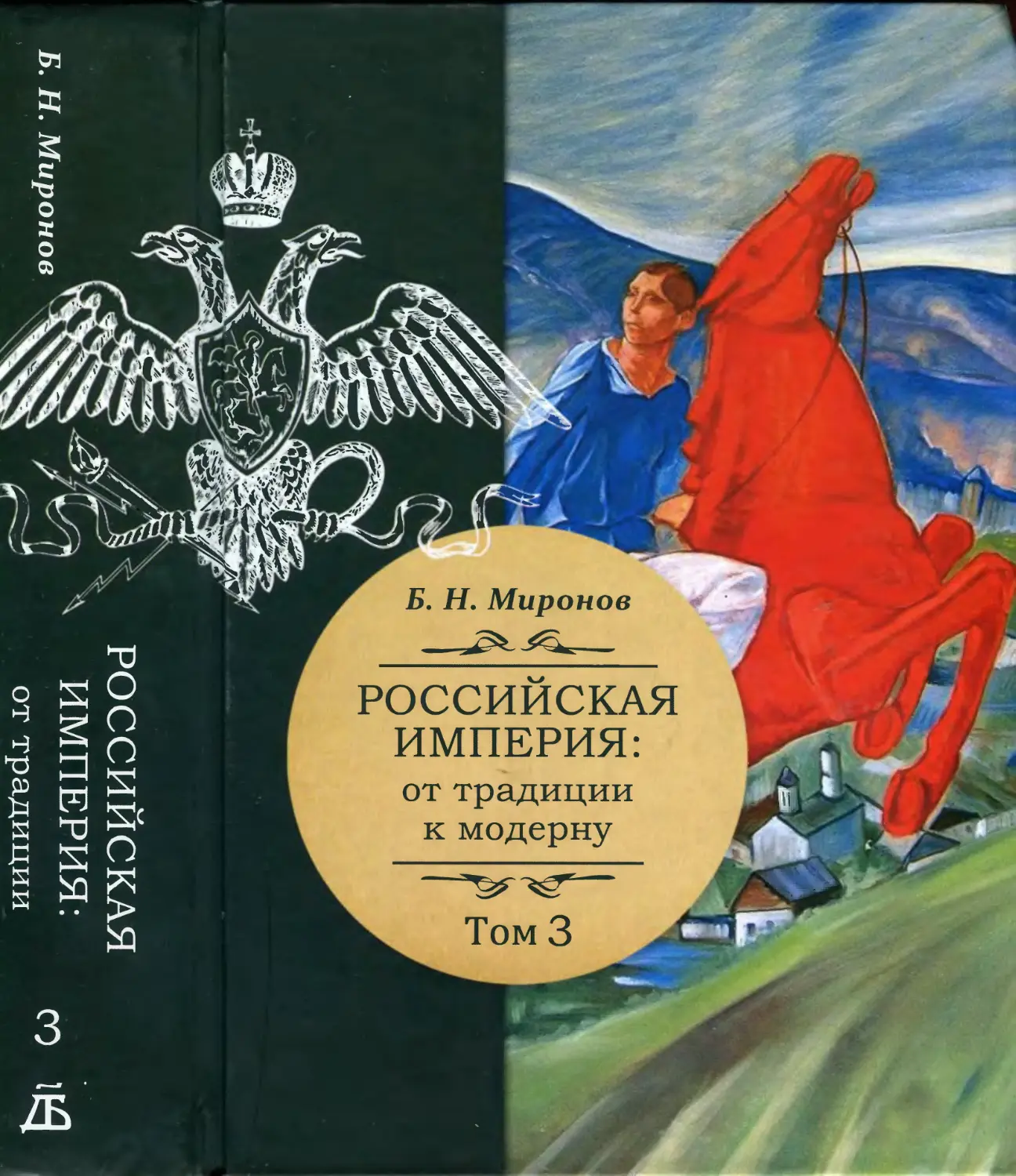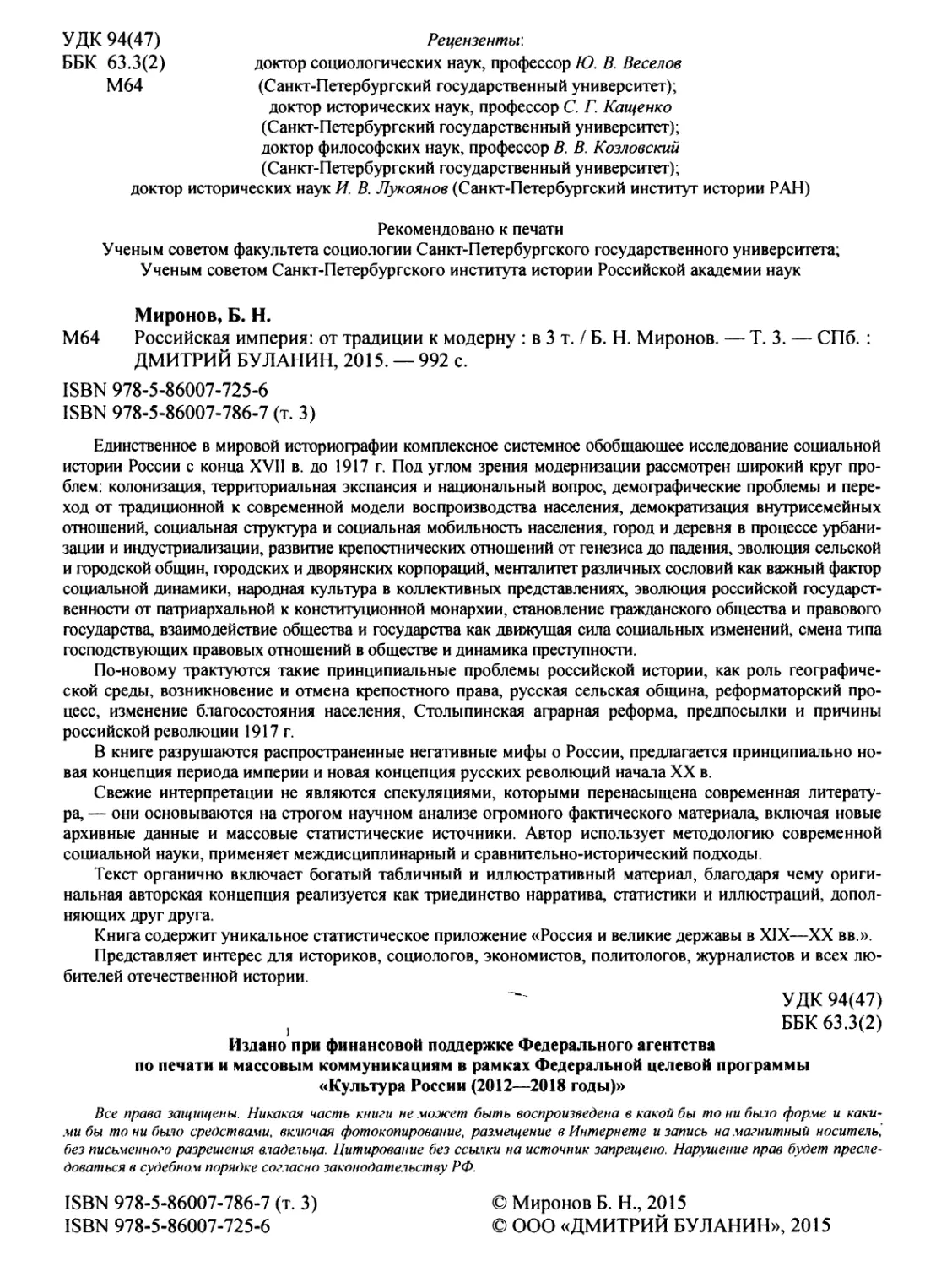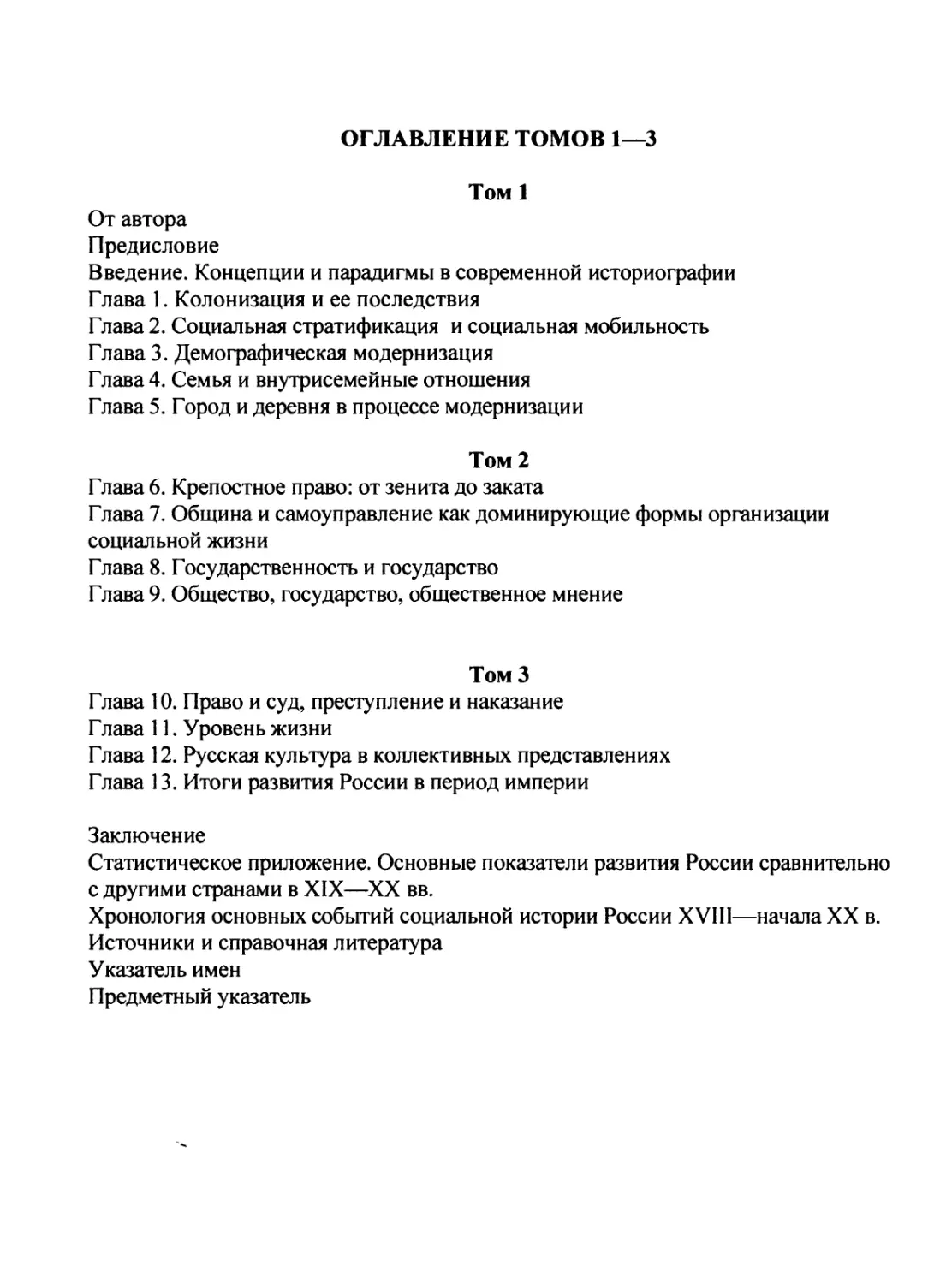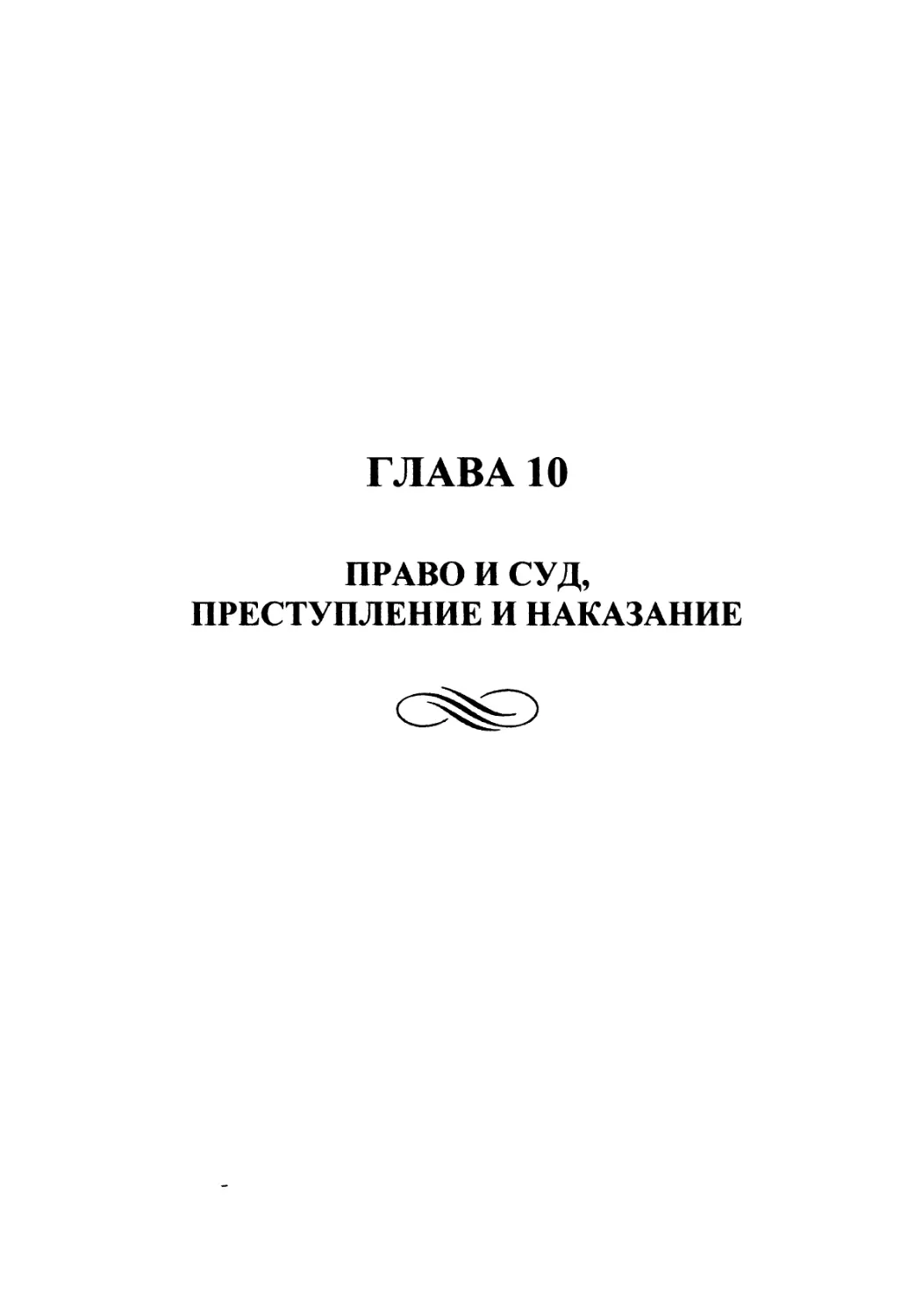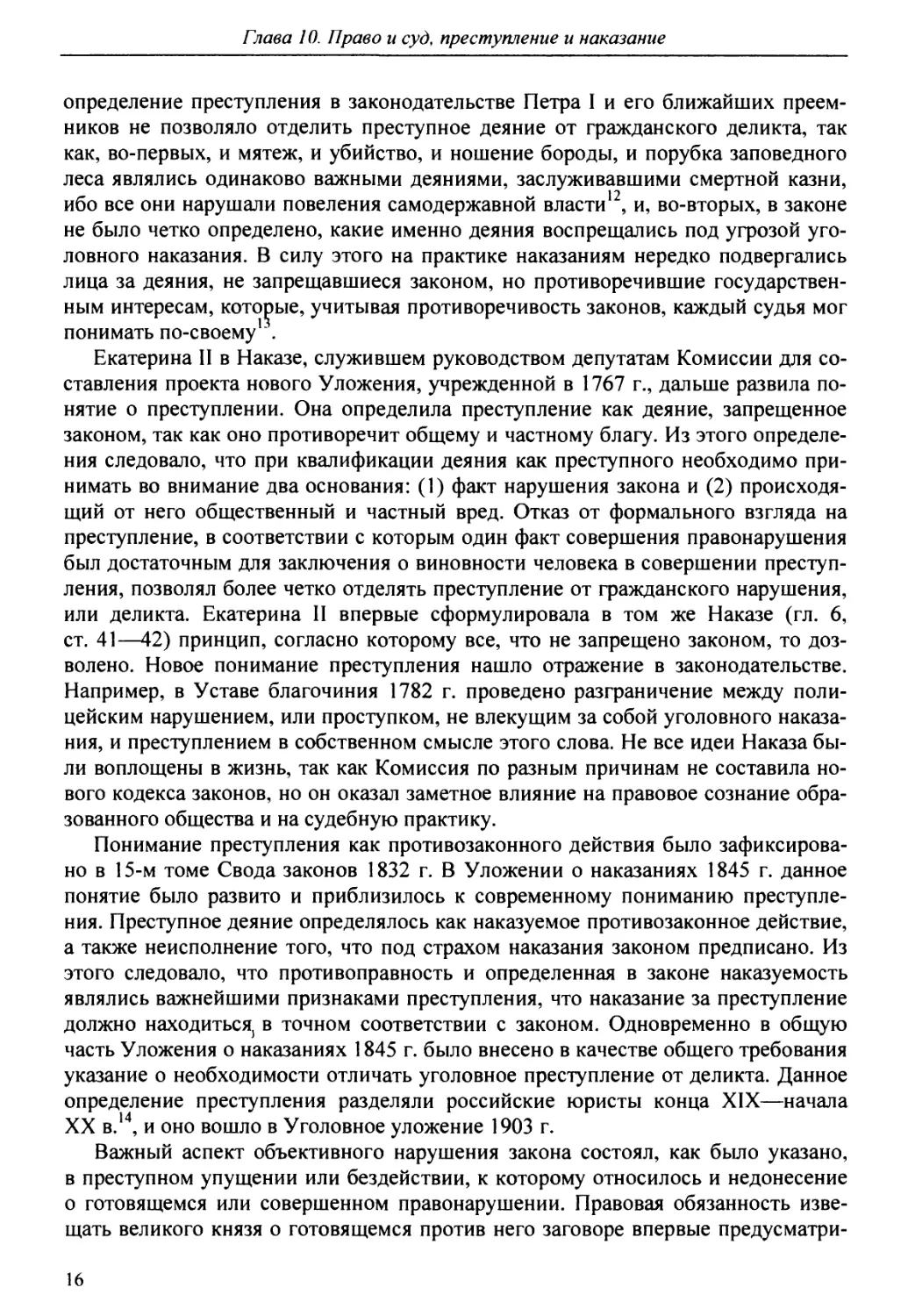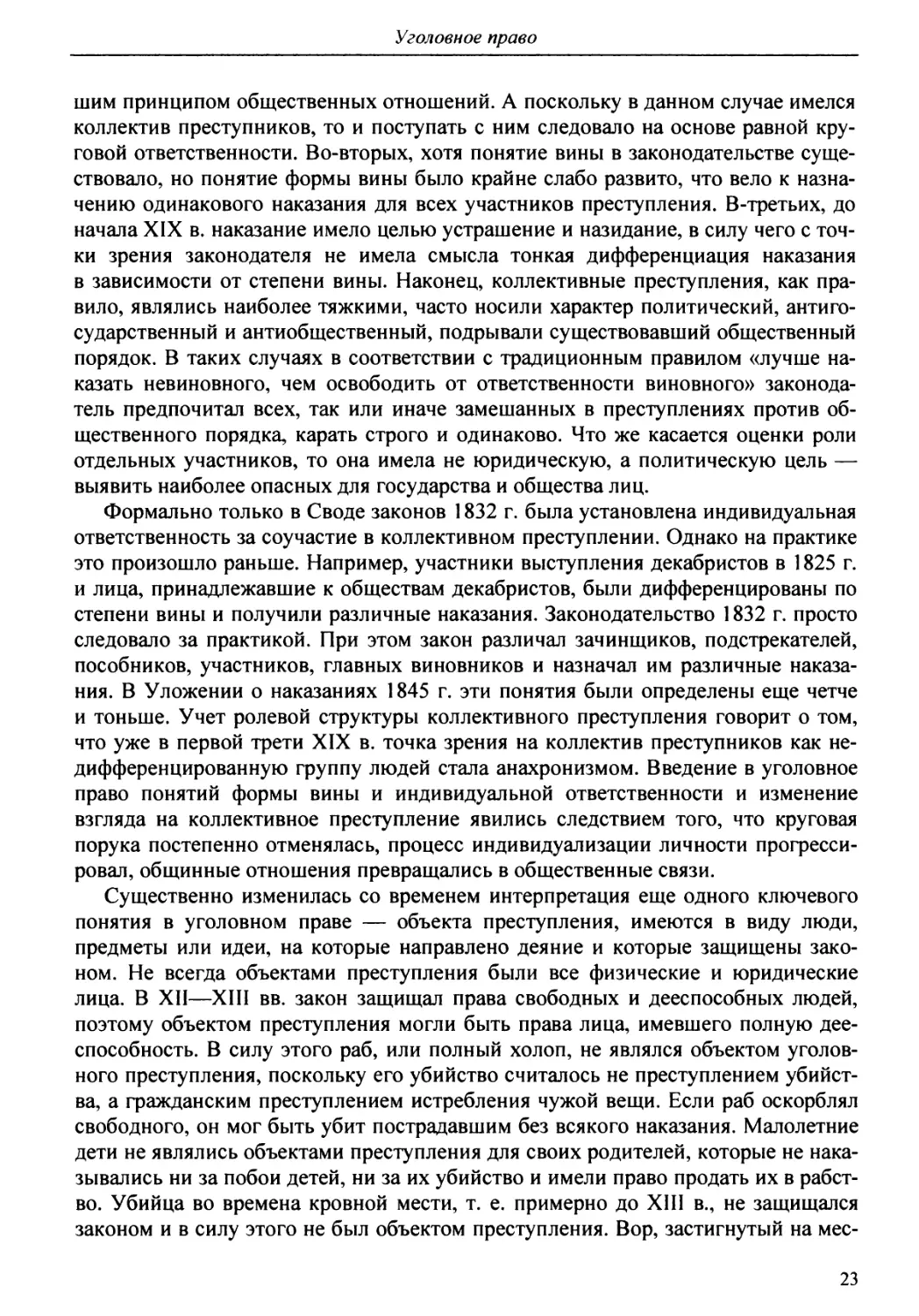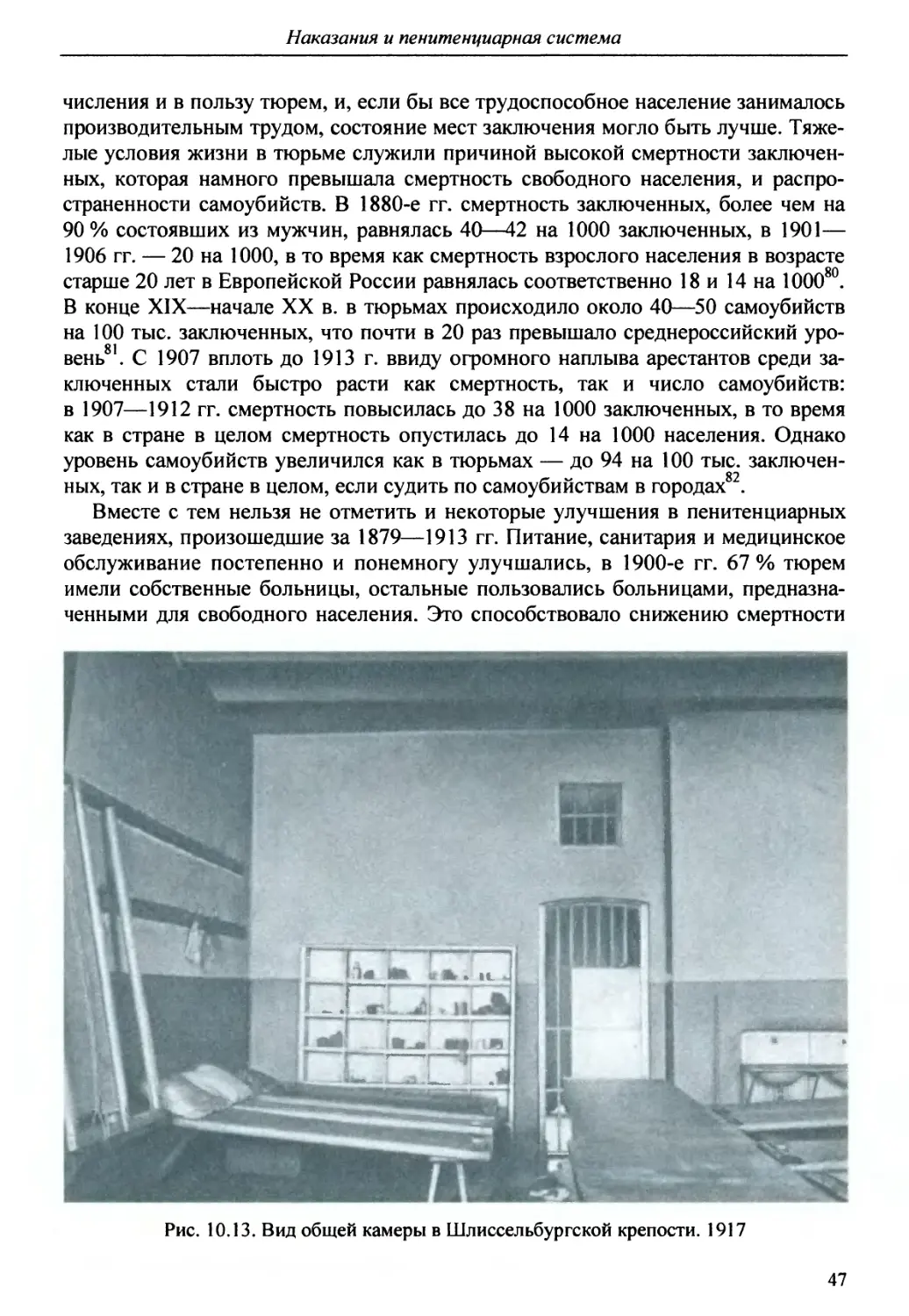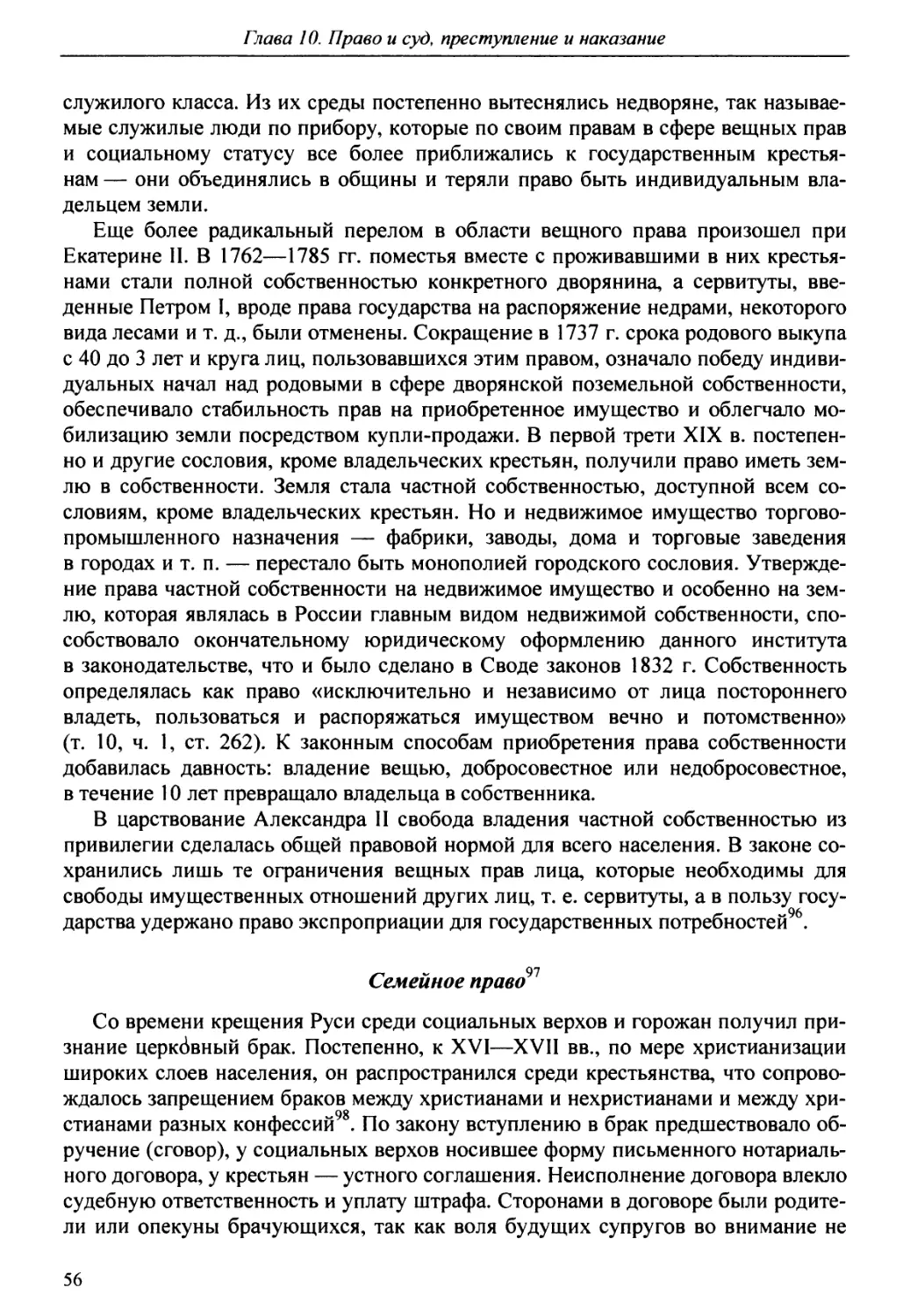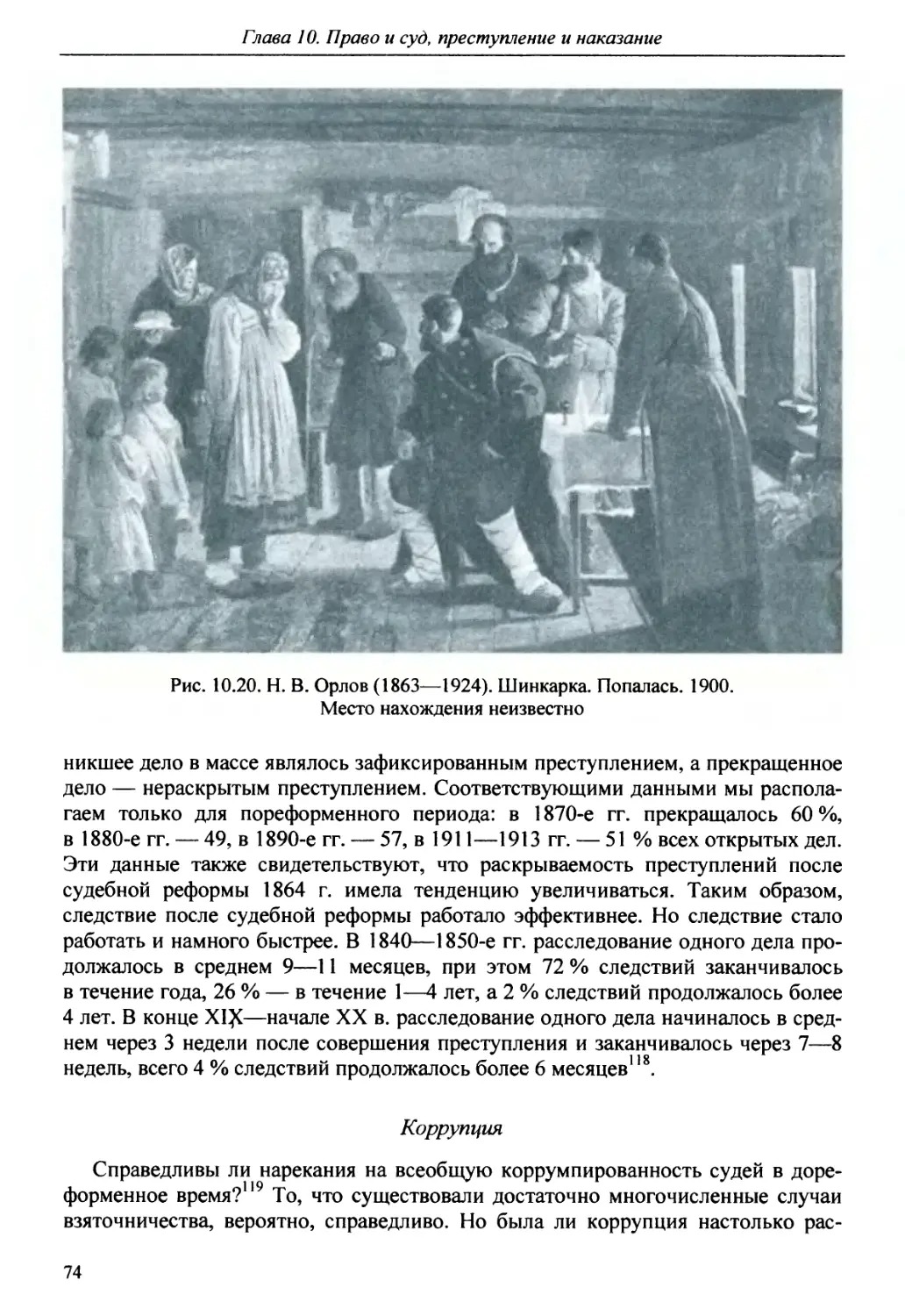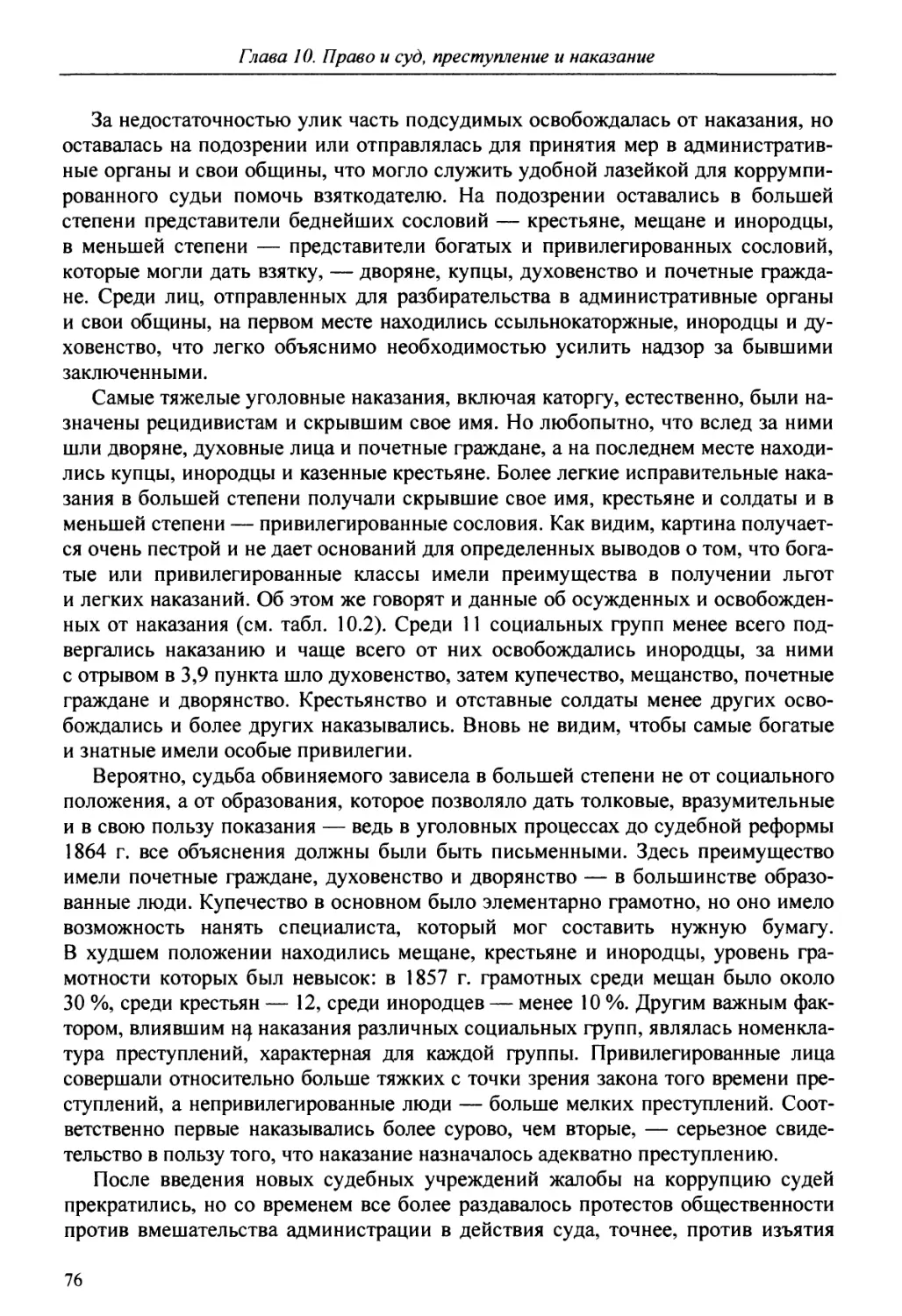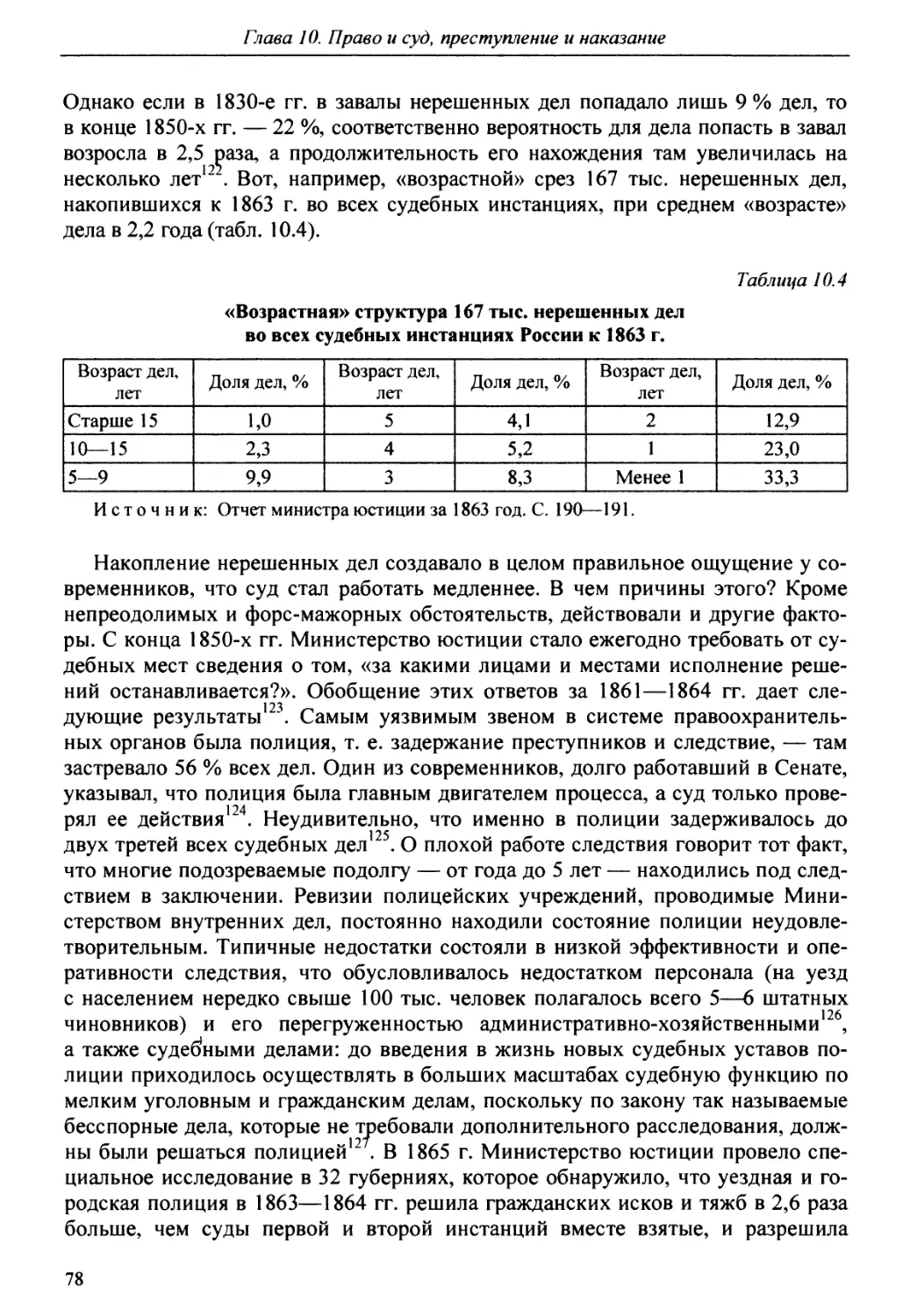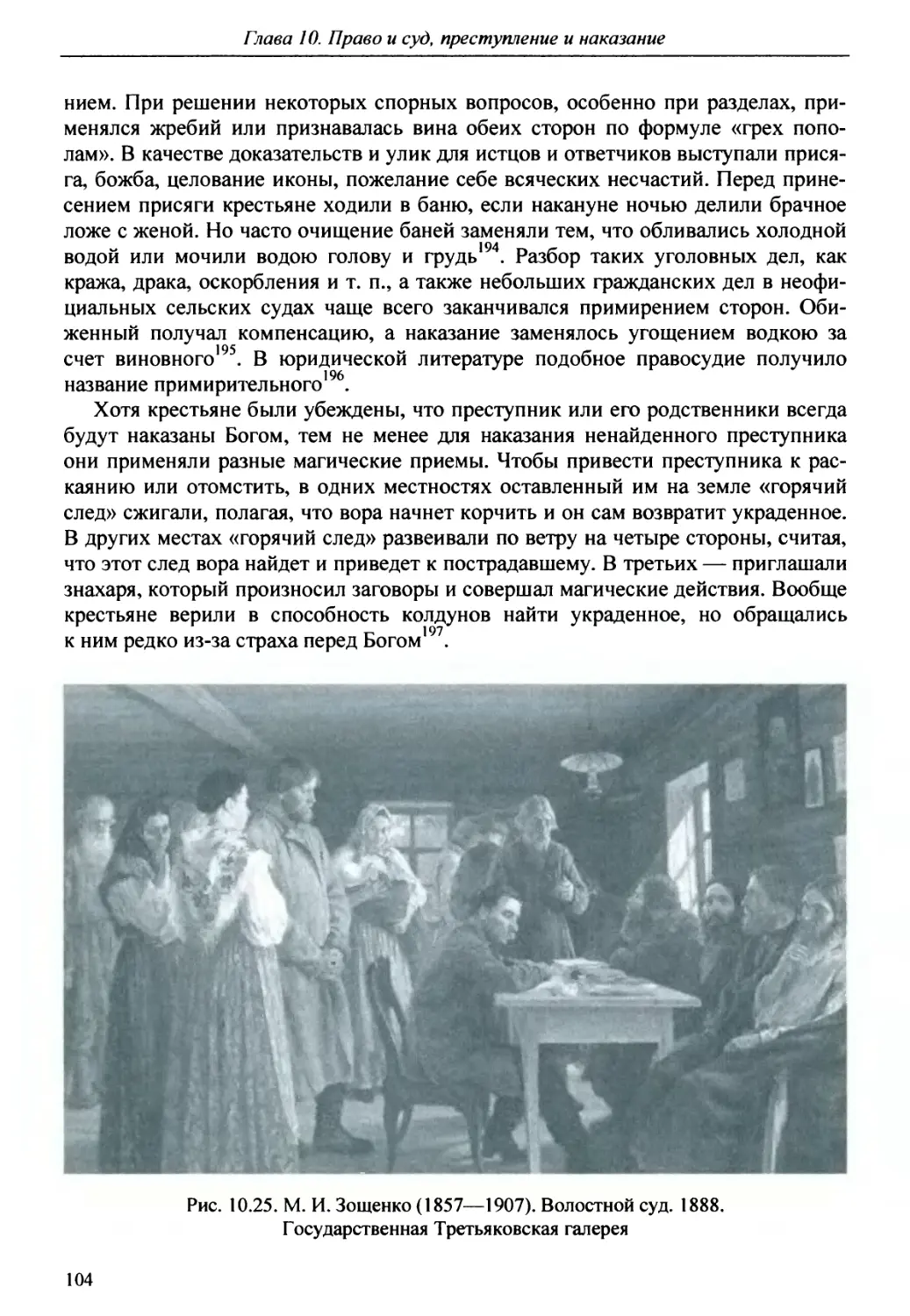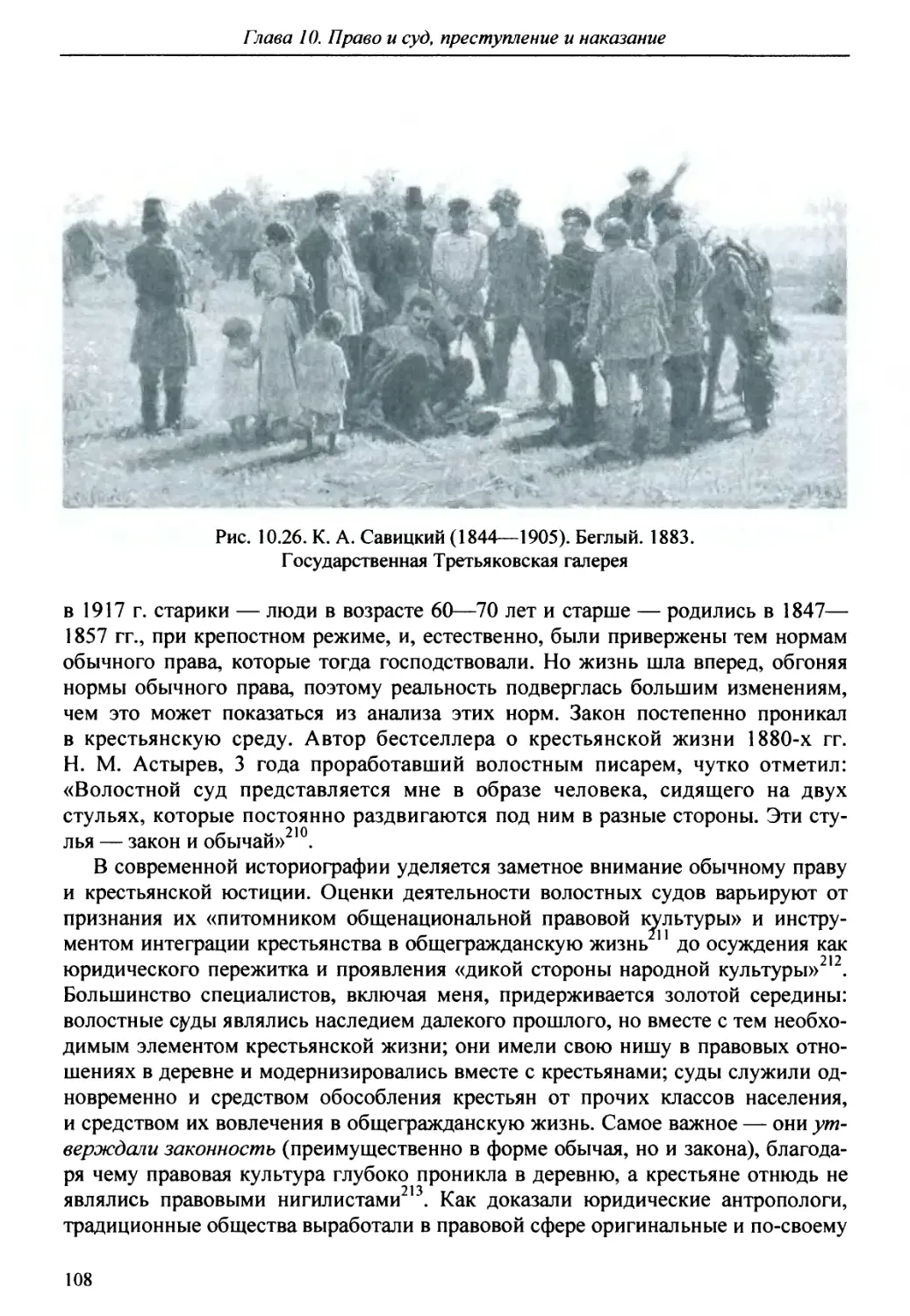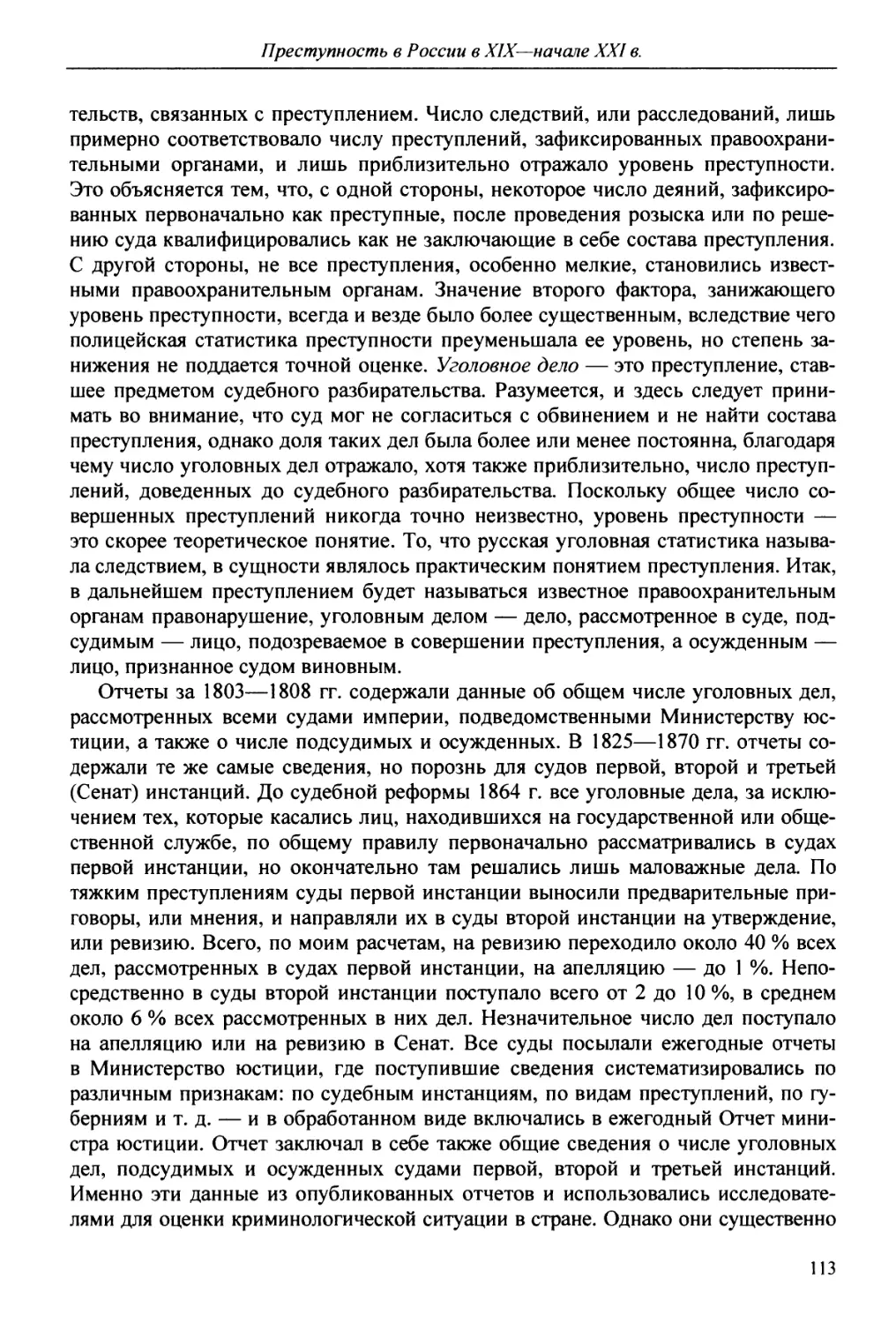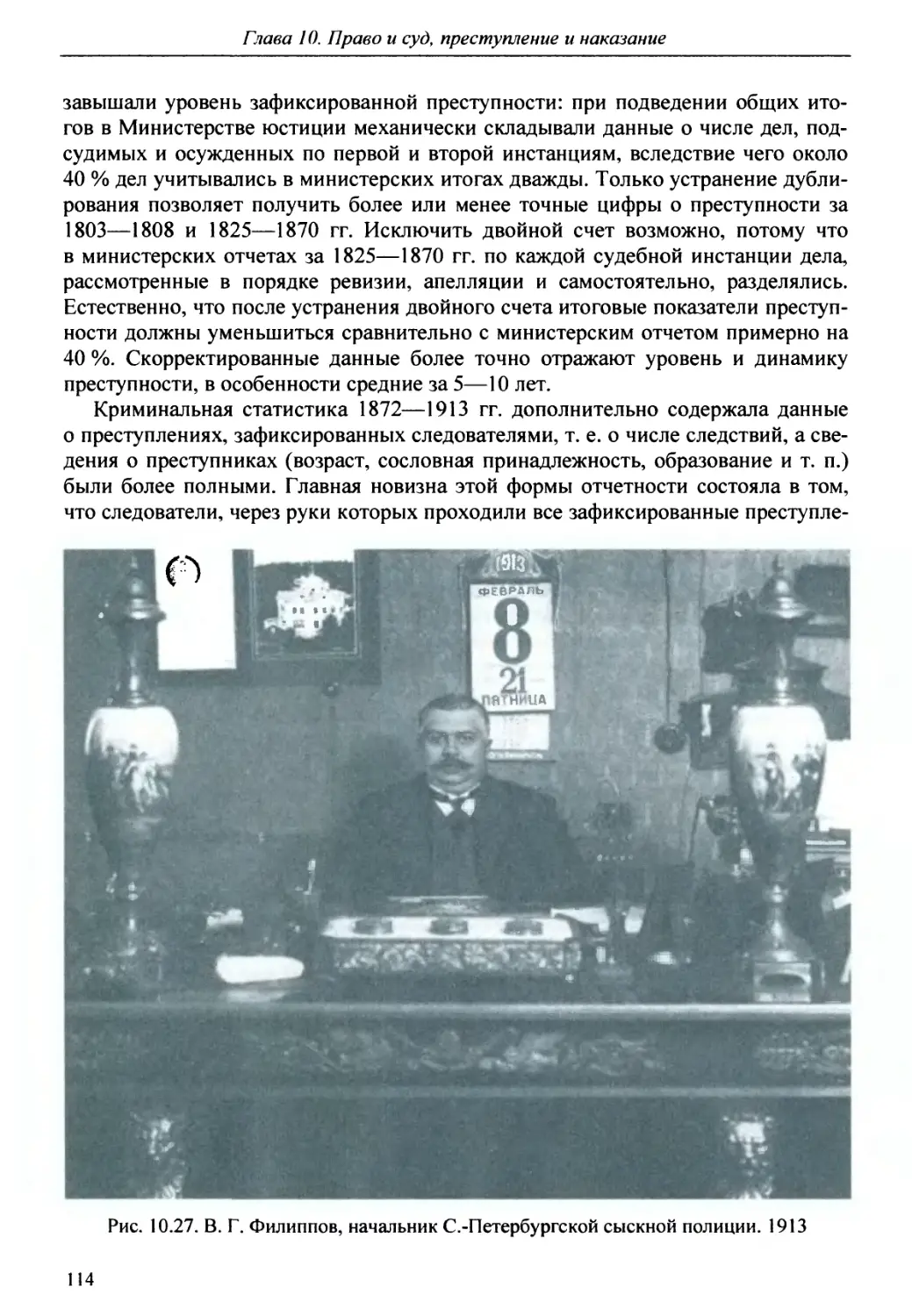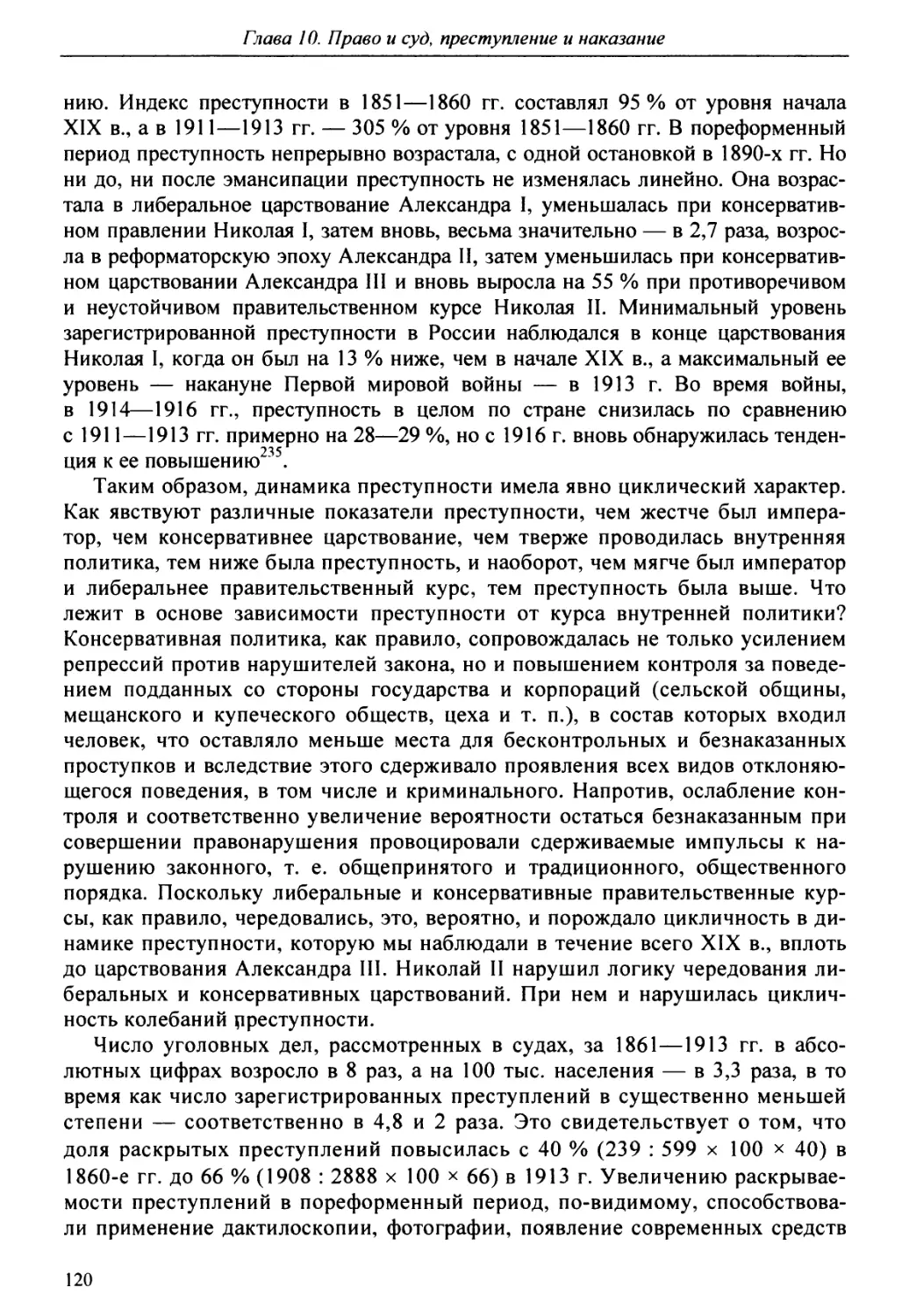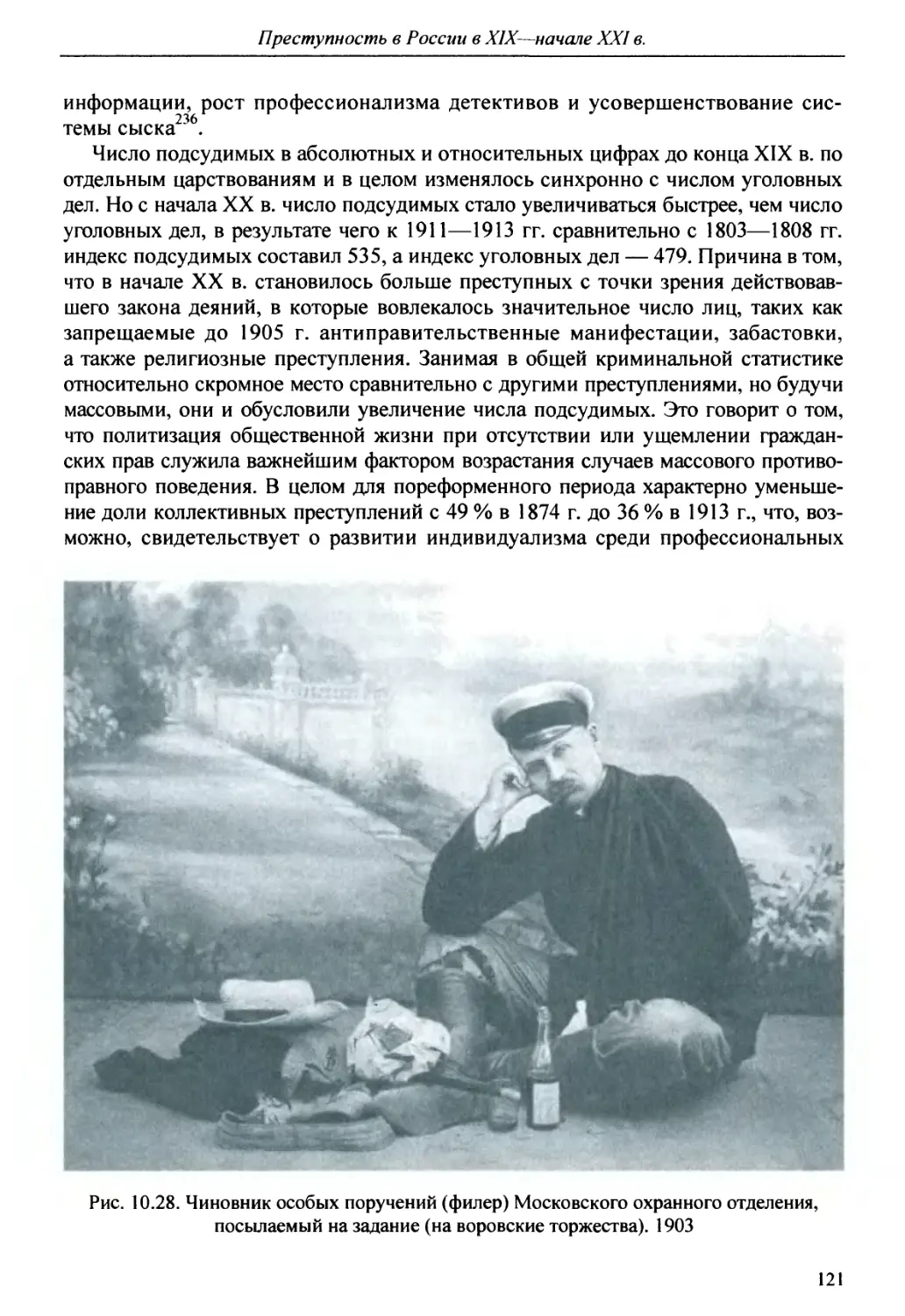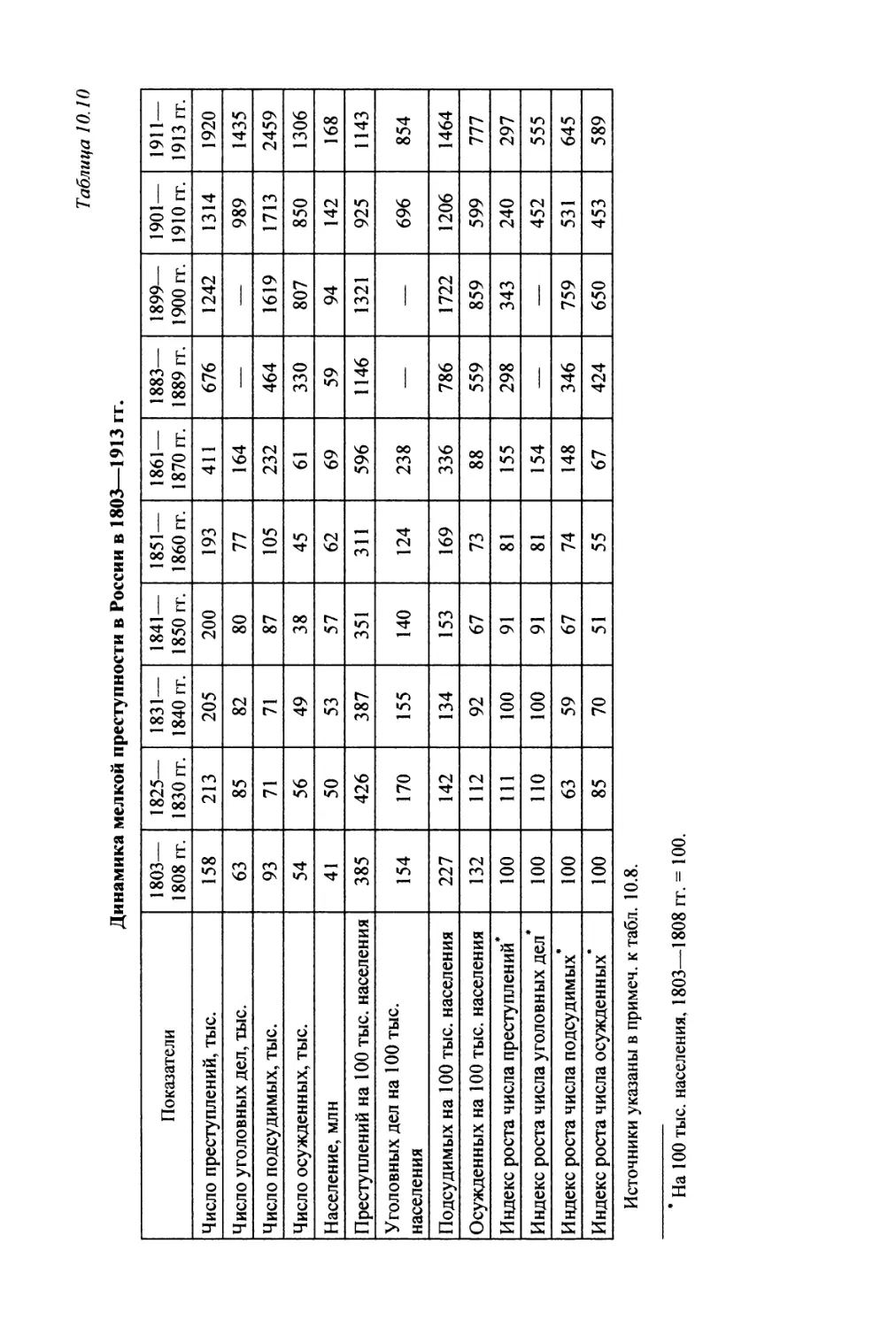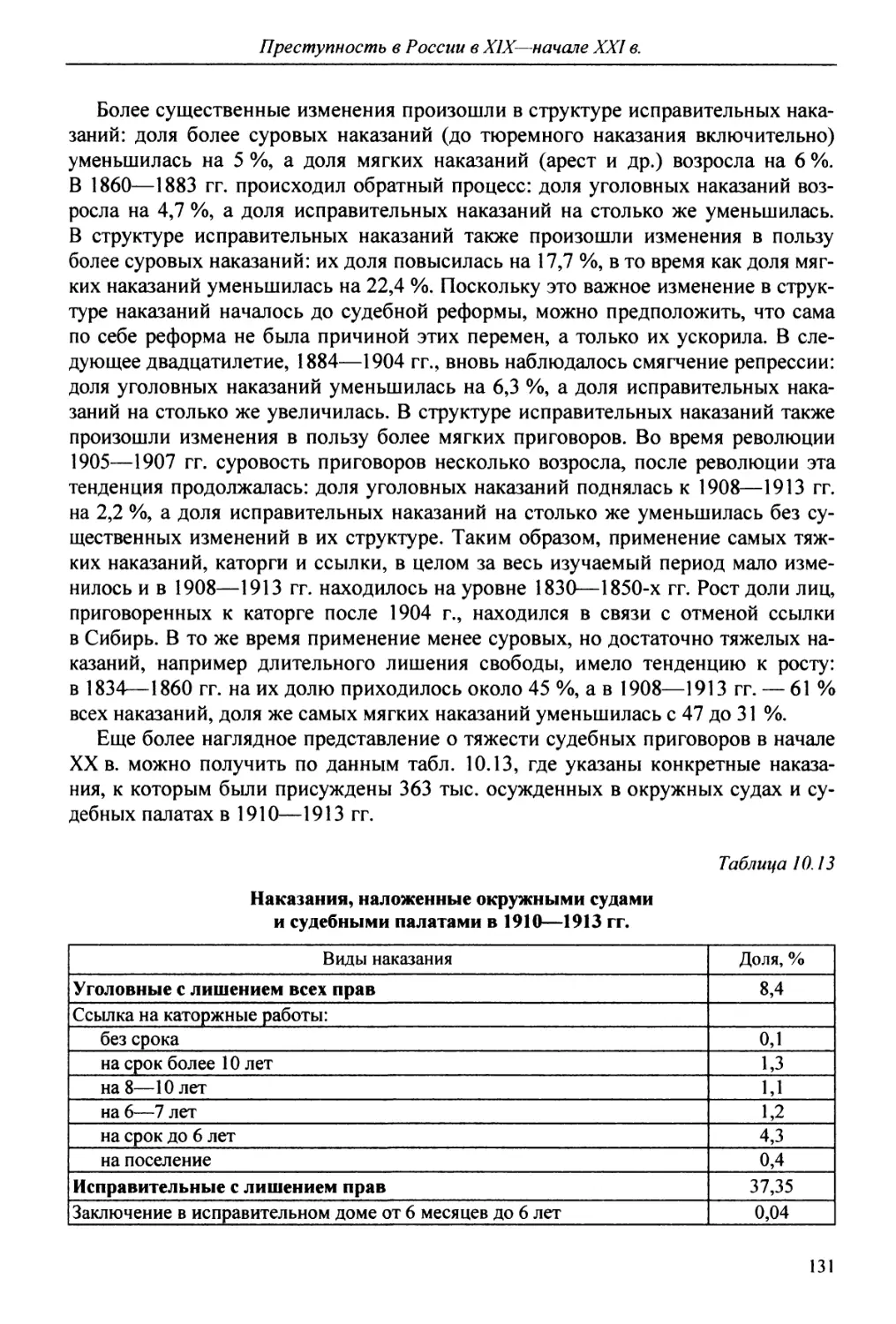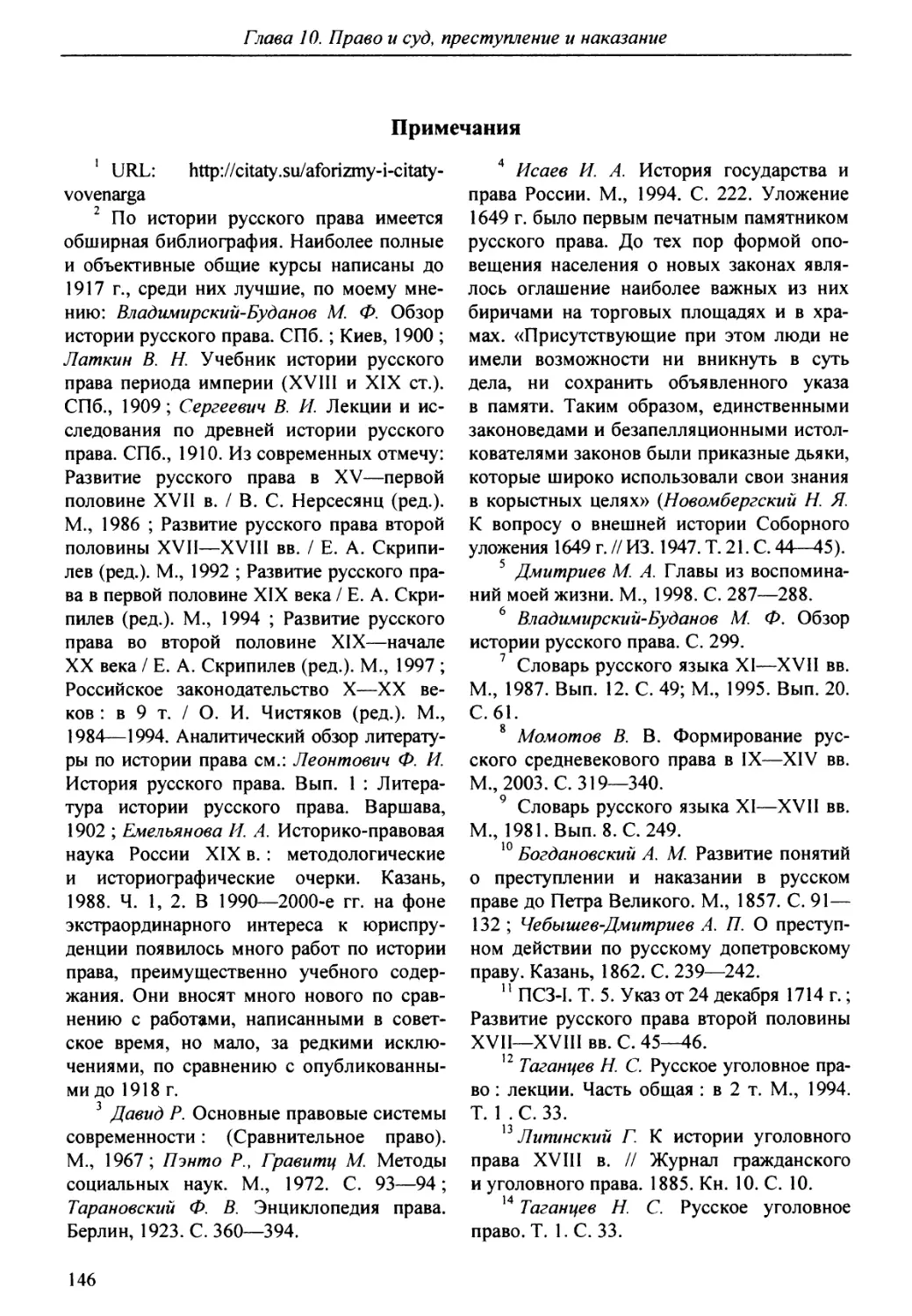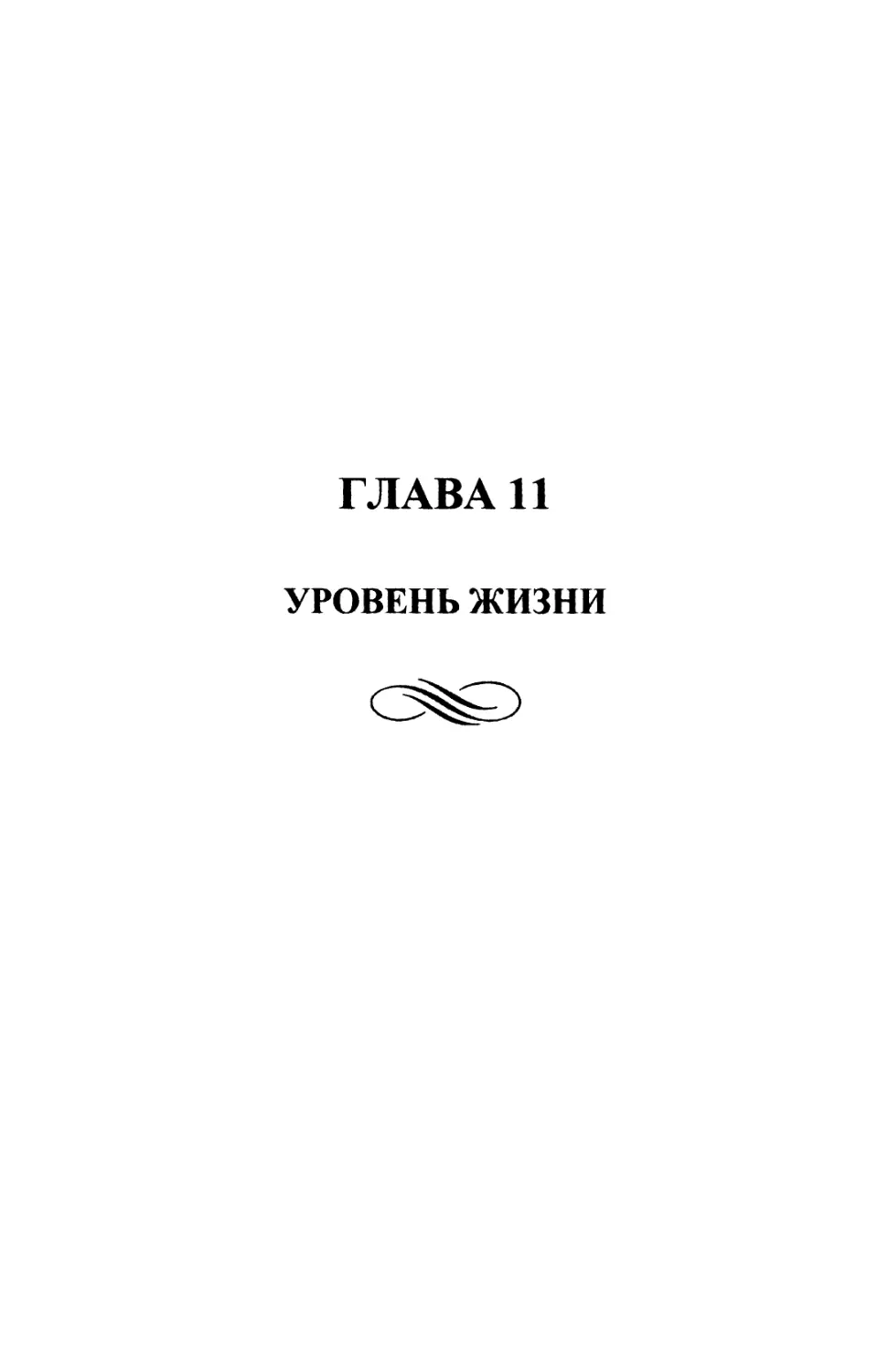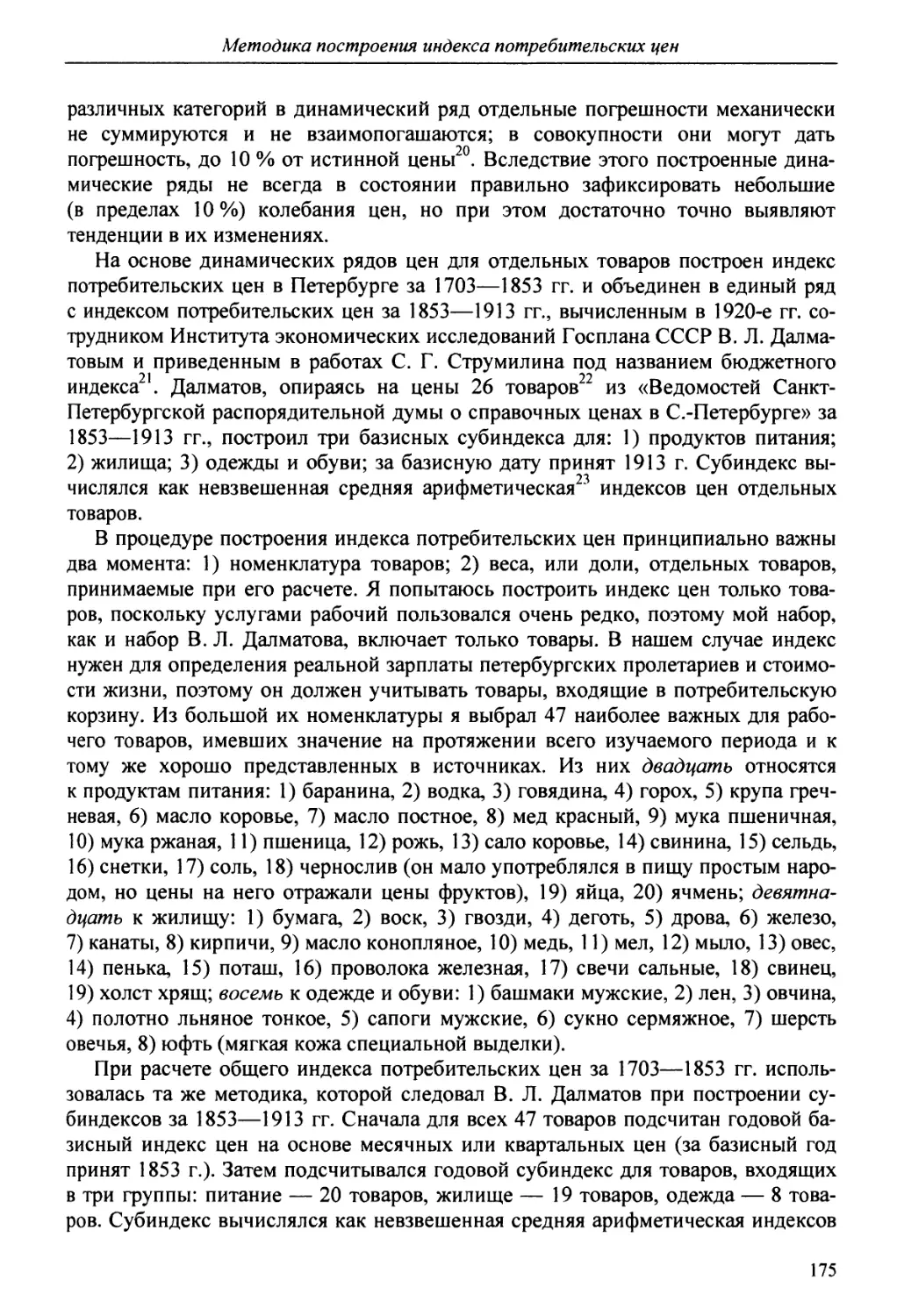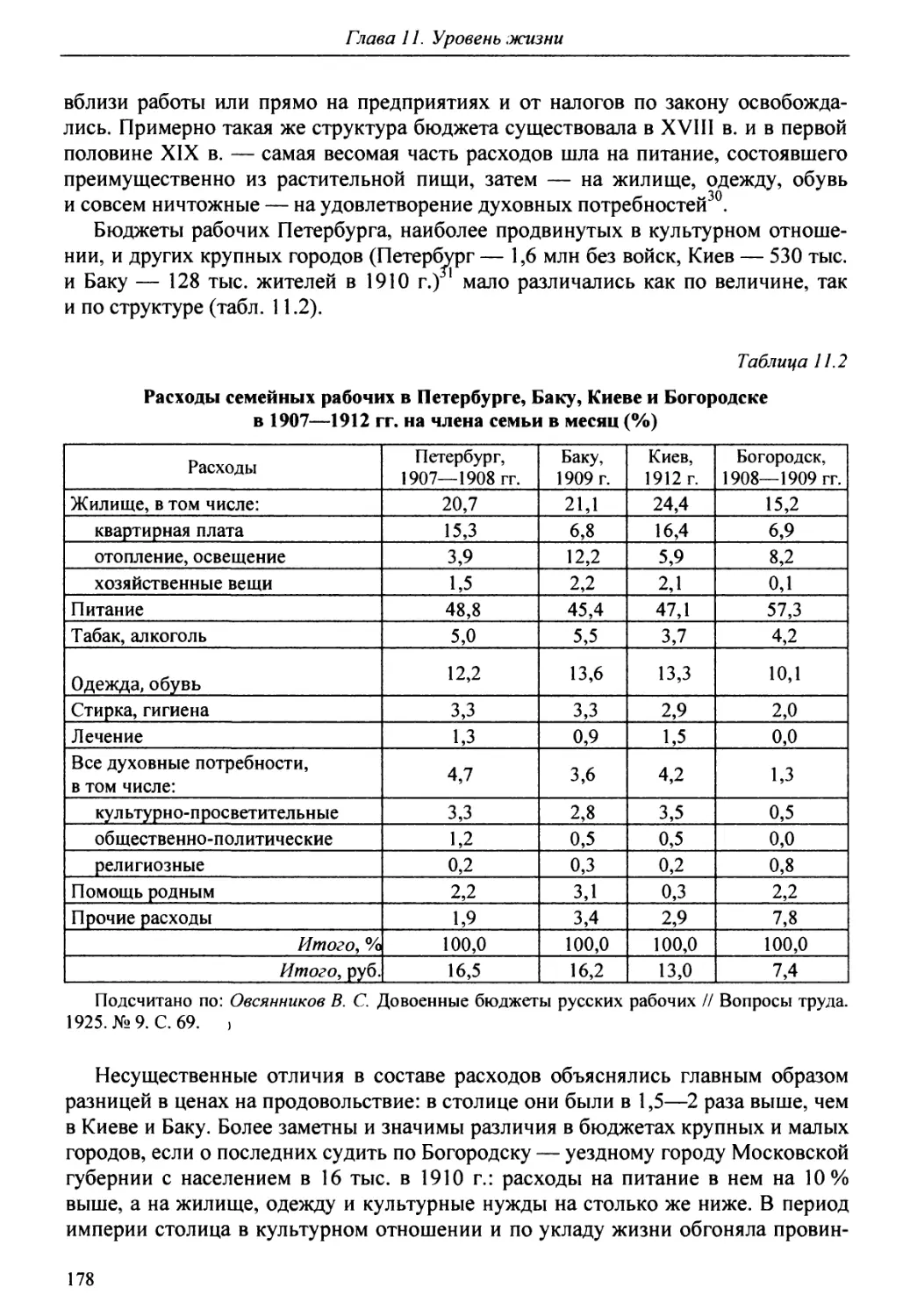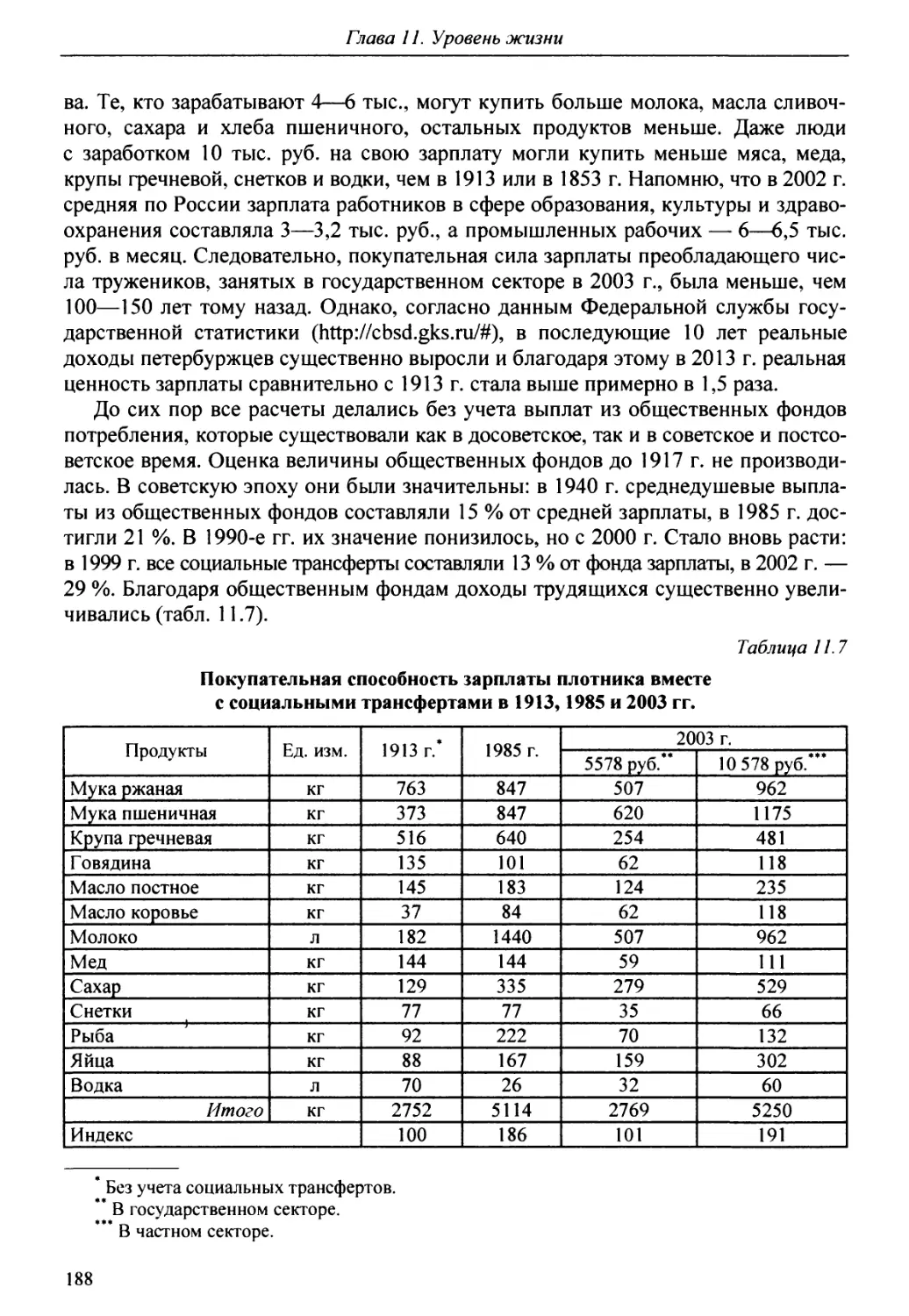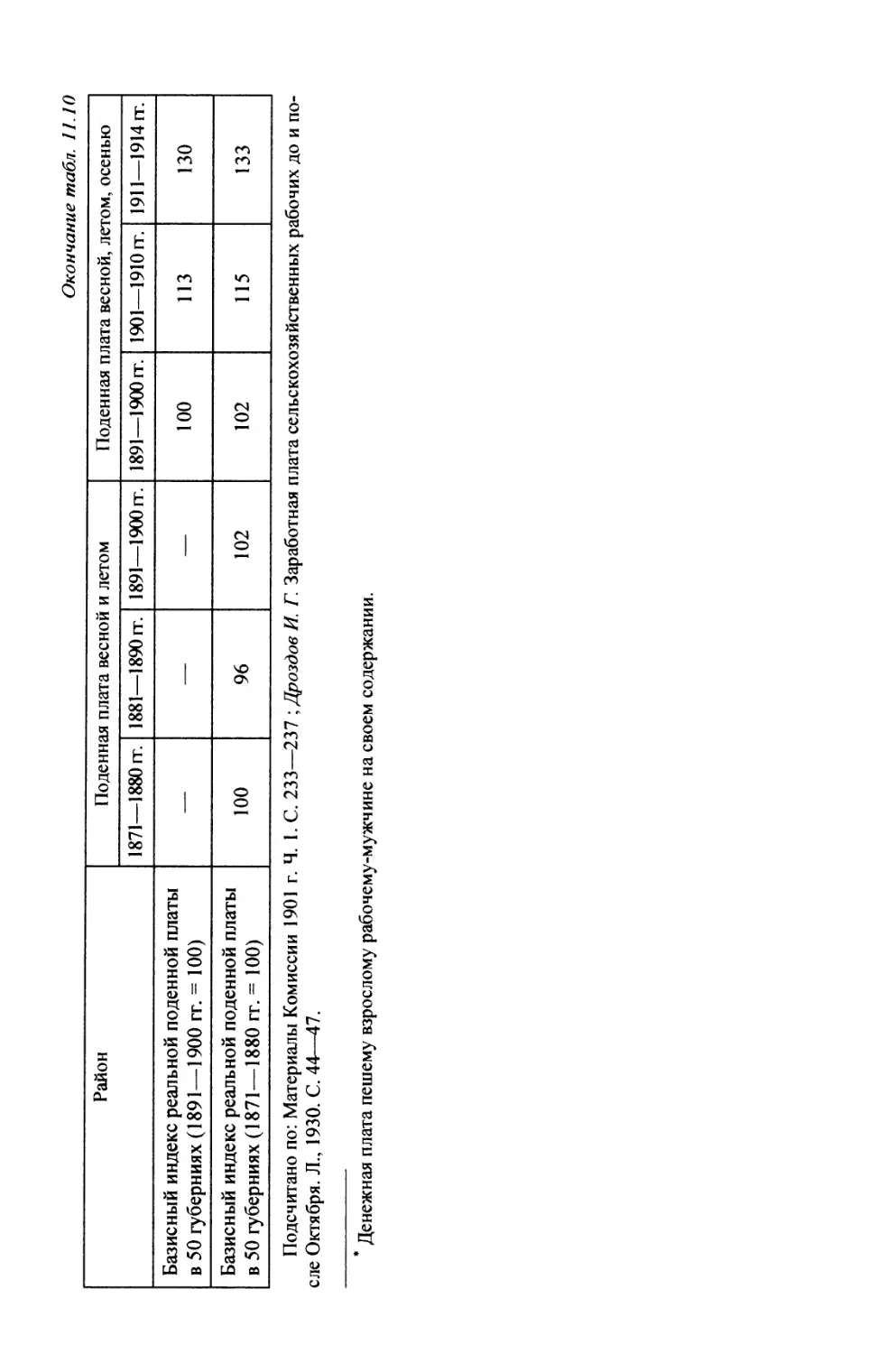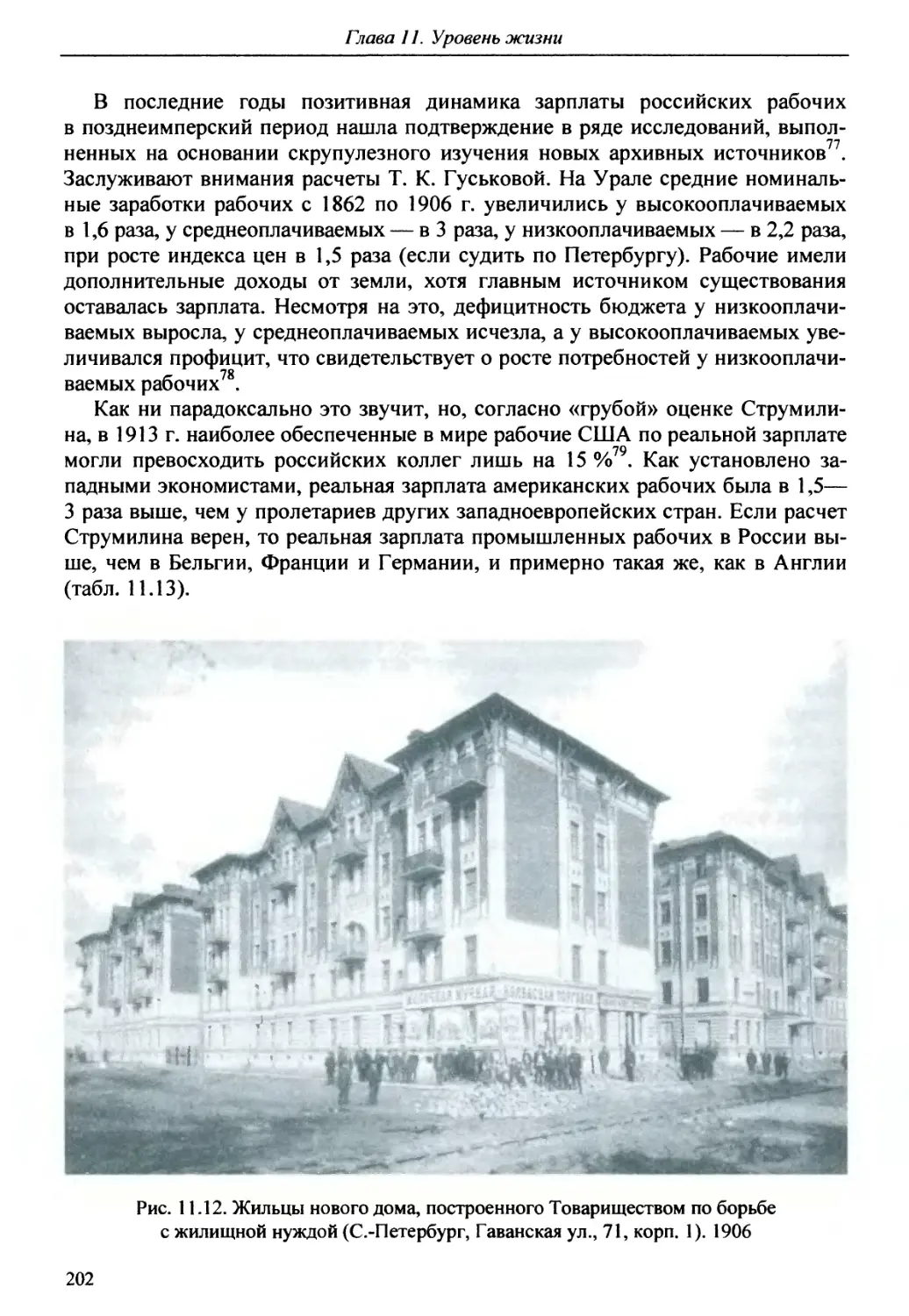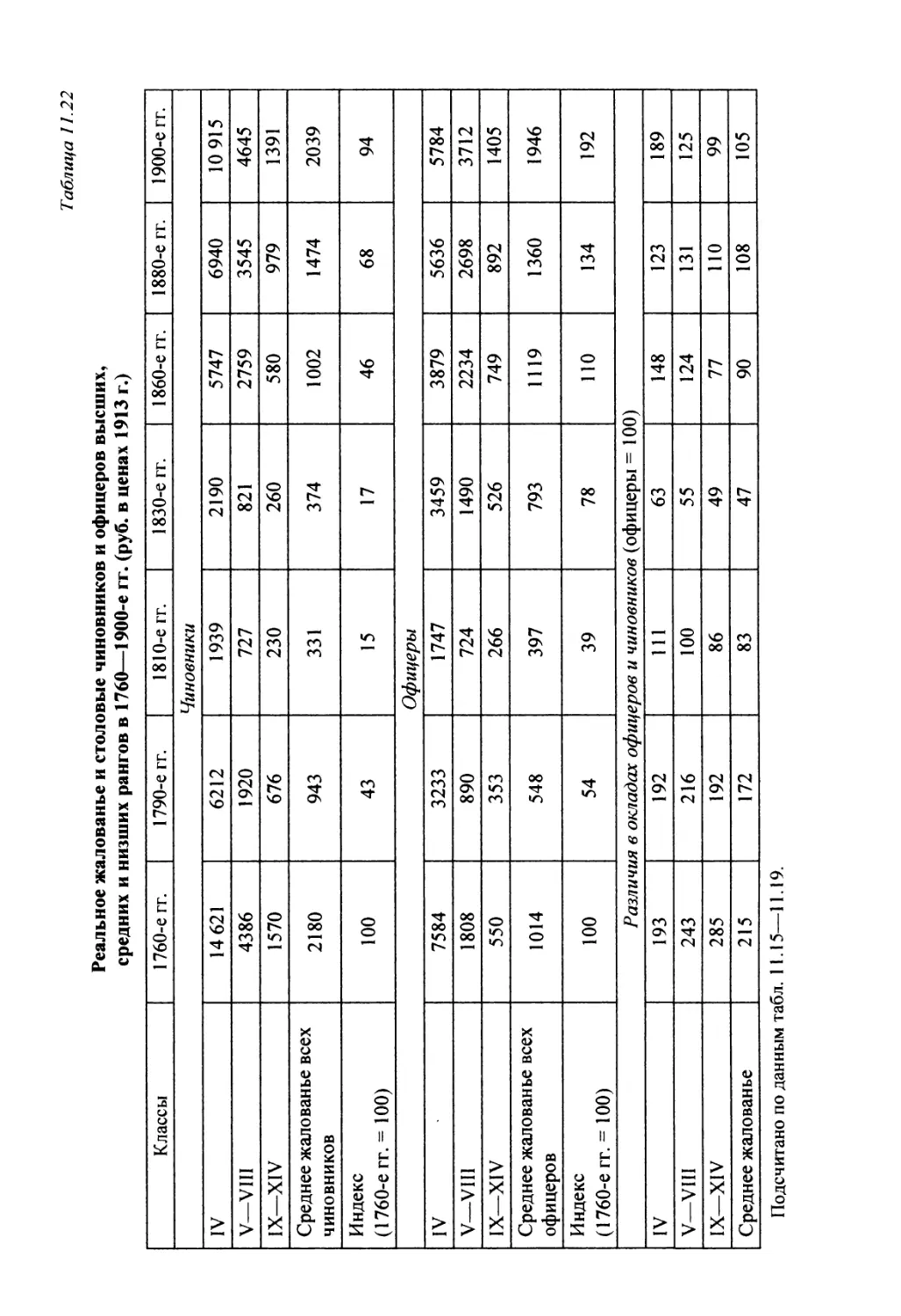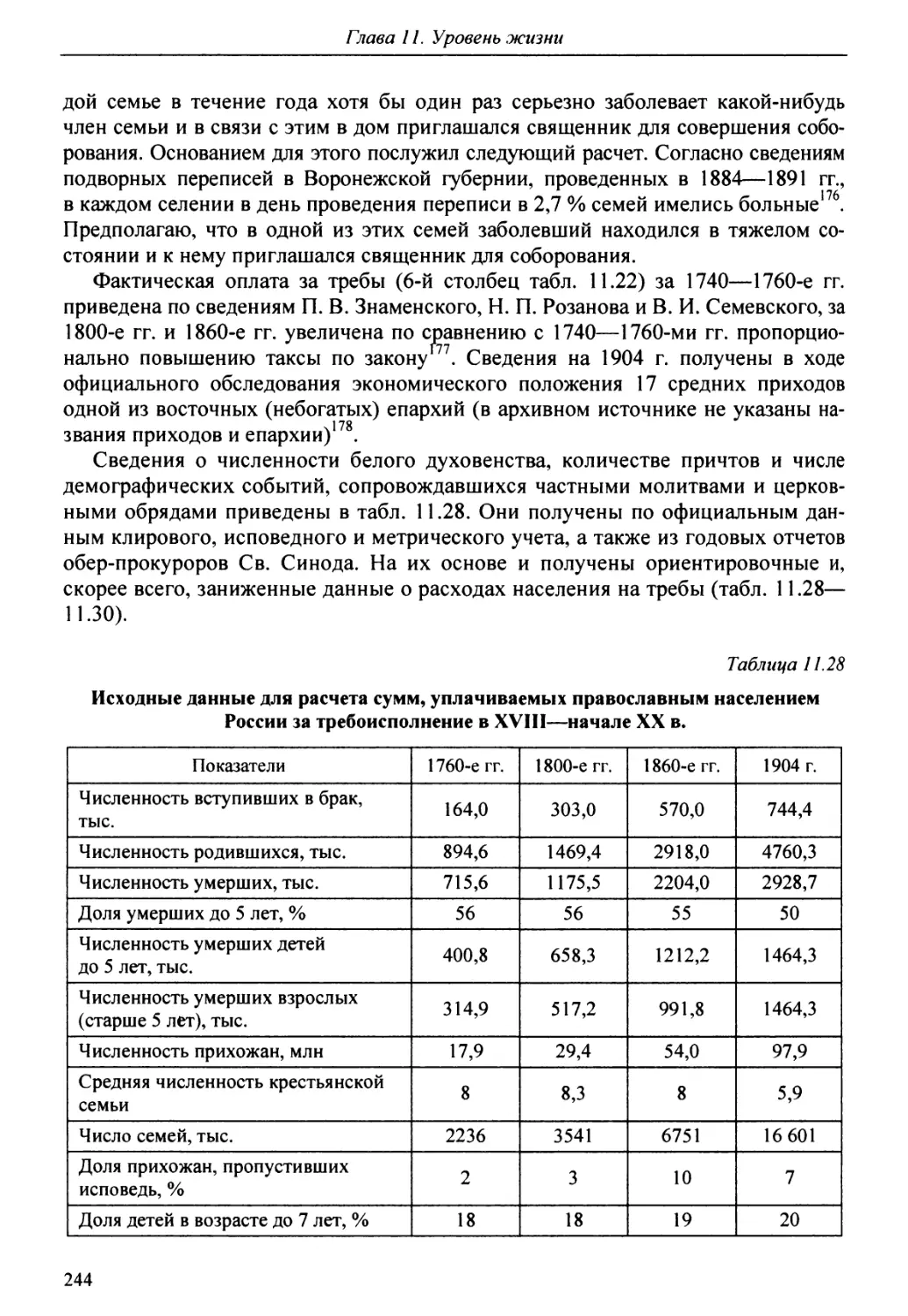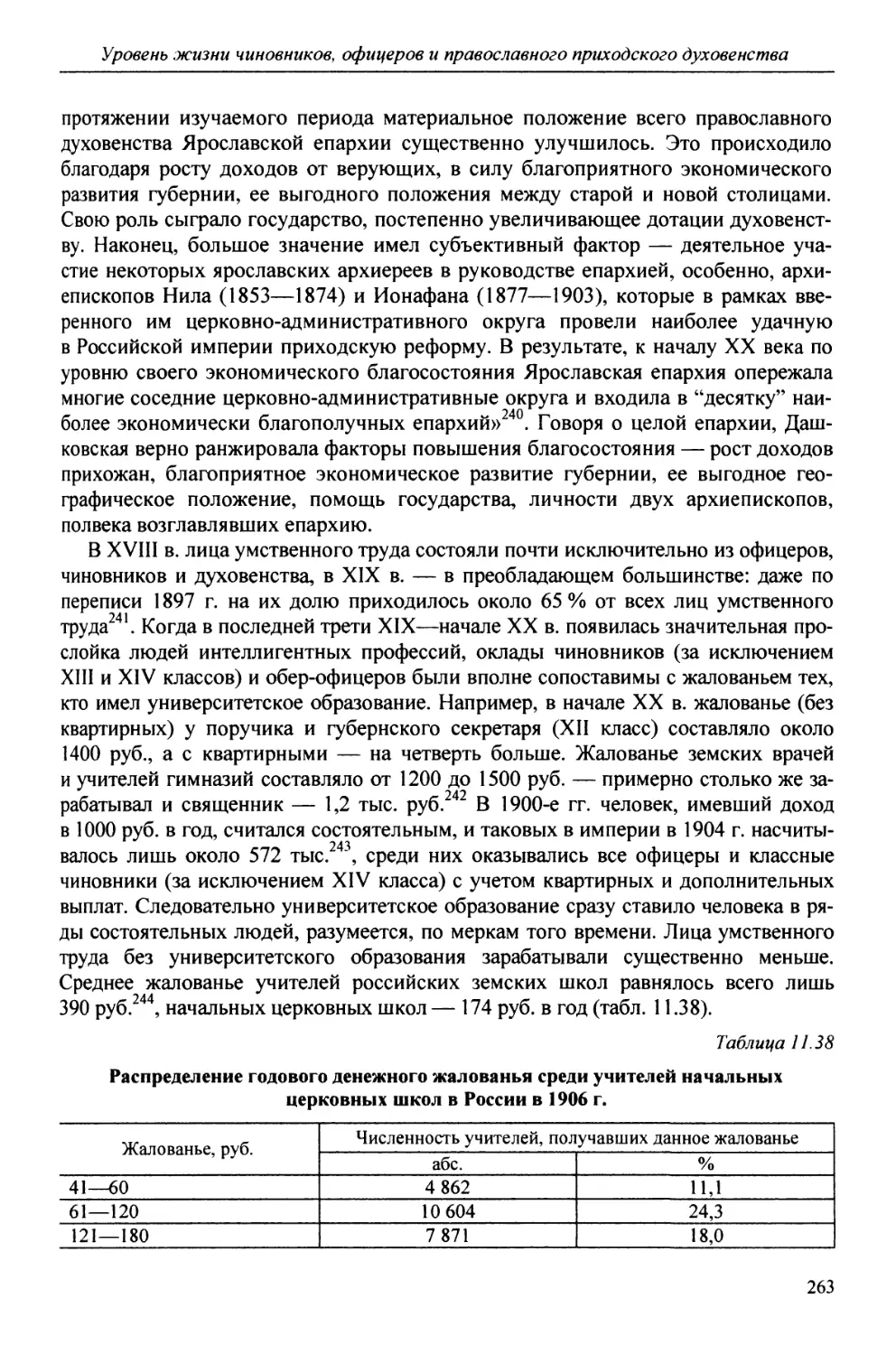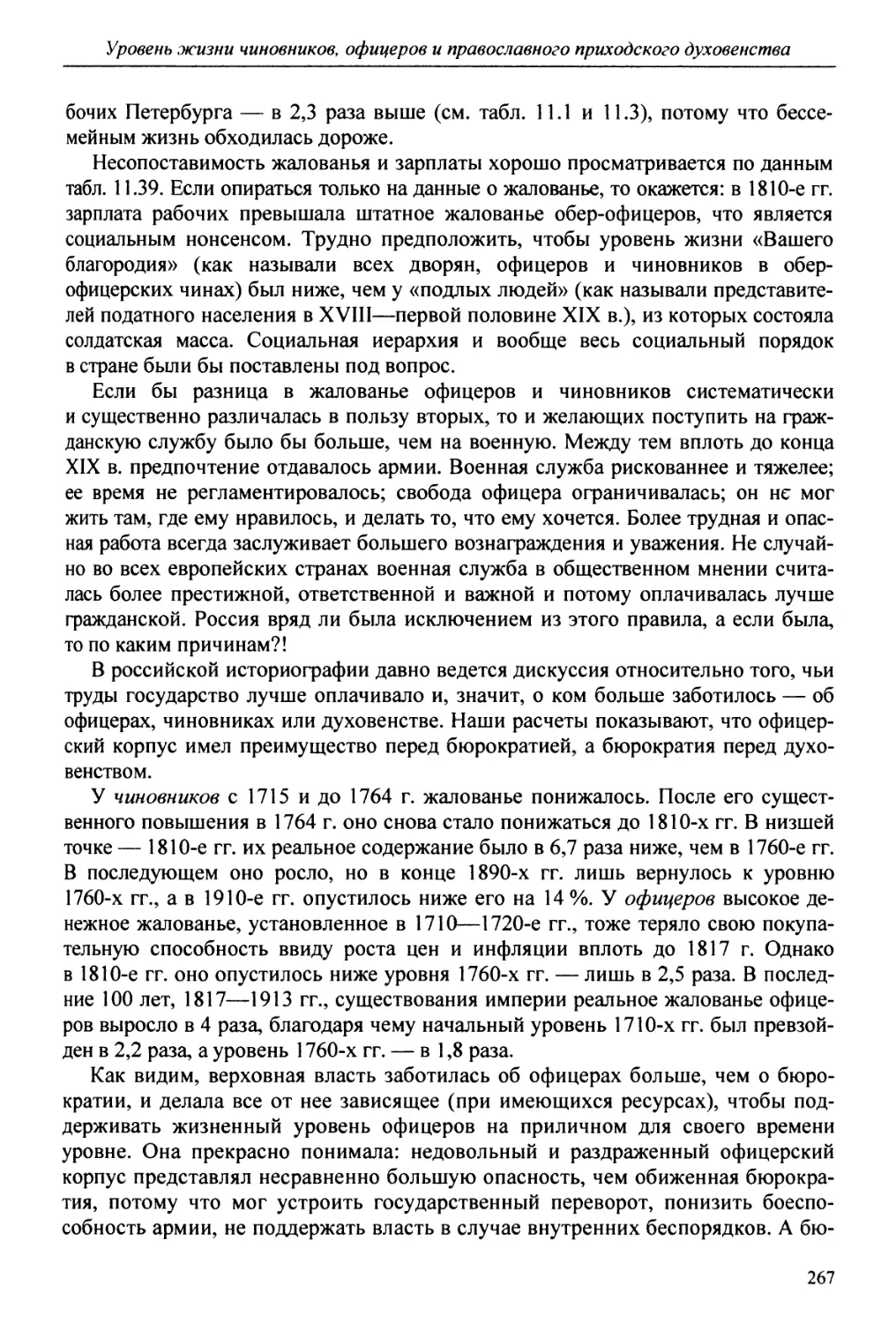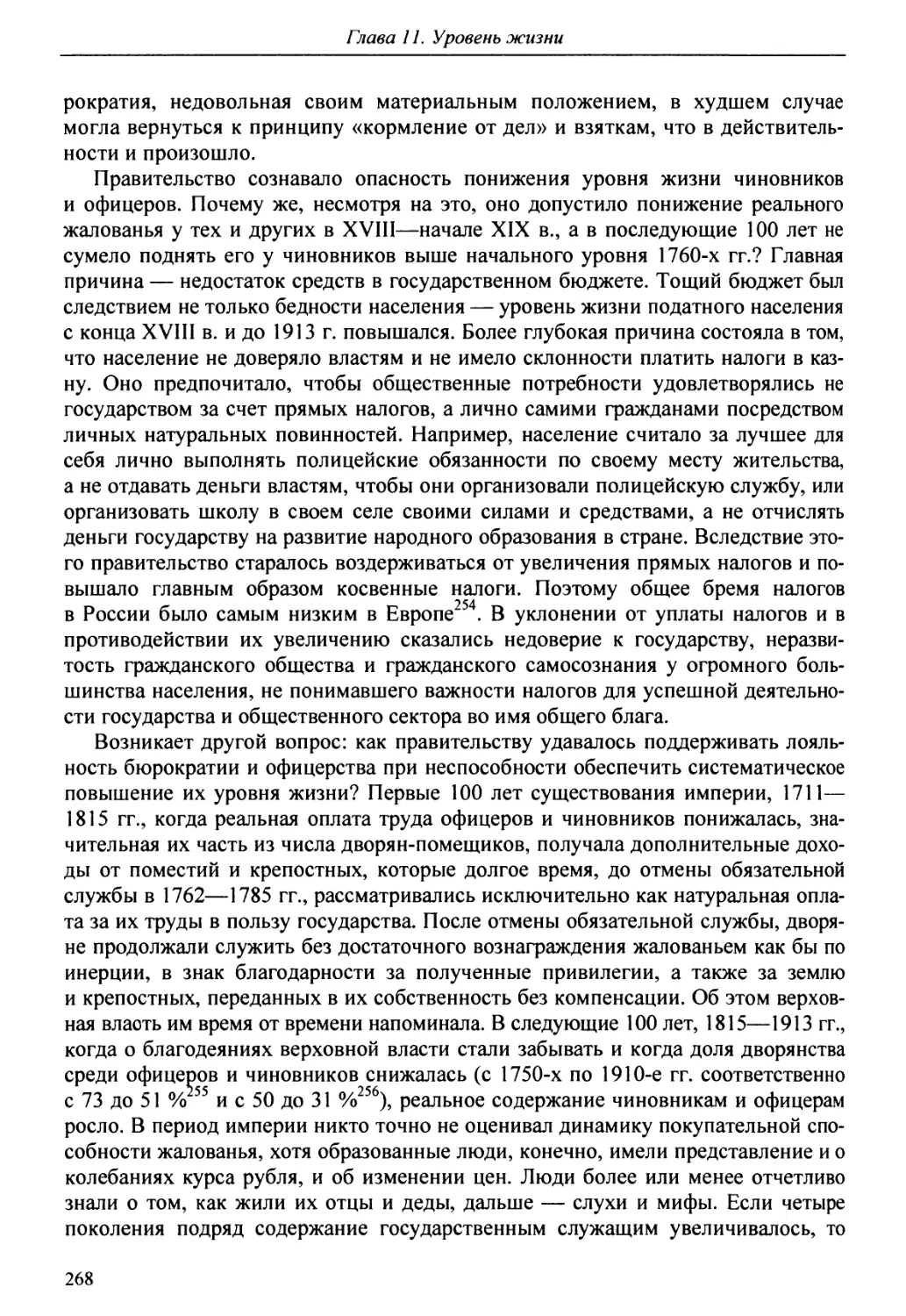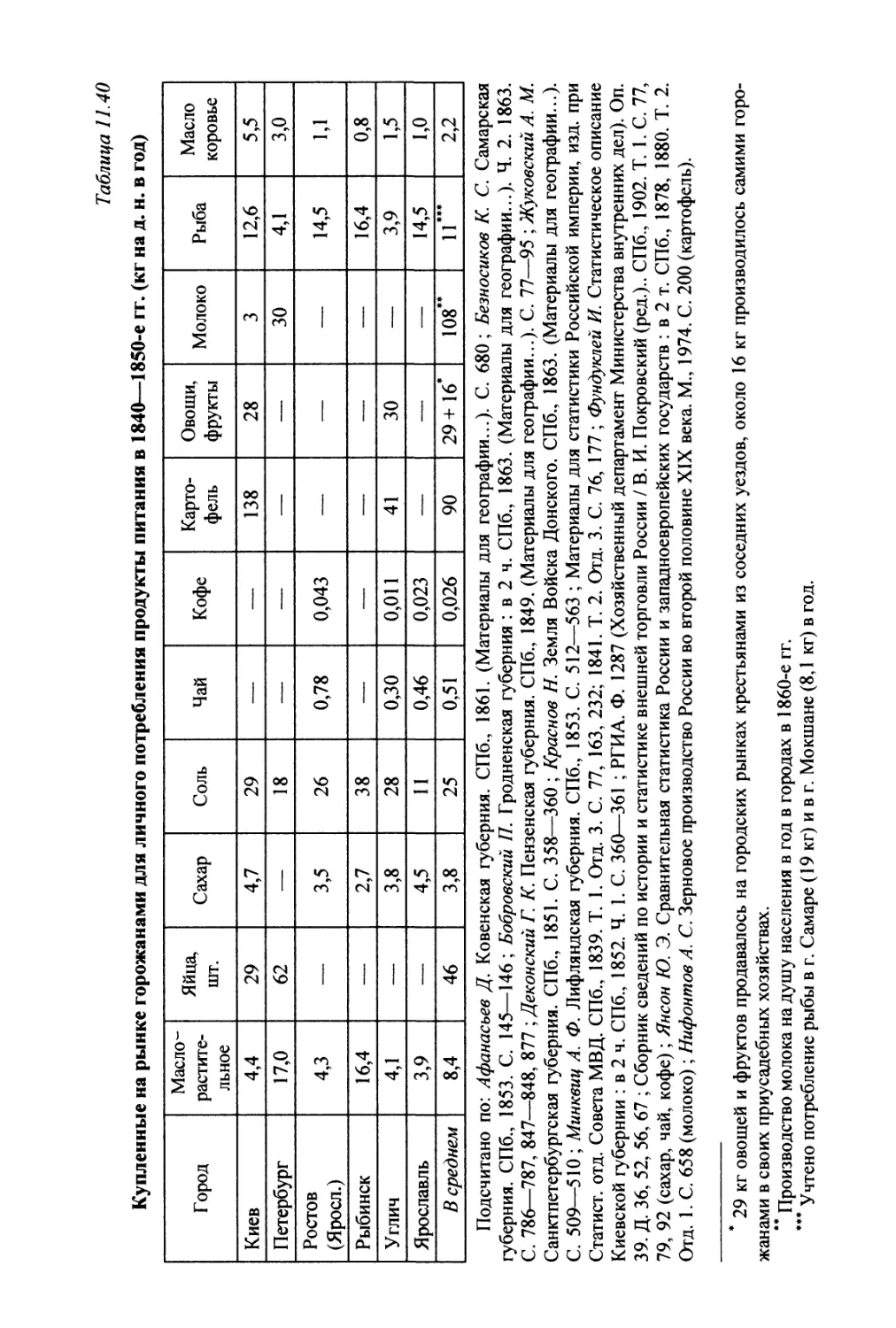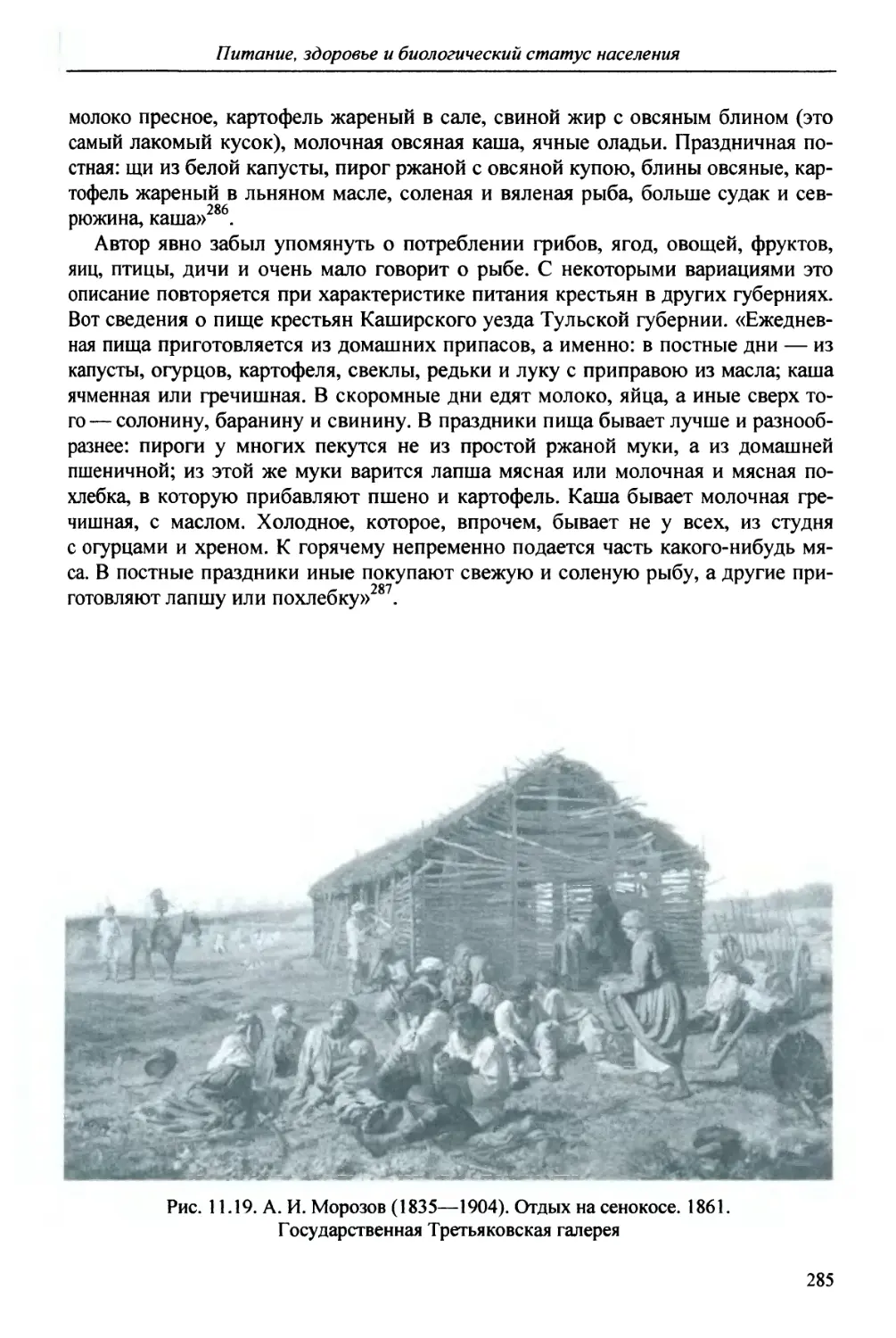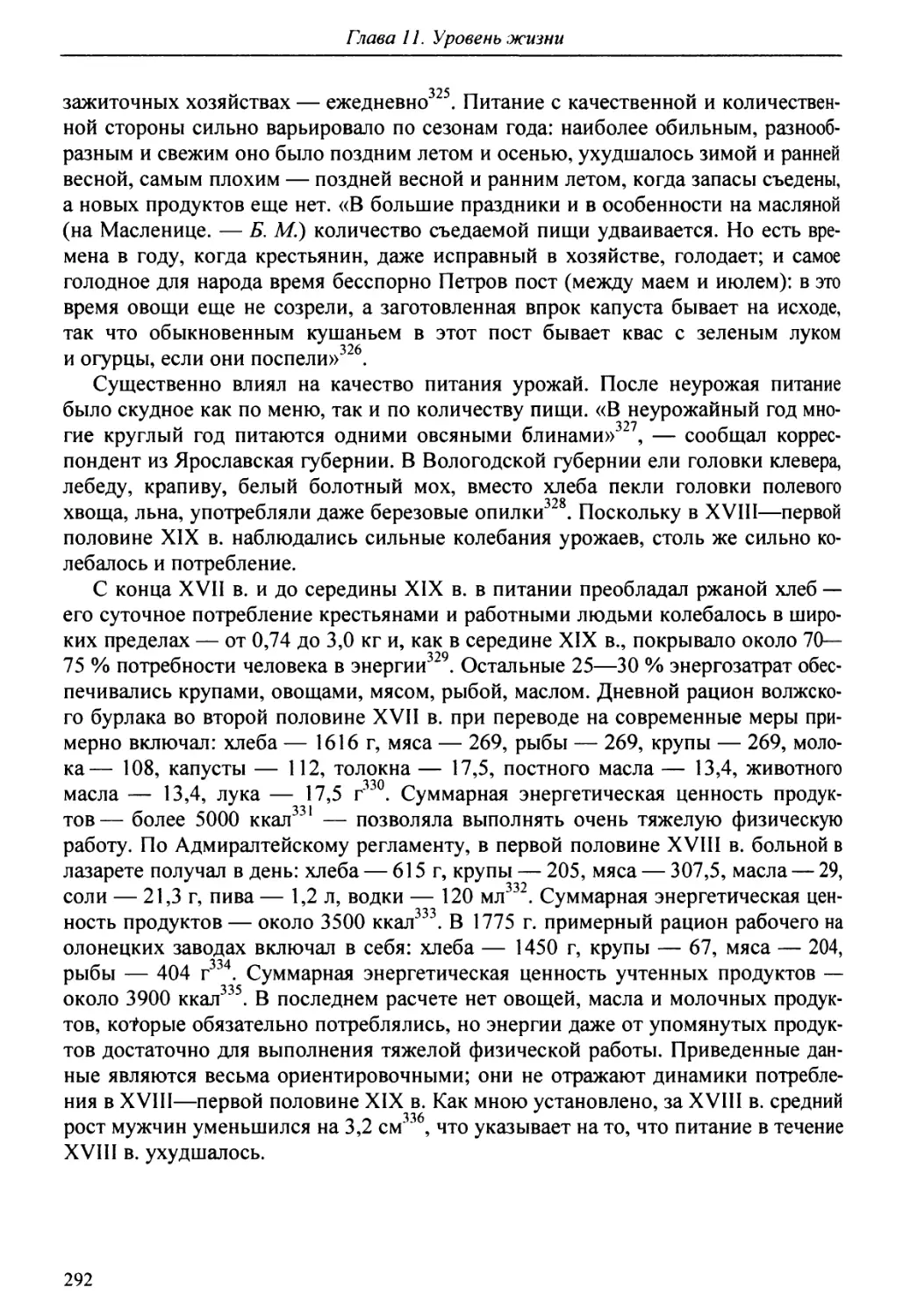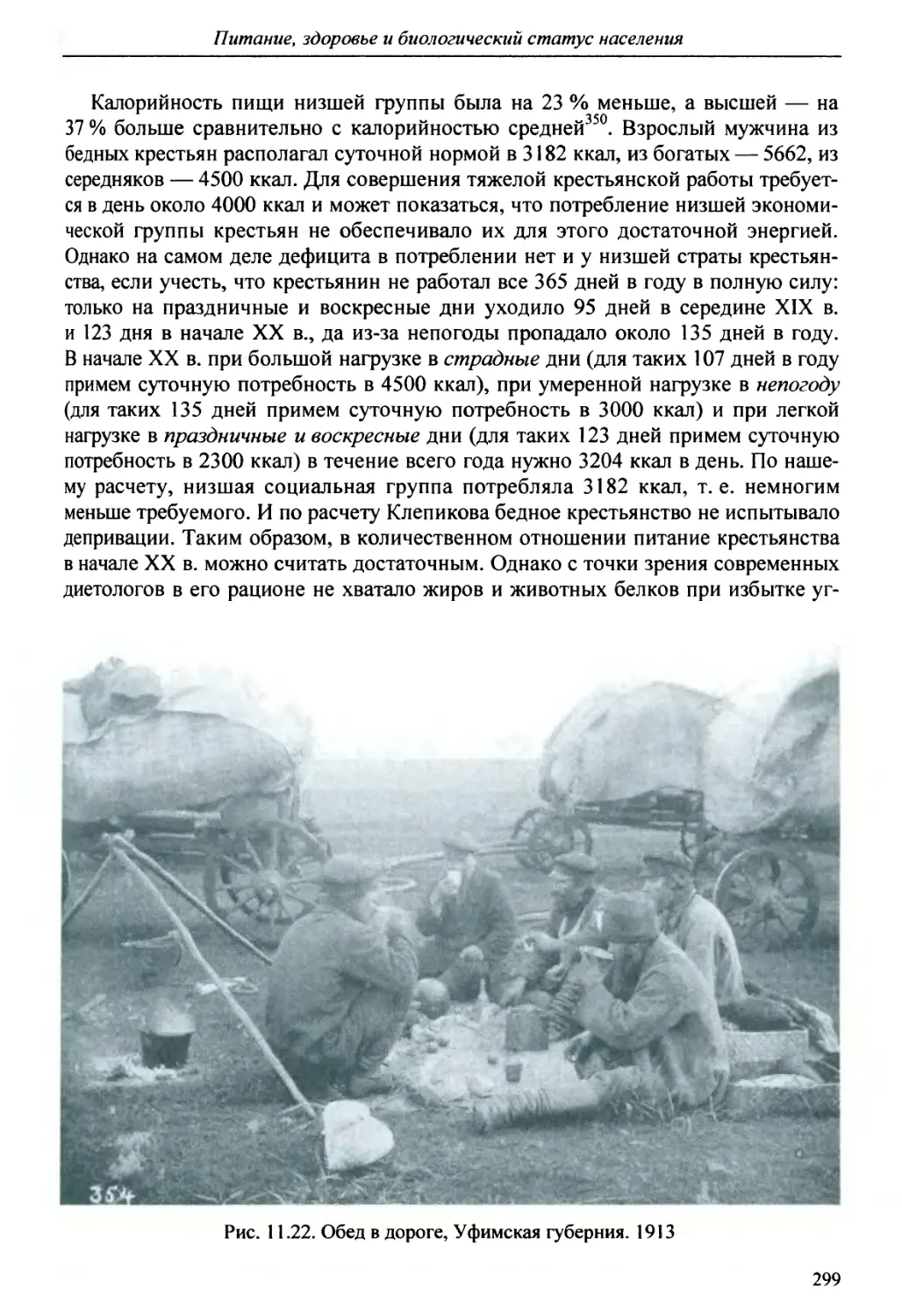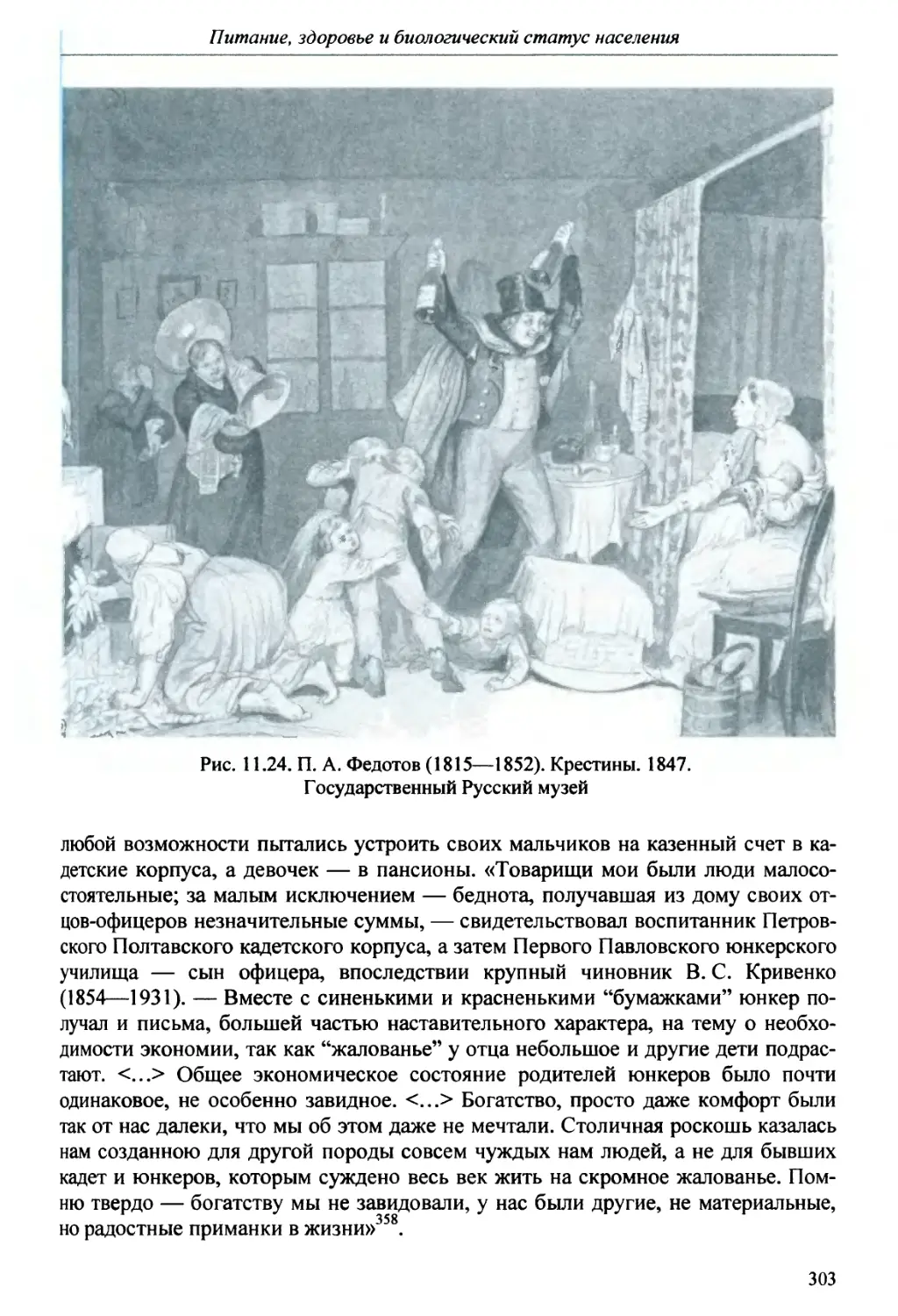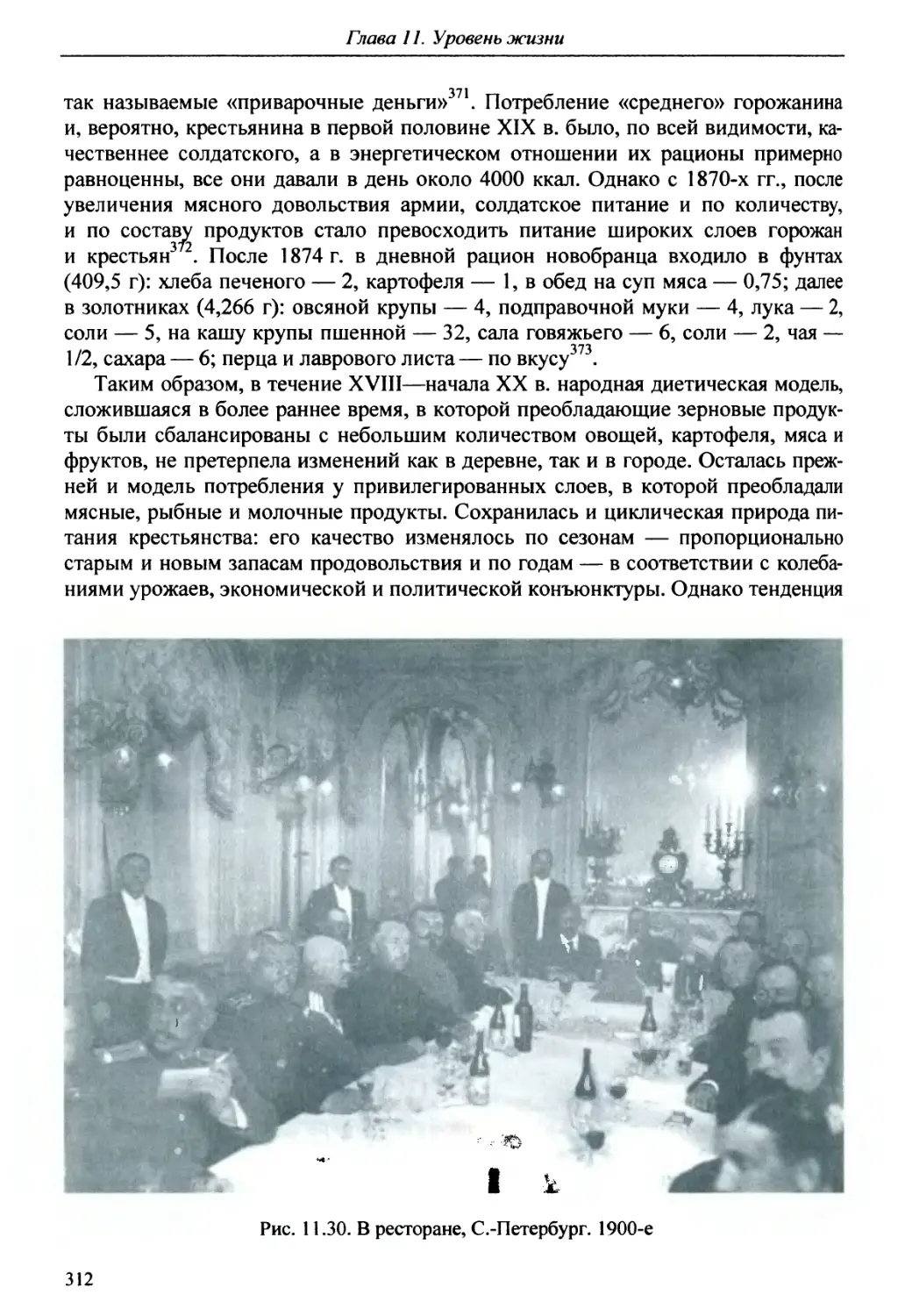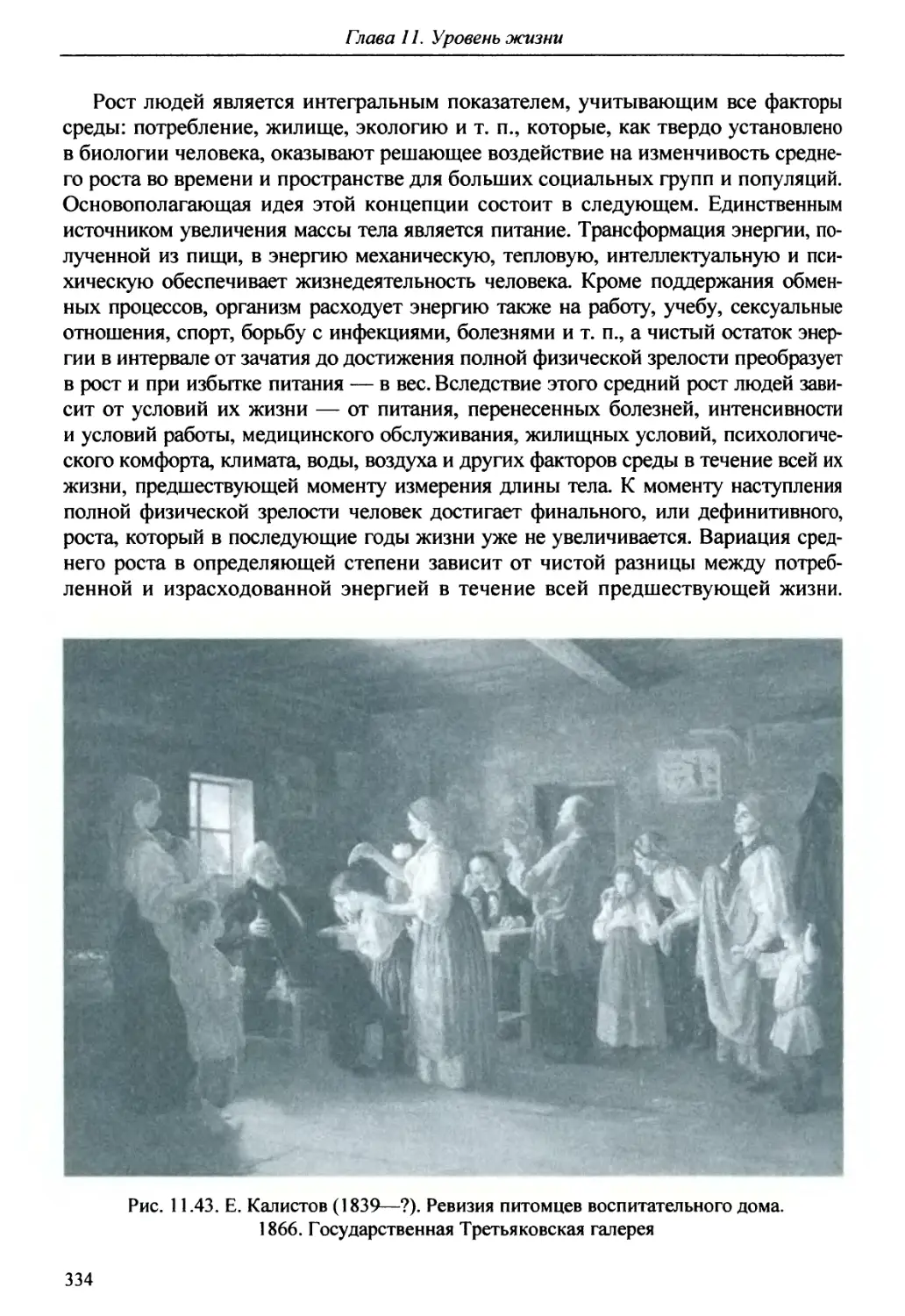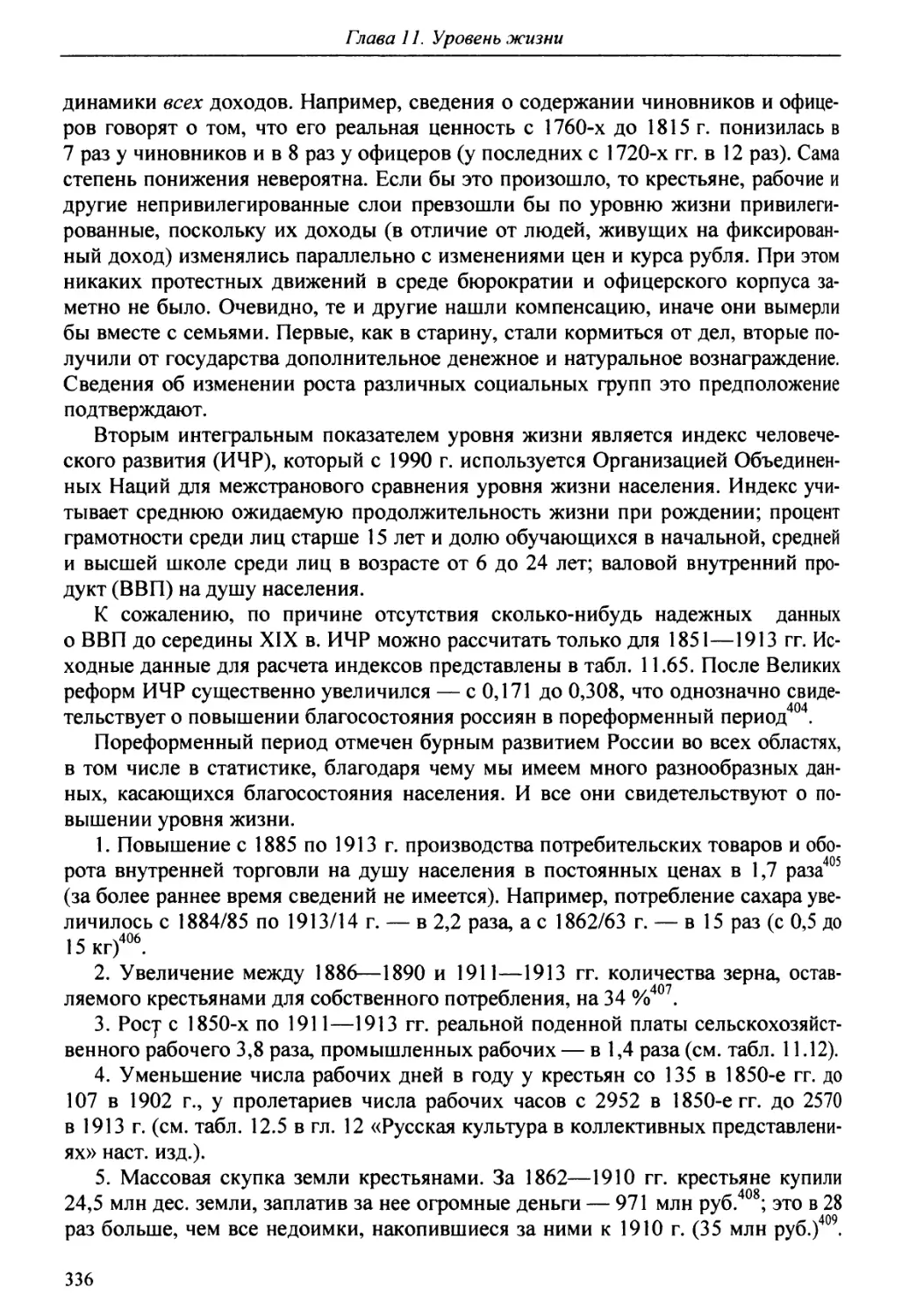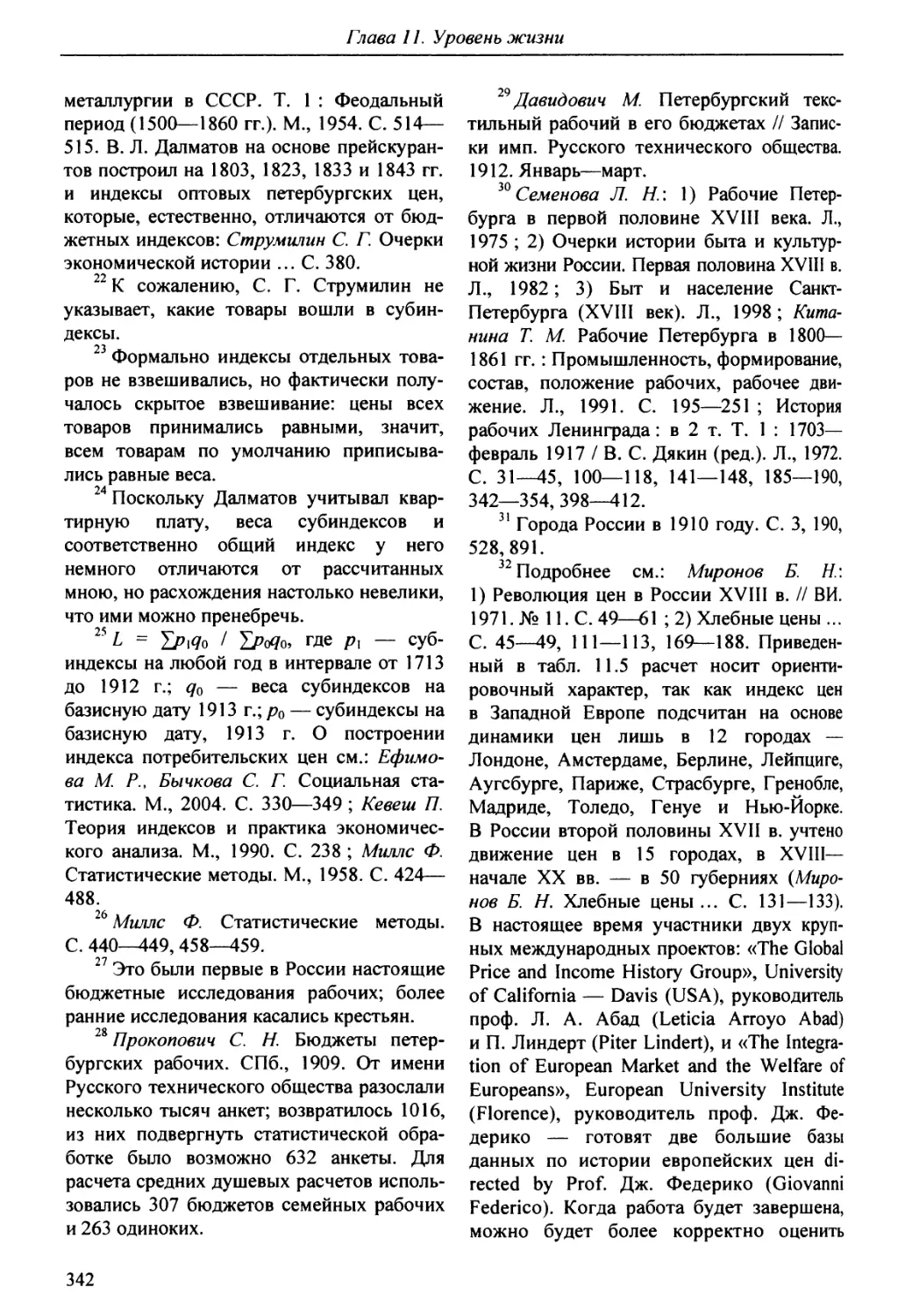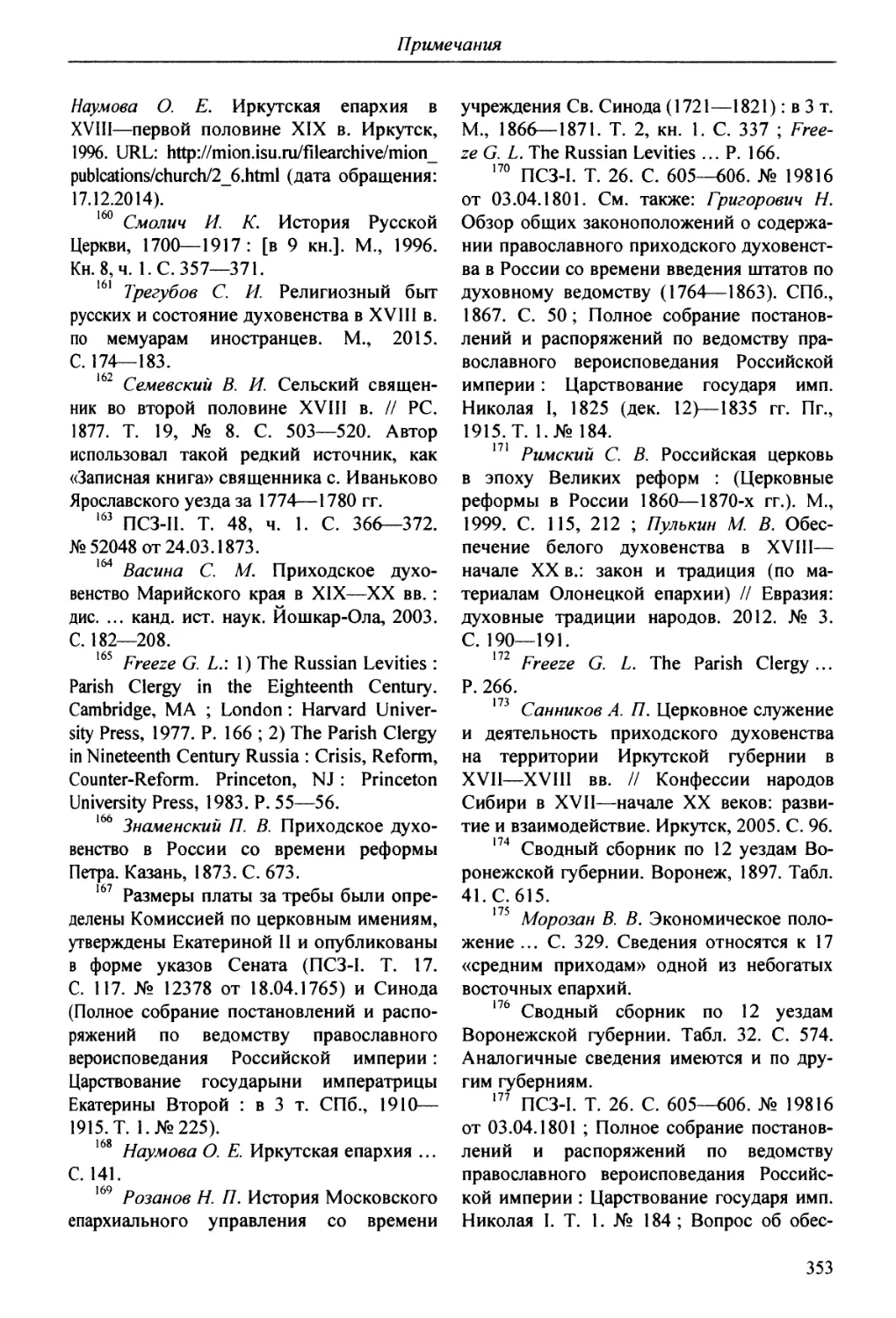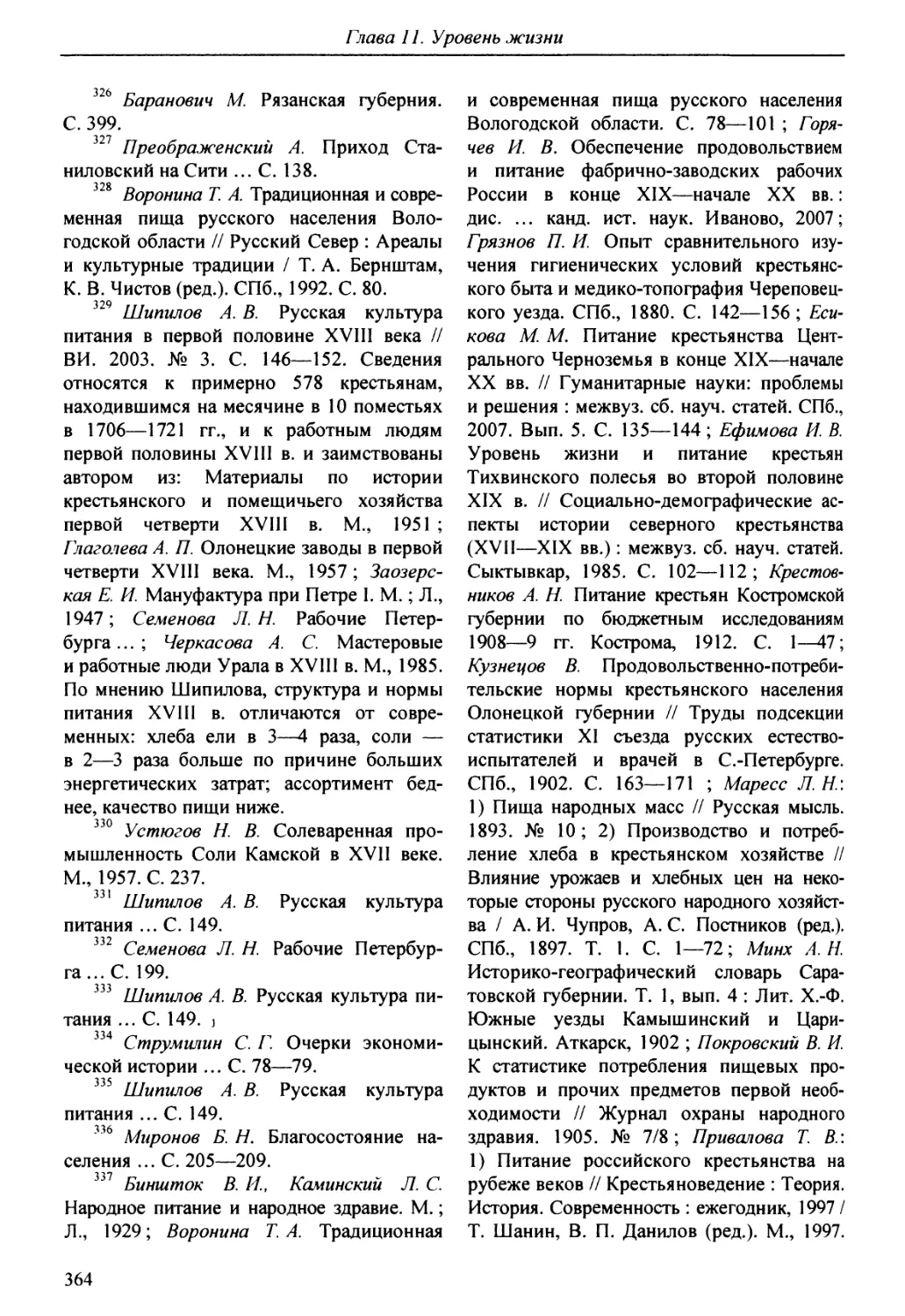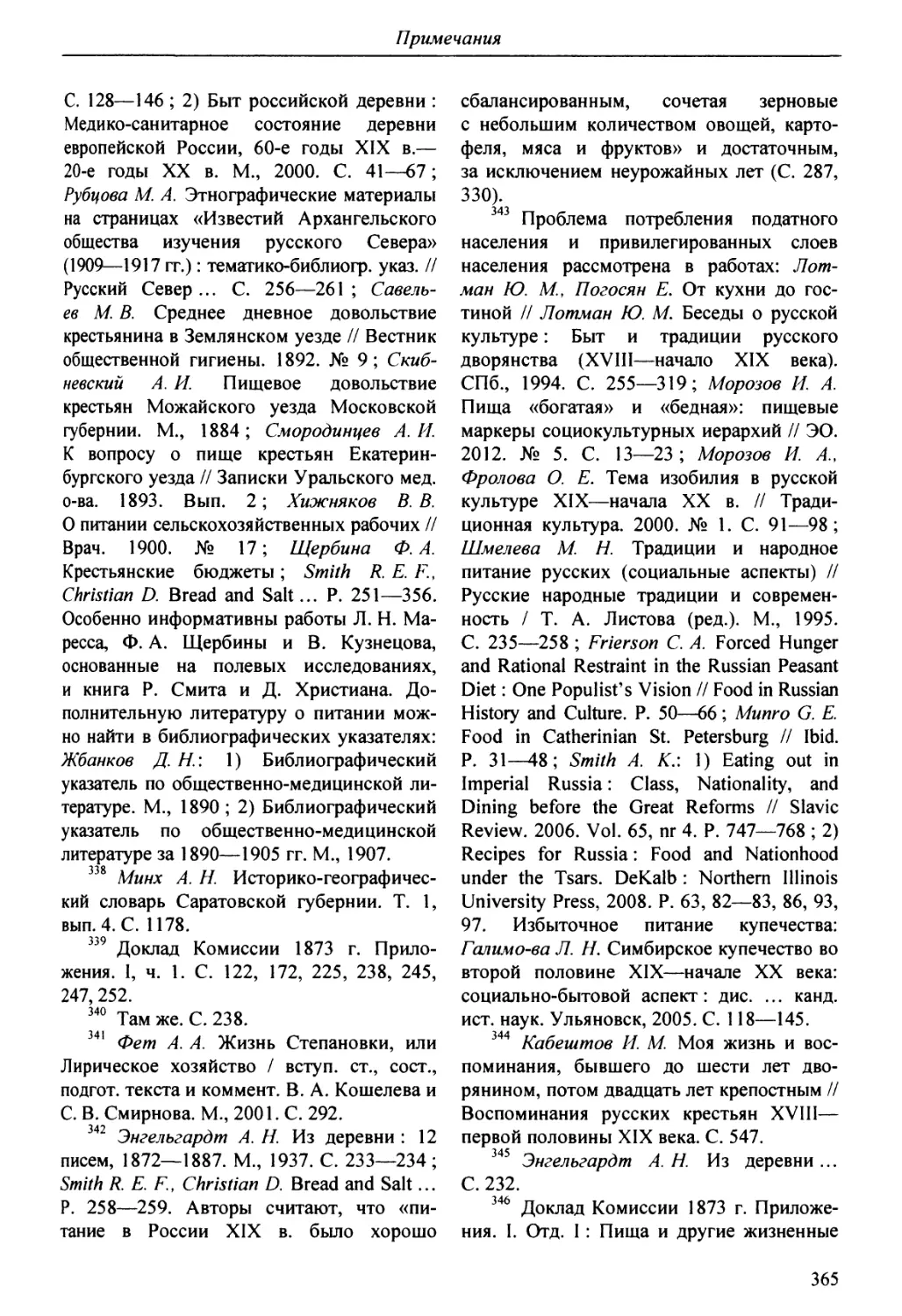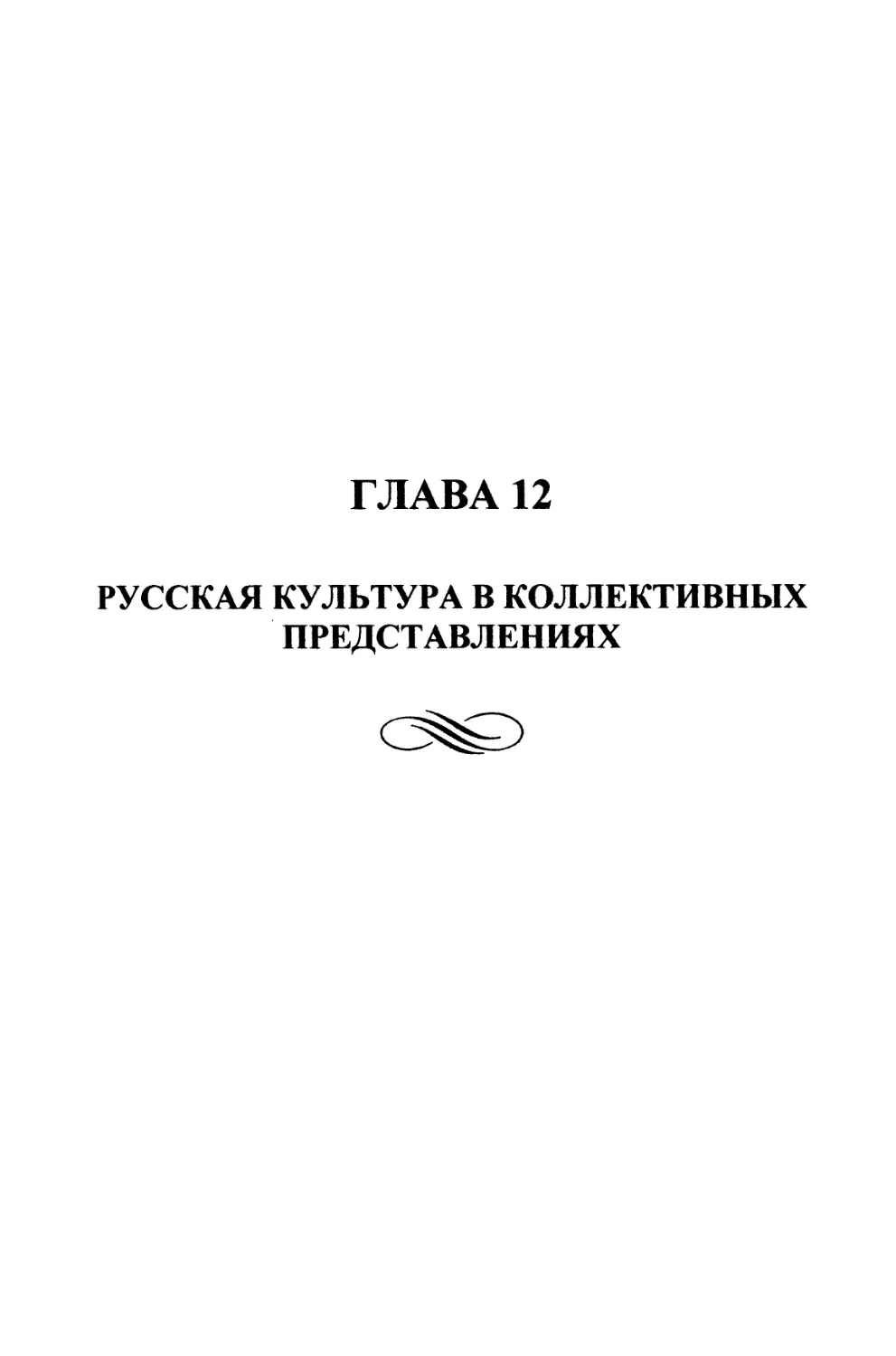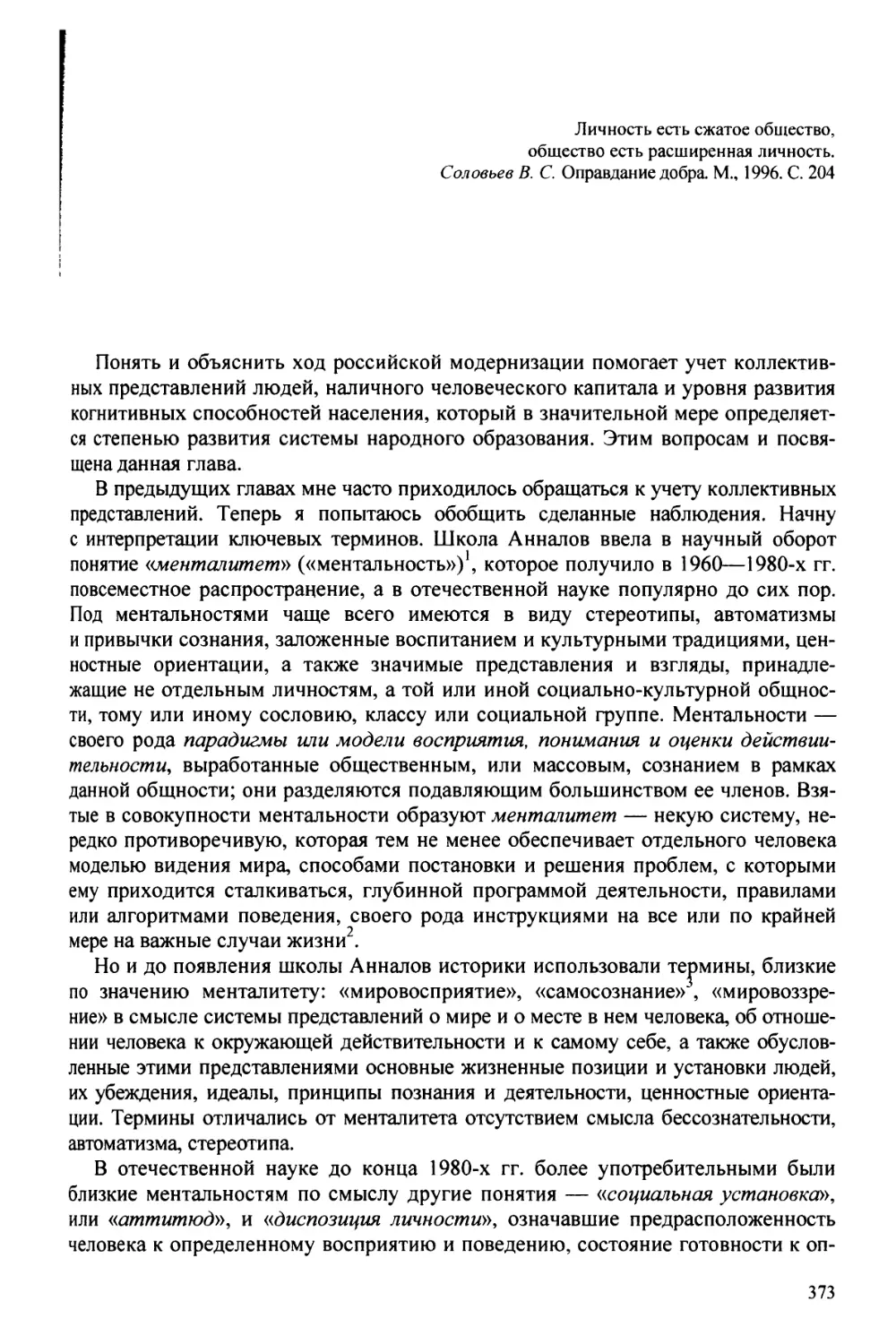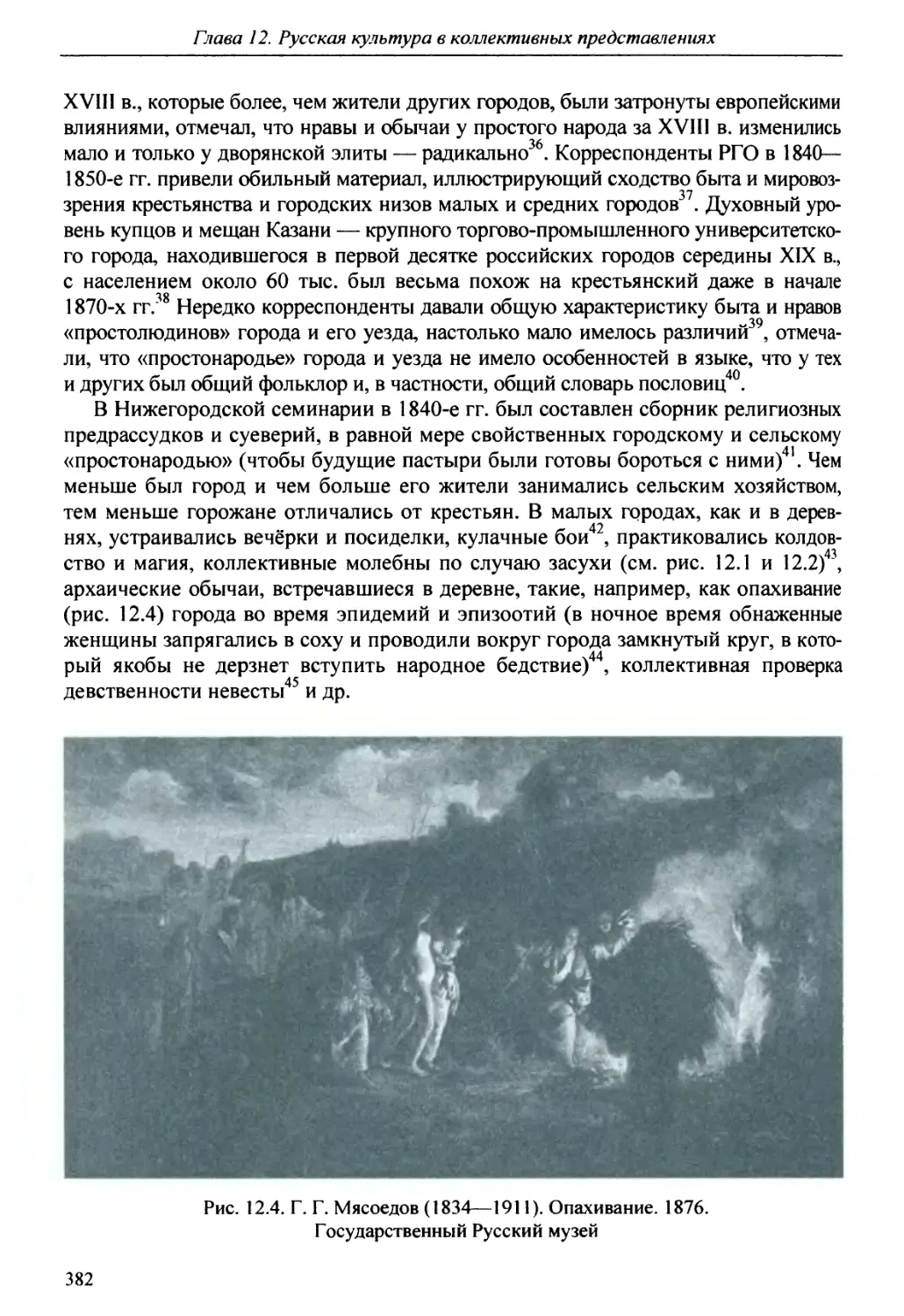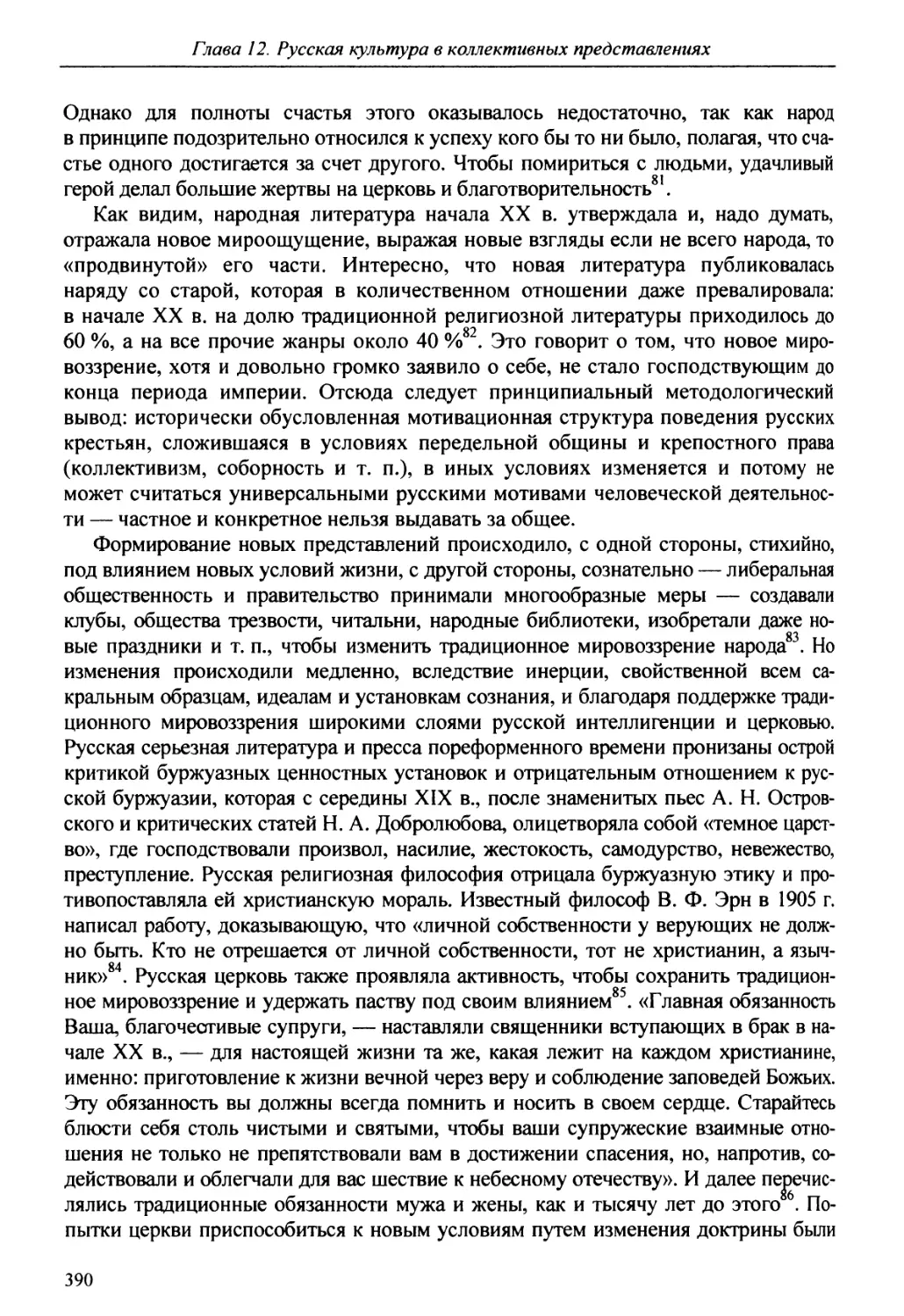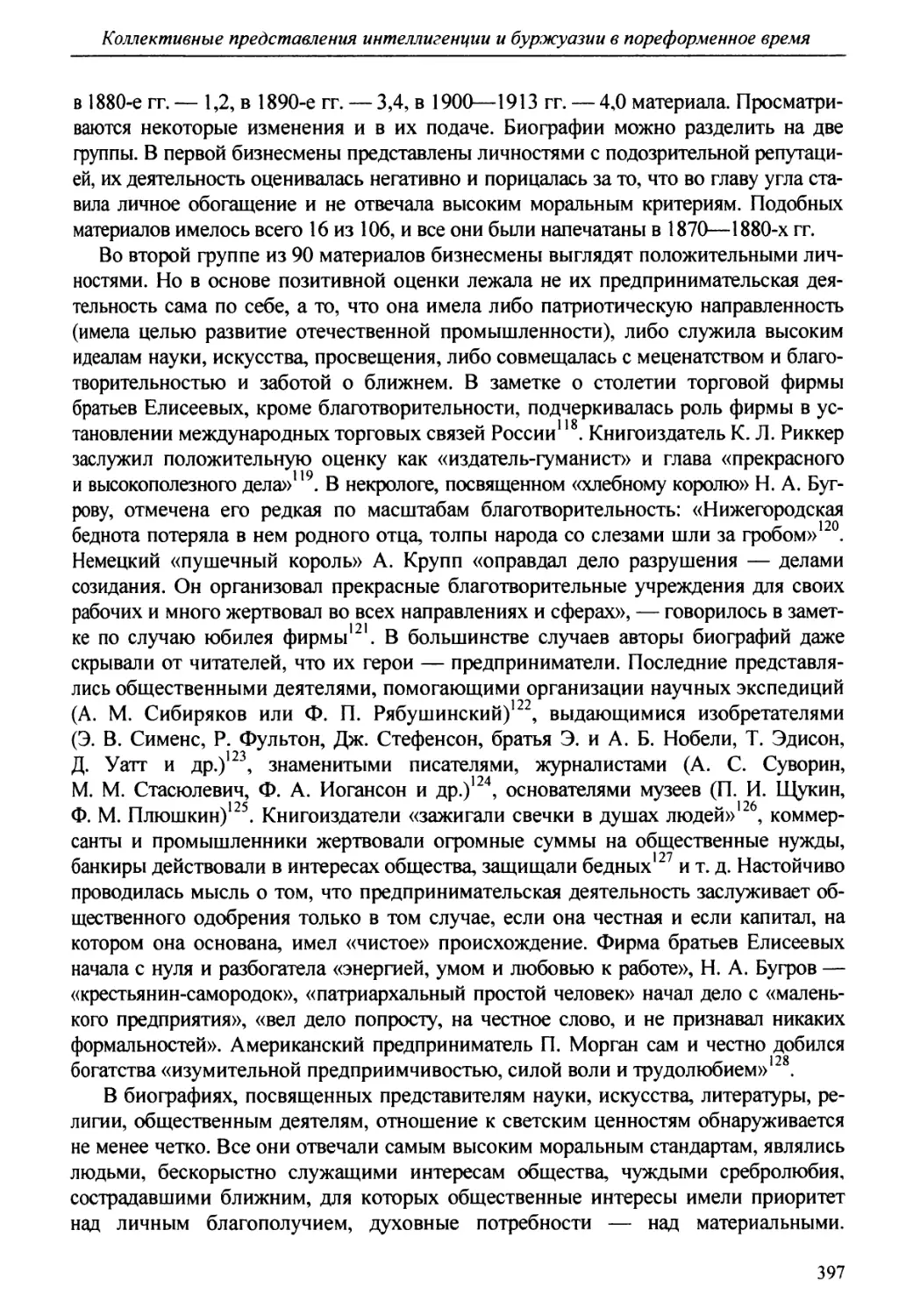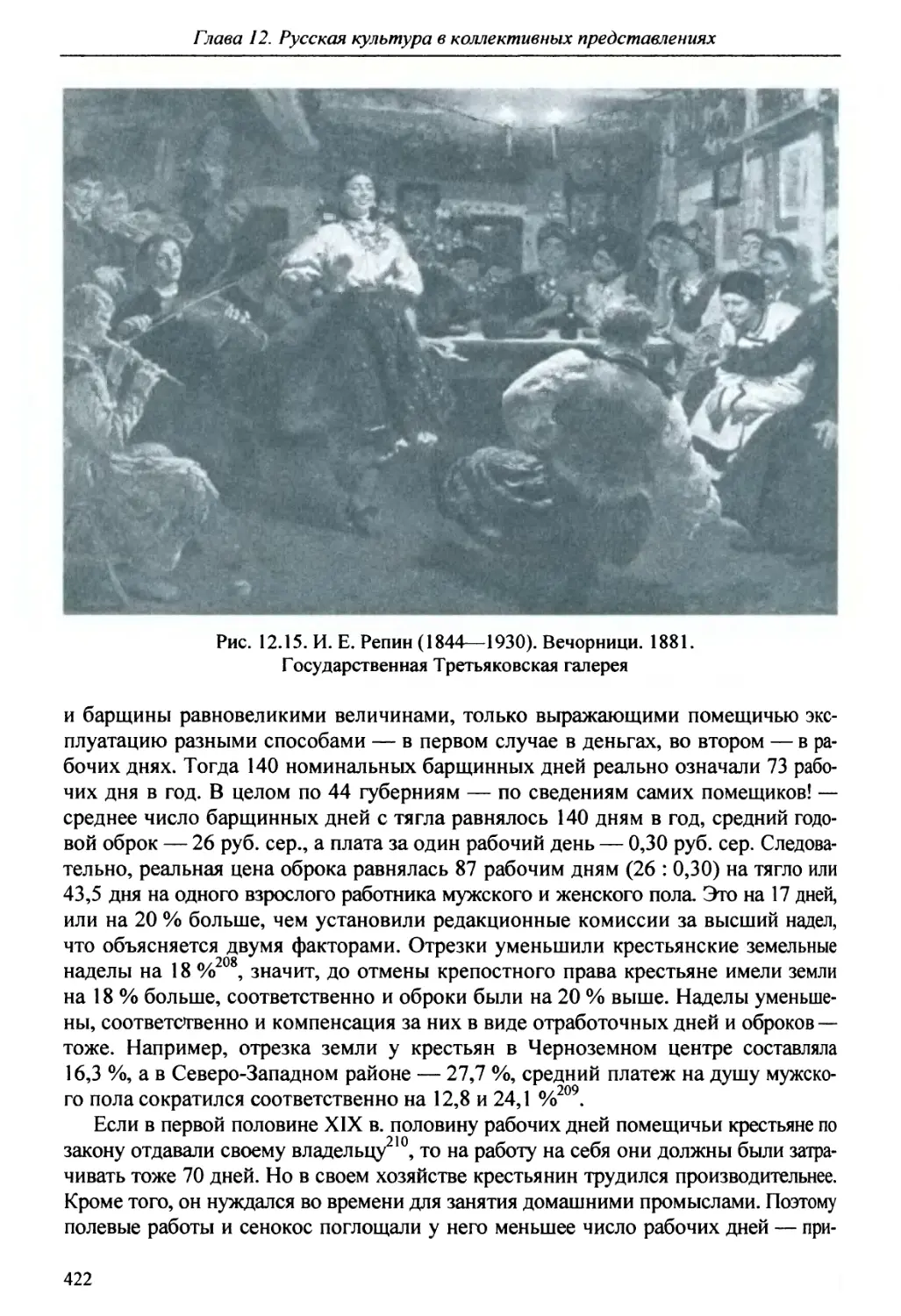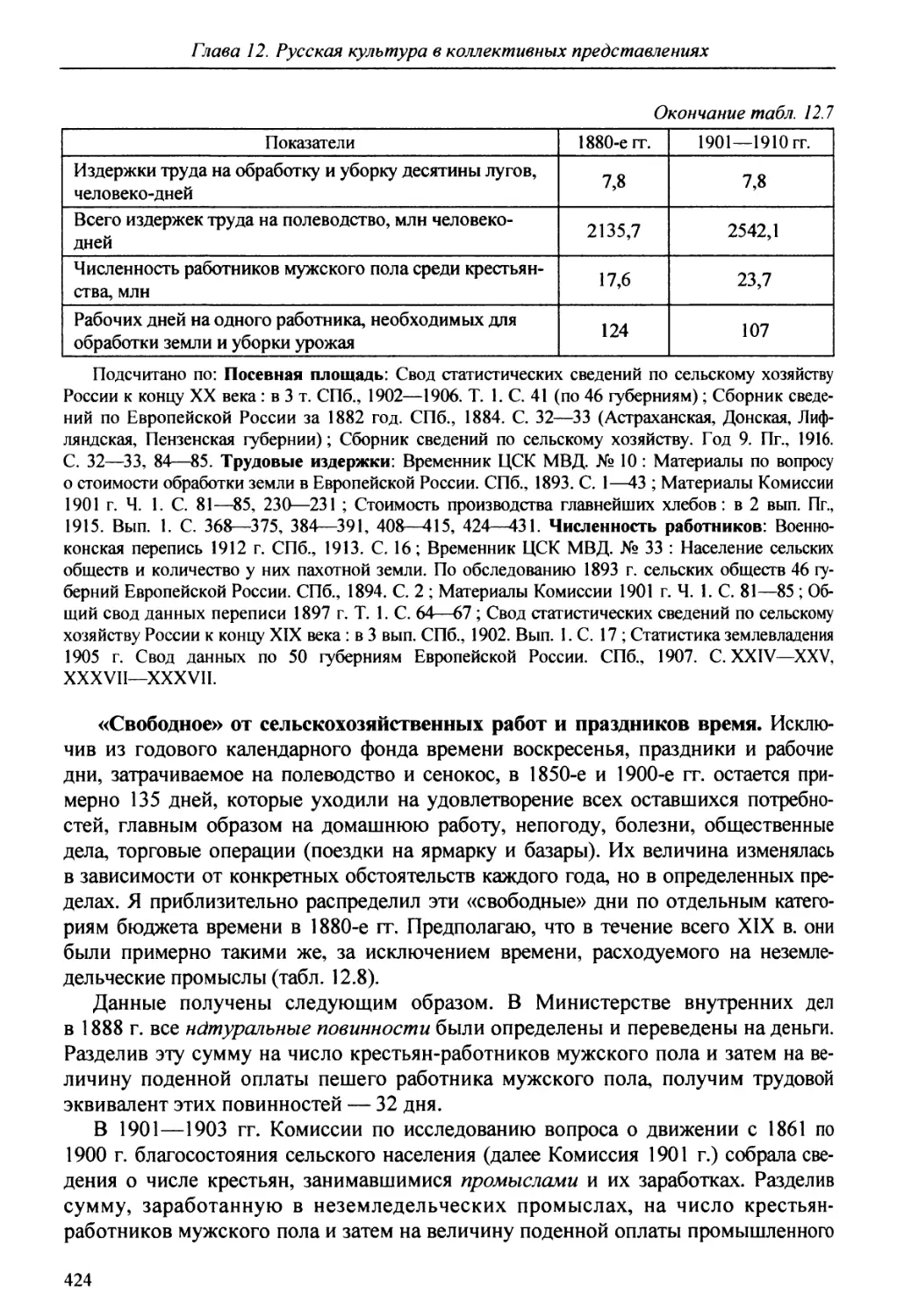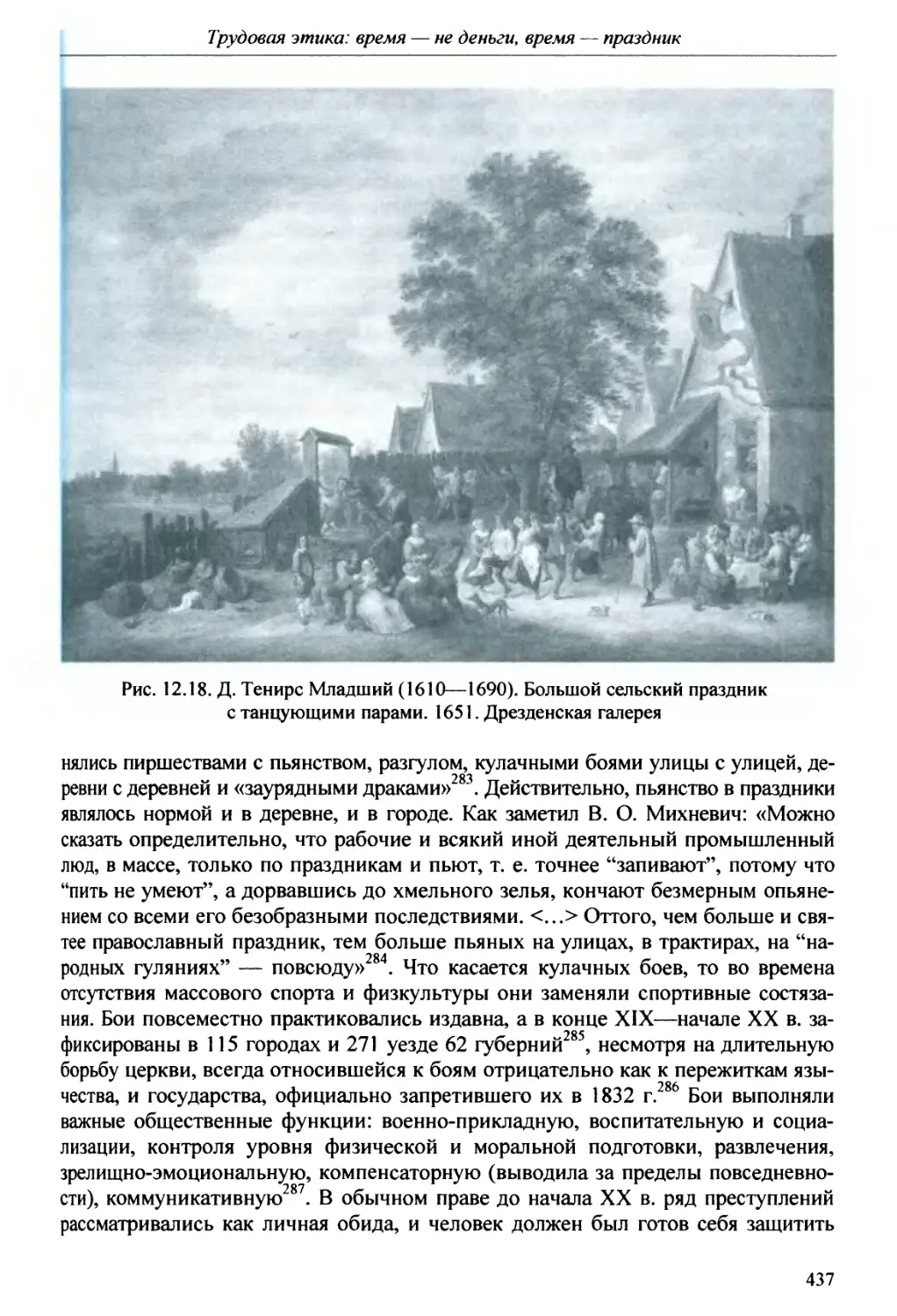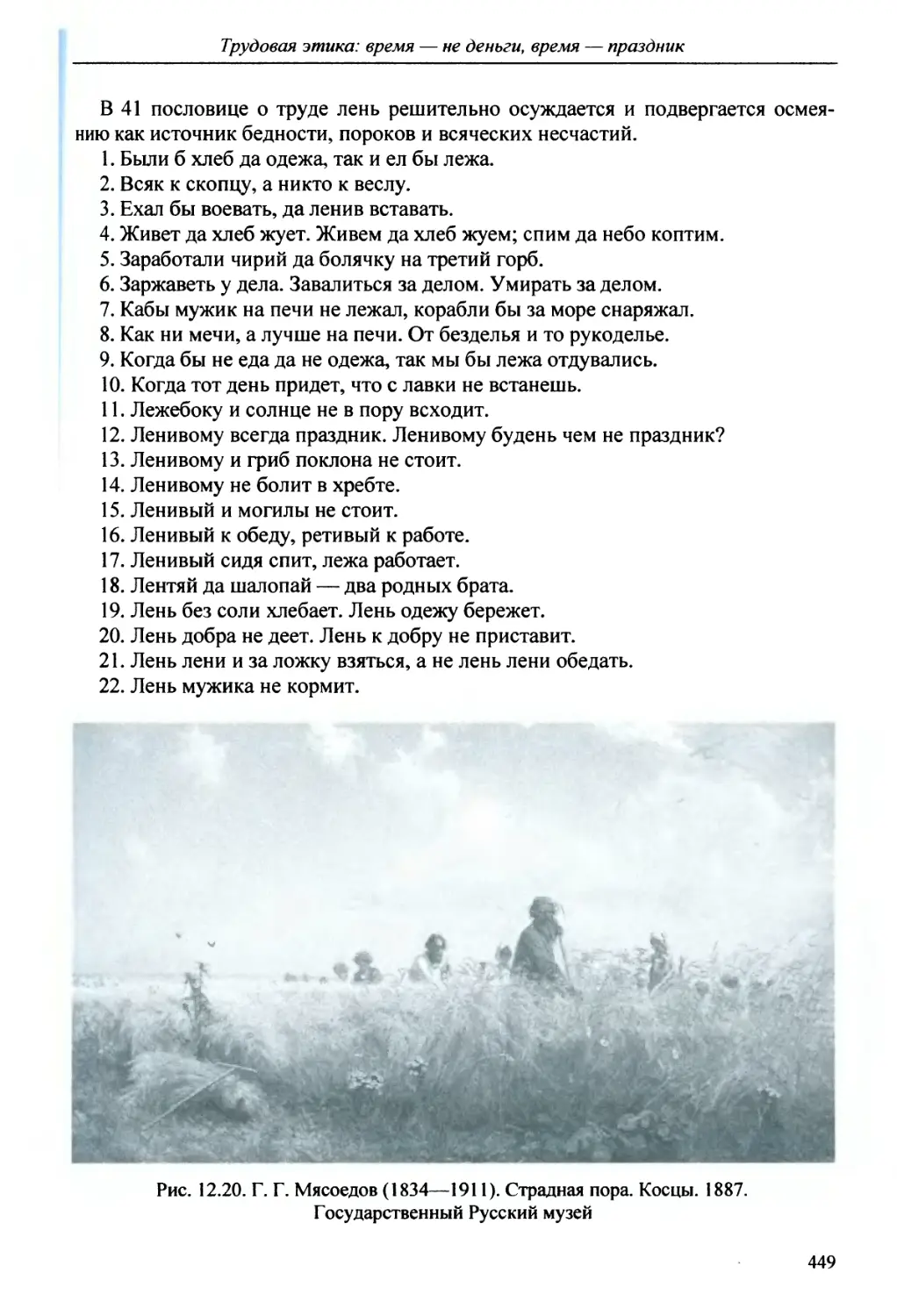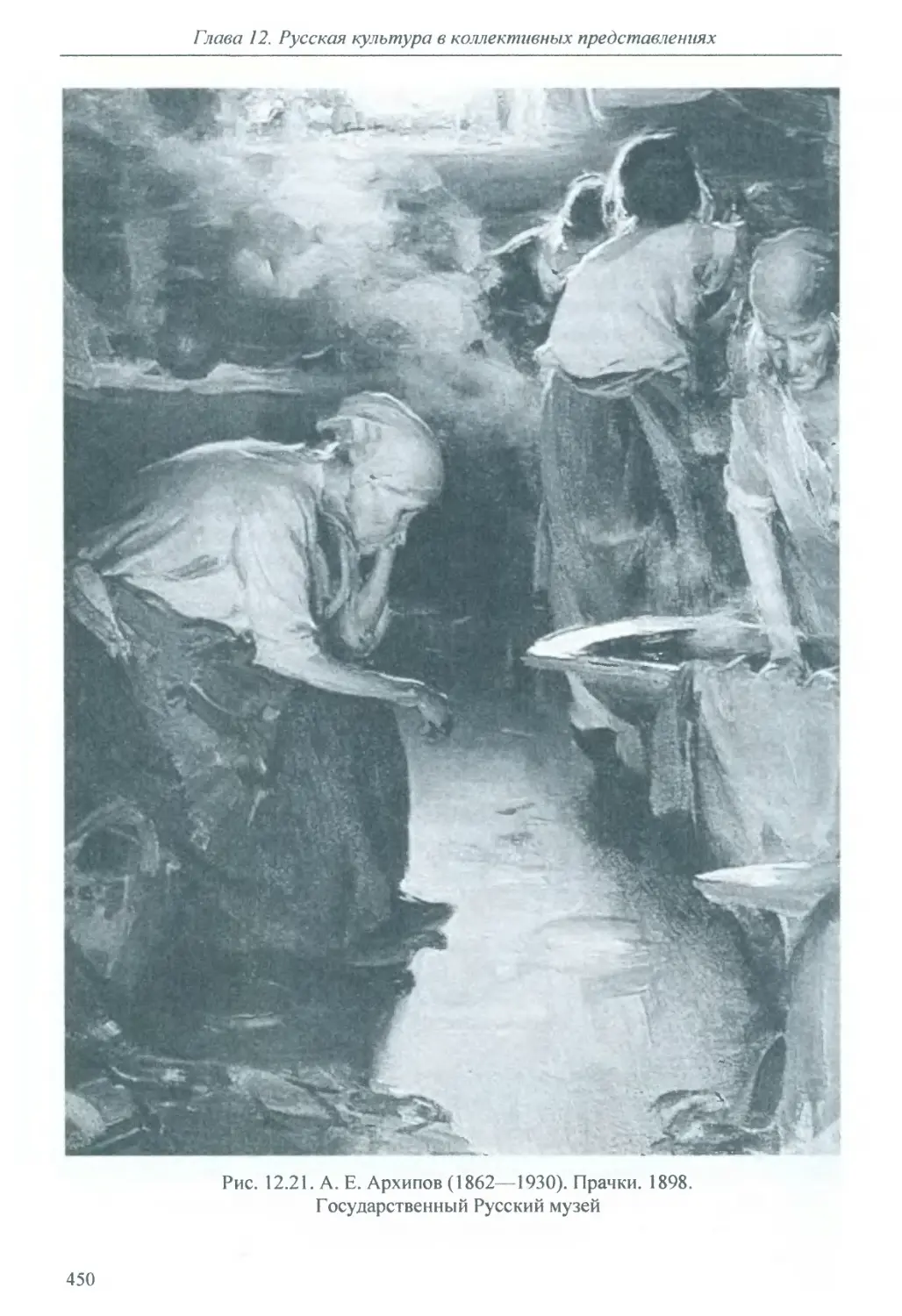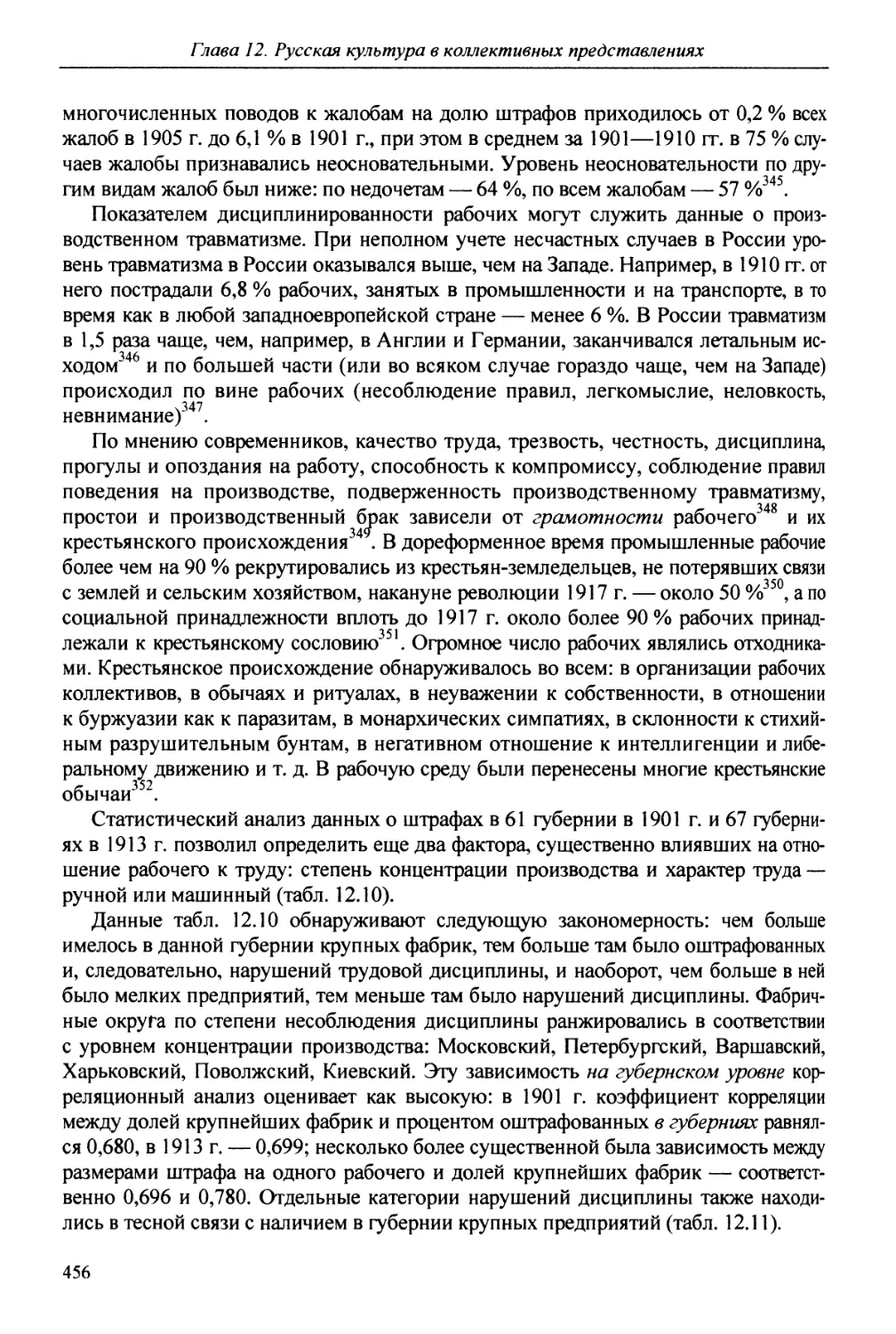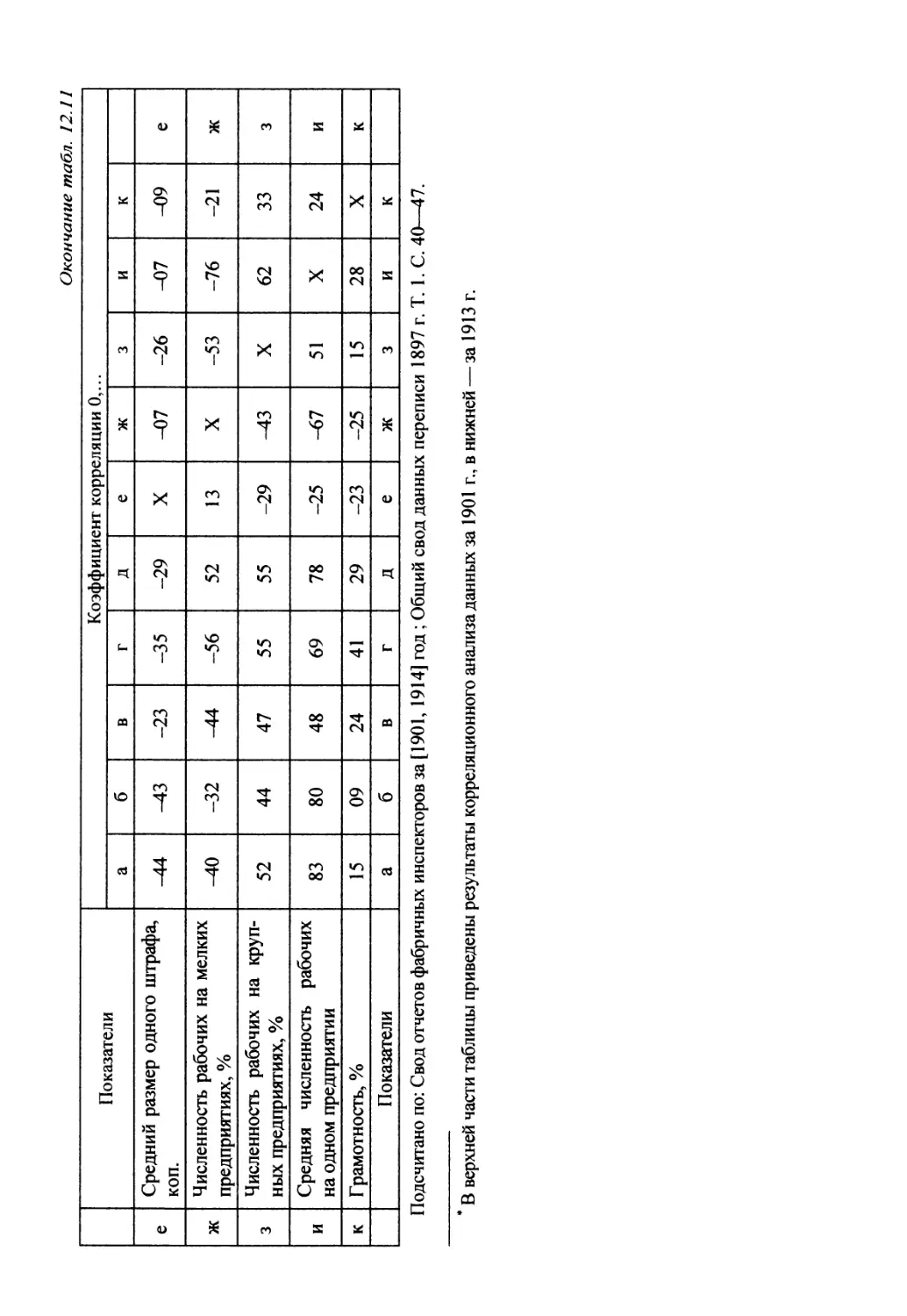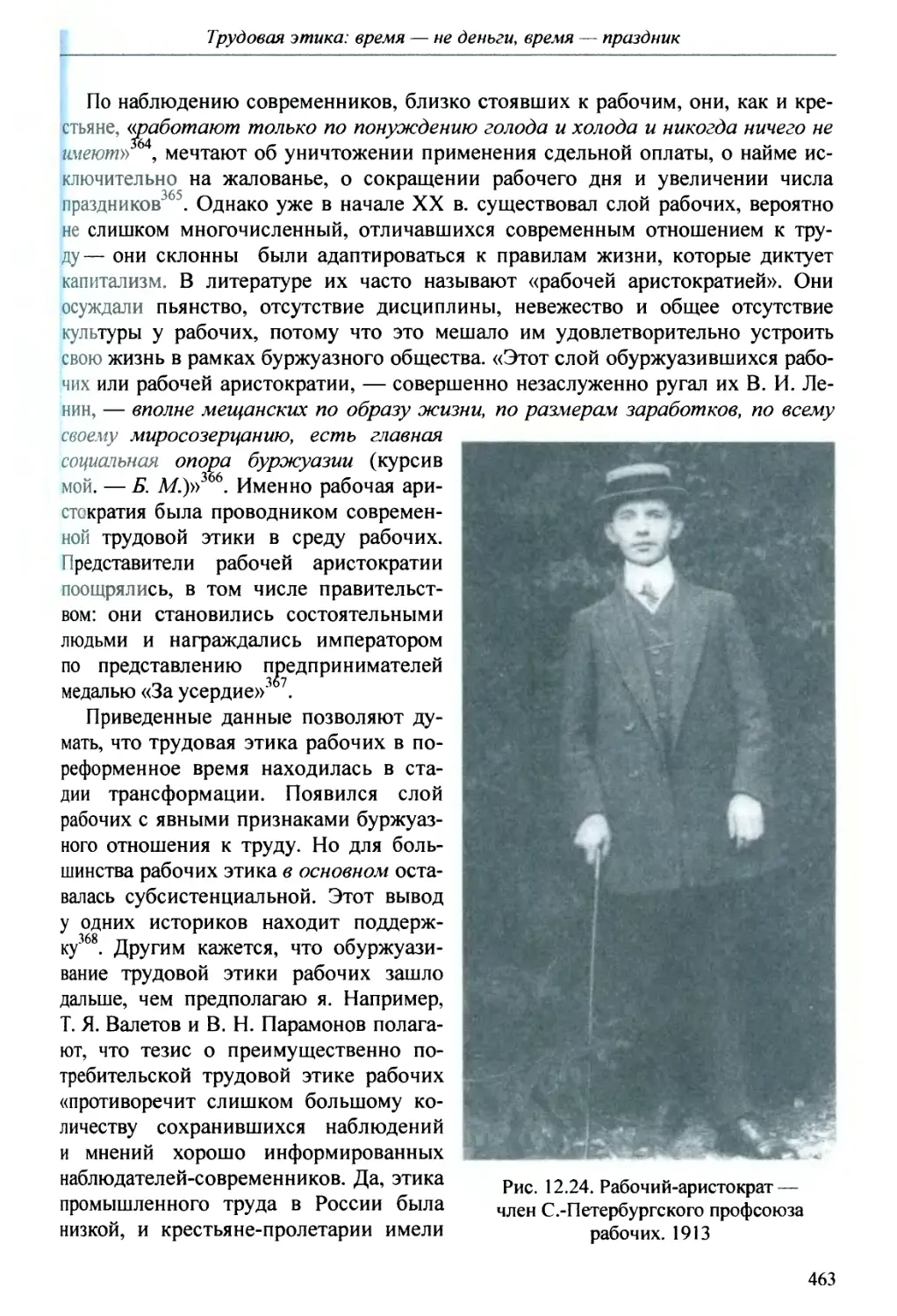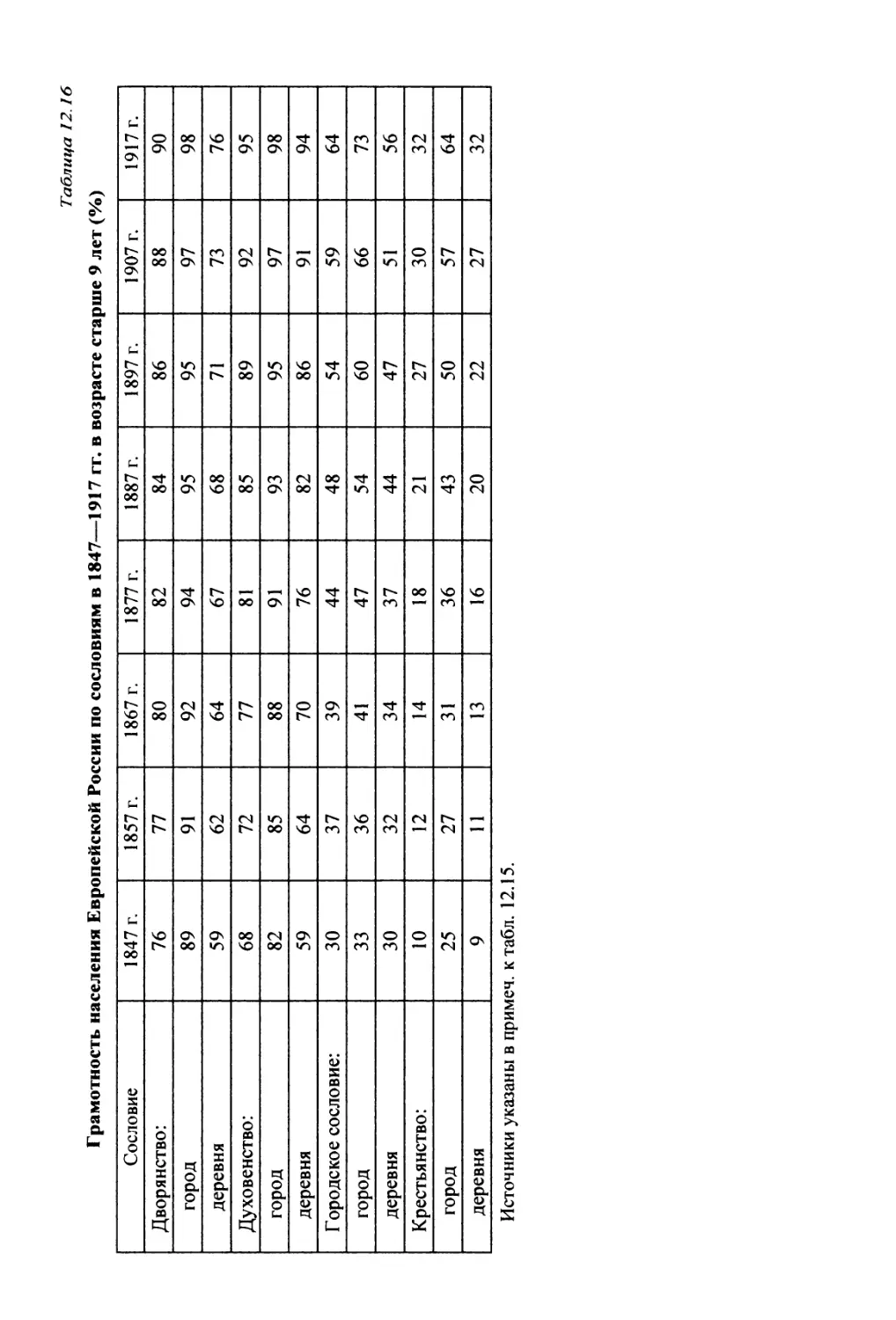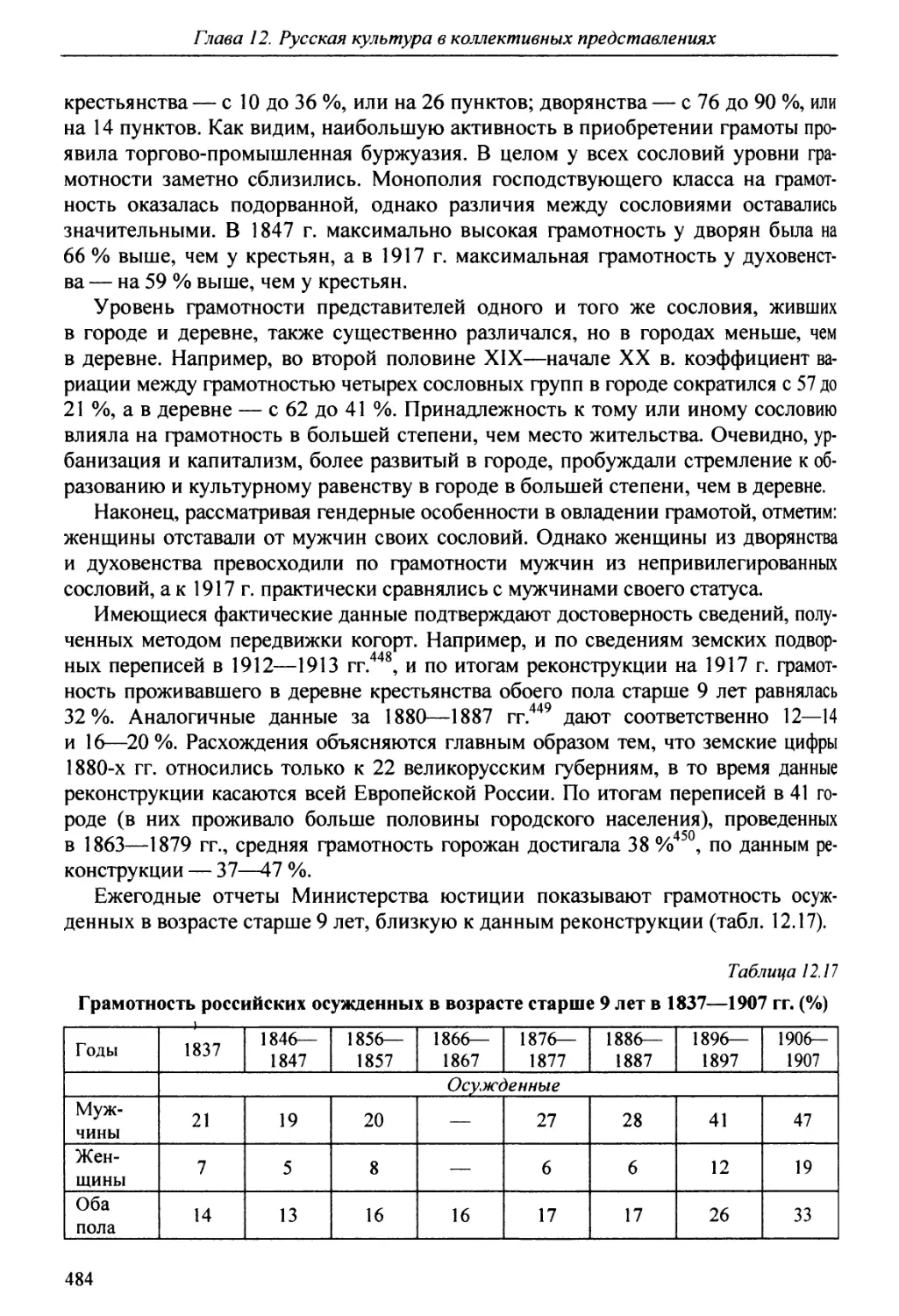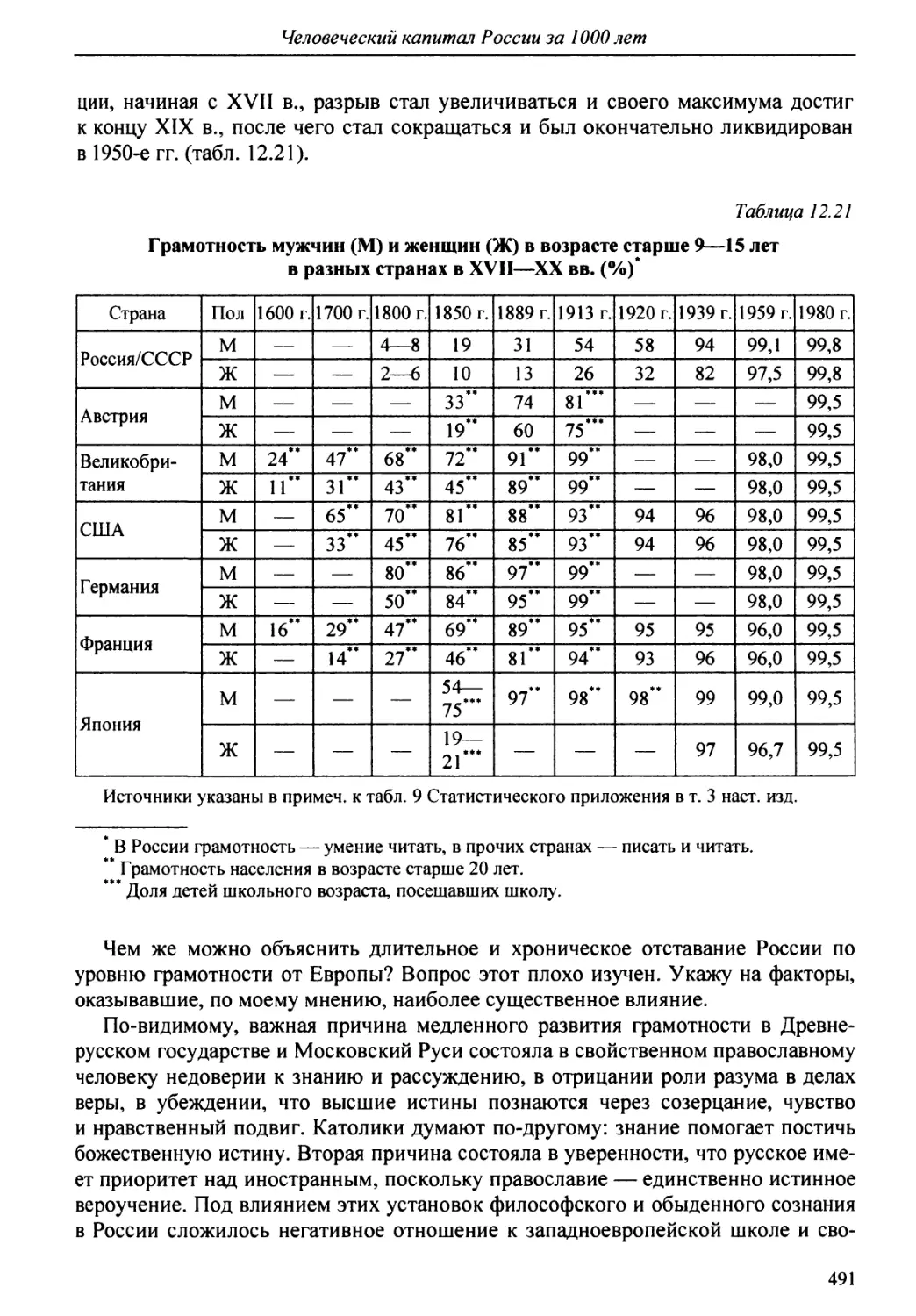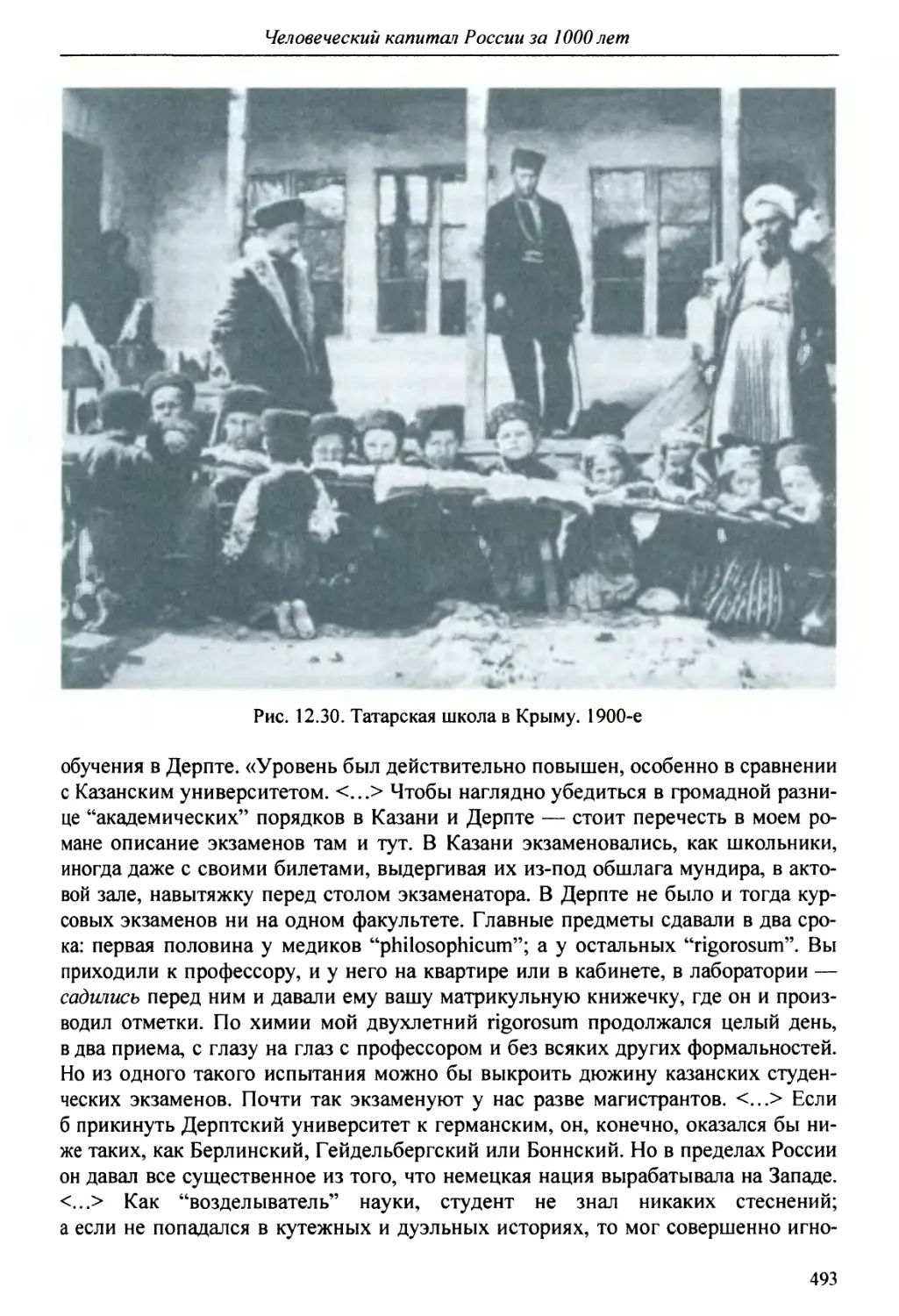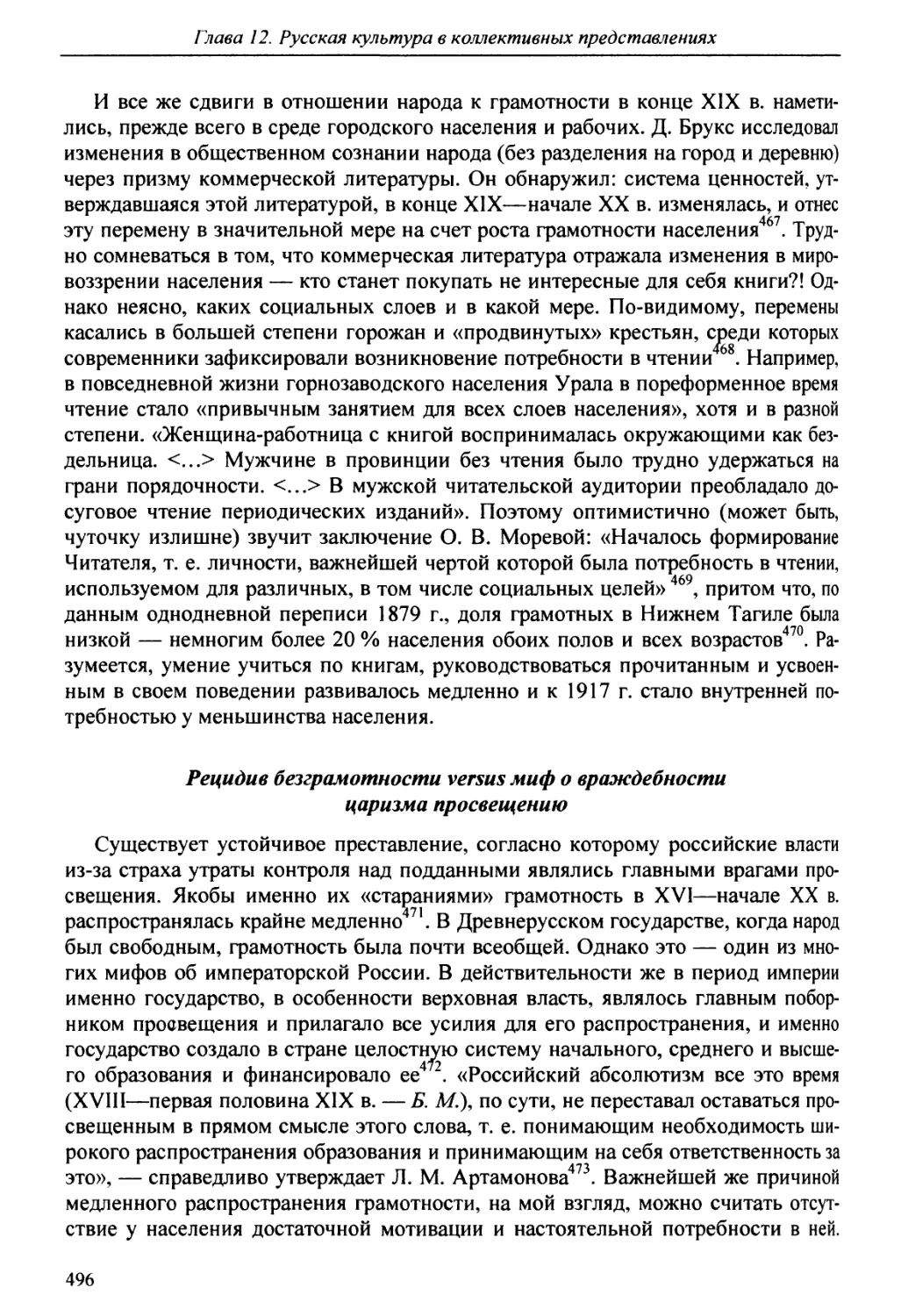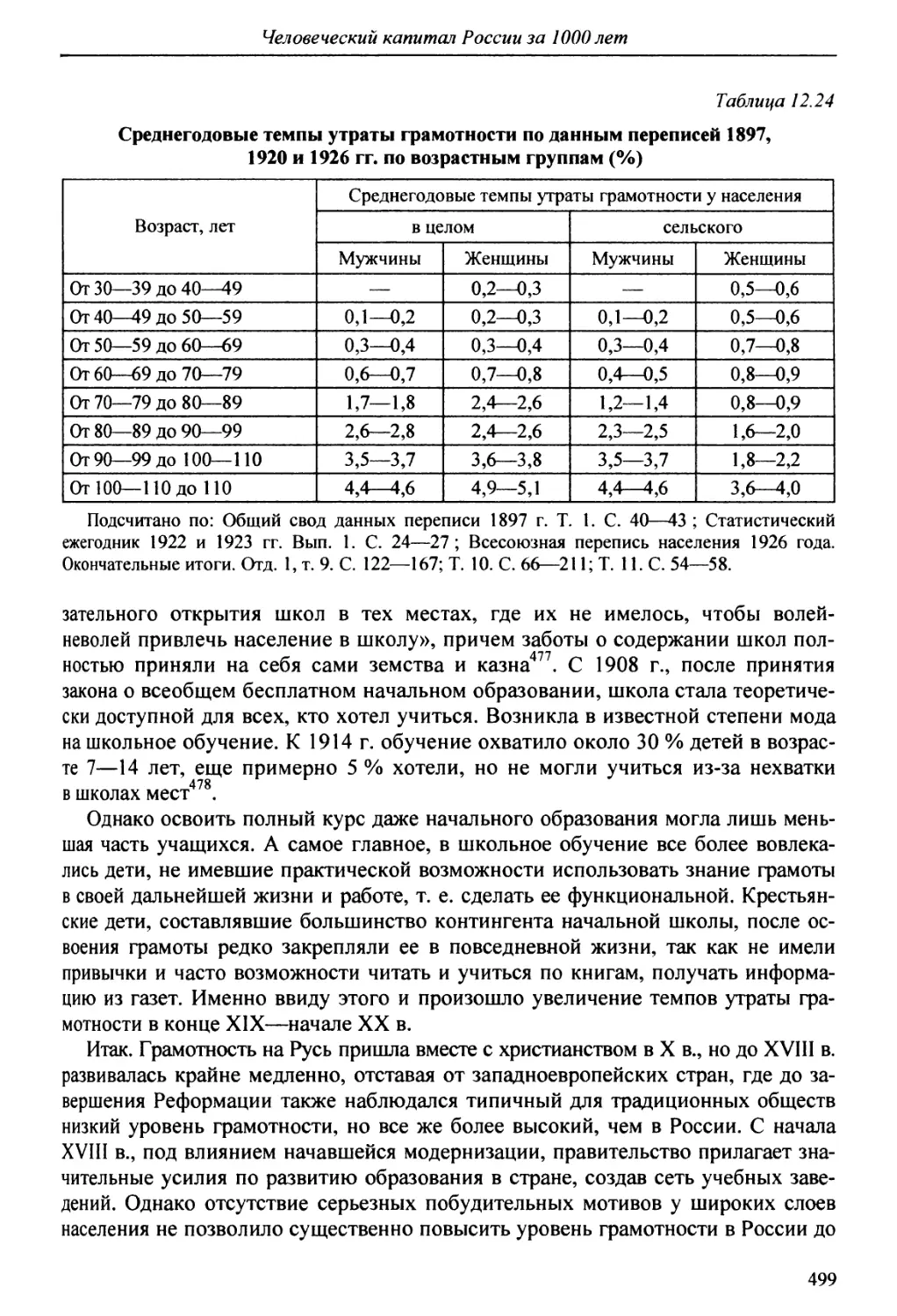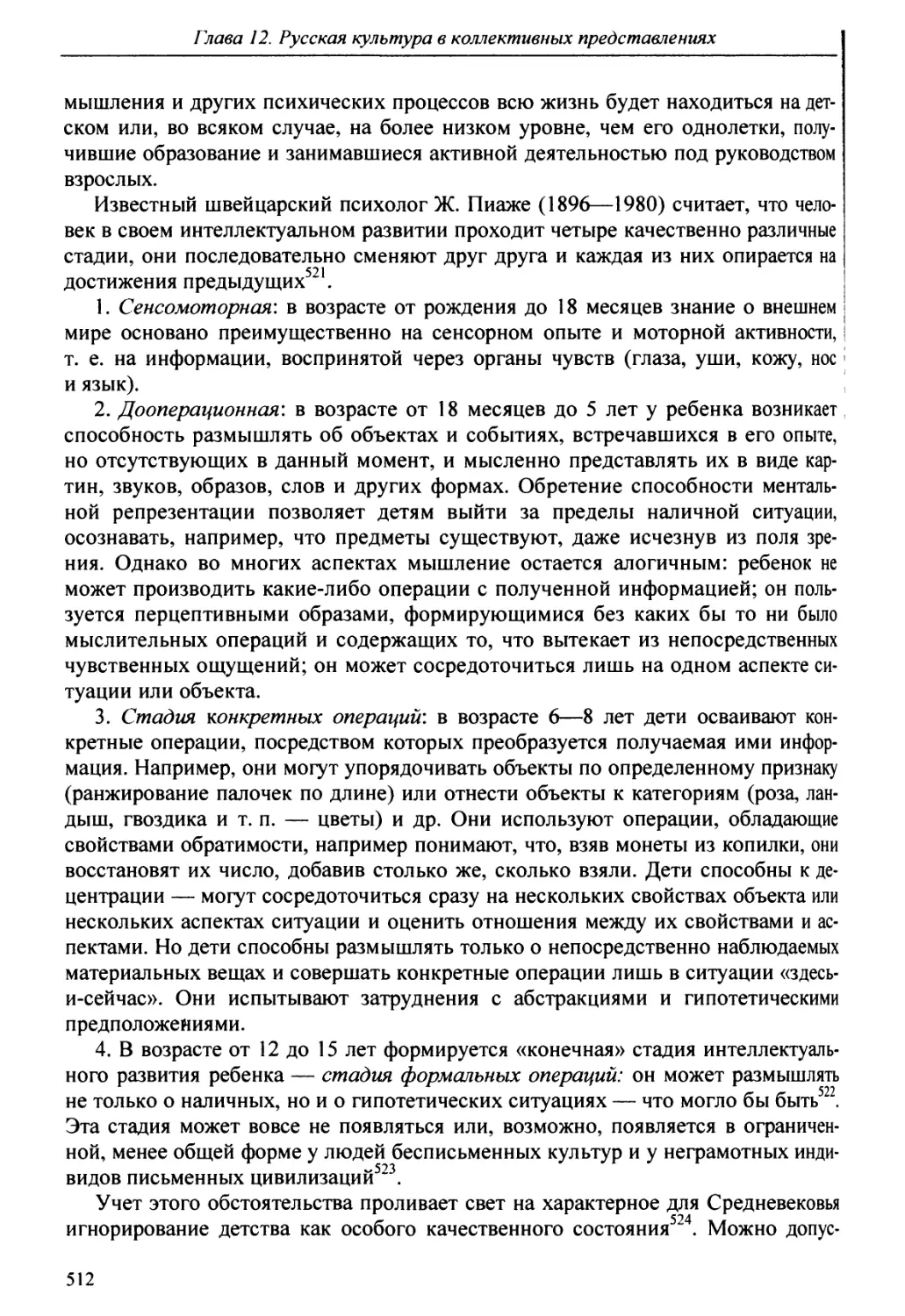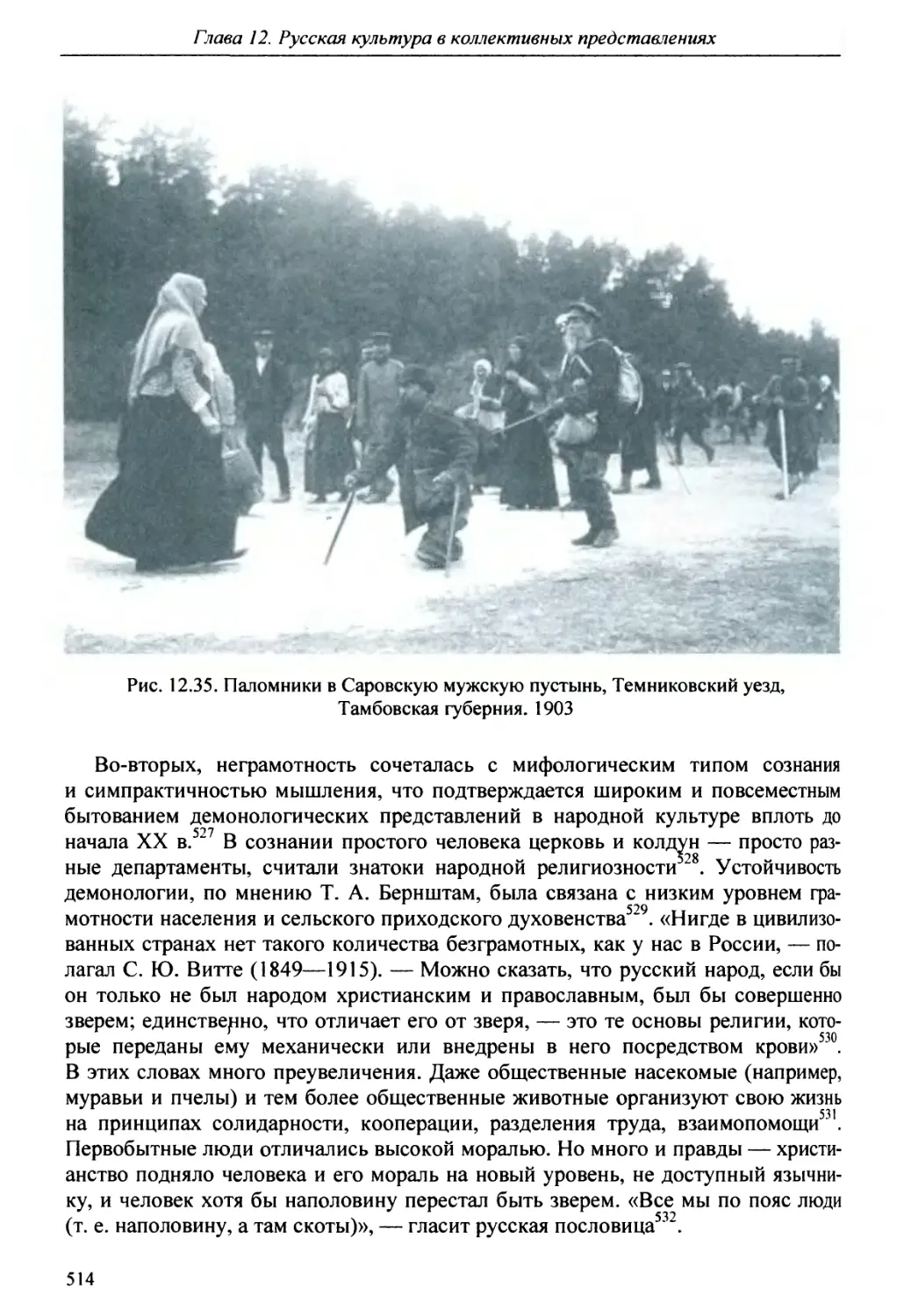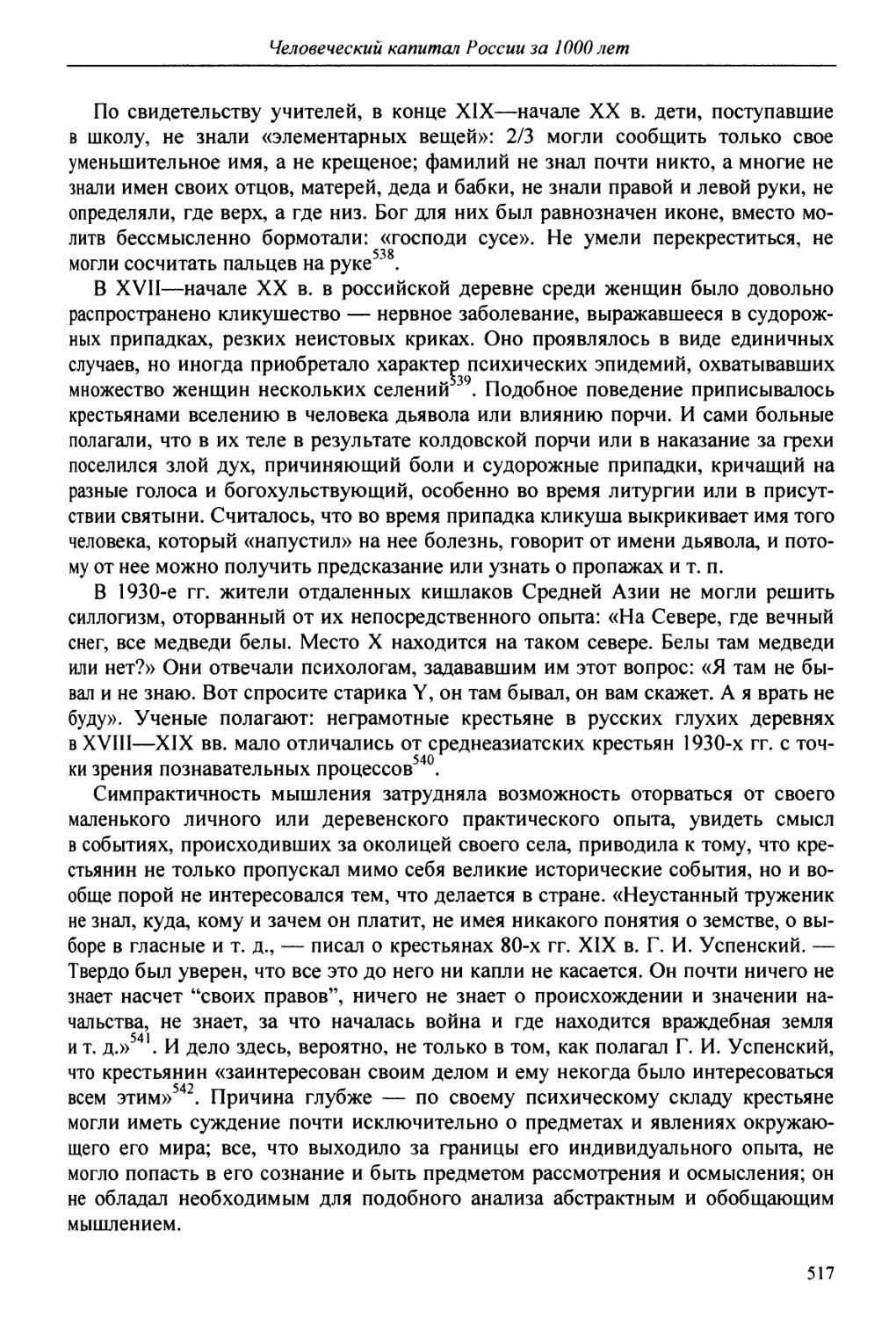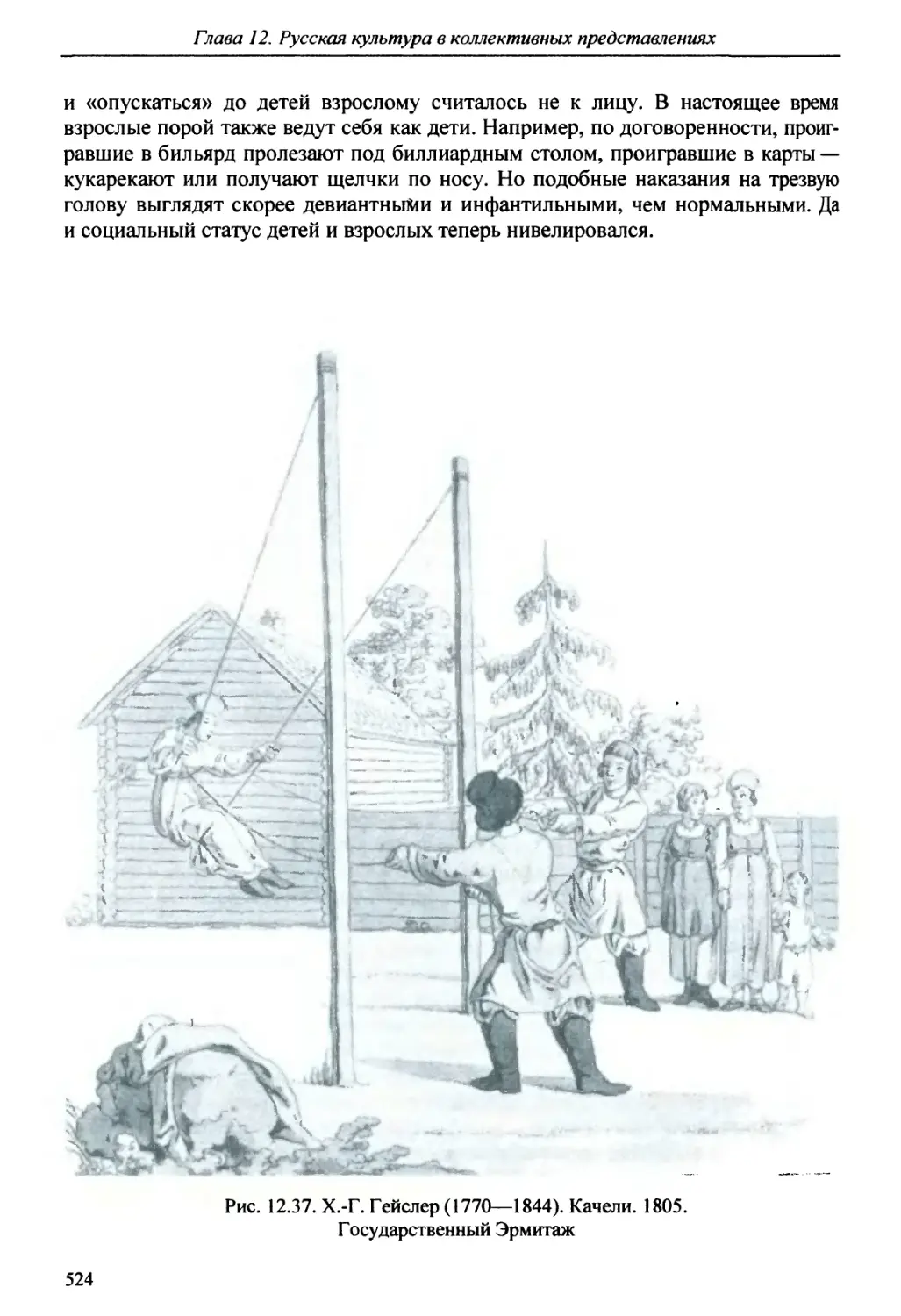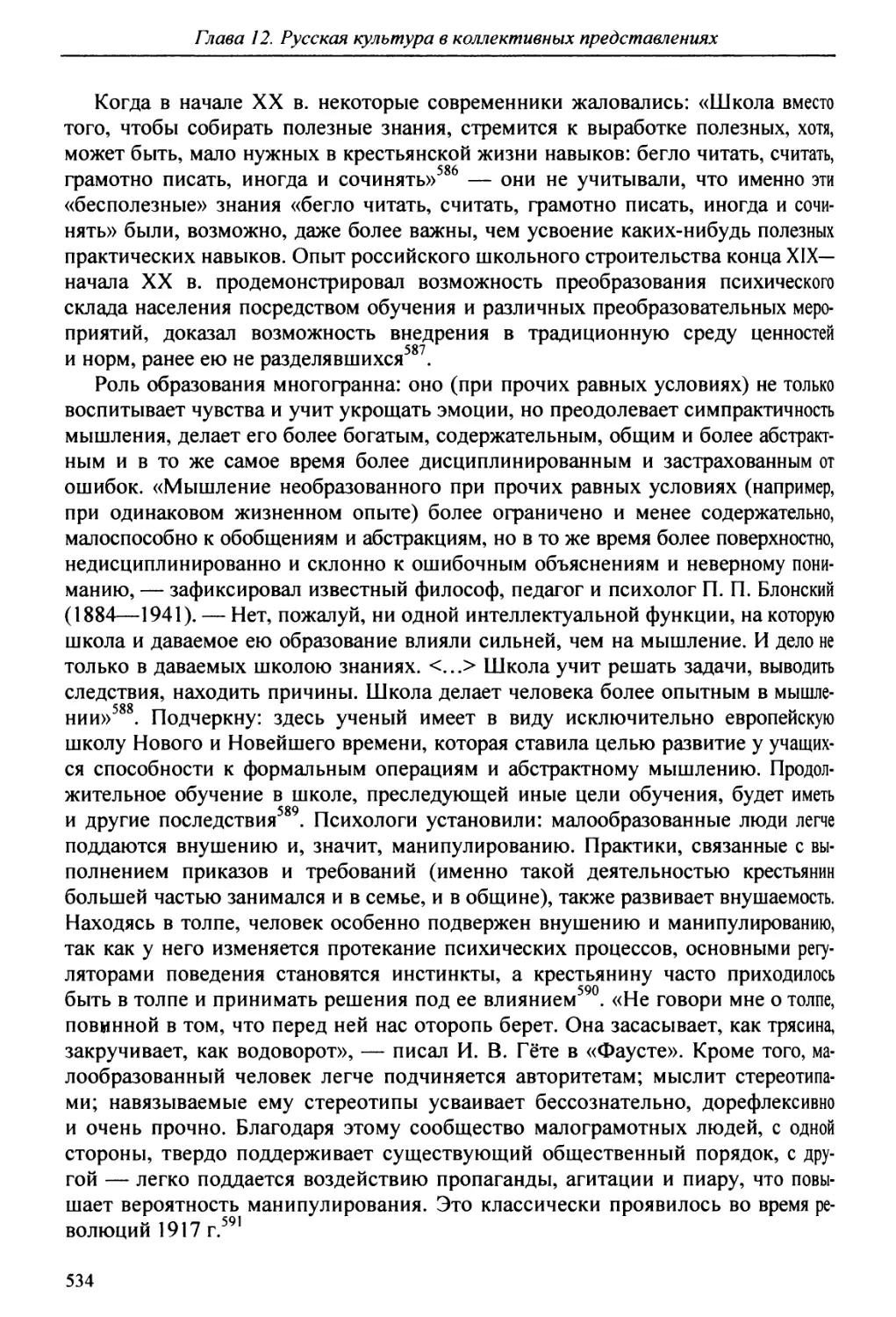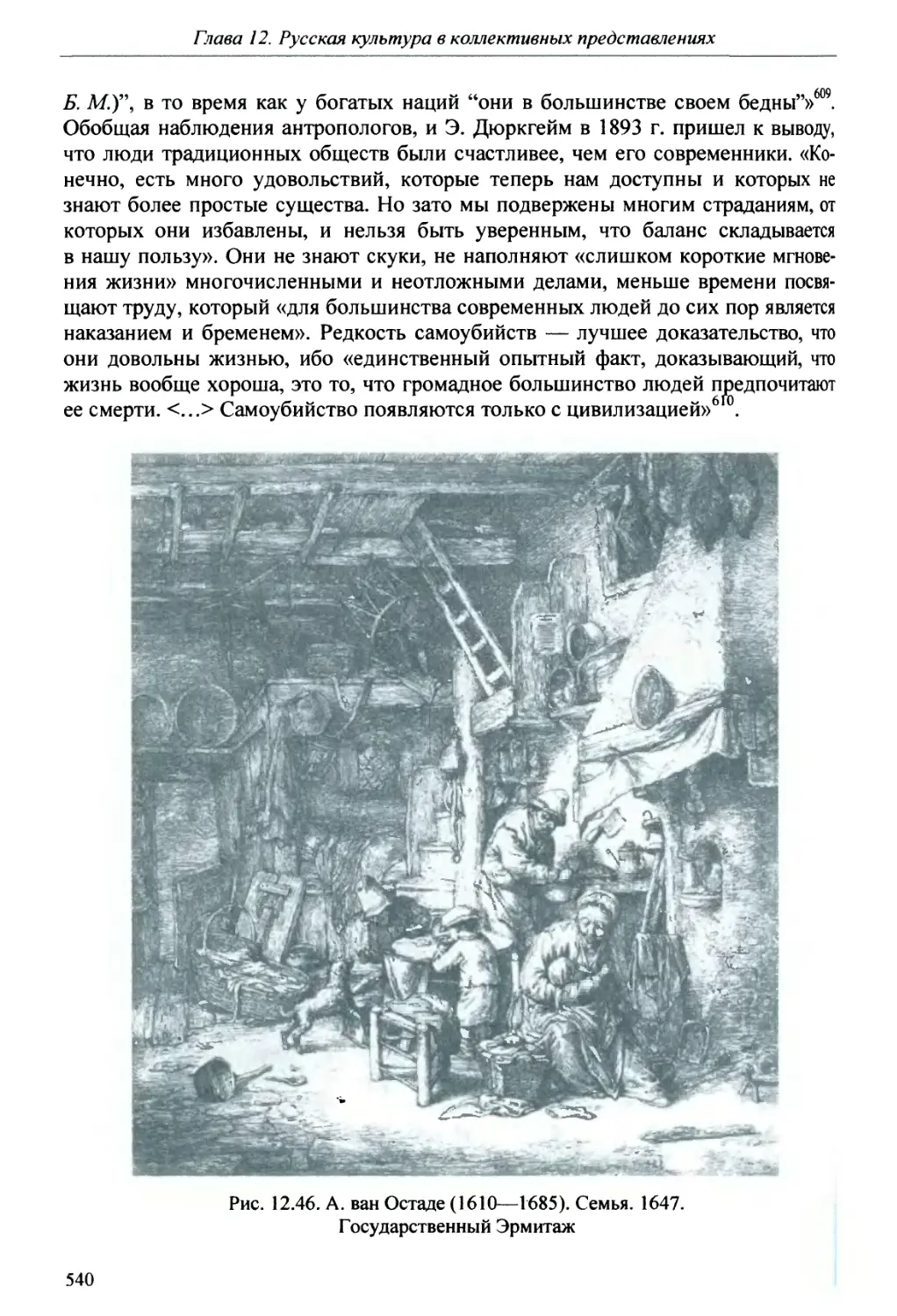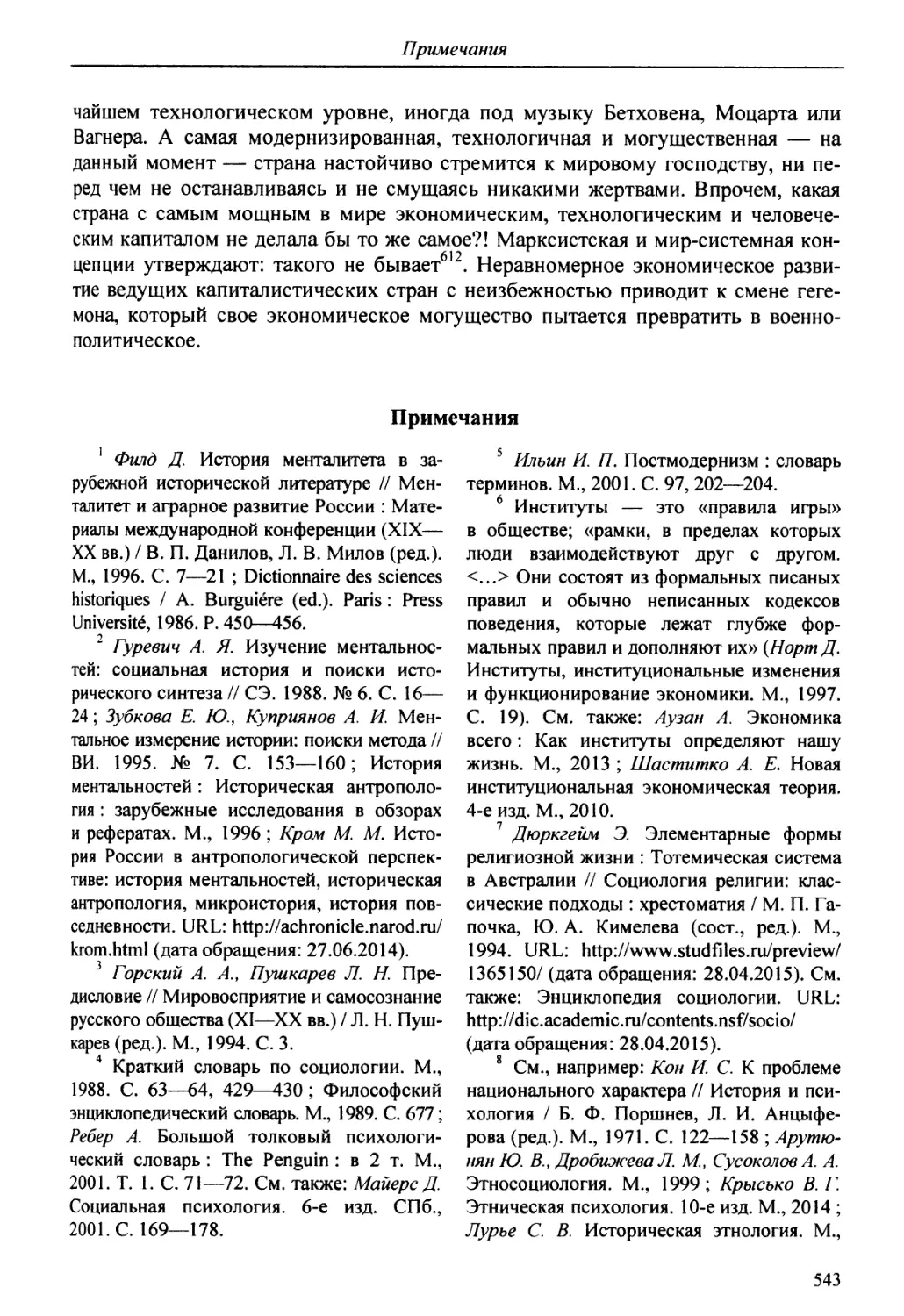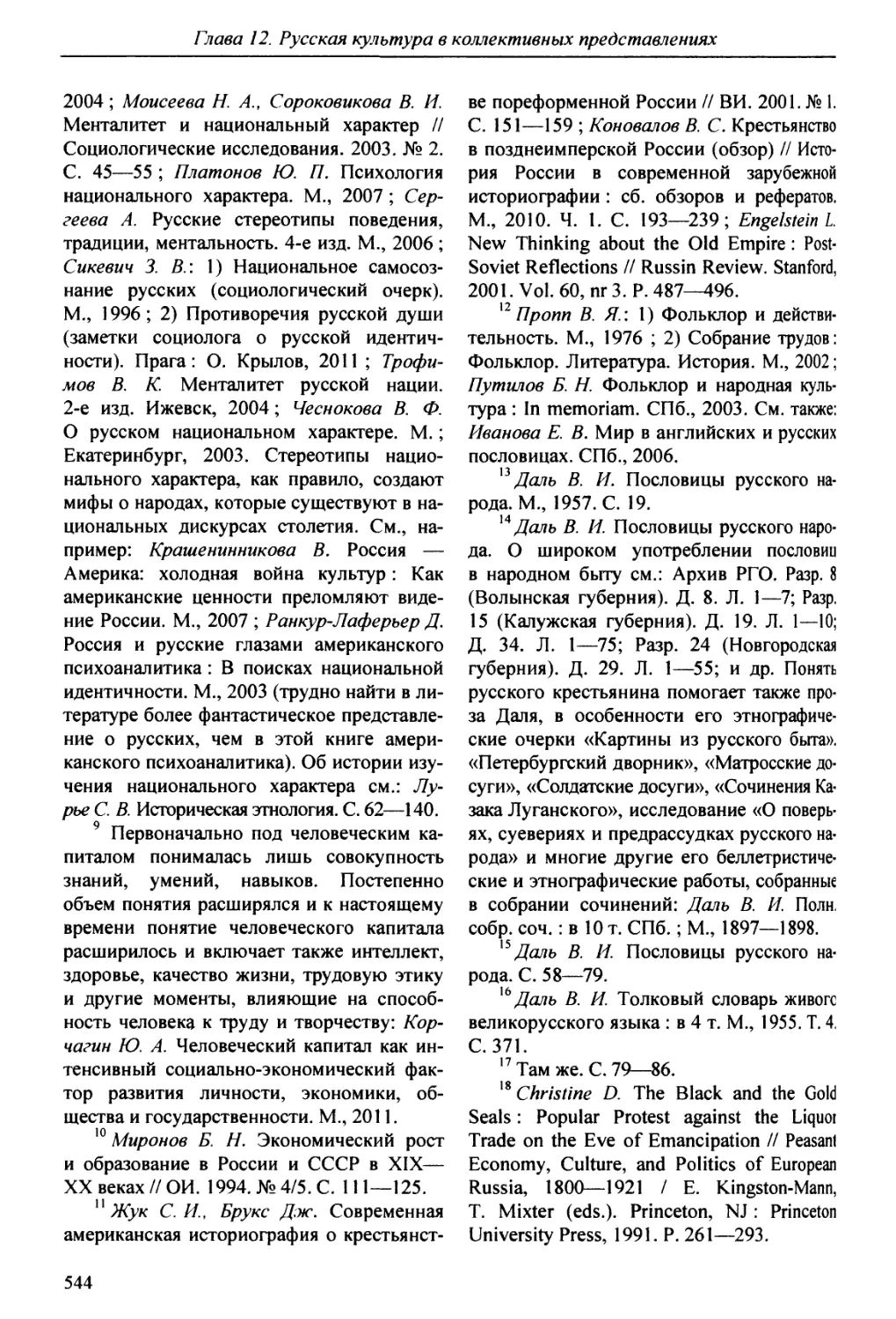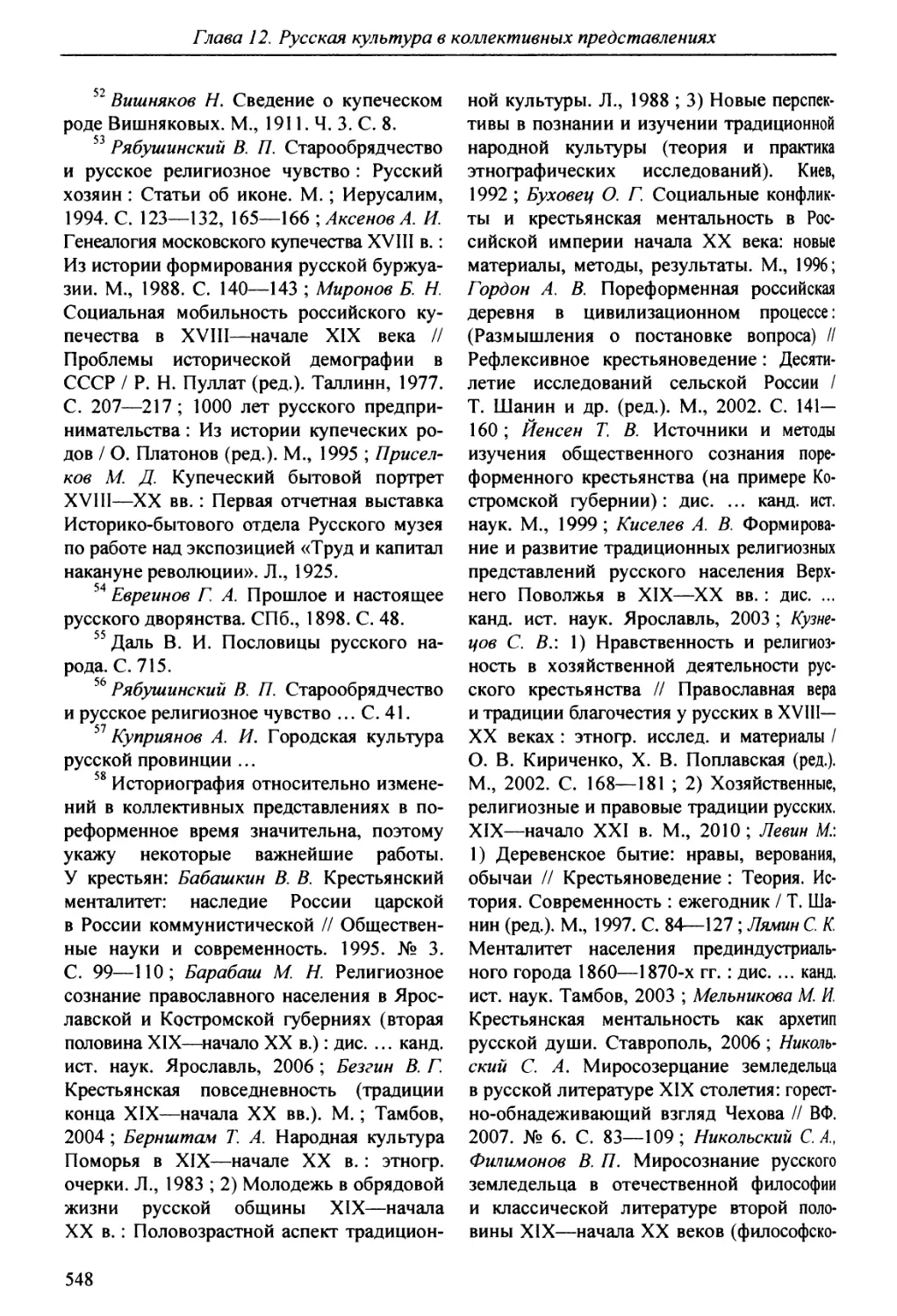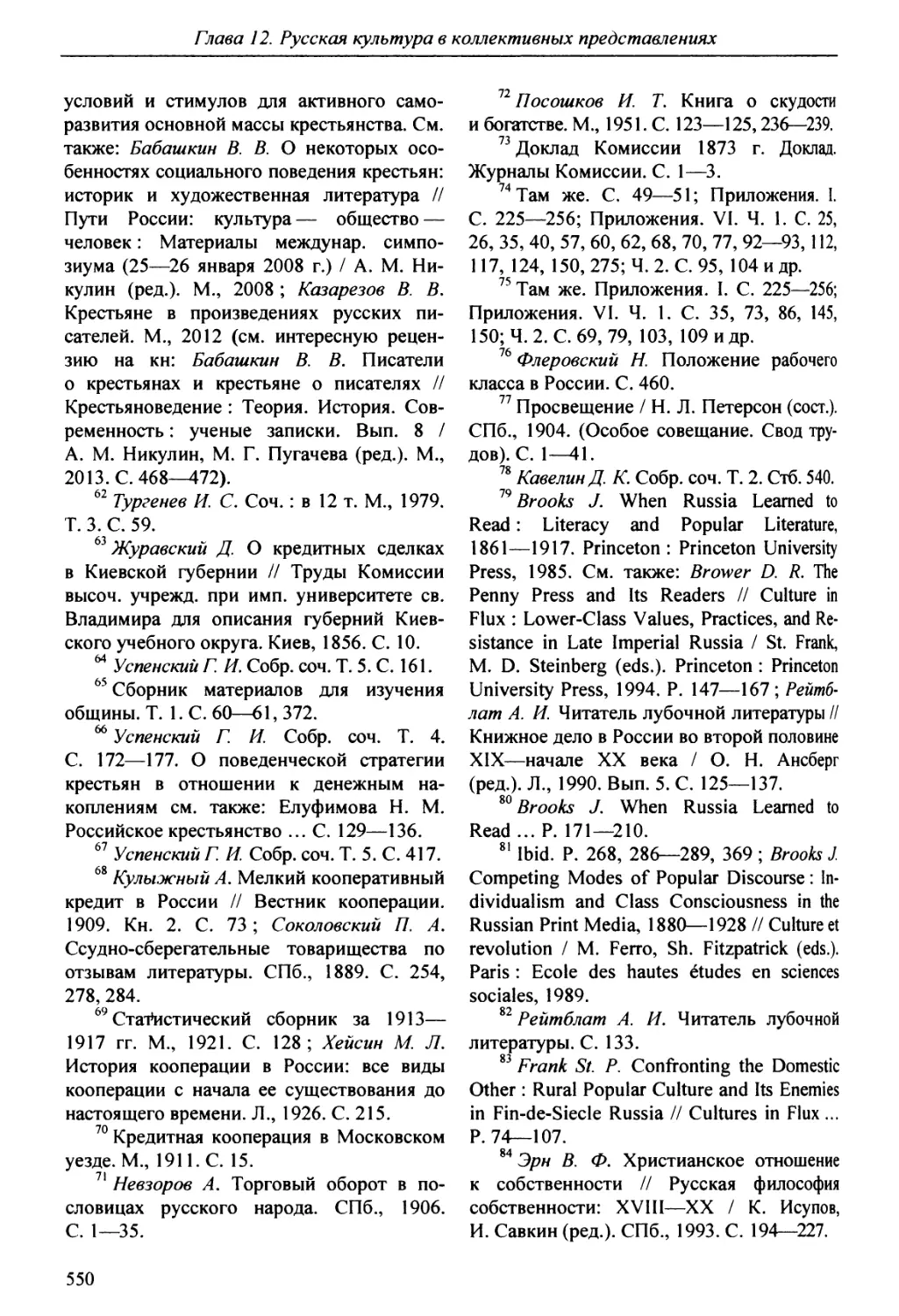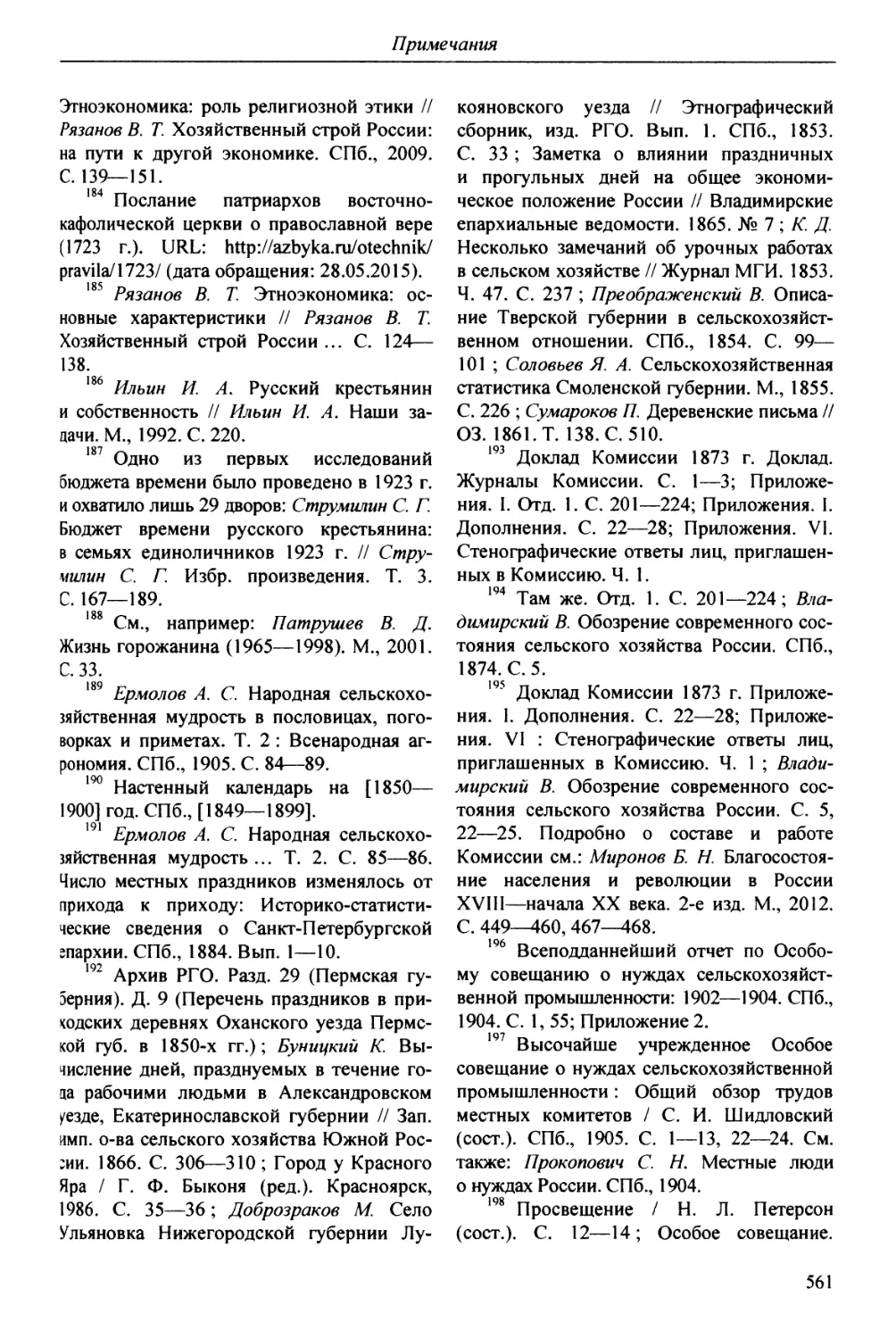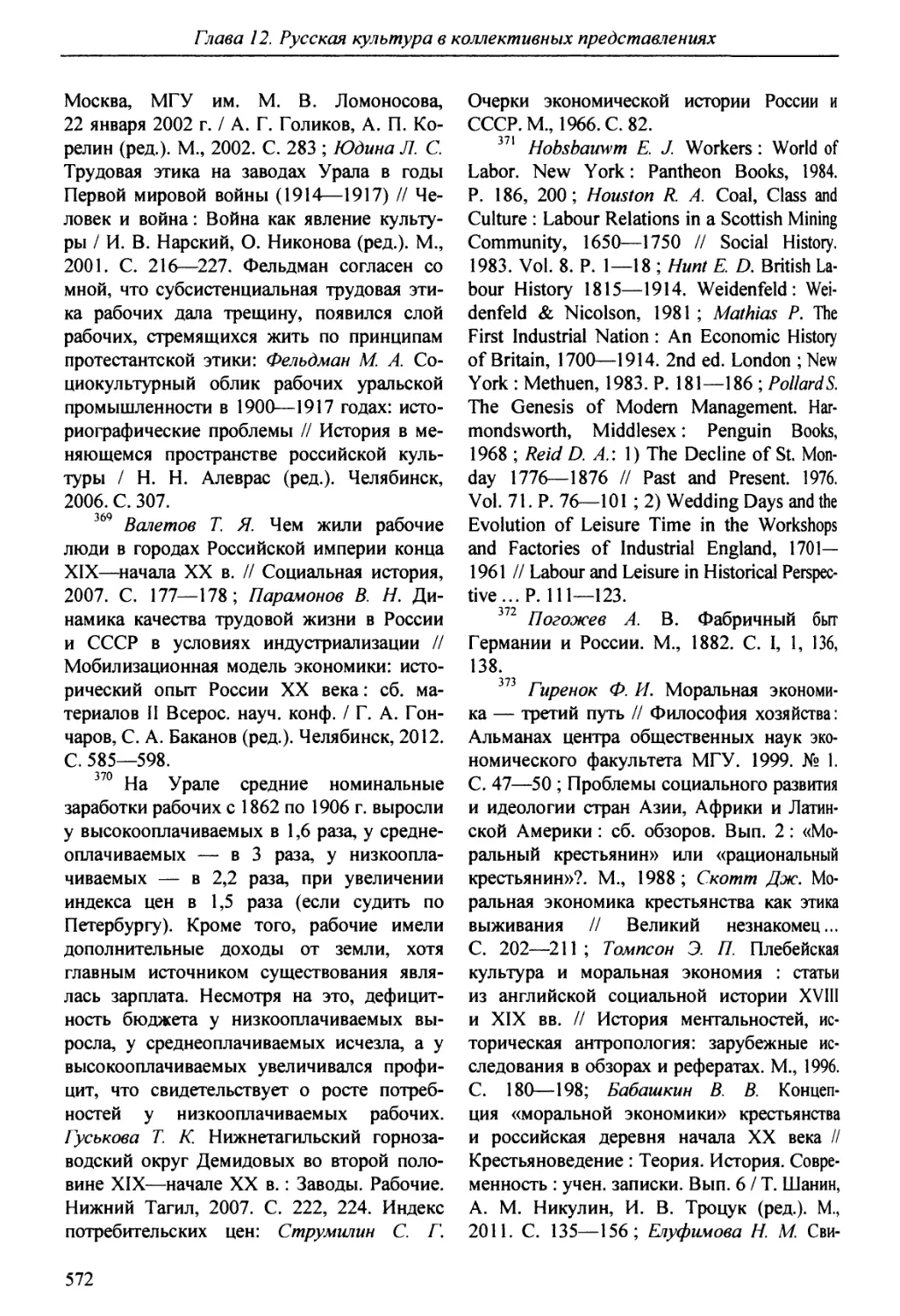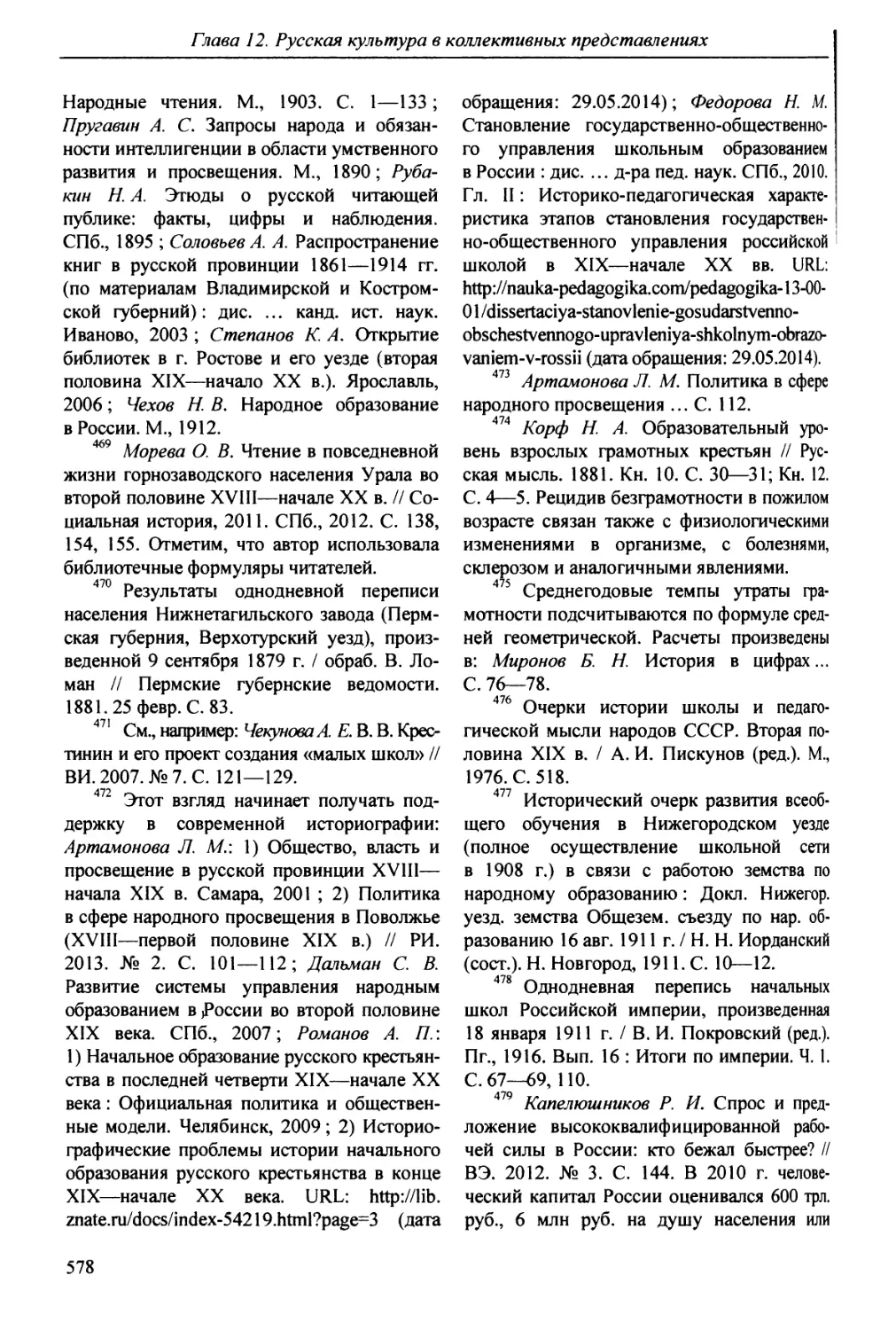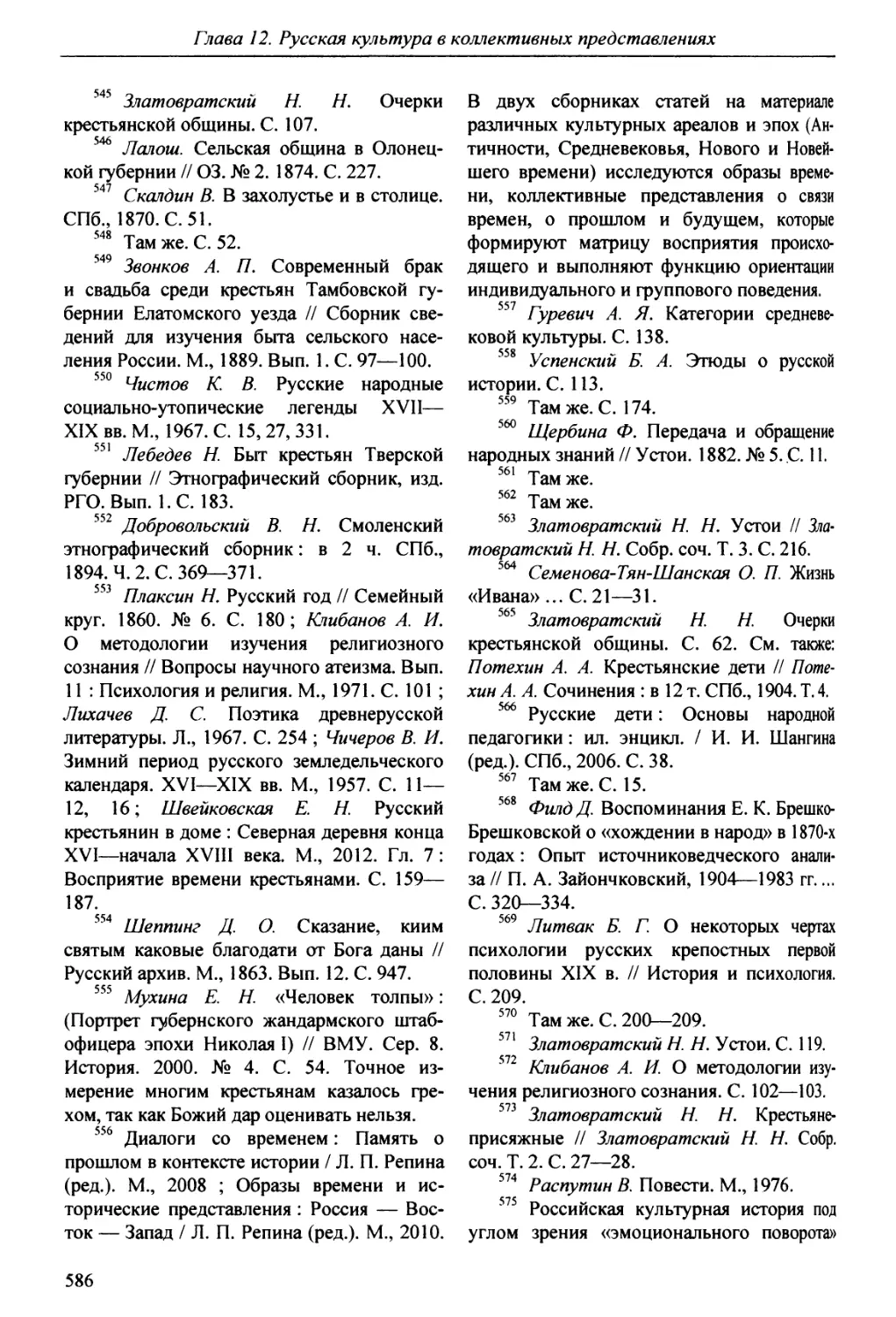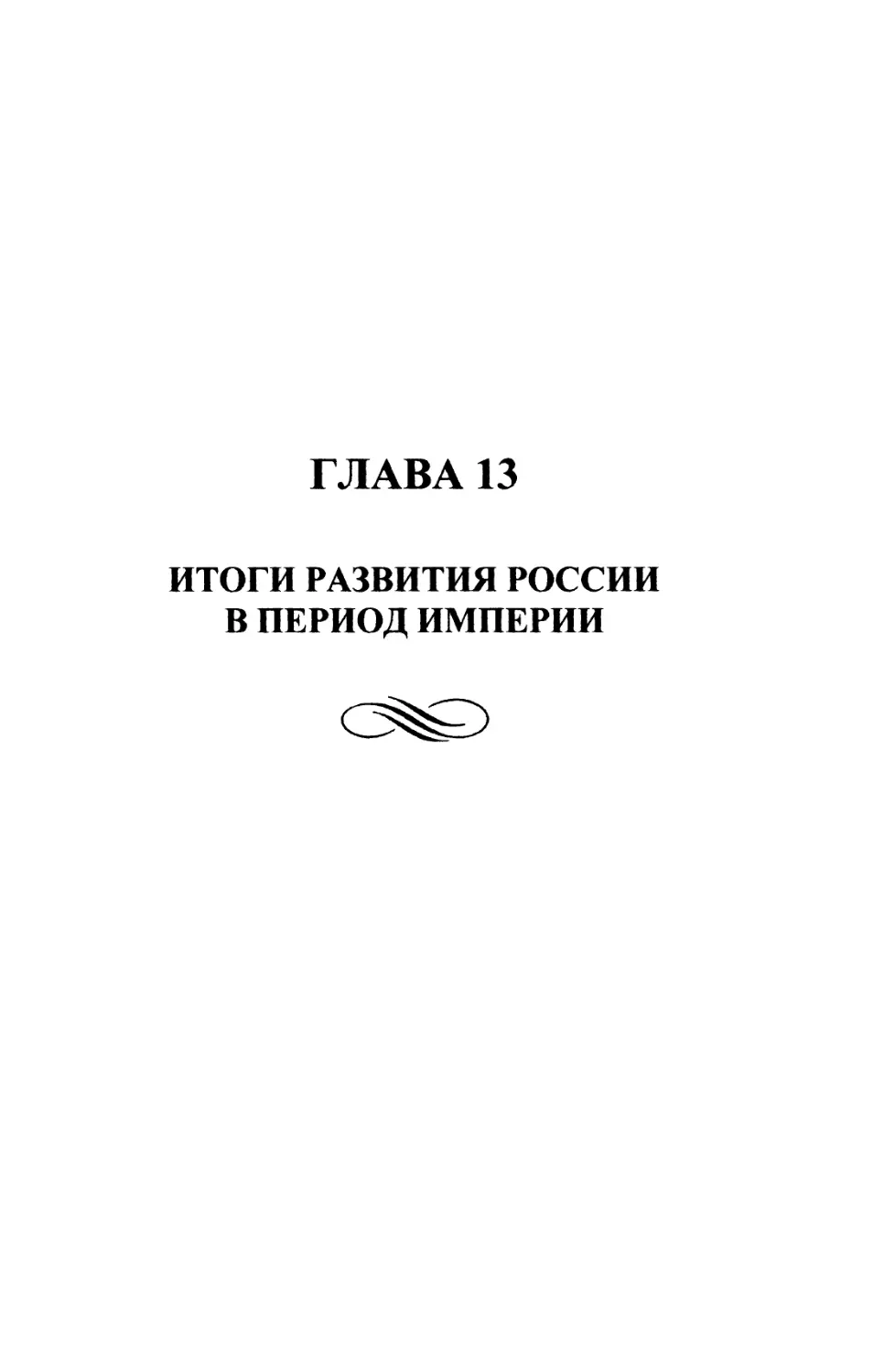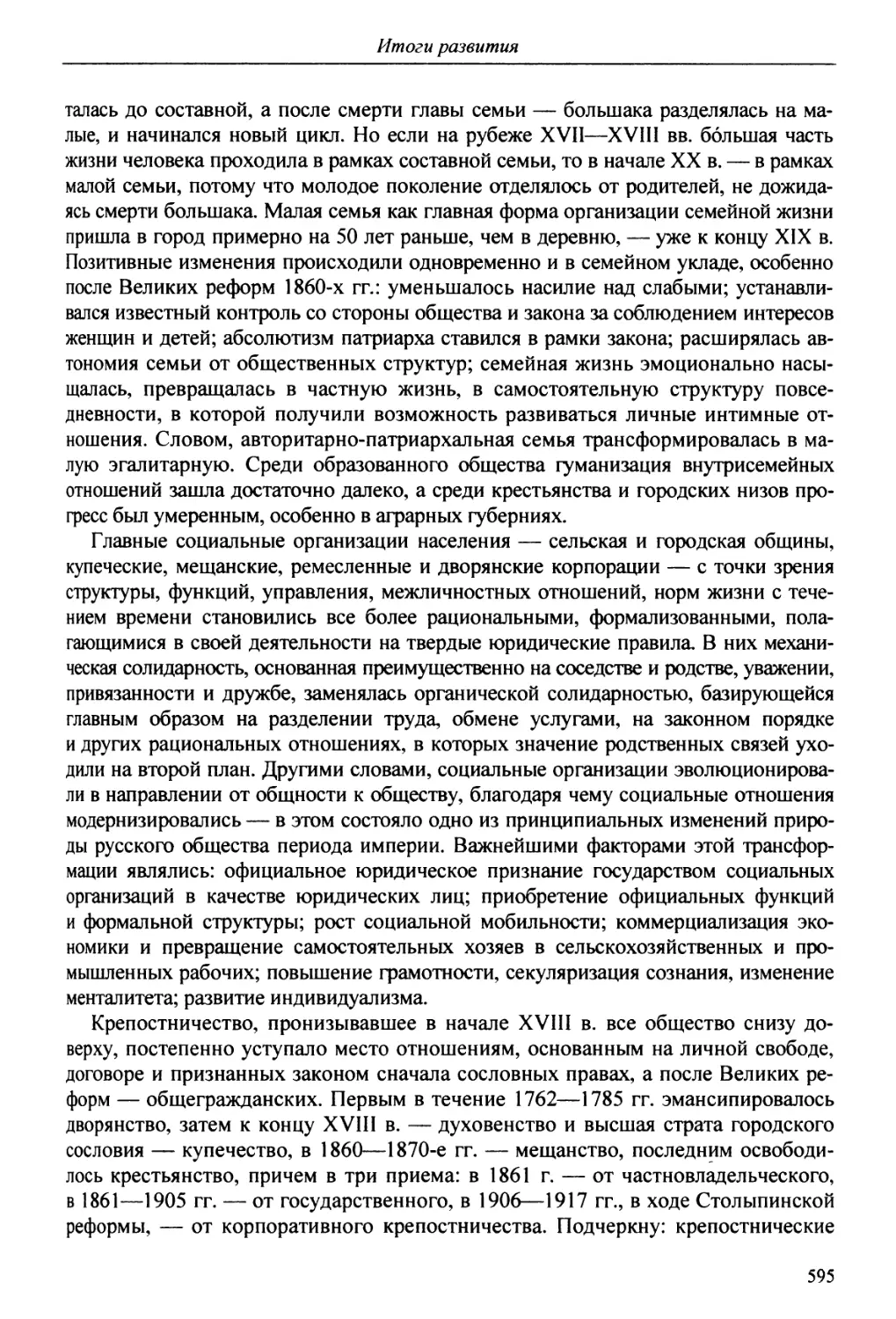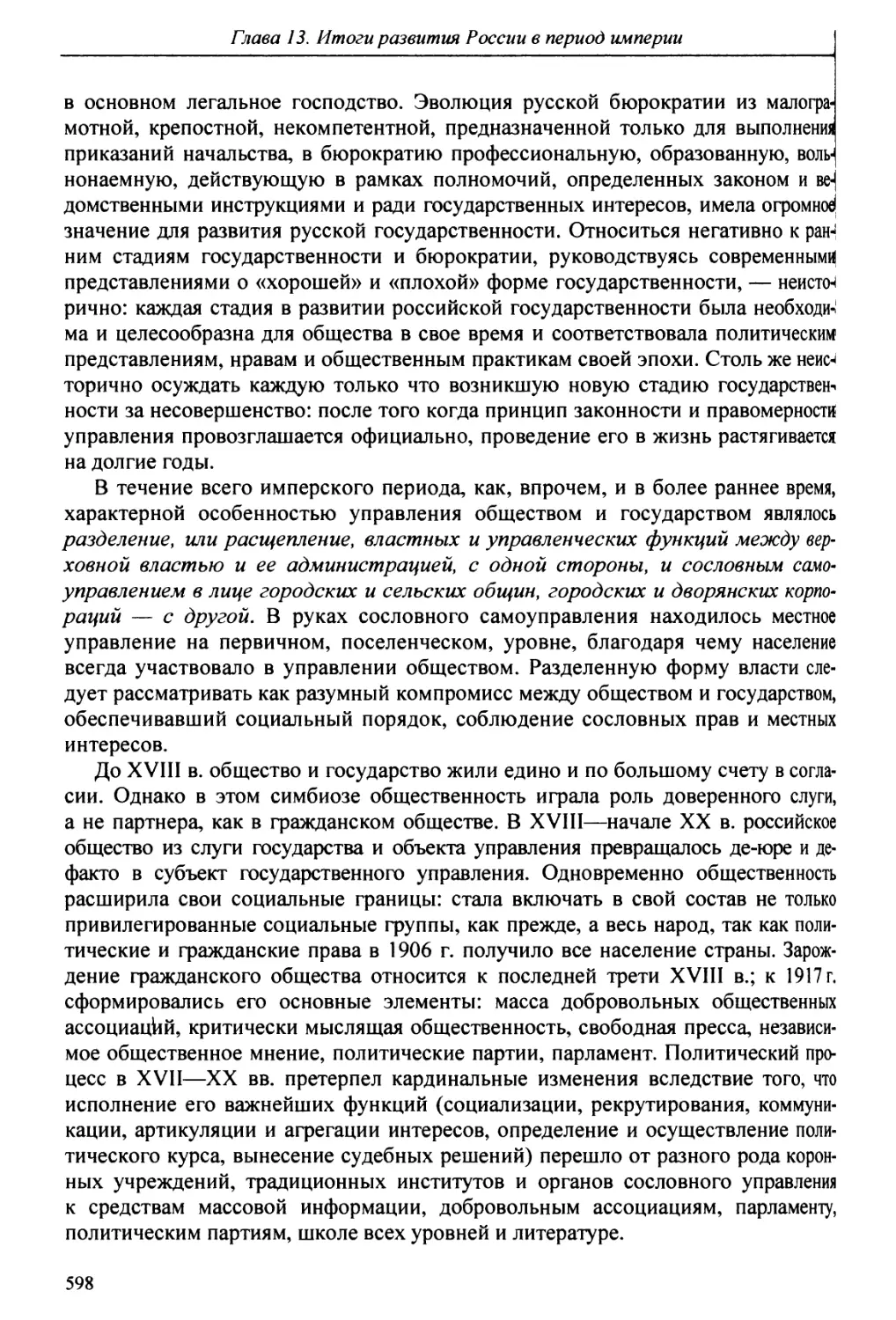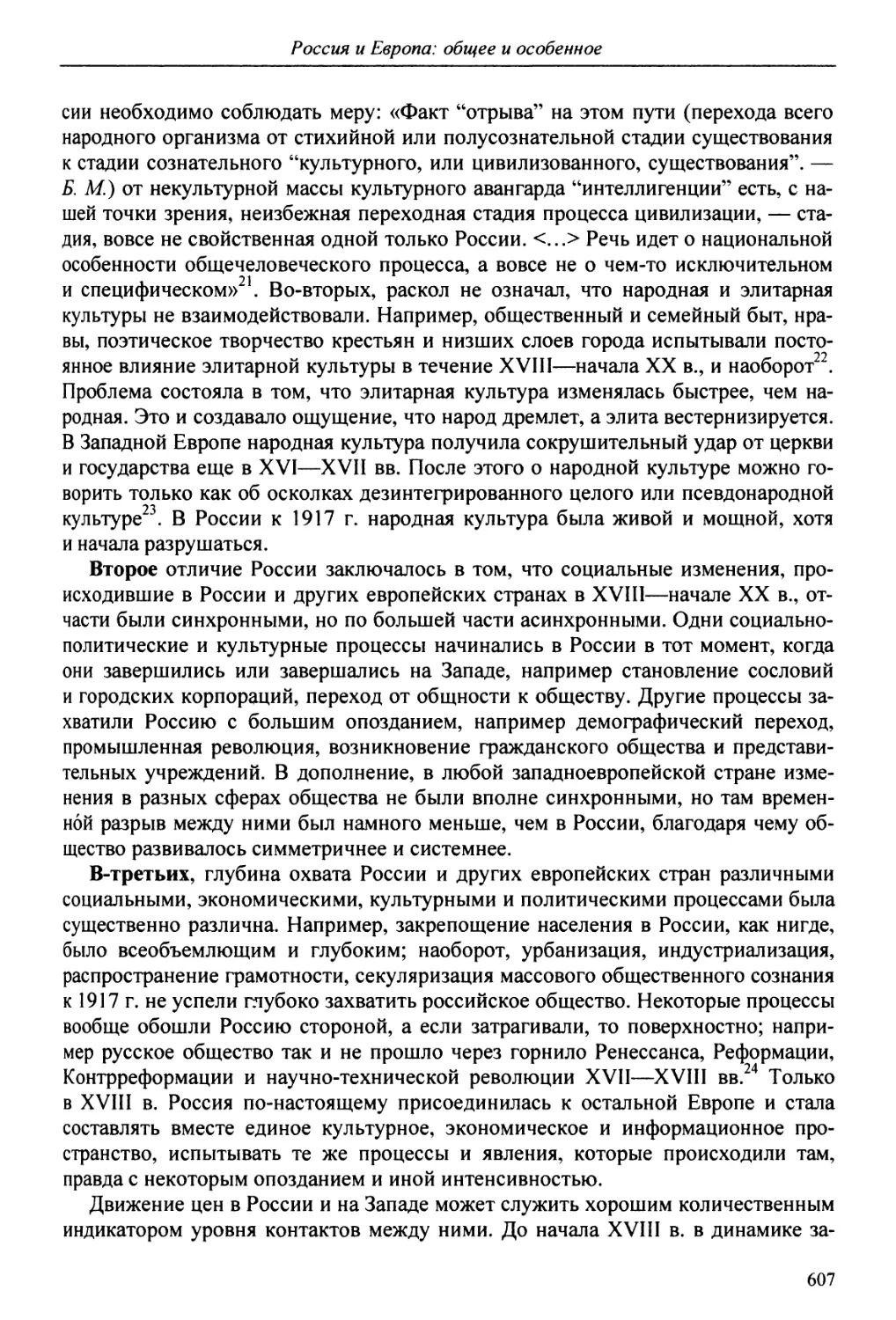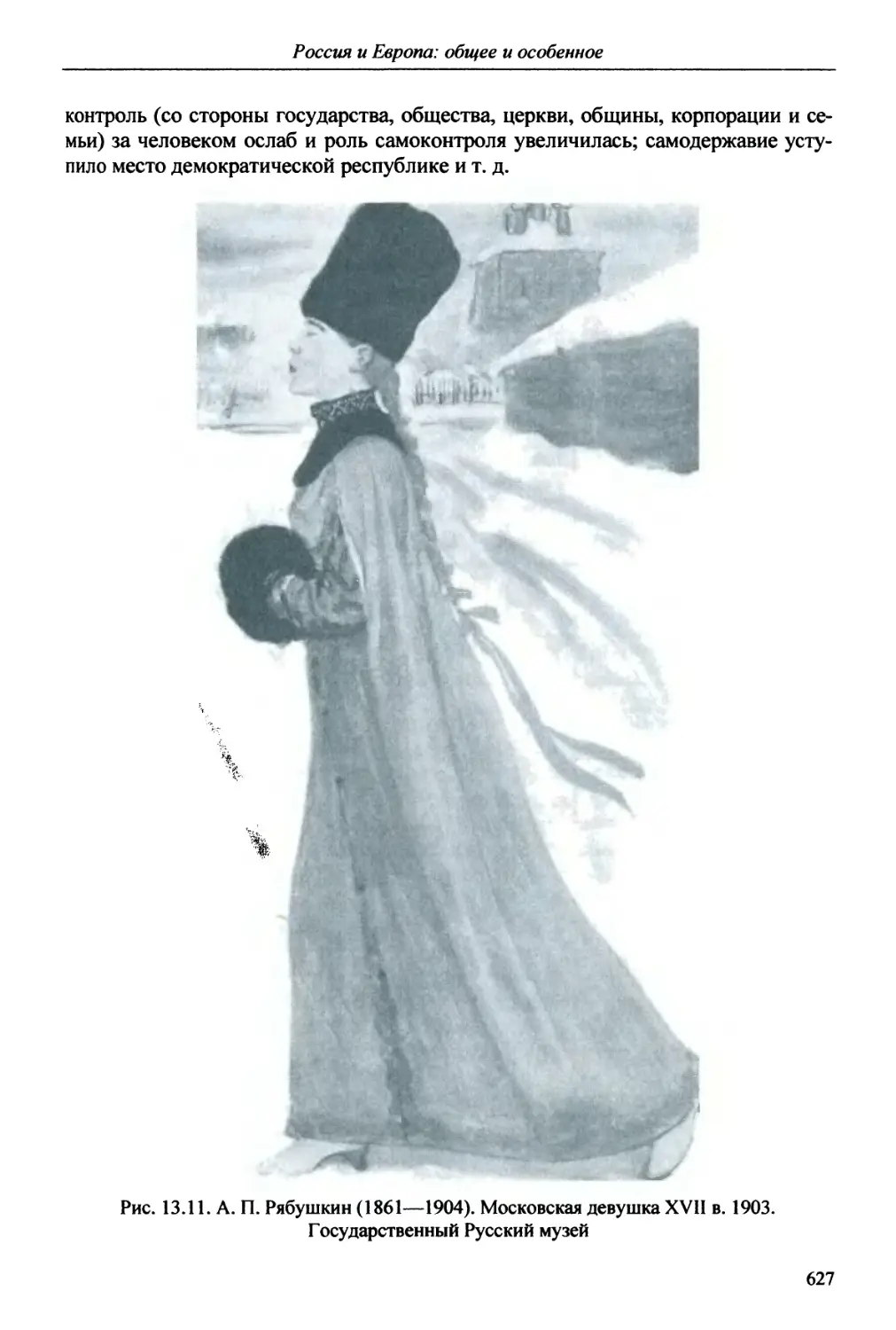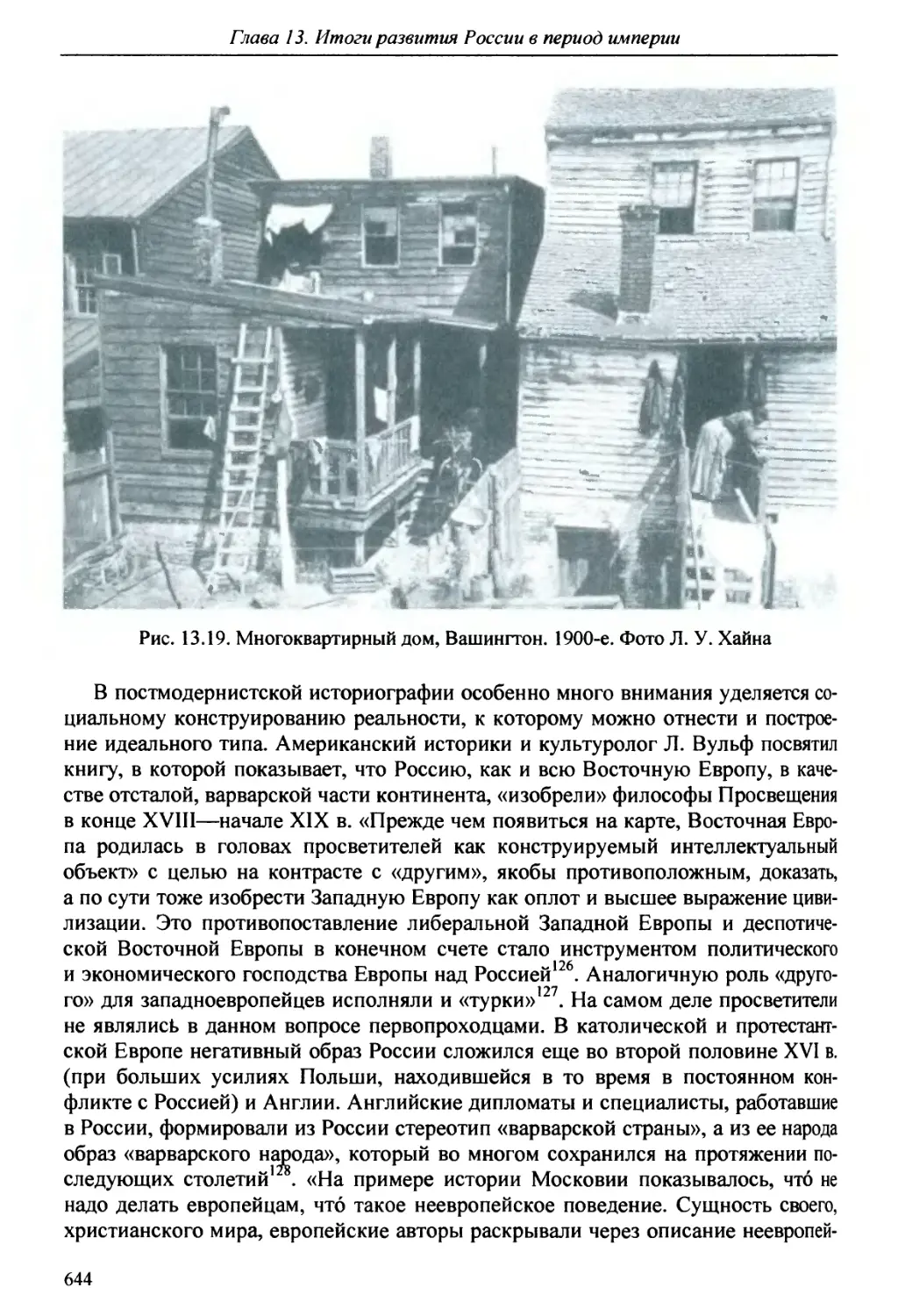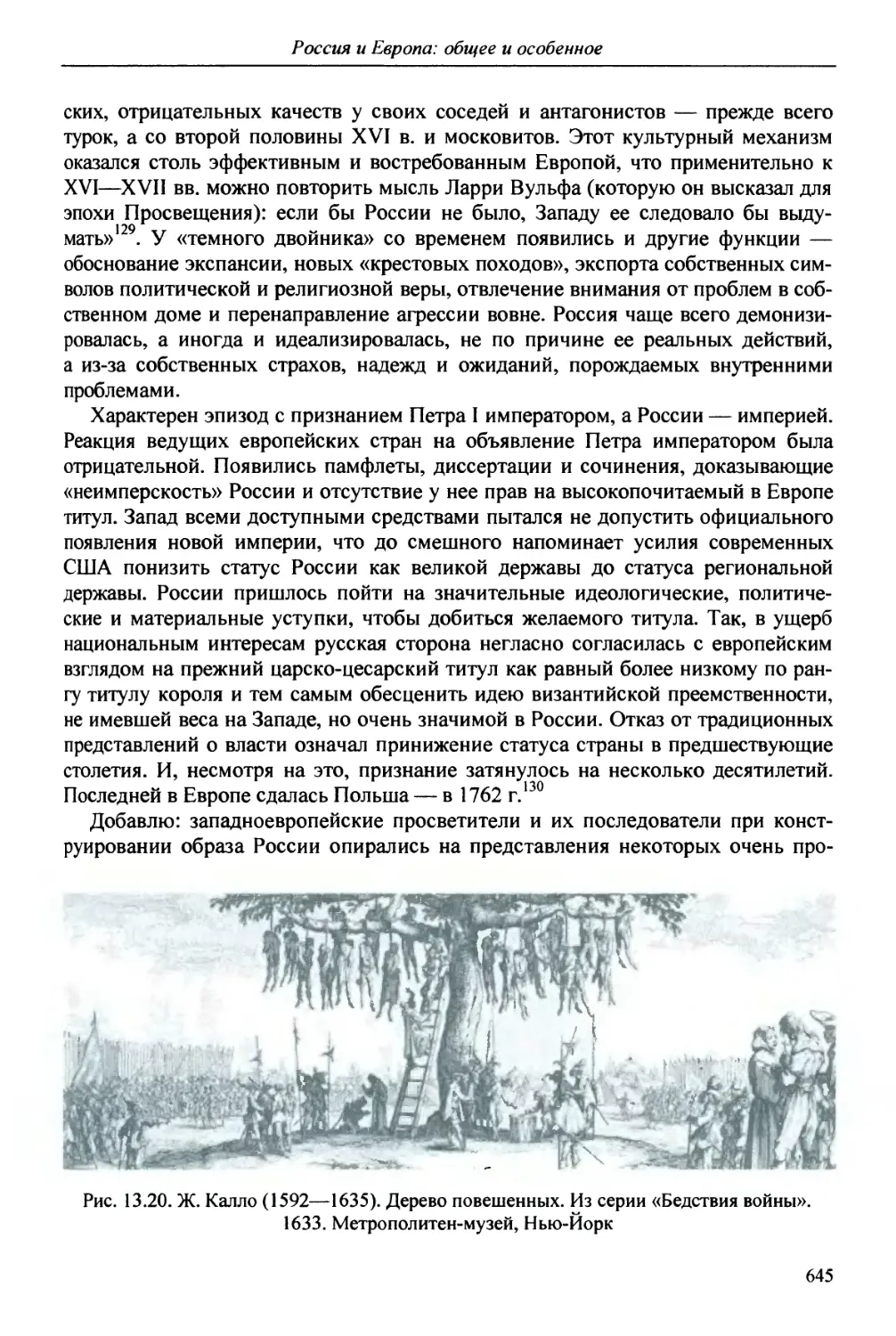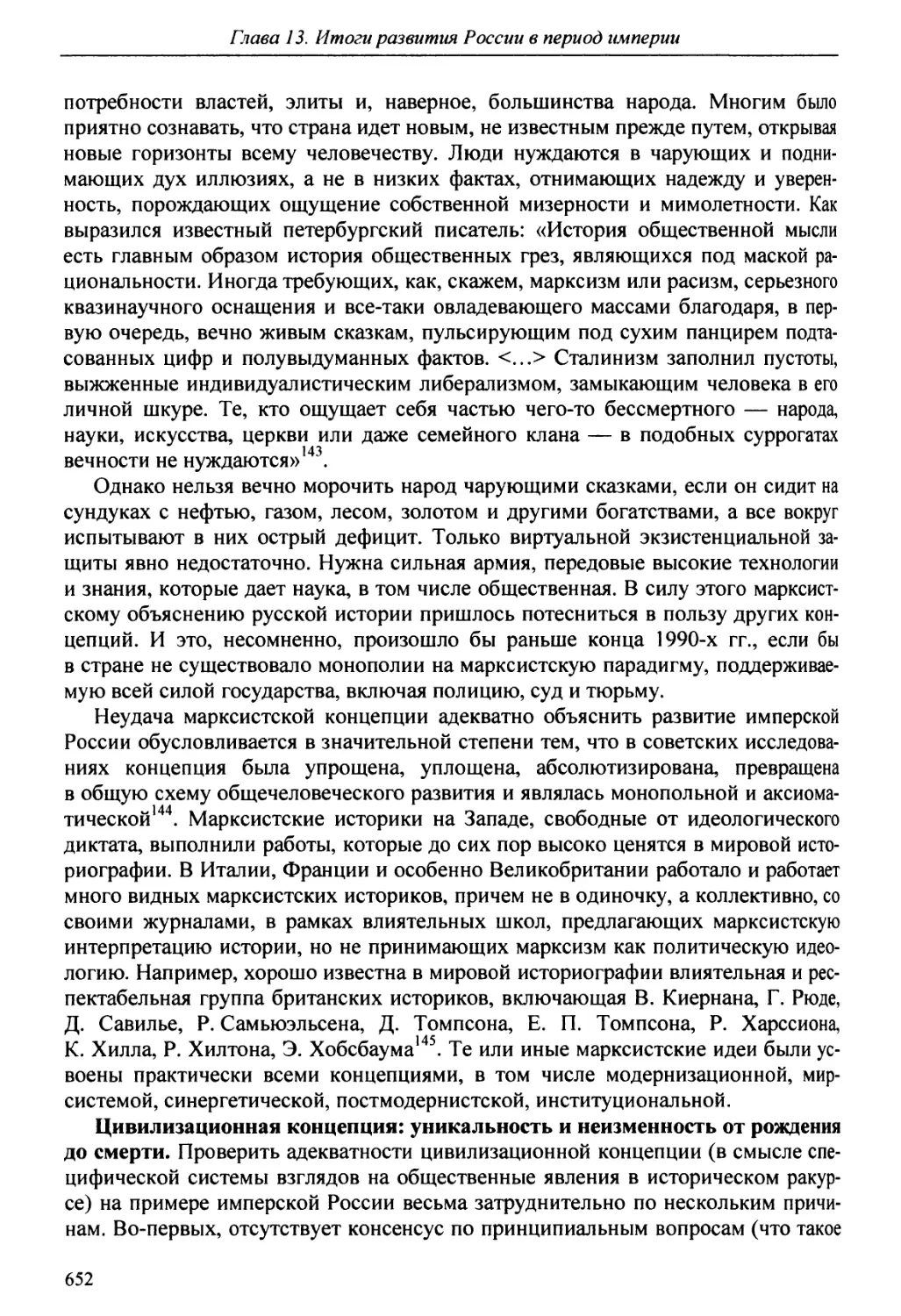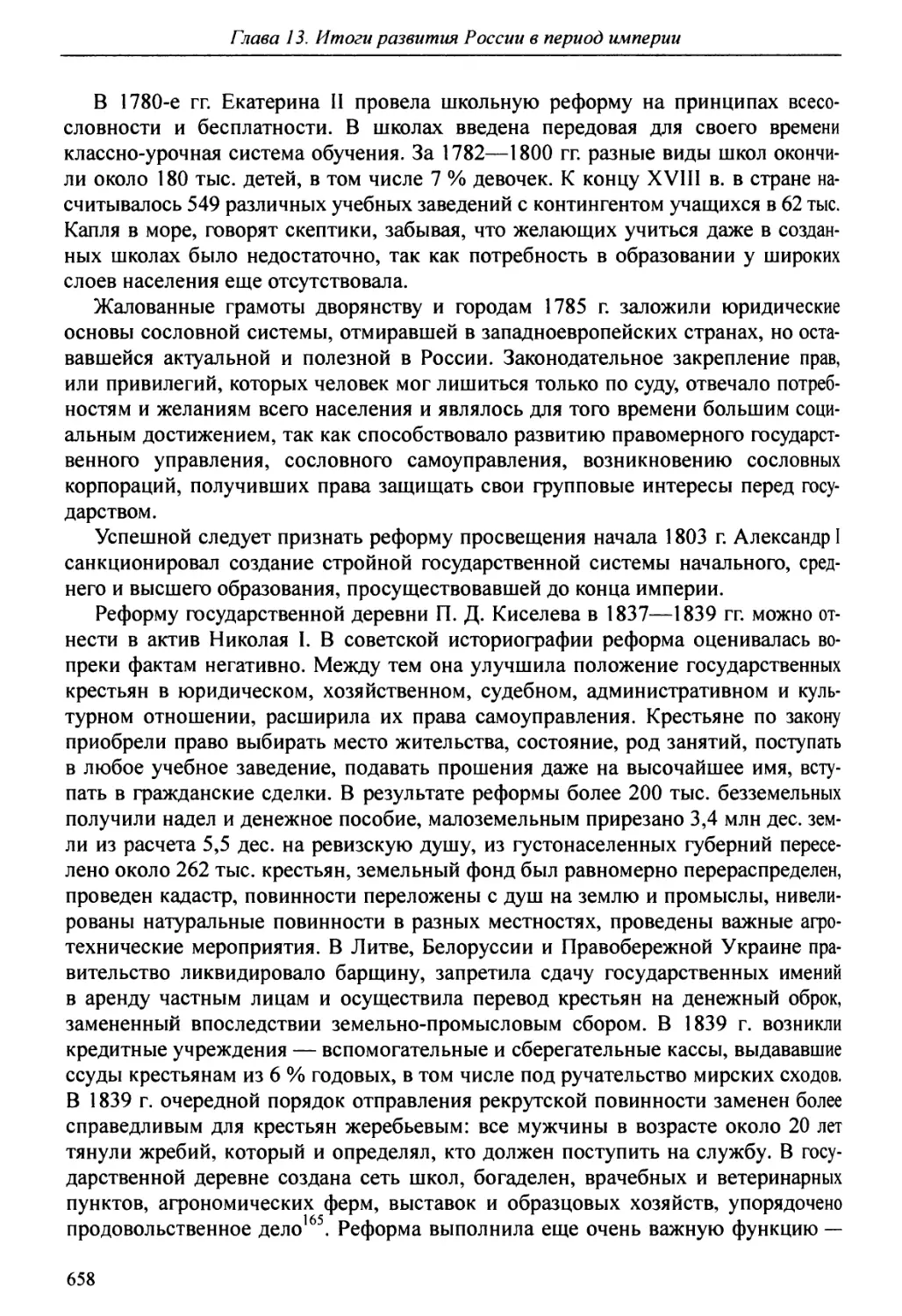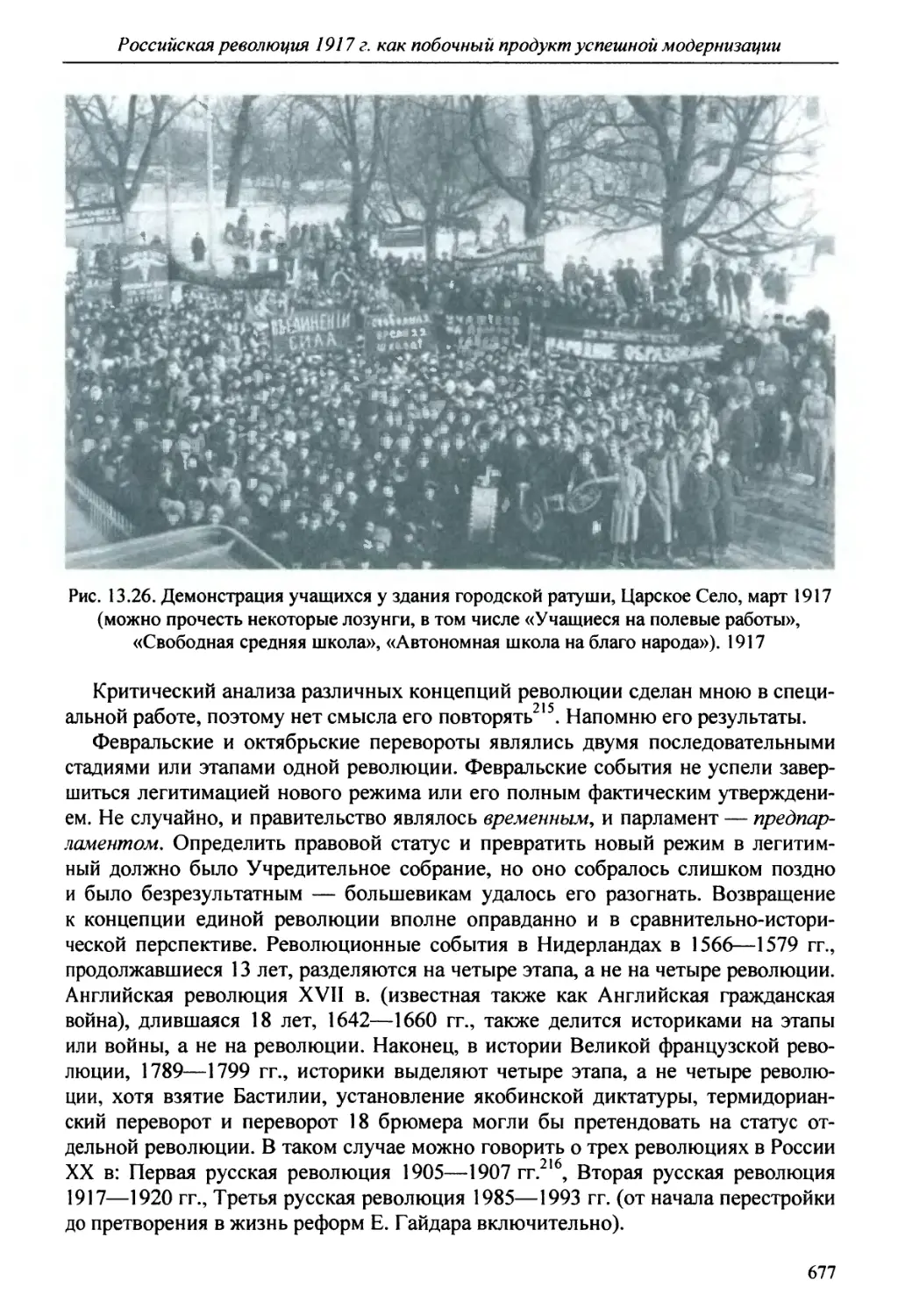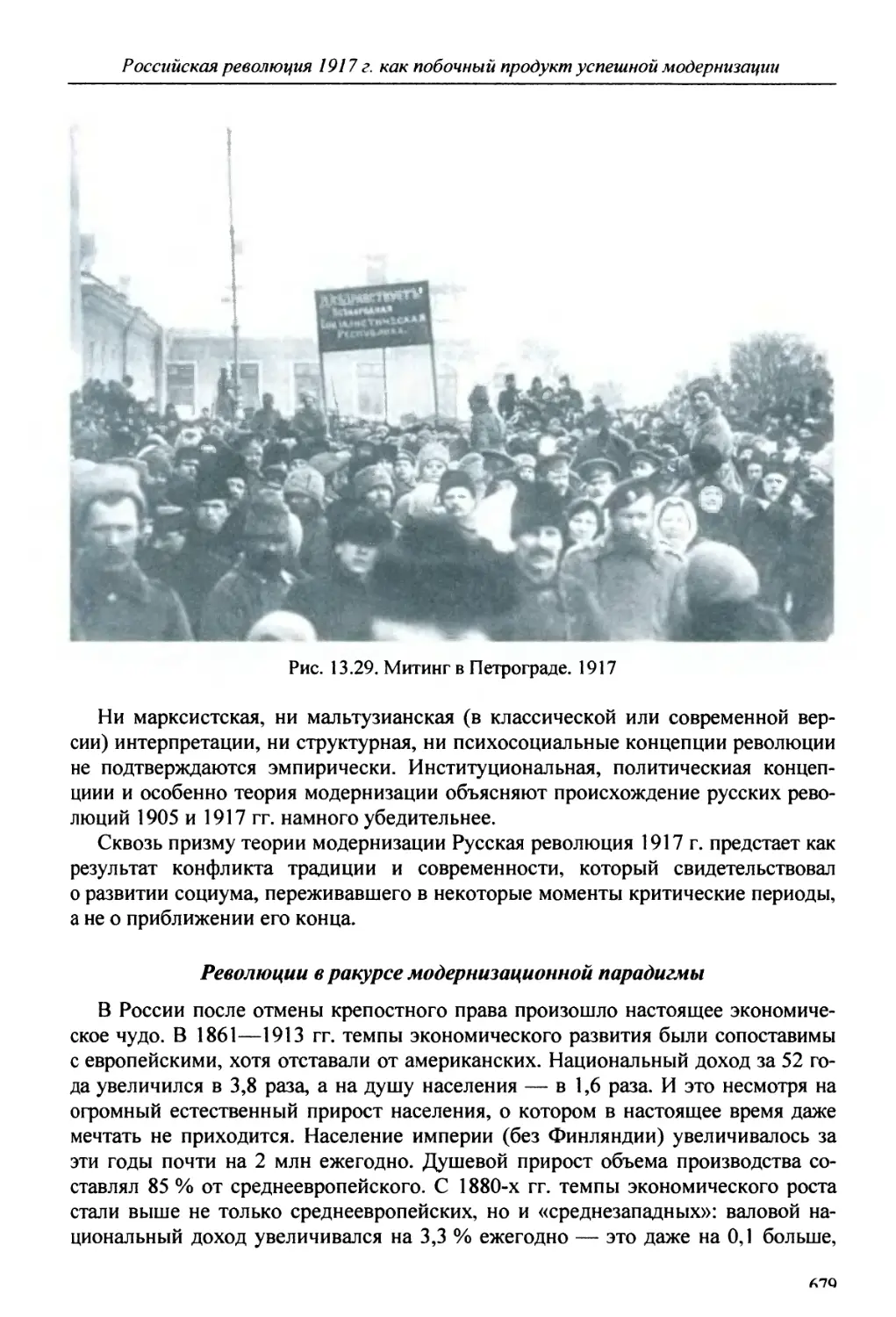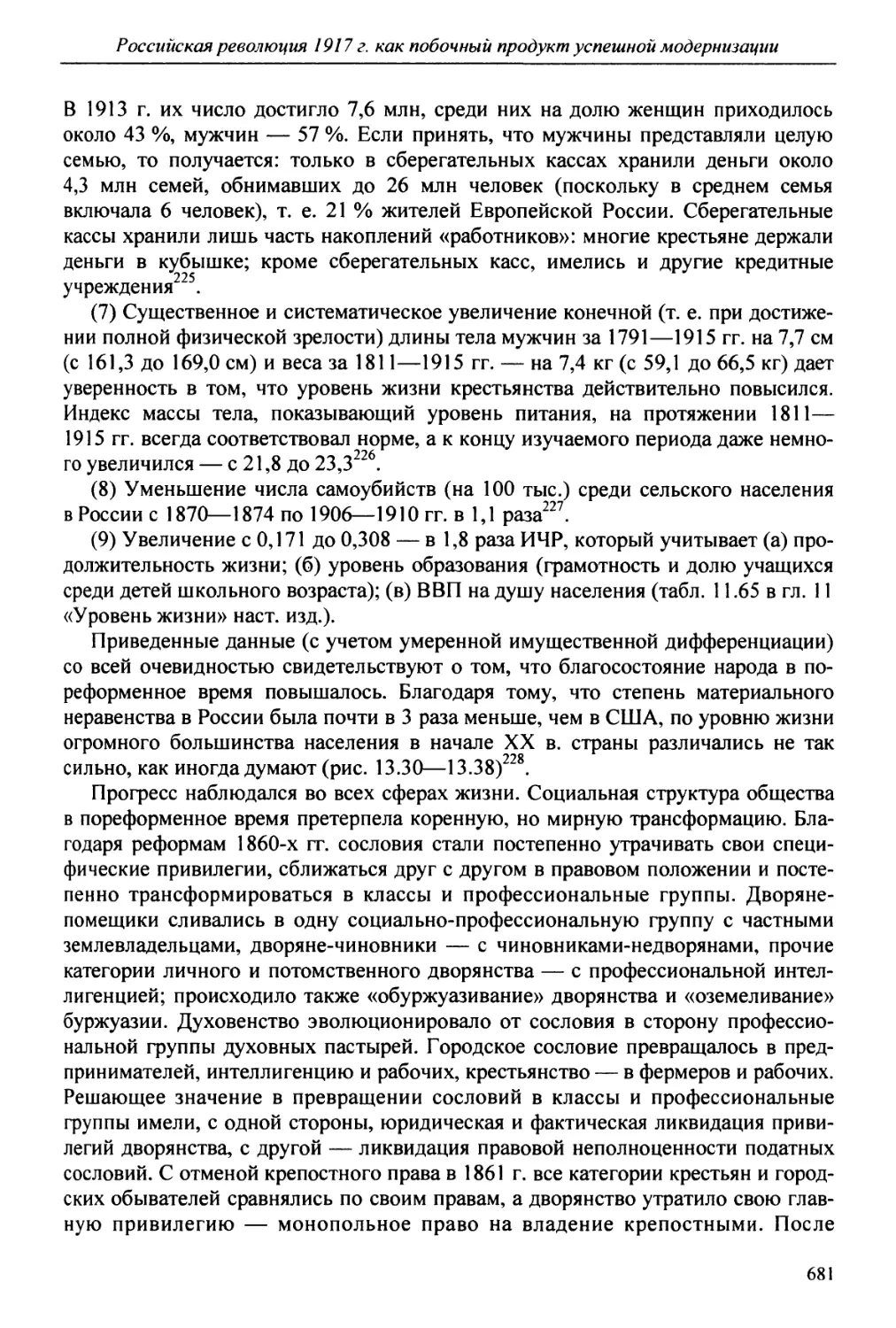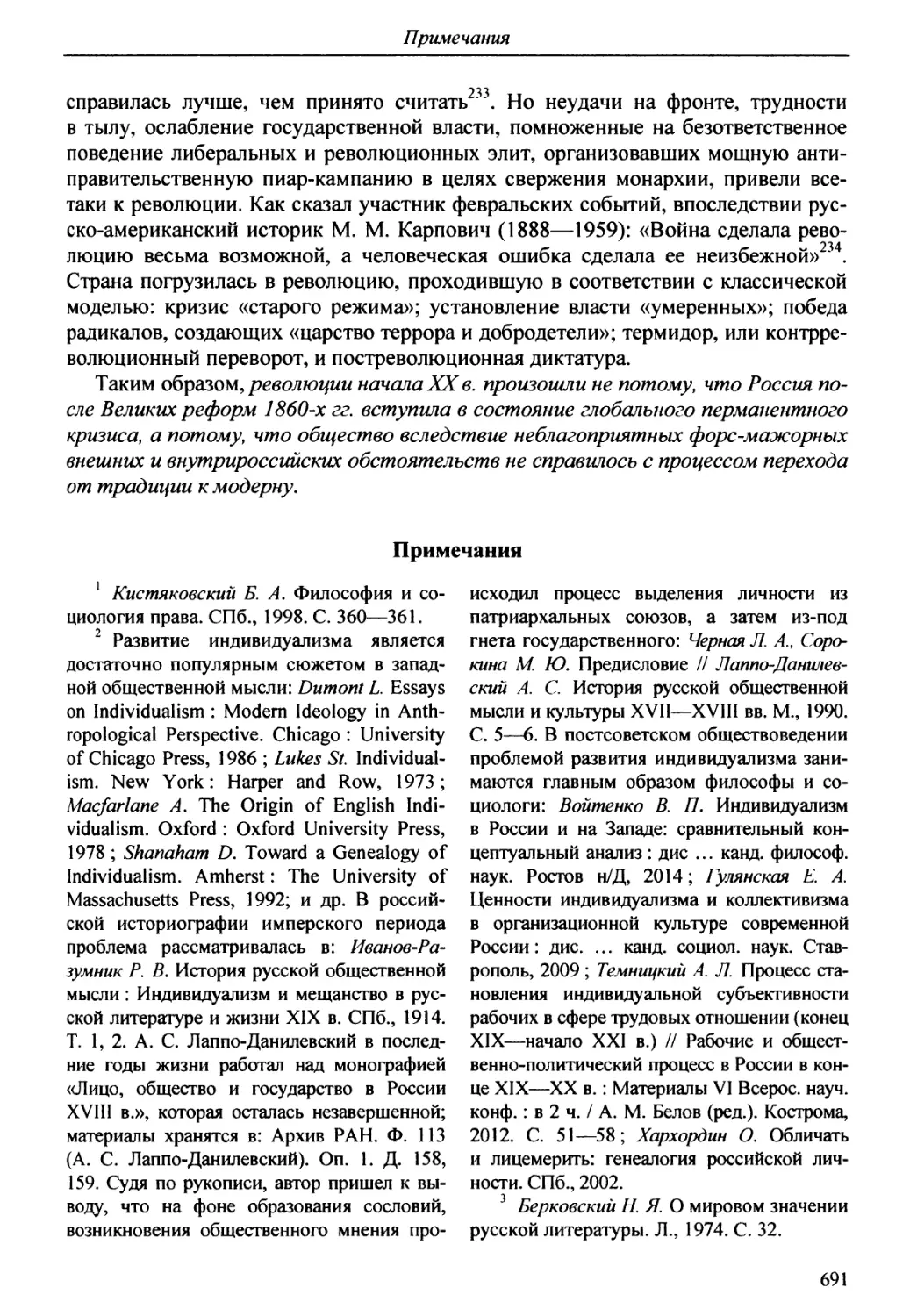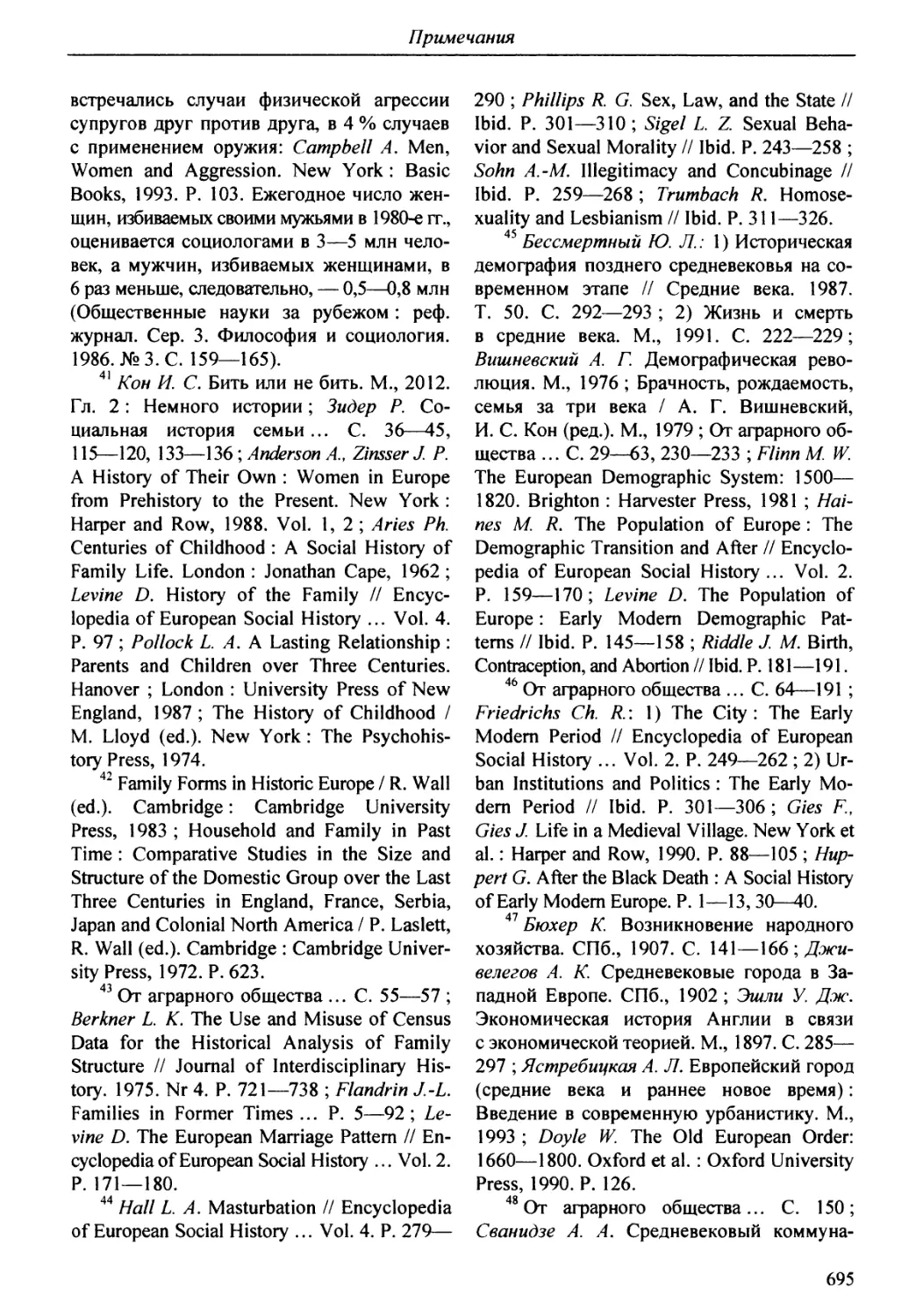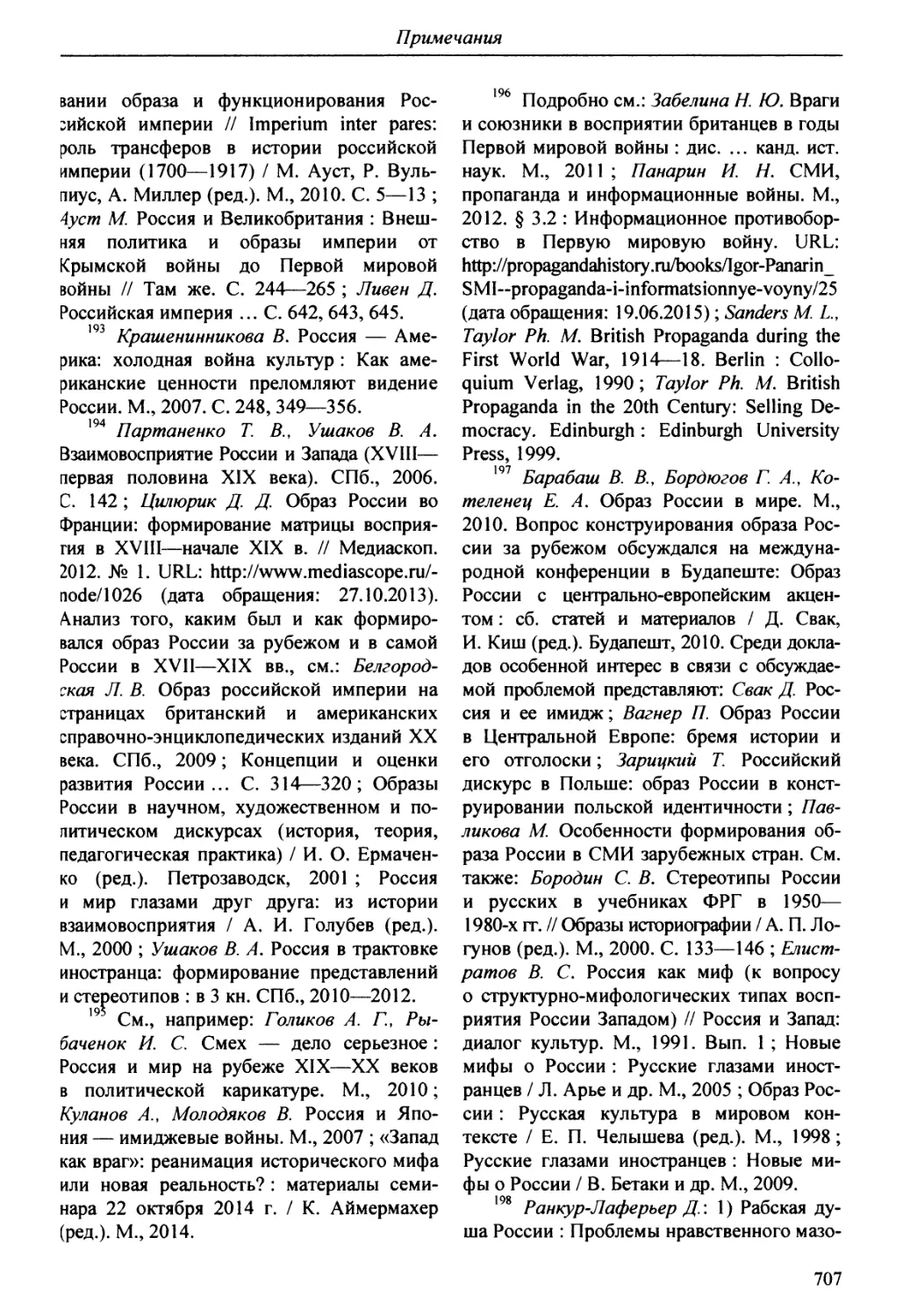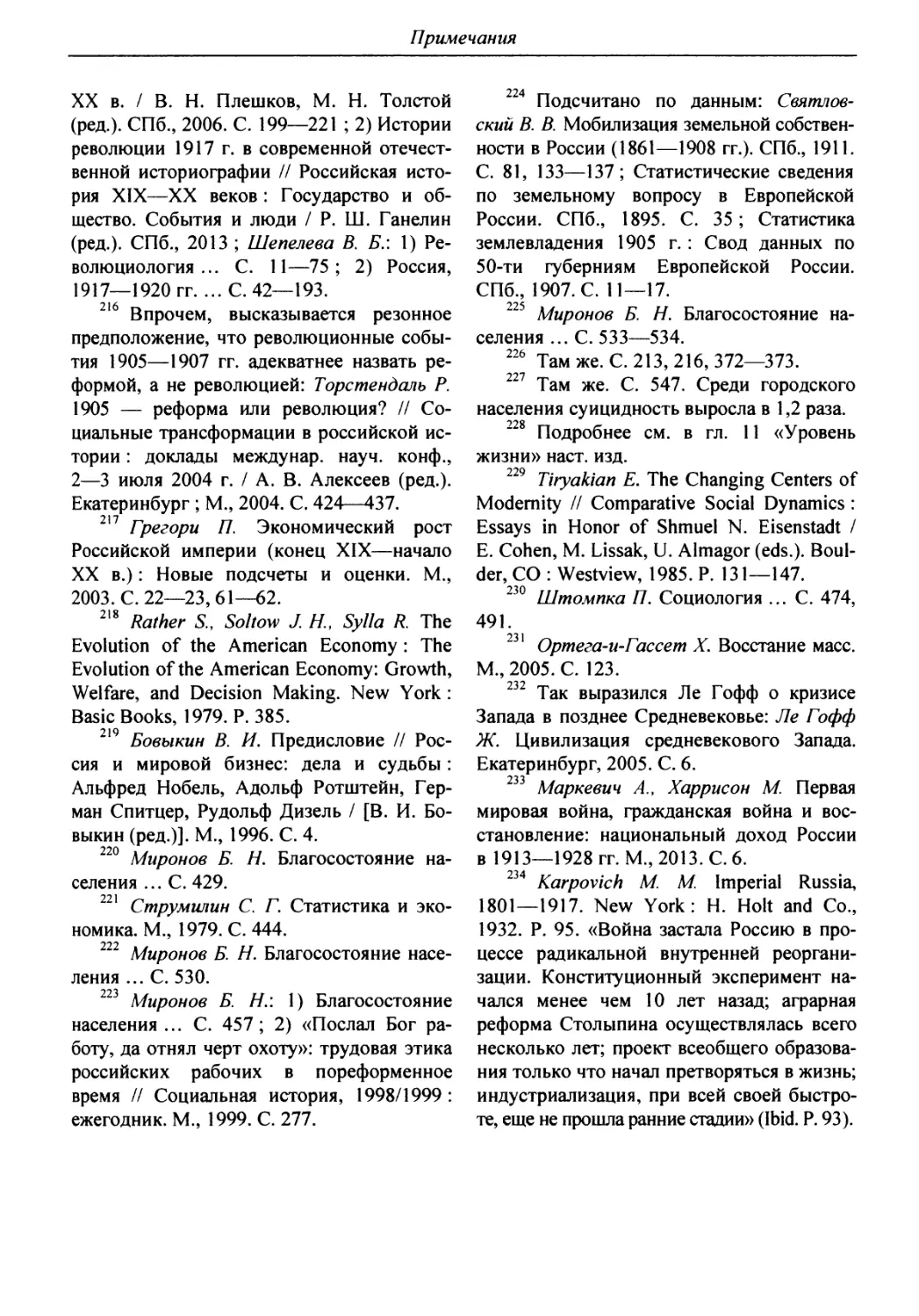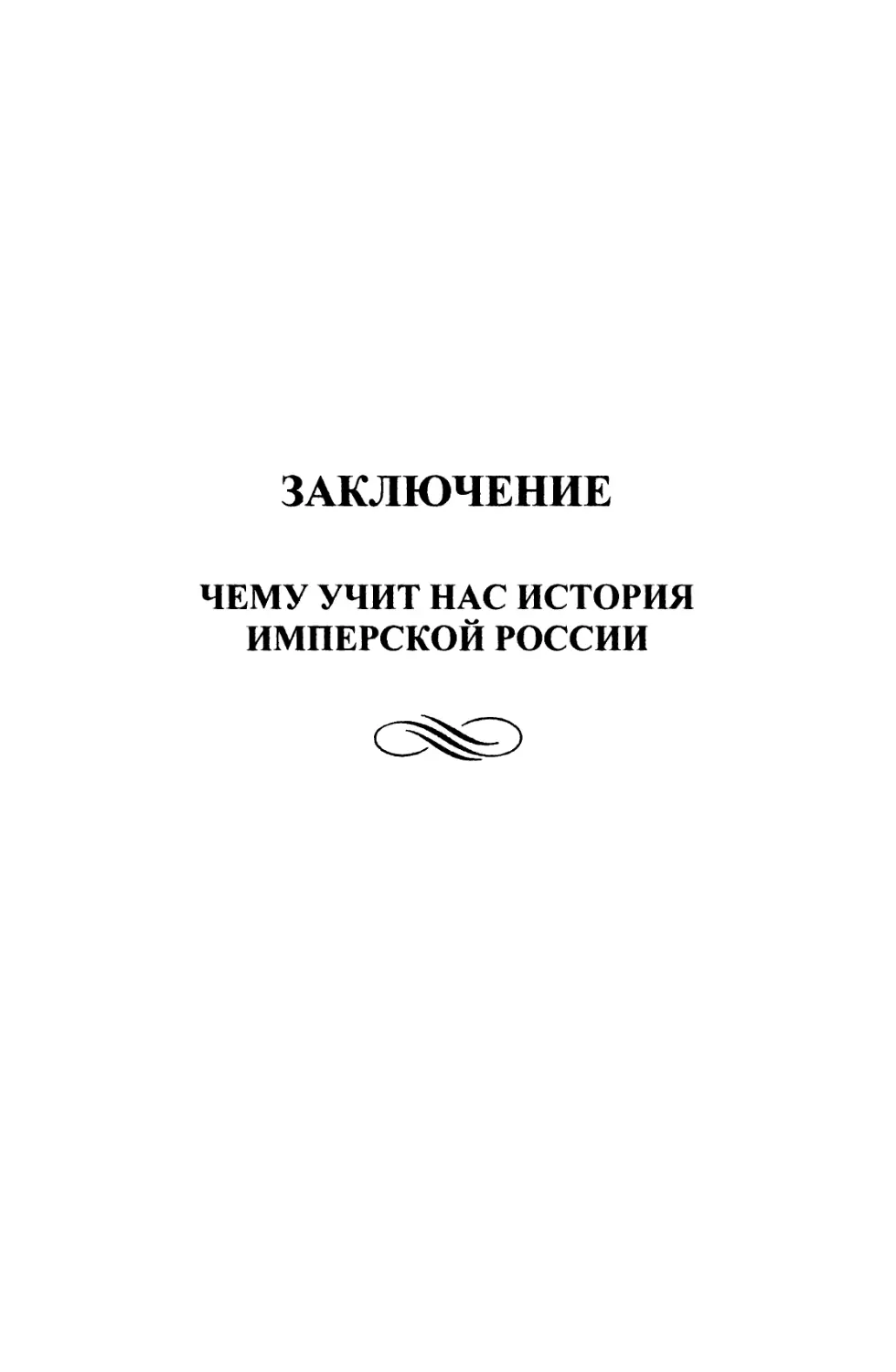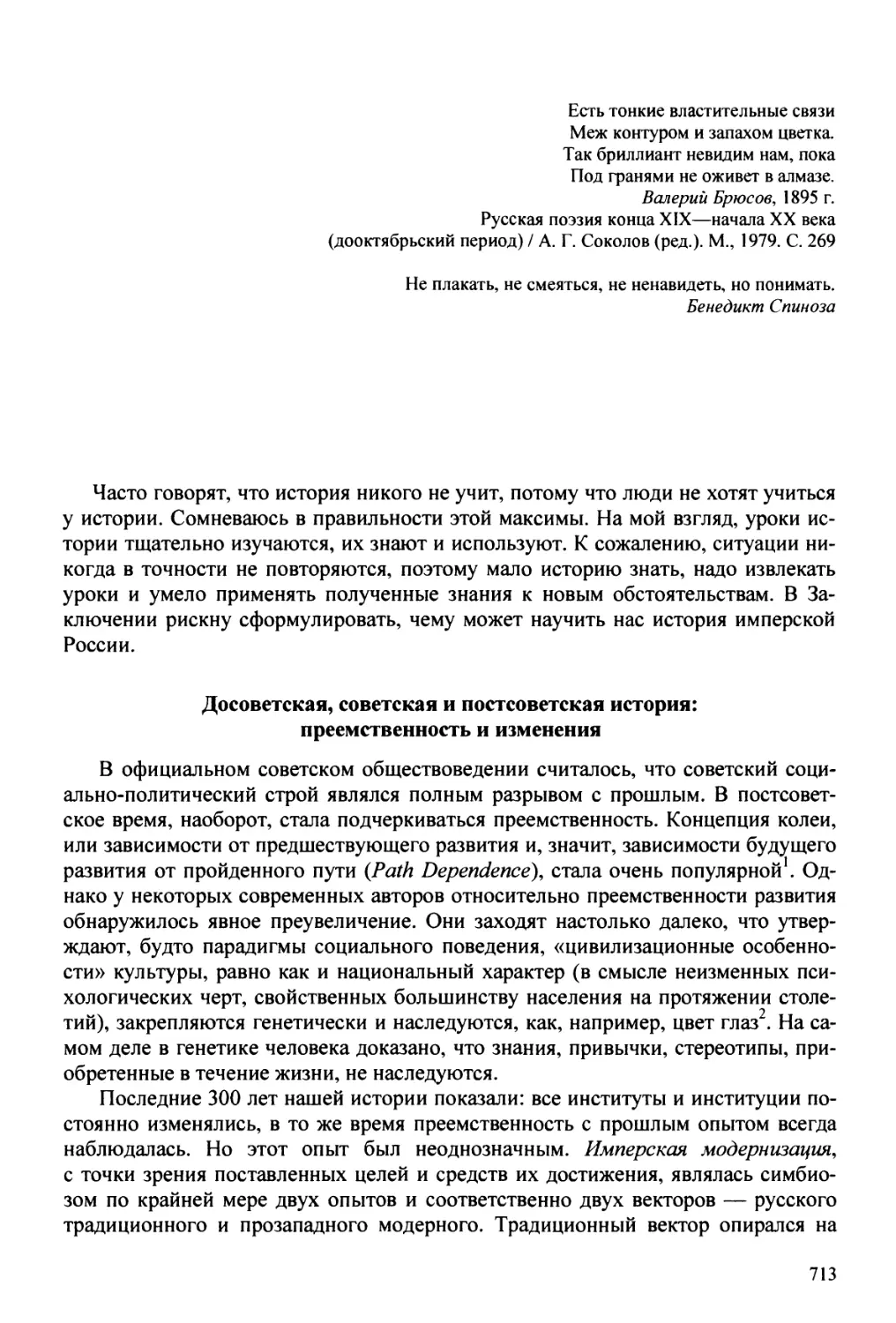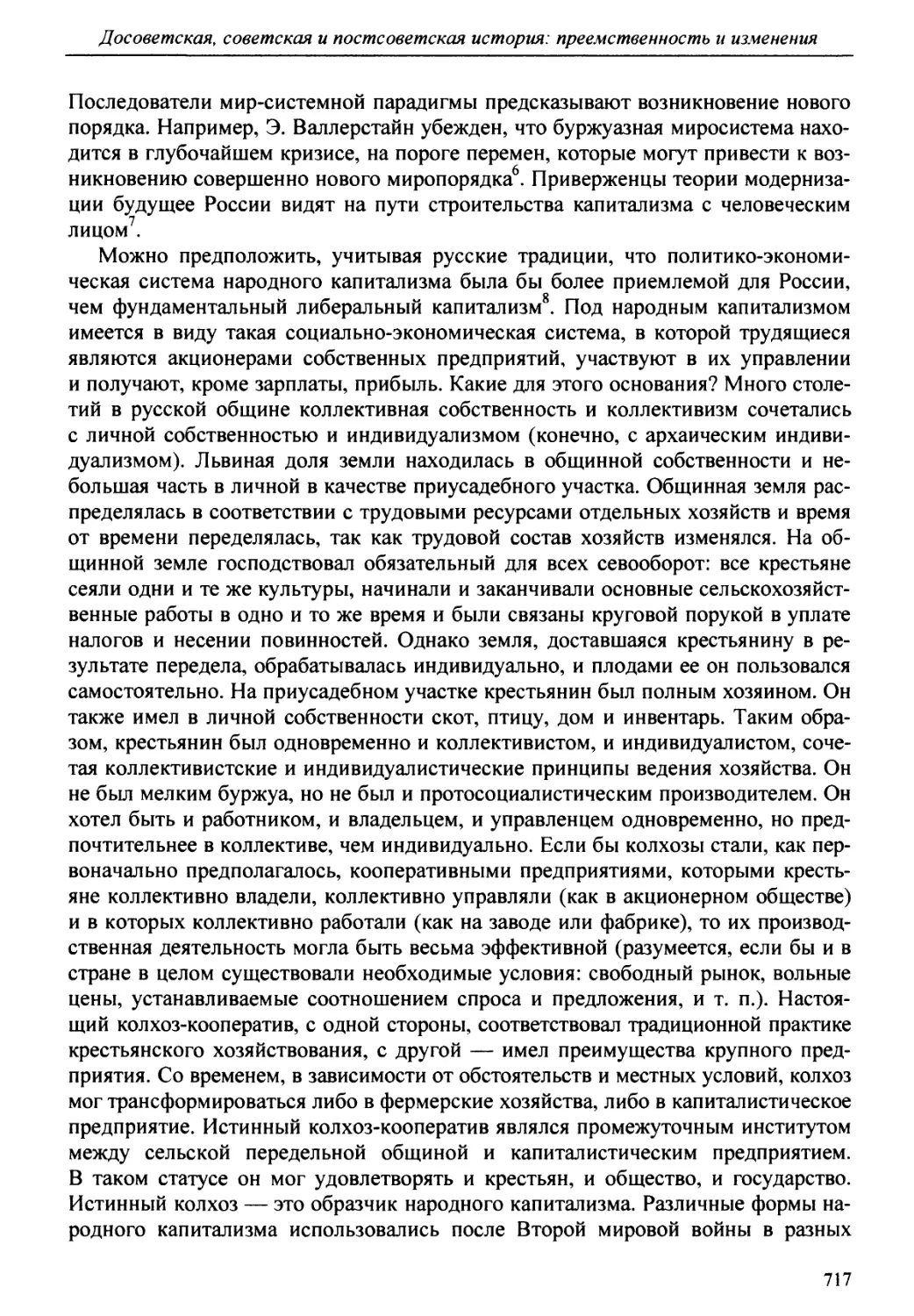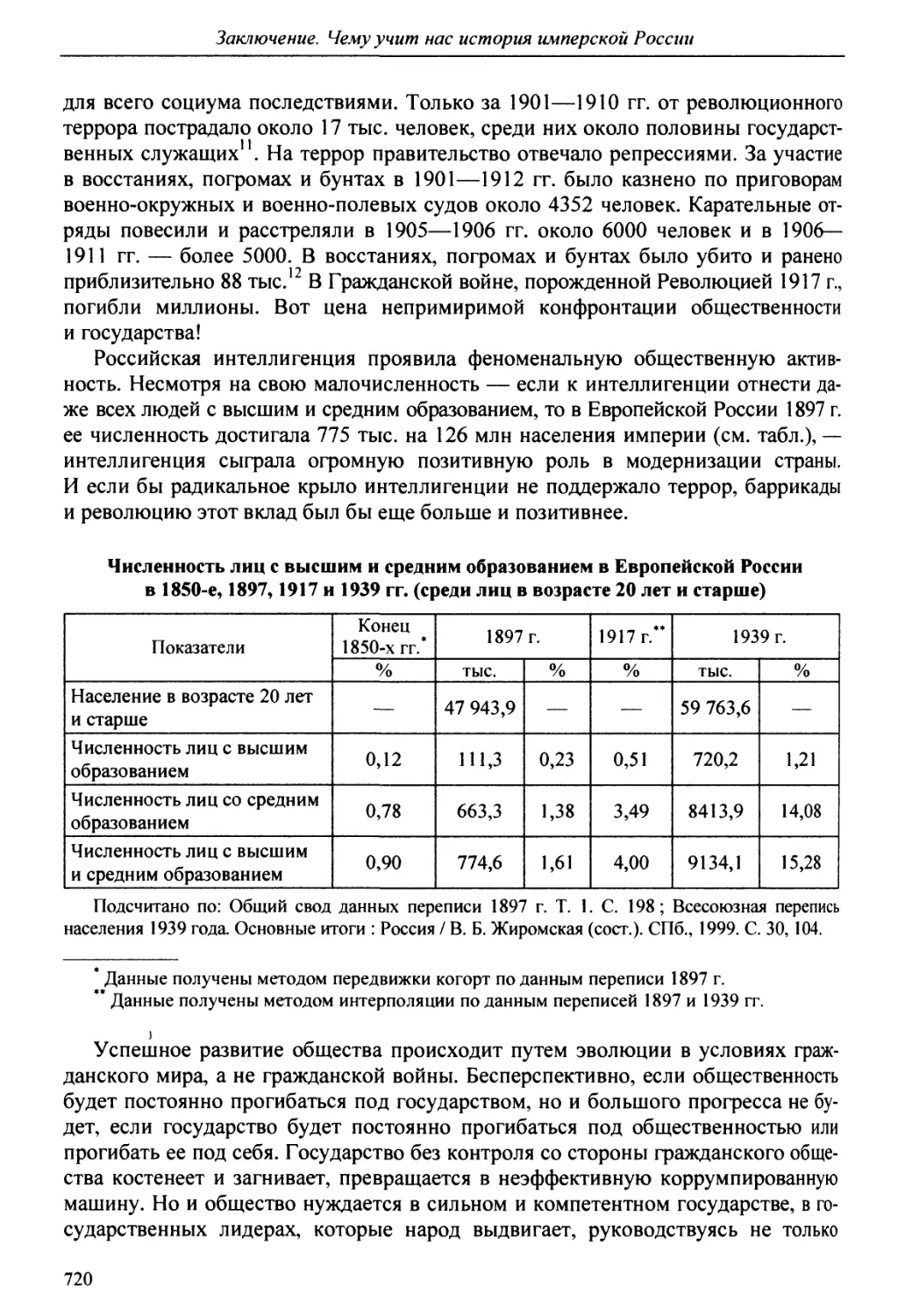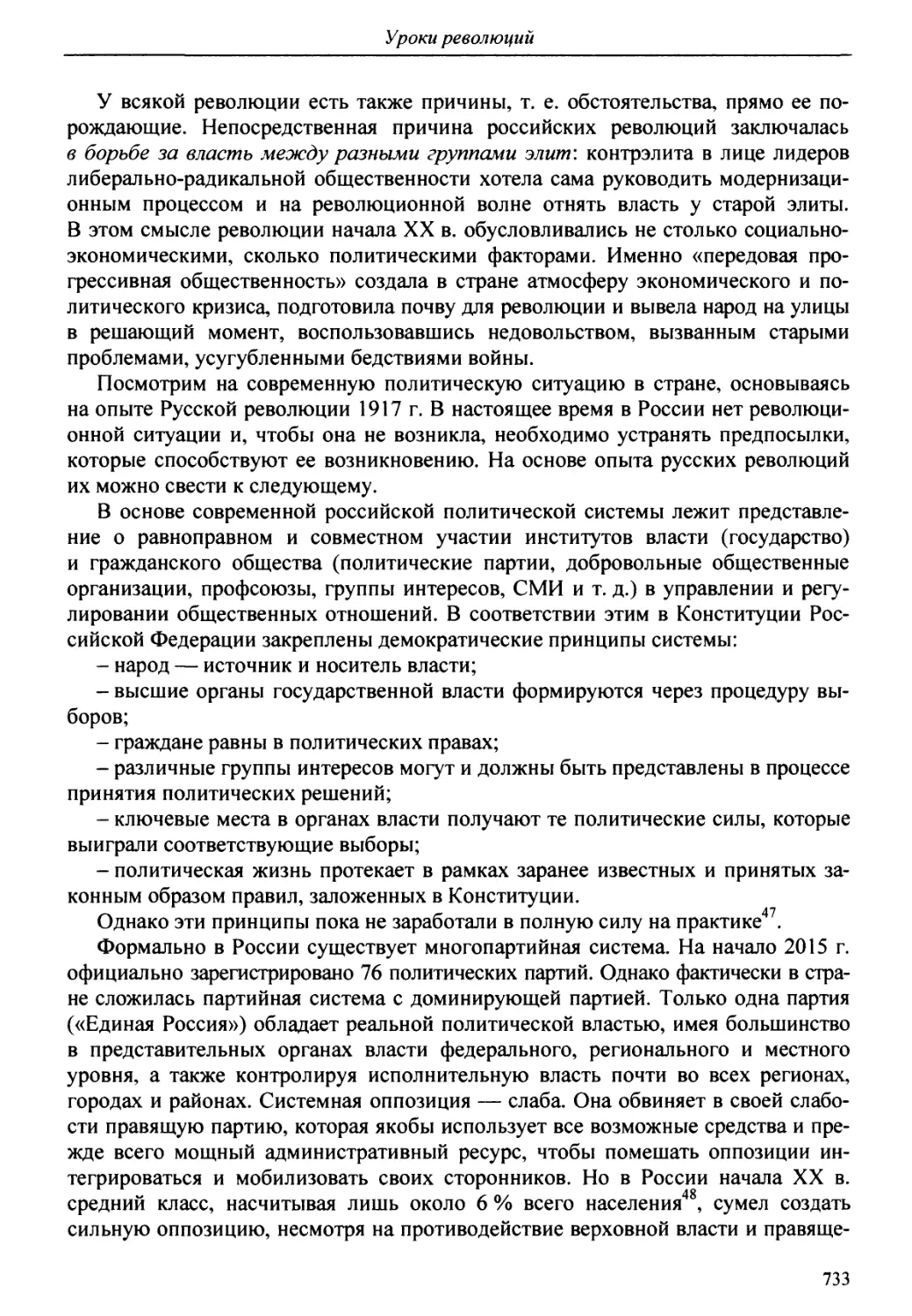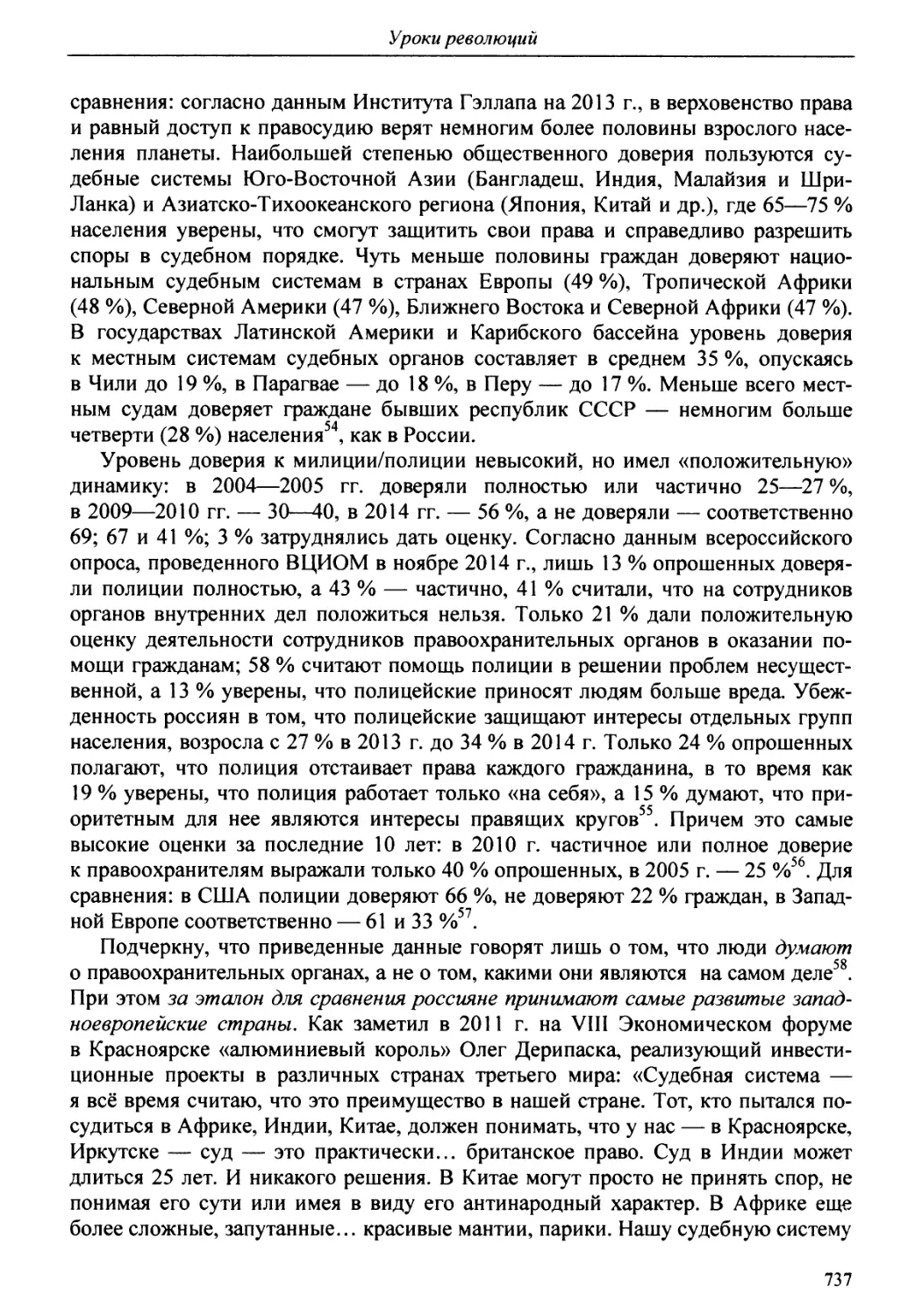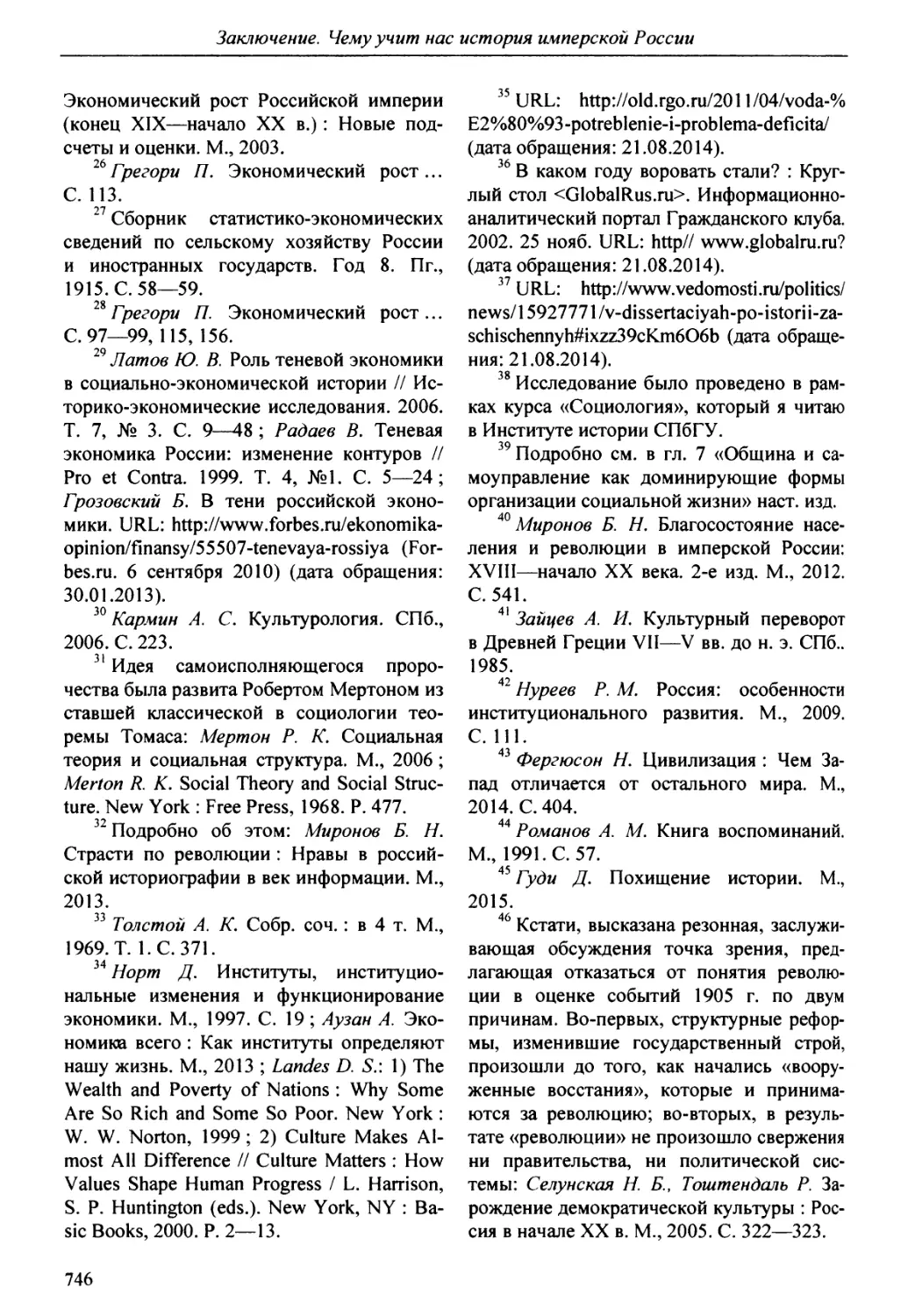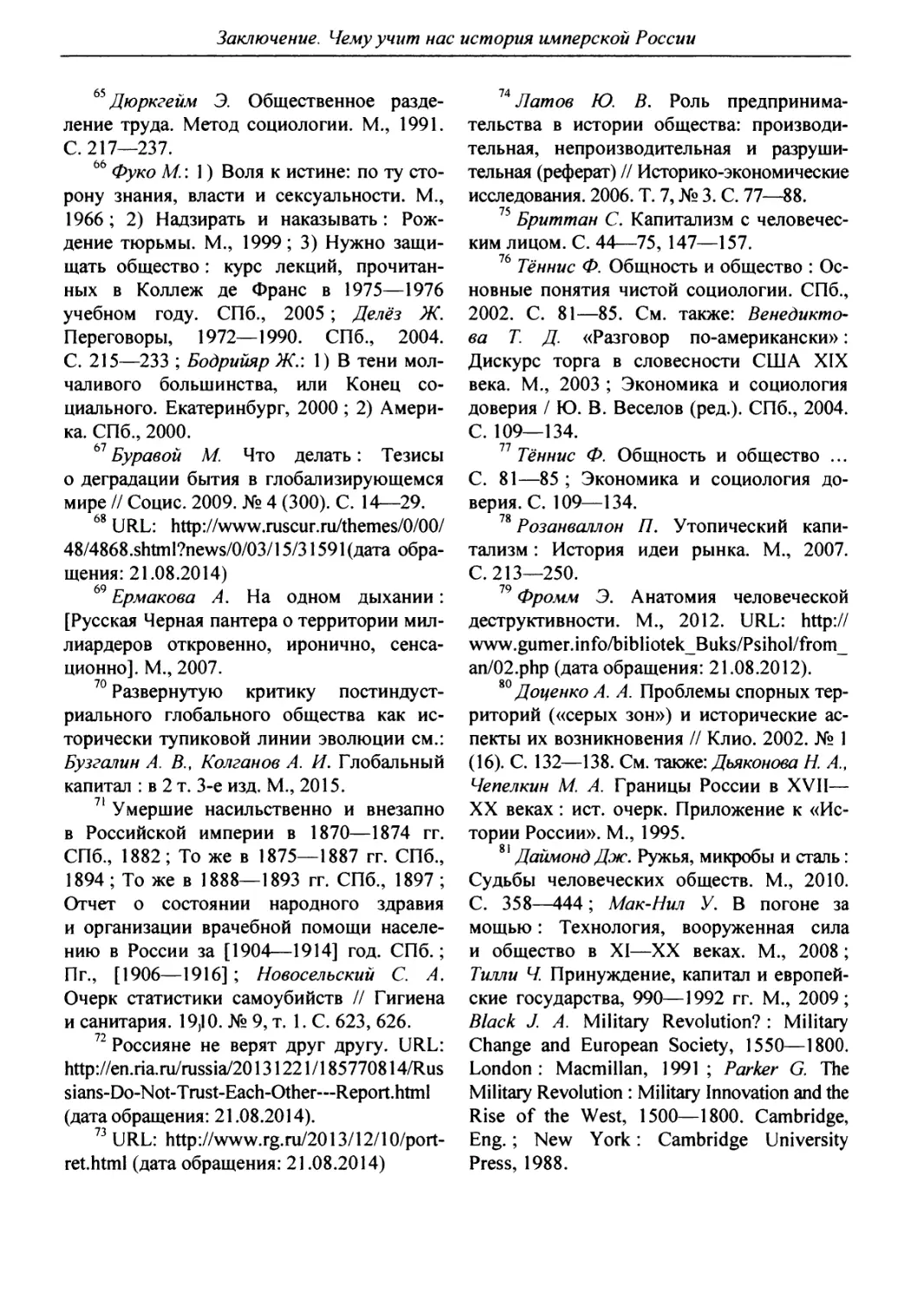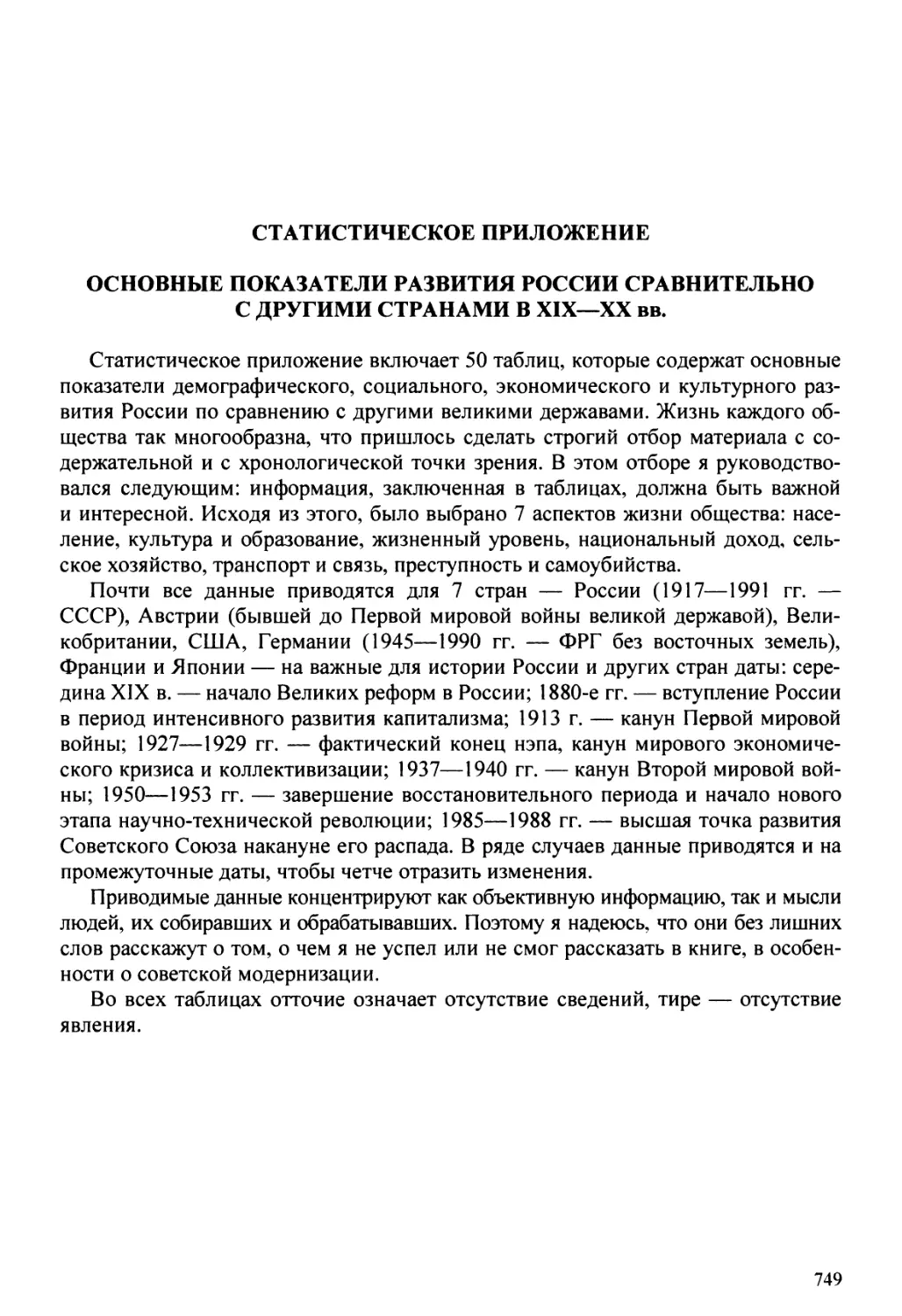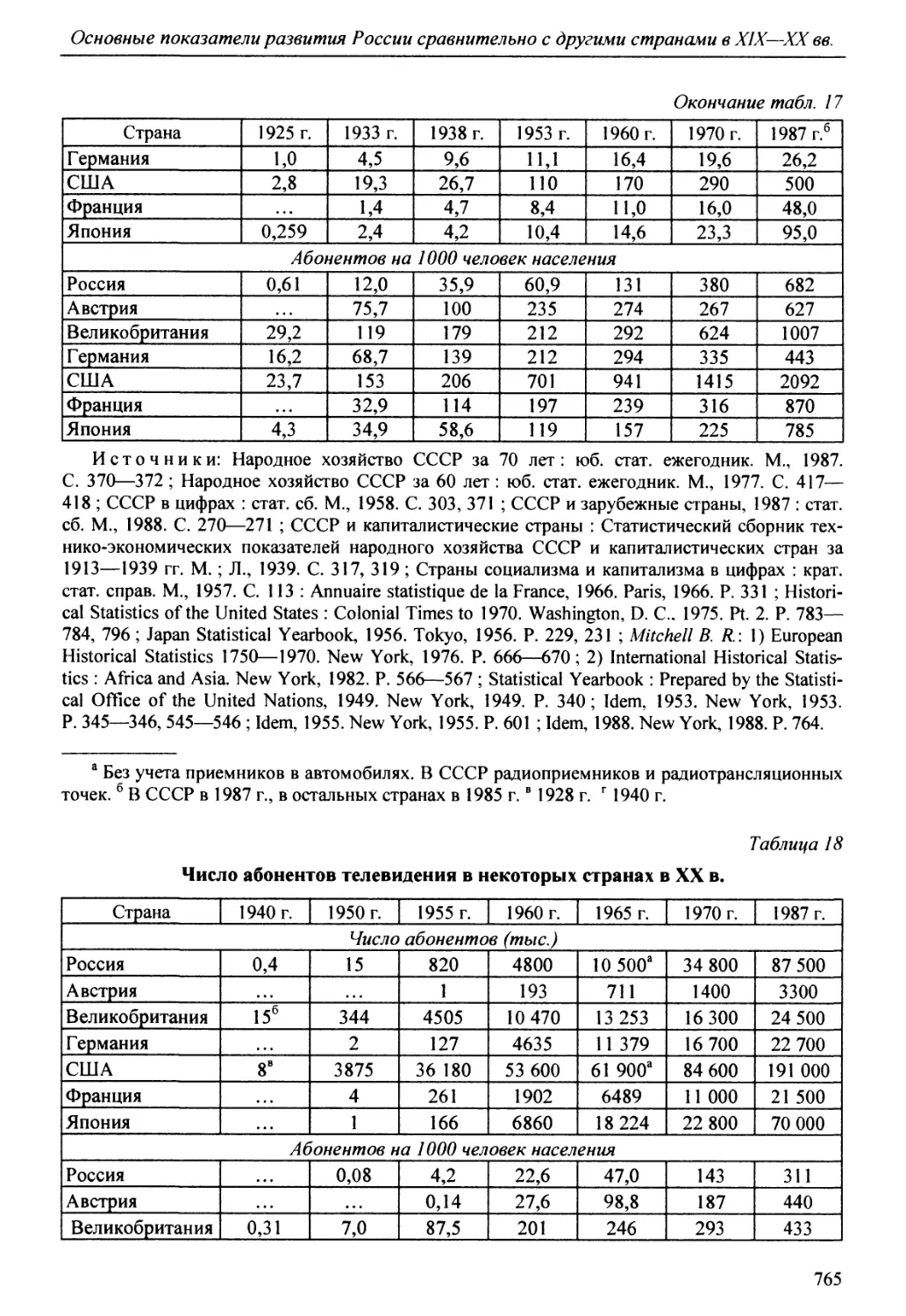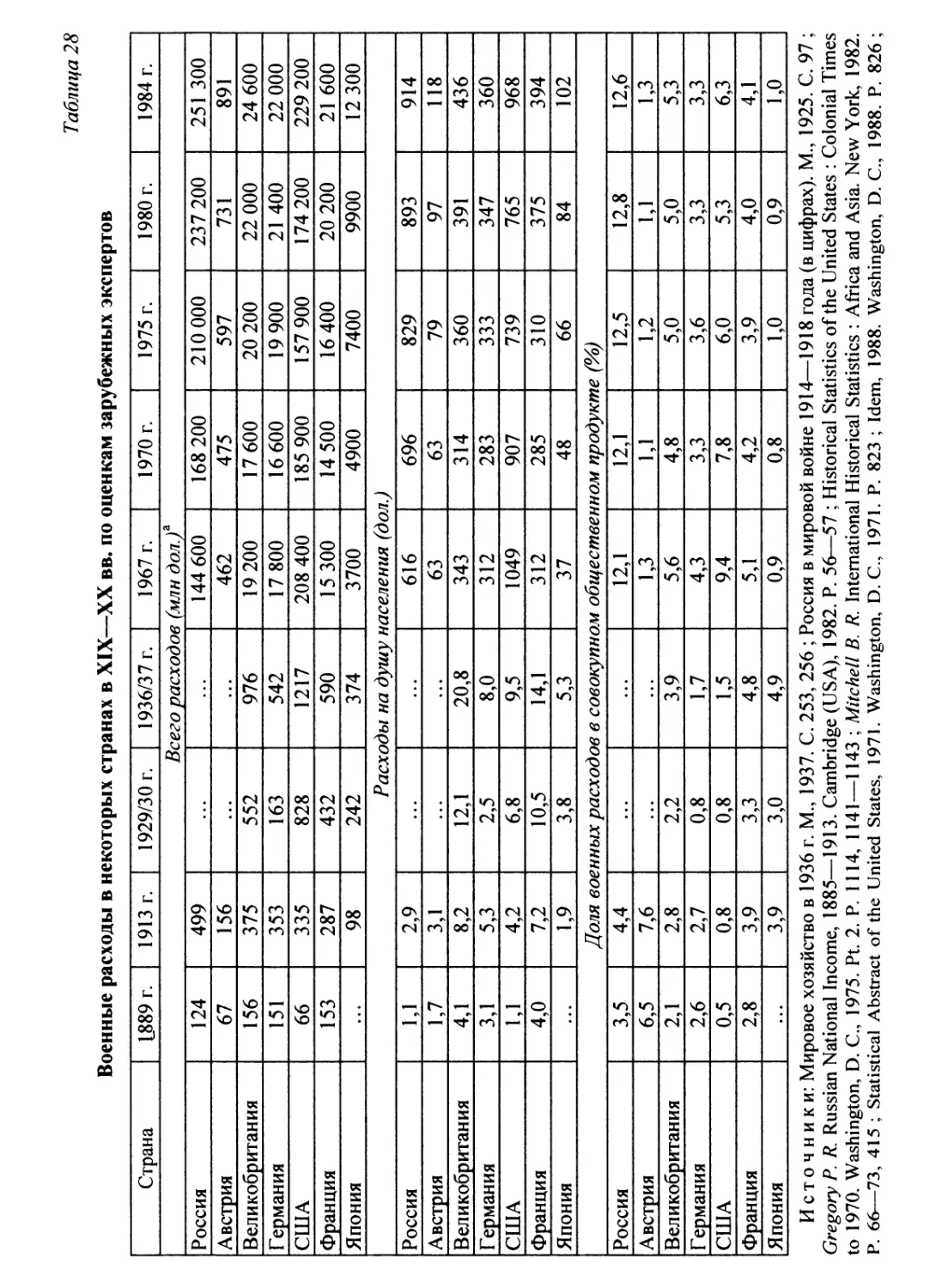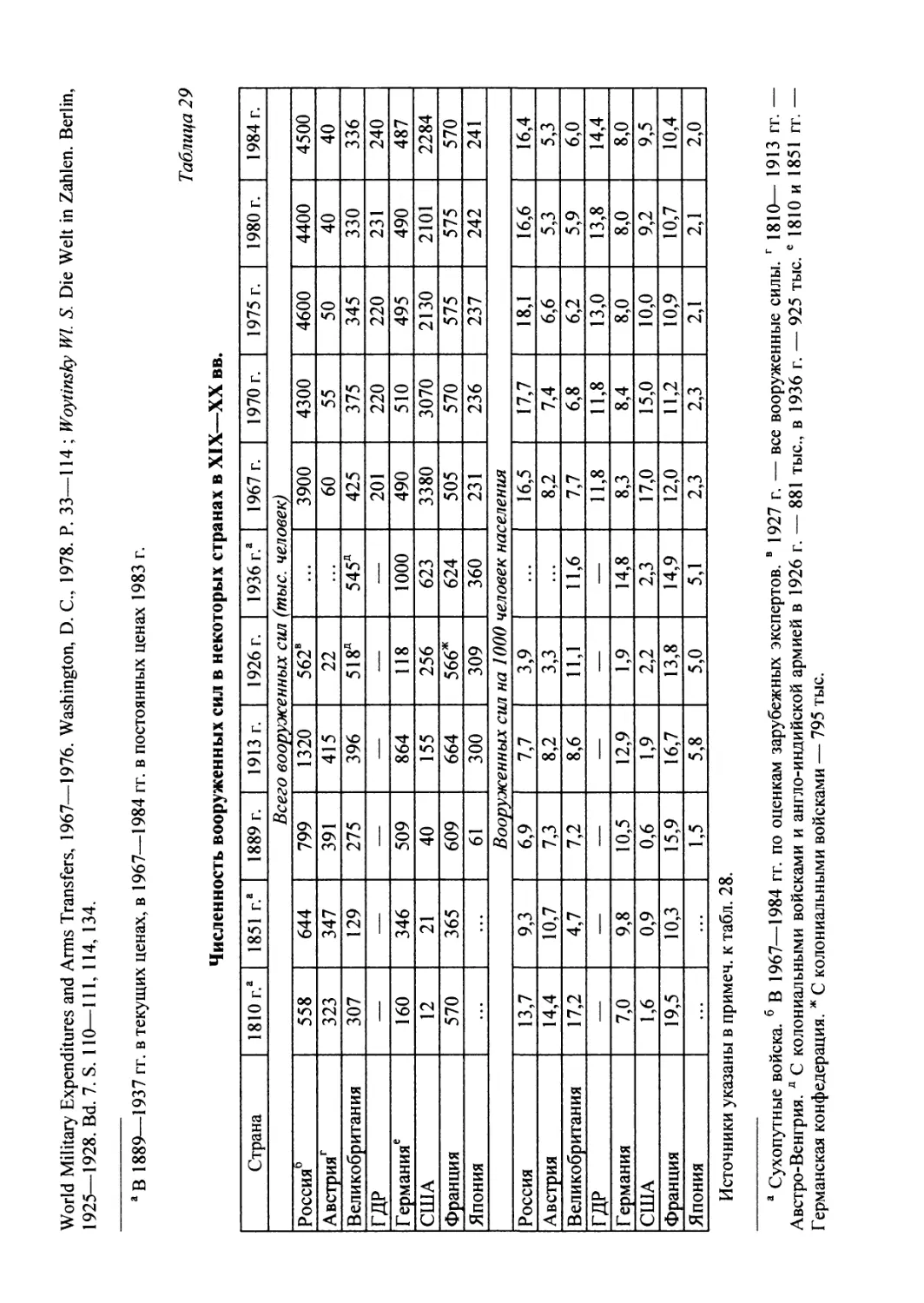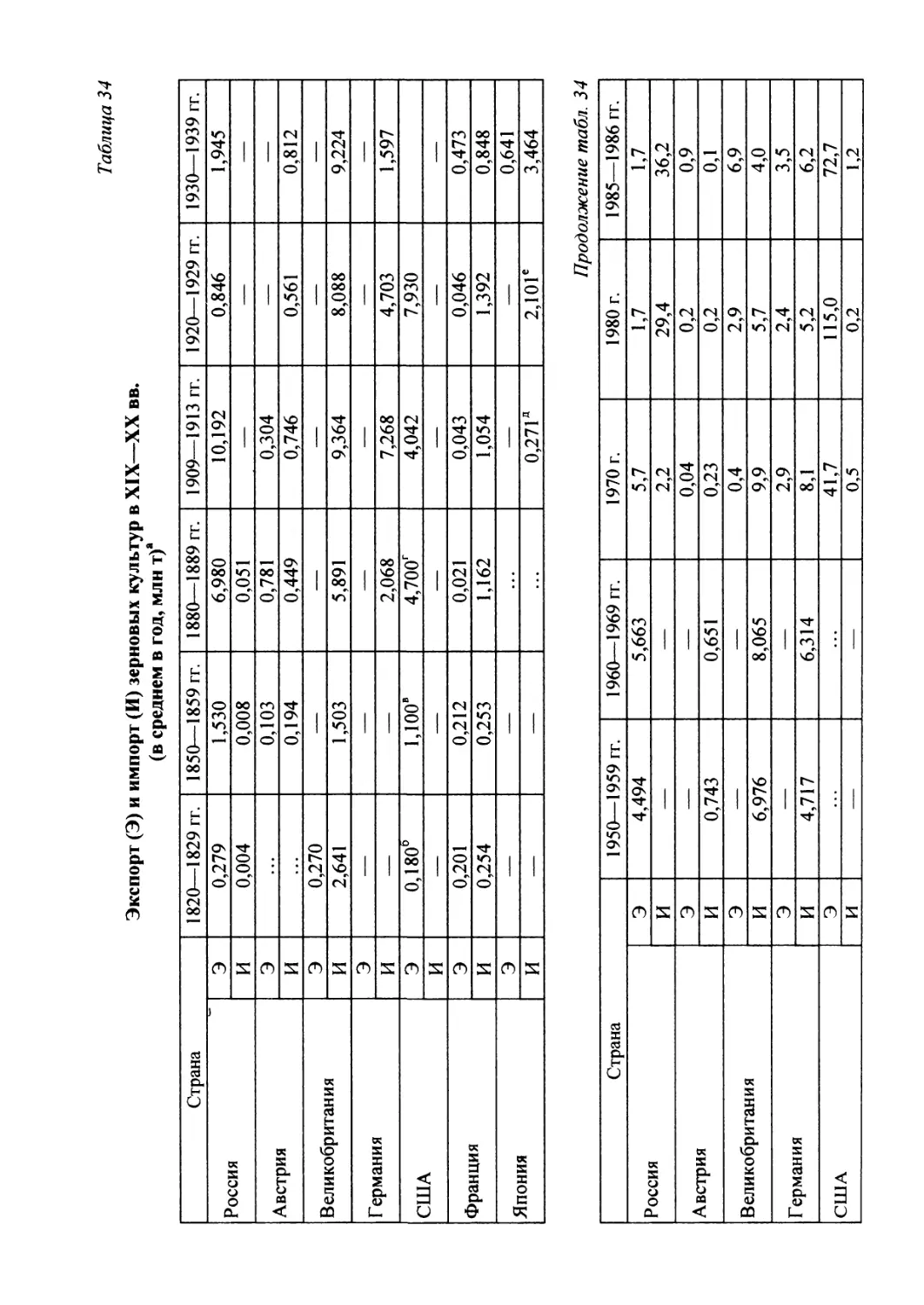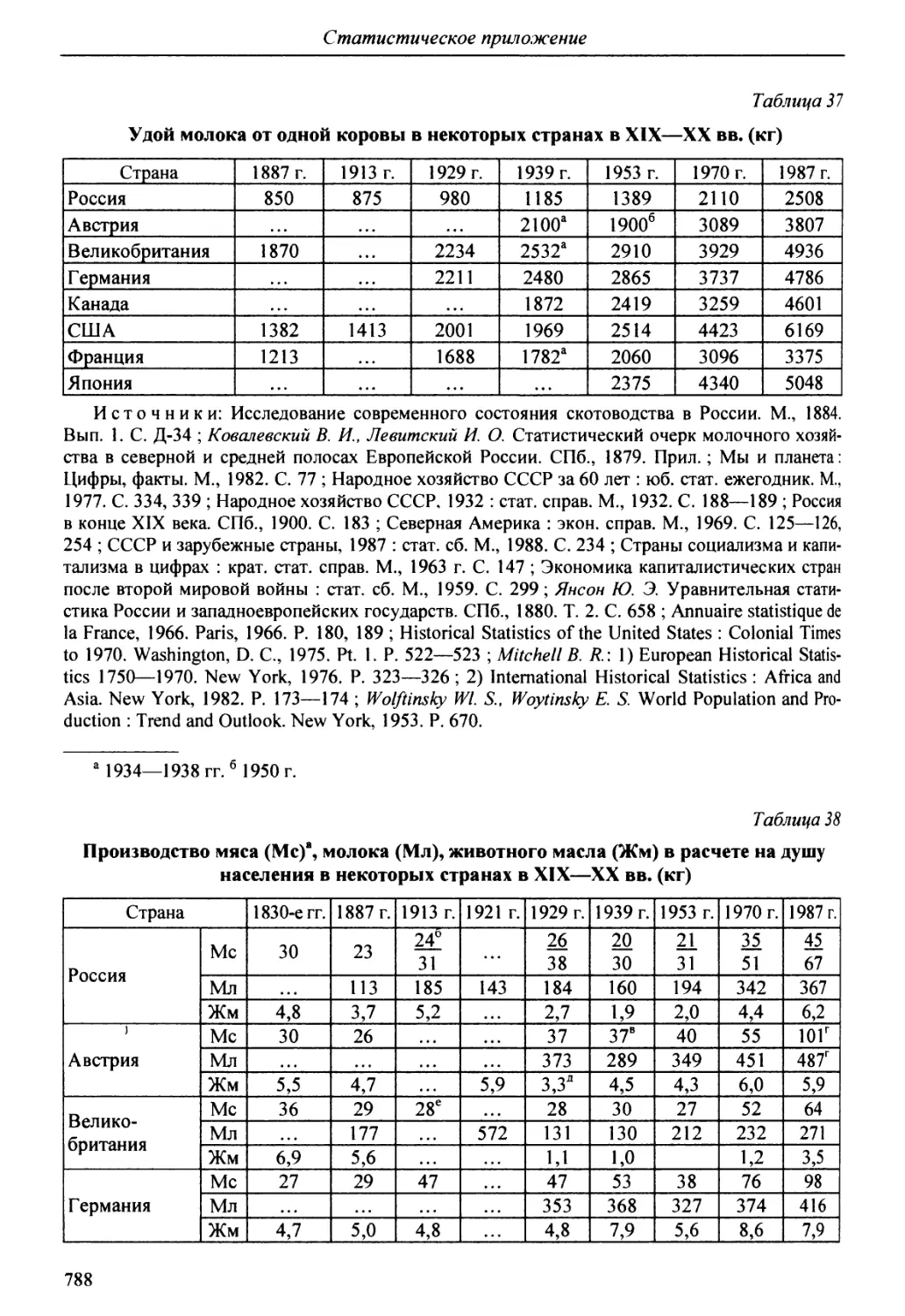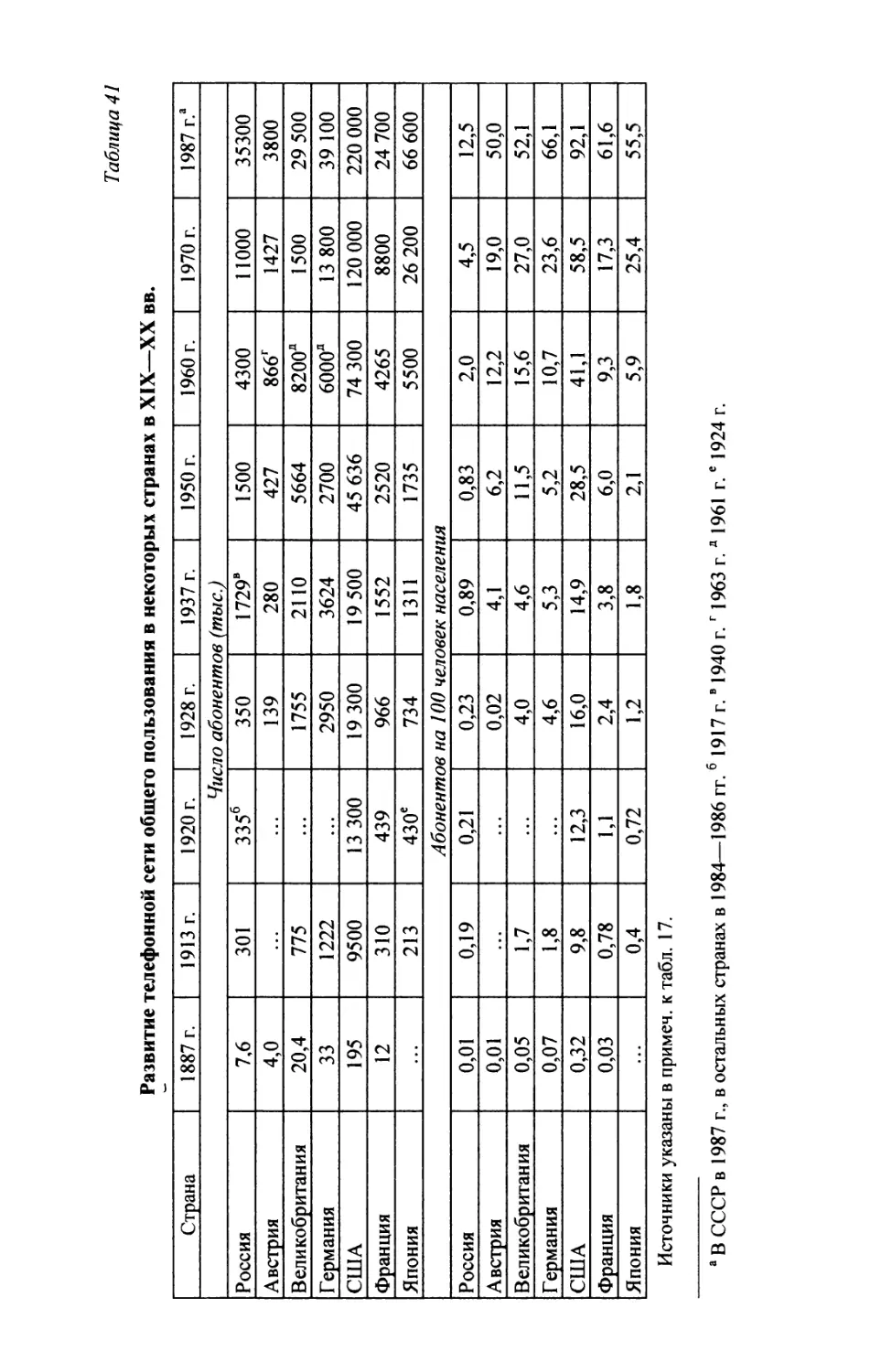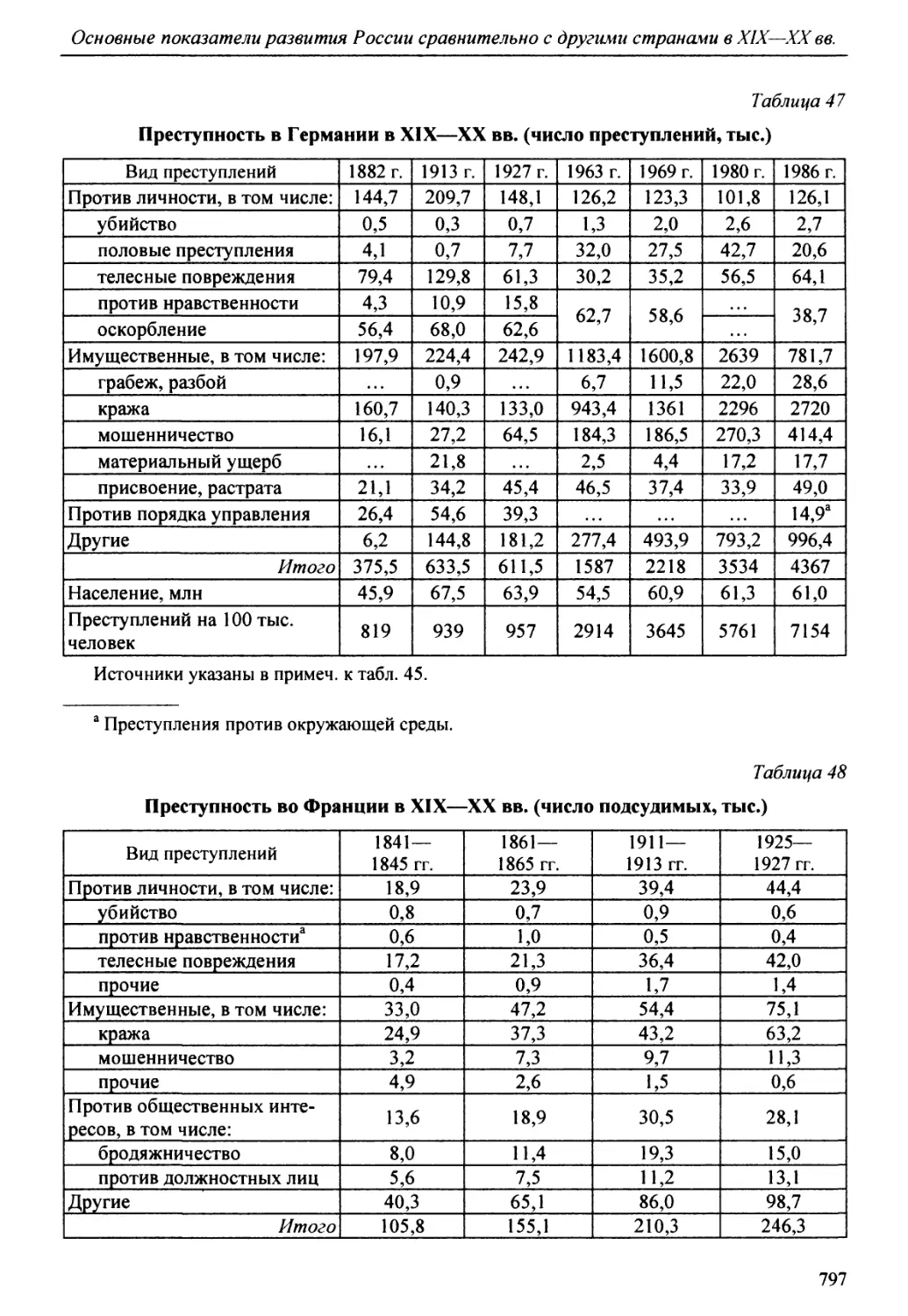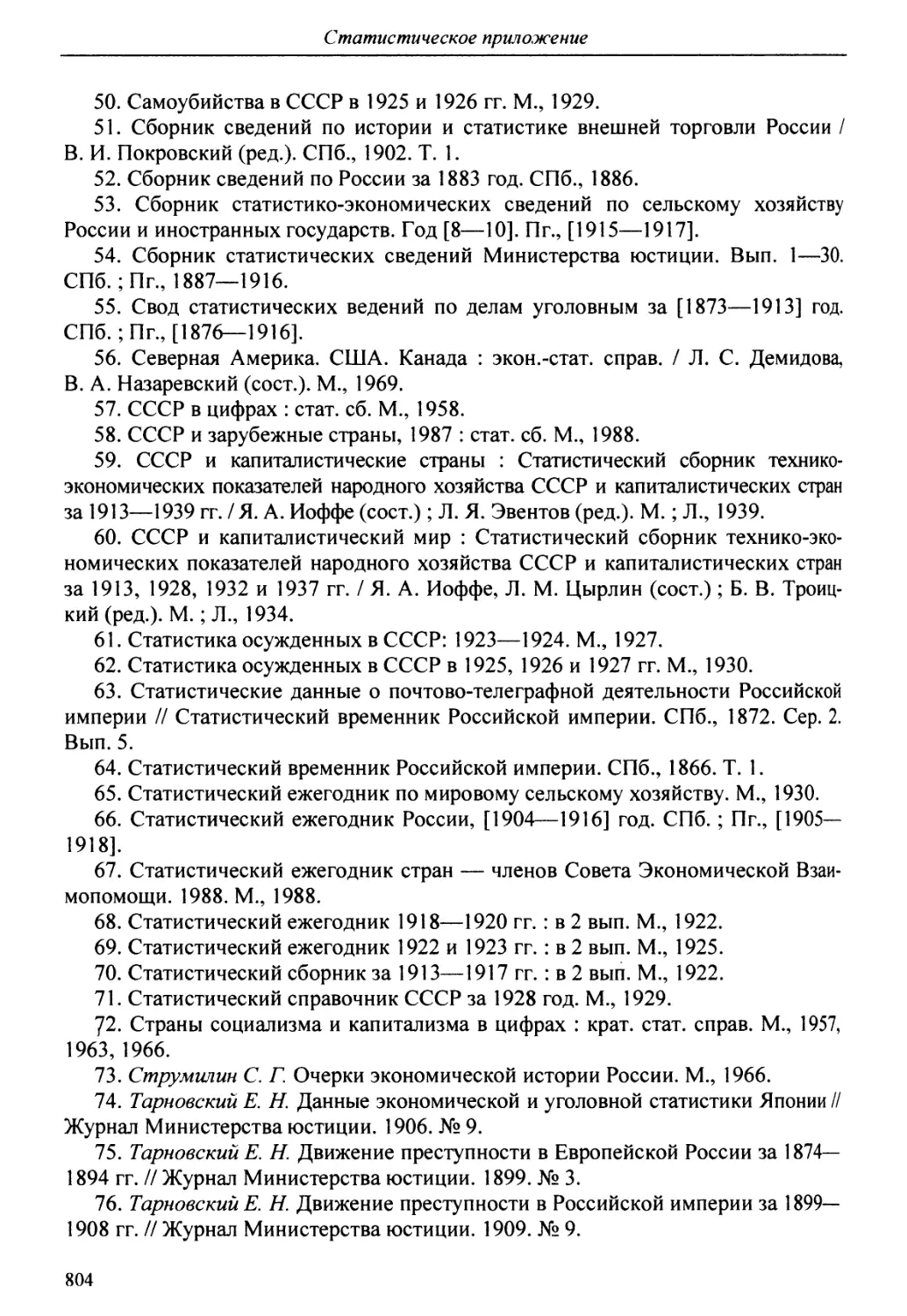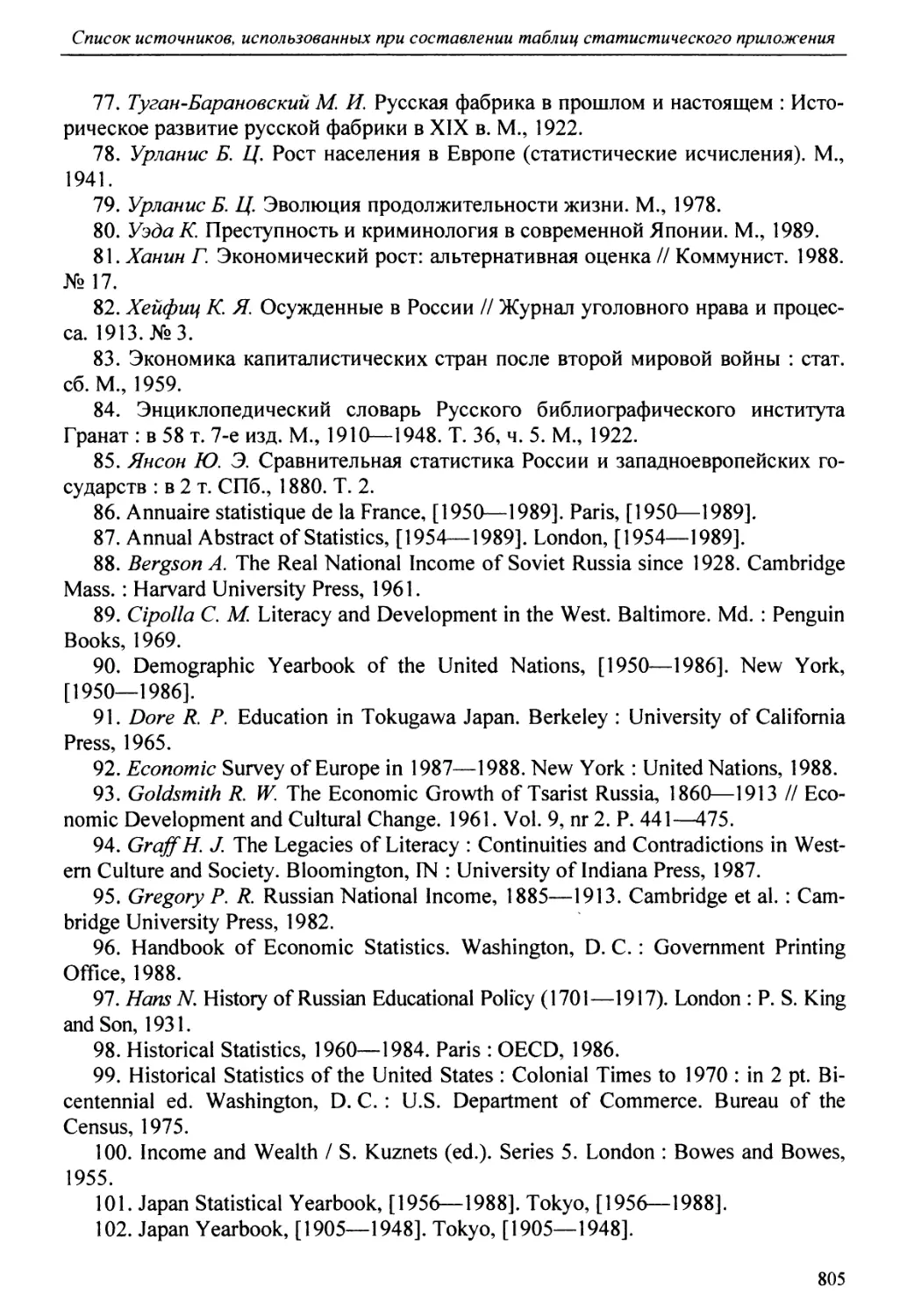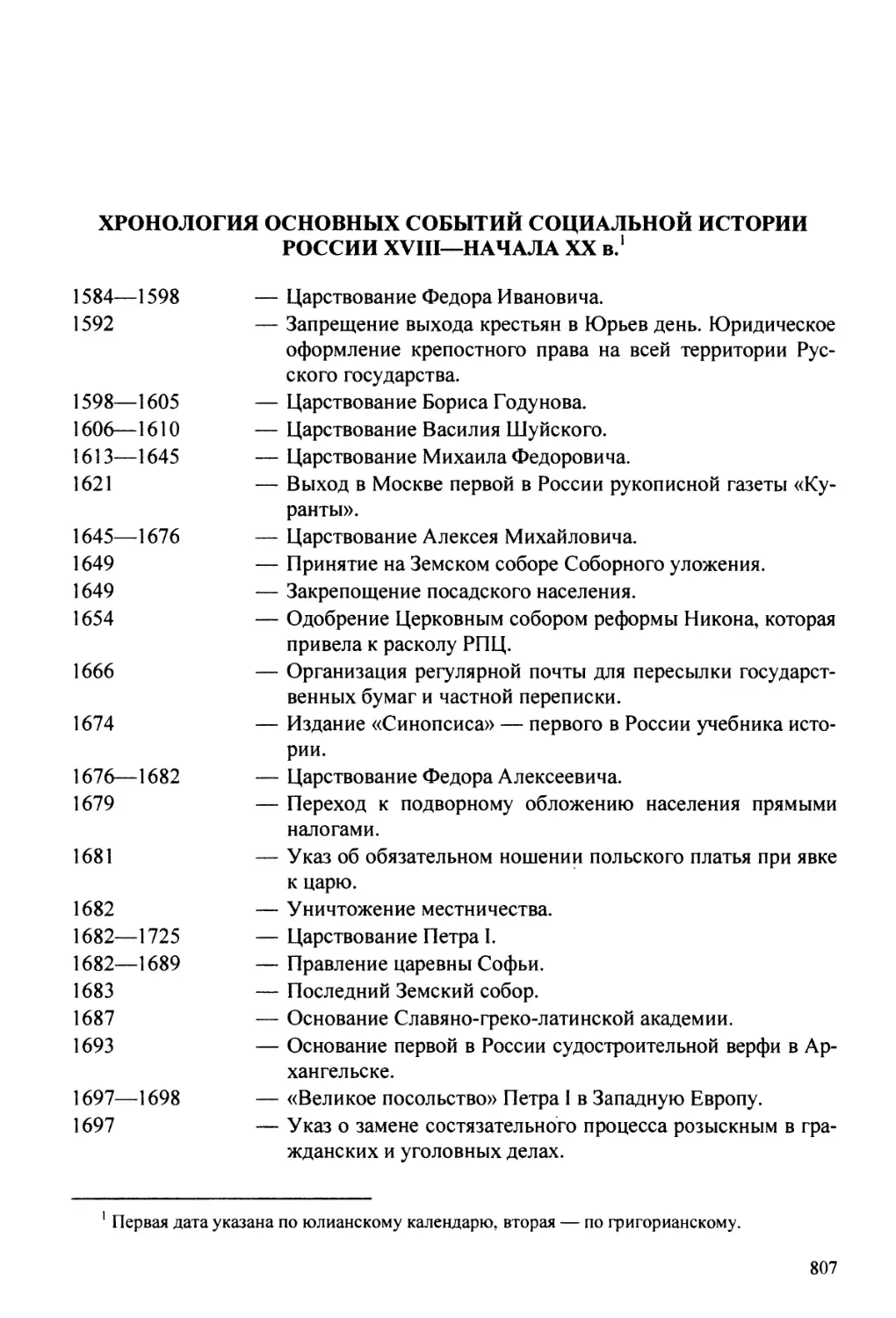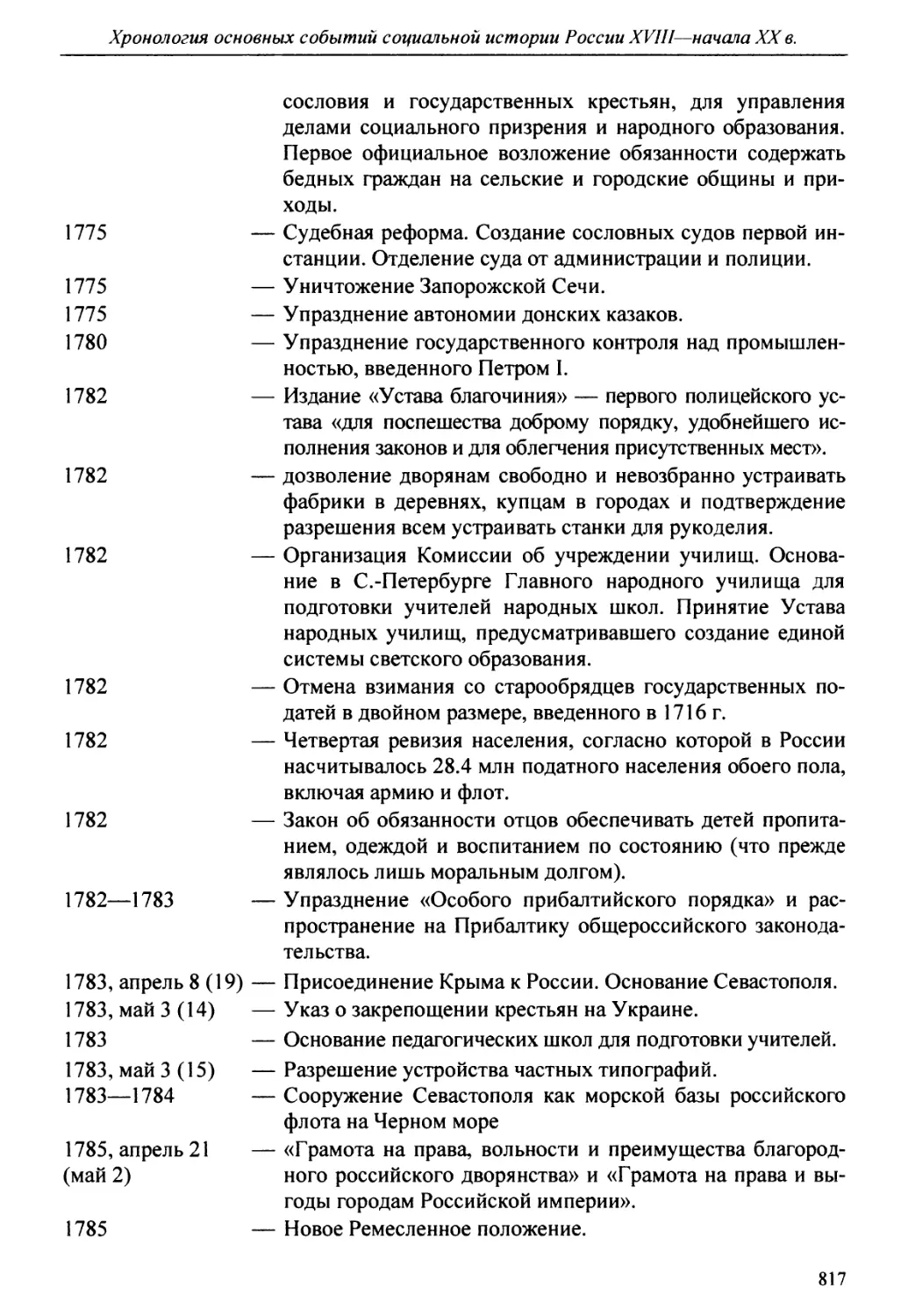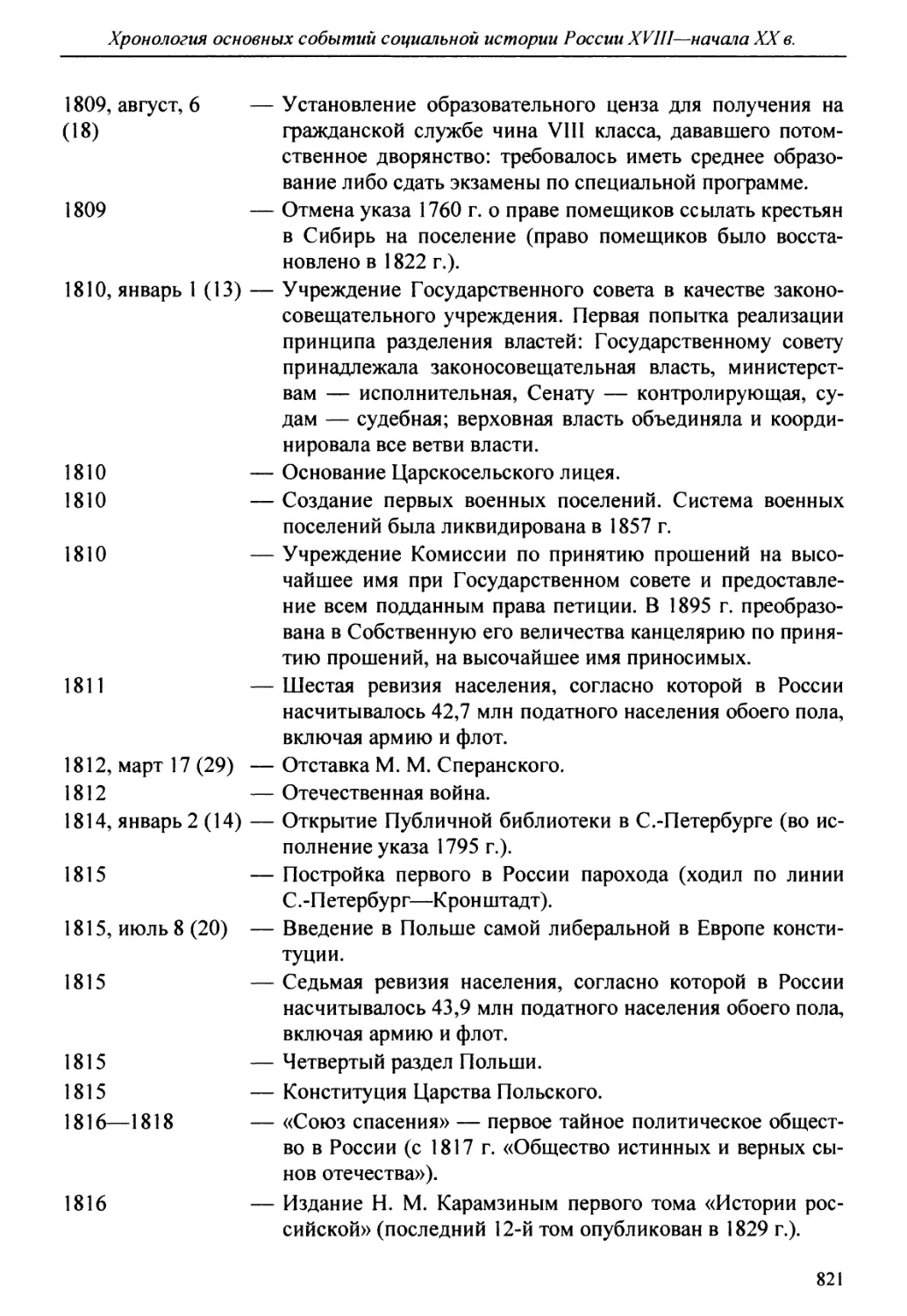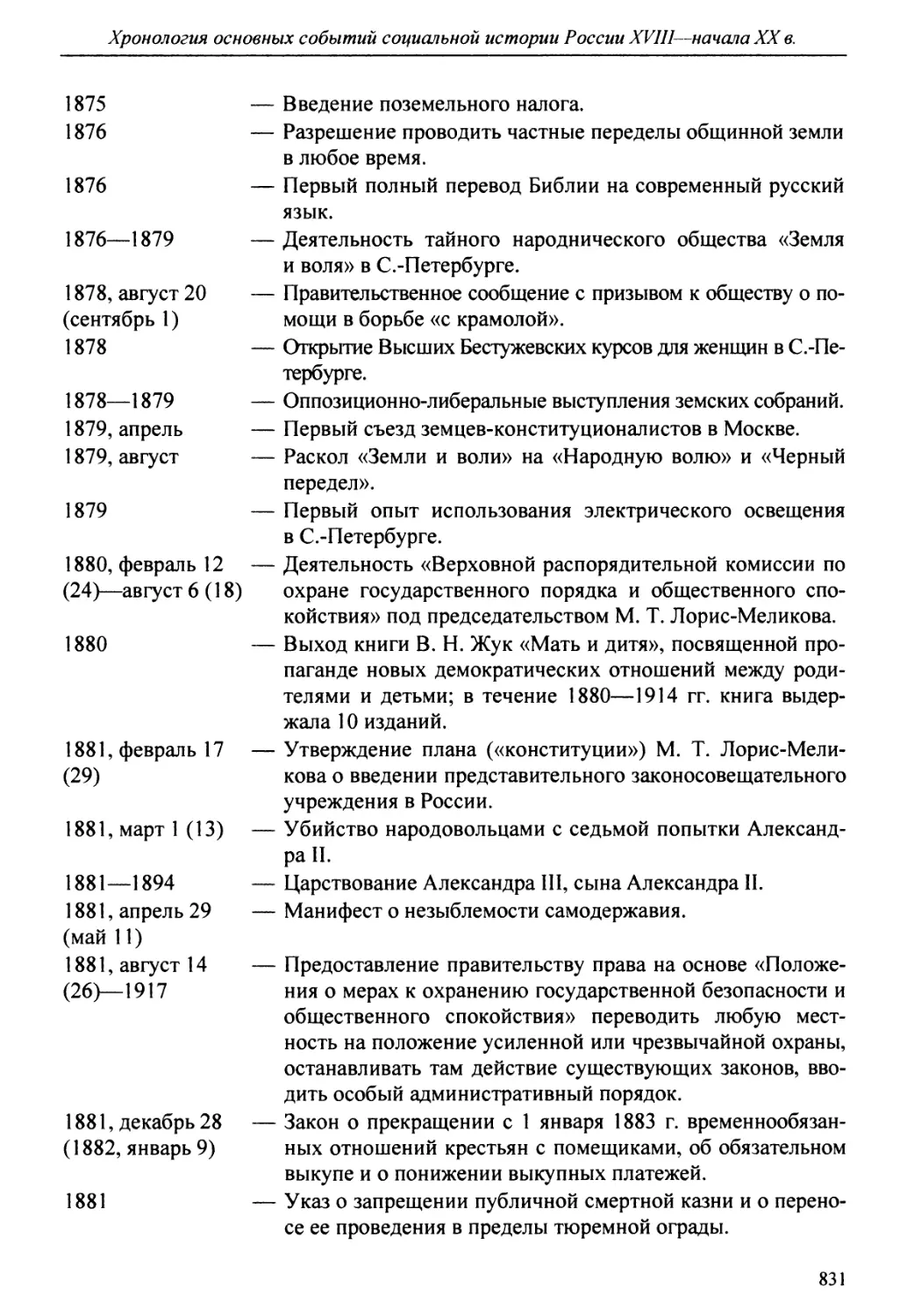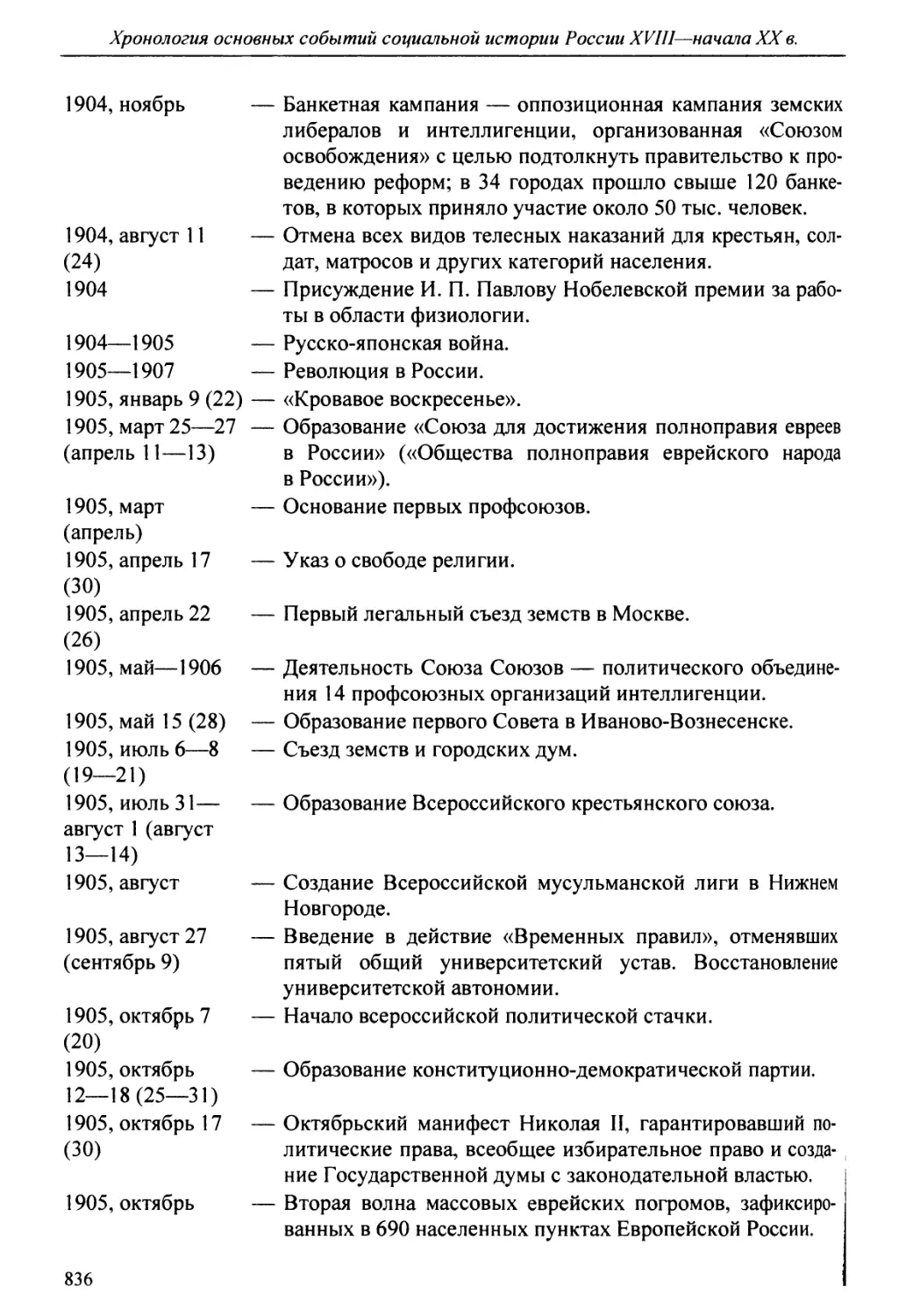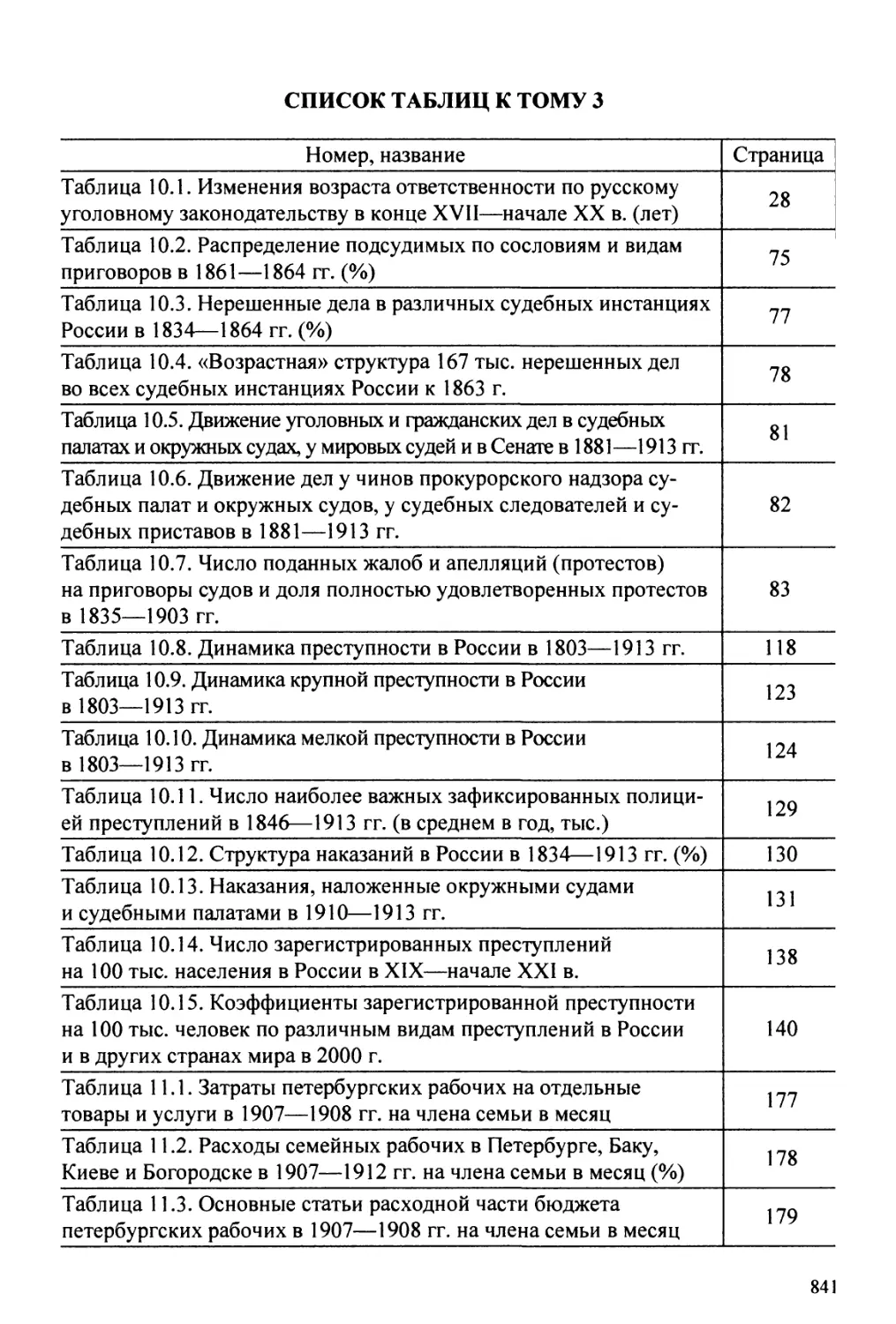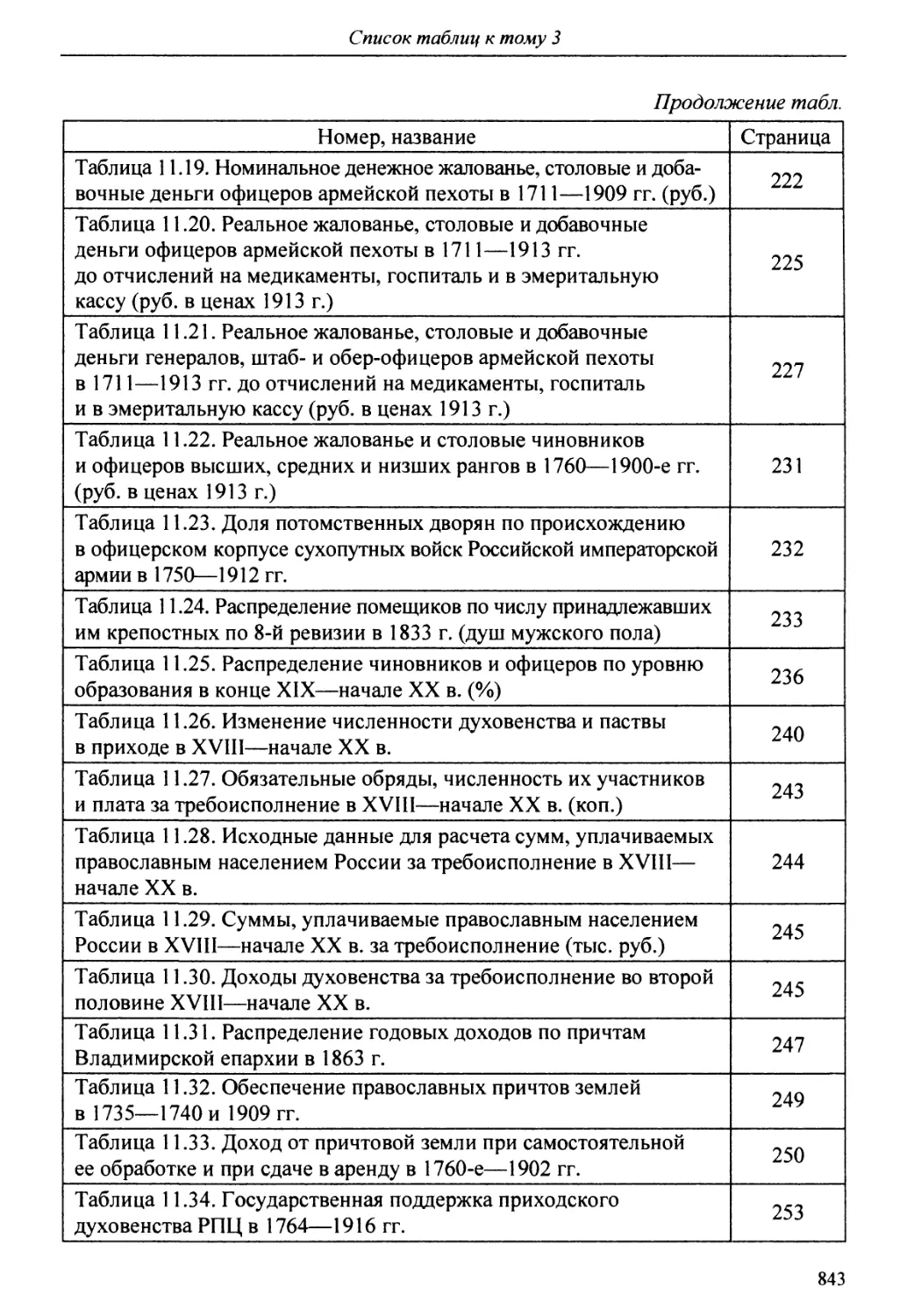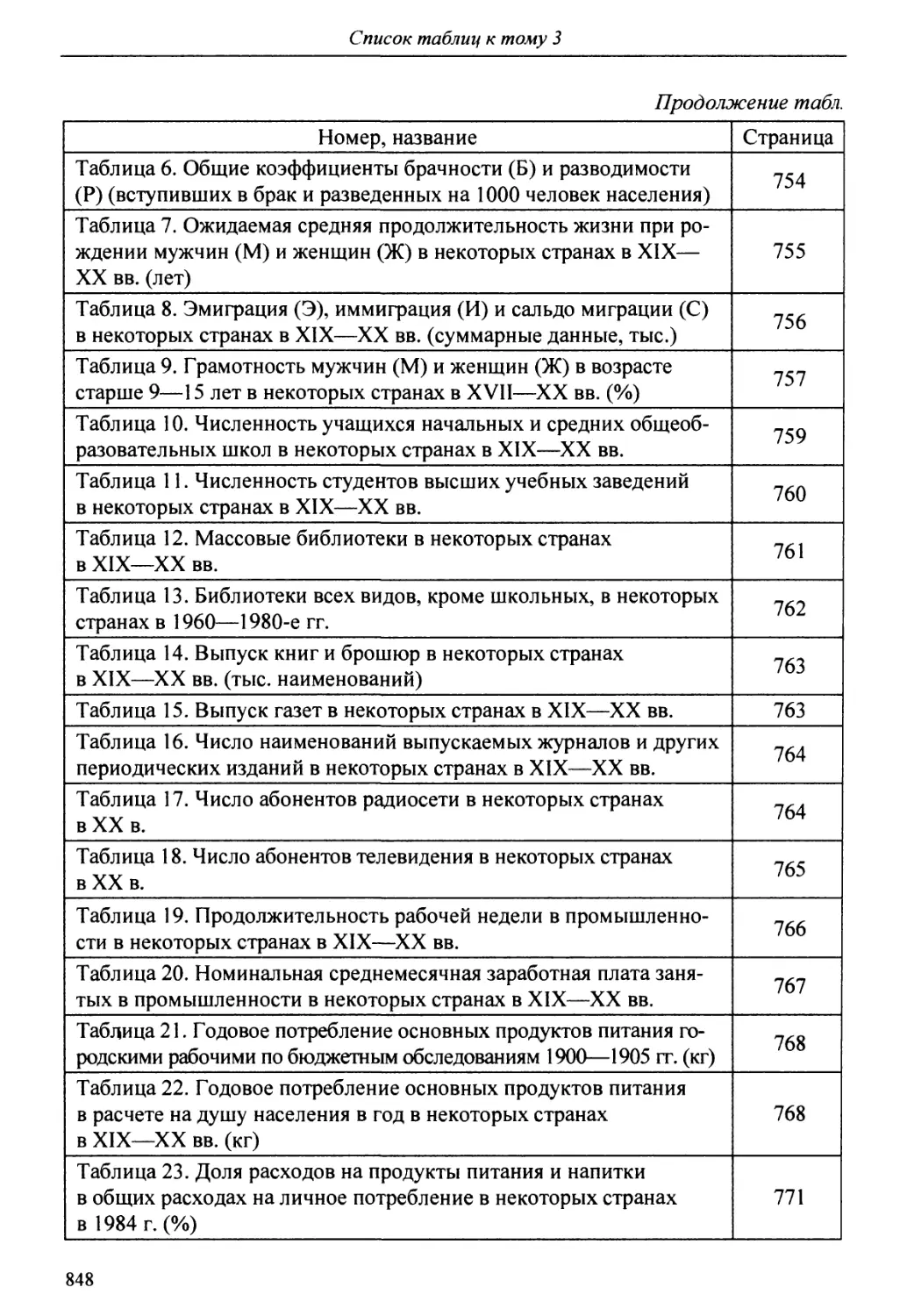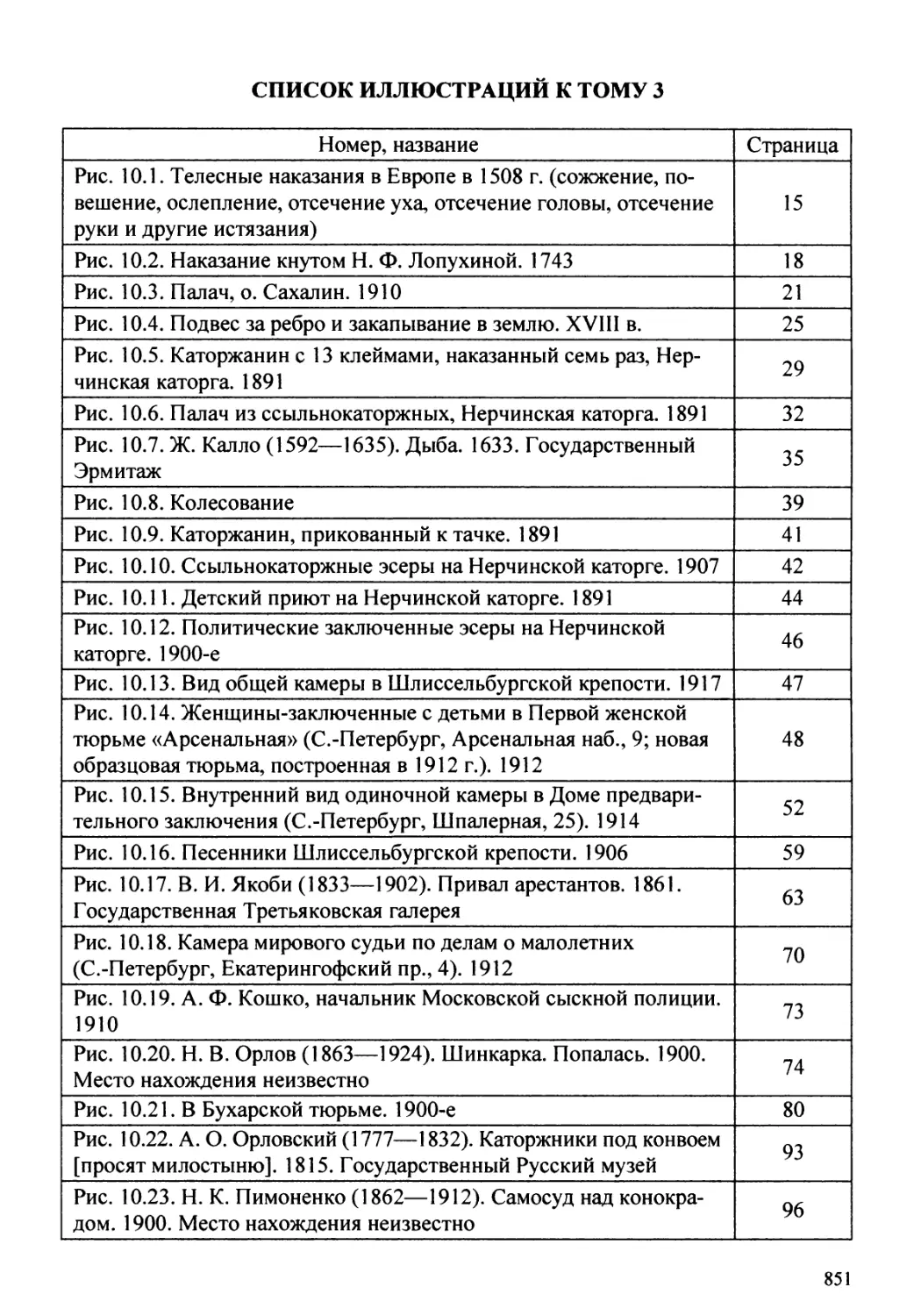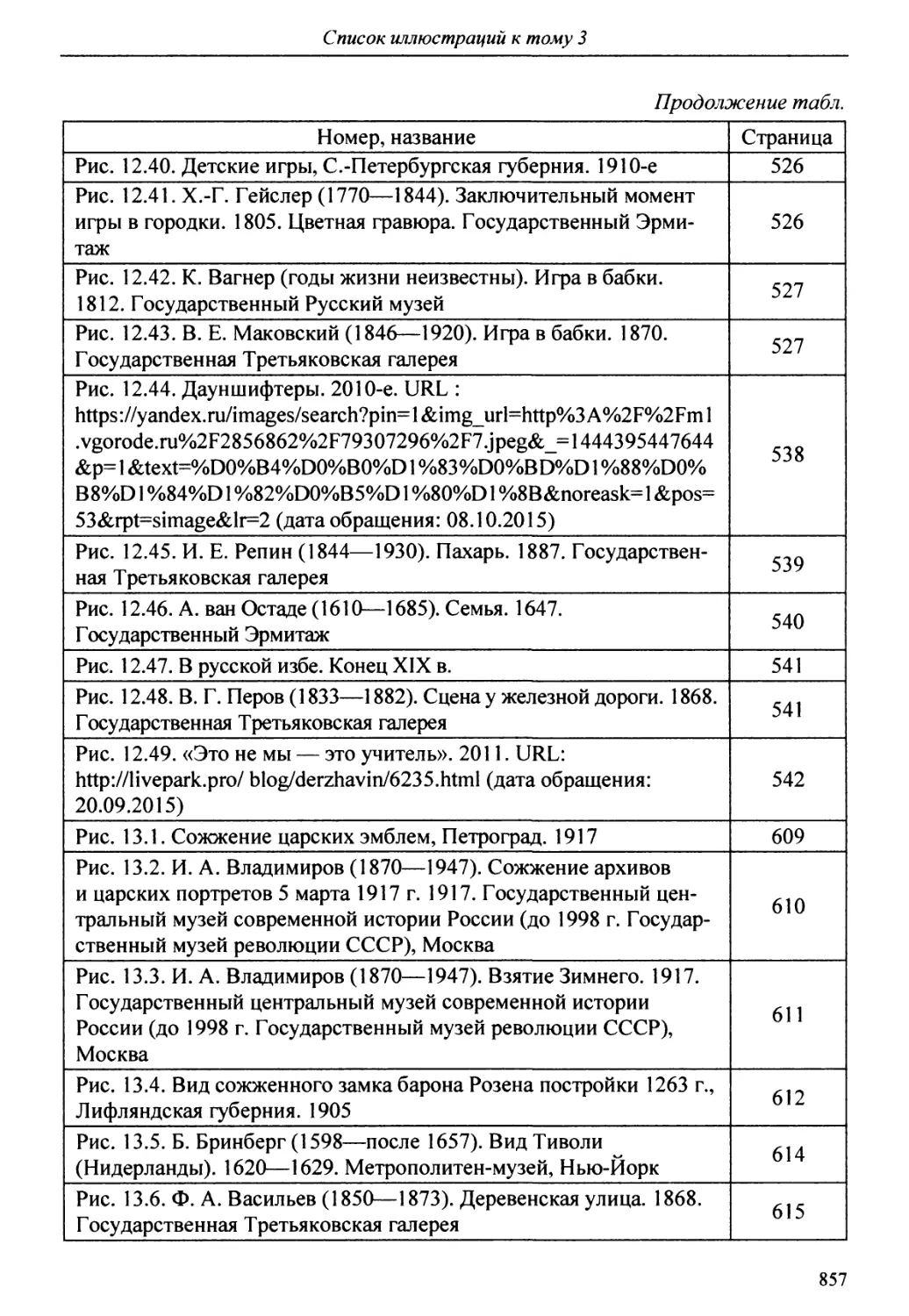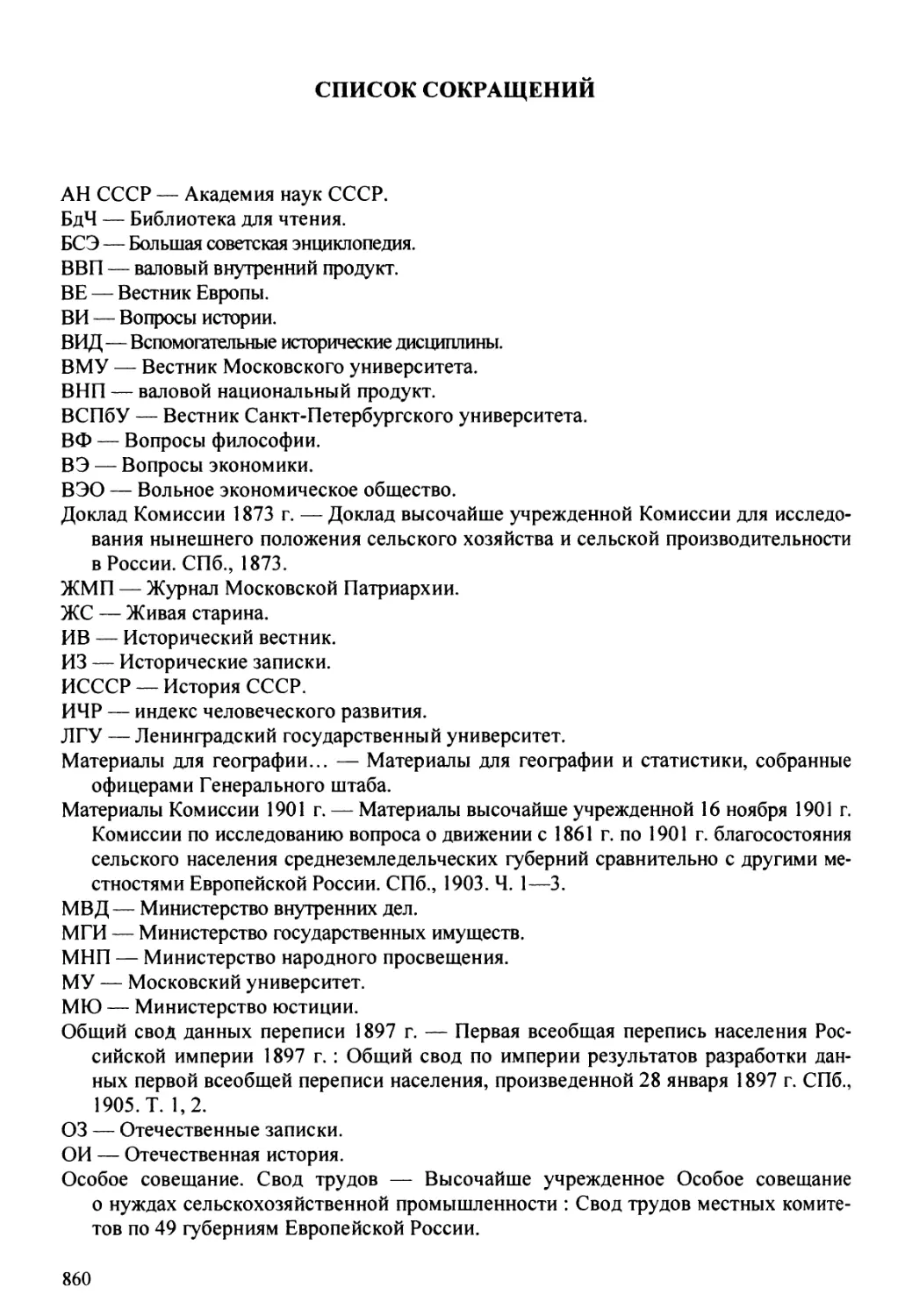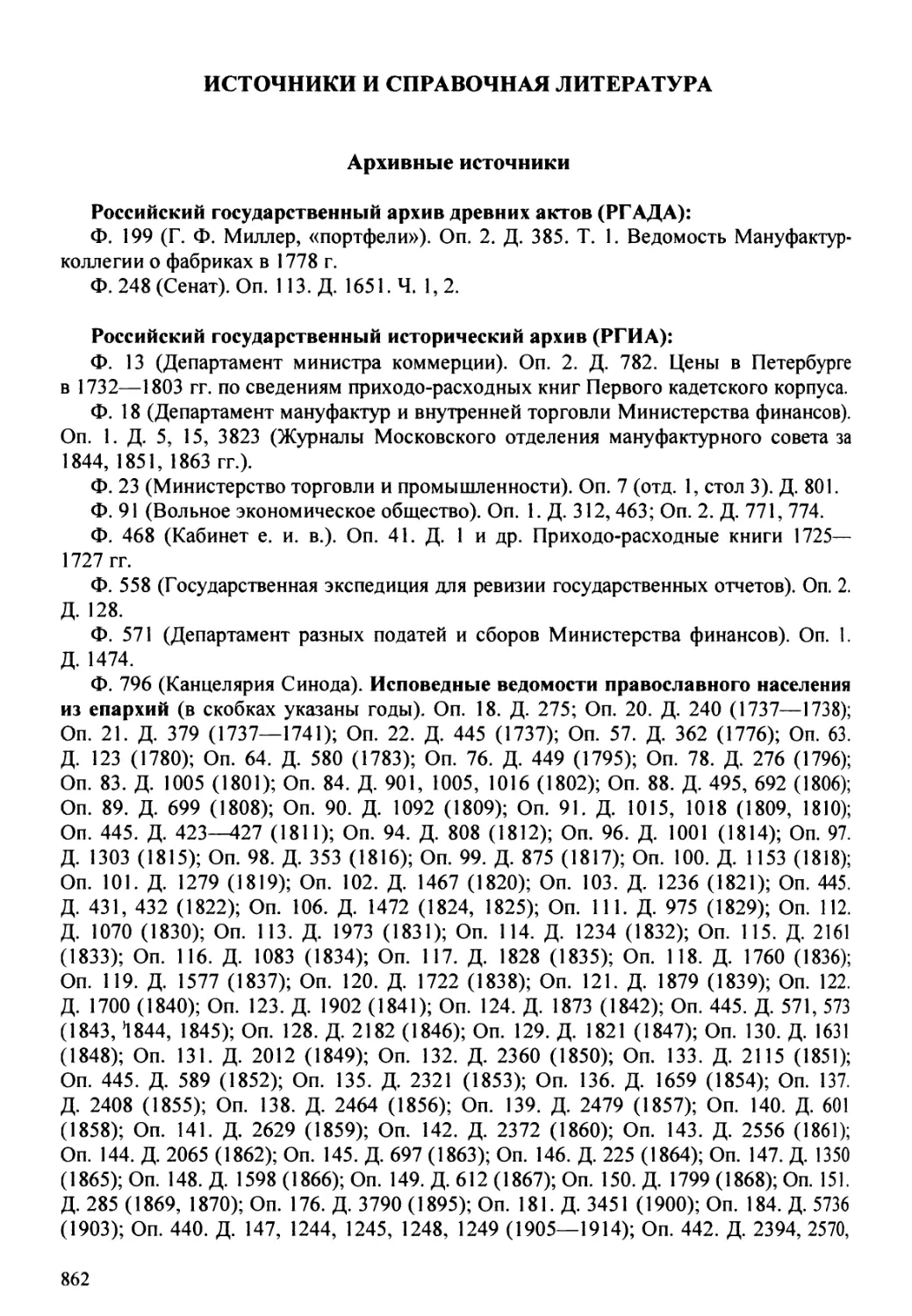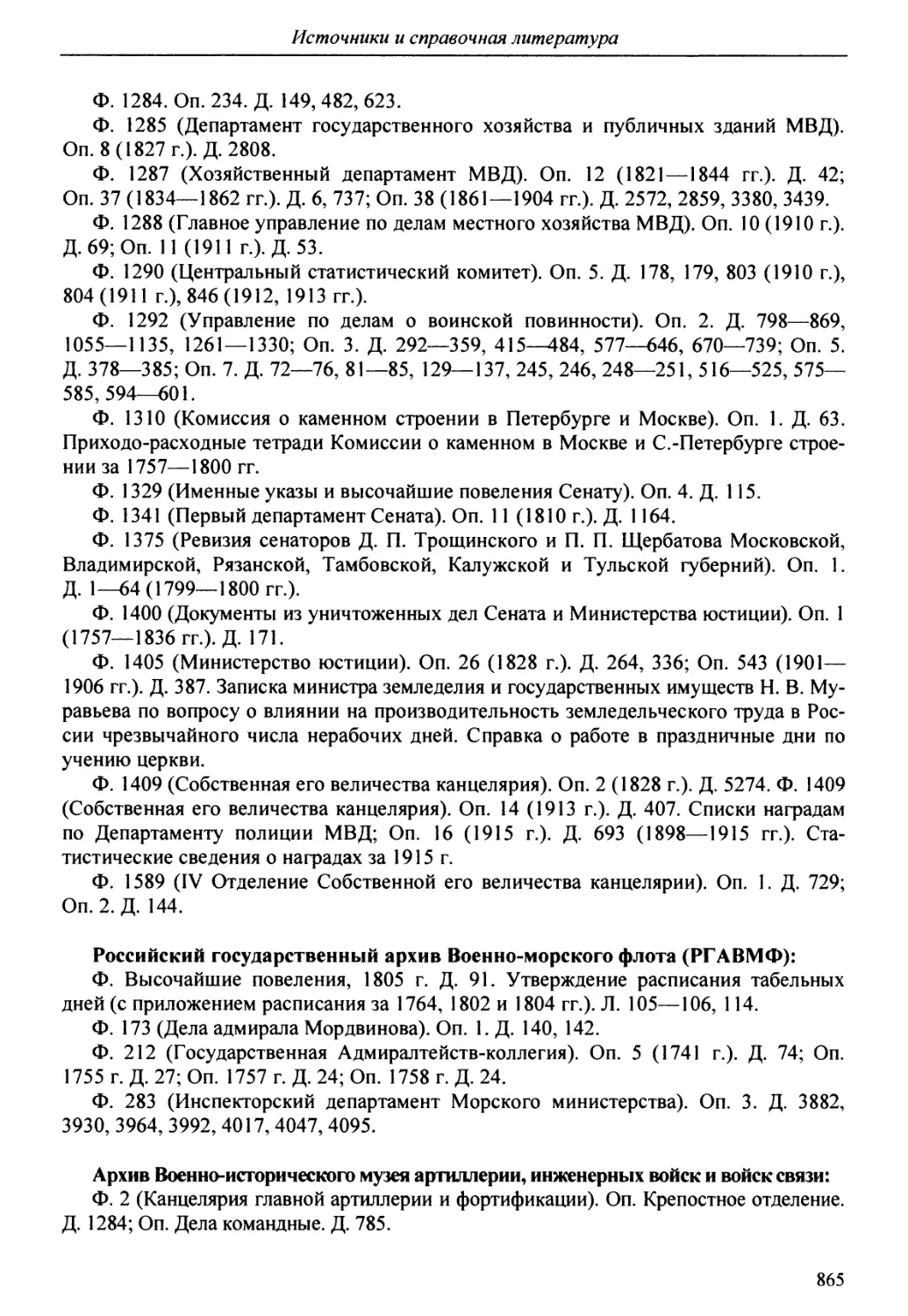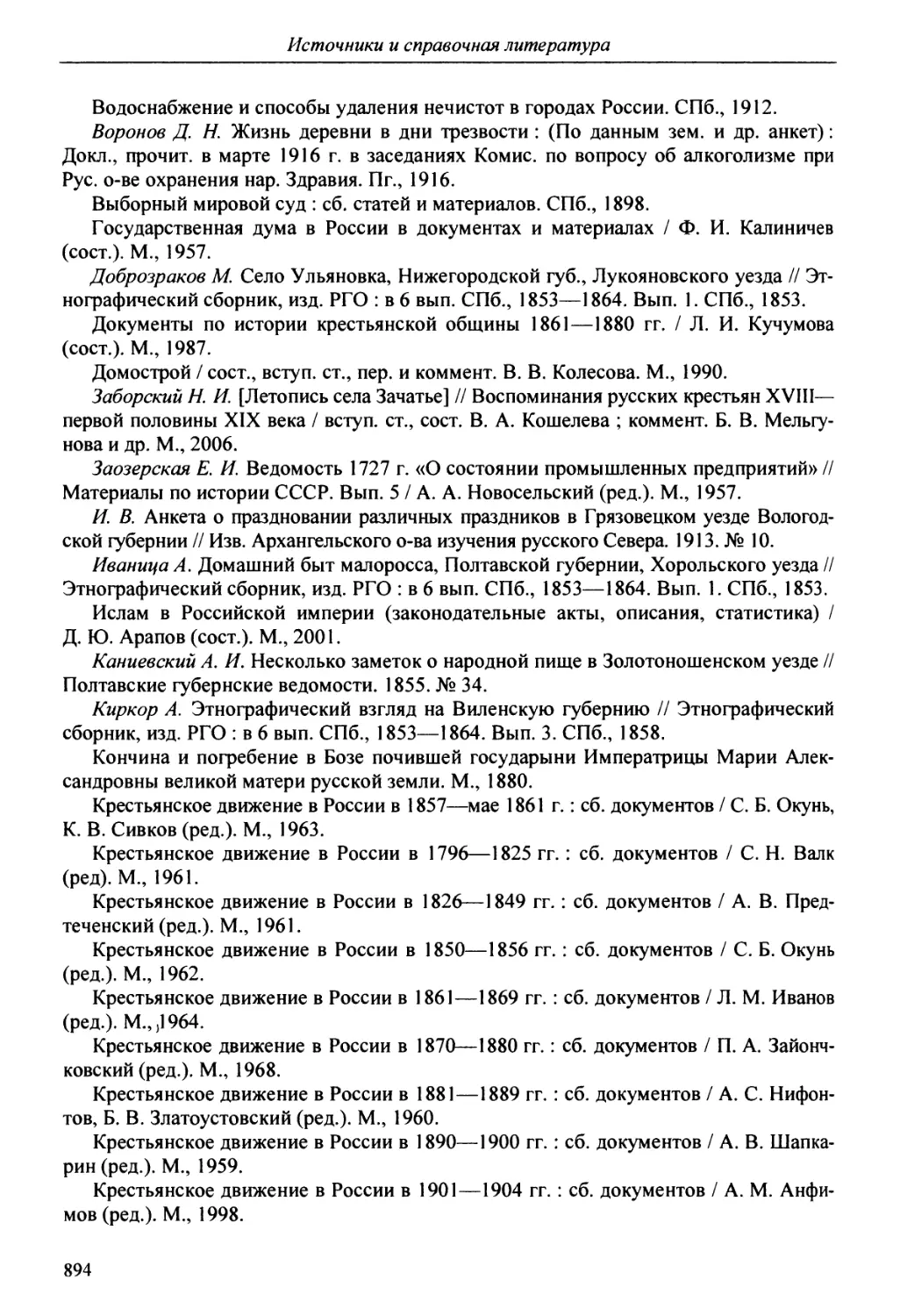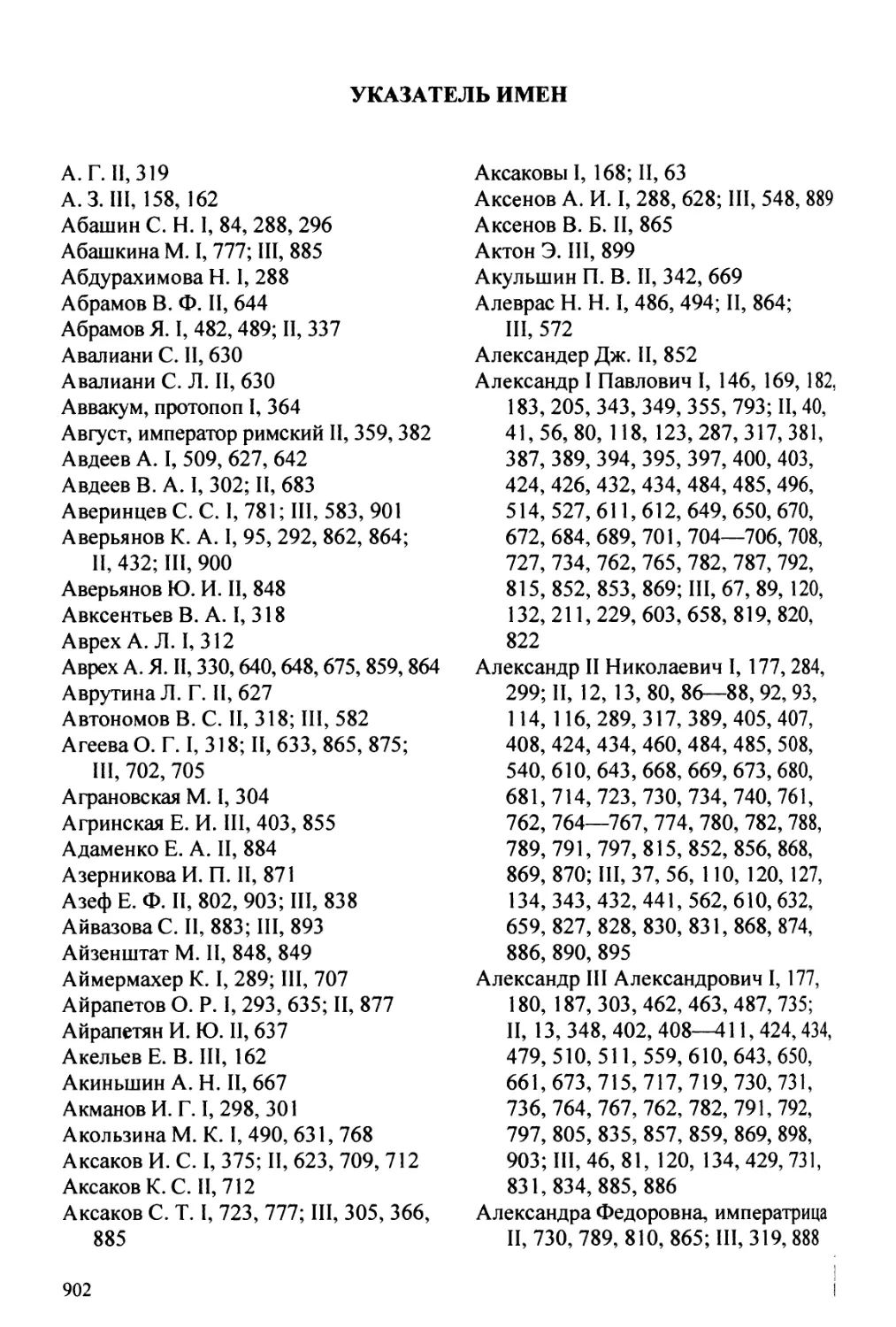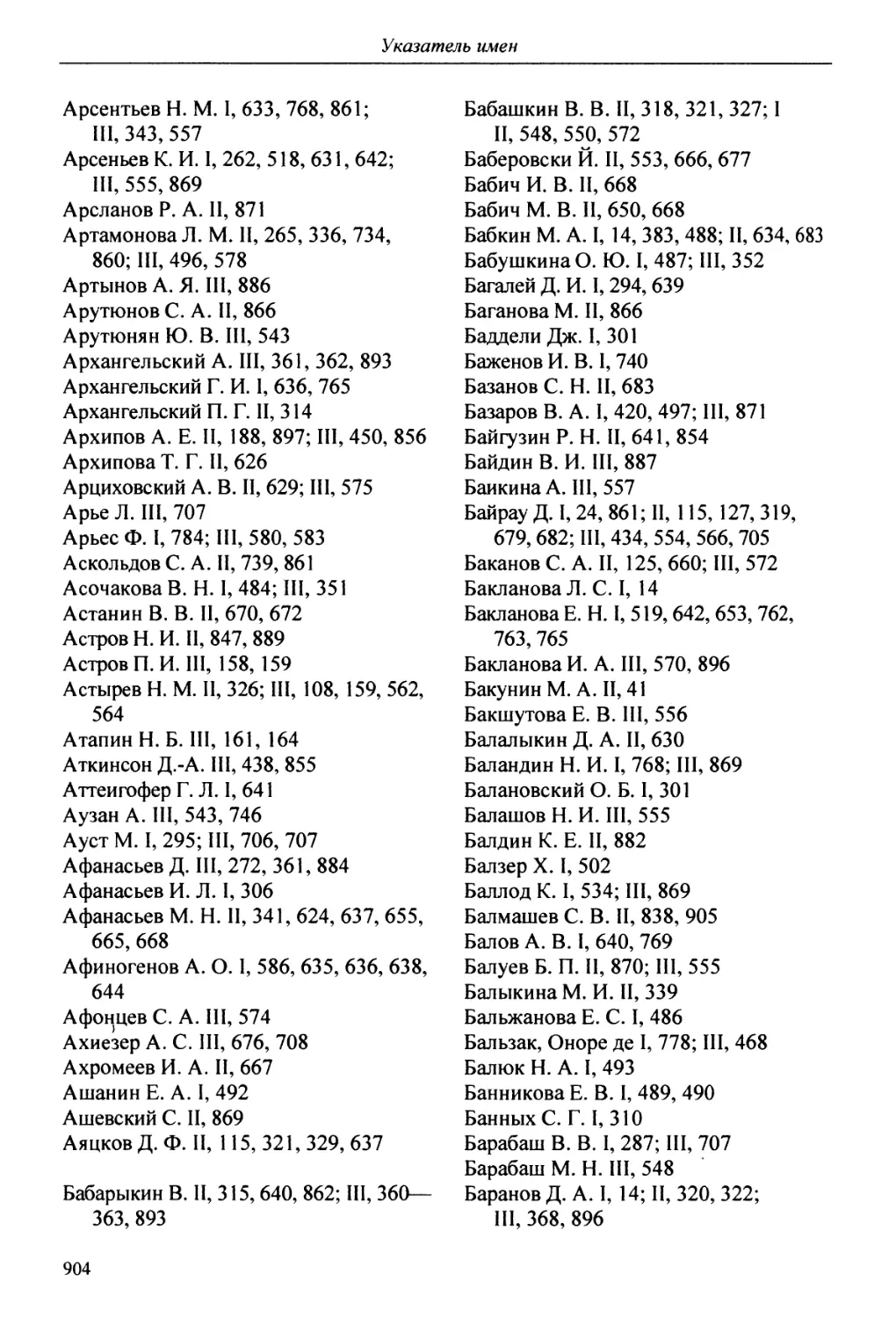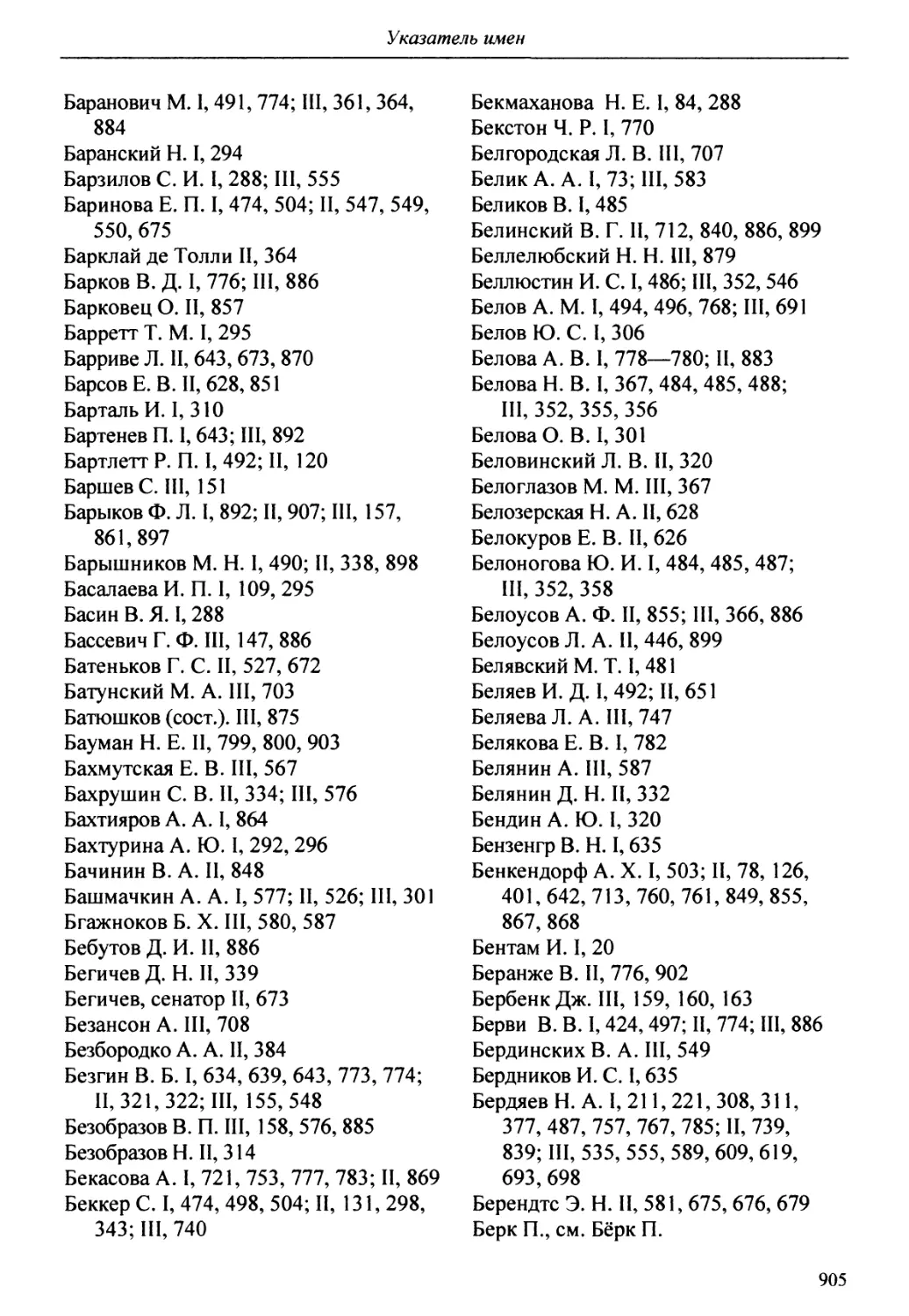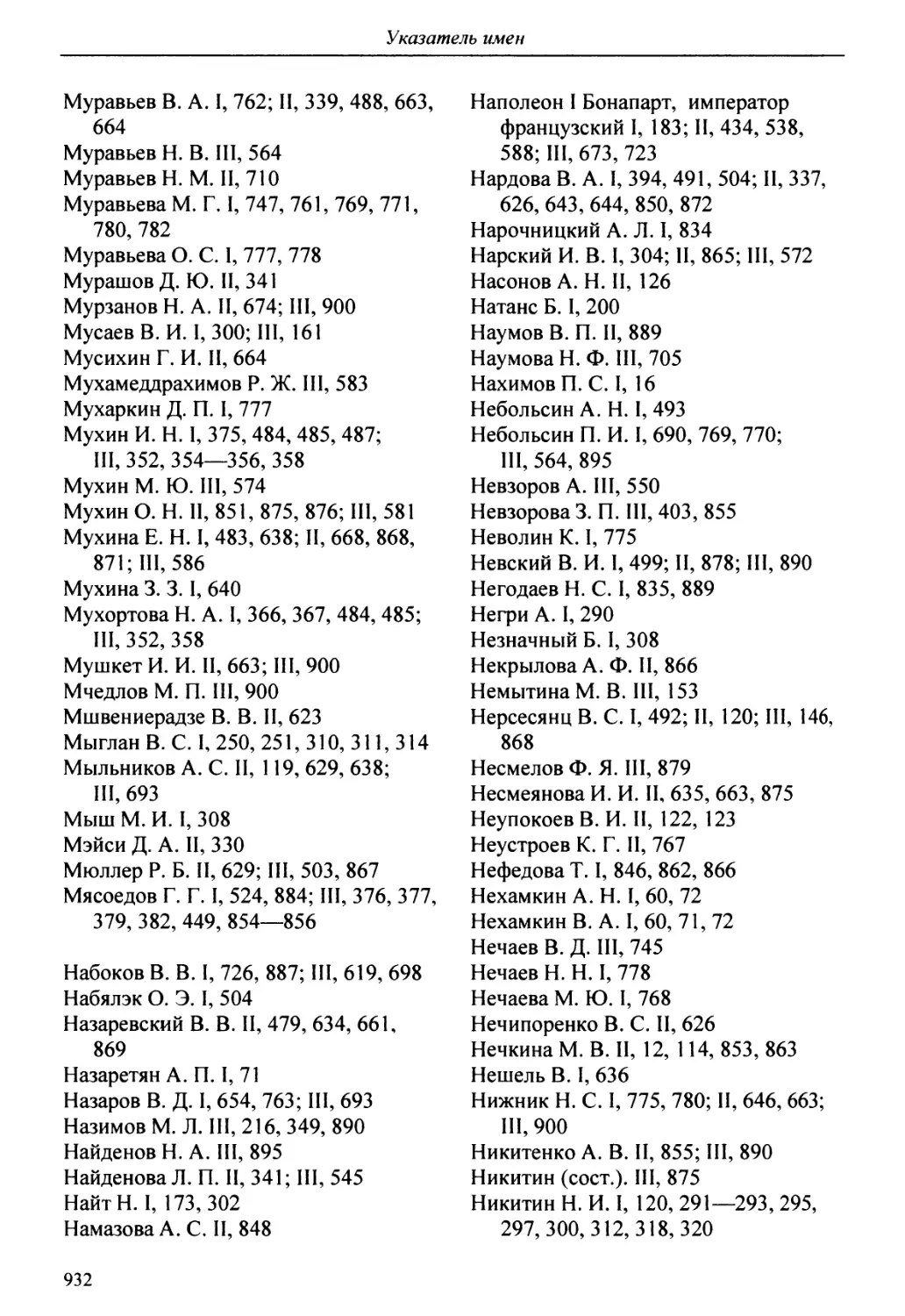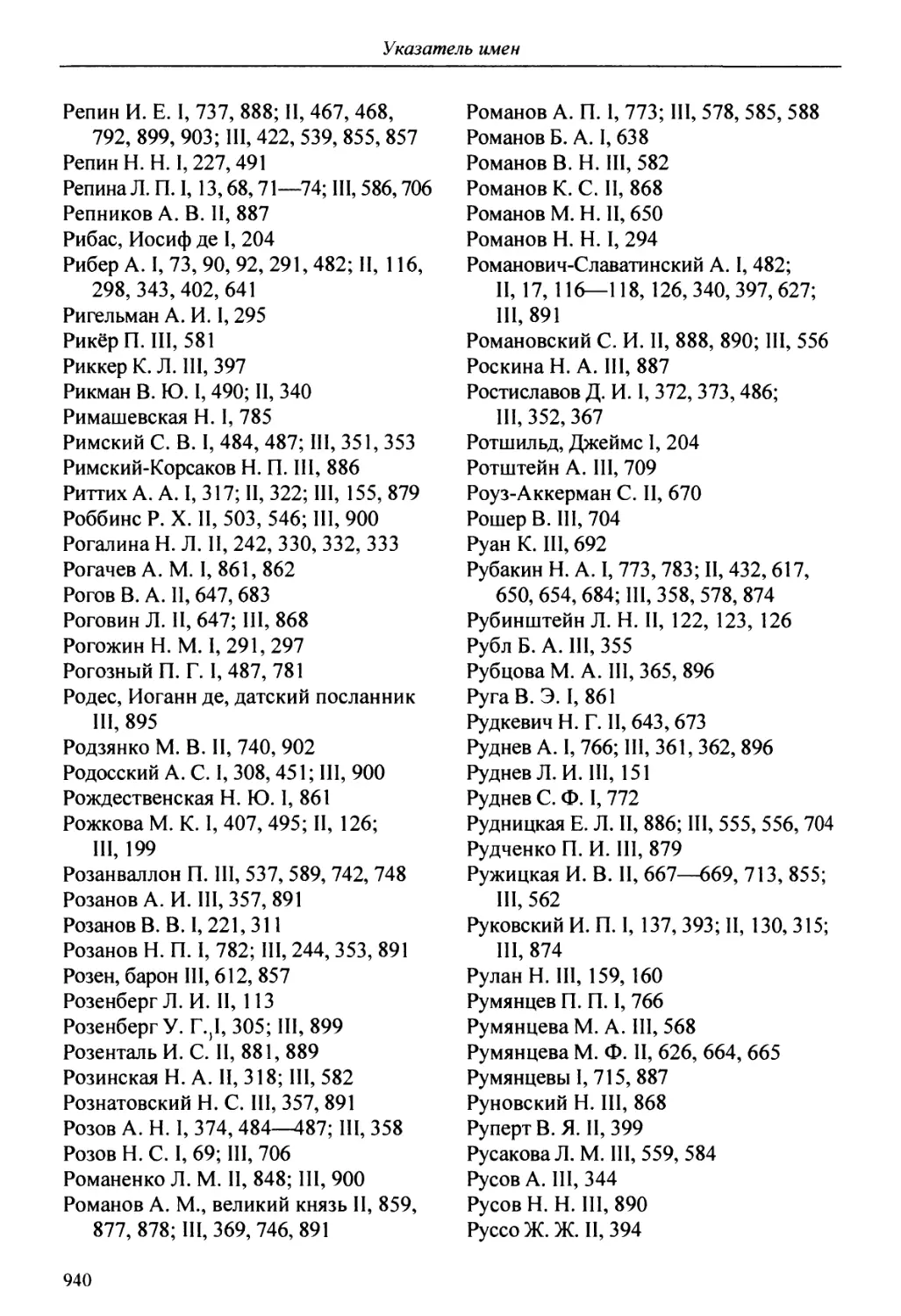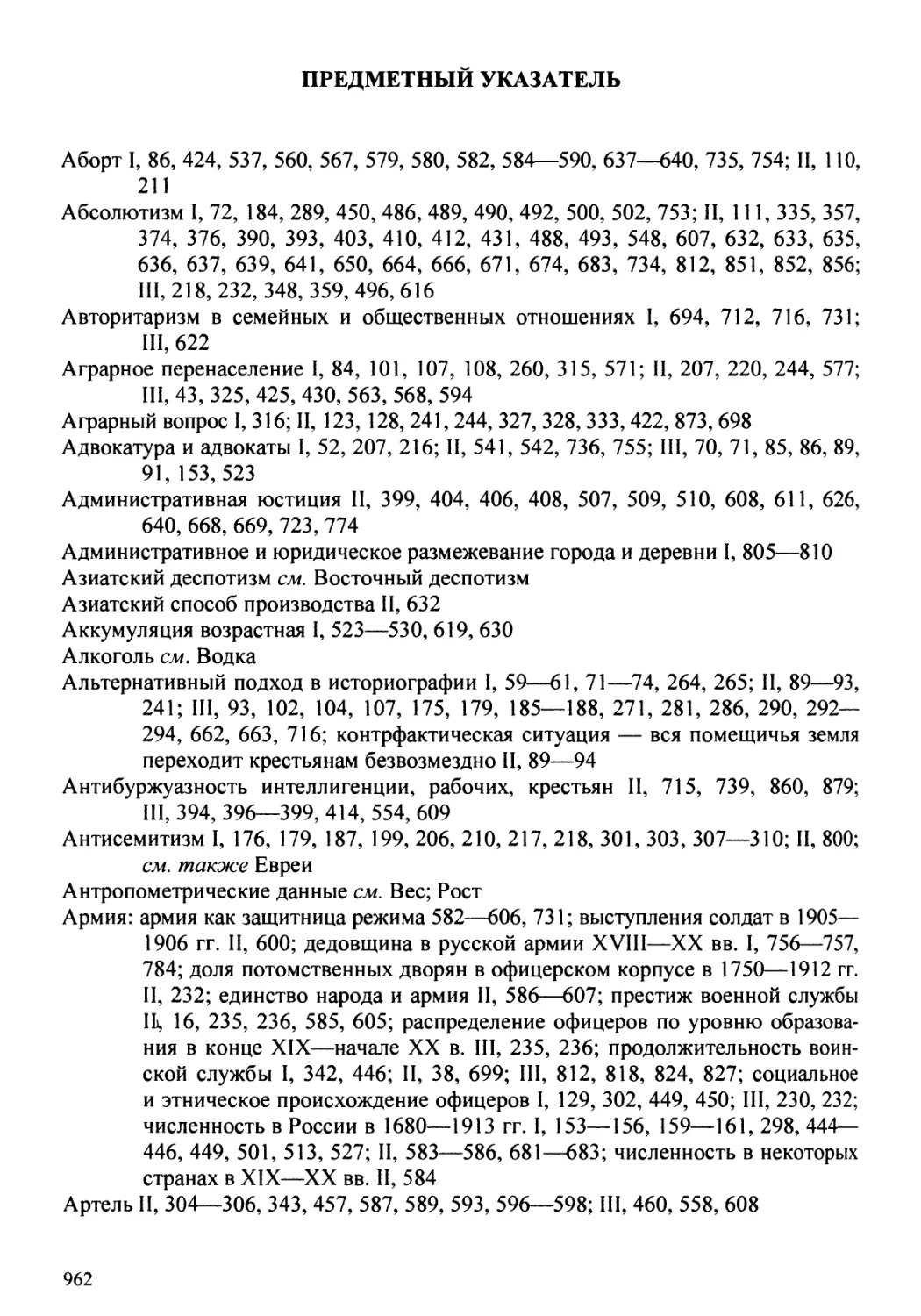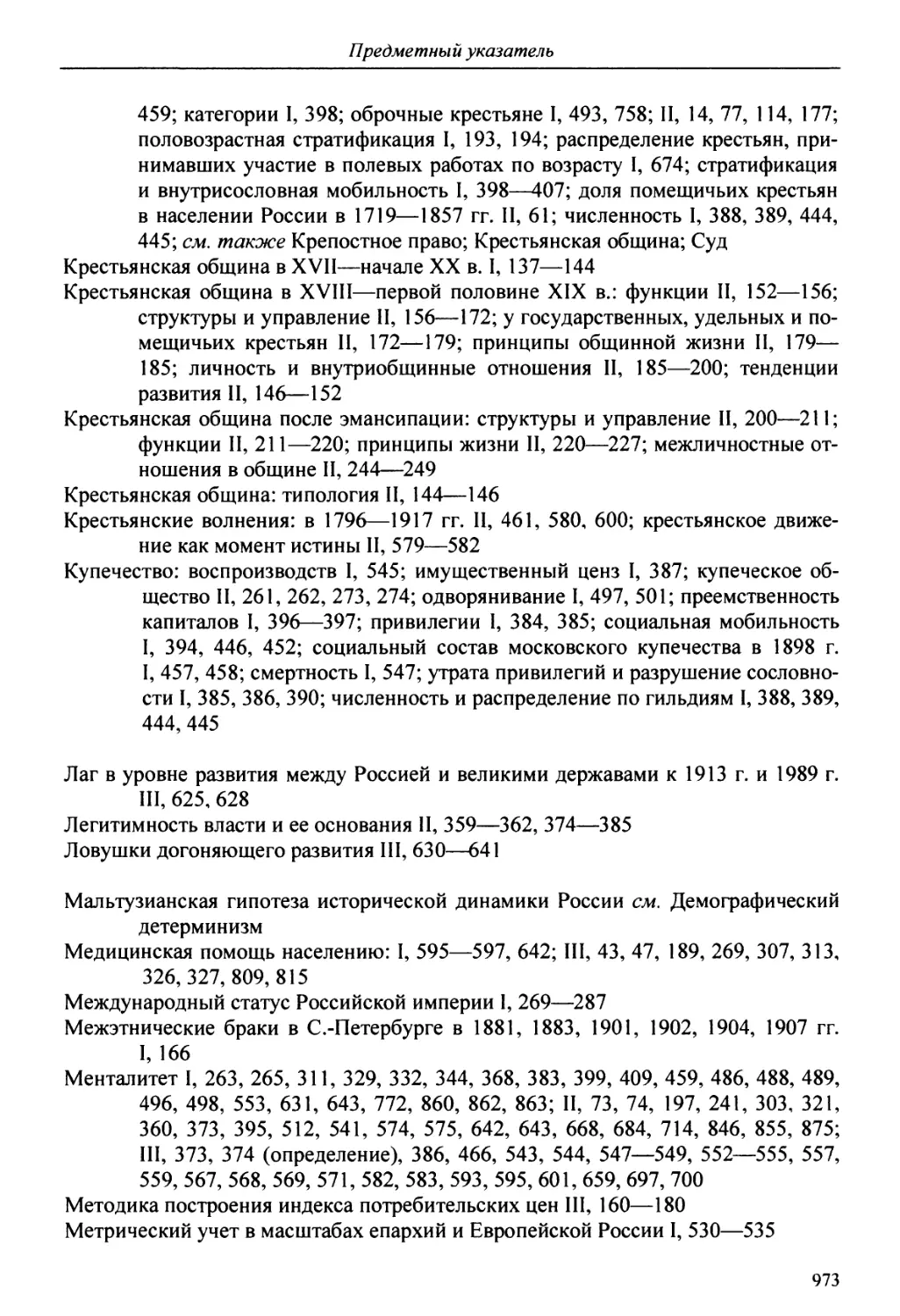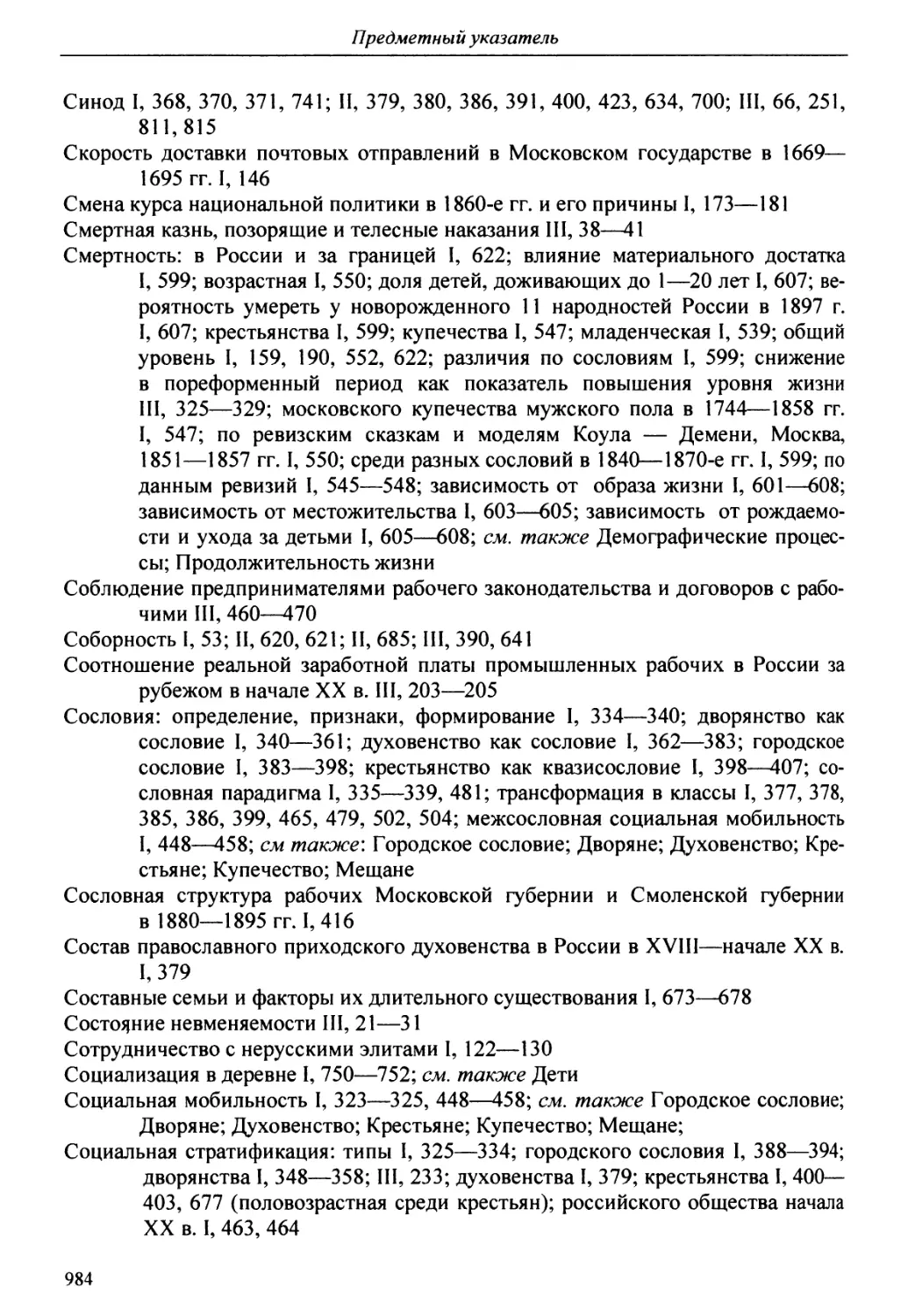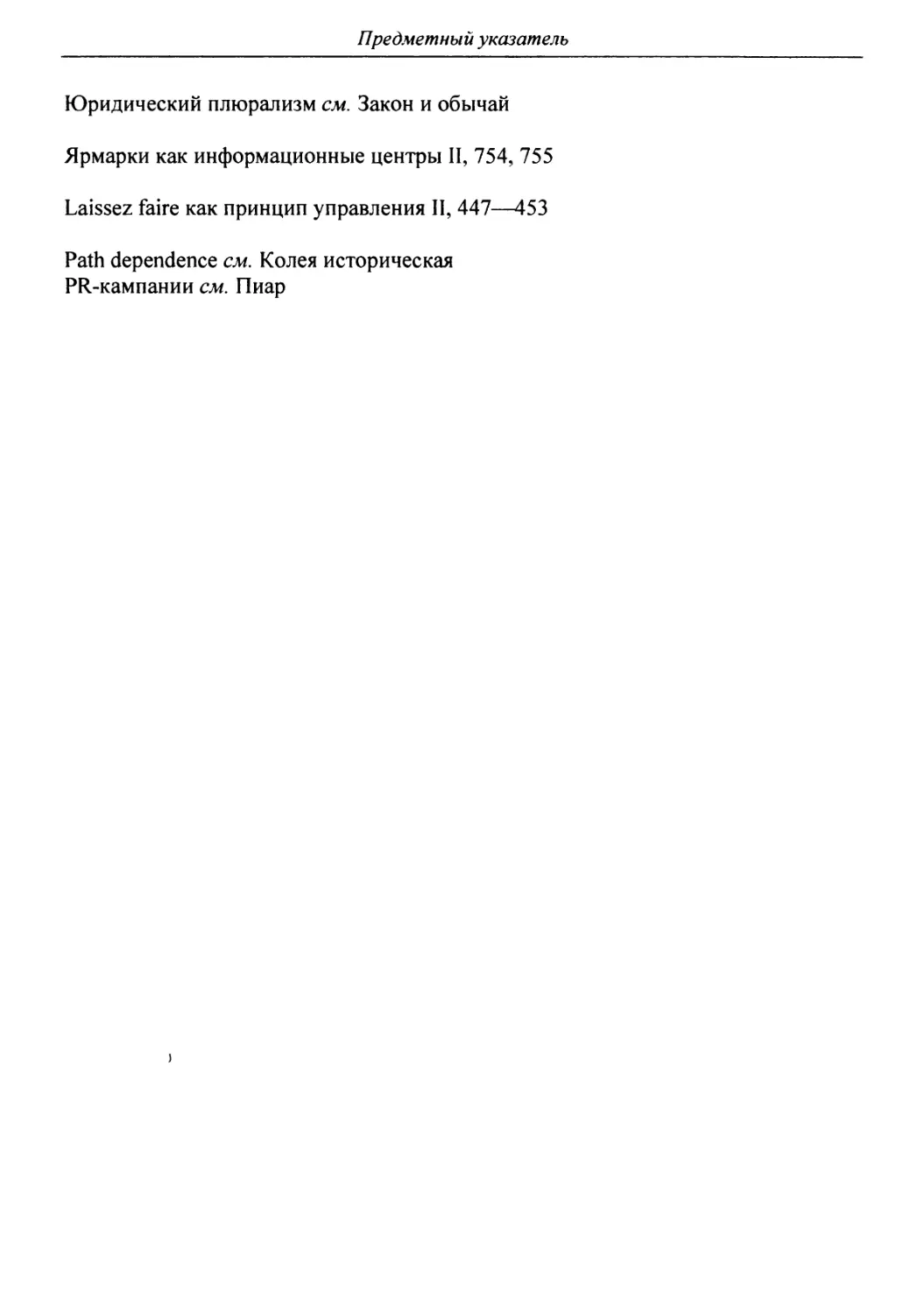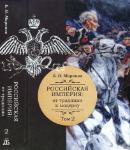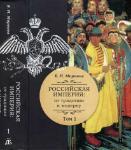Author: Миронов Б.Н.
Tags: всеобщая история история российского государства история российская империя
ISBN: 978-5-86007-725-6
Year: 2015
Text
от традиции
Б. Н. Миронов
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ:
от традиции
к модерну
Том 3
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Б. Н. Миронов
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:
ОТ ТРАДИЦИИ
К МОДЕРНУ
В трех томах
Том 3
Санкт-Петербург
2015
УДК 94(47) Рецензенты'.
ББК 63.3(2) доктор социологических наук, профессор Ю. В. Веселов
М64 (Санкт-Петербургский государственный университет);
доктор исторических наук, профессор С. Г. Кащенко
(Санкт-Петербургский государственный университет);
доктор философских наук, профессор В. В. Козловский
(Санкт-Петербургский государственный университет);
доктор исторических наук И. В. Лукоянов (Санкт-Петербургский институт истории РАН)
Рекомендовано к печати
Ученым советом факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета;
Ученым советом Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук
Миронов, Б. Н.
М64 Российская империя: от традиции к модерну : в 3 т. / Б. Н. Миронов. — Т. 3. — СПб. :
ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. — 992 с.
ISBN 978-5-86007-725-6
ISBN 978-5-86007-786-7 (т. 3)
Единственное в мировой историографии комплексное системное обобщающее исследование социальной
истории России с конца XVII в. до 1917 г. Под углом зрения модернизации рассмотрен широкий круг про¬
блем: колонизация, территориальная экспансия и национальный вопрос, демографические проблемы и пере¬
ход от традиционной к современной модели воспроизводства населения, демократизация внутрисемейных
отношений, социальная структура и социальная мобильность населения, город и деревня в процессе урбани¬
зации и индустриализации, развитие крепостнических отношений от генезиса до падения, эволюция сельской
и городской общин, городских и дворянских корпораций, менталитет различных сословий как важный фактор
социальной динамики, народная культура в коллективных представлениях, эволюция российской государст¬
венности от патриархальной к конституционной монархии, становление гражданского общества и правового
государства, взаимодействие общества и государства как движущая сила социальных изменений, смена типа
господствующих правовых отношений в обществе и динамика преступности.
По-новому трактуются такие принципиальные проблемы российской истории, как роль географиче¬
ской среды, возникновение и отмена крепостного права, русская сельская община, реформаторский про¬
цесс, изменение благосостояния населения, Столыпинская аграрная реформа, предпосылки и причины
российской революции 1917 г.
В книге разрушаются распространенные негативные мифы о России, предлагается принципиально но¬
вая концепция периода империи и новая концепция русских революций начала XX в.
Свежие интерпретации не являются спекуляциями, которыми перенасыщена современная литерату¬
ра, — они основываются на строгом научном анализе огромного фактического материала, включая новые
архивные данные и массовые статистические источники. Автор использует методологию современной
социальной науки, применяет междисциплинарный и сравнительно-исторический подходы.
Текст органично включает богатый табличный и иллюстративный материал, благодаря чему ориги¬
нальная авторская концепция реализуется как триединство нарратива, статистики и иллюстраций, допол¬
няющих друг друга.
Книга содержит уникальное статистическое приложение «Россия и великие державы в XIX—XX вв.».
Представляет интерес для историков, социологов, экономистов, политологов, журналистов и всех лю¬
бителей отечественной истории.
^ УДК 94(47)
з ББК 63.3(2)
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012—2018 годы)»
Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и каки¬
ми бы то ни было средствами, включая фотокопирование, размещение в Интернете и запись на магнитный носитель,
без письменного разрешения владельца. Цитирование без ссылки на источник запрещено. Нарушение прав будет преспе-
доваться в судебном порядке согласно законодательству РФ.
ISBN 978-5-86007-786-7 (т. 3)
ISBN 978-5-86007-725-6
© Миронов Б. Н., 2015
© ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМОВ 1—3
Том 1
От автора
Предисловие
Введение. Концепции и парадигмы в современной историографии
Глава 1. Колонизация и ее последствия
Глава 2. Социальная стратификация и социальная мобильность
Глава 3. Демографическая модернизация
Глава 4. Семья и внутрисемейные отношения
Глава 5. Город и деревня в процессе модернизации
Том 2
Глава 6. Крепостное право: от зенита до заката
Глава 7. Община и самоуправление как доминирующие формы организации
социальной жизни
Глава 8. Государственность и государство
Глава 9. Общество, государство, общественное мнение
Том 3
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Глава 11. Уровень жизни
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Заключение
Статистическое приложение. Основные показатели развития России сравнительно
с другими странами в XIX—XX вв.
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
Источники и справочная литература
Указатель имен
Предметный указатель
ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 3
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание 9
Основные правовые системы 11
Уголовное право 12
Источники права 12
Основные понятия уголовного права в их историческом развитии 13
Понятие преступления 13
Субъект и объект преступления 21
Состояние невменяемости 27
Номенклатура составов преступлений 31
Наказания и пенитенциарная система 33
Смертная казнь, позорящие и телесные наказания 38
Каторга и ссылка 41
Заключение в тюрьму и пенитенциарная система 43
Гражданское право 49
Источники гражданского права 49
Субъекты гражданского права 50
Обязательственное право 50
Наследственное право 54
Вещное право 55
Семейное право 56
Судоустройство и процессуальное право 59
Судебные власти и судопроизводство 60
XI—XVII вв 60
XVIII—первая половина XIX в 64
1864—1913 гг 69
Об объективности и суровости судебных приговоров 72
Раскрываемость преступлений 73
Коррупция 74
Волокита 77
Жалобы, апелляции и отмененные приговоры судов 82
Обычное право 91
Обычное уголовное право 92
Понятие преступления 92
Наказание 95
Обычное гражданское право 97
Вещное право 98
Обязательственное право 98
Наследственное право 99
Семейное право 101
Суд и процесс 102
5
Оглавление
Обособленность крестьян от общего правопорядка 105
Преступность в России в XIX—начале XXI в 109
Источники данных о преступности и методика их обработки 111
Динамика и структура преступности 117
Факторы преступности 132
Преступность за три столетия: социальная патология
или прыжок в будущее? 137
Итоги: к установлению господства закона 144
Примечания 146
Глава 11. Уровень жизни 167
Методика построения индекса потребительских цен 169
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг 180
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в 191
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского
духовенства 206
Жалованье чиновников 208
Жалованье офицеров 221
Доходы приходского духовенства 238
Требоисполнение 240
Жалованье от прихода 248
Обеспечение причта жилищем 251
Г осу дарственная поддержка 251
Суммарные доходы 254
Причины недовольства духовенства своим
материальным положением 258
Кому и когда в России жилось хорошо 264
Питание, здоровье и биологический статус населения 270
Питание горожан в середине XIX в 270
Питание горожан в начале XX в 280
Питание крестьян в XVIII—первой половине XIX в 284
Питание крестьян в пореформенный период 293
Вес и индекс массы тела 300
Питание привилегированных слоев населения 301
Питание детей в начале XX в 313
Воинский брак, здоровье и рост населения 321
Смертность 325
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения 329
Примечания 341
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях 371
Коллективные представления крестьянства и городских низов
в крепостное время 375
Крестьянство 375
Городские низы 381
6
Оглавление
Коллективные представления крестьянства и городских низов
в пореформенное время: традиция против модерна 386
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии
в пореформенное время 396
Отцы и дети 401
Секуляризация сознания 404
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник 414
Трудовая этика крестьян 416
Праздники и рабочие будни 416
Отношение к труду и трудовому соглашению 442
Трудовая этика рабочих 453
Соблюдение предпринимателями рабочего законодательства
и договоров с рабочими 460
Сколько надо работать, чтобы быть богатым и счастливым 470
Человеческий капитал России за 1000 лет 474
Развитие грамотности в России с X до конца XIX в 474
Ретросказание грамотности за 1797—1917 гг. по данным
переписей населения 478
Грамотность в России и Прибалтике в 1797—1897 гг.:
поучительные сравнения 485
Динамика грамотности в России за 1000 лет 487
Человеческий капитал в России и на Западе: отставание
и его причины 490
Рецидив безграмотности versus миф о враждебности царизма
просвещению 496
Психологические, социальные и политические последствия
низкой грамотности 501
Мифологический и рациональный тип сознания 504
Особенности поведения русского крестьянина сквозь
призму его психического склада 513
Итоги: как быть счастливым? 536
Примечания 543
Глава 13. Итоги развития России в период империи 591
Итоги развития 593
Россия и Европа: общее и особенное 603
Россия и Европа: разные часовые пояса 612
Россия и Запад: ловушки догоняющего развития 630
Россия и Запад: идеальные образы в виртуальной реальности 641
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов 649
Модернизационная парадигма 1: от механической к органической
солидарности 665
Модернизационная парадигма 2: от традиции к модерну 669
Какой подход предпочтительней? 671
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации .... 676
7
Оглавление
Предпосылки и причины Русской революции 1917 г 676
Революции в ракурсе модернизационной парадигмы 679
Примечания 691
Заключение. Чему учит нас история имперской России 711
Досоветская, советская и постсоветская история: преемственность
и изменения 713
Что способствовало модернизации 718
Что препятствовало модернизации 726
Уроки революций 732
Делает ли модернизация человека счастливее? 739
Примечания 744
Статистическое приложение. Основные показатели развития России
сравнительно с другими странами в XIX—XX вв 749
Список источников, использованных при составлении таблиц
Статистического приложения 802
Хронология основных событий социальной истории России
XVIII—начала XX в 807
Список таблиц к тому 3 841
Список иллюстраций к тому 3 851
Список сокращений 860
Источники и справочная литература 862
Указатель имен 902
Предметный указатель 962
j
ГЛАВА 10
ПРАВО И СУД,
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Страх перед людьми — вот источник любви к законам.
Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715—1747)1
Высшая законность — это высшее беззаконие.
Цицерон. Об обязанностях. I, 10, 33
В предыдущих главах книги затрагивались различные отрасли права, за ис¬
ключением уголовного и процессуального, но не систематически, а в связи с со¬
циальной структурой общества, образованием сословий, браком и разводом,
положением членов семьи, крепостничеством, государственностью и другими
проблемами. Настало время ответить на вопрос, насколько успешно выполняли
свои функции право и юстиция в России. С этой целью в данной главе будет дан
краткий очерк истории судебных учреждений, процессуального и уголовного
права, проведено сравнение официального права с обычаем. Кроме того, будет
рассмотрена история преступности и пенитенциарной системы в XIX—начале
XX в. и сделана оценка быстроты и объективности судебных приговоров.
В очерках по истории права придется заглянуть в XII—XVII вв., так как древние
нормы права сохранялись в обычном праве до конца императорского периода2.
Основные правовые системы
В зависимости от источников права различные правовые системы можно свести
к трем типам: 1) обычному праву; 2) судебному праву, основанному на судебном
решении; 3) законодательному праву. В традиционных обществах, в которых до¬
минирует обычное право (например, в настоящее время страны третьего мира), на
первом плане находятся традиции и коллектив, нормы права тесно связаны с рели¬
гией и моралью. Обычное право формируется практикой, процесс его выработки
носит спонтанный, коллективный характер; оно формально не фиксируется, вслед¬
ствие чего доказать наличие в нем той или иной нормы не всегда легко.
Судебное право в некоторых обществах, например в Англии, также представ¬
ляло собой первоначальный источник права. Однако его удельный вес в право¬
творчестве снижался по мере того, как общественным органам власти удавалось
заранее разработать общие, абстрактные нормы права, а также в той степени,
в какой возрастали объем и значение законодательства. Одновременно функции
судьи все более специализировались и ограничивались. Суд все больше стано¬
вился органом применения, а не создания правовых норм. Судебное решение
создавало норму права только в том случае, если оно исходило от высшего су¬
дебного органа, компетентного окончательно разрешить возникший спор.
Если обычное право есть результат стихийного создания права, то законода¬
тельство — результат целенаправленного правотворчества, осуществляемого
11
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
компетентными органами с соблюдением специальной процедуры, это предуста¬
новленное, формально выраженное в письменной форме право. Его содержание
может быть определено весьма точно. Законодательное право налицо тогда, ко¬
гда юридическая норма устанавливается узаконенным официальным путем, но¬
сит всеобщий характер и доведена до общества посредством опубликования. Это
способ непосредственного создания юридических норм3.
В России в течение императорского периода действовали законодательное
и обычное право, сферой приложения первого был преимущественно город, вто¬
рого — деревня, точнее — крестьянство. Для того чтобы получить представление
о том, как функционировало право, необходимо познакомиться с тем и другим
и сравнить их.
Уголовное право
Источники права
Формально и фактически Соборное уложение 1649 г. действовало до 1835 г.,
когда был введен в действие Свод законов Российской империи, 15-й том которого
заключал уголовное законодательство (во избежание путаницы напомню, что Свод
законов был подготовлен в 1832 г. и, хотя вошел в силу в 1835 г., считается Сводом
законов 1832 г.). В 1845 г. вступило в силу Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных. В течение почти столетнего периода Соборное уложение по¬
стоянно дополнялось новыми указами, регламентами и уставами, которые нередко
входили в противоречие с прежде изданными. Например, в петровское царствова¬
ние важное значение имели «Воинские артикулы» 1715 г., которые являлись со¬
ставной частью Воинского устава и касались вопросов о преступлениях военно¬
служащих и наказаниях за них. На практике «Воинские артикулы» применялись
и в отношении гражданских лиц, в особенности за совершение государственных
и служебных преступлений. В царствование Екатерины II важное значение имели
Наказ Екатерины членам Комиссии для составления нового Уложения 1767 г., Уч¬
реждение для управления губерний 1775 г., Устав благочиния 1782 г., Жалованная
грамота дворянству и Жалованная грамота городам 1785 г. В 1864 г. Уложение
о наказаниях 1845 г. было дополнено Уставом о наказаниях 1864 г. и значительно
изменено при переиздании его в 1885 г. В 1903 г. было утверждено новое Уголов¬
ное уложение, которое стало постепенно, по отдельным частям, входить в силу
с 1904 г.4 Вследствие этого 15-й том Свода законов, который включал уголовное
право, тоже действовал в тех своих частях, которые еще не упразднялись новым
Уголовным уложением. После принятия Основных законов, которые являлись рос¬
сийской конституцией, и учреждения Государственной думы в 1906 г. нормы Уго¬
ловного уложения 1903 г. и Уложения о наказаниях 1845 г. подверглись ревизии,
приводились в соответствие с конституцией, дополнялись новыми положениями.
Это продолжалось до 1916 г., когда был в последний раз издан 15-й том Свода за¬
конов Российской империи, включавший Уложение о наказаниях уголовных и ис¬
правительных (с дополнениями и исправлениями) и Уголовное уложение (с новы¬
ми и дополнительными статьями), введенными в действие.
12
Уголовное право
До издания Свода законов в 1832 г. судьи пользовались разными сборниками
законов и полагались на память: «Что касается до законов уголовных, относя¬
щихся как до следствий, так и до решения дел, напрасно думают, что до издания
Свода трудно было узнать их, — указывает М. А. Дмитриев, работавший судьей
в 1825—1833 гг. — Их было не так много, как воображают, ибо из всей кипы
старых законов в ходу были немногие. Из всего “Уложения” царя Алексея Ми¬
хайловича нужна была только 10-я глава, потом — для следствий — “Воинские
процессы Петра Великого”, а для решения дел “Воинские артикулы”, отчасти
Воинский и Морской уставы. Из всех названных мною томов применялись толь¬
ко несколько пунктов, которые мы знали наизусть. <...> Потом манифест Екате¬
рины, кажется, 1784 года, разделяющий воровство на четыре степени: разбой,
грабеж, кража и мошенничество; и знаменитый ее же манифест 1787 года о спо¬
койствии, или о поединках. Две-три статьи Наказа и немногие законы Александ¬
ра: вот и все»5. Это со всей очевидностью показывает: в России до 1830-е гг. су¬
ществовал огромный дефицит законов, что не позволяло правительству, при всем
его желании, регламентировать все области общественной жизни.
Основные понятия уголовного права в их историческом развитии
Основные понятия уголовного права со временем претерпевали важные изме¬
нения. Их изучение представляет большой интерес, поскольку в них отразились
перемены в социальных отношениях, а также в общественных взглядах на лич¬
ность и криминальное поведение.
Понятие преступления
Современное понятие преступления заключает в себе два атрибута, или при¬
знака, — внешний и внутренний. Внешний атрибут — это совершение деяния,
воспрещенного законом, либо преступное упущение или бездействие, также пре¬
дусмотренное законом; внутренний атрибут — наличие у совершившего право¬
нарушение виновности, преступного намерения, или воли. Только при наличии
обоих признаков противоправное деяние считается преступным и подлежит на¬
казанию. Данное понятие преступления, связывающее противозаконное деяние
и преступную волю человека в единую систему, устанавливалось долго и посте¬
пенно. Уголовному праву XI—XIII вв. было чуждо понятие преступления как
нарушения закона. Преступление понималось как действие, направленное в пер¬
вую очередь против личности, как материальный, физический или моральный
ущерб, нанесенный отдельному человеку, во вторую очередь — как нарушение
общественного мира и спокойствия, а в некоторых случаях и как оскорбление
всего коллектива, к которому пострадавший принадлежал. Это следует из того,
что кроме возмещения убытка потерпевшему нарушитель платил штраф в пользу
общественной власти6. Однако в праве не проводилось различия между уголов¬
ным и гражданским нарушением, или деликтом, — всякое правонарушение рас¬
сматривалось как посягательство на материальные интересы потерпевшего,
а потому преследование нарушителя и его наказание принадлежали пострадавшей
13
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
стороне, и всякое уголовное дело могло оканчиваться примирением сторон.
В связи со специфическим пониманием преступного деяния в эту эпоху в зако¬
нодательных памятниках, например в Русской правде, преступное действие на¬
зывалось «обидой», хотя в русском языке того времени существовало и пришед¬
шее из греческого языка слово «преступление». «Обида» означала несправедли¬
вое притеснение, насилие, нарушение прав, оскорбление, а также материальное
притеснение и ущерб, в то время как под «преступлением» имелось в виду нару¬
шение закона, присяги (крестного целования), устава, заповеди, обета и т. п.,
а также проступок, грех, прегрешение7. Термин «обида» соответствовал тому,
что считалось в то время преступлением, — этим и объясняется предпочтение,
которое отдал законодатель слову «обида». Таким образом, хотя в законодатель¬
стве преступление рассматривалось как частно-общественное деяние, акцент де¬
лался на нарушении частных, а не общественных интересов8.
В XV—XVII вв. постепенно происходили изменения в понимании преступле¬
ния, которые кристаллизовались в Соборном уложении 1649 г., где преступление
стало трактоваться как нарушение царской воли и установленного государством
правопорядка, как посягательство на огражденные законом права частных лиц,
как антиобщественное деяние. В соответствии с новым пониманием преступле¬
ния преследование преступника и его наказание постепенно переходили от по¬
терпевшего и общины, к которой он принадлежал, к государству, а во всех делах,
хоть в какой-либо степени затрагивавших интересы последнего, Соборное уло¬
жение утвердило абсолютный приоритет государства в расследовании. Сущест¬
венно отметить, что государственные органы не только не прекращали дела, если
потерпевшая сторона мирилась с преступником, что широко практиковалось
в XI—XIII вв., но наказывали ее за это. Государство приняло на себя функцию
общественного мстителя. Для обозначения преступного деяния вместо «обиды»
стало использоваться словосочетание «лихое дело», которое означало плохой,
дурной, злой поступок, действие9. Именно этот термин, а не слово «преступле¬
ние» соответствовал пониманию преступного действия в законодательстве, кото¬
рое не проводило четкого разграничения между уголовным деянием и граждан¬
ско-правовым нарушением. Таким образом, хотя еще Судебник 1550 г. провоз¬
гласил закон единственным источником права, понятие преступления как нару¬
шения закона в XVI—XVII вв. не утвердилось. Тем не менее публично-правовое
воззрение на преступление вытеснило частноправовой взгляд, доминировавший
в XI—XIII вв., и в этом состояло значительное достижение уголовного права
XV—XVII вв.10
В законодательстве первой четверти XVIII в., в царствование Петра I, пре¬
ступное деяние впервые определялось как нарушение закона, но в понятие пре¬
ступления входило tame нарушение повелений самодержавной власти, посяга¬
тельство на государственные интересы, понимаемые очень широко. Сам импера¬
тор понимал преступления как «все то, что вред и убыток государству приклю¬
чить может». Данное понимание преступления было значительным шагом впе¬
ред, поскольку нарушение закона ставилось в центр понятия преступления. Не
случайно именно в петровском законодательстве — в «Воинских артикулах»
1715 г. преступное деяние получило наконец название преступления11. И все же
14
Уголовное право
Рис. 10.1. Телесные наказания в Европе в 1508 г. (сожжение, повешение, ослепление,
отсечение уха, отсечение головы, отсечение руки и другие истязания)
15
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
определение преступления в законодательстве Петра I и его ближайших преем¬
ников не позволяло отделить преступное деяние от гражданского деликта, так
как, во-первых, и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и порубка заповедного
леса являлись одинаково важными деяниями, заслуживавшими смертной казни,
ибо все они нарушали повеления самодержавной власти12, и, во-вторых, в законе
не было четко определено, какие именно деяния воспрещались под угрозой уго¬
ловного наказания. В силу этого на практике наказаниям нередко подвергались
лица за деяния, не запрещавшиеся законом, но противоречившие государствен¬
ным интересам, которые, учитывая противоречивость законов, каждый судья мог
понимать по-своему1 .
Екатерина II в Наказе, служившем руководством депутатам Комиссии для со¬
ставления проекта нового Уложения, учрежденной в 1767 г., дальше развила по¬
нятие о преступлении. Она определила преступление как деяние, запрещенное
законом, так как оно противоречит общему и частному благу. Из этого определе¬
ния следовало, что при квалификации деяния как преступного необходимо при¬
нимать во внимание два основания: (1) факт нарушения закона и (2) происходя¬
щий от него общественный и частный вред. Отказ от формального взгляда на
преступление, в соответствии с которым один факт совершения правонарушения
был достаточным для заключения о виновности человека в совершении преступ¬
ления, позволял более четко отделять преступление от гражданского нарушения,
или деликта. Екатерина II впервые сформулировала в том же Наказе (гл. 6,
ст. 41—42) принцип, согласно которому все, что не запрещено законом, то доз¬
волено. Новое понимание преступления нашло отражение в законодательстве.
Например, в Уставе благочиния 1782 г. проведено разграничение между поли¬
цейским нарушением, или проступком, не влекущим за собой уголовного наказа¬
ния, и преступлением в собственном смысле этого слова. Не все идеи Наказа бы¬
ли воплощены в жизнь, так как Комиссия по разным причинам не составила но¬
вого кодекса законов, но он оказал заметное влияние на правовое сознание обра¬
зованного общества и на судебную практику.
Понимание преступления как противозаконного действия было зафиксирова¬
но в 15-м томе Свода законов 1832 г. В Уложении о наказаниях 1845 г. данное
понятие было развито и приблизилось к современному пониманию преступле¬
ния. Преступное деяние определялось как наказуемое противозаконное действие,
а также неисполнение того, что под страхом наказания законом предписано. Из
этого следовало, что противоправность и определенная в законе наказуемость
являлись важнейшими признаками преступления, что наказание за преступление
должно находиться в точном соответствии с законом. Одновременно в общую
часть Уложения о наказаниях 1845 г. было внесено в качестве общего требования
указание о необходимости отличать уголовное преступление от деликта. Данное
определение преступления разделяли российские юристы конца XIX—начала
XX в.14, и оно вошло в Уголовное уложение 1903 г.
Важный аспект объективного нарушения закона состоял, как было указано,
в преступном упущении или бездействии, к которому относилось и недонесение
о готовящемся или совершенном правонарушении. Правовая обязанность изве¬
щать великого князя о готовящемся против него заговоре впервые предусматри¬
16
Уголовное право
валась так называемыми крестоцеловальными записями, которые давали пред¬
ставители правящей элиты в конце XV—XVI в., и в присяге царю Василию Шуй¬
скому в 1606 г. (в них, правда, ничего не говорилось о наказании за умолчание)15.
В русское уголовное законодательство понятие о преступном бездействии под
названием «извета» (что соответствует современным терминам «донесение»,
«сообщение»16) было введено Соборным уложением 1649 г., которое предусмат¬
ривало наказание в виде смертной казни за умолчание (недонесение) о заговоре
или каком-либо злом умысле против царя. Обязанность донесения не распро¬
странялась на другие преступления17. В петровское царствование было дано но¬
вое понимание преступного бездействия, к которому было отнесено не только
недонесение о всех политических преступлениях и деяниях, нарушавших госу¬
дарственные материальные и иные интересы, умолчание о беглых, ворах и раз¬
бойниках18, но и преступное бездействие чиновников, начиная от сенаторов
и кончая канцеляристами, при нахождении на службе19. В случаях политических
и государственных преступлений субъект преступления расширился за счет ду¬
ховных лиц, которые обязывались сообщать о замыслах против государственных
интересов, услышанных на исповеди, если исповедовавшийся в них не раскаялся.
Закон о недонесении способствовал увеличению числа доносов во второй поло¬
вине XVII в., но при Петре I доносительство приняло особый размах и охватило
широкие слои населения. Разумеется, страх наказания за умолчание играл опре¬
деленную роль20. Но не все сводилось к страху. По-видимому, имелись другие не
менее важные причины. Во-первых, священность личности царя — помазанника
Божьего — делала большим грехом всякое против него слово и недонесение об
этом, тем более что простые люди XVII—XVIII вв. верили в магическое значение
слова. Во-вторых, доносители стремились идентифицировать себя с царем, вла¬
стью, авторитетом, и донос служил средством для этого. Во времена больших
социальных потрясений и изменения системы ценностей идентификация с вла¬
стью служит своего рода защитой от неопределенности и внутренней смуты. Не
случайно, что со второй половины XVIII в. началось уменьшение числа доносов,
и эта тенденция продолжилась впоследствии. Можно предположить, что умень¬
шение доносительства было связано не только с тем, что само правительство,
начиная с Петра III, принимало против него меры21, но главным образом с тем,
что жизнь вошла в новую колею и потребность в идентификации с властью поте¬
ряла свою остроту и актуальность.
Свод законов 1832 г., Уложение о наказаниях 1845 г. (ст. 124—127, 132—134,
185, 271, 274, 347—350) и Уголовное уложение 1903 г. (ст. 99—102, 163—164,
643—652) расширили состав преступления о недонесении, предусмотрев наказа¬
ние за недонесение о любом замышленном или содеянном уголовном преступле¬
нии, и одновременно увеличили состав лиц, обязанных доносить, включив в их
число кроме чиновников также лиц, находившихся на общественной службе,
и вообще любого взрослого человека. Ответственность чиновников за преступ¬
ное бездействие была подтверждена в 1811 г. в Общем учреждении мини¬
стерств22, в 1832 г. в Своде законов (т. 15, ст. 278), в Уложении о наказаниях 1845 г.
(ст. 368—372, 414, 435—439, 475—476, 483, 528)23, в Уголовном уложении 1903 г.
(ст. 643—652 и др.)24. Таким образом, со временем преступное бездействие трак¬
17
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
товалось все более широко, достигнув своего апогея в Уголовном уложении 1903 г.
Там оно понималось не только как бездействие граждан в охране политических
и государственных интересов, как это было во второй половине XVII—начале
XVIII в., но и как бездействие в охране интересов частных лиц и общества в са¬
мых разнообразных формах: уклонение от участия в суде в качестве свидетеля,
эксперта или присяжного, недонесение о преступлении против частного лица,
умолчание о появившейся эпизоотии и других опасных для жизни человека явле¬
ниях и т. п. Благодаря этому акцент в понимании законом преступного бездейст¬
вия изменился: требование помогать государству было дополнено требованием
помогать ближнему, что несомненно свидетельствовало о социальном прогрессе,
вносимом уголовным правом в правосознание и жизнь общества.
С вопросом объективного вменения преступления тесно связан вопрос о со¬
ставе преступного деяния. И в этом отношении русское уголовное право также
прогрессивно развивалось. В киевский и московский периоды уголовные законы
при характеристике преступления чаще всего ограничивались лишь его наимено¬
ванием. Например, Соборное уложение 1649 г. за первое воровство приговарива¬
ло преступника наказать кнутом, отрезать левое ухо, посадить в тюрьму на 2 го¬
да, конфисковать имущество в пользу пострадавшего, а после тюрьмы отправить
в кандалах на принудительные работы. За второе и третье воровство наказание
ужесточалось. Ни виды воровства, ни
величина ущерба, ни форма вины не
различались. Аналогично обстояло дело
с разбоем. За первый разбой закон пре¬
дусматривал отрезать правое ухо, за¬
ключить в тюрьму на 3 года, конфиско¬
вать имущество, а после тюрьмы прину¬
дительные работы. За второй и третий
разбой наказание ужесточалось25. Ника¬
кой дифференциации разбоя, как и дру¬
гих видов преступлений, не делалось,
и самого определения конкретного пре¬
ступления не давалось. Очевидно, что
нечеткое определение состава преступ¬
ления создавало почву для судебного
субъективизма и приводило к наруше¬
нию принципа адекватности наказания
преступлению. В течение XVIII—пер¬
вой трети XIX в. в уголовных законах
состав преступления стал определяться
более четко. Начиная со Свода законов
1832 г. в законодательстве в большинст¬
ве случаев закон не только определял
все существенные признаки состава
преступления, но и те признаки, в силу
которых данное деяние являлось нака-
ВлКЛЯи.ЧЧ* КМу?0».ГЬ MiCIVSHW'-fr.
Рис. 10.2. Наказание кнутом
Н. Ф. Лопухиной. 1743
18
Уголовное право
зуемым. Лишь в тех случаях, когда состав преступных деяний являлся совершен¬
но простым и не вызывал юридических недоразумений, закон ограничивался на¬
именованием преступления26.
Таким образом, понятие преступления с объективной стороны прошло дли¬
тельную эволюцию. Оно развивалось, во-первых, от понимания преступного
деяния как личной обиды к пониманию его как антиобщественного действия, от
частноправового к публично-правовому взгляду на преступление; во-вторых, от
смешения уголовных деяний и деликтов к их разделению; в-третьих, от понима¬
ния преступления как деяния, нарушающего царскую волю и государственный
интерес, к его пониманию как деяния, нарушающего закон; наконец, от понима¬
ния преступления как деяния, заслуживающего мести или материальной компен¬
сации, к пониманию его как деяния, влекущего за собой уголовную репрессию
в форме, четко определенной в законе. Понимание преступления как преступного
действия было дополнено со временем понятием преступного бездействия. Чет¬
кое определение преступления оставляло мало места для субъективизма судей.
Параллельно с развитием понятия о преступлении как объективном наруше¬
нии закона развивалось и понимание преступления как субъективного наруше¬
ния закона. В древнейшее время господствовал принцип объективного вмене¬
ния: есть правонарушение — есть и преступление. При таком представлении
о преступлении субъектом преступления наряду с человеком признавались жи¬
вотные и неодушевленные предметы. В памятниках русского уголовного права
X—XIII вв. не зафиксировано случаев суда над животными, причинившими
смерть человеку, но известны случаи наказания животных и предметов без су¬
да. Например, в 1593 г. был наказан кнутом и сослан из Углича в Сибирь коло¬
кол за то, что после смерти царевича Димитрия он был использован для сбора
толпы, которая устроила беспорядки; в первой трети XVII в. в Москве была каз¬
нена обезьяна за то, что забежала в церковь и произвела там беспорядок27. Нака¬
зание животных и неодушевленных предметов в XVI—XVII вв. являлось пере¬
житком древнего уголовного права, когда животные и предметы могли быть
субъектами преступления, когда не проводилось различия между умышленным
и неумышленным преступлением, не принимались во внимание невменяемость
лица, совершавшего правонарушение, случайность, неосторожность, необходи¬
мость обороны и другие важные обстоятельства объективно преступного деяния.
Однако уже законодательство киевского периода различало умышленные и не¬
умышленные преступления (правда, не используя этих понятий), хотя весьма
нечетко и непоследовательно и лишь относительно некоторых преступлений.
Например, разбойное нападение считалось как бы умышленным преступлением,
а преступление, совершенное в ссоре, в драке или в нетрезвом виде во время
большого званого угощения (на пиру), — неумышленным. Однако главным при¬
знаком преступления считался все же материальный вред.
В XV—XVII вв., особенно в Соборном уложении 1649 г., разделение на
умышленные и неумышленные преступления было последовательно проведено,
однако влияло на тяжесть наказания лишь в отношении убийства. Тогда же воз¬
никли понятия неосторожного деяния, необходимой обороны и крайней необхо¬
димости, но они определялись еще нечетко и поэтому слабо дифференцирова¬
19
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
лись и применялись непоследовательно в том смысле, что для одних преступле¬
ний эти обстоятельства учитывались, для других — нет. Вместе с тем понимание
преступления как объективного нарушения закона еще преобладало. Это прояв¬
лялось в нечетком разделении ступеней преступной деятельности, в том, что
члены семьи преступника подвергались наказанию, а случайное причинение вре¬
да вменялось в вину, в том, что к преступлениям, кроме убийства, не применя¬
лось деление на умышленные и неумышленные. В петровское царствование дос¬
тижения уголовного законодательства XVII в. не были утрачены, но и не получи¬
ли дальнейшего развития. Например, в «Воинских артикулах» 1715 г. разделение
правонарушений на умышленные и неумышленные принималось в расчет лишь
при убийствах. Случайность, неосторожность и необходимость обороны призна¬
вались, но непоследовательно и нечетко. Наметившаяся в XVII в. тенденция ус¬
тановления вины не развивалась, принцип объективного вменения преобладал,
так как наказание зависело главным образом, а часто и исключительно, от факта
объективного совершения преступления без учета вины, наличия преступной
воли и умысла. Вследствие этого наказание не всегда было адекватным противо¬
правному деянию.
Во второй половине XVIII в. виновность, или преступная воля, стала чаще
приниматься во внимание, разумеется, настолько, насколько это понятие было
развито в законодательстве; и постепенно, ко времени создания Свода законов
1832 г., виновность стала обязательным признаком преступления. Однако игно¬
рирование наличия или отсутствия преступной воли сохранялось в рассмотрении
некоторых дел. Например, в XVIII—XIX вв. все члены сельских общин несли
финансовую ответственность за лиц, не уплативших в срок налоги; в XIX в. ре¬
дактор журнала или газеты нес ответственность за содержание напечатанных
в них статей. Однако это были все-таки исключения. Как правило, преступление
стало рассматриваться в единстве преступного деяния и умысла. Это явилось
важным достижением уголовного права, так как делало суд более справедливым.
Понятие о ступенях развития преступной деятельности также является важ¬
ным в уголовном праве. В Уголовном уложении 1903 г. различались следующие
ступени преступного деяния: умысел, приготовление, покушение, добровольно
оставленное покушение, покушение с негодными средствами, неудавшееся пре¬
ступление, окончание преступного деяния. При этом каждая ступень деяния чет¬
ко определялась и ей соответствовало определенное наказание. Но к этому уго¬
ловное право пришло постепенно. Долгое время дифференциация преступного
деяния по ступеням отсутствовала, что вело либо к уравниванию разных ступе¬
ней преступной деятельности в отношении наказания (например, наказания за
незавершенное преступление были столь же суровы, как и за завершенное), либо
к игнорированию некоторых видов преступной деятельности (лицо, совершив¬
шее преступление до конца, как правило, наказывалось чрезвычайно сурово не¬
зависимо от последствий, а добровольно оставленное преступление не наказыва¬
лось). Понятия о покушении и умысле впервые появились в Соборном уложении
1649 г.: первое применялось к преступлениям против личности и государства,
второе — только к политическим делам, при этом «голый умысел» наказывался
как совершенное преступление. Угроза рассматривалась как самостоятельное
20
Уголовное право
преступление, но наказание увеличивалось,
если доказывалось, что за угрозой действи¬
тельно скрывался преступный замысел. Не-
удавшееся преступление приравнивалось
к покушению, а действие, превысившее на¬
мерение преступника, приравнивалось к со¬
вершенному преступлению28. В XVIII—
первой трети XIX в. понимание различных
ступеней преступления мало изменилось,
хотя Екатерина II провозгласила в Наказе
ненаказуемость голого умысла. Как и преж¬
де, голый умысел в политических преступ¬
лениях наказывался одинаково с совершен¬
ным преступлением. Различные стадии пре¬
ступления чаще всего уравнивались и не
оказывали влияния на тяжесть наказания.
Только в Своде законов были даны более
или менее четкие понятия ступеней пре¬
ступного деяния, которые были усвоены
и развиты в Уложении о наказаниях 1845 г.
и в дальнейшем законодательстве. Принцип
современного уголовного права «с мысли
пошлины не берут» получил признание в
русском уголовном праве только с 1845 г., и хотя имелись исключения, но они
были именно исключениями из правила. Развитие понятия о преступлении как
единстве объективной и субъективной сторон имело решающее значение для
дифференциации в законе стадий преступления. Когда последнее понималось
только как нанесение материального ущерба, различение стадий преступного
деяния не имело смысла.
Рис. 10.3. Палач, о. Сахалин. 1910
Субъект и объект преступления
В XI—XIII вв. субъектом преступления выступал свободный человек, кото¬
рый совершал преступление и нес за это наказание, — это было лицо, обладав¬
шее свободной волей и сознанием. Так как холоп, по воззрениям людей того
времени, не обладал свободной волей, то за совершенное им преступление перед
потерпевшим нес ответственность его господин. В XV—XVII вв., в частности
в Соборном уложении 1649 г., субъектами преступления стали считаться все
лица, включая холопов, и признавалось равенство ответственности перед уго¬
ловным законом. В утверждении законом всеобщей ответственности за уголов¬
ные преступления отразился важный сдвиг в общественном сознании: призна¬
валось наличие у каждого человека независимо от его социального статуса сво¬
бодной воли, а также равенство всех людей с психологической и нравственной
точек зрения. В этом сказалось влияние христианства, которое считало всех
людей равно ответственными перед Богом за совершенные ими прегрешения,
21
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
поскольку понятия преступления и греха во многом совпадали. Такой вывод ло¬
гично следует из того, что только в XVI—XVII вв. крестьянство по-настоящему
приняло христианство29.
В качестве субъекта преступления в уголовном праве вплоть до 1803 г. весьма
часто выступали семья, сельская или городская община, воинское подразделение.
Например, в XI—XIII вв. в случае неспособности найти убийцу вся община пла¬
тила штраф. В XV—XVII вв. вся община платила штраф за неисполнение любой
своей полицейской обязанности: за укрывательство беглых, за совершение пре¬
ступления на ее территории и т. п. В петровское царствование наказание приме¬
нялось ко всем без исключения лицам, бывшим во время совершения известного
преступления в данном месте, доме, деревне. Если участие в преступлении неко¬
торого, но неизвестного числа лиц из данного коллектива было доказано, то «ви¬
новных» выбирали по жребию или на основании децимации — каждого десятого.
Ответственность семьи за правонарушение, совершенное одним из ее членов,
возросла. Например, если дворянин не являлся вовремя на службу — что счита¬
лось уголовным преступлением, то ответственность за него несли его жена, дети
и родственники, жившие с ним одной семьей. Соответственно за детей и жен не¬
сли уголовную ответственность родители и мужья. Групповая ответственность
перед государством покоилась на концепции круговой поруки, предполагаемой
виновности и на презумпции, что в семье или общине не могли не знать о пре¬
ступлении, что плодами преступления пользовались все члены семьи или общи¬
ны. Разумеется, для современного человека это звучит странно, но, как мы виде¬
ли в главах, посвященных общине и семье, коллективизм был действительно им
присущ, и секретов в общине и семье практически не существовало. Закон это
обстоятельство и учитывал, привлекая членов коллектива к ответственности как
соучастников. Лишь в 1782 г. закон отменил ответственность родителей и детей
друг за друга. Принцип исключительно личной ответственности за все уголовные
преступления в уголовном праве окончательно утвердился в 1803 г. С этого
времени ответственность за преступное деяние несли только непосредственные
исполнители; семья, община, а также любое юридическое лицо не могли быть
виновниками преступного деяния. За оскорбительное письмо, написанное от
имени общины, нес ответственность староста или лица, подписавшие его. За не¬
исполнение полицейских обязанностей общиной ответственность ложилась на
старосту. За подлог, совершенный выборными должностными лицами, ответст¬
венность несли сами эти лица и т. д. Однако уголовная безответственность не
освобождала юридических лиц от ответственности гражданской, в частности —
от обязанности вознаграждения за вред и убытки.
Понятие коллективного преступления в XI—XIII вв. отсутствовало, а в XV—
XVIII вв., в том числе по Соборному уложению 1649 г., все участники преступ¬
ления несли равную ответственность независимо от их роли в преступлении, хо¬
тя формы соучастия были известны — подстрекатели, инициаторы и непосредст¬
венные исполнители. Законодательство XVIII в. придерживалось той же точки
зрения. Возникает вопрос: с какой целью закон предусматривал дифференциа¬
цию соучастников, если все они наказывались одинаково? Дело заключалось,
вероятно, в следующем. Во-первых, круговая ответственность являлась важней¬
22
Уголовное право
шим принципом общественных отношений. А поскольку в данном случае имелся
коллектив преступников, то и поступать с ним следовало на основе равной кру¬
говой ответственности. Во-вторых, хотя понятие вины в законодательстве суще¬
ствовало, но понятие формы вины было крайне слабо развито, что вело к назна¬
чению одинакового наказания для всех участников преступления. В-третьих, до
начала XIX в. наказание имело целью устрашение и назидание, в силу чего с точ¬
ки зрения законодателя не имела смысла тонкая дифференциация наказания
в зависимости от степени вины. Наконец, коллективные преступления, как пра¬
вило, являлись наиболее тяжкими, часто носили характер политический, антиго¬
сударственный и антиобщественный, подрывали существовавший общественный
порядок. В таких случаях в соответствии с традиционным правилом «лучше на¬
казать невиновного, чем освободить от ответственности виновного» законода¬
тель предпочитал всех, так или иначе замешанных в преступлениях против об¬
щественного порядка, карать строго и одинаково. Что же касается оценки роли
отдельных участников, то она имела не юридическую, а политическую цель —
выявить наиболее опасных для государства и общества лиц.
Формально только в Своде законов 1832 г. была установлена индивидуальная
ответственность за соучастие в коллективном преступлении. Однако на практике
это произошло раньше. Например, участники выступления декабристов в 1825 г.
и лица, принадлежавшие к обществам декабристов, были дифференцированы по
степени вины и получили различные наказания. Законодательство 1832 г. просто
следовало за практикой. При этом закон различал зачинщиков, подстрекателей,
пособников, участников, главных виновников и назначал им различные наказа¬
ния. В Уложении о наказаниях 1845 г. эти понятия были определены еще четче
и тоньше. Учет ролевой структуры коллективного преступления говорит о том,
что уже в первой трети XIX в. точка зрения на коллектив преступников как не¬
дифференцированную группу людей стала анахронизмом. Введение в уголовное
право понятий формы вины и индивидуальной ответственности и изменение
взгляда на коллективное преступление явились следствием того, что круговая
порука постепенно отменялась, процесс индивидуализации личности прогресси¬
ровал, общинные отношения превращались в общественные связи.
Существенно изменилась со временем интерпретация еще одного ключевого
понятия в уголовном праве — объекта преступления, имеются в виду люди,
предметы или идеи, на которые направлено деяние и которые защищены зако¬
ном. Не всегда объектами преступления были все физические и юридические
лица. В XII—XIII вв. закон защищал права свободных и дееспособных людей,
поэтому объектом преступления могли быть права лица, имевшего полную дее¬
способность. В силу этого раб, или полный холоп, не являлся объектом уголов¬
ного преступления, поскольку его убийство считалось не преступлением убийст¬
ва, а гражданским преступлением истребления чужой вещи. Если раб оскорблял
свободного, он мог быть убит пострадавшим без всякого наказания. Малолетние
дети не являлись объектами преступления для своих родителей, которые не нака¬
зывались ни за побои детей, ни за их убийство и имели право продать их в рабст¬
во. Убийца во времена кровной мести, т. е. примерно до XIII в., не защищался
законом и в силу этого не был объектом преступления. Вор, застигнутый на мес¬
23
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
те преступления, мог быть убит «как собака»31. В киевский период религиозные
верования не стали еще объектом преступления ни по закону, ни на практике,
хотя уже тогда были зафиксированы случаи расправы с «волхвами». Но послед¬
ние наказывались не за еретичество, т. е. не за исповедание другой веры, а за
вред, ущерб, который они, по мнению людей той эпохи, наносили обществу сво¬
им «волшебством».
В XV—XVII вв. объектом преступления помимо прав физических лиц стал
сам общественный строй, установленный государством и церковью, законы
и повеления верховной власти, а также господствовавшие верования и мировоз¬
зрение. На Московском церковном соборе 1551 г. было принято решение о запре¬
щении языческих обрядов, волхвования, чародейства, кудесничества, скомороше¬
ства и о сохранении благочиния в церквах (ст. 53, 57, 63). В отношении еретиков
стала применяться смертная казнь по приговору церковных соборов. В Соборном
уложении 1649 г. впервые уголовно наказуемым через смертную казнь стало по¬
ношение (хула, богохуление) Бога, Христа, Богородицы, креста и святых (гл. 1,
ст. 1), а также переход в бусурманскую веру (мусульманство) (гл. 22, ст. 24). На
практике богохуление трактовалось шире — как неверие, отрицание Бога32, что
уже имело прямое отношение не к оскорблению чувств верующих, а к вере и ми¬
ровоззрению человека. В XVIII—первой половине XIX в. отвлеченные идеи
и верования мало-помалу переставали быть объектом преследования, если они не
нарушали права лиц. Но рецидивы случались, например при Екатерине II пре¬
следовались масоны, при Николае I — философы и т. д.
По Соборному уложению 1649 г. дети защищались законом и поэтому стали
объектом преступления: за их убийство родителям грозило годичное заключение
в тюрьме и церковное покаяние, которое заключалось в том, что родители долж¬
ны были приходить в церковь своего прихода и объявлять всенародно о своем
грехе. За убийство незаконнорожденного ребенка матери грозила более суровая
кара — смертная казнь (гл. 22, ст. 3, 26), так как считалось, что вина убийства
отягчена виной «блуда» и стремлением его скрыть. По «Воинским артикулам»
1715 г. за убийство любого ребенка грозила смертная казнь — наказание, прису¬
ждаемое за умышленное убийство взрослого, в чем отражалось повышение ста¬
туса детей в общественном сознании. Уложение о наказаниях 1845 г. (ст. 1920—
1924) и Уголовное уложение 1903 г. сохранили этот принцип, только наказание
было уменьшено, так же как и за убийство незаконнорожденного. Если дети
в конце концов сделались объектом преступления, то полные холопы не стали
таковыми вплоть до отмены холопства в 1719 г. Однако женщины и крепостные
всегда являлись объектом преступления, что говорит о том, что социальная дис¬
танция между мужчиной и женщиной была не столь значительной, а между кре¬
постным и полным холопом — весьма существенной.
Объектом преступления не мог быть человек, посягавший на собственные
блага, если это не нарушало прав других лиц, за исключением самоубийц. До
Петра I к лицам, покушавшимся на самоубийство, но не завершившим его, при¬
менялись лишь церковные наказания: если самоубийцы хоронились за пределами
обычного кладбища и лишались церковного обряда погребения, то покушавшие¬
ся на самоубийство временно отлучались от церкви. «Воинские артикулы» 1715 г.
24
Уголовное право
Рис. 10.4. Подвес за ребро и закапывание в землю. XVIII в.
(арт. 164) умышленное самоубийство, совершенное человеком без признаков
психической болезни, приравняли к убийству и предписали совершать позоря¬
щий ритуал: палач должен был волочить тело самоубийцы по улицам или лагерю
и закапывать в бесчестном месте. Покушение на самоубийство каралось как
убийство — смертной казнью, а если человек совершал его от угрызений совести
или в беспамятстве, наказание смягчалось. Свод законов 1832 г. предусматривал
за покушение на самоубийство каторжные работы, самоубийца лишался церков¬
ного погребения. Уложение о наказаниях 1845 г. смягчило наказание: за покуше¬
25
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
ние полагалось только церковное покаяние, а самоубийца лишался церковного
погребения, и его духовное завещание признавалось недействительным. В Уго¬
ловном уложении 1903 г. вопрос о самоубийстве вообще не рассматривался
и потому становился делом семьи самоубийцы, хотя церковный взгляд на само¬
убийство не изменился. Как видим, отношение к самоубийцам со временем из¬
менилось от фанатически нетерпимого к гуманному, в чем проявлялась общая
гуманизация человеческих отношений в России.
С 1832 и вплоть до 1917 г. единственным объектом преступления стал закон:
«Всякое нарушение закона, — гласила 1-я статья Уложения о наказаниях 1845 г., —
через которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной и уста¬
новленных ею властей или же на права или безопасность общества или частных,
есть преступление». И это являлось огромным достижением русского уголовного
права, потому что с этого времени все физические и юридические лица стали
объектами преступления и только нарушение того, что запрещал или предписы¬
вал закон, стало считаться преступлением, а то, что не запрещалось или не пред¬
писывалось, преступлением не считалось. Последовательное проведение этого
принципа в жизнь постепенно превращало Русское государство в правовое. Од¬
нако на этом пути стояло серьезное препятствие, заключавшееся в том, что закон
защищал от посягательств не все личные и политические права человека, а толь¬
ко некоторые — те, которые верховная власть даровала населению и считала за¬
конными. Попытки использовать права, не дозволенные законом, рассматрива¬
лись как уголовные преступления и преследовались по закону. Например, под¬
держивая провозглашенный еще в XVIII в. принцип свободы вероисповедания,
Уложение о наказаниях 1845 г. разделило религиозные верования на четыре
класса: православие, другие христианские религии, ереси и расколы, нехристиан¬
ские религии. Переход из одной веры в другую запрещался, за исключением пе¬
рехода в православие, и влек за собой различные меры наказания от ссылки
в Сибирь до каторги на 12—15 лет. Письменная и устная пропаганда любой ре¬
лигии, кроме православной, преследовалась (ст. 190—191, 195—197, 206—208,
213—217). В Своде законов 1832 г. и еще более четко в Уложении о наказаниях
1845 г. были сформулированы составы государственных преступлений, номенк¬
латура которых была очень широка. Уголовному преследованию подвергались
любые действия (или бездействия), направленные против императора и государ¬
ства и ставившие своей целью ниспровержение, подрыв или мирное изменение
существовавшего политического строя. Закон преследовал не только реальные
попытки изменить общественное устройство, но и письменную или устную про¬
паганду, тайные общества, распространение слухов, демонстрации и бунты, ос¬
корбления и явное неуважение к государственным учреждениям и чиновникам
при отправлении ими должности, любое неповиновение властям. В 1867 г. было
запрещено создание обществ, имевших не только политический, но и нигилисти¬
ческий и атеистический характер33. Хотя нигилизм или атеизм в пореформенную
эпоху почти всегда ассоциировался с революционной активностью и с лично¬
стью, оппозиционно настроенной к существовавшему общественно-политичес¬
кому строю, нельзя не признать, что в преследовании законом отвлеченных идей
и верований безусловно сказался уголовный и политический атавизм.
26
Уголовное право
До реформ 1860-х—начала 1870-х гг. по закону личные права и свободы не
были всеобщими. Права на место жительства, профессию, получение образова¬
ния, на социальные перемещения, на частную собственность, на защищенность
жизни, имущества и чести судом, на неприкосновенность жилища, тайну пере¬
писки, свободу совести, на защиту от обвинений и освобождение от телесных
наказаний, а также характер — индивидуальный или коллективный — ответст¬
венности зависели от сословной принадлежности. Всю совокупность личных
прав по закону дворянство, духовенство и купечество приобрели в основном
к концу XVIII в. (в 1832 г. все они на время лишились права на самовольное ос¬
тавление отечества), мещанство — в 1860-е гг., а крестьянство — лишь в 1905—
1906 гг. Следует отметить, что личные права даже после Великих реформ под¬
вергались некоторым ограничениям. Например, персональная свобода человека
не была безусловной — она ограничивалась возможностью негласного полицей¬
ского надзора или нарушением тайны переписки34. Свобода вероисповедания не
была в полном смысле свободой совести, так как закон установил только равен¬
ство вероисповеданий, или веротерпимость. Неравенство в личных правах более
не зависело от вероисповедания, исключая евреев-раввинистов, но каждый чело¬
век по-прежнему должен был принадлежать к какому-либо вероисповеданию
и не имел права изменять веру, исключая перехода в православие. От этих и дру¬
гих ограничений страдали в основном нелояльные к существовавшему режиму
граждане, прежде всего из среды интеллигенции. Из политических свобод уго¬
ловное право защищало до некоторой степени только свободу печати, право уча¬
ствовать в выборах в органы местного самоуправления и суда, с 1864 г. — в зем¬
ства и суд присяжных. Что же касается политических прав (свободы слова, печати,
собраний, уличных шествий и митингов, демонстраций, права самоуправления
и объединения в общественные организации и союзы, права иметь парламент,
всеобщего равного избирательного права), то они были получены, точнее — за¬
воеваны всеми сословиями одновременно в ходе революции 1905—1907 гг. Таким
образом, до 1905—1906 гг. население по закону вообще не имело политических
прав. Однако, провозгласив в Своде законов 1832 г., что единственным объектом
преступления является закон, государство не лукавило, так как оно по закону
лишило все сословия политических прав, а ряд сословий — личных прав. Вслед¬
ствие этого формально объектом преступления являлся действительно только
закон, защищавший права императора, государства и частных граждан. Поэтому
о российском государстве между 1830-ми и 1906 г. можно говорить лишь как
о правомерном, а с 1905—1906 гг. — как о правовом де-юре, но де-факто только
приближавшемся к правовому.
Состояние невменяемости
В современном уголовном праве наказанию подлежат только виновные пося¬
гательства на правопорядок. Лицо несет ответственность за преступления только
тогда, когда у него присутствует сознание неправоты действия и когда оно обла¬
дает необходимыми признаками, чтобы нести ответственность за содеянное, как
говорят юристы, лицо должно быть способным ко вменению. При отсутствии
27
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
таких признаков лицо признается невменяемым и не несет уголовной ответст¬
венности за содеянное им преступление. В таких случаях возложению ответст¬
венности на правонарушителя препятствуют невменяемые состояния — детство,
сумасшествие, болезнь, престарелость и другие, понимание которых со временем
изменялось. Поскольку вменяемость есть признак, от которого зависит призна¬
ние деяния уголовно наказуемым, интерпретация вменяемости составляет прин¬
ципиальный вопрос уголовного права. Как решался этот вопрос в русском уго¬
ловном праве в исторической перспективе? Начнем с возраста (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Изменения возраста ответственности по русскому уголовному законодательству
в конце XVII—начале XX в. (лет)
Ответственность
1669 г.
1742 г.
1765 г.
1845 г.
1864 г.
1903 г.
Безусловная
невменяемость
1—
1—
10—
10—
10—
10—
Условная вменяемость
—
—
—
7—13
10—13
10—13
Смягченная вменяемость
ad hoc
7—16
10—16
14—20
14—16
14—20
Полная вменяемость
ad hoc
17
17
21
17
21
До XVIII в. в соответствии с церковным правом, которое в случаях, обходив¬
шихся законом, действовало наряду со светским правом35, уголовная ответствен¬
ность, по крайней мере за тяжкие преступления, наступала с 7 лет и наказание
назначалось в соответствии с принципом ad hoc — смотря по обстоятельствам.
Дети старше 7 лет освобождались лишь от смертной казни, остальные наказания
они несли наравне со взрослыми или в смягченном виде36. В 1742 г. закон впер¬
вые определил возраст наступления полной уголовной ответственности —
17 лет. Лица, совершившие преступление в возрасте до 17 лет, вместо ссылки,
кнута или смертной казни подвергались наказанию плетями и отсылке в мона¬
стырь на 15 лет для использования на тяжелых работах37.
В 1765 г. закон повысил предел полной невменяемости до 10 лет, а в осталь¬
ном только детализировал существовавшее законодательство. В 1833 г. в уголов¬
ное законодательство вводится понятие условной вменяемости: при вынесении
приговора лицам в возрасте от 10 до 17 лет суд должен был учитывать «степень
разумения» правонарушителя и в зависимости от этого назначать уменьшенное
наказание или вовсе от него освобождать. В 1845 г. были установлены новые
возрастные пределы уголовной ответственности: до 10 лет — безусловная не¬
вменяемость, 10J—14 лет — условная вменяемость, с 14 лет — полная вменяе¬
мость. Однако закон предусматривал уменьшение наказания для лиц в возрасте
от 14 до 21 года и установил одинаковую ответственность совершеннолетних
и несовершеннолетних в случае, если последние совершали рецидив. Уголовное
уложение 1903 г. повысило возраст полной вменяемости до 21 года, а интервал
смягченной вменяемости до 14—21 года (см. табл. 10.1).
Колебания законодателя относительно определения возрастных пределов для
уголовной ответственности показывают влияние на закон религиозной и народ¬
28
Уголовное право
ной традиции, а также науки. Согласно православному церковному закону, к по¬
каянию и причастию допускались дети в возрасте старше 7 лет, что означало, что
церковь считала семилетний возраст границей наступления ответственности че¬
ловека за поступки. В народной среде до начала XX в., а до XVIII в. во всем на¬
селении, «младенчество», или детство, продолжалось до 7 лет. До этого возраста
девочки и мальчики не различались по полу и назывались одинаково — младен¬
цами или детьми. С 7 лет дети различались по полу, по одежде, назывались раз¬
лично — отроками и отроковицами и начинали помогать родителям по хозяйст¬
ву38. Вероятно, по этой причине ребенок до 7 лет освобождался законом от всякой
ответственности за преступления. Под влиянием европейских педагогических
идей эпохи Просвещения и лично Екатерины II в 1765 г. возраст невменяемости
был повышен до 10 лет. Но Православная церковь, всегда твердо придерживав¬
шаяся традиции, не изменила своего взгляда на возраст наступления моральной
ответственности. После эмансипации 1861 г. под влиянием требований россий¬
ских юристов возраст невменяемости был окончательно утвержден в 10 лет.
Церковь же осталась при своем мнении и допускала к причастию с 7 лет.
Колебания законодателя относительно возраста наступления полной уголов¬
ной ответственности были также связаны с противоречиями между светскими
и церковными законами. До 1774 г. церковный закон разрешал вступление в брак
с 12 лет для женского и с 15 лет — для мужского пола, в 1774 г. для женского
пола бракоспособный возраст был повышен до 13 лет. Бракоспособный возраст,
как известно, всегда считается показателем зрелости. Естественно, что церковь
считала возрастом полной дееспособности 12—15 лет39. Этого же взгляда при¬
держивалось и население всех сословий по крайней мере до XIX в. Например,
в 1721 г. Петр I публично объявил о совершеннолетии своей дочери Елизаветы,
когда той исполнилось 12 лет, и произвел соответствующий обряд: ввел дочь в со¬
брание приближенных лиц, «обрезал (ножницами. — Б. М.) помочи с лифа ее робы
Рис. 10.5. Каторжанин с 13 клеймами, наказанный семь раз,
Нерчинская каторга. 1891
29
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
(платье простого покроя. — Б. М), отдал их гувернантке и объявил принцессу
совершеннолетнею». Вследствие того что возраст полной уголовной ответст¬
венности не совпадал ни с возрастом совершеннолетия по церковному и обыч¬
ному праву, ни с бракоспособным возрастом, в судебной практике нередко слу¬
чались отступления от закона41. Это заставило светские власти в 1830 г. увели¬
чить бракоспособный возраст до 16 лет для женщин и до 18 для мужчин и запре¬
тить священникам под страхом уголовного наказания венчать людей моложе
установленного законом возраста. Церковь подчинилась, но своего закона фор¬
мально не отменила, не изменилось и обычное право42.
В течение длительного времени не было ясности и по вопросу о старческом
возрасте, который давал право на смягчение наказания. Только в 1798 г. закон
установил верхний возрастной предел в 70 лет, который смягчал наказание: лица
от 70 лет и старше освобождались от телесного наказания и клеймения и подвер¬
гались только ссылке. Уголовное уложение 1903 г. сохранило льготы на смягче¬
ние наказания при достижении 70-летнего возраста.
Обратимся к вопросу о невменяемости на почве психического заболевания.
В XII—XIII вв. закон признавал раздражение (говоря современным языком —
состояние аффекта) и опьянение обстоятельствами, смягчающими наказание.
В XV—XVII вв. церковное право, с которым считались светские власти, преду¬
сматривало освобождение от ответственности душевнобольных («бесных»
и «блаженных»), которые даже в случаях совершения ими политических престу¬
плений не несли наказания. При отсутствии родственников душевнобольные на¬
ряду с инвалидами, полностью потерявшими трудоспособность, передавались в
монастыри. При Петре I по закону опьянение стало считаться обстоятельством,
отягчающим вину, но служебная ревность, под влиянием которой, например,
офицер при наказании подчиненного засекал его до смерти, была отнесена к аф¬
фекту и наказание могло смягчаться до простого штрафа. При Петре душевно¬
больные были освобождены от всякой ответственности за преступление. Но за¬
конодательство его ближайших преемников установило наказание душевноболь¬
ных за совершение особо опасных преступлений, правда, в смягченном виде.
Екатерина II восстановила петровскую норму. С тех пор в уголовном праве окон¬
чательно утвердился принцип невменяемости душевнобольных43.
Невменяемые состояния, которые освобождали от уголовной ответственно¬
сти, были достаточно четко определены в Своде законов 1832 г. и в Уложении
о наказаниях 1845 г. Последнее признавало шесть невменяемых состояний: 1) бе¬
зумие от рождения; 2) сумасшествие, приобретенное в течение жизни; 3) бо¬
лезнь, доводящая до умоисступления и беспамятства; 4) одряхление; 5) лунатизм;
6) немоглухота 6т рождения или с детского возраста. Первые три состояния со¬
ответствуют современному понятию психического заболевания; под одряхлени¬
ем имелось в виду то, что в настоящее время называется старческим маразмом;
лунатизму соответствует современное понятие сомнамбулизма44. Одновременно
с этим в практику вводилось психиатрическое медицинское освидетельствование
по определенной процедуре. Экспертиза была большим шагом вперед, она заме¬
нила практиковавшиеся прежде опросы родственников и соседей, где проживал
правонарушитель, и мнение, а точнее сказать, впечатление, которое складыва¬
30
Уголовное право
лось у судей о правонарушителе. В Уголовном уложении 1903 г. в соответствии
с научными представлениями того времени были установлены критерии невме¬
няемости, а шесть невменяемых состояний были сведены к трем: 1) умственная
неразвитость; 2) болезненное расстройство душевной деятельности; 3) бессозна¬
тельные состояния, которые охватывали различные конкретные случаи невме¬
няемости. В этом отношении Россия шла в ногу с Западом45. Кстати, отметим,
что медицинская экспертиза для выяснения причины смерти в случае убийства
была введена в практику еще «Воинскими артикулами» 1715 г. (арт. 4)46.
В 1782 г. вновь изменилось отношение закона к совершению преступления
в состоянии опьянения. При умышленном совершении преступления опьянение
не принималось в расчет, при неумышленном — смягчало вину. В Своде законов
1832 г. и в Уложении о наказаниях 1845 г. опьянение смягчало вину в том случае,
если правонарушитель не довел себя до опьянения специально, чтобы освобо¬
диться от ответственности (ст. 112, 186, 188 и др.). Преступление, совершенное
в состоянии опьянения, приравнивалось к неумышленному деянию. В Уголовном
уложении 1903 г. состояние опьянения дифференцировалось на степени и лишь
полное опьянение, приводившее человека в бессознательное состояние и полно¬
стью лишавшее его контроля за своим поведением, смягчало вину47.
Номенклатура составов преступлений
Принципиальное значение в каждом уголовном законодательстве имеет число
составов преступлений, определенных в законе. В XII—XIII вв. номенклатура
преступлений была незначительной, закон не предусматривал государственные,
религиозные и многие другие преступления48. Небольшая номенклатура престу¬
плений, закрепленных в законе, свидетельствовала о том, что большинство уго¬
ловных деяний рассматривалось и решалось по обычному праву, минуя офици¬
альные суды. В XV—XVII вв. номенклатура преступлений значительно увеличи¬
валась, и в Соборном уложении 1649 г. они были классифицированы в четыре
группы: 1) против веры и церкви; 2) против государства и особы государя;
3) должностные и против порядка управления; 4) против прав и жизни частных
лиц. При Петре I преступления против веры, впервые кратко упомянутые в Со¬
борном уложении 1649 г., чрезвычайно расширились, а наказания за них отлича¬
лись большой жестокостью, например принятие нехристианской религии кара¬
лось сожжением, а другого христианского вероисповедания — вечным заключе¬
нием в монастырь, переход в старообрядцы светских лиц — каторгою, а священ¬
ников — смертной казнью. С особой тщательностью разработана номенклатура
государственных преступлений, в число которых были включены оскорбление
государя и осуждение его действий и намерений, должностные преступления,
а также преступления против порядка управления, включавшие буйство, драки,
игру в карты на деньги, азартные игры, произнесение бранных слов в публичном
месте, роскошь в одежде и экипажах, пьянство и др. Тогда же впервые в закон
были включены преступления против нравственности, включавшие гомосексуа¬
лизм, скотоложство, самоубийства и дуэли — все они жестоко наказывались. Эта
тенденция к росту числа составов преступлений сохранилась вплоть до 1860-х гг.
31
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
и указывала на то, что закон стал весьма
активно регулировать общественную жизнь.
После эмансипации 1861 г. начался обрат¬
ный процесс: многие составы преступле¬
ний стали отменяться, о чем свидетельст¬
вует уменьшение числа статей в кодексах:
Уложение о наказаниях 1857 г. издания
содержало 2304 статьи, 1866 г. издания —
1711 статей, в Уголовном уложении 1903 г.
имелось всего 687 статей — в 3,4 раза
меньше, чем в 1857 г. Уменьшение числа
статей — важное указание на то, что то¬
тальное и мелочное регулирование общест¬
венной жизни с помощью закона постепен¬
но заменялось более либеральным и прин¬
ципиальным руководством.
В пореформенное время изменилось со¬
отношение составов преступлений, касав¬
шихся государственно-общественных и част¬
ных интересов. В Уложении о наказаниях
1845 г.49 составы конкретных преступлений
были сгруппированы в 150 видов и им бы¬
ло посвящено 2035 статей, в том числе
32 статьи — преступлениям против веры,
19 статей — государственным преступлениям, 74 статьи — преступлениям про¬
тив порядка управления, 175 статей — должностным преступлениям, 1415 ста¬
тей — преступлениям, связанным с интересами казны и государства, и лишь 320
статей — преступлениям против жизни, здоровья, свободы, собственности, чести
и семейных прав частных лиц. Таким образом, на долю статей, защищавших го¬
сударственный и общественный порядок, приходилось 84,3 % всех статей, а на
долю статей, защищавших частных лиц, — 15,7 %. Приоритет государственных
и общественных интересов над частными налицо. Аналогичный анализ статей
в Уголовном уложении 1903 г. дает иной результат: 25 статей относились к пре¬
ступлениям против веры, 52 статьи — к государственным преступлениям и про¬
тив порядка управления, 51 статья — к должностным преступлениям, 329 статей
касались преступлений, так или иначе связанных с интересами казны и государ¬
ства, и 201 статья относилась к преступлениям против жизни, здоровья, свободы,
собственности, чести и семейных прав частных лиц. Всего интересы государст¬
венного и общественного порядка защищали 67,3 % статей, а интересы частных
лиц — 32,7 %. По сравнению с Уложением о наказаниях 1845 г. доля статей, за¬
щищавших права частных лиц, возросла вдвое. Но Уголовное уложение 1903 г.
не было полностью введено в жизнь к 1917 г. С другой стороны, после 1905—
1906 гг. оно, как и Свод законов, включило ряд статей, защищавших политиче¬
ские права граждан и отменявших старые законы. При всей ориентировочности
приведенных данных они, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что, хотя защита
Рис. 10.6. Палач из ссыльнокаторжных,
Нерчинская каторга. 1891
32
Наказания и пенитенциарная система
государственных интересов еще доминировала в уголовном праве, на защиту ча¬
стных интересов законодательство стало обращать больше внимания, чем преж¬
де. Эта чрезвычайно знаменательная перемена говорит о росте значения лично¬
сти в обществе и о том, что частные интересы со временем все чаще становились
объектом покушения и нуждались в защите.
Наказания и пенитенциарная система
Принципиальное значение в уголовном праве имеет вопрос о наказании. Уже
в XI—XIII вв. существовал довольно широкий набор наказаний: денежный
штраф, возмещение ущерба, лишение личных и имущественных прав («поток
и разграбление»), изгнание, заключение в тюрьму, обращение в рабство, физиче¬
ские наказания. Смертная казнь применялась редко, допускались кровная месть
и убийство вора на месте преступления, если он оказывал сопротивление при
задержании. В случае невозможности применения мести обращались к денежно¬
му штрафу, в случае несостоятельности преступника— к уголовным наказаниям.
Цель наказания состояла в мести, возмещении материального ущерба постра¬
давшему и в извлечении материальных выгод государством. В XV—XVII вв.
среди разных видов наказаний перевес взяли телесные наказания и смертная
казнь. Неисправимые преступники приговаривались к смерти, исправимые —
к телесным наказаниям и заключались в тюрьму. За незначительные служебные
преступления применялось отрешение от должности. К счастью, большая часть
смертных приговоров не приводилась в исполнение в силу древнего обычая «печа-
лования» — права православного духовенства ходатайствовать о помиловании.
Освобожденный от смерти заключался пожизненно в монастырь. Наказания отчас¬
ти сохранили прежние функции, но главной их целью стало устрашение ради пре¬
дотвращения преступлений, поэтому они приняли весьма жестокий характер50.
Петровское законодательство еще более ужесточило наказания и на первое
место поставило смертную казнь: в «Воинских артикулах» 1715 г. она преду¬
сматривалась в 200 случаях против 60 в Соборном уложении 1649 г., на втором
месте стояли телесные наказания, набор которых увеличился. К старым наказа¬
ниям были добавлены каторжные работы и лишение прав; получили распростра¬
нение децимации, когда наказывался каждый десятый, и наказания лиц, не при¬
частных к преступлению, но находившихся в родственных отношениях с право¬
нарушителем, чаще всего жен и детей. Наказания за имущественные преступления
были поставлены в зависимость от величины ущерба: за малую кражу полагались
различные наказания, а за крупную — смертная казнь. Цели наказаний остава¬
лись прежними — устрашение, возмездие, изоляция преступника и извлечение
материальных выгод. Осужденные стали приговариваться к принудительному
труду на заводах, фабриках, в рудниках, на строительных работах, в качестве
гребцов на галерах в невиданных прежде размерах. Расчетливый император
стремился извлечь максимальную пользу из заключенных. В истории русского
права петровское царствование являло высшую ступень карательной строгости,
которая, в отличие от предыдущей эпохи, направлялась часто не только против
воров, поджигателей, разбойников и т. п., но и против мирных обывателей, твердо
33
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
стоявших за право, но за такое право, как оно понималось раньше. Никогда по¬
сле, вплоть до 1917 г., репрессивный аппарат государства не развивал такой ак¬
тивности против законопослушных граждан только за то, что вводимые социаль¬
ные новации им в принципе не нравились. Вот пример, иллюстрирующий эту
мысль. Чиновник (подьячий) Докукин вписал в текст присяги новому порядку
престолонаследия, установленному Петром 1 в 1724 г., следующее: «За неповин¬
ное отлучение и изгнание со всероссийского престола цесаревича Алексея Пет¬
ровича (сына Петра I, казненного им за несогласие с его политикой. — Б. М) не
клянусь и не подписуюсь, хотя за то царский гнев на меня произлиется; по воле
его (Господа моего Иисуса Христа) за истину Илларион Докукин страдать го¬
тов». Докукин действительно был колесован51.
Если бы наказания, назначаемые по закону, точно исполнялись, то к концу
петровского царствования в России не осталось бы ни чиновников, ни мирных
обывателей, потому что смертная казнь грозила за большинство преступлений.
Как и в XVII в., угроза смерти чаще всего была мнимой угрозой, исполнение ко¬
торой не предполагалось и самим законодателем в момент издания закона. Она
сделалась одной из гиперболических формул, которые стали характерной чертой
юридического языка того времени. Жаловавшиеся на побои обязательно писали,
что их «били смертным боем до смерти многажды», просившие каких-либо нало¬
говых льгот непременно указывали, что без их получения они все умрут с голоду,
и т. п. Подобным образом и законодатель грозил всякому ослушнику смертной
казнью, не предполагая, что эта угроза будет исполнена. Всеобщая угроза смерт¬
ной казнью отражала, с одной стороны, господство в петровское царствование
неопределенной санкции, с другой — имела целью устрашить не согласных
с проводимыми реформами52.
Вопреки стереотипам наказания за большинство преступлений были более
мягкими, чем в Западной Европе. Убийства наказывались только кнутом, кража
в размере менее 20 руб. — розгой. Начиная с Петра I число наказаний с нанесе¬
нием увечий отчетливо снизилось, а Елизавета приостановила смертную казнь —
мера, уникальная для того времени53. Императрица в день дворцового переворота
дала обет: в случае успеха отменит смертную казнь. И она сдержала свое слово.
Переворот не сопровождался казнями, как это бывало прежде. Свергнутых пра¬
вителей даже не пытали, а только отправили в ссылку. Несмотря на то что дейст¬
вовавшие до Елизаветы законы не отменялись, смертная казнь фактически не
применялась: преступники приговаривались к смертной казни, а затем приходило
помилование и казнь заменялась другим наказанием. В 1753—1754 гг. специаль¬
ными указами натуральная смертная казнь была заменена политической каз¬
нью — лишением всех прав состояния, телесным наказанием и ссылкой на ка¬
торжные работы, что дало толчок развитию ссылки в Сибирь.
Политика смягчения наказаний продолжалась при Екатерине И, при которой
смертная казнь применялась только к государственным преступникам. Во всех
таких немногочисленных прецедентах, как, например, в случае с Е. Пугачевым,
дела рассматривались в Верховном уголовном суде, особо учрежденном Высо¬
чайшими манифестами, и преступники приговаривались к смерти на основании
Соборного уложения 1649 г. и «Воинских артикулов» 1715 г. Петра I. Однако
34
Наказания и пенитенциарная система
Рис. 10.7. Ж. Калло (1592—1635). Дыба. 1633. Государственный Эрмитаж
других принципиальных изменений в системе наказаний во второй половине
XVIII в. не последовало, а сохранение страшных телесных наказаний, иногда
приводивших к засечению насмерть, делало и саму отмену смертной казни до
некоторой степени фиктивной. Князь М. М. Щербатов, имея в виду эпоху Ели¬
заветы и Екатерины II, говорил, что у нас отменен легкий вид смертной казни,
состоящий в повешении или обезглавливании, а самый тяжкий — заселение —
оставлен. Однако, несмотря на сохранение в законе прежних суровых наказа¬
ний, массовое запугивание населения прекратилось; многие деяния, считав¬
шиеся прежде преступлениями против нравственности, религии, порядка
управления или государства, стали рассматриваться просто как полицейские
деликты, а некоторые (вроде ношения бороды или старорусской одежды) во¬
обще не принимались во внимание; приговоры стали мягче, чем прежде, и бо¬
лее соответствовали тяжести вины. Все это происходило постепенно, благодаря
в значительной мере либеральному настроению императрицы, четко выражен¬
ному в ее Наказе. Следуя за западными мыслителями того времени, Екатерина
II отрицала взгляд на наказание как на возмездие и развивала мысль, что глав¬
ная цель наказания состоит в ограждении людей от преступлений и в уменьше¬
нии их общественного вреда. Она рекомендовала, чтобы суд назначал наказа¬
ние, соответствующее тяжести преступления, дифференцировал наказания
в зависимости от степени участия в преступлении. Императрица провозгласила
ответственность во всех случаях только за совершенное преступление, а не за
намерение, за исключением устного и письменного слова, направленного про¬
тив особы государя. Она полагала, что важными предпосылками совершения
преступления являлись отсутствие просвещения и неблагоприятные общест¬
венные условия, что не только сам человек, но и общество ответственно за пре¬
ступления. Поэтому наказания должны быть мягче и иметь исправительную
цель. Со времени Екатерины II обнаружилась другая важная тенденция: нака¬
зания, направленные против жизни, здоровья и имущества правонарушителей,
постепенно уступали место наказаниям, ограничивавшим свободу преступни¬
35
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
ков, — тюремному заключению, ссылке и каторге. Новые тенденции получили
свое дальнейшее развитие в XIX в.
При Екатерине II в 1775 г. в качестве общей нормы в уголовное законодатель¬
ство вошло понятие давности как обстоятельство, освобождающее от наказания.
До этого времени в законодательстве встречались лишь отрывочные и весьма
неопределенные постановления о погашении давностью некоторых немногих
преступлений54. По новому закону через 10 лет после совершения любого пре¬
ступления, если оно не сделалось гласным, правонарушитель освобождался от
ответственности. Иск об обиде словом погашался по прошествии года, а об обиде
действием — через 2 года. Установленная в 1775 г. норма давности действовала
для всех преступлений, но постепенно для некоторых преступлений стали де¬
латься изъятия: в 1829 г. — для дезертирства, в 1842 г. — для отступления от
православия. Уложение о наказаниях 1845 г. отменило давность для государст¬
венных преступлений и умышленного убийства отца и матери и ввело особую
давность для каждого отдельного преступления. По Уголовному уложению 1903 г.
(ст. 68) давность не применялась в двух случаях — при совершении преступле¬
ний, направленных против императора, и при переходе из православия в другую
веру. Сроки давности находились в зависимости от преступления и колебались от
15 лет за преступления, караемые смертной казнью, до 1 года — за проступки55.
Особенность наказаний вплоть до Свода законов 1832 г. состояла в том, что
они не образовывали системы. В Своде законов 1832 г. (ст. 16) была сделана пер¬
вая попытка систематизации наказаний, которые были подразделены в зависимо¬
сти от тяжести на 10 родов: 1) смертная казнь; 2) политическая казнь; 3) лишение
прав состояния; 4) телесное наказание; 5) принудительные работы; 6) ссылка;
7) отдача в солдаты; 8) лишение свободы, или тюремное заключение; 9) денеж¬
ные взыскания; 10) церковное наказание. В Уложении о наказаниях 1845 г. была
создана лестница наказаний, включавшая 11 родов наказаний — 4 уголовных
и 7 исправительных. В основе деления на уголовные и исправительные наказания
лежала идея, что первые удаляют преступника из общества навсегда, а вторые —
временно, на срок наказания, после отбытия которого осужденный возвращался
в общество. Каждый род уголовного наказания предусматривал лишение всех
прав состояния, т. е. полное поражение прав политических, гражданских, семей¬
ных и имущественных, лишение чина, чести, доброго имени, знаков отличия
с отобранием всех грамот и аттестатов. Это дополнялось для первого рода нака¬
зания смертной казнью, для второго рода — ссылкой в каторжные работы на
срок от 4 до 20 лет или бессрочно, для третьего и четвертого родов — соответст¬
венно ссылкой, в Сибирь или на Кавказ. Лица непривилегированных сословий
дополнительно публично наказывались плетьми. Исправительные наказания
включали: 1) для привилегированных сословий потерю всех особенных прав
и преимуществ (т. е. лишение чинов и знаков отличия, запрещение государствен¬
ной службы вообще или на определенных должностях, отдачу имения под опеку
и т. д.) и ссылку на жительство в Сибирь, а для лиц непривилегированных сосло¬
вий наказание розгами и отдачу в исправительные арестантские роты (которые
впоследствии стали называться исправительными отделениями или исправитель¬
ным домом) с потерей всех особенных прав и преимуществ; 2) для привилегиро¬
36
Наказания и пенитенциарная система
ванных сословий потерю всех особенных прав и преимуществ и ссылку на жи¬
тельство в отдаленные губернии, кроме сибирских, для непривилегированных
сословий — заключение в рабочем доме с потерей всех особенных прав и пре¬
имуществ; 3) для всех сословий заключение в крепости с лишением некоторых
особенных прав и преимуществ; 4) для всех сословий заключение в смиритель¬
ном доме с лишением некоторых особенных прав и преимуществ; 5) для приви¬
легированных сословий ссылку, для остальных — заключение в тюрьму; 6) для
всех сословий кратковременный арест; 7) для всех сословий выговор, замечания
и внушения и денежные взыскания. Каждый отдельный род уголовного и испра¬
вительного наказаний делился на степени, которых в совокупности насчитыва¬
лось 38. Например, ссылка на каторжные работы подразделялась на 7 степеней
по продолжительности срока и тяжести работы, ссылка в Сибирь — на 5 степе¬
ней в зависимости от места ссылки и ее продолжительности; выговоры в присут¬
ствии суда делились на строгие, более строгие и строжайшие (Уложение о нака¬
заниях 1845 г., гл. 2). Наказания зависели от сословия: дворяне, священники,
купцы первой и второй гильдий были освобождены от телесного наказания,
а заключение в тюрьме для них заменялось ссылкой.
По Своду законов 1832 г. смертная казнь могла назначаться за государствен¬
ные, воинские и так называемые карантинные преступления (за мародерство и не¬
которые другие преступления во время эпидемии чумы, холеры и т. п.). По Уло¬
жению о наказаниях 1845 г. была отменена смертная казнь за воинские преступ¬
ления. Но в то же время закон позволял передавать дела о некоторых из ряда вон
выходящих преступлениях — жестокие убийства, поджоги, повлекшие огромные
жертвы и ущерб, — на рассмотрение военного суда, который, применяя законы
военного времени, мог приговорить к смертной казни. Несмотря на это, приме¬
нение смертной казни по-прежнему носило ограниченный характер. В 1878
и 1879 гг., после покушений террористов на императора, и в особенности с 1881 г.,
когда после убийства Александра II террористами был принят закон о чрезвы¬
чайной и усиленной охране, передача тяжких уголовных дел на рассмотрение
военных судов стала широко практиковаться до конца императорского режима.
В Уголовном уложении 1903 г. лестница наказаний была упрощена. Наказа¬
ния делились на 8 видов: 1) смертная казнь; 2) каторга на срок от 4 лет до бес¬
срочной; 3) ссылка на поселение без срока в предназначенные для этого местно¬
сти, но ссылка в Сибирь и отдаленные губернии уже не предусматривалась;
4) заключение в исправительном доме; 5) заключение в крепости; 6) заключение
в тюрьме; 7) кратковременный арест; 8) денежный штраф от 50 коп. до 100 руб.
Формально разделение на уголовные и исправительные наказания было ликви¬
дировано, хотя присуждение к смертной казни, каторге и ссылке на поселение
в Сибирь, а также к заключению в тюрьме или смирительном доме сопровожда¬
лось лишением прав состояния дворян, духовенства, купцов и почетных граждан,
другими словами, наказание для привилегированных оказывалось более суро¬
вым, чем для непривилегированных сословий. Смертная казнь назначалась
только за воинские и государственные преступления. С отменой телесных на¬
казаний для всех сословий, кроме крестьян, в 1863 г. как вида наказания вооб¬
ще, а в 1903 г. — и для крестьян и отбывающих наказание преступников из
37
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
непривилегированных классов сословный характер наказуемости был устранен.
Продолжительность заключения в целом была уменьшена: до 1903 г. срок катор¬
ги колебался от 4 до 20 лет, с 1903 г. стал ограничиваться, как правило, 4 годами;
срок пребывания в исправительном доме до 1903 г. колебался от 1 до 10 лет, по¬
сле 1903 г. — от 1,5 до 8 лет; срок тюремного заключения до 1903 г. колебался от
3 месяцев до 2 лет, после 1903 г. — от 2 недель до 2 лет. Но срок заключения
в крепости, к которому приговаривались преимущественно политические пре¬
ступники, был, напротив, увеличен: до 1903 г. он назначался от 6 недель до 6 лет,
после 1903 г. — от 2 недель до 8 лет. Увеличился также срок кратковременного
ареста за мелкие правонарушения: до 1903 г. он колебался от 1 дня до 3 месяцев,
после — от 1 дня до 1 года. Многие виды наказаний были вообще отменены:
ссылка на житье (не на вечное поселение) в Сибирь и отдаленные губернии, от¬
дача в рабочие и смирительные дома, которые были закрыты, выговоры и заме¬
чания, церковное покаяние, испрошение у обиженного прощения, полная конфи¬
скация имущества при политических преступлениях, политическая смерть, при¬
нудительная отдача в заработки за долги, отдача в солдаты56. Рассмотрим важ¬
нейшие наказания более подробно.
Смертная казнь, позорящие и телесные наказания
Смертная казнь существовала в двух видах — простая и квалифицированная.
В XVII—первой половине XVIII в. практиковались сожжение за религиозные
преступления, залитие горла расплавленным металлом за изготовление фальши¬
вых денег, закапывание с руками по плечи в землю и оставление без пищи и во¬
ды до голодной смерти (так наказывались женщины за убийство мужей), четвер¬
тование путем последовательного расчленения тела, колесование (раздробление
частей тела специальным колесом), посажение на кол и др.
К началу XIX в. осталось два способа приведения смертного приговора в ис¬
полнение — отсечение головы и повешение, но на практике применялось только
повешение. Приговор о смертной казни должен был утверждаться императором.
До 1881 г. казнь производилась публично, а с того времени — в пределах тюрем¬
ной ограды, но при ее совершении должны были присутствовать официальные ли¬
ца, врач и не более 10 местных граждан по приглашению городского управления
для свидетельства совершения казни. Самое исполнение казни в России не имело
того строгого и торжественного ритуала, который соблюдался в Западной Европе.
Только в исключительных случаях казнь сопровождалась специальным обрядом
и позорным шествием. Перед казнью к осужденному приглашалось духовное лицо
его вероисповедания для приготовления его к исповеди и причастию или только
к покаянию и молитве. Духовное лицо сопровождало осужденного на место казни
и оставалось при нем до исполнения приговора. Как указывалось, с 1881 г. прави¬
тельство передавало дела государственных преступников в военно-полевые суды,
которые применяли законы военного времени и поэтому намного чаще приго¬
варивали к смертной казни. По ориентировочным расчетам, за 1826—1905 гг.
были приговорены к смертной казни 1397 человек, из них казнены 64%, за
1905—1913 гг. — соответственно приговорены 6871 человек и казнены 43,4 %57.
38
Наказания и пенитенциарная система
Рис. 10.8. Колесование
Позорящие наказания, получившие распространение при Петре I, делились на
легкие и тяжелые. Первые предусматривали лишение чести и достоинства навсе¬
гда или на определенный срок, понижение в чине, публичное испрошение про¬
щения, публичное получение пощечины, прибитие имени к виселице. Тяжелое
позорящее наказание в разное время называлось по-разному: при Петре I —
шельмованием (от слова «шельмовать», означавшего «позорить, бесчестить»),
при его преемниках — публичной казнью, в XIX в. — гражданской казнью. Оно
сопровождалось лишением всех гражданских прав, или прав состояния. Наказа¬
ние имело узаконенный обряд: на эшафоте устанавливалась виселица, к которой
было прибито имя преступника, палач переламывал шпагу над его головой
и объявлял его шельмой, впоследствии — политическим преступником. Лишение
прав состояния с 1720-х гг. стало называться политической смертью. Ошельмо¬
ванный предавался анафеме, отлучался от церкви и не подлежал защите правоох¬
ранительных органов, поэтому вплоть до 1753 г., когда натуральная казнь была
заменена политической, человек, ограбивший или даже убивший ошельмованно¬
39
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
го, не подлежал наказанию. При Екатерине II этот вид наказания применялся
преимущественно за преступления против нравственности, но впоследствии он
применялся и к лицам, считавшимся по закону политическими преступниками,
например к Н. Г. Чернышевскому в 1864 г.
Телесные наказания получили широкое распространение в московский пери¬
од, и особенно в петровское царствование. В то время практиковались все из¬
вестные виды телесных наказаний, причем публично: вырезание языка — за не¬
уважительные слова по адресу государя и за непристойные слова в церкви, отсе¬
чение руки — за покушение на убийство господина, отсечение пальцев — за
подлог и кражу, отсечение носа или ушей — за разбой, бунт и клятвопреступле¬
ние. Для опознания преступников применялось клеймение, при Петре I для более
опасных преступников — вырезание ноздрей, для менее опасных — клеймение
буквой «в» (что означало вор, или преступник) в лоб. Кроме членовредительных
наказаний существовали болезненные телесные наказания: за самые тяжкие пре¬
ступления — кнутом, за менее важные — палками, плетями, шпицрутенами
(главным образом для военных); для наказания несовершеннолетних или взрос¬
лых за маловажные проступки использовались розги. Число ударов назначалось
до 500 и более, а иногда «без счету», т. е. фактически до смерти. До начала XVIII в.
телесным наказаниям подвергались все группы населения, так как в них не виде¬
ли позора, а только боль. В XVIII в. телесные наказания стали считаться наказа¬
нием, позорящим человека (например, солдат, наказанный телесно, не мог стать
офицером), поэтому привилегированные сословия стали добиваться их отмены
прежде всего для себя.
В 1785 г. от телесных наказаний были освобождены дворяне, именитые граж¬
дане, купцы первой и второй гильдий, в 1801 г. — священники, затем — лица
других сословий при наличии образования. Однако к учащимся начальной
и средней школ, среди которых преобладали представители привилегированных
сословий, розги широко применялись вплоть до 1860-х гг. Одновременно проис¬
ходило смягчение наказаний. В начале XIX в. вышел из употребления кнут (са¬
мое страшное орудие наказания: опытный палач мог тремя ударами кнута засечь
человека насмерть), ограничивалось число ударов. Уложение о наказаниях 1845 г.
установило высший предел наказания плетьми и розгами в 100 ударов. Стали
делаться изъятия для больных, старых, принимались меры предосторожности
в отношении здоровья, например исполнение приговора не производилось при
сильном морозе и ветре. С 1851 г. при наказании присутствовал врач.
В 1863 г. телесные наказания были в основном отменены. Женщины вообще
освобождались от них, а для мужчин они сохранились в 5 специально оговорен¬
ных в законе случаях: 1) допускалось наказание крестьян по приговору волост¬
ных судов до 20 ударов розгами, что прежде считалось детским наказанием; од¬
нако существовали большие изъятия — освобождались лица с образовательным
цензом в объеме среднего образования, лица, занимавшие общественные долж¬
ности, служившие в армии (после введения всесословной воинской обязанности
в 1874 г. около трети крестьян проходили службу в армии), страдавшие опреде¬
ленными болезнями и достигшие 60 лет, т. е. около 40 % взрослого населения
деревни; 2) разрешалось наказание арестантов розгами до 100 ударов за разные
40
Наказания и пенитенциарная система
нарушения установленного порядка с санкции губернатора; 3) ссыльнокаторж¬
ные и ссыльнопоселенцы за проступки могли наказываться розгами — соответ¬
ственно до 100 и 30 ударов розгами; 4) плети (до 100 ударов) могли назначаться
ссыльнокаторжным при совершении нового преступления; 5) допускалось нака¬
зание корабельных служащих хлыстом до 5 ударов и учеников ремесленников до
5—10 ударов розгами. Только в 1903 г. были отменены все виды телесных нака¬
заний для ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, в 1904 г. —для всех кресть¬
ян, солдат, матросов и других категорий населения58.
Каторга и ссылка
В первой половине XVIII в. приговоренные к каторге размещались преимуще¬
ственно в Европейской России и использовались на корабельных, портовых, руд¬
никовых и заводских работах, за которые получали вознаграждение (обычно
10 % от дохода от произведенной работы). После отмены смертной казни Елиза¬
ветой в 1756—1757 гг. осужденные к каторге направлялись преимущественно
в Сибирь, где использовались на работах в рудниках, в крепостях и на заводах.
В 1834—1844 гг. ежегодно к каторге приговаривалось 1320 человек, в 1846—
1860 гг. — 974 человека59.
После эмансипации 1861 г. каторжная система расшаталась настолько, что
наказание практически перестало временно существовать. Причина этого состоя¬
ла в том, что карательная сторона наказания стояла на втором плане, а главное
значение имело использование каторжных как дешевой рабочей силы. Каторж¬
ное хозяйство носило крепостнический отпечаток и нередко использовалось ради
выгоды лиц, им заведовавших, хотя это запрещалось законом60. После Великих
реформ подобное использование ка¬
торги в ведомственных, а тем более
в личных интересах стало затрудни¬
тельным, если вообще возможным
из-за протестов общественности и ли¬
беральной прессы. Поэтому ведом¬
ства, прежде заинтересованные в ра¬
бочих руках каторжников, такие как
Военное министерство, Министер¬
ство финансов и другие, нашли их
применение невыгодным и перешли
на вольнонаемный труд. На сибир¬
скую каторгу с конца 1860-х гг.
временно стали направляться пре¬
имущественно преступники лишь из
Пермской, Оренбургской губерний
и Сибири, а из других местностей —
только те осужденные, за которыми
следовали их семейства; прочие
преступники, приговоренные к ка-
Рис. 10.9. Каторжанин, прикованный
к тачке. 1891
41
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
торге, помещались в особых тюрьмах в Европейской России61. С целью найти
применение труду каторжан правительство открыло в 1875 г. сахалинскую ка¬
торгу, куда осужденные отправлялись морем. С этого времени отправка каторж¬
ников в Сибирь возобновилась, и вследствие роста преступности их число стало
расти (как в абсолютных цифрах, так и на 100 тыс. человек населения), достигнув
в конце XIX в. около 2 тыс. человек в год62.
Ссылка на поселение практиковалась уже в московский период. До 1750-х гг.
приговоренные к ссылке отправлялись в отдаленные местности Европейской
России, со второй половины XVIII в. — преимущественно в Сибирь, а в XIX в. —
также на Кавказ63. Ссыльные имели ограничения в праве передвижения, выборе
занятий и находились под надзором полиции. Их статус был законодательно
оформлен Уставом о ссыльных 1822 г. и Уложением о наказаниях 1845 г. Со¬
гласно ориентировочной оценке, за 1807—1898 гг. только в Сибирь было со¬
слано 876,5 тыс. человек, в том числе на каторгу — около 118,5 тыс., в ссылку —
в 6,4 раза больше, или 758 тыс. человек. В 1897 г. ссыльных разных категорий,
кроме отбывающих каторгу, проживало в Сибири 298,6 тыс., или 5,2 % всего
населения региона64.
Рис. 10.10. Ссыльнокаторжные эсеры на Нерчинской каторге. 1907
42
Наказания и пенитенциарная система
Заключение в тюрьму и пенитенциарная система
Тюремное заключение как особая форма наказания начало практиковаться
в России с XVI в., но до 1649 г. тюрьма служила главным образом местом под¬
следственного задержания. Применение телесных наказаний и смертной казни
как главных видов наказания делало излишней заботу правительства о развитии
пенитенциарной системы даже после того, как Соборное уложение 1649 г. стало
использовать заключение в тюрьму как дополнительное наказание для 40 соста¬
вов преступлений. Специальных помещений для тюрем не строилось, наказание
отбывалось чаще всего в подвалах монастырей, государственных учреждений
или в небольших отдельных зданиях. «Монастырская ссылка уже в начале XVIII в.
стала обычным светским тюремных заведением, а церковное покаяние преврати¬
лось в дополнительную форму наказания»65. В обычных тюрьмах мужчины,
женщины и дети содержались вместе. До 1662 г. обязанность материально со¬
держать арестантов падала на их родственников, хозяев или истцов. С 1662 г.
государство стало отпускать на содержание арестантов мизерные средства, кото¬
рых не хватало. Поэтому арестанты собирали деньги милостыней, для чего их,
обычно скованных по нескольку человек вместе, отпускали на день из мест за¬
ключения. Заключенные могли работать, занимаясь на свой счет ремеслом внут¬
ри тюрьмы. При Петре I труд арестантов стал активно применяться для государст¬
венных нужд, но этого было недостаточно, чтобы занять всех полезной работой.
В 1760-е гг. Екатерина II сделала попытку устроить систему правильных тю¬
рем с разделением их на разные виды для различных преступников. Кроме суще¬
ствовавших тюрем императрица в 1775 г. учредила смирительные дома, которые
предназначались для лиц аморального поведения — непослушных детей, тунеяд¬
цев, провинившихся помещичьих крестьян, лиц, совершивших сексуальные пре¬
ступления, ас 1781 г. возникли рабочие дома для лиц, совершивших преступле¬
ния против собственности, где осужденные содержались вместе и обязательно
работали. С 1785 г. государство стало систематически отпускать на содержание
заключенных деньги из государственного бюджета.
Но учрежденные Екатериной II места лишения свободы плохо развивались
и не получили правильной организации главным образом из-за недостатка фи¬
нансов и отсутствия специального централизованного управления всеми сущест¬
вовавшими в империи тюремными заведениями66. Заключенные по-прежнему
в большинстве мест заключения страдали от перенаселения камер, не разделя¬
лись по полу и возрасту, больные содержались вместе со здоровыми, голодали,
жили подаянием67. Медицинский персонал в тюрьмах отсутствовал, случались
эпидемии, приводившие к громадному росту смертности. Лечение производи¬
лось за счет мало обеспеченного средствами Приказа общественного призрения,
а также общин, к которым до ареста были приписаны заключенные, и благотво¬
рительности68. Престарелые и больные арестанты переводились в гражданские
богадельни69. Установленные при Екатерине II нормы отпуска денег на содержа¬
ние заключенных не могли покрыть расходов вследствие инфляции. Четырех
ассигнационных копеек в сутки, отпускаемых на продовольствие арестантов, не
хватало. Администрация тюрем постоянно просила правительство увеличить
43
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.11. Детский приют на Нерчинской каторге. 1891
ассигнования70. Но последнее не имело средств и рекомендовало обходиться
имеющимися, привлекать арестантов к работе, искать благотворителей, обращать
частные подаяния на улучшение тюремного быта, собирать деньги с общин,
к которым арестанты принадлежали, с помещиков, чьи крепостные совершили
преступление, с кредиторов, чьи должники находились в тюрьме71. Тюремной
администрации удавалось на короткое время навести порядок в своих заведениях
только во время посещения их высоким начальством, особенно императорами72.
Когда Свод законов 1832 г. и Уложение о наказаниях 1845 г. главным видом
наказания сделали лишение свободы, государство остро столкнулось с пробле¬
мой недостатка мест лишения свободы и стало энергично развивать пенитенци¬
арную систему. Большинство видов наказания предусматривало заключение
в арестантскую роту (отделение, или исправительный дом), рабочий дом, кре¬
пость, смирительный дом или тюрьму. Различные места заключения отличались
строгостью режима, условиями содержания и контингентом заключенных. На¬
пример, в крепость заключались лица за такие деяния, которые не поражали чес¬
ти и не предполагали бесчестных побуждений у осужденных. Они содержались,
как правило, в одиночной камере и занимались работой по собственному жела¬
нию. Арестантские отделения были учреждены в 1827 г. в губернских городах
в целях производства разных работ по благоустройству города. Они предназна¬
чались только для мужчин в рабочем возрасте — беглых и бродяг, осужденных
44
Наказания и пенитенциарная система
к ссылке за маловажные преступления или к заключению в рабочих домах.
Большинство осужденных содержались в тюрьмах. Многие заключенные работа¬
ли до 11 ч в день летом и до 10 ч зимой, получая за работу определенное возна¬
граждение. Им разрешалось иметь собственный стол и добавочную пищу, но без
излишеств. Содержание было общее.
Однако на практике задуманная Уложением о наказаниях 1845 г. система
исправительных заведений давала сбои. Недоставало смирительных и рабочих
домов, поэтому осужденные заключались главным образом в тюрьмы и аре¬
стантские отделения, однако последних также было мало — предполагалось
учредить их в каждом губернском городе, но фактически их было меньше, на¬
пример в 1889 г. всего 32, в 1903 г. — 33, или в 2,5 раза меньше, чем губерн¬
ских городов. Ввиду этого по необходимости для лиц, не освобожденных от
телесного наказания, заключение в рабочий или смирительный дом заменялось
наказанием розгами от 40 до 100 ударов, а для лиц, освобожденных от телес¬
ных наказаний, — заключением в тюрьму. Из-за невозможности создать иерар¬
хическую пенитенциарную систему правительство пошло на ее упрощение:
в 1880-е гг. были закрыты рабочие и смирительные дома и остались 3 вида мест
заключения — крепость, исправительный дом и тюрьма. Для срочного ареста
существовали специальные арестные дома с особыми отделениями для мало¬
летних и лиц высших сословий, но последние чаще всего отбывали наказание
на военных гауптвахтах или в зданиях того ведомства, где они состояли на
службе73. Внутренний распорядок и условия содержания в разных заведениях
со временем изменялись, но везде 4 дня общего заключения приравнивались
к 3 дням одиночного заключения.
Как показало обследование тюрем, предпринятое коронной администрацией
в 1860—1870-х гг., положение заключенных во второй трети XIX в. мало изме¬
нялось к лучшему по сравнению с его первой третью74. Это обстоятельство,
а также постоянное увеличение числа тюрем и заключенных заставило прави¬
тельство создать в 1879 г. Главное тюремное управление (до 1895 г. при Мини¬
стерстве внутренних дел, после — при Министерстве юстиции), которое стало
центральным органом управления всеми местами заключения империи. Новое
управление приняло ряд мер по улучшению пенитенциарной системы, но их бы¬
ло недостаточно, чтобы серьезно изменить условия содержания заключенных
и превратить места лишения свободы в исправительные учреждения. Главные
причины неудачи — недостаток средств и быстрый рост числа заключенных
вследствие роста преступности. В 1804 г. в России без Финляндии насчитывалось
около 14 тыс. человек, заключенных в разного рода тюремных заведениях, к 1840 г.
их число выросло до 17 тыс., к 1861 г. — до 31 тыс., к 1885 г. — до 95 тыс.,
к 1913 г. — до 169 тыс. человек. Кроме заключенных на срок через тюрьмы про¬
ходили ссыльные, в них содержались лица, находившиеся под следствием, семьи,
добровольно следовавшие за осужденными, бродяги и другое «тюремное населе¬
ние», в 6—8 раз превосходящее число срочных заключенных. Так, в 1804 г. вре¬
менное население тюремных заведений составило 72 тыс., в 1840 г. — 103 тыс.,
в 1861 г. — 217 тыс., в 1868 г. — 455 тыс., в 1885 г. — 703 тыс., в 1913 г. — 899 тыс.
человек75. Рост числа тюрем отставал от увеличения численности заключенных.
45
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.12. Политические заключенные эсеры на Нерчинской каторге. 1900-е
Правильная тюремная статистика в России началась с 1879 г., после учрежде¬
ния Главного тюремного управления, которое печатало ежегодные отчеты с под¬
робным описанием состояния тюрем и условий содержания в них заключенных.
До судебной реформы 1864 г. специальных тюремных заведений было недоста¬
точно, заключенных держали в общих или одиночных камерах при полиции или
в небольших зданиях, не приспособленных специально для содержания преступ¬
ников («тюремных замках»), и даже счет в тюремной статистике велся не на чис¬
ло тюрем, а на число камер и их вместимость76. В 1879 г. в ведомстве Главного
тюремного управления числилось 850 тюрем, в 1900 г. — 892, в 1913 г. — более
1000, число тюремных мест за 1879—1913 гг. увеличилось с 61,7 до 120 тыс., из
которых одиночные составляли 7,2—7,5 %. Несмотря на рост пенитенциарной
системы, тюрьмы были переполнены: в 1863—1864 гг. фактическое наполнение
тюрем превосходило лимитное в 1,12 раза, в 1890-е гг. — в 1,4 раза, а в 1908—
1913 гг. — в 1,5 раза при низком уровне санитарии77. Не способствовала здоро¬
вью заключенных и праздность: в 1880-е гг. всего около 30%, а в 1900-е гг.
до 58 % от их общего числа были заняты на разных работах в среднем от 70 до
120 дней в году78.
Однажды, просматривая отчет псковского губернатора за 1882 г., Александр III
обратил внимание на высокую смертность заключенных в псковской каторжной
тюрьме и потребовал объяснения. В объяснительной записке указывалось, что
арестанты не работают, постоянно находятся в закрытых помещениях, мало бы¬
вают на свежем воздухе, что вызывает кишечные и легочные заболевания79.
Праздность имела и другое отрицательное следствие — неработавшие лиша¬
лись заработка, поскольку 31 % чистого дохода шел лично арестантам за их ра¬
боту, что позволяло работавшим лучше питаться. От дохода производились от¬
46
Наказания и пенитенциарная система
числения и в пользу тюрем, и, если бы все трудоспособное население занималось
производительным трудом, состояние мест заключения могло быть лучше. Тяже¬
лые условия жизни в тюрьме служили причиной высокой смертности заключен¬
ных, которая намного превышала смертность свободного населения, и распро¬
страненности самоубийств. В 1880-е гг. смертность заключенных, более чем на
90 % состоявших из мужчин, равнялась 40—42 на 1000 заключенных, в 1901—
1906 гг. — 20 на 1000, в то время как смертность взрослого населения в возрасте
старше 20 лет в Европейской России равнялась соответственно 18 и 14 на 1 ООО80.
В конце XIX—начале XX в. в тюрьмах происходило около 40—50 самоубийств
на 100 тыс. заключенных, что почти в 20 раз превышало среднероссийский уро¬
вень81. С 1907 вплоть до 1913 г. ввиду огромного наплыва арестантов среди за¬
ключенных стали быстро расти как смертность, так и число самоубийств:
в 1907—1912 гг. смертность повысилась до 38 на 1000 заключенных, в то время
как в стране в целом смертность опустилась до 14 на 1000 населения. Однако
уровень самоубийств увеличился как в тюрьмах — до 94 на 100 тыс. заключен¬
ных, так и в стране в целом, если судить по самоубийствам в городах82.
Вместе с тем нельзя не отметить и некоторые улучшения в пенитенциарных
заведениях, произошедшие за 1879—1913 гг. Питание, санитария и медицинское
обслуживание постепенно и понемногу улучшались, в 1900-е гг. 67 % тюрем
имели собственные больницы, остальные пользовались больницами, предназна¬
ченными для свободного населения. Это способствовало снижению смертности
Рис. 10.13. Вид общей камеры в Шлиссельбургской крепости. 1917
47
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
40—42 на 1000 заключенных в 1881—1885 гг. до 18—19 на 1000 в 1901—1906 гг.
Существенный прогресс был достигнут в отношении вовлечения заключенных
трудовую деятельность (доля работавших заключенных за 1879—1913 гг. уве-
ичилась вдвое), а также в их культурном обслуживании (в начале XX в. в 14 %
введений существовали школы, в 39 % — библиотеки, в 28 % проводились чте-
ия и собеседования)83. С развитием железнодорожного и водного транспорта
оставка арестантов к месту заключения стала производиться поездами и паро-
одами, благодаря чему ужасные тракты, по которым многие десятилетия заклю-
енные отправлялись пешком в ссылку, в тюрьмы и на каторгу в Сибирь, пере-
гавали существовать. В тюрьмах общего содержания, на долю которых прихо-
илось 94 % всех пенитенциарных заведений, режим был не слишком суровым.
>б этом говорит тот факт, что ежегодно от 1,5 до 2,5 тыс. заключенных соверша-
и побеги и лишь около половины из них удавалось поймать .
Таким образом, карательная система в России также испытала важные изме-
ения. Ее центральными моментами в Древней Руси были штрафы и возмегце-
ие убытков, денежные взыскания и месть, в московский период и в XVIII в. —
мертная казнь и телесные наказания, в первой половине XIX в. — телесные
аказания для непривилегированных классов и лишение свободы для привиле-
ированных классов, с 1864 г. — лишение свободы. В пореформенное время
Рис. 10.14. Женщины-заключенные с детьми в Первой женской тюрьме «Арсенальная»
(С.-Петербург, Арсенальная наб., 9; новая образцовая тюрьма,
построенная в 1912 г.). 1912
Гражданское право
в карательную систему проникли идеи перевоспитания и создания возможностей
для возвращения человека к нормальной жизни после отбывания наказания.
В 1909 г. возник институт уголовно-досрочного освобождения, ас 1910 г. время,
проведенное арестованным в предварительном заключении, стало засчитываться
в срок заключения. В 1913 г. осужденные получили право реабилитации. С конца
XVIII в. и особенно с 1845 г. принципиальным моментом назначения наказания
стало доказательство состава преступления, его тяжести и нахождение в лестни¬
це наказаний соответствующей ему кары. Общая эволюция доминирующего типа
наказания шла в направлении от безусловно-определенной к относительно¬
определенной, что считается юристами значительным прогрессом в уголовном
праве, поскольку последний тип наказания оставляет за судьей право до некото¬
рой степени варьировать меру наказания в зависимости от тяжести преступления.
«Оценивая карательную систему известной эпохи и известного народа, — заме¬
тил известный юрист Н. С. Таганцев, — всегда нужно помнить, что разумным
масштабом для этого должна быть ее жизнепригодность: всякая карательная сис¬
тема выработалась народной жизнью и предназначается для служения интересам
этой жизни»85. На мой взгляд, русская карательная система на каждом этапе сво¬
его развития отвечала целям охраны правопорядка, соответствовала правосозна¬
нию подавляющего большинства населения и в целом отвечала понятию целесо¬
образности86.
Гражданское право
Источники гражданского права
До 1832 г. в России не было специального кодекса гражданского права. Нор¬
мы, регулировавшие гражданско-правовые отношения, включались в общие
кодексы права. До XV—XVI вв. не было четкого разделения уголовного и гра¬
жданского права. С середины XVII в. гражданско-правовые отношения выде¬
лились в особую сферу и регулировались специальными нормами, которые хо¬
тя и включались в общие кодексы права, но в качестве специальных разделов,
как это было, например, в Соборном уложении 1649 г. Оставаясь действующим
сводом гражданско-правовых норм до 1835 г., Соборное уложение в течение
второй половины XVII—первой половины XVIII в. пополнялось новыми зако¬
нами, одни из которых отменяли, развивали или дополняли прежние, другие
были совершенно новыми, отражающими развитие общественных и экономи¬
ческих отношений. Свод законов 1832 г., также регулярно пополняясь новыми
нормами, оставался главным источником гражданского права вплоть до конца
императорского режима. Особенно быстро он дополнялся после эмансипации:
были изданы законы о фабричных рабочих в 1861, 1882, 1886 и 1897 гг., Устав
о промышленности заводской и фабричной, новый Ремесленный устав, типовые
Торговый устав, Биржевой устав, Вексельный устав и Устав о торговой несо¬
стоятельности. В 1864 г. впервые издается Процессуальный кодекс гражданско¬
го права.
49
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Субъекты гражданского права
В XI—XIII вв. все субъекты являлись физическими лицами, так как понятия
юридического лица закон еще не знал. В то время законодательство вообще не
пользовалось абстрактными понятиями современного гражданского права, таки¬
ми как «собственность», «владение», «распоряжение» и т. п., поскольку обычное
право, служившее его источником, почти не знало абстрактных понятий; законо¬
датель стремился предусмотреть все возможные жизненные ситуации87. Полно¬
правными субъектами гражданского, как и уголовного, права были лица, обла¬
давшие свободой воли, т. е. свободные граждане мужского пола, достигшие
15 лет. Женщины не были лишены вполне права вступать в гражданско-правовые
сделки, но их права сравнительно с мужчинами были существенно ограничены.
В XV—XVII вв. субъектами гражданско-правовых отношений кроме свободных
частных лиц стали коллективные лица — государственные учреждения, общины,
монастыри и др. В XVIII—первой половине XIX в. число юридических лиц еще
более увеличилось — магистраты и ратуши, учебные заведения, больницы, бога¬
дельни, торгово-промышленные компании, типографии, дворянские общества,
гильдии, цехи и т. п. При Петре I возрастной ценз для приобретения гражданской
правоспособности был повышен до 20 лет (в 1832 г. до 21 года) и введены огра¬
ничения по состоянию душевного здоровья и нравственного статуса: из круга
субъектов гражданского права исключались умалишенные, лица, находившиеся
под опекой вследствие мотовства, а также лишенные быть субъектом права по
суду. Вместо них договоры заключали их опекуны. Тогда же в законе стали фор¬
мироваться понятия юридического лица и корпоративной собственности. По ме¬
ре развития крепостнических отношений и сословного строя ограничивались
в гражданской правоспособности непривилегированные сословия — крестьяне,
мещане и др., в особенности владельческие крестьяне.
После 1860-х гг. субъектами гражданского права стали все физические ли¬
ца — все подданные империи — независимо от национальности, вероисповедания
и сословия, но женщины были по-прежнему ограничены в правах. В законода¬
тельстве окончательно сформировалось понятие юридического лица: они под¬
разделялись на публичные, частные, соединения лиц и учреждения. Правоспо¬
собность юридических лиц определялась согласно целям их деятельности Сена¬
том88. Четко определив характер юридических лиц и сняв ограничения на воз¬
никновение новых, закон способствовал их быстрому росту. Особенно быстро
увеличивалось число юридических лиц за счет частных обществ, акционерных,
биржевых, торговых и прочих компаний, а также музеев, больниц, библиотек
и других организаций, что отражало рост частной и общественной инициативы
и развитие рыночных отношений.
89
Обязательственное право
В XI—XIII вв. обязательства возникали из причинения вреда или из догово¬
ров. Договор имел сакральное значение, и потому его заключение сопровожда¬
лось ритуалом, произнесением определенных формул, присутствием свидетелей,
50
Гражданское право
подписанием и изъявлением удовлетворения (рукоприкладством) и т. д. Особен¬
но это касалось договора купли-продажи или мены, так как, согласно воззрениям
людей той эпохи, между человеком и вещью существовали отношения, разорвать
которые можно было с помощью специального ритуала. Поэтому сами по себе
договоры не решали окончательно юридическую судьбу вещи. Неисполнение
договора давало потерпевшей стороне право обратить должника в своего раба
или холопа. Имущественные взыскания допускались для торговцев, оказавшихся
банкротами, — они получали отсрочку для погашения своих обязательств и только
после ее истечения продавались в рабство. Закон знал такие договоры, как мена,
заем, купля-продажа, залог, хранение, или поклажа, личный наем, — все они, как
правило, заключались устно (ибо всего около 1 % населения в то время было
грамотно) и вследствие этого всегда публично — на торговой площади в присут¬
ствии свидетелей. До середины XVI в. устное соглашение являлось основной
формой заключения договоров. Письменных договоров было очень мало, и они
касались приобретения земли. Допускалось судебное разбирательство по устным
договорам. Договор займа денег или натуры предусматривал возвращение взято¬
го в кредит с надбавкой, например в случае денежного займа нормальный про¬
цент составлял 50 % годовых. Но поскольку получение процентов ограничива¬
лось 2 годами и выплата процентов освобождала от уплаты долга, закон, в сущ¬
ности, санкционировал только беспроцентный заем денег. Договоров личного
найма в буржуазном смысле не существовало, так как человек «нанимался» глав¬
ным образом за невыполненное обязательство и поэтому превращался в зависи¬
мого человека до погашения обязательства.
В XV—XVII вв. институты гражданского права получили дальнейшее разви¬
тие. Обязательства возникали преимущественно из устных договоров, хотя со¬
хранились и обязательства из причиненного вреда. Многие сделки, такие как
личный наем, сдача вещей на хранение, подряд и др., не признавались законом
без договора, часто письменного. Пострадавшая сторона терпела убытки, если не
могла доказать свою правоту в суде. Человек, поступавший в личный наем без
оформления договора, через 3 месяца превращался в зависимого человека (ка¬
бального холопа) работодателя. Роль письменных договоров повысилась, а те,
которые касались значительных материальных ценностей или большой суммы,
подлежали обязательной нотариальной, или «крепостной», регистрации в госу¬
дарственных учреждениях. Заключение договоров утрачивало сакральный харак¬
тер, но утрата сакрализованных черт соглашения компенсировалась появлением
элементов формализма, что выражалось в отработанной формуле обязательства
и в акте формального подтверждения договора представителями власти. Утвер¬
ждение права владения требовало использования нескольких способов подтвер¬
ждения, например захват как первоначальный способ приобретения права владе¬
ния должен был сопровождаться пожалованием захваченного. Важное изменение
в обязательственном праве состояло в том, что обязательство стало обеспечи¬
ваться не личностью должника, а его имуществом. Несостоятельные должники
раньше расплачивались своим имуществом, и только те, которые не имели пору¬
чителей или пропивали и растрачивали полученные взаймы деньги, отдавались
кредитору, но не в холопство, как прежде, а в работу до оплаты долга. В случае
51
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
смерти должника, в том числе обя¬
занного платить за оскорбление,
или «бесчестье», долг переносился
на его жену и детей или слуг. Как
и в уголовном праве, действовало
правило взаимной ответственности
супругов и всех членов семьи,
включая слуг, друг за друга. Не¬
платежеспособный помещик мог
выставлять вместо себя крепостно¬
го на позорное наказание, или
«правеж», во время которого его
ставили на торговой площади
и били батогами (палкой или пру¬
том) до тех пор, пока должник не
возвращал долга; долги помещика
также могли взыскиваться с его
крепостных.
Закон понизил размеры выпла¬
ты за отданные в кредит деньги до
20 % и не разрешал взимать про¬
центы более 5 лет — после 5 лет
долг считался выплаченным, таким
образом, закон по-прежнему не
допускал взимание процентов за
заем денег. Купля-продажа недви¬
жимости была ограничена рядом условий. Помещик мог отчуждать имение толь¬
ко с санкции государства. Наследники лица, продавшего родовую вотчину, в те¬
чение 40 лет имели право выкупить ее в «род». Начиная с XVIII в. преобладаю¬
щей формой договоров стала письменная, договоры составлялись официальными
лицами и регистрировались в специальных учреждениях. По мере развития кре¬
постнических отношений крестьяне, в особенности помещичьи, ограничивались
в своих договорных правах. Они могли заключать какие-либо договоры только
с согласия своего владельца. Важное нововведение в обязательственном праве
было сделано в 1754 г.: закон впервые разрешил взимать 6 % в год с данных вза¬
ем денег, при этом выплата процентов не освобождала должника от возвращения
долга; в 1786 г. плата за заем была понижена до 5 %. С изданием в 1739 г. век¬
сельного устава вошел в обращение вексель, и купцы получили право обязывать¬
ся векселями. В царствование Петра I возникла новая форма договорных отно¬
шений — договор товарищества, который открывал возможности для создания
акционерных торговых и промышленных компаний. С XVIII в. предметом дого¬
вора могли быть любые действия лиц, не противоречащие закону. Но закон
включал так много ограничений и исключал из круга субъектов права так много
лиц, что провозглашение свободы заключения договоров носило в значительной
степени декларативный характер.
Рис. 10.15. Внутренний вид одиночной камеры
в Доме предварительного заключения
(С.-Петербург, Шпалерная, 25). 1914
52
Гражданское право
Свод законов 1832 г. явился большим шагом вперед в деле разработки обязатель¬
ственного права. Было определено, какие договоры могли заключаться устно, для
каких требовалась только письменная форма. Закон требовал, чтобы всякий договор,
правильно составленный, подлежал исполнению и предусматривал 4 способа обес¬
печения договоров: поручительство, неустойка, залог недвижимого имущества
и заклад движимого имущества. Запрещалась мена недвижимого имущества, за не¬
которыми исключениями, но мена движимым имуществом не ограничивалась.
Получил юридическую силу договор так называемой запродажи (он практи¬
ковался еще в начале XVII в.), по которому одна сторона обязывалась продать
к назначенному сроку недвижимое или движимое имущество по определенной
цене. В случае невыполнения обязательства одной из сторон предусматривалась
уплата неустойки. Этот вид договора широко использовался в торговле, особенно
внешней: зарубежные купцы кредитовали таким способом русских купцов, по¬
ставлявших товары в порты.
Недвижимое имущество разрешалось сдавать внаем на срок, не превышаю¬
щий 12 лет, и обязательно по письменному договору. За заем денег по-прежнему
разрешалось брать не более 6 % годовых. Закон предусматривал договор ссуды
движимого имущества, но на безвозмездной основе, требовалось только, чтобы
оно было возвращено в срок и в том же состоянии.
Договор личного найма получил в конце XVIII—первой трети XIX в. широкое
распространение, но Свод законов 1832 г. мало что сделал для его совершенство¬
вания: государственным крестьянам запрещалось наниматься без паспортов, т. е.
без согласия общины и разрешения администрации, так как община выдачу пас¬
порта санкционировала, а администрация его выдавала. Владельческие крестьяне
для заключения договора найма также должны были иметь паспорт и разрешение
помещика. Замужние женщины и лица, не являвшиеся главой семьи, должны бы¬
ли, кроме всего прочего, иметь разрешение от своих мужей и глав семей. Срок
договора ограничивался 5 годами.
В первой половине XIX в. возникли новые виды договоров — комиссии, стра¬
хования, издательский и др., сложились авторское и промышленное право, т. е.
права авторов на художественные, литературные и музыкальные произведения,
на изобретения, модель, клеймо и название фирмы.
После эмансипации принцип буржуазного гражданского права еще глубже
проник в русское законодательство. Разрешалось заключать любой, не противо¬
речивший законам договор, включать в него любые условия, не нарушающие
общественный порядок. В 1870 г. были приняты специальные положения об ак¬
ционерных компаниях, страховании, личном найме. Сохранились специфически
русские виды договоров — запродажи (см. выше) и мировая сделка, когда сторо¬
ны в мировом или волостном суде приходили к соглашению и прекращали тяж¬
бу. Форма сделок в большинстве случаев была факультативной, но для некото¬
рых важных сделок требовалась письменная форма, заверенная у нотариуса. За¬
кон разрешал все виды договоров, известных рыночной экономике. Свобода за¬
ключать гражданские договоры привела к их бурному росту. В нотариальных
конторах страны в 1884 г. было зарегистрировано 357 тыс. разного рода актов,
сделок и т. п., а в 1913 г. — 1967 тыс., или в 5,5 раза больше, чем 29 лет до того90.
53
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Наследственное право91
В XI—XIII вв. право наследовать имели только сыновья, чтобы пресечь воз¬
можность ухода имущества из общины, так как дочери после замужества уходи¬
ли в другую общину, а сыновья оставались в ней. Привилегией передавать собст¬
венность дочерям отчасти пользовалась элита общества — бояре и дружинники,
которые выделились из общины и имели свою личную собственность. В XV—
XVII вв. происходило постепенное расширение круга наследников и прав насле-
дователя, что нашло выражение в более широком распространении наследования
по завещанию. Завещание мог сделать любой член семьи. Индивидуализация во¬
ли завещателя требовала соблюдения письменного оформления завещания. По
Соборному уложению 1649 г. завещатель имел право передать свое имущество
по своему желанию, но в пределах, устанавливаемых законом. Например, нельзя
было завещать землю церкви, а родовые и жалованные царем вотчины — людям,
посторонним роду. При отсутствии завещания имущество делилось между на¬
следниками по закону. Сыновья, которые жили на момент смерти отца в его до¬
ме, получали равные доли имущества, расплачиваясь по отцовским обязательст¬
вам из общего наследства. Наследственные права женщин были несколько рас¬
ширены: при отсутствии сыновей и завещания наследство могло переходить
к дочери или вдове, если последняя не имела средств к жизни. После ее смерти
земля возвращалась в род мужа. Вдовы могли наследовать также купленные
и выслуженные мужем вотчины. При наличии сыновей дочери не участвовали
в наследовании, однако им выделялась определенная часть имущества «на про¬
житок» или в счет будущего приданого.
Попытка Петра I ввести для дворянства единонаследие не увенчалась успе¬
хом: принятый им в 1714 г. закон по настоянию дворян был отменен в 1731 г.,
через 6 лет после смерти императора, и правила наследования по закону, т. е. при
отсутствии завещания, были изменены. Ближайшее право наследования принад¬
лежало сыновьям, при их отсутствии — внукам, при отсутствии внуков — пра¬
внукам, при их отсутствии — дочерям и т. д. Ближайшие родственники совер¬
шенно устраняли от наследования более дальних. Имущество умершего делилось
поровну между его сыновьями; при отсутствии сыновей — между внуками, а при
отсутствии внуков между дочерьми — также поровну. Дочери при живых брать¬
ях получали указную долю имущества — четырнадцатую долю недвижимого
и восьмую часть движимого; остальное имущество делилось поровну между сы¬
новьями. Если нисходящие родственники отсутствовали, наследовали боковые
родственники, а при их отсутствии — родители. Переживший супруг получал из
недвижимого имущества седьмую часть, а из движимого — четырнадцатую.
Усыновленные дети наследовали лишь купленное, а не родовое имущество усы¬
новителя, незаконнорожденные дети вовсе исключались из участия в дележе на¬
следства. Выморочное имущество поступало государству, дворянству, губернии,
городу или сельскому обществу в зависимости от сословия умершего.
Эти правила вошли в Свод законов 1832 г., который еще более расширил сво¬
боду завещателя: завещать можно было что угодно и кому угодно, кроме майо¬
ратных и заповедных имений (те и другие учреждались именными император¬
54
Гражданское право
скими указами в размерах от 25 до 100 тыс. дес., или 27—110 тыс. га). Признава¬
лись недействительными завещания, сделанные умалишенными, монахами, са¬
моубийцами, несовершеннолетними и лицами, по суду лишенными прав состоя¬
ния. Не имели силы завещания в пользу евреев, поляков и иностранцев в тех гу¬
берниях, где они не имели права владеть недвижимостью. После эмансипации
1861 г. передача имущества по завещанию стала преобладать; при наследовании
без завещания родители вообще исключались из числа наследников.
Вещное право92
Требования индивидуализации субъекта права, предъявляемые современным
правом к любой гражданской сделке, не соблюдались до XVIII в.93, так как част¬
ной собственности в полном смысле этого слова не существовало94. Закон и обы¬
чай не разделяли недвижимую и движимую собственность и не уделяли послед¬
ней необходимого внимания. Торгово-ремесленное и крестьянское население
входило в свои общины, и поэтому недвижимое имущество являлось объектом
не частного, а коллективного владения, а движимое имущество было объектом
семейной, а не индивидуальной собственности. Известная индивидуализация
владения имуществом наблюдалась среди социальной элиты, но и в этом случае
в XI—XIII вв. недвижимая собственность считалась объектом владения не инди¬
вида, а рода. В XV—первой половине XVIII в. право на недвижимую собствен¬
ность находилось в зависимости от военной службы государству и существовало
либо в форме вотчины (наследственное землевладение), либо в форме поместья
(условного землевладения). Законными способами приобретения вещных прав
признавались захват, или оккупация (так называемое захватное право никому не
принадлежавшей вещи, включая землю), давность, находка, договор, пожалова¬
ние и дарение. Движимое имущество приобрело черты частной собственности
де-факто еще в допетровское время, а де-юре — в 1714 г., когда оно было юри¬
дически отделено от недвижимого. В свою очередь земельные владения разделя¬
лись на родовые, выслуженные (пожалованные) и купленные вотчины и поме¬
стья, а строения — на дворы и торговые помещения (лавки). Для разных видов
недвижимой собственности был установлен особый режим распоряжения ими.
В сельских общинах земля по-прежнему находилась в коллективном владении.
В течение XVII в. в городах в сфере имущественных отношений боролись част¬
новладельческая и общинная тенденции, к концу XVII в. победила первая: зако¬
нодатель разрешил посадским людям распоряжаться своими постройками на об¬
щинной земле, в том числе продавать их лицу, не принадлежавшему к данной
посадской общине, при условии, если переселенец соглашался платить налоги
и нести все повинности, которые падали на его предшественника. Это расширило
возможность для посадских переселяться, а для непосадских людей, наоборот,
вселяться на территорию посадской общины. В начале XVIII в. права посадских
распоряжаться своими постройками и землей, на которых они находились, были
еще более расширены95. В конце XVII—первой половине XVIII в. закон четко
установил, какие субъекты могли владеть теми или иными объектами собствен¬
ности. Индивидуальными владельцами земли могли быть только представители
55
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
служилого класса. Из их среды постепенно вытеснялись недворяне, так называе¬
мые служилые люди по прибору, которые по своим правам в сфере вещных прав
и социальному статусу все более приближались к государственным крестья¬
нам — они объединялись в общины и теряли право быть индивидуальным вла¬
дельцем земли.
Еще более радикальный перелом в области вещного права произошел при
Екатерине II. В 1762—1785 гг. поместья вместе с проживавшими в них крестья¬
нами стали полной собственностью конкретного дворянина, а сервитуты, вве¬
денные Петром I, вроде права государства на распоряжение недрами, некоторого
вида лесами и т. д., были отменены. Сокращение в 1737 г. срока родового выкупа
с 40 до 3 лет и круга лиц, пользовавшихся этим правом, означало победу индиви¬
дуальных начал над родовыми в сфере дворянской поземельной собственности,
обеспечивало стабильность прав на приобретенное имущество и облегчало мо¬
билизацию земли посредством купли-продажи. В первой трети XIX в. постепен¬
но и другие сословия, кроме владельческих крестьян, получили право иметь зем¬
лю в собственности. Земля стала частной собственностью, доступной всем со¬
словиям, кроме владельческих крестьян. Но и недвижимое имущество торгово-
промышленного назначения — фабрики, заводы, дома и торговые заведения
в городах и т. п. — перестало быть монополией городского сословия. Утвержде¬
ние права частной собственности на недвижимое имущество и особенно на зем¬
лю, которая являлась в России главным видом недвижимой собственности, спо¬
собствовало окончательному юридическому оформлению данного института
в законодательстве, что и было сделано в Своде законов 1832 г. Собственность
определялась как право «исключительно и независимо от лица постороннего
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно»
(т. 10, ч. 1, ст. 262). К законным способам приобретения права собственности
добавилась давность: владение вещью, добросовестное или недобросовестное,
в течение 10 лет превращало владельца в собственника.
В царствование Александра II свобода владения частной собственностью из
привилегии сделалась общей правовой нормой для всего населения. В законе со¬
хранились лишь те ограничения вещных прав лица, которые необходимы для
свободы имущественных отношений других лиц, т. е. сервитуты, а в пользу госу¬
дарства удержано право экспроприации для государственных потребностей96.
97
Семейное право
Со времени крещения Руси среди социальных верхов и горожан получил при¬
знание церковный брак. Постепенно, к XVI—XVII вв., по мере христианизации
широких слоев населения, он распространился среди крестьянства, что сопрово¬
ждалось запрещением браков между христианами и нехристианами и между хри¬
стианами разных конфессий98. По закону вступлению в брак предшествовало об¬
ручение (сговор), у социальных верхов носившее форму письменного нотариаль¬
ного договора, у крестьян — устного соглашения. Неисполнение договора влекло
судебную ответственность и уплату штрафа. Сторонами в договоре были родите¬
ли или опекуны брачующихся, так как воля будущих супругов во внимание не
56
Гражданское право
принималась. Вступление в брак владельческих крестьян происходило с согласия
их помещиков. Отпуская крепостную крестьянку замуж за крестьянина другого
владельца, помещик получал выкуп (вывод). После договора обручения родители
покупали разрешение на вступление в брак (венечную память) у епархиального
архиерея. Священник выяснял, нет ли препятствий к браку, главными из которых
были кровное или духовное родство (например, родственники крестного отца
или крестной матери до четвертой степени включительно не могли вступать друг
с другом в брак), наличие живого супруга и возраст. Факт предполагавшегося
вступления в брак должен был трижды по праздничным дням оглашаться в церк¬
ви, после чего происходили венчание и свадьба со многими чертами языческого
ритуала. Из изложенного ясно видно, что нормы семейного права смешивались
с нормами обязательственного права, что брак заключал в себе черты имущест¬
венной сделки. Это было следствием того, что в то время семья рассматривалась
не столько как эмоционально-нравственный союз любящих и уважающих друг
друга индивидов, сколько как хозяйственный союз. Закон устанавливал в семье
власть мужа и отца. Сословная принадлежность жены и детей устанавливалась
по мужу и отцу. До XVIII в. самопродажа главы семьи в холопство влекла за со¬
бой и холопство жены и детей, родившихся после самопродажи. Муж имел право
отдавать жену в заклад или внаем на срок до 5 лет, а детей отдавать в монастырь
или продавать в холопство; в 1649 г. последнее право было заменено правом от¬
давать в услужение.
Несмотря на главенство мужчины в семье, в имущественном отношении закон
признавал равенство супругов, их взаимную ответственность по обязательствам.
Все имущество семьи, включая приданое жены и имущество, принадлежавшее
мужу до женитьбы, составляло общее семейное имущество, которым супруги
распоряжались совместно и которое после их смерти наследовали их дети. Одна¬
ко в случае бездетного брака, чтобы гарантировать сохранность приданого жены,
муж вносил залог (вено), равный третьей части своего имущества. После смерти
мужа вдова владела этим залогом до тех пор, пока родственники мужа не выпла¬
чивали ей стоимость ее приданого. В этом ярко проявлялись черты родовой со¬
лидарности, существовавшей наряду с семейной солидарностью, которая стала
ослабевать со второй половины XVII в. вследствие усиления тенденции к инди¬
видуализации имущественной ответственности отдельных членов семьи".
Основной причиной для прекращения брака являлась физическая смерть од¬
ного из супругов, для развода — прелюбодеяние. Лишение всех прав состояния
по суду не прекращало брака, поскольку жена несла ответственность вместе
с главой семейства, и наоборот. Однако длительное и безвестное отсутствие од¬
ного из супругов, неспособность к супружеской жизни, длительная и тяжелая
болезнь и уход в монастырь могли служить основанием для развода.
Довольно важные изменения в сфере семейного права произошли в XVIII в.,
которые коснулись главным образом дворянства и отчасти городских верхов.
В 1702 г. закон провозгласил при заключении брака приоритет акта венчания над
актом обручения, или сговора, и отменил уплату неустойки в случае отказа од¬
ной из сторон вступить в брак. Это подчеркивало религиозное значения брака,
а имущественный характер сделки, прежде бывший на первом месте, уходил
57
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
в тень. Попытки восстановить санкции за отказ от обручения в 1744 г. закончи¬
лись тем, что в 1775 г. закон вообще отменил обручение как обязательный эле¬
мент процедуры бракосочетания, превратив его в факультативный обрядово¬
этический ритуал. Не менее важным было то, что закон запретил родителям же¬
нить своих детей помимо их воли, вступать в брак умственно отсталым и душев¬
нобольным (1722), повысил брачный возраст для дворян (1714). Петр 1 стремился
смягчить семейные нравы, обязав женщин участвовать в некоторых обществен¬
ных увеселениях вместе с мужчинами.
В 1753 г. закон утвердил раздельность обязательственных прав супругов,
отменил взаимную обязанность по долгам друг друга. По закону отец должен
был содержать своих незаконнорожденных детей и их мать, но дети не участ¬
вовали в наследовании по закону, а только по завещанию. Вместе с тем такие
принципы допетровского семейного права, как власть мужа над женой и ро¬
дителей над детьми, сохранили свою силу. В течение второй половины XVIII в.
закон обязал военнослужащих и чиновников спрашивать разрешение на брак
у своих начальников, а с 1800 г. генералы и старшие офицеры должны были
испрашивать высочайшее соизволение на брак. С 1802 г. родительская власть
над детьми прекращалась в случае лишения родителей гражданской право¬
способности по суду, поступления в монашество или отделения детей от ро¬
дителей (последнее, как правило, совпадало со вступлением детей в брак или
поступлением сына на службу).
Свод законов 1832 г. внес ряд изменений в семейное право. Брачный возраст
был повышен до 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин. В имущественном
отношении закон давал женщине самостоятельность: имуществом, полученным
в качестве приданого, путем дарения, купли и другим законным способом, она
могла распоряжаться вполне и независимо от мужа. В остальном закон систе¬
матизировал прежние постановления. При заключении брака требовалось со¬
гласие родителей, опекунов или попечителей, для чиновников и военных —
разрешение начальства, для владельческих крестьян — разрешение помещиков.
Запрещались браки между христианами и нехристианами, но еще в 1721 г. бы¬
ли разрешены браки между христианами разных конфессий. Жена обязана была
подчиняться мужу и жить вместе с ним; вместе с тем закон запретил наказы¬
вать жену, бить и увечить ее под страхом уголовного наказания. Основания для
развода оставались прежние — прелюбодеяние, лишение одного из супругов
гражданских прав, смерть или безвестное отсутствие супруга в течение 5 лет,
вступление одного из супругов в монашество, неспособность одного из них
к брачному сожительству, подтвержденное медицинской экспертизой. Для лю¬
теран дополнительными основаниями развода были сумасшествие, заразная
болезнь, развратная жизнь. У католиков брак считался принципиально нерас¬
торжимым. У мужчин-магометан препятствий к разводу не существовало, раз¬
вод же для женщины был невозможен.
После эмансипации 1861 г. закон не требовал согласия родителей на вступле¬
ние в брак их детей, что юридически давало им большую свободу в выборе парт¬
нера. Расширились легальные возможности расторжения брака. Закон более чет¬
ко проводил принцип раздельности имущества супругов, несколько увеличил
58
Судоустройство и процессуальное право
самостоятельность женщин. Но жены без разрешения мужей не могли нанимать¬
ся на работу, выдавать векселя и т. п. Как это ни парадоксально, в пореформен¬
ное время церковь усилила контроль за семейно-брачными отношениями. В силу
этого изменения в семейно-брачных отношениях происходили в большей степе¬
ни на практике.
Таким образом, гражданское право в своем развитии прошло длительную эво¬
люцию. В ходе ее возросло число субъектов права, физические субъекты допол¬
нились юридическими лицами, постепенно увеличились права частного лица во
всех сферах гражданского права за счет сокращения прав рода, общины, корпо¬
рации, государства. Договоры в конечном счете приобрели конкретный и инди¬
видуальный характер, а число видов договоров возросло до предельно возмож¬
ной величины. Словом, с ростом имущественных прав полномочия отдельного
лица в сфере гражданско-правовых сделок также увеличивались. Этот процесс не
дошел до своего логического конца, поскольку женщины и несовершеннолетние
до конца императорского режима были не только существенно ограничены
в своих правах, но и не были в достаточной мере защищены законом от насилия
со стороны мужчин100.
Судоустройство и процессуальное право
В процессуальном праве различают три модели процесса: 1) обвинительный,
или состязательный; 2) инквизиционный, или розыскной; 3) смешанный. При
обвинительном процессе все дела, включая уголовные, носят характер частного
Рис. 10.16. Песенники Шлиссельбургской крепости. 1906
59
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
обвинения; уголовное или гражданское преследование возбуждается не органами
государственной власти, а отдельными гражданами, собирающими и представ¬
ляющими суду необходимые доказательства по делу; самый суд происходит
в исключительно состязательном порядке: активны только обвинитель и обви¬
няемый, а роль суда сводится к оценке представленных обеими сторонами дока¬
зательств и вынесении на их основе решения; можно сказать, что это прежде все¬
го процесс сторон. При инквизиционном процессе (от inquisitio — исследование)
расследование преступления осуществляется самими судебными органами и по
их собственной инициативе, даже без жалобы частного лица; судебный орган
объединяет в своих руках функции суда, обвинения и защиты, что превращает
судопроизводство в процесс без сторон, поскольку обвиняемому не противостоит
особый обвинитель как сторона. При смешанном процессе на суде вновь появля¬
ется обвиняемый как сторона, что гарантирует соблюдение прав личности. Одна¬
ко в процессе активны не только стороны, но и суд, рассматривающий дело; от¬
сюда и название процесса — смешанный, т. е. сочетающий элементы состяза¬
тельного и розыскного. Бремя доказательств лежит на обвинителе. Цель процес¬
са — отыскание материальной истины, а не формальных доказательств, как это
практикуется при розыскном процессе.
Судебные власти и судопроизводство
XI—XVII ввт
В XI—XIII вв. судебная власть принадлежала частным лицам, общине и госу¬
дарственным органам. Судебная власть частных лиц проявлялась в праве госпо¬
дина судить своих рабов и зависимых от него людей. Община судила за преступ¬
ления, совершенные ее членами на ее территории. Потребность решать споры
между общинами мирными средствами, а не войной вызвала необходимость го¬
сударственных органов судебной власти, которую разделяли князь и вече. Кня¬
жеский суд осуществлялся лично князем или его советниками. Вече, или народ¬
ное собрание, первоначально рассматривало всякие иски, но постепенно ограни¬
чилось делами об измене. Со временем наиболее серьезные преступления, такие
как убийство и грабеж, стали прерогативой княжеского суда. Однако в княже¬
ском суде самое активное участие принимали представители общины со стороны
как истца, так и ответчика.
Судебный процесс был близок к обвинительному процессу. Во времена Киев¬
ской Руси обе стороны назывались «истцами» или «соперниками», что указывало
на отсутствие процессуальных преимуществ для истца и ответчика, с некоторы¬
ми исключениями для исков уголовных. Понятия о государстве как истце в уго¬
ловных делах не существовало, не было различия между уголовным и граждан¬
ским, следственным и обвинительным процессами. Сторонами в суде выступали
частные лица, семья, род и община. Личное присутствие на суде истца и ответ¬
чика было обязательным, но со временем стало допускаться присутствие пред¬
ставителя для стариков, больных, монахов и детей. Спорящие стороны договари¬
вались о предмете спора, о судье и сроке явки на суд. Первоначально договор
60
Судоустройство и процессуальное право
заключался между ними, минуя судебные власти, но в более позднее время он
стал заключаться при участии самой судебной власти, к которой обращался ис¬
тец за содействием. Но когда ответчику было выгодно уклониться от суда и до¬
говор между ним и истцом был невозможен, тогда истец с санкции власти дол¬
жен был привести ответчика силой. Арест мог быть заменен поручительством,
что свидетельствовало о том, что свобода человека ценилась высоко. Если пре¬
ступник был неизвестен, пострадавший начинал его поиск. В случае кражи по¬
страдавший на торговой площади публично объявлял о пропавшей вещи и ее
приметах. Через три дня владелец пропавшей вещи обязан был объявить об этом
и доказать, что он честным способом приобрел ее. Тот, кто не мог объяснить, как
к нему попала вещь, признавался виновным, возмещал убытки и платил штраф.
Всякий, у кого после трех дней обнаруживалась вещь, должен был ее вернуть
и уплатить штраф. Розыск вора или убийцы мог производиться также по остав¬
ленным следам. Считалось, что там, где лежит украденная вещь или убитый че¬
ловек, там находится и преступник. Если вещь или труп находились в каком-
либо доме, то его хозяин признавался виновным, если на территории какого-
нибудь села — то община должна была либо выдать виновника, либо отвести
вину от себя, либо платить штраф. Если «след» преступника терялся, то поиск
прекращался.
На суде спорящие стороны в качестве доказательств использовали очевидцев
преступления (видоков) и людей, могущих подтвердить честное имя обвиняемо¬
го (послухов), — последние выступали от имени всей общины, которая принима¬
ла решение очистить ответчика от обвинения или дать о нем отрицательный от¬
зыв на общем собрании. В случае если этого было недостаточно, то прибегали
к суду Божьему, который имел несколько видов — присяга, или клятва перед
Богом, жребий, ордалии (испытание железом, огнем или водой) и судебный по¬
единок. Та сторона, которая побеждала на поединке, выдерживала испытание,
приносила клятву или в чью пользу выпал жребий, признавалась выигравшей
процесс. Какая сторона подвергалась испытаниям и каким именно, решал суд по
обстоятельствам дела. Суд был устным, допускалось примирение сторон даже во
время поединка.
В XV—XVII вв., как и прежде, судебная функция не была отделена от адми¬
нистративной. Суд осуществляли все те лица и органы, которые располагали вла¬
стью и осуществляли управление: великий князь (с середины XVI в. царь), Бояр¬
ская дума, центральные органы власти (приказы), представители великого князя
(царя) в провинции, которые в разное время назывались по-разному — намест¬
никами, волостелями, воеводами. На местах вместе с представителями короны в
суде участвовали представители служилых людей, городской или сельской об¬
щины. Однако некоторые приказы более или менее специализировались на вы¬
полнении судебных функций. Так, Разбойный приказ (он также назывался Сыск¬
ным приказом) разбирал дела об убийствах, разбоях и грабежах на территории
всей страны, кроме Москвы, где судопроизводство по всем уголовным делам на¬
ходилось в компетенции Земского приказа. Важнейшие политические преступ¬
ления рассматривались в Тайном приказе. Гражданские дела между дворянами
рассматривались в Судных приказах, число которых изменялось от пяти в конце
61
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
XVI—начале XVII в. до одного в 1699 г., гражданские дела, касавшиеся отноше¬
ний между дворянами и их крепостными и холопами, — в Приказе холопьего
суда. С 1539 г. дела о разбоях, убийствах и грабежах стали передаваться на суд
выборных общин (губных старост, или голов). Значение суда выборных начало
падать с середины XVII в., и его официальная отмена в 1708 г. только законода¬
тельно оформила свершившийся факт — возвращение судебной власти к пред¬
ставителям короны — воеводам.
В течение всего московского периода существовал вотчинный суд в разных
видах: дворцовый — для суда над дворцовыми крестьянами, монастырский —
для суда над монастырскими крестьянами, владельческий — для суда над кре¬
стьянами частных вотчин. В отличие от предшествующего периода вотчинная
юстиция осуществлялась по уполномочию короны. Кроме того, существовал
церковный суд по делам веры и брачно-семейным отношениям для всего населе¬
ния и духовный суд для духовенства. Однако во всех случаях дела о наиболее
серьезных преступлениях были исключительной прерогативой короны либо губ¬
ных старост, когда последние существовали. Различные суды, как и прежде, не
разделялись по инстанциям. Подсудность была по месту жительства. Для разбора
маловажных уголовных и гражданских дел существовали общинные суды в го¬
роде и деревне. Население активно участвовало в борьбе с преступностью на
принципе круговой поруки. Способы задержания, следствия и наказания пре¬
ступников отличались с современной точки зрения архаичностью. Сторожа,
упустившие преступника, платили убытки. Убийца становился холопом родст¬
венников убитого, например холопом сына убитого отца. Соседи обязаны помо¬
гать в поимке преступника, иначе будут считаться соучастниками, и т. д.102
Важное новшество московского периода состояло в раздвоении единого пре¬
жде состязательного процесса для всех дел на два вида: гражданские споры, не
основанные на документах, и уголовные дела, совершенные неизвестными лица¬
ми, разбирались по правилам старого состязательного судебного процесса, а для
решения гражданских дел с привлечением документов, и уголовных дел, где
имелись подозреваемый и улики, стал применяться розыскной процесс. Состяза¬
тельный процесс велся в основном на старых основаниях, но и здесь произошли
некоторые изменения: решение вопросов о предмете спора между истцом и от¬
ветчиком, судье и времени разбирательства становилось прерогативой суда; сто¬
роны могли не являться на суд лично, а действовать через своих представителей,
имели право отводить, а не выбирать судей. В качестве новых видов доказа¬
тельств большое значение приобрели письменные документы и массовый опрос
жителей округу, где проживали тяжущиеся, который назывался повальным обы¬
ском. Из Божьих судов сохранили значение только клятва, жребий и поединки
(в них разрешалось выставлять вместо себя наемного человека), но к началу XVII в.
поединки сами собой исчезли из судебной практики. Устное делопроизводство
заменилось письменным. В состязательном процессе дело начиналось с подачи
истцом письменной жалобы. Неявка любой стороны в суд вызывала прекращение
дела с невыгодными для неявившегося последствиями. Протокол заседания вели
секретари (дьяки). Приговор суда выдавался обеим сторонам. Исполнение приго¬
вора осуществлялось судебными приставами. Проигравшая или виновная сторо¬
62
Судоустройство и процессуальное право
на часто наказывалась битьем прутьями («правежом»). Приговоры могли быть
обжалованы.
В розыскном процессе роль истца взяло на себя государство. Договорные от¬
ношения между сторонами о ведении дела не действовали. Поручительство не
заменяло ареста. Доказательства изыскивали не тяжущиеся стороны, а сам суд;
спор сторон превратился в допрос и очную ставку, мирное соглашение между
ними стало невозможным: за попытку договориться с обвиняемым сам истец
подвергался пытке. Устное судоговорение заменилось письменным делопроиз¬
водством, процесс стал тайным. Обнаружение поличного (украденной вещи или
убитого человека) по-прежнему служило важным доказательством, но уже не
имело прежнего безусловного значения. Собственное признание с конца XVI в.
стало обязательным для вменения преступления, а пытка в самых разнообразных
формах стала главным средством розыска и получения собственного признания.
При противоречивых доказательствах и отсутствии собственного признания ре¬
шающее значение имело общественное мнение по поводу совершения подозре¬
ваемым преступления, выявляемое в ходе массового опроса соседей103. При по¬
ложительном отзыве обвиняемый освобождался от наказания и отдавался общи¬
не на поруки. При отрицательном отзыве смертная казнь заменялась пожизнен¬
ным заключением в тюрьму. Приговоры приводились в исполнение государст¬
венными органами, вознаграждение потерпевшего заменилось наказанием ви¬
новного. Следует, однако, отметить, что в России розыскной процесс в чистом
виде не сформировался.
Рис. 10.17. В. И. Якоби (1833—1902). Привал арестантов. 1861.
Государственная Третьяковская галерея
63
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
XVIII—первая половина XIX в.104
При Петре I проводились противоречивые судебные реформы, хотя импера¬
тор руководствовался рациональными идеями. Он хотел, во-первых, отделить суд
от администрации, создав специальные судебные органы нескольких уровней
с правом апелляции на решения суда низшей инстанции в суд высшей инстан¬
ции; во-вторых, поставить судопроизводство в рамки писаного закона, умень¬
шить субъективность судебных решений; в-третьих, поставить работу судов под
контроль прокуратуры; наконец, привлечь для исполнения судебных функций на
местах провинциальное дворянство. Поскольку реформ в течение 25 лет было
несколько и каждая следующая хотя бы отчасти отменяла предыдущую, рас¬
смотрим, каков был их конечный результат.
Судебные учреждения разделялись на четыре инстанции. Магистраты и рату¬
ши служили судами первой инстанции для посадских, а для всех остальных лиц,
проживавших в негубернских городах и сельской местности, эту роль выполняли
нижние суды. Надворные суды являлись первой судебной инстанцией для всех
жителей губернских городов, кроме посадских людей, и второй судебной ин¬
станцией — для всех остальных. Учрежденная Юстиц-коллегия заменила Раз¬
бойный приказ в качестве третьей судебной инстанции не только по уголовным,
но и по гражданским делам. Сенат выполнял роль четвертой и высшей, не считая
императора, судебной инстанции и рассматривал дела о преступлениях высших
должностных лиц. Вместо Тайного приказа была создана Тайная канцелярия ро¬
зыскных дел. Таким образом, кроме магистратов, все суды были всесословными.
Они состояли из назначаемого короной судьи, который по совместительству мог
исполнять какую-нибудь административную должность (например, президентом
надворного суда был губернатор), и заседателей от дворянства; только магистра¬
ты избирались и состояли из посадских. В надворных и нижних судах больших
городов решения принимались заседателями и судьей коллегиально, в нижних
судах малых городов, которых было большинство, — судьей единолично. Одна¬
ко, создавая специальные судебные органы, Петр I не изъял судебные функции
у новых центральных учреждений — коллегий, заменивших приказы, и сохранил
церковный и военный суды.
В 1727 г., всего через 2 года после смерти Петра 1, последовала новая судеб¬
ная реформа, по которой Сенат, Юстиц-коллегия и магистраты были сохранены,
а надворные и нижние суды ликвидированы; вся судебная власть вновь перешла
в руки коронной администрации — коллегий, губернаторов и воевод. Новая су¬
дебная система просуществовала до 1775 г. Причины неудачи петровской судеб¬
ной реформы сводились к следующему. Во-первых, идея разделения властей не
соответствовала русским традициям; во-вторых, специальный суд требовал
большого числа подготовленных людей, которых было недостаточно, и огром¬
ных средств, которыми казна не располагала. В результате вместо порядка, кото¬
рый хотел утвердить император, в судебном ведомстве увеличился беспорядок.
Положение усугублялось непоследовательностью императора в отношении
судопроизводства. Указом 1697 г. состязательный процесс был всюду заменен
розыскным, что было подтверждено «Воинскими артикулами» 1715 г., которые
64
Судоустройство и процессуальное право
дали подробное описание следственного процесса. Для ограничения субъекти¬
визма судей последние должны были руководствоваться концепцией формаль¬
ных доказательств, согласно которой разные доказательства имели разную силу,
выражавшуюся в баллах. Судьи должны были собрать все доказательства «за»
и «против» и оценить их суммарную силу в баллах. Самым совершенным доказа¬
тельством признавалось собственное признание, для получения которого обра¬
щались к пытке. Пытке предшествовал «допрос с пристрастием», т. е. с угрозами
и побоями. Признание не освобождало от пытки, так как считалось, что пытка
откроет новые факты и детали преступления. Кроме признания использовались
свидетели и документы. Однако через 7 лет, в 1723 г., указом «О форме суда»
розыскной процесс отменялся и заменялся состязательным, что ставило судей
в затруднительное положение, так как «Воинские артикулы» сохраняли полную
силу и стали применяться в гражданских судах. В 1725 г. Сенат разрешил проти¬
воречие следующим образом: розыскной процесс применялся к делам, связанным
с богохульством, расколом, убийством, разбоем, грабежом, а также с «церковным
мятежом» — восстанием против официальной Православной церкви, и к воин¬
скими преступлениям; к остальным уголовным правонарушениям и к граждан¬
ским делам должен был применяться состязательный процесс. Рациональный
император отменил остатки Божьих судов — поединки и жребий — и сохранил
только клятву.
При ближайших преемниках Петра I процесс оставался на прежних основани¬
ях. Судебные органы в городах пополнились в 1754 г. словесными судами, пред¬
назначенными для разбора незначительных гражданских дел между посадскими,
и специальным судом Московского университета для его студентов и профессо¬
ров. Петр III ликвидировал Тайную канцелярию.
Важные и долгосрочные изменения в организации суда и судопроизводства
произошли при Екатерине II, которая попыталась устранить недостатки, свойст¬
венные суду ее предшественников: слияние суда и администрации, множество
инстанций, смешение гражданских и уголовных дел, запутанность делопроиз¬
водства. В 1775 г. в ходе реформы местных учреждений был преобразован и суд.
Реформа создала на уездном и губернском уровнях сословные судебные органы
для дворян (уездный земский суд и верхний земский суд), для городского сосло¬
вия (городовой и губернский магистраты) и для государственных крестьян (ниж¬
няя и верхняя расправы). Суды губернского уровня разделялись на суд по граж¬
данским и уголовным делам, на уездном уровне специализация отсутствовала.
Уездные и губернские суды находились в отношениях высшей и низшей инстан¬
ций, создавая возможность для апелляции. В каждой губернии были созданы
также всесословные суды — палата уголовного суда и палата гражданского суда
как ревизионная и третья апелляционная инстанция. Функцию контроля над дея¬
тельностью судов осуществляли уездные и губернские прокуроры, а также гу¬
бернаторы, которые формально должны были утверждать приговоры по важ¬
нейшим делам. Но если ежегодное количество только уголовных дел с начала
XIX в. превышало 100 тыс., трудно предположить, что вмешательство губерна¬
тора в судебную сферу могло быть сколько-нибудь значительным. Для духовен¬
ства и военных сохранялись церковный и военный суды. Помещичьи крестьяне
65
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
по маловажным гражданским и уголовным делам судились вотчинным судом, по
важным — в уездном суде. В Петербурге и Москве были созданы надворные су¬
ды для разбора дел, касавшихся временных жителей столиц, находившихся там
по различным делам. В палаты уголовного и гражданского суда судьи и советни¬
ки назначались от короны; в сословные суды губернского уровня председатель
назначался от короны, а заседатели — от соответствующего сословия; в сослов¬
ные суды уездного уровня председатель и заседатели избирались от дворянства и
городского сословия, а для государственных крестьян председатель назначался
губернским правлением, а заседатели избирались крестьянами.
По инициативе Екатерины II был создан всесословный совестный суд для
разбора преступлений и проступков, совершенных малолетними, глухонемыми,
«безумными», дел о колдовстве, об оскорблении родителей детьми, а также пре¬
ступлений, совершенных в состоянии аффекта, случайно, неумышленно, по сте¬
чению обстоятельств. Председатель совестного суда назначался губернатором,
а заседатели избирались различными сословиями, включая государственных кре¬
стьян, но суд над представителями отдельных сословий происходил по сослов¬
ным присутствиям, т. е. дворяне судили дворян, купцы — купцов и т. д.
Закон определил не только состав, но и компетенцию каждого суда, порядок
возбуждения дела, контроля за деятельностью суда, делопроизводства и подачи
апелляции. Вначале апелляционный пересмотр дел разрешался по всем делам, но
в 1784 г. он был ограничен гражданскими делами и теми приговорами по уголов¬
ным делам, которые не предусматривали смертной казни и лишения гражданских
прав, — к последним наказаниям приговаривались не более 10% осужденных.
Эти наиболее важные уголовные дела могли пересматриваться только по ини¬
циативе высшей судебной инстанции, в порядке ревизии. Все суды первого,
уездного, уровня могли начинать значительное число уголовных дел не только
по указанию высшей инстанции, но и по жалобам частных лиц, поэтому возмож¬
ности апелляции были достаточно широки. Правда, они сдерживались большой
пошлиной и штрафом за необоснованность жалобы105. Сенат являлся высшей
апелляционной инстанцией по делам гражданским и уголовным, Синод — по
делам церковным.
При Екатерине II произошли изменения и в судопроизводстве. В 1765 г. им¬
ператрица предписала всюду применять состязательный процесс. Но на прак¬
тике суды применяли также и розыскную форму в зависимости от дела, тем
более что в розыскном процессе сохранились элементы состязательного, а со¬
стязательный процесс включал элементы розыска. Указами 1763 и 1767 гг. бы¬
ло ограничено применение пытки, которая допускалась только в тех случаях,
когда все другие средства установить истину были исчерпаны, причем только
в провинциальных и губернских городах и при санкции губернатора. Сохране¬
ние пытки, хотя и в ограниченных размерах, свидетельствует о том, что розы¬
скной процесс при Екатерине II не исчез. В 1782 г. в городах были устроены
управы благочиния в качестве полицейских органов с обязанностью производ¬
ства следствий по всем видам преступлений — так был сделан первый шаг по
отделению следствия от суда и уменьшению роли судьи в процессе. Вотчинный
суд остался на прежних основаниях.
66
Судоустройство и процессуальное право
Созданные Екатериной II судебная система и процесс просуществовали без
радикальных перемен до судебной реформы 1864 г.106, хотя некоторые исследо¬
ватели полагают, что в XIX в. розыскной процесс взял перевес над состязатель¬
ным107. Вряд ли с этим можно согласиться. Со времени Екатерины II и вплоть до
судебной реформы 1864 г. применялись три формы процесса: 1) в случаях госу¬
дарственных и других тяжких преступлений — преимущественно розыскной
процесс; 2) при рассмотрении маловажных уголовных дел и гражданских дел —
преимущественно состязательный процесс; 3) в остальных случаях — смешанная
форма процесса, совмещавшая элементы состязательного и розыскного процес¬
сов. Таким образом, большее число дел рассматривалось в соответствии с нор¬
мами состязательного или смешанного процесса. В судах первой и второй ин¬
станций как по уголовным, так и по гражданским делам заседателями являлись
представители сословий, что не позволяло судьям принимать единоличные ре¬
шения, как обычно бывало при розыскном процессе. По данным Министерства
юстиции, в гражданских палатах в 1840—1850-е гг. «процесс по форме», т. е. ро¬
зыскной процесс, применялся лишь при рассмотрении 1,2—1,4% всех дел, до¬
пускалось мировое соглашение между тяжущимися сторонами. Существовала
довольно широкая возможность апелляции, что также несовместимо с розыск¬
ным процессом: например, в 1840—1850-е гг. апелляция по уголовным делам
в судах первой инстанции охватывала примерно 30 % случаев, по гражданским
делам — 30—36 % всех случаев. Львиная доля обвиняемых по уголовным делам
во время следствия находилась на свободе — от 80 % в 1830-е гг. до 90 % в нача-
ле 1860-х гг. С 1782 г. в городах произошло отделение следствия от суда, что
лишило суд инквизиторского характера, когда судья был и следователем, и про¬
курором, и судьей. Все перечисленное несовместимо с духом розыскного про¬
цесса и свидетельствует о том, что принципы состязательного процесса не уми¬
рали, а, наоборот, развивались.
Преемники императрицы внесли некоторые изменения как в судебные орга¬
ны, так и в процесс. При Павле I были ликвидированы суды второй инстанции —
губернские магистраты, верхние земские суды и верхние расправы, которые дуб¬
лировали деятельность палат уголовного и гражданского суда, а также нижние
расправы и восстановлена Тайная канцелярия, вскоре после его смерти упразд¬
ненная.
При Александре I, в 1802 г., была окончательно отменена пытка, во все суды
введены представители сословий, в новых университетах созданы автономные
суды. Благодаря этому роль общества в осуществлении правосудия увеличилась.
В 1809 г. были запрещены апелляции для лиц податных состояний; в 1823 г.
апелляции были вновь разрешены для всех осужденных, но после прибытия
к месту наказания. В 1802 г. было создано Министерство юстиции, которому вве¬
рялось управление всем судебным ведомством и прокуратурой, а для облегчения
этой задачи министр юстиции исполнял также обязанности и генерал-прокурора,
возглавлявшего надзор. Судебная система пополнилась коммерческими судами,
учрежденными специально для разбирательства торговых споров как между куп¬
цами, так и между купцами и представителями других сословий. Первый ком¬
мерческий суд в 1808 г. появился в Одессе, в 1853 г. возник последний девятый
67
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
суд в Тифлисе; к началу XX в. осталось всего 7 судов. В 1832 г. их деятельность
была поставлена на твердые основания закона «Учреждением коммерческих су¬
дов и уставом их судопроизводства»109. Важные изменения в отношении суда над
крестьянами произошли при Николае 1. Свод законов 1832 г. урегулировал поря¬
док наказания крестьян разных категорий их владельцами — помещиками, каз¬
ной и дворцовой администрацией. В 1839 г. для государственных крестьян были
созданы специальные суды — волостная и сельская расправы (волость — более
мелкая административная единица, чем уезд), состоявшие исключительно из вы¬
борных от крестьян. Закон четко определил компетенцию суда и смягчил наказа¬
ния, которые он мог налагать на крестьян. В отношении помещичьих и дворцо¬
вых крестьян смягчение наказаний произошло по Уложению о наказаниях 1845 г.
В результате всех изменений судебная система к началу реформы 1864 г. име¬
ла следующий вид. Низшей инстанцией для государственных крестьян являлись
волостные и сельские расправы. Эти суды разбирали мелкие иски и проступки
крестьян. Они состояли из выборных старшины и двух заседателей. Волостная
расправа решала дела по спорам до 15 руб., сельская расправа — до 5 руб. По
проступкам расправы могли назначать штраф от 25 коп. до 1 руб. Низшей ин¬
станцией для помещичьих и удельных являлся вотчинный суд помещиков и ад¬
министрация удельных крестьян, которая имела над ними права, равные правам
помещика над своими крестьянами110. Помещик и администрация имели право на
следующие наказания в отношении крестьян: наказание розгами — до 40 ударов,
палками — до 15 ударов, заключение в сельской тюрьме — на срок до 2 месяцев,
в смирительном доме — на срок до 3 месяцев, отдача в арестантские роты — на
срок до 6 месяцев, а также сдача в рекруты и удаление навсегда из имения
с представлением изгоняемого преступника в распоряжение местной коронной
администрации. Однако компетенция низшего судебного звена — общинного
суда не была определена в законе, и он действовал по обычаю и старине.
Первой инстанцией для всех сословий, кроме городского (купечество катего¬
рически отказалось от подсудности ему), был уездный суд. Окончательно в нем
решались все уголовные дела при осуждении обвиняемого на исправительное
наказание, т. е. без потери всех гражданских прав, или прав состояния, а из граж¬
данских дел — при величине иска до 30 руб. Все остальные дела отправлялись на
ревизию в следующую инстанцию. Уездный судья выбирался дворянами, заседа¬
тели — дворянами и крестьянами, кроме помещичьих. Но крестьянские заседате¬
ли присутствовали только при разборе дел, касавшихся крестьян.
Второй судебной инстанцией были палаты уголовного и гражданского суда,
находившиеся р каждой губернии. Палата уголовного суда служила ревизионной
инстанцией для дел, поступающих из всех судов первой инстанции, находивших¬
ся в данной губернии (на ревизию шло около 40 % дел), и судом первой инстан¬
ции по делам о должностных преступлениях. Дела о представителях всех сосло¬
вий, кроме дворянства, решались палатой окончательно, и только дела о дворя¬
нах передавались на ревизию в Сенат. Палата гражданского суда рассматривала
в апелляционном и ревизионном порядке все гражданские дела. По искам до
600 руб. ее решения были окончательными, по искам на большую сумму дела
передавались на утверждение в Сенат. Как суду первой инстанции палате были
68
Судоустройство и процессуальное право
подсудны дела по искам об имениях, находившихся в разных уездах данной гу¬
бернии, по искам о городской коммунальной собственности и споры об автор¬
ском праве. Председатели судов в палаты уголовного и гражданского суда назна¬
чались от короны, заседатели — от дворян и городского сословия для разбора
дел, касавшихся соответственно дворянства и городского сословия.
Высшей судебной инстанцией по уголовным и гражданским делам в империи
был Сенат. Целых 10 из 11 его департаментов занимались судебными делами
в порядке апелляции и кассации. В исключительной компетенции Сената был суд
над губернскими предводителями дворянства по должностным преступлениям.
Департаменты Сената находились в Петербурге, Москве и Варшаве, к каждому
было прикреплено несколько губерний. В департаментах окончательное решение
по делу принималось в случае единогласия всех сенаторов. В противном случае
дело переносилось на рассмотрение в общее собрание судебных департаментов,
где для принятия решения требовалось квалифицированное большинство, реше¬
ние затем утверждалось министром юстиции. При несогласии сенаторов или ми¬
нистра юстиции дело направлялось в Государственный совет. Сенаторы назнача¬
лись императором из заслуженных сановников и имели чин не менее III класса
(соответствовал военному чину генерал-лейтенанта), в состав Сената по должно¬
сти входили все министры; генерал-губернаторы принимали участие в его засе¬
даниях, когда рассматривались дела их губерний.
На практике суды разных инстанций применяли как состязательную, так и ро¬
зыскную формы процесса в зависимости от дела. Но с отменой пытки в 1802 г.
и телесных наказаний в 1863 г. розыскной процесс приблизился к состязательно¬
му процессу, тем более что в первом всегда присутствовали элементы второго.
1864—1913 гг.111
Судебная реформа 1864 г. коренным образом изменила и судоустройство,
и судопроизводство. Документы судебной реформы включали 4 закона: о судо¬
устройстве, о гражданском процессе, об уголовном процессе и Устав о наказа¬
ниях, налагаемых мировыми судьями. Судебная система была упрощена, стала
всесословной, и, что очень важно, был введен суд присяжных, избираемых са¬
мим населением. Поскольку 90 % населения страны составляли крестьяне, из
них и формировался в основном состав присяжных. Вводились всего две су¬
дебные инстанции. Первой инстанцией стали окружные суды (обычно по одно¬
му на губернию). Решения с участием присяжных считались окончательными
и могли быть обжалованы только в кассационном порядке. Суд присяжных раз¬
бирал преступления, которые влекли за собой лишение (полностью или частич¬
но) гражданских прав (прав состояния). При отсутствии присяжных решения
могли обжаловаться в судебную палату, которая объединяла несколько окруж¬
ных судов в один судебный округ. В качестве суда первой инстанции судебная
палата разбирала дела о государственных и должностных преступлениях; эти
дела рассматривались при участии сословных представителей: предводителей
дворянства, городского головы губернского города и волостного старшины.
Сенат являлся кассационной инстанцией, которая могла возвратить дело на
69
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
новое рассмотрение только в случае нарушения правил судебной процедуры.
Для разбора маловажных уголовных дел и мелких исков на сумму, не превы¬
шавшую 500 руб., были созданы мировые суды с упрощенным судопроизводст¬
вом. Мировые судьи избирались уездным земским собранием (в С.-Петербурге,
Москве и Одессе — городскими думами) сроком на 3 года из числа цензовых
граждан — земских и городских гласных. Их решения могли быть обжалованы
в уездный съезд мировых судей. Был создан институт адвокатуры, адвокаты
объединялись в корпорацию присяжных поверенных112. Судьи и следователи
стали несменяемыми, и от всех них, кроме мировых судей, требовалось специ¬
альное юридическое образование. Суд окончательно отделился от администра¬
ции, следствие — от суда и полиции. Представителем правительственной власти
в суде стала прокуратура, подчиненная министру юстиции и не пользовавшаяся
правом несменяемости.
Процесс по всем делам стал состязательным, на место канцелярской тайны
пришла гласность, заочный разбор дел был заменен публичным разбором с уча¬
стием тяжущихся сторон и их адвокатов. Утверждался принцип осуществления
правосудия только судом, отменялась система формальных доказательств, вве¬
денная еще Петром I, упразднялся институт оставления в подозрении, когда суд
не принимал решения ни о виновности, ни о невиновности обвиняемого. Впер¬
вые в истории российского права был введен гражданский процессуальный ко¬
декс, который вводил принцип диспозитивности, дававший спорящим сторонам
возможность самим определять сроки, ход и другие моменты судебного разбира-
70
Рис. 10.18. Камера мирового судьи по делам о малолетних
(С.-Петербург, Екатерингофский пр., 4). 1912
Судоустройство и процессуальное право
тельства, как это было в древних русских судах. Роль прокурора в гражданском
процессе свелась к минимуму. За все 50 лет существования новых судов не было
отмечено ни одного прокурорского протеста в гражданских делах. Введение гра¬
жданского кодекса впервые отделило гражданское судопроизводство от уголов¬
ного, приспособив его к новой судебной системе. В результате реформы все под¬
данные империи сравнялись перед лицом суда.
Новые судебные порядки вводились постепенно, и только к 1907 г. они при¬
шли во все местности России113. Наряду с общими бессословными судами для
крестьян были созданы волостные суды, которые разбирали маловажные уго¬
ловные и гражданские дела по обычному праву. Сохранились суды для воен¬
ных и духовенства, но они были преобразованы по образцу общих гражданских
судов.
Созданная система в основе своей просуществовала до конца императорского
периода, хотя и подвергалась некоторым изменениям в сторону отхода от перво¬
начальных принципов реформы. Все эти отклонения касались государственных
преступлений, были вызваны возникновением и ростом революционного движе¬
ния, к участникам которого новые суды относились весьма снисходительно.
В течение 1871—1881 гг. следствие по государственным преступлениям перешло
от судебных следователей к жандармам, все виды государственных преступле¬
ний, а также многие из преступлений, направленных против порядка управления,
были изъяты из компетенции суда присяжных и рассматривались специальными
судами — в Особом присутствии Правительствующего Сената с сословными
представителями или Верховным уголовным судом. С 1879 г. наиболее опасные
для государства преступления передавались военным судам, которые судили по
законам военного времени и чаще всего выносили смертные приговоры.
В 1881 г. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общест¬
венного спокойствия» дало правительству право объявлять местности на поло¬
жении усиленной или чрезвычайной охраны, что ставило суды этих местностей
в зависимость от администрации. Этим правом правительство пользовалось срав¬
нительно редко, исключая период революции 1905—1907 гг. Следует отметить
также, что все изъятия из судебных уставов 1864 г. принимались правительством
после очередного акта террора со стороны революционеров. Однако происходи¬
ли изменения и в либеральном направлении. В 1886 г. были расширены права
присяжных в процессе — они получили право ставить вопросы свидетелям
и подсудимому. С 1899 г. в судебных палатах было введено обязательное назна¬
чение адвоката. В 1913 г. суд получил право реабилитации, т. е. погашения суди¬
мости по истечении определенного времени после совершения преступления.
В 1889 г. подвергся реформе мировой суд. В большинстве местностей судьи
стали назначаться администрацией из профессиональных юристов. В деревне
рядом с волостным судом появился назначаемый правительством чиновник из
местных дворян (земский начальник) с правами судьи и ревизора волостных су¬
дов; он имел власть назначать штрафы до 6 руб. и подвергать крестьян аресту до
3 дней без права обжалования. В городах рядом с мировым судьей появился на¬
значаемый от короны городской судья. Закон 1912 г., принятый Государственной
думой, восстановил выборный мировой суд и учредил в качестве апелляционной
71
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
инстанции для волостных судов верхний сельский суд, председателем которого
становился мировой судья, а заседателями — председатели волостных судов.
Даже в советское время не все исследователи разделяли концепцию контррефор¬
мы, поскольку основные принципы и институты судебной реформы 1864 г. были
сохранены114. В зарубежной историографии это было, а в постсоветской историо¬
графии стало распространенным мнением115.
Об объективности и суровости судебных приговоров
В российской и зарубежной литературе утвердилось мнение о несостоятель¬
ности всей судебной системы России до реформы 1864 г., о том, что в судах ца¬
рили несправедливость и коррупция. В подтверждение приводятся мнения со¬
временников, факты взяточничества, волокиты, несправедливых решений. На¬
пример, видный правовед Д. В. Стасов, один из авторов Судебных уставов 1864 г.,
первый председатель С.-Петербургского Совета присяжных поверенных, до су¬
дебной реформы служивший обер-секретарем Сената, осуждает дореформенный
суд за волокиту: «Вы с трудом можете себе представить, что это было за нагро¬
мождение, наслоение судебных инстанций, одной на другой, что это было за су¬
допроизводство, тянувшееся годами, десятилетиями, даже столетиями, и что это
было за правосудие, точнее кривосудие, — заявил он в речи на общем собрании
петербургских присяжных поверенных по поводу 25-летия судебных уставов
в 1889 г. — Что ни сословие, то свой суд был, и уездный Суд, и Магистрат,
и Надворный суд, и Палаты, и Сенат. Каждое дело проходило не по два, как те¬
перь, а несколько [судебных заседаний], да прежде еще, нежели быть разрешен¬
ным по существу в 1-ой, во 2-ой или 3-ей инстанции, сколько возникло частных
производств, которые тянули гораздо даже тяжелее самое дело по существу.
<...>. Это было одним из главных больших зол, которыми изобиловали и граж¬
данские и уголовные дела. Немудрено, что дела тянулись бесчисленное число
лет»116. Другой известный дореволюционный правовед Н. В. Давыдов порицает
дореформенный суд за более тяжкие пороки: «Дореформенные суды наши, соз¬
давшиеся на основе сословности, канцелярской тайны, строжайшего формализ¬
ма, большого количества инстанций и ревизионного восхождения дел по этим
инстанциям, представляли из себя учреждения действительно ужасные, внушав¬
шие презрение и в то же время и страх правому и неправому. Подкупность и взя¬
точничество судебных органов были общеизвестны. Судейской самостоятельно¬
сти не существовало, и суды трепетали и низкопоклонствовали перед знатными
и власть имущими. Ц судах заседали, кроме назначаемых правительством судеб¬
ных чиновников, представители сословий, но и они не вносили в темное царство
суда светлого луча правосудия»117.
Но, когда читаешь все эти обличения, возникает недоуменный вопрос: как при
столь коррумпированном «кривосудии» вообще могло существовать общество
и государство в течение нескольких столетий? Ведь филиппики по адресу суда
при Николае 1 в еще большей степени должны быть отнесены к судам XVI, XVII,
XVIII и первой четверти XIX в., поскольку, как мы видели, уголовное право, су¬
дебная система и процесс со временем постепенно совершенствовались. Если бы
72
Судоустройство и процессуальное право
эти негативные мнения соответствовали действительности, то преступность
должна была бы всегда находиться на высоком уровне, со временем увеличи¬
ваться и в царствование Николая I люди должны были бы бояться выходить из
своих жилищ, а социальная и экономическая жизнь находиться в состоянии пол¬
ного паралича. Между тем императоры без охраны совершали прогулки по сто¬
лице, в стране проходила нормальная жизнь и всеобщего страха быть ограблен¬
ным или убитым при выходе на улицу вечером в дореформенное время заметно
не было. Как можно все это совместить? Чтобы ответить на этот вопрос, исполь¬
зуем известные критерии оценки работы правоохранительной системы в целом,
каковыми обычно считаются уровень и изменение преступности, процент рас¬
крываемости преступлений, количество жалоб и протестов, поданных в выше¬
стоящие инстанции на судебные приговоры низших инстанций, и принятые по
ним решения. Поскольку судебная система, возникшая в России по судебным
уставам 1864 г., считается лучшей из всех тех, которые существовали прежде, все
эти показатели сравним для периода до и после реформы 1864 г.
Раскрываемость преступлений
Как это ни парадоксально, но преступность в России, насколько можно су¬
дить по имеющимся данным, в дореформенное время находилась на низком
сравнительно с западноевропейскими странами уровне и имела тенденцию
к снижению. Наоборот, после судебной реформы преступность почти непре¬
рывно росла и к 1913 г. превысила уровень
1850-х гг. в 3 раза (подробнее об этом далее).
В качестве первого показателя раскры¬
ваемости преступлений примем соотноше¬
ние числа осужденных и обвиняемых, ис¬
ходя из посылки, что обвиняемые были
в массе своей потенциальными правона¬
рушителями, а осужденные — теми право¬
нарушителями, чья вина была доказана, и,
следовательно, преступление было раскры¬
то. В 1803—1808 гг. на 100 обвиняемых
приходилось 44 осужденных, в 1860-е гг. —
40, в 1900-е гг. — 60 осужденных. Отсюда
можно предположить, что до судебной ре¬
формы доля раскрытых преступлений была
невысокой и даже имела тенденцию умень¬
шаться, а после нее — увеличиваться.
Другим показателем раскрываемости
преступлений может служить число уго¬
ловных дел, которые прекращались из-за
недостатка улик, бегства преступника
и других подобных причин и не доходили Рис. 10.19. А. Ф. Кошко, начальник
до суда, исходя из предпосылки, что воз- Московской сыскной полиции. 1910
73
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.20. Н. В. Орлов (1863—1924). Шинкарка. Попалась. 1900.
Место нахождения неизвестно
никшее дело в массе являлось зафиксированным преступлением, а прекращенное
дело — нераскрытым преступлением. Соответствующими данными мы распола¬
гаем только для пореформенного периода: в 1870-е гг. прекращалось 60 %,
в 1880-е гг. — 49, в 1890-е гг. — 57, в 1911—1913 гг. — 51 % всех открытых дел.
Эти данные также свидетельствуют, что раскрываемость преступлений после
судебной реформы 1864 г. имела тенденцию увеличиваться. Таким образом,
следствие после судебной реформы работало эффективнее. Но следствие стало
работать и намного быстрее. В 1840—1850-е гг. расследование одного дела про¬
должалось в среднем 9—11 месяцев, при этом 72 % следствий заканчивалось
в течение года, 26 % — в течение 1—4 лет, а 2 % следствий продолжалось более
4 лет. В конце XI—начале XX в. расследование одного дела начиналось в сред¬
нем через 3 недели после совершения преступления и заканчивалось через 7—8
недель, всего 4 % следствий продолжалось более 6 месяцев118.
Коррупция
Справедливы ли нарекания на всеобщую коррумпированность судей в доре¬
форменное время?119 То, что существовали достаточно многочисленные случаи
взяточничества, вероятно, справедливо. Но была ли коррупция настолько рас¬
74
Судоустройство и процессуальное право
пространена, что разрушала правосудие, что богатые и знатные люди могли не
бояться суда и наказания? На мой взгляд, ответить на этот вопрос хотя бы отчас¬
ти помогают данные о том, кто был оправдан судом, помилован императором
или освобожден от наказания, а также данные о тяжести наказаний, назначенных
представителям разных сословий (табл. 10.2).
Таблица 10.2
Распределение подсудимых по сословиям и видам приговоров в 1861—1864 гг. (%)
Сословные
группы
Оправдан¬
ные и ос¬
вобожден¬
ные от суда
Остав¬
ленные
в подоз¬
рении
Направ¬
ленные в
админист¬
ративные
органы
Всего
освобо¬
ждено
Пригово¬
ренные
к каторге
и ссылке
Пригово¬
ренные
к исправи¬
тельным
наказаниям
Всего
осуждено
Дворянство
45,5
11,7
22,7
79,9
4,4
15,7
20,1
Духовенство
44,3
Н.9
26,7
82,9
3,9
13,2
17,1
Почетные
граждане
47,9
12,5
18,5
78,9
3,0
18,1
21,1
Купечество
45,6
11,8
24,9
82,3
и
16,6
17,7
Мещанство
43,4
17,1
20,3
80,8
1,4
17,8
19,2
Крестьяне
казенные
36,1
15,1
21,8
73,0
1,2
25,8
27,0
Крестьяне
помещичьи
36,0
18,4
20,5
74,9
2,0
23,1
25,1
Отставные
солдаты
32,6
14,8
26,8
74,2
2,0
23,8
25,8
Инородцы
43,8
16,0
27,0
86,8
1,6
11,6
13,2
Скрывшие
свое имя
13,8
3,7
22,9
40,4
29,6
30,0
59,6
Ссыльнока¬
торжные
25,6
14,5
31,9
72,0
16,7
11,3
28,0
Итого
37,6
15,9
21,6
75,1
1,9
23,0
24,9
Подсчитано по: Отчет министра юстиции за [1861—1864] год. СПб., [1863—1866].
Как видно из приведенных данных, среди оправданных и помилованных на
первом месте находились почетные граждане, в значительной мере состояв¬
шие из профессиональной интеллигенции и богатого купечества, за ними шли
дворяне, купцы, духовные лица, мещане и инородцы. Доля оправданных
и помилованных среди этих социальных групп находилась в интервале от 43,4
до 48,1 %, к дворянству и купечеству суд и император были одинаково мило¬
стивы. С большим отрывом от них следовали крестьяне и отставные солдаты;
два последних места занимали ссыльнокаторжные и скрывшие свое имя
и происхождение. Нахождение купечества и дворянства в привилегированной
группе можно объяснить наличием денег для взятки, хотя большая часть дво¬
рян была бедной. Но чем объяснить нахождение в этой группе интеллигентов,
бедного духовенства, мещанства и особенно инородцев, как назывались пред¬
ставители малых народов?!
75
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
За недостаточностью улик часть подсудимых освобождалась от наказания, но
оставалась на подозрении или отправлялась для принятия мер в административ¬
ные органы и свои общины, что могло служить удобной лазейкой для коррумпи¬
рованного судьи помочь взяткодателю. На подозрении оставались в большей
степени представители беднейших сословий — крестьяне, мещане и инородцы,
в меньшей степени — представители богатых и привилегированных сословий,
которые могли дать взятку, — дворяне, купцы, духовенство и почетные гражда¬
не. Среди лиц, отправленных для разбирательства в административные органы
и свои общины, на первом месте находились ссыльнокаторжные, инородцы и ду¬
ховенство, что легко объяснимо необходимостью усилить надзор за бывшими
заключенными.
Самые тяжелые уголовные наказания, включая каторгу, естественно, были на¬
значены рецидивистам и скрывшим свое имя. Но любопытно, что вслед за ними
шли дворяне, духовные лица и почетные граждане, а на последнем месте находи¬
лись купцы, инородцы и казенные крестьяне. Более легкие исправительные нака¬
зания в большей степени получали скрывшие свое имя, крестьяне и солдаты и в
меньшей степени — привилегированные сословия. Как видим, картина получает¬
ся очень пестрой и не дает оснований для определенных выводов о том, что бога¬
тые или привилегированные классы имели преимущества в получении льгот
и легких наказаний. Об этом же говорят и данные об осужденных и освобожден¬
ных от наказания (см. табл. 10.2). Среди 11 социальных групп менее всего под¬
вергались наказанию и чаще всего от них освобождались инородцы, за ними
с отрывом в 3,9 пункта шло духовенство, затем купечество, мещанство, почетные
граждане и дворянство. Крестьянство и отставные солдаты менее других осво¬
бождались и более других наказывались. Вновь не видим, чтобы самые богатые
и знатные имели особые привилегии.
Вероятно, судьба обвиняемого зависела в большей степени не от социального
положения, а от образования, которое позволяло дать толковые, вразумительные
и в свою пользу показания — ведь в уголовных процессах до судебной реформы
1864 г. все объяснения должны были быть письменными. Здесь преимущество
имели почетные граждане, духовенство и дворянство — в большинстве образо¬
ванные люди. Купечество в основном было элементарно грамотно, но оно имело
возможность нанять специалиста, который мог составить нужную бумагу.
В худшем положении находились мещане, крестьяне и инородцы, уровень гра¬
мотности которых был невысок: в 1857 г. грамотных среди мещан было около
30 %, среди крестьян — 12, среди инородцев — менее 10 %. Другим важным фак¬
тором, влиявшим пц наказания различных социальных групп, являлась номенкла¬
тура преступлений, характерная для каждой группы. Привилегированные лица
совершали относительно больше тяжких с точки зрения закона того времени пре¬
ступлений, а непривилегированные люди — больше мелких преступлений. Соот¬
ветственно первые наказывались более сурово, чем вторые, — серьезное свиде¬
тельство в пользу того, что наказание назначалось адекватно преступлению.
После введения новых судебных учреждений жалобы на коррупцию судей
прекратились, но со временем все более раздавалось протестов общественности
против вмешательства администрации в действия суда, точнее, против изъятия
76
Судоустройство и процессуальное право
дел о государственных преступлениях из ведения общих судов. Эти нарекания
совершенно справедливы. Однако на долю государственных преступлений
в 1907—1913 гг. (только за эти годы имеются соответствующие данные) прихо¬
дилось менее 0,1 % всех преступлений (2392 из 2496 тыс.), большинство из них
разбиралось в общих судах, а когда обвиняемые представали перед судом при¬
сяжных, то администрация была бессильна повлиять на решение суда.
Волокита
До судебной реформы 1864 г. каждая из трех судебных инстанций решала
большинство дел в течение года. Если дело окончательно решалось в суде первой
инстанции, требовалось времени до 1 года, во второй инстанции — до 2 лет,
в третьей — до 3 лет. В 1830-е гг. на решение дела, которое от первой инстанции
доходило до третьей, уходило в среднем около 2 лет (ни раньше, ни позже по¬
добных расчетов не делалось)120. Некоторое количество дел оставалось нерешен¬
ным отчасти потому, что судьи не успевали их рассмотреть, но главным образом
по той причине, что для решения дела нужны были дополнительные сведения,
из-за этого начиналась переписка, которая при больших расстояниях, неразвитом
транспорте и плохих дорогах длилась порой 20 лет и больше121.
Имеющиеся за 1834—1864 гг. данные показывают, что доля нерешенных дел во
всех судах, за исключением гражданских палат, со временем возрастала (табл. 10.3).
Таблица 10.3
Нерешенные дела в различных судебных инстанциях России в 1834—1864 гг. (%)
Судебные органы
1833—1840 гг.
1841—1850 гг.
1851—1860 гг.
1861—1864 гг.
Все судебные места
13,6
17,0
26,3
30,8
Сенат, в том числе:
20,6
13,3
20,1
23,9
уголовные дела
1,9
0,4
3,4
6,5
гражданские дела
25,3
27,4
28,6
29,8
Уголовные палаты
10,1
10,4
15,8
17,9
Гражданские палаты
32,1
26,1
25,4
24,6
Суды 1-й инстанции,
в том числе:
—
6,7
28,5
36,1
уголовные дела
—
8,3
22,0
25,6
гражданские дела
—
5,8
32,0
51,3
Подсчитано по: Отчет министра юстиции за [1834—1864] год. СПб., [1835—1866].
В результате этого во всех судах к 1864 г. накопилось 167 тыс. нерешенных
дел, а средняя продолжительность нахождения дела в архиве нерешенных дел
составляла около 4 лет, в том числе в судах третьей инстанции — 4,5 года, пер¬
вой и второй инстанций — до 3,5 года. Уголовные дела, как правило, решались
в 1,5 раза быстрее, чем гражданские: средняя скорость прохождения уголовных
дел в 1830—1850-е гг. составляла 1,5 года, гражданских дел примерно 2—2,5 года.
77
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Однако если в 1830-е гг. в завалы нерешенных дел попадало лишь 9 % дел, то
в конце 1850-х гг. — 22 %, соответственно вероятность для дела попасть в завал
возросла в 2,5 раза, а продолжительность его нахождения там увеличилась на
несколько лет . Вот, например, «возрастной» срез 167 тыс. нерешенных дел,
накопившихся к 1863 г. во всех судебных инстанциях, при среднем «возрасте»
дела в 2,2 года (табл. 10.4).
Таблица 10.4
«Возрастная» структура 167 тыс. нерешенных дел
во всех судебных инстанциях России к 1863 г.
Возраст дел,
лет
Доля дел, %
Возраст дел,
лет
Доля дел, %
Возраст дел,
лет
Доля дел, %
Старше 15
1,0
5
4,1
2
12,9
10—15
2,3
4
5,2
1
23,0
5—9
9,9
3
8,3
Менее 1
33,3
Источник: Отчет министра юстиции за 1863 год. С. 190—191.
Накопление нерешенных дел создавало в целом правильное ощущение у со¬
временников, что суд стал работать медленнее. В чем причины этого? Кроме
непреодолимых и форс-мажорных обстоятельств, действовали и другие факто¬
ры. С конца 1850-х гг. Министерство юстиции стало ежегодно требовать от су¬
дебных мест сведения о том, «за какими лицами и местами исполнение реше¬
ний останавливается?». Обобщение этих ответов за 1861—1864 гг. дает сле¬
дующие результаты123. Самым уязвимым звеном в системе правоохранитель¬
ных органов была полиция, т. е. задержание преступников и следствие, — там
застревало 56 % всех дел. Один из современников, долго работавший в Сенате,
указывал, что полиция была главным двигателем процесса, а суд только прове¬
рял ее действия124. Неудивительно, что именно в полиции задерживалось до
двух третей всех судебных дел125. О плохой работе следствия говорит тот факт,
что многие подозреваемые подолгу — от года до 5 лет — находились под след¬
ствием в заключении. Ревизии полицейских учреждений, проводимые Мини¬
стерством внутренних дел, постоянно находили состояние полиции неудовле¬
творительным. Типичные недостатки состояли в низкой эффективности и опе¬
ративности следствия, что обусловливалось недостатком персонала (на уезд
с населением нередко свыше 100 тыс. человек полагалось всего 5—6 штатных
чиновников) и его перегруженностью административно-хозяйственными126,
а также судебными делами: до введения в жизнь новых судебных уставов по¬
лиции приходилось осуществлять в больших масштабах судебную функцию по
мелким уголовным и гражданским делам, поскольку по закону так называемые
бесспорные дела, которые не требовали дополнительного расследования, долж¬
ны были решаться полицией12 . В 1865 г. Министерство юстиции провело спе¬
циальное исследование в 32 губерниях, которое обнаружило, что уездная и го¬
родская полиция в 1863—1864 гг. решила гражданских исков и тяжб в 2,6 раза
больше, чем суды первой и второй инстанций вместе взятые, и разрешила
78
Судоустройство и процессуальное право
десятки тысяч уголовных дел — 39 % от того числа дел, которые проходили
через суды128.
Вторым по важности узким местом являлись суды первой инстанции, где за¬
стревало 26 % всех дел. Это было следствием инстанционного судопроизводства:
через суды первой инстанции проходило около 94 % всех уголовных и граждан¬
ских дел. Суды их рассматривали, фильтровали и затем по 55 % (из 94 %) дел
принимали окончательное решение, а 39 % дел отправляли в суды второй ин¬
станции на ревизию. Суды первой инстанции являлись ключевым органом в су¬
дебной системе. Но именно они были укомплектованы наименее квалифициро¬
ванными и плохо оплачиваемыми специалистами, и само их число было недоста¬
точно. Между тем Министерство юстиции и губернская администрация больше
заботились о судах второй инстанции, которые находились в губернских городах,
и считали их ключевой судебной инстанцией. Судебная реформа 1864 г. упразд¬
нила инстанционный порядок судопроизводства, что явилось важным фактором
ускорения решения дел.
Важно отметить, что у губернаторов в дореформенное время задержива¬
лось всего 0,4 % всех нерешенных дел, хотя по закону они должны были еже¬
годно утверждать от 40 тыс. до 60 тыс. приговоров судов. Это говорит о том,
что губернаторы мало контролировали работу судебной системы, что совер¬
шенно естественно, ибо в разное время их было всего 50—70 человек. Если
бы они серьезно контролировали суды, то именно губернаторы должны были
стать самым уязвимым звеном судебной системы. Сравнительно мало влияли
на работу суда и прочие учреждения: в них задерживалось около 18 % всех
дел. Это бросает тень сомнения на точку зрения, ставшую общим местом
в литературе, что дореформенная администрация постоянно вмешивалась в ра¬
боту судов129.
Министерство юстиции хорошо сознавало медленность судопроизводства, так
как и оно, и Сенат в обилии получали жалобы на волокиту: в 7 % всех жалоб,
направляемых в Сенат, просители сетовали именно на медленность решения су¬
дебных дел. Министерство юстиции придумывало всякие меры для ускорения
процесса судопроизводства, но все они сводились к усилению контроля за скоро¬
стью делопроизводства и за количеством нерешенных дел. Но это мало помога¬
ло, потому что дело было не в людях, а в самой судебной системе, построенной
на инстанционном и сословном принципах, постоянном контроле высших судеб¬
ных инстанций над низшими, который не был поверхностным, как контроль гу¬
бернаторов. Это хорошо видно на следующем примере. Николай I, который был
суров к нерадивым чиновникам, сам сталкивался с волокитой. Дела, которые по
его личной инициативе вносились в Общее собрание департаментов Сената —
в высший суд дореформенной России — и не ждали своей очереди подобно
другим, отнюдь не все решались в течение года. В 1830-е гг. император еже¬
годно вносил 172 дела, и только 61 % из них решался в год внесения в Сенат,
в 1840-е гг. — 151 дело, в год внесения решалось 70 % дел. Как видим, даже им¬
ператору удавалось лишь немного ускорить прохождение дел, да и то в Сенате.
Его приказ, отданный в 1828 г. Министерству юстиции, чтобы дела подозревае¬
мых разрешались в течение года, никогда не мог быть исполнен130.
79
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.21. В Бухарской тюрьме. 1900-е
После судебной реформы ситуация радикально изменилась. Если во второй
трети XIX в. доля нерешенных дел во всех судебных инстанциях возрастала и к
1864 г. достигла 30,8 % (см. табл. 10.4), то в 1881—1913 гг. в окружных судах
и судебных палатах она уменьшилась до 2,6 % и даже в новой судебной инстан¬
ции — мировыхзсудах, не превышала 19 %, а в предвоенные годы, 1910—1913 гг.,
практически все дела решались в течение года. В конце XIX—начале XX в. на
решение одного серьезного уголовного дела с того момента, когда оно попадало
в руки следователя, и до приговора уходило в среднем 7—8 месяцев, а на реше¬
ние мелкого уголовного дела — всего 2,1 месяца, в том числе два из трех дел ре¬
шались в течение месяца131. Все судебные инстанции стали работать эффективно
и без волокиты. Качество работы судов со временем повышалось и в предвоен¬
ные годы, 1910—1913 гг., достигло своего оптимума за весь период империи
(табл. 10.5).
80
Движение уголовных и гражданских дел в судебных палатах и окружных судах,
у мировых судей и в Сенате в 1881—1913 гг.
а-
3
£
'й
X
<D
и
| Решено
*чО
о4
1 95
| 94
| 104
| 102
1 95
1 66
| 93
| 66
о
| 106
| 102
| 109
| 103
| 94
| 97
| 93
| 94
92
о
| 36 379
| 42 806
| 43 721
| 47 555
| 45 066
| 48 826
| 48 334
| 52 039
| 52 374
| 52 793
| 50 472
| 51882
| 45 879
| 43 372
| 57 708
| 58 691
| 64 061
64 002
Вступило
| 38 115
| 45 425
| 41 970
| 46 576
| 47 577
| 49 358
| 51938
| 52 419
| 52 021
| 49 834
| 49 507
| 47 466
| 44 527
| 46 058
| 59 454
| 63 126
| 68 178
69 712
*х
JJ
о
<D
3
СО
о
| Решено
хО
о4
оо
оо
чу
ОО
оо
СП
оо
NO
ОО
NO
ОО
оо
СП
00
СП
оо
СП
оо
чу
ОО
чУ
ОО
оо
ON
ON
ON
ON
о
о
о
о
d
•8
| 1 273 231
| 1 514 485
| 1 603 745
| 1 640 934
| 1 762 958
Г"
о
оо
оо
| 1 918 809
| 1 874 331
| 1 939 657
| 1 791 785
| 1 527 513
| 1 396 858
| 1 241 569
| 1 255 641
| 3 472 495
| 3 559 554
| 3 948 491
4 120 806
S
2
Вступило
| 1 568 698
| 1 863 464
| 1 914 692
| 2 028 169
| 2 128 458
| 2 161 627
| 2 225 061
| 2 192 332
| 2 331 729
| 2 167 313
| 1 837 745
| 1 665 609
| 1 479 460
| 1 435 117
| 3 498 217
| 3 591 303
| 3 963 466
4 138 941
| Судебные палаты и окружные суды |
Решено
"хр
О4
СП
ON
о
о
^т
ON
^т
ON
«/->
ON
Г"
ON
о
о
ON
ON
оо
ON
NO
ON
ON
оо
ON
оо
ON
оо
ON
ON
ON
oo
ON
00
ON
о
d
•8
| 354 224
| 360 549
| 299 042
| 340 093
| 358 469
| 360 562
| 379 256
| 371 475
| 370 304
| 388 315
| 405 973
чп
оо
оо
чу
чу
| 430 011
| 439 818
| 2 066 355
| 2 118 226
| 2 303 285
2 479 035
Вступило
| 379 341
| 361 947
| 318 344
| 363 574
| 376 971
| 370 212
| 379 219
| 373 674
| 377 189
| 403 752
| 426 472
| 450 455
| 437 008
| 448 117
| 2 079 432
| 2 158 607
| 2 347 386
2 452 351
Год
| 1881
| 1882
| 1883
чу
оо
оо
чп
оо
оо
| 1886
| 1887
оо
оо
оо
| 1889
| 1890
| 1891
| 1892
| 1893
| 1894
| 1910
| 1911
| 1912
1913
EU сп
* ^
II
* ON
03
СС
X
а
03
О. Г
S —« • -
5 ^ ю
5 ~ Е
rU
о
С ю
с
и
S
о
. х
« О
ё §
s 2
S Ь
§ &
О. j£f
о ^
u 3
; &
о *
1=1 nO
>> X
о я
X к
3 S
X
СЗ
С?
п
X
3
п
а
о
о.
с
о
of
п
0)
3
X
(U
а
п
3
ю
03
§
СЗ
У
СЗ
X
о
S
o'
о
й
СЗ
У
Большинство департаментов Сената.
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
Несмотря на хорошую работу судебных органов, число нерешенных дел понем¬
ногу росло. За 18 лет, 1881—1894 и 1910—1913 гг., их число составило 237,2 тыс.
Но это не было результатом нерадения судей, прокуроров, следователей и других
чиновников Министерства юстиции, а происходило почти исключительно в силу
непреодолимых причин и форс-мажорных обстоятельств.
Одновременно повысилось по сравнению с дореформенным периодом качест¬
во работы и других ведомства Министерства юстиции: прокуратуры, судебных
следователей, судебных приставов, нотариата, коммерческих судов (табл. 10.6).
Таблица 10.6
Движение дел у чинов прокурорского надзора судебных палат и окружных судов,
у судебных следователей и судебных приставов в 1881—1913 гг.
Год
Судебные палаты и окружные
суды*
Судебные следователи
Судебные приставы
Вступило
Решено
Вступило
Решено
Вступило
Решено
абс.
%
абс.
%
абс.
%
1881
111 705
112 828
101
127 656
127 147
100
59 728
55 066
92
1882
97 951
105 218
107
113 801
120 775
106
79 289
71 491
90
1883
81 996
85 583
104
96 684
98 346
102
81 968
71 924
88
1884
98 183
98 345
100
115 978
117 091
101
90 828
80 117
88
1885
101 779
104 201
102
119 567
120 031
100
90 564
78 684
87
1886
100 823
101 655
101
119 849
118 794
99
88 444
77 460
88
1887
104 700
108 162
103
122 910
122 464
100
87 079
75 557
87
1888
102 862
106 887
104
120 488
121 919
101
83 722
75 494
90
1889
103 279
107 163
104
123 885
122 570
99
86 161
76 914
89
1890
111 755
114 698
103
136 247
131 428
96
112 762
90 916
81
1891
121 491
122 073
100
139 365
134 871
97
143 235
116 286
81
1892
125 174
127 762
102
142 315
136 552
96
139 841
124 797
89
1893
122 103
124 192
102
139 965
132 302
95
143 854
123 795
86
1894
132 069
133 025
101
147 412
141 581
96
134 671
124018
92
1910
537 255
538 099
100
444 503
458 822
103
270 654
—
—
1911
528 334
528 373
100
448 454
447 797
100
281 100
—
—
1912
541 009
541 148
100
463 008
466 394
101
319683
—
—
1913
565 906
565 554
100
482 015
484 201
100
346 791
—
—
Источники указаны в примеч. к табл. 10.5.
* За 1881—1894 гг. только у чинов прокурорского надзора окружных судов.
j
Жалобы, апелляции и отмененные приговоры судов
Попытаемся оценить справедливость судебных приговоров, основываясь на
трех показателях: на числе кассационных жалоб, поданных на нарушения про¬
цессуального закона; на числе апелляций на неправильное постановление суда
(для краткости апелляционные и кассационные жалобы будут называться одним
словом «протесты»); на числе отклоненных протестов (табл. 10.7).
82
Число поданных жалоб и апелляций (протестов) на приговоры судов
и доля полностью удовлетворенных протестов в 1835—1903 гг.
Окончание табл. 10.7
U
U
t
ГЛ
т
8
I
8
I
5,6
31,4
<n
*n
33,9
1,7
<n
6,7
(N
°7
v©
6s
00
00
U
[_
U
U
&
00
т
36,7
&
00
7
33,0
16,3
14,6
00
(N
(N
o'
O'
8,8
1893-
со
ON
оо
t
u
u
*п
оо
оо
т
138
24,3
<r>
oo
oo
7
29,8
i
I
1
1
2,3
<n
о
оо
00
oo
oo
1
а
*
а
в
0
!
4)
1
1
2
о
3
н
я
я
я
£
5
X
S
0J
3
X
я
CL
со
)Х
X
я
В5
§
(D
С
Л
3
S
X
0
X
Л
1
X
3
3
X
со
о
§
U
о
с
>Х )
X
X
В5
п
5
S
О
X
о
а.
2 £
i
3
а
1
1
4*
2
1
я
c
4)
3
I
s
Is
b* 1
i 3
X
i
о
X
3
3
M
ti
§ 2
§ 5
g£
& s
C ffl
О X
<L>
3
X
Ю
4>
£
О
CQ
CQ
О
et
о
X
3
X
SI
a.
x
о
3
CL
О
CQ
О
u
X
CL
X
cd
X
CQ
О
Й
H
1*
so
о4
cq"
О
&
<L>
H
О
CL
X
о
X
<D
CL
О
CQ
c_<
5
Й
X
о
U
CQ
Й
Я
X
X
3
X
ю
4>
s
О
3
CL
о
CQ
О
u
X
CL
X
os
X
CQ
о
6
<L>
H
о
CL
X
\0
o4
s*
Й
X
<D
u
CQ
I
4>
H
О
CL
X
о
X
<L>
CL
О
CQ
X
3
X
Ю
4>
s
о
X
CQ
О
s
о
X
3
X
К
8-
О
3
CL
2
2
X
CL
X
03
X
ffl £
О ffl
ь
P Й
О X
CL О
x u
vP
o4
s*
0
й
X
<D
и
CQ
1
4>
О
CL
X
о
X
<L>
CL
О
CQ
c_
а
8.
S
о
X
Л
et
О
С
Ё „
S |
о 2
* 5
>> п
5 в
Is
о k
H Ю
« (L>
S ^
X >V
а- о
E x
Подано
палаты,
Ё
5
О
et
>>
о
§
et
О
E
Ё
г
о
>>
О CQ
§ b
et 2
© §
E x
Ё
§
о
et
>>
00
00
я 3
X 3
я в
§ S
2 э
со
ffl «о
g s
S-&
x 3
5 *
^ о
O 5
= г
>5 ^
У о
т «
я s?
i s
5 ё
5 *
w о
* й
x т
X Я
II
U Й
«I
Bf
U
'О
ON
Удовлетворено полностью.
Судоустройство и процессуальное право
Данные табл. 10.7 рисуют парадоксальную картину. До судебной реформы
число апелляций на приговоры было невелико, причем намного меньше, чем по¬
зволял закон. На долю опротестованных приговоров приходилось 2,1—7,0%
всех судебных приговоров по уголовным делам и 10,6—15,9 % всех приговоров
по гражданским делам. К 1880-м гг. доля апелляций на приговоры всех видов
судов по уголовным делам повысилась в А—6 раз, а по гражданским делам со¬
ставляла всего 19 %, если судить по мировому суду, так как по окружным судам
и судебным палатам такие данные отсутствуют. С 1880-х до 1899—1903 гг. (за
последующие годы подобные данные отсутствуют) доля апелляций по уголов¬
ным делам немного снизилась, но не стала ниже, чем в дореформенное время.
Поскольку апелляции показывают отношение населения к судебным приговорам,
из приведенных данных напрашивается вывод, что до реформы население было
более удовлетворено приговорами судов как по уголовным, так и по граждан¬
ским делам, чем после реформы. Что же касается судьбы протестов, то и до,
и после судебной реформы суды высшей инстанции крайне редко отменяли при¬
говоры судов низшей инстанции. Это свидетельствует о том, что приговоры, как
правило, соответствовали закону.
Можно предположить, что одна из причин роста протестов на решения судов
после 1864 г. состояла в том, что после реформы в числе подсудимых общих су¬
дов, руководствовавшихся законом, а не обычаем, увеличился процент крестьян
(в 1874 г. на их долю приходилось 62 %, а в 1913 г. — 80 %), которые не знали
законодательства и в деревне привыкли к суду по обычному праву. Народное
правовое сознание входило в противоречие с законом, что и порождало неудов¬
летворение приговорами и способствовало росту числа протестов. Имелись
и другие факторы роста числа апелляций: раскрепощение и повышение общего
культурного и образовательного уровня населения, утрата прежнего страха перед
судом и администрацией, а также появление института адвокатуры. После ре¬
формы 1864 г. сформировалась корпорация профессиональных адвокатов, что
способствовало развитию сутяжничества и росту числа апелляционных и касса¬
ционных жалоб, которые являлись важным источником доходов адвокатов132. Но
все эти факторы, как мне кажется, оказали меньшее влияние на правосудие, чем
введение в 1864 г. суда присяжных, где закон и обычай вошли в противоречие.
В компетенцию присяжных попало 20 % статей Уголовного кодекса; они рас¬
сматривали почти 76 % уголовных дел. В 1873—1878 гг. присяжные оправдыва¬
ли 36 % обвиняемых (коронные суды лишь 27 %). Особую снисходительность
присяжные проявляли к совершившим служебные преступления, против порядка
управления (в основном сопротивление властям и нарушение паспортного режи¬
ма, оскорбление полицейских и сельских должностных лиц) и мелкие кражи. По
этим преступлениям, на которые приходилось более трети дел, они оправдывали
более половины обвиняемых. Суды присяжных чаще выносили оправдательные
приговоры, если заседание проходило на первой, четвертой и последней неделях
Великого поста; снисходительно относились к политическим преступникам,
к участникам самосудов и добровольно сознавшимся, к совершившим кражи
в крайней нужде, к старостам, растратившим общественные деньги133. Зато стро¬
же коронных судей присяжные относились к религиозным преступлениям, круп¬
85
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
ным кражам, убийствам и грабежам. И по большому счету суды присяжных, где
большинство мест принадлежало крестьянам, выносили более мягкие приговоры,
чем коронные суды без присяжных. Например, в 1873—1883 гг. суды присяжных
оправдали 38%, а коронные суды — 23 %, к 1883 г. доля оправданных судом
присяжных поднялась до самой высокой отметки 43 %. Обвиняемые мечтали,
чтобы их дело рассматривалось присяжными во время поста и перед большими
христианскими праздниками, когда число оправдательных вердиктов почти уд¬
ваивалось.
Население было удовлетворено. Зато правительство было крайне недовольно
снисходительностью присяжных к коронным и выборным чиновникам, к нару¬
шителям порядка управления и революционерам, а также тем, что не могло в су¬
де присяжных продавить нужное решение. Вот несколько примеров. В 1867 г.
в Петербурге состоялся процесс по делу чиновника, ударившего своего началь¬
ника. Присяжные его оправдали, признав невменяемым в момент совершения
преступления. В 1874 г. присяжные осудили за подлог игуменью Митрофа-
нию — в миру баронессу Розен, дочь наместника Кавказа, несмотря на то что она
была любимицей императрицы. В 1885 г. присяжные оправдали 101 бастовавше¬
го рабочего Морозовской фабрики. Особенно показательно дело В. Засулич, со¬
вершившей в 1878 г. покушение на убийство петербургского градоначальника
генерала Ф. Ф. Трепова за то, что он приказал высечь заключенного. Ее дело раз¬
биралось петербургским окружным судом, и она была оправдана. Речь адвоката
П. А. Александрова была построена на двух идеях. Первая состояла в том, что
судить Засулич по уголовному закону, который она безусловно нарушила, нель¬
зя, ее можно судить только по высшему нравственному закону. «Если закон, —
говорил адвокат, — не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные
различия преступника, то является на помощь общая, присущая человеку нравст¬
венная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному
и что было бы высшею несправедливостью в применении к другому». Вторая
идея состояла в том, что «физиономия государственных преступлений весьма
изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня
или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести»134. Ад¬
вокат и, судя по приговору, присяжные придерживались принципа ad hoc (смотря
по обстоятельствам) и подменили юридическую норму нравственной, что явля¬
лось типичным для обычного права и свидетельствовало о недостаточно разви¬
том правовом сознании общества135. Консервативные публицисты, основываясь
на подобных вердиктах, называли суд присяжных «судом улицы» и требовали
немедленного его упразднения. Но и либеральные юристы видели опасность
в пристрастности, которую присяжные проявляли в делах о нарушениях порядка
управления.
Чем же объяснялась субъективность присяжных в значительном числе дел?
Прежде всего составом присяжных и их правосознанием. На 2/3 присяжные со¬
стояли из крестьян, причем на 85 % это были люди, занимавшие должности
в крестьянском самоуправлении — старосты, старшины и т. п. (вот почему они
оправдывали своих коллег). Вместе с мещанами они составляли 3/4 всех присяж¬
ных заседателей. Представители привилегированных сословий и вообще состоя¬
86
Судоустройство и процессуальное право
тельные люди, как правило, манкировали обременительными обязанностями
присяжных. В присяжные попадала в основном беднота, притом что суточные
и путевые деньги стали платить только с 1913 г. Газеты пестрели сообщениями
о голодающих «судьях совести» и называли суд присяжных «судом нищих».
Крестьяне-присяжные имели правосознание, не соответствовавшее понятиям и
нормам законодательства. Обычное право, которое они знали и разделяли, было
снисходительно к мелким кражам и к нарушениям порядка управления. Кроме
того, 49 % присяжных были неграмотными, да и для малограмотных некоторые
преступления оказались слишком сложны для понимания.
Чтобы исправить положение, правительство в 1878—1889 гг. приняло 10 по¬
правок в закон 1864 г. Из компетенции суда присяжных были изъяты дела против
порядка управления, общественного благоустройства и благочиния и должност¬
ные преступления. Введен ценз грамотности, повышен имущественный ценз,
ужесточено наказание за абсентеизм, запрещены заседания ночью. Все это при¬
вело к увеличению в составе присяжных образованных и состоятельных граждан,
которые лучше знали и следовали закону при вынесении приговора, в большей мере
понимали необходимость руководствоваться законом при вынесении приговора,
а не эмоциями и нравственными соображениями136. В результате процент оправ¬
данных уменьшился с 43 % в 1883 г. до 36 % в 1889—1891 гт. и до 30 % в 1897 г.
Весьма показательны также следующие данные. До 1889 г. дела о взятках в 86%
случаев рассматривались судами присяжных, при этом 66 % обвиняемых оправды¬
вались. После изъятия коррупционных дел из компетенции присяжных доля оправ¬
данных снизилась до 41 %. Однако коронные судьи все равно были строже: они
оправдали только 25—30 % подсудимых. Интересно отметить, что доля оправдан¬
ных судами присяжных на Западе — от 15 до 20 % — была ниже, чем в России.
В таком реформированном виде суд присяжных просуществовал до 1917 г.,
удовлетворяя на этот раз потребности не только общества, но и правительства.
Население мирилось с дороговизною, громоздкостью, субъективностью, медлен¬
ностью суда, полагая, что его гуманность и неподкупность перевешивали пере¬
численные недостатки. Результаты деятельности суда присяжных имели большое
общественное и политическое значение. Для 10 млн граждан он послужил шко¬
лой, где простые люди получали знания и понятия о законности и своих правах.
Приговоры суда присяжных заставили правительство изменить ряд устаревших
и жестоких законов, например о паспортах.
Итак, опыт работы присяжных судов в 1864—1917 гг. показывает, что неко¬
торые недостатки им внутренне присущи и избежать их в принципе невозможно,
хотя при хорошей организации можно минимизировать, но лишь до некоторой
степени. Вследствие этого в XX в. на Западе от суда присяжных английского об¬
разца стали отказываться: Венгрия (1919), Чехословакия (1923), Германия (1924),
Япония (1943), Франция (1945). Среди европейских стран суд присяжных в клас¬
сическом виде сохраняется только в Англии и Испании, где он был введен в 1995 г.
85—90 % населения Земли обходится без суда присяжных. Ему на смену пришли
суды, где правосудие вершат единые коллегии, включающие профессиональных
судей и присяжных в разных сочетаниях и с разными правами. В Германии дела
об опасных преступлениях рассматриваются судами в составе трех профессио¬
87
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
нальных судей и двух присяжных, во Франции — трех судей и девяти присяж¬
ных, в Италии — двух судей и шести присяжных, в Дании — трех судей и двена¬
дцати присяжных. Допускаются и иные сочетания. В Японии и некоторых других
странах полностью отказались от присяжных и доверили правосудие по уголов¬
ным делам только профессиональным судьям. Даже в странах английской право¬
вой орбиты прерогатива суда присяжных ограничена. В настоящее время на него
приходится в Англии около 2 % дел, в Канаде — 1, в США — 4 %. Подавляющее
же число дел рассматривается в рамках института сделки о признании. Защитник
и прокурор обсуждают доказательства, которые имеются, и недостатки в ходе
следствия. С согласия подсудимого они заключают сделку: признание вины за
часть преступлений, которые ему вменяются, в обмен за мягкий приговор. Про¬
курор, например, согласен на 5 лет наказания, а в суде могут дать и 15 лет.
С этим соглашением идут к судье. Если судья утверждает сделку, то суд останав¬
ливается. Так рассматривается 95—98 % всех гражданских и уголовных дел
в США. Введение в середине 1960-х гг. института сделки о признании позволило
разгрузить завал уголовных и гражданских дел, которых в США возбуждается
около 3 млн в год. Заметим, что отечественный законодатель в настоящее время
также идет по этому пути.
В чем суть трансформации суда присяжных? Фактически в западных странах
происходит возвращение к суду, который существовал до введения суда присяж¬
ных, когда профессиональные судьи принимали решения вместе с представите¬
лями от сословий. Такой суд, кстати, существовал и в России до 1864 г. Чем вы¬
звана эта трансформация? В современном постиндустриальном обществе про¬
фессионализация любой деятельности достигает невиданных прежде масштабов.
И суд не стал исключением. В классическом суде присяжных совершается нема¬
ло судебных ошибок: профессиональные судьи считают, что 20—30 % вердиктов
присяжных неправильны. В отличие от классического варианта, в смешанном
суде вопрос о виновности подсудимого присяжные решают совместно с судьями
и под их руководством; вместе они допрашивают подсудимого и свидетелей,
вместе совещаются и относительно вердикта. Так обеспечивается не только про¬
фессиональное рассмотрение дел, принятие юридически обоснованных решений,
но и общественный контроль за судом. Профессионализация суда уменьшает из¬
держки судопроизводства и ускоряет процесс суда. В условиях существования
гражданского общества, независимой прессы, разделения властей и сильного
общественного мнения профессионализация суда не влечет за собой тех негатив¬
ных явлений, которые свойственны были старому профессиональному суду.
Однако в пореформенной России именно суд присяжных мог обеспечить не¬
зависимость, объективность и состязательность процесса, повысить доверие на¬
рода к суду и, самое главное, превратить суд в независимую третью власть. Ин¬
тересно, что и в современной России происходит распространение суда присяж¬
ных классического образца, несмотря на то что другие европейские страны от
него отказались или отказываются. Запущенность российской правовой системы,
недоверие людей к органам следствия, прокуратуры и суда служат этому объяс¬
нением. Не случайно в 80 % случаев подсудимые ходатайствуют о рассмотрении
их дел судом присяжных. В современных российских условиях навести порядок
88
Судоустройство и процессуальное право
в суде могут только сами граждане, если они серьезно, по-граждански ответст¬
венно отнесутся к обязанностям присяжных. Мы получили такую возможность,
а как мы ею воспользуется, покажет время.
Итак, дореформенное следствие действовало неэффективно, суд работал мед¬
ленно, но, если судить по небольшому числу протестов, достаточно справедливо.
Весьма тщательная проверка состояния всех судебных учреждений в 36 губерни¬
ях, проведенная в 1847 г., показала, что по общему правилу уголовное и граж¬
данское судопроизводство происходило в соответствии с законом, хотя имелось
множество частных недостатков, в особенности в судах первой инстанции137.
Коррумпированность суда до судебной реформы существовала, но, по-видимому,
она сильно преувеличена в историографии, которая некритически пошла за бел¬
летристикой и журналистикой 1850—1860-х гг., осуждавшими дореформенный
суд с благородной целью утвердить в России более совершенный и справедли¬
вый суд. Дореформенная коррупция, как представляется, имела главной целью
ускорить рассмотрение дела, а не избежать наказания или смягчить его. В поре¬
форменное время следствие действовало эффективнее, суд работал быстро, пре¬
имущественно по закону и практически без коррупции. Однако решения судов
вызывали больше протестов со стороны населения. Парадокс в существенной
степени объясняется тем, как уже упоминалось, что возникновение адвокатуры
в результате судебной реформы способствовало развитию сутяжничества и росту
числа апелляционных и кассационных жалоб, которые являлись важнейшим ис¬
точником доходов адвокатов.
Каким же образом достигалось правосудие в дореформенное время? Заинте¬
ресованность властей и общества в объективности суда, опора на судебные пре¬
цеденты, сословность судов, обеспечивавшая судебный поединок между равны¬
ми, и благодаря этому сравнительно редкое противостояние богатых и бедных,
знатных и простолюдинов — вот те факторы, которые, на мой взгляд, обеспечи¬
вали достаточно высокую справедливость суда. Коронная администрация иногда
оказывала влияние на суд. Например, по словам сенатора И. В. Лопухина, выс¬
шая и губернская администрация оказывала влияние на дела правосудия прямо
и косвенно. Сенаторы и судьи знали склонности императора или министра юсти¬
ции и старались им следовать. Так возникла «мода на строгость» при Павле I
и «мода на мягкость» при Александре 1. О том же свидетельствовал М. А. Дмит¬
риев, служивший судьей и в Сенате в царствование Николая I. С. Ю. Витте
в своих мемуарах, сравнивая старый и новый суды, уверенно утверждает, что
дореформенный суд зависел от администрации: «Раз дело было передано в ста¬
рый суд, то мы отлично знали, что старый суд решит дело так, как ему прикажут
сверху»138. Значит ли это, что «наверху» хотели, чтобы преступники гуляли на
свободе, чтобы приговоры были несправедливы, чтобы люди не верили в суд,
а значит, и в коронные учреждения? Ни один критик дореформенного суда не
ответит на этот вопрос утвердительно. Коронная администрация высокого уров¬
ня действительно иногда вмешивалась в судебный процесс, когда дело имело
хоть какой-то политический оттенок. И тогда трудно было ожидать от суда спра¬
ведливости. Но всем, кто знает предмет, известно, что, когда в судебном приго¬
воре по любому гражданскому или уголовному делу близко, кровно заинтересо¬
89
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
ваны большие деньги, большая политика и по-настоящему влиятельные люди,
тогда надежды на справедливость всегда призрачны не только в России, но и в
любой другой стране, как при суде присяжных, так и без него. Когда же такой
интерес отсутствует, когда в суде сталкиваются равные по силе стороны — что
в России до 1864 г. происходило, вероятно, в 99 % случаев, — справедливость
имеет значительный шанс для своего торжества.
М. А. Дмитриев (1796—1866), поэт и крупный чиновник, человек безупреч¬
ной честности и репутации, противник всякого деспотизма, насилия и цензуры,
знавший суд не понаслышке, а изнутри, на основе большого личного опыта
(2 года, 1826—1828, он был судьей московского надворного суда — суда первой
инстанции, 5 лет, 1828—1833, — советником московской уголовной палаты —
суда второй инстанции, 14 лет, 1833—1847, — обер-прокурором Сената), хорошо
понимавший и описавший в своих воспоминаниях все недостатки и пороки до¬
реформенного следствия, полиции и суда, делает следующее заключение о рос¬
сийской правоохранительной системе второй четверти XIX в.: «Везде законы
основаны на доверенности к совести народа и совести судей. У нас — на недо¬
верчивости и к нравственности, и к совести, как к народной, так и судейской. От¬
того и правда, и совесть окованы формами, поставлены в станок, чтобы маши¬
нально выделывать правосудие. Наше уголовное правосудие есть машина, очень
хорошая, но машина (курсив мой. — Б. М)». Второй вывод состоит в том, что
вся правоохранительная система дореформенной России находилась в полном
соответствии с юридическими представлениями общества и народа: «Наше
прежнее законодательство хотя не отличалось нынешнею гуманностью, хорошо
знало русского человека». Те особенности системы, которые следующими поко¬
лениями считались недостатками, современникам импонировали либо рассмат¬
ривались ими как совершенно необходимые в конкретных обстоятельствах доре¬
форменной жизни для отправления правосудия. Субъективность судей, по мне¬
нию Дмитриева, помогала правосудию: «Самая недостаточность в подробностях
применения была в прежних законах в пользу, а не во вред правосудия. <...> Чем
более простора для судейского мнения, тем больше порука за верность мнения,
а однообразие в этом случае есть только наружная правильность». Пристрастные
допросы обеспечивали требуемое признание и раскрытие преступления: «Сколь¬
ко ни было издано законов против пыток, они существуют! С одной стороны,
таковы следователи, что не умеют без них обходиться, с другой — таков и рус¬
ский простолюдин, что нейдет ни на убеждение, ни на совесть, а понимает
и уважает только силу! — Битье по зубам, сечение, содержание в угарной комна¬
те, кормление одними солеными сельдями, без утоления жажды — это было дело
обыкновенное! — Без этого у нас не обходится ни одно полицейское следствие;
без этого не делается никакого открытия по уголовному следствию». Жестокие
телесные наказания казались многим, в том числе подвергавшимся наказанию,
необходимыми и нестрашными. «Долговременное содержание под стражею во
время справок по всем концам России мало тревожат русского человека. Кормят
хорошо, работы нет, а это два главные условия его блаженства». Словом, «ста¬
рые законы наши, если разбирать их рационально, представляют всегда доста¬
точную причину их учреждения (курсив мой. — Б. М)»139.
90
Обычное право
Наконец, нельзя забывать, что абсолютная справедливость — это идеал, к ко¬
торому все стремятся, но который никогда и ни при какой судебной системе не
достигается, потому что самое принципиальное следование закону также не
обеспечивает абсолютной справедливости приговора. Если в России больным
местом суда всегда было отклонение от закона при решении дел, то в западноев¬
ропейских и североамериканских странах, наоборот, слабое место суда — бук¬
вальное и прямолинейное следование закону. Например, по законам США улика,
добытая при обыске или задержании, не санкционированными прокурором, от¬
водится, и на этом основании разоблачаемый данной уликой преступник, будь он
даже убийца или грабитель, освобождается от судебного преследования. Суд
присяжных тоже не всегда принимает справедливое решение. Его существенный
недостаток состоит в том, что во многих случаях талантливый и, естественно,
дорогой адвокат, умеющий убеждать и внушать, выигрывает дело, и вместе
с ним побеждает богатый преступник. Это дает в демократическом обществе пре¬
имущество в суде богатому перед бедным человеком. Другое слабое место суда
присяжных в том, что огромное влияние на решение присяжных оказывают об¬
щественное мнение и пресса. Обычное право с его судьями, которые выносили
решения в зависимости от человека и обстоятельств, несмотря на недостатки,
более соответствовало условиям деревенской жизни, когда все знали друг друга,
где формальные доказательства во многих случаях были непонятны для мало¬
грамотных или вовсе неграмотных крестьян, а современное следствие невозмож¬
но. Словом, в свое время и в своем месте может быть целесообразным суд при¬
сяжных или суд стариков, нормы официального, более разработанного, усовер¬
шенствованного права или обычного права140.
Обычное право
До Великих реформ гражданские дела и значительная часть уголовных дел
в деревне рассматривались на основе обычного права; оно применялось также
в городе при лакунах в законодательстве. Но и после эмансипации обычное
право регулировало большой круг общественных отношений. Оно использова¬
лось всеми судами в торговых делах при лакунах в законе; в делах о наследова¬
нии, опеке и попечительстве у крестьян; по всем спорам среди крестьян, разре¬
шавшимся волостными судами по гражданским делам, а до 1889 г. и по уголов¬
ным делам также; при рассмотрении всех гражданских дел у мирового судьи
или земского начальника (в 1889—1912 гг.) при лакунах в законе. До 1887 г.
мировой судья имел право решать по совести дела на всякую сумму по просьбе
обеих сторон. Обычное право являлось наследием традиционного общества,
существовавшего в России до петровских реформ начала XVIII в., и как таковое
имело как самобытные, так и сходные черты с обычным правом других евро¬
пейских и неевропейских народов. Оно представляет собой большое культур¬
ное достижение русского народа и заслуживает внимательного и уважительно¬
го подхода141. Что представляло собой русское обычное право и чем оно отли¬
чалось от закона?
91
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Обычное уголовное право
С древнейших времен и до 1917 г. представители всех классов населения, со¬
вершившие тяжкое уголовное преступление, судились в одном суде и по едино¬
му закону. Что касается мелких уголовных и гражданских дел в деревне, то они
были прерогативой сельских судов, разбиравших их по обычному праву. До кон¬
ца XVII в. закон и обычное право различались не слишком существенно. Однако
начиная с XVIII в., когда Россия во всех отношениях стала испытывать сильное
влияние Запада, закон начал все более расходиться с обычным правом: город
превратился в зону действия закона, деревня — обычая. Внутридеревенские от¬
ношения регулировались почти исключительно обычным правом и только отно¬
шения крестьян с другими сословиями — официальным правом. В результате
этого после эмансипации 1861 г., когда русские этнографы и юристы серьезно
занялись изучением крестьянского быта, они обнаружили, что народная юстиция,
существенно расходившаяся с законом, решала 80 % всех дел у 80 % всего насе¬
ления империи142.
Понятие преступления
В последней трети XIX—начале XX в. основные понятия в обычном уголовном
праве трактовались, как в законах XV—XVII вв., а в некоторых случаях
и XI—XIII вв. В обычном праве преступление понималось как грех (в религиозном
смысле), нарушение правды и законов совести и ассоциировалось с несчастьем.
М. А. Дмитриев отмечал: «Народ понимает очень хорошо преступление против
лица, например убийство, воровство; но преступление против государства, против
казны он ставит решительно ни во что: идеи государства он не понимает, а казну
он почитает неистощимою. То есть он понимает преступление только тогда, когда
оно грех». Все известные пословицы середины XIX в. отзывались о законе нега¬
тивно, что отражало не негативное отношение к праву вообще, а народное право¬
сознание, согласно которому правда, отраженная в обычае, справедливее закона.
«Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили», — гласила одна
пословица. В 1880-е гг. А. Н. Энгельгардт указывал: «Мужик не знает “законов”;
он уважает какой-то Божий закон. Например, если вы, поймав мужика с возом ук¬
раденного сена, отберете сено и наколотите ему шею, — не воруй, — то он ничего;
если кулак, скупающий пеньку, найдет в связке подмоченную горсть и тут же
вздует мужика, — не обманывай, — ничего: это все будет по-божески. А вот тот
закон, что за (украденный) воз сена на три с половиной месяца в тюрьму, — это не
по-божески, то паны написали мужику на подпор (в помощь — иронически. —
Б. М)»143. Сослойный волостной суд, утвержденный в 1861 г., отражая подобное
правосознание, должен был «судить по совести», что подтверждалось «Временны¬
ми правилами о волостном суде» 1889 г. (ст. 25).
В народном правосознании преступник рассматривался по общему правилу
как несчастный человек, наказанный Богом за свои прежние грехи, может быть,
совершенные в детстве, и сам акт преступления считался уже началом кары
и несчастья, обрушившегося на человека (поэтому подать милостыню рассмат¬
ривалось как богоугодное дело).
92
Обычное право
Рис. 10.22. А. О. Орловский (1777—1832). Каторжники под конвоем [просят милостыню].
1815. Государственный Русский музей
Но если преступление — несчастье, то и преступник — несчастный человек,
заслуживающий сочувствия. Не было еще изжито в обычном праве и понимание
преступления как личной обиды, как нанесение бесчестья, откуда вытекало убе¬
ждение, что судить за проступки против личности и имущества следует самому
потерпевшему и только за преступления, направленные против общественного
порядка, судить и наказывать должен суд. Как пережиток далекого прошлого
у некоторых крестьян из глубинки бытовало мнение, что обида могла быть нане¬
сена не только человеку, но и принадлежавшему ему животному, другими словами,
объектом преступления могло быть и животное. Корреспондент Бюро В. Н. Тенише-
ва сообщил случай, когда один крестьянин отрезал у коровы полхвоста за потра¬
ву, хозяин коровы обратился в мировой суд с жалобой, чтобы наказать крестья¬
нина «за бесчестье телушки»144. С пониманием преступления как личной обиды
связано и то, что обычай допускал мировые сделки (за водку, деньги и др.) при
мошенничестве, кражах, нанесении побоев, оскорблениях и т. д. Сельские суды
нередко присуждали виновного в уголовном преступлении к возмещению ущер¬
ба в двойном или большем размере, но с освобождением его от уголовного нака¬
зания145.
Своеобразное понимание преступления приводило к тому, что крестьяне
смешивали уголовные преступления и гражданские деликты, как это было еще
в Московской Руси. Кража, драка, словесное оскорбление, непослушание сына
отцу, прелюбодеяние, обман, мошенничество, аморальный поступок, невозвра¬
щение долга, нечестная сделка и даже нетактичное поведение — все было про¬
93
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
ступком, грехом и заслуживало одинакового наказания. Например, девушке нра¬
вились два парня, она с обоими встречалась и обоим обещала выйти замуж. Ко¬
гда они узнали об этом, между ними возникли напряженные отношения. И тогда
на крестьянском сходе решили высечь девушку, что и было сделано146. «Вообще
в народном суде по уголовным делам заметно, что народ им придает, как и древ¬
ние наши законы, вид гражданских»147. Таким образом, крестьяне после эманси¬
пации понимали преступление, во-первых, не как нарушение юридической нор¬
мы, а как нарушение моральной нормы, во-вторых, как личную обиду, в-третьих,
как несчастье и наказание. Этот взгляд на преступление, изжитый в законе еще
в начале XVIII в., в обычном праве сохранился в XX в.148 Важно также отметить,
что обычное право рассматривало преступление прежде всего с точки зрения
ущерба, наносимого потерпевшему, не вникая в побуждения и мотивы правона¬
рушителя. Вследствие этого обычное право не признавало никаких особых об¬
стоятельств, смягчающих вину, кроме опьянения до потери сознания и притесне¬
ний со стороны старших членов семьи, и само понятие невменяемости в нем от¬
сутствовало149.
Отличное от закона понимание преступления в обычном праве приводило
к тому, что закон и обычай различались по номенклатуре преступлений. Во мно¬
гих случаях преступление по закону и обычаю совпадали, но часто грех не при¬
знавался законом за преступление, а преступление по закону не считалось кре¬
стьянами грехом и, следовательно, преступлением. Например, собирание мило¬
стыни, несоблюдение правил строительного устава, оскорбление чести сельской
полиции, появление пьяным в публичном месте, нарушение тишины и порядка
в суде, покушения на государственную собственность вроде порубки казенного
леса, кровосмесительство (если супруги не находятся в прямых отношениях род¬
ства) и т. д. не считались крестьянами грехом и, следовательно, преступлением,
хотя они знали, что закон придерживается другого мнения. В то же время не все
греховные и, следовательно, преступные, по мнению крестьян, деяния признава¬
лись законом как преступления, например работа в праздники, отказ от подачи
милостыни, неучастие в общественной помощи (помочи), нарушение поста. По
обычному праву такие деяния, как пьянство, мотовство, расстраивающее хозяй¬
ство, нарушение условий договора, в частности сельскохозяйственного найма,
карались наравне с кражей, в то время как согласно общему законодательству эти
деяния влекли только гражданскую ответственность.
Весьма снисходительным было отношение обычного права к такому важному
и весьма распространенному преступлению в крестьянском быту, как кража. Во
многих местах мелкое воровство, в особенности леса или плодов с полей, не счи¬
талось преступлением. Уличенный похититель должен был возместить ущерб.
Уголовного наказания не было. Продукты земли, воды и леса, к которым не был
приложен труд человека, крестьянин вообще считал принадлежавшими Богу
и, значит, всем. Поэтому лесные порубки, похищение лесных и полевых плодов,
сена, фруктов в небольшом количестве, только для себя, не считались преступле¬
нием150. По подсчету Лесного департамента Министерства государственных
имуществ только в казенных лесах за 1894—1900 гг. было похищено леса на
1848 тыс. руб., что лишь в ничтожной степени отражало общий ущерб от поку¬
94
Обычное право
шений крестьян на чужую собственность151. В конце XIX в. девушками и парня¬
ми еще практиковалось ритуальное воровство ради получения средств на оплату
расходов на посиделки152. Будучи снисходительными к мелкому, а иногда и круп¬
ному воровству второстепенных с точки зрения крестьян предметов, они были
суровы с ворами, похищавшими вещи, без которых хозяйство существовать не
могло, — лошадь, орудия обработки почвы и т. п.
В начале XX в. обычное право и крестьяне относились к воровству так же, как
относился к этому преступлению закон несколькими столетиями раньше. В XI—
XIII вв. ловкое и умелое воровство было делом доблести и за него не наказыва¬
ли153. Уличенный вор не нес уголовного наказания, а лишь платил потерпевшему
материальное вознаграждение. В XV—XVII вв. за кражу полагалось уголовное
наказание. Однако для мелкого воровства было сделано изъятие: похищение
мелких предметов для личного потребления (в садах, огородах) вовсе не счита¬
лось воровством и даже грабеж таких вещей наказывался весьма снисходительно
(Соборное уложение 1649 г., гл. 10, ст. 221—222). Суровое петровское законода¬
тельство снисходительно наказывало или вовсе освобождало от наказания за
кражу еды, напитков или чего-либо другого небольшой ценности, совершенную
из крайней нужды («Воинские артикулы» 1715 г., толкование к арт. 195)154. При
Петре I существовало также право рубки леса для личных нужд. Закономерно
поэтому, что «Временные правила о волостном суде» 1889 г., обобщавшие нор¬
мы обычного права, предусматривали легкое наказание за мелкую кражу арестом
на срок от 7 до 30 дней, в то время как закон — Устав о наказаниях уголовных
1885 г. — тюремное заключение на срок от 3 месяцев и выше.
Наказание
Наказание понималось как возмездие или даже как месть за преступление.
Хотя кровной мести не существовало, но «отплатить» за проступок старались
все, в особенности молодежь155. Высшим возмездием считалось привлечение
обидчика к суду. Наказанный проступок быстро забывался, безнаказанный
помнили долго и старались за него отомстить156. При определении вида наказа¬
ния господствовал субъективизм — наказания назначались «по человеку», «по
обстоятельствам» и т. д., в результате люди за одно и то же преступление полу¬
чали разное наказание, и вообще наблюдалась слабая связь между наказанием
и тяжестью правонарушения. При совершении коллективного преступления все
наказывались одинаково157. В некоторых местностях сохранился и такой архаи¬
ческий обычай, как ответственность целой общины за совершенное на ее тер¬
ритории преступление, если преступник не был найден, или за укрывательство
преступника. Последнее случалось довольно часто, так как крестьяне боялись
выдавать преступника из-за страха мести с его стороны158. Господство принци¬
па ad hoc (смотря по обстоятельствам) и игнорирование ролевого участия
в коллективном преступлении являлись естественным следствием того, что
в общине невозможно было механическое, безразличное применение тех или
иных юридических норм, ибо отношения между ее членами были тесно пере¬
плетены и эмоционально окрашены. Самым разумным в этих условиях было
95
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
применять решения «глядя по человеку», «по здравому смыслу» и по другим
подобным критериям.
Волостные суды в качестве наказания применяли арест до 30 дней, денежное
взыскание до 30 руб., выговор, а также наказание розгами до 20 ударов. Телесное
наказание у крестьян применялось еще 41 год после того, как оно было отменено
законом в 1863 г. для других сословий159. Оно применялось даже к тем, кто со¬
вершал проступки, не признаваемые законом преступлением, например к «блуд¬
никам и развратникам»1 . Кроме применения традиционных розог оригинальное
наказание за клевету состояло в том, что суды предоставляли обиженному право
бить обидчика по щекам в присутствии публики.
Крестьянин по обычному праву после уголовного наказания не подвергался
никаким санкциям и ограничениям в правах. Если же крестьянина судил корон¬
ный суд и закон накладывал на преступника ограничения в правах после отбытия
наказания, эти ограничения в общине не действовали, хотя к таким лицам в де¬
ревне относились с насмешкой и они имели прозвища, соответствующие наказа¬
нию. Бывших в тюрьме называли «тюремными», наказанных телесно — «сечен¬
ными», оштрафованных — «штрафованными»161.
А. Ефименко и К. Качоровский четко сформулировали различие при назначе¬
нии наказания по обычному праву и закону. По закону — каждый должен полу¬
чить то, что ему следует строго по закону, по обычаю — «чтобы никому не было
обидно». В законе все держится на логике, в обычном праве — на чувстве, в за¬
коне все объективно и формально, в обычном праве — субъективно и индиви¬
дуально162.
96
Рис. 10.23. Н. К. Пимоненко (1862—1912). Самосуд над конокрадом. 1900.
Место нахождения неизвестно
Обычное право
В экстраординарных ситуациях обычное право допускало самосуд, вплоть до
убийства на месте преступления. Например, убивались поджигатели и конокра¬
ды, а иногда воры, застигнутые на месте преступления, — тоже пережиток древ¬
нерусского права163. Крестьяне часто проявляли склонность к самосуду и пред¬
почитали его официальному суду, так как не были уверены, что преступник по¬
лучит должное возмездие. Хотя самосуд широко бытовал в деревне, современни¬
ки отмечали, что в самых развитых в экономическом и культурном отношении
регионах самосуды с конца XIX в. стали отмирать164, но на окраинах еще были
в полной силе. Например, в Сибири были распространены самовольные наказа¬
ния в «зверском виде». «Неистовый крестьянский самосуд направлялся против
бродяг, “бесчисленные останки” которых скрывала “молчаливая тайга”, против
воров и конокрадов. <...> Одного вора крестьяне замучили насмерть, избивая,
“раскрывая ему рот дегтярной мазилкой” и засыпая в него сухой горох, другого
толпа приперла баграми к стене и “заколотила до смерти”», третьего за кражу
мельничного камня «буквально как собаку забили палками до смерти», избивали,
«пока не устали», били «уже недвижимого»165.
Обычное гражданское право
Обычное право в деревне в решающей степени обеспечивало общинный
правопорядок, который ограничивал вещные и личные права крестьян — сдел¬
ки с землей, передачу наследства, заключение договоров, передвижение, выход
из общины и многие другие. Крестьяне в большинстве случаев не могли высту¬
пать в качестве субъекта гражданского права, так как не могли действовать ин¬
дивидуально, а лишь с разрешения семьи и общины. После эмансипации прави¬
тельство даже сузило сферу индивидуальных прав. В 1886 г. закон существенно
ограничил раздел хозяйств — он мог производиться с согласия большинства
общины. В 1893 г. крестьянам было запрещено продавать свои надельные зем¬
ли без согласия общины, и даже в подворных общинах продажа была крайне
затруднена из-за невозможности для крестьян представить формальные доказа¬
тельства владения, требуемые для заключения сделки. В 1880—1890-е гг. пере¬
делы были поставлены под контроль коронной администрации и могли проис¬
ходить с промежутками не менее чем в 12 лет. Продажа надельной земли была
ограничена — для этого требовалось разрешение администрации, а при сделке
свыше 500 руб. — Министерства внутренних дел. В пределах общины земля
могла переходить только от одного члена общины к другому и лишь при согла¬
сии схода, ее запрещалось передавать в залог частным лицам, за исключением
Крестьянского поземельного банка. В 1895 г. Сенат признал даже усадебную
оседлость не личной, а мирской собственностью166. Во всех перечисленных
случаях правительство искусственно поддерживало нормы обычного права,
ввиду чего крестьяне, тесно соприкасавшиеся в области имущественных отно¬
шений с общим правопорядком, например в городе, тяготились этими ограни¬
чениями, и волостные суды в некоторых случаях принимали решения в соот¬
ветствии с законом, а не с обычным правом, но решения эти постоянно отменя-
97
Глава / 0. Право и суд, преступление и наказание
лись коронными учреждениями по крестьянским делам как не соответствую¬
щие обычному праву167.
Вещное правот
В сфере вещного права обычное право имело существенные особенности, ко¬
торые помогают многое понять в социальном или политическом поведении кре¬
стьянина. Обычное право содержало две нормы, находившиеся в противоречии
с официальным гражданским правом, которые имели особенно большое значе¬
ние: принцип трудового права, согласно которому человек может владеть только
тем, во что он или его предки вложили труд, и смешение понятий «собствен¬
ность», «владение» и «пользование»169. Хотя крестьянство в массе различало
«мое» и «чужое», в особенности применительно к движимому имуществу, оно не
проводило четкой грани между собственностью и владением в особенности
в отношении земли и другого недвижимого имущества. «Моим» крестьянин счи¬
тал тот участок общинной земли, которым временно владел в данный момент,
и усадебную землю, которая находилась в постоянном его пользовании170. Эти
особенности обычного вещного права позволяют объяснить претензии крестьян
на помещичьи земли после эмансипации: постоянное участие крестьян в обра¬
ботке помещичьих земель, пользование ими в форме аренды или другими спосо¬
бами, наличие сервитутов, различные виды права пользоваться помещичьими
угодьями поддерживали в них убеждение, что существовавший правопорядок
являлся переходным к тому времени, когда вся помещичья земля перейдет в их
владение, поскольку она освоена их предками, а помещики незаконно присвоили
результаты их труда. Подобное отношение к помещичьей земле порождало час¬
тые земельные захваты, затрудняло формирование представления о неприкосно¬
венности любой собственности171. В пореформенное время, несмотря на развитие
понятия собственности, указанные особенности вещного обычного права не бы¬
ли до конца изжиты, поскольку они порождались не столько юридической нераз¬
витостью крестьянства, сколько существованием передельной общины, круговой
поруки и другими ограничениями их имущественных прав.
Обязательственное право
Обычное право знало многие договоры, которые были известны и закону, но
в силу стесненности гражданской дееспособности и слабой потребности в оборо¬
те материальных ценностей договоры в деревне были распространены намного
меньше, чем в городе, а само обязательственное право крестьян содержало много
архаичных черт172. Все договоры между крестьянами, как правило, заключались
устно и только с некрестьянами — письменно. Заключение сделок в крестьян¬
ской среде обычно сопровождалось особым ритуалом. Например, раздел имуще¬
ства начинался с разрезания пополам каравая, что символизировало разрыв от¬
ношений между делящимися. Ритуал сопровождал сделки купли-продажи, так
как, согласно воззрениям крестьян, между человеком и вещью существовали
особые отношения, разорвать которые можно было с помощью специального
98
Обычное право
ритуала. По закону признаком состоявшейся сделки считался тот момент, когда
контрагенты договорились относительно продаваемого имущества и цены.
У крестьян контрагенты брались за руки, которые разнимал посторонний чело¬
век. За рукобитьем следовала молитва в церкви или перед иконами в доме. После
этого покупатель давал задаток, а продавец ставил выпивку. Но и после этого
покупатель мог отказаться от сделки, если вещь еще находилась в доме продавца,
правда, в этом случае он терял право на задаток. Проданное животное должно
было быть лично доставлено продавцом к дому покупателя, а акт передачи со¬
провождаться ритуалом. Обычное право запрещало продажу имущества, являв¬
шегося основанием для обеспечения платежеспособности хозяйства, например
дома, без согласия схода. Волостной суд мог расторгнуть договор купли-
продажи, если продавец при заключении его не был в состоянии серьезно обсу¬
дить последствия сделки, например был пьян или легкомыслен173.
Договор займа денег или предметов, как правило, совершался устно и без
свидетелей. И здесь дело состояло не в особом доверии крестьян к друг другу,
а в страхе, что присутствие постороннего человека или письменная форма сделки
могут повредить ее участникам. Это было похоже на то, как крестьянка до по¬
следней минуты скрывала свою беременность и рожала самостоятельно, в луч¬
шем случае в присутствии старухи-повитухи, из-за страха так называемого сгла¬
за, т. е. нанесения вреда новорожденному дурным, недоброжелательным глазом.
Как правило, договор займа не предусматривал возвращения взятого в кредит
с надбавкой, хотя в некоторых случаях надбавка или процент с денег брались.
Существенно другое — надбавка на натуру, например за заем зерна, или процент
с денег рассматривались не как процент с авансированного капитала, а как опла¬
та услуги. Поэтому оплата за услугу могла быть высокой. Но крестьяне считали,
как это было в X—XVII вв., что если выплаченные деньги составляли взятую
сумму, то долг выплачен.
При найме рабочего, согласно обычному праву, хозяин должен был обра¬
щаться с работниками человеколюбиво, не изнурять их работой, не придираться,
не оскорблять и не наказывать их. В противном случае рабочий имел право рас¬
торгнуть договор, не возвращая даже полученных в задаток денег. В то же время
рабочий не имел права пьянствовать, лениться, грубить хозяину, без его разре¬
шения отлучаться с работы под страхом уголовной ответственности — ареста,
денежного штрафа или телесного наказания розгами174. Как видим, в отношениях
рабочего и хозяина также сохранялись следы патриархальности.
Наследственное право
Правила наследования у крестьян по обычному праву тоже имели особенно¬
сти17 . Во-первых, крестьяне почти не пользовались завещанием, что свидетель¬
ствовало не только о неграмотности, бедности, но и о скованности воли крестьян
общественными и нравственными нормами. Наследство составляли постройки,
движимое имущество и купленная земля, и все это могло переходить только чле¬
нам семьи; надельная земля в принципе передавалась только членам данной об¬
щины, обычно она оставалась в семье, если дети не делились. Обычное наследст¬
99
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
венное право учитывало не только кровнородственные отношения, но и трудовой
вклад, который внес каждый член семьи мужского пола в создание семейного
имущества. В силу этого, в отличие от закона, имущество крестьянского двора
могли наследовать не только кровные родственники, но члены семьи-хозяйства,
которыми считались все те, кто работал в хозяйстве и создавал его имущество, —
усыновленные, приемыши и незаконнорожденные. Дочери допускались к насле¬
дованию в равной степени с сыновьями, если выходили замуж за «приймака»,
т. е. если жених входил в семью невесты176. При жизни дворохозяина раздел хо¬
зяйства разрешался общиной, если домохозяин не был в состоянии руководить
хозяйством, пьянствовал, проматывал имущество.
В течение пореформенного времени наследственные права женщин возраста¬
ли, но разные местности эти изменения затронули в различной степени. В ряде
губерний кроме приданого и лично ею заработанного имущества (например, тка¬
чеством и т. п.), признававшегося ее собственностью, женщина-вдова при нали¬
чии малолетних детей имела право на владение всем имуществом, которое оста¬
валось после смерти главы дома до повзросления детей, а при их отсутствии —
и на наследование всего или части имущества помимо боковых родственников.
Но и при наличии взрослых детей вдова от наследства полностью не устраня¬
лась — ей выделялась определенная часть наследства, обычно седьмая. Молодые
незамужние дочери по общему правилу получали часть наследства по усмотрению
братьев, жили с ними до замужества и получали от них приданое; старые девы за
большой трудовой вклад получали от братьев небольшой дом и пропитание.
100
Рис. 10.24. Н. П. Богданов-Бельский (1868—1945). Последняя воля. 1893.
Таганрогская картинная галерея
Обычное право
Относительно участия в наследовании незамужних дочерей существовали боль¬
шие региональные различия — от получения «малой части из милости» до рав¬
ной доли наследства с братьями — свидетельство того, что данный институт пре¬
терпевал изменения. При отсутствии у умершего сыновей его имущество обык¬
новенно переходило к незамужним дочерям, включая даже надельную землю,
если женщины могли справляться с хозяйством и уплачивать налоги; в некото¬
рых местностях имущество делилось между вдовой и дочерьми в определенной
пропорции. После смерти матери незамужние дочери участвовали в наследова¬
нии ее имущества, но степень этого участия сильно изменялась от местности
к местности. Замужние женщины не участвовали в наследстве умерших отца
и матери. Обычное право в отличие от закона не устраняло вовсе восходящих
родственников от наследства — имущество замужней дочери наследовалось ли¬
бо ее матерью, либо отцом177.
178
Семейное право
Существенные особенности крестьянской семьи состояли в том, что это был
прежде всего союз хозяйственный, нередко объединявший в своем составе не¬
сколько малых семей и лиц, не связанных кровным родством, которые в среде
других сословий проживали обычно отдельными семьями. Все члены такой
семьи вели общее хозяйство под руководством ее главы. Из этого вытекали
многие особенности обычного семейного права: слабое развитие индивидуаль¬
ной собственности членов семьи, невозможность для них заключать сделки по¬
мимо главы семьи, принадлежавшее последнему право распоряжаться имуще¬
ством семьи, хотя оно формально считалось общей семейной собственностью.
Слабая роль капитала в хозяйстве обусловливала важное значение личного тру¬
да членов семьи, от которого зависела их доля в наследстве или в имуществе
при разделе семьи.
У крестьян и в начале XX в. сохранились те виды родства, которые у других
сословий выходили из употребления. Кроме кровного родства признавалось
свойство (связи, возникавшие посредством брака) и духовное родство (основано
на восприятии при крещении и называлось кумовством). Известно было крестья¬
нам усыновление. От древних времен сохранился у них такой вид родства, как
братание («побратимство», «крестованье»), возникавший посредством особого
обряда — обмена нательными крестами, почему они и назывались «крестовыми
братьями» или «крестовыми сестрами».
Заключение брака среди крестьян, как до XVIII в., проходило в три стадии:
брачное соглашение, венчание и свадьба. Соглашение заключалось, как правило,
родителями брачующихся устно и предусматривало время бракосочетания, усло¬
вия о расходах по свадьбе, о подарках, вознаграждении родителей невесты за
лишение их рабочей силы («кладке»), о приданом, а также о неустойке, залоге
или задатке на случай, если какая-нибудь сторона откажется от брака. Приданое
давали не только родители, но и те родственники невесты (дядья, двоюродные
братья, свекры и т. д.), которые когда-то воспользовались имуществом ее роди¬
телей. В том, что родственники участвовали в приданом, а приданое в случае
101
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
скорой смерти жены возвращалось ее родителям, наглядно проявлялась родовая
солидарность, едва сохранившаяся у других сословий. Приданое состояло из
одежды, украшений, денег, скота и другого движимого имущества. Неустойка
включала все расходы, понесенные пострадавшей стороной на подготовку
к свадьбе, и плату за бесчестье179. Соглашение сопровождалось символическими
действиями, какие обычно совершались при заключении сделки, — рукобитье,
молитва и угощение водкой. Решающая роль в брачных делах принадлежала ро¬
дителям, но с волей детей стали считаться больше, чем прежде. Брак у крестьян
сравнительно с другими сословиями к началу XX в. в наименьшей степени утра¬
тил черты имущественной сделки.
Права супругов по обычному праву в принципе были такими же, как и у других
сословий: признавалось главенство мужа, обязанность жены и детей его слушаться
и т. д. Однако в пореформенное время мужья за битье жен, в случае если жена об¬
ращалась в волостной суд, присуждались к аресту, штрафу или наказанию розгами.
Но и жены за непослушание — самовольные отлучки, адюльтер и т. д. — пригова¬
ривались к тем же наказаниям. Что же касается детей, то обычное право утвержда¬
ло родительскую власть во всей ее традиционной силе. Например, самовольный
отход холостого сына на заработки приводил к лишению его права на долю семей¬
ного имущества180. Но в пореформенное время было признано право неотделив-
шихся детей на свое личное имущество, доставшееся им по наследству, путем лич¬
ного заработка помимо хозяйства и другими путями181.
Суд и процесс
Кроме учрежденного правительством в 1861 г. волостного суда в общине
продолжали неофициально действовать традиционные суды — суд старосты
вместе со стариками, суд старосты с выборными, суд соседей или всей общины,
точнее схода; в некоторых местностях в селении избирались специальные судьи
(«судцы»). Все эти суды разбирали мелкие гражданские и уголовные дела по
нормам обычного права182. Известный беллетрист-народник и бытописатель
Н. И. Наумов (1838—1901) дал живое описание суда стариков: «Благодаря своей
заброшенности в глуши волость (Сибирь 1880-х гг. — Б. М) представляла осо¬
бенный мирок, с особым складом жизни и обычаев. Случались ли между кресть¬
янами споры из-за промыслов или при дележе добычи, все эти дела кончали по
решению стариков, выбираемых обществом из своей среды. Ни одно дело не до¬
ходило даже до волостного суда. Власти редко заглядывали в этот уголок, по от¬
сутствию хороших дорог, и появление чиновников каждый раз возбуждало в кре¬
стьянах любопытство, смешанное с боязнью»183. Нередко крестьяне предпочита¬
ли суд соседей как более быстрый и справедливый; суд общины, по их мнению,
часто бывал пристрастным, находясь под влиянием «горланов и мироедов»,
а в волостном суде наблюдались затягивание дела и подкуп. К следствиям, про¬
изводимым чиновниками, крестьяне относились со страхом и часто старались
скрыть преступление. Поэтому в суды более высоких инстанций они обращались
в случае «больших краж и несносных обид»184. В 1889 г. волостные суды внут¬
ренних губерний России подверглись преобразованию, судьи в качестве инст¬
102
Обычное право
рукции получили «Временные правила...» и были поставлены под контроль зем¬
ского начальника, назначаемого коронной администрацией из местного дворян¬
ства. «Временные правила...» требовали соблюдения обычного права в граждан¬
ских делах, но в делах уголовных суды должны были руководствоваться только
общими уголовными законами в пределах их компетентности. Вследствие этого
область обычного уголовного права существенно сузилась — оно действовало
среди инородцев18 . Однако правовая обособленность крестьян в значительной
степени сохранилась, потому что, во-первых, гражданское право оставалось сфе¬
рой волостного суда, во-вторых, суды были преобразованы не во всех губерниях,
в-третьих, перейти сразу с обычая на закон было непросто ни для судов, ни для
крестьян, тем более что в законе часто не представлялось найти подходящую
статью и приходилось обращаться к обычному праву186. Существует мнение, что
волостные суды с конца XIX в. стали менее популярны у крестьян, и они обра¬
щались в них только по необходимости187. Такая тенденция действительно на-
блюдалась, но не следует ее преувеличивать . Мировой суд не мог заменить
волостной суд, потому что закон разрешал крестьянам обращаться в него только
по гражданским делам при согласии обеих спорящих сторон, а по уголовным
делам — при совершении правонарушения вне пределов волости.
Процесс, как и много веков тому назад, был состязательным, но без адвока¬
тов: крестьяне должны были присутствовать лично, в случае болезни их заменя¬
ли доверенные родственники. Однако еще в 1860-е гг. зафиксировано примене¬
ние пытки на Урале и в Сибири как для мужчин, так и для женщин189. Не ис¬
ключено, что пытка применялась и в других местах в более позднее время, но
сведения об этом скрывались. При краже пострадавший заявлял о ней всему
селению, и все дома обыскивались в присутствии сельских властей и свидете¬
лей (закон отменил этот способ поиска доказательств). При обнаружении укра¬
денного допускалось, что меру наказания определял и приводил в исполнение
своими руками пострадавший. Выдача головой — это еще более древний пере¬
житок XI—XIII вв., запрещенный законом в XV—XVI вв. Но по общему правилу
дело ограничивалось телесным наказанием. В некоторых местах вора вместе
с украденной вещью водили по улице при стечении народа, но этот обычай вы¬
ходил из употребления190.
Среди судебных доказательств самым важным считалось собственное при¬
знание обвиняемого, как в XVI—первой половине XVIII в., большое значение
придавалось «поличному», при расследовании призывались очевидцы и свидете¬
ли, устраивались очные ставки, собирались улики. Во время следствия в затруд¬
нительных случаях обращались к сверхъестественным силам, к колдунам и во¬
рожеям191. При поиске виновного в убийстве применялось «испытание трупом
и кровью», основанное на представлении, что при прощании убийцы с убитым из
трупа потечет кровь192. При поиске вора повсеместно применялись три средства.
Первое состояло в том, что в церкви зажигалась свеча («забидящая свеча»); кре¬
стьяне полагали, что вор сразу начнет чахнуть и в конце концов сам принесет
или подкинет украденную вещь. Вторым средством считалось отслужить в церк¬
ви молебен святому Иоанну Воину. В крайнем случае крестьяне обращались
к нечистой силе через колдуна193. Доказательства добывались ворожбой и гада¬
103
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
нием. При решении некоторых спорных вопросов, особенно при разделах, при¬
менялся жребий или признавалась вина обеих сторон по формуле «грех попо¬
лам». В качестве доказательств и улик для истцов и ответчиков выступали прися¬
га, божба, целование иконы, пожелание себе всяческих несчастий. Перед прине¬
сением присяги крестьяне ходили в баню, если накануне ночью делили брачное
ложе с женой. Но часто очищение баней заменяли тем, что обливались холодной
водой или мочили водою голову и грудь194. Разбор таких уголовных дел, как
кража, драка, оскорбления и т. п., а также небольших гражданских дел в неофи¬
циальных сельских судах чаще всего заканчивался примирением сторон. Оби¬
женный получал компенсацию, а наказание заменялось угощением водкою за
счет виновного195. В юридической литературе подобное правосудие получило
название примирительного196.
Хотя крестьяне были убеждены, что преступник или его родственники всегда
будут наказаны Богом, тем не менее для наказания ненайденного преступника
они применяли разные магические приемы. Чтобы привести преступника к рас¬
каянию или отомстить, в одних местностях оставленный им на земле «горячий
след» сжигали, полагая, что вора начнет корчить и он сам возвратит украденное.
В других местах «горячий след» развеивали по ветру на четыре стороны, считая,
что этот след вора найдет и приведет к пострадавшему. В третьих — приглашали
знахаря, который произносил заговоры и совершал магические действия. Вообще
крестьяне верили в способность колдунов найти украденное, но обращались
к ним редко из-за страха перед Богом197.
104
Рис. 10.25. М. И. Зощенко (1857—1907). Волостной суд. 1888.
Государственная Третьяковская галерея
Обычное право
Разнообразные клятвы, суд соседей, использование магических приемов и т. п. —
все это являлось пережитками древнего уголовного права. Но вместе с тем нельзя
не отметить, что в крестьянском судопроизводстве также наблюдался некоторый
прогресс. До эмансипации крестьяне не умели применять косвенные доказатель¬
ства, в 1870—1880-е гг. они их стали использовать, хотя приоритет оставался за
прямыми доказательствами — наличие одних косвенных улик считалось недос¬
таточным для обвинения. Жребий, так же как и божба, к началу XX в. мало-
помалу исчезали, молодежь к божбе вовсе не обращалась. Достаточно широко
вошли в практику письменные доказательства. Вышла из употребления пытка.
Все большее число крестьян отдавало предпочтение волостному суду перед де¬
ревенским и коронному суду перед волостным198.
Обособленность крестьян от общего правопорядка
Чем была вызвана обособленность крестьян от общего правопорядка? Поня¬
тие общей, абстрактной, формально выраженной правовой нормы в обычном
праве было развито весьма слабо: такое понятие противоречило чувству кон¬
кретного, характерному для неграмотных и малограмотных людей. Каждый слу¬
чай имел свое обоснование и специфику, и невозможно было заранее подобрать
к нему готовое решение. Поэтому абстрактные, оторванные от конкретных усло¬
вий правила и принципы в обычном праве не применялись. «Крестьянство обла¬
дает наименьшей возможностью и способностью усвоения касающихся его зако¬
ноположений, поэтому оно очень плохо представляет свои права и обязанности
по закону, — констатировал цивилист Н. Дружинин. — В правовом отношении
крестьянин испытывал значительные трудности, так как собственно крестьян¬
ский суд действовал на основе обычая, а всесословный суд — на основании за¬
кона и по другой процедуре, нежели крестьянский суд»199. Поэтому, когда офи¬
циальное право с конца XVII в. стало развиваться по пути формализации, казуи¬
стики, подведения частных случаев под общие формулы, когда сам язык права
становился абстрактным и переполненным иностранными терминами, когда рус¬
ское право начало развиваться в тесной связи с западным, обычное право кресть¬
янства стало все более замыкаться в себе и плохо ассимилировало изменения,
происходившие в законе.
Расхождению закона и обычая особенно способствовали три обстоятельства.
Во-первых, развитие с начала XVIII в. сословного суда вообще и в особенности
для представителей городского сословия, которые до той поры вместе с кресть¬
янством подчинялись одному закону и были подведомственны одному суду. Раз¬
витие суда по сословному принципу происходило в соответствии с правосозна¬
нием самого населения, включая крестьянство, которое признавало справедли¬
вым, чтобы равные судили равных.
Во-вторых, проникновению в деревню новых идей, в том числе юридических,
мешали низкий уровень грамотности и языческие верования, которые, по мне¬
нию этнографов пореформенного времени, существенно тормозили трансформа¬
цию юридических обычаев крестьянства200. Суеверия и предрассудки формиро¬
вали мотивы и составы таких преступлений, которые в пореформенное время
105
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
являлись анахронизмом. До 1870-х гг. в некоторых местностях, например в Мин¬
ской губернии, случались человеческие жертвоприношения во время эпидемии
холеры; повсеместно избивались колдуны, несмотря на то что крестьяне их боя¬
лись, иногда для того, чтобы взять от колдуна кровь и с помощью ее избавиться
от его влияния; практиковалось разрывание могил для получения талисманов из
вещей или внутренних органов покойников, с помощью которых пытались спа¬
сти посевы от засухи, а человека — от влияния нечистой силы; больные венери¬
ческими болезнями насиловали невинных девушек, чтобы избавиться от болезни,
а больные лихорадкой с той же целью занимались скотоложством; крестьяне со¬
вершали кражи в убеждении, что украденная вещь принесет в их дом счастье,
или приносили ложные клятвы по совету знахаря и из-за суеверного взгляда на
присягу и т. д.201
В-третьих, коронная администрация долгое время была заинтересована в пра¬
вовой обособленности крестьянства от остальных сословий, надеясь таким обра¬
зом предохранить крестьян от влияния города и сохранить общественный поря¬
док в деревне с помощью институтов обычного права, таких как передельная
община, круговая порука и т. д. После эмансипации 1861 г. правительство с теми
же целями проводило прежнюю политику правовой обособленности крестьянст¬
ва, не сознавая всей глубины опасности, к которой такое обособление в конце
концов приведет202. Вот характерный пример. В 1889 г., во время преобразования
волостного суда, правительство намеренно оставило его в великорусских, укра¬
инских и белорусских губерниях как исключительно крестьянский суд, и лишь
в Прибалтийских губерниях он был введен в общую систему судоустройства
и права, тем самым там была ликвидирована всякая обособленность крестьянско¬
го суда203.
Только в начале XX в. опасность была осознана, и тогда было решено очи¬
стить обычное право и действующее законодательство от наиболее устаревших
юридических норм, превратить крестьян в реальных субъектов гражданского
права, освободив их от опеки общины и завершив формирование в деревне ис¬
тинного понятия частной собственности. В ходе реформы, начавшейся в 1906 г,
и продолжавшейся до 1917 г., крестьяне получили право, не спрашивая согласия
общины и главы семьи, поступать на службу, на работу или учиться за предела¬
ми общины. Отменялся порядок исключения крестьян из сельского общества при
поступлении их на гражданскую службу, при получении ордена или ученой сте¬
пени, при окончании курса учебного заведения или переходе в другое сословие.
Закон дал крестьянам право вступать в другие сельские общества и приобретать
там землю, не выходя из прежней общины. С 1906 г. выход из общины стал для
всех свободным, при этом за выделяющимся домохозяином оставались все те
участки общинной земли, которыми он владел со времени последнего передела
и сохранялось право пользоваться общинными угодьями. Община в месячный
срок должна была удовлетворить заявление о выходе из общины и выделить уча¬
сток земли, в противном случае это осуществлял земский начальник. Выбор ме¬
стожительства стал личным делом каждого крестьянина. Отменялись подушная
подать, круговая порука, принудительное привлечение к общественным работам,
принудительное направление недоимщиков на заработки. Крестьяне, не владев¬
106
Обычное право
шие недвижимостью, получили право обязываться векселями. Отменялся запрет
на сдачу в залог частным лицам и частным обществам надельной земли, правда
залог разрешался только под ссуды Крестьянского поземельного банка. Переход
целых обществ к отрубному владению, когда каждый крестьянин получал уча¬
сток земли в одном месте, стал возможен по решению двух третей сельского схо¬
да при общинном владении и простого большинства при подворном владении.
Власть земских начальников была существенно ограничена: они могли действо¬
вать только в рамках закона, а крестьяне не были обязаны подчиняться их реше¬
ниям. Семейные разделы стали делом каждого хозяйства. Расширились избира¬
тельные права крестьян по выборам в местные органы самоуправления, а с появ¬
лением Государственной думы они получили право посылать туда своих депута¬
тов. Судебная подведомственность крестьян волостному суду ограничивалась —
крестьяне по своему усмотрению могли обращаться в мировой или другие суды.
Таким образом, закон дал крестьянам полные и равные с другими сословиями
права, сделал их полноправными субъектами гражданско-правовых отношений.
Но в течение 1906—1915 гг. предоставленными правами воспользовалась только
третья часть крестьянства. Это говорит о том, что приоритет обычного права над
законом и приверженность к нему крестьян были серьезно подорваны, однако не
настолько, чтобы правовая обособленность крестьянства была устранена. Обыч¬
ное право имело сильные корни в деревне вплоть до 1917 г.
Таким образом, обычное право крестьян в течение XVIII—первой половины
XIX в. хотя и испытывало влияние закона204, тем не менее во многом сохранило
верность тому уголовному и гражданскому праву, которое господствовало в Рос¬
сии до XVIII в.205 В силу этого оно может служить важным источником для по¬
нимания права XII—XVII вв.206 Взятое в целом обычное право было не конгло¬
мератом разнородных элементов, а своеобразной системой права. Трудно согла¬
ситься с мнением энергичных противников общины и обычного права начала XX в.,
которые утверждали, что крестьянство после эмансипации жило в условиях пол¬
ного отсутствия права, что обычное право — это вовсе не право, а власть писарей
и старшин, которые за ведро водки могли принять на суде любое решение
в пользу того, кто поставил водку207. Отвечая на эти обвинения, один из лучших
знатоков обычного права С. В. Пахман справедливо заметил: «Нельзя себе пред¬
ставить такого общественного быта, которому бы была чужда какая-либо опре¬
деленная система юридических воззрений или правил. Недоверие и пренебреже¬
ние им могут быть оправданы только тем обстоятельством, что сведения наши по
этому предмету до последнего времени были весьма скудны»208. Нормальная
жизнь без правовых норм вообще невозможна, невозможна она была бы и в рус¬
ской деревне, если бы крестьяне не следовали вековым юридическим нормам
обычного права. Стоит подчеркнуть, что по крайне мере в области гражданского
права крестьянские нормы были санкционированы законом и имели полную
юридическую силу, были именно обычным правом, а не просто обычаем и тра¬
дицией209.
При анализе обычного права крестьянская жизнь выглядит несколько архаич¬
нее, чем это было на самом деле. Причина этого заключалась в том, что обычное
право не было записано, его носителями были живые люди — старики. Но даже
107
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.26. К. А. Савицкий (1844—1905). Беглый. 1883.
Государственная Третьяковская галерея
в 1917 г. старики — люди в возрасте 60—70 лет и старше — родились в 1847—
1857 гг., при крепостном режиме, и, естественно, были привержены тем нормам
обычного права, которые тогда господствовали. Но жизнь шла вперед, обгоняя
нормы обычного права, поэтому реальность подверглась большим изменениям,
чем это может показаться из анализа этих норм. Закон постепенно проникал
в крестьянскую среду. Автор бестселлера о крестьянской жизни 1880-х гг.
Н. М. Астырев, 3 года проработавший волостным писарем, чутко отметил:
«Волостной суд представляется мне в образе человека, сидящего на двух
стульях, которые постоянно раздвигаются под ним в разные стороны. Эти сту¬
лья — закон и обычай»210.
В современной историографии уделяется заметное внимание обычному праву
и крестьянской юстиции. Оценки деятельности волостных судов варьируют от
признания их «питомником общенациональной правовой культуры» и инстру¬
ментом интеграции крестьянства в общегражданскую жизнь211 до осуждения как
юридического пережитка и проявления «дикой стороны народной культуры»212.
Большинство специалистов, включая меня, придерживается золотой середины:
волостные суды являлись наследием далекого прошлого, но вместе с тем необхо¬
димым элементом крестьянской жизни; они имели свою нишу в правовых отно¬
шениях в деревне и модернизировались вместе с крестьянами; суды служили од¬
новременно и средством обособления крестьян от прочих классов населения,
и средством их вовлечения в общегражданскую жизнь. Самое важное — они ут¬
верждали законность (преимущественно в форме обычая, но и закона), благода¬
ря чему правовая культура глубоко проникла в деревню, а крестьяне отнюдь не
являлись правовыми нигилистами213. Как доказали юридические антропологи,
традиционные общества выработали в правовой сфере оригинальные и по-своему
108
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
совершенные концепции, адекватные условиям их существования. Негативные
оценки этих концепций являются проявлением презентизма, европоцентризма
и нигилистически-пренебрежительного отношения современных европейцев к пра¬
вовым ценностям и традициям неевропейских этносов и обществ2 .
В практике волостных судов в пореформенное время гражданских дел было
несколько меньше, чем уголовных (например, в Московской губернии в 1910 г.
47 % против 53 %); среди гражданских исков преобладали тяжбы из-за денег,
земли, товаров, а среди уголовных исков — драки, нанесение побоев, мелкие
кражи и оскорбления, защита чести и достоинства (например, в Казанской губер¬
нии 13 % от общего числа уголовных дел215). Приблизительно тот же состав дел
наблюдался в волостных судах Рязанской губернии в 1860—1880-е гг.
Если принять во внимание, что в 1897 г. на долю крестьянства приходилось
86 % населения страны и что 93 % крестьян проживали в деревне, то окажется:
государство не владело монополией на суд, расправу и применение силы. Вплоть
до 1914 г. деревня лишь на поверхностный взгляд выглядела чрезмерно регули¬
руемой, а на самом деле, по причине приверженности обычному праву (значит,
дефициту писаного официального закона) и местным волостным судам, была
недоуправляемой со стороны коронной администрации. Крестьянское само¬
управление и местное обычное право оставались центральным элементом соци¬
ального контроля. При этом обычное право имело региональные особенности.
Обычное право и волостное судопроизводство в каждой губернии наряду с об¬
щими, присущими для всех остальных местностей чертами отличались своеобра¬
зием, а в национальных окраинах и этническим колоритом, привносившим в дея¬
тельность волостных судов особенности, выражавшиеся в присущем для данной
губернии порядке формирования волостных судов, характере рассматриваемых
дел и налагаемых наказаний, в отношении к местным судам крестьянского насе¬
ления и региональной власти216.
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
Уровень преступности является важнейшим показателем состояния общества.
В стабильном, традиционном обществе, в котором население привязано к месту
жительства и своим общинам, мало развита городская жизнь, существует строгий
социальный контроль, социальная структура иерархизирована, вертикальная со¬
циальная мобильность низка, общинные связи сильно развиты и общественные
цели преобладают над личными, обычно наблюдается низкая преступность. На¬
оборот, для индустриальных и урбанизированных обществ, в которых население
социально и географически подвижно, доминируют общественные связи, сильно
развит индивидуализм, личный успех является важнейшим в системе ценностей,
население располагает большой свободой и инициативой, характерна более зна¬
чительная преступность. Но особенно высокого уровня преступность достигает
в обществах, испытывающих серьезные изменения в культурных, социальных
и политических ориентациях, в которых трансформируется господствовавшая
прежде система ценностей, где значительное число людей является маргиналами.
В свете этого представляет большой научный интерес оценка уровня преступно¬
109
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
сти и ее динамики в России за XVIII—начало XX в., тем более что данные о пре¬
ступности могут служить проверкой ряда выводов, сделанных в других главах
книги.
Преступность в исторической перспективе в России изучена слабо. Если в за-
падно- и центральноевропейских странах история преступности оформилась
в качестве самостоятельной дисциплины217, то отечественная историография
бедна исследованиями. В последней трети XIX в. и до конца 1920-х гг. россий¬
ская преступность, правда не в историческом аспекте, довольно активно изуча¬
лась отечественными учеными. С 1930-х гг. наблюдался спад интереса к пре¬
ступности218, а с конца 1980-х гг. наступил некоторый подъем, продолжающийся
до настоящего времени. Хотя фокус исследователей — состояние современной
преступности, по истории российской преступности за последние 25 лет написа¬
но работ больше, чем за предшествовавшие 70 лет, в том числе по периоду импе¬
рии219. Заметным вниманием пользуется также деятельность полиции по борьбе
с преступностью220. Больший прогресс в 1970—2000-е гг. в исследовании про¬
блемы сделала американская и немецкая русистика221. Несмотря на это, новых
статистических данных о российской преступности периода империи введено
в научный оборот мало.
Цель данного подраздела и состоит в том, чтобы дать общую картину измене¬
ния преступности лишь за XIX—начало XXI в., поскольку данные о преступно¬
сти в XVIII в. не собирались и не систематизировались222.
Историкам права хорошо известно, что понятия, относящиеся к преступности
(что такое преступление, возраст ответственности, состояние невменяемости
и др.), а также номенклатура преступлений, фиксируемых в уголовных кодексах,
со временем изменяются, параллельно и под влиянием представлений людей
о криминальном поведении. Некоторые действия, посягающие на человеческое
достоинство: клевета, оскорбления, обман, распространение слухов и др., — не
всегда наказывались в уголовном порядке. То, что понятия уголовного права
конструируются современниками и являются продуктом их артикуляции, или
дискурса, хорошо иллюстрирует следующий факт. Например, убийство Алексан¬
дра II считалось огромным большинством населения России в 1881 г. преступле¬
нием, в 1920 г. — героическим подвигом, в 2003 г. — преступлением. Ряд дея¬
ний, относимых Уголовным кодексом России 1960 г. к преступным, в Уголовном
кодексе 1997 г. таковыми не считается, и наоборот, например спекуляция, гомо¬
сексуализм и др. Корректно ли сравнивать уровни преступности в отдельные пе¬
риоды истории страны, если действовали различные уголовные кодексы, а но¬
менклатура преступлений была различной, о чем говорит динамика преступно¬
сти — об изменении числа преступлений или об изменении представлений лю¬
дей о преступлениях? Во все времена то, что регистрировалось официальными
органами власти как преступления, считалось современниками преступлениями.
Сравнивая уровни преступности в отдельные периоды, мы сравниваем то, что
считалось современниками преступлениями; соответственно динамика зарегист¬
рированных преступлений будет отражать динамику тех деяний, которые счита¬
лись преступными, т. е. динамику преступности. Следовательно, при изучении
динамики преступности нужно сравнивать число преступлений, совершенных
ПО
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
в разные годы, так как нет другого способа определения динамики преступности,
кроме сравнения числа деяний, считавшихся современники преступными в раз¬
личные периоды времени. Однако исследование преступности можно проводить
и под углом зрения изменения представлений о преступности: каковы были об¬
щественные взгляды на преступность в разные периоды, кто и как артикулировал
понятия преступления, какова была роль государства и общественности в этом
дискурсе, как взгляды современников на преступление материализовались в уго¬
ловном кодексе, чью озабоченность (предпринимателей, бюрократов, социаль¬
ных работников, газетных редакторов и т. п.) и в какой степени отражал дискурс,
какие деяния переставали считаться преступными, какие, наоборот, стали тако¬
выми считаться и почему. Для ответа на эти важные вопросы следует изучать
общественное мнение, дискурсивные практики, уголовные кодексы, проекты су¬
дебных реформ. Представляет также научный интерес знание того, сколько дея¬
ний определенного рода, например побоев, оскорблений, убийств, изнасилова¬
ний, совершалось в разные времена независимо от того, считались ли они совре¬
менниками нормальными, девиантными, делинквентными или криминальными,
поскольку распространенность побоев, оскорблений, убийств или изнасилований
отражает уровень насилия, агрессивности, социальной напряженности в общест¬
ве, независимо от того, как оценивали их современники. Наконец, заслуживает
внимания и оценка динамики за длительный период времени только того, что
считается преступлениями в данный момент, например в начале XXI в., или того,
что всегда считалось преступлениями, например убийств и грабежей.
Часть из перечисленных проблем: основные понятия уголовного и обычного
права, а также наказания, которые предусматривались за криминальное поведе¬
ние, — мы рассмотрели в предыдущих подразделах данной главы, и это дало
представление о взглядах людей на преступления в историческом развитии. Те¬
перь оценим динамику преступности, т. е. динамику числа людей, нарушавших
действовавшие уголовные кодексы.
Источники данных о преступности и методика их обработки
Данные о преступности в масштабе всей России стали собираться с 1803 г.,
после образования Министерства юстиции в 1802 г. Поступавшие из губерний
сведения систематизировались в министерстве и прилагались к ежегодному
«всеподданнейшему отчету министра юстиции». В 1834—1868 гг. отчеты мини¬
стра юстиции публиковались вместе с криминальной статистикой. За 1803—1833
и 1869—1870 гг. отчеты хранятся в РГИА, но за 1809—1824 гг. они не содержат
данных о преступности (возможно, в 1809—1818 гг. эти сведения вообще не
обобщались в министерстве). По завершении судебной реформы 1864 г. данные
о преступности ежегодно публиковались с 1872 по 1913 г. отдельно от отчета
министра в «Сводах статистических сведениях по делам уголовным», а за 1884—
1913 гг. — также в ежегоднике «Сборник статистических сведений Министерст¬
ва юстиции».
Таким образом, для криминологических исследований России в XIX—начале
XX в. существует серьезная источниковая база, но реализовать ее потенции
111
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
нелегко. Архивные источники до сих пор не разрабатывались, а из опубликован¬
ных данных за разные годы весьма трудно составить единую картину динамики
преступности по нескольким причинам. Во-первых, в течение 1803—1913 гг.
форма учета и представления данных в отчетах, сводах и сборниках неоднократ¬
но изменялась. Во-вторых, в 1860-е, 1889 и 1912 гг. система судебных учрежде¬
ний преобразовывалась, что отражалось как в учете, так и в отчетности о пре¬
ступности. В-третьих, данные за разные годы охватывали различную территорию
страны. Именно поэтому к настоящему моменту историки располагают данными
об изменении преступности за отдельные и сравнительно небольшие отрезки
времени, самый длинный из которых заключает 20 лет, 1874—1893 гг.
Однако, несмотря на сложности, получить общую картину динамики пре¬
ступности с 1803 по 1913 г., т. е. построить единый индекс преступности, мне
представляется принципиально возможным при одном условии — если не предъ¬
являть к этому индексу непомерных требований, а рассматривать его как ориен¬
тир в динамике и уровне преступности. Такое заключение покоится на двух ос¬
нованиях. Для всего изучаемого периода, и определенно для 1845—1903 гг., су¬
ществовал Уголовный кодекс, который не претерпел существенных изменений
с точки зрения понимания преступления и номенклатуры преступлений. Новый
Уголовный кодекс был подготовлен лишь в 1903 г. и начал по частям вводиться в
практику с 1904 г., но к 1917 г. так и не был полностью введен в действие. Вто¬
рое принципиальное основание состоит в том, что, хотя судебная система, судо¬
производство и процессуальное право были существенно преобразованы по су¬
дебной реформе 1864 г., официальная криминальная статистика учитывала толь¬
ко те уголовные дела, которые рассматривались общими судами, а этот круг дел
не изменился после 1864 г., и однозначно использовала такие важные для крими¬
нальной статистики понятия, как «следствие», «уголовное дело», «подсудимый»
и «осужденный». До 1864 г. криминальная статистика принимала в расчет уго¬
ловные дела, рассмотренные в судебных местах первой, уездной инстанции —
надворных судах в столицах, уездных судах, магистратах и ратушах, окружных
и городовых судах в пограничных и сибирских губерниях, в судах второй, гу¬
бернской инстанции — уголовных палатах, губернских судах Сибири, совестных
судах, а также в третьей, высшей инстанции — Сенате (уголовными департамен¬
тами и общими собраниями Сената). После 1864 г. учитывались дела, рассмот¬
ренные окружными судами, судебными палатами, мировыми судами и заменив¬
шими их в 1889 г. судебно-административными установлениями.
В литературе очень часто смешиваются понятия «преступление», «следствие»
и «уголовное дело», что ведет к недоразумениям. Чтобы избежать этого, вслед за
нашими источниками будем придерживаться следующего толкования ключевых
понятий криминальной статистики.
Преступление — это деяние, направленное против существующей в данный
момент правовой нормы и вызывающее определенные репрессивные последст¬
вия. Во все времена далеко не все преступные деяния становились известными
правоохранительным органам. Преступление, зафиксированное правоохрани¬
тельными органами, называлось в российской уголовной статистике следствием.
В современном языке этим словом называется также расследование обстоя¬
112
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
тельств, связанных с преступлением. Число следствий, или расследований, лишь
примерно соответствовало числу преступлений, зафиксированных правоохрани¬
тельными органами, и лишь приблизительно отражало уровень преступности.
Это объясняется тем, что, с одной стороны, некоторое число деяний, зафиксиро¬
ванных первоначально как преступные, после проведения розыска или по реше¬
нию суда квалифицировались как не заключающие в себе состава преступления.
С другой стороны, не все преступления, особенно мелкие, становились извест¬
ными правоохранительным органам. Значение второго фактора, занижающего
уровень преступности, всегда и везде было более существенным, вследствие чего
полицейская статистика преступности преуменьшала ее уровень, но степень за¬
нижения не поддается точной оценке. Уголовное дело — это преступление, став¬
шее предметом судебного разбирательства. Разумеется, и здесь следует прини¬
мать во внимание, что суд мог не согласиться с обвинением и не найти состава
преступления, однако доля таких дел была более или менее постоянна, благодаря
чему число уголовных дел отражало, хотя также приблизительно, число преступ¬
лений, доведенных до судебного разбирательства. Поскольку общее число со¬
вершенных преступлений никогда точно неизвестно, уровень преступности —
это скорее теоретическое понятие. То, что русская уголовная статистика называ¬
ла следствием, в сущности являлось практическим понятием преступления. Итак,
в дальнейшем преступлением будет называться известное правоохранительным
органам правонарушение, уголовным делом — дело, рассмотренное в суде, под¬
судимым — лицо, подозреваемое в совершении преступления, а осужденным —
лицо, признанное судом виновным.
Отчеты за 1803—1808 гг. содержали данные об общем числе уголовных дел,
рассмотренных всеми судами империи, подведомственными Министерству юс¬
тиции, а также о числе подсудимых и осужденных. В 1825—1870 гг. отчеты со¬
держали те же самые сведения, но порознь для судов первой, второй и третьей
(Сенат) инстанций. До судебной реформы 1864 г. все уголовные дела, за исклю¬
чением тех, которые касались лиц, находившихся на государственной или обще¬
ственной службе, по общему правилу первоначально рассматривались в судах
первой инстанции, но окончательно там решались лишь маловажные дела. По
тяжким преступлениям суды первой инстанции выносили предварительные при¬
говоры, или мнения, и направляли их в суды второй инстанции на утверждение,
или ревизию. Всего, по моим расчетам, на ревизию переходило около 40 % всех
дел, рассмотренных в судах первой инстанции, на апелляцию — до 1 %. Непо¬
средственно в суды второй инстанции поступало всего от 2 до 10 %, в среднем
около 6 % всех рассмотренных в них дел. Незначительное число дел поступало
на апелляцию или на ревизию в Сенат. Все суды посылали ежегодные отчеты
в Министерство юстиции, где поступившие сведения систематизировались по
различным признакам: по судебным инстанциям, по видам преступлений, по гу¬
берниям и т. д. — ив обработанном виде включались в ежегодный Отчет мини¬
стра юстиции. Отчет заключал в себе также общие сведения о числе уголовных
дел, подсудимых и осужденных судами первой, второй и третьей инстанций.
Именно эти данные из опубликованных отчетов и использовались исследовате¬
лями для оценки криминологической ситуации в стране. Однако они существенно
113
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
завышали уровень зафиксированной преступности: при подведении общих ито¬
гов в Министерстве юстиции механически складывали данные о числе дел, под¬
судимых и осужденных по первой и второй инстанциям, вследствие чего около
40 % дел учитывались в министерских итогах дважды. Только устранение дубли¬
рования позволяет получить более или менее точные цифры о преступности за
1803—1808 и 1825—1870 гг. Исключить двойной счет возможно, потому что
в министерских отчетах за 1825—1870 гг. по каждой судебной инстанции дела,
рассмотренные в порядке ревизии, апелляции и самостоятельно, разделялись.
Естественно, что после устранения двойного счета итоговые показатели преступ¬
ности должны уменьшиться сравнительно с министерским отчетом примерно на
40 %. Скорректированные данные более точно отражают уровень и динамику
преступности, в особенности средние за 5—10 лет.
Криминальная статистика 1872—1913 гг. дополнительно содержала данные
о преступлениях, зафиксированных следователями, т. е. о числе следствий, а све¬
дения о преступниках (возраст, сословная принадлежность, образование и т. п.)
были более полными. Главная новизна этой формы отчетности состояла в том,
что следователи, через руки которых проходили все зафиксированные преступле-
Рис. 10.27. В. Г. Филиппов, начальник С.-Петербургской сыскной полиции. 1913
114
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
ния, обязаны были до производства предварительного следствия посылать непо¬
средственно в Министерство юстиции отдельную карточку о возникшем деле,
независимо от того, задержан или не задержан преступник223. В результате этого
в России с 1872 г. возник учет преступности, известной следствию и полиции. За
более раннее время подобные данные отсутствуют. Ввиду этого для 1803—1870 гг.
встал вопрос об их реконструкции. За 5 первых лет существования новой уголов¬
ной статистики, 1872—1876 гг., около 40 % от общего числа следствий, или за¬
фиксированных преступлений, разбирались в суде224, что примерно соответство¬
вало проценту раскрываемости преступлений, разумеется, примерно, поскольку
некоторое, небольшое, число следствий закрывалось из-за отсутствия состава
преступления или недостатка информации о преступниках. Известно, что рас¬
крываемость преступлений существенно улучшается только при важных техни¬
ческих нововведениях, доступных следственным органам, или при значительном
увеличении численности стражей порядка. Ни того, ни другого в течение 1803—
1870 гг. в России не произошло. Поэтому, на мой взгляд, возможно распростра¬
нить соотношение между количеством учтенных и раскрытых преступлений
в 1872—1876 гг. на более раннее время для реконструкции числа зафиксиро¬
ванных преступлений, или следствий, за 1803—1870 гг. Данные о количестве
уголовных дел, подсудимых и осужденных за 1803—1870 гг. в подобной рекон¬
струкции не нуждаются, так как являются сопоставимыми с более поздними
данными.
Еще одна трудность при получении общей картины преступности состоит
в изменении территории, а значит, и населения, охваченного криминальным уче¬
том. Для получения сопоставимых данных число преступлений, уголовных дел,
подсудимых и осужденных за каждый год необходимо, как говорят статистики,
взвесить на численности населения, охваченного в этот год криминальным уче¬
том, о чем в источниках почти всегда имеются указания. Как считается в крими¬
нальной статистике, число преступлений на 100 тыс. человек населения служит
наиболее точной мерой уровня преступности. Следует иметь в виду, что в 1803—
1870 гг. криминальный учет охватывал Россию без Польши и Финляндии,
в 1872—1883 гг. — около 75 % населения Европейской России, затем учет по¬
степенно распространялся на остальную территорию, и к 1907 г. в Министерство
юстиции стали поступать данные со всей империи, исключая Финляндию. В раз¬
ных регионах уровень преступности несколько отличался, но 75-процентная вы¬
борка давала достаточно репрезентативные сведения для всей России без Фин¬
ляндии.
Необходимо отметить, что ни до, ни после судебной реформы 1864 г. Мини¬
стерство юстиции не контролировало деятельность местных сельских судов
и полицейских чиновников как в городе, так и в деревне и не учитывало мелкие
уголовные дела (мелкие кражи, пьянство, легкие побои и др.), рассмотренные
ими. В 1841 г. в государственной деревне, в 1864 г. повсеместно сельские суды
были преобразованы в волостные суды. К компетенции сельских судов, как уже
указывалось, относились мелкие уголовные проступки крестьян, проживавших
в деревне, по нормам обычного права225. До отмены крепостного права деятель¬
ность сельских судов помещичьих крестьян была подведомственна помещикам,
115
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
государственных крестьян — Департаменту государственных имуществ (с 1837 г. —
Министерству государственных имуществ), удельных крестьян — Удельному
ведомству, а после 1864 г. все сельские суды контролировались Министерством
внутренних дел. Сельские суды рассматривали большее число дел, чем общие
суды. Например, в 1844 г. через сельские суды государственных крестьян про¬
шло 53,1 тыс. дел, из которых только 558, или 1 %, были переданы в общие суды.
Всего же в общих судах было рассмотрено около 22 тыс. уголовных дел государ¬
ственных крестьян, привлечено к суду 32,8 тыс. человек, т. е. в 2,4 раза меньше,
чем в сельских судах226. Аналогичная картина наблюдалась в пореформенное
время. В 1905 г. через волостные суды по 43 губерниям России прошло 1121 тыс.
уголовных дел, а через все общие суды — 1220 тыс. дел. Учитывая, что в 43 гу¬
берниях проживало около 65 % всего населения, общие суды рассмотрели при¬
мерно в 1,4 раза меньше дел, чем местные сельские суды22. Что же касается мел¬
ких правонарушений, относящихся к компетенции полиции, то сведения о них
пока вовсе не разработаны. Таким образом, если принять во внимание не учиты¬
ваемые Министерством юстиции мелкие правонарушения, решения по которым
принимались сельскими судами или городской и сельской полицией, то общее
число зарегистрированных преступлений следует, по-видимому, по меньшей ме¬
ре увеличить в 3—4 раза.
Однако и точность учитываемой преступности была далека от идеала. Во всех
странах и во все времена большая часть преступлений не была известна полиции
и потому не фиксировалась — неизвестная часть преступлений получила назва¬
ние латентной. Современные криминалисты на основании опросов предполага¬
ют, что фактическая преступность в несколько раз превышает зарегистрирован¬
ную228. Например, в США в 1966 г. Центр исследования общественного мнения
при Чикагском университете обследовал 10 тыс. семей, чтобы выяснить, случа¬
лось ли им быть жертвами преступлений. Оказалось, что изнасилований про¬
изошло в 3,5 раза больше, ограблений — в 2 раза, всех преступлений — в 2 раза
больше, чем было зафиксировано полицией, а в криминогенных районах — в 4 раза
больше. Но эксперты и эти данные оценили как заниженные. При обследовании
в 1946 г. жителей Нью-Йорка 99 % респондентов признались в совершении одно¬
го или более правонарушений (например, занимались воровством в магазинах),
из которых меньшая часть попала в поле зрения полиции и судов . Согласно
опросу жителей С.-Петербурга в 2000 г., 73 % жертв преступлений не обратились
в милицию, следовательно, зарегистрированная преступность занизила реальную
в 2,7 раза. Примерно такой же уровень латентной преступности наблюдается
в Вологде иЪоровичах230.
Причина недоучета преступности — нежелание пострадавших обращаться
в полицию. В 2001 г., по данным ООН, примерно 97 % жителей богатых стран
готовы сообщить правоохранительным органам о преступлении, свидетелем ко¬
торого они стали. Но лишь 38—40 % жителей в государствах со средним или
низким уровнем дохода склонны сделать то же самое. Основанием недоверия
к полиции признается ее некомпетентность, высокая коррумпированность и связь
с криминальными структурами. В США полиции доверяют около 60 % населения,
немногим более во Франции, Северной Ирландии, Швеции, Испании. В странах
116
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
бывшего СССР наибольшим доверием пользуется белорусская милиция, но и на
нее полагается лишь 20 % жителей страны231.
Таким образом, криминальная статистика по крайней мере в 3—4 раза занижа¬
ет действительный уровень преступности, ее следует считать весьма ориентиро¬
вочной, лишь более или менее правильно отражающей основные тенденции
в развитии преступности232.
Учет преступлений, подсудимых и осужденных в масштабе огромной стра¬
ны был делом чрезвычайной сложности, требовал большого аппарата сотруд¬
ников высокой квалификации, которых всегда недоставало. Вследствие этого
трудно надеяться, что российская криминальная статистика давала совершенно
точные данные. В то же время вряд ли можно согласиться и с теми, кто считает,
что «юридические цифры, взятые в массе, скорее должны считаться мерилом
полицейской деятельности, чем морального состояния населения»233. Крими¬
нальная статистика отражала как деятельность правоохранительных органов,
так и моральное состояние общества. Наименее точными были данные о коли¬
честве преступлений, большего доверия заслуживают данные о подсудимых
и наибольшей достоверностью отличаются данные об осужденных как до, так
и после 1872 г.234 Знакомство с делопроизводством и работа с самими материа¬
лами криминальной статистики показывают, что они собирались и обрабатыва¬
лись достаточно тщательно. Устранение двойного счета правонарушений могло
повлиять на уровень, но не на динамику преступности; реконструкция числа
следствий для 1803—1870 гг. затронула лишь один показатель преступности из
четырех и, следовательно, не могла оказать существенного влияния на общие
статистические итоги криминальной статистики. Все сказанное дает основание
для вывода о том, что, принимая во внимание трудность и несовершенство уче¬
та, а также использование методов реконструкции пропущенных в источниках
сведений, приводимые ниже статистические данные о преступности следует
рассматривать как ориентировочные, лишь более или менее правильно отра¬
жающие основные тенденции в развитии криминального поведения в России за
1803—1913 гг. Что же касается уровня зафиксированной преступности, то офи¬
циальная статистика Министерства юстиции достаточно правильно отражала
движение крупной преступности и занижала уровень мелкой преступности
примерно в 3—4 раза, главным образом за счет недоучета правонарушений
крестьян, проживавших в деревне.
Динамика и структура преступности
Различные показатели преступности находились в тесной связи (табл. 10.8);
об этом говорит и высокий коэффициент корреляции между числом зарегист¬
рированных преступлений, уголовных дел, подсудимых и осужденных, рав¬
ный 0,9.
Абсолютное число зафиксированных преступлений с 1803—1808 по 1911—
1913 гг. возросло почти в 12 раз, но с учетом роста населения — в 2,9 раза. В те¬
чение изучаемого времени уровень преступности изменялся: до отмены крепост¬
ного права он имел тенденцию к снижению, а после эмансипации — к повыше-
117
Динамика преступности в России в 1803—1913 гг.
1911—
1913 гг.
2888
1911
2894
1484
00
40
1719
1138
1723
883
290
о
00
535
1901—
1910 гг.
1891
1243
1939
985
142
1332
875
1365
694
225
369
424
1899—
1900 гг.
1477
1
1701
сп
чо
00
СЧ
1221
1
1406
713
206
1
437
1883—
1889 гг.
824
1
560
Г"-
04
СП
59
1397
1
949
673
236
1
295
1861—
1870 гг.
599
239
334
102
69
00
40
00
346
484
148
146
146
150
1851—
1860 гг.
320
128
221
76
62
516
206
356
123
87
Г"-
00
111
1841—
1850 гг.
321
128
193
СП
57
563
225
339
128
95
95
105
1831—
1840 гг.
315
126
172
97
СП
594
238
325
183
о
о
о
о
о
1825—
1830 гг.
326
130
173
-
50
652
260
346
222
о
о
107
1803—
1808 гг.
243
97
132
Г"-
593
Г"-
сп
сч
322
173
о
о
о
о
о
о
Показатели
Число преступле¬
ний, тыс.
Число уголовных
дел, тыс.
Число подсудимых,
тыс.
Число осужденных,
тыс.
Население, млн
Преступлений на
100 тыс. населения
Уголовных дел на
100 тыс. населения
Подсудимых на
100 тыс. населения
Осужденных на
100 тыс. населения
Индекс роста числа
преступлений
Индекс роста числа
уголовных дел
Индекс роста числа
подсудимых*
Окончание табл. 10.8
1911—
1913 гг.
о
ич
1 t
5 2
04 os
О
1899—
1900 гг.
(N
1883—
1889 гг.
04
00
СП
1 1861—
1870 гг.
40
00
1 ь
£> $
00 00
£
1841—
1850 гг.
Г"-
1831—
1840 гг.
40
О
1825—
1830 гг.
00
(N
1 t
1“
00 00
О
О
Показатели
Индекс роста числа
осужденных
«Л ^
г в
е=; 2
? j
о о
00
$ оС ^ <£> о ^
I 3 s- £
rv Т S о 2 ~
О m tr у ^
m к е J О
2 i ; с
W »г>
Т <N
^ оо
«
О
со
00
§ 3
о 00
SC
о
<и
□ т
В S ^ _
с о § ^ о
S8 Ё g “
.00 = g
i|*£s|
1 ^ W т
2 S _г °n J 2 о
.8 “ |
<D
ч
<D
е*
и
9г5S
о К
^ 40 ф
40
^ 04 и' :о!^Я
e=t е ЧО ^ ” £ а£
оо о
ь
в
>ж !
О I
Ж '
со
о ,
в ^
* |ei 2 I ^
S оВ&^Гс
Ё в 1 I Я i
S ^ VO <L> —Г m
s g. s ® 8 о© ,
s “ н p Й - S3
\v
. cd !
n M
~ R. 1' '—•
1 pC P Я
Sr>5 i
О m
_ _ У* p" sf
§ >g 't g 040
§ <7 os ■©• 2 ■-
2 so в p£ я *
И°7 ^-:
1 я
« S' a ч ^ £
^61^1 ^
та i "
O, Tf
О
О
00
О
00
О
00
8
Ж
о
3
н
о
о
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
нию. Индекс преступности в 1851—1860 гг. составлял 95% от уровня начала
XIX в., а в 1911—1913 гг. — 305 % от уровня 1851—1860 гг. В пореформенный
период преступность непрерывно возрастала, с одной остановкой в 1890-х гг. Но
ни до, ни после эмансипации преступность не изменялась линейно. Она возрас¬
тала в либеральное царствование Александра I, уменьшалась при консерватив¬
ном правлении Николая I, затем вновь, весьма значительно — в 2,7 раза, возрос¬
ла в реформаторскую эпоху Александра II, затем уменьшилась при консерватив¬
ном царствовании Александра III и вновь выросла на 55 % при противоречивом
и неустойчивом правительственном курсе Николая II. Минимальный уровень
зарегистрированной преступности в России наблюдался в конце царствования
Николая I, когда он был на 13 % ниже, чем в начале XIX в., а максимальный ее
уровень — накануне Первой мировой войны — в 1913 г. Во время войны,
в 1914—1916 гг., преступность в целом по стране снизилась по сравнению
с 1911—1913 гг. примерно на 28—29 %, но с 1916 г. вновь обнаружилась тенден¬
ция к ее повышению235.
Таким образом, динамика преступности имела явно циклический характер.
Как явствуют различные показатели преступности, чем жестче был импера¬
тор, чем консервативнее царствование, чем тверже проводилась внутренняя
политика, тем ниже была преступность, и наоборот, чем мягче был император
и либеральнее правительственный курс, тем преступность была выше. Что
лежит в основе зависимости преступности от курса внутренней политики?
Консервативная политика, как правило, сопровождалась не только усилением
репрессий против нарушителей закона, но и повышением контроля за поведе¬
нием подданных со стороны государства и корпораций (сельской общины,
мещанского и купеческого обществ, цеха и т. п.), в состав которых входил
человек, что оставляло меньше места для бесконтрольных и безнаказанных
проступков и вследствие этого сдерживало проявления всех видов отклоняю¬
щегося поведения, в том числе и криминального. Напротив, ослабление кон¬
троля и соответственно увеличение вероятности остаться безнаказанным при
совершении правонарушения провоцировали сдерживаемые импульсы к на¬
рушению законного, т. е. общепринятого и традиционного, общественного
порядка. Поскольку либеральные и консервативные правительственные кур¬
сы, как правило, чередовались, это, вероятно, и порождало цикличность в ди¬
намике преступности, которую мы наблюдали в течение всего XIX в., вплоть
до царствования Александра III. Николай II нарушил логику чередования ли¬
беральных и консервативных царствований. При нем и нарушилась циклич¬
ность колебаний цреступности.
Число уголовных дел, рассмотренных в судах, за 1861—1913 гг. в абсо¬
лютных цифрах возросло в 8 раз, а на 100 тыс. населения — в 3,3 раза, в то
время как число зарегистрированных преступлений в существенно меньшей
степени — соответственно в 4,8 и 2 раза. Это свидетельствует о том, что
доля раскрытых преступлений повысилась с 40 % (239 : 599 х 100 х 40) в
1860-е гг. до 66 % (1908 : 2888 х 100 х 66) в 1913 г. Увеличению раскрывае¬
мости преступлений в пореформенный период, по-видимому, способствова¬
ли применение дактилоскопии, фотографии, появление современных средств
120
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
информации, рост профессионализма детективов и усовершенствование сис¬
темы сыска236.
Число подсудимых в абсолютных и относительных цифрах до конца XIX в. по
отдельным царствованиям и в целом изменялось синхронно с числом уголовных
дел. Но с начала XX в. число подсудимых стало увеличиваться быстрее, чем число
уголовных дел, в результате чего к 1911—1913 гг. сравнительно с 1803—1808 гг.
индекс подсудимых составил 535, а индекс уголовных дел — 479. Причина в том,
что в начале XX в. становилось больше преступных с точки зрения действовав¬
шего закона деяний, в которые вовлекалось значительное число лиц, таких как
запрещаемые до 1905 г. антиправительственные манифестации, забастовки,
а также религиозные преступления. Занимая в общей криминальной статистике
относительно скромное место сравнительно с другими преступлениями, но будучи
массовыми, они и обусловили увеличение числа подсудимых. Это говорит о том,
что политизация общественной жизни при отсутствии или ущемлении граждан¬
ских прав служила важнейшим фактором возрастания случаев массового противо¬
правного поведения. В целом для пореформенного периода характерно уменьше¬
ние доли коллективных преступлений с 49 % в 1874 г. до 36 % в 1913 г., что, воз¬
можно, свидетельствует о развитии индивидуализма среди профессиональных
Рис. 10.28. Чиновник особых поручений (филер) Московского охранного отделения,
посылаемый на задание (на воровские торжества). 1903
121
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
преступников, которые долгое время строили свои отношения на общинных ос¬
нованиях не только в тюрьме, но и на воле237.
Число осужденных изменялось также в основном параллельно с другими показа¬
телями преступности. Минимальный уровень количества осужденных на 100 тыс.
населения наблюдался в 1840—начале 1850-х гг., а максимальный — в 1911—
1913 гг. Отметим, что число осужденных было постоянно меньше числа престу¬
плений и подсудимых. Это указывает на то, что процент оправданных имел тен¬
денцию увеличиваться. Если после судебной реформы 1864 г. большой процент
оправданных можно объяснить либеральными настроениями, господствовавши¬
ми в обществе и соответственно в суде присяжных, то как объяснить еще более
низкий процент осужденных и, значит, более высокий процент оправданных до
эмансипации? В 1803—1860 гг. было оправдано до 52 % подсудимых. Два фак¬
тора помогают объяснить этот феномен. Во-первых, полиция до 1860-х гг. имела
склонность и широкие права арестовывать мало-мальски подозрительных в со¬
вершении преступления лиц, действуя по принципу «лучше задержать невинов¬
ного, чем упустить виновного». Правило освобождения задержанного через ко¬
роткое время, если ему не предъявлялось обвинения, не действовало. Отсюда
число преступлений было неадекватно числу задержанных, а значит, и подсуди¬
мых. Во-вторых, институт профессиональных следователей возник в России
только в 1860 г. и достиг заметного прогресса в последней трети XIX—начале
XX в., что сказывалось на раскрываемости преступлений, на возможности со¬
брать достаточно улик, чтобы доказать виновность подозреваемого. Вместе с тем
низкий процент осужденных доказывает, что судьи стремились объективно под¬
ходить к делу: при отсутствии достаточного количества улик они оправдывали
подозреваемого. Это говорит о том, что закон и правосудие, хотя и не в таком
цивилизованном виде, как на Западе, не были пустым звуком ни в дореформен¬
ной, ни в пореформенной России.
Наши представления о преступности в России значительно расширяются при
раздельном анализе данных о крупной и мелкой преступности (табл. 10.9, 10.10).
По закону вынесение окончательного приговора по мелким уголовным делам
в дореформенный период входило в компетенцию судов первой инстанции, а в
пореформенный период — мировых судов (в 1864—1889 гг.) и равных им судов
(в 1889—1912 гг.); вынесение окончательных приговоров по крупным уголовным
делам являлось в дореформенный период прерогативой судов второй инстанции,
а в пореформенный период — окружных судов и уголовных палат. В соответст¬
вии с тем, в каком суде принималось окончательное решение по правонарушени¬
ям, и произведена их классификация на крупные и мелкие. Принятый критерий
не позволяет протеста классификацию преступлений абсолютно точно. Сущест¬
вовали некоторые изъятия и отклонения от правила: например, до 1864 г. все
уголовные дела, которые касались лиц, находившихся на государственной или
общественной службе, начинались сразу в судах второй инстанции. После 1864 г.
некоторые мелкие уголовные дела рассматривались в окружном суде без при¬
сяжных заседателей или уголовном суде без сословных заседателей. Несмотря на
приблизительность разделения всех уголовных дел на крупные и мелкие по ука¬
занному критерию, оно все же помогает углубить наше понимание динамики
122
Динамика крупной преступности в России в 1803—1913 гг.
1911—
1913 гг.
968
476
435
178
1 168 |
576
283
259
106
278
341
СП
г-
<ч
259
1901—
1910 гг.
577
254
226
135
1 142 |
406
179
159
95
196
216
167
232
1891—
1900 гг.
268
134
94
1 94 |
285
122
143
о
о
138
147
244
1881—
1890 гг.
148
75
96
67
1 59 |
251
127
163
Tf
<ч
153
172
278
1872—
1880 гг.
147
£
79
Tf
1 52 |
283
137
152
79
137
165
160
193
1861—
1870 гг.
00
00
75
102
1 69 |
272
109
148
59
132
СП
156
144
1851—
1860 гг.
128
40
СП
1 62 |
206
82
187
50
о
о
66
197
122
1841—
1850 гг.
120
48
106
35
1 57 |
<ч
84
186
40
102
о
196
149
1831—
1840 гг.
о
44
101
48
1 53 |
00
о
<ч
83
2
O'
о
о
о
о
201
222
1825—
1830 гг.
СП
45
102
55
1 50 |
226
06
204
о
109
108
215
268
1803—
1808 гг.
00
34
39
г-
Tf
207
СП
ОО
95
Tf
о
о
о
о
о
о
о
о
Показатели
Число преступле¬
ний, тыс.
Число уголовных
дел, тыс.
Число подсудимых,
тыс.
Число осужденных,
тыс.
| Население, млн
Преступлений на
100 тыс. населения
Уголовных дел на
100 тыс. населения
Подсудимых на
100 тыс. населения
Осужденных на
100 тыс. населения
Индекс роста числа
преступлений*
Индекс роста числа
уголовных дел
Индекс роста числа
подсудимых*
Индекс роста числа
осужденных*
Источники указаны в примем, к табл. 10.8.
Динамика мелкой преступности в России в 1803—1913 гг.
о
с>
о
а*
а
Tf
00
о 2
ON ON
40
ON
40
££ °
S3 о
00 «л
00 gg
3 2
00 £
00
т
(N
00 00
Tf
(N
О
Tf
00 00
о
г-
I «-
т ос
О О
00 00
Tf
00
о
*9
S
о.
с
X
5
S3
я
*
о
с
о
3
н
о
о
Л
X
5
п
X
3
X
со
о
§
о
о
00
о
00
о
00
о
о
Л
X
тыс. населения,
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
преступности. В криминальной статистике принято считать, что данные о тяжких
преступлениях точнее отражают общую динамику преступности, чем данные
о мелких преступлениях, по трем причинам. Во-первых, номенклатура крупных
преступлений изменяется значительно медленнее во времени сравнительно с но¬
менклатурой мелких преступлений. Во-вторых, тяжкие преступления практиче¬
ски всегда противоречили общественному правосознанию и вызывали репрес¬
сивную общественную реакцию во всех слоях общества, в то время как мелкие
правонарушения в определенной социальной среде могли не рассматриваться как
преступления, что находилось в противоречии с законом, но в полном согласии
с обычаями. Например, в крестьянской и мещанской среде такие деяния, как мел¬
кие кражи, оскорбления, побои и др., согласно обычному праву, долгое время не
считались преступлениями, не сопровождались иском в суд и потому не привле¬
кали внимания правоохранительных органов. В-третьих, со временем к преступ¬
ным деяниям уголовный кодекс стал относить действия, которые прежде тако¬
выми не считались, например нарушение рабочего законодательства, санитарных
законов, пьянство, хулиганство. Изменение в соответствии с законом номенкла¬
туры преступлений, а также развитие общественного правосознания, которое
все большее число деяний, прежде не считавшихся преступными, начинает
Рис. 10.29. М. А. Петров (1841—1917). Пансионерки. 1872.
Государственная Третьяковская галерея
125
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
относить к числу преступных и заслуживающих репрессии, приводят к росту
главным образом мелкой преступности. Впрочем, и некоторые деяния, считав¬
шиеся нарушением законодательства, со временем выходили из номенклатуры
преступлений. Например, курение в XVII в. преследовалось по закону;
в XVIII—первой половине XIX в. оно считалось правонарушением, если осуще¬
ствлялось на улицах и в общественных местах городов; в 1865 г. и это запреще¬
ние было отменено, что до некоторой степени способствовало распространению
этой вредной для здоровья привычки среди молодежи, считавшей курение при¬
знаком эмансипации.
В результате данные о крупной преступности показывают динамику преступ¬
ности по традиционной номенклатуре преступлений, а данные о мелкой преступ¬
ности — динамику преступности по всей номенклатуре преступлений, традици¬
онных и «новых», которые стали считаться законом, обычным правом и общест¬
венным правовым сознанием преступлениями.
Как показывают данные табл. 10.8—10.10, крупная и мелкая преступность
изменялись в целом параллельно друг с другом и достаточно согласованно с об¬
щим уровнем преступности. Минимальный уровень обоих видов преступности
наблюдался в середине XIX в., максимальный — в 1913 г. Доля раскрытия мел¬
ких правонарушений была выше, чем крупных, по крайней мере в конце XIX—
начале XX в. — 75 % против 51 % в 1911—1913 гг. Однако все показатели мел¬
кой преступности росли в 1803—1860 гг. медленнее, а 1861—1913 гг. сущест¬
венно быстрее, чем показатели крупной преступности, в результате чего в 1911—
1913 гг. индекс мелких преступлений составил 297, крупных — 278, или в 1,07
раза выше, индекс уголовных дел — соответственно 553 и 341, или в 1,62 раза
выше, индекс подсудимых — 645 и 273, или в 2,36 раза выше, индекс осужден¬
ных — 589 и 258, или в 2,28 раза выше. Следовательно, в дореформенный период
репрессия (не регистрация!) против мелких правонарушителей росла медленнее,
чем репрессия против крупных преступников, а в пореформенный период — бы¬
стрее. К 1913 г. вероятность привлечения к суду за мелкое правонарушение
в 2,36 раза превосходила вероятность привлечения к суду за крупное преступле¬
ние (не вероятность регистрации правонарушения, а именно вероятность привле¬
чения к суду). Кроме того, после эмансипации ощутимо возросла вероятность
привлечения к судебной ответственности за мелкое правонарушение: в 1850-е гг.
только 74 % (55 :74 х 100 = 74) мелких правонарушителей получали приговор,
в то время как в 1911—1913 гг. — 95 % (258 :273 х 100= 95), и вероятность
предстать перед судом в начале XX в. возросла в 1,27 раза [(74 : 81): (645 : 553) =
= 1,27]. Приведенные данные позволяют сделать два важных вывода. Рост пре¬
ступности в пореформенной России произошел главным образом (примерно на
93 %) за счет традиционных видов правонарушений и лишь на 7 % — за счет
деяний, которые закон или граждане стали считать преступными после эманси¬
пации, поскольку различие в росте крупной и мелкой преступности составило
всего 7 % (297 : 278 х 100 = 107) для всего изучаемого времени. Таким образом,
увеличение всех показателей преступности, зафиксированной Министерством
юстиции в пореформенной России, не было результатом улучшения регистрации
мелких правонарушений, а отразило действительный рост криминального пове¬
126
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
дения. Второй вывод состоит в том, что правовое сознание рядовых граждан по¬
сле реформ 1860-х гг. претерпело более важные метаморфозы, чем уголовный
кодекс, поскольку репрессия за мелкие и отчасти «новые» преступления обгоня¬
ла рост их числа, а репрессия за крупные традиционные преступления отставала
от роста их числа.
Такой рисуется динамика преступности в России за XIX—начало XX в., если
допустить, что данные о преступности за 1803—1913 гг., несмотря на судебную
реформу 1864 г., можно объединять в один динамический ряд. Если же полагать,
что судебная реформа 1864 г. разделила дореформенную и пореформенную эпо¬
хи на два несопоставимых с точки зрения уголовного права процесса и учета
преступности периода и что данные о преступности за 1803—1913 гг. следует
разделить на два динамических ряда: 1803—1860 и 1865—1913 гт., то все равно
сделанные наблюдения не теряют силы, а лишь корректируются. Годы изменения
тенденции в динамике преступности и колебания уровня преступности по деся¬
тилетиям и царствованиям, исключая царствование Александра II, остаются теми
же, корректируется лишь общее изменение преступности в пореформенное время
и соответственно за 111 лет в целом. Рассмотрим это на примере анализа числа
следствий, или зарегистрированных преступлений (см. табл. 10.8). С 1803—1808 по
1851—1860 гг. число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек на¬
селения уменьшилось в 1,05 раза, а с 1861—1870 по 1911—1913 гг. увеличилось
в 1,98 раза, следовательно, за все изучаемое время уровень зарегистрированной
преступности увеличился примерно в 1,89 раза238. Рассматривая 1803—1913 гг.
как единый динамический ряд, мы констатировали, что число зарегистрирован¬
ных преступлений за 111 лет возросло в 2,9 раза. Разница объясняется тем, что
при втором подходе рост преступности в 1860-е гг. относится на счет судебной
реформы, а не изменений в характере самой преступности. Но такое предполо¬
жение некорректно, по крайней мере в отношении крупной преступности, по¬
скольку судебная реформа могла повлиять на уровень мелкой, а не тяжкой пре¬
ступности. Число же крупных преступлений на 100 тыс. человек населения за
1803—1913 гг. увеличилось в 2,8 раза, что ближе к результатам анализа в соот¬
ветствии с первым, а не вторым подходом. Объединяя результаты обоих подхо¬
дов, можно сказать, что рост числа зарегистрированных преступлений за 111 лет
находился в интервале от 1,9 до 2,9 раза, или преступность возросла примерно
в 2—3 раза. По аналогии, за 1803—1913 гг. число уголовных дел на 100 тыс. на¬
селения увеличилось 2,2—3,8 раза, число подсудимых на 100 тыс. населения —
в 3—4,4 раза, число осужденных на 100 тыс. населения — в 4,2—5,1 раза. В це¬
лом уровень преступности за 111 лет увеличился в 3—4 раза.
Большой ценностью являются данные о структуре преступности, которые по¬
зволяют получить представление об объекте противоправных деяний и косвен¬
но — об их целях (табл. 10.11).
Самое важное изменение в структуре преступности состояло в том, что до
эмансипации преобладающее число преступлений (69 %) было направлено про¬
тив государственной собственности, против законов, ограничивающих личную
инициативу, вследствие чего они носили как бы антигосударственный характер
и официально назывались преступлениями против порядка управления. За ред-
127
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Рис. 10.30. Медицинская экспертиза: вскрытие тела Г. А. Гапона,
повешенного эсерами в Озерках. 1906
чайшими исключениями, правонарушители не имели в виду свержение сущест¬
вовавшего государственного строя и изменение общественного порядка; по-
видимому, они просто тяготились многочисленными ограничениями частной
инициативы. Сразу после отмены крепостного права доля такого рода преступ¬
лений резко упала и в 1874—1883 гг. составила всего 14% всех преступлений,
в 1909—1913 гг. —12%.
Среди «антигосударственных» и «антиобщественных» преступлений преоб¬
ладали покушения на государственную собственность, главным образом леса,
служебные преступления и нарушения многочисленных уставов. На долю пре¬
ступлений, направленных против частных лиц, приходился до эмансипации всего
31 % всех преступлений, а после — от 81 до 92 %. Особенно быстро росло число
преступлений против собственности частных лиц: в 1909—1913 гг. на их долю
приходилось 55% всех преступлений. Таким образом, после реформ 1860-х гг.
объект преступлений изменился — место общественного и государственного по¬
рядка заняли частные лица, прежде всего их собственность. Это свидетельствует
о том, что центр интересов сотен тысяч правонарушителей и, вероятно, всего на¬
селения в целом переместился с государства на личность и ее собственность.
Данные о структуре наказаний за 1834—1913 гг. дают представление об измене¬
нии тяжести судебных приговоров (табл. 10.12): доля уголовных наказаний в 1834—
1860 гг. уменьшилась на 1 %, а доля исправительных наказаний увеличилась на 1 %.
128
Число наиболее важных зафиксированных полицией преступлений в 1846—1913 гг. (в среднем в год, тыс.)
о
а*
а
1909—
1913 гг.**
55,4
CN
СП
гч"
1 14,1 |
1 22,1 I
11,7
149,2 |
32,6 |
14,4 |
44,9 |
57,3 |
245,5
73,1 |
151,2 |
21,2 |
394,7 |
450,1 |
1906—
1908 гг.**
56,2
ии
ON
гч"
СЧ
on"
13,1 1
29,5
1 134,3 |
I 35,0 |
10,8 |
©
©"
UH
38,5 |
208,7
Tf
Tf"
00
112,4 |
ON
343,0 |
399,2
1899—
1905 гг.**
23,3
Tf
гч"
гч
40"
ON
ON
3,8
1 153,8 |
1 19,8 |
Г-'
On"
68,2 |
1 56,1 |
136,0
44,8 |
82,4 |
°0
оо"
| 289,8 |
313,1
1884—
1893 гг.**
16,6
чо
1
1 4,0 |
С«
СП
7,2
1 32,3 |
гч
ин"
t 3,1 I
1 12,9 |
3
40,8
Tf"
1 23,1 |
СП
73,1 |
г-
ON
00
д
Г"» сн
00 00
— 00
13,2
<о
'
©^
гч"
СП
СП
6,9
1 22,4 |
°0
СП
с«
»п
9,3 |
57,5
1 12,3 |
1 41,9 |
СП
СП
1 79,9 |
93,1
1846—
1857 гг.*
75,6
00
40"
©
©"
1 14,4 |
47,0
ин
©"
ГЧЛ
Tf"
vo
о"
©^
Tf"
23,5
NO
1 18,6 |
1 3,3 |
1 34,0 |
109,6
Виды преступлений
Против общественного и государственного
порядка, в том числе:
| религиозные
| государственные
| служебные
| против порядка управления
против государственной собственности
и прочие
| Против личности, в том числе:
| убийства |
| сексуальные преступления |
| телесные повреждения |
| прочие |
Против собственности частных лиц,
в том числе:
| грабеж, разбой |
| кража |
| мошенничество и др. |
| Итого против частных лиц|
Всего
6 %
X §
S о
CQ 8С
сз; s
^ о
о
•: Си
ed
о.
и
ed
И
>>
ki
»»
§
ъ
о
а
В
о
X
с
5
б g
б4 9*
г- а
os g
Ч (N
гч
'«t
2 гч
: р
О
£
и
S3 &
s on
2 оо
J3
о.
Л 00
go
« Ю
s л
* н
о
§ б
.§■1
* 5.
а (_
к и
c^^t
^ On
* •* 00
гч ~
* СО
■JQ
X
cd
c3
*
u
x
ar
о
* I
Л
ГЧ
X
о
</S
о
Ti¬
ed ON
W о
«
e
<
s
и
Си
ON d
~ в
s °
!ss
£7
\ ON
«U r*
X 40
0.00 *g
И о
Ц ON U
«
и
О 00
X гч
S гч
О. ON
<L> —
X „
s ^
Подсудимых в палатах уголовного суда и совестном суде.
В окружных судах и судебных палатах.
Структура наказаний в России в 1834—1913 гг. (%)
о
а*
а
vS
(2
J>.
О
ON os
«П г—*
о о
ON S
ON <~>
00 o<
4
So ^
00 00
4
3 so
00 S
1 *=
s °
00 00
4
s r1’
00 00
CQ
Tf
ON
•Г)
(N
ЧО
Tf
3
ON
Tf
r-
ON
00
NO
(N
Tf
r-
Tf
s
о
X
S
<L>
а о
2 x
H *
о 5
d H
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
1
I
X
<и
X
U
сх
d
<и
о.
00
о
ч
*8
И
*
S
X
о.
с
CQ
3
X
л
а
*
X
ВТ
о
X
3
X
ю
1)
£
со
о
й
§-
0
1
О.
о
со
о
§
Б
О
о
£
о
к
3
со
о
о
X
3
X
со
о
о
S
л
1
2
X
о.
с
о
Г'
NO
00
I
<я
со
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
Более существенные изменения произошли в структуре исправительных нака¬
заний: доля более суровых наказаний (до тюремного наказания включительно)
уменьшилась на 5 %, а доля мягких наказаний (арест и др.) возросла на 6 %.
В 1860—1883 гг. происходил обратный процесс: доля уголовных наказаний воз¬
росла на 4,7 %, а доля исправительных наказаний на столько же уменьшилась.
В структуре исправительных наказаний также произошли изменения в пользу
более суровых наказаний: их доля повысилась на 17,7 %, в то время как доля мяг¬
ких наказаний уменьшилась на 22,4 %. Поскольку это важное изменение в струк¬
туре наказаний началось до судебной реформы, можно предположить, что сама
по себе реформа не была причиной этих перемен, а только их ускорила. В сле¬
дующее двадцатилетие, 1884—1904 гг., вновь наблюдалось смягчение репрессии:
доля уголовных наказаний уменьшилась на 6,3 %, а доля исправительных нака¬
заний на столько же увеличилась. В структуре исправительных наказаний также
произошли изменения в пользу более мягких приговоров. Во время революции
1905—1907 гг. суровость приговоров несколько возросла, после революции эта
тенденция продолжалась: доля уголовных наказаний поднялась к 1908—1913 гг.
на 2,2 %, а доля исправительных наказаний на столько же уменьшилась без су¬
щественных изменений в их структуре. Таким образом, применение самых тяж¬
ких наказаний, каторги и ссылки, в целом за весь изучаемый период мало изме¬
нилось и в 1908—1913 гг. находилось на уровне 1830—1850-х гг. Рост доли лиц,
приговоренных к каторге после 1904 г., находился в связи с отменой ссылки
в Сибирь. В то же время применение менее суровых, но достаточно тяжелых на¬
казаний, например длительного лишения свободы, имело тенденцию к росту:
в 1834—1860 гг. на их долю приходилось около 45 %, а в 1908—1913 гг. — 61 %
всех наказаний, доля же самых мягких наказаний уменьшилась с 47 до 31 %.
Еще более наглядное представление о тяжести судебных приговоров в начале
XX в. можно получить по данным табл. 10.13, где указаны конкретные наказа¬
ния, к которым были присуждены 363 тыс. осужденных в окружных судах и су¬
дебных палатах в 1910—1913 гг.
Таблица 10.13
Наказания, наложенные окружными судами
и судебными палатами в 1910—1913 гг.
Виды наказания
Доля, %
Уголовные с лишением всех прав
8,4
Ссылка на каторжные работы:
без срока
0,1
на срок более 10 лет
1,3
на 8—10 лет
1,1
на 6—7 лет
1,2
на срок до 6 лет
4,3
на поселение
0,4
Исправительные с лишением прав
37,35
Заключение в исправительном доме от 6 месяцев до 6 лет
0,04
131
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
Окончание табл. 10.13
Виды наказания
Доля, %
Заключение в арестантском отделении:
на 2,5 года и более
14,2
на срок до 2,5лет
16,0
Заключение в тюрьму:
на 1 год и более
3,4
на срок до 1 года
3,7
Заключение в крепость на срок до 6 месяцев
0,01
Исправительные без лишения прав
54,3
Заключение в тюрьму:
на 1 год и более
6,7
на срок до 1 года
19,5
Заключение в крепость до 1 года
1,3
Арест
15,5
Денежное взыскание, выговор, замечание
8,1
Меры, принятые в отношении лиц до 17 лет
2,1
Временные заводские работы
0,2
Исключение из службы и другие наказания
0,9
Подсчитано по: Свод сведений по делам уголовным, произведенным в [1910—1913] году.
Факторы преступности
Приведенные данные позволяют заключить, что в первые 30 лет XIX в. пре¬
ступность увеличивалась, особенно существенно возрос индекс осужденных —
на 28 %, а в следующем тридцатилетии преступность понизилась, вследствие
чего к концу 1850-х гг. три индекса преступности упали ниже уровня 1803—1808 гг.
на 5—29 % и лишь индекс подсудимых оставался на 11 % выше начального
уровня. Мне представляется, что рост преступности в царствование Александра I
может быть связан, во-первых, с многочисленными и кровопролитными войнами,
которые велись Россией, в том числе на ее территории, и которые имели следст¬
вием ослабление государственного и общественного порядка, разорение больших
территорий, вооружение населения, повышение налогов и снижение жизненного
уровня. Второй фактор роста преступности, возможно, состоял в том, что при
Александре I происходили важные реформы государственного управления (вве¬
дение министерств, переход от коллегиальной к бюрократической системе управ¬
ления, изменение функций Сената, учреждение Государственного совета и др.),
которые, как всякие реформы, приводили к временному расстройству управле¬
ния, к дисфункциям в государственной машине, ослаблявшим ее силу и эффек¬
тивность.
Снижение преступности при Николае I, по-видимому, объясняется прежде
всего ростом законности, порядка и дисциплины в государственном управлении,
в полиции и суде. Для всего царствования характерна интенсивная законотворче¬
132
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
ская деятельность императора и его правительства, направленная на то, чтобы
поставить самодержавную власть, бюрократию и жизнь всего общества в рамки
закона. Именно при Николае I, после 133 лет безуспешных попыток, в 1830—
1832 гг. был создан долгожданный кодекс законов, имевший целью поставить все
государственное управление на твердое правовое основание.
Совпадение значительного роста преступности с реформами 1860-х гг. пред¬
полагает существование связи между ними. Эта зависимость имела иногда не¬
ожиданные проявления. Так, получение населением гражданских прав, утвер¬
ждение идей законности и уважения к личности, с одной стороны, и облегчение
возможности получения судебной защиты благодаря повсеместно учрежденным
мировым судам — с другой, способствовали росту преступности. В мировые су¬
ды, введенные в практику в 1866 г. для рассмотрения мелких уголовных исков,
стали обращаться простые люди с такими обидами, на которые прежде и не по¬
мышляли жаловаться в суд, причем не столько из-за трудности найти там защиту
или из-за страха перед официальным судом, сколько потому, что часто не счита¬
ли правонарушениями такие деяния, как несправедливые наказания работодате¬
лем, мелкие обиды, оскорбления, побои. С учреждением доступного, дешевого,
быстрого на решение мирового суда все, кто прежде чувствовали себя бесправ¬
ными и молча сносили обиду и угнетение, пошли туда искать защиты, утвер¬
ждать свое достоинство и право на уважение: жены жаловались на жестокое об¬
ращение мужей, просили развода или выдачу вида на жительство отдельно от
мужей, рабочие выносили в суд трудовые споры, жаловались на несправедливое
отношение к ним предпринимателей и требовали их наказания и т. д. 9 В миро¬
вых судах по всей стране в 1884—1888 гг. рассматривалось 1036 тыс. дел в год,
в 1909—1913 гг. — 1567 тыс., что составляло около 57% всех уголовных дел
и около 90 % всех мелких уголовных дел240. Как это ни парадоксально, пробуж¬
дение чувства личности и стремление отстоять свое достоинство явились факто¬
рами роста числа мелкой преступности.
Можно предположить, что рост преступности среди молодежи и женщин
также находился, хотя бы отчасти, в связи с их борьбой за свое достоинство, с их
стремлением освободиться от контроля глав семей и мужчин. С 1834 по 1913 г.
доля несовершеннолетних среди правонарушителей возросла с 7 до 21 %, жен¬
щин — с 11 до 15%. Если принять во внимание, что в населении доля несовер¬
шеннолетних до 21 года составляла около 30 %, а женщин — 51 %, преступность
среди молодежи была ниже, чем среди взрослых, а среди женщин — ниже, чем
среди мужчин и молодежи. Молодежь чаще, чем женщины, отклонялась от об¬
щепринятых норм и активнее освобождалась от контроля старших, чем женщины
от контроля мужчин.
Второй фактор роста преступности в пореформенный период состоял в том,
что в результате Великих реформ произошло освобождение огромного количест¬
ва людей от крепостничества и ослабление государственного и корпоративного
контроля над отдельным человеком. Реформы открывали широкий простор част¬
ной инициативе и предприимчивости, расширяли рамки дозволенного и способ¬
ствовали развитию отклоняющегося поведения, в том числе в его криминальной
форме. Старания двух последних императоров усилить государственный и кор¬
133
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
поративный контроль за людьми имели лишь частичный и временный успех
в царствование Александра III, так как социальные и политические изменения,
введенные Александром II, оказались необратимыми: народ, почувствовавший
вкус свободы, не желал возвращаться в прошлое, и усилия вернуть его к старым
порядкам без материальной компенсации вызывали протест и новую волну со¬
противления, что являлось противозаконным и вело к росту преступности.
Третьим и, возможно, решающим фактором роста преступности в последней
трети XIX—начале XX в. являлось разрушение крестьянской общины и город¬
ских корпораций (мещанских и купеческих обществ, ремесленных цехов), что
вело к распадению общинных связей не только в деревне, но и в городе и к ос¬
лаблению общественного контроля за поведением человека. В пользу этого
предположения говорят данные о превосходстве городской преступности над
сельской, столичной над городской, а также более высокий уровень преступно¬
сти среди лиц наемного труда сравнительно с крестьянами-общинниками. На
долю Петербурга и Москвы в 1874 г. приходилось 6,2 % всех осужденных,
а проживало там 1,6 % всего населения Европейской России, на долю прочих
городов — 24,7 % осужденных и 8,4 % населения, на долю деревни — 65,4 %
осужденных и около 90 % населения (о месте совершения 3,8 % преступлений
нет сведений). Следовательно, криминогенность столиц (отношение доли зафик¬
сированных там преступлений к доле проживающего там населения) составляла
3,9, прочих городов — 2,9, деревни — 0,7. К 1913 г. криминогенность в Петер¬
бурге и Москве под влиянием усиления полицейских мер значительно уменьши¬
лась (2,5), в прочих городах изменилась несущественно (2,7), а в деревне оста¬
лась на прежнем уровне (0,7), следовательно, уступала городской в 3,6—3,9 раза.
Реформы 1860-х гг. привели к изменению ценностных ориентации и стандартов
поведения у значительной части населения, а конфликт разных систем ценностей
способствует росту отклоняющегося поведения и преступности. Пониманию
причин роста преступности помогают данные о занятиях и профессиях правона¬
рушителей. В 1897 г. с точки зрения криминогенности представителей различных
профессий (отношение доли лиц данной профессии в общем числе осужденных
к доле лиц данной профессии во всем населении) на первом месте были рабочие
(11,2), на втором — лица свободных профессий и чиновники (2,3), на третьем —
торговцы (1,9), на четвертом — предприниматели и ремесленники (0,9), на пя¬
том— крестьяне-землепашцы (0,6)241. На долю 3,2 млн рабочих приходилось
около 30 % всех осужденных. Рабочие, подавляющее число которых по сослов¬
ной принадлежности являлись крестьянами, были в 19 раз более криминогенны¬
ми, чем крестьяне-хлебопашцы, жившие в общине. Освобожденные от контроля
общины, не привыкшие к самоконтролю, молодые люди легко давали волю аг¬
рессии, своим отрицательным эмоциям. Высокая преступность рабочих, вероятно,
объяснялась также их маргинальным статусом: оторвавшись от привычных усло¬
вий и принятых стандартов поведения в деревне, они тяжело адаптировались
к фабричной и городской жизни, из чего проистекали антиобщественный харак¬
тер их поведения и негативные психические состояния.
То, что лица свободных профессий, торговцы и предприниматели превосхо¬
дили по криминогенности крестьян, как мне кажется, свидетельствует о том, что
134
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
бедность сама по себе не оказывала решающего влияния на рост преступности
после эмансипации. В этом отношении весьма красноречивы также данные
о преступности по сословиям. С точки зрения криминогенности сословий (отно¬
шение доли представителей данного сословия в общем числе осужденных к доле
лиц данного сословия в населении), в 1858—1897 гг. первое место принадлежало
купцам (2,0), второе — мещанам и ремесленникам (1,7), третье — дворянам
и чиновникам (1,5), четвертое — крестьянам (0,9), пятое — духовенству (0,3—
0,4)242. И здесь крестьянство уступало по криминогенности всем сословиям, кро¬
ме духовенства243. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов бедность в качестве
криминогенного фактора. Например, было замечено, что во время и сразу после
неурожаев существенно увеличивалось число преступлений против собственно¬
сти244. Однако в 1796—1914 гг. уровень жизни в стране, в том числе среди кре¬
стьянства, в пореформенное период повышался. Несмотря на это величина пре¬
ступности колебалась от десятилетия к десятилетию, а после Великих реформ
быстро росла.
Бедность, будучи постоянно действующим фактором криминогенности, не
может объяснить тенденции в изменении преступности. В первой половине XIX в.
было достаточно бедных и много богатых, а уровень преступности снижался.
После эмансипации влияние материального фактора на преступность увеличи¬
лось, вероятно, в другом смысле. Не бедность, а стремление разбогатеть любыми
способами, не исключая и криминальных, часто служило мотивом преступления.
Повышение роли богатства в системе ценностей, возможность через богатство
сразу и радикально изменить свою жизнь к лучшему вводили многих людей
Рис. 10.31. Тело убитого Г. Е. Распутина. 1916
135
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
среднего достатка в искушение. Начальник петербургской сыскной полиции
в 1866—1889 гг. И. Д. Путилин заметил: «Сколько по тюрьмам и острогам сидит
людей, сделавшихся преступниками случайно, и сколько ходит на свободе с гор¬
до поднятой головой “честных” людей, честных только потому, что им не пред¬
ставился ни разу случай искушения! Из ста этих честных поставьте в возмож¬
ность взять взятку, ограбить кассу, совершить растрату, и — ручаюсь — 98 из
них постараются не упустить этой возможности. Скажу более, многие из 100 не
воздержатся при благоприятных условиях даже... от убийства»245.
В дореформенной России уровень преступности был низким сравнительно
с другими европейскими странами и мало изменялся по отдельным десятилети¬
ям. Низшей точки зарегистрированная преступность достигла в 1850-е гг., выс¬
шей — в 1825—1830 гг. — соответственно 562 и 650 преступлений на 100 тыс.
населения, что было примерно в 4 раза ниже, чем во Франции, в 7,6 раз ниже,
чем в Англии246. После проведения в 1860-е гг. демократических преобразований
в обществе преступность стала расти и в 1911—1913 гг. примерно в 3,4 раза пре¬
высила уровень 1850-х гг. под влиянием причин, уже обсуждавшихся: 1) пробу¬
ждения чувства личности; 2) учреждения доступного, дешевого, быстрого на ре¬
шение мирового суда; 3) раскрепощения человека и создания возможностей для
социальной мобильности, для прояв¬
ления инициативы и предприимчиво¬
сти; распадения общинных связей;
4) изменения ценностных ориентации
и стандартов поведения.
В конце XIX—начале XX в. уровни
преступности в России и западноевро¬
пейских странах, где мелкая преступ¬
ность росла медленнее, а тяжкая даже
уменьшалась, выравнялись: в 1900—
1913 гг. по уровню преступности Рос¬
сия уступала Англии примерно в 1,2
раза, Франции — в 1,9, Германии —
в 2,4 раза247. Замедление темпов роста
преступности в западноевропейских
странах на рубеже XIX—XX вв. после
ее скачка в начале индустриальной
эпохи позволяет предположить: уве¬
личение преступности по мере ослаб¬
ления социальной напряженности, ут¬
верждения во всех слоях общества
единых стандартов поведения и прин¬
ципиально общей системы ценностей
может быть приостановлено. Вместе
с тем в России и на Западе наблюда¬
лись общие тенденции в развитии пре¬
ступности: ее профессионализация,
Рис. 10.32. Софья Ивановна (Шейндля-Сура
Лейбовна) Блювштейн (в девичестве
Соломониак), известная под прозвищем
«Сонька Золотая Ручка» (1846—1902) —
легендарная популярная российская
преступница-авантюристка. 1860-е
136
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
Рис. 10.33. Заковка «Соньки Золотой Ручки» в кандалы. После 1888
устойчивый рост организованной преступности и рецидива, быстрое проникно¬
вение в деревню, значительное омоложение и феминизация248.
Преступность за три столетия: социальная патология
или прыжок в будущее?
Сведя в одну краткую таблицу данные о преступности за 200 лет, обнаружи¬
ваем прямые параллели между XIX и XX вв. (табл. 10.14 и рис. 10.34).
Первая мировая война, две революции и Гражданская война ослабили госу¬
дарственную машину, расшатали общественный порядок, привели к падению
жизненного уровня, изменили систему ценностей у многих людей. Однако это
провело к огромному росту преступности не во время войны, а после ее оконча¬
ния, в 1921—1924 гг. (за 1917—1920 гг. массовых данных о преступности нет;
вероятно, они не сохранились). Во время Первой мировой войны, по крайней ме¬
ре в 1914—1916 гг., как и в годы войн XIX в., преступность понизилась, несмотря
на огромные масштабы и тяжелые последствия войны. Благодаря революции 1917 г.
и Гражданской войне, в 1917—1920 гг. в криминальный оборот были втянуты поч¬
ти все граждане и, по крайней мере, треть их прямо или косвенно от революции
пострадала249. Во второй половине 1920-х гг. по мере укрепления нового полити¬
ческого режима преступность стала снижаться. Всеобщая коллективизация и на¬
ционализация, внедрение общинных принципов жизни, насаждение принуди¬
тельного коллективизма, усиление контроля со стороны государственных
137
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения
в России в XIX—начале XXI в.
а»
а
£
2001—
2010 гг.
2245
1991—
2000 гт.
1802
1981—
1990 гг.
1099
1971—
1980 гг.
583
1961—
1970 гг.
415
1925—
1928 гг.
1009
1921—
1924 гг.**
5770
1914—
1916 гг.*
1693
1911—
1913 гг.
1719
1899—
1900 гг.
1221
1883—
1889 гг.
1397
1851—
1860 гг.
22
ir>
1 а
ОО оо
652
1803—
1808 гг.
593
s о
В
X
i *
El
Ё 5*
0 о
$ г?
1 *
Т т
о °
с с
SS ж
§ §
5 §
9 °
§ §
От От
S 5
X *
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
7000
6000
Рис. 10.34. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения
в России в XIX—начале XXI в.
и общественных организаций за поведением человека на работе и в быт в 1930—
1950-е гг. привели к существенному снижению уголовной преступности —
в 1950-е гг. преступность упала ниже уровня начала XIX в. Однако во время вой¬
ны, 1941—1945 гг., когда ослаб государственный и общественный контроль, пре¬
ступность резко возросла; если ее оценивать по числу подсудимых — в 2,5—
3 раза250. Это противоречит обычно наблюдаемому снижению преступности
в годы войны.
В 1960—1985 гг., по мере либерализации советского режима, преступность
понемногу повышалась, но когда либерализм стал государственным и общест¬
венным кредо — преступность подскочила на небывалую прежде высоту.
1985—2000 гг. отмечены также переходом к новым экономическим отношени¬
ям, возникновением безработицы и пауперизацией населения и, что очень важ¬
но, изменением системы ценностей и общественных идеалов у большинства
населения. О том, какой хаос воцарился в головах людей, особенно молодых,
красноречиво говорят результаты проведенного в 1998 г. опроса людей в воз¬
расте 18—29 лет. На вопрос «Как Вы относитесь к участию в криминальных
группировках?» 14,5 % мужчин и 9,2 % женщин ответили, что это нормальный
способ зарабатывать деньги, 28,3 % мужчин и 12,7 % женщин признались, что,
если жизнь прижмет, можно временно этим заняться. Поразительно, но факт:
5,8% юношей и 1,9% девушек в качестве самой престижной профессией на¬
звали бандита251. Феноменальные изменения в обществе, как и в эпоху Великих
реформ 1860—1870-х гг., происходили на фоне противостояния различных вет¬
вей власти, этнических конфликтов, противоборства политических партий
и движений. Заметим, что аналогичные политические, социальные и экономи¬
139
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
ческие процессы охватили все бывшие социалистические страны и везде со¬
провождались огромным ростом преступности — в некоторых восточноевро¬
пейских странах (например, Польше) рост был немного меньшим, чем в Рос¬
сии, в большинстве стран, включая бывшие республики СССР, — большим.
Например, в бывшей ГДР накануне объединения преступность была в 3 раза
ниже, чем в ФРГ, а через 10 лет практически догнала преступность в старых
федеральных землях; преступность в странах Балтии в 1985—2000 гг. возросла
в 2—2,5 раза252.
В последние 200 лет преступность в России была всегда ниже, чем в западноев¬
ропейских странах. В середине XIX в. — в 4 раза меньше, чем во Франции, и в 7,6
раза меньше, чем в Англии. К 1913 г. вследствие более быстрого роста преступ¬
ности в России различия в уровне преступности уменьшились, однако преступ¬
ность на Западе по-прежнему была выше, чем в России: в Англии примерно в 1,2
раза, Франции — в 1,9 раза, Германии — в 2,4 раза. После 1917 г. преступность
повсеместно в Европе повышалась, до 1985 г. быстрее, чем в России. В таких
благополучных странах, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, за послед¬
ние 40 лет преступность повысилась примерно в 4 раза, в России — в 5 раз, но на
Западе преступность повышалась постепенно, а в России рывком, главным обра¬
зом в последние 25 лет (1986—2010 гг.)253. В настоящее время по общему уровню
преступности Россия от других европейских стран заметно отстает — по офици¬
альным данным, примерно в 3—4 раза, на самом деле меньше. Российская стати¬
стика недоучитывает значительно большее число преступлений, чем западная,
так как российские граждане менее охотно сообщают о преступлениях, чем за¬
падные граждане. Из развитых стран только в Японии преступность примерно
равна российской, и в течение XX в. она росла там медленнее, чем на Западе.
В развивающихся странах, часто далеких от демократии, преступность, как пра¬
вило, несколько ниже, чем в России, но существенно ниже, чем в развитых, на¬
пример в 1990-е гг. — соответственно в 1,4 и в 5,7 раза ниже; причем в послед¬
ние 25 лет преступность в развивающихся странах и росла медленнее, чем в раз¬
витых (хотя не обходится без исключений, например ЮАР по уровню преступ¬
ности находится на первом месте в мире). Получается парадокс: чем демокра¬
тичнее страна, тем выше там преступность, чем дальше она от демократии — тем
ниже (табл. 10.15).
Таблица 10.15
} Коэффициенты зарегистрированной преступности
на 100 тыс. человек по различным видам преступлений в России
и в других странах мира в 2000 г.
Вид преступлений
Россия*
США*
Великобри¬
тания
Франция
Г ермания
Убийство
14,1
5,4
1,4
1,7
и
Изнасилование
4,4
89
14,2
13,9
9,1
Разбой
24,9
145,3
157,4
40,1
72,1
140
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
Продолжение табл. 10.15
Вид преступлений
Украина
Польша
Индия
ЮАР
Япония
Убийство
9,4
5,6
3,4
49,6
0,5
Изнасилование
2,4
6,2
1,4
119,5
1,8
Разбой
45,6
138,8
2,6
444,3
4,1
Источник: URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%F 1 %F2%F3%EF%ED%EE%F 1 %F2%FC_%E2_%D0
(дата обращения: 01.05.2013).
2008 г.
Если брать большие периоды времени, в России XIX—XX вв., как и всюду
в мире, наблюдался устойчивый и, как правило, необратимый рост преступности:
достигнув определенного рубежа, преступность стабилизировалась, если снижа¬
лась, то временно и незначительно. Были два исключения — царствование Нико-
лая I и сталинская эпоха, в обоих случаях преступность возвратилась к уровню
конца XVIII в. — времени расцвета крепостничества. Повышение преступности
происходило скачками — в послевоенные войны и в годы либеральных реформ
и революций она резко повышалась, а в спокойные, консервативные годы стаби¬
лизировалась или медленно росла.
Почему именно время либеральных реформ отличается особенно серьезным
повышением преступности? Из многих факторов выделим три важнейших. Во-
первых, ослабляется государственный и общественный контроль за человеком,
ему предоставляется большая свобода, инициатива и самостоятельность. Свобода
открывает шлюзы в одинаковой степени как для всего хорошего, так и для всего
плохого. Одни пользуются этим с пользой для себя и общества, другие — только
для себя, третьи тяготятся и страдают от полученной свободы. Сразу после отме¬
ны крепостного права в 1861 г. немало бывших помещичьих крестьян, испыты¬
вавших футурошок, сожалели об его отмене, потому что они не могли приспосо¬
биться к жизни в условиях личной свободы. То же наблюдалось в 1990-е гг.
В советское время государство вмешивалось в дела граждан, опекало и контро¬
лировало их, но в то же время гарантировало работу, отдых, минимальный жиз¬
ненный уровень и снимало с них много обременительных забот и решение мно¬
гих проблем. Реформы 1990-х гг. все эти заботы и проблемы переложили на са¬
мого человека, что потребовало от него огромных усилий, и не все смогли с этим
справиться — для многих воспитанных в коммунистическом духе граждан пере¬
стройка жизни и поведения в соответствии с новыми правилами стала непосиль¬
ной задачей. Как показывают социологические исследования, более двух третей
трудоспособного населения не выдержали испытания рынком254; миллионы лю¬
дей утратили прежний более престижный социальный статус, а вместе с ним
спокойствие и уверенность в будущем. Это означало, что психические и эмоцио¬
нальные нагрузки на человека и соответственно число стрессовых ситуаций воз¬
росли многократно. А стресс, как известно, часто разряжается в криминальной
форме. До 90 % насильственных преступлений совершается импульсивно и си¬
141
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
туативно на почве конфликтных отно¬
шений между людьми, чаще всего род¬
ственников и коллег255, давая выход на¬
копленным негативным эмоциям, оби¬
дам, агрессии, оскорбленному самолю¬
бию. Например, четверть всех убийств
в стране приходится на супружеские
убийства, которые в половине случаев
происходят на почве ревности, в полови¬
не — на почве борьбы за власть и само¬
утверждение в семье256. Многие жены
стали зарабатывать больше мужей, а под¬
чиняться по настоянию мужчин должны,
как прежде, когда муж был кормильцем.
Обеим сторонам горько и обидно.
Во-вторых, в периоды реформ, в со¬
ответствии с новыми требованиями
жизни правила поведения у многих лю¬
дей изменяются быстро, а законы, уста¬
навливающие рамки дозволенного, —
с опозданием. Например, до введения
в 1997 г. нового уголовного кодекса не¬
которые экономические деяния, кото¬
рые прежний уголовный кодекс считал
преступлениями, потеряли криминаль¬
ный статус. В то же время некоторые
деяния, которые прежний уголовный закон не преследовал, стали считаться
криминальными.
Наконец, реформы почти всегда сопровождаются ухудшением условий жизни
и снижением эффективности работы правоохранительных органов.
Таким образом, свобода имеет не только позитивный, но и негативный аспект.
Точно так же и у порожденной свободой преступности имеется две стороны.
Вспомним о позитивной, так как негативная очевидна. Во-первых, для опреде¬
ленной категории лиц, не нашедших себя в созидательных занятиях, преступ¬
ность служит шлюзом для проявления своих трансгрессивных наклонностей. Во-
вторых, криминальные субъекты испытывают нормативно-ценностную структу¬
ру общества на прочность, ищут в ней слабые места, трещины, противоречия,
создают угрозу общественному порядку, и, чем выше их активность, тем угроза
больше. Когда угроза становится серьезной, законопослушные люди мобилизу¬
ются: граждане и эксперты активно ищут причины роста преступности и средст¬
ва борьбы с нею, общественное мнение формулирует новый моральный кодекс,
устаревшие законы и правила поведения отменяются. Преступность, заставляя
общество быть постоянно в напряжении, в рабочем состоянии, развиваться и со¬
вершенствоваться, выполняет мобилизационную функцию, препятствует соци¬
альному окостенению. Именно это и происходит в современной России. Борьба
Рис. 10.35. Ссыльнокаторжная. 1890-е
142
Преступность в России в XIX—начале XXI в.
с преступностью становится идеей, объединяющей россиян, средством упроче¬
ния российской государственности и гражданского общества. В-третьих, пре¬
ступность указывает и возможные пути выхода из кризиса, в который она загоня¬
ет общество, как сказал Э. Дюркгейм, «преступление является лишь предчувст¬
вием морали будущего, шагом к тому, что предстоит»257. Действительно, рост так
называемой экономической преступности в 1980-е гг. указывал на то, что рыноч¬
ная экономика стала категорическим императивом для России, огромный рост
краж и грабежей в 1990-е гг. — на необходимость изменения социальной поли¬
тики государства и немедленного и существенного повышения жизненного уров¬
ня, рост коррупции в 1980—1990-е гг. — на необходимость административной
и судебной реформы и т. д.
Дюркгейм также полагал, что успешное развитие цивилизации невозможно
без свободы, которая неизбежно сопряжена с девиантным поведением, в том
числе преступного характера. В этом смысле само существование преступности
свидетельствует о наличии известного пространства свободы в обществе. «Если
преступность падает заметно ниже среднего уровня, нам не с чем поздравить се¬
бя, ибо мы можем быть уверены в том, что такой кажущийся прогресс связан
с определенной социальной дезорганизацией»258. Действительно, самый низкий
уровень преступности в России за последние 200 лет наблюдался в последние
годы сталинского режима — для многих россиян в один из самых мрачных пе¬
риодов отечественной истории, и поздравлять их с этим было бы неуместным.
Чтобы общество развивалось, чтобы существовала возможность для самовыра¬
жения и самореализации, в нем в равной степени должна существовать возмож¬
ность как для конструктивного, так и для деструктивного деяния. Не случайно,
наверное, рост преступности (деструктивного поведения) в пореформенной Рос¬
сии сопровождался экономическим подъемом, ростом изобретательства и твор¬
ческой активности (конструктивного поведения). В 1861—1900 гг. сравнительно
с 1825—1855 гг. преступность (если о ней судить по числу осужденных — наи¬
более точному показателю) возросла в 2,7 раза, но и число запатентованных изо¬
бретений — в 13,2 раза (с 17 до 224 в год)2 .
Сравнительный анализ российской криминальной статистики за 300 лет пока¬
зывает, что уровень преступности является важным показателем состояния об¬
щества. В стабильном, традиционном обществе, в котором население привязано
к месту жительства и своим общинам, мало развита городская жизнь, существует
строгий социальный контроль, социальная структура жестко иерархизирована,
вертикальная социальная мобильность низка, общинные связи сильно развиты
и общественные цели преобладают над личными, наблюдается низкая преступ¬
ность — Россия в первой половине XIX в. Наоборот, для индустриальных и ур¬
банизированных западных обществ, в которых население социально и географи¬
чески подвижно, доминируют общественные связи, сильно развит индивидуализм,
личный успех является важнейшим в системе ценностей, население располагает
большой свободой и инициативой, характерна высокая преступность. Быстрый рост
преступности наблюдается в обществе, в котором ощущается недостаток солидар¬
ности и веры в общепризнанные ценности и цели, где нормативные и нравствен¬
ные ориентиры утратили свою эффективность, где происходят серьезные
143
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
изменения в социальных и политических ценностях, правовой культуре и где
появляется значительное число маргиналов, испытывающих футурошок, — Рос¬
сия в 1861—1917 и 1985—1990-е гг. В условиях аномии неизмеримо увеличива¬
ются возможности для девиантного поведения и возрастает число людей, кото¬
рые для достижения своих целей используют противоправные средства. Таким
образом, история преступности в России дает обильный материал, подкрепляю¬
щий точку зрения Э. Дюркгейма, Р. Мертона и других социологов о росте пре¬
ступности в условиях аномии, социальной дезорганизации, напряжения
и дисфункциональности общественной системы, вследствие роста эгоистических
настроений, снижения морали, падения нравов, стирания граней между правдой
и ложью, справедливостью и беззаконием260.
Итоги: к установлению господства закона
В период империи все отрасли официального права в России развивались па¬
раллельно в направлении установления господства закона, отделения судебной
власти от административной, признания за каждым человеком, независимо от
пола, возраста и социального положения, равного права на судебную защиту.
Понятия уголовного права постоянно совершенствовались, все глубже постигая
и учитывая природу человека. Развитие гражданского права увеличивало полно¬
мочия отдельного лица в сфере гражданско-правовых сделок до предельно воз¬
можной степени. Совершенствовался процесс. На смену обвинительной модели
пришла розыскная, а она в свою очередь была заменена смешанным процессом.
Розыскной процесс при всех его недостатках был шагом вперед по сравнению
с обвинительным процессом: именно он позволил вывести тяжкие уголовные
преступления из сферы обычного права, подчинить их закону и изменить пред¬
ставление о преступлении как о частном деле в представление об антиобщест¬
венном деянии; огосударствление суда унифицировало правовые представления
и сам суд на всей территории страны и способствовало централизации государ¬
ства. Шаг за шагом изменения в праве и юстиции приводили к росту граждан¬
ских прав населения, законности в управлении, к развитию правового этоса261.
Свобода, однако, открывала двери не только самодеятельности и инициативе
в рамках закона, но и отклоняющемуся от правовых норм поведению; и чем
больше было свободы и чем быстрее увеличивались права человека, тем больше
появлялось людей, нарушающих общественные нормы. Личная свобода, полу¬
ченная в результате Великих реформ, дорого обошлась обществу — она привела
почти к четырехкратному росту преступности. В крепостническую эпоху строгий
контроль общины за поведением своих членов, их солидарность, соседский,
дружеский характер их отношений, низкая мобильность населения, с одной сто¬
роны, сдерживали людей с криминальными наклонностями, а с другой стороны,
мешали преступникам скрыться от правосудия, народного или официального.
После эмансипации общинные отношения медленно разрушались, и это не могло
не привести к росту криминального поведения. Этот вывод вполне согласуется с
мнением социологов, что наиболее важными криминогенными факторами всегда
являются деформация системы ценностей, общественных отношений, социаль¬
144
Итоги: к установлению господства закона
ных и юридических норм и дисфункция социальных институтов262. Издержки
перехода к гражданской, а с 1906 г. и к политической свободе были велики, но
они, как показывает опыт всех стран, были неизбежны.
Закон и обычное право защищали людей от преступников и поддерживали
общественный порядок. Судейский субъективизм в официальных судах находил¬
ся более или менее в рамках закона как до эмансипации, так и после. Приговоры,
как правило, соответствовали закону на протяжении всего изучаемого периода,
что дает основание для заключения, что суд был достаточно справедлив. Правда,
до эмансипации официальный суд ввиду наличия трех инстанций работал очень
медленно, что вынуждало заинтересованных лиц давать взятки, чтобы ускорить
продвижение дел. Неофициальный сельский суд работал быстро, и его пригово¬
ры соответствовали обычному праву.
До конца XVII в. все социальные группы русского общества жили в одном пра¬
вовом пространстве. Но начиная с XVIII в. по мере развития нового законодатель¬
ства город и деревня в правовом отношении стали расходиться и постепенно воз¬
ник так называемый юридический плюрализм: в пределах одного государства стали
одновременно действовать две системы права — обычное и официальное, каждая
из которых представляла собой достаточно своеобразный комплекс норм и инсти¬
тутов (не принимая во внимание того факта, что в так называемых национальных
окраинах действовали специфические системы права). Своей критической отметки
различие между ними достигло к концу XIX в. Осознав в начале XX в. опасность
крестьянской правовой обособленности, правительство решило ее ликвидировать
и восстановить единое правовое пространство. Но времени оказалось слишком
мало, и императорский режим не выдержал нагрузки в том числе и потому, что ему
не удалось включить крестьян в общий правопорядок государства. По мнению не¬
которых историков, существовавший правовой плюрализм не препятствовал инте¬
грации различных социальных групп и этносов в единое правовое государство;
стремление российских интеллектуалов к утверждению в России правового мо¬
низма объясняется ограниченностью их политического мышления. Вину за за¬
держку вовлечения крестьян в общенациональное правовое и административное
пространство они возлагают также на интеллигенцию и коронные власти, которые
не доверяли крестьянам и не хотели прислушиваться к их мнению263.
Требования помещичьей земли, недостаток патриотизма, слабое осознание
общенациональных интересов и многое другое — все это было порождено в не¬
малой степени правовой обособленностью крестьянства. Так, уже в революцию
1905—1907 гг. частично сбылось предсказание С. Ю. Витте, высказанное им
в 1903 г.: «Россия составляет в одном отношении исключение из всех стран ми¬
ра — народ систематически воспитывался в отсутствии понятия о собственности
и законности. <...> Для меня представляет огромный вопросительный знак: что
может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населени¬
ем, в среде которого не воспитано ни понятие о праве земельной собственности,
ни понятие о твердости права вообще? Какие исторические события явятся ре¬
зультатом этого? Затрудняюсь сейчас сказать, но чую, что последствия будут
очень серьезные»264. 1917 год и последовавшие за ним события подтвердили
пророчество Витте.
145
Гпава 10. Право и суд, преступление и наказание
Примечания
1 URL: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-
vovenarga
2 По истории русского права имеется
обширная библиография. Наиболее полные
и объективные общие курсы написаны до
1917 г., среди них лучшие, по моему мне¬
нию: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. СПб.; Киев, 1900 ;
Латкин В. Н. Учебник истории русского
права периода империи (XVIII и XIX ст.).
СПб., 1909; Сергеевич В. И. Лекции и ис¬
следования по древней истории русского
права. СПб., 1910. Из современных отмечу:
Развитие русского права в XV—первой
половине XVII в. / В. С. Нерсесянц (ред.).
М., 1986 ; Развитие русского права второй
половины XVII—XVIII вв. / Е. А. Скрипи-
лев (ред.). М., 1992 ; Развитие русского пра¬
ва в первой половине XIX века / Е. А. Скри-
пилев (ред.). М., 1994 ; Развитие русского
права во второй половине XIX—начале
XX века / Е. А. Скрипилев (ред.). М., 1997 ;
Российское законодательство X—XX ве¬
ков : в 9 т. / О. И. Чистяков (ред.). М.,
1984—1994. Аналитический обзор литерату¬
ры по истории права см.: Леонтович Ф. И.
История русского права. Вып. 1 : Литера¬
тура истории русского права. Варшава,
1902 ; Емельянова И. А. Историко-правовая
наука России XIX в. : методологические
и историографические очерки. Казань,
1988. Ч. 1, 2. В 1990—2000-е гг. на фоне
экстраординарного интереса к юриспру¬
денции появилось много работ по истории
права, преимущественно учебного содер¬
жания. Они вносят много нового по срав¬
нению с работами, написанными в совет¬
ское время, но мало, за редкими исклю¬
чениями, по сравнению с опубликованны¬
ми до 1918 г.
3 Давид Р. Основные правовые системы
современности: (Сравнительное право).
М., 1967 ; Пэнто Р., Гравитц М. Методы
социальных наук. М., 1972. С. 93—94;
Тарановский Ф. В. Энциклопедия права.
Берлин, 1923. С. 360—394.
4 Исаев И. А. История государства и
права России. М., 1994. С. 222. Уложение
1649 г. было первым печатным памятником
русского права. До тех пор формой опо¬
вещения населения о новых законах явля¬
лось оглашение наиболее важных из них
биричами на торговых площадях и в хра¬
мах. «Присутствующие при этом люди не
имели возможности ни вникнуть в суть
дела, ни сохранить объявленного указа
в памяти. Таким образом, единственными
законоведами и безапелляционными истол¬
кователями законов были приказные дьяки,
которые широко использовали свои знания
в корыстных целях» (Новомбергский Н. Я.
К вопросу о внешней истории Соборного
уложения 1649 г. // ИЗ. 1947. Т. 21. С. 44—45).
5 Дмитриев М. А. Главы из воспомина¬
ний моей жизни. М., 1998. С. 287—288.
6 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 299.
7 Словарь русского языка XI—XVII вв.
М., 1987. Вып. 12. С. 49; М., 1995. Вып. 20.
С. 61.
8 Момотов В. В. Формирование рус¬
ского средневекового права в IX—XIV вв.
М., 2003. С. 319—340.
9 Словарь русского языка XI—XVII вв.
М., 1981. Вып. 8. С. 249.
10 Богдановский А. М. Развитие понятий
о преступлении и наказании в русском
праве до Петра Великого. М., 1857. С. 91—
132 ; Чебышев-Дмитриев А. П. О преступ¬
ном действии по русскому допетровскому
праву. Казань, 1862. С. 239—242.
11 ПСЗ-1. Т. 5. Указ от 24 декабря 1714 г.;
Развитие русского права второй половины
XVII—XVIII вв. С. 45—46.
12 Таганцев И. С. Русское уголовное пра¬
во : лекции. Часть общая : в 2 т. М., 1994.
Т. 1 .С. 33.
13 Липинский Г. К истории уголовного
права XVIII в. // Журнал гражданского
и уголовного права. 1885. Кн. 10. С. 10.
14 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 33.
146
Примечания
15 Развитие русского права в XV—пер¬
вой половине XVII в. С. 165.
16 Словарь русского языка XI—XVII вв.
М., 1979. Вып.6. С. 117.
17 Соборное Уложение 1649 года: текст;
комментарии / А. Г. Маньков (ред.). Л.,
1987. С. 20—21, 145—155.
18 Российское законодательство X—
XX веков. Т. 4 : Артикул воинский 1715 г. /
А. Г. Маньков (ред.). М., 1986. С. 331,
350—352, 363; Плакат о сборе подушном
1724 г. С. 208.
19 Законодательные акты Петра I /
Н. А. Воскресенский (ред.). М.; Л., 1945.
Т. 1 : Генеральный регламент или Устав, по
которому государственные коллегии посту¬
пить имеют, 1720 г. С. 513; ПСЗ-I. Т. 6.
Указ от 27 апреля 1722 г. о должности
генерал-прокурора.
20 Веретенников В. И. Тайная канцеля¬
рия петровского времени. Харьков, 1910;
Семевский М. И. Слово и дело!, 1700—
1725 : Тайная канцелярия при Петре Ве¬
ликом. СПб., 1884; Телъберг Г. Г. Очерки
политического суда и политических прес¬
туплений в Московском государстве XVII
века. М., 1912.
21 Указом 1762 г. от доносчика требо¬
вались доказательства, а при их отсутствии
он подвергался аресту на два дня, оставаясь
без пищи и питья; если после этого он
продолжал настаивать на доносе, то его
показания принимались во внимание: ПСЗ-1.
Т. 15. Указ от 21 февраля 1762 г.
22 Российское законодательство X—XX
веков. Т. 6 : Общее учреждение минис¬
терств. § 279 и 376. С. 122.
23 Там же. С. 266, 282, 286—287, 297—
298, 309.
24 Там же. Т. 9. С. 317—319.
25 Соборное Уложение 1649 года...
С. 118—119.
26 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 79.
27 Там же. С. 143.
28 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 329—330.
29 Аничков Е. В. Язычество в Древней
Руси. СПб., 1914. С. 3; Власов В. Г.
Христианизация русских крестьян // СЭ.
1988. №3. С. 3—15.
30 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 320, 325—326 ;
Пашкин В. Н. Учебник истории русского
права... С. 491.
31 Российское законодательство X—XX
веков. Т. 1 : Русская правда пространной
редакции / В. Л. Янин (ред.). М., 1984.
Ст. 1,2 40,65,89.
32 Маньков А. Г. Уложение 1649 г.:
Кодекс феодального права России. Л.,
1980. С. 199.
33 ПСЗ-Н.Т. 42. №44402.
34 Кошко А. Ф. Очерки уголовного мира
царской России : Воспоминания бывшего
начальника Московской сыскной полиции
и заведующего всем уголовным розыском
империи : в 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 151, 171;
Т. 2. С. 37.
35 Суворов Н. С. Учебник церковного
права. М., 1902. С. 275—282.
36 Развитие русского права второй
половины XVII—XVIII вв. С. 158.
37 ПСЗ-I. Т. 11. №8601.
38 Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка : в 4 т. М., 1955. Т. 2.
С. 332 ; Словарь русского языка XI—XVII вв.
М., 1982. Вып. 9. С. 183—185.
39 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 90.
40 Бассевич Г. Ф. Записки // Русский
архив. 1865. Т. 3. Стб. 569.
41 Таганцев Н С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 90.
42 Пахман С. В. Обычное гражданское
право в России : юрид. очерки : в 2 т. СПб.,
1879. Т.2.С. 369.
43 Развитие русского права второй
половины XVII—XVIII вв. С. 160—161.
44 Справочник невропатолога и психи¬
атра / А. В. Снежневский (ред.). М., 1968.
С. 427.
45 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 146—148.
46 Российское законодательство X—XX
веков. Т. 4. С. 355.
47 Таганцев Н. С Русское уголовное
право. Т. 1. С. 170—172; Синова И. В.
А1
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
Исторический дискурс преступлений и на¬
казаний детей и подростков в России во
второй половине XIX—начале XX в. //
Клио. 2013. №3. С. 64—67.
48 Российское законодательство X—XX
веков. Т. 1. С. 64—73.
49 Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. состояло из Об¬
щей части, включавшей 189 статей, где
давались понятия о преступлении, прос¬
тупках, вине, наказаниях и других общих
вопросах, и Особенной части, включавшей
2035 статей, где рассматривались отдель¬
ные составы преступлений по 150 направ¬
лениям: Российское законодательство X—
XX веков. Т. 6. С. 160—408.
50 О наказаниях до XVIII в. см.: Рогов В. А.
Уголовные наказания и репрессии в России
середины XV—середины XVII вв. М.,
1992 ; Депп Ф. Ф. О наказаниях, сущест¬
вовавших в России до царя Алексея Ми¬
хайловича : ист.-юрид. рассуждение. СПб.,
1849 ; Сергеевский Н. Д. Наказание в рус¬
ском праве XVII века. СПб., 1887.
51 Филиппов А. Н. О наказании по за¬
конодательству Петра Великого в связи с
реформою : ист.-юрид. исслед. М., 1891. С. 8.
52 Там же. С. 277, 287.
53 На Западе вплоть до XVIII в. жес-
токость считалась необходимой и полез¬
ной: Baraz D. Medieval Cruelty : Changing
Perceptions, Late Antiquity to the Early Mod¬
em Period. Ithaca: Cornell University Press,
2003 ; Вериги Л. История преступности в
раннее новое время: сравнение Западной
Европы и России. URL: http://www.km.ru/
referats/80AF3345 А1814В87В491762914А8
F2A5 (дата обращения: 02.05.2013).
54 На этом основании некоторые иссле¬
дователи признавали существование поня¬
тия давности в 3 древнерусском праве:
Яневич-Яневский К. Об уголовной давности //
Юридические записки, изд. П. Г. Редки-
ным.М., 1862. Т. 5. С. 1—128.
55 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 2. С. 339—358.
56СЗРИ. 1845. Т. 15, ч. 1 : Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных.
Гл. 2. Ст. 18—61 ; Уголовное уложение,
высоч. утвержденное 22 марта 1903 г.
СПб., 1903. Гл. 1. Ст. 15—38. По истории
уголовного права имеется обширная
литература кроме уже указанной см.:
Горегляд О. Опыт начертания российского
уголовного права. СПб., 1815 ; Есипов В. В.
Очерк русского уголовного права: Часть
общая: Преступление и преступники.
Наказание и наказуемые. М., 1904;
Линовский В. А. Исследование начал
уголовного права, изложенные в Уложении
царя Алексея Михайловича. Одесса, 1847 ;
Лохвщкий А. В. Курс русского уголовного
права. СПб., 1871 ; Огиерович Б. С. Очерки
по истории русской уголовно-правовой
мысли. Вторая половина XVIII—первая
четверть XIX в. М., 1946 ; Сергеевский Н. Д
Русское уголовное право: Часть общая.
Пг., 1915 ; Солодкин И. И. Очерки по
истории уголовного права. Первая четверть
XIX в. Л., 1961.
57 Россия, 1913 год: стат.-док. справ. /
А. М. Анфимов, А. П. Карелин (ред.). СПб.,
1995. С. 400. О смертной казни см.:
Викторский С. И. История смертной казни
в России и современное ее состояние. М.,
1912; Гернет М. Н. Смертная казнь. М.,
1913 ; Кистяковский А. Ф. Исследование
о смертной казни. СПб., 1896; Сергеев¬
ский Н. Д. Смертная казнь в России в XVII
и первой половине XVIII века // Журнал
гражданского и уголовного права. 1884.
Кн. 9. С. 1—56. См. также: Жильцов С. В.
Смертная казнь в истории России. М., 2002.
58 О телесных наказаниях см.: Голъден-
берг И. Реформа телесных наказаний. СПб.,
1913 ; Евреинов И. Н. История телесных
наказаний в России. СПб., 1913. Т. 1 ;
Жбанков Д. И., Яковенко Вл. И. Телесные
наказания в России в настоящее время. М.,
1899; Ступин М. История телесных
наказаний в России от Судебников до
настоящего времени. Владикавказ, 1887;
Тимофеев А. Г. История телесных наказа¬
ний в русском праве. СПб., 1904.
59 Отчет министра юстиции за [1834—
I860] год. СПб., [1835—1861].
60РГИА. Ф. 1263 (Комитет министров).
On. 1. Д. 223. Л. 224—227.
148
Примечания
61 Таганцев Я С Русское уголовное
право. Т. 2. С. 112—113.
62 Свод статистических сведений по де¬
лам уголовным, произведенным в [1896—
1900] году. СПб., [1900—1903] (далее —
Свод сведений по делам уголовным).
63 Ссылка и каторга в Сибири (XVI11—
начало XX в.) / Л. М. Горюшкин (ред.).
Новосибирск, 1975 ; Ссылка и обществен¬
но-политическая жизнь в Сибири, XVIII—
начало XX в. / Л. М. Горюшкин (ред.).
Новосибирск, 1978 ; Марголис А. Д. Тюрь¬
ма и ссылка в императорской России:
исслед. и архивные находки. М., 1995 ;
Подосенов О. Я. Каторга и ссылка в России
в XVI—первой половине XIX в. : автореф.
дис. ... канд. ист. наук. М., 1971.
64 Ссылка в Сибирь: Очерк ее истории
и современного положения : (Для Комис¬
сии о мероприятиях по отмене ссылки) /
А. П. Саломон (ред.). СПб., 1900. Прил. 1—3.
См. также: Марголис А. Д. Тюрьма и ссыл¬
ка... С. 29—44.
65 Шаляпин С. О. Церковно-пенитен¬
циарная система в России XV—XVIII
веков. Архангельск, 2013. С. 236—237.
66 РГИА. Ф. 1329 (Именные указы и вы¬
сочайшие повеления Сенату). Оп. 4. Д. 115.
Л. 1—35 ; Отчет Общества попечительного
о тюрьмах за [1819—1867] год. СПб.,
[1821—1869].
67 Архив СПбИИ РАН. Ф. 36 (Воронцо¬
вы). On. 1. Д. 642. Л. 252—257 (1780-е гг.);
РГИА. Ф. 1286 (Департамент полиции
исполнительной Министерства внутренних
дел). Оп. 2. Д. 314 (1818—1826 гг.); Оп. 5.
Д. 507. Л. 1—158 (1834—1838 гг.); Ф. 1405
(Министерство юстиции). Оп. 26. Д. 336.
Л. 1—6(1828 г.).
68 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826—1834 гг.).
Д. 272. Л. 1—226.
69 РГИА. Ф. 1263. On. 1. Д. 260. Л. 524—
533.
70 РГИА. Ф. 1400 (Документы уничто¬
женных дел Сената и Министерства юс¬
тиции). On. 1 (1757—1836 гг.). Д. 171;
Ф. 1341 (Первый департамент Сената).
Оп. 11 (1810 г.). Д. 1164. Л. 1—61; Ф. 1286.
Оп. 2 (1815 г.). Д. 180. Л. 1—26; Оп. 2
(1817 г.). Д. 247. Л. 51; Оп. 2 (1820 г.).
Д. 37. Л. 1—126; Оп. 3 (1822 г.). Д. 13.
Л. 1—86; Оп. 4 (1829 г.). Д. 664. Л. 1—169;
Ф. 1287 (Хозяйственный департамент Ми¬
нистерства внутренних дел). Оп. 12 (1822 г.).
Д. 42. Л. 1—9; Ф. 1285 (Департамент го¬
сударственного хозяйства Министерства
внутренних дел). Оп. 8 (1827 г.). Д. 2808.
71 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2 (1820 г.). Д. 143.
Л. 1—11; Ф. 1263. On. 1 (1822 г.). Д. 291.
72 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2 (1817—1820 гг.).
Д. 277. Л. 1—48.
73 Таганцев Я С. Русское уголовное
право. Т. 2. С. 99—274.
74 РГИА. Ф. 1286. Оп. 26 (1865—1866 гг.).
Д. 217. Л. 1—82; Оп. 29 (1868—1869 гг.).
Д. 637. Л. 1—90; Оп. 33 (1872—1873 гг.).
Д. 383—393; Оп. 36 (1875 г.). Д. 387, 433,
436, 518, 524, 552, 568, 586, 587.
75 РГИА. Ф. 1405. Оп. 26 (1828 г.).
Д. 336. Л. 4—9, 47—64 ; Архив РГО. Разр.
108. On. 1. Д. 22. Л. 1—12 ; Отчет министра
юстиции за [1804, 1840, 1861] год. СПб.,
[1805, 1841, 1862]; Отчет по Главному
тюремному управлению за [1879, 1885,
1900, 1913] год. СПб., [1881, 1887, 1902,
1915].
76 Юферов В. Я Материалы для
тюремной статистики России. СПб., 1873.
С. 4—5. (Зап. РГО по отд-нию статистики ;
т. 3).
77 За 1863—1864 гг. подсчитано по: Су¬
дебно-статистические сведения и сообра¬
жения о введении в действие судебных
уставов 20 ноября 1864 года (по 32 гу¬
берниям) : в 3 т. СПб., 1866 ; Отчет по
Главному тюремному управлению за
[1890—1915] год. СПб., [1892—1916].
78 Очерк развития арестантского труда
в русских тюрьмах, 1858—1888 гг. СПб.,
1890; Гогель С. К. Арестантский труд
в русских и иностранных тюрьмах. СПб.,
1897; Отчет по Главному тюремному
управлению за 1903 год. С. 112—123.
79 РГИА. Ф. 1263. On. 1. Д. 4330 (1883 г.).
Л. 161—165.
80 Новосельский С А. Обзор важнейших
данных по демографии и санитарной ста¬
тистике России. СПб., 1916. С. 53.
149
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
81 Отчет по Главному тюремному уп¬
равлению за 1915 год. Ч. 2. С. 30.
82 Отчет о состоянии народного здравия
и организации врачебной помощи в России
за [1903—1913] год. СПб., [1905—1915].
83 Обзор деятельности Главного тюрем¬
ного управления, 1879—1889. СПб., 1890;
Лучинский Н. Ф. Краткий очерк деятель¬
ности Главного тюремного управления за
первые XXXV лет его существования
(1879—1914). СПб., 1914 ; Отчет по Глав¬
ному тюремному управлению за 1903 год.
С. 142.
84 Кроме литературы, указанной в текс¬
те, использовались также: Бобынин П. П.
Записка о настоящем положении тюремной
части в империи. Б. м., 1870; Галкин-
Враской М. Н. Материалы к изучению
тюремного вопроса. СПб., 1868 ; Гайдук С. Л.
Тюремная политика и тюремное законо¬
дательство в пореформенной России. М.,
1987; Кеннан Дж. Тюрьмы в России :
очерки. СПб., 1906 ; Материалы по вопросу
о преобразовании тюремной части в Рос¬
сии : (Издано Министерством внутренних
дел по сведениям, доставленным от на¬
чальников губерний). СПб., 1865 ; Ники¬
тин В. Н. Тюрьма и ссылка: История
законодательства, административное и бы¬
товое положение заключенных, пересыль¬
ных, их детей и освобожденных из-под
стражи, со времени возникновения тюрьмы
до наших дней, 1560—1880 гг. СПб., 1880 ;
Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения.
М., 1913 ; Сведения о деятельности Глав¬
ного тюремного управления за первый год,
с 16 июня 1879 г. по 16 июня 1880. СПб.,
1880; Фойницкий И. Я. Учение о наказа¬
ниях в связи с тюрьмоведением. СПб.,
1889. См. также» библиографии: Система¬
тический алфавитный указатель неофи¬
циального отдела журнала «Тюремный
вестник» за 15 лет (1893—1907) / Н. Ф. Лу¬
чинский (сост.). СПб., 1908 ; Борисов А. В.
Карательные органы дореволюционной
России (полицейская и пенитенциарная
системы): библиогр. указ. М., 1978.
85 Таганцев Н. С. Русское уголовное
право. Т. 2. С. 79.
86 В постсоветской историографии пе¬
нитенциарная система стала предметом
изучения: Иваняков Р. К, Калиниченко К В.
Из истории псковских пенитенциарных
учреждений в XIX—начале XX в. // Новая
и новейшая история России в оценках
современников / Ю. А. Реент (ред.). Рязань,
2004. С. 39—46 ; Лямин С. К. Развитие
пенитенциарной системы в городах
Центрально-Черноземного региона во вто¬
рой половине XIX—начале XX в. // Исто¬
риография и источниковедение отечествен¬
ной истории : сб. науч. статей. Вып. 5 /
С. Г. Кащенко, Э. В. Летенкова (ред.).
СПб., 2009. С. 276—287 ; Орфинская Л. В.
Пенитенциарные преобразования в Новго¬
родской губернии в пореформенный пери¬
од // Государственная власть и общест¬
венность в истории центрального и мест¬
ного управления России / М. Ф. Фло¬
ринский (ред.). СПб., 2004. С. 80—93 ;
Реент Ю. А. История правоохранительных
органов : Полицейские и тюремные струк¬
туры России. Рязань, 2002.
87 Исаев И. А. История государства
и права России. С. 16—17.
88 Анненков К Н. Система русского
гражданского права. Т. 1 : Введение и об¬
щая часть. СПб., 1894. С. 197—240;
Герваген Л. Л. Развитие учения о юриди¬
ческом лице. СПб., 1888. С. 88—91 ;
Гражданское уложение. Кн. 1 : Положения
общие. Проект высоч. учрежденной Ре¬
дакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения. Вторая редакция.
СПб., 1905. С. 3—6.
89 Анненков К Н. Система русского
гражданского права. Т. 3 : Права обяза¬
тельственные. СПб., 1898 ; Победонос¬
цев К Я. Курс гражданского права: в 3 ч.
СПб., 1896. Ч. 3 : Договоры и обязательства.
90 Сборник статистических сведений
Министерства юстиции за 1886 г. СПб.,
1887. Вып. 2. С. 106—107 ; То же за 1913 г.
СПб., 1916. Вып. 30. С. 391—393.
91 Анненков К Н. Система русского
гражданского права. Т. 6 : Права наследст¬
венные. СПб., 1902; Победоносцев К П.
Курс гражданского права. Ч. 2: Права
150
Примечания
семейственные, наследственные и заве¬
щательные ; Руднев Л. И. О духовных заве¬
щаниях по русскому гражданскому праву
в историческом развитии. Киев, 1894;
Цитович П. П. Исходные моменты в ис¬
тории русского права наследования. Харь¬
ков, 1870.
92 Анненков К. Н. Система русского
гражданского права. Т. 2 : Права вещные.
СПб., 1895 ; Победоносцев К. П. Курс
гражданского права. Ч. 1 : Вотчинные
права; Энгельман И. Е. О приобретении
права собственности на землю по русскому
праву. СПб., 1859.
93 По мнению некоторых исследовате¬
лей, до середины XIII в. на Руси права
собственности были наиболее полны и не
подвергались ограничениям со стороны
государства, как это было в московский
период. Это мнение убедительно опро¬
вергнуто: Владимирский-Буданов М. Ф.
Обзор истории русского права. С. 517—
530.
94 Развитие русского права в XV—пер¬
вой половине XVII в. С. 130.
95 Загоскин Н. П. О праве владения
дворами в Московском государстве : ист.-
юрид. очерк. Казань, 1877. С. 1—42.
96 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 602—606.
91 Анненков К. Н. Система русского
гражданского права. Т. 5 : Права семейные
и опека. СПб., 1905 ; Григоровский С.
Сборник церковных и гражданских законов
о браке и разводах и судопроизводстве по
делам брачным. СПб., 1910 \Дубакин Д. Н.
Влияние христианства на семейный быт
русского общества в период времени
появления «Домостроя». СПб., 1880 ; Ниж-
ник Н. С. Правовое регулирование семей¬
но-брачных отношений в русской истории.
СПб., 2006; Победоносцев К П. Курс
гражданского права. Ч. 2.
98 Власов В. Г. Христианизация русских
крестьян. С. 3—15.
99 Развитие русского права в XV—пер¬
вой половине XVII в. С. 152—153.
100 Кроме литературы, указанной в текс¬
те, использовались следующие издания:
Вербловский Г. Л. Вопросы русского граж¬
данского права и процесса. М., 1896 ; Кра-
нихфельд А. Начертание российского
гражданского права в историческом его
развитии. СПб., 1843 ; Мейер Д. И. Русское
гражданское право. СПб., 1915 ; Шерше-
невич Г. Ф. Учебник русского гражданс¬
кого права. М., 1912; Энгельман И. Е.
О давности по русскому гражданскому
праву: ист.-догматическое исслед. СПб.,
1901. Дополнительную литературу см. в:
Поворинский А. Ф.\ 1) Систематический
указатель русской литературы по граж¬
данскому праву. СПб., 1904; 2) Систе¬
матический указатель русской литературы
по гражданскому праву : дополнение. СПб.,
1904.
101 Дювернуа Н. Л. Источники права
и суд в Древней Руси : Опыты по истории
русского гражданского права. М., 1869;
Куницын А. П. Историческое изображение
древнего судопроизводства в России. СПб.,
1843; Кутафин О. ЕЛебедев В. М.,
Семигин Г. Ю. Судебная власть в России:
история, документы : в 6 т. Т. 1 : Начала
формирования судебной власти. М., 2003 ;
Ланге Н. Древне-русское уголовное судо¬
производство (XV, XVI и половины XVII
веков). СПб., 1884; Момотов В. В. Фор¬
мирование русского средневекового пра¬
ва .. . С. 340—360 ; Победоносцев К П. Ма¬
териалы для истории приказного судоуст¬
ройства в России. М., 1890; Троцина К
История судебных учреждений в России.
СПб., 1851.
102 Глазьев В. Н. Власть и общество на
Юге России в XVII веке: противодействие
уголовной преступности. Воронеж, 2001.
103 В. П. Повальный обыск и очная
ставка // 03. 1860. Т. 129, № 4. С. 427—444.
104 Баршев С. О преимуществах следст¬
венного процесса перед обвинительным //
Юридические записки, изд. П. Г. Редки-
ным. М., 1842. Т. 2. С. 120—148; Во-
ропанов В. А. Суд и правосудие в Рос¬
сийской империи во второй половине
XVIII—первой половине XIX вв.: регио¬
нальный аспект: Урал и Западная Сибирь
(опыт сравнительно-сопоставительного ана¬
151
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
лиза). Челябинск, 2008 ; Ефремова Н. Н.
Судоустройство России в XVIII—первой
половине XIX в.: ист.-правовое исслед. М,
1993; Кавелин К Д. Основные начала
русского судоустройства в период времени
от Уложения до Учреждения о губерниях.
М, 1844. См. также: Кутафин О. Е
Лебедев В. М, Семигин Г. Ю. Судебная
власть в России ... Т. 2, 3 ; Мигунова Т. Л.
«Для умножения порядка и беспрепятст¬
венного течения правосудия...»: Адми¬
нистративно-судебная реформа Екатери¬
ны II. М., 2008 ; Серов Д. О. Зарождение
судейского корпуса России (из истории
судебной реформы Петра I) // Россия
и мир : Панорама исторического развития :
сб. науч. статей, посвящ. 70-летию ист.
фак. УрГУ им. А. М. Горького / Д. А. Редин
(ред.). Екатеринбург, 2008. С. 552—560;
Слободянюк И. П. Суд и закон в Российс¬
кой империи (вторая половина XVIII—
первая половина XIX в.). М., 2005.
105 Линовский В. А. Опыт исторических
разысканий о следственном уголовном
судопроизводстве в России. Одесса, 1849.
С. 217—234, 235—238.
106 Работы последних лет, посвященные
суду и праву в Российской империи второй
половины XVIII—первой половины XIX в.,
в основном повторяют выводы советских
историков, характеризуя их как продажные
и неправедные, малоэффективные, «про-
дворянские» и не способные гарантировать
фактическую реализацию законодательства
на практике: Смыкалин А. С.: 1) От реформ
Екатерины II к судебной реформе 1864 г. //
Российская юстиция. 2001. № 3. С. 39—42 ;
2) Судебная система российского госу¬
дарства от Ивана Грозного до Екатерины II
(XV—XVIII вв.) // ВИ. 2004. № 8. С. 49—
69; Мигунова Т. Л.: 1) Российское об¬
щество накануне реформ Екатерины Ве¬
ликой (аспект правого сознания). М., 2002 ;
2) Право, администрация и суд в реформах
Екатерины Великой. СПб., 2002. Однако
стали появляться работы, в которых взве¬
шено и даже позитивно оценивается су¬
дебная реформа Екатерины II: Воропа-
нов В. А.: 1) О статусном положении
гражданских судей в Российской империи
первой половины XIX в. (на материале
губерний Урала и Западной Сибири) //
Уральский ист. вестник. 2005. № 10/11.
С. 70—80; 2) Суд и правосудие ... Автор
справедливо, на мой взгляд, указывает на
повышение правомерности функциониро¬
вания судебного аппарата, на ослабление
роли «полицейски-просветительского» ре¬
гулирования и на изживание жестких форм
государственной опеки правосудия, зало¬
женные в период становления абсолю¬
тизма, как на основные тенденции развития
судебной системы.
107 Владимирский-Буданов М Ф. Обзор
истории русского права. С. 666—667.
108 См., например: Отчет министра юс¬
тиции за 1843 год. С. X ; То же за 1844 год.
С. XIII; То же за 1847 год. С. 174—175 ; То
же за 1848 год. С. 136—137 ; и др.
109 Депп Ф. Ф. О торговых судах //
Журнал гражданского и торгового права.
1872. № 1.С. 1—75; №6. С. 457—513.
110 История уделов за столетие их су¬
ществования, 1797—1897. СПб., 1901. Т. 2.
С. 440, 450.
111 Блинов И. А. Судебная реформа
20 ноября 1864 г.: ист.-юрид. очерк. Пг.,
1914; Гессен И. В. Судебная реформа.
СПб., 1905 ; Коротких М. Г. Самодержавие
и судебная реформа 1864 г. в России:
Сущность и социально-правовой аспект
формирования. Воронеж, 1994; Жижи-
ленко А. Общий очерк движения уголовно¬
процессуального законодательства после
1864 г. // Судебная реформа: в 2 т. /
Н. В. Давыдов, Н. Н. Полянский (ред.). М.,
1915. Т. 2. С. 41—69; Малченко В. С. Об¬
щий очерк движения гражданско-процес¬
суального законодательства после 1864 го¬
да // Там же. С. 70—80 ; Михайловский К В.
Основные принципы организации уголов¬
ного дела: Уголовно-политическое иссле¬
дование. Томск, 1905 ; Случевский В. К.
Учебник русского уголовного процесса:
Судоустройство — судопроизводство. СПб.,
1913 ; Чебышев-Дмитриев А. Русское уго¬
ловное судопроизводство по судебным ус¬
тавам 20 ноября 1864 г. СПб., 1875;
152
Примечания
Энгельман И. Е. Учебник русского граж¬
данского судопроизводства. Юрьев, 1904.
См. также: Кутафий О. Е., Лебедев В. М,
Семигин Г. Ю. Судебная власть в России ...
Т. 4: На рубеже веков: эпоха войн и ре¬
волюций ; Kucherov S. Courts, Lawyers and
Trials under the Last Three Tsars. Westward,
Conn.: Greenwood Press, 1974.
112 Гессен И. В., Гернет М. Н. История
русской адвокатуры, 1864—20/XI-1914. М.,
1914, 1916. Т. 1—3.
113 Трудности, с которыми столкнулось
правительство при проведении судебной
реформы 1864 г. вследствие ее несоот¬
ветствия традиционалистским структурам
и правовой поливариантности многона¬
ционального государства, обстоятельно ис¬
следованы в кн.: Baberowski J. Autokratie
und Justiz: Zum Verhaltnis von Rechtsstaat-
lichkeit und Ruckstandigkeit im ausgehenden
Zarenreich, 1864—1914. Frankfurt a/M : Vit¬
torio Klosermann, 1996. Однако, на мой
взгляд, автор преувеличивает трудности
и недооценивает позитивные результаты
реформы.
114 Зайончковский П. А. Российское са¬
модержавие в конце XIX столетия. М.,
1970; Твардовская В. А. Идеология поре¬
форменного самодержавия (М. П. Катков
и его издания). М., 1978 ; Афанасьев А. К
Суд присяжных в России : (Организация,
состав и деятельность 1866—1885 гг.):
дис.... канд. ист. наук. М., 1978.
115 Немытина М В. Суд в России.
Вторая половина XIX—начало XX в.
Саратов, 1999. С. 102; Семьянинов В.П.
«Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. //
Судьбы реформ и реформаторов в России.
М, 1999. С. 112; Смыкалин А. Судебная
контрреформа конца XIX века: миф или
реальность // Российская юстиция. 2001.
№ 9. С. 42—45 ; Хорошун К Ю. Судебные
и правоохранительные органы российской
империи, 1881—1905 гг. (на материалах
Тамбовской губернии): автореф. дис. ...
канд. ист. наук. Тамбов, 2008. С. 16.
116 Цит. по: Легкий Д. М. Дмитрий
Васильевич Стасов: Судебная реформа
1864 г. и формирование присяжной адво¬
катуры в Российской империи. СПб., 2011.
С. 104.
117 Давыдов Н. В. Судебная реформа
1866 года // Три века : Россия от Смуты до
нашего времени : в 6 т. / В. В. Каллаш
(ред.). М., 1995. Т. 6. С. 174. См. также:
Биншток В. Л. Исторические очерки пра¬
восудия в России // Биншток В. Л. Из не¬
давнего прошлого. СПб., 1896 ; Бочкарев В.
Дореформенный суд // Судебная реформа.
Т. 1. С. 205—241 ; Развитие русского права
второй половины XVII—XVIII вв. С. 245—
260 ; Сыромятников Б. Н. Очерк истории
суда в древней и новой России // Судебная
реформа. Т. 1. С. 16—180.
118 Отчет министра юстиции за [1843—
1848, 1861—1864] год; Свод сведений по
делам уголовным в 1897 г. С. 2, 5. См.
также: Крестьян ников Е. А. Полиция и по¬
лицейское следствие в Западной Сибири
(1822—1897 гг.) // РИ. 2013. № 3. С. 84—99.
119 Анциферов К Взяточничество в ис¬
тории русского законодательства (до пе¬
риода сводов) // Журнал гражданского
и уголовного права. 1884. Февраль. С. 1—
54 ; Танков А. К истории взяточничества //
ИВ. 1888. Т. 34. С. 240—245.
120 Отчет министра юстиции за 1839 год.
С. IX ; То же за 1840 год. С. VIII.
121 То же за 1839 год.
122 Подсчитано мною по данным: Отчет
министра юстиции за [1834—1864] год.
123 То же за [1861—1864] год.
124 Колмаков Н. М Старый суд : очерки
и воспоминания // PC. 1886. № 12. С. 527.
125 Министерство внутренних дел : ист.
очерк (1802—1902) / С. А. Андрианов (ред.).
СПб., 1902. С. 270. О работе дореволю¬
ционной полиции см. также: Анучин Е. Н.
Исторический обзор развития администра¬
тивно-полицейских учреждений в России
с Учреждения о губерниях 1775 г. и до
последнего времени. СПб., 1872 ; Полиция
и милиция России: страницы истории /
А. В. Борисов и др. М., 1995. С. 3—44 ;
Развитие русского права в первой половине
XIX в. С. 253—259.
126 Данные о неудовлетворительном сос¬
тоянии полиции накануне введения су¬
153
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
дебных уставов см.: Материалы, собранные
для Комиссии о преобразовании губерн¬
ских и уездных учреждений : Отдел поли¬
цейский. Ч. 3. Отд-ние 2 : Отзывы губер¬
наторов и членов полиции о способах
и средствах исполнения полициею различ¬
ных обязанностей, возложенных на нее
законом. СПб., 1876; Там же. Отд-ние 3 :
Свод отзывов о неудобствах ныне су¬
ществующих низших исполнительных ор¬
ганов полиции. СПб., 1876.
127 Энгельман И. Е. Учебник русского
гражданского судопроизводства. С. 17.
128 Подсчитано по: Судебно-статисти¬
ческие сведения и соображения о введении
в действие судебных уставов 20 ноября
1864 года (по 32 губерниям). СПб., 1866.
Т. 1—3.
129 Готье Ю. Отделение судебной
власти от административной // Судебная
реформа. Т. 1. С. 181—204; Довнар-За-
польский М. В. Администрация и суд при
Николае I // Изв. Азербайджанского гос.
ун-та им. В. И. Ленина. 1925. Т. 2—3.
С. 1—67. М. А. Дмитриев в своих воспо¬
минаниях приводит интересный случай.
Когда московский генерал-губернатор
Д. В. Голицын захотел по гуманным
соображениям контролировать работу
Уголовной палаты, потребовалось учреж¬
дение специального губернского уголов¬
ного комитета, состоявшего из 5 человек,
для надзора за рассмотрением уголовных
дел, который доводил свое мнение до Го¬
лицына: Дмитриев М. А. Главы из
воспоминаний моей жизни. С. 230—231.
130 РГИА. Ф. 1409 (Первое отделение
Собственной его имп. величества канце¬
лярии), 1828 г. Д. 5274. Л. 1—69. Беспо¬
лезность вмешательства Николая I в дела
Сената подтверждает Дмитриев: Дмитри¬
ев М. А. Главы из воспоминаний моей
жизни. С. 303—304. По свидетельству
мемуариста, только слух о честности судьи
при Николае I способствовал его карьере:
Там же. С. 260.
131 Тарновский Е. Н. Движение прес¬
тупности в Европейской России за 1874—
1894 гг. // Журнал МЮ. 1899. № 3. С. 120 ;
Свод сведений по делам уголовным в 1903 г.
С. 15, 20.
132 На этот факт обратил мое внимание
Д. О. Серов, за что приношу ему искрен¬
нюю благодарность.
133 Гусев А. В. Причины оправдания
присяжными заседателями заведомо винов¬
ных подсудимых (по материалам окруж¬
ных судов Тверской губернии второй
половины XIX—начала XX в.) // Власть,
общество и личность в истории : сб. статей
по материалам науч. конф., 22—24 ноября
2006 г. / А. О. Чубарьян (ред.). М., 2010.
С. 85—91.
134 Судебные речи известных русских
юристов / М. М. Выдря (ред.). М., 1958.
С. 31.
135 Карпович Е. П. Слабое распрост¬
ранение юридических знаний в нашем
обществе // Карпович Е. П. Очерки наших
порядков административных, судебных
и общественных. СПб., 1873. С. 1—17. См.
также: Тарновский Е. Н. Оправдательные
приговоры в России // ЮВ. 1891. № 3.
С. 425—441; № 4. С. 604-^620.
136 Обсуждение вопроса об участии
общественного элемента в отправлении
правосудия: (Высочайше учрежденная
Комиссия для пересмотра законополо¬
жений по судебной части). СПб., 1897.
С. 18 ; Свод сведений по делам уголовным
в 1897 г. С. 11.
137 Обзор состояния судебных мест по
36 губерниям, в коих произведены были
ревизии. Б. м., б. г.; см. также: Сведения
о положении судебного ведомства в гу¬
берниях Московской, Тверской, Ярос¬
лавской, Владимирской, Рязанской, Туль¬
ской и Калужской. СПб., 1863. Ч. 1, 2.
(Материалы по судебной реформе в России
1864 года; т. 30).
138 [Лопухин И. В.]. Записки сенатора
И. В. Лопухина. М., 1990. С. 91 ; Дмитри¬
ев М. А. Главы из воспоминаний моей
жизни. С. 230—231, 303—304 ; Витте С. Ю.
Воспоминания: в 3 т. Таллинн; М., 1994.
Т. 1.С. 109.
139 Дмитриев М. А. Главы из воспоми¬
наний моей жизни. С. 288—303. Находили
154
Примечания
положительные моменты в работе доре¬
форменных судов и другие современники.
Например, юрист и крупный концессионер,
«русский Монте Кристо», П. Г. Дервиз
(1826—1881) полагал, что старый суд был
«по средствам нашему народу и нашей
государственной казне» и имел преиму¬
щества перед пореформенным: «Местный
суд организовывался теми самыми сос¬
ловиями, которым служить был должен,
и достоинство его было обеспечено об¬
щественным надзором и общественным
влиянием. <...> Суд работал под надзором
прокурора и под ревизиею Сената», ко¬
торые «в предшествующем реформе деся¬
тилетии были вполне удовлетворительны,
если же нехороши были судьи, то виновато
было не правительство, а те сословия,
которые судей выбирали» (Дервиз П. Г.
Одна из предсмертных записок // PC.
1885. № 6. С. 595—596). Не было
недостатка и в критике (Колмаков Н. М.
Старый суд. С. 513—544), которая, на мой
взгляд, часто носила голословный харак¬
тер («говорили», «слышал», «ходил слух»
и т. п.), без имен, без фактов, которые
можно проверить.
140 Изменение взглядов на суд при¬
сяжных см.: Илюхин А. В. Суд присяжных
в России в 1864—1917 гг.: к историогра¬
фии вопроса // Новая и новейшая история
России в оценках современников. С. 47—
61. Проблемы суда присяжных подробно
рассмотрены в кн.: Ильюхов А. А. Суд
присяжных в России: исторические, уго¬
ловно-процессуальные и уголовно-право¬
вые аспекты. М., 2009.
141 Безгин В. Б. Правовая культура рус¬
ского села (вторая половина XIX—начало
XX веков). Тамбов, 2012; Кузнецов С. В.
Хозяйственные, религиозные и правовые
традиции русских, XIX—начало XXI в. М.,
2008. Гл. 3 : Обычное право и современное
правосознание; Обычное право народов
Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы,
шорцы) / Е. В. Карлов (сост. и авт. ком-
мент.); Ю. И. Семенова (ред.). М., 1997;
Левин М. Л. Обычное право и сельское
общество в пореформенный период //
Крестьяноведение : Теория. История. Сов¬
ременность / Т. Шанин, В. П. Данилов
(ред.). М., 1997. С. 84—127; Рогачев-
скии А. Л. К истории обычного права
в России в XIX в. (из архива Русского
Географического общества) // Юридичес¬
кая мысль. 2001. № 3. С. 12—16; Томси-
нов В. А. Правовая культура // Очерки рус¬
ской культуры XIX века: в 4 т. / Л. В. Кош¬
ман (рук. проекта). М., 1998—2003. Т. 2 :
Власть и культура М, 2000. С. 102—166 ;
Шанин Т. Обычное право в крестьянском
сообществе // Куда идет Россия? М., 2002.
С. 267—274.
142 Дружинин Н. П. Юридическое по¬
ложение крестьян. СПб., 1897; Л. Что
считает правом наш народ // Русское
богатство. 1884. № 8. С. 260—272 ; Леон¬
тьев А. А. Крестьянское право: Систе¬
матическое изложение особенностей зако¬
нодательства о крестьянах. СПб., 1914.
С. 55, 303—364 ; Пахман С. В. Обычное
гражданское право ... Т. 1. С. VII—XVII;
Крестьянский правопорядок / А. А. Ритгих
(сост.). СПб., 1904. (Особое совещание.
Свод трудов). С. 17—128 ; Тенишев В. В.
Правосудие в русском крестьянском быту.
Брянск, 1907. С. 4. См. также: Крюко¬
ва С. С. Русский крестьянин и веществен¬
ный мир его правосудия (вторая половина
XIX в.) // ЭО. 2012. № 3. С. 129—146 ; Czap Р.
Peasant-Class Court and Peasant Customary
Justice in Russia, 1861—1912 // Journal of
Social History. 1967. Vol. 1, nr 1. P. 149—
178; Frank St. P. Popular Justice, Com¬
munity, and Culture among the Russian Pea¬
santry, 1870—1900 // Russian Review. 1987.
Vol. 46, nr 3. P. 239—265 ; Lewin M. Cus¬
tomary Law and Russian Rural Society in the
Post-Reform Era // The Russian Review.
1985. Vol. 44, nr l.P. 1—19.
143 Дмитриев M. А. Главы из воспо¬
минаний моей жизни. С. 302 ; Даль В. И.
Пословицы русского народа. М., 1957.
С. 245—246 ; Энгельгардт А. Н. Из дерев¬
ни : 12 писем, 1872—1887. М., 1937. С. 56.
144 Тенишев В. В. Правосудие ... С. И.
145 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 1. С. 402—407.
155
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
146 Ефименко А. Я. Исследования на¬
родной жизни. Вып. 1 : Обычное право. М.,
1884. С. 173—182.
147 Ефименко П. С. Сборник народных
юридических обычаев Архангельской гу¬
бернии. М., 1869. Кн. 1. С. 277—281.
148 Архив РЭМ. Ф. 7 (В. Н. Тенишев).
Оп. 2. Д. 275. Л. 9—16 ; Златовратский Н. Н.
Собр. соч.: в 8 т. СПб., 1913. Т. 2. С. 27—
28 ; Максимов С. В. Сибирь и каторга : в 3 ч.
СПб., 1900. Ч. 1. С. 228—229; Ефимен¬
ко П. С. Сборник народных юридических
обычаев ... Кн. 1. С. 220—221 ; Соловьев Е Т.
Преступления и наказания по понятиям
крестьян Поволжья // Зап. РГО по отд-нию
этнографии. 1900. Т. 18. С. 275—300;
Тенишев В. В. Общие начала уголовного
права в понимании русского крестьянина //
Журнал МЮ. 1909. № 7. Сентябрь.
С. 119—158 ; Фирсов Б. М., Киселева И. Г.
Быт великорусских крестьян-землепашцев :
Описание материалов Этнографического
бюро князя В. Н. Тенишева (на примере
Владимирской губернии). СПб., 1993.
С. 56—57 ; Чарушин А. А. Взгляд народа на
преступление // Изв. Архангельского о-ва
изучения Русского Севера. 1912. № 7.
С. 316—321.
149 Фирсов Б. М., Киселева И. Г. Быт
великорусских крестьян-землепашцев ...
С. 59.
150 Архив РГО. Разр. 19 (Курская
губерния). Д. 12. Л. 4 (1848 г.); Ефимен¬
ко П. С. Сборник народных юридических
обычаев ... Кн. 1. С. 222, 227; Максимов С. В.
Сибирь и каторга. Ч. 1. С. 229; Фирсов Б. М.,
Киселева И. Г. Быт великорусских
крестьян-землепашцев... С. 59; Охрана
сельскохозяйственной собственности /
Д. С. Флексор (рост.). СПб., 1904. (Особое
совещание. Свод трудов). С. 18.
151 Охрана сельскохозяйственной собст¬
венности. С. 122 ; Бутовский А. Н. О ле-
сопорубках // Журнал МЮ. 1900. № 7.
С. 82—110. Помещикам приходилось вести
постоянную, но чаще всего малорезуль¬
тативную войну с крестьянами: Шидлов-
ский С. И. Воспоминания : в 2 ч. Берлин,
1923. Ч. 1.С. 32.
152 Бернштам Т. А. Молодежь в обря¬
довой жизни русской общины XIX—начала
XX в. Л., 1988. С. 239.
153 Романов Б. А. Люди и нравы
древней Руси : Историко-бытовые очерки
XI—XII вв. М.; Л., 1966. С. 20 ; Юдин Ю. И.
Из истории русской бытовой сказки //
Русский фольклор / А. А. Горелов (ред.).
Л., 1975. Т. 15. С. 88—89.
154 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор
истории русского права. С. 297, 342, 355.
155 Тенишев В. В. Правосудие ... С. 185—
192.
156 Архив РЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 275.
Л. 10; On. 1. Д. 243. Л. 10 ; Фирсов Б. М.,
Киселева И. Г. Быт великорусских
крестьян-землепашцев ... С. 58.
157 Фирсов Б. М., Киселева И. Г. Быт
великорусских крестьян-землепашцев...
С. 60.
158 Тенишев В. В. Правосудие...
С. 107—113
159 Кандинский В. О наказаниях по
решениям волостных судов Московской
губернии // Сборник сведений для изучения
быта крестьянского населения России /
Н. Харузин (ред.). М., 1889. Вып. 1. С. 34—59.
160 Архив РГО. Ф. 16 (Киевская губер¬
ния). Д. 29. Л. 1—44.
161 Ефименко П. С. Сборник народных
юридических обычаев... Кн. 1. С. 238;
Фирсов Б. М., Киселева И. Г. Быт вели¬
корусских крестьян-землепашцев ... С. 62.
162 Ефименко А. Я. Исследования на¬
родной жизни. Вып. 1. С. 173—175;
Качоровский К Р. Народное право. М.,
1906. С. 101—102 ; См. также: Frierson С.
Crime and Punishment in the Russian
Village : Rural Concepts of Criminality at the
End of the Nineteenth Century // Slavic
Review. 1987. Vol. 46, nr 1. P. 55—69.
163 Архив РЭМ. Ф. 7. On. I. Д. 150. Л. 1;
Д. 242. Л. 5; Д. 243. Л. 24; Д. 515. Л. 1—11;
Оп. 2. Д. 685. Л. 1—2; Семенова-Тян-
Шанская О. П. Жизнь «Ивана» : Очерки из
быта крестьян одной из черноземных
губерний. СПб., 1914. С. 101 ; Соловьев Е. Т
Самосуд у крестьян Чистопольского уезда
Казанской губернии // Зап. РГО по отд-нию
156
Примечания
этнографии. 1878. Т. 8. С. 15—16; Тени-
шее В. В. Правосудие... С. 33—53 ;
Успенский Г. И. Собр. соч.: в 9 т. М., 1956.
Т. 4. С. 146—152. См. также: Громыко М. М.
Территориальная крестьянская община Си¬
бири // Крестьянская община Сибири
XVII—начала XX в. / Л. М. Горюшкин
(ред.). Новосибирск, 1977. С. 89—91 ;
Frank St. Р. «Simple Folk, Savage Cus¬
toms?» : Youth, Sociability, and the Dynamics
of Culture in Rural Russia // Journal of Social
History. 1992. Vol. 25, nr 4. P. 711—736;
Worobec Ch. D. Horse Thieves and Peasant
Justice in Post-Emancipation Imperial Russia //
Ibid. 1987. Vol. 21, nr 1. P. 281—293.
164 Богаевский П. M. Заметки о юриди¬
ческом быте крестьян Сарапульского уезда
Вятской губернии // Сборник сведений для
изучения быта ... Вып. 1. С. 29.
165 Крестъянников Е. А. Полиция и по¬
лицейское следствие ... С. 98.
166 Никольский А. П. Земля, община
и труд : Особенности крестьянского право¬
порядка, их происхождение и значение. СПб.,
1902. С. 22—23, 41—43, 53—62, 69—85.
167 Крестьянский правопорядок. С. 11—
12; Зырянов П. Н. Обычное право в по¬
реформенной общине // Ежегодник по
аграрной истории / П. А. Колесников (ред.).
Вологда, 1976. С. 91—101.
168 Ефименко А. Я. Исследования на¬
родной жизни. Вып. 1. С. 183—380;
Пахман С. В. Обычное гражданское
право... Т. 1. С. 1—52; Соловьев Е. Т.
Гражданское право: Очерки народного
юридического быта. Казань, 1888. Вып. 1.
С. 113—166; 1893. Вып. 2. С. 1—57.
169 Ефименко А. Я. Трудовое начало
в народном обычном праве // Слово. 1878.
№ 1. С. 146—173 ; Качоровский К Р. На¬
родное право. С. 134—162.
170 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 1. С. 5.
171 Земельные захваты и межевое дело /
С. И. Шидловский (сост.). СПб., 1904.
(Особое совещание. Свод трудов). С. 7.
172 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 1. С. 53—447 ; Соловьев Е. Т.
Гражданское право. Вып. 2. С. 58—ПО.
173 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 1.С. 119—124.
174 Там же. С. 190, 196—197.
175 Барыков Ф. Л. О порядке насле¬
дования и разделов у государственных
крестьян по сведениям, собранным Ми¬
нистерством государственных имуществ //
Журнал МГИ. 1862. Ч. 81. С. 232—259,
353—376, 456—469 (в статье обобщается
обследование, проведенное в 44 губерниях
в 1848—1849 гг.); Мухин В. Ф. Обычный
порядок наследования у крестьян : К во¬
просу об отношении народных юридиче¬
ских обычаев к будущему гражданскому
уложению. СПб., 1888. С. 111—301;
Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 2. С. 209—344 ; Соловьев Е. Т.
Гражданское право. Вып. 1. С. 51—112.
176 Исаев И. А. История государства
и права России. С. 216—217, 245—247.
177 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 2. С. 209—290.
178 Ефименко А. Я. Исследования на¬
родной жизни. Вып. 1. С. 1—172; Пах¬
ман С. В. Обычное гражданское право ...
Т. 2. С. 1—209; Оршанский И. Г. Ис¬
следования по русскому праву, обычному
и брачному. СПб., 1879; Соловьев Е. Т.
Гражданское право. Вып. 1. С. 5—50;
Смирнов А.: 1) Очерки семейных отноше¬
ний по обычному праву русского народа.
М., 1877; 2) Народные способы заклю¬
чения брака // ЮВ. 1878. Год 10. Май.
С. 661—693 ; 3) Обычаи и наряды русской
народной свадьбы // Там же. Июль.
С. 981—1015.
179 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 2. С. 49—84.
180 Архив РГО. Разр. 14 (Казанская
губерния). Д. 73. Л. 1—21.
181 По обычному праву крестьян име¬
ется большая литература. Кроме указанной
в тексте использовались: Бржеский Н. К.
Очерки юридического быта крестьян. СПб.,
1902; Никонов С. П. Крестьянский пра¬
вопорядок и его желательное будущее.
Харьков, 1906 ; Сборник народных юри¬
дических обычаев / П. А. Матвеев (ред.).
СПб., 1878. Т. 1. (Зап. РГО по отд-нию
157
Гidea 10. Право и суд, преступление и наказание
этнографии; т. 8); Сборник народных
юридических обычаев / С. В. Пахман (ред.).
СПб., 1878. Т. 2. (Зап. РГО по отд-нию
этнографии ; т. 8); Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-рус¬
ский край. Т. 6 : Народные юридические
обычаи. СПб., 1872. Дополнительную
литературу можно найти в: Якушкин Е. И.
Обычное право : материалы для библио¬
графии обычного права. Ярославль, 1875—
1909. Вып. 1—4 ; Тихонов В. П. Материалы
для изучения обычного права среди
крестьян Сарапульского уезда, Вятской
губернии // Труды Этнографического
отдела О-ва любителей естествознания,
антропологии и этнографии. 1891. Т. 69,
вып. 2. С. 1—140; Алексадров В. А.
Обычное право в России в отечественной
науке XIX—начала XX в. // ВИ. 1981.
№ 11. С. 41—55; Липец Р. С. Изучение
обычного права в конце XIX—начале
XX в. // Труды Ин-та этнографии им. Мик¬
лухо-Маклая. 1968. Т. 94. С. 79—98.
182 Труды Комиссии по преобразова¬
нию волостных судов : (Словесные опросы
крестьян, письменные отзывы различных
мест и лиц и решения волостных судов,
съездов мировых посредников и губернс¬
ких по крестьянским делам присутствий).
СПб., 1873—1874. Т. 1—6; Племянников В. П.
Указатель решениям волостных судов,
помещенным в «Трудах Комиссии по
преобразованию волостных судов». М.,
1891 ; Зарудный М. И. Законы и жизнь:
Итоги исследования крестьянских судов.
СПб., 1874; Вормс А., Паренадо А.
Крестьянский суд и судебно-админист¬
ративные учреждения // Судебная реформа.
Т. 2. С. 81—174; Леонтьев А. А. Во¬
лостной суд и юридические обычаи
крестьян. СПб., 1895 ; Пахман С. В. Обыч¬
ное гражданское право... Т. 1. С. 380—
389 ; Тенишев В. В. Правосудие ... С. 70—
184.
183 Наумов Н. И. Святое озеро // Рус¬
ские повести XIX века 70—90-х годов :
в 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 441.
184 А. 3. О домашнем суде между го¬
сударственными крестьянами // Журнал
МГИ. 1864. № 3. С. 301—310; Ефимен¬
ко П. С. Сборник народных юридических
обычаев ... Кн. 1. С. 231 ; Калачов Н. В.
О волостных и сельских судах в древней
и нынешней России // Сборник госу¬
дарственных знаний / В. П. Безобразов
(ред.). СПб., 1880. Вып. 8. С. 1—22.
185 Таганцев Н С. Русское уголовное
право. Т. 1. С. 68—69; Дружинин Н. Я
Юридическое положение крестьян. С. 298—
370.
186 Архив РЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 275.
Л. 63.
187 Крестьянский правопорядок. С. 119—
128.
188 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 85. Л. 1.
189 Успенский Т. Очерк Юго-Западной
половины Шадринского уезда // Пермский
сборник. 1859. Кн. 1. С. 39—40; Громы¬
ко М. М. Территориальная крестьянская
община Сибири. С. 83—91.
190 Громыко М. М Территориальная
крестьянская община Сибири. С. 88—89.
191 Паппе А. О доказательствах в во¬
лостном суде // Сборник сведений для
изучения быта... Вып. 1. С. 50—62;
Тенишев В. В. Правосудие ... С. 114—166.
192 Архив РГО. Ф. 14. Д. 27.
193 Астров П. И. Об участии
сверхъестественной силы в народном
судопроизводстве крестьян Елатомского
уезда Тамбовской губернии // Сборник
сведений для изучения быта... Вып. 1.
С. 130—149 ; Тенишев В. В. Правосудие ...
С. 152—153.
194 Левенстим А. А. Присяга на суде по
народным воззрениям // Вестник права.
1901. Июнь. С. 1—26 ; Лохвицкий А. В. Суд
Божий по русскому праву // 03. 1857.
Кн. 6. Отд. 1. С. 509—520 ; Макаров М. Н
Древние и новые божбы, клятвы и присяги
русские // Труды О-ва истории и древ¬
ностей российских. 1828. Ч. 4, кн. 1 ;
Тенишев В. В. Правосудие ... С. 139—145.
195 Ефименко П. С. Сборник народных
юридических обычаев... Кн. 1. С. 231—
238; Громыко М. М. Территориальная
крестьянская община Сибири. С. 89 ; Ми-
ненко Н. А. Традиционные формы рас¬
158
Примечания
следования и суда у русских крестьян
Западной Сибири XVIII—первой половины
XIX в. // СЭ. 1980. № 5. С. 21—33 ; Пах-
ман С. В. Обычное гражданское право ...
Т. 1. С. 408—440.
196 Рулан Я. Юридическая антрополо¬
гия. М., 1999. С. 67—69.
197 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 243.
Л. 42; Левенстим А. А. Суеверие и уго¬
ловное право. СПб., 1897. С. 151—176;
Тенишев В. В. Правосудие ... С. 152—159.
198 Астров П. И. Об участии сверхъес¬
тественной силы в народном судопроиз¬
водстве ... С. 132—133; Матвеев П. А.
Очерки народного юридического быта
Самарской губернии // Зап. РГО по отд-
нию этнографии. 1878. Т. 8. С. 11—46;
Тенишев В. В. Правосудие ... С. 114—120 ;
Фирсов Б. М., Киселева И. Г. Быт
великорусских крестьян-землепашцев ...
С. 62.
199 Дружинин Н. П. Юридическое
положение крестьян. С. 371—385.
200 Якушкин Е. К Заметки о влиянии
религиозных верований и предрассудков на
народные юридические обычаи и понятия //
ЭО. 1891. Кн. 9, №2. С. 1—19.
201 Леонтьев А. А. Законодательство
о крестьянах после реформы // Великая
реформа: Русское общество и крестьян¬
ский вопрос в прошлом и настоящем : в 6 т. /
А. К. Дживелегов и др. (ред.). М., 1911.
Т. 6. С. 158—199.
202 Там же.
203 Дружинин Н. Я. Юридическое по¬
ложение крестьян. С. 298—370.
204 Камкин А. В.: 1) Правосознание
государственных крестьян второй поло¬
вины XVIII века: (На материалах Евро¬
пейского Севера) // ИСССР. 1987. № 2.
С. 163—173 ; 2) Воздействие крестьянства
на законодательное оформление уравни¬
тельно-передельной общины в конце XVIII
века // XXVI съезд КПСС и проблемы
аграрной истории СССР : Социально-поли¬
тическое развитие деревни / И. Д. Ко-
вальченко (ред.). Уфа, 1984. С. 432—438;
Пушкаренко А. А. Правосознание рос¬
сийского крестьянства позднефеодальной
эпохи // Там же. С. 418—423 ; Раскин Д И.
Особенности соотношения формально¬
правового и реального статуса крестьянст¬
ва России в XVIII в. // Там же. С. 423—
432 ; Колесников Я А. Воздействие народ¬
ных масс на государственное законода¬
тельство в России XVII—XVIII вв. //
Проблемы истории крестьянства Евро¬
пейской России (до 1917 г.) / П. А. Ко¬
лесников (ред.). Пермь, 1982. С. 158—174.
205 Ефименко Я С. Сборник народных
юридических обычаев ... Кн. 1. С. 239—
277, 281—282; Муллов Я А. Несколько
слов о материалах для объяснения на¬
родного юридического быта // Зап. РГО по
отд-нию этнографии. 1867. Т. 1. С. 615—
636; Пахман С. В. О судебных доказа¬
тельствах по древнему русскому праву,
преимущественно гражданскому, в истори¬
ческом их развитии. М., 1851. С. 209—212 ;
Сергеевич В. И. Лекции и исследования
по истории русского права. СПб., 1883.
С. 76—97; Снегирев И. М. Обозрение
юридического быта в продолжении древ¬
него и среднего периодов русской народ¬
ной жизни // Юридические записки, изд.
П. Г. Редкиным. М., 1842. Т. 2. С. 294—300.
206 Филиппов А. Я Народное обычное
право как исторический материал // Рус¬
ская мысль. 1886. № 9. С. 56—71.
207Крестьянский правопорядок. С. 17—24.
208 Пахман С. В. Обычное гражданское
право ... Т. 1. С. IX.
209 Калачов Н. В. О волостных и сельс¬
ких судах ... С. 128—148 ; Зарудный М. И.
Законы и жизнь... С. 3—50; Тур К И.
Голос жизни о крестьянском неустройстве :
(По поводу работы учрежденной при
Министерстве внутренних дел Комиссии
по пересмотру крестьянского законода¬
тельства). СПб., 1898. С. 9—18.
210 Астырев Я М. В волостных пи¬
сарях : Очерки крестьянского самоуправ¬
ления. М., 1896. С. 215.
211 Бербенк Дж. Местные суды, им¬
перское право и гражданство России //
Российская империя в сравнительной
перспективе / А. И. Миллер (ред.). М.,
2004. С. 320—360 ; Burbank J:. 1) Legal Cul-
159
Гidea 10. Право и суд, преступление и наказание
ture and Citizenship in Russia: Perspective
from Early Twentieth Century 11 Reforming
Justice in Russia, 1864—1996. Power, Cul¬
ture, and the Limits of Legal Order / P. Solo¬
mon (ed.). Armonk, NY : M. E. Sharpe, 1997.
P. 127—150; 2) Russian Peasant Go to
Court: Legal Culture in the Countryside,
1905—1917. Bloomington, IN : Indiana
University Press, 2004 (см. реферат книги,
подготовленный В. M. Шевыриным: Исто¬
рия России в современной зарубежной
историографии : сб. обзоров и рефератов.
М., 2010. Ч. 1. С. 239—247). Бербенк
поддержали К. Фриерсон и К. Годэн: Frie-
son С. «I Must Always Answer to the
Law...» : Rules and Responses in the Re¬
formed Volost’ Court // Slavonic and East
European Review. 1997. Vol. 75, nr 2.
P. 308—334 ; Gaudin C. Ruling Peasants
Village and State in Late Imperial Russia.
DeKalb, 111. : Northern Illinois University
Press, 2007.
212 Шатковская T. В.: 1) Правовая мен¬
тальность российских крестьян второй
половины XIX века: опыт юридической
антропометрии. Ростов н/Д, 2000. С. 237;
2) Закон и обычай в правовом быту
крестьян второй половины XIX века // ВИ.
2002. №11/12. С. 101—109; 3) Правовой
быт российских крестьян второй половины
XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д,
2003.
213 Земцов Л. И. Крестьянский самосуд:
правовые основы и деятельность волост¬
ных судов в пореформенной России (60—
80-е гг. XIX в.). Воронеж, 2007. С. 84 ; Bur¬
bank J. Russian Peasant... Р. 250. В самых
обстоятельных на настоящее время ис¬
следованиях обычного права и крестьянс¬
кой юстиции, принадлежащих Земцову,
подробно рассмотрены такие принципиаль¬
ные вопросы, как государственное регу¬
лирование правоотношений в деревне на
протяжении полутора столетий (вторая
половина XVIII—XIX в.), волостной суд
в судебной системе России, обычно-пра¬
вовые основы деятельности волостного
суда и практика волостных судов Рязанс¬
кой губернии: Земцов Л. И.: 1) Волостной
суд в России 60-х—первой половины 70-х гт.
XIX в. (по материалам Центрального
Черноземья). Воронеж, 2002; 2) Правовые
основы и деятельность волостных судов
в пореформенной России (60—80-е гг.
XIX в.): дис. ... д-ра ист. наук. Липецк,
2004. Термин «самосуд» у Земцова озна¬
чает самостоятельный крестьянский суд по
нормам обычного права, что создает у чи¬
тателя когнитивный дискомфорт, посколь¬
ку за этим термином традиционно закре¬
пилось другое значение — «самоуправст¬
во». См. также: Горская Н. И. Свободный
крестьянин перед мировым и волостным су¬
дом (местная юстиция в 1860—1880-х гт.) //
РИ. 2011. № 1. С. 28—41 ; Тарабанова Т. А.
Волостной суд в России в первое поре¬
форменное десятилетие : дис. ... канд. ист.
наук. М., 1993. См. также: Popkins G. К.
Code versus Custom?: Norms and Tactics in
Peasant Volost Court Appeals, 1889—1917 //
Russian Review. 2000. Vol. 59, nr 3. P. 408—
424 ; 2) Peasant Experiences of the Late Tsar¬
ist State : District Congresses of Land Cap¬
tains, Provincial Boards and the Legal Ap¬
peals Process // Slavonic and East European
Review. 2000. Vol. 78. January. P. 90—114 ;
3) Popular Development of Procedure in a
Dual Legal System : 'Protective Litigation’ in
Russia’s Peasant Courts, 1889—1912 // Jour¬
nal of Legal Pluralism. 1999. Nr 43. P. 57—87.
214 Рулан H. Юридическая антрополо¬
гия. С. 20—23, 297—298.
215 Земцов Л. И. Правовые основы ...
С. 326—378 ; Скуратова И. Н. Право и
обычаи в регулировании деятельности
волостных судов Российской империи (на
примере волостного суда Казанской губер¬
нии 1861—1917 гг.): автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Владимир, 2007. С. 18—19;
Burbank J. Russian Peasant... Р. 84.
216 См., например: Скуратова И. Н.
Право и обычаи ... С. 18—19 ; Pearson Т. S.:
1) Russian Law and Rural Justice: Activity
and Problems of the Russian Justices of Peace,
1865—1889 // Jahrbiicher ftir Geschichte
Osteuropas. Wiesbaden, 1984. Bd. 32. S. 52—
71 ; 2) Russian Officialdom in Crisis : Autoc¬
racy and Local Self-government, 1861—1900.
160
Примечания
Cambridge, Eng.; New York: Cambridge
University Press, 1989.
217 Представление о работе, проделан¬
ной зарубежными исследователями дает
историография по истории преступности
в 11 странах: Crime History and History of
Crime: Studies in the Historiography of
Crime and Criminal Justice in Modem History /
C. Emsley, L. Knaffa (eds.). Westport, CT;
London : Greenwood Press, 1996.
218 См. библиографические и историо¬
графические обзоры: Гернет М Я: 1) Мо¬
ральная статистика: (Уголовная статистика
и статистика преступлений): в 2 вып. М.,
1922, 1927. Вып. 1. С. 31—38; Вып. 2.
С. 250—260 ; 2) Преступность за границей
и в СССР. М., 1931. С. 183—187; Голо-
сенко А. И. Русская социология преступ¬
ности (1861—1917 гг.). СПб., 1997; Кри¬
минология. М., 1968. С. 71—80 ; Остроу¬
мов С. С. Преступность и ее причины
в дореволюционной России. М., 1980.
С. 104—202; Проблемы преступности /
Е. Ширвиндт и др. (ред.). М.; Л., 1926—
1929. Паг. I. Библиогр.: С. 224—258; Паг. II.
Библиогр.: С. 325—357; Паг. III. Библиогр.:
С. 289—298; Паг. IV. Библиогр.: С. 216—
255 ; Систематический библиографический
указатель литературы по криминалистике /
М. Н. Гернет (сост.). Минск, 1936. С. 1—59.
219 Девиантность и социальный конт¬
роль в России (XIX—XX вв.): Тенденции
и социологическое осмысление / Я. И. Ги-
линский (ред.). СПб., 2000; Еремен¬
ко Д. Ю. Преступность в Петрограде
в 1914—1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук.
СПб., 2003; Золин П. М Преступность
в стране в 1909—1928 гг.: Сравнительная
статистика // Советское государство и пра¬
во. 1991. № 5. С. 112—118 ; Зоткина Н. А.
Феномен девиантного поведения в повсед¬
невной жизни российского общества на
рубеже XIX—XX вв.: преступность,
пьянство, проституция: На материалах
Пензенской губернии : дис. ... канд. ист.
наук. Пенза, 2002 ; Илъюхов А. А. Прости¬
туция в России с XVII века до 1917 года.
М., 2008 ; Калачев Б. Ф. Взгляд на проб¬
лему через столетие // Проституция и
преступность : Проблемы, дискуссии, пред¬
ложения / Ю. М. Хотченков (ред. и сост.).
М., 1991. С. 36—54; Косарецкая Е. И.
Женская преступность в Орловской губер¬
нии во второй половине XIX—начале XX в.:
дис. ... канд. ист. наук. Орел, 2007; Луне-
ев В. В. Преступность XX века: мировые,
региональные и российские тенденции. М.,
1997; Морюшкин С. Я. Преступность и
борьба с ней в пореформенной России (на
материалах Рязанской губернии): дис. ...
канд. ист. наук. Рязань, 2009; Мусаев В. Я.
Преступность в Петрограде в 1917—1921 гг.
и борьба с ней. СПб., 2001 ; Политое В. Е.
Криминологическая ситуация в Тамбовс¬
кой губернии на рубеже XIX—XX веков :
дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2007. См.
также: Kowalsky Sharon A. Deviant Women :
Female Crime and Criminology in Revolu¬
tionary Russia, 1880—1930. DeKalb, IL :
Northern Illinois University Press, 2009.
220 См., например: Атапин И. Б. Борьба
с девиантным поведением и уголовной
преступностью в Российской империи
(1881—1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук.
М., 2007; Голдинов В. Ю. Борьба
с преступностью и обеспечение общест¬
венного порядка в российской империи
(1901—1904 гг.): дис. ... канд. ист. наук.
М., 2012 ; Рыжов Д. С. Борьба полиции
России с профессиональной преступностью
(1866—1917 гг.): дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2000; Смирнов М. А. Отечественная
преступность и общественно-политическая
ситуация в России во второй половине
XIX—начале XX века : дис. ... канд. ист.
наук. Кострома, 2005; Чирикин В. А.
Международное сотрудничество правоох¬
ранительных органов России по борьбе
с преступностью (1861—1917 гг.): дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1999 ; ШиловскийД М.
Полиция Томской губернии в борьбе
с преступностью в 1867—1917 гг.: дис. ...
канд. ист. наук. Новосибирск, 2002.
221 Adams В. F.: 1) Criminology, Penol¬
ogy and Prison Administration in Russia,
1863—1917 : Ph.D. diss. University of Mary¬
land, 1981 ; 2) Criminology in Russia // The
Modem Encyclopedia of Russian and Soviet
161
Гшва 10. Право и суд, преступление и наказание
History / J. L. Wieczymki (ed.)- Gulf Breeze,
FL: Academic International Press, 1988.
Vol. 47. P. 231—235 ; Behrisch L. Social Dis¬
cipline in Early Modem Russia, 17-th—19-th
Centuries // Institutionen, Instrumente und Ak-
teure sozialer Kontrolle und Disziplinierung
im fruhneuzeitlichen Europa / H. Schilling
(Hrsg.). Frankfurt a/M, 1999. S. 325—357;
Frank St.: 1) Cultural Conflict and Criminality
in Rural Russia, 1861—1900: Ph.D. diss.
Brown University, 1987 ; 2) Narratives within
Numbers : Women, Crime and Judicial Statis¬
tics in Imperial Russia, 1834—1913 // The
Russian Review. 1996. Vol. 55. October.
P. 541—566 ; Neuberger J. Hooliganism :
Crime, Culture and Power in St. Petersburg,
1900—1914. Stanford: Stanford University
Press, 1993 ; Schmidt C. Sozialkontrolle in
Moskau : Justiz, Kriminalitat und Leibeigen-
schaft 1649—1785. Stuttgart: F. Steiner,
1986; Shelley L. Female Criminality in the
1920s : A Consequence of Inadvertent and
Deliberate Change // Russian History. 1982.
Vol. 2, nr 2/3. P. 265—284 ; Sutton R. S.
Crime and Social Change in Russia after the
Great Reforms : Laws, Courts, and Criminals,
1874—1894: Ph.D. diss. Indiana University,
1984 ; Weissman N. B. Rural Crime in Tsarist
Russia: The Question of Hooliganism,
1900—1914 // Slavic Review. 1978. Vol. 37.
P. 228—242.
222 Сельская полиция в 1790-е гг. не
принимала никаких мер по прошениям
о краже лошадей, побегах крестьян и пр. по
их многочисленности и из-за малочислен¬
ности и слабости полицейского аппарата:
Мансуров А. Охрана рекрута // PC. 1890.
Год 21. Ноябрь. С. 352. Имеются либо
отрывочные данные, либо нарративы об
отдельных известных преступниках: Гер-
нет М. Н. История царской тюрьмы : в 5 т.
М., 1960. Т. 1. С. 352—368 ; Акельев Е. В.:
1) Преступный мир Москвы : Два «повин¬
ных доношения» профессиональных воров,
1741 г. // Исторический архив. 2007. № 6.
С. 209—214 ; 2) Повседневная жизнь во¬
ровского мира Москвы во времена Ваньки
Каина. М., 2012; Бериш Л. История
преступности ... ; Мельник Е. В. Правовые
и организационные основы борьбы с прес¬
тупностью в период существования при¬
казной системы управления в России: ко¬
нец XV—начало XVH в.: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2002. Лучше изучена
деятельность политического сыска XVIII в.
За 80 лет, 1715—1795 гг., было заведено
примерно 13 985 дел. Если по каждому
делу проходило по 3—4 человека (соот¬
ношение 1730-х гг.), то к политическим
расследованиям могло быть привлечено
около 49 тыс. человек: Анисимов Е. В.
Дыба и кнут: политический сыск и русское
общество в XVIII веке. М., 1999. С. 680.
223 Свод сведений по делам уголовным
в 1872 г. Ч. 1.С. 1—5.
224 Там же. Ч. 1. Табл. 1 ; То же в 1873 г.
С. 4—5 ; То же в 1874 г. С. 12—16 ; То же
в 1875 г. С. 16—21 ; То же в 1876 г. С. 18—
22; То же в 1877 г. С. 18—23.
225 Тетрюмов И. Мировой суд и
крестьянское обычное право // Земство.
1882. №26.
226 А. 3. О домашнем суде между го¬
сударственными крестьянами. С. 301 ; Виль¬
сон И. Уголовная статистика государст¬
венных крестьян по данным за десятилетие
1847—1856. СПб., 1871. (Материалы для
статистики России, собираемые по ведом¬
ству государственных имуществ; вып. 6).
Ведомость 1.
227 Тарновский Е. Н. Движение преступ¬
ности в Российской империи за 1899—
1908 гг. // Журнал МЮ. 1909. № 9. С. 52—99.
228 Шнайдер Г. Й. Криминология. М.,
1994. С. 124—146.
229 Смелзер Н. Социология. М., 1994.
С. 209—210, 221.
230 Гилинский Я. И.: 1) Криминология :
Теория, история, эмпирическая база, со¬
циальный контроль. СПб., 2002. С. 47;
2) «Зона» — это криминальный универ¬
ситет // Известия. 2003. 17 июня (№ 103).
С. 12.
231 Washington ProFile. 2001. 29 нояб.
(№8(116)).
232 Криминогенная ситуация в России
на рубеже XXI века / А. И. Гуров (ред.). М.,
2000. С. 10.
162
Примечания
233 Захаревич Ф. Опыт юридической
статистики Новороссийского края //
Журнал МВД. 1853. Ч. 41. С. 258.
234 Вильсон И. Уголовная статистика
государственных крестьян ... С. 1—4 ; Чуп-
ров А. К Некоторые данные по нравст¬
венной статистике России // ЮВ. 1884.
№ 8. С. 631—641 ; Судебная статистика
России // Русский вестник. 1860. Т. 29.
С. 301—320 ; Филиппов М О судебной
статистике в России // Русское слово. 1864.
Июль. С. 133—162.
235 Тарновский Е. Н. Война и движение
преступности в 1911—1916 гг. // Сб. статей
по пролетарской революции и праву. Пг.,
1918. № \-А. С. 100—122.
236 Матиенко Т. Л. Сыскная полиция
Российской империи (1866—1917). М.,
2007.
237 Свод сведений по делам уголовным
в 1874 г. С. 123 ; То же в 1895 г. Введение.
С. 33; То же в 1913 г. Введение. С. 19;
Ядринцев Н. М Русская община в тюрьме
и ссылке. СПб., 1872. С. 146—188.
238 По аналогии число уголовных дел
на 100 тыс. населения за 1803—1860 гг.
уменьшилось в 1,15 раза, за 1861—1913 гг.
увеличилось в 2,15 раза, аза 1803—1913 гт. —
в 1,87 раза; численность подсудимых на
100 тыс. населения за 1803—1861 гг. уве¬
личилась в 1,11 раза, за 1861—1913 гг. —
в 2,68 раза, а за 1803—1913 гг. — в 2,97
раза; численность осужденных на 100 тыс.
населения за 1803—1861 гг. уменьшилась
в 1,41 раза, за 1861—1913 гг. увеличилась
в 5,97 раза, а за 1803—1913 гг. — в 4,23
раза.
239 /ч
О мировых судах существует
большая литература, укажем на важнейшие
труды: Выборный мировой суд : сб. статей
и материалов. СПб., 1898 ; Двадцатипя¬
тилетие московских столичных судебно¬
мировых учреждений 1866—1891 : Обзор
деятельности, ведомость движения уголов¬
ных дел, личный состав. М., 1891 ; Джан-
шиев Гр. Эпоха Великих реформ. М., 1900.
С. 428—449 ; Красовский М В. О недос¬
татках нынешнего устройства мировых
судебных установлений // Журнал граж¬
данского и уголовного права. 1885. № 4.
С. 39—64; № 5. С. 65—84 ; Лихачев В. И. К
тридцатилетию мировых судебных уста¬
новлений: 1866— 1896 гг. // Журнал МЮ.
1895. № 11. С. 1—32; № 12. С. 1—54;
Нос А. Е. Мировой суд в Москве: Очерк
разбирательства у мировых судей. М.,
1869. Кн. 1,2; Обнинский П. Н.\ 1) Ми¬
ровой институт // ЮВ. 1888. № 3. С. 400—
415; № 5. С. 106—112 ; 2) Мировые судьи
и их преемники // Сб. правоведения и об¬
щественных знаний: труды юрид. о-ва,
состоящего при Московском ун-те. 1895. Т.
5. С. 27—68 ; Полянский Н. Н. Мировой
суд // Судебная реформа. Т. 2. С. 172—291 ;
С.-Петербургские столичные мировые
установления и Арестный дом в 1889 году :
отчеты. СПб., 1890; С.-Петербургские
столичные мировые учреждения 20 ноября
1864 г.: справ, сб. СПб., 1885 ; Тихонов Е. И.
Волостной суд и мировой судья в
крестьянских селениях. Ковно, 1873. См.
также: Земцов Л. И. Правовые основы ...
С. 247—257; Pearson Т. Russian Law...
S. 52—71.
240 Сборник статистических сведений
Министерства юстиции. Дополнение к вып.
1—4 : Обзор деятельности судебно-ми¬
ровых установлений за 1884—1888 гг.
СПб., 1887—1891 ; Сборник статистичес¬
ких сведений Министерства юстиции за
[1909—1913] год. СПб., [1912—1916].
241 Подсчитано по данным: Свод све¬
дений по делам уголовным в [1874, 1897,
1913] году; Общий свод данных переписи
1897 г. Т. 1, 2; Численность и состав
рабочих в России на основании данных
первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. СПб., 1906.
T. 1. С. VII. См. также: Заменгоф М. Ф.
Город и деревня в преступности // Труды
слушателей юридического семинария Мос¬
ковского городского народного ун-та
им. А. Л. Шанявского. М., 1913. С. 253—
308; Трайнин А. Преступность города
и деревни в России // Русская мысль. 1909.
№ 7. С. 1—27. См. указания современников
о низком уровне преступности и пре¬
обладании мелких правонарушений среди
163
Глава 10. Право и суд, преступление и наказание
крестьян-земледельцев: Архив РГО. Разр. 2
(Астраханская губерния). Д. 61. Л. 4—5;
Морачевич И. Село Кобылья Волынской
губернии // Этнографический сборник,
издаваемый РГО. СПб., 1853. Вып. 1.
С. 309; Преображенский А. Волость Пок-
рово-Сицкая Ярославской губернии // Там
же. С. 103 ; Скалдин А. Д. В захолустье и в
столице. СПб., 1870. С. 301 ; Грязное П.
Опыт сравнительного изучения гигиени¬
ческих условий крестьянского быта Че¬
реповецкого уезда. СПб., 1880. С. 170.
242 Подсчитано по данным изданий,
указанных в примеч. 240, 241 наст, главы,
а также: Отчет министра юстиции за 1858
год; Статистические таблицы Российской
империи / А. Бушей (ред.). СПб., 1863.
Вып. 2. С. 276—291.
243 Отклоняющееся поведение клири¬
ков не шло ни в какое сравнение с ростом
криминала в обществе. Например, Вятская
консистория имела какие-то претензии,
включая дисциплинарные, не более чем
к 10% приходского духовенства: Скут-
нев А. В. Приходское духовенство в ус¬
ловиях кризиса Русской православной цер¬
кви во второй половине XIX в.—1917 г. :
На материалах Вятской епархии : дис. ...
канд. ист. наук. Киров, 2005. С. 182—183.
244 Тарновский Е. Н. Влияние хлебных
цен и урожаев на движение преступности
против собственности в России // Журнал
МЮ. 1898. № 8. С. 72—106 ; Гернет М. Н.
Моральная статистика ... С. 209—220.
245 Преступления, раскрытые началь¬
ником С.-Петербургской сыскной полиции
И. Д. Путилиным. М., 1990. С. 184-^185.
См. также: Михневич В. О. Язвы Петер¬
бурга : Опыт историко-статистического
исследования нравственности столичного
населения. СПб., 2003 ; Прокурова Р. С. Не
сотвори зла: К проблеме преступления
и наказания в русской художественной
литературе и публицистике. М., 2001.
246 Гернет М. Н. Моральная статис¬
тика ... С. 50—97 ; О преступности в Анг¬
лии и во Франции // БдЧ. 1854. № 10.
С. 43—54; Энциклопедический словарь
Русского библиографического ин-та Гра¬
нат. М., 1933. Т. 33. Стб. 375—378 ; Ems-
ley С. Crime and Society in England, 1750—
1900. London; New York: Longman, 1987.
Ch. 2 ; Zehr H. The Modernization and Crime
in Germany and France, 1830—1913 // Jour¬
nal of Social History. 1975. Vol. 8, nr 4.
P. 117—141.
247 Источники указаны в примеч. 210.
248 См. также: Атапин Н. Б. Борьба
с девиантным поведением ... С. 30—94,
150—174; Гернет М. Н. Общественные
причины преступности. М., 1906 ; Голди-
нов В. Ю. Борьба с преступностью ... ;
Зоткина Н. А. Феномен девиантного пове¬
дения ... С. 52—96, 233—240; Косарец-
кая Е. Н. Женская преступность ...;
Куликова С. Г Женская преступность как
социальный фактор российской модерни¬
зации (вторая половина XIX—начало XX
веков). Гагарин, 2011. С. 80—95, 140—146
(Там же. С. 8—17: Историография проб¬
лемы женской преступности в России);
Остроумов С. С. Преступность ... С. 111—
154; Смирнов М. А. Отечественная пре¬
ступность ... С. 196—206.
249 Лунеев В. В. Преступность XX ве¬
ка ... С. 250.
250 Там же. С. 59.
251 Криминология, XX век / В. Н. Бур-
лаков, В. П. Сальников (ред.). СПб., 2000.
С. 530—531.
252 Там же. С. 127—145.
253 Там же. С. 173—175.
254 См. подробнее: Опора, буфер и га-
рант // Родина. 2001. № 4. С. 45—51.
255 Криминология, XX век. С. 300—
301.
256 Шестаков Д. А. Супружеское убий¬
ство как общественная проблема. СПб.,
1995.
257 Дюркгейм Э. Норма и патология //
Социология преступности. М., 1966. С. 43.
258 Там же. С. 44.
259 Ревинский Д. О. : 1) Патентование
изобретений в России (1812—1870 гг.) //
Экономическая история, 2001 : ежегодник.
М., 2002. С. 347 ; 2) История патентной
системы и патентования изобретений
в России в XIX веке: основные проблемы
164
Примечания
изучения. URL: http://revinsky.karatobe.ru/
patent/patent history_problems.html (дата об¬
ращения: 25.08.2014); Линген Р. Р. Охрана
промышленной собственности: Изобре¬
тения и усовершенствования, товарные
знаки, рисунки и модели // Россия в конце
XIX века / В. И. Ковалевский (ред.). СПб.,
1900. С. 439 ; Aer A. Patents in Imperial Rus¬
sia: A History of the Russian Institution of
Inventions on Privileges under the Old Re¬
gime : Ph.D. diss. Helsinki, 1995 (cm.
рецензию И. А. Дьяконова на диссертацию:
ОН. 1998. №4. С. 199—201).
260 Гилинский Я. Я. Криминология ...
С. 99—154. См. также: Пулъкин М. В. Де¬
виантное поведение в XVIII—начале XX в. //
Культурно-историческая психология. 2008.
Ко 2. С. 84—90.
261 Томсинов В. А. Правовая культура //
Очерки русской культуры XIX века. Т. 2.
С. 102—166; Уортман Р. С. Властители
и судии: Развитие правового сознания
в императорской России. М., 2004. С. 453—
486.
262 Кудрявцев В. Н. Социальные от¬
клонения : Введение в общую теорию. М.,
1984. С. 153—186.
263 Бербенк Дж. Местные суды... С. 320—
360; Burbank J.: 1) Legal Culture...
Р. 127—150; 2) Russian Peasant... 2004;
Frieson С. «I Must Always Answer to the
Law...» ... P. 308—334 ; Gaudin C. Ruling
Peasants... P. 83, 210. Подробнее см.:
Большакова О. В.: 1) Судебная реформа
1864 года и формирование правовой куль¬
туры в дореволюционной России (обзор
англоязычной литературы) // Социальные
и гуманитарные науки: Отечественная
и зарубежная литература: реф. журнал.
Сер. 5. История. 2000. Вып. 1. С. 7—22 ; 2)
Власть и политика в России XIX—начала
XX века: Американская историография.
М., 2008. С. 193—194, 223—224, 249—250.
См. также: Горская И. И. Свободный
крестьянин перед мировым и волостным
судом (местная юстиция в 1860—1880-х гг.) //
РИ. 2011.№ 1.С. 28—41.
264 Цит. по: Русь. 1905. № 191.
ГЛАВА 11
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Насущное ежедень, так и запасу не надо.
Лишние деньги — лишняя забота.
Через золото слезы льются.
Деньги, что каменья: тяжело надушу ложатся.
Богатый совести не купит, а свою погубляет.
В аду не быть — богатства не нажить.
Русские пословицы
Уровень жизни — весьма емкое понятие, которое обычно используется вме¬
сте с такими близкими, но не синонимичными по смыслу категориями, как каче¬
ство жизни и положение населения. До конца XX в. в различных толкованиях
уровня жизни акцент делался на материальных компонентах, теперь общепри¬
нято, что данное понятие должно включать широкий набор благ, причем не толь¬
ко материальных. Исследователи предлагают наборы из многих индикаторов для
оценки уровня жизни. В настоящее время в России используется разработанная
Госкомстатом модель из 56 показателей, а также предложенная Институтом со¬
циально-экономических проблем народонаселения РАН система из 49 показате¬
лей. В ООН (с 1989 г.) приняты две модели: одна из 50 и вторая из 14 индикато¬
ров в качестве минимального набора. Модели включают в себя показатели по
таким областям жизни, как занятость и условия труда, санитарно-гигиенические
условия, демографические характеристики, питание, доходы и расходы, стои¬
мость жизни и цены, образование и культура, социальное обеспечение, организа¬
ция отдыха и даже свобода человека. С 1990-х гг. в качестве обобщающего пока¬
зателя уровня жизни стал использоваться индекс человеческого развития, кото¬
рый учитывает долголетие, уровень образования и валовой внутренний продукт.
В определениях качества жизни акцент делается на степени удовлетворенности
населения жизнью с точки зрения столь же широкого набора потребностей1.
В данной главе в качестве показателей уровня жизни я буду использовать ре¬
альную заработную плату для промышленных и сельскохозяйственных рабочих,
реальные доходы и налоги для крестьянства, реальное жалованье для чиновников
и офицеров, реальные доходы для духовенства, а также питание, антропометри¬
ческие данные и индекс человеческого развития для всего населения. Оценить
реальную ценность зарплаты, доходов или жалованья можно только при условии
учета инфляции и изменения уровня цен. Поэтому начну с построения индекса
потребительских цен в России на основе петербургских данных.
Методика построения индекса потребительских цен
Источниками сведений о ценах и зарплате в Петербурге послужили приходо-
расходные книги, ведомости справочных цен и прейскуранты. Наибольшее число
169
Глава И. Уровень жизни
данных извлечено из приходо-расходных книг Комиссии о каменном в Москве
и С.-Петербурге строении за 1757—1800 гг.2, Первого кадетского корпуса за
1732—1803 гг.3, Кабинета его императорского величества4 и личного фонда То-
миловых и Шварцев5. Из справочных цен, регулярно собиравшихся полицией
с 1707 г., лучше всего сохранились сведения о ценах на зерно, муку, крупу и фу¬
раж6. При недостатке информации за первую половину XVIII в. важным под¬
спорьем является расчет средних шестилетних петербургских цен более чем 300
товаров за 1738—1743 гг., сделанный Коммерц-коллегией в 1744 г.7 К разряду
справочных относятся и таксы, устанавливаемые Петербургской полицией с 1741 г.
на мясо, мясные продукты и печеный хлеб. Расценка на мясо более или менее
регулярно, а на печеный хлеб изредка печаталась в «Санкт-Петербургских ведо¬
мостях» за 1746—1777 гг.8 С 1778 г. таксы перестали публиковаться, но газета
регулярно сообщала подрядные цены на самые различные товары и на труд.
С 1840 г. публикация таксы возобновилась в газете «Ведомости Санкт-Петер¬
бургской городской полиции». В 1832 г. Петербургская городская дума стала
издавать прейскуранты от своего имени (номенклатура товаров первоначально
включала 87 товаров; в 1853 г. она увеличилась почти до 200 и, кроме этого,
прейскуранты включали сведения о поденной зарплате строителей). К сожале¬
нию, за период до 1853 г. удалось обнаружить комплекты прейскурантов только
в РНБ за 183 2—18369, 1840 и 1845 гг. в газете «Посредник промышленности
и торговли». Возможно, за другие годы прейскуранты не публиковались. Лишь за
1853—1917 гг. мы имеем весь комплект прейскурантов, сохранившийся в РНБ10.
Существенный вклад в информационную базу вносят Петербургские прейску¬
ранты на экспортные и импортные товары за 1777—1804 гг. из Архива СПбИИ
РАН11, за 1806—1857 гг. — из РНБ12. Отдельные прейскуранты обнаружены
в РГИА и областных архивах. Сведения о ценах и заработной плате в исследуе¬
мое время публиковались время от времени и в других петербургских периоди¬
ческих изданиях13.
При обращении к оплате труда прежде всего встает вопрос: какую категорию
трудящихся изучать? Существует огромное число профессий, и почти одинаково
интересно знать, как изменялась зарплата у чиновников, священников, рабочих,
инженеров, военных, извозчиков, прислуги, служащих частных фирм. Однако
построить надежный динамический ряд для зарплаты любой профессии — задача
еще более трудная, чем получить ряд цен для какого-либо товара. Поэтому при¬
шлось сузить исследовательскую задачу и вынужденно ограничиться одной про¬
фессией, которая отвечает следующим требованиям: является массовая и распро¬
страненная в течение всего изучаемого периода; ее представители получают ти¬
пичную для многих лиц наемного труда зарплату, зависящую от конъюнктуры на
рынке труда и колебаний цен; характер труда в этой профессии и его дифферен¬
циация по уровню квалификации не испытывает существенных трансформаций
во времени и пространстве, тем самым удовлетворяет основному условию для
проведения межвременных, межрегиональных и международных сравнений; зар¬
плата в такой профессии с достаточной полнотой отражается в источниках. На
статус такой репрезентативной, или индикаторной, профессии могут претендо¬
вать каменщики, штукатуры, маляры, столяры и другие строительные профессии,
170
Методика построения индекса потребительских цен
но, пожалуй, в наибольшей степени — плотники. Еще в 1825 г. в Петербурге
4763 из всех 7126 домов, или 66,8 %, являлись деревянными14, на 1900 г. — 9639
из 23 988, или 40,2 %, и, кроме того, 1249, или 5,2 %, сделаны из дерева и кам¬
ня15. Все деревянные здания, естественно, построены плотниками.
Перепись 1900 г. зафиксировала 33 712 строительных рабочих, из которых
6427, или 19%, являлись плотниками16. Только прислуги и военных в столице
насчитывалось больше. Но и плотники в Петербурге были разные — одни рабо¬
тали на государственных заводах, другие — на частных фабриках, третьи обслу¬
живали дворцы и дома богатых людей, четвертые занимались строительством по
найму или по принуждению как крепостные либо дворовые, отданные в наем.
Поставленной исследовательской задаче более всего отвечают вольные плотни¬
ки-строители, нанимавшиеся на сравнительно короткие сроки (в весенне-летнее
или осенне-зимнее время) с поденной оплатой труда. В XVIII—первой половине
XIX в. зарплата отличалась разнообразием: платили и натурой (жильем, пайком,
земельными участками, строительными материалами и др.), и деньгами, и их
комбинацией. Кроме того, число праздничных дней и продолжительность рабо¬
чего дня существенно варьировали по сезонам и зависели от нанимателя. Под
влиянием указанных факторов поденная оплата труда отражает динамику зар¬
платы с наибольшей точностью.
Банк информации, созданный на основе перечисленных источников, позволя¬
ет получить непрерывные ряды цен для 40—88 товаров на протяжении 210 лет,
с 1703 по 1913 г. Сразу оговоримся: ряды далеки от идеала по нескольким при¬
чинам. Качество товаров в течение 200 лет изменялось и в источниках не всегда
указывалось, поэтому заключение о нем приходилось делать на основе сравнения
цен одноименного товара разного качества за другие годы. Даже у зерновых про¬
дуктов качество колебалось от года к году в зависимости от урожая. При перево¬
де объемных единиц (четверти, четверика, гарнца и др.) в пуды или килограммы
приходилось принимать их вес за величину постоянную, хотя она варьировала по
годам в зависимости от урожая и качества продукта. Кроме того, все зерновые
постепенно повышали свое качество, благодаря чему зерно тяжелело, а объемные
меры этого не учитывали. В результате четверть зерна — главная хлебная ме¬
ра— стала в конце XIX в. на 10 % тяжелее, чем в середине XVIII в. Цены на
сельскохозяйственные товары колебались по месяцам, в годы неурожаев и эпи¬
зоотий весьма существенно, а во многих случаях нет сведений за все или даже
большинство месяцев одного года. В пределах города существовало несколько
сфер торговли — розничная, мелкооптовая, оптовая, экспортно-импортная, и в
каждой из них цены одних и тех же товаров отличались: самые высокие — в роз¬
ничной, самые низкие — в оптовой торговле; различия достигали 20 % за один
и тот же товар равного качества. Некоторые товары производитель сбывал само¬
стоятельно в специально отведенном для этого месте, в определенное время и по
самой низкой цене. Чаще всего они скупались торговцами для последующей их
реализации из своих лавок и складов, но кое-что перепадало и предприимчивым
потребителям.
Среди данных встречаются все категории цен, поскольку в приходо-расход¬
ных книгах, как правило, фиксировались цены оптовых закупок, в справочных
171
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.1. А. П. Брюллов (1798—1877). Сенная площадь. 1822. Воспр. по:
Собрание видов С.-Петербурга и его окрестностей, 1821—1826. СПб., 1826
ведомостях — мелкооптовые и розничные цены, в таксах — розничные цены,
в биржевых прейскурантах — цены в экспортной крупно-оптовой торговле. Пол¬
ностью унифицировать все сведения невозможно. Но и преувеличивать степень
погрешности при их агрегировании также не следует.
Годовые цены, когда возможно, выводились на основе месячных, среднедеся¬
тилетние — на основе годовых. И в том и в другом случае средние не учитывали
количество проданного товара (не взвешивались, как говорят в статистике) из-за
отсутствия таких сведений. Применительно к зерну, количество которого осо¬
бенно существенно колебалось по сезонам и по отдельным годам, разница взве¬
шенных и невзвешенных цен находилась в пределах 5 %17.
В течение 210 лет изменялись единицы измерения, что потребовало перевода
всех мер в единую метрическую систему — в килограммы или литры, а при та-
jkom переводё неизбежны неточности. Существенные трудности создавали также
частые пертурбации в денежной системе России. Чтобы устранить их влияние,
все цены до 1840 г. переводились в серебряный рубль 1764 г., содержавший 18 г
чистого серебра, а с 1840 г. — в золотой рубль 1/10 империала, содержавший
1,1614 г чистого золота18, по курсу на Петербургской бирже19. Методика
построения динамического ряда цен отдельного товара такова: сначала учитыва¬
лись сведения самого богатого источника, затем пробелы заполнялись данными
из других источников. Как показал анализ хлебных цен, при объединении цен
172
Методика построения индекса потребительских цен
Рис. 11.2. Верхние торговые ряды, Москва. 1900-е
173
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.3. Торговые ряды у Покровской площади, С.-Петербург. 1912
Рис. 11.4. Торговые ряды на Сухаревской площади, Москва. 1900-е
174
Методика построения индекса потребительских цен
различных категорий в динамический ряд отдельные погрешности механически
не суммируются и не взаимопогашаются; в совокупности они могут дать
погрешность, до 10 % от истинной цены20. Вследствие этого построенные дина¬
мические ряды не всегда в состоянии правильно зафиксировать небольшие
(в пределах 10%) колебания цен, но при этом достаточно точно выявляют
тенденции в их изменениях.
На основе динамических рядов цен для отдельных товаров построен индекс
потребительских цен в Петербурге за 1703—1853 гг. и объединен в единый ряд
с индексом потребительских цен за 1853—1913 гг., вычисленным в 1920-е гг. со¬
трудником Института экономических исследований Госплана СССР В. Л. Далма-
товым и приведенным в работах С. Г. Струмилина под названием бюджетного
индекса21. Далматов, опираясь на цены 26 товаров22 из «Ведомостей Санкт-
Петербургской распорядительной думы о справочных ценах в С.-Петербурге» за
1853—1913 гг., построил три базисных субиндекса для: 1) продуктов питания;
2) жилища; 3) одежды и обуви; за базисную дату принят 1913 г. Субиндекс вы¬
числялся как невзвешенная средняя арифметическая23 индексов цен отдельных
товаров.
В процедуре построения индекса потребительских цен принципиально важны
два момента: 1) номенклатура товаров; 2) веса, или доли, отдельных товаров,
принимаемые при его расчете. Я попытаюсь построить индекс цен только това¬
ров, поскольку услугами рабочий пользовался очень редко, поэтому мой набор,
как и набор В. Л. Далматова, включает только товары. В нашем случае индекс
нужен для определения реальной зарплаты петербургских пролетариев и стоимо¬
сти жизни, поэтому он должен учитывать товары, входящие в потребительскую
корзину. Из большой их номенклатуры я выбрал 47 наиболее важных для рабо¬
чего товаров, имевших значение на протяжении всего изучаемого периода и к
тому же хорошо представленных в источниках. Из них двадцать относятся
к продуктам питания: 1) баранина, 2) водка, 3) говядина, 4) горох, 5) крупа греч¬
невая, 6) масло коровье, 7) масло постное, 8) мед красный, 9) мука пшеничная,
10) мука ржаная, 11) пшеница, 12) рожь, 13) сало коровье, 14) свинина, 15) сельдь,
16) снетки, 17) соль, 18) чернослив (он мало употреблялся в пищу простым наро¬
дом, но цены на него отражали цены фруктов), 19) яйца, 20) ячмень; девятна¬
дцать к жилищу: 1) бумага, 2) воск, 3) гвозди, 4) деготь, 5) дрова, 6) железо,
7) канаты, 8) кирпичи, 9) масло конопляное, 10) медь, 11) мел, 12) мыло, 13) овес,
14) пенька, 15) поташ, 16) проволока железная, 17) свечи сальные, 18) свинец,
19) холст хрящ; восемь к одежде и обуви: 1) башмаки мужские, 2) лен, 3) овчина,
4) полотно льняное тонкое, 5) сапоги мужские, 6) сукно сермяжное, 7) шерсть
овечья, 8) юфть (мягкая кожа специальной выделки).
При расчете общего индекса потребительских цен за 1703—1853 гг. исполь¬
зовалась та же методика, которой следовал В. Л. Далматов при построении су¬
биндексов за 1853—1913 гг. Сначала для всех 47 товаров подсчитан годовой ба¬
зисный индекс цен на основе месячных или квартальных цен (за базисный год
принят 1853 г.). Затем подсчитывался годовой субиндекс для товаров, входящих
в три группы: питание — 20 товаров, жилище — 19 товаров, одежда — 8 това¬
ров. Субиндекс вычислялся как невзвешенная средняя арифметическая индексов
175
Глава 11. Уровень жизни
цен товаров. 1853 год являлся последним для моих субиндексов и первым для
субиндексов Далматова, благодаря чему они легко соединились в единые дина¬
мические ряды с базисной датой 1913 г. Затем за каждый год субиндексы интег¬
рировались в общий индекс путем их взвешивания на доле товаров базисного
1913 г. по формуле средней арифметической (веса субиндексов: питание — 71 %,
жилище — 10 %, одежда — 19 %)24. В результате получался агрегатный базис¬
ный индекс цен этого года, взвешенный по весам базисного 1913 г. Следователь¬
но, подобно Далматову, я рассчитал индекс потребительских цен с постоянными
весами на уровне базисного 1913 г., так называемый индекс цен Ласпейреса L25.
Наконец, вычислялся средний субиндекс и общий индекс цен по десятилетиям —
на основе годовых индексов по формуле средней арифметической. Когда, как
в нашем случае, период, покрываемый индексом, большой, рекомендуется под¬
считывать средний индекс по формуле геометрической средней26. Однако, как
показал расчет, геометрическая и арифметическая средние столь мало различа¬
ются, что нет смысла отдавать предпочтение первой, поскольку в отечественной
литературе используется, как правило, средняя арифметическая.
Рис. 11.5. Уличные торговки. 1900-е
176
Методика построения индекса потребительских цен
Построение общего индекса потребительских цен требует знания весов для
субиндексов, которые я определил на основании бюджетов петербургских рабо¬
чих. Первые научные исследования их бюджетов проводились в 1907—1908 гг.27
известным экономистом С. Н. Прокоповичем28 ив 1911 г. — М. Давидовичем29.
О бюджетах более раннего времени мы можем составить представление по дан¬
ным о зарплате и по описаниям их потребления и условий жизни. На основе
имеющихся сведений можно предположить: в течение XVIII—XIX вв. никаких
радикальных изменений потребление русских пролетариев не претерпело. Про¬
стота и элементарность бюджетов 1908—1911 гг. это подтверждает (табл. 11.1).
Таблица 11.1
Затраты петербургских рабочих на отдельные товары и услуги в 1907—1908 гг.
на члена семьи в месяц
Статья расходов
Затраты рабочих, коп.
Затраты рабочих, %
семейных
одиноких
семейных
одиноких
Наем помещения
252
475
15
13
Отопление, освещение
65
34
4
1
Хозяйственные вещи
25
37
2
1
Питание
805
1387
49
37
Табак, алкоголь
83
300
5
8
Одежда, обувь
201
512
12
14
Стирка, гигиена
54
130
3
3
Лечение
21
34
1
1
Культурно-просветительные
потребности
54
172
3
5
Общественно-политические
потребности
20
61
1
2
Религиозные потребности
4
7
0
0
Помощь родным
36
407
2
11
Прочие расходы
31
164
2
4
Итого
1651
3720
100
100
Подсчитано по: Прокопович С. Н. Бюджеты петербургских рабочих. СПб., 1909. С. 9—17.
Данные табл. 11.1 показывают: 54 % доходов у семейных и 45 % у одиноких
рабочих (одинокие могли иметь семьи, проживавшие в деревне) шли на питание
(вместе с расходами на табак и алкоголь), 15—21 % — на оплату квартиры и свя¬
занных с ее содержанием расходов, 15—17 % — на одежду, обувь и белье; на
удовлетворение духовных потребностей тратилось всего 5 % дохода у семейных
и 7 % у одиноких рабочих; родственникам в деревню переводилось — соответст¬
венно 2 и 11 % доходов. На лечение уходило очень мало денег — около 1 % всех
расходов, по той причине, что рабочие, как правило, являлись молодыми и здо¬
ровыми, а когда наступала старость, уезжали в деревню. Их малолетние дети
часто также находились в деревне с женой или родственниками. Не зафиксиро¬
ваны расходы на транспорт и на уплату прямых налогов, так как рабочие жили
177
Глава 11. Уровень жизни
вблизи работы или прямо на предприятиях и от налогов по закону освобожда¬
лись. Примерно такая же структура бюджета существовала в XVIII в. и в первой
половине XIX в. — самая весомая часть расходов шла на питание, состоявшего
преимущественно из растительной пищи, затем — на жилище, одежду, обувь
и совсем ничтожные — на удовлетворение духовных потребностей30.
Бюджеты рабочих Петербурга, наиболее продвинутых в культурном отноше¬
нии, и других крупных городов (Петербург — 1,6 млн без войск, Киев — 530 тыс.
и Баку — 128 тыс. жителей в 1910 г.)31 мало различались как по величине, так
и по структуре (табл. 11.2).
Таблица 11.2
Расходы семейных рабочих в Петербурге, Баку, Киеве и Богородске
в 1907—1912 гг. на члена семьи в месяц (%)
Расходы
Петербург,
1907—1908 гг.
Баку,
1909 г.
Киев,
1912 г.
Богородск,
1908—1909 гг.
Жилище, в том числе:
20,7
21,1
24,4
15,2
квартирная плата
15,3
6,8
16,4
6,9
отопление, освещение
3,9
12,2
5,9
8,2
хозяйственные вещи
1,5
2,2
2,1
0,1
Питание
48,8
45,4
47,1
57,3
Табак, алкоголь
5,0
5,5
3,7
4,2
Одежда, обувь
12,2
13,6
13,3
10,1
Стирка, гигиена
3,3
3,3
2,9
2,0
Лечение
1,3
0,9
1,5
0,0
Все духовные потребности,
в том числе:
4,7
3,6
4,2
1,3
культурно-просветительные
3,3
2,8
3,5
0,5
общественно-политические
1,2
0,5
0,5
0,0
религиозные
0,2
0,3
0,2
0,8
Помощь родным
2,2
3,1
0,3
2,2
Прочие расходы
1,9
3,4
2,9
7,8
Итого, %
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого, руб.
16,5
16,2
13,0
7,4
Подсчитано по: Овсянников В. С. Довоенные бюджеты русских рабочих // Вопросы труда.
1925. №9. С. 69. ,
Несущественные отличия в составе расходов объяснялись главным образом
разницей в ценах на продовольствие: в столице они были в 1,5—2 раза выше, чем
в Киеве и Баку. Более заметны и значимы различия в бюджетах крупных и малых
городов, если о последних судить по Богородску — уездному городу Московской
губернии с населением в 16 тыс. в 1910 г.: расходы на питание в нем на 10%
выше, а на жилище, одежду и культурные нужды на столько же ниже. В период
империи столица в культурном отношении и по укладу жизни обгоняла провин¬
178
Методика построения индекса потребительских цен
цию на 50 лет и более. Однако если из расходов петербургских рабочих 1907—
1908 гг. исключить те, которых нет или почти нет у богородских рабочих, — на
квартирную плату, помощь родственникам и культурные потребности, то бюд¬
жеты по своей структуре будут похожими. Структуру расходов петербуржцев
в 1907—1908 гг. без натяжки можно принять за веса для расчета общего бюд¬
жетного индекса цен для всего изучаемого периода.
Я исключил из потребительской корзины рабочих расходы на помощь род¬
ным, удовлетворение духовных потребностей и на квартирную плату. Деньги,
шедшие на помощь родственникам, расходовались последними примерно так же,
как теми, кто ее оказывал. Учет расходов на культурно-просветительные, обще¬
ственно-политические и религиозные потребности серьезно усложнит методику
расчета, а коррекция будет крайне незначительной по причине мизерности таких
расходов — 5,7 % бюджета. Кроме того, сведений о таких расходах недостаточ¬
но, да и наша задача ограничивается построением индекса товарных цен. Два
последних соображения, а также тот факт, что многие рабочие жили в своих до¬
мах в пригородах, у родственников или в казармах с платой лишь за дрова и свет,
побудили отказаться и от учета квартирной платы.
Оставшиеся расходы объединим в три группы: питание, жилище и гардероб.
В статью «Питание» входят расходы на пищу, табак, алкоголь и лечение, так как
во время болезни большая часть денег расходовалась на дополнительное пита¬
ние, а само лечение состояло в употреблении водки или горячего молока. Статья
«Жилище» интегрирует все расходы на жилище и гигиену, кроме квартирной
платы: отопление, освещение, ремонт, покупка мебели, посуды, керосина — и,
кроме того, на стирку, баню и парикмахерскую. Статья «Гардероб» суммирует
расходы на одежду, обувь и белье (табл. 11.3).
Таблица 11.3
Основные статьи расходной части бюджета петербургских рабочих
в 1907—1908 гг. на члена семьи в месяц
Статья расхода
Расходы рабочих, коп.
Расходы рабочих, %
семейных
одиноких
в среднем
семейных
одиноких
в среднем
Питание,
в том числе:
909,0
1721,0
1283,7
72,5
70,7
71,4
пища
805,0
1387,0
1073,5
64,2
57,0
59,7
табак, алкоголь
83,0
300,0
183,1
6,6
12,3
10,2
лечение
21,0
34,0
27,0
1,7
1,4
1,5
Жилище,
в том числе:
144,0
201,0
170,3
И,5
8,3
9,5
отопление,
освещение
65,0
34,0
50,7
5,2
1,4
2,8
мебель и пр.
25,0
37,0
30,5
2,0
1,5
1,7
стирка, гигиена
54,0
130,0
89,1
4,3
5,3
5,0
Г ардероб
201,0
512,0
344,5
16,0
21,0
19,2
Итого
1254,0
2434,0
1798,5
100,0
100,0
100,0
Источник указан в примеч. к табл. 11.1.
179
Глава II. Уровень жизни
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
На основании сделанных расчетов получаем общий индекс цен с двумя базо¬
выми датами — 1913 г., обеспеченный самыми качественными данными, и
1703—1710 гг. (табл. 11.4 и рис. 11.6).
В имперский период общая тенденция в движении как петербургских цен, так
и общероссийских была повышательной: за 210 лет, 1703—1913 гг., они выросли
почти в 6,3 раза и испытали настоящую революцию, оказавшую серьезное воз¬
действие на все стороны жизни. К сожалению, первое десятилетие существова¬
ния Петербурга плохо обеспечено источниками, поэтому приходится прибегать
к экстраполяции. Но поскольку за базу при построении индексов принят 1913 г.,
это не повлияло на общий результат. Понижение общего индекса цен наблюда¬
лось только в трех из 20 десятилетий — в 1811—1830 и 1891—1900 гг., хотя це¬
ны на отдельные группы товаров падали чаще: 4 десятилетия на питание и жи¬
лище и 6 десятилетий на одежду и обувь. Рост цен проходил неравномерно: в 3,7
раза — в первое столетие существования столицы, в 1703—1810 гг., и в 1,7
раза— в следующие 100 лет. Революция цен свершилась в основном в XVIII в.
Она объяснялась вступлением страны в мировой рынок и участием в междуна¬
родном разделении труда в качестве страны, экспортирующей сырье и импорти¬
рующей промышленные товары.
С началом российской революции цен европейский рынок и западноевропей¬
ская культура пришли в Россию и стали ее трансформировать на свой лад, и про¬
цесс этот также продолжается до сих пор. До XVIII в. глубина охвата России
и других европейских стран различными социальными, экономическими, куль¬
турными и политическими процессами существенно различалась. Например, за¬
крепощение населения в России, как нигде, было всеобъемлющим и глубоким;
наоборот, урбанизация, индустриализация, распространение грамотности, секу¬
ляризация массового общественного сознания даже к 1917 г. не успели глубоко
захватить российское общество. Ренессанс, Реформация, Контрреформация
и научно-техническая революция XVII—XVIII вв. либо обошли Россию сторо¬
ной, либо затронули ее поверхностно. Только в XVIII в. Россия по-настоящему
присоединилась к остальной Европе и стала составлять вместе с ней единое
культурное, экономическое и информационное пространство, испытывать те же
процессы и явления, происходившие там, правда, все равно с известным опозда¬
нием и иной интенсивностью.
Синхронность в движении цен в России и на Западе может служить хорошим
индикатором интенсивности контактов между ними. До XVIII в. в их динамике
не наблюдалось никакой согласованности. Революция цен, постепенно охваты¬
вавшая Европу в XVI—XVII вв. с запада на восток, включая Прибалтику, Поль¬
шу, Скандинавские страны и Австрию, остановилась у российской границы.
В результате асинхронного изменения цен в течение нескольких столетий на ру¬
беже XVII—XVIII вв. индекс цен, выраженных в граммах серебра или золота,
в России оказался примерно в 5—6 раз ниже, чем в ведущих западноевропейских
странах, — вот реальный показатель уровня контактов. Экономические связи
между Россией с Западом являлись совершенно недостаточными для включения
180
Индексы цен и зарплаты плотников в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
Индекс
реальной зарпла¬
ты, 1703—
1710 гг. = 100
о
о
о
о
ON
ON
о
о
о
С*-
сч
г-
гч
г*-
сч
с-
сч
00
«п
ON
109
128
132
146
150
154
134
133
Общий
индекс цен,
1703—
1710 гг. = 100
о
о
120
146
157
40
183
190
210
L9Z
306
365
335
301
333
346
г*-
ON
СП
431
479
Индекс
реальной
зарплаты
66,0
59,7
65,5
66,3
45,9
47,2
СП
г-Г
47,4
54,1
62,8
71,8
in
00
00
Г96
99,1
101,7
40
00*
00
87,5
Индекс
номинальной
зарплаты**
10,1
11,0
14,7
»п
11,3
13,2
13,7
(N
in
22,1
29,4
40,1
43,3
40,1
оо"
52,4
61,7
58,5
64,1
Общий индекс цен*
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
сер.
кред.
кред.
кред.
кред.
<
15,3
18,4
22,4
23,9
24,6
28,0
29,0
32,1
40,9
46,8
00
in
in
51,2
46,1
50,9
52,9
60,7
66,0
73,3
Субиндексы цен*
Гардероб
о
сч
21,5
»п
сч
г-Г
сч
32,9
32,0
гч
40
СП
г*-
оС
СП
54,8
66,0
74,0
80,6
in
С*-
75,4
71,3
68,3
64,4
62,7
Жилище
8,8
9,3
00
сч
13,6
13,4
in
in
16,7
20,7
25,5
32,9
30,3
29,8
27,6
29,9
33,0
44,5
61,0
Питание
14,7
18,9
23,0
24,4
24,0
28,8
28,9
32,3
40,0
44,7
54,2
46,3
40,5
47,6
51,2
62,5
69,5
77,8
Годы
1703—1710
1713—1720
1721—1730
1731—1740
1741—1750
1751—1760
1761—1770
0
00
1
г*-
1781—1790
о
о
00
J.
г*-
о
00
J.
о
00
1811—1820
1821—1830
1831—1840
о
in
00
J.
00
1851—1860
1861—1870
о
00
00
J.
г*-
00
Окончание табл. 11.4
Индекс
реальной зарпла¬
ты, 1703—
1710 гг. =100
109
133
142
148
152
Общий
индекс цен,
1703—
1710 гг. = 100
508
494
553
632
654
Индекс
реальной
зарплаты
VZL
88,0
00^
сп
OV
97,7
•
*
©^
о*4
о
Индекс
номинальной
зарплаты**
56,1
66,5
79,3
94,5
•
•
•
o'
о
Общий индекс цен*
t£
кред.
зол.
зол.
зол.
зол.
<
00
Гг-
75,6
ЧО
Tt
00
96,7
о
о"
о
Субиндексы цен*
Г ардероб
74,2
77,6
91,3
99,1
о
о"
о
Жилище
67,4
сп
Гг-
СП
СП
00
95,4
100,0
Питание-
(N
o'
00
75,3
83,0
96,2
100,0
Годы
о
Ov
00
7
00
00
1891—1900
1901—1910
1911—1913
1913
§
т
<и
3
3
х
ed
х
S
X
S
х
Т
о
о
т*
00
On
VO
Г-
о. s
3 В-
ю
CL
X
3
£ «5
£ §
ю s
<L> Q.
W М
° 3
gs
CD
3
X
1Г>
ю
CL
<L>
з ;
i’g.
§ S'
* h
I |5
W 8
• « CQ
« v
§ l
8 ч
£ 8
I юг
J-£
5 fli
«1
)S О
О 5
33 §
x 2
<L> ed
Э *
8 5*
£ CL
ЯВ *
<L>
£ s
£. э
° £
D D
2.§
О **
x *
II
< §
* SJ
О u S
r- u ^
t: 2 я
£ 2 §
111
Ov b
X 00 о
s — О
В ffl u
g юг2
g £2
1=0 X ffl
3 Л д
5 | g
S§i
§■§■1
00 ^
CQ X
qj l—
H I ed
X H
S «л
M Ov
о 00
(L> T
si
X Ti¬
ed 00
cd oo й
g
и и
Я г S
5 ю 2
3 >•*
g *■«
S й с3*
S 2 u
о
S
X
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
Года
- - - -Общий индекс цен —£г—Номинальная зарплата Реальная зарплата
Рис. 11.6. Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг. (1913 г. = 100).
Составлено по данным табл. 11.4
Рис. 11.7. Продажа баварского пива, яиц и булок на Пасхальной неделе
в Екатерингофском парке. 1895
183
Глава 11. Уровень жизни
страны в мировой рынок, а ведь они были намного интенсивнее, чем культурные
контакты. Отсюда очевидно, как мало общалась Россия с остальной Европой до
XVIII в. в экономическом, да и других отношениях также. Зато в следующемсто-
летии в России наблюдался компенсационный рост. Повышение цен в XVIII—
начале XIX в. оказалось более значительным, чем на Западе за несколько преды¬
дущих столетий, благодаря чему разрыв в ценах сократился до двукратного.
В следующем столетии цены в России и остальной Европе колебались согласо¬
ванно, разрыв между ними на рубеже XIX—XX вв. сократился до возможного
минимума и составлял всего 20—30 % — до величины транспортных издержек:
твердое доказательство того, что Россия вполне интегрировалась в мировую эко¬
номику. Таким образом, согласованность в динамике российских и западноевро¬
пейских цен является тестом на интенсивность всех вообще связей между Росси¬
ей и Западом: она свидетельствует о незначительности контактов до XVIII в., их
бурном, компенсационном росте в XVIII в., об их успешном развитии вплоть до
Первой мировой войны, о начале интеграции России в Европу с XVIII в. и о ее
включенности в мировой рынок и мировой культурный процесс с XIX в.32 Срав¬
нение хлебных цен в России и Западной Европе хорошо этот процесс показывает
(табл. 11.5).
Таблица 11.5
Соотношение цен на хлеб в России и Западной Европе в XVII—начале XX в.
(в граммах золота: цены в России = 100)
Культура
1651—
1700 гг.
1701—
1750 гг.
1751—
1800 гг.
1801—
1850 гг.
1891—
1910 гг.
Рожь
661
507
316
248
127
Овес
556
482
308
237
130
Пшеница
423
357
225
170
109
Ячмень
700
511
304
234
126
В среднем
585
464
288
222
123
Источники: Миронов Б. Н.: 1) Революция цен в России XVIII в. // ВИ. 1971. № 11.
С. 54 ; 2) Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв.). Л., 1985. С. 111.
В течение XVIII в. цены трех групп товаров изменялись более или менее со¬
гласованно, но с начала XIX в., стала нарастать асинхронность. К 1913 г. по
сравнению с 1801—1810 гг. цены увеличились на одежду, обувь и белье в 1,34
раза, на продукты питания — в 1,77 раза, а на лесные материалы, продукты их
обработки и бортничества, товары кустарного производства, формировавших
в основном группу товаров под условным названием «жилище», — воск, деготь,
дрова, канаты, мыло, пенька, поташ, свечи — в 2,9 раза. Эти различия в росте
цен, скорее всего, объясняются тем, что до начала XIX в. производительность
труда в разных отраслях народного хозяйства изменялась достаточно равномер¬
но, а с приходом промышленной революции — сильно асинхронно. Одежда,
обувь и белье к 1913 г. стали производиться в основном на фабриках и достав¬
ляться потребителю на паровом транспорте, вследствие чего подешевели. Произ¬
водство же продовольствия было затронуто технологической революцией намно¬
184
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
го слабее, чем промышленность, соответственно и производительность труда там
повысилась в меньшей степени. Но благодаря железным дорогам и пароходам
доставка тяжелых сельскохозяйственных товаров существенно подешевела.
Вследствие этого цены на сельскохозяйственные товары выросли больше, чем на
промышленные, но скромнее, чем на лесные и кустарные. Изготовление послед¬
них почти не испытало промышленной революции, а их транспортировка, в осо¬
бенности леса и дров, которые по-прежнему в основном сплавлялись по ре¬
кам, — лишь в слабой степени. Поэтому производительность труда в этой отрас¬
ли повысилась в минимальной степени. Отсюда и максимальный рост цен на эти
товары. Динамика цен на отдельные товары, таким образом, проливает дополни¬
тельный свет на важные перемены в характере труда в разных отраслях народно¬
го хозяйства.
В контексте проблемы благосостояния кардинальное значение имеет влияние
цен на заработную плату. Как видно из табл. 11.4, номинально зарплата плотни¬
ков за 210 лет повысилась почти в 9,4 раза, а реально, с поправкой на инфля¬
цию, — всего в 1,5 раза. Если говорить о динамике, то в самом общем виде мож¬
но сказать: в XVIII в. реальная зарплата имела тенденцию понижаться, хотя
в отдельные периоды, например в 1721—1740 и 1780—1790-х гг., она росла.
Низшая точка пришлась на 1740-е гг. — 31 % меньше, чем в 1703—1710 гг. За¬
тем 40 лет наблюдалась стагнация, а с 1780-х гт. происходило повышение
зарплаты, но и в 1791—1800 гт. она не достигла уровня 1703—1710 гг. Конечно,
падение на треть — это очень существенно, учитывая, что и в конце XVII в. она
не была высокой.
В первой половине XIX в., вплоть до Крымской войны, реальная зарплата
росла и в 1850-е гг. в 1,5 раза превысила уровень 1703—1710 гг. Затем в течение
3 десятилетий, 1861—1890 гг., она понизилась в 1,4 раза, почти приблизившись
к отметке начала XVIII в., но в последующие годы, вплоть до 1914 г., она вырос¬
ла в 1,4 раза.
В итоге реальная зарплата в XVIII в. снижалась; в 1801—1810 гг. она возвра¬
тилась к уровню 1703—1710 гг. и в течение всей первой половины XIX в. пре¬
вышала его на 25—54 %. В пореформенное время зарплата была ниже, чем
в середине XIX в., и только к 1913 г. достигла уровня середины XIX в. — кануна
Великих реформ. Колебания зарплаты, антропометрических показателей и каче¬
ства питания отличаются согласованностью.
Наполним сухие цифры индекса цен и зарплаты конкретным содержанием
и ответим на вопрос: что можно было купить на среднюю зарплату рабочего?
В табл. 11.6 и рис. 11.8 включены цены немногих важнейших товаров, состав¬
лявших основу потребления в изучаемое время. Как видим, в 1913 г. на зарплату
плотника можно купить всех товаров, кроме молока, больше, чем в XVIII в.,
а сравнительно с 1853 г. продуктов растительного происхождения: муки, крупы,
масла постного, меда, сахара, а также яиц — больше, продуктов животного про¬
исхождения: говядины и масла коровьего — и, кроме того, рыбы и водки —
меньше. Напомню, сахар в XVIII и первой половине XIX в. являлся роскошью
(вместо него трудовой народ употреблял мед), а сухие снетки широко использо¬
вались для приготовления супа.
185
Покупательная сила средней месячной зарплаты плотника в С.-Петербурге в 1711—2003 гг.
о
а*
а
£
| 2003 г. |
о
о &
| 606 1
1 455 |
пшп
| 222 |
-
| 606 |
1 Ю5 |
1 500 |
! 63 |
1 125 |
1 476 |
57 1
[ 5154 |
1
1
■
1
о Ю
8 £
1 455 |
1 556 |
1 227 |
1 56 |
1 HI 1
1 56 |
1 455 |
1 53 |
1 250 |
1 31 |
1 63 |
1 143 |
1 29 |
| 2577 |
1
1
1
1
О *0
о ^
1 364 |
| 444 |
1 182 |
1 44 |
1 89 |
1 44 |
1 364 |
1 42 |
о
о
(N
1 25 |
1 50 |
TJ-
1 23 |
| 2062 |
|
1
1
1
8 ю
о ^
ГМ О.
1 182 |
1 222 |
ON
1 22 |
1 44 |
1 22 |
1 182 |
N
1 100 |
1 25 |
1 57 |
| 1031 |
1
1
1
1
1985 r.
| 628 |
1 628 |
1 475 |
1 75 |
1 136 |
1 62 |
00
NO
О
'
1 248 |
1
1 164 |
| 207 |
1 20 |
| 3712 |
>
ON
1 54 |
го
1913 r.
го
NO
Г"
1 373 |
1 516 |
1 135 |
1 145 |
Г"
го
1 182 |
1 144 |
1 129 |
1 77 |
1 92 |
00
00
1 70 |
| 2752 |
ГО
о
96
1853 r.
| 644 1
1 324 |
1 501 |
1 152 |
1 78 |
1 217 |
1 66 |
1 149 |
Г"
| 669 |
1 76 |
2580 |
-
1 20 |
1 176 |
Г"
1801—
1810 гг.
1 489 |
1 236 |
| 280 |
1 157 |
1 74 |
1
00
00
1 172 |
1
| 840 |
о
о
| 1771 |
го
1 ?4 I
NO
1
1761—
1770 nr.
1 237 |
о
1 194 |
1 Ю7 |
1 52 |
го
го
1 185 |
1 27 |
0
3
го
I/O
1 857 |
1 22 |
1 П42 |
I/O
О
1 55 |
43
1711—
1714 гг.
1 156 |
1 72 |
1 128 |
1 122 |
1 48 |
го
| 490 |
1 62 |
Г"
1 65 |
1 77 |
33 |
1362 |
ON
ON
3
43
Ед. изм.
U
*
U
*
)
и
X,
U
*
u
U
*
Ur
и
*
U
*
U
*
U
*
к
U
*
пара |
пара |
5
Товар
| Мука ржаная
| Мука пшеничная
| Крупа гречневая |
| Говядина |
| Масло постное
| Масло коровье |
| Молоко
1 Мед
| Сахар
| Снетки
| Рыба |
ГЯйцд 1
I Водка 1
| Итого продуктов \
| Сапоги |
| Башмаки |
| Полотно льняное
Сукно сермяжное
О г ^
6s. §
« * г.
х и
g о
Р On
fe ON
* ~
О
а
си
О. Н rj
гм
г-
Ь и
2
5
к _
г- “
2 си
и
-ге
^ и
• си
ю ^
о
о
чО
§
а-
S *
5 чО
>5 го
W —<
М I
О
х Л
ГО
О —1
cd
м
§и
£8
s ЗП on
1§Ы
О . *
« и ®
о . *
х г- 9
о 00 о
32 Ь
Iе:
S и?
1:
& ;
§ S
ж
05
М
О
X
V
о
X
§
6
а;
и
го
ON
О
4
3
ю
о
X
*
о
5
*/о
00
ON
U
3
О-
1
X
со
о
I
а.
£§
со 'О
^ СО
3 м
х g
g £
§ I
: *
£ S
№ 05
* 8
>% о
e? со
o 5:
c
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
120 л
1703-10 1741-50 1771-80 1781-90 1851-60 1881-90 1913
Годо
Рис. 11.8. Покупательная сила зарплаты плотника в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
(продовольственные товары, 1913 г. = 100). Составлено по данным табл. 11.6
Таким образом, в 1913 г. сравнительно с 1850-ми гг. дорогих продуктов, бога¬
тых животными белками, можно было купить меньше, а дешевых хлебных про¬
дуктов — больше. Это объясняет, почему в рационе крестьян, проживавших
в деревне, и горожан в пореформенное время доля хлебных продуктов несколько
увеличилась, а мясных и молочных на столько же сократилась: относительное
подорожание продуктов животноводства изменило структуру потребления, тем
более что люди, занятые физическим трудом, хлеб предпочитали мясной
и молочной пище. Если вес всех продуктов, которые можно купить на зарплату,
принять за ее покупательную силу в отношении продовольственных товаров, то¬
гда получается: в 1913 г. реальное значение зарплаты в 2 раза весомее, чем
в 1713—1714 гг., на треть больше, чем в 1801—1810 гг., и практически равно
уровню 1850-х гг.
Накануне падения советской власти, в 1985 г., покупательная способность
плотницкой зарплаты была в 1,35 раза выше, чем в 1913 г., и в 2,7 раза — чем
в 1713—1714 гг. Однако это превосходство обеспечивалось в основном за счет
дешевого хлеба и молока.
А что мы имели на 300-летнюю годовщину Санкт-Петербурга в 2003 г.?
Плотник в государственном секторе мог купить примерно столько же продуктов,
как в 1853 г. во времена крепостничества, и на 6% меньше, чем в 1913 г. Зато
работая в частном секторе и зарабатывая 10 тыс. руб., в 2003 г. он мог купить
продуктов в 3,78 раза больше, чем в 1713—1714 гг., почти в 2 раза больше, чем
в 1853 г., ив 1,78 раза больше, чем в 1913 г. Однако некоторых продуктов — мя¬
са, меда, снетков и водки — он мог купить меньше, чем в 1853 и 1913 гг. Меньше
он мог купить одежды и обуви.
Люди с заработком 2—3 тыс. руб. на свою зарплату в 2003 г. могли купить
больше только молока, а всех остальных продуктов меньше, чем мог купить
плотник в 1913 г., и значит меньше, чем в 1853 г. — во времена крепостного пра¬
187
Глава 11. Уровень жизни
ва. Те, кто зарабатывают 4—6 тыс., могут купить больше молока, масла сливоч¬
ного, сахара и хлеба пшеничного, остальных продуктов меньше. Даже люди
с заработком 10 тыс. руб. на свою зарплату могли купить меньше мяса, меда,
крупы гречневой, снетков и водки, чем в 1913 или в 1853 г. Напомню, что в 2002 г.
средняя по России зарплата работников в сфере образования, культуры и здраво¬
охранения составляла 3—3,2 тыс. руб., а промышленных рабочих — 6—6,5 тыс.
руб. в месяц. Следовательно, покупательная сила зарплаты преобладающего чис¬
ла тружеников, занятых в государственном секторе в 2003 г., была меньше, чем
100—150 лет тому назад. Однако, согласно данным Федеральной службы госу¬
дарственной статистики (http://cbsd.gks.ni/#), в последующие 10 лет реальные
доходы петербуржцев существенно выросли и благодаря этому в 2013 г. реальная
ценность зарплаты сравнительно с 1913 г. стала выше примерно в 1,5 раза.
До сих пор все расчеты делались без учета выплат из общественных фондов
потребления, которые существовали как в досоветское, так и в советское и постсо¬
ветское время. Оценка величины общественных фондов до 1917 г. не производи¬
лась. В советскую эпоху они были значительны: в 1940 г. среднедушевые выпла¬
ты из общественных фондов составляли 15 % от средней зарплаты, в 1985 г. дос¬
тигли 21 %. В 1990-е гг. их значение понизилось, но с 2000 г. Стало вновь расти:
в 1999 г. все социальные трансферты составляли 13 % от фонда зарплаты, в 2002 г. —
29 %. Благодаря общественным фондам доходы трудящихся существенно увели¬
чивались (табл. 11.7).
Таблица 11.7
Покупательная способность зарплаты плотника вместе
с социальными трансфертами в 1913,1985 и 2003 гг.
Продукты
Ед. изм.
1913 г.*
1985 г.
2003 г.
5578 руб."
10 578 руб."*
Мука ржаная
кг
763
847
507
962
Мука пшеничная
кг
373
847
620
1175
Крупа гречневая
кг
516
640
254
481
Г овядина
кг
135
101
62
118
Масло постное
кг
145
183
124
235
Масло коровье
кг
37
84
62
118
Молоко
л
182
1440
507
962
Мед
кг
144
144
59
111
Сахар
кг
129
335
279
529
Снетки
кг
77
77
35
66
Рыба
кг
92
222
70
132
Яйца
кг
88
167
159
302
Водка
л
70
26
32
60
Итого
кг
2752
5114
2769
5250
Индекс
100
186
101
191
Без учета социальных трансфертов.
* В государственном секторе.
В частном секторе.
188
Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—1913 гг.
С учетом выплат из общественных фондов доход рабочих в 1985 г. по своей
покупательной силе был в 1,86 раз больше, чем в 1913 г., и почти в 2 раза, чем
в 1853 г., но в 2003 г. в государственном секторе он все равно был меньше, чем
в 1913 г., так как на 1913 г. мы не можем учесть социальные трансферты, а они,
конечно, были больше, чем 1 % от зарплаты. В 2003 г. только в частном секторе
доход рабочих был существенно больше, чем в 1913 г. И хотя в 2003 г. в частом
секторе рабочие получали из общественных фондов намного меньше, чем
в государственном, их значение для них не было столь существенным, так как
они имели высокую зарплату.
Насколько выводы, полученные на примере плотников, можно распростра¬
нить на других работников наемного труда, другими словами, как соотносилась
зарплата плотников и представителей других профессий? В целом за 1853—1910 гг.
средняя поденная зарплата плотника средней квалификации составляла 106 коп.,
а шести важнейших строительных профессий — плотника, каменщика, маляра,
слесаря, столяра и штукатура — 117 коп., или на 10 % больше, а чернорабоче¬
го — 71 коп., или на 33 % меньше33. Средняя зарплата в промышленности чаще
всего определялась помесячно, а исследователями вычислялась погодно. Для
перевода на поденную оплату необходимо знать число рабочих дней (месяце
и году). По моим ориентировочным подсчетам, в 1885 г. оно равнялось при¬
близительно 264, в 1904 г. — 268, в 1913 г. — 25734. Исходя из среднегодовых
заработков35 можно предположить: в 1885—1913 гг. средняя поденная оплата
петербургских вольнонаемных фабрично-заводских рабочих была на 18—26 %
ниже, чем у плотников-строителей, а у чернорабочих в промышленности —
на 15 % меньше, чем в строительстве. Однако по годам и в особенности по
десятилетиям оплата труда в строительстве и промышленности изменялась
достаточно синхронно: с 1720—1729 по 1911—1913 гг. у первых выросла
в 5,5 раза, у вторых — в 6,4 раза. Это, возможно, объясняется тем, что поден¬
ная оплата быстро реагировала на экономическую конъюнктуру, в то время
как фиксированная зарплата у постоянных рабочих — с опозданием по отно¬
шению к инфляции. Кроме того, на протяжении всего периода империи Пе¬
тербург бурно развивался, в городе существовал повышенный спрос на строи¬
телей, что поддерживало их зарплату на более высоком уровне сравнительно
с другими категориями рабочих. Таким образом, в XVIII—начале XX в. ре¬
альная зарплата у плотников-строителей была на 15—26 % выше, чем у дру¬
гих категорий рабочих, но ее изменения у всех происходили синхронно. Сле¬
довательно, выводы, полученные на основе анализа зарплаты петербургских
плотников, в принципе могут быть распространены на всех вольнонаемных
рабочих.
Казенные рабочие, сравнительно с теми, кто работал на частных предпри¬
ятиях, обладали привилегиями: пенсиями, медицинским обслуживанием, пай¬
ком; обеспечивались жильем, землей, дровами и продуктами питания по льгот¬
ным расценкам; имели возможность содержать подсобное хозяйство и скот, что
служило важным подспорьем в питании. В случае ухудшения условий труда
и жизни они апеллировали к властям, и их требования, как правило, находили
понимание.
189
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.9. Бани братьев Егоровых (С.-Петербург, М. Сампсониевский пр., 5—7).
Банщики моют посетителей в мыльне. 1900-е
Однако рабочие — это далеко не все работники наемного труда и тем более
не все жители Петербурга. В 1857 г., накануне Великих реформ 1860-х гг., чис¬
ленность всех людей, работавших временно или постоянно по найму, достигала
200 тыс. — 40 % от всех жителей столицы (495 тыс.). Из них около 50 тыс. явля¬
лись строителями и лишь 19 тыс. — промышленными рабочими. Заработки
у перечисленных категорий и плотников различались не принципиально. Кроме
того, дворовые крестьяне (56,5 тыс.), канцеляристы, церковнослужители (пса¬
ломщики, звонари, чтецы и пр.), солдаты и унтер-офицеры (41 тыс.), с точки зре¬
ния питания, одежды и жилищных условий, мало отличались от квалифициро¬
ванных рабочих. Положение мещан (48,3 тыс.) и цеховых (10,8 тыс.) было лучше,
но не принципиально. И только классные чиновники (около 30 тыс.), купцы
(9,7 тыс.), иностранцы (11,8 тыс.), священники, неслужащие помещики, офице¬
ры — всего 50—60 тыс. чел., или 10—12 % горожан36, имели более высокие жиз¬
ненные стандарты.
В пореформенную эпоху социальная структура столичного населения изме¬
нилась и к 1900 г. приняла следующий вид: 631 тыс., или 50,6 % общей числен¬
ности (1248 тыс.), составляли лица, занятые в промышленности, на транспорте
и в торговле, и члены их семей, из них 442 тыс. — собственно рабочие, в том
числе 260 тыс. — фабрично-заводские37. Все они имели зарплаты, сопоставимые
с плотницкими. Буржуазия (7,8%) и менеджеры (1,8%), лица свободных про¬
190
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII— начале XX в.
фессий (5,3 %), рантье (3,2), чиновники (5,3 %), офицеры и священники
(0,6 %) — всего около 24 % всех жителей38 получали более высокие доходы.
В советское время зарплата плотников, рабочих других профессий и служа¬
щих и специалистов мало различалась. В постсоветское время доходы плотников
примерно соответствовали зарплате квалифицированных рабочих, уступали до¬
ходам служащих и особенно специалистов в частном секторе, но превосходили
доходы работников наемного труда в государственном секторе. Следовательно,
зарплата плотников до 1985 г. отражала динамику зарплаты других категорий
рабочих, служащих и специалистов, занятых в разных отраслях городской эко¬
номики, а после 1990 г. — только рабочих39.
Петербургские цены, как и общероссийские, в XVIII—начале XX в. за 200 лет,
1713—1913 гг., выросли почти в 5,3 раза и испытали настоящую революцию,
которая повлияла на все стороны жизни. Революция цен имела серьезные по¬
следствия, сказавшись прежде всего на доходах трудящихся Петербурга. Анализ
динамики реальной зарплаты приводит к сенсационным выводам. В «золотом»
XVIII в. рабочие люди жили хуже, чем в «железном» XIX в. и «серебряном» на¬
чале XX в. Всю первую половину XIX в. — во время так называемого кризиса
крепостничества — зарплата непрерывно росла и своего максимума достигла
в 1850-е гг. — накануне отмены крепостного права и других буржуазных реформ.
В это время она была на 67 % выше, чем в 1703—1710 гг. С приходом в страну
капитализма зарплата пошла вниз и в точке наибольшего падения, в 1880-е гг.,
упала на треть. С 1890-х гг., в период так называемого кризиса самодержавия,
или системного кризиса, как до сих пор этот период характеризуется во многих
учебниках истории, зарплата повышалась и к 1913 г. вновь, как в 1850-е гг., дос¬
тигла своего максимума за весь период империи, превысив уровень 1703—1710 гг.
на 67 %. Таким образом, накануне Первой мировой войны, после первого этапа
строительства капитализма покупательная сила средней зарплаты в Петербурге
достигла дореформенного, т. е. крепостнического, уровня.
В советское время реальная зарплата рабочих, вероятно, при всех падениях
в отдельные годы, пятилетия и целые десятилетия имела тенденцию к росту, хотя
и далеко не в такой степени, как об этом говорили официальные цифры. Соглас¬
но советской статистике, с 1913 по 1961 г. реальные доходы рабочих (с учетом
социальных трансфертов) увеличились в 4 раза, а с 1960 по 1985 г. — еще в 2,6 раза,
следовательно, всего за годы советской власти — в 10,4 раза40. По моим расче¬
там, в 1985 г. покупательная способность средней зарплаты квалифицированного
рабочего была примерно на треть выше, чем в 1913 г.
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в.
Можно ли распространить выводы о динамике реальной заработной платы
в столице на всю Россию? Хотя положение рабочего класса являлось важнейшей
и популярнейшей темой советской историографии, последняя не дала четкого
ответа на вопрос, как изменялась его реальная зарплата ни в XVIII в., ни в первой
половине XIX в., ни даже в пореформенный период в целом. В то же время ак¬
сиомой почти всех работ о рабочем классе был тезис об ухудшении его положе¬
191
Глава 11. Уровень жизни
ния в период империи. Попробуем обобщить имеющуюся литературу и получить
ответ на поставленный вопрос.
По подсчетам С. Г. Струмилина, номинальная зарплата металлургов России
с 1726 по 1860 г. постоянно увеличивалась и к 1860 г. возросла в 2,81 раза, а ре¬
альная, наоборот, непрерывно уменьшалась и к 1860 г. упала в 1,5 раза41. Однако,
если учесть инфляцию, реальная зарплата в XVIII в. понизилась почти в 3 раза,
но в первой половине XIX она росла и к 1860 г. достигла уровня первой четверти
XVIII в. (табл. 11.8).
Компетентный российский экономист М. И. Туган-Барановский в ходе тща¬
тельного анализа выяснил: в текстильной промышленности Нечерноземного цен¬
тра с начала XIX в. и до отмены крепостного права реальная зарплата сущест¬
венно выросла, благодаря чему «николаевская эпоха являлась временем сравни¬
тельно высокой заработной платы»42, и признал факт сравнительно высокого
уровня зарплаты российских рабочих в европейском масштабе, на что в 1840-е гг.
указывал Гакстгаузен43. С 1860-х и до середины 1880-х гг., по расчетам Туган-
Барановского, произошло ее понижение на 20—30%, а вторая половина 1880-х
и 1890-е гг. отмечены примерно таким же повышением44.
Другой знаток положения трудящихся в XVIII—XIX вв. В. И. Семевский по¬
казал: реальная зарплата текстильщиков, занятых на тех же самых фабриках,
в 1880-е гг. была на 80 % выше, чем в 1800-е гг., когда они относились к катего¬
рии посессионных. В этот период повысилась также реальная оплата вольнона¬
емного труда, правда в меньшей степени45. Семевский же установил, что реаль¬
ная зарплата рабочих на сибирских золотых промыслах в 1880-е гг. повысилась
сравнительно с 1840-ми гг.46 Таким образом, как по моим расчетам, так и по под¬
счетам известных дореволюционных экспертов, реальная зарплата рабочих в до¬
реформенное время росла, в 1860—начале 1880-х гг. снижалась, а затем вновь
стала увеличиваться. Такой же выглядит ее пореформенная динамика в оценке
известного экономиста С. А. Первушина47.
О положении пролетариев в последние 25 лет существования империи мы
имеем достаточно источников для надежных выводов. В Костромской, Москов¬
ской и Владимирской губерниях номинальная зарплата в 1913 гг. возросла на
40—56 %48, а реальная — на 10—20 % сравнительно с первой половиной 1880-х гг.
Увеличение замечено с конца 1880-х гг.49 Годовая заработная плата рабочих, на¬
ходившихся под надзором фабричной инспекции, с 1897 по 1913 г. выросла с 187
до 264 руб. — на 41 %50, а индекс петербургских потребительских цен — на
27 %, значит, реальная зарплата поднялась за 16 лет на 11 %, причем во всех от¬
раслях и во^сех губерниях, в Петербурге несколько больше, чем в провинции
(табл. 11.9).
Переходим к оплате труда в сельском хозяйстве. Вырабатывая условия отме¬
ны крепостного права, губернские редакционные комиссии в 1850-е гг. оценили
среднюю поденную плату сельскохозяйственного рабочего в 30 коп. для всей
Европейской России51. Однако такой высоты оплата труда достигала только
в степных и прибалтийских губерниях в летнюю пору\ в остальных местностях
она в летний период была ниже: Новгородской — 16 коп., Минской и Симбир¬
ской — 18, Самарской — 19, Витебской — 20, Владимирской и Гродненской — 23,
192
Заработная плата рабочих в черной металлургии в 1713—1860 гг. (руб. сер.)
S'
3
Ǥ
s! g
§ 5 §
в 5 =
1
о
о
со
36
52
3
103
S 8 &
СХ СО
#
§ ’я
х й
-о 2
1
ON
47
»q
5 5
1
(N
NO
fs.
1-^
со"
(N
я с
<N
1 ^
<N
<и о.
а- Я
X
S
X
о
о -2
8 |*в
о
СО
Г--
<N
00
<N
Г--
Ч Н J
о
CN
*Г)
я-
CO
х 5 Ц
s 'S
'тЩ
<N
(N
CO
CO
£
о
с
X
V
о х
<и £
о
NO
О
я-
00
9 £
о
я-
00
со
CO
о
х *
ч—^
ч—т
со
со
Я-
*n
S
е:
X
о
о
О
о
о
о
о
(N
СО
о
со
*n
NO
Г--
Г--
00
00
00
00
2
е*
I
1
1
1
1
1
1
О
1
1
1
1
1
1
U
СЛ
4
CN
S
<N
Г--
Г--
Г--
00
00
00
Я
?5 н
я я
X я
Л с
р-
ON
,
о
я-
ON
NO
я 5
1
О
о
00
NO
о
X g
1
~~
о^
»—•
CO
S X
S 5
о"
o'
о"
o'
o"
o"
О
Д о
с
3 ?
X «
А 2
5 *
.
(N
со
vq
<N
»q
я а
«-Г
»лГ
сГ
oo"
<N
no"
S со
S о
(N
CN
(N
<N
я-
Г--
о 5
э: 2
о
о
(N
о
00
А
I
1
О
I
1
U
т
NO
NO
чм
ON
Г--
о
<N
NO
ON
<N
Я-
NO
00
00
00
*4
QQ
S
§
<Ю
3
£
Ж
о
X
8-
х
31
X В
.Л1-
«o'j
7 V а.
!
со г .
<N LQ
I <ю
о
3
О
On
|
1 О
3 Г"
*п
<N . . U
• *п
ТОО
—< NO
00 I 2
si г
"25
id U
NJ uo
. ON
S’
s
со
Я
ON
^ 00
ffl 7
“J.
К oo
> 7
x ^
I 8
X rf
et a
©:>
x X
S CO
g CO
g-s
s £“
° s
© 5
<D ©
s *
X *
В D
gs
cu ^
« fc
2 о
b NO
s 00
II
о £
Q- C-
" §
X
о
U
О
§ §
| a
£§
is-
и
s 3
§-|
e g
^ 7
з н
So:
§ и
§ и
з «
s
CO
Й
O-
H
ж
is
8-
CO
a:
\n fe
•n S
cq
Os
e
3-
3
V§
Й
n
*8
O-
io*
fr
Б
c
<D
E
Ю
<u
II
Ю >>
a. <->
2 g
| g
i s
U о
i/E
Ю
£
of
£
Я
CO
X
h
Б 2
3*
я
■8
5 «
g =
я
s
я
X
H
а =
S 1
H
о
g
Э
Q-
U
vq
NO
r-
ON
00
oo"
X
X
5Г
О
Ю
ee
X
5Г
О
10
ее
a
x
я
* W
О Я
0 я
я
я 2
Я (S
х о
я о
S х
1 *
£ 3
X ?
X W
V
a
U
X
о
ю
Б
о
X
X
о
я
OV
o'
NO
NO
'О
СО
>>
О-
X
о
ж
X
X
ех
*8
•©-
§
о
Q-
С
о
5
я
ё
«
о.
ю
О
Е-
О
О,
о
э
я
s
•8
<§•
о
Я
S*
5
а
Я
*
о
«
о.
ю
О
Окончание табл. 11.9
Средняя годовая зарплата, руб.
1913 г.
192,0
209,0
261,0
249,0
402
261,0
303,0
189,0
249,0
264,0
339,3
219,0
302,4
196,9
231,6
286,3
263,6
с
00
о
OS
169,3
267,4
298,8
ЧО
сч
сч
г*:
с-
СП
217,1
244,0
219,3
о
сч
СП
249,5
322,9
209,8
298,6
179,6
199,7
256,7
244,7
1900 г.
130,4
214,2
204,3
207,6
338,2
204,2
190,8
00
251,4
207,0
*
*
<э
СП
с-
сч
*
*СП
«лГ
с-
СП
СЧ
сч
Vi
сч
сч
о^
202,9
1897 г.
133,2
1
122,0
<э
Os
282,0
174,0
193,0
173,0
222,0
<э
г*:
00
1
1
■
1
1
■
1
Численность рабочих, тыс.
U
сп
OS
96,0
29,5
62,6
62,7
293,1
Г901
31,2
173,4
г*:
г-
1633,3
366,4
653,4
233,6
137,7
80,9
185,4
1657,4
1897 г.
*сп
o'
СЧ
46,1
чп
г-
214,3
143,3
СП
40
85,9
20,7
1191,9
ЧП
сч
*<э
СП
С"
*°1
Os
*сп
«сГ
СЧ
*04
ОО
40
оо
1222,3
Производство; фабричный округ
Обработка льна
Смешанное производство
Бумажное и полиграфическое
Обработка дерева
Обработка металлов
Обработка минеральных веществ
Обработка животных продуктов
Обработка пищевых и вкусовых
веществ
Химическое
Итого
Петербургский округ
Московский округ
Варшавский округ
Киевский округ
Поволжский округ
Харьковский округ
Итого
о<
0
1
о
о
о
и
о<
с-
Os
X
X
о
X
X
о
а*
г
о
*8
О.
оо
о
CU
)Я
3
ас
х
и
N
25
Й
to
О
а:
з
#
х
о
н
о
S
* На всех предприятиях.
По своду отчетов фабричных инспекторов.
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в.
Рис. 11.10. Средний рудник на Сысертском заводе, Златоуст. 1890-е
Тверской — 25, Костромской — 27, Курляндской — 38, Херсонской —
40 коп.52 В первые 10 лет после отмены крепостного права зарплата стала быстро
расти. В 1870-е гг. в 50 губерниях Европейской России она равнялась 49,5 коп.,
следовательно, сравнительно с 1850-ми гг. поднялась номинально на 65 %. При¬
чем основной прирост приходился на 1860-е гг., о чем говорит следующий рас¬
чет: на конец 1860-х—начало 1870-х гг. имеются сведения по 40 губерниям
о годовой плате (при получении содержания от хозяина, или «на хозяйских хар¬
чах»), которая в 1870-е гг. по этим же 40 губерниям увеличилась с 50 до 55 руб.,
или на 10 %53. Отсюда следует: в 1860-е гг. зарплата рабочих реально возросла
примерно на 50 %. В 1880-е гг. она понизилась на 4 %, а в 1890-е гг. повысилась
на 6 %, в 1901—1914 гг. — еще на 30 %. Таким образом, реальная плата батраков
в 1860-е гг. сравнительно с 1850-ми гг. поднялась в 1,5 раза, затем на 30 лет,
в 1870—1890-е гг., практически заморозилась, в 1901—1914 гг. возросла в 1,3
раза, а в целом за пореформенное время — почти удвоилась (табл. 11.10).
Как видим, движение заработной платы у сельскохозяйственных и промыш¬
ленных рабочих в пореформенное время не отличалось согласованностью:
в 1860-е гг. у первых она выросла, а у вторых понизилась, в 1870-е гг. у первых
росла, у вторых снижалась, но с 1890-х гг. колебания стали синхронными. Сле¬
дующее отличие состояло в том, что зарплата у промышленных рабочих в целом
за 53 пореформенных года практически не изменилась, а у сельскохозяйственных
увеличилась к 1914 г. почти в 2 раза сравнительно с 1850-ми гг.
Почему динамика оплаты труда в промышленности и сельском хозяйстве отли¬
чалась своеобразием и почему антропометрические показатели рабочих, несмотря
195
Средняя поденная оплата сельскохозяйственного рабочего
в России в 1871—1914 гг. (коп.)*
Поденная плата весной, летом, осенью
1911—1914 гт.
«л
СП
О
76,8
73,3
79,2
102,4
ГбП
89,9
94,5
69,4
103,8
92,0
1
167
132
128
1
1901—1910 гт.
76,5
62,7
60,7
63,2
00
г-
82,2
61,6
68,1
«л
85,1
69,1
1
126
«л
(N
1
1891—1900 гт.
СП
40
48,2
45,4
49,9
63,6
66,7
46,6
52,8
42,9
69,5
<Э
«гГ
«л
1
о
о
103
О
О
1
Поденная плата весной и летом
1891—1900 гт.
62,0
44,0
42,4
45,0
60,0
65,0
45,0
о
сГ
н-
44,5
67,0
52,0
105
1
103
1
102
1881—1890 гт.
57,0
41,5
44,3
«л
СП
н-
55,0
62,5
44,5
42,0
43,5
69,2
50,5
102
1
106
96
1871—1880 гг.
55,0
44,5
43,5
39,0
49,0
60,5
«п
(N
н-
о
o'
н-
42,0
СП
Г-
49,5
о
о
о
о
1
о
о
Район
Север и Северо-Запад
Приуральский
Приволжский
Центрально-земледельческий
Центрально-промышленный
Прибалтийский
Белорусско-Литовский
Левобережная Украина
Правобережная Украина
Новороссийский
50 губерний
Базисный индекс номинальной поденной
платы в 50 губерниях (1871—1880 гг. = 100)
Базисный индекс номинальной поденной
платы в 50 губерниях (1891—1900 гг. = 100)
Базисный индекс потребительских цен
(1871—1880 гг. = 100)
Базисный индекс потребительских цен
(1891—1900 гг. = 100)
Базисный индекс реальной поденной платы
в 50 губерниях (1871—1880 гг. = 100)
ОГП ч
ь’
2
»о
ON
о
СО
d>
1
СО
СО
о
о
2
ON
о
5
ч
Ь
55
о
О
5
2
СО
»о
О
<и
со
СЗ
н
£
сЗ
е;
С
g
Ь
X
X
^N
о
(N
<и
н"
о
О
о
1
*—*
С
ON
00
fc
§
(N
2
1
1
О
о
1
fc
V
с>
t=l
00
s
55
О
X
t
о
о
8
со
00
1
40
сЗ
т
1
О
н
1
сЗ
ч
00
с
00
g
X
X
£
<L>
0^
О
с
1
1
о
о
1
4
00
А
2
н
н
л
СЧ
5
ч
,—4,
х _--_v
>5 О
з5 О
О О
о о
X —
X —
$ И
5 и
9 и
О и
Ч и
О и
с О
С О
>5 О
)Х 00
х
О Os
О 00
о
X —«
X ^
S
JO I
5 1
5 1
Си
ТО 1—
сч —«
а> о
и г>ч
а. оо
О- 00
О •
О *
X w
X w
Si х
S> х
S w
Я 5
x x
я X
X X
55
}5 <D
* 8”
jo ю
JQ Ю
X >,
о и
5 e?
5 о
5 о
8 ^
8 ^
LQ со
LQ CO
§
х
S
вг
о
*8
О.
X
3
5
55
О
*8
8-
ГО
$
1
§
О
On
О
О. rt
о
Й и
О Ол
с ~
о
ас •=?
CL
VO
с*;
Е
О
s
s
к
*
CL
О
4
О
о
5
<D
о
00
0
а
X
<L>
х
S
ВТ
*
S
1
2
о
ВТ
о
>§
CL
>>
2
О
ч
о
о
CL
2
<и
Э
о>
с
сЗ
Й
X
о
х
1)
*=£
Глава 1 /. Уровень жизни
Рис. 11.11. Золотопромышленная фабрика на Иремельском прииске,
Оренбургская губерния. 1890-е
на понижение реальной зарплаты в 1860—1870-е гг., улучшились? На первый во¬
прос, на мой взгляд, правильно ответил М. И. Туган-Барановский. По его мнению,
после отмены крепостного права в деревне появились лишние руки (вследствие раз¬
рушения старинных бытовых условий русского хозяйственного строя, деградации
кустарных промыслов под влиянием крупных фабрик, имущественной дифферен¬
циации крестьянства, уменьшения земельной обеспеченности и исчезновения во
многих местностях подсобных заработков), искавшие применения в промышленно¬
сти. Однако до середины 1880-х гг. спрос на труд со стороны крупной промышлен¬
ности отставал от предложения, а затем стал его обгонять, соответственно сначала
реальная зарплата падала, а затем повышалась54. Действительно ввиду возрастания
численности крестьян избыток рабочей силы в деревне достигал по преувеличенным
оценкам современников к 1901 г. — 23 млн, к 1914 г. — 32 млн, или 52 и 56 % от
всего наличного числа работников в деревне55. По этой причине они активно искали
работу на стороне, о чем говорит рост числа отходников на 100 душ обоего пола
с 1861—1870 по 1906—1910 гт. в4,3 раза — с 1,4до6.
Доля отходников среди трудоспособного населения деревни возросла с 2,8 до
12 % (принимая, что доля работников среди крестьян в возрасте 18—59 лет со¬
ставляла около 51 %)56. Если увеличение числа рабочих отражает спрос на труд,
а рост числа отходников — ее предложение, то в 1799—1859 гг. существовал
спрос на рабочих, но его удовлетворение сдерживалось крепостным правом
и слабым развитием отходничества. Соответственно реальная зарплата росла
и постепенно стала высокой. Спрос на труд со стороны промышленности
в 1861—1870 гг. упал, а затем начал медленно расти, причем в 1870—1880-е гг.
198
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в.
средние темпы прироста числа пролетариев были меньше, чем в любом десяти¬
летии первой половины XIX в., в то время как предложение рабочей силы росло,
особенно в 1870-е гг. Соответственно реальная зарплата понижалась. Со второй
половины 1880-х гг. спрос на труд стал повышаться, и своего апогея достиг
в 1890-е гг. Правда, и предложение со стороны крестьянства возрастало, поэтому
и рост зарплаты был умеренным. В 1901—1913 гг. спрос на рабочую силу оста¬
вался высоким, соответственно увеличение зарплаты за 13 лет оказалось наи¬
большим, чем за любое десятилетие XIX в., кроме 1810-х гг., вследствие сущест¬
венного сокращения предложения труда (табл. 11.11). Важным фактором роста
зарплаты явилась также революция 1905—1907 гг.57
Таблица 11.11
Число рабочих, занятых в крупной промышленности, и число взятых паспортов
на 100 душ обоего пола в 50 губерниях Европейской России в 1770—1913 гг.
Годы
Среднегодовая
численность
рабочих, тыс.
Интервал
Средний
темп роста
численности
рабочих, %
Паспортов
на 100 душ
населения
Средний
темп роста
числа пас¬
портов, %
1770
70,0*
—
—
—
—
1799
81,7*
1770—1799
0,53
—
—
1804
95,2*
1799—1804
3,11
—
—
1811—1820
167,7*
1804—1815
5,05
—
—
1821—1830
208,0*
1815—1825
2,18
—
—
1831—1840
338,3*
1825—1835
4,98
—
—
1841—1850
485,0*
1835—1845
3,67
—
—
1851—1860
521,8*
1845—1855
0,73
—
—
1861—1870
451,9*
1855—1865
-1,45
—
—
1861—1870
799,7*’
—
—
1,4
—
1871—1880
945,6* **
1865—1875
1,69
2,7
6,79
1881—1890
Ибо,Г*
1875—1885
2,07
3,0
1,06
1891—1900
1637,6**
1885—1895
3,51
5,3
5,86
1900—
1913***
2564,3**
1895—1907
3,81
6,0
1,04
Подсчитано по: Рашин А. Г. Формирование промышленного пролетариата в России: стат.-
экон. очерки. М., 1940. С. 23, 127; Яцунский В. К Крупная промышленность России в 1790—
1860 гг. // Очерки экономической истории России первой половины XIX в. / М. К. Рожкова (ред.).
М., 1959. С. 166; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 222—227; Минц Л. Е. Отход
крестьянского населения на заработки в СССР. М., 1925. С. 16—24.
Фабрично-заводская промышленность.
** Фабрично-заводская и горнозаводская промышленность.
*** Вся Россия.
Оплата труда в сельском хозяйстве имела свою специфику, хотя также опреде¬
лялась соотношением спроса и предложения. Почему в 1860-е гг. зарплата сильно
возросла? Ввиду отмены частновладельческого крепостного права значительная
199
Глава II. Уровень жизни
со
часть крестьянства (к 1 января 1863 г. 68,6 %) перешла на выкуп, и помещики,
лишившись рабочих рук, вынужденно прибегли к услугам наемных работников.
Это и привело к росту цен на труд59. Увеличение зарплаты варьировало по губер¬
ниям: в глухих местностях, где отсутствовали крупные города и промышленные
предприятия, оно оказалось минимальным60; и наоборот, вблизи больших городов
и дорог, где существовал спрос на труд со стороны промышленности и/или име¬
лась возможность найти другие дополнительные заработки, рост зарплаты был
максимальным61. И чем выше был спрос, тем больше поднялась зарплата62.
Динамика зарплаты у сельскохозяйственных и промышленных рабочих в 1870—
1890-е гг. обусловливалась общей причиной — значительным предложением труда
со стороны крестьян ввиду быстрого увеличения населения. Но если в промыш¬
ленности зарплата упала, то в сельском хозяйстве осталась практически без изме¬
нения. Следствием этого стало выравнивание в пореформенные годы зарплаты
в городе и деревне, в промышленности и сельском хозяйстве, так же как и в раз¬
личных губерниях. Свобода передвижения, массовые миграции, развитие комму¬
никаций, беспрепятственная циркуляция коммерческой информации, возникнове¬
ние бирж труда способствовали тому, что крестьяне знали о величине зарплаты на
разных работах в различных отраслях и научились защищать свои интересы. При
выполнении сельскохозяйственных работ они не соглашались на зарплату, если
она существенно уступала той, которую предлагали промышленность, транспорт,
сфера услуг или сельское хозяйство в других местностях63. До отмены крепостного
права труд в сельском хозяйстве (из-за слабого на него спроса) оплачивался намно¬
го хуже, чем в промышленности, даже на предприятиях, расположенных в сель¬
ской местности. К сожалению, общероссийских данных на этот счет нет, поэтому
приходится ограничиться отдельными губерниями. В Ярославской и Нижегород¬
ской губерниях в 1850-е гг. батрак на хозяйском содержания зарабатывал за 6,5
весенне-летних месяцев, с 23 апреля по 8 ноября (юлианского стиля), около 18 руб.
серебром, а строительные рабочие (штукатуры, маляры, каменщики, печники) за
5,5 месяцев, с мая до половины сентября, работавшие в ближайших городах губер¬
нии, — 24 руб.64, в переводе на месяц — в 1,6 раза больше. В Московской губер¬
нии фабричный рабочий в год зарабатывал 75 руб., батрак в деревне 50 руб.65 —
в 1,5 раза меньше, во Владимирской годовая зарплата строительных рабочих рав¬
нялась 55 руб., сельскохозяйственных — 30 руб.66, или в 1,8 раза ниже, в Самар¬
ской — соответственно 26 и 35 руб., или в 1,3 раза меньше67. В последующем разли¬
чия в оплате труда стали нивелироваться. Сведем собранные данные в табл. 11.12.
В 1850-е гг. зарплата у мужчин, занятых в промышленности, была примерно
в 3,5 раза выше, Чем у занятых в сельском хозяйстве, в конце XIX в. — в 1,4 раза,
в 1911—1913 гг. — в 1,2 раза. Еще более существенно сократилось различие
в оплате женского труда в сельском хозяйстве — с 2,8 раза в 1850-е гг. до 2 %
в 1911—1913 гг.68 При всей ориентировочности исходных данных можно уве¬
ренно сказать: дифференциация в оплате труда в промышленности и сельском
хозяйстве и между женщинами и мужчинами существенно уменьшилась. Именно
в силу этого динамика оплаты труда в промышленности и сельском хозяйстве
оказалась существенно иной — в индустрии она возросла лишь в 1,37 раза, а в
аграрном секторе — в 3,9 раза69.
200
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII- начале XX в.
Таблица 11.12
Средняя поденная плата промышленного и сельскохозяйственного рабочего
в Европейской России в 1850—1913 гг. (ном. коп.)
Рабочий
1850-е гг.
1870-е гг.
1880-е гг.
1890-е гг.
1900-е гг.
1911—
1913 гг.
Сельскохозяйственный,
мужского пола
23,5*
52,4
53,4
55
69,1
92
Сельскохозяйственный,
женского пола
15
33
35,3
36,3
44,7
55,8
Промышленный, оба пола
77**
00
70**
68—77
86
99—113
Промышленный, мужского
пола
83
86
76
79
93
114
Промышленный, женского
пола
42
43
38
39
46
57
Подсчитано по: Струмилин С. Г. Динамика поденной платы за 1882—1916 гг. //
Струмилин С. Г. Избр. произведения : в 5 т. М., 1963. Т. 3. С. 216 ; Рашин А. Г. Формирование
промышленного пролетариата ... С. 202. См. также примем, к табл. 11.10 и 11.11.
* По 11 губерниям: Витебской, Владимирской, Гродненской, Костромской, Курляндской,
Минской, Новгородской, Самарской, Симбирской, Тверской, Херсонской.
Оценка по индексу номинальной зарплаты в С.-Петербурге и номинальной зарплате
в Европейской России в 1890-е гг.
Динамика реальной зарплаты петербургских рабочих в 1703—1913 гг. отра¬
жает ее изменения у всего российского пролетариата. Эта согласованность яв¬
ляется следствием того, что в России во второй половине XVIII в. сформиро¬
вался всероссийский рынок, в рамках которого цены и зарплаты в отдельных
губерниях и районах колебались достаточно согласованно, хотя по абсолютной
величине могли существенно различаться70. В XVIII в. уровень жизни промыш¬
ленных рабочих понижался, но начиная с конца XVIII в. и до 1913 г. действо¬
вала позитивная тенденция (в циклической форме), что способствовало повы¬
шению их биологического статуса, или биостатуса. После Великих реформ на
фоне позитивного тренда происходило также сокращение продолжительности
рабочего дня и года, улучшение жилищно-бытовых условий71, медицинского
обслуживания и страхового обеспечения72. Социальное страхование рабочих
в России после 1912 г. находилось примерно на европейском уровне. Рабочие
отдельных казенных предприятий были обеспечены государственным социаль¬
ным страхованием до 1912 г. Закон о социальном страховании 1912 г. распро¬
странялся и на рабочих частных предприятий (по страхованию несчастных слу¬
чаев и по болезни)73. Право на государственную пенсию за выслугу лет («за
долговременную беспорочную службу») рабочие казенных предприятий полу¬
чили лишь в 1913 г.74 К этому следует добавить: за это время фабричное зако¬
нодательство прошло путь от отрывочных законодательных актов к завершен¬
ному, системному Уставу о промышленном труде 1913 г.75, потенциально спо¬
собному значительно облегчить положение рабочих, если бы Первая мировая
война этому не помешала76.
201
Глава 11. Уровень жизни
В последние годы позитивная динамика зарплаты российских рабочих
в позднеимперский период нашла подтверждение в ряде исследований, выпол¬
ненных на основании скрупулезного изучения новых архивных источников77.
Заслуживают внимания расчеты Т. К. Гуськовой. На Урале средние номиналь¬
ные заработки рабочих с 1862 по 1906 г. увеличились у высокооплачиваемых
в 1,6 раза, у среднеоплачиваемых — в 3 раза, у низкооплачиваемых — в 2,2 раза,
при росте индекса цен в 1,5 раза (если судить по Петербургу). Рабочие имели
дополнительные доходы от земли, хотя главным источником существования
оставалась зарплата. Несмотря на это, дефицитность бюджета у низкооплачи¬
ваемых выросла, у среднеоплачиваемых исчезла, а у высокооплачиваемых уве¬
личивался профицит, что свидетельствует о росте потребностей у низкооплачи¬
ваемых рабочих78.
Как ни парадоксально это звучит, но, согласно «грубой» оценке Струмили-
на, в 1913 г. наиболее обеспеченные в мире рабочие США по реальной зарплате
могли превосходить российских коллег лишь на 15 %79. Как установлено за¬
падными экономистами, реальная зарплата американских рабочих была в 1,5—
3 раза выше, чем у пролетариев других западноевропейских стран. Если расчет
Струмилина верен, то реальная зарплата промышленных рабочих в России вы¬
ше, чем в Бельгии, Франции и Германии, и примерно такая же, как в Англии
(табл. 11.13).
202
Рис. 11.12. Жильцы нового дома, построенного Товариществом по борьбе
с жилищной нуждой (С.-Петербург, Гаванская ул., 71, корп. 1). 1906
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в.
Таблица IИЗ
Соотношение реальной заработной платы промышленных рабочих в России, США,
Англии, Германии, Франции и Бельгии в начале XX в. (США = 100)
Страна
Годовая оплата труда в
1900 г.
Почасовая оплата
в 1909—1911 гт.
Поденная оплата
в 1913 г.
Россия
—
—
85
США
100
100
100
Англия
80
58,8
Г ермания
64
40,0
—
Франция
64
35,9
47,5
Бельгия
—
33,0
41,5
Подсчитано по: Кучинский Ю. Условия труда в капиталистических странах. М., 1954.
С. 264 (1900 г.); Маркузон Ф. Д. Наемный труд на Западе. М., 1926. С. 57 (1909—1911 гг.);
Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966. С. 95—96 (1913 г.).
Мнение Струмилина о невысоком уровне жизни западноевропейских рабочих
в XVIII—начале XX в. находит поддержку зарубежных исследователей. По мне¬
нию английского исследователя У. Тука, автора фундаментального труда о царст¬
вовании Екатерины II: «Большинство русских подданных живет лучше, чем огром¬
203
Глава 11. Уровень жизни
ное большинство населения во Франции, Германии, Швеции и некоторых других
странах. Это можно сказать о всех классах» . С Туком применительно к первой
половине XIX в. солидарен известный немецкий исследователь А. Гакстгаузен. По
его наблюдениям, «нет страны, где бы заработная плата относительно стоимости
предметов первой необходимости была бы так высока, как в России»81. По расчету
Ричарда Брауна, в 1850-е гг. в Англии в каждый данный момент треть трудящегося
населения была полностью занята, треть — частично и треть была без работы82.
Безработные находились ниже черты бедности, частично занятые — на уровне пер¬
вичной бедности, т. е. не могли обеспечить себя самым необходимым, или на уров¬
не вторичной бедности, т. е. едва сводили концы с концами. В Лондоне в 1889 г.
30 % населения (в 1929 г. — 10 %) находились ниже черты бедности, 8,5 % — на
уровне первичной бедности и 22 % — на уровне вторичной бедности. В Йорке
в 1899 г. 28% населения находились ниже черты бедности83. Данные о здоровье
призывников также не показывают преимуществ западноевропейских новобранцев
(табл. 11.14).
Таблица 11.14
Результаты медицинского осмотра призывников в начале XX в.
(% к числу освидетельствованных)
Призывники
Россия
Г ермания
Австро-
Венгрия
Франция
Полностью освобождены
11,0
6,3
—
8,8
Освобождены от службы в мирное
время
15,0
39,5
—
—
Получили отсрочку (из числа всех
призывных)
7,5*
56,5**
42,0**
10,9*
Источник: Редигер А. Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы. 4-е изд.,
испр. и доп. О. Филатовым. Ч. 1 : Комплектование армии. СПб., 1913. С. 204.
* По невозмужалости или нездоровью.
По всем причинам.
На мой взгляд, расчет С. Г. Струмилина следует рассматривать как ориенти¬
ровочный и нуждающийся в проверке. Относительно его можно высказать сле¬
дующие замечания. Во-первых, потребительская корзина для оценки уровня цен
в России и СШАз включала только продовольствие, да и то лишь пять основных
продуктов: хлеб, картофель, говядину, молоко и яйца. Во-вторых, оценка Стру¬
милина входит в противоречие с известным фактом — широко распространенной
в конце XIX—начале XX в. временной трудовой миграцией российских крестьян
и рабочих в США, Германию и Скандинавские страны в целях заработка84.
В-третьих, вывод Струмилина не подтверждается другими показателями благо¬
состояния населения: (а) в 1900-е гг. по ожидаемой средней продолжительности
жизни при рождении Россия уступала США в 1,6 раза, Великобритании — в 1,5
раза (33,5 против соответственно 53,4 и 50,5 года); (б) годовое потребление ос-
204
Динамика цен и зарплаты в России в XVIII—начале XX в.
новных продуктов питания, кроме хлеба, в России намного ниже, чем в США
и Великобритании; (в) биостатус населения, если судить по росту (длине тела),
в США и Великобритании выше, чем в России. В-четвертых, наблюдается
принципиальное расхождение в расчетах Струмилина на 1913 г. и Е. М. Демен¬
тьева на 1884 г. Последний утверждает: реальная зарплата у рабочих Московской
губернии в 1884 г. ниже, по крайней мере, в 3 раза, чем у американских (в штате
Массачусетс), и в 2 раза, чем у английских86. Два расчета разделяют 30 лет, но
ведь за эти годы зарплата в России не увеличилась в 2—3 раза. В расчетах Де¬
ментьева также имеются недочеты — он завышает цены и поэтому занижает ре¬
альную зарплату в Московской губернии и, наоборот, занижает цены и потому
завышает реальную зарплату в Англии и США. При этом выводы, полученные на
данных по Московской губернии и штату Массачусетс, он распространяет на всю
Россию и США. Корректность расчета Дементьева также требует специальной
проверки. В-пятых, по национальному доходу на душу населения в 1913 г. Рос¬
сия уступала Великобритании 3,9 раза и США в 5,3 раза87. Между тем, как пра¬
вило, заработная плата находится в соответствии с национальным доходом. Как
видим, необходим новый объективный расчет сравнительной высоты заработной
платы в России и на Западе.
Несмотря на позитивную динамику зарплаты российских рабочих в конце
XIX—начале XX в., было бы легкомысленно думать, что они благоденствовали.
Тренд и уровень жизни — различные ракурсы при оценке благосостояния. Уро¬
вень жизни в России повышался, но, как и всюду в Европе, он был тогда низким,
что обусловливало повсеместное применение детского труда в промышленности.
Министр финансов И. А. Вышнеградский (1832—1895) считал фабричную ин¬
спекцию ни чем иным, как «сентиментальностью»: «Фабрикантам надо помогать,
а не мешать. Малолетние служат для уплаты податей»88. Если в семье работал
только отец, то зарплата малолетнего сына увеличивала доход семьи на четверть,
а подростковый заработок — наполовину. Родители пристраивали детей на фаб¬
рики любыми путями. Законы, ограничивающие детский труд, их не останавли¬
вали: давались взятки и «любой пристав в городе или урядник в деревне, а то
и просто поп, с удовольствием за три рубля увеличивал годы рождения»89. Это
легко понять, если принять во внимание происхождение российского пролета¬
риата из деревни, где использование детского труда считалось нормой, а в на¬
родной педагогике — обязательным средством воспитания. Родители были на¬
столько заинтересованы в доходе от детского труда, что иногда прекращали за¬
бастовки подростков на фабриках. «Первая неделя прошла очень организован¬
но, — вспоминал Я. Менис, участник социал-демократического движения моло¬
дежи, работавший в 1915—1916 гг. учеником на фабрике в Киеве. — Вторая не¬
деля была просто кошмарная. Началось с того, что родители некоторых из под¬
ростков избили их за отказ идти работать, других насильно приводили к дирек¬
тору фабрики и умоляли, чтобы он их принял обратно»90. Зарплата сельскохозяй¬
ственных рабочих в отличие от промышленных в пореформенное время имела
более четко выраженную тенденцию к повышению, но самое главное — росла
существенно быстрее: с 1850-х по 1911—1913 гг. у первых — в 3,9 раза, у вто¬
рых — в 1,4 раза, вследствие чего к 1913 г. различия между ними составили лишь
205
Глава 11. Уровень жизни
около 15 %. Это способствовало повышению жизненного уровня крестьян, зна¬
чительная доля которых получала дополнительные доходы от продажи своего
труда за пределами деревни: в 1861—1870 гг. они взяли 12,9 млн кратковре¬
менных билетов и паспортных бланков, в 1891—1900 гг. — 71,4 млн, в 1906—
1910 гг. — около 80 млн.
Уровень жизни чиновников, офицеров
и православного приходского духовенства
Материальное положение чиновников, офицеров и духовенства в имперской
России давно привлекает внимание исследователей. Однако ясных и четких отве¬
тов на вопросы о том, насколько оно ухудшалось или улучшалось в отдельные
периоды, как и о том, у каких категорий оно было выше или ниже, до сих пор не
получено. В данном параграфе я сделал попытку оценить уровень и динамику не
только номинального, но реального жалованья у классных коронных чиновников
на примере губернских правлений (в губерниях 1 -го разряда)92, у офицеров — на
примере армейской пехоты, у духовенства — на примере белого приходского
духовенства. В губернских правлениях сосредотачивалось большинство бюро¬
кратии, в армейской пехоте — большинство офицерского корпуса, в приходах —
большинство духовенства. В центральных учреждениях столиц и в их филиалах
на местах, в других родах войск, в консисториях жалованье было, как правило,
выше; в частном секторе (банках, промышленных и торговых фирмах и т. п.) жа¬
лованье служащих было еще выше93.
Наибольшую трудность всегда представляет оценка реальной ценности зар¬
платы, доходов или жалованья. Эту задачу можно решить только при учете ин¬
фляции вследствие «порчи денег» (так называлось понижение их серебряного
и золотого содержания) и изменения уровня цен широкого набора товаров
и услуг. Для перевода номинального жалованья в реальное надо иметь индекс
потребительских цен (или бюджетный индекс), который учитывает широкий
набор товаров и услуг, причем в постоянных ценах. Подобный индекс по Пе¬
тербургу за 1853—1913 гг., по Москве за 1885—1913 гг. (в ценах 1913 г.) рас¬
считан советскими экономистами в 1920—1930-е гг.94 Индекс потребительских
цен по Петербургу продлен мною до 1703—1710-х гг. (см. табл. 11.4). В ре¬
зультате мы располагаем индексом потребительских цен в С.-Петербурге за
1703—1913 гг., который учитывает изменение ценности денег и инфляцию. По
абсолютному уровню цены в столице были, как правило, одними из самых вы¬
соких в Европейской России, но движение цен в других городах и весях весьма
тесно коррелировало с Петербургом95, поэтому индекс потребительских цен
Петербурга достаточно надежно отражал динамику цен и инфляцию во всей
России. Опираясь на этот индекс, номинальное жалованье чиновников и офи¬
церов переводилось в реальное в постоянных ценах 1913 г., и таким образом
была достигнута сопоставимость сведений за разные годы. Номинальное жало¬
ванье чиновников и офицеров установлено на основе работ предшественников
и сплошной обработки ПСЗ (собрания 1-го, 2-го и 3-го). Величина жалованье
всех лиц, находившихся на государственной службе, регулировалась так назы¬
206
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
ваемыми штатами — документами, определяющими численность сотрудников
учреждений с указанием их должностей и окладов. Поскольку штаты вводились
и изменялись правительством и санкционировались императором, они обяза¬
тельно включались в ПСЗ, благодаря чему на этот источник можно уверенно
полагаться. Номинальное жалованье пересчитано в реальное на основе индекса
петербургских потребительских цен следующим образом: 1) сначала определе¬
ны реперные точки, когда изменялось номинальное жалованье; 2) затем состав¬
лена таблица изменения номинального жалованья по годам и на ее основе по
десятилетиям; 3) наконец, номинальное жалованье пересчитано в реальное по
индексу цен.
У коронных чиновников содержание включало денежное жалованье по чину,
столовые и квартирные по должности, добавочное жалованье при временном или
постоянном совмещении должностей, а также надбавки за выслугу лет, разовые
пособия за хорошую службу и по случаю светских и церковных праздников. При
наличии вакантных должностей годовое содержание, положенное для этих
должностей, разделялось между работающими чиновниками96.
Главным источником доходов у преобладающего большинства офицеров так¬
же являлось содержание, включавшее жалованье (по чинам), столовые (по долж¬
ности), добавочные, квартирные и фуражные деньги. Столовые деньги, начиная
с должности командира отдельной части, были выше жалованья, а на должностях
от командира батальона и ниже — ниже. Жалованье и столовые деньги офицеры
могли тратить на себя и семью. Фуражные деньги шли на прокорм лошади, квар¬
тирные деньги — на оплату квартиры и зависели от местности и семейного со¬
стояния, добавочные деньги — на представительские расходы. В особых случаях
существовали дополнительные выплаты: прогонные деньги (на перемещение
к месту службы, командировки и т. п.); порционные деньги (на разъезды и пита¬
ние в ходе полевых поездок, рекогносцировок и т. п.); суточные деньги (за ка¬
раулы, походные и лагерные деньги и т. п.). Одной из форм наград было пожало¬
вание в аренду земель, практиковавшееся в отношении генералитета. За различ¬
ные заслуги офицеры награждались деньгами в виде единовременных выдач, по¬
жизненных пенсионов, беспроцентных займов, принятия императором долгов
данного офицера на себя и т. д.97 Все перечисленные дополнительные источники
носили эпизодический характер, оценить общую их величину затруднительно, но
они составляли незначительную долю содержания.
Невозможно учесть теневые доходы чиновников и офицеров. У первых — это
взятки. В армии командиры подразделений, начиная с командира роты (но не
только), имевшие самостоятельные хозяйственные функции (покупали лошадей,
продовольствие, строили казармы, устраивали на работу солдат в частный сектор
и т. п.), получали теневые доходы за счет так называемых «безгрешных дохо¬
дов» — возможности что-то выгадывать на всякого рода военно-хозяйственных
операциях. В некоторых случаях подобная деятельность принимала криминаль¬
ный характер, но чаще всего ограничивалось более эффективным использовани¬
ем отпускаемых от казны средств, экономия от которого шла в пользу команди¬
ров. Это было почти законным, во всяком случае начальники смотрели на это
сквозь пальцы. В конце XVIII—первой половине XIX в. считалось, что долж¬
207
Глава 11. Уровень жизни
ность командира полка приносила доход, равный примерно доходу от поместья
в 1000 душ. Эти доходы после военной реформы 1874 г. уменьшились, но оста¬
вались значительными98.
Содержание духовенства включало приношения прихожан и богомольцев, ре¬
зультаты самостоятельной экономической деятельности (на земле, предостав¬
ляемой общиной клиру), обеспечение жилищем, помощь светской и церков¬
ной властей. Источники содержания духовенства были более разнообразными
и в меньшей степени регулировались светскими и духовными властями, в осо¬
бенности до 1860-х гг.
Нет необходимости учитывать пенсионное обеспечение, поскольку вышед¬
шие в отставку на пенсию чиновники и офицеры, как правило, оставляли госу¬
дарственную службу99.
Приводимые ниже расчеты объективно отражают тенденции в динамике
среднего реального содержания чиновников, офицеров и духовенства. Опираясь
на них, можно с высокой вероятностью говорить о том, насколько сильно или
незначительно повысилось или понизилось содержание, когда изменилась тен¬
денция в его динамике. Цифры в таблицах приводятся с точностью до десятых,
а иногда и сотых от целого числа. Но это не показатель точности расчетов,
а следствие методики работы с цифрами и свойств самих цифр. В таблицах при¬
ходится считать итоги и, чтобы суммы по строкам и столбцам совпадали, необ¬
ходимо считать до десятых, а иногда и до сотых — иначе читатель решит, что
автор не знает арифметики. На самом деле изменение среднего содержания на
несколько процентов может быть результатом так называемой случайной ошибки
выборки 00. Ее предельная величина иногда может достигать 25—30 % от вели¬
чины содержания. Однако, как будет показано ниже, реальное содержание чи¬
новников, офицеров и духовенства в пределах реперных точек повышалось
и уменьшалось в 4—7 раз. Вследствие этого даже с учетом предельной случайной
ошибки выборки динамика реального жалованья будет отражаться адекватно.
Жалованье чиновников
В постсоветской историографии развитию бюрократического аппарата в им¬
перской России стало уделяться несравненно больше внимания, чем прежде. Од¬
нако материальное положение чиновников до сих пор остается в тени, вследствие
чего ясных ответов на вопросы о том, когда и насколько оно ухудшалось или
улучшалось в отдельные периоды у различных категорий, до сих пор не получе¬
но. Для «прейебрежения» должны существовать веские причины, потому что
вопросы эти были и до сих пор остаются весьма актуальными: жалованье и более
широко — жизненный уровень бюрократии всегда серьезно влияют на качество
ее работы. Мировой опыт показывает, что высокая оплата труда чиновников, хо¬
тя не гарантирует, но все-таки способствует улучшению работы бюрократиче¬
ского аппарата, в то время как тяжелое материальное положение провоцирует
развитие коррупции и другие нежелательные для общества корыстные варианты
поведения как управленцев, так и управляемых. Остановлюсь на нескольких
принципиальных работах, посвященных жизненному уровню бюрократов, чтобы
208
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
идентифицировать трудности, с которыми сталкивается исследователь данной
проблемы.
Весомый вклад в изучение жалованья чиновников XVIII—первой половины
XIX в. внесла Л. Ф. Писарькова. По ее расчетам, за 100 лет, предшествующих
введению постоянного денежного содержания чиновников в 1763 г., положение
чиновников ухудшилось: «За сто лет (с XVII в. по 1753 г. — Б. М) хлеб подоро¬
жал в 5 раз, рыба — в 3 раза, мед — на 20 %. За эти годы в Москве оклад приказ¬
ного дьяка вырос в 2 раза: с 80 до 150 руб. Учитывая то обстоятельство, что дья¬
ки XVII в. получали еще поместное жалованье и денежные “придачи” к окладам,
которых не было у секретаря XVIII в., следует признать, что за сто лет положе¬
ние чиновников ухудшилось»101. При оценке изменения покупательной способ¬
ности рубля автор использует методику В. О. Ключевского, примененную им
в известной статье «Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешне¬
му», опубликованную в 1884 г., 131 год тому назад, и к настоящему времени ус¬
таревшую. Но делает это по необходимости — индекс потребительских цен для
XVII в. до сих пор не рассчитан. При введении обязательного жалованья в 1763 г.,
полагает Писарькова, оно было установлено на достаточно высоком уровне —
«жалованье не было нищенским», благодаря чему материальное положение чи¬
новников существенно улучшилось102. Однако в связи с тем, что до начала XIX в.
«у большинства чиновников оклады остались на прежнем уровне», в то время как
цены росли, а курс ассигнаций падал, его положение к концу XVIII в. вновь
ухудшилось103.
В статье, опубликованной в 1995 г., Писарькова обстоятельно проанализиро¬
вала условия службы и быта гражданских чиновников в конце XVIII— первой
половине XIX в., в том числе коснулась и проблемы жалованья104. По ее мнению,
«положение гражданских служащих XVIII в. было более благополучным, чем их
коллег в первой половине XIX в.». Вследствие падения курса ассигнационного
рубля в 1811 г. жалованье чиновников составляло только 1/4 часть суммы, пре¬
дусмотренной штатами 1763 и 1796 гг. В дальнейшем реальная ценность жалова¬
нья, вследствие удорожания жизни, продолжала падать, что служило важнейшей
предпосылкой развития коррупции, в особенности взяточничества. Примени¬
тельно к первой трети XIX в. Писарькова поддержала мнение П. А. Зайончков-
ского, согласно которому «в XIX и начале XX в. условия материальной жизни
основной массы чиновничества, за исключением высшей его группы, были край¬
не тяжелыми», что стимулировало коррупцию105. Это заключение Зайончковский
сделал, опираясь на шесть бюджетов чиновников середины XIX в., на предполо¬
жение о непрерывно растущих ценах при постоянстве штатных окладов и на све¬
дения мемуарных источников106.
В. А. Иванов оценил различные виды материального обеспечения (жалованье,
столовые, квартирные деньги) всех категорий служащих местного управления, от
канцеляриста до губернатора, на середину XIX в. (на примере Московской и Ка¬
лужской губерний). Он зафиксировал резкую дифференциацию чиновников по
величине жалованья, наличие значительного числа канцеляристов без окладного
содержания, получавших содержание по усмотрению начальства, и классных
чиновников сверх штата, служивших без жалованья. Иванов обнаружил еще
209
Глава 11. Уровень жизни
один важный факт — сведения о жалованье в формулярных списках, по штатно¬
му окладу и фактическое жалованье не всегда совпадали107.
Жалованье чиновников во второй половине XIX в. исследовал П. А. Зайонч-
ковский. С одной стороны, он отстаивал точку зрения о тяжелом материальном
положении основной массы чиновничества в течение всего пореформенного пе¬
риода, с другой — констатировал, что в пореформенный период жалованье уве¬
личилось, а «условия жизни во второй половине XIX в., в частности в 70—80-х гг.,
остались примерно на том же уровне». Отсюда напрашивался вывод, что матери¬
альное положение чиновников улучшалось. Но автор от этого вывода воздержал¬
ся, сосредоточившись на вопросе о росте жалованья гражданских генералов. По
всей видимости, Зайончковский полагал, что наблюдавшееся увеличение жало¬
ванья было недостаточным, чтобы существенно повысить уровень жизни мелких
и средних чиновников108.
Точку зрения Зайончковского о тяжелом положении чиновников в порефор¬
менное время разделяет С. В. Любичанковский. По его утверждению, с 1894-—
1896 по 1910—1912 гг., примерно за 15 лет, произошло почти трехкратное уве¬
личение размеров годового прожиточного минимума и соответственное ухудше¬
ние материального положения чиновников губернской администрации, так как
размер жалованья в указанный период оставался неизменным. К 1913 г. по
меньшей мере для трети штатных должностных лиц губернской администрации
материальное положение являлось «экстремальным» — не превышало расчетно¬
го минимума109. Замечу, трехкратное понижение реального жалованья за 15 лет,
учитывая, что и до 1894—1896 гг. оно не было высоким, означало, при отсутст¬
вии дополнительных доходов, настоящее обнищание.
Материальному положению астраханских чиновников в пореформенный пе¬
риод посвятила статью Н. Н. Дрыгина. Она рассчитала номинальное денежное
содержание (собственно жалованье и столовые, без квартирных) семи категорий
провинциальной бюрократии по десятилетиям, с 1860-х до 1890-х гг. и, сравнив
его с ценами на муку, крупу, говядину и рыбу за те же десятилетия, пришла
к выводу: «Сопоставление денежного содержания чиновников с растущими це¬
нами на продукты и товары первой необходимости указывает на то, что матери¬
альное положение мелких чиновников канцелярии астраханского губернатора
и Астраханского губернского правления оставалось трудным. По сравнению
с 60-ми гг. XIX в. денежное содержание было увеличено в 2,5—3 раза, а цены на
продукты и товары первой необходимости выросли в 4 и более раз»110. Более
точно, денежное жалованье в среднем для семи категорий чиновников выросло
в 1,6 раза, а цены в 5 раз111. Следовательно, покупательная способность жалова¬
нья примерно за 40 лет понизилась в 3 раза, что означало, при отсутствии допол¬
нительных доходов, пауперизацию бюрократии.
Величина жалованья чиновников в период империи претерпела серьезные ме¬
таморфозы. В XVII и начале XVIII в., до коллежской реформы 1717—1719 гг.,
чиновники в основном «кормились от дел» (за счет «почестей, «поминок», или
платы за работу от просителей)112. В 1715 г. Петр I предпринял попытку ввести
повсеместно фиксированное жалованье для всех чиновников. Но из-за отсутствия
в казне средств принцип денежной оплаты постоянно нарушался113. Кроме того,
210
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
аппарат сократили, а выполнение многих дел возложили на представителей орга¬
нов самоуправления, которые жалованья от короны не получали, но считались
призванными на государственную службу114. В 1726 г., после смерти Петра,
вследствие финансовых трудностей, денежное жалованье для большинства чи¬
новников было отменено, произошло формальное возвращение к принципу
«кормление от дел» и официально существовало в российской провинции до на¬
чала 1760-х гг. XVIII в.5 Однако некоторые чиновники, находившиеся на важ¬
ных с точки зрения делопроизводства постах, получали жалование116. Оценивая
изменение реального жалованья у тех, кто его получал, можно сказать, что с 1715 г.,
когда правительство впервые ввело обязательное денежное жалованье, и до 1764 г.,
когда оно было введено вторично после отмены в 1726 г., реальная оплата труда
чиновников понижалась. Это заключение основывается на том, что расходы на
содержание бюрократического аппарата с 1715 по 1760 г. уменьшились в 1,4
раза, в том числе на местное управление — в 2,4 раза117, в то время как число чи¬
новников увеличилось более чем в 2 раза118, а индекс потребительских цен уве¬
личился в 1,5 раза.
Указом 1763 г. Екатерина II с 1764 г. восстановила денежное жалованье для
всех чиновников и установила достаточно высокие оклады, особенно для чи¬
новников высших классов. Подношения и подарки сохранялись, хотя, возмож¬
но, величина их уменьшилась сравнительно со временем узаконенного кормле¬
ния, когда доходы «от дел» в 3—5 раз превышали размеры окладного содержа¬
ния чиновников119. Однако относительное благополучие чиновников продол¬
жалось недолго — рост цен и инфляция подрывали их благосостояние, живших
на жалованье. В 1760—1810-е гг. потребительский индекс цен, выраженных
в серебре, вырос в 2 раза, а потребительский индекс номинальных цен (вследст¬
вие «порчи монеты» и огромной эмиссии бумажных денег с 1769 г.) — в 3,7
раза. При Екатерине II и Павле I, в 1769—1801 гг., падение курса ассигнаций
было умеренным — около 1 % в год, ввиду чего падение реальной ценности
жалованья под влиянием собственно инфляции (выпуска ассигнаций) происхо¬
дило медленно и постепенно и не сильно бросалось в глаза. Под влиянием напо¬
леоновских войн, 1799—1815 гг., курс ассигнаций стал резко понижаться, толь¬
ко за один 1810 г. упал в 1,7 раза, в 1815 г. сравнительно с 1769 г. — в 5 раз.
Скрыть этот факт было невозможно. Правительство манифестом 9 апреля 1812 г.
официально признало понижение курса ассигнаций и установило сравнитель¬
ную ценность серебряного и ассигнационного рубля как 4 к 1. Манифест офи¬
циально признал ассигнации бумажными деньгами, в то время как до 1812 г.
они таковыми были лишь фактически. Все платежи в казну с этого времени
и до реформы К. Ф. Канкрина вносились ассигнациями по курсу, установлен¬
ному правительством. Между тем жалованье выдавалось ассигнациями и мед¬
ными монетами в соответствии со штатами 1796 г., а фактически со штатами
1763 г., так как они в интервале 1764—1800 гг. практически не изменились.
Вследствие повышения цен и инфляции реальное годовое содержание чинов¬
ников в царствование Екатерины II упало более чем в 2 раза, в царствование
Александра I — более чем в 3 раза, в целом с 1764 по 1810—1820-е гг. — при¬
мерно в 7 раз (табл. 11.15 и 11.16).
211
Годовое содержание чиновников губернских правлений в 1760-е—1904 гг.
номинально — в текущих рублях и реально — в ценах 1913 г. (руб.)*;
а — денежное жалованье; б — столовые; в — квартирные
1903—
1904 гг.
Номинально |
зол. |
| 5000 |
| 5000 |
| 3333 |
| 2250 |
| 2250 |
| 1500 |
| 1764 1
| 1764 |
1 П76 |
| 882 1
| 882 |
00
00
«/п
00
00
1/и
00
00
«/п
| 392 |
1 зю |
1 310 |
| 207 |
«/■Г
00
| В ценах 1913 г. \
| 5882 |
| 5882 |
| 3921 |
1887 г.
кред. |
| 3724 |
| 3724 |
| 2483 |
| 2205 |
| 2205 |
| 1470 |
| 1632 |
| 1632 |
00
00
о
| 882 |
| 882 |
1 588 |
00
00
ин
00
00
«/п
| 392 |
1 261 |
1 261 |
1 174 |
1 77,8 |
| 4787 |
| 4787 |
| 3192 |
1865 г.
кред. |
| 2017 |
| 2017 |
I 1345 |
о
о
00
| 770 |
I 857 |
1 750 |
1 750 |
1 500 |
1 350 |
1 350 |
| 233 |
1 250 |
1 250 |
1 167 |
1 150 |
1 150 |
1 юо |
1 66,0 |
| 3056 |
| 3056 |
| 2038 |
1845 г.
сер. |
1716 |
1 1716 |
| 1144 |
| 1400 1
| 009
1 570 |
1 560 |
| 440 |
| 333 |
I 251 |
1 84 I
00
172
"d-
"d-
1 58 |
1 53,9 |
| 3184 |
| 3184 |
| 2122 |
1839—
1843 гг.
асе. |
| 2250 |
о
о
00
| 1350 |
| 938 |
1 750 |
1 563 |
1 750 |
| 009 |
1 450 |
1 450 |
| 360 1
| 270 1
| 200 |
1 160 |
1 120 |
1 150 |
1 120 |
1 06 |
1 184,9 |
| 1217 |
СП
ON
1 730 |
1811—
1820 гг.
асе. |
| 2250 |
о
о
00
| 1350 |
| 938 |
1 750 |
1 563 |
1 750 |
| 009 |
1 450 |
1 450 |
1 360 |
| 270 |
| 200 |
I 160 J
1 120 |
1 150 |
1 120 |
1 06 |
| 208,9 |
| 1077 |
1 862 |
| 646 |
1796—
1800 гг.
6
й
| 2250 |
о
о
00
| 1350 |
| 938 |
1 750 |
1 563 |
1 750 |
| 009 |
1 450 |
1 450 |
1 360 |
| 270 |
| 200 |
1 160 1
1 120 |
1 150 |
1 120 |
1 06 1
(N
ин
ЧО
1 3451 |
| 2761 |
| 2071 |
1760-е гг.
8-
СJ
| 2250 |
о
о
00
| 1350 |
1 750 |
| 009 |
1 450 |
| 009 |
| 480 |
1 360 |
1 375 |
1 300 I
1 225 |
| 200 |
1 091 |
1 on |
1 150 |
1 120 I
1 06 |
1 27,7 |
| 8123 |
| 6498 |
| 4874 |
Форма
содер¬
жания
cd
ю
00
cd
ю
00
cd
ю
00
cd
ю
00
cd
ю
00
cd
ю
00
| Индекс цен, 1913 г. = 100 |
cd
ю
00
Классы
>
V—VI
> >
>< X
XIII
XIV
>
I
Должность
Г убернатор
Вице-
губернатор
Прокурор,
советник
Секретарь
и т. п.
Регистратор,
архивариус
Помощник
регистратора
Г убернатор
Окончание табл. 11.15
1903—
1904 гг.
| ЗОЛ. I
| 2647 |
| 2647 |
1 1765 |
I 2647 1
| 2647 |
1 1765 |
| 1038 1
| 1038 |
1 692 |
1 692 |
1 692 |
I 461 |
1 365 |
1 365 |
1 244 |
U
г-
00
00
5
6
*
| 2834 |
| 2834 |
| 1889 |
| 2834 |
| 2834 |
| 1889 |
1 П34 |
1 Н34 |
1 756 |
1 756 |
1 756 |
1 504 |
1 335 |
1 335 |
224 |
1865 г.
5
а
*
| LZLZ |
1 П67 |
| 1298 |
| LZLZ |
1 П67 |
| 1298 |
1 530 |
1 530 |
1 353 |
о
СП
1 379 |
1 253 |
| 227 |
| 227 |
152
1845 г.
о
а
X)
а
г>
о
| 2597 |
1 пи |
| 1058 |
| 2597 |
1 1НЗ I
| 1058 |
| 466 |
1 156 |
1 158 |
319
1 212 |
212
| 108
1839—
1843 гг.
§
а
5
I
о
СО
1 507 |
| 406 |
1 304 |
1 507 |
| 406 |
1 304 |
1 243 |
1 195 I
1 146 |
1 Ю8 |
1 87 |
1 65 |
00
1 65 |
49
1811—
1820 гг.
6
сЗ
| 449 |
1 359 |
| 270 |
| 449 |
1 359 |
| 270 |
1 215 |
1 172 |
1 129 |
1 96 |
1 77 |
1 57 |
1 72 1
1 57 |
43
1796—
1800 гг.
о
8
| 1439 |
1 П50 |
1 863 |
| 1439 |
1 П50 |
1 863 |
| 690 |
1 552 |
1 414 |
I 307 |
I ?45 I
1 184 |
| 230 |
1 184 |
138 |
1760-е гг.
&
о
| 2708 |
| 2166 |
| 1625 |
| 2166 |
| 1733 |
| 1300 |
1 1354 |
| 1083 |
1 812 |
| 722 |
1 578 |
1 433 |
1 542 |
1 433 |
325
Форма
содер¬
жания
СО
ю
00
СО
ю
00
СО
ю
00
СО
ю
00
СО
ю
00
Классы
>
> >
1 -
X X
XIII
XIV
Должность
Вице-
губернатор
Прокурор,
советник
Секретарь,
столоначаль¬
ник и т. п.
Регистратор,
архивариус
и др.
Помощник
регистратора
и др.
X (N
'CQ - -
I
§ 2 < ’S
- t=; оо 5
|«|3« |
3 I
»* 2 * а
сп н
CTN оо
о
- и
R ^ Г
I £ * э
I U v
! сп
О
ОО о- '
* 22 О «
. «О I
^ 7 « ST
' 6
" § I
dQ Н X
ё - Э з
S X
, . ,01
| cn 2;
<l> (J
»о »о
00 00
- . t- . .
«о g о оо
Штат управления Туркестанского края. С. 160—161; Т. 23. Отд. 2. Штаты и табели. К № 22662 от 17.03.1903. Штат Якутского областного
управления. С. 187; К № 22663 от 17.03.1903. Штат Батумского областного управления. С. 187 ; Дрыгина Н. Я. Астраханские чиновники:
жалованье и материальное положение (2-я половина XIX—начало XX вв.) // Новый исторический вестник. 2010. № 25. С. 16—24 ; Писаръ-
коваЛ. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века : Эволюция бюрократической системы. М., 2007. С. 380—
381, 455—456. Индекс цен: табл. 11.4.
X
о
3
X
и
о
со
я
о
Ч
Ч
§
X
и
3
о
5
ск
Си
С
и
о
X
ч
о
S
с
S
со
g
в
&
Vp
о4
н
CN
о
<и
S
3
а.
X
С
Си
S
ю
а.
н
8-
со
X
X
3
н
о
vp
о4
ч
г-
о
РО
св
СО
<и
1
3
1
со
Ч
О
со
s'
о
ч
о
в
3
ос
а
S
ъ
4
5
X
си
a
ю
о
S
3
X
о
3
о
X
си
н
о
S
и
ч
си
а.
X
a
2
1
1
ч
и
э
ч
си
а.
со
X
S
s'
3
W
ч
о
SS
X
S
си
3
S
я
X
и
иа
си
S
S
о
о
I
СО
со
S
1
X
1
<и
X
си
си
о
СО
S
*
X
ю
о
Си
X
X
3
X
3
Си
X
S
W
н
Си
Си
ю
СО
о
со
а.
X
<и
си
S
св
4
5
1
X
3
Си
со
о
о
си
ч
о
в
о
сз
X-
S
I
> u
\ 2
= X
X
Э я
а. и
о
* о
X £
а 2
а о\
:1
о \о
X t>
X
X ш
X
ос
X
X
44
ч
ffi
се
а
х
• |
X «
S
S £*
Ч в
I о
* 8
£ §
в Я
х С
4» £
* 5?
44 V
о
Ш Л
Базисный индекс, 1760-е гг. = 100
Канцеля¬
ристы
о
о
85
65
44
ГО
чо
04
00
Среднее
жалованье
о
о
85
65
43
35
00
!>
IX—XIV
классы
о
о
85
65
43
34
00
VI—VIII
классы
о
о
85
65
5
38
20
04
IV класс
о
о
85
65
42
го
го
40
Жалованье, руб.
Канцеля¬
ристы
542
460
350
236
199
86
103
97
Среднее
жалованье*
2180
1852
1411
943
764
331
398
374
IX—XIV
классы
1570
1334
1016
676
530
230
276
260
V—VIII
классы
4386
<ч
!>
ГО
2839
1920
1676
727
873
821
IV класс
14621
12423
9463
6212
4470
1939
2328
2190
Годы
1761—
1770
1771—
1780
1781—
1790
1791—
1800
1801—
1810
1811—
1820
1821 —
1830
1831—
1840
г. 11.16
i _
ч -е
g F
со
4-
00
CO
4-
о
1-м
х S
CM
CM
CO
CO
4-
m
m
ш
ш
cd Q.
X
<u
<U JS
о
« X
о
X cd
Ff 00
m
40
о
00
CM
4-
со
40
II
S' o
Q. 4
4-
со
m
40
04
00
00
U
и
о |
1
о
'О
г-
> 3
X °
l о
CM
CO
CM
04
00
о
1 e
со
CM
CO
4-
40
04
00
00
«и
X s2
э
X
>5
JS
м
X
S3 3
О
Я
4-
40
со
CO
_
40
40
S
s
40
m
40
40
00
2
04
04
из
VI
KJ
о
о
cd
4
04
04
00
m
СО
X
4-
ro
CO
CO
4-
40
>
t* __
ч -e
<U н
40
CM
CM
m
04
00
X о
CM
CO
00
О
CO
04
о
40
я S
cd CX
*"*
CM
CM
CM
CO
гм
гм
X
0*2
W i-r
x 3
756
CM
40
4-
CO
04
04
д. Л
CM
О
00
r-
CO
о
40
5 о
о
О
о
4-
CM
о
00
00
1-M
1-м
MM
1-M
CM
CM
м
ю
ро
U d
*
о.
и
ла
> 4
X
cd
СС
О
S
IX—XI
классь
587
341
580
682
979
1526
1391
1227
1269
1
33 2
04
40
CM
m
'd-
> о
04
in
ч-
О
'd-
cd
4-
in
о
40
см
1 4
> *
CM
CM
CM
CM
CO
m
rt
о
о
ITi
ITi
cd
40
4-
CO
О
CM
г^-
04
CM
4*
о
Ч-
m
04
со
40
Ы
00
40
l>
m
04
00
40
m
«П
m
40
04
О
о
о
>
3
I
1
1
1
I
1
1
1
1
g
— О
— о
— о
— о
00 S
04 О
— о
со
04 СО
о
rt m
4Г> 40
40
00
о —
1-^ 1—<
о ~
U-1
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 04
04 04
04 04
04 04
г—1
1— »—
1-м 1—
»ri
•8
Н
ч
о
с
о
X
cd
н
о
§
с
о4
Ы
>
X
О
cd
ч
>
о
ы
т
X
о
о
Cd
О
Ч
О
X
<и
3
<и
се
м
CQ
Зайоичковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 69.
Глава 11. Уровень жизни
«Ассигнационный рубль, который в сентябре (1807 г. — Б. М.) еще стоил
90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, а весною дава¬
ли за него только 50 копеек; далее и более, через три года серебряный рубль хо¬
дил в четыре рубля ассигнациями. Для помещиков, владельцев домов и купече¬
ства такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на
все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей,
живущих одним жалованьем, было оно сущим разорением; кажется, с этого вре¬
мени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками»120, —
свидетельствует Ф. Ф. Вигель (1786—1856), бывший в 1826 г. вице-губернатором
Бессарабии, а позднее керченским градоначальником и директором Департамен¬
та иностранных вероисповеданий.
Современники зафиксировали этот факт. «Невозможно было без тяжелого,
грустного чувства видеть этих оборванных, небритых и изнуренных лишениями
бедняков, получавших жалованье от 1 -го до 2-х и не более 3 или 4 рублей в ме¬
сяц, смотря по своему рангу: копииста, подканцеляриста и канцеляриста; и по¬
вытчики получали не более 6 или 8 рублей (в месяц. — Б. М), — писал о канце¬
лярских служителях 1820-х гг. М. Л. Назимов (1806—1879), советник правления
Московского университета, врач, заведовавший клиникой Московского универ¬
ситета. — Холостяки почти и жили в канцелярской комнате, ложились спать на
тех же столах, на которых они скрипели перьями, переписывая нескончаемые
бумаги»121. В Московской губернии штатное ежемесячное жалование канцеляр¬
ских служителей, не имевших классного чина, равнялось 3—8 асе. руб. в месяц
(40—100 руб. в год), жалованье сторожа — 1—2 руб.122 Московский генерал-
губернатор Д. В. Голицын (1771—1844) во время посещения присутственных
мест г. Можайска в начале 1820-х гг. обратил внимание на небольшое число чи¬
новников в уездном суде (уездной инстанции судебной системы, в компетенцию
которой входило рассмотрение уголовных и гражданских дел всех сословий уез¬
да, кроме городского). На вопрос о причине отсутствия получил ответ: «Канце¬
лярские чиновники приходят на службу по очереди. Для того, что у двоих одни
сапоги, а у многих и сюртук на двоих. Жалованья три рубля в месяц — трудно
одеваться»123. «Большая часть (чиновников. — Б. М.) бедствует, нуждаясь даже
в пропитании, будучи обременена притом работой до упаду, — свидетельствует
в своих записках тайный советник и сенатор А. Д. Боровков (1788—1856), прави¬
тель следственной комиссии по делу декабристов в 1825—1826 гг., имеющий
в виду первую четверть XIX в. — Состояние приказных достойно сострадания: за
тридцать или сорок рублей ассигнациями в год они обречены работать с утра до
вечера! Надо видеть в губерниях положение этих несчастных людей, чтобы при¬
нять в судьбе их живое участие». Судя по жалованью, речь идет подканцеляри¬
стах и копиистах, не имевших классного чина124, на долю которых приходилось
около четверти всех чиновников. Жалованье чиновников IX—XIX классов —
примерно 60 % всего аппарата125 составляло 100—200 руб. в месяц. Однако су¬
щественно вырастали и его потребности. «Всякий писец, поступая в 14-й класс,
должен и жену и детей содержать прилично своему новому званию. С возвыше¬
нием его умножаются и условия нужды. <...> Вообще приказной даже и класс¬
ного чина получает столь ограниченное жалованье, что не может из оного сшить
216
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
себе не только мундира, но даже самого простого платья; нужно иметь квартиру,
освещение и пищу. Когда же несчастный отягощен семейством, то лишен всех
средств не только содержать, но и кормить оное», — констатировалось в записке
Государственного совета 1826 г.126
В заметках современников о тяжелом положении чиновников в первой чет¬
верти XIX в. есть некоторые преувеличения. Во-первых, мемуаристы, как прави¬
ло, имели в виду канцеляристов либо чиновников низших классов. Во-вторых,
доходы чиновников не ограничивались жалованьем, которое указывалось по
штатному расписанию. Классные чиновники (а часто и канцеляристы), кроме
собственно денежного жалованья, получали, как правило, столовые и казенную
квартиру либо компенсацию за нее. В разное время и у различных категорий чи¬
новников эти соотношения варьировали127. Например, в конце XIX в. у граждан¬
ских чиновников примерно 1/4 годового оклада считалась квартирными, 3/8 —
жалованьем и 3/8 — столовыми деньгами128. Чиновники имели дополнительные
заработки; начальство поощряло их премиями и другими бонусами (о них речь
шла выше).
Но в конце XVIII—первой трети XIX в. всех официальных доходов все равно
явно не хватало, потому что реальная ценность жалованья падала, сначала мед¬
ленно, а затем стремительно до уровня, едва ли совместимого с нормальной жиз¬
нью. Очевидный дефицит необходимо было удовлетворить.
Некоторые чиновники имели землю и крепостных или занимались предпри¬
нимательством, что позволяло им поддерживать жизненный уровень за счет лич¬
ных доходов. Но чиновников-предпринимателей было мало, и почти все они яв¬
лялись помещиками129. Поскольку по закону только потомственным дворянам
разрешалось иметь крепостных с землей, численность чиновников-помещиков
теоретически не могла превышать число потомственных дворян среди бюрокра¬
тии, на долю которых приходилось в середине XVIII в. около 50 %, в конце
XVIII—начале XIX в. — 39, в середине XIX в. — 44 и в 1897 г. — 31 % всех чи¬
новников (табл. 11.17).
Таблица 11.17
Доля потомственного дворянства среди классных чиновников (%)*
Годы
Учреждения
I—V классы
VI—VIII
классы
IX—XIV
классы
Итого
1755
Центральные
88
69
35
46
Местные
95
82
36
59
Итого
90
77
35
50
1795—
1805
Центральные
60
59
29
37
Местные
88
74
33
41
Итого
70
67
31
39
1840—
1855
Центральные
77
60
42
57
Местные
77
44
31
34
Итого
77
53
34
44
217
Глава 11. Уровень жизни
Окон чание табл. 11.17
Годы
Учреждения
I—V классы
VI—VIII
классы
IX—XIV
классы
Итого
1897
Итого
72"
38”*
22
31
1917
Итого
73
—
—
—
Подсчитано по: Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. :
Формирование бюрократии. М, 1974. С. 213—215 (1755 г.); Pintner W. М. The Evolution of
Civil Officialdom, 1755—1855 // Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society
from the Seventeenth to the Twentieth Century / W. M. Pintner, D. K. Rowney (eds.). Chapel Hill:
The University of North Carolina Press, 1980. P. 197—200 (1795—1805, 1840—1855 гг.);
Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России, 1861—1904 гг. : Состав, численность,
корпоративная организация. М., 1979. С. 94 (1897 г.); Куликов С. В. Бюрократическая элита
Российской империи накануне падения старого порядка (1914—1917). Рязань, 2004. С. 436—
443 (23.02.1917).
* Число чиновников: в 1755 г. — 1648, в 1795—1805 гг. — 2814, в 1840—1855 гг. — 4220,
в 1897 г. —101 513, в 1917 г. —1112.
** I—IV классы.
*** V—VIII классы.
Однако часть чиновников, происходившая из приказных XVII—первой по¬
ловины XVIII в., сохранила землю и крепостных, унаследованных от предков
(табл. 11.18).
Таблица 11.18
Распределение крепостных по разрядам чиновников в местном управлении
в 1755 и 1840—1855 гг.
Годы
Показатели
I—V
классы
VI—VIII
классы
IX—XIV
классы
Итого
Канце¬
ляристы
1755
Число учтенных чиновников
37
317
393
747
3328
В том числе с крепостными
33
286
226
545
619
У них мужского пола душ
19 604
36 089
9522
65 215
7011
На одного чиновника с кре¬
постными
594
126
42
120
11
Не имеют крепостных, %
11
10
42
27
81
1840—
1855
Число учтенных чиновников
44
334
1882
2260
—
В том числе с крепостными
28
181
403
612
—
У них мужского пола душ
8650
18 124
36 204
62 978
—
На одного чиновника
309
100
90
103
—
Не имеют крепостных, %
36
46
79
73
—
Подсчитано по: Троицкий С. М. Русский абсолютизм ... С. 298—301 (1755 г.); Pintner W. М.
The Evolution of Civil Officialdom ... P. 206—207 (1840—1855 гг.).
218
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
В середине XVIII в. даже 19% канцеляристов без классного чина владели
крепостными, а среди классных чиновников доля душевладельцев составляла
73 %. На одного канцеляриста с крепостными в среднем приходилось по 11 душ
мужского пола, на одного классного чиновника — 120. Лишь около сотни канце¬
ляристов владели 20—100 крепостными, которые занимались земледелием;
у остальных они служили дворовыми. В среднем на одного чиновника-помещика
приходилось соответственно 594; 126 и 42 крепостных. На доход от них можно
было прожить, поскольку обычный денежный оброк в 1760-е гг. равнялся 1—
2 руб., в 1770-х гг. — 2—3 руб., в 1780-е гг. — 4 руб., в 1790-е г. — 5 руб.130 Сле¬
довательно, у 47 % чиновников имелся дополнительный доход, позволявший им
жить без жалованья, у 53 % — нет.
К середине XIX в. число чиновников, не владевших крепостными, увеличи¬
лось с 27 до 73 % (почти в 3 раза)131. Из 27 %, владевших крепостными, в сред¬
нем на чиновника I—V классов приходилось 309 крепостных (почти в 2 раза
меньше, чем прежде), VI—VIII классов — 100 (в 1,26 раза меньше), X—XIV
классов — 79 крепостных (почти в 2 раза больше, чем в середине XVIII в.).
Средний годовой оброк крепостных во второй трети XIX в. составлял в разных вот¬
чинах от 8 до 16 руб. серебром с души мужского пола132. Отсюда следует, что око¬
ло 27 % классных чиновников могли прожить без жалованья, из них мелкие
с большим трудом. Почти три четверти чиновников остро нуждались в жалова¬
нье и не могли без него выжить. Некоторые из них занимались мещанским про¬
мыслом (ремеслом и мелкой торговлей), который не покрывал всех расходов.
Доход от 100 крепостных не мог обеспечить высокого уровня жизни, поэтому
часть чиновников VI—VIII классов также должна была искать дополнительные
источники средств существования.
В пореформенный период процесс обезземеливания бюрократии продолжил¬
ся, что хорошо видно по данных о землевладении сановников первых четырех
классов, всегда владевших значительным имуществом. В 1858 г. 46,2% из 893
гражданских генералов I—IV классов не имели хотя бы 20 душ крепостных или
100 дес. земли, в 1902 г. из 3642 генералов 73 % не владели по крайней мере
100 дес.133 На 23 февраля 1917 г. среди 1112 сановников насчитывалось 73 % по¬
томственных дворян, не имели земли 69 %, вообще без недвижимой собственно¬
сти — 65 %134. Служба для двух третей высших бюрократов и, значит, для подав¬
ляющего большинства чиновников более низких рангов стала единственным ис¬
точником дохода. Поэтому государство должно было позаботиться об их матери¬
альном обеспечении.
Как чиновники, не имевшие дополнительных доходов от личной собственно¬
сти, компенсировали резкое понижение легитимных доходов от службы?
Исторически проверенным средством являлось кормление от дел, которое
в новых условиях приняло форму взяток, подарков и подношений. Они и в по¬
следней трети XVIII в. не выходили совсем из употребления, но в первой четвер¬
ти XIX в. снова стали нормой, правда не формально-правовой, а нормой повсе¬
дневной жизни. По отзывам современников, взяточничество с точки зрения чи¬
новной морали являлось обычным явлением и не встречало осуждения окру¬
жающих135. «Недостаток необходимого для себя и семейства ставило служащих
219
Глава 11. Уровень жизни
в необходимость проживать на службе собственные доходы, у кого они были,
или же пополнять недостатки незаконно приобретаемыми доходами. <...> Для
пополнения всех этих расходов оставалось одно средство — взятки. Начиная
с малого, доходило до большого. По мере возвышения в должности и увеличи¬
вавшейся потребности в житейской обстановке чиновник, привыкший уже к ли¬
хоимству, увеличивал размер тайных незаконных приобретений»136, — констати¬
ровал Н. Ф. Дубровин, обобщая мнение высокопоставленных чиновников первой
четверти XIX в. Это означало, что взятка опривычилась, в конечном счете леги¬
тимировалась и институционализировалась (подробнее об этом см. в гл. 8 «Госу¬
дарственность и государство» наст. изд.). Правительство, включая императора,
эту печальную необходимость осознавало, чем объяснялась снисходительность
в отношении к взяточникам. В 1839—1848 гг. по всей империи к суду за мздоим¬
ство и лихоимство в Сенате, в Уголовных палатах и равных им судебных мест
было привлечено лишь 4,1 тыс. чиновников, состоявших на коронной и выбор¬
ной службе, из них осуждено или амнистировано — треть, причем из них 73 %
состояли на выборной службе (табл. 8.23 в гл. 8 «Государственность и государст¬
во»). «Когда Николай I собрал сведения о том, кто же из губернаторов вовсе не
берет взяток, даже с откупов, то оказалось, что только двое: киевский И. И. Фун-
дуклей и ковенский А. А. Радищев. На это Николай заметил: “что не берет взяток
Фундуклей — это понятно, потому что он очень богат, ну, а если не берет их Ра¬
дищев, значит он чересчур уже честен”»137.
Только после того, как во второй четверти XIX в. финансовая система укре¬
пилась, курс рубля и цены на товары и услуги стабилизировались, падение поку¬
пательной способности жалованья прекратилось, Николай I начал более последо¬
вательную борьбу с взятками, и его преемники на престоле ее продолжили не
только усилением преследования, но и посредством увеличения жалованья.
В 1845 г. в губерниях были введены новые штаты и жалованье переведено в се¬
ребряные рубли, что в целом для всего корпуса чиновников повысило реальное
годовое содержание почти в 2 раза, в том числе у высших — в 3 раза, у сред¬
них— в 3,4 раза, у низших — в 1,6 раза. В 1865 г. правительство утвердило но¬
вые «Временные штаты», которые также реально повысили жалованье в целом
для всех чиновников примерно в 1,6 раза, причем у средних оно увеличилось
примерно на 10 %, у низших — на 80 %, а у высших чиновников немного пони¬
зилось. В 1880-е гг. оклады снова повысились по сравнению с 1865 г. примерно
в 1,9 раза, в том числе у высших и средних чиновников — в 1,6 раза, у низших —
в 2 раза. Затем, вплоть до 1914 г., реальная ценность жалованье изменялась не¬
существенно, скорее всего, немного понизилась138.
Итак, в W63 г., при введении денежного содержания, чиновникам было уста¬
новлено высокое жалованье. Но их относительное благополучие продолжалось
недолго — рост цен и инфляция подрывали их благосостояние, потому что жало¬
ванье номинально не изменялось до 1845 г. С 1761—1770 по 1791—1800 гг. ин¬
декс номинальных потребительских цен вырос в 2,4 раза, к 1831—1840 гг. —
в 6,7 раза. Катастрофически — в 3,2 раза — упал курс рубля в 1801—1820 гг.,
вызвав столь же значительный рост цен. Реальная ценность жалованья, выдавае¬
мого ассигнациями и медной монетой, снижалась в соответствии с падением кур¬
220
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
са рубля и изменением цен на товары и услуги. В низшей точке, в 1810-е гг., по¬
купательная способность жалованья снизилась почти в 6 раз сравнительно
с 1761—1770-ми гг. Жалованья у средних и мелких чиновников не хватало для
удовлетворения насущных потребностей, а у канцелярских служителей оно упа¬
ло до уровня, едва ли совместимого с жизнью. Очевидный дефицит удовлетво¬
рялся за счет кормления от дел, которое в новых условиях приняло форму взяток,
подарков и подношений.
Во второй четверти XIX в. финансовая система укрепилась, курс рубля и цены
на товары и услуги стабилизировались, падение покупательной способности жа¬
лованья прекратилось. Одновременно правительство примерно через 20 лет по¬
вышало жалованье. В результате всех пертурбаций в начале XX в. годовое со¬
держание бюрократии по своей покупательной способности приблизилось к уровню
1760-х гг. Это все, что могло сделать правительство для бюрократии — на боль¬
шее средства отсутствовали.
Жалованье офицеров
Содержание офицера складывалось из нескольких частей (см. об этом выше).
Удовлетворительно учесть можно денежное жалованье и столовые, составляв¬
шие, по некоторым оценкам, 70 % содержания139 (далее сумму денежного жало¬
ванья и столовых будем называть просто жалованьем). Как изменялось жалова¬
нье в армейской пехоте за два столетия, показывают данные табл. 11.19 и 11.20.
Как указывалось выше, данные о номинальном жалованье получены на основе
сплошной обработки ПСЗ. В реальное жалованье оно пересчитано на основе ин¬
декса петербургских потребительских. В табл. 11.19 приведены данные на ре¬
перные годы, когда происходило изменение жалованья. Вывод о воемени изме¬
нения жалованья сделан на основе анализа данных за другие годы140. Если в ука¬
зе не приводится дата введения нового штата в практику, то за нее принимается
год обнародования указа.
Как видно из данных табл. 11.17 и 11.18, офицерское жалованье номинально
и еще в большей степени реально существенно изменялось по десятилетиям
и царствованиям, причем у генералитета в меньшей степени, чем у штаб-
офицеров и особенно обер-офицеров. Поэтому целесообразно анализировать ко¬
лебания величины жалованья отдельно для генералов, штаб- и обер-офицеров
(табл. 11.21).
При создании русской регулярной армии Петр I установил в 1711 г. иностран¬
ным офицерам высокое содержание, русским — достаточное, хотя примерно в 2 раза
меньшее. В 1720 г. жалованье русских и «иноземцев» стало одинаковым, и дис¬
криминация устранена. С 1720 г. служба генералов оплачивались в 5 раз выше,
чем штаб-офицеров, и в 18 раз выше, чем обер-офицеров. Номинально жалованье
не изменялось до 1762 г., но вследствие роста цен по своей покупательной спо¬
собности к началу 1760-х гг. понизилось на четверть сравнительно с 1720-ми гг.,
хотя все еще оставалось выше, чем в 1710-е гг. Петр III в свое короткое царство¬
вание в целях привлечения дворянства на свою сторону провел ряд реформ, в том
числе освободил дворян от обязательной службы, отменил Тайную канцелярию,
221
Таблица 11.19
Номинальное денежное жалованье, столовые и добавочные деньги офицеров армейской пехоты в 1711—1909 гг. (руб.)*
1817 г.
асе.
3690
7175
10 865
2214
6150
8364
1845
4100
5945
1230
3075
4305
923
1025
1948
о
о
00
о
гм
00
1620
738
410
1148
707
410
1117
1811 г.
о
о
се
3690
СМ
см
2214
со
2555
40
тГ
00
тг
см
2119
•о
00
04
О
см
40
40
О
гм
40
40
со
о
40
Tt-
00
04
со
’"'t
40
04
СО
см
40
5
04
Tf
СО
см
40
тг
1796—1800 гг.
о
о
се
3690
СМ
УГ)
СМ
2214
?
со
2555
»0
rt
00
см
2119
см
ю
40
см
СО
СМ
04
о
о
40
СМ
3
см
со
о
40
см
СМ
40
см
40
00
00
со
СМ
40
см
40
00
00
Ti-
со
1763 г.
сер./асс.
3600
Tr¬
io
«о
4154
2160
со
со
•О
см
о
о
00
04
СМ
2097
О
о
40
см
04
см
04
40
о
40
со
о
40
о
гм
о
о
со
о
40
о
40
СО
о
о
см
см
см
см
1
1
1
1720 г.
о,
<L>
О
3600
00
00
IT)
00
00
2160
40
04
со
2555
о
о
00
ЧО
СО
2116
о
о
40
со
40
со
40
!>
о
40
со
о
40
о
о
со
40
04
40
04
СО
о
00
»0
со
см
1
■
1
1711 г.
а.
<и
о
3120
1
3120
о
о
00
1
о
о
00
о
00
о
■
о
00
о
о
о
со
■
О
О
со
о
40
1
о
40
о
1
О
о
о
1
о
о
1
■
1
Вид
жалованья
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Чины по
Табели
о рангах**
Полный
генерал
Г енерал-
лейтенант
Г енерал-
майор
Полковник
Подполков¬
ник
Майор
Капитан
Штабс-
капитан
Продолжение табл. 11.19
1817 г.
асе.
1 615 |
256
1 871 |
532
205
СП
461
205
999
1909 г.
зол.
2291
| 6188 |
| 8479 |
| 1964 1
| 4559 |
| 6523 1
| 1636 |
| 3257 |
| 4893 1
| 1309 |
| 2981 |
| 4290 |
1 1178 1
716
СП
(N
1811 г.
асе.
1 243 |
1 49 1
| 292 |
205
37
242
205
г**
СП
242
1899 г.
зол.
2291
00
00
3
| 8479 |
| 1964 |
| 4559 |
| 6523 |
| 1636 |
гм
СП
| 4893 |
| 1309 |
| 2981 |
| 4290 |
| 1178 |
716
1894
1796—1800 гг.
асе.
1 172 * |
1 74 1
1 246 |
156
49
205
156
49
205
1872 г.
кред.
о
00
| 3275 1
| 7745™ |
| 1480 |
| 2620 |
| 5738™ |
1 шо |
| 2292 1
I 4385™ |
1 750 |
| 1638 |
1 »69£ I
о
00
982
1562
1763 г.
сер./асе.
1 120 |
1 22 |
1 142 |
о
о
чо
40
о
о
40
40
1859 г.
кред.
1850
| 3550 |
| 5350 |
| 1480 |
| 1961 |
| 3441 |
1 пю |
| 1450 |
| 2560 |
1 750 |
| 980 |
| 2450™ 1
1 580 |
563
1143
1720 г.
сер.
1 120 |
1 34 I
1 154 |
84
28
*00
84
28
СМ
1839 г.
асе.
5125
| 8200 |
| 13 325 |
| 4100 |
| 7175 |
| 11 275 |
| 3075 |
1 5125 |
| 8200 |
| 1845 I
| 2187 1
| 4032 |
I 1538 I
875
2413
1711 г.
сер.
1 50 |
1
L 50 1
50
■
50
50
1
50
1835 г.
асе.
3690
| 7175 |
| 10865 |
1 2214 1
| 6150 |
1 8364 1
I 1845 I
| 4100 |
I 5945 J
1 1538 I
I 3075 I
| 4613 |
1 1230 I
1025
2255
Вид
жалованья
Денежное
Столовые
| Итого |
Денежное
Столовые
Итого
Денежное
Столовые
Итого
Вид
жалованья
Денежное
Столовые
| Итого |
Денежное 1
Столовые
I Итого I
I Денежное
| Столовые |
1 Итого I
I Денежное
I Столовые I
| Итого |
I Денежное
Столовые
Итого
Чины по
Табели
о рангах**
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
Чины по
Табели
о рангах
Полный
генерал
Г енерал-
лейтенант
Г енерал-
майор
Полковник
Подполков¬
ник
Окончание табл. 11.19
й
*
04
о
ч
о
|
1
1
сч
00
On
со
СО
С-
lo
04
*
сч
,'Т
ю
40
00
lO
сч
ю
со
О
сч
1
о
,'Т
lO
|
04
го
On
СО
00
СО
с-
со
с-
о
On
40
Г-.
Г--
й
85
СЧ
Т—I
*40
со
ю
1—1
*—*
*ю
О
40
lo
*
о
1
О
ГГ
1
,^г
о
1
1
00
On
ю
04
00
сч
40
сч
сч
1
СЧ
lo
ю
00
го
04
СО
ОО
СО
с-
со
с-
с-
40
1
40
и
сч
й
О
о
о
о
О
о
о
О
о
о
о
о
о
О
1
СО
00
о
О
о
с-
о
с-
,'Т
00
сч
о
lo
о
ю
00
&
ю
со
00
СО
Г--
со
со
40
со
со
сч
rt
со
1
о
и
ON
Ч
о
о
о
о
О
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
.
о
D
00
lo
со
о
О
о
Г--
о
г--
,'Т
00
сч
о
сч
о
о
00
&
гг
со
00
СО
с-
со
со
40
со
»—'
со
со
со
1
со
839 г.
асе.
1230
467
1697
1128
401
1529
1025
401
1426
871
187
1058
820
1
820
769
1
769
и
IO
о
lo
сч
/—S
о
lo
со
о
1333
о
о
1230
00
40
rt
40
1
40
ю
ю
со
о
сч
00
сч
сч
с-
40
40
00
СО
W
ОО
04
ОО
с-
сч
04
40
1
40
40
40
о
о
о
о
О
О
Си
си
си
си
Си
Си
W
о
О
О
О
о
О
Вид
uQ
: §
СО
О
е?
<L>
о
X
*
22
3
03
о
1
<и
о
X
*
22
3
03
о
1
d>
о
X
*
CL>
3
03
о
1
<L>
о
X
d>
3
03
о
1
<L>
О
X
*
0J
3
03
о
1
<L>
о
X
<L>
3
03
О
1
й
<L>
ч
<L>
ч
<L>
ч
<L>
ч
<L>
ч
<L>
ч
X
о
X
о
X
о
X
о
X
о
X
о
<L>
н
<L>
н
<L>
н
<L>
н
<L>
н
CL>
н
и
и
и
и
и
п
и
Чины по
Табели
о рангах**
Майор
Капитан
Штабс-
капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
> • " & 2
z n
^ . •
^ vo h
. сч
" —' .00
•оно
cd
н
э
5* 2
^ S
со *
сч
if
— о
. г-~
4 со
Н г-
° •£!
5 *
я
1)
* X
4 ч
о «и
5 'g
о ч
Си f-
С s
s о <о
с; со
и 00 ч
1^5
Й gH
Э°о <ч
40 С»
. 00 00
СЧ СЧ —<
L®! О
^3 £ 2;
> 00
) и
1 —"
) —
; 00 I
; ^
н СО
В н
§Э
и ^
S -i
х 5
^ 5
. ^ О
со . н
— 50
и S ^
Г* \о ос
г:
S ь о
2® - «о
i
со . г.
О- со
. о-
Н 00
v© U
00 Tt
"Ч со
2 2
d §
о ^
so I
™ to
«э; Г"
со ^
СО ^
^ 5
от 5
с~ ко
СЧ СО
i:
сч 3
и 2
*Э
Г <N .
[ Г- СЧ
Я S
^5
« о<
и И
я и
х с
о и"
* -
ч о-
'IT
Си со
С 00
- 4!
. Н Ч
и 3 ь
об"°
со
00 Р Ч-
О
сч „ г-
ijf
° СЧ 00
00 о ^
— СЧ ~
; 2 j и
! % Я "
> _: 22 2
' н«0
5 Я W
о°«
со Н Н
— о
г; г- s
Ь* сч ч
.„ ^ D
•л1чО
Ю —, £
сч ь
. g я
. «я
^ fc
2 s н
00 ч 5
— и Н
— *g .
— g ON
2 5 00
н 3 Ц
£ S3
СО Jn Г4'
э ~
. н
у сч °
О к'О
S ” г‘
сч
2 и»
s 5 2
Си^ 2
w 2 4!
04 ^
о- г;
Ю Ч-
^ ЧО
сч
*§
4! «О ^
^ СЧ
I 00 Н
сч 2 о
00 41 2
^ 00
и ^ и
ON
ON
00
о
об
<ч
о
00
ON
VO
2
VO
«п
H Л
° Й
— н
VO
— 00
«4! Я
^ 2
СМ ГМ
зЗ
. <N
м <И
=г^
[3
т
00
<4
:i Н
• гм
СП
О
«п Л
,©! о
^ <N
* U
Ч с-
и 3
*й *S
СО со
Н н
Й Й
аз
X
X
d 5
<N
О
Й
V§
й
в
S
5
3
1817—1820 гг.
5201
4004
2846
2061
932
775
550
535
417
353
319
661
208,9
1811—1816 гг.
2016
1223
1014
510
339
260
197
197
140
NO
NO
221
208,9
1796—1800 гг.
6459
3919
3250
1416
943
724
534
534
СП
314
314
621
65,2
1763—1770 гг.
14 996
9137
7570
2498
1516
1300
819
1
513
419
419
о
Г""
гм
1720-е гг.
21 367
13 036
10 796
3893
2383
2020
1179
1
786
755
571
1506
19,6
1710-е гг.
19 379
11 180
6708
1863
932
870
621
1
СП
СП
СП
834
Г91
Чины по Табели о рангах
Полный генерал
Г енерал-лейтенант
Г енерал-майор
Полковник
Подполковник
Майор
Капитан
Штабс-капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
В среднем на 1 офицера
Индекс потребительских цен,
1913 г.= 100
Продолжение табл. 11.20
1909—1913 гг.
9068
6976
5233
00
оо
lo
2539
1853
1649
1445
963
00
(N
00
00
ю
00
93,5
■J 0061
10 022
7710
5784
5071
2239
1
1816
1661
1491
851
ILL
1946
84,6
1870-е гг.
10 566
7828
5982
5044
2131
1201
955
914
655
580
552
1162
СП
СП
Г"
1860-е гг.
8106
5214
3879
3712
1732
1258
1061
1015
727
485
455
1119
66,0
1840 г.
7207
6098
4435
2181
1305
918
827
771
572
443
416
СП
ov
Г"
*Os
00
1835 г.
5876
4524
3215
2495
1220
998
721
665
527
360
333
СП
ON
Г"
00
Чины по Табели о рангах
Полный генерал
Г енерал-лейтенант
Г енерал-майор
Полковник
Подполковник
Майор
Капитан
Штабс-капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
В среднем на 1 офицера
Индекс потребительских цен,
1913 г. = 100
>х
о
ы
и
8-
X
X
9
i=:
о
со
1>
Си
1>
S
X
о
о
2
Cd
ч
ш
tci
X
0
1
Я 2
* 5
1ч
is
й™.
§ §
я d.
£ с
я S
Я г
^ Я
d X
„* <L>
I
~ сч
.5 cd
vo ^
Cd <и
Н CD
£ X
=S*
S |
4 Р
О cd
X X
cd
(_ •“ч
О
о
Сц
03
Си
2
о
Й
о
с
VO
к
J3
X
X
о
X
X
cd
X
ч
И!
ч
за
ч
)Х
о
)Х
I
н
cd
ч
00
го
00
CD
о
X
Cd
>Л
о
ч
3
VO
1)
за
X
cd
CD
о
о
Г-~ Cd
£ *
I «
I 9
CD
чО О
г- X
для жалованья в ассигнационных рублях.
Реальное жалованье, столовые и добавочные деньги генералов, штаб- и обер-офицеров армейской
пехоты в 1711—1913 гг. до отчислений на медикаменты, госпиталь
и в эмеритальную кассу (руб. в ценах 1913 г.)
Базисный индекс, 1711—1720 гг. = 100
Среднее
жалованье
о
о
00
Г"
165
146
122
102
78
99
54
48
95
95
95
104
134
139
Обер-
офицеры
о
о
212
201
194
142
OV
06
OV
77
69
135
136
136
153
193
174
Штаб-
офицеры
о
о
226
214
207
183
148
123
94
сн
3
59
123
122
122
оо
183
208
Г енералы
о
о
(N
ю
-
98
85
72
55
36
26
20
39
39
39
47
46
63
Жалованье и столовые, руб.
Среднее
жалованье*
834
1506
1426
1379
1215
1014
851
648
548
447
Г"
OV
СП
СП
OV
Г"
793
СП
ON
Г"
865
1119
1162
Обер-
офицеры
388
823
779
754
664
550
461
351
353
298
266
522
526
526
594
749
674
Штаб-
офицеры
1222
2765
2618
2532
2231
00
о
00
1505
1146
о
OV
00
740
724
1508
1489
1490
1439
2234
2543
Генералы
12 422
15 066
14 266
13 799
12 152
10 587
8980
6840
4516
3269
2457
4823
4813
4813
5796
5733
7829
Годы
о
(N
Г" Г"
1721—1730
1731—1740
1741—1750
1751—1760
1761—1770
о
00
Г"
7
£
Г"
о
OV
Г"
7
00
1791—1800
о
00
о
оо
1811—1820
1821—1830
1831—1840
о
lo
00
7
3
00
1851—1860
1861—1870
о
00
00
7
00
IZ'll ч
О
a
§
0*
a:
о
3
о
<U ffl
X 3
сн
so
СП
in
СП
ffl
so
о
СП
1—1
гч
и О
Он ез
гч
гч
гч
гч
О
о
и |
II
и
и
О
ГЧ
А.*
о
о
гч
so
00
о!
СП
os
so
СП
1
гч
гч
СП
СП
СП
о
Г'
СJ
о
?
. 2
*8 «
гч
rt
гч
гч
н 5
гч
о
о
оо
os
>5
а£
гч
СП
СП
гч
гч
о
X
О
S
п
сз
№
ffl
е
сЗ
Си
гч
in
СП
ш
Г*-
<и
so
so
so
«п
m
<и
и
и#$5
х S
о
1—1
so
ш
oo
о ffl
ffl
so
гч
os
m
1> о
СП
Г"
OS
Г"
oo
о, S
и 5
*
ю
Си
з
о
1 о.
Си и
о о
892
so
in
СП
OS
2
гч
о
о
rt
за
ю g
>—Ч
rf
СП
СП
о
ч
о
в
о*.
о
X
и
за
X
cd
ю О-
Trt 1)
1 я
00
ш
гч
so
за
os
00
1—1
so
О
so
so
г*-
rt
in
i
□ -в-
гч
СП
СП
СП
СП
о
ffl)
§
in
os
00
гч
Си
in
ш
СП
m
os
и
so
о
оо
00
о
X
г-
оо
Г"
so
Г*-
ч>
и
о
о
о
СП
СП
os
о
00
os
OS
OS
os
2
Ч
1
1
1
1
1
о
1
1
1
1
1
1—1
os
оо
os
о
T—1
о
оо
00
os
os
os
4
*s
H
3
о
c
о
5
H
s
ST
о
§
c
VP
o4
so
-0
8-
X
S
•0*
О
I"
о
no
o4
SO
ГЧ
o,
1)
X
s
•e*
0
1
з
nO
O4'
00
in
ГЧ
§
Cu
X °
os ГЧ
1
U
2 S
Os
О ^
x
Cl О
О >>
iti
§■
X
S
О
о >5
Cu X
u bti
g a
■§• s
ffl -©*
<D О 3
5 «
о
X
о
3 г •
ffl
Си
х Si
« 5
и S
о
о
и
CQ S
0-
0Q
X
о
о
8 £*
**
§*
оа
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
секуляризировал монастырские земли и существенно повысил жалованье офице¬
ров. Екатерина II задержала реализацию всех указов. В 1763 г. она установила
новое жалованье — несколько большее, чем было при Елизавете Петровне, но
«гораздо» меньшее, чем хотел ввести Петр III141.
Однако ввиду инфляции реальное жалованье в блестящее царствование Екатери¬
ны II продолжало медленно, но систематически падать, и к середине 1790-х гг. его
покупательная способность понизилась примерно в 2,4 раза. Павел I повысил
номинально жалованье в 1,7 раза, что позволило вернуть его реальное содержа¬
ние на начальный уровень 1710-х гг. Но в царствование Александра I инфляция
набирала обороты. К 1815 г. сравнительно с серединой 1790-х гг. индекс потре¬
бительских цен подскочил в 3,2 раза. Между тем жалованье офицерам, как и чи¬
новникам, выдавалось ассигнациями и медными монетами в соответствии со
штатами 1796—1800 гг., вследствие чего его покупательная способность упала
в 3,2 раза.
Верховная власть немедленно отреагировала на драматическое снижение
уровня жизни офицеров, дважды существенно повысив оклады — в 1811 и 1817 гг.,
несмотря на тяжелое экономическое положение в империи: у генералитета они
номинально повысились в 2,8 раза, у штаб-офицеров — в 3,9 раза, у обер-
офицеров — в 3,4 раза. Несмотря на это, реальное содержание генералов лишь
вернулось к уровню 1800 г., у остальных офицеров немного его превысило.
В результате в 1817 г. покупательная способность генеральского жалованья была
почти в 3 раза ниже, чем в 1710-е гг., у штаб-офицеров — на 10—15 % ниже
и лишь у обер-офицеров достигла начального уровня столетней давности.
1817 год можно считать переломным: до него реальное жалованье понижа¬
лось, после стало регулярно расти. Верховная власть внимательно следила за ма¬
териальным положением офицеров и старалась по мере возможностей государст¬
венного бюджета его улучшать. При Николае I жалованье дважды, в 1835 и 1839 гг.,
незначительно повышалось — в целом для всего корпуса примерно в 1,2 раза. Но
благодаря понижению цен его реальная ценность повысилась на треть. С 1839 г.
жалованье было переведено на серебро, вследствие чего его покупательная спо¬
собность перестала зависеть от курса рубля, сохранив зависимость от уровня цен
на товары и услуги. Однако эта практика сохранилась до 1872 г. В 1840—1850-е гг.
в обращении, кроме кредитных, были серебряные и золотые деньги, так назы¬
ваемые металлические деньги, которые имели одинаковый курс относительно
кредитных. Но цены на серебро стали быстро падать и вместе с ними курс сереб¬
ряного рубля относительно золотого. В 1870-е гг. курс серебряного рубля стал
мало отличаться от курса кредитного рубля, а иногда падал даже ниже его. Офи¬
церам стало выгоднее получать жалованье в кредитных рублях. Поэтому с 1873 г.
жалованье стало выдаваться кредитными билетами, соответственно в указах жа¬
лованье и штатные оклады стали выражаться в кредитных рублях. Реальное со¬
держание жалованья от этого не уменьшилось в силу выравнивания курса кре¬
дитного и серебряного рубля относительно золотого14 .
Каждый новый император хотя бы незначительно повышал жалованье: всего
в последней трети и начале XX в. оно увеличивалось 6 раз, у разных категорий
офицеров по-разному, в первую очередь у обер-офицеров и штаб-офицеров, во
229
Глава 11. Уровень жизни
вторую — у генералов. В результате в 1909—1913 гг. покупательная способность
жалованья по сравнению с 1850-ми гг. возросла соответственно у генералитета
в 1,2 раза, штаб-офицеров — в 2,5 раза и у обер-офицеров — в 2,3 раза, в целом
у всего корпуса — в 2,1 раза, а по сравнению с начальным уровнем 1710-х гг.
у штаб-офицеров почти в 3 раза, у обер-офицеров — в 3,5 раза, в целом у всего
корпуса — в 3,3 раза, в среднем у всего офицерского корпуса — в 1,2 раза. Но
у генералитета оно понизилось почти наполовину. Если же сравнивать с 1720-ми гг.,
после нивелирования жалованья у русских и «иноземцев», то за два столетия
у обер-офицеров реальное жалованье выросло в 1,6 раза, у штаб-офицеров —
в 1,3 раза. У генералов же оно понизилось более чем в 2 раза. В результате раз¬
личия в жалованье нивелировались: в 1710-е гг. генеральские оклады превышали
штаб-офицерские в 10 раз, обер-офицерские — в 32 раза, в 1909—1913 гг. — со¬
ответственно в 2 и 5 раз.
Сравним величину жалованья и его динамику у чиновников и офицеров (из-
за отсутствия достаточно надежных сведений о всем содержании по необходи¬
мости проходится сравнивать только денежное жалованье и столовые) за
1760—1900-е гг., поскольку жалованье чиновников было окончательно введено
с 1764 г.143 (табл. 11.22).
В 1760-е гг. жалованье у военных генералов было примерно в 2 раза меньше,
чем у гражданских, у штаб- и обер-офицеров — соответственно в 2,5 и 3 раза
ниже, чем у чиновников одинакового с ними ранга. Затем, вплоть до 1880-х гг.
различие сокращалось, и в 1817—1880 гг. чиновники всех рангов обеспечивались
жалованьем хуже, чем офицеры в одинаковых с ними чинах, в 1820—1830-е гг. —
в 2 раза хуже. После почти пятикратного повышения жалованья чиновникам
в 1860—1870-е гг. они, хотя и незначительно, вновь обошли офицеров в 1880—
1890-е гг., но в 1900—1913 гг. жалованье чиновников и офицеров практически
сравнялось. В 1900-е гг. военные генералы по жалованью уступали гражданским
чинам примерно в 2 раза, штаб-офицеры — почти на четверть, но у обер-
офицеров и чиновников одинаковых с ними рангов, которые составляли львиную
долю офицерского корпуса и бюрократии, реальное жалованье сравнялось. Бла¬
годаря этому в 1900-е гг. жалованье у чиновников в целом в лучшем случае верну¬
лось к уровню 1760-х гг., а у офицеров оно повысилось почти в 2 раза. В 1900-е гг.
жалованье всех классных чиновников в постоянных ценах составило в среднем
2039 руб., а офицеров — 1946 руб.
Дополнительные доходы от личной собственности (прежде всего от поместий
с крепостными) могли помочь незначительному числу офицеров из числа потом¬
ственных двбрян-помещиков. Доля потомственных дворян по происхождению
среди офицеров была стабильно в 1,7 раза больше, чем у чиновников. С 1750-х
по 1850-е гг. она понизилась с 83 до 56 % (табл. 11.23).
Кроме того, поскольку до 1845 г. первый офицерский чин давал потомствен¬
ное дворянство, практически все офицеры после высочайшего утверждения по¬
лучали это звание и, следовательно, почти все офицеры являлись потомственны¬
ми дворянами. Доля офицеров из недворян во второй половине XVIII в. умень¬
шилась с 32 до 26 %, в первой половине XIX в. составляла около 26 %, в 1894 г.
повысилась до 45 %144. Офицеры недворянского происхождения не могли на свое
230
средних и низших рангов в 1760—1900-е гг. (руб. в ценах 1913 г.)
1900-е гг.
Чиновники
10915
4645
1391
2039
94
Офицеры
5784
3712
1405
1946
192
Различия в окладах офицеров и чиновников (офицеры = 100)
189
125
бб
105
1880-е гг.
6940
3545
979
1474
68
5636
2698
892
1360
134
123
СП
О
108
1860-е гг.
5747
2759
о
00
1002
46
3879
2234
749
1119
о
148
124
77
06
1830-е гг.
2190
821
260
374
Г"
3459
1490
526
СП
ON
78
63
55
49
47
1810-е гг.
1939
727
230
331
lo
1747
724
266
Г"
ON
сн
39
III
о
о
86
СП
00
1790-е гг.
6212
1920
676
943
43
3233
о
ov
00
353
548
54
192
216
192
172
1760-е гг.
14 621
4386
1570
2180
о
о
7584
00
о
оо
550
1014
о
о
193
243
285
215
X
X
<L>
<L>
О
О
03
за
а>
<и
-0
-0
Л
X
X
X
3
cd
о
03
о
оЗ
о
03
о
0Q
о
со
03
4
о
§ ш
II
О
§
II
о
5
£ s
и
К а
и
*
>
а> s
и
>
а> о
U
. !
>
ж
О <L>
4> О-
О <D
а>
>
1
X
х 2
1=5 о
<D X
X '
о> о
3 £
>
1
X
X V
ч я
а> s
8 о
3 £
I
X
1
X
5
>
1
>
X
CL X
и ®
X Г"*
S о
>
1
>
X
"в-
U о
X С*4
S О
>
1
>
о.
и
Подсчитано по данным табл. 11.15—11.19.
Глава 11. Уровень жизни
Таблица 11.23
Доля потомственных дворян по происхождению в офицерском корпусе
сухопутных войск Российской императорской армии в 1750—1912 гг.
Офицерский состав
1750-е гг.
1864 г.
1874 г.
1897 г.
1912 г.
Г енералитет
—
351
594
1212
1299
Из них дворян
по происхождению, %
—
88
85
92
87
Штаб-офицеры
—
2630
3821
6282
8340
Из них дворян
по происхождению, %
—
69
71
71
71
Обер-офицеры
—
16 495
18 370
35 283
38 976
Из них дворян
по происхождению, %
—
53
47
46
50
Итого
8804*
19 476
22 785
42 777
48 615
Из них дворян
по происхождению, %
83
56
52
51
54
Подсчитано по: Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение
офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны // Россия в период реформ Петра I /
Н. И. Павленко (ред.). М., 1973. С. 171 (1720 г.); Троицкий С. М. Русский абсолютизм ... С. 222
(1750-е гг.); Корелин А. П. Дворянство ... С. 86 (1864, 1874, 1897 гг.); Волков С. В. Русский
офицерский корпус. С. 269—270, 320, 352 (1813, 1844, 1912 гг.).
* Интерполяция по сведениям о 73 из 172 полков (в 73 полках 3737 офицеров).
жалованье купить поместье. Они могли стать помещиками с помощью женитьбы.
Но женихи крестьянского, мещанского и другого разночинного происхождения
не привлекали богатых невест из поместного дворянства. Поэтому большинство
офицеров не могли владеть поместьями. Данных об офицерах-землевладельцах
и душевладельцах нет. Если предположить, что все офицеры являлись потомст¬
венными дворянами и их имущественное положение было примерно таким же,
как всех российских помещиков, то вот какая картина получается на 1833 г.
(табл. 11.24). Приличный офицеру доход могло давать поместье от 100 душ
и больше (при среднем оброке в 12 руб. серебром), каковых могло насчитываться
не больше 16 %. Следовательно, у 84 % офицеров жалованье должно было слу¬
жить главным источником дохода.
Итак, если сравнивать денежное жалованье и столовые, то в 1761—1810 гг.
чиновники были обеспечены лучше, чем офицеры, примерно в 2 раза, в 1811—
1870-е гг., за исключением 1840-х гг., — хуже офицеров, и с 1880-е гг. примерно
одинаково. Но правильно ли на этом основании заключать, что и все содержание
у офицеров было меньше, чем у чиновников в 1760—1800-е гг., и примерно та¬
ким же в 1881—1913 гг.?
Что касается генералитета, то это, скорее всего, так. Губернаторы и чиновни¬
ки первых четырех классов получали огромное содержание от государства, кото¬
рое с 1865 г. даже официально не регламентировалось, а назначалось индивиду-
232
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
ально императорским указом. Можно допустить, что оно превосходило доходы
от службы военных генералов. Но есть серьезные сомнения, чтобы штаб- и обер-
офицеры когда-либо уступали чиновникам по общему годовому содержанию,
включающему все виды выплат.
Таблица 11.24
Распределение помещиков по числу принадлежавших им крепостных
по 8-й ревизии в 1833 г. (душ мужского пола)
Категория помещиков
Численность
помещиков
Доля среди
помещиков
Численность
крепостных
Крепостных
на 1 помещика
Беспоместные
17 763
14
62 183
4
С числом крепостных:
1—20
58 457
46
450 037
8
21—100
30 417
24
1 500 357
49
101—500
16 740
13
3 634 194
217
501—1000
2273
2
1 562 831
688
1000+
1453
1
3 556 959
2448
Итого
127 103
100
10 766 561
85
Подсчитано по: Тройницкий А. Г. Крепостное население России по 10-й народной
переписи. СПб., 1861. С. 67.
Напрашивается предположение, что офицеры имели большие, чем чиновники,
дополнительные доходы, компенсировавшие снижение реального жалованья,
вызванного инфляцией (предполагая, что теневые доходы у тех и других были
примерно одинаковыми).
Теневые доходы офицеров — это так называемые «безгрешные доходы»,
о чем шла речь выше14 .
Офицеры имели денщиков, т. е. прислугу из числа нижних чинов. В начале
XX в. одному офицеру полагался один денщик (в XVIII—первой половине XIX в.
больше). Генералам и штаб-офицерам отпускались деньги на наем еще граждан¬
ских слуг — генералам на двух слуг, штаб-офицерам одного слуги. В начале XX в.
средняя плата наемной прислуге в огромном большинстве средних городов со¬
ставляла 70—120 руб. в год; на окраинах много выше146. Чиновники, как прави¬
ло, имели прислугу, но за свой счет.
На денежные награды офицерам в 1855—1902 гг. государство истратило
31 109 тыс. руб., по 648 тыс. в среднем в год, а на аренды — соответственно 9533
и 199 тыс. руб. Ежегодно наиболее существенные награды (чины и ордена) полу¬
чали примерно 10% всех офицеров (правда, на обер-офицеров приходилось
в среднем намного меньше наград, и соответственно этот процент существенно
возрастал для генералов и штаб-офицеров)147. В среднем на одного офицера в год
(средняя численность офицерского корпуса в 1855—1902 гг. составляла около
35 тыс.) это давало 24 руб. — средняя месячная зарплата российского рабочего
во второй половине XIX в.
233
Глава 11. Уровень жизни
Офицер и члены его семьи пользовались правом на лекарства и лечение, в том
числе на санаторно-курортное, за небольшие деньги — 2,5 % отчислений от сум¬
мы жалованья. Сыновья офицеров часто пользовались правом на обучение в ка¬
детских корпусах за счет казны. Дочери офицеров имели право на обучение
в женских учебных заведениях (гимназии, женские институты) за счет военного
ведомства.
Офицер получал единовременные пособия (величина пособия на 1913 г.):
а) по выпуску из военного училища на приобретение обмундирования 300 руб.;
б) по выпуску из казачьего училища на обмундирование 300 руб., на приобрете¬
ние лошади — 200 руб.; в) прапорщику запаса при призыве на действительную
службу на приобретение обмундирования 300 руб.; г) офицеру по выпуску из
Михайловской артиллерийской академии на первоначальное обзаведение 300—
500 руб.; д) слушателям военных академий на приобретение учебников и посо¬
бий на 1-м курсе 140 руб., на 2-м и 3-м курсах 100 руб. Офицер получал также
пособие в размере 100 руб. при назначении на должность и при переводах в дру¬
гие гарнизоны не по его желанию. На лечение и погребение отпускалось: под¬
полковнику— 125—175 руб., капитану— 100—150, штабс-капитану — 75—125,
поручику и подпоручику — 30—125 руб.148 Существовали и другие дополни¬
тельные выплаты: прогонные деньги (на перемещение к месту службы, команди¬
ровки и т. п.); порционные деньги (на разъезды и питание в ходе полевых поез¬
док, рекогносцировок и т. п.); суточные деньги (за караулы), походные и лагер¬
ные деньги и т. п. Например, суточные деньги «за караулы» составляли 30 коп.
для обер-офицеров и 60 коп. для штаб-офицеров. Выплаты во время нахождения
в лагерях и в период маневров, продолжавшихся более 3 суток, составляли 1 руб.
50 коп. в день для обер-офицеров и 2 руб. 25 коп. для штаб-офицеров149. Все пе¬
речисленные суммы, иногда незначительные порознь, вместе составляли доволь¬
но внушительную величину, если помнить, что средняя годовая заработная плата
российского рабочего составляла в 1900 г. — 203 руб., в 1913 г. — 264 руб. в те¬
кущих ценах.
Предполагаю, что перечисленные бонусы, вместе взятые, увеличивали годо¬
вое содержание офицера и поднимали его выше уровня, который имел чиновник
соответствующего ранга, и представляется совсем маловероятным, чтобы их до¬
ходы были меньше, чем у крестьян и рабочих. Во всяком случае, бедный, голо¬
дающий чиновник попал на страницы русской беллетристики и публицистики
первой половины XIX в., а голодающий офицер, не имевший в мирное время са¬
пог и шинели, вроде канцеляристов и мелких чиновников, о которых шла речь
выше, — нет. )
Можно выдвинуть экономические и социально-психологические контраргу¬
менты против тезиса о превосходстве денежного содержания офицеров.
Уровень квалификации и образования у чиновников был выше, чем у офице¬
ров, что давало первым бонус в отношении жалованья. Мне неизвестны сведения
об уровне образования офицеров в XVIII—первой половине XIX в. В первой по¬
ловине XVIII в., когда сложилась традиция более высокого денежного жалованья
бюрократии, спрос на чиновников превосходил спрос на офицеров, так как гра¬
мотность населения, включая дворянство, была очень низкой: на рубеже XVII—
234
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Рис. 11.14. В читальном зале Николаевской академии Генерального штаба,
С.-Петербург. 1902
XVIII вв. — около А—5% среди всего мужского населения (см. табл. 12.15
в гл. 12 «Русская культура в коллективных представлениях» наст. изд.). Офицера¬
ми могли служить неграмотные, а от чиновника требовалась не только элементар¬
ная грамотность, но и некоторое образование, хотя бы на уровне начальной школы.
Еще в конце XVIII в. встречались неграмотные офицеры, которые выдвинулись из
податных сословий благодаря способностям и храбрости, несмотря на запрещение
1737 г. производить в офицеры неграмотных. Образование являлось дорогим това¬
ром и потому ценилось; спрос на квалифицированных чиновников в первой чет¬
верти XVIII в. был острым151. Однако если допустить, что уровень образования
у офицеров в первой половине XVIII в. был ниже, чем у чиновников, то это пре¬
имущество в XIX в., а может быть, и раньше исчезло (табл. 11.25).
В пореформенное время среди офицеров было меньше, чем среди чиновни¬
ков, лиц с высшим образованием, зато больше со средним и меньше с начальным
и домашним. Оценим средний уровень образования офицеров и чиновников по
числу лет обучения, принимая, что начальное и домашнее образование продол¬
жалось 3 года, среднее — 10 лет, высшее — 14 лет. В 1867—1869 гг. по числу лет
обучения офицеры в среднем превосходили чиновников почти на 2 года, в конце
XIX—начале XX в. более чем на год. Бонус за образование следовало отдать
офицерам, а не чиновникам.
Профессия офицера имела более высокий престиж, чем чиновника. После от¬
мены обязательной службы в 1762 г. вплоть до Великих реформ считалось не¬
приличным для дворянина не прослужить хотя бы короткое время в армии, и даже
235
Распределение чиновников и офицеров по уровню образования
в конце XIX—начале XX в. (%)
<N
а*
а
I
о
е
о
«I
S 5
II
U 5
It
О-
5
О-
U
а
о
А
CQ
-Q
r- OS
d (N
О
40 40
1— f—i
U
00 00
Os Os
i—i i—
<и
X
S
О-
U
<и
<и
а
о
А
CQ
нО
§
г-
оГ
г-;
чо"
Os
00
VO
сп
00^
г-
(N
00
(N
Os О
Г- 00
ОО 00
(N
o'
m
os
<N
чо"
оч
oo"
г-
Г""
m
<N
<N
•Л)
Os'
m
r-
Os
00
г~" 40
00
CO
5U
О £
. C
a.
г- о
00 *
^ >X
О О
С o-
U 3
X
4 °
Й «
3 s
DO о
т &
ю °ci
= |
эс ri
oq
3 2
о i
Ou
hQ Ю
ffl E
. U
£ g
ё.2
lO ^
° Os
x T
О g
x ^
ё cd
si
I &
g s
2 5S
5 S
О
g
E
cd
DQ
О
а
a.
•8
<D
<L>
X
g
o-
а
2
<u
S
x
s'
§
X
4
X
<u
0
<D
X
ё
а
X
4
X
«г «
^ X
1 5
^ CQ
О О
О- Q
D cd
5 a
x о
О О
i I
CQ cd
I *
I 2
о о
-- о
A X
О- a
S i
X 5
*©*
C>
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
богатые помещики, не нуждавшиеся в средствах, из чести поступали на служ¬
бу. Офицерское звание открывало путь в потомственное дворянство и ко всем
связанным с этим привилегиям, что снижало роль материального вознаграж¬
дения за ратный труд. Это соображение могло иметь некоторое значение до
1845 г., когда после производства в первый офицерский чин присваивалось
потомственное дворянство. Но в 1845 г. ценз повысился до майора, а с 1856 г.
до полковника. В пореформенное время престиж дворянства упал. Некоторые
известные люди не стремились и де-факто отказывались от него, как случи¬
лось с А. П. Чеховым. В 1899 г. он был пожалован Николаем II в дворянство
и в кавалеры ордена Святослава 3-й степени, но оставил указ без внимания.
Тем не менее разница в жалованье продолжала существовать и в пореформен¬
ное время.
Можно привести и экономическое возражение. Престиж профессии не обу¬
словливается только материальным вознаграждением, но оно играет важную
роль. Если офицерское звание долгое время имело престиж, то для этого должны
были существовать также материальные мотивы.
Последние 100 лет, с 1811—1816 по 1909—1913 гг., существования импе¬
рии реальный жизненный уровень генералов вырос в 5 раз, штаб-офицеров
в 9,6 раза и обер-офицеров в 8,8 раза, другими словами четыре поколения
подряд благосостояние офицеров повышалось. Это свидетельствует о том, что
верховная власть заботилась об офицерах и делала все от нее зависящее (при
имеющихся ресурсах), чтобы поддерживать жизненный уровень офицеров на
приличном для своего времени уровне. В 1838 г. в указе Николая I
о повышении окладов говорилось: «Увеличив в 1834 г. жалованье штаб
и обер-офицерам военно-сухопутного ведомства, по мере представлявшихся
к тому средств, Мы тогда же предположили привести оное в ближайшую со¬
размерность с действительными потребностями военнослужащих, так, чтобы
каждому из них доставить способы к приличному и безбедному содержанию.
Ныне, к душевному Нашему удовольствию, Мы находим новую возможность
исполнить столь близкое Нашему сердцу желание. Назначив указом, сего
числа Министру финансов данным, к ежегодному отпуску особую сумму на
увеличение жалованья генералитету, штаб и обер-офицерам военно-сухопут¬
ного ведомства и утвердив прилагаемую при сем табель о новых окладах по
сему ведомству, повелеваем привести оную в исполнение с 1 января насту¬
пающего 1839 года, прекратив за тем производство жалованья по окладам,
ныне существующим»152. Эти слова не кажутся мне чистой пропагандой и со¬
циальной демагогией. В них надо видеть и искреннюю заботу о благосостоянии
офицерского корпуса — опоры российского государства и престола. Конечно,
офицеры, как и все люди, хотели, чтобы их тяжелый ратный труд вознаграж¬
дался лучше. Однако не равнодушие властей к положению офицеров, а низкая
производительность труда в российской экономике не позволяла удовлетво¬
рить их потребности в большей степени.
Вопрос о жалованье и доходах от службы у чиновников и офицеров нельзя
считать решенным и закрытым. Перспективным, на мой взгляд, является подход,
учитывающий не оклады по штатам, а общие суммы, расходуемые из государст¬
237
Глава 1L Уровень жизни
венного бюджета на жалованье и чиновникам, и офицерам по отдельным бюро¬
кратическим (министерствам, губернским правлениям и т. п.) и воинским (брига¬
ды, полки, корпуса и т. п.) подразделениям и в целом на государственный аппа¬
рат и армию.
Доходы приходского духовенства
В последние 15 лет история РПЦ и духовенства стала изучаться намного ин¬
тенсивнее, чем в советское время. Число опубликованных работ перевалило за
сотню; защищено более трех десятков диссертаций153; причем в основной своей
массе исследования выполнены на региональных материалах — и это очень цен¬
но. Религиозная жизнь в огромной империи, отдельные части которой обладали
существенной автономией, обусловленной слабостью административной, транс¬
портной и информационной структуры, своеобразием местных условий и слабым
контролем со стороны центра, имели большую специфику. Законы и указы при¬
ходили в провинцию (и особенно в отдаленные части империи) позже, воплоща¬
лись в жизнь с некоторым опозданием и отклонениями. Региональные исследо¬
вания создали насыщенную деталями картину развития церкви, духовенства
и приходской жизни в различных по своим характеристикам епархиях. В иссле¬
дованиях затронуты вопросы, которые прежде в советской историографии не
ставились и не рассматривались, благодаря чему сделаны новые интересные на¬
блюдения. Большим вниманием, как и прежде, пользовались государственная
сословная политика, развитие законодательства по сословным вопросам, формы
привлечения духовенства к выполнению государственных задач. Однако интерес
сместился в другое исследовательское поле: повседневная жизнь прихода, мате¬
риальное положение духовенства, его взаимоотношения с населением и орга¬
нами церковной и государственной власти, выполнение им своих обязанностей,
духовно-нравственное состояние, девиантное поведение, восприятие своего
положения и священнического служения, социальная мобильность, отношение
населения к вере и храму, — благодаря чему реальное положение белого духо¬
венства и религиозность населения получили отражение на материале отдель¬
ных епархий.
Региональные исследования создают возможность и вводят в соблазн прово¬
дить сравнения — это, безусловно, благо. В то же время появилась методологи¬
ческая трудность — как объяснить противоречия в выводах, касающихся отдель¬
ных епархий, и в выводах, основанных на общероссийских и региональных мате¬
риалах. Например, в одних епархиях приходская жизнь проходила самодеятельно
и свободно, в других — при большом давлении коронных и епархиальных вла¬
стей; в одних регионах уровень жизни духовенства очень низок, в других — бо¬
лее или менее удовлетворителен и т. п. По общероссийским данным, благосос¬
тояние духовенства повышалось, а в некоторых епархиях — понижалось. Обще¬
российское законодательство ввело новые нормы, регулирующие приходскую
жизнь, права и обязанности духовенства, а в конкретной епархии они никак не
проявляются. Вариативность в процессах и явлениях церковной жизни не отме¬
238
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
няет наличие общероссийских тенденций и закономерностей, и, наоборот, тен¬
денции и закономерности не отменяют вариативности их регионального вопло¬
щения. Расположенные на территории 101 губернии и области 67 епархий РПЦ
(в границах империи по состоянию на начало 1917 г.) должны были и на самом
деле отличались друг от друга по качеству и интенсивности церковной жизни.
Я уже не говорю о десятках тысяч православных приходов. «Условия существо¬
вания и функционирования приходов не только в одной отдельно взятой епар¬
хии, но и нередко в границах одного уезда настолько существенно различались,
что любые средние показатели, встречающиеся как в официальных изданиях
высших церковных инстанций, так и в некоторых исследованиях, не отражают
специфики реальной жизни на местах и могут привести к неверным выводам
и обобщениям», — справедливо констатирует исследователь приходской жизни
Егорьевского уезда Рязанской епархии154. Можно предложить следующий выход
из этой апории. Общероссийские данные являются результирующими, но, разу¬
меется, не как средняя температура по больнице, а как отражение вариантов, ча¬
ще всего встречающихся в реальной действительности и создающих тенденцию
или закономерность. Исследовательская задача принципиальной важности со¬
стоит в том, чтобы определить общее и особенное в жизни отдельных епархий
и объяснить происхождение и источники своеобразия. Речь, таким образом, идет
о том, что обнаруженные региональные особенности не отменяют выявленные
другими исследователями общероссийские тенденции, а обнаруживают много¬
образность религиозной жизни.
Я остановлюсь лишь на уровне жизни духовенства. В течение всего периода
империи материальное положение белого, или приходского, духовенства, каза¬
лось самим клирикам недостаточным и считалось самой болезненной проблемой.
По мнению одних исследователей, уровень жизни клириков со временем повы¬
шался155, по мнению других, — понижался156, большинство говорит о его не¬
удовлетворительности, избегая оценок росло или падало157 (в двух последних
случаях имеется в виду главным образом сельское духовенство). Весьма часто
исследователи отмечают, что положение городского духовенства было лучше
или даже удовлетворительным, а сельского — плохим15 . Некоторые же резонно
возражают: «Тезис многих исследователей о том, что городское приходское ду¬
ховенство получало доходы большие, чем сельское, на наш взгляд, нуждается
в существенном дополнении. Получая больше своих сельских коллег (хотя во¬
прос о соотношении доходов этих категорий духовенства решить не так-то просто
из-за малой информативности сохранившихся источников), городское духовен¬
ство должно было и больше их тратить»159. По мнению известного исследователя
истории Русской церкви И. К. Смолича (1898—1970), в XVIII—первой половине
XIX в. благосостояние приходского духовенства понижалось, а в пореформенное
время повышалось160. По мнению иностранцев, посещавших Россию в XVIII в.,
жизненный уровень духовенства был низким161. Если говорить об отдельном
приходе, то, как показали конкретные исследования и как говорят этнографиче¬
ская литература и беллетристика, материальное благополучие причта зависело
в решающей степени от величины прихода, наличия земельных угодий и взаимо¬
отношений с прихожанами162. Попытаемся, опираясь на статистические расчеты,
239
Глава 11. Уровень жизни
более четко ответить на вопрос: как изменялся уровень жизни белого духовенст¬
ва в период империи?
Содержание причта имело несколько источников:
1) требоисполнение: плата за совершение ряд специальных священнодейст¬
вий, обрядов и молитвословий, получивших название треб, так как совершаются
«по требованию» верующих; сюда входят крещение, причащение, покаяние, брак
и елеосвящение, или соборование, а также отпевание умерших, водоосвящение
и освящение плодов труда человека и предметов (дома, оружия и т. п.);
2) церковная земля и угодья, отведенные на содержанье всего причта; годич¬
ное содержанье причту от прихода, деньгами, хлебом и припасами, по уговору
или по положенью;
3) обеспечение жилищем от прихода;
4) государственное жалованье;
5) проценты с предназначенных в пользу принтов вечных вкладов, доходы
с церковных оброчных статей, предназначенных в пользу принтов (дома, лавки,
мельницы, рыбные ловли, пустоши и земельные угодья и т. п.)163.
Рассмотрим каждый источник благосостояния в отдельности.
Требоисполнение
Среднее число прихожан в приходе со временем постепенно увеличивалось,
несмотря на более высокий, сравнительно с остальным населением, естествен¬
ный прирост клириков (табл. 11.26).
Таблица 11.26
Изменение численности духовенства и паствы в приходе в XVIII—начале XX в.
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
Число принтов, тыс.
18,5
26,4
31,0
38,2
Численность клириков, тыс.
72,7
104,6
117,0
106,6
Численность священников, тыс.
22,9
30,3
37,6
47,7
Численность прихожан, млн
17,9
29,4
54,0
97,9
Прихожан на причт
968
1114
1742
2563
Прихожан на клирика
246
281
462
918
Прихожан на священника
782
970
1436
2052
Рост численности прихожан
на причт, 1760-d гг. = 100
100
115
180
265
Рост численности прихожан
на клирика, 1760-е гг. = 100
100
114
188
373
Рост численности прихожан
на священника, 1760-е гг. = 100
100
124
184
262
Подсчитано по: ПСЗ-I. Т. 30. С. 374. № 23122 от 26.06.1808; Григорович Н. Обзор общих
законоположений о содержании православного приходского духовенства в России со времени
введения штатов по духовному ведомству (1764—1863). СПб., 1867. С. 28 ; Миронов Б. Н.
Русский город в 1740—1860-е гг.: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.,
240
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
1990. С. 143—147 ; Freeze G. L.\ 1) The Russian Levities : Parish Clergy in the Eighteenth Century.
Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1977. P. 115 ; 2) The Parish Clergy in Nine¬
teenth Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, NJ : Princeton University Press,
1983. P. 54, 99, 460.
C 1760-x no 1904 г. численность прихожан на причт увеличилась в 2,7 раза, на
клирика — в 3,7 раза, на священника — в 2,6 раза. Значит, доходы за требы мог¬
ли возрасти примерно в 5 раз за счет увеличения численности прихожан, если бы
цены на товары и услуги духовенства не изменялись или изменялись синхронно.
Это стало следствием намеренно проводимой духовными и светскими властями
политики, направленной на повышение доходов духовенства. В государственной
казне средств для улучшения быта духовенства не было, и оно избрало единст¬
венно возможную тактику для его решения без привлечения дополнительных
фондов из государственного бюджета — увеличить численность паствы в прихо¬
де и соответственно число треб и величину доходов от них. Доходы за требоис-
полнение составляли важнейшую статью доходов духовенства в течение всего
периода империи.
Но росла и плата за требы164, динамику которой точно оценить затруднитель¬
но, поскольку она взималась, как правило, сверх рекомендованной властями ве¬
личины и сильно отличалась по размерам в различных приходах165. По мнению
П. В. Знаменского, в первой половине XVIII в. стихийно сформировались устой¬
чивые цены за требы и службы в целом по Российской империи166. В 1765 г. вла¬
сти впервые попытались ввести таксу, значит, обязательную минимальную плату
за требы, которая была ниже существовавшей на практике167. Установленные
цены «объявлялись во всенародное известие» и должны были вывешиваться
в каждой церкви. Но поскольку такса была низкой, духовенство сопротивлялось,
и ввести ее на местах оказалось весьма затруднительным. Распоряжения, направ¬
ленные в епархии, приобрели лишь рекомендательный характер и в практической
деятельности, особенно на окраинах, не применялись. Например, в Иркутской
епархии священники, опираясь на традиции и договор с прихожанами, придер¬
живались старых размеров оплаты за требы. Никакого воздействия не имели
грозные указы консистории и архиерея. В результате иркутскому епархиальному
начальству пришлось смириться со сложившимся положением и легализовать
установившиеся в регионе цены за исполнение треб168. Но такса не применялась
даже в Москве169. Впоследствии в связи с ростом цен такса неоднократно возвы¬
шалась: в 1801 г. — удвоена; в два приема, 1828 и 1859 гг., повышена еще почти
в 2 раза170. Но «правительственные тарифы нигде не соблюдались»171. Это, меж¬
ду прочим, не противоречило закону, который не запрещал прихожанам по доброй
воле платить любые деньги. Чтобы получить представление о доходах за требоис-
полнение необходимо знать число треб, реальную их оплату и индекс потреби¬
тельских цен. И в XIX в. приходское духовенство выступало против государствен¬
ного нормирования оплаты за требы, так как такса была очень низкой и давала
право прихожанам платить абсурдно мало за тяжелый труд духовенства172.
Я оценил доходы, получаемые причтом от треб, следующим образом: 1) со¬
ставил список треб, которые верующие обязательно выполняли, на четыре даты,
241
Глава 11. Уровень жизни
по которым имеются сведения о фактической плате — на 1740—1760-е, 1800-е,
1860-е и 1905—1907 гг.; 2) определил численность людей, которые их исполняли
и заказывали; 3) подсчитал суммы, уплачиваемые за них населением; 4) вычис¬
лил, какой доход давали требы на один причт, клирика, священника; 5) пересчи¬
тал эти расходы, учитывая изменения цен потребительских товаров, и оценил
динамику доходов от треб в ценах 1913 г.
В табл. 11.27 (столбец 1) содержится список обязательных треб, которые зака¬
зывали и оплачивали ежегодно прихожане. Помимо крещения, венчания, погре¬
бения и соборования (в случае серьезной болезни) и молитвы над роженицей,
исполняемых в зависимости от обстоятельств, список включает также требы,
ежегодно исполняемые каждым верующим индивидуально — исповедь и при¬
частие (начиная с 7 лет) и коллективно, всей семьей — молитву об урожае и мо¬
литву на Пасху. На самом деле верующие совершали большее число треб — за¬
казывали сорокоусты о здравии (молитвы за здоровье близких, особенно о тяже¬
лобольных, за их успехи, материальное благополучие, душевный покой); поми¬
новения (молитву за усопших родных, друзей, учителей, благожелателей) на 40
дней — сорокоуст, на год — годовое поминовение; панихиды усопшего на дому;
всенощные на дому (богослужение от захода солнца до рассвета, совершается
вечером накануне особо чтимых праздничных дней); хождение по домам с кре¬
стом и святою водою в Рождество, в день Богоявления Господня и в неделю Свя¬
той Пасхи и др. Список треб у каждого верующего и у каждой семьи был инди¬
видуальным и зависел от потребностей и материальных возможностей.
В Иркутской епархии в 1770-е гг. один священник совершал примерно 70
крещений, венчаний и отпеваний в год, в 1780-е гг. — 90, а в 1790-е гг. — более
110. Число треб зависело от численности прихожан и потому существенно варь¬
ировало от прихода к приходу. Священник совершал также около 300 молитв
в год. Молитву об урожае заказывала почти каждая семья; их количество равня¬
лось числу дворов в приходе. Обязательной для каждой семьи, в которой ожида¬
лось прибавление, считалась молитва о здоровье роженицы. Поэтому их количе¬
ство можно соотнести с числом крещений. Число заупокойных молитв также
примерно соответствует числу отпеваний. Пасхальные молитвы проводились
в большинстве дворов прихода, за исключением наиболее удаленных поселе¬
ний173. Состоятельные крестьянские семьи Воронежской губернии в 1880-е гг.
заказывали по 35 треб ежегодно174. В 1905—1907 гг. на один приход в среднем
приходилось 25 браков, 133 крещения, 60 случаев отпеваний малолетних детей и
32 взрослых, а также 90 напутствий на дому, всего 340 требоисполнений175.
Составленный список включает минимальное число треб, обязательно совер¬
шаемые каждый верующим, поэтому и плата за них отражает минимальные сред¬
ства, получаемые за них причтом (табл. 11.27).
2-й столбец табл. 11.27 показывает, как учитывалось число совершавшихся
треб. Например, число крещений и число молитв над роженицей принимается
равным числу родившихся, число погребений младенцев — числу детей, умер¬
ших до 5 лет. Число молитв о хорошем урожае и на Пасху равно числу семей,
поскольку эти требы совершаются семьей/хозяйством. Принимается, что в каж-
242
Обязательные обряды, численность их участников и плата за требоисполнение в XVIII—начале XX в. (коп.)
к
S'
1904 г.
На практике
зол.
50
300
50
108
20
tn
20
20
120
1860-е гг.
кред.
40
о
о
40
80
(N
00
оо
(N
(N
о
о
1800-е гг.
сер.
30
50
20
09
40
п-
П-
40
40
50
1740—
1760-е гг.
сер.
(N
о
30
сн
(N
(N
сн
сн
25
1841 г.
По закону
сер.
tn
09
оо
30
сн
О
О
сн
СП
1
U
О
00
асе.
40
20
40
20
тГ
О
о
1
>
1
1765 г.
сер.
сн
о
сн
о
(N
о
о
1
1
1
Участники
Родившиеся
Врачующиеся
Умершие младенцы
Умершие взрослые
Родившиеся
Исповедовавшиеся
Причастившиеся
Семьи
Семьи
Семьи
Обязательные требы
Крещение
Венчание
Погребение
младенца
Погребение
взрослого
Молитва над
роженицей
Исповедь
Причастие
Молитва об урожае
Молитва на пасху
Соборование
£ 3
*
Н ж
. s
I—I о
• о
ГО о
U с2
с *
s
р §
. со
и о
Р к
2 а
^ (U
(U ^
в §
2-1
•8 |
о S
X
ч>
о с
g 2
§ s
С W
. &
<N О
<N О
I®! <U
г; s
* §
н В
¥0 §*
£ ^
й 57
CQ
X о
i с
о *
О. ®
СО 3?
О с
ю Ж
С 3
и S
ж
X
8
о
о.
<и
*
№
о.
о
с
8
О.
Ж 2
о 5
S- ffl
2 О
о
5
о
о*
<и
h 5 а
У ГИ <и
& s
^ О
<и
о
о
§
о
ё В
* X
« а
- ч
J3 о
х о
х а
о- Й
н 2-
|о
с 2
«1
. -
§ *о
о
х
i
сн
2 §
s S
О
1!
8*8
о 5
о ®
*
SU ВС
5 о.
• X о
00 Й X
^ Й о
L, О Й
5 со й
X <“0
; ^
О ,oj
Н ^
5^
*3- 5
X
«и
S в
в 2
&|
£ Б
S о
5 X
1825 (дек. 12)—1835 гг. Пг., 1915. Т. 1. № 184 ; Морозам В. В. Экономическое положение Русской Православной Церкви в конце XIX—
начале XX вв. // Нестор. 2000. № 1. С. 329; Семевский В. И. Сельский священник во второй половине XVIII в. // PC. 1877. Т. 19, № 8.
С. 503—520 ; Розанов Н. П. История Московского епархиального управления со времени учреждения Св. Синода (1721—1821): в 3 т. М.,
1866—1871. Т. 2, кн. 2. С. 337; Т. 3, кн. 1. С. 148.
Гпава 11. Уровень жизни
дой семье в течение года хотя бы один раз серьезно заболевает какой-нибудь
член семьи и в связи с этим в дом приглашался священник для совершения собо¬
рования. Основанием для этого послужил следующий расчет. Согласно сведениям
подворных переписей в Воронежской губернии, проведенных в 1884—1891 гг.,
в каждом селении в день проведения переписи в 2,7 % семей имелись больные176.
Предполагаю, что в одной из этих семей заболевший находился в тяжелом со¬
стоянии и к нему приглашался священник для соборования.
Фактическая оплата за требы (6-й столбец табл. 11.22) за 1740—1760-е гг.
приведена по сведениям П. В. Знаменского, Н. П. Розанова и В. И. Семевского, за
1800-е гг. и 1860-е гг. увеличена по сравнению с 1740—1760-ми гг. пропорцио¬
нально повышению таксы по закону 11. Сведения на 1904 г. получены в ходе
официального обследования экономического положения 17 средних приходов
одной из восточных (небогатых) епархий (в архивном источнике не указаны на¬
звания приходов и епархии)178.
Сведения о численности белого духовенства, количестве причтов и числе
демографических событий, сопровождавшихся частными молитвами и церков¬
ными обрядами приведены в табл. 11.28. Они получены по официальным дан¬
ным клирового, исповедного и метрического учета, а также из годовых отчетов
обер-прокуроров Св. Синода. На их основе и получены ориентировочные и,
скорее всего, заниженные данные о расходах населения на требы (табл. 11.28—
11.30).
Таблица 11.28
Исходные данные для расчета сумм, уплачиваемых православным населением
России за требоисполнение в XVIII—начале XX в.
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
Численность вступивших в брак,
тыс.
164,0
303,0
570,0
744,4
Численность родившихся, тыс.
894,6
1469,4
2918,0
4760,3
Численность умерших, тыс.
715,6
1175,5
2204,0
2928,7
Доля умерших до 5 лет, %
56
56
55
50
Численность умерших детей
до 5 лет, тыс.
400,8
658,3
1212,2
1464,3
Численность умерших взрослых
314,9
517,2
991,8
1464,3
(старше 5 лет), тыс.
Численность прихожан, млн
17,9
29,4
54,0
97,9
Средняя численность крестьянской
семьи
8
8,3
8
5,9
Число семей, тыс.
2236
3541
6751
16 601
Доля прихожан, пропустивших
исповедь, %
2
3
10
7
Доля детей в возрасте до 7 лет, %
18
18
19
20
244
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Окончание табл. 11.28
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
Численность исповедовавшихся и
причастившихся в возрасте 7 лет и
старше, млн
14,3
23,2
38,3
71,5
Подсчитано по: Буняковский В. Я. Опыт о законах смертности в России и о распределении
православного народонаселения по возрастам. СПб., 1865. С. 181—183 ; Миронов Б. Н.\
1) Русский город ... С. 146—147 ; 2) Социальная история России периода империи (XVIII—
начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правово¬
го государства : в 2 т. 3-е изд. СПб., 2003. Т. 2. С. 327 ; Новосельский С. А. Обзор главнейших
данных по демографии и санитарной статистике России. Пг., 1916 С. 36—37 ; Общий свод
данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 56—59; Т. 2. С. 92, 256. Остальные источники указаны
в примеч. к табл. 11.26, 11.27. Численность духовенства см. в табл. 11.26.
Таблица 11.29
Суммы, уплачиваемые православным населением России в XVIII—начале XX в.
за требоисполнение (тыс. руб.)
Обязательные требы
1760-е гг*
1800-е гг*
1860-е гг.**
1904 г.***
Крещение
134,2
440,8
1167,2
2380,1
Венчание
41,0
151,5
570,0
2233,2
Исповедь
286,3
928,7
3067,5
10 725,3
Причастие
286,3
928,7
3067,5
10 725,3
Погребение младенца
40,1
131,7
484,9
732,2
Погребение взрослого
94,5
310,3
793,4
1581,5
Молитва над роженицей
26,8
88,2
350,2
952,1
Молитва об урожае
67,1
212,4
810,1
3320,3
Молитва на пасху
67,1
212,4
810,1
3320,3
Соборование
559,1
1770,4
6750,8
19 921,7
Итого
1602,3
5175,0
17 871,7
55 891,9
Подсчитано по данным табл. 11.26—11.28.
* В серебряных руб.
** В кредитных руб.
*** В золотых рублях.
Таблица 11.30
Доходы духовенства за требоисполнение во второй половине XVIII—начале XX в.
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
сер.
сер.
кред.
зол.
Доход в текущих ценах:
на один причт, руб.
87
196
577
1463
на одного клирика, руб.
22
49
153
524
на одного священника, руб.
70
158
475
1172
245
Глава 11. Уровень жизни
Окончание табл. 11.30
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
сер.
сер.
кред.
зол.
от одного прихожанина, коп.
9
18
33
57
от одной семьи прихожан, коп.
72
146
265
337
Индекс потребительских цен
(1913 г.= 100)
29,0
55,8
66,0
84,6
Доход в ценах 1913 г.:
на один причт, руб.
299
351
873
1729
на одного клирика, руб.
76
89
231
620
на одного священника, руб.
241
283
720
1385
от одного прихожанина, коп.
31
32
50
67
от одной семьи прихожан, коп.
247
262
401
398
Изменение реального дохода, %
(1760-е гг. =100):
на один причт
100
117
292
578
на одного клирика
100
117
305
815
на одного священника
100
117
299
575
от одного прихожанина
100
102
162
218
от одной семьи прихожан
100
106
162
161
Общий прирост доходов от треб
(на одного клирика), в том числе
за счет:
100
117
305
815
роста численности прихожан
на клирика
100
114
188
373
изменения структуры треб
100
98
97
110
изменения оплаты за требы
100
104
166
198
Подсчитано по данным табл. 11.26—11.29.
Итак, доходы духовенства за счет требоисполнения постоянно росли. По
сравнению с 1760-ми гг. на одного клирика в постоянных ценах они увеличились
в 1800-е гг. примерно на 17 %, в 1860-е гг. — в 3 раза, в 1904 г. — более чем в 8
раз. Главный фактор повышения доходов от треб — увеличение численности
прихожан, другими словами, — увеличение интенсивности труда причта в 3,7
раза за полторк столетия. Второй фактор — увеличение оплаты за требы пример¬
но в 2 раза. Симптоматично, что во второй половине XVIII в. доходы духовенст¬
ва росли в основном за счет увеличения числа треб, т. е. интенсивности труда,
так как оплата в постоянных ценах практически не изменилась. В XIX в. важным
фактором роста доходов стало также повышение оплаты труда клириков почти
в 2 раза за 100 лет. Это являлось естественным следствием значительного повыше-
1 179
ния уровня жизни крестьянства и всего населения в империи в 1795—1913 гг.
Как видим, духовенство отнюдь не грабило своих прихожан, а соизмеряло свои
материальные требования с возможностями паствы.
246
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Для второй половины XVIII в. П. В. Знаменский и В. И. Семевский оценивали
средние денежные доходы причта от треб в центральных епархиях в 40—
55 руб.180 По данным, собранным Г. Фризом, доходы колебались от 10 до 100 руб. в
год, в среднем на причт составляли около 50 руб.181 По расчету О. Е. Наумовой, в
Иркутской епархии в конце XVIII в. требоисполнения давали причту в среднем 30
руб. в год. Половина этой суммы отдавалась священнику (15 руб.), оставшаяся по¬
ловина делилась между дьячком и пономарем (по 7,5 руб.)182. К 1808 г., по сведе¬
ниям, собранными Комитетом об усовершенствовании духовных училищ, создан¬
ным для преобразования духовно-учебных заведений и улучшения материального
обеспечения священнослужителей, из 26 417 церквей империи только 185 храмов
зарабатывали на требах в год по 1000 и более руб. ассигнациями (по курсу
в 1801—1807 гг. — 716 руб. сер.), большинство же принтов получали от 50 до
150 руб. асе. (от 21 до 107 руб. сер.), а некоторые — 5—10 руб. в год (в переводе на
серебро 4—7 руб.). Общая сумма сбора за требы во всех епархиях оценивалась
в 6 млн руб. асе. — по 193 руб. на причт183. В 1830 г. в 66 приходах Тверской
епархии средний доход от треб равнялся 482 руб. асе, опускаясь в самым бедных
сельских приходах до 80 руб.18 (в переводе на серебро по курсу 1830 г. — 127
и 21 руб. соответственно). Пензенский епископ утверждал, что в его епархии
лучшие приходы получали не большее 100 руб. асе. за требы в год, средние —
50 руб., бедные — 30 руб. асе.185, т. е. соответственно 26; 13 и 8 руб. сер.
Во Владимирской губернии в 1863 г., по сведениям епархиального управле¬
ния о доходах 1295 принтов, включавших 20,7 тыс. белого духовенства обоего
пола, средний годовой доход причта равнялся 285 руб., священника— 143, дья¬
кона — 95, причетника — 48 руб. Средний годовой доход 10 % самых богатых
принтов равнялся 1037 руб., а 10 % самых бедных — менее 148 руб. (табл. 11.31).
Таблица 11.31
Распределение годовых доходов по причтам Владимирской епархии в 1863 г.
Доходы, руб.
Число принтов
Сумма дохода
абс.
%
руб.
%
100
209
16,1
20 900
5,7
100—199
305
23,6
45 750
12,4
200—299
305
23,6
76 250
20,7
300—399
216
16,7
75 600
20,5
400—499
121
9,3
54 450
14,8
500—599
60
4,6
33 000
8,9
600—699
37
2,9
24 050
6,5
700—799
19
1,5
14 250
3,9
800—899
10
0,8
8500
2,3
900—999
6
0,5
5700
1,5
1000+
7
0,5
10 500
2,8
Итого
1295
100
368 950
100
Источник: РГИА. Ф. 804 (Присутствие по делам православного духовенства). On. 1.
Д. 60. Л. 5.
247
Глава 11. Уровень жизни
В 1880 г. средние годовые доходы принтов от треб оценивались, по сведения?
обер-прокурора Св. Синода Д. А. Толстого, примерно в 300 руб.186 Все приве
денные цифры доходов много ниже, чем показывает мой расчет, что совершенна
естественно: они основываются на сведениях самого духовенства, которое обыч
но указывало те доходы, которые оно получало в худший год (а доходы сильн
колебались по годам, находясь в зависимости от урожая), чтобы привлечь вни
мание светских и духовных властей к своему положению187. Прожить на 10 руб
в год в 1750—1780-е гг., или на 4—7 руб. сер. в начале XIX в. или на 8 или даж
26 руб. сер. в 1830 г., как утверждал епископ Пензенский, при отсутствии субси
дии от государства и небольшом земельном наделе не представлялось реальньш
Средние доходы крестьян были существенно выше. В 1780-е гг. чистые доход!
помещичьих крестьян в центральных губерниях составляли в среднем 14-
16 руб., в 1850-е гг. — 20—32 руб. сер. на мужскую душут, а у духовенства -
8—26 руб. на семью.
Жалованье от прихода
Значение второго источника увеличения доходов причта — жалованья о
прихода со временем также росло за счет увеличения денежной, натурально]
части, количества земли, предоставляемой общинами клирикам, и улучшени
жилищных условий. Массовые сведения об изменении жалованья мне неизвест
ны, больше сведений о земельном обеспечении причта. В XVII—первой полови
не XVIII в. каждому причту по обычаю и традиции отводилось от 15 до 30 дес
земли (1 дес. = 1,09 га) в зависимости от числа прихожан и величины из надело!
Обязательный минимум наделения духовенства землей в основном соблюдался
Это следует из того, что в 1735—1740 гг. в густонаселенных центральных епар
хиях на причт приходилось в среднем 17 дес. земли, на самом деле около 15 дес
поскольку данные, кроме Ярославской епархии, включают только те приходь
которые владели землей, между тем как 10—23 % ее не имели189.
В 1764—1765 гг. Екатерина II отменила практически все налоги, которы
клирики платили архиерею, ввела фиксированную плату за требы и повысил
минимальную норму отвода земли сельским церквам до 33 дес., что существенн
превышало наделы, полученные после секуляризации монастырской собственнс
сти. Постановление выполнялось медленно19 , и в 1801 г. в 25 губерниях 1016
или 3 % всех принтов, еще оставались без земли191. Отдельные безземельные гс
родские храмы стали получать пособие от государства. В 1829 г. норма наделе
ния землей был^ увеличена для приходов в государственной деревне: если у кре
стьян имелось более 15 дес., то церквам следовало отвести тройную пропорцш
земли (99 дес.), если от 12 до 15 дес. — двойную (66 дес.), а если от 8 д
12 дес. — полуторную (49 дес.)192. В 1842 г. эта норма была распространена н
все крестьянство и во второй половине XIX в. вошла в жизнь. Вывод основыва
ется на том, что в 1909 г. в тех же самых епархиях, о которых мы имеем сведени
на 1735—1740 гг., земельные наделы причта увеличились в 2,7 раза (с 17 д
46 дес.), а по 65 епархиям (из 66, без Калужской), включавших 93 % всех прихс
дов, до 59 дес.193 (табл. 11.32).
248
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Таблица 11.32
Обеспечение православных причтов землей в 1735—1740 и 1909 гг.
Епархии
1735—1740 гг.
1909 г.
Число
церквей
Десятин
земли
На
причт
Число
церквей
Десятин
земли
На
причт
Владимирская
661
9658
15
1109
53 155
48
Коломенская/
Тульская
691
10911
16
1213
47 322
39
Рязанская
935
19 926
21
889
44 199
50
Ярославская
826
12 358
15
879
44 706
51
Итого по 4
епархиям
3113
52 853
17
4090
189 383
46
Итого по 65
епархиям
—
—
21*
38 580
2 264 052
59
Подсчитано по: РГИА. Ф. 799. Оп. 15. Д. 1005. Л. 309—310 (по данным, приведенным
в: Морозан В. В. Экономическое положение... С. 324—328); Freeze G. L. The Russian
Levities ... P. 129.
* Экстраполяция по соотношению причтового надела в четырех и во всех епархиях в 1909 г.
В 47 епархиях Европейской России в среднем приходилось по 57 дес. на
причт, в том числе в 35 епархиях земля была отведена по норме (49 дес.) или
выше и лишь в 12 епархиях ниже нормы — в среднем по 41 дес. В 9 сибирских
и дальневосточных епархиях в среднем причт имел больше земли — по 101 дес.
В результате величина земельного надела на одного клирика (или на се-
мью/хозяйство, так как все они были мужчинами и главами семей)1 4 с 1860 по
1909 г. возросла с 8,7 до 22,8 дес. — в 2,6 раза, в то время как у крестьянства на
двор/хозяйство земельный надел уменьшился с 19,2 до 10,4 дес. — в 1,8 раза195.
Если в 1860 г. средний земельный надел на клирика уступал среднему крестьян¬
скому наделу в 2,2 раза, то в 1909 г., наоборот, стал превышать его в 2,2 раза.
Причтовая земля находилась главным образом в деревне, из чего следует: сель¬
ское духовенство в 1860 г. было обеспечено землей как самые бедные крестьяне,
а в 1909 г. как зажиточные и богатые, по меркам крестьянства. Замечу, что земля
между причтами в одной или различных епархиях распределялась более равно¬
мерно, чем между крестьянскими общинами, а среди клириков — более равно¬
мерно, чем между крестьянами, потому что существовали определенные нормы
распределения причтовой земли между причетниками, дьяконами и священника¬
ми. В деревне же распределение земли складывалось стихийно, под воздействием
социально-экономических факторов196.
Клирики чаще всего отдавали землю в аренду. В 1901 г. аренда 1 дес. земли
стоила в среднем по 21 губернии Европейской России 4,79 руб., но ее величина
сильно варьировала по губерниям — от 0,6 руб. в Уфимской губерниях до 116,9 руб.
в Московской197. За сдачу в аренду 2,264 млн дес. клирики могли получить
10,8 млн руб. — по 101 руб. на человека или по 285 руб. на причт. Те, кто обра-
249
Глава 11. Уровень жизни
батывал землю самостоятельно, получал больший доход: валовая доходность
1 дес. земли в 3—4 раза превышала арендную плату198, а чистая доходность со¬
ставляла 56—60 % в 1850-е гг. и 42 % в конце XIX в. от валовой доходности199.
В табл. 11.33 приведены результаты приблизительной оценки дохода причта от
земли в двух вариантах: если земля обрабатывалась самими клириками и если
она сдавалась в аренду. Валовая доходность земли определена как цена собран¬
ного урожая. Поскольку урожаи и цены ржи — главной озимой культуры и ов¬
са— главной яровой культуры различались несущественно, расчеты основыва¬
лись на урожае и ценах ржи.
Таблица 11. S3
Доход от причтовой земли при самостоятельной ее обработке
и при сдаче в аренду в 1760-е—1902 гг.
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1850—
1860-е гг.
1895—
1902 гг.
Урожайность, сам
3,5
3,5
3,5
4,9
Норма посева, пуд на дес.
8,5
8,5
8,5
8,5
Валовой сбор, пуд с дес.
29,8
29,8
29,8
41,7
Чистый сбор, пуд с дес.
21,3
21,3
21,3
33,2
Причтовая земля, дес.
21
33
40
59
Цена за пуд ржи, коп.
16,6
38,0
49,0
53,0
Цена урожая (без семян), руб.
74
266
417
1037
Индекс потребительских цен
29
37
66
80
Валовой доход от земли в ценах
1913 г., руб/
255
722
632
1298
Чистая доходность от валовой
доходности, %
60
60
60
42
Чистый доход от земли в ценах
1913 г., руб/
153
432
379
545
Доход от аренды в ценах 1913 г.,
руб.
64
180
158
324
Подсчитано по: Материалы для статистики России, собираемые по ведомству
Министерства государственных имуществ. СПб., 1871. Вып. 5. С. 86; Материалы комиссии
1901 г. Ч. С. 147, 199; Миронов Б. Н. Хлебные цены ... С. 68—69; Михайловский В. Г.
Урожаи в России: 1801—1924 гт. // Бюллетень ЦСУ. 1921. №» 50. С. 4 ; Свод статистических
сведений по сельскому хозяйству России к концу XIX века: в 3 вып. СПб., 1902. Вып. 1.
С. 144—149. ** Если земля обрабатывается самим причтом.
250
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Обеспечение причта жилищем
Со временем обеспечение притча жилищем улучшалось, особенно сущест¬
венно в пореформенное время, когда закон в 1863 г. обязал приходскую об¬
щину обеспечить причт домами под угрозой закрытия приходской церкви.
Например, к 1863 г. лишь около 5 % приходов Ярославской епархии имели
помещения для проживания причта, в 1869 г. — 10%, к началу XX в. —
большинство священников имели дом при церкви, остальные собственный
дом. Улучшались жилищные условия и в Рязанской епархии200. С жильем для
псаломщиков дела обстояли несколько хуже, но они также заметно улучши¬
лись по сравнению с дореформенным временем. То же произошло и в сибир¬
ских приходах, которые были обеспечены жильем лучше, чем большинство
городских жителей и чем духовенство Европейской России: многие из них
имели свои собственные дома, другие жили в церковных домах, строительст¬
во которых началось в 1860-х гг. 01
Государственная поддержка
Наконец, государственная поддержка духовенства тоже постоянно увеличи¬
валась. После взятия под контроль доходов с монастырских земель в 1701 г.
и окончательной секуляризации в 1764 г. весьма незначительное число городских
принтов при крупных кафедральных соборах, числом 136 — менее 1 % всех
церквей стали получать от государства жалованье202. Но сильное желание перей¬
ти на государственное обеспечение имели все клирики. К их сожалению, казна не
располагала для этого средствами.
В 1808 г. созданный при Св. Синоде Комитет об усовершенствовании духов¬
ных училищ для одновременного проведения двух реформ: преобразования ду¬
ховно-учебных заведений и улучшения материального положения приходского
духовенства — предложил отменить плату за требы и ввести государственное
жалование. Предполагалось наименее обеспеченные 14,5 тыс. принтов упразд¬
нить или оставить на содержании прихожан. Остальные 16,5 тыс. должны были
получать дотации от 300 до 1000 руб. в зависимости от уровня образования свя¬
щенников. На это требовалось 7,1 млн руб. ежегодно, которые должны были да¬
вать проценты со специально созданного церковью при помощи государства ка¬
питала203. Однако реализовать задуманную церковную реформу не удалось как
по объективным (Отечественная война), так и субъективным (нежелание принтов
расстаться с получаемыми доходами) причинам. В ходе войны 1812 г. из собран¬
ного для перевода на жалованье капитала Синод выделил на формирование
ополчения 1,5 млн руб., на восстановление церквей и монастырей, а также посо¬
бие эвакуированному духовенству — всего 3,5 млн руб. Денег хватало лишь на
выдачу денежных окладов священнослужителям, имевших степени доктора, ма¬
гистра и кандидата богословия, и временных пособий духовенству, пострадав¬
шему от пожаров, неурожаев и т. п. С 1830 г. самым бедным приходам, которые
по тем или иным причинам нельзя было закрыть, назначалось от государства жа¬
лованье, на которое отпускалось в общей сумме около 500 тыс. руб. асе. (137 тыс.
251
Глава 11. Уровень жизни
сер.) в год. Его стали получать лишь 5 % приходов Российской империи, пре-
имущественно в западных областях .
В 1842 г. началась выплата жалованья приходскому духовенству пяти запад¬
ных епархий в соответствии с так называемыми «нормальными штатами»: свя¬
щеннику — от 100 до 180 руб. сер., дьякону — 80, псаломщику — 40 руб. сер.
в год. Для этого государственная дотация на казенное жалованье возросла
в 3 раза — до 415 тыс. руб. сер. в год. Взамен власти потребовали от принтов
бесплатного совершения всех обязательных треб. Однако духовенство оказало
столь сильное сопротивление правительственной инициативе, что светская
власть отказалась от предложения отменить плату за требоисполнения. Дотация
пошла на пополнение доходов клириков. В 1843 г. она увеличилась на 1 млн руб.,
в 1844—1845 гг. — еще на 250 тыс. руб., в 1846—1855 гг. — на 100 тыс. руб.
и составила 1765 тыс. руб. ежегодно. В результате в 1855 г. 49% духовенства
в 45 % приходов стали получать «нормальное» казенное жалование: священник
в зависимости от класса (их было семь) прихода — от 100 до 180 руб., другие
клирики одинаково — дьякон 80, дьячок 40, пономарь 32 и просвирня 24 руб.205
В 1862 г. Дотация увеличилась до 3,7 млн руб., в 1909—1912 гг. — до 16,5 млн
руб. в год. Доля принтов, получавших пособие, к 1904 г. возросла до 71 %206,
в 1910 г. — 73, в 1912 г. — до 74 %207, величина пособия — номинально с 209 до
550 руб., в ценах 1913 г. с 308 до 589 золотых руб. (табл. 11.34).
В постоянных ценах 1913 г. с 1764 по 1913 г. общая реальная сумма пособия
возросла почти в 188 раз, на один причт — в 144 раза. Пособие превратилось в
настоящее жалованье208. Представленный в 1913 г. в IV Государственную думу
законопроект «Об обеспечении православного духовенства» предусматривал для
священников годовой доход 2400 руб., для диаконов — 1200 и для псаломщи¬
ков— 600 руб. Одну половину необходимой суммы должны были обеспечить
государственные дотации, а вторую половину предполагалось получить за счет
постоянного налога на приходы или поступлений с церковных земель, если тако¬
вые имелись. Начавшаяся война помешала принятию и реализации этого законо¬
проекта. Первая мировая война из-за роста цен уменьшила реальную ценность
дотации в 2 раза, но, несмотря на это, она оставалась весьма существенной209.
Можно вполне согласиться с И. К. Смоличем: «Надо признать, что во 2-й поло¬
вине XIX и в первые два десятилетия XX в. материальное положение духовенст¬
ва значительно улучшилось. Введение налога с приходов могло бы в перспективе
вполне удовлетворительно разрешить проблему, причем, возможно, даже вообще
без участия казны»210.
Оценить поступления из пятого источника доходов приходского духовенст¬
ва — проценты с предназначенных в пользу принтов вечных вкладов, доходы с
церковных оброчных статей, предназначенных в пользу принтов, — во всерос¬
сийском масштабе затруднительно: они являлись индивидуальными для каждого
причта. Однако историки, изучающие церковную экономику, отмечают, что с
конца XVIII в. доходы из этого источника возрастали. «В условиях рыночного
хозяйства церкви и монастыри Ярославской епархии стали вовлекаться в пред¬
принимательскую деятельность: сдавать в арендное содержание лавки, квартиры,
а также обладать огромными капиталовложениями в кредитных учреждениях.
252
Государственная поддержка приходского духовенства РПЦ в 1764—1916 гг.
>
о
гг
а
v§
U
VO
Ov
В текущих ценах
оо
оо
31,3
°°с
»гГ
009
СП
455
199
В ценах 1913 г.
as
301
228
7600
1909—1912 гг.
«п
VO
as
<N
СП
550
00
o'
•'в-
404
93
40
589
433
14 433
1862 r.
3,7
r^4
ON
К
209
о
t*^
СП
о
о
00
40
»п
»гГ
308
147
4900
1842 г.
0,415
1
'
1
<N
<N
СП
СП
52
00
o'
1
СП
1033
1764 г.
0,014
136
0,7
103
18,5
t*^
о"
29
0,05
355
СП
о
о
Показатели
Общая сумма пособия, млн руб.
Число принтов, получивших пособие, тыс.
Число принтов, получивших пособие, %
Пособие на 1 причт из его получивших, руб.
Всего принтов, тыс.
Среднее пособие на все принты, руб.
Индекс потребительских цен, 1913 г. = 100
Общая сумма казенного пособия, млн руб.
Пособие на 1 причт из его получивших, руб.
Среднее пособие на все принты
Реальная ценность пособия на 1 причт, 1913 г. = 100
О г *
О ^
8 ^
0Q
15
0Q О
§ X
-0 4>
X я
I а
О £
§ г
o-S
2*8
X
=< ГО
о 00
С 04
гг §2
00 s
VO <L>
^ i
о g
'ев «
5 О
5 ^
X к
X X
<g O.C
и о ос
6 Й ^
9* S с
§ . о>
Is а
О 05
и
оо *а
г- а
2 § S
■О s
е s g
< ^ у
СХ 00
. . <4
О СП
С
о и
X
ев
н
X о
т X
о я
1=5 о
О *
С о
п
о
U
Tj-
04
CQ
Глава 11. Уровень жизни
К 1916 г. вклады церквей Ярославской епархии в Госбанке составляли 5,5 млн
руб. Это позволяло духовенству получать значительные доходы. <...> В конце
XVIИ—первой половине XIX вв. духовенство епархии получало более 80 % при¬
были от традиционного источника обеспечения — поступлений от прихожан
и богомольцев. В последующее время Церковь активно включается в капитали¬
стические отношения: к началу XX века 12—15 % совокупной прибыли церквей
и монастырей составляют проценты с капиталов в кредитных учреждениях. <...>
В результате, к началу XX века по уровню своего экономического благосостоя¬
ния Ярославская епархия опережала многие соседние церковно-администра¬
тивные округа и входила в “десятку” наиболее экономически развитых епархий.
Так, доходы ярославского духовенства от прихожан были больше, чем подобные
прибыли в находящихся рядом Костромской и Вологодской епархиях, и совсем
незначительно отставали от Тверской и Владимирской епархий. Зато по количе¬
ству церковных капиталов в кредитных учреждениях Ярославский церковно¬
административный округ уступал только Московской епархии»211.
Суммарные доходы
Итак, реальные доходы духовенства за 1760—1904 гг. из всех источников
существенно возросли — почти в 7 раз, в том числе: за требоисполнение — в 5,8
раза на причт, от земли — в 5 раз, государственная дотация — в 14 раз за 1842—
1913 гг. (табл. 11.35). В 1904 г. общий доход на причт составил около 2,5 тыс.
зол. руб.: за требы — 1729 руб., за причтовую землю — 324, дотация — 433 руб.
Но существовали и неучтенные моим расчетом доходы за требоисполнение, за
выписки из метрических книг и исповедных ведомостей и др. В то же время «не
все денежные поступления в пользу приходской церкви использовались причта-
ми исключительно на свои цели. Значительная их часть отчислялась в состав
специальных средств духовного ведомства. Речь идет о средствах, получаемых
в виде процентных отчислений из доходов приходских церквей: кружечных, ко¬
шельковых и свечных. Для этого благочинные собирали по церквам эти отчисле¬
ния и переводили на счет епархиального руководства. По сведениям на начало
XX в. сборы эти в среднем составляли более одной трети всех доходов приход¬
ских церквей»212. Однако до отмены Екатериной II в 1764—1765 гг. налогов, уп¬
лачиваемых белым духовенством архиерею, отчисления были больше.
Резюмирую результаты расчета доходов причта, а также священника, дьякона
и причетника, которые распределялись как 3:2: I213 (табл. 11.35).
Доходы причта за счет требоисполнения возросли в 2,7 раза, за счет всех дру¬
гих факторов — в 2,6 раза. Таким образом, главный фактор общего повышения
доходов — увеличение численности прихожан, что вело к увеличению дохода за
требоисполнение и одновременно к росту пастырской нагрузки на клир в 3,7 раза
за полтора столетия (табл. 11.26). Все другие факторы вместе взятые — увеличе¬
ние оплаты за требы, руги и государственной поддержки имели примерно такое
же значение. Не будем забывать, что возможность повысить плату за требоис¬
полнение обусловливалась значительным ростом уровня жизни крестьянства
и всего населения в империи в 1795—1913 гг.
254
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Таблица 11.35
Изменение доходов православного российского приходского духовенства
в 1760—1904 гг. (руб. в ценах 1913 г.)
Показатели
Доход в год
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
Доход причта за требоисполнение
299
351
873
1729
Доход причта за сдачу в аренду земли
64
180
158
324
Казенное пособие причту
—
—
147
433
Итого доход причта
363
531
1178
2486
Доход священника
180
267
588
1242
Доход дьякона
120
178
392
828
Доход причетника
60
89
196
414
Индекс доходов на один причт,
в том числе за счет:
100
146
325
685
роста численности прихожан
100
115
180
265
других факторов и источников
100
127
181
258
Подсчитано по данным табл. 11.30, 11.33, 11.34.
Коронные и духовные власти шли навстречу справедливым требованиям ду¬
ховенства, но они вынуждены были считаться и с возможностями и настроения¬
ми паствы. Долгое время главным средством, применявшимся властями для по¬
вышения жизненного уровня духовенства, являлось ограничение роста числа
приходов ради увеличения численности прихожан. С 1742 г. открытие нового
прихода разрешалось только в том случае, если проверка показывала, что прихо¬
жане способны обеспечить причт214. Церковные власти сокращали испытатель¬
ный срок работы до посвящения в сан, переводили бедствующих священнослу¬
жителей из бедных в богатые приходы215. В XIX—начале XX в. существенно
расширялась сеть бесплатных церковных учебных заведений для представителей
духовенства, в том числе для девочек. Во второй половине XIX в. для духовенст¬
ва были установлены фиксированные пенсии и пособия на случай смерти, инва¬
лидности и природного бедствия216. Начиная с 1842 г. важнейшим средством по¬
вышения благосостояния духовенства стала государственная дотация217.
В годы Первой мировой войны группа депутатов Государственной думы про¬
вела исследование доходов духовенства и пришла к выводу: в 1913 г. 86 млн
прихожан уплатили приходскому духовенству за обязательные требы и доходы
с земли не менее 42 млн руб., по 50 коп. на человека. Кроме того, клирики полу¬
чили за свои услуги продукты на сумму до 745 руб. в 1908 г. и 1212 руб. в 1913 г.
на причт (при очень большом колебании по отдельным приходам)21 . В целом по
России нижнесредний урожай 1908 г. равнялся сам-5,04, вышесредний урожай в
1913 г. сам-6,75219, т. е. на треть выше. Поэтому и натуральный доход в 1913 г.
оказался на 63 % выше, чем в 1908 г. Всего доход без дотации достигал в 1913 г.
примерно 73 млн руб.220 Чтобы обеспечить такой доход причту, каждая семья
должна была платить по 5,9 руб. в год, а прихожанин (включая детей) — 0,7 руб.
255
Глава 1L Уровень жизни
Эта цифра может показаться запредельной. Однако давайте посмотрим на бюд¬
жеты крестьян. В конце XIX в., согласно земским бюджетным обследованиям,
охвативших 1787 хозяйств в 13 европейских губерниях, семья расходовала на
религиозные и духовные потребности около 7 руб. в год, на душу — 1,6 руб.221
В Воронежской губернии, по результатам обследования 176,8 тыс. хозяйств
в 1896 г., семья тратила на религиозные потребности (без расходов на венчание
и похороны) в среднем 3,6 руб., на душу населения — 54 коп. в год222. Данные
бюджетов подтверждают правдоподобность моих расчетов, которые тем не ме¬
нее следует рассматривать как сугубо ориентировочные.
Многие исследователи, даже признающие факт роста доходов духовенства,
полагают: доходы принтов были низкими и недостаточными, как и размер назна¬
ченного им казенного жалования. Но это зависит от того, с кем сравнивать.
В XVIII в. священники претендовали на статус, равноценный поручику в армии
или чиновнику XII класса на гражданской службе, дьякон — прапорщику или
чиновнику XIV класса, церковнослужители — сержанту или канцелярскому
служителю на гражданской службе223. В 1884 г. система офицерских чинов не¬
сколько изменилась — поручик был приравнен X классу, прапорщик — XIII
классу224. Сравним доходы приходского духовенства с жалованьем офицеров
и чиновников (без квартирных, поскольку у духовенства этот вид оплаты также
не учитываем) (табл. 11.36).
В первой половине 1760-х гг. доходы приходского духовенства примерно
в 3—9 раз уступали жалованью младших офицеров и чиновников; в 1800-е гг. раз¬
личия существенно сгладились и не превышали 2,2 раза (у причетников и канцеля¬
ристов), в 1860-е гг. не превышали 1,2 раза. В начале XX в. доходы священника
превысили жалованье подпоручика (который после 1884 г. приравнен XII классу,
на который претендовали священники) более чем на 20 %, доходы причетника
превзошли жалованье канцеляриста на треть. Доходы дьякона немногим (13%)
уступали жалованью прапорщика, но класс последнего повысился с XIV до XIII.
Таким образом, материальное положение духовенства в период империи су¬
щественно улучшилось. Доходы священнослужителей приблизились к заработ¬
кам людей умственного труда — младшим офицерам и чиновникам, учителей
школ. Церковнослужители имели более скромный достаток, но все же, как ми¬
нимум, выше среднего уровня сельского и городского населения. Это особенно
бросается в глаза, если сравнить доходы духовенства и рабочих. Средняя годовая
заработная плата промышленного рабочего в России в 1900 г. составляла в те¬
кущих ценах 203 руб., в 1913 г. — 264 руб.225, сельскохозяйственного в 1890—
1900 гг. — 62}руб., в 1911—1913 гг. — 100 руб. (в год на хозяйских харчах)226.
Сельские старосты получали от общины жалованье в среднем в год в 1880 г. —
31 руб., в начале XX в. — около 50 руб.227 Как видим, доход причетника превы¬
шал заработок батрака в 4 раза, а жалованье старосты — в 8 раз.
Доходы духовенства не являлись секретом для крестьян — в деревне или ма¬
леньком городе, каковых было большинство, тайн почти не существовало —
и они казались им большими или даже чрезмерными. Поэтому большинству кре¬
стьян и мещан жалобы духовенства на тяжелое материальное положение не каза¬
лись основательными.
256
Размеры содержания (жалованья и столовых) офицеров в армейской пехоте,
чиновников губернских правлений и доходов приходского духовенства в 1760—1900-е гг.
«Л
о
1900-е гг.
227
290
231
225
107
204
57
069
069
<ч
122
82
<ч
СП
74
1860-е гг.
о
о
II
u
u
<D
1
о
129
о
я-
о
ON
О
СП
я-
я-
СП
г-
<ч
СП
327
220
124
<ч
00
ON
ЧО
СП
ON
1800-е гг.
40
Г"
и
X
1)
э
5
я-
(Ч
г-
я-
СП
СП
СП
00
TJ-
00
я-
00
я-
102
00
149
127
224
1760-е гг.
о
о
О
о
о
о
О
О
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
289
246
722
347
903
1900-е гг.
U
СП
£
a
я
«и
я
Й
ю
&
<и
й
я
cd
й
О
1862
1512
1023
936
1390
698
307
1242
00
<ч
00
414
Соотношение жалованья поручика и доходов священника
(жалованье священника = 100)
Соотношение жалованья подпоручика и доходов священника
(жалованье священника = 100)
Соотношение жалованья чиновников XII—XIII классов и доходов священника
(жалованье священника = 100)
Соотношение жалованья прапорщика и доходов дьякона (жалованье дьякона = 100)
Соотношение жалованья канцеляриста и доходов причетника
(жалованье причетника = 100)
1860-е гг.
1061
727
485
455
559
342
<ч
00
оо
оо
392
40
ON
1800-е гг.
384
272
314
226
ON
СП
298
199
L9Z
178
ON
00
1760-е гг.
5
N
822
<4
442
416
1300
975
542
о
00
о
<ч
о
VO
Чин
Капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
Чиновники XII—XIII классов
Чиновник XIV класса
Канцелярские служители
Священник
Дьякон
Причетник
5 £
о и“
о ЧО =
Ь* £ £
“2s
I И
S I О-
зс с
ё g ^
« ^ я
о. ас
у ® 5
^ В £
о- s 5
2оо-
Я cd
Ю §
О а
^ S U
1 N
I
Я
£ =
й
о
й
Н
Э ^
н
I к -
с s гм
р я
3 gu
и S :
s S *
S* я
V Я id
а. я s
я о я
4 s и
а> <и о
Я о. я
я и я
Й о т
* О g
v . 5
£ х о
~ 0.0
- Э~
Ч ’©"3s
ю cd
с5 « 40
н X -
2 J3 ^
й я сн
— й
cd "
ч
О .01
2 ^
Й
cd с
а. 5
0 = 0.
i * с .
f—1 Я . ftQ
я * VO Гп
T 2 'О ^
lf-т
gc *
&U U
cd
4
О
я
§
c
Глава 11. Уровень жизни
Причины недовольства духовенства своим материальным положением
Почему же приходское духовенство было недовольно своим материальным
положением в течение всего имперского периода, причем со временем неудовле¬
творение росло?
Первая и важнейшая причина недовольства белого духовенства состояла
в том, что главным источником средств его существования являлось требоиспол-
нение. Как служитель церкви, священник почти ежедневно проводил утомитель¬
ные частые долгие богослужения и исполнял многочисленные требы. Как врач,
в мороз и жару, в дождь и грозу, ночью и днем, по грязи и глубокому снегу он
шел на зов страждущих прихожан. Как духовник, с современной точки зрения
как психолог и социальный работник, он сочувствовал, исповедовал, утешал, на¬
ставлял, внушал надежду. Как чиновник, он вел обширное делопроизводство:
регистрировал акты гражданского состояния и выдавал метрические свидетель¬
ства, учитывал посещение исповеди и причастия, следил за раскольниками,
оглашал и толковал правительственные указы и манифесты, занимался админи¬
стративными и финансовыми вопросами причта и прихода и народным просве¬
щением. Приходилось также много времени тратить на собственные хозяйствен¬
ные дела. Все это требовало напряжения всех сил228. При этом государство, воз¬
лагая на духовенство огромные обязанности, не имело средств содержать его на
должном материальном уровне. Основные доходы — свыше двух третей — вплоть
до 1917 г. клирики получали за требоисполнение (табл. 11.37), что часто ставило
их в унизительную материальную зависимость от пасомых — своих прихожан.
Таблица 11.37
Значение трех важнейших источников формирования дохода православного
российского приходского духовенства в 1760—1904 гг. (%)
Показатели
1760-е гг.
1800-е гг.
1860-е гг.
1904 г.
Доход причта за требоисполнение
82
66
74
70
Доход причта за сдачу в аренду земли
18
34
13
13
Казенное пособие причту
0
0
13
17
Итого доход причта
100
100
100
100
Подсчитано по данным табл. 11.30.
Паства в своем большинстве, особенно в деревне, недооценивала тяжкий труд
священника, как вообще неграмотные или малограмотные работники физическо¬
го труда мало ценили интеллектуальный труд, «платила ему — кроме грошей —
черной неблагодарностью, постоянно придираясь и куражась. Крестьяне же, да¬
же не мыслившие жизни без священника, нередко желали видеть в нем “завися¬
щего от них работника”»229. Сохранение средневековой системы материального
обеспечения вынуждало духовенство искать расположения прихожан, а послед¬
ним позволяло третировать неугодных клириков.
«Пастырь становится фигурой очень уязвимой. Все свое служение по канонам
он должен был совершать бесплатно, но при этом плата за требы составляла ос¬
258
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
нову его содержания; имея духовную власть, сам зависел от своих прихожан.
Такое положение приводило к многочисленным конфликтам между крестьянами
и священнослужителями. <...> В случае возникновения конфликта любой при¬
хожанин мог подать донос на своего священника, диакона или псаломщика. До¬
носы стали распространенной формой мести. Ведь по каждому заявлению назна¬
чалось следствие, и положение священника оказывалось двусмысленным. По¬
этому практически любого священника прихожане могли заставить бедствовать
или уличить в вымогательстве»230. Писать доносы на священников стало свое¬
образной «профессией» многих крестьян, которые в начале XX в. в духе времени
обвиняли неугодных им священников в антиправительственной деятельности
или в призыве к мятежу без всяких на то оснований231. По сути дела, произошла
«трансформация старинного права “отказа” в негласный бойкот и выживание
клирика общиной из прихода в случае возникновения серьезного конфликта
между ними»232. Таким образом, зависимость от прихожан унижала и травми¬
ровала служителей церкви, вводила их в состояние морально-психологической
фрустрации.
На популярной в начале XX в. картине Н. В. Орлова «По приходу», или «Хри¬
ста ради», изображена следующая сцена, как говорится в аннотации, согласован¬
ной с художником: «Священник, объезжая свой приход, чтобы собирать новый
Рис. 11.15. К. А. Трутовский (1826—1893). Сельская учительница. 1883.
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань
259
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.16. Н. В. Орлов (1863—1924). По приходу (Христа ради). 1901.
Место нахождения неизвестно
хлеб, входит, опыленный мукой, к бедному мужику. Баба насыпала ковш муки
к нему в мешок. Вошли нищие. Девушка отстраняет, говоря “Ступайте, Бог по¬
даст”» (Русские мужики. Картины художника Н. Орлова. СПб., 1909). Вот интер¬
претация искусствоведа: «В этой резко антиклерикальной картине, где сельский
поп не просто просит именем Христовым, а настоятельно требует «божью» до¬
лю, где крестьяне, чтобы удовлетворить его алчность, отказывают в подаянии
подлинным нищим, звучит совершенно иная, ранее не встречавшаяся в картинах
Орлова нота активного и далеко не только морального протеста. Этот протест
выражен, прежде всего, в фигуре главного кормильца семьи — чернобородого
крестьянина, стоящего справа. Видя, что спор старика отца с назойливым слугой
божьим затягивается, он с досадой воткнул топор в колоду. Жилистые трудовые
руки его сами собой сжимаются в кулаки. Вся поза его говорит о закипающем
гневе. Он нагнул немного голову и исподлобья с ожесточением смотрит на попа.
Кажется, еще немного и он не выдержит: шагнет вперед, схватит за шиворот
и вытолкнет непрошеного “гостя”, а в случае чего потянется и к топору... Образ
этого крестьянина, запечатленный Орловым, весьма характерен. В нем ясно вы¬
ражены не только гнев и возмущение, не только самый решительный протест
против кровососов-церковников, но и готовность народа вступить в революци¬
онную борьбу против своих угнетателей»233.
260
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
Вторая причина неудовлетворенности духовенства состояло в том, что его
материальное положение в течение долгого времени, до конца XIX в., не соот¬
ветствовало его социальному положению и образованию. По формальным при¬
знакам, по характеру труда и образованию священник принадлежал к привилеги¬
рованному сословию, да и «крестьянство пока еще смотрело за околицу глазами
духовенства, что отчасти объясняло престижность священнического сана в гла¬
зах крестьян»234. В то же время материально его труд вознаграждался хуже, чем
равных ему по статусу профессионалов, но главное — унизительными способа¬
ми, не без основания напоминавших некоторым попрошайничество и вымога¬
тельство. «Духовенство воспринимало себя как основание государственной сис¬
темы ценностей, в качестве средства их поддержания в умах. Неразрывная связь
духовного и светского, государственного и церковного была характерной состав¬
ляющей мировоззрения духовного сословия, бравшего на себя обязательство по
формированию гражданской позиции у своей паствы». Между тем «клирики бы¬
ли вытеснены на обочину общественных процессов, а сельские священники
и вовсе воспринимались скорее как часть крестьянского мира». Упреки светской
публицистики казались им несправедливыми, вызывали у них жгучую обиду
и боль235. Духовенство, особенно сельское, менее обеспеченное, но более, как
ему казалось, униженное, особенно остро ощущало депривацию — и абсолют¬
ную (недовольство качеством своей жизни), и относительную (недовольство
своим положением относительно других социальных групп) и по этой причине
находилось в состоянии стресса и фрустрации. Это состояние усугублялось дву¬
смысленностью и маргинальностью положения сельского священника — не ба¬
рин и не крестьянин, не благородный и не «подлый».
В качестве третьей причины растущего недовольства духовенства следует, на
мой взгляд, указать на увеличение потребностей, которые обгоняли весьма зна¬
чительный — почти шестикратный за полтора столетия — рост его доходов.
В 1829 и 1840 гг. церковные власти и само духовенство считали нормальным до¬
ходом для священника 500 руб., для дьякона — 300, для причетника — 150 руб.236
Желаемого дохода духовенство достигло уже в 1860-е гг., но теперь священникам
захотелось дохода в 1000 руб., а причетнику 300 руб.237 И это желание было ис¬
полнено в 1904 г. Но удовлетворение не наступило, более того недовольство воз¬
росло, о чем говорит увеличение числа жалоб со стороны духовенства на тяжелое
положение, которое принималось и до сих пор нередко принимается за объек¬
тивный показатель понижения его благосостояния. Больше половины всего до¬
хода семей духовенства тратилось на образование. На обучение одного ребенка
клирик вынужден был расходовать 150—250 руб. ежегодно, при этом образова¬
ние стремились дать не только мальчикам, но и девочкам, а в семье, как правило,
имелось 4—5 детей. Для священника, в отличие от крестьян, дать образование
детям являлось не роскошью, насущной необходимостью. Без него сыновья мог¬
ли остаться без работы и хлеба насущного, а дочерям было трудно выйти замуж
и найти работу 38. Да и положение обязывало — духовенство являлось самым
образованным сословием страны. Но трудно было простому человеку считать
положение священников бедственным, если им не хватало средств на обучение
всех своих детей, на покупку книг и газет, жене и дочерям — на наряды. Да
261
Глава 11. Уровень жизни
и общество и государство считали, что подобные претензии совершенно не обо-
239
снованы .
Итак, традиционный тезис о бедственном материальном положении приход¬
ского духовенства отчасти соответствовал реалиям XVIII в., но в течение XIX—
начала XX в. ситуация коренным образом изменилась. Под влиянием постоянных
требований самого приходского духовенства и стараний церковных иерархов,
принимавших близко к сердцу его чаяния, под влиянием растущего понимания
светскими властями идеологической значимости приходского духовенства пра¬
вительство много делало для повышения уровня жизни клириков и почти удов¬
летворило их основную материальную претензию — обеспечить приличным (по
стандартам того времени) государственным жалованьем, на уровне равных им по
социальному статусу профессиональных групп. Эта возможность появилась
у государства благодаря успешному экономическому развитию страны и повы¬
шению благосостояния населения.
Я далек от мысли утверждать, что материальное положение в отдельных
епархиях, благочиниях и приходах изменялось именно так, как говорят результа¬
ты макрорасчета. Например, что доход всех или большинства священников
в 1760-е гг. составлял именно 180 руб., а в 1904 г. — 1242 руб. или что с 1760-х
по 1904 г. доходы всех принтов (соответственно 18,5 тыс. и 38,2 тыс.) увеличи¬
лись в 6,85 раза. Проведенный макроанализ отражает основные тенденции в из¬
менении уровня жизни в большинстве приходов и для большинства приходского
духовенства. И не только потому, что исходные сведения весьма приблизитель¬
ны. Но и потому, что такова природа средних цифр — они отражают тенденции
и порядок изменений. Историки найдут много священников, чьи доходы были
выше или ниже, чем указано в табл. 11.36. Однако примерно для двух третей из
них рост доходов несущественно отличался от среднего увеличения доходов
священников в 6,9 раза за полтора столетия; для половины из оставшейся трети
(т. е. для одной шестой) доходы возросли больше и лишь для одной шестой части
увеличились в меньшей степени. В табл. 11.33 содержатся данные о распределе¬
нии годовых доходов по принтам во Владимирской епархии в 1863 г. Средний
доход на причт — 285 руб., из 1295 принтов у 58 % доход выше среднего и у
42 % — ниже среднего. Важнейший фактор дифференциации доходов — чис¬
ленность прихожан, и именно от этого зависело число клириков в причте. При
переводе доходов на одного клирика распределение доходов становится более
равномерным и с математико-статистической точки зрения приближается
к нормальному. В нормальном распределении две трети объектов по значению
близки к средней Ьеличине совокупности.
Найдется немало более и менее счастливых принтов — около трети, ибо в от¬
дельном приходе доходы причта в значительной степени определялись личными
качествами клириков и прежде всего священника. Но чем большее число принтов
мы учитываем, тем меньше влияние отдельных клириков на их доходы и больше
роль объективных условий и обстоятельств. На уровне отдельной епархии лич¬
ность архиерея имела намного меньшее значение, чем личность священника
в отдельном приходе, но все же имела Как правильно, на мой взгляд, пишет
О. Д. Дашковская, весьма успешно исследовавшая Ярославскую епархию: «На
262
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
протяжении изучаемого периода материальное положение всего православного
духовенства Ярославской епархии существенно улучшилось. Это происходило
благодаря росту доходов от верующих, в силу благоприятного экономического
развития губернии, ее выгодного положения между старой и новой столицами.
Свою роль сыграло государство, постепенно увеличивающее дотации духовенст¬
ву. Наконец, большое значение имел субъективный фактор — деятельное уча¬
стие некоторых ярославских архиереев в руководстве епархией, особенно, архи¬
епископов Нила (1853—1874) и Ионафана (1877—1903), которые в рамках вве¬
ренного им церковно-административного округа провели наиболее удачную
в Российской империи приходскую реформу. В результате, к началу XX века по
уровню своего экономического благосостояния Ярославская епархия опережала
многие соседние церковно-административные округа и входила в “десятку” наи¬
более экономически благополучных епархий»240. Говоря о целой епархии, Даш-
ковская верно ранжировала факторы повышения благосостояния — рост доходов
прихожан, благоприятное экономическое развитие губернии, ее выгодное гео¬
графическое положение, помощь государства, личности двух архиепископов,
полвека возглавлявших епархию.
В XVIII в. лица умственного труда состояли почти исключительно из офицеров,
чиновников и духовенства, в XIX в. — в преобладающем большинстве: даже по
переписи 1897 г. на их долю приходилось около 65 % от всех лиц умственного
труда241. Когда в последней трети XIX—начале XX в. появилась значительная про¬
слойка людей интеллигентных профессий, оклады чиновников (за исключением
XIII и XIV классов) и обер-офицеров были вполне сопоставимы с жалованьем тех,
кто имел университетское образование. Например, в начале XX в. жалованье (без
квартирных) у поручика и губернского секретаря (XII класс) составляло около
1400 руб., а с квартирными — на четверть больше. Жалованье земских врачей
и учителей гимназий составляло от 1200 до 1500 руб. — примерно столько же за¬
рабатывал и священник — 1,2 тыс. руб.242 В 1900-е гг. человек, имевший доход
в 1000 руб. в год, считался состоятельным, и таковых в империи в 1904 г. насчиты¬
валось лишь около 572 тыс.243, среди них оказывались все офицеры и классные
чиновники (за исключением XIV класса) с учетом квартирных и дополнительных
выплат. Следовательно университетское образование сразу ставило человека в ря¬
ды состоятельных людей, разумеется, по меркам того времени. Лица умственного
труда без университетского образования зарабатывали существенно меньше.
Среднее жалованье учителей российских земских школ равнялось всего лишь
390 руб.244, начальных церковных школ — 174 руб. в год (табл. 11.38).
Таблица 11.38
Распределение годового денежного жалованья среди учителей начальных
церковных школ в России в 1906 г.
Жалованье, руб.
Численность учителей, получавших данное жалованье
абс.
%
41—60
4 862
ил
61—120
10 604
24,3
121—180
7 871
18,0
263
Глава 11. Уровень жизни
Окончание табл. 11.38
Жалованье, руб.
Численность учителей, получавших данное жалованье
абс.
%
181—240
10 530
24,1
241—300
6 946
15,9
301—360
1 814
4,2
361-419
353
0,8
420—470
278
0,6
480—599
285
0,7
600+
150
0,3
Итого
43 693
100
Подсчитано по: Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству
православного исповедания за 1905—1907 годы. СПб., 1910. Таблицы. С. 238.
Кому и когда в России жилось хорошо
Выше была рассмотрена заработная плата рабочих, жалованье чиновников
и офицеров, в книге «Благосостояние населения...» — доходы крестьянства.
Есть возможность сравнить доходы людей умственного и физического труда.
В табл. 11.39 сведены данные о жалованье чиновников и офицеров, о доходах
духовенства и заработной плате рабочих.
Сначала оценим степень согласованности в изменении доходов у различ¬
ных социально-профессиональных групп. В первой половине XVIII в. жалова¬
нье, зарплата и доходы у всех, включая крестьянство, синхронно понижались.
Во второй половине XVIII в. согласованность нарушилась: реальная заработная
плата рабочих и реальные доходы духовенства изменили тренд на позитивный,
а реальное содержание чиновникам и офицерам и доходы крестьянства про¬
должили падение. В первой половине XIX в. синхронность восстановилась:
с 1795—1800-х гг. стали расти доходы у крестьян, с 1810-х гг. — жалованье
у государственных служащих; доходы у духовенства и заработная плата у ра¬
бочих продолжили свой рост.
В целом позитивная тенденция в оплате труда сохранилась у всех социально¬
профессиональных групп и в пореформенное время, кроме промышленных рабо¬
чих в 1861—1890 гг., когда их зарплата временно понизилась. Одновременно
происходило сокращение продолжительности рабочего дня, улучшение жилищ¬
но-бытовых условий, медицинского обслуживания и страхового обеспечения245.
Социальное страхование рабочих улучшалось и после 1912 г. приблизилось к ев¬
ропейскому уровню. Фабричное законодательство прошло путь от отрывочных
законодательных актов к завершенному, системному Уставу о промышленном
труде 1913 г., потенциально способному значительно облегчить положение рабо¬
чих, если бы Первая мировая война этому не помешала246.
Зарплата сельскохозяйственных рабочих в отличие от промышленных в по¬
реформенное время имела более четко выраженную тенденцию к повышению,
но самое главное — росла существенно быстрее, вследствие чего различия ме¬
жду ними сократились с 3,5 раза в 1850-е гг. до 1,2 раза в 1911—1913 гг.
264
Заработная плата у рабочих, содержание (денежное жалованье и столовые) у чиновников
и офицеров и доходы духовенства в 1760—1900-е гг. (руб., в среднем в год в ценах 1913 г.)
Os
а-
а
«з
г
-а
§
*
о
П
ю
<L>
3
X
О
н
о
2
ез
ч
X —
ю
03 О
a. cd
08 Н
го «
5 Ж
* S
Я 1=5
* «
ar а
? 5
Н я
о
К §
х
ч
Глава 11. Уровень жизни
(см. табл. 11.10). Это способствовало повышению жизненного уровня крестьян,
значительная доля которых получала дополнительные доходы от продажи сво¬
его труда за пределами деревни — в 1861—1870 гг. они взяли 12,9 млн кратко¬
временных билетов и паспортных бланков, в 1891—1900 гг. — 71,4 млн,
в 1906—1910 гг. — около 80 млн247.
В целом уровень жизни у различных социально-профессиональных групп
в период империи чаще изменялся согласовано, чем асинхронно. Несмотря на
это, конечные итоги оказались различными. У чиновников высшая точка в оплате
труда была пройдена в 1760-е гг., у рабочих — в 1850-е гг., те и другие в 1913 г.
лишь вернулись к высшему уровню, который у них был прежде. Доходы кресть¬
янства, духовенства и жалованье офицеров достигло максимального уровня
в 1900-е гг. Доходы крестьян и содержание офицерам превысили начальный уро¬
вень более чем в 2 раза, духовенства — в 7 раз. Напомню, что почти наполовину
повышение доходов духовенства объяснялось увеличением численности прихо¬
жан, т. е. повышением интенсивности труда, и что семикратный рост доходов
довел оплату труда духовенства лишь до приемлемого стандарта, равноценного
жалованью нижних офицерских чинов в армии и на гражданской службы. Дву¬
кратный рост содержания офицерам лишь уравнял их с чиновниками. Словом,
правящие верхи как-то слабо, не по-марксистски эксплуатировали крестьян
и рабочих, вследствие чего различия в доходах у всех нивелировались, а не воз¬
растали.
Что можно сказать об уровне оплаты труда у различных социально-профес¬
сиональных групп?
Данные табл. 11.39 не дают ясного ответа на вопрос, кому, когда и насколько
жилось хорошо, потому что на их основе определить средний доход на душу на¬
селения среди разных социальных и профессиональных групп не представляется
возможным. Сравнивать доходы крестьянского хозяйства с содержанием чинов¬
никам, офицерам и духовенству или с заработной платой рабочих некорректно.
Жалованье государственных служащих не являлось синонимом дохода: те
и другие имели дополнительные доходы, в том числе теневые. Заработная пла¬
та рабочих также не отражала всех доходов, поскольку большинство сохраняло
тесные связи с деревней: имели там землю, скот, имущество, родственников,
приходили в деревню в страдную пору и т. п. — и потому имели доходы от
сельского хозяйства. В середине XIX в. таких рабочих насчитывалось около
90 %248, а в 1918 г. — 52,2 %249.
Члены офицерских или чиновничьих семей за плату, как правило, не работа¬
ли. Напротив, в большинстве семей рабочего работали жена и дети, вносившие
свой вклад в семейный доход. Доля детей на предприятиях, подчиненных надзору
фабричной инспекции, равнялась 9% в 1882—1883 гг., 10,4% в 1894—1895 гг.,
10,4% в 1913 г.; доля женщин — 24,4% в 1887 г., 25,8% в 1894—1895 гг.
и 26,7 % в 1913 г. Большинство (58,5 %) рабочих-мужчин, почти половина ра¬
ботниц (48,9 %)251, две трети офицеров до военной реформы 1874 г. (судя по
1860-м гг.) и 40 % после (если судить по 1910-м гг.)252 и около половины чинов¬
ников не имели своей семьи253. Между тем потребительские расходы на душу
населения у одиноких были существенно выше, чем у семейных, например у ра¬
266
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
бочих Петербурга — в 2,3 раза выше (см. табл. 11.1 и 11.3), потому что бессе¬
мейным жизнь обходилась дороже.
Несопоставимость жалованья и зарплаты хорошо просматривается по данным
табл. 11.39. Если опираться только на данные о жалованье, то окажется: в 1810-е гг.
зарплата рабочих превышала штатное жалованье обер-офицеров, что является
социальным нонсенсом. Трудно предположить, чтобы уровень жизни «Вашего
благородия» (как называли всех дворян, офицеров и чиновников в обер-
офицерских чинах) был ниже, чем у «подлых людей» (как называли представите¬
лей податного населения в XVIII—первой половине XIX в.), из которых состояла
солдатская масса. Социальная иерархия и вообще весь социальный порядок
в стране были бы поставлены под вопрос.
Если бы разница в жалованье офицеров и чиновников систематически
и существенно различалась в пользу вторых, то и желающих поступить на граж¬
данскую службу было бы больше, чем на военную. Между тем вплоть до конца
XIX в. предпочтение отдавалось армии. Военная служба рискованнее и тяжелее;
ее время не регламентировалось; свобода офицера ограничивалась; он нс мог
жить там, где ему нравилось, и делать то, что ему хочется. Более трудная и опас¬
ная работа всегда заслуживает большего вознаграждения и уважения. Не случай¬
но во всех европейских странах военная служба в общественном мнении счита¬
лась более престижной, ответственной и важной и потому оплачивалась лучше
гражданской. Россия вряд ли была исключением из этого правила, а если была,
то по каким причинам?!
В российской историографии давно ведется дискуссия относительно того, чьи
труды государство лучше оплачивало и, значит, о ком больше заботилось — об
офицерах, чиновниках или духовенстве. Наши расчеты показывают, что офицер¬
ский корпус имел преимущество перед бюрократией, а бюрократия перед духо¬
венством.
У чиновников с 1715 и до 1764 г. жалованье понижалось. После его сущест¬
венного повышения в 1764 г. оно снова стало понижаться до 1810-х гг. В низшей
точке — 1810-е гг. их реальное содержание было в 6,7 раза ниже, чем в 1760-е гг.
В последующем оно росло, но в конце 1890-х гг. лишь вернулось к уровню
1760-х гг., а в 1910-е гг. опустилось ниже его на 14 %. У офицеров высокое де¬
нежное жалованье, установленное в 1710—1720-е гг., тоже теряло свою покупа¬
тельную способность ввиду роста цен и инфляции вплоть до 1817 г. Однако
в 1810-е гг. оно опустилось ниже уровня 1760-х гг. — лишь в 2,5 раза. В послед¬
ние 100 лет, 1817—1913 гг., существования империи реальное жалованье офице¬
ров выросло в 4 раза, благодаря чему начальный уровень 1710-х гг. был превзой¬
ден в 2,2 раза, а уровень 1760-х гг. — в 1,8 раза.
Как видим, верховная власть заботилась об офицерах больше, чем о бюро¬
кратии, и делала все от нее зависящее (при имеющихся ресурсах), чтобы под¬
держивать жизненный уровень офицеров на приличном для своего времени
уровне. Она прекрасно понимала: недовольный и раздраженный офицерский
корпус представлял несравненно большую опасность, чем обиженная бюрокра¬
тия, потому что мог устроить государственный переворот, понизить боеспо¬
собность армии, не поддержать власть в случае внутренних беспорядков. А бю¬
267
Глава 11. Уровень жизни
рократия, недовольная своим материальным положением, в худшем случае
могла вернуться к принципу «кормление от дел» и взяткам, что в действитель¬
ности и произошло.
Правительство сознавало опасность понижения уровня жизни чиновников
и офицеров. Почему же, несмотря на это, оно допустило понижение реального
жалованья у тех и других в XVIII—начале XIX в., а в последующие 100 лет не
сумело поднять его у чиновников выше начального уровня 1760-х гг.? Главная
причина— недостаток средств в государственном бюджете. Тощий бюджет был
следствием не только бедности населения — уровень жизни податного населения
с конца XVIII в. и до 1913 г. повышался. Более глубокая причина состояла в том,
что население не доверяло властям и не имело склонности платить налоги в каз¬
ну. Оно предпочитало, чтобы общественные потребности удовлетворялись не
государством за счет прямых налогов, а лично самими гражданами посредством
личных натуральных повинностей. Например, население считало за лучшее для
себя лично выполнять полицейские обязанности по своему месту жительства,
а не отдавать деньги властям, чтобы они организовали полицейскую службу, или
организовать школу в своем селе своими силами и средствами, а не отчислять
деньги государству на развитие народного образования в стране. Вследствие это¬
го правительство старалось воздерживаться от увеличения прямых налогов и по¬
вышало главным образом косвенные налоги. Поэтому общее бремя налогов
в России было самым низким в Европе254. В уклонении от уплаты налогов и в
противодействии их увеличению сказались недоверие к государству, неразви¬
тость гражданского общества и гражданского самосознания у огромного боль¬
шинства населения, не понимавшего важности налогов для успешной деятельно¬
сти государства и общественного сектора во имя общего блага.
Возникает другой вопрос: как правительству удавалось поддерживать лояль¬
ность бюрократии и офицерства при неспособности обеспечить систематическое
повышение их уровня жизни? Первые 100 лет существования империи, 1711—
1815 гг., когда реальная оплата труда офицеров и чиновников понижалась, зна¬
чительная их часть из числа дворян-помещиков, получала дополнительные дохо¬
ды от поместий и крепостных, которые долгое время, до отмены обязательной
службы в 1762—1785 гг., рассматривались исключительно как натуральная опла¬
та за их труды в пользу государства. После отмены обязательной службы, дворя¬
не продолжали служить без достаточного вознаграждения жалованьем как бы по
инерции, в знак благодарности за полученные привилегии, а также за землю
и крепостных, переданных в их собственность без компенсации. Об этом верхов¬
ная влаоть им время от времени напоминала. В следующие 100 лет, 1815—1913 гг.,
когда о благодеяниях верховной власти стали забывать и когда доля дворянства
среди офицеров и чиновников снижалась (с 1750-х по 1910-е гг. соответственно
с 73 до 51 °/о и с 50 до 31 %256), реальное содержание чиновникам и офицерам
росло. В период империи никто точно не оценивал динамику покупательной спо¬
собности жалованья, хотя образованные люди, конечно, имели представление и о
колебаниях курса рубля, и об изменении цен. Люди более или менее отчетливо
знали о том, как жили их отцы и деды, дальше — слухи и мифы. Если четыре
поколения подряд содержание государственным служащим увеличивалось, то
268
Уровень жизни чиновников, офицеров и православного приходского духовенства
это воспринималось как постоянная забота верховной власти о них. Для поддер¬
жания лояльности этого, вероятно, было достаточно.
В течение изучаемого периода власти постепенно уменьшали различия в оп¬
лате труда высших, средних и низших служащих. В 1760-е гг. по величине со¬
держания гражданский генералитет (III—IV классы) превосходил чиновников
средних рангов (V—VIII классы) в 3,3 раза, низших (IX—XIV классы) — в 9,3
раз, в 1901—1910 гг. — соответственно в 7,8 и 2,3 раза. То же в армии. В 1710-е гг.
различия составляли соответственно 32 и 10 раз, в 1901—1910 гг. — 5,6 и 2,1
раза. Уравнительная политика объяснялась двумя мотивами: стремлением консо¬
лидировать бюрократию и офицерский корпус и материально поддержать низ¬
ших и средних служащих за счет высших. Оклады низших и средних служащих
повышались также за счет уменьшения доли высших чинов в их составе. В 1755 г.
доля чиновников первых восьми классов составляла 34,5%, в 1796 г. — 26,
в 1857 г. — 21,9 %257.
Как мы видели, государство проявляло постоянную заботу и о жизненном
уровне духовенства — третьей опоры государства. С 1760-х по 1904 г. доходы
одного причта, включавшего священника, дьякона и одного-двух причетни¬
ков, возросли почти в 7 раз. 72,7 тыс. клириков в 1760-е гг. (из них 22,9 тыс.
священников) и 106,6 (47,7 тыс. священников) в 1904 г. денно о нощно под¬
держивали общественное спокойствие и порядок. Кроме пастырской службы,
духовенство выполняло и другие обязанности. Коронные власти обязали их
вести учет актов гражданского состояния и выдавать метрические свидетель¬
ства, духовные власти — вести учет посещения исповеди и причастия прихо¬
жанами и контролировать деятельность старообрядцев и сектантов. Важной
функцией священника было оглашение и интерпретация правительственных
указов и манифестов. Кроме того, власти активно привлекали духовенство
к делам начального образования и здравоохранения в деревне. Приходских
священников обязали оказывать медицинскую помощь крестьянами, пропа¬
гандировать санитарные знания и участвовать в борьбе с эпидемиями и мас¬
совыми болезнями.
Как ни парадоксально, несмотря на повышение уровня жизни, приходское ду¬
ховенство было недовольно своим материальным положением вследствие его
несоответствия социальному положению и образованию. Однако духовенство
все-таки сознавало и ценило, что его благосостояние росло, и главная роль в этом
принадлежала государству.
Сведения о потреблении показывают различия в доходах реальнее. Всё, что
нам известно, говорит о том, что потребление у привилегированных слоев было
выше: они лучше питались и одевались, покупали книги и газеты, ходили на
концерты и в театры; учили детей в школах; путешествовали, в том числе за гра¬
ницу. Положение обязывало чиновника или офицера являться на службу в сапо¬
гах и мундире, бритым и подстриженными; иметь квартиру, прислугу и многое
другое, что крестьянину, мещанину, ремесленнику, рабочему или даже купцу
казалось избыточным. Рост (длина тела) человека, отражающий его потребление
в детстве и юности, свидетельствует о том, что в среднем дворяне, чиновники,
офицеры и духовенство были выше крестьян, мещан, рабочих и солдат258.
269
Глава 11. Уровень жизни
Доходы привилегированных и образованных слоев населения были сущест¬
венно выше, чем доходы крестьян, рабочих, мещан и ремесленников, но различия
в доходах не были чрезмерными и со временем уменьшались. Да и сама элита
была малочисленной — в 1897 г. людей со средним и высшим образованием
в империи насчитывалось 774,6 тыс., или 1,62 %, среди лиц старше 20 лет; доля
дворянства в населении страны составляла 1,5 %, духовенства — 0,5 %. Нет ос¬
нований говорить о существенном возрастании имущественного неравенства
в России в период империи, о чем свидетельствует невысокий децильный коэф¬
фициент (различие среднего дохода у 10 % самых бедных и у 10 % самых бога¬
тых) в России в 1901—1909 гг. — он находился в пределах 5—8 и был ниже срав¬
нительно с самыми развитыми западными странами (см. в т. 1 наст, изд., с. 470).
Питание, здоровье и биологический статус населения
Питание россиян в XVIII—начале XX в. изучено недостаточно, о чем свиде¬
тельствует небольшое число обобщающих работ. До последнего времени этим
вопросом занимались преимущественно этнографы со специфическим для них
подходом к данной проблеме и в рамках своих задач накопили большой и по¬
лезный материал259. Их в первую очередь интересует, что и когда ели, кулинария,
ритуалы и обычаи застолья, символическое значение отдельных продуктов. Этно¬
графы не изучают калорийность пищи, соотношение в ней питательных ве¬
ществ — белков, жиров и углеводов, соответствие потребления физиологическим
нормам и характеру труда и влияние питания на здоровье. Между тем имею¬
щиеся данные позволяют получить ответы и на эти вопросы, начиная с середи¬
ны XIX в. Начнем с питания городского населения, которое в середине XIX в.
составляло около 9 %, а в 1914 г. — около 15 % населения страны (см. табл. 5.13
в гл. 5 «Город и деревня в процессе модернизации» наст. изд.).
Питание горожан в середине XIX в.
В 1840—1850-е гг. губернские статистические комитеты стали собирать
и публиковать сведения о потреблении продовольственных продуктов в отдель¬
ных губерниях. Собранные данные не дифференцированы по социальным груп¬
пам, что, однако, не лишает их ценности. Во-первых, потребление некоторых
продуктов питания (хлеб, соль и др.) мало эластично, оно в разных стратах го¬
родского общества различалось скорее качеством, чем количеством. Например,
исследования конца XIX—начала XX в. не обнаружили кардинальных различий
в потреблений хлеба, овощей, соли, растительного масла, фруктов различными
экономическими группами городского населения. Потребление хлеба и крупы
отклонялось от статистической средней вверх на 7 % у высшей группы и вниз —
на 1 % у низшей группы, потребление картофеля — вверх на 31 % у высшей
группы и вниз — на 4 % у низшей группы и т. д. Во-вторых, средняя и верхняя
страты общества были малочисленны. В 1858 и 1897 гг. на их долю приходилось
всего около 12 % городского населения260. Вследствие этого средние цифры при¬
близительно верно отражали потребление основной массы городского населения,
за исключением деликатесных продуктов.
270
Питание, здоровье и биологический статус населения
Рис. 11.17. А. А. Попов (1832—1896). Харчевня. 1859.
Государственная Третьяковская галерея
Особенность данных о душевом потреблении в середине XIX в. состояла
в том, что они не являлись результатом прямого изучения питания в семьях,
а получены расчетным путем: реализованный в городе продукт делился на чис¬
ло жителей (без регулярной армии, которая снабжалась особым порядком). По¬
скольку точно учесть проданный товар, а также его покупателей довольно
трудно (торговая статистика занижала оборот, в город постоянно приезжали
и уезжали люди из других мест), данные о питании следует рассматривать как
сугубо ориентировочные261. Возможно, они занижали действительное потреб¬
ление из-за преуменьшения товарооборота и по причине недоучета продуктов,
полученных за счет охоты, рыбной ловли, собирательства, а также из подсоб¬
ных хозяйств, которые имелись у большинства горожан: даже в столицах со¬
держали скот, птицу и имели огороды262. Кроме того, о некоторых продуктах
сведений недостаточно. Если об овощах и фруктах мы имеем сведения по 266
городам263, молоке — по 97, мясе — по 101, водке — по 93, муке — по 28, то о
рыбе — по 8, соли и масле — по 6, сахаре — по 3, яйцах и картофеле — всего
по 2 городам. Обобщение имеющихся сведений о потреблении горожан, а так¬
же о производстве ими овощей, фруктов и молока дало следующие результаты
(табл. 11.40).
271
Таблица 11.40
Купленные на рынке горожанами для личного потребления продукты питания в 1840—1850-е гг. (кг на д. и. в год)
Масло
коровье
5,5
3,0
0,8
1,0
2,2
Рыба
so
(N
14,5
16,4
гл
тГ
*
Молоко
m
30
1
1
1
'
*
*
00
о
Овощи,
фрукты
28
1
1
1
30
1
*SO
+
On
<N
Карто¬
фель
138
'
1
1
1
06
Кофе
i
1
0,043
1
0,011
0,023
0,026
Чай
i
1
0,78
1
о
сл
o'
0,46
in
о4
Соль
29
00
26
38
28
25
Сахар
'
3,5
(N
3,8
4,5
00
гл"
Яйца,
шт.
29
62
1
1
1
1
46
Масло ^~
растите-
льное
тГ
тГ
о
4,3
16,4
4,1
3,9
8,4
Город
Киев
Петербург
Ростов
(Яросл.)
Рыбинск
Углич
Ярославль
В среднем
1 rn s ^
2 & ^ :
X — ^ 5
j Ж
5 <n а -в-
3 5 cd
> & s е-
> ^ I Е
:
О 5? I-Q
S §■ | s
>8^5
= Sr- g-
J g и Й
> 3 :
• 5 jLoo
) ci, ^ —
. н £• r
8c
rl§2
X xx м о
- *0 icJ
5 -So
is
5 5 £ ^
з T' S “
3 (M w «
3 е4 .О
cd
S|
* §
S <L>
Ж О
CX *
g 8
i £
|1
* cd
о н
U
g E rf
Я О ^
• О
~ 00
• 00
ь 22
Ж
2C О
Й ON
ja
i 5
1 U.
i и
>Ж
CL, >3
<D
S ?? ^ ж
s i s *
s|?s
i^| i
5r §c
5 - &s
2 40 “
hO *"*
vo g
C w
и о
. о
H <N
<N г ч
Ж )S
о CQ
4 ^
5 и ’5
cx • Ж
о ^ я
| 2 ffl
S55
. „ . >ж
I ^ n
so . О
17^*
; <ч ^ i> «
I ^ M 00 u
«Л 22 <N ж
: • — Э
' и <ч w О
) , n и I
) ro <N .CQ
‘ «Л> - < (U
[2 3S g
b’.fc 5
„ g r- .„ я
,Cr, t
! u ri vo
1 . u rn
S«i
! D.4|J
1 0) H ГЛ
i**o
I I ^
. . ^
es
Q. Г
|5
g £
c g
x 5
ж X
I *
Я Л \
D 1)
О Я
cx g
со О
<L> 5
о о
ж с
п
я £
о
5 §
о
о
Си
§
&
ч
о
n
м
Ж
о
&
§2
-в- Г
и . ЕС£
т ой
5° Г3
* ё
j §
СГ G
• )Ж
<N S
£ =
00
~ 3
ю g
С 2
U ж
. ж
ВТ сх
<N 5 '
во CJ
Э сх
g. «
2 8
5 5
а) •"
■§•'o'
О Vi
v *
.2 & Е*
СХ so
ё ”
- <N
•Л1
55 о
S s.
ON У
о S
. н
U U
1 S
во СГ
й
rv W
9*8
3 0
<N —
Ё
^6
* 29 кг овощей и фруктов продавалось на городских рынках крестьянами из соседних уездов, около 16 кг производилось самими горо¬
жанами в своих приусадебных хозяйствах.
** Производство молока на душу населения в год в городах в 1860-е гг.
*** Учтено потребление рыбы в г. Самаре (19 кг) и в г. Мокшане (8,1 кг) в год.
Питание, здоровье и биологический статус населения
Из приведенных данных видно, что в середине XIX в. существовала значи¬
тельная вариация в потреблении отдельных продуктов в разных местностях. Од¬
на из причин этого состояла в том, что их потребление находилось в компенса¬
ционных отношениях: если меньше ели хлеба, то больше — мяса, и наоборот,
или меньше мяса — больше рыбы, много сахара — меньше меда, меньше моло¬
ка — больше масла, и наоборот. Вследствие этого по калорийности питания ре¬
гионы и города различались несущественно и меньше, чем с точки зрения по¬
требления отдельных продуктов. Коэффициент вариации калорийности пищи
между городами составил 15 %, а различия в физиологических нормах калорий¬
ности в северных и южных регионах России достигали 21 %.
Чтобы оценить калорийность питания, или энергию, которую получал человек
от потребления этих продуктов, нужно разложить их на белки, жиры и углеводы
в соответствии с переводными коэффициентами, исчисленными в начале XX в.,
так как тогдашние и современные продукты несколько различались по составу264
(табл. 11.41).
Таблица 11.41
Состав основных продуктов питания в России начала XX в.
(содержание в 100 г продуктов, г)
Продукты
Белки
Жиры
Углеводы
Хлеб и крупы
10,57
1,96
65,63
Картофель
1,95
0,15
20,69
Овощи и фрукты
1,29
0,13
10,07
Сахар
—
—
96,28
Мало растительное
—
10,0
—
Мясные продукты
19,09
5,34
0,96
Рыба
16,0
10,73
3,12
Молоко
3,26
2,19
4,78
Молочные продукты
6,57
5,93
2,99
Масло животное
—
86,05
—
Яйца
19,47
18,78
8,54
Источник: Кабо Р. Потребление городского населения России (по данным бюджетных
и выборочных исследований). М., 1918. С. 50—51.
При установлении состава некоторых продуктов следует предварительно оп¬
ределить их чистую массу, исключив отходы, неизбежные при переработке, при¬
нятые для картофеля в 40 %, для мяса и рыбы — в 33 % от общей массы; яйцо
без скорлупы приравнивается 40 г. Затем с помощью установленных в физиоло¬
гии питания коэффициентов усвояемости определяется, какая доля от массы этих
питательных веществ ассимилируется организмом человека: белков из расти¬
тельной пищи усваивается 70 %, из животной — 94 %, жиров соответственно —
85 и 94 %, углеводов — 90 и 98 %. Наконец, вычисляется искомая величина ка¬
лорийности пищи по следующим нормам: 1 г усвоенных белков растительного
273
Глава II. Уровень жизни
происхождения дает 3,96 ккал, белков животного происхождения — 4,23, жи¬
ров — 9,3, углеводов — 4,1 ккал265.
Оценив по указанной методике калорийность питания «среднего» горожанина
в середине XIX в., получаем, что потребление учтенных продуктов давало ему
около 2988 ккал (табл. 11.42).
Полученная цифра относится ко всему городскому населению, состоящему из
людей разного возраста и пола, которые имели неодинаковые потребности, и из
людей разного материального достатка, пища которых различалось еще сильнее.
Если потребление мужчин в возрасте 18—60 лет принять за 1, то у других поло¬
возрастных групп оно составит: женщины 16—55 лет, мужчины старше 60
и юноши 14—17 лет — 0,8; женщины старше 55 и девушки 14—16 лет — 0,6;
дети в возрасте 7—13 лет — 0,55, в возрасте 1—6 лет — 0,3, до 1 года — 0,1266.
Обычно в источниках приводятся данные о потреблении на душу населения, но
все физиологические расчеты (о потребности в энергии и т. п.) делаются для
взрослого мужчины. Вследствие этого необходимо определить коэффициенты
для перехода от абстрактной души к взрослому мужчине, к так называемому
полному едоку. Для перехода от одного абстрактного человека к взрослому муж¬
чине, учитывая половозрастной состав населения, различие физиологических
потребностей в энергии, во второй половине XIX—начале XX в. принимается
коэффициент 1,4267. Это означает, что взрослому мужчине в середине XIX в.
нужно было энергии примерно на 40 % больше, чем «среднестатистической»
душе. Умножив среднедушевое суточное потребление, оцененное в 2988 ккал, на
1,4, получаем 4183 ккал, что примерно соответствует потреблению взрослого
мужчины (это удобно для расчетов, которые, как правило, основываются на по¬
требностях и затратах взрослого мужчины).
Выясним теперь, какова была суточная физиологическая потребность в кало¬
риях у взрослого мужчины. В начале XX в. у мужчины в возрасте 18—60 лет
массой 65—70 кг при полном покое она оценивалась в 1800 ккал, при относи¬
тельном покое — 2300 ккал, при легком труде — 2500, при умеренном — 3500,
при тяжелом — 4000, при очень тяжелом труде — 4500 ккал26 . В XIX в. труд
рабочих и крестьян был связан с физической работой, слабо обеспеченной меха¬
низацией269. Поэтому примем за суточную норму потребления в рабочие дни
4000 ккал, что покрывает энергетические затраты мужчины, занятого тяжелым
физическим трудом, а в остальные, нерабочие, праздничные и выходные дни —
2500 ккал, соответствующие потребности в энергии при легком труде. Тогда, на¬
пример, в середине XIX в. при 240 рабочих днях в год суточная потребность ра¬
ботающего мужчины в среднем год составляла примерно 3675 ккал.
Продолжительность рабочего года, выраженная в часах, в изучаемый период
изменялась. В 1850-е гг. рабочий год в большинстве случаев продолжался около
240 дней, а продолжительность «чистого» рабочего дня на большинстве про¬
мышленных предприятий колебалась от 14 ч летом до 9 ч зимой, в среднем в год
составляла 12 ч. С приходом индустриальной революции обнаружилась тенден¬
ция к сокращению и унификации числа праздничных дней на отдельных пред¬
приятиях, вследствие чего сначала среднее количество рабочих дней увеличи¬
лось к 1885 г. до 283, к 1904 г. — до 287,3 дня, но с 1905 г. под влиянием рабочего
274
Состав и калорийность продуктов, потребляемых горожанами
в середине XIX в. (на д. н.)
а
а*
а
<§
й
ккал в день
усвоено
in
00
00
123
in
146
152
33
42
263
201
38
40
2988
всего
2165
139
00
in
159
162
36
45
280
214
39
42
3353
Состав продуктов, г
Углеводы
431
30,7
<ч
14,0
0,6
■
t
i
0,44
оС
10,0
509,6
Жиры
12,9
<ч
o'
0,1
in
VO
6,4
2,1
Ov
Гое
23,0
1,0
1
'
<ч
К
00
Белки
69,4
2,9
in
9,5
23,1
3,2
'
i
>
1,0
1
1
110,6
Потребление
в день, г
658
*
00
123
VO
Ov
(N
СЧ
*сн
o'
(N
5,8
35
23
»
(N
in
9.9
12,9
1458
в год, кг
240
»п
45
*00
О
*(N
V
t-r
(4
СП
СП
оо"
*ON
VO
СП
532,2
Продукты
Мука, крупа
Картофель
Овощи, фрукты
Молочные продукты
Мясо
Рыба
Масло коровье
Жиры
Масло растительное
Яйца
Сахар
Мед
Итого
о
тГ
ч
•8
н
03
н
S
аг
о
§
с
О
CU
н
8.
Ё
ч
§
3
9 о
о и:
* 5
О §
ь
аг
С0
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.18. К. И. Кольман (1786—1846). Обед грузчиков на барке. 1830-е.
Государственный Русский музей
движения стало уменьшаться и в 1913 г. составило 276,4. Фактическое число ра¬
бочих дней, отрабатываемое отдельным рабочим, было меньше: в 1885 г. — 264,
в 1904 г. — 268, в 1913 г. — 257. Рост числа рабочих дней в 1861—1904 гг. ком¬
пенсировался уменьшением продолжительности рабочего дня с 12,3 ч в 1850-е гг.
до 11,7 ч в 1885 г., до 10,6 ч в 1904 г., до 10,2 ч в 1905 г. и до 10 ч в 1913 г. В ре¬
зультате годовой рабочий период формально составлял в 1850-е гг. примерно
2952 ч, в 1885 г. — 3311, в 1904 г. — 3045, в 1913 г. — 2764 ч, а фактически —
соответственно 2880; 3089; 2841; 2570 ч270. Значит, к 1885 г. сравнительно
с 1850-ми га продолжительность рабочего времени увеличилась на 12 %, а к 1913 г.
уменьшилась на 8 %. При этом мы по необходимости не принимаем во внимание
начавшийся в пореформенное время переход от ручного труда к машинному,
требовавший меньших энергетических затрат. Отсюда следует, что в середине
XIX в. суточная потребность работающего мужчины в среднем в год составляла
примерно 3675 ккал, в 1885 г. — 4116, а в 1905—1913 гг. — 3403 ккал.
В 1850-е гг. «средний» горожанин потреблял 2988 ккал в сутки, в переводе на
взрослого мужчину — 4183 ккал (2988 х 1,4), что обеспечивало его достаточной
энергией для совершения тяжелой физической работы в течение рабочего дня
276
Потребление основных продуктов питания тремя экономическими группами горожан в 1840—1850-е гг.
Потребление в день, ккал
Высшая группа
2011
160
57
304
316
62
197
392
229
38
06
95
1
3951
Средняя группа
2011
156
48
293
273
53
174
371
Ov
СП
СП
84
00
00
■
г-
г-
СП
Низшая группа
1870
г-
50
126
СП
29
24
248
184
-
28
29
1
2847
Потребление в год, кг
Высшая группа
256
«о
225
92
тГ
чо
оС
О
<ч
сГ
132
СП
оС
12,1
32
1
Средняя группа
256
69
43
217
о
00
<ч
8,5
00
8,5
109
VO
оо
(N
29
1
Низшая группа
238
52
45
93
38
г-
<ч
8,2
36
ON
<ч
00^
СП
24
1
Продукты
Мука, крупа
Картофель
Овощи, фрукты
Молочные
Мясные
Рыба
Масло коровье
Жиры
Масло растительное
cd
Of
)5
Сахар
Мед
Соль
Итого
Гпава 11. Уровень жизни
круглый год. Однако «средний» горожанин — это статистическая абстракция.
Каким было реальное питание различных социальных групп городского населе¬
ния? С этой целью, опираясь на сведения, собранные в ходе обследований начала
XX в., о различии в потреблении отдельных продуктов низшей, средней и выс¬
шей стратами городского населения рассчитаем примерное потребление продук¬
тов различными экономическими группами в середине XIX в. (табл. 11.43).
Как показывают расчеты в переводе на взрослого мужчину, с количественной,
или энергетической, точки зрения питание низшей, не говоря уже о средней
и высшей группах было достаточным, так как на взрослого мужчину в низшей
группе приходилось в день около 3987 ккал (при физиологической потребности
в 3675 ккал), в средней — 5285, в высшей — 5531 ккал (табл. 11.44).
Таблица 11.44
Потребление взрослого мужчины-горожанина в середине XIX в.
Дневное потребление по группам
Питательные вещества
Низшая
Средняя
Высшая
г
ккал*
г
ккал*
г
ккал*
Белки, в том числе:
147
463
207
696
220
739
животные
45
178
96
387
108
428
растительные
102
285
111
309
112
311
Жиры
112
941
182
1547
201
1698
Углеводы
699
2583
825
3042
837
3094
Итого
958
3987
1214
5285
1258
5531
Подсчитано по данным табл. 11.43.
* Усвоенные.
Имеющиеся конкретные данные о питании в середине XIX в. это подтвер¬
ждают. В 1850—1857 гг. С.-Петербургское мещанское общество кормило на кух¬
не мещанской богадельни рабочих, нанятых для очистки площадей и тротуаров.
На каждого рабочего в день отпускалось: хлеба печеного — 1229 г, говядины или
рыбы вареной и снетков — 231, масла постного — 13, масла топленого — 17,
гороха — 205, муки для щей — 21, крупы гречневой для каши — 128, капусты —
246, картофеля — 283, лука — 188, грибов сухих — 34, соли — 26 г271. Все про¬
дукты давали рабочему 4584 ккал272, что соответствовало суточной потребности
взрослого мужчины, занятого очень тяжелым физическим трудом.
По мнению экспертов, в идеальном дневном рационе человека соотношение
белков, жиров и углеводов по массе должно быть 14 : 18 :69, по калориям —
11 : 33 : 56, а в рационе человека физического труда соответственно 16 : 18 :66
и 13 :33 : 54, причем белки животного происхождения должны составлять не
менее половины общего количества белков273. Как видно из данных табл. 11.45,
во всех группах соотношение основных питательных веществ по массе и калори¬
ям было близко к идеальному. Только в пище низших социальных групп город¬
278
Питание, здоровье и биологический статус населения
ского населения, по-видимому, недоставало белков животного происхождения
и жиров. Возможно, дефицит белков и жиров получился вследствие недоучета
потребления мяса из подсобного хозяйства горожан. Основываясь на этих расче¬
тах, можно заключить, что питание городского населения в середине XIX в. не
только с количественной, но и с качественной точки зрения было удовлетвори¬
тельным.
Таблица 11.45
Соотношение белков, жиров и углеводов по массе в продуктах,
потреблявшихся горожанами в середине XIX в. (%)
Питательные вещества
Низшая группа
Средняя группа
Высшая группа
Норма
Белки
15
17
17
14
В том числе животные
5
8
9
7
Жиры
12
15
16
18
Углеводы
73
68
67
68
Итого
100
100
100
100
Подсчитано по данным табл. 11.44.
Французский социолог Ф. Ле-Плэ (1806—1882), восемь раз посещавший Рос¬
сию в целях изучения положения русского населения, оставил записки, в кото¬
рых привел сравнительные данные о питании русских и зарубежных рабочих274.
Они свидетельствуют о предпочтительном положении русских (табл. 11.46).
К аналогичным выводам пришел известный немецкий исследователь А. Гакст-
гаузен (1792—1866), утверждавший, что русские рабочие — самые благополуч¬
ные в Европе275.
Таблица 11.46
Потребление основных продуктов питания русскими и зарубежными рабочими
в середине XIX в. (кг на д. и. в год)
Продукты
Уральские
кузнецы
Уральские
плотники
Шведские
кузнецы
Английские
литейщики
Словацкие
плавильщики
Французские
плотники
1844 г.
1844 г.
1845 г.
1850 г.
1846 г.
1856 г.
Хлеб
289,6
212,7
282,9
107,6
183,9
117,6
Жиры
3,14
4,6
14,6
8,4
8,0
3,6
Молоко
314,3
263,6
257,1
89,1
165,0
40,0
Сыр
—
—
—
3,4
1,4
1,8
Яйца
6,14
2,9
4,3
0,7
2,9
1,4
Мясо и рыба
40,7
37,3
60,0
34,3
27,3
27,6
Овощи,
фрукты
109,1
136,4
105,3
53,3
138,6
59,7
Сахар и мед
8,0
8,3
32,1
24,4
5,0
6,5
Источник: Blum J. Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century.
Princeton, NJ : Princeton University Press 1961. P. 317. Блюм перевел данные Ле-Плэ из семейно¬
го в душевое потребление.
279
Глава 11. Уровень жизни
Питание горожан в начале XX в.
О питании городского населения в начале XX в. имеются более надежные
сведения. В 1900—1916 гг. было обследовано 13 594 семей (75,3 тыс. человек
обоего пола) в Баку, Богородске (Московская губерния), Москве, Оренбурге, Пе¬
тербурге, Саратове и Туле, принадлежавших к низшей, средней и высшей эконо¬
мическим группам городского населения, по сведениям документов, регистри¬
рующих доставку продуктов, и материалам опросов (табл. 11.47 и 11.48).
Низшая группа включала ремесленников, мещан, рабочих, прислугу и дру¬
гих лиц наемного труда из непривилегированных сословий, средняя — служа¬
щих, мелких и средних чиновников, духовенство, высшая — средних и круп¬
ных фабрикантов, торговцев, землевладельцев, крупных чиновников, высший
слой интеллигенции. Среднее потребление подсчитано нами, исходя из доли
трех экономических групп в городском населении Европейской России, кото¬
рые по переписи 1897 г. составили: низшая (мещане, казаки, крестьяне) —
88,1 %, средняя (чиновники не из дворян, личные дворяне, духовенство, разно¬
чинцы) — 5,4 %, высшая (потомственные дворяне, купцы, почетные гражда¬
не) — 6,5 %276. Расчеты показывают, что «средний» горожанин в начале XX в.
съедал в день 1273 г различных продуктов, которые обеспечивали его 2677 ккал.
Следовательно, суточное потребление взрослого мужчины давало ему около
3748 ккал в день, при этом представители низшей экономической группы полу¬
чали 3601 ккал, средней — 4698, высшей — 4830 ккал. По сравнению с середи¬
ной XIX в. средняя калорийность питания снизилась примерно на 10 %. Но при
этом даже низшая группа получала число килокалорий, превышавшее физиоло¬
гический минимум в 3402 ккал (табл. 11.49), что подтверждается конкретными
исследованиями277.
В начале XX в. соотношение белков, жиров и углеводов в высшей экономи¬
ческой группе горожан было близко к идеальному; в средней и особенно низ¬
шей группах недоставало жиров и животных белков при избытке углеводов
(табл. 11.50).
)
280
городского населения в 1900—1916 гг.
к
а
5Г
a
й
5
2
Л
с
с
;►>
а
и
S
S ^
S ч
8 £
9 ■
Я х
2 .
о ч
5 л
SS
s
г
1C
V
а
н
о
и
С
и
«о
о
Си
Ё
<D
1)
=
н
U
<N
•Г)
(N
и
о
Си
8
о
ЬЙ
о
1=5
О
си
о
1)
ч
Ю
1)
си
н
о
С
v§
£
о £
с
о и
S ><
Ё“
5 Э
§5
с £
* В среднем по 50 губерниям Европейской России в 1913 г.
Состав и калорийность питания горожан в 1900—1916 гг. (на д. и. в день)
Оо
Q
а-
а
е?
8
ккал
усвоенных
00
00
129
58
о
00
102
27
00
m
70
СП
<ч
-
LL9Z
всего
2120
149
99
84
109
28
3
74
201
25
123
3040
Состав продуктов, г
Углеводы
<ч
<ч
32,9
ON
СП
•n
00
o'
•n
o'
1
t
i
0,7
о
о"
СП
509,0
Жиры
12,6
(N
o'
(N
o'
сн
cn
NO
NO
o^
00
21,6
vq
60,2
Белки
68,1
сн
00^
in
•П
irT
«П
<4
I
1
i
vq
97,7
Потребление, г
644
159*
00
сн
*
*
r^
00
*vq
in
cn
ON
VO
(N
*
СП
oo"
(N
СП
1272,7
Продукты
Хлебные
Картофель
Овощи, фрукты
Молочные
Мясные
Рыбные
Масло коровье
Жиры
Масло растительное
Яйца
Сахар
Итого
Г"
н
J3
X
я
§
о
с
Л
н
S
эг
о
1=5
о
с
В пересчете на молоко.
Структура потребления горожан мужского пола в 1900—1916 гг.
Os
О
а-
а
а
й
Дневное потребление по группам
Высшая
ккал
698
393
305
1330
2801
4829
U
209,3
99,0
110,3
157,5
756,1
1122,9
Средняя
ккал*
554
258
296
1141
3004
4699
U
171,2
64,7
106,5
133,1
SO
SO
00
1120,9
Низшая
*5
$
399
Os
280
634
2568
3601
U
131,2
Гое
101,1
77,4
00
3f
SO
903,4
Питательные
вещества
Белки, в том числе:
животные
растительные
Жиры
Углеводы
Итого
г-
rt-
о
•n
а-
а
й
X
Л
!
5
X
Я
С
СО
«
о
о
я
2
со
§
§
Е
;►>
5
СО
о
а
х
X
со
о
*
5
ю
R
ч
о
е*
Норма
г-
00
00
so
100
Высшая группа
Os
Os
67
о
о
Средняя группа
in
SO
<ч
73
о
о
Низшая группа
<n
СО
00
77
о
о
Питательные вещества
Белки
В том числе животные
Жиры
Углеводы
Итого
Подсчитано по данным табл. 11.48, 11.49.
Глава 11. Уровень жизни
Питание крестьян в XVIII—первой половине XIX в.
Переходим к анализу питания сельского населения, прежде всего крестьянст¬
ва. Мы располагаем многочисленными сведениями относительно того, что кре¬
стьяне ели в XVIII—XIX вв., но очень мало имеем прямых данных о том, в каком
количестве они потребляли отдельные продукты и какова была энергетическая
ценность пищи.
По XVIII в. сведения о питании довольно ограничены. Они обобщены в ряде
этнографических работ с учетом данных за XIX—начало XX в., особенно за
1840—1850-е гг., когда были проведены массовые обследования корреспонден¬
тами РГО278. Подобная экстраполяция в прошлое возможна: по имеющимся све¬
дениям, в течение XVIII—первой половины XIX в. сколько-нибудь существен¬
ных изменений в структуре пищи крестьян не произошло. Поэтому целесообраз¬
но рассмотреть сначала питание в середине XIX в. по массовым источникам,
а потом уже вернуться к XVIII в.
В 1847 г. РГО опубликовало Этнографическую программу для описания ме¬
стных обычаев, которая включала среди прочего пункты о наружности жителей
и пище. Ответы на эти вопросы, поступившие главным образом в конце 1840—
1850-е гг. от приходского духовенства, позволяют получить представление о пи¬
тании и росте. Шестнадцать самых полных описаний (в 14 из них есть сведения
279 280
о питании) опубликованы ,191 — находятся в Архиве РГО . Одновременно,
в 1850—1860-е гг., Генеральный штаб двумя изданиями опубликовал географи¬
ческое и статистическое описание 25 губерний России, 11 из них также содержа¬
ли сведения о питании281.
Рост крестьян корреспонденты РГО в подавляющем числе случаев оценивали
как средний, при этом констатировали силу и крепкое телосложение282. Наблю¬
дательные авторы заметили связь между трудовыми нагрузками, питанием и те¬
лосложением. «Малороссияне, кои с младенчества (в данном случае имеется
в виду — с детства. — Б. М.) не были обременены тяжелыми, изнурительными
работами, отличаются дородством, здоровьем и плотностью». Напротив те, кто
«изнурялся от детства физическими трудами» и страдал «от недостатка хорошей
пищи» отличались «слабосилием» 283. Когда сообщались цифры, рост крестьян
в конце 1840—начале 1850-х гг. колебался в диапазоне от 158 до 175 см, в сред¬
нем составлял 164—165 см284, что соответствует среднему росту новобранцев,
призванных в эти годы.
Что касается питания, то оно, к сожалению, не оценивалось с точки зрения
адекватноЬти, качества или количества; корреспонденты только сообщали, что
крестьяне ели в постные, скоромные и праздничные дни285. Вот типичное описа¬
ние пищи крестьян Моложского уезда Ярославской губернии. «Ежедневная ско¬
ромная: щи из серой капусты, подбеленные молоком, черный хлеб, блины овся¬
ные, пресные пироги с творогом, кислое молоко, картофель вареный. Ежедневная
постная: щи из серой капусты, капуста белая с квасом, картофель вареный, ино¬
гда жареный в постном льняном масле, кашица из овсяной крупы и блины овся¬
ные. Праздничная скоромная: щи с мясом, пирог ржаной с овсяной крупой, пре¬
сные пироги из ячной (ячменной. — Б. М.) муки, с творогом и овсяной крупою,
284
Питание, здоровье и биологический статус населения
молоко пресное, картофель жареный в сале, свиной жир с овсяным блином (это
самый лакомый кусок), молочная овсяная каша, ячные оладьи. Праздничная по¬
стная: щи из белой капусты, пирог ржаной с овсяной купою, блины овсяные, кар¬
тофель жареный в льняном масле, соленая и вяленая рыба, больше судак и сев¬
рюжина, каша»286.
Автор явно забыл упомянуть о потреблении грибов, ягод, овощей, фруктов,
яиц, птицы, дичи и очень мало говорит о рыбе. С некоторыми вариациями это
описание повторяется при характеристике питания крестьян в других губерниях.
Вот сведения о пище крестьян Каширского уезда Тульской губернии. «Ежеднев¬
ная пища приготовляется из домашних припасов, а именно: в постные дни — из
капусты, огурцов, картофеля, свеклы, редьки и луку с приправою из масла; каша
ячменная или гречишная. В скоромные дни едят молоко, яйца, а иные сверх то¬
го— солонину, баранину и свинину. В праздники пища бывает лучше и разнооб¬
разнее: пироги у многих пекутся не из простой ржаной муки, а из домашней
пшеничной; из этой же муки варится лапша мясная или молочная и мясная по¬
хлебка, в которую прибавляют пшено и картофель. Каша бывает молочная гре¬
чишная, с маслом. Холодное, которое, впрочем, бывает не у всех, из студня
с огурцами и хреном. К горячему непременно подается часть какого-нибудь мя¬
са. В постные праздники иные покупают свежую и соленую рыбу, а другие при¬
готовляют лапшу или похлебку»287.
Рис. 11.19. А. И. Морозов (1835—1904). Отдых на сенокосе. 1861.
Государственная Третьяковская галерея
285
Глава 11. Уровень жизни
Примерно так же питались украинские и белорусские крестьяне. «Ежедневная
пища крестьян за обедом — борщ, в скоромные дни со свиным салом, а в празд¬
ники с говядиной; в постные же дни с разными грибами или с конопляным мас¬
лом; потом кашица с салом или с коровьим молоком или с деревянным маслом;
за полдником едят хлеб с салом, а в постные дни с луком и солеными огурцами;
за ужином чаще всего едят картофель, жареный или вареный, с огурцами, приго¬
товленными с капустой. В праздники к борщу варят лапшу с молоком или с го¬
вядиной, приготовляют жаркое, блины и пироги. Ко дню Пасхи каждый непре¬
менно печет две, три или четыре больших пасхи с крестом наверху, с пряными
кореньями и помазанных яйцом; жарят также поросенка и колбасу; приготовля¬
ют сыр, масло, яйца и мед. Хлеб всегда пекут из чистой ржаной просеянной му¬
ки, а к праздникам лепешки. На поминовение приносят три книша (лепешки. —
Б. М), обыкновенно пшеничные, и кусок говядины»288. «К рождественским, свет¬
лым праздникам и осенью, к филипповскому заговенью, крестьяне, даже самые
бедные, для своего стола режут овец, колют свиней и поросят. В остальное же вре¬
мя из мясной пищи употребляется одно только свиное соленое сало, и то больше
в виде приправы к кушаньям. Обычный порядок пищи значительно изменяется во
время обрядов: крестин, свадьбы, похорон и поминок. Тогда истребляется множест¬
во домашней птицы, мяса, сала и водки»289.
Следует принять во внимание, что когда корреспонденты говорят о празднич¬
ной пище, то имеются в виду не только религиозные, государственные, местные
(приходские), семейные праздники, но также, как правило, и воскресенья. Всего
празднично-воскресных дней в году с учетом совпадения воскресений с праздника¬
ми насчитывалось примерно 95 в 1850-е гг., 105 — в 1870-е гг. и 123 — в 1900-е гг.
Кроме того, крестьянин имел праздничный стол и во время семейных праздников
у родственников и соседей.
Питание земледельцев зависело от достатка: «Бедные крестьяне почти целый
год питаются постной пищей, разве в скоромные дни прибеливают свои щи и суп
молоком»290. Но в крепостное время, вследствие слабого имущественного рас¬
слоения, серьезных различий в питании крестьян в пределах одного селения не
наблюдалось. Зато существовали различия в питании крестьян различных кате¬
горий и разных селений. Крестьянин С. Д. Пурлевский отмечал в своих воспоми¬
наниях, что бедные крестьяне-земледельцы северо-западных губерний в начале
XIX в. «кормилось почти одним черным ржаным хлебом и серыми щами, горо¬
хом, толокном да репой пареной; калач почитался редким лакомством, пряник —
богатым подарком». А крестьяне промысловых сел, отличавшиеся зажиточно¬
стью («промыслы доставляли нам средства не в пример лучше других мест»),
«ели хорошо: в скоромный день холодное заливное (студень), вареный окорок,
русские щи или лапша, жаркое — баранина или курица, часто готовился гусь,
утка. Осенью молодые барашки почитались лучшим кушаньем»291.
В течение дня за стол садились от трех до пяти раз. Время и частота приема
пищи зависели от сезона, так как круг жизни определялся световым днем и сель¬
скохозяйственными работами. «В будни, летом, крестьяне редко едят менее че¬
тырех раз в день, зимою же — обыкновенно три раза»292. «Крестьяне ложатся
зимою часов в 10, а встают часов в пять, летом — с восходом солнца. Обедают
286
Питание, здоровье и биологический статус населения
в 6 часов утра, в 12 часов полдничают, а часов в 8 вечеряют»293. Летом, когда
трудовой режим становился напряженным, четвертый раз ели между обедом
и ужином, а иногда и пятый раз — между завтраком и обедом, так как интенсив¬
ная работа требовала восполнения затрат энергии. При четырехразовом питании
плотный завтрак с восходом солнца, в 4—6 часов утра, — хлеб, каша, овощи,
квас; обед — самая обильная трапеза в 10—12 часов включал два-три блюда,
первое — обязательно щи или суп, зимой горячие, летом иногда — холодные,
каша, овощи; в 16—17 часов полдник — квас, молоко, легкая закуска; ужинали
при заходе солнца обычно тем, что осталось от обеда. В дни страды иногда обхо¬
дились без горячей пищи: «Летом, в рабочую пору, горячей пищи почти не упот¬
ребляют, а большею частью берут с собой на целые дни сырую или предвари-
тельно дома изготовленную» . В разное время и в разных местностях названия
трапезы были разными и не совпадали с современными названиями.
Меню не сильно варьировало от завтрака к ужину. «Горячий завтрак: горохо¬
вый, овсяной или калиновый кисель, гречневые блины, пареная репа; обеденная
и вечерняя пища в будни: щи постные с забелкой, каша с маслом или молоком,
иногда гречневые блины, оставшиеся от завтрака, пироги без начинки или с мор¬
ковью, репою, капустою, толченым конопляным семенем295, ватрушки, кислое мо¬
локо; в воскресные и праздничные дни: щи из говядины, свежей или соленой»296.
Рис. 11.20. А. А. Попов (1832—1896). Демьянова уха. 1856.
Государственный Русский музей
287
Глава 11. Уровень жизни
Если обобщить имеющиеся сведения о питании русских, украинских и бело¬
русских крестьян в XVIII—первой половине XIX вв.297, то везде и всегда глав¬
ное — щи (на Украине и в южных русских и белорусских губерниях — борщ)
и каша (из разных круп, преимущественно гречи, овса, ячменя и проса), преобла¬
дание ржаного хлеба и растительной пищи (преимущественно капусты, огурцов,
лука, в меньшей степени — редьки, гороха, фасоли, моркови, свеклы, брюквы,
репы, хрена и чеснока). Овес являлся не только фуражной культурой, а в значи¬
тельном количестве употреблялся в пищу везде, ячмень — на Севере. В 1840-е гг.
вошел в употребление картофель, и его роль в питании постепенно увеличива¬
лась; в некоторых местностях в начале XX в. он потеснил на второе место кашу.
Молоко, свежее и кислое, сметана и творог (у украинцев и белорусов — сыр)298
употреблялись взрослыми преимущественно весной и летом, круглый год детьми
и больными, при огромной географической вариации299. Употреблялось всеми
преимущественно коровье молоко, русскими южных губерний и Приуралья,
а также украинцами — еще и овечье, в некоторых местностях — и козье. Свежее
молоко пили, им забеливали супы, жарили с ним яичницу, варили молочные ка¬
ши. Квашеное молоко ели с хлебом и картошкой, из него делали творог и сыр. На
Украине из овечьего молока делали брынзу. Сливки и сметана использовались
как приправа; из них, а также из цельного молока сбивалось масло. Сметану
в русской печи перетапливали в сливочное масло; при вторичном перетаплива¬
нии получалось русское, или топленое, масло, которое, в отличие от сливочного,
могло долго храниться. На Севере и в Сибири молоко замораживали, наструги¬
вали тонкой стружкой и ели с лепешками, замороженное молоко запасали зимой,
брали в дорогу, растапливая по мере необходимости.
Мясо (говядина, баранина, свинина, куры, утки, гуси, индейки), а у белорусов,
украинцев и русских из южных губерний — колбаса300 и яйца бывали на столе
преимущественно в праздники, за исключением местностей, специализирующих¬
ся на производстве мяса301. Забой скота происходил в ноябре—декабре, с окон¬
чанием летнего выпаса. Поскольку свежее мясо не выдерживало длительного
хранения, его солили, коптили и вялили, а зимой замораживали. В теплое время
ели в основном солонину. Охотничий промысел был развит повсеместно. Но
дичь в основном продавалась, потому что мясо многих птиц и животных (зайча¬
тину, медвежатину, мясо голубей, лебедей, кабанов и других — в каждой мест¬
ности по-разному) крестьяне в пищу не употребляли302.
Животный жир и топленое масло303 добавлялись в пищу в скоромные дни,
а растительное масло из семян льна, конопли и проса — в постные. Жиром и
маслом Направляли супы, мучные блюда (кисели, заварухи, затирки, саламату
и т. п.), каши, поливали лук и картофель, макали в него лепешки, варили в нем
изделия из теста. В северных и центральных губерниях предпочитали льняное
масло, в южных — к югу от Москвы — конопляное; с середины XIX в. в Черно¬
земье стали производить подсолнечное масло. Горчичное, маковое, тыквенное
масла использовались в качестве ароматических отдушек и приправы к мучным
блюдам.
Распространено мнение, что мясо, молоко, яйца, ягоды крестьяне употребляли
мало по той причине, что продавали их на рынке: «Весь приплод от домашней
288
Питание, здоровье и биологический статус населения
скотины, яйца и рыба свежая и сушеная, грибы употребляются разве только
в особенных торжественных случаях, обыкновенно же крестьянин продает вся¬
кую мелочь для приобретения соли, железа и других предметов или относит
в корчму»304. Нередко об этом сообщают и корреспонденты РГО. На самом деле
до появления широкой сети железных дорог и рефрижераторов сбывать мясо,
молоко и яйца в городе на рынке могли только крестьяне, жившие поблизости от
больших городов, так как в малых городах эта продукция производилась в доста¬
точном количестве самими горожанами305. Большую часть быстропортящейся
продукции крестьяне должны были потреблять сами. Другое дело, что ее было не
так много, особенно зимой, ранней весной и поздней осенью. Все же коровы
доились и куры неслись круглый год, а даже бедное крестьянское хозяйство рас¬
полагало хотя бы одной коровой, несколькими овцами и 5—10 курами306.
Рыба регулярно, в праздники обязательно, хотя и в небольшом количест¬
ве307, употреблялась главным образом в сушеном, вяленом, квашеном, соленом
виде, зимой — в замороженном, а в приморской зоне и местностях, находящих¬
ся вблизи больших рек и озер, она была основной пищей, ее ели много, в том
числе свежую308. Мелкую рыбу, особенно снеток, сушили и в зимнее время
с ней варили суп.
Фрукты и ягоды (яблоки, груши, вишни, черешня, сливы, смородина, кры¬
жовник, рябина, черемуха) выращивались повсеместно, за исключением холод¬
ных районов Севера; наиболее распространенными были яблони и вишни. По¬
всюду собирали дикие плоды и ягоды: смородину, клюкву, малину, чернику,
бруснику, на Севере — морошку, в Сибири — черемуху. Осенью запасали на
зиму орехи (в лесной полосе — лещину, в тайге — кедровые орехи) — любимое
угощение на всех вечерах и посиделках. Ягоды собиралось много; ее хватало
и на продажу, и на уплату оброка309. Арбузы, дыни и тыквы в обилии ели в юж¬
ных губерниях, в остальных они были редкостью. Ананасы и цитрусовые упот¬
реблялись только богатыми людьми в больших городах. Грибов собиралось мно¬
го, употреблялись они в свежем, сушеном и консервированном виде. В Воронеж¬
ской губернии «важнейшие из них: сморчки, грузди, полугрузди, черные и крас¬
ные, волвенки, белянки, сыроежки, свинухи, говорушки, печерицы, масляники,
опенки и некоторые другие»310. В Казанской губернии осенью солили «болото-
вики, масляники, рыжики, белянки, грузди, сыроежки, осиновики, коровяки (бе¬
лые)»311. На Украине любили шампиньоны. Крестьянские летописцы Архангель¬
ской губернии часто упоминали об урожае ягод и грибов, что свидетельствует
о важности собирательства: «1811 год. Осень теплая, рыжиков не было. 1812 год.
Много ягод, рыжиков нету. 1819 год. Лето хорошее для грибов»312.
Мед долгое время заменял сахар и использовался наряду с солью для консер¬
вирования; во второй половине XIX в. он постепенно вытеснялся сахаром313.
В 1910 г. на душу населения в год производилось 0,643 кг меда314.
Из безалкогольных напитков самый популярный — квас, который приготав¬
ливали из ржаного солода, свеклы, яблок или груш. В лесной полосе собирали
сок березы, клена, сосны и употребляли в качестве освежающего напитка. Чай
в XVIII в. был предметом роскоши и употреблялся главным образом дворянст¬
вом315; в XIX в. стал входить в массовое потребление вместе с самоварами.
289
Глава 11. Уровень жизни
Г *
Рис. 11.21. Р. К. Жуковский (1814—1886). Чай да сахар. В трактире. 1842—1843.
Государственный Русский музей
Из алкогольных напитков больше всего любили брагу (некоторые ее сорта на¬
зывались также пивом) и пиво домашнего приготовления, хмельной мед и водку;
покупное вино и пиво не были популярны316. Прямые данные о потребление вод¬
ки имеются только с конца XIX в. За остальные годы они носят оценочный ха¬
рактер и основываются для XVIII—начала XIX в. на питейном доходе и ценах
водки, для 1819—1850 гг. — на производстве спирта в 29 великороссийских гу¬
берниях, а за 1850—1913 гг. — в 50 губерниях Европейской России. По прибли¬
зительным оценкам, потребление купленной водки составляло в 1790-е гг. —
12,3 л317, в 1850-е гг. — 12,3 л318, в 1896—1900 гг. — 7,6 л319, в 1913 г. — 9,7 л320.
Сколько выпивалось самогона неизвестно, поэтому и цифры потребления алко¬
голя весьма приблизительны.
Стол существенно различался в обычные и праздничные, в скоромные и пост¬
ные дни, которых насчитывалось около 180 в году; тогда запрещалось есть мяс¬
ные, молочные продукты и животные жиры. Сюда, кроме двух постных дней
в неделю, среды и пятницы, входили и продолжительные посты, во время кото¬
рых христианин должен был более строго, чем в среду и пятницу, ограничивать
себя в пище. В зависимости от строгости, в том числе в отношении пищи, посты
290
Питание, здоровье и биологический статус населения
в РПЦ делятся на четыре категории: (1) строжайший пост (употребление в пищу
только хлеба, лука, кваса или воды), (2) сухоядение (не употреблялось ничего
приготовленного на огне, фактически употреблялась только сырая растительная
пища), (3) «ядение сварения» (разрешение растительной пищи в любом виде,
в том числе приготовленной на огне) и (4) ядение рыбы (запрещение мясной
и молочной пищи). Кроме Великого поста, продолжавшегося 7 недель, имелись
еще 15-дневный Успенский пост (1—15 августа по юлианскому календарю, или
по старому стилю), 40-дневный Рождественский пост (15 ноября—24 декабря)
и переходящий и неопределенный по продолжительности (от 6 до 48 дней) Пет¬
ровский пост (между маем и июлем). По строгости за Великим постом следовал
Успенский, затем Петровский и Рождественский. Ослабление поста разрешалось
больным, детям, престарелым и находящимся в особенных телесных трудах, на¬
пример армии во время походов321. Разрешение солдатам употреблять мясо во
время походов Петр I выхлопотал у патриарха Константинопольского еще
в 1716 г. Католическая церковь была снисходительнее Православной и давно от¬
казалась от первоначальной строгости религиозных постов. Во время них като¬
ликам не запрещалось употреблять рыбу, молоко, яйца и масло, и от поста по
всяким уважительным причинам освобождается большее число лиц, чем среди
православных. Среди российских протестантов соблюдение постов являлось фа¬
культативным.
По свидетельству современников, ограничения на пищу во время поста пра¬
вославные соблюдали, в особенности простые люди. Богатые могли (хотя далеко
не все этим пользовались) разнообразить растительную или рыбную пищу таким
образом, что запреты и не чувствовались. Однако состоятельных людей в России
было очень мало. А простые люди в пост обыкновенно употребляли кашу, сва¬
ренную на воде, отварные горох и грибы, кислую капусту и квас, и потому пост
вряд ли казался им приятным разнообразием. Сказать, сколько людей соблюдали
запреты на пищу в посты, невозможно: подобная статистика не велась. Петр I
попытался в 1720 г. такой учет ввести. Сохранился отчет одного священника из
Шлиссельбургского уезда от февраля 1721 г. Согласно ему, в Великий пост 1720 г.
из 1042 человек постились около 60 %, а не постились 40 %322. Правда, в числе
лиц, не соблюдавших запрета, были военные и другие люди, на которых распро¬
странялись послабления. Общие же оценки говорят о том, что посты соблюда¬
лись. Например, Н. И. Костомаров, полагаясь на свидетельства современников,
считал, что в XVII в. «обычай свято сохранять посты наблюдался как бедными
поселянами, так и царями, и боярами»323. Известный этнограф С. В. Максимов
(1831—1901) утверждал на основании собственных наблюдений и материалов,
присланных в Этнографическое бюро князя В. Н. Тенишева в 1898—1901 гг.:
«Наш народ не только соблюдает посты во всей строгости церковного устава, но
идет в этом отношении значительно далее, устанавливая сплошь и рядом свои
постные дни, неизвестные церкви»324.
В праздники, а также в дни рождения, свадьбы, похорон и на поминках стол,
по возможности, был обильным и разнообразным; некоторые блюда (мясные,
рыбные, блины и пироги, холодец и яичница) приготовлялись только в праздни¬
ки. Хлеб был домашнего приготовления и выпекался обычно 2 раза в неделю, а в
291
Глава 11. Уровень жизни
325
зажиточных хозяйствах — ежедневно . Питание с качественной и количествен¬
ной стороны сильно варьировало по сезонам года: наиболее обильным, разнооб¬
разным и свежим оно было поздним летом и осенью, ухудшалось зимой и ранней
весной, самым плохим — поздней весной и ранним летом, когда запасы съедены,
а новых продуктов еще нет. «В большие праздники и в особенности на масляной
(на Масленице. — Б. М) количество съедаемой пищи удваивается. Но есть вре¬
мена в году, когда крестьянин, даже исправный в хозяйстве, голодает; и самое
голодное для народа время бесспорно Петров пост (между маем и июлем): в это
время овощи еще не созрели, а заготовленная впрок капуста бывает на исходе,
так что обыкновенным кушаньем в этот пост бывает квас с зеленым луком
и огурцы, если они поспели»326.
Существенно влиял на качество питания урожай. После неурожая питание
было скудное как по меню, так и по количеству пищи. «В неурожайный год мно¬
гие круглый год питаются одними овсяными блинами»327, — сообщал коррес¬
пондент из Ярославская губернии. В Вологодской губернии ели головки клевера,
лебеду, крапиву, белый болотный мох, вместо хлеба пекли головки полевого
хвоща, льна, употребляли даже березовые опилки328. Поскольку в XVIII—первой
половине XIX в. наблюдались сильные колебания урожаев, столь же сильно ко¬
лебалось и потребление.
С конца XVII в. и до середины XIX в. в питании преобладал ржаной хлеб —
его суточное потребление крестьянами и работными людьми колебалось в широ¬
ких пределах — от 0,74 до 3,0 кг и, как в середине XIX в., покрывало около 70—
75 % потребности человека в энергии329. Остальные 25—30 % энергозатрат обес¬
печивались крупами, овощами, мясом, рыбой, маслом. Дневной рацион волжско¬
го бурлака во второй половине XVII в. при переводе на современные меры при¬
мерно включал: хлеба — 1616 г, мяса — 269, рыбы — 269, крупы — 269, моло¬
ка— 108, капусты — 112, толокна — 17,5, постного масла — 13,4, животного
масла — 13,4, лука — 17,5 г330. Суммарная энергетическая ценность продук¬
тов— более 5000 ккал331 — позволяла выполнять очень тяжелую физическую
работу. По Адмиралтейскому регламенту, в первой половине XVIII в. больной в
лазарете получал в день: хлеба — 615 г, крупы — 205, мяса — 307,5, масла — 29,
соли — 21,3 г, пива — 1,2 л, водки — 120 мл332. Суммарная энергетическая цен¬
ность продуктов — около 3500 ккал333. В 1775 г. примерный рацион рабочего на
олонецких заводах включал в себя: хлеба — 1450 г, крупы — 67, мяса — 204,
рыбы — 404 г334. Суммарная энергетическая ценность учтенных продуктов —
около 3900 ккал335. В последнем расчете нет овощей, масла и молочных продук¬
тов, которые обязательно потреблялись, но энергии даже от упомянутых продук¬
тов достаточно для выполнения тяжелой физической работы. Приведенные дан¬
ные являются весьма ориентировочными; они не отражают динамики потребле¬
ния в XVIII—первой половине XIX в. Как мною установлено, за XVIII в. средний
рост мужчин уменьшился на 3,2 см336, что указывает на то, что питание в течение
XVIII в. ухудшалось.
292
Питание, здоровье и биологический статус населения
Питание крестьян в пореформенный период
В пореформенное время состав пищи крестьян остался в принципе таким
же337, и в начале XX в. «щи, каша, квас, хлеб, да изредка мясо — обычные блюда
крестьянского стола; более или менее обилен и разнообразен стол в праздники
и при семейных событиях»338. Как и в дореформенное время, важным подспорь¬
ем в питании служили дичь, рыба, птица, мед, грибы, овощи и фрукты, но сколь¬
ко-нибудь точными сведениями мы об этом не располагаем. Однако несколько
важных изменений все же произошло. Региональная вариативность в питании
стала более отчетливой, благодаря географическому разделению труда, обуслов¬
ленному природной зональностью. Если основу питания русских в центральных
губерниях составлял ржаной хлеб, то на Севере — ячменный (рожь там не вы¬
зревала), а на Юге и Юго-Востоке — пшеничный; в отдельных местностях пекли
ржано-пшеничный, или «серый». Свинина предпочиталась в Белоруссии и Ук¬
раине, говядина — в Центре, оленина — на Севере, баранина — на Юге и Восто¬
ке. Рыба была подспорьем везде, а в бассейнах крупных водоемов, в прибрежных
местностях — основой питания. Овощи мало употреблялись на Севере, причем
ограничивались луком, чесноком и хреном. В средней полосе овощное меню от¬
личалось большим разнообразием с преобладанием картофеля и капусты, к нему
на Юге добавлялись бахчевые и виноград. Картофель стал важнейшей пищевой
культурой, заменив в некоторых местностях даже хлеб. Подсолнечное масло по¬
теснило льняное и конопляное и стало главным из растительных масел. Вошли
в широкое употребление чай и сахар. Питание в отдельные годы стало более ста¬
бильным, благодаря повышению урожайности и уменьшению ее колебаний
в отдельные годы. Однако самое главное изменение пореформенного времени
состояло в том, что уровень потребления понемногу повышался, а соответствен¬
но с ним и размеры тела. Приглашенные в Комиссию для исследования «нынеш¬
него положения сельского хозяйства в России» (далее — Комиссия 1873 г.)
в 1872—1873 гг. 372 эксперта ответили на 68-й вопрос анкеты о пище крестьян и
сельскохозяйственных рабочих после крестьянской реформы следующим обра¬
зом (табл. 11.51).
Улучшение питания крестьян отметили 40,1 % респондентов, незначительное
ухудшение — 9,1 и 50,8 % не заметили изменений, в частности не отметили уве¬
личения в потреблении мяса. Позитивная тенденция более проявилась в цен¬
тральных черноземных, украинских, а также белорусских и прибалтийских гу¬
берниях339. «Пища крестьян стала лучше: сало, баранина, домашняя птица в по¬
стоянном употреблении; зажиточные крестьяне начинают употреблять чай» (Во¬
ронежская губерния)340. В центральных нечерноземных губерниях чаще отмеча¬
ли стагнацию в потреблении.
Повсеместно отмечено употребление чая, сахара, покупного пива и водки. Не бу¬
дем забывать, что православный человек, когда выпивал, всегда закусывал341. По¬
этому увеличение употребления алкоголя вело к повышению калорийности пищи.
Еще больше сдвигов к лучшему, по мнению экспертов, произошло в питании
сельскохозяйственных рабочих: 88,1 % респондентов отметили улучшение
и лишь 11,9 % констатировали, что питание рабочих осталось на дореформенном
уровне, причем трое из них заявили, что пища как до, так и после реформы —
293
Результаты статистической обработки ответов на анкету Комиссии 1873 г. о питании крестьян
и сельскохозяйственных рабочих после крестьянской реформы
v§
£
о
U
о
о
о
о
о
о
о
о
о
S
<D
со
s
00
VO
о
й
а
ё
* а-
с
о
о
в
,
vn
о
я
оС
o'
о"
cd
tJ-
(Л
xt
о
OV
00
оо
Tf
00
00
О
U
о
н
К
372
о
CN
оо
95
со
<и
о
в
х S
cd Я
On
оо
о
Tf
со
н
V.
* о.
о
с
о
ч
о
S
5г
Нет
34
-
о
о
Да
149
OV
104
84
<>•
X
<>•
X
<>•
§
§
со
X
У
о
*8
а.
cd
о
05
S
05
а>
го
а>
-0
X
О
X
&
X
X
X
2
о
<L>
а.
х
а>
X
ю
а>
А
5
О
а>
а>
о
о.
с
о
CQ
cd
Э
X
X
X
X
Г
X
X
X
cd
В
X
X
X
е;
е-
о
X
X
X
-0
cd
-0
о
о
-0
о
cd
»в
о
о
X
5
5
X
3
У
X
э
У
X
£
5
£
X X
2 S
СО
в X
>»
>>
>>
>» у
cd
со
и
*=i ю
оо
оо
оо
оо cd
vo
VO
VO
vo а.
>Х
О
о
X
о
X
*
о
4
о
х
5
о
<D
S
<D
О.
>х
S
X
ч
§
со
и
<D
К
О
о.
С
00
о
о
S rsj
§ I
» <~м
<4
|u
Д |
^ Ю
О
X
О В
X о
2 *
S ж
эг е-
S |
О 3
К S
о
а.
Питание, здоровье и биологический статус населения
достаточна и питательна. 84 эксперта сообщили, что рабочие стали больше есть
мяса, и лишь 14 указали, что ни до, ни после реформы хозяева мясо не выдавали.
Таким образом, 88,1 % респондентов констатировали улучшение питания
у сельскохозяйственных рабочих, 40,1 % — у крестьян, при этом лишь 9,1 % ин¬
форматоров отметили ухудшение диеты у крестьян, и ни один не сказал этого
о рабочих. Приведенные данные позволяют заключить, что во второй половине
1860-х—начале 1870-х гг. потребление в деревне стало изменяться к лучшему.
На современный взгляд, крестьянская пища XVIII—XIX вв. кажется бедной
животными белками и фруктами, однообразной и недостаточной — такой же она
была и в западноевропейских странах в доиндустриальную эпоху. Однако А. Н. Эн¬
гельгардт (1832—1893) утверждает, что подход крестьян к питанию и пище отли¬
чался поразительным прагматизмом, тонким и точным расчетом и удовлетворял их
потребности. «Хорошо едят (крестьяне. — Б. М.) только тогда, когда это стоит, т. е.
только для того, чтобы хорошо работать. Люди точно знают, на какой пище сколь¬
ко сработаешь, какая пища к какой работе подходит. Если при пище, состоящей из
щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим,
один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно,
куб без осьмушки, на картофеле — еще меньше, например, три четверти куба и т.
д. Все это грабору (землекопу. — ЯМ), резчику дров, пильщику, совершенно точ¬
но известно, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно рас¬
честь, какой ему харч выгоднее, — и рассчитывает. Это точно паровая машина.
Свою машину он знает еще лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько
и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект. Точно так же
и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, на¬
пример, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик,
к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень
быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой;
наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче»342.
Сравнивая потребление крестьян и состоятельных и образованных людей, Эн¬
гельгардт обнаружил две модели потребления и отношения к питанию. Потреб¬
ление крестьян — бедное по ассортименту и дешевое, оно сугубо рациональное,
так как предназначено исключительно для получения энергии: в зависимости от
того, какая предстояла работа — легкая или тяжелая, крестьяне ели мало или
много, ту или другую пищу. Питание привилегированных слоев — избыточное,
богатое по ассортименту, дорогое, а процесс потребления — развлечение: они
ели, чтобы приятно провести время, развлечься, занять досуг. Их пища не подхо¬
дила для людей, занятых тяжелым физическим трудом, ни с энергетической, ни
с финансовой точки зрения — она давала недостаточно энергии и была недос¬
тупно дорогой. Крестьяне рассматривали питание как показатель социального
статуса и культурной принадлежности и давали ему моральную оценку. Расточи¬
тельное, т. е. потребление большее, чем требовалось для удовлетворения физио¬
логических потребностей, считалось аморальным, так как его источником явля¬
лась эксплуатация работников343.
Если мы сравним выводы А. Н. Энгельгардта с наблюдениями корреспонден¬
тов РГО о питании, то поймем, что повсеместно в России крестьяне следовали
295
Глава 11. Уровень жизни
именно тем правилам, которые он четко сформулировал. Именно крестьянская
диета, выработанная многими поколениями, позволяла выжить в самых тяжелых
условиях. Зимой, когда продуктов было мало, крестьянин мог неделями лежать
на печи, но не по лености, а потому что дремлющий или лежащий человек мень¬
ше расходовал энергии и ему мало хотелось есть. Напротив, в страду, когда тре¬
бовалось много сил, крестьяне питались хорошо, как в праздник, потому что
приходилось работать до изнеможения и «к концу уборки худели, старели, а не¬
которые скорее походили на тени»344. Без нужды, т. е. если не было потребности
в энергии для работы, они никогда не переедали, потому что знали: «если харч
в жир пошел, то ни одной бабе проходу не дали бы»345. Крестьянин регулировал
питание сообразно потребностям в энергии, а затраты энергии — соответственно
фактическому питанию. При низкой производительности и потребительском от¬
ношении к труду — это была самая оптимальная стратегия поведения.
Пятнадцать экспертов из семи губерний, приглашенных в Комиссию 1873 г.,
сообщили сведения о количестве продуктов, отпускаемых хозяевами рабочим
(в скобках число респондентов), в том числе из: Псковской (1), Смоленской (1),
Симбирской (1), Витебской (3), Гродненской (1), Минской (4), Могилевской (4).
Все данные относятся к нечерноземным губерниям (за исключением Симбир¬
ской). При этом вариация рациона с количественной стороны незначительна:
в день в среднем потреблялось около 3 фунтов (1,227 кг) печеного хлеба или эк¬
вивалентное количество муки, 3/4 фунта (0,307 кг) круп, 1/10 фунта постного
масла (в постные дни) или 1/10 фунта сала (в скоромные дни), 40 г соли и по по¬
требности кислой капусты, бураков и картофеля. Из 85 респондентов, которые
упомянули о потреблении рабочими мяса, 74,1 % указали, что полфунта (205 г)
мяса выдается в скоромные дни, 9,4 % — в воскресные и праздничные и 16,5 %
сообщили, что мясо не выдается346. Потребление указанного количества хлеба,
круп и масла (или сала) дает 4776 усвоенных ккал, что было достаточным для
совершения очень тяжелой физической работы в течение дня. Семь респондентов
отметили, что в домашних условиях крестьяне питаются хуже, чем тогда, когда
нанимаются на работу, главным образом потому, что дома не имеют в скоромные
дни мяса. П. Бобровский в описании Гродненской губернии в дореформенное
время дает примерно те же нормы потребления крестьян, что и эксперты из бело¬
русских губерний в 1872 г.: «Взрослый мужчина съедает в день 3 фунта хлеба и 2
кварты (кварта 1,136 л. — Б. М.) пресной и 3 кварты кислой похлебки; женщи¬
на — 2 фунта хлеба и похлебки несколько меньше; на пятилетнего ребенка пола¬
гается 1,5 фунта хлеба»347. Даже без мяса калорийность такого питания будет
адекватной потребности в энергии348.
Массовые данные о питании крестьянства появляются с конца XIX в., глав¬
ным образом за 1905—1913 гг. Они собраны в 13 губерниях Европейской России
экспедиционным или анкетным методами в ходе бюджетных обследований 7381
хозяйства и позволяют оценить состав и калорийность питания (табл. 11.52). Из
них следует, что в 1896—1915 гг. крестьяне в целом получали в день 2952 ккал на
душу населения, в переводе на взрослого мужчину (при поправочном коэффициен¬
те 1,4) — 4133 ккал, что являлось достаточным для совершения тяжелой физиче-
скои работы в течение дня круглый год .
296
Состав и калорийность питания крестьянства в 13 губерниях
Европейской России в 1896—1915 гг. (на д. и.)
<N
•Л
«а
£
ккал
усвоено
2003
298
59
376
64
45
24
46
г-
30
2952
всего
2298
337
67
398
67
48
26
54
00
34
3337
Состав продуктов, г
Углеводы
оо
•П
74,3
о,
12,5
o'
r-
cf
i
■
n
o'
CN
OO
00
ЧО
in
Жиры
13,7
0,5
СП
o'
оо
Г1
rf
oo
rf
00
rf
00
in
in
o"
-
ON
CH
in
Белки
оо
сп
г-
7,0
ON,
»П
К
Г1
Г;
ON
<N
-
1
0,5
1
124,6
Потребление
в день, г
698
ON
Ш
СП
*ON
СП
418
in
*
NO
CN
<4
СП
oo
in
V
rf
8,5
1712,2
в год, кг
г^,
•п
n
*<Ч
СП
*
On
о"
•П
in
rf
m
*
in
oo
*in
ON
m
СП
rf
*
oo
ON,
o"
CH
Г;
Г1
NO
Продукты
Хлебные
Картофель
1
1
О
0Q
О
Молочные
Мясо
Рыба
Масло коровье
Масло растительное
Яйца
Сахар
Итого
о
£
ш
О
>>
Ч
О
О.
С
X
S
а
>5
<D
О
<D
О.
О
S
Ом
о
X
<D
Ом
X
2
о
X
Ом
5
С
<50
3
St
fc г-
5 ^
эг
gro
С г-
П
X
X
вг
е
о
«
о
х
Э
о
QQ
Н
О
0>
о
2
с
с
&
<L>
X
О
0>
ж
X
S
о
X
§
Г)
JD
о
о
е?
«
5
ч
О
§
X
о
со
<D
Ю
й
S
0>
е;
<l>
о
cd
X
<L> •
§ "
О ^
§ =
£ *
с- VO
X
X w
2 §
- х
9 <*>
Ц «=;
0 ю
1 *
« К
£ g
о с
Ом
зрения
Структура потребления взрослого мужчины-крестьянина по экономическим группам в 1896—1915 гг.
»п
а*
а
v§
Дневное фактическое потребление по группам
В среднем**
\0
в4
16,7
VO
•п
<ч
100,0
U
124,6
41,9
гп
m
568,4
On
$
Высшая
\0
о4
18,2
9,3
Ti¬
cs
69,4
О
сГ
о
U
161,5
90,4
109,6
ЧО
in
3
886,7
Средняя
\0
о4
16,7
оо
оо
o'
72,4
100,0
U
оо
•П
57,9
75,0
501,3
692,1
Низшая
о4
15,5
in
чо"
8,8
in
100,0
U
К
32,3
43,6
375,6
m
£
Tf
Физиологическая
норма
ч©
о4
6,8
оо
69
О
О
U
108
54
142
546
796
S
<D
8
•Й Л
1
§
ж а
ȣ L.
D
EJ
§
г: 0
о D
<U <L
I
s 3
Й
Н С
f
У X
м.
О
= I
j
S
1 ё
3
00
и
t
~
5
2 S
ё*
Е
из
со *
*
>>
^t
<N
<N
2
и
ja
5
<D
8-
2
О
ы.
о
о
>>
О.
<D
S
н
S
аг
о
§
с
о
о
Си
d ж
as
II
о »
и ш
Sg
г
х
э
си
о
CQ
S
■е-
Ж
Питание, здоровье и биологический статус населения
Калорийность пищи низшей группы была на 23 % меньше, а высшей — на
37 % больше сравнительно с калорийностью средней350. Взрослый мужчина из
бедных крестьян располагал суточной нормой в 3182 ккал, из богатых — 5662, из
середняков — 4500 ккал. Для совершения тяжелой крестьянской работы требует¬
ся в день около 4000 ккал и может показаться, что потребление низшей экономи¬
ческой группы крестьян не обеспечивало их для этого достаточной энергией.
Однако на самом деле дефицита в потреблении нет и у низшей страты крестьян¬
ства, если учесть, что крестьянин не работал все 365 дней в году в полную силу:
только на праздничные и воскресные дни уходило 95 дней в середине XIX в.
и 123 дня в начале XX в., да из-за непогоды пропадало около 135 дней в году.
В начале XX в. при большой нагрузке в страдные дни (для таких 107 дней в году
примем суточную потребность в 4500 ккал), при умеренной нагрузке в непогоду
(для таких 135 дней примем суточную потребность в 3000 ккал) и при легкой
нагрузке в праздничные и воскресные дни (для таких 123 дней примем суточную
потребность в 2300 ккал) в течение всего года нужно 3204 ккал в день. По наше¬
му расчету, низшая социальная группа потребляла 3182 ккал, т. е. немногим
меньше требуемого. И по расчету Клепикова бедное крестьянство не испытывало
депривации. Таким образом, в количественном отношении питание крестьянства
в начале XX в. можно считать достаточным. Однако с точки зрения современных
диетологов в его рационе не хватало жиров и животных белков при избытке уг-
Рис. 11.22. Обед в дороге, Уфимская губерния. 1913
299
Глава 11. Уровень жизни
леводов351. Сбалансированность потребления наблюдалась у средних и богатых
крестьян, но и им по физиологической норме недоставало жиров. Разумеется,
в питании крестьян имелись региональные различия по калорийности и структу¬
ре, но они находились в рамках установленных закономерностей352.
Вес и индекс массы тела
Наши наблюдения над питанием населения можно проверить по данным о ве¬
се и в еще большей степени — по индексу массы тела (отношение веса, выра¬
женного в килограммах, к квадрату роста, выраженного в метрах). У взрослых
людей при величине менее 18 индекс свидетельствует о недостаточном питании,
в диапазоне от 18 до 24 — о нормальном питании и более 24 — об избыточном
питании353 (табл. 11.54).
Таблица 11.54
Вес, рост и индекс массы тела (ИМТ) у мужчин 1811—1920 годов рождения
(в возрасте старше 17 лет)
Годы
рождения
Число
наблюдений
Средний
вес, кг
Средний
рост, см
ИМТ
Стандартное
отклонение ИМТ
1811—1820
87
59,1
164,8
21,8
2,964
1821—1830
431
59,5
165,0
21,8
2,223
1831—1840
968
60,3
165,0
22,2
2,322
1841—1850
2017
60,1
165,2
22,0
1,919
1851—1860
3479
59,1
164,9
21,7
1,692
1861—1870
3091
57,4
163,7
21,4
1,847
1871—1880
719
57,9
164,4
21,4
2,043
1881—1890
24
62,3
167,3
22,3
2,478
1891—1900
3258
64,4
168,1
22,8
1,838
1901—1910
895
62,2
167,3
22,2
2,555
1911—1920
29 894
66,5
168,9
23,3
3,444
Источники см.: Миронов Б. Н. Благосостояние населения ... Прил. 1.
Данные о весе за 1811—1880 гг. относятся к промышленным рабочим, кото¬
рые по своему социальному происхождению в большинстве являлись крестьяна¬
ми, а за 1§81—1920 гг. — к новобранцам. Как следует из данных табл. 11.54, вес
понижался у когорт 1841—1870 и 1901—1910 годов рождения; в эти же годы
уменьшался и индекс массы тела; у всех других когорт вес и индекс массы тела
увеличивались. В целом с 1811—1820 по 1911—1920 гг. прибавка в весе проис¬
ходила более интенсивно, чем в росте, — соответственно 7,4 кг и 4,1 см, благо¬
даря этому индекс массы тела повысился на два с половиной пункта — с 21,8 до
23,3. При этом даже в годы понижения веса индекс массы тела не опускался ни¬
же 21,4. Как показывают расчеты, прибавка роста на 1 см увеличивала вес при¬
мерно на 0,7 кг. Примечательно, что во всех ростовых группах индекс массы тела
300
Питание, здоровье и биологический статус населения
находился в зоне нормы, что свидетельствует о том, что питание было нормаль¬
ным во всех возрастах.
У детей, подростков и юношей масса тела тоже была близкой к норме, учиты¬
вая, что норма индекса массы тела для детей несколько меньше, чем для взрос-
лых, — 17—20354 (табл. 11.55).
Таблица 11.55
Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ) мужского населения
в разных возрастных группах в России XIX—начала XX в.
Возраст,
лет
Рост, см
Масса, кг
Число наблюдений
Стандартная ошибка
среднего веса
ИМТ
6—10
128,0
28,9
37
0,54
17,7
11—15
141,3
35,5
1669
0,08
17,8
16—20
162,7
55,4
5283
0,06
20,9
21 +
164,7
59,5
7517
0,04
21,9
18—35
164,7
58,5
9264
0,04
21,6
Источники см.: Миронов Б. Я. Благосостояние населения ... Прил. 1.
Питание привилегированных слоев населения
Питание людей из привилегированных сословий различалось по составу, ка¬
честву и количеству. Однако было бы неверным думать, что оно всегда и у всех
было достаточным, а тем более избыточным. Российские дворяне и чиновники
в массе своей не отличались богатством. В 1858 г. в Европейской России насчи¬
тывалось 888,8 тыс. дворян обоего пола всех возрастов, из них 612 тыс. были по¬
томственными. Личные (276,8 тыс.) и потомственные дворяне без земли и крепо¬
стных или с числом крепостных менее 20 ревизских душ (337,5 тыс.) принадле¬
жали к низшей страте и составляли 69,1 % всего сословия. Ради поддержания
престижа и видимости благополучия расходы на одежду и культурные потребно¬
сти низшая страта дворян старалась по возможности поддерживать на должном
уровне, зато часто вынуждена была питаться очень скромно. Среди чиновников и
дворян встречались, конечно, как заметил А. П. Чехов, и толстые, но тонких на¬
считывалось в несколько раз больше, потому что генералов и богатых помещи¬
ков было относительно немного.
Из-за бедности почти половина чиновников не могла жениться355 и, как хоро¬
шо показали русские писатели, находчиво уклонялась от матримониальных
предложений. Многие поздно вступали в брак и благодаря этому были малодет¬
ными. Акакий Акакиевич Башмачкин из «Шинели» Н. В. Гоголя, даже не будучи
женатым, несколько лет копил деньги на покупку форменной шинели. Женатые
же чиновники и даже мелкопоместные дворяне часто нуждались и не могли себе
позволить ежедневно есть то, что им хотелось356.
Это было справедливо для 190 тыс. мелкопоместного российского дворянства
и 103 тыс. мелких чиновников, которые принадлежали к XIV—IX классам или
являлись канцеляристами357. По причине многодетности и бедности дворяне при
301
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.23. П. А. Федотов (1815—1852). Завтрак аристократа. 1850.
Государственная Третьяковская галерея
302
Питание, здоровье и биологический статус населения
Рис. 11.24. П. А. Федотов (1815—1852). Крестины. 1847.
Государственный Русский музей
любой возможности пытались устроить своих мальчиков на казенный счет в ка¬
детские корпуса, а девочек — в пансионы. «Товарищи мои были люди малосо¬
стоятельные; за малым исключением — беднота, получавшая из дому своих от-
цов-офицеров незначительные суммы, — свидетельствовал воспитанник Петров¬
ского Полтавского кадетского корпуса, а затем Первого Павловского юнкерского
училища — сын офицера, впоследствии крупный чиновник В. С. Кривенко
(1854—1931). — Вместе с синенькими и красненькими “бумажками” юнкер по¬
лучал и письма, большей частью наставительного характера, на тему о необхо¬
димости экономии, так как “жалованье” у отца небольшое и другие дети подрас¬
тают. <...> Общее экономическое состояние родителей юнкеров было почти
одинаковое, не особенно завидное. <...> Богатство, просто даже комфорт были
так от нас далеки, что мы об этом даже не мечтали. Столичная роскошь казалась
нам созданною для другой породы совсем чуждых нам людей, а не для бывших
кадет и юнкеров, которым суждено весь век жить на скромное жалованье. Пом¬
ню твердо — богатству мы не завидовали, у нас были другие, не материальные,
но радостные приманки в жизни»358.
303
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.25. Л. М. Жемчужников (1828—1912). За штатом (Старый чиновник).
1862. Государственный Русский музей
304
Питание, здоровье и биологический статус населения
Однако и в учебных заведениях на казенном иждивении жизнь не была сладкой,
а питание — достаточным. С. Т. Аксаков, учившийся в 1800-е гг. в Казанской
гимназии, которая в то время была закрытым привилегированным учебным заве¬
дением, вспоминает, что «завтрак состоял в скоромные дни из стакана молока
пополам с водою и булки, а в постные дни — из стакана сбитня с булкой; в та¬
ком же роде обед из трех блюд и ужин из двух. В спальнях держали двенадцать
градусов тепла (по Реомюру, т. е. 15 градусов по Цельсию. — Б. М), что, ка¬
жется, и теперь соблюдается во всех казенных учебных заведениях и что, по-
моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее четырнадцати
градусов»359.
В. С. Кривенко, проведший в кадетском корпусе 7 лет, 1865—1872 гг., вспо¬
минает, что кадеты постоянно страдали от голода и его обострявшего холода:
«Кормили нас вообще очень плохо. На всю дневную пищу отпускалось на чело¬
века 12!/2 копеек. Надо было удивляться, как нас еще с голоду не уморили. <...>
Утренний завтрак: булка, жидкая кашица, иногда сбитень; в мае месяце — моло¬
ко». В 12 часов — кусок черного хлеба. На обед три блюда — суп, кусочек мяса с
гарниром, слоеная лепешка, маленький кусочек масла. «Праздничный обед был
один и тот же: борщ со сметаной, бифштекс и слоеные пироги с двумя вишневы¬
ми ягодками. В особенно торжественные дни подле каждого прибора клали
’’фунтики” с чем-то похожим на конфеты (дешевые сухие сладости. — Б. М)».
Чем кормили на ужин, Кривенко не сообщает. Состав и качество питания были
удовлетворительными, но пищи было мало для удовлетворения «волчьего аппе¬
тита» подростков. От голода не страдали только несколько кадетов из богатых
семей, которые получали деньги от родителей. Страдавшие «худосочием» кадеты
весной «по назначению доктора ходили в лазарет пить настой из трав»360.
В аналогичном положении находились девочки, учившиеся в институтах благо¬
родных девиц. Е. Н. Водовозова (1844—1923) оставила подробное описание пи¬
тания в самом привилегированном в России Смольном институте в 1855—1861 гг.
«Воспитанниц удручал голод, от которого они вечно страдали. Трудно предста¬
вить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький,
тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный
зеленым сыром. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почто¬
вый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной
каши или макарон. В обед — суп без говядины, на второе — небольшой кусок
поджаренной из супа говядины, на третье — пирожок со скоромным вареньем из
брусники, черники или клюквы. Порции были до невероятности миниатюрны.
Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки.
И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже
плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого
не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода»361.
Как сказано выше, на всю дневную пищу кадетов в 1865—1872 гг. отпуска¬
лось на человека 12,5 коп. Примерно столько же проедали в день институтки.
В это же время обычный второй завтрак детей членов императорской фамилии
в Петербурге стоил 1,2 руб., обед — 3 руб. и ужин — 2 руб.362, всего минимум
(потому что был первый завтрак и полдник между обедом и ужином) — 6,2 руб.,
305
Глава 11. Уровень жизни
306
Рис. 11.26. Воспитанницы Мариинской женской гимназии за завтраком.
Царское Село. Начало 1900-х
Питание, здоровье и биологический статус населения
или в 50 раз больше, чем обходилось казне питание воспитанников закрытых
учебных заведений. В семье Николая II первый завтрак утром состоял из кофе,
чая или шоколада — по выбору, масла, ветчины, яиц и бекона, разных сортов
хлеба (обыкновенного, сдобного, сладкого) и калачей, выпекавшихся на воде из
Москвы-реки, которая доставлялась в особых цистернах. Второй завтрак в пол¬
день включал холодные (икра, балыки, селедка и маленькие сандвичи) и горячие
(сосиски в томатном соусе, горячая ветчина, каша и др.) закуски, два блюда
в двух видах (яйца или рыба, мясо белое или черное с овощами) по выбору;
в конце завтрака подавались компоты, фрукты и сыр. В 5 часов пополудни был
чай. В 8 часов вечера — обед. Он начинался с супа с пирожками или небольшими
гренками с сыром. Затем шли рыба, жаркое (дичь или куры), овощи, сладкое,
фрукты и кофе363.
Как ни парадоксально, но болели воспитанницы, как и кадеты, сравнительно
редко, а смертность была низкой, возможно потому, что лазарет, медицинский
уход и санитария находились на хорошем уровне364. И выглядели хорошо.
С 1870-х гг. на питание воспитанников в учебных заведениях стали отпускать
больше денег365, и оно стало улучшаться, но все равно оставалось далеким от
идеала. Недостаточное питание в закрытых учебных заведениях позволяет пред¬
положить, что в большинстве семей, относившихся к привилегированным слоям,
оно тоже не было избыточным, иначе родители воспитанников, осведомленные
о качестве их питания, присылали бы им деньги и не отдавали бы учиться туда
других своих детей. Но сколько-нибудь значительные деньги получали немногие,
значит, скорее всего, родители не в состоянии были им помочь, так как сами ис¬
пытывали материальные затруднения. При этом отцы при возможности при¬
страивали в заведения на казенный счет и других детей.
Православное белое духовенство, вероятно, питалось в массе удовлетвори¬
тельно. Дородность священников считалась их сословным признаком. Но объяс¬
нялось это не высокими доходами, а тем, что паства часто расплачивалась за тре¬
бы продуктами, да и подарки делала ими же366. Причту поневоле приходилось
обильно питаться367. Питание духовенства также зависело от состояния крестьян:
когда крестьяне беднели, оплата и подарки уменьшались; в неурожай сельский
причт также бедствовал. Среди белого духовенства существовала строгая иерар¬
хия во всем, включая доходы. Последние, по обычаю, делились между священ¬
ником, дьяконом и всеми причетниками в пропорции 4:2: 1. Значительная часть
не слишком больших доходов доставалась священнику, а остальные члены при¬
чта довольствовались меньшим, поэтому среди них дородные мужчины встреча¬
лись редко. Белого духовенства в 1858 г. насчитывалось только 114,5 тыс., из них
священников — 37,8 тыс. (33 %), а численность всего черного и белого духовен¬
ства с членами их семей — около 567 тыс.368
Дореформенное гильдейское купечество по своему образу жизни напоминало
духовенство, но отличалось состоятельностью: бедный человек мог быть свя¬
щенником, дворянином и даже аристократом, но не мог быть купцом — для это¬
го требовался значительный капитал. Поэтому-то купцов было чрезвычайно ма¬
ло— в 1858 г. 409,6 тыс. обоего пола (0,7 % всего населения страны) — в 2,2
раза меньше, чем дворян (см. в т. 1 наст, изд., с. 388). Как правило, они страдали
307
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.27. Урок танцев в Смольном институте. 1913
308
Питание, здоровье и биологический статус населения
не от голода, а от избыточного питания. Но купцы не были сословием в истинном
смысле этого слова: их статус не наследовался, они признавались купцами только
до тех пор, пока уплачивали соответствующие немалые налоги с объявленного ка¬
питала. Преемственность же капиталов была невысокой: большинство купеческих
фамилий возвышалось и падало в течение жизни одного, самое большее двух по¬
колений вследствие частых банкротств и расточительства разбогатевших, стре¬
мившихся вести образ жизни богатых дворян (см. в т. 1 наст, изд., с. 395—396).
Численность всех привилегированных групп — дворянства, духовенства
и купечества накануне эмансипации, в 1858 г., была невелика — 1,9 млн человек,
или 3,2 % всего населения Европейской России (59,2 млн). Но и среди них, судя
по их доходам, избыточным питанием могли отличаться едва ли больше чем
850 тыс., или 1,4% всего населения страны. Встречались и богатые крестьяне,
особенно среди помещичьих, которым их владельцы не давали свободы. Но их
насчитывались на всю страну несколько тысяч. Следовательно, преобладающая
часть людей (55 %), относившихся формально к привилегированным слоям, но
живших на ограниченные средства, на самом деле существовала скромно. Имен¬
но поэтому представители привилегированных сословий своим ростом не отли¬
чались столь сильно от простолюдинов, как на Западе.
Во второй половине XIX—начале XX в. сословные перегородки постепенно
разрушались, состоятельные люди консолидировались в среднем классе, вклю¬
чавшем так называемых цензовых граждан, которые в 1864 г. получили избира¬
тельные права для выборов в земства, в 1870 г. — в городские думы, в 1906 г. —
в Государственную думу. Их доля в 1906 г. составляла около 6 %. Питание и все
жизненные условия существования среднего класса могли и в действительности
изменялись не иначе, как и у всего населения страны в целом, потому что доходы
среднего класса зависели от динамики народного хозяйства, которая прежде все¬
го зависела от состояния сельского хозяйства, а значит, крестьянства. Поэтому
биологический статус всех социальных групп в пореформенное время изменялся
столь же согласованно, как и в XVIII—первой половине XIX в.
Суммируем все имеющиеся в нашем распоряжении данные о питании в
XIX—начале XX в. В первой половине XIX в. потребление крестьянства находи¬
лось на удовлетворительном уровне, соответствовало его физиологическим по¬
требностям и даже имело тенденцию улучшаться. В 1850—1865 гг. в связи
с Крымской войной и реформами питание несколько ухудшилось. В 1866—1872 гг.
ситуация стала изменяться к лучшему. Настоящий перелом произошел в 1880-е гг.,
когда потребление превзошло самые высокие отметки первой половины XIX в.,
и в дальнейшем, вплоть до 1915 г., улучшалось. Однако во время неурожаев
большинство земледельцев испытывали настоящую депривацию.
Что касается горожан, то на протяжении всего изучаемого периода их питание
было не только удовлетворительным, но и имело тенденцию улучшаться. С точ¬
ки зрения качества оно превосходило питание крестьянства, но уступало ему по
калорийности. В потреблении горожан было больше продуктов животного про¬
исхождения; горожане также больше потребляли алкоголя. Меньшая калорий¬
ность питания горожан была обусловлена меньшей потребностью в энергии
в силу иного характера городского труда и образа жизни.
309
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.28. Приют им. великой княжны Марии Николаевны.
Воспитанники приюта за уборкой, С.-Петербург. 1902
310
Питание, здоровье и биологический статус населения
Рис. 11.29. Приют им. великой княжны Марии Николаевны.
Воспитанники приюта на занятиях, С.-Петербург. 1902
Городское и сельское население внутри себя было дифференцировано по до¬
ходам и потреблению. Питание зажиточных слоев на протяжении второй поло¬
вины XIX—начала XX в. было избыточным. Питание средних слоев города
и деревни отвечало стандартам своего времени и было достаточным для нор¬
мальной жизнедеятельности, хотя временами имелся дефицит рыбной, мясной
и молочной пищи. Низшие слои города и деревни, как правило, удовлетворяли
свои потребности по физиологической норме — калорийность питания находи¬
лась на границе нормы и дефицита, при сильном перекосе в сторону раститель¬
ной пищи. Среди горожан доля низших слоев была значительной — около 88 %,
но они питались удовлетворительно как с количественной, так и с качественной
стороны, причем независимо от урожая. Среди крестьян бедная прослойка дости¬
гала в середине XIX в. 24 %, в 1912 г. — 31 %, если к бедным отнести всех без¬
лошадных и безземельных крестьян (см. в т. 1 наст, изд., с. 400—^02). Они не
только испытывали дефицит мясомолочных продуктов, но находились в зоне
риска: в годы неурожая они недоедали, а во время очень сильных неурожаев го¬
лодовки провоцировали массовые заболевания, иногда с летальными исходами,
как случилось в неурожай 1891—1892 гг.369
Представляет интерес сравнение питания гражданского населения и солдат.
В 1802—1871 гг. пища последних состояла главным образом из щей и каши
в обед и каши на завтрак и ужин. Строевому солдату полагалось в год 356 кг му¬
ки (как правило, ржаной), 39 кг крупы, а также деньги на соль, масло, овощи
и др. В году было до 119 постных дней. С 1826 г. в рацион включено мясо, с 1842 г. —
37 фунтов (15,15 кг), с 1849 г. — 80 фунтов (32,76 кг) в год370. В 1871 г. мясное
довольствие увеличилось до 147,4 кг. Вместо мяса солдатам обычно выдавали
311
Глава 11. Уровень жизни
371
так называемые «приварочные деньги» . Потребление «среднего» горожанина
и, вероятно, крестьянина в первой половине XIX в. было, по всей видимости, ка¬
чественнее солдатского, а в энергетическом отношении их рационы примерно
равноценны, все они давали в день около 4000 ккал. Однако с 1870-х гг., после
увеличения мясного довольствия армии, солдатское питание и по количеству,
и по составу продуктов стало превосходить питание широких слоев горожан
и крестьян372. После 1874 г. в дневной рацион новобранца входило в фунтах
(409,5 г): хлеба печеного — 2, картофеля — 1, в обед на суп мяса — 0,75; далее
в золотниках (4,266 г): овсяной крупы — 4, подправочной муки — 4, лука — 2,
соли — 5, на кашу крупы пшенной — 32, сала говяжьего — 6, соли — 2, чая —
1/2, сахара — 6; перца и лаврового листа— по вкусу373.
Таким образом, в течение XVIII—начала XX в. народная диетическая модель,
сложившаяся в более раннее время, в которой преобладающие зерновые продук¬
ты были сбалансированы с небольшим количеством овощей, картофеля, мяса и
фруктов, не претерпела изменений как в деревне, так и в городе. Осталась преж¬
ней и модель потребления у привилегированных слоев, в которой преобладали
мясные, рыбные и молочные продукты. Сохранилась и циклическая природа пи¬
тания крестьянства: его качество изменялось по сезонам — пропорционально
старым и новым запасам продовольствия и по годам — в соответствии с колеба¬
ниями урожаев, экономической и политической конъюнктуры. Однако тенденция
Рис. 11.30. В ресторане, С.-Петербург. 1900-е
312
Питание, здоровье и биологический статус населения
в питании была позитивной: цикличность уменьшалась, качество повышалось.
Улучшение питания обеспечивалось ростом валового внутреннего продукта на
душу населения, в том числе за счет сельскохозяйственного производства, и по¬
вышением доходов крестьян. Важную роль в улучшении питания сыграло развитие
транспорта: железные дороги связали отдельные регионы друг с другом и позволя¬
ли в случае неурожая в одних довольно быстро перемещать продовольствие из
других, с хорошим урожаем, поскольку никогда неурожаи не охватывали всю им¬
перию разом. Благодаря развитию коммуникаций и коммерциализации экономики
пища стала везде доступной, повсеместно вошли в широкое употребление новые
продукты: одни (самые популярные из них — чай и сахар, менее важные — кофе,
изюм, чернослив, миндаль, сыр, колбаса, вина, пиво, специи) только разнообразили
диету, другие (картофель, пшеничный хлеб, подсолнечное масло) существенно
улучшили ее; повсеместно в употребление вошли новые блюда. При наличии
средств хорошо питаться можно было в любом населенном пункте страны.
Питание детей в начале XX в.
В начале XX в. Министерство народного просвещения обязало все началь¬
ные и средние учебные заведения ежегодно представлять ему результаты про¬
водившихся медицинских осмотров учащихся. В программу последних входила
оценка состояния их питания (как хорошего, среднего или плохого) на основе
физических признаков (рост,вес, соотношение роста и веса, пропорциональ¬
ность телосложения) и индивидуальных опросов. С 1905 г. эти сведения стали
включаться в ежегодный всеподданнейший отчет министра народного просве¬
щения. Чиновники группировали присланные данные по начальным и средним
учебным заведениям, а внутри группы — по отдельным видам учебных заведений
(гимназии, реальные училища, ремесленные школы и т. п.). За 1905—1913 гг. было
обследовано 8,2 млн детей, или 26,3 % всех учащихся, в том числе в начальной
школе, расположенной преимущественно в деревне, — соответственно 6,1 млн,
или 21,8 %, и в средней, расположенной в городе, — 2 млн, или 69,4 %. Обоб¬
щение этих данных дает следующие результаты (табл. 11.56, 11.57).
По оценкам врачей, среди учащихся начальных учебных заведений питались
удовлетворительно около половины (47,6 %), хорошо — 28,4 % и плохо —
26,0%; в средних учебных заведениях — соответственно 48,2; 38,6 и 13,2%.
Учащиеся начальной школы питались хуже. Это различие объясняется социаль¬
ным составом учеников и местом их проживания (табл. 11.58).
Учащиеся начальной школы происходили на 56,3 % из крестьян и казаков,
на 34 % — из мещан и ремесленников и лишь на 8 % — из привилегированных
сословий, а средней школы — соответственно 25,5; 32,1 и 39 %. Большая часть
начальных учебных заведений располагалась в деревне, средние заведения —
все в городе. В последних училось не только больше представителей привиле¬
гированных, но и состоятельных слоев населения, что и нашло отражение в их
биостатусе.
Из приведенных данных видно, что в течение последних девяти предвоенных лет
потребление улучшалось, так как доля хорошо и удовлетворительно питавшихся
имела тенденцию увеличиваться, а плохо питавшихся — уменьшаться (табл. 11.59).
313
Качество питания учащихся начальной школы в России в 1905—1913 гг.
чо
•о
а*
а
I
Качество питания, %
Плохое
29,0
оо
Os'
<N
СЯ
(N
»/н"
(N
28,0
26,6
so"
<4
27,1
Viz
*сэ
ЧО
(N
Среднее
<ч
ЧО
■'Т
ОО
ЧО
ОО
rf
К
46,1
t-"
t-"
<N
so"
Tf
oo
*
SO
Хорошее
оо
Tf
(N
25,4
чо
оо"
(N
(N
t-"
(N
<N
•Г)
(N
25,9
so"
(N
27,1
чо"
<N
Качество питания, человек
Плохое
129 652
175 501
122 675
145 667
198 795
WH
■'T
WH
oo
oo
oo
oo
231 633
214 052
1 595 065
Среднее
206 798
264 274
260 300
271 779
327 492
336 286
336 286
395 519
526 101
2 924 835
Хорошее
111 200
СП
о
о
о
WH
153 162
155 967
184 166
183 121
183 123
228 489
274 870
1 624 101
Осмотрено,
человек
447 650
589 778
536 137
573 413
710 453
707 952
707 954
855 641
1 015 023
6 144 001
Всего
учащихся
2 305 369
2 015 082
2 574 234
3 415 946
3 793 638
2 467 875
2 467 875
4 366 197
4 761 569
28 167 785
Год
1905
1906
1907
1908
1909
1910
O'
1912
1913
Итого
а
s
СО
•о
§•
а
Й
и
U
СП
I
о
о\
tt
S
S
о
о
о
а.
вв
3
§
X
9
a
х
5
а
V
К
О
*
S
Я
ST
;►>
к
S
X
я
н
S
Б
О
tt
н
V
ST
Качество питания, %
Плохое
(N
Os"
WH
<ч"
13,6
ЧО
сч"
Среднее
■'Т
CN
47,1
46,4
к
'■'t
Хорошее
чо"
СП
сп"
СП
39,9
39,9
os"
СП
Качество питания, человек
Плохое
23 538
18 095
19 926
26 383
26 799
Среднее
54 435
65 019
72 577
89 764
101 267
Хорошее
44 714
41 750
61 464
77 260
84 279
Осмотрено,
человек
122 687
124 864
153 967
193 407
212 345
Всего
учащихся
199 084
236 240
277 176
308 503
321 483
Годы
1905
1906
1907
00
о
Os
1909
11.57
Качество питания, %
Плохое
оо
ri
12,8
ri
rf
СП
Среднее
47,6
40
К
49,5
49,2
ОО
ТГ
Хорошее
чо
Os'
СП
39,6
38,0
38,2
*ю
оо"
СП
Качество питания, человек
Плохое
31 274
31 274
42 712
50 847
270 848
Среднее
116 629
116 629
168 947
199 928
985 195
Хорошее
97 170
97 170
129 497
155 268
788 572
Осмотрено,
человек
245 073
245 073
341 156
406 043
2 044 615
Всего
учащихся
345 492
345 492
425 622
488 336
2 947 428
Годы
1910
1911
1912
1913
Итого
40
»о
I
н
Q.
С
СО
8
*
S
*
X
т
о
&
S
00
•о
£
а
V§
е2
S
<и
5
О.
CQ
Я
со
н
0
1
ю
о
S
к
о
в 2
os On
^ со
* 5
s я
a w
а о
со о
g *
£ 4>
о> е-
gs
X 9
я я
О. 4>
Б Б
- Ч
К ^
О О.
X о
1«
?1
^ 4
« 4
Б а
S 5Р
«* os
Э Я
о tt
4>
о
Б
н
Б
8
О
а
И
Начальные учебные заведения
Ремесленные
училища
©
СП
-
о"
о"
СП
62,9
<4
о"
100,0
Городские и уездные
училища
0‘$
rf
сэ
СП
СП
40^
о"
11
о"
о
Средние учебные заведения
Реальные
училища
40
CN
<4
9,5
00
CN
40
04"
(N
32,2
оо
о
о"
о
Женские
гимназии
21,6
On"
ОО
35,3
25,5
о"
2,7
100,0
Мужские
гимназии
32,3
04
04"
40^
«/4
40"
(N
о
CN
<4
2,3
о
о"
о
Социальное происхождение
Дворяне и чиновники
Почетные граждане и купцы
Духовенство
Мещане и цеховые
Крестьяне и казаки
Иностранцы
Другие
Итого
Подсчитано по: Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 год. СПб., 1916. Таблицы. С. 52—53, 80—81, 128—
129, 160—161, 178—179, 220—221.
Состояние питания учащихся в России в 1905—1913 гг.
CQ
О
ч
с:
cd
Ю
сd
у
187
1
201
1
203
252
1
274
1
279
1
201
1
217
1
224
и
Плохое
>а
а
а
29,0
-29,0
26,5
40
7
25,4
7
>а
а
а
§
со
§
VO
а
§
а
19,2
CN
04
7
13,4
-13,4
12,6
-12,6
заведений
26,9
-26,9
СП
CN
-23,7
21,6
40
7
Среднее
а
8
ч
•Q
VO
а
к
л
а
а
46,2
<4
04
46,7
93,4
48,3
Ю
ЧО
04
44,4
88,8
48,3
404
04
оо"
©л
t-"
04
н
3
VO
S
§
1
а
оо^
Tf
£
04
4D
93,8
•л
оо
t-"
04
Хорошее
§
У
§
5
а
5*
1
00
CN
124,0
оо
VO
CN
134,0
40
<4
132,0
&
5
а
3*
о
£
40
СП
182,0
38,2
191,0
38,9
04
н
А
а
а
§
а
§
5
а
3*
1
27,3
40
СП
29,3
ЧО"
29,8
149.0
S
м
S
Np
о4
А
Np
о4
>4
NP
О4
NP
О4
А
NP
О4
А
NP
О4
3
NP
О4
NP
О4
-а
NP
О4
А
п
ш
)
ю
Ю
Ю
Ю
Ю
ю
Ю
ю
Ю
Годы
04
О
04
7
СП
Т
04
О
04
7
СП
г;
7
04
О
04
7
СП
з;
7
1905
si
2
о
5
1905
46
2
о
04
1905
46
2
о
£
Подсчитано по данным табл. 11.56, 11.57.
Питание, здоровье и биологический статус населения
Чтобы уровень питания выразить одним показателем, проведем его балльную
оценку: среднему питанию присвоим 2 балла, хорошему — на 3 балла больше,
или 5 баллов, плохому — на 3 балла меньше среднего, или минус 1 балл. Качест¬
во питания оценит сумма произведений доли группы по питанию на число бал¬
лов, ей соответствующее. Максимальное число баллов — 500, если все дети пи¬
тались хорошо (100% х 5), минимальное 100, если все питались плохо
(100 % х -1); 200 баллов соответствуют среднему уровню питания, если все питают¬
ся удовлетворительно (100% х 2). Например, балльная оценка питания учащихся
начальной школы в 1905 г. равняется 187 ([24,8 х5 + 46,2 х2 + 29,0 х -1] = 187). Она
означает, что качество питания учащихся начальной школы в 1905 г. было немного
ниже среднего уровня. Питание учащихся средней школы в 1910—1913 гг. соответ¬
ствовало 279 баллам, т. е. оно находилось на уровне выше среднего.
Предложенная методика оценки качества питания позволяет более четко вы¬
разить произошедшие в 1905—1913 гг. изменения в питании. У всех категорий
учащихся питание улучшалось на 23 балла (224 - 201), в том числе в начальной
школе на 16 баллов (203 - 187), в средней школе на 27 баллов (279 - 252). После
1905 г. в целом питание находилось на уровне среднего у учащихся начальной
школы, т. е. у представителей низшего класса: крестьян, казаков, мещан и ремес¬
ленников, и на уровне выше среднего — у представителей среднего и высшего
класса: дворян, почетных граждан, купцов и духовенства.
Рис. 11.31. Учащиеся гимназии им. Петра Великого, С.-Петербург. 1900
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.32. Столовая студентов С.-Петербургского университета. 1906
Имеющиеся данные позволяют выявить гендерные особенности питания,
правда, только у части учащихся: раздельные сведения о питании девочек
и мальчиков приведены только по некоторым городским начальным учебным
заведениям, где учились дети более привилегированных родителей с более высо¬
ким биостатусом. Оказалось, что у девочек питание было несколько хуже, чем
у мальчиков, но все равно находилось на уровне выше среднего (табл. 11.60).
Таким образом, согласно оценкам врачей, питание учащихся и, можно пред¬
положить, всех детей в начале XX в. в целом было удовлетворительным. Однако
примерно четверть детей, по-видимому, не имела полноценного питания; среди
девочек эта доля была выше, среди мальчиков — ниже. Низшая группа городско¬
го и сельского населения испытывала дефицит белков, в особенности животного
происхождения, и жиров. По-видимому, эти особенности питания сказались на
318
Питание, здоровье и биологический статус населения
биостатусе детей. Но, вероятно, более серьезное значение имел тот факт, что
в крестьянской и мещанской среде приоритетом в доступе к продовольствию
пользовались взрослые мужчины-работники, вследствие чего при недостатке
продуктов страдали в первую очередь женщины и дети. Это и нашло отражение в
наших данных о потреблении, особенно относящихся к начальным школам, где
свыше 90 % учащихся происходили из крестьян, казаков, мещан и ремесленни¬
ков. Поскольку приготовление пищи находилось в руках женщин, можно сказать,
что в отношении питания женщины самодискриминировались, отдавая приори¬
тет детям и мужу. Упомянем, что в начале XX в. недоедание было общемировым
явлением, не изжитым до конца и в современных развитых странах. Например,
по официальным сведениям Министерства сельского хозяйства США, в 2004 г.
13,5 млн, или 1,9 % всех домашних хозяйств, не имели достаточно средств для
адекватного питания. В них проживало 38,2 млн американцев: 24,3 млн взрос¬
лых— 11,3 % всего взрослого населения страны и 13,9 млн детей — 19% всех
американских детей. В первой половине XX в. ситуация была намного хуже: еще
в 1960-е гг. в США среди части американцев существовал хронический голод,
побудивший, например, президента Линдона Джонсона начать «войну с бедно¬
стью». В начале XXI в. это явление считается изжитым. Современный американ¬
ский голодающий отличается от голодающего из стран третьего мира тем, что
периоды, когда ему приходится обходиться без достаточной пищи, короче и слу¬
чаются реже374.
Рис. 11.33. Училище для глухонемых детей под покровительством вдовствующей импе¬
ратрицы Марии Федоровны, С.-Петербург. 1890-е
319
Питание учащихся в России в 1905—1913 гг. в зависимости от пола
<^>
чо
а*
а
й
Мужской пол, средняя школа
Сумма
баллов
1
оо
оо
CN
Женский пол, средняя школа
1
Ю
CN
Плохое
V©
40
7
СП
СП
7
Среднее
47,6
CN
04
49,0
98,0
Хорошее
00
о
204,0
36,7
СП
оо
Мужской пол, начальная школа
Сумма
баллов
'
ОО
CN
Женский пол, начальная школа
1
СП
CN
Плохое
04
04^
«гГ
7
СП
o'
CN
-20,3
Среднее
04
оо
сн
оо
47,9
ОО^
•Г?
04
Хорошее
CN
)
210,5
31,8
04
Ед. изм.
ч©
0х
баллы
чО
о4
баллы
Годы
1905—
1913
1905—
1913
чо
*Г)
Ч
Ю
S
S
о.
со
3
5
*
о
Й
s
Воинский брак здоровье и рост населения
Воинский брак, здоровье и рост населения
В качестве показателя изменения состояния здоровья мужского населения
обычно принимается доля забракованных рекрутов при приеме в армию. Данный
индикатор может быть полезным при одном непременном условии, если требо¬
вания к физической годности новобранцев и порядок их набора оставались неиз¬
менными. На протяжении времени, за которое мы имеем суммарные данные
о медицинском освидетельствовании всех российских новобранцев— призывы
1839—1913 гт., эти требования и порядок набора радикально изменились в 1874 г.,
когда вместо рекрутской системы была введена всесословная воинская повин¬
ность, понизились возрастной и ростовой цензы375. Поэтому изучаемый отрезок
времени, 1840—1913 гг., целесообразно разделить на два периода: 1839—1873
и 1874—1916 гг. Результаты медицинского обследования новобранцев сведены
в табл. 11.61.
Таблица 11.61
Результаты врачебного осмотра лиц, подлежавших призыву в армию,
в 1839—1916 гг. (в среднем в год)
Годы
рождения
Годы
призыва
Обследовано,
тыс.
Принято,
тыс.
Забраковано, в том числе
всего, тыс.
всего,%
отсрочка, %
1817—1820
1839—1843
484,2
245,1
239,1
49,4
17,4
1821—1825
1844—1848
622,1
356,2
265,9
42,7
13,6
1826—1830
1849—1853
819,3
480,7
338,6
41,3
12,9
1831—1835
1854—1858
940,2
601,7
338,5
36,0
7,9
1841—1845
1864—1868
572,0
386,6
185,4
32,4
3,7
1846—1850
1869—1873
993,7
628,3
365,4
36,8
3,1
1851—1855
1874—1876
268,3
172,9
95,4
35,6
12,0
1856—1860
1877—1881
336,7
215,4
121,3
36,0
16,1
1861—1865
1882—1886
378,9
220,1
158,8
41,9
21,5
1866—1870
1887—1891
401,3
251,6
149,7
37,3
21,8
1871—1875
1892—1896
413,8
268,6
145,2
35,1
22,0
1876—1880
1897—1901
461,6
286,0
175,6
38,0
22,0
1881—1885
1902—1906
550,1
389,0
161,1
29,3
15,9
1886—1890
1907—1911
593,9
432,3
161,6
27,2
14,5
1891—1895
1912—1916
716,3
481,7
234,6
32,8
17,8
Подсчитано по: Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи
в России за [1902—1912] год. СПб. ; Пг., 1906—1914 ; Отчет Медицинского департамента Ми¬
нистерства внутренних дел за [1876—1895] год. СПб., [1878—1898]; Всеподданнейшие отче¬
ты о действиях Военного министерства за [1858—1912] год. СПб.; Пг., [1861—1916] ; Военно¬
статистический сборник. Вып. 4. Отд. 2. С. 32—39 ; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 27—
33 ; Столетие Военного министерства, 1802—1902. Т. 4, ч. 2. Кн. 1. Отд. 2 : Главный штаб.
Комплектование войск в царствование императора Николая 1 / сост. В. В. Щепетильников.
СПб., 1907. С. 200—208 ; Т. 4, ч. 3. Кн. 1. Отд. 2 : Комплектование войск с 1855 по 1902 год.
СПб., 1914. С. 136, 175, 300. В 1856—1862 и в 1864 гг. наборов не было; РГИА. Ф. 1290
(Центральный статистический комитет). Оп. 5. Д. 803, 804, 846 (1910—1913 гг.); Ф. 1292
(Управление по делам о воинской повинности). Оп. 7. Д. 245, 246, 594—601 (1913—1916 гг.).
О результатах призыва к воинской повинности по губерниям.
321
Глава 11. Уровень жизни
При интерпретации данных табл. 11.61 следует принять во внимание, что со
стояние здоровья забракованных новобранцев в момент призыва являлось ре¬
зультатом их физического развития на протяжении всех лет предшествующе?
жизни, но особенно в младенчестве, поэтому при оценке изменений в здоровы
следует в первую очередь брать во внимание годы рождения, а не измерения376. Нс
чтобы легче было отследить изменения в медицинских требованиях к новобранцам
указаны также годы призыва. При рекрутской системе в 1840—1873 гг. средни?
возраст новобранцев равнялся 23,2 года, в том числе 22 % были старше 24 лет377
С 1874 г., после введения всеобщей воинской повинности, в армию призывалиа
преимущественно ровесники — мужчины, которым к 1 октября призывного год<
исполнялся 21 год, а также небольшое число ранее получивших отсрочку; средни?
возраст составлял 21,3 года.
Процент забракованных у рожденных в 1817—1845 и 1866—1890 гг. пони
жался, а у рожденных в 1846—1865 гг. повышался. Обратим особое внимание ш
получивших отсрочку по «невозмужанию» и недостатку роста, ибо именно эт<
категория новобранцев пострадала в детстве от недостаточного питания. Дол*
получивших отсрочку у рожденных в течение 1817—1850 гг. понизилась с 17,^
до 3,1 %, а у рожденных в 1851—1855 гг. вдруг резко возросла — с 3,1 до 12 °/<
по сравнению с предыдущим пятилетием, что и послужило причиной увеличена
общего процента забракованных у призванных в 1874—1876 гг. Главная причиш
этого скачка в проценте получивших отсрочку состояла в том, что средний воз
раст призывников с 1874 г. уменьшился на 2 года ввиду понижения возрастногс
ценза, в то время как физическое развитие лиц мужского пола в XIX в. продол
жалось до 24—25 лет. Вероятно, именно вследствие понижения возраста при
зывников и появилось большое число «невозмужавших» мужчин, которые полу
чили на этом основании отсрочку. Следовательно, увеличение доли забракованные
среди рожденных в 1851—1855 гг. и призванных в 1874—1876 гг. было обуслов
лено, скорее всего, не ухудшением здоровья, а понижением возрастного ценза.
Доля получивших отсрочку продолжала увеличиваться до 1861—1865 гг.
а затем, в 1866—1875 гг. практически не изменялась. В 1880-е гг. ситуация ради
кально изменилась: доля получивших отсрочку существенно — на 4—5 пункто)
понизилась, что засвидетельствовало начавшееся повышение уровня жизни. Эт;
благоприятная тенденция приостановилась в 1891—1895 гг. в связи с неурожаен
и голодом в 1891—1892 гг., а затем возобновилась. Сравнение доли забракован
ных новобранцев (в особенности получивших отсрочку) и их среднего роста об
наруживает синхронность: в 1817—1855 и 1866—1890 гг., когда доля воинскоп
брака уменьшалась, средний рост увеличивался, а в 1856—1865 и 1891—1895 гг.
когда доля брака увеличивалась, рост понижался.
В течение XVIII в. качество медицинского освидетельствования новобранце]
находилось на одном, довольно низком уровне, что объяснялось недостаток
квалифицированных врачей и слабым развитием самой медицинской науки
С начала XIX в. положение стало изменяться благодаря повышению квалифика
ции врачей, которые привлекались в призывные комиссии, возрастанию их рол!
при приеме новобранцев и увеличению требований к последним. В 1806 г. вошл<
в употребление толково составленное медицинское наставление, крайне необхо
322
Воинский брак здоровье и рост населения
170
димое при тогдашнем уровне развития медицинской науки .В 1831 г. оно было
усовершенствовано. Кроме гражданских чиновников и врача, в рекрутское при¬
сутствие был введен военный приемщик (офицер), заинтересованный в получе¬
нии рекрутов с хорошими физическими данными379. Особенно большие переме¬
ны в приеме новобранцев произошли в конце 1860—начале 1870-х гг., когда на¬
чалась подготовка к переходу на всесословную воинскую повинность и соверши¬
лась сама реформа. До 1874 г. мнение врачей о годности новобранцев не было
обязательным, однако с ним, как правило, считались. С введением всесословной
воинской повинности заключение врачей приемные комиссии стали по необхо¬
димости принимать во внимание. Дело в том, что был составлен перечень болез¬
ней, которые освобождали от службы, но диагностику внутренних болезней по
наружному виду чиновники провести не могли — требовался эксперт. Поэтому
постепенно мнение врачей стало решающим и требования к здоровью повыша¬
лись. С 1876 г. врачам было дозволено заявлять свое мнение относительно год¬
ности освидетельствованных лиц, с 1883 г. обследования стали проводиться осо-
бенно тщательно . Например, в 1883 г. в Правила освидетельствования здоро¬
вья призывников был включен дополнительный пункт о размере груди: «Для
признания свидетельствуемого способным к военной службе необходимо, чтобы
окружность грудной клетки превышала половину роста не менее четверти верш¬
ка»381. Новобранцев, предназначенных для службы во флоте, дополнительно
взвешивали и делали другие измерения. Все это могло привести к повышению
требований к физической годности, увеличению численности забракованных
и улучшению состава новобранцев. Именно повышением медицинских требова¬
ний и качества освидетельствования можно объяснить существенное увеличение
доли воинского брака в 1869—1886 годы призыва.
Итак, с точки зрения воинского брака в 1801—1855 и 1866—1910 гг. происхо¬
дило улучшение здоровья населения, увеличение его среднего роста, веса, силы
в результате повышения уровня жизни, а в 1856—1865 гг. — ухудшение здоро¬
вья, уменьшение роста, веса, силы вследствие понижения благосостояния. Сле¬
довательно, биостатус, здоровье, питание и благосостояние населения в XIX—
начале XX в. претерпевали синхронные изменения. Вряд ли это случайно: пони¬
жение благосостояния приводило к недостаточному питанию, которое, по мне¬
нию специалистов, является важнейшим фактором, отрицательно влияющим на
здоровье, рост и вес человека. Под действием недоедания в организме развива¬
ются патолого-физиологические процессы, у детей замедляется рост, а у взрос¬
лых он может даже уменьшиться38 .
Проведенный анализ позволяет объяснить жалобы на якобы «физическое вы¬
рождение народа», раздававшиеся в конце XIX—начале XX в.383 Например, из¬
вестный исследователь Д. Н. Жбанков писал в 1904 г.: «Здоровье и физическое
развитие призываемых непрерывно и в очень значительной степени ухудшается
[ю всей России. <...> Очевидно, хронические неурожаи и голодовки и постоянно
ухудшающееся благосостояние сельского населения сильно отражаются на здо¬
ровье народа»384. Дело в том, что жалобы на здоровье крестьян основывались на
данных о забракованным новобранцах, призванных в 1874—1880-х гг., и связы¬
вались с состоянием здоровья на момент призыва, в то время как в действитель-
323
Глава 11. Уровень жизни
ности эти данные отражали состояние здоровья прежде всего в годы младенчест¬
ва и детства, т. е. за 20—25 лет до момента призыва, — именно в тот перестроеч¬
ный период, 1856—1865 гг., когда уровень жизни крестьянства временно пони¬
зился. Кроме того, увеличение процента воинского брака в 1874—1886 гг. при¬
зыва объяснялось военной реформой, которая привела к повышению медицин¬
ских требований к новобранцам и понижению возраста призыва, так как полная
физическая зрелость в то время наступала к 25—27 годам, а в армию стала при¬
зываться почти исключительно 20—21 -летняя молодежь. Наконец, жалобы на
вырождение народа являлись скрытой формой критики политического режима со
стороны интеллигенции, которая вела войну с царизмом за власть, часто игнори¬
руя позитивные сдвиги в экономической и общественной жизни общества.
В 1897 г. известный меценат князь В. Н. Тенишев составил анкету о быте рус¬
ских крестьян, включавшую 491 вопрос, создал Этнографическое бюро, куда
в 1897—1900 гг. поступили 1873 ответа на его анкету из 23 губерний385. В анкете
был раздел «Физические природные свойства крестьян». В ответах на два вопро¬
са этого раздела корреспонденты сообщили массу сведений о росте, весе, силе,
ловкости, выносливости, развитии органов чувств и т. п. Опубликованные к на¬
стоящему моменту материалы Этнографического бюро по пяти губерниям свиде¬
тельствуют о хорошем физическом развитии крестьян-земледельцев на рубеже
XIX—XX вв. Как правило, они характеризуются как здоровые, сильные, крепкие,
сухощавые, коренастые, выносливые, ростом 165—167 см, с хорошим слухом
и зрением. «Зрение и слух развиты хорошо; первое сохраняется до преклонных
лет, так что употребление очков в деревне большая редкость. Слух развит: кре¬
стьяне перекликаются на расстоянии двух верст; дети быстро перенимают мелодии
324
Рис. 11.34. М.-Ф. Дамам-Демартре (1763—1827). Русские бани. 1813.
Государственный Русский музей
Смертность
с голоса. Выносливы. Крестьянин на спине переносит тяжести до пяти, иногда до
шести пудов; женщины поднимают три-четыре пуда», «холод и жару переносят
терпеливо, к физическому труду привычны и исполняют легко; телосложение
правильное и крепкое», «дряхлеют и делаются не способными к труду приблизи¬
тельно в 65—70 лет»386.
Напротив того, в промысловых местностях с развитым отходом на заработки
встречаются указания на ухудшение здоровья крестьян387. «Зрение плохое, в 45—
50 лет читают и пишут в очках, жару и холод переносят с трудом, к физическому
труду не склонны, хотя на вид крепкий и мужественный народ, большая часть
крестьян имеет наемных работников-батраков. Тяжести поднимают сравнитель¬
но легко»388. Крестьяне, занимающиеся рогожным промыслом, «ростом низки
и на вид болезненны и тщедушны» под влиянием дурных условий их труда.
«Крестьяне, не работающие на рогожных фабриках, ростом выше, сложением
крупнее, и выглядят свежее и здоровее. То же различие наблюдается и среди де¬
тей»389. Об отрицательном влиянии фабрики на здоровье крестьян много писали
санитарные врачи390. Но отхожими промыслами в 1891—1900 гг. занималось
около 8,6 % крестьян обоего пола39 . Следовательно, более 90 % крестьян-
земледельцев, по мнению современников, отличалось хорошим здоровьем.
Смертность
Известно, что существует обратная связь между здоровьем и благосостояни¬
ем, с одной стороны, и смертностью — с другой, и прямая связь между здоровь¬
ем и благосостоянием, с одной стороны, и естественным приростом населения —
с другой. Эта закономерность особенно заметна в популяциях, в которых рож¬
даемость была неконтролируемой и предельно высокой, как это было в России
XVIII—XIX вв. К сожалению, имеющиеся данные о рождаемости и смертности
не являются достаточно точными для тонкого статистического анализа.
Только в 1860-е гг. качество метрических сведений достигло, по-видимому,
минимальной для научного анализа точности, хотя даже во второй половине XIX в.
смертность регистрировалась не полностью, причем не только младенцев, но де¬
тей и взрослых. Вследствие этого только со второй половины 1860-х гг. можно
ожидать некоторой синхронности в изменениях демографических и антропомет¬
рических показателей (табл. 11.62).
Действительно, в 1866—1913 гг. общая тенденция в динамике смертности
и естественного прироста была позитивной — смертность понижалась, естест¬
венный прирост увеличивался. Это дало резонное основание некоторым исследо¬
вателям предположить, что в пореформенный период происходило повышение
уровня жизни, несмотря на быстрый рост населения, что угроза мальтузианского
кризиса вследствие значительного аграрного перенаселения не была актуальной
для России того времени392. Повышение среднего роста также свидетельствует
о повышении жизненного уровня. Однако если обратиться к его колебаниям
в отдельные пятилетия, то согласованность наблюдается не всегда. Средний рост
мужчин понижался дважды — у когорты 1891—1895 годов рождения, в связи
с неурожаем 1891—1892 гг., и у когорты 1901—1905 годов рождения, в связи
325
Глава 11. Уровень жизни
с Русско-японской войной и революцией. Повышение смертности зафиксировано
только в 1891—1895 гг., а в 1901—1905 гг. отмечены снижение и смертности,
и рождаемости, и естественного прироста населения. Но это не должно нас удив¬
лять: снижение смертности имеет свои закономерности, не всегда связанные
с уровнем жизни.
Таблица 11.62
Демографические процессы в России в 1866—1913 гг. и средний дефинитивный рост
мужского населения, рожденного в эти годы
Годы
Рождаемость, %о
Смертность, %о
Естественный
прирост, %о
Рост мужского
населения, см
1866—1870
49,7
37,4
12,3
164,5
1871—1875
51,2
37,1
14,1
166,2
1876—1880
49,5
35,7
13,8
166,7
1881—1885
50,5
36,4
14,1
167,1
1886—1890
50,2
34,5
15,7
167,4
1891—1895
48,9
36,2
12,7
166,4
1896—1900
49,5
32,1
17,4
166,9
1901—1905
47,7
31,0
16,7
166,8
1906—1910
45,8
29,5
16,3
168,0
1911—1913
43,9
27,1
16,8
169,1
Источники: Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811—1913 гг.): стат. очерки.
М., 1956. С. 154 (сведения о демографических процессах); Миронов Б. //. Благосостояние на¬
селения ... С. 516, 572 (рост новобранцев в возрасте 18 лет и старше).
Часто говорят, что высокая смертность объяснялась недостаточным питанием.
С. Хок провел анализ смертности за 1830—1912 гг. в одном приходе Тамбовской
губернии и пришел к интересным выводам: 1) пики смертности не были обу¬
словлены недостатком продовольствия и высокими хлебными ценами; 2) экстре¬
мальные подъемы общей смертности были связаны с эпидемиями желудочно-
кишечных и инфекционных болезней, вызывавшими огромную младенческую
и детскую смертность; 3) эпидемии порождались не недостатком пищи, а ранним
отнятием детей от груди, так как эта практика лишала детей иммунной защиты
от инфекционных болезней, которую давало материнское молоко, с одной сторо¬
ны, и провЬцировала кишечные заболевания вследствие замены материнского
молока на загрязненную воду и взрослую пищу — с другой393.
На уровень смертности влияет прогресс медицины, улучшение медицинского
обслуживания и рост грамотности населения. Все эти процессы интенсивно про¬
исходили в пореформенное время и, несомненно, оказали свое влияние на дина¬
мику смертности и естественного прироста независимо от состояния экономики
и благосостояния населения394. Коэффициент обращаемости населения к профес¬
сиональной медицинской помощи (число зарегистрированных медицинским пер¬
соналом больных на 1000 человек) по неполным сведениям в России за 15 лет
326
Смертность
с 1897 по 1912 г. увеличился с 304 до 57 1 395 — в 1,9 раза, в том числе в земских
губерниях — с 437 до 721, в неземских — с 202 до 433. Эти данные говорят, во-
первых, о росте внимания населения, прежде всего крестьянства, к своему здоро¬
вью и, значит, к условиям жизни и, во-вторых, о значении земской медицины
в формировании самосохранительного поведения людей396.
О прогрессе, который был достигнут земствами в медицинском обслужи¬
вании населения в пореформенное время, можно судить по Самарской губер¬
нии. К концу XIX в. медицинская помощь населению сложилась как структу¬
ра: стационарные и амбулаторные лечебные учреждения — больницы и при¬
емные покои, бактериологические станции, санитарно-эпидемиологические
организации, аптеки. Городское население получало в основном стационар¬
ную, а сельское — амбулаторную медицинскую помощь. Посещаемость ле¬
чебных учреждений достигала 1 млн в год — 51,7 % от общего числа жителей
губернии. Об успехах медицины свидетельствует тот факт, что смертность
подкидышей, призреваемых земством, только за 1885—1896 гг. снизилась
с 70 до 36 %397.
Рис. 11.35. Н. В. Орлов (1863—1924). Умирающая. 1893.
Ивановский областной художественный музей
327
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.37. На даче. 1910-е
328
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
XVIII век отмечен понижением уровня жизни и снижением потребления
у преобладающего большинства россиян. Пострадали прежде всего крестьяне
(89 % из 41 млн населения в 1795 г.) и низшие страты горожан — мещане, ремес¬
ленники, а также все горожане, жившие на заработки или жалованье, например
чиновники и офицеры, не имевшие поместий. Положение малочисленного слоя
предпринимателей, так называемого гильдейского купечества (менее 0,1 % в насе¬
лении), улучшилось благодаря бурному развитию внутренней и внешней торговли.
Материальный уровень духовенства (1,2 % населения в 1795 г.) также повысился.
В наибольшем выигрыше оказалось поместное дворянство (около 70 тыс., вместе
с членами семей около 420—450 тыс. человек, или 1 % жителей, в 1795 г.). Его
главное богатство состояло в крепостных, численность которых на одного поме¬
щика с 1717 по 1795 г. возросла с 46 до 78, и в сельскохозяйственных продуктах,
цены на которые за столетие выросли примерно в 5,7 раза. Причем выиграли все
группы помещиков, поскольку численность крепостных на одного мелкого поме¬
щика не изменилась, а на одного среднего и крупного помещика возросла; от роста
хлебных цен выиграли все. Следовательно, материальное положение привилегиро¬
ванных слоев, составлявших около 3,5 % жителей страны, за исключением чинов¬
ников и офицеров, живших только на жалованье, улучшилось, а остальных 96,5 %
ухудшилось. Стоит подчеркнуть, что понижение уровня жизни являлось лишь
тенденцией; оно чередовалось с периодами его повышения.
Негативная в целом динамика благосостояния народа в XVIII в. происходила
при следующих обстоятельствах: 1) сильное повышение цен, включая хлебные;
2) возрастание спроса на хлеб на внутреннем и внешнем рынках; 3) снижение
урожайности во второй половине XVIII в. примерно на треть под воздействием
главным образом похолодания климата; 4) рост посевных площадей, особенно
в последней трети XVIII в. ради получения зерна и других сельскохозяйственных
продуктов на экспорт и для компенсации падения урожайности; 5) резкое увели¬
чение общей суммы налогов и повинностей на душу податного населения; 6) по¬
стоянные войны, требовавшие мобилизации большого числа мужчин. Ценой
снижения личного потребления, предназначенного для удовлетворения базисных
потребностей большинства населения, Россия получила средства для расширения
и укрепления своих границ и превращения в великую европейскую державу в во¬
енно-политическом отношении. За величие пришлось заплатить высокую цену —
снижением уровня жизни народа. Однако, выйдя на берега Балтийского и Черного
морей, приобретя значительные территории и укрепив за собой все колонизован¬
ные прежде, Россия, несомненно, увеличила свое национальное богатство за счет
природного капитала, который принес дивиденды, правда, будущим поколениям.
Без статуса великой державы, без мощной армии и флота Россия не смогла бы ни
приобрести, ни удержать за собой свои огромные природные ресурсы.
Период с конца XVIII в. и до начала Первой мировой войны отмечен положи¬
тельной в целом динамикой уровня жизни большинства населения, включая кре¬
стьян и низшие слои горожан. Позитивная тенденция действовала как до, так
и после Великих реформ и временами (в годы крупных неурожаев и войн) нару¬
шалась398. Позитивный тренд объяснялся рядом факторов: 1) возрастанием душе¬
329
Глава 11. Уровень жизни
вого производства основных продуктов питания как до, так и особенно после
Великих реформ; 2) повышением доходности крестьянского хозяйства от промы¬
слов и земледелия, особенно в пореформенное время; 3) уменьшением реальной
тяжести налогов и повинностей, особенно существенным после Великих реформ
(в России норма обложения была весьма умеренной — ниже, чем в большинстве
развитых стран); 4) увеличением хлебных цен в условиях стабильности денежно¬
го обращения начиная с 1815 г.; 5) огромным положительным экономическим
эффектом от переселения населения на Юг благодаря более мягкому климату
и высокому плодородию почвы, экономии на одежде, жилище и питании, пре¬
кращению набегов крымских татар, захватывавших в плен тысячи российских
подданных; 6) экономической политикой правительства, способствовавшей не
только интенсивному экономическому развитию России, но и повышению благо¬
состояния народа; 7) повышением грамотности и общей культуры населения.
Представление, что вся жизнь простых людей была горькой и печальной и сво¬
дилась к тяжкому труду, что в ней не было места радости, веселью и празднику, не
соответствует действительности. Так думала в большинстве городская интелли¬
генция, в массе своей чуждая народу и не понимавшая народной жизни, так по
инерции думает большинство современных россиян, не говоря уже об иностранцах.
Наверное, свое крайнее выражение эта репрезентация нашла в повести А. П. Чехова
«Мужики» (1897), встреченной «прогрессивной общественностью» с восторгом399.
Между тем народ умел радоваться и веселиться, и праздников, когда работа за¬
прещалась, у него было много (рис. 11.38—11.41; см. также рис. 12.14 и 12.15
в гл. 12 «Русская культура в коллективных представлениях» наст. изд.).
330
Рис. 11.38. И.-Я. Меттенлейтер (1750—1825). Сцена в кабаке. 1791.
Государственный Русский музей
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
Рис. 11.39. П. Вдовичев (годы жизни неизвестны). Крестьянская вечеринка.
1820—1830-е. Государственный Русский музей
Рис. 11.40. Г. Д. Алексеев (1881—1951). Игра в горелки. 1904.
Место нахождения неизвестно
331
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.41. Н. А. Кошелев (1840—1918). Офеня-коробейник. 1865.
Государственная Третьяковская галерея
Сделанные выводы основываются на данных о сельскохозяйственном произ¬
водстве, доходах и платежах, заработной плате, питании, смертности и поддержи¬
ваются сведениями о росте (длине тела) населения (табл. 11.63 и рис. 11.42)40 .
Таблица 11.63
Рост новобранцев 1701—1915 годов рождения в возрасте старше 17 лет
и дефинитивный рост мужчин референтной группы в Европейской России (см)
Годы
рождения
Рост
новобранцев
Рост референт¬
ной группы*
Годы
рождения
Рост
новобранцев
Рост референт¬
ной группы*
1701—1705
165,3
164,8
1811—1815
164,6
163,5
1706—1710
164,5
163,9
1816—1820
165,6
165,0
1711—1715
163,6
163,9
1821—1825
165,0
163,9
1716—1720
163,3
163,3
1826—1830
164,7
164,0
1721—1725
162,7
163,1
1831—1835
164,5
164,2
1726—1730
164,6
161,4
1836—1840
164,6
164,7
1731—1735
164,3
162,2
1841—1815
165,1
164,8
332
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
Окончание табл. 11.63
Годы
рождения
Рост
новобранцев
Рост референт¬
ной группы*
Годы
рождения
Рост
новобранцев
Рост референт¬
ной группы
1736—1740
164,2
163,4
1846—1850
165,4
164,9
1741—1745
164,8
163,7
1851—1855
165,8
165,0
1746—1750
164,3
164,0
1856—1860
164,6
163,9
1751—1755
163,0
162,3
1861—1865
164,4
163,7
1756—60
162,9
162,3
1866—1870
165,1
164,5
1761—1765
163,6
162,7
1871—1875
166,5
166,2
1766—1770
163,6
163,4
1876—1880
167,0
166,7
1771—1775
163,5
163,0
1881—1885
167,4
167,1
1776—1780
162,4
162,6
1886—1890
167,6
167,4
1781—1785
161,2
161,6
1891—1895
165,3
166,4
1786—1790
160,2
161,4
1896—1900
165,7
166,9
1791—1795
159,7
161,3
1901—1905
166,8
166,8
1796—1800
160,8
162,2
1906—1910
168,0
168,0
1801—1805
164,0
162,4
1911—1915
169,0
169,0
1806—1810
163,9
162,9
Источник: Миронов Б. Н. Благосостояние населения ... С. 516.
* Референтной группой являются неграмотные крестьяне мужского пола в возрасте старше
23 лет, проживавшие в деревне.
Рис. 11.42. Рост новобранцев 1701—1915 годов рождения в возрасте старше 17 лет
и дефинитивный рост мужчин референтной группы в Европейской России.
Составлено по данным табл. 11.63
333
Глава 11. Уровень жизни
Рост людей является интегральным показателем, учитывающим все факторы
среды: потребление, жилище, экологию и т. п., которые, как твердо установлено
в биологии человека, оказывают решающее воздействие на изменчивость средне¬
го роста во времени и пространстве для больших социальных групп и популяций.
Основополагающая идея этой концепции состоит в следующем. Единственным
источником увеличения массы тела является питание. Трансформация энергии, по¬
лученной из пищи, в энергию механическую, тепловую, интеллектуальную и пси¬
хическую обеспечивает жизнедеятельность человека. Кроме поддержания обмен¬
ных процессов, организм расходует энергию также на работу, учебу, сексуальные
отношения, спорт, борьбу с инфекциями, болезнями и т. п., а чистый остаток энер¬
гии в интервале от зачатия до достижения полной физической зрелости преобразует
в рост и при избытке питания — в вес. Вследствие этого средний рост людей зави¬
сит от условий их жизни — от питания, перенесенных болезней, интенсивности
и условий работы, медицинского обслуживания, жилищных условий, психологиче¬
ского комфорта, климата, воды, воздуха и других факторов среды в течение всей их
жизни, предшествующей моменту измерения длины тела. К моменту наступления
полной физической зрелости человек достигает финального, или дефинитивного,
роста, который в последующие годы жизни уже не увеличивается. Вариация сред¬
него роста в определяющей степени зависит от чистой разницы между потреб¬
ленной и израсходованной энергией в течение всей предшествующей жизни.
334
Рис. 11.43. Е. Калистов (1839—?). Ревизия питомцев воспитательного дома.
1866. Государственная Третьяковская галерея
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
Другими словами, средний рост можно считать показателем как уровня потреб¬
ления в детском и юношеском возрасте, так и всей совокупности жизненных ус¬
ловий своего времени. Из этого следует, что высокие люди, взрослые и дети,
в массе своей лучше питались, имели лучший уход, меньше болели и т. д., т. е.
в массе обладали более высоким биологическим статусом и уровнем жизни,
чем низкорослые401. Вот характерный пример. Самыми низкорослыми в России
XIX в. были питомцы воспитательных домов, как правило незаконнорожденные,
брошенные своими матерями, в основном крестьянками, мещанками и солдатка¬
ми (они отдавались на содержание в крестьянские семьи за плату; рис. 11.43).
При достижении полной физической зрелости их рост составлял в среднем около
162 см.
Самыми высокорослыми являлись представители династии Романовых — са¬
мого богатого рода имперской России. По свидетельству великого князя Алек¬
сандра Михайловича, «средний рост представителей династии был шесть футов
с лишком (около 183 см. — Б. М)» . Среди них были и великаны, вроде
Петра I — 203 см или Николая I — 204 см. Даже «низкорослый» Николай II,
имевший 170,2 см, был на 5 см выше среднего роста всех своих ровесников
в России403. Разница в длине тела между подкидышами и Романовыми превыша¬
ла 21 см!
Судя по изменению роста, в течение всего периода империи уровень жизни
отдельных социальных групп изменялся достаточно синхронно, хотя и различал¬
ся темпами, отражая разные условия, в которых протекала их жизнь (табл. 11.64).
Различия в росте мужчин, принадлежавших к разным социальным группам, дос¬
тигли своего максимума к середине XIX в., в период расцвета сословной систе¬
мы, когда они составляли внушительную величину — 5,5 см. Поскольку наши
сведения о привилегированных социальных группах относятся в основном к де¬
классированным элементам, ставших солдатами и рабочими, можно предполо¬
жить, что в действительности различия в росте между привилегированным и по¬
датным населением были больше.
Таблица 11.64
Средний рост мужского населения 1701—1917 годов рождения
в возрасте старше 17 лет по сословным группам (см)
Социальная группа
1701—
1730 гг.
1731—
1750 гг.
1751—
1790 гг.
1791—
1800 гг.
1851—
1860 гг.
1901—
1917 гг.
Крестьяне всех категорий
163,5
164,3
162,5
160,1
165,1
168,7
Мещане
163,5
165,3
163,4
161,3
165,7
168,9
Чиновники
166,7
—
165,6
—
166,1
169,3
Источник: Миронов Б. Н. Благосостояние населения ... С. 518.
Уровень жизни, измеренный традиционными показателями: заработной пла¬
той, жалованьем, денежными и натуральными доходами, у разных социально¬
профессиональных групп не всегда дает ясную картину о том, кому жилось
хорошо в имперской России, по той причине, что видимые доходы не отражали
335
Глава 11. Уровень жизни
динамики всех доходов. Например, сведения о содержании чиновников и офице¬
ров говорят о том, что его реальная ценность с 1760-х до 1815г. понизилась в
7 раз у чиновников и в 8 раз у офицеров (у последних с 1720-х гг. в 12 раз). Сама
степень понижения невероятна. Если бы это произошло, то крестьяне, рабочие и
другие непривилегированные слои превзошли бы по уровню жизни привилеги¬
рованные, поскольку их доходы (в отличие от людей, живущих на фиксирован¬
ный доход) изменялись параллельно с изменениями цен и курса рубля. При этом
никаких протестных движений в среде бюрократии и офицерского корпуса за¬
метно не было. Очевидно, те и другие нашли компенсацию, иначе они вымерли
бы вместе с семьями. Первые, как в старину, стали кормиться от дел, вторые по¬
лучили от государства дополнительное денежное и натуральное вознаграждение.
Сведения об изменении роста различных социальных групп это предположение
подтверждают.
Вторым интегральным показателем уровня жизни является индекс человече¬
ского развития (ИЧР), который с 1990 г. используется Организацией Объединен¬
ных Наций для межстранового сравнения уровня жизни населения. Индекс учи¬
тывает среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении; процент
грамотности среди лиц старше 15 лет и долю обучающихся в начальной, средней
и высшей школе среди лиц в возрасте от 6 до 24 лет; валовой внутренний про¬
дукт (ВВП) на душу населения.
К сожалению, по причине отсутствия сколько-нибудь надежных данных
о ВВП до середины XIX в. ИЧР можно рассчитать только для 1851—1913 гг. Ис¬
ходные данные для расчета индексов представлены в табл. 11.65. После Великих
реформ ИЧР существенно увеличился — с 0,171 до 0,308, что однозначно свиде¬
тельствует о повышении благосостояния россиян в пореформенный период404.
Пореформенный период отмечен бурным развитием России во всех областях,
в том числе в статистике, благодаря чему мы имеем много разнообразных дан¬
ных, касающихся благосостояния населения. И все они свидетельствуют о по¬
вышении уровня жизни.
1. Повышение с 1885 по 1913 г. производства потребительских товаров и обо¬
рота внутренней торговли на душу населения в постоянных ценах в 1,7 раза405
(за более раннее время сведений не имеется). Например, потребление сахара уве¬
личилось с 1884/85 по 1913/14 г. — в 2,2 раза, а с 1862/63 г. — в 15 раз (с 0,5 до
15 кг)406.
2. Увеличение между 1886—1890 и 1911—1913 гг. количества зерна, остав¬
ляемого крестьянами для собственного потребления, на 34 %407.
3. Росу с 1850-х по 1911—1913 гг. реальной поденной платы сельскохозяйст¬
венного рабочего 3,8 раза, промышленных рабочих — в 1,4 раза (см. табл. 11.12).
4. Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850-е гг. до
107 в 1902 г., у пролетариев числа рабочих часов с 2952 в 1850-е гг. до 2570
в 1913 г. (см. табл. 12.5 в гл. 12 «Русская культура в коллективных представлени¬
ях» наст. изд.).
5. Массовая скупка земли крестьянами. За 1862—1910 гг. крестьяне купили
24,5 млн дес. земли, заплатив за нее огромные деньги — 971 млн руб.408; это в 28
раз больше, чем все недоимки, накопившиеся за ними к 1910 г. (35 млн руб.)409.
336
Индекс человеческого развития России в 1851—1913 гг. (без Финляндии)
•о
о
I
Ǥ
й
о-
гг
о.
О
п
eg
Я
С
CQ
CQ
к 5
I
(Я
о
СП
Tj-
00
00
ON
о
СЛ
о
1
*—
СЧ
СЧ
СЧ
СП
о"
о
o'
o'
©
o'
o'
с
О
г*
§
Ш
00
СП
00
СП
СЧ
СП
m
TJ-
40
о
СП
00
я
ол
Ол
©^
1
S
o'
о
о"
о"
o'
o'
о"
£
ON
00Л
СЧ
ON
©^
е?
t-"
00
оС
Сч"
no"
CN
СЧ
(N
(Ч
СП
СП
СП
о
Srf
S
00
о
^г
ш
00
О
СЛ
ON
СЧ
СП
«п
ON
«П
ON
Я
ол
*—
1—1
СЧ
СЧ
S
о"
о"
o'
o'
o'
o'
o'
£
«
о
Я
<*
СП
«п
«П
«П
ON
2
-г
гГ
СЧ
CH
<n
r^4
ев
У
>
i
о
I
Tj-
ON
(Ч
00
СП
о
<4
СЧ
СП
я
о.
U
о
ьй
S
4—4
TJ-
(N
«п
СЧ
о
ON
00
о
СП
Tj-
£
CH
СП
СП
СП
^r
S
о"
о
o'
o'
o'
o'
o"
.
ол
04
ON
Ол
§
in
40Л
Os
o'
оо"
so
СП
сг
о
г-
40
t>
ON
СЧ
40
40
40
Г"
ON
я
«ПЛ
VO
00^
VO
©^
с?
S
СП
Оо"
5ч
o'
<n
СЧ
К
£
о
о
о
о
о
о
чо
00
ON
о
4-M
00
00
00
00
ON
ON
i
)
7
7
7
7
7
’“p
д
Д
д
Д
Д
СП
«П
so
00
OS
о
4—H
оо
00
00
00
00
ON
On
’—l
•чГ Э
“1 <
« в ц
х 5*
С5
I
оо 5
2 я
. я
< е
3 я
и я
3
9*.
ч
ч ьЗ
ч С
2 «
Ч о
UQ
0Q
Глава 11. Уровень жизни
Купленная земля относительно надельной составляла 6,8% в 1877 г., 14,5%
в 1887 г. и 21,6 % в 1910 г., а относительно всей частновладельческой земли —
соответственно 6,2; 13,1 и 25 %; причем почти половина (46 %) земли была куп¬
лена крестьянскими обществами и товариществами410.
338
Итоги: к стабильному повышению благосостояния населения
6. Существенное увеличение веса людей за 1811—1915 гг.— на 7,4 кг (с 59,1
до 66,5) дает уверенность в том, что благосостояние крестьянства действительно
повысилось. Индекс массы тела, показывающий уровень питания, на протяжении
1811—1915 гг. всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже
немного увеличился — с 21,8 до 23,3 (см. табл. 11.54 и 11.55).
7. Увеличение вкладов россиян в государственных сберегательных кассах —
самом популяром банке в России. Кассы были созданы указом от 16 октября 1862 г.
В 1863 г. начали действовать первые две кассы в Петербурге и Москве, обслужи¬
вавшие 140 тыс. вкладчиков. В 1913 г. в империи насчитывалось 8552 касс (в том
числе 6437 в 50 губерниях Европейской России) и 9 млн вкладчиков411. Кассы
имелись во всех городах и почтовых отделениях, на крупных промышленных
предприятиях (в 1910 г. — на 101) и спорадически в сельской местности (в 1910 г.
в 138 из почти 11 тыс. волостей)412. Кассы являлись народным банком: они при¬
нимали вклады начиная с 25 коп.; доля мелких вкладчиков, имевших на счете
менее 25 руб. (25 руб. — примерно средняя месячная зарплата российского про¬
мышленного рабочего в начале XX в.), увеличилась с 1865—1869 по 1909—1913 гг.
почти в 4 раза (с 10 до 39 %), а доля женщин — в 3,3 раза (с 13 до 43 %). В 50
губерниях Европейской России с 1865—1869 по 1909—1913 гг. число кладчиков
увеличилось в 159 раз, на 1000 жителей — в 82 раза, величина вклада на одного
вкладчика — в 2,7 раза, с учетом инфляции — в 1,7 раза, величина вклада на од¬
ного жителя страны — в 228 раза, с учетом инфляции — в 145 раз.
Рис. 11.45. Петровский парк С.-Петербурга. Аттракцион «Гигантские шаги». 1913
339
Глава 11. Уровень жизни
Рис. 11.46. Марсово поле. Скейтинг-ринг, С.-Петербург. 1911
Вкладчики касс делись на профессиональные группы, среди которых выделя¬
лись «работники». К последним относились лица, занятые в земледелии
и промышленности, т. е. в огромном большинстве крестьяне и рабочие . Их
доля среди клиентов банков увеличилась с 9 % в 1865—1869 гг. до 33 % в 1909—
1913 гг., а доля во вкладах — соответственно с 11 до 33 %. В начале XX в. доля
«работников» среди вкладчиков составляла около 5 %, а в общей сумме вкла¬
дов — 4 %. В 1913 г. их число достигло 7,6 млн, среди них на долю женщин при¬
ходилось около 43 %, а мужчин — 57 %. Если принять, что мужчины представ¬
ляли целую семью, то получается: только в сберегательных кассах хранили день¬
ги около 4,3 Млн семей, обнимавших до 26 млн человек (поскольку в среднем
семья включала 6 человек), т. е. 21 % жителей Европейской России. Сберега¬
тельные кассы хранили лишь меньшую часть накоплений «работников»: многие
крестьяне держали деньги в кубышке; кроме сберегательных касс имелись и дру¬
гие кредитные учреждения. Приведенные данные (с учетом умеренной имущест¬
венной дифференциации) со всей очевидностью свидетельствуют о том, что бла¬
госостояние народа в пореформенное время повышалось, одновременно росла
и их общая культура, ибо хранение средств в банке — это, безусловно, признак
культурного развития.
340
Примечания
Итак, уровень жизни в XIX—начале XX в. несомненно повысился. Это была
чувствительная и заслуженная компенсация за потери и страдания, испытанные
россиянами в XVIII в. Колонизация и приобретенный в XVIII в. статус великой
; мировой державы принесли свои плоды.
I
Примечания
1 Ефимова М. Р., Бычкова С. Г.
Социальная статистика. М., 2004. С. 462—
475.
2 РГИА. Ф. 1310 (Комиссия о каменном
строении в Петербурге и Москве). On. 1.
Д.63.Л. 1—105.
3 РГИА. Ф. 13 (Департамент министра
коммерции). Оп. 2. Д. 782. Л. 4—14 (Цены
в Петербурге в 1732—1803 гг. по све¬
дениям приходо-расходных книг Первого
кадетского корпуса).
4 РГИА. Ф. 468 (Кабинет е. и. в.). Оп.
41. Д. 1 и др.; Книга приходорасходных
комнатных денег императрицы Екатерины I
(1723—1725 гг.) // Русский архив. 1874.
Т. 1, № 3. Стб. 513—567 ; Платонов С. Ф.
Книга расходная С.-Петербургского комис-
сариатства Соляного правления 1725 г. //
Летопись занятий Археографической ко¬
миссии, 1926. СПб., 1927. Вып. 1/31.
С. 276—285.
5 РГИА. Ф. 1086 (Томиловы и Швар¬
цы). On. 1. Д. 1140.
6 Миронов Б. Н. Хлебные цены в Рос¬
сии за два столетия (XVIII—XIX вв.). Л.,
1985. С. 190—291.
7 ПСЗ-I. Т. 45. Общее дополнение к та¬
рифам. С. 4—6.
8 Санкт-Петербургские ведомости. 1746—
1765, 1768—1777.
9 Ведомость, учиненная в С.-Петер¬
бургской городской думе из поданных от
рядских старост сведений, по каким ценам
покупались разные нужнейшие припасы
российские в С.-Петербурге на пристанях,
площадях и рынке в [1832, 1834, 1835,
1836] году. Данные о ценах внесены в на¬
печатанные бланки вручную пером.
Комплект прейскурантов находится только
в Основном русском фонде РНБ; за 1833 г.
комплект утрачен.
10 Ведомости (недельные, месячные и
третные) Санкт-Петербургской распоряди¬
тельной думы о справочных ценах в С.-Пе¬
тербурге на все вообще припасы и мате¬
риалы. 1853—1917.
"Архив СПбИИ РАН. Ф. 36 (Ворон-
цовы). On. 1. Д. 1156.
12 Санкт-Петербургский прейскурант, из¬
данный от государственной Коммерц-
Коллегии. 1806—1814, 1816—1824, 1830—
1857.
13 Биржевые ведомости. 1861—1879;
Ведомости (недельные, месячные и трет¬
ные) Санкт-Петербургской распорядитель¬
ной думы ... ; Ведомости С.-Петербургской
городской полиции. 1839—1873; Коммер¬
ческая газета. 1825—1860; Посредник
промышленности и торговли. 1840—1855 ;
Санкт-Петербургские ведомости. 1728—
1917 ; Санкт-Петербургские коммерческие
ведомости. 1802—1810; Северная почта.
1809—1819 ; Северная пчела. 1825—1864.
14 Штер. Статистическое изображение
городов и посадов Российской империи по
1825 год. СПб., 1829. С. 68—69.
15 Города России в 1910 году. СПб.,
1914. С. 6.
16 Статистический ежегодник С.-Петер¬
бурга за 1901—1902 гг. СПб., 1905. С. 31,
34.
17 Миронов Б. Н. Хлебные цены ... С. 29.
18 Зварич В. В. Нумизматический сло¬
варь. 3-е изд. Львов, 1979. С. 78, 146—149.
19 Подробно проблемы перевода мер
в единую метрическую систему, а цен —
в единую золотую валюту рассмотрены в кн.:
Миронов Б. Н. Хлебные цены ... С. 35—41.
20 Там же. С. 31.
21 Струмилин С. Г.: 1) Очерки эко¬
номической истории России и СССР. М.,
1966. С. 81—82, 380; 2) История черной
341
Гшва 11. Уровень жизни
металлургии в СССР. Т. 1 : Феодальный
период (1500—1860 гг.). М., 1954. С. 514—
515. В. Л. Далматов на основе прейскуран¬
тов построил на 1803, 1823, 1833 и 1843 гг.
и индексы оптовых петербургских цен,
которые, естественно, отличаются от бюд¬
жетных индексов: Струмилин С. Г. Очерки
экономической истории ... С. 380.
22 К сожалению, С. Г. Струмилин не
указывает, какие товары вошли в субин¬
дексы.
23 Формально индексы отдельных това¬
ров не взвешивались, но фактически полу¬
чалось скрытое взвешивание: цены всех
товаров принимались равными, значит,
всем товарам по умолчанию приписыва¬
лись равные веса.
24 Поскольку Далматов учитывал квар¬
тирную плату, веса субиндексов и
соответственно общий индекс у него
немного отличаются от рассчитанных
мною, но расхождения настолько невелики,
что ими можно пренебречь.
25 L = 2>i<7o / Ъ><Яо, где р, — суб-
индексы на любой год в интервале от 1713
до 1912 г.; <7о — веса субиндексов на
базисную дату 1913 г.; р0 — субиндексы на
базисную дату, 1913 г. О построении
индекса потребительских цен см.: Ефимо¬
ва М. Р., Бычкова С. Г. Социальная ста¬
тистика. М., 2004. С. 330—349 ; Кевеш П.
Теория индексов и практика экономичес¬
кого анализа. М., 1990. С. 238 ; Миллс Ф.
Статистические методы. М., 1958. С. 424—
488.
26 Миллс Ф. Статистические методы.
С. 440—449, 458—459.
27 Это были первые в России настоящие
бюджетные исследования рабочих; более
ранние исследования касались крестьян.
28 Прокопович С. Н. Бюджеты петер¬
бургских рабочих. СПб., 1909. От имени
Русского технического общества разослали
несколько тысяч анкет; возвратилось 1016,
из них подвергнуть статистической обра¬
ботке было возможно 632 анкеты. Для
расчета средних душевых расчетов исполь¬
зовались 307 бюджетов семейных рабочих
и 263 одиноких.
29 Давидович М. Петербургский текс¬
тильный рабочий в его бюджетах // Запис¬
ки имп. Русского технического общества.
1912. Январь—март.
30 Семенова Л. Н.\ 1) Рабочие Петер¬
бурга в первой половине XVIII века. Л.,
1975 ; 2) Очерки истории быта и культур¬
ной жизни России. Первая половина XVIII в.
Л., 1982; 3) Быт и население Санкт-
Петербурга (XVIII век). Л., 1998 ; Кита-
нина Т. М. Рабочие Петербурга в 1800—
1861 гг.: Промышленность, формирование,
состав, положение рабочих, рабочее дви¬
жение. Л., 1991. С. 195—251 ; История
рабочих Ленинграда: в 2 т. Т. 1 : 1703—
февраль 1917 / В. С. Дякин (ред.). Л., 1972.
С. 31—45, 100—118, 141—148, 185—190,
342—354, 398—412.
31 Города России в 1910 году. С. 3, 190,
528, 891.
32 Подробнее см.: Миронов Б. Н.\
1) Революция цен в России XVIII в. // ВИ.
1971. № 11. С. 49—61 ; 2) Хлебные цены...
С. 45—49, 111—113, 169—188. Приведен¬
ный в табл. 11.5 расчет носит ориенти¬
ровочный характер, так как индекс цен
в Западной Европе подсчитан на основе
динамики цен лишь в 12 городах —
Лондоне, Амстердаме, Берлине, Лейпциге,
Аугсбурге, Париже, Страсбурге, Гренобле,
Мадриде, Толедо, Генуе и Нью-Йорке.
В России второй половины XVII в. учтено
движение цен в 15 городах, в XVIII—
начале XX вв. — в 50 губерниях (Миро¬
нов Б. Н. Хлебные цены ... С. 131—133).
В настоящее время участники двух круп¬
ных международных проектов: «The Global
Price and Income History Group», University
of California — Davis (USA), руководитель
проф. Л. А. Абад (Leticia Arroyo Abad)
и П. Линдерт (Piter Lindert), и «The Integra¬
tion of European Market and the Welfare of
Europeans», European University Institute
(Florence), руководитель проф. Дж. Фе¬
дерико — готовят две большие базы
данных по истории европейских цен di¬
rected by Prof. Дж. Федерико (Giovanni
Federico). Когда работа будет завершена,
можно будет более корректно оценить
342
Примечания
различие в уровне цен в Западной Европе
и России.
33 Рыкачев А. М. Цены на хлеб и на труд
в С.-Петербурге за 58 лет. СПб., 1911.
С. 201.
34 Миронов Б. Н. «Послал Бог работу, да
отнял черт охоту»: трудовая этика рос¬
сийских рабочих в пореформенное время //
Социальная история, 1998/1999: ежегод¬
ник. М, 1999. С. 251.
35 История рабочих Ленинграда. Т. 1.
С. 136—137, 185—186, 344—345, 399.
36 Очерки истории Ленинграда: в 4 т.
Т. 1 : Период феодализма (1703—1861 гг.) /
М. П. Вяткин (ред.). М.; Л., 1955. С. 506—
549.
37 Очерки истории Ленинграда. Т. 2 :
Период капитализма. Вторая половина XIX
века / Б. М. Кочаков (ред.). М.; Л., 1957.
С.183.
38Там же; Статистический ежегодник
С.-Петербурга за 1901—1902 гг. С. 28—42.
39 В советской историографии домини¬
ровало мнение о непрерывно растущем
уровне жизни советских людей. В постсо¬
ветской стали высказываться другие мне¬
ния. По покупательной способности сред¬
них зарплат трудящихся уровень 1913 г.
после провала в Гражданскую войну достиг
максимума в 1927 г., но затем неуклонно
снижался. В 1940 г. покупательная спо¬
собность средней зарплаты в СССР была
уже в 1,5 раза ниже, в 1947 г. — в 2,5 раза
ниже, чем в 1913 г. Уровень 1913 г. был
вновь достигнут только в 1950-е гг.: По-
леванов В. П. Россия: цена жизни // Эко¬
номические стратегии. 1999. № 1. С. 102—
103.
40Народное хозяйство в 1961 году:
стат. ежегодник. М., 1962. С. 600; На¬
родное хозяйство СССР за 70 лет: юб.
стат. ежегодник. М., 1987. С. 9.
41 Струмилин С. Г История черной
металлургии в СССР. Т. 1. С. 388.
42 Туган-Барановский М. И. Русская
фабрика в прошлом и настоящем: Ис¬
торическое развитие русской фабрики
в XIX в. 3-е изд. М., 1922. С. 163. Н. М. Ар¬
сентьев на данных по Замосковному гор¬
ному округу подтвердил вывод Туган-
Барановского о существенном росте (в 2—
3 раза) зарплаты в 1801—1820 гг., но
предположил, что в последующие 30 лет
она не изменялась. К сожалению, автор не
учел изменение цен и курса рубля, поэтому
не смог адекватно оценить изменение
реального уровня жизни рабочих, спра¬
ведливо отмечая, что это сделать крайне
затруднительно по причине сложного сос¬
тава доходов рабочих, являвшихся одно¬
временно и крестьянами: Арсентьев Н. М.
Экономическое положение рабочих Замос¬
ковного горного округа в первой половине
XIX в. // Металлургическая промышлен¬
ность России XVIII—XX веков / Н. М. Ар¬
сентьев (ред.). Саранск; Екатеринбург,
2007. С. 279—327.
43 Гакстгаузен А. Исследование внут¬
ренних отношений народной жизни и в
особенности сельских учреждений России.
М., 1870. Т. 1.С. 97—98.
44 Туган-Барановский М. И. Русская
фабрика ... С. 160, 330—337.
45 Семевский В. И. Крестьяне в царст¬
вование императрицы Екатерины II: в 2 т.
Изд. 2-е. СПб., 1903. Т. 1. С. 574—576. При
оценке зарплаты Семевский учитывал ди¬
намику хлебных цен.
46 Семевский В. И. Рабочие на сибирс¬
ких золотых промыслах : ист. исслед. Т. 1 :
От начала золотопромышленности в Си¬
бири до 1870 г. СПб.; М., 1898. С. LXI—
LXXV.
47 Первушин С. А. Хозяйственная
конъюнктура: Введение в изучение дина¬
мики русского народного хозяйства за
полвека. М., 1925. С. 203—205.
48 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих России (конец XIX—начало XX в.).
М., 1979. С. 150.
49 Там же. С. 122, 128—130.
50 Там же. С. 104.
51 Поденная плата пешего взрослого
рабочего мужского пола: Скребницкий А.
Крестьянское дело в царствование импера¬
тора Александра II : Материалы для ис¬
тории освобождения крестьян. Бонн н/Рей-
не, 1865/1866. Т. 3. С. 1294—1295.
343
Глава 11. Уровень жизни
52 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. 1: Свод сведений о современном по¬
ложении сельскохозяйственной промыш¬
ленности вообще. С. 137—140, 145;
Крживоблоцкий Я. Костромская губерния.
СПб., 1861. С. 304—305; Материалы для
статистики России, собираемые по ве¬
домству Министерства государственных
имуществ. СПб., 1858. Вып. 1. С. 88, 105—
106; СПб., 1861. Вып. 3. С. 83, 119; СПб.,
1871. Вып. 5. Прил. С. 51 ; Липинский.
Симбирская губерния : в 2 ч. СПб., 1868.
(Материалы для географии...). Ч. 2. С. 335 ;
Русое А. О найме рабочих в Херсонскую
губернию в 1855 году // Сборник Хер¬
сонского земства. 1890. № 1. С. 64—69.
53 Подсчитано по: Доклад Комиссии
1873 г. Приложения. 1. С. 94—152.
54 Туган-Барановский М. И. Русская
фабрика... С. 335.
55 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 249; Ежегодник Министерства финан¬
сов на 1914 год. Пг., 1914. С. 3. Иссле¬
дователи оценивают уровень перенаселе¬
ния от 22 до 56 % от числа взрослого
населения: литература вопроса указана
в гл. 1 «Колонизация и ее последствия»
наст, изд., примеч. 538.
56 Подсчитано по: Общий свод данных
переписи 1897 г. Т. 1. С. 56—66 ; Янсон Ю. Э.
Сравнительная статистика России и западно¬
европейских государств : в 2 т. СПб., 1878,
1878. Т. 1.С. 62—63.
57 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих ... С. 125.
58 Отмена крепостного права : Доклады
министров внутренних дел о проведении
крестьянской реформы, 1861—1862. М.;
Л., 1950. С. 282.
59 Доклад комиссии 1873 г. Приложения. I.
С. 134,139. ’
60 Там же. С. 98, 100 (в Калужской губер¬
нии женщины поступали в услужение на
зимние месяцы за одно только питание, с. 101).
61 Там же. С. 137 (Волынская губерния).
62 Там же. Приложения. I. С. 121
(Тульская губерния).
63 Варб Е. Наемные сельскохозяйствен¬
ные рабочие в жизни и законодательстве :
общественно-юрид. очерки. М., 1899. С. 80—
115. Е. Варб — псевдоним Я. Ф. Браве.
64 Материалы для статистики России,
собираемые по ведомству Министерства
государственных имуществ. СПб., 1859.
Вып. 2. С. 150—151, 168—169; Хозяйст¬
венно-статистические материалы, собирае¬
мые комиссиями и отрядами уравнения
денежных сборов с государственных
крестьян. СПб., 1857. Вып. 1. С. 138.
65 Материалы для статистики России ...
Вып. 1.С. 52—53.
66 Там же. Вып. 5. Прил. С. 51,65—66.
67 Там же. Вып. 3. С. 83, 119.
68 С. Г. Струмилин за 1882—1913 гг.
дает несколько иные оценки среднего
поденного заработка сельскохозяйствен¬
ного рабочего: 1882—1890 гг. — 55,9 коп.,
1891—1900 гг. — 56,8 коп., 1901—1910 гг.—
70,4 коп. и 1911—1913 гг. — 87,9 коп.:
Струмилин С. Г. Динамика поденной пла¬
ты за 1882—1916 гг. // Струмилин С. Г.
Избр. произведения : в 5 т. М., 1963. С. 276.
69 Средний заработок женщин в про¬
мышленности (1914 г.) был в 2 раза, а в
сельском хозяйстве (в 1882—1913 гг.) —
в 1,6 раза ниже, чем у мужчин. Согласно
переписи 1897 г., доля женщин, занятых во
всей промышленности равнялась 15 %.
В фабрично-заводской промышленности,
подчиненной надзору фабричной инспек¬
ции, доля женщин была больше: 1887 г. —
24,4%, 1895 г. — 25,8, 1901 г. — 26,1,
в 1913 г. — 26 % (Рамин А. Г. Формирова¬
ние промышленного пролетариата...
С. 185—194,200—202).
70 Миронов Б. Н. Внутренний рынок
России во второй половине XV111—первой
половине XIX в. Л., 1981. С. 243—247.
71 Жилищные условия рабочих были
хуже, чем у крестьян. В течение всего
периода империи на одного крестьянина
приходилось примерно 3—5 м2: Чижико¬
ва Л. Н. Сельские жилища в XVIII—начале
XX века // Русские / В. А. Александров,
B. И. Власова, Н. С. Полищук. М., 2003.
C. 280 ; Шипилов А. В.: 1) В тесноте... : (Об
одной характерной черте русской тра¬
диционной бытовой культуры) // ВИ. 2005.
344
Примечания
№ 1. С. 137—138, 144 ; 2) Русская бытовая
культура: пища, одежда, жилище (с древ¬
нейших времен до XVIII века). Воронеж,
2007. При большой региональной диффе¬
ренциации большинство постоянных рабо¬
чих имели, вероятно, на человека 3—4 м2 —
столько приходилось в среднем на одного
постоянного петербургского рабочего в 1871
и 1898 гг.: Эрисман Ф. Ф. Подвальные
жилища Петербурга // Архив судебной
медицины и общественной гигиены. 1871.
№ 4. С. 15; Рубель А. Н. Жилища бедного
населения г. С.-Петербурга // Вестник об¬
щественной гигиены, судебной и практи¬
ческой медицины. 1899. Апрель. С. 432.
Жилищные условия временных рабочих
(отходников) были хуже — в них на чело¬
века среднем приходилось 3 м2 и меньше:
Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих ... С. 242—259. Жилищные усло¬
вия рабочих были очень плохими, но в до¬
революционной и особенно в советской
историографии они изображались еще ху¬
же, чем были на самом деле, так как писали
преимущественно о худшем из плохого;
см., например: Рашин А. Г\ Жилищные
условия рабочих и служащих в капита¬
листической России // Методологические
вопросы в статистических исследованиях /
Т. В. Рябушкин (ред.). М., 1968. С. 216—
242.
72 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих... С. 104, 270—271.
73 Валетов Т. Я, Фабричное законода¬
тельство в России до Октябрьской рево¬
люции // Экономическое обозрение. 2007.
Вып. 13. С. 34—44; Куприянова Л. В.
«Рабочий вопрос» в России во второй
половине XIX—начале XX вв. // История
предпринимательства в России. Кн. 2:
Вторая половина XIX—начало XX в. М.,
2000. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/
Article/Kupriyanova.htm (дата обращения:
02.07.2014); Литвинов-Фалинский В. П.
Фабричное законодательство и фабричная
инспекция в России. 2-е изд. СПб., 1904;
Таль У7. С Очерки промышленного рабо¬
чего права. М., 1918; Фельдман М. А.
Стимулы к труду в промышлености Урала
в первые десятилетия XX века // Эко¬
номическая история : обозрение. М., 2006.
Вып. 12. С. 44—46; Gorshkov В. Towards
a Comprehensive Law : Tsarist Factory Labor
Legislation in European Context, 1830—1914 //
Russia in the European Context, 1789—1914 :
A Member of the Family / S. P. McCaffray,
M. Melancon (eds.). New York: Palgrave
Macmillan, 2005. P. 65.
74 Устав о промышленном труде : (Свод
законов Росс. имп. Т. XI. Ч. 2. СПб., 1913,
ст. 1—228 и 541—597): с правилами и рас¬
поряжениями, изд. на основании этих
статей с разъяснениями к ним Правительст¬
вующего Сената и адм. установлений /
В. В. Громан (сост.). Пг., 1915. До 1913 г.
получать пенсию можно было через эме¬
ритальные кассы, существовавшие за счет
взносов, при условии, что данный человек
в свое время отчислял в эту кассу взносы
на протяжении 10 лет. К 1913 г. госу¬
дарственные пенсии «за выслугу лет»
в России имели чиновники всех ведомств
и всех классов, офицеры армии, жан¬
дармского корпуса, таможенной службы
и других ведомств, преподаватели госу¬
дарственных учебных заведений, врачи
и младший медицинский и облаживающий
персонал казенных больниц и заведений.
Чтобы получить пенсию в размере 100 %
своей зарплаты, следовало проработать
35 лет. Работники, прослужившие 25 и бо¬
лее лет, имели право на половину зарпла¬
ты. При этом если болезнь не позволяла
человеку не только работать, но даже уха¬
живать за собой, то «полный оклад» по¬
лагался уже после 20 лет работы, 2/3 его —
при выслуге не менее 10 лет, а треть — при
наличии трудового стажа хотя бы 5 лет.
После смерти пенсионера получателями
становились вдова (пожизненно) и дети
(сыновья — до 17 лет, дочери — до за¬
мужества либо до достижения 21 года).
См.: Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право
социального обеспечения России. 3-е изд.
М., 2004. С. 1—14 ; Кулъчитцкий А. В. Ис¬
тория пенсионного обеспечения россиян,
1827—1917 гг. // Известия Рос. гос. пед. ун¬
та им. А. И. Герцена. 2008. № 76-1.
345
Гпава II. Уровень жизни
С. 199—204. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/istoriya-pensionnogo-obespecheniya-
rossiyan-1827-1917-ggl (дата обращения:
04.07.2014); Туманянц К. А. Генезис пен¬
сионной системы в России // Вестник Вол¬
гоградского гос. ун-та. Сер. 3 «Экономика.
Экология». 2007. Вып. № 11. С 144—149.
75 Устав о промышленном труде. URL:
http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm
(дата обращения: 03.02.2014).
76 В значительной степени благодаря ра¬
бочему законодательству в 1914—1917 гг.
реальная зарплата фабрично-заводских ра¬
бочих России снизилась за 1914—1917 гг.
всего на 14,8 %: Фабрично-заводская про¬
мышленность в период 1913—1918 гг.
Вып. 1 : Промышленная перепись. М.,
1921. (Труды ЦСУ ; т. 26). С. 103.
11 Бородкин Л. И., Валетов Т. Я. Росла
ли реальная зарплата рабочих в период
капиталистической индустриализации?:
(Микроанализ архивных материалов) //
Вестник Рос. гуман. науч. фонда. 2002.
№ 1. С. 14—27 ; Бородкин Л. И., Вале¬
тов Т. Я., Шильникова И. В. Штрафование
рабочих на предприятиях дореволюцион¬
ной России: наказание или возмещение
ущерба? // Историко-экономические иссле¬
дования. 2009. Т. 10, № 2. С. 5—24;
Валетов Т. Я. Заработная плата на крупной
фабрике в России конца XIX—начала XX
века // Там же. 2002. № 1. С. 9—32 ; Мар¬
кевич А. М., Соколов А. К. «Магнитка близ
Садового кольца» : Стимулы к работе на
Московском заводе «Серп и молот»,
1883—2001 гг. М., 2005 ; «Не рублем еди¬
ным»: трудовые стимулы рабочих-текс-
тильщиков дореволюционной России» /
Л. И. Бородкин, Т. Я. Валетов, Ю. Б. Смир¬
нова, И. В. Шильникова. М., 2010 ; Шиль¬
никова И. В. «Сим доводится до сведения
рабочих...»: фабричная жизнь конца XIX—
начала XX вв. в объявлениях (на мате¬
риалах фонда Ярославской Большой Ма¬
нуфактуры) // Историко-экономические ис¬
следования. 2006. Т. 7, № 1. С. 75—90. На
некоторых российских предприятиях, прак¬
тиковавших передовой менеджерский ка¬
питализм, заработки рабочих росли быст¬
рее, чем в среднем по промышленности:
Поткина И. В. На Олимпе делового
успеха: Никольская мануфактура Моро¬
зовых, 1797—1917 гг. М., 2004. С. 240.
Следует отметить также систему патерна¬
листских отношений на российских пред¬
приятиях, которая, как считает Поткина,
стала результатом, с одной стороны, го¬
сударственного законодательного стимули¬
рования некоторых важнейших институтов
в конце XIX—начале XX в., с другой —
добровольной поддержки силами и средст¬
вами самих владельцев: Поткина И. В. От
социального патернализма к социальной
инфраструктуре предприятия: опыт Ни¬
кольской мануфактуры. Вторая половина
XIX—начало XX в. // Экономическая ис¬
тория : обозрение. М., 2000. Вып. 4. С. 107.
На частных дореволюционных фабриках
устраивались школы для получения детьми
рабочих начального образования и трудо¬
вых навыков, что способствовало закреп¬
лению «нужных», квалифицированных,
дисциплинированных работников на пред¬
приятии: Бородкин Л. И., Валетов Т. Я,
Шильникова И. В. Школы на дореволю¬
ционных фабриках: «создание кадров более
развитых рабочих» // Россия и мир : Па¬
норама исторического развития : сб. науч.
статей, посвящ. 70-летию ист. фак. УрГУ
им. А. М. Горького / Д. А. Редин (ред.).
Екатеринбург, 2008. С. 666—677.
78 Гуськова Т. К. Нижнетагильский гор¬
нозаводский округ Демидовых во второй
половине XIX—начале XX в.: Заводы.
Рабочие. Нижний Тагил, 2007. С. 222, 224.
Индекс потребительских цен: Струми-
лин С. Г. Очерки экономической исто¬
рии ... С. 82.
79 Более популярно мнение о громадном
отставании зарплаты российских рабочих.
В 1880—1890-е гг. русский рабочий по
уровню реальной зарплаты уступал анг¬
лийскому примерно в 2 раза, американс¬
кому — в 3 раза, считает Е. М. Дементьев
в своей кн.: Дементьев Е. Н. Фабрика, что
она дает населению и что она у него берет.
М., 1897. С. 167, 182—183. С расчетом
Дементьева согласился Ф. Д. Маркузон
346
Примечания
в кн.: Маркузон Ф. Д. Наемный труд на
Западе. М., 1926. С. 57. По мнению еще
одного известного эксперта, в начале XX в.
средний час работы на предприятиях
соответствующего профиля оплачивался
в России вчетверо меньше, чем в Англии,
и впятеро дешевле, чем в Америке: Па¬
житнов К. А. Положение рабочего класса
в России. СПб., 1906. С. 77.
80 Took W. Views of the Russian Empire
during the Reign of the Catherine II to the
Close of the Present Century : in 3 vols. Lon¬
don, 1799. Vol. 2. P. 611. Современники
Тука разделяли его представления о Рос¬
сии: Тарле Е. В. Запад и России : Статьи
и документы из истории XVIII—XX вв.
Пг., 1918. С. 122—149.
81 Гакстгаузен А. Исследования внут¬
ренних отношений народной жизни в осо¬
бенности сельских учреждений России.
Т. 1. С. XX, 98 ; Туган-Барановский М И.
Русская фабрика ... С. 160.
82 Brown R. Society and Economy in Mod¬
em Britain, 1700—1850. London ; New
York : Routledge, 1991. P. 327.
83 Mathias P. The First Industrial Nation :
An Economic History of Britain, 1700—1914.
2nd ed. London ; New York : Methuen, 1983.
P. 344—345.
84 Тудоряну H. Л. Очерки российской
трудовой эмиграции периода империализ¬
ма (в Германию, Скандинавские страны
и США). Кишинев, 1986.
85 См. табл. 22 Статистического при¬
ложения в т. 3 наст. изд.
86 Сборник статистических сведений по
Московской губернии. Отдел санитарной
статистики. М., 1893. Т. 4, ч. 2. С. 427—441
(особенно с. 430,433,441).
87 См. табл. 25, 26 Статистического
приложения в т. 3 наст. изд.
88 Гессен В. Ю. История законода¬
тельства о труде рабочей молодежи в Рос¬
сии. Л., 1927. С. 106.
89 Дрязгов Г В годы войны // Юно¬
шеское движение в России / А. Киров,
В. Далин (сост.). 2-е изд. М.; Л., 1925. С. 97
90 Менис Я. Забастовка мальчиков //
Юношеское движение в России. С. 107.
91 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 226; Минц Л. Е. Отход крестьянского
населения на заработки в СССР. М., 1925.
С. 16—24.
92 В 1796 г. большинство губерний
относилось к 1-му разряду. Губерний 2-го
разряда было семь (С.-Петербургская,
Литовская, Выборгская, Курляндская,
Эстляндская, Лифляндская и Иркутская):
Зайончковский П. А. Правительственный
аппарат самодержавной России в XIX в.
М., 1978. С. 73.
93 Морозан В. В. Чиновники Государст¬
венного банка России во второй половине
XIX в.: численный состав, образователь¬
ный уровень, социальное происхождение,
имущественное и семейное положение //
ВСПбУ. Сер. 2. История. 2013. Июнь.
С. 25—33.
94 Струмилин С. Г.: 1) Очерки экономи¬
ческой истории ... С. 82, 89—90 ; 2) Исто¬
рия черной металлургии в СССР. Т. 1.
С. 514—515.
95 Миронов Б. Н. Хлебные цены ...
С. 63—65, 68—71, 194, 196, 197, 234, 246.
96 Состав годового содержания чинов¬
ников Астраханского губернского прав¬
ления в 1860—1900-е гг. рассмотрен в кн.:
Дрыгина Н. Н. Астраханские чиновники:
жалованье и материальное положение (2-я
половина XIX—начало XX вв.) // Новый
исторический вестник. 2010. № 25. С. 16—
24. Таким же он был и в других губерниях.
97 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. М., 1993. С. 205, 228—235, 342;
Суряев В. Н. «Военная служба, при всей
своей почётности, есть самая невыгодная
по денежному вознаграждению» : Уровень
жизни армейского офицерства русской
императорской армии в 1905—1914 гг. //
Военно-исторический журнал. 2014. № 10.
С. 52—57.
98 Раскин Д. И. Исторические реалии
российской государственности и русского
гражданского общества в XIX веке // Из
истории русской культуры : в 5 т. Т. 5 : XIX
век / Б. Ф. Егоров, А. Д. Кошелев (сост.).
М., 1996. С. 776 ; Экштут С. Безгрешные
доходы: Кое-что о коррупции 1812 года,
347
Глава 11. Уровень жизни
чуть до него и немного после // Аргументы
недели. 2012. 22 марта (№ 11 (303)).
99 Пенсионное обеспечение чиновников
началось в 1764 г., в 1827 г. превратилось
в стройную систему благодаря Общему
уставу о пенсиях и единовременных по¬
собиях, у офицеров восходит к 1720 г. для
чинов флота, к середине XVIII в. —
к отставным армейцам. В 1827 г. тем же
Общим уставом пенсионное обеспечение
стало на твердую юридическую основу.
Размер пенсий определялся получаемым
жалованьем и выслугой лет. Пенсионное
обеспечение православного духовенства
началось в 1842 г. Устав от 1902 г.
о пенсиях священнослужителям и псалом¬
щикам духовного ведомства предоставил
им пенсионные права, примерно равные
тем, которые представлял общий пенсион¬
ный устав чиновникам и военнослужащим.
О пенсионной системе в России см.:
Кулъчитцкий А. В. История пенсионного
обеспечения россиян за 1827—1917 гг.:
дис. ... канд. ист. наук. Курск, 2011.
С. 15—59, 60—97, 98—128 ; Раскин Д И.
Исторические реалии российской госу¬
дарственности ... С. 779—794.
100 Подробнее см.: Миронов Б. Н. Ра¬
зумное сомнение (проверка надежности
данных) // Миронов Б. Н. История в циф¬
рах : Математика в исторических исследо¬
ваниях. Л., 1991. С. 40—64.
101 Писарькова Л. Ф. Государственное
управление России с конца XVII до конца
XVIII века: Эволюция бюрократической
системы. М., 2007. С. 323. Оплата труда
бюрократии в XVII в. рассмотрена в кн.:
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия
в России XVII в. и ее роль в формировании
абсолютизма. Mj, 1987.
102 Писарькова Л. Ф. Государственное
управление ... С. 458.
103 Там же. С. 457, 464, 522. Вопросы
оплаты труда чиновников в первой поло¬
вине XVIII в. и денежные оклады в 1754—
1756 гг. рассмотрены в кн.: Троицкий С. М.
Русский абсолютизм и дворянство в
XVIII в.: Формирование бюрократии. М.,
1974. С. 253—267. Но изменение реального
жалованья не привлекло внимание иссле¬
дователя.
104 Писарькова Л. Ф. Российский чи¬
новник на службе в конце XVIII—первой
половине XIX в. // Человек. 1995. № 3.
С. 121—140; №4. С. 147—159.
105 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 72.
106 Там же. С. 81—84.
107 Иванов В. А. Служебная пригод-
ность или личные симпатии начальника:
окладное содержание служащих местных
государственных учреждений России в се¬
редине XIX в. // Вестник Рос. ун-та дружбы
народов. 2012. № 1. С. 20—32.
108 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 85—90.
109 Любичанковский С. В. Губернская
администрация и проблема кризиса власти
в позднеимперской России (на материалах
Урала, 1892—1914 гг.). СПб., 2007.
С. 153—156.
110 Дрыгина Н. Н. Астраханские чинов¬
ники ... С. 21—22.
111 В обоих случаях подсчитана невзве¬
шенная средняя арифметическая.
112 Доходы «от дел» в 3—5 раз пре¬
вышали размеры окладного содержания:
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия ...
С. 145.
113 Писарькова Л. Ф. Государственное
управление... С. 129—136, 230—232,
317—320.
114 Там же. С. 205—206.
115 Серов Д. О. «Взятков не имал,
а давали в почесть...» // 03. 2012. № 2 (47).
С. 211—235; Троицкий С. М. Русский
абсолютизм ... С. 253—256, 265, 267.
116 Писарькова Л. Ф. Государственное
управление ... С. 307—311.
117 Там же. С. 321. На все управление
с 282,4 до 198, 4 тыс. руб., на местное —
с 173,4 до 73,3 тыс. руб.
118 Там же. С. 536.
119 Демидова Н. Ф. Служилая бюрокра-
тия ... С. 145.
120 [Вигель Ф. Ф.]. Записки Филиппа
Филипповича Вигеля : в 7 ч. М., 1891—
1893. Ч.З. С. 23.
348
Примечания
121 Назимов М. Л. В провинции и в
Москве с 1812 по 1828 год: Из воспо¬
минаний старожила // Русский вестник.
1876. Т. 124, №7. С. 114.
122 Писаръкова Л. Ф. Государственное
управление ... С. 723—725.
123 Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в на¬
чале XIX века // Русский архив. 1899. № 4.
С. 60. См. также: Дубровин Н. Ф. После
Отечественной войны 1812 года: (Из рус¬
ской жизни начала XIX в.). Наши мистики-
сектанты / изд. подгот. П. В. Ильиным.
СПб., 2009. С. 53—54.
124 Из автобиографических записок
А. Д. Боровкова // PC. 1898. Т. 96, кн. 11.
С. 359—360.
125 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 68—69.
126 Дубровин Н. Ф. После Отечествен¬
ной войны ... С. 54.
127 Дрыгина Н. Н. Астраханские чинов¬
ники ... С. 16—24; Иванов В. А. Служеб¬
ная пригодность ... С. 20—32.
128 Энциклопедический словарь : в 41 т. /
изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб.,
1890—1904. Т. 22. СПб., 1894. С. 716;
Опыт приблизительного исчисления народ¬
ного дохода по различным его источникам
и по размерам в России. СПб., 1906.
С. XXVI.
129 Троицкий С. М. Русский абсолю¬
тизм ... С. 318—364.
130 Семевский В. И. Крестьяне в царст¬
вование императрицы Екатерины II. Т. 1.
С. 52—53.
131 Данные на середину XIX в. введены
в научный оборот В. Пинтнером. Его
выборка охватывает 4347 человек из при¬
мерно 90,1 тыс. классных чиновников в
1857 г. (Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 68—69), т. е. 5 %.
Это немало, но в этих сведениях есть
непонятные противоречия. Соотношение
крупных (I—V), средних (VI—VIII) и мел¬
ких (IX—XIV) чиновников в выборке —
12 : 27 : 60, среди служащих в центральных
учреждениях — 23 : 41 : 36, в то время как
:реди всех (в генеральной совокупно¬
сти) — 3:15: 82 (Pintner W. М. The Evolu¬
tion of Civil Officialdom, 1755—1855 // Rus¬
sian Officialdom : The Bureaucratization of
Russian Society from the Seventeenth to the
Twentieth Century / W. M. Pintner, D. K. Rowney
(eds.). Chapel Hill: The University of North
Carolina Press, 1980. P. 204—205 ; Зайонч¬
ковский П. А. Правительственный аппа¬
рат... С. 69). В выборке явный перекос
в сторону лиц высоких и средних рангов.
На одного бюрократа VI—VIII классов,
владевших крепостными, приходилось
в среднем 259 душ, а IX—XIV классов —
403. Половина учтенных Пинтнером (174
из 351) канцеляристов владела крепост¬
ными по 129 душ на одного, а среди
занятых в центральных учреждениях — по
626 душ, в то время как на одного
сановника в среднем приходилось 372
души, на среднего чиновника — 263, мел¬
кого — 196, в центральных учреждениях —
соответственно 366; 364 и 505. У Пинтнера
фигурирует 23 канцеляриста, владевших
100—500 душами, и 12 человек, имевших
более 500 душ крепостных (Pintner W. М.
The Evolution of Civil Officialdom...
P. 240). В шести выборках, приводимых
в его статье, сильно варьирует доля чи¬
новников, не владевших крепостными: от
31 до 41 % среди высших, от 27 до 67 %
среди средних и от 35 до 84 % среди
низших классов. В табл. 11.18 включены
только данные, касающиеся провинциаль¬
ной бюрократии, в которых не наблюдается
видимых внутренних противоречий. Сред¬
нее число крепостных, приходившееся на
одного чиновника в группах, владевших
(1—20), (21—100), (101—500), (501—1000)
и (1000 и больше) крепостными, опреде¬
лено по данным о распределении крепост¬
ных по категориям помещиков на 1857 г.
(Тройницкий А. Г. Крепостное население
России по 10-й народной переписи. СПб.,
1861. С. 67).
132 Федоров В. А. Помещичьи крестьяне
Центрально-промышленного района Рос¬
сии конца XVIII—первой половины XIX в.
М, 1974. С. 225—249.
133 Корелин А. П. Дворянство в поре¬
форменной России, 1861—1904 гг.: Сос¬
349
Глава 1L Уровень жизни
тав, численность, корпоративная органи¬
зация. М., 1979. С. 98.
134 Подсчитано по: Куликов С. В.:
1) Социальный облик высшей бюрократии
России накануне Февральской революции //
Из глубины веков. 1995. Вып. 5. С. 29—46 ;
2) Бюрократическая элита Российской им¬
перии накануне падения старого порядка
(1914—1917). Рязань, 2004. С. 436—443.
135 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат... С. 73, 143—148, 155—
157.
136 Дубровин Н. Ф. После Отечествен¬
ной войны ... С. 54, 75..
137 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 156.
138 Жалование коронных чиновников
в центральных учреждениях столиц было
выше, чем в местных (губернских и уезд¬
ных), а в частном секторе (банках, про¬
мышленных и торговых фирмах и т. п.)
жалованье служащих было еще выше:
Морозан В. В Чиновники Государственного
банка ... С. 25—33.
139 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. С. 228.
140 ПСЗ-1. Т. 16. № 11991 от 15.12.1763;
Т. 43, ч. 1. Книга штатов. Отд. 1. К
№ 11991. С. 63—64; Т. 17. № 12344 от
03.03.1765. Т. 43, ч. 1. Книга штатов. Отд.
1. К № 12344. С. 99—101; Т. 18. № 13363
от 03.10.1769; Т. 43, ч. 1. Книга штатов.
Отд. 1. К № 13363. С. 127—129; Т. 19.
№ 13749 от 30.01.1772; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. 1. К № 13749. С. 192; Т. 23.
№ 17244 от 22.08.1794; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. 1. К № 17244. С. 243; Т. 23.
№ 17258 от 29.09.1794; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. 1. К № 17258. С. 215; Т. 24.
№ 17993 от 22.08.1797; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. V. К № 17993. С. 22; Т. 25.
№ 18798 от 24.12.1798; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. 1. К № 18798. С. 62, 67; Т. 25.
№ 18923 от 24.12.1799; Т. 43, ч. 1. Книга
штатов. Отд. 1. К № 18923. С. 73—74;
Т. 25. № 19420 от 24.12.1799; Т. 43, ч. 1.
Книга штатов. Отд. 1. К № 19420. С. 104;
Т. 27. No 20261 от 12.05.1802; Т. 43, ч. 2.
Книга штатов. Продолжение отд. 1. К
№ 20261 С. 8—9; Т. 30. № 23603 от
22.04.1809; Т. 43, ч. 2. Книга штатов.
Продолжение отд. 1. К №23603. С. 121;
Т. 30. № 23824 от 01.09.1809; Т. 43, ч. 2.
Книга штатов. Продолжение отд. 1. К
№ 23824. С. 134—135; Т. 30. № 23996 от
20.11.1809; Т. 30. № 24027 от 12.13.1809.
Т. 43, ч. 2. Книга штатов. Продолжение
отд. 1. К № 24027. С. 158; Т. 31. № 24704 от
03.07.1811. С. 783—802; Т. 43, ч. 2. Книга
штатов. Продолжение отд. 1. К № 24704.
С. 266; Т. 33. № 26189 от 09.03.1816; Т. 43,
ч. 2. Книга штатов. Продолжение отд. 1.
К № 26189. С. 8—9; Т. 33. № 26213 от
28.03.1816; Т. 43, ч. 2. Книга штатов.
Продолжение отд. 1. К № 26213. С. 29—30;
Т. 34. 11.04.1817. № 26784; Т. 43, ч. 2. Книга
штатов. Продолжение отд. 1. К № 26784.
С. 57; Т. 34. № 26868 от 17.05.1817; Т. 43,
ч. 2. Книга штатов. Продолжение отд. 1.
К № 26868. С. 58; Т. 35. № 27335 от
03.04.1819. С. 85—94; Т. 37. № 28483 от
03.12.1820; Т. 43, ч. 2. Книга штатов.
Продолжение отд. 1. К № 28483. С. 333;
Т. 38. № 29009 от 21.04.1822; Т. 43, ч. 2.
Книга штатов. Продолжение отд. 1. К
№ 29009. С. 300; ПСЗ-И. Т. 9. Отд. 2.
№7549 от 17.11.1834. С. 1105—1139; Т. 14.
Отд. 1. № 12632 от 11.08.1839. С. 677;
Т. 14. Отд. 1. № 12896 от 16.11.1839.
С. 872. См. также: Военная энциклопедия.
СПб., 1912. Т. 9. С. 147 ; Военно-статисти¬
ческий сборник. Вып. 4 : Россия / Н. Н. Об¬
ручев (ред.). СПб., 1871. Отд. 2. С. 155;
Волков С. В. Русский офицерский корпус.
С. 344—347, табл. 54—64 ; Защук К И.
Содержание офицеров и врачей : (Сборник
выдержек из Свода военных постанов¬
лений, приказов, циркуляров и т. п.). СПб.,
1913.
141 ПСЗ-1. Т. 16. № 11735 от 14.01.1763;
Т. 43, ч. 1. Книга штатов. Отд. 1. К
№ 11735. С. 4.
142 См.: ПСЗ-Н. Т. 48. 1873 г. Отд. 1.
№52219 от 06.05.1873. Об учреждении
Лейб-гвардии резервного пехотного полка.
С. 598. Отд. 3. Штаты и табели. К № 52219.
С. 161—165. См. также: Бочаров А. А.
Улучшение положения нижних чинов воен-
350
Примечания
но-морского флота России в 50—70-х гг.
XIX в. // ВИ. 2014. № 10. С. 126—132.
143 В 1710-е гг. Петр I для чиновников,
как для офицеров, установил жалованье от
короны, но из-за отсутствия в казне средств
аппарат сократили, а выполнение многих
дел возложили на представителей органов
самоуправления. В 1726 г., после смерти
Петра, вследствие финансовых трудностей,
денежное жалованье для большинства чи¬
новников было окончательно отменено и в
1763 г. восстановлено Екатериной II:
Писаръкова Л. Ф. Государственное управ¬
ление ... С. 205—206, 307—311.
144 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. С. 269.
145 Раскин Д. И. Исторические реалии
российской государственности... С. 776;
Экштут С. Безгрешные доходы ...
146 Города России в 1904 году. СПб.,
1906. С. 23, 98—99, 261—265, 036—037,
0117, 0181, 0252—0253, 0331, 0389, 0429,
0450; Города России в 1910 году. С. 30,
118—119, 264—265, 434—435, 606—607,
732, 820—821, 946—947, 1048, 1118.
147 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. С. 205, 342.
148 Макшеев Ф. А. О размерах содер¬
жания офицерам и военным чиновникам //
Военный сборник. 1901. № 8 ; Справочная
книжка офицера / В. Малинко (сост.).
7-е изд. М., 1915 ; Веремеев Ю. Служба
офицеров в России в 1913 году. URL:
http://army.armor.kiev.ua/hist/voen-ofizer-
1913.php (дата обращения: 17.04.2015).
ш Справочная книжка офицера.
С. 125—128. См. также: Суряев Я Н
«Военная служба...» ... С. 52—53.
150 Миронов Б. Н. Благосостояние
населения и революции в имперской
России: XVIII—начало XX века. 2-е изд.
М., 2012. С. 424.
151 Писаръкова Л. Ф. Государственное
управление ... С. 224—225.
152 ПСЗ-Н. Т. 13. № 11818 от
06.12.1838. С. 380.
153 Кроме тех работ, которые будут
использоваться дальше, укажу некоторые
важные работы и диссертации по социаль¬
ной истории РПЦ, в каждой из которых
имеется историография: Адаменко А. М.
Приходы Русской православной церкви на
юге Тобольской епархии в XVII—XIX вв.:
дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1998;
Ас Очакова В. Н. Русская православная
церковь в истории Хакасско-Минусинского
края в XVIII—первой четверти XIX в.
(структура, личный состав, политико¬
идеологические функции): дис канд. ист.
наук. Красноярск, 1999 ; Зольникова Н. Д.
Сибирская приходская община в XVIII ве¬
ке. Новосибирск, 1990 ; Зубанова С. Г.
Социальное служение Русской Пра¬
вославной Церкви в XIX веке. 2-е изд. М.,
2009 (историографический обзор: С. 215—
267); Камкин А. В. Православная церковь
на севере России : Очерки истории до 1917
года. Вологда, 1992 ; Конюченко А. И. Тона
и полутона православного белого духо¬
венства России (вторая половина XIX—
начало XX века). Челябинск, 2006 ; Ку-
чумова Л. И. Православный приход в кон¬
цепции церкви и государства и общест¬
венная мысль в России на рубеже 1850—
1860 годов // Православие и русская народ¬
ная культура / М. М. Громыко (ред.). М.,
1993. Кн. 2. С. 158—199; Николаев А. П.
Приходская община новокрещенных Севе¬
ро-Западной Сибири : дис. ... канд. ист.
наук. Новосибирск, 1996 ; Пулъкин М. В.
Сельские приходы Олонецкой епархии во
второй половине XVIII в.: дис. ... канд.
ист. наук. СПб., 1995 ; Пушкарев С. Г.
Историография Русской православной
церкви // ЖМП. 1998. № 5. С. 67—79; № 6.
С. 46—61 ; Римский С. В.: 1) Русская
Православная Церковь в XIX в. Ростов н/Д,
1997; 2) Православная Церковь и госу¬
дарство в XIX в. Ростов н/Д, 1998 ; Русское
православие: вехи истории / А. И. Кли-
банов (ред.). М., 1989; Федоров В. А.
Русская православная церковь и госу¬
дарство. Синодальный период, 1700—1917.
М., 2003; Фирсов С. Л. Православная
Церковь и Российское государство в конце
XIX начале XX века: Проблема взаимо¬
отношений духовной и светской власти.
СПб., 1994; Фриз Г. Церковь, религия
351
Глава 11. Уровень жизни
и политическая культура на закате старой
России // ИСССР. 1991. № 2. С. 107—118 ;
Шмелев Г. М. Русская православная цер¬
ковь, ее деятельность и экономика до и
после 1917 года // ВИ. 2003. № 11. С. 36—
51 ; Юрганова И. И. История Якутской
епархии, 1870—1919 гг. (деятельность
духовной консистории) / Д. А. Ширина
(ред.). Якутск, 2003.
154 Мухин И. Н. Приходское духо¬
венство в конце XVIII—начале XX в.: По
материалам Егорьевского уезда Рязанской
епархии : дис. ... канд. ист. наук. Рязань,
2006. С. 29—30.
155 Бабушкина О. Ю. Приходское духо¬
венство Южного Зауралья в 60-е годы
XIX—начале XX вв. : дис. ... канд. ист.
наук. Курган, 2002; Белова Н. В. Про¬
винциальное духовенство в конце XVIII—
начале XX в.: Быт и нравы сословия (на
материалах Ярославской епархии): дис. ...
канд. ист. наук. Иваново, 2008 ; Белоного¬
ва Ю. И. Приходское духовенство и
крестьянский мир в начале XX века (по
материалам Московской епархии). М.,
2010; Гончаров Ю. М. Материальное по¬
ложение городского духовенства Сибири
во второй половине XIX—начале XX вв. //
Исторический опыт хозяйственного и куль¬
турного освоения Западной Сибири : Чет¬
вертые науч. чтения памяти проф. А. П. Бо¬
родавкина : в 2 кн. Барнаул, 2003. Кн. 2.
С. 184—188 ; Дрибас Л. К. Образ жизни
духовенства губернских и областных цент¬
ров Восточной Сибири во второй половине
XIX века : дис. ... канд. ист. наук. Иркутск,
2005. С. 162—188; Макарчева Е. Б. Сос¬
ловные проблемы духовенства Сибири
и церковное образование в конце XVIII—
первой половине XIX в.: По материалам
Тобольской епархии: дис. ... канд. ист.
наук. Новосибирск, 2001 ; Морозан В. В.
Экономическое положение Русской Пра¬
вославной Церкви в конце XIX—начале
XX вв. // Нестор. 2000 г. № 1. С. 330;
Рогачев М. Б. Приходское духовенство
Коми края в конце XIX—начале XX вв. //
Вестник культуры. 2000. №1. С. 9—17;
Скутнев А. В. Православное духовенство
на закате Империи. Киров, 2009. С. 143;
Фирсов С. Л. Российская Церковь накануне
перемен (конец 1890-х—1918 г.) М., 2002.
См. также: Кильчевский В. Богатства и до¬
ходы духовенства. СПб., 1908 ; Curtiss J. S.
Church and State in Russia: The Last Years
of the Empire, 1900—1917. New York: Oc¬
tagon Books, 1965.
156 Есипова В. А. Приходское духо¬
венство Западной Сибири в период реформ
и контрреформ второй половины XIX ве¬
ка : (На материалах Томской епархии):
дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1996;
Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс : Пра¬
вославное сельское духовенство России
во второй половине XIX в. М., 2002;
Сушко А. В. Духовные семинарии в поре¬
форменной России (1861—1884 гг.). СПб.,
2010. С. 91—99, 178—188. См. также
классические работы: Белл юс тин И. С.
Описание сельского духовенства. Paris;
Berlin ; London : A. Franck : A. Asher et C°,
1858; Ростиславов Д. И. О православном
белом и черном духовенстве в России:
в 2 т. Лейпциг, 1866.
157 Белова Н. В. Провинциальное духо¬
венство ... ; Белоногова Ю. И. Приходское
духовенство ... ; Ершова Н. А. Приходское
духовенство Петербургской епархии в
XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук. СПб.
1992; Мухин И. Н. Приходское духо¬
венство ... С. 30—31 ; Макарчева Е. Б.
Сословные проблемы ... ; Мухортова И. А.
Новые формы обеспечения духовенства
прихожанами городских церковных общин
в Сибири (вторая половина XVIII—60-е гг.
XIX в.) // Духовная культура народов
Сибири: традиции и новации : сб. науч.
трудов. Новосибирск, 2001. С. 15—36.
158 См., например: Ключарева А. В.
Жизнедеятельность православного прихода
в русской провинции в 1881—1917 гг.
(по материалам Тульской епархии): ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. Орел, 2009.
С. 19.
159 Мухортова Н. А. Городская при¬
ходская община в Западной Сибири во
второй половине XVIII в.—60-х гг. XIX в.:
дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2000;
352
Примечания
Наумова О. Е. Иркутская епархия в
XVIII—первой половине XIX в. Иркутск,
1996. URL: http://mion.isu.ru/filearchive/mion_
publcations/church/2_6.html (дата обращения:
17.12.2014).
160 Смолин И. К. История Русской
Церкви, 1700—1917: [в 9 кн.]. М., 1996.
Кн. 8, ч. 1.С. 357—371.
161 Трегубов С. И. Религиозный быт
русских и состояние духовенства в XVIII в.
по мемуарам иностранцев. М., 2015.
С. 174—183.
162 Семевский В. И. Сельский священ¬
ник во второй половине XVIII в. // PC.
1877. Т. 19, № 8. С. 503—520. Автор
использовал такой редкий источник, как
«Записная книга» священника с. Иваньково
Ярославского уезда за 1774—1780 гг.
163 ПСЗ-И. Т. 48, ч. 1. С. 366—372.
№52048 от 24.03.1873.
164 Васина С. М. Приходское духо¬
венство Марийского края в XIX—XX вв.:
дис. ... канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2003.
С. 182—208.
165 Freeze G. L.: 1) The Russian Levities :
Parish Clergy in the Eighteenth Century.
Cambridge, MA ; London: Harvard Univer¬
sity Press, 1977. P. 166 ; 2) The Parish Clergy
in Nineteenth Century Russia : Crisis, Reform,
Counter-Reform. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1983. P. 55—56.
166 Знаменский П. В. Приходское духо¬
венство в России со времени реформы
Петра. Казань, 1873. С. 673.
167 Размеры платы за требы были опре¬
делены Комиссией по церковным имениям,
утверждены Екатериной II и опубликованы
в форме указов Сената (ПСЗ-I. Т. 17.
С. 117. № 12378 от 18.04.1765) и Синода
(Полное собрание постановлений и распо¬
ряжений по ведомству православного
вероисповедания Российской империи:
Царствование государыни императрицы
Екатерины Второй : в 3 т. СПб., 1910—
1915. Т. 1. № 225).
168 Наумова О. Е. Иркутская епархия ...
С. 141.
169 Розанов Н. П. История Московского
епархиального управления со времени
учреждения Св. Синода (1721—1821): в 3 т.
М., 1866—1871. Т. 2, кн. 1. С. 337 ; Free¬
ze G. L. The Russian Levities ... P. 166.
170 ПСЗ-I. T. 26. C. 605—606. № 19816
от 03.04.1801. См. также: Григорович H.
Обзор общих законоположений о содержа¬
нии православного приходского духовенст¬
ва в России со времени введения штатов по
духовному ведомству (1764—1863). СПб.,
1867. С. 50; Полное собрание постанов¬
лений и распоряжений по ведомству пра¬
вославного вероисповедания Российской
империи: Царствование государя имп.
Николая I, 1825 (дек. 12)—1835 гг. Пг.,
1915. Т. 1. № 184.
171 Римский С. В. Российская церковь
в эпоху Великих реформ : (Церковные
реформы в России 1860—1870-х гг.). М.,
1999. С. 115, 212 ; Пулъкин М. В. Обес¬
печение белого духовенства в XVIII—
начале XX в.: закон и традиция (по ма¬
териалам Олонецкой епархии) // Евразия:
духовные традиции народов. 2012. № 3.
С. 190—191.
172 Freeze G. L. The Parish Clergy ...
P. 266.
173 Санников А. П. Церковное служение
и деятельность приходского духовенства
на территории Иркутской губернии в
XVII—XVIII вв. // Конфессии народов
Сибири в XVII—начале XX веков: разви¬
тие и взаимодействие. Иркутск, 2005. С. 96.
174 Сводный сборник по 12 уездам Во¬
ронежской губернии. Воронеж, 1897. Табл.
41. С. 615.
175 Морозан В. В. Экономическое поло¬
жение ... С. 329. Сведения относятся к 17
«средним приходам» одной из небогатых
восточных епархий.
176 Сводный сборник по 12 уездам
Воронежской губернии. Табл. 32. С. 574.
Аналогичные сведения имеются и по дру¬
гим губерниям.
177 ПСЗ-I. Т. 26. С. 605—606. № 19816
от 03.04.1801 ; Полное собрание постанов¬
лений и распоряжений по ведомству
православного вероисповедания Российс¬
кой империи : Царствование государя имп.
Николая I. Т. 1. № 184; Вопрос об обес¬
353
Гшва 11. Уровень жизни
печении духовенства в России казенным
жалованием // Приходская жизнь. 1916.
№ 10. С. 596.
178 Морозан В. В. Экономическое поло¬
жение... С. 329. По результатам обсле¬
дования, плата за первое венчание сос¬
тавляла 6 руб., но в других губерниях плата
была ниже — 2—3 руб. (Щербина Ф. А.
Крестьянские бюджеты : в 2 ч. Воронеж,
1900. Ч. 2. С. 461). Во избежание преуве¬
личения доходов духовенства, расчеты
сделаны исходя из платы по 3 руб.
179 Миронов Б. Я. Благосостояние на¬
селения ... С. 515—522.
180 Знаменский П. В. О способах со¬
держания русского духовенства в XVII и
XVIII в. // Православный собеседник. 1865.
№ 3. С. 145—188 ; Семевский В. И. Сельс¬
кий священник ... С. 501—538.
181 Freeze G. L. The Russian Levities ...
P. 120.
182 Наумова О. E. Иркутская епархия ...
183 Григорович Н. Обзор общих зако¬
ноположений ... С. 60 ; Филарет (Дроздов),
митр. Собр. мнений и отзывов... по
учебным и церковно-государственным воп¬
росам : в 5 т. М., 1885—1888. Т. 2. С. 225—
238, 426—447, 429—442. Перевод на се¬
ребро сделан по: Миронов Б. Я Хлебные
цены ... С. 37. См. также: Дашковская О. Д.
Российское законодательство об экономи¬
ческом положении русской православной
церкви в конце XVIII—первой половине
XIX века. URL: http://do.gendocs.ru/
docs/index-131324.html (дата обращения:
25.08.2013).
184 Freeze G. L. The Parish Clergy ...
P. 51.
185 Ibid. P.55.
186 Ibid. P. 407. В Олонецкой епархии
в 1879 г., по данным епископа, в сред¬
нем священник зарабатывал при совер¬
шении треб от 80 до 120 руб. в год
(Пулькин М. В. Обеспечение белого духо¬
венства ... С. 191).
,87Общий обзор проблемы доходов от
требоисполнения в синодальный период
см.: Смолин И. К. История Русской Церкви.
Кн. 8. ч. 1. С. 357—371. Обеспечение ду¬
ховенства за счет треб в Ярославской
и Рязанской епархиях: Дашковская О. Д.
Ярославская епархия в конце XVIII—
начале XX в.: Проблемы экономического
развития: дис. ... канд. ист. наук.
Ярославль, 2005. С. 107—147 ; Мухин И. Н.
Приходское духовенство ... С. 176—182—184.
188 Миронов Б. Н. Благосостояние
населения ... С. 251.
189 Freeze G. L. The Russian Levities...
P. 127—128.
190 ПСЗ-I. T. 26. C. 415—417. № 19674
от 30.11.1800.
191 Григорович Я. Обзор общих законо¬
положений ... С. 53—54.
192 Там же. С. 69—70.
193 Данные о землепользовании прин¬
тов за 1909 г. доставлены в Хозяйственное
управление Св. Синода епархиями в 1910 г.
Они охватили 65 епархий из 66 и примерно
93 % приходов: РГИА. Ф. 799 (Хозяйст¬
венное управление Св. Синода). Оп. 15.
Д. 1203. См.: Морозан В. В. Экономическое
положение ... С. 324—328.
194 Обязанности просвирни, занимаю¬
щейся выпечкой просфоры, выполняли
женщины, но они не являлись церковно¬
служителями.
195 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 79.
196 Общий обзор проблемы приходс¬
кого землевладения в период империи см.:
Смолич И. К. История Русской Церкви.
Кн. 8. ч. 1. С. 357—371. Обеспечение ярос¬
лавского и рязанского духовенства землей
в XVIII—начале XX в.: Дашковская О. Д.
Ярославская епархия... С. 148—164;
Мухин И. Я. Приходское духовенство ...
С. 188—199.
197 Материалы комиссии 1901 г. Ч. I.
С.153.
198 Там же. С. 147.
199 Материалы для статистики России,
собираемые по ведомству Министерства
государственных имуществ. Вып. 1. С. 16,
30; Вып. 2. С. 189; СПб., 1861. Вып. 4.
С. 86, 88; Вып. 5. Отд. В. С. 25, 30;
Материалы комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 199;
Хозяйственно-статистические материалы,
354
Примечания
собираемые комиссиями и отрядами урав¬
нения денежных сборов с государственных
крестьян. СПб., 1857. Вып. 2. С. 30, 68, 73.
200 Белова Н. В. Провинциальное
духовенство... В 1863 г. жилые поме¬
щения от общины имели 89 приходов,
в 1869 г. — 188 (за общее число приходов
ориентировочно принято число сельских
обществ в губернии в 1909 г., равное 1771:
Ежегодник России, 1910 г. СПб., 1911.
С. 15); Мухин И. Н. Приходское духо¬
венство ... С. 199—202.
201 Дрибас Л. К. Образ жизни духовен¬
ства ... Жилищные условия у крестьянства,
с одной стороны, и сельских дьячков,
чтецов и других церковнослужителей —
с другой, были примерно одинаковыми, но
хуже, чем у дьяконов и особенно свя¬
щенников. Дома последних напоминали
дома мелкопоместного дворянства и сельс¬
кой интеллигенции. Кроме того, если
жилище духовенства со временем несом¬
ненно улучшалось, то крестьянская изба
как тип жилища оказалась мало воспри¬
имчивой к переменам, происходившим
в урбанистическом пространстве: Эдель-
ман Р. Организация жилого пространства
в русском крестьянском доме, 1880—1930 гг. //
Жилище в России: век XX: Архитектура
и социальная история: моногр. сб. /
У. К. Брумфилд, Б. А. Рубл (ред.). М., 2002.
С. 7. В течение всего периода империи
средние размеры избы в разных местностях
и среди разных категорий и социальных
групп крестьян колебались от 4 х 4 до 5,5 х
6,5 м — в среднем площадь типичного
трехсаженного сруба составляла около
40 м2; «чистая» внутренняя площадь (за
исключением печки, занимавшей четвер¬
тую-пятую часть избы) на одного человека
в зависимости от числа членов семьи со¬
ставляла от 3 до 5 м2. Главным ограни¬
чителем величины жилого пространства
являлось отопление. В богатых лесом
местностях крестьянин физически не мог
заготовить столько дров, чтобы иметь
в доме несколько комнат, оборудованных
печами, а в бедных лесом местностях дрова
были непомерно дорогими: Чижикова Л. Н.
Сельские жилища ... С. 280 ; Шипилов А. В.
В тесноте... С. 137—138, 144.
202 Григорович Н. Обзор общих зако¬
ноположений ... С. 28 ; Freeze G. L. The
Russian Levities ... P. 120—125.
203 ПСЗ-I. T. 30. № 23122 от 26.06.1808.
См. также: Смолич И. К. История Русской
Церкви. Кн. 8. ч. 1. С. 357—371.
204 В 1829 г. было увеличено содер¬
жание монастырей: Положение о способах
к улучшению состояния духовенства. [Утв.
6 дек. 1829 г.]. Штаты мужских и женских
монастырей епархиального ведомства, полу¬
чающих содержание от казны. СПб., 1829.
205 ПСЗ-Н. Т. 4. С. 833—838. № 3323 от
06.12.1829. Об усилении вящих способов
к образованию духовного юношества и к
обеспечению церковных принтов в без¬
бедном содержании (наделение землей,
с. 836—837); Григорович Н. Обзор общих
законоположений ... С. 77—78, 88—89,
105 ; Смолич И. К. История Русской Церк¬
ви. Кн. 8.ч. 1.С. 357—371.
206 Freeze G. L. The Parish Clergy...
P. 453. По мнению Полунова, в России по
состоянию на 1904 г. «дотации от госу¬
дарства получало лишь около 60 % ду¬
ховенства, причем на каждый причт в сред¬
нем приходилось около 430 руб., что было
совершенно недостаточно для минимально
обеспеченного существования (Полунов А. Ю.
К. П. Победоносцев в общественно-полити¬
ческой и духовной жизни России. М., 2010.
С. 243).
207 Смолич И. К. История Русской
Церкви. Кн. 8. ч. 1. С. 357—371.
208 ^
О дотировании приходского духо¬
венства см.: Там же. Субсидии в Ярос¬
лавской и Рязанской епархии: Дашков-
ская О. Д. Ярославская епархия ... С. 66—
91 ; Мухин И. Н. Приходское духовенст¬
во ... С. 177—181.
209 Теодорович Т. П. К сорокалетию
пастырства (1895—1935): в 2 т. Варшава,
1935. Т. 2. С. 109.
210 Смолич И. К. История Русской
Церкви. Кн. 8. ч. 1. С. 357—371.
211 Дашковская О. Д. Ярославская
епархия ... С. 231—236. См. также: Бело-
355
Глава 11. Уровень жизни
ва Н. В. Провинциальное духовенство ... ;
Мухин И. Н. Приходское духовенство ...
С. 184—188.
212 Морозан В. В. Экономическое поло¬
жение ... С. 330.
213 Нормативное различие в доходах
между протоиереем, священником, дьяко¬
ном и псаломщиком находилось в про¬
порции 4:3:2: 1 (Всеподданнейший отчет
обер-прокурора Святейшего Синода по ве¬
домству православного исповедания за 1913.
СПб., 1915. С. 179). См. также: Высочайше
утвержденные Правила о местных средст¬
вах содержания православного приходс¬
кого духовенства и о разделе сих средств
между членами причта // ПСЗ-Н. Т. 48, ч. 1.
С. 366—372. № 52048 от 24.03.1873.
214 ПСЗ-1. Т. 11. С. 668—669. № 8625 от
06.10.1742; Т. 14. № 10780 от 15.11.1757;
Т. 35. №27405 от 11.07.1818.
215 Например, в Вятской епархии в по¬
реформенное время срок работы до по¬
священия в сан в Вятской епархии сокра¬
тился с 4 до 2 лет и 8 месяцев, а число мест
службы в течение карьеры, наоборот, уве¬
личилось с 3 до 5 приходов: Скутнев А. В.
Православное духовенство ...
216 Смолич И. К. История Русской
Церкви. Кн. 8. ч. 1. С. 357—371. Как осу¬
ществлялось социальное обеспечение духо¬
венства на местах см.: Дашковская О. Д.
Ярославская епархия... С. 92—107; Му¬
хин И. Н. Приходское духовенство ...
С. 202—209.
217 О мерах к улучшению материаль¬
ного положения православного сельского
духовенства: (По высоч. учрежденному
Присутствию по делам православного
духовенства). СПб., 1880. С. 1—37.
218 Морозан В. )В. Экономическое поло¬
жение ... С. 329. «Столь большая разница
объясняется тем, что одни годы были более
урожайными, чем другие. Не везде широко
практиковался сбор натуральных продук¬
тов. В частности, менее всего собирали
продукты с мирян в тех приходах, в ко¬
торых имелась доходная земля и причты
получали казенное жалование. В некото¬
рых местах имелись и натуральные сборы,
и причтовая земля или и земля и жалование
от прихода» (Там же).
219 Михайловский В. Г. Урожаи в Рос¬
сии: 1801—1924 гг. // Бюллетень ЦСУ.
1921. №50. С. 4.
220 Натуральный доход рассчитан по
нижнесреднему по урожайности 1908 г.
221 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 37.
222 Щербина Ф. А. Крестьянские бюд¬
жеты. Ч. 2. С. 275, 283.
223 Наказ Святейшего Синода в Комис¬
сию о сочинении проекта нового Уложе¬
ния // Сб. РИО. 1885. Т. 43. С. 42—62;
Наказ приходского духовенства г. Вереи
в Комиссию о сочинении проекта Нового
Уложения // Там же. 1894. Т. 93. С. 252—
253 ; Покровский И. М. Екатерининская
комиссия о составлении проекта нового
Уложения и церковные вопросы в ней.
Казань, 1910; Прилежаев Е. М. Наказ
и пункты депутату от Святейшего Синода
в Екатерининскую комиссию о сочинении
нового Уложения // Христианское чтение.
1876. Т. 2. С. 223—265 ; From Supplication
to Revolution : A Documentary Social History
of Imperial Russia / G. L. Freeze (ed.). New
York; Oxford: Oxford University Press,
1988. P. 37—44.
224 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. С. 44—45.
225 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих ... С. 425.
226 Миронов Б. Н. Благосостояние
населения ... С. 426..
227 Статистические материалы по во¬
лостному и сельскому управлению 34 гу¬
берний, в коих введены земские уста¬
новления : (Составлено в канцелярии высо¬
чайше учрежденной Особой комиссии для
составления проектов местного управле¬
ния). СПб., 1885. Табл. За.
228 Антипыч и Прокофьич : (Из воспо¬
минаний старого священника) // Христиа¬
нин. 1909. № 6/7. С. 431—437 ; Брянцев Н. П.
Почивший о господе священник о. Петр
Дмитриевич Брянцев. Казань, 1899; Вос¬
поминания о покойном о. протоиерее села
Лежнева Ковровского уезда, Льве Ива¬
356
Примечания
новиче Полисадове // Владимирские епар¬
хиальные ведомости. 1877. № 17. С. 911—
918; Воспоминания о священнике Смо¬
ленской епархии о. Прозоре [Софониевиче]
Малышкине // Смоленские епархиальные
ведомости. 1901. № 6. С. 324—333; Га¬
лахов И. Пастырь добрый // Тверские
епархиальные ведомости. 1903. № 7—8.
С. 188—194; Евстратий [Голованский,
Иоанн Антонович (1811—?)]. Исповедь
инока: (Автобиография). 2-е изд. Киев,
1872; Записная книга Пинегеных // Труды
Вятской ученой архивной комиссии. 1916.
Вып. 1/2. Отд. 3. С. 82—95; Картины
прошлого: (Из семейной хроники священ¬
ника) // Ярославские епархиальные ведо¬
мости. 1900. № 42—48 ; Коринейский А.
Жизнь сельского священника: (К пятиде¬
сятилетию служения в священном сане
настоятеля Св.-Троицкой церкви села Ар¬
хангельского, Мышкинского уезда, Ярос¬
лавской епархии, о. Александра Василье¬
вича Голосова [1842—после 1915]). Тверь,
1915 ; Кузминский Г И. Черта из жизни
С.-Петербургского митрополита Гавриила
в царствование Екатерины II // PC. 1875.
Т. 14, № 9. С. 202—204; Кулагин М
Воспоминания об умершем заштатном
священнике села Спас-Углов, Духов-
щинского уезда [Смоленской губернии],
отце Иоанне Симеоновиче Ляшкевиче //
Смоленские епархиальные ведомости.
1894. № 22. С. 975—979; Манжелей А.
Исидор Каленников Кривей // Херсонские
епархиальные ведомости. 1870. № 16.
С. 534—544; Материалы для биографии
Ржевского протоиерея М. А. Константи-
новского (1791—1857) // Душеполезное
чтение. 1909. Ч. 1. № 4. С. 587—596; Ч. 2.
№ 5. С. 60—72; № 6. С. 243—255;
Мирославский В. Епархиальный админист¬
ратор в первой половине XIX в.: Из
воспоминаний о высокопреосвященном Ев¬
гении (Казанцеве), архиепископе Ярос¬
лавском (1836—1854) // Пастырский собе¬
седник. 1885. № 17. С. 5—11 ; Михайлов А. М.
Умственный взор на протекшие лета моей
жизни от колыбели и до гроба (1778—
1825) // Душеполезное чтение. 1894. Ч. 3,
№ 10—12 ; Неученый священник : (биогр.
очерк) // Пензенские епархиальные ведо¬
мости. 1884. № 1. С. 13—19 ; Павловский М.
Из воспоминаний псаломщика // Новго¬
родские епархиальные ведомости. 1904.
№ 11. С. 749—752; Панов Н. Дневник
священника // Душеспасительное чтение.
1874. Ч. 2, № 5. С. 103—128 ; Пашин П.
Воспоминания о жизни и кончине про¬
тоиерея Успенской церкви г. Дорогобужа
Иакова Николаевича Пляшкевича // Смо¬
ленские епархиальные ведомости. 1904.
№ 4. С. 243—249 ; Петров Л. П. Воспо¬
минания протоиерея Леонида Петрова.
СПб., 1909; Розанов А. И Записки сельс¬
кого священника: Быт и нравы сельского
духовенства. СПб., 1882; Попов М. С.
Воспоминание о трудолюбивом дьячке //
Пермские епархиальные ведомости. 1888.
№ 9. С. 160—161 ; Протоиерей Иаков
Семенович Каллистов : (Воспоминания ду¬
ховного сына) // Душеспасительное чтение.
1875. Ч. 3, № 11. С. 329—342 ; Путятин Р. Т.
Дневник о. протоиерея Родиона Путятина //
Христианин. 1909. Т. 1, № 1—3; Т. 2,
№ 5—8; Т. 3, № 9—12; Пятидесятилетие
священнослужения протоиерея о. Николая
Степановича Рознатовского // Прибавления
к Черниговским епархиальным ведомос¬
тям. 1907. № 19. С. 672—678; № 20.
С. 704—716 ; Пятидесятилетний юбилей
священства // Новгородские епархиальные
ведомости. 1900. № 10. С. 641—653;
Ремезов А. Страничка из ближайшего
прошлого // Екатеринославские епархиаль¬
ные ведомости. 1911. № 28. С. 694—698;
Рука об руку : (Из воспоминаний сельской
матушки) // Народное образование. 1902.
Т. 2, кн. 12. С. 509—514 ; Сильвестров А.
Рождение, воспитание, жизнь и некоторые
приключения бывшего села Вашки свя¬
щенника Афанасия Сильвестрова, а ныне
в иночестве иеромонаха Захарии // PC.
1889. Т. 61, № 2. С. 369—375 ; Скопин Г. А.
Дневная записка пешеходца — саратовс¬
кого церковника из Саратова до Киева по
разным городам и селам. Бытие в Киеве
и обратно из Киева до Саратова // Сара¬
товский исторический сборник. 1881. Т. 1.
357
Гшва 11. Уровень жизни
С. I—VIII, 41—74 ; Сладкогласов С. П. Из
рассказов духовного ветерана // Пензен¬
ские епархиальные ведомости. 1891. № 21,
23, 24; 1892. № 1, 5, 6; Смирнов Ф. Из
воспоминаний сельского иерея // Архан¬
гельские епархиальные ведомости. 1903.
№ 15. С. 519—526; Соколов К М. Отец
Петр [Александрович] Соколов // Смо¬
ленские епархиальные ведомости. 1892.
№10. С. 447—456 ; Столыпин Д. А. Свя¬
щенник Александр Афанасьевич Столы¬
пин // Пензенские епархиальные ведомос¬
ти. 1894. № 24. С. 1107—1112. См. также:
Белоногова Ю. И. Приходское духовенст¬
во ... С. 131—154; Мухин И К При¬
ходское духовенство... С. 30—31; Про¬
кофьев А. В. Приходская реформа 1864
года и ее влияние на самосознание сельс¬
кого приходского духовенства : дис. ...
канд. ист. наук. М., 2010. С. 20 ; Скут-
нев А. В. Православное духовенство...
С. 149—226.
229 Розов А. Н. Священник в духовной
жизни русской деревни. СПб., 2003. С. 15,
30—31,38—39.
230 Белоногова Ю. И. Приходское духо¬
венство ... Гл. 1, § 4 : Служба и материаль¬
ное обеспечение. См. также: Мухин И. Н.
Приходское духовенство ...; Прокофьев А. В.
Приходская реформа ... С. 21 ; Розов А. Н.
Священник ... С. 39.
231 Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс ...
С. 244.
232 Myxopmoea Н. А. Городская при¬
ходская община...
233 Сайт-путеводитель по истории ми¬
рового искусства. URL: http://la-fa.ru/old/
revolutionl22.html (дата обращения:
04.01.2014).
234 Мухин И. Н. Приходское духовенст¬
во ... С. 30—31.
235 Прокофьев А. В. Приходская рефор¬
ма ... С. 22
236 Freeze G. L. The Parish Clergy...
P. 84, 86.
237 Ibid. P. 267, 407.
238 Белоногова Ю. И. Приходское ду¬
ховенство ... ; Скутнев А. В. Приходское
духовенство в условиях кризиса Русской
православной церкви во второй половине
XIX в.—1917 г.: На материалах Вятской
епархии : дис. ... канд. ист. наук. Киров,
2005. С. 81—104.
239 Скутнев А. В. Приходское духо¬
венство ... С. 81—104.
240 Дагиковская О. Д Ярославская
епархия ...
241 Общий свод данных переписи 1897 г.
Т. 2. С. 260—295.
242 Рубакин Я А. Россия в цифрах:
Страна. Народ. Сословия. Классы : Опыт
статистической характеристики сословно¬
классового состава населения русского
государства (на основании официальных
и научных исследований). СПб., 1912. С. 90.
243 Миронов Б. Н. Благосостояние насе¬
ления ... С. 601—605.
244 С 1870-х по 1911—1913 гг. номи¬
нальный средний годовой заработок
учителей земских школ увеличился со 135
до 390 руб., с квартирой и отоплением от
школы: Зубков И. В. Учительская интел¬
лигенция России в конце XIX—начала
XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.,
2008. С. 9—11, 14—15, 17.
245 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих ... С. 104, 242—259, 270—271.
246 Валетов Т. Я. Фабричное законо¬
дательство в России до Октябрьской рево¬
люции // Экономическое обозрение. 2007.
Вып. 13. С. 34—44 ; Gorshkov В. Towards а
Comprehensive Law ... Р. 65.
247 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 226; Минц Л. Е. Отход крестьянского
населения на заработки в СССР. С. 16—24.
248 Подсчитано по: Казанцев Б. Н
Рабочие Москвы и Московской губернии
в середине XIX века (40—50-е годы). М.,
1976. С. 71—74.
249 Рашин А. Г. Формирование рабочего
класса России : ист.-экон. очерки. М., 1958.
С.573.
250 Там же. С. 215, 217, 230, 253, 257,
266.
251 Численность и состав рабочих в Рос¬
сии на основании данных первой всеобщей
переписи населения Российской империи
1897 г. : в 2 т. СПб., 1906. С. XIII.
358
Примечания
252 Волков С. В. Русский офицерский
корпус. С. 349.
253 Попроцкий М. Калужская губерния :
в 2 ч. СПб., 1864. (Материалы для геог¬
рафии...). Ч. 2. С. 309.
254 Грегори П. Экономический рост
Российской империи (конец XIX—начало
XX в.): Новые подсчеты и оценки. М.,
2003. Р. 237; Налоговое бремя в СССР
и иностранных государствах : (Очерки по
теории и методологии вопроса) / П. П. Ген-
зел и др. (ред.). М., 1928. С. 150—152.
255 Рабинович М. Д. Социальное проис¬
хождение и имущественное положение
офицеров регулярной русской армии в кон¬
це Северной войны // Россия в период
реформ Петра I / Н. И. Павленко (ред.). М.,
1973. С. 171 (1720 г.); Троицкий С М.
Русский абсолютизм ... С. 222 (1750-е гг.);
Корелин А. П. Дворянство ... С. 86 (1864,
1874, 1897 гг.); Волков С. В. Русский
офицерский корпус. С. 269—270, 320, 352
(1813, 1844, 1912 гг.).
256 Троицкий С. М. Русский абсолю¬
тизм ... С. 213—215 (1755 г.); Pintner W. М.
The Evolution of Civil Officialdom ...
P. 197—200 (1795—1805, 1840—1855 гг.);
Корелин А. П. Дворянство ... С. 94 (1897 г.).
257 Зайончковский П. А. Правительст¬
венный аппарат ... С. 66.
258 Миронов Б. //. Благосостояние насе¬
ления ... С. 198—214.
259 Бузин В. С. Этнография русских.
СПб., 2007. С. 248—273 ; Липинская В. А.
Пища и утварь // Этнография восточных
славян : Очерки традиционной культуры /
К. В. Чистов (ред.). М., 1987. С. 292—307 ;
Народы Европейской части СССР : в 2 т.
М, 1964. Т. 1 / В. А. Александров и др.
(ред.). С. 393—400, 677—680, 848—851;
Т. 2 / В. Н. Белицер (ред.). С. 69—71, 168—
171, 253—259, 317—318, 354, 372, 391,428,
462, 495, 534, 581, 612, 656—657, 720—722,
756—757, 812—813. В зарубежной исто¬
риографии проблема питания в последние
15 лет стала довольно популярной. См.,
например: Кабакова Г. И. Французская
наука о еде // ЭО. 2012. 5. С. 13—23
(в статье анализируются наиболее зна¬
чительные работы французских специа¬
листов по истории питания, вышедшие за
последние 20 лет).
260 Подсчитано по: Статистические таб¬
лицы Российской империи. СПб., 1863.
Т. 2. С. 267—283 ; Общий свод данных
переписи 1897 г. Т. 1. С. 172—175.
261 Методика расчета достаточно
обстоятельно изложена в кн.: Фундуклей И.
Статистическое описание Киевской губер¬
нии : в 2 ч. СПб., 1852. Ч. 1. С. 359—369.
262 В 1874—1878 гг. петербуржцы со¬
держали по приблизительной оценке 3888
дойных коров: Ковалевский В. И., Левитс-
кий И. О. Статистический очерк молочного
хозяйства в северной и средней полосах
Европейской России. СПб., 1879. С. 80.
Еще больше коров держали москвичи.
В первой четверти XIX в., вероятно и сле¬
дующие 20—30 лет, «каждое летнее утро
по улицам Москвы шествовал пастух
с рожком, на звуки которого хозяйки
выгоняли своих буренок и машек»
(Князьков С. А. Быт дворянской Москвы
конца XVIII и начала XIX века // Москва:
Быт, XIV—XIX века/ А. Р. Андреев (сост.).
М., 2005. С. 197).
263 В окрестностях больших городов,
например Петербурга, существовал промы¬
сел разведения ягод, особенно малины
и земляники (Доклад Комиссии 1873 г.
Приложения. VI, ч. 2. С. 122).
264 Отечественные и зарубежные иссле¬
дователи конца XIX—начала XX в. пред¬
лагали несколько отличные друг от друга
переводные коэффициенты, что совершен¬
но естественно: одинаковые продукты
в разных регионах страны, а тем более
в разных странах различались по составу
питательных веществ. Мы используем
единые для городского и сельского населе¬
ния переводные коэффициенты из кн.:
Кабо Р. Потребление городского населения
России (по данным бюджетных и выбо¬
рочных исследований). М., 1918. С. 50—61.
См. также: Козлов А. И.: 1) Пища людей.
Фрязино, 2005 ; 2) Экология питания. М.,
2002; Мартинчик А. Н., Маев И. В.,
Петухов А. Б. Питание человека : (Основы
359
Гшва 11. Уровень жизни
нутрициологии). М., 2002; Gibson R. S.
Principles of Nutritional Assessment. New
York : Oxford University Press, 2005.
265 Кабо P. Потребление городского
населения России ... С. 51.
266 Состояние питания городского насе¬
ления СССР, 1919—1924 гг. (по данным
периодических обследований питания на¬
селения, проводимых Отделом статистики
потребления ЦСУ). М., 1926. С. 9.
267 Материалы по вопросам разработки
общего плана продовольствия населения.
Вып. 1 : Нормы продовольствия сельского
населения России. М., 1918. С. 13.
268 Кабо Р. Потребление городского
населения России ... С. 20—22 ; Клепи¬
ков С. А. Питание русского крестьянства.
Ч. 1 : Нормы потребления главнейших пи¬
щевых продуктов. М., 1920. С. 13—15 ;
Словцов Б. И. Пищевые раскладки. 2-е изд.
СПб., 1919. С. 6—7; Состояние питания
городского населения СССР ... С. 8, 9, 25.
269 Дементьев Е. М. Фабрика ... С. 93 ;
Янжул И. И. Фабричный быт Псковской
губернии. СПб., 1884. С. 40—41 ; Копа-
нев А. И. Население Петербурга в первой
половине XIX в. М.; Л., 1957. С. 64, 66.
270 Миронов Б. Н. «Послал Бог работу,
да отнял черт охоту» ... С. 243—286.
271 Рудин С. Д. К вопросу о норме пи¬
тания лиц, занятых тяжелым физическим
трудом // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 408—
409.
272 Оценка калорийности отдельных
продуктов см.: Покровский А. А. О пита¬
нии. 2-е изд. М., 1968. С. 335—339.
273 Гигиена питания : в 2 т. М., 1971.
Т. 1. С. 271.
274 Le Play Р. G. F. Les ouvriers
europeens: 6 jvols. Paris, 1877. Vol. 2.
P. 120—121, 160—161; Vol. 3. P. 18—19,
416—417; Vol. 4. P. 20—21; Vol. 5. P. 448—
449.
275 Гакстгаузен А. Исследование внут¬
ренних отношений народной жизни и в
особенности сельских учреждений России.
М., 1870. Т. 1.С. 97—98.
276 Подсчитано по: Общий свод данных
переписи 1897 г. Т. 1. С. 172—175.
В 1897 г. городское сословие состояло на
95 % из мещан и цеховых и на 5 % из
почетных граждан и купцов.
277 Годыцкий-Цвирко Е. О. Потребле¬
ние главнейших продуктов петербургским
населением в 1897 и 1901 гг. // Журнал
охраны народного здравия. 1901. № 2/3 ;
Прокопович С. Н. Бюджет петербургских
рабочих. СПб., 1908; Светлов С. Ф.
Петербургская жизнь в конце XIX столетия
(1892 году). СПб., 1998; Эрисман Ф. Ф.
Пищевое довольствие рабочих на фабриках
Московской губернии. М., 1893.
278 История северного крестьянства.
Т. 1 : Крестьянство Европейского Севера
в период феодализма / П. А. Колесников
(ред.). Архангельск, 1984. С. 328—332;
Коныиина Ю. Ю. Имущественное поло¬
жение крепостных крестьян Тамбовской
губернии в первой половине XIX в.:
дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2010 (гл. 2,
§ 3 : Особенности крестьянского питания);
Липинская В. А. Пища (XII—XX века) //
Русские. С. 370—387 ; Маслова Г. С. Пища
и хозяйственная утварь // Материалы
и исследования по этнографии русско¬
го населения Европейской части СССР /
П. И. Кушнер (ред.). М., 1960. С. 143—171;
Парникова А. С. Пища, посуда, утварь // Там
же. С. 205—209 ; Шипилов А. В. Русская
бытовая культура... О питании горожан
см.: Пыляев М. И. Как ели в старину //
Пыляев М. К Старое житье. Перепечатано
в: Легенды старого Петербурга. М., 1992.
С. ПО—121; Семенова Л. Н.\ 1) Быт
и население Санкт-Петербурга ... ; 2) Очер¬
ки истории быта...; 3) Рабочие Пе¬
тербурга...; Munro G. Е. Food in Cathe-
rinian St. Petersburg // Food in Russian History
and Culture / M. Giants, J. Toomre (eds.).
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University
Press, 1997. P.31-48.
279 Анимелле H. Быт белорусских
крестьян // Этнографический сборник,
издаваемый РГО. СПб., 1854. Вып. 2.
С. 111—268 ; Архангельский А. Село Дав-
шино, Ярославской губернии, Пошехонс¬
кого уезда // Там же. С. 1—80; Бабары-
кин В. Сельцо Васильевское, Нижего¬
360
Примечания
родской губернии, Нижегородского уезда //
Там же. 1853. Вып. 1. С. 1—24; Доброз-
раков М. Село Ульяновка, Нижегородской
губернии, Лукояновского уезда // Там же.
С. 25—60; Иваница А. Домашний быт
малоросса, Полтавской губернии, Хорольс-
кого уезда // Там же. С. 337—371 ;
Каниевский А. И. Несколько заметок о на¬
родной пище в Золотоношенском уезде //
Полтавские губернские ведомости. 1855.
№ 34; Лебедев Н. Быт крестьян Тверской
губернии, Тверского уезда // Этнографи¬
ческий сборник, издаваемый РГО. Вып. 1.
С. 174—202 ; Малыхин П. Быт крестьян
Воронежской губернии, Нижнедевицкого
уезда // Там же. С. 203—234 ; Морачевич /.
Село Кобылья, Волынской губернии,
Новоград-Волынского уезда // Там же.
С. 294—312; Преображенский А.: 1) Во¬
лость Покровско-Ситская, Ярославской
губернии, Моложского уезда // Там же.
С. 61—124; 2) Приход Станиловский на
Сити, Ярославской губернии, Моложского
уезда // Там же. С. 125—173 ; Разумихин С.
Село Бобровки [Тверской губернии, Ржевс¬
кого уезда] и окружный его околоток // Там
же. С. 235—282; Руднев А. Село Голун
и Новомихайловское, Тульской губернии,
Новосильского уезда // Там же. Вып. 2.
С. 98—110; Троицкий П. Село Липицы и
его окрестности, Тульской губернии,
Каширского уезда// Там же. С. 81—97.
280 Список использованных этнографи¬
ческих описаний см. вт. 3 наст, изд.: Ис¬
точники и литература, Архив РГО. Под¬
робное описание питания содержится
в следующих делах: Архив РГО. Разр.
14 (Казанская губерния). On. 1. Д. 80
(1850-е гг.), 83 (1850-е гг.); Разр. 23
(Нижегородская губерния). On. 1. Д. 7
(1850 гг.), 82 (1849 г.); Разр. 25 (Олонецкая
губерния). On. 1. Д. 62 (1850-е гг.); Разр. 30
(Подольская губерния). On. 1. Д. 23 (1864 г.),
32 (1848 г.); Разр. 31 (Полтавская губер¬
ния). On. 1. Д. 23.
281 Защук А. Бессарабская область : в 2 ч.
СПб., 1862. (Материалы для географии...).
Ч. 1. С. 462—464; Бобровский П. Грод¬
ненская губерния: в 2 ч. СПб., 1863.
(Материалы для географии...). Ч. 1. С. 816—
817 ; Лаптев М. Казанская губерния. СПб.,
1861. (Материалы для географии...).
С. 212—213; Попроцкий М. Калужская
губерния. Ч. 2. С. 181 ; Афанасьев Д. Ко-
венская губерния. СПб., 1861. (Материалы
для географии...). С. 580—581 ; Орановс-
кий А. Курляндская губерния. СПб., 1862.
(Материалы для географии...). С. 384;
Сталь. Пензенская губерния : в 2 ч. СПб.,
1867. (Материалы для географии...). Ч. 2.
С. 250; Мозель X. Пермская губерния:
в 2 ч. СПб., 1864. (Материалы для геог¬
рафии...). Ч. 2. С. 572—573 ; Баранович М.
Рязанская губерния. СПб., 1860. (Материалы
для географии...). С. 397—399; Шмидт А.
Херсонская губерния : в 2 ч. СПб., 1863.
(Материалы для географии...). Ч. 1. С. 504;
Домонтович М. Черниговская губерния.
СПб., 1865. (Материалы для географии...).
С. 551.
282 Бабарыкин В. Сельцо Васильевс¬
кое ... С. 7; Доброзраков М. Село Улья¬
новка... С. 33, 35 ; Преображенский А.:
1) Волость Покровско-Ситская ... С. 65,
66 ; 2) Приход Станиловский на Сити ...
С. 131; Лебедев Н. Быт крестьян Тверской
губернии ... С. 175 ; Малыхин П. Быт
крестьян Воронежской губернии ... С. 211,
213; Разумихин С. Село Бобровки...
С. 235, 236 ; Морачевич I. Село Кобылья ...
С. 295 ; Архангельский А. Село Давшино ...
С. 1 ; Троицкий П. Село Липицы ... С. 82;
Руднев А. Село Голун и Новомихайловс¬
кое ... С. 98, 99; Анимелле Н. Быт бело¬
русских крестьян. С. 114, 115.
283 Морачевич /. Село Кобылья ...
С. 295—296.
284 Бабарыкин В. Сельцо Васильевс¬
кое ... С. 7; Доброзраков М. Село Улья¬
новка... С. 33; Преображенский А. Во¬
лость Покровско-Ситская ... С. 65 ; Разу¬
михин С. Село Бобровки ... С. 235 ; Мора¬
чевич I. Село Кобылья ... С. 300; Архан¬
гельский А. Село Давшино... С. 19—20;
Троицкий П. Село Липицы... С. 86—87;
Анимелле Н. Быт белорусских крестьян.
С. 114; Архив РГО. Разр. 15 (Калужская
губерния). On. 1. Д. 46. Л. 1—2 (1850 г.);
361
Гпава 11. Уровень жизни
Д. 48. Л. 1 (1850 г.); Д. 57. Л. 1 (1850 г);
Разр. 15 (Костромская губерния). On. 1.
Д. 19. Л. 1 (1853 г.); Разр. 19 (Курская
губерния). On. 1. Д. 21. Л. 1 (1854 г.); Разр.
23 (Нижегородская губерния). On. 1. Д. 7.
Л. 1 (1850 г.); Д. 64. Л. 1 (1849 г.); Д. 73.
Л. 1 (1849 г.); Д. 120. Л. 1 (1849 г.); Д. 130.
Л. 1 (1854 г.); Д. 134. Л. 2 (1874 г.); Разр. 24
(Новгородская губерния). On. 1. Д. 3. Л. 1
(1850-е гг.); Разр. 25 (Олонецкая губерния).
On. 1. Д. 10. Л. 1 (1854 г.); Д. 22. Л. 1
(1850-е гг.); Д. 27. Л. 1 (1854 г.); Разр. 26
(Оренбургская губерния). On. 1. Д. 16.
Л. 37—38 (1856 г.); Разр. 27 (Орловская
губерния). On. 1. Д. 5. Л. 1—2 (1850 г.);
Разр. 28 (Пензенская губерния). On. 1.
Д. 23. Л. 1—2 (1853 г.); Разр. 31 (Пол¬
тавская губерния). On. 1. Д. 20. Л. 1—2
(1852 г.); Разр. 32 (Псковская губерния).
On. 1. Д. 1. Л. 1—2 (1850-е гг.); Д. 6. Л. 1—
2 (1848 г.); Д. 13. Л. 1 (1849 г.); Д. 14. Л. 1
(1849 г.); Д. 15. Л. 1 (1849 г.); Д. 19. Л. 1
(1851 г.); Разр. 34 (Самарская губерния).
On. 1. Д. 24. Л. 1 (1850-е гг.).
285 Бабарыкин В. Сельцо Васильевс¬
кое ... С. И ; Доброзраков М. Село Улья-
новка ... С. 40—41, 35 ; Преображенский А.:
1) Волость Покровско-Ситская ... С. 78;
2) Приход Станиловский на Сити...
С. 137—138; Лебедев Н. Быт крестьян
Тверской губернии ... С. 183 ; Малыхин П.
Быт крестьян Воронежской губернии...
С. 211—212; Разумихин С. Село Боб-
ровки ... С. 252—253 ; Морачевич 1. Село
Кобылья ... С. 300 ; Архангельский А. Село
Давшино ... С. 19—20; Троицкий П. Село
Липицы ... С. 86—87; Руднев А. Село
Голун и Новомихайловское ... С. 102—
103 ; Анимелле Н. Быт белорусских
крестьян. G. 138—142.
286 Преображенский А. Приход Стани¬
ловский на Сити ... С. 157—158.
287 Троицкий II. Село Липицы ...
С. 86—87.
288 Морачевич I. Село Кобылья ... С. 300.
289 Домонтович М. Черниговская губер¬
ния. С. 551.
290 Архив РГО. Разр. 32 (Псковская
губерния). On. 1. Д. 15. Л. 8 (1849 г.).
291 Пурлевский С. Д. Воспоминания
крепостного (1800—1868) // Воспоминания
русских крестьян XVIII—первой половины
XIX века. М., 2006. С. 125. См. также:
Доброзраков М. Село Ульяновка ... С. 40.
292 Анимелле Н. Быт белорусских
крестьян. С. 141.
293 Бобровский П. Гродненская губер¬
ния. Т. 2. С. 817.
294 Лаптев М. Казанская губерния.
С. 212—213.
295 Семена конопли (а также тыквы или
мака) толкли в ступе до получения жи¬
ровой эмульсии, которую намазывали на
хлеб или ели с лепешками.
296 Архив РГО. Разр. 14 (Казанская гу¬
берния). On. 1. Д. 83. Л. 29—30 (1850-е гг.).
297 У неславянских народов в рационе
также преобладали хлеб и растительная
пища. См. о диете татар: Архив РГО. Разр.
14 (Казанская губерния). On. 1. Д. 91.
Л. 7—8 (1848 г.), литовцев: Разр. 17 (Ко-
венская губерния). On. 1. Д. 8. Л. 31—32
(1887 г.), карел: Разр. 25 (Олонецкая гу¬
берния). On. 1. Д. 5 (1854 г.), 62 (1850-е гг.);
молдаван: Разр. 30 (Подольская губерния).
On. 1. Д. 23 (1864 г.), 32. Л. 16—17 (1848 г.).
298 Анимелле Н. Быт белорусских
крестьян. С. 141.
299 По оценке Ю. Э. Янсона, в 1870-е гг.
от 19 л в Степном юге до 139 л
в Прибалтике, в среднем по России — 61л
на д. н. (Янсон Ю. Э. Сравнительная ста¬
тистика России ... Т. 2. С. 658). О потреб¬
лении молочных продуктов см.: Smith R. Е. F.,
Christian D. Bread and Salt: A Social and
Economic History of Food and Drink in Rus¬
sia. Cambridge et al. : Cambridge University
Press, 1984. P. 266—269.
300 Анимелле H. Быт белорусских
крестьян. С. 141.
301 В 1850—1860-е гг. в Оренбургской
губернии потреблялось более 70 кг, а в
Черниговской — 10 кг мяса на душу на¬
селения в год: Le Play Р. G. F. Les ouvriers
еигорёеш. Vol. 2. Р. 204—205 ; Домонтович М.
Черниговская губерния. С. 551—552. О пот¬
реблении мяса см.: Smith R. Е. F, Christian D.
Bread and Salt... P. 260—266.
362
Примечания
302 Преображенский А. Волость Пок-
ровско-Ситская ... С. 78.
303 По некоторым оценкам, масла и жи¬
ров потреблялось в 1870-е гг. от 0,2 кг
в Степном юге до 1,5 кг в Прибалтике,
в среднем по России — 1,2 кг на д. н. в год:
Янсон Ю. Э. Сравнительная статистика
России ... Т. 2. С. 658.
304 Бобровский П. Гродненская губер¬
ния. Ч. 2. С. 817.
305 Миронов Б. Н. Русский город в
1740—1860-е годы: демографическое,
социальное и экономическое развитие. Л.,
1990. С. 201—208.
306 Доклад Комиссии 1873 г. Прило¬
жения. I. С. 29—33.
307 Например, в Черниговской губернии
в 1860-е гг. потребление рыбы оценивалось
лишь в 5 кг на д. н. в год: Домонтович М.
Черниговская губерния. С. 551—552 ;
Smith R. Е. F., Christian D. Bread and Salt...
P. 269—274.
308 Архив РГО. Разр. 24 (Новгородская
губерния). On. 1. Д. И (Рыбная ловля на
озере Ильмень, 1849 г.). Л. 1—16; Разр. 25
(Олонецкая губерния). On. 1. Д. 62 (Гро¬
мов 3. Этнографическое описание Ребольс-
кого прихода). Л. 7—12 (1850-е гг.);
Никулин В. Н. Из истории рыболовного
промысла крестьян Санкт-Петербургской
губернии в конце XIX—начале XX века //
ВСПбУ. Сер. 2. История. 2013. Июнь.
С. 41—51 ; Свод статистических материа¬
лов, касающихся экономического поло¬
жения сельского населения Европейской
России. СПб., 1894. С. XVII.
309 «Оброк с девок, не вышедших
замуж: холсты и по два фунта сушеной
малины с каждой» (Бобков Ф. Д. Из
записок бывшего крепостного человека //
Воспоминания русских крестьян XVIII—
первой половины XIX века. С. 600).
О потреблении фруктов см.: Smith R. Е. F.,
Christian D. Bread and Salt... P. 274—
278.
310 Малыхин П. Быт крестьян Воро¬
нежской губернии ... С. 211.
311 Архив РГО. Разд. 14 (Казанская гу¬
берния). On. 1. Д. 80. Л. 15—16.
312 Заборский К К [Летопись села
Зачатье] // Воспоминания русских крестьян
XVIII—первой половины XIX века.
С. 683—686, 696.
313 Smith R. Е. F., Christian D. Bread and
Salt... P. 254, 263, 267.
314 Ежегодник России, 1910 г.
С. CXXIV.
315 В конце XVIII в. в среднем одним
дворянином потреблялось примерно 450 г
чая в год: Smith R. Е. F., Christian D. Bread
and Salt... P. 246—247.
316 В 1850-е гг. производилось пива по
1,5 л на душу населения в год: Корсак А.
Пивоварение и медоварение // Обзор
различных отраслей мануфактурной про¬
мышленности России. СПб., 1865. Т. 3.
С. 34.0 потреблении напитков см.: Smith RE. F,
Christian D. Bread and Salt ... P. 288—
326.
317 Smith R. E. F., Christian D. Bread and
Salt... P.218.
318 Сведения о питейных сборах : в 4 ч.
СПб., 1860. Ч. 3. С. 35—36 ; Дмитриев В. К
Критические исследования о потреблении
алкоголя в России. М., 1911. С. 68—69,
116, 282.
319 Казенная продажа вина / [Н. О. Оси¬
пов (ред.)]. СПб., 1900. С. 77. См. также:
Smith R. Е. F., Christian D. Bread and Salt...
P. 295.
320 Статистический ежегодник России,
1915 г. Пг., 1916. Отд. IX. С. 17.
321 Посты // Полный православный
богословский энциклопедический словарь.
М., 1992; Heretz L The Practice and Sig¬
nificance of Fasting in Russian Peasant Cul¬
ture at the Turn of the Century // Food in Rus¬
sian History and Culture. P. 67—82.
322 Описание Архива Александро-Нев-
ской лавры. Пг., 1916. Т. 3. С. 359—360.
323 Костомаров Н. И. Очерк домашней
жизни и нравов великорусского народа
в XVI и XVII столетиях. М., 1992. С. 180.
324 Максимов С. В. Куль хлеба; Не¬
чистая, неведомая и крестная сила. Смо¬
ленск, 1995. С. 543.
325 Бабарыкин В. Сельцо Васильев¬
ское ... С. 11.
363
Гшва 11. Уровень жизни
326 Баранович М. Рязанская губерния.
С. 399.
327 Преображенский А. Приход Ста-
ниловский на Сити ... С. 138.
328 Воронина I А. Традиционная и совре¬
менная пища русского населения Воло¬
годской области // Русский Север : Ареалы
и культурные традиции / Т. А. Бернштам,
К. В. Чистов (ред.). СПб., 1992. С. 80.
329 Шипилов А. В. Русская культура
питания в первой половине XVIII века //
ВИ. 2003. № 3. С. 146—152. Сведения
относятся к примерно 578 крестьянам,
находившимся на месячине в 10 поместьях
в 1706—1721 гг., и к работным людям
первой половины XVIII в. и заимствованы
автором из: Материалы по истории
крестьянского и помещичьего хозяйства
первой четверти XVIII в. М., 1951 ;
Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой
четверти XVIII века. М., 1957 ; Заозерс-
кая Е. И. Мануфактура при Петре I. М.; Л.,
1947; Семенова Jl. Н. Рабочие Петер¬
бурга...; Черкасова А. С. Мастеровые
и работные люди Урала в XVIII в. М., 1985.
По мнению Шипилова, структура и нормы
питания XVIII в. отличаются от совре¬
менных: хлеба ели в 3—4 раза, соли —
в 2—3 раза больше по причине больших
энергетических затрат; ассортимент бед¬
нее, качество пищи ниже.
330 Устюгов Н. В. Солеваренная про¬
мышленность Соли Камской в XVII веке.
М., 1957. С. 237.
331 Шипилов А. В. Русская культура
питания ... С. 149.
332 Семенова Л. Н. Рабочие Петербур¬
га... С. 199.
333 Шипилов А. В. Русская культура пи¬
тания ... С. 149. )
334 Струмилин С. Г. Очерки экономи¬
ческой истории ... С. 78—79.
335 Шипилов А. В. Русская культура
питания ... С. 149.
336 Миронов Б. Н. Благосостояние на¬
селения ... С. 205—209.
337 Биншток В. И., Каминский Л. С.
Народное питание и народное здравие. М.;
Л., 1929; Воронина Т. А. Традиционная
и современная пища русского населения
Вологодской области. С. 78—101 ; Горя¬
чев И. В. Обеспечение продовольствием
и питание фабрично-заводских рабочих
России в конце XIX—начале XX вв.:
дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2007;
Гиязнов П. И. Опыт сравнительного изу¬
чения гигиенических условий крестьянс¬
кого быта и медико-топография Череповец¬
кого уезда. СПб., 1880. С. 142—156 ; Еси-
кова М. М. Питание крестьянства Цент¬
рального Черноземья в конце XIX—начале
XX вв. // Гуманитарные науки: проблемы
и решения : межвуз. сб. науч. статей. СПб.,
2007. Вып. 5. С. 135—144; Ефимова И. В.
Уровень жизни и питание крестьян
Тихвинского полесья во второй половине
XIX в. // Социально-демографические ас¬
пекты истории северного крестьянства
(XVII—XIX вв.): межвуз. сб. науч. статей.
Сыктывкар, 1985. С. 102—112; Крестов¬
ников А. Н. Питание крестьян Костромской
губернии по бюджетным исследованиям
1908—9 гг. Кострома, 1912. С. 1—47;
Кузнецов В. Продовольственно-потреби¬
тельские нормы крестьянского населения
Олонецкой губернии // Труды подсекции
статистики XI съезда русских естество¬
испытателей и врачей в С.-Петербурге.
СПб., 1902. С. 163—171 ; Маресс Л. И.:
1) Пища народных масс // Русская мысль.
1893. № 10; 2) Производство и потреб¬
ление хлеба в крестьянском хозяйстве //
Влияние урожаев и хлебных цен на неко¬
торые стороны русского народного хозяйст¬
ва / А. И. Чупров, А. С. Постников (ред.).
СПб., 1897. Т. 1. С. 1—72; Минх А. Н.
Историко-географический словарь Сара¬
товской губернии. Т. 1, вып. 4 : Лит. Х.-Ф.
Южные уезды Камышинский и Цари¬
цынский. Аткарск, 1902 ; Покровский В. И.
К статистике потребления пищевых про¬
дуктов и прочих предметов первой необ¬
ходимости // Журнал охраны народного
здравия. 1905. № 7/8; Привалова Т. В.:
1) Питание российского крестьянства на
рубеже веков // Крестьяноведение : Теория.
История. Современность : ежегодник, 1997 /
Т. Шанин, В. П. Данилов (ред.). М., 1997.
364
Примечания
С. 128—146 ; 2) Быт российской деревни :
Медико-санитарное состояние деревни
европейской России, 60-е годы XIX в.—
20-е годы XX в. М., 2000. С. 41—67;
Рубцова М. А. Этнографические материалы
на страницах «Известий Архангельского
общества изучения русского Севера»
(1909—1917 гг.): тематико-библиогр. указ. //
Русский Север ... С. 256—261 ; Савель¬
ев М В. Среднее дневное довольствие
крестьянина в Землянском уезде // Вестник
общественной гигиены. 1892. № 9; Скиб-
невский А. К Пищевое довольствие
крестьян Можайского уезда Московской
губернии. М., 1884; Смородинцев А. И.
К вопросу о пище крестьян Екатерин¬
бургского уезда // Записки Уральского мед.
о-ва. 1893. Вып. 2; Хижняков В. В.
О питании сельскохозяйственных рабочих //
Врач. 1900. № 17; Щербина Ф. А.
Крестьянские бюджеты ; Smith R. Е. F.,
Christian D. Bread and Salt... P. 251—356.
Особенно информативны работы Л. Н. Ма-
ресса, Ф. А. Щербины и В. Кузнецова,
основанные на полевых исследованиях,
и книга Р. Смита и Д. Христиана. До¬
полнительную литературу о питании мож¬
но найти в библиографических указателях:
Жбанков Д. Н.: 1) Библиографический
указатель по общественно-медицинской ли¬
тературе. М., 1890; 2) Библиографический
указатель по общественно-медицинской
литературе за 1890—1905 гг. М., 1907.
338 Минх А. Н. Историко-географичес¬
кий словарь Саратовской губернии. Т. 1,
вып. 4. С. 1178.
339 Доклад Комиссии 1873 г. Прило¬
жения. I, ч. 1. С. 122, 172, 225, 238, 245,
247, 252.
340 Там же. С. 238.
341 Фет А. А. Жизнь Степановки, или
Лирическое хозяйство / вступ. ст., сост.,
подгот. текста и коммент. В. А. Кошелева и
С. В. Смирнова. М., 2001. С. 292.
342 Энгельгардт А. Н. Из деревни : 12
писем, 1872—1887. М, 1937. С. 233—234;
Smith R. Е. F., Christian D. Bread and Salt...
P. 258—259. Авторы считают, что «пи¬
тание в России XIX в. было хорошо
сбалансированным, сочетая зерновые
с небольшим количеством овощей, карто¬
феля, мяса и фруктов» и достаточным,
за исключением неурожайных лет (С. 287,
330).
343 Проблема потребления податного
населения и привилегированных слоев
населения рассмотрена в работах: Лот¬
ман Ю. М, Погосян Е. От кухни до гос¬
тиной // Лотман Ю. М. Беседы о русской
культуре: Быт и традиции русского
дворянства (XVIII—начало XIX века).
СПб., 1994. С. 255—319; Морозов К А.
Пища «богатая» и «бедная»: пищевые
маркеры социокультурных иерархий // ЭО.
2012. № 5. С. 13—23; Морозов И. А.,
Фролова О. Е. Тема изобилия в русской
культуре XIX—начала XX в. // Тради¬
ционная культура. 2000. № 1. С. 91—98;
Шмелева М. Н. Традиции и народное
питание русских (социальные аспекты) //
Русские народные традиции и современ¬
ность / Т. А. Листова (ред.). М., 1995.
С. 235—258 ; Frierson С. A. Forced Hunger
and Rational Restraint in the Russian Peasant
Diet: One Populist’s Vision // Food in Russian
History and Culture. P. 50—66; Munro G. E.
Food in Catherinian St. Petersburg // Ibid.
P. 31—48; Smith A. K.\ 1) Eating out in
Imperial Russia: Class, Nationality, and
Dining before the Great Reforms // Slavic
Review. 2006. Vol. 65, nr 4. P. 747—768 ; 2)
Recipes for Russia: Food and Nationhood
under the Tsars. DeKalb : Northern Illinois
University Press, 2008. P. 63, 82—83, 86, 93,
97. Избыточное питание купечества:
Галимо-ва Л. Н. Симбирское купечество во
второй половине XIX—начале XX века:
социально-бытовой аспект: дис. ... канд.
ист. наук. Ульяновск, 2005. С. 118—145.
344 Кабештов И. М. Моя жизнь и вос¬
поминания, бывшего до шести лет дво¬
рянином, потом двадцать лет крепостным //
Воспоминания русских крестьян XVIII—
первой половины XIX века. С. 547.
345 Энгельгардт А. Н. Из деревни ...
С. 232.
346 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. I : Пища и другие жизненные
365
Гчава 11. Уровень жизни
потребности крестьянского населения.
С. 225—252.
347 Бобровский П. Гродненская губер¬
ния. Ч. 2. С. 817.
348 Много сведений о питании в сере¬
дине XIX в. содержится в работах:
Smith R. Е. F., Christian D. Bread and Salt...
P. 254, 263, 267; Smith A. K. Cabbage and
Cuisine : Food in Russia before the Great Re¬
forms : Ph.D. diss. Chicago : University of
Chicago, 2000. См. также: Хок С. Л.
Крепостное право и социальный контроль в
России: Петровское, село Тамбовской
губернии. М., 1993. С. 40—51 ; Hoch St. L.
Famine, Disease, and Mortality Patterns in the
Parish of Borshevka, Russia, 1830—1912 //
Population Studies. 1998. Vol. 52. P. 357—
368. P. Смит и Д. Христиан, А. Смит и Ст.
Хок также полагают, что питание крестьян
в дореформенное время было удовлетво¬
рительным.
349 Известный эксперт по питанию на¬
чала XX в. С. А. Клепиков оценивает ка¬
лорийность питания взрослого крестьянина
в 4501 ккал — на 368 ккал больше
(Клепиков С. А. Питание русского кресть¬
янства. Ч. 1. С. 12). Главная причина
расхождения в том, что для перевода
потребления с души на взрослого едока
мужского пола он чаще всего использует
без всяких объяснений поправочный
коэффициент, равный 1,5 (Там же. С. 12,
27, 35, 37), хотя в теоретической части
своего исследования убедительно дока¬
зывает, что следует применять 1,4 (Там же.
С. XXI), как это и сделано в нашем расчете.
350Подсчитано нами по: Там же. С. 14,24.
351 О потреблении мяса см.: Ста¬
тистические материалы по вопросу потреб¬
ления мяса, в Российской империи в 1913
году. Пг., 1915. С. 1—30.
352 См., например: Стэльмах М. К.
Питание крестьян Пермской губернии
в конце XIX—начале XX вв. // Российский
крестьянин в годы войн и в мирные годы
(XVIII—XX вв.) / С. А. Есиков (ред.).
Тамбов, 2010. С. 238—249.
353 Новое Положение о военно-врачеб¬
ной экспертизе: Постановление Прави¬
тельства Российской Федерации от 25 фев¬
раля 2003. № 123. М., 2003. С. 122—123.
354 Методические указания по норма¬
тивам физического развития детей г.
Москвы от рождения до 17 лет. М., 1972;
Оценка основных антропометрических
показателей и некоторых физиологических
параметров у детей Северо-Запада (метод,
рекомендации). СПб., 2000.
355 Например, в Калужской губернии
в 1850-е гг. 47% чиновников были хо¬
лостыми: Попроцкий М. Калужская губер¬
ния. Ч. 2. С. 309.
356 Домонтович М Черниговская гу¬
берния. С. 551. Мелкопоместным поме¬
щикам, желающим есть говядину, прихо¬
дилось ее покупать, а на это у них не было
средств. Птицу и свинину они ели, ве¬
роятно, чаще.
357 В 1857 г. всех чиновников вместе
с канцеляристами считалось 118,1 тыс.: см.
табл. 8.1 в гл. 8 «Государственность и
государство» наст. изд.
358 Кривенко В. С. В Министерстве
двора: воспоминания / С. В. Куликов
(ред.). СПб., 2006. С. ИЗ.
359 Аксаков С. Т. Воспоминания // Ак¬
саков С. Т. Детские годы Багрова-внука;
Воспоминания. М., 1984. С. 319.
360 Кривенко В. С. В Министерстве
двора. С. 46, 49, 54—55, 66.
361 Водовозова Е. Н. На заре жизни //
Институтки: Воспоминания воспитанниц
институтов благородных девиц / сост.,
подг. текста и коммент. В. М. Боковой
и Л. Г. Сахаровой; вступ. статья А. Ф. Бе¬
лоусова. М., 2001. С. 245—247. В женских
епархиальных училищах питание воспи¬
танниц также было скромным, иногда даже
скудным, но к началу XIX в. существенно
улучшилось: Вяземская Е. Т. Воспоми¬
нания о Рязанском епархиальном женском
училище в 1894 году // Епархиалки : Вос¬
поминания воспитанниц женских епар¬
хиальных училищ / О. Д. Попова (сост). М.,
2011. URL: http://www.history-ryazan.ru/
node/12992 (дата обращения: 23.08.2014).
См. также: Попова О. Д. О быте и нравах
женских епархиальных училищ // Социаль¬
366
Примечания
ная история : электронный науч. журнал.
2013. Вып. 1 (1). С. 137—139. URL: ic-
shes.ru/component/flexicontent/download/53/
480/18 (дата обращения: 01.07.2014).
362 Кривенко В. С В Министерстве
двора. С. 168.
63 Мосолов А. А. При дворе последнего
императора. СПб., 1992. С. 217—221.
364 Энгельгардт А. Н. Очерки инсти¬
тутской жизни былого времени // Инсти¬
тутки ... С. 206; Кривенко В. С. В Ми¬
нистерстве двора. С. 56—57.
365 Кривенко В. С. В Министерстве дво¬
ра. С. 55.
366 Ростиславов Д. И. О православном
белом и черном духовенстве в России. Т. 1.
С. 290—295.
367 Кривенко В. С. В Министерстве дво¬
ра. С. 63.
368 Миронов Б. Н. Социальная история
России периода империи (XVIII—начало
XX в.): Генезис личности, демократи¬
ческой семьи, гражданского общества
и правового государства: в 2 т. 3-е изд.
СПб., 2003. Т. 1.С. 108—110.
369 Череванин Ф. А. Влияние колебаний
урожаев на сельское хозяйство в течение
40 лет, 1883—1923 гг. // Влияние неуро¬
жаев на народное хозяйство России : в 2 ч. /
B. Г. Громов (ред.). М., 1927. Ч. 1. С. 177—
178; Зайцев Вл. Влияние колебаний уро¬
жаев на естественное движение населе¬
ния // Там же. Ч. 2. С. 3—59.
370 Столетие Военного министерства,
1802—1902 : в 13 т. / Д. А. Скалой (ред.).
СПб., 1902—1914. Т. 8, ч. 2. С. 154; Т. 8,
ч. 4. С. 237.
371 Военная энциклопедия. Т. 9.
C. 150—151.
372 Армеев В. Щи да каша — пища
наша: Этюд о военно-полевой кухне //
Родина. 2007. № 3. С. 103—108. В начале
XX в. русский паек был богаче немецкого,
французского и австрийского по мясу
и хлебу, но русский хлеб был худшего
качества.
373 РГИА. Ф. 232. On. 1. Д. 987. Л. 32,
92г.
374 Washington ProFile. 2006. 29 апр.
375 Редигер А. Ф. Комплектование и
устройство вооруженной силы. СПб., 1892.
С. 167—175 ; Военно-статистический сбор¬
ник. Вып. 4. Отд. 2. С. 6.
376 Корсаевская Т. В. Социальная и био¬
логическая обусловленность изменений
в физическом развитии человека. Л., 1970.
С. 116—120.
377 Столетие Военного министерства ...
Т. 4, ч. 3. Кн. 1. Отд. 2. С. 171—172.
378 ПСЗ-I. Т. 29. № 22282; Столетие
Военного министерства... Т. 8, ч. 1:
Главное военно-медицинское управление:
ист. очерк / сост. В. С. Кручек-Голубов при
содействии Н. И. Кульбина. С. 168—169.
379 ПСЗ-И. Т. 6. Отд. 1. № 4677;
Столетие Военного министерства... Т. 8,
ч. 2. С. 152—153.
380 Столетие Военного министерства ...
Т. 8, ч. 2. С. 154; Т. 8, ч. 4. С. 234—237,
304, 322.
381 ЦГИА СПб. Ф. 232. On. 1. Д. 40. Л.
8. Наставление присутствиям по воинской
повинности, для руководства при осви¬
детельствовании телосложения и здоровья
лиц, призванных к исполнению сей по¬
винности.
382 Вайсенберг С. А. Влияние недоеда¬
ния и болезней на физическое развитие
детей // Русский антропологический
журнал. 1924. Т. 13, № 3/4. С. 103—114;
Ивановский А. А. Об изменении физи¬
ческих признаков населения России под
влиянием голодания // Наука на Украине.
1922. № 4. С. 23—25; Штефко В. Г.
Влияние голодания на подрастающее по¬
коление России. Симферополь, 1923. С. 42,
105—108 ; Гигиена питания. Т. 1. С. 223—
224.
383 Белоглазов М. М. Вырождение на¬
селения Тамбовской губернии // Вестник
общественной гигиены. 1905. Октябрь.
С. 1511—1526; Дедюлин С. А. К вопросу
о причинах физического вырождения рус¬
ского народа (Составлено по отчетам
Государственного Контроля в диаграммах
и таблицах): Доклад высоч. утвержден¬
ному Обществу для содействия русской
промышленности и торговле 25 марта
367
Гчава 11. Уровень жизни
1899 г. СПб., 1900. С. 1-48 ; Кенигсберг М. М.
Опыт медико-топографического исследова¬
ния города Оренбурга. СПб., 1886. С. 1—46 ;
Обухов В. М Экономические причины
смертности и вырождения крестьянского
населения Воронежской губернии // Жур¬
нал Русского о-ва охранения народного
здравия. 1895. № 11. С. 880—903.
384 Жбанков Д. И. Физическое развитие
призываемых к отбыванию воинской по¬
винности // Медицинская беседа. Воронеж,
1904. №7/8. С. 199.
385 Быт великорусских крестьян-земле-
пашцев: Описание материалов Этногра¬
фического бюро князя В. Н. Тенишева (на
примере Владимирской губернии) / авт.-
сост. Б. М. Фирсов, И. Г. Киселева. СПб.,
1993. С. 14, 23—24.
386 Быт великорусских крестьян-земле-
пашцев ... С. 34—35 ; Русские крестьяне :
Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этно¬
графического бюро» кн. В. Н. Тенишева /
авт.-сост. И. И. Шангина; рук. проекта
B. М. Грусман; науч. ред. Д. А. Баранов,
А. В. Коновалов. СПб., 2004—2008. Т. 1 :
Костромская губерния. С. 25—26, 71, 263,
308; Тверская губерния. С. 409, 416—417,
515; Т. 2: Ярославская губерния. Ч. 1.
C. 547; Т. 3 : Калужская губерния. С. 212,
342; Т. 4 : Нижегородская губерния; Т. 5,
ч. 1—5 : Вологодская губерния.
387 Русские крестьяне ... Т. 1 : Костром¬
ская губерния. С. 305; Тверская губерния.
С. 503; Т. 2 : Ярославская губерния. Ч. 1.
С. 19; 4.2. С. 7.
388 Русские крестьяне ... Т. 3 : Калуж¬
ская губерния. С. 367; Т. 2 : Ярославская
губерния. Ч. 1. С. 261. Как это не по¬
кажется странным, но в течение XX в.
зрение у людей 3 улучшилось. По данным
Научно-исследовательского института глаз¬
ных болезней Российской Академии ме¬
дицинских наук, в 1870 г. нормальное зре¬
ние имели около 26 % людей, в 1971 г. —
39,7, в 1996 г. — 52,6%; близорукостью
страдали — соответственно 30,2; 38,7
и 42,5 %, а дальнозоркостью — 43,4; 21,6
и 4,9 %. Замена дальнозоркости на бли¬
зорукость объясняется тем, что люди стали
больше читать и писать, появились теле¬
визор и компьютер. Причина роста числен¬
ности людей с нормальным зрением —
улучшение условий жизни: чтение при
хорошем освещении, лучшее питание,
ранняя диагностика и профилактика глаз¬
ных заболеваний (Зайцева В. Как менялось
зрение за 100 лет? // Комсомольская
правда. 2001. 26 янв. С. 18—19).
389 Русские крестьяне... Т. 3: Ка¬
лужская губерния. С. 563.
390 См., например: Дементьев Е. М.
Фабрика ... С. 234—249. Публичные бани,
которыми пользовались рабочие (в отличие
от семейных крестьянских бань), по при¬
чине плохого санитарного состояния часто
способствовали распространению инфек¬
ционных заболеваний: Kashin К, Pollock Е.
Public Health and Bathing in Late Imperial
Russia : A Statistical Approach // The Russian
Review. 2013. Vol. 72, iss. 1. P. 66—93.
391 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 226.
392 Хок С. Л. Мальтус: рост населения
и уровень жизни в России, 1861—1914 го¬
ды // ОИ. 1996. № 2. С. 28—54.
393 Хок С. Л. Голод, болезни и струк¬
туры смертности в приходе Борщевка,
Россия, 1830—1912 // Социально-демогра¬
фическая история России XIX—XX вв.:
Современные методы исследования : мате¬
риалы науч. конф. (апрель 1998 г.). Тамбов,
1999. С. 3—29. См. интересный коммен¬
тарий результатов исследования Хока:
Кащенко С Г. К вопросу о смертности //
Там же. С. 30 — 40.
394 Leonard С., Ljungberg J. Population
and living standards, 1870—1914 // Economic
History of Modem Europe. Cambridge : Cam¬
bridge University Press, 2010. Vol. 2, ch. 5.
395 Отчет о состоянии народного здра¬
вия и организации врачебной помощи
населению в России за 1903 год / сост.
Управлением Главного врачебного инспек¬
тора Министерства внутренних дел. СПб.,
1905. С. 17; То же за 1912 г. СПб, 1914.
С. 10.
396 Араловец Н. А. Смертность городс¬
кого населения России в 90-е годы XIX в —
368
Примечания
20-е годы XX в.: социально-экологический
аспект // Историческая экология и исто¬
рическая демография / Ю. А. Поляков
(ред.). М., 2003. С. 115—125. О росте
внимания к здоровью свидетельствует
и стремление горожан провести летний
сезон на даче или в деревне: Малинова-
Тзиафета О. Ю. Из города на дачу:
социокультурные факторы освоения
дачного пространства вокруг Петербурга
(1860—1914). СПб., 2012.
397 Выборнова М. А. Деятельность ме¬
дицинских структур по обслуживанию
населения российской провинции во вто¬
рой половине XIX—начале XX века (на
материалах Самарской губернии): ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. Самара,
2006.
Положительный тренд в изменении
жизненного уровня населения в XIX—
начале XX в. отмечен в отечественной
и зарубежной историографии: Рянский Л. М.,
Рянский Р. Л.: 1) К вопросу о состоянии
крепостной деревни Тамбовской губернии
в середине XIX в. // Вестник Тамбовского
ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2007.
Вып. 1 (45); 2) Очерки социально-эконо¬
мической истории крепостной деревни
Курской губернии первой половины XIX в.
Курск, 2009; Рянский Р. Л. Помещичье
хозяйство Курской губернии перед отме¬
ной крепостного права (к проблеме кризиса
крепостничества в России): дис. ... канд.
ист. наук. Курск, 2006 ; Dennison Т. К
Nafziger St. Living Standards in Nineteenth-
Century Russia // Journal of Interdisciplinary
History. 2013. Vol. 43, nr 3. P. 397—441
(авторы, наверное, по недоразумению,
полагают, что антропометрические дан¬
ные, приводимые в моей книге «Бла¬
госостояние населения...» относятся толь¬
ко к городскому населению в целом).
Подробно историография рассмотрена
в кн.: Миронов Б. Н. Благосостояние на¬
селения ... С. 45—52.
399 Чехов А. П. Сочинения : в 18 т. М.,
1985. Т. 9. С. 508—528.
400 Изменению благосостояния населе¬
ния в период империи специально посвя¬
щена моя книга: Миронов Б. Н. Благо¬
состояние населения ...
401 Подробно об этом см. в: Миронов Б. Н.
Благосостояние населения ... Гл. 2.
402 Романов А. М. Книга воспоминаний.
М., 1991. С. 38.
403 Там же. С. 143.
404 г»
Расчет по другим методикам дает
несколько различающиеся результаты, но
общая тенденция остается одинаковой:
в пореформенное время ИЧР непрерывно
возрастал. Например, Н. Графте оценил
ИЧР России на 1913 г. как 0,345, что
близко к моему расчету: Grafts N. F. R.:
1) The Human Development Index 1870—
1999 : Some Revised Estimates // European
Review of Economic History. 2002. Vol. 6.
P. 395—405 ; 2) The Human Development
Index and Changes in Standards of Living:
Some Historical Comparisons // Ibid. 1997.
Vol. 1. P. 299—322. Подробнее об ИЧР см.
в т. 1 наст, изд., с. 281 ив кн.: Миронов Б. И.
Благосостояние населения ... С. 534—536.
405 Струмилин С. Г. Статистика и эко¬
номика. М., 1979. С. 444; Статистический
ежегодник России, 1916 г. М., 1918. С. 85 ;
Маслов П. П. Критический анализ бур¬
жуазных статистических публикаций. М.,
1955. С. 459.
406 Ежегодник Министерства финансов
на 1869 год. СПб., 1869. Огд. 3. С. 71 ;
Ежегодник Министерства финансов. СПб.,
1888. Вып. 17. С. 701 ; Сборник статис¬
тико-экономических сведений по сельско¬
му хозяйству России и иностранных
государств. Год 10. Пг., 1917. С. 224.
407 Миронов Б. Н. Благосостояние насе¬
ления ... С. 530.
408 Подсчитано по следующей мето¬
дике: определена площадь всей купленной
крестьянами земли и средняя цена де¬
сятины (около 40 руб.) за 1863—1910 гг. по
данным: Святловский В. В. Мобилизация
земельной собственности в России (1861—
1908 гг.). СПб., 1911. С. 81, 133—134, 137.
409 Ежегодник Министерства финансов.
Вып. 1911 года. СПб., 1911. С. 256—257
4,0 Святловский В. В. Мобилизация...
С. 133—137; Статистические сведения по
369
Глава 11. Уровень жизни
земельному вопросу в Европейской России.
СПб., 1895. С. 35 ; Статистика земле¬
владения 1905 г. : Свод данных по 50-ти
губерниям Европейской России. СПб.,
1907. С. 11—17.
4,1 Статистический ежегодник России,
1914 г. Пг., 1915. С. 90—93.
412 Ежегодник Министерства финансов.
Вып. 1912 года. СПб., 1912. С. 400.
4,3 До 1896 г. выделялись следующие
профессиональные группы: работники; ре¬
месленники и лица, занимающиеся тор¬
говлей; находящиеся в домашнем услу¬
жении; служащие гражданские и военные;
нижние чины военные и морские; лица
свободных занятий; лица, живущие дохо¬
дами; с 1896 г. — землевладение; зем¬
леделие и сельские промыслы; городские
промыслы; работа на фабриках и рудниках;
услужение; торговля; духовное звание;
военная служба; гражданская служба;
частная служба; прочие занятия.
)
ГЛАВА 12
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
Личность есть сжатое общество,
общество есть расширенная личность.
Соловьев В. С. Оправдание добра. М., 1996. С. 204
Понять и объяснить ход российской модернизации помогает учет коллектив¬
ных представлений людей, наличного человеческого капитала и уровня развития
когнитивных способностей населения, который в значительной мере определяет¬
ся степенью развития системы народного образования. Этим вопросам и посвя¬
щена данная глава.
В предыдущих главах мне часто приходилось обращаться к учету коллективных
представлений. Теперь я попытаюсь обобщить сделанные наблюдения. Начну
с интерпретации ключевых терминов. Школа Анналов ввела в научный оборот
понятие «менталитет» («ментальность»)1, которое получило в 1960—1980-х гг.
повсеместное распространение, а в отечественной науке популярно до сих пор.
Под ментальностями чаще всего имеются в виду стереотипы, автоматизмы
и привычки сознания, заложенные воспитанием и культурными традициями, цен¬
ностные ориентации, а также значимые представления и взгляды, принадле¬
жащие не отдельным личностям, а той или иной социально-культурной общнос¬
ти, тому или иному сословию, классу или социальной группе. Ментальности —
своего рода парадигмы ши модели восприятш, пониманш и оценки действии-
телъности, выработанные общественным, или массовым, сознанием в рамках
данной общности; они разделяются подавляющим большинством ее членов. Взя¬
тые в совокупности ментальности образуют менталитет — некую систему, не¬
редко противоречивую, которая тем не менее обеспечивает отдельного человека
моделью видения мира, способами постановки и решения проблем, с которыми
ему приходится сталкиваться, глубинной программой деятельности, правилами
или алгоритмами поведения, своего рода инструкциями на все или по крайней
мере на важные случаи жизни2.
Но и до появления школы Анналов историки использовали термины, близкие
по значению менталитету: «мировосприятие», «самосознание»3, «мировоззре¬
ние» в смысле системы представлений о мире и о месте в нем человека, об отноше¬
нии человека к окружающей действительности и к самому себе, а также обуслов¬
ленные этими представлениями основные жизненные позиции и установки людей,
их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориента¬
ции. Термины отличались от менталитета отсутствием смысла бессознательности,
автоматизма, стереотипа.
В отечественной науке до конца 1980-х гг. более употребительными были
близкие ментальностям по смыслу другие понятия — «социальная установка»,
или «аттитюд», и «диспозиция личности», означавшие предрасположенность
человека к определенному восприятию и поведению, состояние готовности к оп¬
373
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
ределенной активности в определенной ситуации действовать определенным об¬
разом. Считалось, что установки обусловливались воспитанием, культурными
традициями, ценностными ориентациями, значимыми представлениями и взгля¬
дами. Явление установки было открыто немецким психологом Л. Ланге в 1888 г.
Концепция разрабатывалась американскими социологами У. Томасом, Ф. Зна-
нецким и др., а также российскими психологами и социологами Д. Н. Узнадзе,
В. Н. Мясищевым, А. Н. Леонтьевым и В. А. Ядовым4.
Постмодернисты вместо «менталитета» предпочитают использовать слово
«повседнев» для обозначения культурного бессознательного в самом широком
диапазоне коллективных социокультурных практик. Господствующие в языке
понятия и концепции накладывают на людей, безотчетно для них, свои концеп¬
туальные рамки и определяют их коллективные представления. Погруженные от
рождения в определенную культуру люди сначала неосознанно и вынуждено,
чтобы понравиться окружающим, говорят правильные для данной культуры сло¬
ва. Постепенно слова интериоризируются, т. е. становятся категориями индиви¬
дуального сознания. Из дискурсивных практик вырастает система бытовых, се¬
мейных, религиозных, политических и прочих, явных и неявных коллективных
представлений. Так, словесная артикуляция, или дискурсивная практика, предо¬
пределяет мышление и в конечном итоге социальное и политическое поведение
человека и его социальную идентификацию5. В отличие от понятия «менталитет»
понятие «дискурсивная практика» подчеркивает активность слова, его творче¬
ские возможности конструировать реальность. Однако коллективные представ¬
ления лежат в основе обоих понятий.
В неоинституциональной теории (популярной в экономической науке) ис¬
пользуется другой термин, близкий по смыслу «менталитету» — «институты»,
означающий неформальные правила игры в обществе, обычаи, традиции и нормы
поведения. Институты создают систему коллективных представлений и структу¬
ру побудительных мотивов, организуют и регулируют поведение людей, форми¬
руют их духовный мир6.
Э. Дюркгейм (1858—1917), пожалуй, первым предложил термин, близкий по
значению менталитету, — «коллективные представления». Понятие имело в виду
совокупность символов и идей, традиций, привычек, обычаев, имеющих сходное
значение для всех членов социальной общности, вызывающих у них сходные
интеллектуальные и эмоциональные реакции, обеспечивающих единство соци¬
альной общности, солидарность ее членов. Коллективные представления выра¬
жаются в моральных предписаниях, юридических нормах, религиозных верова¬
ниях, материальных символах и понятиях7.
Хотя перечисленные выше понятия не тождественны, все они употребляются
для обозначения коллективных представлений, сознаваемых и несознаваемых,
которые формируют и предрешают восприятие действительности и поведение
человека. В этом смысле я и буду их использовать, отдавая предпочтение терми¬
ну «коллективные представления». При этом я всегда буду ограничиваться пред¬
ставлениями отдельных социальных групп и сословий. Этническая психология,
или национальный характер, национальный менталитет, общенациональные кол¬
лективные представления, о чем в последние десятилетия много пишут начиная
374
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
с получившего широкую известность эссе И. С. Кона, опубликованного еще
в 1968 г.8, и еще больше говорят, выходят за рамки моего исследования.
Человеческий капитал — это богатство в форме знания или идей, совокуп¬
ность интеллектуальных способностей, образованности, умений, навыков, мо¬
ральных качеств, квалификационной подготовки индивидов, которые исполь¬
зуются или могут быть использованы в трудовой деятельности9. «Знание само по
себе — сила», — утверждал в свое время Фрэнсис Бэкон. Общепринято, что
существует тесная связь между культурным капиталом, с одной стороны, и бла¬
госостоянием, производительностью труда, заработной платой, характером хо¬
зяйственной деятельности, с другой — темпы роста образованности населения
примерно на треть объясняют темпы роста национального дохода на душу
населения10. Однако знания влияют на все виды человеческого поведения,
включая экономическое, политическое, криминальное, инновационное и — что
очень важно, но редко принимается во внимание — определяют мыслительные
стратегии и практики. Знания, эффективность их применения и когнитивные
способности людей находятся в тесной взаимосвязи — на это будет обращено
особое внимание в данной главе.
Коллективные представления крестьянства и городских низов
в крепостное время
Крестьянство
Интерес в историографии к проблемам коллективных представлений, дере¬
венской культуры, общинных форм жизни, логики коллективных действий
крестьянства, роли последнего как активного субъекта в формировании своей
культуры и своего духовного мира, как деятельного участника общественных
перемен пробудился в 1970—1980-е гг., в пору расцвета социальной истории.
Этот интерес в 1990—2000-е гг. достиг своего апогея под влиянием «лингвисти¬
ческого поворота», когда в историографии произошел сдвиг от социальной исто¬
рии к культурной истории, к изучению народной культуры, ментальностей и ро¬
ли образования, что привело к диффузии в исторические исследования методов
культурной антропологии, социальной психологии и лингвистики11.
В традиционном обществе, основанном преимущественно на устной передаче
культурного наследия, коллективные представления хорошо отражаются в фольк¬
лоре и особенно в пословицах12. Они, по выражению В. И. Даля, «цвет народного
ума, житейская народная правда, своего рода судебник»13. Пословицы суммиро¬
вали народную мудрость, обобщали здравый смысл, наблюдения, размышления
и опыт многих поколений. В них нашел отражение народный дискурс основных
проблем жизни. Конструируя специфическим образом социальную реальность,
формулируя идеологию повседнева и устанавливая правила поведения, послови¬
цы формировали жизненный уклад народа. Корпус русских пословиц (около
30 тыс.), собранный В. И. Далем во второй трети XIX в. и опубликованный
в 1861—1862 гг., может служить хорошим источником для характеристики миро¬
воззрения не только крестьянства, но и городских низов, потому что до 1860-х гг.
375
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
пословицы были общими для всех непривилегированных слоев города и дерев¬
ни14. При их анализе будем использовать семантический подход, так как нас ин¬
тересует значение, смысл пословицы, а не ее конструкция или употребление. Ес¬
ли пословицы предлагают две-три точки зрения на какую-то проблему, то будет
указываться частота пословиц, выражающих различные взгляды (предполагая,
что частота соответствует распространенности данной точки зрения).
Свою систему ценностей крестьянин не формулировал и не распределял их
в порядке важности. Косвенно об этом можно судить по тому, как он определял,
что такое счастье или счастливая жизнь. Ни в одной пословице это четко не
сформулировано. В комплексе пословиц по теме «счастье — удача» речь идет
о счастье исключительно в смысле рок, судьба, участь, доля, случай, успех, уда¬
ча15. Что такое желанная насущная жизнь, можно сформулировать, опираясь на
весь комплекс пословиц. Счастье, понимаемое крестьянами как «благоденствие,
благополучие, желанная насущная жизнь»16, состояло в том, чтобы прожить
жизнь в труде, здоровье и достатке, но обязательно в соответствии с обычаями и
традициями, завещанными от предков, по правде и по совести, чтобы иметь
большую семью и много детей, пользоваться уважением односельчан, не совер¬
шить много грехов, не уезжать из своей деревни и умереть на родине в кругу
близких и друзей, успев покаяться перед священником в совершенных прегре¬
шениях.
К власти и славе, в современном понимании этих слов, крестьянин относился
равнодушно, к богатству — противоречиво. С одной стороны, он понимал, что
деньги могут дать власть, силу и материальное благополучие, с другой — считал,
что богатство — аморально, так как всегда нажито не по совести и правде, в ущерб
и за счет других. Оно не приносит душевного спокойствия, наоборот, обладание им
сопряжено с большими хлопотами, волнениями и страхом за свое будущее на том
376
Рис. 12.1. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Молебен во время засухи. 1880.
Омский музей изобразительных искусств
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
VI1%
Рис. 12.2. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Молебен во время засухи. 1880.
Фрагмент. Омский музей изобразительных искусств
свете, в вечной потусторонней жизни. В комплексе пословиц о богатстве есть
12 пословиц, развивающих идею «богатство нажить — в аду быть», и ни одной по¬
словицы, в которой бы содержались идеи о том, что богатство приносит моральное
удовлетворение и является наградой за труды, энергию, инициативу17. Разрешение
этого противоречия крестьянин нашел в том, что материальные и духовные потреб¬
ности должны быть минимальными: «Хлеба с душу, денег с нужу, платья сношу»;
«Кто малым доволен, тот у Бога не забыт».
377
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Взгляд на богатство предопределил субсистенциальное (от англ, subsistence —
средства к существованию) отношение крестьянин к земле и собственности во¬
обще. Земля предназначалась давать хлеб насущный и представлялась условием
труда, на которое имеет право каждый мужчина по достижении совершенноле¬
тия. Землю крестьяне полагали Божьей, смотрели на нее как на общее достояние
тех, кто ее обрабатывает, считали, что только труд, приложенный к земле, обра¬
щал ее во владение тех, кто на ней трудился. На этом основании всю землю, ко¬
торую они обрабатывают, включая помещичью, они считали своей, соглашаясь,
однако, в крепостное время, что повелением царя обязаны помещику оброком
или барщиной.
Землю, принадлежавшую общине, крестьяне рассматривали как свое общее дос¬
тояние, поэтому доходы и убытки от ее использования должны распределяться по
справедливости, по совести, т. е. уравнительно между всеми. Нарушение равенства
воспринималось пострадавшим как ущерб не только материальный, но и мораль¬
ный. Земля не подлежала ни наследованию, ни завещанию как собственность, но
могла передаваться одним членом общины другому как объект временного пользо¬
вания. Земля принадлежала всей общине в целом, передавалась в пользование не
отдельному крестьянину, а крестьянскому хозяйству, двору, семье, причем времен¬
но, пока члены хозяйства на ней работали.
Использование земли в целях эксплуатации и обогащения греховно. Источни¬
ком существования каждого человека должен быть личный труд. Накопление
собственности не имеет большого смысла, так как не гарантирует общественного
признания, уважения, не помогает осуществлению главных целей жизни, порож¬
дает эгоистические чувства и вражду, отвлекает от мыслей о Боге. Крестьянин
негативно смотрел на ростовщичество и прибыль. Ему было свойственно поня¬
тие справедливой цены, которая компенсировала затраты, и чуждо понятие ры¬
ночной цены, которую устанавливает рынок, спрос и предложение. В 1850-е гг.,
после того как на водку установились цены, которые крестьяне считали неспра¬
ведливыми, среди них распространилось трезвенное движение18.
Труд должен быть умеренным («Подать оплачена, хлеб есть, и лежи на пе¬
чи»), ибо работа сверх меры — своего рода алчность и не может быть богоугод¬
ным делом («У Бога дней впереди много — наработаемся»). Работа не имеет
конца и края, поэтому важно не терять чувства меры и своевременно остановить¬
ся, чтобы оставить время для удовлетворения других, не менее важных духовных
человеческих потребностей («На острую косу много сенокосу»; «На ретивую
лошадку не кнут, а вожжи»)19. Одним из способов регулирования продолжитель¬
ности рабочего времени являлись праздники, работа в которые считалась грехом,
запрещалась, осуждалась общественным мнением и преследовалась не только по
обычаю, но и по закону. Крестьяне полагали, что праздник — не менее богоугод¬
ное дело, чем работа. Он не только приносил отдых от тяжелого труда, но
и предназначался для посещения церкви и исполнения религиозных обрядов.
«Богатство и бедность воспринимались как дар или наказание, ниспосланные
Богом, — свидетельствовал крестьянин И. Столяров. — На Бога же жаловаться
нельзя. Бог волен наградить милостью своей или наказать гневом своим. Его пу¬
ти неисповедимы»20. По наблюдениям знатоков народного быта, в частности
378
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
С. В. Максимова, крестьяне были уверены, что не сам человек, не все люди вме¬
сте, не естественная эволюция, а крестная сила (Бог, ангелы, святые и т. п), не¬
чистая сила (черти, домовые и т. п.) и неведомая сила (огонь, вода и другие при¬
родные явления) определяли ход вещей в природе и обществе21. Отсюда актуаль¬
ность настоящего и равнодушие к будущему («Хватает каждому дню своих забот»;
«Завтрашнему дню не верь!»), вера в чудесное избавление от всех бед и страданий,
вера в доброго царя, словом, вера в чудо, которое может все переменить к лучшему.
Сборник заговоров являлся, по выражению Г. И. Успенского, «лечебником от
всех болезней, помощником и указателем во всех житейских бедах, несчастьях
и затруднениях, в том числе помощником и от начальства»22.
В комплексе пословиц по проблеме «кто определяет ход вещей и жизнь отдель¬
ного человека» в 39 пословицах утверждается мысль, что «все в мире творится не
нашим умом, а Божьим судом», в 21 пословице выражена идея «чему быть, тому не
миновать», в трех — «все во власти Божьей и государевой» и в семи — «на Бога
надейся, а сам не плошай»23. Последняя группа пословиц дает некоторое основание
полагать, что усилия отдельного человека могут быть предпосылкой для достиже¬
ния жизненных целей. И все же общий итог размышлений на эту тему, по всей ви¬
димости, подводится в пословице «Живи не как хочется, а как Бог велит»24.
По мнению крестьянина, если все люди равны перед Богом и царем, то и в
общине все должны быть во всем равны: иметь равные права и обязанности,
одинаковый достаток и т. д.; отклонения от равенства ведут к греху и потере
уважения.
Крестьянин воспринимал время циклическим, движущимся по Kpyiy и соответ¬
ственно этому представлял, что все в мире повторяется, а не изменяется. Отклоне¬
ние от нормального, т. е. повторяющегося, хода вещей казалось ему чем-то исклю-
Рис. 12.3. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Самосожжение. 1884.
Государственная Третьяковская галерея
379
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
чительным, делом рук нечистой силы и потому временным и преходящим: «Обом¬
нется, оботрется — все по-старому пойдет». Отсюда недоверчивость ко всяким пе¬
ременам, нововведениям, будь они хорошими или плохими, и традиционализм, ко¬
торый по крайней мере гарантировал сохранение того, чем человек обладает в дан¬
ный момент. Крайние формы проявления традиционализма встречались у старооб¬
рядцев, которые, например, считали «предосудительным» всякий новый способ,
облегчающий труд земледельца, так как верили, что «при уменьшении трудов
в земледелии человек будет недостоин уже того, чтобы Господь одолжил его ни¬
ву»25, т. е. дал ему урожай.
В фольклоре настойчиво проводится мысль о том, что прошлое лучше настоя¬
щего («Прежде жили не тужили; теперь живем — не плачем, так ревем»)26. Эта
идея используется не для утверждения идеи регрессивного развития, а для осужде¬
ния изменений, которые всегда ухудшают положение крестьян. Есть немало посло¬
виц, прямо порицающих изменения: «Много нового, мало хорошего, что новизна,
то и кривизна»; «Все по-новому, а когда же по-правому?». В 9 пословицах старина
выставляется в качестве идеала и образца для подражания: «Как отцы и деды, так
и мы»; «Отцы и деды не знали этого да жили не хуже нашего»27. Цель крестьянской
общины — обеспечить воспроизводство традиционного крестьянского строя жизни
во всех отношениях — экономическом, демографическом, культурном и т. д. Лю¬
бое деяние, способное нарушить обычай и традиции, является неразумным. Вслед¬
ствие этого они относились настороженно либо пренебрежительно к новшествам,
осуждали личную инициативу, ставили препоны развитию образования и т. д.28
Крестьянство оценивало свою конкретную деревню, общину, родину как лучшее
на Земле место для жизни. Из 53 пословиц, которые содержат оценку родины
и чужбины, лишь в одной можно обнаружить предпочтение чужбине («Жить в де¬
ревне — не видать веселья»), в трех — идею равноценности родины и чужбины
(«Где не жить, только бы сыту быть»). Остальные 49 пословиц выражают привя¬
занность и любовь к родной земле, на разные лады варьируя мысль, что «родимая
сторона — мать, а чужая — мачеха». В 5 пословицах содержится мысль, что на
чужбине можно попытаться найти счастье, но родину не любить — невозможно:
«Ищи добра на стороне, а дом люби по старине»29.
Крестьянин верил, что община являлась источником правды и справедливо¬
сти, надежной защитой от нарушителей обычая и традиции, от барина и чинов¬
ника, что она была самой целесообразной формой человеческого общежития
(«Крепче мирского лаптя мужику не найти»). Он не мыслил себя вне ее («Где
у мира рука, там моя голова»), полагая, что только община в состоянии прими¬
рить разные интересы, найти приемлемое для всех решение и что как только по¬
гибнет община, так и крестьянство разорится и пропадет («Никакой мирянин от
мира не прочь»). Вместе с тем сознаются трудности достижения общего согласия
(«Артели думой не владати. Сто голов — сто умов») и то, что сход, поддавшись
какому-нибудь влиянию или эмоциям, может принять и неправильное решение
(«Мужик умен, да мир дурак»; «Силен, как вода, а глуп, как дитя» (о крестьян¬
ской общине)). Но этими двумя пословицами из 21, содержащих оценку общин¬
ной формы общежития, и ограничивается ее порицание; в остальных 19 послови¬
цах она считается наилучшей формой социальной организации30.
380
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
Земледельческий труд представлялся крестьянину наполненным большим
смыслом, имеющим значение для всего государства («Мужик — Богу свеча, го¬
сударю — слуга»). Он признавал, что все сословия выполняли полезные функ¬
ции: мужик живет и служит для того, чтобы пахать, косить, платить подати
и всех кормить; барин — чтобы следить за мужиком, выколачивать недоимки
и получать жалованье; священник — чтобы венчать, крестить, хоронить; мона¬
хи — чтобы за всех молиться; солдаты — чтобы охранять государство; купцы —
чтобы торговать. Однако именно крестьянин являлся центром святорусской зем¬
ли, единственным кормильцем, остальные живут за его счет. Отсюда негативное
отношение к представителям других сословий как к дармоедам, которые сидят на
крестьянском горбу31.
Славянофилы правильно, на мой взгляд, указывали, что еще накануне отмены
крепостного права мировоззрение большинства земледельцев сохранило, если не
во всей чистоте и неприкосновенности, то в значительной степени, предания,
обычаи и нравы допетровского времени. А западник К. Д. Кавелин (1818—1885)
артикулировал это мировоззрение либеральным дискурсом следующим образом:
«Крестьянин прежде и больше всего — безусловный приверженец обряда, обы¬
чая, заведенного порядка, предания. Весь его домашний и хозяйственный обиход
предопределен тем, как его завели и устроили отцы и деды. Быт его меняется, но
эти перемены являются в его глазах результатом деятельности судьбы и тайных
невидимых сил, которые управляют жизнью. Полное отсутствие самодеятельно¬
сти, безграничное подчинение тому, что приходит извне, — вот основной прин¬
цип всего мировоззрения крестьянина. Им определяется вся его жизнь. Его воз¬
зрения по принципу исключают творческую деятельность людей как источник
материальных и духовных благ, как орудие против зол и напастей»32.
Таким образом, и с точки зрения инсайдеров-пословиц, и по мнению наблюда¬
телей, коллективные представления крестьян в XVIII—первой половине XIX в. со¬
ответствовали христианскому идеалу 3. Их можно назвать традиционным христи¬
анским мировоззрением. Не случайно, слово «крестьянин» имело два значения
в древнерусском литературном языке и разговорном русском языке XVIII—XIX вв.:
(1) крещеный, православный, житель Русской земли и (2) мужик, землепашец, зем¬
леделец34.
Городские низы
Горожане в социальном и культурном отношении были намного разнороднее
крестьянства, вследствие чего общая характеристика их представлений вряд ли
возможна. Но если анализ ограничить теми, кто, по определению образованных
современников, относился к простонародью, или к городским низам, т. е. к меща¬
нам, ремесленникам и работным людям, а также крестьянам-горожанам, состав¬
лявшим вместе от 72 % всего городского населения в 1730-е гг. до 90 % в 1860 г., то
общие представления можно обнаружить и артикулировать.
Современники постоянно подчеркивали деревенский характер семейного и об¬
щественного быта городских низов35. Известный этнограф и путешественник
И. Г. Георги (1729—1802) в описании образа жизни петербургских жителей конца
381
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
XVIII в., которые более, чем жители других городов, были затронуты европейскими
влияниями, отмечал, что нравы и обычаи у простого народа за XVIII в. изменились
мало и только у дворянской элиты — радикально36. Корреспонденты РГО в 1840—
1850-е гг. привели обильный материал, иллюстрирующий сходство быта и мировоз¬
зрения крестьянства и городских низов малых и средних городов37. Духовный уро¬
вень купцов и мещан Казани — крупного торгово-промышленного университетско¬
го города, находившегося в первой десятке российских городов середины XIX в.,
с населением около 60 тыс. был весьма похож на крестьянский даже в начале
1870-х гг.38 Нередко корреспонденты давали общую характеристику быта и нравов
«простолюдинов» города и его уезда, настолько мало имелось различий39, отмеча¬
ли, что «простонародье» города и уезда не имело особенностей в языке, что у тех
и других был общий фольклор и, в частности, общий словарь пословиц40.
В Нижегородской семинарии в 1840-е гг. был составлен сборник религиозных
предрассудков и суеверий, в равной мере свойственных городскому и сельскому
«простонародью» (чтобы будущие пастыри были готовы бороться с ними)41. Чем
меньше был город и чем больше его жители занимались сельским хозяйством,
тем меньше горожане отличались от крестьян. В малых городах, как и в дерев¬
нях, устраивались вечёрки и посиделки, кулачные бои42, практиковались колдов¬
ство и магия, коллективные молебны по случаю засухи (см. рис. 12.1 и 12.2)43,
архаические обычаи, встречавшиеся в деревне, такие, например, как опахивание
(рис. 12.4) города во время эпидемий и эпизоотий (в ночное время обнаженные
женщины запрягались в соху и проводили вокруг города замкнутый круг, в кото¬
рый якобы не дерзнет вступить народное бедствие)44, коллективная проверка
девственности невесты45 и др.
382
Рис. 12.4. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Опахивание. 1876.
Государственный Русский музей
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
Если невеста не соблюла «девичью честь», то родители и невеста подвергались
публичному посрамлению по особому ритуалу, который в каждой местности был
специфическим. В благоприятном случае простынь новобрачных со «следами де¬
вичьей невинности» показывалась гостям или вешалась на заборе либо, как на Ук¬
раине, с «красным» знаменем» процессия проходила по всему селу (рис. 12.5)46 .
Последний обычай сохранился даже в некоторых крупных городах, например
среди мещан г. Астрахани с населением около 50 тыс. жителей. Вот как описы¬
вает этот обычай современник в 1851 г. Сорочку новобрачной после первой
брачной ночи выносили гостям. В неблагоприятном случае жених давал своей
жене две оплеухи и наносил жестокие побои ее родителям; гости уходили; надо¬
рванная сорочка вывешивалась на шесте. Если сорочка имела надлежащие при¬
меты, то 15 женщин устраивали скачки по астраханским улицам на шесте, во
время которых их предводительница размахивала сорочкой как флагом47. Язы¬
ческие воззрения среди горожан малых провинциальных городов бытовали до
начала XX в.48 Сглаза боялись так же, как в XVII в., когда царевна во время про¬
хода в церковь закрывалась стрельцами специальными покрывалами от посто¬
ронних дурных глаз (рис. 12.6).
Освящалось все: новые дома и корабли, памятники, семена, предназначенные
для посева, и даже введение государственной винной монополии в 1896 г.
Известный в свое время экономист и публицист Н. Флеровский (1829—1918)
в книге, опубликованной в 1869 г., дал широкую картину быта и нравов «рабочего
класса», к которому он относил всех работников физического труда и мелких тор¬
383
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
говцев — крестьян, мещан, ремесленников,
кустарей и рабочих. Все эти группы насе¬
ления, по его мнению, отличались сходст¬
вом своего материального положения, до¬
машнего и семейного быта и мировоззре¬
ния. «Во всех частях России, — резюмиро¬
вал он свои наблюдения, — работник, не¬
смотря на несомненные природные способ¬
ности, в главных и общих проявлениях сво¬
ей жизни всего более руководствуется
стремлением к минутному удовлетворению
своих потребностей без всякой мысли о бу¬
дущем или предрассудками, которые он
никогда не пытался анализировать или ра¬
зоблачать. Можно сказать, что рационально
он поступает только в необыкновенных
случаях своей жизни, когда у него нет ру¬
тинного правила, которое закачивает до
дремоты его ум и его сердце. В промыш¬
ленных губерниях он как будто пробужда¬
ется к жизни. Он впервые покидает это пас¬
сивное существование, в котором человек
живет, как живется, без страстных стремле¬
ний, без борьбы с жизнью, богатеет, если
богатство легло случайно на его пути, бед¬
неет точно так же. Он впервые выходит из
той жалкой сферы, в которой каждый дума¬
ет о своих потребностях только тогда, когда они явились, и удовлетворяет им пер¬
вым попавшимся способом»49.
Таким образом, данные о занятиях, семейном и общественном быте, мировоз¬
зрении, брачных, похоронных и других обычаях, об играх и развлечениях, круге
чтения показывают, что городские низы в подавляющем большинстве российских
городов до середины XIX в., исключая немногие большие города, обладали при¬
мерно той же духовной культурой, что и крестьяне, хотя начиная с конца XVIII в.
стали отличаться материальной культурой (одеждой, жилищем и т. п)50. Различия в
коллективных представлениях не имели принципиального характера. В сущности
горожане, исключая немногочисленное образованное общество, и крестьяне были
носителями единой народной культуры. Только городские низы сравнительно с де¬
ревенским крестьянством были несколько менее традиционными, немного более
грамотными и рациональными, более связанными с рынком и потому более мо¬
бильными, больше ценившими деньги и собственность, более восприимчивыми
к светской культуре, центрами которой являлись большие города, главным образом
Петербург и Москва51.
Эта общность культуры и коллективных представлений городских и сельских
простолюдинов на первый взгляд может показаться парадоксальной, учитывая, что
Рис. 12.6. А. П. Рябушкин (1861—1904).
Выход царевны Марии Ильинишны
из церкви. 1893. Государственная
Третьяковская галерея
384
Коллективные представления крестьянства и городских низов в крепостное время
Рис. 12.7. Н. В. Орлов (1863—1924). Освящение монополии (Молебен в казенке). 1896.
Место нахождения неизвестно
горожане сравнительно с крестьянами находились в привилегированном положе¬
нии, в своей жизни руководствовались законом, а не обычаем, владели частной соб¬
ственностью, индивидуально вели свое хозяйство; купечество было даже освобож¬
дено от круговой ответственности. Объяснение в том, что мещане и ремесленники
не были предпринимателями в истинном смысле этого слова. Подобно крестья¬
нам,целью их хозяйства являлось получение только пропитания, а общей жизнен¬
ной целью — не богатство и слава, а спасение души. Буржуазная протестантская
трудовая этика была им совершенно чужда. Даже среди богатого гильдейского ку¬
печества можно было встретить людей, лишь отдаленно напоминавших предпри¬
нимателей буржуазного типа. Их профессионализм находился на низком уровне,
примером чему является способ подсчета издержек производства, к которым отно¬
сились не только производственные, но и личные расходы семьи52. Предпринима¬
тельской активности у купца хватало лишь на то время, пока он не достигал богат¬
ства. Идеалом разбогатевшего купца становилось не приумножение капитала и раз¬
витие производства, а комфортабельная, шикарная, тщеславная жизнь, наподобие
той, какую вели богатые дворяне, которая вскоре приводила к разорению53. Отсюда
отсутствие длительной преемственности в семейном капитале: первое поколение
создавало значительный капитал, второе поколение его в основном проматывало,
а третье поколение, как правило, окончательно разорялось и опускалось в мещанство.
Разорение наступало в результате ослабления предприимчивости, огромных непро¬
изводительных расходов, благотворительности и широкого меценатства
385
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
До Великих реформ особой субкультурой, светской по своему существу,
и специфическим менталитетом обладало только образованное общество, вклю¬
чавшее главным образом дворянство и разночинную интеллигенцию, которое
четко отделялось от простого народа в социальном и культурном отношении. «До
того времени (середина XIX в. — Б. М.) понятия дворянина, военнослужащего,
чиновника, землевладельца и образованного человека почти совпадали, так что
присвоенные дворянству сословные права были в сущности принадлежностью
всего контингента в известной мере просвещенных людей России (курсив
мой. — Б. М)», — указывал один историк русского дворянства54. Это находило
четкое отражение в дискурсивной практике: для простого человека все представи¬
тели образованного общества относились к категории барина, а для образован¬
ных людей все остальные были простолюдинами, или мужиками. «Боярин и в
рубище не брат. Такой сякой барин, а все не мужик», — гласила пословица55.
«Начитанный, богатый купец-старообрядец с бородой и в русском длиннополом
платье, талантливый промышленник-хозяин для сотен, иногда тысяч, человек
рабочего люда и в то же время знаток русского искусства, археолог, собиратель
русских икон, книг, рукописей, разбирающийся в исторических и политических
вопросах, любящий свое дело, но полный и духовных запросов, такой человек
был “мужик”, — с горечью писал в своих воспоминаниях известный русский
предприниматель, представитель династии купцов-старообрядцев В. П. Рябу-
шинский (1873—1955), — а мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле,
схвативший кое-какие верхушки образования, в сущности малокультурный, му¬
жика глубоко презирающий, один из предков грядущего русского интеллиген¬
та, — это уже “барин”. Так продолжалось до половины 19 века почти без изме¬
нения, но некоторые черты такого разделения дожили и до начала 20 века, вплоть
до революции»56.
Отмечу, что в городах разного административного статуса среди образован¬
ной части городского населения наблюдались культурные различия, но сущест¬
венно менее выраженные, чем между «мужиками» и «барами». Как выяснил
А. И. Куприянов, в губернских городах доля чиновничества и дворянства была
выше, чем в уездных, а сеть культурной инфраструктуры (библиотеки, театры,
учебные заведения) — более разветвленной и плотной. Вследствие этого «на¬
блюдалось заметное отставание социокультурного развития уездных городов от
губернского центра». Несмотря на это, подчеркивает исследователь, изучение
наиболее важные сегментов городского самосознания, затрагивающих «картину
мира» и сферу чувств и переживаний горожан разных сословий, провинциалов
и столичных жителей, обнаружило «существенную близость ценностных устано¬
вок и близость ядра “картин мира” русских горожан»57.
Коллективные представления крестьянства и городских низов
в пореформенное время: традиция против модерна
После Великих реформ и современники, и историки зафиксировали серьезные
перемены в коллективных представлениях сельского и городского населения и,
как следствие, в социокультурных практиках58. «В жизни крестьянской общины
386
коллективные прейставления крестьянства и горойских низов в пореформенное время...
изо дня в день идет глухая борьба двух противоположных течений: глубокого,
органического, почти бессознательного стремления к солидарности, “равнению”
и общности интересов, с одной стороны, и тяжелого, развращающего произвола
и экономического гнета — с другой», т. е. общинных и индивидуалистических
начал59, вся жизнь деревни «происходит в атмосфере двоедушия и двуличия», —
отмечал в качестве основной интриги в развитии пореформенной деревни народ¬
нический писатель Н. Н. Златовратский (1845—1911)60. К его мнению стоит при¬
слушаться, поскольку оно основано на проведенных им в 1878—1879 гг. полевых
исследованиях во Владимирской губернии конкретной деревни, которую он изу¬
чал в поисках самых «добросовестных наблюдений», методом включенного на¬
блюдения. Мысль, что расчетливость и эгоизм становились главными мотивами
поведения крестьян, проходила лейтмотивом в произведениях Г. И. Успенского
и других писателей-деревенщиков61.
До реформ крестьяне отрицательно относились к капиталистической прибыли
в любых ее проявлениях. Еще в середине XIX в. находились крестьяне, которые
«почитали за грех продавать хлеб — Божий дар»62. Кредитные сделки (брать или
давать деньги в займы под процент) были весьма непопулярны. Например, в Ки¬
евский губернии в 1850-х гг. среди представителей всех сословий в среднем в год
официально оформлялось лишь 1650 кредитных сделок на 1272 тыс. руб. Из них
на долю крестьян приходилось 4,5 % по числу сделок и 1 % по сумме; причем
крестьяне в 96 % случаях кредитовали друг друга, а средняя сумма кредита со¬
ставляла 159 руб., в то время как у всех участников сделок — 771 руб. Учитывая,
что крестьяне в населении губернии составляли 80,3 %, они были охвачены кре¬
дитными операциями в 88 раз меньше, чем все другие сословия, а по сумме опе¬
раций — в 426 раз меньше. Большинство кредитных операций между крестьяна¬
ми совершались устно и без процентов63.
В 1870-е гг. для большинства крестьян еще была чужда идея денежного займа
под проценты и прибыли на капитал. Односельчане давали друг другу в долг
продукты и деньги без роста. Процент считался делом греховным, а на ростов¬
щика смотрели как на человека, посягающего на благо ближнего64. Землевла¬
дельцы и богатые крестьяне давали в долг деньги под будущую работу, ценность
которой обычно превышала величину займа и поэтому фактически включала
процент65. Но все-таки это не была настоящая кредитная операция. Успенский
описал показательный случай, свидетелем которого он был. Старик-крестьянин
пришел в банк, чтобы сделать вклад-завещание для внука в размере 42 руб., но
при условии, что никаких процентов начислять не будут: «Росту мне не надо.
Этого — сохрани Бог! Что положу, то и отдайте, а этого греха не возьму!» Ста¬
рика долго убеждали, чтобы ради внука он согласился на начисление процентов.
Когда его с большим трудом уговорили, он сказал: «Соглашаюсь! Пущай мой
внук получит с ростом. Принимаю грех на себя. Потому Господь видит, времена
подходят точно гонимые, лютые»66.
Однако «теория хищничества» входила «в моду в деревне»67, взгляды на день¬
ги как на капитал прививались, что проявилось в отношении к кредитным инсти¬
тутам. Еще в 1870—1880-е гг. они считались благотворительными учреждения¬
ми. Крестьяне полагали, что задача этих учреждений состояла в том, чтобы де¬
387
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
лить пожертвованные в пользу крестьян деньги между всеми ими поровну. «Царь
деньги всем прислал, значит, и делить нужно поровну», — заявляли крестьяне
руководителям кредитных кооперативов . Но после революции 1905—1907 гг.
произошел перелом: многие крестьяне наконец осознали и приняли идею займа
и процента, и число кредитных институтов стало быстро расти. В 1896—1900 гг.
они объединяли всего 160 тыс. человек, или около 0,2 % всех крестьян, на 1 января
1915 г. — почти в 60 раз больше, 9,5 млн, или 9% всех крестьян69. В 1915 г.
большинство крестьян чуждались кредита и на вопрос: «Состоите ли в кредит¬
ном товариществе?» — часто слышался ответ, сопровождаемый вздохом облег¬
чения: «Нет, слава Богу, и так своего хватает»70. Но масштабы распространения
кредитных учреждений свидетельствуют о том, что брешь в традиционных пред¬
ставлениях крестьянства была сделана. Представления народа о торговой прибы¬
ли и ценах на товары также становились рациональными: прибыль — плата за
капитал и усилия купца, цены — результат соотношения спроса и предложения71.
Это можно считать радикальным изменением в экономических представлениях,
поскольку в соответствии с народными взглядами, которые отразил известный
народный политэконом начала XVIII в. И. Т. Посошков, цены товаров и денег,
а также торговая прибыль устанавливались государем72.
Комиссия для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сель¬
ской производительности в России (далее Комиссия 1873 г.) собрала в 1872 г. пись¬
менные сведения от 958 представителей местной администрации, священников,
торговцев, землевладельцев, проживающих в 41 губернии Европейской России,
из них 181 эксперту предлагалось высказаться по всем вопросам анкеты, вклю¬
чавшей 269 пунктов; остальным — по отдельным пунктам75. Общее мнение всех
информаторов сводилось к тому, что после отмены крепостничества в крестьянах
наблюдалось развитие чувства личности, независимости, индивидуализма, особен¬
но заметное в селах, имевших тесные связи с городом благодаря отходникам. Это
проявилось в падении нравственности, дисциплины, покушениях на помещичью
собственность, неуважении к родителям, участившихся семейных разделах, ослаб¬
лении уважения к церкви и религии74, в «щегольстве», т. е. в стремлении заменить
традиционную крестьянскую одежду городской, следовать городской моде75.
Н. Флеровский дает следующее объяснение стремлению крестьянина к улучшению
материальной культуры. «Ему стыдно плохо одеваться, жить в дурной избе, а дей¬
ствительно увеличить свой комфорт средств не хватает. Он приучается жить напо¬
каз. Во всем, что можно скрыть, он подвергает себя величайшим лишениям, все
семейство будет у него голодать, дети будут умирать, — а у дочери будет шелковое
платье, и избу он украсит резной работой. <...> Из последних сил бьется, самый
тяжелый крест несет, чтобы быть не хуже других»76.
В 1902 г. эксперты Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной про¬
мышленности, учрежденного 22 января 1902 г. под председательством министра
финансов С. Ю. Витте (далее Совещание 1902 г.), с тревогой констатировали
дальнейший рост тенденций во взглядах и поведении крестьянства, наметившихся
в 1860-е гг., и считали необходимым корректировать их развитие через систему на¬
родного образования77. За изменениями в поведении, конечно, стояло новое миро¬
воззрение, на что прямо указывали современники, например К. Д. Кавелин в 1870-х гг.:
388
Коллективные представления крестьянства и городских низов в пореформенное время...
«Замечаются отступления от традиционного мировоззрения, — и мы здесь и там
видим признаки нарождения другого, признающего участие человека в участии
собственной судьбы»78.
Среди городских низов и молодых крестьян, тесно связанных с городом, изме¬
нение взглядов проявлялось рельефнее, что хорошо видно из анализа лубочной ли¬
тературы, ориентированной на ее вкусы79. До конца XIX в. свобода и порядок рас¬
сматривались народом как альтернативные категории: либо свобода, либо порядок.
Этот конфликт персонифицировался в разбойнике, который восстает против власти
и путем бунта добивается свободы. Поднимая бунт, разбойник противопоставлял
себя царю, церкви и общине, в результате чего конфликт между свободой
и порядком перерастал в конфликт между обществом и индивидом. В традицион¬
ных трактовках этой проблемы бунт считался незаконным, а свобода — нарушени¬
ем общественного порядка. Бунт давал свободу, но она становилась тяжелым бре¬
менем для разбойника. Если он не раскаивался и не приносил прощения, он поги¬
бал, если раскаивался, то должен был попросить прощения у царя и совершить ряд
подвигов во имя царя и церкви. Царь, народ, община всегда правы и сильнее раз-
бойника-индивида. В произведениях, опубликованных после 1905—1907 гг., трак¬
товка проблемы изменяется — противопоставление свободы и порядка исчезает.
Новый герой — частный детектив — свободен, как разбойник, но он герой общест¬
венного порядка и справедливости. Детектив свободен, но не стоит вне общества,
как разбойник, и не страдает комплексами одиночества и вины, а живет полнокров¬
ной жизнью и пользуется уважением общества80.
На рубеже XIX—XX вв. кроме детектива появился другой новый рациональный
активный герой, добивающийся жизненного успеха в жизненной борьбе благодаря
личным усилиям. Он заменяет традиционного героя волшебной русской сказки,
который полагался на магию и вмешательство потусторонних сил. В новой литера¬
туре для народа успех ассоциировался с богатством и комфортабельной жизнью
в городе, а отнюдь не с крестьянским трудом. Контент-анализ показал, что успех
имел несколько вариантов: усыновление богатым покровителем (20% случаев),
владение торговым или промышленным предприятием (20 %), получение статуса
купца (18 %), удачная женитьба на богатой невесте (15 %), приобретение капитала
(11 %), получение дворянства и слава артиста (6 %) и только на последнем месте —
честный земледельческий труд (2 %). Достижение успеха обеспечивали образова¬
ние и чтение (15 % случаев), труд, смелость, воля, энергия, способности, ум, хит¬
рость (35%), страдание, терпение и честность (более 12%), судьба (менее 9%).
Следовательно, новая литература превозносила успех за счет личных усилий, арти¬
кулировала его независимость от судьбы и Божественного провидения.
Достижение успеха сопровождалось конфликтами, соперничеством, ревностью,
напряжением в человеческих отношениях. Успех был сопряжен также с отречением
от таких традиционных ценностей, как семья, община, сословие. Все это порождало
у героя чувство вины и отравляло радость от успеха. Традиционное противоречие
между душевным спокойствием и успехом/богатством сохранялось. Чтобы сгла¬
дить это противоречие, народные писатели делали своих героев сиротами, что из¬
бавляло их от необходимости порывать с семьей и общиной, а сам успех рассмат¬
ривался как возвращение потерянного или награда за долгое терпение и страдание.
389
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Однако для полноты счастья этого оказывалось недостаточно, так как народ
в принципе подозрительно относился к успеху кого бы то ни было, полагая, что сча¬
стье одного достигается за счет другого. Чтобы помириться с людьми, удачливый
герой делал большие жертвы на церковь и благотворительность81.
Как видим, народная литература начала XX в. утверждала и, надо думать,
отражала новое мироощущение, выражая новые взгляды если не всего народа, то
«продвинутой» его части. Интересно, что новая литература публиковалась
наряду со старой, которая в количественном отношении даже превалировала:
в начале XX в. на долю традиционной религиозной литературы приходилось до
60 %, а на все прочие жанры около 40 %82. Это говорит о том, что новое миро¬
воззрение, хотя и довольно громко заявило о себе, не стало господствующим до
конца периода империи. Отсюда следует принципиальный методологический
вывод: исторически обусловленная мотивационная структура поведения русских
крестьян, сложившаяся в условиях передельной общины и крепостного права
(коллективизм, соборность и т. п.), в иных условиях изменяется и потому не
может считаться универсальными русскими мотивами человеческой деятельнос¬
ти — частное и конкретное нельзя выдавать за общее.
Формирование новых представлений происходило, с одной стороны, стихийно,
под влиянием новых условий жизни, с другой стороны, сознательно — либеральная
общественность и правительство принимали многообразные меры — создавали
клубы, общества трезвости, читальни, народные библиотеки, изобретали даже но¬
вые праздники и т. п., чтобы изменить традиционное мировоззрение народа83. Но
изменения происходили медленно, вследствие инерции, свойственной всем са¬
кральным образцам, идеалам и установкам сознания, и благодаря под держке тради¬
ционного мировоззрения широкими слоями русской интеллигенции и церковью.
Русская серьезная литература и пресса пореформенного времени пронизаны острой
критикой буржуазных ценностных установок и отрицательным отношением к рус¬
ской буржуазии, которая с середины XIX в., после знаменитых пьес А. Н. Остров¬
ского и критических статей Н. А. Добролюбова, олицетворяла собой «темное царст¬
во», где господствовали произвол, насилие, жестокость, самодурство, невежество,
преступление. Русская религиозная философия отрицала буржуазную этику и про¬
тивопоставляла ей христианскую мораль. Известный философ В. Ф. Эрн в 1905 г.
написал работу, доказывающую, что «личной собственности у верующих не долж¬
но быть. Кто не отрешается от личной собственности, тот не христианин, а языч¬
ник»84. Русская церковь также проявляла активность, чтобы сохранить традицион¬
ное мировоззрение и удержать паству под своим влиянием85. «Главная обязанность
Ваша, благочестивые супруги, — наставляли священники вступающих в брак в на¬
чале XX в., — для настоящей жизни та же, какая лежит на каждом христианине,
именно: приготовление к жизни вечной через веру и соблюдение заповедей Божьих.
Эту обязанность вы должны всегда помнить и носить в своем сердце. Старайтесь
блюсти себя столь чистыми и святыми, чтобы ваши супружеские взаимные отно¬
шения не только не препятствовали вам в достижении спасения, но, напротив, со¬
действовали и облегчали для вас шествие к небесному отечеству». И далее перечис¬
лялись традиционные обязанности мужа и жены, как и тысячу лет до этого86. По¬
пытки церкви приспособиться к новым условиям путем изменения доктрины были
390
Коллективные представления крестьянства и городских низов в пореформенное время...
крайне редки87. Активное и весьма популярное в среде интеллигенции обществен¬
ное движение под названием «народничество» поддерживало тезис о самобытном
историческом пути России, который избавит ее от ужасов капитализма. Вера в ис¬
ключительность России, в возможность избежать язв буржуазного общества, разде¬
ляемая последними русскими императорами и консерваторами, была достаточно
популярной в правящих сферах до начала XX в.88
Не были равнодушны и пассивны крестьяне. Они сопротивлялись проникнове¬
нию светской, буржуазной культуры в свою среду. В крупных городах, откуда шли
новые веяния, крестьяне создали институт землячества, благодаря которому кресть-
янам-отходникам удавалось до некоторой степени сохранять традиционные взгляды
в условиях города89. Новичок и на работе, и на досуге постоянно находился в обще¬
стве земляков, среди своих, и благодаря этому долго сохранял крестьянские соци¬
альные нормы поведения90. «Оригинальность Петербурга заключается в том, —
писал известный публицист В. О. Михневич в 1886 г., — что огромное большинст¬
во его жителей — торговая и промышленная масса — не ассимилируется и, живя
иногда целый век здесь, редко отрешается от родного пепелища, свято храня все его
обычаи и весь житейский склад. Такая характерная черта может быть объяснена
тем, что здесь каждый, в работе или торговле, в товарищах или помощниках, встре¬
чает одних почти земляков, нередко родственников и односельчан»91. В Петербурге
существовали общества взаимопомощи уроженцев всех губерний, которые давали
наибольшее число отходников в столицу, — Олонецкой, Вологодской, Костром¬
ской, Рязанской, Тамбовской, Архангельской, а отходники из Ярославской губер¬
нии имели даже три благотворительные организации92. Землячества не могли, ко¬
нечно, парализовать влияние города на мигрантов93. Отходники не являлись непро¬
ницаемой для внешних влияний кастой и со временем знакомились и мало-помалу
усваивали городские стандарты мышления и поведения.
Сельские общины в ответ на развитие отхода усилили свое вмешательство
в жизнь крестьянских семей и в особенности крестьян-отходников, предпринимая
изощренные меры для сохранения контроля над ними, что замедляло разрушение
традиционной крестьянской культуры . Ярким примером самозащиты крестьянст¬
ва от разрушающего влияния образования на молодое поколение является следую¬
щий факт. Родители совершенно сознательно разрешали своим детям учиться
в школе лишь 1,5—2 года, чтобы не потерять над ними полный контроль и чтобы
дети «не испортились». Дети успевали овладеть минимальной грамотностью, кото¬
рая не позволяла им слишком подняться над родителями в интеллектуальном отно¬
шении95. В записках И. Столярова, крестьянина по происхождению, родившегося в
1874 г. и проведшего в воронежской деревне детство и юность, ставшим впоследст¬
вии инженером-агрономом, находим много наблюдений о борьбе традиций с мо¬
дернизмом, в том числе на ниве дискурсивной практики. «Русский народ был так
сильно привязан к традициям, — свидетельствует Столяров, — что недоверчиво
относился ко всем новшествам. <...> Крестьянство не спешило идти по стопам го¬
рода. Оно продолжало еще питаться соками старины. Разрыв между городом и де¬
ревней был не только экономический, но и психологический и даже языковый.
Культурный городской слой плохо понимал язык деревни и даже отвергал его,
а деревня совсем перестала понимать городской культурный язык. Они плохо по¬
391
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
нимали друг друга и расходились, не договорившись ни до чего. <...> В ответ на
наступление города деревня насторожилась, стала пассивно сопротивляться, но
иногда сопротивление было активное»96.
Несмотря на защитные меры, город мало-помалу оказывал «разлагающее» влия¬
ние на отходников, а через них — сначала на материальную, а затем и на духовную
культуру деревни97. Отходничество расширяло кругозор, повышало общий куль¬
турный уровень, делало крестьян восприимчивыми к иным системам ценностей
и способам поведения, к новшествам. До эмансипации, отмечал Н. Н. Златоврат-
ский, идеалами крестьянина были терпение, самопожертвование, солидарность,
равенство, справедливость и взаимопомощь, а после реформы на смену им шла из
города «умственность», как говорили крестьяне, т. е. рациональность и расчет.
«“Умственный” мужик и душой, и мыслью тяготеет к городу: там ключ к экономи¬
ческому благосостоянию и гарантия человеческих прав»98. Именно крестьяне-
отходники99 являлись «пионерами городской культуры», которая «рушит заветы
старины, сложившиеся веками; воспринимая ее, крестьяне, особенно молодежь,
начинают презрительно относиться к старым дедовским обычаям, которые дали
русскому народу и форму общежития (общину. — Б. М.) и веками выработали его
мировоззрение. Семейное начало с каждым годом слабеет все более и более, право¬
вые воззрения, выработанные и проверенные веками, забываются, свое родное ми¬
ровоззрение заменяется чуждым, наносным. Лишь малейшее облегчение сношений
глухого уголка с центром — сейчас же замечается падение нравов, падение всякого
уважения к старине и стремление, хотя бы внешним образом, походить на носите¬
лей так называемой культуры»100. Влияние города было тем заметнее, чем ближе
находилась сельская местность к крупным городским центрам, чем удобнее с ними
была связь и чем больше крестьян занималось отходничеством, наоборот, чем глу¬
ше село, уезд, деревня, чем дальше от центров культуры, тем лучше сохранялся
пасторальный взгляд крестьянина на жизнь101.
Однако во взаимодействии города и деревни есть оборотная сторона, на кото¬
рую мало обращается внимания — крестьянство не было пассивной средой, лишь
испытывавшей «разлагающее» городское влияние, — оно само весьма активно
влияло на горожан. В крепостную эпоху вследствие незначительности миграции
ее влияние не было существенным. Но в пореформенное время поток мигрантов
из деревни усилился. Например, в Петербурге число жителей за 1869—1900 гг.
увеличилось с 668 тыс. до 1248 тыс., в том числе на 69% за счет мигрантов
и лишь на 31 % за счет естественного прироста уроженцев города. И это повлек¬
ло за собой окрестьянивание горожан как по социальному составу, так и по обра¬
зу мысли и образу жизни102. Мигранты и их потомки не успевали перевариться
в городском котле и освободиться от деревенских понятий и потому утверждали
в городе деревенские стандарты поведения, что находило многообразные прояв¬
ления. Грамотность населения в больших городах, куда направлялся основной
поток мигрантов, росла медленнее, чем в малых городах или в деревне. Напри¬
мер, грамотность петербургского населения обоего пола в возрасте старше 6 лет
за 1869—1900 гг. возросла с 60 до 70 %, или на 10 пунктов, а грамотность всего
населения Европейской России в возрасте старше 9 лет за эти же годы — с 19 до
33 %, или на 14 пунктов, в том числе сельского населения — с 16 до 26 %, или на
392
Коллективные представления крестьянства и городских низов в пореформенное время...
13 пунктов103. Влияние сельских мигрантов сказалось на демографическом пове¬
дении горожан, в особенности в крупных городах: увеличились доля лиц, состо¬
явших в браке, и вариация браков и рождений по месяцам, приближаясь к сель¬
ской модели; уменьшились доля холостых и неженатых, доля конфессионально¬
смешанных браков, средний брачный возраст. Так, средний возраст вступления
в брак в деревне и у мужчин, и у женщин слегка повысился, а в городе у мужчин
понизился, а у женщин слегка повысился; в больших же городах, где больше бы¬
ло мигрантов из деревни, наблюдалось снижение возраста и у женихов, и у не¬
вест, причем более существенное, чем в прочих городах, в чем наглядно прояви¬
лось влияние сельских стандартов на город, а городских — на село (табл. 12.1).
Таблица 12.1
Средний возраст вступления в брак городского и сельского населения
Европейской России в 1867 и 1910 гг. (лет)
Население
Мужчины
Женщины
1867 г.
1910 г.
1867 г.
1910 г.
Сельское
24,3
24,8
21,3
21,6
Г ородское
29,2
27,4
23,6
23,7
Петербурга
31,3
28,6
25,5
23,9
Источники: Движение населения в Российской империи за 1867 год. СПб., 1872. С. 40—
407,412—415 ; То же за 1910 год. Пг., 1916. С. 88—89.
В городах приживались деревенские стандарты социального и политического
поведения. Вот пример. В 1906 г., после Манифеста 17 октября 1905 г., возвестив¬
шего начало политической свободы, в Министерство торговли и промышленности
посыпались многочисленные ходатайства об учреждении профессиональных сою¬
зов. С подобной просьбой обратились и сапожники г. Уральска (41 тыс. жителей).
К своему заявлению они приложили примерный устав, который главной целью
Союза ставил «стремление к улучшению материального положения и содействие
умственному и нравственному развитию своих членов». Для достижения этих целей
в уставе предусматривалось: «(а) принимать на свою ответственность заказы от ча¬
стных лиц и учреждений, (б) распределять заказы между членами равномерно
и безобидно для более нуждающихся, (в) наблюдать за своевременностью и добро¬
совестностью исполнения заказов, (г) устроить совместную закупку материалов
и других предметов, необходимых для ремесла, (д) устроить комиссионную прода¬
жу своих изделий с выдачей авансов, (е) открыть общественную лавку для продажи
работ своих членов и материалов, необходимых для ремесла, (ж) открыть общест¬
венную мастерскую, (з) оказывать всевозможную помощь нуждающимся своим
членам, (и) заботиться и предпринять все, что Союз найдет возможным для умст¬
венного и нравственного развития членов и их семей, (к) иметь товарищеский суд
для улаживания недоразумений между членами и их рабочими, а также между чле¬
нами их семей, (л) обсуждать неблаговидные поступки членов». Исключению из
Союза подлежали лица, которые действовали во вред ему, после трехкратного не¬
своевременного или недобросовестного исполнения заказа, а также «в случае чрез¬
393
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
мерного злоупотребления алкоголем и нехорошего, несправедливого отношения
к своим рабочим, ученикам, семье»т. Соблюдение устава должно было бы превра¬
тить Союз в некий симбиоз средневекового цеха и сельской общины, в котором ка¬
ждый член находился под всесторонней опекой Союза. Если принять во внимание,
что в составе жителей Уральска крестьяне и казаки составляли 79 %, а купцы и ме¬
щане — 8 %, то удивляться этому не приходится.
Особенно большое влияние крестьяне-мигранты оказывали на рабочий класс,
который в пореформенное время примерно на 80 % рекрутировался из крестьян
и лишь на 20 % из представителей других сословий, преимущественно мещан и ре¬
месленников105. В конце XIX—начале XX в. рабочие по своему духовному обли¬
ку были очень похожи на крестьян, в чем несомненно сказалось их крестьянское
происхождение106. Они были религиозны, в принципе лояльны существующему
строю и хотели улучшения своей жизни в его рамках. Они понимали самодержа¬
вие как произвол администрации, а не как государственное устройство. Пред¬
ставления о социализме в их среде были неопределенны. Сколько-нибудь силь¬
ной любви к собственности не наблюдалось, а к чужой собственности отношение
было негативным. Воровство изделий и деталей с предприятий было таким же
массовым явлением, как кража крестьянами помещичьего леса, сена, фруктов,
плодов, и рассматривалось как источник дополнительного заработка. Крестьян¬
ские корни рабочих мы обнаруживаем во всем: в организации рабочих коллекти¬
вов, в обычаях и ритуалах, в неуважении к собственности, в отношении к бур¬
жуазии как к паразитам, в монархических симпатиях, в склонности к стихийным
разрушительным бунтам, в негативном отношение к интеллигенции и либераль¬
ному движению и т. д. В рабочей среде сложились обычаи, которые во многих
случаях являлись репликой крестьянских обычаев в условиях промышленного
предприятия («замочка машин», «засидки», «спрыск», «могарыч», «посиделки»
в рабочее время, «пропой», кулачные бои, самосуд, женские сходки). Некоторые
оригинальные обычаи: «вывоз на тачке мусора», первомайские демонстрации,
«красные похороны» — вряд ли указывают на постепенное превращение рабочих
в особую социальную группу. Нет достаточных оснований думать, что больший-
ство рабочих осознавало или хотя бы ощущало себя особым сословием или
классом. Напротив, большинство прочно сохраняло в своем сознании традици¬
онные общинные ценности, под влиянием которых сложились де-факто рабочие
коллективы, воспроизводившие в специфических условиях промышленного
предприятия самоуправляющиеся сельские общины. В 1905—1907 гг. рабочие
пошли дальше — они требовали утверждения за ними права на рабочее само¬
управление йо образцу крестьянского самоуправления де-юре. Общинные тради¬
ции отчетливо проявились также в антибуржуазной направленности рабочего
движения, которую оно отчетливо продемонстрировало в годы первой россий¬
ской революции107. Патриархально-патерналистские отношения между хозяева¬
ми и рабочими господствовали до 1905 г. даже среди самой грамотной прослойки
кадровых рабочих полиграфической промышленности, менее всего связанных
с крестьянством108.
Механическое перенесение деревенских общинных традиций в город обора¬
чивалось их извращением и не давало положительного эффекта. Например, са¬
394
Коллективные представления крестьянства и городских низов в пореформенное время...
моуправление судовых грузчиков при организации общественных работ в Петер¬
бурге в 1906 г. закончилось пьянством, прогулами, обманом, хулиганством
и привело к полной дезорганизации работ. Положение исправилось только после
того, как поденную оплату заменили сдельной, усилили роль администрации,
ввели штрафы, применили увольнение и физическое насилие109. Причина неуда¬
чи состояла в том, что в условиях деревенской общины социальный контроль над
поведением человека исполняли все члены общины и потому он был тотальным —
от него нельзя было ни спрятаться, ни скрыться, а в столице центр контроля пере¬
местился на индивидуальный уровень, к чему мигранты были еще не готовы. Мно¬
гочисленные опыты социальных психологов установили, что если в условиях кол¬
лективных действий возможно уклонение от контроля, то члены коллектива работа¬
ют не в полную силу и склонны стать «зайцами» — это явление получило название
«социальной ленности». Исключения из этого правила наблюдается при наличии
общественного подъема и энтузиазма, вызванного какими-нибудь неординарными
обстоятельствами — войной, стихийным бедствием и т. п.110
Таким образом, мировоззрение рабочих (за исключением сравнительно не¬
большого слоя так называемых сознательных рабочих) оставалось в целом в рам¬
ках традиционных крестьянских представлений. И хотя революционные события
1905—1907 гг. произвели его корректировку, она не была существенной. Легко
понять, почему рабочие стали легкой добычей социал-демократов, а крестьяне
в деревне — добычей социал-революционеров. Социалистическая программа по
своим целям и средствам их достижения полностью соответствовала их представ¬
лениям о справедливой жизни и средствах ее достижения. Ее принципиальные
пункты в 1917 г. включали насильственную экспроприацию собственности и пере¬
дачу ее рабочим, введение рабочего контроля и передачу власти советам. Эти требо¬
вания были рождены отнюдь не пролетарским сознанием рабочих — они отражали
парадигмы крестьянского массового сознания, адаптировали к новым городским ус¬
ловиям принципы, на которых строилась жизнь сельской передельной общины,
а также частично цеха и мещанской общины до Великих реформ. В требовании на¬
сильственной экспроприации, с одной стороны, отражалось убеждение крестьян, что
если не собственность, то уж во всяком случае богатство есть кража111, с другой —
проявлялось крестьянское обычное право, допускавшее самосуд над ворами. В тре¬
бовании рабочего контроля легко просматривается многовековая практика контроля
общины над хозяйственной деятельностью ее членов. В требовании ввести советы
слышится желание ввести самоуправление наподобие крестьянского общинного
самоуправления, во главе которого много веков стоял крестьянский сход. Не слу¬
чайно и рабочий контроль как подготовительный этап к экспроприации заводов
и фабрик, и советы как форма политической организации рабочих, были придуманы
самими рабочими112. Как известно, в русской деревне земля принадлежала общине
и все ее члены пользовались ею на равных основаниях, производственная дея¬
тельность каждого осуществлялась по общему плану, который принимался на
общем собрании крестьян, всей жизнью крестьян руководил сельский сход. На¬
чиная с 1861 г. сокровенным желанием крестьян была конфискация всех поме¬
щичьих земель и передача их в общинную собственность, а после Столыпинской
реформы — «черный передел», т. е. экспроприация всех частновладельческих зе¬
395
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
мель — и помещичьих, и выделившихся из общины крестьян — в пользу крестьян¬
ской общины113.
Таким образом, крестьянская концепция справедливого общественного устрой¬
ства и способов ее достижения была принесена в город крестьянами и, естественно,
усвоена рабочим классом. Предрасположенность к социал-демократической про¬
грамме обеспечила успех социалистов в среде рабочих, а большая организационная
работа большевиков, но, главное, бедствия двух неудачных войн подряд превратили
рабочих больших городов в движущую силу революции. Сами большевики не
обольщались на этот счет. В 1917 г. В. И. Ленин писал: «Мы прекрасно знаем,
что пролетариат России менее организован, подготовлен и сознателен, чем ра¬
бочие других стран. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся истори¬
ческие условия сделали пролетариат России на известное, может быть, очень
короткое время застрельщиком революционного пролетариата всего мира» (кур¬
сив мой. — Б. М)114.
Коллективные представления интеллигенции
и буржуазии в пореформенное время
О широком распространении среди образованного общества антибуржуазных
настроений хорошо известно. Однако какова была степень, глубина и динамика та¬
ких настроений, остается открытым вопросом. Для выяснения этого произведен
анализ биографического материала, помещенного на страницах самого популярного
среди интеллигенции России в 1870—1918 гг. «тонкого» еженедельного журнала
«Нива». Его тираж, вначале не превышавший 9 тыс. экземпляров, достиг к 1880 г.
55 тыс., к 1891 г. — 115 тыс., а к 1900 г. — 235 тыс. экземпляров115. «Нива» фор¬
мально являлась беспартийным «иллюстрированным журналом литературы, поли¬
тики и современной жизни», как значилось на титульном листе каждого номера,
либерального направления. Издатели стремились придать ему «значение русского
семейного журнала, в котором каждый член семьи мог бы найти чтение по себе,
занимательное и полезное, нравственно-успокаивающее и развлекающее»116. Изда¬
тели ставили своей задачей всеми доступными средствами способствовать просве¬
щению страны, поэтому «Нива» много печатала материалов воспитательного ха¬
рактера, дававших молодому поколению жизненные ориентиры, образцы поведе¬
ния, нравственные идеалы. Особое значение для выполнения этой задачи имели
биографии, которые заняли важное место на страницах журнала: за 1870—1913 гг.
было помещено 7946 статей, некрологов, заметок биографического характера и порт¬
ретов различных деятелей117.
В нашем контексте особенный интерес представляют биографии предпринима¬
телей, авторы которых должны были прямо высказывать свое отношение к ценно¬
стям и стандартам буржуазного поведения. В общей массе биографических мате¬
риалов заметки о предпринимателях занимали незначительное место — 1,4%
в 1870—1899 гг. и 1,2 % — в 1900—1913 гг. Однако их анализ дает интересные ре¬
зультаты.
Всего за 44 года напечатано 106 материалов о предпринимателях, но частота их
появления со временем возрастала: в 1870-е гг. в среднем в год публиковалось 0,4,
396
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
в 1880-е гг. — 1,2, в 1890-е гг. — 3,4, в 1900—1913 гг. — 4,0 материала. Просматри¬
ваются некоторые изменения и в их подаче. Биографии можно разделить на две
группы. В первой бизнесмены представлены личностями с подозрительной репутаци¬
ей, их деятельность оценивалась негативно и порицалась за то, что во главу угла ста¬
вила личное обогащение и не отвечала высоким моральным критериям. Подобных
материалов имелось всего 16 из 106, и все они были напечатаны в 1870—1880-х гг.
Во второй группе из 90 материалов бизнесмены выглядят положительными лич¬
ностями. Но в основе позитивной оценки лежала не их предпринимательская дея¬
тельность сама по себе, а то, что она имела либо патриотическую направленность
(имела целью развитие отечественной промышленности), либо служила высоким
идеалам науки, искусства, просвещения, либо совмещалась с меценатством и благо¬
творительностью и заботой о ближнем. В заметке о столетии торговой фирмы
братьев Елисеевых, кроме благотворительности, подчеркивалась роль фирмы в ус¬
тановлении международных торговых связей России118. Книгоиздатель К. Л. Риккер
заслужил положительную оценку как «издатель-гуманист» и глава «прекрасного
и высокополезного дела»119. В некрологе, посвященном «хлебному королю» Н. А. Буг¬
рову, отмечена его редкая по масштабам благотворительность: «Нижегородская
беднота потеряла в нем родного отца, толпы народа со слезами шли за гробом»120.
Немецкий «пушечный король» А. Крупп «оправдал дело разрушения — делами
созидания. Он организовал прекрасные благотворительные учреждения для своих
рабочих и много жертвовал во всех направлениях и сферах», — говорилось в замет¬
ке по случаю юбилея фирмы121. В большинстве случаев авторы биографий даже
скрывали от читателей, что их герои — предприниматели. Последние представля¬
лись общественными деятелями, помогающими организации научных экспедиций
(А. М. Сибиряков или Ф. П. Рябушинский)122, выдающимися изобретателями
(Э. В. Сименс, Р. Фультон, Дж. Стефенсон, братья Э. и А. Б. Нобели, Т. Эдисон,
Д. Уатт и др.)123, знаменитыми писателями, журналистами (А. С. Суворин,
М. М. Стасюлевич, Ф. А. Иогансон и др.)124, основателями музеев (П. И. Щукин,
Ф. М. Плюшкин)125. Книгоиздатели «зажигали свечки в душах людей»126, коммер¬
санты и промышленники жертвовали огромные суммы на общественные нужды,
банкиры действовали в интересах общества, защищали бедных127 и т. д. Настойчиво
проводилась мысль о том, что предпринимательская деятельность заслуживает об¬
щественного одобрения только в том случае, если она честная и если капитал, на
котором она основана, имел «чистое» происхождение. Фирма братьев Елисеевых
начала с нуля и разбогатела «энергией, умом и любовью к работе», Н. А. Бугров —
«крестьянин-самородок», «патриархальный простой человек» начал дело с «малень¬
кого предприятия», «вел дело попросту, на честное слово, и не признавал никаких
формальностей». Американский предприниматель П. Морган сам и честно добился
богатства «изумительной предприимчивостью, силой воли и трудолюбием»128.
В биографиях, посвященных представителям науки, искусства, литературы, ре¬
лигии, общественным деятелям, отношение к светским ценностям обнаруживается
не менее четко. Все они отвечали самым высоким моральным стандартам, являлись
людьми, бескорыстно служащими интересам общества, чуждыми сребролюбия,
сострадавшими ближним, для которых общественные интересы имели приоритет
над личным благополучием, духовные потребности — над материальными.
397
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
В 1870—1890-е гг. наибольшей похвалы авторов заслуживали герои, близкие обра¬
зу христианского аскета-подвижника, которые не стремились к богатству, а в слу¬
чае, если им располагали, добровольно отказывались от него в пользу страждущих
или на удовлетворение общественных потребностей. Положительные герои были
чужды индивидуализма, который чаще всего ассоциировался с эгоизмом, неприем¬
лемым этически. Если они действовали в одиночку, то их усилия направлялись на
моральное самоусовершенствование и развитие творческих способностей с целью
использовать их для общественного блага. Помимо альтруизма, в качестве необхо¬
димых черт истинно положительного героя выдвигались скромность, отвращение
к саморекламе, равнодушие к богатству, отсутствие в мотивах поведения каких-
либо меркантильных интересов. Стремление к богатству как жизненная цель отвер¬
галась, так как богатство связывалось с нечистоплотностью, аморальными поступ¬
ками и с потерей доброго имени. В 1891 г. в некрологе, посвященном историку ис¬
кусств П. Н. Петрову, предлагалось поставить ему памятник и высечь на нем над¬
пись: «Жил честно, целый век трудился — и умер гол, как и родился», — «так как
она прекрасно характеризует его безупречную деятельность».
Однако в начале XX в. на страницах «Нивы» образ героя-аскета исчезает, не
встречаем мы и осуждения стремления к богатству, хотя и панегириков ему не поя¬
вилось. В 1909 г. журнал решился на невозможную прежде рекламу книги «Крат¬
чайший и доступный каждому путь к богатству», написанную, как сказано в рекла¬
ме, «человеком, которому удалось достичь успеха»129. Однако бескорыстное служе¬
ние обществу по-прежнему оценивалось очень высоко. В некрологе, посвященном
директору Варшавско-Венской железной дороги Н. Д. Лапчинскому, в заслугу по¬
ставлено, что «он принадлежал к неудобному разряду людей, которые сами не хо¬
тят и другим не дают богатеть»130.
Таким образом, «Нива» артикулировала и распространяла, но также выражала
и отражала антибуржуазные взгляды своих читателей, о чем говорит стойкая и воз¬
раставшая со временем популярность журнала. Контент-анализ журнала свидетель¬
ствует о непопулярности среди широких образованных кругов российского общест¬
ва буржуазного типа личности и неприятии таких базисных буржуазных ценностей,
как богатство, слава, власть, влияние, личный успех, индивидуализм. Мировоззре¬
ние читательской аудитории, состоявшей в значительной степени из русской интел¬
лигенции, но, судя по тиражу журнала, включавшей и более широкие слои среднего
класса русского общества, было явно антибуржуазным.
Для бизнесменов это не было секретом. Известный московский предпринима¬
тель и общественный деятель начала XX в. П. А. Бурышкин (1887—1955) в своих
воспоминаниях писал: «Нужно сказать, что в России не было того культа богатых
людей, который наблюдается в западных странах. <.. .> Во всех некупеческих сло¬
ях — ив дворянстве, и в чиновничестве, и в кругах интеллигенции, как правой, так
и левой, — отношение к “толстосумам” было в общем малодружелюбным, насмеш¬
ливым и немного “свысока”. Торгово-промышленники отнюдь не пользовались тем
значением и не имели того удельного веса, которые они должны были иметь благо¬
даря своему руководящему участию в русской хозяйственной жизни и которыми
пользовались их западные, европейские и особенно заокеанские коллеги в своих
131
странах» .
398
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Вместе с тем постепенно со страниц журнала исчезло отрицательное отношение
к деятельности предпринимателей. Наиболее существенное изменение состояло
в том, что стала признаваться положительная роль богатства при наличии у его об¬
ладателя высоких идей духовного порядка и желания использовать его на благо че¬
ловечества, для благотворительности, поддержки науки, искусства и просвещения.
Несмотря на эти компромиссы, «Нива» и в начале XX в. не содержала апологетики
предпринимательства и личного успеха, не рекламировала преуспевающего биз¬
несмена, миллионера, человека дела, сильной личности, капитана индустрии, ко¬
торый добился жизненного успеха, славы и богатства как основы счастья, как это
делала литература и журналистика в США и западноевропейских странах в конце
XIX—начале XX в.132 «Нива» также не отказалась и от традиционных идеалов
беззаветного и бескорыстного служения обществу. Новые идеалы не их вытесня¬
ли, а сосуществовали с ними, более того — традиционные идеалы даже корректи¬
ровали их.
Таким образом, несмотря на то что образованное общество отличалось значи¬
тельной материальной дифференциацией, низким уровнем сплоченности и органи¬
зованности, а его представители придерживались различных политических и идео¬
логических ориентаций133, значительная, а возможно, и большая часть образованно¬
го общества — юристы, врачи, литераторы, художники и т. п., земская и научно-
техническая интеллигенция, служащие негосударственных организаций и другие
лица умственного труда — имела не только некоторые общие черты, а, скорее все¬
го, общее антибуржуазное и по сути народническое мировоззрение. Характерной
чертой русской интеллигенции являлось также ее оппозиционность к существую¬
щему политическому режиму и к доминирующим в обществе институтам134. «Рус¬
ская интеллигенция в огромной массе своей никогда не сознавала себе имманент¬
ным государство, церковь, отечество, высшую духовную жизнь. Все эти ценности
представлялись ей трансцендентно-далекими и вызывали в ней враждебное чувство,
как что-то чуждое и насилующее. <.. .> Русская революционная мораль представля¬
ет совершенно своеобразное явление. Она образовалась и кристаллизовалась в ле¬
вой русской интеллигенции в течение ряда десятилетий и сумела приобрести пре¬
стиж и обаяние в широких кругах русского общества»135. Так продолжалось до 1917 г.,
хотя 97—98 % интеллигенции были беспартийными136. Народничество русской
интеллигенции означало, что она разделяла утопические представления русского
народа о возможности построения справедливого общества по образцу сельской
передельной общины — на основе всеобщего согласия, равенства, взаимной под¬
держки и коллективной собственности. Мечта о всеобщей свободе и переустройст¬
ве человечества являлась важным мотивом общественной деятельности многих ре-
137 1
волюционеров . Для многих народников вера в народ и его светлое будущее
частично замещала религию; их воззрения можно квалифицировать как квазире-
лигиозные138. Антибуржуазное и радикальное мировоззрение интеллигенции по¬
могает понять, почему значительная ее часть приняла социалистическую идеоло¬
гию, поверила в «чудотворные эффекты преобразования общества посредством ре¬
волюции»139 и в необходимость «всепроникающего вмешательства государства
во все сферы жизни общества»140. Заслуживает пристального внимания ориги¬
нальная оценка русской интеллигенции, предложенная Д. М. Буланиным, как
399
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
феномена неправового общества: в отсутствие отлаженного правового механизма
интеллигенция осуществляет функцию совести141.
Итак, если судить по народной литературе, предназначенной для низов города
и грамотного крестьянства (на рубеже XIX—XX вв. это около 20 % населения)142,
и журналу «Нива», предназначенного для образованного общества, то можно сде¬
лать следующий вывод. В пореформенное время и низшие страты, и привилегиро¬
ванная образованная часть общества испытали влияние буржуазного мировоззре¬
ния, но пытались приспособить его к российским условиям, примирить с традици¬
онными христианскими ценностями. Например, они могли принять капитализм
«с человеческим лицом», который в первую очередь служит людям и обществу,
а только потом — личным интересам; они соглашались признать ценность личного
успеха, если этот успех служил общему благу.
Многие представители буржуазии долгое время поддерживали идею развития
в России патерналистского капитализма «с человеческим лицом»143. П. А. Бурыш-
кин отмечал, что само отношение русской буржуазии к своему делу было «несколь¬
ко иным, чем на Западе. На свою деятельность смотрели не только или не столько
как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возло¬
женную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование
и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти в том, что именно в купече¬
ской среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство,
на которые смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного долга»144.
О том же писал В. П. Рябушинский: «Перефразируя французское “noblesse
oblige” — знатность обязывает, старший брат нас часто наставлял: “Богатство обя¬
зываетГ (Richesse oblige). Так и другие роды (фамилии. — Б. М.) понимали. <...>
Громадное большинство людей, которые жили по этому обязательству, в формулы
свои ощущения не укладывали, но знали и нутром чувствовали, что не о хлебе од¬
ном жив будет человек». По мнению Рябушинского, в основе этого девиза лежали
твердая христианская вера отцов и дедов и крестьянское происхождение русской
буржуазии145. Следует добавить, что благотворительность и меценатство не только
поддерживались буржуазной моралью и церковью, но и являлись одним из каналов
социальной мобильности, так как открывали доступ к почетному гражданству, ино¬
гда к дворянству, обеспечивали престиж и авторитет фамилии146. О склонности
к предпринимательству по традиции, т. е. без рекламы, без холодного и точного
расчета, с оглядкой на традиционные моральные принципы, о монархизме, патри¬
архальности и глубоком православии, писали и другие представители буржуазии,
пережившие революцию и гражданскую войну147.
Интересно, что и российские мусульманские предприниматели рубежа XIX—
XX вв. не забывали о своем духовном спасении и предпочитали сообразно требо¬
ваниям ислама ориентироваться на выполнение именно религиозных норм, а не
светских законов, выполнение которых вовсе не обещало им райской потусто¬
ронней жизни148.
Особенности мировоззрения российской буржуазии были в значительной мере
обусловлены ее молодостью и происхождением многих крупных предпринимате¬
лей из среды старообрядцев и интеллигенции149. Собственно о буржуазии как о со¬
циальной группе, обладающей самосознанием, собственными предприниматель-
400
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Рис. 12.8. Московские купцы. 1900-е
кими организациями, прессой и т. д., можно говорить применительно к пореформен-
юму периоду. Лишь в начале XX в. большинство предпринимателей отказалось от
щей патернализма и стремилось к тому, чтобы отношения между ними и рабочими
троились на основе договора, спроса и предложения на труд и без всякого вмеша-
ельства правительства, хотя они признавали свою моральную ответственность за
довлетворение потребностей рабочих в социальной защите. В начале XX в.в России
уществовали более 300 предпринимательских организаций. Несмотря на это, по-
1ытки создания собственной политической партии не увенчались успехом. Только
| канун февраля 1917 г. другому представителю династии Рябушинских — П. П. Ря-
>ушинскому (1871—1924) удалось создать Всероссийский торгово-промышленный
оюз в целях координации действий всех предпринимательских организаций. Но
!ыло слишком поздно, чтобы буржуазия могла изменить ход событий150.
Отцы и дети
Какие взгляды разделяло молодое поколение в начале XX в.? Ответить на этот
опрос позволяют данные об идеалах учащихся, которые изучались педагогами
i начале XX в.151 С помощью анкетного опроса они пытались выяснить мнение
чащихся по следующим вопросам: на кого вы желаете быть похожими и почему
другой вариант вопроса — какого человека вы считаете лучшим и почему?) и какая
401
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
профессия вам нравится и почему? Анкета проводилась в разных учебных заведе¬
ниях, потому что в каждом виде заведений преобладал разный контингент учащихся:
в городских гимназиях — дети интеллигенции, в городских училищах — дети го¬
родских низов, в деревенских школах — дети крестьян. Воспользуемся результата¬
ми опросов учащихся в нескольких городах, включая Москву и Тифлис, и в 52
сельских школах центральных губерний. Опросы охватили более 5 тыс. учащихся
в возрасте 7—16 лет, из которых 3 тыс. обучались в гимназиях, 1 тыс. — в город¬
ских училищах и 1 тыс. — в сельских школах152.
Идеалы для подражания разделялись на две группы: (1) «литературные идеа¬
лы» — персонажи беллетристических произведений, а также общественные, поли¬
тические, религиозные, военные деятели, ученые, изобретатели, известные учащим¬
ся из книг и журналов; (2) «местные идеалы» — родители, родственники
и знакомые, лично известные учащимся. Идеалы гимназистов примерно на 70 %
состояли из литературных и на 30 % — из местных идеалов, идеалы учащихся го¬
родских училищ — соответственно на 48 и 52 %, идеалы сельских школьников —
на 19 и 81 %. Среди литературных идеалов первое и второе места занимали писатели
и персонажи из их произведений (их предпочли 34 % гимназистов, 42 % учащихся
городских училищ и 11 % сельских школьников); третье место принадлежало исто¬
рическим гражданским и военным героям, четвертое — современным обществен¬
ным деятелям, пятое — изобретателям и инженерам, шестое — лицам свободных
профессий, а 26-е, последнее, место — «богачам» (среди гимназистов их предпочли
0,1 % опрошенных, среди учащихся коммерческих училищ и сельских школ им ни¬
кто не симпатизировал). Среди мотивов, определивших выбор идеала, все опро¬
шенные на первое место поставили высокие моральные качества своих героев (22 %
гимназистов, 34 % учащихся городских училищ и 38 % сельских школьников), на
второе место — способности героев, на третье — их мужество, отвагу и самоотвер¬
женность, на четвертое — их славу и почести. Материальный успех своих героев
гимназисты и учащиеся городских училищ поставили на 18-е, последнее, место —
соответственно 1—2 и 6% всех опрошенных, а сельские школьники — на второе
место (10 % опрошенных). При аналогичном опросе, проведенном в Германии, для
25 % немецких школьников главным мотивом при выборе идеала служили его вы¬
сокие моральные качества и для 20 % — его материальный успех.
При выборе занятия 74 % гимназистов и 47 % сельских школьников предпочли
свободные интеллигентные профессии, среди которых на первом месте стояла про¬
фессия учителя (учащимся городских училищ такой вопрос не задавался), 33 % сель¬
ских школьников предпочли профессии, связанные с сельским хозяйством, ремеслом
или домоводством, и 20 % — профессии в других сферах жизни. Среди гимназистов
всего 26 % опрошенных желали иметь профессии, связанные с материальным произ¬
водством. Среди мотивов выбора профессии гимназисты на первое место поставили
интерес к делу (50 % опрошенных), на второе место — альтруистические соображения
(15 %), на третье место — материальный расчет (7 %, в том числе менее 1 % стреми¬
лись стать богатыми), на четвертое — честолюбие (2 %). У сельских школьников сре¬
ди мотивов на первом месте стоял материальный расчет (12 %, в том числе стать бога¬
тыми желали 6 %), на втором месте — стремление к знаниям (10 %), на третьем мес¬
те — легкость работы (8 %), на четвертом — альтруистические мотивы (5 %).
402
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Приведенные данные об идеалах подрастающего поколения показывают, что
буржуазное мировоззрение к 1914 г. еще не успело сколько-нибудь глубоко проник¬
нуть в массовое сознание даже детей интеллигенции. Больше, но все же еще весьма
незначительно, они охватили низшие слои горожан и, возможно, успешнее всего уко¬
ренялись среди крестьянской молодежи. Дети из народа более твердо стояли на зем¬
ле, чем дети интеллигенции. По мнению учителей, учащиеся, оканчивающие гимна¬
зии, «не знают тех средств, с помощью которых можно было бы реализовать свои воз¬
вышенные идеалы»153. Влияние церкви на учащихся в конце XIX в. снизилось154. Не
случайно, наверное, в конце XIX—начале XX в. среди учащейся молодежи само¬
убийства приняли характер эпидемии. Суициденты нередко писали в своих пред¬
смертных записках, что причина их поступка — невозможность приносить пользу
обществу, подтверждая тем самым, что они хорошо выучили урок своих старших
наставников155. «Хаос мнений, — резюмировал один московский учитель женской
гимназии, анализируя сочинения гимназисток, написанные о своей будущей жизни. —
Страшно становится за этих девочек, стремящихся “совершать подвиги”, жаждущих
“всего великого”, “решивших отдавать свои жизни на благое дело”, мечтающих
о ком-то, кто “поведет их смело на борьбу”, живущих более чувством, чем рассудком,
рвущихся в жизнь и боящихся ее»156. Поскольку сами учителя артикулировали эти
идеи, они помимо своей воли косвенно способствовали победе большевизма157. Не
нужно быть физиономистом, чтобы по фотографии (рис. 12.9) сделать с высокой ве¬
роятностью предположение: отображенные на них прекрасные девушки готовы были
отдавать свои жизни на благое дело, что и подтвердилось, когда они повзрослели.
Рис. 12.9. 3. П. Невзорова, А. А. Якубова, Е. И. Агринская — члены С.-Петербургского
союза борьбы за освобождение рабочего класса. 1895
403
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.10. Анархистки М. А. Спиридонова, М. М. Школьник, А. А. Биценко,
А. А. Измайлович, Р. М. Фиалка, Л. П. Езерская (слева направо) на каторге
в Акатуевской тюрьме Нерчинской каторги. 1900-е
Секуляризация сознания
Секуляризация — важный аспект изменения мировоззрения. Говоря о секуляри¬
зации, прежде всего имеется в виду освобождение общества и культуры от власти
религии, создание светской системы ценностей, десакрализация власти и природы,
процесс утраты религией своей социальной значимости (при этом речь идет пре¬
имущественно о социальной значимости, а не о большей или меньшей религиоз¬
ности и не о ее качестве)158. Живые свидетельства современников разноречивы
и фрагментарны, получить на их основе общую картину невозможно. Одним ка¬
залось, что после Великих реформ вера скудела, другим, наоборот, — росла. Од¬
ни жаловались, что посещаемость церкви падала, посты не соблюдались, церков¬
ные браки вытеснялись гражданскими, официальная церковь находилась в кри¬
зисе и т. д.; другие свидетельствовали об огромном росте числа сектантов, т. е.
о том, что религиозная вера принимала другие формы159. Обследование питания
рабочих показывает, что после революции 1905 г. мужчины стали есть мясо
в посты, кроме Великого, однако женщины продолжали строго их блюсти160.
«Как они нерелигиозны — в сущности! — писала известный этнограф О. П. Се-
менова-Тян-Шанская (1863—1903) о рязанских крестьянах. — Только при при¬
ближении старости в мужицкую душу изредка начинает закрадываться суевер¬
404
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
ный страх загробного возмездия. Да и тогда, разве они православные, как их счи¬
тают? Нисколько»161. Между тем Л. Н. Толстой оценивал религиозность крестьян
высоко, а Ф. М. Достоевский считал русских народом-богоносцем. Статистиче¬
скую оценку степени секуляризации произведем по одному, но очень важному
и показательному признаку — по соблюдению обряда исповеди и причастия и по¬
ста. Эти данные являются особенно важным для понимания религиозности просто¬
го народа, который твердо верил, что только человек, соблюдающий все православ¬
ные обряды, и был настоящим христианином, хотя бы эти обряды и исполнялись
чисто внешним образом162. Например, пост понимался в первую очередь как воз¬
держание от скоромной пищи и интимных отношений163.
Исповедная статистика охватывала все православное население Европейской
России в возрасте старше 7 лет — от 17 млн человек в 1780 г. (за более раннее
время данные сохранились очень плохо) и до 80 млн в 1913 г. (табл. 12.2).
Таблица 12.2
Пропуск исповеди и причастия во время Великого поста
лицами православного исповедания Европейской России
по неуважительным причинам в 1780—1913 гг. (%)
Сословие
1780 г.
1802 г.
1825 г.
1845 г.
1855 г.
1860 г.
1869 г.
1900 г.*
1913 г.**
Дворянство
—
2
4
3
4
3
4,4
4,0
4,7
Духовенство
—
0
1
0
0
0
0,2
0,2
0,3
Г ородское
—
5
7
8
6
5
6,3
5,8
5,8
Крестьянство
—
3
7
8
9
9
11,0
7,3
6,3
Военные
—
5
5
5
6
7
8,1
7,4
3,8
Всего
2
3
7
8
9
8
9,9
7,2
6,0
Источники: РГИА. Ф. 796 (Канцелярия Синода). Оп. 63. Д. 123 (1789 г.); Оп. 84. Д. 901,
1005, 1016 (1802 г.); Оп. 106. Д. 1472 (1825 г.); Ф. 797 (Канцелярия обер-прокурора Синода).
Оп. 97. Д. 573 (1845 г.); Ф. 796. Оп. 137. Д. 2408 (1855 г.); Оп. 142. Д. 2372 (1860 г.); Оп. 51.
Д. 285 (1869 г.); Оп. 181. Д. 3451; Оп. 184. Д. 5736 (1900, 1903 гг.); Оп. 440. Д. 1244, 1245, 1248,
1249; Оп. 442. Д. 2394, 2476, 2570, 2578, 2591, 2603, 2604, 2622.
*1900—1903 гг.
** 1913—1914 гг., данные по 12 епархиям.
Доля лиц, пропускавших исповедь и причастие по неуважительным причи¬
нам, была мала — от 2 % в 1780 г. до 7 % в 1913 г. Пропуск исповеди по уважи¬
тельным причинам, к которым относились болезнь и временное отсутствие, да¬
вал еще 2—3 %, следовательно, всего пропускали церковь от 4 % в 1780 г. до
10 % в 1913 г. от общего числа прихожан. Таким образом, активность прихожан
была высокой — 90—96 %, причем за 133 года она мало изменилась. Цифры как
будто говорят о том, что горожане были прилежнее крестьян — процент лиц,
пропустивших исповедь по нерадению, среди крестьян поднимался до 11, а среди
горожан — лишь до 8. Дело, однако, состояло не в нерадении, а отдаленности
храмов. В каждом городе были церкви, в то время как в большинстве сельских
405
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
поселений их не было, а ближайшая находилась нередко в десятках километрах
от дома. В губерниях, например северных, где были распространены мелкие по¬
селения, даже ревностному христианину не удавалось посетить церковь, особен¬
но в апреле, когда дороги были непролазны. Именно погода и состояние дорог
являлись существенным фактором колебаний процента посещаемости церкви для
крестьян, поэтому процент посещаемости исповеди каждый год изменялся без
всякой заметной тенденции. В городе подобные препятствия к посещению церк¬
ви отсутствовали, отсюда доля исповедовавшихся горожан была более или менее
стабильной. Среди сословий наибольшая активность наблюдалась у духовенства,
затем у дворян и чиновников, потом у военных, купцов и мещан. Чаще других
пропускали исповедь крестьяне, но это являлось скорее следствием обстоя¬
тельств, чем лености или антирелигиозных настроений. Только у дворянства об¬
наруживается правильное возрастание доли лиц, пропускавших исповедь, — 2; 3;
4 и 4,7, что может говорить о какой-то тенденции, но это увеличение было все же
незначительным, чтобы делать выводы о падении веры. У других сословий про¬
цент нерадивых то увеличивался, то уменьшался, что говорит об отсутствии ка¬
кой-либо тенденции и о влиянии каких-то привходящих обстоятельств — погода
для крестьян, военные учения — для солдат и т. п.164
Приведенные цифры рисуют столь высокую религиозную активность паствы,
что закрадывается мысль: не фальсифицировали ли священники исповедную ста¬
тистику? Прежде всего в этом не было заинтересованности, а для у любого дей¬
ствия должен быть мотив. Сведения собирались для внутреннего пользования.
Правда, Синод полученные сведения обобщал и представлял императору в годо¬
вом отчете наряду со многими другими данными, но упоминания о подтасовке,
взысканиях за плохую статистику или поощрениях за хорошие цифры в докумен¬
тах Синода не встречаются. Священникам не ставилось в упрек существование
нерадивых, да ведь и доходы причта зависели не от начальства, а от паствы, ко¬
торая платила ему за совершение обрядов. Пропустившие исповедь не преследо¬
вались. Стоит обратить внимание и на то, что среди них находились духовные
лица. На первый взгляд, 0,3 % — это немного, но ведь в 1913 г. — это более 3000 тыс.
человек. Если священники не скрывали даже нерадивость своих коллег и их жен
и детей, зачем же им было скрывать нерадивость простых мирян?! Взятка? Для
крестьянина было намного легче прийти на исповедь, чем лишиться даже 10 коп.
Наконец, в колебаниях процента нерадивых прихожан просматривается законо¬
мерность: ранняя весна и плохие от обилия талой воды дороги — больше про¬
пусков, поздняя весна и хорошие по-зимнему дороги — меньше пропусков испо¬
веди. На мой взгляд, подозрения в фальсификации не имеют под собой серьез¬
ных оснований.
Посещение — показатель внешнего благочестия, так как оно контролирова¬
лось общественным мнением, церковными и светскими властями, которые регу¬
лярное непосещение исповеди связывали с принадлежностью к расколу. Соблю¬
дение постов менее поддавалось социальному контролю, поэтому данные об их
соблюдении могут пролить дополнительный свет на степень религиозности насе¬
ления. Во время постов христианин должен был ограничивать себя в пище и в
плотских радостях. Всякое веселье и проявление жизнерадостности осуждалось,
406
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Рис. 12.11. П. Е. Коверзнев (?—1877). Пасха в деревне.
Крестный ход вокруг церкви во время заутрени. Гравюра А. И. Зубчанинова
по рисунку П. Е. Коверзнева. 1870-е
светская музыка и пение, а также танцы запрещались. Неизвестно, сколько лю¬
дей соблюдали запреты на пищу в посты — учета не было. Однако мы можем
оценить строго статистически степень соблюдения запрета на интимные отноше¬
ния и на потребление алкоголя. На время Великого поста, который продолжался
7 недель дней между февралем и маем (время поста скользящее), в большинстве
случаев март целиком приходились на пост, так как по юлианскому календарю
Пасха приходилась на интервал между 22 марта и 25 апреля.
Если бы все православные люди соблюдали запрет, то в год, когда март цели¬
ком попадал на время поста, через 9 месяцев — в декабре, наблюдалась бы нуле¬
вая рождаемость. Чем меньше соблюдалось воздержание в Великий пост, тем
больше была бы рождаемость в декабре, и наоборот. Следовательно, колебания
рождаемости через 9 месяцев после поста могут служить показателем строгости
соблюдения поста. Этот тест имеет преимущество — он касается интимной сто¬
роны жизни человека, закрытой от других и не поддающейся прямому контролю
общественного мнения — ведь женщина, могла ответить на нескромный вопрос,
что родила через 7 или 8 или 8,5 месяца. Всероссийские данные о рождаемости
по месяцам за 1867—1910 гг. показывают, что через 9 месяцев после окончания
Великого поста (обычно в декабре) у всех христиан наблюдалась минимальная
рождаемость, а через 10 месяцев после поста (обычно в январе) — максимальная.
Пик рождаемости в январе — несомненная компенсация за воздержание во время
407
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
поста. Следовательно, отношение максимальной рождаемости через 10 месяцев
после Великого поста к минимальной рождаемости через 9 месяцев после Вели¬
кого поста покажет, сколько людей соблюдали воздержание во время Великого
поста. Для чистоты эксперимента исключим из анализа 13 лет, когда хотя бы
один день марта не попадал на время поста: 1868, 1871, 1874, 1877, 1882, 1885,
1888, 1891, 1893, 1896, 1904, 1907, 1909 гг.’65 (табл. 12.3).
Таблица 12.3
Уменьшение рождаемости через 9 месяцев после Великого поста,
1867—1910 гг. (%)*
Население
1867—
1870 гг.
1871—
1880 гг.
1881—
1890 гг.
1891—
1900 гг.
1901—
1910 гг.
Сельское
37
35
31
27
27
Г ородское,
в том числе:
23
21
22
19
18
больших городов
19
20
18
17
15
малых городов
25
23
26
21
22
Женщины с вне¬
брачными детьми
34
29
26
23
15
Православное
38
33
31
28
28
Католическое
26
32
28
23
20
Протестантское
18
23
21
19
20
Итого
37
34
29
27
26
Источники: Движение населения в Европейской России за [1867—1910] год. СПб.,
[1872—1916].
Отношение первого максимума рождаемости через 10 месяцев после Великого поста
к минимальной рождаемости через 9 месяцев после Великого поста.
Есть одно важное обстоятельство, которое надо принять во внимание. Суще¬
ствовало естественное снижение потенции у мужчин и женщин в холодные,
темные и часто не слишком сытые зимние месяцы в декабре—феврале, а также
особенно в марте — переходном месяце от холода к теплу, когда все продоволь¬
ственные запасы от предыдущего года у крестьян заканчивались и когда им не¬
редко приходилось ограничивать себя в пище. Вследствие этого разница между
минимум зачатий в марте и максимумом в апреле отчасти объяснялась естест¬
венным понижением потенции в марте. Оценим степень этого понижения. У ор¬
тодоксальных евреев, у которых вообще нет длительных постов и полового воз¬
держания, в 1867—1910 гг., как раз в годы, которые мы изучаем, в феврале—
марте зачатий было также на 13—17 % меньше, чем в апреле. Итак, если бы по¬
ловое воздержание во время Великого поста вообще не соблюдали, то все равно
зачатий в феврале—марте и, следовательно, рождений в ноябре—декабре было
бы примерно на 14 % меньше, чем в апреле. Внесем коррективы в исходные дан¬
ные (табл. 12.4).
408
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Таблица 12.4
Доля населения, практиковавшая половое воздержание во время Великого поста
по религиозным соображениям, 1867—1910 гг. (%)
Население
1867—
1870 гг.
1871—
1880 гг.
1881—
1890 гг.
1891—
1900 гг.
1901—
1910 гг.
Сельское
23
21
17
13
13
Городское,
в том числе:
9
7
8
5
4
больших городов
5
6
4
3
1
малых городов
11
9
12
7
8
Женщины с вне¬
брачными детьми
20
15
12
9
1
Православное
24
21
17
14
14
Католическое
12
18
14
9
6
Протестантское
4
9
7
5
6
Итого
23
20
15
13
12
Источники указаны в примем, к табл. 12.3.
Итак, значительная доля православных и католиков воздерживались от по¬
ловых контактов во время поста (для протестантов воздержания не требовалось).
В 1860-е гг. доля лиц, соблюдавших воздержание, достигала у православных
24 %, а у католиков — 12 %. Даже число внебрачных детей, значит и внебрачных
связей, в Великий пост существенно понижалось — и, совершая грех, человек не
забывал думать о грехе! Однако процент лиц, соблюдавших воздержание, со
временем снижался, у православных — прямолинейно, а у католиков и про¬
тестантов — как тенденция, и к 1901—1910 гг. он упал у первых до 14%,
у вторых и третьих — до 6 %. В течение всего пореформенного времени процент
лиц, соблюдавших пост, среди крестьян был выше, чем среди горожан, в малых
и средних городах — выше, чем в крупных городах, а у лиц, состоявших в закон¬
ном браке, — выше, чем у лиц, имевших внебрачные связи, — у женщин, рожав¬
ших вне брака. В 1860-е гг. около четверти православных соблюдали половое
воздержание во время Великого поста, причем тогда в этом отношении сущест¬
вовало значительное различие между крестьянами и горожанами. Начиная
с 1870-х гг. вместе с уменьшением процента лиц, соблюдавших воздержание,
различие между городом и деревней стало уменьшаться и в 1901—1910 гг.
составило 9 % против 14 % в 1867—1870 гг.
Таким образом, в 1860-е гг. среди православных во время Великого поста от
плотских удовольствий воздерживались около 24 %, а в 1910 г. — 14 %. Много
это или мало? Много — почти каждый четвертый в середине XIX в. и каждый
седьмой в 1910 г., т. е. приблизительно 11—12 млн взрослых людей в молодом
и зрелом возрасте! Ведь рожали молодые женщины от молодых мужчин, по¬
скольку средний возраст невест составлял 21—22 года, женихов 24—25 лет
и после 40 лет женщины рожали мало. Следует также иметь в виду, что церковь
относилась достаточно снисходительно к нарушениям запрета, особенно на 2—6-й
409
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
неделях Великого поста, не считая это большим грехом166. И несмотря на это,
миллионы людей предпочитали воздержание. Снижение рождаемости также на¬
блюдалось через 9 месяцев и после других постов. Но зафиксировать уровень
воздержания невозможно, так как они не захватывали полностью какого-либо
месяца, а учет рождаемости велся по календарным месяцам.
Современники говорят о соблюдении постов и в более раннее время. Стати¬
стические данные о рождаемости стали собираться с начала XVIII в., но за XVIII в.
они плохо сохранились и до второй трети XIX в. не отличались высокой точно¬
стью. Обратимся к сведениям о датах рождения 439 зажиточных дворян XVI—
XVII вв., которые сделали имущественные или денежные вклады в монастыри на
помин души. Оказывается, что в декабре рождаемость падала до минимума, а в
январе по сравнению с декабрем увеличивалась на 29 %167. Следует ли и в дан¬
ном случае вносить поправку на снижение потенции в марте ввиду физического
ослабления организма? Вклады делали богатые люди, чье питание не зависело,
а потенция и фертильность мало зависели от времени года. Следовательно, если
и вносить поправку, то не такую существенную, как для 1867—1910 гг. Предпо¬
лагаем, что в XVI—XVII вв. доля лиц, соблюдавших воздержание во время Ве¬
ликого поста, находилась между 15 % (29—14) и 29%, т. е. составляла около
22 % — примерно столько же, как и в 1860-е гг. Отсюда можно заключить, что
благочестие православных россиян в течение четырех столетий находилось на
одном, достаточно высоком уровне и обнаружило эрозию только в конце XIX—
начале XX в. Однако снижение доли лиц, посещавших церковь, на 2—3 % или
доли лиц, соблюдавших половое воздержание во время постов, на 10 % вряд ли
можно считать революцией или наступлением эры атеизма. Это становится осо¬
бенно наглядным, если сравнить Россию с другими европейскими странами. На¬
пример, во Франции уже в середине XIX в. исповедь на Пасху пропускали от 50
до 80 % населения в зависимости от сословия.
Данные о потреблении алкоголя по месяцам показывают, что трезвость во
время постов резко возрастала, особенно среди православного населения. В пер¬
вый минимум, в марте, во время Великого поста, потребление водки падало
сравнительно с февралем в 1,7 раза, а в апреле во столько же раз возрастало.
Второй минимум приходился на Петров (в зависимости от даты празднования
Пасхи он может продолжаться от 8 до 42 дней, но заканчивается 12 июля по ста¬
рому стилю), второй — 14—28 августа. В летние месяцы потребление водки па¬
дало на 11 % сравнительно с маем, а в сентябре увеличивалось на 28 % (возмож¬
но имели значение и напряженные полевые работы)168. «Постоянство этих коле¬
баний из года в год служит неопровержимым доказательством того, что причины
их следует искать в глубоко укоренившихся народных обычаях и привычках»169.
Итак, подавляющее большинство православных посещали церковь, соблюда¬
ли обряды и миллионы отказывались от скоромной пищи и интимных отношений
во время постов. Эти факты говорят о том, что степень религиозности и в начале
XX в. была высока и церковь оказывала огромное влияние на поведение людей.
О чем же тогда говорит постепенный отказ людей от соблюдения полового воз¬
держания во время постов? Это свидетельствует лишь о том, что в пореформен¬
ной России имела место медленная секуляризация массового сознания. Но секу-
410
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
Рис. 12.12. П. Е. Коверзнев (?—1877). Святки в деревне. Коляда.
Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку П. Е. Коверзнева. 1880-е
ляризация — это отнюдь не атеизация. Секуляризация — это освобождение раз¬
личных сфер жизни общества и человека, социальных отношений и институтов
от религиозного санкционирования, а атеизация — отрицание религии, воинст¬
венное безбожие. В ходе модернизации и по мере повышения образовательного
уровня населения во всех христианских европейских странах происходит секуля¬
ризация сознания, люди реже посещают церкви и участвуют в богослужениях, но
это не обязательно сопровождается ростом безбожия170. Например, в начале
XX в. атеизация, по-видимому, затронула значительную часть российской интел¬
лигенции, о чем красноречиво говорит следующий факт. Однажды, в 1904 г.,
после одного из заседаний Московского психологического общества, объеди¬
нявшего более 230 членов, долго и много спорили о бессмертии души. Под конец
кто-то предложил поставить вопрос на баллотировку: голоса разделись, и, как
констатировал один из участников, «бессмертие прошло большинством одного
голоса»171. Широкое распространение атеизма среди дореволюционной интел¬
лигенции подтверждается многими современниками. Как показал опрос студен¬
тов Политехнического института в 1909 г., 23,4 % твердо верили в Бога, 22,8 %
сомневались, 48,3 % не верили, 5,5 % уклонились от ответа172. Однако, как тонко
заметил финский этнограф П. Кууси: «Даже если мы перестаем ходить в церковь
и забываем Бога, церковные колокола продолжают звучать у нас в душе»173. Так
411
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.13. Иоанн Кронштадтский среди прихожан, Кронштадт. 1900-е
и русская интеллигенция, несмотря на свой атеизм, не смогла освободиться от
религиозной концепции мира. Дело в том, что народнические воззрения представ¬
ляли собой закрытую мировоззренческую систему — светскую по форме, но ре¬
лигиозную по существу, ибо любая закрытая метафизическая система — религи¬
озная структура174.
Я постарался рассмотреть коллективные представления «изнутри» и «снару¬
жи», с точки зрения участников и наблюдателей и, если абстрагироваться от оце¬
нок, картина получилась похожей. Хотя материальная культура горожан отлича¬
лась от деревенской, в духовной сфере различия между городскими низами
и сельскими крестьянами носили количественный характер. В сущности горожане,
исключая немногочисленное образованное общество, и крестьяне были носите¬
лями единой народной, во многом сакральной культуры, только городские низы
сравнительно с крестьянством были несколько менее традиционными, немного
более грамотными и рациональными, более тесно связанными с рынком и потому
более мобильными, больше ценившими деньги и собственность, более воспри¬
имчивыми к светской культуре, центрами которой являлись большие города .
Особой субкультурой, секулярной по своему существу, обладало только образо¬
ванное общество, включавшее главным образом дворянство и разночинную ин¬
теллигенцию, которое четко отделялись от простого народа и в социальном,
и культурном отношении.
Горожане и селяне находились в постоянном взаимодействии. О культурном
обмене между городом и деревней можно говорить начиная с XVIII в., когда город
412
Коллективные представления интеллигенции и буржуазии в пореформенное время
размежевался с деревней и приобрел культурное своеобразие, которое было уделом
социальной элиты. Через дворянство элементы западноевропейской культуры
должны были бы в одинаковой степени переходить и к крестьянам, и к горожанам.
Но из-за большей восприимчивости горожан, с одной стороны, и большей враждеб¬
ности крестьян к дворянину — с другой, новая культура усваивалась сначала
и лучше горожанами, а через них — крестьянами. Хотя и крестьяне подражали гос¬
подам176. Зонами соприкосновения между городским и сельским населением долгое
время служили ярмарки, богомолья, монастыри, городские базары, переносчиками
новых идей — торговцы, отходники, мигранты, профессиональные нищие, стран¬
ники, богомольцы. В пореформенное время мощными трансляторами новой куль¬
туры стали книги, пресса, выставки, воскресные чтения, школы и другие средства.
До последней трети XIX в. можно говорить скорее о влиянии города на деревню,
чем деревни на город. Причем это влияние распространялось главным образом на
материальную культуру. Духовная культура крестьянства проявляла устойчивость.
Но с конца XIX в. она постепенно стала сдавать свои позиции как под влиянием
города, так и под влиянием изменившихся условий и правил жизни в деревне. Тра¬
диционные стандарты мышления, поведения, человеческих взаимоотношений теря¬
ли в глазах крестьян свою безусловность, абсолютность, непререкаемость, напро¬
тив, авторитет светских, буржуазных стандартов повышался, и именно последние
постепенно становились эталонными, в большей степени в тех местностях, которые
находились в зоне интенсивной индустриализации и урбанизации. Постепенно, шаг
за шагом, новая светская, буржуазная культура приходила на смену традиционной.
Трансформация начиналась с использования отдельных вещей, что влекло за собой
значительные изменения в материальной культуре, за этим следовали перемены
в домашнем и общественном быту, затем затрагивалось мировоззрение и язык. Все
стадии этого цикла (материальная культура — быт — духовная культура — дис¬
курс) в свое время прошло дворянство, потом — все городское образованное обще¬
ство, затем начали, но не успели пройти городские низы, рабочие и крестьяне.
В пореформенное время, с началом массовой миграции крестьянства в города
деревня стала оказывать мощное влияние на культуру горожан, прежде всего рабо¬
чего класса Крестьянская миграция создала в конце XIX—начала XX в. особый тип
«города мигрантов», который обладал специфическими экономическими, демогра¬
фическими и культурными характеристиками. В городе мигрантов происходило
столкновение традиционного мировоззрения («традиции»), носителями которых
были крестьяне, с новым буржуазным («модернизмом»), носителем которых высту¬
пала либеральная общественность. Это столкновение порождало много проблем
и создавало острую социальную напряженность в городах, чреватую серьезными
социальными взрывами177. Новые горожане, формировавшиеся из мигрантов, несли
на себе печать традиционного крестьянского мировоззрения. Окрестьянивание го¬
рожан тормозило формирование буржуазных взглядов в их среде, вело к реанима¬
ции стандартов и стереотипов крестьянского сознания, служило одним из важных
факторов успеха социал-демократической пропаганды среди рабочих и роста соци¬
альной напряженности не только в городах, но в сельской местности, поскольку
мигранты служили переносчиками революционной инфекции в деревню. В тяже¬
лые для страны моменты эта напряженность разрядилась тремя революциями
413
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
в 1905 и 1917 гг., третья из которых изменила вектор развития российского общест¬
ва Нужно отдать должное проницательности большевиков, которые провозгласили
и пытались на деле реализовать союз рабочих и крестьян, понимая, что те и другие
имели в принципе единую культуру и поэтому были склонны к усвоению социали¬
стических идей.
Приведенные данные не позволяют согласиться с распространенным мнени¬
ем, что крестьянство в период империи самоизолировалось от города и преврати¬
лось в особый мир, со своей культурой, своим правом, своей специфической об¬
щественной организацией. Это мнение поддерживалось марксистским тезисом
о противоположности города и деревни при капитализме. Деревня всегда была
тесно связана с городом и никогда не являлась его противоположностью, даже
если под городом иметь в виду столицы, а под горожанами — образованное об¬
щество. Значительная часть русской интеллигенции второй половины XIX—
начала XX в. находилась под сильным влиянием народного мировоззрения и кре¬
стьянской системы ценностей и имела антибуржуазное мировоззрение. Удив¬
ляться этому не приходится: большинство студентов российских университетов
происходило, если можно так выразиться, из антибуржуазных сословий: в 1855 г.—
на 74,5 % (на 65,3 % из дворянства, на 8,2 % из духовенства и на 1 % из кресть¬
янства; представителей городского сословия и разночинцев будем условно счи¬
тать зараженными буржуазным мировоззрением), в 1914 г. — на 60,7% (на
35,9 % из дворянства, на 10,3 % из духовенства, на 14,5 % из крестьянства); та же
сословная структура была характерна и для гимназий (табл. 2.43 в гл. 2 «Соци¬
альная стратификация и социальная мобильность» наст. изд.). А опыты детства,
как полагают представители всех течений в психологии личности, играют прин¬
ципиальную роль в жизни человека. Можно говорить об общих парадигмах,
свойственных сознанию интеллигенции, городских низов и крестьянства, об
общности моральных ценностей, в основе которых лежала христианская этика.
Этот вывод хорошо подтверждает материалами о трудовой этике православного
населения России.
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Время деньгу дает, а на деньги времени не купишь.
Веселье лучше богатства.
Русские пословицы
Трудорая этика, господствующая в обществе, имеет исключительное значение
для экономического прогресса, роста производительности труда и благосостоя¬
ния населения; она оказывает влияние на все социальные, политические и эконо¬
мические практики. Некоторые дореволюционные российские ученые называли
ее четвертым фактором производства после известных трех — земли, труда
и капитала. «Выгодное для большинства народа устройство его быта зависит
больше от качества самих людей, нежели от государственных форм», — писал
известный русский экономист И. И. Янжул178. Отечественные обществоведы
сравнительно недавно обратили внимание на важную роль трудовой этики в эко¬
414
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
номическом и социально-экономическом развитии179, в зарубежной историогра¬
фии это проблема возникла со времени выхода в свет книги М. Вебера «Протес¬
тантская этика и дух капитализма» в 1905 г.180
Можно идентифицировать три идеальных типа трудовой этики: 1) максима¬
листская, буржуазная, или протестантская; 2) минималистская, или субсистенци-
альная; 3) гедонистская. В литературе широко используется понятие протестант¬
ской трудовой этики, распространенной в буржуазных обществах, и мало внима¬
ния уделяется двум другим типам. Согласно протестантской морали, труд —
смысл жизни, а не средство добывания пропитания. Честная и добросовестная
работа, рвение и рациональная организация труда, отвращение к показной рос¬
коши, аскетизм — добродетельны. Предпринимательство рассматривается как
нравственно оправданная, общественно полезная и жизненно необходимая дея¬
тельность. Материальный успех — критерий усердности и добросовестности; бо¬
гатство — свидетельство хорошо исполненного долга перед Богом. Протестантская
трудовая этика ориентирует человека на достижение максимально возможного ре¬
зультата в своей работе, на получение максимального дохода, превышающего по¬
требление, а предпринимателя — на максимальную прибыль в рамках существую¬
щих законов, на экономию ресурсов ради инвестиции их в производство181.
Именно протестантская трудовая этика, по мнению М. Вебера, создала новый
этический климат в обществе, сформировала в людях особое отношением к тру¬
довой и предпринимательской деятельности и массу положительных качеств:
выдержку, ответственность, инициативу, реализм, целеустремленность, добросо¬
вестность, рачительность, трудолюбие, честность, расчетливость182. Однако мно¬
гие историки негативно относятся к теории Вебера. Протестанты не согласны
относить все пороки, сопутствующие капитализму, на счет кальвинизма. Католи¬
ки критикуют его за то, что он принижает роль католицизма в экономическом
прогрессе Европы. По мнению некоторых исследователей, концепция Вебера не
поддерживается историческими фактами. Социологи подчеркивают методологи¬
ческое значение протестантской этики как пример «идеального типа»183.
Субсистенциальная трудовая мораль, распространенная в традиционных обще¬
ствах, представляет собой противоположность протестантской. Труд — не цель
и смысл жизни, а средство добывания пропитания, необходимость, в христианских
обществах — наказание за первородный грех. Изгоняя Адама из рая, Бог сказал
ему: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:19). «Божественное правосудие
наказало человека за его преслушание, как то: изнурительные труды, скорби, телес¬
ные немощи, болезни рождения, тяжкая до некоторого времени жизнь на земле,
странствования, и напоследок телесная смерть», — говорилось в «Послании Патри¬
архов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» в 1723 г.184 Работать
следует до удовлетворения скромных потребностей в питании, одежде и жилище,
весь доход тратить на потребление и не стремиться к накоплению. Традиционное
общество с подозрением относится к обогащению путем интенсивного труда и не
считает предпринимательство добродетельной и достойной деятельностью. При¬
быль — греховна, поскольку получается за счет обеднения других.
В постмодерном потребительском обществе широкое распространение полу¬
чила гедонистическая трудовая этика. Согласно ей работа — средство получения
415
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
высокого дохода, который следует тратить на престижное и приятное потребле¬
ние — на хорошую еду и дорогие напитки, на комфортное жилье и красивый авто¬
мобиль, на развлечения и безмятежный отдых. Шопинг и потребление, наслажде¬
ние телесным и интеллектуальным — самое приятное времяпрепровождение.
Какой трудовой этики следовал российский крестьянин в XIX—начале XX в.?
Трудовая этика включает много аспектов, соответственно и критерии для оцен¬
ки ее могут быть разные185. Имеющиеся материалы позволяют сделать операцион¬
ную интерпретацию данного понятия на основе следующих эмпирических призна¬
ков: число рабочих дней и продолжительность рабочего дня; соблюдение работни¬
ком трудового соглашения и правил поведения на производстве (прогулы, опозда¬
ния на работу, неисправная работа, травматизм, пьянство, воровство и др.).
Трудовая этика крестьян
Праздники и рабочие будни
В дореволюционной отечественной литературе высказывались три мнения
о том, как много и насколько напряженно приходилось работать русскому кре¬
стьянству, для того чтобы выжить в условиях крепостного права и после его от¬
мены. Согласно первому, русское крестьянство отличалось большим трудолюби¬
ем и прилежанием, работало много и напряженно, если не выше, то в полную
меру своих сил и возможностей. Второе мнение сводилось к тому, что крестьяне
работали умеренно, лишь настолько, чтобы удовлетворить свои необходимые
и скромные потребности. В соответствии с третьей точкой зрения крестьянин рад
был бы работать много и эффективно, но вся русская история с постоянно повто¬
ряющимися «смутными временами» не способствовала формированию ценности
честного, постоянного труда и законного хозяйствования. «И не то, чтобы дума¬
лось: “от трудов праведных не наживешь палат каменных”. Здесь настроение го¬
раздо более глубокое и трагическое. Оно может быть выражено словами “при
таких порядках работать на земле не стоит, надо промышлять иначе”»186. В со¬
ветской историографии первая точка зрения стала своего рода аксиомой, а в тех
случаях, когда надо было оправдать низкое качество труда, использовалась тре¬
тья точка зрения. Как же было на самом деле, какую трудовую мораль исповедо¬
вали крестьяне, иными словами, каким нормам поведения в процессе труда они
следовали, как они оценивали значение труда в своей жизни, какими мотивами
руководствовались? Годовой бюджет времени крестьянства может пролить свет на
эту проблему.,
Бюджет времени крестьянства. Распределить календарный фонд времени
крестьян по видам затрат, составить бюджет времени — трудная задача. Она ре¬
шается путем включенного наблюдения, когда исследователь постоянно живет
среди крестьян и регистрирует все затраты времени. Первые обследования бюд¬
жета времени крестьян относятся к началу XX в. Они проводились земскими стати¬
стиками и ввиду трудоемкости охватили лишь по несколько десятков крестьянских
хозяйств в трех губерниях, а затраты времени на многие, не учтенные виды дея¬
тельности объединили в рубрику «Нераспределенное время» (табл. 12.5).
416
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Рис. 12.14. Праздник в русской деревне. 1900-е
Таблица 12.5
Распределение труда крестьянской семьи в течение года в Вологодской,
Московской и Харьковской губерниях в 1900-е гг. (% от 365 дней)
Виды занятий
Вологодская
Московская
Харьковская
Производственный труд, в том числе:
42,8
36,8
28,0
сельское хозяйство
24,7
28,6
23,6
промыслы
18,1
8,2
4,4
Домашняя работа
4,4
3,7
3,0
Праздники
19,8
20,0
27,0
Нераспределенное время
33,0
39,5
42,0
Источник: Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. М., 1989. С. 236.
Более совершенные бюджеты времени были построены в 1920-е гг. Они струк¬
турировали виды занятий иначе: 1) производственный труд (в своем хозяйстве, по
найму); 2) домашний труд; 3) свободный труд (самовоспитание, общественная дея¬
тельность); 4) отдых (еда, развлечения, отдых); 5) сон187. Современные экономисты
и социологи структурируют бюджет времени третьим способом: 1) работа, куда
включаются оплачиваемая работа, передвижения на работу и обратно, деятель¬
ность, связанная с работой (подготовка к работе); 2) труд в домашнем хозяйстве
и удовлетворение бытовых потребностей (работа в хозяйстве, в саду, покупки и ус¬
луги, уход и воспитание детей); 3) физиологические потребности (уход за собой
и другими, питание, сон); 4) занятия в свободное время (образование, общественная
деятельность, спорт, общение, активный и пассивный отдых и т. п.); 5) нераспреде-
188
ленные занятия .
417
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Поскольку до начала XX в. специальных и квалифицированных исследований
бюджета времени не проводилось, для XVIII—XIX вв., ввиду отсутствия адекват¬
ных источников, решить эту задачу корректно и удовлетворительно по образцу ис¬
следований XX в., на мой взгляд, вряд ли возможно. Однако если сузить задачу до
оценки числа нерабочих праздничных дней (воскресений и праздников) и числа
рабочих дней, расходуемых на работу в земледелии и промыслах, то построить
приблизительный бюджет времени возможно (табл. 12.6).
Таблица 12.6
Годовой бюджет времени крестьяни на-работника в середине XIX—начале XX в.
Показатели
1850-е гг.
1870-е гг.
1900-е гг.
абс.
%*
абс.
%*
абс.
°/о
Число рабочих дней в полеводстве
и промыслах
135
37
125
34
107
29
Число нерабочих празднично¬
выходных дней
95
26
105
29
123
34
Распределенное время
230
63
240
66
258
71
Нераспределенное время
135
37
125
34
107
29
* Доля от 365 дней.
Как получены эти цифры?
Праздники. Все празднично-воскресные дни в России разделялись на три груп¬
пы: (1) воскресенья, (2) официальные государственные и церковные праздники и (3)
народные, так называемые храмовые, или бытовые. Воскресенья были общими для
всех189. Вторая группа праздников была величиной почти постоянной и мало изменя¬
лась как во времени, так и по местностям: в 1850 г. их насчитывалось 31, в 1878 г.—
33, в 1900 г. — 32 (без учета совпадающих с воскресеньями)190. Праздники, отно¬
сившиеся к третьей группе, большей частью имели религиозный характер, однако
их число и состав весьма сильно изменялись по местностям вследствие того, что
они были санкционированы обычным правом и традициями данной местности, за¬
конность которых государство не оспаривало191. Именно бытовые праздники опре¬
деляли различия в балансе рабочего и нерабочего времени между местностями
и национальностями, так же как и в отдельные периоды истории.
Три замера числа праздничных дней относятся к 1850-м, 1872 и 1904 гг. Для
середины XIX в. данные получены по сведениям прессы, добровольных коррес¬
пондентов РГО192, а также по данным, собранным в 1872—1873 гг. Комиссией 1873 г.,
участники которой оценивали число праздников в 1872 г. сравнительно с дорефор¬
менным уровнем. Обобщение этих сведений дает число празднично-выходных дней
в канун отмены крепостного права как 95 .
Анкета Комиссии 1873 г. содержала 62-й вопрос: «Увеличилось или умень¬
шилось в последнее десятилетие и насколько число рабочих дней в зависимости
от праздников? Увеличилось ли число прогульных дней? Сократилось или увели¬
чилось вообще рабочее время у сельского населения?» Рост числа праздников
418
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
после эмансипации среди православного крестьянства признали 84 % экспертов.
Этот факт показался настолько неожиданным и важным, что Комиссия допол¬
нительно опросила 364 человека, в том числе землевладельцев, волостных стар¬
шин и крестьян, земских деятелей, управляющих имениями, священников, гу¬
бернских и уездных предводителей дворянства, хлебных торговцев, скотопро¬
мышленников, мировых посредников, и собрала по этому вопросу внуши¬
тельную коллекцию сведений, обработка которых и дала нам искомую цифру
числа празднично-выходных дней на 1872 г. — 105 дней — на 10 больше, чем
в 1850-е гг. Общее число празднично-выходных дней варьировало по мест¬
ностям. В 1872 г. в районах с преимущественно русским населением праздников
(без учета совпадающих с воскресеньями) было около 120, с преимущественно
украинским населением — 122, с преимущественно белорусским населением —
117194. Вопреки ожиданиям, после отмены крепостного права число рабочих дней
стало не увеличиваться, а уменьшаться — в среднем каждый год добавлялось по
одному праздничному. Рост числа праздников происходил повсеместно и вполне
стихийно, несмотря на усилия коронных властей остановить этот процесс195.
Еще более внушительную коллекцию сведений о числе праздников собрало
Совещание 1902 г.196 Правительство создало его для получения объективной кар¬
тины состояния сельского хозяйства и обязало собрать надлежащие сведения че¬
рез губернские и уездные комитеты. Было образовано 83 губернских и 535 уезд¬
ных и окружных комитетов. В работе местных комитетов участвовало 13 490 лиц,
«практически знающих положение и нужды нашей сельскохозяйственной про¬
мышленности в различных районах России», в том числе 26 % землевладельцев,
26 % чиновников, 22 % представителей земств, 17 % крестьян, 9 % разных спе¬
циалистов по сельскому хозяйству197. Обобщение сведений, собранных Совеща¬
нием, приводит к выводу: за 30 лет, 1873—1902 гг., число празднично-выходных
дней возросло на 18 и составило в среднем по Европейской России 123 дня198.
Следует иметь в виду, что празднично-выходные дни составляли лишь часть
общего числа нерабочих дней. Помимо самого праздника, крестьяне тратили время
на его подготовку и затем на отдых от праздника. По существующим в деревне
обычаям каждый праздник сопровождался значительным употреблением алкоголя,
вследствие чего нередко крестьянин не в состоянии был начать работу на следую¬
щий день сразу после праздника. «Воскресенье — свято, понедельник — черный»,
«Понедельник — похмелье», «Понедельник и пятница — тяжелые дни»199. Про¬
должительность праздника не была строго фиксирована и зависела от обстоя¬
тельств, например от урожая. Осенний праздник «Покров» в урожайный год празд¬
новался 5—6 дней, в год средней урожайности — 2—3 дня, в неурожайный год —
1 день. Нельзя также забывать, что каждая крестьянская семья имела собственные
праздники. Наконец, несколько дней в год уходило на поездку на ярмарку или ба¬
зар, на болезни, значительное время пропадало для работы вследствие непогоды200.
Оценка числа праздничных нерабочих дней имеет методические трудности.
К счастью, моя задача облегчалась тем, что подсчет осуществлялся самими респон¬
дентами. Последние: (1) включали или не включали царские дни в праздничный
календарь крестьян в зависимости от того, как крестьяне относились к этим празд¬
никам; (2) продолжительность праздника учитывали в соответствии с формально
419
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
установленным числом дней и в большинстве случаев она составляла 1 день; (3)
четко различали местные и общие праздники и считали их единожды; (4) местные
праздники включали в число нерабочих дней в том случае, когда во время них ра¬
боты не производились (кстати, местные праздники крестьяне ценили выше об¬
щих)201. Воскресенье в число праздничных дней респонденты включали всегда по¬
тому, что в огромном большинстве случаев в этот день крестьяне от работы воз¬
держивались20 .
Занятость в сельском хозяйстве. Крестьяне работали в поле, на надельной
общинной земле вместе с другими членами общины, и на приусадебном участке,
находившемся в полном их распоряжении, где они не были связаны принуди¬
тельным севооборотом. Дополнительно к земледелию они держали скот и птицу
и занимались промыслами в своем хозяйстве, а некоторые, численность которых
со временем увеличивалась, и за пределами своей деревни. Немало времени рас¬
ходовали на домашнее хозяйство — строили и ремонтировали дома, надворные
и иные постройки, колодцы, изгороди, изготавливали сельскохозяйственные
орудия, мебель, домашнюю утварь, транспортные средства, ткацкие принадлеж¬
ности; заготавливали топливо, приготавливали пищу, изготавливали одежду
и обувь и т. д. — всех работ не перечислить, поскольку крестьяне вели полунату¬
ральное хозяйство и большую часть предметов своего потребления изготавлива¬
ли сами. В крепостной период владельческие крестьяне, находившиеся на бар¬
щине, работали половину времени на помещика; оброчные крестьяне свою по¬
винность перед помещиком, а казенные перед государством выполняли посред¬
ством оброка, который надо было заработать. Дифференцировать затраты труда
на эти многочисленные занятия крайне затруднительно, потому что в крестьян¬
ском хозяйстве они были переплетены, взаимно увязаны и обусловлены; сферы
труда и отдыха разграничивались недостаточно четко и условно (например, на
посиделках девушки шили, пряли, вязали; в воскресенье устраивались помочи).
В силу сложности задачи я попытался сначала оценить только ту часть годового
бюджета времени, которая расходовалась исключительно на работу в земледелии
(посев, обработка поля, уход, уборка и т. п.), поскольку на эту работу уходили
целые рабочие дни и подсчитать их число представляется возможным. Измерить
их можно двумя способами: 1) путем хронометража отдельных трудовых процес¬
сов; 2) путем измерения затрат времени на все сельскохозяйственные и промы¬
словые занятия.
Начну с 1850-х гг. В научной литературе о крепостном праве, начиная с клас¬
сической работы В. И. Семевского «Крестьяне в царствование императрицы Ека¬
терины II» и кончая современными работами, сложилось представление, что
средняя норма барщины на тягло, включавшее одного мужчину и одну женщину,
обычно составляла 3 дня в неделю, в черноземных губерниях — 4 дня, причем
как для мужчин, так и для женщин. Трехдневная или четырехдневная барщина
понимается буквально: в году 52 недели, значит, при трехдневной барщине в го¬
ду 156 барщинных дней (52 х 3), при четырехдневной — 208 дней (52 х 4). Очень
редко делалась поправка на праздники, в которые работать запрещалось. Иссле¬
дователи, учитывавшие праздники, ежегодную работу на помещика уменьшали
до 135—140 дней при трехдневной и до 200 дней при четырехдневной барщине,
420
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
2СН
как для мужчин, так и для женщин ‘. Однако материалы губернских дворянских
комитетов и редакционных комиссий, готовивших отмену крепостного права, со
всей определенностью говорят о другом: реальная барщина была намного меньше.
Согласно полученным сведениям по всем 44 губерниям Европейской России,
где имелись крепостные, в среднем в год барщина равнялась 140 дням на тягло.
Историки толкуют эти данные следующим образом: в целом на тягло барщина
составляла 280 дней, т. е. 140 для мужчины и 140 для женщины, поскольку тягло
включало одного мужчину и одну женщину204. Между тем и помещики, и гу¬
бернские комитеты имели в виду общее число рабочих дней, приходившееся на
одно тягло в год при крепостном праве. Следовательно, трехдневная барщина
означала: один работник, безразлично — мужчина или женщина, отбывал 70 дней
в году. Члены губернских комитетов, вызванные в столицу, представили расчет
убытков, которые понесут помещики, если отмена крепостного права пройдет на
предложенных условиях. Из него следует: при крепостном праве тягло, т. е. два
работника, давало 140 рабочих дней в год, а редакционные комиссии установили
для разных губерний компенсацию за барщину от 60 до 95 рабочих дней с тягла,
в среднем 77 дней205. После длительных дискуссий эксперты установили единую
для всей России норму компенсационных рабочих дней за барщину, ставшую
законом: за высший душевой надел крестьяне обязаны отрабатывать 70 рабочих
дней в год — 40 мужских и 30 женских206.
Можно ли допустить, что редакционные комиссии в ущерб помещикам
уменьшили реальную норму отработки в 2 раза — со 140 до 70 дней в год?! Бар¬
щина в 140 дней в год являлась номинальной и нефиксированной, а 70 рабочих
дней по закону — реальными и фиксированными, поэтому помещики, поторго¬
вавшись, проглотили решение. Между помещиком и крестьянами шла постоян¬
ная борьба за барщинные дни, и выбить 140 рабочих дней в год с одного тягла
было совершенно невозможно. Во-первых, мешала непогода: дожди, морозы,
засухи и пр., когда работа останавливалась. Во-вторых, существенно сокращали
число барщинных дней праздники, ибо закон запрещал работать не только в го¬
сударственные и общецерковные праздники (их насчитывалось в 1850-е гг. 31)
но и в местные народные, так называемые бытовые праздники (их насчитывалось
примерно 18, и они не учитывались при определении величины барщины в 140
дней), а также болезни и важные семейные события, освобождавшие от барщи¬
ны, — крестины, свадьба, похороны и др. В 1825—1855 гг. в помещичьей дерев¬
не Украины, Белоруссии и Польши правительство ввело инвентари, твердо фик¬
сировавшие крестьянские повинности в пользу владельцев. Как показали расчеты
по западным губерниям, крестьяне работали на помещиков 68 дней в году, но эти
работы при надлежащем присмотре могли быть покончены и в 25 дней207.
Фактическое число полных барщинных рабочих дней можно оценить путем пе¬
ревода оброка в барщину по стоимости одного рабочего дня — этим приемом поль¬
зовались и помещики, и редакционные комиссии. Например, во Владимирской
губернии около 1860 г. среднее число барщинных дней с тягла составляло 140 дней
в год, средний годовой оброк — 23,3 руб. сер., а плата за один рабочий день
с лошадью и инвентарем работника — 0,32 руб. сер. Отсюда следует: реальная
цена оброка равнялась 73 рабочим дням (23,3 :0,32). Примем размеры оброка
421
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.15. И. Е. Репин (1844—1930). Вечорници. 1881.
Государственная Третьяковская галерея
и барщины равновеликими величинами, только выражающими помещичью экс¬
плуатацию разными способами — в первом случае в деньгах, во втором — в ра¬
бочих днях. Тогда 140 номинальных барщинных дней реально означали 73 рабо¬
чих дня в год. В целом по 44 губерниям — по сведениям самих помещиков! —
среднее число барщинных дней с тягла равнялось 140 дням в год, средний годо¬
вой оброк — 26 руб. сер., а плата за один рабочий день — 0,30 руб. сер. Следова¬
тельно, реальная цена оброка равнялась 87 рабочим дням (26 : 0,30) на тягло или
43,5 дня на одного взрослого работника мужского и женского пола Это на 17 дней,
или на 20 % больше, чем установили редакционные комиссии за высший надел,
что объясняется двумя факторами. Отрезки уменьшили крестьянские земельные
наделы на 18 %208, значит, до отмены крепостного права крестьяне имели земли
на 18 % больше, соответственно и оброки были на 20 % выше. Наделы уменьше¬
ны, соответственно и компенсация за них в виде отработочных дней и оброков —
тоже. Например, отрезка земли у крестьян в Черноземном центре составляла
16,3 %, а в Северо-Западном районе — 27,7 %, средний платеж на душу мужско¬
го пола сократился соответственно на 12,8 и 24,1 %209.
Если в первой половине XIX в. половину рабочих дней помещичьи крестьяне по
закону отдавали своему владельцу210, то на работу на себя они должны были затра¬
чивать тоже 70 дней. Но в своем хозяйстве крестьянин трудился производительнее.
Кроме того, он нуждался во времени для занятия домашними промыслами. Поэтому
полевые работы и сенокос поглощали у него меньшее число рабочих дней — при¬
422
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
мерно 65, а всего вместе с барщиной или оброком — около 135 дней. Пять дней
оставалось для промысловой деятельности, не связанной с сельским хозяйством.
Число рабочих дней в конкретном году зависело от погоды и обстоятельств жизни
общины и отдельного крестьянского хозяйства, поэтому в 1850-е гг. колебалось
в пределах от 120 до 150 дней. В середине XVIII в. число рабочих дней, затрачивае¬
мое на полеводство и сенокос, оценивается приблизительно в 130211. Если это так,
то число рабочих дней, требуемых на полеводство, к середине XIX в. возросло до
135. Таким образом, 130—135 — это примерная ориентировочная оценка того чис¬
ла рабочих дней, вокруг которого варьировало фактическое число рабочих дней,
затрачиваемых помещичьими крестьянами на полеводство, в XVIII—первой поло¬
вине XIX в.
У государственных крестьян бюджет рабочего времени был примерно таким же.
Как показали результаты работы специальных кадастровых комиссий Министерст¬
ва государственных имуществ в 1850-е гг., которые захронометрировали трудовые
затраты в казенных имениях Европейской России, на обработку земли, находив¬
шейся в пользовании крестьянского двора, требовалось от 120 до 150 дней, в сред¬
нем 135 дней в год212. После удовлетворения этой потребности оставался еще зна¬
чительный резерв рабочей силы. Например, в 1850-е гг. в Костромской губернии
избыток рабочей силы, считая только работников-мужчин, достигал 37 % от всех
работников мужского пола, во Владимирской губернии — 45 %213.
В пореформенное время в России появилась настоящая сельскохозяйственная
статистика, проводились специальные исследования по оценке издержек производ¬
ства в денежном и натуральном выражении, благодаря чему можно достаточно точ¬
но оценить трудовые затраты на различные работы и построить бюджет времени
крестьянина. Число рабочих дней, затрачиваемое на полеводство, включая сено¬
кос, уменьшалось вследствие роста производительности труда и уменьшения
пашни надушу крестьянского населения — в 1880-е гг. до 124, в 1901—1910 гг.
до 107 (табл. 12.7).
Вероятно 107 дней несколько преувеличенная цифра, поскольку получена,
исходя из того, что технология обработки почвы поддерживалась всеми крестья¬
нами на достаточно удовлетворительном уровне. Де-факто, согласно данными
бюджетных обследований 1924—1925 гг., на разные работы в сельском хозяйст¬
ве (включая полеводство, садоводство, животноводство, птицеводство) работник
расходовал в среднем 95 дней в год (от 84 дней в Уральском регионе до 117 дней
в Западном)214.
Таблица 12.7
Трудовые издержки в полеводстве Европейской России в 1880-е и 1901—1910 гг.
Показатели
1880-е гг.
1901—1910 гг.
Посевная площадь главнейших полевых произведений,
млн дес.
67,8
74,5
Площадь лугов, млн дес.
7,5
24,8
Издержки труда на обработку и уборку десятины зерно¬
вых, человеко-дней
31,5
31,5
423
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Окончание табл. 12.7
Показатели
1880-е гт.
1901—1910 гг.
Издержки труда на обработку и уборку десятины лугов,
человеко-дней
7,8
7,8
Всего издержек труда на полеводство, млн человеко¬
дней
2135,7
2542,1
Численность работников мужского пола среди крестьян¬
ства, млн
17,6
23,7
Рабочих дней на одного работника, необходимых для
обработки земли и уборки урожая
124
107
Подсчитано по: Посевная площадь: Свод статистических сведений по сельскому хозяйству
России к концу XX века: в 3 т. СПб., 1902—1906. Т. 1. С. 41 (по 46 губерниям); Сборник сведе¬
ний по Европейской России за 1882 год. СПб., 1884. С. 32—33 (Астраханская, Донская, Лиф-
ляндская, Пензенская губернии); Сборник сведений по сельскому хозяйству. Год 9. Пг., 1916.
С. 32—33, 84—85. Трудовые издержки: Временник ЦСК МВД. № 10: Материалы по вопросу
о стоимости обработки земли в Европейской России. СПб., 1893. С. 1—43 ; Материалы Комиссии
1901 г. Ч. 1. С. 81—85, 230—231 ; Стоимость производства главнейших хлебов : в 2 вып. Пг.,
1915. Вып. 1. С. 368—375, 384—391, 408—415, 424—431. Численность работников: Военно¬
конская перепись 1912 г. СПб., 1913. С. 16; Временник ЦСК МВД. № 33 : Население сельских
обществ и количество у них пахотной земли. По обследованию 1893 г. сельских обществ 46 гу¬
берний Европейской России. СПб., 1894. С. 2 ; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 81—85 ; Об¬
щий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 64—67; Свод статистических сведений по сельскому
хозяйству России к концу XIX века : в 3 вып. СПб., 1902. Вып. 1. С. 17 ; Статистика землевладения
1905 г. Свод данных по 50 губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. XXIV—XXV,
XXXVII—XXXVII.
«Свободное» от сельскохозяйственных работ и праздников время. Исклю¬
чив из годового календарного фонда времени воскресенья, праздники и рабочие
дни, затрачиваемое на полеводство и сенокос, в 1850-е и 1900-е гг. остается при¬
мерно 135 дней, которые уходили на удовлетворение всех оставшихся потребно¬
стей, главным образом на домашнюю работу, непогоду, болезни, общественные
дела, торговые операции (поездки на ярмарку и базары). Их величина изменялась
в зависимости от конкретных обстоятельств каждого года, но в определенных пре¬
делах. Я приблизительно распределил эти «свободные» дни по отдельным катего¬
риям бюджета времени в 1880-е гт. Предполагаю, что в течение всего XIX в. они
были примерно такими же, за исключением времени, расходуемого на неземле¬
дельческие промыслы (табл. 12.8).
Данные получены следующим образом. В Министерстве внутренних дел
в 1888 г. все натуральные повинности были определены и переведены на деньги.
Разделив эту сумму на число крестьян-работников мужского пола и затем на ве¬
личину поденной оплаты пешего работника мужского пола, получим трудовой
эквивалент этих повинностей — 32 дня.
В 1901—1903 гг. Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 по
1900 г. благосостояния сельского населения (далее Комиссия 1901 г.) собрала све¬
дения о числе крестьян, занимавшимися промыслами и их заработках. Разделив
сумму, заработанную в неземледельческих промыслах, на число крестьян-
работников мужского пола и затем на величину поденной оплаты промышленного
424
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Таблица 12.8
Использование крестьянами годового календарного фонда времени,
оставшегося после исключения воскресений, праздников и рабочих дней,
затрачиваемых на полеводство, в 1880-е гг.
Виды затрат времени
Дней
Натуральные повинности, в том числе:
32
подводная
8
квартирная
8
дорожная
6
караульная
6
полицейская
4
Непогода
20
Неземледельческие промыслы
19
Домашняя работа
14
Общественная работа (заседания схода, суда стариков и т. п.)
12
Поездка на ярмарку и базар
6
Болезни
3
Итого
106
Нераспределенное время
30
Подсчитано по: Натуральные повинности: Сведения о числе сотских и десятских в 1888 го¬
ду / А. Сырнев (сост.) // Временник ЦСК. 1889. № 9. С. 5, 6, 12—13, 16, 24—25 ; Статистиче¬
ские материалы по волостному и сельскому управлению 34 губерний, в коих введены земские
установления : Свод данных, доставл. по циркуляру М-ва вн. дел от 17 янв. 1880 г. за № 4
(Сост. в канцелярии высочайше учрежденной Особой комиссии для составления проектов ме¬
стного управления). СПб., 1886. Табл. 1. С. 42—58; Табл. 3. С. 1—120. Неземледельческие
промыслы: Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 215—245. Непогода (дождливые дни, грозы,
град и т. п.): Веселовский К. С. О климате России. СПб., 1857. С. 310—312, 340—341, 351, 372;
Минц Л. Е. Аграрное перенаселение и рынок труда СССР. М.; Л., 1929. С. 12—13. Домашняя
работа: Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. С. 236. Болезни: Сводный сборник по 12 уездам
Воронежской губернии. Статистические материалы подворной переписи по губернии и Обзор
материалов, способов по собиранию их и приемов по разработке / Ф. А. Щербина (сост.). Во¬
ронеж, 1897. С. 360.
рабочего пола, получим трудовой эквивалент заработков в днях — 36 в 1900 г.
Основываясь на числе разрешений, взятых на право отлучки из деревни в 1880-е
и 1900 гг., на промыслы в 1880-е гг. ушло около 19 дней 15.
К непогоде, вызывавшей простой в работе, можно отнести сильный дождь
(более 5 мм осадков в день), грозы и град, которых 1840—1850 и 1920-е гг. на¬
считывалось соответственно: 18; 12 и 3 в год. Учитывая, что грозы, град и урага¬
ны часто совпадали с дождливыми днями, среднее число ненастных дней в году
принято за 20.
На домашние работы в переводе на целые рабочие дни, согласно земским об¬
следованиям в конце XIX—начале XX в., крестьянская семья расходовала в год
от 11 дней в Харьковской до 16 дней в Вологодской губернии, в среднем — 14.
425
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Мужчины занимались домашними работами существенно меньше женщин, по¬
этому участие взрослого работника оцениваем в 14 дней в год216.
По данным земских переписей в Воронежской губернии в 1884—1891 гг.,
взрослый работник болел от 2 дней (состоятельные) до 4 дней (бедные крестьяне)
в год; принимаем в среднем 3 дня. Для сравнения петроградский рабочий
в 1919—1921 гг. болел в среднем 23 дня в год217, советский рабочий в 1920-е гг.
(по данным социального страхования) — 11 дней218, в 1965 г. — 12, в 1987 г. —
10 дней219.
Расходы времени на удовлетворение других потребностей приходится при¬
близительно оценивать путем интерполяции. На исполнение общественных
обязанностей я положил 12 дней в год, учитывая многочисленные сходы кре¬
стьянской общины (в них должны были участвовать все главы семей), и нали¬
чие у земледельцев других общественных обязанностей (суд, помочи и др.),
связанных с самоуправлением, значение которого после крестьянской реформы
усилилось220. Эксперт-землевладелец Касимовского уезда Рязанской губернии
сообщил в Комиссии 1873 г.: «Сельские сходы собираются неисчислимое число
раз в году (иногда по пустякам собирают подряд десять сходов) для найма
и расчета пастуха, денежных раскладок, дележа земли, сбора оброка, ссоры
двух соседей, выборы старосты (в некоторых деревнях староста обязан служить
месяц и, следовательно, ежемесячно выбирают нового), всех причин, по кото¬
рым собираются сельские сходы не перечтешь. На этих сходах обыкновенно
выпивается много водки»221. Это полностью совпадает с тем, что Н. Н. Злато-
вратский рассказал нам о деревенской жизни в романе «Устои» и в «Очерках
крестьянской общины: деревенские будни», относящихся к концу 1870—
началу 1880-х гг.222
Отношения с рынком в 1880-е гг. — поездка хотя бы один раз в год на ярмар¬
ку и несколько раз на базар — требовали по крайней мере 6 дней. Для сравнения
в 1923 г. на «сношение с рынком» мужчина тратил 10 дней, в 1924—1925 гг. —
5 дней223. Крестьянин нуждался в деньгах на уплату разного рода налогов, сборов
и оброков, на покупку необходимых в хозяйстве товаров (домашняя и хозяйст¬
венная утварь, соль, сахар, спички, украшения, наряды, обувь и т. п.)224 и на вод¬
ку. В деревне стационарные торговые заведения, за исключением кабака, отсут¬
ствовали; приходилось ездить в ближайший город на базар или на торжки и яр¬
марки, проходившие где-нибудь поблизости. В 1857 г. среднее расстояние между
ближайшими городами и посадами в Европейской России составляло около
87 км, в 1914 г. — 83225. Учитывая плохое состояние дорог, поездка крестьянина
на лошади из многих сельских поселений в ближайший город требовала не менее
дня. Частота поездок существенно варьировала по местностям — в 1860-е гг. от
3 до 6 раз в год226 и со временем увеличивалась. В конце XIX в., по ходатайству
духовенства, в некоторых губерниях базарные дни с воскресений перенесены на
будни, что существенно увеличило число посещений городов по торговым по¬
требностям22 . Отношения крестьян с рынком росли и крепли, о чем свидетельст¬
вует рост товарности земледелия: в начале XIX в. она составляла 9—12%,
в 1850-е гг. — 17—18 %, в 1909—1913 гг. — около 31 % чистого сбора основных
земледельческих продуктов228.
426
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Все перечисленные затраты времени поглощали около 112 дней; нераспреде¬
ленными остается лишь 24 дня в году, которые в случае необходимости могли
быть израсходованы на труд или отдых, на семейные праздники, на исполнение
разного рода обрядов и на религиозную жизнь. Это был необходимый резерв,
ибо крестьянская жизни как земледельца всегда находилась в зоне риска.
Сведя полученные данные в табл. 12.9, получим примерный бюджет времени
крестьянина-работника (у женщины бюджет будет несколько иным).
Таблица 12.9
Использование годового фонда времени работником-мужчиной
в 1850—1900-е гг.
Виды затрат
1850-е гг.
1880-е гг.
1900—1904 гг.
Доля в распределенном
фонде времени, %
дней
дней
дней
Полеводство
135
124
107
42
37
30
Промыслы
5
19
36
2
6
10
Домашняя работа
14
14
14
4
4
4
Итого производст¬
венная деятель¬
ность
154
157
157
48
47
44
Натуральные
повинности
32
32
32
10
10
9
Непогода
20
20
20
6
6
6
Общественная
работа
12
12
12
4
4
3
Поездка на ярмарку
и базар
4
6
8
1
2
2
Болезни
3
3
3
1
1
1
Воскресенья
и праздники
95
105
123
30
31
35
Итого распреде¬
ленное время
320
335
355
100
100
100
Нераспределенное
время
45
24
10
12*
7*
3*
Доля от 365 дней.
Напомню, что все оценки в бюджете времени приблизительны, относятся
к мужчине работоспособного возраста 18—60 лет и являются ориентировочной
модальной величиной, вокруг которой варьировало фактическое число дней, рас¬
ходуемое крестьянином на удовлетворение различных потребностей. Занятость
женщин в течение года была не меньшей, чем у мужчин, но структура бюджета
времени у них была иной. Бюджет времени был индивидуальным для каждой об¬
щины и каждого крестьянина и изменялся в отдельные годы229. «Точно опреде¬
лить рабочее время среди массы сельского населения с приблизительною даже
427
Гтва 12. Русская культура в коллективных представлениях
точность невозможно, — свидетельствовал помещик Касимовского уезда Рязан¬
ской губернии, — много зависит от ранней или поздней весны и количества вре¬
мени, проводимого на местных годовых праздниках (которые также меняются
ежегодно: один год празднуют 3 дня, другой год 5 дней, а доходят иногда и до
7 дней), а самое большее, но безучетное количество времени тратится на сель¬
ские сходы»230. Разнообразие бюджетов времени отдельных общин вполне есте¬
ственно, если принять во внимание, что огромное их число было разбросано на
колоссальной территории со слаборазвитой инфраструктурой. В 1905 г., когда
появились первые достаточно полные данные, в Европейской России насчитыва¬
лось 170,5 тыс. сельских общин231.
Как следует из данных табл. 12.9, во второй половине XIX в. расходы времени
на полеводство сократились на 28 дней — со 135 до 107, на неземледельческие
промыслы почти на столько же (31 день) увеличились — с 5 до 36, а на домаш¬
нюю работу остались без изменения. В результате к началу XX в. произошло пе¬
реключение части трудовых ресурсов с земледелия и животноводства на про¬
мыслы, что послужило важнейшим фактором роста уровня жизни крестьянст¬
ва232, ибо доходы от промыслов на работника были существенно выше, чем от
земледелия и животноводства. Повышение доходов позволило крестьянам уве¬
личить число воскресно-праздничных нерабочих дней на 28.
Расходы времени на полеводство, промыслы и домашнее хозяйство условно
назову производственной деятельностью. В целом ее продолжительность явля¬
лась величиной более или менее постоянной — 154—157 дней, так как измене¬
ние на 3 дня несущественно и может быть результатом неточности исходных
сведений. В 1913 г. у российских рабочих, занятых в крупной промышленности,
среднее число отработанных на производстве дней в год составляло 257,4 (при
10-часовой продолжительности рабочего дня круглый год), число выходных
и праздничных дней — 88,6 и число неявок на работу и простоев — 19 дней233.
Многие рабочие вели также домашнее хозяйство. Отсюда следует, что «произ¬
водственная деятельность» у рабочего продолжалась примерно в 1,6 дольше, чем
у крестьянина.
Сельская интеллигенция и коронная администрация среднего и высшего звена
оценивали количество праздничных дней у православного крестьянства как чрез¬
мерное234. Их огорчало, что у русских время расходовалось менее производи¬
тельно сравнительно с другими этносами, проживавшими в пределах российской
империи в таких же, а в некоторых случаях даже худших условиях (например,
финны), и с меньшими результатами — производительность труда у русских
крестьян и урожайность были существенно ниже. И с этим трудно не согласить¬
ся. У православных российских крестьян собственно праздников, без воскресений,
было 71 — намного больше, чем, например, в прибалтийских губерниях у католи¬
ков (43), у прибалтийских протестантов и немецких колонистов (18), в Германии
(13), в Италии, Испании и других католических странах (35), в Китае, Японии
и других странах Восточной и Южной Азии (35), причем их число в порефор¬
менное время увеличилось235. Обилие праздников наносило существенный вред
крестьянскому хозяйству, так как отнимало массу времени и средств236. Если бы
православные российские крестьяне имели празднично-воскресных дней столько
428
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
же, сколько американские фермеры (72), то это бы дало производству дополнитель¬
но около 3 млрд человеко-дней в год и увеличило бы баланс рабочего времени поч¬
ти на 20 %, благодаря чему крестьяне получили бы дополнительный доход на сум¬
му 1870 млн руб.237 Если бы деньги, которые крестьяне расходовали в праздники на
алкоголь, они употребили бы на улучшение своего хозяйства, они бы привели рос¬
сийское сельское хозяйство в цветущий вид. «Русская страна и русский народ от
того беднее прочих, что мы работаем меньше других, меньше производим и чаще
гуляем, — утверждал А. И. Васильчиков, между прочим, народник и поклонник
крестьянской общины. — Расстройство сельского хозяйства происходит из самых
нравов и обычаев нашего народа»238. Государственный секретарь А. А. Половцов
(1832—1909) советовал императору Александру III: «Если вы, государь, в царст¬
вование свое уничтожите чины, общинное владение да половину праздников, так
оставите после себя совсем другую Россию»239. Существовало и другое мнение,
согласно которому праздники крестьяне использовали для выполнения своих обще¬
ственных обязанностей или личных нужд, удовлетворение которых все равно бы
поглотило бы столько же будничных рабочих дней; причина бедности состояла не
в обилии праздников, а в малоземелье, неурожаях, семейных разделах, падежах
скота и других тяжелых обстоятельствах деревенской жизни240. Попытаемся разо¬
браться, почему у российского крестьянства было так много праздников.
Часто указывается, что число рабочих дней ограничивалось природно-
климатическим фактором, ввиду того что климат определял продолжительность
вегетационного периода растений и число дней в году с температурой, когда
можно заниматься земледелием. Но, как показало специальное исследование,
крестьяне не использовали в полную меру и тех возможностей, которые реально
давал климат. Например, в 1896 г. все время посева и уборки продолжалось
в нечерноземной полосе 134 дня, в черноземной — 167, в среднем по Европей¬
ской России — 152 дня241. Фактическое рабочее время, затраченное на полевод¬
ство, было много меньше242. Кроме того, неземледельческими промыслами мож¬
но было заниматься в любую погоду.
Участниками Комиссии 1873 г. высказывалось мнение, что рост числа праздни¬
ков в пореформенное время объяснялся увеличением свободы, которой крестьяне
не могли надлежащим образом воспользоваться. С этим трудно согласиться. Более
существенную роль могли играть рост малоземелья и скрытого аграрного перенасе¬
ления. В среде крестьянства рождаемость до начала XX в. практически не регули¬
ровалась, так как вмешиваться в таинства зачатия и рождения считалось грехом,
и находилась на предельно высоком уровне — 50 рождений на 1000 человек насе¬
ления. Смертность была высокой; однако в последней трети XIX—начале XX в.
обнаружилась тенденция к ее снижению, что еще более обострило демографиче¬
скую ситуацию в деревне243. В результате огромного естественного прироста насе¬
ления — около 1 % в год — к 1900 г. большое число крестьян в деревне не находи¬
ло полного применения своим силам даже по нормам субсистенциальной трудовой
морали244. Как указывалось выше, избыток трудовых ресурсов на 1900 г. составил
51,5 % от наличного числа работников245. Однако уйти из деревни многие воздер¬
живались: страшились потерять право на общинную землю, не находили работы
в сфере услуг и промышленности, не обладали достаточной грамотностью и квали¬
429
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
фикацией для переселения в город, не могли преодолеть серьезных бюрократиче¬
ских препятствий для получения права на миграцию из деревни, боялись города
и т. п. В этих условиях увеличение количества праздников могло служить своеоб¬
разным средством борьбы с аграрным перенаселением — чем меньше оставалось
рабочих дней в году, тем большему числу крестьян обеспечивалась занятость
в сельском хозяйстве (к такому способу прибегают в настоящее время профсоюзы
в западноевропейских странах).
Важным фактором, воздействовавшим на специфику праздничных календа¬
рей, являлась политика в этой сфере светских и церковных властей. Празднич¬
ный календарь в деревне в значительной степени задавался официальным кален¬
дарем выходных и праздничных дней, привязанным к православной традиции,
к религиозной культуре. Но он дополнялся и корректировался (адаптировался)
сельским календарем, тесно связанным не только с православной традицией, но
и с языческой, с аграрным циклом.
Традиция не работать в воскресенья и праздники уходила в глубину веков, ос¬
вящалась обычаем и церковью. В покаянных книгах XV—XVI вв. среди 18 грехов
рассматривается грех, относящийся к тому, что и «в праздничные дни не давал
себе покоя», и перечисляются возможные работы — в лес ходил, рыбу ловил
и т. д.246 «Право на отдых» в праздники было юридически закреплено в Уложе¬
нии 1649 г. и стало законом247. Оно было подтверждено в 1797 г. в Манифесте
о трехдневной барщине, который не только ограничил барщинные работы тремя
днями в неделю, но и подтвердил запрещение помещикам заставлять крестьян ра¬
ботать в праздничные дни, включая воскресенья и храмовые (бытовые) праздники.
В XIX в. запрещение работать в праздники вошло в Свод законов Российской им¬
перии: «Крестьяне обязаны работать на помещика три дня в неделю; но он не мо¬
жет заставлять их работать на него в воскресные дни, а также: в двунадесятые
праздники, в день Верховных апостолов Петра и Павла, 9 мая и 6 декабря во дни
Святителя и Чудотворца Николая, и в храмовые в каждом селении праздники.
Строжайшее за сим наблюдение возлагается на губернские начальства через по¬
средство местной полиции»248.
В XVIII—начале XX в. официально составлялись «расписания табельных дней»,
или царских и церковных праздничных дней, в которые отменялось присутствие
в государственных учреждениях, занятия в учебных заведениях249. Запрещение
работать распространялось на все население, нашло полное понимание у крестьян и
было закреплено в обычном праве с коррективами, обусловленными особенностями
сельской жизни. Совершенно естественно, что в сознании крестьян работа в празд¬
ники ассоциировалась с грехом и нарушением закона. Однако домашние работы, не
имевшие производственного характера (приготовление пищи, корм скота, уход за
детьми), разрешались. Кроме того, в некоторые праздники допускалась коллектив¬
ная работа, как правило, в пользу бедных вдов или крестьян, пострадавших от по¬
жара или какого-нибудь другого несчастья, за угощение или бесплатно250. Такие
работы назывались в разных местностях по-разному — клаками, помочами, толо-
ками. Выполняемые работы были самыми разнообразными — уборка хлеба или
сена в страдную пору, перевозка построек, леса, дров и прочего зимой. Все работы
были срочными и требовали значительных затрат труда, поэтому и выполнялись
430
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
коллективно. На такие работы собиралась преимущественно молодежь, которую
привлекало угощение с выпивкой. В некоторых случаях коллективная работа
в праздники являлась способом общинной помощи бедным вдовам или крестьянам,
пострадавшим от пожара или какого-нибудь другого несчастья251. Другая празд¬
ничная работа ассоциировалась с грехом.
Закон, запрещающий работать в праздники, применялся на практике с самого
его появления. В 1669 г. царским указом князь Григорий Оболенский был посажен
в тюрьму за то, что в воскресенье на его подворье работали его холопы и крепост¬
ные252. В первой половине XIX в. при необходимости производства экстренных
работ на казенных предприятиях требовалось разрешение у самого императора.
Например, в 1804 г. Адмиралтейство обратилось и получило разрешение на про¬
изводство работ по строительству кораблей на Страстной и Святой неделе
с двойной оплатой и разрешение работать в праздники «вольным людям», если
они того желали сами. В прошении адмирала Фондезина на разрешение работы
в праздники указывалось: «Праздники делают в работах немалую остановку. При
том же и люди наши таковы, что не только гуляют в праздники, но и на другой или
еще и на третий день после оных работают худо и бывает много нетчиков»253.
В деревне соблюдение закона контролировалось крестьянской общиной; она же
и наказывала нарушителей, чаще всего денежным штрафом. В случае сопротивле¬
ния крестьяне не останавливались перед тем, чтобы применить к нарушителю наси¬
лие — избить и сломать инвентарь и инструменты, с помощью которых он произ¬
водил недозволенную обычаем работу. Если община не могла самостоятельно
справиться с нарушителями обычая, а также в случае рецидивов, она обращалась за
помощью к низшей административно-полицейской власти, которая по требованию
общины привлекала нарушителей к ответственности254. Величина штрафа сильно
варьировала по местностям и зависела от важности праздника, в который произво¬
дились работы. Например, в начале XX в. величина штрафа, взимаемого общиной,
колебалась от 50 коп. до 4 руб. и зависела от характера работ, например за сенокос
репрессия был меньше, чем за жнивье. Штраф, накладываемый сельской полицией,
достигал 20 руб.255 Это существенная сумма, если средний дневной заработок кре¬
стьянина в течение года изменялся от 51 до 68 коп.256 После эмансипации в ряде
местностей штраф и физическая расправа были отменены; вместо них появились
новые наказания, например за работу в праздники у нарушителя отнималась на год
часть сенокосных угодий, которые распределялись между остальными крестьянами;
и некоторые другие257.
Лишь в пореформенное время правительство стало негативно оценивать чис¬
ло праздников в деревне и принимать меры против «неблагоприятного влияния
чрезмерного числа дней, празднуемых сельским населением, на производитель¬
ность земледельческого труда»258, но усилия были слабыми, а традиции легко
и быстро не изменяются.
Решающее влияние на праздничный календарь оказал, на мой взгляд, культур¬
ный фактор. В основе обычая не работать в праздники лежало искреннее народное
убеждение, что за работу в праздничный день в будущем виновный потерпит убы¬
ток, который вдвое превысит доход, полученный в день работы. Учитывая, что кре¬
стьяне были связаны круговой порукой, практиковали земельные переделы и обяза¬
431
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
тельный севооборот, они верили, что наказание за работу в праздник падет на всю
общину. Согласно крестьянским представлениям, не только работать, но даже не
принимать участия в сельском празднике считалось аморальным и оскорбительным
для общины. Крестьянина, уклонявшегося от участия в празднике, односельчане
обносили круговой чашей, из которой пили все, что считалось позором; он терял
уважение и презирался259.
Праздник считался богоугодным делом. Он не только приносили отдых от
тяжелого труда, но и предназначался для посещения церкви и исполнения рели¬
гиозных обрядов. Крестьяне искренне верили, что работать в воскресенье и цер¬
ковные праздники грешно и бессмысленно: то, что приобретается в праздник,
теряется в будни («Кто в воскресенье орет (пашет. — Б. М), тот в понедельник
кобылы ищет»). Старый крестьянин, сосланный в 1879 г. в ссылку в далекую
Вятскую губернию за то, что умудрился лично передать крестьянское прошение
Александру II, был, по свидетельству очевидца, потрясен, когда узнал, что ме¬
стные крестьяне, плохо знавшие христианское учение, работали в некоторые
церковные праздники. Он был озабочен вопросом: простит ли его Бог, что его
старые очи на склоне дней видели такой грех? Он пытался убедить вятичей
в греховности и бессмысленности работы в праздник: «Попробуйте нарочно —
смелите на мельнице зерно в Благовещение. После нарежьте на дереве кору
и посыпьте той мукой. Чтоб мне не увидеть родную сторону, чтобы тут у вас за¬
крылись мои старые очи, коли то дерево не усохнет... А вы такой хлеб в утробу
принимаете»260.
Крестьянство было религиозным. В середине XIX в. исповедь на Пасху пропус¬
кало всего около 10 % русских крестьян, во Франции — от 50 до 80 %; воскресную
службу пропускали немногие православные, в Англии — 61 % населения261. Рос¬
сийское православное крестьянство сохранило в своих религиозных верованиях
многочисленные языческие элементы, которые были закамуфлированы под христи¬
анские. В силу этого одни — официальные праздники посвящались христианскому
культу, другие — храмовые, или бытовые, в большей своей части по давней тради¬
ции посвящались языческому культу, но в скрытом виде262. Во многих губерниях
27 июля чтили святого мученика и исцелителя Пантелеймона, которого часто назы¬
вали Поликопом и не работали в этот день. Но крестьяне этот день отмечали как
поворот природы в сторону осени. Председатель Бессарабской губернской земской
управы отмечал, что крестьяне соблюдают немало праздников, «основанных на не¬
вежественных предрассудках или носящих на себе явный отпечаток язычества»:
день Кирика-шкёпы (чтобы не сделаться калекой), Русалии (для искупления мла¬
денцев, умёрших без святого крещения), день Ивана Купалы, день Фоки (от пожа¬
ра), день Симеона Столпника (чтобы небо, которое поддерживает святой не упало
на землю), день св. Никиты (от бешенства), день св. Прокопия (против засухи), день
Евдокии (против сглаза), день св. Харлампия (против чумы) и т. д.263 Как в право¬
славные, так и в псевдоправославные праздники одинаково запрещалось работать.
Наложение православных и языческих праздников существенно увеличило их чис¬
ло. «Мужики просидели всю святую неделю на завалинках и все толковали, что
надобно бы пахать, а то упустишь время и останешься без овса — а пахать все-
таки не поехали. <...> Чтут, говорят, день св. мучеников и благоверных князей
432
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Бориса и Глеба, в который хоть и нет никакого табельного и даже церковного
празднества, да зато есть в окрестности ярмарка»264. По расчету весьма осведом¬
ленного человека А. С. Ермолова (1847—1917), русского сельского хозяина,
агронома и государственного деятеля, министра земледелия и государственных
имуществ (1894—1905), на 5 рабочих месяцев (май—сентябрь) приходится
65 праздничных дней, на 7 нерабочих месяцев (октябрь—апрель) — 64 празд¬
ничных дня, следовательно, на летнее время приходится больше праздничных
дней, чем на зимние265.
Многие местные, бытовые праздники возникали по самым разным обстоятель¬
ствам, весьма важным с точки зрения крестьянства, — открытие в деревни церкви
или написание новой иконы, прекращение благодаря когда-то произведенному кол¬
лективному молебну, как считали крестьяне, засухи, града, дождя или пожара и др.
Эти праздники становились ежегодными и закреплялись обычаем данной местно¬
сти. Вследствие этого происходила их аккумуляция, что приводило к постепенному
увеличению их числа.
До эмансипации в праздники запрещалась всякая работа, включая барщину
и исполнение натуральных государственных повинностей. Можно допустить по¬
этому, что у представителей всех сословий, особенно непривилегированных, было
некоторое основание увеличивать число праздников или по крайней мере крепко
охранять существующие. Приходское православное духовенство поддерживало
существующие праздники, как по религиозным, так и по материальным соображе¬
ниям, что представляется совершенно естественным. Для многих из них главным
источником существования их многочисленных семейств являлись подарки прихо¬
жан и плата за исполнение треб — то и другое в праздники существенно возраста¬
ли. Кроме того, духовенство благоразумно предпочитало жить со своими прихожа¬
нами мирно и по возможности не ссорилось с крестьянами. Один духовный пастырь
страстно и убежденно возражал на вышеприведенное утверждение А. И. Васильчи-
кова: «Наша страна, наша необъятная Россия — беднее прочих! И от чего же? Отто¬
го, что мы много гуляем. Но не наоборот ли, не оттого ли мы много гуляем, что
страна наша очень богата, что и при небольших трудах благодаря богатству нашей
страны мы сытее, трудолюбивее немцев, которые за тем именно и бегут к нам.
<.. .> В течение своего тысячелетнего существования русский народ потерял одни¬
ми прогульными днями 137 лет. Но чтобы мы стали делать с ними, если бы работа¬
ли все это время? Нам пришлось бы нанимать все прочие народы Европы для очи¬
стки России (намек на экологическое загрязнение среды обитания. — Б. М), как мы
нанимаем мусорщиков для очистки наших дворов. Главное наше бедствие в отсут¬
ствии благочестия, благоговейного почтения к праздникам. Мы бедны оттого, что
часто работаем в праздники, и чрез то отвыкаем от порядка в занятиях, живем без
правил, слишком порабощаемся материей, забываем о духе»266. Высшие церковные
иерархи иногда пытались повлиять на приходское духовенство, но без всякого ус¬
пеха. Например, землевладельцы Харьковской губернии в 1870-е гг. «с целью
уменьшить число праздников обращались к Преосвященным Иннокентию и Мака¬
рию с просьбой составить списки праздничных дней, которые должны были быть
разосланы во все волостные правления. Ходатайство землевладельцев было удовле¬
творено, но меры эти не были поддержаны местным духовенством и потому не
433
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
имели никаких последствий»267. Аналогичная ситуация наблюдалась в Подольской
и других губерниях в 1890-е гг.268
У праздников имелся и еще один важный аспект — это был способ выйти за
пределы каждодневных забот и рутины, подняться над повседневностью со все¬
ми ее невзгодами, трудностями, лишениями, повинностями, обязанностями, со¬
циальным неравенством и несправедливостью, зависимостью от властей и оку¬
нуться в мир радости, беззаботного веселья и свободы269. В праздник крестьянин
никому не подчинялся, никого не боялся — это была зона, недоступная для по¬
мещика и властей («Всякая душа празднику рада»; «В праздник у Бога все рав¬
ны»; «В такой день и грешников в аду не мучат»)270. Оторваться от повседневно¬
сти, конечно, помогал алкоголь; опьянение являлось главным условием празд¬
ничного состояния, поэтому праздники сопровождались обильными возлияниями
(«В праздник и у воробья пиво»), и это не считалось грехом. Часто за празднич¬
ным столом разрешались конфликты и снимались противоречия. При таком под¬
ходе чем больше было праздников, тем лучше могла казаться жизнь. «(Управле¬
ние празднеств объясняется потребностью славянского гостеприимства и потребно¬
стью обмена впечатлений с прибывшими за много верст гостями-родственника-
ми,— свидетельствовал один крестьянин. — Лишить крестьянство, имеющего
столь мало в жизни внешних, за пределами домашнего хозяйства, впечатлений, об¬
мена мыслями и опытом, лишить его возможности справить праздничную не жела¬
тельно»271. Крестьяне не отказывались от праздников даже тогда, когда существо¬
вала острая необходимость работать, и охотно заимствовали праздники у соседей,
исповедовавших другую веру: православные заимствовали у католиков и протес¬
тантов272, а мусульмане — у православных. Например, татары Вятской губернии
праздновали Масленицу под названием «Зиин»273.
Дело здесь, вероятно, не в столько в «славянском гостеприимстве», сколько
в соседском, общинном характере отношений между людьми в традиционном об¬
ществе. Вплоть до начала Нового времени и на Западе церковь категорически за¬
прещала работать в праздники, а религиозные и светские, общинные и цеховые,
праздники сопровождались застольем и пьянством и были обязательными для
всех (рис. 12.16).
«Опасно и соблазнительно, — справедливо пишет немецкий историк Д. Бай-
рау, — только на основе истории культуры пития судить о национальном харак¬
тере русских или, выражаясь более современно и нейтрально, о стиле культуры
и образе жизни»274. «В Германии до- и ранне-индустриального периода говорили
о “винной чуме”, распространенной среди пауперизованных классов». В XVI в.
соратник М. Лютера сетовал: «Мы, немцы, допьемся до нищеты, допьемся до
болезней, допьемся до преисподней» .
По мнению датского исследователя Б. Йордана, праздники выполняли ряд
функций: объединительную (утверждали принцип братства), воспитательную,
представительную и рекламную (показное потребление в праздник призвано бы¬
ло сообщить миру о богатстве и процветании). На протяжении XI—XVII вв. го¬
родские и королевская власти пытались ограничить расходы на праздники,
но безуспешно. Разного рода штрафы пропивались276. На картине П. Брейгеля
и Д. Тенирса Младшего мы видим, с каким размахом и страстью отмечали сель-
434
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Рис. 12.16. А. Браувер (1605/06—1638). Праздник забоя скота. 1640.
Государственный музей, картинная галерея, Шверин
ские праздники в XVI—XVII в., как считается, самые рациональные и трезвые
в Европе голландцы (рис. 12.17 и 12.18).
Нельзя не упомянуть еще об одной важной, по мнению некоторых исследова¬
телей, причине обилия нерабочих дней — крестьяне много времени расходовали
на поддержание добрых соседских отношений, солидарности и кооперации, на
достижение согласия, как мы теперь говорим — консенсуса. Это было необхо¬
димо, потому что крестьяне, связанные круговой ответственностью, решения
в общине принимали до 1861 г. на основании единогласия, а после — формально
двумя третями голосов, но на практике часто по традиции единогласием. Много
времени уходило также на общественную жизнь и выполнение общественных
обязанностей — собрания, суд, сбор налогов и податей, передел, церковную
службу и на общение с членами общины, ибо, как говорила пословица: «Быть
в соседях — быть в беседах». Городским интеллигентам со стороны казалось, что
крестьяне чрезмерно много времени тратят на бесполезные разговоры на сходах277.
435
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.17. П. Брейгель Старший (1525—1569). Крестьянский танец. 1568.
Музей истории искусств, Вена
Преобладание нерабочего времени над рабочим — характерная черта всякого
традиционного сообщества, к которому несомненно относилась русская сельская
община. По наблюдениям антропологов, чем архаичнее общество, тем больше
времени оно тратило на поддержание добрых соседских отношений, консенсуса,
на религиозную и общественную жизнь. Согласно их оценке, в дописьменных
обществах лишь 8—10 % времени расходуется на производство средств сущест¬
вования, оставшееся время — на общение, поддержание своего статуса, достоин¬
ства, хороших отношений278. Психологическая основа для интенсивных личных
отношений заключается в том, что физическое, духовное или эмоциональное
сближение людей снимает напряжения, доставляет людям удовольствие. Поэто¬
му для крестьян представляло большую ценность обсуждение общих проблем,
слухов, переживание общих эмоций, выработка общей линии поведения
в отношении к соседней деревне или помещику — ведь вся их жизнь была скон¬
центрирована на своей деревне, на отношениях с соседями и родственниками279.
Экономисты институционального направления считают расходы времени на дос¬
тижение консенсуса в общине высокими, но необходимыми трансакционными
издержками280, которые должны были нести производители в традиционном об¬
ществе ради того, чтобы работа могла успешно производиться281.
Вот почему времяпрепровождение в праздники сводилось главным образом
к богослужению, приему гостей и хождению в гости, массовому гулянью282. Участ¬
ники Совещания 1902 г. и современники отмечали, что праздники нередко запол-
436
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Рис. 12.18. Д. Тенирс Младший (1610—1690). Большой сельский праздник
с танцующими парами. 1651. Дрезденская галерея
нялись пиршествами с пьянством, разгулом, кулачными боями улицы с улицей, де¬
ревни с деревней и «заурядными драками»283. Действительно, пьянство в праздники
являлось нормой и в деревне, и в городе. Как заметил В. О. Михневич: «Можно
сказать определительно, что рабочие и всякий иной деятельный промышленный
люд, в массе, только по праздникам и пьют, т. е. точнее “запивают”, потому что
“пить не умеют”, а дорвавшись до хмельного зелья, кончают безмерным опьяне¬
нием со всеми его безобразными последствиями. <...> Оттого, чем больше и свя¬
тее православный праздник, тем больше пьяных на улицах, в трактирах, на “на¬
родных гуляниях” — повсюду»284. Что касается кулачных боев, то во времена
отсутствия массового спорта и физкультуры они заменяли спортивные состяза¬
ния. Бои повсеместно практиковались издавна, а в конце XIX—начале XX в. за¬
фиксированы в 115 городах и 271 уезде 62 губерний285, несмотря на длительную
борьбу церкви, всегда относившейся к боям отрицательно как к пережиткам язы¬
чества, и государства, официально запретившего их в 1832 г.286 Бои выполняли
важные общественные функции: военно-прикладную, воспитательную и социа¬
лизации, контроля уровня физической и моральной подготовки, развлечения,
зрелищно-эмоциональную, компенсаторную (выводила за пределы повседневно¬
сти), коммуникативную287. В обычном праве до начала XX в. ряд преступлений
рассматривались как личная обида, и человек должен был готов себя защитить
437
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
в рукопашном бою, что делало публичные бои актуальными (тренировка, при¬
вычка). Кулачные бои служили проверкой на физическую годность, позволяли
ранжировать всех мужчин деревни по силе и ловкости; увеличивали шансы не¬
женатых парней на брачном рынке, делали их привлекательными для девушек288.
Иногда бои актуализировали социальные противоречия и выливались в массовые
беспорядки289. Психологи полагают, что и драки выполняют важные для человека
социально-психологические функции: выходит отрицательная энергия и реализует¬
ся мортидо — стремление к смерти, убийству, разрушению. Подобные драки и ссо¬
ры быстро забываются и прощаются290. В отличие от современного общества в рос¬
сийской деревне часто не было других способов снятия негативного энергетическо¬
го напряжения, кроме драки, ссоры, разрушения, нанесения ущерба и широко рас¬
пространенного обычая кулачных боев29 .
В формировании трудовой морали, по-видимому, важная роль принадлежала куль¬
турно-религиозному фактору, о чем можно судить по тому, что в конце XIX—
начале XX в. у католиков и протестантов в прибалтийских губерниях праздников
и воскресений насчитывалось соответственно 90—100 и 65—75292. Потребитель¬
ские цели экономического поведения, ориентированного на удовлетворение насущ¬
ных потребностей, а не на прибыль, были в несравненно большей степени присущи
также православному крестьянству. По уровню грамотности православные уступа¬
ли католикам и протестантам: в 1897 г. уровень грамотности составлял у право¬
славных 19 %, у католиков — 32, у протестантов — 70 %293. По-видимому, грамот-
Рис. 12.19. Д.-А. Аткинсон (1775—1830). Кулачный бой. Раскрашенная гравюра. 1803.
Государственный Эрмитаж
438
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
ность способствовала секуляризации сознания, оказывала влияние на поведение, де¬
лая его рациональным и расчетливым, рыночно ориентированным на достижение
максимальных результатов. Не случайно, наверное, в прибалтийских губерниях, где
уже в начале XIX в. грамотными были две трети взрослого населения294, число празд¬
нично-воскресных дней в году не превышало 100, а остальные использовались для
производства более рационально, чем в остальной части империи, хотя еще и не
вполне по принципам буржуазной трудовой этики295. Безграмотность поддерживала
языческие предрассудки и суеверия, мешавшие производительной работе. Например,
многочисленные запреты-обереги на женские работы со льном отнимали много рабо¬
чего времени и даже отрицательно сказывались на качестве продукта296. Современ¬
никам бросалось в глаза лучшее материальное положение немецких колонистов по
сравнению с проживавшими рядом с ними белорусскими, русскими и украинскими
православными крестьянами. Например, в немецких колониях С.-Петербургской
губернии применялась передовая для своего времени сельскохозяйственная техно¬
логия, обеспечивавшая эффективное производство, высокие урожаи, продуктивное
животноводство и благодаря этому наивысшие экономические показатели в севе¬
ро-западном регионе. Хозяйства отличались высокой товарностью и тесными свя¬
зями с рынком. Было бы неверно все экономические успехи колонистов относить
исключительно на счет религиозных верований, тем более что немало немцев яв¬
лялось католиками. Значение имели и другие факторы: благоприятное для колони¬
стов законодательство, подворно-наследственное землевладение и майорат, нало¬
говые льготы, государственная поддержка (особенно на начальных этапах)297.
Успешная хозяйственная деятельность старообрядцев показывает, что право¬
славие как таковое не являлось фактором, фатально препятствовавшим экономи¬
ческому развитию по рыночному сценарию. Под влиянием экстремальных усло¬
вий существования — конфессиональных гонений и правовых ограничений со
стороны государства — старообрядцы изменили правила поведения и спасения,
консолидировались в торгово-промышленные союзы и обратились к предприни¬
мательству, чтобы защитить свои общины от внешних притеснений и в букваль¬
ном смысле этого слова спастись. Институт общины, который обычно считается
одним из главных препятствий для экономического роста, в хозяйстве староверов
сыграл фундаментальную роль. Они использовали традиционный институт для
найма единоверцев и общинного накопления капитала. Зарабатываемые от пред¬
принимательства деньги позволяли им откупаться от государства; купец стал их
главным защитником. Таким образом, необходимость выжить изменила их тру¬
довую этику и создала мотивацию для предпринимательства298. Причем именно
религиозное мироощущение старообрядцев повлияло на их экономическую ак¬
тивность, позволило сочетать традиции и новации и культивировать мирскую
аскезу и трудолюбие, способствовало развитию лояльности к торговле и пред¬
принимательству299. «Староверие представляло собой параллельный государст¬
венному путь модернизации русской цивилизации, но в отличие от него носило
нонэтатистский характер, имело религиозную форму (как и в Европе) и опира¬
лось на развитие и органичную трансформацию национальных социокультурных
традиций», — полагает В. В. Керов30 . Другими словами, Россия могла успешно
развиваться и без западных заимствований301.
439
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Другую точку зрения высказал Д. Е. Расков. По его мнению, «предпринима¬
тельские сети староверов в большей степени проявили себя в момент начального
развития русской текстильной промышленности (с конца XVIII в. по 1860-е го¬
ды), т. е. в большей степени приходились на годы, когда староверы могли ис¬
пользовать свои преимущества в найме единоверцев и общинном накоплении
капитала»302. В дальнейшем, когда экономический рост России стал опираться
преимущественно на капиталоемкие отрасли, железнодорожное строительство,
банковское дело, требовавшие тесного сотрудничества с государством и ино¬
странным капиталом, предпринимательская активность понижается, потому что
«старообрядческий тип организации был более органичен для традиционного
капитализма, который строился на репутации, личных отношениях, семейных
и корпоративных связях. Современный капитализм, с его безличным типом от¬
ношений, уже был чужд ревнителям буквы и старины»303. Вследствие обособле¬
ния от всероссийского предпринимательства, от государства и европейского про¬
свещения в России не состоялась органическая, т. е. опиравшаяся на националь¬
ные культурные институты и внутренние ресурсы, модернизация, не была создана
модель экономики, соответствующая национально-культурным традициям.
«Старообрядчество в отличие от протестантизма не стало доминирующим на¬
циональным проектом, и его модернизационный потенциал оказался не рас¬
крыт», — приходит к печальному выводу автор304. Если падение экономической
активности староверов в конце XIX в. объясняется невозможностью инкорпори¬
ровать новые индустриально-капиталистические институты в старообрядческую
среду305, то следует ли отсюда, что институты общества модерна в принципе не
могли возникнуть у старообрядцев? Постепенное преобразование сельской пере¬
дельной общины посредством сознательного и целенаправленного внедрения
ряда новых институтов не в шоковом режиме, а постепенно, в несколько приемов
в русскую пореформенную деревню (например, общинная собственность транс¬
формировалась сначала в личную, а потом только в частную; земельные переде¬
лы не отменялись сразу, а ограничивались по срокам, круговая ответственность
заменялась личной и т. п.) показывает: переход к модерну возможен без револю¬
ционных преобразований. Современная экономическая теория предлагает ис¬
пользовать в ходе модернизации стратегию последовательных промежуточных
институтов, которая сочетает преимущества «выращивания» и «конструирова¬
ния» новых институтов и предоставляет возможность управления темпом инсти¬
туционального строительства306.
В конце XIX в. традиционная трудовая этика стала изменяться, что проявилось,
в частности, в том, что в ряде местностей крестьяне стали работать в воскресенья
и праздники. Это происходило, как правило, в случае острой необходимости, в пе¬
риод страды, которая продолжалась 8—10 недель: 4—5 недель посев в апреле—мае,
4—5 недель уборка и сенокос в июле—августе307, или под влиянием большого ба¬
рыша. Как это бывало, рассказал А. Н. Энгельгардт. До его поселения в деревне
в 1872 г. крестьянки в праздники не работали и могли без греха собирать только
грибы и ягоды, зарабатывая на этом максимум 15 коп. Он предложил им мять лен за
70 коп. в день наличными, и они согласились, потому, пишет Энгельгардт, что «ба¬
бы (в критические дни. — Б. М.) считают за грех брать свой лен и делать другие
440
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
работы, у меня же работать им не грех, потому что грех падет на хозяина или, луч¬
ше сказать, на его поле, которое за это может быть выбито градом и т. п., чего я,
хозяин, опять-таки, не опасаюсь, потому что могу перенести грех на страховые от
града и огня общества»308. Казуистика, достойная средневековых схоластов. Вспо¬
минается известная закономерность, зафиксированная еще К. Марксом: «Раз име¬
ется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте
10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он
становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе
голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 про¬
центах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под стра¬
хом виселицы»309. Крестьянки, конечно, не были капиталистами, но устоять
перед пятикратным увеличением дохода не смогли. Энгельгардт, увеличив доход
против нормы почти в 5 раз, можно сказать, ввел их в соблазн и подтолкнул на
нарушение обычая — на грех, как продолжали думать крестьянки.
Однако работа в некоторые воскресенья и праздники не была в 1870-е гг. и не
стала в 1900-е гг. общим правилом. Вот два характерных примера. «20 февраля 1870 г.
Коначевский волостной суд [Тверской губ.] слушал заявление сельского старосты
Ф. У. о том, что некоторые из крестьян в праздник 19 февраля работали по домам
разную работу, как-то: мыли белье, занимались шитьем и прочь; крестьянки, кото¬
рые занимались бельем, следующие (перечисляется 7 фамилий. — Б. М.) и жена
бывшего волостного старшины. По выслушании заявления старосты волостной суд,
имея в виду, что поступок названных крестьян есть непростительный, так как день
19 февраля есть день спасения 23 миллионов крестьян от крепостного их состояния,
последовавшего от августейшего монарха Александра II, каковой день каждому из
нас должен быть незабвенный и приснопамятный, который следует проводить как
один из самых важнейших праздников, а потому волостной суд решил: вышеозна¬
ченных крестьянок подвергнуть наказанию розгами, каждою из них по 19 ударов
в пример другим, дабы помнили день 19 февраля»310. В 1901 г. в Волоколамском
уезде Московской губернии крестьянин вопреки решению схода работал в один
второстепенный православный праздник. Крестьяне подали на него жалобу в суд
с обвинением в кощунстве и выиграли дело311. В черноземных губерниях крестьяне
держались старины еще крепче. «Что он? Как жук, в земле копается с утра до но¬
чи!» — насмешливо говорили о трудолюбивом крестьянине312.
Кроме того, работа в воскресно-праздничные дни не увеличивала общее число
рабочих дней. Если крестьянин по каким-то причинам трудился в воскресенья
и праздники, то он по необходимости отдыхал в будние дни, потому что работа
была уже сделана. В пореформенное время в деревне существовал дефицит
работы и избыток рабочих рук, и не было нужды, за исключением форс-мажорных
обстоятельств, трудиться в праздники и воскресенья. Эксперты Комиссии 1901 г.
рассчитали на 1900 г. для каждой из 50 губерний Европейской России, сколько
требуется рабочих рук: (а) в земледелии в момент наивысшей потребности — во
время уборки урожая, на всей пахотной земле (не только на крестьянской
надельной, но и на частновладельческой) и (б) во всех существовавших
неземледельческих промыслах. Оказалось: все 50 губерний имели избыток рабочих
рук от 12 % в Самарской до 76 % в Волынской, в 46 губерниях от 30 % и выше,
441
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
в среднем для всех 50 губерний избыток составил 51,5 % — в наличии имелось
44,7 млн работников обоего пола, а потребность составляла 21,7 млн313. Работа
в праздники и воскресенья свидетельствовала не о дефиците трудовых ресурсов,
а о секуляризации времени: воскресенья и праздники утрачивали свою сакральность,
уравнивались с будними днями, могли взаимозаменяться — в праздник можно
трудиться, а в будни отдыхать. Благодаря этому земледельцы могли строить свой
бюджет времени исходя из прагматических соображений, выбирать время работы и
отдыха исходя из реальных потребностей и возможностей, а не из праздничного
календаря, как прежде.
В советское время секуляризация времени продолжилась. Уже к 1924—1925 гг.
под влиянием антирелигиозной политики и пропаганды общее число праздников
в деревне снизилось и составило 74 в год (вместе с воскресеньями); в страду
крестьяне работали во все дни. Но самое показательное, что число праздников
существенно различалось у разных имущественных групп — от 63 в низшей до
88 в высшей группе314. Это означало: отмечать или не отмечать праздник стало
факультативным и индивидуальным для каждой семьи.
Отношение к труду и трудовому соглашению
Получить представление об отношение крестьянина к трудовому соглашению
и к труду вскоре после отмены крепостного права позволяют материалы, собранные
Комиссией 1873 г. Каждому приглашенному эксперту была предложена анкета
из 269 вопросов, из которых 54 были посвящены «положению хозяйств относи¬
тельно рабочих и обратно». Ответы на 42-й и 43-й вопросы (часты ли нарушения
условий договоров со стороны нанимателей и рабочих?), 46-й (полезно ли введе¬
ние рабочих книжек?) представляют для нас особый интерес315. 65 опрошенных
высказались по вопросу о соблюдении сельскими рабочими условий договоров:
46 человек (70,6 %) засвидетельствовали, что условия договора плохо соблюдаются,
крестьяне уклоняются от заключения письменных договоров и не желают вво¬
дить рабочие книжки, работники отличаются неудовлетворительными рабочими
качествами; 8 экспертов (12,3 %) отметили, что условия более или менее соблюда¬
ются, если они устраивают работников; 11 опрошенных (16,9%) говорили о том,
что условия соблюдаются достаточно хорошо благодаря возможности строгого
контроля и взыскания в случае невыполнения условий. В качестве причин несо¬
блюдения условий чаще всего указывалось две: «отсутствие всякого понятия
о законности и честности»; «рабочие еще не пришли к сознанию о законности
условий»316. «Ив заявлений, сделанных в Комиссии, а равно из собранных материа¬
лов видно, — резюмировал известный статистик А. Бушей, — что успехам сельско¬
го хозяйства главным образом препятствуют: (1) лень и небрежность в производст¬
ве работ, частые праздники и прогульные дни, (2) пьянств, сделавшееся эндемиче¬
скою болезнью и уменьшающее до нельзя рабочую способность, (3) неисполнение
крестьянами заключенных с ними условий и нарушение контрактов, (4) неуважение
крестьян к чужой собственности, частые кражи и порубки»317.
В Комиссии 1873 г. были представлены главным образом землевладельцы,
что могло сказаться на объективности их заключений. Но мнение такого знато¬
442
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
ка крестьянской жизни, каким являлся народник А. Н. Энгельгардт, высказан¬
ное им как раз в начале 1870-х гг., можно считать голосом крестьян, и оно под¬
тверждает только что сказанное: «Наш работник не может, как немец, равно¬
мерно работать ежедневно в течение года — он работает порывами. Но может
много сделать сразу, больше, чем немец. При создании хороших условий (хо¬
роший харч и ласковое слово. — Б. М) он может сделать много за один раз, но
потом требует отдыха. Но в этом отношении я не нахожу, чтобы мужики были
хуже, чем мы, образованные люди»318. Энгельгард согласился с теми 11 экспер¬
тами, которые утверждали, что только при наличии строгого контроля и взы¬
скания за нарушения, умеренных требований к качеству со стороны хозяина,
а также хороших условий («хороший харч и ласковое слово») работники со¬
блюдали контракт и могли неплохо работать. Но это не буржуазное, а субсис-
тенциальное отношение к труду. При этом Энгельгардт утверждал, что образо¬
ванные российские люди, включая чиновников и профессоров, относились
к труду так же, как крестьяне319.
Второй комплекс сведений об отношении крестьян к труду дают материалы Со¬
вещания 1902 г. — это ответы 83 губернских и 535 уездных и окружных комите¬
тов на 27 пунктов Программы320. Собранные сведения рисуют ту же картину, что
и материалы Комиссии 1873 г. Обобщение ответов по вопросу трудовой этики, ко¬
торый затронули все местные комитеты, за исключением трех прибалтийских гу¬
берний, позволяет сделать следующие выводы:
1. «Деньги для крестьянина — не накопленный труд, служащий основой для
дальнейшего труда, а лишь средство для удовлетворения непосредственной потреб¬
ности. В народной массе отсутствует стремление к сбережению, накоплению и ра¬
сширению хозяйства, отсутствует и побуждение к труду, как только прекращается
острая нужда».
2. Крестьянские хозяйства «не отвечают требованиям выгодного (прибыльно¬
го. — Б. М.) предприятия».
3. В большинстве своем сельские рабочие не являются «добросовестными, уме¬
лыми, интенсивно работающими и соблюдающими договоры» работниками.
4. «В смысле чисто механической затраты труда по отношению к производст¬
ву сельскохозяйственных продуктов нашего крестьянина вряд ли можно в чем-
нибудь упрекнуть, так как в тех случаях когда, по его понятиям, он должен и мо¬
жет работать, он работает до изнеможения, не покладая рук. В области механи¬
ческого приложения труда все недостатки нашего народа объясняются некуль¬
турностью воззрений крестьянина, позволяющей ему в качестве рабочего обма¬
нывать хозяина, воспрещающей работать в праздники и т. п. Совершенно иное
дело — качество труда. По общему признанию, народный труд в России мало
продуктивен и не доброкачественен. Так как качество труда зависит от свойств
трудящегося, то и необходимо искать главную причину наших сельскохозяйст¬
венных невзгод прежде всего в самих производителях, неумелых, нерачитель¬
ных, неопытных и мало предприимчивых».
5. «Обилие среди нашего народа празднуемых дней составляет как бы нашу
национальную особенность». Количество местных праздников постоянно увели¬
чивается.
443
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
6. Деревня дает рабочих не только для сельского хозяйства, но и для промыш¬
ленности, поэтому рабочие, занятые на фабриках, заводах, в горных промыслах, на
транспорте отличаются теми же качествами, что крестьяне321.
Таким образом, трудовая этика большинства российских крестьян в течение пе¬
риода империи оставалась преимущественно субсистенциальной, хотя в порефор¬
менное время и наметилась тенденция к ее обуржуазиванию. Крестьянин работал
до удовлетворения традиционных, скромных по своему составу потребностей се¬
мьи, не стремился к накоплению («Что наживем, то и проживем») и весь годовой
доход проедал («Что сожнем, то и прожрем»)322. В случае повышения потребностей
семьи ввиду увеличения числа едоков он увеличивал «степень самоэксплуатации»,
но до определенных пределов, дальше которых крестьянин «идти не хочет»323.
В случае, если доходы превосходили потребности, они расходовались непроизводи¬
тельно, например на праздники и алкоголь. А. А. Фет, бывший хорошим хозяином-
предпринимателем, утверждал: потребление алкоголя — «вентилятор, избавляю¬
щий крестьян от “избыточных” доходов»324,что не совместимо с принципами
буржуазной трудовой этики325.
В социологии труда чувства, которые вызываются трудовой деятельностью,
называются праксическими. Они бывают позитивными и негативными. К пози¬
тивным относятся любовь к труду и радость труда, удовлетворение работой и ее
результатом, творческие переживания, радость от трудовых достижений, счастье
открытий и побед, желание добиться успеха, чувство приятного напряжения, ув¬
леченность, захваченность работой, приятная усталость от работы и т. д. К нега¬
тивным — неудовольствие от усилий или монотонности, утомление, горечь не¬
удач и поражений, нежелание трудиться, ощущение труда как печальной необхо¬
димости, тяжелой обязанности или барщины; переживания, связанные с беспо¬
лезность труда или неадекватностью вознаграждения и т. п. В комплексе из 484
пословиц о труде, объединенных в комплекс «Работа — праздность» из собрании
В. И. Даля, можно выделить 195 пословиц, в которых так или иначе, в той или
иной мере содержатся оценочные суждения (в остальных описываются конкрет¬
ные ситуации, связанные с работой)326. Оценки являются многозначными и ам¬
бивалентными, как в пословице «Дело учит, и мучит, и кормит».
Больше всего — 62 пословицы, в которых подчеркивается необходимость
и польза труда.
1. Аминем квашни не замесишь; молитву твори, да муку клади!
2. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
3. Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут. Масло само не родится.
4. Боже, поможи, а ты на боку не лежи! Богу молись, а сам трудись!
5. В лес не съездим, так и на полатях замерзнем.
6. В пашне огрехи, а на кафтане прорехи.
7. Видел ленивый мужик хомут во сне, не видать ему кобылки до смерти
(до веку).
8. Встань мужа кормит, а лень портит.
9. Где бабы гладки, там нет и воды в кадке.
10. Гляденьем пива не выпьешь.
11. Глядя в лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь.
444
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
12. Голова удатна, да лень перекатка.
13. Готовые хлеба хороши, а на лето, по-старому, пашню паши!
14. Гуляй, да дела не забывай (а дело знай)! Молодец, гуляй, да сам себя знай!
15. Гулять гуляй, да не загуливайся!
16. Гуляй, девушка, гуляй, а дельца не забывай (а дельце помни)!
17. Дал бог руки, а веревки сам вей!
18. Девушка, гуляй, а своего дела не забывай (а дело помни)!
19. Жилами не нажить (не натянешь), чего бог не даст.
20. И с топора не богатеют, а горбатеют.
21. Каково руки родят, таково плеча носят.
22. Каково ручки скроят, таково спинка износит.
23. Кто толчет, тот и хлеб печет.
24. Лежа пищи не добудешь. Век долог, да час дорог.
25. Лежа цела одежа, да брюхо со свищом.
26. На бога уповай, а без дела не бывай!
27. На дело не набивайся и от дела не отбивайся!
28. На полатях лежать — ломтя не видать.
29. На чужую работу глядя сыт не будешь.
30. Не бравшись за топор избы не срубишь.
31. Не вспахал (Не передвоил), так не дивись и сурепице.
32. Не выработаешь плечом, так не убьешь и клячом (бурлацк.).
33. Не пиры пировать, коли хлеб засевать.
34. Не потрудиться, так и хлеба не родится (не добиться).
35. Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра.
36. Ныне гуляшки и завтра гуляшки — находишься без рубашки.
37. Пахать — так не дремать. Либо пахать, либо песни играть.
38. Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах.
39. Полно балы точить, пора голенища строчить.
40. Посеяно с лукошко, так и выросло немножко.
41. Пролениться — и хлеба лишиться. Ел бы да пил — вот мое дело.
42. Просо полоть — руки колоть.
43. Пых, пых, по горам, не спи по зарям!
44. Руки не протянешь, так и с полки не достанешь.
45. Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
46. С печи сыт не будешь. Не печь кормит, а руки (а нивка).
47. С погляденья сыт не будешь (не насытишься).
48. С разговоров сыт не будешь. Сладка беседа, да голодна.
49. Сама себя раба бьет, что (коли) не чисто жнет.
50. Свесив руки (Сложа руки), снопа не обмолотишь.
51. Скучен день до вечера, коли делать нечего.
52. Спишь до обеда, так пеняй на соседа, что рано встает да в гости не зовет!
53. Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.
54. Хлеб за брюхом не ходит.
55. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!
56. Чего наберешь, то и понесешь (то и домой повезешь).
445
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
57. Что напрядешь, то и протрясешь.
58. Что помолотишь, то и в закром положишь.
59. Что потрудимся, то и поедим.
60. Что припасешь, то и понесешь (то и пожуешь).
61. Что умолотишь, то и в засек положишь.
62. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
В 47 пословицах можно усмотреть позитивные праксические чувства: приятное
напряжение, увлеченность, захваченность работой: «Вразумись здраво, начни ра¬
но, исполни прилежно!», «Кто бежит, тот и догоняет (т. е. догонит)», удовлетворе¬
ние от результатов: «Горька работа, да хлеб сладок»; «Работа черна, да денежка
бела»; «Работе время, а досугу час»; «После дела и гулять хорошо». Пословицы
«Не сиди сложа руки, так не будет и скуки!» и «Без дела жить — только небо коп¬
тить» подчеркивают, что труд дает удовлетворение и смысл жизни. Пословицы
«Бог труды любит»; «Божья тварь богу и работает» говорят о богоугодности труда.
1. Без дела жить — только небо коптить.
2. Бог труды любит. Божья тварь богу и работает.
3. Богу молись, крепись да за соху держись!
4. В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнет для запаса вперед.
5. Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!
6. Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто.
7. Горька работа, да хлеб сладок. Сладкая ежа не придет лежа.
8. Делай дело не по конец пальцев!
9. Делать как-нибудь, так никак и не будет.
10. Дело во время не бремя. Своя ноша не тянет.
11. Дело шутки не любит. С делом не шути!
12. Держись сохи плотнее, так будет прибыльнее.
13. За один раз дерева не срубишь.
14. И красен, и годист, а за деньгой тянись!
15. Коли орать, так в дуду не играть. Когда орать, так не играть.
16. Кто бежит, тот и догоняет (т. е. догонит).
17. Кто не ленив пахать, тот будет богат.
18. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
19. Кто рано встает, тому бог подает.
20. Либо ткать, либо прясть, либо песни петь.
21. Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка.
22. Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем (или: с ума не сойдешь).
23. Налогу (от гл. налегать) в работе берет.
24. Не работа сушит, а забота
25. Не сиди сложа руки, так не будет и скуки!
26. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет.
27. Орать (пахать) — так в дуду не играть.
28. Орать пашню — копить квашню.
29. Пашню пашут — руками не машут.
30. Плохо жить без забот, худо без доброго слова.
31. По готовой работе вкусен обед.
446
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
32. Пот ключом льет, а жнец свое берет.
33. Пчела трудится — для бога свеча пригодится.
34. Работа — лучший приварок. По работе еда вкусней.
35. Работа да руки — надежные в людях поруки.
36. Работа черна, да денежка бела.
37. Работай до поту, так поешь в охоту. Ешь хлеб в поте лица!
38. Работе время, а досугу час. После дела и гулять хорошо.
39. Своя ноша не тянет. На себя работа — не барщина.
40. Сегодняшней работы на завтра не покидай!
41. Спать долго — жить с долгом.
42. Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.
43. Терпение и труд — все перетрут.
44. Труд человека кормит, а лень портит.
45. Трудовая (праведная) денежка до веку живет (кормит, служит).
46. У работящего в руках дело огнем горит.
47. Чем эдак пахать, так лучше выпрягать.
В 43 пословицах проявляются так или иначе негативные праксические чувст¬
ва — подчеркивается тяжесть и бесконечность труда, скука, неприятная уста¬
лость от него, низкое вознаграждение; рекомендуется работать не спеша, не
усердствовать и т. п.
1. Без погулки день потеряешь, не воротишь, а работа всегда перед тобой.
2. В красный день прясть ленно.
3. Вози (Жни) хлеб, а ешь мякину! Сей хлеб, а ешь мякину!
4. Всех дел не переделаешь. Нашей работы не переработаешь.
5. Горяченький скоро надорвется.
6. Дело не малина, в лето не опадет. Дело не голуби, не разлетятся.
7. Дело не медведь, в лес не уйдет.
8. Дело пытаем, а от дела лытаем.
9. Добывай всяк своим горбом! Нет мошны, так есть спина.
10. Есть потешно, а работать докучно.
11. Конь с запинкой да мужик с заминкой не надорвутся.
12. Лето работал, зиму хлопотал; пришла весна — счелся, так жолвь сшелся
(т. е. вничью работал).
13. Лошадка с ленцой хозяина бережет (не надорвется и не введет его в убыток).
14. Мужик не живет богат, а живет горбат.
15. На мир не наработаешься.
16. На наши заработки и годовой псалтыри не закажешь.
17. На ниве потей, в клети молись, с голоду не помрешь.
18. На ретивую лошадку не кнут, а вожжи.
19. Нам бы лошадка ружье везла, а мы бы за ней и пеши шли.
20. Нам бы так пахать, чтоб мозолей не набивать.
21. Не от росы (урожай), а от поту. Не столько роса, сколько пот.
22. Не отрубить дубка, не надсадя пупка.
23. Ни на какое дело не называйся и ни от какого дела не отказывайся!
24. Нужда и голод погонят на холод. Выгонит голод на холод.
447
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
25. Орем землю до глины, а едим мякину.
26. От работы не будешь богат, а будешь горбат.
27. От трудов праведных не нажить палат каменных.
28. От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь.
29. Пашешь — плачешь, жнешь — скачешь.
30. Пиво с кваском (с кислотой), лошадь с запинкой да человек с ленцой два
века живут.
31. Поваля, бог кормит.
32. Поваля, бог не кормит. Спи: государь казны пришлет.
33. Под одним окном постучит, под другим выпросит, под третьим отдох¬
нет — поддевочка-то сера, да волюшка своя.
34. Послал бог работу, да отнял черт охоту.
35. Работа молчит, а плеча кряхтят.
36. Работа не черт, в воду не уйдет.
37. Ретивая лошадка недолго живет.
38. Ретивый надсадится.
39. Робити до поту, выробити кабалу.
40. У бога дней впереди много: наработаемся.
41. Хорошо бы орать да рук не марать.
42. Хоть корку (хвойку) глодать, да не пенья ломать.
43. Что дело, дело не сокол — не улетит.
Лейтмотивом в пословицах, содержащих негативные праксические чувства,
проходит мысль о целесообразности умеренного, размеренного, неспешного тру¬
да, и этому находятся оправдания экономические, социальные, психологические,
моральные и медицинские: «От работы не будешь богат, а будешь горбат»; «Ре¬
тивая лошадка недолго живет»; «Робити до поту, выробити кабалу»; «Есть по¬
тешно, а работать докучно». Если вдруг станет невмоготу, то поможет либо Бог,
либо государь — «Поваля, бог кормит»; Поваля, бог не кормит. Спи: государь
казны пришлет». Словом, бедный человек не пропадет — «Бог даст день, даст
и пищу. Бог милостив». Принципиальной представляется пословица, оправды¬
вающая умеренный труд тем, что он гарантирует стабильность, спокойствие
и свободу — «Не уедно, да улежно; не корыстно, да вольно», т. е. не обильно
в пище, зато уютно, спокойно, безопасно; не богато, зато свободно. Ради воли
можно даже пойти по миру — «Под одним окном постучит, под другим выпро¬
сит, под третьим отдохнет — поддевочка-то сера, да волюшка своя». Возможно,
некоторые негативные праксические чувства в крепостное время можно объяс¬
нить принудительным характером труда, который, как считается, воспитывал
отношение к любой работе как к барщине. Но нет веских оснований думать, что
в периоды отсутствия крепостного права, до конца XVI в. или после 1861 г., тру¬
довая этика была иной. Кроме того, в пословицах, за исключением нескольких,
работа не дифференцируется на вольную и принудительную, соответственно не
формулируется различие в отношении к труду свободному и крепостному.
Художники, писатели и этнографы дают немало примеров как позитивных
(рис. 12.20), так и негативных (рис. 12.22) праксических чувств, испытываемых
российскими тружениками.
448
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
В 41 пословице о труде лень решительно осуждается и подвергается осмея¬
нию как источник бедности, пороков и всяческих несчастий.
1. Были б хлеб да одежа, так и ел бы лежа.
2. Всяк к скопцу, а никто к веслу.
3. Ехал бы воевать, да ленив вставать.
4. Живет да хлеб жует. Живем да хлеб жуем; спим да небо коптим.
5. Заработали чирий да болячку на третий горб.
6. Заржаветь у дела. Завалиться за делом. Умирать за делом.
7. Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал.
8. Как ни мечи, а лучше на печи. От безделья и то рукоделье.
9. Когда бы не еда да не одежа, так мы бы лежа отдувались.
10. Когда тот день придет, что с лавки не встанешь.
11. Лежебоку и солнце не в пору всходит.
12. Ленивому всегда праздник. Ленивому будень чем не праздник?
13. Ленивому и гриб поклона не стоит.
14. Ленивому не болит в хребте.
15. Ленивый и могилы не стоит.
16. Ленивый к обеду, ретивый к работе.
17. Ленивый сидя спит, лежа работает.
18. Лентяй да шалопай — два родных брата.
19. Лень без соли хлебает. Лень одежу бережет.
20. Лень добра не деет. Лень к добру не приставит.
21. Лень лени и за ложку взяться, а не лень лени обедать.
22. Лень мужика не кормит.
Рис. 12.20. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Страдная пора. Косцы. 1887.
Государственный Русский музей
449
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.21. А. Е. Архипов (1862—1930). Прачки. 1898.
Государственный Русский музей
450
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
23. Лень не кормит, а только пучит (портит).
24. Лень прежде нас родилась. Лень старше нас.
25. Люди жать, а мы под межою лежать.
26. Люди пахать, а мы руками махать.
27. Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
28. От лени мохом оброс. От лени губы блином обвисли.
29. От шаты да баты (т. е. болтовни) не будем богаты.
30. Пилось бы да елось, да работа на ум не шла.
31. Праздность — мать пороков.
32. Сень-пересень, как бы день прошел.
33. Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлешься.
34. Сонливый да ленивый — два родные братца.
35. У ленивого что на дворе, то и на столе (ничего).
36. У непрядохи лен цел (выгода).
37. Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто.
38. Хоть три дни не есть, а с печи не лезть.
39. Что нам прясть? Пряли бы волки по закустью да нам початки приносили.
40. Шел бы воевать, да лень сабли вынимать.
41. Я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка.
«Ленивый и могилы не стоит» — наверное, самое суровое осуждение лени.
Пословица «Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал» ука¬
зывает на огромный неиспользованный потенциал труда.
Из 48 пословиц, собранных Далем в группу «Праздник», можно выделить
46 пословиц, содержащих оценочные суждения527. В 42 пословицах доминирует
настроение радости; нет сожаления о потерянных рабочих днях и доходах и за¬
траченных на их проведение расходах, например:
В такой день (праздник годовой) у бога все равны.
Всякая душа празднику рада.
Для праздника Христова не грех выпить чарочку простова.
Добрая свадьба неделю (празднуется попойкою).
Добрый именинник до трех дней (или: три дня).
Душа моя масленица (говорит семик), перепелиные твои косточки, бумажное
твое тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, тридцати братьев
сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка, ясочка, ты же моя перепелочка.
И дурак празднику рад.
Кто в воскресенье орет, тот в понедельник кобылы идет.
Кто празднику рад, тот до свету пьян.
Празднички ватажнички, а будни одиночки.
У бога всегда праздник. У бога, что день, то и праздник.
Хоть с себя что заложить, да маслену проводить.
Что воскресенье, то и новоселье (перебираемся в кабак).
Лишь в 4 пословицах содержатся какие-либо негативные суждения о празд¬
никах, в том числе в двух осуждается их обилие:
Для чашников да бражников бывает много праздников.
Ленивому всегда праздник. Лежебок все у праздничка.
451
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Немецкую масленицу справлять (т. е. гулять во время поста. —Б. М).
Просаввилась еси, проварварилась еси (так, приговаривая, мужик бил жен;
свою за праздники, от которых она осталась без рубахи).
Сделанные наблюдения дают основание для заключения: несмотря на то чт<
труд понимался российскими православными работниками скорее как необходи
мость, чем радость, скорее как средство, чем как цель и смысл жизни, труд все
таки высоко ценился, уважался и считался главным источником благосостояния
лень и тунеядство беспощадно осуждались как источники бедности и пороков
Принципиально важно подчеркнуть: «корыстный труд», т. е. работа ради обога
щения, жажды денег, осуждался, хотя при этом прекрасно сознавалась сила де
нег, что нашло отражение в 145 пословицах, объединенных Далем в комплею
«Богатство — убожество»328. См. например:
Бедность плачет, богатство скачет.
Богатому везде дом. Богатый бедному не брат.
Богатому завсе праздник. Богатому все праздник.
Денежка дорожку прокладывает.
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Коли богатый заговорит, так есть кому послушать.
С деньгами мил, без денег постыл.
У богатого все сладко, все гладко. Богатому все льготно.
Это свидетельствует о том, что субсистенциальная трудовая этика русского
работника была его сознательным выбором. Важнейшим мотивом такого выбо
ра являлась оценка богатства как греховного по происхождению и потому ж
дающего душевного спокойствия и вечного спасения. Эти мысли являются лейт
мотивом в 107 пословицах в комплексе «Богатство — достаток»329. Вот некою
рые из них:
Деньгами души не выкупишь.
Деньги, что каменья: тяжело надушу ложатся.
Пусти душу в ад, будешь богат.
Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки в слезах.
Еще один принципиальной важности вывод состоит в том, что в коллективны;
представлениях о труде бедность, а тем более нищета не являлись идеалом — нор
мативным был средний достаток — «Богатство перед Богом грех, а бедность — пе
ред людьми». Бедности надо стыдиться, во-первых, потому что бедный человек яв
лялся бременем для семьи и общины, во-вторых, главными причинами бедностс
служили сурово осуждаемые праздность и лень. «С точки зрения народной аксио
логии, “пребывание в голоде” является свидетельством полной несостоятельности
неумения заработать на пропитание, лени. Над голодающими часто насмехаются
их стратегии выживания подвергаются остракизму»330. Именно умеренносп
в труде и разумное ограничение потребностей выступают в качестве норматив
ной концепции экономического поведения, в качестве специфического образ*
жизни, имеющего свои достоинства и недостатки. Эта концепция утверждаете*
во многих пословицах331:
Будь малым доволен — больше получишь.
В один день по две радости не живет.
452
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Кто малым доволен, тот у бога не забыт.
Кто малым недоволен, тот большого не достоин.
Много сытно, мало честно. Малое насытит, от многого вспучит.
Не живи, как хочется, а живи, как можется!
Сладкого не досыта, горького не допьяна.
Того не берут, чего в руки не дают.
Хлеба с брюхо, одежи с ношу да денег с нужу.
Принципу умеренности в потребностях, труде и вообще в жизни следовало
большинство православных российских работников, но, конечно, не все, как не
все протестанты следовали протестантской трудовой этике или предпринимате¬
ли — буржуазной этике.
Трудовая этика рабочих
До Великих реформ большинство промышленных заведений останавливало ра¬
боту во время страды и сенокоса, рабочие имели почти столько же праздников,
сколько и крестьяне, и их число устанавливалось не законом, а обычаем или согла¬
шением между рабочими и предпринимателями. На отдельных фабриках и заводах
существовало большое разнообразие нерабочих дней; предприятия работали не
круглый год, а в большинстве случае — 200—240 дней, как свидетельствует прак¬
тика казенных предприятий, где число рабочих дней регламентировалось, а иногда
лишь 100 с небольшим дней в году332. Продолжительность «чистого» рабочего дня
накануне эмансипации варьировала от 9 до 14 ч в день, зависела от времени года —
летом она доходила до 14 ч, зимой — уменьшалась до 9 ч, на большинстве пред¬
приятий составляла 12 ч333.
Изменения в ритме промышленного труда стали происходить с приходом про¬
мышленной революции. На фабриках с машинным производством уже в середине
XIX в. повсеместно обнаружилась тенденция к сокращению и унификации числа
праздничных дней334. Непрерывное производство позволяло владельцу механи¬
зированной фабрики быстрее вернуть затраты, сделанные на дорогостоящее обо¬
рудование, воспользоваться конъюнктурой, когда она благоприятна, выдержать
жесткую конкуренцию с мануфактурами. В ряде случаев, например в металлур¬
гии, производство не могло без огромных убытков быть остановлено. Поэтому
среднее число рабочих дней, устанавливаемое соглашением между рабочими
и предпринимателями, к 1885 г. увеличилось до 283335, к 1904 г. — до 287,3 дня.
С 1905 г. под влиянием рабочего движения число рабочих дней стало уменьшаться
ив 1913 г. составило 276,4336. Время же, фактически отрабатываемое отдельным
рабочим, было меньше. В 1913 г. общие потери рабочего времени, помимо празд¬
ников и воскресений, оценивались в 19 дней: вследствие простоев — 6,4 дня, болез¬
ней и других уважительных причин — 8, прогулов — 4,6 дня337. Принимая, что по¬
тери рабочего времени в 1885 и 1904 гг. были примерно такими же, как ив 1913 г.,
фактическое число рабочих дней на одного рабочего в 1885 г. равнялось 264, в 1904 г. —
268, в 1913 г. — 257.
Параллельно с увеличением числа рабочих дней уменьшалась их продолжитель¬
ность: у мужчин, занятых в промышленности, подчиненной фабричной инспекции
453
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
(горная и казенная промышленность не были в ее ведении), с 12,3 ч в 1850-е гт. до
11,7 ч в 1885 г., до 10,6 ч в 1904 г., до 10,2 ч в 1905 г. и до 10 ч в 1913 г.338 (у жен¬
щин и детей рабочий день был короче). В результате годовой рабочий период вклю¬
чал теоретически в 1850-е гг. 2952 ч, в 1885 г. — 3311, в 1904 г. — 2931, в 1913 г. —
2764 ч, а фактически — соответственно 2718; 3089; 2841 и 2570 ч.
Следовательно, в пореформенное время, вплоть до 1905 г., занятость рабочего
в течение года была больше, чем до 1861 г., а с 1905 г. — меньше. Переход от
ручного производства к машинному вследствие производственной и экономи¬
ческой целесообразности привел к повышению непрерывности труда в про¬
мышленности вследствие роста числа рабочих дней и переходу к двух- или
трехсменной работе.
454
Рис. 12.22. Дед-зазывала («карусельный дед» дядя Серый).
Гравюра с рисунка С. Александровского. 1870
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Данные о штрафах за различные нарушения трудовой дисциплины в 1901—
1914 гг. являются массовым и достаточно надежным источником о трудовой эти-
ке рабочих . До 1886 г. номенклатура штрафов и их размеры устанавливались
на каждом предприятии по усмотрению его хозяина, с 1886 г. утверждались фаб¬
ричной инспекцией, отличались относительным однообразием и были хорошо
известны рабочим. Суммарная величина штрафа не должна была превышать треть¬
ей части месячного заработка340. В ежегодных отчетах фабричной инспекции штра¬
фы за многочисленные нарушения сводились к трем категориям: (1) неисправная
работа; (2) прогулы (неявка на работу не менее половины рабочего дня); (3) нару¬
шение внутреннего порядка. Первая категория включала брак, порчу машин и дру¬
гих орудий производства, третья — широкий круг проступков: отправление естест¬
венных надобностей в недозволенных местах, несвоевременная явка на работу или
самовольная отлучка, несоблюдение правил техники безопасности, чистоты и оп¬
рятности, нарушение тишины и порядка шумом, криком, бранью, ссорой или дра¬
кою, непослушание, приход на работу в пьяном виде, устройство недозволенных
игр на деньги (в карты, орлянку и т. п.), хищение заводского имущества, обман или
подлог во время работы. Перечисленные проступки охватывали основные нарушения
трудовой дисциплины, на которые постоянно жаловались предприниматели начиная
с середины XIX в.341 Поэтому число и величина штрафов могут служить показа¬
телем отношения к труду, если штрафы широко и правильно применялись.
Штрафование широко практиковалось в промышленности: в 1901—1904 гг.
свыше 70% рабочих работали в заведениях, в которых взыскивались штрафы;
в годы революции 1905—1907 гг. этот процент понизился до 58,5; затем постепенно
повысился и в 1914 г. достиг 72,7. После того как в 1886 г. закон поставил штрафо¬
вание под контроль фабричной инспекции, ограничил величину и число поводов
для штрафа и позволил использовать штрафной капитал на пособия рабочим (преж¬
де штрафными деньгами распоряжался фабрикант и тратил их на свои потребно¬
сти)34 , штрафы стали накладываться намного реже и потому сведения о них стали
существенно занижать уровень нарушений трудовой дисциплины, что видно из
следующих фактов. Данные о штрафах за 1901—1914 гг. позволяют предположить,
что лишь 30 % рабочих совершали прогулы в течение года, да и то всего по одному
дню, а в действительности прогулы поглощали около 5 дней в год. По некоторым
сведениям воровство изделий с завода было массовым явлением343, в то время как
за все нарушения порядка, куда кроме хищений входили и многие другие проступ¬
ки, ежегодно штрафовалось лишь 23 % рабочих. Штрафы стали накладываться не за
каждое нарушение дисциплины, как было до 1886 г., а после нескольких предупре¬
ждений, вследствие чего данные о штрафах 1901—1914 гг. занижали уровень на¬
рушений примерно в 5 раз.
Следует признать, что штрафы накладывались в соответствии с действовавшими
правилами и рабочие считали их обоснованными. Этому способствовало то, что
фабричная инспекция стояла на страже справедливости и рабочие оспаривали не¬
правильное наложение штрафа344. Об обоснованности штрафов можно судить по
крайне редким жалобам на них рабочих. За 1901—1910 гг. рабочие штрафовались
25 754 тыс. раз, при этом пожаловались в фабричную инспекцию на неправильность
штрафования лишь 22 101 раз, т. е. оспорили 0,086 % случаев штрафования. Среди
455
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
многочисленных поводов к жалобам на долю штрафов приходилось от 0,2 % всех
жалоб в 1905 г. до 6,1 % в 1901 г., при этом в среднем за 1901—1910 гг. в 75 % слу¬
чаев жалобы признавались неосновательными. Уровень неосновательности по дру¬
гим видам жалоб был ниже: по недочетам — 64 %, по всем жалобам — 57 %345.
Показателем дисциплинированности рабочих могут служить данные о произ¬
водственном травматизме. При неполном учете несчастных случаев в России уро¬
вень травматизма в России оказывался выше, чем на Западе. Например, в 1910 гг. от
него пострадали 6,8 % рабочих, занятых в промышленности и на транспорте, в то
время как в любой западноевропейской стране — менее 6 %. В России травматизм
в 1,5 раза чаще, чем, например, в Англии и Германии, заканчивался летальным ис¬
ходом346 и по большей части (или во всяком случае гораздо чаще, чем на Западе)
происходил по вине рабочих (несоблюдение правил, легкомыслие, неловкость,
невнимание)347.
По мнению современников, качество труда, трезвость, честность, дисциплина,
прогулы и опоздания на работу, способность к компромиссу, соблюдение правил
поведения на производстве, подверженность производственному травматизму,
простои и производственный брак зависели от грамотности рабочего348 и их
крестьянского происхождения. В дореформенное время промышленные рабочие
более чем на 90 % рекрутировались из крестьян-земледельцев, не потерявших связи
с землей и сельским хозяйством, накануне революции 1917 г. — около 50 %350, а по
социальной принадлежности вплоть до 1917 г. около более 90% рабочих принад¬
лежали к крестьянскому сословию351. Огромное число рабочих являлись отходника¬
ми. Крестьянское происхождение обнаруживалось во всем: в организации рабочих
коллективов, в обычаях и ритуалах, в неуважении к собственности, в отношении
к буржуазии как к паразитам, в монархических симпатиях, в склонности к стихий¬
ным разрушительным бунтам, в негативном отношение к интеллигенции и либе¬
ральному движению и т. д. В рабочую среду были перенесены многие крестьянские
обычаи352.
Статистический анализ данных о штрафах в 61 губернии в 1901 г. и 67 губерни¬
ях в 1913 г. позволил определить еще два фактора, существенно влиявших на отно¬
шение рабочего к труду: степень концентрации производства и характер труда —
ручной или машинный (табл. 12.10).
Данные табл. 12.10 обнаруживают следующую закономерность: чем больше
имелось в данной губернии крупных фабрик, тем больше там было оштрафованных
и, следовательно, нарушений трудовой дисциплины, и наоборот, чем больше в ней
было мелких предприятий, тем меньше там было нарушений дисциплины. Фабрич¬
ные округа по степени несоблюдения дисциплины ранжировались в соответствии
с уровнем концентрации производства: Московский, Петербургский, Варшавский,
Харьковский, Поволжский, Киевский. Эту зависимость на губернском уровне кор¬
реляционный анализ оценивает как высокую: в 1901 г. коэффициент корреляции
между долей крупнейших фабрик и процентом оштрафованных в губерниях равнял¬
ся 0,680, в 1913 г. — 0,699; несколько более существенной была зависимость между
размерами штрафа на одного рабочего и долей крупнейших фабрик — соответст¬
венно 0,696 и 0,780. Отдельные категории нарушений дисциплины также находи¬
лись в тесной связи с наличием в губернии крупных предприятий (табл. 12.11).
456
Взыскание штрафов с рабочих на предприятиях, подотчетных
фабричной инспекции, в 1901 и 1913 гг. по фабричным округам
Итого
1913
1,76
1,29
00
<4
О
О
o'
34
ON
39
1901
1,94
1,33
1 0,34 |
0,27
23
СП
Харьковский
1913
0,55
0,19
<4
О
1Г0
24
44
26
1901
0,62
0,20
СП
<4
О
0,20
28
45
(N
00
Киевский
1913
0,21
о
o'
| ОГО 1
0,07
35
20
1901
0,29
Г».
о
о"
СП
о
©
о"
-
37
(N
Г».
Поволжский
1913
0,51
Г».
о"
1 0,26 |
00
ол
о"
СП
26
20
20
1901
0,62
0,23
ЧО
<4
o'
СП
о
(N
34
24
ON
Варшавский
1913
0,75
0,49
o'
0,16
ON
28
1901
1,66
1,01
СП
<N
o'
0,42
33
20
ON
25
Московский
1913
3,68
3,04
1 0,38 1
0,27
54
•«т
58
1901
3,02
сн
(N
00
СП
о"
0,27
59
20
00
46
Петербургский
1913
1,46
СП
°0
о"
00
СП
О
0,25
43
29
г-
42
1901
1,92
оо
СП
«О
o'
0,31
3
32
ON
34
Фабричный
округ
Год
Сколько раз
в году оштра¬
фован один
рабочий,
в том числе:
за неисправ¬
ную работу
| за прогул
за нарушение
порядка
Размер штра¬
фов на одного
рабочего, коп.
Средний раз¬
мер одного
штрафа, коп.
Численность
рабочих на
мелких пред¬
приятиях, %*
Численность
рабочих на
крупных
предприятиях,
%"
Окончание табл. 12.10
£
о
1913
130
СП
5
1901
94
(N
«
1
со
1913
*л
ON
§
мС
&
X
1901
<ч
)Я
S
X
о
1913
СП
ОО
ON
со
<D
S
1901
62
>я
S
X
о
1913
00
ON
о
00
о
Е
1901
1Г)
ЧО
«
S
X
1
1913
ч-
00
Э
&
CQ
1901
»о
40
СП
«
и
1913
277
2
о
о
S
1901
162
(N
>5
1
£
1913
00
00
ё
с
1901
130
«
3
1
6 *8 s Я
я л о я
* а S 1
А
ь
9
X
£
о? £ о 2
5 Ь Л а-
£
J-
g a 1 5
1 1
5
&S S &
Q-\o
0 о
U
U ч х с
U ON
Г'
On
оо
S
8-
С
X
3
л
Ч
§
)Я
S
В
ю
О
»л
5
о
ON
ю
С
U
Ё
S
о
8-
<и
с
о
сг
6
з
U
о
о
Г"
I
U
С—
г-
ON
00
i
8.
О
с
о
с
ON
о
<3
3
V§
£
4
Б
§
§
«
0
а
1
о..
н Я
Л X
Я о
2 S
5 °-
2 s
£ =
ев S
S S
л в
ч 2
;►> 5
о- 2
«I
&s
5’§
go*
ев
и я
SS
а 2
И
I =
I =
8.J
В Я
Я ©
я £
я
се
а.
н
я
4)
Б
Я
§
Я
Я
я
я
tt
Коэффициент корреляции 0,...
СО
ю
ей
и
Ч
60
05
40
»о
20
я
56
58
ОО
ч-
ч*
59
м
68
65
3
39
70
*
СП
7
СП
СП
1
ОО
СП
1
40
7
•л
7
«
-36
СП
7
-27
7
7
Ч
г^-
ОО
о
ОО
74
72
X
(—
99
СП
чн
ОО
"X
X
5
CQ
65
СП
1Г)
X
00
82
ю
97
X
г^-
СП
09
75
СО
X
98
56
73
86
Показатели
Сколько раз в году оштрафован
один рабочий, в том числе:
за неисправную работу
за прогул
за нарушение порядка
Размер штрафов на одного рабо¬
чего, коп.
СО
ю
ей
U
ч
Коэффициент корреляции 0,...
<L>
К
го
X
*
60-
7
33
24
X
ъе
X
-07
-76
62
X
28
X
го
-26
го
7
X
•/э
»о
со
*
-07
X
-43
7
7
и
X
го
-29
-25
-23
(L)
1=1
-29
52
00
29
е*
и
•о
7
-56
55
69
и
со
-23
-44
47
00
"d"
24
со
ю
-43
-32
44
о
00
60
VO
cd
-44
-40
52
ГО
00
»о
cd
Показатели
Средний размер одного штрафа,
коп.
Численность рабочих на мелких
предприятиях, %
Численность рабочих на круп¬
ных предприятиях, %
Средняя численность рабочих
на одном предприятии
Грамотность, %
Показатели
(L)
*
го
X
*
I
rt
и
н
С
Г"
ON
00
с
о
а.
|=1
§
ш
о
)5
X
Е?
ю
О
Ё
о
8-
X
X
S
а,
со
§
ё
3
о
с
5
с
го
cd
О
ON
1
X
0
1
1
X
а.
*8
Н
CQ
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Напротив, чем больше в губернии имелось мелких предприятий с численностью
рабочих менее 50 человек, тем меньше там наблюдалось нарушений дисциплины.
Но эта зависимость была менее сильной: коэффициенты корреляции между долей
мелких предприятий и процентом оштрафованных или размерами штрафа на одно¬
го рабочего на губернском уровне были отрицательными и равнялись от -0,33 до
-0,45 в 1901 г. и от -0,42 до -0,52 в 1913 г. На мелких предприятиях машины при¬
менялись несравненно в меньшей степени, чем на крупных, а некоторые из мелких
совсем не использовали машин. Отсюда следует, что на предприятиях, где преобла¬
дал ручной характер труда, трудовая дисциплина соблюдалась лучше, чем на высо¬
комеханизированных предприятиях. Как это можно объяснить?
Рабочие коллективы на мелких и крупных предприятиях по характеру межлич¬
ностных отношений принципиально различались. На первых нарушить незаметно
для остальных дисциплину было трудно, и в качестве наказания применялся не
формальный штраф, а неформальные санкции — насмешки, издевательства, физи¬
ческое насилие. Не случайно к штрафованию рабочих прибегали главным образом
крупные предприятия. Небольшое предприятие напоминало большую семью во
главе с авторитарным хозяином, цех или рабочую артель во главе со старостой-
подрядчиком, где отношения имели «характер патриархального строя, — свиде¬
тельствовал один управляющий шахтой, и где «дисциплина была поразитель¬
ная»353. На крупном предприятии преобладали анонимные, формальные или полу¬
формальные отношения между рабочими и администрацией, а нередко и между
самими рабочими. Здесь и скрыться от контроля было легче, и обмануть админист¬
рацию или совершить мелкую кражу не только не считалось между рабочими
большим грехом, а часто рассматривалось как молодечество. В подобных условиях
и нарушения дисциплины случались чаще и наказывались они чисто формально —
штрафом или увольнением. Формальный контроль был практически единственным
средством поддержания порядка. Это доказывают следующие факты. Когда в 1918 г.
на фабриках и заводах был введен так называемый рабочий контроль, т. е. фактиче¬
ски наступило безначалие, прогулы по неуважительной причине чрезвычайно уве¬
личились, составив в среднем 21 день в 1918 г. и 24 дня в 1920 г., а в отдельных гу¬
берниях достигали 46 дней354. Анализ прогулов на предприятиях в зависимости от
их размеров по Петрограду в 1920 г.355 обнаружил: прогулы на предприятиях, на
которых работало 16—50 человек, составляли 8,4 дня в год, 51—100 человек —
12,0 дней, 101—500 человек — 14,4 дня, свыше 500 человек — 15,6 дня; то же на¬
блюдалось в 1921 г. — соответственно 9,6; 12,0; 14,4 и 19,2 дня356.
] Соблюдение предпринимателями рабочего законодательства
и договоров с рабочими
О том, насколько честно предприниматели соблюдали рабочее законодатель¬
ство и условия договоров, можно судить по числу обнаруженных фабричными ин¬
спекторами нарушений закона со стороны предпринимателей. Хотя последние час¬
то нарушали рабочее законодательство и, следовательно, договоры, но делали это
почти в 2 раза реже, чем рабочие: в среднем на одно предприятие ежегодно прихо¬
дилось одно нарушение законодательства (1,12), а на одного рабочего — два штрафа
460
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
(2,19), значит, два нарушения трудовой дисциплины, или два нарушения подписан¬
ного ими договора с предпринимателем, — это притом что число штрафов было
намного меньше, чем число нарушений дисциплины рабочими357. Около двух тре¬
тей всех нарушений со стороны предпринимателей касались формальной стороны
дела (правил ведения рабочих книжек, ведения книги счетов с рабочими и других
подобных формальностей) и около трети — несоблюдения фабричной администра¬
цией своих обязанностей по охране здоровья рабочих, выдаче зарплаты, продолжи¬
тельности рабочего дня и т. п.
Вторым способом оценки трудовой этики предпринимателей может служить
число жалоб рабочих на администрацию. Недовольство администрацией высказы¬
вали сравнительно мало рабочих — в среднем за 1901—1914 гг. всего 6,3 % от об¬
щего их числа, причем лишь немногим более половины жалоб было признано осно¬
вательными (51,5 %)358. Об этом же свидетельствуют сведения об участниках эко¬
номических забастовок: в 1895—1904 и 1908—1911 гг. в них никогда не принимали
участия более чем 4,7 % всех рабочих, в 1912 г. — 8,2 %, в 1913 г. — 16,6 %, и лишь
в годы первой российской революции число участников поднималось до 58,4 %
в 1905 г., 26,4 % — в 1906 г. и 9,7 % — в 1907 г.359 Рабочие роптали на предприни¬
мателей (в порядки частоты жалоб) за невыдачу, задержание или неправильное ис¬
числение зарплаты, за принуждение работать сверхурочно или, наоборот, за сокра¬
щение рабочего времени против условленного при найме (для сдельных рабочих
это приводило к уменьшению заработка), за принуждение исполнять другую работу
кроме той, на которую рабочий был нанят, за дурное обращение, неправильное
штрафование и незаконные вычеты, за невыдачу паспортов, неправильные записи
в расчетных книжках, за невыдачу пособий из штрафного капитала, плохое снабже¬
ние продуктами из фабричных лавок. Если штрафы рассматривать как претензии
предпринимателей к рабочим360, а все жалобы рабочих на предпринимателей как
претензии рабочих к предпринимателям, то следует заключить, что рабочие были
больше удовлетворены своими предпринимателями, чем предприниматели своими
рабочими. Против этого вывода имеется возражение: жалоб рабочих было мало по¬
тому, что они боялись жаловаться на администрацию361. Но ведь штрафы и жалобы
предпринимателей также намного занижали действительное число нарушений тру¬
довой дисциплины со стороны рабочих.
Данные за 1901—1914 гг. показывают, что дисциплинированность рабочих ко¬
лебалась по годам, находясь в зависимости от экономической конъюнктуры и поли¬
тической ситуации в стране. Во время промышленного подъема, когда спрос на ра¬
бочие руки увеличивался и работу было найти нетрудно, а также во время подъема
рабочего движения дисциплина снижалась, и наоборот, в годы политической стаби¬
лизации и в годы экономического спада из-за страха потерять работу рабочие ста¬
новились дисциплинированнее и менее требовательными, наблюдалось уменьшение
жалоб и претензий с их стороны362. Но при всех колебаниях обнаруживается тенден¬
ция к понижению уровня трудовой дисциплины: в 1901—1904 гг. в среднем на одного
рабочего приходилось как минимум 2,22 нарушения в год, а в 1910—1913 гг. — 2,50.
Эта тенденция, вероятно, объяснялась в значительной степени политической ситуа¬
цией в стране: ростом рабочего движения и соединением его с антиправительствен¬
ным движением и социал-демократической пропагандой. Если реальное число на¬
461
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
рушений дисциплины в 5 раз превышало число штрафов, следует признать, что
российский рабочий не отличался дисциплинированностью. Однако злостные на¬
рушения трудовой дисциплины, по-видимому, совершало меньшинство рабочих.
Данные о штрафах не позволяют, к сожалению, пролить свет на этот чрезвычай¬
но важный вопрос. Но проведенный в 1909 г. опрос 1,7 тыс. петербургских рабо¬
чих мужского пола обнаружил, что прогулы совершали не все, а лишь 41 % ра¬
бочих. Каждый из них прогулял 36 дней в год! И в пересчете на всех это состави¬
ло очень много — 14,7 дня в год363. Сведения о том, как обстояло дело с другими
нарушениями дисциплины, отсутствуют.
462
Рис. 12.23. Н. А. Касаткин (1859—1930). Шахтерка. 1894.
Государственная Третьяковская галерея
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
По наблюдению современников, близко стоявших к рабочим, они, как и кре¬
стьяне, «работают только по понуждению голода и холода и никогда ничего не
имеют>Г~, мечтают об уничтожении применения сдельной оплаты, о найме ис¬
ключительно на жалованье, о сокращении рабочего дня и увеличении числа
праздников365. Однако уже в начале XX в. существовал слой рабочих, вероятно
не слишком многочисленный, отличавшихся современным отношением к тру¬
ду— они склонны были адаптироваться к правилам жизни, которые диктует
капитализм. В литературе их часто называют «рабочей аристократией». Они
осуждали пьянство, отсутствие дисциплины, невежество и общее отсутствие
культуры у рабочих, потому что это мешало им удовлетворительно устроить
свою жизнь в рамках буржуазного общества. «Этот слой обуржуазившихся рабо¬
чих или рабочей аристократии, — совершенно незаслуженно ругал их В. И. Ле¬
нин, — вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему
своему миросозерцанию, есть главная
социальная опора буржуазии (курсив
мой. — Б. М)»366. Именно рабочая ари¬
стократия была проводником современ¬
ной трудовой этики в среду рабочих.
Представители рабочей аристократии
поощрялись, в том числе правительст¬
вом: они становились состоятельными
людьми и награждались императором
по представлению предпринимателей
медалью «За усердие»367.
Приведенные данные позволяют ду¬
мать, что трудовая этика рабочих в по¬
реформенное время находилась в ста¬
дии трансформации. Появился слой
рабочих с явными признаками буржуаз¬
ного отношения к труду. Но для боль¬
шинства рабочих этика в основном оста¬
валась субсистенциальной. Этот вывод
у одних историков находит поддерж¬
ку368. Другим кажется, что обуржуази-
вание трудовой этики рабочих зашло
дальше, чем предполагаю я. Например,
Т. Я. Валетов и В. Н. Парамонов полага¬
ют, что тезис о преимущественно по¬
требительской трудовой этике рабочих
«противоречит слишком большому ко¬
личеству сохранившихся наблюдений
и мнений хорошо информированных
наблюдателей-современников. Да, этика Рис , 2 24 раб0чий-аристократ -
промышленного труда в России была член С.-Петербургского профсоюза
низкой, и крестьяне-пролетарии имели рабочих. 1913
463
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
больше праздничных дней, чем промышленные рабочие в Западной Европе, но,
с другой стороны, сложно упрекнуть в праздности рабочих, которые в большин¬
стве своем соглашались работать за очень скромный заработок по 11—12 часов
в сутки»369. На мой взгляд, аргументы: «соглашались работать за очень скромный
заработок по И—12 часов в сутки», или «стремились заработать больше», или
«стремление повысить свой доход характерно для всего рабочего населения» —
не говорят ни о любви к труду, ни о желании разбогатеть, ни о желании эконо¬
мить, ни о дисциплине, ни о каких-либо других праксических чувствах. Они сви¬
детельствуют лишь о том, что рабочего заставляла работать за низкий заработок
нужда, что его скромные потребности фактическая зарплата не удовлетворяла,
так как минимальные потребности тружеников в городе и деревне различались,
да и сами минимальные потребности возрастали370. Наконец, в подтверждение
своего вывода я привожу данные о качество труда, трезвости, честности, произ¬
водственной дисциплине, прогулах и опозданиях на работу, способности к ком¬
промиссу, производственном травматизме, простоях и производственном браке.
Хорошо известно также, что тред-юнионизм, свидетельствующий о трансформа¬
ции субсистенциальной трудовой этики, не получил распространения в россий¬
ской промышленности. Мои же оппоненты лишь голословно утверждают, что эти
данные «противоречат слишком большому количеству сохранившихся наблюде¬
ний и мнений», не приводя эти наблюдения и мнения и не подсчитывая, какую
долю они составляли во всех наблюдениях и мнениях, высказанных о трудовой
этике рабочих. Подобная научная полемика не кажется мне конструктивной.
Если изживание рванного ритма труда, уменьшение числа праздников, четкое
отделение времени работы от времени отдыха, развитие современной трудовой эти¬
ки у российских рабочих в конце XIX—начале XX в. находилось на начальной ста¬
дии, то у рабочих ведущих западных стран переходный период от субсистенциаль¬
ной к буржуазной этике труда в начале XX в. в основных чертах завершался. На
Западе, как и в России, процесс этот был длительным и болезненным и растянулся
на два столетия. Еще в первой половине XIX в. в Великобритании, а в Германии
и Франции и в более позднее время пережитки традиционного отношения к труду
были очень живучи371. «Читая официальные отчеты (фабричных инспекторов
1876—1878 гг. — Б. М) об условиях жизни фабричного люда в Германии, можно
было бы иной раз подумать, что речь идет о наших русских фабриках и заводах:
стоит лишь несколько усилить мрачный фон общей картины, — отмечал известный
русский санитарный врач А. В. Погожев. — Фабриканты в Пруссии часто высказы¬
вали жалобы инспектору, что в летнее время рабочие у них разбегаются с фабрики
и отправляются искать себе работы у сельских хозяев, так как этот труд оплачива¬
ется летом лучше... Инспектор из Вестфалии жаловался, что несмотря на дурные
времена, дисциплина среди фабричных рабочих крайне дурно поставлена во многих
отношениях. Синий понедельник (вроде St. Monday в Великобритании. —Б. М) все
еще пользуется популярностью у рабочих»372 (рис. 12.25).
Итак, вплоть до начала XX в. большинство российских работников, будь то кре¬
стьяне или рабочие, придерживались принципов субсистенциальной трудовой эти¬
ки. Они работали умеренно и любили праздники не потому, что были ленивыми,
а потому, что в их системе ценностей труд занимал иное место, чем у людей, воспи-
464
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Рис. 12.25. Ж. Бретон (1827—1906). Винная лавка, Святой понедельник.
Жены пытаются выгнать своих мужей на работу. Франция. 1858.
Сент-Луисский художественный музей (Saint Louis Art Museum), Сент-Луис, США
тайных в протестантской культуре. Их хозяйственные практики хорошо объясня¬
ются концепцией «моральная экономика», используемой исследователями для
анализа европейского крестьянства в доиндустриальную эпоху. Принципы мо¬
ральной экономики: производственные отношения основаны на христианской
морали; натуральное хозяйство; производство ради удовлетворения необходи¬
мых потребительских нужд; получение прибыли — грех; коллективная трудовая
деятельность должна иметь нулевую прибыль, ибо, если кто-то имеет прибыль,
значит, кто-то имеет убыток; имущественная дифференциация — минимальна373.
Субсистенциальная трудовая этика больше соответствовала представлениям рос¬
сийского работника о правильной жизни, чем протестантская этика. Узкое место
субсистенциальной трудовой этики состояло, однако, не в том, что ее приверженец
не мог интенсивно работать в принципе, а в том, что работать в полную меру своих
сил он считал необходимым не каждый день, а лишь в экстраординарных ситуаци¬
ях, да и в эти минуты трудового энтузиазма он не мог трудиться качественно из-за
недостатка квалификации, знаний, рачительности, предприимчивости и элементар¬
ной дисциплины. Образованные современники отчетливо это сознавали, как это
видно из следующей характеристики российских работников, данной Особым со¬
вещанием о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902 г.: «По общему
признанию, народный труд в России мало продуктивен и не доброкачественен. Так
как качество труда зависит от свойств трудящегося, то и необходимо искать глав¬
465
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
ную причину наших невзгод прежде всего в самих производителях, неумелых, не¬
рачительных, неопытных и мало предприимчивых»374.
Следует отметить, что субсистенциальное отношение к труду существовало во
всех традиционных обществах и в литературе получило не слишком удачное назва¬
ние «этики праздности»375. На русском языке это звучит особенно плохо, так как
может восприниматься как этика, поощряющая лень, бездеятельность и праздность.
На самом деле термин имеет в виду наличие большого числа праздников, во время
которых запрещались многие виды трудовой деятельности, но поощрялись дея¬
тельность, не связанная с производством — общественная, религиозная и т. п. Во
всех западноевропейских странах в Средние века и в большинстве из них в доинду-
стриальную эпоху, т. е. до конца XVIII—начала XIX в., трудовая этика также не
отвечала «духу капитализма»376. В эпоху трехполья от Англии до России и от Шве¬
ции до Испании крестьяне имели примерно одинаковое количество земли, работали
примерно столько же и в таком же ритме, как русские крестьяне в XIX—начале
XX в., а в периоды улучшения конъюнктуры уменьшали время работы, как это на¬
блюдалось в русской деревне; они тоже имели много праздников, лишь немногим
меньше, чем русские крестьяне377. Западноевропейские горожане следовали такой
же субсистенциальной этике, но им для удовлетворения своих материальных по¬
требностей приходилось работать больше — не 150—160 дней в год, как крестья¬
нам, а 210—220378. Таким образом, субсистенциальная трудовая этика была общим
европейским явлением в доиндустриальную эпоху, и причина этого состояла не
в климате, не в природной среде обитания, а в менталитете, присущем человеку
традиционного общества.
На картине П. Брейгеля Старшего «Страна лентяев» (рис. 12.26) изображена
сказочная местность с молочными реками и кисельными берегами. Здесь не нужно
ни сражаться, ни работать, зато можно без меры спать и утолять свою страсть
к еде. В центре картины под деревом спят обессиленные от обжорства, достигшие
предела своих желаний: «благородный воин» (его можно узнать по копью и рука¬
вицам) — на подушке, «ученый муж» (с книгой) — на расстеленной мантии, под¬
битой мехом (в правом нижнем углу), и крестьянин — на цепе для обмолота зерна
(в левом нижнем углу). Они будто устали после тяжелой работы, но на самом де¬
ле— это итог трудов по... поеданию всего того, что изображено на картине: поро¬
сенка, птицы и т. п. На пороге шалаша (в левом верхнем углу) сидит человек
в шлеме рыцаря, только что попавший в страну лентяев. Открыв рот, он ожидает,
что ему в рот влетит что-то вкусное. Смысл произведения — насмешливое осужде¬
ние человеческой праздности и лени, бездействия и инертности, пустой мечты о бла¬
годенствии без усилий и труда, о чем грезили многие современники Брейгеля.
Существенные изменения в трудовой этике и соответственно в ритме труда ста¬
ли происходить с развитием капитализма. Однако среди работающего населения
западноевропейских стран новая модель труда и отдыха утвердилась только в пер¬
вой половине XIX в.: 286—308 рабочих дней в год, разделенных на шестидневные
рабочие недели379. Во второй половине XIX в. настала очередь России. Сначала но¬
вая трудовая этика стала утверждаться в промышленности. В дореформенное время
большинство промышленных заведений останавливало работу во время страды
и сенокоса, рабочие имели столько же праздников, как и крестьяне, и их число
466
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
Рис. 12.26. П. Брейгель Старший (1525—1569). Страна лентяев. 1567.
Старая пинакотека, Мюнхен
устанавливалось не только законом, но и обычаем. На отдельных фабриках и заво¬
дах существовало огромное разнообразие праздников и нерабочих дней, вследствие
чего предприятия даже в 1900 г. работали не круглый год, а от 117 до 355 дней380.
При таких условиях рабочие, даже если бы они хотели, не могли трудиться круглый
год и в большинстве случае фактически работали 200—230 дней в год, как свиде¬
тельствует практика казенных предприятий, где число рабочих дней регламентиро¬
валось. Продолжительность рабочего дня зависела от времени года — летом она
доходила до 14 ч, зимой — уменьшалась до 8 ч; дисциплина труда была слабой381.
В пореформенное время стала постепенно регулироваться продолжительность ра¬
бочего дня: сначала детей (1882), потом женщин и подростков (1885), наконец ра¬
бочих: в 1897 г. закон ограничил рабочий день на фабриках 11,5 ч и одновременно
подтвердил закон 1890 г., признавший воскресенья, а также общегосударственные
и наиболее важные, так называемые двунадесятые, церковные праздники нерабо¬
чими днями382. Общее количество рабочих дней по-прежнему устанавливалось со¬
глашением между рабочими и предпринимателями; фактически их число до 1890-х гг.
увеличивалось, достигнув 286—288 в год, затем стабилизировалось, а с 1905 г. под
влиянием рабочего движения стало уменьшаться и в 1913 г. составило формально
276, а фактически — 257 дней383. Но праздников у российских рабочих было все
равно больше, чем у их коллег на Западе, что давало им при одной и той же про¬
должительности рабочего дня 280—300 ч в год, т. е. 1 ч в день, дополнительного
нерабочего времени384. В начале XX в. перемены пришли и в деревню. Появилось
значительное меньшинство — около 30 % крестьян, не удовлетворенных общин-
467
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
ными порядками, в том числе не желавших следовать субсистенциальной трудовой
этике, которые захотели выделиться из общины и работать по-новому. Именно они
поддержали Столыпинскую реформу.
При всей своей симпатичности субсистенциальная трудовая этика не могла
обеспечить материального изобилия, поэтому народ жил скромно. Однако основ¬
ные материальные потребности удовлетворялись, причем с конца XVIII в. и вплоть
до начала Первой мировой войны уровень жизни повышался среди всех слоев насе¬
ления, включая крестьян и рабочих .
До завершения промышленной революции на Западе Россия по жизненному
уровню народа, по-видимому, не уступала большинству европейских стран. Меж¬
дународные сравнения чрезвычайно сложны, и до сих пор нет работ, в которых это
было бы сделано на уровне современных требований науки. И все же, на мой
взгляд, заслуживает доверия вывод, сделанный на основе анализа крестьянских по¬
винностей, В. И. Семевским, самым компетентным историком российского кресть¬
янства XVIII—первой половины XIX в. Согласно ему, благосостояние российских
крестьян XVIII в. было выше, чем немецких и польских и вряд ли уступало фран¬
цузским386. Достоин внимания также вывод английского исследователя У. Тука,
автора фундаментального труда о царствовании Екатерины II, младшим современ¬
ником которой он являлся: «Умеренные налоги, дешевая жизнь, отличные и разно¬
образные продукты, довольство народа и хорошие законы, обеспечиваемые импе¬
рией, дают каждому, кто ведет себя сообразно требованиям своего сословия, доста¬
точно средств для достижения благополучия. Большинство русских подданных жи¬
вет лучше, чем огромное большинство населения во Франции, Германии, Швеции
и некоторых других странах. Это можно сказать о всех классах»387.
С Туком применительно к первой половине XIX в. солидарен известный не¬
мецкий исследователь А. Гакстгаузен, признанный знаток западноевропейского
и российского сельского хозяйства, предпринявший, как бы мы сейчас сказали,
социологическое полевое исследование аграрных отношений в России в 1843 г.
По его наблюдениям, «нет страны, где бы заработная плата относительно стои¬
мости предметов первой необходимости была бы так высока, как в России»388.
В 1850-е гг. в Англии в каждый данный момент треть трудящегося населения
была полностью занята, треть — частично и треть была без работы389. Безработ¬
ные находились ниже черты бедности, частично занятые — на уровне первичной
бедности, т. е. не могли обеспечить себя самым необходимым, или на уровне
вторичной бедности — сводили концы с концами.
Интересны наблюдения французского писателя Оноре де Бальзака (1799—1850),
сделанные им3 во время путешествия по Украине осенью 1847 г. и пребывания
в украинском имении Верховня, принадлежавшей Эвелине Ганской: «Не боясь
прослыть парадоксалистом, можно сказать, что русский крестьянин в сотню раз
счастливее, чем те двадцать миллионов, что составляют французский народ, ина¬
че говоря, те французы, которые не считаются ни богачами, ни, если угодно,
людьми зажиточными. Русский крестьянин живет в деревянном доме, обрабаты¬
вает собственный кусок земли, равный приблизительно двум десяткам наших
арпанов (8 га. — Б. М). Урожай, который крестьянин с нее снимает, принадле¬
жит не помещику, а ему самому; взамен крестьянин обязан отработать на поме¬
468
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
щика три дня в неделю, за дополнительное же время ему платят отдельно. Эти
сто пятьдесят дней в году необходимы для того, чтобы вспахать помещичью зем¬
лю, засеять ее и снять урожай. Таким образом, можно сказать, что крестьянин
расплачивается за аренду тридцати арпанов земли (12 га. — Б. М)390 ста пятью¬
десятью днями работы, во Франции же это обошлось бы ему в триста франков.
Налоги крестьянин платит ничтожные. В довершение всего помещик обязан
иметь большие запасы хлеба и кормить крестьян в случае неурожая. Заметьте
притом, что работают крестьяне скверно, так что для помещиков было бы куда
лучше иметь дело с людьми свободными, которые, подобно нашим крестьянам,
трудились бы за плату; зато крестьянин при нынешнем порядке вещей живет без¬
заботно, как у Христа за пазухой. Его кормят, ему платят, так что рабство для
него из зла превращается в источник счастья и покоя. Поэтому предложите рус¬
скому крестьянину свободу в обмен на необходимость трудиться за деньги
и платить налоги, и он ее отвергнет»391.
Индустриальная революция, которая пришла в Россию поздно, только после Ве¬
ликих реформ, по мнению большинства российских исследователей, изменила си¬
туацию в пользу Западной Европы. Однако степень этого отставания оценивается
по-разному. По расчету Е. М. Дементьева, в 1880—1890-е гг. русский рабочий по
F уровню реальной зарплаты уступал английскому примерно в 2 раза, американско¬
му— в 3 раза392. По оценкам К. А. Пажитнова, в начале XX в. средний час работы
на предприятиях соответствующего профиля оплачивался в России вчетверо
. меньше, чем в Англии, и впятеро дешевле, чем в Америке393. По расчету С. Г. Стру-
милина, в 1913 г. российские рабочие по величине реальной заработной платы
превосходили своих западных коллег и уступали только самым обеспеченным
в мире рабочим США, да и то лишь на 15 %394. Но за это американцам приходи¬
лось больше и эффективнее работать. «Многие крестьяне, батраки и даже хозяева
отправляются на заработки в Северную Америку, — свидетельствовал в 1903 г. по¬
мещик Киевской губернии Л. Г. Липковский. — После 4—5-летнего пребывания
в Америке (где они работали на заводах. — Б. М.) рабочие-крестьяне часто воз¬
вращаются изнуренными усиленной работой, но привозят с собой сбережения
(1000—1500 руб. — Б. М), обеспечивающие их благосостояние, и привыкают
к добросовестному отношению к труду и работодателям, притом приучаются
понимать потерю рабочего дня и утверждают, что в Америке, кроме воскресных
дней, они праздновали лишь те, в которые не могли найти работы. В этом они
расходятся с земляками, которые охотно уходят с работы в самое страдное время,
отговариваясь праздниками и базарными днями, именно в горячее время, когда
уборка хлеба не терпит отлагательства»395.
Таким образом, если иметь в виду благосостояние населения в период империи,
то не крепостное право и его пережитки и не самодержавие задерживали его повы¬
шение, а то, что вплоть до 1917 г. большинство людей в своей повседневной прак¬
тике полагались на принципы субсистенциальной трудовой этики, жили на основе
христианских заповедей, т. е. не превращали трудолюбие, деньги и время в фетиши,
которым следует поклоняться. Субсистенциализм народа являлся слабым местом
российской экономики и создавал дополнительные социальные и экономические
трудности для прозападной модернизации396.
469
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Сколько надо работать, чтобы быть богатым и счастливым
Процесс трансформации субсистенциальной в протестантскую трудовую этику
в советское время продолжился. Трем поколениям советских людей усиленно при¬
вивалось социалистическое отношение к труду, которое во многих аспектах при¬
ближалось к буржуазному. Был разработан комплекс специфических мер (удар¬
ники, социалистическое соревнование, хозрасчет, самозакрепление, стахановское
движение и т. д.) для стимулирования труда397. В результате этого к концу совет¬
ской эпохи трудовая мораль российских граждан продвинулась в сторону буржуаз¬
ной398. Сравнительное исследование отношения к труду российских и немецких
рабочих в начале 1990-х гг. показало: инструментальный тип отношения к труду
(только способ зарабатывать) характерен для 43 % российских и 24 % немецких
рабочих, терминальный (как смысл жизни) — соответственно 26 и 44 %, смешан¬
ный — 31 и 32 %399. В постсоветскую эпоху происходит дальнейший рост инстру¬
ментального отношения к труду40 . По данным ВЦИОМ на 2000 г., на вопрос:
«Что значит для человека работа?» — 70 % ответили: «Работа — это прежде все¬
го источник средств существования»401. Нормальная продолжительность рабоче¬
го времени, установленная КЗОТом, — не более 40 ч в неделю не соблюдается.
Четко определенного рабочего дня фактически нет; сверхурочные и работа в вы¬
ходные дни зачастую являются не исключением, а нормой. По сведениям рос¬
сийского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 8 лет,
с 1992 по 2000 г., средняя продолжительность рабочей недели у работников до-
пенсионного возраста составила на государственных предприятиях — 43 ч в не¬
делю, на негосударственных — 47. Самая высокая трудовая нагрузка у предпри¬
нимателей, собственников предприятий — они трудятся в среднем 63 ч в неделю,
самозанятые, не имеющие наемных работников, — 49 ч, работающие на частное
лицо — 53 ч. Последние с правовой точки зрения абсолютно не защищены, по¬
скольку отношения между ними и работодателями чаще всего не оформляются,
т. е. находятся вне правового регулирования402.
Та же картина наблюдалась и через 12 лет. По данным Росстата, в 2012 г.
средняя продолжительность рабочей недели равнялась у людей в возрасте 25—29
лет — 8 ч 52 мин, в возрасте 55—59 лет — 9 ч 21 мин и в возрасте от 30 до 54 —
менее 40 ч. Однако поскольку от 30 до 50 % россиян работают на двух и более
работах, очевидно, что большинство работает более 43 ч в день403.
В настоящее время россияне по закону отдыхают 116 дней в году: 12 праздников
(1—5, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября), 52 субботы и 52
воскресенья;’ 249 дней — рабочие, следовательно, в переводе на рабочие часы —
в 1913 г. производственная деятельность у рабочих продолжалась 2570 ч в год,
у крестьян — 1710 ч. Через 100 лет российские труженики по закону должны рабо¬
тать 1992 ч в год — на 29 % меньше, чем рабочие, но на 16 % больше, чем крестья¬
не в 1913 г.
Сравнение с рабочей неделей в других европейских странах в первой полови¬
не 2010-х гг. обнаружило нивелирование различий в продолжительности рабоче¬
го времени. Заметно больше работают только в Китае — 60 ч в неделю и Япо¬
нии — 50 дней, в обеих странах при 10-дневном отпуске404. Россия с точки зре¬
470
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
ния отношения к труду движется в буржуазном направлении, а на Западе под
влиянием протестантской трудовой этики стал развиваться трудоголизм. Черты,
присущие типичному современному трудоголику: любовь к порядку, добросове¬
стность, терпение в работе, упорство, которое перерастает в упрямство, страх
перед ошибками, накопление стрессов, неумение расслабиться, отдохнуть, не¬
способность открыто выражать свои эмоции. Одно из распространенных следст¬
вий трудоголизма — высокое кровяное давление, склонность к избыточному весу,
злоупотребление никотином и алкоголем и, как следствие, импотенция, аритмия
сердца, инфаркты и инсульты. В Японии — стране трудоголиков есть специаль¬
ный термин «кароси» для обозначения внезапной смерти на рабочем месте из-за
усталости и переутомления, «яройисатсу» — для обозначения самоубийства на
почве стресса на работе. Жертвами того и другого ежегодно становятся сотни
человек.
Много трудоголиков в США. Федеральное законодательство США преду¬
сматривает, что продолжительность рабочей недели не должна превышать
40 часов. Однако наемные работники имеют право работать сверхурочно, полу¬
чая повышенную оплату по повышенной ставке (обычно в 1,5 раза выше регу¬
лярной). По данным на 1999 г., 25 млн американцев работали по меньшей мере
49 ч в неделю, а 11 млн — более 59 ч. Среднестатистический американец отды¬
хает намного меньше, чем жители остальных индустриально развитых стран ми¬
ра, а работает больше. В 2002 г. продолжительность его рабочего времени соста¬
вила 1801 ч в год, в то время как, по данным Всемирной Организации Труда,
продолжительность трудового года француза — 1545 ч, немца — 1444, голланд¬
ца— 1342 ч. В США не существует законодательных норм, определяющих про¬
должительность отпуска. Все зависит от условий контракта, который подписыва¬
ет наемный работник. Средний отпуск в США в 2005 г. составил 12 рабочих
дней, в 2007 г. — 14 дней. При этом в 2007 г. 53 % работников не использовали
полностью свои отпускные дни; «экономия» в целом по стране составила 438,9 млн
дней отпуска, что позволило работодателям сэкономить около $60 млрд. Но даже
вырвавшись в отпуск, американские служащие насладиться им не могут. Руково¬
дство многих компаний просит их находиться в постоянном контакте со своим
офисом. Наличие мобильных телефонов, ноутбуков, Интернета значительно об¬
легчает эту задачу и позволяет работать где и когда угодно. В силу чего около
16% американских отпускников, находясь на отдыхе, постоянно поддерживали
связь со своей фирмой с помощью телефона или электронной почты. В результа¬
те в США появился особый термин «синдром отсутствия отпуска» (Vacation
Deprivation Syndrome), который считается причиной сердечных приступов, ин¬
сультов, рака и других серьезных проблем со здоровьем. Продолжительность
жизни американских трудоголиков уступает продолжительности жизни злоупот¬
ребляющих алкоголем.
По мнению некоторых экономистов, короткие отпуска американцев являются
причиной того, что США обладают одной из самых конкурентоспособных эко¬
номик мира. Обязанность предоставлять длинные оплачиваемые отпуска увели¬
чивает производственные издержки компании, повышает стоимость товаров
и услуг, уменьшает количество создаваемых рабочих мест и т. д. В США уровень
471
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
безработицы на протяжении десятилетий намного ниже, чем в странах Западной
Европы, где существуют продолжительные отпуска (4,1 % безработных против
10,1 % по состоянию на 2005 г.). Среднестатистический европеец, потерявший
работу, не может найти новую работу в течение почти года, а американец — 3—
4 месяцев405.
Однако и в странах Евросоюза немало трудоголиков. В Германии их число
оценивается в 200 тыс. (0,7 % от населения, занятого в народном хозяйстве),
в Швейцарии — около 115 тыс. (3,2 % от работающего населения). По ориенти¬
ровочным подсчетам, около 7 % европейцев страдают от «выгорания» на работе
(так называется психическое, душевное истощение от профессионально вынуж¬
денного общения с людьми в процессе выполнения служебных обязанностей ли¬
цами, занятыми в третичном секторе экономики406), 5—7 % подвержены депрес¬
сии, 28 % испытывают хронический стресс, а 33 % мучаются от хронических бо¬
лей в позвоночнике из-за работы. Во многих западных странах созданы общества
анонимных трудоголиков, наподобие обществ анонимных алкоголиков и нарко¬
манов, где люди собираются, чтобы выслушать друг друга, а также получить по¬
мощь врачей, психологов и бизнес-тренеров. Общество трудоголиков в Швейца¬
рии называется «Сумасшедшие труженики». Формулировки, звучащие на собра¬
ниях, очень похожи на те, что произносят страдающие алкогольной зависимо¬
стью: «Мы признаем, что наша тяга к работе носит патологический характер, мы
должны трезво взглянуть на прожитую жизнь и сделать выводы» или «Мы забы¬
ли о своих близких, нанеся этим непоправимый вред. Теперь мы обязуемся вер¬
нуть то тепло и любовь, которые им задолжали»407.
За все надо платить, в том числе за высокую производительность труда и вы¬
сокий уровень жизни. Но стоят ли лишний автомобиль, новый дом, новая «тряп¬
ка» затрачиваемых усилий, если все силы уходят на добывание больших денег?!
Тем более что работа в огромном большинстве случаев нетворческая канцеляр¬
ская скучная — с бумагами и телефоном, проблемы — купить, продать, обма¬
нуть, сорвать куш. Поэтому жизненная стратегия, в соответствии с которой деньги
и работа — не смысл жизни, время — не деньги, время — праздник, не является
ущербной408. Сотни лет весь мир, включая Европу, следовал этому принципу и счи¬
тал, что веселье лучше богатства и праздность предпочтительнее труда. Высший
философский принцип даосизма — у-вей, или «недеяние»: человек, обретший ис¬
тинное духовное просветление и мудрость, проходит по жизни, прикладывая мини¬
мум усилий. Китай «преодолел» конфуцианство лишь полвека назад409. В настоя¬
щее время китайцы считаются самыми трудолюбивыми работниками в мире: в КНР
шестидневная рабочая неделя и 10-часовой рабочий день; а обеденный перерыв —
20 мин; отпуск 10 дней. К ослаблению трудовых нагрузок и увеличению праздности
этому начинают призывать современных трудоголиков и ученые. Нейрофизиолог
Эндрю Смарт дает серьезное научное обоснование тому, почему вредно работать на
износ и полезно лениться: «Научное понимание мозга несовместимо с лютеранским
взглядом на человека, а также с нашей рабочей этикой. Наша хваленая рабочая эти¬
ка — как и рабство — культурный институт, который возник из общепринятого, но
ошибочного представления о человеке. Сегодня мы считаем рабство нелепой
и страшной системой. Нам очевидно, как мы заблуждались. Когда-нибудь мы так
472
Трудовая этика: время — не деньги, время — праздник
же будем воспринимать свою рабочую этику. Мы все будем знать, как функциони¬
рует мозг, и наше изможденное общество явится будущим поколениям нелепым
и страшным. Человек развивается только благодаря отдыху. Это звучит неожидан¬
но, в конце концов, нас с малолетства учили, что “лень — мать всех пороков”. Но
судя по тому, что мы узнаем из новейших исследований, наше душевное благопо¬
лучие и физическое здоровье ухудшаются при увеличении рабочих часов не слу¬
чайно. Человеческое тело было создано для белковой диеты и длительных периодов
легкой физической активности вроде ходьбы и бега трусцой, сочетающихся
с праздностью мысли. Постоянное запредельное расширение умственных возмож¬
ностей приводит к ухудшению результатов труда, усталости, а затем и к хрониче¬
ским психологическим и физическим заболеваниям»410. Смарт приводит цитату из
ставшего классическим эссе «О лени» американского комика Кристофера Морли:
«Человек, который по-настоящему, глубоко, философски ленив, и есть глубоко сча¬
стливый человек. А ведь именно на счастливых держится мир. Вывод очевиден»411.
В рамках исследований примитивных экономик было сделано удивительное
открытие: ранее считалось, что жизнь охотников, собирателей и первых земле¬
дельцев была невыносимо тяжелой из-за недоедания, хронических болезней, тя¬
желого труда. На самом деле сравнительно незначительных трудовых усилий
оказывалось достаточно для обеспечения людей необходимыми продуктами пи¬
тания и другими материальными благами, поскольку люди считали, что матери¬
альные потребности человека ограничены и немногочисленны. Большая часть
времени расходовалась на отдых, развлечения, прием и посещение гостей, риту¬
альные танцы — так называемый «парадокс Салинза». «’’Экономика простого
выживания”, “ограниченный досуг в исключительных случаях”, “непрестанные
поиски пищи”, “скудные и весьма ненадежные природные ресурсы”, “отсутствие
экономического избытка”, “максимум энергии от максимального числа лю¬
дей” — вот шаблонные суждения антропологов о жизни охотников и собирате¬
лей». Изобилие при бедности — назвал подобный способ жизни антрополог
М. Салинз412.
По расчетам историков, французский средневековый крестьянин проводил
в трудах около 1200 ч в год, что соответствует 120 рабочим дням (при работе по
10 ч в день) или 23-часовой рабочей неделе. Российский крестьянин при крепо¬
стном праве работал несколько больше — около 135 дней в год (см. табл. 12.6).
«Удовлетворив свою первейшую потребность — в пище, средневековые люди име¬
ли очень немного. Но, мало заботясь о благосостоянии, они всем готовы были по¬
жертвовать, если только это было в их власти, ради видимости. Их единственной
глубокой и бескорыстной радостью был праздник и игра, хотя у великих и сильных
и праздник тоже являлся хвастовством и выставлением себя напоказ. Замок, цер¬
ковь, город — все служило театральными декорациями. Симптоматично, что сред¬
ние века не знали специального места для театрального представления. Там, где
был центр общественной жизни, импровизировались сценки и представления.
В церкви праздником были религиозные церемонии, а из литургических драм уже
просто получался театр. <.. .> Во всех слоях общества семейные праздники превра¬
щались в разорительные церемонии. Свадьбы вызывали оскудение крестьян на го¬
ды, а сеньоров — на месяцы. <.. .> Даже церкви пришлось примириться с тем, что
473
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
ее изображали в маскараде Праздника дураков. И особенно увлекали все слои об¬
щества музыка, песня, танец. Церковное пение, замысловатые танцы в замках, на¬
родные пляски крестьян. Все средневековое общество забавлялось самим собою.
Монахи и клирики совершенствовались в вокализах григорианских хоралов, сеньо¬
ры — в модуляциях мирских песнопений; крестьяне — в звукоподражаниях шарива-
ри. Определение этой средневековой радости дал Блаженный Августин. Он назвал ее
ликованием, “бессловесным криком радости”. И вот, поднявшись над бедствиями,
жестокостями, угрозами, средневековые люди обретали забвение, чувство уверенно¬
сти и внутренней свободы в музыке, которая пронизывала их жизнь. Они ликова¬
ли»413. Эти слова Ле Гофа особенно примечательны, если вспомнить, что Средневе¬
ковье, по его мнению, «длилось со II—III столетия поздней Античности, по существу,
до XVIII в., постепенно изживая себя перед лицом Французской революции, промыш¬
ленного переворота XIX в. и великих перемен века двадцатого. Мы живем среди по¬
следних материальных и интеллектуальных остатков Средневековья»414. Вспоми¬
нается П. Д. Боборыкин (1836—1921), который в своих мемуарах пишет о крепо¬
стных (!): «Отношение к крестьянству как к особому сословию и к деревенской
жизни вынесли мы отнюдь не презирающее или унизительно-жалостливое, а поч¬
тительное и заинтересованное в самом лучшем смысле (курсив мой. — Б. М).
Деревня была для нас символом приволья, свободы от срочных занятий, просто¬
ра, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских работ, охоты, игр с ребятиш¬
ками, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт выступал перед вами, до са¬
мых его глубоких устоев, до легенд и поверий древнеязыческого склада»415.
Умеренность в потребностях как особый образ жизни, как особая культура,
дает свободу и много свободного времени. В русской пословице «Время деньгу
дает, а на деньги времени не купишь» заключается большой смысл. Найти изобилие
в умеренности — это высокая философия.
Человеческий капитал России за 1000 лет
В этом подразделе я рассмотрю, как изменился человеческий капитал России
в последнюю тысячу лет, какая роль в этом принадлежала коллективным
представлениям и какое влияние он оказал на модернизации России.
Развитие грамотности в России с X до конца XIX в.
Есть разные измерители величины человеческого капитала, наиболее прос¬
той — уровень грамотности. Понятие «грамотность» имеет два значения: (1) уме¬
ние читать и3 писать и (2) наличие определенных знаний в какой-нибудь области.
В первом смысле грамотность — средство получения знания, во втором — сумма
знаний.
Историю грамотности в России для удобства анализа разделим на пять пе¬
риодов: 1) древнерусский, X—середина XIII в. (до монгольского нашествия);
2) Московский, середина XIII—конец XVII в.; 3) имперский, XVIII в. — 1917 г.;
4) советский, с 1917 г.; 5) постсоветский, с 1991 г.. Для каждого из этих перио¬
дов сохранились специфические источники сведений о грамотности, требую¬
щие специальной методики их обработки.
474
Человеческий капитал России за 1000 лет
До 1950-х гг. о распространении грамотности в Древнерусском государстве
исследователи судили главным образом по найденным в ходе археологических
раскопок письменным принадлежностям, а также по владельческим записям на
ремесленных изделиях, по колодкам с именами заказчиков и по граффити. Наи¬
более ранние из этих находок относятся к X—XI вв.416 В 1951 г. во время раско¬
пок в Великом Новгороде были впервые найдены берестяные грамоты, и на сего¬
дняшний день в девяти древнерусских городах обнаружено уже более тысячи
грамот, датированных XI—XV вв. Практически во всех остальных древнерус¬
ских городах найдены орудия письма на бересте. Характер записей и число нахо¬
док указывают на распространение грамотности и ее разнообразных функциях417.
В результате сложилось мнение: в Новгородском княжестве (а возможно, и в
других русских землях) чуть ли не поголовно все взрослое население, включая
женщин, владело грамотой. Без всякого критического разбора это представление
перекочевало во все учебники и труды по истории культуры418. Между тем если
оно соответствует действительности, то неясно, как и почему в дальнейшем нов¬
городцы утратили грамотность, учитывая, что княжество не подвергалось мон¬
гольскому нашествию и благоденствовало вплоть до его присоединения в 1478 г.
к Великому княжеству Московскому. В имеющихся источниках за XVI—XIX вв.
нет свидетельств о высоком уровне грамотности, а по переписи 1897 г. в Новго¬
родской губернии грамотных в возрасте старше 9 лет насчитывалось лишь 30 %
от всего населения, в том числе мужчин — 43 %419.
Исходя из этого, Б. В. Сапунов оспорил тезис о поголовной грамотности и по¬
пытался оценить степень ее распространения в середине XIII в. следующим обра¬
зом. В целом на территории Древнерусского государства он насчитал около
10 тыс. церквей и 300 монастырей. Если в каждой из 1,3—1,5 тыс. городских
церквей имелось по 5 человек клира, в каждой из 8—9 тыс. сельских церквей —
трое, а в каждом монастыре — 30—50 монашествующих, то всего насчитывалось
около 50 тыс. представителей черного и белого духовенства. Считая грамотным
все духовенство, а также все 20 тыс. представителей знати и горожан, а негра¬
мотными — крестьян и женщин всех сословий, Сапунов оценил уровень грамот¬
ности семимиллионного населения Древнерусского государства перед монголь¬
ским нашествием в 1 %, а среди мужчин в возрасте старше 9 лет — в 2,6 %. Ми¬
нимальный уровень грамотности в городах в соответствии с этой методикой со¬
ставлял около 6,5 % от населения в возрасте старше 9 лет, а только среди муж¬
чин— 13 %. Отметим, в основе расчетов Сапунова лежит много вероятных, но
отнюдь небесспорных посылок: число церквей и монастырей, белого и черного
духовенства, городского и сельского населения, количество обращавшихся
в Древнерусском государстве X—ХШ вв. книг (порядка 130—140 тыс.)420. И тем
не менее итоговая оценка не лишена оснований: через пять столетий, в конце
XVIII в., когда мы имеем более или менее точные данные, грамотность населения
в возрасте старше 9 лет была, как и следовало ожидать, учитывая медленный
прогресс грамотности, несколько выше — в среднем по России от 3 до 7 % (под¬
робнее об этом ниже).
Трудно сомневаться, что в дальнейшем, вплоть до конца XVII в., грамотность
населения постепенно росла. Об этом свидетельствует возрастание числа граффити
475
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
и археологических находок, связанных с письмом421, усложнение задач управления
и рост делопроизводственной документации, увеличение количества сохранив¬
шихся письменных памятников, развитие почерков, приспособленных для письма
с большой скоростью, распространение христианства, культуры и расширение то-
варно-денежных отношении . Всего один пример: число сохранившихся русских
книг и их фрагментов одного только XV в. в 2 раза превышает аналогичный пока¬
затель за весь период с X по XIV в., т. е. в 8 раз превышает среднее число книг,
созданных в среднем за столетие в предшествующие 400 лет423. Даже если принять
во внимание увеличение численности населения, то все равно увеличение числа
книг шло в прогрессирующем темпе, значительно обгоняя рост населения.
Для оценки уровня грамотности в XIV—XVII вв. историки используют другие
источники и иной метод — статистику подписей на документах. При составле¬
нии купчих, меновых, закладных, духовных и других документов требовались
либо собственноручные подписи участников сделки и ее свидетелей, либо под¬
пись третьего лица, удостоверяющая, что участник или свидетель неграмотен.
Предполагается: систематический подсчет собственноручных подписей на боль¬
шом количестве актов, охватывающих территории многих уездов за длительный
отрезок времени, дает репрезентативную картину грамотности мужского пола
(поскольку женщины в качестве свидетелей не привлекались). Согласно подсче¬
там первого исследователя древнерусской грамотности А. И. Соболевского,
в XVI—XVII вв. грамотных крестьян насчитывалось не менее 15 % , горожан —
20—43 %, землевладельцев — 55—80 %, придворных феодалов — 78 %, белого
духовенства — 100%, черного духовенства (монахов) — 70 %424. К близким
цифрам приходят и другие авторы: по их подсчетам на частных актах в XVI в.
собственноручно расписывались 60—80 % свидетелей425.
Исследование грамотности по подписям имеет ряд существенных недостатков:
число подписей невелико — всего несколько десятков; подписи не дают устойчи¬
вых и точных данных об уровне грамотности, потому что результат в значительной
мере зависит от того, на каких документах учитываются подписи426; грамотность
завышается, так как в свидетели старались приглашать по возможности грамотных
людей427. Поэтому значительно большего доверия заслуживают данные, получен¬
ные в ходе поголовного допроса свидетелей во время судебного следствия или ос¬
нованы на списках грамотных людей, составленных властями.
К концу XVII в. грамотность торгово-ремесленного населения возросла428.
В последней трети XVII в. грамотность городского населения (Москва и Смо¬
ленск, северные и сибирские города) находилась в интервале от 13 до 52 % , кре¬
стьянства — от 4 до 25 % , если судить о ней по подписям на коллективных про-
429 1
шениях и частных актах . Однако уровень грамотности городского населения
резко падает, если основываться на более массовых сведениях о подписях свиде¬
телей при судебных разбирательствах и во время следствий. Например, статисти¬
ка подписей под коллективными челобитными москвичей в конце XVII в. дает
25—52 % грамотных, статистика подписей в судебных делах — 24 %, а поголов¬
ный допрос свидетелей во время следствия выявил только 13 % грамотных муж¬
чин430. Аналогичные данные получаем по другим городам431. Например, согласно
составленным местной администрацией спискам грамотных крестьян в северных
476
Человеческий капитал России за 1000 лет
уездах России среди мужчин грамотность составляла 2—4 % , а судя по подпи¬
сям на прошениях и частных актах — 5—25 %432. Соответственно, наиболее ве¬
роятным представляется цифра 13 % грамотных среди москвичей (в других горо¬
дах страны этот показатель был и того ниже433) и 2—4 % среди жителей деревни.
Источники о грамотности в период империи более разнообразны. В первой тре¬
ти XVIII в., согласно статистической обработке подписей купцов-товаровла-
дельцев в таможенных книгах, грамотность купечества — наиболее состоятельной
части городского населения — достигала 42 %434. Обработка самого массового
источника — подписей в опросных анкетах (сказках), заполнявшихся во время пе¬
реписей населения (ревизий), позволяет заключить: уровень грамотности торгово-
промышленного населения городов колебался от 4 до 13 %435. Например, в городе
Торжке 1710 г. в 124 (19%) из 650 учтенных посадских дворов доля грамотных
мужчин в возрасте 15 лет и старше составляла 12,5 %. Среди тех, кто занимался
преимущественно торговлей, грамотных (умевших читать, писать и считать) на¬
считывалось 51,6 %, в том числе в первостатейных дворах — 100 %, в среднеста¬
тейных — 58,7 %436. Статистика подписей под коллективными прошениями север¬
ных крестьян дает близкую цифру — 9 % грамотных437. О ситуации в последней
трети XVIII в. можно судить по массовым данным рекрутских наборов и перепи¬
сей населения, разработанных пока для небольшой части территории страны и не
за все годы. Найденные мною списки о 29 557 новобранцах, призванных в 1732—
1796 гг., показывают: грамотность рекрутов в XVIII в. не обнаружила какой-либо
устойчивой тенденции к росту или снижению (табл. 12.12).
Таблица 12.12
Грамотность рекрутов в XVIII—первой половине XIX в.
Годы
Губернии
Численность рекрутов
Грамотность, %
Мещане
Крестьяне
Итого
Мещане
Крестьяне
Итого
1732—1756
16 губерний
102
4204
4306
13,7
0,4
0,5
1768—1787
20 губерний
153
11 251
11 404
17,0
0,1
0,3
1788—1796
23 губернии
188
13 659
13 847
11,7
0,5
1,2
1802—1828
13 губерний
41
2682
2723
34,1
1,9
2,4
1840—1855
Симбирская
47
10314
10 361
21,3
3,1
3,2
Источник: Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России:
XVIII—начале XX века. 2-е изд. М., 2012. С. 156.
Среди мужской половины дворянства, согласно проверке в Департаменте
Герольдии Правительствующего Сената, умеющих писать и читать, в 1760-е гг.
насчитывалось 84 %, а согласно статистике подписей под дворянскими наказа¬
ми в Комиссию по составлению нового Уложения 1767 г. — 87 %438. В 1785 г.
в Архангельской и Олонецкой губерниях коронная администрация провела
подворную перепись, специально фиксировавшую умение читать. Согласно ей,
в Архангельской губернии грамотность государственных и экономических
(бывших монастырских) крестьян мужского пола достигала 12 %, а дворцовых
477
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
крестьян — 6 %; в Олонецкой губернии среди государственных крестьян име¬
лось 3 % грамотных, среди экономических — 4,5 %439. Уровень грамотности ко¬
лебался не только от сословия к сословию, но и среди крестьян различных регио¬
нов. Например, на Севере, где отсутствовало крепостное право и были широко
развиты всякого рода промыслы, грамотных крестьян насчитывалось в 5—10 раз
больше, чем в центральных регионах.
Таким образом, к концу XVIII в. показатели мужской грамотности у крестьян
находились в пределах 1—12 %, у горожан 20—25 %. Среди сословий наивыс¬
шей грамотностью отличалось дворянство (84—87 %), затем следовало духовен¬
ство (свыше 75 %), купечество, мещанство, работные люди и последним — кре¬
стьянство. У последнего самая низкая грамотность наблюдалась у помещичьих
крестьян. Женщины намного уступали мужчинам, но сколько-нибудь точные
данные об уровне их грамотности пока не получены.
Для XIX—начала XX в. основные сведения о грамотности населения стали
давать переписи, рекрутские наборы и уголовная статистика. Однако обработаны
эти источники слабо, и более или менее массовыми данными мы располагаем
лишь на середину XIX в., в канун отмены крепостного права, и на 1880-е гг.
В 1806 г., по сведениям уездных исправников, в Вятской губернии среди взрос¬
лого мужского населения насчитывалось 0,77% — от 0,17% в Яранском до
1,3 % в Котельницком440. К 1860-м гг. грамотность (умение читать) мужской час¬
ти крестьян в шести (из 69) губерний (Вологодской, Псковской, Саратовской,
Симбирской, Тульской) составляла около 6 % (в том числе дворцовых и государ¬
ственных крестьян — 9 %, помещичьих — 5 %), грамотность населения 20 городов
4 губерний — около 25 %441. Среди 2569 крестьян, осужденных в 1837—1845 гт. за
неповиновение помещикам, грамотных имелось всего 8,4 %442. К середине 1880-х гг.
грамотность мужской половины крестьянства 22 губерний (из 81) достигла 15 %,
женской — 2,5 %443.
Изменение грамотности новобранцев в пореформенное время отражают свод¬
ные данные о рекрутских наборах из РГИА (табл. 12.13).
Таблица 12.13
Средняя грамотность всех российских новобранцев в 1867—1913 гг. (%)
1867—1868 гг.
1874—1883 гг.
1884—1893 гг.
1894—1903 гг.
1904—1913 гг.
9,2
21,9
30,7
45,5
62,6
Источники: Миронов Б. Н. Благосостояние населения ... С. 156 ; Рашин А. Г. Населе¬
ние России за 100 лет (1811—1913 гг.): стат. очерки. М., 1956. С. 304.
)
Ретросказание грамотности за 1797—1917 гг.
по данным переписей населения
Первые полноценные всероссийские данные о грамотности относятся к 1897 г.,
когда была проведена первая и последняя всеобщая перепись населения в исто¬
рии дореволюционной России. При проведении переписи грамотными считались
все, кто умел хотя бы читать. Данные переписи подтверждают мое наблюдение:
грамотность существенно дифференцировалась по регионам, сословиям, место¬
478
Человеческий капитал России за 1000 лет
жительству (город, деревня). Например, средняя грамотность населения обоего
пола старше 9 лет составляла в Европейской России 30 %, в том числе в горо¬
де — 58 %, в деревне — 26 %; среди мужчин — 43 %, среди женщин — 22 % .
Минимальная грамотность в Псковской губернии равнялась 19,5 %, а макси¬
мальная грамотность в Эстляндской губернии — 95,3 %445. Это означает: выводы
об уровне грамотности до 1897 г., основанные на отрывочных сведениях, в луч¬
шем случае показывают пределы, в каких колебалась грамотность, а отнюдь не
средний, типичный ее уровень.
Чтобы корректно представить развитие грамотности в России с конца XVII до
начала XX в., мною разработана специальная методика анализа данных первой
всеобщей переписи населения446 (табл. 12.14).
В табл. 12.14 в столбце за 1897 г. приведены данные переписи. Столбцы за
последующие годы заполнены на основе столбца за 1897 г., исходя из действую¬
щего в наше время закона сохранения человеком (а значит, и всей когортой) при¬
обретенной в детстве грамотности. Например, столбец за 1887 г. заполняется
следующим образом: 10—19-летняя возрастная группа в 1887 г. имела тот же
уровень грамотности, что и 20—29-летняя группа в 1897 г.; 20—29-летняя воз¬
растная группа в 1887 г. имела тот же уровень грамотности, что и 30—39-летняя
в 1897 г., и т. д. до 100—109-летней возрастной группы. Столбец за 1877 г. за¬
полнялся аналогичным способом: 10—19-летняя возрастная группа имела тот же
уровень грамотности, что и 20—29-летняя возрастная группа в 1897 г. или 30—
39-летняя возрастная группа в 1897 г.; 20—29-летняя возрастная группа в 1877 г.
имела тот же уровень грамотности, что и 30—39-летняя возрастная группа в 1887 г.
или 40—49-летняя возрастная группа в 1897 г., и т. д. до 90—99-летней возрас¬
тной группы. Пользуясь подобной методикой, заполним табл. 12.14 до 1797 г.
Таблица 12.14
Грамотность женщин по возрастным группам в Европейской России
в 1797—1897 гг. по данным переписи 1897 г. (%)
Возраст,
лет
1897 г.
1887 г.
1877 г.
1867 г.
1857 г.
1847 г.
1837 г.
1827 г.
1817 г.
1807 г.
1797 г.
10—19
22,7
20,3
16,1
13,1
11,6
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
20—29
20,3
16,1
13,1
11,6
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
30—39
16,1
13,1
11,6
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
40—49
13,1
11,6
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
—
50—59
11,6
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
—
—
60—69
10,9
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
—
—
—
70—79
10,3
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
—
—
—
—
80—89
8,6
5,9
4,7
5,4
—
—
—
—
—
—
—
90—99
5,9
4,7
5,4
—
—
—
—
—
—
—
—
100—
109
4,7
5,4
10—19
5,4
Источник: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 60—62.
479
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.27. А. П. Рябушкин (1861—1904). Деревенский учитель. 1881.
Место нахождения неизвестно
Применение методики передвижки возрастных когорт оставляет в исходной
таблице много пробелов. Поначалу они малосущественны для подсчета средней
грамотности по стране, но с 1837 г. начинают все более заметно сказываться на
точности вычислений. Так, за 1827 г. нам уже недостает сведений о 18,8—31,7%,
за 1807 г. — о 49,8 %, а за 1797 г. — о 70,5 % населения. Поэтому для прогноза
грамотности на более отдаленные от переписи годы можно экстраполировать
недостающие данные с помощью уравнения регрессии.
Теперь можно бы перейти к расчету средней грамотности по России и ее ди¬
намики за 100 лет, если бы закон сохранения грамотности действительно работал.
В XIX ё. некоторые жители России с годами утрачивали грамотность, вследствие
того что после обучения практическими не пользовались полученными навыками
чтения и письма. Это явление получило название рецидива неграмотности, или
утраты грамотности447. О темпах рецидива неграмотности в зависимости от пола,
возраста и социального положения можно судить на основе переписей 1897,1920
и 1926 гг., позволяющих сравнить уровень грамотности одних и тех же когорт
спустя 23 и 29 лет. Данные переписей позволяют также вычислить и средние
темпы утраты грамотности по мере старения поколения. Во избежание риска
я сделал две оценки грамотности: принимая и не принимая во внимание рецидив
480
Человеческий капитал России за 1000 лет
неграмотности. Первая оценка дает максимально, вторая — минимально воз¬
можную грамотность. Реальная грамотность будет находиться в интервале ме¬
жду ними.
В результате проделанных расчетов получаем следующую картину динамики гра¬
мотности, т. е. умения читать населения Европейской России за 120 лет (табл. 12.15).
В целом за 120 лет грамотность населения в возрасте старше 9 лет в Евро¬
пейской России повысилась с 3,3—6,9 до 42,8%, в том числе сельского
населения — с 2,7—5,6 до 37,4 % и городского — с 9,2—21,0 до 70,5 %. При¬
чем женщины всегда существенно отставали от мужчин, что отрицательно сказы¬
валось на грамотности детей, а соответственно, и новых поколений жителей Рос¬
сии, так как именно женщины традиционно играли главную роль в воспитании.
Большой интерес представляют и данные о вариации грамотности по сосло¬
виям. Их реконструкция возможна только до 1847 г., потому что в переписи 1897 г.
при расчете сословной грамотности все лица старше 60 лет объединены в одну
возрастную группу.
Приведу результаты реконструкции, опуская однообразные и утомительные
вычисления, совершенно аналогичные тем, кои выполнены при оценке грамотно¬
сти городского и сельского населения (табл. 12.16).
Изменение грамотности у четырех важнейших сословных групп — дворянст¬
ва (сюда входят дворяне потомственные и личные, чиновники не из дворян),
духовенства (черного и белого), городского сословия (имеются в виду почетные
граждане, купцы, мещане, цеховые и пр.) и крестьянства (здесь объединены кре¬
стьяне, казаки, иностранные поселенцы и др.) — происходило следующим обра¬
зом. За 70 лет более всего возросла грамотность городского сословия — с 30 до
64 %, или на 34 пункта; затем духовенства — с 78 до 95 %, или на 27 пунктов;
Рис. 12.28. Сельская школа на открытом воздухе. 1890-е
481
Грамотность населения Европейской России в 1797—1917 гг. в возрасте старше 9 лет (%):
(а) с учетом утраты грамотности после 21 года;
(б) без учета утраты грамотности после 21 года
1917 г.
53,2
22,6
79,8
61,1
37,4
70,5
42,3
1907 г.
45,2
17,0
4
53,0
30,6
63,8
35,3
1897 г.
39,3
СП
69,0
45,6
25,9
57,7
30,1
U
Г-'
00
00
33,2
31,2
11,7
11,3
64,0
63,8
39,8
39,0
21,9
21,2
52,6
52,3
25,6
22,0
1877 г.
26,4
27,7
10,3
9,4
60,0
59,3
35,0
33,1
18,3
оо
оо
47,1
21,7
21,6
1867 г.
22,8
22,2
оо
оС
(N
оо"
56,6
СП
•п
31,9
28,4
16,1
15,0
45,2
42,0
19,1
17,8
1857 г.
19,1
17,4
9,5
сп
4*"
53,3
47,4
29,8
24,5
<ч
12,2
42,5
36,9
16,8
1847 г.
16,1
13,7
Гб
6,5
49,6
40,3
27,9
20,8
12,5
10,0
39,6
31,3
14,9
12,0
1837г.
13,3
10,4
8,5
•п
45,3
32,0
25,4
16,6
10,8
ON
4-"
36,1
25,0
13,0
9,4
1827г.
сГ
•п
14
с>
оо
•п
тГ
40,2
23,5
22,1
12,3
9,4
6,0
31,9
18,3
-
©
4*"
1817 г.
оо
•п
7,2
СП
35,7
4*"
о
оо
8,3
8,0
4,4
27,6
13,1
оС
ЧП
1807 г.
(Ч
14
4,1
6,2
2,7
32,2
13,9
(N
тГ
6,2
4
40
СП
23,9
10,4
оо
ON
СП
1797Т.
6,1
3,3
5,2
2,1
28,6
12,7
12,0
•П
5,6
2,7
21,0
9,2
6,9
3,3
03
ю
03
ю
03
ю
cd
ю
03
ю
cd
ю
cd
ю
Население
Сельское,
мужское
Сельское,
женское
Г ородское,
мужское
Г ородское,
женское
Сельское
Г ородское
В целом
Подсчитано по данным: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 60—62 ; Статистический ежегодник 1922 и 1923 гг. : в 2 вып.
1924. Вып. 1. С. 24—27; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Окончательные итоги : в 7 отд. (сер.), 56 т. М., 1928—1933. Отд.
Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность : в 17 т. М., 1928—1929.
Грамотность населения Европейской России по сословиям в 1847—1917 гг. в возрасте старше 9 лет (%)
1917 г.
06
98
76
95
98
94
64
сн
56
32
64
32
1907 г.
оо
со
97
сн
92
97
ON
59
99
•п
30
57
27
1897 г.
86
95
89
95
86
54
09
47
27
50
22
1887 г.
84
95
68
•п
оо
93
82
48
54
5
(N
43
20
1877 г.
82
94
67
оо
ON
76
44
47
37
ОО
36
ЧО
1867 г.
80
92
64
77
ОО
ОО
70
39
Ti-
34
тг
СП
СП
1857 г.
77
ON
62
72
ОО
64
сн
36
32
(N
27
-
1847 г.
76
89
59
68
82
59
30
сн
СН
30
О
25
ON
Сословие
Дворянство:
город
деревня
Духовенство:
город
деревня
Городское сословие:
город
деревня
Крестьянство:
город
деревня
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
крестьянства — с 10 до 36 %, или на 26 пунктов; дворянства — с 76 до 90 %, или
на 14 пунктов. Как видим, наибольшую активность в приобретении грамоты про¬
явила торгово-промышленная буржуазия. В целом у всех сословий уровни гра¬
мотности заметно сблизились. Монополия господствующего класса на грамот¬
ность оказалась подорванной, однако различия между сословиями оставались
значительными. В 1847 г. максимально высокая грамотность у дворян была на
66 % выше, чем у крестьян, а в 1917 г. максимальная грамотность у духовенст¬
ва — на 59 % выше, чем у крестьян.
Уровень грамотности представителей одного и того же сословия, живших
в городе и деревне, также существенно различался, но в городах меньше, чем
в деревне. Например, во второй половине XIX—начале XX в. коэффициент ва¬
риации между грамотностью четырех сословных групп в городе сократился с 57 до
21 %, а в деревне — с 62 до 41 %. Принадлежность к тому или иному сословию
влияла на грамотность в большей степени, чем место жительства. Очевидно, ур¬
банизация и капитализм, более развитый в городе, пробуждали стремление к об¬
разованию и культурному равенству в городе в большей степени, чем в деревне.
Наконец, рассматривая гендерные особенности в овладении грамотой, отметим:
женщины отставали от мужчин своих сословий. Однако женщины из дворянства
и духовенства превосходили по грамотности мужчин из непривилегированных
сословий, а к 1917 г. практически сравнялись с мужчинами своего статуса.
Имеющиеся фактические данные подтверждают достоверность сведений, полу¬
ченных методом передвижки когорт. Например, и по сведениям земских подвор¬
ных переписей в 1912—1913 гг.448, и по итогам реконструкции на 1917 г. грамот¬
ность проживавшего в деревне крестьянства обоего пола старше 9 лет равнялась
32%. Аналогичные данные за 1880—1887 гг.449 дают соответственно 12—14
и 16—20 %. Расхождения объясняются главным образом тем, что земские цифры
1880-х гг. относились только к 22 великорусским губерниям, в то время данные
реконструкции касаются всей Европейской России. По итогам переписей в 41 го¬
роде (в них проживало больше половины городского населения), проведенных
в 1863—1879 гг., средняя грамотность горожан достигала 38 %450, по данным ре¬
конструкции — 37—47 %.
Ежегодные отчеты Министерства юстиции показывают грамотность осуж¬
денных в возрасте старше 9 лет, близкую к данным реконструкции (табл. 12.17).
Таблица 12.11
Грамотность российских осужденных в возрасте старше 9 лет в 1837—1907 гг. (%)
4-
Годы
1837
1846—
1847
1856—
1857
1866—
1867
1876—
1877
1886—
1887
1896—
1897
1906—
1907
Осужденные
Муж¬
чины
21
19
20
—
27
28
41
47
Жен¬
щины
7
5
8
—
6
6
12
19
Оба
пола
14
13
16
16
17
17
26
33
484
Человеческий капитал России за 1000 лет
Окончание табл. 12.17
Годы
1837
1846—
1847
1856—
1857
1866—
1867
1876—
1877
1886—
1887
1896—
1897
1906—
1907
Все население
Муж¬
чины
15
18
21
26
30
35
42
48
Жен¬
щины
8
9
10
11
12
14
17
21
Оба
пола
9—13
12—15
15—17
18—19
22
22—26
30
35
[ Источники: Отчет Министерства юстиции за [1837—1867] год. СПб., [1839—1869];
[Свод статистических сведений по делам уголовным за [1876—1907] год. СПб., [1878—1910].
г
Грамотность в России и Прибалтике в 1797—1897гг.:
[ поучительные сравнения
Методика ретросказания может быть использована для реконструкции гра¬
мотности не только по стране в целом, но и по отдельным регионам и губерниям.
При этом наиболее точные результаты достигаются для регионов (губерний),
отличающихся однородным этническим составом населения и низким уровнем
миграции — для чувашского, мордовского, татарского, башкирского и прибал¬
тийских народов, поскольку миграционные процессы в местах их проживания,
как правило, проходили в границах этноса. Например, достаточно надежные дан¬
ные о грамотности получены в Эстляндской губернии, где проживали преимуще¬
ственно эстонцы, и для Лифляндской и Курляндской, где проживали главным
образом латыши (табл. 12.18).
Результаты ретросказания в Прибалтике близки к фактическим данным,
имеющимся за ряд лет451. Интересно отметить: реконструкция грамотности
в Прибалтике дает удовлетворительные результаты и без учета рецидива безгра¬
мотности. Значит, у эстонцев и латышей в течение XIX в. рецидив безграмотно¬
сти практически отсутствовал или был весьма незначительным, ввиду того что,
во-первых, начальная школа, благодаря хорошей постановке образования, давала
прочные знания, а грамотность для всех сословий являлась функциональной, т. е.
постоянно использовалась в жизни; во-вторых, миграционные процессы из бело¬
русских, украинских и великороссийских губерний, снижавшие грамотность, не
получили широкого распространения.
В дореволюционной России прибалтийские народы на столетие обогнали дру¬
гие народы страны в деле освоения грамоты. Особенно больших успехов достиг¬
ли эстонцы. В начале XVIII в. среди эстонских крестьян по меньшей мере 10 %
являлись грамотными452 — уровень, достигнутый русским, белорусским и укра¬
инским крестьянством в середине XIX в. В конце XVIII в. грамотность в Эстонии
и Латвии составляла 50—70 % — подобный уровень в других регионах страны
зафиксирован переписью 1926 г. Сплошной грамотности эстонцы и латыши так¬
же добились почти на столетие раньше453. Достижения на культурном поприще
служили важной предпосылкой успехов Прибалтики в экономическом развитии,
485
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Таблица 12.18
Динамика грамотности населения обоего пола старше 9 лет
в прибалтийских губерниях и Европейской России в 1777—1897 гг. (%)
Год
Эстляндская
губерния
Лифляндская
губерния
Курляндская
губерния
Европейская
Россия
1777
65
42
—
—
1787
67
46
23
—
1797
70
50
27
3—7
1807
72
54
30
4—8
1817
73
57
33
5—9
1827
76
63
41
7—11
1837
79
69
48
9—13
1847
83
74
56
12—15
1857
86
79
65
15—17
1867
89
83
72
18—19
1877
92
87
79
20—24
1887
94
89
82
22—26
1897
95
92
85
30
Источник: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 60—62.
по уровню которого на протяжении XVIII—XX вв. регион неизменно являлся
самым передовым в стране. Культурный уровень населения оказывал влияние на
трудовую этику — важнейший фактор хозяйственных успехов. В конце XIX—
начале XX в. у русских (как, впрочем, у белорусов и украинцев) насчитывалось
примерно 258 нерабочих дней в году, в том числе около 70 праздничных (без
воскресений), в то время как у католиков и протестантов в прибалтийских губер¬
ниях — соответственно 40—50 и 15—25. Но и по уровню грамотности право¬
славные уступали католикам и протестантам: у первых в 1897 г. грамотных обое¬
го пола во всем населении насчитывалось 19 %, у католиков — 32, у протестан¬
тов — 70 %454. Рациональное использование времени, буржуазное отношение
к труду были в несравненно большей степени присущи протестантскому и като¬
лическому, чем православному крестьянству. Грамотность способствовала секу¬
ляризации сознания, оказывала влияние на поведение, делая его рациональным
и расчетливым, ориентированным на достижение максимальных результатов.
Наблюдательного поэта А. А. Фета поражала громадная разница, существовав¬
шая в прибалтийских и великорусских губерниях во всем. В 1834—1836 гг. он
учился в городе Верро Лифляндской губернии в пансионе, а через 18 лет, в 1854 г.,
вернулся со своим полком, где он в то время служил, для охраны побережья Бал¬
тийского моря. «При новом вступлении в Остзейский край мне было 34 года, и я не
могу умолчать о произведенном на меня впечатлении культурной страны, которую
глаз беспрестанно сравнивал с нашей Русью. Я должен признаться, что сравниваю
тогдашнее состояние остзейского края, которого не видел с тех пор, с теперешним
положением нашего черноземного населения, близко мне знакомых. Разница вы¬
486
Человеческий капитал России за 1000 лет
ходит громадная. Почва этого края не выдерживает никакого сравнения с нашей
черноземной полосою, а между тем жители сумели воспользоваться всеми данными,
чтобы добиться не только верного, но и прочного благоустройства. Поля воздела¬
ны со всевозможною тщательностью, всюду проложили не широкие, но прекрасно
содержанные шоссе; леса, дичина и рыболовство не подвергнуты беспощадному
расхищению; небольшие, круглые и сильные крестьянские лошади прекрасно со-
держаны, и вы не встретите ни тощих кляч, попадающихся у нас на каждом шагу,
ни нищих. Все дворянские дома и усадьбы, переходящие от отца к сыну, массивно
сложены из гранитных камней, обильно разбросанных по полям. Таким образом,
камни сослужили две службы: сошли с полей и построили усадьбы и шоссе. Дво¬
ряне не дробят имений, а передают их одному из сыновей, помогающему братьям
на избранном ими поприще государственной или частной службы. Дочери богатого
графа, обносящие вокруг стола кушанья, ясно указывают на то, что дворяне пола¬
гают унижение своего достоинства не в этом акте и ему подобных, а в чем-то дру¬
гом, хотя преисполнены чувством собственного достоинства никак не менее на¬
ших, и не сразу бы поняли слово “опроститься”. Словом, весь жизненный строй
напоминает растение, расцвет которого не мешает ему глубоко пускать корни
в почву, запасаясь все новыми силами»455.
Динамика грамотности в России за 1000 лет
В советское время переписи проходили регулярно, благодаря этому возможно
проследить динамику грамотности вплоть до настоящего времени (табл. 12.19).
Приведенные в табл. 12.19 данные более или менее правильно отражают ди¬
намику умения читать и писать, но не показывают изменение уровня знаний: по¬
давляющее число грамотных до 1926 г. обладало элементарной грамотностью —
умением читать, писать и считать, в то время как с конца 1920-х гг. значительное,
а с 1970 г. преобладающее число людей имело полное и неполное среднее обра¬
зование. При сравнении данных о грамотности за разные годы мы по необходи¬
мости уравняем тех, кто умел только читать, с теми, кто приобрел более обшир¬
ные знания и навыки в начальной, средней и высшей школе. Поэтому для более
адекватной оценки изменений в уровне образования населения в XX в. по срав¬
нению с XIX в. введем более эластичный показатель — среднее число лет обуче¬
ния. Для 1797—1926 гг. он рассчитывался следующим образом. Сначала по про¬
центу грамотных определялось количество грамотных; затем вычислялось сум¬
марное число лет обучения населения в возрасте старше 9 лет за счет начального
образования путем умножения количества грамотных на два — среднее число
лет обучения каждого грамотного человека в начальной школе45 . Суммарное
число лет обучения в начальной школе делилось на численность населения в воз¬
расте старше 9 лет и получалось среднее число лет обучения за счет начальной
школы. После этого по численности лиц со средним и высшим образованием
и длительности обучения в средней и высшей школе вычислялось суммарное
число лет обучения за счет среднего и высшего образования, принимая за число
лет, проведенных в средних учебных заведениях (сверх двух лет, отданных на¬
чальной школе), 10 лет, в высших — 14 лет. Полученная цифра делилась на чис¬
487
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
ленность населения в возрасте старше 9 лет, и определялось среднее число лет
обучения одного человека за счет среднего и высшего образования. Сложение
числа лет обучения одного человека за счет начальной, средней и высшей школы
дает искомую величину — число лет обучения одного человека за счет всех ви¬
дов обучения. Уровень образованности населения в 1926—1987 гг. определялся
по данным об образовательной структуре населения с учетом того, что полное
начальное образование требовало до 1964 г. 4 лет обучения, с 1965 г. — 3 лет,
неполное среднее образование — соответственно 7 и 8 лет, полное общее среднее
образование — в 1926—1987 годах — 10 лет, среднее специальное образова¬
ние — 12 лет, незаконченное высшее образование — 13 лет, законченное высшее
образование до 1959 г. — 14,5 лет, с 1960 г. — 15 лет (табл. 12.20).
Таблица 12.19
Развитие грамотности в России в XIII—начале XXI в.
(% грамотных в возрасте 10 лет и старше)"
Период
Сельское население
Городское население
Все население
Муж.
Жен.
Всего
Муж.
Жен.
Всего
Муж.
Жен.
Всего
Около
середины
XIII в.
2—3
—
1—1,5
12—13
—
6—7
2—3
—
1—1,5
Конец XVII в.
4
—
2
13—14
—
8—9
4—5
—
2—2,5
1797 г.
5
2
3,5
21
5
13
6
2
4
1847 г.
15
8
11
45
24
35
18
9
13
1897 г.
35,5
12,5
23,8
66,1
45,7
57,0
40,3
16,6
28,4
1920 г.
52,4
25,2
37,8
80,7
66,7
73,5
57,6
32,3
44,1
1926 г.
67,3
35,4
50,6
88,0
73,9
80,9
71,5
42,7
56,6
1939 г.
91,6
76,8
84,0
97,1
90,7
93,8
93,5
81,6
87,4
1959 г.
99,1
97,5
98,2
99,5
98,1
98,7
99,3
97,8
98,5
1970 г.
99,6
99,4
99,5
99,9
99,8
99,8
99,8
99,7
99,7
1979 г.
99,6
99,5
99,6
99,9
99,9
99,9
99,8
99,8
99,8
2002 г.
99,4
98,3
98,8
99,9
99,6
99,7
99,7
99,3
99,5
2010 г.
—
—
—
—
—
—
99,8
99,6
99,7
Источники: табл. 21.15; Итоги переписи 1939 г. // Вестник статистики. 1956. № 6.
С. 89—90; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР: сводный том. М., 1962;
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.: в 7 т. М., 1972. Т. 3 ; Всесоюзная перепись
населения 1979 г. / А. А. Исупов, Н. 3. Шварцер (ред.). М., 1984 ; Народное образование, наука
и культура в СССР : стат. сб. М., 1977 ; Народное образование и культура в СССР : стат. сб.
М, 1989 ; Народное хозяйство СССР в [1956—1987] году : стат. ежегодник. М., [1957—1988];
Всероссийская перепись 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=l 1 (дата об¬
ращения: 26.04.2014); Всероссийская перепись 2010 года. URL: http://www.perepis-
2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php (дата обращения: 26.04.2014). ** За 1797—1917 гг. данные по Европейской России; за 1920—1987 гг. — в текущих грани¬
цах СССР 1920—1979 гг.; 2002 и 2010 гг. — Российская Федерация.
488
Человеческий капитал России за 1000 лет
Таблица 12.20
Среднее число лет обучения одного человека в возрасте 10 лет
и старше за счет всех видов образования в 1797—2002 гг.
1797 г.
1807 г.
1817 г.
1827 г.
1837 г.
1847 г.
1857 г.
1867 г.
1877 г.
1887 г.
1897 г.
0,127
0,148
0,179
0,222
0,270
0,320
0,367
0,435
0,516
0,592
0,762
Продолжение табл. 12.20
1907 г.
1917 г.
1927 г.
1937 г.
1947 г.
1957 г.
1967 г.
1977 г.
1989 г.
2002 г.
0,930
1,112
1,502
3,376
5,442
6,048
6,974
7,861
8,833
9,770
Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 56—67 ; Статистический
ежегодник 1922 и 1923 гг. Вып. 1. С. 24—27 ; Всесоюзная перепись населения 1926 года.
Окончательные итоги. Отд. 1, т. 17; Итоги переписи 1939 г. С. 89—90; Итоги Всесоюзной
переписи населения 1959 г. СССР : сводный том ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.
Т. 3 ; Всесоюзная перепись населения 1979 г.; Народное образование, наука и культура в СССР :
стат. сб. М., 1977; Народное хозяйство СССР в [1956—1989] году: стат. ежегодник. М.,
[1957—1990]. За 1797—1917 гг. данные по Европейской России, за 1920—1987 гг. — в теку¬
щих границах СССР, за 2002 г. — Российская Федерация (URL: http://www.perepis2002.ru/
index. html?id=l 1).
Собранные и систематизированные данные о динамике уровня образованно¬
сти населения России в X—XX вв. являются ориентировочными и приблизи¬
тельными. Они учитывают уровень образования только с формальной, количест¬
венной стороны — сколько лет потрачено на обучение. Между тем не менее
важное значение имеют программы и качество обучения. И то и другое очень
сильно изменилось, например произошел сдвиг от гуманитарного к естественно¬
техническому образованию. Оценка полученных в учебных заведениях XVIII—
XX вв. знаний по-прежнему ждет своего исследователя, и работа эта, несомнен¬
но, преподнесет немало сюрпризов. Например, восхищаясь по традиции выпуск¬
никами дореволюционных гимназий и университетов, мы забываем, как мало
знаний они получали по сравнению с сегодняшними школьниками и студентами.
Известный педагог XIX в. А. Д. Галахов (1807—1892) сравнил объем знаний,
полученных им после окончания 6-летней гимназии в 1822 г., с тем, что давала
гимназия через 54 года — в 1876 г., и пришел к выводу: выпускники 1822 г. едва
ли выдержали бы экзамен за 4-й класс 8-летней гимназии 1876 г. Другими слова¬
ми, 6 лет обучения в гимназии 1822 г. равноценны 3—4 годам обучения в гимна¬
зии 1876 г. За 54 года (это всего два поколения) программа обучения существенно
изменилась, хотя набор предметов практически остался прежним. Правда, тот же
Галахов полагает: глубина усвоения знаний была выше в 1822 г., так как повто¬
ряемое по многу раз лучше усваивалось457.
Относительно качества обучения, то с конца XIX в., когда образование стано¬
вится все более массовым, оно имело тенденцию постоянно ухудшаться, так как
долгосрочное образование заменялось краткосрочным, очное — вечерним и за¬
очным, а уровень преподавания и требования к глубине знаний постепенно по¬
нижались. Но самое существенное в другом: формальный объем знаний все время
повышался, но усвоить его на прежнем уровне становилось просто невозможно.
Вряд ли когда-нибудь эти факторы удастся учесть и построить динамический
489
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.29. А. И. Морозов (1835—1904). Сельская бесплатная школа. 1865.
Государственная Третьяковская галерея
ряд, совершенно точно отражающий истинное изменение уровня образованности
населения страны.
Человеческий капитал в России и на Западе:
отставание и его причины
В западноевропейских странах грамотность населения практически всегда на¬
ходилась на более высоком уровне, чем в России. Но до конца XVI в. сведения
о ней немногочисленны и отрывочны, а вплоть до середины XIX в. ее оценка
проводилась на основании подписей новобрачных при заключении брака. По¬
скольку в брак вступало не менее 80 % населения, данный источник позволяет
оценить процент грамотных надежнее, чем данные о подписях в русских доку¬
ментах. Поскольку, однако, научиться подписываться мог и неграмотный, дан¬
ные о грамотности на Западе несколько преувеличивают ее истинный уровень,
но насколько J— сказать нельзя. Во Флоренции первой половины XVI в. доля
умеющих читать среди взрослого населения обоего пола находилась в интервале
25—35 %, в Лондоне 1460-х гг. среди взрослого мужского населения она достиг¬
ла 40 %, по всем английским городам в целом доля грамотных в это же время
составляла 25%, а во всем населении страны 6—13% (женская грамотность
примерно в 2 раза ниже). Во Франции в первой половине XVI в. умеющих под¬
писываться среди крестьянства насчитывалось 3—10 %458. Однако до появления
книгопечатания грамотность мужского населения в европейских странах и Рос¬
сии различалась несущественно — 5—10 % против 3—5 % . Но после Реформа¬
490
Человеческий капитал России за 1000 лет
ции, начиная с XVII в., разрыв стал увеличиваться и своего максимума достиг
к концу XIX в., после чего стал сокращаться и был окончательно ликвидирован
в 1950-е гг. (табл. 12.21).
Таблица 12.21
Грамотность мужчин (М) и женщин (Ж) в возрасте старше 9—15 лет
в разных странах в XVII—XX вв. (%)*
Страна
Пол
1600 г.
1700 г.
1800 г.
1850 г.
1889 г.
1913 г.
1920 г.
1939 г.
1959 г.
1980 г.
Россия/СССР
М
—
—
4—8
19
31
54
58
94
99,1
99,8
Ж
—
—
2—6
10
13
26
32
82
97,5
99,8
Австрия
М
—
—
—
зз"
74
81***
—
—
—
99,5
Ж
—
—
—
19**
60
75***
—
—
—
99,5
Великобри-
тания
М
24**
47**
68"
72**
91**
99**
—
—
98,0
99,5
Ж
и"
31"
43**
45**
89**
99"
—
—
98,0
99,5
США
м
—
65"
70"
81**
88**
93**
94
96
98,0
99,5
ж
—
33**
45**
76**
85**
93**
94
96
98,0
99,5
Г ермания
м
—
—
80**
86**
97**
99**
—
—
98,0
99,5
ж
—
—
50**
84**
95**
99**
—
—
98,0
99,5
Франция
м
16"
29**
47"
69**
89**
95**
95
95
96,0
99,5
ж
—
14**
27"
46**
81**
94**
93
96
96,0
99,5
Япония
м
—
—
—
54—
75***
97**
98"
98**
99
99,0
99,5
ж
—
—
—
19—
21*"
—
—
—
97
96,7
99,5
Источники указаны в примем, к табл. 9 Статистического приложения в т. 3 наст. изд.
* В России грамотность — умение читать, в прочих странах — писать и читать.
** Грамотность населения в возрасте старше 20 лет.
*** Доля детей школьного возраста, посещавших школу.
Чем же можно объяснить длительное и хроническое отставание России по
уровню грамотности от Европы? Вопрос этот плохо изучен. Укажу на факторы,
оказывавшие, по моему мнению, наиболее существенное влияние.
По-видимому, важная причина медленного развития грамотности в Древне¬
русском государстве и Московский Руси состояла в свойственном православному
человеку недоверии к знанию и рассуждению, в отрицании роли разума в делах
веры, в убеждении, что высшие истины познаются через созерцание, чувство
и нравственный подвиг. Католики думают по-другому: знание помогает постичь
божественную истину. Вторая причина состояла в уверенности, что русское име¬
ет приоритет над иностранным, поскольку православие — единственно истинное
вероучение. Под влиянием этих установок философского и обыденного сознания
в России сложилось негативное отношение к западноевропейской школе и сво-
491
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
бодной науке, поскольку их считали органической частью западной культуры
проводниками влияния католической, а позднее и протестантской церкви, пред¬
ставлявших, по мнению русских, прямую угрозу национальной русской культу¬
ре. Поэтому-то латынь — международный язык науки — находилась в России дс
XVIII в. под запретом, а простыми людьми воспринималась как ересь. Несколько
трансформировавшись, эти представления благополучно дожили в сознании рус¬
ского крестьянства — а в 1897 г. это 85 % населения страны — до начала XX в
«Не будь грамотен, будь памятен!» — гласила русская пословица. Крестьяне соз¬
нательно и успешно сопротивлялись проникновению в деревню грамотности и че¬
рез нее западных культурных стандартов ради сохранения традиционных устое!
своей жизни. Своим сыновьям они давали возможность получить только мини¬
мальные знания, необходимые в быту, после чего запрещали ходить в школу459.
О наличии связи между антиобразовательной парадигмой и вероисповеда¬
нием свидетельствует следующий факт: во включенной в состав России в начале
XVIII в. Прибалтике, где наибольшее распространение получили протесташтш
и католичество, грамотность всегда находилась на более высоком уровне
и развивалась в XVIII—XIX вв. намного быстрее, чем в русских районах. В кон¬
це XVIII в. в протестантской по преимуществу Эстляндской губернии уровеш
грамотности населения обоего пола в возрасте старше 9 лет составлял около
70 %, в протестантско-католической Лифляндской губернии — 50, а в католи¬
ческой по преимуществу Курляндской губернии — 27 %. Через 100 лет, в 1897 г.
доля грамотных достигла в Эстляндии 95 %, в Лифляндии — 92, в Курляндии —
85 %.
Широко распространенное представление, будто русская школа давала проч¬
ные и глубокие знания, не соответствует действительности — как по объектив¬
ным причинам — слабая материальная база школ (иногда занятия проходили ш
открытом воздухе, рис. 12.28), невысокое качество преподавания и низкая посе¬
щаемость, так и по субъективным — отсутствие высокой мотивации в получе¬
нии образования. Конечно, это не означает, что все школы давали слабое обра¬
зование. Они были разными, и диапазон качества обучения сильно варьировав
(рис. 12.28—12.31, 12.33).
Однако в деревне и провинциальных городах уровень начального образова¬
ния, как правило, не являлся высоким. В конце XIX—начале XX в. дети училиа
в начальной школе около 2 лет, однако в сельской местности они пропускали дс
половины занятий из-за болезней, плохой погоды, срочной работы (дети активнс
участвовали в домашних и сельскохозяйственных работах), отсутствия одеждь
и обуви, местных праздников, разных семейных обстоятельств и т. п.461
Качество обучения желало лучшего также в гимназиях и университетах. Ко
гда отец поэта А. А. Фета привез его в Петербург в 1834 г. с намерением отдат!
учиться в столичное заведение, то «[В. А.] Жуковский положительно посовето¬
вал везти меня (А. А. Фета. — Б. М) в Дерпт». Впоследствии Фет положитель¬
но оценивал качество обучения в учебных заведениях Прибалтики, включа5
Дерптский университет, благодаря высокому уровню преподавания463. П. Д. Бо¬
борыкин, обучавшийся в казанской гимназии, потом в Казанском (1853—1854^
и Дерптском (1855—1860) университетах, очень лестно отзывался о качеств*
492
Человеческий капитал России за 1000 лет
Рис. 12.30. Татарская школа в Крыму. 1900-е
обучения в Дерпте. «Уровень был действительно повышен, особенно в сравнении
с Казанским университетом. <...> Чтобы наглядно убедиться в громадной разни¬
це “академических” порядков в Казани и Дерпте — стоит перечесть в моем ро¬
мане описание экзаменов там и тут. В Казани экзаменовались, как школьники,
иногда даже с своими билетами, выдергивая их из-под обшлага мундира, в акто¬
вой зале, навытяжку перед столом экзаменатора. В Дерпте не было и тогда кур¬
совых экзаменов ни на одном факультете. Главные предметы сдавали в два сро¬
ка: первая половина у медиков “philosophicum”; а у остальных “rigorosum”. Вы
приходили к профессору, и у него на квартире или в кабинете, в лаборатории —
садились перед ним и давали ему вашу матрикульную книжечку, где он и произ¬
водил отметки. По химии мой двухлетний rigorosum продолжался целый день,
в два приема, с глазу на глаз с профессором и без всяких других формальностей.
Но из одного такого испытания можно бы выкроить дюжину казанских студен¬
ческих экзаменов. Почти так экзаменуют у нас разве магистрантов. <...> Если
б прикинуть Дерптский университет к германским, он, конечно, оказался бы ни¬
же таких, как Берлинский, Гейдельбергский или Боннский. Но в пределах России
он давал все существенное из того, что немецкая нация вырабатывала на Западе.
<...> Как “возделыватель” науки, студент не знал никаких стеснений;
а если не попадался в кутежных и дуэльных историях, то мог совершенно игно¬
493
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
рировать всякую инспекцию. Его не заставляли ходить к обедне, носить треугол¬
ку, не переписывали на лекциях или в шинельных, как делали еще у нас в недав¬
нее время. <...> При том же стремлении к строгому знанию, по самому складу
жизни в Казани, Москве или Петербурге, нельзя было так устроить свою студен¬
ческую жизнь — в интересах чисто научных, как в тихих “Ливонских Афинах”,
где некутящего молодого человека, ушедшего из корпорации, ничто не отвлекало
от обихода, ограниченного университетом с его клиниками, кабинетами, библио¬
текой — и не веселого, но бодрящего и целомудренного одиночества в дешевой,
студенческой мансарде. Словом, для общеевропейского умственного роста —
находил это и я, и все, кто приезжал сюда учиться, а не “шалдашничать” —
Дерпт, как университет немецко-остзейского склада, мог дать очень многое» .
Наблюдения Боборыкина могут быть распространены и на среднюю российскую
школу, включая гимназии.
Можно, впрочем, предположить: потребность в грамотности со стороны
крестьянства была слабой не только по субъективным, но и по объективным
причинам — возможности ее практически использовать были ограниченными.
Рыночная экономика, побуждающая к усвоению грамоты из экономических
соображений, развивалась медленно: товарность сельскохозяйственного произ¬
водства, где было занято даже в 1897 г. до 74 % населения, в начале XIX в., по
приблизительным оценкам, составляла 9—12%, в 1850-е гг. — 17—18,
в 1909—1913 гг. — около 31 % чистого сбора основных земледельческих про¬
дуктов. Добавим к этому низкий уровень урбанизации (до середины XIX в.
Рис. 12.31. Урок труда в сельской школе. 1900-е
494
Человеческий капитал России за 1000 лет
в городах проживало менее 10%, ав 1914 г. — 15% всего населения, неразви¬
тость торговли, промышленности и сферы услуг, которые давали средства
к жизни соответственно 3; 10 и 14% населения империи в 1897 г. (табл. 5.6
и 5.13 в гл. 5 «Город и деревня в процессе модернизации» наст. изд.). У широ¬
ких слоев русского населения длительное время, до Великих реформ, попросту
отсутствовали серьезные внутренние и внешние стимулы к получению образо¬
вания. Со второй половины XIX в. недоверие в пользе грамотности вообще
сменилось нигилизмом в отношении практического значения от грамотности.
«Наши школьники не научились извлекать из книг полезных знаний, иногда не
верят даже в возможность извлечь что-нибудь практически полезное из кни¬
ги, — жаловались деятели народного образования. — Иллюстрацией тому мо¬
жет служить следующее: в народных библиотеках наибольший спрос имеют
книги для так называемого легкого чтения, а наименее популярные сочинения
по гигиене, сельскохозяйственной технологии, и тому подобное. При таких ус¬
ловиях о влиянии школы на улучшение культуры народа почти не стоит гово¬
рить»465. Эту точку зрения поддерживает американский историк Б. Эклоф, по¬
лагающий, что грамотность не оказывала серьезного воздействия на деревню,
поскольку являлась элементарной, поверхностной и нефункциональной. Стар¬
шее поколение крестьян, понимая опасность, которую образование представля¬
ло для традиционной народной культуры, намеренно препятствовало система¬
тическому обучению своих детей. Если детям разрешали учиться, то недолго,
около 2 лет, и лишь умению читать, а не умению учиться у книг, осмысливать
прочитанное466.
Рис. 12.32. Школа для печатников, С.-Петербург. 1900
495
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
И все же сдвиги в отношении народа к грамотности в конце XIX в. намети¬
лись, прежде всего в среде городского населения и рабочих. Д. Брукс исследовал
изменения в общественном сознании народа (без разделения на город и деревню)
через призму коммерческой литературы. Он обнаружил: система ценностей, ут¬
верждавшаяся этой литературой, в конце XIX—начале XX в. изменялась, и отнес
эту перемену в значительной мере на счет роста грамотности населения467. Труд¬
но сомневаться в том, что коммерческая литература отражала изменения в миро¬
воззрении населения — кто станет покупать не интересные для себя книги?! Од¬
нако неясно, каких социальных слоев и в какой мере. По-видимому, перемены
касались в большей степени горожан и «продвинутых» крестьян, среди которых
современники зафиксировали возникновение потребности в чтении 68. Например,
в повседневной жизни горнозаводского населения Урала в пореформенное время
чтение стало «привычным занятием для всех слоев населения», хотя и в разной
степени. «Женщина-работница с книгой воспринималась окружающими как без¬
дельница. <...> Мужчине в провинции без чтения было трудно удержаться на
грани порядочности. <...> В мужской читательской аудитории преобладало до¬
суговое чтение периодических изданий». Поэтому оптимистично (может быть,
чуточку излишне) звучит заключение О. В. Моревой: «Началось формирование
Читателя, т. е. личности, важнейшей чертой которой была потребность в чтении,
используемом для различных, в том числе социальных целей» 469, притом что, по
данным однодневной переписи 1879 г., доля грамотных в Нижнем Тагиле была
низкой — немногим более 20 % населения обоих полов и всех возрастов470. Ра¬
зумеется, умение учиться по книгам, руководствоваться прочитанным и усвоен¬
ным в своем поведении развивалось медленно и к 1917 г. стало внутренней по¬
требностью у меньшинства населения.
Рецидив безграмотности versus миф о враждебности
царизма просвещению
Существует устойчивое преставление, согласно которому российские власти
из-за страха утраты контроля над подданными являлись главными врагами про¬
свещения. Якобы именно их «стараниями» грамотность в XVI—начале XX в.
распространялась крайне медленно471. В Древнерусском государстве, когда народ
был свободным, грамотность была почти всеобщей. Однако это — один из мно¬
гих мифов об императорской России. В действительности же в период империи
именно государство, в особенности верховная власть, являлось главным побор¬
ником просвещения и прилагало все усилия для его распространения, и именно
государство создало в стране целостную систему начального, среднего и высше¬
го образования и финансировало ее472. «Российский абсолютизм все это время
(XVIII—первая половина XIX в. — Б. М), по сути, не переставал оставаться про¬
свещенным в прямом смысле этого слова, т. е. понимающим необходимость ши¬
рокого распространения образования и принимающим на себя ответственность за
это», — справедливо утверждает Л. М. Артамонова473. Важнейшей же причиной
медленного распространения грамотности, на мой взгляд, можно считать отсут¬
ствие у населения достаточной мотивации и настоятельной потребности в ней.
496
Человеческий капитал России за 1000 лет
Об этом красноречиво свидетельствует рецидив безграмотности (см. выше) —
явление, получившее широкое распространение в пореформенной России, как
раз в то время, когда власти прилагали особенно много усилий для развития
школ. Этим термином называется утрата навыков чтения и письма прежде гра¬
мотными людьми, вследствие того что навыки в течение длительного времени
не подкреплялись, другими словами, грамотность в повседневной жизни не ис¬
пользовалась. Явление зафиксировано практически во всех странах, но в разное
время и с различной степенью интенсивности. В ходе специальных исследова¬
ний в 1880—1890 гг. российские исследователи обнаружили: уже через 3—4
года после окончания начальной сельской школы полученные знания и навы¬
ки в значительной части утрачивались. Например, Н. А. Корф установил:
8,3 % разучились читать или читали машинально, не понимая прочитанного;
7,1 % не могли подписаться; 15,2 % забыли два первых действия арифметики
и т. д. В масштабе страны утрата грамотности выявляется при сравнении
данных о грамотности одних и тех же когорт через 23 года на основе перепи¬
сей 1897 и 1920 гг. (табл. 12.22) и через 29 лет на основе переписей 1897 и 1926 гг.
(табл. 12.23).
Таблица 12.22
Изменение грамотности населения Европейской России
по данным переписей 1897 и 1920 гг. (%)
Возраст, лет
По фактическим данным
Доля грамотных
Изменение доли грамотных
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
1897 г.
1920 г.
1897 г.
1920 г.
1897 г.
1920 г.
абс.
Индекс
абс.
Индекс
16—25
40—49
51,5
55,5
18,5
17,6
+4,0
107,8
-0,9
95,1
26—35
50—59
45,5
41,6
13,9
12,5
-3,9
91,4
-1,4
89,9
36+
60+
29,3
25,1
9,4
7,8
—4,2
85,7
-i,6
83,0
Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 40—43 ; Статистический
ежегодник 1922 и 1923 гг. Вып. 1. С. 24—27. Территория в границах 1920 г.
Таблица 12.23
Изменение грамотности сельского населения Европейской России
по данным переписей 1897 и 1926 гг. (%)
Возраст, лет
По фактическим данным
Доля грамотных
Изменение доли грамотных
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
1897 г.
1926 г.
1897 г.
1926 г.
1897 г.
1926 г.
1897—1926 гг.
10—19
40—49
41,8
61,0
13,6
14,6
19,2
1,0
20—29
50—59
37,1
45,9
10,1
8,5
8,8
-1,6
30—39
60—69
32,9
33,2
7,1
5,3
0,3
-1,8
40—49
70—79
26,8
24,5
5,5
4,0
-2,3
-1,5
497
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
Окончание табл. 12.23
Возраст, лет
По фактическим данным
Доля грамотных
Изменение доли грамотных
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
1897 г.
1926 г.
1897 г.
1926 г.
1897 г.
1926 г.
1897—1926 гг.
50—59
80—89
20,4
16,6
4,6
3,2
-3,8
-1,4
60—69
90—99
16,6
11,5
4,1
2,7
-5,1
-1,4
70—79
100+
13,0
6,4
3,5
1,7
-6,6
-1,8
Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 40—51 ; Всесоюзная пере¬
пись населения 1926 года. Окончательные итоги. Отд. 1, т. 9. С. 122—167; Т. 10. С. 66—211;
Т. 11. С. 54—58. Территория в границах 1926 г.
Реальные темпы утраты грамотности были выше, чем следует из данных табл.
12.22 и 12.23, так как в период между переписями численность учащихся стреми¬
тельно росла, перекрывая в младших возрастных группах численность лиц, забы¬
вающих грамоту. Рецидив безграмотности происходил интенсивнее в тех мест¬
ностях, где уровень грамотности ниже, а городская и культурная жизнь менее
развита. Так, у мужчин, которым в 1897 г. было 50 лет и более, через 29 лет,
в 1926 г., грамотность уменьшилась в наиболее развитом в экономическом
и культурном отношении Центрально-промышленном районе на 1,3 %, в менее
развитом Центрально-Черноземном районе — на 5,1 %, в наименее развитой Си¬
бири — на 20 %; аналогичные показатели у женщин составили соответственно
14,0; 17,9 и 21,1 %.
Определим теперь среднегодовые темпы утраты грамотности по мере старе¬
ния населения475. Переписи 1897 и 1920 гг. позволяют сделать это для населения
в возрасте до 59 лет, переписи 1897 и 1926 гг. — в возрасте после 60 лет. Резуль¬
таты расчетов приведены в табл. 12.24. Они показывают, что, например, в воз¬
расте от 30—39 до 40—49 лет у мужчин рецидива неграмотности не наблюда¬
лось, а грамотность женщин уменьшалась в среднем в год на 0,2—0,3 % в целом
по стране, в том числе у проживавших в деревне — на 0,5—0,6 %; в возрасте от
40—49 до 50—59 лет у мужчин грамотность уменьшалась в среднем в год на
0,1—0,2 % в целом по стране и у проживавших в деревне — тоже на 0,1—0,2 %,
а у женщин на 0,2—0,3 % в целом по стране, в том числе у проживавших в де¬
ревне — на 0,5—0,6 % (табл. 12.24).
В пореформенное время темпы роста учащихся обгоняли темпы роста гра¬
мотных в населении, что указывает на увеличение темпов рецидива безграмотно¬
сти. Это объясняется рядом обстоятельств. После отмены крепостного права
и вступления в силу в 1864 г. Положения о начальных народных училищах сеть
начальных школ и численность учащихся, благодаря активности земств, стала бы¬
стро расти: уже в 1878 г. один учащийся приходился на 77 жителей, в 1896 г. —
на 33 жителя476. В первые пореформенные десятилетия земства открывали шко¬
лы только там, где инициатива исходила от самого местного населения, и оно
соглашалось финансировать учебное заведение. С 1890-х гг. земства стали от¬
крывать школы по своему усмотрению, а с начала XX в. приняли «принцип обя-
498
Человеческий капитал России за 1000 лет
Таблица 12.24
Среднегодовые темпы утраты грамотности по данным переписей 1897,
1920 и 1926 гг. по возрастным группам (%)
Возраст, лет
Среднегодовые темпы утраты грамотности у населения
в целом
сельского
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
От 30—39 до 40—49
—
0,2—0,3
—
0,5—0,6
От 40—49 до 50—59
0,1—0,2
0,2—0,3
0,1—0,2
0,5—0,6
От 50—59 до 60—69
0,3—0,4
0,3—0,4
0,3—0,4
0,7—0,8
От 60—69 до 70—79
0,6—0,7
0,7—0,8
0,4—0,5
0,8—0,9
От 70—79 до 80—89
1,7—1,8
2,4—2,6
1,2—1,4
0,8—0,9
От 80—89 до 90—99
2,6—2,8
2,4—2,6
2,3—2,5
1,6—2,0
От 90—99 до 100—110
3,5—3,7
3,6—3,8
3,5—3,7
1,8—2,2
От 100—110 до 110
4,4—4,6
4,9—5,1
4,4—4,6
3,6-4,0
Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 40—43 ; Статистический
ежегодник 1922 и 1923 гг. Вып. 1. С. 24—27 ; Всесоюзная перепись населения 1926 года.
Окончательные итоги. Отд. 1, т. 9. С. 122—167; Т. 10. С. 66—211; Т. 11. С. 54—58.
зательного открытия школ в тех местах, где их не имелось, чтобы волей-
неволей привлечь население в школу», причем заботы о содержании школ пол¬
ностью приняли на себя сами земства и казна477. С 1908 г., после принятия
закона о всеобщем бесплатном начальном образовании, школа стала теоретиче¬
ски доступной для всех, кто хотел учиться. Возникла в известной степени мода
на школьное обучение. К 1914 г. обучение охватило около 30 % детей в возрас¬
те 7—14 лет, еще примерно 5 % хотели, но не могли учиться из-за нехватки
в школах мест478.
Однако освоить полный курс даже начального образования могла лишь мень¬
шая часть учащихся. А самое главное, в школьное обучение все более вовлека¬
лись дети, не имевшие практической возможности использовать знание грамоты
в своей дальнейшей жизни и работе, т. е. сделать ее функциональной. Крестьян¬
ские дети, составлявшие большинство контингента начальной школы, после ос¬
воения грамоты редко закрепляли ее в повседневной жизни, так как не имели
привычки и часто возможности читать и учиться по книгам, получать информа¬
цию из газет. Именно ввиду этого и произошло увеличение темпов утраты гра¬
мотности в конце XIX—начале XX в.
Итак. Грамотность на Русь пришла вместе с христианством в X в., но до XVIII в.
развивалась крайне медленно, отставая от западноевропейских стран, где до за¬
вершения Реформации также наблюдался типичный для традиционных обществ
низкий уровень грамотности, но все же более высокий, чем в России. С начала
XVIII в., под влиянием начавшейся модернизации, правительство прилагает зна¬
чительные усилия по развитию образования в стране, создав сеть учебных заве¬
дений. Однако отсутствие серьезных побудительных мотивов у широких слоев
населения не позволило существенно повысить уровень грамотности в России до
499
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.33. Урок математики в Смольном институте. 1914
середины XIX в. Только с отменой крепостного права и серией крупных реформ
в 1860-е гг., по мере развертывания промышленной революции и урбанизации
в России среди населения пробуждается относительно массовый интерес к гра¬
мотности. Усилиями правительства, интеллигенции, самих неграмотных жителей
страны создается широкая сеть начальных школ. В 1908 г. Государственная дума
принимает закон о всеобщем начальном обучении. В результате грамотность на¬
чинает довольно быстро развиваться и к 1917 г. достигает 42 % для всего населе¬
ния. Существование в пореформенное время рецидива неграмотности доказыва¬
ет: имевшаяся сеть школ в целом удовлетворяла потребности людей в приобре¬
тении грамотности и, значит, не власти являлись главными и непосредственными
виновниками низкого культурного уровня народа.
В советское время тенденция быстрого расширения школьного обучения со¬
хранилась, благодаря чему в конце 1950-х гг. грамотность стала всеобщей, а к
1991 г. человёческий капитал страны достиг внушительной величины и стал од¬
ним из самых значительных в мире. Благодаря этому из советского периода сво¬
ей истории Россия вышла, на первый взгляд, мало уступая западным соседям
с точки зрения человеческого капитала, а в постсоветское время, вплоть до на¬
стоящего времени, продолжала его наращивать. «С количественной точки зре¬
ния, человеческий капитал, которым располагает российская экономика, является
одним из самых значительных в мире. По доле работников с третичным образо¬
ванием Россия является мировым лидером, а по доле работников с высшим обра¬
зованием входит в группу наиболее продвинутых стран»479.
500
Человеческий капитал России за 1000 лет
Психологические, социальные и политические последствия
низкой грамотности
Данный подраздел480 можно рассматривать как интервенцию в сферу истори¬
ческой психологии. Не являясь специалистом в этой области знания, хотя инте¬
ресует она меня давно и серьезно481, я долго надеялся, что историки и психологи
начнут работать на новой плодородной ниве, соберут обильный урожай, и мне
удастся воспользоваться их плодами. К сожалению, мои надежды не оправда¬
лись: историческая психология до сих пор находится «в детском возрасте» не
только в отечественной, но и в зарубежной науке. Дополнительным препятствием
для ее прогресса является то, что новое направление может успешно развиваться
при условии тесного взаимодействия психологов с историками и антропологами.
Но ни те ни другие не проявляют к нему большого интереса, в особенности к во¬
просу исторических типов мышления и сознания и их влияния на поведение. По¬
следнее крупное исследование по этой проблематике в российской историогра¬
фии, сборник статей «История и психология», было издано в 1971 г., и с тех пор
работа остановилась, хотя исследования отечественных классиков по историче¬
ской психологии были переизданы, а зарубежных — переведены на русский
язык. Даже такой видный отечественный историк, как А. Я. Гуревич, поначалу
питавший большие надежды на развитие исторической психологии, в конце жиз¬
ни отказался от термина «историческая психология» на том основании, что мето¬
ды психологии и истории несовместимы482. На мой взгляд, аргумент не убедите¬
лен. Если встать на эту точку зрения, то невозможно сотрудничество истории как
гуманитарной дисциплины, принадлежащей к так называемым идеографическим
наукам (описательным, имеющими целью изучение индивидуальных событий
и фактов), с любой общественной, точной или естественной наукой как номоте-
тическими (обобщающими и законоустанавливающими). Между тем сам Гуре¬
вич — в противоречии с выводом о невозможности сотрудничества идеографи¬
ческих и номотетических наук — занимался исторической социальной психологией
и исторической социологией. Междисциплинарные отношения поддерживают
практически все науки.
Сознавая все несовершенство предлагаемых мною интерпретаций и считая их
сугубо предварительными и гипотетическими, скорее разведкой и постановкой
проблемы, чем даже попыткой ее решения, я все же решаюсь поделиться ими
с читателями в надежде, что это, может быть, подвигнет молодых коллег занять¬
ся проблемами исторической психологии.
Грамотность и как умение читать и писать, и как сумма знаний оказывает су¬
щественное воздействие на личность, ее внутренний мир, самосознание, познава¬
тельные процессы483. Правда, это влияние не лобовое и прямолинейное, а опо¬
средствовано многими другими факторами484. Само по себе развитие навыков
чтения, письма и счета повышает на порядок умственные способности человека,
в особенности ребенка, обладающего пластичной психикой и способностью лег¬
ко усваивать новые образцы мышления. Чтение предполагает усвоение фонетики
и приобретение навыков декодирования алфавита; оно включает также воспри¬
ятие письменного текста, а письмо — передачу мыслей в письменной форме.
501
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Чтение и письмо как формы символической коммуникации развивают внимание,
восприятие, память, умение находить ассоциации конкретного контекста с имею¬
щимися знаниями. Символы, являясь соединительными звеньями между форма¬
ми и смыслами, организуют чувства, переживания и мысли; при помощи симво¬
лической коммуникации люди связывают внешний мир со своими мыслями
и чувствами. Во время письма человек кодирует вещный мир в символы, а во
время чтения декодирует его и благодаря этому он научается размышлять не
только о непосредственно наблюдаемых материальных предметах в ситуации
«здесь-и-сейчас», но и о гипотетических ситуациях — что могло бы быть. Все
это поднимает интеллектуальные способности до уровня формальных операций
и способствует формированию абстрактного мышления, не привязанного к суще¬
ствующим в данный момент конкретным условиям внешней среды, и посредст¬
вом его (абстрактного мышления) совершать разнообразные мыслительные опе¬
рации с информацией, которой человек обладает. Человек, образно говоря, отры¬
вается от земли и конкретики.
Освоение арифметики еще больше развивает способность к абстрактному
мышлению. Без освоения навыков чтения, письма и счета способность абстракт¬
но мыслить либо вовсе не появляется, либо возникает в ограниченной, менее
общей форме485. Необходимо подчеркнуть, однако, что способности совершать
формальные логические операции и абстрактное мышление приобретаются не
тотчас после того, как человек научится читать, писать и считать, а после
длительного школьного обучения. Полуграмотный человек, едва освоивший
грамоту, таких способностей не приобретает. Легендарный гоголевский Сели-
фан, кучер Чичикова, умел читать, но не умел абстрактно мыслить. Появление
абстрактного мышления в свою очередь развивает такие метакогнитивные
умения человека, как текущий самоконтроль и саморегуляция, способность
размышлять о мыслительных процессах своих и других людей, заниматься
самоанализом и самокритикой, анализировать свои поступки в прошлом,
связывать их с реальностью настоящего и мысленно переноситься в собственное
будущее, рассуждать на высоком моральном уровне486. При этом приобретение
и использование когнитивных и метакогнитивных умений не происходит автома¬
тически, стихийно, неотвратимо и неизбежно под влиянием школьного обучения,
а обусловливается конкретными обстоятельствами, средой и культурой, в кото¬
рой живет человек487.
Для современных обществоведов аксиоматично, что в ходе исторического
развития изменяются право и мораль, политические учреждения и институты,
научные представления и содержание общественного сознания. Между тем
в психологии получила широкое признание также концепция об историческом
характере мышления и сознания в целом — сознание людей со временем изменя¬
ется не только по содержанию, но и с точки зрения строения, характера высших
психических процессов человека, таких как восприятие, память, активное внима¬
ние, воображение, отвлеченное, или абстрактное, мышление, волевое действие,
самосознание, индивидуализм. Особенно большая роль в разработке и доказа¬
тельстве данного положения принадлежит российским психологам Л. С. Выгот¬
скому (1896—1934), А. Н. Леонтьеву (1903—1979), А. Р. Лурии (1902—1977),
502
Человеческий капитал России за 1000 лет
оторые еще в 1930-е гг. экспериментально это доказали488, хотя идея об этом
ысказывалась и раньше, начиная с Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Зарубежные уче-
ые, прежде всего Э. Дюркгейм, Э. Кассирер, Л. Леви-Брюль, С. Леви-Стросс,
. Малиновский, Л. Уорф и др., на основе антропологических исследований
ришли в принципе к аналогичным выводам об историческом характере мышле-
ия и сознания489. Их работы, большей частью написанные в первой половине
в., относятся к классике исторической психологии. С 1980-х гг. под влиянием
остмодернизма в общественных и гуманитарных науках произошел отказ от
лассической научной парадигмы, в рамках которой находились перечисленные
ыше исследования. Под предлогом избавления от идеологии прогресса и иска-
;ающего влияния всяких теорий и концептов на понимание действительности
остмодернизм отказался от теории, а вместе с этим и от поиска закономерно-
гей в социальных явлениях и процессах. Ввиду этого использование постмодер-
истского подхода в какой-либо иной, помимо критической, функции для науки
пруднено, так как нарушает рациональную организацию фактов в соответствии
принципами достоверности и верифицируемости, что требует классическая
аука. Да и постмодернистские работы в исторической психологии отсутствуют,
[оэтому мои соображения, высказываемые ниже, основываются на классических
сследованиях по исторической психологии.
Предельным выражением идеи об историческом развитии психики является
\еориярекапитуляции, или теория культурных периодов, утверждающая: 1) если
ндивидуальный человеческий организм в своем внутриутробном развитии по-
горяет весь ряд форм, которые прошли его животные предки за сотни миллио-
ов лет, от простейших одноклеточных существ до первобытного человека, то
ебенок в период детства проходит весь ход развития человечества от первобыт-
ой дикости до современной ему культуры; 2) в онтогенезе детской психики вос-
роизводятся основные стадии биологической эволюции и этапы культурно-
сторического развития человечества. Другими словами, все культуры в своем
азвитии проходят ряд стадий (или периодов), а развитие каждого индивида по-
горяет последовательность этих периодов. Процесс индивидуального развития,
ли онтогенез, повторяет процесс исторического развития видов, или филогенез
)т греч. phylon — племя, род, вид и genesis — зарождение, развитие). Современ-
ая наука рассматривает соотношение онтогенеза и филогенеза не так прямоли-
ейно, как сформулировал этот биогенетический закон его авторы П. Мюллер
1801—1858) и Э. Геккель (1834—1919) — индивидуальное развитие особей яв-
яется кратким и быстрым повторением (рекапитуляцией) важнейших этапов
волюции вида. Под влиянием критики первоначальное толкование биогенетиче-
шго закона было уточнено и теперь звучит так: онтогенез — это процесс про-
эаммированного развития зародышевого зачатка490, включающего возможность
пучайных изменений в генотипе клеток под влиянием мутаций. Биогенетиче-
шй закон применим не только к миру растений, но к миру животных и челове-
а, т. е. имеет общебиологическое значение491. Развитию подвержены три облас-
л сознания: психофизическая — размеры и формы тела и органов, структуры
озга, сенсорные возможности и сенсорные навыки (нейро- и психодинамика,
сихомоторика); психосоциальная — эмоции, свойства личности и социальные
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
навыки; когнитивная — все умственные способности и психические процессы,
включая организацию мышления492.
Исследователь, исходящий из убеждения, что психический склад людей не
изменяется, невольно наделяет наших предков мироощущением современного
человека, а вслед за этим приписывает людям той или другой эпохи несвойст¬
венные им установки и мотивы поступков. Поясню эту мысль примером. Древ¬
нерусская живопись применяла обратную перспективу. Историки и искусствове¬
ды, как правило, истолковывают отсутствие прямой перспективы как особый
прием древних живописцев, специально используемый ими для выражения своих
эмоций и идей. Тем самым они исходят из мысли, что древнерусские художники
знали и видели мир в прямой перспективе. Однако в действительности древне¬
русские художники, точно так же, как и западноевропейские средневековые жи¬
вописцы, не знали прямой перспективы. Они не пользовались обратной перспек¬
тивой как художественным приемом, а видели мир в этой перспективе. Специ¬
альные исследования показали, что «естественный» человек, как и ребенок, знает
только обратную перспективу, что видение мира в прямой перспективе — ре¬
зультат воспитания и обучения, а не свойство наших органов зрения493.
На картинах средневековых живописцев есть и другие «несообразности»:
последовательные действия изображены так, будто они происходили одно¬
временно, а мир земной и мир сверхчувственный показаны с одинаковой сте¬
пенью отчетливости и тоже в пределах одной картины. И вновь дело здесь не
столько в особенностях художественного мышления средневековых мастеров,
сколько в том, что время средневековым человеком воспринималось не как
линейное, необратимое, бесконечно делимое (так относятся ко времени со¬
временные образованные европейцы), а как единое, неделимое, вечное, без
четкого различения настоящего, прошлого и будущего. Помещение же в одну
плоскость картины реальных и фантастических, вымышленных событий обу¬
словливалось нечетким отделением мира земного от сверхчувственного,
правды от вымысла494.
Мифологический и рациональный тип сознания
Современное состояние исторической психологии не позволяет пока обозна¬
чить стадии в развитии человеческого сознания и указать на их характерные осо¬
бенности495. Однако антропологи зафиксировали в бесписьменных культурах
существование социумов и людей с так называемым мифологическим типом соз¬
нания и мышления (буду называть их вслед за Л. Леви-Брюлем мифологичными),
имеющего следующие особенности.
1. Мифилогичный может рассуждать о наблюдаемом, его мышление сим-
практично, т. е. конкретно, ситуативно и непосредственно связано с ощущения¬
ми и действиями496. Он не может решить силлогизм: смертен ли Сократ, если
Сократ человек, а все люди смертны? Он посоветует обратиться к тем, кто знает
Сократа. Исходные посылки силлогизма он воспринимает как два изолирован¬
ных вопроса. Абстрактное мышление находится на низком уровне, он может
оперировать информацией, почерпнутой почти исключительно из своего жиз-
504
Человеческий капитал России за 1000 лет
ненного опыта и в рамках этого опыта. Мифилогичные не в состоянии или не
стремятся правильно решать вербальные задачи, применять понятия и логику
\ научного мышления, но не столько потому, что им недостает способности абст-
• рактно мыслить, сколько потому, что они не понимают гипотетического характе-
f ра вербальных задач: им трудно понять, что вопросы и ответы на них не обяза¬
тельно должны быть конкретными, привязанными к конкретной ситуации497.
«Симпрактичность традиционных регуляторов поведения означает, что данная
культура не создает никаких предпосылок для того, чтобы субъект мог произ¬
вольно преодолевать “связанность” со смысловыми “полями” ситуационной ре¬
альности за счет частичной переориентации своего сознания на отвлеченные
и закрепленные в понятиях планы деятельности. Решение выдвигаемых традици¬
онной культурой поведенческих задач постоянно носит такой характер, что
индивид оказывается полностью “погруженным” в деятельность и ничто в ней
самой не облегчает ему выход за пределы своего эмпирического “Я”»498.
Симпрактичное мышление оперирует преимущественно образами. «Те пред¬
ставления, которые человек создает о себе и о группе, к которой он принадлежит,
лишь отдаленно напоминают идеи или понятия. Они скорее чувствуются или
переживаются, чем обдумываются»499. Он дает имя собственное всему, что он
видит, чувствует, слышит; все в мире имеет для него собственное имя, подобно
тому как имеет собственное имя человек. Такое мышление представляет собой
практический анализ и синтез. Оно обобщает не на уровне понятий и категорий,
а на уровне чувственного созерцания (на уровне ощущений, восприятий, пред¬
ставлений), без отрыва от конкретного, и обобщения выражает преимущественно
действиями, образами, символами, жестами, т. е. конкретно-наглядным спосо¬
бом. Классификация происходит не путем выделения существенных признаков
предметов и явлений, не по категориям, а посредством объединения предметов
и явлений в такие группы, которые когда-то встречались в практике человека, т. е.
путем воспроизведения наглядно-чувственной ситуации. Анализ совершается не
с помощью дискурсивного рассуждения, а в ходе бессознательно-чувственного
или чувственно-интуитивного постижения практического смысла фактов и явле¬
ний, редко выходящих за границы личного опыта. Специфика архаического
мышления в его метафоричности и наглядно-действенном способе выражения,
оно оперирует готовым набором устойчивых образов и представлений, жестов
и действий. Симпрактичное мышление не чувствительно к логическому проти¬
воречию, сходство принимает за тождество; причину и следствие наделяет неза¬
висимым бытием; смешивает реальное и идеальное, слово и действие, действи¬
тельное и вымысел; неотчетливо разделяет субъект и объект, материальное
и идеальное (т. е. предмет и знак, вещь и слово, существо и его имя), вещь и ее
атрибуты, единичное и множественное, статичное и динамичное, пространствен¬
ные и временные отношения.
«Мышление (мифологичных. — Б. М.) проявляет безразличие, можно сказать,
отвращение к рассудочным операциям мысли, к рассуждениям, — отмечает
Л. Леви-Брюль. — Это не есть неспособность или бессилие: в низших обществах
есть и “умы, столь же способные к наукам, как и наши, европейские”. <...> Это
также не есть следствие глубокого умственного оцепенения, притупленности
505
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.34. Исцеление из святого источника в Саровской мужской пустыне,
Темниковский уезд, Тамбовская губерния. 1903
и как бы непробудного сна, поскольку те же самые люди, которым самая незна¬
чительная отвлеченная мысль дается с непосильным трудом, которые как будто
никогда не пытаются размышлять, в тех случаях, когда их интересует какой-
нибудь предмет и, особенно, если речь идет о достижении горячо желаемой цели,
показывают себя проницательными, рассудительными, умелыми, искусными
и даже изощренными»500. Им свойственно также «красноречие, богатство аргу¬
ментации, ловкость словесных выпадов и защиты в спорах, тонкая и острая на¬
блюдательность, плодотворное и поэтическое воображение». Этот парадокс —
способность решать жизненные проблемы без обращения к логическим опера¬
циям С. Леви-Брюль объясняет тем, что в дописьменных культурах «люди дейст¬
вуют посредством чистой интуиции, путем быстрой и почти мгновенной интер¬
претации того,}что воспринято чувствами. <...> Ими руководит что-то вроде чу¬
тья или сметки. Опыт развивает их и уточняет, и они могут стать безошибочны¬
ми, не имея ничего общего с интеллектуальными операциями в их собственном
смысле». Это «похоже на умелость хорошего игрока в биллиард, который, не
зная ровным счетом ничего ни о геометрии, ни о механике, не испытывая по¬
требности размышлять, приобрел скорую и верную интуицию относительно того
движения, которое следует сделать при данном расположении шаров»501. Инте¬
ресно отметить, что в современной экономической антропологии пользуется по¬
пулярностью концепция «субстантивизма», предложенная К. Поланьи (1886—
506
Человеческий капитал России за 1000 лет
1964), согласно которой экономика в дописьменных и традиционных обществах
отличалась от капиталистической качественно (так же, как мифологическая сис¬
тема мышления отличается от рациональной по Леви-Брюлю). Такая экономика
не образовывала единой автономной целостной системы, не отделялась от инсти¬
тутов семьи, религии, политики, культуры, а была органически встроена в се¬
мейные, социальные и религиозные отношения502.
2. У мифилогичных слабо развито чувство «я», поскольку личность понимает¬
ся как органическая часть целого, не обладающая спецификой и своеобразием.
Вследствие этого человек легко сливается с той социальной группой, в которой
живет. «Выделиться каким бы то ни было способом — значит подвергнуть себя
опасности. <...> Этот тиранический конформизм не давит на индивидов. Они
привыкли к нему с детства и обычно не представляют себе, что может быть по-
другому. Отношения индивида с социальной группой (семьей, кланом, племе¬
нем) — вот что прежде всего делает его (конформизм. — Б. М.) необременитель¬
ным. Индивид в этих обществах намного менее выделяется из своей группы, чем
в наших»503. Одновременно он не выделяет себя отчетливо и из природы и пере¬
носит на природные объекты свои собственные свойства, наделяет их жизнью,
человеческими страстями, приписывает им сознательную, целесообразную дея¬
тельность, возможность выступать в человеческом облике, иметь социальную
организацию и т. п. По-видимому, это стало результатом слабой способности
мифологичных качественно отдифференцировать человека от общества, общест¬
во и человека от природы. Однако полностью отказать в индивидуализме им
нельзя, поэтому лучше говорить об архаическом индивидуализме504.
3. Создавая для обеспечения благополучия своей социальной системы целый
мифологически-ритуальный комплекс и обращаясь к магическим средствам под¬
держания существующего природного и социального порядка, человек хотел
подчеркнуть и продемонстрировать свою причастность и неизменную доброже¬
лательность ко всему сущему, ко всем природным объектам, силам и стихиям,
свое желание жить с ними в мире и дружбе. Он не стремился изменять и завое¬
вывать природу. Жить в постоянной гармонии со своей социальной группой и с
природой — вот его цель и в этом состоит доминирующий мотив всех мифов,
обрядов и ритуалов. Люди дописьменных культур проявляли максимум готовности
к сотрудничеству. Однако по мере развития цивилизаций жестокость и деструктив¬
ность, власть и насилие приобретали в социальной жизни большее значение50 .
4. Мифологичные с некоторыми трудностями осуществляют целеполагаю¬
щую деятельность, ввиду недоразвитой способности к логистике, предваритель¬
ному мысленному построению действия и к предвидению его отдаленного по¬
следствия. Им долгое время было недоступно земледелие, потому что не удава¬
лось осознать причинно-следственную связь между посаженным в землю зерном
или семенем и будущим урожаем. Не случайно, вероятно, и после неолитической
революции земледелие и скотоводство не стали основными отраслями хозяйства
в подавляющем числе бесписьменных обществ, а многие племена так и не узнали
земледелия даже как вспомогательной отрасли производства506. Этому не проти¬
воречит «своего рода изощренность, операционная гибкость мифологического
мышления», способность к анализу и классификациям, которые сделали возможной
507
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
неолитическую техническую революцию, убедительно доказавшую, что логика
мифологичных «своими особыми средствами способна решать задачи, аналогич¬
ные тем, которые разрешает научная логика»507. Слабо выраженная способность
к целеполагающей деятельности отчасти находит свое объяснение в отсутствии
у человека интереса к будущему, к изменению и новизне. Мифилогичный ориен¬
тируется на прошлое. С его точки зрения только цикличность и повторяемость
событий и придает им реальность. «Высшим правилом является делать то, что
делали предки, и делать только то, что делали они. <...> Даже если какое-нибудь
новшество однажды проникает, его положение долгое время остается непроч¬
ным. Прежний обычай всегда готов вновь взять верх»508. Вещи, которые выхо¬
дят за пределы общепринятых категорий, несут на себе отпечаток магии или
скрытого смысла. Они воспринимаются как опасные. При таком умонастроении
технические и социальные изменения могли происходить очень медленно.
5. Мифологичные в слабой степени способны или не имеют склонности к са¬
мосознанию, к оценке своего знания, нравственного облика, идеалов, мотивов по¬
ведения, к самоконтролю над собственными поступками и действиями и к приня¬
тию полной ответственности за них. Они комфортнее себя чувствуют в условиях
строгого социального контроля, подчиняющего человека определенным прави¬
лам поведения. «В свободной по видимости жизни дикарей личность от колыбе¬
ли до могилы заключена в прокрустово ложе наследственного обычая»509. Ми¬
филогичный без проблем и без сопротивления сливается с той ролью, которая
ему отводится в данной социальной группе. При этом образцы поведения не обя¬
зательно выражаются словесно, они могут выступать в виде ритуала и церемо¬
ниала, усваиваться в процессе ролевой либо сюжетной игры или танца детей
и взрослых, подобно тому как современные дети первые опыты общественного
поведения получают и усваивают в процессе игры со сверстниками510.
Сознание и мышление современного человека, получившего систематическое
европейское образование, условно называемого рациональным, имеет свою спе¬
цифику.
1. Он воспринимает и интерпретирует мир преимущественно в системе абст¬
рактных понятий и категорий. Благодаря этому он способен делать выводы, не
только полагаясь на личный практический опыт, но и опираясь на логические
рассуждения, или, как говорят психологи, на дискурсивные, вербально¬
логические процессы, что позволяет ему выходить далеко за границы непосред¬
ственного опыта, за пределы той информации, которую ему сообщают органы
чувств. Мысль опирается на круг широких логических рассуждений, на творче¬
ское воображение; что расширяет внутренний мир человека.
2. Рациональный полностью выделяет себя из окружающей среды — как из
природы, так и из социальной группы или общества — и противопоставляет себя
и природе, и обществу как субъект объекту.
3. Чувствуя себя субъектом своих действий и воспринимая окружающую сре¬
ду как объект воздействия, человек стремится преобразовать, изменить окру¬
жающий мир в соответствии со своими потребностями, целями, идеалами.
4. Рациональный в полной мере осуществляет целеполагающую деятельность.
Поэтому в современном европейском обществе действуют люди, одаренные во¬
508
Человеческий капитал России за 1000 лет
лей и намеренно преследующие определенные цели, осознающие свою принад¬
лежность к той или иной социальной группе, в высокой степени способные к ор¬
ганизации своей деятельности и к предвидению ее результатов.
5. Рациональный способен и склонен к самосознанию и самоанализу, к оценке
своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения,
к целостной оценке себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего существа,
играющего определенную социальную роль. В драматургической социологии
Ирвинга Гофмана (1922—1982) есть понятия «честный актер» и «циничный ак¬
тер», которые помогают более четко артикулировать различие в самосознании
и поведении мифологичных и рациональных. Честный актер означает человека,
который не осознает, что играет какую-то роль, так как отождествляет себя с ро¬
лью, в то время как циничный актер ясно понимает, что он играет роль и что он
не идентичен роли. Взрослых мифологичных можно считать честными актерами,
как современных младенцев; а современных взрослых образованных европей¬
цев— циничными актерами. В этих терминах не содержится никакой морализа¬
торской точки зрения: циничный актер — это не плохой человек, как и честный
сам по себе не обязательно хороший. В эти понятия вкладывается только психо¬
техническое содержание; они вводятся для описания рефлексивно-дистанцион¬
ных отношений, а не для характеристики морально-нравственной стороны соци¬
ального взаимодействия.
При этом в современном обществе самосознание свойственно не только от¬
дельным личностям, но и обществу, классам, социальным группам, поскольку
они поднимаются до понимания своего положения в обществе и своих группо¬
вых интересов и идеалов. В ходе многих столетий дисциплинирования человек
обрел способность осуществлять в определенной степени самоконтроль над соб¬
ственными поступками, принимать и нести полную ответственность за них511.
Однако достижения на этом тернистом пути не следует преувеличивать. Как де¬
монстрируют современные исследования, человек не смог укротить эмоции
и импульсивность, поэтому реальный современный человек ведет себя не всегда
вполне рационально (подробнее об этом ниже). Несмотря на это, общество ос¬
тавляет значительный простор для проявления инициативы и самостоятельности.
Регулятором поведения выступают не только органы социального правопорядка
и другие учреждения контроля и насилия, но также внутренний самоконтроль,
мораль, совесть, правовые нормы и идеология, которые вербализированы и вы¬
ражены явным, открытым, всем понятным способом512.
Этот рациональный психический тип вырабатывался постепенно в ходе эво¬
люции. Важно подчеркнуть два момента. Во-первых, мифологичный и рацио¬
нальный типы сознания — не индивидуальные склады психики, а социокультур¬
ные системы, точнее — наши конструкции этих систем. Во-вторых, между ра¬
циональным и мифологическим типом есть много промежуточных форм. Взгляды
о дихотомичности современного и досовременного мышления за последние пол¬
века подверглись эрозии, хотя до сих пор остаются основой для предварительного
логического противопоставления между архаичными «мифологичными» и со¬
временными «рациональными». Любой тип сознания целесообразнее рассматри¬
вать как исторически обусловленную конкретную форму сознания, которая
509
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
вполне — до определенной поры, разумеется, — соответствовала уровню разви¬
тия общества и удовлетворяла его нужды. «Примитивное» («архаическое», «вар¬
варское») сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличает¬
ся от современного рационалистического сознания иным способом расчленения
и организации действительности, способом, вряд ли менее логичным и после¬
довательным, чем наш, и главное, вполне соответствующим потребностям об¬
щества, которое выработало этот тип сознания513. Целостное, интегрированное
восприятие мира выступает как «живое знание», как называли подобное знание
русские философы В. С. Соловьев, С. Л. Франк или швейцарский психолог
К.-Г. Юнг514.
Мифологическое или рациональное сознание (как и другие типы) не сущест¬
вуют в «чистом» виде. В реальной жизни в них сосуществуют элементы, фраг¬
менты других типов сознания. Мифологическое сознание знает число, хотя абст¬
рактность численных представлений еще относительна: человек представляет
себе не числа вообще, а лишь числа определенных предметов; его логика прояв¬
ляет тенденции, пусть слабые, к созданию более отвлеченных представлений.
Лексикон даже самых отсталых племен, изученных европейцами, насчитывает не
менее 10 тыс. слов. Эти языки тяготеют еще к конкретным, детализированным,
единичным определениям, но в них уже содержатся обобщающие понятия сред¬
него уровня: есть обозначения для дерева, кустарника, травы, но нет обозначения
для растения; есть обозначения для рыбы или змеи, но нет обозначения для жи¬
вотного.
Определенные черты мифологического сознания имеют аналогии в продуктах
фантазии человека многих исторических эпох. Поэтому, хотя мифологическое
сознание доминирует только в архаических культурах, миф в качестве некоего
«уровня» или фрагмента присутствует в самых различных культурах, особенно
в литературе и искусстве, обязанных ему многим генетически и отчасти имею¬
щих с ним общие черты (например, «метафоризм» и т. п.). «Познавательные воз¬
можности мифологического мышления (в частности, его особая “полнота” за
счет включения эмоционально-интуитивного начала) и историческое сосущест¬
вование мифологического и научного мышления не позволяют рассматривать
первое исключительно как несовершенного предшественника второго. <...> Мы
можем рассматривать мифологическое и научное мышление синхронически, —
справедливо указывает Е. М. Мелетинский, — как два логических “типа” или
“уровня”»515. Многие выдающиеся ученые — А. Эйнштейн, И. Кант, Н. Винер,
И. П. Павлов и др. — отмечали громадное значение образно-эмоционально-
интуитивного начала в своем научном творчестве, т. е. по существу признавали
наличие в сознании ученого мифологического «уровня» или «фрагмента». «Во¬
ображение интуиции, используемое в разумных пределах, остается необходимым
вспомогательным средством ученого в его движении вперед, — пишет, напри¬
мер, известный физик Луи де Бройль (1892—1987). — Человеческая наука, по
существу рациональная в своих основах и по своим методам, может осуществ¬
лять свои наиболее замечательные завоевания лишь путем опасных внезапных
скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков
строгого рассуждения: их называют воображением, интуицией, остроумием»516.
510
Человеческий капитал России за 1000 лет
Крупный английский ученый Ф. Гальтон (1822—1911) отметил, что в процессе
его рассуждений нередко случалось, что он «слышит аккомпанемент слов, ли¬
шенных смысла, как мелодия песни может сопровождать мысль». Известный
французский математик Ж. Адамар (1865—1963) утверждал, «что слова полно¬
стью отсутствуют в моем уме, когда я действительно думаю, когда я слышу или
прочитаю вопрос, все слова исчезают точно в тот момент, когда я начинаю ду¬
мать; слова появляются в моем сознании только после того, как я окончу или за¬
брошу исследование, точно так же как и у Гальтона, и я полностью согласен
с Шопенгауэром, когда он пишет: “Мысли умирают в тот момент, когда они во¬
площаются в слова”»517.
В некоторых случаях подход мифологичных к решению проблем человече¬
ского бытия в рациональном сознании преобразуется в строгий научный метод.
Так, кардинальная черта мифологического сознания состоит «в сведении сущ¬
ности вещей к их генезису: объяснить устройство вещи — значит, рассказать,
как она делалась; описать окружающий мир — то же самое, что поведать исто¬
рию его первотворения. Знание происхождения является ключом к использова-
нию вещи, и знание о прошлом отождествляется с мудростью» . А что такое
генетический метод в современном научном, в частности историческом, иссле¬
довании? В своей хронологически-описательной разновидности, когда иссле¬
дователь реконструирует последовательность событий, тщательно и подробно
выясняет происхождение, генезис данного конкретного явления, чтобы его
объяснить, генетический метод почти буквально повторяет главнейший путь
познания, практиковавшийся мифологичными. А в своей стадиальной разно¬
видности, когда исследователь стремится к выявлению и описанию закономер¬
ностей и основных этапов определенного процесса, генетический метод является
дальнейшим развитием исторического метода познания, свойственного и ми¬
фологическому мышлению. Историк полагает: сущность — в прошлом. А ведь
точно так же думал и человек бесписьменной культуры. «Психологизм XIX века
в своем развитии с необходимостью наталкивается на мифологические перво¬
основы современного сознания, что дает возможность лишить миф книжной
условности и заставить мир архаики и мир цивилизации активно объяснять
друг друга»519.
Историческое развитие сознания человеческого вида имеет сходство с разви¬
тием психики ребенка в современных развитых странах520. Коренные изменения
сознания ребенка происходят по тем же самым линиям: от конкретно-образного
восприятия действительности к понятийному, от слияния себя со средой к чет¬
кому выделению себя из нее, от восприятия себя объектом воздействия внешних
сил к осознанию себя субъектом своих действий, от бессознательного и стихий¬
ного поведения к сознательному и самоконтролирующему, от оценки и воспри¬
ятия себя со слов окружающих к самосознанию и самооценке. Однако, как и в
эволюции человеческого сознания, эти изменения в детской психике происходят
не автоматически, поскольку они не запрограммированы биологически, а возни¬
кают только в процессе обучения, общения со взрослыми и активной деятельно¬
сти ребенка. Ребенок, не прошедший школьного обучения и не включившийся
активно в жизнь взрослых людей с рациональным типом сознания, в отношении
511
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
мышления и других психических процессов всю жизнь будет находиться на дет¬
ском или, во всяком случае, на более низком уровне, чем его однолетки, полу¬
чившие образование и занимавшиеся активной деятельностью под руководством
взрослых.
Известный швейцарский психолог Ж. Пиаже (1896—1980) считает, что чело¬
век в своем интеллектуальном развитии проходит четыре качественно различные
стадии, они последовательно сменяют друг друга и каждая из них опирается на
достижения предыдущих521.
1. Сенсомоторная: в возрасте от рождения до 18 месяцев знание о внешнем
мире основано преимущественно на сенсорном опыте и моторной активности,
т. е. на информации, воспринятой через органы чувств (глаза, уши, кожу, нос<
и язык).
2. Дооперационная: в возрасте от 18 месяцев до 5 лет у ребенка возникает
способность размышлять об объектах и событиях, встречавшихся в его опыте,
но отсутствующих в данный момент, и мысленно представлять их в виде кар¬
тин, звуков, образов, слов и других формах. Обретение способности менталь¬
ной репрезентации позволяет детям выйти за пределы наличной ситуации,
осознавать, например, что предметы существуют, даже исчезнув из поля зре¬
ния. Однако во многих аспектах мышление остается алогичным: ребенок не
может производить какие-либо операции с полученной информацией; он поль¬
зуется перцептивными образами, формирующимися без каких бы то ни было
мыслительных операций и содержащих то, что вытекает из непосредственных
чувственных ощущений; он может сосредоточиться лишь на одном аспекте си¬
туации или объекта.
3. Стадия конкретных операций: в возрасте 6—8 лет дети осваивают кон¬
кретные операции, посредством которых преобразуется получаемая ими инфор¬
мация. Например, они могут упорядочивать объекты по определенному признаку
(ранжирование палочек по длине) или отнести объекты к категориям (роза, лан¬
дыш, гвоздика и т. п. — цветы) и др. Они используют операции, обладающие
свойствами обратимости, например понимают, что, взяв монеты из копилки, они
восстановят их число, добавив столько же, сколько взяли. Дети способны к де-
центрации — могут сосредоточиться сразу на нескольких свойствах объекта или
нескольких аспектах ситуации и оценить отношения между их свойствами и ас¬
пектами. Но дети способны размышлять только о непосредственно наблюдаемых
материальных вещах и совершать конкретные операции лишь в ситуации «здесь-
и-сейчас». Они испытывают затруднения с абстракциями и гипотетическими
предположениями.
4. В возрасте от 12 до 15 лет формируется «конечная» стадия интеллектуаль¬
ного развития ребенка — стадия формальных операций: он может размышлять
не только о наличных, но и о гипотетических ситуациях — что могло бы быть522.
Эта стадия может вовсе не появляться или, возможно, появляется в ограничен¬
ной, менее общей форме у людей бесписьменных культур и у неграмотных инди¬
видов письменных цивилизаций523.
Учет этого обстоятельства проливает свет на характерное для Средневековья
игнорирование детства как особого качественного состояния524. Можно допус¬
512
Человеческий капитал России за 1000 лет
тить, что это определялось не только тем, что средневековому человеку была чу¬
жда идея развития и изменения525, но и тем, что в психологическом отноше¬
нии— по крайней мере, в отношении познавательных процессов — дети и
взрослые в средневековом обществе отличались друг от друга не столь сущест¬
венно (или во всяком случае имели больше общего, чем взрослые и дети в совре¬
менных индустриально развитых странах). Недостаточно сильное фактическое
различие взрослых и детей в психическом отношении, возможно, и послужило
дополнительным основанием для того, что дети с семилетнего возраста — имен¬
но с того момента, когда в отношении некоторых важных познавательных про¬
цессов они приближались к взрослому человеку, — вливались в большую семью
взрослых, разделяя со своими друзьями, молодыми и старыми, повседневные
труды и развлечения. В развитых европейских странах начиная с XVII в., когда
взрослые стали значительно отличаться от детей в психологическом и интеллек¬
туальном отношении (в результате специального обучения, образования, услож¬
нения общественной практики и т. п.), между миром взрослых и миром детей
возникла своего рода стена, которая преодолевалась длительным процессом об¬
разования и воспитания ребенка52 .
Особенности поведения русского крестьянина
сквозь призму его психического склада
Попробуем применить наблюдения антропологов и психологов к анализу осо¬
бенностей социального и политического поведения русского крестьянства пе¬
риода империи. Повторюсь, что предлагаемые мною интерпретации считаю су¬
губо гипотетическими, пилотажными, скорее как постановку проблемы. При
этом я буду использовать наблюдения интеллигентных современников, которые
описывали когнитивные и социальные практики крестьян в рамках дискурса
предрассудков, суеверий, безграмотности, отсталости, вины интеллигенции пе¬
ред народом, сострадания, слияния и опрощения. Можно допустить, что эти на¬
блюдения отражали не только крестьянский, но и интеллигентский менталитет.
Но, увы, эксперимента провести уже нельзя и «чистые» данные не собрать.
Как представляется, низкая, часто нулевая грамотность крестьян находилась
в числе важнейших факторов, замедлявших модернизацию русского общества и в
период империи, и в более раннее время по двум фундаментальным причинам.
Во-первых, социализация молодого поколения и все воспроизводство культуры
неграмотного крестьянского социума осуществлялись преимущественно путем
непосредственной передачи опыта от одного поколения к другому. Без письмен¬
ного закрепления имеющихся знаний открытия не фиксируются, многие из них
забываются и утрачиваются. Устная трансляция культуры ориентирует человека
на простое воспроизводство того, что он слышал, запомнил, чему научился от
предков. Вследствие этого и русский крестьянин ориентировался главным обра¬
зом на традицию. Изменения, несмотря ни на что, все-таки, хотя и медленно,
происходили, поскольку никакая традиция не может отменить отклоняющегося
поведения, заложенного в генетике человека, не говоря о том, что без письмен¬
ной регистрации и прежний опыт точно воспроизвести невозможно.
513
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.35. Паломники в Саровскую мужскую пустынь, Темниковский уезд,
Тамбовская губерния. 1903
Во-вторых, неграмотность сочеталась с мифологическим типом сознания
и симпрактичностью мышления, что подтверждается широким и повсеместным
бытованием демонологических представлений в народной культуре вплоть до
начала XX в.527 В сознании простого человека церковь и колдун — просто раз¬
ные департаменты, считали знатоки народной религиозности528. Устойчивость
демонологии, по мнению Т. А. Бернштам, была связана с низким уровнем гра-
мотности населения и сельского приходского духовенства . «Нигде в цивилизо¬
ванных странах нет такого количества безграмотных, как у нас в России, — по¬
лагал С. Ю. Витте (1849—1915). — Можно сказать, что русский народ, если бы
он только не был народом христианским и православным, был бы совершенно
зверем; единственно, что отличает его от зверя, — это те основы религии, кото¬
рые переданы ему механически или внедрены в него посредством крови»530.
В этих словах много преувеличения. Даже общественные насекомые (например,
муравьи и пчелы) и тем более общественные животные организуют свою жизнь
на принципах солидарности, кооперации, разделения труда, взаимопомощи531.
Первобытные люди отличались высокой моралью. Но много и правды — христи¬
анство подняло человека и его мораль на новый уровень, не доступный язычни¬
ку, и человек хотя бы наполовину перестал быть зверем. «Все мы по пояс люди
(т. е. наполовину, а там скоты)», — гласит русская пословица532.
514
Человеческий капитал России за 1000 лет
Неграмотность, фрагменты мифологического типа сознания и симпрактич-
ность мышления, свойственные крестьянству, оказывали влияние на умственные
способности, аффективную и мотивационную сферы, на поведение и специфику
Я-концепции. Остановлюсь на этом подробнее.
На особенности психики русского солдата, пришедшего в армию от сохи, об¬
ратили внимание офицеры, их обучавшие. Поэт А. А. Фет, поступивший на
службу в 1845 г., вспоминал: «Вместе со мной учились пешему фронту пять или
шесть новобранцев. Тут я мог убедиться в подспорье, предъявляемом даже в те¬
лесном упражнении известным умственным развитием. Видно было, каких уси¬
лий стоило рекрутам правильно делать по команде поворот. Рассказывали, будто
в недавнем прошлом для укрепления в памяти противоположности правого ле¬
вому новобранцем привязывали к одной ноге сено, а к другой солому. До этого
не доходило на наших учениях, не лишенных, впрочем, трагизма»533. По-
видимому, абстрактные слова-команды «налево» или «направо» плохо воспри¬
нимались неграмотными новобранцами от сохи.
Выдающийся русский генерал А. П. Ермолов (1777—1861) считал, что уро¬
вень культурного развития, на котором находился русский солдат, предполагал
дисциплинарную практику, отличную от западной. Поэтому он «относится
к солдату иногда как старший брат, иногда как отец, иногда как бабушка — ино¬
гда с одобрением, иногда с восхищением, иногда с умилением, иногда с уваже¬
нием, но никогда не закрывая глаза на некоторую, по его мнению, недоразви¬
тость что ли, требующую особого подхода. Понятно, что таково же и мнение его
о русском народе вообще, и именно тут во многом коренится его взгляд на пре¬
образования в России»534.
Другой популярный генерал и властитель дум в области военной теории
и тактики в пореформенную эпоху М. И. Драгомиров (1830—1905) разработал
в конце XIX в. систему «развития мозговой деятельности» для солдат и описал ее
в «Офицерской памятке» и «Солдатской памятке». Система основывалась на
следующих принципах: «Сообщать понемногу одну, много — две мысли. Избе¬
гать книжных слов. При малейшей возможности прибегать к примеру или, еще
лучше, к показу. Брать из передаваемого не все сплошь, а в порядке важности,
применять к солдатскому быту и службе. <...> Простого человека нужно учить
не словом, а делом, примером, показом. Покажи ему что-нибудь раз, и он задер¬
жит, поймет и будет помнить это лучше, чем ты ему расскажешь двадцать
раз»535. Похожую систему за 100 лет до этого разработал А. В. Суворов (1730—
1800) в «Науке побеждать» (1795).
Крестьянин Ф. Д. Бобков попал в первый раз в жизни в театр в 1848 г. — это был
московский Малый театр. «Сидел я на самом верху. Ничего я не понял, — вспоми¬
нал он. — Видел, что на сцене входили и уходили, говорили, пели и плясали. Я гля¬
дел не на сцену, а на ложи и кресла, удивляясь множеству народа и роскоши наря¬
дов. То, что было на сцене, как-то проскользнуло мимо меня. Я не рад был, что
и пошел». И только после многократных посещений и благодаря интенсивному чте¬
нию он «сознательно стал относиться к игре на сцене и очень полюбил театр»536.
Е. А. Андреева-Бальмонт (1867—1950), переводчица, жена поэта К. Д. Баль¬
монта, родственница известных московских издателей Сабашниковых, происхо¬
515
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
дила из богатой купеческой семьи и отличалась редкой образованностью. Во
второй половине 1880-х гг. она работала библиотекарем в московских воскрес¬
ных школах для работниц, недавно пришедших из деревни, и заметила много
«странного» в их восприятиях: ученицы не узнавали на картинках элементы зна¬
комого мира, самих себя, не различали оттенков красок. «Наши ученицы, все
взрослые, не понимали, что изображено на самых простых картинках в книге.
Например, стоит мальчик на углу улицы под уличным фонарем, около него соба¬
ка. В такой картинке ничего, казалось, не было незнакомого — наши ученицы,
особенно молоденькие, родились и выросли в Москве и каждый день на улице
могли видеть мальчика с собакой, но ни одна из них не могла рассказать, что
изображено на такой картинке. “Видите мальчика? Собаку?” — спрашивала я их.
Они вертели картинку в руках и молчали. “Вот собака”, — показывала я пальцем
на нее. Тогда кто-нибудь восклицал с удивлением: “Никак и впрямь песик, ну
скажи, пожалуйста, песик и есть...” И книга шла по рукам, и собаку на картинке
узнавали. Когда мы показывали ученицам картину в волшебном фонаре (аппарат
для проекции изображений. — Б. М), ни одна не могла сказать без помощи учи¬
тельницы, что она изображает. Они еле-еле различали на ней человеческую фи¬
гуру, в пейзаже не видели деревьев или воду. Когда им объясняли, что представ¬
лено на картине, они отворачивались от картины и, смотря в рот учительнице,
слушали ее. <...> Так им пришлось, как малым детям, показывать “Лес” Шишки¬
на. “Да где лес-то?” — спрашивали они. “А вот деревья, — говорила я, — сосны,
вы же знаете, какие деревья бывают: ели, березы”.— “Что знать-то! дерево и де¬
рево... а еще пеньки”. Это все, что они отвечали. Медвежат никто не рассмотрел.
<...> И тут я сделала еще одно открытие: большинство наших учениц, не разли¬
чали оттенки красок, они знали только название черной, белой, красной, синей — *
и все. <.. .> Когда я рассказала об этом в нашем кружке, оказалось, что многие!
учительницы знали о таких случаях из своего опыта. Одна кормилица, попавшая 1
в Москву из глухой деревни, не могла привыкнуть к большому зеркалу, встав-1
ленному в стену, она хотела пройти через него, принимая свое отражение за
женщину, которая шла к ней навстречу в таком же сарафане и кокошнике, как
она. Другая, когда ее сняли в фотографии со своим сыном, не понимала, что это
она на карточке, и не различала своего ребенка у себя на руках. Писатель А. И. Эр-
тель, присутствовавший при этом разговоре, рассказал случай, бывший при нем
в деревне. Хозяин конского завода показал дагерротипный снимок с лошади,
взявшей приз на скачках, ее наезднику. Наездник повертел фотографию в руках,
положил ее на стол. “То наша Красавица, узнал? — спросил хозяин. — Возьми
эту карточку Ьебе, я тебе ее дарю, повесь у себя в конюшне”, — прибавил он на
недоуменный взгляд наездника. “Покорно благодарим”, — сказал наездник, взяв
карточку и рассматривая ее. “Похожа?” — спросил хозяин. “Очень схожа, как
две капли воды ваша покойная бабинька”, — ответил наездник, взглянув на ви¬
севший на стене портрет масляными красками, который, он знал, изображал ба¬
бушку хозяина»537. По-видимому, картинки и фотографии потому плохо воспри¬
нимались, что являлись, по сути, схемами, абстракциями, лишенными натураль¬
ного цвета, запаха и вкуса. Для их восприятия требуется изменение привычного
взгляда на внешний мир, развитие восприятия.
516
Человеческий капитал России за 1000 лет
По свидетельству учителей, в конце XIX—начале XX в. дети, поступавшие
в школу, не знали «элементарных вещей»: 2/3 могли сообщить только свое
уменьшительное имя, а не крещеное; фамилий не знал почти никто, а многие не
знали имен своих отцов, матерей, деда и бабки, не знали правой и левой руки, не
определяли, где верх, а где низ. Бог для них был равнозначен иконе, вместо мо¬
литв бессмысленно бормотали: «господи сусе». Не умели перекреститься, не
могли сосчитать пальцев на руке538.
В XVII—начале XX в. в российской деревне среди женщин было довольно
распространено кликушество — нервное заболевание, выражавшееся в судорож¬
ных припадках, резких неистовых криках. Оно проявлялось в виде единичных
случаев, но иногда приобретало характер психических эпидемий, охватывавших
множество женщин нескольких селений539. Подобное поведение приписывалось
крестьянами вселению в человека дьявола или влиянию порчи. И сами больные
полагали, что в их теле в результате колдовской порчи или в наказание за грехи
поселился злой дух, причиняющий боли и судорожные припадки, кричащий на
разные голоса и богохульствующий, особенно во время литургии или в присут¬
ствии святыни. Считалось, что во время припадка кликуша выкрикивает имя того
человека, который «напустил» на нее болезнь, говорит от имени дьявола, и пото¬
му от нее можно получить предсказание или узнать о пропажах и т. п.
В 1930-е гг. жители отдаленных кишлаков Средней Азии не могли решить
силлогизм, оторванный от их непосредственного опыта: «На Севере, где вечный
снег, все медведи белы. Место X находится на таком севере. Белы там медведи
или нет?» Они отвечали психологам, задававшим им этот вопрос: «Я там не бы¬
вал и не знаю. Вот спросите старика Y, он там бывал, он вам скажет. А я врать не
буду». Ученые полагают: неграмотные крестьяне в русских глухих деревнях
в XVIII—XIX вв. мало отличались от среднеазиатских крестьян 1930-х гг. с точ¬
ки зрения познавательных процессов540.
Симпрактичность мышления затрудняла возможность оторваться от своего
маленького личного или деревенского практического опыта, увидеть смысл
в событиях, происходивших за околицей своего села, приводила к тому, что кре¬
стьянин не только пропускал мимо себя великие исторические события, но и во¬
обще порой не интересовался тем, что делается в стране. «Неустанный труженик
не знал, куда, кому и зачем он платит, не имея никакого понятия о земстве, о вы¬
боре в гласные и т. д., — писал о крестьянах 80-х гг. XIX в. Г. И. Успенский. —
Твердо был уверен, что все это до него ни капли не касается. Он почти ничего не
знает насчет “своих правое”, ничего не знает о происхождении и значении на¬
чальства, не знает, за что началась война и где находится враждебная земля
и т. д.»541. И дело здесь, вероятно, не только в том, как полагал Г. И. Успенский,
что крестьянин «заинтересован своим делом и ему некогда было интересоваться
всем этим»542. Причина глубже — по своему психическому складу крестьяне
могли иметь суждение почти исключительно о предметах и явлениях окружаю¬
щего его мира; все, что выходило за границы его индивидуального опыта, не
могло попасть в его сознание и быть предметом рассмотрения и осмысления; он
не обладал необходимым для подобного анализа абстрактным и обобщающим
мышлением.
517
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
«Народ до сих пор представляет различие слоев общественных на основании
различия служебного положения известного лица в государстве, — писал о кре¬
стьянах второй половины XIX в. этнограф Я. Кузнецов. — Так, мужик живет
и служит для того, чтобы пахать, косить, платить подати и всех кормить; ба¬
рин— чтобы смотреть за нравственностью мужика, выколачивать недоимки
и получать жалованье; священник — чтобы венчать, крестить, хоронить и т. д.».
В крепостное время «мужик не считал помещиков кастою, сословием. Он ду¬
мал — крепостник-помещик умрет вместе с падением крепостного права, а зем¬
лю всю отдадут мужикам». После отмены крепостного права, «видя, что поме¬
щик живет, мужик начинает уяснять себе такое абстрактное (курсив мой. — Б. М)
понятие о помещике-дворянине, как целом сословии со всеми привилегиями,
принадлежащими дворянству»543.
В крестьянском сознании антиподом общины-«мира» являлся в первую оче¬
редь помещик. Однако было бы неверно представлять, что для крестьян «мир» —
это «мы», а «они» — это только помещик и все, защищающие его интересы. Та¬
кая четкая схема социальных отношений еще не сложилась в крестьянском соз¬
нании в первой половине XIX в. «Они» — это и крестьяне соседнего села, и кре¬
стьяне других сословий, и даже одновотчинные крестьяне, пользующиеся
большими льготами, чем данный «мир». Крестьяне враждующих помещиков то¬
же не составляли единого «мы», а делились на «мы» и «они», что наглядно про¬
демонстрировано у А. С. Пушкина в его романе «Дубровский». Общность можно
было обнаружить лишь в вере и во время борьбы с внешним врагом544. И, конеч¬
но, не передовой рабочий класс вывел крестьянство в начале XX в. из политиче¬
ского невежества, как полагал один известный революционер и вслед за ним со¬
ветские историки, а школа, земства, интеллигенция.
Симпрактичность мышления крестьянина затрудняла четкое понимание им ру¬
ководящих принципов и своей собственной жизни. «Из-за отсутствия привычки
к отвлечению (курсив мой. — Б. М) мужик не может объяснить основ своей жиз¬
ни, например, что такое передел и как он производится», — пишет Н. Н. Злато-
вратский545. В первое время после отмены крепостного права между крестьянами
существовало «тайное поверье», что надельная земля вскоре без всякого оброка
или выкупа перейдет к ним. Крестьяне ждали «чистой воли». Они думали, что при
крепостном праве они принадлежали помещику, но земля, которую они обрабатывали,
включая помещичью, — им. Естественно, после отмены крепостного прав они ожида¬
ли перехода всей земли в их владение546. Эту социальную иллюзию известный пуб¬
лицист 1860-х гг. В. Скалдин объяснил недостатком абстрактного мышления: «Яв¬
ление это весьма естественно, ибо земледелец, только что вышедший из крепост¬
ной зависимости и которому недоступно разумение отвлеченного юридического
права (курсив мой. — Б. М), не в состоянии понять различия между зависимостью
личною и зависимостью поземельною; он убежден, что с прекращением первой
должна прекратиться и вторая»547. Пустая мечтательность — в данном случае
ожидание «чистой воли» — являлась одной из причин роста недоимок: крестьяне
надеялись, что вместе со «второй волей» придет прощение недоимок548.
Социальный протест крестьян происходил, как правило, не из понимания кре¬
стьянами своего положения в системе общественных отношений, не из созна¬
518
Человеческий капитал России за 1000 лет
тельного стремления к улучшению этого положения, а порождался конкретными,
нередко маленькими обидами, нанесенными помещиком, нарушениями привыч¬
ных отношений, неожиданным понижением жизненного уровня и т. п. Значи¬
тельная часть выступлений крестьянства крепостной поры направлялась не про¬
тив крепостного права как такового, а против злоупотреблений крепостным пра¬
вом. Собственное его сознание не поднималось выше понимания необходимости
борьбы с помещиками. Вот интересный пример объяснения протестующего по¬
ведения крестьянской девушки, сделанного этнографом конца XIX в. «У девуш¬
ки смутны еще взгляды на свою свободу (здесь и далее курсив мой. — Б. М.)
и власть отца; она смешивает и то, и другое и никак не может провести тут гра¬
ницы для нормальных отношений (отцов к детям). Родительское насилие девуш¬
ка еще плохо сознает, она только ощущает эту тяжесть и безропотно переносит
ее». Даже в тех случаях, отмечает автор, когда девушки идут против воли роди¬
телей, здесь «нет сознательного протеста, вытекающего из стройной критики
семейных отношений. Перед глазами девушки тут вовсе не преступная чрезмер¬
ность родительской власти, перед ней безусловно один девичий интерес ее и бо¬
лезненный страх за него. Противится она не потому, что сознает свое право
и ясно различает злоупотребление отца, а потому что слишком дорога ей утрата
девичьего интереса своего. Выйди они замуж — и через два-три года вы увидите
в них только суровых крестьянских матерей, похожих на своих бабушек и праба¬
бушек»549. Автор верно подметил, что крестьянская девушка не вдумывалась
глубоко в жизнь, не разбирала критически отношений, в которых она участвова¬
ла, а только ощущала их тяжесть, в чем в сущности и выражался недостаток са¬
мосознания. Вследствие этого ее поведение было эмоционально-бессознатель¬
ным, она слепо следовала сложившейся веками традиции в отношениях отцов
и детей, а ее поступки были окрашены чувствами.
Исследователи идеологии крестьянства отмечают ее противоречивость550.
Действительно, в политических и социальных воззрениях крестьянства отдель¬
ные идеи логически не увязаны. Крестьянин мог считать всех царей антихриста¬
ми, виновниками всех его бед и одновременно полагать, что избавление придет
только от царя; думать, что царь — хороший, а помещики — плохие, и т. д. Кре¬
стьянин не осознавал логические противоречия, затруднялся в решении силло¬
гизма потому, что посылки силлогизма воспринимаются им как частные положе¬
ния, не образующие единую логическую систему. Он не воспринимал отдельные
положения своей «доктрины» как логические звенья, а всю «доктрину» в целом
как единую непротиворечивую систему — такой подход свойственен только на¬
учному мышлению. Каждое отдельное положение крестьяне воспринимали изо¬
лированно, оно имело ценность само по себе и соответствовало той или иной
группе известных или вымышленных ими фактов; согласованность, соответствие
отдельных идей и фактов друг другу их мало беспокоили. Может быть, поэтому
в крестьянском сознании мирно уживались противоречия. Весь царский род со¬
стоял из антихристов — это «факт», потому что Петр I был подменен в колыбе¬
ли, полагали, например, раскольники. Но освобождение придет от царя, потому
что только царь может отменить старые законы и ввести новые, благоприятные
крестьянам. Никаких противоречий нет, если каждую из этих идей воспринимать
519
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
изолированно, противоречие возникает только тогда, когда идеи рассматривают¬
ся в системе.
Симпрактичность мышления и другие особенности мифологического созна¬
ния оказывали то или иное влияние на все стороны жизни крестьянства и на все
виды его повседневных практик. Поэтому учет психического склада позволяет
глубже понимать и крупные, и мелкие факты быта земледельца. Скажем, кресть¬
яне предпочитали обращаться к знахарю, а не к доктору, верили в исцеление во¬
дой из святого источника или от чудотворной иконы, а не от лекарства. Почему?
Не только из-за материальных расчетов, а потому, что происхождение своей бо¬
лезни приписывали не естественным причинам, а дурному глазу, порче и божье¬
му наказанию. Ради чудотворного исцеления больные и инвалиды шли пешком
сотни километров к святому источнику в Саровской мужской пустыне Темни-
ковского уезда Тамбовской губернии (рис. 12.34—12.36).
По той же причине некоторые крестьянки тщательно скрывали время родов
и старались разродиться самостоятельно где-нибудь под стогом в поле или в са¬
рае55 . Страх дурного глаза был вызван определенным комплексом верований,
которые не в последнюю очередь обусловливались мироощущением крестьян —
тем, что они чувствовали себя объектами воздействия потусторонних сил. Кре¬
стьяне Смоленской губернии еще в 1850-е гг. «помогали» своим женам рожать
«оригинальным» способом: они ложились рядом с роженицей и корчились, ими-
520
Рис. 12.36. Народ наблюдает за перенесением больной в Успенский собор
для приложения к мощам Серафима Саровского, Саровская мужская пустынь,
Темниковский уезд, Тамбовская губерния. 1903
Человеческий капитал России за 1000 лет
552
тируя роды . Этот странный с точки зрения современного человека обычай
(«кувада») объяснялся тем, что имитация в глазах крестьян имела магический
характер и потому помогала при родах. Возможность магического восприятия
мира, в данном случае родов, в значительной степени определялась пережит¬
ком мифологического сознания — представлением о том, что подобное (а сход¬
ство, как указывалось, мифологическое сознание устанавливает по второсте¬
пенным внешним признакам) тождественно, взаимодействует, переходит друг
в друга.
В представлении крестьянства время не было ни необратимым, ни линейным,
ни бесконечно делимым (как у современного человека), оно было циклическим
и конкретным, как у человека мифологичного. Не существовало четкого разли¬
чения времен года и их границ. Понятия весны, лета, осени и зимы существовали
лишь в конкретном отношении ко времени и характеру трудовых процессов.
Прошедшее и настоящее тоже четко не разделялись, прошедшее как бы вновь
и вновь возвращалось. Поэтому будущее представлялось похожим на настоящее.
Время не существовало в сознании крестьянства как абстрактная протяженность,
но всегда оказывалось привязанным к его практическому опыту, к определенным
событиям553. «Русский человек не любит определенного астрономического вре¬
мяисчисления и охотнее означает разные времена года, дни и недели своими
сельскими работами, церковными праздниками и постами»554. Часы оскорбляли
Бога, и точное измерение некоторых процессов и явлений, зависящих от Божьей
воли, например урожая, осуждалось555.
Сходное понимание времени наблюдалось во всей Европе в Средние века и в
начале Нового времени556. «Стабильность, традиционность, повторяемость —
в этих категориях двигалось их сознание, в них же осмыслялось то действитель¬
ное историческое развитие, которого они так долго не могли ощутить»557. Цик¬
лическое понимание времени мешало увидеть мир и общество развивающимися
и осознать идеи изменения и развития, поддерживало традиционность крестьян¬
ских практик. Нечеткое разделение прошедшего, настоящего и будущего време¬
ни затрудняло и понимание причинно-следственных связей, существовавших
между достаточно сложными явлениями природы и общественной жизни. Ведь
различение причины и следствия предполагает их четкое разделение во времени,
поскольку причина предшествует следствию.
Именно циклическим пониманием времени Б. А. Успенский объясняет воз¬
никновение и широкое бытование доктрины «Москва — третий Рим», которая
оказала серьезное влияние на политику России. Здесь, по мнению ученого, при¬
мер того, как «восприятие времени и временных циклов оказывается важным
и действенным фактором, определяющим ход истории, т. е. последующее развер¬
тывание исторических событий»558. Следствием циклического понимания време¬
ни стал и миф о возвращающемся царе-избавителе и самозванце на троне, что
способствовало распространению самозванства на Руси559.
Освоение мира только практически, «через окна чувств», накладывало свой
глубокий отпечаток на характер и содержание народных знаний. Знания кре¬
стьян, по свидетельству современников, были настолько же разнообразны, на¬
сколько широка была народная жизнь. «У народа существуют и своя поэзия,
521
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
и своя философия, и свое естествознание, и своя юриспруденция, и своя поли¬
тическая экономия, и своя социология, и своя политика». Однако народные
знания имели существенную особенность: они существовали «не в виде систе¬
матизированных знаний, высоко стоящих в качественном отношении, а в фор¬
ме отрывочных, количественно сгруппированных (курсив мой. — Б. М.) про¬
дуктов умственной деятельности». Вследствие этого они отличались проти¬
воречивостью, сочетанием примитивности, порой даже нелепости с хорошим
знанием отдельных конкретных фактов. Например, часто вместе с положитель¬
ными сведениями о существенных признаках какого-нибудь «осота», вредяще¬
го земледелию, было в ходу среди земледельцев поверье о волшебном папорот¬
нике, цветок которого сообщает дар прозорливости и понимания языка живот¬
ного. Позитивные знания о влиянии дождевой влаги на разные сельскохозяйст¬
венные растения сочетались с легендой об Илье — пророке, разъезжающем по
небу в гремящей колеснице, — как причине грозы. Понимание зависимости
между урожайностью и степенью культивирования почвы уживалось с верой
в золотые горы и «самородючие земли», а верные понятия о связи социального
и экономического неравенства — со смутными, а порой и извращенными пред¬
ставлениями о государственном строе родины. Кроме того, народные знания
отличались слабым философским или теоретическим освещением фактов и яв¬
лений, отсутствием научных понятий. Это приводило к тому, что по некоторым
отраслям знания крестьян сводились «к нулю и даже больше того — к отрица¬
тельным величинам в форме разного рода нелепостей»561. И это совершенно
естественно, и по-другому быть не могло. Теоретические выводы, абстрактные
обобщения, установление научных фактов не могли стать достоянием негра¬
мотного крестьянства. «Народ всегда стоял у самого факта и непосредственно,
на собственном своем хребте изучал лишь практическую его силу и значе¬
ние»562. Поэтому крестьянин силен был лишь непосредственным знакомством
с фактами и явлениями.
Однако и понимание практической силы, и пригодности известных фактов за¬
труднялось симпрактичностью крестьянского мышления. «Мы все слишком при¬
выкли считать русского мужика узким, сухим практиком, между тем как практи¬
цизм его довольно низкой пробы (курсив мой. — Б. М) и часто в самых практиче¬
ских натурах является больше фикцией и самообольщением, чем настоящим “де¬
лом”, и нередко весь вылетает в трубу от довольно легкомысленных промашек.
<...> То, что мы разумеем под “практичностью” русского мужика, до сего вре¬
мени была больше робость, неуверенность, “семь раз примерь — и все-таки про¬
махнись”, чем истая практичность, прямолинейная, жестокая, без малейших ко¬
лебаний и сомнений чувствующая свою “правоту”. Может быть, когда-нибудь
“мужик-практик” и выработает для себя эту “правоту”, а пока...»563.
Образованные современники часто писали о том, что крестьянские дети ра¬
но взрослели. «Малыш сплошь и рядом рассуждает, как взрослый. <...> Дет¬
ское представление о мире не разнится от представлений взрослых»564. «Подро¬
стки 10—13 лет столь же развиты, как взрослые крестьяне, с ними можно побе¬
седовать столь же обстоятельно, как с их отцами»565. Объяснялось это просто¬
той крестьянского обихода, участием ребенка в большинстве работ и во всех
522
Человеческий капитал России за 1000 лет
событиях крестьянской жизни и открытостью жизни взрослых, включая самые
интимные, например сексуальные отношения, роды, что было неизбежным
следствием жизни в одном помещении (например, на картине П. П. Соколова
«Родины в поле» (рис. 3.28 в. гл. 3 «Демографическая модернизация» наст,
изд.) мы видим маленьких детей). Однако если дети своим поведением и пред¬
ставлениями были похожи на взрослых, то, значит, взрослые напоминали де¬
тей. Психологическая и интеллектуальная акселерация детей, наблюдаемая
в последнее столетие, связана с ранним началом всеобщего обязательного
школьного обучения и его продолжительностью, с ростом их умственного
и физического развития (в настоящее время половое созревания у девочек на¬
ступает на 3—4 года раньше, чем в начале XX в.), прогрессом средств массовой
коммуникации и другими явлениями культурной жизни современного инфор¬
мационного общества. Ничего подобного в российской деревне периода импе¬
рии не наблюдалось. Поэтому сходство детей и взрослых можно отнести скорее
на счет похожести взрослых на детей, чем детей на взрослых (если иметь в ви¬
ду причинно-следственную зависимость).
И действительно, в русской классической литературе XIX в. взрослый кресть¬
янин своим поведением часто напоминает современного европейского подростка
или юношу. Например, такое впечатление остается от чтения произведений В. И. Даля
(«Русский мужик» и др.), Н. Н. Златовратского («Среди народа, «Устои») или
А. П. Чехова («Злоумышленник): наивность, эмоциональность, прямолинейность,
импульсивность, легковерие, упрямство. То же мы наблюдаем в зарисовках на¬
родного быта, выполненных художниками. В XVIII—XIX вв. любимыми играми
молодежи (не детей, которые только наблюдали!) являлись качели и прыжки над
доской, что зафиксировано иностранными путешественниками и русскими ху¬
дожниками (рис. 12.37—12.40). Со временем качели, как и другие подобные иг¬
ры, стали исключительно детской забавой.
В конце XVIII—начале XIX в. немецкий путешественник Х.-Г. Гейслер за¬
фиксировал в серии рисунков, как живет и развлекается народ. Например, в го¬
родки играли взрослые мужики (судя по густой бороде). Игра заканчивалась сле¬
дующим ритуалом: проигравшие носили на своей спине счастливых победите¬
лей, размахивающих городошной палкой (рис. 12.41). К концу XIX в. городки
стали детской игрой, причем в нее разрешалось играть даже девочкам566.
На картине К. Вагнера (рис. 12.42) запечатлено, как в 1812 г. взрослые рус¬
ские мужики играют в бабки, а дети наблюдают. Но со временем игра также ста¬
ла детской. В историко-бытовых описаниях середины XIX в. сообщалось, что
игра в кости «...составляет первое удовольствие для мальчиков, и нет уголка во
всей России, где бы не играли в нее»567. В 1870 г., к тому времени игра стала ис¬
ключительно детской, В. Е. Маковский написал известную картину, как в бабки
играют дети (рис. 12.43).
Подобные игры (как и весьма распространенные кулачные бои) заменяли
физкультуру и спорт. Но не напоминает ли это игры современных детей?! Такая
мысль приходит в голову в связи с тем, что возраст в то время являлся в большей
степени социальной, чем психологической, категорией. Взрослые мужчины
и дети в обыденной жизни были разделены если не стеной, то изгородью;
523
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
и «опускаться» до детей взрослому считалось не к лицу. В настоящее время
взрослые порой также ведут себя как дети. Например, по договоренности, проиг¬
равшие в бильярд пролезают под биллиардным столом, проигравшие в карты —
кукарекают или получают щелчки по носу. Но подобные наказания на трезвую
голову выглядят скорее девиантными и инфантильными, чем нормальными. Да
и социальный статус детей и взрослых теперь нивелировался.
524
Рис. 12.37. Х.-Г. Гейслер (1770—1844). Качели. 1805.
Г осударственный Эрмитаж
Человеческий капитал России за 1000 лет
Рис. 12.39. А. О. Орловский (1777—1832). Прыжки над доской. 1827.
Государственный Русский музей
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рис. 12.40. Детские игры, С.-Петербургская губерния. 1910-е
Рис. 12.41. Х.-Г. Гейслер (1770—1844). Заключительный момент игры в городки. 1805.
Цветная гравюра. Государственный Эрмитаж
526
Человеческий капитал России за 1000 лет
Рис. 12.42. К. Вагнер (годы жизни неизвестны). Игра в бабки. 1812.
Государственный Русский музей
Рис. 12.43. В. Е. Маковский (1846—1920). Игра в бабки. 1870.
Государственная Третьяковская галерея
527
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Может быть, именно детскостью и наивностью народа, хотя бы до некоторой
степени, объясняется народолюбие, так распространенное среди русских интел¬
лигентов XIX—начала XX в. — нормальному взрослому человеку трудно оби¬
деть ребенка, хочется помочь и защитить.
Учет особенностей психического склада крестьянина помогает лучше уяснить
причины большего или меньшего непонимания, существовавшего в XIX в. меж¬
ду крестьянством и теми представителями образованного класса русского обще¬
ства, которые относились к нему с живым сочувствием. Вполне возможно, что
глубокие различия в типе сознания и мышления тех и других составляли порой
столь серьезное препятствие для общения и взаимопонимания, преодолеть кото¬
рое оказывалось невозможным. Затруднения начинались с языка, на котором го¬
ворили люди образованные и крестьяне (русский язык тех и других был сущест¬
венно иным), и кончались непониманием и неприятием мыслей и чувств друг
друга. Крестьяне и образованные представители привилегированных сословий
мыслили и чувствовали как бы в разных плоскостях или на разных уровнях. Пер¬
вые мыслили по законам мифологического сознания, вторые — преимуществен¬
но по законам рационального сознания. Затрудненность взаимопонимания со¬
хранялась долгое время после отмены крепостного права, и многие писатели
второй половины XIX—начала XX в. отразили это в своих произведениях. На¬
пример, неудача «хождения в народ» в 1870-е гг. представляла, по-видимому,
явление именно этого порядка. Пропаганда народников не нашла большого от¬
клика у крестьян, кроме всего прочего, еще и потому, что они говорили на раз¬
ных языках — в прямом и переносном смысле568. Одним из факторов культурно¬
го раскола в русском обществе периода империи являлось как раз то, что вестер¬
низированный слой, куда входила и просвещенная бюрократия, с одной стороны,
и крестьянство — с другой, мыслили не только в разных парадигмах, но по раз¬
ным законам мышления.
С XVIII в. началось распространение грамотности, но в первые 100 лет она
глубоко проникла только в среду дворянства и духовенства — это всего 3 % на¬
селения. Затем в большей или меньшей степени распространилось на купечество,
мещанство и только в последнюю очередь — на крестьянство. Напомню, что на
рубеже XVIII—XIX вв. процент грамотных крестьян в возрасте 10 лет и старше
находился в интервале 3—7 %, в том числе у мужчин — 4—8 %, у женщин —
2—6 %и даже в 1917 г. — соответственно 36; 51 и 22%(табл. 12.15 и 12.16).
Быстрое и неравномерное повышение грамотности у различных групп насе¬
ления имело серьезные социальные и политические последствия — оно спо¬
собствовало расколу общества на образованных и неграмотных. На беду пер¬
вые были одновременно еще богаче вторых и имели более высокий социальный
статус, что только усугубляло раскол. Образованные, как правило, ориентиро¬
вались на Запад и, значит, на модернизацию, неграмотные — на традицию.
Представители привилегированных групп, воспринявшие современную свет¬
скую западную культуру, испытывали известный дискомфорт от жизни в Рос¬
сии и желали изменить ее по европейской модели, чтобы не чувствовать себя
чужими среди своих и своими среди чужих. Некоторым из них казалось, что
сделать это легко и просто — стоит показать народу образцы и научить ими
528
Человеческий капитал России за 1000 лет
пользоваться. На самом деле изменения должны были сначала произойти в го¬
ловах людей. А сделать это возможно только посредством массового образова¬
ния, для чего требовалось много времени и усилий. Не у всех хватало терпения,
и немалому числу образованных людей революция казалась лучшим способом
быстрого решения вопроса.
Дифференциация по образованию имела даже более серьезные последствия,
чем социальное и имущественное расслоение. Дело в том, что, как только бедный
образованный человек становился богатым, он от других богатых образованных
людей мало чем отличался и легко находил с ним общий язык. Но когда бедный
неграмотный становился богатым, он все равно не мог найти общий язык с обра¬
зованными людьми, независимо от того, богатые они или бедные. Психология
и мышление европейски образованного и неграмотного существенно различаются,
близко к тому, как различались рациональный и мифологичный человек (о чем шла
речь выше). Любой факт, любое событие в жизни намного эмоциональнее пережи¬
ваются неграмотным, чем грамотным, так как у первого отсутствует привычка, ко¬
торую дает регулярное чтение: смотреть на все, в том числе на себя, со стороны,
глазами постороннего. По необходимости у неграмотного более узкий кругозор,
чем у грамотного, но зато неграмотный всегда чувствует более глубокую соприча¬
стность со всем, с чем сталкивает его жизнь, к людям у него также более персо¬
нальное и эмоциональное отношение, чем у образованного. Поэтому образованный
и неграмотный по-разному чувствуют. Но и мыслительный процесс у грамотных
и неграмотных людей происходит по-разному.
Проблема самозванства и так называемого наивного монархизма находит до¬
полнительное объяснение, если учесть, что крестьянин в крепостную эпоху не
чувствовал себя настоящим субъектом своих действий, а воспринимал себя
и окружающих людей скорее как объект воздействия потусторонних сил, не об¬
ладал развитым индивидуальным самосознанием. Поднимаясь на борьбу за свои
интересы, он нуждался хотя бы в иллюзорном руководстве и санкции «сверху».
И совершенно естественно, что и руководство, и санкцию сверху крестьянство,
как правило, «получало» от «помазанника Божьего» — царя. Последний «стано¬
вился» во главе социального движения потому, что, по представлению крестьян,
только царь был высшим авторитетом в государстве, истинным руководителем
и субъектом социально значимых действий, поскольку непосредственно за всеми
его поступками стоит Бог. Руководство «сверху» могло осуществляться и кос¬
венно, через письма, указы, видения и слухи. Вероятно, поэтому в большинстве
крупных крестьянских движений XVII—половины XIX в. мы встречаем самозва¬
ных руководителей, действующих именем или от имени царя, или подметные
письма, указы, слухи, оправдывающие данное социальное движение? Нуждаясь
в санкции «сверху», крестьянство и «получало» ее, хотя бы призрачно, в своем
воображении, включая в понятие «мы» не только общину, но царя и Бога, кото¬
рые в их представлении являлись их союзниками, их защитниками от всех и вся¬
ких «они». Это обстоятельство облегчало их решимость выступать в защиту сво¬
их интересов. «Законность» своих протестов крестьяне всегда обосновывали нор¬
мами религиозной морали или ссылкой на царские указы, а действия помещиков
объявлялись «незаконными» как нарушающими волю царя569.
529
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
Психологическая потребность в санкции «сверху» помогает отчасти объяс¬
нить и другой феномен социальной борьбы крестьянства в крепостное время:
обычно локальные движения начинались с подачи прошения на высочайшее имя.
Крестьяне, как правило, легитимировали свои выступления письменным обра¬
щением к царю. Прошение на имя царя составлялось в самом начале выступле¬
ния, после чего ссылка на ожидание царского ответа, по мнению крестьян, давала
им моральное и юридическое право протестовать и отказываться от дальнейшего
подчинения помещику или местным властям. Случаи благоприятного решения
царя или правительственных ведомств от имени царя еще более укрепляли их
уверенность в своей правоте. Подача прошения являлась, таким образом, с точки
зрения крестьян оправданием и обоснованием неповиновения помещику. Как
и в случае самозванства, здесь тоже проявилась неразвитость крестьянской лич¬
ности, не поднявшейся еще до осознания того, что и он также субъект действий.
В свете этого с психологической точки зрения наивный монархизм, вероятно, не
что иное, как поиск поддержки «сверху» вследствие затруднительности для кре¬
стьянства подняться на борьбу без апелляции к царю и Богу. Крестьянин не толь¬
ко верил в «доброго царя»; он также нуждался, хотя бы иллюзорно, в санкции
и помощи «сверху», как нуждался в этом его сказочный герой, даже если ге¬
рой был богатырем.
Можно допустить, что ощущение крепостным крестьянином себя в большей
степени объектом, чем субъектом, действий психологически смиряло и «облег¬
чало» его пребывание в личной зависимости от помещика. Крестьянин большей
частью не воспринимал крепостную зависимость как нарушение человеческих
прав, как надругательство над личностью. Крепостное право понималось им не
абстрактно — как полная власть над крестьянином, его жизнью и имуществом,
а конкретно — как обязанность что-то исполнять, платить ренту, ходить на бар¬
щину и т. д. Это ослабляло напряженность его отношений с помещиком, оттяги¬
вало момент, когда крестьянин мог бы сказать свое решительное нет крепостно¬
му праву. По мере укрепления в крестьянине чувства собственного достоинства,
по мере роста ощущения себя личностью он усиливал свой протест против нару¬
шения его прав. Это, в частности, проявлялось в фактах крестьянского протеста
против помещичьего вмешательства в семейную жизнь крепостных, против об¬
ращения с ними, как с живым инвентарем, и т. п. Причем сколько-нибудь замет¬
ный размах борьба за человеческие права в среде крепостных получила только
накануне отмены крепостного права570.
Имеющиеся данные позволяют думать, что слабое развитие чувства личности,
или «субъектности», и как следствие этого потребность в руководящих указани¬
ях и признании «сверху» проявлялись не только в политическом и социальном
поведении, но и в повседневной жизни крепостных крестьян (при этом «сверху»
означало для женщин и детей указание отца и инстанций, стоявших над ним, для
отца — указание общины и стоявших над ней, для общины — указание помещи¬
ка и власть предержащих). Хорошо известна публичность всех событий кресть¬
янской жизни, таких как свадьба и похороны, уход в армию и рождение ребенка,
крещение и сватовство и т. п. Эта публичность была характерна для быта как
крепостной, так и пореформенной поры. «Деревенский человек, — отмечали на¬
530
Человеческий капитал России за 1000 лет
блюдатели крестьянской жизни, — привык жить открыто. Большая часть его
жизни проходит “на миру”, на улице, на глазах у всех. Даже самые интимные
моменты своей жизни он не умеет скрыть от улицы: как, что и сколько он рабо¬
тает, как, что и сколько он ест, как и кого он любит, как воспитывает детей, како¬
вы отношения в его семье — все это известно “миру”, “улице” до мельчайших
подробностей точно так же, как известно и то, кого он ненавидит»571. Но это не
тяготило крестьянина, и он редко принимал какие-нибудь меры к сохранению
семейных тайн. Ведь тайны не только не пытались скрыть, но, напротив, тотчас
же делали достоянием всей деревни. Даже обманутый муж не стеснялся провести
изменившую ему жену обнаженной через все село. Крестьянин не чуждался пуб¬
личности своих действий, более того, сам стремился к ней потому, что нуждался,
чтобы «мир», «улица» давали санкцию на все его поступки. Без этой санкции ни
свадьба, ни похороны, ни рождение не становилось действительными событиями
в глазах крестьянина. Чем больше людей были свидетелями того или иного со¬
бытия, чем больше, значительнее санкция, тем, следовательно, весомее, реальнее
становилось данное событие для крестьянина — таков результат слабого разви¬
тия индивидуального самосознания и того, что крестьянин не чувствовал себя
истинным субъектом своих действий. Публичность личности являлась необхо¬
димым условием действительности личности, публичность общественных отно¬
шений — условием действительности этих отношений и в целом для крестьянина
публичность была атрибутом действительности12.
Отмечу цельность и непротиворечивость мироощущения крестьянина, чувст¬
во полноты бытия и глубокую эмоциональность. Львиную долю своих знаний
крестьянин получал путем личного опыта, толику — от других людей, через рас¬
сказы бывалых, проповеди священника и лишь крупицу — из книг, которые
читали немногие грамотные. Как древний мудрец, он все свое носил с собой.
Ограниченность информации, которой обладал крестьянин, повышенная эмо¬
циональность и отсутствие сомнений приводили к тому, что он непосредственно
относился к жизни, органически переживал все ее проявления. Чувство полноты
бытия, не разъятого рефлексией и опытом других людей на составные элементы,
отсутствие в сознании существенных противоречий, поскольку они легко ужива¬
лись, — вот что давало крестьянину мифологическое сознание. Любой факт, лю¬
бое событие в жизни эмоционально переживались крестьянином. У него не вы¬
работалось привычки, которую дает регулярное чтение, смотреть на все, в том
числе на себя, со стороны, глазами постороннего. Крестьянин поэтому чувство¬
вал глубокую сопричастность со всем, с чем сталкивала его жизнь. Такое глубоко
эмоциональное отношение к жизни нашло отражение в художественной литера¬
туре. Вот одна характерная зарисовка писателя-народника. «С каждым шагом
к округе (где им предстояло судить. — Б. М), с каждой встречей, — пишет автор
о чувствах крестьян-присяжных, идущих в город на суд, — все сильнее начинали
они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому “народному греху и несча¬
стью”, свою нравственную обязанность к нему. Так называемые “культурные”
люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них “народ¬
ный грех, несчастие” есть не более как “абстрактная идея” права, выражаясь их
словами; для народа — это “боль человека с плотью и кровью”. Ежели осудить
531
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
человека “греха и несчастья”, то как бы не превысить меру господня наказания
и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует»573. Вот что
чувствовали и думали крестьяне о предстоящей им работе присяжными. Так же
близко к сердцу принимали они все, что случалось с ними на суде, в перерывах
между заседаниями. Городские разговоры о справедливости, просвещении и т. д.,
так же как судейские, адвокатские и прочие уловки, остались им непонятны, воз¬
будили в них страх, чувство отчужденности, смятения. Характерна реакция кре¬
стьян на уличение одного из присяжных от городского сословия в обмане (по¬
следний имел подложные документы) — возмущение, отчаяние, испуг. Эмоцио¬
нальное потрясение оказалось так велико, что один из крестьян от страха перед
несправедливостью сбежал в деревню, а другой заболел. Это своеобразное, утра¬
ченное современным горожанином мироощущение, сердечное, эмоциональное
отношение к любому творению природы и человека и к самому человеку с заме¬
чательной силой отражено в произведениях нашего известного писателя В. Г. Рас¬
путина (1937—2015), в особенности в его повестях «Прощание с Матерой»
и «Последний срок»574.
Эмоции, с точки зрения их культурной и исторической обусловленности,
в последние годы стали предметом пристального внимания ученых во всем мире,
что дает основание говорить о наметившемся в общественных и гуманитарных
науках «эмоциональном повороте»575. Имеется много данных, подтверждающих
глубокую эмоциональность русских крестьян периода империи, что неудиви¬
тельно: эмоции играют огромную роль даже в жизни современного человека из
самых продвинутых в культурном и технологическом отношении стран. Идея об
укрощении эмоций, якобы произошедшем под влиянием дисциплинированных
практик индустриального общества, и о наступившей «дисциплинарной цивили¬
зации» подвергается в современной науке ревизии. Модель человека как «рацио¬
нального оптимизатора» дополняется представлениями о человеке как о носителе
«логики эмоций, пристрастий и впечатлений». «Теория перспектив» лауреатов
Нобелевской премии по экономике за 2002 г. Д. Канемана и В. Смита утвержда¬
ет, что реальный человек не ведет себя всегда вполне рационально. Например,
большинство управленческих решений, включая стратегические, принимаются
в результате иррациональных эмоциональных процессов, а рассудочная состав¬
ляющая может играть второстепенную роль576. Это означает, что при построении
моделей экономико-технологического развития на любом уровне необходимо
учитывать «человеческий фактор», включая глубинные бессознательные процес¬
сы эмоционально-образного мышления577. И это после нескольких столетий дис-
циплиниров!ания человека и целенаправленного укрощения его эмоций! Отсюда
очевидна правота тех, кто утверждает, что люди в бесписьменных и вообще тра¬
диционных обществах были чрезвычайно впечатлительны и эмоциональны, что
эмоции служили важным коммуникативным средством, компенсировавшим бед¬
ность и неразвитость языка, служили одним из механизмов познания человеком
внутреннего мира других людей путем проникновения-вчувствования в их пере¬
живания.
Эмоции выполняют более важные функции, чем предполагалось прежде.
Эмоции не могут быть полностью заменены разумом: глубинные бессознатель¬
532
Человеческий капитал России за 1000 лет
ные процессы эмоционально-образного мышления подсказывают линию поведе¬
ния; дефицит эмоций угнетает умственные процессы, лишает людей целеустрем¬
ленности и четко выраженных интересов578. «Разумом трудно понять то многое,
что постигается сердцем», — утверждает К.-Г. Юнг579. С начала 1990-х гг. пси¬
хологи говорят о важности изучении эмпатии580, эмоционального интеллекта,
эмоциональной креативности и т. п. В отличие от привычного всем понимания
интеллекта, эмоциональный интеллект является способностью правильно истол¬
ковывать обстановку и оказывать на нее влияние; интуитивно улавливать то, чего
хотят и в чем нуждаются другие люди; знать их сильные и слабые стороны; не
поддаваться стрессу; уметь понимать чувства других и способность дать им по¬
нять, что вам известны их чувства. В древние времена эмоциональный интеллект
был ключевым для выживания. «Подлинное сочувствие и знание человека, —
писал Э. Фромм, — в значительной мере недооценено как революционный фак¬
тор в развитии человека»581. Эмоциональный интеллект проявлялся в способно¬
сти чувствовать и понимать других, уживаться, адаптироваться в окружающей
среде и находить общий язык58 .
Психологи установили: длительное систематическое образование развивает
личность и индивидуализм, усиливает самоконтроль и самодисциплину, снижа¬
ет эмоциональность (но, конечно, не исключает), развивает рефлексию, повы¬
шает рациональность поступков и снижает внушаемость. В бесписьменных об¬
ществах внутренняя коммуникация, или внутренний диалог, в ходе которого
человек приходит к заключению, отсутствовал, в силу чего поведение в значи¬
тельной мере регулировалось эмоциями и традицией. С развитием когнитивных
способностей (усовершенствованием механизмов долговременной памяти, ин¬
дивидуального опознавания, долговременного планирования и др.) на первое
место выходит целенаправленное мышление583. Антропологи и историки это
зафиксировали584.
Процесс преображения человека посредством образования интересно описан
в дневнике бывшего дворового человека Ф. Д. Бобкова (1831—1898). Мемуарист
родился в костромской деревне, где жил до 15 лет. В 1846—1861 гг. проживал
в Москве в услужении у своих владельцев. В 1865 г. стал помощником начальни¬
ка станции на железной дороге, а затем предпринимателем и умер состоятельным
купцом первой гильдии. Читать и писать он выучился самостоятельно еще в де¬
ревне, когда ему было 14 лет. Не имея возможности реализовать свое страстное
желание учиться, он стал усердным читателем. Он читал все, что попадалось ему
под руку, — романы, популярную медицину и механику, труды Г. Т. Бокля
и В. Гумбольдта. Со временем стал вести дневник, где в подробностях описывал
все, что с ним происходило, что видел, слышал, делал, читал и т. п. Бобков за¬
фиксировал в своих записках, которые он вел до конца жизни, как изменялись
его потребности, взгляды, оценки, понимание жизни, как в нем развилось чувст¬
во личности и собственного достоинства, как он стал осознавать устройство об¬
щества, социальную стратификацию, сущность крепостного права, как изменя¬
лось его восприятие и мышление, способность к самоконтролю и дисциплине585.
Словом все, что пишут психологи и антропологи о влиянии систематического
обучения на психику человека, нашло полное подтверждение в жизни Бобкова.
533
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Когда в начале XX в. некоторые современники жаловались: «Школа вместо
того, чтобы собирать полезные знания, стремится к выработке полезных, хотя,
может быть, мало нужных в крестьянской жизни навыков: бегло читать, считать,
грамотно писать, иногда и сочинять»586 — они не учитывали, что именно эти
«бесполезные» знания «бегло читать, считать, грамотно писать, иногда и сочи¬
нять» были, возможно, даже более важны, чем усвоение каких-нибудь полезных
практических навыков. Опыт российского школьного строительства конца XIX—
начала XX в. продемонстрировал возможность преобразования психического
склада населения посредством обучения и различных преобразовательных меро¬
приятий, доказал возможность внедрения в традиционную среду ценностей
и норм, ранее ею не разделявшихся587.
Роль образования многогранна: оно (при прочих равных условиях) не только
воспитывает чувства и учит укрощать эмоции, но преодолевает симпрактичность
мышления, делает его более богатым, содержательным, общим и более абстракт¬
ным и в то же самое время более дисциплинированным и застрахованным от
ошибок. «Мышление необразованного при прочих равных условиях (например,
при одинаковом жизненном опыте) более ограничено и менее содержательно,
малоспособно к обобщениям и абстракциям, но в то же время более поверхностно,
недисциплинированно и склонно к ошибочным объяснениям и неверному пони¬
манию, — зафиксировал известный философ, педагог и психолог П. П. Блонский
(1884—1941). — Нет, пожалуй, ни одной интеллектуальной функции, на которую
школа и даваемое ею образование влияли сильней, чем на мышление. И дело не
только в даваемых школою знаниях. <...> Школа учит решать задачи, выводить
следствия, находить причины. Школа делает человека более опытным в мышле-
нии» . Подчеркну: здесь ученый имеет в виду исключительно европейскую
школу Нового и Новейшего времени, которая ставила целью развитие у учащих¬
ся способности к формальным операциям и абстрактному мышлению. Продол¬
жительное обучение в школе, преследующей иные цели обучения, будет иметь
и другие последствия589. Психологи установили: малообразованные люди легче
поддаются внушению и, значит, манипулированию. Практики, связанные с вы¬
полнением приказов и требований (именно такой деятельностью крестьянин
большей частью занимался и в семье, и в общине), также развивает внушаемость.
Находясь в толпе, человек особенно подвержен внушению и манипулированию,
так как у него изменяется протекание психических процессов, основными регу¬
ляторами поведения становятся инстинкты, а крестьянину часто приходилось
быть в толпе и принимать решения под ее влиянием590. «Не говори мне о толпе,
повинной в том, что перед ней нас оторопь берет. Она засасывает, как трясина,
закручивает, как водоворот», — писал И. В. Гёте в «Фаусте». Кроме того, ма¬
лообразованный человек легче подчиняется авторитетам; мыслит стереотипа¬
ми; навязываемые ему стереотипы усваивает бессознательно, дорефлексивно
и очень прочно. Благодаря этому сообщество малограмотных людей, с одной
стороны, твердо поддерживает существующий общественный порядок, с дру¬
гой — легко поддается воздействию пропаганды, агитации и пиару, что повы¬
шает вероятность манипулирования. Это классически проявилось во время ре¬
волюций 1917 г.591
534
Человеческий капитал России за 1000 лет
Содержание народных знаний оказывало большое влияние на поведение кре¬
стьян, поскольку, каковы бы они не были в качественном отношении, они форми¬
ровали личность, питали ум и чувства труженика с пеленок и до глубокой старос¬
ти. Взять, к примеру, агротехническое новаторство крестьян. В первой половине
XIX в. крестьяне не сделали ни одного сколько-нибудь существенного нововведе¬
ния в сельском хозяйстве. Рационализация сельского хозяйства осуществлялась
почти исключительно помещиками . После аграрной реформы 1861 г. новации
стали происходить и по инициативе самих крестьян, хотя в большей степени
земств и коронных властей593. И это не случайно. Любое значительное техническое
нововведение или открытие предполагает наличие у человека, его сделавшего, та¬
ких качеств, как развитое техническое воображение, понятийное мышление, ин¬
теллектуальная инициатива, познавательное целеполагание594, т. е. именно того,
чем в силу исторических причин русский крестьянин в достаточной степени еще
не обладал. А ведь любое творчество — агротехническое, социальное, политиче¬
ское, интеллектуальное и т. п. — требует тех же качеств от личности. Не потому ли
крепостной крестьянин так тяготел к традиции, к старине? Стоит прислушаться
к тем современниками, которые полагали: «Крестьянин, подавленный невежест¬
вом, привык подобно рабочему волу идти по одной, издавна проторенной дорожке;
всякое отступление от нее кажется ему страшным и рискованным»?595 Новатор
чувствует себя субъектом своих действий, а не объектом воздействия потусторон¬
них сил и потому не боится нарушить что-либо из того, что установлено предше¬
ственниками, не нуждается для этого в санкции «сверху». Не таков был крестья¬
нин. «Здешние крестьяне всегда охотно делают то, к чему они издавна привыкли,
и всегда все делают так, как они прежде делали, — заметил один корреспондент
РГО. — Все новое или, по крайней мере, переиначенное, даже самое полезное, для
них всегда тягостно и неприятно. Сами они не придумывают да и не хотят приду¬
мать для себя новое и лучшее под тем благовидным предлогом, чтобы не показаться
хитрецами, которые своими выдумками как будто хотят переменить божию во¬
лю»596. Корреспондент РГО, отвечавший в середине XIX в. на анкету о крестьян¬
ском образе жизни, точно подметил самую суть традиционного отношения к жизни —
боязнь изменения, происходившую из убеждения, что всякая перемена означает
вмешательство в прерогативы высших сил, нарушение устоев окружающего мира
и потому не может привести ни к чему хорошему. Глубокая крестьянская вера
в неизменность всего сущего нашла свое выражение в пословице: «Не нами уста¬
новлено, не нами и переставится»; при этом «не нами установлено» — не обраще¬
ние за поддержкой к старине и не утверждение авторитета старины, а указание
на «объективность» установлений — так было и так будет, — на принадлежность
существующих установлений устоям окружающего мира597.
Тысячу раз правы «постепеновцы», как называли в 1860—1880-е гг. сторон¬
ников медленного, поступательного, постепенного развития и противников ре¬
шительных революционных преобразований, которые говорили о том, что вся¬
ким благим социальным изменениям должен предшествовать длительный этап
повышения образования и общей культуры народа598. Без этого реформы не при¬
ведут к желаемым результатам, а «всякая революция, — как говорил Н. А. Бердя¬
ев — несчастье. Счастливых революций никогда не бывало»599.
535
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
Итоги: как быть счастливым?
В пореформенное время и низшие страты, и привилегированная образованная
часть общества испытали влияние буржуазного мировоззрения, пытаясь адаптиро¬
вать его к российским реалиям, примирить с традиционными русскими ценностями.
Вследствие чего произошла заметная эрозия последних. Коллективные представле¬
ния довольно значительной части народа и интеллигенции в той или иной степени
трансформировались. Несмотря на изменения, вплоть до начала XX в. большинство
российских крестьян и рабочих (примерно 70 %, если судить по доле крестьян, вы¬
делившихся из общины) разделяли принципы субсистенциальной трудовой этики,
хотя и в несколько модернизированной форме. В своих хозяйственных практиках
крестьяне стремились действовать в соответствии с принципами «моральной
экономики», хотя удавалось это не всегда, причем в пореформенное время
с меньшим успехом, чем в XVIII—первой половине XIX в. Важнейшими прин¬
ципами моральной экономики являются четыре: производство ведется главным
образом ради удовлетворения необходимых потребностей; производственные
отношения основаны на христианской морали; имущественная дифференциа¬
ция — минимальна; время — не деньги, а молитва и праздник. В результате уме¬
ренное потребление, с одной стороны, обилие свободного времени и интенсивное
межличностное общение с соседями, родственниками и друзьями — с другой.
Альтернатива — капиталистическая экономика со страстью к богатству и ком¬
форту и ради их достижения непрерывный напряженный изнуряющий и большей
частью скучный труд по 9—10 ч в день, короткий отпуск, общение с людьми только
по делу, а также многие другие жизненные практики общества потребления, харак¬
терные для большинства людей, входящих в так называемый золотой миллиард, —
имеет свои недостатки.
Во-первых. Потакание непрерывно растущим потребностям поглощает столько
времени и сил, что сердце человека с возрастом черствеет, душа леденеет, радовать¬
ся жизни некогда, поэтому удовлетворения от высокого качества потребления не
наступает. Вместо этого выгорание личности, выгорание души, «уплощение эмо¬
ций»: «...когда исчезает острота чувств и сладость переживаний. Вроде бы все
нормально, но... скучно и на душе тошно. Не волнует ни пламя заката, ни переливы
птичьего щебета. Ослабли чувства к самым дорогим и близким людям. Даже люби¬
мая пища стала грубой и пресной»600. Связано это с уменьшающейся отдачей от
экономического развития, или уменьшением приращения пользы от экономических
достижений. Переход от глубокой и безысходной бедности к уровню стран средне¬
го достатка (например, в настоящее время от уровня Буркина-Фасо к уровню Пор¬
тугалии) приносит гражданам огромный прирост счастья. Но в дальнейшем каждый
дополнительный евро к ВВП на душу населения требует все больших усилий и не
дает сопоставимой прибавки к ощущению счастья. Когда борьба за выживание по¬
зади, потребности у людей непропорционально повышаются; они хотят жить так,
как им хочется. В результате ощущение счастья растет медленно или даже снижает¬
ся. Люксембург — одна из богатейших стран мира по душевому доходу. С поправ¬
кой на число жителей герцогство в несколько раз богаче Ирландии. Но уровень
ощущения счастья гражданами этих западноевропейских стран, как показывают
536
Итоги: как быть счастливым?
специальные социологические опросы, проведенные по специальной методике,
одинаков601.
Во-вторых. Распространение ортодоксальной протестантской трудовой этики
по всему миру создает иллюзию, что все жители Земли (в 2014 г. их уже насчи¬
тывалось 7,2 млрд, а к 2025 г., по прогнозу ООН, достигнет 8,1 млрд человек,
к 2050 г. — 9,6 млрд) могут жить как средний класс самых развитых европейских
стран. Эта наивная надежда наталкивается на непреодолимые ограничения при¬
роды — ресурсы нашей планеты такой нагрузки явно не выдержат, учитывая, что
избыточное потребление растет. В начале XXI в., согласно данным Продовольст¬
венной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодно в развитых
странах выбрасывается на помойки 670 млн т продовольствия, или около 17%
всех производимых в мире продуктов. В первых рядах идут США, где выбрасы¬
вается 40 % производимого продовольствия. На его производство расходуется
около 2 % всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Этого количества
продуктов достаточно, чтобы прокормить половину населения Африки. Британ¬
цы выбрасывают примерно 20 млн т еды в год — половину произведенных про¬
дуктов питания — более чем на 20 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Столько
же выбрасывается в ФРГ602.
В-третьих. «Время — деньги» — эта максима рыночного общества в значи¬
тельной степени сложилась под влиянием протестантской трудовой этики, а от
нее — прямая дорога к гражданскому обществу как рынку, в котором люди — тор¬
говцы и ведут себя как конкуренты. Ф. Теннис (1855—1936) утверждал, что имен¬
но рынок и поведение человека на рынке — модель взаимоотношений в буржуаз¬
ном гражданском обществе: все люди — конкуренты, находятся друг с другом
в состоянии «потенциальной враждебности и латентной войны». Строгое соблю¬
дение закона — единственный способ предотвратить горячую войну, не позволить
людям «съесть» друг друга. По мнению Ф. Тенниса, вежливость, которой так вос¬
хищаются россияне, первый раз попавшие на Запад, скрывает факт, что «каждый
думает о себе и стремится утвердить свою значимость и добиться своей выгоды
в ущерб другому. Расчет диктует иногда соперникам договориться, чтобы оставить
друг друга в покое или объединиться»603. Современный французский политолог
П. Розанваллон проследил процесс возникновения в европейской социальной
и политической мысли этой концепции и пришел к выводу: эта созданная полити¬
ческой экономией XVIII в. утопия до сих является одной из наиболее влиятельных
и составляет одну из основ современного либерального мировоззрения604. Сказан¬
ное дает основание думать, что сторонники других максим: «время — праздник»,
«гражданское общество — большая семья, основанная на взаимном уважении» —
заслуживают внимания и имеют не меньшее право на существование.
В-четвертых. Известный немецкий социолог и психоаналитик Э. Фромм
(1900—1980) утверждал, что только в связи с разделением труда, ростом производ¬
ства и образованием излишков продуктов в обществе появляются сильная жесто¬
кость и деструктивность, в то время как люди дописьменных обществ проявляли
минимум деструктивности и максимум готовности к сотрудничеству и справедли¬
вому распределению продуктов питания Общество потребления ориентировано
почти исключительно на «простые стимулы»: секс, накопительство, садизм, нар¬
537
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
циссизм, деструктивность. Фромм заявляет о необходимости радикальных пере¬
мен — и не только в экономических и политических структурах, но и в личност¬
ных и поведенческих, т. е. во всей системе ценностных ориентаций человека605.
О том, что общество потребления заходит в психологический и экологический
тупик, свидетельствует движение дауншифтеров, возникшее на рубеже XX—XXI вв.
и охватившее миллионы людей главным образом из «золотого миллиарда». Даун-
шифтеры отказываются от стремления к общепринятым благам общества изобилия
и потребления и ориентируются на жизнь ради себя и семьи, ищут удовлетворения
и радости в умеренном труде на лоне природы, вдали от мегаполисов. Деньги,
власть, престиж, работа и комфорт для них, как и для людей традиционного обще¬
ства, перестали быть смыслом жизни. Удовлетворение они нашли в умеренности,
а по стандартам общества потребления — в бедности. Умеренность как особый
образ жизни, как особая культура, дающая свободу и много свободного времени,
стала для них предпочтительнее606 (рис. 12.44).
Рис. 12.44. Дауншифтеры. 2010-е. URL
: https://yandex.ru/irnages/search?pin=l &img_url=http%3A%2F%2Fm 1 .vgorode.ru%2F285686
2%2F79307296%2F7.jpeg&_= 1444395447644&p= 1 &text=%D0%B4%D0%B0%D 1 %83%D0
%BD%D 1 %88%D0%B8%D 1 %84%D 1 %82%D0%B5%D 1 %80%D 1 %8B&noreask= 1 &pos=53
&rpt=simage&lr=2 (дата обращения: 08.10.2015)
538
Итоги: как быть счастливым?
Рис. 12.45. И. Е. Репин (1844—1930). Пахарь. 1887.
Государственная Третьяковская галерея
Некоторые считают первым дауншифтером римского императора Диоклетиана
(245—313 н. э.), который, по легенде, отказался от власти и поселился в своем по¬
местье. На просьбу возвратиться к власти он ответил отказом, заметив, что если бы
приглашающие видели, какова капуста, которую он вырастил, то не стали бы доку¬
чать ему своими предложениями. В России одним из первых дауншифтеров можно
считать Л. Н. Толстого.
Материальная обстановка жизни многих дауншифтеров и западноевропейских
крестьян до XVIII—первой половины XIX в. и русских крестьян до начала XX в.
мало различались, так как те и другие довольствовались минимальным (рис. 12.46,
12.47).
«Существуют два реальных пути к изобилию. Потребности можно “легко
удовлетворять” либо много производя, либо немногого желая. Распространенные
концепции в духе Д. К. Гелбрейта (американский экономист, 1908—2006)607
склонны к утверждениям, подходящим для рыночных экономик: потребности
человека велики, чтобы не сказать беспредельны, в то время как средства их
удовлетворения ограничены, хотя и поддаются усовершенствованию, поэтому
разрыв между средствами и целями может быть сокращен повышением продук¬
тивности производства, по крайней мере настолько, чтобы “насущные товары”
имелись в изобилии. Но существует и иной путь к изобилию — путь, указывае¬
мый дзен-буддизмом, — утверждает М. Салинз. — В основе его лежат предпо¬
сылки, весьма отличные от наших: материальные потребности человека ограни¬
чены и немногочисленны, и технические средства для их удовлетворения не из¬
меняются, но в целом они вполне достаточны. Приняв стратегию дзен-буддизма,
люди могут наслаждаться не имеющим аналогов изобилием — при низком уров¬
не жизни. <...> Дестют де Траси608 заставил Маркса согласиться с наблюдением,
что “у бедных наций люди ощущают довольство (материальный достаток. —
539
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Б. М.у\ в то время как у богатых наций “они в большинстве своем бедны”»609.
Обобщая наблюдения антропологов, и Э. Дюркгейм в 1893 г. пришел к выводу,
что люди традиционных обществ были счастливее, чем его современники. «Ко¬
нечно, есть много удовольствий, которые теперь нам доступны и которых не
знают более простые существа. Но зато мы подвержены многим страданиям, от
которых они избавлены, и нельзя быть уверенным, что баланс складывается
в нашу пользу». Они не знают скуки, не наполняют «слишком короткие мгнове¬
ния жизни» многочисленными и неотложными делами, меньше времени посвя¬
щают труду, который «для большинства современных людей до сих пор является
наказанием и бременем». Редкость самоубийств — лучшее доказательство, что
они довольны жизнью, ибо «единственный опытный факт, доказывающий, что
жизнь вообще хороша, это то, что громадное большинство людей предпочитают
ее смерти. <...> Самоубийство появляются только с цивилизацией».
540
Рис. 12.46. А. ван Остаде (1610—1685). Семья. 1647.
Государственный Эрмитаж
Итоги: как быть счастливым?
Рис. 12.48. В. Г. Перов (1833—1882). Сцена у железной дороги. 1868.
Государственная Третьяковская галерея
541
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Рассматривать время как праздник — стратегия, которой следовало большинст¬
во российских православных людей в период империи, — это и есть второй путь
к изобилию, о котором говорит М. Салинз, в то время как в девизе общества по¬
требления и изобилия «время — деньги» слышится только алчность, а не поэзия
и философия. Рыночная экономика, превращая все народы, отдельные коллективы
и даже индивидуумы в соперников-конкурентов ведет к постоянной напряженно¬
сти, к конфликтам и войнам за ресурсы ради повышения конкурентоспособности.
Кстати, в последнее время в экономической науке и социологии обсуждается идея
о том, что материальный уровень жизни не должен рассматриваться в качестве
важнейшего индикатора благополучия населения, и предлагается ввести немоне¬
тарные индикаторы «счастья» или «субъективного благополучия» в систему по¬
казателей благосостояния611.
Несмотря на известные преимущества этики умеренности, массовое сознание
россиян в период империи медленно, а привилегированных слоев довольно бы¬
стро дрейфовало в буржуазном направлении по ряду причин, в том числе потому,
что справиться с сильными и амбициозными соседями и защитить свои границы,
опираясь на культуру умеренности и православные христианские ценности было
невозможно. Требовалась ускоренная модернизация. Важнейшими ее инструмен¬
тами, как известно, являются увеличение потребностей людей, повышение про¬
изводительности труда и в особенности рост человеческого капитала за счет раз¬
витие системы образования. Россия пошла по этому пути и достигла выдающих¬
ся результатов. Это было стратегически верное решение. «Железному» канцлеру
О. Бисмарку (1815—1898) приписывают
слова, сказанные им якобы после победы
над Францией в 1871 г.: «Своей победе
страна обязана не кому-нибудь, а... прус¬
скому учителю». Не важно, что на самом
деле это сказал профессор географии из
Лейпцига Оскар Пешель в редактируемой
им газете «Заграница» в 1866 г. по поводу
победы Пруссии над Австро-Венгрией.
Важно, что это — правда: войны выигры¬
вает учитель.
К сожалению, как показал мировой
опыт, ни все большее удовлетворение по¬
требностей людей, ни повышение произво¬
дительности труда, ни увеличение челове¬
ческого капитала не гарантирует повыше¬
ние этических стандартов в обществе. Са¬
мый образованный народ на Земле совер¬
шал самые страшные в мировой истории
преступления против человечества во вре¬
мя Второй мировой войны, причем совер¬
шал их, если можно так выразиться, весьма
профессионально, эффективно и на высо-
Рис. 12.49. «Это не мы —
это учитель». 2011. URL:
http://livepark.pro/blog/derzhavin/6235.ht
ml (дата обращения: 20.09.2015)
542
Примечания
чайшем технологическом уровне, иногда под музыку Бетховена, Моцарта или
Вагнера. А самая модернизированная, технологичная и могущественная — на
данный момент — страна настойчиво стремится к мировому господству, ни пе¬
ред чем не останавливаясь и не смущаясь никакими жертвами. Впрочем, какая
страна с самым мощным в мире экономическим, технологическим и человече¬
ским капиталом не делала бы то же самое?! Марксистская и мир-системная кон¬
цепции утверждают: такого не бывает612. Неравномерное экономическое разви¬
тие ведущих капиталистических стран с неизбежностью приводит к смене геге¬
мона, который свое экономическое могущество пытается превратить в военно¬
политическое.
Примечания
Филд Д. История менталитета в за¬
рубежной исторической литературе // Мен¬
талитет и аграрное развитие России : Мате¬
риалы международной конференции (XIX—
XX вв.) / В. П. Данилов, Л. В. Милов (ред.).
М., 1996. С. 7—21 ; Dictionnaire des sciences
historiques / A. Burguiere (ed.). Paris: Press
University 1986. P. 450-456.
2 Гуревич А. Я. Изучение ментальнос¬
тей: социальная история и поиски исто¬
рического синтеза // СЭ. 1988. № 6. С. 16—
24; Зубкова Е. Ю., Куприянов А. И. Мен¬
тальное измерение истории: поиски метода //
ВИ. 1995. № 7. С. 153—160; История
ментальностей: Историческая антрополо¬
гия : зарубежные исследования в обзорах
и рефератах. М., 1996; Кром М М. Исто¬
рия России в антропологической перспек¬
тиве: история ментальностей, историческая
антропология, микроистория, история пов¬
седневности. URL: http://achronicle.narod.ru/
krom.html (дата обращения: 27.06.2014).
3 Горский А. АПушкарев Л. Н. Пре¬
дисловие // Мировосприятие и самосознание
русского общества (XI—XX вв.) / Л. Н. Пуш¬
карев (ред.). М., 1994. С. 3.
4 Краткий словарь по социологии. М.,
1988. С. 63—64, 429—430 ; Философский
энциклопедический словарь. М., 1989. С. 677;
Ребер А. Большой толковый психологи¬
ческий словарь : The Penguin : в 2 т. М.,
2001. Т. 1. С. 71—72. См. также: Майерс Д.
Социальная психология. 6-е изд. СПб.,
2001. С. 169—178.
5 Ильин И. П. Постмодернизм : словарь
терминов. М., 2001. С. 97, 202—204.
6 Институты — это «правила игры»
в обществе; «рамки, в пределах которых
люди взаимодействуют друг с другом.
<...> Они состоят из формальных писаных
правил и обычно неписанных кодексов
поведения, которые лежат глубже фор¬
мальных правил и дополняют их» (Норт Д.
Институты, институциональные изменения
и функционирование экономики. М., 1997.
С. 19). См. также: Аузан А. Экономика
всего: Как институты определяют нашу
жизнь. М., 2013 ; Шаститко А. Е. Новая
институциональная экономическая теория.
4-е изд. М., 2010.
7 Дюркгейм Э. Элементарные формы
религиозной жизни : Тотемическая система
в Австралии // Социология религии: клас¬
сические подходы : хрестоматия / М. П. Та¬
почка, Ю. А. Кимелева (сост., ред.). М.,
1994. URL: http://www.studfiles.ru/preview/
1365150/ (дата обращения: 28.04.2015). См.
также: Энциклопедия социологии. URL:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
(дата обращения: 28.04.2015).
8 См., например: Кон И. С. К проблеме
национального характера // История и пси¬
хология / Б. Ф. Поршнев, Л. И. Анцыфе-
рова (ред.). М., 1971. С. 122—158 ; Арутю¬
нян Ю. ВДробижева Л. М, Су соколов А. А.
Этносоциология. М., 1999; Крысъко В. Г.
Этническая психология. 10-е изд. М., 2014 ;
Лурье С. В. Историческая этнология. М.,
543
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
2004; Моисеева Н. А., Сороковикова В. И.
Менталитет и национальный характер //
Социологические исследования. 2003. № 2.
С. 45—55 ; Платонов Ю. П. Психология
национального характера. М., 2007 ; Сер¬
геева А. Русские стереотипы поведения,
традиции, ментальность. 4-е изд. М., 2006;
Сикевич 3. В.: 1) Национальное самосоз¬
нание русских (социологический очерк).
М., 1996; 2) Противоречия русской души
(заметки социолога о русской идентич¬
ности). Прага: О. Крылов, 2011; Трофи¬
мов В. К. Менталитет русской нации.
2-е изд. Ижевск, 2004; Чеснокова В. Ф.
О русском национальном характере. М.;
Екатеринбург, 2003. Стереотипы нацио¬
нального характера, как правило, создают
мифы о народах, которые существуют в на¬
циональных дискурсах столетия. См., на¬
пример: Крашенинникова В. Россия —
Америка: холодная война культур: Как
американские ценности преломляют виде¬
ние России. М., 2007 ; Ранкур-Лаферьер Д.
Россия и русские глазами американского
психоаналитика: В поисках национальной
идентичности. М., 2003 (трудно найти в ли¬
тературе более фантастическое представле¬
ние о русских, чем в этой книге амери¬
канского психоаналитика). Об истории изу¬
чения национального характера см.: Лу¬
рье С. В. Историческая этнология. С. 62—140.
9 Первоначально под человеческим ка¬
питалом понималась лишь совокупность
знаний, умений, навыков. Постепенно
объем понятия расширялся и к настоящему
времени понятие человеческого капитала
расширилось и включает также интеллект,
здоровье, качество жизни, трудовую этику
и другие моменты, влияющие на способ¬
ность человека к труду и творчеству: Кор¬
чагин Ю. А. Человеческий капитал как ин¬
тенсивный социально-экономический фак¬
тор развития личности, экономики, об¬
щества и государственности. М., 2011.
10 Миронов Б. Н. Экономический рост
и образование в России и СССР в XIX—
XX веках // ОН. 1994. № 4/5. С. 111—125.
11 Жук С. И., Брукс Дж. Современная
американская историография о крестьянст¬
ве пореформенной России // ВИ. 2001. № 1.
С. 151—159 ; Коновалов В. С. Крестьянство
в позднеимперской России (обзор) // Исто¬
рия России в современной зарубежной
историографии : сб. обзоров и рефератов.
М., 2010. Ч. 1. С. 193—239; Engelstein L
New Thinking about the Old Empire: Post-
Soviet Reflections // Russin Review. Stanford,
2001. Vol. 60, nr 3. P. 487—496.
12 Пропп В. Я. \ 1) Фольклор и действи¬
тельность. М., 1976 ; 2) Собрание трудов:
Фольклор. Литература. История. М., 2002;
Путилов Б. Н. Фольклор и народная куль¬
тура : In memoriam. СПб., 2003. См. также:
Иванова Е. В. Мир в английских и русских
пословицах. СПб., 2006.
13 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода. М., 1957. С. 19.
14 Даль В. И. Пословицы русского наро¬
да. О широком употреблении пословиц
в народном быту см.: Архив РГО. Разр. 8
(Волынская губерния). Д. 8. Л. 1—7; Разр.
15 (Калужская губерния). Д. 19. Л. 1—10;
Д. 34. Л. 1—75; Разр. 24 (Новгородская
губерния). Д. 29. Л. 1—55; и др. Понять
русского крестьянина помогает также про¬
за Даля, в особенности его этнографиче¬
ские очерки «Картины из русского быта».
«Петербургский дворник», «Матросские до¬
суги», «Солдатские досуги», «Сочинения Ка¬
зака Луганского», исследование «О поверь¬
ях, суевериях и предрассудках русского на¬
рода» и многие другие его беллетристиче¬
ские и этнографические работы, собранные
в собрании сочинений: Даль В. И. Поли,
собр. соч.: в 10 т. СПб.; М., 1897—1898.
15 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода. С. 58—79.
16 Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка : в 4 т. М., 1955. Т. 4,
С. 371.
17 Там же. С. 79—86.
18 Christine D. The Black and the Gold
Seals: Popular Protest against the Liquoi
Trade on the Eve of Emancipation // Peasant
Economy, Culture, and Politics of European
Russia, 1800—1921 / E. Kingston-Mann,
T. Mixter (eds.). Princeton, NJ : Princeton
University Press, 1991. P. 261—293.
544
Примечания
19 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода. С. 501, 502, 513.
20 Столяров И. Записки русского
крестьянина // Записки очевидца: воспо¬
минания, дневники, письма / М. И. Вост-
рышев (сост.). М., 1989. С. 335.
21 Максимов С. В. Неведомая, нечистая
и крестная сила. СПб., 1994.
22 Успенский Г. И. Собр. соч.: в 9 т. М.,
1956. Т. 4. С. 227—242. См. также: Поз-
нанский Н. Ф. Заговоры : Опыт исследо¬
вания происхождения и развития заговор¬
ных формул. Пг., 1917.
23 Последнюю пословицу часто интерп¬
ретирую как чуть ли не атеистическое
высказывание. Между тем это типично
языческо-православное правило: настоя¬
щий христианин должен всегда уповать
только на Бога.
24 Даль В. К Пословицы русского на¬
рода. С. 35-43, 54—58, 243—245, 829.
25 Миненко Н. А. Экологические знания
и опыт природопользования русских
крестьян Сибири в XVIII—первой поло¬
вине XIX в. Новосибирск, 1991. С. 15.
26 Например, в сборнике В. И. Даля ей
посвящено 29 пословиц: Даль В. И. Посло¬
вицы русского народа. С. 299—303.
27 Там же. С. 299—300.
28 Громыко М. М. Территориальная
община Сибири (30-е гг. XVIII в.—60-е гг.
XIX в.) // Крестьянская община Сибири
XVII—начала XX в. / Л. М. Горюшкин
(ред.). Новосибирск, 1977. С. 92, 101—102.
29 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода. С. 324—327.
30 Там же. С. 404-^Юб.
31 Кузнецов Я. И. Характеристика об-
щественных классов по народным посло¬
вицам и поговоркам // ЖС. 1903. Вып. 3.
С. 396—404.
32 Кавелин К Д. Собр. соч.: в 4 т. СПб.,
1898. Т. 2. Стб. 539—540.
33 Клибанов А. //.: 1) Народная социаль¬
ная утопия в России : Период феодализма.
М., 1977 ; 2) Народная социальная утопия
в России: XIX век. М., 1978.
34 Срезневский И. И. Словарь древне¬
русского языка. М., 1989. Т. 1, ч. 2. Стб.
1343—1345; Т. 3, ч. 2. Стб. 1403—1404;
Даль В. И. Толковый словарь живого ве¬
ликорусского языка. Т. 2. Стб. 493—494.
О коллективных представлениях крестьян
и горожан до эмансипации см.: Божков-
ский К. О народном суеверии и влиянии его
на жизнь // Светоч. 1860. № 2. С. 45—98 ;
Горелкина О. Д. К вопросу о магических
представлениях в России XVIII в.: (На ма¬
териале следственных процессов по кол¬
довству) // Научный атеизм, религия и сов¬
ременность / А. Г. Москаленко (ред.).
Новосибирск, 1987. С. 289—305 ; Громы¬
ко М. М.: 1) Дохристианские верования
в быту сибирских крестьян XVIII—XIX вв. //
Из истории семьи и быта сибирского крес¬
тьянства в XVII—начале XX в. / М. М. Гро-
мыко, Н. А. Миненко (ред.). Новосибирск,
1975. С. 71—109; 2) Трудовые традиции
русских крестьян Сибири (XVIII—первая
половина XIX в.). Новосибирск, 1975;
3) Традиционные нормы поведения и фор¬
мы общения русских крестьян XIX в. М.,
1986 ; 4) Мир русской деревни. М., 1991 ;
Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях
русского народа. М., 2000 ; Малороссий¬
ская лень // Библиотека для чтения. 1839.
Т. 33. Отд 1. С. 17—54; Жидков В. С,
Соколов К Б. Десять веков российской
ментальности: картина мира и власть.
СПб., 2001 ; Машкин А. С. Быт крестьян
Курской губернии, Обоянского уезда //
Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып.
СПб., 1853—1864. Вып. 5. СПб., 1862 ;
Матвеева А. Ф. Крестьянство Тобольской
губернии 1775—1860 гг.: хозяйственный
уклад и социокультурный облик : дис. ...
канд. ист. наук. М., 2007 ; Найденова Л. П.
Идеал праведной жизни у русского горожа¬
нина XVI в. (по материалам Домостроя) //
Мировосприятие и самосознание русского
общества (XI—XX вв.) / Л. Н. Пушкарев
(ред.). М., 1994. С. 51—58; Никонов Ф.
Быт и нравы поселян-великороссов Пав¬
ловского уезда, Воронежской губернии //
Труды ВЭО. 1861. Октябрь—ноябрь; Но-
вомбергский Н. Я. Колдовство в Москов¬
ской Руси XVII века. СПб., 1906; Нравы,
обычаи и образ жизни в Судженском уезде,
545
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Курской губернии // Московский телеграф.
1831. Ч. 39, № 10. С. 255—271; № 11.
С. 369—377 ; Покровский Н. Н. Материалы
по истории магических верований сибиря¬
ков // Из истории семьи и быта сибирского
крестьянства...; Пушкарев Л. 1) Ду¬
ховный мир русского крестьянина по пос¬
ловицам XVII—XVIII вв. М., 1994; 2) Че¬
ловек о мире и самом себе : (Источники об
умонастроениях русского общества рубежа
XVII—XVIII вв.). М., 2000 ; Смилянская Е. Б.
Следствия по «духовным делам» как источ¬
ник по истории общественного сознания
в России первой половины XVIII века:
дис. ... канд. ист. наук. М., 1987; Соко¬
лов Г. Этнографические сведения о госу¬
дарственных крестьянах Тульской губер¬
нии // Тульские губернские ведомости.
1861. № 8—17, 25—27, 40—52. Часть не¬
официальная ; Судерберг Г. Бывшего пол¬
кового священника, магистра Генриха Су-
дерберга заметки о религии и нравах рус¬
ского народа во время пребывания его
в России с 1709 по 1718 год // Чтения
в обществе истории и древностей рос¬
сийских. 1873. Кн. 2. Отд. 4. С. 1—38;
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков,
или Энциклопедия русского быта XIX века.
М., 1998; Чагин Г. Н. Окружающий мир
в традиционном мировоззрении русских
крестьян Среднего Урала. Пермь, 1998;
Чистов К. В.: 1) Русские народные со¬
циально-утопические легенды. XVIII—
XIX вв. М., 1967 ; 2) Русская народная уто¬
пия: генезис и функции социально-утопи¬
ческих легенд. СПб., 2003 ; Щапов А. П.
Исторические очерки народного миросо¬
зерцания и суеверия (православного и ста¬
рообрядческого). СПб., 1863; Юдин А. В.
Русская народная духовная культура. М.,
1999 ; Юрганов А. Л. Категории русской
средневековой культуры. М., 1998; Matos-
sian М. The Peasant Way of Life // The Pea¬
sant in Nineteenth-Century Russia / W. S. Vu-
cinich (ed.). Stanford, Calif.: Stanford Uni¬
versity Press, 1968. P. 1—40 ; Moon D. Rus¬
sian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve
of Reform : Interaction between Peasants and
Officialdom, 1825—1855. London et. al.: The
Macmillan Press, 1992. P. 165—218. Cm.
также: Русская ментальность : [Электрон¬
ный ресурс]. URL: http://www.pbrus.org/
society/247-russkaya-mentalnost.html (дата
обращения: 25.04.2010).
35 Беллюстин. Внутренняя жизнь наших
уездных городов // День. 1864. № 47/48;
Быт простого народа в Бобрице // Одесский
вестник. 1856. № 26, 27 ; Главные черты
фабричного быта Москвы // Биржевые ве¬
домости. 1862. № 199—212 ; Военно-статис¬
тическое обозрение Российской империи:
Свечин. Московская губерния. СПб., 1853.
С. 122, 133, 150 ; Терещенко А. Быт русского
народа. СПб., 1848. Ч. 1. С. 386—387.
36 Георги И. Г. Описание российско-сто¬
личного города Санкт-Петербурга и досто¬
памятностей в окрестностях оного: 1794—
1796 гг. СПб., 1996. С. 442-452.
37 Архив РГО. Разр. 2 (Астраханская
губерния). Д. 17. Л. 1—3; Разр. 7 (Воло¬
годская губерния). Д. 62. Л. 1—84; Разр. 9
(Воронежская губерния). Д. 36. Л. 1—58;
Разр. 14 (Казанская губерния). Д. 18. Л. 1—
4; Д. 87. Л. 1—16; Разр. 15. Д. 10. Л. 1—27;
Д. 11. Л. 1-4; Д. 48. Л. 1—3; Д. 55. Л. 1-
11; Разр. 19 (Курская губерния). Д. 14.
Л. 1—11; Д. 21. Л. 1—15; Д. 29. Л. 1—34;
Разр. 22 (Московская губерния). Д. 19.
Л. 1—4; Разр. 23 (Нижегородская губер¬
ния). Д. 74. Л. 1—18; Д. 78. Л. 1—12; Д. 83.
Л. 1—16; Д. 103. Л. 1—56; Разр. 24. Д. 25.
Л. 1—119; Д. 29. Л. 1—55; Разр. 25 (Оло¬
нецкая губерния). Д. 10. Л. 1—27; Разр. 27
(Орловская губерния). Д. 5. Л. 1—31; Разр.
28 (Пензенская губерния). Д. 1. Л. 1—46;
Д. 3. Л. 1—3; Разр. 29 (Пермская губерния).
Д. 23. Л. 1—12; Д. 29. Л. 1—68; Разр. 32
(Псковская губерния). Д. 17. Л. 1—22; Разр.
33 (Рязанская губерния). Д. 5. Л. 1—10;
Разр. 34 (Самарская губерния). Д. 15. Л. 1—
123; Разр. 36 (Саратовская губерния). Д. 24.
Л. 5—9. Источниковедческий анализ этих
материалов см.: Рабинович М. Г. Ответы на
программу Русского Географического об¬
щества как источник для изучения этно¬
графии города // Очерки истории этногра¬
фии, фольклористики и антропологии. М.,
1971. Вып. 5. С. 36—61.
546
Примечания
38 Архив РГО. Разр. 14. Д. 55. Л. 1—77.
См. также: [Ушаков А. С.]. Наше купе¬
чество и торговля с серьезной и карикатур¬
ной стороны. М., 1865. Вып. 1. С. 73—80.
39 Архив РГО. Разр. 5 (Витебская губер¬
ния). Д. 6 (Этнографические сведение
о жителях города Суража и его уезда).
Л. 1—16; Разр. 9. Д. 9 (Описание народной
жизни г. Валуек и части оного уезда).
Л. 1—57; Д. 32 (Город Бирюч и окрест¬
ности его). Л. 1—125; Разр. 10 (Вятская
губерния). Д. 29 (Описание города Яранска
и его уезда). Л. 1—26; Разр. 14. Д. 71 (Све¬
дения по г. Ядрину с принадлежащими
к нему двумя деревнями). Л. 1—11; Разр.
18. Д. 14. Л. 1—12; Разр. 19. Д. 12 (Сведе¬
ния о нравах, обычаях, поверьях и преда¬
ниях у курских горожан средних классов
и у простого сельского народа Курского
уезда). Л. 1—11; Разр. 25. Д. 30 (Этногра¬
фические сведения о г. Пудоже с окрест¬
ными селениями). Л. 1—70; Разр. 27. Д. 6
(Краткие сведения, выведенные из наблю¬
дения над жителями Г. Ливен и его уезда).
Л. 1—36; Разр. 29. Д. 56 (Замечания о жи¬
телях г. Камышлова и в окрестностях оного
находящихся). Л. 1—18; Разр. 32. Д. 14 (Эт¬
нографические сведения о жителях Вели¬
ких Лук и окрестностей оного). Л. 1—8.
40 Архив РГО. Разр. 8. Д. 8. Л. 1—7;
Разр. 15. Д. 19. Л. 1—10; Д. 34. Л. 1—75;
Разр. 24. Д. 29. Л. 1—55.
41 Архив РГО. Разр. 23. Д. 97. Л. 1—57.
42 Архив РГО. Разр. 14. Д. 7. Л. 1—21;
Разр. 29. д. 47. Л. 1—62; Разр. 32. Д. 17.
Л. 5—7; РГАВМФ. Ф. 212 (Дела Адми-
ралтейств-коллегии по канцелярии, 1771—
1774 гг.). Д. 57 (О недопущении кулачных
боев между адмиралтейскими и морскими
служителями, 1773 г.). Л. 481—484, 598—
607. Кулачные бои были запрещены законом
в 1832 г. (СЗРИ. 1832. Т. 14, ч. 4. Ст. 180),
но продолжали существовать как в деревне,
так и в городе, включая столицы: Горбу¬
нов Б В. Традиции народных кулачных боев
в Петербурге в начале XX в. // Этнография
Петербурга-Ленинграда: материалы ежегод¬
ных научных чтений / Н. В. Юхнева (ред.).
СПб., 1994. С. 22—32.
43 Лесков Н. С. Собр. соч. : в 11 т. М.,
1957. Т. 4. С. 102, 150—151; Т. 6. С. 219.
44 Архив РГО. Разр. 14. Д. 87. Л. 8;
Д. 101. Л. 101; Разр. 19. Д. 8. Л. 1-4.
45 Архив РГО. Разр. 6 (Владимирская
губерния). Д. 43. Л. 60—67.
46 Картина И. И. Соколова выполнена
в 1857 г. Картина «Малороссийская
свадьба» на аналогичный сюжет написана
Н. К. Пимоненко в 1890-е гг.
47 Архив РГО. Разр. 2. Д. 75. Л. 1—16.
48 Короленко В. Г. Глушь : Отрывки из
дневника учителя // Короленко В. Г. Собр.
соч. : в 5 т. М., 1960. Т. 3.
49 Флеровский Н. Положение рабочего
класса в России. М., 1938 (первое издание
книги опубликовано в 1869 г.). С. 413.
50 Куприянов А. И.: 1) Правовая куль¬
тура горожан Сибири первой половины
XIX в. // Общественно-политическая мысль
и культура сибиряков в XVII—первой
половине XIX века / Н. А. Миненко (ред.).
Новосибирск. С. 81—101 ; 2) Городская
культура русской провинции. Конец
XVIII—первая половина XIX века. М.,
2007. ULR: http://delist.ru/article/02102007_
kyprijnovai/page4.html (дата обращения:
14.05.2014); Мосин А. Г. Круг чтения
крестьян, горожан и мастеровых Вятского
края XVII—первой половины XIX вв.:
общие и специфические черты // Город
и деревня Урала в эпоху феодализма:
проблема взаимодействия / А. С. Черкасова
(ред.). Свердловск, 1986. С. 117—131;
Рабинович М. Г.: 1) Очерки этнографии
русского феодального города : Горожане,
их общественный и домашний быт. М.,
1978 ; 2) Очерки материальной культуры
русского феодального города. М., 1988 ; 3)
Город и городской образ жизни // Очерки
русской культуры XVIII века / Б. А. Ры¬
баков (ред.). М., 1990. С. 252—298 ; Смир¬
нов Д. Н. Нижегородская старина. Н. Нов¬
город, 1995.
51 Эти различия существовали уже
в XVII в.: Булгаков М. Б. О менталитете
посадского сословия в XVII в. // Русская
история: проблема менталитета / А. А. Гор¬
ский (ред.). М., 1994. С. 81—84.
547
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
52 Вишняков И. Сведение о купеческом
роде Вишняковых. М., 1911. Ч. 3. С. 8.
53 Рябушинский В. П. Старообрядчество
и русское религиозное чувство : Русский
хозяин : Статьи об иконе. М.; Иерусалим,
1994. С. 123—132, 165—166 ; Аксенов А. И.
Генеалогия московского купечества XVIII в.:
Из истории формирования русской буржуа¬
зии. М, 1988. С. 140—143 ; Миронов Б. Н.
Социальная мобильность российского ку¬
печества в XVIII—начале XIX века //
Проблемы исторической демографии в
СССР / Р. Н. Пуллат (ред.). Таллинн, 1977.
С. 207—217; 1000 лет русского предпри¬
нимательства : Из истории купеческих ро¬
дов / О. Платонов (ред.). М., 1995 ; Присел¬
ков М. Д. Купеческий бытовой портрет
XVIII—XX вв.: Первая отчетная выставка
Историко-бытового отдела Русского музея
по работе над экспозицией «Труд и капитал
накануне революции». Л., 1925.
54 Евреинов Г. А. Прошлое и настоящее
русского дворянства. СПб., 1898. С. 48.
55 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода. С.715.
56 Рябушинский В. П. Старообрядчество
и русское религиозное чувство ... С. 41.
57 Куприянов А. И. Городская культура
русской провинции ...
58 Историография относительно измене¬
ний в коллективных представлениях в по¬
реформенное время значительна, поэтому
укажу некоторые важнейшие работы.
У крестьян: Бабашкин В. В. Крестьянский
менталитет: наследие России царской
в России коммунистической // Обществен¬
ные науки и современность. 1995. № 3.
С. 99—ПО; Барабаш М. Н. Религиозное
сознание православного населения в Ярос¬
лавской и Костромской губерниях (вторая
половина XIX—начало XX в.): дис. ... канд.
ист. наук. Ярославль, 2006 ; Безгин В. Г.
Крестьянская повседневность (традиции
конца XIX—начала XX вв.). М.; Тамбов,
2004; Бернштам Т. А. Народная культура
Поморья в XIX—начале XX в.: этногр.
очерки. Л., 1983 ; 2) Молодежь в обрядовой
жизни русской общины XIX—начала
XX в.: Половозрастной аспект традицион¬
ной культуры. Л., 1988 ; 3) Новые перспек¬
тивы в познании и изучении традиционной
народной культуры (теория и практика
этнографических исследований). Киев,
1992 ; Буховец О. Г. Социальные конфлик¬
ты и крестьянская ментальность в Рос¬
сийской империи начала XX века: новые
материалы, методы, результаты. М., 1996;
Гордон А. В. Пореформенная российская
деревня в цивилизационном процессе:
(Размышления о постановке вопроса) II
Рефлексивное крестьяноведение: Десяти¬
летие исследований сельской России /
Т. Шанин и др. (ред.). М., 2002. С. 141—
160 ; Йенсен Т. В. Источники и методы
изучения общественного сознания поре¬
форменного крестьянства (на примере Ко¬
стромской губернии): дис. ... канд. ист.
наук. М., 1999 ; Киселев А. В. Формирова¬
ние и развитие традиционных религиозных
представлений русского населения Верх¬
него Поволжья в XIX—XX вв. : дис. ...
канд. ист. наук. Ярославль, 2003 ; Кузне¬
цов С. В.: 1) Нравственность и религиоз¬
ность в хозяйственной деятельности рус¬
ского крестьянства // Православная вера
и традиции благочестия у русских в XVIII—
XX веках: этногр. исслед. и материалы /
О. В. Кириченко, X. В. Поплавская (ред.).
М., 2002. С. 168—181 ; 2) Хозяйственные,
религиозные и правовые традиции русских.
XIX—начало XXI в. М., 2010; Левин М:
1) Деревенское бытие: нравы, верования,
обычаи // Крестьяноведение : Теория. Ис¬
тория. Современность : ежегодник / Т. Ша¬
нин (ред.). М., 1997. С. 84—127 ; Лямин С. К.
Менталитет населения прединдустриаль-
ного города 1860—1870-х гг. : дис. ... канд.
ист. наук. Тамбов, 2003 ; Мельникова М. И.
Крестьянская ментальность как архетип
русской души. Ставрополь, 2006; Николь¬
ский С. А. Миросозерцание земледельца
в русской литературе XIX столетия: горест¬
но-обнадеживающий взгляд Чехова // ВФ.
2007. № 6. С. 83—109; Никольский С. А.,
Филимонов В. П. Миросознание русского
земледельца в отечественной философии
и классической литературе второй поло¬
вины XIX—начала XX веков (философско-
548
Примечания
литературоведческий анализ) // ВФ. 2005.
№ 5. С. 108—131 ; Нуждина А. А. Со¬
циокультурное развитие российской дерев¬
ни во второй половине XIX—начале
XX вв.: на материалах губерний Верхнего
Поволжья: дис. ... канд. ист. наук.
Ярославль, 2008. Гл. 3 : Религиозное ми¬
ровоззрение верхневолжского крестьянства
во второй половине XIX—начале XX века;
Полная энциклопедия быта русского на¬
рода : в 2 т. / И. Панкеев (сост.). М., 1998 ;
Русские: Народная культура. История
и современность: в 5 т. / И. В. Власова
(ред.). М., 2000—2002. Т. 5 : Духовная
культура; Семенова-Тян-Шанская О. Жизнь
«Ивана» : Очерки из жизни крестьян одной
из черноземных губерний. СПб., 1914;
Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы —
зеркало крестьянского менталитета // Мен¬
талитет и аграрное развитие России...
С. 173—182; Синявский А. Иван-дурак :
Очерк русской народной веры. М., 2001 ;
Скобелев К. В. Формирование менталитета
сибирского крестьянства в эпоху капита¬
лизма (1861—1917 гг.): дис. ... канд. ист.
наук. Омск, 2002 ; Сухова О. А.: 1) «Об¬
щинная революция» в России: социальная
психология и поведение крестьянства
в первые десятилетия XX века (по мате¬
риалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007 ;
2) Десять мифов крестьянского сознания.
М, 2008; Титов В. Ю. Менталитет
крестьянского протеста в Восточной Сиби¬
ри (середина 1880-х—1920-е гг.). Иркутск,
2003 ; Тульцева Л. А.: 1) Божий мир пра¬
вославного крестьянина // Менталитет и
аграрное развитие России ... С. 293—302 ;
2) Антропокосмические воззрения русских
крестьян: день Спиридона-поворота // ЭО.
1997. № 5. С. 89—101; Уварова НА.
Мировосприятие ярославского и нижего¬
родского крестьянства в конце XIX—на¬
чале XX в.: дис. ... канд. ист. наук. Ярос¬
лавль, 2004; Шатковская Т. В. Правовая
ментальность российских крестьян второй
половины XIX века: опыт юридической ан¬
тропометрии. Ростов н/Д, 2000 ; Frank S. Р.
«Simple Folk, Savage Customs?» : Youth, So¬
ciability, and the Dynamic of Culture in Rural
Russia, 1856—1914 // Journal of Social His¬
tory. 1992. Vol. 25, nr 4. P. 711—736 ; Free¬
ze G. The Wages of Sin : The Decline of Pub¬
lic Penance in Imperial Russia // Seeking
God : The Recovery of Religions Identity in
Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia /
St. K. Batalden (ed.). DeKalb, IL : Northern
Illinois University Press, 1993. P. 53—82;
Harrison M. The Peasantry and Industrializa¬
tion // From Tsarism to the New Economic
Policy: Continuity and Change in the Econ¬
omy of the USSR / R. W. Davies (ed.). Ithaca,
NY : Cornell University Press, 1990. P. 104—
123. У горожан: Литягина А. В. Ценност¬
ные ориентации и социальные нормы горо¬
жан Западной Сибири (вторая половина
XIX—начало XX в.). Барнаул, 2010. См.
также: Бердинских В. А. Крестьянская ци¬
вилизация в России. М., 2001 ; Гудзенко А.
Русский менталитет. М., 2003 ; Домни-
ков С. Д. Мать-земля и Царь-город : Россия
как традиционное общество. М., 2002.
59 Сборник материалов для изучения
русской поземельной общины. СПб., 1880.
Т. 1. С. 175. То же отмечали: Качоров-
ский К. Р. Русская община: Возможно ли,
желательно ли ее сохранение и развитие?
(Опыт цифрового и фактического исследо¬
вания). СПб., 1906. Т. 1. С. 290—300, 315,
329 ; Пругавин В. С. Русская земельная об¬
щина в трудах ее местных исследователей.
М., 1888. С. 268.
60 Златовратский Н Н. Очерки крестьян¬
ской общины // Златовратский Н. Н. Собр.
соч.: в 8 т. СПб., 1913. Т. 8. С. 263—292.
См. также: А. В. Несколько слов о народ¬
ных русских идеалах // Дело. 1886. № 8.
С. 47—62;
61 Дискурс российского крестьянства
в литературно-художественных произведе¬
ниях пореформенной эпохи рассмотрен в:
Елуфимова Н М. Российское крестьянство
второй половины XIX—начала XX вв.:
исторический дискурс литературных ис¬
точников: дис.... канд. культурологии.
Балашиха, 2005. По наблюдениям автора,
в соответствии с духом времени писатели
и публицисты утверждали идею, что ре¬
форма 1861 г. не создала благоприятных
549
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
условий и стимулов для активного само¬
развития основной массы крестьянства. См.
также: Бабашкин В. В. О некоторых осо¬
бенностях социального поведения крестьян:
историк и художественная литература //
Пути России: культура— общество —
человек: Материалы междунар. симпо¬
зиума (25—26 января 2008 г.) / А. М. Ни¬
кулин (ред.). М., 2008 ; Казарезов В. В.
Крестьяне в произведениях русских пи¬
сателей. М., 2012 (см. интересную рецен¬
зию на кн: Бабашкин В. В. Писатели
о крестьянах и крестьяне о писателях //
Крестьяноведение : Теория. История. Сов¬
ременность : ученые записки. Вып. 8 /
А. М. Никулин, М. Г. Пугачева (ред.). М.,
2013. С. 468—472).
62 Тургенев И. С. Соч.: в 12 т. М., 1979.
Г. 3. С. 59.
63 Журавский Д. О кредитных сделках
в Киевской губернии // Труды Комиссии
высоч. учрежд. при имп. университете св.
Владимира для описания губерний Киев¬
ского учебного округа. Киев, 1856. С. 10.
64 Успенский Г. И. Собр. соч. Т. 5. С. 161.
65 Сборник материалов для изучения
общины. Т. 1. С. 60—61, 372.
66 Успенский Г. И. Собр. соч. Т. 4.
С. 172—177. О поведенческой стратегии
крестьян в отношении к денежным на¬
коплениям см. также: Елуфимова Н. М.
Российское крестьянство ... С. 129—136.
67 Успенский Г. И. Собр. соч. Т. 5. С. 417.
68 Кулыжный А. Мелкий кооперативный
кредит в России // Вестник кооперации.
1909. Кн. 2. С. 73; Соколовский П. А.
Ссудно-сберегательные товарищества по
отзывам литературы. СПб., 1889. С. 254,
278, 284.
69 Статистический сборник за 1913—
1917 гг. М., 1921. С. 128; Хейсин М. Л.
История кооперации в России: все виды
кооперации с начала ее существования до
настоящего времени. Л., 1926. С. 215.
70 Кредитная кооперация в Московском
уезде. М., 1911. С. 15.
71 Невзоров А. Торговый оборот в по¬
словицах русского народа. СПб., 1906.
С. 1—35.
12 Посошков И. Т. Книга о скудости
и богатстве. М., 1951. С. 123—125,236—239.
73 Доклад Комиссии 1873 г. Доклад.
Журналы Комиссии. С. 1—3.
74 Там же. С. 49—51; Приложения. I.
С. 225—256; Приложения. VI. Ч. 1. С. 25,
26, 35, 40, 57, 60, 62, 68, 70, 77, 92—93,112,
117, 124, 150, 275; Ч. 2. С. 95, 104 и др.
75 Там же. Приложения. I. С. 225—256;
Приложения. VI. Ч. 1. С. 35 , 73, 86, 145,
150; Ч. 2. С. 69, 79, 103, 109 и др.
76 Флеровский Н. Положение рабочего
класса в России. С. 460.
77 Просвещение / Н. Л. Петерсон (сост.).
СПб., 1904. (Особое совещание. Свод тру¬
дов). С. 1—41.
78 Кавелин Д. К. Собр. соч. Т. 2. Стб. 540.
19 Brooks J. When Russia Learned to
Read: Literacy and Popular Literature,
1861—1917. Princeton : Princeton University
Press, 1985. См. также: Brower D. R. The
Penny Press and Its Readers // Culture in
Flux : Lower-Class Values, Practices, and Re¬
sistance in Late Imperial Russia / St. Frank,
M. D. Steinberg (eds.). Princeton : Princeton
University Press, 1994. P. 147—167 ; Рейтб-
лат А. И. Читатель лубочной литературы II
Книжное дело в России во второй половине
XIX—начале XX века / О. Н. Айсберг
(ред.). Л., 1990. Вып. 5. С. 125—137.
80 Brooks J. When Russia Learned to
Read ... P. 171—210.
81 Ibid. P. 268, 286—289, 369; Brooks J.
Competing Modes of Popular Discourse: In¬
dividualism and Class Consciousness in the
Russian Print Media, 1880—1928 // Culture et
revolution / M. Ferro, Sh. Fitzpatrick (eds.).
Paris : Ecole des hautes 6tudes en sciences
sociales, 1989.
82 Рейтблат А. И. Читатель лубочной
литературы. С. 133.
83 Frank St. P. Confronting the Domestic
Other : Rural Popular Culture and Its Enemies
in Fin-de-Siecle Russia // Cultures in Flux...
P. 74—107.
84 Эрн В. Ф. Христианское отношение
к собственности // Русская философия
собственности: XVIII—XX / К. Исупов,
И. Савкин (ред.). СПб., 1993. С. 194—227.
550
Примечания
85 Freeze G. L. «Going to the Intelligent¬
sia» : The Church and its Urban Mission in
Post-Reform Russia // Between Tsar and Peo¬
ple : Educated Society and the Quest for Public
Identity in Late Imperial Russia / E. W. Clo¬
wes, S. D. Kassow, J. L. West (eds.). Prince¬
ton, NJ : Princeton University Press, 1991.
P.215—232.
86 Преображенский А. Семья православ¬
ного христианина: сб. проповедей, раз¬
мышлений, рассказов и стихотворений.
2-е изд. СПб., 1902. С. 161—167.
87 Rosenthal В. G. The Search for Russian
Orthodox Work Ethic // Between Tsar and
People ... P. 57—74.
88 Бурыгикин П. А. Москва купеческая :
мемуары. M., 1991. С. 40—71.
89 Johnson R. Е.: 1) Family Relations and
the Rural-Urban Nexus : Patterns in the Hin¬
terland of Moscow, 1880—1900 // The Family
in Imperial Russia: New Line in Historical
Research / D. L. Ransel (ed.). Urbana et al.:
University of Illinois Press, 1978. P. 263—
279; 2) Peasant and Proletarian : The Wor¬
king Class of Moscow in the Late Nineteenth
Century. New Brunswick, NJ : Rutgers Uni¬
versity Press, 1979. P. 155—162.
90 Bradly J. Muzhik and Moskovite : Ur¬
banization in Late Imperial Russia. Berkeley :
University of California Press, 1985. P. 116 ;
Johnson R. E. Peasant and Proletarian ...
P. 67—79, 155—162.
91 Михневич В. О. Петербург весь на
ладони. СПб., 1874.
92 Об их деятельности см.: Отчет об¬
щества вспомоществования уроженцев
г. Углича. СПб., 1905 ; Отчет Ярославского
благотворительного общества в Санкт-Пе¬
тербурге за 1913 год. СПб., 1914; Устав
Мышкинского благотворительного общест¬
ва в Санкт-Петербурге. СПб., б. г.
93 Флеровский Н. Положение рабочего
класса в России. С. 445.
94 Burds J. The Social Control of Peasant
Labor in Russia: The Response of Village
Communities to Labor Migration in the Cent¬
ral Industrial Region, 1861—1905 // Peasant
Economy... P. 97—100. См. также: Зыря¬
нов П. H. Крестьянская община Евро¬
пейской России 1907—1914 гг. М., 1992.
С. 62.
95 Eklof В. Russian Peasant School: Offi¬
cialdom, Village Culture, and Popular Pe¬
dagogy, 1861—1914. Berkeley et al.: Univer¬
sity of California Press, 1986. P. 474—482.
96 Столяров //. Записки русского
крестьянина. С. 394—395. См. также:
Ленский Б. Отхожие земледельческие про¬
мыслы в России // 03. 1877. Т. 235. № 12.
С. 207—258; Свидерский Ф. И. Народные
скитания // Земский сборник Черниговской
губернии. 1890. № 2; Engel В. A. Russian
Peasant View of City Life: 1861—1914 // Slavic
Review. 1993. Vol. 52, nr 3. P. 446—459.
97 О влиянии отходничества и городов
на крестьянство имеется большая литера¬
тура, укажем на наиболее важные работы,
кроме тех, на которые будут сделаны далее
ссылки: Весин Л. П. Значение отхожих про¬
мыслов в жизни русского крестьянства //
Дело. 1886. № 7. С. 127—155; 1887. № 2.
С. 102—124; № 5. С. 161—204; Выскоч-
кое Л. В. Влияние Петербурга на хозяйство
и быт государственных крестьян Петер¬
бургской губернии в первой половине
XIX в. // Старый Петербург: ист.-этногр.
исслед. / Н. В. Юхнева (ред.). Л., 1982.
С. 129—146 ; Плющееский Б. Г. Воздейст¬
вие отхожих промыслов на социально-пси¬
хологический склад русского крестьянства //
Социально-экономическое и правовое по¬
ложение крестьянства в дореволюционной
России / В. Т. Пашуто (ред.). Воронеж,
1983. С 173—177 ; Прохоров М Ф. Отход¬
ничество крестьян в Москву в третьей чет¬
верти XVIII в. // Русский город / В. Л. Янин
(ред.). М., 1984. Вып. 7. С. 150—171 ; Сму¬
рова О. В. Неземледельческий отход
крестьян в столицы и его влияние на эво¬
люцию образа жизни города и деревни
в 1861—1914 гг. (на материалах С.-Петер¬
бурга, Москвы, Костромской и Ярослав¬
ской губерний): дис. ... д-ра ист. наук.
СПб., 2006; Федоров В. А. Крестьянин-
отходник в Москве (конец XVIII—первая
половина XIX в.) // Русский город : ис¬
торико-методологический сборник. М., 1976.
Вып. 1. С. 165—180; Рындзюнский П. Г.
551
Гidea 12. Русская культура в коллективных представлениях
Крестьяне и город в капиталистической
России второй половины XIX века: (Взаи¬
моотношения города и деревни в социаль¬
но-экономическом строе России). М, 1983.
98 Златовратский Н. Н. Очерки
крестьянской общины. С. 322.
99 Звонков А. П. Современный брак
и свадьба среди крестьян Тамбовской гу¬
бернии, Елатомского уезда // Сборник све¬
дений для изучения быта крестьянского
населения России / Н. Харузин (ред.). М.,
1889. Вып. 1.С. 70.
100 Богаевский П. М. Заметки о юри¬
дическом быте крестьян Сарапульского
уезда, Вятской губернии // Там же. С. 1—2.
101 Дерунов С. Я. Из русской народной
космогонии // Там же. С. 325. О влиянии
модернизации на рационализацию кресть¬
янского менталитета см.: Скобелев К В.
Формирование менталитета сибирского
крестьянина в эпоху капитализма (1861—
1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Омск,
2002. С. 274—277.
102 Окрестьянивание столицы рассмот¬
рено в кн.: Лурье Л. Я. Питерщик : Русский
капитализм : Первая попытка. СПб., 2011.
103 Миронов Б. Н. История в цифрах:
Математика в исторических исследова¬
ниях. Л., 1991. С. 82 ; Статистический еже¬
годник С.-Петербурга за 1901—1902 гг.
Года двадцать первый и двадцать второй.
СПб., 1905. С. 24.
104 РГИА. Ф. 23 (Министерство торгов¬
ли и промышленности). Оп. 7 (отд. 1, стол 3).
Д. 801. Л. 6—8.
105 По свидетельству министра финан¬
сов Е. Ф. Канкрина (1834), в России в от¬
личие от западноевропейских стран «работ¬
ники на городских фабриках почти исклю¬
чительно состоят из приходящих крестьян»,
которые «при остановке в работах возв¬
ращаются домой, не оставаясь вовсе без
пропитания» (цит. по: Китанина Т. М. Ра¬
бочие Петербурга, 1800—1861 гг.: Про¬
мышленность, формирование, состав, поло¬
жение рабочих, рабочее движение. Л.,
1991. С. 277). Через 60 лет, в 1893 г., поло¬
жение, по словам главного фабричного
инспектора Я. Т. Михайловского, мало
изменилось: «Фабричный рабочий есть в то
же время и землевладелец, по крайней
мере, в громадном большинства случаев:
для него фабричный труд обыкновенно не
составляет профессии, а только лишь
подспорьем к труду земледельческому.
Землю свою он любит, для фабрики
неохотно ее покидает, с деревнею своею он
поддерживает постоянные отношения, отп¬
равляется туда ежегодно для свидания
с родными, а чаще всего для полевых ра¬
бот» (Фабрично-заводская промышленность
и торговля России. СПб., 1893. С. 274). См.
также: Иванова Н. А. Промышленный
центр России 1907—1914 гг. М., 1995.
С. 239, 246—260, 272 ; Крузе Э. Э. Положе¬
ние рабочего класса в России в 1900—
1914 гг. Л., 1976. С. 131—159 ; Крюков П.
Очерк мануфактурных сил Европейской
России, служащий текстом промышленной
карты : в 2 ч. СПб., 1853. Ч. 1. С. 62;
Рашин А. Г. Формирование рабочего класса
России: # ист.-экон. очерки. М., 1958.
С. 532—544; Kahan A. The «Hereditary
Workers»: Hypothesis and the Development
of a Factory Labor Force in the Eighteenth-
and Nineteenth Century Russia // Education
and Economic Development / C. A. Anderson,
M. J. Bowman (eds.). Chicago : University of
Chicago Press, 1965. Даже в 1929 г., за
который мы имеем самые полные данные,
доля кадровых рабочих во всей промыш¬
ленности составляла 52 %: Труд в СССР,
1926—1930 : справ. / Я. М. Бинеман (ред.).
М., 1930. С. 28—29.
106 Интересный анализ этой литературы
см.: Kojima Sh. Peasant Migration to Cities in
Late Tsarist Russia: A Comparison to the
Japanese Experience // Konan Journal of So¬
cial Sciences. Vol. 5. Kobe, Japan, 1994.
P. 11—28. Дискуссию о сознании русских
рабочих в начале XX в. см.: Slavic Review.
1982. Vol. 41, nr 3. P. 417—453 [участники:
Д. P. Броуэр (D. R. Brower), P. E. Джонсон
(R. E. Johnson), Д. Конкер (D. Koenker),
P. Г. Суни (R. G. Suny)]. О рабочих см.:
Бернштейн-Коган С. Численность, состав
и положение петербургских рабочих : Опыт
статистического исследования. СПб., 1910;
552
Примечания
Пешехонов А. В. Крестьяне и рабочие в их
взаимных отношениях. СПб., 1905 ; Кру-
пянская В. Ю., Полищук Н. С. Культура
и быт рабочих горнозаводского Урала (ко¬
нец XIX—начало XX в.). М., 1971 ; Во-
nell V. Е. Roots of Rebellion : Worker’s Poli¬
tics and Organization in St. Petersburg and
Moscow, 1900—1914. Berkeley : University
of California Press, 1983. P. 439—455 ; Don-
norummo R. P. The Peasant of Central Rus¬
sia : Reactions to Emancipation and the Mar¬
ket, 1850—1900. New York ; London : Gar¬
land Publishing, 1987. P. 293—311 ; John¬
son R. E. Peasant and Proletarian ... P. 37;
Lam Th. #., von : 1) The Chances for Liberal
Constitutionalism // Slavic Review. 1965.
Vol. 23, nr 4. P. 619—642 ; 2) Russian Pea¬
sant in the Factory: 1892—1904 // Journal of
Economic History. 1961. Vol. 21, nr 1.
P. 61—80; 3) Russian Labor between Field
and Factory: 1892—1903 // California Slavic
Studies. 1964. Nr 3. P. 33—65 ; McDaniel T.
Autocracy, Capitalism, and Revolution in
Russia. Berkeley et al.: University of Califor¬
nia Press, 1988. P. 174—176 ; McKean R. B.
St. Petersburg Between the Revolutions:
Workers and Revolutionaries, June 1907—
February 1917. New Haven ; London : Yale
University Press, 1990. P. 14—29, 477—494 ;
Smith S. A. Red Petrograd : Revolutions in the
Factories, 1917—1918. New York : Cambridge
University Press, 1983. P. 21; Winn Ch. Wor¬
kers, Strikes, and Pogroms : The Donbass-
Dnepr Bend in Late Imperial Russia, 1870—
1905. Princeton : Princeton University Press,
1992. P. 254—268 ; Zelnik R. E.\ 1) The Pea¬
sant and the Factor // The Peasant in Nineteenth
Century Russia / W. Vucinich (ed.). Stanford,
CA : Stanford University Press, 1968. P. 183—
190 ; 2) Labor and Society in Tsarist Russia:
The Factory Workers of St. Petersburg,
1855—1870. Stanford, CA : Stanford Univer¬
sity Press, 1971. P. 17—21, 370—371 ; 3) Rus¬
sian Bebels : An Introduction to the Memoirs
of the Russian Workers Semen Kanatchikov
and Matvei Fisher // Russian Review. 1976.
Vol. 35, nr 3. P. 249—289; Nr 4. P. 417-447;
и др. M. Штейнберг полагает, что даже
самые грамотные рабочие воспринимали
себя не рабочими или крестьянами, а ско¬
рее человеческими существами: Stein¬
berg М. D. Worker-Authors and the Cult of
the Person // Culture in Flux ... P. 184. Со¬
ветские историки и некоторые зарубежные
полагали, что крестьянское происхождение
рабочих мало влияло на их сознание: Кру¬
зе Э. Э. Положение рабочего класса в Рос¬
сии ... С. 131—159 ; Рабочий класс и рабо¬
чее движение в России 1861—1917 гг. /
Л. М. Иванов (ред.). М., 1966. С. 58—140;
Koenker D. Moscow Workers and the 1917
Revolution. Princeton : Princeton University
Press, 1981 ; Koenker D.f Rosenberg W. G.
Strikes and Revolution in Russia: 1917.
Princeton : Princeton University Press, 1989;
Mandel D.: 1) The Petrograd Workers and the
Fall of the Old Regime : From the February
Revolution to the July Days 1917. London:
Macmillan, 1983 ; 2) The Petrograd Workers
and the Soviet Seizure of Power: From the
July days 1917 to July 1918. London : Mac¬
millan, 1984. P. 9—43 ; Suny D. G. Towards a
Social History of the October Revolution //
The American Historical Review. 1883. Vol.
88, nr 1. P. 33—34, 46—47. Хеймсон, не
отрицая двойственности рабочего созна¬
ния, рассматривает ее как производную от
рабочего стажа. Квалифицированные рабо¬
чие с многолетним стажем избавились от
пережитков крестьянской ментальности,
а молодые рабочие, только что пришедшие
в город, находились еще в ее власти:
Хеймсон Л. К вопросу о политической
и социальной идентификации рабочих Рос¬
сии в конце XIX—начале XX в.: Роль
общественных представлений в отношени¬
ях участников рабочего движения с социал-
демократической интеллигенцией // Рабо¬
чие и интеллигенция России в эпоху ре¬
форм и революций: 1861—февраль 1917 г./
С. И. Потолов (ред.). СПб., 1997. С. 28—
54 ; Haimson L. The Problem of Social Stabil¬
ity in Urban Russia, 1905—1917 // Slavic Re¬
view. 1964. Vol. 23, nr 4. P. 619—642.
А. Мендель и В. Бонелл считают, что сле¬
ды крестьянского менталитета обнаружи¬
ваются в сознании рабочих, но они все-
таки выработали специфическое проле¬
553
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
тарское сознание, которое, если бы не было
войны, эволюционировало в тред-юнионист¬
ском направлении: Mendel Л. R. Peasant and
Worker on the Eve of the First World War //
Slavic Review. 1965. Vol. 24, nr 1. P. 23—33 ;
Bonell V. E. Roots of Rebellion ... P. 439—455.
107 Кирьянов Ю. И. Менталитет рабо¬
чих России на рубеже XIX—XX в. // Ра¬
бочие и интеллигенция России ... С. 55—
76 ; Полищук И. С.: 1) Обычаи и нравы ра¬
бочих России (конец XIX—начало XX в.) //
Там же. С. 114—130, 184 ; 2) Обычаи фаб¬
рично-заводских рабочих Европейской Рос¬
сии, связанные с производством и произ¬
водственными отношениями (конец XIX—
начало XX в.) // ЭО. 1994. № 1. С. 73—90 ;
Михайлов Н. В.: 1) Самоорганизация тру¬
довых коллективов и психология рабочих
в начале XX в. // Рабочие и интеллигенция
России ... С. 149—165 ; 2) Петербургский
совет безработных и рабочее движение
в 1906—1907 гг.: автореф. дис. ... канд.
ист. наук. СПб., 1995. С. 27 ; Bonell V. Е.
Roots of Rebellion... Р. 64—65; Коло-
нищий Б. И. Антибуржуазная пропаганда
и «антибуржуйское» сознание // Анатомия
революции / В. Ю. Черняев (ред.). СПб.,
1994. С. 188—202.
108 Стейнберг М. Д. Представление
о «личности» в среде рабочих интеллиген¬
тов // Рабочие и интеллигенция России ...
С. 96—113 ; Хеймсон Л. К вопросу о по¬
литической и социальной идентификации
рабочих... С. 28—54; Steinberg М. D.
Moral Community : The Culture of Class Re¬
lations in the Russian Printing Industry,
1867—1907. Berkeley ; Oxford: University
of California Press, 1992.
109 Михайлов H. В. Совет безработных
и рабочие Петербурга в 1906—1907 гг. М.;
СПб., 1998. С. '193—195, 198—199.
110 Майерс Д. Социальная психология.
6-е изд. СПб., 2001. С. 367—372.
111 Это парадигма крестьянского мас¬
сового сознания, официальной советской
политэкономии и советского массового
сознания. См.: Латынина Ю. Собствен¬
ность есть кража? // Русская философия
собственности ... С. 427—444.
112 Черняев В. Ю. Рабочий контроль
и альтернативы его развития в 1917 г. II
Рабочие и российское общество: Вторая
половина XIX—начало XX в. / С. И. По-
толов (ред.). СПб., 1994. С. 164—177.
113 Байрау Д. Янус в лаптях: крестьяне
в русской революции 1905—1917 гг. // ВИ.
1992. № 1.С. 19—32.
114 Ленин В. И. ПСС. Т. 31. С. 91.
115 Русская периодическая печать
(1702—1894): справ. / А. Г. Дементьева,
А. В. Западова, М. С. Черепахова (ред.). М,
1959. С. 530—531 ; Ким Ен Хван. В борьбе
за массового читателя: Журнал «Нива»
(1869—1918) // Свободная мысль — XXI.
2004. № 1.С. 140—150.
116 Нива. 1889. № 52. С. 1353 ; История
русской культуры / М. Р. Зезина и др. М,
1990. С. 253. До 1871 г. «Нива» называлась
«иллюстрированным журналом для семей¬
ного чтения».
117 Подсчет числа публикаций за 1870—
1904 гг. произведен на основании двух
изданий, подготовленных А. Д. Торопо¬
вым: Систематический указатель литера¬
турного и художественного содержания
журнала «Нива» за XXX лет (с 1870 по
1899 г.), основанного А. Ф. Марксом. СПб.,
1902. С. 24—56 ; Первое прибавление за
5 лет (1900—1904 г.) к Систематическому
указателю <...> за XXX лет. СПб., 1906.
С. 11—16. За остальные годы — по ежегод¬
ным систематическим указателям.
118 Нива. 1913. № 45. С. 899—900.
1,9 Нива. 1912. № 1.С. 18.
120 Нива. 1911. №22. С. 414.
121 Нива. 1912. №32. С. 642.
122 Нива. 1913. №2. С. 37.
123 Нива. 1892. № 50. С. 1118; 1909.
№ 43. С. 749. В Приложении к журналу
«Нива» за 1901 г. «XIX век. Иллюстри¬
рованный обзор минувшего столетия»
в разделе «Изобретатели» о предпринима¬
тельской деятельности изобретателей не
было сказано ни слова (С. 340—465).
124 Нива. 1909. Ко 9. С. 179; 1909. № 37.
С. 646; 1908. №27. С. 484.
125 Нива. 1912. № 43. С. 862; 1911.
№ 36. С. 664.
554
Примечания
иь Нива. 1909. №8. С. 158.
127 Нива. 1908. № 6. С. 119—120.
128 Нива. 1902. № 30. С. 602—603.
129 Нива. 1909. № 30. С. 536-6.
130 Там же. №6. С. 120.
131 Бурышкин П. А. Москва купеческая.
М., 1991. С. 40—41, 113.
132 Гуревич П. С. Буржуазная идеология
и массовое сознание. М., 1980. С. 52—56.
133 В книге, подготовленной большой
группой авторов из 22 исследователей,
убедительно показаны фрагментарность
и незавершенность формирования россий¬
ского среднего класса в начале XX в.:
Clowes Е. W., Kassow S. D., West J. L. Intro¬
duction // Between Tsar and People ... P. 3—
14. «Интеллигенции как единого целого
никогда не было», — справедливо отмечает
финский историк: Вихавайнен Т. Внутрен¬
ний враг: Борьба с мещанством как мо¬
ральная миссия русской интеллигенции.
СПб., 2004. С. 323.
134 Успенский Б. А. Этюды о русской
истории. М., 2002. С. 393—413. Родовые
черты русской интеллигенции артикули¬
руются по-разному и до 1917 г.: Бердя¬
ев Н. А. Духовный кризис интеллигенции.
СПб., 1910 ; Иванов-Разумник Р. И.: 1) Что
такое интеллигенция? Берлин, 1920 ; 2) Ис¬
тория русской общественной мысли : в 2 т.
Т. 1 : Индивидуализм и мещанство в рус¬
ской литературе и жизни XIX в. СПб.,
1911; Интеллигенция в России : сб. статей /
К. Арсеньев, Н. Гредескул, П. Милюков,
И. Петрункевич. СПб., 1910 ; Троцкий Л. Д.
Об интеллигенции // Интеллигенция. Власть.
Народ: антология. М., 1993. С. 105—123;
и др. То же самое наблюдается в постсо¬
ветскую эпоху: Балуев Б. П. Споры в конце
XIX века о роли интеллигенции в исто¬
рических судьбах России // В раздумьях
о России (XIX век) / Е. Л. Рудницкая (ред.).
М., 1996. С. 305—315 ; Барзилов С, Черны¬
шев А. Самоидентификация российской
интеллигенции: политические символы
и механизмы // Свободная мысль XXI.
2001. ЛЬ 12. С. 34-40; Колеров М. А.:
1) «Отщепенство» интеллигенции: от вели¬
ких реформ к «Вехам» // Россия и рефор¬
мы: 1861—1881 / М. А. Колеров, А. Ю. По-
лунов (ред.). М., 1991. С. 69—79; 2) Са¬
моанализ интеллигенции как философская
проблема // Новый мир. 1994. № 8. С. 160—
171 ; Манхейм К. Проблема интеллиген¬
ции : Исследование ее роли в прошлом
и настоящем. М., 1993 ; Солженицын А. И.
Образованщина // Новый мир. 1991. №5.
С. 28—46; Судьбы русской интеллиген¬
ции : Материалы дискуссий 1923—1925 гг. /
B. Л. Соскин (ред.). М., 1991 ; Ткачев В. С.
Идеалы русской интеллигенции : Сравни¬
тельный анализ общественной мысли Рос¬
сии XVIII—начала XX в. Иркутск, 1998;
Щеглов М М. Социальная активность ин¬
теллигенции как фактор развития духовной
культуры России. М., 1996. Интересно
и всесторонне трактуется интеллигенция
в сборнике статей: Русская интеллигенция:
история и судьба / Т. Е. Князевская (сост.);
Д. С. Лихачев (ред.). М., 1999. Вот неко¬
торые статьи: Балашов Н. И. Русская ин¬
теллигенция в ее классическом виде как
важный субъект формирования живой
культуры России XIX—XX вв. // Там же.
C. 230—243 ; Гаспаров М. Л. Интеллек¬
туалы, интеллигенты, интеллигентность //
Там же. С. 5—14 ; Кондаков И. В. К фено¬
менологии русской интеллигенции // Там
же. С. 63—90 ; Петров В. М. Социокуль¬
турная динамика и функции интеллиген¬
ции // Там же. С. 90—108 ; Соколов К Б.
Мифы об интеллигенции и историческая
реальность // Там же. С. 149—208; Степа¬
нов Ю. С. «Жрец» нарекись, и знаменуйся:
«Жертва» (к понятию «интеллигенция»
в истории российского менталитета) // Там
же. С. 14—44.
пьБердяев Н. Духи русской револю¬
ции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 285,287.
136 Знаменский О. Н. Интеллигенция
накануне Великого октября. Л., 1988. С. 19,
21.
137 Stites R. Revolutionary Dreams : Uto¬
pian Vision and Experimental Life in the Rus¬
sian Revolution. New York: Oxford Univer¬
sity Press, 1989.
138 Матханова H. П. Отношение к ре¬
лигии одной из участниц народнического
555
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
движения // Общественное сознание насе¬
ления России по отечественным нарратив¬
ным источникам XVI—XX вв. / Н. Н. Пок¬
ровский (ред.). Новосибирск, 2006. С. 137—
138. См. также: Рыклин М. Коммунизм как
религия : Интеллектуалы и Октябрьская
революция. М., 2009.
139 Вихавайнен Т. Внутренний враг...
С. 323, 324.
140 Экштут С. А. Повседневная жизнь
русской интеллигенции от эпохи великих
реформ до Серебряного века. М., 2012.
С. 203, 398. Литература о русской интел¬
лигенции огромна. Пожалуй, нет такого
аспекта в общественной жизни имперской
России, где бы ее роль не рассмотрена
с той или иной подробностью в историо¬
графии. И по всем вопросам в историогра¬
фии существует много точек зрения, анализ
которых не входит в мою задачу. Укажу
некоторые работы: Бакшутова Е. В. Соци¬
ально-психологические аспекты менталь¬
ности русской интеллигенции конца XIX—
начала XX вв. (по материалам журнала
«Русская мысль» 1880—1918 гг.): дис. ...
канд. психол. наук. Самара, 2005 ; Булга¬
кова Л. А. Поиски идентификации русской
интеллигенции в современной историогра¬
фии // Клио. 2002. № 1 (16). С. 28—37;
Зубков И. В. Учительская интеллигенция
России в конце XIX—начала XX в.: дис. ...
канд. ист. наук. М., 2008 ; Ермигикина О. К.
Генезис дворянской интеллигенции в Рос¬
сии в XVIII—первой четверти XIX в.:
дис. ... канд. ист. наук. Тверь, 2000 ; Зябли¬
ков А. В. «Ясновидцы революции» : Рос¬
сийская художественная интеллигенция
в политических баталиях начала XX века.
Кострома, 2002; Из истории русской
интеллигенции): сб. материалов и статей
к 100-летию со дня рождения В. Р. Лейки-
ной-Свирской / Р. Ш. Ганелин (ред.). СПб.,
2003 ; Колоницкий Б. И. Интеллигент конца
XIX—начала XX века: Проблемы иденти¬
фикации (к постановке вопроса) // Со¬
циальная история, 2010 : ежегодник. СПб.,
2011. С. 9—42; Карпачев М. Д. Разночин¬
ная интеллигенция как феномен полити¬
ческой культуры пореформенного времени //
Освободительное движение в России. Вып.
20 / В. С. Парсамов (ред.). Саратов, 2003.
С. 78—88 ; Лейкина-Свирская В. Р. \ 1) Ин¬
теллигенция в России во второй половине
XIX в. М., 1971 ; 2) Русская интеллигенция
1900—1917 гг. М., 1981 ; Лисичникова А. В.
Образ жизни интеллигенции губернских
и областных центров Восточной Сибири во
второй половине XIX века: дис. ... канд.
ист. наук. Иркутск, 2000 ; Ольховский Е.
Петербургские истории : Город и интел¬
лигенция в минувшем столетии (1810-е—
1910-е годы). СПб., 1998; Остерман Л.
Диалог через столетие: Интеллигенция
и власть в России (1894—1917). М, 2009;
Рудницкая Е. Л. Лики русской интелли¬
генции. М., 2007; Романовский С. И. Не¬
терпение мысли или исторический портрет
радикальной российской интеллигенции.
СПб., 2000; Соколов А. В.: 1) Российская
интеллигенция XVIII—начала XX в.: кар¬
тина мира и повседневность. СПб., 2007;
2) Интеллигенты и интеллектуалы в рос¬
сийской истории. СПб., 2007; 3) Поко¬
ления русской интеллигенции. СПб., 2009;
Сулимов С. И., Востряков И. В. Эволюция
ценностных установок в мировоззрении
русской радикальной интеллигенции. Во¬
ронеж, 2012; Щетинина Г. И. Идейная
жизнь русской интеллигенции: конец XIX—
начало XX в. М., 1995 ; Ширинянц А. А.,
Ширинянц С. А. Российская интеллигенция
на рубеже веков : Заметки о политической
культуре. М., 1997 ; Ширинянц А. А. Ни¬
гилизм или консерватизм? : Русская ин¬
теллигенция в истории политики и мысли.
М., 2011.
141 Буланин Д. М. Эпилог к истории
русской интеллигенции. СПб., 2005.
142 Подробнее об этом см. в гл. 5 «Го¬
род и деревня в процессе модернизации»
наст. изд.
143 Кириллов И. А. Правда старой веры.
М., 1916. С. 377—381 ; West J. L. The Riabu-
shinskiy Circle: Burzhuazia i Obshchestven-
nost’ // Between Tsar and People: Educated
Society and the Quest for Public Identity n
Late Imperial Russia / E. W. Clowes, S. D. Kas-
sov, J. L. Vest (eds.). Princeton, NJ : Princeton
556
Примечания
University Press, 1991. P. 41—56; Ruck-
man J. A. The Moscow Business Elite : A So¬
cial and Cultural Portrait of Two Generations,
1840—1905. DeKalb, 111: Northern Illinois
University Press, 1984. P. 205—206 ; McCaf-
fray S. P. The Politics of Industrialization in
Tsarist Russia: The Assotiation of Southern
Coal and Steel Producers, 1874—1914.
DeKalb, 111: Northern Illinois University
Press, 1996.
144 Бурышкин П. А. Москва купеческая.
С.113.
145 Рябушинский В. Я. Старообрядчест¬
во и русское религиозное чувство ... С. 135,
152—153. См. также: Кириллов И. А. Прав¬
да старой веры. С. 377—381.
146 Анохина Л. А.у Шмелева М. Н. Быт
городского населения средней полосы
РСФСР в прошлом и настоящем : На при¬
мере городов Калуга, Елец, Ефремов. М.,
1977. С. 256—257 ; Баикина А., Додоно¬
ва Л. Аристократы капитала: Очерки ис¬
тории российского предпринимательства
и благотворительности X—XX вв. Тюмень,
1994; Norman J. О. Pavel Tret’iakov and
Merchant Art Patronage, 1850—1900 //
Between Tsar and People... P. 93—107;
Bowlt J. E. The Moscow Art Market // Ibid.
P. 108—130.
147 Арсентьев H. M, Дубодел A. M. Bo
славу России... : Трудовая мотивация и об¬
раз отечественного предпринимателя конца
XVIH—первой половины XIX в. М., 2002 ;
Беспалова Ю. М Ценностные ориентации
в культуре западносибирского предприни¬
мательства второй половины XIX—XX вв.
Тюмень, 1998 \Дурылин С. Н. В своем углу :
Из старых тетрадей. М., 1991. С. 168—171.
В дореформенное время менталитет русских
купцов был весьма далек от буржуазного:
Жижко Е. В. Российская трудовая этика
в социально-психологическом контексте эко¬
номической реформы // Российское общест¬
во на рубеже веков: штрихи к портрету /
И. А. Бутенко (ред.). М., 2000 ; Жунин М. М.
Просвещенный купец — украшение старой
веры // Мир России. 1998. № 3. С. 91—116 ;
Зарубина Н. Н. Православный предприни¬
матель в зеркале русской культуры // Об¬
щественные науки и современность. 2001.
№ 5. С. 101—112 ; Козлова Н. В. Некоторые
черты личностного образа купца XVIII века:
(К вопросу о менталитете российского купе¬
чества) // Менталитет и культура предприни¬
мателей России XVII—XIX вв. / Л. Н. Пуш¬
карев (ред.). М., 1996. С. 43—57; Куприя¬
нов А. И. Представления о труде и богатстве
русского купечества дореформенной эпохи //
Там же. С. 83—107; Нилова О. Е. Москов¬
ская купеческая гильдия первой четверти
XIX века в ее отношении к предпринима¬
тельству : (К вопросу о буржуазной идеоло¬
гии в России) // Там же. С. 108—138; По¬
пов Р. И. Богатство как ценностная ориен¬
тация русского купечества в конце XVII—
XIX в. // Проблемы отечественной исто¬
рии : источники, историография, исследо¬
вания / М. В. Друзин (ред.). СПб., 2008.
С. 437—446 ; Реснянский Д. С. Православ¬
ные традиции российского предпринима¬
тельства и развитие культуры в конце
XIX—начале XX в.: дис. ... канд. ист.
наук. М., 1998 ; Фомина А. С. Социально¬
психологические типы крупной москов¬
ской буржуазии второй половины XIX—
начала XX веков. М., 2008. О трудовой
этике предпринимателей за рубежом: Кевб-
рин Б. Ф., Тарасов А. А. Развитие капита¬
лизма, философии и этики буржуа: исто¬
рико-культурологический аспект: в 2 кн.
Кн. 1 : Зарождение и развитие капитализма
и капиталистического предпринимательст¬
ва за рубежом. Саранск, 2003 ; Этика и ор¬
ганизация труда в странах Европы и Аме¬
рики: Древность, Средние века, современ¬
ность. М., 1997; и др.
148 Корноухова Г. Г. Четыре типа дело¬
вого поведения мусульманских предприни¬
мателей российской империи рубежа XIX—
XX вв.: основные черты и особенности //
Экономическая история: обозрение. М.,
2011. Вып. 16. С. 157—161.
149 Боханов А. Н. Крупная буржуазия
России. Конец XIX в.—1914 г. М., 1992.
С. 156—158; Воронцова Е. А. Российские
предприниматели и интеллигенция (к воп¬
росу о характере отношений) // Россия в де¬
вятнадцатом веке : в 2 ч. / В. И. Старцев,
557
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Т. Г. Фруменкова (ред.). СПб., 1994. Ч. 1.
С. 44—50 ; Blackwell W. L. The Old Belie¬
vers and the Rise of Private Industrial Enter¬
prise in Early Nineteenth-Century Moscow //
Slavic Review. 1965. Vol. 24. P. 407—424.
150 Брянцев M. В. Русское купечество :
Социокультурный аспект формирования
предпринимательства в России в конце
XVIII—начале XX в.: дис. ... д-ра ист.
наук. М., 2000; Предпринимательство и
предприниматели России от истоков до на¬
чала XX века / А. К. Сорокин (ред.). С. 121—
123; Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия
в 1904—1914 гг. Л., 1987. С. 174—185;
McCajfray S. Р. The Politics of Industrialization
in Tsarist Russia: The Association of Southern
Coal and Steel Producers 1874—1914. DeKalb :
Northern Illinois University Press, 1996.
151 О проведении опросов Московским
педагогическим музеем см.: Психология и
дети. 1917. № 3.
152 Ананьин С. А. Детские идеалы // Рус¬
ская школа. 1911. Май—июнь, август—
сентябрь. Т. 2. Отд. 1. С. 210—219; Смир¬
нов В. Психологические основы постанов¬
ки внеклассного чтения // Русская школа.
1911. №9. С. 145—161; № 10. С. 167—189;
№ 11. С. 166—184; Сивков К: 1) Идеалы
учащейся молодежи (по данным анкеты) //
Вестник воспитания. 1911. № 2. С. 117—
158; 2) Идеалы городских школьников //
Там же. JSfo 4. С. 92—108 ; Рыбников Н. А.:
1) Идеалы гимназисток (очерк по психо¬
логии юности). М., 1916 ; 2) Деревенский
школьник и его идеалы : Очерки по пси¬
хологии школьного возраста. М., 1916;
3) Школа и выбор профессии // Психология
и дети. 1917. № 3/4. С. 26—34. К таким же
в принципе выводам пришли и другие
исследователи, , но привести результаты
всех опросов к общему знаменателю из-за
различия в используемых при опросах ан¬
кетах невозможно. См.: Марков. О школь¬
ной молодежи (по данным одной анкеты) //
Вестник воспитания. 1913. № 5. С. 178—
205; № 6. С. 162—198; Богданов Т. Ф.
Результаты пробной анкеты относительно
идеалов детей // Труды психологической
лаборатории при Московском педагогичес¬
ком собрании / А. Н. Бернштейн (ред.). М,
1911. Вып. 2. С. 12—27 ; Новосильцев А. Н.
Обзор работ о детских идеалах // Там же.
С. 1—11 ; Рабин Е. П. Душевное настрое¬
ние современной учащейся молодежи по
данным Петербургской общестуденческой
анкеты 1912 г. СПб., 1913 ; Синицкий Л. Д.
К вопросу о детских идеалах. М., 1903; и др.
153 Рыбников Н. А. Идеалы гимназис¬
ток ... С. 49—50.
154 Кузнецов В. Д. Влияние русской
православной церкви на учащихся России
в 80—90-е гг. XIX в. // Клио. 2007. № 1
(36). С. 80—86.
155 Лярский А. В. Самоубийства уча¬
щихся как феномен системы социализации
в России на рубеже XIX—XX веков. СПб.,
2010. С. 211—230, 257—258.
156 Ф. Идеалы гимназисток // Вестник
воспитания. 1914. № 8. С. 182.
157 Смирнов Н. Н. На переломе: рос¬
сийское учительство накануне и в дни ре¬
волюции 1917 года. СПб., 1994. С. 392—
393.
158 Кокс X. Мирской град: Секуляриза¬
ция и урбанизация в теологическом аспекте.
М., 1995. С. 36; Узланер Д. А. Секуляри¬
зация как социологическое понятие (по
исследованиям западных социологов) // Со-
цис. 2008. № 8 (292). С. 62—67.
159 В конце 1990-х г. в России большая
половина новорожденных крестились и бо¬
лее половины умерших отпевались, в Пе¬
тербурге — соответственно 70 и 80%:
Пантин В., Лапкин В. Ценностные ориен¬
тации россиян в 90-е годы // Pro et Contra.
1999. Весна. Можно ли на этом основании
предполагать, что больше половины рос¬
сиян верили в Бога?!
160 Козьминых-Ланин И. М. Артельное
харчевание фабрично-заводских рабочих
Московской губернии. М., 1915. С. 21—22.
161 Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь
«Ивана» ... С. 104.
162 Громыко М. М. Православие в жиз¬
ни русского крестьянина // ЖС. 1994. № 2.
С. 40—42 ; Островская Л. В. Христианство
в понимании русских крестьян поре¬
форменной Сибири // Общественный быт
558
Примечания
и культура русского населения Сибири
XVIII— начала XX в. / Л. М. Русакова
(ред.). Новосибирск, 1983. С. 135—150.
163 Полный православный богослов¬
ский энциклопедический словарь : в 2 т. М.,
1992. Т. 2. Стб. 1864—1867; Heretz L. The
Practice and Significance of Fasting in Rus¬
sian Peasant Culture at the Turn of the Cen¬
tury // Food in Russian History and Culture /
M. Giants, J. Tommre (eds.). Bloomington :
Indiana University Press, 1997. P. 67—80.
164 См. также: Бернштам T. A. При¬
ходская жизнь русской деревни : Очерки
по церковной этнографии. СПб., 2005;
Православная жизнь русских крестьян
XIX— XX веков : Итоги этнографического
исследования / Т. А. Листова (ред.). М.,
2001. По наблюдениям Литягиной, у боль¬
шинства населения Западной Сибири наб¬
людалась высокая религиозность, ориенти¬
рованная на вечные религиозные истины.
О кризис религиозности можно говорить
лишь в той ее части, которая была связана
с институтом храма и являлась формальной
обрядовой стороной. Привилегированные
слои проявляли особый индифферентизм
к церковной службе и соблюдению обря¬
дов: Литягина А. В. Уровень религиозно¬
сти населения Западной Сибири (1861—
1917 гг.) // ВИ. 2006. № 9. С. 117—124. Од¬
нако данные о посещении исповеди и при¬
частия этого не подтверждают. Возможно,
в Сибири ситуация отличалась от Евро¬
пейской России.
165 Всеобщий календарь на 1871 год.
СПб., 1870. С. 61—62.
166 Правила Православной церкви. С тол¬
кованиями Никодима, Епископа Далматин-
ско-Истрийского : в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 328
(Третье правило св. Дионисия, Архиепис¬
копа Александрийского). См. также: Смир¬
нов С. М.\ 1) Древнерусский духовник. М.,
1913. С. 114—115 ; 2) Материалы для исто¬
рии древнерусской покаянной дисциплины
(тексты и заметки). М., 1913. С. 206—207 ;
Кон И. С. Сексуальная культура в России :
Клубничка на березке. М., 1997. С. 27.
167 Kaiser D. Я. «The Seasonobility of
Family Life in Early Modem History» // For-
schungen zur osteuropaischen Geschichte.
1992. Bd. 46. S. 21—50. Расчеты Кайзера
сделаны по григорианскому календарю, но
это не меняет дела, так как в этом случае
в XVI—XVII вв. март всегда приходился на
Великий пост.
168 Данные за 1902—1903 гг. по Евро¬
пейской России с Царством Польским:
Альбом картограмм и диаграмм по произ¬
водству, продаже и потреблению вина
и пива / А. Гайкович (сост.). СПб., 1905. С. 6.
Диаграмма 17. То же примерно показывают
и данные за 1881—1884 гг. о ежемесячном
поступлении акциза: Ежегодник Минис¬
терства финансов. СПб., 1889. Вып. 16.
С. 186—191. См. также: Дмитриев В. К.
Критические исследования о потреблении
алкоголя в России. М., 2001. С. 325—329.
169 Ежегодник Министерства финансов.
Вып. 16. С. 188.
170 BeckerS. О., Nagler А/, Woessmann L.
Education Promoted Secularization // BeitrSge
zur Jahrestagung des Vereins fllr Socialpolitik
2014 : Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik —
Session: Religion and Secularization. Nr.
Fll-Vl. URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:
zbw:vfscl4:100608&r=his (дата обращения:
22.04.2015).
171 Трубецкая О. Я Князь С. Н. Трубец¬
кой : Воспоминания сестры. Нью-Йорк:
Изд-во им. А. П. Чехова, 1953. С. 65.
172 Струмилин С. Г. Из итогов одной
анкеты // Струмилин С. Г. Избр. произве¬
дения : в 5 т. М., 1963. Т. 1. С. 168.
173 Кууси Я. Этот человеческий мир.
М., 1988. С. 86.
174 КоксX. Мирской град ... С. 36.
175 Эти различия существовали уже
в XVII в.: Булгаков М. Б. О менталитете
посадского сословия в XVII в. // Русская
история: проблема менталитета. С. 81—84.
176 Флеровский Я Положение рабочего
класса в России. С. 414,420.
177 Brower D. R. The Russian City be¬
tween Tradition and Modernity, 1850—1900.
Berkeley and al.: University of California
Press, 1990. P. 75—91, 222—228.
178 Янжул И. И. Из воспоминаний и пе¬
реписки фабричного инспектора первого
559
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
призыва : Материалы для истории русского
рабочего вопроса и фабричного законода¬
тельства. СПб., 1907. С. 215.
179 Отечественные обществоведы срав¬
нительно недавно обратили внимание на
важную роль трудовой этики в экономи¬
ческом и социальном развитии как де¬
ревни: Гордон А. В. Тип хозяйствования —
образ жизни — личность // Крестьянство
и индустриальная цивилизация. М., 1993.
С. 113—135; Коваль Т. Б. Христианская
этика труда: Православие. Католицизм.
Протестантизм: Опыт сравнительного ана¬
лиза. М., 1994; Лапицкий М. И. Трудовая
этика в аспекте политики (заметки на полях
трудов Федора Степуна) // Полития : Ана¬
лиз. Хроника. Прогноз. 2000. Лето. № 2.
С. 178—191 ; Латов Н. ВЛатова Ю. В.:
1) Российская экономическая ментальность
на мировом фоне // Общественные науки
и современность. 2001. № 4. С. 21—37;
2) Этнометрические подходы к сравнитель¬
ному анализу хозяйственно-культурных цен¬
ностей // ВЭ. 2008. № 5. С. 1—14 ; Трудовая
этика как проблема отечественной куль¬
туры: современные аспекты: Материалы
круглого стола // ВФ. 1991. № 1. С. 3—30 ;
Шершнева Е. Л., Фельдхофф Ю. Культура
труда в процессе социально-экономичес¬
ких преобразований. СПб., 1999; Шкара-
тан О. Карачаровский В. В. Русская
трудовая и управленческая культура // Мир
России. 2002. № 1. С. 3—56; и др.
180 Вебер М. Хозяйственная этика ми¬
ровых религий : Попытка сравнительного
исследования в области социологии рели¬
гий // Вебер М. Избранное : Образ общест¬
ва. М., 1994 ; Лукассен Я. Мотивация труда
в исторической перспективе: некоторые
предварительные заметки по терминологии
и принципам классификации // Социальная
история, 2000: ежегодник. М., 2000.
С. 194—205 ; Рих А. Хозяйственная этика.
М., 1996; Скотт Дж. Моральная эконо¬
мика крестьянства как этика выживания //
Великий незнакомец: Крестьяне и ферме¬
ры в современном мире: хрестоматия /
Т. Шанин, А. В. Гордон (ред.). М., 1992.
С. 202—211 ; Сяодун Ф. Крестьянство как
образ жизни // Там же. С. 12—75 ; Labour
and Leisure in Historical Perspective, Thir¬
teenth to Twentieth Centuries / 1. Blanchard
(ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1994;
Scott J. W. The Glassworkers of Garmaux:
French Craftsmen and Political Actions in a
Nineteenth-Century City. Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 1974; Shapely P.
Work and Work Ethic // Encyclopedia of^
European History from 1350 to 2000: in 6
vols. / P. N. Steams (ed.). New York etc.:
Charles Scribner’s Sons, 2001. Vol. 4. P. 451—
466 ; Stearns P. N. Lives of Labour: Work in
a Maturing Industrial Society. London:
Holmes and Meier, 1975; The Historical
Meaning of Work / P. Joyce (ed.). Cam¬
bridge : Cambridge University Press, 1987;
Thompson E. P.: 1) The Making of the English
Working Class. New York: Pantheon Books,
1964 ; 2) Time, Work-Discipline and Indus¬
trial Capitalism // Past and Present. 1967. Vol.
38. P. 56—97; Trempe R. Les mineurs de
Garmaux, 1848—1914: 2 vols. Paris: Les
Editions Ouvrieres, 1971 ; Tylecote M. The
Mechanics’ Institutes of Lancashire before
1851. Manchester: Manchester University
Press, 1957; и др.
181 Вебер M. Избр. произведения. М.,
1990. С. 70—96, 184—207; Зомбарт В.
Буржуа: Этюды по истории духовного
развития современного экономического
человека. М., 1994. С. 12—20 ; Маркович Д.
Социология труда. М., 1988. С. 502—551;
Шварцбурд Ц. В. Экономическая антропо¬
логия сбережений: историко-институцио¬
нальный подход // Историко-экономиче¬
ские исследования. 2008. Т. 9, № 1. С. 5—20.
182 Вебер М. Протестантская этика
и дух капитализма // Вебер М. Избр. про¬
изведения. С. 70—96.
183 Арон Р. Этапы развития социоло¬
гической мысли. М., 1993. С. 531—546;
Marshall G. In Search of the Spirit of Capital¬
ism : An Essay on Max Weber’s Protestant
Ethic Thesis. New York: Columbia Uni¬
versity Press, 1982. P. 10—11, 82—83,90.
Интересный анализ трудовой этики про¬
тестантизма, православия, ислама, буд¬
дизма и конфуцианства см.: Рязанов В. Т.
560
Примечания
Этноэкономика: роль религиозной этики //
Рязанов В. Т. Хозяйственный строй России:
на пути к другой экономике. СПб., 2009.
С. 139—151.
184 Послание патриархов восточно¬
кафолической церкви о православной вере
(1723 г.). URL: http://azbyka.ru/otechnik/
pravila/1723/ (дата обращения: 28.05.2015).
185 Рязанов В. Г. Этноэкономика: ос¬
новные характеристики // Рязанов В. Т.
Хозяйственный строй России ... С. 124—
138.
186 Ильин И. А. Русский крестьянин
и собственность // Ильин И. А. Наши за¬
дачи. М., 1992. С. 220.
187 Одно из первых исследований
бюджета времени было проведено в 1923 г.
и охватило лишь 29 дворов: Струмилин С. Г.
Бюджет времени русского крестьянина:
в семьях единоличников 1923 г. // Стру¬
милин С. Г. Избр. произведения. Т. 3.
С. 167—189.
188 См., например: Патрушев В. Д.
Жизнь горожанина (1965—1998). М., 2001.
С. 33.
189 Ермолов А. С. Народная сельскохо¬
зяйственная мудрость в пословицах, пого¬
ворках и приметах. Т. 2 : Всенародная аг¬
рономия. СПб., 1905. С. 84—89.
190 Настенный календарь на [1850—
1900] год. СПб., [1849—1899].
191 Ермолов А. С. Народная сельскохо¬
зяйственная мудрость ... Т. 2. С. 85—86.
Число местных праздников изменялось от
прихода к приходу: Историко-статисти¬
ческие сведения о Санкт-Петербургской
епархии. СПб., 1884. Вып. 1—10.
192 Архив РГО. Разд. 29 (Пермская гу¬
берния). Д. 9 (Перечень праздников в при¬
ходских деревнях Оханского уезда Пермс¬
кой губ. в 1850-х гг.); Буницкий К. Вы¬
числение дней, празднуемых в течение го¬
па рабочими людьми в Александровском
уезде, Екатеринославской губернии // Зап.
пмп. о-ва сельского хозяйства Южной Рос-
:ии. 1866. С. 306—310 ; Город у Красного
Яра / Г. Ф. Быконя (ред.). Красноярск,
1986. С. 35—36 ; Доброзраков М. Село
Ульяновка Нижегородской губернии Лу-
кояновского уезда // Этнографический
сборник, изд. РГО. Вып. 1. СПб., 1853.
С. 33 ; Заметка о влиянии праздничных
и прогульных дней на общее экономи¬
ческое положение России // Владимирские
епархиальные ведомости. 1865. № 7 ; К. Д.
Несколько замечаний об урочных работах
в сельском хозяйстве // Журнал МГИ. 1853.
Ч. 47. С. 237 ; Преображенский В. Описа¬
ние Тверской губернии в сельскохозяйст¬
венном отношении. СПб., 1854. С. 99—
101 ; Соловьев Я. А. Сельскохозяйственная
статистика Смоленской губернии. М., 1855.
С. 226 ; Сумароков /7. Деревенские письма //
03. 1861. Т. 138. С. 510.
193 Доклад Комиссии 1873 г. Доклад.
Журналы Комиссии. С. 1—3; Приложе¬
ния. I. Отд. 1. С. 201—224; Приложения. I.
Дополнения. С. 22—28; Приложения. VI.
Стенографические ответы лиц, приглашен¬
ных в Комиссию. Ч. 1.
194 Там же. Отд. 1. С. 201—224; Вла-
димирский В. Обозрение современного сос¬
тояния сельского хозяйства России. СПб.,
1874. С. 5.
195 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. 1. Дополнения. С. 22—28; Приложе¬
ния. VI : Стенографические ответы лиц,
приглашенных в Комиссию. Ч. 1 ; Влади¬
мирский В. Обозрение современного сос¬
тояния сельского хозяйства России. С. 5,
22—25. Подробно о составе и работе
Комиссии см.: Миронов Б. Н. Благосостоя¬
ние населения и революции в России
XVI11—начала XX века. 2-е изд. М., 2012.
С. 449—460, 467—468.
196 Всеподданнейший отчет по Особо¬
му совещанию о нуждах сельскохозяйст¬
венной промышленности: 1902—1904. СПб.,
1904. С. 1, 55; Приложение 2.
197 Высочайше учрежденное Особое
совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности: Общий обзор трудов
местных комитетов / С. И. Шидловский
(сост.). СПб., 1905. С. 1—13, 22—24. См.
также: Прокопович С. Н. Местные люди
о нуждах России. СПб., 1904.
198 Просвещение / Н. Л. Петерсон
(сост.). С. 12—14; Особое совещание.
561
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Труды местных комитетов. СПб., 1903. Т. 3 :
Бессарабская губерния. С. 62—76, 188, 386;
Т. 4 : Виленская губерния. С. 27—28, 115;
Т. 5 : Витебская губерния. С. 444; Т. 6:
Владимирская губерния. С. 184; Т. 8:
Волынская губерния. С. 134; Т. 10 : Вятская
губерния. С. 40, 451; Т. 11 : Гродненская
губерния. С. 172— 173, 258, 345, 459—461;
Т. 14: Калужская губерния. С. 19, 26—27,
50, 64; Т. 15 : Киевская губерния. С. 132,
604, 716—717, 1069—1070, 1131—1134;
Т. 17 : Костромская губерния. С. 463; Т. 19 :
Курская губерния. С. 48—49, 79— 83, 358—
360, 541; Т. 21 : Минская губерния. С. 127,
174, 282; Т. 22: Могилевская губерния.
С. 94; Т. 23 : Московская губерния. С. 512—
513, 585—586, 616, 631, 673; Т. 24:
Нижегородская губерния. С. 45; Т. 25:
Новгородская губерния. С. 263, 410—412,
442—443, 457—458; Т. 31 : Подольская
губерния. С. 164, 463—464, 481—483, 486,
561—562, 802, 804, 811, 814—817, 936—
941, 1007, 1015—1018, 1053—1054, 1112;
Т. 32: Полтавская губерния. С. 352—353,
641—642, 718, 724—735; Т. 33 : Псковская
губерния. С. 69—70, 113, 118, 126, 127,
146—147, 192, 235—236, 251—252, 344—
346; Т. 34 : Рязанская губерния. С. 272—273,
387—393, 571—572, 582; Т. 35 : Самарская
губерния. С. 174; Т. 36: С.-Петербургская
губерния. С. 39, 41; Т. 37: Саратовская
губерния. С. 412, 446, 566, 608; Т. 39:
Смоленская губерния. Ч. 2. С. 176, 179,
247—248, 306; Т. 40 : Таврическая губерния.
С. 189—190; Т. 41 : Тамбовская губерния.
С. 198, 430; Т. 42 : Тверская губерния. С. 275,
445; Т. 44 : Уфимская губерния. С. 184—
185; Т. 45 : Харьковская губерния. С. 414;
Т. 46: Херсонская губерния. С. 66, 68—69,
214, 261; 7- 47: Черниговская губерния.
С. 94—96, 116, 432. Подробно о составе и
работе Совещания см.: Миронов Б. Н.
Благосостояние населения ... С. 474—475,
486.
199 Даль В. И. Пословицы русского
народа. С. 924.
200 Там же. С. 924; Доклад Комиссии
1873 г. Приложения. I. Отд. 1. С. 201—224 ;
Астырев Н. М. Праздники в крестьянском
быту Московской губернии // Статисти¬
ческий ежегодник Московского губернского
земства за 1887 г. М., 1887. Отд. 8. С. 1—26;
Карышев Н. Труд, его роль и условия
приложения в производстве. СПб., 1897.
С. 302—309; Статистическое описание
Калужской губернии. Козельский уезд.
Вып. 2 : Текст. Калуга, 1889. С. 200—235.
201 См., например: Доклад комиссии
1873 г. Приложения. I. Отд. 1. С. 2 1 3—220;
Приложения. I. Дополнения. С. 24—25;
Особое совещание. Труды местных коми¬
тетов. Т. 31 : Подольская губерния. С. 939—
941, 1017—1018.
202 После революции 1917 г. (под
влиянием антирелигиозной пропаганде и по¬
литике) число праздников резко снизилось
и составило в 1924—1925 гг. около 74 в год.
203 Семевский В. И. Крестьяне в цар¬
ствование императрицы Екатерины И : в 2т.
2-е изд. СПб., 1903. Т. 1. С. 63 ; ЛитвакБ. Г.
Русская деревня в реформе 1861 года: Чер¬
ноземный центр 1861—1895 гг. М., 1972.
С. 321 ; Федоров В. А. Помещичьи крестьяне
Центрально-промышленного района России
конца XVIII—первой половины XIX в. М.,
1974. С. 227.
204 Федоров В. А. Помещичьи крестьяне...
С. 227; Литвак Б. Г. Русская деревня...
С. 320—321.
205 Скребицкий А. И. Крестьянское дело
в царствование императора Александра II:
Материалы для истории освобождения
крестьян : в 4 т. Бонн н/Рейне, 1865/66. Т. 3.
С. 1296—1297.
206 Положение 19 февраля 1861 г.... Гл.3.
Ст. 189.
207 Ружицкая К В. Инвентаризация
крестьянских повинностей при Николае I
(1825—1855): планы и реальность // Эко¬
номическая история : обозрение. М., 2005.
Вып. 10. С. 170—172.
208 Лященко П. И. История народного
хозяйства СССР : в 2 т. 3-е изд. М., 1952.
Т. 1.С. 590, 595.
209 Литвак Б. Г. Русская деревня...
С. 279, 318; Кащенко С. Г. Освобождение
крестьян на Северо-Западе России: Эко¬
номические последствия реформы 19 фев¬
562
Примечания
раля 1861 года. М.; СПб., 2009. С. 369,
372—373.
210 СЗРИ. 1857. Т. 4. Ст. 1046. См.
также: Окунь С. Б., Пайна Э. С. Указ от
5 апреля 1797 г. и его эволюция : (К истории
указа о трехдневной барщине) // Труды
Ленингр. отд-ния Института истории Ака¬
демии Наук СССР. 1964. Вып. 7. С. 283—
299.
211 Милов Л. В. Великорусский пахарь
и особенности российского исторического
процесса. М, 1998. С. 210.
2,2 Материалы для статистики России,
собираемые по ведомству МГИ. СПб.,
1859—1860. Вып. 2. С. 187—188, 249;
Вып. 3. С. 105—113; Вып. 4. С. 84—85;
Хозяйственно-статистические материалы, со¬
бираемые комиссиями и отрядами урав¬
нения денежных сборов с государственных
крестьян. СПб., 1857. Вып. 2. С. 26—27,
72—74.
213 Материалы для статистики России,
собираемые по ведомству МГИ. Вып. 4.
С. 90—91; Вып. 5. С. 56—57.
214 Минц Л. Е. Аграрное перенаселение
и рынок труда СССР. М.; Л., 1929. С. 64.
215 В 1924—1925 гг., согласно бюд¬
жетным обследованиям, на работу вне
своего хозяйства взрослый мужчина затра¬
чивал 32 дня в год: Минц Л. Е. Аграрное
перенаселение... С. 65.
216 В 1923 г. на домашнюю работу
мужчина расходовал 58 дней (в 4,7 раза
меньше женщины: Струмилин С. Г. Бюджет
времени... С. 174) в 1924—1925 гг., сог¬
ласно бюджетным обследованиям, — 53 дня:
Минц Л. Е. Аграрное перенаселение ...
С. 65. Увеличение расходов времени на
домашнюю работу сравнительно с рубежом
XIX—XX в. объяснялось натурализацией
крестьянского хозяйства после 1917 г.
В 1909—1913 гг. товарность полеводства
составляла 31 % чистого сбора основных
земледельческих продуктов, а в 1924—
1926 гг. почти в 2 раза ниже — 17%:
Кондратьев Н. К Рынок хлебов и его ре¬
гулирование во время войны и революции.
М., 1922. С. 213; Крестьянские бюджеты
1925/26 гг. / Г. Раевич (ред.). М., 1929. С. 34.
217 Статистический сборник по Петрог¬
раду и Петроградской губернии. Пг., 1922.
С. 60—63.
218 Минц Л. Е. Аграрное перенаселе¬
ние ... С. 12.
219 Труд в СССР: стат. сб. М., 1989.
С. 260.
220 Русские / В. А. Александров, И. В. Вла¬
сова, Н. С. Полищук (ред.). М., 2003. С. 539,
561. В 1923 г. на общественную дея¬
тельность у взрослого крестьянина уходило
37 дней в год: Струмилин С. Г. Бюджет
времени ... С. 174. В 1924—1925 гг. только
на собрания мужчина тратил 3 дня в год:
Минц Л. Е. Аграрное перенаселение ... С. 66.
221 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Дополнения. С. 28.
222 Златовратский Н. И.: 1) Устои : Ис¬
тория одной деревни // Златовратский Н. Я.
Собр. соч. Т. 3, 4; 2) Очерки крестьянской
общины //Там же. Т. 8.
223 Струмилин С. Г. Бюджет времени ...
С. 174; Минц Л. Е. Аграрное перенасе¬
ление ... С. 66.
224 Русская изба (Внутреннее простран¬
ство, убранство дома, мебель, утварь): ил.
энцикл. СПб., 1999. С. 13.
225 Гольц Г. А. Динамические законо¬
мерности развития системы городских
и сельских поселений // Урбанизация мира /
Г. М. Лаппо и др. (ред.). М., 1974. С. 58—
61 ; Кольб Г. Ф. Руководство к сравни¬
тельной статистике. СПб., 1862. Т. 1. С. 1, 4,
51, 60, 104, ПО, 134, 139 (подсчитано
мною. — Б. М.).
226 Доклад комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. 1.С. 201,214.
227 Особое совещание. Труды местных
комитетов. Т. 31 : Подольская губерния.
С. 482, 562.
228 Кондратьев И. Д Рынок хлебов и его
регулирование во время войны и револю¬
ции. М., 1922. С. 213; Яцунский В. К
Социально-экономическая история России
XVIII—XIX вв. М., 1973. С. 104.
229 Число местных праздников изменя¬
лось от прихода к приходу: Историко-ста¬
тистические сведения о Санкт-Петербург¬
ской епархии. СПб., 1884. Вып. 1—10.
563
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
230 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. 1. Дополнения. С. 28.
231 Статистика землевладения 1905 г.:
Свод данных по 50 губерниям Европейской
России. СПб., 1907. С. 128—129.
232 Миронов Б. Н. Благосостояние на¬
селения ... С. 294—296.
233 Патрушев В. Д. Жизнь горожани¬
на... С. 93—94.
234 РГИА. Ф. 1405 (Министерство юсти¬
ции). Оп. 543. Д. 387. Л. 259—270 (Записка
министра земледелия и государственных
имуществ Н. В. Муравьева по вопросу
о влиянии на производительность земле¬
дельческого труда в России чрезвычайного
числа нерабочих дней); Доклад Комиссии
1873 г. Приложения. I. Отд. 1. С. 201—224;
Просвещение / Н. Л. Петерсон (сост.). С. 12—
14.
235 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. 1. С. 223—224; Васильчиков А. И.
Землевладение и земледелие. Т. 2. СПб., 1876.
С. 582—584; Ермолов А. С. Всенародная
агрономия. М., 1996. С. 92—94; Особое
совещание. Труды местных комитетов.
Т. 34 : Рязанская губерния. С. 387.
236 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. 1. С. 201—224; Просвещение /
Н. Л. Петерсон (сост.). С. 12—13; И. В. Ан¬
кета о праздновании различных праздников
в Грязовецком уезде Вологодской губер¬
нии // Изв. Архангельского о-ва изучения
русского Севера. 1913. № 10. С. 445—447;
Материалы по оценке земель Херсонской
губернии. Т. 2: Елисаветградский уезд.
Херсон, 1886. С. 252—254; Небольсин П.
Около мужичков // 03. 1861. Т. 138. С. 243 ;
Положение крестьянского хозяйства. При¬
чины его упадка: община и большое число
праздничных дней// Труды ВЭО. 1878. Т. 3,
вып. 3. С. 375—381.
237 Просвещение / Н. Л. Петерсон (сост.).
С. 12—13.
238 Цит. по: Заметка о влиянии празд¬
ничных и прогульных дней ... С. 306.
239 Половцов А. А. Дневник государст¬
венного секретаря. М., 1966. Т. 2. С. 435.
240 Астырев Н. М. Праздники ... С. 25—
26.
241 Свод статистических сведений по
сельскому хозяйству России к концу XIX
века : в 3 вып. СПб., 1906. Вып. 3. С. 116—
117, 120—128.
242 Миронов Б. Н. Кто виноват: природа
или институты? Географический фактор
в истории России. Статья 1 // Общественные
науки и современность. 2014. № 5. С. 130—
141; 2015. № 1.С. 83—99.
243 См. гл. 3 «Демографическая модер¬
низация» наст. изд.
244 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 247—249.
245 Там же. С. 248—249.
246 История крестьянства СССР с древ¬
нейших времен до Великой Октябрьской
социалистической революции: в 5 т. Т. 2:
Крестьянство в период раннего и развитого
феодализма / Н. А. Горская (ред.). М., 1990.
С. 515. Работа в праздники считала грехом
и в исповедных текстах XVIII в.: Алма¬
зов А. И. Тайная исповедь в православной
восточной Церкви. Опыт внешней истории:
Исследование преимущественно по рукопи¬
сям : в 3 т. Одесса, 1894. Т. 3 : Приложения.
С. 157; Корогодина М. В. Исповедь в Рос¬
сии в XIV—XIX веках : исследование и тек¬
сты. СПб., 2006. С. 275,451.
247 Соборное Уложение 1649 года /
А. Г. Маньков (ред.) СПб., 1987. С. 33—34,
190.
248 СЗРИ. 1857. Т. 4 : Свод уставов о по¬
винностях. Ст. 1046; Т. 14 : Устав о предуп¬
реждении и пресечении преступлений. Ст.
28.
249 См., например: РГАВМФ. Фонд
«Высочайшие повеления». 1805 г. Д. 91
(Утверждение расписания табельных дней
(с приложением расписания за 1764, 1802
и 1804 гг.)). Л. 105—106, 114.
250 Громыко М. М. Мир русской дерев¬
ни. С. 73—86.
251 Там же.
252 Соловьев С. М. История России
с древнейших времен: в 15 кн. М., 1962.
Кн. 7. С. 128.
253 РГАВМФ. Ф. 166 (Департамент
Морского министерства). On. 1. Д. 758. Л. 8,
И.
564
Примечания
254 Литвак Б. Г. Очерки источникове¬
дения массовой документации. М., 1979.
С. 262—263.
255 Особое совещание. Труды местных
комитетов. Т. 3: Бессарабская губерния.
С. 72; Т. 34: Рязанская губерния. С. 272—
273; Т. 47 : Черниговская губерния. С. 432.
256 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1.
С. 242—243 (1900—1901 гг.).
257 Архив РЭМ. Ф. 7 (Этнографическое
бюро В. Н. Тенишева). Оп. 2. Д. 208. Л. 1.
258 Собрание узаконений и распоряже¬
ний правительства, издаваемое при Прави¬
тельствующем Сенате. 1904. Мая 27. № 83.
Отд. 1. Ст. 858. Высочайше утвержденное
мнение Государственного Совета «О разъяс¬
нении узаконений, касающихся производства
работ в праздничные дни» 10 мая 1904 г.
С. 1231.
259Архив РЭМ. Ф. 7 (Этнографическое
бюро В. Н. Тенишева). Оп. 2. Д. 275. Л. 17,78.
260 Короленко В. Г. Собр. соч.: в 5 т. Л.,
1991. Т. 5. С. 39.
2611 Burke Р. Religion and Secularization //
The New Cambridge Modem History. Com¬
panion vol. XIII / P. Burke (ed.). Cambridge:
Cambridge University Press, 1979. P. 308—312.
262 Владимирский В. Обозрение совре¬
менного состояния сельского хозяйства
России. С. 22—25 ; Смирнов М. И. Культ
и крестьянское хозяйство в Переяславль-
Залесском уезде (по этнографическим наб¬
людениям). Переяславль-Залесский, 1927;
Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой
жизни русской общины XIX—начала XX в.
Л., 1988. С. 213—229.
263 Особое совещание. Труды местных
комитетов. Т. 3: Бессарабская губерния.
С. 62—74.
264 Сумароков П. Деревенские письма.
С. 509.
265 Ермолов А. С. Всенародная агроно¬
мия. С. 92—94. Общее число праздничных
дней в году, по оценке авторе, в России —
129 (в разных губерниях 120—140), в Гер¬
мании — 65, Италии и Испании — 85—90,
других католических странах — 85—90,
в протестантской Прибалтике — 75 (с 8 та¬
бельными днями).
266 Заметка о влиянии праздничных и про¬
гульных дней ... С. 306.
267 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. 1. С. 212. Вплоть до начала
XX в. приходское духовенство выступало
против сокращения числа праздников: Осо¬
бое совещание. Труды местных комитетов.
Т. 25: Новгородская губерния. С. 263;
Т. 31 : Подольская губерния. С. 563—564;
Т. 37 : Саратовская губерния. С. 566.
268 РГИА. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 387.
Л. 271—283 (Справка о работе в празднич¬
ные дни по учению церкви); Особое со¬
вещание. Труды местных комитетов. Т. 31 :
Подольская губерния. С. 565; Т. 15:
Киевская губерния. С. 716, 1131.
269 О функциях и значении праздника
см.: Бурменская Д. Б. К вопросу о роли
праздника в жизни общества // Известия
Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008.
Вып. № 61. С. 43—47; Жигульский К.
Праздник и культура: Праздники старые
и новые: Размышления социолога. М.,
1985 ; Лазарева Л. Н. История и теория
праздников. Челябинск, 2010; Петрухин В.
«Праздник» в средневековой Руси // Одис¬
сей: Человек в истории. М., 2005. С. 81—
88 ; Мазаев А. И. Праздник как социально¬
художественное явление: Опыт историко¬
теоретического исследования. М., 1978;
Топоров В. Н. Праздник // Мифы народов
мира: энцикл.: в 2 т. М., 1992. Т. 2 ; Туль-
цева Л. А. Престольный праздник в картине
мира (мироколице) православного крестья¬
нина // Расы и народы. Вып. 25 / И. В. Вла¬
сова (ред.). М., 1998. С. 157—210; Эсте¬
тико-культурологические смыслы праздни¬
ка : Сборник статей памяти А. И. Мазаева /
Гос. ин-т искусствознания / И. В. Кондаков
и др. (ред.). М., 2009 ; Юдин Н. Л. Социаль¬
ный смысл праздника: дис. ... канд. фи¬
лософ. наук. Иваново, 2006.
270 Даль В. И. Пословицы русского
народа. С. 821.
271 Особое совещание. Труды местных
комитетов. Т. 33: Псковская губерния.
С. 157.
272 Там же. Т. 31. С. 565.
273 Там же. Т. 10. С. 440,451.
565
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
274 Байрау Д. Бахус в России //
П. А. Зайончковский, 1904—1983 гг.:
статьи, публикации и воспоминания о нем /
Л. Г. Захарова и др. (ред.). М., 1998. С. 372.
275 Цит. по: Байрау Д. Бахус в России.
С. 355.
276 Йордан Б. «Когда братья пьют
вместе...»: Положения о цеховых празд¬
никах в средневековых уставах датских ре¬
месленников // Город в средневековой
цивилизации Западной Европы. Т. 2 : Жизнь
города и деятельность горожан / А. А. Сва¬
нидзе (ред.). М., 1999. С. 177—196.
277 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. 1. Дополнения. С. 22—28.
278 Козлова Н. Социально-историческая
антропология. М., 1999. С. 26.
279
Яркое описание деревенских празд¬
ников см.: Бернштам Т. А. Молодежь в об¬
рядовой жизни русской общины XIX—на¬
чала XX в.: Половозрастной аспект тра¬
диционной культуры. Л., 1988. С. 202—259 ;
Громыко М. М.\ 1) Мир русской деревни.
С. 319—382; 2) Традиционные нормы по¬
ведения... С. 250—267; Шангина И. И.
Русский народ : Будни и праздники : энцикл.
СПб., 2003.
280 Трансакционные издержки — затра¬
ты, сопровождающие взаимоотношения эко¬
номических агентов и заключение контрак¬
тов (в том числе с использованием рыноч¬
ных механизмов); включают издержки, свя¬
занные со сбором и обработкой информа¬
ции, проведением переговоров и принятием
решений, контролем, юридической защитой
выполнения контракта.
281 Рязанов В. Т. Экономическое разви¬
тие России: Реформы и российское хо¬
зяйство в XIX—XX вв. СПб., 1998. С. 501—
515. }
282 В городе досуговое пространство
было намного шире. См. об этом интерес¬
ную книгу: Малышева С. Ю. Праздный
день, досужий вечер: Культура досуга
российского провинциального города вто¬
рой половины XIX—начала XX века. М.,
2011.
283 Просвещение / Н. Л. Петерсон
(сост.). С. 12; Особое совещание. Труды
местных комитетов. Т. 25 : Новгородская
губерния. С. 457—458.
284 Михневич В. О. Язвы Петербурга:
Опыт историко-статистического исследова¬
ния нравственности столичного населения.
СПб., 2003. С. 525—526.
285 Горбунов Б. В. Традиционные руко¬
пашные состязания в народной культуре
восточных славян XIX—начала XX в. М,
1997. С. 14—15.
286 СЗРИ. 1832. Т. 14, ч. 4. Ст. 180; Тео-
дорадзе А. С. Русские рукопашные состя¬
зания как явление социальной истории аг¬
рарного общества: Тамбовская губерния,
вторая половина XIX—начало XX в.: ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2002.
С. 18—21.
287 Горбунов Б. В. Традиционные руко¬
пашные состязания ... С. 78—93
288 Свидетель и участник кулачных боев
писатель Ф. Д. Крюков (1870—1920) дал
великолепное описание атмосферы боя,
настроений и ощущений бойцов и публики:
«О, красота и упоение боя, очарование
риска, бешено-стремительного движения,
восхитительный разгул силы и удали!..
Невинное тщеславие и радость бойца перед
изумленными и венчающими молчаливой
хвалой женскими взорами!» (Крюков Ф. Д.
Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в
России и на Дону. М., 2012. С. 205). См.
свидетельства участников боев об испы¬
тываемых ими ощущениях: Горбунов Б. В.
Традиционные рукопашные состязания ...
С. 90—92.
289 Теодорадзе А. С. Русские рукопаш¬
ные состязания ... С. 18—19.
290 Берн Э. Введение в психиатрию и
психоанализ для непосвященных. СПб.,
1991. С. 77—82.
291 Жестокость как культурный феномен
от поздней античности до конца XVII в.
рассмотрен в кн.: Baraz D. Medieval Cruelty.
London; New York, 2003 (реферат книги
см.: Социальные и гуманитарные науки:
Отечественная и зарубежная литература:
реф. журнал. Сер. 5. История. 2005. №4.
С. 31—33). О жестокости в общепсихо¬
логическом смысле см.: Фромм Э. Ана¬
566
Примечания
томия человеческой деструктивности. М.,
2012.
292 Доклад Комиссии 1873 г. Приложе¬
ния. I. Отд. 1. С. 223—224 ; Васильчиков А. И.
Землевладение и земледелие. Т. 2. С. 582—
584.
293 Общий свод данных переписи 1897 г.
Т. 2. С. 34. У казанских и крымских татар
насчитывалось около 75 праздничных дней,
включая пятницы (РГИА. Ф. 911. On. 1.
Д. 89), а их грамотность в 1897 г. составляла
у лиц старше 9 лет в Казанской губернии
25,2 %, в том числе 27,9 % у мужчин
и 22,6 % у женщин, и 25,7 % в Таврической
губернии, в том числе 26,3 % у мужчин
и 25,7 % у женщин, в то время как доля
грамотных среди всех мусульман империи
составляла 7% (Первая перепись 1897 г.
Т. 14: Казанская губерния. СПб., 1904.
С. 136—139; Т. 41 : Таврическая губерния.
СПб., 1904. С. 126—129). Следует отметить,
что в этих губерниях грамотность русских
превышала среднероссийский уровень, сос¬
тавляя 30,9 % в Казанской губернии, в том
числе 46,9 % у мужчин и 16,5 % у женщин,
и 33,6% в Таврической губернии, в том
числе 48,9 % у мужчин и 16,4 % у женщин.
294 Миронов Б. Я Динамика грамот¬
ности в Прибалтике во второй половине
XVIII—XIX вв.: Опыт исторического пред¬
сказания // Изв. Академии наук ЭССР. Об¬
щественные науки. Таллин, 1989. № 38/1.
С. 42—50.
295 Kahk Yu. Changing Leisure in Nordic
Villages // Labour and Leisure in Historical
Perspective ... P. 39—44.
296 Фурсова E. Ф. Запреты-обереги на
женские работы со льном (на примере
восточнославянских этнокультурных групп
Западной Сибири) // Историческое позна¬
ние: традиции и новации: Материалы
Междунар. теоретической конференции.
Ижевск, 26—28 октября 1993 г.: в 2 ч. /
В. В. Иванов, В. В. Пузанов (ред.). Ижевск,
1996. Ч. 1.С. 120—124.
297 Бахмутская Е. В. Немецкие коло¬
нии Санкт-Петербургской губернии: 1760—
1870-е гг.: дис. ... канд. ист. наук. СПб.,
2003. Положение немецких колонистов
в других российских регионах также было
вполне удовлетворительным: Герман А. А.,
Иларионова Т. С, Плеве И. П. История
немцев России. М., 2007 ; Клаус А. А. Наши
колонии : Опыты и материалы по истории
и статистике иностранной колонизации в
России. СПб., 1869. Вып. 1 ; Писаревский Г. Г.
Хозяйство и формы земледелия в колониях
Поволжья в XVIII и первой четверти XIX
века // Писаревский Г. Г. Избранные произ¬
ведения по истории иностранной колони¬
зации. М., 2011; Плеве И. Р. Немецкие
колонии на Волге во второй половине XVIII
века. 2-е изд. М., 2000; Семакин С. И.
Колонистское движение и немецкая миг¬
рация в Российской империи и СССР. М.,
2003.
298 Керов В. В.: 1) «Се человек и дело
его...»: Конфессионально-этические факто¬
ры старообрядческого предпринимательства
в России. М., 2004; 2) О междисципли¬
нарном подходе в историко-антропологи¬
ческих исследованиях: методы социологии
и психологии в выявлении и анализе
хозяйственного менталитета // Ежегодник
историко-антропологических исследований,
2005. М., 2006. С. 5—26; Приль Л. Я Ста¬
рообрядческие общины Прикетья и При-
чулымья в конце XIX—80-х гг. XX века:
(Опыт реконструкции жизнедеятельности):
дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2002; Рас¬
ков Д Е. Экономические институты старо¬
обрядчества. М., 2012; Уэст Д. Л. Ста-
робрядцы и предпринимательская культура
в царской России // Предпринимательство
и городская культура в России 1861—1914 /
У. Брумфильд и др. (ред.). М., 2002.
С. 103—118; и др.
299 Например, по мнению Д. Е. Раскова,
между эсхатологией (учением о «конце
света» и приходе в мир антихриста) и со-
териологией (учением о спасении души),
с одной стороны, и активностью старо¬
обрядцев в миру, позволившей им раскрыть
экономический потенциал русского право¬
славия, — с другой, существует причинно-
следственная связь: Расков Д Е. Эконо¬
мические институты старообрядчества.
С. 204—213.
567
Гшва 12. Русская культура в коллективных представлениях
300 Керов В. В. Конфессионально-эти¬
ческие факторы старообрядческого пред¬
принимательства // Экономическая история
России XIX—XX вв.: современный взгляд /
B. А. Виноградов (ред.). М., 2001. С. 262.
См. также. Керов В. В. Духовный мир
старообрядческого предпринимательства:
альтернативная модернизация на основе
национальной традиции // Экономическая
история, 1999: ежегодник. М, 1999.
C. 195—234.
301 Рязанов В. Т. Хозяйственный строй
России ... С. 146—150.
302 Расков Д. Е. Экономические инсти¬
туты старообрядчества. С. 115—116.
303 Там же. С. 135.
304 Там же. С. 134.
305 См. глубокую и интересную рецен¬
зию на монографию Раскова: Румянцева М. А.
К познанию традиций отечественного хо¬
зяйствования // Проблемы современной
экономики. 2012. № 2 (42). С. 463—464.
306 Полтерович В. М. Стратегии модер¬
низации, институты и коалиции // ВЭ. 2008.
№ 4. С. 4—24. Подробнее см. в гл. 7 «Об¬
щина и самоуправление как доминирующие
формы организации социальной жизни»
наст. изд.
307 Свод статистических сведений ...
Вып.З.С. 102—115.
308Энгельгардт А. Я. Письма из деревни :
12 писем, 1872—1887 гг. М, 1937. С. 161.
309 Маркс К. Капитал. Гл. 24, примеч.
в конце п. 6 // Маркс К, Энгельс Ф. Со¬
чинения : в 30 т. Изд. 2-е. М, 1954—1963.
Т. 23. М, 1960. С. 770.
310 Труды Комиссии по преобразованию
волостных судов (словесные опросы
крестьян, письменные отзывы различных
мест и лиц и решения волостных судов,
съездов мировых посредников и губернских
по крестьянским делам присутствий): в 6 т.
СПб., 1873—1874. Т.5.С.41.
311 Семенов С. Т. Двадцать пять лет
в деревне. Пг., 1915. С. 121—128.
312 Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь
«Ивана» ... С. 105.
313 Материалы Комиссии 1901. Ч. 1.
С. 248—249.
314 Минц Л. Е. Аграрное перенаселе¬
ние... С. 12, 14.
315 Доклад Комиссии 1873 г. Доклад.
Журналы Комиссии. С. 2—3; Приложения.
VI : Стенографические ответы лиц, пригла¬
шенных в Комиссию. Программа вопросов.
316 Там же. Приложения. VI, ч. 1. С. 262,
267,274, 277.
317 Там же. Приложения. V : Частные
записки и заметки членов Комиссии и
других лиц. От действительного статского
советника фон-Бушена (23 февраля). С. 37.
318 Энгельгардт А. Н. Из деревни...
С. 93—95.
3,9 Там же. С. 93—95, 168.
320 Высочайше учрежденное Особое
совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности: Общий обзор трудов
местных комитетов. С. 1—13, 22—24. См.
также: Прокопович С. Н. Местные люди
о нуждах России.
321 Просвещение / Н. Л. Петерсон
(сост.). С. 2, 4, 7—9, 12, 14; Особое
совещание. Труды местных комитетов.
Т. 15: Киевская губерния. С. 682; Т. 19:
Курская губерния. С. 517; Т. 23:
Московская губерния. С. 30—31; Т. 45:
Харьковская губерния. С. 74—75.
322 Даль В. И. Пословицы русского
народа. С. 89.
323 Челинцев А. Я Теоретические осно¬
вания организации крестьянского хозяйства.
С. 125—126; Овчинцева Л. А. Русские эко¬
номисты-аграрники начала XX века о хо¬
зяйственной мотивации крестьян // Из
истории экономической мысли и народного
хозяйства России: в 2 вып. / Н. К. Фи-
гуровская (ред.). М., 1993, 1996. Вып. 1, ч. 1.
С. 87—98. Трудовая этика крестьянства
стала предметом особого внимания в пост¬
советской историографии: Гордон А. В. Хо¬
зяйствование на земле — основа крестьян¬
ского мировосприятия // Менталитет и аг¬
рарное развитие России ... ; Кузнецов С. В.
Религиозно-этические взгляды крестьян на
землю и труд // Русские. С. 189—197;
Кондрагиин В. В. Голод в крестьянском
менталитете // Менталитет и аграрное раз¬
витие России ... С. 115—127 ; Крюкова С. С
568
Примечания
Правовая культура русских крестьян в Рос¬
сии XIX века: проблемы и интерпретации //
ЭО. 2003. № 1. с. 98—123 ; Новиков А. В.
Национальный экономический менталитет в
контексте российских реформ: ист.-экон.
очерк. СПб., 2006; Ткачев А. М. Тради¬
ционная трудовая мораль российского
крестьянства // Политические и социокуль¬
турные аспекты современного гуманитар¬
ного знания : Материалы Рос. науч. семи¬
нара. Саратов, 2006. Вып. 2 ; Тульцева Л. А.
Тайная милостыня // Православная вера
и традиции благочестия у русских в XVII—
XX вв.: этнографические исслед. и мате¬
риалы. М., 2002. С. 90—100; Экономика
русской цивилизации / О. А. Платонов
(сост.). М., 1995 (хрестоматия работ русских
экономистов-самобытников: С. Ф. Шара¬
пова, Л. А. Тихимирова, М. О. Меньшикова
идр.).
324 Фет А. А. Жизнь Степановки, или
Лирическое хозяйство. М., 1997. С. 284—286.
325 Вебер М. Избр. произведения. С. 70—
96, 184—207; Зомбарт В. Буржуа...
С. 12—20.
326 Даль В. И. Пословицы русского
народа. С. 500—514.
327 Там же. С. 821—822.
328 Там же. С. 79—83.
329 Там же. С. 83—86.
330 Морозов И. А. Пища «богатая» и
«бедная»: пищевые маркеры социокультур¬
ных иерархий // ЭО. 2012. № 5. С. 17.
331 Там же. С. 678—680. Отмечали уме¬
ренность в труде и образованные современ¬
ники, писатели и этнографы: Жуков А. Н
Руководство отчетливо, успешно и выгодно
заниматься русским сельским хозяйством.
М., 1848. С. 177—178.
332 История рабочих Ленинграда: в 2 т. /
B. С. Дякин (ред.). Л., 1972. Т. 1. С. 133 ;
Китанина Т. М. Рабочие Петербурга...
C. 195—206 ; Пажитнов К. А. Промышлен¬
ный труд в крепостную эпоху. Л., 1924;
История Урала с древнейших времен до
1861 г. / А. А. Преображенский (ред.). М.,
1989. С. 430; Протопопов Д. О промыслах
государственных крестьян Московской гу¬
бернии // Журнал МГИ. 1842. Кн. 2, ч. 2.
С. 253 ; Труды комиссии, учрежденной для
пересмотра уставов фабричного и ремеслен¬
ного : в 3 ч. СПб., 1863. Ч. 3. С. 105.
333 Проект правил для заводов и фабрик
в С.-Петербурге и уезде. СПб., I860.
С. 164—195 ; Туган-Барановский М. И. Рус¬
ская фабрика в прошлом и настоящем:
Историческое развитие русской фабрики
в XIX в. М., 1922. С. 93.
334 Карышев Н. Труд ... С. 308.
335 Сборник статистических сведений по
Московской губернии. Отдел санитарной
статистики. Т. 4, ч. 2. М., 1893. С. 369, 375 ;
Фабрично-заводская промышленность и тор¬
говля России. СПб., 1893. С. 273—274;
Труды комиссии, учрежденной московским
генерал-губернатором кн. В. А. Долгоруким
для осмотра фабрик и заводов в Москве. М.,
1882. Вып. 2. С. 77; Янжул И. И. Фаб¬
ричный быт Московской губернии: Отчет
за 1882—1883 г. СПб., 1884. С. 39, 49;
Дементьев Е. М. Фабрика, что она дает
населению и что она у него берет. М., 1897.
С. 58—116.
j36 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень
рабочих России (конец XIX—начало XX в.).
М., 1979. С. 72—83 ; Рабочий день в фабрич¬
но-заводской промышленности / Я. М. Би-
неман (ред.). М., 1930. Вып. 2. С. 28, 160.
337 Струмилин С. Г.-Избр. произведения.
Т. 3. С. 365—367.
338 Давыдов К В. Отчет за 1885 г.
фабричного инспектора С.-Петербургского
округа. СПб., 1886. С. 20, 156—173; Ми¬
хайловский Я. Т. О деятельности фабричной
инспекции: Отчет за 1885 год главного
фабричного инспектора. СПб., 1886. С. 52—
53, 73—106; Янжул И. И. О деятельности
фабричной инспекции: Отчет за 1885 год.
СПб., 1886. С. 52—53, 73—106; Данные
о продолжительности рабочего времени за
1904 и 1905 гг. СПб., 1908. С. 84; Кирья¬
нов Ю. И. Жизненный уровень... С. 81;
Рабочий день ... Вып. 2. С. 158,160.
339 Проблема штрафования чрезвычайно
слабо изучена: Комаровский К Штрафо¬
вание рабочих на фабриках и заводах //
Промышленность и торговля. 1910. № 16.
С. 180—183; Ленин В. И:. 1) Объяснение
569
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
закона о штрафах, взимаемых с рабочих на
фабриках и заводах // Ленин В. И. ПСС. Т. 2.
С. 19—60; 2) Язык цифр // Там же. Т. 23.
С. 427—432 ; Лешедко А. Одна из мер
к улучшению быта железнодорожных слу¬
жащих // Вестник Юго-Западных железных
дорог. Киев, 1904. № 35. Часть неофи¬
циальная. С. 355—357 ; Лурье А. Е. Оплата
труда, система штрафов и фабричные лавки
в дореволюционной России // Текстильная
промышленность. 1971. № 2. С. 75—76;
Мейерович М. Г. Штрафы и их место в ха¬
рактеристике положения рабочих в начале
XX в. // Рабочие России в эпоху капитализма:
сравнительно-порайонный анализ: Материа¬
лы к научной сессии по истории рабочего
класса / Ю. И. Серый (ред.). Ростов н/Д, 1971.
С. 130—143.
340 Казанцев Б. Н. Рабочие Москвы и
Московской губернии в середине XIX века
(40—50-е годы). М., 1976. С. 110; Крузе Э. Э.
Условия труда и быта рабочего класса
России в 1900—1914 годах. Л., 1981. С. 25—
28; Положение рабочих Урала во второй
половине XIX—начале XX века, 1861—
1904: сб. документов / И. А. Бакланова,
И. П. Шаскольский (сост.). М.; Л., 1960.
С. 309—350.
341 РГИА. Ф. 18 (Департамент мануфак¬
тур и внутренней торговли министерства
финансов). On. 1. Д. 5, 15, 3823 (Журналы
Московского отделения мануфактурного со¬
вета за 1844, 1851, 1863 гг.); Казанцев Б. Н.
Рабочие Москвы ... С. 162—163.
342 ПСЗ-Ш. Т. 6. Правила о надзоре за
заведениями фабричной промышленности
и о взаимных отношениях фабрикантов
и рабочих.
343 Смидович П. Рабочие массы в 90-е гг.
М., 1930. С. 11—12.
344 Гвоздев С. Записки фабричного
инспектора (из наблюдений и практики
в период 1894—1908 гг.). М., 1911. С. 108,
122,127.
345 Подсчитано по данным: Свод отче¬
тов фабричных инспекторов за [1900—1914]
год. СПб., [1902—1915].
346 Статистика несчастных случаев с ра¬
бочими в промышленных заведениях, под¬
чиненных надзору фабричной инспекции за
1901 год. СПб., 1903. С. 26; То же за 1903
год. СПб., 1906. С. 1—2 ; Быков А. Н. Про¬
мышленный травматизм, его размеры, зна¬
чение и возможность борьбы с ним // Ох¬
рана труда в промышленных предприятиях /
А. А. Пресс (ред.). СПб., 1913. С. 42;
Несчастные случаи с рабочими в промыш¬
ленности Швейцарии за десятилетие 1899—
1908 гг. // Вестник финансов, промышлен¬
ности и торговли. 1911. № 41 ; Несчастные
случаи среди рабочих в Германии // Там же.
1916. № 2; Никольский Д. Л. Несчастные
случаи с рабочими во Франции в 1913 го¬
ду // Г игиена и санитарное дело. 1914. № 4:
Научная хроника; X. М. Несчастные случаи
в Англии в 1910 году // Общественный врач.
1912. №2.
347 Микулин А. А. Причины и следствия
несчастных случаев с рабочими на фабриках
и заводах: статистическое исследования
2543 несчастных случаев. Одесса, 1898;
Положение рабочих Урала... С. 569; Са-
ларев Я.: 1) Несчастные случаи с рабочими
людьми на казенных уральских горных
заводах за 11 1/2 лет. Екатеринбург, 1900;
2) Несчастные случаи с рабочими людьми
на частных горных заводах, рудниках
и приисках в 8-ми уральских горных
округах за 11 1/2 лет. Екатеринбург, 1898;
Статистика по несчастным случаям с ра¬
бочими Путиловского завода 1904—1910 гг.
Б. м., б. г; Техническое и статистическое
исследование несчастных случаев на горных
и горнозаводских предприятиях. Вып. 1:
За время с 1890—1900 гг. СПб., 1916;
Янжул И. И. Фабричный быт Московской
губернии... С. 128—133. По данным Па¬
житнова, в 1896—1900 гг. на 1000 рабочих
приходилось: во Франции — 0,610 погиб¬
ших, в Бельгии — 0,649, в Великобрита¬
нии — 0,784, в России — 1,523: Пажит¬
нов К А. Положение рабочего класса в Рос¬
сии. СПб., 1906. С. 288.
348 Козьминых-Ланин И. М. Грамотность
и заработки фабрично-заводских рабочих
Московской губернии. М., 1912. С. 16—18;
Экономическая оценка народного образо¬
вания / И. И. Янжул и др. СПб., 1899.
570
Примечания
^Особое совещание. Труды местных ко¬
митетов. Т. 15 : Киевская губерния. С. 682;
Т. 23 : Московская губерния. С. 30—31 ;
Просвещение / Н. Л. Петерсон (сост.). С. 8—9.
350 Подсчитано мною по данным про¬
фессиональной переписи 1929 г.: Труд
в СССР, 1926—1930. С. 28—29. См. также:
Фабрично-заводская промышленность в пе¬
риод 1913—1918 гг. Ч. 2: Профессио¬
нальная перепись. М., 1926; Иванов Л. М.
Преемственность фабрично-заводского тру¬
да и формирование пролетариата в России //
Рабочий класс и рабочее движение в России
1861—1917 / Л. М. Иванов (ред.). М., 1966.
С. 58—140; Рашин А. Г. Формирование
рабочего класса России ... С. 572—578.
351 Дементьев Е. М. Фабрика ... С. 4, 17,
47, 49; Шестаков П. М. Рабочие на ма¬
нуфактуре товарищества Циндель в Москве.
М., 1900; Козьминых-Ланин И. М. Уход на
полевые работы фабрично-заводских рабо¬
чих Московской губернии. М., 1912. С. 3.
352 Кирьянов Ю. И. Менталитет рабочих
России на рубеже XIX—XX в. // Рабочие и
интеллигенция России... С. 55—76; Ко¬
робков Ю. Д. Социокультурный облик ра¬
бочих горнозаводского Урала. Вторая поло¬
вина XIX—начало XX века. Челябинск,
2003; Михаилов И В. Самоорганизация
трудовых коллективов и психология рабочих
в начале XX в. С. 149—165; Полищук Н. С.:
1) Обычаи и нравы рабочих России (конец
XIX—начало XX в.). С. 114—130; 2) Обычаи
фабрично-заводских рабочих Европейской
России, связанные с производством и про¬
изводственными отношениями (конец
XIX—начало XX в.) // ЭО. 1994. № 1.
С. 73—90; Bonnell V. Е. Roots of Rebel¬
lion ... Р. 64—65.
353 Колодуб Е. Труд и жизнь горно¬
рабочих на грушевских антрацитных руд¬
никах. М., 1905. С. 109.
354 Статистический ежегодник 1918—
1920 гг. М., 1922. Вып. 2. С. 171—185;
Статистический ежегодник 1922 и 1923 г.
Вып. 1.С. 202—207.
355 Статистический сборник по Петрогра¬
ду и Петроградской губернии. 1922 г. Пг.,
1922. С. 63.
356 Подробнее о трудовой этике рабочих
см.: Миронов Б. Н. «Послал Бог работу, да
отнял черт охоту»: трудовая этика рос¬
сийских рабочих в пореформенное время //
Социальная история, 1998/1999 : ежегодник.
М., 1999. С. 243—286.
357 Подсчитано по: Свод отчетов фаб¬
ричных инспекторов за [1901—1914] год.
СПб., [1903—1915].
358 Свод отчетов фабричных инспекто¬
ров за 1905 год. СПб., 1908. С. XII—XIII;
То же за 1910 год. СПб., 1911. С. XLIII—
XLIX; То же за 1912. СПб, 1913. С. LVI—
LVII; То же за 1913 год. СПб, 1914. То же за
1914 год. СПб, 1915. С. XLVII—L.
359 Варзар В. Е. Статистика стачек ра¬
бочих на фабриках и заводах за трехлетие
1906—1908 гг. СПб, 1910. С. 46-^18 ; Свод
отчетов фабричных инспекторов за 1913
год. С. LXXI.
360 Рабочие совершали нарушения тру¬
дового законодательства, которые не подле¬
жали штрафованию и не учитывались дан¬
ными о штрафах, например, самовольно
уходили с предприятия до истечения срока
найма, устраивали митинги во время рабо¬
чего дня и т. п.
361 Гвоздев С. Записки фабричного
инспектора ... С. 110—111.
362 Свод отчетов фабричных инспекто¬
ров за 1908 год. СПб, 1910. С. 021.
363 Лосицкий А., Чернышев И. Алкого¬
лизм петербургских рабочих // Зап. Рус.
техн. о-ва. 1913. № 3. С. 77.
364 Колодуб Е. Труд и жизнь горнора¬
бочих ... С. 121.
365 Свод отчетов фабричных инспекто¬
ров за 1906 год. СПб, 1908. С. X.
366 Ленин В. И. ПСС. Т. 27. С. 308.
367 Колодуб Е. Труд и жизнь горнора¬
бочих ... С. 13—15,96—99.
368 Коробков Ю. Д Трудовая этика ра¬
бочих Урала в пореформенный период //
Социальная история, 2007: ежегодник. М,
2008. С. 151—175 ; Пушкарева К М. 1905
год: Революционный штурм или «пере¬
стройка» государственной системы России //
Россия в XIX—XX веках: Материалы II
научных чтений памяти В. И. Бовыкина.
571
Гпава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова,
22 января 2002 г. / А. Г. Голиков, А. П. Ко-
релин (ред.). М., 2002. С. 283 ; Юдина Л. С.
Трудовая этика на заводах Урала в годы
Первой мировой войны (1914—1917) // Че¬
ловек и война: Война как явление культу¬
ры / И. В. Нарский, О. Никонова (ред.). М.,
2001. С. 216—221. Фельдман согласен со
мной, что субсистенциальная трудовая эти¬
ка рабочих дала трещину, появился слой
рабочих, стремящихся жить по принципам
протестантской этики: Фельдман М. А. Со¬
циокультурный облик рабочих уральской
промышленности в 1900—1917 годах: исто¬
риографические проблемы // История в ме¬
няющемся пространстве российской куль¬
туры / Н. Н. Алеврас (ред.). Челябинск,
2006. С. 307.
369 Валетов Т. Я. Чем жили рабочие
люди в городах Российской империи конца
XIX—начала XX в. // Социальная история,
2007. С. 177—178; Парамонов В. Н. Ди¬
намика качества трудовой жизни в России
и СССР в условиях индустриализации //
Мобилизационная модель экономики: исто¬
рический опыт России XX века: сб. ма¬
териалов II Всерос. науч. конф. / Г. А. Гон¬
чаров, С. А. Баканов (ред.). Челябинск, 2012.
С. 585—598.
370 На Урале средние номинальные
заработки рабочих с 1862 по 1906 г. выросли
у высокооплачиваемых в 1,6 раза, у средне¬
оплачиваемых — в 3 раза, у низкоопла¬
чиваемых — в 2,2 раза, при увеличении
индекса цен в 1,5 раза (если судить по
Петербургу). Кроме того, рабочие имели
дополнительные доходы от земли, хотя
главным источником существования явля¬
лась зарплата. Несмотря на это, дефицит¬
ность бюджета у низкооплачиваемых вы¬
росла, у среднеоплачиваемых исчезла, а у
высокооплачиваемых увеличивался профи¬
цит, что свидетельствует о росте потреб¬
ностей у низкооплачиваемых рабочих.
Гуськова Т. К. Нижнетагильский горноза¬
водский округ Демидовых во второй поло¬
вине XIX—начале XX в.: Заводы. Рабочие.
Нижний Тагил, 2007. С. 222, 224. Индекс
потребительских цен: Струмилин С. Г\
Очерки экономической истории России и
СССР. М., 1966. С. 82.
371 Hobsbauwm Е. J. Workers: World of
Labor. New York: Pantheon Books, 1984.
P. 186, 200; Houston R. A. Coal, Class and
Culture : Labour Relations in a Scottish Mining
Community, 1650—1750 // Social History.
1983. Vol. 8. P. 1—18 ; Hunt E. D. British La¬
bour History 1815—1914. Weidenfeld : Wei-
denfeld & Nicolson, 1981 ; Mathias P. The
First Industrial Nation: An Economic History
of Britain, 1700—1914. 2nd ed. London ; New
York : Methuen, 1983. P. 181—186 ; PollardS.
The Genesis of Modem Management. Har-
mondsworth, Middlesex: Penguin Books,
1968 ; Reid D. A.: 1) The Decline of St. Mon¬
day 1776—1876 // Past and Present. 1976.
Vol. 71. P. 76—101 ; 2) Wedding Days and the
Evolution of Leisure Time in the Workshops
and Factories of Industrial England, 1701—
1961 // Labour and Leisure in Historical Perspec¬
tive... P. 111—123.
372 Погожее А. В. Фабричный быт
Германии и России. М., 1882. С. I, 1, 136,
138.
373 Гиренок Ф. И. Моральная экономи¬
ка — третий путь // Философия хозяйства:
Альманах центра общественных наук эко¬
номического факультета МГУ. 1999. № 1.
С. 47—50 ; Проблемы социального развития
и идеологии стран Азии, Африки и Латин¬
ской Америки : сб. обзоров. Вып. 2: «Мо¬
ральный крестьянин» или «рациональный
крестьянин»?. М., 1988; Скотт Дж. Мо¬
ральная экономика крестьянства как этика
выживания // Великий незнакомец...
С. 202—211 ; Томпсон Э. П. Плебейская
культура и моральная экономия : статьи
из английской социальной истории XVIII
и XIX вв. // История ментальностей, ис¬
торическая антропология: зарубежные ис¬
следования в обзорах и рефератах. М., 1996.
С. 180—198; Бабашкин В. В. Концеп¬
ция «моральной экономики» крестьянства
и российская деревня начала XX века //
Крестьяноведение : Теория. История. Совре¬
менность : учен, записки. Вып. 6 / Т. Шанин,
А. М. Никулин, И. В. Троцук (ред.). М.,
2011. С. 135—156; Елуфимова Н М. Сви¬
572
Примечания
детельства о «моральной экономике» рос¬
сийского крестьянства в русской художест¬
венной литературе и публицистике // Об¬
щество, экономика и научно-технический
прогресс : сб. науч. трудов. М, 2003. С. 88—
92. Подробнее см. в гл. 7 «Община и са¬
моуправление как доминирующие формы
организации социальной жизни» наст. изд.
374 Просвещение / Н. Л. Петерсон
(сост.). С. 7.
375 Современные концепции аграрного
развития // ОИ. 1995. № 4. С. 3—33 ; Sea-
voy R. Е. Famine in Peasant Society. New
York ; London : Greenwood Press, 1986.
376 Зомбарт В. Буржуа ... С. 118—144.
377 Blanchard l Introduction // Labour and
Leisure... P. 11—23. Например, у датских
средневековых ремесленников было много
праздников, но меньше, чем у православных
крестьян в начале XX в.: Йордан Б. «Когда
братья пьют вместе...» ... С. 177—196.
378 Кунина А. Е. Проблемы этики труда
в современной американской историогра¬
фии // Организация труда и трудовая этика :
Древность. Средние века. Современность /
В. Л. Мальков, Л. Т. Мильская (ред.). М.,
1993. С. 180—189; Коленко В. А. Трудовая
этика и проблема собственности в со¬
циальной доюрине католической церкви //
Там же. С. 200—209; Пономарева Л. В. От¬
ношение к труду в апостолате католической
организации «Опус Деи» // Там же. С. 210—
224; Blanchard I Introduction. Р. 23—27. См.
также: Гуревич А. Я. Категории средне¬
вековой культуры. М., 1972. С. 192—195,
217—261 ; Goff J. L Time, Work and Culture
in the Middle Ages. Chicago; London: The
University of Chicago Press, 1980; Keith Th.
Work and Leisure in the Pre-Industrial Socie¬
ty // Past and Present. 1964. Nr 29. December.
P. 50—62. Следует, правда, иметь в виду,
что трудовая этика средневековых ремес¬
ленников, хотя и поддерживала умерен¬
ность, вместе с тем культивировала вы¬
сокую квалификацию, дисциплинирован¬
ность, честность, уважение к труду, от¬
ветственность, уважение договора, высокое
качество труда: Сванидзе А. А.: 1) Пове¬
денческие принципы в средневековой ре¬
месленной среде и отношение к труду //
Организация труда и трудовая этика...
С. 98—106; 2) Наемный труд и трудовая
этика в ремесленных цехах Швеции: ус¬
тавные принципы // Город в средневековой
цивилизации Западной Европы. Т. 2.
С. 166—177.
379 Blanchard I Introduction. Р. 27—38.
380 Среднегодовое число дней работы
промышленных предприятий составляло
в 1875—1878 гг. 256 дней, в 1900 г. — 264
(Рашин А. Г. Формирование рабочего класса
России ... С.493—495).
381 История рабочих Ленинграда. Т. 1.
С. 133 ; Китанина Т. М Рабочие Петер¬
бурга... С. 195—206; Пажитнов К А.:
1) Рабочая дисциплина на фабриках и заво¬
дах при крепостном праве // Архив истории
труда в России / Ю. Гессен (ред.). Пг., 1922.
С. 97—106 ; 2) Промышленный труд в кре¬
постную эпоху. Л., 1924; История Урала
с древнейших времен ... С. 430; Святлов-
ский В. В. Фабричный рабочий. Иссле¬
дование здоровья русского фабричного
рабочего: Санитарное положение фабрич¬
ного рабочего в При висл инском крае и в
Малороссии (из наблюдений фабричного
инспектор). Варшава, 1889. С. 42; Труды
комиссии, учрежденной для пересмотра ус¬
тавов фабричного и ремесленного. СПб.,
1863. Ч.З. С. 105.
382 В 1890 г. закон устанавливает
праздничные дни, в которые не рекомен¬
дуется производить казенные и другие пуб¬
личные работы за исключением чрезвы¬
чайных случаев: СЗРИ. 1890. Т. 14: Устав
о предупреждении и пресечении преступ¬
лений. Ст. 24—25. В 1893 г. закон
распространяется на частную промышлен¬
ность, не запрещая, однако, производить
работы по соглашению с рабочими: СЗРИ.
1893. Т. 11, ч. 2 : Устав о промышленности.
Ст. 142, 430. Но закон плохо исполнялся,
вследствие чего его в 1897 и 1904 гг.
подтверждал Государственный совет: Соб¬
рание узаконений и распоряжений прави¬
тельства, издаваемое при Правительствую¬
щем Сенате. СПб., 1904. № 83 от 27 мая
1904 г. Отд. 1. Ст. 858. Об истории этого
573
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
узаконения см.: РГИА. Ф. 1405. Оп. 543.
Д. 387. Л. 254—255, 284—288, 304—310.
Разъяснение узаконений, касающихся про¬
изводства работ в праздничные дни, см. так¬
же: Крузе Э. Э. Положение рабочего класса
России ... С. 245—249.
383 Дементьев Е. М. Фабрика ... С. 58—
116; Карышев Н. Труд... С. 302—309;
Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень...
С. 72—83 ; Погожее А. В. Учет численности
и состава рабочих в России : Материалы по
статистике труда. СПб., 1906. С. 113 ; Ян-
жул И. И. Фабричный быт Московской
губернии... С. 45—53; Рабочий день ...
Вып. 2. С. 28.
384 Стенографический отчет Особого
совещания при Министерстве торговли
и промышленности, под председательством
министра торговли и промышленности,
шталмейстера Д. А. Философова, для об¬
суждения законопроектов по рабочему за¬
конодательству. СПб., 1907. Ч. 2. С. 213—
214.
385 Подробнее см. в гл. 11 «Уровень
жизни» наст. изд.
386 Семевский В. И. Крестьяне в царство¬
вание императрицы Екатерины II. Т. 1.
С. 83—100.
387 Took W. View of the Russian Empire
during the Reign of Catherine the Second to the
Close of the Present Century: in 3 vols. Lon¬
don : Longman and Rees, 1799. Vol. 2. P. 611.
Современники Тука разделяли его представ¬
ления о России: Тарле Е. В. Запад и России :
Статьи и документы из истории XVIII—
XX вв. Пг., 1918. С. 122—149.
388 Гакстгаузен А. Исследования внут¬
ренних отношений народной жизни в осо¬
бенности сельских учреждений России. Т. 1.
С. XX, 98 ; Туган-Барановский М. И. Русская
фабрика... С. 160.
89 Brown R. Society and Economy in
Modem Britain, 1700—1850. London ; New
York : Routledge, 1991. P. 327.
390 Крестьяне использовали трехполь¬
ный севооборот; ежегодно треть пашни за¬
пускалась в пар. Поэтому, чтобы «обраба¬
тывать» 8 арпанов земли, он должен был
«арендовать» у помещика 12 арпанов.
391 Бальзак О., де. Письмо о Киеве / пер.,
вступ. заметка и примеч. В. Мильчиной II
Пинакотека. 2002. № 13/14. URL:
http://yashchuk2005.narod.iWba.htm (дата об¬
ращения: 30.06.2014).
392 Дементьев Е. М. Фабрика... С. 167,
182—183. С расчетом согласился: Марку-
зон Ф. Д. Наемный труд на Западе. М., 1926.
С. 57.
393 Пажитнов К А. Положение рабо¬
чего ... С. 77
394 Струмилин С. Г. Очерки экономи¬
ческой истории ... С. 95—96. Подробнее см.
в гл. 11 «Уровень жизни» наст. изд.
395 Особое совещание. Труды местных
комитетов. Т. 15: Киевская губерния.
С. 132.
396 В современной историографии эта
идея находит сторонников: Сухова О. А.
Социальные представления и поведение
российского крестьянства в начале XX века.
1902—1922 гг.: (По материалам Среднего
Поволжья): автореф. дис. ... д-ра ист. наук.
Самара, 2007.
Мухин М. Ю. «У советских собствен¬
ная гордость»: специфические методы тру¬
довой стимуляции в СССР 30-х гг. II
Ежегодник историко-антропологических ис¬
следований, 2003. М., 2003. С. 296—330.
398 Заславская I К, Рыбкина Р. В. Со¬
циология экономической жизни: очерки
теории. М., 1991. С. 148—181. См. также:
Маркович Д. Социология труда. С. 502—
551.
399 Темницкий А. Л. Отношение к труду
рабочих России и Германии: терминальное
и инструментальное // Социс. 2005. № 9
(257). С. 54—63 (число достоверных отве¬
тов — 250 русских и 204 немцких).
400 Там же. С. 63 ; Афонцев С. А. Моти¬
вация труда в постсоциалистической Рос¬
сии: макроэкономический подход // Эконо¬
мическая история: обозрение. М., 2001.
Вып. 7. С. 41—59; Малютин М. Трудовая
этика современных русских // Золотой Лев.
2007. № 113/114. URL: http://www.zlev.ru/
113/113_22.htm (дата обращения: 08.05.2014).
401 Перова И. Отношение к работе
различных групп населения: работников,
574
Примечания
безработных, учащейся молодежи // Мони¬
торинг общественного мнения: экономи¬
ческие и социальные перемены. 2001.
№ 1.
402 Денисова Ю. С. Трудовые перегрузки
как тенденция в рабочем процессе // Социс.
2004. №5. С. 100—107.
403 URL: http://statistic.su/blog/kto_i_kak_
rabotaet_v_rossii/2012-07-04-715 (дата обра¬
щения: 20.05.2015).
404 URL: http://www.aif.ru/dontknows/ac-
tual/1354251 (дата обращения: 20.05.2015).
405 Washington ProFile. 2007. 30 июня;
13 сент.
406 Китаев-Смык Л. А. Психология
стресса: Психологическая антропология
стресса. М., 2009. С. 740—749.
407 Евсеева Е. Запойные трудоголики //
Труд. 2010. 22 янв.
408 В зарубежной социологии артику¬
лированы четыре концепции бедности: (1)
как особый образ жизни и как особая куль¬
тура, (2) как результат классовой эксплуа¬
тации, (3) как модель стилей и рисков, (4)
как инструментальная причина текущих
жизненных трудностей: Ярошенко С. С.
Четыре социологических объяснения бед¬
ности (опыт анализа зарубежной литера¬
туры) // Социс. 2006. № 7. С. 34—42.
409 Смарт Э. О пользе лени: Инструк¬
ция по продуктивному ничегонеделанию.
М., 2014. URL: http://esquire.ru/andrew-smart
(дата обращения: 25.08.2014).
410 Там же.
411 Там же.
412 Салинз М. Экономика каменного
века. М, 1999. С. 19—20.
413 Ле Гофф Ж. Цивилизация средне¬
векового Запада. Екатеринбург, 2005.
С. 438—439.
414 Там же. С. 6.
415 Боборыкин П. Д. Воспоминания:
в 2 т. М., 1965. Т. 1. URL: http://az.lib.ni/b/
boborykin_p_d/text_0060.shtml (дата обраще¬
ния: 29.05.2014).
416 Гуревич Ф. Д. Грамотность горожан
древнерусского Понеманья // Краткие сооб¬
щения Института археологии Академии
наук СССР. 1973. Вып. 135. С. 28—34.
417 Колчин Б. АЯнин В. Л. Археологии
Новгорода 50 лет // Новгородский сборник :
50 лет раскопок Новгорода / Б. А. Колчин,
B. Л. Янин (ред.). М., 1982. С. 94—103.
418 Очерки русской культуры X—XV
веков / А. В. Арциховский (ред.). М., 1970.
C. 166; Очерки истории школы и педа¬
гогической мысли народов СССР с древней¬
ших времен до конца XVII в. / Э. Д. Днепров
(ред.). М., 1989. С. 33—34 ; Павленко К К,
Кобрин В. Б., Федоров В. А. История СССР
с древнейших времен до 1861 года. М., 1989.
С. 57, 79.
419 Общий свод данных переписи 1897 г.
Т. 1.С. 42-43.
420 Сапунов Б. В. Книга в России XI—
XIII вв. Л., 1978. С. 82, 206—207.
421 Беленькая Д. А. О грамотности
московских горожан в XIV—XVII вв. //
Краткие сообщения Института археологии
АН СССР. 1975. Вып. 144. С. 47—53.
422 Очерки истории школы... до конца
XVII в. С. 43—45.
423 Розов Н. Н. Статистика и география
русской книги XV в. // Книга в России до
середины XIX в. / А. А. Сидоров, С. П. Луп-
пов (ред.). Л., 1978. С. 37.
424 Соболевский А. И. Образованность
Московской Руси XV—XVII вв. СПб., 1894.
С. 3—13.
425 Очерки истории школы... до конца
XVII в. С. 45—46.
426 Рогов А. И. Школа и просвещение //
Очерки истории русской культуры XVI ве¬
ка: в 2 ч. / А. В. Арциховский (ред.). М.,
1977. Ч. 2. С. 250, примеч. 2.
427 Яцимирский А. И. Образованность
в Московской Руси // Русская история
в очерках и статьях: в 3 т. / М. В. Довнар-
Запольский (ред.). 2-е изд. Киев, 1909—
1912. T.3.C.513.
428 Соболевский А. И. Образованность
Московской Руси ... С. 3—26.
429 Богоявленский С. К. Научное насле¬
дие: О Москве XVII в. М., 1980. С. 159—
161 ; Борисов В. Взгляд на грамотность
шуян в XVII и XVIII столетиях // Журнал
МНП. 1854. Ч. 84. Огд. VII. С. 53—60;
История северного крестьянства : в 4 т. /
575
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
B. Т. Пашуто (ред.). Архангельск, 1984. Т. 1.
C. 408—409; Копылов А. Н. Очерки
культурной жизни Сибири XVII—начала
XIX в. Новосибирск, 1974. С. 45—46;
Судаков Г. В. Грамотность и книжная
культура волопкан в XVII в. // Северный
археографический сборник. Вологда, 1973.
Вып. 3. С. 219; Устюгов Н. В. Научное
наследие: Экономическое развитие, клас¬
совая борьба и культура в Русском го¬
сударстве в XVII в. Народы Средней Азии и
Приуралья в XIII—XVIII вв. М., 1974. С. 78.
430 Богоявленский С. К. Научное насле¬
дие ... С. 160—161.
431 Волков Л. В. О грамотности насе¬
ления России в XVII в. // Вопросы архи¬
воведения. 1964. № 1. С. 125 ; Копылов А. Н.
Очерки культурной жизни ... С. 45—46;
УстюговН. В. Научное наследие ... С. 78.
432 История северного крестьянства. Т. 1.
С. 408—409.
433 Там же. С. 413.
434 Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего
рынка России первой половины XVIII в.:
(По материалам внутренних таможен). М.,
1958. С. 283—285.
435 История Москвы : в 6 т. / С. В. Бах¬
рушин и др. (ред.). М., 1953. Т. 2 : Период
феодализма. XVIII в. С. 477 ; Копылов А. Н.
Очерки культурной жизни ... С. 108.
436 Волков М. Я. О грамотности посад¬
ских людей Торжка в начале XVIII в. //
Источниковедение и историографические
аспекты русской культуры / Л. Н. Пушкарев
(ред.). М., 1982. С. 79—84.
437 История северного крестьянства. Т. 1.
С. 409.
438 Л anno-Данилевский А. С. Собрание
и свод законов Российской империи, сос¬
тавленные в царствование императрицы
Екатерины II. СПб., 1897. С. 15, 137, 140;
Бочкарев В. Культурные запросы русского
общества начала царствования Екатерины II
по материалам Законодательной комиссии
1767 г. // PC. 1915. Февраль. С. 327.
439 История северного крестьянства. Т. 1.
С. 411—414.
440 Мосин А. Г. Грамотность крестьян
Вятской губернии в конце XVIII—середине
XIX в. // Крестьянство Урала в эпоху
феодализма / Н. А. Миненко (ред.). Сверд¬
ловск, 1988. С. 42 (цель обследования —
выявить кадры для выборных).
441 Булгаков М. Б. Грамотность поме¬
щичьих крестьян Коломенского и Волоко¬
ламского уездов Московской губернии на¬
кануне реформы 1861 г. (по описаниям по¬
мещичьих имений 1858 г.) // Источникове¬
дение и историографические аспекты рус¬
ской культуры. С. 63, 65 ; Дружинин А. Г.
Начальное образование в Тульской губер¬
нии с 1800 по 1900 год. Тула, 1901. С. 54—
75 ; Крутиков В. И., Фёдоров В. А. Описание
помещичьих имений 1858—59 гг. как источ¬
ник по истории помещичьего хозяйства и
крестьянства накануне реформы 1861 г. (по
материалам Тульской и Московской губер¬
нии) // Ежегодник по аграрной истории Вос¬
точной Европы, 1970. Рига, 1977. С. 153;
Сельскохозяйственная статистика Саратов¬
ской губернии, составленная по сведениям,
собранным Саратовской комиссией для
уравнения денежных сборов с государст¬
венных крестьян. СПб., 1859. С. 81; Се- |
мевский М. И. Г рамотность в деревнях госу¬
дарственных крестьян Псковской губернии
в 1863 году. СПб., 1864. С. 81—89; Труб¬
ников В. В. Результаты народных переписей
в Ардатовском уезде Симбирской губер¬
нии // Сборник статистических сведений
о России, изданный стат. отд. Русского
Географического общества / В. П. Безобра¬
зов (ред.). СПб, 1858. Кн. 3. С. 426;
Деконский Г. К. Пензенская губерния.
СПб, 1849. (Материалы для географии...).
С. 74.
442 Рахматуллин М. А. Крестьянское
движение в великорусских губерниях в
1826—1857 гг. М, 1990. С. 103.
443 Подсчитано по: Благовещенский Н. А.
Сводный статистический сборник хозяйст¬
венных сведений по земским подворным
переписям. М, 1893. Т. 1. С. 124—128. См.
также: Просвирнова О. Е. Грамотность
крестьянского населения России во второй
половине XIX—начале XX века и пути ее
повышения: На материалах Самарской
губернии. Самара, 2006.
576
Примечания
444 Общий свод данных переписи 1897 г.
Т. 1.С. 56—67.
445 Там же. С. 40-43.
446 Подробно о методике см.: Миро¬
нов Б. Н. История в цифрах ... С. 65—92.
447 Вахтеров В. П. Внешкольное
образование народа. М., 1896. С. 7—12;
Корф Н. А. Образовательный уровень
взрослых крестьян // Русская мысль. 1881.
Кн. 10. С. 30—31; Кн. 12. С. 4, 5;
Чарнолуский В. И. Вопросы народного
образования на Первом общеземском
съезде. СПб., 1912. С. 12, 13 ; Чехов К В.
Народное образование России с 60-х годов
XIX века. М., 1912. С. 141 ; Eklof В. Russian
Peasant Schools: Officialdom, Village Culture,
and Popular Pedagogy, 1861—1914. Berkeley,
CA et al.: University of California Press, 1986.
P. 394—410.
448 Рагиин А. Г. Население России за 100
лет (1811—1913 гг.): стат. очерки. М, 1956.
С. 294—295.
449 Благовещенский Н. А. Сводный ста¬
тистический сборник хозяйственных све¬
дений по земским подворным переписям.
Т. 1 : Крестьянское хозяйство. М., 1893.
С. 126—128 ; Бычков Г. Грамотность сельс¬
кого населения (по данным земской ста¬
тистики) // ЮВ. 1890. Июль—август. С. 312.
450 Рашин А. Г. Население России ...
С. 295—296.
451 Андрезен Л. Эстонские народные
школы в XVII—XIX веках. Таллин, 1980.
С. 89—90, 242, 248; РаШ Н. Lugemisoskus
Otepaa kihelkonnas 1765. Aastal // Keel ja Ki-
ijandus. 1984. No. 10. Lk. 605 ; Салминь А. Я
О грамотности крестьян Лифляндской и
Курляндской губерний в XVIII в. // ИСССР.
1969. №6. С. 136—140.
452 Андрезен Л. Эстонские народные
школы ... С. 53.
453 Народное образование, наука и куль¬
тура в СССР : стат. сб. М., 1977. С. 9—10.
454 Общий свод данных переписи 1897 г.
Т. 2. С. 34.
455 Фет А. А. Воспоминания. М., 1983.
С. 278—278.
456 В конце XIX—начале XX в. мальчи¬
ки учились в среднем 2,14—2,33 года,
девочки 1,80—2,03 года, в среднем оба пола
около 2 лет: Eklof В. Russian Peasant
Schools... Р. 328—341.
457 Галахов А. Д. Записки человека /
вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент.
B. М. Боковой. М, 1999. С. 70—71.
458 Graff Н. J. The Legacies of Literacy :
Continuities and Contradictions in Western
Culture and Society. Bloomington: Indiana
University Press, 1987. P. 77, 97, 106, 144.
459 Eklof B. Russian Peasant Schools...
P. 385.
460 Миронов Б. H. Динамика грамот¬
ности в Прибалтике во второй половине
XVIII—XIX вв.: опыт исторического пред¬
сказания // Изв. Академии наук ЭССР.
Общественные науки. Таллин, 1989. № 38/1.
C. 42—50.
461 Eklof В. Russian Peasant Schools...
P.315—384.
462 Фет А. А. Воспоминания. С. 103.
В конце концов, Фета отдали учиться в со¬
седний с Дерптом г. Верро, подальше от
«шумной студенческой жизни».
463 Там же. С. 103—116.
464 Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 1.
С. 162—165.
465 Трескин А. Чему учит наша школа //
Русский начальный учитель. 1906. № 4.
С. 65—66.
466 Eklof В. Russian Peasant Schools ...
Р. 328—341.
467 Ibid. Р. 47, 48, 281, 282. Дж. Брукс
полагает, что потребность в функциональ¬
ной грамотности у крестьянства все-таки
возникла в конце XIX в., и поэтому более
оптимистично оценивает влияние грамот¬
ности на психологию крестьян: Brooks J.
When Russian Learned to Read : Literacy and
Popular Literature, 1861—1917. Princeton, NJ :
Princeton University Press, 1985. P. 3—34.
468 Нуждина А. А. Социокультурное
развитие российской деревни ... 2.2: От¬
ношение крестьян к школьному образо¬
ванию; 2.3: Формирование читательских
интересов крестьян; Петров В. В. Вопросы
народного образования в Московской гу¬
бернии: в 5 вып. М., 1897—1907. Вып 3 :
Об отношении народа к грамотности.
577
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Народные чтения. М, 1903. С. 1—133;
Пругавин А. С. Запросы народа и обязан¬
ности интеллигенции в области умственного
развития и просвещения. М., 1890; Руба-
кин Н. А. Этюды о русской читающей
публике: факты, цифры и наблюдения.
СПб., 1895 ; Соловьев А. А. Распространение
книг в русской провинции 1861—1914 гг.
(по материалам Владимирской и Костром¬
ской губерний): дис. ... канд. ист. наук.
Иваново, 2003 ; Степанов К. А. Открытие
библиотек в г. Ростове и его уезде (вторая
половина XIX—начало XX в.). Ярославль,
2006; Чехов Н. В. Народное образование
в России. М., 1912.
469 Морева О. В. Чтение в повседневной
жизни горнозаводского населения Урала во
второй половине XVIII—начале XX в. // Со¬
циальная история, 2011. СПб., 2012. С. 138,
154, 155. Отметим, что автор использовала
библиотечные формуляры читателей.
470 Результаты однодневной переписи
населения Нижнетагильского завода (Перм¬
ская губерния, Верхотурский уезд), произ¬
веденной 9 сентября 1879 г. / обраб. В. Ло¬
ман // Пермские губернские ведомости.
1881.25 февр. С. 83.
471 См., например: ЧекуноваА. Е. В. В. Крео
тинин и его проект создания «малых школ» //
ВИ. 2007. №7. С. 121—129.
472 гч
Этот взгляд начинает получать под¬
держку в современной историографии:
Артамонова Л. М.\ 1) Общество, власть и
просвещение в русской провинции XVIII—
начала XIX в. Самара, 2001 ; 2) Политика
в сфере народного просвещения в Поволжье
(XVIII—первой половине XIX в.) // РИ.
2013. № 2. С. 101—112; Дальман С В.
Развитие системы управления народным
образованием в России во второй половине
XIX века. СПб., 2007; Романов А. П.:
1) Начальное образование русского крестьян¬
ства в последней четверти XIX—начале XX
века: Официальная политика и обществен¬
ные модели. Челябинск, 2009; 2) Историо¬
графические проблемы истории начального
образования русского крестьянства в конце
XIX—начале XX века. URL: http://lib.
znate.ru/docs/index-54219.html?page=3 (дата
обращения: 29.05.2014); Федорова Н. М.
Становление государственно-общественно¬
го управления школьным образованием
в России : дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2010.
Гл. II: Историко-педагогическая характе¬
ристика этапов становления государствен¬
но-общественного управления российской
школой в XIX—начале XX вв. URL:
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-
01 /dissertaciya-stanovlenie-gosudarstvenno-
obschestvennogo-upravleniya-shkolnym-obrazo-
vaniem-v-rossii (дата обращения: 29.05.2014).
473 Артамонова Л. М. Политика в сфере
народного просвещения ... С. 112.
474 Корф Н. А. Образовательный уро¬
вень взрослых грамотных крестьян // Рус¬
ская мысль. 1881. Кн. 10. С. 30—31; Кн. 12.
С. 4—5. Рецидив безграмотности в пожилом
возрасте связан также с физиологическими
изменениями в организме, с болезнями,
склерозом и аналогичными явлениями.
475 Среднегодовые темпы утраты гра¬
мотности подсчитываются по формуле сред¬
ней геометрической. Расчеты произведены
в: Миронов Б. Н. История в цифрах...
С. 76—78.
476 Очерки истории школы и педаго¬
гической мысли народов СССР. Вторая по¬
ловина XIX в. / А. И. Пискунов (ред.). М.,
1976. С. 518.
477 Исторический очерк развития всеоб¬
щего обучения в Нижегородском уезде
(полное осуществление школьной сети
в 1908 г.) в связи с работою земства по
народному образованию: Докл. Нижегор.
уезд, земства Общезем. съезду по нар. об¬
разованию 16 авг. 1911 г. / Н. Н. Иорданский
(сост.). Н. Новгород, 1911. С. 10—12.
478 Однодневная перепись начальных
школ Российской империи, произведенная
18 января 1911 г. / В. И. Покровский (ред.).
Пг., 1916. Вып. 16 : Итоги по империи. Ч. 1.
С. 67—69,110.
479 Капелюшников Р. И. Спрос и пред¬
ложение высококвалифицированной рабо¬
чей силы в России: кто бежал быстрее? II
ВЭ. 2012. № 3. С. 144. В 2010 г. челове¬
ческий капитал России оценивался 600 трл.
руб., 6 млн руб. на душу населения или
578
Примечания
400 тыс. дол. по паритету покупательной
способности. За 2002—2010 гт. челове¬
ческий капитал увеличился более чем вдвое,
по 10% ежегодно. Россия отстает от раз¬
витых стран (от США, Великобритании —
сильно, от остальных умеренно), но заметно
опережает постсоциалистические страны:
Капелюшников Р. Сколько стоит челове¬
ческий капитал России // ВЭ. 2013. № 2.
С. 44—45.
480 При написании подраздела по исто¬
рической психологии я пользовался сове¬
тами ведущего российского исторического
психолога В. А. Шкуратова, за что приношу
ему глубокую благодарность.
481 В 1984 г. моя книга «Историк и
социология» содержала главу «Историчес¬
кая психология и социальное поведение».
К сожалению, в 1984 г. говорить о роли
психологического фактора в социальных
процессах было затруднительно и потому
приходилось обильно цитировать классиков
марксизма, чтобы получить своего рода
индульгенцию на высказывание еретиче¬
ских идей.
482 Гуревич А. Я. Индивид и социум на
средневековом Западе. М., 2005. С. 13.
483 По истории грамотности, чтения и
письма на Западе существует большая
литература, в которой среди прочих тем
затрагиваются: влияние грамотности на об¬
раз жизни, благосостояние, семейные от¬
ношения, структуру занятости, карьеру, осо¬
бенности женской и мужской грамотности и
т. д. Однако подобные исследования про¬
водятся, как правило, вне рамок истори¬
ческой психологии, исторического развития
типа мышления и сознания. См., например:
A History of Reading in the West / G. Cavallo,
R. Chartier (eds.). Amherst: University of
Massachusetts Press, 1999; Changing Litera¬
cies for Changing Times: An Historical
Perspective on the Future of Reading Research,
Public Policy, and Classroom Practices /
J. V. Hoffman, Y. Goodman (eds.). New York :
Routledge, 2009; Chartier R.: 1) The Cultural
Uses of Print in Early Modem France. Prince¬
ton, NJ: Princeton University Press, 1987;
2) The Cultural Origins of the French Revolu¬
tion. Durham, NC: Duke University Press,
1991 ; Cressy D. Literacy and the Social Or¬
der : Reading and Writing in Tudor and Stuart
England. Cambridge, UK; New York: Cam¬
bridge University Press, 1980 ; Eisenstein E. L.
The Printing Press as an Agent of Change:
Communication and Cultural Transformations
in Early Modem Europe. Amherst: University
of Massachusetts Press ; Washington, DC : Li¬
brary of Congress, 2007; Engelsing R. Der
Burger als Leser: Lesergeschichte in Deutsch¬
land, 1500—1800. Stuttgart: Metzler, 1974;
Furet F., OzoufJ. Reading and Writing : Liter¬
acy in France from Calvin to Jules Ferry. Cam¬
bridge, UK : New York : Cambridge University
Press, 1982 ; Graff H. J. The Legacies of Liter¬
acy...; Hill C. The World Turned Upside
Down : Radical Ideas during the English Revo¬
lution. London: Temple Smith, 1972; Hous¬
ton Я A. Literacy in Early Modem Europe : Its
Growth, Uses and Impact, 1500—1800. Lon¬
don ; New York: Routledge, 2002; Literacy
and Historical Development: A Reader /
H. J. Graff (ed.). Carbondale : Southern Illinois
University Press, 2007; Literacy: An Interna¬
tional Handbook / D. A. Wagner, R. L. Ve-
nezky, В. V. Street (eds.). Boulder, Colo.:
Westview Press, 1999 ; Literacy, Economy, and
Society : Results of the First International Adult
Literacy Survey / R. F. Amove, H. J. Graff
(eds.). Paris : Organization for Economic Co¬
operation and Development; Ottawa; Statistics
Canada; Washington, DC : OECD Publications
and Information Center [distributor], 1995;
National Literacy Campaigns: Historical
and Comparative Perspectives / R. F. Amove,
H. J. Graff (eds.). New Brunswick: Aldine
Transaction, 2008 ; Register of Research in the
Human Sciences Applied to Problems of Work
and Directory of Relevant Research Institutions /
prepared by the Organization for Economic Co¬
operation and Development ; with the help of
National Productivity Centres. 2nd ed. Paris :
OECD Publications, 1962 ; Manguel A. A His¬
tory of Reading. New York: Viking, 1996;
Resnick D. P., Martinek JReading // Encyclo¬
pedia of European History ... Vol. 5. P. 407—
418 ; Resnick D. P., Resnick L. В.: 1) Varieties
of Literacy // Social History and Issues in Hu-
579
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
man Consciousness: Some Interdisciplinary
Connections / A. E. Barnes, P. N. Steams
(eds.). New York : New York University Press,
1989. P. 171—1% ; 2) The Nature of Literacy :
A Historical Exploration // In Perspectives in
Literacy / E. R. Kintgen, В. M. Kroll, M. Rose
(eds.). Carbondale, 111. : Southern Illinois Uni¬
versity Press, 1988. P. 190—202; Literacy in
Historical Perspective / D. P. Resnick (ed.).
Washington, DC : Library of Congress, 1983 ;
Stone L. Literacy and Education in England,
1640—1900 // Past and Present. 1968. Vol. 42.
P. 69—139. Одна из лучших работ по
истории грамотности и роли последней
в социально-экономическом развитии За¬
падной Европы и Северной Америки в Но¬
вое и Новейшее время, написанная ведущим
специалистом в этой области Харви Граф¬
фом, подводит итоги сделанному в данном
научном направлении за последние 30 лет
и содержит обширную библиографию:
Graff Н. J. Literacy Myths, Legacies, and Les¬
sons : New Studies on Literacy. New Bruns¬
wick, NJ: Transaction Publishers, 2011.
Библиография: P. 179—201. Обширная биб¬
лиография содержится также в: Graff Н. J.
Bibliography // Understanding Literacy in its
Historical Contexts: Socio-Cultural History
and the Legacy of Egil Johansson / H. J. Graff,
A. Mackinnon, B. Sandin, I. Winchester. Lund :
Nordic Academic Press, 2009. P. 265—300.
484 Graff H. J., Duffy J. The Literacy Myth I I
Graff H. J. Literacy Myths... P. 35—48;
Graff H. J. The Literacy Myth at Thirty // Ibid.
P. 49—82.
485 Крайг Г. Психология развития. 7-е
изд. СПб., 2000. С. 475-478.
486 Там же. С. 595.
487 Graff Н. J. Introduction to Historical
Studies of Literacy // Understanding Literacy in
its Historical Contexts ... P. 15—17.
488 Выготский Л. С.: 1) Поведение
животных и человека // Выготский Л. С.
Развитие высших психических функций:
Из неопубликованных трудов. М., 1960.
С. 397—457; 2) Психология развития
ребенка. М., 2003 ; Выготский Л. С., Лу-
рия А. Р. Этюды по истории поведения. М.,
1930; Леонтьев А. Н. Проблемы развития
психики. М., 1981. С. 219—435 ; Лурия А. Р.:
1) Об историческом развитии познава¬
тельных процессов. М., 1974; 2) Психо¬
логия как историческая наука // История
и психология. С. 36—62. Эти труды ос¬
таются актуальными и в настоящее время:
Фрумкина Р. М Культурно-историческая
психология Выготского — Лурия. М., 2006.
489 Анцыферова Л. И. К проблеме
изучения исторического развития психики II
История и психология. С. 63—89. За про¬
шедшие 30 лет в области исторической
психологии было сделано не так много, как
того заслуживает новое направление в нау¬
ке. Наиболее плодотворно в этой области из
отечественных ученых работал В. А. Шку-
ратов: Шкуратов В. А.: 1) Психика. Куль¬
тура. История : Введение в теоретико-мето-
дологические основы исторической психо¬
логии. Ростов н/Д, 1990; 2) Историческая
психология. 2-е изд. Ростов н/Д, 1997;
3) Проблема синтеза культурологии и пси¬
хологии в исторической психологии. Ростов
н/Д, 1996; 4) Новая историческая пси¬
хология. Ростов н/Д, 2009; 5) Психология
в истории культуры и познания. Ростов н/Д,
2011. См. также: Арьес Ф.\ 1) Человек перед
лицом смерти. М., 1992 ; 2) Ребенок и семья
при старом порядке. М., 1999; Блок М. Ко¬
роли-чудотворцы. М., 1998 ; Бгажноков Б. X.
Культура эмпатии // ЭО. 2003. № 1. С. 55—
68; Боброва Е. Ю. Основы историческая
психология. СПб., 1997; Демоз Л. Пси¬
хоистория. Ростов н/Д, 2000; Делюмо Ж.
Грех и страх : Формирование чувства вины
в цивилизации Запада (XIII—XVIII века).
Екатеринбург, 2003; Джерджен К. Дж.
Социальная психология как история // Со¬
циальная психология: саморефлексия марги¬
нал ьности : хрестоматия / Е. В. Якимова
(ред.-сост.); М. П. Тапочка (отв. ред.). М,
1995 ; Историческая психология: предмет,
структура, методы / А. А. Королёв (ред.). М.,
2004; Кон И. С. В поисках себя : Личность
и ее самосознание. М., 1984 ; Кольцова В. А.:
1) Историческая психология как наука II
Психология : учеб, для гуманит. вузов I
В. Н. Дружинин (ред.). СПб., 2001 ; 2) Ис¬
торическая психология: особенности и пер-
580
Примечания
спективы новой области междисциплинар¬
ного знания // Психея + Клио : электронный
журнал по истории психологии. 2009. Т. 1,
вып. 3. URL: http://psyhistory.ru/index.
php?VSN=23 (дата обращения: 14.05.2014);
Куразов И. Ф. Историческая психология :
Опыт построения марксистской методоло¬
гии психологии. М.; Л., 1931 ; Лазарев А. В.
Историческая психология в эпоху расцвета
и сегодня // Средние века. 2010. Вып. 71
(3/4); Ле Гофф Ж.: 1) Цивилизация
средневекового Запада. М., 1992 ; 2) Людо¬
вик IX Святой. М., 2001 ; Леви-Брюль Л.
Первобытное мышление. М., 1930; Ма¬
линовский Б. Магия, наука и религия. М.,
1998; Мауль В. Я. Харизма и бунт: пси¬
хологическая природа народных движений
в России XVII—XVIII веков. Томск, 2003 ;
Московичи С. Век толп: Исторический
трактат по психологии масс. М., 2011;
Могильницкий Б. Г. Американская психо¬
история: претензии и реальность // Новая
и новейшая история. 1986. № 1. С. 49—62 ;
Могильницкий Б. Г, Гульбин Г. К, Нико¬
лаева И. Ю. Американская буржуазная
«психоистория»: критический очерк. Томск,
1985 ; Мухин О. Я: 1) Власть, жестокость
и кровные узы: семейные отношения ев¬
ропейских монархов раннего Нового вре¬
мени (типичное и особенное) // Медие¬
вистика XXI века / А. А. Мить и др. (ред.).
Томск, 2009. Вып. 4. С. 128—155 ; 2) Карл
XII и Петр I: к вопросу о специфике ста¬
новления идентичности монарха раннего
нового времени // Проблемы методологии
и историографии всеобщей истории / отв.
ред. Т. И. Зайцева, О. Н. Мухин (ред.).
Томск, 2010. Вып. 1. С. 161—186; 3) Петр
Великий vs. Иван Грозный: личность
в контексте специфики российских про¬
цессов модернизации // Диалог со време¬
нем : Альманах интеллектуальной истории.
2011. Вып. 35. С. 153—174; Рикер Я. Па¬
мять, история, забвение. М., 2004; Са¬
мохвалов Д. С. Исследование групповых
процессов в психоистории: дис. ... канд.
ист. наук. Минск, 2000; Салов В. И.
Вторжение психоанализа в буржуазную ис¬
ториографию // Новая и новейшая история.
1986. № 1. С. 89—105 ; Сухорчук Г. Д.
Восток — Запад: историко-психологический
водораздел // ВИ. 1998. № 1. С. 30—43;
Уорд Л. Психические факторы цивилизации.
СПб., 2001 ; Фуко М. Надзирать и нака¬
зывать: Рождение тюрьмы. М., 1999;
Хейзинга И. Осень Средневековья : Иссле¬
дование форм жизненного уклада и форм
мышления в XIV и XV веках во Франции
и Нидерландах. М., 1988; Шутова О. М.
Психоистория: школа и методы. Минск,
1997; Эриксон Э. Г: 1) Молодой Лютер:
психоаналитическое ист. исслед. М., 1996;
2) Идентичность: юность и кризис. М.,
1996; Barbu Z The problems of Historical
Psychology. Westport, Conn.: Greenwood
Press, 1976 ; Demos J P. Entertaining Satan :
Witchcraft and the Culture of Early New Eng¬
land. Oxford ; New York : Oxford University,
2004 ; Dewald J. Lost Worlds : The Emergence
of French Social History, 1815—1970. Univer¬
sity Park, Pa.: Pennsylvania State University
Press, 2006; Classen C. The Senses // Ency¬
clopedia of European Social History from 1350
to 2000. Vol. 4. P. 355—364 ; Daalen R., van.
The Emotions // Ibid. P. 383—396. Четкое
структурирование исследовательского поля
исторической психологии пока не произош¬
ло. Однако появились центры по истори¬
ческой психологии в России и за рубежом:
«Центр изучения исторической психологии
при СПбГУ» (основан в 2006 г.), кафедра
«Истории психологии и исторической пси¬
хологии» в Институте психологии РАН;
в Москве издается журнал «Историческая
психология и социология истории». Под¬
робнее о развитии исторической психологии
в XX в. см.: Шкуратов В. А. Историческая
психология. 2-е изд. Ростов н/Д, 1997. Ч. 1,
гл. II: Историческая психология XX века.
URL: http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/shku-
ratovaist/default.aspx (дата обращения:
10.05.2014).
490 Повторение признаков не взрослых
особей предков, а их зародышей.
491 Почему человек ведет себя так, а не
иначе: Психологические законы челове¬
ческого поведения / Э. Аронсон, Т. Уилсон,
Р. Эйкерт. СПб., 2008 ; Ребер А. Большой
581
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
толковый психологический словарь: The
Penguin. Т. 1. С. 397; Т. 2. С. 189—190. Не
все ученые принимают полностью этот
закон применительно к человеку.
492 КрайгГ. Психология развития. С. 17 ;
Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка.
СПб., 2002. С. 23—30.
493 Раушенбах Б. В.: 1) Пространствен¬
ные построения в древнерусской живописи.
М., 1975 ; 2) Пространственные построения
в живописи: Очерк основных методов. М.,
1980; Флоренский П. А. Обратная перспек¬
тива // Труды по знаковым системам. Тарту,
1967. T.3.C.381—416.
494 Гуревич А. Я. Представления о вре¬
мени в средневековой Европе // История
и психология. С. 159—198.
495 Сводку новейших данных по эволю¬
ции человека и развитию культуры эпохи
палеолита см.: Шер Я. Я, Вишняцкий Л. Б.,
Бледнова Н. С. Происхождение знакового
поведения. М., 2004. В книге исследуется
становление знакового поведения (комму¬
никации на основе информации, накапли¬
ваемой избирательно посредством научения
и не передаваемой генетически) по данным
археологии, физической антропологии, зоо¬
психологии и психологии развития. Особое
внимание уделено вопросам происхождения
языка и искусства.
496 Понятие «симпрактичность» было
введено в научный оборот в кн.: Рома¬
нов В. Н. Историческое развитие культуры :
Проблемы типологии. М, 1991. С. 3. Автор
выделяет два типа культуры: симпракти-
ческий тип предполагает такой способ
транслирования информации, при котором
она передается посредством «предметных
схем действий» (например, знание о том,
как необходимо копать лопатой или плести
корзины, передается непосредственным
примером), и теоретический, при котором
выделяется отдельный канал передачи
информации, отстроенный от непосредст¬
венной деятельности.
497 Мацумото Д. Психология и куль¬
тура. СПб., 2002. С. 135.
498 Романов В. Н. Историческое разви¬
тие культуры ... С. 50.
499 Леви-Брюль Л. Первобытный MeHTaJ
литет. СПб., 2002. С. 366.
500 Там же. С. 18.
501 Там же. С. 364—365. Предположение
ученого о существовании специфического
дологического мышления и особого «пер¬
вобытного менталитета, обладающего собст¬
венным пространством, собственной при¬
чинностью, собственным временем, которые
несколько отличаются от наших» (С. 365)
встретило возражение некоторых антро¬
пологов: Кабо В. Круг и крест: Размыш-i
ления этнолога о первобытной душе. М,]
2007. Ч. 3: Первобытное сознание как!
система. URL: http://aboriginals.narod.ru/]
cc.htm (дата обращения: 23.05.2014).
502 Веселов Ю. В. Экономическая ссн
циология Карла Поланьи // Полис. 1999J
С. 111—115; Латов Ю. В. 60-летие «Ве¬
ликой трансформации» Карла Поланьи //
Историко-экономические исследования. 2004.
№ 3. С. 7—10; Розинская Н. А. Мето^
дологические проблемы экономической ан-'
тропологии // Очерки экономической ан-
тропологии / В. С. Автономов, А. Г. Гадт
жиев (ред.). М., 1999. С. 92—97.
503 Леви-Брюль Л. Первобытный мента¬
литет. С. 324, 325.
504 Даже шимпанзе узнают свое H3o6paJ
жение в зеркале, что предполагает наличие у
них самосознания и способности к само¬
идентификации: Вишняцкий Л. Б История
одной случайности, или Происхождение
человека. Фрязино, 2005. URL: http://
antropogenez.ru/history-single/217/ (дата обра¬
щения: 25.08.2014).
505 Фромм Э. Анатомия ...
506 Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алек¬
сеев В. П. История первобытного общества.
М., 1974. С. 123.
507 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.
М., 1976. С. 167,168.
508 Леви-Брюль Л. Первобытный мента¬
литет. С. 319, 321.
509 Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь :
Исследования магии и религии. М., 1980.
С. 60; см. также: Поршнев Б. Ф. Социальная
психология и история. М., 1979. С. 217—
219.
582
Примечания
510 Обстоятельный анализ мифологичес¬
кого мышления и сознания дали классики
мировой этнологии Л. Леви-Брюль и из¬
вестный российский культуролог Е. М. Ме-
летинский: Леви-Брюль Л. Первобытный
менталитет. С. 11—21, 352—367; Меле-
тинский Е. М. Поэтика мифа. С. 164—168.
При характеристике культурно-историчес¬
ких типов сознания я опирался прежде всего
на эти работы, а также на изд.: Белецкая Н. Н.
Языческая символика славянских архаи¬
ческих ритуалов. М, 1978; Белик А. А.
Культурная (социальная) антропология. М.,
2009; Брунер Дж. Психология познания : За
пределами непосредственной информации.
М., 1977. С. 320—358; Иорданский В. П.
Хаос и гармония. М., 1982; Кассирер Э.
Философия символических форм: в 3 т.
Т. 2: Мифологическое мышление. М.;
СПб., 2002; Леви-Стросс К: 1) Струк¬
турная антропология. М., 1983 ; 2) Мифо¬
логичные // Семиотика и искусствометрия /
Ю. М. Лотман, В. М. Петрова (ред.). М.,
1972. С. 25—49 ; Мосс М. Общество. Обмен.
Личность: Труды по социальной антро¬
пологии. М., 1996 ; 2) Социальные функции
священного. СПб., 2000; Стеблин-Ка¬
менский М. И. Миф. Л., 1976; Фрэзер Д. Д.
Золотая ветвь... С. 20—73. См. также:
Островский А. Б. Парадигма мифологи¬
ческого мышления: очерк вклада К. Леви-
Строса. СПб., 2005.
511 Изменения в поведении под влия¬
нием просвещения, включая «дисциплини-
рование эмоций», и их влияние на социум
в странах Запада обстоятельно выяснено
немецким историком в кн.: Элиас Н.
О процессе цивилизации: Социогенети-
ческие и психогенетические исследования:
в 2 т. М.; СПб., 2001.
512 Лебедев Б. К. Исторические формы
социальных типов личности. Казань, 1976.
С. 134—170; Лой А. Н. Социально-исто¬
рическое содержание категорий «время»
и «пространство». Киев, 1978. С. 78—85 ;
Кон И. С. Открытие «я». М., 1978. С. 183—
224.
513 Гуревич А. Я. Социальная психология
и история: источниковедческий аспект //
Источниковедение: Теоретические и мето¬
дологические проблемы / С. О. Шмидт
(ред.). М., 1969. С. 398.
514 Сухорчук Г. Д. Восток — Запад...
С. 32.
515 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.
С. 153, 167. О роли и эмоций см.: Эмоции
и отношения человека на ранних этапах
развития / Р. Ж. Мухамеддрахим (ред.).
СПб., 2008.
516 Цит. по: Хильми Г. Ф. Поэзия науки.
М., 1970. С. 28.
517 Адамар Ж. Исследование психологии
процесса изобретения в области матема¬
тики. М., 1970. С. 66, 72.
518 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.
С. 172, 173.
519 Аверинцев С. Аналитическая психо¬
логия К. Г. Юнга и закономерности твор¬
ческой фантазии // Вопросы литературы.
1970. №3. С. 117.
520 Брунер Дж. Психология познания ...
С. 359—376.
521 Концепцию Ж. Пиаже психологи
много проверяли на материалах разных
культур, в том числе африканских. Неко¬
торые ученые подвергают сомнению уни¬
версализм стадий Пиаже, усматривая в нем
европоцентризм и влияние специфических
условий воспитания западного ребенка.
Однако до настоящего времени концепция
является общепринятой и рассматривается
во всех учебниках психологии.
522 Ньюкомб Н. Развитие личности ре¬
бенка. С. 175—177. См. также: Психология
детства / А. А. Реан (ред.). СПб., 2003.
523 Коул М., Скрибнер С. Культура и
мышление : психологический очерк. М,
1977. С. 42.
524 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь
при Старом порядке. Екатеринбург, 1999.
Концепция Арьеса вызвала критику и по¬
лемику. Автора упрекали в (1) нерепре-
зентативности Источниковой базы, (2) не¬
дооценке социального и переоценке мен¬
тального, (3) идеологическом детерминизме,
(4) подгоне материала под свою концепцию:
Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа
«Анналов». М., 1993. С. 235, 246—249;
583
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
Семья, дом и узы родства / Т. Зоколл,
О. Кошелева, Ю. Шлюмбом (ред.). СПб.,
2004. С. 20—21 ; Зеленина Г. От скудости
эмоций к скудости источников: полувековой
путь детских исследований // Теория моды :
Одежда. Тело. Культура. 2008. Вып. 8.
Однако точка в полемике не поставлена.
Главная идея концепции — понятие детства
исторически изменчиво — не утратила
своего значения.
525 Гуревич А. Я. Категории средневе¬
ковой культуры. С. 279—280.
526 Крайг Г. Психология развития.
С. 31—34.
527 Укажу некоторые важнейшие работы
по данной проблеме: Богданович А. Е. Пе¬
режитки древнего миросозерцания у бело¬
русов : этнографический очерк (воспроизве¬
дение изд. 1895 г.). М., 2009 ; Власова М. Н.
Русские суеверия : энцикл. словарь. СПб.,
2001; Горелкина О. Д. К вопросу о ма¬
гических представлениях в России в XVIII в.
(на материале следственных процессов по
колдовству) // Научный атеизм, религия и
современность. Новосибирск, 1987. С. 303—
304; Даль В. И. О повериях, суевериях
и предрассудках русского народа. СПб.,
1994; Елеонская Е. К: 1) К изучению
заговора и колдовства в России. М., 1917;
2) Сельскохозяйственная магия. М., 1929;
3) Сказка, заговор и колдовство в России.
М., 1994; Забылин М. Русский народ, его
обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ¬
зия. М., 1992; Зеленин Д. К: 1) Восточ¬
нославянская этнография. М., 1991 ; 2) Избр.
труды: Статьи по духовной культуре
1901—1913. М., 1995; Лавров А. С. Кол¬
довство и религия в России. 1700—1740 гг.
М., 2000; Левин Ив. «Двоеверие» и на¬
родная религия //, Американская русистика:
Вехи историографии последних лет: Пе¬
риод Киевской и Московской Руси : ан¬
тология / Дж. Маджеска (сост). Самара,
2001. С. 259—283 ; Левкиевская Е. Мифы
русского народа. М., 2000 ; Максимов С. В.:
1) Нечистая, неведомая и крестная сила.
СПб., 1994; 2) Лесная глушь // Максимов С. В.
Избранное. М., 1981. С. 147—385; Ор¬
лов М. А. История сношений человека с
дьяволом. М., 1992; Островская Л. В.
Христианство в понимании русских
крестьян пореформенной Сибири // Общест¬
венный быт и культура русского населения
Сибири XVIII—начала XX в. / Л. М. Руса¬
кова (ред.). Новосибирск, 1983. С. 135—
145 ; Пропп В. Я. Русские аграрные празд¬
ники. СПб., 1995; Русский демонологи¬
ческий словарь. СПб., 1995; Русское кол¬
довство, ведовство, знахарство. СПб., 1994;
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохуль¬
ники. Еретики: Народная религиозность и
«духовные преступления» в России XVIII в.
М., 2003; Соколова В. К. Весенне-летние
календарные обряды русских, украинцев и
белорусов XIX—начала XX в. М., 1979;
Терещенко А. В. Быт русского народа: в 7 ч.
М., 1999; Токарев С. А. Религиозные ве¬
рования восточнославянских народов XIX—
начала XX в. М.; Л., 1957; Чичеров В. И.
Зимний период русского земледельческого
календаря XVI—XIX веков. М., 1957;
Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия
славянской мифологии. М., 2004 ; Chulos К. J.
Converging Worlds: Religion and Community
in Peasant Russia, 1861—1917. DeKalb, IL:
Northern Illinois University Press, 2003 ; Dixon S.
Superstition in Imperial Russia // The Reli¬
gion and Fools? : Superstition in Past and Pre¬
sent / S. A. Smith, A. Knight (eds.). New York:
Oxford University Press, 2008. P. 207—228;
Freeze G. L. Institutionalizing Piety: The
Church and Popular Religion, 1750—1850 II
Imperial Russia: New Histories for the Empi¬
re / J. Burbank, D. L. Ransel (eds.). Blooming¬
ton ; Indianapolis: Indiana University Press,
1998. P. 210—250 ; Rock S. Popular Religion
in Russia: «Double Belief» and the Making of
an Academic Myth. London; New York:
Routledge, 2007. Особо отмечу сравнитель¬
но-историческое исследование русских на¬
родных верований, суеверий, магии, кол¬
довства и гаданий: Райан В. Ф. Баня в пол¬
ночь : Исторический обзор магии и гаданий
в России. М., 2006. Обстоятельную биб¬
лиографию (774 названий) по вопросу де¬
монологических представлений русских см.:
Киселев А. В. Формирование и развитие
традиционных религиозных представлений
584
Примечания
русского населения Верхнего Поволжья в
XIX—XX вв.: дис. ... канд. ист. наук.
Ярославль, 2003. Демонология была орга¬
нической частью религиозных верований
западноевропейского Средневековья и ран¬
него Нового времени: Ле Гофф Ж.:
1) Средневековый мир воображаемого. М.,
2001 ; 2) Герои и чудеса Средних веков. М.,
2011; Монтер У. Ритуал, миф и магия
в Европе раннего Нового времени. М., 2003 ;
Религиозность западноевропейского Сред¬
невековья в историко-антропологических
исследованиях (сводный реферат) // Со¬
циальные и гуманитарные науки: Отечест¬
венная и зарубежная литература: реф.
журнал. Сер. 5. История. 1999. № 3. С. 60—
75 ; Стефанович П. С. Изучение «народной
религии» позднего средневековья и раннего
нового времени в британской историогра¬
фии (смена исследовательских парадигм)
(обзор) // Там же. 2001. № 1. С. 31—51 ;
Thomas К. Religion and the Decline of Magic :
Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and
Seventeenth Century England. New York:
Scribner, 1971. P.661.
528 Леонтьева T. Г. Вера и прогресс:
Православное сельское духовенство России
во второй половине XIX в. М., 2002. С. 153.
529 Бернштам Т. А. Русская народная
культура и народная религия // СЭ. 1989.
№1. С. 91—92.
530 Bumme С. Ю. Воспоминания : в 3 т.
Таллин ; М., 1994. Т. 1. С. 378—379.
531 Захаров А. А. Муравей, семья, ко¬
лония. М., 1991 ; Лоренц К. Человек находит
друга. М., 2010.
532 Даль В. И. Пословицы русского на¬
рода С.303.
533 Фет А. А. Воспоминания. С. 188—
189.
534 Давыдов М. А. Оппозиция Его
Величества. М., 2005. С. 256.
535 Драгомиров М. И. Подготовка войск
в мирное время (воспитание и образова¬
ние) // Драгомиров М. И. Избр. труды:
Вопросы воспитания и обучения войск. М.,
1956. С. 650.
536 Бобков Ф. Д. Из записок бывшего
крепостного человека // Воспоминания рус¬
ских крестьян XVIII—первой половины XIX
века. М., 2006. С. 598—599.
537 Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоми¬
нания / А. Л. Панина (ред.); А. Л. Панина,
Л. Ю. Шульман (подгот. текста, предисл.,
примеч.). М., 1997. С. 231—232.
538
Сельская воскресная школа // На¬
родное образование. 1902. № 7/8. С. 25—29 ;
Беляев В. Наблюдения и заметки // Русский
начальный учитель. 1892. № 3. Приложения.
С. 20 ; Н. С. Попечители моей школы // Там
же. 1906. № 7/8. Отд. II. С. 175 ; Мечев Г
Прежде и теперь // Народное образование.
1902. № 10. С. 286—290. Цит. по: Рома¬
нов А. П. Повседневная жизнь русского
сельского учителя конца XIX—начала
XX в. // Социальная история, 2011. СПб.,
2012. С. 173—174.
539 Голикова С. В. Кликушество глазами
священника // Религия и церковь в Сибири :
сб. науч. статей и докум. материалов.
Тюмень, 1995. Вып. 8. С. 103—111.
540 Лурия А. Р. Психология как ис¬
торическая наука: (К вопросу о психоло¬
гической природе психологических процес¬
сов) // Историк и психология. М., 1971.
С. 36—62. См. также: Михайлюк А.
Симпрактичность традиционной культуры //
Докса. 2010. Вып. 15. С. 295—302; Соко¬
лов А. В. Общая теория социальной ком¬
муникации. СПб., 2002. С. 283.
541 Успенский Г. И. Крестьянин и
крестьянский труд // Успенский Г. И.
Избранное. М., 1953. С. 377.
542 Там же. С. 385.
543 Кузнецов Я. О. Характеристика об-
щественных классов по народным посло¬
вицам и поговоркам // ЖС. 1903. Вып. 3.
С. 396.
544 ^
Социально-психологическая оппози¬
ция «мы— они» изучается в кн.: Шипи¬
лов А. В. Оппозиция «мы— они» в со¬
циокультурном развитии: в 2 ч. Воронеж,
2004. По предположению автора, оппо¬
зиция предстает в двух вариантах: как
«свои— чужие» и как «высшие— низ¬
шие»; в ходе социокультурного развития
второй вариант заменяет первый (Там же.
Ч. 2. С. 3—468).
585
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
545 Златовратский Я Я. Очерки
крестьянской общины. С. 107.
546 Налоги. Сельская община в Олонец¬
кой губернии // 03. № 2. 1874. С. 227.
547 Скалдин В. В захолустье и в столице.
СПб., 1870. С. 51.
548 Там же. С. 52.
549 Звонков А. П. Современный брак
и свадьба среди крестьян Тамбовской гу¬
бернии Елатомского уезда // Сборник све¬
дений для изучения быта сельского насе¬
ления России. М., 1889. Вып. 1. С. 97—100.
550 Чистов К. В. Русские народные
социально-утопические легенды XVII—
XIX вв. М., 1967. С. 15,27, 331.
551 Лебедев Н. Быт крестьян Тверской
губернии // Этнографический сборник, изд.
РГО. Вып. 1.С. 183.
552 Добровольский В. Н. Смоленский
этнографический сборник: в 2 ч. СПб.,
1894. Ч. 2. С. 369—371.
553 Плаксин Я. Русский год // Семейный
круг. 1860. № 6. С. 180; Клибанов А. И.
О методологии изучения религиозного
сознания // Вопросы научного атеизма. Вып.
11 : Психология и религия. М., 1971. С. 101 ;
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской
литературы. Л., 1967. С. 254 ; Чичеров В. Я.
Зимний период русского земледельческого
календаря. XVI—XIX вв. М., 1957. С. И—
12, 16; Швейковская Е. Я Русский
крестьянин в доме : Северная деревня конца
XVI—начала XVIII века. М., 2012. Гл. 7:
Восприятие времени крестьянами. С. 159—
187.
554 Шеппинг Д. О. Сказание, киим
святым каковые благодати от Бога даны //
Русский архив. М., 1863. Вып. 12. С. 947.
555 Мухина Е. Н. «Человек толпы»:
(Портрет губернского жандармского штаб-
офицера эпохи Николая I) // ВМУ. Сер. 8.
История. 2000. № 4. С. 54. Точное из¬
мерение многим крестьянам казалось гре¬
хом, так как Божий дар оценивать нельзя.
556 Диалоги со временем: Память о
прошлом в контексте истории / Л. П. Репина
(ред.). М, 2008 ; Образы времени и ис¬
торические представления : Россия — Вос¬
ток — Запад / Л. П. Репина (ред.). М., 2010.
В двух сборниках статей на материале
различных культурных ареалов и эпох (Ан¬
тичности, Средневековья, Нового и Новей¬
шего времени) исследуются образы време¬
ни, коллективные представления о связи
времен, о прошлом и будущем, которые
формируют матрицу восприятия происхо¬
дящего и выполняют функцию ориентации
индивидуального и группового поведения.
557 Гуревич А. Я. Категории средневе¬
ковой культуры. С. 138.
558 Успенский Б. А. Этюды о русской
истории. С. 113.
559 Там же. С. 174.
560 Щербина Ф. Передача и обращение
народных знаний // Устои. 1882. № 5. ,С. 11.
561 Там же.
562 Там же.
563 Златовратский И. Я. Устои // Зла¬
товратский Я Я. Собр. соч. Т. 3. С. 216.
564 Семенова- Тян-Шанская О. П. Жизнь
«Ивана» ... С. 21—31.
565 Златовратский Я Я Очерки
крестьянской общины. С. 62. См. также:
Потехин А. А. Крестьянские дети // Поте¬
хин А. А. Сочинения : в 12 т. СПб., 1904. Т. 4.
566 Русские дети: Основы народной
педагогики: ил. энцикл. / И. И. Шангина
(ред.). СПб., 2006. С. 38.
567 Там же. С. 15.
568 Филд Д. Воспоминания Е. К. Брешко-
Брешковской о «хождении в народ» в 1870-х
годах: Опыт источниковедческого анали¬
за // П. А. Зайончковский, 1904—1983 гг....
С. 320—334.
569 Литвак Б. Г. О некоторых чертах
психологии русских крепостных первой
половины XIX в. // История и психология.
С. 209.
570 Там же. С. 200—209.
571 Златовратский Я Я. Устои. С. 119.
572 Клибанов А. И. О методологии изу¬
чения религиозного сознания. С. 102—103.
573 Златовратский Я Я. Крестьяне-
присяжные // Златовратский Я Я. Собр.
соч. Т. 2. С. 27—28.
574 Распутин В. Повести. М., 1976.
575 Российская культурная история под
углом зрения «эмоционального поворота»
586
Примечания
стала в 2008 г. темой научной конференции
«Эмоции в русской истории и культуре».
Материалы конференции в: Российская
империя чувств: Подходы к культурной
истории эмоций / Я. Плампер, Ш. Шахадат,
М. Эли (ред.). М., 2010. В 20 статьях
рассматриваются ключевые вопросы ис¬
тории эмоций: На чем зиждется расхожее
мнение, что одни народы — в частности
русские — эмоциональнее других? Как
историку, литературоведу, антропологу ра¬
ботать с эмоциями — описывать, учитывать,
анализировать их? Каким образом рож¬
даются групповые эмоции? Что способно
воздействовать на них? Кто исполняет мис¬
сию коллективного «воспитания чувств»?
Верно ли, что история шла по линии
нарастания контроля над эмоциями? Какими
способами политические режимы исполь¬
зуют и трансформируют эмоции своих
подданных и граждан? Статьи сборника
сгруппированы по тематическому признаку.
В разделе «Эмоциональные сообщества»
предлагается обзор эмоциональных норм,
начиная с XVIII в., анализируется эмо¬
циональный заряд триады «государство —
империя — нация». В разделе «Воспитание
чувств» рассмотрены проблемы групповых
эмоций и способов воздействия на них.
В других разделах освещается роль эмоций
в различных теориях искусства и эстетики
конца XIX—начала XX в. Сборник со¬
держит две вводные статьи, освещающие
процесс возникновения исследовательского
поля «история эмоций», дающие обзор
трудов, посвященных непосредственно Рос¬
сии, теме эмоций в русской культуре, а так¬
же библиографию, насчитывающую свыше
150 публикаций по теме, в том числе 10 на
русском языке, что отражает масштабы ис¬
следования в новом направлении в России и
на Западе. Конференция была организована
Франко-российским центром гуманитарных
и общественных наук и Германским исто¬
рическим институтом в Москве. См. также:
Daalen R., von. The Emotions // Encyclopedia
of European History ... Vol. 4. P. 383—396.
576 Канеман Д, Тверски А. Рациональ¬
ный выбор, ценности и фреймы // Психо¬
логический журнал. 2003. Т. 24, № 3.
С. 31—42; Белянин А. Дэниел Канеман
и Вернон Смит: экономический анализ
человеческого поведения (Нобелевская пре¬
мия за чувство реальности) // ВЭ. 2003. № 1.
С. 4—23.
577 О социальных функциях эмоций см.:
Горбунова М. Ю., Фиглин Л. А. Эмоции как
объект социологических исследований: биб¬
лиографический анализ // Социс. 2010. № 6.
С. 13—22. Авторы, в частности, отмечают:
«Необходимо отметить, что эмоциям при¬
сущи две основные социальные функции.
Во-первых, эмоции структурируют социаль¬
ные ситуации, определяя позицию индивида
в социальной среде через ненависть и лю¬
бовь, через страх и доверие, закрепляя меж¬
ду внутригрупповым и внегрупповым, меж¬
ду другом и врагом и т. д. Сами эмоции
являются внутренними ресурсами индивида,
которыми можно обмениваться. Эмоции
образуют мотивационный базис социально¬
го действия и служат связующим звеном
между окружающим миром, событиями,
происходящими в нём, структурными осо¬
бенностями отдельного индивида. Эмоции,
на наш взгляд, не только участвуют в мо¬
тивации и активизации мыслительной
деятельности, входят в её структуру, выпол¬
няя в ней функции эвристического порядка.
Категориальное различие между эмоцио¬
нальным и функциональным освоением
состоит в том, что эмоции представляют
собой синхронную форму конструирования
мира, а процесс познания — последова¬
тельный вид его понимания, т. е. эмоции
составляют форму переживания, а способ¬
ность человека говорить и осваивать мир
с помощью языкового структурированного
процесса познания, даёт ему возможность
последовательного доступа к миру» (Там
же. С. 3).
578 Горбунова М. Ю., Фиглин Л. А. Эмо¬
ции как объект социологических исследо¬
ваний ... С. 13—22.
579 Юнг К.-Г. О психологии восточных
религий и философий. М., 1994. С. 22—23.
580 Бгажноков Б. X Культура эмпатии.
С. 55—68.
587
Глава 12. Русская культура в коллективных представлениях
581 Фромм Э. Очеловеченные пережи¬
вания // Фромм Э. Душа человека. М., 2004.
URL: http://www.marsexx.ru/psychology/fromrn-
revolucia.html (дата обращения: 04.06.2014).
582 Гоулман Д. Эмоциональный интел¬
лект. М., 2008; Андреева И. Н. Азбука
эмоционального интеллекта. СПб., 2012;
Вайсбах X, Дакс У. Эмоциональный ин¬
теллект. М., 1998 ; Гиту О. Эмоциональное
мышление как инструмент достижения
успеха. М., 2003 ; Карпов А. В., Петров¬
ская А. С. Психология эмоционального
интеллекта: теория, диагностика, практика :
монография. Ярославль, 2008 ; Люсин Д В.
Современные представления об эмоцио¬
нальном интеллеете // Социальный интел¬
лект : Теория, измерение, исследования /
Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков (ред.). М., 2004.
С. 29—36.
583 Выготский Л. С. Проблемы развития
психики // Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т.
М., 1982—2004. T.3.C.83.
584 Элиас Н. О процессе цивилизации ...
585 Бобков Ф. Д. Из записок бывшего
крепостного человека. С. 575—655. Извле¬
чение из пространных дневников было
сделано М. Ф. Чулицким и первый раз
опубликовано в 1907 г. в журнале «Исто¬
рический вестник», № 5—7.
586 Трескин А. Чему учит наша школа.
С. 65—66.
587 Романов А. П. Начальное образо¬
вание русского крестьянства в последней
четверти XIX—начале XX века: Официаль¬
ная политика и общественные модели.
Челябинск, 2009.
588 Блонский II. П. Память и мышление //
Блонский П. П. Избр. психологические
произведения. М, 1964. С. 281. Преодо¬
ление сим^рактичности мышления в ходе
обучения не только детей, но и взрослых
говорит о том, что проблема не биоло¬
гическая и генетическая, а культурная:
Иванов Вяч. Вс. Нейропсихологические
модели и возможность их применения к
истории русской средневековой культуры //
Московская Русь (1359—1584): культура
и историческое самосознание / А. М. Клей-
мола, Г. Д. Ленхофф (ред.). М., 1997.
С. 181—202. Иванов опровергает утвер¬
ждения о недоразвитости у наших предков
левого полушария головного мозга, отве¬
чающего за логические и математические
способности. Против концепции «невегла-
сия» — недостаточного интеллектуального
уровня древнерусской культуры выступил
также Р. А. Симонов: Симонов Р. А. Хро¬
нология и метрология Древней Руси в свете
новых памятников математической куль¬
туры // Вспомогательные исторические
дисциплины: классическое наследие и но¬
вые направления: Материалы XVIII науч¬
ной конференции. Москва, 26—28 января
2006 г. М., 2006. С. 82—92. Смысл
концепции «невегласия» изложен в кн.:
Шпет Г. Г. Очерк истории русской
философии // Очерки истории русской
философии / А. И. Введенский, А. Ф. Лосев,
Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. Свердловск, 1991.
С. 225—260. Возражения против концепции
применительно к древнерусской фило¬
софско-математической мысли см.: Симо¬
нов Р. А. Древнерусская математическая
культура: новые материалы : «Невегласие»
культуры Древней Руси: за и против //
Книгочей. М., 2001. Вып. 7. С. А—16.
См. также: Иванов Вяч. Вс. Культурная
антропология в системе наук: Программа
нового гуманитарного образования //
Антропология культуры. 2002. Вып. 1.
С. 9—31.
589 Graff Н. J. Literacy Myths ... Р. 15—34.
590 Шейнов В. П. Скрытое управление
человеком : Психология манипулирования.
М.; Минск, 2009. Гл. 8: Понуждение
к действию. URL: http://bookap.info/psywar/
sheynov_skrytoe_upravlenie_chelovekom/gl34.
shtm (дата обращения: 04.06.2014).
591 Миронов Б. Н. Благосостояние насе¬
ления ... С. 609—617.
592 Ковалъченко И. Д. Русское кре¬
постное крестьянство в первой половине
XIX в. М., 1967. С. 75—80; Козлов С. А.
Аграрные традиции и новации в дорефор¬
менной России (центрально-черноземные
губернии). М., 2002. С. 384—389.
593 Козлов С. А. Аграрная модернизация
Центрально-черноземной России в конце
588
Примечания
XIX—начале XX в. М, 2012. С. 17—20,
167—168, 294—295.
594 Боно Э., де. Рождение новой идеи.
М., 1976. С. 86.
595 Скалдин В. В захолустье и в столице.
С. 222.
596 Лебедев И. Быт крестьян Тверской
губернии. С. 197.
5 7 Клибанов А. И. О методологии изу¬
чения религиозного сознания. С. 101,107.
598 Вопросы языкознания. 1989. № 4.
«Постепеновец — разговорно-интеллигент¬
ское слово с публицистической окраской.
Оно оформилось в 60-е годы XIX в., но осо¬
бенно широко распространилось в русском
литературном языке, в его журнально-пуб¬
лицистическом и разговорно-интеллигент¬
ском стилях в 70—80-е годы. Оно обоз¬
начает сторонника медленного, поступа¬
тельного, постепенного развития прогресса,
противника решительных революционных
методов. Позднее было образовано и отвле¬
ченное слово — постепеновщина, получив¬
шее еще более пренебрежительную окраску
и обозначавшее: отрицание решительных,
революционных методов».
599 Бердяев Н. А. Размышления о рус¬
ской революции. URL: http://www.magister.
msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn086.htm
(дата обращения: 10.05.2014).
600 Китаев-Смык Л. А. Психология
стресса... С. 743.
601 Инглхарт Р. Постмодерн: меняю¬
щиеся ценности и изменяющиеся общества //
Полис. 1997. № 4. С. 26—32. См. также:
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, куль¬
турные изменения и демократия: Последо¬
вательность человеческого развития. М., 2011.
602 URL: http://dokumentika.org/eda/vib-
rasivaiut-produkti-pitaniya (дата обращения:
28.05.2014).
603 Тённис Ф. Общность и общество: Ос¬
новные понятия чистой социологии. СПб.,
2002. С. 81—85 ; Экономика и социология
доверия / Ю. В. Веселов (ред.). СПб., 2004.
С. 109—134.
604 Розанваллон П. Утопический капита¬
лизм : История идеи рынка. М., 2007. См.
также: Венедиктова I Д «Разговор по-
американски» : Дискурс торга в словесности
США XIX века. М., 2003.
605 Фромм Э. Анатомия ...
606 В социологии артикулированы четы¬
ре концепции происхождения бедности: (1)
как особый образ жизни и как особая
культура, (2) как результат классовой
эксплуатации, (3) как модель стилей и рис¬
ков, (4) как модель социального исключе¬
ния, как инструментальная причина текущих
жизненных трудностей: Ярошенко С. С. Че¬
тыре социологических объяснения бедности
(опыт анализа зарубежной литературы //
Социс. 2006. № 7. С. 34-42.
607 Д. К. Гелбрейт (1908—2006) —
канадский экономист, введший понятие «об¬
щество изобилия», и автор одноименной
книги (1958).
608 Антуан-Луи-Клод Дестют де Траси
(1754—1836) — французский философ, по¬
литик и экономист.
609 Салинз М Экономика каменного ве¬
ка. С. 19—20.
610 Дюркгейм Э. О разделении общест¬
венного труда : Метод социологии. М., 1991.
С. 225, 226, 229, 230.
611 См., например: Флербе М За пре¬
делами ВВП: В поисках меры общест¬
венного благосостояния // ВЭ. 2012. № 2.
С. 67—93; № 3. С. 32—51.
6,2 Шапталов Б. Н. Феномен государ¬
ственного лидерства: Экспансия в мировой
истории. М., 2008.
ГЛАВА 13
ИТОГИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В ПЕРИОД ИМПЕРИИ
Свобода не есть удобство жизни или приятность.
Свобода есть бремя, которое надо поднять и понести,
чтобы не уронить его и не пасть самому. Надо воспитывать
себя к свободе, надо созреть к ней, дорасти до нее,
иначе она станет источником соблазна и гибели.
Ильин И А. Собр. соч. : в Ют. М., 1993. Т. 1. С. 281
Итоги развития
Анализ, проведенный в предыдущих главах, приводит к выводу: российское
общество в период империи быстро и прогрессивно изменялось. Суммирую
наблюдения по главным линиям развития и намечу тренды.
Социальная структура населения подверглась глубокой трансформации.
Московское государство было этакратическим: социальные группы не являлись
ни сословиями, ни классами в истинном смысле этих понятий. Только к концу
XVIII в. в России в основном сформировались сословия, которые обладали
главными признаками настоящего сословия: их права были закреплены в законе
и являлись наследственными; они имели свои организации и суды, пользовались
правом самоуправления; обладали сословным самосознанием и менталитетом.
В пореформенное время сословия постепенно трансформировались в классы и к
1917 г. юридически утратили свои важнейшие привилегии, хотя и не стали
настоящими классами. Законы обгоняли жизнь: массовые представления о стра¬
тификации и общественных отношениях, взаимные идентификации и самоиден¬
тификации социальных групп, а также социальные практики находились еще
в рамках сословной парадигмы вследствие многочисленных сословных пережит¬
ков и незавершенности профессионализации населения.
В крепостное время внутрисословная мобильность находилась на высоком
уровне у всех сословий, межсословная мобильность у дворянства, духовенства,
купечества, мещанства и разночинцев — а среднем, а у крестьянства — на низ¬
ком. В горизонтальную мобильность, прежде всего в миграции, были вовлечены
все сословия, но в разной степени, количественно оценить которую пока не пред¬
ставляется возможным. Социальная мобильность, хотя и не обеспечивала пред¬
ставителей различных сословий и население разных регионов равными возмож¬
ностями для вертикальных и горизонтальных перемещений, тем не менее служи¬
ла важным фактором социальной стабильности дореформенного российского
общества. Социальная мобильность даже на невысоком уровне выполняла важ¬
ные общественные функции. Вертикальная мобильность обеспечивала некото¬
рую циркуляцию элит: способствовала перемещениям наиболее способных лиц
из непривилегированных слоев в элитарные слои, а деклассированных элементов
из привилегированных групп — в низшие податные группы, тем самым поощря¬
ла самых лучших и содействовала раскрытию индивидуальных дарований. Гори¬
593
Глава 13. Итоги развития России в период империи
зонтальная мобильность поддерживала миграцию крестьянства из густонаселен¬
ных губерний в малонаселенные или на целинные земли, а также перемещения
крестьян из деревни в город, из агарного сектора в торгово-промышленный, раз¬
ряжая социальную напряженность в деревне, возникавшую на почве аграрного
перенаселения. Она же способствовала перемещениям мещан и купцов из города
в деревню для занятия торговлей и промышленностью в сельской местности, по¬
вышая коммерциализацию сельского хозяйства. В последней трети XIX—начале
XX в. наблюдался существенный рост всех видов социальной мобильности. Од¬
нако для удовлетворения возросших потребностей непривилегированных групп
достигнутого уровня вертикальных социальных перемещений оказалось недоста¬
точно, что послужило фактором повышения социальной напряженности в рос¬
сийском обществе. Преобладание среди дворянства нисходящих перемещений
еще более напряженность усиливало. В результате увеличившейся горизонталь¬
ной мобильности возник и быстро рос рабочий класс, который являлся марги¬
нальной социально-профессиональной группой, испытывал чувство депривации,
находился в состоянии индивидуальной и общественной аномии, отказывался
следовать традиционным убеждениям и стандартам поведения, свойственных
крестьянству, из которого главным образом он происходили.
Демографические процессы также испытывали трансформацию: население
отказывалось от стихийной рождаемости в пользу регулируемой, от высокой
смертности — в пользу низкой и от всеобщих и обязательных браков — в пользу
добровольных (к 1917 г. около 15 % лиц бракоспособного возраста не вступали
в брак). Благодаря этому в конце XIX в. Россия вступила в период демографиче¬
ского перехода от традиционной к современной модели воспроизводства населе¬
ния, более эффективной с точки зрения материальных, психологических и физи¬
ческих затрат со стороны родителей и общества. Общая сумма затрат на воспро¬
изводство населения за период с 1851—1863 по 1904—1913 гг. уменьшилась
приблизительно на 23 %. Это означало, что женщины стали меньше рожать, но,
несмотря на это, каждое новое поколение становилось более многочисленным,
причем замена одного поколения другим стала проходить на 23 % более эффек¬
тивно, т. е. с меньшими физическими затратами со стороны женщины и меньши¬
ми материальными затратами со стороны родителей. Демографический переход
был тем редким случаем в истории России, когда прогрессивные изменения про¬
исходили не по воле властей, а исключительно добровольно и стихийно, на уров¬
не отдельного человека и отдельной семьи и потому были необратимыми. В этом
смысле начало демографического перехода было знаковым событием — призна¬
ком зарои^дения новой активной индивидуалистской личности.
С точки зрения структуры семья изменялась в направлении от составной или
расширенной к малой (нукеарной), а с точки зрения внутрисемейных отношений —
от авторитарно-патриархальной к переходной; величина семьи уменьшалась. Отме¬
ченные тренды имели сословные особенности. По условиям своей жизни и службы
духовенство и дворянство предпочитали малую семью, поэтому в их среде к началу
XIX в. утвердилась нуклеарная семья. Своеобразно эволюционировала семейная
структура у крестьян и городского сословия. Подавляющее большинство семей
проходило цикл развития от малой к составной и обратно: нуклеарная семья разрас¬
594
Итоги развития
талась до составной, а после смерти главы семьи — большака разделялась на ма¬
лые, и начинался новый цикл. Но если на рубеже XVII—XVIII вв. большая часть
жизни человека проходила в рамках составной семьи, то в начале XX в. — в рамках
малой семьи, потому что молодое поколение отделялось от родителей, не дожида¬
ясь смерти большака. Малая семья как главная форма организации семейной жизни
пришла в город примерно на 50 лет раньше, чем в деревню, — уже к концу XIX в.
Позитивные изменения происходили одновременно и в семейном укладе, особенно
после Великих реформ 1860-х гг.: уменьшалось насилие над слабыми; устанавли¬
вался известный контроль со стороны общества и закона за соблюдением интересов
женщин и детей; абсолютизм патриарха ставился в рамки закона; расширялась ав¬
тономия семьи от общественных структур; семейная жизнь эмоционально насы¬
щалась, превращалась в частную жизнь, в самостоятельную структуру повсе¬
дневности, в которой получили возможность развиваться личные интимные от¬
ношения. Словом, авторитарно-патриархальная семья трансформировалась в ма¬
лую эгалитарную. Среди образованного общества гуманизация внутрисемейных
отношений зашла достаточно далеко, а среди крестьянства и городских низов про¬
гресс был умеренным, особенно в аграрных губерниях.
Главные социальные организации населения — сельская и городская общины,
купеческие, мещанские, ремесленные и дворянские корпорации — с точки зрения
структуры, функций, управления, межличностных отношений, норм жизни с тече¬
нием времени становились все более рациональными, формализованными, пола¬
гающимися в своей деятельности на твердые юридические правила В них механи¬
ческая солидарность, основанная преимущественно на соседстве и родстве, уважении,
привязанности и дружбе, заменялась органической солидарностью, базирующейся
главным образом на разделении труда, обмене услугами, на законном порядке
и других рациональных отношениях, в которых значение родственных связей ухо¬
дили на второй план. Другими словами, социальные организации эволюционирова¬
ли в направлении от общности к обществу, благодаря чему социальные отношения
модернизировались — в этом состояло одно из принципиальных изменений приро¬
ды русского общества периода империи. Важнейшими факторами этой трансфор¬
мации являлись: официальное юридическое признание государством социальных
организаций в качестве юридических лиц; приобретение официальных функций
и формальной структуры; рост социальной мобильности; коммерциализация эко¬
номики и превращение самостоятельных хозяев в сельскохозяйственных и про¬
мышленных рабочих; повышение грамотности, секуляризация сознания, изменение
менталитета; развитие индивидуализма.
Крепостничество, пронизывавшее в начале XVIII в. все общество снизу до¬
верху, постепенно уступало место отношениям, основанным на личной свободе,
договоре и признанных законом сначала сословных правах, а после Великих ре¬
форм — общегражданских. Первым в течение 1762—1785 гг. эмансипировалось
дворянство, затем к концу XVIII в. — духовенство и высшая страта городского
сословия — купечество, в 1860—1870-е гг. — мещанство, последним освободи¬
лось крестьянство, причем в три приема: в 1861 г. — от частновладельческого,
в 1861—1905 гг. — от государственного, в 1906—1917 гг., в ходе Столыпинской
реформы, — от корпоративного крепостничества. Подчеркну: крепостнические
595
Глава 13. Итоги развития России в период империи
отношения, несмотря на всю свою жесткость, строились главным образом на
обычае и законе, а не на произволе душевладельцев. Крепостное право использо¬
валось государством как вынужденное средство для решения насущных rocy-j
дарственно-общественных проблем и являлось оборотной стороной слабого]
развития индивидуализма и рациональности в поведении, широты русской на¬
туры, народного понимания свободы как воли, недостатка самоконтроля и дис¬
циплины. Крепостное право являлось фактором поддержания социального по¬
рядка в обществе и средством извлечения у населения необходимых для суще¬
ствования государства и социума финансовых средств. Оно компенсировало
недостаток общероссийской солидарности и сплоченности, помогало государ¬
ству преодолеть партикуляризм, свойственный отдельным сельским и городским
общинам, сословным корпорациям, озабоченным главным образом местными
и сословными нуждами. Иначе узкие местные и сословные интересы могли
взять верх над государственными.
Серьезную эволюцию в течение императорского периода испытали город и де¬
ревня. Произошла радикальная трансформация в функциях городов и соответствен¬
но в отраслевой занятости горожан: города в XVIII в. были преимущественно сель¬
скохозяйственными, в начале XX в. — торгово-промышленными, превратившись из
доиндустриальных в раннеиндустриальные, а столицы и крупнейшие города —
в индустриальные. Столь же радикальные перемены произошли в характере труда,
в образе жизни городского населения, в значении городов в жизни страны. При
этом доля горожан в населении, которая обычно рассматривается в качестве показа¬
теля уровня урбанизации, в XVIII—первой половине XIX в. уменьшилась с 13 до
9 %, к 1914 г. поднялась лишь до 15,3 %. Причины этого состояли в низком естест¬
венном приросте городского населения сравнительно с сельским и в слабой мигра¬
ции крестьянства в города. Официальные данные о городском населении скрывали
истинные размеры урбанизации. Для получения полной картины необходимо учи¬
тывать масштабы скрытой и рассеянной (отходничество, промышленные села) ур¬
банизации, которая происходила более быстрыми темпами, чем урбанизация фор¬
мальная. Например, в начале XX в. годовое число отходников из деревни на треть
превышало общую численность городского населения страны.
До середины XVII в. между городом и деревней не было четкой правовой, куль¬
турной, социальной, административной и экономической границы. В 1775—1785 гг.
произошло размежевание города и деревни в административном, а городского
и сельского населения — в социальном отношении. Еще полстолетия потребова¬
лось для того, чтобы город четко отделился от деревни и экономически. Однако
даже йа момент достижения наивысшей степени дифференциации, в середине XIX в.,
город и деревня не превратились в противоположности благодаря тому, что парал¬
лельно с дифференциацией происходила интеграция вследствие роста контактов
между ними. После Великих реформ экономические и культурные связи между го¬
родом и деревней усилились настолько, что создались предпосылки для постепен¬
ного объединения их в единое экономическое, культурное и правовое пространство,
основанное на этот раз не на полном сходстве, как это было до XVIII в., а на инте¬
грации экономически специализированного и взаимно нуждающегося друг в друге
городского и сельского населения.
596
Итоги развития
В XVIII—начале XX в. все отрасли права в России развивались параллельно.
Понятия права совершенствовались, становились более четкими, ясными и адекват¬
ными общественным практикам. Развитие гражданского права повысило полномо¬
чия отдельного лица в сфере гражданско-правовых сделок до возможной степени.
Семейное право увеличило права женщин и детей и стало лучше защищать их ин¬
тересы, что способствовало смягчению семейных нравов. В уголовном праве на
смену обвинительному процессу пришел розыскной, а он в свою очередь был заме¬
нен смешанным процессом; система наказаний гуманизировалась; важное место
занял суд присяжных. Шаг за шагом устанавливалась власть закона над человече¬
ским произволом и превосходство закона над обычаем; судебная власть отделялась
от административной; за каждым человеком (независимо от пола, возраста и соци¬
ального положения) признавалось равное право на судебную защиту; гражданские
права населения увеличивались. Суд достиг значительного уровня справедливости
уже в 1830-е гг., а после судебной реформы 1864 г. жалобы на коррупцию, волокиту
и вообще на несправедливость в судах практически прекратились. Во всех сферах
жизни утверждался закон, который в ходе Великих реформ 1860—1870-х гг. одер¬
жал победу в городе и медленно, но верно вытеснял обычное право в деревне.
Характерной чертой развития права периода империи являлось то, что правовые
нормы изменялись, опережая жизнь и потребности населения: государство почти
всегда понимало нужды страны раньше общества и подталкивало последнее
к переменам с помощью изменения права, заимствуя его преимущественно в цент¬
рально-европейских странах. Отсюда возникало много проблем. Будучи взятыми
из более зрелых в социальном и политическом отношении государств, новые пра¬
вовые нормы часто расходились с жизнью. Старые нормы отменялись в то время,
когда они еще были жизнеспособны. Новые нормы часто нарушались по причине
долгого сосуществования со старыми и вследствие юридического плюрализма —
в деревне действовал обычай, в городе — закон. Утверждаемое де-юре расходилось
с существовавшим де-факто. Однако это не должно умалять значения достигнуто¬
го и утвержденного де-юре: именно право конструирует социальную реальность
и дисциплинирует человека в соответствии со своими нормами1. Так, российское
право сначала сконструировало идеал правового государства и гражданского обще¬
ства; потом образец постепенно конструировал по своему подобию общественные
практики и утверждался в действительности. Поясню эту мысль следующей анало¬
гией. В советское время существовали на первый взгляд декоративные демократия
и федерализм — все это существовало де-юре. Но это, как оказалось, имело боль¬
шое значение и серьезные последствия: люди привыкали к самим идеям граждан¬
ских прав и федерализма и в конце концов настолько глубоко впитали и сжились
с этими идеями, что в один прекрасный момент, при благоприятных обстоятельст¬
вах, захотели их реализовать и довольно быстро добились успеха
Значительного прогресса достигла российская государственность — из народ¬
ной монархии XVII в. она в 1906—феврале 1917 г. превратилась в де-юре консти¬
туционную монархию, а в марте—октябре 1917 г., на несколько месяцев, —
в демократическую парламентскую республику. За 200 с небольшим лет Россия
прошла путь от народной монархии, которая осуществляла традиционно¬
харизматическое господство, до правового государства, которое осуществляло
597
Глава 13. Итоги развития России в период империи
в основном легальное господство. Эволюция русской бюрократии из малогра¬
мотной, крепостной, некомпетентной, предназначенной только для выполнения
приказаний начальства, в бюрократию профессиональную, образованную, воль¬
нонаемную, действующую в рамках полномочий, определенных законом и ве¬
домственными инструкциями и ради государственных интересов, имела огромной
значение для развития русской государственности. Относиться негативно к ран*
ним стадиям государственности и бюрократии, руководствуясь современным^
представлениями о «хорошей» и «плохой» форме государственности, — неистов
рично: каждая стадия в развитии российской государственности была необходим
ма и целесообразна для общества в свое время и соответствовала политическим
представлениям, нравам и общественным практикам своей эпохи. Столь же неис^
торично осуждать каждую только что возникшую новую стадию государствен¬
ности за несовершенство: после того когда принцип законности и правомерности
управления провозглашается официально, проведение его в жизнь растягивается
на долгие годы.
В течение всего имперского периода, как, впрочем, и в более раннее время,
характерной особенностью управления обществом и государством являлось
разделение, или расщепление, властных и управленческих функций между вер¬
ховной властью и ее администрацией, с одной стороны, и сословным само¬
управлением в лице городских и сельских общин, городских и дворянских корпо¬
раций — с другой. В руках сословного самоуправления находилось местное
управление на первичном, поселенческом, уровне, благодаря чему население
всегда участвовало в управлении обществом. Разделенную форму власти сле¬
дует рассматривать как разумный компромисс между обществом и государством,
обеспечивавший социальный порядок, соблюдение сословных прав и местных
интересов.
До XVIII в. общество и государство жили едино и по большому счету в согла¬
сии. Однако в этом симбиозе общественность играла роль доверенного слуги,
а не партнера, как в гражданском обществе. В XVIII—начале XX в. российское
общество из слуги государства и объекта управления превращалось де-юре и де-
факто в субъект государственного управления. Одновременно общественность
расширила свои социальные границы: стала включать в свой состав не только
привилегированные социальные группы, как прежде, а весь народ, так как поли¬
тические и гражданские права в 1906 г. получило все население страны. Зарож¬
дение гражданского общества относится к последней трети XVIII в.; к 1917 г.
сформировались его основные элементы: масса добровольных общественных
ассоциаций, критически мыслящая общественность, свободная пресса, независи¬
мое общественное мнение, политические партии, парламент. Политический про¬
цесс в XVII—XX вв. претерпел кардинальные изменения вследствие того, что
исполнение его важнейших функций (социализации, рекрутирования, коммуни¬
кации, артикуляции и агрегации интересов, определение и осуществление поли¬
тического курса, вынесение судебных решений) перешло от разного рода корон¬
ных учреждений, традиционных институтов и органов сословного управления
к средствам массовой информации, добровольным ассоциациям, парламенту,
политическим партиям, школе всех уровней и литературе.
598
Итоги развития
Вопрос о развитие индивидуализма в России затрагивался практически во всех
главах. Индивидуалистская личность зародилась в среде дворянства в XVII в.
и набирала силу очень медленно, так как ни государство, ни общество не поощря¬
ли развитие индивидуализма2. Русская классическая литература негативно оцени¬
вала индивидуализм и положительно — всякие формы коллективизма и соборно¬
сти, в силу чего главным действующим лицом русских писателей чаще всего высту¬
пал маленький человек, а не гений и герой3. Но остановить развитие индивидуа¬
лизма было невозможно. В пореформенное время процесс индивидуализации за¬
хватил все слои населения и имел разнообразные проявления, в том числе негатив¬
ные, например в форме хулиганства среди деревенской и городской молодежи4.
Становление личности в низших слоях общества ярко обнаруживалось во время
конфликтов рабочих с работодателями и женщин с мужчинами. Рабочие стали жа¬
ловаться не только на низкие заработки и длинный рабочий день, как было до Ве¬
ликих реформ, но также на грубое обращение мастеров и других представителей
фабричной администрации: применение физической силы и употребление мата,
сексуальные посягательства по отношению к работницам, обращение к ним на
«ты», отношение к ним «как к детям», «рабам», «крепостным» или «вещам». Дру¬
гими словами, рабочие протестовали против обращения с ними в формате доре¬
форменных отношений между господином и слугой, помещиком и крепостным.
Важно отметить, что рабочие не ограничивались коллективными протестами, а час¬
то обращались с личными исками в мировые суды с теми же жалобами. И в том
и другом случае явно проявлялось стремление добиться уважения себя как лично¬
сти . В жалобах женщин на жестокое обращение свекров и мужей и на запрещение
ими заниматься отхожими промыслами также проявлялось стремление крестья¬
нок — самой забитой части населения — отстоять личное достоинство и уменьшить
гендерное неравенство6.
О развитии индивидуализма в среде крестьянства свидетельствует приход в де¬
ревню городского понятия моды. Как известно, мода предполагает индивидуали¬
зацию: погоня за модой невозможна без желания выделить себя из других. В тра¬
диционных обществах, отмеченных максимальной однородностью, где порица¬
ется и потому отсутствует стремление выделиться из общей массы, нет и моды,
хотя вкусы со временем могут медленно изменяться7. По наблюдениям этногра¬
фов, до отмены крепостного права крестьяне не знали моды: она пришла в деревню
в начале 1860-х гг. С тех пор материя и фасоны одежды в деревне стали регулярно,
хотя и менее часто, чем в городе, изменяться — в 1863, 1867, 1872, 1876, 1880,
1883, 1885 гг. и т. д. Одновременно с этим домотканая одежда вытеснялась покуп¬
ной, одноцветная — разноцветной, дешевая — более дорогой. Важно отметить, что
эти перемены пришли не только в села, охваченные отходничеством, но и в чисто
земледельческие селения8. Хотя проявление индивидуализма в последней трети
XIX—начале XX в. являлось массовым и повсеместным явлением, было бы преуве¬
личением сказать, что к 1917 г. российский человек стал индивидуалистом. Право
на личную тайну, независимую частную жизнь, на имидж, начиная с внешнего вида
и кончая привычками и образом жизни, право каждой личности быть тем, кто она
есть или хочет быть (то, что подразумевает понятие «privacy» — «прайваси»), даже
в начале XX в. существовало только в среде высшего класса9.
599
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рост отклоняющегося поведения во второй половине XIX—начале XX в. во
всех его проявлениях следует рассматривать как яркое свидетельство увеличения
личной свободы и индивидуализма, которому почти всегда сопутствует рост
эгоистических настроений, снижение морали, стирание граней между правдой
и ложью, справедливостью и беззаконием.
В целом в имперской России происходила социальная модернизация. Во-пер¬
вых, люди приобретали личные и гражданские права; человек становился авто¬
номным от коллектива — будь то семья, община или другая корпорация — и са¬
модостаточным, приобретая ценность сам по себе, независимо от корпоративной
принадлежности и родственных связей. Во-вторых, малая семья становилась ав¬
тономной от корпорации и высвобождалась из паутины родственных и соседских
связей. В-третьих, городские и сельские общины изживали свою замкнутость
и самодостаточность, все больше включались в большое общество и систему го¬
сударственного управления. В-четвертых, отдельные социальные группы и кор¬
порации консолидировались в сословия, сословия трансформировались в про¬
фессиональные группы и классы; из них формировалось гражданское общество,
которое освобождалось от опеки государства и верховной власти и становилось
субъектом власти и управления. В-пятых, по мере постепенного признания субъек¬
тивных публичных прав граждан возникали конкретные правовые пределы для
деятельности органов государственного управления — государство становилось
правовым. Словом, суть социальной модернизации в императорской России, как
и всюду, состояла в том, что происходило зарождение и развитие личности,
малой демократической семьи, гражданского общества и правового государст¬
ва. В ходе ее городские и сельские обыватели в юридическом, социальном и по¬
литическом отношениях превращались в граждан.
Весьма симптоматично, что до Великих реформ, в течение нескольких столе¬
тий, благосостояние населения изменялось циклически, варьируя вокруг некоего
среднего уровня. И только в пореформенное время вышло на более высокую сту¬
пень, что свидетельствовало об успешности модернизации.
Подчеркну взаимосвязанность и параллелизм изменений в разных сферах
жизни. В XVII—первой половине XVIII в. отношения в семье, обществе и госу¬
дарстве строились на традиционном, патриархальном господстве и патернализме.
Власть главы семьи, хозяина, помещика и государя уподоблялась отцовской вла¬
сти и сакрализовалась. Патриархальный несвободный человек, ограниченный
в своих правах большой семьей и своей корпорацией, а в своих желаниях и стрем¬
лениях — традицией, обычаем и религиозной моралью; авторитарно-патриар¬
хальная семья; общинная форма социальной организации; преобладание общин¬
ной или государственной собственности; натуральное в основе хозяйство; абсо¬
лютная монархия и империя как форма существования народов в рамках единого
государства оптимально сочетались. В последней трети XVIII—начале XX в. и в
семье, и в корпорациях, и в большом обществе, и в государстве властные отно¬
шения стали шаг за шагом строиться на рациональных соображениях, договоре
и законе: везде традиционное господство постепенно заменялось легальным,
а власть десакрализовалась и ставилась в рамки писаного закона, т. е. станови¬
лась закономерной. На этой основе с различной скоростью в разных сословиях
600
Итоги развития
формировалась, хотя и не сформировалась до конца, новая система социальных
организаций, институтов, правовых норм, соответствующих потребностям секу-
лярного человека, наделенного сословными правами, ограниченного в своих же¬
ланиях и стремлениях законом, совестью и моралью. Свободный гражданин
с политическими правами, светский менталитет, малая семья, общественная форма
социальной организации, частная собственность, рыночное хозяйство, граждан¬
ское общество, правовое государство и федерация как форма сосуществования
народов в рамках единого государства сочетались, и именно в этих направлениях
развивалось российское общество.
Таким образом, человек, семья, социальные организации, собственность, эко¬
номика, общество и государство — все развивалось параллельно и системно, во
взаимной обусловленности и взаимодействии (хотя изменения затрагивали раз¬
личные сферы жизни и группы населения в разной степени) от традиции к мо¬
дерну, развивалось благодаря индивидуализации личности, секуляризации инди¬
видуального и массового сознания, рационализации и легализации социальных
и политических отношений, благодаря коммерциализации экономики, централи¬
зации управления, дифференциации политической, экономической и культурной
сфер, или уровней, общества.
Отставание в развитии одной структуры тормозило изменения в других, и на¬
оборот. Асинхронность нарушала системность и создавала социальные напряже¬
ния в обществе. Реформы восстанавливали симметрию и укрепляли социальную
стабильность. Отмечу, например, что медленное изживание общинности оказы¬
вало влияние на все структуры, в том числе на трансформацию политического
строя. Преобладание общины в качестве главной социальной организации среди
крестьянства вплоть до 1917 г. имело серьезное политическое последствие —
партикуляризм, так как каждая община стремилась к возможно большей незави¬
симости от внешнего мира, к неприкосновенности местных обычаев и традиций.
Отсюда в значительной мере проистекал принудительный централизм, бюрокра¬
тическое вмешательство из столицы, опека. Слабость экономических, культур¬
ных, политических связей между сельскими и городскими общинами, которые
долгое время были самодостаточными, должна была по необходимости компен¬
сироваться бюрократическими связями, а недостаток экономического и культур¬
ного единства — принудительно навязанным государственным подчинением,
иначе хрупкий государственный организм мог развалиться, местные интересы
взять верх над государственными. Только сильное государство могло преодолеть
партикуляризм, местничество и сепаратизм. По мере того как общинная органи¬
зация и общинные связи слабели, а общественные связи развивались и возникали
общественные организации уездного, губернского и общероссийского масштаба,
по мере развития географического разделения труда и всероссийского рынка, по
мере роста потребности в культурных, социальных и экономических контактах
со всей страной необходимость в государственном вмешательстве для поддержа¬
ния единства страны отпадала: сцепление стало осуществляться на основе эко¬
номических, социальных и культурных связей.
Тесная связь существовала между изживанием общинных связей и становле¬
нием гражданского общества. Гражданское общество в полном смысле этого
601
Глава 13. Итоги развития России в период империи
слова — это такая структура, в которой человек, социальные организации и госу¬
дарство образуют устойчивое единство на основе паритетных отношений. В нем
общественный порядок зиждется не на страхе и господстве, а на внутренней, ра¬
ционально мотивированной дисциплине, на социальном компромиссе, целесооб¬
разности, взаимном интересе. Все вероятные и действительные конфликты регу¬
лируются не насилием власть имущих, а правовыми и политическими средства¬
ми, властью государства, которая сама подчиняется созданным ею законам.
В силу этого существование гражданского общества предполагает наличие раз¬
витых экономических, культурных, политических и социальных отношений ме¬
жду его субъектами, обладание членами общества полным набором политиче¬
ских прав, наличие общенациональных общественных организаций, партий,
представительного органа и правового государства, иными словами, гражданское
общество — это совокупность не общин, а свободных рациональных и активных
личностей и представляющих их интересы организаций и ассоциаций. Чтобы
гражданское общество могло утвердиться, необходимо, чтобы общины преобра¬
зовались в организации общественного типа — в фермы, кооперативы, предпри¬
ятия и т. п., чтобы человек преодолел патриархальные соседско-родственные
связи и осознал необходимость своего участия в общественных и политических
организациях для отстаивания своих интересов в представительном органе и пе¬
ред правительством, чтобы люди в массе своей готовы были нести обязанности
перед обществом и государством — платить налоги, служить в армии, бесплатно
заниматься общественными делами и т. п. Становление гражданского общест¬
ва — это процесс, в котором одновременно изменяются все его субъекты — че¬
ловек, организации, членом которых он является, и государство — и отношения
между ними, т. е. отношения между людьми, отношения между человеком и ор¬
ганизацией, или коллективом, отношения между человеком и государством, от¬
ношения между организациями, наконец, отношения между организацией, или
коллективом, и государством. В ходе этих изменений возникает гражданское
общество и выразитель его интересов — парламент. Поскольку общинные фор¬
мы организации социальной жизни до конца императорского режима преоблада¬
ли в деревне, где проживало 85 % населения, и лишь недавно и не полностью
распались в городе, естественно, что к 1917 г., если иметь в виду всю империю,
город и деревню, гражданское общество находилось в фазе становления. Однако
в городской среде Европейской России оно в общих чертах сформировалось, так
как имелись главные его элементы: масса разного рода добровольных общест¬
венных организаций (около 90 тыс.), критически мыслящая общественность, об¬
щественное3 мнение, с которым считалась государственная власть, после 1905 г.—
свободная пресса, политические партии и т. п. В принципе сформировался меха¬
низм, обеспечивающий передачу общественных настроений, желаний, требова¬
ний от общества к властным структурам и контроль за их исполнением в виде
законодательных учреждений и прессы.
Но гражданское общество было еще не зрелым, что усматривается в относи¬
тельной малочисленности добровольных ассоциаций и их членов и в слабой их
активности. С одной стороны, оно стало настолько сильным, что в 1905 г. ему
удалось трансформировать самодержавие в дуалистическую конституционную
602
Россия и Европа: общее и особенное
монархию, а в феврале 1917 г. ее свергнуть; с другой — не смогло исключить
революционное, т. е. силовое решение конфликтов между обществом и государ¬
ством, несмотря на то, что монархия шла на уступки. С одной стороны, меха¬
низм, обеспечивающий передачу общественных настроений, желаний, требова¬
ний от общества к властным структурам и контроль за их исполнением в виде
законодательных учреждений и прессы, был создан, с другой — этот механизм
не удалось отладить, чтобы исключить силовые решения конфликтов между об¬
щественностью и государством.
Россия и Европа: общее и особенное
Александр I: «Как Вам нравятся чужие края в сравнении с отечеством?»
М. М. Сперанский: «Здесь установления, а у нас люди лучше».
Из разговора в Эрфурте в 1808 г.
Ключевский В. О. Исторические портреты. М.. 2008.
URL: http://fanread.ru/book/3927104/?page=l
Основные итоги развития России в период империи свидетельствуют о том,
что в социальном, культурном, экономическом и политическом отношениях она
в принципе изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские стра¬
ны. Вместе с тем имелись и существенных отличия.
Во-первых, в течение XVIII—начала XX в. западноевропейские страны раз¬
вивались в направлении нивелирования местных, региональных, сословных или
классовых особенностей общественного и частного быта, интеграции и центра¬
лизации политического, правового и культурного пространства, ранее фрагмен¬
тированного и децентрализированного по регионам, сословиям и классам, в еди¬
ное национальное пространство; словом, происходила консолидации населения
в единую нацию, что в общих чертах завершилось в 1870-е гг.11 В российском
обществе, наоборот, наблюдался рост социальной и культурной фрагментации
вследствие колонизации и асимметричной вестернизации. До середины XVII в.
отдельные классы общества отличались общностью культуры, веры, менталите¬
та, общественной организации, и в этом смысле русское общество было более
или менее однородным. Однако с начала XVIII в. под влиянием модернизации
русское общество постепенно фрагментировалось и к концу XIX в. стало в куль¬
турном и социальном отношениях значительно более асимметричным, чем
в XVII в. Крестьянство, дворянство и городское сословие на рубеже XIX—XX вв.,
вследствие различных темпов изменений, проживали в значительной мере в раз¬
ных социальных, правовых и культурных условиях, более того — находились на
разных стадиях социального развития и организации. Крестьянство, составляв¬
шее большинство населения (80 % в 1913 г.), в массе своей проживало в сельской
общине, руководствовалось преимущественно обычным правом, передачу куль¬
турного наследства осуществляло устным путем, образцы поведения искало
в «золотом» прошлом, было глубоко религиозным и по своим политическим воз¬
зрениям авторитарным — словом, представляло собой общество традиционного
типа. Городское сословие (18 %) к началу XX в. в значительной мере изжило об¬
щинные отношения, хотя отдельные его группы — купцы, мещане и ремеслен¬
603
Глава 13. Итоги развития России в период империи
ники — в разной степени. Дворянство и разночинная интеллигенция (2 %) прак¬
тически не знали общинной организации частной и общественной жизни, к нача¬
лу XX в. усвоили принципы современного гражданского общества — равенство
возможностей, приоритет заслуг перед рождением, открытость и социальная мо¬
бильность, главенство закона. Психологически они были готовы к социальным
переменам, к жизни в светском демократическом обществе и разделяли концеп¬
цию прогресса12. Вместе с тем во второй половине XIX—начале XX в. значи¬
тельная часть образованного общества, оппозиционно настроенная к существо¬
вавшему режиму, с уважением относилась к народной культуре и даже разделяла
некоторые принципиальные парадигмы массового сознания.
В пределах городского и деревенского пространства также существовала по¬
рожденная модернизацией социальная фрагментация, достаточно сильная и от¬
четливая. В городе и деревне возникли новые классы — буржуазия и рабочие, из
сельской общины к 1917 г. вышло до 30 % крестьян. Буржуазия и значительная
часть крестьян, порвавших с общиной, связывали свои надежды с урбанизацией,
индустриализацией и развитием рыночных отношений. Напротив, рабочие,
в массе своей имевшие тесные отношения с деревней, не успевшие «переварить¬
ся» в фабричном или городском котле, во многом несли на себе печать крестьян¬
ского мировоззрения. Индустриализация ассоциировалась в их сознании с тяже¬
лой работой на фабрике, с отрывом от родины и семьи, с разрушением традици¬
онного уклада их жизни. В силу этого они мечтали о том, чтобы переустроить
весь мир, в том числе промышленность и город, по модели сельской передельной
общины. Поэтому внутри города и деревни проходила более существенная соци¬
альная и культурная граница между формирующимися классами.
Российское культурное и социальное пространство, если несколько огрубить
действительность, было расколото на две неравные части, но не столько в соот¬
ветствии с местом жительства, сколько в соответствии с сословной принадлеж¬
ностью — крестьяне и городские низы, с одной стороны, дворянство, буржуазия
и интеллигенция — с другой. Это обнаружилось уже в конце XVIII в. Вот на¬
глядный пример. В сентябре 1792 г. Известный русский агроном А. Т. Болотов,
застигнутый ненастной погодой в дороге, вместе со своей семьей вынужден был
остановиться в крестьянском доме. Он, по его словам, впервые (!) оказался на
деревенском «годовом празднике» и смотрел на него как иностранец. «На что
смотрели и сами мы, как на невиданное еще никогда зрелище, с особливым лю¬
бопытством, и не могли странности обычаев их, принужденности в обрядах
и глупым их этикетам и угощениям довольно надивиться. <...> И глупые обряды
их при том ажно нам прискучили и надоели. Однако, как не мешали они нам тем
в нашем чтении (французских книг. — Б. М), но мы, скрепя сердце, сидели уже
молча и давали им волю дурачиться»13. Как видим, дворянин, постоянно общав¬
шийся с крестьянами по делам своего поместья и по службе (к 1794 г. он про¬
служил коронным управляющим казенных крестьян в течение 20 лет!) плохо
знал их быт и нравы и жил в бытовой и культурной изоляции от них. И это было
отнюдь не исключением, а нормой. Для культурного помещика первой половины
XIX в. М. А. Дмитриева (1796—1866) мир народной культуры был столь же глу¬
боко чужд, враждебен и абсолютно непонятен, как и для Болотова14. Немецкий
604
Россия и Европа: общее и особенное
социолог А. Гакстгаузен, много лет изучавший Россию не только по книгам, но
и в ходе путешествий, имел все основания написать в 1847 г.: «С XVI столетия
Россия значительно сблизилась с Западной Европой. В последние 140 лет в Рос¬
сии сильно распространилась европейская цивилизация. Высшие классы полу¬
чают западноевропейское воспитание и образование; все государственные учре¬
ждения заимствованы с Запада. Законодательство приняло не только характер, но
и форму европейских законодательств; но все это отразилось только на высших
классах. Западная цивилизация не проникла в нижние слои русского народа,
в его нравы и обычаи; его семейная и общинная жизнь, его земледелие и способ
поземельного владения сохранились вне всякого влияния иноземной культуры,
законодательства и почти вне правительственного вмешательства. Но благодаря
различию в образовании верхних и нижних слоев русского народа образованное
сословие утратило всякое понимание сельских народных учреждений. <...> Рус¬
ская литература, рисовавшая народ по Вальтеру Скотту и Ирвингу, только теперь
начинает знакомиться с жизнью народа, его семейными отношениями и тради¬
циями; это, только в еще высшей степени, должно быть сказано об иностранцах,
писавших о России. Всякий, едущий в Россию с целью основательного изучения
русского народного быта, должен, прежде всего, постараться забыть все, что он
читал о нем в Европе»15. Интересно, что народ и интеллигенция в пореформенное
время говорили буквально на разных языках: народный язык был близок к языку
XVII в., а язык образованных людей европеизировался16.
Пять факторов играли ключевую роль в этом расколе: замедленность урбани¬
зации, рассеянность индустриализации (в городах в 1860—1914 гг. было сосре¬
доточено около 40 % всех рабочих, в деревне — остальные 60 %), слабая соци¬
альная мобильность, преимущественно устный характер культуры львиной доли
населения и слабое вмешательство государства и элиты в народную жизнь.
Медленная урбанизация приводила к тому, что город «переваривал» на новый
модернистский лад лишь незначительную часть крестьянства. А медленная и рас¬
сеянная индустриализация позволяла крестьянам сочетать сельскохозяйственные
занятия с промышленными, традиционные модели поведения с новыми. Межсо¬
словная и географическая мобильность была, с одной стороны, недостаточно ин¬
тенсивной из-за низких темпов урбанизации и индустриализации, с другой сто¬
роны, односторонней — преимущественно из крестьянства в городское сословие
и из деревни в город. Это замедляло проникновение новых идеей, социальных
и культурных практик в деревню.
Безграмотность и малограмотность, отсутствие привычки у крестьянства и го¬
родских низов черпать нужные знания в печатном слове предопределило устный
по преимуществу характер их культуры — знания и опыт передавались посредст¬
вом прямых примеров и подражания, что сужало значение книги, школы, средств
массовой информации в социализации молодого поколения. К началу XX в.
только дворянство и духовенство (2 % всего населения России) достигли почти
полной грамотности; остальные сословия по степени грамотности находились на
уровне западноевропейских стран XVII в.: грамотность среди мужчин старше
9 лет составляла в конце XVIII в. 6 %, в 1850 г. — 19, в 1913 г. — 54 %, у жен¬
щин — соответственно 4; 10 и 26 %17. Функциональная грамотность была намного
605
Глава 13. Итоги развития России в период империи
ниже, так как не все грамотные люди имели возможность читать литературу
и считали, что у нее следует учиться. Крестьянство в XVIII—первой половине
XIX в. к чтению относились неодобрительно, полагая, что этим пристойно зани¬
маться только представителям дворянства и духовенства. В пореформенное вре¬
мя народный читатель в массе своей ценил религиозные книжки, а к светским
относился неодобрительно, считая, что они вредные, сбивающие с истинного
пути. Вследствие этого в середине XIX в. читательская аудитория России насчи¬
тывала всего от 600 тыс. до 1 млн человек, что составляло лишь I—1,5 % всего
населения; к концу XIX в. возросла до 3—4 млн, или 3—4 % населения. В запад¬
ноевропейских странах такая аудитория была в XVI в., до Реформации18.
Положение стало серьезно изменяться в начале XX в., особенно после того
как в 1908 г. Государственная дума приняла закон о постепенном, в течение 10 лет,
введении всеобщего обязательного начального образования, и верховная власть
поддержала эту инициативу. Грамотность стала быстро повышаться, обгоняя да¬
же текущие потребности народа в ней, развивалась склонность к серьезному,
прагматическому чтению, наметился переход крестьянства от устной культуры
к письменной. Это имело принципиальное значение, поскольку механизм пере¬
дачи и преобразования накопленного и нового знания в существенной, если не
решающей степени обусловливает своеобразие культуры, возможность и темпы
ее трансформации19. Устная передача опыта нацеливала крестьян на преемст¬
венное воспроизведение людьми определенных навыков, умений, ориентаций
и в лучшем случая обеспечивала очень медленную эволюцию устоявшихся зна¬
ний и представлений. Книга и печать делали крестьянский мир открытым влия¬
нию города, высокой культуры, всему, что происходило в мире, и готовили
крестьян по большому счету к переходу от традиционной культуры к индуст¬
риальной. В отличие от простонародья дворянство и интеллигенция уже в конце
XVIII—начале XIX в. рассматривали книгу как руководство к действию и в сво¬
ем поведении подражали литературным героям . Однако на их долю приходи¬
лось всего 2 % населения, что было достаточным, чтобы развить мощную,
имеющую мировое значение русскую культуру, но недостаточным, чтобы подго¬
товить народ к восприятию и ассимиляции достижений европейской цивилизации.
Положение усугублялось недоуправлением общества со стороны государства
и элиты. Слабость бюрократического аппарата затрудняла выполнение государ¬
ством культуртрегерской роли, точно так же как малочисленность элиты — ее
цивилизаторской миссии. Вследствие этого распространение культуры в народе
долгое время проходило весьма медленными темпами.
В результате пять главных двигателей модернизации — индустриализация,
урбанизация, социальная мобильность, печатное слово и государство — в соци¬
альном и культурном отношениях долгое время, до конца XIX в., имели ограни¬
ченное влияние на развитие России. Социальные и политические реформы, на¬
чавшиеся в начале XX в., создавали благоприятные возможности, чтобы сгладить
социальные противоречия на основе консенсуса, но две неудачные войны (Рус¬
ско-японская и Первая мировая) и две революции, случившиеся в продолжение
всего 10 лет, помешали начавшемуся процессу. Как предупреждал П. Н. Милю¬
ков, при оценке самобытности раскола образованного общества и народа в Рос¬
606
Россия и Европа: общее и особенное
сии необходимо соблюдать меру: «Факт “отрыва” на этом пути (перехода всего
народного организма от стихийной или полусознательной стадии существования
к стадии сознательного “культурного, или цивилизованного, существования”. —
Б. М) от некультурной массы культурного авангарда “интеллигенции” есть, с на¬
шей точки зрения, неизбежная переходная стадия процесса цивилизации, — ста¬
дия, вовсе не свойственная одной только России. <...> Речь идет о национальной
особенности общечеловеческого процесса, а вовсе не о чем-то исключительном
и специфическом»21. Во-вторых, раскол не означал, что народная и элитарная
культуры не взаимодействовали. Например, общественный и семейный быт, нра¬
вы, поэтическое творчество крестьян и низших слоев города испытывали посто¬
янное влияние элитарной культуры в течение XVIII—начала XX в., и наоборот22.
Проблема состояла в том, что элитарная культура изменялась быстрее, чем на¬
родная. Это и создавало ощущение, что народ дремлет, а элита вестернизируется.
В Западной Европе народная культура получила сокрушительный удар от церкви
и государства еще в XVI—XVII вв. После этого о народной культуре можно го¬
ворить только как об осколках дезинтегрированного целого или псевдонародной
культуре23. В России к 1917 г. народная культура была живой и мощной, хотя
и начала разрушаться.
Второе отличие России заключалось в том, что социальные изменения, про¬
исходившие в России и других европейских странах в XVIII—начале XX в., от¬
части были синхронными, но по большей части асинхронными. Одни социально-
политические и культурные процессы начинались в России в тот момент, когда
они завершились или завершались на Западе, например становление сословий
и городских корпораций, переход от общности к обществу. Другие процессы за¬
хватили Россию с большим опозданием, например демографический переход,
промышленная революция, возникновение гражданского общества и представи¬
тельных учреждений. В дополнение, в любой западноевропейской стране изме¬
нения в разных сферах общества не были вполне синхронными, но там времен¬
ной разрыв между ними был намного меньше, чем в России, благодаря чему об¬
щество развивалось симметричнее и системнее.
В-третьих, глубина охвата России и других европейских стран различными
социальными, экономическими, культурными и политическими процессами была
существенно различна. Например, закрепощение населения в России, как нигде,
было всеобъемлющим и глубоким; наоборот, урбанизация, индустриализация,
распространение грамотности, секуляризация массового общественного сознания
к 1917 г. не успели глубоко захватить российское общество. Некоторые процессы
вообще обошли Россию стороной, а если затрагивали, то поверхностно; напри¬
мер русское общество так и не прошло через горнило Ренессанса, Реформации,
Контрреформации и научно-технической революции XVII—XVIII вв.24 Только
в XVIII в. Россия по-настоящему присоединилась к остальной Европе и стала
составлять вместе единое культурное, экономическое и информационное про¬
странство, испытывать те же процессы и явления, которые происходили там,
правда с некоторым опозданием и иной интенсивностью.
Движение цен в России и на Западе может служить хорошим количественным
индикатором уровня контактов между ними. До начала XVIII в. в динамике за¬
607
Глава 13. Итоги развития России в период империи
падноевропейских и русских цен не наблюдалось никакой согласованности. Ре¬
волюция цен, которая постепенно охватывала Европу в XVI—XVII вв. с запада
на восток, включая Прибалтику, Польшу, Скандинавские страны и Австрию, ос¬
тановилась у российской границы. В результате асинхронного изменения цен
в течение нескольких столетий на рубеже XVII—XVIII вв. уровень цен, выражен¬
ных в граммах золота, в России оказался в 9—10 раз (!) ниже, чем в западноевро¬
пейских странах, — вот реальный показатель уровня контактов. Экономические
связи, которые имела Россия с Западом, являлись совершенно недостаточными для
включения страны в мировой рынок, а ведь они были намного интенсивнее, чем
культурные контакты. Отсюда очевидно, как мало общалась Россия с остальной
Европой до XVII в. (включительно) в экономическом, да и других отношениях
также. Зато в XVIII в. в России наблюдался компенсационный рост: цены повы¬
сились в 5 раз в золоте и в 11 раз номинально — больше, чем на Западе за не¬
сколько предыдущих столетий, благодаря чему разрыв в уровне цен сократился
до двукратного. В следующем столетии цены в России и остальной Европе изме¬
нялись совершенно согласованно, разрыв в их уровне на рубеже XIX—XX вв.
сократился до возможного минимума и составлял всего 20—30 % — твердое до¬
казательство того, что Россия вполне интегрировалась в мировую экономику.
Динамика российских и западноевропейских цен является, на мой взгляд, тестом
не только на синхронность изменений, но и на интенсивность всех вообще кон¬
тактов между Россией и Западом: их ничтожность до XVIII в., их бурный, ком¬
пенсационный рост в XVIII в., их высокая частота в XIX—начале XX в., соответ¬
ственно автономность и периферийность России по отношению к Западу до
XVIII в., ее интеграция в Европу начиная с XVIII в. и включенность в XIX—
начале XX в.25
Социальная и культурная асимметрия в русском обществе создала большое
социальное напряжение и в этом смысле являлась предпосылкой революций 1905
и 1917 гг. Последняя революция не ограничилась разрушением остатков старого
режима, как это было во время революций в Европе в 1789—1848 гг., она нанес¬
ла разрушения также возводившемуся зданию нового модернистского общества
(к счастью, не разрушив его полностью). Три фактора способствовали тому, что
Российская революция 1917 г. в некоторых отношениях стала антимодернист-
ской: мировая война; приверженность большей части русского крестьянства
и рабочих институциям (нормам и правилам поведения) традиционного типа;
полиэтничность и поликонфессиональность населения Российской империи. Не¬
удачная для России война расшатала власть, дисциплину и общественный поря¬
док, породила материальные трудности, позволила выйти наружу социальным
противоречиям, которые до войны, хотя и с большим трудом, удерживались в оп¬
ределенных границах, а также дала возможность просоциалистическим партиям
спекулировать на трудностях войны и агитировать в пользу революции. На вто¬
рой, октябрьской, стадии Революция свершилась под четырьмя главными лозун¬
гами: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, мир — народам, власть — тру¬
дящимся. Важнейшим среди них был призыв к всеобщей экспроприации собст¬
венности и перераспределению ее между работниками города и деревни, объеди¬
ненными в общины, артели и другие подобные ассоциации. Прекращение войны
608
Россия и Европа: общее и особенное
и свержение существующей власти играли вспомогательную роль — надо было
убрать два препятствия, которые мешали экспроприации собственности. Главные
социальные лозунги революции есть не что иное, как призыв к «черному», или
всеобщему, переделу собственности. В них нашел свое выражение традицион¬
ный крестьянский принцип — «земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает»,
видоизмененный в новых условиях в «собственность принадлежит трудящимся».
Если мы вспомним лозунги Великой французской революции: отечество, свобо¬
да, равенство и братство, то становится очевидной антибуржуазность октябрь¬
ского этапа Русской революции 1917 г., участники которой были равнодушны
к фундаментальным принципам буржуазного общественного порядка. И это не
случайно — большинство народа участвовало в революции во имя восстановле¬
ния попранных ускоренной модернизацией традиционных устоев народной жиз¬
ни. «Русская революция враждебна культуре (буржуазной культуре. — Б. М),
она хочет вернуть к естественному состоянию народной жизни, в котором видит
непосредственную правду и благостность», — констатировал Н. А. Бердяев26.
Антимодернистский характер Революции ярко проявился в том, что в 1917—
1918 гг. народ намеренно сжигал сотни музеев и тысячи помещичьих усадеб,
а также книги, ноты, музыкальные инструменты, произведения искусства, по¬
стельное белье, гобелены, фарфор — все, что символизировало неравенство и на¬
поминало об угнетении. И в селах, и в городах подобные действия носили симво¬
лический характер: уничтожение остатков «проклятого прошлого», освобождение
пространства от «чуждых элементов». Для описания процесса уничтоже-
Рис. 13.1. Сожжение царских эмблем, Петроград. 1917
609
Глава 13. Итоги развития России в период империи
ния высеченных и вылепленных образов царей и генералов прошлого, имперских
регалий и эмблем, зданий и названий был изобретен специальный термин -
«деромановизация». Разрушение культурных ценностей во время революции на¬
поминает разрушение машин, а иногда и целых фабрик луддитами во время про¬
мышленной революции в Англии в 1760—1820 гг.; рабочие таким образом про¬
тестовали против наступления индустриальной эры и хотели вернуться в про¬
шлое27.
Первая русская революция сопровождалась такими же разрушениями (рис. 13.4).
Стремление догнать западноевропейские страны в экономическом отношении
вынуждало российское правительство проводить реформы, которые подстегива¬
ли одни процессы и принудительно останавливали другие. Так, в течение XVIII в.
правительства Петра I и Екатерины И, движимые благими намерениями, усилен¬
но насаждали сословный строй и регулярное государство, полагая, что это по¬
следнее слово европейской цивилизации. Правительство Александра II из луч¬
ших побуждений провело серию крупных реформ, которые опережали общест¬
венные потребности России в тот момент, если под ними иметь в виду не требо¬
вания образованной части русского общества, а требования крестьянства и го¬
родского сословия. Крепостное право было отменено сверху до того, как оно
Рис. 13.2. И. А. Владимиров (1870—1947). Сожжение архивов и царских портретов
5 марта 1917 г. 1917. Государственный центральный музей современной истории России
(до 1998 г. Государственный музей революции СССР), Москва
610
Россия и Европа: общее и особенное
Рис. 13.3. И. А. Владимиров (1870—1947). Взятие Зимнего. 1917.
Государственный центральный музей современной истории России
(до 1998 г. Государственный музей революции СССР), Москва
стало экономическим и социальным анахронизмом; поэтому его отмены жажда¬
ли крестьяне, но не желало большинство помещиков. Парламент и конституция
пришли в Россию задолго до того, как широкие народные массы получили об
этих институтах хоть малейшее представление. В данном случае речь идет не
о том, нужны или не нужны были российскому обществу эти и другие рефор¬
мы, — эта другая проблема, а о том, что с начала XVIII в., с того момента, когда
российское правительство стало оплодотворять Россию самыми передовыми ев¬
ропейскими идеями, институтами и процессами, естественность и органичность
социального развития России были нарушены: не успевали естественным путем
завершиться одни процессы, как стимулировалось появление других. Подобные
реформы, отвечавшие представлениям и потребностям правительства и образо¬
ванного общества, а не широких масс населения, естественно, оказывали воздей¬
ствие на социальные верхи в значительно большей степени, чем на низы, на го¬
род больше, чем на деревню. Это еще более усиливало социальную и культур¬
ную асимметрию общества.
Переход от традиции к модерну в западно- и центральноевропейских странах
проходил сравнительно с Россией в значительно большей степени естественно
и органично и, несмотря на это, был длительным, болезненным и трудным про¬
611
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
цессом, сопровождался ростом социальных
напряжений, конфликтами и революция¬
ми28. В России, где темпы перехода к мо¬
дернизму опережали возможности и го¬
товность широких народных масс к пере¬
менам, болезненность перехода увеличива¬
лась.
Россия и Европа: разные часовые пояса
Россия была и остается европейской
страной. Основы российской государст¬
венности, общественного быта и культуры
имеют европейское происхождение, они
были заложены в древнерусский период
и связаны с византийским наследством,
принятием христианства и приходом пись¬
менности. Русская общественная мысль
всегда, начиная с древнерусского периода,
рассматривала русское государство как
часть славянского мира и составную часть
Европы29. Многие западные исследователи
полагают, и с этим трудно не согласиться,
что «Средние века были не “серединой”, а началом Европы. Основы ее культуры
сложились уже в раннее Средневековье, до 1000 г., как результат впечатляющего
синтеза романо-христианских и исконно европейских (германских, кельтских,
славянских) элементов». В этот период на смену размытой идентичности эпохи
романо-варварских королевств, отмеченной определенным противостоянием
«римлян» и «варваров», пришла новая европейская идентичность — «христиа¬
не». Прямым следствием этого стало формирование специфических базовых по¬
литических и социально-экономических институтов в период между 1000 и 1200 г.,
«начиная с которого их развитие продолжалось без цивилизационных надломов
вплоть до настоящего времени»30. Неблагоприятные внешние и внутренние об¬
стоятельства в течение нескольких столетий задерживали их развитие в России,
но не разрушили и не заменили их другими31. Противопоставление России и За¬
пада, или России и Европы, как иногда говорят, основано на том, что в каждый
данный момент, ввиду асинхронности социальных процессов и изменений, Рос¬
сия отличалась от самых развитых европейских стран. Но в исторической пер¬
спективе Россия переживала почти все те же процессы, развивалась по тем же
направлениям, что и они, только с лагом. Другими словами, дореволюционная
Россия в каждый момент своей истории отличалась от западноевропейских
стран, но двигалась по той же орбите, что и они, и поэтому в каждый момент
была похожа на то, чем они были прежде (но не тождественной им!). Мы легко
обнаружим сходство между императорской Россией и другими европейскими,
особенно центрально- (Австрией и Германией) и восточноевропейскими32, стра¬
Рис. 13.4. Вид сожженного замка
барона Розена постройки 1263 г.,
Лифляндская губерния. 1905
612
Россия и Европа: общее и особенное
нами, если заглянем в их средневековую историю и в первые столетия новой ис¬
тории33.
Сословный строй в более развитых европейских странах установился раньше,
чем в России, — в Средние века и являлся основой общественного порядка до
конца XVIII в. При этом, так же как в России, ни в одной стране даже в период
расцвета сословного строя не существовало четких консолидированных сосло¬
вий— дворянства, духовенства, горожан и крестьян34. Например, во Франции
XVII в. исследователи насчитывают 22 социальные группы, подразделявшиеся
в свою очередь на 569 подгрупп35. Русское дворянство после его превращения
в сословие в 1762—1785 гг. ничем существенно не отличалось от европейского36.
Крестьянство нигде, за исключением некоторых северных стран, не было сосло¬
вием в полном смысле этого слова37. В России, как и на Западе, существовала
значительная вертикальная социальная мобильность38. Трансформация сословий
в классы, сопровождаемая профессионализацией, началась в России позже, но
проходила интенсивнее39. К 1917 г. сословный строй де-юре исчез, хотя его пе¬
режитки сохранились в социальной структуре в советское и даже постсоветское
время.
Патриархальная семья с деспотическим главой и приниженными домочадца¬
ми преобладала не только в России, но и во всех европейских странах в Средние
века и Новое время; всюду община вмешивалась в семейную жизнь, контролиро¬
вала супружескую верность, вследствие чего интимность личной жизни наруша¬
лась40. Репрессивная педагогика господствовала во всей Европе вплоть до XVIII в.,
а строгое и систематическое дисциплинирование в раннем детстве являлось об¬
щей европейской моделью воспитания ребенка до XX в.41 Ряд историков полага¬
ют, в противовес историкам из Кембриджской группы по изучению населения42,
что в странах Западной Европы, как и в России, расширенные и составные семьи
предшествовали или по крайней мере сосуществовали наряду с нуклеарными43.
Строгая сексуальная мораль, запрещение разводов или затруднения при их полу¬
чении, преследование внебрачных детей и их матерей, уголовная ответствен¬
ность за нетрадиционное сексуальное поведение — все это почти в такой же,
а в некоторых католических странах еще в большей степени, чем в России, было
свойственно всем европейским странам44.
Переход от традиционной к современной модели воспроизводства населения,
в результате которого рост численности населения стал регулироваться людьми
и перестал угрожать прогрессивному развитию общества, начался во Франции.
Именно там ограничительные тенденции роста населения зародились в XIV—XV вв.,
приобрели значительный размах во второй половине XVIII в., но лишь в XIX—
начале XX в. охватили большинство европейских стран45. С опозданием, со вто¬
рой половины XIX в., к этому процессу подключилась и Россия; естественно, что
демографический переход завершился позже — к середине XX в., уже в совет¬
ское время.
В экономической и социальной жизни городов Европы в Средневековье и в
начале Нового времени и России в XVIII—первой половине XIX в. мы находим
много общего46. Горожане были землевладельцами и занимались земледелием.
В итальянских и французских городах земледелие являлось главным занятием,
613
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
в Англии и северных западноевропейских городах — важным, в больших торго¬
вых городах оно имело большее значение, в малых — меньшее. Сельскохозяйст¬
венные занятия среди горожан были распространены даже в крупных городах
XVIII в., не говоря уже о малых47. Причины: желание выгодно вложить и сохра¬
нить свои капиталы, необходимость обеспечить себя продуктами питания, извле¬
чение доходов, стремление повысить свой статус (главным критерием престижа
были размеры и ценность земельных владений), возможность общаться с приро¬
дой. Горожане объединялись в корпорации, и весь город являлся одной большой
корпорацией; в городах проживали представители всех сословий48.
В европейских странах, как и в России, долгое время городские и сельские
поселения не только экономически, но и в социальном отношении мало различа¬
лись, за исключением немногочисленных крупных торговых городов. Малые
средневековые города, которых было подавляющее большинство, подобно сель¬
ским поселениям, представляли собой скорее общность, чем общество: «Эта со¬
лидарность, это всеобщее братство не ограничивалось многочисленными мелки¬
ми союзами, цехами, гильдиями, корпорациями, которые образовывали патри¬
ции, ремесленники, подмастерья. Оно обнимало всех граждан города в одно, свя¬
занное присягой целое, в котором все готовы были “делить вместе радость и горе
в городе, или где придется”», — отмечал известный немецкий историк К. Бюхер4.
Общественная жизнь проходила прямо на улицах50. Даже американские города
XVII в. все еще отличались патриархальным коммунализмом51. Как и в России,
периодические формы торговли — базар и ярмарка вплоть до конца XVIII в. иг¬
рали важную роль в торговом обороте52.
Рис. 13.5. Б. Бринберг(1598—после 1657). Вид Тиволи (Нидерланды). 1620—1629.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
614
Россия и Европа: общее и особенное
Рис. 13.6. Ф. А. Васильев (1850—1873). Деревенская улица. 1868.
Государственная Третьяковская галерея
Различия принципиального порядка между городом и деревней появились
с полным переходом городов к рыночному хозяйству, что в Англии завершилось
к началу XVI в., в других европейских странах — в XVII—XVIII вв. В промыш¬
ленные центры городские поселения стали превращаться только с приходом ин¬
дустриальной революции53. Большая миграция крестьян в британские города во
второй четверти XIX в. привела к переносу туда деревенского образа жизни
и стандартов. Принимались законы, запрещающие содержание свиней в горо¬
дах54. Санитарное состояние большинства городов до середины XIX в. было
столь же неудовлетворительным, как и в России55. В бестселлере «Парфюмер»
немецкого писателя П. Зюскинда — историка по первоначальному образова¬
нию — со знанием дела так описывается ольфакторная (обонятельная) атмосфера
западноевропейских городов XVIII в., которая, вследствие более высокого уровня
615
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
урбанизации и плотности населения56, была даже хуже, чем в русских городах:
«В городах того времени (XVIII в. — Б. М.) стояла вонь, почти невообразимая
для нас, современных людей. <...> Воняли реки, воняли площади, воняли церкви,
воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья
и жены мастеров, воняло все дворянское сословие. <...> Ибо в восемнадцатом сто¬
летии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий»57.
Крепостное право, хотя и в более мягких формах сравнительно с Россией, су¬
ществовало в большинстве западноевропейских стран в Средние века, его пере¬
житки исчезли там лишь в течение XVI—XVIII вв., а в странах Центральной Ев¬
ропы крепостничество было отменено лишь в конце XVIII—начале XIX в.
58
и его пережитки ощущались там в XIX в.
Государственность имперского периода проходила те же стадии в своем раз¬
витии, что и другие европейские страны, только с большим опозданием и с неко¬
торыми особенностями59. В эпоху абсолютизма в европейских странах понятие
государства также заключало в себе идею собственности. Монарху «принадле¬
жало» государство, а многие государственные институты считались «собствен¬
ностью» частных лиц, которые осуществляли военные и гражданские функции
таким способом, что стиралось различие между частным и публичным, между
государством и обществом. Еще более трудно было отделить власть городских
корпораций (гильдий, городских советов) над своими членами или землевла¬
дельцев над своими крестьянами от государственной власти, так как они облада¬
ли такой юридической и административной властью, которая в современных го¬
сударствах принадлежит всецело государственным институтам. К западноевро¬
пейским государствам эпохи абсолютизма понятия «публичный» и «частный»
столь же трудно приложимы (как и к Российскому государству XVIII—первой
половины XIX в.), поскольку отсутствовало понятие общегражданских прав
и обязанностей. Права рассматривались как частные привилегии, купленные,
унаследованные, выслуженные отдельными лицами и семьями, или как имму¬
нитет от налогов и воинской повинности. Понятие «гражданство» в современ¬
ном смысле также не было известно, а свобода понималась как автономия от
центральной власти60. При возникновении демократии электорат в европейских
странах был столь же мал, как и в России после образования Государственной
думы. Например, даже в самой демократической для своего времени Англии
электорат, если иметь в виду число выборщиков, которые непосредственно вы¬
бирали депутатов в парламент, в 1831 г. составлял всего 3,3 % от всей числен¬
ности населения — ровно столько, сколько было в Европейской России в 1907—
1910 гг6'
К 1917 к. гражданское общество в России сформировалось лишь в общих чер¬
тах, причем только в городской среде Европейской части страны. В деревне
и восточных окраинах оно находились лишь в зародыше. Но и в западноевропей¬
ских странах оно развивалось медленно и постепенно и зрелой стадии достигло
только в XX в.62
Юридический плюрализм, когда в пределах одного государства одновременно
действует две или более системы права, характерный для России XVIII—начала
XX вв., был всеобщим явлением в европейских странах в Средние века и в нача¬
616
Россия и Европа: общее и особенное
ле Нового времени, лишь в XIX в. в большинстве случаев законодательство вы¬
теснило обычное право63. В Англии юридический дуализм сохранялся и в XX в.64
Преступность в европейских странах в доиндустриальную эпоху была невысо¬
кой, как и в России до 1860-х гг. В течение второй половины XIX—начала XX в.
различия сгладились, в результате чего в 1900—1913 гг. по уровню преступности
Россия уступала Англии лишь в 1,2 раза, Франции — в 1,9, Германии — в 2,4 раза,
в то время как в середине XIX в. — примерно в 7—8 раз65. Уровни преступности
выровнялись благодаря более быстрому росту преступности в России. Жестокие
наказания преступников были распространены повсюду в Европе до конца XVII1 в.,
а телесные наказания вышли из употребления в большинстве европейских стран
во второй половине XIX в.66
Сходство между Россией императорского периода и другими европейскими
странами в более раннее время обнаруживается также в духовной культуре67.
Гадалки, колдуны и прорицатели пользовались большим почетом в российской
деревне и в начале XX в., в крупных городах они стали исчезать в конце XIX в.
В западноевропейских странах их популярность достигла своего пика в Средние
века, с началом Нового времени она пошла на убыль, но в сельской местности
сохранилась до XVIII в.68 По наблюдениям иностранных путешественников
XVIII—XIX вв., религиозность русских и западных людей существенно различа¬
лась. Для всех русских в начале XVIII в., а для простого народа вплоть до начала
XX в. были характерны следующие особенности: плохое знание основ христиан¬
ского вероучения, подмена веры строгим соблюдением ее уставов и обрядов,
распространенность суеверий и предрассудков (почитание икон, хождение на
поклон к святым местам, посты и т. п.), отсутствие должного благоговения
в церкви во время службы и совершения таинств, «прагматический» характер
благочестия (от соблюдения обрядов ожидали практических результатов — хо¬
рошего урожая, здоровья, успеха в делах и т. п.). Но примерно такой же была ре¬
лигиозность в западноевропейских странах до Реформации, а для многих сель¬
ских жителей — в XVII—XVIII вв.69
В России, как и в остальной Европе, секуляризация происходили медленно,
а научные воззрения проникали в народные массы туго70. Охота на ведьм — сви¬
детельство бытования языческих пережитков в массовом сознании — настолько
широко практиковалась в западноевропейских странах в XVII—XVIII вв., что
в этом отношении, если судить по числу зафиксированных случаев суда над
ведьмами, они даже превосходили Россию71. В XVI—XVIII вв. языческие пере¬
житки существовали повсеместно в Европе, их живучесть и распространенность
возрастали с запада на восток; в восточноевропейских странах они наблюдались
еще в XX в.72, а вероятно последний случай линчевания колдуньи зафиксирован
в Англии в 1751 г.73 В Великобритании только в конце XVII в. произошел «три¬
умф религии над магией»74. Сельскохозяйственная магия — другой важный по¬
казатель сохранения шаманизма в верованиях людей — благополучно дожила до
середины XX в. во многих западных странах. Например, в США в 1950-е гг. она
широко применялась при поднятии целины, кастрации скота, посадках садов и в
других случаях, когда налицо были риск и неопределенность результата. В 1956 г.
40 % фермеров из штата Огайо перед севом приглашали профессиональных кол¬
617
Глава 13. Итоги развития России в период империи
дунов, гарантирующих достаточное количество осадков. Вследствие спроса на их
услуги во всей стране насчитывалось до 25 тыс. колдунов, вызывающих дождь75.
Русские путешественники первой половины XIX в. с некоторым удивлением от¬
мечали бытование языческих праздников в Европе76. В современном мире магия
также существует, но ее роль уже не подразумевает объяснение устройства мира,
а сводится к символической и экспрессивной.
Приверженность принципам моральной экономики, столь характерная для
русского крестьянства, обнаруживается даже в самой обуржуазившейся Англии
и Франции еще в XVIII—начале XIX в. в хлебных бунтах и в движениях разру¬
шителей машин77. Субсистенциальная трудовая этика, ориентированная лишь на
простое воспроизводство необходимых для человека продуктов и вещей (ее на¬
зывают иногда этикой праздности), в большинстве европейских стран существо¬
вала вплоть до индустриальной революции, а отдельные ее элементы в ряде ка¬
толических стран, например в Италии и Испании, дожили до XX в.78 Низкий уро¬
вень жизни, широкое распространение бедности — характерные черты всех ев¬
ропейских стран вплоть до завершения индустриальной революции во второй
половине XIX в.79
Частые стихийные восстания, мятежи и смуты не являлись особенностью со¬
циальной жизни России; они играли важную роль в истории всех европейских
стран от Средних веков до Новейшего времени, так же как революции — в Новое
и Новейшее время80.
Многие современники сознавали, что простой народ — преобладающая часть
населения России — живет в более раннем времени, в другой исторической эпо¬
хе сравнительно с привилегированными группами населения или со своими за¬
падными соседями. Ирландской знакомой Е. Р. Дашковой, Кэтрин Вильмот, про¬
жившей в России 1805—1806 гг., русское общество конца XVIII—начала XIX в. на¬
поминало западноевропейское общество XIV—XV вв.81 Известный либеральный
историк и помещик К. Д. Кавелин считал темные и грубые стороны русского
сельского быта 1860—1870-х гг. «недостатками молодости»82. По мнению круп¬
ного экономиста начала XX в. П. П. Маслова, крестьянина по происхождению,
«прилагая западноевропейские мерки к идейным течениям среди крестьян, мы
можем сказать, что крестьянство (во второй половине XIX—начале XX в. —
Б. М) идейно жило в XV—XVI столетии, между тем как городская интеллиген¬
ция жила в XIX столетии. Крестьянство <...> на почве религии стремилось соз¬
дать новый идеальный общественный строй»83. Французский социолог Ф. Ле-Плэ
(1806—1882), 8 раз посещавший Россию в целях изучения положения русского
населения, пришел к выводу, что жизнь русских крестьян и рабочих пригодна
для характеристики средневекового, а не современного строя и что нигде с боль¬
шей наглядностью, чем в России, не выступает связь семейной и государствен¬
ной организации84.
В 1881 г. французский переводчик Э. О’Фаррель издал «Три русские сказки
М. Е. Щедрина» («Как один мужик трех генералов прокормил», «Пропала со¬
весть», «Дикий помещик») и в августе 1881 г., во время пребывания писателя
в Париже, подарил ему экземпляр книги. Это подношение растревожило автора.
«Помилуйте, — говорил Салтыков-Щедрин, — какой интерес могу я представ¬
618
Россия и Европа: общее и особенное
лять для французской публики? Я — писатель семнадцатого века, на их аршин.
То, против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьеза. На¬
до это понять!» Бывший свидетелем этого писатель П. Д. Боборыкин заметил
в своих воспоминаниях: «Спорить с ним было трудновато, и он никак не хотел
сойти с того тезиса, что он писатель “семнадцатого века”. А между тем разве он
по-своему не был прав? Разве после представления “Грозы” Островского самые
авторитетные французские критики не сказали без всякой иронии, что нравы эти
напоминают им XIV век во Франции; вы видите: даже “четырнадцатый”, а не
“семнадцатый”. Быть может, у одного Салтыкова достало мужества так резко
определить содержание своей сатиры для французов»85.
Н. А. Бердяев заметил: «Всякий народ в любой момент своего существования
живет в разные времена и разные века. Но нет народа, в котором соединялись бы
столь разные возрасты, который так совмещал бы XX век с XIV веком, как рус¬
ский народ. И эта разновозрастность есть источник нездоровья и помеха для
цельности нашей национальной жизни»86. Подобную идею высказывал основа¬
тель американской антропологической школы Ф. Боас (1858—1942): в различных
общностях могут господствовать разные хронологические порядки, т. е. что че¬
ловеческие сообщества могут жить «в разных временах»87.
В. В. Набоков, блестяще владевший русским и английским, нашел «возрас¬
тные» различия между языками, сообщив об этом в Постскриптуме к русскому
изданию своего романа «Лолита» 7-го ноября 1965 г.: «Телодвижения, ужимки,
ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки
природы, всё нежно-человеческое (как ни странно!), а также всё мужицкое, гру¬
бое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-
английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговорённости, по¬
эзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение
односложных эпитетов — всё это, а также всё относящееся к технике, модам,
спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-
русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и рит¬
ма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зелё¬
ным русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква,
языком английским: между гениальным, но ещё недостаточно образованным,
а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в се¬
бе запасы пёстрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Всё дыхание
88
человечества в этом сочетании слов» .
Если сравнить, как изображалось тело, любовные и сексуальные отношения
в западноевропейском и русском искусстве XV—XVII вв., то ощущается разница
в два-три столетия (рис. 13.7—13.9). Та откровенность и натуральность, свойст¬
венные произведениям живописи эпохи Возрождения, пришли в русское искус¬
ство только в XVIII в., причем под западным влиянием.
На картинах русских исторических живописцев, создававших свои произве¬
дения на основе литературных источников и исторических исследований, отно¬
сящихся к XVI—XVII вв. доминируют целомудрие и скоромность. Не только
зимой, когда холодно, но в любое время года плоть скрыта, как будто ее нет; де¬
кольте — неизвестно.
619
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.7. А. Карраччи (1557—1602). Взаимная любовь. 1589.
Балтиморский художественный музей, Балтимор (США, Мэриленд)
Таким образом, то, что в императорский период считалось национальной спе¬
цификой русских, несколькими поколениями ранее встречалось в других евро¬
пейских странах. Разумеется, не буквально, а принципиально, ибо в рамках евро¬
пейской цивилизации Россия, как и каждая страна, имела специфические особен¬
ности, обусловленные различиями в религии, географической среде, в политиче¬
ских и культурных условиях существования89. Эти особенности были усилены
расположением России на восточной окраине Европы, многонациональным со¬
ставом ее населения, влиянием восточных соседей, а также тем, что она позже
других вступила в круг новой европейской цивилизации и ее история разворачи¬
валась на «диком», необъятном и непрерывно увеличивавшемся пространстве,
между тем как большинство народов Западной Европы после падения Римской
империи развивалось на уже освоенной и небольшой сравнительно с Россией
территории, где находились центры римской культуры. Своеобразие условий
существования не помешало России иметь принципиальное сходство с Европой
в социальном, экономическом, политическом и культурном отношениях. То, что
называется «европеизацией России», как верно заметил П. Н. Милюков, «не есть
продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинако¬
вый в принципе у России с Европой, задержанный условиями среды»90. С XVIII в.
русские институции и институты модернизировались в еще большем взаимодей¬
ствии с общеевропейскими91, что в значительной мере предопределяло сходство
трендов в развитии России и Запада.
620
Россия и Европа: общее и особенное
Рис. 13.8. А. Бронзино (1503—1572). Аллегория с Венерой и Купидоном. 1545.
Государственный Эрмитаж
Однако более позднее включение в круг европейской цивилизации имело
серьезные последствия. Во-первых, Россия развивалась асинхронно сравнительно
с другими европейскими странами. Вследствие чего то, что исследователи, ли¬
шенные понятия историзма, называют недостатками, а некоторые и пороками
российской политической и социальной системы, национального характера или,
наоборот, достоинствами — не более и не менее как болезни роста и стадии раз¬
вития. При сравнении с более зрелыми обществами многие особенности кажутся
621
Глава 13. Итоги развития России в период империи
недостатками, а при сравнении с более молодыми — достоинствами. Россия как
государство и цивилизация позже, чем западноевропейские страны, если можно
так сказать, родилась. Уже Древнерусское государство не являлось феодальным
обществом в европейском смысле этого понятия; феодальные черты появились
несколькими столетиями позже — в XIII—XVI вв. — и поэтому не были столь
«чистыми»92. Проводить синхронные сравнения уровня социального и политиче¬
ского развития между Россией и западноевропейскими странами так же некор¬
ректно, как сравнивать мальчика со взрослым человеком. Например, Россия при¬
вержена авторитаризму и коллективизму нисколько не более, чем Англия или
Германия в свое время; русские люди отличаются неуважением к частной собст¬
венности или закону настолько же, насколько французы или итальянцы в свое
время. По отношению к России завышенные требования уместны, но оценка дос¬
тигнутого должна сообразоваться с ее возможностями и возрастом, подобно тому
как в порядке воспитания от юноши следует требовать, чтобы он вел себя как
взрослый, но при оценке его поступков необходимо учитывать его возраст.
Во-вторых, модернизация в некоторых случаях проводилась в России свер¬
ху тогда, когда традиционные структуры были здоровыми и полными сил: она
ломала и перестраивала крепкий еще старый порядок по западноевропейским
образцам. Вследствие этого соотношение между преемственностью и измене¬
нием нередко оказывалось в пользу первой, модернизация не доходила до устоев,
622
Рис. 13.9. А. П. Рябушкин (1861—1904). Семья купца XVII в. 1896.
Государственный Русский музей
Россия и Европа: общее и особенное
захватывала внешнюю сторону, как говорится, мертвые хватали живых. Но дру¬
гого выхода не было — это судьба страны, вступившей в процесс модернизации
позже других и стремящейся их догнать.
Итак, Россия несомненно развивалась как европейская страна, в период им¬
перии в особенности, причем европейский вектор ее движения был частично
спонтанным, частично результатом сознательных усилий государства и обще¬
ственности. Глобальные факторы социальной эволюции общества, по крайней
мере после принятия христианства, были общими у русских и других народов
Европы93.
Возникает неизбежный вопрос: когда и почему Россия «отстала» от ведущих
западноевропейских стран? Согласно широко распространенной точке зрения,
отставание явилось следствием более медленного развития России на ранних
стадиях ее истории — она потеряла темп и поэтому стала отсталой. Просматри¬
вается полная аналогия с развитием личности. У психологов есть такое понятие
«социально запущенный ребенок». Ребенок родился совершенно нормальным,
но, что называется, в трудной семье — пьянство и бедность родителей привели
к тому, что за ним плохо ухаживали, с ним не занимались, вследствие чего его
развитие затормозилось. В школе обнаруживается, что ребенок не справляется
с программой, и его отправляют в специальную школу, где другая программа,
другие подходы. Ровесники этого ребенка из нормальных семей прошли вовремя
все стадии умственного развития, а он не прошел и стал поэтому социально за¬
пущенным. При очень благоприятных обстоятельствах ребенок может догнать
сверстников, конечно, не самых лучших. Говорить, что России «отсталая» стра¬
на— это то же, что назвать ее социально запущенным ребенком. И аргументация
та же самая. На заре истории мы были нормальными европейцами, но в середине
XIII в. на 250 лет попали в тяжелые условия зависимости от монголов — тяжелое
детство. Только от него освободились, подоспело крепостное право — еще на
250 лет — тяжелое отрочество. Монгольское завоевание и крепостное право нас
затормозили, заморозили («провинция застыла в оцепенении на столетия»), сде¬
лали отсталыми или, как говорят современные теоретики модернизации, — не¬
доразвитыми, и до сих пор мы не может быть наравне с ровесниками из западно¬
европейских стран94.
Есть более корректное объяснение этого феномена: различие между Россией
и Западом — это не отставание, а лаг. Россия с опозданием переживает те же
процессы и проходит те же стадии, что и западноевропейские страны, но не по¬
тому, что россияне — умственно отсталые или социально запущенные дети,
а потому, что Россия как государство и цивилизация позже, чем западноевропей¬
ские страны, если можно так сказать, родилась — Россия живет в другом часо¬
вом поясе европейской цивилизации 5. Идентификация России как европейской
страны другого часового пояса лучше передает суть ее «отставания» от западно¬
европейских стран, где солнце христианской цивилизации взошло на несколько
столетий раньше, чем в России. У нас христианство стало государственной рели¬
гией только в 988 г., в то время как в Римской империи — в 313 г., на территории
Франции — в 496 г., Великобритании — в 597—686 гг., Германии — в 700—
750 гг., в Норвегии и Швеции — в IX—X вв.
623
Глава 13. Итоги развития России в период империи
С IX—X вв., с того самого времени, когда мы имеем более или менее на¬
дежные источники о наших предках, мы наблюдаем этот лаг. Трудами прежде
отечественных историков, на мой взгляд, убедительно доказано, что домон¬
гольская Русь (IX—начало XIII в.) не являлась феодальным обществом в евро¬
пейском смысле этого слова. Основные институты феодального строя: вассали¬
тет, иммунитет, патронат — не получили в них своего полного развития. Опре¬
деляющую роль в социальных отношениях играли архаические архетипы
и структуры; княжеские, боярские и монастырские вотчины с зависимым насе¬
лением еще в начале XIII в. выглядели островками в море общинного земле¬
владения. Феодализм как политический и экономический строй на Руси сфор¬
мировался 3—4 столетиями позже сравнительно с западноевропейскими стра-i
нами — в XII—XV вв.96 ]
С эпохи Возрождения в XV—XVI в. в западноевропейских странах началась
модернизация, а вместе с ней генезис капитализма; в XVII в. произошли первые!
буржуазные революции. В России XVI—первой половины XVII в. только уста-j
навливалось крепостничество. В XVIII—первой половине XIX в. в передовых
западных странах модернизация вступила в решающую фазу: прошла промыта
ленная революция, проведены политические реформы, началось строительств^
индустриального общества и демократического государства, а в России модерни-(
зация только началась. Во второй половине XIX—начале XX в. на Западе было
создано индустриальное общество, а Россия только приступила к промышленной
революции. Так продолжается вплоть до настоящего дня: Европа делает рывок,
Россия догоняет.
Вероятно, в последнюю 1000 лет, когда возникла государственность и пришло
христианство, и определенно в последние 300 лет Россия развивалась более вы¬
сокими темпами, чем ее западные соседи, благодаря чему разрыв между Западом
и Россией имел тенденцию сокращаться. Это особенно хорошо видно в области
материальной и общей культуры. Как указывалось выше, на заре российской го¬
сударственности лаг составлял около 300—400 лет, через 1000 лет, в начале
XX в. — около 100 лет (4 поколения) сравнительно с самыми развитыми страна¬
ми — Великобританией, США, Францией и Германией и примерно 50 (два поко¬
ления) сравнительно с другими западноевропейскими странами — Италией, Ис¬
панией и др. Этот вывод основан на анализе 11 важнейших показателей, которые
всегда фигурируют при международных сравнениях, в ходе которого определе¬
но, когда 4 самые передовые великие державы — Великобритания, США, Герма¬
ния и Франция — достигли уровня России 1913 г. Разумеется, обнаруженный лаг
следуef рассматривать как ориентировочный, с примерной ошибкой 5—10 лет,
а иногда, возможно, и больше (табл. 13.1).
К 1914 г. по 11 показателям средний лаг между Россией и 4 великими
державами составил 96 лет. Если учесть только 3 признака, которые в настоящее
время используются ООН для оценки уровня развития в качестве индекса чело¬
веческого развития — ИЧР (ВВП на душу населения, средняя продолжи¬
тельность предстоящей жизни и образование, включающее процент грамотных
и долю учащихся среди детей школьного возраста), то разрыв был большим —
133 года. Наоборот, по 5 признакам, которые получили интенсивное развитие
624
Россия и Европа: общее и особенное
Таблица 13.1
Лаг в уровне развития между Россией и великими державами
по 13 признакам к 1913 г.
Показатели
Евро-
пейская
Россия
в 1913 г.
Год, когда был достигнут уровень России 1913 г.*
Велико¬
брита¬
ния
США
Гер¬
мания
Фран¬
ция
Сред¬
ний лаг,
лет** *** ****1. Валовой националь¬
ный продукт на д. н/“
61
1750
1800
1850-
1800
113
2. Продолжительность
жизни, лет
33,5
1800 -**
1800-
1800-
1800
113
3. Образование,
лаг в годах
—
1724
1724
1749
1774
170
4. Численность врачей на
10 000 чел.
1,8
1850-
1850-
1850-
1850-
63
5. Численность учащихся
на 1000 чел. населения
59
1800-
1800-
1800-
1800-
113
6. Число экземпляров
газет на 1000 чел. насе¬
ления
21
1840-
1840-
1840 +
1840 +
73
7. Длина железных дорог
на 1000 км2 территории
12,0
1841
1881
1853
1857
55
8. Число почтовых от¬
правлений на д. н.
15,2
1860
1870
1860
1860
51
9. Городское население,
%
15,3
1750-
1850
1800-
1800-
113
10. Грамотность, %*****
29
1650
1700-
1700-
1750
226
11. Урожайность
зерновых, ц с 1 га
7,4
1800-
1850-
1850-
1850-
76
12. Длина грунтовых
и шоссейных дорог на
1000 км2
19
1800-
1800-
1800-
1800-
112
13. Плотность населения,
чел. на 1 км2
24,4
1500
1970 +
1750-
1500
231
Лаг, лет
Показатели 1—3
—
155
138
113
122
132
Показатели 4—8
—
75
65
72
72
71
Показатели 1—2,
4—12
—
118
91
95
94
100
Подсчитано по данным Статистического приложения в т. 3 наст. изд.
* Знак «-» после года означает, что уровень России 1913 г. достигнут ранее этого года,
а знак «+» — позже.
** Средний лаг между Россией и четырьмя странами.
*** В долларах США 1913 г.
**** Образование включает грамотность и численность учащихся на 1000 чел. населения.
***** В возрасте 9—15 лет и старше.
625
Глава 13. Итоги развития России в период империи
только во второй половине XIX—
начала XX в. (массовая школа, пресса,
железные дороги, общественная меди¬
цина и почта), разрыв был меньшим —
71 год. Это говорит о том, что Россия
становилась восприимчивой к нововве¬
дениям. Наибольший лаг между Росси¬
ей и ее соперниками наблюдался по
грамотности — 226 лет, по 5 показате¬
лям (ВНП, урбанизация, продолжитель¬
ность жизни, численность учащихся
и длина грунтовых дорог) — 112—114
лет, по оставшимся 5 показателям —
51—76 лет. Отсюда хорошо видно, что
прогресс в России в наибольшей степе¬
ни сдерживали недостаток образования,
городов и дорог. Плотность населения
сама по себе не имела принципиального
значения — США уступали и до сих
пор уступают по этому показателю Ев¬
ропейской России.
Сравнение между странами показы¬
вает, что к 1913 г. по 11 показателям
впереди России с максимальным разры¬
вом шла Великобритания — 113 лет,
а между США, Германией и Францией, с одной стороны, и Россией — с другой,
разрыв составлял примерено 89—96 лет.
В расчете, по причине отсутствия соответствующих данных, не участвовали
такие важные показатели международного рейтинга страны, как уровень разви¬
тия рыночных отношений, демократии и гражданского общества. По этим пока¬
зателям различия были существеннее. Например, сословно-представительный
орган появился в Англии в 1265 г. (выборный парламент с совещательными
функциями, главным образом по вопросу вотирования налогов), во Франции —
в 1302 г. (как генеральные штаты с теми же функциями), в германских княжест¬
вах — в XIII в. (как ландтаги с теми же функциями), в России же в 1549 г. (как
земские соборы с совещательными и законодательными функциями), соответст¬
венно на 284; 247 и 24997 (в среднем 260) лет позже. Очевидно, что к 1913 г. ин¬
ститут частной собственности, полноценный рынок как регулятор экономиче¬
ских и общественных отношений, демократический механизм функционирова¬
ния и обновления власти и гражданское общество в России получили развитие,
хотя еще в полной мере не сформировались. Тем не менее и по этим параметрам
произошло сближение России и Запада: россиянин получил гражданские и поли¬
тические права, общество и люди, если и не вырвались полностью из объятий
корпораций и государства, то достигли существенной автономии; частная собст¬
венность значительно потеснила государственную и общинную; социетальный
Рис. 13.10. Ф. Мельци (1493—1570).
Женский портрет. Около 1520.
Государственный Эрмитаж
626
Россия и Европа: общее и особенное
контроль (со стороны государства, общества, церкви, общины, корпорации и се¬
мьи) за человеком ослаб и роль самоконтроля увеличилась; самодержавие усту¬
пило место демократической республике и т. д.
Рис. 13.11. А. П. Рябушкин (1861—1904). Московская девушка XVII в. 1903.
Государственный Русский музей
627
Глава 13. Итоги развития России в период империи
В советский период разрыв между Россией и великими державами еще более
сократился: по 11 признакам — до 38 лет (на 58 лет), по трем признакам,
входящим в ИЧР, — до 24 лет (почти на 108 лет). По 5 признакам, которые
получили развитие во второй половине XIX—начале XX в. (учащиеся, пресса,
железные дороги, врачи и почта), разрыв уменьшился до 32 лет (на 39 лет), а по
трем признакам, которые получили развитие только в XX в. (количество теле¬
визоров, число студентов и выработка электроэнергии) разрыв составил всего
12 лет. По уровню образования и числу врачей лаг вообще исчез (табл. 13.2).
Таблица 132 ]
Лаг в уровне развития между СССР и великими державами
по 16 признакам в 1989 г.
Показатели
Европей-
ская Рос¬
сия в
1989 г.
Г од, когда был достигнут уровень России
1989 г.*
Вели¬
кобри¬
тания
США
Г ерма-
ния
Фран¬
ция
Сред¬
ний
лаг,
**
лет
1. Валовой национальный
продукт на д. н., дол. США
1989 г/"
9226
1970
1940
1950
1950
37
2. Продолжительность
жизни, лет
69
1950
1950
1960
1950
37
3. Образование****
99,8
Лага нет
4. Численность врачей
на 10 000 чел.
44
Лага нет
5. Дети школьного возраста,
обучающиеся в школе, %
99,9
Лага нет
6. Число экземпляров газет
на 1000 чел. населения
705
1960
1920
1987 +
1987
19
7. Длина железных дорог
на 1000 км2 территории
26
1847
1891
1866
1866
119
8. Число почтовых отправ¬
лений над. н.
220
1960
1929
1987
1975
24
9. Городское население, %
66
1885
1950
1930
1965
55
10. Грамотность, %
******
98
1913
1959
1913
1959
23
11. Урожайность зерновых,
ц/га ’
17,5
1913
1950
1925
1939
53
12. Длина дорог с твердым
покрытием на 1000 км2
148
1910-
1930
1910-
1910-
72
13. Плотность населения,
чел. на 1 км2
37,9
1700
2005 +
1800-
1700
186
14. Число телевизоров
на 1000 чел.
311
1970
I960
1970
1980
17
15. Численность студентов
на 10 000 чел.
178
1987 +
1960
1985
1987
7
628
Россия и Европа: общее и особенное
Окончание табл. 13.2
Показатели
Европей-
ская Рос¬
сия в
1989 г.
Г од, когда был достигнут уровень России
1989 г.*
Вели¬
кобри¬
тания
США
Г ерма-
ния
Фран¬
ция
Сред¬
ний
лаг,
лет**
16. Выработка электро¬
энергии на душу населе¬
ния, кВтч
5911
1987 +
1960
1975
1985
10
Лаг, лет
Показатели 1—3
—
19
29
23
26
24
Показатели 4—8
—
40
45
25
28
35
Показатели 1—2, 4—12
—
51
41
40
34
42
Показатели 1—2, 4—16
—
42
39
34
28
35
Показатели 4—16
—
6
29
12
5
13
Подсчитано по данным Статистического приложения в т. 3 наст. изд.
* Знак «-» после года означает, что уровень России 1913 г. достигнут ранее этого года,
а знак «+» — позже.
** Средний лаг между Россией и четырьмя странами.
*** В долларах США 1989 г.
**** Образование включает грамотность и число учащихся на 1000 чел. населения.
В возрасте 9—15 лет и старше.
В 1959 г.
В советское время был достигнут громадный прогресс, благодаря чему Россия
приблизилась к передовым западноевропейским странам в материально-орга¬
низационном отношении и с точки зрения человеческого капитала98. Но частная
собственность и полноценный рынок как регулятор экономических и обществен¬
ных отношений не появились, демократический механизм функционирования
и обновления власти и гражданское общество также не сформировались. Вместе
с тем люди в массе настолько изменились, что не потребовалось гражданской
войны, чтобы в начале 1990-х гг. политический строй радикальным образом пре¬
образовался.
Следует заметить, что с 1917 по начало 1990-х гг. сближение России и Запада
происходило с двух сторон. Россия стала урбанистическим, индустриальным,
светским, образованным обществом. Запад, хотя и развивался в направлении ли¬
беральной демократии и рыночной экономики, тем не менее усвоил идеи регули¬
руемой экономики, социального государства, или государства всеобщего благо¬
денствия, практику идеологической обработки населения и тотального контроля
и многие другие советские ноу-хау.
В постсоветское время в некоторых сферах нашей жизни наблюдался регресс:
с 1990 по 2000 г. по ИЧР среди 177 стран мира Россия с 26-го места опустилась
до 66-го: индекс понизился с 0,920 до 0,662 вследствие уменьшения ВВП и сни¬
жения средней продолжительности жизни. В 2000-е гг. индекс стал повышаться
629
Глава 13. Итоги развития России в период империи
и к 2013 г. достиг 0,788, благодаря чему Россия поднялась на 55-е место из 181
стран", но все еще находилась ниже уровня 1990 г. Однако в качественном от¬
ношении сближение России и Запада за последние 20 лет было беспрецедентным
за всю историю. Политическая культура россиян в 1990-е гг. радикально измени¬
лась и в настоящее время, с точки зрения основных ее показателей: отношение
электората к политическим свободам, плюрализм, распределение электората по
шкале «левая — правая» ориентация, готовность к протестной деятельности
в случае нарушения прав и ухудшения экономической ситуации и др. — России
приблизилась к западным демократиям, хотя и не стала ей идентичной100. И это
закономерно: конвергенция — главная тенденция развития Европы XVIII—
XX вв., в последние десятилетия трансформировалась в глобализацию мирового
масштаба. И несмотря на это, сравнение России и Запада в 2013 г. все равно об¬
наружит много различий между ними. Серьезный исследователь должен созна¬
вать преходящий характер всех идеально-типических конструкций и регулярно
их переконструировать в соответствии с произошедшими изменениями. Иначе
идеальные типы «Россия» и «Запад» превращаются в совокупность ложных сте¬
реотипов сознания.
Какой можно сделать прогноз нашего будущего на основании тысячелетне!
траектории развития? Самый простой и надежный прогноз обычно делается на
основе экстраполяции той тенденции, которая наблюдалась накануне прогноза
Эта тенденция, как мы видели, состояла в движении России по общеевропейской
модели и в дальнейшей конвергенции с Западом, значит, именно эти процессы
и продолжатся. Иное маловероятно. Есть такое полезное понятие — колея, ил»
траектория, исторического развития. Каждая страна имеет свою колею и, кая
правило, ее не покидает. Считается, что в последние 200 лет из больших страи
только Японии удалось изменить траекторию своего развития101. С очень высо¬
кой вероятностью можно сказать: наше ближайшее будущее будет определяться
европейской траекторией развития, с которой мы надежно и, вероятно, навсегдз
связаны неразрывными узами.
Итак, название России страной другого часового пояса адекватнее, куль¬
турно и политически корректнее передает суть ее «отставания» от западно¬
европейских стран, где солнце христианской цивилизации взошло на несколькс
столетий раньше, чем в России.
Россия и Запад: ловушки догоняющего развития
К&к показал опыт, в последние 300 лет России удавалось сократить разрыв, нс
догнать Запад не получалось, потому что догоняющее развитие проходило пс
сценарию апории Зенона об Ахиллесе и черепахе. Быстроногий Ахиллес никогда
не настигнет медлительную черепаху: пока Ахиллес добежит до черепахи, от
продвинется немного вперед. Он быстро преодолеет и это расстояние, но черепа¬
ха уйдет еще чуточку вперед. И так до бесконечности. Всякий раз, когда Ахиллес
будет достигать места, где была перед этим черепаха, она будет оказываться хотя
бы немного впереди. Ахиллес догонит черепаху только в том случае, если буде!
стремиться не к тому месту, на котором находилась черепаха в начале его дви¬
630
Россия и Европа: общее и особенное
жения, а к самой черепахе или, еще лучше, впереди нее. Однако в примере с до¬
гоняющей Россией дело обстоит именно так, как в апории Зенона: Россия идет
дорогой Запада и стремится именно к тому месту, на котором он находился
в момент начала гонок, ибо россияне в принципе не могут стремиться к самому
Западу, так как неизвестно, где он будет находиться в следующий момент, да
и сам Запад этого не знает. Лишь однажды, в 1920—1930-е гг., Россия, как дума¬
ли многие, в том числе на Западе, не только догнала, но, и перегнала Запад. Но
тогда Россия не стремилась подражать Западу, не хотела идти его дорогой, а по¬
пыталась выйти на другую траекторию развития и перегнать. «Советский Союз
был не просто еще одним авторитарным режимом, основанным на массовой мо¬
билизации, сочетавшей в себе различные элементы современности (с различны¬
ми степенями энтузиазма). Провозглашая себя “новой цивилизацией”, Советский
Союз с неизбежностью вел к жестокому эксперименту по созданию откровенно
некапиталистической современности и откровенно неколониального колониа¬
лизма. В масштабе, сопоставимом только с Соединенными Штатами, которым
также льстило видеть в себе новую цивилизацию — только совсем иного рода,
советский социализм не только колоссально расширил массовое производство
Рис. 13.12. Г. Бок Старший (1550—1623). Бани в Лойке, Швейцария. 1597.
Базельский художественный музей, Швейцария
631
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.13. М. И. Козловский (1753—1802). Российская баня. 1778.
Государственный Русский музей
машин машинами, но и распространил картину автоматизированного мира тяже¬
лой индустрии, в которой технология приравнивалась к прогрессу. При этом
в СССР настаивали на том, что уничтожение частной собственности превратило
советскую версию новой цивилизации в гораздо более прогрессивную. В период
между войнами, и особенно во время Великой Депрессии, с точки зрения многих
современников, СССР удерживал прочные позиции в условиях того, что им ви¬
делось историческим поворотом»102. Но после, как казалось, удачного взлета ра-
кета-Россия рухнула, и вновь мы вступили на путь подражания.
Однако и подражая догонять Запад можно по-разному. В период империи ру¬
ководство страны прежде, чем провести какую-нибудь серьезную прозападную
реформу, как правило, долго выбирало и просчитывало разные варианты ее про¬
ведения, существовавшие на Западе, проводило эксперименты на родной почве;
приняв план, стремилось реализовать его системно и последовательно. Проде¬
монстрирую это на примере реформ в царствование Екатерины II, последняя
треть XVIII в., и Александра II, 1860—1870-х гг., и сравню их с гайдаровскими
реформами начала 1990-х гг.
Екатерининские реформы включали103:
экономическую — ввела свободу внешней торговли (1762) и предоставила
(1775) всем сословиям право заниматься торговлей, ремеслом и промышленно¬
стью без регистрации и уведомления коронных властей (исключение было сде¬
лано для помещичьих крестьян, но последние под патронажем помещика также
занимались предпринимательством);
административную (1775) — изменила административно-территориальное
деление страны, ликвидировала ряд центральных ведомств (петровских колле¬
гий) и передала их функции местным коронным и сословным учреждениям (дво¬
рянским обществам и городским думам); за центром сохранилась оборона, меж¬
дународные дела и руководство финансами;
632
Россия и Европа: общее и особенное
судебную — отделила судебную власть от исполнительной власти и законода¬
тельной и создала сословные суды, в которых участвовали представители сосло¬
вий (1775);
социальную — создала принципиально новые для России учреждения с функ¬
циями социальной защиты населения — приказы общественного призрения,
управлявшие школами, больницами, богадельнями, смирительными домами
и другими подобными организациями (1775);
сословную (1764, 1785) — завершила конструирование сословного общества
западноевропейского образца, определив в законе правовой статус (совокупность
прав, или «привилегий», и обязанностей) каждого сословия и соответственно
каждого человека, входящего в сословия; за сословиями было официально при¬
знано право самоуправления;
школьную (1780-е) — впервые создала в России единую государственную сис¬
тему светского образования, в основе которой лежали принципы всесословности
и бесплатности;
цензурную (1771, 1776) — разрешалось иностранцам печатать литературу на
иностранном (1771) и русском (1776) языках, с 1783 г. всем подданным (под над¬
зором Синода и Академии наук);
политическую — пресса получила относительную свободу, дворянство и ку¬
печество — личные права, в том числе право создавать добровольные само-
управляющие общества, или ассоциации (первое такое — Вольное экономиче¬
ское общество — возникло в 1765 г., Английский клуб — в 1770 г.).
Все реформы вместе создали предпосылки для развития правомерного управ¬
ления и зарождения гражданского общества в России, генезис которого можно
примерно датировать последней третью XVIII в.104
Перечисленные особенности екатерининских реформ: системность и последо¬
вательности их проведения, постепенность, учет национальных традиций, тща¬
тельность подготовки — в еще большей степени были характерны и для Великих
реформ. Великим реформам предшествовала реформа государственной деревни
П. Д. Киселева 1837—1841 гг. и городская реформа С.-Петербурга в 1846 г.
и Москвы 1862 г., ставшие испытательным полигоном и прообразом крестьян¬
ской реформы 1860-х гг. и городской реформы 1870 г. Великие реформы прово¬
дились системно. Крестьянская реформа рассматривалась главной в пакете
структурных реформ, который включал университетскую (1863), цензурную
(1862, 1865), школьную (1864), судебную (1864), земскую (1864), городскую
(1870), военную (1874) и церковную (1860—1870-е). Подготовка к ним началась
во второй половине 1850-х гг., и провести их в жизнь предполагалось одновре¬
менно с отменой крепостничества. Так было и сделано за исключением город¬
ской и военной реформ, реализация которых задержалась по причине террора,
развязанного народовольцами. Применительно к Великим реформам можно го¬
ворить о тщательности их подготовки, системности, последовательности и по¬
степенности их проведения, о строгом следовании намеченным планам, что
обеспечило целенаправленное всестороннее преобразование российского обще¬
ства под контролем государства.
633
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.15. А. О. Орловский (1777—1832). Русская сельская пляска. 1826.
Государственный Русский музей
634
Россия и Европа: общее и особенное
Характерной чертой Великих реформ являлся терапевтический режим их про¬
ведения — постепенность, как рекомендует современная теория реформирова¬
ния. В условиях страны, где в 1861 г. лишь 17 % населения обоего пола старше
9 лет были грамотными, шоковое проведение реформы не могло закончиться ус¬
пехом. Реформаторы это сознавали, поэтому все новые институты (в смысле
норм и стандартизованных моделей поведения, правил взаимодействия при при¬
нятии решений), необходимые для успешного развития, создавались постепенно,
с оглядкой на Запад, но с учетом российской специфики. Ради уменьшения веро¬
ятности отторжения новых институтов использовалась стратегия создания после¬
довательных промежуточных институтов, плавно, в несколько этапов соеди¬
няющих начальную и целевую финальную конструкции. Например, демократи¬
зация общества началась с местного самоуправления, которое рассматривалось
как предварительная стадия для перехода к парламентаризму; развитие институ¬
та личной собственности предшествовало появлению частной собственности на
надельную землю и т. д. При выборе нового института тщательно выбиралась
страна-донор, откуда заимствовался образец. Вследствие такой стратегии только
к началу XX в. сложилось либеральное и адекватное российским экономическим
реалиям законодательство о предпринимательской деятельности и был создан
прочный институт собственности, без чего невозможно успешное экономическое
развитие. Именно так, медленно и постепенно, рекомендует проводить реформы
современная экономическая наука. Данная стратегия последовательных проме¬
жуточных институтов сочетала преимущества «выращивания» и «конструиро¬
вания» новых институтов и предоставляла возможность управления темпом ин¬
ституционального строительства105.
Прямое аутентичное копирование в шоковом режиме применялось редко,
а когда использовалось, например Петром I или Петром III, то позитивных резуль¬
татов, как правило, не приносило, поскольку такие реформы отторгались общест¬
вом. В принципе в период империи буквальное копирования зарубежных образцов
было просто невозможно, поскольку образец не мог воплотиться в жизнь без ис¬
кажения. Для успешного усвоения требуется выполнение трех основных условий:
наличие человеческого капитала, инфраструктуры и бюрократии, способной раз¬
рабатывать и внедрять образцы106. Эти условия либо отсутствовали, либо были
недостаточными, ибо по уровню развития экономики, политической системы
и культуры Россия отставала от наиболее развитых западноевропейских стран.
Уровень элементарной грамотности среди всего сельского населения составлял
в 1797 г. лишь 3—6 %, в 1857 г. — 12—14 и в 1897 г. — 26 %107, значит, среди соб¬
ственно крестьян (без духовенства и дворянства) — еще ниже. Бюрократия была
слаба, а вся российская инфраструктура недоразвита108. Вследствие этого донести
до глубинки образец, научить или заставить население его использовать оказыва¬
лось неимоверно трудным, а часто невозможным. Например, введение картофеля
в широкую практику растянулось почти на столетие — с конца XVIII до конца
XIX в., когда его доля в сборах зерновых и картофеля достигла 34 %. В 1840-е гг.
картофель внедрялся властями на землях государственных крестьян принудитель¬
но, вызывая картофельные бунты. Еще в 1870-е гг. в центральных губерниях име¬
лись селения, где картофель не выращивался по религиозных соображениям109.
635
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Безжалостно растоптать национальные самобытные институты оказывалось
вообще невозможным, даже если бы такую цель власти ставили. Но такая цель
никогда не выдвигалась. До Великих реформ преобразования, за исключением,
пожалуй, петровских (со второй половины его царствования) и екатерининских
реформ последней четверти XVIII в., имели частный и ситуационный характер.
Задачей реформирования являлось усовершенствование и корректировка преж¬
него порядка, а не его радикальная ломка. Изменения в обществе происходили
медленно и постепенно. Даже петровские и екатерининские преобразования вряд
ли правильно считать революционными. Настоящий дирижизм начался с эпохи
Великих реформ. Кроме того, отнюдь не все проводимые реформы в России про¬
ходили по западным образцам и не во всем россияне стремились подражать За¬
паду. Самодержавие оставалось формой политического правления вплоть до
1905 г.; религия не испытала реформации; сословная система до 1860-х гг. также
не подвергалась серьезному реформированию; социальная организация населе¬
ния в общинных формах укреплялась и развивалась: городского — до 1860-х гг.,
а сельского — до 1906 г.; круговая ответственность для податного городского
населения заменена индивидуальной лишь в 1866 г., а для крестьянства — в 1903 г.;
налоговая система оставались самобытной — подоходный налог для физических
лиц введен только в январе 1917 г.
По-другому проводились гайдаровские реформы. Во-первых, взяли с запад¬
ной витрины самый яркий, легкий и простой вариант и без надлежащей экспер¬
тизы стали поспешно переносить на неподготовленную российскую почву. За что
поплатились, к сожалению, не реформаторы, а основная масса по сути ограблен¬
ного в ходе приватизации населения. Во-вторых, при проведении реформ ис¬
пользовалась шоковая терапия110. Вводимые новые институты часто оказывались
несовместимыми с культурной традицией и советской институциональной струк¬
турой, ввиду этого наблюдались либо их атрофия, перерождение или отторжение
в результате активизации альтернативных институтов, либо институциональный
конфликт или парадокс передачи, когда в ходе трансляции более эффективной
технологии донор выигрывает за счет реципиента. Отсюда разочарование широ¬
ких слоев населения в демократии, суде присяжных, парламенте, рынке. В-третьих,
несмотря на некоторую подготовку, реформы проводились в основном все-таки
стихийно с утратой над ними контроля. Основы современной рыночной эконо¬
мики, сложившиеся в 1992—1998 гг., не являлись итогом всеобъемлющих ком¬
плексных мер, проведенных строго по заранее намеченному плану. Они стали
результатом конъюнктурных преобразований, проводимых в условиях постоян¬
ных кризисов, под давлением дефицита времени, предвиденных и непредвиден¬
ных проблем; лишь стремление создать рыночную экономику придавало целост¬
ность реформам.
Стиль проведения реформ сказалась на их результатах. В 1860-е гг. ВВП Рос¬
сии уменьшился по весьма ориентировочной оценке на 4 %, в 1870-е гг. еще на
1 %. На транспорте, в сфере услуг, в финансовом и промышленном секторах на¬
блюдался прогресс111. В 1860-е гг. реальная зарплата рабочих в сельском хозяй¬
стве выросла примерно на 65 %, хотя в промышленности (если судить по Петер¬
бургу) снизилась на 13 %112. Издержки шоковой терапии в постсоветской России
636
Россия и Европа: общее и особенное
оказались намного серьезнее: ВВП на душу населения в России по паритету по¬
купательной способности с 1990 по 1998 г. сократился на 41 %113, реальные де¬
нежные доходы на душу населения, по данным Росстата, — более чем в 2 раза
и только в 2006 г. вернулись к уровню 1991 г., а в 2011 г. превысили его лишь
на 26 %114.
Вот как оценил гайдаровские реформы американский экономист Джеффри
Сакс, возглавлявший группу западных экспертов при правительстве и президенте
России, вдохновлявший и планировавший преобразования, накануне дефолта
1998 г., в конце 1997 г.: «Это нельзя назвать экономической реформой... Рефор¬
ма обернулась для страны огромным и непредвиденным бедствием, вызвала
колоссальный дефицит бюджета, превратила в прах банковские сбережения и лич¬
ные накопления, а широко распространившиеся чувства неуверенности в завт¬
рашнем дне трагическим образом содействовали сокращению продолжительности
жизни взрослого мужского населения. Я считаю, что реформа потерпела пораже¬
ние по всем статьям»115.
В социальном плане важное отличие Великих от гайдаровских реформ со¬
стояло в том, что посткрепостническая российская буржуазия создавала свое бла¬
госостояние собственным трудом и потому берегла и дорожила своим бизнесом,
не думала о том, как его свернуть на родине, перевести деньги за границу,
Рис. 13.16. Л. Лермитт (1844—1925). Расчет с косцами. 1882. Музей Орсе, Париж
637
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.17. Итальянские дети в Чикаго. 1900-е. Фото Л. У. Хайна
а потом, в случае неблагоприятных обстоятельств, туда уехать. Напротив, совре¬
менная крупная российская буржуазия во многих случаях обладает собственно¬
стью, не заработанной тяжелым трудом. Для многих она скорее «подарок судь¬
бы», приобретенный в ходе часто нелегитимной приватизации и потому до сих
пор не обеспеченный твердо законом и контрактом между крупными собствен¬
никами, государством и обществом. Как свидетельствовал беглый олигарх
Б. А. Березовский: «Вся элита в России на вахте; они приезжают в Россию, чтобы
заработать деньги, а тратят они их не в России, тратят они их на Западе, и хранят
деньги на Западе, в западных банках, и дети их здесь учатся, и дома у них здесь,
и отдыхают они здесь, их жены и любовницы здесь»116. Необеспеченность круп¬
ной собственности, неукорененность нынешней буржуазии, ее неуверенность
в будущем мешают ей стать локомотивом модернизации, а недостаток институ¬
тов, адекватных российским экономическим реалиям, тормозит развитие пред¬
принимательской деятельности. Укорененная российская буржуазия в досовет¬
ской России таким локомотивом являлась.
638
Россия и Европа: общее и особенное
В результате Великие реформы создали предпосылки для экономического
роста и демократических преобразований, благодаря чему с 1881 г. Россия всту¬
пила в полосу интенсивного экономического роста, прерванного Первой мировой
войной и революцией. Творческая имитация сменилась творческим созиданием.
Российская литература, наука и искусство дали миру замечательные образцы.
В пореформенная время русские ученые сделали ряд крупных открытий, и неко¬
торые из них приобрели общемировое значение. Среди них математик П. Л. Че¬
бышев (1821—1894), физики А. Г. Столетов (1839—1896) и П. Н. Лебедев
(1866—1912), создатель Периодической таблицы химических элементов Д. И. Мен¬
делеев (1834-—1907), химик А. М. Бутлеров (1828—1886), физиологи И. М. Сече¬
нов (1829—1905) и лауреат Нобелевской премии 1904 г. И. П. Павлов (1849—
1936), микробиолог лауреат Нобелевской премии 1908 г. И. И. Мечников (1845—
1916), изобретатель дуговой лампы П. Н. Яблочков (1847—1894) и создатель
лампы накаливания А. Н. Лодыгин (1847—1923), изобретатель радио А. С. Попов
(1859—1905) и многие другие.
Гайдаровские реформы подобных благоприятных условий для дальнейшего
экономического развития страны не создали. Россия до сих пор не решила ос¬
новных проблем, ради которых проводились реформы: экономика остается сырь¬
евой; темпы роста — невысокие и продолжают замедляться; число собственных
технологических и продуктовых инноваций незначительно; включенность в «ми¬
ровой Запад» — слабая; ориентация на заимствования и импорт сохраняется;
территориальные диспропорции не преодолены. Единственный новый россий¬
ский лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алферов получил премию по физике за
открытие, сделанное в советское время.
Невозможно согласиться с теми, кто считает, что как в период империи, так
и в советское и постсоветское время российский опыт модернизации является
неудачным, потому что она проходила по модели малоэффективной копирующей
модернизации117. Как показано в книге, модернизация империи проходила в це¬
лом успешно даже в XVIII—первой XIX в., когда России, вследствие крайне низ¬
кого уровня грамотности населения, слабости коронной бюрократии и недораз¬
витости всей инфраструктуры в целом, очень мало (по сравнению с возможно¬
стями) заимствовала западный опыт. Зато в пореформенное время, когда способ¬
ность усваивать инновации, привлекать капитал и участвовать в глобальных рын¬
ках достигла достаточно высокого уровня, усвоение западноевропейской культу¬
ры поднялось на новую ступень, и страна сделала потрясающий рывок,
и масштабные внешние инвестиции пошли во благо. Быстрый экономический
рост стал закономерным следствием выполнения трех важнейших условий: на¬
личия инфраструктуры, человеческого капитала и государства, способного раз¬
рабатывать и проводить грамотную политику118.
Использование коронными властями стратегии последовательных промежу¬
точных институтов, сочетавшей «выращивание» и «конструирование» новых
институтов и обеспечивавшей управление реформами, переводит проблему вес¬
тернизации-модернизации из плоскости догоняющего развития в формат диффу¬
зии, или импорта и распространения, инноваций в обществе либо при непосред¬
ственных контактах участников взаимодействия, либо опосредованно, через раз¬
639
Глава 13. Итоги развития России в период империи
личные средства передачи информации. Именно в таком ключе рассматривается
история заимствования зарубежного опыта в имперской России в работах Е. В. Алек¬
сеевой119. Автор выявляет каналы и механизмы диффузии инноваций в россий¬
ский социум (образование, торговля, войны, миграции, обмен специалистами,
искусство, мода и др.); раскрывает реакцию реципиента на их проникновение
в отечественный уклад жизни; анализирует результаты инноваций и их эффек¬
тивность; определяет масштабы европейского влияния; показывает наиболее
значимые аспекты модернизационных трансформаций; очерчивает круг перемен,
инициированных заимствованиями. Без апологетики западноевропейской и биче¬
вания российской действительности раскрывается сложный, противоречивый
эволюционный путь распространения европейских новшеств в России. Автор
измеряет «окно в Европу» с помощью статистических данных о частоте контак¬
тов россиян с Европой, учитывая состав, направления и причины как выезда рос¬
сийских граждан за границу, так и приезда иностранцев в страну. Размеры окна
тщательно регулировались коронной властью, являвшейся проводником и лиде¬
ром модернизации, желавшей прочно укорениться как в европейской культуре,
так и в европейской политической системе. Контроль, однако, не мог предотвра¬
тить развитие стихийных партикулярных связей, которые росли и способствова¬
ли усвоению западноевропейских идей просвещенной частью российского обще¬
ства, сопоставлению европейского и российского общественного и государст¬
венного устройства и росту критических настроений. Алексеева справедливо
констатирует, что власти учитывали природную, национальную и социокультур¬
ную специфику Российской империи и потому не стремились слепо копировать
западные порядки и управлять Россией вполне по-европейски. Установить пол¬
ный контроль над контактами россиян с иностранцами власти не могли. История
европейских стран в Новое и Новейшее время дает аналогичные примеры ус¬
пешных преобразований именно при авторитарных режимах, а периоды демо¬
кратии оказывались связанными с катастрофической инфляцией и началом дест¬
руктивных процессов в обществе и экономике120.
Об успешности вестернизации и модернизации убедительно свидетельствует
развитие русского языка в период империи. Самые полные словари русского
языка включали в 1794 г. около 43 тыс. слов, в 1847 г. — 115 тыс., в 1909 г. —
220 тыс. К началу XVIH в. русский язык включал несколько тысяч заимствован¬
ных из других языков слов, к началу 1910 г. — более 150 тыс., главным образом
из французского, немецкого и английского121. Как известно, новые слова изобре¬
таются, заимствуются и входят в повседневные практики тогда, когда практики
изменяются й не покрываются существующей лексикой, не могут быть адекватно
выражены без новых слов.
Что касается СССР, то можно и должно критиковать советскую модерниза¬
цию. Однако и не видеть ее успехов, при всех громадных издержках, является
близорукостью. Например, советская индустриализация 1920—1930-х гг., прово¬
дившаяся на основе имитационного моделирования технико-экономической базы
западного общества начала XX в. (с монополизмом одноотраслевых предпри¬
ятий, преимущественным ростом производства средств производства по сравне¬
нию с производством предметов потребления), в момент ее начала соответство¬
640
Россия и Европа: общее и особенное
вала мирового опыту и в кратчайший срок превратила аграрную страну в инду¬
стриальную державу. Это являлось целесообразным и даже необходимым в тех
условиях, что подтвердила победа во Второй мировой войне. Однако, разумеется,
нельзя закрывать глаза на то, что Запад в 1920-е гг. уже начал создавать новую
модель экономики и общественного устройства («фордизм», «государство все¬
общего благоденствия»), не замеченной в СССР12 . Советское руководство, вос¬
создавая индустриальный тип общества, который вскоре морально устарел, за¬
ложило условие для последующего отставания России. Получилось как в апории
Зенона — пока Ахиллес бежал до места, на котором находилась черепаха в мо¬
мент начала гонки, она ушла вперед.
Россия и Запад: идеальные образы в виртуальной реальности
Сравнение России с Западом, в какой бы момент оно не производилось, обна¬
руживает различия, которые бросаются в глаза и иностранцам, и россиянам.
Спектр отличий зависит от времени сравнения и наблюдателя. Суммируем наи¬
более характерные черты образа России и Запада на конец XIX—начало XX в.,
которые артикулируются в российском дискурсе европейскости России в послед¬
ние 133 года, от Н. Я. Данилевского до современных евразийцев123 (табл. 13.3).
Таблица 13.3
Образ России и Запада в цивилизационном дискурсе
на конец XIX—начало XX в.
Россия
Западная Европа
1. Православие
Католицизм и протестантизм
2. Суровые для жизни человека географо¬
климатические условия
Благоприятные для жизни человека
географо-климатические условия
3. Многонациональная
Мононациональная
4. Колонизация, внешняя экспансия
Жизнь в строгих границах
5. Ограничение экономической, полити¬
ческой и мировоззренческой свободы ин¬
дивида
Экономическая, политическая и мировоз¬
зренческая свобода индивида
6. Государственность как нормативно¬
ценностное основание и доминантная
форма социальной интеграции
Религия как нормативно-ценностное ос¬
нование и доминантная форма социаль¬
ной интеграции
7. Подчинение общества государству,
этатизм, патернализм, иерархия
Гражданское общество, опора человека
на собственные силы, равенство
8. Господство государственной и коллек¬
тивной собственности и командная эко¬
номика
Господство частной собственности
и рыночная экономика
9. Общество и государство регулируют
общественные отношения и контролиру¬
ют поведение человека
Рынок регулирует общественные отноше¬
ния, каждый человек контролирует себя
10. Коллективизм, соборность, общин-
ность, солидарность, централизация, мо¬
нополизм
Индивидуализм, эгоизм, децентрализация,
плюрализм
641
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Окончание табл. 13.3
Россия
Западная Европа
11. «Вотчинное государство», самодержавие
Либеральная демократия
12. Социоцентричное общество: примат
общества над личностью, человек осозна¬
ет себя не личностью, а частицей целого,
вследствие чего для каждого человека
существует только одна социальная
ниша — та, которую он занимает
Антропоцентричное общество: примат
личности над обществом, гражданские
права, личная свобода и ответственность,
право индивидуального выбора, расчет
на собственные действия и собственную
судьбу
13. Обоюдная безнаказанность подданных
и государства при нарушении закона
Господство закона
14. Деревенская, крестьянская, аграрная
Городская, буржуазная, торгово-
промышленная
15. Мобилизационный путь развития,
вмешательство государства в механизмы
функционирования общества
Инновационный путь развития, опираясь
на науку и технику, постоянный технико¬
технологический прогресс
16. Трудовая этика субсистенциальная,
минималистская, труд не самоценность,
а неизбежная повинность
Трудовая этика буржуазная, максимали¬
стская, свободный труд как самоценность,
спасение души через работу
17. Иоанновский, мессианский тип чело¬
века: ценностно-рациональный стиль
мышления, стремление к абсолютному
Добру, минимизация значения земных
ценностей, создание гармонии, быть как
все, интроверсия
Прометеевский, героический тип челове¬
ка: целерациональный стиль мышления,
ориентация на конкретный результат и
эффективность, создание порядка из хао¬
са, жажда деятельности и власти, быть
личностью, быть другим, экстраверсия
18. Воля — свобода от всего и для себя
Свобода как взаимные права и обязанно¬
сти
19. Пассивность, терпимость, консерва¬
тизм и гармония как ценности
Деятельность, интенсивность труда, пого¬
ня за успехом и богатством как ценности
20. Религиозность, священность, сакраль-
ность мира
Секуляризация, профанность, светскость
мира
Сначала разберемся: что это за образы, которыми мы часто оперируем, не
отдавая в этом ясного отчета? Россия и Запад — это умственные конструкты,
которые одновременно являются эмпирическими обобщениями и априорными
конструкциями. Они не выведены индуктивно, путем анализа реальности,
а логически сконструированы путем усиления, выделения, заострения тех черт,
которые существуют реально и представляются исследователям наиболее
важными щ характерными. При этом существовавшее сходство полностью
игнорируется, все внимание — на различиях: разве в начале XX в. на Западе не
было государственной или коммунальной собственности, а в России — частной?
Разве на Западе имелось подлинное гражданское общество, а в России не было
даже его элементов? Разве на Западе функционировала идеальная либеральная
демократия, а в России — чистое самодержавие? И это относится к каждому из
20 пунктов «принципиальных» различий между Россией и Западом. Сконст¬
руированные объекты — это то, что в социологии (с легкой руки М. Вебера)
называется идеальным, или чистым, историческим типом: «Это — мыслитель¬
642
Россия и Европа: общее и особенное
ный образ, не являющийся ни исторической, ни тем более “подлинной”
реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую
явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По
своему значению это — чисто идеальное пограничное понятие, с которым
действительность сопоставляется, сравнивается для того, чтобы сделать отчетли¬
выми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания.
Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы строим, используя
категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на
действительность научно дисциплинированная фантазия рассматривает в своем
суждении как адекватные. Идеальный тип в данной его функции — прежде всего
попытка охватить “исторические индивидуумы” или их отдельные компоненты
генетическими понятиями»124. Идеальные типы «Россия» и «Запад» — анали¬
тические категории, подобно совершенному вакууму в физике или совершенной
конкуренции в экономике. Полученные в результате дискурса, они играют роль
культурных конструктов, чтобы иметь масштаб для сравнений. Реальные Россия
и Запад весьма отдаленно похожи на их идеальные типы — как совершенная
экономическая конкуренция похожа на действительную конкуренцию в совре¬
менной России или даже на Западе125.
Рис. 13.18. Г. Доре (1832—1883). Из серии гравюр «Лондон». 1872
643
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.19. Многоквартирный дом, Вашингтон. 1900-е. Фото Л. У. Хайна
В постмодернистской историографии особенно много внимания уделяется со¬
циальному конструированию реальности, к которому можно отнести и построе¬
ние идеального типа. Американский историки и культуролог Л. Вульф посвятил
книгу, в которой показывает, что Россию, как и всю Восточную Европу, в каче¬
стве отсталой, варварской части континента, «изобрели» философы Просвещения
в конце XVIII—начале XIX в. «Прежде чем появиться на карте, Восточная Евро¬
па родилась в головах просветителей как конструируемый интеллектуальный
объект» с целью на контрасте с «другим», якобы противоположным, доказать,
а по сути тоже изобрести Западную Европу как оплот и высшее выражение циви¬
лизации. Это противопоставление либеральной Западной Европы и деспотиче¬
ской Восточной Европы в конечном счете стало инструментом политического
и экономического господства Европы над Россией126. Аналогичную роль «друго¬
го» для западноевропейцев исполняли и «турки»127. На самом деле просветители
не являлись в данном вопросе первопроходцами. В католической и протестант¬
ской Европе негативный образ России сложился еще во второй половине XVI в.
(при больших усилиях Польши, находившейся в то время в постоянном кон¬
фликте с Россией) и Англии. Английские дипломаты и специалисты, работавшие
в России, формировали из России стереотип «варварской страны», а из ее народа
образ «варварского народа», который во многом сохранился на протяжении по¬
следующих столетий128. «На примере истории Московии показывалось, что не
надо делать европейцам, что такое неевропейское поведение. Сущность своего,
христианского мира, европейские авторы раскрывали через описание неевропей¬
644
Россия и Европа: общее и особенное
ских, отрицательных качеств у своих соседей и антагонистов — прежде всего
турок, а со второй половины XVI в. и московитов. Этот культурный механизм
оказался столь эффективным и востребованным Европой, что применительно к
XVI—XVII вв. можно повторить мысль Ларри Вульфа (которую он высказал для
эпохи Просвещения): если бы России не было, Западу ее следовало бы выду¬
мать»129. У «темного двойника» со временем появились и другие функции —
обоснование экспансии, новых «крестовых походов», экспорта собственных сим¬
волов политической и религиозной веры, отвлечение внимания от проблем в соб¬
ственном доме и перенаправление агрессии вовне. Россия чаще всего демонизи¬
ровалась, а иногда и идеализировалась, не по причине ее реальных действий,
а из-за собственных страхов, надежд и ожиданий, порождаемых внутренними
проблемами.
Характерен эпизод с признанием Петра I императором, а России — империей.
Реакция ведущих европейских стран на объявление Петра императором была
отрицательной. Появились памфлеты, диссертации и сочинения, доказывающие
«неимперскость» России и отсутствие у нее прав на высокопочитаемый в Европе
титул. Запад всеми доступными средствами пытался не допустить официального
появления новой империи, что до смешного напоминает усилия современных
США понизить статус России как великой державы до статуса региональной
державы. России пришлось пойти на значительные идеологические, политиче¬
ские и материальные уступки, чтобы добиться желаемого титула. Так, в ущерб
национальным интересам русская сторона негласно согласилась с европейским
взглядом на прежний царско-цесарский титул как равный более низкому по ран¬
гу титулу короля и тем самым обесценить идею византийской преемственности,
не имевшей веса на Западе, но очень значимой в России. Отказ от традиционных
представлений о власти означал принижение статуса страны в предшествующие
столетия. И, несмотря на это, признание затянулось на несколько десятилетий.
Последней в Европе сдалась Польша — в 1762 г.130
Добавлю: западноевропейские просветители и их последователи при конст¬
руировании образа России опирались на представления некоторых очень про-
Рис. 13.20. Ж. Калло (1592—1635). Дерево повешенных. Из серии «Бедствия войны».
1633. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
645
Глава 13. Итоги развития России в период империи
свешенных европеизированных русских, отождествлявших отечество с варварст¬
вом. Для российских западников образ Запада как высшего проявления цивили¬
зованности, как своего рода «светлого двойника» всегда был также нужен, во-
первых, как идеал для сравнения и подражания, «как пространство “романтиче¬
ского побега”»131 и, во-вторых, для осуждения действительного или мнимого
варварства России132. В конце XIX—начале XX в. для либерально-демократи¬
ческой общественности, боровшейся с авторитарной властью и стремившейся
построить в стране гражданское общество и правовое государство, негативный
имидж России стал еще более необходим, поэтому он и утвердился в либераль¬
ной историографии и публицистике. Другими словами, если бы не было Запада,
то России его тоже следовало выдумать, чтобы на примере Британии, Франции
или Германии учить русских, что им надо делать, чтобы стать европейцами.
В советской историографии образ бедной, отсталой, агрессивной и угнетающей
себя и других России приобрел новые краски и вошел в учебники истории, а че¬
рез них — в массовое сознание. Без поддержки «изнутри» негативный образ Рос¬
сийской империи не стал бы парадигмой. Этот механизм «темного и светлого
двойника» действует в настоящее время повсеместно133. Конструирование «тем¬
ного двойника» из США в XXI в. прибрело даже некоторую популярность
и спрос у читателя134.
Рис. 13.21. Казни у Спасских ворот. XVII в. Воспр. по изд.: Олеарий А.
Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно.
СПб., 1906. С. 289
646
Россия и Европа: общее и особенное
к 3
*0?
Рис. 13.22. Линчевание афроамериканца Джесса Вашингтона, Уако (Техас). 1916
В 2002 г. немецкий славист Вальтер Кошмаль в докладе «Диалог мифов как
миф: Россия и Европа» на международной конференции констатировал: «Сло¬
жившийся в России миф о рационализме Европы есть лишь реакция России на
господствующий в Европе миф о российской иррациональности и эмоциональ¬
ности, делающих ее полностью непредсказуемой. В ответ на непризнание Евро¬
пой в качестве равной по уровню развития страны и на изоляцию Россия создала
миф о своем превосходстве над Европой благодаря сохранению “целостности”
развития всех сфер человеческой активности в противоположность европейской
фрагментарности, что достигается благодаря преобладанию общественного над
индивидуальным. Этот миф и сейчас обладает столь сильным влиянием, что за¬
трудняет восприятие демократических идей, идущих с Запада, чем частично объ¬
ясняются неудачи демократического опыта России. Именно подозрение России
в нестабильности, идущее из Европы, и есть одна из существенных причин этой
нестабильности. Выходом из сего замкнутого круга может быть лишь отказ За¬
падной Европы от своих мифов о России, что может оказать решающее влияние
и на разрушение российских мифов о Западе, однако, чтобы быть эффективной,
инициатива должна исходить именно от Европы»135. В 1990-е гг. по инициативе
России, благодаря перестройке, началось разрушение мифов о Западе в России
и в ответ разрушение мифов о России на Западе. В результате градус взаимных
647
Глава 13. Итоги развития России в период империи
симпатий сильно вырос и вплоть до конца 1990-х гг. оставался высоким; в Рос¬
сии он превышая температуру антипатий в 7—9 раз. Весна, к сожалению, про¬
должалась недолго. Неуклонно осуществляемое расширение НАТО на восток,
бомбардировки Сербии, появление американских военных баз в государствах
Центральной Азии, развертывание элементов американской ПРО в Восточной
Европе, настойчивые усилия построить систему глобальных коммуникаций
в обход России, поощрение антироссийского политического вектора в европей¬
ских странах изменили ситуацию. Образ Запада в сознании большинства россий¬
ских граждан вновь стал ассоциироваться с факторами угрозы136. То же самое
произошло и на Западе в отношении России. В связи с последними событиями
(2013—2015 гг.) на Украине уровень симпатий россиян к Западу упал до самой
низкой отметки за последние 25 лет. Доля россиян, негативно оценивающих свое
отношение к США и Европейскому союзу в январе 2015 г., достигла рекордного
уровня — 81 и 71 % соответственно137. То же наблюдается и на Западе относи¬
тельно России. Круг замкнулся или цикл завершился.
Итак, все существующие в литературе образы России и Запада — это идеаль¬
ные сконструированные типы, как правило, имеющие политические цели. Это не
подлинные Россия и Запад! К сожалению, историки и культурологи забывают об
этом и отождествляют умственные конструкты с самой историко-культурной
реальностью. Кроме того, противопоставляя Россию и Европу, как правило, не
принимаются во внимание представления народов Азии, Африки и Латинской
Америки, которые никогда не сомневались, что Россия относится к Европе не по
Рис. 13.23. У. Хомер (1836—1910). Привяжи кнут (игра). 1872. Метрополитен-музей,
Нью-Йорк
648
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
географическому расположению, а по сути своей культуры138. Наконец, конвер¬
генция — главная тенденция развития Европы XVIII—XX вв. — в последние
десятилетия трансформировалась в глобализацию мирового масштаба и игнори¬
ровать ее было бы легкомысленно. Серьезный исследователь должен регулярно
переконструировать идеальные типы в соответствии с произошедшими измене¬
ниями. Иначе идеальные типы «Россия» и «Запад» превратятся в совокупность
ложных стереотипов сознания. Как сказал М. Вебер: «Есть науки, которым даро¬
вана вечная молодость, и к ним относятся все исторические дисциплины, перед
ними в вечном движении культуры все время возникают новые проблемы. Для
них главную задачу составляют преходящий характер всех идеально-типических
конструкций и вместе с тем постоянная неизбежность создания новых»139.
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
История имперской России изучалась мною в контексте разных концепций,
конструирующих специфический образ России, предлагающих собственные мо¬
дели и свои трактовки предпосылок, движущих сил, механизмов, хронологии ее
развития. Результаты проведенного мною исследования позволяют рассмотреть
вопрос об их адекватности.
Марксистская концепция: от феодализма к социализму. Результаты моего
анализа не подтверждают гипотез, вытекающих из марксистской концепции рос¬
сийской истории периода империи. Остановлюсь на некоторых.
649
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Гис. В. СТЕПАНОВА
Рис. 13.25. В. Степанов (?—?). Да здравствует феодализм — наше светлое будущее!
Воспр. по: Известия. 1991. 20 марта (№ 67)
Центральная гипотеза о несоответствии производительных сил и производ¬
ственных отношений как движущей силе исторического развития эмпирически
не подтвердилась. В российском сельском хозяйстве в течение XVIII—начале
XX в. «феодальные» помещичьи хозяйства имели более высокие урожаи и мень¬
шие издержки производства, иначе говоря, являлись более производительными,
чем «передовые» крестьянские хозяйства. Помещики были тесно связаны с рын¬
ком, чутко реагировали на конъюнктуру, проявляли интерес и склонность к но¬
вовведениям и являлись не тормозом, а проводником агротехнического и всякого
другого прогресса в деревне. В крепостное время барщина являлась более эффек¬
тивным способом хозяйствования. Чем больше свободы имели крестьяне, тем
хуже и менее производительно они работали. Даже в начале XX в. упразднение
помещичьего Земледелия — «главного препятствия прогресса» — грозило упад¬
ком земледельческого производства. Известный русский агроном и администра¬
тор А. С. Ермолов попытался оценить вероятные экономические результаты без¬
возмездной передачи всей помещичьей земли в руки крестьян в 1906 г. В этом
случае, по его расчету, не только страна в целом, но и, как это ни парадоксально,
крестьяне проиграют, так как получат дохода с дарованной земли меньше, чем
зарабатывали за ее обработку, когда она принадлежала помещикам, в качестве
сельскохозяйственных рабочих. Причины — низкая производительность, высо¬
кие издержки и низкая доходность крестьянской земли сравнительно с поме¬
650
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
щичьей140. Крепостное право было отменено не по причине того, что крепостное
помещичье хозяйство зашло в тупик, а по политическим, культурным, мораль¬
ным соображениям.
Не революционное движение, а верховная власть и правящий класс являлись
двигателями прогресса в городе и деревне. В течение двух столетий, XVIII—XIX вв.,
в стране не возникало революционных ситуаций; реформы происходили «по ма¬
нию царя». Классовая борьба не являлась доминирующей формой социальных
конфликтов применительно к России. Правильнее говорить о конфликте группо¬
вых, а не классовых интересов, о чем свидетельствуют отнюдь не классовые раз¬
ногласия между партиями (например, левые кадеты и правые социалисты по ряду
вопросов были ближе друг к другу, чем большевики и меньшевики) и социаль¬
ный состав основных партий. «Застрельщиком» революции являлся не пролета¬
риат, а интеллигенция. «Гегемония пролетариата», т. е. руководство трудящими¬
ся, осуществляемое рабочим классом, — марксистский теоретический конст¬
рукт— не подтвердилась практикой борьбы. «Белые воротнички» находились
в авангарде протестных движений и руководили всеми партиями — крестьян¬
скими, рабочими, буржуазными, монархическими141. Социальную базу правой
монархической партии составляли крестьяне и деклассированные элементы го¬
рода, а руководили ею дворяне и интеллигенты.
Русская революция 1917 г. не имели объективных предпосылок в марксист¬
ском смысле. Экономика России по темпам роста в 1880—1913 гг. занимала одно
из первых мест в мире, из великих держав уступая только США. Промышлен¬
ность на основе частной собственности развивалась особенно быстро и имела
огромные резервы, о чем говорит тот факт, что по производительности труда она
уступала передовым капиталистическим странам в 3—4 раза. В 1897 г. во всей
империи (без Финляндии) доля лиц наемного труда (рабочих и прислуги), для
которых работа по найму служила главным средством к существованию, состав¬
ляла в самодеятельном населении империи всего 10,9%, а в 1913 г. — 16,9%
(табл. 2.23 в гл. 2 «Социальная стратификация и социальная мобильность» наст,
изд.). Обнищание народа ни до, ни после Великих реформ не наблюдалось. Уро¬
вень жизни широких народных масс в 1795—1915 гг. медленно, но верно повы¬
шался. Имущественное неравенство в пореформенное время было умеренным.
Крестьянство до самой революции 1917 г. оставалось в имущественном и соци¬
альном отношении довольно однородной массой и имело лишь зачатки так назы¬
ваемого буржуазного расслоения. Как показал макроэкономический расчет: де-
цильный коэффициент неравенства в России начала XX в. составлял примерно
6,3 и мог варьировать в границах А—11142. Даже максимально возможная его ве¬
личина не могла представлять серьезную социальную опасность. Предположение
об огромном неравенстве доходов в позднеимперской России как главном факто¬
ре русской революции не подтверждается эмпирически.
Марксистская концепция истории в советском варианте, неверно объясняю¬
щая ход российской истории, важнейшие события, явления и процессы, тем не
менее здравствовала 70 с лишним лет и на первый взгляд никак не мешала реали¬
зовывать прекрасный, но утопический проект построения социализма. Вероятно,
причина этого состояла в том, что предлагаемое ею объяснение удовлетворяло
651
Глава 13. Итоги развития России в период империи
потребности властей, элиты и, наверное, большинства народа. Многим было
приятно сознавать, что страна идет новым, не известным прежде путем, открывая
новые горизонты всему человечеству. Люди нуждаются в чарующих и подни¬
мающих дух иллюзиях, а не в низких фактах, отнимающих надежду и уверен¬
ность, порождающих ощущение собственной мизерности и мимолетности. Как
выразился известный петербургский писатель: «История общественной мысли
есть главным образом история общественных грез, являющихся под маской ра¬
циональности. Иногда требующих, как, скажем, марксизм или расизм, серьезного
квазинаучного оснащения и все-таки овладевающего массами благодаря, в пер¬
вую очередь, вечно живым сказкам, пульсирующим под сухим панцирем подта¬
сованных цифр и полувыдуманных фактов. <...> Сталинизм заполнил пустоты,
выжженные индивидуалистическим либерализмом, замыкающим человека в его
личной шкуре. Те, кто ощущает себя частью чего-то бессмертного — народа,
науки, искусства, церкви или даже семейного клана — в подобных суррогатах
вечности не нуждаются»143.
Однако нельзя вечно морочить народ чарующими сказками, если он сидит на
сундуках с нефтью, газом, лесом, золотом и другими богатствами, а все вокруг
испытывают в них острый дефицит. Только виртуальной экзистенциальной за¬
щиты явно недостаточно. Нужна сильная армия, передовые высокие технологии
и знания, которые дает наука, в том числе общественная. В силу этого марксист¬
скому объяснению русской истории пришлось потесниться в пользу других кон¬
цепций. И это, несомненно, произошло бы раньше конца 1990-х гг., если бы
в стране не существовало монополии на марксистскую парадигму, поддерживае¬
мую всей силой государства, включая полицию, суд и тюрьму.
Неудача марксистской концепции адекватно объяснить развитие имперской
России обусловливается в значительной степени тем, что в советских исследова¬
ниях концепция была упрощена, уплощена, абсолютизирована, превращена
в общую схему общечеловеческого развития и являлась монопольной и аксиома¬
тической144. Марксистские историки на Западе, свободные от идеологического
диктата, выполнили работы, которые до сих пор высоко ценятся в мировой исто¬
риографии. В Италии, Франции и особенно Великобритании работало и работает
много видных марксистских историков, причем не в одиночку, а коллективно, со
своими журналами, в рамках влиятельных школ, предлагающих марксистскую
интерпретацию истории, но не принимающих марксизм как политическую идео¬
логию. Например, хорошо известна в мировой историографии влиятельная и рес¬
пектабельная группа британских историков, включающая В. Киернана, Г. Рюде,
Д. Савилье, Р. Самьюэльсена, Д. Томпсона, Е. П. Томпсона, Р. Харссиона,
К. Хилла, Р. Хилтона, Э. Хобсбаума145. Те или иные марксистские идеи были ус¬
воены практически всеми концепциями, в том числе модернизационной, мир-
системой, синергетической, постмодернистской, институциональной.
Цивилизационная концепция: уникальность и неизменность от рождения
до смерти. Проверить адекватности цивилизационной концепции (в смысле спе¬
цифической системы взглядов на общественные явления в историческом ракур¬
се) на примере имперской России весьма затруднительно по нескольким причи¬
нам. Во-первых, отсутствует консенсус по принципиальным вопросам (что такое
652
Развитие России в решках семи концептуальных подходов
цивилизации, каковы критерии их идентификации, каковы их пространственные
границы и число). В последние 25—30 лет, когда цивилизационная концепция
наиболее активно разрабатывалась, количество выделенных цивилизаций резко
возросло — вплоть до придания цивилизационного статуса едва ли не любой эт¬
нической группе. Это дало основание И. Валлерстайну назвать цивилизационную
концепцию «идеологией слабых», формой протеста этнического национализма
против развитых стран «ядра» современной мир-системы146. Во-вторых, цивили¬
зационные построения спекулятивны и неопределенны, по большей части осно¬
вываются на догадках, предположениях, а нередко и прямых домыслах. В-третьих,
период империи продолжался всего лишь около двух веков, в то время как весь
цикл развития цивилизации, от зарождения до распада, занимает длительный
срок: согласно Тойнби — две и более тысяч лет147, по К. Н. Данилевскому — не¬
сколько тысячелетий, в том числе четыре—шесть столетий приходится на период
расцвета148, по Л. Н. Гумилеву — около 1200—1500 лет, из которых около 300 лет
приходится на фазу пассионарного подъема149. Не случайно сами сторонники
концепции говорят о «цивилизационной неопределенности» России150.
Разные авторы по-разному определяют фазу, в которой находилась Россия
в XVIII—XIX вв.: согласно Тойнби — в фазе роста, по Данилевскому, Россия
в середине XIX в. еще едва вступила в период «цветения и плодоношения»: «Об¬
ращаюсь теперь к миру славянскому, и преимущественно к России, с тем, чтобы
рассмотреть результаты и задатки еще начинающейся только его культурно¬
исторической жизни»151. По Гумилеву, подъем и акматическая (высшая) стадия
в период империи были пройдены, так как от пассионарного толчка, послужив¬
шего причиной появления русского этноса, до XVIII в. прошло более 600 лет,
поэтому российская цивилизация вступила в фазу надлома, которая продолжает¬
ся до настоящего времени152. Однако полученные мной результаты показывают:
Россия в период империи не проявляла признаков надлома и упадка, а находи¬
лась в зените развития.
Сравнение России со странами, принадлежащими, согласно цивилизационной
концепции, к другим ныне живущим цивилизациям, с точки зрения свойствен¬
ных им верований и институтов обнаруживает расхождения. Однако не всегда их
можно считать принципиальными. Например, как было показано выше, различия
между Россией и западно- и центральноевропейскими странами, относящимися
к западной цивилизации, существуют на любой момент в течение последних
1000 лет, вплоть до настоящего времени. В то же время Россия, западноевропей¬
ские и вообще все европейские страны развиваются по близким траекториям,
вследствие чего в каждый данный момент Россия находится на более ранней ста¬
дии развития, но относительно лишь самых развитых западноевропейских стран.
А по сравнению, например, с Грецией и другими балканскими странами, о при¬
надлежности которых к европейской цивилизации сомнений нет, Россия в пери¬
од империи ни в чем существенно не отличалась и от них не отставала. В рамках
Европы существовало много вариантов различных учреждений, институтов, яв¬
лений и процессов. В России не было и нет ни одного института, который бы
не встречался в какой-нибудь европейской стране. Даже общинная собствен¬
ность и переделы, признающиеся сторонниками цивилизационной концепции,
Глава 13. Итоги развития России в период империи
например Н. Я. Данилевским, уникально русскими институтами, были известны
в других европейских странах: общинная собственность встречалась во многих
европейских странах в Средние века, а в некоторых регионах Австрии, Германии
бытовала еще в XVIII—начале XIX в.; в Норвегии общинная собственность до¬
жила до наших дней153. В Англии до начала Нового времени, а в других европей¬
ских странах до XVIII—XIX вв. каждое сельское поселение представляло собой
особый род общности154. Переделы земли, луга или леса отмечены в Дании, Гер¬
мании, Англии, Венгрии, Галиции, Польше, Молдавии, Румынии и, возможно,
встречались и в других европейских и неевропейских странах155. По справедли¬
вому мнению М. Мания, Европу следует изучать как ряд «особых путей» (в том
числе русского пути), которые образуют «градиент» — ступенчатый склон, спус¬
кающийся от Атлантики к Уралу. С петровских времен до эпохи построения «ре¬
ального социализма» Россия и Европа вместе составляли этот «Запад» в широком
смысле этого слова156. Россия почти всегда находилась в рамках европейского
континуитета. По мнению большинства исследователей, не было только россий¬
ского Возрождения и Реформации, что имело, как общепризнано, серьезные по¬
следствия: слабость индивидуализма, доминирование коллектива над человеком,
преобладание внешней религиозности над внутренней, веры над разумом и во¬
обще слабость рационализма, смешение мировоззренческих и политических цен¬
ностей157. Однако, например, Д. С. Лихачев говорил об элементах Предвозрож-
дения в древнерусской культуре XIV—XV вв., которым не удалось развиться
в настоящее Возрождение158, а немецкий культуролог И. Смирнов нашел на¬
стоящий Ренессанс в Московском государстве второй половины XV—XVI в.159
Главный недостаток цивилизационного подхода в его антиисторизме. По оп¬
ределению локальной цивилизации, фундаментальные институты, выступающие
в качестве ядра цивилизаций, неизменны. Но это возможно только в том случае,
если они каким-то образом генетически закреплены в геноме представителей
данной цивилизации. До сих пор наука подобного явления не обнаружила, и все
рассуждения на этот счет вплоть до утверждения, что история предков записана
в ДНК человека, а мозг людей хранит информацию (информацию в буквальном
смысле) прошлых эпох с момента появления человека разумного, носят спекуля¬
тивный характер. Факты говорят о том, что передача культуры от поколения
к поколению происходит исключительно в ходе социализации — процессе усвое¬
ния индивидом «правил игр», принятых в данном обществе, социально одобряе¬
мых норм, ценностей, моделей поведения, которые генетически не закрепляются.
Следовательно, и элементы культуры могут передаваться от поколения к поколе¬
нию только] в результате социализации и, значит, могут со временем, при изме¬
нении условий существования носителей культуры данной цивилизации, вытес¬
няться или трансформироваться в другие. В случае полного вытеснения и замены
системообразующих признаков цивилизации она ассимилируется другой, а в
случае трансформации превращается в другую цивилизацию. Это вынужден при¬
знать и А. Тойнби: в некоторых случаях цивилизации преобразуются в другие,
образуя последовательности из трех цивилизаций. Последними членами после¬
довательностей являются ныне живущие цивилизации. Таковы последовательно¬
сти: минойская — эллинская — западная цивилизации; минойская — эллин¬
654
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
ская — православная цивилизации; минойская — сирийская — исламская циви¬
лизации; шумерская — индская — индуистская цивилизации. Считается, что
Япония вышла из своей колеи дальневосточной цивилизации и перешла на колею
западной цивилизации всего за полтора столетия, сохранив в трансформирован¬
ном виде некоторые черты традиционной японской цивилизации. Как было пока¬
зано в данной книге, Россия в период империи испытала разительные изменения
во всех отношениях под влиянием вестернизации, охватившей, правда, в боль¬
шей степени привилегированные слои и городское население, чем крестьянство.
Внутренние ритмы ее динамики подвергались трансформациям и стали синхрон¬
ными с Западной Европой, в том числе с самыми развитыми странами. Но пра¬
вильно ли считать эти изменения цивизационными?!
Вместе с тем нельзя не видеть преемственности в развитии российского со¬
циума, на котором настаивают сторонники цивилизационной концепции160. Сла¬
бо затронутая модернизацией деревня вплоть до XX в. во многом сохраняла тра¬
диции Московского царства XVI—XVII вв., а в некоторых случаях и Древнерус¬
ского государства, т. е. в течение нескольких веков. Советский Союз являлся, по
большому счету, приемником императорской России161. Если скорректировать
классическую цивилизационную концепцию таким образом, чтобы социокуль¬
турные матрицы, лежащие в основе жизнедеятельности социума, переформати¬
ровать из неизменных и вневременных в очень медленно (в броделевском «вре¬
мени большой длительности») изменяющиеся матрицы, то и цивилизационная
концепция может оказаться работоспособной. Тогда то, что называется нацио¬
нальными особенностями России (как и любой другой страны) можно трактовать
как социокультурные традиции. Вслед за признанием возможности изменения
социокультурных матриц «локальных цивилизаций» должна последовать и вто¬
рая ревизия — допущение возможности их взаимодействия, существования диф¬
фузионного механизма заимствования институтов и, значит, возможности кон¬
вергенции, трансформации и ассимиляции цивилизаций, что, кстати, допускал
А. Тойнби. Тогда применение цивилизационного подхода позволит совместить
изучение модернизации в структурно-функциональном и в культурно-институ¬
циональном аспектах, где как раз и обнаруживаются ключевые факторы, высту¬
пающие в качестве стимулов или барьеров к проведению преобразований, а также
обусловливающие своеобразный ход последних в России162. Но, строго говоря,
такую концепцию уже нельзя назвать цивилизационной. Широко распространен¬
ный в современной отечественной литературе термин «цивилизация» означает
в сущности не локальную цивилизацию в классическом смысле, а важные или
принципиальные особенности какой-либо национальной культуры или страны163.
Вследствие этого стало возможным придавать цивилизационный статус едва ли
не любой этнической группе — татарская, османская (турецкая), английская,
французская, германская, американская... цивилизация.
Мир-системная концепция: всегда быть периферией Европы. Принципи¬
альные идеи этой концепции (I — необходимость анализировать историю стра¬
ны на фоне мирового развития, в сравнительно-исторической перспективе, в тес¬
ной связи с другими странами, входящими в ту или иную мир-систему; 2 —
культурная и технологическая отсталость и зависимость России в период импе¬
655
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
рии от передовых стран Запада, которые для нее служили образцом для подража¬
ния; 3 — острое соперничество с ними за власть, престиж и влияние в Европе
и Азии; 4 — решающая роль армии в отстаивании своих интересов и достижении
статуса великой державы) не вызывают возражения. Но эти идеи стары, можно
сказать, как мир. Даже сторонники цивилизационной концепции, например
А. Тойнби, говорят о взаимодействии цивилизаций и подчеркивают важность
культурных диффузий. Историческая же конкретика, которую И. Валлерстайн
и российские сторонники мир-системной концепции приводят для доказательст¬
ва ее адекватности, большей частью не соответствует тому, что обнаружило мое
исследование164.
Нельзя считать имперскую Россию, которая соревновалась со странами ядра
капиталистической мировой системы за гегемонию в Европе, страной полупери-
ферии. Это еще в большей степени относится к СССР — второй сверхдержавы
в мире в XX в. В XVIII—XX вв. Россия боролась за свои интересы, а не за инте¬
ресы Великобритании («не желала таскать для нее каштаны из огня», как выра¬
зился один известный российский политик) и не являлась марионеткой или са¬
теллитом какой-либо другой страны ядра. Россия являлась субъектом мировой
политики и мировой экономики и влияла на судьбы Европы и всего мира. Для
того чтобы войти в европейскую геополитику и тем более в ней остаться на ве¬
дущих ролях, большой численности населения было недостаточно. Требовалась
достаточно развитая промышленность, высокий уровень общей и технологиче¬
ской культуры, пусть и заимствованной на стороне. Россия этим обладала, что
тоже не соответствует статусу полупериферии. В период империи происходило
выравнивание уровней развития России и развитых европейских стран; Россия,
что называется, их догоняла, причем во всех отношениях. Это противоречит мир-
системной концепции, согласно которой разрыв со временем должен увеличи¬
ваться в пользу ядра. Модернизация происходила с разной степенью успеха
в отдельные периоды, однако тренд в течение трех столетий был позитивным.
Великие реформы, преобразования, проводимые Витте и Столыпиным, советская
индустриализация дали плоды — Россия превратилась из просто великой миро¬
вой страны в сверхдержаву. Индустриализация, хотя отчасти направлялась бю¬
рократией, особенно на ранних стадиях, происходила в значительной мере спон¬
танно, под влиянием внутренних факторов. Создав высочайшие образцы культу¬
ры, признанные во всем мире, Россия исполняла роль культурного субъекта, вли¬
явшего на ход развития мировой культуры. В недооценке мирового значения
России в полной мере сказался недостаток мир-системной концепции — сниже¬
ние чувствительности по отношению к внутренним факторам развития, преуве¬
личение зависимости страны от внешнего контекста и преуменьшение роли
достижений в сфере военных технологий, тяжелой промышленности, науки,
образования; недооценку существенных отличий в развитии по сравнению со
многими развивающимися странами в случае идентификации России как стра¬
ны третьего мира.
Не будем закрывать глаза и на положительные элементы мир-системного под¬
хода. На большую роль международной конкуренции, мирового контекста, ли¬
дерства, неравномерности развития отдельных стран, зависимости отстающих
656
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
стран от передовых, сознательно затрудняющих их развитие, первыми указали
мир-системники, и это способствовало лучшему пониманию хода исторического
развития России.
Институциональная концепция: изменяться постепенно, вместе с инсти¬
тутами. Институциональная концепции акцентировала мое внимание на вопросе
о том, почему одни реформы в России оказывались успешными, другие — нет,
почему одни институты приживались и развивались, а другие — нет. Полученные
результаты доказывают адекватность институционного подхода. Рассмотрю не¬
сколько примеров удачных реформ (их на самом деле было немало, но вспоми¬
наются они редко и в искаженной интерпретации), изменивших институты, не
вызвав протестов населения, потому что не разрывали резко с традицией, отвеча¬
ли желаниям и потребностям населения.
Успешной можно считать введение подушной подати в 1718 г., которую в ли¬
тературе, как правило, называют неудачной по той причине, что прямые налоги
не находились в связке с доходами и платить их должны были «сущие младенцы»
и нетрудоспособные старики. На самом деле «душа» являлась только единицей
счета. Прямой налог платился не индивидуально, а коллективно всей крестьян¬
ской или посадской общиной по принципу круговой поруки — за недоимщиков
платили все платежеспособные. Общая сумма налога в общине разверстывалась
в зависимости от платежеспособности хозяйства, и по сути налог был подоход¬
ный. Только учет доходов вели сами налогоплательщики, а не государство, у ко¬
торого для этого не было средств и аппарата. Такая система сбора прямых нало¬
гов оставляла мало возможностей для тунеядцев, хотевших жить за счет дру¬
гих, — обмануть общину было практические невозможно. Успех реформы объяс¬
нялся тем, что она опиралась на традиции самообложения, круговой поруки,
самоуправления и не требовала огромных расходов от государства по учету до¬
ходов населения.
В актив Петра I надо отнести введение в 1722 г. Табели о рангах, создавшей
легальные лифты для вертикальной социальной мобильности. Последняя суще¬
ствовала и до реформы, позволяя и незнатным людям подниматься снизу вверх.
Теперь эта практика была легализована, усовершенствована, формализована, по¬
лучила поддержку огромного большинства дворянства, разве что за исключением
части аристократии. Благодаря этому социальная мобильность возросла и помо¬
гала государству решать проблему кадров на военной и гражданской службе.
Введение свободного экспорта всех товаров. До Петра I экспорт зерна из Рос¬
сии запрещался и осуществлялся по специальному разрешению правительства.
При Петре экспорт пшеницы стал свободным, а ржи и овса поставлен в зависи¬
мость от уровня цен, в 1762 г. Екатерина И сняла последние ограничения. Хлеб
стал российским стратегическим товаром, как сейчас нефть и газ, и оставался
таким до начала XX в. В 1754 г. отменяются внутренние таможни. Обе реформы
отвечали насущным потребностям населения и государства: увеличили объем
внутренней и внешней торговли и способствовали интеграции региональных
рынков в единый всероссийский рынок, возникновение которого стало одним из
важных экономических и политических достижений XVIII в. Реформы по либе¬
рализации торговли получили поддержку всего населения.
657
Глава 13. Итоги развития России в период империи
В 1780-е гг. Екатерина И провела школьную реформу на принципах всесо-
словности и бесплатности. В школах введена передовая для своего времени
классно-урочная система обучения. За 1782—1800 гг. разные виды школ окончи¬
ли около 180 тыс. детей, в том числе 7 % девочек. К концу XVIII в. в стране на¬
считывалось 549 различных учебных заведений с контингентом учащихся в 62 тыс.
Капля в море, говорят скептики, забывая, что желающих учиться даже в создан¬
ных школах было недостаточно, так как потребность в образовании у широких
слоев населения еще отсутствовала.
Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. заложили юридические
основы сословной системы, отмиравшей в западноевропейских странах, но оста¬
вавшейся актуальной и полезной в России. Законодательное закрепление прав,
или привилегий, которых человек мог лишиться только по суду, отвечало потреб¬
ностям и желаниям всего населения и являлось для того времени большим соци¬
альным достижением, так как способствовало развитию правомерного государст¬
венного управления, сословного самоуправления, возникновению сословных
корпораций, получивших права защищать свои групповые интересы перед госу¬
дарством.
Успешной следует признать реформу просвещения начала 1803 г. Александр I
санкционировал создание стройной государственной системы начального, сред¬
него и высшего образования, просуществовавшей до конца империи.
Реформу государственной деревни П. Д. Киселева в 1837—1839 гг. можно от¬
нести в актив Николая I. В советской историографии реформа оценивалась во¬
преки фактам негативно. Между тем она улучшила положение государственных
крестьян в юридическом, хозяйственном, судебном, административном и куль¬
турном отношении, расширила их права самоуправления. Крестьяне по закону
приобрели право выбирать место жительства, состояние, род занятий, поступать
в любое учебное заведение, подавать прошения даже на высочайшее имя, всту¬
пать в гражданские сделки. В результате реформы более 200 тыс. безземельных
получили надел и денежное пособие, малоземельным прирезано 3,4 млн дес. зем¬
ли из расчета 5,5 дес. на ревизскую душу, из густонаселенных губерний пересе¬
лено около 262 тыс. крестьян, земельный фонд был равномерно перераспределен,
проведен кадастр, повинности переложены с душ на землю и промыслы, нивели¬
рованы натуральные повинности в разных местностях, проведены важные агро¬
технические мероприятия. В Литве, Белоруссии и Правобережной Украине пра¬
вительство ликвидировало барщину, запретила сдачу государственных имений
в аренду частным лицам и осуществила перевод крестьян на денежный оброк,
замененный впоследствии земельно-промысловым сбором. В 1839 г. возникли
кредитные учреждения — вспомогательные и сберегательные кассы, выдававшие
ссуды крестьянам из 6 % годовых, в том числе под ручательство мирских сходов.
В 1839 г. очередной порядок отправления рекрутской повинности заменен более
справедливым для крестьян жеребьевым: все мужчины в возрасте около 20 лет
тянули жребий, который и определял, кто должен поступить на службу. В госу¬
дарственной деревне создана сеть школ, богаделен, врачебных и ветеринарных
пунктов, агрономических ферм, выставок и образцовых хозяйств, упорядочено
продовольственное дело165. Реформа выполнила еще очень важную функцию —
658
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
апробировать различные варианты отмены крепостного права и пореформенного
устройства крестьян. Это был удачный государственный эксперимент.
Великие реформы 1860—1870-х гг. вошли в актив Александра II, конституци¬
онная реформа 1905—1906 гг. и Столыпинская 1906 г. — в актив Николая II. Их
ход и результаты подробно рассмотрены в соответствующих главах настоящей
книги.
Удачные реформы проходили при соблюдении основных условий, определяе¬
мых институциональной концепцией166:
-осуществление реформ сопровождалось изменением институциональной
системы;
- реформы отвечали насущным и острым потребностям общества, всех глав¬
ных социальных групп и государства;
-все новые институты (в смысле набора законов, норм, правил, процедур,
формально и неформально принятых кодексов поведения) создавались постепен¬
но с учетом российской специфики и с тем, к чему люди привыкли;
-использовалась стратегия создания последовательных промежуточных ин¬
ститутов, плавно, в несколько этапов соединяющих начальную и целевую фи¬
нальную конструкции, в целях уменьшения вероятности отторжения новых ин¬
ститутов;
- каждая реформа тщательно готовилась. После ее проведения следовала ее
корректировка, требовавшая длительного времени, что ошибочно воспринима¬
лось некоторыми современниками и исследователями как контрреформа. На са¬
мом деле модификация норм поведения, поддерживающих и легитимирующих
новые законы, происходит медленно. Пережитки прошлой системы неизбежны,
они изживаются долго и медленно, а вовсе не являются результатом плохого про¬
ведения реформы;
-фактором успешной реформы является создание у населения экономиче¬
ских, социальных и моральных стимулов для принятия реформы; наиболее эф¬
фективные стимулы основаны на индивидуальных правах и свободах;
-государство должно не только разрабатывать план реформы, но само его
реализовывать. Общая культура народа, его менталитет и трудовая этика были
таковы, что для достаточно быстрых и благоприятных изменений в экономике,
социальных отношениях, культуре и других сферах общественной жизни недос¬
таточно было создать надлежащие условия — требовалось содействие государст¬
ва посредством специально разработанных мер. Например, сам по себе, стихийно
рынок не мог оживить народное хозяйство и обеспечить успешное экономиче¬
ское развитие без государственного содействия. Благоприятные перемены могли
происходить и стихийно, но очень медленно;
- при авторитарном политическом режиме проведение прогрессивных реформ
и изменение институтов, если он в них заинтересован, происходит быстрее и эф¬
фективнее, чем при демократических режимах.
Напротив, неудачные реформы не соответствовали перечисленным условиям,
например, введение майората в 1718 г. (единонаследия) и цехов в 1722 г. при
Петре I, введение военных поселений в 1810 г., реформа начального и среднего
образования 1827—1828 гг., превратившая начальные школы и гимназии в со-
659
Глава 13. Итоги развития России в период империи
словно замкнутые заведения. Забегание вперед в реформах вызывало движение
вспять, так называемые контрреформы. Шоковый стиль проведения реформ, как
правило, оказывался несостоятельным. Механическое копирование институтов из
западных обществ обусловливало совсем иное направление их развития по срав¬
нению с теми государствами, откуда они заимствовались. Несостоятельность не¬
которых реформ объяснялась дефицитом государственных средств, низким уров¬
нем культуры (человеческого капитала), слабостью инфраструктуры и отсутстви¬
ем достаточного числа просвещенных бюрократов, разрабатывавших и прово¬
дивших реформы.
Происхождение Русской революции 1917 г. также хорошо укладывается в ин¬
ституциональную концепцию. Бурный экономический рост и всесторонняя мо¬
дернизация российского социума создали высокий градус социальной напряжен¬
ности в обществе и ввели страну в зону риска. Реформы «сверху» устраняли один
за другим мешавшие модернизации ограничители, встроенные в традиционную
институциональную систему (круговую поруку, мещанские общества и цехи,
передельную общину, сословные ограничения социальной мобильности, моно¬
полию коронной бюрократии и самого монарха на власть, ущемлявшие граждан¬
ские права, законы и т. д.) и тем самым создавали возможность избежать рево¬
люции. Поскольку смена институциональных систем — длительный, болезнен¬
ный и противоречивый процесс, для выхода из зоны риска требовалось значи¬
тельное время — хотя бы лет двадцать, как говорил П. А. Столыпин, социального
покоя. Но этому помешала война, нарушившая эволюционный путь развития.
Тяготы войны, помноженные на безответственное поведение либеральных и ре¬
волюционных элит и ослабление государственной власти, оказались фатальны¬
ми. Страна погрузилась в революцию, которая проходила в соответствии с клас¬
сической моделью167.
Как было показано в книге, в течение всего периода империи крупные инсти¬
туциональные изменения происходили медленно, болезненно и противоречиво.
После самых радикальных реформ сохранялись многочисленные пережитки
прошлых эпох, наблюдалось сращивание старых с новыми, симбиозы неодно¬
родных социальных институтов. Сколько сказано горьких слов и пролито слез по
поводу крепостнических пережитков в пореформенной России, которые тради¬
ционно объясняются злонамеренностью правительства и помещиков. В действи¬
тельности, как утверждает институциональная концепция и мировой опыт, после
любой структурной реформы в любой стране неизбежно остаются пережитки
по двум причинам: (1) институты являются результатом исторических перемен,
формирующих индивидуальное поведение; (2) в прежней структуре существуют
внутренне присущие им институциональные отношения, законы, обычаи и нор¬
мы, затрудняющие или исключающие гибкое приспособление социума к изме¬
нившимся условиям. Сохранение пережитков — не уникальная цивилизационная
особенность России и не результат дурного некомпетентного реформирования,
а имманентное свойство процесса смены институтов, неизбежное и потому нор¬
мальное явление, особенно когда институты заимствуются со стороны.
Синергетическая концепция: внутренние силы социума приведут его
к новому порядку. Использование синергетической концепции предполагает
660
Развитие России в решках семи концептуальных подходов
построение математических моделей исторических явлений и процессов, для че¬
го нужны массовые статистические данные и сложный математический аппарат,
использование которого доступно немногим историкам. Применение синергети¬
ки затруднено также другими факторами: (1) исключительно высокой сложно¬
стью социальных систем, (2) наличием большого числа факторов, определяю¬
щих ее динамику, (3) сложной методикой, (4) недостатком необходимой ин¬
формации, (5) высокими затратами в смысле времени и средств и (6) не всегда
эффективно, так как полученные результаты трудно интерпретируются. На на¬
стоящем уровне развития синергетического анализа он не дает что-нибудь
принципиально нового в понимании изучаемых фактов. Не случайно первые два
опыта использования подхода в конкретно-исторических исследованиях в конце
1990—начале 2000-х гг., при изучении рынка акций на Петербургской бирже
в 1900-е гг. или стачечного движения в России в конце XIX—начале XX в.168,
пока не нашли продолжателей.
Синергетической концепции присущ, так же как марксистской или модерни-
зационной, известный фатализм, поскольку постулируется, что социальные сис¬
темы стихийно стремятся к устойчивости и совершенству. Устранение человече¬
ского фактора из так называемых эволюционных фаз развития социумов пред¬
ставляется спорным. Методы анализа бифуркационных фаз и социальных ката¬
строф разработаны слабо. Вместе с тем синергетическая концепция обогатила
историческую методологию рядом конструктивных идей, которые я всегда имел
в виду. Они нашли подтверждение в моем исследовании.
1. Развитие России происходило циклически, являлось прерывным, необрати¬
мым; в судьбоносные моменты истории, или в точках бифуркации (в 1700—1710-е,
1810-е, 1860-е, 1905—1906, 1914—1920 гг.), непредсказуемым, многовариант¬
ным, неопределенным.
2. В точках бифуркации множество неконтролируемых факторов и непрогно¬
зируемых случайностей уводили социум из-под контроля и власти старого по¬
рядка в состояние, близкое к хаосу. Действие случайных факторов проявлялось
в деятельности конкретных исторических деятелей, а также социальных, профес¬
сиональных и политических групп.
3. Развитие страны происходило опираясь преимущественно на внутренний
потенциал и внутренние источники развития. Но и внешние обстоятельства,
в первую очередь включение России в мировую политику и в мировой рынок,
играли заметную, а в некоторые моменты и определяющую роль.
4. Установление и развитие политических, экономических, культурных кон¬
тактов с внешним миром в XVIII—начале XX в. способствовали развитию Рос¬
сии, а закрытость, например в московский период, — консервации политическо¬
го и экономического строя.
Идея о большой роли случайности в периоды бифуркации оказалась плодо¬
творной. В истории России, как и любой другой страны, бывали судьбоносные
моменты, когда решалась судьба страны или когда решалось, по какой дороге
она пойдет дальше. «Победи царь Иван в Ливонской войне, — полагает, напри¬
мер, И. Валлерстайн, — и значительная часть Европы вошла бы в его мир-
империю и перестала бы быть капиталистической, как это случилось с Новгород¬
661
Глава 13. Итоги развития России в период империи
ской республикой. Победи Запад — Смутное время, скорее всего, переросло бы
в окончательный распад империи, возникновение слабых государств с после¬
дующим включением их в состав периферии. Такова хорошо нам известная исто¬
рическая траектория»169.
По мнению ряда исследователей, петровские реформы стали необратимыми
после Полтавской победы в 1709 г. и смерти царевича Алексея Петровича в 1718 г.,
являвшимся знаменем оппозиции. А до этого момента сохранялась возможность
контрреформ.
Екатерина И, нелегитимно занявшая престол, очень много сделала полезного
для России; при ней курс на вестернизацию стал решительным и бесповоротным.
Но дворцовый переворот мог закончиться для нее неудачно, ибо, как полагают
историки, Петр III имел реальные шансы сохранить престол. И тогда бы прави¬
тельственный курс мог бы стать другим, вследствие чего России могла бы и не
выйти к Черному морю, что имело бы серьезные геополитические последствия.
Подобных судьбоносных моментов истории России было немало. Если бы
верховная власть выбрала бы из существовавших иной вариант проведения кре¬
стьянской реформы 1860-х гг., то и пореформенное развитие деревни пошло бы
по-иному. Октябрьский манифест 1905 г. был принят в силу благоприятных об¬
стоятельств и под влиянием случайностей, которых могло бы и не быть. Сверже¬
ние монархии в 1917 г. и приход к власти большевиков тоже в значительной сте¬
пени обязаны случаю. Все революционные ситуации можно рассматривать как
точки бифуркации. При изучении подобных моментов синергетические идеи
весьма полезны, по крайней мере как ракурс при изучении проблемы. Правда,
историкам придется признать, что рассуждение типа «что было бы, если бы...»
должно стать нормальным исследовательским приемом. Фактически это контр¬
фактическое моделирование, которое давно используется в практике историче¬
ского исследования — как интуитивный и нередко бессознательный прием мыш¬
ления, а в клиометрике как сознательная, методически разработанная процедура
(называемая контрфактическим имитационным, или симуляционным, моделиро¬
ванием).
Действительно, как ни парадоксально, историки, отвергающие целесообраз¬
ность «гадания на кофейной гуще» постоянно этим занимаются, когда просчиты¬
вают последствия не принятых политиками решений и неслучившихся событий.
Причина в том, что невозможно иначе оценить значение какого-либо историче¬
ского явления. Так, исследователи крестьянской реформы 1861 г. отмечают ее
влияние на модернизацию России, а исследователь истории Русской революции
1917 г. подчеркнет ее огромное международное значение. Но хочет того исследо¬
ватель или нет, в любой оценке влияния или значения какого-либо исторического
события или явления в истории он исходит из скрытого предположения и про¬
гнозирования того, что было бы, если бы данного события или явления не про¬
изошло — в нашем случае, если бы в 1861 г. не отменили крепостное право или
если бы в 1917 г. не произошла революция. Если отмена крепостного права при¬
вела к ускорению модернизации, то по умолчанию предполагается: без этой ре¬
формы Россия в 1917 г. была бы иной. Если Русская революция 1917 г. оказала
огромное влияние на мир, то по умолчанию без нее мир бы был иным. Короче:
662
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
оценка несет в себе предположение о действительности, которой не было, но ко¬
торая могла быть.
Таким образом, все историки гадают или, говоря научным языком, прогнози¬
руют. Только одни тайно, другие явно. Клиометристы, осознав эту особенность
исторических оценок, скрытое сопоставление того, что случилось, с тем, что
могло случиться, превратили в стандартную процедуру. Исходя из той или иной
идеи, они имитируют контрфактическую, или нереальную, ситуацию, строят ее
модель и, сравнивая полученные конструкции с действительностью, приходят
к выводу о значении того или иного события или явления либо о возможных по¬
следствиях, если бы события развивались по другому сценарию. Здесь контрфак¬
тическая модель выступает как критерий для оценки того, что случилось, и того,
что не случилось в исторической реальности.
Например, американский экономический историк и лауреат Нобелевской
премии Роберт Фогель (1926—2013) следующим путем оценил значение желез¬
ных дорог в американском экономическом развитии второй половины XIX в. По¬
лагая, что основной эффект железных дорог состоял в удешевлении перевозок,
он путем сложных статистических расчетов пытался установить, во что обош¬
лись бы перевозки без железных дорог, и тем самым определить, как велико бы¬
ло то «общественное сбережение», которое они давали. Для этого имитировалась
контрфактическая ситуация — все перевозки грузов осуществляются водным
и гужевым транспортом. Опираясь на экономические законы капитализма, он
построил модель возможных перевозок в США на 1890 г., которая существовала
бы в случае отсутствия железных дорог. Сравнивая эту предполагаемую модель
перевозок грузов с действительно существовавшей моделью, Р. Фогель количе¬
ственно оценил вклад железных дорог в американское экономическое развитие.
Его расчеты показали, что общественная экономия от функционирования желез¬
ных дорог могла составить менее 5 % стоимости совокупного общественного
продукта США в 1890 г. Основываясь на этом, Р. Фогель считает, что, хотя же¬
лезные дороги и сыграли важную роль в экономическом развитии Соединенных
Штатов, их строительство едва ли можно назвать революцией в экономической
жизни страны. Такой вывод противоречил точке зрения двух поколений амери¬
канских историков, полагавших, что железные дороги сыграли решающую роль
в бурном развитии американской экономики170.
Итак, всякая оценка значения исторического явления основывается на пред¬
положении «что было бы, если бы оно не произошло». И хотя определение то¬
го, что могло случиться, всегда гадательно, особенно если речь идет о таком
сложном историческом явлении, как строительство железных дорог, отмена
крепостного права или революция, оценивать значение исторических явлений
сознательно и явно все же лучше, чем вообще избегать оценок или давать их на
интуитивном уровне. Кроме того, такая оценка играет провокационную роль,
повышает интерес к анализируемому событию и имеет эвристическую цен¬
ность.
Постмодернистская концепция: миром правят не законы, а воля и пред¬
ставления. На протяжении всего исследования я активно использовал некоторые
идеи постмодернизма. Самым пристальным образом изучал коллективные пред¬
663
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
ставления и ментальные структуры в массовом сознании различных социальных
групп, формирующих социальные, религиозные и политические практики. На
общественные и историографические дискуссии смотрел как на специфический
способ конструирования социального, или дискурс. Учитывал, что такие катего¬
рии, как сословие, класс, нация, Россия и Запад и им подобные, существуют не
в реальности, а лишь в сознании — это виртуальные категории, «воображаемые
сообщества», хотя и предопределяют поведение людей и восприятие ими реаль¬
ности. Однако фундаментальный модернизм мне чужд, даже в культурном, или
антропологическом, повороте меня многое смущает, в частности — наметившая¬
ся переориентация историков от метаистории в сторону простого описания
и изучения отдельных эпизодов и событий. Такой подход, может быть, и обеспе¬
чивает глубину анализа этих конкретных эпизодов и событий, но гарантию избе¬
жать фатализма, предвзятости и презентизма не дает, хотя на это претендует.
Кроме того, постмодернистский подход имеет, на мой взгляд, очевидные мину¬
сы— порождает фрагментарность, неясность, неопределенность получаемых
результатов, невозможность получить общую картину, мелкотемье. Это все рав¬
но, что смотреть на монументальное живописное полотно вблизи, через увеличи¬
тельное стекло — в пейзаже увидишь травинку, в портрете — носок сапога, а сам
пейзаж или портрет не увидишь. Давайте представим, что историки всегда изу¬
чали только эпизоды и события, причем в понятиях современников или источни¬
ков, как рекомендует постмодернизм. Мы бы никогда не получили общей карти¬
ны, а имели бы книгу анекдотов, в лучшем случае — целое собрание интересных
рассказов, занимательных и любопытных, но в общем не объясняющих что, как
и почему произошло. Только на фоне и на базе прежде выполненных капиталь¬
ных исследований по социальной, экономической и политической истории, охва¬
тывающих большие периоды и применяющих современный научный язык, изу¬
чение эпизодов и событий имеет смысл. Если мы достоверно выясним, сколько
еврейской крови текло в жилах Ленина и получал ли он деньги от правительства
Германии, был ли Сталин агентом царской охранки, каковы были отношения
Распутина с императорской семьей, как и кто конкретно расстрелял семью Рома¬
новых и т. п., много ли ясности внесет это в понимание сущности революции?
Если мы будем знать, как Ленин относился к Сталину, а Сталин — к Крупской,
кто стрелял в Кирова, хотел ли Сталин первым напасть на Германию, сколько
инфарктов перенес Брежнев или Ельцин, поможет ли это нам понять сущность
советского строя и реформ 1990-х гг.? Как соединить маленькие истории в боль¬
шую историю процессов, как объединить результаты отдельных маленьких тра¬
гедий и триумфов в общую картину, которую также желательно иметь? Этот во¬
прос слышится от историков, работающих во всех областях и во всех странах,
поскольку постструктуралистские, феминистские и постмодернистские исследо¬
вания поставили под сомнения интерпретации, основанные на постулатах клас¬
сической эпистемологии. Пока повседневные практики, нормы поведения и мен¬
тальности изучаются в описательной антикварной манере, игнорируя социаль¬
ный, экономический и политический контекст, в котором они живут и функцио¬
нируют, вне метанарратива, это мало чем поможет нам понять, почему произош¬
ло то, что произошло171.
664
Развитие России в решках семи концептуальных подходов
Поэтому мне не кажутся верными, плодотворными и результативными прин¬
ципиальные идеи постмодернизма: фундаментальное сомнение в методологиче¬
ской ценности научных понятий и статистических серий; недоверие к любой тео¬
рии и любой объяснительной системе; признание любой попытки устанавливать
какой-либо иерархический порядок или какие-либо системы приоритетов в жиз¬
ни бессмысленной; языковой фундаментализм — признание реальности только
как социально и лингвистически сконструированного феномена, как представле¬
ний о мире, не отражающих и не соотносящихся с реальностью, которая сущест¬
вует за границами языка. Не случайно постмодернизм встречал наряду с под¬
держкой серьезные возражения и прямое осуждение даже в пору его расцвета
в 1980—1990-е гг.172 Но и в те годы, несмотря на моду, концепция никогда не
являлась доминирующей даже в падкой на моду американской историографии.
На рубеже XX и XXI вв., как теперь считается, мода на него прошла, и в настоя¬
щее время ученые оценивают вклад, который внесли различные «повороты»
в историографию173. Вот одна из суровых оценок: «Историческое знание рас¬
сматривается постмодернистами не как “отражение” исторической реальности,
а как субъективное выражение интересов и потребностей, стереотипов воспри¬
ятия и мышления самого исследователя, “вписанного” в гипертекст современно¬
сти. В рамках постмодернистской модели познания историческая реальность из
целостной системы превращается в мир социальной “разорванности” и самодос¬
таточности отдельных его фрагментов, становится “зрелищем”, “калейдоскопом
знаков”. Исторические труды рассматриваются постмодернистами как вид лите¬
ратурного производства, который функционирует в рамках определенных рито¬
рических правил. В целом постмодернистская модель исторического познания
к науке отношения не имеет, поскольку она не соответствует атрибутивным при¬
знакам научного исторического исследования»174.
Модернизационная парадигма 1: от механической
к органической солидарности
Результаты и сам процесс социальной трансформации России в период импе¬
рии укладываются в схему одного из прародителей концепции модернизации
Э. Дюркгейма о трансформации механической солидарности в органическую по
мере индустриализации и урбанизации общества. При этом понятия «механиче¬
ская солидарность» и «органическая солидарность» (как и в случае понятий
«Россия» и «Запад») суть идеальные исторические типы, или мыслительные
конструкты, с которыми действительность сопоставляется, сравнивается для то¬
го, чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпири¬
ческого содержания (табл. 13.4).
Россия в XVI—XVII вв. подходила под тип общества с механической соли¬
дарностью. Существовавшая в социуме солидарность имела механический ха¬
рактер, т. е. была неосознанной, несознательной, ненамеренной, нерукотворной.
Она определялась преимущественно единообразием, сходством входящих в него
индивидов и исполняемых ими функций, неразвитостью индивидуализма и по¬
глощением личности коллективом. В масштабе социума наблюдалась низкая
665
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Таблица 13.4
Механическая и органическая солидарность
как идеальные типы
Показатели
Механическая солидарность:
основывается на сходстве
деятельности (преобладает
в архаичных и простых
аграрных обществах)
Органическая солидарность:
основывается на разделении
труда (преобладает в развитых
промышленных обществах)
Морфологическая
(структурная)
основа
Сегментарное общество: от¬
дельные его части существуют
независимо, территориально
отделены и обладают относи¬
тельно одинаковой структурой
и функциями (вначале на кла¬
новой, затем на территориаль¬
ной основе)
Системное общество: отдель¬
ные его части существуют на
основе формальных и иерар-
хизированных социальных
связей, статусов и норм, эко¬
номически тесно взаимосвя¬
заны благодаря разделению
труда, слиянию рынков и ур¬
банизации
Слабая взаимозависимость,
относительно слабые социаль¬
ные связи
Большая взаимозависимость,
сильные социальные связи
Небольшое число людей в со¬
циуме и низкая плотность насе¬
ления
Значительное число людей
в социуме, высокая плотность
населения
Низкая материальная и мораль¬
ная сплоченность в социуме
Высокая материальная и мо¬
ральная сплоченность в со¬
циуме
Право и типы
норм, воплощен¬
ные в праве
Преобладание уголовного права
Преобладание гражданского,
коммерческого, процессуаль¬
ного, административного
и конституционного права
Нормы с репрессивными санк¬
циями за их нарушение
Нормы с реститутивными
санкциями, имеющими целью
возвращение нарушенных
отношений к их нормальной
форме
Особенности
коллективного
сознания )
Большой объем
Малый объем
Высокая интенсивность
Низкая интенсивность
Высокая предопределенность
Низкая предопределенность
Абсолютная власть коллектива
и ограничение индивидуальной
инициативы и рефлексии
Больший простор для инди¬
видуальной. инициативы
и рефлексии
Содержание
коллективного
сознания
Религиозность
Возрастающая светскость
Превосходство коллективного
над индивидуальным, беспре¬
кословность его норм и запрет
на их обсуждение
Ориентированность на чело¬
века, связь с его интересами
и возможность обсуждения
666
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
Окончание табл. 13.4
Показатели
Механическая солидарность:
основывается на сходстве
деятельности (преобладает
в архаичных и простых
аграрных обществах)
Органическая солидарность:
основывается на разделении
труда (преобладает в развитых
промышленных обществах)
Придание высшей ценности
обществу и интересам общества
как целого
Придание высшей ценности
интересам и достоинству ин¬
дивида, равенству возможно¬
стей и социальной справедли¬
вости
Конкретность и детальный
характер
Абстрактность и общий
характер
Источник: Гофман А. Б. О социологии Эмиля Дюркгейма // Дюркгейм Э. О разделении
общественного труда ; Метод социологии. М., 1991. С. 553.
материальная и моральная сплоченность, потому что в принципе из-за партику¬
ляризма, слабого разделения труда и натуральности хозяйства каждая община
(и даже семья) могла существовать автономно от остальных. Это нашло проявле¬
ние в том, что местный локальный патриотизм превосходил общенациональный.
В обществе преобладало уголовное право, которое было писаным, над граждан¬
ским правом, которое было преимущественно обычным. Уголовное и граждан¬
ское право, так же как и уголовное преступление и деликт слабо дифференциро¬
вались. Еще при Петре I и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и порубка за¬
поведного леса считались уголовными преступлениями. Соблюдение правил
поддерживалось строгими репрессивными санкциями. Например, имущественная
несостоятельность должника, нанесение имущественного вреда карались уголов¬
ными наказаниями; дисциплина в семье поддерживалась патриархом телесными
наказаниями, вплоть до избиения и убийства. В уголовном праве перевес имели
разные виды телесных наказаний и смертная казнь: в Соборном Уложении 1649 г.
смертная казнь предусматривалась для 60 нарушений, в петровском законода¬
тельстве — для 200. В крестьянских и посадских общинах коллективное сознание
регламентировало всю жизнь человека; общины закрепостили человека; коллек¬
тивный авторитет являлся доминирующим. Коллективное сознание было религи¬
озным, по своему содержанию мало отличалось от индивидуального, поглощая
последнее. Общественные интересы доминировали над индивидуальными. Сло¬
жившиеся общинные нормы принимались как должное и обсуждению не подле¬
жали. Город и деревня административно, социально и экономически не разделены.
Большинство горожан подобно крестьянам занимались сельским хозяйством;
город и внешне, и по стилю жизни напоминал деревню. Низкая плотность и на¬
селения, и поселений. В Европейской России среднее расстояние между городами
в 1678 г. составляло около 300 км, плотность населения — 0,7 человека на
1 км . Разделение труда в обществе находилось на очень низком уровне; домини¬
ровало натуральное хозяйство.
667
Гшва 13. Итоги развития России в период империи
В период империи постепенно складывалось общество с органической соли¬
дарностью: люди кооперировали свою деятельность не потому, что похожи друг
на друга и проживали в одной деревне, а потому что благодаря сильному разде¬
лению труда зависели друг от друга, не могли друг без друга существовать
и удовлетворять свои разнообразные потребности. Город отделился от деревни,
между ними усиливался экономический и культурный обмен. Экономика ком¬
мерциализировалась: к 1913 г. товарность сельского хозяйства достигла 31%
чистого сбора основных сельскохозяйственных культур. Все формы социальных,
экономических и культурных связей в обществе резко интенсифицировались.
Люди освободились от всех видов крепостничества, приобрели сначала граждан¬
ские, а в 1906 г. и политические права. Наблюдался рост индивидуализма и цен¬
ности отдельной личности, вследствие чего индивидуальное сознание стало раз¬
нообразным, увеличилось в объеме и перестало полностью совпадать с коллек¬
тивным. Общего между коллективным и индивидуальным сознанием стало на¬
много меньше, поэтому коллективное сознание уменьшилось в объеме и стало
лишь незначительной частью совокупности индивидуальных сознаний. Влияние
коллектива на индивидуума уменьшилось. Социальный контроль над человеком
ослаб; девиантное поведение во всех формах многократно увеличилось. Центр
тяжести социального контроля над поведением человека переместился с социе-
тального на индивидуальный уровень. Одновременно с повышением роли само¬
контроля существенно расширилась свобода индивидуального выбора. По со¬
держанию коллективное сознание превращалось в светское, рационалистическое,
ориентированное на индивида; его секуляризация прогрессировала: так, согласно
данным опроса в 1909 г. студентов Политехнического института, 23,4 % твердо
верили в Бога, 22,8 % сомневались, 48,3 % не верили и 5,5 % уклонились от отве¬
та 75. Зародился национализм, усилился патриотизм176, что свидетельствовало
о росте социальной интеграции. Роль гражданского права резко возросла, и оно
четко отделилось от уголовного, так же как уголовное преступление от деликта.
Уголовные наказания смягчились, в 1742 г. была де-факто отменена смертная
казнь, правда, впоследствии была восстановлена, но никогда не достигала преж¬
них масштабов. Среди уголовных наказаний в начале XX в. стало преобладать
тюремное заключение, и даже телесные наказания заключенных были отменены
в 1904 г. В отличие от прошлого наказания крайне редко вели к поражению чело¬
века в правах навсегда. Санкция утратила искупительный характер и главной
целью имела восстановить нормальный порядок вещей, другими словами, рес-
титутивная санкция заменила репрессивную.
Дюркгейм полагал, что коллективное сознание при механической солидарно¬
сти отличалось конкретностью, специфичностью, детальностью, а при органиче¬
ской солидарности — абстрактным и общим характером. И это наблюдение
в полной мере относится к России. Языковеды, изучавшие развитие русского
языка, в котором русское коллективное сознание выражалось, обнаружили, что
язык со временем становился более абстрактным, логическим, отвлеченным и по
лексике, и по грамматике. «В новейшем книжном языке, — констатировал в 1858 г.
известный русский языковед Ф. И. Буслаев, — русское отвлеченное логическое
сочетание понятий берет верх над этимологическим. В народном же языке, не
668
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
подчинившемуся искусственному единству условных правил и менее книжного
(языка. — Б. М) подвергшемуся изменению и нововведениям, так же как в древ¬
нем, этимологическая форма и наглядное представление господствует над логи¬
ческими формами (курсив мой. — Б. М)»177.
Всем перечисленным изменениям в характере социальной солидарности в пе¬
риод империи сопутствовали рост разделения труда и плотности населения. По¬
казателем растущего разделения труда служит диверсификация экономики.
Только за 1857—1897 гг. доля самодеятельного мужского населения, занятого
в сельском хозяйстве, уменьшилась с 75,9 до 62,8 %178. В Европейской России
средняя людность сельской общины в период империи увеличилась примерно в
3 раза (432 человек в 1905 г.), средняя людность города — в 19 раз (25 тыс. в 1910 г.),
плотность населения за 1680—1913 гг. — в 35 раз (24,4 человека на 1 км2 в 1913 г.),
наоборот, среднее расстояние между городами уменьшилось в 3,5 раза (83 км
в 1914 г.).
Трансформация механической солидарности в органическую не завершилась
в России в начале XX в., как она не завершилась, по мнению Дюркгейма, и в за¬
падноевропейских странах. Однако западные общества продвинулись по этому
пути значительно дальше, чем российское общество.
Модернизационная парадигма 2: от традиции к модерну
Развитие страны в имперский период проходило по сценарию, будто написан¬
ному теоретиками модернизации специально для России: 1) экономика развива¬
лась как индустриальная и рыночная, основанная на конкуренции и частной соб¬
ственности; 2) формировалось гражданское общество с множеством доброволь¬
ных общественных организаций; 3) складывалось правовое государство с парла¬
ментом, верховенством закона, открытостью, гласностью, публичностью; 4) раз¬
вивался индустриальный и урбанистический образ жизни, основанный на функ¬
циональной специализации институтов и людей (имеется в виду разделение тру¬
да, профессионализация, бюрократизация управления и т. д.); 5) складывалась
российская нация как совокупность людей, объединенных согласно их воле, ото¬
ждествляющих себя с целым и осознающих свое единство; 6) семья эволюциони¬
ровала в направлении малой демократической семьи с равенством супругов, ро¬
дителей и детей; 7) формировалась современная личность, принимающая изме¬
нение как норму, гражданские и политические права как атрибут человека, ры¬
ночную экономику и частную собственность как необходимые условия, обеспе¬
чивающие нормальное функционирование общества и государства на основе ра¬
зума и науки; 8) утверждалась светская система ценностей, в которой индиви¬
дуализм является второй религией, основой общественного и индивидуального
успеха. Российское общество в XVIII—начале XX в. развивалось от традиции
к модерну, но к 1917 г. по причине незавершенности модернизации не соответст¬
вовало в полной мере ни одному из критериев современного общества.
Процесс модернизации имел циклический характер в том смысле, что за про¬
ведением реформ всегда следовала их корректировка, часто неадекватно оцени¬
ваемая как контрреформа или как «рецидивирующая модернизация»179. Если бы
669
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Россия развивалась по схеме «вперед — назад», или «реформы — контрреформы»,
или, как говорил вождь мирового пролетариата, «шаг вперед, два шага назад»180,
то Россия являла бы собой отсталую автократию, бегущую на месте. Между тем
страна быстро развивалась. Смена правительственного курса с либерального на
консервативный не означала рецидива того, что упразднялось реформами. Про¬
веденные в либеральные периоды преобразования являлись необратимыми; пра¬
вительство почти никогда от них не отказывалось, а лишь корректировало. В за¬
падных демократиях чередование либерального и консервативного правительст¬
венного курса с корректировкой реформ предшественников, находившихся
у власти, также являлось нормой. Например, в Великобритании XVIII—XIX вв.
к власти попеременно приходили то тори, то виги, и в течение двух столетий
велось постоянное противостояние между ними. Аналогичная борьба между
демократической и республиканской партией наблюдалась и в США во второй
половине XIX—XX в.181 Однако никому даже в голову не приходит говорить
о реформах и контрреформах или о рецидивирующей модернизации примени¬
тельно к этим странам.
Сходство фактического и теоретического (т. е. соответствующего теории мо¬
дернизации) сценариев развития имперской России объясняется тремя обстоя¬
тельствами: естественным, спонтанным тяготением страны к европейской траек¬
тории; желанием элиты идти общеевропейским путем; политикой правящего
класса, сознательно и настойчиво преследовавшего цель сравняться с самыми
передовыми европейскими странами, причем во всех отношениях. Тихая и не¬
спешная вестернизация началась задолго до Петра I182. Она проявлялась в заим¬
ствовании у «немцев» предметов быта, в усилении культурных, экономических
и персональных контактов между западными странами и Россией, в возникнове¬
нии в XVI в. так называемой Немецкой слободы в Москве, в увеличении общей
численности выходцев из Западной Европы (она достигала около 2500 человек
в 1690-е гг.183). Поставленная правительством задача по модернизации постепен¬
но реализовывалась. При этом происходило не односторонне влияние западноев¬
ропейских стран. Россия учила кое-чему и своих учителей. Русская литература,
музыка, искусство, балет обогатили мировую культуру, русские ученые — миро¬
вую науку184. Россия не была ни послушной ученицей, желавшей лишь нравиться
наставнику, ни мартышкой, не знающей что делать с очками, как думают некото¬
рые исследователи185: россияне перенимали полезное и необходимое для них,
а не копировали слепо западные образцы, не теряли своей национальной иден¬
тичности, хотя и оставались в рамках европейской культуры. Цивилизационная
уникальность России в смысле неких культурно-национальных черт, не поддаю¬
щихся влиянию времени, — это миф. Россия постоянно изменялась. Нравится это
или нет, но «в одну реку нельзя войти дважды», как сказал один мудрец еще две
с половиной тысячи лет тому назад.
Замечу: в западноевропейских странах переход к модерну особенно интен¬
сивно происходил в 1770—1870 гг., причем до 1848 г. наблюдались колебания
между старым и новым; с 1870 г. процесс модернизации стал необратимым
и только в течение первой половины XX в. завершился, и то лишь в основных
чертах, в большинстве стран современного Европейского союза186.
670
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
Какой подход предпочтительней?
Каждая концепция имеет право на существование, потому что оценивает раз¬
витие России в период империи со специфической точки зрения. Различные ра¬
курсы, или проекции, — по большому счету фактически комплементарны
и взаимодополняемы. И подобно тому как три геометрические проекции одного
предмета можно объединить и получить полное представление о предмете — его
наглядный зрительный образ, так комплексный поликонцептуальный подход,
объединяющий особенности всех концепций, позволяет получить многомерный,
собирательный и потому более адекватный образ России сравнительно с теми
одномерными картинками, которые дают отдельные концепции. Таким образом,
сочетание различных точек зрения обеспечивает более широкую перспективу
и дает более адекватный образ России. Чем больше разных голосов включаются
в дискурс идентичности России, тем больше шансов мы имеем приблизиться
к тому, что в классической философии называлось объективностью и истиной.
Если перекинуть мост от дихотомии «механическая — органическая солидар¬
ность» к дихотомии «традиционное — современное общество», принятой в тео¬
рии модернизации, то механическая солидарность наблюдается в традиционных
обществах, а органическая — в современных. Соответственно трансформация от
механической к органической солидарности происходит при переходе от тради¬
ционного к современному обществу. Здесь мы наблюдаем полное согласие меж¬
ду двумя подходами: трансформация механической солидарности в органиче¬
скую, так же как и становление современного общества, не завершилась в России
в начале XX в. Если попытаться совместить модернизационную, цивилизацион¬
ную и мир-системную концепции, то консенсус между ними можно найти в том,
чтобы признать, что социальные институты России имели своеобразие и что раз¬
витие России имело существенные особенности сравнительно с другими евро¬
пейскими странами, вызванными условиями среды — оторванностью от греко¬
романской цивилизации в античную эпоху, восточным окружением во все вре¬
мена, поздним приобщением к христианской цивилизации, географией и т. д. —
и периферийным местоположением страны в христианском мире.
Если попытаться создать собирательный образ России на основе синтеза раз¬
ных концепций, то можно сказать, что Россия — страна европейской культуры,
но имеющая важные особенности в своих социальных структурах и институтах;
как европейская периферия она живет в другом часовом поясе, с большим или
меньшим лагом и достаточно своеобразно переживая те же процессы и проходя
те же стадии, что и западноевропейские страны, находящиеся в центре. Россия —
своеобычна, однако ее своеобразие находится в европейских рамках — нет ниче¬
го такого в ее институтах и культуре, чтобы не встречалось в какой-нибудь стра¬
не европейского ареала.
Какой концепции следует отдать приоритет, зависит от проблематики и про¬
странственно-временных рамок исследования. Например, при изучении длитель¬
ного процесса перехода от традиционного к современному обществу, включаю¬
щего множество разнообразных исторических изменений разного масштаба
и характера, наиболее эффективным является все-таки модернизационный под¬
671
Глава IS. Итоги развития России в период империи
ход— в этом я согласен с И. В. Побережниковым187. Между тем в настоящее
время некоторые отечественные исследователи перепутав моду с объяснительной
ценностью модернизационной концепции и по причине слабого знакомства с ми¬
ровой литературой списали ее в архив, объявив устаревшей. На самом деле слухи
о смерти концепции оказались сильно преувеличенными. Похоронные мотивы
звучат по трем причинам: трактовки модернизации порой грешат схематизмом,
сводя описание процесса к взаимодействию абстрактных категорий; нередко
в исторических исследованиях процесс модернизации трактуется односторонне,
лишь как движение в сторону рыночной экономики и ценностей либеральной
демократии; историки, работающие в рамках модернизационной концепции, час¬
то ориентируются на модернизационные исследования классической поры, т. е.
полувековой давности. Однако за последние 50 лет концепция развивалась и в
своем современном виде существенно отличается от того, чем была в момент
своей наибольшей популярности в 1960-е гг. Неомодернизационная перспектива
придала ей новый импульс188. Благодаря этому концепция модернизации до сих
пор является прагматичной и работоспособной при изучении исторической ди¬
намики, особенно России, поскольку наша страна не решила еще все задачи мо¬
дерна, в то время как самые продвинутые страны уже решают задачи постмодерна.
Конструирование образа России на основе разных теоретических проекций,
несомненно, будет способствовать созданию адекватного образа страны. В то же
время посредством конструирования многомерного, собирательного, хотя и бо¬
лее сложного, образа России наука поможет преодолеть культурную и этниче¬
скую фрагментацию в современном российском обществе и тем самым внесет
свой вклад в его социальную и идеологическую интеграцию. В отечественном
обществоведении созданы противоречивые образы России (Россия — Европа,
Россия — Азия, Россия — Евразия, Россия — тюрьма народов, Россия — дом
дружбы народов и т. п.). Со страниц научных сочинений они перешли в головы
современных политиков и в массовое сознание россиян. Эти образы постулируют
принципиально различные сценарии ее развития: Россия — Евразия ориентирует
на особое развитие, Россия — Европа — на включение в Европу, Россия — Азия
на включение в Азию. Следовательно, каждый образ и концепция, его обосновы¬
вающая, не только идентифицируют Россию по-другому, но и конструируют ее
будущее по-иному, и, кроме того — что очень важно! — Европу конструируют
по-разному — с Россией или без нее. Хотя «иной» варварский образ России
сформировался и поддерживается преимущественно на Западе, неверно думать,
что россияне и то, что происходило и происходит в нашей стране, не имеют
к этому никакого отношения. Известный британский историк Н. Дэвис в своей
популярной книге засвидетельствовал: «Больше 500 лет кардинальной пробле¬
мой в определении границ Европы было включать или не включать в нее Россию.
На протяжении всей Новой истории православная, автократичная, экономически
отсталая, но географически расширяющаяся Россия плохо подходила Европе.
Западные соседи России чаще находили причины, чтобы не относить ее к Евро¬
пе. <...> Императрица Екатерина категорически заявила в 1767 г., что “Россия —
европейское государство”. Это должны были учитывать все, кто хотел иметь де¬
ло с С.-Петербургом. В конце концов, Московия была неотъемлемой частью
672
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
Христианского мира уже с X в., а Российская империя — непременным участни¬
ком дипломатических союзов. <...> Страх перед “русским медведем” не поме¬
шал тому, что с все возрастающим согласием Россию признают частью Европы.
В XIX в. этому процессу очень способствовала выдающаяся роль России в раз¬
громе Наполеона, а также расцвет русской культуры в век Толстого, Чайковского
и Чехова». Составленный Чикагской школой США в 1930-е гг. «Список Великих
книг», претендующий на роль списка ключевых авторов и трудов, необходимых
для понимания западной цивилизации, включил 151 автора, среди которых
49 англо-американцев, 27 французов, 20 немцев, 15 древних греков, 9 римлян,
6 русских, 4 скандинава, 3 испанца, 3 итальянца (эпохи Возрождения), 3 ирланд¬
ца, 3 шотландца и 3 автора из Восточной Европы189. Русский вклад составил 4 %,
а Восточной Европы вместе с Россией — 6 %. Не буду спорить по поводу объек¬
тивности списка. Важно, что сочинения русских авторов признаются необходи¬
мыми для понимания западной цивилизации и что россияне участвуют в конст¬
рукциях имиджа Запада.
Образ России в западных странах изменчив. Он складывается под влиянием
политической конъюнктуры и определяется потребностями обеспечения страте¬
гических интересов соответствующих стран и колебаниями их внешне- и внут-
риполитического курса . «Взлет и падение Российской и Советской империй
зависели от многих факторов, среди которых существенную роль играло между¬
народное положение», — справедливо полагает известный британский исто¬
рик191. В XVIII—начале XX в. имидж может быть правильно понят только в кон¬
тексте отношения к России, почти всегда в большей или меньшей степени не¬
дружественного, прежде всего со стороны Британской и Австро-Венгерской им¬
перий192, во второй половине XX—начале XXI в. — со стороны США. «Амери¬
канское видение России в большей степени зависит от внутренней эволюции
и проблематики самих США, чем от российских событий. Внутренние противо¬
речия социального порядка, экономические спады и подъемы и в особенности
выборные циклы способны изменять восприятие и политику в отношении Рос¬
сии»193. Конструируемый образ является по преимуществу негативным. Лишь
в короткие периоды, когда Запад нуждался в военной помощи России, образ доб¬
рел и принимал симпатичные европейские черты194. Имиджевые войны — обыч¬
ное дело в истории международных отношений195.
Один характерный пример. На протяжении нескольких столетий в результате
целенаправленной антирусской пропаганды в массовом сознании Великобрита¬
нии к 1914 г. сложился отрицательный образ России — как оплота азиатского
варварства. Она противопоставлялась Европе — защитнице демократии, про¬
гресса и цивилизации. Но разразилась Первая мировая война. Россия как член
Антанты не могла больше считаться врагом и, значит, восприниматься азиатской
деспотической страной. Немедленно началось создание системы пропаганды,
направленной на формирование благоприятного «образа союзника». В сентябре
1914 г. при Министерстве иностранных дел Великобритании создается Бюро во¬
енной пропаганды (преобразованное впоследствии в Министерство информа¬
ции), в задачу которого входило осуществление пропаганды среди военнослу¬
жащих и населения зарубежных стран. Бюро получило правительственный за¬
673
Глава IS. Итоги развития России в период империи
каз — изменить в английском обществе отрицательный образ России на положи¬
тельный. Началась мощная кампания, характерной чертой которой стало преуве¬
личение силы мистического русского духа и военной мощи России, способной
разбить немецкие армии и добиться победы в кратчайшие сроки. Для реализации
этой задачи привлекались даже русские ученые (историки, филологи и др.). По¬
сле выхода России из войны заказ был изменен, и образ Советской России в ко¬
роткий срок переформатирован с положительного на отрицательный благодаря
тому, что русофобия имела давние и прочные корни в английском обществе,
а пророссийская пиар-кампания продолжалась недолго196.
Преобладание негативного образа России в значительной мере объясняется
тем, что он получил теоретическое «обоснование» и «подтверждение» со сторо¬
ны западных историков, культурологов и психоаналитиков, которые в большин¬
стве своем изучают ее как империю зла, в терминах отсталости, греховности
и провалов197. Своего апогея нигилизм относительно России достигает в диагно¬
зе, который поставил современный американский русист, литературовед-психо¬
аналитик Д. Ранкур-Лаферьер, претендующий на высочайшую степень научно¬
сти: Россия — иллюзия; никакой «русской идеи» не существует и никогда не су¬
ществовало — это такой же миф, как и «русская душа»; история России отнюдь
не тысячелетняя, а насчитывает не более 5 веков, с середины XVI в.; да и сами
русские, привыкшие считать себя «великой нацией», на самом деле великие ма¬
зохисты, этнические параноики, вечно смиренные, покорные судьбе, подчинен¬
ные воле общества, склонные к непротивлению злу, самоуничижению и разру¬
шительному пьянству198. Если в психоаналитической логике Ранкур-Лаферьера
переставить местами Россию и Запад, то получаем прямо противоположный ре¬
зультат: негативное отношение Запада к России говорит о его страхе, о плохо
скрываемой агрессии, ревности, зависти, раздражении; декларируемое превос¬
ходство Запада имеет защитный характер; осуждение России, заявления о ее
ущербности, неполноценности, слабости носят компенсаторный характер. Запад¬
ноевропейское самовозвеличивание — это проявление нарциссической ущербно¬
сти, ибо негативная оценка России означает позитивную самооценку Запада.
Подобные псевдонаучные имиджи-мифы и взаимные порицания не конструк¬
тивны и разрушительны по своим последствиям; они используются в межстрано¬
вых информационных войнах и не ведут к взаимопониманию и решению общих
проблем и задач, которых множество. Имиджи по сути являются мифами. В ин¬
формационном обществе миф — это часть реальности, интерпретированная оп¬
ределенным образом, в соответствии с целями и интересами интерпретатора.
Мифологизация — это технология конструирования и обновления смыслового
поля в массовом сознании . Пожалуй, самым печальным следствием имидже¬
вых войн является перерождение научной истории в моральную, в которой на
первое место выходит не понимание того, что, как и почему происходило, а мо¬
ральные оценки прошлому. Разумеется, мы должны делать моральные оценки, не
забывая, однако, о необходимости и профессиональной обязанности давать объ¬
ективистские функциональные оценки. Вынося моральные оценки, мы поневоле
и априорно осуждаем нормы и практики других эпох, навязываем прошлому
свою систему ценностей, вследствие чего наш анализ начинает страдать презен-
674
Развитие России в рамках семи концептуальных подходов
тизмом. Мы нуждаемся в неморальной истории — социальной, политической
или экономической.
Конструирование Европы и идентичности России продолжается, и от совре¬
менных социальных исследователей во многом зависит, будет ли общественное
мнение Европы считать Россию частью Европы или нет. Ведь невозможно при¬
знать Россию европейской страной, если на Западе и в самой России в дискурсе
идентификации ее таковой не признают. Тренд в современной зарубежной исто¬
риографии (до последних событий на Украине в 2013—2015 гг.) состоит в том,
чтобы рассматривать Россию в качества члена европейской семьи, «типичной
европейской страны», без которой нельзя понять историю Европы как единого
глобального процесса, где время от времени менялись страны-лидеры, ускоря¬
лись и замедлялись темпы развития, но прогресс никогда не останавливался.
Имеется немало зарубежных ученых, проявляющих сдержанный оптимизм в от¬
ношении будущего России20 , и российских ученых, проявляющих оптимизм
в отношении будущего Запада и добрых с ним отношений.
Нельзя, впрочем, не заметить: многовековой международный дискурс цивили¬
зационной принадлежности России, бывший всегда политически мотивированным
и достаточно циничным, в настоящее время теряет, если уже не потерял, свою ме¬
ждународную актуальность и становится уделом кабинетных интеллектуалов.
США и Европейский союз перед угрозой мощи Китая и России готовы идентифи¬
цировать любую страну мира как западную (яркий пример дает Япония), если она
будет играть по навязываемым ей правилам. Традиционные критерии — свобода,
демократия, гражданское общество, частная собственность, рынок — теряют свое
значение. На первое место выходит политическая лояльность. В этих условиях
российские обществоведы большую пользу могут принести рефлексией по поводу
того, как стать мостом, соединяющим Европу с Китаем и Азией в целом и — что
является важным условием для достижения этой цели— как улучшить имидж
страны. Ибо в сознании мирового сообщества действительный Запад хуже его
имиджа, а действительная Россия — лучше. Как сказал немецкий банкир Йохен
Вермут на одном из финансовых форумов в Москве в 2011 г.: «Россия в десять раз
лучше, чем ее имидж, но в десять раз хуже, чем могла бы быть»201.
Итак, Россия в течение своей тысячелетней истории, несомненно, развивалась
как европейская страна. Глобальные факторы социальной эволюции общества, по
крайней мере после принятия христианства, были общими у русских и других
европейцев. Русские национальные традиции и ценности находились в рамках
европейских. Все российские общественные институты — разработанные людь¬
ми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и доброволь¬
но принятые кодексы поведения) ограничения, структурирующие их взаимодей¬
ствие, являлись по сути европейскими. В России не было и нет ни одного инсти¬
тута, который бы не встречался в какой-нибудь европейской стране. Россия
и другие европейские страны развивались и развиваются по близким траектори¬
ям. В каждый данный момент Россия находится на более ранней стадии социаль¬
ного, экономического и политического развития относительно лишь самых раз¬
витых западноевропейских стран. А по сравнению с другими, например с бал¬
канскими и восточноевропейскими, странами Россия в период империи ни в чем
675
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
существенно не отличалась и развивалась с ними синхронно, в особенности
в Новое время.
Российская революция 1917 г. как побочный продукт
успешной модернизации
Предпосылки и причины Русской революции 1917 г.
В современной академической литературе о социальных революциях при объ¬
яснении предпосылок и причин революций используются марксистский, мальту¬
зианский, модернизационный и институциональный подходы, а также психосо¬
циальная, структурная, политическая либо экономическая концепция, в зависи¬
мости от того, какой фактор считается относительно более важным. Предлагают¬
ся и другие объяснения революции 1917 г.: циклическое (В. В. Ильин, А. С. Па¬
нарин, А. Л. Янов)202, психологическое в разных вариантах — психиатрическое,
психоаналитическое и социально-фрейдистское (П. А. Сорокин)203, пассионарное
(в духе теории этногенеза Л. В. Гумилева) и синергетическое — Хаос против
Космоса, гомоэнергетическое истощение этнического ядра империи (В. Д. Соло¬
вей)204. Популярны также, условно говоря, культурологические объяснения —
извращение российского мессианизма и коллизии византийского, монгольского
и европейского начал русской истории (В. К. Кантор)205, «манихейский тип рус¬
ской цивилизации» и эволюция ментальности (И. Г. Яковенко, А. А. Пелипен-
ко)206, социокультурный раскол общества, порождающий маятниковые колеба¬
ния между полярностями (А. С. Ахиезер)207, оскудение и превращение в фор¬
мальность православной веры (В. М. Лавров), разрушение православного миро¬
воззрения и мировосприятия, забвение национальных корней, отказ от всемирной
миссии православной российской империи нести веру urbi et orbi (А. Н. Боха¬
нов)208. Некоторые авторы используют в своем анализе сразу несколько концеп¬
ций (В. А. Никонов)209.
Классификация подходов и концепций всегда субъективна, так как зависит от
критерия, положенного в ее основу, а критерий — от методологических пристра¬
стий автора. Но при всей своей условности она помогает систематизировать точки
зрения и тем самым облегчает анализ историографии. В социологии революции
принято выделять (в зависимости от того или иного видения причин, целей, обяза¬
тельных параметров революции) четыре направления: абстрактно-натуралис¬
тическое, политико-правовое, социально-структурное и социально-психоло¬
гическое210. Известный современный польский социолог П. Штомпка сводит тео¬
рии революции в четыре группы: бихевиористские, психосоциальные, структур¬
ные и политические211. Историки предлагают свои классификации. Американский
историк Дж. Биллингтон насчитал шесть точек зрения на Российскую револю¬
цию212. Другой американец М. Малия сводит различные интерпретации
Русской революции в три модели — либеральную (основные представители
П. Н. Милюков, X. Ситон-Уатсон, Л. Шапиро и М. Флоринский), консервативную,
или циклическую (основные представители К. Бринтон и Н. Тимашев), и маркси¬
стскую213. Английский историк П. Дьюкс выявил 9 аналитических подходов214.
676
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
Рис. 13.26. Демонстрация учащихся у здания городской ратуши, Царское Село, март 1917
(можно прочесть некоторые лозунги, в том числе «Учащиеся на полевые работы»,
«Свободная средняя школа», «Автономная школа на благо народа»). 1917
Критический анализа различных концепций революции сделан мною в специ¬
альной работе, поэтому нет смысла его повторять215. Напомню его результаты.
Февральские и октябрьские перевороты являлись двумя последовательными
стадиями или этапами одной революции. Февральские события не успели завер¬
шиться легитимацией нового режима или его полным фактическим утверждени¬
ем. Не случайно, и правительство являлось временным, и парламент — предпар¬
ламентом. Определить правовой статус и превратить новый режим в легитим¬
ный должно было Учредительное собрание, но оно собралось слишком поздно
и было безрезультатным — большевикам удалось его разогнать. Возвращение
к концепции единой революции вполне оправданно и в сравнительно-истори¬
ческой перспективе. Революционные события в Нидерландах в 1566—1579 гг.,
продолжавшиеся 13 лет, разделяются на четыре этапа, а не на четыре революции.
Английская революция XVII в. (известная также как Английская гражданская
война), длившаяся 18 лет, 1642—1660 гг., также делится историками на этапы
или войны, а не на революции. Наконец, в истории Великой французской рево¬
люции, 1789—1799 гг., историки выделяют четыре этапа, а не четыре револю¬
ции, хотя взятие Бастилии, установление якобинской диктатуры, термидориан¬
ский переворот и переворот 18 брюмера могли бы претендовать на статус от¬
дельной революции. В таком случае можно говорить о трех революциях в России
XX в: Первая русская революция 1905—1907 гг.216, Вторая русская революция
1917—1920 гг., Третья русская революция 1985—1993 гг. (от начала перестройки
до претворения в жизнь реформ Е. Гайдара включительно).
677
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.27. Очередь за хлебом в Москве. 1917
Рис. 13.28. Революционные матросы Петрограда. 1917
678
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
!
Рис. 13.29. Митинг в Петрограде. 1917
Ни марксистская, ни мальтузианская (в классической или современной вер¬
сии) интерпретации, ни структурная, ни психосоциальные концепции революции
не подтверждаются эмпирически. Институциональная, политическиая концеп-
циии и особенно теория модернизации объясняют происхождение русских рево¬
люций 1905 и 1917 гг. намного убедительнее.
Сквозь призму теории модернизации Русская революция 1917 г. предстает как
результат конфликта традиции и современности, который свидетельствовал
о развитии социума, переживавшего в некоторые моменты критические периоды,
а не о приближении его конца.
Революции в ракурсе модернизационной парадигмы
В России после отмены крепостного права произошло настоящее экономиче¬
ское чудо. В 1861—1913 гг. темпы экономического развития были сопоставимы
с европейскими, хотя отставали от американских. Национальный доход за 52 го¬
да увеличился в 3,8 раза, а на душу населения — в 1,6 раза. И это несмотря на
огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже
мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличивалось за
эти годы почти на 2 млн ежегодно. Душевой прирост объема производства со¬
ставлял 85 % от среднеевропейского. С 1880-х гг. темпы экономического роста
стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: валовой на¬
циональный доход увеличивался на 3,3 % ежегодно — это даже на 0,1 больше,
f\lQ
Глава 13. Итоги развития России в период империи
чем в СССР в 1929—1941 гг., и только на 0,2 % меньше, чем в США — стране
217 1
с самыми высокими темпами развития в мире в то время . Развивались все от¬
расли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблю¬
дались в промышленности. С 1881—1885 по 1913 г. доля России в мировом про¬
мышленном производстве возросла с 3,4 до 5,3 %218. Однако и сельское хозяйст¬
во, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропей¬
скими темпами. Обсуждая «миф о безнадежной отсталости дореволюционной
России, обусловившей необходимость ее перехода к социализму», В. И. Бовы-
кин, прежде разделявший этот тезис, в 1996 г. отмечал, что «нашим современни¬
кам, исторические представления которых формировались под воздействием это¬
го мифа, трудно, разумеется, представить, что Россия в конце XIX—начале
XX века была одной из наиболее динамично развивавшихся держав мира»219.
Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики
и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими
словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни кресть¬
янства и, значит, происходила не за счет его обнищания, как общепринято ду¬
мать. На чем основывается такое заключение? О повышении уровня жизни сви¬
детельствуют следующие факты.
(1) Увеличение с 1850-х по 1911—1913 гг. реальной поденной платы сельско¬
хозяйственного рабочего в 3,8 раза, промышленных рабочих — в 1,4 раза220.
(2) Повышение с 1885 по 1913 г. производства потребительских товаров
и оборота внутренней торговли на душу населения в постоянных ценах — в 1,7
раза221 (за более раннее время сведений не имеется).
(3) Увеличение между 1886—1890 и 1911—1913 гг. количества зерна, остав¬
ляемого крестьянами для собственного потребления, на 34 %222.
(4) Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850-е гг.
до 107 в 1902 г., у пролетариев числа рабочих часов с 2952 в 1850-е до 2570
в 1913 г.223
(5) Массовая скупка земли крестьянами. За 1862—1910 гг. крестьяне купили
24,5 млн дес. земли, заплатив за нее огромные деньги — 971 млн руб. — это в 28
раз больше, чем все недоимки, накопившиеся за ними к 1910 г. Купчая земля от¬
носительно надельной составляла 6,8% в 1877 г., 14,5— в 1887 г. и 21,6% —
в 1910 г., а относительно всей частновладельческой земли — соответственно 6,2;
13,1 и 25 %; причем почти половина (46 %) земли была куплена крестьянскими
обществами и товариществами224.
(6) Увеличение вкладов россиян в государственных сберегательных кассах —
самом популяром банке в России. В 50 губерниях Европейской России с 1865—
1869 по 1909—1913 гг. число кладчиков увеличилось в 159 раз, на 1000 жите¬
лей — в 82 раза, величина вклада на одного вкладчика — в 2,7 раза, с учетом ин¬
фляции — в 1,7 раза, величина вклада на одного жителя страны — в 228 раз,
с учетом инфляции — в 145 раз. Вкладчики касс делились на профессиональные
группы, среди которых выделялись «работники». К последним относились лица,
занятые в земледелии и промышленности, т. е. в огромном большинстве крестья¬
не и рабочие. Их доля среди клиентов банков увеличилась с 9 % в 1865—1869 гг.
до 33 % в 1909—1913 гг., а доля во вкладах — соответственно с 11 до 33%.
680
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
В 1913 г. их число достигло 7,6 млн, среди них на долю женщин приходилось
около 43 %, мужчин — 57 %. Если принять, что мужчины представляли целую
семью, то получается: только в сберегательных кассах хранили деньги около
4,3 млн семей, обнимавших до 26 млн человек (поскольку в среднем семья
включала 6 человек), т. е. 21 % жителей Европейской России. Сберегательные
кассы хранили лишь часть накоплений «работников»: многие крестьяне держали
деньги в кубышке; кроме сберегательных касс, имелись и другие кредитные
учреждения225.
(7) Существенное и систематическое увеличение конечной (т. е. при достиже¬
нии полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1791—1915 гг. на 7,7 см
(с 161,3 до 169,0 см) и веса за 1811—1915 гг. — на 7,4 кг (с 59,1 до 66,5 кг) дает
уверенность в том, что уровень жизни крестьянства действительно повысился.
Индекс массы тела, показывающий уровень питания, на протяжении 1811—
1915 гг. всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже немно¬
го увеличился — с 21,8 до 23,3226.
(8) Уменьшение числа самоубийств (на 100 тыс.) среди сельского населения
в России с 1870—1874 по 1906—1910 гг. в 1,1 раза227.
(9) Увеличение с 0,171 до 0,308 — в 1,8 раза ИЧР, который учитывает (а) про¬
должительность жизни; (б) уровень образования (грамотность и долю учащихся
среди детей школьного возраста); (в) ВВП на душу населения (табл. 11.65 в гл. 11
«Уровень жизни» наст. изд.).
Приведенные данные (с учетом умеренной имущественной дифференциации)
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что благосостояние народа в по¬
реформенное время повышалось. Благодаря тому, что степень материального
неравенства в России была почти в 3 раза меньше, чем в США, по уровню жизни
огромного большинства населения в начале XX в. страны различались не так
сильно, как иногда думают (рис. 13.30—13.38)228.
Прогресс наблюдался во всех сферах жизни. Социальная структура общества
в пореформенное время претерпела коренную, но мирную трансформацию. Бла¬
годаря реформам 1860-х гг. сословия стали постепенно утрачивать свои специ¬
фические привилегии, сближаться друг с другом в правовом положении и посте¬
пенно трансформироваться в классы и профессиональные группы. Дворяне-
помещики сливались в одну социально-профессиональную группу с частными
землевладельцами, дворяне-чиновники — с чиновниками-недворянами, прочие
категории личного и потомственного дворянства — с профессиональной интел¬
лигенцией; происходило также «обуржуазивание» дворянства и «оземеливание»
буржуазии. Духовенство эволюционировало от сословия в сторону профессио¬
нальной группы духовных пастырей. Городское сословие превращалось в пред¬
принимателей, интеллигенцию и рабочих, крестьянство — в фермеров и рабочих.
Решающее значение в превращении сословий в классы и профессиональные
группы имели, с одной стороны, юридическая и фактическая ликвидация приви¬
легий дворянства, с другой — ликвидация правовой неполноценности податных
сословий. С отменой крепостного права в 1861 г. все категории крестьян и город¬
ских обывателей сравнялись по своим правам, а дворянство утратило свою глав¬
ную привилегию — монопольное право на владение крепостными. После
681
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.30. Семья фермера из Кентукки. 1910-е
Рис. 13.31. Американские работницы, штат Джорджия. 1909. Фото Л. У. Хайна
682
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
Рис. 13.32. Большая американская семья рабочих. 1910-е. Фото Л. У. Хайна
Рис. 13.33. 12-летняя рабочая на текстильной фабрике. 1910-е. Фото Л. У. Хайна
683
Глава 13. Итоги развития России в триод империи
Рис. 13.34. Юные шахтеры. 1910-е. Фото Л. У. Хайна
Рис. 13.35. Мать с ребенком, Нью-Йорк. 1910-е
684
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
Рис. 13.36. Юные рабочие. 1900-е. Фото Л. У. Хайна
Рис. 13.37. Л. Жонас (1880—1947). Во время забастовки. Франция. 1910-е.
Г од написания и место нахождения неизвестны
685
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Рис. 13.38. Улицы Америки, Нью-Йорк. 1900-е
введения земских учреждений в 1864 г. все сословия получили право формиро¬
вать органы местного самоуправления на уездном и губернском уровнях. Город¬
ская реформа 1870 г. превратила городское сословное самоуправление во всесо¬
словное самоуправление. В результате судебной реформы в 1864 г. сословные
суды упразднялись, и все граждане попадали под юрисдикцию единых для всех
общесословных судов. Введение всеобщей воинской повинности в 1874 г. ликви¬
дировало принципиальное различие между привилегированными и податными
сословиями: представители всех сословий, включая дворянство, стали на общих
основаниях привлекаться к отбыванию воинской повинности. Другие важные ре¬
формы, происшедшие в последней трети XIX — начале XX в. (отмена подушной
подати и круговой поруки среди сельских и городских обывателей, включение
дворянства в число налогоплательщиков, отмена паспортного режима, отмена
выкупных йлатежей за землю, получение права на выход из общины в 1907 г.,
наконец, введение представительного учреждения и обретение гражданских прав
всем населением в 1905 г.), привели к тому, что к 1917 г. все сословия юридиче¬
ски утратили свои специфические сословные права. Вертикальная социальная
мобильность существенно возросла, поддерживая трансформацию социальной
структуры из сословной в классово-профессиональную.
Политическое развитие страны после Великих реформ также следует при¬
знать достаточно успешным. Российская государственность эволюционировала
от самодержавия к конституционной монархии и в 1905—1906 гг. стала таковой.
686
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
Рис. 13.39. Мобилизованные в сопровождении родственников направляются
в казармы, С.-Петербург. 1 августа 1914 г.
Рис. 13.40. Колонна женщин-демонстранток проходит по Невскому проспекту
с лозунгами, требующими материальной помощи семьям солдат:
«Прибавка пайка семьям солдат», «Кормите детей засчитников (так! — Б. М) Родины».
23 февраля (8 марта) 1917 г.
687
Глава 13. Итоги развития России в период империи
После 1905 г. появились свободная пресса, общественное мнение, политические
партии, тысячи добровольных ассоциаций — все элементы гражданского общества
В принципе сформировался механизм, обеспечивающий передачу общественных
настроений, желаний, требований от общества к властным структурам, и контроль
за их исполнением посредством законодательных учреждений, прессы, обществен¬
ного мнения, добровольных ассоциаций. Последних к осени 1917 г. насчитывалось
около 90 тыс.; они охватили до половины взрослых мужчин страны. Набирали си¬
лу добровольные ассоциации буржуазии. Десятки биржевых обществ, съездов
промышленников, обществ фабрикантов и заводчиков лоббировали региональные
и отраслевые интересы предпринимателей перед государством и рабочими. В ре¬
зультате произошел сдвиг в соотношении сил в пользу общественности. Он вы¬
звал, с одной стороны, опасение императора потерять свое доминирующее поло¬
жение в управлении государством, с другой — желание общественности разделить
с царем и правительством власть пропорционально фактическому соотношению
сил. На этой почве между ними естественно возникло противостояние. В его осно¬
ве лежала борьба за власть. Либерально-радикальная интеллигенция чувствовала
в себе силы и знания вывести Россию из тяжелого положения, в котором, по ее
мнению, находилась страна, поэтому претендовала на роль избавителя от недуга
и, следовательно, на власть лечить, помогать и управлять.
688
Рис. 13.41. Группа участников демонстрации — членов Союза правительственных
учреждений Харькова с лозунгами: «Всеобщего демократического мира»,
«Вся земля трудовому народу», «Контроль над производством». 1917
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
Как известно, улучшение условий жизни рассматривается в теории модерни¬
зации в качестве главного критерия ее успешности22 . Поскольку имперская Рос¬
сия модернизировалась, а благосостояние населения при этом росло, модерниза¬
цию следует признать успешной, несмотря на все издержки, трудности и перио¬
дические кризисы.
Как неоспоримые успехи страны совместить с ростом в эти годы недовольст¬
ва и оппозиции режиму, с развитием всякого рода протестных движений, кото¬
рые в конечном счете привели к революции 1917 г.? Современная теория модер¬
низации объясняет этот парадокс.
Как и в других странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в ря¬
де случаев и преждевременное проведение потребовало больших издержек и да¬
же жертв — например со стороны помещиков, у которых государство принуди¬
тельно экспроприировало землю, хотя и за компенсацию. Это привело к лишени¬
ям и испытаниям для отдельных групп россиян и не принесло равномерного бла¬
гополучия сразу и всем. Велики оказались и побочные негативные последствия
модернизации — увеличение социальной и межэтнической напряженности, кон¬
фликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях — от самоубийства
до социального и политического протеста. Необыкновенный рост всякого рода
протестных движений порождался, с одной стороны, дезориентацией, дезоргани-
Рис. 13.42. Делегаты фронта передают кресты, медали и деньги
на нужды Петросовета и в пользу революции, Петроград. 1917
£ЯС
Глава 13. Итоги развития России в период империи
задней и социальной напряженностью
в обществе, с другой — полученной
свободой, ослаблением социального
контроля и возросшей социальной мо¬
бильностью, с третьей — несоответст¬
вием между потребностями людей
и объективными возможностями эко¬
номики и общества их удовлетворить.
Общество испытало так называемую
травму социальных изменений, или
аномию успеха. «Прогрессивные по
своей сути изменения, имеющие пози¬
тивные результаты, обнаруживают
свою негативную сторону именно в си¬
лу того, что являются изменениями,
что нарушают установившийся, ста¬
бильный порядок, прерывают непре¬
рывность, нарушают равновесие, ста¬
вят под сомнение или лишают смысла
прежние навыки и привычки»230. Кон¬
фликт традиции и современности
можно назвать системным кризисом.
Однако такой кризис не имеет ничего
общего с тем пониманием системного
кризиса, которое доминировало в со¬
ветской историографии и до сих пор
широко бытует в современной литературе, — как всеобщего и перманентного
кризиса, превратившего российский социум в несостоятельную и нежизнеспо¬
собную систему, не способную развиваться и приспосабливаться к изменяющим¬
ся условиям жизни и обеспечивать благосостояние граждан. «Упадок старого,
вызванный ростом нового и молодого, — это признак здоровья»231. Кризис рос¬
сийского социума был болезнью роста, свидетельствовал о его развитии, а не
о приближении его конца, «представляя собой скорее мутацию и трансформа¬
цию, чем упадок»232. Кризис не вел фатально к революции, а лишь создавал для
нее предпосылки, только возможность, ставшею реальностью в силу особых об¬
стоятельств — военных поражений, трудностей военного времени и непримири¬
мой и ожесточенной борьбы за власть между оппозиционной общественностью
и монархией.
В тот момент, когда на страну обрушилось тяжелейшее испытание Первой
мировой войной, модернизация была далека от завершения. Насущные болезнен¬
ные российские общественные проблемы: аграрная, рабочая и этноконфессио-
нальная, социально-экономическое неравенство, культурный раскол общества,
низкий уровень жизни, несмотря на его повышение, — оказались еще не решен¬
ными. С бременем войны, которое, напомню, не выдержала даже такая во всех
отношениях модернизированная страна, как Германия, российская экономика
Рис. 13.43. Женский батальон смерти
(в 1-м ряду крайняя справа М. Л. Бочкарева
(1889—1920)), Петроград. 1917
690
Примечания
справилась лучше, чем принято считать233. Но неудачи на фронте, трудности
в тылу, ослабление государственной власти, помноженные на безответственное
поведение либеральных и революционных элит, организовавших мощную анти¬
правительственную пиар-кампанию в целях свержения монархии, привели все-
таки к революции. Как сказал участник февральских событий, впоследствии рус¬
ско-американский историк М. М. Карпович (1888—1959): «Война сделала рево¬
люцию весьма возможной, а человеческая ошибка сделала ее неизбежной»234.
Страна погрузилась в революцию, проходившую в соответствии с классической
моделью: кризис «старого режима»; установление власти «умеренных»; победа
радикалов, создающих «царство террора и добродетели»; термидор, или контрре¬
волюционный переворот, и постреволюционная диктатура.
Таким образом, революции начала XX в. произошли не потому, что Россия по¬
сле Великих реформ 1860-х гг. вступила в состояние глобального перманентного
кризиса, а потому, что общество вследствие неблагоприятных форс-мажорных
внешних и внутрироссийских обстоятельств не справилось с процессом перехода
от традиции к модерну.
Примечания
1 Кистяковский Б. А. Философия и со¬
циология права. СПб., 1998. С. 366—361.
2 Развитие индивидуализма является
достаточно популярным сюжетом в запад¬
ной общественной мысли: Dumont L. Essays
on Individualism : Modem Ideology in Anth¬
ropological Perspective. Chicago : University
of Chicago Press, 1986 ; Lukes St. Individual¬
ism. New York: Harper and Row, 1973 ;
Macfarlane A. The Origin of English Indi¬
vidualism. Oxford : Oxford University Press,
1978 ; Shanaham D. Toward a Genealogy of
Individualism. Amherst: The University of
Massachusetts Press, 1992; и др. В россий¬
ской историографии имперского периода
проблема рассматривалась в: Иванов-Ра-
зумник Р. В. История русской общественной
мысли: Индивидуализм и мещанство в рус¬
ской литературе и жизни XIX в. СПб., 1914.
Т. 1, 2. А. С. Лаппо-Данилевский в послед¬
ние годы жизни работал над монографией
«Лицо, общество и государство в России
XVIII в.», которая осталась незавершенной;
материалы хранятся в: Архив РАН. Ф. ИЗ
(А. С. Лаппо-Данилевский). On. 1. Д. 158,
159. Судя по рукописи, автор пришел к вы¬
воду, что на фоне образования сословий,
возникновения общественного мнения про¬
исходил процесс выделения личности из
патриархальных союзов, а затем из-под
гнета государственного: Черная Л. А., Соро¬
кина М. Ю. Предисловие // Лаппо-Данилев-
ский А. С. История русской общественной
мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990.
С. 5—6. В постсоветском обществоведении
проблемой развития индивидуализма зани¬
маются главным образом философы и со¬
циологи: Войтенко В. П. Индивидуализм
в России и на Западе: сравнительный кон¬
цептуальный анализ : дис ... канд. философ,
наук. Ростов н/Д, 2014; Гулянская Е. А.
Ценности индивидуализма и коллективизма
в организационной культуре современной
России: дис. ... канд. социол. наук. Став¬
рополь, 2009 ; Темницкии А. Л. Процесс ста¬
новления индивидуальной субъективности
рабочих в сфере трудовых отношении (конец
XIX—начало XXI в.) // Рабочие и общест¬
венно-политический процесс в России в кон¬
це XIX—XX в.: Материалы VI Всерос. науч.
конф.: в 2 ч. / А. М. Белов (ред.). Кострома,
2012. С. 51—58; Хархордин О. Обличать
и лицемерить: генеалогия российской лич¬
ности. СПб., 2002.
3 Берковский Н. Я. О мировом значении
русской литературы. Л., 1974. С. 32.
691
Глава 13. Итоги развития России в период империи
4 Гуревич В. Я. Хулиганство // Отчет X
общего собрания Русской группы Междуна¬
родного союза криминалистов 13—16 фев¬
раля 1914 г. в Петербурге в 1914 г. Пг.,
1916. С. 6—7.
5 Нюбергер Дж. Власть слова : Рабочие
против хозяев в мировых судах // Анатомия
революции / В. Ю. Черняев (ред.). СПб.,
1994. С. 24 ; Хаймсон Л. Исторические кор¬
ни Февральской революции // Там же.
С. 24.
6 Farnsworth В. The Litigious Daughter-
in-law : Family Relations in Rural Russia in
the Second Half of the Nineteenth Century //
Slavic Review. 1986. Vol. 45, nr 1.
7 Гурова О. Ю. Социология моды: об¬
зор классических концепций // Социс. 2011.
№ 8. С. 72—82. Феномен моды исследован
Г. Зиммелем: История буржуазной социо¬
логии XIX—начала XX века / И. С. Кон
(ред.). М., 1989. С. 186—187.
8 Савченко И. Старое и новое в народ¬
ном убранстве и одежде // ЖС. 1890. Вып. 1.
С. 103—114 ; Руан К. Новое платье импе¬
рии : История российской модной индуст¬
рии, 1700—1917. М., 2011.
9 Кон И. С. Сексуальная культура Рос¬
сии : Клубничка на березке. М., 1997.
С. 14—15.
10 Galtung J., Rudeng Е., Heiestad Т. On
the Last 2500 Years in Western History, and
Some Remarks on the Coming 500 // The New
Cambridge Modem History / P. Burke (ed.).
Cambridge et al. : Cambridge University
Press, 1979. Comp. Vol. 13. P. 318—362.
Проблема «Россия и Европа» имеет боль¬
шую историографию, правда преимущест¬
венно спекулятивного характера. См., нап¬
ример: Карсавин Л. П. Восток, Запад
и русская идея. Пг., 1922 ; Русская идея :
Роковой спор. Христианство. Антисеми¬
тизм. Национализм / 3. А. Крахмальникова
(сост.). М., 1994; Россия между Западом
и Востоком : Мосты в будущее / Н. П. Шме¬
лев (ред.). М., 2003 ; Хомяков А. С. Опыт
катехизического изложения учения о церк¬
ви. М., 1864 ; Ядов В. А. Россия в мировом
пространстве // Социс. 1996. № 3 ; Hol¬
lander Р. Soviet and American Society:
A Comparison. New York : Oxford University
Press, 1973 ; Schubart W. Russian and West¬
ern Man. New York : F. Ungar Pub. Co.,
1950 ; Wittram R. Russia and Europe. Lon¬
don : Harcourt Brace Jovanovich, 1973. Cm.
Введение в т. 1 наст. изд.
11 Gillis J. R. The Development of Euro¬
pean Society: 1770—1870. Washington : Uni¬
versity Press of America, 1983. P. XI—XV.
12 Ibid. P. XV—XVI.
13 [Болотов A. T.J. Жизнь и приключе-
ния Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков. 1738—1793 : в 4 т.
СПб., 1872—1873. Т. 4. СПб., 1873. Сгё.
1020.
14 Дмитриев М. А. Главы из воспоми¬
наний моей жизни. М., 1998. С. 15.
15 Гакстгаузен А. Исследования внут¬
ренних отношений народной жизни в осо¬
бенности сельских учреждений России. М.,
1870. Т. l.C. XVI—XVII.
16 Буслаев Ф. И. Историческая грамма¬
тика русского языка. М., 1959. С. 267—268.
17 Подробно см. гл. 12 «Русская куль¬
тура в коллективных представлениях» наст,
изд.
18 Книга в России: 1861—1881 / И. И. Фро¬
лова (ред.). М., 1991. Т. 3. С. 69—86; Res¬
nick D. Р., Martinek J. Reading // Encyclope¬
dia of European Social History from 1350 to
2000 : in 6 vols. / P. N. Steams (ed.). New
York etc.: Charles Scribner’s Sons, 2001.
Vol. 5. P. 407—418.
19 Петров M. К Язык, знак, культура.
М., 1991. С. 317—320. См. также преди¬
словие к этой книге, написанное С. С. Не-
ретиной (С. 3—18).
20 Лотман Ю. М. Беседы о русской
культуре : Быт и традиции русского дво¬
рянства (XVIII—начало XIX века). СПб.,
1994. С. 384—390.
21 Милюков П. Н. Очерки по истории
русской культуры: в 3 т. Т. 2: Вера.
Творчество. Образование. М., 1994. С. 468.
22 Веселовский А. А. Любовная лирика
XVIII века: К вопросу о взаимоотношении
народной и художественной лирики XVIII в.
СПб., 1909. С. 155—68 ; Русское народное
поэтическое творчество / Д. С. Лихачев
692
Примечания
(ред.). М.; Л., 1956. Т. 2, кн. 2. С. 150—
152 ; Русское народное поэтическое твор¬
чество / А. М. Новикова (ред.). М, 1978.
С. 314—328.
23 Гуревич А. Я. Ведьмы в деревне перед
судом (народная и ученая традиция в по¬
нимании магии) // Языки культуры и проб¬
лемы переводимости / Б. А. Успенский
(ред.). М., 1987. С. 45—46.
24 Высказываются мнения, что пропуск
некоторых стадий развития и отсутствие
некоторых институтов, например рыцарст¬
ва, можно объяснить тем, что «Россия, по-
видимому, слишком быстро “пробежала”
дистанцию от ранних стадий средневеко¬
вого общества к эпохе единой националь¬
ной монархии. В результате промежу¬
точные этапы и характерные для них со¬
циальные явления оказались “смазанны¬
ми”»: Назаров В. Д Нереализованная
возможность: существовало ли рыцарство
на Руси в XIII—XV веках? // Одиссей :
Человек в истории. 2004. С. 126.
25 Миронов Б Н. Хлебные цены в Рос¬
сии за два столетия (XVIII—XIX вв.). Л.,
1985. С. 45—49, 111—113, 169—188. См.
также: Иванова М. В. Экономическое раз¬
витие России и большие циклы мировой
конъюнктуры // Экономическое наследие
Н. Д. Кондратьева и современность / Л. Д. Ши-
рокорад, В. Т. Рязанов (ред.). СПб., 1994.
С. 88—102.
26 Бердяев Н. А. Духи русской револю¬
ции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 283.
Такую же цель — вернуться к более древ¬
нему общественному строю — преследо¬
вали крестьянские движения во Франции
XVII в.: Mousmier R. Peasant Uprising in
Seventeenth-Century France, Russia, and Chi¬
na. New York; Evanston : Harper and Row,
1970. P. 305—348.
27 Васютинский В. Разрушители машин
в Англии : (Очерки истории луддитского
движения). М.; Л., 1929.
28 Gillis J. R. The Development of Euro¬
pean Society ... P. XIII—XIV ; Order and Di¬
sorder in Early Modem England / A. Fletcher,
J. Stevenson (ed.). Cambridge: Cambridge
University Press, 1985 ; Laslett P. The World
We Have Lost. New York: Scribner, 1965.
P. 182—209; Weber E. Peasants into
Frenchmen: The Modernization of Rural
France, 1870—1914. London: Chatto and
Windus, 1977. P. 485—496.
29 Мыльников А. С. Мифологемы «Ке¬
сарь Август» и «Москва — третий Рим»,
или Московская страница в истории евро¬
пейского измерения славянского мира //
Славянский мир между Римом и Констан¬
тинополем. М., 2004. С. 18А—210; Саха¬
ров А. Н. Древняя Русь на путях к «Третье¬
му Риму». М., 2006 ; Masaryk Tk G. The
Spirit of Russia: Studies in History, Literature
and Philosophy. London ; New York : G. Allen
and Unwin : Macmillan, 1955. Vol. 1,2; Miliu¬
kov P., Seignobos Ch, Eisenmann L. Russian
History. New York : Funk and Wagnalls, 1968.
Vol. 1. P. XVIII—XXI, 98 ; Obolensky D. The
Byzantine Commonwealth: Eastern Europe,
500—1453. New York ; Washington: Praeger
Publishers, 1971. По мнению Янова, Россия
родилась страной европейской как Киевско-
Новгородская Русь: Янов А. Россия и Ев¬
ропа : в 3 кн. М., 2008. Кн. 1 : В начале
была Европа: У истоков трагедии русской
государственности, 1462—1584. Ливен по¬
лагает, что «Российская империя была
гибридом. В ней сочетались черты евро¬
пейских морских империй и особенности
автократической материковой империи,
уходящие корнями в античность» (Ливен Д.
Российская империя и ее враги с XVI века
до наших дней. М., 2007. С. 643).
30 Olson L The Early Middle Ages: the
Birth of Europe. New York: Palgrave Mac¬
millan, 2007. P. 198. Экстравагантной пред¬
ставляется точка зрения, согласно кото¬
рой после нашествия монголов произо¬
шел полный разрыв с древнерусским пе¬
риодом и наблюдалось слепое копиро¬
вание политических и военных инсти¬
тутов монголов: Островски Д. Монголь¬
ские корни русских государственных
учреждений // Американская русистика:
Вехи историографии последних лет:
Период Киевской и Московской Руси:
антология / Дж. Маджеска (сост.). Самара,
2001. С. 143—171.
693
Глава 13. Итоги развития России в период империи
Kort М. The Soviet Colossus: Histo¬
ry and Aftermath. 7th ed. Armonk, NY:
M. E. Sharpe, 2010.
32 The Origins of Backwardness in Eastern
Europe: Economics and Politics from the
Middle Ages to the Early Twentieth Century /
D. Chirot (ed.). Berkeley, CA : University of
California Press, 1989; Okey R. Eastern
Europe, 1470—1985 : From Feudalism to
Communism. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1982; Wandycz P. S. The
Price of Freedom : A History of East Central
Europe from the Middle Ages to the Present.
London ; New York : Routledge, 1992.
33 От аграрного общества к государству
всеобщего благоденствия : Модернизация
Западной Европы с XV в. до 1980-х гт. /
Г. А. Дидерикс и др. М., 1998. С. 60—191,
416—419 ; Марджори Р. Европа в Средние
века: Быт, религия, культура. М., 2005 ;
Тревельян Дж. М. Социальная история
Англии : Обзор шести столетий от Чосера
до королевы Виктории. М., 1959. С. 21—
121 ; Galtung J., Rudeng Е., Heiestad Т. On
the Last 2500 Years in Western History...
P. 320—329; Goubert P. The Ancient Re¬
gime : French Society, 1600—1750. London :
Weidenfeld and Nicolson, 1973 ; Huppert G.
After the Black Death : A Social History of
Early Modem Europe. Bloomington ; Indian¬
apolis : Indiana University Press, 1986; Las-
left P. The World We Have Lost; Pennig-
ton D. N. Seventeenth Century Europe. Lon¬
don ; New York : Longman, 1970 ; Weber E.
A Modem History of Europe: Men, Culture,
and Society. New York : W. W. Norton, 1971.
P. 3—36, 183—220.
34От аграрного общества... С. 146—
151, 154—171 ; Social Orders and Social
Classes in )Europe since 1500 : Studies in So¬
cial Stratification / M. L. Bush (ed.). London ;
New York : Longman, 1992.
35 Филд Д. Социальные представления
в дореволюционной России // Реформы или
революция? : Россия 1861—1917 : материа¬
лы междунар. коллоквиума историков /
В. С. Дякин (ред.). СПб., 1992. С. 70, 78.
36 Dew aid J. The Aristocracy and Gentry //
Encyclopedia of European Social History ...
Vol. 3. P. 27—38 ; The Nobility in Russia and
Eastern Europe /1. Banac, P. Bushkovitch (eds.).
New Haven : Yale University Press, 1983.
37Хачатурян H. А. Французское кресть¬
янство в системе сословной монархии II
Классы и сословия средневекового об¬
щества / 3. В. Удальцова (ред.). М., 1988.
С. 103—111.
38 Kaelble Н. Social Mobility // Encyclo¬
pedia of European Social History ... Vol. 3.
P. 19—26.
39 Albisetti J. C. Professionals and Profes¬
sionalization // Ibid. P. 57—78 ; Hunt M. The
Middle Classes // Ibid. P. 39—56.
40 От аграрного общества ... С. 55—59;
Зидер Р. Социальная история семьи в За¬
падной и Центральной Европе (конец
XVI11—XX вв.). М., 1997. С. 285—294;
Changing Patterns of European Family Life:
A Comparative Analysis of 14 European
Countries / K. Boh et al. (eds.). London ; New
York : Routledge, 1989 ; Gillis J. R. For Bet¬
ter, For Worse : British Marriages, 1600 to the
Present. New York ; Oxford : Oxford Univer¬
sity Press, 1985. P. 130—134; Gottlieb B.
The Family in the Western World from Black
Death to the Industrial Age. New York ; Ox¬
ford : Oxford University Press, 1993 ; Fland-
rin J.-L. Families in Former Times : Kinship,
Household and Sexuality. Cambridge et al.:
Cambridge University Press, 1979. P. 118—
144 ; Mitterauer M., Reindard S. The Euro¬
pean Family : From Patriarchy to Partnership
from the Middle Ages to the Present. Oxford:
Basil Blackwell, 1982. P. 227—234; Shor¬
ter E. The Making of the Modem Family.
New York: Basic Books, 1977. P. 39—44,
54—78, 218—227 ; Stone L. The Rise of the
Nuclear Family in Early Modem England:
The Patriarchal Stage // The Family in Histo¬
ry / Ch. E. Rosenberg (ed.). Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1975.
P. 13—59; The Family and Age Groups II
Encyclopedia of European Social History...
Vol. 4. P. 85—242 ; Wiesner-Hanks M. E. Pa¬
triarchy // Ibid. P. P. 15—24. Впрочем, на¬
силия в семейных отношениях много даже
в современных западных странах. Напри¬
мер, в США в 1980-е гг. в 28% семей
694
Примечания
встречались случаи физической агрессии
супругов друг против друга, в 4 % случаев
с применением оружия: Campbell A. Men,
Women and Aggression. New York : Basic
Books, 1993. P. 103. Ежегодное число жен¬
щин, избиваемых своими мужьями в 1980-е гг.,
оценивается социологами в 3—5 млн чело¬
век, а мужчин, избиваемых женщинами, в
6 раз меньше, следовательно, — 0,5—0,8 млн
(Общественные науки за рубежом : реф.
журнал. Сер. 3. Философия и социология.
1986. №3. С. 159—165).
41 Кон И. С. Бить или не бить. М., 2012.
Гл. 2: Немного истории; Зидер Р. Со¬
циальная история семьи ... С. 36—45,
115—120, 133—136; Anderson A., Zinsser J. Р.
A History of Their Own : Women in Europe
from Prehistory to the Present. New York :
Harper and Row, 1988. Vol. 1,2; Aries Ph.
Centuries of Childhood : A Social History of
Family Life. London : Jonathan Cape, 1962;
Levine D. History of the Family // Encyc¬
lopedia of European Social History ... Vol. 4.
P. 97 ; Pollock L. A. A Lasting Relationship :
Parents and Children over Three Centuries.
Hanover ; London : University Press of New
England, 1987 ; The History of Childhood /
M. Lloyd (ed.). New York : The Psychohis¬
tory Press, 1974.
42 Family Forms in Historic Europe / R. Wall
(ed.). Cambridge: Cambridge University
Press, 1983 ; Household and Family in Past
Time: Comparative Studies in the Size and
Structure of the Domestic Group over the Last
Three Centuries in England, France, Serbia,
Japan and Colonial North America / P. Laslett,
R. Wall (ed.). Cambridge : Cambridge Univer¬
sity Press, 1972. P. 623.
43 От аграрного общества ... С. 55—57 ;
Berkner L. К. The Use and Misuse of Census
Data for the Historical Analysis of Family
Structure // Journal of Interdisciplinary His¬
tory. 1975. Nr 4. P. 721—738 ; Flandrin J.-L.
Families in Former Times ... P. 5—92; Le¬
vine D. The European Marriage Pattern // En¬
cyclopedia of European Social History ... Vol. 2.
P. 171—180.
44 Hall L. A. Masturbation // Encyclopedia
of European Social History ... Vol. 4. P. 279—
290 ; Phillips R. G. Sex, Law, and the State //
Ibid. P. 301—310 ; Sigel L Z. Sexual Beha¬
vior and Sexual Morality // Ibid. P. 243—258 ;
Sohn A.-M. Illegitimacy and Concubinage //
Ibid. P. 259—268 ; Trumbach R. Homose¬
xuality and Lesbianism // Ibid. P. 311—326.
45 Бессмертный Ю. Л. : 1) Историческая
демография позднего средневековья на со¬
временном этапе // Средние века. 1987.
Т. 50. С. 292—293 ; 2) Жизнь и смерть
в средние века. М., 1991. С. 222—229;
Вишневский А. Г. Демографическая рево¬
люция. М., 1976 ; Брачность, рождаемость,
семья за три века / А. Г. Вишневский,
И. С. Кон (ред.). М., 1979 ; От аграрного об¬
щества ... С. 29—63, 230—233 ; Flinn М. W.
The European Demographic System: 1500—
1820. Brighton : Harvester Press, 1981 ; Hai¬
nes M R. The Population of Europe: The
Demographic Transition and After // Encyclo¬
pedia of European Social History ... Vol. 2.
P. 159—170; Levine D. The Population of
Europe: Early Modem Demographic Pat¬
terns // Ibid. P. 145—158 ; Riddle J. M. Birth,
Contraception, and Abortion // Ibid. P. 181—191.
46 От аграрного общества ... С. 64—191 ;
Friedrichs Ch. R: 1) The City : The Early
Modem Period // Encyclopedia of European
Social History ... Vol. 2. P. 249—262; 2) Ur¬
ban Institutions and Politics : The Early Mo¬
dem Period // Ibid. P. 301—306 ; Gies F.,
Gies J. Life in a Medieval Village. New York et
al.: Harper and Row, 1990. P. 88—105 ; Hup-
pert G. After the Black Death : A Social History
of Early Modem Europe. P. 1—13,30—40.
47 Бюхер К Возникновение народного
хозяйства. СПб., 1907. С. 141—166; Джи-
велегов А. К Средневековые города в За¬
падной Европе. СПб., 1902 ; Эшли У. Дж.
Экономическая история Англии в связи
с экономической теорией. М., 1897. С. 285—
297 ; Ястребицкая А. Л. Европейский город
(средние века и раннее новое время):
Введение в современную урбанистику. М.,
1993 ; Doyle W. The Old European Order:
1660—1800. Oxford et al. : Oxford University
Press, 1990. P. 126.
48 От аграрного общества... С. 150;
Сванидзе А. А. Средневековый коммуна-
695
Глава 13. Итоги развития России в период империи
лизм как общественный феномен и исто¬
рическая проблема // Средние века. М,
1993. Вып. 56. С. 5—32 ; Тушина Е. В. Го¬
родское землевладение // Город в средневе¬
ковой цивилизации Западной Европы : в 4 т.
М., 1999—2000. Т. 2 : Жизнь города и дея¬
тельность горожан / А. А. Сванидзе (ред.).
М., 1999. С. 279—289.
49 Бюхер К. Возникновение народного
хозяйства. С. 165.
50 Haine W. S. Street Life and City Space //
Encyclopedia of European Social History...
Vol.2. P.313—328.
51 Russo D. J. Families and Communities :
A New View of American History. Nashville :
American Association for State and Local His¬
tory, 1974.
52 Miller M. Fairs and Markets // Encyclo¬
pedia of European Social History ... Vol. 2.
P. 425—438.
53 Cowan A. Suburbs and New Towns //
Ibid. P. 329—342.
54 Mathias P. The First Industrial Nation :
An Economic History of Britain, 1700—1914.
2nd ed. London ; New York : Methuen, 1983.
P. 179.
55 Papayanis N., Wakeman R. The Urban
Infrastructure // Encyclopedia of European
Social History ... Vol. 2. P. 277—290.
56 Cowan A. Urbanization // Ibid. P. 237—
248 ; Friedrichs Ch. R. The City : The Early
Modern Period // Ibid. P. 249—262; Kon-
vitz J. The City : The Modem Period // Ibid.
P. 263—276.
57 Зюскинд П. Парфюмер : История од¬
ного убийцы. СПб., 2000. С. 5—6.
58 От аграрного общества ... С. 74—98 ;
Кнапп Г. Освобождение крестьян и проис¬
хождение сельскохозяйственных рабочих
в старых провинциях Прусской монархии.
СПб., 1900 ; Томпсон Ф. М. История евро¬
пейских сельских обществ // Цивилизации.
1995. Вып. 3. С. 209—218 ; Brener Debate :
Agrarian Class Structure and Economic De¬
velopment in Pre-Industrial Europe / T. H. As¬
ton, С. H. E. Philis (eds.). Cambridge: Cam¬
bridge University Press, 1985; Blum J. The
End of the Old Order in Rural Europe. Prince¬
ton, NJ : Princeton University Press, 1978 ;
Doyle W. The Old European Order ... P. 14—
17 ; Gorshkov B. Serfdom: Eastern Europe //
Encyclopedia of European Social History...
Vol. 2. P. 379—388 ; Slicker van Bath В. H.
The Agrarian History of Western Europe:
A. D. 500—1850. New York: St. Martin’s
Press, 1963; Vardi L. Serfdom: Western
Europe // Encyclopedia of European Social
History ... Vol. 2. P. 369—378.
59 Bendix R. Nation-Building and Citizen¬
ship : Studies of Our Changing Social Order.
Berkeley et al.: University of California
Press, 1977. P. 175—211 ; Heady F. Public
Administration : A Comparative Perspective.
3rd ed. New York: M. Dekker, 1984.
P. 136—173 ; Heater D. B. Order and Rebel¬
lion : A History of Europe in the Eighteenth
Century. London et al.: G. G. Harrap, 1964.
P. 223—229 ; Madariaga /.: 1) Russia in the
Age of Catherine the Great. New Haven ;
London : Yale University Press, 1981. P. 581—
588 ; 2) Sisters under the Skin // Slavic Re¬
view. 1982. Vol. 41, nr 4. P. 624—628;
Shubert A. The Liberal State // Encyclopedia
of European Social History ... Vol. 2. P. 449—
462 ; Tilly Ch. Democracy // Ibid. P. 463—
476.
60 Бессмертный Ю. Л. Сеньориальная
и государственная собственность в Запад¬
ной Европе и на Руси в период развитого
феодализма // Социально-экономические
проблемы российской деревни в феодаль¬
ную и капиталистическую эпохи / В. Т. Па-
шуто (ред.). Ростов н/Д, 1980. С. 21—36;
Gillis J. R. The Development of European So¬
ciety ... P. 19—20 ; Parker D. Absolutism //
Encyclopedia of European Social History...
Vol. 2. P. 439—448
61 Министерство внутренних дел: Вы¬
боры в Государственную Думу третьего
созыва: статистический отчет особого де¬
лопроизводства. СПб., 1911. С. VI; На-
merow Th. S. The Birth of a New Europe.
Chapel Hill; London : The University of North
Carolina Press, 1983. P. 302—304.
62 Брэдли Дж. Общественные органи¬
зации в царской России : Наука, патрио¬
тизм и гражданское общество. М., 2012.
С. 55—92 ; Hausmann G. Civil Society // En¬
696
Примечания
cyclopedia of European Social Histoiy ... Vol. 2.
P. 489-498.
63 Карбонье Ж. Юридическая социоло¬
гия. М., 1986. С. 177—180.
64 Зарудный М. И. Общественный быт
Англии. СПб., 1865. С. 131—143; Федо¬
ров К. Г. История государства и права за¬
рубежных стран. М., 1977. С. 171—178.
65 Ггрнет М. Н. Моральная статистика.
М., 1922. С. 50—97; О преступности
в Англии и во Франции // БдЧ. 1854. № 10.
С. 43—54; Энциклопедический словарь
Русского библиографического института
Гранат. М., 1933. Т. 33. Стб. 375—378;
Alaimo К. Juvenile Delinquency and Hooli¬
ganism // Encyclopedia of European Social
History ... Vol. 3. P. 383—398 ; CockburnJ. S.
Patterns of Violence in English Society:
Homicide in Kent, 1560—1985 // Past and
Present. 1991. Nr 130. February. P. 70—106 ;
Crime in England : 1550—1800 / J. S. Cock-
bum (ed.). London : Methuen, 1977; Curr T. R.
Contemporary Crime in Historical Perspec¬
tive : A Comparative Study of London, Stock¬
holm, and Sydney // Annual of the American
Academy of Political and Social Science.
1977. Nr 434. P. 114—136; Spierenburg P.
Crime // Encyclopedia of European Social
History ... Vol. 3. P. 335—350 ; Zehr H. The
Modernization and Crime in Germany and
France: 1830—1913 // Journal of Social His¬
tory. 1975. Vol. 8, nr 4. P. 117—141.
66 Schrader A. M. Punishment // Encyclo¬
pedia of European Social History ... Vol. 3.
P.413—428.
67От аграрного общества... С. 181—
191 ; Burke Р.: 1) Popular Culture in Early
Modem Europe. New York et al.: Harper
Torchbooks, 1978; 2) Popular Culture //
Encyclopedia of European Social History ...
Vol. 5. P. 3—14; Luria К. P. Belief and
Popular Religion // Ibid. P. 249—262 ; Ram¬
sey A. W. The Reformation of Popular Culture //
Ibid. P. 53—66 ; Religion and Society in Early
Modem Europe: 1500—1800 / K. Greyerz
(ed.). London : German Historical Institute ;
Boston : Allen & Unwin, 1984; Scarre G.
Witchcraft and Magic in Sixteenth and Seven¬
teenth-Century Europe. Atlantic Highlands,
NJ : Humanities Press International, 1987;
Scribner R. W. Popular Culture and Popular
Movements in Reformation Germany. Lon¬
don ; Roncererte : The Hambledon Press, 1987 ;
The History of Popular Culture to 1815 /
N. Cantor, M. S. Werthman (eds.). New York ;
London : The Macmillan Co., 1968 ; Thomas
K. Religion and Decline of Magic : Studies in
Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth
Century England. New York : Scribner, 1971.
68 Вигзеллл Ф. Зарисовки российского
быта XVIII—XIX веков: гадалки и их
клиенты // ОН. 1997. № 1. С. 159—167 ; От
аграрного общества ... С. 187—188 ; ClarkS.
Magic // Encyclopedia of European Social
History... Vol. 5. P. 29—40; Sharpe J. A.
Witchcraft // Ibid. Vol. 3. P. 361—372.
69 Левин И. «Двоеверие» и народная
религия // Американская русистика ...
С. 259—283 ; Огеева О. Г. Религиозность
русских людей в первой четверти XVIII ве¬
ка глазами западноевропейских мемуарис¬
тов: Ю. Юль, Х.-Ф. Вебер // Русская ис¬
тория: проблема менталитета : тезисы док¬
ладов науч. конф., Москва, 4—6 октября
1994 / А. А. Горский (ред.). М., 1994.
С. 102—105 ; Doyle W. The Old European
Order... P. 152—155.
70От аграрного общества... С. 176—
191 ; Монтер У. Ритуал, миф и магия в Ев¬
ропе раннего Нового времени. М., 2003;
Henry J. Science and the Scientific Revoluti¬
on // Encyclopedia of European Social His¬
tory ... Vol. 2. P. 77—94 ; Lehmann H. Secu¬
larization // Ibid. P. 95—100.
71 Занков Д. С. Ведовские процессы
в Западной Европе (конец XV—начало
XVIII веков): дис. ... канд. ист. наук. СПб.,
2006 ; От аграрного общества ... С. 187—
188 ; Scarre G. Witchcraft and Magic in Six¬
teenth and Seventeenth-Century Europe. At¬
lantic Highlands, NJ : Humanities Press Inter¬
national, 1987. P. 25, 30.
72 Poes E. Between the Living and the
Dead : A Perspective on Witches and Seers in
the Early Modem Age. Budapest: Central
European University Press, 1998.
73 Doyle W. The Old European Order ...
P. 152—155.
6Q7
Глава 13. Итоги развития России в период империи
74 Thomas К. Religion and the Decline
of Magic ... P. 661. См. также: Стефано¬
вич П. С Изучение «народной религии»
позднего средневековья и раннего нового
времени в британской историографии (сме¬
на исследовательских парадигм) (обзор) //
Социальные и гуманитарные науки : Оте¬
чественная и зарубежная литература. Сер. 5.
История : реф. журнал. 2001. № 1. С. 31—51.
75 Roger Е. М. Social Change in Rural So¬
ciety : A Text-book in Rural Sociology. New
York: Appleton-Century-Crofts, 1960. P. 208—
209.
76 Каразин В. H. Языческий праздник
в Европе в XIX столетии христианского
летоисчисления // Каразин В. Н. Сочинения,
письма, бумаги. Харьков, 1910. С. 582—
584.
11 Rule J. G. Moral Economy and Lud¬
dism // Encyclopedia of European Social His¬
tory ... Vol. 3. P. 205—216.
78 Ban B. Factory Work // Ibid. Vol. 4.
P. 479—494 ; Cross G. S. Work Time // Ibid.
P. 501—512 ; Shapely P. Work and the Work
Ethic // Ibid. P. 451—466 ; Holt M. P. Festi¬
vals//Ibid. Vol. 5. P. 41—52.
79 От аграрного общества ... С. 173—176,
267—271 ; Pounds N. Standards of Living //
Encyclopedia of European Social History ...
Vol. 5. P. 451—460.
80 Hanagan M. P. Urban Crowds // Ency¬
clopedia of European Social History ... Vol. 3.
P. 217—226 ; Richards M. D. Revolutions //
Ibid. P. 227—252.
81 Дашкова E P. Записки княгини E. P. Даш¬
ковой. M., 1990. C. 480.
82 Кони А. Ф. Воспоминания о писате¬
лях. M., 1989. С. 535.
83 Маслов П. Аграрный вопрос в России.
Т. 2: Кризис крестьянского хозяйства
и крестьянское движение. СПб., 1908. С. 73.
84 Мандэй К Ле-Плэ в России //
Вопросы статистики. 1999. № 12.
85 Боборыкин П. Д. Воспоминания : в 2 т.
М., 1965. Т. 2. С. 414.
86 Бердяев Н. А. Духи русской
революции. С. 251.
87Цит. по: Козлова Я Я. Социально¬
историческая антропология. М., 1998. С. 7.
88 Набоков В. В. Лолита: Исповедь
Светлокожего Вдовца. М., 1998. Амери¬
канский историк русского происхождения
М. Левин считает, что русские крестьяне в
1900—1920-е гг. жили примерно как фран¬
цузские крестьяне в XVI в.: Lew in М. The
Making of the Soviet System : Essays in the
Social History of Interwar Russia. New York:
Pantheon Books, 1985. P. 52.
89От аграрного общества... С. 3—6,
62—63, 188—191, 230—233, 419 ; Хачату¬
рян Я А., Хачатурян В. М. Средневековая
культура России и Западной Европы: иден¬
тичность и расхождение // Цивилизация.
1995. № 3. С. 62—79 ; Agnew J. Principles of
Regionalism // Encyclopedia of European So¬
cial History ... Vol. 1. P. 243—256 ; Wade R.
Russia and the East Slavs // Ibid. P. 405—420.
Американский ученый Джарет Даймонд
доказывает, что асимметрия в развитии
разных частей света является нормой.
Асимметрию обусловливает множество ес¬
тественных факторов: среда обитания, кли¬
мат, наличие пригодных для одомашни¬
вания животных и растений, очертания
и размер континентов. Изначальные усло¬
вия для развития сельского хозяйства и жи¬
вотноводства в Евразии были значительно
лучше, чем в Африке или Австралии.
Больший прогресс народов евразийского
происхождения автор объясняет также тех¬
нологическим превосходством («ружья и
сталь») и устойчивостью к эпидемическим
заболеваниям («микробы»): Даймонд Дж.
Ружья, микробы и сталь : Судьбы челове¬
ческих обществ. М., 2010.
90 Милюков Я. Я. Воспоминания : в 2 т.
М., 1990. Т. 1. С. 158. См. также: Павлов-
Силъванский Я Я. Феодализм в Древней
Руси. М.; Пг, 1923. С. 181—186; Каре-
ев Я. В каком смысле можно говорить
о существовании феодализма в России : По
поводу теории Павлова-Сильванского.
СПб., 1910. С. 137—145.
91 Black С. Е. The Modernization of Rus¬
sian Society // The Transformation of Russian
Society: Aspects of Social Change since 1861 /
С. E. Black (ed.). Cambridge, MA : Harvard
University Press, 1960. P. 679.
698
Примечания
92 Павлов-Силъванский К П. Феодализм
в России. М., 1988; Пресняков А. Е.:
1) Княжое право в Древней Руси. СПб.,
1909 ; 2) Лекции по русской истории : в 2 т.
М., 1938. Т. 1 ; 3) Образование великорус¬
ского государства. Пг., 1918 ; Фроянов И. Я:.
1) Древняя Русь: Опыт исследования со¬
циальной и политической борьбы. СПб.,
1995 ; 2) Киевская Русь: главные черты со¬
циально-экономического строя. СПб., 1999.
93 Точка зрения о европейской траек¬
тории России нашла свое воплощение в не¬
давней фундаментальной книге известного
немецкого историка Манфреда Хильдер-
майера «История России: от Средневековья
до Октябрьской революции»: Hildermeier М.
Geschichte Russlands: Vom Mittelalter bis zur
Oktoberrevolution. Leinen : С. H. Beck, 2013.
1504 S. На русском языке этому посвящена
статья: Хилъдермайер М. Российский «дол¬
гий XIX век»: особый путь» европейской
модернизации? // AI. 2002. № 1. С. 85—101.
94 См., например: Longworth Ph. Russia :
The Once and Future Empire from Prehistory
to Putin. New York : St. Martin’s Press, 2006.
95 Некоторые исследователи называют
это различие по-другому, не изменяя смыс¬
ла: «разновозрастностью» России и Европы
или российского и западноевропейского
суперэтносов, «разными в историческом
возрасте» между Россией и ее европейс¬
кими соседями, «разными хронологичес¬
кими порядками»: Гаман-Голутвина О. В.
Политические элиты России : Вехи исто¬
рической эволюции. М., 2006. С. 22—23.
96 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм
в России; Пресняков А. Е. Лекции по
русской истории. Т. 1 ; Фроянов И. Я.
Киевская Русь ...
97 Считая 1300 г. ориентировочным го¬
дом появления сословно-представительных
учреждений в германских княжествах.
98
Человеческий капитал — это богатст¬
во в форме знания или идей, совокупность
интеллектуальных способностей, образован¬
ности, умений, навыков, моральных качеств,
квалификационной подготовки индивидов,
которые используются или могут быть
использованы в трудовой деятельности.
99 Ввиду уточнения данных и изменения
методики подсчета, оценки ИЧР за более
ранние годы постоянно изменяются. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%
E5%EA%F1 (дата обращения: 25.08.2014).
100 Россия между прошлым и буду¬
щим : Сравнение показателей политичес¬
кой культуры населения 22-х стран Европы
и Северной Америки / В. О. Рукавишников,
Л. Халман, П. Эстер, Т. П. Рукавишнико¬
ва // Социс. 1995. № 5. С. 75—90 ; Поли¬
тические культуры и социальные измене¬
ния: международные сравнения / В. О. Ру¬
кавишников, Л. Халман, П. Эстер, Т. П. Ру¬
кавишникова. М., 1998. См. также: Срав¬
нительная политология сегодня : Мировой
обзор : учеб, пособие / Г. Алмонд и др.;
М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль (ред.). М.,
2002. С. 84—88 ; Баталов Э. Я. Советская
политическая культура (к исследованию
распадающейся парадигмы) // Обществен¬
ные науки и современность. 1995. № 3.
С. 60—70; Назаров М. М Политическая
культура российского общества 1991—
1995 гг.: опыт социологического исследо¬
вания. М., 1998 ; Пивоваров Ю. С. Поли¬
тическая культура пореформенной России.
М., 1994 ; Щербинина Н. Г. Архаика в рос¬
сийской политической культуре / Полис.
1997. №5. С. 127—139.
101 Hedlund S. Russian Path Dependence.
London ; New York : Routledge, 2005.
102 Коткин С. Новые времена: со¬
ветский союз в межвоенном цивилизацион¬
ном контексте // Мишель Фуко и Россия /
О. Хархордин (ред.). СПб.; М., 2001.
С. 282—287.
103 Каменский А. Б. От Петра I до Пав¬
ла I: Реформы в России XVIII в.: Опыт
целостного анализа. М., 1999.
104 Подробнее см. в гл. 9 «Общество,
государство, общественное мнение» наст,
изд.
105 Полтерович В. М. Стратегии модер¬
низации, институты и коалиции // ВЭ. 2008.
№ 4. С. 4—24.
106 Нуреев Р. М, Латов Ю. В. Инсти¬
туциональные ограничения догоняющего
развития императорской России // Эконо¬
699
Глава 13. Итоги развития России в период империи
мический вестник Ростовского гос. ун-та.
2007. Т. 5, № 2. С. 80—99.
107 Миронов Б. Н. История в цифрах :
Математика в исторических исследовани¬
ях. Л., 1991. С. 82.
108 Подробнее см. в гл. 8 «Государст¬
венность и государство» наст. изд.
109 Лехнович В. С. К истории культуры
картофеля в России // Материалы по ис¬
тории земледелия в СССР. Сб. 2 : К исто¬
рии отдельных культурных растений
СССР. М.; Л., 1956. С. 322, 364; Ма¬
териалы комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 176—
177. См. также: Бутов А. В. Интродукция
картофеля в России и культура его в со¬
временных условиях. Елец, 2010.
110 Дискуссионный вопрос о целесооб¬
разности данной стратегии в российских
условиях начала 1990-х гг. не является
предметом моего анализа.
111 Лященко П. И. История народного
хозяйства СССР : в 2 т. 4-е изд. М., 1956.
Т. 2. С. 92—93, 101—104. Только в 1862—
1863 гг. наблюдался значительный крат¬
ковременный спад промышленного произ¬
водства: Смирнов С. В. Динамика про¬
мышленного производства и экономичес¬
кий цикл в СССР и России, 1861—2012 //
ВЭ. 2013. № 6. С. 151 ; Струмилин С. Г.
Очерки экономической истории России
и СССР. М., 1966. С. 434. См. дискуссию
относительно темпов развития промыш¬
ленности в пореформенный период: Бока¬
рев Ю. П.\ 1) Темпы роста промышленного
производства в России в конце XIX—на¬
чале XX в. // Экономический журнал. 2006.
№ 1. С. 158—190 ; 2) Еще раз о темпах
роста промышленного производства в Рос¬
сии в конце XIX—начале XX века // ОИ.
2006. № 1. С.) 131—141 ; Бородкин Л. И.
Дореволюционная индустриализация и ее
интерпретации // Экономическая исто¬
рия : обозрение. М., 2006. Вып. 12.
С. 184—200; Грегори П. Поиск истины
в исторических данных // Экономическая
история, 1999: ежегодник. М., 1999.
С. 471—500.
112 Миронов Б. Н. Благосостояние насе¬
ления и революции в имперской России:
XVIII—начало XX века. 2-е изд., испр.,
доп. М., 2012. С. 512, 523.
113 Гайдар Е. Долгое время : Россия
в мире: Очерки экономической истории.
2-е изд. М., 2005. С. 381.
114 Статистический ежегодник России,
2012. М., 2013. С. 32,35—36.
115 Сакс Дж. Порочное зачатие капита¬
лизма в России // Новое время. 1997. № 49.
С. 14. Не все с ним согласны: Тишков В. А.
Отрицание России // 03. 2005. № 1 (22).
C. 240—252. По мнению Тишкова, нега¬
тивные последствия реформ преувеличены,
а позитивные — недооценены, в частности
уровень жизни повысился (это подтвержда¬
ется и статистикой). Можно добавить, что
число самоубийств на 100 тыс. населения
с 1989 по 2010 г. (после кратковременного
роста до 1994 г.) снизилось в 1,6 раза.
116 Березовский Б. А. Интервью Радио
Свобода. 24.12.2010. URL: http://www.svo-
bodanews.ru/content/article/2257908.html (да¬
та обращения: 23.09.2013).
117 См., например: Российская модерни¬
зация: размышляя о самобытности / Э. А. Па¬
йн, О. Д. Волкогонова (ред.). М., 2008.
Тотальный пессимизм пронизывает почти
все статьи, входящие в сборник. Авторы не
видят оснований для оптимизма ни в прош¬
лом, ни в настоящем, ни в будущем. Пер¬
спективы перехода от фрагментарной мо¬
дернизации к целостной представляются
редакторам и всему коллективу крайне
ничтожными. См. также: Нуреев Р. М.,
Латов Ю. В. Институциональные ограни¬
чения ... С. 80—99 ; Новиков А. В. Нацио¬
нальный экономический менталитет в кон¬
тексте российских реформ : ист.-экон. очерк.
СПб., 2006.
118 Новый мейнстрим в западной исто¬
риографии поддерживает оптимистичес¬
кую тональность в оценках успехов рос¬
сийской модернизации периода империи:
Большакова О. В. Российская империя:
Система управления (современная зару¬
бежная историография): аналитический
обзор. М., 2003. С. 47; Imperial Russia:
New Histories for the Empire / J. Burbank,
D. L. Ransel (eds.). Bloomington ; Indianapo¬
700
Примечания
lis : Indiana University Press, 1998 ; Moderni¬
zation in Russia since 1900 / M. Kangaspuro,
J. Smith (eds.). Helsinki: Julkaisuvuosi,
2006; Modernization in the Russian Pro¬
vinces : Special issue of Studia Slavica
Finlandensia / N. Baschmakoff, P. Fryer
(eds.). Helsinki, 2000; Modernizing Mus¬
covy : Reform and Social Change in the Sev¬
enteenth Century Russia / J. Kotilane, M. Po
(eds.). London ; New York : Routledge, 2004 ;
Russia and Western Civilization: Cultural and
Historical Encounters / R. Bova (ed.). Ar-
monk, NY : M. E. Sharpe, 2003 ; Russia in the
Age of Enlightenment: Essays for Isabel de
Madariaga / R. Bartlett, J. Hartley eds.). New
York : St. Martin’s Press, 1990 ; Russia in the
European Context 1789—1914 : A Member of
the Family / S. P. McCaffray, M. Melancon.
New York : Pal grave Macmillan, 2005 ; Rus¬
sian and the West: A Century of Dialogue in
Painting, Architecture, and the Decorative
Arts / R. P. Blakesley, S. E. Reid (eds). De-
Kalb, 111. : Northern Illinois University Press,
2007 ; Russian Modernity: Politics, Know¬
ledge, Practices / D. L. Hoffmann, Y. Kotsonis
(eds.). Houndsmills : Macmillan Press Ltd ;
New York : St. Martin’s Press, 2000.
119 Алексеева E. B. \ 1) Европейская
культура в имперской России: проникно¬
вение, распространение, синтез. Екатерин¬
бург, 2006 ; 2) Диффузия европейских ин¬
новаций в России (XVIII—начало XX вв.).
М., 2007. О диффузии инноваций см:.
«Вводя нравы и обычаи Европейские в Ев¬
ропейском народе» : К проблеме адаптации
западных идей и практик в Российской
империи : Сборник на основе материалов
конференции «XVIII век. Трансфер и адап¬
тация европейских идей в российском ис¬
торическом контексте», Москва, 16—
17 июня 2006 г. / А. В. Доронин (сост.). М.,
2008 ; Феномен реформ на Западе и Вос¬
токе Европы в начале Нового времени
(XVI—XVIII вв.) / М. М. Кром, Л. А. Пи¬
менова (ред.). СПб., 2013.
120 Травин Д., Маргарин О. Европейская
модернизация : в 2 кн. СПб., 2004. Кн. 1.
С. 91; Кива А. В. Китайская модель реформ //
ВИ. 2002. №5. С. 34—51.
121 Алексеев С. Н. Самый полный об¬
щедоступный словотолкователь и объяви¬
тель 150 000 иностранных слов, вошедших
в русский язык, с подробным, всесторон¬
ним исследованием о значении и понятии
каждого слова... 10-е изд. М., 1909;
Даль В. И. Толковый словарь живого вели¬
корусского языка : в 4 ч. 3-е изд. / И. А. Бо¬
дуэн де Куртенэ (ред.). СПб., 1903—1911 ;
Карпухин С. Сколько слов в русском
языке? URL: http://nauka.relis.ru/27/0411/
27411048.htm (дата обращения 14.12.2013).
Число слов в современном русском языке
неизвестно, так как подготовка 2-го изд.
Большого академического словаря в 20 то¬
мах после 4-го тома, вышедшего в 1993 г.,
остановилась. В 17-томном 1-м изд. зафик¬
сировано 131 257 слов: Словарь современ¬
ного русского литературного языка : в 17 т.
М., 1954—1965. Однако способы учета
слов в словарях и методики подсчета их
числа весьма разнообразны и не дают
адекватного представления о богатстве
языка, особенно при международных
сравнениях. В современном английском
языке насчитывается свыше 1 млн слов,
в русском языке — более 750 тыс. URL:
http://aillarionov.livejoumal.com/138205.html
(дата обращения: 14.12.2013). Без указания
на источник петербургский ученый ука¬
зывает, что в русском языке на долю
заимствований английских терминов в нау¬
ке и технике достигает 90 % (Рязанов В. Т.
Хозяйственный строй России: на пути
к другой экономике. СПб., 2009. С. 87).
122 Модернизация: зарубежный опыт
и Россия / В. А. Красильщиков и др. М.,
1994. С. 70—74.
123 Данилевский Н. Я. Россия и Европа :
Взгляд на культурные и политические от¬
ношения славянского мира к Германо-Ро¬
манскому. 4-е изд. М., 1889. С. 513—558;
Ильин В. В. Политология. М., 2001.
С. 334—341 ; Шаповалов В. Ф. Россиеве¬
дение. М., 2001. С. 332—362.
124 Вебер М Избр. произведения. М.,
1990. С. 393.
125 См., например: Уткин А. И. Россия
и Запад: История цивилизаций. М., 2000;
701
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
Филюшкин А. Изобретая первую войну
России и Европы : Балтийские войны вто¬
рой половины XVI века глазами совре¬
менников и потомков. СПб., 2013. С. 291—
332 ; Billington J. Н. Russia in Search of It¬
self. Washington, DC: Woodrow Wilson
Press : Johns Hopkins University Press, 2004 ;
Malta M. Russia under Western Eyes : From the
Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum.
Cambridge, MA: Harvard University Press,
1999 ; Lieven D. Empire : The Russian Empire
and its Rivals. London : John Murray, 2000;
Poe M. A People Bom to Slavery : Russia in
Early Modem European Ethnography, 1476—
1748. Ithaca, NY : Cornell University Press,
2000.
126 Вульф. Л. Изобретая Восточную Ев¬
ропу : Карта цивилизации в сознании эпохи
Просвещения. М., 2003. С. 516—541. По¬
добным образом другой американский
интеллектуал и политический активист
палестинского движения Эдвард Вади Саид
(1935—2003) в 1978 г. в своей ставшей
знаменитой книге показал, что Запад
всегда имел дело не только с Востоком как
таковым, сколько с тем вторичным по
своей сути образом Востока, который
создал сам для своих нужд — с системой
репрезентаций; изобретение отсталого Вос¬
тока служило средством господства Запада
над Азией: Саид Э. В. Ориентализм : За¬
падные концепции Востока. СПб., 2006.
127 Нойманн И. Использование «Дру¬
гого» : Образы Востока в формировании
европейских идентичностей. М., 2004.
128 Лабутина Т. Л. Англичане в допет¬
ровской России. СПб., 2012. С. 261. Нега¬
тивные оценки русских встречаются уже
в европейских хрониках XII—XIII вв., где
они предстают как дикие, неблагородные,
необразованные люди, тяготеющие к обще¬
нию с язычниками: Концепции и оценки
развития России (XX—начало XXI в.)
в зарубежных исследованиях / Ю. И. Иг-
рицкий (ред.). М., 2010. С. 184, 315—316.
129 Филюшкин А. И. Изобретая первую
войну ... С. 299—330. См. интересные
соображения на этот счет: Станциани А.
Взаимное сравнение и история : Некоторые
предложения, подсказанные изучением
российского материала // AI. 2011. № 4.
С. 35—57.
130 Агеева О. Г. От Московского
царства к Всероссийской империи: акт
поднесения императорского титула 22 ок¬
тября (4 ноября) 1721 года // 1150 лет Рос¬
сийской государственности и культуры:
Материалы к Общему собранию Российс¬
кой академии наук, посвященному Году
российской истории (Москва, 18 декабря
2012 г.) / А. П. Деревянко, В. А. Тишков
(ред.). М., 2013. С. 117—119 ; Пашкин В. Н.
Учебник истории русского права периода
империи (XVIII и XIX ст.). СПб., 1909.
С. 270.
131 Щукин В. Г. Запад как пространство
«романтического побега» : (Замогильные
записки Владимира С. Печерина) // Из ис¬
тории русской культуры : в 5 т. Т. 5 : XIX
век / Б. Ф. Егоров, А. Д. Кошелев (сост.).
М., 1966. С. 559—573.
132 См., например: «Я берег покидал
туманный Альбиона...» : Русские писатели
об Англии: 1646—1946. М., 2001.
133 Пример использования функций
«темного и светлого двойника» см.: Fogle-
song D. S. The American Mission and the
«Evil Empire» : The Crusade for a «Free Rus¬
sia» since 1881. Cambridge : Cambridge Uni¬
versity Press, 2007 (см. интересную рецен¬
зию В. И. Журавлевой: Новый истори¬
ческий вестник. 2009. № 2); Купцова И. В.
Образ Германии в сознании российской
художественной интеллигенции в годы
Первой мировой войны // Клио. 2012. № 5
(65). С. 68—71 ; Ладыгин А. В. Образ Гер¬
мании в сознании российского общества
в 1870—1890 гг. (по материалам прессы):
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатерин¬
бург, 2010.
134 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М,
2003 ; Джекобе Д. Закат Америки : Впе¬
реди Средневековье. М., 2006 ; Kroes R.
America, Americanization, and Anti-Ame¬
ricanism // Encyclopedia of European Social
History ... Vol. 1. P. 523—532; Мейсан T.
11 сентября 2001 года: Чудовищная махи¬
нация. 2-е изд. М., 2003.
702
Примечания
135 Грюн И. Миф о демократии в Вос¬
точной Европе (Регенсбургский универси¬
тет, Германия, 25—27 октября 2002 г.) //
НЛО. 2002. № 58. С. 436.
136 Андреев А. Л. Образ России и образ
Запада в сознании россиян (середина
1990-х—2007 годы) // Историческая психо¬
логия и социология истории. 2009. Т. 2,
№ 1.С. 110—128.
137 URL:http://news.bigmir.net/world/875464-
Negativnoe-otnoshenie-rossijan-k-SShA-i-ES-
dostiglo-rekordnogo-znachenija- (дата обра¬
щения: 12.06.2015). Согласно опросу «Ле¬
вада-Центра», проведенному 23—26 января
2015 г. по репрезентативной всероссийской
выборке городского и сельского населения
среди 1600 человек в возрасте 18 лет
и старше в 134 населенных пунктах 46 ре¬
гионов страны. Статистическая погреш¬
ность данных не превышает 3,4 %. В пер¬
вой половине 2015 г. рост негативного
отношения к США и Европейскому союзу
прекратился, но сохраняется на высоком
уровне — 73 и 59 % соответственно. URL:
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/58263
89.html (дата обращения: 12.06.2015).
138 Дискурс ислама, России и Востока
рассмотрен в кн.: Батунский М. А. Россия
и ислам : в 3 ч. М., 2003.
139 Вебер М. Избр. произведения. С. 406.
140 Ермолов А. С. Наш земельный
вопрос. СПб., 1906. С. 35—60, 264—276.
141 «Белые воротнички» (учителя, со¬
циальные работники, юристы, психологи,
библиотекари и т. п.) современной поли¬
тологии рассматриваются как агрессивные
профессии: Huret R. All in the Family
Again? : Political Historians and the Chal¬
lenge of Social History // Journal of Policy
History. 2009. Vol. 21, nr 3. P. 239—263.
142 См. табл. 2.47 и 2.48 в гл. 2 «Со¬
циальная стратификация и социальная мо¬
бильность» наст. изд.
143 Мелехов А. М. Колючий треу¬
гольник. СПб., 2013. С. 18, 20.
144 См. критику формационной концеп¬
ции: Бокарев Ю. Г1. Проблемы сравни¬
тельно-исторических исследований // Исто¬
рико-экономический альманах / Д. Н. Пла¬
тонов (сост.). М., 2004. Вып. 1. С. 7—33 ;
Крадин И. Н. Проблемы периодизации
исторических макропроцессов // История
и Математика: Модели и теории / Л. Е. Гри¬
нин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков (ред.).
М., 2008. С. 166—170. Защита концепции:
Семенов Ю. И. Философия истории : (Об¬
щая теория, основные проблемы, идеи
и концепции от древности до наших дней).
М., 2003. С. 125—150, 425—508.
145 Книги самого известного из них пе¬
реведены на русский язык и стали попу¬
лярными уже в постсоветское время: Хобс-
баум Э.: 1) Век революции, 1789—1848.
М., 1999 ; 2) Век капитала, 1848—1875. М.,
1999; 3) Век империи, 1875—1914. М.,
1999; 4) Эпоха крайностей : Короткий
двадцатый век, 1914—1991. М., 2004. См.
также: Рюде Г. Народные низы в истории,
1730—1848. М., 1984.
146 Цит. по: Крадин И. Н. Проблемы
периодизации ... С. 178.
147 Toynbee A. A Study of History. New
York : Weathervane Books, 1979. P. 43, 72;
Тойнби А. Д. Постижение истории : изб¬
ранное. M., 2001. С. 82—85 ; Гумилев Л. Н.
Этногенез и биосфера земли. 2-е изд. Л.,
1989. С. 328.
148 Данилевский Н. Я. Россия и Европа.
М., 1991. С. 92, 106—107.
149 Гумилев Л. Н. Этногенез ... С. 328.
150 Рашковский Е. Целостность и мно-
гоединство российской цивилизации // Об¬
щественные науки и современность. 1995.
№ 5. С. 64, 67.
151 Данилевский Н. Я. Россия и Европа.
С. 479.
152 Гумилев Л. Н. Этногенез ... С. 327—
328.
153 От аграрного общества... С. 71—
74, 172.
154 Анохин Г. И. Общинные традиции
норвежского крестьянства. М., 1971. С. 167,
184, 190; Блок М. Характерные черты
французской аграрной истории. М., 1957.
С. 77—104 ; Котельникова Л. Л. Крестьян¬
ская община // История крестьянства в Ев¬
ропе. Т. 2 : Эпоха феодализма / 3. В. Удаль¬
цова (ред.). М., 1986. С. 476—492 ; Кото¬
703
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
ва Л. В. Социальная организация и содер¬
жание общинного самоуправления в Гер¬
мании XIV—XV вв. // Классы и сословия
средневекового общества. С. 150—154;
Рогиер В. Наука о народном хозяйстве
в отношении к земледелию и другим от¬
раслям первоначальной промышленности.
М, 1869. С. 234—237 ; Эшли У. Дж. Эко¬
номическая история Англии в связи с эко¬
номической теорией. М., 1897. С. 37—48 ;
Иеу D. An English Rural Community:
Myddle Under Tudor and Stuart. Leicester:
Leicester University Press, 1974; Le Roy-
Ladurie E.: 1) The Peasant of Languedoc. Ur-
bana, 111. et al.: University of Illinois Press,
1974 ; 2) The French Peasantry: 1450—1660.
Berkeley ; Los Angeles: University of Cali¬
fornia Press, 1987 ; Lis C, Soly H. Neighbor¬
hood Social Change in West European Ci¬
ties // International Review of Social History.
1993. Nr 38. P. 1—30.
155 Рошер В. Наука о народном хозяйст¬
ве... С. 234—237.
156 Малия М. Non possumus // 03. 2004.
№ 5 (20). С. 267. См. также: Малия М. Рос¬
сия и Запад: Прошлое и настоящее //
В раздумьях о России (XIX в.) / Е. Л. Руд¬
ницкая (ред.). М., 1996.
157 Маккенни Р. XVI век: Европа: Экс¬
пансия и конфликт. М., 2004 ; Hsia R. P.-Ch.
The Protestant Reformation and the Catholic
Reformation // Encyclopedia of European So¬
cial History ... Vol. 1. P. 153—164 ; Martin J.
The Renaissance // Ibid. P. 143—152.
158 Лихачев Д. С. Прошлое — будуще¬
му. Л., 1985. С. 311—324.
159 Смирнов И. Я. Мегаистория : К ис¬
торической типологии культуры. М., 2000.
С.325.
160 Российская многонациональная ци¬
вилизация : Единство и противоречия /
В. В. Трепавлов (ред.). М., 2003 ; Россия
как цивилизация : Устойчивое и изменчи¬
вое / И. Г. Яковенко (ред.). М., 2007.
161 Ерасов Б. С. Цивилизации : Универ¬
салии и самобытность. М., 2002. С. 435—
441.
162 Попытки подобной ревизии концеп¬
ции локальной цивилизации уже делаются:
Сухарев М. В. Движение цивилизаций:
Россия и Запад // Полис. 2005. № 1. С. 72—
93.
163 Американская цивилизация как ис¬
торический феномен: восприятие США
в американской, западноевропейской и рус¬
ской общественной мысли / Н. Н. Болхо¬
витинов (ред.). М., 2001 ; Согрин В. В. Ар¬
хетипы и факторы цивилизации США II
США и Канада: экономика, политика, куль¬
тура. 2009. № 5. С. 3—22.
164 См., например: Кагарлицкий Б. Пе¬
риферийная империя: Россия и миросис-
тема. 3-е изд. М., 2012. С. 239—404.
165 Милюков П. Н. Крестьяне: История
крестьян в России до освобождения
(1861 г.) // Энциклопедический словарь /
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1895.
Т. 32. С. 693—695 ; Историческое обоз¬
рение 50-летней деятельности Министер¬
ства государственных имуществ, 1837—
1887 : в 5 ч. СПб., 1888. Ч. 2. Отд. 1, 2; Ч. 4.
Отд. 1.
166 Норт Д. Институты, институцио¬
нальные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 109—136.
167 Революции как побочный продукт
успешной модернизации происходили и в
Европе, и в Азии: Стародубровская И. В.,
May В. А. Великие революции : От Кром¬
веля до Путина. 2-е изд. М., 2004. С. 39—
40 ; Brinton С. The Anatomy of Revolution:
Revised and Expanded Edition. New York:
Vintage Books, 1965. P. 60 ; Huntington S. P.
Political Order in Changing Societies. Prince¬
ton : Yale University Press, 1968. P. 51;
McDaniel T. Autocracy, Modernization and
Revolution in Russia and Iran. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1993 ; Olson M.
Rapid Growth as a Destabilizing Force //
When Men Revolt and Why / J. C. Davies
(ed.). 2nd ed. New Brunswick: Transaction
Publishers, 1997. P.216.
168 Бородкин Л. И. Нелинейная модель
стачечного движения: анализ эффектов
самоорганизации // Круг идей: электрон¬
ные ресурсы исторической информатики /
Л. И. Бородкин и др. (ред.). М.; Барнаул,
2003. С. 434—490; Андреев А. Ю. и др.
704
Примечания
Методы синергетики в изучении динамики
курсов акций на Петербургской бирже
в 1900-х гг. // Круг идей: историческая
информатика в информационном общест¬
ве / Л. И. Бородкин и др. (ред.). М., 2001.
С. 68—110.
169 Валлерстайн И. Россия и капиталис¬
тическая мир-экономика // Свободная мысль.
1996. №5. С. 37—38.
170 Fogel R. Railroads and American
Econometric Growth: Essays in Economic
History. Baltimore: Johns Hopkins Press,
1964.
171 Такой же примерно точки зрения
придерживается немецкий историк: Бай-
рау Д. Бахус в России // П. А. Зайончков-
ский, 1904—1983 гг.: статьи, публикации
и воспоминания о нем / Л. Г. Захарова и др.
(ред.). М., 1998. С. 372.
172 Тош Дж. Стремление к истине : Как
овладеть мастерством историка. М., 2000.
С. 170—184. Прямое осуждение постмо-
дернисткого подхода, известного как «лин¬
гвистический поворот», см.: Palmer В. D.
Descent into Discourse: The Reification of
Language and the Writing of Social History.
Philadelphia: Temple University Press, 1990.
Более взвешенную оценку см.: Berkhofer Я F.
Beyond the Great Story : History as Text and
Discourse. Cambridge, Mass.: Belknap Press,
1995. См. также: Carrol N. Tropology and
Narration // History and Theory. 2000. Vol. 39.
P. 396—404 ; Martin R. History as Moral Re¬
flection // Ibid. P. 405—416; Heehs P.
Shaped Like Themselves // Ibid. P. 417—
427 ; Жук С. К Заметки о современной
американской историографии // ВИ. 1995.
№ 10. С. 162—167.
173 Материалы дискуссии о «поворотах»
в ведущем американском журнале «Ame¬
rican Historical Review» см. в реферате
Ю. В. Дунаевой: Социальные и гуманитар¬
ные науки: Отечественная и зарубеж¬
ная литература. Сер. 5. История: реф.
журнал. 2013. № 3. С. 229—243. См. также
интересную дискуссию на конференции
«Может ли история быть объективной?»:
Новая и новейшая история. 2012. № 3.
С. 3—40.
174 Лубский А. В. Альтернативные мо¬
дели исторического исследования: концеп¬
туальная интерпретация : социально-фило¬
софское исследование : дис. ... д-ра фило¬
соф. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 354—358.
URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/220378.
html.
175 Струмилин С. Г. Из итогов одной
анкеты // Струмилин С. Г. Избр. произве¬
дения : в 5 т. М., 1963. Т. 1 : Статистика
и экономика. С. 168.
176 Кром М. М. К вопросу о времени
зарождения идеи патриотизма в России //
Мировосприятие и самосознание русского
общества (XI—XX вв.) / Л. Н. Пушкарев
(ред.). М., 1994; Агеева О. К вопросу
о патриотическом сознании в России пер¬
вой четверти XVIII в. // Там же. С. 38—50 ;
Smith S. A. Citizenship and the Russian Nation
during World War I : A Comment // Slavic
Review. 2000. Vol. 59, nr 2. Summer.
P. 267—289 ; Sanborn J. The Mobilization of
1914 and the Question of the Russian Nation:
Re-examination // Slavic Review. Ibid.
P. 330—335 ; Seregny S. J. Peasants, Nations,
and Local Government in Wartime Russia //
Ibid. P. 336—342.
177 Буслаев Ф. И. Историческая грам¬
матика русского языка. М., 1959. С. 267—
268.
178 Миронов Б. Н. История в цифрах ...
С. 89.
179 Наумова Н. Ф. Рецидивирующая мо¬
дернизация в России: беда, вина или ресурс
человечества? М., 1999; Филатов В. П.
Особенности либерализации и модерниза¬
ции России во второй половине XIX—
начале XX вв. в контексте европейского
развития // Историко-экономические иссле¬
дования. 2006. Т. 7, № 2. С. 57—76.
180 Реформы и контрреформы в Рос¬
сии: циклы модернизационного процесса /
В. В. Ильин (ред.). М., 1996 ; Пантин В. И.
Волны и циклы социального развития:
Цивилизационная динамика и процессы
модернизации. М., 2004; Пантин В. И.,
Лапкин В. В.: 1) Волны политической
модернизации в истории России : (К об¬
суждению гипотезы) // Проблемы и суж¬
705
Глава 13. Итоги развития России в период империи
дения. 1998. № 2. С. 39—51 ; 2) Философия
исторического прогнозирования: ритмы ис¬
тории и перспективы мирового развития
в первой половине XXI века. Дубна, 2006 ;
Розов Н. С. Цикличность российской по¬
литической истории как болезнь: возможно
ли выздоровление? // Полис. 2006. № 2.
С. 74—89.
181 Согрин В. В. Исторический опыт
США. М., 2010. С. 286—300, 356—394,
476—523 ; Согрин В. ВЗверева Г. И.у Ре¬
пина Л. П. Современная историография
Великобритании. М., 1991. С. 182—207;
Шлезингер А. М. Циклы американской
истории. М, 1992. С. 41—77.
182 Ключевский В О. Западное влияние
в России XVII в. (историко-психологичес¬
кий очерк). М., 1897.
183 Орленко С. П. Выходцы из Западной
Европы в России XVII века (правовой ста¬
тус и реальное положение). М., 2004. С. 52.
См. также: Ковригина В. А. Немецкая сло¬
бода Москвы и ее жители в конце XVII—
первой четверти XVIII в. М., 1998 ; Опа¬
рина Т. А. Иноземцы в России XVI—
XVII вв.: Очерки исторической биографии
и генеалогии. М., 2007.
184 В книге А. А. Пецко сделана попыт¬
ка систематизировать научные сведения
о крупных российских достижениях с древ¬
нейших времен до наших дней. Выявлено
более 1000 достижений мирового уровня,
показаны 112 географических открытий,
около 400 изобретений, 176 космических
первенств, порядка 400 научных достиже¬
ний (научные открытия, основания теорий,
систем, учений, открытие законов), более
200 приоритетов в создании прорывных
технологий и других областях: Пецко А. А.
Великие русские достижения: Мировые
приоритеты русского народа. М., 2012.
Среди них десятичный принцип денежного
счета, Периодическая таблица химических
элементов Д. И. Менделеева, гусеничный
трактор, генератор переменного тока, без¬
отвальная система обработки почвы, спут¬
ник и т. д.
185 По мнению, например, Е. Кингстон-
Манн, Россия обычно заимствовала плохие
вещи от плохих соседей, вследствие чего
следовала модели «принудительной модер¬
низации» от Петра до большевиков и даль¬
ше до Ельцина, постоянно игнорируя более
пригодные для нее и гуманные модели раз¬
вития. Интеллектуальная история, в осо¬
бенности экономической мысли, в европей¬
ском контексте с XVIII в. до XX в.: King-
ston-Mann Е. In Search of the True West:
Culture, Economics, and Problems of Russian
Development. Princeton : Princeton Univer¬
sity Press, 1999.
186 Gil Us J. R. The Development of Euro¬
pean Society ... P. XI—XVI.
187 Побережников И. В. Пространствен¬
но-временная модель в исторических рекон¬
струкциях модернизации : автореф. дис. ...
д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 32.
188 В частности, Побережников предло¬
жил рассматривать российскую модерни¬
зацию как фронтирную. К числу ее особен¬
ностей он относит: «незавершенность ос¬
воения территории; большую подвижность
населения; особую роль военного элемен¬
та; повышенную значимость транспортного
фактора; усиление гетерогенности в со¬
циальном, экономическом, культурном от¬
ношениях; причудливое переплетение тра¬
диции и новации в производственной, со¬
циально-институциональной, управленчес¬
кой сферах; формирование анклавно-конг¬
ломератной пространственной структуры»:
Побережников И. В. Пространственно-
временная модель ...
189 Дэвис Н. История Европы. М., 2005.
С. 9, 17.
190 См., например; Кобзева С., Халту¬
рина Д., Коротаев А.у Качков Д. Имидж
России в мире: количественный и качест¬
венный анализ // Полис. 2009. № 5. С. 128—
140 ; Малинова О. Ю. Дискурс о России
и «Западе» в 1920—1930-х годах : Попытки
переопределения коллективной идентич¬
ности в новой системе координат // Космо¬
полис. 2008. № 2 (21). С. 32—53.
191 Ливен Д. Российская империя...
С. 635, 643.
192 Ауст М.у Вулъпиус Р., Миллер А.
Предисловие : Роль трансферов в формиро¬
706
Примечания
вании образа и функционирования Рос¬
сийской империи // Imperium inter pares:
роль трансферов в истории российской
империи (1700—1917) / М. Ауст, Р. Вуль-
пиус, А. Миллер (ред.). М., 2010. С. 5—13 ;
Ауст М. Россия и Великобритания : Внеш¬
няя политика и образы империи от
Крымской войны до Первой мировой
войны // Там же. С. 244—265 ; Ливен Д.
Российская империя ... С. 642, 643, 645.
193 Крашенинникова В. Россия — Аме¬
рика: холодная война культур : Как аме¬
риканские ценности преломляют видение
России. М., 2007. С. 248, 349—356.
194 Партаненко Т. В., Ушаков В. А.
Взаимовосприятие России и Запада (XVIII—
первая половина XIX века). СПб., 2006.
С. 142 ; Цилюрик Д. Д Образ России во
Франции: формирование матрицы восприя¬
тия в XVIII—начале XIX в. // Медиаскоп.
2012. № 1. URL: http://www.mediascope.ru/-
node/1026 (дата обращения: 27.10.2013).
Анализ того, каким был и как формиро¬
вался образ России за рубежом и в самой
России в XVII—XIX вв., см.: Белгород¬
ская Л. В. Образ российской империи на
страницах британский и американских
справочно-энциклопедических изданий XX
века. СПб., 2009; Концепции и оценки
развития России... С. 314—320; Образы
России в научном, художественном и по¬
литическом дискурсах (история, теория,
педагогическая практика) / И. О. Ермачен-
ко (ред.). Петрозаводск, 2001 ; Россия
и мир глазами друг друга: из истории
взаимовосприятия / А. И. Голубев (ред.).
М., 2000 ; Ушаков В. А. Россия в трактовке
иностранца: формирование представлений
и стереотипов : в 3 кн. СПб., 2010—2012.
19 См., например: Голиков А. Г., Ры-
баченок И. С. Смех — дело серьезное:
Россия и мир на рубеже XIX—XX веков
в политической карикатуре. М., 2010;
Куланов А., Молодяков В. Россия и Япо¬
ния — имиджевые войны. М., 2007 ; «Запад
как враг»: реанимация исторического мифа
или новая реальность? : материалы семи¬
нара 22 октября 2014 г. / К. Аймермахер
(ред.). М., 2014.
196 Подробно см.: Забелина Н. Ю. Враги
и союзники в восприятии британцев в годы
Первой мировой войны : дис. ... канд. ист.
наук. М., 2011; Панарин И. Н. СМИ,
пропаганда и информационные войны. М.,
2012. § 3.2 : Информационное противобор¬
ство в Первую мировую войну. URL:
http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_
SMI-propaganda-i-informatsionnye-voyny/25
(дата обращения: 19.06.2015); Sanders М. L.,
Taylor Ph. М. British Propaganda during the
First World War, 1914—18. Berlin : Collo¬
quium Verlag, 1990; Taylor Ph. M. British
Propaganda in the 20th Century: Selling De¬
mocracy. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1999.
197 Барабаш В. В., Бордюгов Г. А., Ко-
теленец Е. А. Образ России в мире. М.,
2010. Вопрос конструирования образа Рос¬
сии за рубежом обсуждался на междуна¬
родной конференции в Будапеште: Образ
России с центрально-европейским акцен¬
том : сб. статей и материалов / Д. Свак,
И. Киш (ред.). Будапешт, 2010. Среди докла¬
дов особенной интерес в связи с обсуждае¬
мой проблемой представляют: Свак Д Рос¬
сия и ее имидж; Вагнер П. Образ России
в Центральной Европе: бремя истории и
его отголоски; Зарицкий Т. Российский
дискурс в Польше: образ России в конст¬
руировании польской идентичности ; Пав¬
ликова М. Особенности формирования об¬
раза России в СМИ зарубежных стран. См.
также: Бородин С. В. Стереотипы России
и русских в учебниках ФРГ в 1950—
1980-х гг. // Образы историографии / А. П. Ло¬
гунов (ред.). М., 2000. С. 133—146 ; Елист¬
ратов В. С. Россия как миф (к вопросу
о структурно-мифологических типах восп¬
риятия России Западом) // Россия и Запад:
диалог культур. М., 1991. Вып. 1 ; Новые
мифы о России : Русские глазами иност¬
ранцев / Л. Арье и др. М., 2005 ; Образ Рос¬
сии : Русская культура в мировом кон¬
тексте / Е. П. Челышева (ред.). М., 1998;
Русские глазами иностранцев : Новые ми¬
фы о России / В. Бетаки и др. М., 2009.
198 Ранкур-Лаферьер Д.: 1) Рабская ду¬
ша России : Проблемы нравственного мазо¬
707
Гпава 13. Итоги развития России в период империи
хизма и культ страдания. М, 1996 ; 2) Рос¬
сия и русские глазами американского пси¬
хоаналитика : В поисках национальной
идентичности. М., 2003. Двум наиболее
известным фигурам в генеалогии западной
русофобии — французу А. де Кюстину
и испанцу X. Донозо Кортесу — посвящена
книга итальянского историка Роберто
Валле: Valle R. Genealogia della russofobia:
Custine, Donoso Cortes e dispotismo russo.
Roma: Lithos, 2012. См. рецензию В. П. Лю¬
бина: Социальные и гуманитарные науки :
Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 5. История : реф. журнал. 2014. Вып. 1.
199 Барт Р. Мифология. М., 1996.
200 Шевырин В. М. Переосмысление
российской истории X—начала XX в. в за¬
рубежной историографии (обзор) // Исто¬
рия России в современной зарубежной
историографии : сб. обзоров и рефератов /
B. М. Шевырин (ред.). М., 2010. Ч. 1. С. 14,
15, 60. См. также: Бриггс Э., Клэвин П.
Европа нового и новейшего времени:
С 1789 года до наших дней. М., 2006 ; Тре¬
нин Д. Интеграция и идентичность: Россия
как «новый Запад». М., 2006. Голоса, ос¬
паривающих европейскую сущность Рос¬
сии, притихли, но не смокли: Безансон А.
Россия — европейская страна? // 03. 2004.
№ 5 (20). С. 246—265.
201 URL: http://inotv.rt.com/2013-08-08/-
Die-Presse-Rossiya-v-desyat? (дата обраще¬
ния: 27.10.2013).
202 Ильин В. В., Панарин А. С, Ахие-
зер А. С. Контрреформы в России : Циклы
модернизации процесса. М., 1996 ; Янов А. Л.
Тень Грозного царя : Загадки русской ис¬
тории. М., 1997. С. 124—159.
203 Сорокин П. А. Социология револю¬
ции // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация.
Общество. М., 19^2. С. 266—294. Крити¬
ческий анализ «психоментального» подхо¬
да см.: Шепелева В. Б. Россия, 1917—
1920 гг.: Проблема революционно-демо¬
кратической альтернативы (вопросы теории,
методологии, историографии). Омск, 2009.
C. 355—365. См. также: Юревич А. В. Пси¬
хология революций. Препринт WP6/2007/03.
М., 2007. URL: http://new.hse.ru/C3/C18/
preprintsID/default.aspx (дата обращения:
25.08.2014).
204 Соловей В. Д. Смысл, логика и фор¬
ма русских революций. М., 2007. С. 20.
205 Кантор В. Русская классика, или
Бытие России. М., 2005. С. 35—41, 53—54.
206 Пелипенко А. А. Дуалистическая ре¬
волюция и смыслогенез в истории. 2-е изд.
М., 2011 ; Пелипенко А. АЯковенко И. Г.
Культура как система. М., 1998.
207
Ахиезер А. С. Россия : Критика ис¬
торического опыта: в 2 т. Новосибирск,
1997. Т. 1.С. 8—9, 2—22.
208 Февральская революция 1917 года
в российской истории : «круглый стол» //
ОИ. 2007. № 5. С. 4, 6—7, 9, 12—13, 15—16.
209 Никонов В. А.: 1) Крушение России:
1917. М., 2011. С. 897—907; 2) 1917 год
в истории России // Труды Отд-ния истори¬
ко-филологических наук: 2008—2013. М.,
2014. С. 86—103.
210 Шепелева В. Б. Революциология:
Проблема предпосылок революционного
процесса 1917 года в России : (По мате¬
риалам отечественной и зарубежной исто¬
риографии). Омск, 2005. С. 11—75.
211 Штомпка П. Социология : Анализ
современного общества. М., 2005. С. 567
212 Billington J. Я. Six Views of the Rus¬
sian Revolution // World Politics. 1966. Vol.
18, nr 3.
2.3 Малия M. К пониманию русской
революции. London : Overseas Publications
Interchange Ltd, 1985. C. 9—30.
2.4 Дьюкс П. Девять точек зрения на
Российскую революцию // Россия, 1917:
Взгляд сквозь годы. Архангельск, 1998.
215 Миронов Б. Я. Благосостояние насе¬
ления ... С. 563—688. Обзор постсоветской
историографии см.: Ерофеев Я Д. Совре¬
менная отечественная историография рус¬
ской революции 1917 года // Новая и но¬
вейшая история. 2009. № 2. С. 92—108;
Никонов В. А. Крушение России ... С. 14—
32; Смирнов Я Я.: 1) Российская рево¬
люция 1917 года: традиции и новации //
Санкт-Петербургский международный лет¬
ний культурно-исторический университет,
2006 : Реформы в России: XVI—начало
708
Примечания
XX в. / В. Н. Плешков, М. Н. Толстой
(ред.). СПб., 2006. С. 199—221 ; 2) Истории
революции 1917 г. в современной отечест¬
венной историографии // Российская исто¬
рия XIX—XX веков : Государство и об¬
щество. События и люди / Р. Ш. Ганелин
(ред.). СПб., 2013 ; Шепелева В. Б.: 1) Ре-
волюциология ... С. 11—75; 2) Россия,
1917—1920 гг. ... С. 42—193.
2.6 Впрочем, высказывается резонное
предположение, что революционные собы¬
тия 1905—1907 гг. адекватнее назвать ре¬
формой, а не революцией: Торстендаль Р.
1905 — реформа или революция? // Со¬
циальные трансформации в российской ис¬
тории : доклады междунар. науч. конф.,
2—3 июля 2004 г. / А. В. Алексеев (ред.).
Екатеринбург ; М., 2004. С. 424—437.
2.7 Грегори П. Экономический рост
Российской империи (конец XIX—начало
XX в.): Новые подсчеты и оценки. М.,
2003. С. 22—23,61—62.
218 Rather S„ Soltow J. Н„ Sylla R. The
Evolution of the American Economy : The
Evolution of the American Economy: Growth,
Welfare, and Decision Making. New York :
Basic Books, 1979. P. 385.
2,9 Бовыкин В. И. Предисловие // Рос¬
сия и мировой бизнес: дела и судьбы :
Альфред Нобель, Адольф Ротштейн, Гер¬
ман Спитцер, Рудольф Дизель / [В. И. Бо¬
выкин (ред.)]. М., 1996. С. 4.
220 Миронов Б. Я. Благосостояние на¬
селения ... С. 429.
221 Струмилин С. Г. Статистика и эко¬
номика. М., 1979. С. 444.
222 Миронов Б. Я. Благосостояние насе¬
ления ... С. 530.
223 Миронов Б. Я.: 1) Благосостояние
населения ... С. 457; 2) «Послал Бог ра¬
боту, да отнял черт охоту»: трудовая этика
российских рабочих в пореформенное
время // Социальная история, 1998/1999 :
ежегодник. М., 1999. С. 277.
224 Подсчитано по данным: Святлов-
ский В. В. Мобилизация земельной собствен¬
ности в России (1861—1908 гг.). СПб., 1911.
С. 81, 133—137; Статистические сведения
по земельному вопросу в Европейской
России. СПб., 1895. С. 35 ; Статистика
землевладения 1905 г.: Свод данных по
50-ти губерниям Европейской России.
СПб., 1907. С. 11—17.
225 Миронов Б. Я. Благосостояние на¬
селения ... С. 533—534.
226 Там же. С. 213, 216, 372—373.
227 Там же. С. 547. Среди городского
населения суицидность выросла в 1,2 раза.
228 Подробнее см. в гл. 11 «Уровень
жизни» наст. изд.
229 Tiryakian Е. The Changing Centers of
Modernity // Comparative Social Dynamics :
Essays in Honor of Shmuel N. Eisenstadt /
E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor (eds.). Boul¬
der, CO : Westview, 1985. P. 131—147.
230 Штомпка П. Социология ... С. 474,
491.
231 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс.
М., 2005. С. 123.
232 Так выразился Ле Гофф о кризисе
Запада в позднее Средневековье: Ле Гофф
Ж. Цивилизация средневекового Запада.
Екатеринбург, 2005. С. 6.
233 Маркевич А., Харрисон М. Первая
мировая война, гражданская война и вос¬
становление: национальный доход России
в 1913—1928 гг. М., 2013. С. 6.
234 Karpovich М. М. Imperial Russia,
1801—1917. New York: H. Holt and Co.,
1932. P. 95. «Война застала Россию в про¬
цессе радикальной внутренней реоргани¬
зации. Конституционный эксперимент на¬
чался менее чем 10 лет назад; аграрная
реформа Столыпина осуществлялась всего
несколько лет; проект всеобщего образова¬
ния только что начал претворяться в жизнь;
индустриализация, при всей своей быстро¬
те, еще не прошла ранние стадии» (Ibid. Р. 93).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕМУ УЧИТ НАС ИСТОРИЯ
ИМПЕРСКОЙ РОССИИ
Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе.
Валерий Брюсов, 1895 г.
Русская поэзия конца XIX—начала XX века
(дооктябрьский период) / А. Г. Соколов (ред.). М., 1979. С. 269
Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать.
Бенедикт Спиноза
Часто говорят, что история никого не учит, потому что люди не хотят учиться
у истории. Сомневаюсь в правильности этой максимы. На мой взгляд, уроки ис¬
тории тщательно изучаются, их знают и используют. К сожалению, ситуации ни¬
когда в точности не повторяются, поэтому мало историю знать, надо извлекать
уроки и умело применять полученные знания к новым обстоятельствам. В За¬
ключении рискну сформулировать, чему может научить нас история имперской
России.
Досоветская, советская и постсоветская история:
преемственность и изменения
В официальном советском обществоведении считалось, что советский соци¬
ально-политический строй являлся полным разрывом с прошлым. В постсовет¬
ское время, наоборот, стала подчеркиваться преемственность. Концепция колеи,
или зависимости от предшествующего развития и, значит, зависимости будущего
развития от пройденного пути {Path Dependence), стала очень популярной1. Од¬
нако у некоторых современных авторов относительно преемственности развития
обнаружилось явное преувеличение. Они заходят настолько далеко, что утвер¬
ждают, будто парадигмы социального поведения, «цивилизационные особенно¬
сти» культуры, равно как и национальный характер (в смысле неизменных пси¬
хологических черт, свойственных большинству населения на протяжении столе¬
тий), закрепляются генетически и наследуются, как, например, цвет глаз2. На са¬
мом деле в генетике человека доказано, что знания, привычки, стереотипы, при¬
обретенные в течение жизни, не наследуются.
Последние 300 лет нашей истории показали: все институты и институции по¬
стоянно изменялись, в то же время преемственность с прошлым опытом всегда
наблюдалась. Но этот опыт был неоднозначным. Имперская модернизация,
с точки зрения поставленных целей и средств их достижения, являлась симбио¬
зом по крайней мере двух опытов и соответственно двух векторов — русского
традиционного и прозападного модерного. Традиционный вектор опирался на
713
Заключение. Чему учит нас история имперской России
опыт Московской Руси и имел многочисленных сторонников преимущественно
в деревне и в низших стратах общества. Прозападный вектор опирался сначала
на опыт западноевропейских стран, а затем и на собственный опыт вестерниза¬
ции и модернизации и имел свою социальную базу главным образом в городе и в
среде элиты и привилегированных слоев населения. Благодаря этому существовала
возможность для трех вариантов развития: традиционно русского, прозападного
и их сочетания (поскольку сочетания могли быть самыми разнообразными, то
и вариантов на самом деле могло быть не три, а больше; но для простоты от этого
абстрагируемся). В каждый момент реализовывался один, а два других уходили
в подполье, становились латентными. Векторы развития чередовались.
Советская модернизации в одних аспектах отличалась от западной модели
(приоритет государства над обществом, примат коллектива над личностью, огра¬
ничение свободы индивидуума, централизация, планирование), а в других ее на¬
поминала (формирование рациональной, образованной, светски ориентированной
личности, индустриализация, урбанизация, демократизация семьи, эмансипация
женщин и детей). В кратком виде формула советской модернизации сводилась
к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных соци¬
альных институтов. Не забывая, что всякое обобщение огрубляет действитель¬
ность, можно сказать, что на какое-то время вся страна превратилась в большую
общину и во многом действовала на ее принципах. Если мы сравним основопола¬
гающие принципы, на которых строилась жизнь общинной русской деревни до
1917 г. и советского общества в сталинское время, то обнаружим между ними
сходство. Выразим принципы общинной жизни в современных терминах: 1) кол¬
лективная форма собственности; 2) право на труд, которое община гарантировала
тем, что каждый взрослый мужчина получал от нее во временное пользование
участок земли; 3) право на отдых: не менее 123 дня в году, включая 52 воскресе¬
нья, 30 церковных и государственных праздников и 41 местный праздник, за¬
прещалось работать под страхом наказания (табл. 12.9 в гл. 12 «Русская культура
в коллективных представлениях» наст, изд.); 4) право на социальную помощь
бедным, старым, одиноким, а также попавшим в тяжелое положение вследствие
пожара, падежа скота и других чрезвычайных обстоятельств; 5) демократический
централизм: подчинение меньшинства большинству; 6) коллективная ответст¬
венность: один — за всех, все — за одного; 7) право на участие в общественных
делах: главы семей участвовали в сходках, заседали в крестьянском суде, зани¬
мали общественные должности, важные — по выбору, а второстепенные — по
очереди; 8) равенство, отсутствие существенной материальной и социальной
дифференциации; 9) регламентация жизни, право общины вмешиваться в дела
крестьян, включая семейные, если они вступали в противоречие с интересами
общины, с традицией и обычаем; 10) тождественность прав и обязанностей: пра¬
во на труд, отдых, участие в общественных делах, на помощь являлось одновре¬
менно обязанностью трудиться, отдыхать, заниматься общественными делами,
помогать нуждающимся.
Как всегда бывает, когда какой-нибудь процесс строится на противоречивых
основаниях, результаты советской модернизации оказались неоднозначными.
С одной стороны, индивидуализм, буржуазия, частная собственность, свободный
714
Досоветская, советская и постсоветская история: преемственность и изменения
рынок стали понятиями отрицательными; семью пытались сначала «обобщест¬
вить», потом огосударствить; в различных производственных организациях типа
колхоза, совхоза и государственного предприятия происходила реанимация об¬
щинных форм социальной жизни; одновременно восстанавливались патернали¬
стская государственность, традиционное господство, а власть сакрализовалась.
С другой стороны, во многих сферах наблюдался значительный прогресс. Секу¬
ляризация массового сознания превзошла все западные стандарты. Мотивация
поведения стала рациональной, система ценностей стала вполне светской и в от¬
дельных аспектах приблизилась к западной модели. Демографический переход
совершился, освободив женщин от тяжелого бремени рожать детей, обреченных
вскоре умереть. Получил дальнейшее развитие современный тип малой семьи,
в которой супруги имеют равные права, а дети утрачивают приниженный статус.
Женщины достигли равноправия с мужчинами юридически и успешно реализо¬
вывали его фактически. Социальная структура общества приобрела современный
вид, социальная мобильность достигла высокого уровня, классы стали открыты¬
ми. Общество в целом стало более доступным влиянию современных западных
идей, ценностей, норм поведения. Урбанизация ускорилась. Страна стала по пре¬
имуществу городской; соответственно люди в массе переориентировались на
ценности городской потребительской культуры. В городских поселениях община
не была реставрирована, а поскольку доля городского населения неуклонно уве¬
личивалась и к 1990 г. в Российской Федерации достигла 74 %, то уже сам про¬
цесс урбанизации автоматически приводил к тому, что население переходило от
общинных к общественным формам организации. Однако и в деревне общинные
отношения изживались. В результате в целом по стране к концу советского пе¬
риода модернизация социальных отношений продвинулась далеко вперед. Инду¬
стриализация экономики в основном завершилась. Домашнее хозяйство отдели¬
лось от производства, промышленность с технологической точки зрения достигла
современного уровня. Была создана развитая социальная сфера (пенсионное об¬
служивание, здравоохранение, охрана детства и материнства и др.). Организова¬
на современная система начального, среднего и высшего образования, благодаря
чему в интеллектуальной сфере (наука, литература, искусство) были достигнуты
значительные успехи. Империя превратилась в конфедерацию де-юре, и нерус¬
ские народы получили больше возможностей для национального развития3.
Только в советское время в основных чертах сформировалось и так называемое
дисциплинарное общество (М. Фуко), что помогло россиянам обойтись без рево¬
люции при переходе от советского строя к открытому обществу с рыночной эко¬
номикой. В целом дистанция между Западом и Россией в экономической и куль¬
турной сферах сократилась (табл. 13.1 в гл. 13 «Итоги развития России в период
империи» наст. изд.). Во многих, хотя и не во всех аспектах Советская Россия
стала принадлежать к пространству модернистской культуры, а не развивающих¬
ся стран.
Если бы не огромные и ничем не оправданные человеческие жертвы, совет¬
скую модернизацию можно было бы считать вполне успешной, хотя она так же,
как и имперская, закончилась кризисом. Однако все институты, учреждения,
идеи когда-нибудь исчерпывают свои возможности и умирают — это нормальный
715
Заключение. Чему учит нас история имперской России
процесс и никак не свидетельствует о принципиальной несостоятельности этих
институтов, учреждений и идей. Коллективная воля, концентрация сил и средств,
готовность жертвовать личными интересами ради общественных долгое время
давали свои плоды. Успехи продолжались до тех пор, пока не были исчерпаны
ресурсы коллективизма, общинности, централизации, планирования и народного
энтузиазма. В то же время реализация советской модели модернизации создала
новую асимметрию между личностью, семьей, обществом и государством.
В конце концов, сформировавшаяся в малой демократической семье рациональная,
образованная, требовательная, светски ориентированная личность плохо совме¬
щалась с коллективной собственностью, тотальным регулированием, ограничени¬
ем инициативы, недостатком гражданских и политических свобод, с общинностью
социальных институтов и патерналистским государством. К середине 1980-х гг.
назрел социальный, экономический и политический кризис, который разрешился
не гражданской войной, а реформами, по глубине изменения равноценными рево¬
люции. Реформы должны восстановить гармонию между человеком, семьей, со¬
циальными институтами, собственностью и государством, т. е. отрегулировать
социальную систему. Как показывает российский опыт XV111—XX вв., на сис¬
темную трансформацию требуется, два-три поколения, т. е. примерно 50—80 лет.
С исторической точки зрения это небольшой срок, но с точки зрения людей, по¬
павших под колесо этих перемен, — очень долгий.
Часто обсуждается вопрос: какой бы стала России к настоящему времени, ес¬
ли бы продолжилась имперская модернизация, были бы результаты большими
или меньшими? По-моему мнению, вопрос отнюдь не праздный. Релевантный
ответ может быть дан только после серьезных исследований. Могу предполо¬
жить: без Революции и Гражданской войны 1917—1920 гг., унесших миллионы
жизней и разрушивших производительные силы, без эмиграции миллионов обра¬
зованных и квалифицированных специалистов (без утечки человеческого капи¬
тала)4, без миллионов погибших от репрессий (буквального уничтожения челове¬
ческого капитала), без чрезмерных потерь и разрушений в Великой Отечествен¬
ной войне (если бы Россия не стала советской, то, случись все же мировая война,
потери были бы, наверняка, меньшими) успехи должны быть большими, потому
что главный фактор модернизации — человеческий капитал был бы мощнее. Но
при одном условии: если бы модернизация проводилась столь же настойчиво,
упорно, изобретательно, последовательно, с таким же размахом и энтузиазмом,
как в СССР.
Постсоветская модернизация представляет симбиоз трех опытов и векто¬
ров — русской традиции, модерна (западного и российского) и постмодерна, по¬
тому чтд в СССР (а) не удалось реализовать все цели модерна, (б) не были забы¬
ты цели традиционного общества и (в) актуальными стали цели и средства их
достижения, свойственные постиндустриальному, или информационному, обще¬
ству. Будущее, как всегда, неопределенно, потому что существуют разные сцена¬
рии дальнейшего развития. Сторонники цивилизационной парадигмы предсказы¬
вают, что Россия, подобно всем слаборазвитым странам, может стать жертвой
глобализации, так как либеральный интернационал стремится уничтожить циви¬
лизационное своеобразие России и подчинить ее диктату США и иже с ними5.
716
Досоветская, советская и постсоветская история: преемственность и изменения
Последователи мир-системной парадигмы предсказывают возникновение нового
порядка. Например, Э. Валлерстайн убежден, что буржуазная миросистема нахо¬
дится в глубочайшем кризисе, на пороге перемен, которые могут привести к воз¬
никновению совершенно нового миропорядка6. Приверженцы теории модерниза¬
ции будущее России видят на пути строительства капитализма с человеческим
лицом7.
Можно предположить, учитывая русские традиции, что политико-экономи¬
ческая система народного капитализма была бы более приемлемой для России,
чем фундаментальный либеральный капитализм8. Под народным капитализмом
имеется в виду такая социально-экономическая система, в которой трудящиеся
являются акционерами собственных предприятий, участвуют в их управлении
и получают, кроме зарплаты, прибыль. Какие для этого основания? Много столе¬
тий в русской общине коллективная собственность и коллективизм сочетались
с личной собственностью и индивидуализмом (конечно, с архаическим индиви¬
дуализмом). Львиная доля земли находилась в общинной собственности и не¬
большая часть в личной в качестве приусадебного участка. Общинная земля рас¬
пределялась в соответствии с трудовыми ресурсами отдельных хозяйств и время
от времени переделялась, так как трудовой состав хозяйств изменялся. На об¬
щинной земле господствовал обязательный для всех севооборот: все крестьяне
сеяли одни и те же культуры, начинали и заканчивали основные сельскохозяйст¬
венные работы в одно и то же время и были связаны круговой порукой в уплате
налогов и несении повинностей. Однако земля, доставшаяся крестьянину в ре¬
зультате передела, обрабатывалась индивидуально, и плодами ее он пользовался
самостоятельно. На приусадебном участке крестьянин был полным хозяином. Он
также имел в личной собственности скот, птицу, дом и инвентарь. Таким обра¬
зом, крестьянин был одновременно и коллективистом, и индивидуалистом, соче¬
тая коллективистские и индивидуалистические принципы ведения хозяйства. Он
не был мелким буржуа, но не был и протосоциалистическим производителем. Он
хотел быть и работником, и владельцем, и управленцем одновременно, но пред¬
почтительнее в коллективе, чем индивидуально. Если бы колхозы стали, как пер¬
воначально предполагалось, кооперативными предприятиями, которыми кресть¬
яне коллективно владели, коллективно управляли (как в акционерном обществе)
и в которых коллективно работали (как на заводе или фабрике), то их производ¬
ственная деятельность могла быть весьма эффективной (разумеется, если бы и в
стране в целом существовали необходимые условия: свободный рынок, вольные
цены, устанавливаемые соотношением спроса и предложения, и т. п.). Настоя¬
щий колхоз-кооператив, с одной стороны, соответствовал традиционной практике
крестьянского хозяйствования, с другой — имел преимущества крупного пред¬
приятия. Со временем, в зависимости от обстоятельств и местных условий, колхоз
мог трансформироваться либо в фермерские хозяйства, либо в капиталистическое
предприятие. Истинный колхоз-кооператив являлся промежуточным институтом
между сельской передельной общиной и капиталистическим предприятием.
В таком статусе он мог удовлетворять и крестьян, и общество, и государство.
Истинный колхоз — это образчик народного капитализма. Различные формы на¬
родного капитализма использовались после Второй мировой войны в разных
717
Заключение. Чему учит нас история имперской России
странах (например, в Германии, Швеции, Великобритании, Японии и др.) с про¬
тиворечивыми результатами. Неудачная попытка построить народный капита¬
лизм в России посредством всеобщей ваучеризации в начале 1990-х гг. надолго
дискредитировала идею. В 2012 г. председатель Федерации независимых проф¬
союзов Российской Федерации Михаил Шмаков пытался ее реанимировать, но не
получил широкой поддержки.
Что способствовало модернизации
В течение имперского периода и особенно в пореформенное время, 1861—
1914 гг., экономика, общество и государство Российское поступательно развива¬
лись, хотя движение неоднократно прерывалось войнами, радикальными рефор¬
мами или общественными смутами. Подчеркну: в последние 120 лет существова¬
ния империи, 1795—1914 гг., повысилось благосостояние российских граждан не
только в узком материальном смысле. Кроме более высокого уровня жизни все
население, включая непривилегированные социальные группы, приобрело граж¬
данские и политические права, доступ к образованию и другим благам цивилиза¬
ции. Классики теории модернизации совершенно справедливо рассматривают
улучшение условий жизни в качестве главного критерия успешности модерниза¬
ции, и мы вслед за ними должны признать модернизацию имперской России ус¬
пешной, несмотря на все издержки. В ходе непрерывной форсированной глобаль¬
ной модернизации, продолжавшейся с реформ Петра I до октября 1917 г., Россия
органически и на равных вошла в мировую политическую и экономическую сис¬
тему, и мы имеем полное основание говорить о двухвековом гиперцикле в разви¬
тии страны.
Среди многих факторов, способствующих модернизации, важнейшими при¬
знаются: богатые природные ресурсы, большой человеческий капитал (включая
сюда и протестантскую трудовую этику), сильное государство, грамотный дири¬
жизм со стороны бюрократии, управляемая социальная рыночная экономика,
частная собственность, права и свободы населения, исторический оптимизм.
Препятствуют развитию: низкий культурный уровень народа, субсистенциапьная
трудовая этика (имевшая целью обеспечить простое выживание), слабая инфра¬
структура, малочисленность бюрократии, традиционные институты, недостаточ¬
ное, а иногда и полное отсутствие сотрудничества между государством и обще¬
ственностью. Не буду обсуждать роль перечисленных положительных и отрица¬
тельных факторов российской модернизации в период империи — это сделано
в соответствующих главах книги. Остановлюсь на наиболее важных и часто не
учитываемых в дискурсе развития имперской России.
Имперская модернизация происходила отчасти спонтанно, под влиянием
внутренних потребностей и изменений в мире, но главным образом — целена¬
правленно: она поддерживалась правящим классом, направлялась и стимулиро¬
валась верховной властью, в политике ориентированной на передовые страны
и стремившейся насколько возможно сократить разрыв. Выдающаяся роль госу¬
дарства в процессе модернизации компенсировала не только недостаток инициа¬
тивы со стороны народа, часто не понимавшего необходимости реформ и не же-
718
Что способствовало модернизации
давшего их проводить, но и дефицит капитала, образования и культуры. До Ве¬
ликих реформ общество в решающей степени самоуправлялось. По причине ма¬
лочисленности и слабости коронной бюрократии участие государства в повсе¬
дневных практиках населения было незначительным — страна недоуправлялась.
Для граждан это было комфортно, но темпы общественного развития были невы¬
сокими. Увеличению темпов экономического роста до максимальных (макси¬
мальных в европейском масштабе) произошло тогда, кода начался настоящий
дирижизм — с эпохи Великих реформ. Опыт развития страны в имперский пери¬
од приводит к выводу: сильное государство и грамотный дирижизм могут слу¬
жить двигателями модернизации. История европейских стран в Новое и Новей¬
шее время дает аналогичные примеры успешных преобразований именно при
сильных авторитарных режимах, осуществлявших компетентное управление.
Например, во Франции, Германии и Австро-Венгрии удачные реформы были
проведены королевской властью, а периоды демократии оказывались связанны¬
ми с катастрофической инфляцией и началом деструктивных процессов в эконо¬
мике (эпоха Великой французской революции; Германия после Первой мировой
войны; Австрия, Венгрия и Польша после распада монархии Габсбургов). Похо¬
жим образом развивались события в Испании, Португалии, странах Латинской
Америки и Юго-Восточной Азии9.
Активное участие государства в экономической, политической и социальной
жизни со временем стало российской традицией. Эта традиция ослабнет лишь
тогда, когда общая и политическая культура населения достигнет высокого уров¬
ня, а гражданское общество станет сильным. Мера и степень вмешательства го¬
сударства в жизнь людей обратно пропорциональна мощи гражданского общест¬
ва. Но сила последнего не пропорциональна численности среднего и высшего
классов, а в решающей степени зависит от его общественно-политической актив¬
ности. В 1905—1917 гг. оба класса вместе составляли около 5—7 % всего насе¬
ления империи, но они создали влиятельное гражданское общество, благодаря
чему пореформенный период отмечен усилением роли общественных организа¬
ций. В 1905 г. общественность добилась конституции, парламента и участия
в законодательной деятельности, а в феврале 1917 г. свергла монархию и устано¬
вила демократическую республику. В современной России доля среднего класса
в населении страны (по разным оценкам) в 3—4 раза выше, однако его влияние
и активность, наоборот, слабее, чем 100 лет назад. Недостаток общественной ак¬
тивности по необходимости замещается деятельностью агентов государства,
а власть общества — властью государственных структур. Но здесь возникает
опасность, которую мало кому удается избежать, — любая общественная или
государственная организация в отсутствие всестороннего контроля со стороны
граждан неумолимо, в соответствии с «железным законом олигархии» Р. Ми-
хельса, превращается в неповоротливую, коррумпированную машину, обслужи¬
вающую интересы узкого круга лиц, забывающих о народе и его нуждах10.
Российский опыт показывает, что конфронтация общественности и государст¬
ва гибельна для страны, так как отвлекает энергию бюрократии и общественно¬
сти часто на ненужную борьбу, ведет к взаимному истреблению посредством
террора и репрессий и в конечном счете к революции с ее катастрофическими
719
Заключение. Чему учит нас история имперской России
для всего социума последствиями. Только за 1901—1910 гг. от революционного
террора пострадало около 17 тыс. человек, среди них около половины государст¬
венных служащих11. На террор правительство отвечало репрессиями. За участие
в восстаниях, погромах и бунтах в 1901—1912 гг. было казнено по приговорам
военно-окружных и военно-полевых судов около 4352 человек. Карательные от¬
ряды повесили и расстреляли в 1905—1906 гг. около 6000 человек и в 1906—
1911 гг. — более 5000. В восстаниях, погромах и бунтах было убито и ранено
приблизительно 88 тыс.12 В Гражданской войне, порожденной Революцией 1917 г.,
погибли миллионы. Вот цена непримиримой конфронтации общественности
и государства!
Российская интеллигенция проявила феноменальную общественную актив¬
ность. Несмотря на свою малочисленность — если к интеллигенции отнести да¬
же всех людей с высшим и средним образованием, то в Европейской России 1897 г.
ее численность достигала 775 тыс. на 126 млн населения империи (см. табл.), —
интеллигенция сыграла огромную позитивную роль в модернизации страны.
И если бы радикальное крыло интеллигенции не поддержало террор, баррикады
и революцию этот вклад был бы еще больше и позитивнее.
Численность лиц с высшим и средним образованием в Европейской России
в 1850-е, 1897,1917 и 1939 гг. (среди лиц в возрасте 20 лет и старше)
Показатели
Конец
1850-х гг.*
1897 г.
1917 г.**
1939 г.
%
тыс.
%
%
тыс.
%
Население в возрасте 20 лет
и старше
—
47 943,9
—
—
59 763,6
—
Численность лиц с высшим
образованием
0,12
111,3
0,23
0,51
720,2
1,21
Численность лиц со средним
образованием
0,78
663,3
1,38
3,49
8413,9
14,08
Численность лиц с высшим
и средним образованием
0,90
774,6
1,61
4,00
9134,1
15,28
Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 198; Всесоюзная перепись
населения 1939 года. Основные итоги : Россия / В. Б. Жиромская (сост.). СПб., 1999. С. 30, 104.
* Данные получены методом передвижки когорт по данным переписи 1897 г.
** Данные получены методом интерполяции по данным переписей 1897 и 1939 гг.
Успешное развитие общества происходит путем эволюции в условиях граж¬
данского мира, а не гражданской войны. Бесперспективно, если общественность
будет постоянно прогибаться под государством, но и большого прогресса не бу¬
дет, если государство будет постоянно прогибаться под общественностью или
прогибать ее под себя. Государство без контроля со стороны гражданского обще¬
ства костенеет и загнивает, превращается в неэффективную коррумпированную
машину. Но и общество нуждается в сильном и компетентном государстве, в го¬
сударственных лидерах, которые народ выдвигает, руководствуясь не только
720
Что способствовало модернизации
сердцем, но и разумом. Только добрая воля с обеих сторон и только сотрудниче¬
ство и взаимный контроль могут обеспечить наше движение вперед. Консенсус
общества и государства — важнейшее условие успешной модернизации.
Характерной чертой успешных российских реформ являлся терапевтический
режим их проведения. Все новые институты и институции, необходимые для ус¬
пешного развития, создавались постепенно, с оглядкой на остальную Европу, но
с учетом российской специфики. В целях уменьшения вероятности отторжения
новых институтов де-факто использовалась стратегия создания последовательных
промежуточных институтов, плавно, в несколько этапов соединяющих началь¬
ную и целевую конструкции. Эта стратегия не была теоретически артикулирована,
но ею, как правило, руководствовалась верховная власть. Именно так, медленно
и постепенно, рекомендует проводить реформы современная экономическая наука.
Данная стратегия сочетала преимущества выращивания и конструирования новых
институтов и создавала возможность управления темпом институционального
строительства13. Размер «окна в Европу», откуда заимствовались институты, власти
тщательно регулировали. Аутентичное копирование применялось редко, по¬
скольку оно не приносило ожидаемых результатов — заимствованные институты
отторгались обществом. Да и в принципе буквальное заимствование зарубежных
образцов было невозможным: ввиду малочисленности бюрократии, недоразвито¬
сти российской инфраструктуры и низкой культуры самого населения образец не
мог воплотиться в жизнь без искажения. Отменить или игнорировать националь¬
ные самобытные институты оказывалось невозможным, даже если бы такую цель
власти ставили. До Великих реформ преобразования, за исключением петровских
(со второй половины его царствования) и екатерининских (в последней четверти
XVIII в.), имели частный и ситуационный характер. Задачей реформирования
являлось усовершенствование и корректировка прежнего порядка, а не его ради¬
кальная ломка. Реальный дирижизм начался с 1860-х гг.
Часто российские власти упрекают в том, что они запаздывали с проведением
реформ. Действительно, верховная власть проводила реформы тогда, когда это
становилось крайне необходимым. Но подобную стратегию следует признать
резонной в стране, где требования малочисленных (если не сказать микроскопи¬
ческих) привилегированных слоев и консервативных народных масс, составляв¬
ших 95 % населения, серьезно, а иногда принципиально расходились. Находясь
в оппозиции, легко требовать проведения самых радикальных передовых ре¬
форм, перекладывая ответственность за последствия на правительство. Следует
помнить: когда противники монархии в феврале 1917 г. пришли к власти и про¬
вели лишь часть предлагавшихся ими реформ, то это привело страну к полному
коллапсу и гражданской войне. Теперь многие исследователи сознают: вряд ли
в феврале 1917 г. стоило торопиться со свержением монархии, а в октябре того
же года — со строительством нового социалистического общества, способного
всех удовлетворить и сделать счастливыми. На мой взгляд, самым убедительным
доказательством этого является тот факт, что в начале 1990-х гг. свернутый
в феврале 1917 г. режим пришлось реставрировать.
За годы советской власти мы пережили то, что случается с обществами, кото¬
рые стремятся перескочить через несколько социальных, экономических или
721
Заключение. Чему учит нас история имперской России
политических фаз естественного эволюционного развития. Забегание вперед, ма¬
ния модернизации и реформирования особенно заметно обнаружили свою неэф¬
фективность после Второй мировой войны в развивающихся странах, вызвав
разрушительные последствия14. Один характерный пример. В 1970-е гг., вскоре
после окончания американо-вьетнамской войны, было обнаружено, что исчезли
горные кхмеры — крупное племя, находившееся на стадии палеолитической
культуры и тысячелетиями жившее на территории Южного Вьетнама. Предпо¬
ложили, что их истребили американцы. Однако международная научная экспе¬
диция, созданная для выяснения обстоятельств их гибели, установила: горные
кхмеры сами истребили себя после того, как им в руки попали американские ка¬
рабины. Первобытные охотники, забросив лук и стрелы, за несколько лет унич¬
тожили фауну и перестреляли друг друга, а оставшиеся в живых спустились с гор
и ассимилировались в чуждой социокультурной среде. Гремучая смесь совре¬
менных западных технологий с древними национальными традициями и обычая¬
ми привела к исчезновению этноса. Интересно, что разобраться в этой печальной
истории, помогли входившие в состав экспедиции антропологи, которые наблю¬
дали подобные эпизоды в Азии, Африке, Америке и Австралии15.
Принципиальное условие успешной модернизации — культура населения: без
этого граждане невосприимчивы к новому; диалог населения с реформаторами
затруднен; проводить реформы чрезвычайно тяжело. В культурном ресурсе им¬
перская Россия испытывала острый дефицит — лишь 4 % взрослого населения
страны в 1917 г. имели полное среднее и высшее образование (см. табл.).
Важнейшим условием успешной модернизации является исторический опти¬
мизм — вера нации в принципиальную возможность улучшения условий жизни
и достижения поставленных целей. Оптимизм тесно связан с высокой нацио¬
нальной самооценкой, самоуважением, с верой в свои силы и опирается на «лю¬
бовь к отечественным гробам». Наличие перечисленных качеств у народа подни¬
мает его дух, делает способным на великие свершения, создает новый ценност¬
ный синдром16. Массовые и глубинные перемены в мироощущении и мироотно-
шении людей изменяют характер экономической, политической и социальной
жизни: трансформируются политические и экономические цели, религиозные
нормы и семейные ценности, а эти изменения, в свою очередь, влияют на темпы
экономического роста, на стратегические установки политических партий и на
перспективы для демократических институтов17.
Дух российской нации для больших свершений (по крайней мере до воссо¬
единения Крыма с Россией и начала санкционной политики Запада) был недоста¬
точно высцк, как свидетельствуют исследования социологов. Вот характерный
пример. Наличие «высокой мечты» всегда считалось значимой нормой россий¬
ской культуры. Однако на материалах ряда социологических опросов ученые за¬
фиксировали: в последнее время эта важная, а возможно, и ключевая норма рос¬
сийского цивилизационного проекта, хотя еще и существует, но постепенно раз¬
мывается и утрачивает свое значение. На место «высокой мечты» у одной,
немногочисленной и обеспеченной, части населения приходят мечты общества
потребления, а у его большей части «обычное выживание превращается в пред¬
мет мечтаний»18.
722
Что способствовало модернизации
Одной из причин утраты «высокой мечты» является отрицательный образ
России и ее народа, негативный взгляд на нашу историю и недооценка наших
достижений. В зарубежной литературе Россию часто репрезентируют как импе¬
рию зла, в терминах агрессии, отсталости, греховности и провалов. Как это ни
парадоксально, не меньше негативизма встречается и в отечественной литературе
и историографии. Между тем «образы страны и народа имеют огромное значение
как для национальной идентичности граждан, так и для ее внешнего восприятия.
Все страны стремятся создать собственный позитивный образ. Он необходим для
нормального социально-психологического самочувствия людей, обеспечения
лояльности и сплоченности населения, благоприятных внешних контактов, в том
числе для привлечения в страну капиталов и туристов. Если у большей части на¬
селения нет общего позитивного представления о стране и государстве, тогда нет
и этого государства. Национальная идентичность есть общеразделяемое пред¬
ставление граждан о своей стране, ее народе и чувство принадлежности к ним.
И эта идентичность важна для государства не менее, а возможно, и более, чем
охраняемые границы, конституция, армия и другие государственные институты.
Государства создаются людьми и существуют потому, что каждое новое поколе¬
ние разделяет общее представление о государстве и признает его»19.
Современное обществознание пришло к выводу: прошлое конструируется ис¬
ториками. Именно они формируют понимание прошлого, «заставляют» людей
забывать одни события и хорошо запоминать другие, воспитывают морально¬
культурные традиции, национальное самосознание и национальное достоинст¬
во — словом, создают историю и образ страны. В современном информационном
обществе и миф — часть реальности, интерпретированная определенным обра¬
зом, в соответствии с целями и интересами интерпретатора. Управляемая мифо¬
логизация — это технология конструирования и обновления смыслового поля
в массовом сознании20. Отечественным историкам следует, как во всех «цивили¬
зованных странах»21, создать свое позитивное прошлое, которое бы помогало
нам повысить свою самооценку и благодаря этому успешнее двигаться вперед.
Позитивный образ не означает фальшивый. Неадекватный фальшивый образ не
выполняет свою конструктивную роль: шизофреник, воображающий себя Напо¬
леоном, никогда не станет Наполеоном ни на деле, ни в глазах окружающих. «Вы
можете постоянно обманывать несколько человек или некоторое время всех лю¬
дей, но вы не можете обманывать все время всех людей», — справедливо заметил
А. Линкольн22. Позитивный образ должен быть адекватным и объективным.
И наша история дает для этого оснований и аргументов ничуть не меньше, чем
история любой великой державы. Если Россия не являлась тюрьмой народов, то
образ тюрьмы народов является фальшивым и опасным. Если управление стра¬
ной зиждилось на самоуправлении сельских и городских общин, а бюрократия
была слабой и мало вмешивалась в повседневные практики населения, то образ
России как деспотического полицейского государства должен считаться ложным
и вредным. Если в течение многих столетий самоуправление, основанное на на¬
стоящей демократии, являлось стержнем нашей повседневной жизни, то утвер¬
ждение об отсутствии в России демократических традиций и неспособности на¬
рода к демократии — несостоятельный, опасный и вредный миф. Если уровень
723
Заключение. Чему учит нас история имперской России
жизни в стране в 1795—1914 гг. повышался, то образ нищающей, вымирающей
и несчастной России — искаженный и унизительный. Если россияне в начале XX в.
потребляли на душу населения спиртоводочных напитков (в переводе на абсо¬
лютный алкоголь) в полтора раза меньше, чем британцы и в два с лишним раза
меньше, чем американцы, немцы и французы, а пива и вина — во много раз
меньше23, то образ пьяной России должен оцениваться как ложный и оскорби¬
тельный24.
Уровень развития имперской России недооценен, в том числе в экономиче¬
ском отношении. Наиболее адекватно величину российского ВНП на душу насе¬
ления за 1860—1913 гг. оценил П. Грегори в 1982 г.: ВНП оказался больше, чем
думали прежде, и темпы его роста стали самыми высокими в Европе25. Однако,
на мой взгляд, лучшая из имеющихся оценка все-таки преуменьшает ВНП:
1) преуменьшена величина сборов хлебов и количество продукции, остававшейся
на личное потребление, поскольку ученый принял, что официальная статистика
занижала сборы сельскохозяйственных продуктов на 6,7 %, в то время как по
другим оценкам занижение существенно больше — до 20 %; 2) не учтены второ¬
степенные хлеба, фрукты, овощи и картофель26, на долю которых в 1913 г. при¬
ходилось около 15 % всего сбора27; 3) численность скота принята по официаль¬
ным данным, которая на самом деле была в полтора раза ниже фактической;
4) занижена величина аренды за жилье28; 5) при сравнении с Западом желательно
использовать не валютный курс, а паритет покупательной способности рубля
с другими валютами; 6) не учтена теневая экономика, величина которой в России
была существенно большей, чем в западноевропейских странах. Как утверждают
специалисты, теневая экономика в том или ином виде присутствует во всех странах
и сопутствует человечеству на протяжении веков. Во второй половине 1990-х гт.
в развитых странах теневая экономика была эквивалентна в среднем 12 % ВВП,
в странах с переходной экономикой — 23, а в развивающихся — 39 % ВВП. Те¬
невой сектор в России оценивался в 1990—1991 гг. в 10—11 % ВВП, в 1993 г. —
27, в 1996 г. — 46, в 2003 г. — 20—25 % ВВП29.
Названные и другие необъективные негативные мифы российской истории
следует идентифицировать аналогичным образом как фальшивые, вредные,
опасные и унижающие, причем как в академической, так и особенно в учебной и
популярной литературе. Необходимо создать новое адекватное позитивное
прошлое, и оно должно стать письменным научным текстом, памятниками мону¬
ментального искусства, живописи, кино и литературы. Только так новое объек¬
тивное позитивное прошлое может стать частью не только исторического кол¬
лективного сознания, но и индивидуального сознания.
Позитивная интерпретация российской истории исключительно важна по сво¬
им результатам. В социологии и психологии хорошо известен феномен, полу¬
чивший название теоремы Уильяма Томаса (1863—1947): если ситуация описы¬
вается как реальная, то она реальна по своим последствиям, потому что оценка
ситуации порождает модели поведения, способствующие развитию ситуации
в соответствии с ее трактовкой. «Если человек думает, что его представление
о какой-то ситуации соответствует действительности, то он ведет себя так, как
того требует его представление, и последствия его поведения вполне реальны.
724
Что способствовало модернизации
Отсюда следует, что ментальные комплексы, независимо от того, насколько они
соответствуют реальности, предопределяют как восприятие действительности,
так и действия людей. В ментальном поле культуры разнообразные комплексы
представлений и установок взаимосогласуются так, чтобы люди, исходящие из
них в своем мышлении и поведении, могли создавать и поддерживать необходи¬
мые для жизни условия. При этом между ментальными комплексами возникают
связи, которые отчасти отражают реальные соотношения между явлениями дей¬
ствительности, а отчасти представляют собою вымышленные зависимости между
ними, существующие лишь в человеческом воображении»30. Отсюда феномен
самоисполняющихся пророчеств: пророчества сбываются потому, что у людей
вырабатываются новые образцы поведения, стимулирующие реализацию проро¬
чества31. Фальшивые негативные мифы России в историографии по своим по¬
следствия сродни самоисполняющимся пророчествам — они способствуют такому
развитию общества, которое соответствует этим мифам. Миф имманентно за¬
ключает в себе опасность подтверждения. Таким образом, ошибочные историче¬
ские представления, овладевающие массами, стимулируют процесс возникнове¬
ния самоисполняющихся сценариев, так как становятся движущей силой развития
общества в соответствии с этим сценарием. Если россияне будут оптимистически
оценивать свое прошлое и настоящее, верить, что оптимистический сценарий
развития нашей страны — реальный, то именно этот сценарий и станет для нас
реальным. И наоборот.
Очистить авгиевы конюшни отечественной историографии периода империи
от необъективных мифов непросто. Во-первых, вековая традиция. В советской
историографии исследователи соревновались, кто больше найдет негатива в прош¬
лом, и победители соцсоревнования хорошо и пропорционально достигнутому
награждались. Во-вторых, постмодернизм незаметно приучил нас признавать
самые вздорные идеи и заключения, основанные на спекуляциях, в качестве точ¬
ки зрения и принимать их наравне со здравыми и обоснованными. Вера в фанта¬
стическое охватила миллионы людей. Взрослые люди с высшим образованием
всерьез воспринимают несуразные рассказы, например, о том, что существуют
люди-солнцееды, способные длительное время обходиться без физической пищи
и воды, питаться солнцем и воздухом; истово верят в гороскопы и предсказания;
ходят на прием к знахарям и за большие деньги избавляются от дурного сглаза
или привораживают желаемого человека. На уроках литературы школьники пока
смеются, когда читают в «Грозе» А. Н. Островского рассказ Феклуши: «Такие
страны есть, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной
земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут пер¬
сидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят
они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно,
такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправед¬
ный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив. И все судьи
у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в прось¬
бах пишут: “Суди меня, судья неправедный!” А то есть еще земля, где все люди
с песьими головами». Однако, если взрослые верят в любой вздор, скоро и их
дети перестанут смеяться над Феклушей.
725
Заключение. Чему учит нас история имперской России
Думать, что каждый имеет право на собственную точку зрения, — это, конеч¬
но, политкорректно. Но профессионалы должны столь же политкорректно ран¬
жировать идеи по доказательности и убедительности, указывать, что вздорное
есть ошибочное, а фальшивый миф есть лживый стереотип. К сожалению, в ака¬
демической историографии граница между доказанными и спекулятивными
идеями постепенно стирается. А в популярной литературе, поп-истории, или
фолк-хистори, и Интернете всё, что высказывается дилетантами в самой фанта¬
стической, спекулятивной форме и часто элементарно неграмотно, признается
равноценным точке зрения, высказываемой настоящим профессионалом32.
Что препятствовало модернизации
Россия представляется мне могучим богатырем, которому пока не удалось
реализовать весь свой огромный потенциал. Действительно, многочисленный
и талантливый народ, колоссальные естественные ресурсы, богатейшая культура
и громадный человеческий капитал — ну что, кажется, еще нужно для успешно¬
го развития и счастливой жизни?! Почти 1000 лет назад на этот вопрос ответил
мудрый летописец Нестор в «Повести временных лет»: «Земля наша велика
и обильна, а наряда (порядка. — Б. М.) в ней нет». В 1867 г. диагноз подтвердил
писатель А. К. Толстой: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет»33. Сказан¬
ное Нестором и Толстым на современный научный язык можно перевести при¬
мерно так: реализации могучего потенциала препятствуют российские институ¬
ты, или «рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом.
<.. .> Они состоят из формальных писаных правил и обычно неписаных кодексов
поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их»34. В им¬
перский период и даже в настоящее время мы живем опутанные многими уста¬
ревшими институтами, которые мешают нашему развитию. Почему так медленно
искореняется институт взятки? Потому что многим удобно решать свои пробле¬
мы с помощью взятки и еще приятнее ее получать. Почему в России на бытовые
нужды расходуется такого дорогого ресурса, как вода, в 3 раза больше, чем
в среднем в мире, а питьевой воды — в 15 раз больше (на душу населения)?35
Потому что мы сохраняем вредную традиционную привычку (это тоже институт)
к расточительству — не бережем ресурсы и не любим считать свои расходы.
Много ли россиян ведут в своем домашнем хозяйстве приходо-расходные книги,
выключают свет на лестницах, всегда выбрасывают мусор (включая окурки, бу¬
магу, бутыли и т. п.) в положенном месте? Нерациональное использование бес¬
платных де-факто для индивидуумов и очень дорогих для общества и государст¬
ва общественных фондов, а также хищения36, приписки, плагиат и шпаргалки —
это нормы (тоже институты) нашей жизни. Больничные листы, разного рода до¬
кументы и дипломы продаются на улице, в метро и в Интернете. В Интернете же
можно заказать (и заказывают!) за умеренную плату контрольную, дипломную
работу и диссертацию на любую тему. По данным Российской государственной
библиотеки, из всех диссертаций по истории, защищенных в России с 2000 г.,
около 10 % содержат более 70 % плагиата37. Это же тотальное мошенничество,
опривыченное и ставшее нормой нашей жизни, т. е. институтом!
726
Что препятствовало модернизации
Валентина Полякова, студентка 4 курса Исторического института СПбГУ,
в мае 2014 г. провела социологическое исследование38 об отношении студентов
к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Она опросила 414 студентов 10 пе¬
тербургских вузов, в том числе 193 человек из поступивших в 2013 г. (когда имела
место утечка контрольно-измерительного материала — КИМ) и 221 — в нор¬
мальном 2012 г. Результаты оказались обескураживающими, хотя и ожидаемы¬
ми. 76,7 % абитуриентов 2013 г. признались, что до проведения ЕГЭ имели дос¬
туп к КИМам, при этом 63,5 % из них изучали КИМы перед экзаменами,
а 34,1 %, имея доступ к ним, не знакомились с КИМам и сдавали экзамен честно
(у девушек и юношей данные практически не различаются). 63,7 % сказали, что
во время ЕГЭ списывали, используя шпаргалки или мобильные телефоны. 32,1 %
респондентов засвидетельствовали нарушения регламента проведения ЕГЭ со
стороны самих организаторов: последние бездействовали, вели себя так, будто не
замечали нарушений, что провоцировало списывание. Таким образом, в 2013 г.
произошла афера всероссийского масштаба, в которой приняли участие не¬
сколько сотен тысяч человек.
Опрос контрольной группы из 221 студента, поступивших в 2012 г., показал:
познакомиться с КИМами перед экзаменами имели возможность 14,9 %. Однако
списывали на экзамене почти столько же, сколько и в ненормальном 2013 г. —
60,2 %. 21,3 % опрошенных заявили, что регламент проведения ЕГЭ нарушался.
Таким образом, и в нормальном году около 60 % школьников при сдаче ЕГЭ
пользовались шпаргалками. По утверждению Министерства образования и науки
Российской Федерации, в 2014 г., благодаря принятым мерам, сдача ЕГЭ прошла
благополучно, нарушений было мало. Но здесь речь идет только об утечке
КИМов перед проведением ЕГЭ. Вероятно, с этим стало благополучно. Но
уменьшилось ли одновременно с этим число школьников, пользовавшихся шпар¬
галками, вследствие благосклонного к ним отношения со стороны самих школь¬
ников, их родителей и попустительства со стороны учителей и экзаменаторов?!
Вопрос — открытый. Однако такие проблемы за один год не решаются.
Можно только удивляться, что при подобном масштабе разгильдяйства (мягко
говоря) в собственной стране мы ругаем свои порядки и восхищается немецкими,
жалуемся на российский «авось» и хвалим японский расчет. Действительно, нем¬
цы и японцы давно уже считают каждый цент и йену как в домашнем, так и об¬
щественном хозяйстве, и, благодаря этому (в том числе), издержки производства
и соответственно производительность труда у них в 3—4 раза выше, чем в нашем
отечестве. Огромному большинству русских безумно скучно вести учет в домаш¬
нем хозяйстве. Но скучно — это все-таки прогресс. Еще 100—150 лет назад рус¬
ский крестьянин считал грехом учитывать урожай, полагая, что это будет небла¬
годарностью Богу, который посылает людям урожай.
Одним из институтов, фундаментально затруднявшим модернизацию страны
в имперский период, являлась субсистенциальная трудовая этика. В соответствии
с ней следовало работать до удовлетворения скромных необходимых потребностей
семьи в питании, одежде и жилище, весь доход тратить на потребление и не стре¬
миться к накоплению. Вплоть до начала XX в. огромное большинство российских
работников, будь то крестьяне или рабочие, придерживались принципов именно
727
Заключение. Чему учит нас история имперской России
субсистенциальной этики, вследствие чего их хозяйственные практики осуществ¬
лялись в рамках так называемой «моральной экономики»: производственные от¬
ношения основывались на христианской морали; хозяйство — натуральное; про¬
изводство — ради удовлетворения необходимых потребительских нужд; получе¬
ние прибыли — грех; коллективная трудовая деятельность должна иметь нуле¬
вую прибыль, ибо, если кто-то имеет прибыль, значит, кто-то имеет убыток;
имущественная дифференциация — минимальна. Словом, большие деньги дурно
пахнут: пахнут эксплуатацией, обманом и даже преступлением. Субсистенци-
альная трудовая этика и моральная экономика, характерные для всех традицион¬
ных обществ, больше соответствовали представлениям российского работника
о хорошей, правильной и достойной жизни, чем протестантская, или буржуазная,
трудовая этика, ориентирующая человека на достижение максимально возможного
результата в своей работе, на получение максимального дохода, превышающего
потребление, а предпринимателя — на максимальную прибыль в рамках сущест¬
вующих законов, на экономию ресурсов ради инвестиции их в производство. Суб-
систенциальная трудовая этика поддерживала экономический рост на уровне, соот¬
ветствовавшем или несколько превышавшем темпы естественного прироста насе¬
ления, вследствие падающей производительности земли (в общем виде — любого
ресурса).
Следуя субсистенциальной стратегии, простые труженики получали удовольст¬
вие от жизни и при относительно невысоком благосостоянии. Ограничение своих
потребностей давало им свободу от тяжелого и часто неблагодарного труда
и много свободного времени для досуга и праздников. И это им нравилось, каза¬
лось предпочтительнее, чем каждую минуту тратить на работу, которую все рав¬
но никогда всю не переделаешь. Кроме того, такой образ жизни соответствовал
христианским заповедям, в соответствии с которыми крестьяне не превращали тру¬
долюбие, деньги и время в фетиши, которым следует поклоняться; не стремились
к высокому доходу, а тем более к прибыли, и к накоплению; проявляли равнодушие
к частной собственности, так как удовлетворялись общинной ее формой; верили не
в верховенство закона, а в справедливость; смотрели друг на друга как на соседей
и родственников; индифферентно относились к правам и свободам личности в со¬
временном смысле, подозрительно к индивидуализму. Подчеркну: все эти практики
никто народу не навязывал и не заставлял им следовать. Напротив, они ему нрави¬
лись; он защищал их от посягательств. Да и в целом жизнь в крестьянской общине
строилась на основе христианских заповедей39.
Однако при всей своей симпатичности субсистенциальная трудовая этика
создавала дополнительные социальные и экономические трудности для модерни¬
зации, так как не могла обеспечить высоких темпов развития экономики и мате¬
риального изобилия. Поэтому народ жил скромно, но — подчеркну — не нищен¬
ствовал, как часто утверждается: основные материальные потребности удовле¬
творялись, причем с конца XVIII в. и вплоть до начала Первой мировой войны
уровень жизни рос среди всех слоев населения, включая крестьян и рабочих.
Трудно считать «влачащими жалкое существование» (как писали о помещичьих
крестьянах) тех, кто владел домом и хозяйственными постройками, приблизи¬
тельно 14 га земли на двор из 8 человек, двумя лошадьми (или лошадью и во¬
728
Что препятствовало модернизации
лом), 2—3 головами крупного рогатого скота, 5—6 головами мелкого скота
и немалым числом птицы — таково имущество типичного хозяйства помещичь¬
их крестьян (39% населения страны) в 1860 г., накануне отмены крепостного
права, в среднем для Европейской России. Удельные крестьяне (3,9 % населения)
владели землей по 23 га на двор, а государственные (40 % населения) — по 29 га
на двор (из 8 душ обоего пола) и большим числом скота. Их материальное поло¬
жение должно было быть лучше, чем у помещичьих крестьян, но по причине
субсистенциальной трудовой этики мало от него отличалось. После эмансипации
величина надела и численность скота постепенно уменьшались (вследствие при¬
роста населения), но все равно оставались значительными. В 1916 г. (согласно
сельскохозяйственной переписи) в Европейской России в среднем на крестьян¬
ский двор из 5,3 чел. (без учета членов семьи, находившихся в армии) приходи¬
лось 9—10 га земли, 1—2 лошади, 2,3 головы крупного рогатого скота, 5 голов
мелкого скота и птица. При этом доходы на душу населения возросли, благодаря
неземледельческим занятиям, снижению налогов и отмене владельческих повин¬
ностей. Даже хозяйства тех крестьян, которых в советской историографии отно¬
сили к бедным, имели 5 га посева и 2,8 га прочей удобной земли, лошадь, корову,
мелкий рогатый скот и птицу. Напомним, что согласно переписи 1897 г. в России
доля крестьянства в населении составляла 86 %, а доля лиц, имеющих главным
источником дохода наемный труд, — всего около 12%. Разумеется, в деревне
были и настоящие бедняки, к которым условно можно отнести крестьян без зем¬
ли и скота, но их было относительно немного. В 1917 г. в Европейской России
доля безземельных хозяйств составляла 8,1 %, без всякого скота — 13,5 % всех
хозяйств; в Сибири безземельных не было, а без скота — 6,1 %. Напомню:
в 2008—2010 гг. доля бедных в современных странах Запада, включая США,
оценивается в 14—15 % самодеятельного населения в возрасте 18—64 лет40.
Известный российский антиковед А. И. Зайцев много сил отдал выяснению
того, почему классическая Древняя Греция достигла выдающихся успехов. Среди
наиболее важных особенностей греческого общества, комбинация которых спо¬
собствовала проявлению необходимых для этого у древних греков личностных
качеств, ученый выделил следующие: 1) личную свободу, напрямую связанную со
свободой творчества, как возможностью продуктивного нарушения сложившихся
форм и традиций; 2) вертикальную социальную мобильность, позволявшую при¬
нимать участие в «культурном перевороте» как представителям непривилегиро¬
ванных слоев, так и людям греко-«варварского» происхождения; 3) горизонталь¬
ную мобильность в форме вынужденного или добровольного переселения, яв¬
лявшегося способом распространения новых идей и форм между полисами;
4) оптимизм как вера в принципиальную возможность улучшения условий жиз¬
ни и достижения конкретных целей; 5) демонстративное потребление, стимули¬
ровавшее эстетическую самоценность поэзии, как средства развлечения аристо¬
кратии на пирах; 6) агональность, или соревновательность, в сферах деятельно¬
сти, никак не связанных с утилитарными выгодами (например, спорт, искусство,
чистая наука, и т. п.); 7) «культура стыда», или преимущественная ориентация
человека на внешнее одобрение или порицание своих поступков; 8) «культура
вины», или оценка действий человека в соответствии с внутренней системой
729
Заключение. Чему учит нас история имперской России
ценностей; 9) стремление к славе как сильный мотивирующий фактор, застав¬
лявший ученых, поэтов, художников и скульпторов и всех творческих личностей
создавать выдающиеся произведения искусства, воинов совершать подвиги на
поле сражения, спортсменов — побеждать на олимпиадах и т. д.41
Как видим, перечисленные личностные качества, необходимые, по мнению
А. И. Зайцева, для культурного взлета, за исключением «культуры стыда» и «куль¬
туры вины», не являлись христианскими. Вследствие этого и русскому крестья¬
нину они были чужды (российские экономисты также фиксируют низкие ранги
активно-достижительных ценностей у современных россиян, что мешает модер¬
низации42). Зато пришлись по душе людям буржуазного общества. Британский
историк Н. Фергюсон объясняет материальные успехи Запада, что, по его мне¬
нию, свидетельствует о его превосходстве над остальным миром, шестью факто¬
рами: 1) наличием сильной конкуренции; 2) научной революцией XVII в. (все
важнейшие научные открытия и технические изобретения сделаны на Западе);
3) верховенством права и представительным правлением; 4) высоким уровнем
медицины (все важнейшие открытия XIX—XX вв. сделаны на Западе); 5) сущест¬
вованием общества потребления (или спросом на высококачественные дешевые
товары); 6) протестантской трудовой этикой, соединившей интенсивный труд со
стремлением к сбережениям, что сделало возможным накопление капитала43.
Имперская Россия развивалась во взаимосвязи с остальным миром. В мировой
политике существовала острая конкуренция за власть, влияние и колонии. Силь¬
ные и амбициозные соседи и их союзники нередко проявляли агрессию, претен¬
дуя то на трон, то на территорию, то на веру, то на влияние. Адекватно, симмет¬
рично или асимметрично ответить на вызовы, опираясь на культуру умеренности
и православные христианские традиции, было невозможно. По этой причине
массовое сознание народа медленно, а привилегированных слоев быстро дрейфо¬
вало в западном направлении (при активном участии верховной власти и правя¬
щего класса). Важнейшими инструментами модернизации служили знания и шко¬
ла, их дающая, и на этом пути были достигнуты значительные результаты.
Большинство образованных россиян долгое время смотрели на Запад как на
актора, дающего бесспорный и единственно достойный образец для подражания,
готового помочь России преодолеть технологическую и культурную отсталость;
видели в быстрых и аутентичных заимствованиях западных образцов единствен¬
но правильную политику и требовали проведения такой политики от правитель¬
ства. Время показало: не все надежды были оправданны, и потому многие мечты
рассеялись. Открылись интересные и важные закономерности.
Во-первых, прямое перенесение западных институтов на русскую почву не
давало ожидаемых результатов. Поскольку, однако, делать полезные заимствова¬
ния на Западе было целесообразным и резонным — не создавать же велосипеды
дважды и не открывать Америку трижды, — диффузия западных институтов
и культурных достижений продолжалась. Но от буквального копирования зару¬
бежных образцов постепенно отказывались. Даже западница Екатерина II отло¬
жила уже составленные планы проведения реформ, не согласных с русскими тра¬
дициями. Правительство прежде, чем провести какую-нибудь серьезную реформу,
тщательно выбирало страну-донора, откуда заимствовался образец, просчитывало
730
Что препятствовало модернизации
разные варианты ее проведения в других странах и проводило эксперименты на
родной почве. Составленный план реформы обычно предусматривал создание
новых институтов и учреждений, которые не являлись буквальной копией зару¬
бежных, а учитывали национальные особенности и традиции. Между прочим,
именно за несоответствие западному идеалу правительственные реформы часто
критиковались как современниками из числа «прогрессивной общественности»,
так и историками.
Во-вторых, западноевропейские страны рассматривали Россию как соперника
и конкурента и потому не горели желанием помочь ей преодолеть отставание.
Они не только не поддерживали намерение России утвердиться в мировой поли¬
тике и торговле, а всячески этому препятствовали; не желали бескорыстно и без¬
возмездно отдавать ей свои секреты (в первую очередь технологические), на по¬
лучение которых затратили много средств и усилий; в своих отношениях с Рос¬
сией, как, впрочем, и с другими странами, руководствовались исключительно
прагматическими соображениями, учитывали только свои национальные интере¬
сы, а российские — лишь тогда, когда они им не противоречили, и лишь на¬
столько, насколько они помогали им в продвижении своих интересов; соответст¬
венно сотрудничество строили только на выгодных для себя условиях, в лучшем
случае — на взаимовыгодных.
В-третьих, оказалось, что разделяет Россию и западные страны главным обра¬
зом соперничество за влияние на мировой арене, различные национальные инте¬
ресы, а не идеология и не культура, как часто декларировалось. Вследствие этого
из конкурентов в мирное время они превращались во врагов во время напряжен¬
ной международной ситуации и войны. Борьба за национальные интересы, а не
борьба добра со злом являлась стержнем мировой политики. «Во всем свете у нас
только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные, при первой
возможности, сами ополчатся против нас», — пришел к выводу Александр III44,
по умолчанию, наверное, подразумевая, что нашими союзниками также являются
наши природные и человеческие ресурсы, человеческий капитал, экономическая
мощь, поскольку без них армия и флот не могут быть сильными друзьями.
В-четвертых, по большому счету в официальной историографии западноевро¬
пейских стран именно национальные интересы выступали критерием оценки
прошлого и настоящего. В целом для западной историографии характерен евро¬
поцентризм, в явной или неявной форме поддерживающий идею о превосходстве
западных народов, якобы дающих другим народам единственно достойный обра¬
зец для подражания. Один из известнейших современных специалистов в облас¬
ти культурной антропологии Джек Гуди посвятил книгу системной критике ев¬
ропоцентризма. По его мнению, претензии Запада на глобальный приоритет не
состоятельны. Даже честь изобретения демократии, капитализма, индивидуализ¬
ма и романтической любви ему не принадлежит, не говоря уже о множестве кон¬
кретных открытий, совершенных человечеством. Гораздо продуктивнее исполь¬
зовать компаративную методологию кросс-культурного анализа, которая создает
намного более полную основу для оценки разнообразных исторических процессов
и должна заменить устаревшие европоцентристские представления о различиях
между Западом и Востоком45. С этим нельзя не согласиться. Европоцентризм —
731
Заключение. Чему учит нас история имперской России
это методологическая ошибка: высокие цели можно достичь различными средст¬
вами, опираясь на национальные институты. Например, во второй половине
XX—начале XXI в. Япония, Китай и другие «дальневосточные тигры» достигли
выдающихся успехов, опираясь на компромиссные институты, сочетающие чер¬
ты западных и традиционных национальных институтов.
Осмыслив полученный опыт, имперское правительство стало проводить мо¬
дернизацию по европейскому типу, но со значительными национальными осо¬
бенностями, в своих отношениях с западноевропейскими странами стало при¬
держиваться аналогичной с ними стратегии: дружить и сотрудничать на взаимо¬
выгодных условиях, твердо отстаивать свои национальные интересы, не бояться
вызовов, уверенно отражать агрессию, достойно вести себя на международной
арене как великая держава, учиться у всех и заимствовать все полезное в соот¬
ветствии с поговоркой — «Ты мне не друг и не враг, а каждый мне учитель».
Пришлось также признать, что ориентироваться на некие космополитические ин¬
тересы бесперспективно, поскольку их разделяет лишь незначительное число ин¬
теллектуалов. Нельзя не признать такую стратегию резонной и прагматической.
Уроки революций
Несмотря на большие и неоспоримые успехи, имперская модернизация, как
считается, закончилась крахом — так называют свержение монархии и установ¬
ление диктатуры большевиков. Это утверждение в принципе неверно. Главные
результаты модернизации: образованные кадры, высокая культура, школы, уни¬
верситеты, промышленность, железные дороги — не погибли. Вопрос в другом.
В соответствии с предлагаемой мною концепцией две русские революции4^ про¬
изошли в условиях экономического роста, повышения благосостояния народа,
получения им политических свобод, установления конституционного режима
и представительного учреждения. А в российской и зарубежной историографии
привыкли думать, что главной и необходимой причиной этих революций являет¬
ся угнетение и обеднение народа. В чем дело? Как объяснить этот, как некото¬
рым кажется, оксюморон — сочетание несочетаемого?
Противоречия нет: голодные думают не о революциях, преобразующих обще¬
ство, а о том, где и как утолить голод, в худшем случае бунтуют. Теория модер¬
низации объясняет этот парадокс: модернизация способствует росту социальной
напряженности и конфликтности в обществе; чем быстрее и успешнее проходит
модернизация, тем, как правило, выше конфликтность и социальная напряжен¬
ность в обществе. В России, как и везде, именно высокие темпы и успехи модер¬
низации создавали новые противоречия, порождали неведанные прежде пробле¬
мы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагоприятных
обстоятельствах перерастали в революции, а при благоразумии правящего класса
и гражданского общества могли бы благополучно разрешиться. Теоретики мо¬
дернизации совершенно определенно говорят и мировой опыт это подтверждает:
революция — это не обязательный, а лишь один из возможных путей перемен
в обществе. Реально существовавшие социально-экономические проблемы явля¬
лись лишь предпосылками, или предварительными условиями, революции.
732
Уроки революций
У всякой революции есть также причины, т. е. обстоятельства, прямо ее по¬
рождающие. Непосредственная причина российских революций заключалась
в борьбе за власть между разными группами элит: контрэлита в лице лидеров
либерально-радикальной общественности хотела сама руководить модернизаци-
онным процессом и на революционной волне отнять власть у старой элиты.
В этом смысле революции начала XX в. обусловливались не столько социально-
экономическими, сколько политическими факторами. Именно «передовая про¬
грессивная общественность» создала в стране атмосферу экономического и по¬
литического кризиса, подготовила почву для революции и вывела народ на улицы
в решающий момент, воспользовавшись недовольством, вызванным старыми
проблемами, усугубленными бедствиями войны.
Посмотрим на современную политическую ситуацию в стране, основываясь
на опыте Русской революции 1917 г. В настоящее время в России нет революци¬
онной ситуации и, чтобы она не возникла, необходимо устранять предпосылки,
которые способствуют ее возникновению. На основе опыта русских революций
их можно свести к следующему.
В основе современной российской политической системы лежит представле¬
ние о равноправном и совместном участии институтов власти (государство)
и гражданского общества (политические партии, добровольные общественные
организации, профсоюзы, группы интересов, СМИ и т. д.) в управлении и регу¬
лировании общественных отношений. В соответствии этим в Конституции Рос¬
сийской Федерации закреплены демократические принципы системы:
- народ — источник и носитель власти;
- высшие органы государственной власти формируются через процедуру вы¬
боров;
- граждане равны в политических правах;
- различные группы интересов могут и должны быть представлены в процессе
принятия политических решений;
- ключевые места в органах власти получают те политические силы, которые
выиграли соответствующие выборы;
- политическая жизнь протекает в рамках заранее известных и принятых за¬
конным образом правил, заложенных в Конституции.
Однако эти принципы пока не заработали в полную силу на практике47.
Формально в России существует многопартийная система. На начало 2015 г.
официально зарегистрировано 76 политических партий. Однако фактически в стра¬
не сложилась партийная система с доминирующей партией. Только одна партия
(«Единая Россия») обладает реальной политической властью, имея большинство
в представительных органах власти федерального, регионального и местного
уровня, а также контролируя исполнительную власть почти во всех регионах,
городах и районах. Системная оппозиция — слаба. Она обвиняет в своей слабо¬
сти правящую партию, которая якобы использует все возможные средства и пре¬
жде всего мощный административный ресурс, чтобы помешать оппозиции ин¬
тегрироваться и мобилизовать своих сторонников. Но в России начала XX в.
средний класс, насчитывая лишь около 6 % всего населения48, сумел создать
сильную оппозицию, несмотря на противодействие верховной власти и правяще¬
733
Заключение. Чему учит нас история имперской России
го класса, не менее сильного, чем нынешний. Значит, дело в неэффективности
и неконструктивности самой оппозиции. Слабость системной оппозиции имеет
два важных следствия: в большей степени персоналистский, чем институцио¬
нальный, характер власти (люди ищут защиту не у слабой оппозиции, а у лиц,
находящихся на вершине власти) и существование несистемной деструктивной
оппозиции — главного источника смут в любом обществе. В трудные моменты
общественной жизни ей на короткое время удается мобилизовать всех недоволь¬
ных и создать предпосылки для возникновения революционной ситуации. В ин¬
тересах социальной стабильности в обществе необходимо создать сильную сис¬
темную оппозицию. Этим должна быть озабочена и доминирующая партия.
Отсутствие слабой системной оппозиции усугубляется тем, что добровольные
общественные организации — костяк гражданского общества сравнительно ма¬
лочисленны, объединяют мало людей и проявляют слабую активность. Чрезвы¬
чайно слабы, беззубы и неэффективны профсоюзы как среди рабочих, так и сре¬
ди «белых воротничков», вследствие чего общественная активность не канализи¬
руется и не направляется в конструктивное русло. В случае появления и роста
недовольства оно будет изливаться стихийно, как лава из кратера вулкана, пой¬
дет нелегитимным и разрушительным путем, будет подхвачено несистемной оп¬
позицией, создавая если не революционную ситуацию, то предпосылки для ее
возникновения.
Таким образом, слабая системная оппозиция и слабое гражданское общество
трансформируют власть из институциональной в персональную, поддерживая
«царистские иллюзии», держат на плаву и начеку несистемную оппозицию, гото¬
вую в подходящий момент перехватить инициативу. А мобилизовать недоволь¬
ных и направить их недовольство в деструктивное русло в современных услови¬
ях — это уже дело технологии, которая описана даже в учебниках49.
Передача власти от проигравших к победителям мирным легальным путем не
стала у нас пока традицией. В общественном мнении существуют серьезные со¬
мнения относительно реальной возможности для мирного перехода власти от
одной политической силы к другой. Мнение, что выборы всегда фальсифициро¬
ваны властями предержащими, настолько широко распространено, что офици¬
альным результатам голосования не верят. Данные экзитполов, проведенные раз¬
ными организациями, в том числе фрондирующими власти, единодушно предре¬
кают победу правящей партии, а официальным результатам все равно не верят.
Почему? Нарушения в процедуре проведения выборов и подсчета голосов слу¬
чаются почти всегда; о них открыто сообщается в СМИ и Интернете. Эти нару¬
шения^ как правило, незначительно сказываются на результатах голосования. Но
сам факт, что они имеют место и все об этом знают, подрывает легитимность вы¬
боров, особенно в глазах тех, кто находится в оппозиции. Им невозможно дока¬
зать, что устранение всех выявленных нарушений не изменит радикально резуль¬
таты. В их глазах власть людей, пришедших к руководству в ходе выборов, не
является легитимной. Проигравшие никогда своего поражения не признают. Это
лишает власть авторитета и престижа и дает основание для мыслей о насильст¬
венном ее устранении. Рекомендуют усовершенствовать избирательную систему
и проводить выборы таким образом, чтобы никаких сомнений в их результатах
734
Уроки революций
не возникало. Это правильно. Но дело не только в этом. Проигравшие не умеют
признавать свои ошибки, не умеют красиво проигрывать, а победители — краси¬
во перенести победу. Начинается месть, передел власти, а иногда и собственно¬
сти. Считается, если человек вынуждено оставляет гласно и публично ответст¬
венную должность, значит, он фатально не состоятелен и не способен к даль¬
нейшей общественной работе. Вследствие этого проигрывать страшно — можно
лишиться не только доброго имени. Проигрыш на выборах рассматривается как
непоправимая катастрофа. Между тем в политике неправый формально может
быть правым по существу; программа, не состоятельная сегодня, при данной си¬
туации, может быть успешной завтра, при другой. В отставку проигравший дол¬
жен уходить как на передышку, чтобы иметь возможность проанализировать
ошибки и извлечь уроки, с надеждой на победу в следующих выборах. А победи¬
тель, приходя к власти, должен помнить, что следующие выборы можно проиг¬
рать и не топтать проигравших. Нелегитимность результатов выборов, мнимая
или действительная, является важнейшей предпосылкой для перерастания недо¬
вольства в революционные действия. Между прочим, до 1917 г. результаты вы¬
боров на всех уровнях, как правило, не подвергались сомнению.
Циркуляция элит и ротация кадров на всех уровнях управления находится на
низком уровне. Во всех сферах жизни руководящие должности нередко занима¬
ются бессменно по 15—20 лет и более. В обществе складывается убеждение:
власть добровольно не отдают, ее нужно брать силой. Меритократия должна
стать главным принципом подбора кадров, а с патернализмом надо решительно
бороться и не только в политике, а во всех сферах жизни.
Средний класс, как и 100 лет назад, не чувствует себя не только хозяином
жизни, но даже влиятельной силой в политике и обществе. Между тем револю¬
ционная опасность со стороны «белых воротничков» несравненно больше, чем со
стороны «синих». Несмотря на свою малочисленность, именно средний класс
выступил в авангарде движения против существовавшего режима в начале XX в.
и руководил всеми партиями. Такую же роль он выполняет в настоящее время не
только в России, но и во всем мире и по праву считается революционным и са¬
мым агрессивным и опасным классом, особенно в своем молодежном крыле. Ес¬
ли образованная молодежь не имеет возможности реализовать свои знания и най¬
ти достойную работу и заработок, то это создает высокую социальную напря¬
женность. Считается, что не обеспеченная адекватной работой молодежь с уни¬
верситетскими дипломами стала движущей силой цветных революций начала
XXI в. на Ближнем Востоке и в Африке. Между тем современная Россия «по
масштабам недоиспользования накопленного человеческого капитала занимает
одно из лидирующих мест в мире. Не менее трети всех работников с третичным
образованием трудятся на рабочих местах, не требующих высокой квалифика¬
ции. Это означает, что знания и навыки, полученные ими в системе формального
образования, либо не находят применения, либо отличаются настолько низким
качеством, что закрывают их обладателям доступ к “хорошим” рабочим мес¬
там»50, в то время как претензии находятся на университетском уровне и даже
выше. Отсутствие достойного вознаграждения за труд ведет к недоиспользова¬
нию человеческого капитала, к «утечке мозгов» из страны, а вместе с ними инве¬
735
Заключение. Чему учит нас история имперской России
стиций, сделанных в образование. В подобных обстоятельствах Запад ошибочно,
но неизбежно видится землею обетованной. Поэтому в постсоветское время мы
чрезвычайно пострадали от «утечки мозгов», проходившей в трех основных
формах: эмиграция десятков тысяч способных ученых и инженеров за границу
в поисках интересной работы и обеспеченной жизни; работа за рубежом по вре¬
менным контрактам; массовый внутренний отток инженерно-технических талан¬
тов из области исследований и разработок в сферу обслуживания, в коммерче¬
ские торговые организации и другие сферы, далекие от их образования и опыта
работы51. Имперское правительство никогда не было врагом просвещения, как
думают многие. Но, сознавая негативные последствия ПЕРЕобразования, прояв¬
ляло необходимую осторожность, при этом всегда немного забегало вперед,
о чем говорит существование рецидива безграмотности — прежде грамотные
люди по причине неиспользования навыков чтения и письма утрачивали их.
Коррупция пронизывает все сферы жизни, несмотря на решительную борьбу
с нею. Строгих административных и уголовных мер недостаточно (впрочем,
и последние весьма умеренны — нет, например, конфискации имущества), так
как коррупция — институциональная и культурная проблема. Победить ее мож¬
но только перестройкой массового сознания россиян, которые до сих пор отно¬
сятся к ней достаточно индифферентно, а часто и прагматично как на быстрый
и удобный способ решения своей личной проблемы. Снисходительное отноше¬
ние к бытовой взятке со стороны большинства россиян — вот в чем проблема.
В XVII—XIX вв., ввиду отсутствия жалованья или его недостаточности, долж¬
ность рассматривалась как источник дохода, а взятка — как сам доход. Сейчас,
после второго пришествия капитализма и тотальной коммерциализации нашей
жизни, административная должность рассматривается как капитал, который
должен приносить прибыль, а взятка — как законная административная рента:
«Чиновники не берут взяток — они занимаются бизнесом», — остроумно заме¬
тил журналист Максим Кваша52. Теперь все блага рассматриваются как капитал,
включая здоровье и образование (человеческий капитал) и социальные связи (со¬
циальный капитал). Снисходительность к коррупции объясняется тем, что, во-
первых, дача и принятие взятки — это многовековая традиция благодарности за
услуги и принятия этой благодарности; во-вторых, это нередко единственный
способ решения личной проблемы, а часто самый эффективный; в-третьих, при¬
вычка и терпимость к взятке прививаются с детства. Бороться с этим традицион¬
ным русским институтом надо начинать с детского сада и продолжать в школе
и университете. Против коррупции необходимо вести информационную войну.
Надо добиться того, чтобы и дача взятки, и ее получение рассматривались обще¬
ственным мнением как позорный поступок, чтобы взяткодателю и взяткополуча¬
телю стало стыдно смотреть в глаза людям.
Люди в массе мало доверяют правоохранительным органам (имеется в виду
суд, прокуратура, ФСБ, полиция) и потому не чувствуют себя защищенными.
Согласно всероссийским опросам 2004—2013 гг., деятельность судов положи¬
тельно оценили лишь около четверти населения, отрицательно — 40 %, причем
уровень доверия в последние 10 лет изменялся мало и свыше трети опрошенных
затруднились с оценкой, потому что не имели опыта обращения в суд53. Для
736
Уроки революций
сравнения: согласно данным Института Гэллапа на 2013 г., в верховенство права
и равный доступ к правосудию верят немногим более половины взрослого насе¬
ления планеты. Наибольшей степенью общественного доверия пользуются су¬
дебные системы Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Малайзия и Шри-
Ланка) и Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай и др.), где 65—75 %
населения уверены, что смогут защитить свои права и справедливо разрешить
споры в судебном порядке. Чуть меньше половины граждан доверяют нацио¬
нальным судебным системам в странах Европы (49 %), Тропической Африки
(48 %), Северной Америки (47 %), Ближнего Востока и Северной Африки (47 %).
В государствах Латинской Америки и Карибского бассейна уровень доверия
к местным системам судебных органов составляет в среднем 35 %, опускаясь
в Чили до 19 %, в Парагвае — до 18 %, в Перу — до 17 %. Меньше всего мест¬
ным судам доверяет граждане бывших республик СССР — немногим больше
четверти (28 %) населения54, как в России.
Уровень доверия к милиции/полиции невысокий, но имел «положительную»
динамику: в 2004—2005 гг. доверяли полностью или частично 25—27 %,
в 2009—2010 гг. — 30—40, в 2014 гг. — 56 %, а не доверяли — соответственно
69; 67 и 41 %; 3 % затруднялись дать оценку. Согласно данным всероссийского
опроса, проведенного ВЦИОМ в ноябре 2014 г., лишь 13 % опрошенных доверя¬
ли полиции полностью, а 43 % — частично, 41 % считали, что на сотрудников
органов внутренних дел положиться нельзя. Только 21 % дали положительную
оценку деятельности сотрудников правоохранительных органов в оказании по¬
мощи гражданам; 58 % считают помощь полиции в решении проблем несущест¬
венной, а 13 % уверены, что полицейские приносят людям больше вреда. Убеж¬
денность россиян в том, что полицейские защищают интересы отдельных групп
населения, возросла с 27 % в 2013 г. до 34 % в 2014 г. Только 24 % опрошенных
полагают, что полиция отстаивает права каждого гражданина, в то время как
19 % уверены, что полиция работает только «на себя», а 15 % думают, что при¬
оритетным для нее являются интересы правящих кругов55. Причем это самые
высокие оценки за последние 10 лет: в 2010 г. частичное или полное доверие
к правоохранителям выражали только 40 % опрошенных, в 2005 г. — 25 %56. Для
сравнения: в США полиции доверяют 66 %, не доверяют 22 % граждан, в Запад¬
ной Европе соответственно — 61 и 33 %57.
Подчеркну, что приведенные данные говорят лишь о том, что люди думают
о правоохранительных органах, а не о том, какими они являются на самом деле58.
При этом за эталон для сравнения россияне принимают самые развитые запад¬
ноевропейские страны. Как заметил в 2011 г. на VIII Экономическом форуме
в Красноярске «алюминиевый король» Олег Дерипаска, реализующий инвести¬
ционные проекты в различных странах третьего мира: «Судебная система —
я всё время считаю, что это преимущество в нашей стране. Тот, кто пытался по¬
судиться в Африке, Индии, Китае, должен понимать, что у нас — в Красноярске,
Иркутске — суд — это практически... британское право. Суд в Индии может
длиться 25 лет. И никакого решения. В Китае могут просто не принять спор, не
понимая его сути или имея в виду его антинародный характер. В Африке еще
более сложные, запутанные... красивые мантии, парики. Нашу судебную систему
737
Заключение. Чему учит нас история имперской России
нужно пропагандировать. Люди должны понимать, что это место, где можно рас¬
сматривать споры...»59
Но для общей политической атмосферы в стране важно именно то, что дума¬
ют, а не то, что в действительности. Не случайно среди стран бывшего СССР са¬
мый низкий уровень доверия к правоохранительным органам зафиксирован со¬
циологами на революционной Украине. В 2010—2013 гг., до последней «рево¬
люции», уровень доверия населения к судам составлял 12%, а к правоохрани¬
тельным органам — 4%. Это худший результат в мире среди 123 стран0. Не
случайно также, что российская оппозиционная пресса постоянно акцентирует
внимание читателей именно на злоупотреблениях в правоохранительных орга¬
нах. В 2009 г. среди центральных печатных СМИ, наиболее часто публикующих
материалы на тему несовершенства судебной системы, в порядке убывания (про¬
цент относительно всех центральных СМИ): «Независимая газета» — 5,7 %, «Га¬
зета»61 — 5,4, «Ведомости» — 3,8, «Коммерсантъ» — 3,8, «Парламентская газе¬
та» — 2,86, «Российская Федерация сегодня» — 2,80 % (остальные СМИ опуб¬
ликовали менее чем по 2,5 % разоблачающих материалов)62. После Великих ре¬
форм и до 1917 г. правоохранительные органы пользовались большим доверием
населения.
Имущественное и социальное неравенство находится на недопустимом с точ¬
ки зрения огромного большинства населения уровне: по оптимистическим оцен¬
кам, децильный коэффициент равен 16—17, а в столицах и крупных городах, ко¬
торые обычно являются центами протестных движений, — и того выше: в Моск¬
ве, по разным оценкам, от 44—45 и выше. В западных странах коэффициент
варьирует от 3—4 в Дании, Финляндии и Швеции, до 5—7 в Германии, Австрии
и Франции и до 15 в США. Толстосумы буквально травмируют народ показным
потреблением.
Реальные и еще в большей степени виртуальные различия в уровне благосос¬
тояния россиян и западных соседей чрезмерно велики. Действительная и мнимая
разница в доходах разжигает ощущение депривации, рождает недовольство дос¬
тигнутым. Поскольку успехи соседей, как правило, кажутся неадекватно боль¬
шими и преувеличиваются, актуальным представляется во всех образовательных
учреждениях и СМИ постоянное разъяснять российским гражданам, что повы¬
шать уровень жизни возможно лишь при росте эффективности труда. Нельзя
жить как в Германии, Японии или США, если производительность труда в Рос¬
сии в 3—4 раза ниже, если россияне имеют много праздников, в массе работают
меньше, болеют больше, разбазаривают природные богатства и не берегут энер¬
гию, воду, тепло, землю, воздух, лес.
Происходит слишком много рукотворных бедствий с большими человече¬
скими жертвами: намного чаще, чем прежде, разбиваются самолеты, горят леса,
взрываются шахты, разрушаются электростанции, падает с крыш лед на головы
людей, гибнут десятки тысяч людей от рук преступников и террористов, а так¬
же вследствие дорожно-транспортных происшествий, самоубийств, чрезмерно¬
го употребления алкоголя и наркотиков. СМИ смакуют происшествия и тем
самым еще больше травмируют людей. Народ хочет, чтобы виновники были
наказаны.
738
Делает ли модернизация человека счастливее?
Хотя легальные и реально действующие клапаны для мирного выражения со¬
циального и политического недовольства и протеста существуют и действуют,
конфликты иногда подавляются, а не разрешаются. Между тем подавленный
конфликт справедливо сравнивают с опаснейшей злокачественной опухолью на
теле общественного организма, чреватой социальным взрывом. Граждане долж¬
ны всегда иметь возможность высказать недовольство законным порядком; они
должны быть услышаны и по возможности удовлетворены.
Делает ли модернизация человека счастливее?
Революция — это всегда несчастье, разрушение, слезы и кровь. Несмотря на
это, революции постоянно происходят и нередко в результате именно успешно
проводимой модернизации. Это наводит на мысль, что экономическая и полити¬
ческая модернизация не делает человека счастливее. Не случайно среди теорий
революции наиболее популярна теория относительной депривации, делающая
акцент на психологической неудовлетворенности тем, что есть, и тем, что хочет¬
ся и должно быть в соответствии с представлениями социальных групп и инди¬
видов. Теория конфликта также указывает на относительную депривацию как на
важнейшую причину социального конфликта. Именно относительная деприва¬
ция наблюдалась в пореформенной России. Уровень жизни всех социальных сло¬
ев повышался, но потребности росли еще быстрее. Все социальные и профессио¬
нальные группы постоянно хотели больше того, что реально возможно было
иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой общей
культуре населения и невысокой производительности труда. Это создавало бес¬
прецедентную социальную напряженность в обществе, особенно в образованной
ее части.
Субъективные самооценки уровня жизни в последнее время привлекли повы¬
шенное внимание ученых. Социологи предлагают, наряду с уровнем жизни, при¬
нимать во внимание другой показатель — качество жизни. Если уровень жизни
измеряется с помощью социально-экономических показателей общего благосос¬
тояния людей: доходы, потребление, жилищные условия, услуги образования,
здравоохранения и т. д., то качество жизни отражает более широкий комплекс
условий жизни, в том числе экологию, социальное благополучие, политический
климат, психологический комфорт, но главное — восприятие людьми своего по¬
ложения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и соци¬
альных стандартов, существующих в обществе63 . Экономисты пошли еще даль¬
ше — они вводят в систему показателей благосостояния «счастье», или «субъек¬
тивное благополучие», оцениваемое посредством учета того, сколько людей
и насколько они чувствуют себя счастливыми, и стремятся измерить этот, как
кажется, совсем не экономический показатель64.
Вопрос: «Становится ли человек с “прогрессом” счастливее?» — занимал
и занимает умы ученых. Немало из них думают, что согласия между модерниза¬
цией и счастьем нет. Обобщая наблюдения антропологов, Э. Дюркгейм (1858—
1917) в конце XIX в. пришел к выводу, что люди дописьменных обществ были
счастливее, чем его современники, свободные граждане демократического бур¬
739
Заключение. Чему учит нас история имперской России
жуазного общества. «Конечно, есть много удовольствий, которые теперь нам
доступны и которых не знают более простые существа. Но зато мы подвержены
многим страданиям, от которых они избавлены, и нельзя быть уверенным, что
баланс складывается в нашу пользу». Они не знают скуки, не наполняют «слиш¬
ком короткие мгновения жизни» многочисленными и неотложными делами,
меньше времени посвящают труду, который «для большинства современных лю¬
дей до сих пор является наказанием и бременем». Редкость самоубийств — луч¬
шее доказательство, что они довольны жизнью, ибо «единственный опытный
факт, доказывающий, что жизнь вообще хороша, это то, что громадное большин¬
ство людей предпочитают ее смерти. <...> Самоубийство появляется только
с цивилизацией»65.
Французские социальные философы М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр и другие
считают, что социально-политическая эволюция происходит по схеме от суверенной
монархии к дисциплинарному обществу, а от него к обществу тотального контро¬
ля, которое фактически лишает человека свободы и посредством СМИ им мани¬
пулирует66. Это делает людей несчастливыми.
Вице-президент Международной социологической ассоциации Майкл Буравой
полагает, что всеобщая товаризация и коммерциализация ведет к всеобщей
деградации67. Есть много фактов, подтверждающих его правоту, ибо деньги
в буржуазном обществе не пахнут в отличие от традиционного общества, где они
дурно пахнут. Приведу два показательных примера. В 2014—2015 гг. главная
фигурантка дюжины криминальных историй «Оборонсервиса» Е. Васильева, об¬
виняемая в присвоении нескольких сотен миллионов рублей, находясь под до¬
машним арестом, стала писать и издавать стишки и писать и продавать картинки.
Ее «творчество» привлекло внимание СМИ и публики, и в ее глазах она сильно
«поднялась в цене». Из чиновницы-аферистки Васильева превратилась в тонкую
художественную натуру, поэтессу, живописца, в светскую львицу и жертву не¬
счастной любви68. Но, кажется, всех превзошла афро-россиянка Анжела Ермакова.
В 1999 г. в подсобке модного лондонского ресторана Nobu она соблазнила из¬
вестного немецкого теннисиста Бориса Беккера на оральный секс, сохранила
сперму, искусственно оплодотворилась, родила девочку и в 2001 г. по суду полу¬
чила от спортсмена 20 млн фунтов стерлингов отступных и квартиру в Лондоне,
доказав с помощью генетической экспертизы его отцовство. А потом в телевизи¬
онной передаче подробно и безо всякого стеснения рассказала о том, как она это
сделала, а также поделилась бесценным опытом о пятиминутном романе в своей
книге, которую перевели на несколько языков и издали большими тиражами69.
По заключению социологов и психологов рационализация человека и общест¬
венных отношений, характерная для модерна, ведет к росту жестокости, преступно¬
сти, аморальности человека и общественных отношений70, потому что место совес¬
ти, страха и греха у многих людей занял меркантильный расчет. В пореформенной
России, когда модернизация ускорилась, уровень преступности с 1851—1860 по
1901—1910 гг. (за 50 лет) увеличился почти в 2,4 раза (см. табл. 10.8 в гл. 10 «Право
и суд, преступление и наказание» наст, изд.), самоубийств с 1858—1862 по 1906—
1910 гг. — в 1,4 раза71. Еще больший рост девиантности наблюдался в постсовет¬
ское время: с 1981—1985 по 2006—2010 гг. (менее чем за 30 лет) уровень преступ¬
740
Делает ли модернизация человека счастливее?
ности возрос в 2,6 раза, уровень доверия упал72. Согласно исследованию ученых из
Института психологии РАН, за последние 30 дет, 1981—2011 гг., психологиче¬
ский облик наших сограждан претерпел «колоссальные изменения». В общем,
люди стали конфликтнее, злее, наглее и потеряли способность к самоконтролю.
Россияне стали втрое агрессивнее, чем до перестройки73.
После Великих реформ 1860-х гг. модернизация страны во всех областях ус¬
корилась, рост благосостояния населения стал определяющей тенденцией. Важ¬
ными факторами экономических и культурных (в смысле уровня развития гра¬
мотности, образовательной системы, науки и искусства) успехов, кроме освобо¬
ждения массы людей от крепостной зависимости и развития прав собственности,
можно считать развитие индивидуализма и рыночной экономики. Рост индиви¬
дуализма позволял более способным людям достигать максимального результата,
плодами которого пользовались все, хотя и в разной степени. Однако индивидуа¬
лизм привел к социальному разобщению, к трансформации добрых соседских
отношений в индифферентные общественные отношения: неформальность сме¬
нилась официальностью, чувство — расчетом, устная договоренность — пись¬
менным договором, постоянность взаимодействия субъектов отношений — огра¬
ниченным участием. Многие люди становились одинокими, а одиночество мало
кого делает счастливым.
Рыночная экономика, получившая развитие в посткрепостническое время, об¬
наружила свою противоречивую сущность. С одной стороны, она привела к рос¬
ту благосостояния большинства населения, с другой — к появлению людей без
средств существования в лице пролетариата, к росту имущественного и социаль¬
ного неравенства, создала множество социальных проблем, не ведомых в крепо¬
стное время. Невидимая рука рынка не увеличила удовлетворение от жизни, как не
сделала людей более счастливыми в постсоветское время, на что надеялись пере¬
довые российские граждане на заре перестройки во второй половине 1980-х гг. Мы
на личном опыте убедились в правоте К. Маркса, утверждавшего, что ради высо¬
кой прибыли капиталист пойдет на любое преступление, что роль предпринима¬
тельства в истории общества может быть не только производительной, но и не¬
производительной и даже разрушительной74. На личном опыте мы также узнали,
что при предоставлении рынку и предпринимателям полной свободы действий
государственная собственность (да нередко и частная) экспроприируется в поль¬
зу кучки олигархов, происходит резкая поляризация населения, увеличивается
слой бедных и пауперов. Как показывает опыт Германии, Швеции, Японии
и других социально-экономически продвинутых стран (иногда их называют со¬
циалистическими), рыночная экономика может быть эффективным средством
развития социального государства только в том случае, если находится под кон¬
тролем общества и государства. Здоровая рыночная система невозможна без хо¬
рошего и даже сильного правительства, потому что если частный бизнес и спо¬
собен лучше координировать экономическую деятельность, чем Госплан, то
только при наличии такого законодательства и политического порядка, которые
гарантируют исполнение договора, в равной мере защищают права собственни¬
ков и работников, производителей и потребителей, предусматривают ответствен¬
ность или эквивалентные меры за их нарушение75.
741
Заключение. Чему учит нас история имперской России
В социуме с развитой рыночной экономикой, почти 100 лет назад заметил не¬
мецкий социолог Ф. Теннис (1855—1936), рынок и поведение человека на рынке
являются моделью взаимоотношений в гражданском обществе. Гражданское
общество — это общество обмена, каждый в нем — торговец, все люди — кон¬
куренты и находятся друг с другом в состоянии «потенциальной враждебности и
латентной войны»76. В подобных условиях только строгое соблюдение закона
спасает людей от взаимного истребления. «Страх перед людьми — вот источник
любви к законам»,— сказал Люк де Клапье Вовенарг (1715—1747). Развитие ры¬
ночных отношений способствует развитию гражданского общества, так как раз¬
вивает доверие между участниками обмена в национальных рамках. Строгое со¬
блюдение закона — единственный способ предотвратить горячую войну, не по¬
зволить людям «съесть» друг друга. Почти всеобщая вежливость, которой так
восхищаются россияне, впервые попавшие на Запад, по мнению ученого, скры¬
вает факт, что «каждый думает о себе и стремится утвердить свою значимость
и добиться своей выгоды в ущерб другому. Расчет диктует соперникам догово¬
риться, чтобы оставить друг друга в покое или объединиться»77. Известный со¬
временный французский политолог П. Розанваллон изучал развитие идеи рынка
в качестве всеобщего справедливого социального регулятора и концепции обще¬
ства как рынка — саморегулирующегося, гармоничного, прозрачного для самого
себя. Автор пришел к выводу: данная концепция — утопия, созданная экономи¬
ческой наукой XVIИ в., до сих является одной из наиболее влиятельных в запад¬
ной социальной и политической мысли и составляет одну из основ современного
либерального мировоззрения78.
По мнению социолога и психоаналитика Э. Фромма (1900—1980), только в связи
с разделением труда, ростом производства, образованием излишков продуктов
и развитием рыночного хозяйства в обществе появляются сильная жестокость
и деструктивность, в то время как люди дописьменных обществ проявляли мини¬
мум деструктивности и максимум готовности к сотрудничеству и справедливому
распределению продуктов труда. Общество потребления ориентировано почти
исключительно на «простые стимулы» — накопительство, секс, садизм, нарцис¬
сизм, деструктивность. Фромм заявил о необходимости радикальных перемен —
и не только в экономических и политических структурах, но и в личностных
и поведенческих моделях, т. е. во всей системе ценностных ориентаций человека.
«Скудное потребление — это специфическая навязчивая идея эпохи бизнеса, ус¬
ловие, которое все обязаны иметь в виду. Рынок предлагает невероятное изоби¬
лие “хороших товаров”, но человек не в состоянии их приобрести, ибо на все ни¬
каких денег не хватит. Жить в условиях рыночной экономики — это значит пере¬
живать двойную трагедию, которая начинается с недостатка, а заканчивается не¬
хваткой... И потому мы обречены на тяжкий труд. И с высоты нашего нынешнего
положения мы смотрим назад, на нашего предка-охотника, и думаем: если совре¬
менный человек, имея такие технические преимущества, не может заработать не¬
обходимый для жизни минимум, то каковы же были шансы у голых дикарей с их
жалкими луками и стрелами? Поскольку мы, исходя из своих позиций и ценностей,
наделили охотников каменными орудиями труда и одновременно буржуазными
инстинктами, то их положение изначально кажется нам безнадежным»79.
742
Делает ли модернизация человека счастливее?
Таким образом, рыночная экономика является лучшей из других, известных
к настоящему времени, но также несовершенных экономических систем; точно
так же, как демократия — лучшая из всех других, также несовершенных полити¬
ческих систем. Словом, и то и другое принимается за неимением лучшего и не
может служить панацеей от всех социальных, экономических и политических
болезней. Двигаясь вперед, не стоит забывать, что почти всякое достижение со¬
провождается потерями, нередко безвозвратными. Например, рефлексия вытес¬
няла интуицию, рациональность — эмоциональность и совесть, представитель¬
ная демократия — непосредственную демократию, индивидуализм — общин-
ность и коллективизм, деловые отношения заменяли привязанность и дружбу,
законность — справедливость и т. д. Рефлексия и расчетливость снижали эмоцио¬
нальность, непосредственность, душевность. Холодный, расчетливый, безнравст¬
венный человек скорее преуспеет в жизни, чем эмоциональный, нравственный бес¬
сребреник. Первый может совершить любой поступок ради выгоды, второй следу¬
ет нравственным нормам и поэтому проигрывает, даже если он умнее и образован¬
нее. Русский крестьянин, как всякий традиционный человек, придерживался
твердых моральных принципов, был равнодушен к собственности, был уверен,
что деньги пахнут и что цель не оправдывает средства. Плохо ли это?
Приборы с успехом заменяют органы чувств, часто превосходя последние по
чувствительности и точности. Это замечательно. Но еще в начале XX в. крестья¬
нин выходил в поле босиком и подошвой своей ступни оценивал температуру,
влажность и готовность земли к севу, по приметам предсказывал погоду и уро¬
жай. Теперь такие способности утрачены, а метеослужбы предсказывают погоду
весьма неудовлетворительно. Можно ли считать это прогрессом?!
Рыночная экономика и частная собственность экономически эффективны, по¬
вышают уровень жизни, но создают другие проблемы. Индустриализация повы¬
сила производительность труда, но в то же время породила экологический кризис
и парниковый эффект, который грозит новым потопом. Где белый снег, чистая
вода, свежая зелень цветов и деревьев в российских городах и их окрестностях?!
Успехи медицины способствовали демографическому взрыву в развивающих¬
ся странах, что увеличило бедность и страдания их населения, и блокировали
действие механизма естественного отбора в развитых странах, что привело
к увеличению процента людей с хроническими и наследственными заболеваниями
и, возможно, к снижению генетического и интеллектуального потенциала людей.
Свобода — это прекрасно. Однако она открывала двери не только самодея¬
тельности и инициативе в рамках закона, но и преступному поведению. Личная
свобода, полученная в результате Великих реформ, привела почти к пятикратному
росту преступности (табл. 10.8 в гл. 10 «Право и суд, преступление и наказание»
наст. изд.). В крепостническую эпоху строгий контроль общины за поведением
своих членов, их солидарность, соседский, дружеский характер их отношений,
низкая мобильность населения, с одной стороны, сдерживали людей с крими¬
нальными наклонностями, а с другой стороны, мешали преступникам скрыться
от правосудия, народного или официального. После эмансипации общинные от¬
ношения медленно изживались, и это привело к росту отклоняющегося поведе¬
ния вообще и криминального в частности. Издержки обретения политической
743
Заключение. Чему учит нас история имперской России
свободы в 1906 г. также были велики — они стали предпосылкой для кровопро¬
литных революционных событий и Гражданской войны. Политическая свобода,
вновь обретенная человеком в постсоветской России, также имела не только по¬
зитивные, но и негативные последствия, например рост преступности, обеднение
значительной части населения и огромную имущественную дифференциацию,
падение морали, рост эгоцентризма и культа материальных потребностей, рас¬
пространение массовой культуры и других опасных тенденций власти «толпы».
В результате получается парадоксальная ситуация: модернизация (и вообще
все, что называется прогрессом) увеличивает материальное благосостояние, но
не ведет автоматически к росту ощущения счастья и удовлетворенности от жиз¬
ни. Однако стоять на месте чревато еще более серьезными проблемами. Если
многие россияне выберут благородный путь дауншифтеров, то страна может
достаточно скоро лишиться не только Арктики, Сибири и других территорий
(13 599 км из 60 932 км общей протяженности границы Российской Федерации
не оформлены в международно-правовом отношении и при определенных усло¬
виях могут стать источником военных конфликтов80), а также политической са¬
мостоятельности, как случилось с некоторыми бывшими советскими республи¬
ками. Не случайно именно технологическим и военным превосходством объяс¬
няет успехи Запада популярная ныне в США теория «военной революции»81. Ес¬
ли стать на путь развития фундаментального капитализма, то можно вернуться
в печальные, а для многих трагические 1990-е гг. В политико-экономическом от¬
ношении народный капитализм, возможно, лучший вариант развития: россиянин
любит быть производителем, владельцем и управленцем одновременно.
В психологическом отношении достойным выходом остается делать все возмож¬
ное для улучшения условий существования, но уметь радоваться достигнутым.
Если не ценить то, что имеешь, счастливыми никогда не стать.
Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит. Наша судьба — сделать
Россию могучей и процветающей, чтобы жить в ней было безопасно, комфортно
и, насколько это возможно, счастливо, чтобы Россия и россиянин звучали гордо.
Примечания
1 Нуреев Р. М, Латова Ю. В. Россия
и Европа: эффект колеи (опыт институ¬
ционального анализа истории экономичес¬
кого развития). Калининград, 2010.
2 См., например: Кожурин Ю. Ф. Мо¬
дернизаций и индустриализация России
в контексте цивилизационного и стадиаль¬
ного подхода // Индустриальное наследие :
Материалы III Междунар. конф., г. Выкса,
28 июня — 3 июля 2007 г. / В. А. Виног¬
радов (ред.). Саранск, 2007. С. 167, 169,
170, 171.
3 Вишневский А. Г. Серп и рубль : Кон¬
сервативная модернизация в СССР. М.,
1998 ; Рязанов В. Т. Уроки реформирования
в России в контексте мирового развития //
ВСПбУ. Сер. 5. Экономика. 1997. Вып. 1.
Март. С. 92—104 ; Семенов Ю. И. Россия :
Что с ней случилось в двадцатом веке //
Российский этнограф. М., 1993. С. 5—105;
Холмс Л. Социальная история России:
1917—1941. Ростов н/Д, 1994; The Dyna¬
mics of Modernization : A Study in Compara¬
tive History. New York: Harper & Row,
1966. P. 92—123 ; Fitzpatric Sh.'A) The Rus¬
sian Revolution. Oxford ; New York : Oxford
University Press, 1982. P. 135—161 ; 2) Edu¬
cation and Social Mobility in the Soviet
744
Примечания
Union: 1921—1934. Cambridge et al.: Cam¬
bridge University Press, 1979. P. 235—254;
The Transformation of Russian Society: As¬
pects of Social Change since 1861 / С. E. Black
(ed.). Cambridge, MA : Harvard University
Press, 1960.
4 Человеческий капитал — это богатст¬
во в форме знания или идей, совокупность
интеллектуальных способностей, образо¬
ванности, умений, навыков, моральных ка¬
честв, квалификационной подготовки ин¬
дивидов, которые используются или могут
быть использованы в трудовой деятельности.
5 Панарин А. С. Россия в циклах ми¬
ровой истории. М., 1999.
6 Валлерстайн И. После либерализма.
М., 2003.
7 Бриттан С. Капитализм с человечес¬
ким лицом. СПб., 1998. С. 358—383.
8 Панарин А. С. Политология. М., 1998.
С. 355—364.
9 Травин Д, Маргарин О. Европейская
модернизация: в 2 кн. СПб., 2004. Кн. 1.
С. 91.
10 Михелъс Р. Социология политических
партий в условиях демократии // Вся поли¬
тика : хрестоматия / В. Д. Нечаев, А. В. Фи¬
липпов (сост.). М., 2006. С. 158—167;
Michels R. Political Parties : A Sociological
Study of the Oligarchical Tendencies of Mo¬
dem Democracy. New Brunswick, N. J.:
Transaction Publishers, 1999.
11 Geifman A. Thou Shalt Kill: Revolutio¬
nary Terrorism in Russia: 1894—1917. Prin¬
ceton, NJ : Princeton University Press, 1997.
P.21.
12 Энциклопедический словарь Русского
библиографического института Гранат:
в 58 т. 7-е изд. М., 1910—1948. Т. 36, ч. 5.
М., 1922. С. 655—659.
13 Полтерович В. М. Стратегии модер¬
низации, институты и коалиции // ВЭ. 2008.
№ 4. С. 4—24.
14 Scott J. С. Seeing Like a State : How
Certain Schemes to Improve the Human Con¬
dition Have Failed. New Haven : Yale Univer¬
sity Press, 1998. P. 88—90; Бутенко А. П.
Историческое забегание как новация XX ве¬
ка// Социс. 1999. № 6. С. 105—112.
15 Пегов С. А., Пузаченко Ю. Г. Общест¬
во и природа на пороге XXI века // Об¬
щественные науки и современность. 1994.
№5. С. 146—151.
16 Об этом в последнее время стали го¬
ворить и писать больше, чем прежде. См.,
например: Горянин А. Б. Мифы о России
и дух нации. М., 2002 ; Гузенина С. В. Об¬
раз Родины как предмет научного анализа.
Белгород, 2013 ; Мединский В. Р.\ 1)0 рус¬
ском воровстве, душе и долготерпении. М.,
2013 ; 2) О русском пьянстве, лени и жесто¬
кости. М., 2013 ; 3) О русской демократии,
грязи и «тюрьме народов». М., 2013.
17 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющие¬
ся ценности и изменяющиеся общества //
Полис (Политические исследования). 1997.
№ 4. С. 6—32 ; Инглхарт Р., Велъцелъ К.
Модернизация, культурные изменения и де¬
мократия : Последовательность человечес¬
кого развития. М., 2011.
18 Тихонова И. Е. Мечты россиян «об
обществе» и «о себе»: можно ли говорить
об особом российском цивилизационном
проекте? // Общественные науки и совре¬
менность. 2015. № 1. С. 52—63.
19 Тигиков В. А. Отрицание России // 03.
2005. № 1 (22). С. 240—252.
20 Барт Р. Миф сегодня И Барт Р. Избр.
работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
С. 72—130.
21 Mironov В. N. The Fruits of Bourgeois
Education // Kritika: Explorations in Russian
and Eurasian History. 2009. Vol. 10, nr 4.
P. 1—14.
22 Энциклопедический словарь крылатых
слов и выражений / [авт.-сост. В. Серов].
М., 2004. URL: http://royallib.com/book/
serovvadim/entsiklopedicheskiyslovarkrila
tih_slov_i_virageniy.html (дата обращения:
03.10.2015).
23 См. табл. 22 Статистического прило¬
жения в т. 3 наст. изд.
24 Herlihy Р. The Alcoholic Empire:
Vodka and Politics in Late Imperial Russia.
Oxford : Oxford University Press, 2001.
25 Gregory P. Russian National Income:
1885—1913. Cambridge et al.: Cambridge
University Press, 1982. Перевод: Грегори П.
745
Заключение. Чему учит нас история имперской России
Экономический рост Российской империи
(конец XIX—начало XX в.): Новые под¬
счеты и оценки. М., 2003.
26 Грегори П. Экономический рост ...
С.113.
27 Сборник статистико-экономических
сведений по сельскому хозяйству России
и иностранных государств. Год 8. Пг.,
1915. С. 58—59.
28 Грегори П. Экономический рост ...
С. 97—99, 115, 156.
29 Латов Ю. В. Роль теневой экономики
в социально-экономической истории // Ис¬
торико-экономические исследования. 2006.
Т. 7, № 3. С. 9—48 ; Радаев В. Теневая
экономика России: изменение контуров //
Pro et Contra. 1999. Т. 4, №1. С. 5—24;
Грозовский Б. В тени российской эконо¬
мики. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-
opinion/finansy/55507-tenevaya-rossiya (For-
bes.ru. 6 сентября 2010) (дата обращения:
30.01.2013).
30 Кармин А. С. Культурология. СПб.,
2006. С. 223.
31 Идея самоисполняющегося проро¬
чества была развита Робертом Мертоном из
ставшей классической в социологии тео¬
ремы Томаса: Мертон Р. К. Социальная
теория и социальная структура. М., 2006;
Merton R. К. Social Theory and Social Struc¬
ture. New York : Free Press, 1968. P. 477.
32 Подробно об этом: Миронов Б. Н.
Страсти по революции : Нравы в россий¬
ской историографии в век информации. М.,
2013.
33 Толстой А. К. Собр. соч.: в 4 т. М.,
1969. Т. 1. С. 371.
34 Норт Д. Институты, институцио¬
нальные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 19 ; Аузан А. Эко¬
номика всего : Как институты определяют
нашу жизнь. М., 2013 ; Landes D. S.: 1) The
Wealth and Poverty of Nations : Why Some
Are So Rich and Some So Poor. New York:
W. W. Norton, 1999; 2) Culture Makes Al¬
most All Difference II Culture Matters : How
Values Shape Human Progress / L. Harrison,
S. P. Huntington (eds.). New York, NY : Ba¬
sic Books, 2000. P. 2—13.
35 URL: http://old.rgo.ru/2011 /04/voda-%
E2%80%93-potreblenie-i-problema-deficita/
(дата обращения: 21.08.2014).
36 В каком году воровать стали? : Круг¬
лый стол <GlobalRus.ru>. Информационно¬
аналитический портал Гражданского клуба.
2002. 25 нояб. URL: http// www.globalru.ru?
(дата обращения: 21.08.2014).
37 URL: http://www.vedomosti.ru/politics/
news/15927771 /v-dissertaciyah-po-istorii-za-
schischennyh#ixzz39cKm606b (дата обраще¬
ния: 21.08.2014).
38 Исследование было проведено в рам¬
ках курса «Социология», который я читаю
в Институте истории СПбГУ.
39 Подробно см. в гл. 7 «Община и са¬
моуправление как доминирующие формы
организации социальной жизни» наст. изд.
40 Миронов Б. Н. Благосостояние насе¬
ления и революции в имперской России:
XVIII—начало XX века. 2-е изд. М., 2012.
С. 541.
41 Зайцев А. И. Культурный переворот
в Древней Греции VII—V вв. до н. э. СПб..
1985.
42 Ну реев Р. М. Россия: особенности
институционального развития. М., 2009.
С. 111.
43 Фергюсон Н. Цивилизация : Чем За¬
пад отличается от остального мира. М.,
2014. С. 404.
44 Романов А. М. Книга воспоминаний.
М., 1991. С. 57.
45 Гуди Д. Похищение истории. М.,
2015.
46 Кстати, высказана резонная, заслужи¬
вающая обсуждения точка зрения, пред¬
лагающая отказаться от понятия револю¬
ции в оценке событий 1905 г. по двум
причинам. Во-первых, структурные рефор¬
мы, изменившие государственный строй,
произошли до того, как начались «воору¬
женные восстания», которые и принима¬
ются за революцию; во-вторых, в резуль¬
тате «революции» не произошло свержения
ни правительства, ни политической сис¬
темы: Селунская Н. Б., Тоштендалъ Р. За¬
рождение демократической культуры : Рос¬
сия в начале XX в. М., 2005. С. 322—323.
746
Примечания
47 См., например: Холодковский К. Г.
К вопросу о политической системе современ¬
ной России // Полис. 2009. № 2. С. 7—22.
48 К среднему классу относим лиц, отве¬
чавших имущественному цензу на право
участия в выборах в городские думы и земст¬
ва и в Государственную думу. В 1907 г. они
составляли около 6 % мужского населения
в возрасте 25 лет и старше. Подробнее см.
в гл. 2 «Социальная стратификация и со¬
циальная мобильность» наст. изд.
49 См., например: Шарп Д. От диктату¬
ры к демократии : Стратегия и практика
освобождения. 2-е изд. М., 2012.
50 Капелюишиков П. Спрос и предложе¬
ние высококвалифицированной рабочей си¬
лы в России: кто бежал быстрее? Часть II //
ВЭ. 2012. №3. С. 145.
51 Капелюшников П.: 1) Спрос и предло¬
жение ... С. 120—147; 2) Сколько стоит
человеческий капитал России // ВЭ. 2013.
№ 1. С. 27—47; № 2. С. 24-^6.
52 Максим Кваша. URL: http://lib.rin.ru/
doc/i/99482p.html (дата обращения: 03.10.2015).
53 Савкин М А. Доверие граждан к пра¬
восудию: состояние и перспективы // Вест¬
ник Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Ло¬
бачевского. 2013. № 6 (1). С. 317—320;
Гудков Л., Дубинин Б., Зоркая Н. Рос¬
сийская судебная система в мнениях об¬
щества // Вестник общественного мнения.
2010. № 4 (106). С. 7—44 ; Российский суд
теряет завоеванное доверие. URL: http://
pravo.ru/review/view/75723/ (дата обраще¬
ния: 10.09.2015).
54 Украинские суды пользуются мини¬
мальным уровнем доверия. URL: http://anti-
raid.com.ua/news/25153-ukrainskie-sudy-pol-
zuyutsya-minimalnym-urovnem-doveriya.html
(дата обращения: 10.09.2015).
55 URL: http://ria.ru/society/20141107/
1032140642.html; http://www.gazeta.ru/poli-
tics/2010/02/17_a_3325617.shtml (дата обра¬
щения: 10.09.2015).
56 Грязнова О. Отношение жителей Рос¬
сии к институту правоохранительных ор¬
ганов: обзор исследований последних лет.
URL: http://polit.ni/article/2006/05/l 7/militia0506/
(дата обращения: 10.09.2015).
57 URL: http://www.gazeta.ru/politics/2010/
02/17_а_3325617.shtml (дата обращения:
11.09.2015)
58 Представления, как правило, занижа¬
ют фактическое качество работы правоох¬
ранительных органов: Судебная система
России: 8 мифов о российской судебной
системе. URL: http://ruxpert.ru/%D0%A1 %
D1 %83%D0%B4%D0%B5%D0%B 1 %D0%B
D%D0%B0%D 1 %8F_%D 1 %81 %D0%B8%D
1 %81 %D 1 %82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
_%D0%A0%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %81 %D0
%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D1.84_6._.D0.
A1.D1.83.D0.B4.D0.B0.D0.BC_.D0.B2_.D0.
A0.D0.BE.D 1.81 .D1.81 .D0.B8.D0.B8_.D0.B
D.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.80.
D1.8F.D1.8E.D1.82 (дата обращения:
11.09.2015) .
59 Юридические итоги VIII Краснояр¬
ского экономического форума. URL: http://
krasn.pravo.ru/urgent/view/29970/ (дата об¬
ращения: 11.09.2015).
60 Украинские суды пользуются мини¬
мальным уровнем доверия. URL: http://
antiraid.com.ua/news/25153-ukrainskie-sudy-
polzuyutsya-minimalnym-urovnem-dove-
riya.html (дата обращения: 10.09.2015).
61 Ежедневная российская общественно-
политическая газета, выходившая в 2001—
2010 гг., с 2005 г. являлась официальным
партнером крупнейших британских изда¬
ний «The Daily Telegraph» и «The Sunday
Telegraph».
62 Уровень доверия как критерий эф¬
фективности (тезисы доклада пресс-сек¬
ретаря Верховного Суда Российской Феде¬
рации П. П. Одинцова на совещании-
семинаре судей, Москва 2009). URL:
http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=56
66 (дата обращения: 10.09.2015).
63 Беляева Л. А. Уровень и качество
жизни : Проблема измерения и интерпре¬
тации // Социс. 2009. № 1 (297). С. 33—42.
64 Антипина О. Экономическая теория
счасться как направление научных иссле¬
дований // ВЭ. 2012. № 2. С. 94—107;
Флербе М. За пределами ВВП : В поисках
меры общественного благосостояния // Там
же. № 2. С. 67—93; № 3. С. 32—51.
747
Заключение. Чему учит нас история имперской России
65 Дюркгейм Э. Общественное разде¬
ление труда. Метод социологии. М., 1991.
С. 217—237.
66 Фуко М.: 1) Воля к истине: по ту сто¬
рону знания, власти и сексуальности. М.,
1966; 2) Надзирать и наказывать: Рож¬
дение тюрьмы. М., 1999; 3) Нужно защи¬
щать общество: курс лекций, прочитан¬
ных в Коллеж де Франс в 1975—1976
учебном году. СПб., 2005 ; Делёз Ж.
Переговоры, 1972—1990. СПб., 2004.
С. 215—233 ; Бодрийяр Ж.: 1) В тени мол¬
чаливого большинства, или Конец со¬
циального. Екатеринбург, 2000 ; 2) Амери¬
ка. СПб., 2000.
67 Буровой М. Что делать: Тезисы
о деградации бытия в глобализирующемся
мире // Социс. 2009. № 4 (300). С. 14—29.
68 URL: http://www.ruscur.rU/themes/0/00/
48/4868.shtml?news/0/03/l 5/31591 (дата обра¬
щения: 21.08.2014)
69 Ермакова А. На одном дыхании:
[Русская Черная пантера о территории мил¬
лиардеров откровенно, иронично, сенса¬
ционно]. М., 2007.
70 Развернутую критику постиндуст¬
риального глобального общества как ис¬
торически тупиковой линии эволюции см.:
Бузгалин А. В,, Колганов А. И. Глобальный
капитал : в 2 т. 3-е изд. М., 2015.
71 Умершие насильственно и внезапно
в Российской империи в 1870—1874 гг.
СПб., 1882; То же в 1875—1887 гг. СПб.,
1894; То же в 1888—1893 гг. СПб., 1897 ;
Отчет о состоянии народного здравия
и организации врачебной помощи населе¬
нию в России за [1904—1914] год. СПб.;
Пг., [1906—1916]; Новосельский С. А.
Очерк статистики самоубийств // Гигиена
и санитария. 19)10. № 9, т. 1. С. 623, 626.
72 Россияне не верят друг другу. URL:
http://en.ria.ru/russia/20131221/185770814/Rus
sians-Do-Not-Trust-Each-Other—Report.html
(дата обращения: 21.08.2014).
73 URL: http://www.rg.ru/2013/12/10/port-
ret.html (дата обращения: 21.08.2014)
74 Латов Ю. В. Роль предпринима¬
тельства в истории общества: производи¬
тельная, непроизводительная и разруши¬
тельная (реферат) // Историко-экономические
исследования. 2006. Т. 7, № 3. С. 77—88.
75 Бриттан С. Капитализм с человечес¬
ким лицом. С. 44—75, 147—157.
76 Тённис Ф. Общность и общество : Ос¬
новные понятия чистой социологии. СПб.,
2002. С. 81—85. См. также: Венедикто¬
ва Т. Д. «Разговор по-американски»:
Дискурс торга в словесности США XIX
века. М., 2003 ; Экономика и социология
доверия / Ю. В. Веселов (ред.). СПб., 2004.
С. 109—134.
77 Тённис Ф. Общность и общество ...
С. 81—85 ; Экономика и социология до¬
верия. С. 109—134.
78 Розанваллон П. Утопический капи¬
тализм : История идеи рынка. М., 2007.
С. 213—250.
79 Фромм Э. Анатомия человеческой
деструктивности. М., 2012. URL: http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/from_
an/02.php (дата обращения: 21.08.2012).
80 Доценко А. А. Проблемы спорных тер¬
риторий («серых зон») и исторические ас¬
пекты их возникновения // Клио. 2002. № 1
(16). С. 132—138. См. также: Дьяконова Н. А.,
Чепелкин М. А. Границы России в XVII—
XX веках : ист. очерк. Приложение к «Ис¬
тории России». М., 1995.
81 Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь:
Судьбы человеческих обществ. М., 2010.
С. 358—444; Мак-Нил У. В погоне за
мощью: Технология, вооруженная сила
и общество в XI—XX веках. М., 2008;
Тилли Ч. Принуждение, капитал и европей¬
ские государства, 990—1992 гг. М., 2009;
Black J. A. Military Revolution? : Military
Change and European Society, 1550—1800.
London: Macmillan, 1991 ; Parker G. The
Military Revolution : Military Innovation and the
Rise of the West, 1500—1800. Cambridge,
Eng.; New York: Cambridge University
Press, 1988.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ СРАВНИТЕЛЬНО
С ДРУГИМИ СТРАНАМИ В XIX—XX вв.
Статистическое приложение включает 50 таблиц, которые содержат основные
показатели демографического, социального, экономического и культурного раз¬
вития России по сравнению с другими великими державами. Жизнь каждого об¬
щества так многообразна, что пришлось сделать строгий отбор материала с со¬
держательной и с хронологической точки зрения. В этом отборе я руководство¬
вался следующим: информация, заключенная в таблицах, должна быть важной
и интересной. Исходя из этого, было выбрано 7 аспектов жизни общества: насе¬
ление, культура и образование, жизненный уровень, национальный доход, сель¬
ское хозяйство, транспорт и связь, преступность и самоубийства.
Почти все данные приводятся для 7 стран — России (1917—1991 гг. —
СССР), Австрии (бывшей до Первой мировой войны великой державой), Вели¬
кобритании, США, Германии (1945—1990 гг. — ФРГ без восточных земель),
Франции и Японии — на важные для истории России и других стран даты: сере¬
дина XIX в. — начало Великих реформ в России; 1880-е гг. — вступление России
в период интенсивного развития капитализма; 1913 г. — канун Первой мировой
войны; 1927—1929 гг. — фактический конец нэпа, канун мирового экономиче¬
ского кризиса и коллективизации; 1937—1940 гг. — канун Второй мировой вой¬
ны; 1950—1953 гг. — завершение восстановительного периода и начало нового
этапа научно-технической революции; 1985—1988 гг. — высшая точка развития
Советского Союза накануне его распада. В ряде случаев данные приводятся и на
промежуточные даты, чтобы четче отразить изменения.
Приводимые данные концентрируют как объективную информацию, так и мысли
людей, их собиравших и обрабатывавших. Поэтому я надеюсь, что они без лишних
слов расскажут о том, о чем я не успел или не смог рассказать в книге, в особен¬
ности о советской модернизации.
Во всех таблицах отточие означает отсутствие сведений, тире — отсутствие
явления.
749
Население некоторых стран в XV—XX вв. (млн)1
S'
а
I
Территория всех стран дана в изменяющихся границах.
Территория и население России в X—XX вв.
<4
S'
3
V§
£
1987 г.
21,4
282
13,2
Европейская часть
5,0
189
К
СП
1950 г.
21,4
179
сн
оо
5,0
130
4С
<4
1940 г.
21,1
194
СЧ
04
5,0
152
30,4
1926 г.
20,7
147
1>
4,6
СН
24,5
1916 г.а
21,3
m
7,1
5,0
123
VO
СЧ
л
и
Г"
чО
00
04
74
оо
СП
5,0
65
13,0
л
и
•П
04
Г"
16,6
ч-
СП
2,3
<0
1П
<ч
VO
СП
7,2
1719 г.
14,5
15,7
4,3
1П
1П
СП
1646 г.
6,7
Ш
о"
1П
40"
1,6
1550 г.
00
4,5
1,6
ОО
ri
4,5
VO
1462 г.
o'
2,5
ОО
1П
o'
1П
5,8
1000 г.
-
3,0
2,5
<0
СП
in
CN
Показатели
Территория, млн км26
Население, млн
Человек на 1 км2
Территория, млн км26
Население, млн
Человек на 1 км2
g
<D
uo
s
e
n
о
C
ro
<D
UO
E
3
V§
S
a
a
CD
О
CD
CD
X
X
X
CD
X
C9
s
C9
a
b
о
о
ё
s
s
OS
s
г
s
о
ee
s
V
о
s
H
о
4
сз
1987 г.
13,2
04
к
СП
о
04
233
239
26,0
о
328
1970 г.
11,3
29,2
О
04
228
236
tzz
СП
04
277
1950 г.
8,3
26,1
СП
ОО
207
193
19,6
40
229
1930 г.
7,5
24,5
о
ОО
189
139
15,9
40
40
1913 г.
1П
24,4
04
182
124
12,3
145
с
о
00
00
ю
°°„
СП
13,0
3
СЧ
ч-
ОО
in
40"
04
40
106
1820 г.
2,4
К
ОО
СП
VO
40
ОО
ч-
2,1
ш
п
ОО
1680 г.
CN
о"
4,7
сч
СП
40
o'
40
СП
1500 г.
л
ОО
in
5,8
:
СП
сч
1
СП
I XI в.
2,5
2,5
ч-
1
I Страна
Россия
В том числе Европейская часть
5
6
03
<
Великобритания
с*:
К
S
S
о.
<L>
U
США
К
а?
ас
й
о.
в
Япония
Источники указаны в примем, к табл.
Городское население в некоторых странах в XIX—XX вв. (%)
а
S'
з
V§
Й
1987 г.
66,0
rt
VO
vO
ю
чо"
в
о^
ON
U
ол
Ч
О^
СП
и
о
К
1970 г.
56,0
51,0
79,1
<ч
<4
ОО
in
СП
о
о"
о^
СП
VO
1950 г.
39,0
49,1
m
o'
оо
ON
о"
о^
VO
54,4
in
к
СП
1930 г.
23,3
o'
оо
66,0
56,2
49,0
о^
(Ч
СП
1920 г.
15,0
Ол
оо
ON
<N
VO
51,4
46,7
оо
1890 г.
12,5
32,5
<N
47,0
|>
СП
37,4
1850 г.
7,2
оо
1П
39,5
26,5
12,0
14,4
U
О
О
00
1П
оо
4,4
21,3
3,8
9,5
17,0
Страна
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
: ~
u « !С
X *3 ^
Ч-l
О г
сd <
и
^ О .
2 О
Д f w
Й С
c-Q d> о
- * U
g. 2 .S
s xi -с
“9-й
§>£
1g
Q 2
' CAJ
, |
> Ь
С
о .
Ssf
3 I
СП
•о
1> -
■ +-> Оч
с ^
D и
-С rf
<4
00
ON
о
00
ON
no
00
ON
г-
ON
00
г-
ON
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Таблица 5
Общие коэффициенты рождаемости (А), смертности (Б), младенческой смертности
(В) в некоторых странах в XIX—XX вв. (на 1000 человек населения)
Страна
1800-е г.
1850-е гг.
1880-е гг.
1900-е гг.
1920-е гг.
Россия
А
50,3
51,5
50,3
47,2
44,0
Б
36,8
39,8
35,4
30,2
22,9
В
272а
268
250
206
Австрия
А
39,5
37,8
38,0
34,9
20,5
Б
28,2
32,1
29,5
23,7
15,7
В
188
250
249
213
129
Великоб-
ританияв
А
34,1
32,9
28,7
19,3
Б
22,1
19,2
16,9
12,2
В
155
142
132
73,8
Г ермания
А
38,3
35,4
37,0
33,6
21,1
Б
25,2
26,6
25,3
19,3
12,9
В
294г
292
228
193
112
США
А
57,7
45,3
39,8
31,2
25,0
Б
19,5Д
18,4
15,8
11,9
В
127е
160г
96,5я
73,1
Франция
А
32,0
26,4
24,2
20,7
19,1
Б
28,0
23,9
22,1
19,8
17,2
В
185е
172
167
137
101
Япония
А
26,9
32,1
34,1
Б
19,6
20,9
20,6
В
148
Продолжение табл. 5
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1980-е гг.
Россия
А
34,6
25,9
20,0
19,3
Б
18,0
8,5
7,4
10,3
В
ш5
60,9
29,0
20,8
Австрия
А
14,9
15,9
17,9
11,6
Б
13,7
12,4
12,8
11,9
В
93,6
49,0
29,7
11,7
Великобритания8
А
15,1
15,7
17,6
13,3
Б
12,0
11,6
11,7
11,7
В
59,0
26,0
19,8
10,0
Г ермания
А
17,8
16,1
17,3
10,0
Б
11,4
11,0
11,6
11,5
В
75,1
44,0
26,4
10,3
США
А
19,2
24,8
20,3
15,7
Б
11,0
9,5
9,5
8,7
В
56,8
27,3
24,0
11,3
Франция
А
15,9
18,0
17,5
14,3
Б
15,5
12,2
11,1
10,1
В
75,0
40,0
23,3
8,7
753
Статистическое приложение
Окончание табл. 5
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1980-е гг.
Япония
А
30,2
19,8
17,7
12,4
Б
17,6
8,2
7,0
6,2
В
114
42,0
19,4
6,i
Источники: Бечаснов П. Статистические данные о разводах и недействительных браках
за 1867—1886 гг. // Статистический временник Центрального статистического комитета Ми¬
нистерства внутренних дел. 1893. № 26. С. 16—17, 32—33 ; Народное хозяйство Союза ССР
в цифрах : крат, справ. М., 1924. С. 33—34 ; Народонаселение стран мира / Б. Ц. Урланис
(ред.). М., 1974. С. 94—122 ; Народонаселение стран мира / Б. Ц. Урланис (ред.). 2-е изд. М.,
1978. С. 67—184 ; Население СССР, 1987. М., 1988. С. 127—128 ; СССР и зарубежные страны,
1987 : стат. сб. М., 1988. С. 348—349; Annuaire statistique de la France, [1950—1989]. Paris,
[1950—1989] ; Demographic Yearbook of the United Nations, 1952. New York, 1952. P. 424—437 :
Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1.
P. 44—64 ; Japan Statistical Yearbook, 1988. Tokyo, 1988. P. 51 ; Mitchell B. R.\ 1) European His¬
torical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 104—134 ; 2) International Historical Statistics:
Africa and Asia. New York, 1982. P. 75—82 ; Mulhall M. G. The Dictionary of Statistics. London,
1892. P. 217—226 ; Statistical Yearbook of the League ofNations, 1931. Geneve, 1931. P. 51 ; Webb
A. D. The New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of MulhalFs «Diction¬
ary of Statistics». London, 1911. P. 217, 384.
1860-е гг. 6 1940 г.в Англия и Уэльс.г 1830-е гг. д Штат Массачусетс.е 1915—1919 гг.
Таблица 6
Общие коэффициенты брачности (Б) и разводи мости (Р)
(вступивших в брак и разведенных на 1000 человек населения)
Страна
1800-е гг.
1850-е гг.
1880-е гг.
1900-е гг.
1920-е гг.
Россияа
Б
19,8
20,6
18,4
17,0
19,7
Р
0,028в
0,032
0,029г
2,0Д
Австрия
Б
16,2
15,9
15,6
15,6
18,3
Р
0,1 Г
0,02
0,02
Великобритания®
Б
16,9
14,9
14,0
16,0
Р
0,01
0,03
0,04
0,2
Г ермания
Б
16,4
15,7
15,5
16,1
19,3
Р
СВ
ОО
o'
0,25
0,4
1,1
США
Б
19,2В
17,4
21,0
21,0
Р
0,60в
0,84
1,6
3,1
Франция
Б
15,1
16,0
14,8
15,5
19,3
Р
0,04
0,07
0,18
0,5
1,1
Япония
Б
16,3
17,5
16,9
Р
2,2
1,7
Продолжение табл. 6
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1980-е гг.
Россия
Б
12^
23,7
21,8
20,1
Р
2,6
1,8
4,1
6,8
754
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Окончание табл. 6
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1980-е гг.
Австрия
Б
17,2
16,5
16,0
12,0
Р
0,5
2,6
2,4
3,8
Великобритания6
Б
17,0
15,7
15,6
14,2
Р
0,2
1,2
i,6
6,1
Г ермания
Б
18,8
18,7
17,0
12,0
Р
1.4
2,0
1,9
3,8
США
Б
19,6
19,0
18,6
20,4
Р
3,3
4,7
5,3
10,0
Франция
Б
14,2
14,5
14,1
10,6
Р
U
1,5
1,3
3,7
Япония
Б
16,0
16,7
19,3
12,6
Р
1,4
1,7
1,6
2,8
Источники указаны в примем, к табл. 5.
а В 1800—1900-е гг. среди населения православного вероисповедания. 6 1940 г. в 1860-е гг.
г 1912 г. д 1920—1923 гг.е Англия и Уэльс.
Таблица 7
Ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении мужчин (М)
и женщин (Ж) в некоторых странах в XIX—XX вв. (лет)
Страна
1840-е гг.
1870-е гг.
1880-е гг.
1890-е гг.
1900-е гг.
1920-е гг.
Россия
М
24,6
28,0
29,0
30,8
32,4
41,9
Ж
27,0
30,2
31,0
32,6
34,5
46,8
Австрия
М
39,1
Ж
41,1
Великобритания
М
40,2
41,9
43,7
48,5
51,5
55,6
Ж
42,2
45,2
47,2
52,4
55,4
59,6
Г ермания
М
35,6
44,8
47,4
56,0
Ж
38,4
48,3
50,7
58,8
Нидерланды
М
29,За
38,4
51,0
55,1
61,9
Ж
35,Г
40,7
53,4
57,1
63,5
США
М
38,3
41,7
42,5
48,2
48,7
57,3
Ж
40,5
43,5
44,5
51,1
52,4
60,1
Франция
М
383е
40,8
45,3
48,5
52,2
Ж
40,8Ь
43,4
48,7
52,4
56,1
Швеция
М
39,5В
48,5
54,5
55,6
61,0
Ж
43,6В
51,5
57,0
58,4
63,2
Япония
М
42,8
44,3
43,4
Ж
44,3
44,7
44,9
Продолжение табл. 7
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1970-е гг.
1980-е гг.
Россия
М
44,0
64,4
64,6
63,0
63,5
Ж
49,7
71,7
73,5
73,5
73,0
755
Статистическое приложение
Окончание табл. 7
Страна
1930-е гг.
1950-е гг.
1960-е гг.
1970-е гг.
1980-е гг.
Австрия
М
54,5
69,0
71
Ж
58,5
76,0
78
Великобритания
М
58,7
67,5
66,8
68,9
72
Ж
62,9
73,0
75,1
75,1
77
Г ермания
М
59,9
64,5
67,3
67,4
71
Ж
62,8
68,5
73,6
73,8
78
Нидерланды
м
65,7
71,4
71,1
71,2
73
ж
67,2
74,8
75,9
77,2
80
США
м
62,0
66,7
67,1
67,4
71
ж
65,4
73,1
74,8
75,1
78
Франция
м
55,9
65,0
67,8
68,6
72
ж
61,6
71,2
75,0
76,4
80
Швеция
м
63,8
70,5
71,6
72,2
74
ж
66,1
73,4
75,7
78,1
80
Япония
м
46,9
63,9
69,1
70,5
75
ж
49,6
68,4
74,3
75,9
80
Источники: Воспроизводство населения СССР. М., 1983. С. 61; Население СССР,
1987. М., 1988. С. 426—427 ; Урланис Б. Ц. Эволюция продолжительности жизни. М, 1978.
С. 53—54 ; Demographic Yearbook of the United Nations, 1950. New York, 1950. P. 54—63 ; Idem,
1952. New York, 1952. P. 448—451 ; Idem, 1955. New York, 1955. P. 53 ; Statistical Yearbook of
the League of Nations, 1937—1938. Geneve, 1938. P. 48—50 ; Webb A. D. The New Dictionary of
Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of Mulhall’s «Dictionary of Statistics». London,
1911. P. 372 ; Wolftinsky Wl. S., Woytinsky E. S. World Population and Production: Trend and Out¬
look. New York, 1953. P. 182—183.
a 1816—1825 гг. 6 1817—1832 гг.B 1816—1840 гг.
Таблица 8
Эмиграция (Э), иммиграция (И) и сальдо миграции (С) в некоторых странах
в XIX—XX вв. (суммарные данные, тыс.)
Страна
1815—
1851—
1861—
1871—
1881—
1891—
1850 гг.
1860 гг.
1870 гг.
1880 гг.
1890 гг.
1900 гг.
Э
—
234
46
129
288
481
Россия
И
112
132
461
510
320
99
С
112
-102
415
381
32
-382
)
Э
37
46
40
100
248
440
Австрия
И
7
С
-37
-39
-40
-100
-248
-440
Великобрита-
ния
э
2505
3365
2827
2586
3364
2192
и
90
254
650
831
1016
с
-2505
-3455
-2573
-1936
-2533
-1176
э
387
671
779
626
1343
530
Г ермания
и
с
-387
-671
-779
-626
-1343
-530
756
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Продолжение табл. 8
Страна
1815—
1850 гг.
1851—
1860 гг.
1861—
1870 гг.
1871—
1880 гг.
1881—
1890 гг.
1891—
1900 гг.
США
Э
—
—
—
—
—
—
И
2464
2599
2314
2812
5250
3688
С
2464
2599
2314
2812
5250
3688
Франция
Э
27
46
66
119
51
И
с
-27
-46
-66
-119
-51
Продолжение табл. 8
Страна
1901—1910 гг.
1911—1914 гг.
1973—1980 гг.
1981—1988 гг.
Россия
э
911
430
232
145
И
117
163
С
-794
-267
-232
-145
Австрия
э
1111
418
550
96
и
50
96
с
-1111
-418
45
96
Великобритания
э
2678
1685
2256
841
и
1326
850
1896
758
с
-1352
-835
-360
-83
Г ермания
э
281
91
5390
2066
и
6713
1875
с
-281
-91
1323
-191
США
э
—
—
—
—
и
8795
4132
5030
2640
с
8795
4132
5030
2640
Франция
э
53
32
6409
1240
и
7836
1559
с
-53
-32
1427
319
Источники: Аргументы и факты. 1989. № 40. С. 2 ; Demographic Yearbook of the United
Nations, 1977. New York, 1977. P. 490—521 ; Idem, 1985. New York, 1985. P. 1033—1062; His¬
torical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1.
P. 105—106 ; Mitchell B. R. European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 137—
148 ; Mulhall M. G. The Dictionary of Statistics. London, 1892. P. 245.
Таблица 9
Грамотность мужчин (M) и женщин (Ж) в возрасте старше 9—15 лет
в некоторых странах в XVII—XX вв. (%)а
Страна
1600 г.
1700 г.
1800 г.
1850 г.
1889 г.
1913 г.
Россия
М
4—8
19
31
54
Ж
2—6
10
13
26
Австрия
М
33е
74
8Г
Ж
195
60
75в
Великобритания
м
24е
47°
68е
72е
9?
99°
ж
1Г
3?
43ь
45й
89ь
99е
757
Статистическое приложение
Продолжение табл. 9
Страна
1600 г.
1700 г.
1800 г.
1850 г.
1889 г.
1913 г.
Г ермания
М
00
о
о
86е
97е
99
Ж
о
О
84й
95й
99
США
м
65°
70ь
81
88
93
ж
33*
45°
76
85
93
Франция
м
16°
29е
47°
69й
89е
95е
ж
14°
27е
46ь
81е
94е
Япония
м
54—75в
97
98е
ж
19—21в
Продолжение табл. 9
Страна
1920 г.
1939 г.
1959 г.
1980 г.
Россия
М
58
94
99,1
99,8
Ж
32
82
97,5
99,8
Австрия
м
99,5
ж
99,5
Великобритания
м
98
99,5
ж
98
99,5
Г ермания
м
98
99,5
ж
98
99,5
США
м
94
96
98
99,5
ж
94
96
98
99,5
Франция
м
95
95
96
99,5
ж
93
96
96
99,5
Япония
м
98е
99е
99,0
99,5
ж
97
96,7
99,5
Источники: Кольб Г. Ф. Руководство к сравнительной статистике. СПб., 1862. Т. 1.
С. 35, 91, 127, 156 ; Миронов Б. Н. Грамотность в России 1797—1917 годов // ИСССР. 1985.
№ 4. С. 149 ; Народное образование, наука и культура в СССР : стат.сб. М., 1977. С. 9—12;
СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 83 ; Страны социализма и капитализ¬
ма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1966. С. 203 ; Dore R. Р. Education in Tokugawa Japan. Berke¬
ley, 1965. P. 291; Oraff H. J. The Legacies of Literacy : Continuities and Contradictions in Western
Culture and Society. Bloomington, 1987. P. 148—200, 231—250, 265, 313 ; Historical Statistics of
the United States: Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 370, 380, 382 ; Japan
Yearbook, 1938. Tokyo, 1938. P. 216 ; Mulhall M. G. The Dictionary of Statistics. London, 1892.
P. 231—243 ; Statistical Abstract of the United States, 1981. Washington, D. C., 1981. P. 873 ; Statis¬
tical Yearbook of the League of Nations, 1931. Geneve, 1931. P. 47 ; Statistical Yearbook : Prepared
by the Statistical Office of the United Nations, 1949. New York, 1949. P. 492—494 ; Statistical
Yearbook : Prepared by the Statistical Office of the United Nations, 1955. New York, 1955. P. 567—
568; Stone L. Literacy and Education in England, 1640—1900 // Past and Present. 1969. Nr 42.
P. 69—134 ; Webb A. D. The New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of
Mulhall’s «Dictionary of Statistics». London, 1911. P. 314.
a В России грамотность — умение читать, в прочих странах — умение читать и писать.
0 Грамотность населения в возрасте старше 20 лет. в Процент детей школьного возраста, посе¬
щавших школу.
758
Численность учащихся начальных и средних общеобразовательных школ в некоторых странах в XIX—XX вв.
а
S'
й
iS
г-
00
04
О
г-
04
О
04
О
сп
04
О
cn
04
СП
CN
00
сп
rf
сп
On
On
rf
CN
»n
<N
»n
in
cn
o
*
00
00
*
40
m
cn
CN
<N
CN
CN
»n
40
04
О
»n
00
о
in
о
On
О
40
4J
3
a*
Q
э*
p0
5
о
о
a:
a:
s
£
О
ON
00
о
40
00
о
00
я
cn
40
40
»n
о
CN
О
о
rf
cn
»n
40
00
CN
On
rf
CN
00
CN
cn
»n
00
CN
cn
40
Ti¬
en
CN
00
Ti-
00
о
о
й
а.
н
U
о
о
о
(X
К
X
I
о.
ю
о
ьс
S
§
QQ
X
о
с
е*
rf
in
in
CN
in
in
о
in
»-n
in
00
(N
04
CN
00
00
О
40
»n
40
(N
CN
in
rf
О
04
rf
CN
On
СП
СП
00
cn
CN
CN
СП
(N
СП
CN
^f
о
in
00
СП
(N
On
cn
On
CN
m
04
CN
CN
cn
(N
cn
cn
cn
CN
CN
in
f4
(N
О
in
40
CN
r3
40
CN
On
in
СП
CN
in
cn
00
40
»n
CN
CN
40
СП
CN
СП
40
in
cn
On
rf
00
(4
CN
40
89
in
06
108
38
»n
о
00
cn
Tf
in
00
05
s
X
Й
f-
s
X
05
Ю
s
05
w
s
Ц
s
e-
о
s
X
Й
s
<
X
05
s
X
t)
o
2
5
X
0>
a
Й
X
о
X
X
<
m
u
и
e
t*
40 £
00 0-
I g
п с
00 .о
0U* -й
• о
о
X
<L>
о
X
§
§■,
ас ...
• ^ Г'-
Г- О
оо тэ
оо Ш
^ §
^ VW 1
3 о
Й &
Н о
г i tr
и и
vo on on
•О
I
22
(О S3 » J
й
&
СЛ
X £
й . г
х ^
5 i
о
3
dl
г п
С г-
о —
1? 3
X о
и ..
U <N
(J сп
« 04
CQ р—I
S.CL
>>и
5 о
5>°
^ 2
« 6
а ж
=1 «
>> м
2 о
ас х
*£ ^
xS
Й
го <N
s 40
X U
В"
U С*
сл
в
й
— й
8®
о £
2.2$
8 ^ з
е §Я
н 8. |
.S
0-
I Е
— J*
£ CQ
• чО
о С
U ~
In Cxi
о
tg CQ
Й ^
■О *>
ED^7
<L> •г
•S ^
^ «о
cn
00
ON
in
7
х
ю
О 1П
О Г-
0 ^
1 г С
п и
о
а. г-
S3 г^-
Д ON
40 •
£ 2
и I
ON to
^ С
ii
о =
5 1
Й о
| 8
° )S
• • S
S О
г* О
fc О
X
2 «
ON S
г-
.§ 2 Л
2 х -с
сл . «с
— 00 <
S3 00 „
.2 2 СЛ
о ..2
V0 О сл
5-gi
м н ^
п! об
. 00 .
X ON
■\Л й
Н U
«
<N К
40 «
00
ю ь
^ S
— о
00 X
1—< со
X г и
m ^
ON О
— о
„ Хз
о й
о о
о
о
X
S
§о
Н 40 о U ж
СЛ
lag
О XI
—' ■г^
^ О г-
о г- .
m X
s ^
04
СП
S
S
3
Й
4
X
5
ж
о
<L>
и
S
S
§
й
X
S
0
(N
04
1
04
00
9 ^
Численность студентов высших учебных заведений в некоторых странах в XIX—XX вв.
а
S'
a
Ǥ
t2
1987 г.
Численность студентов (тыс.)
5026
00
чо
СП
чо
чо
СП
СП
<=:
»П
о
00
ОЧ
<=:
«П
ЧО
04
Численность студентов на 10 000 человек населения
178
221
<N
226
321
178
162
1970 г.
4581
00^
СП
»п
485
363
5261
673
1331
189
СП
00
62
»n
<N
132
129
1950 г.
1247
24,8
102
*
<N
О
СП
<N
140
о
о
70
чо
СП
<N
СП
<N
149
34
48
1940 г.
812
*К
оо"
44,0
§
1420
76,5
245
42
27
04
108
04
34
1930 г.
ZLZ
<4
62,3
128
78,7
182
32
20
On
00
<N
1920 г.
215
в
<3
<ч"
(N
S
о
On"
»п
Оч
09
О
»n
m
04
On"
tJ-
о
о"
00
чо
34
20
in
СП
1913 г.
ю
Г"-
<ч
<ч"
ЧО
On"
42,0
56,0
00
tj-
<N
-
1890 г.
<ч
«п
<ч
17,5
и
СП
оо"
<N
и
о"
ЧО
19,6
<3
in
<N
ЧО
о
in
•J 0981
»п
оо"
оо"
s
СП
Г-"
5
СП
-
<N
-
Страна
Россия3
Австрия
Великобританияд
Г ермания
США
Франция
Япония
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
Ю Н
О 2
г: &
Ч 00
О 2
чо
Си
и
U
U <и
)Х ю
S
S §•
X м
О *
X Си
9 ^
2U
§*о
ас •-
.. г»
£ Й
и и
Г-
ON 2
•8 g.
н §
Си w
со
сЗ Си
O-U
b и
5 и
b§
X &
S )X
03 oc
s ^ .2
Й О Й
5^.
- SP
®Z2
П
• О ^
U £: о
^ о
чо T •£
S; I «3
2 O «
"Si
*5 — сз
^ СЛ .2
e .2
й -B1
У 5 ^
% о
2 _ о
i й 71
x о w
a -p c
§ о Э
О и
с52
§ с^Г
О. сз
о <L> А
Н 0.00
СО о ®
им и.
• 3
Он Щ й,
и
и
и •:§
СО —
12 *
* ■§ *
5 .« и
5 ^ z
^ 00 ‘
>Х «Л
So'
О ^
и
X —
£Н‘
2Н
03 40
4 40
« оо
с *—
к
Й*
X
§
§■
8 *
#£
°о
|Е
х ~
S ON
оо
к
х и
9 оо
о оо
ас оз
х 73 ^
а-с °§
g 2 “
I ^ ~
х ап
^ й Й
s §а-
s '1 оо
*£ g оо
5 Е 2
О 1)
£М в
Я>
% м2
X •*
= оо о
^ VO
« (Л
£ >| Р
" I о;
:2 gvo
. х Р-
Ю Н ON
О О —
а 1860—1913гг. — Россия с Польшей. 6 1914г. в 1921 г. г 1936 г. д 1890—1950 гг. — без Ирландии. е 1888 г. ж 1922 г. 3 1985 г. и 1865 г.
1951 г. л 1986 г. м 1873 г.
Массовые библиотеки в некоторых странах в XIX-
1980—1985 гг.
| Число библиотек (тыс.) I
Г 134,1 |
(N
сч
о
40
o'
о
оС
ю
40
СП
00
Ы±1
ГЧ
Ю
Число томов в библиотеках (млн)
\ 2163 |
о
СП
4D
| 440 |
4D
1 Ю5 1
Число томов на одного человека
00^
04
о"
СП
(N
СП
©^
ri
(N
<*
©
1970 r.
1 128,1 |
Г 0,295 |
| 0,562 1
<ч
ГЧ
00
04
1 0,837 |
о"
| 1307 1
<3
I 158 1
00
СП
1 29,6 1
СП
СП
o'
00
©"
1 0,8 |
©
СП
©
1950 r.
1 123,1 |
[ 0,972 |
Г 244
1 Гб I
1 Го 1
1940 r.
1 95,0 |
00
о
:
во
04
и
1 185 |
1 124 |
I 12,3 1
04
©"
(N
©"
1913 r.
1 14,0 |
1 0,544 |
о
<3
СП
4D
о"
40
©
©
1880 r.
1 0,145 |
1 0,577 |
| 0,202 |
тГ
О
»П
О
1 0,059 |
1 0,505 |
| 0,950 |
СП
СП
00^
СП
rf
СП
сч"
СП
©
o'
1 Го |
©
1 0,09 1
I 0,05 I
сч
©
u
OO
00
0,012 |
о
o'
00
ГЧ
О
о*4
о
00
о
o'
| 0,020 |
о
о*4
1 0,451 |
гч
гч
»П
СП
I 0,600 J
1 4,0 |
о
о
o'
1 0,07 J
40
о
©"
1 0,09 I
СП
©
©"
1 ГО |
Страна
| Россия |
I Австрия I
1 Великобритания J
| Г ермания |
|США I
| Франция |
|Япония 1
I Россия 1
«
5
6
со
<
Великобритания
Г ермания 1
|США I
I Франция
I Япония 1
I Россия I
Австрия
I Великобритания 1
S
3
S
а
<L>
U
США
Я
я
Я
03
а
е
Япония
Источники: Народное образование, наука и культура в СССР : стат. сб. М., 1977. С. 319, 328 ; Статистический ежегодник стран —
членов Совета Экономической Взаимопомощи, 1988. М., 1988. С. 441—442; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 462; Idem,
1975. Tokyo, 1975. P. 574 ; Idem, 1988. Tokyo, 1988. P. 681 ; Japan Yearbook, 1915. Tokyo, 1915. P. 276—277 ; Idem, 1924. Tokyo, 1924. P. 225 ;
Idem, 1931. Tokyo, 1931. P. 185 ; Idem, 1934. Tokyo, 1934. P. 950; Idem, 1938. Tokyo, 1938. P. 715 ; Mitchell B. R. International Historical Sta-
tistics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 355 ; Statistical Abstract of the United States, 1941. Washington, D. C., 1950. P. 938 ; Idem, 1951. Washing¬
ton, D. C., 1951. P. 126; Idem, 1961. Washington, D. C., 1961. P. 131 ; Idem, 1971. Washington, D. C., 1971. P. 131—132 ; Statistical Yearbook :
Prepared by the Statistical Office of the United Nations, 1988. New York, 1988. P. 300—302.
cn
Os
u
00
r-
Os
ю
u
»n
Os
a
£
©
00
I
ON
X
08
x
08
V
X
3
a
1
X
X
A
X
A
§
X
В
S
о
a
x
ef
о
X
(j
a
x
'i
s
s
4
Ю
s
in
Великобритания
1980 г.
rf
281
4,9
1963 г.
2,7
178
99
<ч
СП
Австрия
1984 г.
»П
72
чо"
СП
ON
СП
ОО
о"
-
1971 г.
32
22,9
СП
тГ
Россия
1985 г.
184
4237
23,0
15,2
109
39
1970 г.
187
2865
15,3
11,8
Показатели
Число библиотек, тыс.
В них томов, млн
На одну библиотеку томов, тыс.
На одного жителя томов
Численность читателей, млна
Численность читателей от всего населения страны, %
Япония
1984 г.
5,0
428
40
00
«п
СП
11,0
04
1971 г.
4,5
158
35
»п
Франция
1983 г.
СП
rf
203
00
00
3,7
чо"
с
г7
04
©^
(N
59
2,3
Германия
1983 г.
©~
L9Z
26,4
4,5
6,2
©
1966 г.
24,6
160
СП
чо~
2,7
США
1978 г.
13,8
1686
122
К
1970 г.
00
(N
СП
126
VO
СП
ю
СП
(N
ю
40
Показатели
Число библиотек, тыс.
В них томов, млн
На одну библиотеку томов, тыс.
На одного жителя томов
Численность читателей, млна
Численность читателей от всего населения страны, %
Источники: Statistisches Handbuch fur die Republik Osterreich, 1988. Wien, 1988. S. 130; Unesco Statistical Y earbook, 1972. Paris, 1972.
Tab. 7 ; Idem, 1987. Paris, 1987. Tab. 7 ; Idem, 1988. Paris, 1988. Tab. 7.
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Таблица 14
Выпуск книг и брошюр в некоторых странах в XIX—XX вв. (тыс. наименований)3
Страна
1828—
1832 гг.
1888—
1889 гг.
1913 г.
1930 г.
1940 г.
1950 г.
1970 г.
1987 г.
Россия
0,764
7,247
30,1
47,4
45,8
43,1
78,9
83,0
Австрия
1,489е
3,788
4,781
9,786
Великобритания
1,060
6,330
12,4
14,4В
16,1б
17,1
33,4
52,9Г
Г ермания
5,530
17,5
23,2
27,6
25,46
14,1
45,4
54,4Г
США
1,013
4,322
12,2
10,0
11,3
11,0
36,1
77,0Д
Франция
4,640
7,350е
11,5'
8,1б
10,0
22,9
37,9Г
Япония
9,8Ж
22,5
32,0
15,0
26,6
45,4Г
Источники: Народное образование, наука и культура в СССР : стат. сб. М, 1977. С. 401,
410, 411, 419, 427 ; Народное хозяйство СССР, 1932 : стат. справ. М., 1932. С. 541, 543 ; СССР
и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 95—96 ; СССР и капиталистические страны :
Статистический сборник технико-экономических показателей народного хозяйства СССР
и капиталистических стран за 1913—1939 гг. М.; Л., 1939. С. 110—111 ; Статистический еже¬
годник стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи, 1988. М., 1988. С. 447—451 ;
Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1957. С. 111—112 ; Ап-
nuaire statistique de la France, 1966. Paris, 1966. P. 335, 336 ; Historical Statistics of the United
States: Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 2. P. 809—810 ; Japan Statistical Year¬
book, 1956. Tokyo, 1956. P. 459—461 ; Idem, 1960. Tokyo, 1960. P. 473 ; Idem, 1975. Tokyo, 1975.
P. 582; Idem, 1988. Tokyo, 1988. P. 582, 675, 683, 684; Japan Yearbook, 1914. Tokyo, 1914.
P. 323 ; Idem, 1915. Tokyo, 1915. P. 322—326 ; Idem, 1924. Tokyo, 1924. P. 276, 280 ; Idem, 1931.
Tokyo, 1931. P. 937; Idem, 1934. Tokyo, 1934. P. 937, 954, 955; Idem, 1938. Tokyo, 1938.
P. 825—829, 832 ; Mitchell B. R. International Historical Statistics : Africa and Asia. New York,
1982. P. 464—467 ; Statistical Yearbook : Prepared by the Statistical Office of the United Nations,
1948. New York, 1948. P. 447—453 ; Idem, 1949. New York, 1949. P. 512 ; Idem, 1953. New York,
1953. P. 536—542 ; Idem, 1971. New York, 1971. P. 785—786; Idem, 1972. New York, 1972.
P. 796—798 ; Idem, 1983. New York, 1983. P. 447-^53 ; Idem, 1985. New York, 1985. P. 303—306.
a В 1971 г. в СССР доля брошюр составляла 46 %, в Австрии — 17, в ФРГ — 18, во Фран¬
ции — 23, в Японии — 2%. За рубежом из числа книг исключены официальные издания.
6 1937 г. ‘ 1928 г.г 1985 г. д 1981 г.е 1869 г.ж 1920 г.
Таблица 15
Выпуск газет в некоторых странах в XIX—XX вв.
Страна |
| 1840 г.а |
1890 г.а
| 1913 г. ]
| 1930 г. |
| 1940 г. | 1950 г. |
| 1970 г. | 1987 г.
Число наименований всех газет
Россия
204
667
1055
7536
8806
7831
7855
8532
Австрия
132
2233
36б
145
172в
Великобритания
493
1840
1226
1329
1140в
Г ермания
305
5500
2641
623®
1186
4^
О
Ш
США
1210
15 392
16 944г
10 176 л
13 314
12 115
11 882
9122в
Франция
776
4100
166®
1043
627в
Япония
470
1111е
5995
7728ж
186®
ю
00
о
125®'
763
Статистическое приложение
Окончание табл. 15
Страна | 1840 г.а| 1890 г.а| 1913 г. | 1930 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1970 г. | 1987 г.
Разовый тираж всех газет (млн)
Россия
0,9
3,3
35,5
38,4
36,0
142
199
Австрия
2,9
...
1,9Ь
1,8°
2,4°
2,7°
Великобритания
10,9
30,0°
55,9
67,1
Г ермания
10,1
14,8
24,6
26,0
США
5,1
14,2
67,1
91,8
96,5
120
142
107
Франция
0,1
8,7
11,8Ь
38,4
27,9
Япония
0,15
...
14,7
26,8
53,36
67,4°
Число экземпляров на 1000 человек населения
Россия
10
21
225
198
202
588
705
Австрия
72
279°
2бГ
320°
355ь
Великобритания
285
570
1247
989
Г ермания
208
285
421
437
США
221
225
677
753
737
830
690
459
Франция
3
224
282ь
512
751
Япония
4
208
322
511°
552°
Источники указаны в примем, к табл. 14.
а За 1840 и 1890 гг. приведены данные о газетах и журналах вместе. 6 Данные только о еже¬
дневных газетах.в 1982—1984 гг.г 1914 г. д 1929 г.е 1920 г. ж 1937 г.
Таблица 16
Число наименований выпускаемых журналов и других периодических изданий
в некоторых странах в XIX—XX вв.
Страна
1880 г.
1913 г.
1930 г.
1940 г.
1950 г.
1970 г.
1987 г.
Россия
389
1472
2058
1822
1408
5968
5357а
Австрия
1399
2523
2364
Великобритания
6408а
Г ермания
6689
6288
6702
США
1705
4796й
5157в
4985 г
4610д
9400
59 609а
Франция
14 300е
14 634ж
22 4433
Япония
815й
1819
4135
4324
2319
3780
Источники указаны в примем, к табл. 14.
а 1984 г. 61919 г." 1929 г. г4939 г. д 1947 г.е 1956 г. ж 1969 г.31981 г." 1885 г.
)
Таблица 17
Число абонентов радиосети в некоторых странах в XX в.а
Страна |
| 1925 г. |
| 1933 г. |
| 1938 г. |
| 1953 г. |
| 1960 г. |
| 1970 г.
1987 г.°
Число абонентов (млн)
Россия
0,092в
2,0
7,0Г
11,5
27,8
94,8
192
Австрия
0,5
0,7
1,6
1,9
2,0
4,7
Великобритания
1,4
5,5
8,6
10,8
15,2
34,7
57,0
764
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Окончание табл. 17
Страна
1925 г.
1933 г.
1938 г.
1953 г.
1960 г.
1970 г.
1987 г.6
Г ермания
1,0
4,5
9,6
ц,1
16,4
19,6
26,2
США
2,8
19,3
26,7
110
170
290
500
Франция
1,4
4,7
8,4
11,0
16,0
48,0
Япония
0,259
2,4
4,2
10,4
14,6
23,3
95,0
Абонентов на 1000 человек населения
Россия
0,61
12,0
35,9
60,9
131
380
682
Австрия
75,7
100
235
274
267
627
Великобритания
29,2
119
179
212
292
624
1007
Г ермания
16,2
68,7
139
212
294
335
443
США
23,7
153
206
701
941
1415
2092
Франция
32,9
114
197
239
316
870
Япония
4,3
34,9
58,6
119
157
225
785
Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет: юб. стат. ежегодник. М, 1987.
С. 370—372 ; Народное хозяйство СССР за 60 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1977. С. 417—
418 ; СССР в цифрах : стат. сб. М., 1958. С. 303, 371 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат.
сб. М., 1988. С. 270—271 ; СССР и капиталистические страны : Статистический сборник тех¬
нико-экономических показателей народного хозяйства СССР и капиталистических стран за
1913—1939 гг. М.; Л., 1939. С. 317, 319 ; Страны социализма и капитализма в цифрах : крат,
стат. справ. М., 1957. С. 113: Annuaire statistique de la France, 1966. Paris, 1966. P. 331 ; Histori¬
cal Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C.. 1975. Pt. 2. P. 783—
784, 796 ; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 229, 231 ; Mitchell B. R.: 1) European
Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 666—670; 2) International Historical Statis¬
tics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 566—567 ; Statistical Yearbook : Prepared by the Statisti¬
cal Office of the United Nations, 1949. New York, 1949. P. 340; Idem, 1953. New York, 1953.
P. 345—346, 545—546 ; Idem, 1955. New York, 1955. P. 601 ; Idem, 1988. New York, 1988. P. 764.
a Без учета приемников в автомобилях. В СССР радиоприемников и радиотрансляционных
точек. 6 В СССР в 1987 г., в остальных странах в 1985 г.в 1928 г. г 1940 г.
Таблица 18
Число абонентов телевидения в некоторых странах в XX в.
Страна
1940 г.
1950 г.
1955 г.
1960 г. | 1965 г.
1970 г.
1987 г.
Число абонентов (тыс.)
Россия
0,4
15
820
4800
10 500а
34 800
87 500
Австрия
1
193
711
1400
3300
Великобритания
156
344
4505
10 470
13 253
16 300
24 500
Г ермания
2
127
4635
И 379
16 700
22 700
США
8В
3875
36 180
53 600
61 900а
84 600
191 000
Франция
4
261
1902
6489
11 000
21 500
Япония
1
166
6860
18 224
22 800
70 000
Абонентов на 1000 человек населения
Россия
0,08
4,2
22,6
47,0
143
311
Австрия
0,14
27,6
98,8
187
440
Великобритания
0,31
7,0
87,5
201
246
293
433
765
Статистическое приложение
Окончание табл. 18
Страна
1940 г.
1950 г.
1955 г.
1960 г.
1965 г.
1970 г.
1987 г.
Г ермания
0,04
0,24
82,8
199
285
383
США
0,06
25,5
218
297
327
413
798
Франция
0,10
6,0
41,3
134
216
389
Япония
0,01
1.9
73,6
185
220
579
Источники указаны в примем, к табл. 17.
а 1963 г.6 1947г. ” 1946г.
Таблица 19
Продолжительность рабочей недели в промышленности
в некоторых странах в XIX—XX вв.
Страна
1880 г.
1913 г.
1929 г.
1938 г.
1950 г.
1960 г.
1970 г.
1980 г.
1987 г.
Россия3
74
57,6
45б
42е
47,8б
40,3
40,5
40,5
40,4
Австрия3
60
а
СО
''Т
47,6В
47,4В
43,5
37,4
33,3
32,2
Велико¬
британия3
56
47"
46,5В
46, Г
47,4
42,1
40,9
42,2
Г ермания3
60
55,5
46,0
46,5
46,2
45,6
43,8
41,6
40,1
СШАВ
60
55,7
44,2
35,6
40,5
39,7
39,8
39,7
41,0
Франция3
60
60
48
40,8
45
45,5
44,8
40,7
38,7
Япония3
59
59,6
49,9
50,6
43,3
41,2
41,3
Источники: Валюты стран мира : справ. М., 1987. С. 340—355 ; Дементьев Е. М. Фаб¬
рика, что она дает населению и что она у него берет М., 1897. С. 93—107, 163—188 ; Итоги
десятилетия Советской власти в цифрах: 1917—1927. М., 1927. С. 338 ; Кирьянов Ю. И. Жизнен¬
ный уровень рабочих России (конец XIX—начало XX в.). М., 1979. С. 108—132 ; Марузон Ф. Л.
Наемный труд на Западе : стат. справ. М., 1926. С. 1—111 ; Мировое хозяйство : Сборник ста¬
тистических материалов за 1913—1927 гг. М., 1928. С. 432—464 ; Народное хозяйство СССР
в 1988 г.: стат. ежегодник. М., 1989. С. 77 ; Народное хозяйство СССР за 70 лет : юб. стат.
ежегодник. М., 1987. С. 431 ; Народное хозяйство СССР, 1932 : стат. справ. М., 1932. С. 414;
Статистический справочник СССР за 1928 год. М., 1929. С. 544 ; Струмилин С. Г. Очерки эко¬
номической истории России. М., 1966. С. 49—99; Туган-Барановский М И. Русская фабрика
в прошлом и настоящем : Историческое развитие русской фабрики в XIX в. М., 1922. С. 159—
163 ; Annuaire statistique de la France, 1955. Paris, 1955. P. 350 ; Idem, 1966. Paris, 1966. P. 434;
Annual Abstract of Statistics, 1989. London, 1989. P. 122 ; Economic Survey of Europe in 1987—
1988. New York, 1988. P. 327 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970.
Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 166; Japan Statistical Yearbook, 1988. Tokyo, 1988. P. 344;
Mitchell B) R.: 1) European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 183—190 ; 2) In¬
ternational Historical Statistics: Africa and Asia. New York, 1982. P. 579; Statistical Yearbook:
Prepared by the Statistical Office of the United Nations, 1949. New York, 1949. P. 385—386 ; Idem,
1951. New York, 1951. P. 408 ; Idem, 1988. New York, 1988. P. 89, 102—104 ; Yearbook of Labor
Statistics, 1939. Geneve, 1939. P. 70—90, 125; Idem, 1941. Geneve, 1941. P. 102—108; Idem,
1954. Geneve, 1954. P. 111—120, 161—170; Idem, 1962. Geneve, 1962. P. 242—244, 308—319;
Idem, 1972. Geneve, 1972. P. 477—479, 570—577 ; Idem, 1988. Geneve, 1988. P. 811—820.
a Фактически отработанные часы. 6 Установленные часы. в Оплаченные часы, т. е. включая
отпуск, праздничные дни, простои и т. п.
766
Номинальная среднемесячная заработная плата занятых в промышленности в некоторых странах в XIX-
а
а-
s
ь*
(2
Й
Й
X
X
г-
00
On
00
ON
о
00
ON
со
40
ON
00
<N
40
<N
00
со
<N
ON
40
О
со
»n
ON
ON
<N
»n
tJ-
tJ-
<4
40
40
О
со
<N
О
<N
со
oo
<N
m
со
a.
e
s'
a
§■
s s
9* fe
со о
c «
3 C
18-
о “
м )S
o 3
e s
2 5
Ov “
S Q
a. ^
0) 00 On
О
r-
ON
о
NO
ON
о
>П
ON
00
со
ON
ON
СЧ
ON
On
<4
4D
40
>P
ON
<4
00
<N
со
Ti¬
ts
О
00
00
Tf
<4
40
»n
4D
»П
4О
Tf
со
40
<N
Ti-
5
О
со
40
<N
<N
40
О
<4
<N
00
00
40
00
О
00
40
ON
CO
CO
40
ON
00
<N
Ti-
<N
»n
I
CO
Ti¬
ts
»n
со"
(N
<N
CO
40
ON
(N
Tf
<4
in
40
r^
m
<N
Ti-
О
CO
a
cl
U
о
о
о
X
X
e
s
X
Ю
о
ьо
s
s
CD
я
о
X
cJ
о
о
X
ш
со
S
X
р
S
х
ю
S
S
§
ffi
00
со
н
к
£
S
CL
а
*
S
*
S
X
X
03
CL
е
*в 2 СК
а. 5 <n
«2 0 on
5
а. со
о
a х
х U
й У
U
со
£
X
S
п
Cl
<D
<L>
CL
У
ю
о
о
& §
н
X
■е*
S Й И
Я 5 СЗ
н g и
Ю « К
£ s g
?я ®
<и
CQ
_ -о
5
X §
Ч ^
ю »©*
^ о
а.
я X
3 3
I 1
в* О
S м
B-CQ
§ ю
со
3
<и
S
11|
11
S с ^
S С Г-
8 2
(21»
я 5 ^
2 н
ровке Госбанка не соответствовал реальной ценности валют.
Статистическое приложение
Таблица 21
Годовое потребление основных продуктов питания городскими рабочими
по бюджетным обследованиям 1900—1905 гг. (кг)
Продукты
Россия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Мясные
38,5
33,1
43,5
66,0
55,6
Молоко
48,1
52,5
65,3
349а
58,7
Сыр
1,2
3,6
3,2
1,4
5,0
Масло сливочное
1,6
8,2
7,7
10,0
7,3
Жир животный
11,0
7,3
5,0
Масло растительное
7,8
5,0
Рыба
7,7
6,8
Яйца, штук
59
104
129
192
142
Сахар
9,1
22,2
10,9
23,1
10,7
Картофель
93
71,2
137
81,6
99
Хлебные
233
148
156
123
173
Чай
0,4а
2,5
0,9
Кофе и какао
0,06а
0,9
4,5
4,1
4,1
Источники: Кабо Р. М. Потребление городского населения России (по данным бюд¬
жетных и выборочных исследований). М., 1918. С. 12, 52—59; Сборник сведений по истории
и статистике внешней торговли России. СПб., 1902. Т. 1. С. 111, 114—115 ; Webb A. D. The
New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of Mulhall’s «Dictionary of Statis¬
tics». London, 1911. P. 44, 282—288.
a Среднее потребление по стране.
Таблица 22
Г одовое потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения
в год в некоторых странах в XIX—XX вв. (кг)
Страна
1888 г.
1913 г.
1929 г.
1934—
1938 гг.
1947—
1948 гг.
1970 г.
1987 г.
Мясо и мясопродуктыа
Россия
23
24
31°
19
26в
35
45
Австрия
28
37г
49
30
72
97
Великобритания
49
61
61
55
45
73
75
Г ермания
29
47д
47г
46
13
77
97
США
68
72
67
70
82
107
112
Франция
35
36д
38г
47
41
86
100е
Япония
1,5Г
4
2В
18
36е
Молоко и молочные продукты
Россия
172
154
184
151
172
307
341
Австрия
226ж
175
98
338
334е
Великобритания
177г
13г
114
146
243
322
Г ермания
97ж
97ж
109
82
350
366
США
342
368
363
338
256
271
Франция
49
85
83
65
387
421е
Япония
0,4Г
1,0Г
2,4
4,9Г
4,0
50
68е
768
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Продолжение табл. 22
Страна
1888 г.
1913 г.
1929 г.
1934—
1938 гг.
1947—
1948 гг.
1970 г.
1987 г.
Яйца (шт.)
Россия
48
39
63г
60
159
272
Австрия
109
29
268
249е
Великобритания
85
104
120
180
172
275
220е
Г ермания
75
118
23
281
268
США
85
303
334
313
379
319
243
Франция
78
149
130
226
255е
Япония
36
110е
269
285е
Рыба и рыбопродуктыа
Россия
10,9
6,0
7,0
7,0
11,6
13,5
Австрия
0,9
1,8
3,1
4,5е
Великобритания
11,0
13,7
8,9
9,3е
Г ермания
10,9
5,7
4,3
4,1
США
6,3
5,8
5,8
6,7
7,6
Франция
7,3
4,9
8,2
8,6е
Япония
31,2
34,3
31,8
36,3е
Сахар
Россия
5
8
6,5
9Ж
14вж
39
47
Австрия
8
22
8
37
35е
Великобритания
34
36
40
45
32
46
32е
Г ермания
8
\Т
22
14
33
35
США
26
37
44
44
43
46
28
Франция
9
14д
22
14
36
36е
Япония
и3
13
12
3
27
21е
Масло животное и жиры
Россия
3,4
3,4
1,9Г
2,6ГВ
4,9
7,2
Австрия
12,8
9,4
5,9
5,6
Великобритания
10,0
15,0
18,0
12,9
8,8
4,9
Г ермания
20,6
4,9
8,6
8,1
США
14,3
15,1
20,4
19,2
2,4
2,2
Франция
12,7
9,4
9,0
9,5е
Япония
1,7
0,5
0,4
0,7е
Картофель
Россия
82
114
177
358
241в
130
105
Австрия
254
1 • •
77
40
67
62е
Великобритания
172
94
88
71
87
103
111е
Г ермания
463
160
121
105
76е
США
77
96
82
60
52
53
57е
Франция
259
152
145
96
00
о
а
Япония
61
27
64
105е
Овощи и бахчевые
Россия
48
54
51в
82
100
Австрия
62
64в
67
71е
Великобритания
27
35
60
67“
60
87
769
Статистическое приложение
Окончание табл. 22
Страна
1888 г.
1913 г.
1929 г.
1934—
1938 гг.
1947—
1948 гг.
1970 г.
1987 г.
Г ермания
55
53в
63
77е
США
70д
108
91
93е
124
126е
Франция
151
147в
130
123е
Япония
85в
132
128е
ф/
оукты и ягоды
Россия
И
6
35
55
Австрия
44
55в
115
126е
Великобритания
28
47
42в
59
94
Г ермания
44
50в
122
140е
США
ПО
76
69в
93
97е
Франция
33
45в
78
82е
Япония
9
14в
53
53е
Хлебные продукты
Россия
288
262
222ь
172в
149
132
Австрия
209
107
111
94
72е
Великобритания
171
96
89
86
98
77
83е
Г ермания
249
101
117
69
78е
США
168
116
94
82
69
53
78е
Франция
245
173д
116
91
79
84е
Япония
148
127
144
123е
Пиво (л)
Россия
4,5
4,5й
1>8Г
5,2Г
17
18
Австрия
33
78г
39г
42г
99
119е
Великобритания
123
134й
90г
87г
85г
102
108е
Г ермания
87
119й
92г
74г
34г
141
147е
США
59
84й
—
48г
69г
70
91е
Франция
23
36й
74г
56г
19г
41
40е
Япония
0,7й
2,3Г
3,7Г
2,1г
Вино (л)
Россия
2,3
2,7й
13,7
6,6
Австрия
23,6
8,5Г
15,9Г
18,7Г
34,6
35,0е
Великобритания
1,8
1,5й
2,9
10,4е
Г ермания
11,3
6,6й
2,9Г
4,4Г
6,4Г
17,2
23,3е
США
1,8
2,4й
—
5,6Г
10,Г
5,0
9,2е
Франция
86,3
139й
159г
148г
149г
109
78е
Япония )
0,01г
Спирто-водочные напитки в переводе на чистый (96 %) спирт (л)
Россия
3,6
3,1
2,2Г
4,3Г
3,8
4,4К
Австрия
2,0
1,2
1,4
1,4е
Великобритания
4,4
4,6й
U
1,0
1,0
1,7е
Г ермания
6,4
7,0й
1,3
U
3,0
2,3е
США
5,4
6,6й
—
3,8
3,9
2,9
2,4е
Франция
5,0
6,Г
3,8
2,9
2,3
2,4е
Япония
0,05
0,06
770
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Источники: Ежегодник Министерства финансов, 1905. СПб., 1906. С. 527 ; То же, 1906.
СПб., 1906. С. 141 ; То же, 1912. СПб., 1912. С. 329—330 ; Кабо Р. М. Потребление городского
населения России (по данным бюджетных и выборочных исследований). М., 1918. С. 52—59 ;
Клепиков С. А. Питание русского крестьянства. М., 1920. С. 27, 32, 35—37 ; Мы и планета:
Цифры, факты. 1—5-е изд. М., 1967—1982 (1967 г.). С. 155—158 ; Народное хозяйство СССР
за 70 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1987. С. 470; Сборник сведений по России за 1883 год.
СПб., 1886. С. 252—253 ; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйст¬
ву России и иностранных государств. Год 9. Пг., 1916. С. 189, 193, 365, 375, 381—382 ; СССР
и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 68—79 ; Статистический справочник СССР
за 1928 год. М., 1929. С. 848—857 ; Экономика капиталистических стран после второй миро¬
вой войны : стат. сб. М., 1959. С. 883—890; Янсон Ю. Э. Сравнительная статистика России
и западноевропейских государств. СПб., 1880. Т. 2. С. 658 ; Annuaire statistique de la France,
1966. Paris, 1966. P. 476 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Wash¬
ington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 329—331 ; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 488 ; Ja¬
pan Yearbook, 1931. Tokyo, 1931. P. 349—351 ; Idem, 1934. Tokyo, 1934. P. 625—628 ; Mitchell
B. R. International Historical Statistics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 282—297, 464, 544 ;
Statistical Yearbook of the League of Nations, 1938. Geneve, 1938. P. 108—109 ; Webb A. D. The
New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of Mulhall’s «Dictionary of Statis¬
tics». London, 1911. P. 44, 280—281 ; Wolftinsky Wl. S., Woytinsky E. S. World Population and Pro¬
duction : Trend and Outlook. New York, 1953. P. 288— 293, 301, 303, 1044, 1045.
a Без субпродуктов и костей. 6 1926—1928 гг. в 1950—1953 г. г Производство. д 1907 г.
е 1985—1986 гг. ж Расчеты автора.31921 г.и 1901—1905 гг.к 1980 г.
Таблица 23
Доля расходов на продукты питания и напитки в общих расходах
на личное потребление в некоторых странах в 1984 г. (%)
Страна
Продукты
Безалкогольные
напитки
Алкогольные
напитки
Всего
Россия3
25,6
1,0
10,0
36,6
Австрия
18,5
0,6
2,4
21,5
Великобритания
14,5
0,6
2,0
17,1
Венгрия
27,9
1,5
12,0
41,4
Г ермания
17,6
0,7
3,3
21,6
Израиль
23,1
1,8
0,6
25,5
Индия
53,1
1,5
1,3
55,9
Испания
26,4
1,4
5,0
32,8
Италия
25,6
0,3
1,8
27,7
Канада
13,4
0,7
3,3
17,4
Польша
36,8
2,0
11,4
50,2
США
11,0
0,6
1,4
13,0
Финляндия
20,1
0,5
4,0
24,6
Франция
17,9
0,5
2,0
20,4
Югославия
31,2
1,5
5,0
37,7
Япония
19,9
0,6
1,3
21,8
Источник: Statistical Abstract of the United States, 1988. Washington, D. C., 1988. P. 807.
В 1980 г.
Статистическое приложение
Таблица 24
Численность врачей всех специальностей и больничных коек
в некоторых странах в XIX—XX вв.а
Страна
1880 г.
1913 г.
1920 г. |
| 1930 г.
1939 г.
1951 г.
1970 г.
1987 г.
Численность врачей (тыс.)
Россия
13,5Ь
28,1
15,Зв
68,0Ь
155г
259
668
1234
Австрия
10,7й
7,4Д
12,0
15,7
22,4е
Великобритания
22,1й
33,4
51,5а
58,2
83,7
102ж
Г ермания
16,3й
33,73
49,1д
47,9
54,9
84,9
124
178е
США
94, 3й
181
201
225
245
296
408
640е
Франция
14,4
22,93
24,0й
32,5К
37,7Л
46,6
89,1
132е
Япония
51,7
65,0
87,6
113
153
238е
Численность врачей на 10 000 человек населения
Россия
i,6
1,8
2,4
4,2
7,9
14
28
44
Австрия
2,8
И
21
21
30
Великобритания
5,8
7,2
11
12
15
18
Г ермания
3,6
5,2
7,8
7,4
7,9
13
21
30
США
19
19
19
18
19
19
20
27
Франция
3,8
5,8
6,i
7,8
9,0
11
18
24
Япония
. . .
15
20
Число больничных коек (тыс.)
Россия
207
259м
256
791
1011
2663
3712
Австрия
31,7
52,3
61,3
70,3
74,6
Великобритания
416
593
536
421
Г ермания
462
489
583
511
649
641
США
533н
817
956
1195
1522
1616
1262
Франция
613
540
722
Япония
119
96
295
1313
1495
Число больничных коек на 10 000 человек населения
Россия
13
28
16
40
56
109
131
Австрия
48
...
94
99
Великобритания
90
...
118
96
74
Г ермания
69
79
90
100
111
108
США
59
77
78
91
100
80
53
Франция
145
105
131
Япония
19
13
35
127
123
Источники: Народное хозяйство СССР за 60 лет: юб. стат. ежегодник. М, 1977.
С. 625—628; Народное хозяйство СССР: стат. справ. 1932. М., 1932. С. 554—569; СССР
в цифрах1: стат. сб. М., 1958. С. 437—438 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М,
1988. С. 98—99; СССР и капиталистические страны : Статистический сборник технико¬
экономических показателей народного хозяйства СССР и капиталистических стран за 1913—
1939 гг. М.; Л., 1939. С. 103, 104 ; Статистический ежегодник 1918—1920 гг. : в 2 вып. М.,
1922. Вып. 1,ч. 1. С. 3—4 ; Статистический ежегодник 1922 и 1923 гг. : в 2 вып. М., 1925. Вып. 2.
С. 30—31 ; Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1963.
С. 189—191 ; Annuaire statistique de la France, 1966. Paris, 1966. P. 123 ; Historical Statistics of the
United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 75—78 ; Japan Statistical
Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 468 ; Japan Yearbook, 1924. Tokyo, 1924. P. 269 ; Idem, 1931.
Tokyo, 1931. P. 224 : Idem, 1934. Tokyo, 1934. P. 874 ; Mitchell B. R. International Historical Statis¬
772
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
tics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 387 ; Statistical Yearbook : Prepared by the Statistical
Office of the United Nations, 1949. New York, 1949. P. 482—484 ; Idem, 1953. New York, 1953.
P. 516—519; Woytinsky Wl. S. Die Welt in Zahlen. Berlin, 1925—1928. Bd. 7. S. 210—213 ; Wolf-
tinsky Wl. S., Woytinsky E. S. World Population and Production : Trend and Outlook. New York,
1953. P. 228—229.
a Численность врачей и число больничных коек относятся к одним и тем же датам, за ис¬
ключением специально оговоренных случаев. 6 Без зубных врачей. в Численность врачей на
1918 г. по 44 губерниям и областям с населением 63,8 млн человек. г 1940 г. д 1925 г. е 1985—
1986 гг. ж 1977 г. 3 1911 г. и 1921 г. к 1931 г. л 1938 г. м Число коек на 1920 г. по губерниям
и областям с населением 91 млн человек. н 1914 г.
Таблица 25
Национальный доход в некоторых странах в XIX—XX вв. (в текущих ценах)8
Страна 1880 г. 1890 г. 1900 г. 1913 г. 1927 г. 1938 г. 1948 г. 1960 г. 1970 г. 1979 г. 1987 г.ь
Национальный доход (млрд дол.)
Россия
3,1
3,8
5,7
10,4
9,5
27,0
65,0
396ь
1065ь
1685
Австрия
4,5
0,9
1,05
2,56
5,62
12,7
60,0
102
Велико¬
британия
5,2
6,7
8,5
11,0
18,9
22,1
39,0
66,2
112,1
353,4
716
Г ермания
3,6
5,6
7,5
10,9
10,7
23,0
15,0
66,5
166,8
677,6
853
США
7,2
10,7
15,4
31,2
81,7
67,4
223,5
454,1
801
2130
3663
Франция
4,9
5,1
5,8
7,0
7,9
10,8
17,3
54,5
128,3
511,4
741
Япония
0,48
0,92
2,2
3,4
6,i
11,5
39,3
176,0
859,9
1558
На думу населения (дол.)
Россия
28
32
43
61
64
161
380
1636
4065
5975
Австрия
90
132
154
368
798
1712
7988
13 421
Велико¬
британия
146
180
207
237
417
465
477
1259
2024
6325
12 583
Г ермания
80
111
131
163
168
335
360
1200
2748
11029
14 384
США
147
173
205
321
687
519
1525
2513
4371
9620
15012
Франция
131
134
151
178
192
260
418
1193
2526
9562
13 327
Япония
12
21
30
61
86
143
421
1702
7421
12 770
Источники: Мировое хозяйство : Сборник статистических материалов за 1913—1927 гг.
М., 1928. С. 668—669; Ханин Г. Экономический рост: альтернативная оценка // Коммунист.
1988. № 17. С. 83—90 ; Annuaire statistique de la France, 1989. Paris, 1989. P. 237 ; Bergson A. The
Real National Income of Soviet Russia since 1928. Cambridge, 1961. P. 154 ; Goldsmith R. W. The
Economic Growth of Tsarist Russia, 1860—1913 // Economic Development and Cultural Change.
1961. Vol. 9, nr 2. P. 441—475 ; Gregory P. R. Russian National Income, 1885—1913. Cambridge,
1982. P. 58—59 ; Income and Wealth. London, 1955. Ser. 5. P. 8—9, 82, 227 ; Handbook of Eco¬
nomic Statistics. Washington, D. C., 1988. P. 61 ; Historical Statistics, 1960—1984. Paris, 1986.
P. 9—31 ; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 394 ; Idem, 1975. Tokyo, 1975. P. 485 ;
Idem, 1988. Tokyo, 1988. P. 776; Mitchell B. R. European Historical Statistics 1750—1970. New
York, 1976. P. 781—798; Mitchell B. R., Dean Rh. Abstract of British Historical Statistics. Cam¬
bridge, 1962. P. 367—369 ; Soviet Economy in a New Perspective. Washington, D. C., 1976. P. 246,
269—300 ; Statistical Abstract of the United States, 1988. Washington, D. C., 1988. P. 411 ; Statisti¬
cal Yearbook: Prepared by the Statistical Office of the United Nations, 1951. New York, 1951.
P. 429—430 ; Statistisches Handbuch fUr die Republik Osterreich, 1988. Wien, 1988. S. 249, 257;
USSR: Measures of economic growth and development, 1950—1980. Washington, D. C., 1982.
773
Статистическое приложение
Р. 51—84 ; Wolftinsky Wl. S., Woytinsky Е. S. World Population and Production : Trend and Outlook.
New York, 1953. P. 383—393 ; Yearbook of National Account Statistics, 1980. New York, 1980.
Vol. 2. P. 3-16,416-421.
a Исчислено зарубежными экспертами по международной методологии, принятой ООН.
6 Экстраполировано по темпам роста валового общественного продукта.
Таблица 26
Валовой внутренний продукт (ВВП) в России
и США в XIX—XX вв. (дол. и цены 1975 г.)
Год
Население, млн
ВВП, млрд дол. на д. н.
Россия
США
Россия
США
Соотношение
абс.
%
1860
72,3
31,5
25—26
25—26
0
100
1913
157,9
97,2
95
243
148
39
1928
151,5
120,5
95
353
258
27
1940
195,1
132,1
176
420
244
42
1948
174,8
146,6
174
599
425
29
1950
180,1
152,3
218
657
439
33
1955
196,2
165,9
295
810
515
36
1960
214,3
180,7
394
902
508
44
1965
230,9
194,3
504
1143
639
44
1970
242,8
204,9
661
1337
676
49
1975
254,5
213,6
786
1489
703
53
1980
265,6
227,8
825а
899
1729°
1761
904
862
48
51
1985
277,6
239,3
850а
983
I9605
1993
1110
1010
43
49
1987
283,0
243,8
885а
1025
20825
1198
42
Продолжение табл. 26
Год
ВВП на д. н., млрд дол.
Россия
США
Соотношение
абс.
%
1860
350
860
510
40
1913
600
2500
1900
24
1928
629
2931
2302
21
1940
904
3182
2278
28
, 1948
993
4085
3092
24
1950
1213
4315
3102
28
1955
1506
4884
3378
31
1960
1838
4993
3155
37
1965
2182
5882
3700
37
1970
2722
6523
3801
42
1975
3088
6972
3884
44
1980
3107а
7589е
4482
11
3384
7730
4346
44
774
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX- -XX вв.
Окончание табл. 26
ВВП на д. н., млрд дол.
Год
Россия
США
Соотношение
абс.
%
1985
306Г
3540
8189°
8328
5128
4788
37
43
1987
3126а
3624
8538е
5412
37
Источники: Народное хозяйство СССР в 1988 г. : стат. ежегодник. М., 1989. С. 672;
СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 44—46 ; Ханин Г. Экономический
рост: альтернативная оценка // Коммунист. 1988. № 17. С. 83—90; Goldsmith R. W. The Eco¬
nomic Growth of Tsarist Russia, 1860—1913 // Economic Development and Cultural Change. 1961.
Vol. 9, nr 2. P. 441—475 ; Gregory P. Я Russian National Income, 1885—1913. Cambridge, 1982.
P. 56—57 ; Handbook of Economic Statistics. Washington, D. C., 1988. P. 61 ; Soviet Economy in
a New Perspective. Washington, D. C., 1976. P. 246, 273.
a В числителе условной дроби валовый внутренний продукт, подсчитанный по темпам роста
национального дохода, вычисленным Г. Ханиным, в знаменателе — по данным американских
экспертов. 6 В числителе условной дроби расчет по данным Госкомстата СССР, в знаменате¬
ле — по данным американских экспертов.
Таблица 27
Выработка электроэнергии в некоторых странах в XX в.
Страна
1900 г.
1913 г.
1921 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1970 г.
1987 г.
Россия
А
2,0
0,5
6,2
43,2
134
741
1665
Б
12,6
3,7
40,2
253
714
3052
5911
Австрия
А
1,8
2,6
3,4
8,8
30
51
Б
277
394
493
1275
4000
6711
Великобритания
А
0,20
2,5
8,4
17,0
35,8
75,1
249
302
Б
5,0
60,0
196
383
765
1523
4478
5317
Г ермания
А
1,0
8,0
17,0
30,7
61,4
62,9
237
409
Б
17,7
119
275
475
883
1200
4051
6909
США
А
6,За
26,3®
56,4
123,9
171,1
546
1740
2778
Б
79,5
276
520
1017
1306
3418
8488
11 479
Франция
А
0,34
1,8
6,5
15,6
22,1
41,5
147
378
Б
8,9
45,2
168
382
536
979
2894
6823
Япония
А
0,12В
1,5Г
4,2
13,2
34,1
56
360
696
Б
2,5
26,7
74,9
208
1000
1633
3495
5705
Примечание. А — общее производство (млрд кВт • ч); Б — в расчете на душу населе¬
ния (кВт • ч).
Источники: Вольф М. К, Клупт В. С. Статистический справочник по экономической гео¬
графии капиталистического мира М.; Л., 1934. С. 80—81 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат.
сб. М, 1988. С. 118; Mitchell В. Я: 1) European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976.
P. 479—483 ; 2) International Historical Statistics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 363.
a 1902 r. 6 1912 r.81905 r.r 1914 r.
Военные расходы в некоторых странах в XIX—XX вв. по оценкам зарубежных экспертов
1984 r.
| Всего расходов (млн дол.)г |
| 251 300
| 891
о
о
40
<N
| 22 000
| 229 200
о
о
40
| 12 300
Расходы на душу населения (дол.)
| 914
00
| 436
| 360
| 968
| 394
| 102
40
(N
СЛ
ГП
•о
Гзз
1 6,3
1
o^
1980 r.
[ 237 200
| 731
| 22 000
| 21 400
| 174 200
о
о
(N
О
(N
| 0066
| 893
| 97
| 391
| 347
| 765
| 375
| 84
1 12,8
-
•о
1 3,3
ГП
•/-Г
O^
04
CD
1975 r.
о
о
о
о
| 597
| 20 200
| 19 900
| 157 900
О
О
Tf
40
| 7400
| 829
| 79
| 360
| 333
| 739
| 310
| 99
Доля военных расходов в совокупном общественном продукте (%)
1 12,5
(N
•о
1 3,6
1 6,0
CH
O^
1970 r.
о
о
(N
00
40
| 475
[ 17 600
о
о
40
40
о
о
04
1Г)
00
| 14 500
| 4900
| 969
| 63
| 314
| 283
| 907
| 285
| 48
ci
-
00^
Tf
rn
СП
00
<N
00^
o'
1967 r.
о
о
40
| 462
| 19 200
| 17 800
О
о
00
о
(N
| 15 300
| 3700
| 616
1 63
| 343
| 312
| 1049
| 312
г-
СП
1 12,1
СЛ
VO
•о
ГП
9,4
CD
1936/37 r.
| 976
| 542
| 1217
| 590
| 374
1 20,8
1 8,0
•о
О
СП
*Г)
1 3,9
1 4,8
4,9
1929/30 r.
| 552
| 163
00
(N
00
| 432
| 242
1 12,1
1 2,5
1 6,8
•о
o'
СП
<N
ri
1 0,8
1 0,8
1 3,3
3,0
1913 r.
| 499
| 156
| 375
| 353
| 335
| 287
| 98
2,9
СП
(N
ОО
ГП
•О
1 4,2
(N
4,4
40
00^
rf
rf
00^
o'
°v
CH
CH
1889 r.
| 124
1 67
| 156
| 99
| 153
—
1 4,1
СП
i 3,5
1 6,5
<N
<N
1 0,5
00^
csT
Страна
| Россия
| Австрия
| Великобритания
| Г ермания
|США
| Франция
| Япония
| Россия
| Австрия
| Великобритания
| Г ермания
|США
| Франция
| Япония
| Россия
| Австрия
| Великобритания
| Г ермания
|США
| Франция
Япония
Источники: Мировое хозяйство в 1936 г. М., 1937. С. 253, 256 ; Россия в мировой войне 1914—1918 года (в цифрах). М., 1925. С. 97 ;
Gregory Р. R. Russian National Income, 1885—1913. Cambridge (USA), 1982. P. 56—57 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times
to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 2. P. 1114, 1141—1143 ; Mitchell B. R. International Historical Statistics : Africa and Asia. New York, 1982.
P. 66—73, 415 ; Statistical Abstract of the United States, 1971. Washington, D. C., 1971. P. 823 ; Idem, 1988. Washington, D. C., 1988. P. 826 ;
0)
СО
■§
N
с
’и
£
(U
5
И
с
I
00
г-
as
с
о
'БЬ
#с
1с
£
£
SO
Г-
Os
Г-
чо
04
§ .
Ё 3
С ^
< -
*о ^_Г
§ =
и
•О ~
§ СЛ
й-^
“ -в
&з
ti оо
— <4
IC Os
II
о <N
^ 2
и
т
оо
04
С
><
3
00
04
г-
40
04
2 а
04
<N
сз
S'
S
5
е2
и
С
В
>>
S
QQ
Г"
ГО
04
I
СО
X
в
X
X
1
Я
во
X
С
х
с
а.
н
о
х
3
а.
о
н
§
X
X
4
X
V
X
2
X
X
о>
X
>>
а
о
о
X
X
X
5Г
е1 с
00
<4
Ю
аЗ
Н
*
х
и
S
S
о.
с
со
*
S
X
X
I
X
a Сухопутные войска. 6 В 1967—1984 гг. по оценкам зарубежных экспертов. в 1927 г. — все вооруженные силы. г 1810— 1913 гг.
Австро-Венгрия. д С колониальными войсками и англо-индийской армией в 1926 г. — 881 тыс., в 1936 г. — 925 тыс. е 1810 и 1851 гг.
Германская конфедерация. ж С колониальными войсками — 795 тыс.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур (без паров) в некоторых странах в XIX—XX вв.
05
"О
а
s
Й
т
о
о
о
Cl
on
uo
л
<
UO
CL
ю
о
S
со
U0
а-
L0
<
э
и
L0
ей
CL
е
L0
S
X
о
с
Os
05
°о
vg
Q
В
s
S
§
05
о
£
ш
ос
К
о
U0
со
<
U0
ей
£
а-
ю
о
US
S
со
U0
а-
D
U
L0
<
э
и
Окончание табл. 30
1987 г.
1 17,7 |
ГЧ
го
o'
го
*п
о^
сГ
1970 г.
1 16,9 |
го
со
o'
00^
0,06
1953 г.
00^
1 zvo I
1 9‘£ |
NO
Ол
о*4
1937 г.
ол
as
NO
o'
»о
»гГ
00
Ол
о*4
Страна
<
to
<
LQ
Франция
Япония
с ill5
■е -с 40
^ х ьЬ ь «о
* Зел
§ i $S*o
I—' О ^ Св
н
CJ
а-
£■
х о .х
!§*
Й <Ц
|'£
nS ®6
00
ON
£ С <N ^
* .5 • - ~
*п й
ON _
й
об О
00 и
ON . .
S в
ю ^
cj »тз
16
40 ^_
го о
Т'е
Jv а
26
я
2I
if .а
О 73
%ё
« ^
S §
* §
>% ч
II
Ч CJ
С с
В D
‘ ’ о
D: В
ON 4ч
— О
_г сл
J3 CJ
X \Х
Й СЛ
о,\х
& £
х S 8 .2
* §
2 §
д
X
^ й
X д
з S
3 s
I Й
Э *
§ «
с х
I s
1 о
W я 1
. о ■
I
й О
2 6 1
1 й:
г&
Л X
9 ё1
а в ■
2 *
с s
С * I
«к а, I
I U
< х I
<i 2,
X s
S 5
X ^
<U о
i *•
D. О
c к
i> о
«е ts
Г7 • ^
X Г-
л ^
О- *ч
и .
8й
. „ го
2^
tn Я
I ?.
й
"S £
о „
•С чо
О тГ
X —
§2„
2 оо
ш
ОЧ
00
ON
vu о
о ✓-
S ^
<U
-г
s<
. 73
1
-г S Он
м
X (О
н
X
NO
Os
ui
^ х Q сл
г-
00
00
•о
00
ON
о
с
£
и
го
Os
е
a
J5
X
о
с
о
Ои
*
о
)Х
4>
X
о
а,
оа
Ш
и
а*
а
V§
Й
CQ
CQ
X
м
ев
S
ев
а
н
4
а
н
5
4#
S
ffl
о
Си
ев
С
РО
ю
е
&
*
S
а
из
ч
И
2
CQ
О
S
а
4#
м
-а
п
ев
а
о
с
3
S
CQ
4»
и
о
с
1987 г.
о
105
0,40
гп
o'
о^
7}-"
4,2
0,07
1969 г.
120
сч
0,50
0,47
-
о^
0,15
0,13
7}-"
3,9
00
о^
о"
0,07
1953 г.
105
96,6
NO
»о
o'
0,51
о^
с>
o'
0,14
0,13
3,7
3,3
0,08
0,07
1939 г.
98,0
88,9
0,57
оч
•о
o'
1,3
0,19
NO
o'
^Х
оч"
оч"
»о
о^
о"
0,04
1929 г.
90,8
85,1
0,59
0,55
1,3
-г
0,20
0,17
Ю
оч"
Tt
оч"
0,06
0,05
1913 г.
89,5
86,4
00
'О
о"
0,66
8,0
6,7
0,27
0,23
го"
оч"
0,07
0,07
U
О
00
00
^х
оо"
т
56,9
0,78
0,76
гп
6,3
ГО
со
О*4
ON
сч
о*4
00л
го"
so
со"
ГО
о"
оч
о"
1860 г.
53,6
52,6
0,73
0,71
»оГ
5,2
04
со
o'
0,28
3,7
•о
ГО
0,16
0,15
1840 г.
46,5
*п
so
0,74
^х
o'
гп
^х
°0
ГО
0,26
ГО
сч
о"
3,7
«о
ГО
0,20
0,19
1820 г.
42,5
42,5
0,87
0,87
со
оч"
0,22
0,21
Страна
<
ш
CQ
U
<
to
СО
U
<
Сй
CQ
и
Россия3
Австрия6
Великобритания8
Окончание табл. 31
1987 г.
in
00
0,08
60,2
59,7
0,25
10,0
00
as
00
O*4
CN
CN
0,02
0,02
1969 г.
NO
»n
»п
О
o'
0,09
54,2
53,6
0,27
0,26
»n
os'
on"
0,19
00
o'
CN
00л
cn
0,04
0,04
1953 г.
in
о"
0,09
80,2
79,4
©
in
©"
©
in
o*4
in
Os'
8,6
0,22
0,20
CN
in
VO
0,06
»n
©^
o*4
1939 г.
CN
0,20
0,16
75,6
74,2
0,58
0,57
Гп
9,8
0,27
CN
©"
in
0,07
0,07
1929 г.
0,23
00
О
90,4
89,2
©"
0,73
12,4
11,0
0,30
0,27
4,9
NO
0,08
0,07
1913 г.
18,6
15,2
0,28
0,23
83,0
00
0,86
0,84
15,0
13,4
00
CH
©"
cn
©"
CN
in
00^
©
o'
0,10
1880 г.
16,8
14,0
СП
o'
СП
о"
50,2
49,2
1,00
0,98
15,8
14,5
0,42
ON
CH
©"
V
CN
©"
©"
1860 г.
15,6
13,5
0,44
00
СП
o'
22,5
22,0
0,72
0,70
15,3
14,3
0,41
0,38
и
о
00
10,9
in
as
NO
СП
о"
СП
о"
10,7
10,4
0,63
0,61
in
13,6
СЛ
o"
0,40
1820 г.
«л
оо
7,4
0,35
о
СП
о"
ON
1П
in
0,61
ON
in
O*4
13,1
12,5
0,43
0,41
Страна
<
со
U
<
W
CQ
u
<
LQ
CQ
u
<
PQ
CQ
u
Германия
США
Франция
Япония
<D
В
Й
а.
* г-
§«■
s
о
х
CJ
О
Г-
ON
i
CQ
?
X
ч
s
£ oj
CJ .jQ
о 5
x x
_ u
« VO
“
8-
CJ
a s
£ s
33
CQ A
W Ом
x U
x cj
8 v
(U . г
S 2
s —
§ I .
O 00
X
? U 1
о '
X г-
CJ X -Г
in (V
сз ^
СЛ CJ
13 .2
•S3
0 СЮ .
1 *31
x .y
■" S!
s «■
и
о
сн
ON
s
3
QQ
О
Й
X
„ a
a, >>
CJ
M
g
X
A
H ON
CJ ^m
X „
Й £
В С
X О
i§
VO u
U ci
:«2
‘•Lb
s £
UQ
?
X
4
s
I.
A '
I
О
4
si
К U
cn
ON NO
"1 5
^ e
40 ^v’
CH On
ON ^ )
^ О
CQ U
2 «
в g.
«§■
S 5
o
* P c
CJ C-> v
О X
аз о
о А V
а, х <■
s af
чг" Й
Й qj
X Ч
а
С >n2
^ П
й
® 5
Н CJ
у о
I
в
I
©
X
а
J5
ч
о
С
о
Ом
« 1-
5 г-*
5 оо
х 00
в —
i I
О е;
С а.
5
CJ
м
VO CJ
к ю
g о
о в
)Х •
CJ X
ГП <U
, со
о
о.
00 <
I
CN
00
Урожайность зерновых культур в некоторых странах в XIX—XX вв. (ц/га)
1985—1986 гг.
in
td
VO
d
o‘es
cd
(N
t^
as
»n
»n
d
cn
(N
vcT
»n
cn
as
©^
CN
»n
cn
oo"
VSP
VO
cd
t‘L£
CN
as
CN
'd
CN
0‘^
cn
i>
CN
z'ss
43,7
cn
oo"
cn
OO
cn
CN
td
m
1970 r.
CN
CN
D
id
cn
00^
td
cd
cn
(Г)
CD
cn
cn
in
cn
Ov
d
(N
cd
cn
00
in
cn
in
td
cn
cn
©"
00^
id
(N
©^
CN
<n
Ov
cn
Ov
cd
CN
cd
cn
cn
l>
CN
cn
CN
cn
CD
CN
СЛ
as
1953 r.
oo"
©^
CN
©"
(N
l>
cd
cd
cn
BQ
CN
CN
1П
cd
(N
CN
oo"
cn
id
(N
00^
CN
cn
io
cd
(N
©^
vO
iO
oC
©^
VO"
cn
in
CN
vcT
CN
oo"
©^
o7
CN
Ov
00^
CN
CN
d
id
CN
1939 r.
«*
oo
d
CN
vcT
CN
cn
td
<N
l>
cd
(N
©"
(N
SO
(N
OV
id
(N
©^
id
(N
(N
vd
in
id
CN
CN
l>
CN
©"
<n
cd
00^
ud
‘S
CN
oo''
l>
CN
cd
VO
as
CN
1929 r.
td
VO
o7
id
d
CN
as
cn
©"
(N
d
CN
in
vo"
(N
CN
rf
(N
»d
cn
''d
as
vo^
CN
CN
CN
cn
CN
©^
vo"
»n
rd
Oi
OO
d
id
CN
1921 r.
00Л
d
©"
CD
vO
as
d
CN
Os
as
00
in
d
vO^
d
cn
o7
©*
(N
vd
Oi
CN
o7
00^
©^
as
CN
CN
-
cd
cn
»d
td
CN
as
c>
CN
CN
1913 r.
00
td
cd
in
as
CN
d
(N
1П
OO
td
CN
d
©"
(N
CN
VO
©"
(N
cn
oo"
CN
Ov
©^
id
©^
00^
d
Ov
CN
cn
oo"
n
VO
©"
CN
CN
CN
2
00
00
00
7
Г"
00
00
id
vcT
©^
©"
td
in
vcT
00
VO~
«n
»n
in
00^
©"
00Л
cd
<N
©"
Os
©^
г-"
•n
©"
ON
»d
cn
o7
»n
©"
°V
oo''
as
CD
cn
CN
oo"
td
Страна
OS
s
u
u
о
CL
№
i
&
QQ
<
№
X
&
00
<
cd
X
s
H
X
2
CL
<
OS
£
A
5
to
№
x
1"
1
X
i
H
s
§
x
5
m
os
X
£•
X
<u
tn
s
5
s
CL
<L>
U
os
s
X
cd
n
X
£
Ш
os
s
5
s
os
s
1
S
cd
9
5
cd
Э
-Q
§
c
«
s
X
A
CL
<
a
и
os
X
n
X
OS
X
X
X
e
os
X
X
X
cd
CL
e
os
X
cd
ca
О
5
О
X
<L>
OS
X
X
<D
CO
a
os
X
CO
cd
5
2
2
os
X
X
о
X
Источники: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год 9. Пг.,
1916. С. 39, 92—117 ; Северная Америка : экон. справ. М., 1969. С. 251—252 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 198 ;
Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1963. С. 129—135 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times
to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 510—514 ; Mitchell B. R. \ 1) European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 199—277;
2) International Historical Statistics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 9, 141—146, 174—184.
u
О
u
00
m
ON
ON
ON
NO
ON
U
o
Q
S'
a
I
u
X
ffl
ffl
X
X
Д
я
OQ
X
C5
X
Л
CL
H
О
И
2
CL
О
С
'£
X
ffl
X
0
ев
X
Э
ев
X
£
X
v
ев
CL
ffl
CL
£
1
ffl
ffl
О
X
CL
4>
PO
О
e
о
§
tt
X
О
CL
Б
1929 r.
422
ю
СП
t"-
00
256
416
108
665
387
893
252
14 826
432
*п
t"-
875
278
432
481
570
183
1921 r.
502
762
153
404
127
448
283
753
223
1866
319
502
1026
303
382
485
334
194
1913r.
727
664
317
556
(N
620
468
865
189
1834
386
527
980
303
434
532
413
209
1887—1888 гг.
475
353
о
500
157
450
314
840
205
582
552
6011
253
ozt
409
195
185
1831—1840 гг.
432
£
293
оое
314
293
60Z
0ZL
154
ZLZ
552
853
(N
332
0Z6
244
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Г ермания
Дания
Италия
Канада
Польша
Румыния
США
Финляндия
Франция
Швеция
Югославия
Япония
Продолжение табл. 33
1985—1987 гг.
729
1518
702
799
412
1376
427
1598
324
2124
679
1251
1305
670
984
686
730
130
1970 г.
769
1033
B99t
814
243
752
297
1270
CN
ГО
1364
536
915
623
629
622
581
173
1953 г.
412
00
NO
Г-
256
э8£*
159
662
228
1014
277
CN
ГО
00
380
507
817
385
383
474
441
136
1939 г.
448
ш
*п
т
00
252
536
93
718
355
931
261
1071в
389
*
00
о
NO
784
412
tZPP
525
505
193
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Г ермания
Дания
Италия
Канада
Польша
Румыния
США
Финляндия
Франция
Швеция
Югославия
ос
S
X
О
с
*
а сл
с с
о о
03
а.
CQ _
£ s
О О
5 ё
5 g
<jj <jj
а, я
<jj “
a
<jj
Ы Ю
X >>
я &
Q. «J
о м
Ю Я
w ей
- о
<4 U
<N 5
•f
&
CJ
<D
CQ
«Й
* ^
a, u*
g «
is
ю4 8
w 3*
о s
o s
CQ g
5 ON
о
a, *
- э-
J5 О
03 g
a, a.
I s H
11
X e
<N D
no Л
со
<ч ^
cC o
i€ 8
2 «
■*з $
* ~
£ £
. ~o
О g
ON Q,
7 2
£3
о
сn о
•Si
to w
'3 ^
4
00 rj
<4 ^
2 VO
s'2
*ё
r- .
<4 ON
7§
ro
<u ж * 2
£ 2
a, <u
а г
tf i
ca x
« ё
*Q H
§.u
<U Г )
>> 05
— !>
CL ^
U -fc.
U *
О §
« 0:3
Я
й я
5- я
w я
S о
S H
а, cj
C S
2 «
о 3
to СЛ
Зч ^
§£
I s §■«'
E * 2 2
0^3
“ * a:
^ <N
. . 00
c^‘ ON
r CJ
2 о
* >N
Я CQ
X '
a,
о
ю
U
oq
«
«
м .
О
x :
<jj
8 i
о
X ;
>,:
s
S'
cj c
A »
О
>-
£
<u
я ,
(U 1
4 ■
<JJ ,
CQ <
CJ
& ^
oj
7 £
4 Si
^ я
S2 о
ON iaS
Л
a,
s
о
Я
oo
ro
on
о
a
^t
•o
ON
ON
*
U
О
Г-
со
ON
го
ON
s
о
CJ
Г-
00
ON
УГ)
00
ON
о
г-
ON
§
Экспорт (Э) и импорт (И) зерновых культур в XIX—XX вв.
(в среднем в год, млн т)а
1930—1939 гг.
*п
1
1
1 0,812 |
■
1 9,224 |
1
1 1,597 |
■
1 0,473 |
| 0,848 |
1 0,641 |
1 3,464 |
1920—1929 гг.
| 0,846 |
'
■
1 0,561 |
■
| 8,088 |
■
1 4,703 |
1 7,930 |
1
| 0,046 |
ON
СП
■
V
о
СЧ
1909—1913 гг.
| 10,192 |
'
о
СП
О*
1 0,746 |
1
1 9,364 |
■
1 7,268 |
1 4,042 |
■
1 0,043 |
1 1,054 |
■
ч
£
СЧ
О*
1880—1889 гг.
1 6,980 |
1 0,051 1
1 0,781 |
| 0,449 |
■
1 5,891 |
1
| 2,068 |
о
о
■
1 0,021 |
1 1,162 |
1850—1859 гг.
1 1,530 |
| 0,008 |
СП
о
о"
1 0,194 |
1
1 1,503 |
1
1
в
о
о
■
1 0,212 |
1 0,253 |
■
■
1820—1829 гг.
| 0,279 |
| 0,004 |
| 0,270 |
1 2,641 |
■
1
о
О
00
o'
1
1 0,201 |
*п
СЧ
o'
1
1
Страна
(Т)
£
Г)
£
(?)
£
Г)
£
о
£
Г)
£
Г)
£
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
1985—1986 гг.
1 36,2 1
о*4
о"
NO
о^
сн
(N
VO
(N
Г-
(N
1980 г.
1 29,4 |
(N
о"
(N
сГ
ON
<4
*п
(N
(N
*п
О^
(N
o'
1970 г.
in
СЧ
СЧ
1 0,04 |
СП
(N
о*4
О*4
ON
ON"
ON
(N
оо
1 П* 1
o'
1960—1969 гг.
| 5,663 |
1
1
1 0,651 |
1
1 8,065 |
1
rf
СП
VO
1
1950—1959 гг.
| 4,494 |
■
■
I 0,743 I
'
1 6,976 |
■
1 4,717 |
1
Страна
(?)
£
Г)
£
Г)
£
Г)
£
0
£
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Окончание табл. 34
1985—1986 гг.
27,7
27,1
1980 г.
19,8
00^
24,7
1970 г.
10,3
(N
00^
УГ)
1960—1969 гг.
6,685
1,245
6,725
1950—1959 гг.
1,544
1,251
0,051
4,159
Страна
Г)
S
(?)
S
Франция
Япония
е* ^
si
се
а, ^
я
S и
£ я
О Я
X Я
8ё
Я н
-, УГ)
5 2
с
го С
^ 3
с
2 н
JL о
е- .
° >о
£ с
8 О
§ Ж
8 5
3- CJ
Я О
S Ом
о -
• УГ)
УГ) о
*3
. Cl.
00
g in
£2
са о
&£
Ч м
^ 40
О £
U ON
х ""1
3 -X
я о
X о
и
чО* й-
г- w
On to
- о
•if-a
О х>
>• S.
Ь£
• ^3 Г"
£ М ”
ON <s сл
"о 00
^ Э 00
И2
’“* от е
сл Д
О ^ tr
сл <
.2 л .
^ сл 00
Jf 1 2
13 Е
•сел о
о . * 2
to to . „
*-3
I
■Г .У
1.8
£ ~
= CL
.= w . 2
U Я \5
я «й
я g
я ±
о Э
от «и
От х
О- са
« я
£
и
ОТ
В 55
£ §
5 ..
)Я чО
К ON
й <N
® I
bON
S
О
3 и
4 оо
«5 5 55
ON
-Si <и е
£ 2 s
5 ^ о
^ От 2
я о
а, с
о _
от
О ЧО
£ 2?
■Н ON
: < ~
oq о
5 С
Is
«о, =
|1
£§ U
н rz оо
£ 2
S -° .§ е
О 00 6 2 -о
S ^ Is сл н—(
Г ^ 0N
^ я X .. £
< в Й ^ ^
5 s
Е сп
л-ё -2 «з
^ ОТ '
В 00
<U ON
Й~
!§ I
vi Р
2 Й
U S
§g
I "2
л ,« CU,
Е-> ю
Й rf
ОТ г}*
со On ГП 00
* “ ' ON
, <n .a
о г- л
&U л
vo U о
U U Н Ом
о
‘С
и
ON
<4
ON
<N
ON
i
vO
00
00
t-*
Г-
00
VO
vO
00
Г"
yr)
00
t-*
<N
00
OQ
О
Ю
о
ю
о
oq
о
40
00
On
I
г-
ON
*п
<н
0
гг
a
1
0Q
О
§
и
S
ч
5,
со
ffl
X
X
*
я
я
4>
ffl
О
«
4>
S
S
ffl
и
се
ё
Я
w
о
о
от
и
о
си
£
о
S
Е
си
я
«
ч
се
3
о
4
о
S
у
1986 г.
УГ)
122
УГ)
OS
142 |
'
40^
CN
00л
СП
>
0,17
12,5
1970 г.
99,2
УГ)^
1-Г
VO
138
1
•П
(N
СП
|
о"
12,4
1950 г.
12,7
оо
УГ)
22,2
г-
СП
o'
СП
(N
•п
(N
o'
•п
o'
vO
оС
1939 г.
17,2
53,5
25,2
69,9
CN
о"
VO
(N
(N
СП
о"
о^
оо"
1929 г.
32,6
58,2
19,4
97,4
ев
СП
o'
V
(N
ев
00^
(N
ев
СП
о"
CN
(N
t-T
1920 г.
30,3
45,9
16,3
77,3
<N
о"
2,2
(N
•о
о"
so
6,7
1913 г.
22,8
32,0
«п
СП
41,4
ОС^
9,2
40"
г4
40^
О^
г-Г
1900 г.
19,7
СП
00^
47,6
»П
оГ
4,7
VO
CN
»п
00
40"
1890 г.
19,8
УГ\
УГ)
(N
40
оГ
46,1
»п
ю
00
VO^
СП
CN
СП
«п
40"
U
О
00
00
VO
27,3
10,8
51,8
»п
VO
осГ
2,7
00л
СП
°\
УГ)
1850 г.
13,5
(N
оо
«п
1-Г
СП
(N
СП
10,5
1-г
Ол
CN
О^
оо"
1830 г.
12,0
19,0
00л
УГ)
36,0
УГУ
CN
10,5
12,0
УГ)
УГ)
УГ)
гч
t=:
и
о
t=:
и
о
Страна
Россия
Австрия
Великобритания
Окончание табл. 35
1986 r.
©^
оо"
©^
40"
(N
©"
15,3
24,2
СП
10,8
105
51,2
10,0
СП
©"
22,2
<Ч
10,6
0,02
-
0,03
1970 r.
оо"
ип
оо"
СП
©"
14,0
21,0
0°„
©"
00^
t-T
(N
40
20,4
40^
©"
21,7
CN
10,2
©"
СП
40
оо"
0,02
1950 r.
<ч"
19,7
'О
-
VO
5,4
°°r,
40
55,7
31,4
<Ч
15,8
00^
4сГ
ип
©^
04Л
<Ч
00Л
©"
00
©"
1939 r.
00Л
СП
26,0
©^
СП
19,4
25,2
4,9
10,6
66,0
©^
©"
in
•о
«гГ
(N
(N
6,4
оо"
(N
2,0
-
©"
1929 r.
«п
(N
23,7
3,6
18,0
19,9
СП
14,2
oo"
in
59,0
43,5
3,0
15,6
4сГ
10,5
«л
©"
1920 r.
(N
19,7
3,6
16,8
14,2
(N
40"
Voz
70,4
60,2
37,3
2,6
13,2
04
04"
«л
©"
1913r.
2,2
23,9
21,0
Г";
«гГ
(N
«П
in
21,0
56,6
53,7
in^
о"
<4
СП
14,8
©^
16,1
VO
СП
©"
1900 г.
2,4
26,6
4,2
18,9
16,8
оГ
17,9
59,7
in
in
2,9
14,5
40"
toz
«п
СП
CN
©"
1890 г.
(N
27,3
°0
СП
17,6
12,2
13,6
in
60,0
48,1
42,7
2,9
13,6
6,0
21,7
ип
u
О
00
00
<ч"
26,6
«п
СП
15,8
(N
as
19,2
10,9
43,3
cn
44,9
оол
<Ч
©^
СП
CN
Г"-"
23,8
VO
-
:
u
о
п
00
СП
28,0
ип
<Ч
11,3
СП
21,3
ю
VO
Ю
cn
О
00Л
СП
СП
ю
40
СП
СП
12,2
СП
in
33,3
1830 г.
4,0
©^
1П
СЧ
J
in
(N
00
о"
СП
t-T
un
<ч"
oo"
16,0
«П
4сГ
2,6
4сГ
ип
35,2
Страна
и
О
и
О
и
О
f=;
и
О
и
о
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
Источники: Мировое хозяйство : Сборник статистических материалов за 1913—1927 гг. М., 1928. С. 263—268 ; Сборник статистико¬
экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год 9. Пг., 1916. С. 238—240, 253—254 ; СССР и зару¬
бежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 221—225 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C.,
1975. Pt. 1. P. 519—520; Mitchell B. R. \ 1) European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 289—320 ; 2) International Historical
Statistics : Africa and Asia. New York, 1982. P. 109—111, 249, 253, 259.
Число лошадей, крупного рогатого скота, свиней и овец на 1000 жителей в XIX
Овцы
1986 г.
507
975
1067
458
LIZ
22
£
27
125
825
ш
00
2
335
1913 г.
346
1736
т
00
1990
г-
г-
366
82
180
345
336
57
749
417
409
72
174
1308
1
1887 г.
484
2235
134
2136
680
642
399
583
269
540
318
904
747
458
009
310
1347
1
Свиньи
•J 9861
230
163
о
о
456
821
409
1808
163
418
523
645
212
ш
OV
''Т
218
439
286
365
1913 г.
СП
163
225
<N
54
305
379
872
76
452
145
552
130
178
170
297
40
U
Г-
00
00
о
о
209
150
144
09
291
Б
367
69
250
88
145
720
00
150
120
413
Крупный рогатый скот
j 9861
435
1463
342
189
220
160
258
481
156
449
280
316
434
327
401
329
202
219
39
1913 г.
267
2344
321
465
168
294
310
860
187
895
168
379
582
495
374
322
479
331
27
1887 г.
267
2392
366
443
169
296
328
695
177
о
о
00
349
438
956
548
360
520
372
СП
Лошади
1986 г.
(N
25
СП
СП
Ov
40
1
32
30
45
в
00
чо
1
1
40
(N
o'
1913 г.
190
515
at
СП
чо
ев
о
39
95
69
198
28
352
ю
СП
Ov
ев
216
ев
т
82
ю
СП
rt
Я
О
<СП
т
СП
1887 г.
214
360
65
107
37
106
73
179
24
230
149
103
233
127
77
о
о
74
44
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Г ермания
Дания
Италия
Канада
Польша
Румыния
США
Финляндия
Франция
Чехословакия
Швеция
Югославия
Япония
Источники указаны в примем, к табл. 35.
Статистическое приложение
Таблица 37
Удой молока от одной коровы в некоторых странах в XIX—XX вв. (кг)
Страна
1887 г.
1913 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1970 г.
1987 г.
Россия
850
875
980
1185
1389
2110
2508
Австрия
2100а
1900е
3089
3807
Великобритания
1870
2234
2532а
2910
3929
4936
Г ермания
2211
2480
2865
3737
4786
Канада
1872
2419
3259
4601
США
1382
1413
2001
1969
2514
4423
6169
Франция
1213
1688
1782а
2060
3096
3375
Япония
2375
4340
5048
Источники: Исследование современного состояния скотоводства в России. М., 1884.
Вып. 1. С. Д-34 ; Ковалевский В. И., Левитский И. О. Статистический очерк молочного хозяй¬
ства в северной и средней полосах Европейской России. СПб., 1879. Прил.; Мы и планета:
Цифры, факты. М., 1982. С. 77 ; Народное хозяйство СССР за 60 лет : юб. стат. ежегодник. М.,
1977. С. 334, 339 ; Народное хозяйство СССР, 1932 : стат. справ. М., 1932. С. 188—189 ; Россия
в конце XIX века. СПб., 1900. С. 183 ; Северная Америка : экон. справ. М., 1969. С. 125—126,
254 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 234 ; Страны социализма и капи¬
тализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1963 г. С. 147 ; Экономика капиталистических стран
после второй мировой войны : стат. сб. М., 1959. С. 299; Янсон Ю. Э. Уравнительная стати¬
стика России и западноевропейских государств. СПб., 1880. Т. 2. С. 658 ; Annuaire statistique de
la France, 1966. Paris, 1966. P. 180, 189 ; Historical Statistics of the United States : Colonial Times
to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 522—523 ; Mitchell B. R.\ 1) European Historical Statis¬
tics 1750—1970. New York, 1976. P. 323—326 ; 2) International Historical Statistics : Africa and
Asia. New York, 1982. P. 173—174 ; Wolftinsky Wi S., Woytinsky E. S. World Population and Pro¬
duction : Trend and Outlook. New York, 1953. P. 670.
1934—1938 гг. 6 1950r.
Таблица 38
Производство мяса (Мс)а, молока (Мл), животного масла (Жм) в расчете на душу
населения в некоторых странах в XIX—XX вв. (кг)
Страна
1830-е гг.
1887 г.
1913 г.
1921 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1970 г.
1987 г.
Россия
Мс
30
23
О 1
26
38
20
30
21
31
35
51
45
67
Мл
113
185
143
184
160
194
342
367
Жм
4,8
3,7
5,2
2,7
1,9
2,0
4,4
6,2
з
Австрия
Мс
30
26
37
37в
40
55
ЮГ
Мл
373
289
349
451
487г
Жм
5,5
4,7
5,9
з,за
4,5
4,3
6,0
5,9
Велико-
британия
Мс
36
29
28е
28
30
27
52
64
Мл
177
572
131
130
212
232
271
Жм
6,9
5,6
ы
1,0
1,2
3,5
Г ермания
Мс
27
29
47
47
53
38
76
98
Мл
353
368
327
374
416
Жм
4,7
5,0
4,8
4,8
7,9
5,6
8,6
7,9
788
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Окончание табл. 38
Страна
1830-е гт.
1887 г.
1913 г.
1921 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1970 г.
1987 г.
США
Мс
124
82
68
64
60
61
70
117
119
Мл
329
309
327
369
370
342
259
265
Жм
23
15
7,3
8,0
17,2
11,8
2,5
2,0
Франция
Мс
20
30
38
38
53
86
109
Мл
203
305
350
344
410
558
610
Жм
3,8
4,9
5,4
4,8
6,5
9,5
10,4
Япония
Мс
1,5
1,9В
2,1
9,6
31
Мл
0,4
1,0
1,5
2,6
4,9
8,3
46
62
Жм
0,02
0,04в
0,4
0,8
Источники: Аргументы и факты. 1989. № 17. С. 7 ; Народное хозяйство СССР за 70 лет :
юб. стат. ежегодник. М., 1987. С. 258, 270; Сборник статистико-экономических сведений по
сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год 9. Пг., 1916. С. 345 ; СССР и зару¬
бежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 228—232 ; Страны социализма и капитализма
в цифрах : крат. стат. справ. М, 1957. С. 75 ; Historical Statistics of the United States: Colonial
Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 1. P. 520—525 ; Japan Statistical Yearbook, 1955. To¬
kyo, 1956. P. 528—529, 764—765 ; Mitchell B. R: 1) European Historical Statistics 1750—1970.
New York, 1976. P. 323—333 ; 2) International Historical Statistics : Africa and Asia. New York,
1982. P. 263, 268—269 ; Statistical Yearbook of the League of Nations, 1938. Geneve, 1938. P. 77—
79 ; Idem, 1941. Geneve, 1941. P. 84, 90 ; Statistical Yearbook : Prepared by the Statistical Office of
the United Nations, 1985. New York, 1985. P. 398.
a Чистого мяса без сала и субпродуктов. 6 В числителе условной дроби указано чистое мя¬
со, в знаменателе — с салом и субпродуктами.в 1938 г.г 1986 г. д 1934 г.е 1907 г.
789
Развитие почтовой связи в некоторых странах в XIX—XX вв.
Os
О
гг
а
V§
е2
1987 г.
1исло отправлений (млн)
62 034
00
ON
о
СП
13 568
13 332
4)
^fr
16 776
и
о
00
220
00
о
239
225
610
302
150
1970 г.
41 391
1595
11 032
10 679
<N
ОО
ОО
4fr
00
10 435
11 721
Г"»
213
198
183
408
205
■*fr
1960 г.
18 691
936
10 985
8498
65 232
6272
6905
сэ
оо"
ОО
134
Я
361
136
СП
г-
1950 г.
в
о
Г-
552
9003
4411
45 064
4050
3172
ri
СП
о
ОО
184
86,8
297
Г86
00
СП
1939 г.
ю
СП
ГА
СП
ON
et
О
г-
г-
•/N
ОО
7924
27 749
6384
5109
§
а:
§
о
S
сэ
ОО
(N
176
213
155
VO
я
1929 г.
2100
968
6738
СП
ЧО
40
Г-
28 892
6201
5135
!
а:
VO
СП
144
148
ON
СП
ГА
152
ON
о
ОО
1920 г.
1838
23 054
4162
а
а:
I
§■
S
СП
О
о
(N
108
1913 г.
л
чо
ON
(N
СП
ГА
5900
О
о
ОО
(N
18 567
3724
о
о
ОО
О
О
1
CN
•лГ
(N
142
ОО
ON
93,6
•лГ
СП
1888 г.
326“
096
2363
ОО
ОО
4fr
<N
3576
2404
137
2,8
41,0
(N
СП
40
ri
as
61,6
3,5
1850 г.
ев
ON
<N
о
*
<N
V
■*fr
*
3
255
o'
га
<N
О
ОО
о*'
2,4
7,1
Страна
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
Japan Yearbook, 1914. Tokyo, 1914. P. 477, 481 ; Idem, 1924. Tokyo, 1924. P. 394—395 ; Statistisches Handbuch fiir die Republik Osterreich, 1988.
Wien, 1988. S. 609 ; Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik Deutschland, 1988. Wiesbaden, 1988. S. 307 ; Unesco Statistical Yearbook, 1988.
Paris, 1988. Tab. 7.18 ; Webb A. D. The New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth Edition of Mulhall’s «Dictionary of Statistics».
London, 191 l.P. 489—490.
00
cn
ON
о
00
00
NO
00
ON
u
NO
cn
ON
r-
о
ON
On
О
rt
ON
О
a
Q
a
e»
vd
ffi
ffi
X
3
Я
ffi
*
ее
X
ee
£
x
3
a
н
о
a*
X
ffi
X
ffi
о
)X
о
X
ee
£•
a*
H
a*
X
ffi
w
1987 r.
Число отправленных телеграмм (млн)
450
m
К
сп
•лГ
в
«п
г4
(N
СП
в
СП
Отправлено телеграмм на 100 человек населения
160
20
ON
ON
25
34
1970 r.
366
сТ
00^
VO
VO
102
<N
72,2
39
27
28
50
43
70
1960 r.
241
«л
32,4
30,4
153
23,4
93,6
ИЗ
65
62
54
84
о
о
1950 r.
154
62,7
27,4
195
24,6
оо*
оо
86
128
54
128
09
106
1939 r.
ri
г-
щ
VO
•лГ
(N
209
34,0
tLL
50
150
38
160
СП
оо
108
23
СП
г-
144
58
189
122
104
1929 r.
133
NO
37,4
2321
49,7
Г99
ON
•п
СП
1920 r.
12,9
160
43,3
28
182
77
ON
ц
49
1913r.
47,7
83,8
44,4
33,3
ON
57
154
00
00
99
1888 г.
VO
«л
сГ
VO
<N
СП
г-
24,1
et
25,9
1865 г.
V
К
ri
Л
ON
•лГ
о"
<N
ON
NO
(N
Страна
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
Россия
Австрия
Великобритания
Г ермания
США
Франция
Япония
н
Ы
T
<u
£
к
Ы
к
X
T
о
6
s
о
On
00
cn
On
<4
00
On
On
00
00
<4
NO
00
00
NO
00
ON
Развитие телефонной сети общего пользования в некоторых странах в XIX—XX вв.
о
гг
s
v§
£
О
U
05
5
а
S .
с
а
Я S
з :
»|
£
s
о.
с
о
5
я
В СССР в 1987 г., в остальных странах в 1984—1986 гг. 6 1917 г.в 1940 г.г 1963 г. д 1961 г.е 1924 г.
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX XX вв.
Таблица 42
Протяженность дорог в некоторых странах в XIX—XX вв.а
Страна | 1835 г. | 1865 г. | 1887 г. | 1912 г. | 1928 г. | 1950 г. | 1970 г. | 1987 г.
Длина дорог (тыс. км)
Россия0
62
105
31
32
177
512
827
Австрия
81
130
34
Великобритания
ш
'Ч-
о
(N
210В
190в
258
288г
323
352д
Г ермания
426
279
349
376
426д
США
167
273е
418
413
1066
2583
4783
5640д
Франция
74
266
514
576
652
699
717д
Япония
—
920
910
1015
1127д
Длина дорог на 1000 км2 территории (км)
Россия0
11
19
6
6
32
91
148
Австрия
131
210
405
Великобритания
648
667
603
819
1180
1324
1443
Г ермания
1270
516
744
1516
1718
США
36
59
53
53
136
330
511
607
Франция
140
502
957
1073
1183
1285
1318
Япония
2408
2446
2728
3030
Источники: Военно-статистический сборник на 1868 год. СПб., 1867. Вып. 1. С. 18, 94,
163, 229, 286 ; Военно-статистический сборник. Вып. 4 : Россия. СПб., 1871. С. 505 ; Вольф М. К.,
Клупт В. С. Статистический справочник по экономической географии капиталистического
мира. М.; Л., 1934. С. 218—219 ; Мы и планета: Цифры, факты. 1—5-е изд. М., 1967—1982
(1967 г.). С. 39 ; Народное хозяйство СССР за 70 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1987. С. 354 ;
Народное хозяйство СССР за 60 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1977. С. 403 ; Сборник сведений
по России за 1883 год. СПб., 1886. С. 202 ; СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М.,
1988. С. 261—262 ; Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1963.
С. 158 ; Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975.
Pt. 2. P. 710—711 ; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 212 ; Idem, 1960. Tokyo,
1960. P. 207 ; Idem, 1988. Tokyo, 1988. P. 300 ; Mitchell B. R. International Historical Statistics:
Africa and Asia. New York, 1982. P. 515—517.
a До 1912 г. дороги грунтовые и шоссейные, с 1912 г. дороги с твердым покрытием. 6 Евро¬
пейская часть.в Англия и Уэльс.г Без Северной Ирландии. д 1986 г.е 1850 г.
Таблица 43
Протяженность железных дорог в некоторых странах в XIX—XX вв.
Страна
1838 г.
1890 г.
1913 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1969 г.
1986 г.
А
0,027
30,6
70,2
76,9
86,4
119
135
146
Россия
Га
0,005
5*5
Л
и
16
21
24
26
D
0,001
1,5
3,3
3,6
4,1
5,3
6,0
6,5
Австрия
А
0,032
15,3
23,0
6,7
6,7
6,7
6,5
6,4
Б
0,05
24,7
76,7
79,8
79,8
79,8
77,3
76,2
Великобритания
А
1,196
32,3
38,1
35,3
34,7
33,3
20,8
18,5
Б
0,26
103
121
145
142
136
85,2
75,8
793
Статистическое приложение
Окончание табл. 43
Страна
1838 г.
1890 г.
1913 г.
1929 г.
1939 г.
1953 г.
1969 г.
1986 г.
Г ермания
А
0,140
42,9
63,4
58,1
61,9
36,6
33,1
30,6
Б
0,248
79,3
117
124
132
148
133
123
США
А
2,820
156
250
261
247
235
222
225
Б
0,61
19,9
31,9
33,3
31,6
30,0
23,7
24,0
Франция
А
0,159
33,3
40,8
42,3
42,5
41,2
36,0
34,6
Б
0,30
62,0
76,0
76,8
77,1
75,6
66,2
63,6
Япония6
А
—
2,4
10,6
20,7
25,1
27,5
27,2
29,8
Б
—
6,5
27,7
54,2
65,7
73,9
73,6
80,1
Примечание. А — длина дорог (тыс. км); Б — длина дорог на 1000 км2 территории (км).
Источники: СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988. С. 253—254 ; Histori¬
cal Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 2. P. 727—
728 ; Japan Statistical Yearbook, 1988. Tokyo, 1988. P. 306 ; Mitchell B. R. \ 1) European Historical
Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 581—588 ; 2) International Historical Statistics : Africa
and Asia. New York, 1982. P. 492—512, 505—506.
a В числителе условной дроби данные по европейской части, в знаменателе — по всей
стране. 6 Главные железные дороги.
Таблица 44
Автомобильный парк в некоторых странах в XX в.а
Страна
1913 г.
1920 г.
1928 г.
1939 г.
1950 г.
1960 г.
1970 г.
1980 г. 1985 г.
Число автомобилей (тыс. шт.)
Россия
9,0
15,9Ь
18,7
570в
9800
17 158
19 200г
Австрия
12,2
9,2
28,9
48,6В
92,4
474
1605
2773
3111
Велико¬
британия
209
363
1286
2612
3290
7017
13 376
17 658
19 697
Г ермания
70,6
90,9
473
1843
888
5192
14516
24 763
27 474
США
1258
9239
24 689
31 010
49 162
73 868
106 819
151 869
171 691
Франция
91,0
236
1090
2400
2150
7180
15 645
21 110
24 164
Япония
0,8Д
5,6
43,3
217е
414
3404
17 485
37 082
45 221
Автомобилей на 1000 человек населения (шт.)
Россия
0,06
0,12
0,12
3,5
39
65
70
Австрия
0,4
1,4
4,4
7,1
13,4
68
214
365
409
Велико- )
британия
4,5
7,7
29
54
66
133
241
313
348
Г ермания
и
1,5
7,4
27
18
94
248
415
463
США
13
87
205
237
324
409
521
666
718
Франция
2,3
6,1
27
58
52
157
308
392
438
Япония
0,01
0,1
0,7
3,0
5,0
37
170
317
374
Источники: СССР и капиталистический мир : Статистический сборник технико¬
экономических показателей народного хозяйства СССР и капиталистических стран за 1913,
1928, 1932 и 1937 гг. М. ; Л., 1934. С. 140 ; Статистический сборник за 1913—1917 гг. М., 1922.
794
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Вып. 2. С. 228 ; Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1957.
С. 25—28 ; Annuaire statistique de la France, 1966. Paris, 1966. Partie intemationale. P. 92—97;
Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970. Washington, D. C., 1975. Pt. 2.
P. 716; Japan Statistical Yearbook, 1956. Tokyo, 1956. P. 222—223 ; Idem, 1975. Tokyo, 1975.
P. 264 ; Mitchell B. R. European Historical Statistics 1750—1970. New York, 1976. P. 639—644 ;
Statistical Abstract of the United States, 1987. Washington, D. C., 1987. P. 826 ; Statistical Year¬
book : Prepared by the Statistical Office of the United Nations, 1953. New York, 1953. P. 305—306 ;
Idem, 1968. New York, 1968. P. 413—414; Idem, 1972. New York, 1972. P. 421—425; Idem,
1985. New York, 1985. P. 715—719.
a Легковых, грузовых, автобусов без специальных (полицейских, медицинских, военных
и т. п.) автомобилей. 6 1918 г.в 1937 г.г 1984 г. д 1915 г.е 1940 г.
Таблица 45
Преступность в Англии в XIX—XX вв. (число преступлений, тыс.)
Вид преступлений
1876—1884 гг.а
1909—1913 гг.
1927 г.
1945 г.
1950 г.
Против личности, в том числе:
6,7
7,5
13,2
19,4
убийство
0,3
0,4
0,4
4,7
6,2
телесные повреждения
0,9
1,5
1,2
половые преступления
1,9
3,0
8,5
13,2
прочие
2,8
2,9
Имущественные, в том числе:
59,2
92,9
115,2
454,8
427,1
кража квалифицированная*3
22,9
29,3
108,3
92,8
грабеж, разбой8
0,2
0,2
воровство
64,0
74,1
333,4
308,7
мошенничество
5,1
11,3
13,1
25,6
материальный ущерб
0,6
0,3
Против порядка управления
1,1
1,7
Другие
0,6
0,4
1,3
10,4
14,9
Итого
61,1
101,1
125,7
478,4
461,5
Население, млн
26,1
36,1
39,1
42,4
43,5
Преступлений на 100 тыс.
человек
234
280
321
1128
1061
Продолжение табл. 45
Вид преступлений
1960 г.
1971 г.
1980—1984 гг.
1985—1986 гг.
Против личности, в том числе:
35,7
7,Н
126,5
152,5
убийство
15,8
0,8
106,3
129,3
телесные повреждения
47,0
половые преступления
19,9
23,6
20,2
23,1
прочие
Имущественные, в том числе:
688,4
1589
2994
3614
кража квалифицированная15
151,4
451,5
768,7
899,5
грабеж, разбой8
7,2
21,0
30,0
воровство
501,0
1004
1667
1980
мошенничество
36,0
99,8
116,6
133,7
материальный ущерб
27,0
421,0
570,5
795
Статистическое приложение
Окончание табл. 45
Вид преступлений
1960 г.
1971 г.
1980—1984 гг.
1985—1986 гг.
Против порядка управления
11,0
17,6
Другие
19,6
5,6
—
—
Итого
743,7
1666
3132
3784
Население, млн
45,9
48,6
49,6
49,9
Преступлений на 100 тыс. человек
1620
3428
6315
7583
Источники: Гернет М Н.\ 1) Моральная статистика: (Уголовная статистика и стати¬
стика самоубийств). М., 1922. С. 50—97 ; 2) Преступность и самоубийства во время войны
и после нее. М., 1927. С. 40—95 ; 3) Преступность за границей и в СССР. М., 1931. С. 7—85 ;
Тарновский Е. Н. Данные экономической и уголовной статистики Японии // Журнал Мини¬
стерства юстиции. 1906. № 9. С. 20—27 ; Уэда К. Преступность и криминология в современной
Японии. М., 1989. С. 94 ; Annuaire statistique de la France, [1950—1980]. Paris, [1950—1980];
Annual Abstract of Statistics, [1954—1989]. London, [1954—1989]; Japan Statistical Yearbook,
[1956—1988]. Tokyo, [1956—1988]; Japan Yearbook, [1905—1915]. Tokyo, [1905—1915] ; Sta¬
tistical Abstract of the United States, [1952—1988]. Washington, D. C., [1952—1988]; Statistisches
Handbuch fur die Republik Osterreich, [1950—1989]. Wien, [1950—1989] ; Statistisches Jahrbuch
filr die Bundesrepublik Deutschland, [1952—1989]. Wiesbaden, [1952—1989].
a Число следствий. 6 Проникновение в помещение с целью совершить кражу, изнасилова¬
ние и т. п. или осуществление намерения (берглери).в Похищение имущества, сопровождаемое
насилием либо угрозой его применить (роббери).
Таблица 46
Преступность в США в I960,1970 и 1980-е гг. (число преступлений, тыс.)
Вид преступлений
1960 г.
1970 г.
1980 г.
1984—1986 гг.
Против личности, в том числе:
179
385
779
854
убийство
9
16
23
19,4
изнасилование
17
38
83
87,4
тяжкие телесные повреждения
153
331
673
747,3
Против собственности, в том числе:
1840
5197
12 630
11 653
кража квалифицированная3
900
2177
3795
3099
грабеж, разбой6
107
348
566
509
воровство8
507
1750
7137
6925
кража автомобиля
326
922
1132
1120
, Итого
2020
5581
13 408
12 507
Население, млн
180,7
204,9
228,0
239,0
Преступлений на 100 тыс. человек
1126
2747
5950
5233
Источники указаны в примеч. к табл. 45.
а Берглери. 6 Роббери.в Свыше 50 дол.
796
Основные показатели развития России сравнительно с другими странами в XIX—XX вв.
Таблица 47
Преступность в Германии в XIX—XX вв. (число преступлений, тыс.)
Вид преступлений
1882 г.
1913 г.
1927 г.
1963 г.
1969 г.
1980 г.
1986 г.
Против личности, в том числе:
144,7
209,7
148,1
126,2
123,3
101,8
126,1
убийство
0,5
0,3
0,7
1,3
2,0
2,6
2,7
половые преступления
4,1
0,7
7,7
32,0
27,5
42,7
20,6
телесные повреждения
79,4
129,8
61,3
30,2
35,2
56,5
64,1
против нравственности
4,3
10,9
15,8
62,7
58,6
38,7
оскорбление
56,4
68,0
62,6
Имущественные, в том числе:
197,9
224,4
242,9
1183,4
1600,8
2639
781,7
грабеж, разбой
0,9
6,7
11,5
22,0
28,6
кража
160,7
140,3
133,0
943,4
1361
2296
2720
мошенничество
16,1
27,2
64,5
184,3
186,5
270,3
414,4
материальный ущерб
21,8
2,5
4,4
17,2
17,7
присвоение, растрата
21,1
34,2
45,4
46,5
37,4
33,9
49,0
Против порядка управления
26,4
54,6
39,3
14,9а
Другие
6,2
144,8
181,2
277,4
493,9
793,2
996,4
Итого
375,5
633,5
611,5
1587
2218
3534
4367
Население, млн
45,9
67,5
63,9
54,5
60,9
61,3
61,0
Преступлений на 100 тыс.
человек
819
939
957
2914
3645
5761
7154
Источники указаны в примем, к табл. 45.
а Преступления против окружающей среды.
Таблица 48
Преступность во Франции в XIX—XX вв. (число подсудимых, тыс.)
Вид преступлений
1841—
1845 гг.
1861—
1865 гг.
1911—
1913 гг.
1925—
1927 гг.
Против личности, в том числе:
18,9
23,9
39,4
44,4
убийство
0,8
0,7
0,9
0,6
против нравственности3
0,6
1,0
0,5
0,4
телесные повреждения
17,2
21,3
36,4
42,0
прочие
0,4
0,9
1,7
1,4
Имущественные, в том числе:
33,0
47,2
54,4
75,1
кража
24,9
37,3
43,2
63,2
мошенничество
3,2
7,3
9,7
п,з
прочие
4,9
2,6
1,5
0,6
Против общественных инте¬
ресов, в том числе:
13,6
18,9
30,5
28,1
бродяжничество
8,0
11,4
19,3
15,0
против должностных лиц
5,6
7,5
11,2
13,1
Другие
40,3
65,1
86,0
98,7
Итого
105,8
155,1
210,3
246,3
797
Статистическое приложение
Продолжение табл. 48
Вид преступлений
1841—
1845 гг.
1861—
1865 гг.
1911—
1913 гг.
1925—
1927 гг.
Число преступлений, тыс.в
155
145
300
360
Население, млн
34,5
36,8
39,7
40,8
Преступлений на 100 тыс.
человек
449
394
756
882
Продолжение табл. 48
Вид преступлений
1945 г.
1950 г.
1960 г.
1970 г.
Против личности, в том числе:
24,9
26,9
45,1
47,2
убийство
0,3
0,4
0,2
против нравственности3
0,2
0,5
7,4
5,7
телесные повреждения
24,4
25,8
30,7
30,7
прочие
0,1
0,2
6,8
10,8
Имущественные, в том числе:
128,5
91,9
54,6
126,0
кража
118,6
77,0
38,2
69,5
мошенничество
9,8
14,7
16,3
56,1
прочие
0,1
0,2
0,1
0,4
Против общественных интересов,
в том числе:
2,5
7,3
бродяжничество
2,5
7,3
против должностных лиц
Другие
134,0
144,0
121,6®
133,2®
Итого
289,9
270,1
221,3
306,4
Число преступлений, тыс.в
634
540
746
1263
Население, млн
39,7
41,8
45,7
51,0
Преступлений на 100 тыс. человек
1597
1292
1632
2476
Источники указаны в примем, к табл. 45.
а Преимущественно половые преступления. 6 Преимущественно транспортные преступле¬
ния. в Реконструкция.
)
798
Преступность в Японии в XIX—XX вв. (число преступлений, тыс.)
Оч
сз
а*
а
Ȥ
eS
4
ob Sg
о
00
04
О
г**
04
о
40
04
U
о
04
о
СП
04
о g
2 S
1'
04 О
2 §
5
<D
О.
CQ
00^
г^4
сч
o'
40
40
00
§
5
0>
У
х
X
X
a>
Э
Sit §
CO
04
CH
40
00
CH
00
40
00
40
04
(4
r-
CH
(4
<N
40
CH
»n
C w
4
CH
(4
О
(4
СП
40
04
3:
о
СП
о
X
*
о
О.
o
4
X
CQ
rt
CL
C
a>
x*-
X s
g s
g- Я
ЗС ч
I
H
H
X
X
X
X
fc*
X
5
о
a.
c
X
X
ё
X
&
X
<lT
I
H
o
CQ
о
X
о
X
а
м
о
<D
3
&
I
X
>>
X
X
X
У
§
S
X
X
I
о
с
<D
О
X
)Х
о
5
X
о.
с
<D
2
s
<и
ОС
X
X
ос
о
о
о
5
X
О*
Считается в Японии преступлением.
Число самоубийств в некоторых странах в XIX—XX вв.
1980 г.
Оба пола
Число самоубийств на 100 000 человек населения
ч
Г4"
оС
сч
27,7
27,5
8,6
45,0
20,5
29,0
СП
12,0
12,3
19,6
19,5
20,3
Число самоубийств (тыс.)м
*
00
2,1
ON
Tf
Жен.
14,5
15,4
15,4
13,2
21,2
4,6
On"
5,6
-
11,2
13,3
сч
(Ч
so
о"
Г;
Муж.
47,0
40,0
40,0
11,5
28,5
37,1
Г01
14,6
19,2
оо"
СЧ
27,8
so^
СЧ
60,2
»л
<4
сл"
1940 г.
сч
г-"
10,6
44,1
18,3
11,3
24,7
28,4
6,i
ON
ип
10,8
6,9
СП
18,7
23,6
13,8
*sO
On"
СП
©^
СП
СП
«л"
1920—
1925 гг.
11,2
26,1
13,5
ON
On"
27,4
22,0
13,9
«л"
8,1
6,6
SO^
•/■Г
11,6
20,4
23,2
14,7
19,6
о"
СП
Tf
1901—
1905 гг.
Ю
СП
сч"
12,5
17,3
12,4
10,3
17,6
21,2
22,7
2,2
СП
so"
so"
so"
10,2
22,8
23,0
сч"
V0Z
*
сч"
*
so
СП
1881—
1885 гг.
<*
сч"
00
On"
16,4
10,5
«л
оо"
VIZ
25,9
:
4,8
СП
ип
6,8
19,4
23,5
On"
14,6
*«л
сч"
3,6
<э
сч"
1871—
1875 гг.
К
сч"
9,9
10,6
7,0
SO
so"
s
CD
CH
24,3
*
1>
3,5
3,6
«Л
14,4
»л
о"
СЧ
оо"
*00
2,2
У0Л
1831 —
1840 гг.
сч"
V
СЧ
СП
сп
6,3
3,0
ъ
ч
оо"
ч
»л"
*сп
0,8
о
о"
Страна
Россия
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобританияж
Венгрия
Г ермания
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Норвегия
США
Франция
Швейцария
Швеция
Япония
Россия
Австрия
Великобритания
Q
5
to
3
%
Q
х
а:
о
О
о
rt-
ON
1.
<N
ON ov
О £
ON qv
2S oo
00 00
ГГ 40
Г-
00 So
— о
m rt
oo oo
o.
H
U
о 08
£Ji
2 «
о S
о vo
S >>
s 1
о <
о
2 ю
s >>
*sua'J
ON СЛ
о
rt
)S H
i I
x b
D CO
rt cd
o. «
x s
3 В
fc s
£ Й
о в
CU ON
? о
X S
nQ —
r-
p o?
H S
X rt
Ё
<L>
* ^
О
>K 0*
X
x uo
o r^
<D ON
X —
* rt
IS
&i
S §
>3 о
g£
о ••
5 S
to s
3 В
~ в
u §
c c3
О x
.. p
о U
о
о ^
CL e
O I
m 35
^ s
«*p
<L> >>
x 2
о s
Q. rt
со о
Ш s
^ o.
OS 5
eg 2
ON
a
ь-м 7Г
ш В
~ ^ Я ^ S <n
.J § & со СЛ 00
£ Б
Jc to
О «
X <N
4 rt-
P (N
Js
§
to
to
a:
to
to
r->
rt-
oo
X Ct
X PQ
о S
5 §
s g.
>>
*
и ^
«$ <»
. ON
to o
' §> 00
1 Os*
^2
00* U
rt-
<N <N
00
I 00
CO —
rsl л
™ Ю
и E
U
Csl
rsl s
ON S
о CO
rsl <T)
00 „
1
ius
В Q 00
'U d *
• - S oo
ON 00 oo
. C ON
u £ ~
ON 8 (J
<N > .
2 . о
^ s
2.2|
b o.S
ГЧ S c3
2 6 ^
s Ь об
«IS
= 2S-.
bfflo£
л U .2
Си тэ
U им.
по
и!Я
00 ю
— >>
£
<D
X ^
•<•§“
* О
ь *
и о
т С
Js
rt "О Си'
со о ^
В •'х
« с х
s D on
|*«и
2«н .
и °Q
•*.а с
*" I а
45i
г^ — а
<N rt ^
<з^ .2 >
*-* Ц-,
5 ts oS
s.‘£2
*Г) . , ^
rsl _ со
ON 00 1)
-Г 00 rt
I и й
«N -гЗ
g ^ !
^ X G
Cu 2 D
U CQ о
U • £
©Si
os OS 2
e9 " Ц
oo г rt
fe
- 5
00 S.
^ X
a> Q
U CO
rt; В
s *
с I
»o s
* 8
О
<s g
2 i
1 §
fN о
2 sB
“. <
1 ^
nQ t-
H u
£ о
C CO
1 *
о о
|s
a si
ю чо
§s
2 «
X S
О
e- 5
00 S
Ш о
« p
)S
CQ
P«
H
S О
00 X
со Й
О (D
5 o
cu
C
>ч O.
5 5
в i
S o.
X rt
w Г0
ЗГ *
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ТАБЛИЦ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Аргументы и факты. 1989. № 17, 40.
2. Бечаснов П. Статистические данные о разводах и недействительных браках
за 1867—1886 гг. // Статистический временник Центрального статистического
комитета Министерства внутренних дел. 1893. № 26.
3. Валюты стран мира : справ. 5-е изд. / С. М. Борисов (ред.). М., 1987.
4. Веденеева. Шаг последний // Огонек. 1989. № 3.
5. Веселовский К. С. Опыты нравственной статистики России // Журнал МВД.
1847. Ч. 18. №5.
6. Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI—начало XX в.). М.,
1973.
7. Военно-статистический сборник на 1868 год: в 4 вып. / Н. Н. Обручев
(ред.). СПб., 1867—1871. Вып. 1.
8. Военно-статистический сборник. Вып. 4 : Россия / Н. Н. Обручев (ред.).
СПб., 1871.
9. Вольф М. К, Клупт В. С. Статистический справочник по экономической
географии капиталистического мира. М.; Л., 1934.
10. Воспроизводство населения СССР / А. Г. Вишневский, А. Г. Волков (ред.).
М., 1983.
11. Гернет М. Н. Моральная статистика : (Уголовная статистика и статистика
самоубийств). М., 1922.
12. Гернет М. Н. Преступность и самоубийства во время войны и после нее.
М., 1927.
13. Гернет М. Н. Преступность за границей и в СССР. М., 1931.
14. Дементьев Е. М. Фабрика, что она дает населению и что она у него берет
М., 1897.
15. Ежегодник Министерства финансов на [1905—1912] год. СПб., [1906—
1912].
16. Исследование современного состояния скотоводства в России : в 4 вып.
М., 1884—18^3. Вып. 1.
17. Историческая география СССР / В. 3. Дробижев, И. Д. Ковальченко, А. В. Му¬
равьев. М., 1973.
18. Итоги десятилетия Советской власти в цифрах: 1917—1927. М., 1927.
19. Кабо Р. М. Потребление городского населения России (по данным бюд¬
жетных и выборочных исследований). М., 1918.
20. Кабузан В. М. Народонаселение России XVIII—первой половине XIX в.
(по материалам ревизий). М., 1963.
21. Киреев А. Сколько тратить на оборону // Огонек. 1989. № 19.
802
Список источников, использованных при составлении таблиц статистического приложения
22. Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX—начало
XX в.). М., 1979.
23. Клепиков С. А. Питание русского крестьянства. М., 1920.
24. Ковалевский В. Я, Левитский Я. О. Статистический очерк молочного хо¬
зяйства в северной и средней полосах Европейской России. СПб., 1879.
25. Кольб Г. Ф. Руководство к сравнительной статистике : в 2 т. СПб., 1862—
1865. Т. 1.
26. Копанев А. И. Население Русского государства в XVI в. // ИЗ. М., 1959.
Т. 64. С. 237—244.
27. Лихачев А. В. Самоубийство в Западной Европе и Европейской России :
Опыт сравнительно-исторического исследования. СПб., 1882.
28. Марузон Ф. Л. Наемный труд на Западе : стат. справ. М., 1926.
29. Материалы для статистики России, собираемые по ведомству Министер¬
ства государственных имуществ : в 6 вып. СПб., 1858—1871. Вып. 6 : Уголовная
статистика государственных крестьян по данным за десятилетие 1847—1856 гг.
СПб., 1871.
30. Мировое хозяйство : Сборник статистических материалов за 1913—1927 гг. /
С. А. Уманский (ред.). М., 1928.
31. Мировое хозяйство в 1936 г. : ежегодник / Е. Варга (ред.). М., 1937.
32. Миронов Б. Н. Грамотность в России 1797—1917 годов // ИСССР. 1985. № 4.
33. Мы и планета : Цифры, факты. 1—5-е изд. М., 1967—1982.
34. Народное образование, наука и культура в СССР : стат. сб. М., 1977.
35. Народное хозяйство Союза ССР в цифрах : крат, справ. М., 1924.
36. Народное хозяйство СССР в 1988 г.: стат. ежегодник. М., 1989.
37. Народное хозяйство СССР за 70 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1987.
38. Народное хозяйство СССР за 60 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1977.
39. Народное хозяйство СССР, 1932 : стат. справ. М., 1932.
40. Народонаселение стран мира / Б. Ц. Урланис (ред.). 1-е и 2-е изд. М., 1974,
1978.
41. Население мира : справ. / Б. Ц. Урланис (ред.). М., 1965.
42. Население СССР, 1987 : стат. сб. М., 1988.
43. Новаковский В. А. Опыт подведения итогов уголовной статистики с 1861
по 1871 г. СПб., 1891.
44. Новосельский С. А. Очерк статистики самоубийств // Гигиена и санитария.
1910. №9.
45. Орлов Я, Хвостов А. Материалы для уголовной статистики в России //
Журнал Министерства юстиции. 1860. Октябрь.
45а. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая
половина XIX в. / А. И. Пискунов (ред.). М., 1976.
46. Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811—1913 гг.) : стат. очерки.
М., 1956.
47. Россия в конце XIX века / В. И. Ковалевский (ред.). СПб., 1900.
48. Россия в мировой войне 1914—1918 года (в цифрах) / П. Попов (ред.). М.,
1925.
49. Самоубийства в СССР: 1922—1925. М., 1927.
803
Статистическое приложение
50. Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг. М., 1929.
51. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России /
В. И. Покровский (ред.). СПб., 1902. Т. 1.
52. Сборник сведений по России за 1883 год. СПб., 1886.
53. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству
России и иностранных государств. Год [8—10]. Пг., [1915—1917].
54. Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Вып. 1—30.
СПб. ;Пг., 1887—1916.
55. Свод статистических ведений по делам уголовным за [1873—1913] год.
СПб. ;Пг., [1876—1916].
56. Северная Америка. США. Канада : экон.-стат. справ. / Л. С. Демидова,
В. А. Назаревский (сост.). М., 1969.
57. СССР в цифрах : стат. сб. М., 1958.
58. СССР и зарубежные страны, 1987 : стат. сб. М., 1988.
59. СССР и капиталистические страны : Статистический сборник технико¬
экономических показателей народного хозяйства СССР и капиталистических стран
за 1913—1939 гг. / Я. А. Иоффе (сост.); Л. Я. Эвентов (ред.). М.; Л., 1939.
60. СССР и капиталистический мир : Статистический сборник технико-эко¬
номических показателей народного хозяйства СССР и капиталистических стран
за 1913, 1928, 1932 и 1937 гг. / Я. А. Иоффе, Л. М. Цырлин (сост.); Б. В. Троиц¬
кий (ред.). М.; Л., 1934.
61. Статистика осужденных в СССР: 1923—1924. М., 1927.
62. Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг. М., 1930.
63. Статистические данные о почтово-телеграфной деятельности Российской
империи // Статистический временник Российской империи. СПб., 1872. Сер. 2.
Вып. 5.
64. Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. Т. 1.
65. Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству. М., 1930.
66. Статистический ежегодник России, [1904—1916] год. СПб.; Пг., [1905—
1918].
67. Статистический ежегодник стран — членов Совета Экономической Взаи¬
мопомощи. 1988. М., 1988.
68. Статистический ежегодник 1918—1920 гг. : в 2 вып. М., 1922.
69. Статистический ежегодник 1922 и 1923 гг.: в 2 вып. М., 1925.
70. Статистический сборник за 1913—1917 гг. : в 2 вып. М., 1922.
71. Статистический справочник СССР за 1928 год. М., 1929.
72. Страны социализма и капитализма в цифрах : крат. стат. справ. М., 1957,
1963, 1966.
73. Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М., 1966.
74. Тарновский Е. Н. Данные экономической и уголовной статистики Японии II
Журнал Министерства юстиции. 1906. № 9.
75. Тарновский Е. Н. Движение преступности в Европейской России за 1874—
1894 гг. // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 3.
76. Тарновский Е. Н. Движение преступности в Российской империи за 1899—
1908 гг. // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 9.
804
Список источников, использованных при составлении таблиц статистического приложения
77. Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем : Исто¬
рическое развитие русской фабрики в XIX в. М., 1922.
78. Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе (статистические исчисления). М.,
1941.
79. Урланис Б. Ц. Эволюция продолжительности жизни. М., 1978.
80. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии. М., 1989.
81. Ханш Г. Экономический рост: альтернативная оценка // Коммунист. 1988.
№ 17.
82. Хейфиц К. Я. Осужденные в России // Журнал уголовного нрава и процес¬
са. 1913. №3.
83. Экономика капиталистических стран после второй мировой войны : стат.
сб. М„ 1959.
84. Энциклопедический словарь Русского библиографического института
Гранат : в 58 т. 7-е изд. М., 1910—1948. Т. 36, ч. 5. М., 1922.
85. Янсон Ю. Э. Сравнительная статистика России и западноевропейских го¬
сударств : в 2 т. СПб., 1880. Т. 2.
86. Annuaire statistique de la France, [1950—1989]. Paris, [1950—1989].
87. Annual Abstract of Statistics, [1954—1989]. London, [1954—1989].
88. Bergson A. The Real National Income of Soviet Russia since 1928. Cambridge
Mass.: Harvard University Press, 1961.
89. Cipolla С. M. Literacy and Development in the West. Baltimore. Md. : Penguin
Books, 1969.
90. Demographic Yearbook of the United Nations, [1950—1986]. New York,
[1950—1986].
91. Dore R. P. Education in Tokugawa Japan. Berkeley : University of California
Press, 1965.
92. Economic Survey of Europe in 1987—1988. New York : United Nations, 1988.
93. Goldsmith R. W. The Economic Growth of Tsarist Russia, 1860—1913 // Eco¬
nomic Development and Cultural Change. 1961. Vol. 9, nr 2. P. 441—475.
94. Graff H. J. The Legacies of Literacy : Continuities and Contradictions in West¬
ern Culture and Society. Bloomington, IN : University of Indiana Press, 1987.
95. Gregory P. R. Russian National Income, 1885—1913. Cambridge et al.: Cam¬
bridge University Press, 1982.
96. Handbook of Economic Statistics. Washington, D. C.: Government Printing
Office, 1988.
97. Ham N. History of Russian Educational Policy (1701—1917). London : P. S. King
and Son, 1931.
98. Historical Statistics, 1960—1984. Paris : OECD, 1986.
99. Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970 : in 2 pt. Bi¬
centennial ed. Washington, D. C.: U.S. Department of Commerce. Bureau of the
Census, 1975.
100. Income and Wealth / S. Kuznets (ed.). Series 5. London : Bowes and Bowes,
1955.
101. Japan Statistical Yearbook, [1956—1988]. Tokyo, [1956—1988].
102. Japan Yearbook, [1905—1948]. Tokyo, [1905—1948].
805
Статистическое приложение
103. Mitchell В. R. European Historical Statistics 1750—1970. New York : Colum¬
bia University Press, 1976.
104. Mitchell B. R. International Historical Statistics : Africa and Asia. New York:
New York University Press, 1982.
105. Mitchell B. R. Abstract of British Historical Statistics / with collaboration of
P. Dean. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1962.
106. Mulhall M. G. The Dictionary of Ftatistics. London et al.: George Routledge
and Sons, 1892.
107. Soviet Economy in a New Perspective : A Compendium of Papers / submitted
to the Joint Economic Committee, Congress of the United States [by scholars and ex¬
perts]. Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1976.
108. Statistical Abstract of the United States, [1940—1988]. Washington, D. C.,
[1940—1988].
109. Statistical Handbook of Japan, 1977. Tokyo : Bureau of Statistics, 1977.
110. Statistical Yearbook of the League of Nations, [1931—1943]. Geneve,
[1931—1943].
111. Statistical Yearbook : Prepared by the Statistical Office of the United Nations,
[1948—1988]. New York, [1948—1988].
112. Statistisches Handbuch fur die Republik Osterreich, [1948—1988]. Wien,
[1948—1988].
113. Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik Deutschland, [1952—1989].
Wiesbaden, [1952—1989].
114. Stone L. Literacy and Education in England, 1640—1900 // Past and Present.
1969. Nr 42. February. P. 69—139.
115. Unesco Statistical Yearbook, [1963—1988]. Paris, [1963—1988].
116. USSR : Measures of Economic Growth and Development, 1950—1980:
Studies Prepared for the Use of the Joint Economic Committee, Congress of the United
States. Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1982.
117. Vries J., de. European Urbanization, 1500—1800. London : Methuen, 1984.
118. Webb A. D. The New Dictionary of Statistics : A Compliment to the Fourth
Edition of Mulhall’s «Dictionary of Statistics». London : Routledge, 1911.
119. World Military Expenditures and Arms Transfers, 1967—1976. Washington,
D. C.: U. S. Government Printing Office, 1978.
120. Woytinsky Wl. S. Die Welt in Zahlen : in 7 Bds. Berlin : R. Mosse, 1925—
1928.
121. Wolftinsky Wl S., Woytinsky E. S. World Population and Production : Trend
and Outloojc. New York : Twentieth Century Fund, 1953.
122. Yearbook of Labor Statistics, [1939—1988]. Geneve, [1939—1988].
123. Yearbook of National Account Statistics, 1980: in 2 vols. New York: UN
Department of International Economic and Social Affairs, 1980. Vol. 2.
ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
РОССИИ XVIII—НАЧАЛА XX в.1
1584—1598
1592
— Царствование Федора Ивановича.
— Запрещение выхода крестьян в Юрьев день. Юридическое
оформление крепостного права на всей территории Рус¬
1598—1605
1606—1610
1613—1645
1621
ского государства.
— Царствование Бориса Годунова.
— Царствование Василия Шуйского.
— Царствование Михаила Федоровича.
— Выход в Москве первой в России рукописной газеты «Ку¬
ранты».
1645—1676
1649
1649
1654
— Царствование Алексея Михайловича.
— Принятие на Земском соборе Соборного уложения.
— Закрепощение посадского населения.
— Одобрение Церковным собором реформы Никона, которая
привела к расколу РПЦ.
1666
— Организация регулярной почты для пересылки государст¬
венных бумаг и частной переписки.
1674
— Издание «Синопсиса» — первого в России учебника исто¬
1676—1682
1679
рии.
— Царствование Федора Алексеевича.
— Переход к подворному обложению населения прямыми
налогами.
1681
— Указ об обязательном ношении польского платья при явке
к царю.
1682
1682—1725
1682—1689
1683
1687
1693
— Уничтожение местничества.
— Царствование Петра I.
— Правление царевны Софьи.
— Последний Земский собор.
— Основание Славяно-греко-латинской академии.
— Основание первой в России судостроительной верфи в Ар¬
хангельске.
1697—1698
1697
— «Великое посольство» Петра I в Западную Европу.
— Указ о замене состязательного процесса розыскным в гра¬
жданских и уголовных делах.
Первая дата указана по юлианскому календарю, вторая — по григорианскому.
807
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1698, август 19
(29)
1698
1699
1699
1699, декабрь 15
(25)
1700
1700
1700—1721
1701
1701
1701
1702,апрель 27
(май 8)
1702
1702
1702, декабрь 16
(28) (по другим
сведениям, W03,
январь 2 (13))
1703, май 16(27)
1703
1704
1704
1705—1706
— Указ о запрещении ношения бороды и традиционной рус¬
ской одежды.
— Учреждение первого в России ордена — Ордена святого
апостола Андрея Первозванного. Первый солдатский орден
учрежден в 1807 г.
— Реформа городского управления.
— Указы о создании регулярной армии вместо дворянского
ополчения и о проведении первого рекрутского набора
(«даточных людей»).
— Установление начала года с 1 января, а не с 1 сентября,
как было до той поры в соответствии с византийской тра¬
дицией; но счет времени продолжается по юлианскому
календарю.
— Создание Правительственного совета, фактически заме¬
нившего Боярскую думу.
— Смерть последнего патриарха Адриана.
— Великая Северная война.
— Учреждение Монастырского приказа, взявшего под свое
управление все церковные имения (патриаршие, архие¬
рейские и монастырские) со всеми принадлежавшими им
крестьянами.
— Запрещение становиться на колени и снимать шляпу пе¬
ред дворцом, а просителям на высочайшее имя подписы¬
ваться уничижительными именами.
— Открытие в Москве Школы математических и навигаци¬
онных наук и Артиллерийской школы.
— Манифест о вызове на службу в Россию иностранцев.
— Запрещение содержать в дворянских домах терема — спе¬
циальные помещения для женщин.
— Открытие в Москве первого в России общедоступного
театра. Разрешение без опасения наказания посещать теат¬
ральные представления.
— Выход в Москве первой печатной русской газеты «Ведо¬
мости», напечатанной церковно-славянским шрифтом
(с 1710 г. — гражданским шрифтом).
— Основание С.-Петербурга.
— Основание первой в России товарной и вексельной биржи
в С.-Петербурге.
— Начало добычи отечественного серебра.
— Запрещение умерщвлять детей с врожденными дефектами.
— Восстание в Астрахани.
808
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1705
1706
1707—1708
1709, июнь 27
(июль 8)
1710, январь 18
(29)
1711
1711
1711
1711
1711
1712
1713
1714, март 23
(апрель 3)
1714
1714
1714
1715
— Введение впервые в Европе обязательной воинской (рек¬
рутской) повинности: на службу принимались лица по¬
датных состояний в возрасте от 15 до 20 лет, «здоровые
и в службу годные».
— Основание военного госпиталя и Медицинской школы
в Москве, государственных аптек в С.-Петербурге, Казани
и Риге, приюта для бездомных нищих и сирот в Новгороде.
— Восстание под предводительством К. Булавина.
— Полтавская битва.
— Реформа алфавита, упрощающая древнеславянскую азбуку.
— Учреждение Сената, формально заменившего Боярскую
думу.
— Введение новой формы присяги на имя не только госуда¬
ря, как было прежде, но и государства.
— Введение института фискалов, выполнявших роль проку¬
ратуры, для надзора за работой учреждений.
— Прикрепление монахов к монастырям.
— Расквартирование армии по губерниям для продовольст¬
вования за счет местного населения.
— Официальный перенос столицы из Москвы в С.-Петер¬
бург.
— Указ о конфискации поместий и вотчин у татарских по¬
мещиков, которые не примут православия в течение года.
— Указ о единонаследии дворянских имений.
— Создание более чем в 40 городах первых государственных
бесплатных начальных («цифирных») школ для детей дво¬
рян и чиновников (с 1715 г. в школы принимались дети
всех сословий); в 1722 г. в 42 школах обучалось около
2 тыс. учащихся. Введение принудительного бесплатного
обучения для детей священников и дьяконов.
— Замена земельного жалованья денежным и хлебным; ус¬
тановление единых годовых окладов для всех должност¬
ных лиц.
— Запрещение дворянам, не умеющим писать и считать, же¬
ниться, а не прошедшим обучения в военном училище —
получать офицерский чин; недопущение неграмотных
к государственной службе (Указ об обязательном обуче¬
нии дворян).
— Учреждение первых в России сиротских приютов в С.-Пе¬
тербурге, Москве и других больших городах.
809
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1715
1715
1716
1716
1716
1717-
1717
1718-
1718
1718
1718
1718-
1719,
1719
1719
1719
1720
1720
1720
— Учреждение Морской академии в С.-Петербурге.
— Первая попытка ввести повсеместно фиксированное де¬
нежное жалованье для всех чиновников.
— Воинский Устав Петра I. Его составная часть, «Воинские
артикулы» (1715), являлась первым кодексом уголовного
военного права, применявшимся также и в отношении
гражданских лиц.
— Возложение по закону на отца обязанности содержать не¬
законнорожденных детей вместе с матерью.
— Указ о ссылке на каторгу дворянских недорослей за укло¬
нение от службы.
-1721 — Учреждение коллегий вместо приказов. Введение в цен¬
тральных коронных учреждениях коллективного, или кол¬
лежского, порядка управления при котором власть, пре¬
доставленная учреждению, осуществлялась совместно
несколькими лицами, составлявшими присутствие.
— Разрешение свободного вывоза пшеницы за границу и об¬
легчение условий вывоза других хлебов.
-1724 — Введение подушной системы обложения прямыми нало¬
гами вместо подворной.
— Судебная реформа: введение независимых от местной ад¬
министрации судов двух инстанций и кассационного суда.
— Учреждение профессиональной полиции в С.-Петербурге,
Москве (1722), губернских и провинциальных городах,
подчиненных Главной полиции (1733).
— Учреждение Тайной канцелярии — политической полиции.
-1722 — Освобождение духовенства от подушной подати и рекрут¬
ской повинности.
1724 — Введение подобия паспорта (проезжей грамоты, покор-
межного или пропускного, письма) для всякого лица, от¬
лучающегося с места постоянного жительства.
— Завершение первой ревизии населения, согласно которой
в России насчитывалось 15,6 млн податного населения
обоего пола, включая армию и флот.
— Отмена торговых монополий.
— Прикрепление приходского духовенства к церквам и мес¬
ту службы.
— Издание Генерального регламента, установившего стро¬
гую и единую служебную дисциплину в государственных
учреждениях.
— Указ о включении в ревизские сказки не только крестьян,
но дворовых людей и церковных причетников.
— Издание Морского устава.
810
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1720—1721
1721, январь 14
(25)
1721, январь 18
(29)
1721, октябрь 11
(22)
1722
1722, январь 13
(24)
1722, февраль 5
(16)
1722
1722
1722
1722
1722
1724, май
1724
1724
1724
1725—1727
1725
1725
1725, ноябрь 2
(13)
1726
1726
— Учреждение Главного магистрата в С.-Петербурге и го¬
родских магистратов в провинции.
— Утверждение Регламента Духовной коллегии; отмена пат¬
риаршества и учреждение Синода, формально заменившего
Освященный собор, который фактически прекратил свое
существование в 1700 г. со смертью последнего патриарха.
— Указ, разрешающий покупать фабрикантами и заводчика¬
ми к своим заводам и фабрикам крепостных крестьян
с дозволения Берг- и Мануфактур-коллегий.
— Принятие Петром I титула «Отца Отечества, императора
Всероссийского Петра Великого».
— Отмена административной автономии Украины и упразд¬
нение гетманства.
— Введение «Табели о рангах» — единой системы из 14 чи¬
нов на военной, гражданской и дворцовой службе.
— Манифест о престолонаследии. Утверждался новый поря¬
док, согласно которому выбор преемника являлся преро¬
гативой царствующего императора.
— Создание должности генерал-прокурора и прокурорского
надзора за коллегиями.
— Указ об организации ремесленных цехов.
— Запрещение родителям женить детей против их воли.
— Начало разработки угольных шахт в России.
— Указ об освобождении крестившихся иноверцев от рек¬
рутской повинности.
— Проведение первого в России коронования (жены Петра I
Екатерины) по европейскому образцу.
— Перенос останков Александра Невского из Владимира
в С.-Петербург.
— Испытания первой русской подводной лодки по проекту
Никонова в С.-Петербурге.
— Введение в действие первого единого таможенного тарифа.
— Царствование Екатерины I, жены Петра I.
— Восстановление состязательного процесса для разбора
мелких уголовных и гражданских дел.
— Начало строительства канала, связывающего Неву с Вол¬
гой (завершено в 1732 г.).
— Открытие Академии наук в С.-Петербурге, академическо¬
го университета и гимназии.
— Отмена денежного жалованья для большинства чиновни¬
ков вследствие финансовых трудностей и возвращение
к принципу «кормление от дел».
— Основание Библиотеки Академии наук.
811
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1727—1730
1727
1727
1729
1730, январь 19
(30)
1730, январь 28
(февраль 8)
1730, февраль 25
(март 8)
1730—1740
1730
1730, ноябрь 9
(20)
1731
1732
1732
1733
1735
1736, декабрь 31
(1737, январь 11)
1736
1737
1738
1739
1739
1739
1740
— Царствование Петра II, внука Петра I.
— Переезд императорского двора из С.-Петербурга в Москву.
— Судебная реформа: возвращение судебной власти в про¬
винции к коронной администрации.
— Уничтожение кабального холопства как особого юридиче¬
ского состояния.
— Избрание Верховным тайным советом Анны Иоанновны
на российский престол при условии ее согласия на огра¬
ничение самодержавия.
— Подписание Анной Иоанновной 8 ограничительных усло¬
вий — кондиций.
— Отказ Анны Иоанновны от принятых обязательств при
поддержке дворянства и гвардии.
— Царствование Анны Иоанновны, племянницы Петра I.
— Отмена указа 1714 г. о единонаследии для дворянства.
— Указ о приеме в рекруты лиц в возрасте от 15 до 30 лет
ростом не ниже 2 аршин с четвертью (1434 мм).
— Возложение на помещиков ответственности за сбор по¬
душной подати со своих крестьян.
— Возвращение императорского двора и высших органов
управления из Москвы в С.-Петербург.
— Основание в С.-Петербурге первого в России кадетского
корпуса — Сухопутного шляхетского корпуса.
— Основание «Монетной конторы» — первого в России ком¬
мерческого банка.
— Основание итальянской оперы в С.-Петербурге.
— Манифест о сокращении срока дворянской службы до
25 лет.
— Прикрепление к фабрикам и заводам навечно «всех, кото¬
рые поныне при фабриках обретаются, и обучились како¬
му-нибудь мастерству, принадлежащему к тем фабрикам
и мануфактурам, а не в простых работах обретались».
— Освобождение дворянских недорослей от обязательного
школьного обучения.
— Появление в России масонства.
— Первый вексельный устав и начало вексельного обраще¬
ния.
— Указ о создании семинарии в каждой епархии.
— Установление рабочего дня для чиновников: ежедневное,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, присут¬
ствие на службе от 7 утра до 14 пополудни, а в необходи¬
мых случаях — дополнительно от 4 до 7 часов вечера.
— Указ об устройстве почт во всех губерниях и провинциях.
812
Хронология основных событий социальной истории России XV11I—начала XX в.
1740—1741
1740—1750
1741, январь 19
(30)
1741—1761
1741
1742
1742, декабрь 2
(13)
1743
1744
1745
1745
1746
1746
1748—1755
1749
1750, февраль
1750
1751
1752
1752
1753
1753
1754
— Царствование Ивана Антоновича, внучатого племянника
Петра I.
— Строительство почтового тракта Москва—Царицын—
Астрахань с веткой на Киев.
— Указ о приеме в рекруты лиц в возрасте от 18 до 36 лет
ростом от 2 аршин и выше (1422 мм), «добрых и здоро¬
вых».
— Царствование Елизаветы, дочери Петра I.
— Отмена присяги помещичьих крестьян на верность всту¬
пающему на престол государю.
— Учреждение института губернских прокуроров.
— Указ об изгнании евреев из России.
— Введение во всех учебных заведениях в качестве обяза¬
тельного предмета Закона Божия.
— Вторая ревизия населения, согласно которой в России на¬
считывалось 18,2 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
— Начало добычи отечественного золота.
— Издание первого атласа карт Российской империи.
— Запрещение недворянам покупать крепостных.
— Основание Академии художеств.
— Для предотвращения вырубки лесов и загрязнения рек
закрытие железоделательных, спиртовых и водочных за¬
водов, расположенных в радиусе 200 верст (213,4 км) от
Москвы.
— Открытие первого месторождения нефти в России.
— Восстановление гетманства на Украине. 1750—1764 гг. —
гетманство К. Г. Разумовского.
— Открытие в Ярославле Ф. Г. Волковым первого в России
драматического театра.
— Организация И. А. Марешем первого в России оркестра
русских народных инструментов.
— Разрешение заводчикам из купцов покупать крепостных
для мануфактур по 42 души мужского пола на один станок.
— Учреждение в С.-Петербурге Морского кадетского корпуса.
— Указ об отмене внутренних таможен с 1 апреля 1754 г.
— Указ об отмене смертной казни.
— Учреждение Дворянского и Купеческого заемных банков.
Закон впервые разрешил взимать процент с данных взаем
денег в размере 6 % в год, при этом выплата процентов не
освобождала должника от возвращения долга.
813
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1755,январь 12
(23)
1755
1756
1756—1763
1757
1757
1757
1758
1759
1760, декабрь 13
(24)
1761
1761, декабрь
25—1762, июнь 28
(1762, январь 5—
июль 9)
1762, январь
1762, февраль 18
(март 1)
1762, март 21
(апрель 1)
1762, июнь 14(25)
1762—1796
1762, март 29
(апрель 10) 3
1762, август
1762
1762
— Основание Московского университета.
— Издание А. И. Богдановым первой библиографии русских
книг.
— Основание первого постоянного драматического театра
в С.-Петербурге под управлением А. Сумарокова.
— Семилетняя война.
— Запрещение «рванья ноздрей и клеймения женщин».
— Официальное учреждение Академии художеств в С.-Петер¬
бурге (начала действовать в 1764 г.).
— Указ о ежегодном наборе рекрутов. Распространение рек¬
рутской повинности на Украину и Прибалтику.
— Указ Сената помещикам о надзоре за поведением крепо¬
стных.
— Выход в свет первого русского частного журнала «Трудо¬
любивая пчела» (издатель А. П. Сумароков (1717—1777)).
— Разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь на по¬
селение с зачетом их за рекрутов.
— Запрещение помещичьим крестьянам выдавать векселя
и вступать в поручительство.
— Царствование Петра III, внука Петра I.
— Отмена пытки подследственных (указ об отмене пытки
ввиду плохого исполнения неоднократно повторялся при
Екатерине II).
— Манифест о вольности дворянской и освобождение дво¬
рян от обязательной службы.
— Указ о секуляризации церковных и монастырских имений
(проведен в жизнь в 1764 г.).
— Уравнение в правах протестантской церкви с православ¬
ной.
— Царствование Екатерины II, жены Петра III.
— Указ, запрещающий покупать фабрикантами и заводчика¬
ми крепостных крестьян к заводам и фабрикам.
— Указ об уничтожении всех торговых и промышленных
монополий.
— Проект Н. И. Панина об учреждении Императорского со¬
вета и разделении Сената на департаменты, ограничи¬
вающий самодержавие.
— Разрешение свободного экспорта хлеба. Россия становит¬
ся крупным экспортером хлеба в Европу.
814
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1762
1762—1763
1763
1763, март
1763, июль 11 (22)
1763
1763
1763
1763
1764
1764
1764
1764
1764
1764, октябрь
1764
1765, январь 17
(28)
1765
1765,сентябрь 19
(30)
1765
— Учреждение в С.-Петербурге Артиллерийского и инже¬
нерного шляхетского корпуса.
— Протест Арсения Мацеевича, митрополита Ростовского
и Ярославского, против подготовляемой секуляризации
церковных имений, за что был лишен сана и сослан в от¬
даленный монастырь.
— Восстановление денежного жалованья всем чиновникам.
— Публичное выступление ростовского архиепископа Арсе¬
ния против намерения правительства секуляризировать
церковные земли. Его арест, лишение сана и заключение
в тюрьму.
— Указ о взыскании с крестьян за непокорность своим по¬
мещикам, сверх подлежащего за вины их наказания, всех
причиненных казне убытков.
— Начало переписки между Екатериной II и Вольтером.
— Основание воспитательных домов для подкинутых детей
в С.-Петербурге и Москве (1764).
— Третья ревизия населения, согласно которой в России на¬
считывалось 23,2 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
— Учреждение Медицинской коллегии для заведования ле¬
чебными заведениями и медицинским персоналом в стране.
— Секуляризация церковных земель.
— Уничтожение украинской автономии и гетманства.
— Первая школьная реформа при Екатерине II.
— Освобождение духовенства от оброка в пользу архиереев,
или от «епископского тягла».
— Основание Смольного института благородных девиц.
— Первая в России прививка против оспы Екатерине II.
— Начало создания коллекции Эрмитажа (его открытие как
публичного музея состоялось в 1852 г.).
— Разрешение помещикам ссылать крестьян за проступки на
каторжные работы.
— Указ «О существенных обязанностях чиновников» — пра¬
вил поведения чиновников в присутственных местах.
— Начало Генерального межевания в России, призванного
точно определить границы земельных владений отдель¬
ных лиц, общин, учреждений и др. (завершено в основном
в начале XIX в.).
— Запрещение Синодом духовному начальству употреблять
телесные наказания по отношению к священникам; в 1771 г.
запрещение распространилось на дьяконов, в 1811 г. — на
монахов.
815
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1765
1765—1767
1767, июнь 26
(июль 7)
1767
1767— 1768
1768— 1774
1769
1769
1770
1772
1772
1772
1773
1773
1773—1775
— Учреждение в С.-Петербурге Вольного экономического
общества под патронажем Екатерины II.
— Широкое введение винных откупов, заменивших государ¬
ственную винную монополию.
— Издание Наказа Екатерины II на русском, французском,
немецком и латинском языках.
— Указ о запрещении подачи жалоб крестьян на помещиков
лично императрице (жалобы на помещиков в принципе не
запрещались).
— Деятельность Большой Комиссии для составления нового
Уложения.
— Первая русско-турецкая война.
— Введение бумажного денежного обращения.
— Получение первого заграничного займа в Голландии.
— Эпидемия чумы и «чумный бунт» в Москве.
— Основание в С.-Петербурге первого в России Общества
помощи вдовам и сиротам.
— Первый раздел Речи Посполитой.
— Создание учреждений поземельного кредита — «Сохран¬
ные казны» — при воспитательных домах в С.-Петербурге
и Москве для выдачи ссуды под залог недвижимых име¬
ний на срок от одного года до 8 лет. Прибыль от этих опе¬
раций шла на содержание воспитательных домов.
— Основание Горного института в С.-Петербурге.
— Основание в Москве первого в России Коммерческого учи¬
лища для подготовки учащихся к торговой деятельности.
— Крестьянское восстание под предводительством Е. Пуга¬
чева.
1774
1775, январь 10
(21)
1775, март 17 (28)
1775, ноябрь 7
(18)
1775
1775
1775
— Разрешение всем желающим заниматься «ремесленной
промышленностью» и отмена особых сборов, взимавших
с фабрик и заводов.
— Казнь Е. Пугачева в Москве.
— Манифест о свободе открытия промышленных предпри¬
ятий.
— «Учреждение для управления губерний» и начало губерн¬
ской реформы.
— Отмена для купечества подушной подати и круговой по¬
руки по сбору налогов и выполнению повинностей.
— Привлечение выборных от дворянства в местные корон¬
ные учреждения.
— Создание в губерниях Приказов общественного призре¬
ния, включавших выборных от дворянства, городского
816
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
Ml 5
Ml 5
Ml 5
1780
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782—1783
сословия и государственных крестьян, для управления
делами социального призрения и народного образования.
Первое официальное возложение обязанности содержать
бедных граждан на сельские и городские общины и при¬
ходы.
— Судебная реформа. Создание сословных судов первой ин¬
станции. Отделение суда от администрации и полиции.
— Уничтожение Запорожской Сечи.
— Упразднение автономии донских казаков.
— Упразднение государственного контроля над промышлен¬
ностью, введенного Петром I.
— Издание «Устава благочиния» — первого полицейского ус¬
тава «для поспешества доброму порядку, удобнейшего ис¬
полнения законов и для облегчения присутственных мест».
— дозволение дворянам свободно и невозбранно устраивать
фабрики в деревнях, купцам в городах и подтверждение
разрешения всем устраивать станки для рукоделия.
— Организация Комиссии об учреждении училищ. Основа¬
ние в С.-Петербурге Главного народного училища для
подготовки учителей народных школ. Принятие Устава
народных училищ, предусматривавшего создание единой
системы светского образования.
— Отмена взимания со старообрядцев государственных по¬
датей в двойном размере, введенного в 1716 г.
— Четвертая ревизия населения, согласно которой в России
насчитывалось 28.4 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
— Закон об обязанности отцов обеспечивать детей пропита¬
нием, одеждой и воспитанием по состоянию (что прежде
являлось лишь моральным долгом).
— Упразднение «Особого прибалтийского порядка» и рас¬
пространение на Прибалтику общероссийского законода¬
тельства.
1783, апрель 8(19)
1783, май 3(14)
1783
1783, май 3(15)
1783—1784
1785, апрель 21
(май 2)
1785
— Присоединение Крыма к России. Основание Севастополя.
— Указ о закрепощении крестьян на Украине.
— Основание педагогических школ для подготовки учителей.
— Разрешение устройства частных типографий.
— Сооружение Севастополя как морской базы российского
флота на Черном море
— «Грамота на права, вольности и преимущества благород¬
ного российского дворянства» и «Грамота на права и вы¬
годы городам Российской империи».
— Новое Ремесленное положение.
817
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1785 — Издание первого детского журнала в России «Детское чте¬
ние для сердца и разума».
1786, февраль 16 —Запрещение просителю на высочайшее имя называться
(27) рабом; он должен подписываться «верноподданный имя
рек». 1786 — Вторая школьная реформа Екатерины II и соз¬
дание сети учебных заведений в России.
1786 — Учреждение Государственного ассигнационного банка.
1787 — Указ о том, что оскорбление детьми родителей не являет¬
ся уголовным преступлением.
1787 — Широкое распространение масонства в России (число ма¬
сонских лож в стране достигло 145).
1787—1791 — Вторая русско-турецкая война.
1790, июнь — Издание «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Ра¬
дищева.
1791 — Установление черты еврейской оседлости, которая со вре¬
менем изменялась. С 1835 г. в нее кроме Польши входили
15 губерний: Бессарабская, Виленская, Витебская, Волын¬
ская, Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Мин¬
ская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая,
Херсонская, Черниговская и Киевская (исключая Киев).
1793 — Второй раздел Речи Посполитой.
1793 — Сокращение срока действительной солдатской службы
с бессрочной до 25 лет.
1794 — Первое после 1724 г. повышение подушной подати — ос¬
новного прямого налога.
1794 — Основание Одессы.
1794 — Собственность императорской семьи на сумму 1,5 млн р.
передается государственному казначейству для покрытия
дефицита государственного бюджета.
1795 — Пятая ревизия населения, согласно которой в России на¬
считывалось 37.4 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
1795 — Третий раздел Речи Посполитой.
1795 — Закрытие масонских лож в России.
1796, сентябрь 16 — закрытие частных типографий.
(28)
17*96—1801 — Царствование Павла I, правнука Петра I.
1796—1800 — Отмена Павлом I принципиальных пунктов Жалованной
грамоты дворянству 1785 г.
1796, ноябрь 29 — Замена у крестьян натурального хлебного налога денеж-
(декабрь 10) ным.
1797, февраль 5 —Введение светской и церковной цензуры и запрещение
(16) свободного книгопечатания.
818
Хронология основных событий социальной истории России XV111—начала XX в.
1797, апрель 5(16)
1797, апрель
1797, апрель
1798
1799, июль 8(19)
1799
1799
1800, апрель
1800, август 23
(сентябрь 4)
1801—1825
1801, март—
апрель
1801, апрель 2 (14)
1801,сентябрь 27
(октябрь 9)
1801, декабрь 12
(24)
1801
1801
1801
1802, апрель 21
(май 3)
1802,сентябрь 8
(20)
1802
«Учреждение об императорской фамилии». Определение
порядка содержания лиц царствующего дома. Закон о пре¬
столонаследии устанавливает передачу престола по муж¬
ской линии по праву первородства.
Манифест о трехдневной барщине и запрещении работать
в воскресные и праздничные дни.
Создание Российского кавалерского ордена, или кавалер¬
ского общества Российской империи.
Разрешение крестьянам заниматься торговой деятельно¬
стью в городах.
Образование Русско-американской торговой компании
(прекратила деятельность в 1868 г. в связи с продажей
Аляски США).
Новый Устав цехов.
Распространение при поддержке Павла 1 влияния иезуитов
в России.
Запрещение ввоза иностранных книг в Россию.
Замена общественного управления в городах, действо¬
вавшего на основании Жалованной грамоты городам, ко¬
ронным управлением.
Царствование Александра I, сына Павла 1.
Политическая амнистия, открытие границ, разрешение
ввоза иностранных книг и отмена всех ограничений, вве¬
денных в царствование Павла I.
Подтверждение Жалованных грамот дворянству и городам.
Подтверждение отмены пытки.
Разрешение недворянам (за исключением помещичьих
крестьян) покупать и продавать незаселенные земли.
Начало прививки против оспы в воспитательных домах.
Освобождение священников и дьяконов от телесных нака¬
заний по приговорам светских судов.
Присоединение Грузии к России.
Восстановление Дерптского университета, действовавше¬
го с перерывами с 1636 по 1710 г.
Учреждение восьми министерств и Комитета министров.
Замена коллективного, или коллежского, порядка управ¬
ления бюрократическим, или единоличным, при котором
право окончательного решения принадлежит главе учреж¬
дения. Утверждение Сената в качестве высшего органа
юридического и административного контроля.
Указ о том, что власть родителей над дочерью прекраща¬
ется после ее замужества.
819
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1802
1803, январь, 24
(февраль, 5)
1803, февраль 20
(март 4)
1803
1803—1806
1804
1804, июль
1804, ноябрь 5
(17)
1804
1804,декабрь 9
(21)
1805
1805
1805
1806
1807 }
1808
1808—1811
1809
— Начало производства первых механических молотилок
в Москве.
— Реформа системы образования и создание в России цель¬
ной системы начального, среднего и высшего образова¬
ния: приходское училище — уездное училище — губерн¬
ское училище — гимназия — университет.
— Указ о «свободных хлебопашцах», позволявший помещи¬
кам отпускать на волю крестьян на основе обоюдного со¬
гласия сторон (по этому указу к 1825 г. было освобождено
около 47 тыс. помещичьих крестьян).
— Возобновление деятельности масонских лож.
— Первое морское кругосветное путешествие русских иссле¬
дователей под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Ли-
сянского.
— Крестьянская реформа в Прибалтике. Крестьяне стали на¬
следственными владельцами своих наделов, повинности
их были установлены соответственно доходам с надела
и зафиксированы в специальных книгах.
— Новый либеральный цензурный устав.
— Первый общий университетский устав, установивший ака¬
демическую автономию.
— Открытие Казанского университета.
— Указ о свободе иудейского вероисповедания. Разрешение
евреям селиться в сельской местности и заниматься зем¬
леделием.
— Открытие Харьковского университета.
— Ввод в действие первой в России паровой машины на ка¬
зенном заводе в Александровске близ С.-Петербурга.
— Первое Положение о земских повинностях, определившее
величину и порядок сбора земских повинностей с пред¬
ставителей всех сословий, проживавших в губернии, кро¬
ме духовенства и военных.
— Открытие первой хлопчатобумажной фабрики в С.-Петер¬
бурге.
— Учреждение первого солдатского ордена — Знак отличия
военного ордена (с 1913 г. — Георгиевский крест).
— Запрещение продажи крепостных на рынках и ярмарках.
— Постройка Мариинской и Тихвинской систем каналов,
связавших Балтийское и Каспийское моря.
— Предоставление М. М. Сперанским Александру I плана
государственных преобразований — «Введение к уложе¬
нию государственных законов».
820
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1809, август, 6
(18)
1809
1810, январь 1 (13)
1810
1810
1810
1811
1812, март 17 (29)
1812
1814, январь 2 (14)
1815
1815, июль 8 (20)
1815
1815
1815
1816—1818
1816
Установление образовательного ценза для получения на
гражданской службе чина VIII класса, дававшего потом¬
ственное дворянство: требовалось иметь среднее образо¬
вание либо сдать экзамены по специальной программе.
Отмена указа 1760 г. о праве помещиков ссылать крестьян
в Сибирь на поселение (право помещиков было восста¬
новлено в 1822 г.).
Учреждение Государственного совета в качестве законо¬
совещательного учреждения. Первая попытка реализации
принципа разделения властей: Государственному совету
принадлежала законосовещательная власть, министерст¬
вам — исполнительная, Сенату — контролирующая, су¬
дам — судебная; верховная власть объединяла и коорди¬
нировала все ветви власти.
Основание Царскосельского лицея.
Создание первых военных поселений. Система военных
поселений была ликвидирована в 1857 г.
Учреждение Комиссии по принятию прошений на высо¬
чайшее имя при Государственном совете и предоставле¬
ние всем подданным права петиции. В 1895 г. преобразо¬
вана в Собственную его величества канцелярию по приня¬
тию прошений, на высочайшее имя приносимых.
Шестая ревизия населения, согласно которой в России
насчитывалось 42,7 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
Отставка М. М. Сперанского.
Отечественная война.
Открытие Публичной библиотеки в С.-Петербурге (во ис¬
полнение указа 1795 г.).
Постройка первого в России парохода (ходил по линии
С.-Петербург—Кронштадт).
Введение в Польше самой либеральной в Европе консти¬
туции.
Седьмая ревизия населения, согласно которой в России
насчитывалось 43,9 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
Четвертый раздел Польши.
Конституция Царства Польского.
«Союз спасения» — первое тайное политическое общест¬
во в России (с 1817 г. «Общество истинных и верных сы¬
нов отечества»).
Издание Н. М. Карамзиным первого тома «Истории рос¬
сийской» (последний 12-й том опубликован в 1829 г.).
821
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1816
1816
1816
1816—1819
1817
1817
1818
1818
1818—1821
1819, февраль 8
(20)
1819—1821
1820
1820, март
1820
1821
1821— 1825
1822— 1825
1822, август 1(13)
1822
1823, август 16
(28)
1825 — 1855
1825, декабрь 14
(26)
1825, декабрь 29
(январь 10)
1826, июнь 10 (22)
— Образование первого в России биржевого комитета при
С.-Петербургской бирже.
— Основание Варшавского университета.
— Запрещение купцам-фабрикантам покупать крепостных
к заводам и фабрикам.
— Крестьянская реформа в прибалтийских губерниях. Осво¬
бождение крестьян от крепостного права без земли.
— Учреждение Государственного коммерческого банка.
— Открытие Нижегородской ярмарки (перенесение Макарь-
евской ярмарки в Нижний Новгород).
— Открытие Александром I первого польского сейма.
— Получение крестьянами права заниматься промышленной
деятельностью.
— «Союз благоденствия» — второе тайное общество декаб¬
ристов.
— Восстановление С.-Петербургского университета (преоб¬
разование С.-Петербургского Педагогического института
в университет).
— Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в Ан¬
тарктиду. Открытие Антарктиды.
— Высылка иезуитов из России.
— Открытие Главного инженерного училища (Инженерного
замка).
— Восстание Семеновского полка в С.-Петербурге.
— Перевод на современный русский язык и издание Нового
Завета.
— «Южное общество» декабристов на Украине.
— «Северное общество» декабристов в С.-Петербурге.
— Запрещение тайных обществ и масонских лож. От всех
государственных служащих гражданского и военного ве¬
домств взята подписка о непринадлежности их к тайным
обществам.
— Восстановление права помещиков ссылать крестьян в Си¬
бирь на поселение.
— Подписание Александром I неопубликованного манифе¬
ста о передаче престола Николаю Павловичу, который не
был опубликован.
— Царствование Николая I, сына Павла I.
— Восстание декабристов в С.-Петербурге.
— Восстание Черниговского полка под Васильковом Бело¬
церковского уезда Киевской губернии.
— Новый устав о цензуре и ужесточение цензурных правил.
822
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1826, июль 13 (25)
1826, июль 3(15)
1826 — сентябрь 8
(20)
1826
1826—1832
1827, август 26
(сентябрь 7)
1827
1827
1827
1827, август 19
(31)
1828, июль 11 (23)
1828
1828, ноябрь
1828, декабрь 8
(20)
1829, октябрь 23
(ноябрь 4)
1829
1829
Обряд разжалованья и исполнение приговора над осуж¬
денными к повешению декабристами и отправка в Сибирь
первых осужденных.
Учреждение III Отделения собственной его величества
канцелярии, ответственного за политическую полицию,
и Корпуса жандармов.
Прием Николаем I А. С. Пушкина и его помилование.
Указ о переносе в течение 10 лет вредных для здоровья
горожан промышленных заведений из городов вниз по
течению рек.
кодификация законов Российской империи М. М. Сперан¬
ским.
Привлечение евреев к отбыванию воинской повинности.
Разрешение крестьянам иметь собственные дома в городах.
Основание первой акционерной страховой компании в С.-Пе¬
тербурге.
Основание университета в Хельсинки.
Запрещение принимать помещичьих крестьян в гимназии
и университеты.
Открытие Мануфактурного совета — общественного со¬
вещательного органа при Министерстве финансов для со¬
действия развитию промышленности (с 1872 г. слился
с Коммерческим советом и преобразован в Совет торговли
и мануфактур).
Образование IV Отделения Собственной его величества
канцелярии для управления благотворительными учреж¬
дениями (в 1854 г. его дела перешли к вновь образованно¬
му Ведомству императрицы Марии).
Открытие С.-Петербургского Технологического института.
Реформа начального и среднего образования. Превраще¬
ние уездных училищ и гимназий в обособленные и со-
словно замкнутые типы учебных заведений.
Открытие Коммерческого совета — общественного сове¬
щательного органа при Министерстве финансов для со¬
действия развитию торговли (в 1872 г. слился с Мануфак¬
турным советом и преобразован в Совет торговли и ману¬
фактур).
Открытие в С.-Петербурге первой промышленной выстав¬
ки в России.
Еврейский погром в Одессе — первый погром в России.
До 1881 г. погромы отмечены в 1859 г. (Одесса), 1862 г.
(Аккерман), 1871 г. (Одесса).
823
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1830
1830
1830
1830—1831
1831
1832
1832
1832, февраль 14
(26)
1832, декабрь
1832
1833, декабрь 25
(январь 6)
1833
1833
1834, июль 15(27)
1834
)
1834
1835, январь 1(12)
1835,апрель 13
(25)
1835, май 24
(июнь 5)
Издание 45-томного первого «Полного собрания законов
Российской империи».
Покушение на наместника Царства Польского великого
князя Константина Павловича.
Коронование Николая I польской короной и принесение
присяги на верность польской конституции.
Польское восстание. Эпидемия холеры и «холерные бун¬
ты».
Основание первого в России завода сельскохозяйственных
машин и орудий (братьев Бутеноп в Москве).
Издание 15-томного «Свода законов Российской импе¬
рии» (Свод введен в действие с 1835 г.). В 1-м томе (ст. 47)
де-юре утверждается правомерный характер русской го¬
сударственности.
Учреждение статуса почетного личного и потомственного
гражданства, освобождавшего от уплаты прямого налога,
рекрутской повинности и телесного наказания.
Отмена польской конституции и утверждение нового «Ор¬
ганического статута Королевства Польского», заменивше¬
го «Конституционную хартию».
Раскрытие заговора грузинской аристократии, имевшего
целью восстановление грузинской монархической госу¬
дарственности и реставрацию власти династии Багратио¬
нов.
Открытие Академии гражданских инженеров.
Принятие Государственного гимна «Боже, Царя храни!»
(музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского).
Восьмая ревизия населения, согласно которой в России
насчитывалось 51,9 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
Запрещение сделок на крестьян без земли (при продаже на
аукционе имения за долги) и ведущих к разделению се¬
мьи.
Открытие университета Святого Владимира в Киеве.
Сокращение срока действительной солдатской службы
с 25 до 20 лет.
Начало издания «Земледельческой газеты».
Введение в действие первого издания Свода законов Рос¬
сийской империи.
Разрешение евреям, имеющим диплом врача, проживать
повсеместно и поступать на государственную службу.
«Положение об отношениях между хозяевами фабрик
и заводов и рабочими» (первый в России закон, регули-
824
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1835, июль 26
(август 7)
1835
1835
1836, декабрь 6
(18)
1837
1837, октябрь 30
(ноябрь 11)
1837—1841
1839, март 1 (13)
1839, август 7 (19)
1839—1843
1840, январь 1(13)
1840, май 25
(июнь 6)
1840, июнь 18
(июль 1)
1840
1840
рующий отношения между рабочими и работодателями,
ограничивающий как произвол предпринимателей, так
и недисциплинированность рабочих).
Второй общий университетский устав, ограничивший ака¬
демическую автономию.
Принятие первого в России закона, регулирующего отно¬
шения между рабочими и работодателями. Ограничение
произвола предпринимателей и недисциплинированности
рабочих.
Основание первой акционерной промышленной компании
в Петербурге.
Утверждение «Положения о товариществах по участкам
или компаниях на акциях» (закон об учреждении акцио¬
нерных обществ).
«Наказ губернаторам». Замена коллективности управ¬
ления единоначалием де-юре в местных коронных уч¬
реждениях. Губернатор провозглашен «хозяином губер¬
нии».
Открытие первой железной дороги между С.-Петербургом
и Царским Селом.
Реформа управления государственными крестьянами (ре¬
форма П. Д. Киселева).
Объединение униатской церкви западных губерний с Рус¬
ской православной церковью по ходатайству Собора гре¬
ко-униатских епископов Российской империи, в результа¬
те чего к РПЦ присоединялись более полутора миллионов
человек из состава бывших Белорусской и Литовской уни¬
атских епархий.
Основание Пулковской обсерватории под С.-Петербургом.
Денежная реформа Е. Канкрина, обеспечившая стабиль¬
ность рубля до начала Крымской войны.
Вступление в силу первого «Свода военных постановле¬
ний».
Отмена действия Литовского статута и распространение
общеимперского права в украинских и литовско-белорус¬
ских губерниях.
Разрешение владельцам фабрик и заводов отпускать на
волю посессионных крестьян.
Образование Кавказского комитета, административная ре¬
форма в Закавказье и распространение на Закавказье об¬
щеимперского законодательства.
Учреждение Комитета для определения мер коренного
преобразования в положении евреев в России.
825
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1840—1842
1841
1842, апрель 2 (14)
1842
1842
1843, апрель, 8
(20)
1843
1844, декабрь 19
(31)
1845, июнь 11 (23)
1845
1845
1845
1845
1845
1845
1845—1847
1846, май 26
(июнь 7)
1846
1846
Картофельные бунты крестьян, направленные против пра¬
вительственных мер на интродукцию картофеля в кресть¬
янское земледелие.
Секуляризация земель католической церкви в России.
Указ об обязанных крестьянах.
Созыв Министерством внутренних дел Раввинской комис¬
сии из выборных представителей еврейских общин. Ко¬
миссии созывались в 1852, 1857, 1861, 1879, 1893 и 1910 гг.
на основании Положения о Раввинской комиссии 1848 г.
Устав о земских повинностях.
Указ о правительственной поддержке переселений в Си¬
бирь. В течение 1844—1861 гг. переселились более 50 тыс.
государственных крестьян.
Создание первой в России телеграфной линии между С.-Пе¬
тербургом и Царским Селом.
Упразднение кагала — главной формы социальной орга¬
низации еврейского населения в черте оседлости. Учреж¬
дение раввинских училищ, приравненных по статусу к гим¬
назиям. Присвоение раввинам почетных прав купечества
первой гильдии.
Первое повышение ценза для получения потомственного
дворянства на военной службе в армии с XIV класса до
VIII (майора), на гражданской службе — с VIII до V клас¬
са (статского советника).
Запрещение использовать на ночных работах детей млад¬
ше 12 лет.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
Установление уголовной ответственности родителей за на¬
несение своим детям увечья или телесных повреждений.
Отмена юридического права мужа наказывать свою жену.
Основание Русского географического общества.
Понижение ростового ценза при приеме в рекруты с 1600
до 1578 мм.
Крестьянская реформа на Украине, в Литве и Белоруссии.
Фиксация крестьянских повинностей (введение инвента-
рей) и ограничение власти помещика над крестьянами.
Указ об уменьшении повинностей польских крестьян в поль¬
зу помещиков в привислинских губерниях (бывшего Цар¬
ства Польского)
Введение нового Городового положения в С.-Петербурге,
ставшего прообразом городской реформы 1870 г.
Включение в состав России юго-восточной части Казах¬
стана; выход к Аральскому морю и устью Сырдарьи.
826
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1847, май 26
(июнь 7)
1847—1848
1848 июнь 24
(июль 5)
1848
1850
1850
1851, ноябрь 1
(13)
1851
1851
1853
1853—1856
1854
1854
1855—1881
1855
1856,декабрь 9
(21)
— Введение «Правил для управления имениями по утвер¬
жденным для оных инвентарям в Киевском генерал-гу¬
бернаторстве», фиксировавших и ограничивавших кресть¬
янские повинности в пользу помещиков.
— Эпидемия холеры.
— Положение о Раввинской комиссии из выборных представи¬
телей еврейских общин при Министерстве внутренних дел.
— Предоставление помещичьим крестьянам права покупать
землю с согласия помещика и на его имя и выкупаться на
волю с землей при продаже имения помещика за долги.
— Первая сельскохозяйственная всероссийская выставка в
С.-Петербурге.
— Девятая ревизия населения, согласно которой в России
насчитывалось 56.9 млн податного населения обоего пола,
включая армию и флот.
— Открытие Николаевской железной дороги между С.-Петер¬
бургом и Москвой (строительство началось в 1842 г.).
— Новый Устав о земских повинностях: обложению подле¬
жали торговые и промысловые свидетельства, земли и по¬
датные лица; на долю городского сословия и помещиков
(8% всего населения) приходилось около 14 % всего объ¬
ема земских повинностей, на долю крестьянства (83 %
населения) — 86 %.
— Издание С. М. Соловьевым первого тома «История России
с древнейших времен» (последний 29-й том вышел в свет
в 1879 г.).
— Начало работы в Лондоне «Вольной русской типографии»
А. И. Герцена.
— Крымская (Восточная) война.
— Образование Ведомства императрицы Марии — преемни¬
ка 4-го отделения Собственной его величества канцелярии
и Воспитательного общества благородных девиц. Управ¬
ляло благотворительными учреждениями и женскими
учебными заведениями.
— Понижение ростового ценза при приеме в рекруты с 1578
до 1556 мм.
— Царствование Александра II, сына Николая I.
— Сокращение срока действительной солдатской службы
с 20 до 12 лет.
— Второе повышение ценза для получения потомственного
дворянства за службу в армии с VIII до VI класса (полков¬
ника), на гражданской службе — с V до IV класса (дейст¬
вительного статского советника, или штатского генерала).
827
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1857—1867
1857, ноябрь 20
(декабрь 2)
1857
1857
1858, март 2 (14)
1858
1858—1859
1859
1859, март 4 (16)
1859, март 16(28)
1860, май 31
(июнь 12)
1860, октябрь 26
(ноябрь 8)
1861, февраль 19
(март 3)
1861, март 14(26)
1861, ноябрь
(декабрь)
1861
1861—1864
1862
1862, июнь 13 (25)
1862
Издание «Колокола» А. И. Герцена и Н. П. Огарева в Анг¬
лии.
Рескрипт Александра II генерал-губернатору Виленской,
Ковенской и Гродненской губерний В. И. Назимову об
открытии губернских комитетов по подготовке крестьян¬
ской реформы.
Образование «Главного общества Российских железных
дорог».
Последняя, десятая ревизия населения, согласно которой
в России насчитывалось 59.3 млн податного населения
обоего пола, включая армию и флот.
Указ о запрещении помещикам перечислять крестьян в дво¬
ровые.
Указ об открытии всесословных и общедоступных жен¬
ских школ.
«Трезвенное движение» среди податного населения (кре¬
стьян, мещан и др.) в 32 губерниях в знак протеста против
повышения цен на водку.
Движение по созданию воскресных народных школ.
Открытие редакционных комиссий для выработки поло¬
жений о крестьянах.
Разрешение евреям — купцам первой гильдии проживать
во всех городах империи.
Учреждение Государственного банка (начало операции
1(13) июля 1860 г.).
Закон об отмене винных откупов и введении с 1863 г. ак¬
цизной системы питейных сборов.
Манифест об освобождении помещичьих крестьян. Опуб¬
ликован 5 (17) марта. «Положение о крестьянах, вышед¬
ших из крепостной зависимости».
Указ о восстановлении Государственного совета Царства
Польского и учреждение органов самоуправления в Польше.
Разрешение евреям, имеющим высшее образование, про¬
живать во всех городах империи и поступать на государ¬
ственную службу.
Образование волостей как низших судебно-администра¬
тивных единиц.
Деятельность тайной организации «Земля и Воля».
Первое опубликование государственного бюджета и вве¬
дение публичности государственного бюджета.
Закрытие воскресных народных школ.
Основание первой в России консерватории в С.-Петер¬
бурге.
828
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1862
1862
1863, апрель 17
(29)
1863, июнь 26
(июль 8)
1863
1863
1863— 1864
1864, январь 1 (13)
1864, январь 14
(26)
1864, февраль 19
(март 2)
1864, июль 14 (26)
1864, ноябрь 19
(декабрь 1)
1864, ноябрь 20
(декабрь 2)
1864
1864— 1905
1865, январь
1865, апрель 6(18)
1865, июнь 28
(август 10)
1865
1865
1865
Реформа полиции: объединение городских и уездных по¬
лицейских учреждений в единый полицейский орган.
Учреждение Особого присутствия к изысканию способов
обеспечения быта духовенства и начало церковных ре¬
форм с целью преобразования духовного сословия в сво¬
бодную профессиональную группу.
Указ об отмене телесных наказаний по суду (с сохранени¬
ем их для крестьян-мужчин, арестантов, ссыльных и при¬
говоренных к каторге). 1863, июнь, 18 (30) — Третий об¬
щий университетский устав, предоставивший университе¬
там академическую автономию. Университетская реформа.
Освобождение удельных крестьян.
Прекращение обязательных отношений крестьян к поме¬
щикам.
Закон о сельскохозяйственных рабочих.
Восстание в Польше, Литве и Западной Белоруссии.
Земская реформа Положение о земских учреждениях в России.
Первый неофициальный Всероссийский торгово-промыш¬
ленный съезд (созван в Москве с разрешения правитель¬
ства, но в частном порядке).
Отмена крепостного права в Польше с наделением кресть¬
ян землей без выкупа.
Положение о начальных народных училищах.
Школьная реформа. Новый устав гимназий.
Судебные уставы. Начало судебной реформы.
Основание С.-Петербургского частного коммерческого бан¬
ка — первого акционерного банка в России и первого зе¬
мельного банка в Херсоне.
Запрещение женщинам посещать университеты.
Представление Московского дворянского собрания Алек¬
сандру II о желательности введения в России представи¬
тельного учреждения.
«Временные правила о печати» и цензурная реформа.
Разрешение евреям — мастерам-ремесленникам прожи¬
вать во всех городах империи.
Разрешение курить на улицах и в общественных местах
городов.
Возникновение первых потребительских обществ в России.
Основание Петровской сельскохозяйственной Академии
в Москве.
829
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1865
1866, апрель 4 (16)
1866,январь 18
(30) и ноябрь 24
(декабрь 6)
1866
1866
1867, март 30
(апрель 11)
1867
1867
1868
1869
1869
1869
1870, июнь 16 (28)
1870
1871
1871
1872
1873—1874
1874
1874, январь 1 (13)
1874, май 24
(июнь 5)
Преобразование Ришельевского лицея в Одесский универ¬
ситет.
Первое покушение на Александра II.
Освобождение государственных крестьян.
Первое опубликование Отчета государственного контро¬
лера.
Отмена круговой поруки и подушной подати с городских
обывателей. Введение для них индивидуального имуще¬
ственного налога. 1866 — Основание Московской консер¬
ватории.
Договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки.
Военно-судебная реформа.
Отмена наследования по родству мест священно- и цер¬
ковнослужителей.
Начало отмены круговой поруки у крестьянства (индиви¬
дуальная ответственность распространена на общины,
насчитывавшие менее 21 мужской души).
Открытие первых высших женских курсов в С.-Петербур¬
ге и Москве.
Освобождение детей духовенства от обязательной при¬
писки к духовному сословию и уничтожение потомствен¬
ного сословия духовенства.
Открытие Д. И. Менделевым Периодического закона.
Городское положение и городская реформа.
Первый официальный Всероссийский торгово-промыш¬
ленный съезд в С.-Петербурге (следующие съезды проис¬
ходили в 1872, 1882, 1896 гг.).
Процесс нечаевцев в С.-Петербурге — первый в России
открытый политический процесс.
Первый съезд земских врачей.
Издание на русском языке с одобрения цензуры «Капита¬
ла» К. Маркса.
Массовое «хождение в народ» народников.
Первый съезд горнопромышленников Юга России (пер¬
вый региональный съезд предпринимателей России).
Военная реформа. Введение всесословной воинской по¬
винности и установление нового возрастного ценза в 20 лет
и ростового ценза в 2 аршина и 2 1/2 вершка (1534 мм).
Новое Положение о начальных народных училищах.
830
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1875
1876
1876
1876—1879
1878, август 20
(сентябрь 1)
1878
1878—1879
1879, апрель
1879, август
1879
1880, февраль 12
(24)—август 6 (18)
1880
1881, февраль 17
(29)
1881, март 1 (13)
1881—1894
1881, апрель 29
(май 11)
1881, август 14
(26)—1917
1881, декабрь 28
(1882, январь 9)
1881
— Введение поземельного налога.
— Разрешение проводить частные переделы общинной земли
в любое время.
— Первый полный перевод Библии на современный русский
язык.
— Деятельность тайного народнического общества «Земля
и воля» в С.-Петербурге.
— Правительственное сообщение с призывом к обществу о по¬
мощи в борьбе «с крамолой».
— Открытие Высших Бестужевских курсов для женщин в С.-Пе¬
тербурге.
— Оппозиционно-либеральные выступления земских собраний.
— Первый съезд земцев-конституционалистов в Москве.
— Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный
передел».
— Первый опыт использования электрического освещения
в С.-Петербурге.
— Деятельность «Верховной распорядительной комиссии по
охране государственного порядка и общественного спо¬
койствия» под председательством М. Т. Лорис-Меликова.
— Выход книги В. Н. Жук «Мать и дитя», посвященной про¬
паганде новых демократических отношений между роди¬
телями и детьми; в течение 1880—1914 гг. книга выдер¬
жала 10 изданий.
— Утверждение плана («конституции») М. Т. Лорис-Мели-
кова о введении представительного законосовещательного
учреждения в России.
— Убийство народовольцами с седьмой попытки Александ¬
ра И.
— Царствование Александра III, сына Александра II.
— Манифест о незыблемости самодержавия.
— Предоставление правительству права на основе «Положе¬
ния о мерах к охранению государственной безопасности и
общественного спокойствия» переводить любую мест¬
ность на положение усиленной или чрезвычайной охраны,
останавливать там действие существующих законов, вво¬
дить особый административный порядок.
— Закон о прекращении с 1 января 1883 г. временнообязан¬
ных отношений крестьян с помещиками, об обязательном
выкупе и о понижении выкупных платежей.
— Указ о запрещении публичной смертной казни и о перено¬
се ее проведения в пределы тюремной ограды.
831
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1881—1882
1882
1882
1882, май 3(15)
1882, июнь 1 (13)
1882, август 27
(сентябрь, 8)
1882
1883, январь 1(12)
1883
1883
1884, август 23
(сентябрь 4)
1885, июнь 3 (15)
1885
1885
1885, июнь 3 (15)
1886 май 18(30)
1886, июнь 3 (15)
1886, июнь 12 (24)
1887, июнь 18 (30)
Первая волна массовых еврейских погромов на Украине,
в Бессарабии и Белоруссии.
Начало всеобщей отмены подушной подати с крестьян
и замены ее государственной оброчной податью (завершена
в Европейской России в 1887 г., в Сибири — в 1899 г.).
Всероссийская выставка в Москве.
Запрещение евреям селиться вне городов и местечек.
Закон об ограничении ночной работы малолетних на про¬
мышленных предприятиях. Учреждение Фабричной инс¬
пекции.
Временные правила о печати, закрытии и приостановле¬
нии периодических изданий в административном порядке,
согласно которым издание, получившее три предупрежде¬
ния, подвергается предварительной цензуре.
Открытие телефонной сети в С.-Петербурге, Москве,
Одессе и Риге.
Обязательный перевод всех бывших помещичьих кресть¬
ян, не заключивших уставных грамот с помещиками, на
выкуп своих наделов и прекращение обязанных отноше¬
ний между ними и помещиками. Закон касался 1,5 млн
ревизских душ или 15,3 % всех бывших помещичьих кре¬
стьян.
Возникновение первых марксистских кружков в России.
Закон о предоставлении каждому права исповедовать
свою веру и об ограничении религиозной пропаганды.
Четвертый общий университетский устав, урезавший ака¬
демическую автономию и ограничивший для женщин воз¬
можность получения высшего образования.
Фабричный закон об ограничении ночной работы женщин
и подростков.
Закон о штрафах.
Издание «Общего устава российских железных дорог».
Основание Дворянского земельного банка.
Официальное ограничение семейных разделов у крестьян:
желающие разделиться должны получить согласие общины.
Правила о надзоре за заведениями фабричной промышлен¬
ности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих.
Положение о найме сельскохозяйственных рабочих.
Циркуляр Министра просвещения о запрещении приема
в средние учебные заведения детей низших слоев населе¬
ния (извозчиков, слуг, прачек, кухарок и т. п.), получив¬
ший название циркуляра о «кухаркиных детях». Повыше¬
ние в 5 раз платы за обучение в университетах.
832
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1887
1888
1889, июль 7 (19)
1889, июль 12(24)
1889, июль 12 (24)
1889, июль 13 (25)
1889, декабрь 14
(26)
1890, июнь 12 (24)
1891
1891
1891
1891— 1892
1892, июнь 11 (23)
1892
1892— 1903
1893, июль 8 (20)
1893, декабрь 14
(26)
— Введение квоты на поступление евреев в университеты:
10 % — в черте оседлости, 3 % — в С.-Петербурге и Мо¬
скве и 5 % — в остальных местностях. На долю евреев
в империи приходилось 4,15 % населения в 1897 г.
— Открытие Томского университета.
— Закон «Об изменении порядка производства дел по неко¬
торым преступлениям» (ограничение компетенции суда
присяжных).
— Закрытие мировых судов повсемество, за исключением
нескольких больших городов.
— Положение о земских участковых начальниках и переходе
к ним административной, полицейской и судебной власти
в уезде.
— Переселенческий закон. Ограничение самовольных пере¬
селений и поощрение плановой и организованной мигра¬
ции в Сибирь.
— Закон о неотчуждаемости крестьянских наделов. Запре¬
щение перехода надельной земли в руки некрестьян. Не¬
обходимость санкционирования выхода из общины двумя
третями голосов.
— Новое положение о земских учреждениях. Увеличение
представительства от дворян за счет крестьян и усиление
административного контроля за земствами.
— Высылка из Москвы 20 тыс. евреев, не имевших законно¬
го права на проживание.
— Начало строительства Великой Сибирской железной доро¬
ги (в основном закончена к 1905 г., полностью — к 1916 г.).
— Закон об узаконении внебрачных детей последующим
браком родителей, если ни один из них в момент зачатия
не состоял в браке.
— Сильный неурожай и эпидемия холеры, охватившие 20 гу¬
берний, в которых проживали около 40 млн крестьян.
— Новое городское положение. Уменьшение на две трети
числа избирателей и лишение евреев избирательных прав.
— Передача П. Третьяковым в дар Москве своей коллекции
картин.
— С. Ю. Витте — министр финансов.
— Закон об ограничении земельных переделов в крестьян¬
ской общине: запрещение частных переделов общинной
земли и установление минимального интервала между
общими переделами, равного 12 годам.
— Закон о неотчуждаемости крестьянских земельных наде¬
лов.
833
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1893
1894
1894—1917
1895, февраль 26
(март 10)
1895, май 7 (19)
1895, ноябрь
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896, август
1897, январь 3(15)
1897, январь
1897, июнь 2 (14)
1897, сентябрь
1897
1898, март 1—3
(13-15)
1898
1899, февраль 3
(15)
1899, февраль 8
(20)
Создание К. Э. Циолковским проекта межпланетного ко¬
рабля-ракетоплана.
Введение казенной винной монополии.
Царствование Николая II, сына Александра III.
Образование Собственной его величества канцелярии по
принятию прошений, на высочайшее имя приносимых,
ставшей преемницей Комиссии по принятию прошений на
высочайшее имя.
Изобретение А. С. Поповым радиотелеграфа.
Образование «Союза за освобождение рабочего класса».
Введение в действие новых паспортных правил, значи¬
тельно облегчивших передвижение крестьянства.
Пуск первого в России электрического трамвая в Москве.
Создание при Академии наук Комиссии для пособия нуж¬
дающимся ученым и литераторам.
Образование Переселенческого управления при Мини¬
стерстве внутренних дел для поощрения переселения в Си¬
бирь.
Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде.
Первый Всероссийский торгово-промышленный съезд в Ниж¬
нем Новгороде.
Съезд председателей земств в Нижнем Новгороде.
Закон о введении золотого денежного обращения. Денеж¬
ная реформа С. Ю. Витте.
Первая всеобщая перепись населения, согласно которой
в Российской империи насчитывалось 128,9 млн жителей.
Закон об ограничении рабочего дня на фабриках 11,5 ч
и признании воскресенья нерабочим днем.
Образование «Всеобщего еврейского рабочего союза в Лит¬
ве, Польше и России» (БУНД).
Завершение строительства в России самого большого в ми¬
ре нефтепровода длиной 835 км по проекту В. Г. Шухова.
Первый съезд Российской социал-демократической рабо¬
чей партии в Минске. Образование РСДРП.
Закон о промысловом налоге, давший право на свободу
частного предпринимательства всем подданным незави¬
симо от принадлежности к купеческим гильдиям и пре¬
вративший купеческое сословие в юридическую фикцию.
Манифест, отменявший конституцию Финляндии и превра¬
щавший сейм в законосовещательный орган. Распростране¬
ние общероссийского законодательства на Финляндию.
Первая всероссийская студенческая забастовка.
834
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1899, март 17 (29)
1899, июль 29
(август 10)
1899
1900—1908
1901, август 23
(сентябрь 5)
1901
1901
1902, июнь 23—26
(июль 6—9)
1902
1902
1903, март 12 (25)
1903, апрель 6 (19)
1903, июнь 2(15)
1903, июнь 10(23)
1903, июль
1903
1903
1903
1903
1904—1906
1904, январь 3—5
(16—18)
Приезд в Петербург финской депутации с «Великим адре¬
сом» протеста против отмены конституции Финляндии,
под которым подписались 524 тыс. чел.
Циркуляр министра народного образования Н. Боголепова
об отдаче в солдаты студентов за участие в политических
демонстрациях.
Постройка в России первого в мире ледокола «Ермак».
Возникновение синдикатов.
Официальное запрещение прямых политических контак¬
тов между земствами.
Образование партии социалистов-революционеров.
Отлучение Льва Толстого от церкви.
Нелегальный съезд председателей земств и выработка им
либеральной программы.
Закон об узаконении внебрачных детей при единственном
условии — признании отцом незаконорожденного и о по¬
лучении ими в этом случае права носить фамилию отца,
наследовать его имущество.
Завершение строительства Великой Сибирской железной
дороги. Путь из Москвы во Владивосток сократился до
15 дней.
Завершение отмены круговой поруки у крестьян.
Еврейский погром в Кишиневе.
Закон об ответственности предпринимателей за увечье
рабочего обязывает их выплачивать компенсацию рабо¬
чим, получившим увечье на производстве.
Закон о фабричных старостах.
Создание либерального «Союза освобождения». В октябре
1905 г. вошел в состав конституционно-демократической
партии.
Создание Союза земцев-конституционалистов.
Раскол социал-демократов на меньшевиков и больше¬
виков.
Выход в свет работы К. Э. Циолковского «Исследование
мировых пространств реактивными приборами».
Утверждение нового Уголовного уложения (по отдельным
частям оно входило в силу с 1904 г.).
Собрание русских фабрично-заводских рабочих — одна
из первых массовых легальных рабочих организаций в Рос¬
сии, основанная священником Георгием Гапоном.
Съезд «Союза Освобождения» в С.-Петербурге.
835
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1904, ноябрь
1904, август 11
(24)
1904
1904— 1905
1905— 1907
1905, январь 9 (22)
1905, март 25—27
(апрель 11—13)
1905, март
(апрель)
1905, апрель 17
(30)
1905, апрель 22
(26)
1905, май—1906
1905, май 15(28)
1905, июль 6—8
(19—21)
1905, июль 31—
август 1 (август
13—14)
1905, август
1905, август 27
(сентябрь 9)
1905, октябрь 7
(20)
1905, октябрь
12—18(25—31)
1905,октябрь 17
(30)
1905, октябрь
Банкетная кампания — оппозиционная кампания земских
либералов и интеллигенции, организованная «Союзом
освобождения» с целью подтолкнуть правительство к про¬
ведению реформ; в 34 городах прошло свыше 120 банке¬
тов, в которых приняло участие около 50 тыс. человек.
Отмена всех видов телесных наказаний для крестьян, сол¬
дат, матросов и других категорий населения.
Присуждение И. П. Павлову Нобелевской премии за рабо¬
ты в области физиологии.
Русско-японская война.
Революция в России.
«Кровавое воскресенье».
Образование «Союза для достижения полноправия евреев
в России» («Общества полноправия еврейского народа
в России»).
Основание первых профсоюзов.
Указ о свободе религии.
Первый легальный съезд земств в Москве.
Деятельность Союза Союзов — политического объедине¬
ния 14 профсоюзных организаций интеллигенции.
Образование первого Совета в Иваново-Вознесенске.
Съезд земств и городских дум.
Образование Всероссийского крестьянского союза.
Создание Всероссийской мусульманской лиги в Нижнем
Новгороде.
Введение в действие «Временных правил», отменявших
пятый общий университетский устав. Восстановление
университетской автономии.
Начало всероссийской политической стачки.
Образование конституционно-демократической партии.
Октябрьский манифест Николая II, гарантировавший по¬
литические права, всеобщее избирательное право и созда¬
ние Государственной думы с законодательной властью.
Вторая волна массовых еврейских погромов, зафиксиро¬
ванных в 690 населенных пунктах Европейской России.
836
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1905, октябрь 22
(ноябрь 4)
1905, октябрь
(ноябрь)
1905, ноябрь 3
(16)
1905, ноябрь 10
(23)
1905, декабрь 9—
19 (декабрь 22—
1906, январь 1)
1905, декабрь 11
(24)
1906, февраль 20
(март 5)
1906, март 4 (17)
1906, апрель 23
(май 6)
1906, апрель 27
(май 10) — июль 8
(21)
1906, май
1906, июнь 1—3
(14—16)
1906, июль 8 (21)
1906, июль 10 (23)
1906, август 19
(сентябрь, 1)
1906, сентябрь
1906, октябрь 5
(18)
— Манифест о восстановлении прав финского сейма.
— Образование крайне правой политической партии «Союз
русского народа».
— Манифест об отмене с 1 января 1907 г. выкупных плате¬
жей с крестьян.
— Возникновение партии «Союза 17 октября», с февраля
1906 г. — Октябристская партия.
— Московское вооруженное восстание.
— Новый избирательный закон о выборах в первую Государ¬
ственную думу. Установление системы непрямых выбо¬
ров на основе имущественного ценза: один выборщик на
2000 землевладельцев, на 7000 городского населения, на
30 000 крестьян и на 90 000 рабочих.
— Положение о превращении Государственного совета во
вторую палату российского парламента и о его составе:
половина членов — по выбору, половина — по назначе¬
нию императором.
— Указ «О временных правилах об обществах и союзах» (за¬
кон о регистрации и легализации политических партий
и профсоюзов).
— Издание новых «Основных законов», или конституции,
Российской империи.
— Деятельность первой Государственной думы и обновлен¬
ного Государственного совета.
— Образование «Совета объединенного дворянства».
— Еврейской погром в Белостоке.
— Роспуск первой Государственной думы.
— Выборгский манифест 182 членов Государственной думы
с призывом не платить налоги и отказываться от призыва
на воинскую службу («Выборгское воззвание»).
— Введение военно-полевых судов.
— IV съезд конституционно-демократической партии. Отказ
от «Выборгского воззвания».
— Указ об отмене некоторых ограничений в правах сельских
обывателей и лиц бывших податных состояний в отноше¬
нии поступления на государственную службу, в учебные
заведения, в духовное звание и поступления в монашество.
837
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1906, октябрь
12—14(25—27)
1906, ноябрь 9
(22)
1906, ноябрь 15
(28)
1906, ноябрь 27
(декабрь 10)
1906
1907, февраль 20
(март 5)—июнь 2
(15)
1907, июнь 3(16)
1907, ноябрь 1
(14) — 1912, июнь
9(22)
1907, декабрь —
1908, январь
1908, май 3(16)
1908
1908
1909
1909
1910, май 5(18)
1910, июнь 14(27)
1910
1911, март 14(27)
1911, м^й 29
(июнь 11)
1911, сентябрь 5
(18)
1912, апрель 4 (17)
1912, июнь 15(28)
1912, июнь 23
(июль 6)
Первый съезд представителей промышленности и торговли.
Указ о выделении крестьян из общины. Начало аграрной
реформы П. А. Столыпина.
Закон «О нормальном отдыхе служащих в торговых заве¬
дениях и конторах», установивший продолжительность
торговли в будние и праздничные дни.
Первый Всероссийский съезд представителей биржевой
торговли и сельского хозяйства.
Закон об ограничении рабочего дня у рабочих 10 часами.
Деятельность второй Государственной думы.
Роспуск второй Государственной думы и новый избира¬
тельный закон.
Деятельность третьей Г осударственной думы.
Первый Всероссийский съезд профсоюзов.
Закон о постепенном, в течение 10 лет, введении всеобще¬
го обязательного начального образования.
Присуждение И. Мечникову Нобелевской премии за рабо¬
ты в области эмбриологии и иммунологии.
Разоблачение Е. Азефа — руководителя террористическо¬
го крыла социалистов-революционеров как агента охранки.
Основание Саратовского университета.
Публикация сборника «Вехи».
Закон о праздничном отдыхе приказчиков и рабочих.
Расширение возможности выхода из общины по закону
«Об изменении и дополнении некоторых постановлений
о крестьянском землевладении».
Постройка первого русского автомобиля и самолета.
Закон о введении земств в шести западных губерниях.
Создание благоприятных условий для выхода крестьян из
общины на хутора и отруба по закону о землеустройстве
на крестьянских надельных землях.
Убийство П. А. Столыпина двойным агентом.
Ленский расстрел.
Восстановление мировых судов.
Страховые законы: «Об обеспечении рабочих на случай
болезни» и «О страховании рабочих от несчастных случаев»,
838
Хронология основных событий социальной истории России XVIII—начала XX в.
1912, ноябрь 15
(28)—1917,
февраль 25
(март 10)
1912, ноябрь
1913, март 3
1913
1913, октябрь 28
(ноябрь 10)
1913
1913
1914, июль 19
(август 1)
1914, июль 24
(август 6)
1914, июль 26
(август 8)
1914, июль (ав¬
густ)
1914, август 8 (31)
1915, июнь 7 (20)
1915, июль
1915, август 17
(30)
1915, август 23
(сентябрь 5)
предусматривавшие получение рабочими выплат в случае
временной нетрудоспособности и обязавшие предприни¬
мателей организовывать для рабочих бесплатную меди¬
цинскую помощь.
— Деятельность четвертой Государственной думы.
— Образование национально-либеральной Прогрессивной
партии.
— Открытие первой больничной кассы (независимой обще¬
ственной организации, управляемой самими застрахован¬
ными) в С.-Петербурге для накопления необходимых
средств на выплату пособий в случае временной нетрудо¬
способности за счет взносов из заработной платы рабочих
и сборов с предпринимателей.
— Празднование 300-летия династии Романовых.
— Оправдание киевским судом присяжных еврея М. Бейлиса,
обвиненного в ритуальном убийстве.
— Утверждение «Большой программы по усилению армии».
— Понижение возрастного ценза при приеме в рекруты с 20
до 19 лет.
— Объявление Германией войны России.
— Объявление Австро-Венгрией войны России.
— Провозглашение на внеочередной сессии Государствен¬
ной думы «Священного союза» политических партий
и одобрение получения правительством зарубежных кре¬
дитов на ведение войны (фракции трудовиков — умерен¬
ное крыло эсеров — и социал-демократов воздержались
от голосования по обоим вопросам).
— Образование Всероссийского земского союза и Всерос¬
сийского союза городов (Земского и Городского союзов).
— Переименование С.-Петербурга в Петроград.
— Образование Военно-промышленных комитетов для управ¬
ления экономикой во время войны.
— Образование Земгора — организации, ответственной за
снабжение армии.
— Учреждение «Особых совещаний» по обороне государст¬
ва, топливу, перевозкам и продовольствию.
— Манифест о смещении великого князя Николая Николае¬
вича с поста главнокомандующего и вступлении на этот
пост Николая II.
839
Хронология основных событий социальной истории России XVIII— начала XX в.
1915, август
1915
1916, июнь 25
(июль 8)
1916, ноябрь 1
(14)
1916, декабрь—
1917, май
1917, январь
1917, февраль 27
(март 12)
1917, март 1 (14)
1917, март 2 (15)
1917, март 10(23)
1917, апрель 21
(май 4)
1917, апрель 23
(май 6)
1917, май 1 (14)
1917, май 4—28
(май 17—июнь 10)
1917, июнь 3—24
(июнь 16—июль 7)
1917, август 15
(28)
1917, август 25—
30 (сентябрь 8—13)
1917, октябрь 25
(ноябрь 7)
1917, октябрь
25—27
(ноябрь 7—9)
— Образование в Думе Прогрессивного блока — объедине¬
ния шести ведущих фракций в Государственной думе (236
депутатов из 422), требовавших создания правительства
доверия.
— Создание В. И. Вернадским Комитета по изучению есте¬
ственных производительных сил страны.
— Восстание в Средней Азии в ответ на указ о мобилизации
на принудительные работы 400 тыс. жителей.
— Речь П. Н. Милюкова в Государственной думе «Глупость
или измена?».
— Создание полноценной административной юстиции.
— Введение подоходного налога.
— Свержение монархии. Образование Петроградского Сове¬
та рабочих и солдатских депутатов и Временного комите¬
та Государственной думы.
— Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону о создании
в армии солдатских комитетов.
— Отречение Николая II от престола и образование Времен¬
ного правительства.
— Соглашение Петроградского Совета рабочих депутатов
и Общества фабрикантов и заводчиков о введении 8-ча-
сового рабочего дня.
— Создание Главного, губернских, уездных и волостных зе¬
мельных комитетов для проведения аграрной реформы.
— Закон о создании фабрично-заводских комитетов для ус¬
тановления рабочего контроля над наймом и увольнением
рабочих.
— Первая всемусульманская конференция в Москве.
— Первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов
в Петрограде.
— Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат¬
ских депутатов.
— Открытие Собора Русской православной церкви.
— Корниловский мятеж.
— Октябрьская революция.
— Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат¬
ских депутатов. Одобрение свержения большевиками Вре¬
менного правительства и создание Совета народных ко¬
миссаров.
СПИСОК ТАБЛИЦ К ТОМУ 3
Номер, название
Страница
Таблица 10.1. Изменения возраста ответственности по русскому
уголовному законодательству в конце XVII—начале XX в. (лет)
28
Таблица 10.2. Распределение подсудимых по сословиям и видам
приговоров в 1861—1864 гг. (%)
75
Таблица 10.3. Нерешенные дела в различных судебных инстанциях
России в 1834—1864 гг. (%)
77
Таблица 10.4. «Возрастная» структура 167 тыс. нерешенных дел
во всех судебных инстанциях России к 1863 г.
78
Таблица 10.5. Движение уголовных и гражданских дел в судебных
палатах и окружных судах, у мировых судей и в Сенате в 1881—1913 гг.
81
Таблица 10.6. Движение дел у чинов прокурорского надзора су¬
дебных палат и окружных судов, у судебных следователей и су¬
дебных приставов в 1881—1913 гг.
82
Таблица 10.7. Число поданных жалоб и апелляций (протестов)
на приговоры судов и доля полностью удовлетворенных протестов
в 1835—1903 гг.
83
Таблица 10.8. Динамика преступности в России в 1803—1913 гг.
118
Таблица 10.9. Динамика крупной преступности в России
в 1803—1913 гг.
123
Таблица 10.10. Динамика мелкой преступности в России
в 1803—1913 гг.
124
Таблица 10.11. Число наиболее важных зафиксированных полици¬
ей преступлений в 1846—1913 гг. (в среднем в год, тыс.)
129
Таблица 10.12. Структура наказаний в России в 1834—1913 гг. (%)
130
Таблица 10.13. Наказания, наложенные окружными судами
и судебными палатами в 1910—1913 гг.
131
Таблица 10.14. Число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. населения в России в XIX—начале XXI в.
138
Таблица 10.15. Коэффициенты зарегистрированной преступности
на 100 тыс. человек по различным видам преступлений в России
и в других странах мира в 2000 г.
140
Таблица 11.1. Затраты петербургских рабочих на отдельные
товары и услуги в 1907—1908 гг. на члена семьи в месяц
177
Таблица 11.2. Расходы семейных рабочих в Петербурге, Баку,
Киеве и Богородске в 1907—1912 гг. на члена семьи в месяц (%)
178
Таблица 11.3. Основные статьи расходной части бюджета
петербургских рабочих в 1907—1908 гг. на члена семьи в месяц
179
841
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 11.4. Индексы цен и зарплаты плотников в С.-Петербурге
в 1703—1913 гг.
181
Таблица 11.5. Соотношение цен на хлеб в России и Западной
Европе в XVII—начале XX в. (в граммах золота: цены
в России = 100)
184
Таблица 11.6. Покупательная сила средней месячной зарплаты
плотника в С.-Петербурге в 1711—2003 гг.
186
Таблица 11.7. Покупательная способность зарплаты плотника
вместе с социальными трансфертами в 1913, 1985 и 2003 гг.
188
Таблица 11.8. Заработная плата рабочих в черной металлургии
в 1713—1860 гг. (руб. сер.)
193
Таблица 11.9. Средняя годовая заработная плата рабочих России
на предприятиях с численностью рабочих более пятнадцати
в 1897—1913 гг.
193
Таблица 11.10. Средняя поденная оплата сельскохозяйственного
рабочего в России в 1871—1914 гг. (коп.)
196
Таблица 11.11. Число рабочих, занятых в крупной
промышленности, и число взятых паспортов на 100 душ обоего
пола в 50 губерниях Европейской России в 1770—1913 гг.
199
Таблица 11.12. Средняя поденная плата промышленного
и сельскохозяйственного рабочего в Европейской России
в 1850—1913 гг. (ном. коп.)
201
Таблица 11.13. Соотношение реальной заработной платы
промышленных рабочих в России, США, Англии, Германии,
Франции и Бельгии в начале XX в. (США = 100)
203
Таблица 11.14. Результаты медицинского осмотра призывников
в начале XX в. (% к числу освидетельствованных)
204
Таблица 11.15. Годовое содержание чиновников губернских
правлений в 1763—1904 гг.: номинально — в текущих рублях
и реально — в ценах 1913 г. (руб.); а — денежное жалованье;
б — столовые; в — квартирные
212
Таблица 11.16. Реальное годовое денежное жалованье и столовые
чиновников высших (IV), средних (V—VIII) и низших (IX—XIV)
классов в губернских правлениях в 1761—1913 гг. (руб. в ценах
1913 г.)
214
Таблица 11.17. Доля потомственного дворянства среди классных
чиновников(%)
217
Таблица 11.18. Распределение крепостных по разрядам чиновни¬
ков в местном управлении в 1755 и 1840—1855 гг.
218
842
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 11.19. Номинальное денежное жалованье, столовые и доба¬
вочные деньги офицеров армейской пехоты в 1711—1909 гг. (руб.)
222
Таблица 11.20. Реальное жалованье, столовые и добавочные
деньги офицеров армейской пехоты в 1711—1913 гг.
до отчислений на медикаменты, госпиталь и в эмеритальную
кассу (руб. в ценах 1913 г.)
225
Таблица 11.21. Реальное жалованье, столовые и добавочные
деньги генералов, штаб- и обер-офицеров армейской пехоты
в 1711—1913 гг. до отчислений на медикаменты, госпиталь
и в эмеритальную кассу (руб. в ценах 1913 г.)
227
Таблица 11.22. Реальное жалованье и столовые чиновников
и офицеров высших, средних и низших рангов в 1760—1900-е гг.
(руб. в ценах 1913 г.)
231
Таблица 11.23. Доля потомственных дворян по происхождению
в офицерском корпусе сухопутных войск Российской императорской
армии в 1750—1912 гг.
232
Таблица 11.24. Распределение помещиков по числу принадлежавших
им крепостных по 8-й ревизии в 1833 г. (душ мужского пола)
233
Таблица 11.25. Распределение чиновников и офицеров по уровню
образования в конце XIX—начале XX в. (%)
236
Таблица 11.26. Изменение численности духовенства и паствы
в приходе в XVIII—начале XX в.
240
Таблица 11.27. Обязательные обряды, численность их участников
и плата за требоисполнение в XVIII—начале XX в. (коп.)
243
Таблица 11.28. Исходные данные для расчета сумм, уплачиваемых
православным населением России за требоисполнение в XVIII—
начале XX в.
244
Таблица 11.29. Суммы, уплачиваемые православным населением
России в XVIII—начале XX в. за требоисполнение (тыс. руб.)
245
Таблица 11.30. Доходы духовенства за требоисполнение во второй
половине XVIII—начале XX в.
245
Таблица 11.31. Распределение годовых доходов по принтам
Владимирской епархии в 1863 г.
247
Таблица 11.32. Обеспечение православных принтов землей
в 1735—1740 и 1909 гг.
249
Таблица 11.33. Доход от причтовой земли при самостоятельной
ее обработке и при сдаче в аренду в 1760-е—1902 гг.
250
Таблица 11.34. Государственная поддержка приходского
духовенства РПЦ в 1764—1916 гг.
253
843
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 11.35. Изменение доходов православного российского
приходского духовенства в 1760—1904 гг. (руб. в ценах 1913 г.)
255
Таблица 11.36. Размеры содержания (жалованья и столовых)
офицеров в армейской пехоте, чиновников губернских правлений
и доходов приходского духовенства в 1760—1900-е гг.
257
Таблица 11.37. Значение трех важнейших источников
формирования дохода православного российского приходского
духовенства в 1760—1904 гг. (%)
258
Таблица 11.38. Распределение годового денежного жалованья
среди учителей начальных церковных школ в России в 1906 г.
263
Таблица 11.39. Заработная плата у рабочих, содержание (денежное
жалованье и столовые) у чиновников и офицеров и доходы
духовенства в 1760—1900-е гг. (руб., в среднем в год в ценах 1913 г.)
265
Таблица 11.40. Купленные на рынке горожанами для личного
потребления продукты питания в 1840—1850-е гт.
(кг на д. н. в год)
272
Таблица 11.41. Состав основных продуктов питания в России
начала XX в. (содержание в 100 г продуктов, г)
273
Таблица 11.42. Состав и калорийность продуктов, потребляемых
горожанами в середине XIX в. (над. н.)
275
Таблица 11.43. Потребление основных продуктов питания тремя
экономическими группами горожан в 1840—1850-е гг. (над. н.)
277
Таблица 11.44. Потребление взрослого мужчины-горожанина
в середине XIX в.
278
Таблица 11.45. Соотношение белков, жиров и углеводов по массе
в продуктах, потреблявшихся горожанами в середине XIX в. (%)
279
Таблица 11.46. Потребление основных продуктов питания
русскими и зарубежными рабочими в середине XIX в.
(кг над. н. в год)
279
Таблица 11.47. Потребление основных продуктов питания тремя
экономическими группами городского населения в 1900—1916 гг.
(на д. н. в год)
281
Таблица 11.48. Состав и калорийность питания горожан
в 1900—1916 гг. (над. н. вдень)
282
Таблица 11.49. Структура потребления горожан мужского пола
в 1900—1916 гг.
283
Таблица 11.50. Доля белков, жиров и углеводов по массе
в питании горожан в 1900—1916 гг. (%)
283
844
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 11.51. Результаты статистической обработки ответов
на анкету Комиссии 1873 г. о питании крестьян и
сельскохозяйственных рабочих после крестьянской реформы
294
Таблица 11.52. Состав и калорийность питания крестьянства
в 13 губерниях Европейской России в 1896—1915 гг. (над. н.)
297
Таблица 11.53. Структура потребления взрослого мужчины-
крестьянина по экономическим группам в 1896—1915 гг.
298
Таблица 11.54. Вес, рост и индекс массы тела (ИМТ) у мужчин
1811—1920 годов рождения (в возрасте старше 17 лет)
300
Таблица 11.55. Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ) мужского
населения в разных возрастных группах в России XIX—начала XX в.
301
Таблица 11.56. Качество питания учащихся начальной школы
в России в 1905—1913 гг.
314
Таблица 11.57. Качество питания учащихся средней школы
в России в 1905—1913 гг.
314
Таблица 11.58. Процентное соотношение учащихся, принадле¬
жавших к разным слоям общества, в начальной и средней школе
России в 1913 г.
315
Таблица 11.59. Состояние питания учащихся в России
в 1905—1913 гг.
316
Таблица 11.60. Питание учащихся в России в 1905—1913 гг.
в зависимости от пола
320
Таблица 11.61. Результаты врачебного осмотра лиц, подлежавших
призыву в армию, в 1839—1916 гг. (в среднем в год)
321
Таблица 11.62. Демографические процессы в России в 1866—1913 гг.
и средний дефинитивный рост мужского населения, рожденного
в эти годы
326
Таблица 11.63. Рост новобранцев 1701—1915 годов рождения
в возрасте старше 17 лет и дефинитивный рост мужчин
референтной группы в Европейской России (см)
332
Таблица 11.64. Средний рост мужского населения 1701—1917 годов
рождения в возрасте старше 17 лет по сословным группам (см)
335
Таблица 11.65. Индекс человеческого развития России
в 1851—1913 гг. (без Финляндии)
337
Таблица 12.1. Средний возраст вступления в брак городского
и сельского населения Европейской России в 1867 и 1910 гг. (лет)
393
Таблица 12.2. Пропуск исповеди и причастия во время Великого
поста лицами православного исповедания Европейской России
по неуважительным причинам в 1780—1913 гг. (%)
405
845
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 12.3. Уменьшение рождаемости через 9 месяцев после
Великого поста, 1867—1910 гг. (%)
408
Таблица 12.4. Доля населения, практиковавшая половое
воздержание во время Великого поста по религиозным
соображениям, 1867—1910 гг. (%)
409
Таблица 12.5. Распределение труда крестьянской семьи в течение
года в Вологодской, Московской и Харьковской губерниях
в 1900-е гг. (% от 365 дней)
417
Таблица 12.6. Годовой бюджет времени крестьянина-работника
в середине XIX—начале XX в.
418
Таблица 12.7. Трудовые издержки в полеводстве Европейской
России в 1880-е и 1901—1910 гг.
423
Таблица 12.8. Использование крестьянами годового календарного
фонда времени, оставшегося после исключения воскресений,
праздников и рабочих дней, затрачиваемых на полеводство,
в 1880-е гг.
425
Таблица 12.9. Использование годового фонда времени
работником-мужчиной в 1850—1900-е гг.
427
Таблица 12.10. Взыскание штрафов с рабочих на предприятиях,
подотчетных фабричной инспекции, в 1901 и 1913 гг. по фабричным
округам
457
Таблица 12.11. Влияние концентрации производства и характера
труда на уровень трудовой дисциплины (коэффициенты линейной
корреляции Пирсона)
458
Таблица 12.12. Грамотность рекрутов в XV11I—первой половине
XIX в.
477
Таблица 12.13. Средняя грамотность всех российских новобранцев
в 1867—1913 гг. (%)
478
Таблица 12.14. Грамотность женщин по возрастным группам
в Европейской России в 1797—1897 гт. по данным переписи
1897 г. (%)
479
Таблица 12.15. Грамотность населения Европейской России
в 1797—1917 гг. в возрасте старше 9 лет (%): (а) с учетом утраты
грамотности после 21 года; (б) без учета утраты грамотности
после 21 года
482
Таблица 12.16. Грамотность населения Европейской России
по сословиям в 1847—1917 гг. в возрасте старше 9 лет (%)
483
Таблица 12.17. Грамотность российских осужденных в возрасте
старше 9 лет в 1837—1907 гг. (%)
484
846
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 12.18. Динамика грамотности населения обоего пола
старше 9 лет в прибалтийских губерниях и Европейской России
в 1777—1897 гг. (%)
486
Таблица 12.19. Развитие грамотности в России в XIII—начале
XXI в. (% грамотных в возрасте 10 лет и старше)
488
Таблица 12.20. Среднее число лет обучения одного человека
в возрасте 10 лет и старше за счет всех видов образования
в 1797—2002 гг.
489
Таблица 12.21. Грамотность мужчин (М) и женщин (Ж) в возрасте
старше 9—15 лет в разных странах в XVII—XX вв. (%)
491
Таблица 12.22. Изменение грамотности населения Европейской
России по данным переписей 1897 и 1920 гг. (%)
497
Таблица 12.23. Изменение грамотности сельского населения
Европейской России по данным переписей 1897 и 1926 гг. (%)
497
Таблица 12.24. Среднегодовые темпы утраты грамотности по
данным переписей 1897, 1920 и 1926 гг. по возрастным группам
499
ФсЙлица 13.1. Лаг в уровне развития между Россией и великими
державами по 13 признакам к 1913 г.
625
Таблица 13.2. Лаг в уровне развития между СССР и великими
державами по 16 признакам в 1989 г.
628
Таблица 13.3. Образ России и Запада в цивилизационном дискурсе
на конец XIX—начало XX в.
661
Таблица 13.4. Механическая и органическая солидарность
как идеальные типы
Заключение
666
Численность лиц с высшим и средним образованием
в Европейской России в 1850-е, 1897, 1917 и 1939 гг.
(среди лиц в возрасте 20 лет и старше)
Статистическое приложение
720
Таблица 1. Население некоторых стран в XV—XX вв. (млн)
750
Таблица 2. Территория и население России в X—XX вв.
751
Таблица 3. Плотность населения в некоторых странах
в XI—XX вв. (человек на км2)
751
Таблица 4. Городское население в некоторых странах
в XIX—XX вв. (%)
752
Таблица 5. Общие коэффициенты рождаемости (А), смертности
(Б), младенческой смертности (В) в некоторых странах в XIX—
XX вв. (на 1000 человек населения)
753
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 6. Общие коэффициенты брачности (Б) и разводимости
(Р) (вступивших в брак и разведенных на 1000 человек населения)
754
Таблица 7. Ожидаемая средняя продолжительность жизни при ро¬
ждении мужчин (М) и женщин (Ж) в некоторых странах в XIX—
XX вв. (лет)
755
Таблица 8. Эмиграция (Э), иммиграция (И) и сальдо миграции (С)
в некоторых странах в XIX—XX вв. (суммарные данные, тыс.)
756
Таблица 9. Грамотность мужчин (М) и женщин (Ж) в возрасте
старше 9—15 лет в некоторых странах в XVII—XX вв. (%)
757
Таблица 10. Численность учащихся начальных и средних общеоб¬
разовательных школ в некоторых странах в XIX—XX вв.
759
Таблица 11. Численность студентов высших учебных заведений
в некоторых странах в XIX—XX вв.
760
Таблица 12. Массовые библиотеки в некоторых странах
в XIX—XX вв.
761
Таблица 13. Библиотеки всех видов, кроме школьных, в некоторых
странах в 1960—1980-е гг.
762
Таблица 14. Выпуск книг и брошюр в некоторых странах
в XIX—XX вв. (тыс. наименований)
763
Таблица 15. Выпуск газет в некоторых странах в XIX—XX вв.
763
Таблица 16. Число наименований выпускаемых журналов и других
периодических изданий в некоторых странах в XIX—XX вв.
764
Таблица 17. Число абонентов радиосети в некоторых странах
в XX в.
764
Таблица 18. Число абонентов телевидения в некоторых странах
в XX в.
765
Таблица 19. Продолжительность рабочей недели в промышленно¬
сти в некоторых странах в XIX—XX вв.
766
Таблица 20. Номинальная среднемесячная заработная плата заня¬
тых в промышленности в некоторых странах в XIX—XX вв.
767
Таблица 21. Годовое потребление основных продуктов питания го¬
родскими рабочими по бюджетным обследованиям 1900—1905 гг. (кг)
768
Таблица 22. Годовое потребление основных продуктов питания
в расчете на душу населения в год в некоторых странах
в XIX—XX вв. (кг)
768
Таблица 23. Доля расходов на продукты питания и напитки
в общих расходах на личное потребление в некоторых странах
в 1984 г. (%)
771
848
Список таблиц к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Таблица 24. Численность врачей всех специальностей и больнич¬
ных коек в некоторых странах в XIX—XX вв.
772
Таблица 25. Национальный доход в некоторых странах
в XIX—XX вв. (в текущих ценах)
773
Таблица 26. Валовый внутренний продукт (ВВП) в России
и США в XIX—XX вв. (дол. и цены 1975 г.)
774
Таблица 27. Выработка электроэнергии в некоторых странах в XX в.
775
Таблица 28. Военные расходы в некоторых странах в XIX—XX вв.
по оценкам зарубежных экспертов
776
Таблица 29. Численность вооруженных сил в некоторых странах
в XIX—XX вв.
777
Таблица 30. Посевная площадь сельскохозяйственных культур
(без паров) в некоторых странах в XIX—XX вв.
778
Таблица 31. Посевная площадь зерновых культур и картофеля
(без паров) в некоторых странах в XIX—XX вв.
779
Таблица 32. Урожайность зерновых культур в некоторых странах
в XIX—XX вв. (ц/га)
781
Таблица 33. Производство зерновых культур в расчете на душу
населения в некоторых странах в XIX—XX вв. (кг)
782
Таблица 34. Экспорт (Э) и импорт (И) зерновых культур
в XIX—XX вв. (в среднем в год, млн т)
784
Таблица 35. Число лошадей (Л), крупного рогатого скота (К),
свиней (С) и овец (О) в XIX—XX вв. (млн голов)
785
Таблица 36. Число лошадей, крупного рогатого скота, свиней
и овец на 1000 жителей в XIX—XX вв.
787
Таблица 37. Удой молока от одной коровы в некоторых странах
в XIX—XX вв. (кг)
788
Таблица 38. Производство мяса (Мс), молока (Мл), животного
масла (Жм) в расчете на душу населения в некоторых странах
в XIX—XX вв. (кг)
788
Таблица 39. Развитие почтовой связи в некоторых странах
в XIX—XX вв.
790
Таблица 40. Развитие телеграфной связи в некоторых странах
в XIX—XX вв.
791
Таблица 41. Развитие телефонной сети общего пользования
в некоторых странах в XIX—XX вв.
792
Таблица 42. Протяженность дорог в некоторых странах
в XIX—XX вв.
793
849
Список таблиц к тому 3
Окончание табл.
Номер, название
Страница
Таблица 43. Протяженность железных дорог в некоторых странах
в XIX—XX вв.
793
Таблица 44. Автомобильный парк в некоторых странах в XX в.
794
Таблица 45. Преступность в Англии в XIX—XX вв.
(число преступлений, тыс.)
795
Таблица 46. Преступность в США в 1960, 1970 и 1980-е гг.
(число преступлений, тыс.)
796
Таблица 47. Преступность в Германии в XIX—XX вв.
(число преступлений, тыс.)
797
Таблица 48. Преступность во Франции в XIX—XX вв.
(число подсудимых, тыс.)
797
Таблица 49. Преступность в Японии в XIX—XX вв.
(число преступлений, тыс.)
799
Таблица 50. Число самоубийств в некоторых странах в XIX—XX вв.
800
)
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ТОМУ 3
Номер, название
Страница
Рис. 10.1. Телесные наказания в Европе в 1508 г. (сожжение, по¬
вешение, ослепление, отсечение уха, отсечение головы, отсечение
руки и другие истязания)
15
Рис. 10.2. Наказание кнутом Н. Ф. Лопухиной. 1743
18
Рис. 10.3. Палач, о. Сахалин. 1910
21
Рис. 10.4. Подвес за ребро и закапывание в землю. XVIII в.
25
Рис. 10.5. Каторжанин с 13 клеймами, наказанный семь раз, Нер-
чинская каторга. 1891
29
Рис. 10.6. Палач из ссыльнокаторжных, Нерчинская каторга. 1891
32
Рис. 10.7. Ж. Калло (1592—1635). Дыба. 1633. Государственный
Эрмитаж
35
Рис. 10.8. Колесование
39
Рис. 10.9. Каторжанин, прикованный к тачке. 1891
41
Рис. 10.10. Ссыльнокаторжные эсеры на Нерчинской каторге. 1907
42
Рис. 10.11. Детский приют на Нерчинской каторге. 1891
44
Рис. 10.12. Политические заключенные эсеры на Нерчинской
каторге. 1900-е
46
Рис. 10.13. Вид общей камеры в Шлиссельбургской крепости. 1917
47
Рис. 10.14. Женщины-заключенные с детьми в Первой женской
тюрьме «Арсенальная» (С.-Петербург, Арсенальная наб., 9; новая
образцовая тюрьма, построенная в 1912 г.). 1912
48
Рис. 10.15. Внутренний вид одиночной камеры в Доме предвари¬
тельного заключения (С.-Петербург, Шпалерная, 25). 1914
52
Рис. 10.16. Песенники Шлиссельбургской крепости. 1906
59
Рис. 10.17. В. И. Якоби (1833—1902). Привал арестантов. 1861.
Государственная Третьяковская галерея
63
Рис. 10.18. Камера мирового судьи по делам о малолетних
(С.-Петербург, Екатерингофский пр., 4). 1912
70
Рис. 10.19. А. Ф. Кошко, начальник Московской сыскной полиции.
1910
73
Рис. 10.20. Н. В. Орлов (1863—1924). Шинкарка. Попалась. 1900.
Место нахождения неизвестно
74
Рис. 10.21. В Бухарской тюрьме. 1900-е
80
Рис. 10.22. А. О. Орловский (1777—1832). Каторжники под конвоем
[просят милостыню]. 1815. Государственный Русский музей
93
Рис. 10.23. Н. К. Пимоненко (1862—1912). Самосуд над конокра¬
дом. 1900. Место нахождения неизвестно
96
851
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 10.24. Н. П. Богданов-Бельский (1868—1945). Последняя
воля. 1893. Таганрогская картинная галерея
100
Рис. 10.25. М. И. Зощенко (1857—1907). Волостной суд. 1888.
Государственная Третьяковская галерея
104
Рис. 10.26. К. А. Савицкий (1844—1905). Беглый. 1883. Государст¬
венная Третьяковская галерея
108
Рис. 10.27. В. Г. Филиппов, начальник С.-Петербургской сыскной
полиции. 1913
114
Рис. 10.28. Чиновник особых поручений (филер) Московского ох¬
ранного отделения, посылаемый на задание (на воровские торже¬
ства). 1903
121
Рис. 10.29. М. А. Петров (1841—1917). Пансионерки. 1872.
Государственная Третьяковская галерея
125
Рис. 10.30. Медицинская экспертиза: вскрытие тела Г. А. Гапона,
повешенного эсерами в Озерках. 1906
128
Рис. 10.31. Тело убитого Г. Е. Распутина. 1916
135
Рис. 10.32. Софья Ивановна (Шейндля-Сура Лейбовна) Блюв-
штейн (в девичестве Соломониак), известная под прозвищем
«Сонька Золотая Ручка» (1846—1902) — легендарная популярная
российская преступница-авантюристка. 1860-е
136
Рис. 10.33. Заковка «Соньки Золотой Ручки» в кандалы. После 1888
137
Рис. 10.34. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
населения в России в XIX—начале XXI в.
139
Рис. 10.35. Ссыльнокаторжная. 1890-е
142
Рис. 11.1. А. П. Брюллов (1798—1877). Сенная площадь. 1822.
Воспр. по: Собрание видов С.-Петербурга и его окрестностей,
1821—1826. СПб., 1826
172
Рис. 11.2. Верхние торговые ряды, Москва. 1900-е
173
Рис. 11.3. Торговые ряды у Покровской площади, С.-Петербург. 1912
174
Рис. 11.4. Торговые ряды на Сухаревской площади, Москва. 1900-е
174
Рйс. 11.5. Уличные торговки. 1900-е
176
Рис. 11.6. Динамика цен и зарплаты в С.-Петербурге в 1703—
1913 гг. (1913 г. = 100). Составлено поданным табл. 11.4
183
Рис. 11.7. Продажа баварского пива, яиц и булок на Пасхальной
неделе в Екатерингофском парке. 1895
183
Рис. 11.8. Покупательная сила зарплаты плотника в С.-Петербурге
в 1703—1913 гг. (продовольственные товары, 1913 г. = 100).
Составлено по данным табл. 11.6
187
852
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 11.9. Бани братьев Егоровых (С.-Петербург, М. Сампсониев-
ский пр., 5—7). Банщики моют посетителей в мыльне. 1900-е
190
Рис. 11.10. Средний рудник наСысертском заводе, Златоуст. 1890-е
195
Рис. 11.11. Золотопромышленная фабрика на Иремельском приис¬
ке, Оренбургская губерния. 1890-е
198
Рис. 11.12. Жильцы нового дома, построенного Товариществом по
борьбе с жилищной нуждой (С.-Петербург, Гаванская ул., 71,
корп. 1). 1906
202
Рис. 11.13. Семья члена Товарищества по борьбе с жилищной ну¬
ждой в комнате нового дома (С.-Петербург, Гаванская ул., 71,
корп. 1). 1906
203
Рис. 11.14. В читальном зале Николаевской академии
Генерального штаба, С.-Петербург. 1902
235
Рис. 11.15. К. А. Трутовский (1826—1893). Сельская учительница.
1883. Государственный музей изобразительных искусств
Республики Татарстан, Казань
259
Рис. 11.16. Н. В. Орлов (1863—1924). По приходу (Христа ради).
1901. Место нахождения неизвестно
260
Рис. 11.17. А. А. Попов (1832—1896). Харчевня. 1859. Государст¬
венная Третьяковская галерея
271
Рис. 11.18. К. И. Кольман (1786—1846). Обед грузчиков на барке.
1830-е. Государственный Русский музей
276
Рис. 11.19. А. И. Морозов (1835—1904). Отдых на сенокосе. 1861.
Государственная Третьяковская галерея
285
Рис. 11.20. А. А. Попов (1832—1896). Демьянова уха. 1856.
Г осударственный Русский музей
287
Рис. 11.21. Р. К. Жуковский (1814—1886). Чай да сахар.
В трактире. 1842—1843. Государственный Русский музей
290
Рис. 11.22. Обед в дороге, Уфимская губерния. 1913
299
Рис. 11.23. П. А. Федотов (1815—1852). Завтрак аристократа. 1850.
Государственная Третьяковская галерея
302
Рис. 11.24. П. А. Федотов (1815—1852). Крестины. 1847.
Г осударственный Русский музей
303
Рис. 11.25. Л. М. Жемчужников (1828—1912). За штатом
(Старый чиновник). 1862. Г осударственный Русский музей
304
Рис. 11.26. Воспитанницы Мариинской женской гимназии
за завтраком. Царское Село. Начало 1900-х
306
Рис. 11.27. Урок танцев в Смольном институте. 1913
308
853
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 11.28. Приют им. великой княжны Марии Николаевны.
Воспитанники приюта за уборкой, С.-Петербург. 1902
310
Рис. 11.29. Приют им. великой княжны Марии Николаевны. Вос¬
питанники приюта на занятиях, С.-Петербург. 1902
311
Рис. 11.30. В ресторане, С.-Петербург. 1900-е
312
Рис. 11.31. Учащиеся гимназии им. Петра Великого, С.-Петербург.
1900
317
Рис. 11.32. Столовая студентов С.-Петербургского университета.
1906
318
Рис. 11.33. Училище для глухонемых детей под покровительством
вдовствующей императрицы Марии Федоровны, С.-Петербург.
1890-е
319
Рис. 11.34. М.-Ф. Дамам-Демартре (1763—1827). Русские бани.
1813. Государственный Русский музей
324
Рис. 11.35. Н. В. Орлов (1863—1924). Умирающая. 1893.
Ивановский областной художественный музей
327
Рис. 11.36. Кабинки для переодевания, курорт под
С.-Петербургом. 1913
328
Рис. 11.37. На даче. 1910-е
328
Рис. 11.38. И.-Я. Меттенлейтер (1750—1825). Сцена в кабаке.
1791. Государственный Русский музей
330
Рис. 11.39. П. Вдовичев (годы жизни неизвестны). Крестьянская
вечеринка. 1820—1830-е. Государственный Русский музей
331
Рис. 11.40. Г. Д. Алексеев (1881—1951). Игра в горелки. 1904.
Место нахождения неизвестно
331
Рис. 11.41. Н. А. Кошелев (1840—1918). Офеня-коробейник. 1865.
Государственная Третьяковская галерея
332
Рис. 11.42. Рост новобранцев 1701—1915 годов рождения в воз¬
расте старше 17 лет и дефинитивный рост мужчин референтной
группы в Европейской России. Составлено по данным табл. 11.63
333
Рис. 11.43. Е. Калистов (1839—?). Ревизия питомцев воспитатель-
ногр дома. 1866. Государственная Третьяковская галерея
334
Рис. 11.44. Елочный базар у Екатерининского сквера,
С.-Петербург. 1913
338
Рис. 11.45. Петровский парк С.-Петербурга. Аттракцион
«Гигантские шаги». 1913
339
Рис. 11.46. Марсово поле. Скейтинг-ринг, С.-Петербург. 1911
340
Рис. 12.1. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Молебен во время засухи.
1880. Омский музей изобразительных искусств
376
854
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 12.2. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Молебен во время засухи.
1880. Фрагмент. Омский музей изобразительных искусств
377
Рис. 12.3. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Самосожжение. 1884.
Государственная Третьяковская галерея
379
Рис. 12.4. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Опахивание. 1876. Госу¬
дарственный Русский музей
382
Рис. 12.5. И. И. Соколов (1823—1918). Утро после свадьбы
в Малороссии. 1857. Государственная Третьяковская галерея
383
Рис. 12.6. А. П. Рябушкин (1861—1904). Выход царевны Марии
Ильинишны из церкви. 1893. Государственная Третьяковская
галерея
384
Рис. 12.7. Н. В. Орлов (1863—1924). Освящение монополии
(Молебен в казенке). 1896. Место нахождения неизвестно
385
Рис. 12.8. Московские купцы. 1900-е
401
Рис. 12.9. 3. П. Невзорова, А. А. Якубова, Е. И. Агринская — чле¬
ны С.-Петербургского союза борьбы за освобождение
рабочего класса. 1895
403
Рис. 12.10. Анархистки М. А. Спиридонова, М. М. Школьник,
А. А. Биценко, А. А. Измайлович, Р. М. Фиалка, Л. П. Езерская
(слева направо) на каторге в Акатуевской тюрьме Нерчинской
каторги. 1900-е
404
Рис. 12.11. П. Е. Коверзнев (?—1877). Пасха в деревне. Крестный
ход вокруг церкви во время заутрени. Гравюра А. И. Зубчанинова
по рисунку П. Е. Коверзнева. 1870-е
407
Рис. 12.12. П. Е. Коверзнев (?—1877). Святки в деревне. Коляда.
Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку П. Е. Коверзнева. 1880-е
411
Рис. 12.13. Иоанн Кронштадтский среди прихожан, Кронштадт. 1900-е
412
Рис. 12.14. Праздник в русской деревне. 1900-е
417
Рис. 12.15. И. Е. Репин (1844—1930). Вечорници. 1881.
Государственная Третьяковская галерея
422
Рис. 12.16. А. Браувер (1605/06—1638). Праздник забоя скота.
1640. Государственный музей, картинная галерея, Шверин
435
Рис. 12.17. П. Брейгель Старший (1525—1569). Крестьянский
танец. 1568. Музей истории искусств, Вена
436
Рис. 12.18. Д. Тенирс Младший (1610—1690). Большой сельский
праздник с танцующими парами. 1651. Дрезденская галерея
437
Рис. 12.19. Д.-А. Аткинсон (1775—1830). Кулачный бой.
Раскрашенная гравюра. 1803. Государственный Эрмитаж
438
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 12.20. Г. Г. Мясоедов (1834—1911). Страдная пора. Косцы.
1887. Государственный Русский музей
449
Рис. 12.21. А. Е. Архипов (1862—1930). Прачки. 1898. Государст¬
венный Русский музей
450
Рис. 12.22. Дед-зазывала («карусельный дед» дядя Серый).
Гравюра с рисунка С. Александровского. 1870
454
Рис. 12.23. Н. А. Касаткин (1859—1930). Шахтерка. 1894.
Государственная Третьяковская галерея
462
Рис. 12.24. Рабочий-аристократ — член С.-Петербургского
профсоюза рабочих. 1913
463
Рис. 12.25. Ж. Бретон (1827—1906). Винная лавка, Святой поне¬
дельник. Жены пытаются выгнать своих мужей на работу. Фран¬
ция. 1858. Сент-Луисский художественный музей (Saint Louis Art
Museum), Сент-Луис, США
465
Рис. 12.26. П. Брейгель Старший (1525—1569). Страна лентяев.
1567. Старая пинакотека, Мюнхен
467
Рис. 12.27. А. П. Рябушкин (1861—1904). Деревенский учитель.
1881. Место нахождения неизвестно
480
Рис. 12.28. Сельская школа на открытом воздухе. 1890-е
481
Рис. 12.29. А. И. Морозов (1835—1904). Сельская бесплатная
школа. 1865. Государственная Третьяковская галерея
490
Рис. 12.30. Татарская школа в Крыму. 1900-е
493
Рис. 12.31. Урок труда в сельской школе. 1900-е
494
Рис. 12.32. Школа для печатников, С.-Петербург. 1900
495
Рис. 12.33. Урок математики в Смольном институте. 1914
500
Рис. 12.34. Исцеление из святого источника в Саровской мужской
пустыне, Темниковский уезд, Тамбовская губерния. 1903
506
Рис. 12.35. Паломники в Саровскую мужскую пустынь,
Темниковский уезд, Тамбовская губерния. 1903
514
Рис. 12.36. Народ наблюдает за перенесением больной
в Успенский собор для приложения к мощам Серафима
Саровского, Саровская мужская пустынь, Темниковский уезд,
Тамбовская губерния. 1903
520
Рис. 12.37. Х.-Г. Гейслер (1770—1844). Качели. 1805.
Государственный Эрмитаж
524
Рис. 12.38. Е. М. Карнеев (1780—1839). Игра «Скакать на доске».
1812. Цветная гравюра И. Кокере с рисунка Е. Карнеева
525
Рис. 12.39. А. О. Орловский (1777—1832). Прыжки над доской.
1827. Г осударственный Русский музей
525
856
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 12.40. Детские игры, С.-Петербургская губерния. 1910-е
526
Рис. 12.41. Х.-Г. Гейслер (1770—1844). Заключительный момент
игры в городки. 1805. Цветная гравюра. Государственный Эрми¬
таж
526
Рис. 12.42. К. Вагнер (годы жизни неизвестны). Игра в бабки.
1812. Государственный Русский музей
527
Рис. 12.43. В. Е. Маковский (1846—1920). Игра в бабки. 1870.
Государственная Третьяковская галерея
527
Рис. 12.44. Дауншифтеры. 2010-е. URL :
https://yandex.ru/images/search?pin=l&img_url=http%3A%2F%2Fml
.vgorode.ru%2F2856862%2F79307296%2F7.jpeg& =1444395447644
&р= 1 &text=%D0%B4%D0%B0%D 1 %83%D0%BD%D 1 %88%D0%
B8%D 1 %84%D 1 %82%D0%B5%D 1 %80%D 1 %8B&noreask= 1 &pos=
53&rpt=simage&lr=2 (дата обращения: 08.10.2015)
538
Рис. 12.45. И. Е. Репин (1844—1930). Пахарь. 1887. Государствен¬
ная Третьяковская галерея
539
Рис. 12.46. А. ван Остаде (1610—1685). Семья. 1647.
Государственный Эрмитаж
540
Рис. 12.47. В русской избе. Конец XIX в.
541
Рис. 12.48. В. Г. Перов (1833—1882). Сцена у железной дороги. 1868.
Государственная Третьяковская галерея
541
Рис. 12.49. «Это не мы — это учитель». 2011. URL:
http://livepark.pro/ blog/derzhavin/6235.html (дата обращения:
20.09.2015)
542
Рис. 13.1. Сожжение царских эмблем, Петроград. 1917
609
Рис. 13.2. И. А. Владимиров (1870—1947). Сожжение архивов
и царских портретов 5 марта 1917 г. 1917. Государственный цен¬
тральный музей современной истории России (до 1998 г. Г осудар¬
ственный музей революции СССР), Москва
610
Рис. 13.3. И. А. Владимиров (1870—1947). Взятие Зимнего. 1917.
Г осударственный центральный музей современной истории
России (до 1998 г. Г осударственный музей революции СССР),
Москва
611
Рис. 13.4. Вид сожженного замка барона Розена постройки 1263 г.,
Лифляндская губерния. 1905
612
Рис. 13.5. Б. Бринберг (1598—после 1657). Вид Тиволи
(Нидерланды). 1620—1629. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
614
Рис. 13.6. Ф. А. Васильев (1850—1873). Деревенская улица. 1868.
Государственная Третьяковская галерея
615
857
Список иллюстраций к тому 3
Продолжение табл.
Номер, название
Страница
Рис. 13.7. А. Карраччи (1557—1602). Взаимная любовь. 1589. Бал¬
тиморский художественный музей, Балтимор (США, Мэриленд)
620
Рис. 13.8. А. Бронзино (1503—1572). Аллегория с Венерой
и Купидоном. 1545. Государственный Эрмитаж
621
Рис. 13.9. А. П. Рябушкин (1861—1904). Семья купца XVII в. 1896.
Государственный Русский музей
622
Рис. 13.10. Ф. Мельци (1493—1570). Женский портрет. Около
1520. Государственный Эрмитаж
626
Рис. 13.11. А. П. Рябушкин (1861—1904). Московская девушка
XVII в. 1903. Государственный Русский музей
627
Рис. 13.12. Г. Бок Старший (1550—1623). Бани в Лойке, Швейца¬
рия. 1597. Базельский художественный музей, Швейцария
631
Рис. 13.13. М. И. Козловский (1753—1802). Российская баня. 1778.
Г осударственный Русский музей
632
Рис. 13.14. А. Триммер (1570—1619). Карнавал вдень св. Георга
в деревне близ Антверпена. 1607. Королевский музей изящных
искусств Антверпена, Бельгия
634
Рис. 13.15. А. О. Орловский (1777—1832). Русская сельская пля¬
ска. 1826. Г осударственный Русский музей
634
Рис. 13.16. Л. Лермитт( 1844—1925). Расчет с косцами. 1882. Му¬
зей Орсе, Париж
637
Рис. 13.17. Итальянские дети в Чикаго. 1900-е. Фото Л. У. Хайна
638
Рис. 13.18. Г. Доре (1832—1883). Из серии гравюр «Лондон». 1872
643
Рис. 13.19. Многоквартирный дом, Вашингтон. 1900-е. Фото
Л. У. Хайна
644
Рис. 13.20. Ж. Калло (1592—1635). Дерево повешенных. Из серии
«Бедствия войны». 1633. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
645
Рис. 13.21. Казни у Спасских ворот. XVII в. Воспр. по изд.:
ОлеарийА. Описание путешествия в Московию и через Московию
в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 289
646
Рис.)13.22. Линчевание афроамериканца Джесса Вашингтона,
Уако (Техас). 1916
647
Рис. 13.23. У. Хомер (1836—1910). Привяжи кнут (игра). 1872.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
648
Рис. 13.24. И. И. Соколов (1823—1918). Сбор вишни в помещичь¬
ем саду на Украине. 1858. Государственная Третьяковская галерея
649
Рис. 13.25. В. Степанов (?—?). Да здравствует феодализм — наше
светлое будущее! Воспр. по: Известия. 1991.20 марта (№ 67)
650
858
Список иллюстраций к тому 3
Окончание табл.
Номер, название
Страница
Рис. 13.26. Демонстрация учащихся у здания городской ратуши,
Царское Село, март 1917 (можно прочесть некоторые лозунги,
в том числе «Учащиеся на полевые работы», «Свободная средняя
школа», «Автономная школа на благо народа»). 1917
677
Рис. 13.27. Очередь за хлебом в Москве. 1917
678
Рис. 13.28. Революционные матросы Петрограда. 1917
678
Рис. 13.29. Митинг в Петрограде. 1917
679
Рис. 13.30. Семья фермера из Кентукки. 1910-е
682
Рис. 13.31. Американские работницы, штат Джорджия. 1909. Фото
Л. У. Хайна
682
Рис. 13.32. Большая американская семья рабочих. 1910-е. Фото
Л. У. Хайна
683
Рис. 13.33. 12-летняя рабочая на текстильной фабрике. 1910-е.
Фото Л. У. Хайна
683
Рис. 13.34. Юные шахтеры. 1910-е. Фото Л. У. Хайна
684
Рис. 13.35. Мать с ребенком, Нью-Йорк. 1910-е
684
Рис. 13.36. Юные рабочие. 1900-е. Фото Л. У. Хайна
685
Рис. 13.37. Л. Жонас (1880—1947). Во время забастовки. Франция.
1910-е. Год написания и место нахождения неизвестны
685
Рис. 13.38. Улицы Америки, Нью-Йорк. 1900-е
686
Рис. 13.39. Мобилизованные в сопровождении родственников на¬
правляются в казармы, С.-Петербург. 1 августа 1914 г.
687
Рис. 13.40. Колонна женщин-демонстранток проходит по Невско¬
му проспекту с лозунгами, требующими материальной помощи
семьям солдат: «Прибавка пайка семьям солдат», «Кормите детей
засчитников (так! —Б. М) Родины». 23 февраля (8 марта) 1917 г.
687
Рис. 13.41. Группа участников демонстрации — членов Союза
правительственных учреждений Харькова с лозунгами: «Всеобще¬
го демократического мира», «Вся земля трудовому народу», «Кон¬
троль над производством». 1917
688
Рис. 13.42. Делегаты фронта передают кресты, медали и деньги на
нужды Петросовета и в пользу революции, Петроград. 1917
689
Рис. 13.43. Женский батальон смерти (в 1-м ряду крайняя справа
М. Л. Бочкарева (1889—1920)), Петроград. 1917
690
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР — Академия наук СССР.
БдЧ — Библиотека для чтения.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
ВВП — валовый внутренний продукт.
BE — Вестник Европы.
ВИ — Вопросы истории.
ВИД—Вспомогательные исторические дисциплины.
ВМУ — Вестник Московского университета.
ВНП — валовой национальный продукт.
ВСПбУ — Вестник Санкт-Петербургского университета.
ВФ — Вопросы философии.
ВЭ — Вопросы экономики.
ВЭО — Вольное экономическое общество.
Доклад Комиссии 1873 г. — Доклад высочайше учрежденной Комиссии для исследо¬
вания нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности
в России. СПб., 1873.
ЖМП — Журнал Московской Патриархии.
ЖС — Живая старина.
ИВ — Исторический вестник.
ИЗ — Исторические записки.
ИСССР — История СССР.
ИЧР — индекс человеческого развития.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
Материалы для географии... — Материалы для географии и статистики, собранные
офицерами Генерального штаба.
Материалы Комиссии 1901 г. — Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г.
Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1901 г. благосостояния
сельского населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими ме¬
стностями Европейской России. СПб., 1903. Ч. 1—3.
МВД— Министерство внутренних дел.
МГИ — Министерство государственных имуществ.
МНП — Министерство народного просвещения.
МУ — Московский университет.
МЮ — Министерство юстиции.
Общий свод данных переписи 1897 г. — Первая всеобщая перепись населения Рос¬
сийской империи 1897 г. : Общий свод по империи результатов разработки дан¬
ных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб.,
1905. Т. 1,2.
03 — Отечественные записки.
ОН — Отечественная история.
Особое совещание. Свод трудов — Высочайше учрежденное Особое совещание
о нуждах сельскохозяйственной промышленности : Свод трудов местных комите¬
тов по 49 губерниям Европейской России.
860
Список сокращений
Особое совещание. Труды местных комитетов — Высочайше учрежденное Особое
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности : Труды местных
комитетов по 49 губерниям Европейской России.
Первая перепись 1897 г. — Первая всеобщая перепись населения Российской импе¬
рии 1897 г. : в 89 т. СПб., 1899—1904.
ПСЗ-1 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1 -е: в 45 т. СПб., 1830.
ПСЗ-Н — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е : в 55 т. СПб.,
1830—1884.
ПСЗ-Ш — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е : в 33 т.
СПб., 1885—1917.
ПСС — [Ленин В. И.] Полное собрание сочинений : в 55 т. 5-е изд. М., 1964—1981.
РАН — Российская академия наук.
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
РГИА — Российский государственный исторический архив.
РГО — Русское географическое общество.
РИ — Российская история.
РИО — Русское историческое общество.
РПЦ — Русская православная церковь.
PC — Русская старина.
РЭМ — Российский этнографический музей.
Сборник материалов для изучения общины — Сборник материалов для изучения сельской
поземельной общины. Издание Вольного экономического и Географического обществ /
под ред. Ф. Л. Барыкова, А. В. Половцова, П. А. Соколовского. СПб., 1880. Т. 1.
Сборник сведений по сельскому хозяйству — Сборник статистико-экономических
сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. СПб.; Пг.,
1907—1916. Год 1—10.
СЗРИ. 1832 — Свод законов Российской империи. Изд. 1832 г. СПб., 1832.
СЗРИ. 1842 — Свод законов Российской империи. Изд. 1842 г. СПб., 1842
СЗРИ. 1857 — Свод законов Российской империи. Изд. 1857 г. : в 15 т. СПб., 1857.
СЗРИ. 1876 — Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. СПб., 1876.
СЗРИ. 1906 — Свод законов Российской империи. Изд. 1906 г. СПб., 1906.
СЗРИ. 1912 — Свод законов Российской империи. Изд. 1912 г. СПб., 1912.
СЗРИ. 1913 — Свод законов Российской империи. Изд. 1913 г. СПб., 1913.
СИЭ — Советская историческая энциклопедия.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет.
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии наук.
СЭ — Советская этнография.
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
ЦСК — Центральная статистическая комиссия.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.
ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения.
ЭО — Этнографическое обозрение.
ЮВ — Юридический вестник.
AI — Ab lmperio.
дес. — десятина,
на д. н. — на душу населения.
ИСТОЧНИКИ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Архивные источники
Российский государственный архив древних актов (РГАДА):
Ф. 199 (Г. Ф. Миллер, «портфели»). Оп. 2. Д. 385. Т. 1. Ведомость Мануфактур-
коллегии о фабриках в 1778 г.
Ф. 248 (Сенат). On. 113. Д. 1651. Ч. 1, 2.
Российский государственный исторический архив (РГИА):
Ф. 13 (Департамент министра коммерции). Оп. 2. Д. 782. Цены в Петербурге
в 1732—1803 гг. по сведениям приходо-расходных книг Первого кадетского корпуса.
Ф. 18 (Департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов).
On. 1. Д. 5, 15, 3823 (Журналы Московского отделения мануфактурного совета за
1844, 1851, 1863 гг.).
Ф. 23 (Министерство торговли и промышленности). Оп. 7 (отд. 1, стол 3). Д. 801.
Ф. 91 (Вольное экономическое общество). On. 1. Д. 312,463; Оп. 2. Д. 771, 774.
Ф. 468 (Кабинет е. и. в.). Оп. 41. Д. 1 и др. Приходо-расходные книги 1725—
1727 гг.
Ф. 558 (Государственная экспедиция для ревизии государственных отчетов). Оп. 2.
Д. 128.
Ф. 571 (Департамент разных податей и сборов Министерства финансов). On. 1.
Д. 1474.
Ф. 796 (Канцелярия Синода). Исповедные ведомости православного населения
из епархий (в скобках указаны годы). Оп. 18. Д. 275; Оп. 20. Д. 240 (1737—1738);
Оп. 21. Д. 379 (1737—1741); Оп. 22. Д. 445 (1737); Оп. 57. Д. 362 (1776); Оп. 63.
Д. 123 (1780); Оп. 64. Д. 580 (1783); Оп. 76. Д. 449 (1795); Оп. 78. Д. 276 (1796);
Оп. 83. Д. 1005 (1801); Оп. 84. Д. 901, 1005, 1016 (1802); Оп. 88. Д. 495, 692 (1806);
Оп. 89. Д. 699 (1808); Оп. 90. Д. 1092 (1809); Оп. 91. Д. 1015, 1018 (1809, 1810);
Оп. 445. Д. 423—427 (1811); Оп. 94. Д. 808 (1812); Оп. 96. Д. 1001 (1814); Оп. 97.
Д. 1303 (1815); Оп. 98. Д. 353 (1816); Оп. 99. Д. 875 (1817); Оп. 100. Д. 1153 (1818);
Оп. 101. Д. 1279 (1819); Оп. 102. Д. 1467 (1820); Оп. 103. Д. 1236 (1821); Оп. 445.
Д. 431, 432 (1822); Оп. 106. Д. 1472 (1824, 1825); On. 111. Д. 975 (1829); Оп. 112.
Д. 1070 (1830); Оп. 113. Д. 1973 (1831); Оп. 114. Д. 1234 (1832); Оп. 115. Д. 2161
(1833); Оп. 116. Д. 1083 (1834); Оп. 117. Д. 1828 (1835); Оп. 118. Д. 1760 (1836);
Оп. 119. Д. 1577 (1837); Оп. 120. Д. 1722 (1838); Оп. 121. Д. 1879 (1839); Оп. 122.
Д. 1700 (1840); Оп. 123. Д. 1902 (1841); Оп. 124. Д. 1873 (1842); Оп. 445. Д. 571, 573
(1843,1844, 1845); Оп. 128. Д. 2182 (1846); Оп. 129. Д. 1821 (1847); Оп. 130. Д. 1631
(1848); Оп. 131. Д. 2012 (1849); Оп. 132. Д. 2360 (1850); Оп. 133. Д. 2115 (1851);
Оп. 445. Д. 589 (1852); Оп. 135. Д. 2321 (1853); Оп. 136. Д. 1659 (1854); Оп. 137.
Д. 2408 (1855); Оп. 138. Д. 2464 (1856); Оп. 139. Д. 2479 (1857); Оп. 140. Д. 601
(1858); Оп. 141. Д. 2629 (1859); Оп. 142. Д. 2372 (1860); Оп. 143. Д. 2556 (1861);
Оп. 144. Д. 2065 (1862); Оп. 145. Д. 697 (1863); Оп. 146. Д. 225 (1864); Оп. 147. Д. 1350
(1865); Оп. 148. Д. 1598 (1866); Оп. 149. Д. 612 (1867); Оп. 150. Д. 1799 (1868); Оп. 151.
Д. 285 (1869, 1870); Оп. 176. Д. 3790 (1895); Оп. 181. Д. 3451 (1900); Оп. 184. Д. 5736
(1903); Оп. 440. Д. 147, 1244, 1245, 1248, 1249 (1905—1914); Оп. 442. Д. 2394, 2570,
862
Источники и справочная литература
2578, 2591, 2603, 2604, 2622 (1910—1914). См. также Ф. 797 (Канцелярия обер-
прокурора Синода). Оп. 16. Д. 37447 (1835—1846).
Ф. 796 (Канцелярия Синода). Метрические ведомости православного населе¬
ния из епархий (в скобках указаны годы). Оп. 7. Д. 21 (1726); Оп. 26. Д. 16 (1741—
1748); Оп. 54. Д. 396 (1762—1773); Оп. 58. Д. 4078 (1780); Оп. 63. Д. 69 (1781);
Оп. 64. Д. 580 (1783); Оп. 65. Д. 160 (1783); Оп. 43. Д. 359 (1793); Оп. 78. Д. 276
(1796);Оп. 91. Д. 918 (1809); Оп. 445. Д. 423-^27 (1811, 1812); Оп. 95. Д. 1189 (1813,
1814); Оп. 96. Д. 1007 (1814); Оп. 97. Д. 1294, 1303 (1815); Оп. 98. Д. 1275 (1816);
Оп. 99. Д. 875, 1161 (1817); Оп. 101. Д. 1149, 1279, 1274(1818, 1819); Оп. 102. Д. 1456
(1820); Оп. 103. Д. 1235 (1821); Оп. 104. Д. 1367 (1822); Оп. 105. Д. 1298 (1823);
Оп. 106. Д. 1472—1476 (1824, 1825); Оп. 107. Д. 1075 (1826); Оп. 108. Д. 2008, 2013,
2036 (1826); On. 111. Д. 975 (1829); Оп. 114. Д. 1228 (1832); Оп. 115. Д. 2161 (1833);
Оп. 117. Д. 1828 (1835); Оп. 445. Д. 437 (1835); Оп. 118. Д. 1760 (1836); Оп. 119.
Д. 1577 (1837); Оп. 120. Д. 1722 (1838); Оп. 121. Д. 1879 (1839); Оп. 122. Д. 1700
(1840); Оп. 123. Д. 1902 (1841); Оп. 124. Д. 1873 (1842); Оп. 445. Д. 557, 559, 561, 563,
565,567, 569 (1836—1843); Оп. 126. Д. 236 (1844); Оп. 127. Д. 325 (1845); Оп. 128.
Д. 2192 (1846); Оп. 129. Д. 1821 (1847); Оп. 130. Д. 1631 (1848); Оп. 131. Д. 2012
(1849); Оп. 132. Д. 248, 875 (1850); Оп. 133. Д. 584, 587, 589 (1851, 1852); Оп. 135.
Д. 2318 (1853); Оп. 136. Д. 1658 (1854); Оп. 137. Д. 285 (1855); Оп. 138. Д. 2476
(1856); Оп. 139. Д. 2478 (1857); Оп. 140. Д. 601 (1858); Оп. 141. Д. 2648 (1859);
Оп. 142. Д. 2369 (1860); Оп. 143. Д. 2555а, 25556 (1861, 1862); Оп. 145. Д. 915 (1863);
Оп. 146. Д. 307 (1864); Оп. 147. Д. 2109 (1865); Оп. 148. Д. 1597 (1866); Оп. 149.
Д. 1621 (1867); Оп. 150. Д. 614 (1868); Оп. 151. Д. 284 (1869); Оп. 151. Д. 284, 614
(1870). См. также: Ф. 1374 (Канцелярия генерал-прокурора). Оп. 4. Д. 10 (1800);
Ф. 1341 (Первый департамент Сената). Оп. 37. Д. 2631 (1835); Оп. 38. Д. 2340 (1836);
Оп. 50. Д. 603 (1842); Ф. 1290 (Центральный статистический комитет). Оп. 4. Д. 555
(1834); Д. 556 (1842), 561—572 (1859—1866); Описание документов и дел, храня¬
щихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода : в 50 т. СПб., 1868—1914.
Т. 6. СПб., 1883. Приложение. Стб. II—XVII (1738—1745); Storch Я Statistische Uber-
sicht der Statthalterschaften des Russischen Reiches nach ihren merkwlirdigsten Kulturver-
haltnissen : in Tabellen. Riga, 1795. S. 118—122 (1782).
Ф. 797 (Канцелярия обер-прокурора Синода). On. 37. Д. 26; On. 97. Д. 573. О сооб¬
ражениях к сокращению числа праздничных дней.
Ф. 799 (Хозяйственное управление Св. Синода). Оп. 15. Д. 1203. Данные о зем¬
лепользовании принтов за 1909 г.
Ф. 804 (Присутствие по делам православного духовенства). On. 1. Д. 49, 60, 96.
Ф. 845 (А. С. Воронов). On. 1. Д. 24. Записка старшего чиновника особых пору¬
чений Главного управления Восточной Сибири Буссе для Комиссии для составления
положения о личной военной повинности, 1871 г.
Ф. 911 (В. И. Вешняков). On. 1. Д. 6, 29, 89.
Ф. 940 (А. П. Заблоцкий-Десятовский). On. 1. Д. 296.
Ф. 1086 (Томиловы и Шварцы). On. 1. Д. 1140. Приходо-расходные книги 1800—
1860-е гг.
Ф. 1088 (Шереметевы). Оп. 21. Ч. 5. Д. 10163.
Ф. 1262 (Рекрутский комитет при II Отделении собственной его величества кан¬
целярии). On. 1. Д. 183.
Ф. 1263 (Комитет министров). On. 1. Д. 498. Отчеты министерств. 1824—1829 гг.
863
Источники и справочная литература
Ф. 1263. On. 1. Д. 690. Отчеты министерств. 1829—1831 гг.
Ф. 1275 (Совет министров). On. 1. Д. 102, 103. Дело комиссии, учрежденной для
рассмотрения отчета МВД за 1860 г. Ч. 1, 2.
Ф. 1276 (Совет министров, 1905—1917 гг.). Оп. 2. Д. 45.
Ф. 1283 (Канцелярия министра внутренних дел по делам дворянства). On. 1. 1-е де¬
лопроизводство. Д. 222.
Ф. 1284 (Департамент общих дел МВД). Оп. 20. Д. 480.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 167. О составлении отчета по МВД за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 168, 169. Отчет управляющего МВД за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 170. Отчет Канцелярии министра внутренних дел за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 171. Отчет управляющего МВД (по Департаменту полиции ис¬
полнительной) за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 172. Отчет статистического отделения за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 173. Отчет Департамента духовных дел иностранных испове¬
даний за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 174. Отчет Медицинского департамента и Медицинского сове¬
та за 1840 г.
Ф. 1284. Оп. 26. Д. 175. Материалы к отчету, краткие записки и доклады о дея¬
тельности МВД.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 228. Отчет Статистического отделения Совета МВД за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 229. Отчет Департамента полиции исполнительной за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 230. Отчет Медицинского совета.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 231. Отчет Департамента духовных дел иностранных испове¬
даний за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 232. Отчет Строительной комиссии за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 233. Отчет Канцелярии Комитета для уравнения земских по¬
винностей за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 234. Отчет Департамента казенных врачебных заготовлений за
1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 235. Отчет Медицинского департамента за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 32. Д. 236. Отчет Департамента общих дел за 1846 г.
Ф. 1284. Оп. 36. Д. 177. Отчет МВД за 1851 г.
Ф. 1284. Оп. 36. Д. 178. Отчет по Департаменту полиции исполнительной за 1850 г.
Ф. 1284. Оп. 36. Д. 179. Приложение к Отчету министра внутренних дел за 1850 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 11 — 1862 г. Отчет по МВД за 1861, 1862 й 1863 гг.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 11а— 1857 г. Отчет министра внутренних дел за 1856 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 116 — 1857 г. Приложение к Отчету министра внутренних дел
за 1856 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 21а— 1856 г. Отчет министра внутренних дел за 1855 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 216 — 1856 г. Приложения к Отчету министра внутренних дел
за 1855 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 276 — 1858 г. Приложение к Всеподданнейшему отчету ми¬
нистра внутренних дел за 1857 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 37а— 1860 г. Отчет МВД за 1859 г.
Ф. 1284. Оп. 66. Д. 37г— 1860 г. Приложения к Отчету МВД за 1859 г.
Ф. 1284. Оп. 67. Д. 322 — 1865 г. Материалы по составлению отчета МВД за 1864 г.
Ф. 1284. Оп. 208. Д. 480-а.
864
Источники и справочная литература
Ф. 1284. Оп. 234. Д. 149, 482, 623.
Ф. 1285 (Департамент государственного хозяйства и публичных зданий МВД).
Оп. 8(1827 г.). Д. 2808.
Ф. 1287 (Хозяйственный департамент МВД). Оп. 12 (1821—1844 гг.). Д. 42;
Оп. 37 (1834—1862 гг.). Д. 6, 737; Оп. 38 (1861—1904 гг.). Д. 2572, 2859, 3380, 3439.
Ф. 1288 (Главное управление по делам местного хозяйства МВД). Оп. 10 (1910 г.).
Д. 69; Оп. 11 (1911 г.). Д. 53.
Ф. 1290 (Центральный статистический комитет). Оп. 5. Д. 178, 179, 803 (1910 г.),
804(1911 г.), 846(1912, 1913 гг.).
Ф. 1292 (Управление по делам о воинской повинности). Оп. 2. Д. 798—869,
1055—1135, 1261—1330; Оп. 3. Д. 292—359, 415—484, 577—646, 670—739; Оп. 5.
Д. 378—385; Оп. 7. Д. 72—76, 81—85, 129—137, 245, 246, 248—251, 516—525, 575—
585, 594—601.
Ф. 1310 (Комиссия о каменном строении в Петербурге и Москве). On. 1. Д. 63.
Приходо-расходные тетради Комиссии о каменном в Москве и С.-Петербурге строе¬
нии за 1757—1800 гг.
Ф. 1329 (Именные указы и высочайшие повеления Сенату). Оп. 4. Д. 115.
Ф. 1341 (Первый департамент Сената). Оп. 11 (1810 г.). Д. 1164.
Ф. 1375 (Ревизия сенаторов Д. П. Трощинского и П. П. Щербатова Московской,
Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской и Тульской губерний). On. 1.
Д. 1-64(1799—1800 гг.).
Ф. 1400 (Документы из уничтоженных дел Сената и Министерства юстиции). On. 1
(1757—1836 гг.). Д. 171.
Ф. 1405 (Министерство юстиции). Оп. 26 (1828 г.). Д. 264, 336; Оп. 543 (1901—
1906 гг.). Д. 387. Записка министра земледелия и государственных имуществ Н. В. Му¬
равьева по вопросу о влиянии на производительность земледельческого труда в Рос¬
сии чрезвычайного числа нерабочих дней. Справка о работе в праздничные дни по
учению церкви.
Ф. 1409 (Собственная его величества канцелярия). Оп. 2 (1828 г.). Д. 5274. Ф. 1409
(Собственная его величества канцелярия). Оп. 14 (1913 г.). Д. 407. Списки наградам
по Департаменту полиции МВД; Оп. 16 (1915 г.). Д. 693 (1898—1915 гг.). Ста¬
тистические сведения о наградах за 1915 г.
Ф. 1589 (IV Отделение Собственной его величества канцелярии). On. 1. Д. 729;
Оп. 2. Д. 144.
Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ):
Ф. Высочайшие повеления, 1805 г. Д. 91. Утверждение расписания табельных
дней (с приложением расписания за 1764, 1802 и 1804 гг.). Л. 105—106, 114.
Ф. 173 (Дела адмирала Мордвинова). On. 1. Д. 140, 142.
Ф. 212 (Государственная Адмиралтейств-коллегия). Оп. 5 (1741 г.). Д. 74; Оп.
1755 г. Д. 27; Оп. 1757 г. Д. 24; Оп. 1758 г. Д. 24.
Ф. 283 (Инспекторский департамент Морского министерства). Оп. 3. Д. 3882,
3930, 3964, 3992, 4017, 4047, 4095.
Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи:
Ф. 2 (Канцелярия главной артиллерии и фортификации). Оп. Крепостное отделение.
Д. 1284; Оп. Дела командные. Д. 785.
865
Источники и справочная литература
Архив Русского географического общества (РГО):
Разр. 2 (Астраханская губерния). On. 1. Д. 17, 61, 75.
Разр. 5 (Витебская губерния). On. 1. Д. 6.
Разр. 6 (Владимирская губерния). On. 1. Д. 43.
Разр. 7 (Вологодская губерния). On. 1. Д. 29, 62.
Разр. 8 (Волынская губерния). On. 1. Д. 8.
Разр. 9 (Воронежская губерния). On. 1. Д. 9, 32, 36, 63.
Разр. 10 (Вятская губерния). On. 1. Д. 26, 29, 40, 44.
Разр. 14 (Казанская губерния). On. 1. Д. 7, 18, 27,40, 55, 56, 71, 73, 83, 87, 101, 104.
Разр. 15 (Калужская губерния). On. 1. Д. 10, 11, 19, 20, 29, 34, 48, 55, 60.
Разр. 16 (Киевская губерния). On. 1. Д. 1, 21, 29, 31.
Разр. 18 (Костромская губерния). On. 1. Д. 14.
Разр. 19 (Курская губерния). On. 1. Д. 8, 12, 14, 20, 21, 29.
Разр. 22 (Московская губерния). On. 1. Д. 3, 7, 16, 19.
Разр. 23 (Нижегородская губерния). On. 1. Д. 57, 71, 74, 78, 83, 88, 97, 103, 131, 150.
Разр. 24 (Новгородская губерния). On. 1. Д. 5, 25, 29, 90.
Разр. 25 (Олонецкая губерния). On. 1. Д. 5, 10, 30.
Разр. 27 (Орловская губерния). On. 1. Д. 2, 5, 6.
Разр. 28 (Пензенская губерния). On. 1. Д. 1, 3.
Разр. 29 (Пермская губерния). On. 1. Д. 12, 23, 29, 32-6, 32-г, 41, 47, 56, 57, 62, 63.
Разр. 30 (Подольская губерния). On. 1. Д. 17, 23, 31.
Разр. 32 (Псковская губерния). On. 1. Д. 1—8, 14, 17.
Разр. 33 (Рязанская губерния). On. 1. Д. 5, 25.
Разр. 34 (Самарская губерния). On. 1. Д. 15, 16, 22.
Разр. 35 (С.-Петербургская губерния). On. 1. Д. 9.
Разр. 36 (Саратовская губерния). On. 1. Д. 24, 48.
Разр. 38 (Смоленская губерния). On. 1. Д. 9.
Разр. 42 (Тульская губерния). On. 1. Д. 48.
Разр. 48 (Россия). On. 1. Д. 90, 150.
Разр. 108 (Статистика). On. 1. Д. 22.
Разр. 112 (Фотоархив). Оп. 1,2.
Разр. 113 (Негативы).
Разр. 116 (Коллекция открыток).
Архив Российского этнографического музея (Архив РЭМ):
Ф. 7 (Этнографическое бюро В. Н. Тенишева). On. 1. Д. 25, 32, 45, 59, 66, 68, 85,
86, 107, 150, 154, 184, 215, 216, 242, 243, 263, 275, 279, 309, 343, 347, 353, 362, 364,
400, 401, 410, 415, 429, 431, 435, 455, 468, 469, 470, 473, 489, 499, 515, 517, 519, 539,
552, 589, 630, 633; Оп. 2. Д. 5, 6, 28, 36, 43, 51, 66, 177, 208, 214, 275, 685.
Быт великорусских крестьян-землепашцев : Описание материалов Этнографиче¬
ского бюро князя В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) / Б. М. Фир¬
сов, И. Г. Киселева (сост.). СПб., 1993.
Архив Российской Академии наук, С.-Петербургское отделение:
Ф. 24 (К. С. Веселовский). On. 1. Д. 2, 3.
Ф. 27 (И. Ф. Герман). On. 1. Д. 128.
Ф. 113 (А. С. Лаппо-Данилевский). On. 1. Д. 158, 159.
866
Источники и справочная литература
Архив С.-Петербургского института истории Российской Академии наук
(СПбИИ РАН):
Ф. 36 (Воронцовы). On. 1. Д. 380, 642, 1156.
Российская национальная библиотека, отдел «Библиотека Вольного эконо¬
мического общества», рукописи:
Андреев Ф. Статистическое описание Ярославской губернии. Ярославль, 1815.
Описание Костромской губернии, Нерехотского уезда 1805 года.
Таблицы по Московской губернии за 1805 год.
Топографическое описание Ярославской губернии в 1802 г.
Хозяйственное описание города Галича и его уезда 1806 года.
Хозяйственное описание о Солигалицком уезде.
Экономическое описание Костромской губернии городов Кологрива и Ветлуги
1805 г.
Законодательные источники
Варадинов Н. Указатель общих постановлений для руководства городских дум
и заменяющих оные мест. СПб., 1854.
Высоч. утвержденные Правила о местных средствах содержания православного
приходского духовенства и о разделе сих средств между членами причта // ПСЗ-И.
Т. 48, ч. 1. С. 366—372. № 52048 от 24.03.1873.
Гимпельсон Я. И. Законы о евреях : Систематический обзор действующих законо¬
положений о евреях. Пг., 1914, 1915. Т. 1, 2.
Гражданское уложение. Кн. 1 : Положения общие. Проект высоч. Учрежденной
Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Вторая редакция.
СПб., 1905.
Григоровский С. Я. О браке и разводе, о детях внебрачных, узаконении и усынов¬
лении и о метрических документах : Сб. гражданских и церковных законов, с допол¬
нениями и разъяснениями на основании циркулярных указов и сепаратных определений
Святейшего Синода, с отдельной статьей о родстве и свойстве и с приложением гра¬
фических таблиц степеней родства. СПб., 1910.
Григоровский С. П. Сборник церковных и гражданских законов о браке и разводах
и судопроизводстве по делам брачным. СПб., 1910.
Гуляев П. Систематическое собрание существующих прав и обязанностей управ¬
ления казенными крестьянами. М., 1825.
Гуревич И. В. Родители и дети. С приложением постановлений действующего за¬
конодательства, определяющих взаимные отношения родителей и детей. СПб., 1896.
Женское право : Свод узаконений и постановлений, относящихся до женского по¬
ла. СПб., 1873.
Законодательные акты Петра I / Н. А. Воскресенский (ред.). М.; Л., 1945. Т. 1.
Канторович Я. А. Женщины в праве. С приложением всех постановлений дейст¬
вительного законодательства, относящихся до лиц женского пола. СПб., 1895.
Максимович Л. Указатель Российских законов, временных учреждений, суда
и расправы. М., 1803—1812.
Мюллер Р. Б., Черепнин Л. В. Судебники XV—XVI вв. М., 1951.
Палибин М. Н. Законы о состояниях (Свод законов. Т. 9. Издания 1899 года), с до¬
867
Источники и справочная литература
полнениями, разъяснениями Правительствующего Сената и Святейшего Синода,
циркулярами Министерства внутренних дел и алфавитным указателем. СПб., 1901.
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного ве¬
роисповедания Российской империи: Царствование государыни императрицы Ека¬
терины Второй : в 3 т. СПб. ; Пг., 1910—1915.
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного ве¬
роисповедания Российской империи. Т. 1 : Царствование государя имп. Николая I,
1825 (дек. 12)—1835 г. Пг., 1915.
Положение 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависи¬
мости. Переизд. с офиц. изд. 1861 года. М., 1916.
Положение о приеме рекрут, препровождении и содержании их в запасных рек¬
рутских депо. СПб., 1808.
Права и обязанности градской и земской полиций и вообще всех жителей Рос¬
сийского государства в отношении к полиции / П. Гуляев (сост.). М., 1827.
Правиков Ф. Памятник из законов, руководствующего к познанию приказного об¬
ряда, собранного по азбучному порядку. Владимир, 1798—1827.
Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных от¬
ношениях фабрикантов и рабочих // ПСЗ-Ш. Т. 6. 1886.
Правила Православной церкви. С толкованиями Никодима, Епископа Далматинско-
Истрийского : в 2 т. М., 1994.
Проект правил для заводов и фабрик в С.-Петербурге и уезде. СПб., 1860.
Развитие русского права в XV—первой половине XVII в. / В. С. Нерсесянц (ред.).
М., 1986.
Развитие русского права в первой половине XIX века / Е. А. Скрипилев (ред.). М.,
1994.
Развитие русского права во второй половине XIX—начале XX века / Е. А. Скри¬
пилев (ред.). М., 1997.
Развитие русского права второй половины XVII—XVIII в. / Е. А. Скрипилев
(ред.). М., 1992.
Роговин Л. Конституция Российской империи : Сб. законов, относящихся к обнов¬
ленному строю и к личным и общественным правам граждан. СПб., 1913.
Российское законодательство X—XX веков : в 9 т. / О. И. Чистяков (ред.). М.,
1984—1994.
Руновский Н. Церковно-гражданские законоположения относительно православ¬
ного духовенства в царствование императора Александра II. Казань, 1898.
Русское старообрядчество: светское и духовное законодательство XVII—XVIII вв. /
Е. В. Кауркин, Е. П. Титков (ред.). 2-е изд. СПб., 2012.
Сборник народных юридических обычаев : в 2 т. / С. В. Пахман (ред.). СПб., 1878.
Сборцик важнейших законоположений и распоряжений, действующих с 1 июля
1914 года по 1 января 1916 года, вызванных обстоятельствами военного времени/
Джакович (сост.). Петроград, 1916.
Сборник законов о российском дворянстве / Г. Блосфельдт (сост.). СПб., 1901.
Сборник постановлений для руководства волостных и сельских управлений. СПб.,
1853.
Сборник циркуляров и инструкций МВД с учреждения министерства по 1 октября
1853 г. СПб., 1854. Т. 1.
Свод законов Российской империи. Изд. 1832 г. : в 15 т. СПб., 1832.
868
Источники и справочная литература
Свод законов Российской империи. Изд. 1845 г. : в 15 т. СПб., 1845.
Свод законов Российской империи. Изд. 1857 г. : в 15 т. СПб., 1857.
Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. : в 15 т. СПб., 1876.
Свод законов Российской империи. Изд. 1890. Т. 14 : Устав о предупреждении
и пресечении преступлений. СПб., 1890.
Свод законов Российской империи. Изд. 1893. Т. 11, ч. 2 : Устав о промышлен¬
ности. СПб., 1893.
Свод узаконений и распоряжений правительства по врачебной и санитарной час¬
ти : в 3 вып. СПб., 1895—1898.
Соборное Уложение 1649 года / А. Г. Маньков (ред.). СПб., 1987.
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Прави¬
тельствующем Сенате. СПб., 1904.
Уголовное уложение, высоч. утвержденное 22 марта 1903 г. С указателями: пред¬
метным, алфавитным и сравнительными: 1) уголовного уложения с уложением о на¬
казаниях и уставом о наказаниях; 2) уложения о наказаниях с уголовным уложением
и 3) устава о наказаниях с уголовным уложением. СПб., 1903.
Устав о промышленном труде (Свод законов Росс. имп. Т. XI. Ч. 2. СПб., 1913,
ст. 1—228 и 541—597): с правилами и распоряжениями, изд. на основании этих статей
с разъяснениями к ним Правительствующего Сената и адм. установлений / В. В. Гро-
ман (сост.). Пг., 1915.
Устав рекрутский. СПб., 1831.
Хапылев С. Систематическое собрание российских законов с присовокуплением
правил и примеров из лучших законоучителей : в 6 ч. СПб., 1817—1819.
Чулков М. Д Словарь юридический или свод российских узаконений, временных
учреждений суда и расправы : в 5 т. М., 1792—1796.
Статистические материалы1
Антропов П. А. Финансово-статистический атлас России. СПб., 1898.
Арсеньев К. И. Исследования о численном соотношении полов в народонаселении
России // Журнал МВД. 1844. Ч. 5, № 1.
Баландин Н. //., Червяков В. П. Переписная книга Устюжны-Железнопольской
1713 г. // Аграрная история Европейского Севера СССР / П. А. Колесников (ред.).
Вологда, 1970.
Бессер А., Баллод К. Смертность, возрастной состав и долговечность православно¬
го населения обоего пола в России за 1851—1890 годы. СПб., 1897.
Бечаснов П. Статистические данные о разводах и недействительных браках за
1867—1886 гг. (по епархиям Европейской России). СПб., 1893.
Благовещенский Н. А. Сводный статистический сборник хозяйственных сведений
по земским подворным переписям. Т. 1 : Крестьянское хозяйство. М., 1893.
Благотворительность в России : в 2 т. / сост. по Высочайшему повелению Собст¬
венной Е. И. В. Канделяриею по учреждениям Императрицы Марии. СПб., 1907.
Бок И Материалы для статистики заводско-фабричной промышленности в Евро¬
пейской России за 1868 год. СПб., 1872.
Большаков А. М. Современная деревня в цифрах. Л., 1925.
1 Источники Статистического приложения указаны в самом приложении.
869
Источники и справочная литература
Бородкин Л. И. Динамика экономического развития России в XIX—начале XX вв.:
новый электронный ресурс // Экономическая история : обозрение. М., 2011. Вып. 16.
Борткевич В. И. Смертность и долговечность мужского православного населения
Европейской России. СПб., 1890.
Бруцкус Б. Д. Статистика распределения по территории, демографические и куль¬
турные признаки еврейского населения по данным переписи 1897 г. СПб., 1909.
Буницкий К. Вычисление дней, празднуемых в течение года рабочими людьми
в Александровском уезде, Екатеринославской губернии // Зап. имп. О-ва сельского
хозяйства Южной России. 1866.
Буняковский В. Я\ Опыт о законах смертности в России и о распределении право¬
славного народонаселения по возрастам. СПб., 1865.
Буняковский В. Я’ Возрастная группировка мужского православного населения
России в 1872 г. СПб., 1875.
Буняковский В. Я. Исследования о возрастном составе женского православного
населения России. СПб., 1866.
Бюджеты крестьян Старобельского уезда Харьковской губернии. Харьков, 1915.
Бюджеты крестьянских хозяйств Новгородской губернии. Новгород, 1918.
Варзар В. Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. СПб.,
1908.
Варзар В. Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за трехлетие
1906—1908 гг. СПб., 1910.
Ведомости о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816.
Веселовский К. С. О климате России. СПб., 1857.
Вильсон И. Уголовная статистика государственных крестьян по данным за десяти¬
летие 1847—1856. СПб., 1871. (Материалы для статистики России, собираемые по ве¬
домству государственных имуществ ; вып. 6).
Вишняков В. И. Крестьяне, водворенные на собственных землях : Число отпущен¬
ных помещиками по договорам и вступивших в звание свободных хлебопашцев по
собственному желанию или по особым Высочайшим повелениям // Журнал МГИ.
1858. Ч. 69, год 18. №4.
Воейков А. И. Метеорологические сельскохозяйственные наблюдения в России.
СПб., 1888—1895.
Военно-статистический ежегодник армии за 1912 г. СПб., 1914.
Военно-статистический сборник. Вып. 4 : Россия / Н. Н. Обручев (ред.). СПб., 1871.
Володин А. Ю. «Свод отчетов фабричных инспекторов» (электронный ресурс): как
«одеть» голые цифры? // Экономическая история : обозрение. М., 2011. Вып. 16.
Временник Центрального статистического комитета Министерства внутренних
дел. СПб., 1888—1903. № 1—52.
Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=l 1 (дата обращения: 03.11.2015).
Всесоюзная перепись населения 1926 года. Окончательные итоги : в 7 отд. (сер.),
56 т. М., 1928—1933.
Всесоюзная перепись населения 1926 года. Окончательные итоги. Отд. 1 : Народ¬
ность. Родной язык. Возраст. Грамотность : в 17 т. М., 1928—1929.
Всесоюзная перепись населения 1979 г. / А. А. Исупов, Н. 3. Шварцер (ред.). М.,
1984.
870
Источники и справочная литература
Гадзяцкий Ф. X. Материалы для статистики душевных болезней в России по дан¬
ным Клиники душевных болезней при Военно-медицинской академии с 1870 по
1890 г. СПб., 1893.
Герман К. Ф. Статистические исследования относительно Российской империи.
СПб., 1819. Ч. 1.
Города и поселения в уездах, имеющие 2000 и более жителей (Первая Всеобщая
перепись населения Российской империи 1897 г.). СПб., 1905.
Города России в 1904 году. СПб., 1906.
Города России в 1910 году. СПб., 1914.
Городские преступления за 1914—1915 гг. в больших городах России // Вестник
полиции. 1916. № 44.
Государственная дума, 1906—1917 : стенограф, отчеты. М., 1995. Т. 1—3.
Государственная роспись доходов и расходов на [1864—1916] год. СПб., [1864—
1916].
Гурвич Н. Очерки однодневных народоисчислений в Уфимской губернии // Сбор¬
ник статистических, исторических и археологических сведений по бывшей Орен¬
бургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных и разработанных в течение
1866 и 67 гг. / Н.А. Гурвич (ред.). Уфа, 1868.
Данные о продолжительности рабочего времени за 1904 и 1905 гг. СПб., 1908.
Движение населения в Европейской России за [1867—1910] год. СПб., [1871—1916].
Демографический ежегодник СССР, 1990. М., 1990.
Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народ¬
ного хозяйства за 40 лет (1887—1926 гг.) / В. А. Базаров и др. (ред.). Т. 1 : Свод ста¬
тистических данных по фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1926 год.
Ч. 1.М. ;Л., 1929.
Динамика экономического и социального развития России в XIX—начале XX ве¬
ка : тематический электронный ресурс / рук. проекта Л. И. Бородкин. URL:
http://www.hist.msu.ru/Dynamics/index.htnil (дата обращения: 03.11.2015).
Ежегодник Министерства финансов на [1869—1916] год. СПб., [1869—1917].
Вып. 1—46.
Ежемесячная хроника погоды [288 обзоров] // Метеорологический вестник. 1891—
1914.
Женщины в СССР, 1989 : стат. материалы. М., 1989.
Женщины и дети в СССР : стат. сборник. М., 1969.
За 5 лет, 1917—1922 : сб. ЦК РКП. М., 1922.
Историко-статистические сведения о земских повинностях. СПб., 1861.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР : сводный том. М., 1962.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. : в 7 т. М., 1972. Т. 3.
Итоги переписи 1939 г. // Вестник статистики. 1956. № 6.
Капиталистические страны в 1913, 1930—1936 гг. : стат. сб. : в 2 т. / И. А. Кра-
валь, А. С. Мендельсон (ред.). М., 1937.
Кеппен /7. И. Девятая ревизия : Исследование о числе жителей в России в 1851 го¬
ду. СПб., 1857.
Кеппен П. И. Несколько слов по поводу ведомости о народонаселении России, со¬
ставленной при Статистическом отделении Совета МВД. СПб., 1850.
Климатологический атлас Российской империи, изданный Николаевскою Глав¬
ною физическою обсерваторией в память 50-летней деятельности: 1849—1899. СПб.,
871
Источники и справочная литература
1900. См. также: Объяснительная записка к Климатологическому атласу Российской
империи, изданному Николаевскою Главною физическою обсерваторией в память
50-летней деятельности: 1849—1899. СПб., 1900.
Книга приходорасходных комнатных денег императрицы Екатерины I (1723—
1725 гг.) // Русский архив. 1874. Т. 1, № 3.
Корсаков С. Законы народонаселения в России // Материалы для статистики Рос¬
сийской империи. СПб., 1841. Т. 2.
Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах / В. И. Масальский
(сост.). СПб., 1904. Вып. 4.
Массовые церковные источники учета населения и опыт их изучения : электронный
ресурс. URL: http://new.hist.asu.ru/biblio/prihod/8-24.pdf (дата обращения: 03.11.2015).
Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии по исследова¬
нию вопроса о движении с 1861 г. по 1901 г. благосостояния сельского населения
среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской
России : в 3 ч. СПб., 1903.
Материалы для изучения современного положения землевладения и сельско¬
хозяйственной промышленности в России, собранные по распоряжению министра
государственных имуществ. СПб., 1880. Вып. 1.
Материалы для статистики России, собираемые по ведомству Государственных
имуществ : в 5 вып. СПб., 1858—1871.
Материалы для статистики Российской империи, изд. при Статистическом отде¬
лении Совета МВД : в 2 т. СПб., 1839—1841.
Материалы к продовольственному плану : Производство, перевозки и потребле¬
ние хлебов в России, 1908—1913 гг. : в 2 вып. Пг., 1916.
Материалы по вопросам разработки общего плана продовольствия населения.
Вып. 1 : Нормы продовольствия сельского населения России. М., 1918.
Микулин А. А. Причины и следствия несчастных случаев с рабочими на фабриках
и заводах: Статистическое исследования 2543 несчастных случаев. Одесса, 1898.
Министерство внутренних дел : Выборы в Государственную думу третьего созы¬
ва : Статистический отчет особого делопроизводства. СПб., 1911.
Михайловский В. Г. Факты и цифры из русской действительности // Новое слово.
1897. Год 2. Кн. 9. Июнь.
Народное образование, наука и культура в СССР : стат. сб. М., 1977.
Народное образование и культура в СССР : стат. сб. М., 1989.
Народное хозяйство в 1961 году : стат. ежегодник. М., 1962.
Народное хозяйство СССР в [1956—1987] году : стат. ежегодник. М., [1957—1988].
Народное хозяйство СССР в 1990 г.: стат. сб. М., 1991.
Народное хозяйство СССР за 70 лет : юб. стат. ежегодник. М., 1987.
Население России за 100 лет (1897—1997). М., 1998.
Население Советского Союза: 1922—1991. М., 1993.
Новосельский С. А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной ста¬
тистике России. Пг., 1916. (Отт. из «Календаря для врачей всех ведомств» за 1916 г.
Ч. 2).
Общий обзор почтовой деятельности в империи за 10 лет, с 1857 по 1866 год //
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. СПб., 1872. Вып. 5.
Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18
января 1911 г. / В. И. Покровский (ред.). Пг., 1916. Вып. 16 : Итоги по империи. Ч. 1.
872
Источники и справочная литература
Опыт приблизительного исчисления народного дохода по различным его источ¬
никам и по размерам в России. СПб., 1906.
Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР в 1916—1923—
1927 гг.: итоги сельскохозяйственной переписи 1916 г. и весенне-выборочных 10%-
ых обследований по единоличным крестьянским хозяйствам за 1923—1927 гг. М.,
1930.
Отчет Государственного банка по выкупной операции с открытия выкупа по
1 января 1892 г. СПб., 1892.
Отчет о денежных оборотах городских касс за [1885—1904] год. СПб., [1885—
1904].
Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи населе¬
нию в России за [1855—1859, 1876—1914] год. СПб.; Пг., [1856—1916].
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 5 : Окон¬
чательно установленное при разработке переписи наличное население городов. СПб.,
1905.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1899—
1905. Т. 1—89 (данные по отдельным губерниям и областям).
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : Общий свод
по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения,
произведенной 28 января 1897 г. : в 2 т. СПб., 1905.
Переписи населения России : Итоговые материалы подворных переписей и ре¬
визий населения России (1646—1858): в 12 вып. М., 1972.
Петроград по переписи 15 декабря 1910 года. Население : в 2 ч. / В. В. Степанов
(ред.). СПб. ;Пг, 1913—1915.
Подоходный налог : Ожидаемое число плательщиков, их доход и сумма налога по
исследованию, произведенному податными инспекторами и казенными палатами
в 1909—10 году: Материалы к проекту положения о государственном подоходном
налоге. СПб., 1910.
Понижение выкупного платежа по указу 28-го декабря 1881 года // Статистичес¬
кий временник Российской империи. Сер. 3. СПб., 1885. Вып. 5.
Почтово-телеграфная статистика за [1889—1915] год: с кратким обзором деятель¬
ности почтово-телеграфного ведомства за тот же год. СПб., [1890—1918].
Предварительные данные о площадях посева зерновых культур в 57 туберниях
и областях империи в 1916 г. Пг., 1917.
Предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 го¬
да. Вып. 1 : Европейская Россия. Пг., 1916.
Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840—41
по 1890—1891 гг. СПб., 1901.
Прокопович С. П. Народный доход западноевропейских стран. М., 1930.
Прокопович С. П. Опыт исчисления народного дохода в 50 губерниях Европей¬
ской России: 1900—1913 гг. М., 1918.
Птуха М. Смертность 11 народностей Европейской России в конце XIX века. Ки¬
ев, 1928.
XV лет диктатуры пролетариата : экон.-стат. сб. по г. Ленинграду и Ленингр. обл.
Л., 1932.
Рабочий день в фабрично-заводской промышленности : в 2 вып. / Я. М. Бинеман
(ред.). М., 1930.
873
Источники и справочная литература
Распределение населенных мест Российской империи по численности в них насе¬
ления (Разработано Центральным статистическим комитетом по данным Первой все¬
общей переписи населения). СПб., 1902.
Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и по месту рождения
на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи
28 января 1897 г. / В. В. Степанов (ред.). СПб., 1905.
Распределение хлебных грузов по железным дорогам и водным путям в губерниях
и опыт вычисления стоимости провоза хлеба к границе // Временник ЦСК МВД.
1889. №7.
Рашин А. Г. Состав фабрично-заводского пролетариата СССР : Предварительные
итоги переписи металлистов, горнорабочих и текстильщиков в 1929 г. М., 1930.
Результаты однодневной переписи населения Нижнетагильского завода (Перм¬
ская губерния, Верхотусрский уезд), произведенной 9 сентября 1879 г. / обраб. В. Ло¬
ман // Пермские губернские ведомости. 1881.25 февр.
Российский статистический ежегодник : стат. сб. М., 1997, 2007.
Россия в мировой войне 1914—1918 года (в цифрах) / В. П. Ефремов (ред.). М.,
1925.
Россия: 1913 год: стат.-док. справ. / А. М. Анфимов, А. П. Корелин (ред.). СПб.,
1995.
Рубакин Н. А. Россия в цифрах : Страна. Народ. Сословия. Классы : Опыт ста¬
тистической характеристики сословно-классового состава населения русского госу¬
дарства (на основании официальных и научных исследований). СПб., 1912; 2-е изд.
М., 2009.
Руковский И. П. Историко-статистические сведения о подушных податях. СПб.,
1862.
Санитарное состояние городов Российской империи в 1895 году по данным Меди¬
цинского департамента МВД. СПб., 1898.
Сборник материалов об экономическом положении евреев в России : в 2 т. СПб.,
1904.
Сборник сведений по Европейской России за [1882, 1885, 1890, 1896] год. СПб.,
[1884—1887, 1890, 1897].
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и ино¬
странных государств. Год 1—10. СПб.; Пг., 1907—1917.
Сборник статистических сведений Министерства юстиции за [1886—1913] год.
СПб., [1887—1916].
Сборник статистических сведений Министерства юстиции. Дополнение к вып. 1—4.
Обзор деятельности судебно-мировых установлений за 1884—1888 гг. СПб., 1887—
1891.
Сборник статистических сведений Министерства юстиции: Сведения о личном
составе и деятельности судебных установлений, образованных по уставам Александ¬
ра II за [1884—1914] год. СПб., [1887—1915]. Вып. 1—24.
Сборник статистических сведений о России, издаваемый РГО : в 3 кн. СПб., 1858.
Сборник статистических сведений по истории и статистике внешней торговли
России / В. И. Покровский (ред.). СПб., 1902. Т. 1.
Сборник статистических сведений по Союзу ССР: 1918—1923 : в 2 вып. М., 1924.
Свавицкая 3. М., Свавицкий Н. А. Земские подворные переписи, 1880—1913 : По-
уездные итоги. М., 1926.
874
Источники и справочная литература
Сведения о возрастах // Статистический временник Российской империи. Сер. 2.
СПб., 1871. Вып. 1.
Сведения о продажных ценах на землю. СПб., 1859. Вып. 1—3.
Сведения по статистке народного образования в Европейской России в 1872—
1874 гг. // Статистический временник Российской империи. Сер. 2. СПб., 1879. Вып. 16.
Свод данных о фабрично-заводской промышленности в России в 1888 г. СПб., 1891.
Свод отчетов фабричных инспекторов за [1900—1914] год. СПб., [1902—1915].
Свод статистических материалов, касающихся экономического положения сельского
населения Европейской России / [Батюшков, Ранненкампф, Никитин (сост.)]. СПб., 1894.
Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по
приговорам общих судебных мест, судебно-мировых установлений и учреждений,
образованных по законоположениям 12 июля 1889 года. СПб., 1873—1915.
Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в [1873—
1913] году в судебных учреждениях, действующих на основании уставов 20 ноября
1864 года. СПб., [1874—1917].
Свод статистических сведений по сельскому хозяйству России к концу XIX века:
в 3 вып. СПб., 1902.
Свод урожайных сведений за годы 1883—1915 : (Материалы ЦСК по урожаям на
надельных землях). М., 1928.
Сельское хозяйство России в XX веке : сб. стат.-экон. сведений за 1901—1922 гг. /
Н. П. Огановский, Н. Д. Кондратьев (ред.). М., 1923.
Сельскохозяйственные и статистические сведения по материалам, полученным
от хозяев : в 12 вып. СПб., 1884—1905.
Сельскохозяйственные орудия и машины в Европейской и Азиатской России
в 1910 г. СПб., 1912.
Сельскохозяйственный промысел в России. Пг., 1914.
Семенов А. В. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле
и промышленности с половины XVII столетия по 1858 г. СПб., 1859. Ч. 3.
Семья в России : стат. сб. М., 1996.
Скребицкий А. И. Крестьянское дело в царствование императора Александра II:
Материалы для истории освобождения крестьян : в 4 т. Бонн-на-Рейне : Ф. Крюгер,
1862—1866.
Соковнин П. Н. Культурный уровень крестьянского полеводства на надельной
земле и его значение в земельном вопросе : С поуездными данными по 46 туберниям
Европейской России. СПб., 1906.
Состояние питания городского населения СССР: 1919—1924 гг. (по данным пе¬
риодических обследований питания населения, проводимых Отделом статистики по¬
требления ЦСУ). М., 1926.
Статистика акционерного дела в России. Вып. 1 : Состав директоров Правления
на 1897 г. / Н. Е. Пушкин (ред.). СПб., 1897.
Статистика акционерного дела в России. Вып. 4 : Ежегодник на 1901—1902 год :
Личный состав всех правлений и ответственных агентов / Н. Е. Пушкин (ред.). СПб.,
1901.
Статистика акционерного дела России: 1913/14 год. СПб., 1914.
Статистика еврейского населения. Вып. 3 : Распределение по территории, демо¬
графические и культурные признаки еврейского населения по данным переписи
1897 г. / Б. Д. Бруцкус (сост.). СПб., 1909.
875
Источники и справочная литература
Статистика землевладения 1905 г. : Свод данных по 50 губерниям Европейской
России. СПб., 1907.
Статистика несчастных случаев с рабочими в промышленных заведениях, подчи¬
ненных надзору фабричной инспекции за [1901, 1903] год. СПб., [1903, 1906].
Статистика по несчастным случаям с рабочими Путиловского завода 1904—
1910 гг. [Б. м., б. г.].
Статистика пожаров в Российской империи за 1895—1910 годы. СПб., 1912.
Статистика Российской империи. 10 : Сборник сведений по России, 1890. СПб.,
1890.
Статистика по несчастным случаям с рабочими Путиловского завода 1904—
1910 гг. [Б. м., б. г.].
Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 году. СПб., 1915.
Статистические данные о разводах и недействительных браках за 1867—1886. По
епархиям Европейской России. СПб., 1893.
Статистические материалы по волостному и сельскому управлению 34 губерний,
в коих введены земские установления: свод данных, доставл. по циркуляру М-ва вн.
дел от 17 янв. 1880 г. за № 4 (Сост. в канцелярии высочайше учрежденной Особой
комиссии для составления проектов местного управления). СПб., 1886.
Статистические материалы по вопросу потребления мяса в Российской империи
в 1913 году. Пг., 1915.
Статистические материалы по мясо-продовольственному делу в России : Данные
по доставке мясного скота в города и другие крупные пункты потребления по желез¬
ным дорогам, водным путям и гоном. Пг., 1916.
Статистические сведения по земельному вопросу в Европейской России / П. И. Дмит¬
риев, В. В. Морачевский (сост.). СПб., 1906.
Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. СПб., 1852.
Статистические таблицы Российской империи за 1856 год. СПб., 1858.
Статистические таблицы Российской империи. Вып. 2 : Наличное население им¬
перии за 1858 год / А. Бушей (ред.). СПб., 1863.
Статистические таблицы, составленные в Статистическом отделении Совета МВД
по сведениям за 1849 год. СПб., 1852.
Статистический временник Российской империи. Вып. 1. СПб., 1866.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 1. СПб., 1871.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 5. СПб., 1872.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 6. СПб., 1872.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 8. СПб., 1872.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 10. СПб., 1875.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 16. СПб., 1879.
Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 19. СПб., 1882.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 2 : Лленицин В. Д.
Еврейское население и землевладение в юго-западных губерниях Европейской Рос¬
сии, входящих в черту еврейской оседлости. СПб., 1884.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 5 : Ершов Г. Пони¬
жение выкупного платежа по указу 28-го декабря 1881 года. СПб., 1885.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 9 : Аленицин В. Д.
Еврейская питейная торговля в России. СПб., 1886.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 10. СПб., 1886.
876
Источники и справочная литература
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 12 : Всеобщая во¬
инская повинность в Российской империи за первое десятилетие 1874—1883 гг.
СПб., 1886.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 13 : Мирские рас¬
ходы крестьян в 46-ти губерниях Российской империи за 1881 г. СПб., 1886.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 16 : Гутковский.
Доходы и расходы губернских и уездных земств за 1883 год. СПб., 1885.
Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 19 : Указатель из¬
менений в распределении административных единиц и границ Империи с 1860 по
1887 гг. СПб., 1887.
Статистический ежегодник 1918—1920 гг. : в 2 вып. М., 1922.
Статистический ежегодник 1922 и 1923 г. : в 2 вып. М., 1924.
Статистический ежегодник на [1912—1914] год / В. И. Шарый (ред.). СПб.,
[1912—1914].
Статистический ежегодник России [1904—1916] год. СПб.; Пг., [1905—1918]. Загл.
на 1904—1910 гг.: Ежегодник России.
Статистический ежегодник ТССР, 1917—1923 гг. : в 2 т. / Д. П. Красновский
(ред.). Ташкент, 1924.
Статистический ежегодник Финляндии 1916 г. Гельсингфорс, 1917.
Статистический сборник за 1913—1917 гг. : в 2 вып. М., 1921, 1922.
Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии. Пг., 1922.
Статистический справочник СССР за 1928 год. М., 1929.
Стоимость производства главнейших хлебов. Пг., 1915. Вып. 1.
Струмилин С. Г. Бюджет времени русского крестьянина: в семьях единоличников
1923 г. // Струмилин С. Г. Избр. произведения : в 5 т. М., 1963. Т. 3.
Судебная статистика России // Русский вестник. 1860. Т. 29.
Табель приращения народонаселения в России с 7-й до 8-й ревизии, показываю¬
щая в каждой губернии или области процентную прибыль ревизских душ по всем
податным сословиям // Материалы для статистики Российской империи, изд. при
Статистическом отделении Совета МВД. СПб., 1841. Т. 2. Отд. 1.
Таргонский В. А. Географическое распределение града в Европейской России
и зависимость этого явления от рельефа земной поверхности. М., 1893.
Таргонский В. А. Характеристика местностей, подверженных градобитиям в Ев¬
ропейской России. С прил. 5 карт. М., 1895.
Техническое и статистическое исследование несчастных случаев на горных и гор¬
нозаводских предприятиях. Вып. 1 : За время с 1890—1900 гг. СПб., 1916.
Торговля и промышленность Европейской России по районам : Общая часть
и приложения / В. П. Семенов-Тян-Шанский (ред.). СПб., 1904.
Тройницкий А. Г. Крепостное население России по 10-й народной переписи. СПб.,
1861.
Труд в СССР, 1926—1930 : справ. / Я. М. Бинеман (ред.). М., 1930.
Труд в СССР : стат. сб. М., 1988.
Труды Комиссии для пересмотра податей и сборов. СПб., 1863. Т. 3, ч. 1.
Умершие насильственно и внезапно в Российской империи в 1870—1874 гг. СПб.,
1882.
Умершие насильственно и внезапно в Российской империи в 1875—1887 гг. СПб.,
1894.
877
Источники и справочная литература
Умершие насильственно и внезапно в Российской империи в 1888—1893 гг. СПб.,
1897.
Фабрично-заводская промышленность в период 1913—1918 гг. Вып. 1 : Промыш¬
ленная перепись. М., 1921. (Труды ЦСУ ; т. 26).
Фабрично-заводская промышленность в период 1913—1918 гг.: в 2 вып. М., 1921,
1926.
Фабрично-заводская промышленность и торговля России. СПб., 1893.
Херсонская губерния: Свод цифровых данных. Вып. 1 : Население и сельское хо¬
зяйство. Херсон, 1910.
Хозяйственно-статистические материалы, собираемые комиссиями и отрядами урав¬
нения денежных сборов с государственных крестьян. СПб., 1857—1871. Вып. 1—5.
Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г.: в 2 т. / Н. А. Тройницкий (ред.).
СПб., 1906.
Членов М. А. Половая перепись московского студенчества // Русский врач. 1907.
№31—32.
Штер М. П. Статистическое изображение городов и посадов Российской империи
по 1825 год. СПб., 1829.
Щербина Ф. А. Крестьянские бюджеты : в 2 ч. Воронеж, 1900.
Экк Н. Опыт обработки статистических материалов о смертности в России. СПб.,
1888.
Яснопольский Н. П. О географическом распределении государственных доходов и
расходов в России : Опыт финансово-статистического исследования : в 2 ч. Киев,
1890, 1896.
Отчеты (доклады, записки) министерств, ведомств, чиновников,
государственных и общественных учреждений, труды комиссий
Витте С. Ю. Записка по крестьянскому делу. СПб., 1904. (Особое совещание
о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Свод трудов местных комитетов).
[Витте С. Ю.]. Самодержавие и земство : Конфиденциальная записка министра
финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899) с предисловием и примечаниями
П. Н. С. / печатано «Зарей». Stuttgart, 1901.
Вопросы, возникающие по предмету улучшения быта крестьян : Извлечения из
данных, представленных губернскими совещаниями Министерству внутренних дел /
Ф. Г. Тернер (сост.). СПб., 1902.
Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 г. по высочайшему повелению
сенатором А. М. Кузьминским ревизии г. Баку и Бакинской губернии. [Б. м., б. г.].
Всеподоаннейший отчет министра народного просвещения за [1834—1840,
1861—1865, 1880, 1897, 1903, 1910, 1911, 1912, 1913] год. СПб. ; Пг., [1837—1914].
Всеподданнейший отчет министра юстиции за [1834—1914] год. СПб.; Пг.,
[1835—1915].
Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право¬
славного исповедания за [1884—1914] год. СПб.; Пг., [1886—1916].
Всеподданнейший отчет члена Государственного совета сенатора Манухина по
исполнению высочайше возложенного на него 27 апреля 1912 г. расследования о за¬
бастовке на Ленских приисках. СПб., 1912.
878
Источники и справочная литература
Высочайше учрежденное Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной про¬
мышленности : Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской
России. СПб., 1903—1905:
Аренда / Д. С. Флексор (сост.). СПб., 1903.
Всеподданнейший отчет по Особому совещанию о нуждах сельскохозяйственной
промышленности, 1902—1904. СПб., 1904.
Водное хозяйство / Д. С. Шилкин (сост.). СПб., 1904.
Гужевые и водные пути / П. И. Рудченко (сост). СПб., 1904.
Земельное обложение / С. И. Шидловский (сост.). СПб., 1904.
Земельные захваты и межевое дело / С. И. Шидловский (сост.). СПб., 1904.
Землевладение / И. В. Сосновский (сост.). СПб., 1904.
Земство / С. И. Шидловский (сост.). СПб, 1904.
Кооперация / С. В. Бородаевский (сост.). СПб., 1904.
Косвенные налоги / Ф. Я. Несмелое (сост.). СПб., 1904.
Крестьянский правопорядок / А. А. Риттих (сост.). СПб., 1904.
Крестьянское землепользование / А. А. Риттих (сост.). СПб., 1903.
Лесное хозяйство / Д. С. Шилкин (сост.). СПб., 1904.
Общий обзор трудов местных комитетов / С. И. Шидловский (сост.). СПб, 1905.
Охрана сельскохозяйственной собственности / Д. С. Флексор (сост.). СПб., 1904.
Подсобные к земледелию промыслу и производства / И. В. Пономарев (сост.).
СПб., 1903.
Пожары / В. А. Скрипицын (сост.). СПб., 1904.
Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохо¬
зяйственных комитетов. СПб., 1904.
Природные препятствия сельскому хозяйству / В. А. Скрипицын (сост.). СПб., 1904.
Просвещение / Н. Л. Петерсон (сост.). СПб., 1904.
Сбыт / Н. Н. Беллелюбский (сост.). СПб., 1904.
Сельскохозяйственная техника / В. В. Бирюкович (сост.). СПб., 1903.
Перечень докладов, помещенных в трудах местных комитетов / С. Ю. Лопатин
(сост). СПб., 1905.
Финансовая политика и таможенное покровительство / Б. Ф. Брандт (сост.). СПб., 1904.
Высочайше учрежденное Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш¬
ленности : Труды местных комитетов по 49 губерниям Европейской России. СПб., 1903:
Т. 1 : Архангельская губерния.
Т. 2 : Астраханская губерния.
Т. 3 : Бессарабская губерния.
Т. 4 : Виленская губерния.
Т. 5 : Витебская губерния.
Т. 6 : Владимирская губерния.
Т. 7 : Виленская губерния.
Т. 8 : Волынская губерния.
Т. 9 : Воронежская губерния.
Т. 10 : Вятская губерния.
Т. 11 : Гродненская губерния.
Т. 12 : Донского войска область.
Т. 13 : Екатеринославская губерния.
Т. 14 : Казанская губерния.
879
Источники и справочная литература
Т. 15 : Калужская губерния.
Т. 16 : Киевская губерния.
Т. 17 : Ковенская губерния.
Т. 18 : Костромская губерния.
Т. 19 : Курляндская губерния.
Т. 20 : Курская губерния.
Т. 21 : Лифляндская губерния.
Т. 22 : Минская губерния.
Т. 23 : Могилевская губерния.
Т. 24 : Московская губерния.
Т. 25 : Нижегородская губерния.
Т. 26 : Новгородская губерния.
Т. 27 : Олонецкая губерния.
Т. 28 : Оренбургская губерния.
Т. 29 : Орловская губерния.
Т. 30 : Пензенская губерния.
Т. 31 : Пермская губерния.
Т. 32 : Подольская губерния.
Т. 33 : Полтавская губерния.
Т. 34 : Псковская губерния.
Т. 35 : Рязанская губерния.
Т. 36 : Самарская губерния.
Т. 37 : С.-Петербургская губерния.
Т. 38 : Саратовская губерния.
Т. 39 :. Симбирская губерния.
Т. 40 : Смоленская губерния.
Т. 41 : Таврическая губерния.
Т. 42 : Тамбовская губерния.
Т. 43 : Тверская губерния.
Т. 44 : Тульская губерния.
Т. 45 : Уфимская губерния.
Т. 46 : Харьковская губерния.
Т. 47 : Херсонская губерния.
Т. 48 : Черниговская губерния.
Т. 49 : Эстляндская губерния.
Т. 50 : Ярославская губерния.
Гвоздев С. Записки фабричного инспектора (из наблюдений и практики в период
1894—1908 гг.). М., 1911.
Давыдов К. В. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора С.-Петербургского округа.
СПб., 1886.
Дедюлин С. А. К вопросу о причинах физического вырождения русского народа
(Составлено по отчетам Государственного Контроля в диаграммах и таблицах): Док¬
лад высоч. утвержденному Обществу для содействия русской промышленности
и торговле 25 марта 1899 г. СПб., 1900.
Доклад высочайше учрежденной Комиссии для исследования нынешнего поло¬
жения сельского хозяйства и сельской производительности в России. СПб., 1873.
Доклад. Журналы Комиссии. Приложения I—VI.
880
Источники и справочная литература
Доклад директора Департамента полиции Лопухина министру внутренних дел
о событиях 9 января // Красная летопись. 1922. № 1.
Доклад особой комиссии, образованной для ревизии делопроизводства С.-Петер¬
бургской городской распорядительной думы. СПб., 1866.
Доклады и приговоры Правительствующего Сената. СПб., 1880. Т. 1.
Железные дороги и тарифы / К. И. Гуцевич (сост.). СПб., 1904. (Особое сове¬
щание. Свод трудов местных комитетов).
Записка Главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Тур¬
кестанский край в 1912 году [по вопросу расширения хлопководства]. Приложение
к всеподданнейшему докладу. СПб., 1912.
Записка Н. А. Жеребцова «Об устройстве министерств вообще и Министерства
финансов в особенности» (15 февраля 1856 г.) / публ. Т. В. Андреевой // Английская
набережная, 4 : сб. С.-Петерб. науч. о-ва историков и архивистов. СПб., 2004. Вып. 4.
Краткий обзор деятельности [Министерства внутренних дел] за 1899—1901 гг.
СПб., 1902.
Материалы, собранные для высочайше учрежденной Комиссии о преобразовании
губернских и уездных учреждений. СПб., 1870—1876. Отд. административный. Ч. 1—5;
Отд. полицейский. Ч. 1—4.
Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян
в царствование имп. Александра III : в 3 т. [Берлин], 1859—1861.
Михайловский Я. Т. О деятельности фабричной инспекции: Отчет за 1885 год
главного фабричного инспектора. СПб., 1886.
О мерах к улучшению материального положения православного сельского духо¬
венства (По высоч. учрежденному Присутствию по делам православного духо¬
венства). СПб., 1880.
Обзор деятельности Главного тюремного управления 1879—1889. СПб., 1890.
Обзор деятельности духовного ведомства за 1915 год. Пг., 1917.
Обзор деятельности судебно-мировых установлений за [1884—1888] год. СПб.,
[1887—1891].
Обзор состояния судебных мест по 36 губерниям, в коих произведены были реви¬
зии. [Б. м., б. г.].
Общий обзор деятельности Министерства юстиции и Правительствующего Сена¬
та за царствование императора Александра III. СПб., 1901.
Особая комиссия для составления проектов местного управления. Статистические
материалы по волостному и сельскому управлению 34 губерний, в коих введены зем¬
ские установления (Свод данных, доставленных по циркуляру МВД от 17 января
1880 г.). СПб., 1886.
Отмена крепостного права: Доклады министров внутренних дел о проведении
крестьянской реформы: 1861—1862. М. ; Л., 1950.
Отчет [Управления главного врачебного инспектора Министерства внутренних
дел] о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за
[1896—1914] год. СПб., [1898—1916].
Отчет Медицинского департамента Министерства внутренних дел за [1876—1895]
год. СПб., [1878—1898].
Отчет министра внутренних дел за [1803—1808] год. СПб., [1804—1810].
Отчет министра внутренних дел за 1845 г. СПб., 1846.
Отчет министра юстиции за [1834—1863] год. СПб., [1835—1865].
881
Источники и справочная литература
Отчет о действиях Военного министерства за [1858—1906] год. СПб., [1861 —
1908].
Отчет о деятельности Министерства государственных имуществ с 1862 по 1872 год,
предоставленный государю императору генерал-адъютантом Зеленым. СПб., 1872.
Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России
за [1902—1914] год. СПб.; Пг., [1906—1916].
Отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного испове¬
дания за [1836—1913] год. СПб., [1838—1915].
Отчет Общества вспомоществования уроженцев г. Углича. СПб., 1905.
Отчет Общества изучения Смоленской губернии за 1914 год. Смоленск, 1915.
Отчет Общества попечительного о тюрьмах за [1819—1867] год. СПб. [1821—
1869].
Отчет по Главному тюремному управлению за [1879—1915] год. СПб., [1881—
1916].
Отчет по Главному тюремному управлению за 1903 год. СПб., 1905.
Отчет по Морскому ведомству за 1867 год. СПб., 1868.
Отчет по Морскому ведомству за 1897—1900 года. СПб., 1902.
Отчет по управлению С.-Петербургского купеческого сословия с 1847 по 1856 г.
СПб., 1858.
Отчет по управлению С.-Петербургского мещанского сословия с 1847 по 1856 г.
СПб., 1858.
Отчет тайного советника Сперанского в обозрении Сибири // Прутченко С. Си¬
бирские окраины. СПб., 1899.
Отчет чинов фабричной инспекции Владимирской губернии. Ч. 2 : Специальная
(Таблицы и Приложения), 1894—1897. Владимир, 1899.
Отчет Ярославского благотворительного общества в Санкт-Петербурге за 1913 год.
СПб., 1914.
Отчеты главного врачебного инспектора Министерства внутренних дел за [ 1907—
1912] год. СПб., [1908—1914].
Отчеты III отделения с. е. и. в. канцелярии и корпуса жандармов // Свободная
мысль. 2002. № 3—12; 2003. №1,2.
Положение о способах к улучшению состояния духовенства. [Утв. 6 дек. 1829 г.].
Штаты мужских и женских монастырей епархиального ведомства, получающих со¬
держание от казны. СПб., 1829.
Предсоборное присутствие. Журналы и протоколы заседаний высочайше учреж¬
денного Предсоборного присутствия : в 4 т. СПб., 1906—1907.
Сборник трудов Высочайше учрежденной Комиссии для составления Положения
о всеобщей воинской повинности. СПб., 1873.
Сведения о деятельности Главного тюремного управления за первый год: с 16 июня
1880 г! по 16 июня 1881г. СПб., 1881.
Сведения о положении судебного ведомства в губерниях Московской, Тверской,
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской. СПб., 1863. Ч. 1,2.
(Материалы по судебной реформе в России 1864 года ; т. 30).
Ссылка в Сибирь : Очерк ее истории и современного положения : (Для Комиссии
о мероприятиях по отмене ссылки) / А. П. Саломон (ред.). СПб., 1900.
Стенографический отчет Особого совещания при Министерстве торговли и про¬
мышленности, под председательством министра торговли и промышленности, штал¬
882
Источники и справочная литература
мейстера Д. А. Философова, для обсуждения законопроектов по рабочему законода¬
тельству : в 2 ч. СПб., 1907.
Судьбы России : Проблемы экономического развития страны в XIX—начале
XX в. : Документы и мемуары государственных деятелей / Л. Е. Шепелев (сост.).
СПб., 2007.
Табели к Отчету министра внутренних дел за 1803 г. СПб., 1804.
Табели к Отчету министра внутренних дел за 1804 г. СПб., 1806.
Труды Комиссии, высоч. учрежденной для пересмотра системы податей и сбо¬
ров : в 23 т. СПб., 1862—1877. Т. 4 : Земские повинности, ч. 4 : О постоянной повин¬
ности : [сб. материалов]. 1867.
Труды Комиссии по естественноисторическому районированию СССР : в 2 т. /
С. Г. Струмилин (ред.). М.; Л., 1947.
Труды Комиссии по преобразованию волостных судов : (Словесные опросы кре¬
стьян, письменные отзывы различных мест и лиц и решения волостных судов, съез¬
дов мировых посредников и губернских по крестьянским делам присутствий). СПб.,
1873—1874. Т. 1-45.
Труды Комиссии, учрежденной для пересмотра Устава о паспортах. СПб., 1861.
Ч. 1,2.
Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремеслен¬
ного : в 3 ч. СПб., 1863.
Труды комиссии, учрежденной московским генерал-губернатором кн. В. А. Дол¬
горуким для осмотра фабрик и заводов в Москве : в 2 вып. М., 1882.
Труды Редакционной комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах:
в 6 т. СПб., 1903—1904. Т. 2: Проект положения о крестьянском общественном
управлении.
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. СПб.,
1872. Т. 1,3,6.
Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения, 1833—1843.
СПб., 1864.
Янжул И. И. О деятельности фабричной инспекции: Отчет за 1885 год. СПб.,
1886.
Янжул И. И. Фабричный быт Московской губернии: Отчет за 1882—1883 г.
СПб., 1884.
Янжул И. И. Фабричный быт Псковской губернии. СПб., 1884. С. 40—41.
Обзоры, описания уездов, городов, губерний, местностей
Андросов В. Статистическая записка о Москве. М., 1832.
Быт простого народа в Бобрице // Одесский вестник. 1856. № 26, 27.
Военно-статистическое обозрение Российской империи : Свечин. Московская гу¬
берния. СПб., 1853.
Гастев М. Материалы для полной и сравнительной статистики Москвы : в 2 ч. М.,
1841.
Георги И. Г Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеда¬
ний и других достопамятностей / предисл., примеч. В. А. Дмитриева. 2-е изд. М.,
2007.
883
Источники и справочная литература
Георги И. Г. Описание российско-столичного города Санкт-Петербурга и досто¬
памятностей в окрестностях оного, 1794—1796 гг. СПб., 1996.
Горлов И. Обозрение экономической статистики России. СПб., 1849.
Города и селения Тульской губернии в 1857 году. Перепеч. изд. 1859 г. Тула,
2004.
Дерунов С. Я. Село Козьмодемьянское, Щетинской волости, Пошехонского уезда //
Ярославские губернские ведомости. 1889. 5 сент. Часть неофициальная.
Дюбюк Е. Ф. Ветлужская вотчина Дурново в канун крестьянской реформы и в
первые годы после нее : Подлинные документы Ветлужской вотчины Дурново (из
собрания Д. П. Дементьева). Кострома, 1915.
Икавитц Э. Медико-топографическое описание Тамбовской губернии. М., 1865.
Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1884.
Вып. 1—10.
Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии 1909—1913 гт.
Ч. 3, вып. 1 : Бюджетные исследования крестьянского хозяйства. Пенза, 1923.
Кенигсберг М. М. Опыт медико-топографического исследования города Оренбурга.
СПб., 1886.
Макарий. Материалы для географии и статистики Нижегородской губернии // Сб.
статистических сведений о России, изд. статт. отд-нием РГО. 1858. Кн. 3.
Маркевич Н. А. О народонаселении в Полтавской губернии. Киев, 1855.
Материалы по оценке земель Херсонской губернии. Т. 2 : Елисаветградский уезд.
Херсон, 1886.
Материалы для географии и статистики, собранные офицерами Генерального
штаба:
Афанасьев Д. Ковенская губерния. СПб., 1861.
Баранович М. Рязанская губерния. СПб., 1860.
Бобровский П. Гродненская губерния : в 2 ч. СПб., 1863.
Веймарн Ф. Лифляндская губерния. СПб., 1864.
Деконский Г. К. Пензенская губерния. СПб., 1849.
Домонтович М. Черниговская губерния. СПб., 1865.
ЗащукА. Бессарабская область : в 2 ч. СПб., 1862.
Зеленский И. Минская губерния : в 2 ч. СПб., 1864.
Крживоблоцкий Я. Костромская губерния. СПб., 1861.
Лаптев М. Казанская губерния. СПб., 1861.
Липинский А. О. Симбирская губерния : в 2 ч. СПб, 1868.
Мозель X. Пермская губерния : в 2 ч. СПб., 1864.
Орановский А. Курляндская губерния. СПб., 1862.
Попроцкий М. Калужская губерния : в 2 ч. СПб., 1864.
Сталь Н. Е. Пензенская губерния : в 2 ч. СПб., 1867.
Цебриков М. Смоленская губерния. СПб., 1862.
Шмидт А. О. Херсонская губерния : в 2 ч. СПб., 1863.
Материалы по статистике народного хозяйства по С.-Петербургской губернии.
Вып. 1 : Крестьянское хозяйство в Петергофском уезде. СПб., 1882.
Минх А. Н. Город Аткарск : Материалы для историко-географического описания
Саратовской губернии по рукописям и исследованиям. Аткарск, 1908.
О составе и движении населения по губерниям Нижегородской и Ярославской.
СПб., 1861.
884
Источники и справочная литература
Плещеев С. И. Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном
состоянии. СПб., 1787.
Преображенский В. Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отно¬
шении. СПб., 1854.
Санкт-Петербург, 1703—2003 : юб. стат. сб.: в 3 вып. / И. И. Елисеева, Е. И. Гри¬
бова (ред.). СПб., 2001—2004.
Санкт-Петербург: Исследования по истории, топографии и статистике столицы :
в 3 т. СПб., 1868—1871.
Сборник статистических сведений по Московской губернии. М., 1884. Т. 9.
Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарной
статистики. Т. 4, ч. 2. М., 1893.
Сводный сборник по 12 уездам Воронежской губернии. Статистические материа¬
лы подворной переписи по губернии и Обзор материалов, способов по собиранию их
и приемов по разработке / Ф. А. Щербина (сост.). Воронеж, 1897.
Сельскохозяйственная статистика Саратовской губернии, составленная по сведе¬
ниям, собранным Саратовской комиссией для уравнения денежных сборов с государ¬
ственных крестьян. СПб., 1859.
Соловьев Я. А. Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии. М., 1855.
Статистические сведения о Санкт-Петербурге. СПб., 1836.
Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии за 1926 год : в 2 вып.
М., 1928, 1929.
Статистический ежегодник С.-Петербурга за [1881—1912] год. Год 1—29. СПб.,
[1882—1917].
Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии, 1922 г. Пг,
1922.
Статистическое описание Калужской губернии. Козельский уезд. Вып. 2 : Текст.
Калуга, 1889.
Таблицы к статистическим сведениям о Санкт-Петербурге. СПб., 1836.
Титов А. А. Статистико-экономическое описание Ростовского уезда Ярославской
губернии. СПб., 1885.
Трубников В. В. Результаты народных переписей в Ардатовском уезде Симбир¬
ской губернии // Сборник статистических сведений о России, изданный стат. отд-
нием РГО / В. П. Безобразов (ред.). СПб., 1858. Кн. 3.
Источники личного происхождения
А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Н. И. Гитович, И. В. Федорова
(сост.). М., 1960.
Абашкина М., Илюшина А., Карпухин Ф. Повесть о трех : [Рабочие Раменской
фабрики «Красное знамя»]. М., 1935.
Аксаков С. Т Воспоминания // Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука : воспо¬
минания. М., 1984.
Александр III: Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2001.
Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания / А. Л. Панина (ред.); А. Л. Панина,
Л. Ю. Шульман (подгот. текста, предисл., примеч.). М., 1997.
Антипыч и Прокофьич : (Из воспоминаний старого священника) // Христианин.
1909. №6—7.
885
Источники и справочная литература
Лртынов А. Я. Воспоминания крестьянина села Угодич Ярославской губернии
Ростовского уезда. М., 1882.
Архив графов Мордвиновых : в 10 т. СПб., 1910. Т. 10.
[Барков В. Д.]. История Василия Дмитриевича Баркова, потомственного почетно¬
го гражданина. СПб., 1902.
Бассевич Г. Ф. Записки // Русский архив. 1865. Т. 3.
Берви В. В. Три политические системы: Николай I-ый, Александр Н-ой и Алек¬
сандр Ш-ий : Воспоминания Н. Флеровского. [Лондон], 1897.
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.,
1883.
БлаговоД. Д. Рассказы бабушки : Из воспоминаний пяти поколений. СПб., 1885.
Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека // Воспоминания русских
крестьян XVIII—первой половины XIX века / вступ. ст., сост. В. А. Кошелева ; ком-
мент. Б. В. Мельгунова и др. М., 2006.
Боборыкин П. Д. Воспоминания : в 2 т. М., 1965.
Боборыкин П. Д. За полвека : воспоминания. М., 2003.
Богородицкая А. Я. Нижегородская ярмарка в воспоминаниях современников.
Н. Новгород, 2000.
[Болотов А. Т.]. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков, 1738—1793 : в 4 т. СПб., 1872—1873.
Бруин К. Путешествие в Московию // Россия XVIII в. глазами иностранцев / Ю. А. Ли¬
монов (ред.). Л., 1989.
Брянцев Н. П. Почивший о господе священник о. Петр Дмитриевич Брянцев. Ка¬
зань, 1899.
Будницкий О. ВЭммонс Т. «Большевизм есть несчастье России, но несчастье за¬
служенное» : Переписка В. А. Маклакова и А. А. Кизеветтера // Вестник Архива Пре¬
зидента Российской Федерации. 1996. № 2.
Буйко А. М. Путь рабочего : Воспоминания путиловца. Л., 1964.
Бурышкин П. А. Москва купеческая : мемуары. М., 1991.
В царстве штыков : [Заметки солдата о внутр. строе казарм, жизни]. Н. Новгород,
1908.
[Валуев П. А.]. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел : в 2 т. М., 1961.
«Вашему величеству стоит только указать неприятеля, чтобы поздравить себя
с победой». Всеподданнейшая записка флигель-адъютанта капитана 2 ранга Н. П. Рим¬
ского-Корсакова о жизни и быте флотских офицеров в Севастополе. 1829 г. (А. А. Чер¬
ноусое) // Исторический архив. 2015. № 4.
Верещагин А. В. Дома и на войне, 1853—1881 : воспоминания и рассказы. СПб.,
1886.
Верховская О. П. Картинки прошлого : Из воспоминаний детства. М., 1913.
[Вигель Ф. Ф.]. Записки Филипа Филиповича Вигеля : в 7 т. М., 1891—1893.
Вигель Ф. Ф. История светской жизни императорской России. М., 2008.
Bumme С. Ю. Воспоминания : в 3 т. Таллинн ; М., 1994.
Витте С. Ю. Российское экономическое чудо. М., 2012.
Водовозова Е. Я На заре жизни // Институтки : Воспоминания воспитанниц ин¬
ститутов благородных девиц / сост., подгот. текста и коммент. В. М. Боковой и Л. Г. Са¬
харовой ; вступ. ст. А. Ф. Белоусова. М., 2001.
Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991.
886
Источники и справочная литература
Воспоминания о покойном о. протоиерее села Лежнева Ковровского уезда, Льве
Ивановиче Полисадове // Владимирские епархиальные ведомости. 1877. № 17.
Воспоминания о священнике Смоленской епархии о. Прозоре [Софониевиче] Ма-
лышкине // Смоленские епархиальные ведомости. 1901. № 6.
Врангель Н. Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. М., 2003.
Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны: из записок князя
П. В. Долгорукова. М., 1997.
Вяземская Е. Т. Воспоминания о Рязанском епархиальном женском училище
в 1894 году // Епархиалки : Воспоминания воспитанниц женских епархиальных учи¬
лищ / О. Д. Попова (сост.). М., 2011.
Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни в особен¬
ности сельских учреждений России. М., 1870. Т. 1.
Галахов А. Д. Записки человека / вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. В. М.
Боковой. М., 1999.
Галахов И. Пастырь добрый // Тверские епархиальные ведомости. 1903. № 7—8.
Герцен Л. И. Былое и думы. Л., 1947.
Герцен А. И. К старому товарищу // Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. М., 1954—
1966. Т. 20.
Геттун В. Н. Записки собственно для моих детей // ИВ. 1880. Т. 1.
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1968; М., 1978.
Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе, 1906—1917 гг. : Дневник
и воспоминания. М., 2001.
Глориантов В. И. Из воспоминаний. М., 1905.
Голенкова О. Ю. Политическая жизнь Российской империи конца XIX—начала
XX в. на страницах дневника А. А. Половцова // ВМУ. Сер. 8. История. 2011. № 6.
Головин К. Ф. Мои воспоминания : в 2 т. СПб.; М., 1908, 1910.
Гапон Г. История моей жизни. Л., 1926.
Гончаров В. Ф. Январские дни 1905 г. в Петербурге // Каторга и ссылка. 1932. № 1.
Горький М. Несвоевременные мысли : Заметки о революции и культуре. Пг., 1918.
Государственные деятели России глазами современников: Николай Второй : Вос¬
поминания. Дневники / Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин (ред.). СПб., 1994.
Грулев М. В. Злобы дня в жизни армии. Брест-Литовск, 1911.
Грулев М. В. Записки генерал a-еврея. М., 2007.
Гурко В. И. Воспоминания. Париж, [б. г.].
Гурко В. И. Царь и царица. Киров, 1991.
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого : Правительство и общественность в царст¬
вование Николая II в изображении современника. М., 2000.
[Дашкова Е. P.J. Записки княгини Е. Р. Дашковой. М., 1990.
Деникин А. И. Старая армия : в 2 т. Париж : Родник, 1929, 1931.
[Дервиз П. Г]. Одна из его предсмертных записок // PC. 1885. № 6.
Джунковский В. Ф. Воспоминания : в 2 т. / А. Л. Панина (ред.). М., 1997.
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
Дневник Алексея Сергеевича Суворина / текстол. расшифровка Н. А. Роскиной ; под¬
гот. текста Д. Рейфилда, О. Е. Макаровой. 2-е изд. London : The Garnett Press ; M., 2000.
Дневник посла Германии Г.-Л. Швейница // Новый журнал. 1995. № 1.
Дневник священника / В. И. Байдин и др. (ред.) // Уральский ист. вестник. № 2.
1995.
887
Источники и справочная литература
Дневники Николая II и Александры Федоровны : в 2 т. / В. М. Хрусталев (ред.).
М. 2012.
Друцкой-Соколинский В. А. На службе Отечеству : Записки русского губернатора:
1914—1918. М., 2010.
Дубнов С. М. Книга жизни : в 3 т. Рига, 1934—1940.
Дурново П. Н. Записка // Красная новь. 1922. № 6(10).
Дурылин С. Н. В своем углу : Из старых тетрадей. М., 1991.
Дурылин С. Н. В школьной тюрьме : Исповедь ученика. М., 1909.
Дурылин С. Н. Н. В. Гоголь о детстве, юности, школе и воспитании : Избранные
места из произведений Н. В. Гоголя // Библиотека «Свободного воспитания и образо¬
вания и защиты детей» / И. И. Горбунов-Посадов (ред.). М., 1909. Вып. 27.
Дьяконова Е. А. Дневник русской женщины. М., 2006.
Евлогий, митр. Путь моей жизни. Париж, 1947.
Евстратий [Голованский, Иоанн Антонович]. Исповедь инока (Автобиография).
2-е изд. Киев, 1872.
Екатерина II, имп. Записки. СПб., 1907.
Екатерина II, имп. Наставление к воспитанию внуков. М., 1994.
Екатерина II и Г. А. Потемкин : Личная переписка, 1769—1791 / В. С. Лопатин
(ред.). М., 1997.
Елисеева О. И. Переписка Екатерины II и Г. А. Потемкина периода второй русско-
турецкой войны, 1787—1791. М., 1997.
Епанчин Н. А. На службе трех императоров: воспоминания / [вступ. ст. А. Кав-
тарадзе ; коммент. Д. Матлин, И. Иванов]. М., 1996.
Жемчужная 3. Пути Изгнания: Урал, Кубань, Москва, Харбин, Тянцзин : воспо¬
минания. Tenafly, NJ : Эрмитаж, 1987.
Жуковская Е. И. Записки : воспоминания. М., 2001.
Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова. М.,
1974.
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1883). С семью приложениями.
М., 2002.
Записки графа Федора Петровича Толстого. М., 2001.
Записная книга Пинегеных // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1916.
Вып. 1—2. Отд. 3.
Из автобиографических записок А. Д. Боровкова // PC. 1898. Т. 96, кн. 11.
Иоанн. Исповедь Инока (Автобиография). Им самим написанная. 2-е изд. Киев,
1872.
История от первого лица: Мир северной деревни начала XX века в письменных
свидетельствах сельских жителей / В. Н. Матонина (сост.). Архангельск, 2011.
Тайный)правитель России : Письма и записки, 1866—1895. Статьи. Очерки. Вос¬
поминания / К. П. Победоносцев и его корреспонденты ; Т. Ф. Прокопов (сост.). М,
2001.
Кабегитов И. М. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином,
потом двадцать лет крепостным // Воспоминания русских крестьян XVIII—первой
половины XIX века / вступ. ст., сост. В. А. Кошелева; коммент. Б. В. Мельгунова
и др. М., 2006.
Картины прошлого : (Из семейной хроники священника) // Ярославские епархи¬
альные ведомости. 1900. № 42—48.
888
Источники и справочная литература
Кафафов К Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи / публ.
подгот. 3. И. Перегудова // ВИ. 2002. № 2.
Керн А. П. Воспоминания. Дневник. Переписка. М., 1989.
Ковнер А. Г. Из записок еврея // Евреи в России, XIX век / вступ. ст., сост., подгот.
текста и коммент. В. Е. Кельнера. М., 2000.
Коковцов В. Н. Из моего прошлого : Воспоминания 1903—1919 гг.: в 2 кн. М.,
1992.
Коль И. Г. Москва 1837—1841 : Записки путешественника. М., 2005.
Кореванова А. Г. Моя жизнь. М.; Л., 1936.
Коринейский А. Жизнь сельского священника: (К пятидесятилетию служения
в священном сане настоятеля Св.-Троицкой церкви села Архангельского, Мышкин-
ского уезда, Ярославской епархии, о. Александра Васильевича Голосова [1842—
после 1915]). Тверь, 1915.
[Коровин К А.]. Константин Коровин вспоминает. М., 1990.
Костомаров Н. И. Автобиография. Киев, 2007.
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1840.
Кофод К А. 50 лет в России, 1878—1920. М., 1997.
[Кошелев А. ИJ. Записки А. И. Кошелева. Берлин, 1884.
Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора. Пермь (1911—1914) / Н. Г. Павловский
(ред.). Екатеринбург, 2007.
Кривенко В. С. В Министерстве двора : воспоминания / С. В. Куликов (ред.). СПб.,
2006.
Кригер-Войновский Э. Б. Записки инженера: Воспоминания, впечатления, мысли
о революции. М., 1999.
Кропоткин П. А. Пажеский корпус // Записки революционера. М., 1988.
Крюков Ф. Д. Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на Дону. М., 2012.
Кузминский Г. И. Черта из жизни С.-Петербургского митрополита Гавриила в цар¬
ствование Екатерины II // PC. 1875. Т. 14, № 9.
Кулагин М. Воспоминания об умершем заштатном священнике села Спас-Углов,
Духовщинского уезда [Смоленской губернии], отце Иоанне Симеоновиче Ляшкевиче //
Смоленские епархиальные ведомости. 1894. № 22.
Купеческие дневники и мемуары конца XVIII—первой половины XIX века / А. В. Се¬
менова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа (сост.). М., 2007.
Купреянова А. Я. Из семейных воспоминаний // Богословский вестник. 1914. Т. 1,
№ 4; Т. 2, № 5, 6.
Кюстин А. Николаевская Россия : Россия в 1839 г. М., 1990.
Кюстии А. Россия в 1839 году : в 2 т. М., 1996, 2000.
Левитский М. А. Воспоминания солдата. СПб., 1911.
Лопухин В. Б. Записки бывшего директора департамента Министерства иностран¬
ных дел / С. В. Куликов (ред.). СПб., 2008.
[Лопухин И. В.]. Записки сенатора И. В. Лопухина. М., 1990.
Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века. М., 1990.
Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России (воспоминания).
Париж, 1936.
Маклаков В. А. Вторая Государственная дума. Париж, 1942.
Маклаков В. А. Вторая государственная Дума (воспоминания современника).
London : Overseas Publications Interchange, 1991.
889
Источники и справочная литература
Маклаков В. А. Первая Государственная дума: Воспоминания современника:
27 апреля—8 июля 1906 года. М., 2006.
Манжелей А. Исидор Каленников Кривей // Херсонские епархиальные ведомости.
1870. № 16.
Мантейфель А. П. Детское горе : (Из воспоминаний мирового судьи) // ЮВ. 1889.
№4.
Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2003.
Милюков П. Н. Воспоминания : в 2 т. М., 1990.
Мирославский В. Епархиальный администратор в первой половине XIX в. : Из
воспоминаний о высокопреосвященном Евгении (Казанцеве), архиепископе Ярослав¬
ском (1836—1854) // Пастырский собеседник. 1885. № 17.
Михайлов А. А/. Умственный взор на протекшие лета моей жизни от колыбели
и до гроба (1778—1825) // Душеполезное чтение. 1894. Ч. 3, № 10—12.
[Мнишек Марина]. Дневник Марины Мнишек. СПб., 1995.
Мосолов А. А. При дворе последнего императора: Записки начальника канцеля¬
рии министра двора. СПб., 1992.
Назимов М. Л. В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год: Из воспоминаний
старожила // Русский вестник. 1876. Т. 124, № 7.
Невский В. И. Январские дни в Петербурге 1905 года // Красная летопись. 1922. № 1.
Неученый священник (биографический очерк) // Пензенские епархиальные ведо¬
мости. 1884. № 1.
Никитенко А. В. Дневник : в 3 т. 3-е изд. М., 1955—1956.
Окрейц С. С. Далекие годы : Автобиографическая хроника. СПб., 1899.
Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XV—XVII вв. глазами
иностранцев / Ю. А. Лимонов (ред.). Л., 1986.
Павловский М. Из воспоминаний псаломщика // Новгородские епархиальные ве¬
домости. 1904. №11.
Панов Н. Дневник священника // Душеспасительное чтение. 1874. Ч. 2, № 5.
Пашин П. Воспоминания о жизни и кончине протоиерея Успенской церкви г. До¬
рогобужа Иакова Николаевича Пляшкевича // Смоленские епархиальные ведомости.
1904. №4.
Переписка цесаревича Александра Николаевича с императорм Николаем I, 1838—
1839 / Л. Г. Захарова, С. В. Мироненко (ред.). М., 2008.
Петров Л. П. Воспоминания протоиерея Леонида Петрова. СПб., 1909.
Печерин В. С. Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество
30-х годов XIX в. : мемуары современников / И. А. Федосов (ред.). М., 1989.
Пискарев П. А., Урлаб Л. Л. Милый старый Петербург : Воспоминания о быте ста¬
рого Петербурга в начале XX века / сост., вступ. ст., коммент. А. М. Конечного. СПб.,
2007. )
Письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину // Русский архив. 1871. Т. 12.
Письма ротмистра лейб-гвардии Уланского полка А. В. Поливанова родным (ок¬
тябрь 1916—май 1917 г.)//ВИ. 2012. №9.
[Пиштевич А. С.]. Жизнь Пиштевича, им самим описанная: 1764—1805. М., 1885.
Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крым¬
ской войны: 1853—1856. М., 1874.
Половцов А. А. Дневник Государственного секретаря : в 2 т. М., 1966.
Помещичья Россия по запискам современников / Н. Н. Русов (сост.). М., 1911.
890
Источники и справочная литература
Попов М. С. Воспоминание о трудолюбивом дьячке // Пермские епархиальные ве¬
домости. 1888. № 9.
Попова О. Д О быте и нравах женских епархиальных училищ // Социальная исто¬
рия : электронный научный журнал. 2013. Вып. 1 (1). URL:
https://docviewer.yandex.ru/7urHhttp%3A%2F%2Fwww.icshes.ru%2Fcomponent%2Fflex
icontent%2Fdownload%2F53%2F480%2F 18&name= 18&lang=ru&c=56388df71 edO (дата
обращения: 03.11.2015).
Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951.
Постников И. Н. Записки бежецкого городового старосты: черты городского об¬
щественного быта конца XVIII столетия. Тверь, 1914.
Протоиерей Иаков Семенович Каллистов (воспоминания духовного сына) // Ду-
шеспасительное чтение. 1875. Ч. 3, № 11.
Пурлевский С. Д. Воспоминания крепостного крестьянина, 1800—1868 // Русский
вестник. 1877. Т. 130. № 7, 9.
Пурлевский С. Д Воспоминания крепостного (1800—1868) // Воспоминания рус¬
ских крестьян XVIII—первой половины XIX века / вступ. ст., сост. В. А. Кошелева ;
коммент. Б. В. Мельгунова и др. М., 2006.
Путешествие братьев Демидовых по Европе: письма и подневные журналы 1750—
1761 годы / подгот. текста Г. А. Победимовой при участии С. Н. Искюля. М., 2006.
Путятин Р. Т. Дневник о. протоиерея Родиона Путятина // Христианин. 1909.
Т. 1. № 1—3; Т. 2. № 5—8; Т. 3. № 9—12.
Пятидесятилетие священнослужения протоиерея о. Николая Степановича Розна-
товского // Прибавления к Черниговским епархиальным ведомостям. 1907. № 19,20.
Пятидесятилетний юбилей священства // Новгородские епархиальные ведомости.
1900. № 10.
Равич С. Из наблюдений городского попечителя // Русские записки. 1915. № 12.
Редигер А. Ф. История моей жизни : Воспоминания военного министра : в 2 т. /
[подгот. текста, вступ. ст., примеч. и указ, имен: Л. Я. Сает, Н. В. Ильина]. М.,
1999.
Ремезов А. Страничка из ближайшего прошлого // Екатеринославские епархиаль¬
ные ведомости. 1911. № 28.
Розанов А. И. Записки сельского священника : Быт и нравы сельского духовенст¬
ва. СПб., 1882.
Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004.
Романов А. М, вел. кн. Книга воспоминаний. М., 1991.
Романович-Славатинский А. Воспоминания об Архиве Государственного Совета.
Киев, 1888.
Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев / Ю. А. Лимонов (ред.). Л., 1986.
Рука об руку : (Из воспоминаний сельской матушки) // Народное образование.
1902. Т. 2, кн. 12.
Савинков Б. Воспоминания террориста. М., 2006.
[Седерберг Г.]. Бывшего полкового священника, магистра Генриха Седерберга,
заметки о религии и нравах русского народа во время пребывания его в России с 1709
по 1718 год// ЧОИДР. 1873. Кн. 2. Отд. 4.
Семенов С. Т. Двадцать пять лет в деревне. Пг., 1915.
Сергеевич В. Завод — кузница революции : Рабочий о старом и новом житье бы¬
тье. М., 1929.
891
Источники и справочная литература
Сердюков Л. М. Исторические рассказы и анекдоты из записок Богуславского //
PC. 1879. Т. 26
Сильвестров А. Рождение, воспитание, жизнь и некоторые приключения бывшего
села Башки священника Афанасия Сильвестрова, а ныне в иночестве иеромонаха
Захарии // PC. 1889. Т. 61, № 2.
Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М., 2001.
Скалдин А. Д В захолустье и в столице. СПб., 1870.
Скопин Г. А. Дневная записка пешеходца — саратовского церковника из Саратова
до Киева по разным городам и селам. Бытие в Киеве и обратно из Киева до Саратова //
Саратовский ист. сборник. Саратов, 1881. Т. 1.
Сладкогласов С. П. Из рассказов духовного ветерана // Пензенские епархиальные
ведомости. 1891. № 21, 23, 24; 1892. № 1, 5, 6.
Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней : Записки русского еврея : в 3 т. Париж,
1933—1934.
Смирнов Ф. Из воспоминаний сельского иерея // Архангельские епархиальные ве¬
домости. 1903. № 15.
Собрание писем царя Алексея Михайловича / П. Бартенев (ред.). М., 1856.
Соколов Н. М. Отец Петр [Александрович] Соколов // Смоленские епархиальные
ведомости. 1892. № 10.
Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931.
Спор о России: В. А. Маклаков — В. В. Шульгин : Переписка 1919—1939 гг. /
сост., авт. вступ. ст., примеч. О. В. Будницкий. М., 2012.
Спроге В. Э. Записки инженера // Кригер-Войновский Э. Б. Записки инженера:
Воспоминания, впечатления, мысли о революции. М., 1999.
Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003.
Столыпин Д. А. Священник Александр Афанасьевич Столыпин // Пензенские
епархиальные ведомости. 1894. № 24.
Столяров И. Записки русского крестьянина // Записки очевидца : Воспоминания,
дневники, письма / М. И. Вострышев (сост.). М., 1989.
Суворин А. С. Дневник. М., 1992.
Судьбы России : Доклады и записки государственных деятелей императорам
о проблемах экономического развития страны (вторая половина XIX в.) / Л. Е. Шепе¬
лев (подг. и ред.). СПб., 1999.
Суконщики Поповы : «Записки о московской жизни» и не только / Н. А. Круглян-
ская (сост.). М., 2010.
Сумароков П. Деревенские письма//03. 1861. Т. 138.
Тайны царского двора: (Из записок фрейлин) / И. В. Ерёмина (сост.); О. Г.
Свердлова (ред.). М., 1997.
Тихонов А. А. Как росла моя вера : Отрывки из автобиографии // BE. 1909. № 3—6.
Тихонов В. А. Двадцать пять лет на казенной службе : (Воспоминания отставного
чиновника): в 2 ч. СПб., 1912.
Трубецкая О. Н. Князь С. Н. Трубецкой : Воспоминания сестры. Нью-Йорк : Изд-
во им. А. П. Чехова, 1953.
Тыркова-Вильямс А. В. То, чего больше не будет. М., 1998.
Урусов С. Д Записки : Три года государственной службы. М., 2009.
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы, 1848—1896. М., 1991.
Фет А. А. Воспоминания. М., 1983.
892
Источники и справочная литература
Фет А. А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 1997.
Фигнер В. И. Запечатленный труд : воспоминания : в 2 т. М., 1964.
Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862.
Цензура в России в начале XX века : сб. воспоминаний / Н. Г. Патрушева (сост.).
СПб., 2003.
Чернов В. М. В партии социалистов-революционеров: Воспоминания о восьми
лидерах / вступ. ст., подгот. текста, коммент. А. П. Новикова, К. Хаузера. СПб., 2007.
Чернов В. М. Рождение революционной России (Февральская революция). Па¬
риж ; Прага ; Нью-Йорк : [Б. и., 1934].
Черткова А. К. Из моего детства : воспоминания. М., 1911.
[Чичерин Б. Н.]. Воспоминания Б. Н. Чичерина // Русское общество 40—50-х го¬
дов XIX в. :в2ч. М., 1991.
Чукмалдин Я А/. Мои воспоминания. СПб., 1899.
Шаховская 3. А. Таков мой век. 2-е изд. М., 2008.
Шидловский С. И. Воспоминания : в 2 ч. Берлин, 1923.
Шипов Н. Я. История моей жизни и моих странствий : Рассказ бывшего крепост¬
ного крестьянина Николая Шипова, 1802—1862 гг. // Карпов В. Я. Воспоминания.
М. ; Л., 1933.
Шомпулев В. А. Записки старого помещика / сост., вступ. ст., подгот. текста
А. В. Кумакова. М., 2012.
Щукин Я. Я. Воспоминания. М., 1911.
Энгельгардт А. Я. Очерки институтской жизни былого времени // Институтки :
воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц / сост., подгот. текста
и коммент. В. М. Боковой и Л. Г. Сахаровой ; вступ. ст. А. Ф. Белоусова. М., 2001.
Янжул И. И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого при¬
зыва : Материалы для истории русского рабочего вопроса и фабричного законода¬
тельства. СПб., 1907.
Документальные материалы
«А се грехи злые, смертные...» : Русская семейная и сексуальная культура глазами
историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX—
начала XX века : в 3 кн. / изд. подгот. Н. Л. Пушкарева, Л. В. Бессмертных. М., 2004.
Аграрные проекты / сост., вступ. ст., коммент. В. Н. Колодежного. М., 2010.
Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия : Очерки политической
теории и истории : документальные материалы. М., 1998.
Анимелле Я. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник, изд. РГО:
в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 2. СПб., 1854.
Архангельский А. Село Давшино, Ярославской губ., Пошехонского уезда // Этно¬
графический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 2. СПб., 1854.
Бабарыкин В. Сельцо Васильевское, Нижегородской губ., Нижегородского уезда //
Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Богучарский В. Я. Государственные преступления в России в XIX веке (1825—
1876): Сб. из офиц. изд. правительственных сообщений : в 3 т. Stuttgart: J. Н. W. Dietz
Nachf., 1903—1905.
Богучарский В. Я. Третье отделение собственной его величества канцелярии о се¬
бе самом (неизданный документ) // BE. 1917. № 3.
893
Источники и справочная литература
Водоснабжение и способы удаления нечистот в городах России. СПб., 1912.
Воронов Д. И. Жизнь деревни в дни трезвости : (По данным зем. и др. анкет):
Докл., прочит, в марте 1916 г. в заседаниях Комис. по вопросу об алкоголизме при
Рус. о-ве охранения нар. Здравия. Пг., 1916.
Выборный мировой суд : сб. статей и материалов. СПб., 1898.
Государственная дума в России в документах и материалах / Ф. И. Калиничев
(сост.). М., 1957.
Доброзраков М. Село Ульяновка, Нижегородской губ., Лукояновского уезда // Эт¬
нографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Документы по истории крестьянской общины 1861—1880 гг. / Л. И. Кучумова
(сост.). М., 1987.
Домострой / сост., вступ. ст., пер. и коммент. В. В. Колесова. М., 1990.
Заборский Н. И. [Летопись села Зачатье] // Воспоминания русских крестьян XVIII—
первой половины XIX века / вступ. ст., сост. В. А. Кошелева ; коммент. Б. В. Мельгу-
нова и др. М., 2006.
Заозерская Е. И. Ведомость 1727 г. «О состоянии промышленных предприятий» //
Материалы по истории СССР. Вып. 5 / А. А. Новосельский (ред.). М., 1957.
И. В. Анкета о праздновании различных праздников в Грязовецком уезде Вологод¬
ской губернии // Изв. Архангельского о-ва изучения русского Севера. 1913. № 10.
Иваница А. Домашний быт малоросса, Полтавской губернии, Хорольского уезда //
Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) /
Д. Ю. Арапов (сост.). М., 2001.
Каниевский А. И. Несколько заметок о народной пище в Золотоношенском уезде //
Полтавские губернские ведомости. 1855. № 34.
Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический
сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 3. СПб., 1858.
Кончина и погребение в Бозе почившей государыни Императрицы Марии Алек¬
сандровны великой матери русской земли. М., 1880.
Крестьянское движение в России в 1857—мае 1861 г.: сб. документов / С. Б. Окунь,
К. В. Сивков (ред.). М., 1963.
Крестьянское движение в России в 1796—1825 гг. : сб. документов / С. Н. Валк
(ред). М., 1961.
Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг.: сб. документов / А. В. Пред-
теченский (ред.). М., 1961.
Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг. : сб. документов / С. Б. Окунь
(ред.). М., 1962.
Крестьянское движение в России в 1861—1869 гг. : сб. документов / Л. М. Иванов
(ред.). М.,,1964.
Крестьянское движение в России в 1870—1880 гг.: сб. документов / П. А. Зайонч-
ковский (ред.). М., 1968.
Крестьянское движение в России в 1881—1889 гг. : сб. документов / А. С. Нифон¬
тов, Б. В. Златоустовский (ред.). М., 1960.
Крестьянское движение в России в 1890—1900 гг.: сб. документов / А. В. Шапка-
рин (ред.). М., 1959.
Крестьянское движение в России в 1901—1904 гг. : сб. документов / А. М. Анфи¬
мов (ред.). М., 1998.
894
Источники и справочная литература
Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны. Июль 1914 г. —
февр. 1917 г.: сб. документов / А. М. Анфимов (ред.). М., 1965.
Крестьянское движение в России. Июнь 1907 г. — июль 1914 г.: сб. документов /
А. В. Шапкарин (ред.). М., 1966.
«Кровь по совести» : Терроризм в России : документы и биографии / О. В. Буд¬
ницкий (ред.). Ростов н/Д, 1994.
Курц Б. Г. Состояние России в 1650—1655 гг. по донесениям Родеса. М., 1914.
Лебедев Н. Быт крестьян Тверской губ., Тверского уезда // Этнографический
сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Малыхин П. Быт крестьян Воронежской губ., Нижнедевицкого уезда // Этногра¬
фический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Материалы для истории крепостного права в России : Извлечения из секретных
отчетов МВД за 1836—1856 гг. Berlin : В. Behr’s Buchh (Е. Bock), 1872.
Материалы для истории Московского купечества / Н. А. Найденов (ред.). М.,
1896, 1899. Т. 3,4.
Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России (Издано МВД
по сведениям, доставленным от начальников губерний). СПб., 1865.
Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти
XVIII в. М., 1951.
Материалы по судебной реформе в России 1864 года : в 76 т. СПб., 1857—1864.
Машкин А. С Быт крестьян Курской губернии, Обоянского уезда // Этнографиче¬
ский сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 5. СПб., 1862.
Морачевич Я. Село Кобылья, Волынской губернии // Этнографический сборник,
издаваемый РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1. СПб., 1853.
Морозов Б. Еврейская эмиграция в свете новых документов : сб. документов.
Тель-Авив : Тель-Авивский ун-т, 1998.
Наказ приходского духовенства г. Вереи в Комиссию о сочинении проекта Нового
Уложения // Сб. РИО. 1894. Т. 93.
Наказ Святейшего Синода в Комиссию о сочинении проекта нового Уложения //
Сб. РИО. 1885. Т. 43.
Национальная политика в императорской России: цивилизованные окраины /
Ю. И. Семенов (сост.). М., 1997.
Начальное и среднее образование в Санкт-Петербурге: XIX—начало XX века : сб.
документов / Н. Ф. Никольцева (сост.). СПб., 2000.
Небольсин П. И Около мужичков//03. 1861. Т. 138.
Николай I и его время : Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства совре¬
менников и труды историков : в 2 т. / сост., вступ. ст. и коммент. Б. Н. Тарасова. М., 2000.
О мученической кончине Царя-Освободителя и последние минуты жизни его. Пе¬
ренесение тела в Бозе почившего государя императора Александра Николаевича из
Зимнего дворца в Петропавловский собор и погребение его. СПб., 1881.
Описание архива Александро-Невской Лавры. СПб.; Пг., 1911, 1916. Т. 2, 3.
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствую¬
щего Синода : в 50 т. СПб., 1868—1914. Т. 16, 18, 20.
Опись дел Архива Государственного совета. Т. 16 : Дела Государственного совета
и государственной канцелярии. СПб., 1912.
П. А. Столыпин : Программа реформ : документы и материалы : в 2 т. / П. А. По-
жигайло (ред.). М., 2002.
895
Источники и справочная литература
Падение царского режима : Стенографические отчеты допросов и показаний, дан¬
ных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства:
в 7 т. / П. Е. Щеголев (ред.). М.; Л., 1926—1927.
Пермский сборник : в 3 кн. М., 1859.
Першин П. Н. Организация территории трудового хозяйства при предстоящей зе¬
мельной реформе. Пг. 1917. (Труды комиссии по подготовке земельной реформы при
Главном земельном комитете ; вып. 5).
Платонов С. Ф. Книга расходная С.-Петербургского комиссариатства Соляного
правления 1725 г. // Летопись занятий Археографической комиссии, 1926. СПб.,
1927. Вып. 1/31.
Политическая полиция и политический терроризм в России. Вторая половина
XIX—начало XX в.: сб. документов / Е. И. Щербакова (сост.). М., 2001.
Положение рабочих Урала во второй половине XIX—начале XX века, 1861—
1904 : сб. документов / И. А. Бакланова, И. П. Шаскольский (сост.). М. ; Л.,
1960.
Попова С. С. Между двумя переворотами : Документальные свидетельства о со¬
бытиях лета 1917 года в Петрограде (по французским и российским архивным источ¬
никам). М., 2010.
Потолов С. И. Георгий Гапон и либералы (новые документы) // Россия в XIX—
XX вв. : Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина / А. А. Фурсенко
(ред.). СПб., 1998.
Преображенский А. И. Волость Покрово-Сицкая Ярославской губернии Молож-
ского уезда // Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1.
СПб., 1853.
Преображенский А. И. Приход Станиловский на Сити, Ярославской губ., Молож-
ского уезда // Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1.
СПб., 1853.
Приговоры и наказы крестьян Центральной России: 1905—1907 гг. : сб. докумен¬
тов / Л. Т. Сенчакова (ред.). М., 2000.
Прилежаев Е. М. Наказ и пункты депутату от Святейшего Синода в Екатеринин¬
скую комиссию о сочинении нового Уложения // Христианское чтение. 1876. Т. 2.
Разложение армии в 1917 г.: [сб. документов]. М.; Л., 1925.
Разумихин С. Село Бобровки [Тверской губ., Ржевского уезда] и окружный его
околоток // Этнографический сборник, изд. РГО : в 63 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 1.
СПб., 1853.
Россия и мировой бизнес: дела и судьбы: А. Нобель, А. Ротштейн, Г. Спитцер,
Р. Дизель : [сб. архивных документов] / В. И. Бовыкин (ред.). М., 1996.
Рубцова М. А. Этнографические материалы на страницах «Известий Архангель¬
ского )общества изучения русского Севера» (1909—1917 гг.): тематико-библиогр.
указатель // Русский Север : Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992.
Руднев А. Село Голун и Новомихайловское, Тульской губ., Новосильского уезда //
Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 2. СПб., 1854.
Русские крестьяне : Жизнь. Быт. Нравы : Материалы «Этнографического бюро»
кн. В. Н. Тенишева / авт.-сост. И. И. Шангина; рук. проекта В. М. Грусман; науч.
ред. Д. А. Баранов, А. В. Коновалов. СПб., 2004—2008. Т. 1 : Костромская и Тверская
губернии; Т. 2, ч. 1,2: Ярославская губерния; Т. 3 : Калужская губерния; Т. 4:
Нижегородская губерния; Т. 5, ч. 1—5 : Вологодская губерния; Т. 6: Курская,
896
Источники и справочная литература
Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии; Т. 7,
ч. 1—4 : Новгородская губерния.
Русские либералы, кадеты и октябристы : документы, воспоминания, публи¬
цистика. М., 1996.
С.-Петербургские столичные мировые установления и Арестный дом в 1889 году :
отчеты. СПб., 1890.
С.-Петербургские столичные мировые учреждения 20 ноября 1864 г.: справ, сб.
СПб., 1885.
Сб. сведений для изучения быта крестьянского населения России : (Обычное пра¬
во, обряды, верования и пр.) / Н. Н. Харузин (ред.). М., 1889. Вып. 1.
Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины. Издание Воль¬
ного экономического и Географического обществ / Ф. Л. Барыков, А. В. Половцов,
П. А. Соколовский (ред.). СПб., 1880. Т. 1.
Сборник материалов об артелях в России : в 2 вып. СПб., 1873, 1874.
Сборник сведений для изучения быта сельского населения России. М., 1889—
1891. Вып. 1—3.
Святловский В. В. Фабричный рабочий : Исследование здоровья русского
фабричного рабочего. Санитарное положение фабричного рабочего в Привис-
линском крае и в Малороссии (из наблюдений фабричного инспектора). Варша¬
ва, 1889.
Сизова О. В. Российское дворянство в первой половине XIX века: создание еди¬
ной информационной системы (на примере Ярославской губернии). URL: http://
www.aik-sng.ru/text/bullet/30/40.html (дата обращения 03.11.2015).
Снохачество в дер. Паниной, Васильевской волости Егорьевского уезда // Приок-
ская жизнь. 1911. № 3.
Соколов Г. Этнографические сведения о государственных крестьянах Тульской
губернии // Тульские губернские ведомости. 1861. № 8—17, 25—27, 40—52. Часть
неофициальная.
Сперанский М. М. План государственного преобразования России. М., 1905.
Степанов В. И. Сведения о родильных и крестильных обрядах в Клинском уезде
Московской губернии // ЭО. 1906. № 3—4.
Сто лет назад : Письмо [П. И. Рычкова] о земледельстве в Казанской и Оренбург¬
ской губернии // Зап. имп. Казанского об-ва. 1859. № 1.
Стратилатов. Несколько слов мещанина о мещанах // Парус. 1855. № 1.
Судебные речи известных русских юристов / М. М. Выдря (ред.). М., 1958.
Троицкий П. Село Липицы и его окрестности, Тульской губ., Каширского уезда //
Этнографический сборник, изд. РГО : в 6 вып. СПб., 1853—1864. Вып. 2. СПб., 1854.
Феноменов М. Современная деревня : Опыт краеведческого обследования одной
деревни (деревня Гадыши, Валдайского уезда, Новгородской губернии): в 2 ч. М.;
Л., 1925.
Филарет (Дроздов), митр. Собр. мнений и отзывов... по учебным и церковно¬
государственным вопросам : в 5 т. М., 1885—1888.
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Оло¬
нецкой губернии // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1894. Вып. 3.
Чернышев И. В. Община после 9 ноября 1906 г. : (По анкете ВЭО). Пг., 1917.
Шестаков М. В. Алфавитный список дворян Тамбовской губернии... — как источ¬
ник по изучению социальной истории провинциального дворянства конца XVIII—
897
Источники и справочная литература
первой половины XIX в. URL: http://www.tambovdem.ru/thesises.php?id=conference.
shestakov (дата обращения 03.11.2015).
Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалисти¬
ческой революции. Март—октябрь 1917 г.: документы и материалы : в 3 ч. / А. Л. Си¬
доров (ред.). М. ; Л., 1957, 1967.
From Supplication to Revolution : A Documentary Social History of Imperial Russia /
G. L. Freeze (ed.). New York ; Oxford : Oxford University Press, 1988.
The Russian Provisional Government. Documents / R. P. Browder, A. F. Kerensky
(eds.). Stanford, CA : Stanford University Press, 1961. Vol. 1.
Газеты и журналы
Биржевые ведомости. СПб., 1861—1879.
Ведомости (недельные, месячные и третные) Санкт-Петербургской распоряди¬
тельной думы о справочных ценах в С.-Петербурге на все вообще припасы и мате¬
риалы. 1853—1917. СПб., 1853—1917.
Ведомости С.-Петербургской городской полиции. СПб., 1839—1873.
Ведомость, учиненная в С.-Петербургской городской думе из поданных от ряд-
ских старост сведений, по каким ценам покупались разные нужнейшие припасы рос¬
сийские в С.-Петербурге на пристанях, площадях и рынке в [1832, 1834, 1835, 1836]
году. Рукописная. РНБ.
Волгарь. 1893. 24 февр. № 44.
Коммерческая газета. СПб., 1825—1860.
Нива. СПб., 1870—1918.
Посредник промышленности и торговли. СПб., 1840—1855.
Санкт-Петербургские ведомости. СПб., 1728—1917.
Санкт-Петербургские коммерческие ведомости. СПб., 1802—1810.
Санкт-Петербургский прейскурант, изданный от государственной Коммерц-
Коллегии. СПб., 1806—1814, 1816—1824, 1830—1857.
Северная почта. СПб., 1809—1819.
Северная пчела. СПб., 1825—1864.
Словари, справочники, энциклопедии
Андреева И. В. Русская деревня — XX век : культурологический словарь. М,
2003.
Барышников М. Я Деловой мир России : ист.-биогр. справ. СПб., 1998.
Большая советская энциклопедия : в 30 т. 3-е изд. М., 1975—1978.
Больший толковый психологический словарь : The Penguin : в 2 т. М., 2001.
большой толковый социологический словарь : Collins : в 2 т. М., 1999.
Борисов С. Б. Энциклопедический словарь русского детства: в 2 т. Шадринск.
2008.
Брук С. И. Население мира : этнодемографический справ. М., 1981.
Власова М. Я. Русские суеверия : энцикл. словарь. СПб., 2001.
Военная энциклопедия. СПб. ; Пг., 1911—1915. Т. 1—18. Изд. не завершено.
Военный энциклопедический словарь : в 2 т. М., 2001.
Всероссийское Учредительное собрание : энцикл. / Л. Г. Протасов (сост.). М., 2014.
898
Источники и справочная литература
Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : энцикл. / В. В. Шелоха-
ев и др. (ред.). М., 2008.
Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сослов¬
ные органы и органы местного самоуправления, единицы административно-терри¬
ториального, церковного и ведомственного деления. Конец XV—февраль 1917 г.:
словарь-справ. : в 6 кн. М., 2001—2009. Кн. 1—4 : Государственные и церковные уч¬
реждения, сословные органы и органы местного самоуправления, единицы админи¬
стративно-территориального, церковного и ведомственного деления; Кн. 5, ч. 1,2:
Должности, чины, звания, титулы и церковные саны России, конец XV века—
февраль 1917 года. М., 2005; Кн. 6, ч. 1,2: Документация государственных и церков¬
ных учреждений, сословных органов, органов местного управления, единицы адми¬
нистративно-территориального, церковного и ведомственного деления. М., 2009.
Государственные деятели России XIX—начала XX в. : биогр. справ. / И. И. Линь¬
ков и др. (сост.). М., 1995.
Государственный совет Российской империи 1906—1917 : энцикл. / В. В. Шело-
хаев (ред.). М., 2008.
Даль В. Я. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1994.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 ч. 3-е изд. /
И. А. Бодуэн де Куртенэ (ред.). СПб., 1903—1911.
Девятов С. В., Зимин И. В. Двор российских императоров : Энциклопедия жизни
и быта : в 2 т. М., 2014.
Демидова Я. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700) : биогр.
справ. М., 2011.
Демографический энциклопедический словарь / Д. И. Валентей (ред.). М, 1985.
Деятели революционного движения в России : От предшественников декабристов
до падения царизма: биобиблиогр. словарь : в 2 т. / под ред. Вл. Виленского-
Сибирякова, Ф. Кона, А. А. Шилова [и др.]. М, 1927—1930.
Еврейская энциклопедия : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом
и настоящем : в 16 т. СПб., 1908—1913.
Екатерина II Великая : энцикл. / М. Л. Вольпе (ред.). М., 2008.
Жукова А. В. Дворянские и купеческие роды России : Полная энциклопедия дво¬
рянских и купеческих фамилий царской России. Ростов н/Д ; М., 2008.
Зварич В. В. Нумизматический словарь. 3-е изд. Львов, 1979.
Ильин И. П. Постмодернизм : словарь терминов. М., 2001.
Казачество : энцикл. / А. П. Федотов (гл. ред.). М., 2003.
Краткая еврейская энциклопедия : в 7 т. / И. Орен, Н. Прат (ред.). [Репр. изд.] М.,
1996.
Краткий словарь по социологии / Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапин (ред.). М., 1988.
Критический словарь Русской революции, 1914—1921 гг. / Э. Актон, У. Г. Розен¬
берг, В. Ю. Черняев (сост.). СПб., 2014.
Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия (1797—1917) : биобиблиогр.
справ. / Д. Н. Шилов (ред.). Изд. 2-е. СПб., 2011.
Культурология, XX век : энцикл. : в 2 т. / С. Я. Левит (ред.). М., 2007.
Лаппо Г. М. Города России : энцикл. М., 1994.
Минх А. Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Т. 1. Вып. 4.
Лит. Х.-Ф. Южные уезды Камышинский и Царицынский. Аткарск, 1902.
Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. / С. А. Токарев (гл. ред.). 2-е изд. М., 1994.
899
Источники и справочная литература
Моруков Ю. Н. История органов правопорядка России в точных датах : хронол!
гический справ. М., 2007.
Мужики и бабы : Мужское и женское в русской традиционной культуре : ил. э]
цикл. / И. И. Шангина (ред.). СПб., 2005.
Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг. : материалы для бш
графий / изд. подгот. Д. Н. Шилов. СПб., 2011.
Народы России : энцикл. / В. А. Тишков (ред.). М., 1994.
Нижник Н. С, Сальников В. П., Мушкет Я. И. Министры внутренних де
Российского государства (1802—2002): биобиблиогр. справ. СПб., 2002.
Новейший философский словарь : Постмодернизм. Минск, 2007.
Общественная мысль России XVIII—начала XX века : энцикл. / В. В. Журавле
(ред.). М., 2005.
Политические деятели России, 1917 : биогр. словарь / П. В. Волобуев (ред.). М
1993.
Политические партии России. Конец XIX—первая треть XX в.: энцикл. / В. В. Ш*
лохаев (ред.). М., 1996.
Политология : энцикл. словарь / Ю. И. Аверьянов (ред.). М., 1993.
Полная энциклопедия быта русского народа : в 2 т. / И. Панкеев (сост.). М., 1998.
Полный православный богословский энциклопедический словарь : в 2 т. М., 1992.
Роббинс Р. X Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1996.
Родосский А. С. Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов С.-Пе
тербургской духовной академии: 1814—1869. СПб., 1907.
Романенко Л. М. Гражданское общество (социологический словарь-справочник
М., 1995.
Российская еврейская энциклопедия / Г. Г. Брановер (ред.). М., 1994—1995. Т. 1,2.
Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / В. В. Давыдов (ред.). М., 1993.
Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты : энцикл. словарь
М. П. Мчедлов (ред.). М., 2001.
Российское казачество : науч.-справ. изд. / Т. В. Таболина (отв. ред.). М., 2003.
Россия : Полный энциклопедический справочник в картах, схемах, таблицах
П. Дейниченко (авт.-сост). М., 2010.
Русская периодическая печать (1702—1894): справ. / А. Г. Дементьева, А. В. За
падова, М. С. Черепахова (ред.). М., 1959.
Русские дети: основы народной педагогики : ил. энцикл. / И. И. Шангина (ред.)
СПб., 2006.
Русский биографический словарь. М.; СПб. ; Пг., 1896—1918. Т. 1—25. Изд. ж
завершено.
Русский демонологический словарь / Т. А. Новичкова (авт.-сост.); П. С. Кузьми¬
чев,(ред.). СПб., 1995.
Святая Русь : Большая энциклопедия русского народа : Русское хозяйство / О. А. Пла¬
тонов (ред.). М., 2006.
Серков А. И. Русское масонство, 1731—2000 : энцикл. словарь. М., 2001.
Славянофилы : ист. энцикл. / О. А. Платонов (ред., сост.). М., 2009.
Славянская мифология : энцикл. словарь : А—Я / В. Я. Петрухин и др. (ред.). М.,
1995.
Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—2014. Вып. 1—25. Изд. не завер
шено.
900
Источники и справочная литература
Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984—2013. Вып. 1—20. Изд. не завершено.
Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М., 1954—1965.
Смолин М Б. Энциклопедия имперской традиции русской мысли. М., 2005.
Советская историческая энциклопедия : в 16 т. М., 1961—1976.
Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка : в 4 т. М., 1989.
Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. 3-е изд. СПб., 2001.
Три века Санкт-Петербурга : энцикл.: в 3 т. Т. 1 : Осьмнадцатое столетие : в 2 кн. /
П. Е. Бухаркин (ред.). СПб., 2001.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1986.
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX ве¬
ка. М., 1998.
Христианство: энцикл. словарь : в 3 т. / С. С. Аверинцев, А. Н. Мешков и Ю. Н. Попов
(ред.). М., 1993—1995.
Черная сотня : ист. энцикл. / А. Д. Степанов, А. А. Иванов (сост.); О. А. Платонов
(ред.). СПб., 2008.
Черных Я. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка :
в 2 т. М., 1994.
Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники : энцикл. СПб., 2003.
Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2004.
Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи: Главы высших
и центральных учреждений (1802—1917): биобиблиогр. справ. СПб., 2001.
Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской импе¬
рии, 1801—1906 : биобиблиогр. справ. СПб., 2007.
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энцикл. : в 2 т. /
Ю. А. Петров (рук. проекта, отв. ред.). М., 2008.
Энциклопедический словарь : в 41 т. / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб.,
1890—1907.
Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат:
в 58 т. 7-е изд. М., 1910—1948.
Энциклопедия государства и права : в 3 т. / П. Стучка (ред.). М., 1925—1927.
Энциклопедия семейного воспитания : в 59 вып. / П. Ф. Каптерев (ред.). СПб.,
1898—1910.
Полный список литературы объемом 24 авт. л. включает более 8000 названий
книг, диссертаций и статей. Издательство по согласованию с автором решило его не
публиковать. С ним можно ознакомиться на интернет-сайте автора Б. Н. Миронова:
http://bmironov.spb.ru
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А. Г. 11,319
А. 3. III, 158, 162
Абашин С. Н. I, 84, 288, 296
Абашкина М. 1,777; III, 885
Абдурахимова Н. I, 288
Абрамов В. Ф. II, 644
Абрамов Я. I, 482,489; II, 337
Авалиани С. II, 630
Авалиани С. Л. II, 630
Аввакум, протопоп I, 364
Август, император римский II, 359,382
Авдеев А. I, 509, 627, 642
Авдеев В. А. I, 302; II, 683
Аверинцев С. С. 1, 781; III, 583, 901
Аверьянов К. А. I, 95, 292, 862, 864;
II, 432; III, 900
Аверьянов Ю. И. II, 848
Авксентьев В. А. I, 318
Аврех А. Л. I, 312
Аврех А. Я. II, 330,640,648,675,859,864
Аврутина Л. Г. II, 627
Автономов В. С. II, 318; III, 582
Агеева О. Г. I, 318; II, 633, 865, 875;
III, 702, 705
Аграновская М. I, 304
Агринская Е. И. III, 403, 855
Адаменко Е. А. II, 884
Азерникова И. П. II, 871
Азеф Е. Ф. II, 802, 903; III, 838
Айвазова С. II, 883; III, 893
Айзенштат М. II, 848, 849
Аймермахер К. I, 289; III, 707
Айрапетов О. Р. 1,293, 635; II, 877
Айрапетян И. Ю. II, 637
Акельев Е. В. III, 162
Акиньшин А. Н. II, 667
Акманов И. Г. 1,298, 301
Акользина М. К. I, 490, 631,768
Аксаков И. С. I, 375; II, 623, 709, 712
Аксаков К. С. 11,712
Аксаков С. Т. I, 723, 777; III, 305, 366,
885
Аксаковы I, 168; II, 63
Аксенов А. И. I, 288, 628; III, 548, 889
Аксенов В. Б. II, 865
Актон Э. III, 899
Акульшин П. В. II, 342, 669
Алеврас Н. Н. I, 486, 494; II, 864;
III, 572
Александер Дж. II, 852
Александр I Павлович I, 146, 169,182,
183, 205, 343, 349, 355, 793; II, 40,
41,56, 80, 118, 123,287,317, 381,
387, 389, 394, 395, 397, 400, 403,
424, 426, 432, 434, 484, 485,496,
514, 527, 611,612, 649, 650, 670,
672, 684, 689, 701, 704—706, 708,
727, 734, 762, 765, 782, 787, 792,
815, 852, 853, 869; III, 67, 89, 120,
132, 211, 229, 603, 658, 819, 820,
822
Александр II Николаевич 1, 177,284,
299; И, 12, 13, 80, 86—88, 92, 93,
114, 116, 289,317,389, 405, 407,
408, 424, 434, 460, 484, 485, 508,
540, 610, 643, 668, 669, 673, 680,
681, 714, 723, 730, 734, 740, 761,
762, 764—767, 774, 780, 782, 788,
789, 791, 797, 815, 852, 856, 868,
869, 870; III, 37, 56, 110, 120, 127,
134, 343, 432, 441, 562, 610,632,
659, 827, 828, 830, 831, 868, 874,
886, 890, 895
Александр III Александрович 1,177,
180, 187, 303, 462, 463, 487, 735;
II, 13, 348, 402, 408—411,424,434,
479, 510, 511, 559, 610, 643, 650,
661,673,715,717,719, 730, 731,
736, 764, 767, 762, 782, 791, 792,
797, 805, 835, 857, 859, 869, 898,
903; III, 46, 81, 120, 134, 429,731,
831,834, 885, 886
Александра Федоровна, императрица
II, 730, 789, 810, 865; III, 319,888
902
Указатель имен
Александров В. А. I, 297, 635, 666,
762—764, 766; 11,119,313,314,
316,317,319; 111,344, 359, 563
Александров П. А. III, 86
Александров Ю. Г. II, 320
Алексеев В. В. I, 73, 295, 492
Алексеев Г. Д. III, 331, 854
Алексеев С. Г. II, 317, 322
Алексеева Е. В. I, 295; III, 640, 701
Алексеева И. В. I, 293; II, 647
Алексеева С. И. II, 634
Алексеенко М. 1,483
Алексей Михайлович, царь 1,613, 643;
II, 361, 365, 367, 628—631, 730, 864;
III, 148, 807
Алексей Петрович, царевич III, 34,
662
Алексушин Г. В. II, 651
Аленицин В. Д. III, 876
Алефиренко П. К. II, 851
Алмазов А. I, 638; III, 564
Алферов Н. Ф. I, 105, 881
Алымбаев Ж. Б. I, 288
Альдин С. К. II, 320
Альтшуллер II, 855
Аманжолова Д. А. I, 291; II, 877
Ананьев Д. А. I, 290
Ананьин С. А. III, 558
Ананьич Б. В. I, 319; II, 119, 643, 859;
III, 887
Андерсон Б. I, 28, 290, 305
Андерсон П. II, 374, 632
Андреев А. И. I, 295
Андреев А. Л. II, 628; III, 703
Андреев А. Р. I, 861; II, 623; III, 359
Андреев А. Ю. I, 71; III, 704
Андреев Д. А. I, 28; II, 888
Андреев Н. В. I, 860, 862
Андреев Ф. I, 772
Андреева И. В. III, 898
Андреева И. Н. III, 588
Андреева Л. А. II, 633, 685
Андреева Н. Б. II, 336
Андреева Н. С. I, 182, 304
Андреева Т. А. 1,486; II, 636, 862
Андреева Т. В. И, 113,623,713,854,
855, 868, 869, 873; III, 881
Андреева-Бальмонт Е. А. III, 515,585,885
Андреевский Л. И. I, 779; II, 126
Андрианов С. А. III, 153
Андросов В. 1,633; III, 883
Анимелле Н. III, 360—362, 893
Анисимов В. И. II, 123, 323
АнисимовЕ. В. II, 851; III, 162
Аничков Е. В. III, 147
Анна Иоанновна II, 38, 379, 387, 851;
III, 887
Анненков К. Н. Ill, 150,151
Анненков П. В. II, 744
Анохин Г. И. III, 703
Анохина Л. А. I, 770, 776; III, 557
Айсберг О. Н. III, 550
Антипина О. III, 747
Антипыч III, 356, 885
Антропов П. А. I, 283; III, 869
Анучин В. А. I, 311
Анучин Д. Г. II, 767
Анучин Е. Н. I, 642, 774; II, 121, 336;
III, 153
Анфимов А. М. I, 482, 483, 491, 494,
767; II, 102, 129—131, 241, 320, 322,
323, 326, 330, 331, 444, 580, 653,
657, 856, 859, 864, 868; III, 148, 874,
894, 895
Анциферов К. II, 670,671; III, 153
Анциферова Л. И. I, 492, 770; II, 126
Аншаков Ю. П. II, 625, 675
Апкаримова Е. Ю. II, 280, 328
Араловец Н. А. I, 776; III, 368
Арапов Д. Ю. I, 288, 293; III, 894
Арбатский Ф. П. II, 858
Аргамакова С. I, 773
Аристов Н. II, 318
Арканникова М. С. II, 862
Армеев В. III, 367
Арнольди К. И. I, 204
Аронов А. А. II, 881
Аронсон Г. Я. I, 307
Аронсон М. И. II, 871
Аронсон Э. III, 581
903
Указатель имен
Арсентьев Н. М. I, 633, 768, 861;
III, 343, 557
Арсеньев К. И. I, 262, 518, 631, 642;
III, 555, 869
Арсланов Р. А. II, 871
Артамонова Л. М. II, 265, 336, 734,
860; III, 496, 578
Артынов А. Я. III, 886
Арутюнов С. А. II, 866
Арутюнян Ю. В. Ill, 543
Архангельский А. III, 361, 362, 893
Архангельский Г. И. I, 636, 765
Архангельский П. Г. II, 314
Архипов А. Е. II, 188, 897; III, 450, 856
Архипова Т. Г. II, 626
Арциховский А. В. II, 629; III, 575
Арье Л. III, 707
Арьес Ф. I, 784; III, 580, 583
Аскольдов С. А. II, 739, 861
Асочакова В. Н. I, 484; III, 351
Астанин В. В. II, 670, 672
Астров Н. И. II, 847, 889
Астров П. И. III, 158,159
Астырев Н. М. II, 326; III, 108, 159, 562,
564
Атапин Н. Б. III, 161, 164
Аткинсон Д.-А. III, 438, 855
Аттеигофер Г. Л. I, 641
Аузан А. III, 543, 746
Ауст М. I, 295; III, 706, 707
Афанасьев Д. III, 272, 361, 884
Афанасьев И. Л. I, 306
Афанасьев М. Н. II, 341, 624, 637,655,
665, 668
Афиногенов А. О. I, 586, 635, 636, 638,
644
Афонцев С. А. III, 574
Ахиезер А. С. III, 676, 708
Ахромеев И. А. II, 667
Ашанин Е. А. I, 492
Ашевский С. II, 869
Аяцков Д. Ф. II, 115, 321,329, 637
Бабарыкин В. II, 315,640,862; III, 360—
363, 893
Бабашкин В. В. II, 318, 321, 327; I
II, 548, 550, 572
Баберовски Й. II, 553,666,677
Бабич И. В. II, 668
Бабич М. В. II, 650, 668
Бабкин М. А. I, 14, 383,488; II, 634, 683
Бабушкина О. Ю. I, 487; III, 352
Багалей Д. И. 1,294,639
Баганова М. II, 866
Бадцели Дж. I, 301
Баженов И. В. 1,740
Базанов С. Н. II, 683
Базаров В. А. I, 420,497; III, 871
Байгузин Р. Н. II, 641, 854
Байдин В. И. III, 887
Баикина А. III, 557
Байрау Д. 1,24,861; II, 115,127,319,
679,682; III, 434, 554, 566, 705
Баканов С. А. II, 125,660; III, 572
Бакланова Л. С. I, 14
Бакланова Е. Н. I, 519,642,653,762,
763, 765
Бакланова И. А. III, 570, 896
Бакунин М. А. II, 41
Бакшутова Е. В. III, 556
Балалыкин Д. А. II, 630
Баландин Н. И. I, 768; III, 869
Балановский О. Б. I, 301
Балашов Н. И. III, 555
Балдин К. Е. II, 882
Балзер X. I, 502
Баллод К. I, 534; III, 869
Балмашев С. В. II, 838, 905
Балов А. В. I, 640, 769
Балуев Б. П. II, 870; III, 555
Балыкина М. И. II, 339
Бапьжанова Е. С. I, 486
Бальзак, Оноре де I, 778; III, 468
Балюк Н. А. I, 493
Банникова Е. В. 1,489, 490
Банных С. Г. I, 310
Барабаш В. В. I, 287; III, 707
Барабаш М. Н. III, 548
Баранов Д. А. 1,14; II, 320,322;
III, 368, 896
904
Указатель имен
Баранович М. 1,491,774; III, 361,364,
884
Баранский Н. I, 294
Барзилов С. И. 1,288; III, 555
Баринова Е. П. I, 474, 504; II, 547, 549,
550,675
Барклай де Толли II, 364
Барков В. Д. I, 776; III, 886
Барковец О. II, 857
Барретт Т. М. I, 295
Барриве Л. II, 643,673,870
Барсов Е. В. II, 628,851
Бартапь И. I, 310
Бартенев П. 1,643; III, 892
Бартлетт Р. П. 1,492; II, 120
БаршевС. III, 151
Барыков Ф. Л. 1,892; II, 907; III, 157,
861,897
Барышников М. Н. I, 490; И, 338, 898
Басалаева И. П. 1, 109, 295
Басин В. Я. I, 288
Бассевич Г. Ф. Ill, 147, 886
Батеньков Г. С. II, 527, 672
Батунский М. А. III, 703
Батюшков (сост.). III, 875
Бауман Н. Е. II, 799, 800,903
Бахмутская Е. В. III, 567
Бахрушин С. В. II, 334; III, 576
Бахтияров А. А. 1,864
Бахтурина А. Ю. I, 292, 296
Бачинин В. А. II, 848
Башмачкин А. А. I, 577; II, 526; III, 301
Бгажноков Б. X. III, 580, 587
Бебутов Д. И. II, 886
Бегичев Д. Н. II, 339
Бегичев, сенатор II, 673
Безансон А. III, 708
Безбородко А. А. II, 384
Безгин В. Б. I, 634, 639, 643, 773, 774;
11,321,322; III, 155, 548
Безобразов В. П. III, 158,576,885
Безобразов Н. II, 314
Бекасова А. I, 721, 753, 777, 783; II, 869
Беккер С. I, 474, 498, 504; II, 131,298,
343; III, 740
Бекмаханова Н. Е. I, 84, 288
Бекстон Ч. Р. I, 770
Белгородская Л. В. III, 707
Белик А. А. I, 73; III, 583
Беликов В. 1,485
Белинский В. Г. II, 712, 840, 886, 899
Беллелюбский Н. Н. III, 879
Беллюстин И. С. 1,486; III, 352,546
Белов А. М. I, 494,496, 768; III, 691
Белов Ю. С. I, 306
Белова А. В. I, 778—780; II, 883
Белова Н. В. I, 367,484, 485, 488;
III, 352, 355, 356
Белова О. В. I, 301
Беловинский Л. В. II, 320
Белоглазов М. М. III, 367
Белозерская Н. А. II, 628
Белокуров Е. В. II, 626
Белоногова Ю. И. I, 484,485, 487;
III, 352, 358
Белоусов А. Ф. II, 855; III, 366, 886
Белоусов Л. А. II, 446, 899
Белявский М. Т. 1,481
Беляев И. Д. 1,492; И, 651
Беляева Л. А. III, 747
Белякова Е. В. I, 782
Белянин А. III, 587
Белянин Д. Н. II, 332
Бендин А. Ю. I, 320
Бензенгр В. Н. 1,635
Бенкендорф А. X. I, 503; II, 78, 126,
401, 642, 713, 760, 761, 849, 855,
867,868
Бентам И. I, 20
Беранже В. II, 776, 902
Бербенк Дж. III, 159, 160, 163
Берви В. В. 1,424, 497; II, 774; III, 886
Берлинских В. A. Ill, 549
Бердников И. С. 1,635
Бердяев Н. А. I, 211,221, 308, 311,
377, 487, 757, 767, 785; II, 739,
839; III, 535, 555, 589, 609, 619,
693, 698
Берендтс Э. Н. II, 581, 675,676,679
Берк П., см. Бёрк П.
905
Указатель имен
Бёрк П. I, 73
Берк Э., см. Бёрк Э.
Бёрк Э. I, 20
Берковский Н. Я. III, 691
Берлин П. А. II, 671,672
Бернштам Т. А. 1,487, 771; II, 319, 334;
III, 364, 514, 548, 559, 565, 566, 585
Бернштейн-Коган С. III, 552
Бертгольд Г. В. 1,775
Бертолисси С. II, 859
Бескровный Л. Г. 1,99, 294, 501, 504,
628, 666; II, 682
Беспалов С. В. II, 113, 114, 653; III, 557
Беспятых Ю. Н. II, 850, 865
Бессарабова Н. В. II, 876
Бессер А. I, 534; III, 869
Бессмертный Ю. Л. 1,643, 775; II, 341;
III, 695,696
Бессмертных Л. В. I, 638; III, 893
Бессонова 0.1,71
Бестужев-Лада И. В. I, 71
Бехтеев С. С. 1,295,311,315,491
Бечаснов П. I, 781; III, 754, 802, 869
Бибиков Г. А. II, 855
Бибо И. I, 288
Бикташева А. Н. II, 640, 651, 656, 667,
668, 675, 676, 872
Биллингтон Д. X. II, 850; III, 676
Бильбасов Б. А. И, 650
Бинеман Я. М. 1,495; III, 552, 569, 873,
877
Биншток В. Л. III, 153, 364
Бирон Э. И. II, 734
Бирон. М. II, 851
Бирюков П. Н. I, 296
Бирюкович В. В. I, 317; III, 879
Бисмарк 0.1, 50, 183,204; II, 356;
III, 542
Битюков К. О. II, 880
Бичерова Н. С. 1,29,481,761; 11,328,
884
Благовещенский Н. А. I, 452; II, 117;
III, 576, 577, 869
Благово Д. Д. 1,778, 779; III, 886
Бланк Г. Б. 11,315
Бланк П. II, 322
Блаткова В. В. II, 123
Бледнова Н. С. III, 582
Блейхродер Г. фон I, 204
Блеклое С. М. II, 316
Блиев М. М. I, 320
Блинов И. А. II, 400,640,641,661,672;
III, 152
Блиох И. С. 11,641
Блок А. II, 542,675
Блок М. II, 628; III, 580,703
Блосфелъд Г. 1,483; III, 868
Блохина Т. И. II, 332
Блудов Д. Н. I, 484; II, 506, 521,666,
668
Блумарт А. II, 475, 476, 899
Блуменбах Е. 1,490
Блэк С., см. Black С. Е.
Блювштейн С. И. Ill, 136
Блюм А. I, 509, 547, 626, 627, 644
Блюм Ж., см. Blum J.
Бобков Ф. Д. II, 303, 343, 662; III, 363,
515, 533,585, 588, 886
Боборыкин П. Д. I, 343; II, 37, 56,63,
64, 119, 121, 123, 127, 303, 343, 708,
712, 854, 855; II, 79, 856; III, 474,
492, 494, 575, 577, 619, 698, 886
Бобров Д. I, 294, 773
Бобровников В. О. I, 293, 295, 296
Бобровский П. 0.1,481, 573, 629, 773,
774; III, 272,296, 361—363,366, 884
Бобынин П. П. III, 150
БовуаД. I, 148, 298, 300
Бовыкин В. В. I, 292, 300; II, 651
Бовыкин В. И. I, 254, 314, 499; III, 571,
680, 709, 896
Богаевский П. М. 1,634,767; II, 157;
III, 552
Богатырева О. Н. II, 644,652, 657
Богданов А. П. II, 628
Богданов К. А. I, 480, 784
Богданов Л. 1,635
Богданов Т. Ф. III, 558
Богданов-Бельский Н. П. II, 585, 586,
832, 900, 901, 904; III, 100, 852
906
Указатель имен
Богданович А. Е. I, 770; III, 584
Богданович М. И. II, 680,853
Богдановский А. М. III, 146
Боголюбов В. А. II, 316
Богородицкая А. Я. III, 886
Богословский М. М. I, 764; II, 116, 119,
140, 147,311,312,314, 439, 634,
651,655,678
Богоявленский С. К. I, 392, 488; II, 312,
334, 650; III, 575, 576
Богучарский В. Я. II, 126, 863, 868,
886; III, 893
Бодрийяр Ж. III, 740, 748
Бодуэн де Куртенэ И. А. III, 701, 899
Божё-Гарнье Ж. 1,864
Боженко Л. И. 1,762
Божковский К. III, 545
Бойко В. П. I, 489
Бойцов М. А. II, 628
Бок Г. Старший III, 631, 858
Бок И. I, 834; III, 869
Бокарев Ю. П. I, 69, 70, 73,315, 319,
767; III, 700, 703
Бокова В. М. I, 860; II, 623, 815, 855,
859, 880, 882, 885; III, 366, 577, 886,
887
Болотов А. Т. I, 612, 643, 693, 729, 731,
770, 778, 779; 11,32, 33, 112, 118,
131,314, 895; III, 604, 692, 886
Болтин И. Н. I, 721, 777
Болтунова Е. М. II, 889
Болховитинов Н. Н. I, 70; III, 704
Большаков А. М. III, 869
Большакова О. В. I, 290, 761; II, 116,
128, 328, 332, 344, 644, 645, 655,
675, 849, 857; III, 165, 700
Бондаренко Д. Я. I, 306
Бордюгов Г. А. I, 28, 29, 73, 287—290;
II, 331; III, 707
Борель П. Ф. И, 589, 900
Борецкий А. I, 484
Борис Федорович Годунов, царь II, 21,
360, 365,783; III, 807
Борисенков Е. П. 1,311,314
Борисов А. А. I, 297
Борисов А. В. II, 657; III, 150, 153
Борисов В. А. I, 641
Борисов В. В. III, 575
Борисов И. И. II, 770
Борисов С. Б. III, 898
Боровитников М. М. I, 642
Боровков А. Д. III, 216, 349, 888
Бородавкин А. П. I, 629; III, 352
Бородаевский С. В. I, 634; III, 879
Бородин А. П. II, 330, 648
Бородин С. В. III, 707
Бородкин Л. И. I, 14, 58, 71, 315, 494,
497—499, 626, 628, 630, 632; И, 124,
129; III, 346, 700, 704, 705, 870, 871
Бороздин С. С. I, 297, 306
Борткевич В. И. III, 870
БорязВ.И. 1,311
Боряковский А. Г. 1,638, 639
Боткин С. П. I, 598, 885
Ботяков Ю. М. I, 296,
Боулз С. II, 344
Боханов А. Н. I, 484, 490-^192, 502;
II, 627, 634, 642, 713, 852, 855, 857,
859, 870, 887; III, 557, 676
Бочанова Г. А. И, 884
Бочаров А. А. III, 350
Бочаров А. В. I, 61, 71, 72, 296, 319
Бочаров В. В. I, 783; II, 662
Бочкарев В. Н. II, 640; III, 153, 576
Бочкарева М. Л. III, 690, 859
Бошковска Н., см. Bo§kovska N.
Бояришинова 3. Я. I, 762
Брандт Б. Ф. I, 299; III, 879
Брановер Г. Г. III, 900
Бранский В. П. I, 71
Браславский Р. Г. I, 69
Братолюбов И. 1,602,641
Браувер А. III, 435, 855
Брачев В. С. II, 881
Брежнева С. Н. I, 288, 297, 299, 320
Брейгель П. Младший II, 515, 516,900
Брейгель П. Старший II, 189, 300, 897,
898; III, 436, 466, 467, 855, 856
Брендон П. I, 297
Бретон, Жюль III, 465, 856
907
Указатель имен
Брешко-Брешковская Е. К. II, 620, 685,
863; III, 586
Бржеский Н. К. Ill, 157
Бриггс Э. III, 708
Брикнер А. Г. II, 852
Бриленкова А. В. II, 878
Бринберг Б. III, 614, 857
Бринтон К. III, 676
Бриттан С. III, 748
Бродель Ф. I, 29, 47, 66, 223, 224, 232,
269,312,317, 860
Бродская Л. И. I, 866
Бродский И. И. I, 394, 883
Бродский Н. Л. II, 871
Брокгауз Ф. А. I, 481, 597, 781; II, 322,
329, 453, 572, 853, 880; III, 349, 704,
901
Бронзино A. Ill, 621, 858
Броуэр Д. III, 552
Бруин К. II, 118; III, 886
Брук С. И. I, 99, 102, 103,292, 293, 628,
633, 641,766, 865; III, 898
Брукс Дж. III, 496, 544, 577
Брумфилд У. К. Ill, 355, 567
Бруцкус Б. Д. I, 212, 307—309; II, 239,
330—332; III, 870, 875
Брэдли Дж. II, 690, 848, 849, 880;
III, 696
Брюггеманн К. I, 304
Брюлов А. П. III, 172, 852
Брюс Я. В. II, 522, 900
Брянцев М. В. I, 776; III, 558
Брянцев Н. П. III, 356, 886
Брянцев П. Д. III, 356, 886
Буганов А. В. III, 545
Буганов В. И. I, 300, 481,628; И, 340,
342, 865,
Бугров К. Д. И, 636
Бугров Н. А. III, 397
Будина О. Г. I, 776
Будницкий О. В. I, 310; II, 877, 886;
III, 886, 895
Бузгалин А. В. III, 748
Бузин В. С. III, 359
Буйко А. М. И, 338; III, 886
Букалерова Л. А. II, 670
Булавин К. II, 31; III, 809
Буланин Д. М. III, 399, 556
Булгаков М. Б. II, 334; III, 547, 559, 576
Булгаков С. Н. 1,210,217
Булгакова Л. А. I, 14, 501,636; II, 861;
III, 556
БулыгинА. Г. 11,719, 841
Булыгина Т. В. И, 118
Бунге Н. X. 1,444, 640; II, 712, 720,
721,855, 857
Бунина Е. В. I, 29, 70,
Буницкий К. III, 561, 870
Буняковский В. Я. I, 521, 629; III, 245,
870
Буравой М. III, 740, 748
Бурачок О. М. II, 633
Бурбанк Дж. I, 290, 291
Бурдина О. Н. II, 127, 128,625
Бурдукова И. И. II, 635
Бурдьё П. I, 24, 54, 62, 67, 73, 326, 479,
881; II, 662, 685
Бурлака Д. К. II, 850, 855
Бурменская Д. Б. III, 565
Бурышкин П. А. II, 278,338; III, 398,
400, 551,555, 557, 886
Бусыгин Е. П. 1,764—766, 773
Буташевич-Петрашевский М. В. II, 712
Бутенко А. П. III, 745
Бутенко И. А. 1,22,28,72; III, 557
Бутов А. В. III, 700
Бутовская М. Л. I, 502
Бутовский А. Н. III, 156
Бутусова А. А. II, 669
Бухаркин П. Е. I, 862; III, 901
БуховецО. Г. 11,640; III, 548
Буш В. В. 1,774
Бушей А. I, 348,482, 510, 511, 513,
628, 631, 774, 862; II, 313,636, 849;
III, 442
Бушнелл Дж. I, 635, 640; II, 116, 199,
317,320, 599, 641,848
Бушуев С. В. 1,311
Быков Д. А. II, 120
Быкова А. Г. I, 861
908
Указатель имен
Быконя Г. Ф. 1,483,629; III, 561
Быстрова А. С. II, 670, 677
Бычкова С. Г. I, 503; III, 341, 342
Бьюкенен П. Дж. II, 542; III, 702
БюхерК. 111,614, 695, 696
В. В. [Воронцов В. П.] 1,315; II, 316,
320, 327
Вагнер В. А. 1,204
Вагнер К. Ill, 523, 527, 857
Вагнер П. III, 707
Важинский И. И, 312
Вайнгаст Б. И, 314
Вайнштейн А. Л. II, 103, 104, 130
Ваксер А. 3. II, 647
Валентей Д. И. 1,630; III, 899
Валетов Т. Я. I, 497; III, 345, 346, 358,
463,572
ВалкС.Н. II, 121,659; III, 894
Валле Р. III, 708
Валлерстайн И. I, 48—50, 66, 70, 881;
111,653,656, 661,705, 745
Валуев П. А. I, 250, 314; II, 407, 643,
766, 768; III, 886
Вальденберг В. Е. II, 631
Ванчатова М. А. I, 502
Варадинов Н. 1,488; II, 334,335; III, 867
Варзар В. Е. I, 430, 433, 436, 498;
II, 600; III, 571,870
Варфоломеев Ю. В. II, 648, 675
Василенок С. И. I, 486
Василий Босоногий II, 794,903
Василий Шуйский, царь 1,561; III, 17,
807
Васильев А. В. II, 637, 771
Васильев А. Т. И, 760
Васильев И. I, 775; II, 659,662
Васильев Л. С. II, 631
Васильев Ф. А. III, 615, 857
Василькова В. В. I, 71
Васильчиков А. И. III, 429,433,564, 567
Васина С. М. I, 486; 111,353
Васнецов В. М. II, 730, 830,904
Васютинский В. III, 693
Вахтин Н. Б. I, 306
Вашингтон, Джесси III, 647, 858
Вдовина Л. Н. II, 123,314,315,636
Вдовичев П. I, 706, 722, 887; III, 331,
854
Вебер М. I, 38, 39,47,480, 881; II, 24,
117, 351,372,402,412,624,627,645,
683; III, 415, 560, 569,642,649, 701,
703
Вебер Х.-Ф. Ill, 697
Веблен Т. Б. I, 50,51,881
Веденяпин П. Г. 1,486 >
Ведерников В. II, 114
Веймарн Ф. I, 773, 774; III, 884
Великосельцев П. 1,772
Беличенко С. II, 435, 655
Вельцель К. III, 589, 745
Венедиктова Т. Д. III, 748
Венецианов А. Г. II, 55, 895
Вербицкая Л. А. II, 645, 646
Вербловский Г. Л. III, 151
Вердеревская Н. А. I, 500
Веременко В. А. I, 304, 636, 735,
737—739, 744, 745, 779—782;
III, 351
Веретенников В. И. II, 867; III, 147
Верещагин А. В. I, 294, 777; III, 886
Верещагин А. Н. II, 312
Верещагин П. Д. 1,294
Вержбицкая А. II, 118
Вернадский В. И. I, 312,313; III, 840
Вернадский Г. В. И, 650, 853, 855
Верт П. I, 162, 263, 289, 293, 298, 301,
316
Верховская О. П. 1,734,777,779; III, 886
Верховский П. В. 1,486; II, 116,370,
631,634, 637
Верхотуров Д. I, 295
Веселов Ю. В. II, 848; III, 582, 589, 748
Веселова А. П. I, 762
Веселова И. С. I, 479
Веселовский Б. Б. II, 863
Веселовский К. С. I, 310; II, 123; III, 425,
801,802, 870
ВесинЛ.П. III, 551
Вест Дж. Л., см. West J. L.
909
Указатель имен
Вешняков В. И. II, 24,58,123—125,
317, 329
Вигдорчик Н. А. I, 639, 641
Вигель Ф. Ф. 1,730,777,779; III, 216,
348; III, 886
Вигзель Ф. III, 697
Визе Ш. I, 304
Виленский-Сибиряков Вл. III, 899
Вилков О. Н. 1,490,768; II, 335
Вильсон И. И. III, 163, 870
Виноградов В. А. I, 310; II, 679, 862,
865; III, 568, 744
Виноградов Г. С. 1,769
Виноградов М. А. II, 321
Виноградов Н. Н. II, 124
Виноградова Т. В. II, 656
Вирранкоски П. I, 866
Виртшафтер Э. К. I, 500
Витте С. Ю. I, 50, 178, 179, 187, 211,
304, 306, 463; И, 182,200, 228, 318,
322, 328, 408, 479, 492, 510, 643,
662, 669, 672, 717, 721, 722, 768,
870; 111, 89, 145, 154, 388, 514, 585,
656, 833, 834, 878, 886
Виттенберг Б. II, 648
Виттфогель К. А. II, 631
Витюк В. В. И, 848
Вихавайнен Т. III, 555, 556
Вихляев П. А. I, 494,674,765,767, 864;
II, 327
Вишленкова Е. А. II, 881
Вишневецкий П. II, 869
Вишневская Г. А. 1,779
Вишневски Э. II, 693, 848, 858, 888
Вишневский А. Г. I, 14, 60, 72, 95, 318,
320, 509, 516, 565, 595, 607, 626,
63.1, 634, 636, 637, 639, 640, 643,
644, 762, 769, 796, 862, 866; II, 432;
III, 337, 695, 744, 802
Вишняк М. В. II, 684
Вишняков В. И. Ill, 870
Вишняков Н. П. I, 716, 776; III, 548
Вишняцкий Л. Б. III, 582
Владимир Мономах, князь Киевский
II, 359,382
Владимиров В. Н. 1, 625, 629, 631, 632
Владимиров И. А. II, 805, 903; III, 610,
611,857
Владимирский-Буданов М. Ф. 1,481,
768, 775; II, 117—119, 312, 372, 397,
629,632,636,638,639; III, 146,147,
151, 152, 156
Власов В. Г. III, 147, 151
Власов П. В. II, 884
Власова И. В. I, 293, 315, 762, 764, 765,
770, 773, 863; И, 313; III, 549
Власова М. Н. III, 584, 898
Внуков Е. Т. II, 426, 898
Внуков Р. Я. I, 557,634, 770
Водарский Я. Е. 1,95, 98, 288,292—294,
315, 349,444,482, 483, 504, 509, 510,
625,628,640,666,768,796, 862—866;
II, 119, 121,343,432,849; III, 750,
802
Водовозова Е. Н. I, 779; III, 305, 366,
886
Воейков А. И. I, 863; III, 870
Возгрин В. Е. I, 305
Вознесенский В. 1,489
Волвенко А. А. I, 303
Волков А. Г. I, 595, 631; III, 337, 802
Волков М. Я. 1,490, 865; III, 576
Волков С. В. I, 458, 483, 486, 500, 501;
II, 682, 683; III, 228, 232, 236, 347,
350, 351,356, 359
Волков Ю. Г. 11,314
Волкогонова О. Д. III, 700
Волконский Н. С. II, 126
Волконский С. Г. И, 868; III, 886
Волобуев О. В. I, 291, 296; II, 321, 662;
III, 900
Володин А. Ю. I, 500; II, 672; III, 870
Вормс А. И, 117, 120, 127; III, 158
Воробец К. I, 509
Воробьев Н. И. 1,496, 765
Воробьева Е. И. I, 303
Воронин Н. II, 319
Воронина Т. А. III, 364
Воронов Д. Н. III, 894
Воронцов А. Р. II, 384
910
Указатель имен
Воронцов В. П. II, 316, 320, 327, 343
Воронцов М. С., наместник Бесса¬
рабской обл. 1,169
Воронцова Е. А. III, 557
Воронцов-Дашков И. И. II, 456,480
Воронцовы II, 316; III, 149,341
Воропанов В. А. И,549, 642, 676;
III, 152
Вортман Р. I, 753, 783
Воскресенская Н. С. 1,493
Воскресенский Н. А. III, 147,867
Вострышев М. И. I, 860
Востряков И. В. II, 861; III, 556
Вощинин В. П. I, 294, 317
Врангель Н. Е. III, 887
Вронский О. Г. II, 227, 321, 328, 332
Вуич Н. И. И, 649
Вульпиус Р. I, 295, 302; III, 706
Вульф Л. I, 28; III, 644, 645, 702
Вульфсон Г. Н. I, 500
Выборнова М. А. III, 369
Выготский Л. С. III, 502, 580, 588
Выдря М. М. III, 154, 897
Выскочков Л. В. II, 669, 713, 854, 855;
III, 551
Высоцкий И. П. II, 336
Вяземская Е. Т. III, 366, 887
Вяземский А. А. II, 316, 317
Вяземский П. А. I, 753, 783
Гавлин М. Л. 1,457,491
Гавриил, митрополит С.-Петер¬
бургский III, 889
Гаврилова И. Н. I, 862
Гаврилова Н. И. II, 849
Гагарины 1,654,655; II, 77
Гаген В. А. II, 649,669
Гаджиев А. Г. 11,318; III, 582
Гадзяцкий Ф. X. III, 871
Гадло А. В. II, 628
Гайда Ф. А. И, 419, 648, 858, 877
Гайдар Е. Т. I, 256, 315; III, 677, 700
Гайдук С. Л. III, 150
Гайкович А. III, 559
Гайсинович А. И. 1,490
Гакстгаузен А. 1,753,783; II, 14,105,
115,130, 178,317,384,636; III, 192,
204, 343, 347,360,468, 574,605, 692,
887
Галахов А. Д. III, 489, 577, 887
Галахов И. III, 357, 887
Галимова Л. Н. 1,491; III, 365
Галкин-Враской М. Н. III, 150
Галлиулина Р. II, 881
Галоян Г. А. 1,288
Галузо В. Н. II, 639, 642
Гальковский Н. 1,486
Гаман-Голутвина О. В. I, 312; II, 660,
673; III, 699
Гаммерль Б. I, 291
Ган И. А. 1,491; II, 335
Ганелин Р. Ш. I, 304, 501, 636; II, 643,
649, 859, 869, 870, 878, 879, 884,
885; III, 556, 709, 887, 896
Ганжулевич Т. 1,770
Гапон Г. А. 1,439,499; И, 467, 802—
804, 861, 878; III, 128, 835, 852, 887,
896
Гарбуз Г. В. II, 652
Г арбузов В. И. 1,783
Гаряйнов А. 1,317
Гаспаров М. III, 555
Гастев М. I, 577; III, 883
Гафизова Н. Б. II, 883
Гвишиани Д. М. 1, 762; III, 899
Гвоздев С. 1,495,498; III, 570, 571;
III, 880
Гвоздецкий Н. А. 1,311
Гегель И. Ф. 1,20
Гейман В. И. 1,204
Гейслер Х.-Г. II, 155, 896; III, 523, 524,
526, 856, 857
Геллнер Э. А. II, 691, 848
Гельман В. I, 298
Георги И. Г. III, 381, 546, 883, 884
Герасименко Г. А. И, 330,870
Герасимов И. В. I, 289—291; II, 889
Герасимова Ю. И. II, 869
Герберштейн С. II, 361,395
Герваген Л. Л. HI, 150
911
Указатель имен
Герман А. А. III, 567
Герман И. Ф. III, 193
Герман К. Ф. 1,444,628,793,863;
II, 437; III, 871
Германова В. В. I, 288, 289
Гернет А. 0.1,484
Гернет М. Н. I, 580,637,639,642,643,
647; И, 121; III, 138, 148,153,161,
164,697,796,801,802
Герцен А. И. II, 41, 105, 116, 423, 437,
538, 540, 617, 649, 655, 682, 707,
712, 739, 765, 770, 861, 870, 871,
896; III, 345, 565, 827, 828, 887
Гершензон М. II, 860
ГерьеВ. И. 11, 83, 127
Гессе П. П. I, 204
Гессен В. М. II, 533,625,647, 652, 672,
741,861
Гессен И. В. III, 152, 153
Гессен Ю. И. I, 206, 307, 308, 497;
II, 344; III, 573
Гетрелл П., см. Гэтрелл ГГ, Gatrell Р.
Геттун В. Н. I, 722, 777; III, 887
Гизатуллина М. X. II, 872
Гилинский Я. И. I, 861; III, 161, 162,
165
Гиляровский В. А. II, 301, 343, 881;
III, 887
Гиляровский Ф. В. I, 560, 580, 585, 589,
635, 636, 638, 639, 643, 769
Гимпельсон Я. И. I, 308; III, 867
Гиндин И. Ф. I, 314, 491,643, 674
Гинев В. Н. II, 886
Гиппиус А. А. I, 312
Гиренок Ф. И. II, 318; III, 572
Гительман Ц. I, 310
Гитович Н. И. I, 777; III, 885
ГитУ 0.111,588
Глаголева О. II, 120, 342
Глазунов С. Р. I, 500
Глазьеве. Н. III, 151
Глезеров С. I, 860
Глинка Я. В. II, 512; И, 669; III, 887
Глиноецкий Н. I, 500
Глинский Б. Б. I, 779; II, 634, 886
Глисон Э. II, 115
Глориантов В. И. И, 671; III, 887
Глотова В. В. I, 773
Гогель С. К. II, 650, 669; III, 149
Гоголь Н. В. I, 16, 59, 77; II, 398, 526,
538, 540,617, 803; III, 301,888
Гойхбарг А. Г. I, 775, 780
Голенкова О. Ю. II, 858, 859; III, 887
Голиков А. Г. II, 866; III, 572, 707
Голикова Н. Б. I, 490,491; II, 631, 850
Голикова С. В. I, 763, 774, 783, 866;
II, 280, 328; III, 585
Голицын А. Н. II, 683
Голицын Д. В. III, 216
Голицын С. П. II, 314
Голицына М. Г. II, 684
Голобуцкий В. А. I, 295
Голованова Е. И. И, 670
Голованский И. А., см. Евстратий
Головин К. Ф. II, 313, 503, 652, 667,
676, 885; III, 887
Голосенко И. А. I, 502, 861; II, 670,
673
Голосов А. В. III, 357, 889
Голубев А. Г. II, 652
Голубев А. И. III, 707
Голубев С. А. II, 849
Гольбах П. I, 20
Гольденберг И. III, 148
Гольденвейзер А. А. I, 307
Гольц Г. А. 1,293, 311, 846, 862, 863,866
Гольцев В. А. I, 777
Гольцендорф Ф. II, 663
Гончаренко О. Г. II, 682, 683
Гончаров А. Ф. I, 298
Гончаров В. Ф. I, 499, 807, 878; III, 887
Гончаров Г. А. II, 660; III, 572
Гончаров Ю. М. 1,395—397,491,629,
639, 661,665, 683, 761, 762, 765,
768, 769, 776, 783, 789, 860—862;
II, 125; 111,352
Горбунов Б. В. III, 547, 566
Горбунов И. М. I, 723, 887
Горбунова М. К. I, 774
Горбунова М. Ю. III, 587
912
Указатель имен
Горбунов-Посадов И. И. III, 888
Гордеев А. А. 1,492
Гордин Я. А. II, 855
Гордон А. В. II, 318, 321; III, 548, 560,
568
Горегляд О. III, 148
Горелкина О. Д. III, 545, 584
Горелов А. А. I, 643; III, 156
Горизонтов Л. Е. I, 293, 299, 303
Горлов И. 1,631; III, 884
Горнов В. А. II, 645
Горская Н. А. I, 625; III, 564
Горская Н. И. III, 160, 165
Горский А. А. I, 304, 488; II, 627, 631,
684, 864; III, 543, 547, 697
Горский А. Д. I, 489; II, 123
Горышина Т. К. I, 864
Горький М. I, 217, 308, 309,497,698,
770, 771, 777; III, 887
Горюшкин Л. М. I, 485, 634; II, 314,
863; III, 149, 157, 545
Горянин А. III, 745
Горянов А. В. II, 120
Горячев И. В. III, 364
Готье Ю. В. И, 639, 873; III, 154
Гоулман Д. III, 588
Гравитц М. III, 146
Градовский А. Д. I, 863; II, 312, 397,
642, 663
Грановский Т. Н. II, 712
Грацианов П. А. I, 642
Грацианский П. С. II, 636
Грегори А. В. I, 643
Грегори П. I, 254, 255, 314, 315, 643;
II, 104, 128, 130, 679; 111,337,359,
700, 709, 724, 745, 746
Греков Б. Д. II, 126
Гржебин И. 11,718,901
Грибова Е. И. И, 879; III, 885
Грибовский В. М. II, 650, 669
Грибовский М. В. II, 858
Грибовский М. К. II, 315
Григоровский С. П. I, 775, 781; III, 151,
867
Григорьев В. С. I, 625; II, 319
Григорьев И. I, 589, 613,635,636, 638,
639
Григорьев М. А. I, 860
Григорьев С. И. И, 623,684,874,875,878
Триммер А. III, 634, 858
Гринин Л. Е. I, 71, 73, 310, 313; III, 703
Гриффитс Д. II, 852
Грицак В. Н. II, 652
Гриценко Н. В. II, 652
Гришкина М. В. I, 762
Грозовский Б. III, 746
Громан В. В. III, 345, 869
Громова Л. П. II, 854
Громыко М. М. I, 315, 484, 762, 769—
771; II, 313—316, 319, 320,325, 343,
865; III, 157, 158, 351, 545, 558, 564,
566
Гросул В. Я. II, 342, 623, 815, 867, 873,
880, 882
Груздев В. С. I, 635
Грулев М. В. I, 308; И, 585, 599, 601,
680, 682; III, 887
Грусман В. М. II, 322; III, 368, 896
Грюн И. III, 703
Грязнов П. 1,638; III, 364
Грязнова О. С. III, 747
Гудзенко А. И. II, 855; III, 549
Гудков Л. I, 303; III, 747
Гузенина С. В. Ill, 745
Гулькин II, 83
Гуляев П. II, 117, 647; III, 867
Гулянская Е. А. III, 691
Гумилев Л. Н. 1,43, 70, 310, 881;
III, 653, 703
Гурвич И. А. I, 294, 677, 767
Гурвич Н. А. III, 871
Гуревич А. Я. I, 22, 28, 300, 304, 630;
II, 633; III, 501, 543, 573, 579, 582—
584,586, 693
Гуревич В. Я. II, 221, 325; III, 692
Гуревич И. В. I, 775; III, 867
Гуревич П. С. III, 555
Гурко В. И. II, 479, 510; II, 648, 669,
768,810, 861,880; III, 887
Гусев А. В. III, 154
913
Указатель имен
Гусев К. В. 1,319
Гуськова Т. К. III, 346, 572
Гутковский III, 877
Гуцевич К. И. III, 881
Гущин В. Р. II, 684
Гэтрелл П. I, 310; II, 679, 684
Гюбнер Ю. I, 599, 641
Д. И. I, 773
Д’Анкос Э. К. I, 291
Давид Р. III, 146
Давидович А. М. II, 856
Давыдов А. А. I, 320
Давыдов В. В. I, 770; III, 900
Давыдов Д. В. II, 588, 589, 680, 900
Давыдов К. В. III, 569, 880
Давыдов М. А. I, 14, 231, 232, 312, 503;
II, 115, 234, 235, 240, 242, 329—331,
578, 679; III, 585
Давыдовы. В. 111,72, 152, 153
Даймонд Дж. I, 72; III, 698, 748
Даль В. И. I, 633, 638, 762, 770; II, 313,
315, 318, 319, 333, 623, 672, 683,
872; III, 147, 155, 544, 545, 548, 562,
565, 568, 569; III, 584, 585, 701, 899
Даль Р. II, 860
Дальман С. В. II, 663; III, 578
Дамам-Демартре М.-Ф. III, 324, 854
Дамешек Л. М. I, 289, 296, 298, 299
Даневский В. I, 296
Даневский П. Н. II, 640
Данилевский Н. Я. I, 43, 69, 70, 881;
И, 641; III, 654, 701,703
Данилевский Н. А. II, 842
Данилов В. П. I, 492, 493, 643, 772;
II, 241,321,323,330, 331,333;
III, 155, 364, 543
Данилов, генерал II, 733
Данилова Л. В. II, 312, 635, 640
Данияров К. I, 288
Дарендорф Р. I, 319; II, 181, 318, 889
Дашкова Е. Р. И, 40, 41, 119; III, 618,
698, 887
Дашковская О. Д. 1,484, 487; III, 262,
354—356, 358
Дворниченко А. Ю. I, 297, 320; II, 632,
658, 858
Дворянское И. В. II, 670
Девятов С. В. III, 899
Дегоев В. В. I, 293
Дегтярев А. Я. I, 653
Дедюлин С. А. II, 326; И, 367; III, 880
Дейниченко П. III, 900
Деконский Г. К. III, 272, 576, 884
Делабарт Ж. I, 816, 888
Делёз Ж. III, 740, 748
Делокаров К. X. II, 628
ДелюмоЖ. III, 580
Демаков И. С. II, 673
Дементьев А. Н. II, 312
Дементьев Е. М. I, 313, 496, 497;
III, 346, 360, 368, 469, 569, 571,
574, 766, 802
Дементьева А. Г. III, 554, 900
Дементьева Е. Ю. II, 341; III, 205
Демидова Н. Ф. II, 374, 650, 654, 655,
664, 671; III, 348, 899
Демидовы III, 346, 572, 891
Демкин А. В. I, 491
Демоз Л. III, 580
Демчук Г. В. I, 631,633
Ден В. Э. I, 500
Дени В. II, 776, 902
Деникин А. И. I, 303, II, 682; III, 887
Дёнингхаус В. I, 292
Денисенко М. Б. I, 634, 640, 644
Денисова Ю. С. III, 575
Деннисон Т. II, 13, 14, 196—198, 226
Депп Ф. Ф. III, 148, 152
Дервиз П. Г. III, 155, 887
Деревянко А. П. I, 318; II, 633; III, 702
Дерипаска О. В. III, 737
Деррида Ж. I, 62, 66, 881
Дерунов С. Я. I, 695, 770, 773; III, 552,
884
Джакович I, 307; III, 868
Джаншиев Гр. II, 123, 856, 869; III, 163
Джекобе Д. III, 702
Дживелегов А. К. II, 116, 316; III, 159,
695
914
Указатель имен
Джонс Р. II, 124
Джонсон, Линдон III, 319
Джонсон Р. Е. III, 552
Джунковский В. Ф. III, 887
Дивьер А. М. I, 204
Дизель Р. III, 709, 896
Дикарев М. А. II, 863
Дионисий, архиепископ Александрий¬
ский III, 559
Дитятин И. И. 1,488,489; II, 334, 649
Дмитриев А. В. II, 543, 675, 876
Дмитриев В. А. III, 883
Дмитриев В. К. III, 363, 559
Дмитриев М. А. II, 112, 131, 522, 527,
639, 671, 672, 711, 834, 855, 885;
III, 13, 89, 90, 92, 146, 154, 155, 604,
692, 887
Дмитриев П. И. III, 876
Дмитриев-Мамонов В. А. II, 664
Дмитриенко Н. М. I, 862
Дмоховский А. I, 776
Днепров Э. Д. II, 325; III, 575
Добринский К. Э. II, 649
Добровольский В. Н. I, 771; III, 586
Доброзраков М. III, 361, 362, 561, 894
Добролюбов Н. А. III, 390
Добротворский Н. 1,696, 771; II, 343
Довнар-Запольский М. В. I, 774;
III, 154, 575
Доган М. 1,318; II, 627
Додлова М. Ч. II, 672
Додонова Л. III, 557
Дойчман П. I, 308
Докукин И. III, 34
Долбилов М. Д. I, 288, 299, 303, 320,
487, 503, 781; II, 435,641,655
Долгий В. М. I, 863
Долгих А. Н. II, 117, 121
Долгих Е. В. II, 506, 666, 668, 674
Долгов В. В. I, 643
Долгопятов А. В. II, 338, 364
Долгоруков В. А. II, 315, 593,685;
III, 569, 883
Долгоруков П. В. III, 887
Долгоруков П. Д. II, 647
Домников С. Д. III, 549
Домонтович М. 1,482; III, 361—363,
366, 884
Дондуков-Корсаков А. М. I, 114, 882
Доре Г. Ill, 643, 858
Дорожкин А. Г. I, 861
Доронин А. В. 1,298,480; II, 339, 665;
III, 701
Дорская А. А. I, 299
Достоевский Ф. М. I, 59; II, 410, 766,
839, 842, 870; III, 405, 886
Доу Д. II, 588, 900
Доценко А. А. I, 288; III, 748
Дрейм М. И. II, 747, 902
Дрибас Л. К. I, 484, 487, 488, 629;
III, 352, 355
Дробижев В. 3.1, 296, 315; III, 802
Дробижева Л. М. III, 543
Дроздова Н. П. I, 53, 71,73
Дружинин В. Н. III, 580
Дружинин Н. М. I, 492, 783; II, 75, 117,
121, 123, 125, 128—130,317,431,
672, 855
Дружинин Н. П. I, 773; II, 317, 322,
326, 337, 343; III, 155, 158, 159
Дружинина Е. Н. I, 295
Друзин М. В. И, 677; III, 557
Друцкой-Соколинский В. А. II, 512,
670; III, 888
Друцкой-Сокольнинский Дм. I, 301
Дрыгина Н. Н. III, 210, 214, 257,
347—349
Дубакин Д.Н. I, 774; III, 151
Дубенцов Б. Б. 1, 501; II, 332, 493, 494,
502, 653—655, 668
Дубина В. С. II, 672
Дубинин Б. Ill, 747
Дубинин Н. П. I, 317
ДубновС. М. 1,216, 309
Дубодел А. М. III, 557
Дубровин Н. Ф. II, 537, 538, 673;
III, 220, 349, 350
Дубровский С. М. I, 358, 483, 863;
II, 233, 321,329,333,600
Дудаков С. I, 307, 309
915
Указатель имен
Дудзинская Е. А. II, 887
ДуловА. В. 1,311,315,319
Думный В. В. II, 890
Думова Н. Г. И, 879, 888
Дунаева Ю. В. III, 705
Дурденевский В. Н. II, 669
Дурново III, 884
Дурново П. Н. I, 178; II, 410,419, 748,
863,888
Дурылин С. Н. III, 557, 888
Дьюкс П. III, 676, 708
Дьяконов И. Ю. I, 503
Дьяконов М. А. I, 481,492, 863; II, 631
Дьяконова Е. А. III, 888
Дьяконова И. А III, 165
Дьяконова И. Ю. I, 502, 503
Дьяконова Н. А. I, 288; III, 748
Дьячков В. Л. I, 316, 537, 538, 589, 594,
631,632,639, 640
Дэвид-Фокс М. I, 291; И, 639
Дэвис Дж. 1,436
Дэвис Н. I, 77, 287, 306, 308; III, 672,
706
Дэннисон Т., см. Деннисон Т.
Дюбюк Е. Ф. III, 884
Дювернуа Н. Л. III, 151
Дюркгейм Э. I, 38, 39, 69, 881; II, 308;
III, 143, 144, 164, 374, 503, 540, 543,
589, 665, 667—669, 739, 748
Дякин В. С. I, 296, 298, 303, 306, 481,
497, 503; II, 321,330, 643, 647, 648,
850, 856, 858, 859, 871; III, 342, 569,
694
Евангулова О. С. II, 866
Евгений (Казанцев), архиепископ
Ярославский III, 890
Евдокимова М. В. II, 856
Евлогий, митрополит I, 377,487;
III, 888
Евреинов Г. А. I, 482; III, 548
ЕвреиновН. Н. III, 148
Евсеева Е. III, 575
Евстегнеев Р. I, 71
Евстигнеева Л. I, 71
Евстратий [Голованский, Иоанн
Антонович] III, 357, 888
Егерева Т. А. I, 778
Егоров А. К. II, 636, 658
Егоров А. Н. II, 887
Егоров Б. Ф. I, 500, 769; II, 626, 871;
III, 347, 702
Езерская Л. П. III, 404, 855
Екатерина I Алексеевна II, 47, 387, 780,
851; III, 811,872
Екатерина II Алексеевна 1,49, 71,94,
105—107, 136, 167, 169, 199, 307,
338, 341,349, 482, 485, 486, 488,
489, 492, 635, 709, 711, 712, 766,
770, 778, 862; II, 33, 35, 39, 41—43,
47, 51, 52, 68, 80, 118—120, 150,
260, 283, 293, 316, 317, 335, 349,
355, 376, 387—390, 392, 394, 395,
405, 424, 426, 429, 432, 434, 448,
454, 496, 501, 611,612, 627, 636,
651, 659, 665, 669, 689, 700, 701,
703, 708, 729, 734, 757, 764, 782,
784, 785, 786, 797, 814, 815, 840,
852, 866, 876, 903; III, 12, 16,21,24,
29, 30, 34—36, 40, 43, 56, 65—67,
152, 203, 211, 229, 248, 254, 341,
343, 349, 351, 353, 357, 468, 562,
574, 576, 610, 632, 657, 658, 662,
730,814—816,818, 888, 899
Екатерина Павловна, великая княгиня
II, 765
Елеонская Е. Н. III, 584
Елизавета Петровна I, 106, 132, 341,
486; И, 39, 47, 251, 378, 384, 387,
390, 424, 432, 659, 698, 700, 782,
784, 787, 851, 876; III, 34, 229, 813
Елина О. Ю. II, 883
Елисеев Г. Г. 1,473, 884
Елисеева И. И. I, 73, 782; II, 879;
III, 885
Елисеева О. И. III, 888
Елисеевы III, 397
Елистратов А. И. II, 669, 882
Еллис Е. I, 778
Елпатьевский А. В. I, 300,490
916
Указатель имен
Елуфимова Н. М. III, 549, 550, 572
Емельянов Н. Ф. II, 316
Емельянова И. А. III, 146
Емец В. А. II, 663
Еникеев С. II, 342
Енин Г. П. II, 664, 665,671
Епанчин Н. А. 1, 756, 784; II, 594, 605,
681,683,721,857; III, 888
Епифанов А. Н. II, 650
Ерасов Б. С. I, 69, 292; II, 311,343;
III, 704
Ерёмин И. П. II, 628
Ерёмина В. И. I, 643
Ерёмина И. В. II, 854; III, 892
Ерёмина Л. А. II, 625
Ерёмина О. И. И, 121
Еремян В. В. II, 625, 651,652
Ерещенко Д. Ю. III, 161
Ермакова А. III, 748
Ермакова, Анжела III, 740
ЕрмишкинаО. К. II, 341; III, 556
Ермолинский К. II, 324
Ермолов А. С. II, 92, 128, 798, 877;
III, 433, 561,564, 565,650, 703
Ерофеев Н. Д. И, 879; III, 708
Ерофеев, художник I, 802, 888
Ерошкин Н. П. И, 488, 637, 638, 650,
652, 663, 668, 675, 867
Ершов В. Е. II, 339
Ершов Г. И, 340; III, 876
Ершов С. I, 606, 642, 644
Есевский С. I, 300
Есиков С. А. II, 327; III, 366
Есикова М. М. II, 327
Есипов Г. В. II, 867
Ефименко А. Я. I, 557, 634, 774; II, 118,
312; III, 96, 156, 157
Ефименко П. С. I, 634, 689, 690, 767,
769; II, 344; III, 156, 158, 159
Ефименкова Б. Б. I, 643
Ефимова И. В. Ill, 364
Ефимова М. П. I, 503
Ефременко А. В. II, 241, 327, 328, 330,
332,343
Ефремов В. П. II, 584
Ефремова Н. Н. И, 663; III, 152
Ефрон И. А. I, 481, 597, 781; II, 322,
329, 453, 572, 853, 880; III, 349, 704,
901
Жбанков Д. Н. I, 416, 495, 588, 591,
634, 636, 638—640, 642, 772, 779;
II, 681; III, 148,323,365, 368
Жданко Т. А. I, 762
Жегулин В. С. 1,311
Желобовский А. И. 1,633, 773
Желтова В. П. I, 441,465, 474, 481,
482, 490, 492, 499, 502, 504; II, 338,
339
Жемчужная 3.1, 755, 784; III, 888
Жемчужников Л. М. III, 304, 853
Жеребцов Н. А. III, 881
Живов В. М. II, 627, 628, 634—636,
640, 784
Жидков В. С. I, 861; II, 684; III, 545
Жидков Г. П. 11,313
Жижиленко А. III, 152
Жижко Е. В. III, 557
Жильцов К. В. 1,483; II, 635
Жильцов С. В. III, 148
Жирнова Г. В. 1, 777
Жиромская В. Б. I, 625, 865; III, 720
Жонас Л. III, 685, 859
Жук В. Н. I, 733; III, 831
Жук С. И. I, 72, 290; III, 544, 705
ЖуковА. И. II, 80, 127, 131,315
Жуков А. Н. III, 569
Жуков В. И. I, 29
Жукова А. В. III, 899
Жуковская Е. И. I, 732, 779; III, 888
Жуковский В. В. II, 418
Жуковский Р. К. III, 290, 853
Журавлев В. В. I, 319, 482; И, 340, 886;
III, 900
Журавлев Ф. С. 1,601, 885
Забелин И. Е. I, 709, 774, 775, 782;
II, 335
Забелина Н. Ю. III, 707
Заблоцкий М. П. I, 444
917
Указатель имен
Заблоцкий-Десятовский А. П. II, 31,
118, 127, 173, 174,317
Заболотный Е. Б. II, 632
Заборский Н. И. II, 662; III, 363, 894
Загоровский А. И. I, 775, 778, 781
Загорский Н. П. I, 596, 885
Загоскин Н. П. II, 334, 651; III, 151
Загребин А. Е. II, 625
Зайончковский П. А. I, 298, 482, 483,
486, 487, 500, 501, 861; II, 114, 116,
319, 323, 343, 431, 432, 444, 512,
580, 642, 644, 645, 648, 654, 655,
658, 664, 666, 667, 669—673, 681,
682, 710, 854, 855, 863, 870; III, 153,
209, 210, 215, 347—350, 359, 566,
586, 705, 894
Зайцев А. И. III, 746
Зайцев В. В. I, 312, 514, 516; III, 367,
368
Зайцев К. И. II, 316
Зайцева В. III, 368
Зайцева О. М. I, 491
Зайцева Т. И. III, 581
Заменгоф М. Ф. III, 163
Занков Д. С. III, 697
Занозина В. Н. II, 884
Заозерская Е. И. I, 834; III, 364, 894
Заозерский Н. I, 781
Западова А. В. III, 554, 900
Зарецкий Ю. П. I, 777
Зарицкий Т. III, 707
Зарудный М. И. И, 324; III, 158, 159, 697
Зарянская О. С. I, 639
Заславская Т. И. I, 70; III, 574
Засулич В. И. III, 86
Захаревич Ф. III, 163
Захаров В. Н. I, 296, II, 129,662
Захаров В. Ю. I, 60, 72; II, 635
Захаров М. Л. III, 345
Захарова Л. Г. 1,482, 861; II, 114, 116,
122, 131,319,321,641,643,645,
848, 854, 856, 857, 870; III, 566, 705,
890
Защук А. I, 482, 773, 774; II, 635; III,
350, 361,884
Зварич В. В. III, 341,899
Зверев В. А. 1, 764, 765, 770
Зверева В. В. I, 71, 72, 74
Звидриньш П. П. I, 643
Звонков А. П. I, 633, 634, 771; III, 552,
586
Звягинцев А. Г. II, 674
Звягинцев Е. А. И, 335
Зевакин Е. С. I, 500
Зевелев А. И. I, 306, 319; II, 130, 879
Зезина М. Р. III, 554
Зеленой А. С. I, 769
Зеленев Е. И. I, 293
Зеленин Д. К. I, 773; II, 319, 325, 334;
III, 584
Зеленина Г. III, 584
Зеленский И. I, 629; III, 884
Зелинский, доктор II, 33
Зелов Д. Д. II, 875
Земцов Л. И. II, 324, 326, 658; III, 160,
163
Зенченко М. Ю. I, 297
Зернов Н. М. 1,486
Зернов С. I, 369
Зерновы 1,486
Зидер Р. I, 779; III, 694, 695
Зимин И. В. II, 859; III, 899
Зиммель Г. I, 863; III, 692
Зиновьев К. I, 504
Златовратский Н. Н. I, 707, 770; II, 246,
333; III, 156, 387,392, 523,549, 552,
563, 586
Златоустовский Б. В. II, 580; III, 894
Злобин Ю. П. II, 651, 667, 668
Злобина И. В. I, 504, 773, 866
Злочевский Г. Д. II, 121, 342
Знаменский И. II, 120
Знаменский О. Н. III, 555
Знаменский П. В. I, 485,486; II, 116,
120, 662; III, 241, 243, 244, 247, 353,
354
Зоколла Т. I, 655, 762; III, 584
Золотарев В. А. I, 303
Зольникова Н. Д. 1,484—486; III, 351
Золя Э. 1,817, 889
918
Указатель имен
Зомбарт В. II, 627; III, 560, 569, 573
Зоммер В. II, 639, 851
Зорин А. Л. II, 642
Зорин А. Н. I, 768, 861, 862; II, 277,
338, 880, 885
Зорин Н. В. I, 765, 766, 768, 773
Зорина Л. И. I, 766
Зоркая Н. III, 747
Зоркова Н. Н. И, 330, 332
Зороян С. Г. II, 645
ЗоткинаН. А. III, 161, 164
Зотова О. И. I, 770
Зощенко М. И. III, 104, 852
ЗубановаС. Г. I, 484; III, 351
Зубков И. В. II, 883; III, 358, 556
Зубкова Е. Ю. I, 502; III, 543
Зуев А. С. I, 301
Зуев Н. И. II, 649
Зырянов А. II, 316
Зырянов П. Н. I, 312, 485, 488, 492,
772; II, 241, 320, 321, 323—327, 331;
III, 157, 551
Зябликов А. В. II, 877; III, 556
И. В. III, 564, 894
И. X. II, 325
Иван IV Васильевич Г розный II, 120,
359, 365, 368, 370, 372, 373, 382,
657, 783; III, 581
Иванилова Е. П. I, 632,634, 782
Иваница А. III, 361,894
Иваницкий Н. А. I, 644, 690, 769
Иванов А. А. II, 887; III, 901
Иванов А. Е. I, 297, 501
Иванов В. А. II, 667; III, 209, 348,
349
Иванов Вяч. Вс. II, 331; III, 567, 588
Иванов И. III, 888
Иванов Л. М. I, 489; II, 580; III, 553,
571, 894
Иванов Н. А. И, 631
Иванов Н. И. I, 204
Иванов П. И. II, 312
Иванов С. В. II, 466, 515, 516, 763, 899,
900, 902
Иванов С. С. I, 775
Иванов Ю. А. I, 486,488; II, 865
Иванова Е. В. III, 544
Иванова Л. В. II, 121
Иванова М. В. III, 693
Иванова Н. А. I, 399, 465, 474, 481,
482, 490, 492, 502, 504; II, 338—340;
III, 552
Иванова Н. И. I, 292
Иванова Т. Г. II, 114
Иванович И. I, 294
Иванов-Разумник Р. В. III, 691
Ивановская Т. I, 634, 638
Ивановский А. А. III, 367
Иваняков Р. И. III, 150
Ивонин А. Р. I, 629, 861
Игнатович И. И. И, 119, 120, 315—317,
865,868
Игнатьев Н. П. II, 407
Игнатьева Р. К. I, 636
Игрицкий Ю. И. I, 287
Иебенс И. II, 592, 593, 900
Йенсен Т. В. III, 548
Изгоев А. С. II, 313, 847, 860, 890
Измайлович А. А. III, 404, 855
Изместьева Т. Ф. I, 633
Икавитц Э. 1,641; III, 884
Иларионова Т. С. Ill, 567
Иловайский И. Б. II, 317
Ильин В. В. III, 676, 701, 705, 708
Ильин И. А. I, 647; II, 405, 842; III, 561,
593
Ильин И. П. I, 72; III, 543, 899
Ильин М. В. III, 699
Ильин П. В. III, 349
Ильина К. А. II, 872, 881
Ильина Н. В. III, 891
Ильинский Ф. I, 633
Ильюхов А. А. I, 861; III, 155, 161
Ильяшевич В. Б. I, 500
Илюха О. П. I, 706, 755, 774, 783, 784
Илюшина А. III, 885
Инглхарт Р. III, 589, 745
Индова Е. И. 1,250,314, 834
Иоанн III, 888
П1П
Указатель имен
Иоанн Златоуст I, 557
Иоанн Кронштадтский I, 370, 883;
111,412, 855
Иогансон Ф. А. 111, 397
Ионафан, архиепископ Ярославский
I, 378
Ионов И. Н. I, 69, 70
Ионова В. В. 1,491
Иоффе Г. 3. II, 861; 111, 804
Ипатьева А. А. 1, 302
Ипполитов Г. М. I, 71
Ирвинг У. III, 605
Исаев А. А. I, 294, 767
Исаев И. А. II, 853; III, 146, 150, 157
Исаков В. А. II, 861, 888
Искюль С. Н. II, 852, 891
Ислаев Ф. Г. I, 293,302
Истомина Э. Г. 1,313; II, 121
Исупов А. А. III, 870
Исупов В. А. I, 625
Исупов К. И, 131; III, 550
Исхаков С. М. II, 331
Итенберг Б. С. II, 129, 863, 869, 888
Ито Ш. I, 70
Йордан Б. III, 434, 566, 573
Кабакова Г. И. III, 359
Кабакова Н. В. I, 631
Кабанов В. В. II, 332
Кабештов И. М. II, 130; III, 365, 888
Кабо В. III, 582
Кабузан В. М. I, 95,98, 99, 102—104,
238, 262, 289, 292—294, 307, 318,
444, 483, 492, 495, 504, 509—514,
516, 517, 534, 625, 628—631,633,
640, 641, 765, 766, 782, 838, 839,
865; II, 61, 122, 123, 340, 432,630,
634, 636, 656, 660, 750, 802
Кабытов П. С. I, 289; II, 332
Кавелин К. Н. II, 739, 861
Кавтарадзе А. III, 888
Каган А. I, 509, 655
Кагарлицкий Б. Ю. I, 70; III, 704
Каждан Т. П. II, 121
Казанский П. Е. II, 642, 645, 647,649
Казанцев С. М. II, 639
Казарезов В. В. II, 859; III, 550
Кайе Р. II, 647
Кайзер Д. I, 509, 525,627,630,635,
766; III, 559
Каин, Ванька III, 162
Каинова Е. В. II, 652
Кайпша Е. И. I, 644
Калачов Н. В. I, 769; II, 343; III, 158,
159
Калашников И. I, 773
Калесник С. В. I, 311
Калинин Г. I, 298
Калиничев Ф. И. III, 894
Калиниченко К. В. III, 150
Калистов Е. III, 334, 854
Каллаш В. В. III, 153
Каллистов И. С. 111,357, 891
Калло Ж. II, 755, 902; III, 35, 645, 851,
858
Калхун К. I, 290
Калыциков Е. Н. II, 647
Каменский А. Б. I, 28, 307,482, 861;
II, 635,638, 641,650, 850, 852;
III, 699
Камкин А. В. I, 375,484,487; II, 314;
III, 159, 351
Кандель Ф. I, 307
Кандинский В. III, 156
Канеман Д. III, 532, 587
Каниевский А. И. III, 361, 894
Канищев В. В. 1,312,313,320, 491,
493, 538, 594, 626, 630—632, 764;
II, 326, 849
Кантемир А. Д. II, 382
Кантимирова Р. И. II, 549,652
Кантор В. К. II, 859; III, 676, 708
Канторович Я. А. I, 775; III, 867
Капелюшников Р. И. II, 639; III, 578, 579
Каплуновская Э. Б. I, 768
Каплуновский А. П. I, 502; II, 337, 338
Каппелер А. I, 89, 105, 281, 289—291,
293, 297, 298, 303, 305, 306, 308,
318—320, 504
Каптерев П. Ф. I, 733, 777, 779; III, 901
920
Указатель имен
Каразин В. Н. III, 698
Карамзин Н. М. I, 593; И, 381, 397,459,
503, 537, 617, 634, 640, 667, 673,
705, 706, 765, 842, 853; III, 821
Кара-Мурза А. А. II, 855
Кара-Мурза С. Г. I, 28; II, 874
Караханов М. К. I, 644
Карацуба И. В. I, 60, 72
Карачаровский В. В. III, 560
КарбоньеЖ. III, 697
Кардовский Д. Н. II, 57, 895
Карева А. В. I, 861
Кареев Н. И. III, 698
Карелин Ап. А. II, 313, 323—325, 337
Каренин А. А. II, 540
Карл X, король французский II, 403
Карл XII III, 581
Кармин А. С. III, 746
Карнеев Е. М. III, 525, 856
Карнович Е. П. I, 353, 481, 483; II, 479
Карпачев М. Д. II, 486, 662, 734, 850,
860, 861,885, 890; III, 556
Карпеев Э. П. II, 632, 862
Карпов А. В. III, 588
Карпов В. Н. III, 893
Карпов С. Г. II, 835, 836, 904
Карпов С. П. II, 331
Карпова Т. М. II, 667
Карпович И. О. II, 123, 131
Карпухин С. III, 701
Карпухин Ф. III, 885
Карпушин В. А. II, 628, 862
Карпущенко С. В. II, 680
Карраччи А. III, 620, 858
Каррер д’Анкосс Э. I, 291
Карсавин Л. П. III, 692
Карташев А. В. I, 217, 371,486
Карышев Н. III, 562, 569, 574
Касанов А. С. II, 827, 885
Касаткин Н. А. I, 699, 887; III, 462, 856
Каспэ С. И. I, 288, 320
Кассирер Э. III, 503, 583
Касьянова К. II, 861
Катафутдинов Р. Г. I, 764
Катин-Ярцев М. Ю. I, 298
Катков М. Н. I, 462; II, 397, 643, 766
Кауркин Е. В. III, 868
Кауфман А. А. I, 259, 294, 315, 316;
II, 94, 128, 239,313,314,330
Кауфман С. 1,204
Кафафов К. Д. III, 889
Кафенгауз Б. Б. 1,488; II, 117; III, 576
Кахк Ю. I, 644; II, 124, 130
Качков Д. III, 706
Качоровский К. Р. 11,230,313,324,
329; 111,96, 156, 157, 549
Кашин В. Н. I, 493; II, 125,319
Кашинский А. II, 316
Кашкаров В. II, 131
Каштанов С. М. II, 12, 114, 117
Кащенко С. Г. I, 14, 539, 626, 631—
633, 763; II, 128, 129, 320,667;
III, 150, 368, 562
К-в П. I, 781
Квасов О. Н. II, 885
Кваша, Максим III, 736, 747
Келлер Е. Э. II, 866
Келли А. II, 859
Кельнер В. Е. I, 303, 304, 310; II, 878;
III, 889
Кенен Г. I, 287
Кенигсберг М. М. I, 641; III, 368, 884
Кеннан Дж. III, 150
Кеппен П. И. I, 300, 388, 517,628;
III, 871
Керенский А. Ф. I, 302; II, 542, 838,
861,886
Керн А. П. III, 889
Керов В. В. II, 344, 666; III, 439, 567,
568
Кетола Э. I, 306
Кефали Я. О. I, 204
Кечеджи-Шаповалов М. В. I, 783
КиваА. В. II, 859; III, 701
Кившенко А. Д. II, 404, 898
Кизеветтер А. А. I, 388, 488—490, 864;
II, 117, 120, 252, 253, 257, 334—336,
642, 648, 651, 660, 661, 854; III, 886
Ким М. П. 1,311
Ким, Ен Хван III, 554
921
Указатель имен
Кимбелл А. II, 815, 848, 882
Кимелев Ю. А. I, 73; III, 543
КирдинаС. Г. I, 53, 71; II, 627, 872
Киреевские II, 63
Киреевский И. В. II, 712
Кириллов В. В. I, 865
Кириллов В. М. II, 125
Кириллов И. А. III, 556, 557
Кириллов И. К. I, 865
Кириллов Л. А. I, 772
Кириллова Е. А. II, 888
Кириллова Т. К. I, 775; II, 646
Кириченко О. В. III, 548
Киркор А. III, 894
Кирьянов И. К. II, 412, 645—647, 860
Кирьянов Ю. И. I, 431, 496—499, 503;
II, 322, 678, 864, 887; III, 194, 343—
345, 356, 358, 554, 569, 571, 574,
766, 803
Киселев А. В. III, 548, 584
Киселев М. А. I, 480
Киселев П. Д. И, 24, 58, 117, 118, 122,
127, 148, 317, 448, 669; III, 633, 658,
825
Киселев Р. В. II, 646, 684
Киселева И. Г. I, 773; II, 322, 326, 334;
III, 156, 159, 368
Кисловский П. II, 126
Кистяковский А. Ф. I, 633, 771; II, 319;
III, 148
Кистяковский Б. А. II, 744, 861; III, 691
Китаев В. А. II, 888
Китаев-Смык Л. А. III, 575, 589
Китанина Т. М. 1,495—497, 628;
II, 863; III, 552, 569, 573
Кичунов Н. И. I, 864
Киш И. I, 294; III, 707
Клибанов А. И. 1,484, 770; II, 863;
III, 351,545, 586,589
Клиер Дж. Д. I, 195, 198, 218, 307, 309,
310
Климова С. Б. II, 126
Клокман Ю. Р. I, 489
Клоков С. Н. II, 665
Клочков М. В. I, 483; II, 334, 703, 852
Клэвин П. III, 708
Ключарева А. В. I, 484, 487; III, 352
Ключевский В. О. I, 94, 221, 270, 292,
311,317, 334, 335, 481, 482, 488,
517, 592, 641, 778; II, 119, 131,363,
369, 617, 629, 630, 637, 639, 664,
698, 784, 850, 873, 876; III, 209, 603,
706
Клюшина Е. В. II, 880, 885
Кнапп Г. III, 696
Кнебель И. И, 84, 516, 895, 900
Князевская Т. Е. III, 555
Князьков С. А. II, 317, 852; III, 359
Кобзева С. III, 706
Кобозова 3. М. II, 338
Кобрин В. Б. I, 490; II, 312, 339, 372,
632; III, 575
Ковалев Д. В. II, 332
Ковалев С. Н. I, 71
Ковалева М. Г. II, 652
Ковалева Т. В. II, 121, 342
Ковалевский В. И. II, 661; III, 788, 803
Ковалевский М. Е. II, 399
Ковалевский М. М. I, 316, 502; II, 324,
344
Ковальченко И. Д. I, 294, 313, 315,317,
493, 494, 498, 499, 504, 628, 633,
641,767; II, 122, 123, 126, 127, 131,
314, 327, 330, 331, 343, 869; III, 159,
588,802
Ковальчук В. М. II, 647
Кованько П. II, 127, 130
Коверзнев П. Е. I, 608, 886; II, 95, 896;
III, 407,411,855
Ковнер А. Г. I, 307; III, 889
Кожурин Ю. Ф. III, 744
Козлобаев В. А. II, 547, 551, 676
Козлов А. И. III, 359
Козлов В. П. II, 663
Козлов О. В. I, 777
Козлов С. А. II, 120, 321, 327, 573, 679;
III, 588
Козлова А. А. II, 665
Козлова Н. В. I, 489, 501—503, 767;
11,631; 111,557
922
Указатель имен
Козлова Н. Н. I, 25, 28, 29; III, 698
Козловский В. В. I, 14
Козловский М. И. III, 632, 858
Козловский Н. П. I, 299
Козляков В. Н. II, 339
Козьменко В. М. II, 666
Кока Ю. I, 72
Коковцов В. Н. II, 414, 647, 648, 727,
841,858; III, 889
Кокорев А. О. I, 861
Кокорев И. Т. 11,319
Кокс X. III, 558, 559
Колганов А. И. III, 748
Колемин А. И. II, 127
Колеров М. А. И, 890; III, 555
Колесников А. Д. I, 99, 294, 491
Колесников В. А. I, 766, 767
Колесников К. И. I, 740
Колесников П. А. I, 311, 392, 629, 768;
II, 114,313,317; III, 157, 159,360,
869
Колесов В. В. III, 894
Коллентур X. А. I, 635
Коллман Н. Ш. II, 629
Колмаков Н. М. III, 153, 155
Колодежный В. Н. III, 893
Колоницкий Б. И. II, 860, 865, 879;
III, 554, 556
Коль И. Г. III, 889
Кольб Г. Ф. I, 863; III, 563, 758, 759,
803
Кольман К. И. III, 276, 853
Кольцов А. В. I, 317
Кольцова В. А. III, 580
Колюпанов Н. П. I, 303
Комиссаренко С. С. II, 866, 871, 881
Комлос Дж. I, 14, 248
Комолятова А. Н. I, 310
Кон И. С. I, 29, 640, 778, 779, 783—
785; II, 870; III, 543, 559, 580, 583,
692, 695
Кон Ф. III, 899
Кон X. 1,318
Кондаков И. В. I, 70, 311; III, 555, 565
Кондаков Ю. Е. II, 634
Кондратьев Н. Д. 1,494; II, 239, 333,
343; III, 563, 693, 875
Кондрашенков А. А. 1, 767
Конечный А. М. III, 890
Кони А. Ф. III, 698
Конкер Д. III, 552
Коновалов А. В. III, 368, 869
Коновалов В. С. II, 113, 114, 116,321,
328, 333; III, 544
Коновалова О. В. II, 241, 332
Конради Е. И. I, 733, 779
Конрадова Н. I, 303
Константин Константинович, великий
князь II, 733
Константин, император византийский
II, 382
Конфино М. I, 335, 336
Кончаков Р. Б. I, 632, 634,764
Коньшина Ю. Ю. III, 360
Конюченко А. И. I, 304, 484, 486, 487;
III, 351
Коняев А. И. II, 643
Копанев А. И. I, 313, 510, 628, 651,
652; II, 117, 122, 320; III, 750, 803
Кореванова А. Г. I, 777; III, 889
Корелин А. П. I, 348, 444, 482—484,
494, 500, 501, 504; II, 234, 242, 648,
653, 664, 682, 856, 867, 880, 882,
887; III, 218, 232, 323, 328—330,
340, 349, 359, 432, 444, 572, 874
Корецкий В. И. II, 117
Корзухин А. И. I, 575, 885
Коринейский А. III, 357, 889
Коринфский А. А. II, 862
Коркишенко О. II, 883
Коркунов Н. М. I, 296, 335, 481;
II, 397, 623, 639, 640, 642, 643, 668,
683, 868
КорминаЖ. В. I, 187, 305; II, 680
Корнева Н. М. II, 644
Корнеев А. II, 864
Корнеев В. В. I, 170, 302
Корнилов А. А. I, 303; II, 321, 403, 642
Корноухова Г. Г. III, 557
Коробки И. И. II, 324
923
Указатель имен
Коробков Ю. Д. 1,499; II, 751, 864;
III, 571
Коровин К. А. I, 735, 779; III, 889
Корогодина М. В. I, 638; II, 125;
111,564
Королев А. А. III, 580
Королева Н. Г. II, 332, 626, 644, 861
Короленко В. Г. I, 718, 777; II, 160,
169, 170, 315, 316, 746, 862, 863,
896; III, 381, 547, 565
Корольков К. II, 673, 869
Коротаев А. В. I, 71, 73, 310; III, 703,
706
Коротких М. Г. III, 152
Корсаков Д. А. II, 314, 639
Корсаков С. II, 643; III, 872
Кортес Д. III, 708
Корф М. А. II, 506, 666, 668, 672
Корф С. А. I, 482; II, 339, 340, 640, 650,
669, 871
Корчмина Е. С. I, 482; II, 287, 298,
340—342, 654, 656, 661
Косарецкая Е. Н. III, 161
Косвен М. О. I, 769
Косинский В. А. I, 317
Костов С. В. I, 29
Костомаров Н. И. I, 689, 709, 769, 775;
II, 118; 111,291,363
Костригина Е. В. I, 626
Костюхина М. I, 777, 783
Котеленец Е. А. 1,287; III, 707
Котельникова Л. Л. III, 703
Коткин С. III, 699
Котлова Т. Б. I, 777, 782
Котляревский С. А. II, 627
Котляров А. Н. II, 342
Котошихин Г. И, 361, 629—631;
III, 889 ’
КоузР. I, 50,51,881
Коул Э. I, 548—551,569, 581, 876
Кофод К. А. II, 330, 672, 768; III, 889
Кох О. Б. I, 524, 630, 653, 654, 663, 666,
763
Коциевский А. С. I, 501
Коцонис Я. II, 328, 856, 882
Коцюбинский Д. А. I, 305
Кочаков Б. М. II, 646; III, 343
Кочешков Г. Н. I, 483
Кочубей В. П. II, 881
Кочубей Л. М. I, 472, 884
Кошелев А. А. II, 652
Кошелев А. Д. I, 500, 769; II, 626, 866;
III, 347, 702
Кошелев А. И. I, 487; II, 66, 79, 123,
126, 127; III, 888, 889
Кошелев В. А. II, 130, 659, 870;
III, 365, 886, 891,894
Кошелев Н. А. III, 332, 854
Кошелева А. В. II, 638
Кошелева О. Е. I, 655, 762, 777, 781;
III, 584
Кошелевы II, 63
Кошкидько В. Г. II, 646
КошкоА.Ф. II, 512; III, 73, 147, 851,
889
Кошко И. Ф. II, 512, 543, 670, 675
Кошман Л. В. I, 465, 481, 490, 503, 818,
864; II, 121, 335, 338, 641, 649, 853,
860; III, 155
Краваль И. А. III, 871
Кравченко А. И. 1,498; II, 343
Крадецкая С. В. I, 783
Крадин Н. Н. I, 73; II, 685; III, 703
Крайг Г. III, 580, 582, 584
Крайсман Н. В. I, 302
Крамми Р. О. II, 374, 632, 644
Крамской И. Н. II, 165, 896
Кранихфельд А. III, 151
Красильщиков В. А. III, 701
Краснова В. Б. II, 323
Красновский Д. П. I, 88, 299; III, 877
Красноперов И. I, 769
Красняков Н. И. I, 296, 300
Красовский М В. II, 860; III, 163
Крахмальников 3. А. III, 692
Крашенинникова В. II, 889; III, 544,
707
Крендовский Е. Ф. I, 816, 888
Кренке А. Н. I, 311
Крестинин В. I, 769
924
Указатель имен
Крестьянников Е. А. III, 153, 157
Крживоблоцкий Я. I, 483, 772, 774,
775; И, 123; III, 344, 884
Кржижановский А. I, 31, 204
Кривенко В. С. II, 869; III, 303, 305,
366, 367, 889
Кривенький В. В. I, 306, 307
Кривей И. К. III, 357, 890
Кривонос М. II, 625
Кривошеев Ю. В. И, 632
Кривошлык М. Г. I, 734, 887
Кригер-Войновский Э. Б. II, 666;
III, 889, 892
Крижанич Ю. II, 376
Крисп О. II, 74
Критский В. И. II, 712
Критский М. И. II, 712
Кром М. М. I, 73, 305; II, 439, 655;
III, 543,701,705
Кропоткин Г. М. II, 648; III, 889
Кропоткин П. А. I, 784
Круглянская Н. А. III, 892
Крузе Э. Э. I, 495, 496; III, 552, 553,
570, 574
Крупп А. III, 397
Крупянская В. Ю. III, 553
Крутиков В. И. I, 640; II, 114, 117, 122,
854, 855; III, 576
Крылов Н. И. II, 303
Крылов-Толстикович А. II, 857
Крысько В. Г. III, 543
Крюков Н. П. II, 880, 884
Крюков Ф. Д. III, 566, 889
Крюкова С. С. I, 634, 639, 762, 771;
III, 155, 568
Крюс Р. I, 107, 293
Крючков В. В. II, 341
Кудрявцев В. Н. III, 165
Кудряшев Г. Е. I, 300
Кузминский Г. И. III, 357, 889
Кузнецов А. А. II, 332
Кузнецов В. Д. III, 364, 365, 558
Кузнецов С. В. III, 155, 548, 568
Кузнецов Я. И. 111,518, 545
Кузнецова Т. В. II, 656
Кузьмин А. А. II, 265, 336
Кузьмин А. В. II, 115, 637
Кузьмин К. В. И, 884
Кузьмин Ю. А. II, 674; III, 899, 901
Кузьминский А. М. II, 641; III, 878
Кузьминых А. Л. II, 125
Кузьмичев П. С. III, 900
Кукарцева М. А. I, 72
Кукевич К. Ф. II, 590, 900
Кулагин М. III, 357, 889
Кулакова И. П. I, 861; II, 630
Куланов А. III, 707
Кулешов С. В. II, 683
Куликов В. В. II, 626, 669
Куликов С. В. I, 14, 298, 320; II, 494,
503, 504, 642, 645—647, 649, 664,
667, 669, 674, 719, 721, 724, 857—
859, 877, 878; III, 218, 350, 366, 889
Куликова С. Г. III, 164
Куликовский Г. И. II, 325, 343
Кулишер Е. М. I, 580,637
Куломзин А. Н. II, 837
Култышев П. Г. I, 305
Кулыжный А. III, 550
Кульчитцкий А. В. III, 345, 348
Кумаков А. В. III, 893
Кунина А. Е. III, 573
Купер Ф. I, 290, 291
Купреянова А. Н. I, 779; III, 889
Куприн Д. О. I, 318
Куприянов А. И. I, 304, 385, 489, 789,
860, 862, 863; II, 263, 265, 280, 287,
336, 337, 339, 340, 849, 873; III, 386,
543, 547, 548, 557
Куприянова Л. В. III, 345
Купцова И. В. III, 702
Курдюмов П. В. II, 56, 895
Куренышев А. А. II, 331
Куринов С. А. II, 627
Курманова Г. Д. II, 884
Курмачева М. Д. II, 635
Курукин И. В. I, 60, 72; II, 851
Курц Б. Г. I, 227; III, 895
Курцев А. Н. I, 626
Курыгин П. К. I, 300
925
Указатель имен
Кусбер Я.
Кустова Е. В. И, 264, 336
Кустодиев Б. М. I, 394, 883; II, 84, 895
Кутафин О. Е. III, 151—153
КуусиП. 111,411,559
Кучер В. В. II, 130
Кучеренко Г. С. II, 633, 636
Кучумова Л. И. I, 484; II, 320, 321;
III, 351,894
Кушко А. I, 169, 170, 288, 289, 296,
297, 302
Кушнер П. А. I, 773
Кушнеров И. Н. II, 649
Кущенко Г. А. I, 765
Кэмпбелл Е. И., см. Воробьева Е. И.
Кюстин А. II, 395, 401, 640; III, 708,
889
Леве Х.-Д. I, 404
Лабутина Т. Л. III, 702
Лаверычев В. Я. I, 491, 500; II, 643, 857
Лавицкая М. И. 1,490; II, 341
Лаврентьева Л. С. I, 770
Лавров А. С. III, 584
Лавров И. II, 131
Лавров С. Б. I, 310
Лавровский Н. А. I, 774
Ладыгин А. В. III, 702
Ладыженский Е. II, 117, 315
Лазарев А. В. III, 581
Лазарева Л. Н. III, 565
Лазаревский Н. И. I, 481; II, 623, 629,
630,640, 646, 647
Лазерсон М. 1, 319
ЛалошА. II, 313; III, 586
Ламин В. А. I, 625
Ланге Н.,111, 151
Лангель Р. I, 641
Ланда Р. Г. I, 302
Ланской Г. Н. II, 848
Лапин В. В. I, 299, 861, 865; II, 114,
115,680, 681
Лапин Н. И. 1, 762; III, 899
Лапицкий М. И. III, 560
Лапкин В. В. III, 558, 705
Лаппо Г. М. I, 293, 846, 862—864;
III, 563, 899
Лаппо-Данилевский А. С. I, 492;
II, 312, 629, 639, 852; III, 576, 691
Лаптев М. I, 637; III, 361, 362, 884
Лаптева Л. Е. II, 548, 644,652, 676
Лаптева Т. А. II, 339
Лапчинский Н. Д. III, 398
Лапшина Г. С. II, 869
Ларин М. В. II, 656
Ларионова М. Б. II, 121, 342
Лассаль Ф. 1,20
Латкин В. Н. I, 482, 483, 489, 768, 769,
775, 780, 781; II, 116—119, 122, 633,
634, 639, 641, 649, 650; III, 146, 147
Латов Ю. В. II, 122, 631; III, 560, 582,
699, 700, 744, 746, 748
Латова Н. В. III, 560
Латынина Ю. III, 554
Латыпова Д. Ф. I, 775
Лаушкин А. В. I, 637
Ле Гофф Ж. III, 474, 575, 581, 585, 709
Ле Пле П. Г. Ф. I, 753, 783; II, 636;
III, 279,618, 698
Ле Плэ П. Г. Ф., см. Ле Пле П. Г. Ф.
Лебедев А. В. I, 861
Лебедев А. Г. I, 503, 861
Лебедеве. М. Ill, 151—153
Лебедев К. В. I, 724, 725, 887; II, 53,
895
Лебедев Н. III, 895
Левада Ю. А. I, 780, 863
Левенстим А. А. III, 158, 159
Леви-Брюль Л. III, 503—507, 581—583
Левин И. III, 584, 697
Левин М. И. II, 321, 670; III, 548, 698
Левин Ш. М. II, 856, 886
Левина Е. I, 638
Левинсон А. Г. I, 863
Левинсон К. А. I, 304
Левинсон М. Л. II, 650
Леви-Строс К. I, 67; III, 583
Левит С. Я. III, 899
Левитский М. А. II, 682; III, 889
Левкиевская Е. III, 584
926
Указатель имен
Левшин Э. М. I, 775
Легкий Д. М. III, 153
Ледонн Дж. П. II, 626, 637, 638
Лежава Г. П. I, 320
Лейберов И. П. 1,498, 499
Лейкина-Свирская В. Р. 1,456, 501,
502,556
Лелина Е. И. II, 852
ЛемохК. В. I, 675, 691,886
Ленин В. И. I, 33, 34, 36, 69, 289,403,
493, 881; И, 233, 349, 412, 488, 489,
663, 693, 739, 747, 766, 801, 804,
805, 808, 847, 870, 874, 877—879,
903, 907; III, 396, 554, 569—571,
664, 861
Ленский Б. I, 772; III, 551
Леонард К. II, 123
Леонов М. И. II, 885
Леонов М. М. I, 778; II, 341, 624, 625,
637, 668, 871,875
Леонтович В. В. II, 877, 888
Леонтович Ф. И. III, 146
Леонтьев А. А. III, 155, 158, 159
Леонтьев А. К. II, 629, 650
Леонтьев К. Н. II, 405
Леонтьева О. Б. И, 435, 655
Леонтьева Т. Г. I, 367, 484—488;
II, 321; 111,352,358, 585
Леопольдов А. Л. I, 694, 770
Лепукалн А. I, 636
Лермитт Л. III, 637, 858
Лернер Л. А. I, 768
Лесков Н. С. I, 209, 220, 308, 310;
И, 33, 118, 319, 526, 540, 672, 767,
773, 872, 873; III, 547
Летенкова Э. В. II, 667; III, 150
Летов О. В. I, 74
ЛешковВ.Н. 11,371,631,639
Лещенко В. Ю. I, 634, 762, 782
Ливен Д. I, 92, 226, 289—291, 293, 302,
312, 317, 318, 482; II, 298, 343, 541;
III, 693, 706, 707
Ливи Баччи М. I, 543, 544, 644
Лившин А. Я. II, 872
Лигенко Н. П. I, 491
Лимонов Ю. А. I, 293, 313; II, 118,628;
III, 890, 891
Линдерт, Питер I, 14,419; III, 342
Линовский В. А. III, 148, 152
Линьков И. И. III, 899
Лион С. Е. II, 885
Лиотар Ж.-Ф. 1,62, 66, 881
Липец П. С. I, 776
Липинская В. А. III, 359, 360
Липинский А. О. I, 491, 612, 629, 638,
642, 643; II, 127; III, 146, 884
Липинский Г. III, 146
Липкин А. И. I, 70
Липковский Л. Г. III, 469
Липовский А. II, 639, 861
Липпман У. II, 624
Лисичникова А. В. III, 556
Лиссем П. II, 509
Листова Т. А. I, 315, 762; II, 313;
III, 365, 559
Лисюнин В. Ф. I, 487
Литвак Б. Г. I, 492, 493, 770; II, 120,
122, 126, 129,316,323,461,580,
636, 656, 659, 660, 662, 663, 679,
862, 872; III, 562, 565, 586
Литвинова Т. Н. II, 341, 661
Литошенко Л. Н. II, 239, 330, 333
Литягина А. В. I, 489; III, 549, 559
Лифтон Р. Д. II, 874
Лихачев В. И. III, 163
Лихачев Д. С. II, 624, 630, 886; III, 555,
586,654, 692, 704
Лихоманов А. В. II, 870
Лихтенштедт И. Р. I, 610, 611, 643
Лихтин А. Н. II, 849
Личков Л. С. I, 767
Личман Б. В. I, 73
Лобанова К. В. I, 765
Лобачева Г. В. II, 640, 868, 875
Лобачевский Н. И. II, 339; III, 747
Логунов А. П. III, 707
Логунова М. О. II, 779, 875
Лозина-Лозинский М. А. II, 669
Локшин А. Е. I, 310
Ломан В. III, 578, 874
927
Указатель имен
Ломизова Н. И. II, 652
Лопатин В. С. III, 888
Лопатин С. Ю. III, 879
Лопухин А. А. II, 802, 838, 903; III, 871
Лопухин В. Б. III, 889
Лопухин И. В. II, 112, 131; III, 89, 154
Лопухина Н. Ф. III, 18, 851
Лор Э. I, 299,319
Лоренц К. III, 585
Лорис-Меликов М. Т. II, 407; III, 831
Лосицкий А. Е. I, 864; II, 96, 128, 239,
329, 333; III, 571
Лоссовский И. М. II, 681
Лотман Ю. М. I, 59, 72, 481,482, 777—
779, 782; II, 78, 127, 292, 340, 341,
680, 853, 889; III, 365, 583, 692
Лохвицкий А. В. II, 652, 770, 871;
III, 148, 158
Лохтин П. М. I, 312
Лубков А. В. II, 882, 883
Лубны-Герчук Л. И. I, 315; II, 131
Лубский А. В. I, 68, 73; III, 705
Лудмер Я. И. I, 773
Луканин А. I, 573, 635
Лукассен Я. III, 560
Лукашова С. С. I, 298
Лукин П. В. II, 629
Лукоянов И. В. II, 649, 675
Лукьянов М. Н. II, 647
ЛунеевВ. В. III, 138, 161, 164
Лурия А. Р. III, 502, 580, 585
Лурье Л. Я. I, 867; III, 552
Лурье М. Л. I, 784
Лурье С. В. I, 288,290, 298; II, 320;
III, 543, 544
Лурье Ф. М. II, 760, 867, 868
Лучицский Н. Ф. III, 150
Лучицкий И. II, 324, 344
Лысенко Л. М. II, 504, 546,651, 652,
667,675
Любавский М. К. I, 294, 320
Любичанковский С. В. II, 545, 547,
549—552, 554—556, 558, 562—568,
570, 625, 653, 675—679; III, 210,
348
Люсин Д. В. III, 588
Люттвак Э. Н. II, 874
ЛютшА. II, 639, 851
Люцидарская А. А. I, 762
Лямин С. К. I, 861; II, 884; III, 150, 548
Ляпанов А. В. II, 121
Лярский А. В. III, 558
Ляхов Б. А. II, 667
Ляшкевич И. С. III, 357, 889
Лященко П. И. I, 407; II, 128; III, 562,
700
Маврин С. И. И, 399
Мавродин В. В. II, 126
Магнитский В. I, 585
Мадариага И. II, 298, 342, 701, 851,852
Маев И. В. III, 359
Мазепа, Иван I, 298
Мазин К. А. 1,318
Мазур Л. Н. 1,71, 866
Майер В. Е. I, 762
Майерс Д. II, 660, 672; III, 543, 554
Майорова О. Е. II, 875
Макарий, архимандрит III, 884
Макарий, митрополит Московский
и Коломенский I, 642, 768; III, 433
Макаров А. Н. II, 639
Макаров И. Ф. I, 483; II, 856
Макаров Н. В. II, 888
Макаров Н. П. I, 493; И, 798, 877
Макарова О. Е. III, 887
Макарчева Е. Б. I, 484,485,487,488;
III, 352
Макашина Т. С. I, 770
Маккенни Р. III, 704
Маклаков В. А. I, 194, 281, 306, 307,
320; II, 416, 418, 533, 647, 648, 672,
736, 737, 739, 741, 748, 837, 847,
860, 861, 863, 886, 889, 902; III, 886,
889, 890
Мак-Нил У. I, 72; III, 748
Маковский В. Е. I, 416, 417, 688, 736,
883, 886, 887; II, 754, 820, 902, 904;
III, 523, 527, 857
Маковский К. Е. I, 583, 885
928
Указатель имен
Макогоненко Г. П. II, 624, 886
Максимов С. В. II, 122, 331, 344, 752,
865; III, 291,363,379, 545,584
Максимович Л. II, 391, 639; III, 867
Максутов В. Н. I, 675, 886
Малиа М. III, 654, 676, 704, 708
Малинова О. Ю., см. Малинова-
Дзиафета О. Ю.
Малинова-Дзиафета О. Ю. III, 369, 706
Малкин Е. Б. И, 874
Малков С. Ю. I, 71, 310; III, 703
Малченко В. С. III, 152
Малыхин П. III, 361—363, 895
Малышева О. Г. II, 860
Малышева С. Ю. III, 566
Мальков В. Л. III, 573
Мальшин П. С. III, 887
Малютин М. III, 574
Мамадышский Н. Н. II, 324
Мамсик Т. С. II, 314—316
Мангилёва А. В. 1,481,486; II, 883
Мандэй К. I, 783; III, 698
Манжелей А. III, 357, 890
Мантейфель А. П. I, 776; III, 890
Мантена К. I, 305
Манухин II, 641; III, 878
Манько А. В. II, 652, 670
Маньков А. Г. I, 488, 635, 768, 775,
864; II, 117, 125, 629—631; III, 147,
564, 869
Марасанова В. М. II, 545, 547, 549—
551,625, 652, 653,667, 676
МарасиноваЕ. Н. I, 480—482; II, 121,
297, 342, 633, 638, 851,859, 875
Маргария О. И, 859, 860; III, 701, 745
Марголис А. Д. III, 149
Марголис Ю. Д. II, 871, 878
Марджори Р. III, 694
Мареева Е. П. I, 632, 634, 782
Мария Александровна, императрица
III, 894
Мария Николаевна, великая княгиня
II, 753; III, 310, 311,854
Мария Федоровна, императрица
III, 319, 854
Маркевич А. И. 1,318; 11,629
Маркевич А. М. III, 346
Маркевич Н. А. I, 566, 593; II, 630;
III, 884
Маркова А. А. I, 310
Маркова Л. А. I, 74
Маркова М. А. I, 536, 630, 632, 633
Маркович Д. III, 560, 574
Маркс А. Ф. III, 554
Маркс К. I, 33—36,69, 207, 860, 881;
II, 632, 847; III, 441, 568, 741, 830
Маркузон Ф. Д. I, 642; III, 203, 346,
347
Маррезе М. Л. I, 780
Мартианова И. Ю. I, 728, 778, 779
Мартин Т. II, 853, 881
Мартинчик А. Н. III, 359
Мартынова А. Н. 1,643
Мартюшева М. Н. II, 626
Марченко М. Н. II, 627
Маршалл А. I, 317
Масальский В. И. 1, 313; III, 872
Масионис Дж. 1,315,480
Масленникова Н. Н. I, 292
Маслшчук В. I, 643
Маслов П. П. I, 315; III, 369, 618, 698
Масловский М. В. II, 624, 683
Масси Р. К. II, 850
Матвеев Н. I, 861
Матвеев П. А. III, 157, 159
Матвеева А. Ф. III, 545
Матиенко Т. Л. II, 657, 867; III, 163
Матисон Ф. В. I, 485
Матлин Д. Ill, 888
Матонина В. Н. III, 888
Матусевич И. О. I, 641
Матусевич Р. I, 479
Матханова Н. П. III, 555
Матюшин И. I, 835, 889
May В. А. I, 52, 71; II, 860; III, 704
Мауль В. Я. II, 629; III, 581
Маурер Т. I, 861
Махаев М. И. II, 426, 898
Махонина С. Я. II, 871
Махотина А. А. II, 876
929
Указатель имен
Мацеевич, Арсений, митрополит
Ростовский и Ярославский II, 46;
111,815
Мациевич Л. М. I, 600, 885
Мацузато К. I, 320; II, 331, 332, 644
Мацумото Д. III, 582
Машкин А. С. III, 545, 895
Медведев П. А. II, 767
Мединский В. Р. I, 861; II, 874; III, 745
Медушевский А. Н. II, 115,635, 637,
651,665, 683
Межевич Н. М. I, 310
Мейер Д. И. Ill, 151
Мейсан Т. III, 702
Мелихов А. М. I, 309, 348,623
Мельвиль А. Ю. III, 699
Мельгунов Б. В. III, 886, 888, 891
Мельгунов С. П. II, 675, 877
Мельник Е. В. III, 162
Мельник Л. Г. I, 490
Мельникова И. Г. II, 666—668
Мельникова М. И. III, 548
Мельников-Печерский П. И. II, 538,
539, 673
Мельци Ф. III, 626, 858
Мельцин М. О. I, 640, 642, 782
Мельянцев В. А. II, 660
Меморандов II, 314
Менделеев Д. И. II, 436, 489, 617,654,
663; III, 639, 706, 830
Мендельсон А. С. III, 871
Мендельсон Л. А. I, 412, 495
Мендюков А. В. I, 487
Менухова П. А. I, 14
Меншиков А. Д. II, 699, 734, 850
Меньшиков М. О. III, 569
Меньшикова р. Н. I, 776
Меренкова В. Ю. II, 626
Мерзлякова Л. В. II, 547, 667
Мерзон А. Ц. 1, 392
Меркулов С. Д. I, 294
Мертон Р. К. III, 144, 746
Меспул М. II, 884
Местр Ж. де I, 20
Меттенлейтер И.-Я. III, 330, 854
Мешков А. Н. I, 781; III, 901
Мещерский В. П. I, 463; II, 637, 671,
728, 767, 769; III, 890
МигуноваТ. Л. И, 650; III, 152
Мизис Ю. А. I, 626, 630, 632, 764;
II, 667
Микулин А. А. III, 570, 872
Милле Ж.-Ф. 11,213, 897
Миллер А. И. I, 79, 90, 218, 288—292,
295, 298, 299, 304, 307—310, 318,
320; III, 159, 706,707
Миллер Г. Ф. I, 295, 834
Миллер Д. П. 1, 639
Милль Дж. С. I, 317
Милов Л. В. I, 228—232, 234, 235,
241—243, 246, 247, 251, 257,
312, 313, 315, 493, 498, 643, 772;
II, 122—124, 327; III, 543, 563, 890
Миловидов Б. П. I, 503
Милоголова И. Н. I, 767, 771, 773
Мильков Ф. П. I, 311
Мильская Л. Т. III, 573
Милюков П. Н. I, 217, 270, 317, 334,
335, 502, 517; II, 113, 119, 334, 419,
624, 635, 647, 648, 663, 738, 800,
838, 840, 847, 869, 886, 890, 902;
III, 555, 606, 620, 676, 692, 698, 704,
840
Милютин В. А. I, 638, 639
Милютин Н. А. II, 92, 112, 511, 512
Минаков А. С. II, 546, 547, 652, 676
Минаков А. Ю. II, 887
Миндлин А. Б. I, 310
Минейко Г. I, 599
Миненко Н. А. I, 295, 300, 629, 634,
635, 658, 705, 762—766, 768, 769,
774, 776, 780, 782, 783, 866; II, 280,
316, 328, 336, 339, 625, 745, 862,
863; III, 158, 545,547, 576
Минин А. С. II, 669
Минкина О. Ю. I, 309
Минх А. Н. I, 771, 865; II, 519, 671,
872; III, 364, 365, 884, 899
Минц Л. Е. I, 702; II, 323; III, 199, 347,
358, 425, 563, 568
930
Указатель имен
Мироненко К. Н. II, 649
Мироненко С. В. I, 60, 72,298; II, 641,
664, 667, 674, 852, 854
Миронов Б. Н. I, 70, 73, 238, 248, 289,
309, 313, 315, 316, 320, 388, 400,
483, 485, 486, 490, 491,493—495,
498—501, 503, 534, 542, 552, 629,
631—633, 636, 637, 641, 643, 644,
766, 767, 776, 812, 818, 822, 826,
839, 849, 864—866; II, 65, 101, 115,
122, 123, 125, 127, 128, 130, 131,
323, 327, 337, 341, 623, 642, 654,
656, 657, 660, 677, 679—682, 685,
850—853, 856, 857, 866, 869, 877;
III, 138, 184, 193, 240, 245, 250, 300,
301,326, 333, 335, 337, 341—344,
347, 348, 351, 354, 356, 358—360,
363, 364, 367, 369, 477, 478, 544,
548, 552, 561, 562, 564, 567, 571,
577, 578, 588, 693, 700, 705, 708,
709, 746, 758, 803
Миронов Г. Е. I, 500
Миропиев М. А. I, 299, 300
Мирославский В. III, 357, 890
Митрофанов А. Г. I, 29
Миттерауэр М. I, 509, 655
Мить А. 111,581
Михаил Федорович, царь I, 97; II, 67,
363, 365, 898; III, 807
Михайлов А. М. II, 673; III, 357, 890
Михайлов В. М. I, 637
Михайлов Н. В. И, 344, 643, 858, 861;
III, 554, 571
Михайлов С. К. I, 302
Михайлова И. Б. I, 480; II, 628, 630
Михайловский В. Г. I, 311, 514, 628;
II, 574; III, 250, 356, 872
Михайловский Е. В. I, 773
Михайловский И. В. III, 152
Михайловский Я. Т. I, 420, 500;
III, 552, 569, 881
Михайлюк А. III, 585
Михель Д. В. I, 643
Михель И. В. I, 643
Михельс Р. II, 691, 848; III, 719, 745
Михневич В. О. II, 766, 870; III, 164,
437, 551,566
Мнишек, Марина II, 370, 631; III, 890
Могилевский К. И. II, 331
Могильницкий Б. Г. I, 70, 73; II, 876;
III, 581
Модзалевский Б. Л. II, 863
Можаровский А. I, 300
Мозель X. I, 774, 776; III, 361
Моисеева Н. А. III, 544
Моисеенко В. М. I, 626
Молодяков В. Э. III, 707
Момотов В. В. III, 146, 151
Мондэй К. II, 511, 636, 669
Монтер У. III, 585, 697
Монтескье Ш. I, 221; II, 371, 376
Морачевич И. I, 634; II, 315, 316;
III, 164, 361,362, 895
Морачевский В. В. I, 316; II, 883;
III, 876
Морган П. III, 397
Мордвинов Н. С. II, 710
Мордвиновы И, 855; III, 886
МореваО. В. III, 496, 578
Морозан В. В. III, 243, 249, 253, 347,
350, 352—354, 356
Морозов А. И. III, 285, 490, 853, 856
Морозов А. Ю. II, 662, 885
Морозов Б. III, 895
Морозов И. А. I, 771; III, 365, 569
Морозова Е. Н. И, 644
Морозова Э. А. I, 631, 658, 764
Моруков Ю. Н. III, 900
Морюшкин С. И. III, 161
Мосина И. Г. I, 491; III, 547, 576
Москаленко А. Г. III, 545
Московичи С. III, 581
Мосолкина Т. В. I, 860
Мосолов А. А. I, 779; II, 381, 634, 635,
727, 856, 858, 869; III, 367
Мосс М. III, 583
Мрачковска И. I, 28
Муллов П. А. I, 488, 782; II, 120, 334;
III, 159
Муравьев А. В. 1,315,863; II, 512; III, 802
931
Указатель имен
Муравьев В. А. I, 762; II, 339, 488, 663,
664
Муравьев Н. В. III, 564
Муравьев Н. М. II, 710
Муравьева М. Г. I, 747, 761, 769, 771,
780, 782
Муравьева О. С. I, 777, 778
Мурашов Д. Ю. II, 341
Мурзанов Н. А. II, 674; III, 900
Мусаев В. И. I, 300; III, 161
Мусихин Г. И. II, 664
Мухамеддрахимов Р. Ж. III, 583
Мухаркин Д. П. I, 777
Мухин И. Н. I, 375, 484, 485, 487;
III, 352, 354—356, 358
Мухин М. Ю. III, 574
Мухин О. Н. II, 851, 875, 876; III, 581
Мухина Е. Н. I, 483, 638; II, 668, 868,
871; 111,586
Мухина 3. 3.1, 640
Мухортова Н. А. I, 366, 367, 484, 485;
III, 352, 358
Мушкет И. И. II, 663; III, 900
Мчедлов М. П. III, 900
Мшвениерадзе В. В. II, 623
Мыглан В. С. I, 250, 251, 310, 311, 314
Мыльников А. С. II, 119, 629, 638;
III, 693
Мыш М. И. I, 308
Мэйси Д. А. II, 330
Мюллер Р. Б. II, 629; III, 503, 867
Мясоедов Г. Г. I, 524, 884; III, 376, 377,
379, 382, 449, 854—856
Набоков В. В. I, 726, 887; III, 619, 698
Набялэк О. Э. I, 504
Назаревский В. В. II, 479, 634, 661,
869
Назаретян А. П. I, 71
Назаров В. Д. 1,654, 763; III, 693
Назимов М. Л. III, 216, 349, 890
Найденов Н. А. III, 895
Найденова Л. П. II, 341; III, 545
НайтН. I, 173,302
Намазова А. С. II, 848
Наполеон I Бонапарт, император
французский I, 183; II, 434, 538,
588; III, 673, 723
Нардова В. А. I, 394, 491, 504; II, 337,
626, 643, 644, 850, 872
Нарочницкий А. Л. I, 834
Нарский И. В. I, 304; II, 865; III, 572
Насонов А. Н. II, 126
Натане Б. I, 200
Наумов В. П. II, 889
Наумова Н. Ф. III, 705
Нахимов П. С. I, 16
Небольсин А. Н. 1,493
Небольсин П. И. I, 690, 769, 770;
III, 564, 895
Невзоров А. III, 550
Невзорова 3. П. III, 403, 855
Неволин К. I, 775
Невский В. И. I, 499; II, 878; III, 890
Негодаев Н. С. I, 835, 889
Негри А. I, 290
Незначный Б. I, 308
Некрылова А. Ф. II, 866
НемытинаМ. В. III, 153
Нерсесянц В. С. I, 492; II, 120; III, 146,
868
Несмелое Ф. Я. III, 879
Несмеянова И. И. II, 635, 663, 875
НеупокоевВ. И. II, 122, 123
Неустроев К. Г. II, 767
Нефедова Т. I, 846, 862, 866
Нехамкин А. Н. I, 60, 72
Нехамкин В. А. I, 60, 71, 72
Нечаев В. Д. III, 745
Нечаев Н. Н. I, 778
Нечаева М. Ю. I, 768
Нечипоренко В. С. II, 626
Нечкина М. В. II, 12, 114, 853, 863
Нешель В. I, 636
Нижник Н. С. I, 775, 780; II, 646, 663;
III, 900
Никитенко А. В. II, 855; III, 890
Никитин (сост.). III, 875
Никитин Н. И. I, 120, 291—293, 295,
297,300,312,318,320
932
Указатель имен
Никитина Т. Б. I, 779
Никифоровский Н. Я. I, 773
Никишина Н. В. I, 764, 768, 783
Никодим, епископ Далматинско-
Истрийский III, 868
Николаев А. П. I, 204,484; III, 351
Николаевский В. I, 772
Николаенко П. Д. II, 881
Николай I Павлович I, 129, 183, 197,
204, 205, 304, 305, 308, 450, 483,
504, 604, 712; II, 24, 40, 42, 67, 78,
80, 118, 287, 289, 295, 298, 317, 390,
394, 397, 399, 400, 403, 404, 424,
432, 434, 437, 445, 464, 469, 484,
488, 497, 500, 510, 511, 522, 539,
610—612, 638, 641—643, 650, 652,
665, 668, 669, 707—714, 717, 724,
730, 736, 739, 756, 760—762, 765,
771, 782, 787, 788, 815, 854, 855,
867—869, 898; III, 24, 68, 72, 73, 79,
89, 120, 132, 133, 141, 154, 220, 229,
237, 243, 321, 335, 353, 562, 586,
658, 822—824, 827, 886, 895
Николай II Александрович I, 93, 120,
178, 204, 304, 439, 463, 475, 735,
883; II, 13, 116, 347, 348, 350, 381,
402, 405, 408, 411, 412, 418, 420,
424, 426, 465, 483, 510, 542, 583,
608—610, 612, 634, 635, 642, 669,
672, 675, 712, 715, 717—719, 721,
723—727, 729—734, 736, 741,749,
750, 755, 763, 764, 768, 779, 780,
782, 792—795, 810, 811, 835, 856—
859, 861, 864, 872, 885, 898, 900,
901, 903; III, 120, 237, 307, 335, 659,
834, 836, 839, 840, 887
Никологорский А. С. I, 783
Никольский А. П. II, 768; III, 157
Никольский В. Н. I, 781
Никольский Н. М. II, 120, 866; III, 253
Никольский С. А. III, 548
Никольцева Н. Ф. Ill, 895
Никон, патриарх I, 363,364, 367
Никонов А. В. I, 292, 297
Никонов В. А. I, 482; III, 676, 708
Никонов Вяч. А. I, 482; III, 676, 708
Никонов С. П. Ill, 157
Никонов Ф. III, 545
Никонова О. III, 572
Никулин А. II, 321; III, 550, 572
Никулин В. Н. III, 363
Нил, архиепископ Ярославский I, 378
Нилова О. Е. III, 557
Нифонтов А. С. I, 484, 488, 489, 491;
II, 123, 580; III, 271,894
Нобель А. Б. 111,397, 896
Нобель Л. И. I, 435; 11,417
Нобель Э. Б. 111,397
Новаковский В. A. Ill, 119, 803
Новиков А. В. III, 569, 700
Новиков А. М. I, 634; III, 693
Новикова В. В. I, 770
Новикова И. Н. I, 301
Новицкий В. Ф. I, 204
Новичкова Т. А. III, 900
Новомбергский Н. Я. III, 146, 545
Новосельский А. А. I, 482,493;
II, 339
Новосельский С. А. I, 514, 528, 534,
574, 616, 630—634, 639, 641, 642,
743, 776, 781; III, 149, 245, 748, 801,
803, 872
Новосильцев Н. Н. II, 704
Ногманов А. I, 308
Ноздрин Г. А. II, 882
Нойманн И. Б. III, 702
Нольде А. Э. II, 672
Нольде Б. Э. I, 291,293, 318; II, 598
Норт Д. С. I, 50, 51, 70, 881; II, 314;
III, 543, 704, 746
Нос А. Е. III, 163
Носевич В. Л. I, 594, 631, 641, 764, 766,
767
Носов Е. Н. 1,312
Носов Н. Е. I, 866; II, 643, 649
Нохейль Р. II, 889
Нуждина А. А. II, 321; III, 549, 577
Нуреев Р. М. III, 699, 700, 744, 746
Ньюкомб Н. III, 582, 583
Нюбергер Дж. 1,498; III, 692
933
Указатель имен
Обломов И. I, 777
Обнинский В. П. И, 859
Обнинский П. Н. III, 163
Оболенская С. В. I, 300
Оболенский В. В. I, 318
Оболенский Г. Л. II, 852
Оболенский, Григорий, князь III, 431
Оболонский А. В. II, 657, 673
Обручев Н. Н. I, 303, 358, 628; II, 119,
584, 680, 850; III, 236, 350, 802, 870
Обухов В. М. III, 368
Овсянников В. С. III, 178
Овчинников В. А. I, 488
Овэс Л. С. I, 861
Огановский Н. П. I, 294, 316, 317,866;
II, 324, 329, 330, 333; III, 875
Огарев Н. П. II, 63, 712; III, 828
Огеева О. Г. III, 697
Одарченко К. Ф. I, 770
Окладников А. П. I, 292,631,762, 765;
II, 863
Окрейц С. С. III, 890
Оксман Ю. Г. II, 863
Окулов А. Ф. I, 770
Окунь С. Б. II, 315, 580, 636, 853, 868;
III, 563, 894
Олеарий А. I, 247,248, 313; III, 646,
858, 890
Олейников Д. И. II, 713, 855
Олейников Ю. В. I, 312
Олесич Н. Я. I, 501
Олихов С. I, 635, 636
Олмстед, Алан I, 14
Ольденбург С. С. И, 672, 859, 861,872,
885
Ольденбургский П. А. II, 733
Омельченко О. А. I, 492; II, 627, 633,
636, 639, 640, 852
Омельянчук И. В. 1,496
Оноприенко И. Г. I, 777, 778
Опалинская М. А. II, 121
Опарина Т. А. III, 706
Орановский А. I, 629; III, 361, 884
Орен И. I, 307; III, 899
Орленко С. П. III, 706
Орлов А. В. II, 653
Орлов В. Г. II, 166, 313, 324, 325, 329,
680
Орлов Н. В. II, 25, 229, 329, 470—472,
601,660, 895, 897, 899, 901; III, 74,
259, 260, 327, 385, 851, 853—855
Орлов Ю. Г. II, 674
Орлова В. Д. I, 491, 631,632, 634
Орлова Г. А. II, 512, 670, 872
Орлова С. А. II, 863
Орловский А. О. II, 440, 899; III, 93,
525,634, 851,856, 858
Ортега-и-Гассет X. III, 709
Орфинская Л. В. III, 150
Оршанский И. Г. I, 308, 740, 780;
III, 157
Остаде А. ван III, 540, 857
Остерман Л. III, 556
Остоушко А. В. II, 670
Островская Л. В. III, 558, 584
Островская М. А. I, 765; II, 312
Островски Д. II, 632; III, 693
Островский А. Б. I, 770; II, 315; III, 583
Островский А. Н. II, 617; III, 390, 725
Острогорский А. Н. I, 779
Остроумов С. С. III, 161, 164
Оуэн Н. II, 6476 849
О’Фаррель Э. III, 618
Охлябинин С. II, 121
Ошерович Б. С. III, 148
П. Г. II, 117
П. Н. С. III, 878
Павел I Петрович I, 355, 793; II, 40,44,
49, 54, 120, 378, 461, 500, 699, 703,
734, 852, 868; III, 229
Павел Александрович, великий князь
II, 602, 901
Павленко Н. И. I, 312,488, 504;
II, 117, 635, 665, 683, 850—852,
862; III, 232, 359, 575
Павленко О. В. I, 308
Павленко Т. А. I, 487
Павликова М. III, 707
Павлов А. П. I, 480; II, 655
934
Указатель имен
Павлов А. С. I, 635
Павлов П. Н. I, 294
Павлова Г. В. II, 652
Павлова О. К. II, 884
Павлова-Сильванская М. П. II, 372, 632
Павлов-Сильванский Н. П. I, 335, 482;
II, 116, 312, 339, 629—631; III, 698,
699
Павловский М. III, 357, 890
Павловский Н. Г. II, 512, 543, 670, 675;
III, 889
Пажитнов К. А. 1,490, 495; II, 335, 337,
344, 660; III, 469, 347, 569, 570, 573,
574
Пазухин А. Д. II, 767
Пайна Э. С. II, 640; III, 563, 700
Пайпинг Р. II, 635
Пайпс Р. I, 18, 228—231, 235, 241, 242,
244, 257, 291, 312, 499; II, 298, 342,
372, 374, 632, 642, 643, 655, 657,
675, 677, 689, 847, 848, 858, 874,
886—888
ПалибинМ.Н. 1,481; III, 867
Палли X. I, 509, 643, 644, 764, 765
Паллот Дж. I, 703
Панарин А. С. III, 676, 708, 745
Панарин И. Н. II, 874; III, 707
Панеш Э. X. I, 296
Панин Н. И. II, 384, 633, 636; III, 814
Панина А. Л. III, 585, 885, 887
Панкеев И. III, 549, 900
Панкратов А. С. II, 124
Панкратова А. М. I, 864
Панов Г. И. II, 884
Панов Н. III, 357, 890
Пантин В. И. III, 558, 705
Пантин И. К. II, 888
Пантюхов И. И. I, 641
Панченко А. А. 1,480
Панченко А. М. И, 630, 876
Паперна А. И. I, 307
Паппе А. О. III, 158
Параманова М. Ю. I, 71,72, 74
Парамонов В. Н. III, 463, 572
Паренадо А. III, 158
Парето В. I, 504
Парсамов В. С. II, 861; III, 556
Парсонс Т. I, 38, 39,47, 480, 881
Партанен Ю. I, 632
Партаненко Т. В. III, 707
Паршев А. I, 251, 252, 254, 314
Патрикеева О. А. II, 880
Патрушев В. Д. III, 561, 564
Патрушева Н. Г. II, 869; III, 893
Паутова Л. А. I, 321
Пахман С. В. I, 502, 634, 770, 773;
III, 107, 147, 155, 157—159, 868
Пахомчик С. А. II, 332
Пашин П. III, 357, 890
Пашкова Т. И. II, 315, 651,685
Пашуто В. Т. I, 389, 481, 628, 652, 772;
II, 117,318,335, 854; 111,551,576,
696
Пелевин И. А. I, 724, 887
Пелипенко А. А. III, 676, 708
Пенской В. В. I, 72
Первушина Е. В. I, 780
Перегудова 3. И. II, 867
Перетц Е. А. I, 304; II, 364, 630, 650
Перетяткович Г. I, 295
Перковский А. Л. I, 630, 631, 633, 640,
667, 765
Перов В. Г. II, 158, 495, 896, 899;
III, 541, 857
Перова И. III, 574
Перри М. II, 630
Перхавко В. Б. I, 492; II, 12, 114, 115,
631
Першин П. Н. II, 239, 333, 864; III, 896
Першин С. В. I, 502; II, 336, 337, 340,
342, 625
ПершицА. И. II, 866; III, 582
Песков А. М. II, 852
Петерсон Н. Л. III, 550, 561, 564, 566,
568, 571,573, 879
Петр I Алексеевич I, 16, 61, 81, 106,
107, 204, 205, 274, 312, 338, 341,
342, 343, 347, 379, 384, 446, 482,
485, 486, 488, 500, 504, 561, 710—
712, 729, 731,774, 781, 806, 836,
935
Указатель имей
859; И, 17—19, 22, 28, 29, 41, 42, 44,
47—49, 116—118, 120, 283, 334,
335, 343, 355, 359, 361,364, 366,
370, 375—379, 381—383, 385—387,
389—391, 393, 424, 426, 432—434,
454, 475, 488, 492, 494, 499, 500,
510, 517, 522, 568, 569, 572, 582,
592, 611,617, 618, 634, 635, 637,
639, 655, 662, 665, 671,678, 682,
698, 699, 702, 703, 709, 724, 729,
734, 735, 759, 760, 779, 780, 782,
784, 792, 840, 850—852, 867, 875,
876; III, 13, 14, 16, 17, 24, 29—31,
34, 39, 40, 43, 50, 52, 54, 56, 58, 64,
65, 70, 95, 146—148, 152, 210, 221,
232, 243, 291, 317, 335, 351, 359,
364, 519, 581,610, 635, 645, 657,
659, 667, 670, 699, 718, 807, 810—
814, 817, 818, 854
Петр II Алексеевич II, 424, 699, 851;
111,812, 887
Петр III Федорович I, 756; II, 39,47,
355, 378, 388, 424, 665, 700, 734,
786, 797; III, 17, 65, 221,229, 635,
662,814
Петров Б. Д. I, 642
Петров В. М. III, 555, 583
Петров Г. С. 1,718, 777
Петров Е. В. I, 290
Петров К. В. II, 650
Петров Л. П. III, 357, 890
Петров М. A. Ill, 125, 852
Петров М. К. III, 692
Петров Н. П. I, 854, 889
Петров П. Н. III, 398
Петров Ф. А. И, 872, 885
Петров Ю. А. I, 291, 315, 480; 11,115,
129, 13б, 848, 859; III, 901
Петрова Е. Е. II, 880
Петровичева Е. М. II, 332
Петровская А. С. III, 588
Петровский-Штерн Й. I, 197, 307
Петросянц М. А. I, 313
Петрункевич И. И. II, 647; III, 555
Петрухин В. Я. III, 565, 900
Петрухинцев Н. Н. I, 298,480; II, 851
Петухов А. Б. III, 359
Петухов С. А. I, 312
Петуховский С. Л. II, 332
Пецко А. А. III, 706
Печерин В. С. II, 41, 119; III, 890
Пешехонов А. В. III, 553
Пивовар Е. И. I, 308
Пивоваров Ю. С. II, 672, 724, 744, 858,
886; III, 699
Пиетров-Эннкер Б. II, 848
Пилсудский Б. I, 638
Пименова Л. А. III, 701
Пимоненко Н. К. I, 697, 886; II, 136,
896; III, 96, 547, 851
Пинегены III, 357, 888
Пинтнер В. III, 349
Пиотровская Е. К. I, 14
Пирогов Н. И. I, 579, 637, 639; II, 742
Пирумова Н. М. II, 870
Писарев С. Н. I, 772, 775; II, 868
Писаревский Г. Г. I, 292; III, 567
Писаренко К. А. II, 851, 876
Писарькова Л. Ф. I, 504; II, 431, 439,
626, 643, 654, 655, 662, 663, 665,
666, 671; III, 209, 214, 257, 348, 349,
351
Пискарев П. А. III, 890
Пискунов А. И. I, 456; II, 572, 679;
III, 337, 578, 803
Пихоя Р. Г. I, 504, 773, 866; II, 650
Пичет Е. II, 650
Пичета В. И. 1,481
Пиштевич А. С. I, 778; III, 890
Плаггенборг С., см. Plaggenborg St.
Плаксин В. I, 635; II, 327
Плампер Я. I, 501; III, 587
Платонов А. I, 612, 643
Платонов О. А. II, 887; III, 548, 569,
900, 901
Платонов С. Ф. I, 866; И, 334, 639;
III, 341,896
Платонов Ю. П. III, 544
Платонова Д. Н. Ill, 703
Платонова Т. В. II, 341
936
Указатель имен
Плеве В. К. I, 600, 885; И, 838
Плеве И. Р. I, 292; III, 567
Племянников В. П. III, 158
Плешков В. Н. И, 646; III, 709
Плещеев С. И. III, 885
Плимак Е. Г. II, 888
Плодунова В. В. I, 625,632
Плошинский Л. 0.1,488,489; II, 334
Плюшкин Ф. М. III, 397
Плющевский Б. Г. I, 772; III, 551
Пляшкевич И. Н. III, 357, 890
Пнин И. П. I, 501
Победимова Г. А. III, 891
Побединский II, 56
Победоносцев К. П. II, 31, 118, 732,
811; III, 888
Побережников И. В. I, 44, 69, 70, 73,
295, 629, 763, 866; И, 265, 280, 336,
636, 862, 865, 866; III, 672, 706
Повапишин А. II, 117, 118, 126, 131
Поворинский А. Ф. III, 151
Погодин М. П. II, 617, 761, 868; III, 890
Погожее А. В. I, 420, 495, 496, 834;
111,464, 572, 574
Подосенов О. П. III, 149
Пожарская С. П. II, 848
Пожигайло П. А. II, 328; III, 895
Позен М. П. I, 204
Познышев С. В. Ill, 150
Покровская М. И. I, 774
Покровский А. А. III, 360
Покровский В. И. I, 227, 632, 636;
III, 272, 364, 578, 804, 872, 874
Покровский Е. А. I, 607, 642, 769, 773
Покровский И. М. 1,485; III, 356
Покровский М. Н. I, 78
Покровский Н. Н. I, 485, 631; II, 862,
873; III, 546
Покровский С. А. I, 227
Покровский С. П. II, 641
Покровский Ф. И. I, 634, 695, 767, 770
Покшишевский В. В. I, 293, 294
Поланьи К. III, 506, 582
Полеванов В. П. III, 343
Полевой П. Н. I, 774
Полежаев А. И. II, 712
Поленов А. Д. I, 316
Поленов В. Д. I, 858, 889; II, 30, 895
Полетаев А. В. I, 28, 73
Поливанов А. В. III, 890
Полиевктов М А. II, 641
Поликарпов В. С. I, 60, 72
Полилова Ю. Е. I, 776
Полилов-Северцев Г. I, 776
Полисадов Л. И. III, 356, 887
Политое В. Е. III, 161
Полищук Н. С. I, 762, 768, 769; III, 344,
553, 554, 563, 571
Полла М. I, 763
Половцев Г. Ф. II, 114
Половцов А. А. II, 347, 456, 658, 728,
732; III, 429, 564, 887, 890, 897
Половцов А. В. I, 892; III, 861,907
Полонская Н. II, 317
Полонский Д. Г. I, 480
Полтерович В. М. I, 314; II, 333;
III, 568, 699, 745
Полунов А. Ю. II, 871; III, 355, 555
Поляков Ю. А. I, 316, 625, 629, 640,
865; III, 369
Полян П. I, 862
Полянская Ю. М. I, 413, 495—497, 861
Полянский Н. Н. III, 163; III, 152, 163
Полянский Ф. Я. I, 490
Пономарев И. В. III, 879
Пономарев Н. И. I, 312
Пономарев С. М. I, 769—771; II, 343
Пономарева В. В. I, 780
Пономарева Е. Г. II, 874
Пономаренко В. В. I, 317
Поплавская X. В. III, 548
Попов А. А. I, 637, 704, 810, 887, 888;
II, 753,902; III, 271,287, 853
Попов А. С. III, 834
Попов В. А. I, 577, 661, 663; II, 317
Попов В. В. I, 314
Попов Г. И. I, 638
Попов Г. Г. I, 638
Попов Г. X. II, 12, 114
Попов Д. И. II, 884
937
Указатель имен
Попов М. С. III, 357, 891
Попов Н. П. I, 529, 884
Попов П. А. III, 803
Попов Р. И. III, 557
Попов Ю. Н. I, 781; III, 901
Попова О. Д. III, 366, 887, 891
Попова С. С. III, 596
Попова Ю. И. I, 706, 774
Поповичева Ю. Н. II, 666
Поповы III, 892
Попроцкий М. I, 482, 483, 573, 629,
774; 111,359,361,366, 884
Порай-Кошиц И. А. I, 482
Порошин В. С. II, 124
Поршнев Б. Ф. 1,492, 770; II, 126;
III, 543, 582
Поршнева О. С. II, 879
Поскачей Т. А. II, 666, 668
Посошков И. Т. I, 709; II, 36, 119, 151,
314; III, 388, 550, 891
Постников А. В. I, 297
Постников А. С. I, 534, 636; III, 364
Постников И. Н. II, 335; III, 891
Потанин Г. Я. I, 295
Потапов Л. П. I, 311
Потемкин Г. А. I, 169; III, 888
Потехин А. А. I, 769, 770; II, 206, 322,
326; III, 586
Поткина И. В. I, 14; II, 679; III, 346
Потолов С. И. 1,496,499; II, 861;
III, 553, 554, 896
Правиков Ф. II, 391,639; III, 868
Правилова Е. А. II, 669
Прайсман Л. Г. II, 886
Прат Н. I, 307; III, 899
Предтеченский А. В. II, 680, 853, 865;
III, £94
Преображенский А. III, 551
Преображенский А. А. I, 291, 294, 392,
481,491,492, 762; III, 569
Преображенский А. И. I, 772; II, 315;
III, 164,361—364, 551,896
Преображенский В. III, 561, 885
Преображенский И. I, 743, 769, 775,
781; III, 873
Пресняков А. Е. I, 863; II, 853; III, 699
Привалова Т. В. III, 364
Пригара А. 1,488, 489; II, 334
Пригожин И. I, 54, 71, 881
Прилежаев Е. М. 1,485; III, 356, 896
Приль Л. Н. I, 294; II, 320; III, 567
Приселков М. Д. III, 548
Приходько М. А. II, 663
Прокопов Т. Ф. III, 888
Прокопович С. Н. I, 493, 766, 767, 865;
II, 123, 128, 327, 343, 873; III, 177,
342, 360, 561,568
Прокопович Феофан II, 379, 382,405,
633
Прокофьев А. В. I, 367, 375, 379, 484—
488, 771; III, 358
Прокофьева А. Ю. I, 762
Прокофьева Л. С. II, 119, 312, 314—
317,319
Прокофьич III, 356
Прокурова Р. С. III, 164
Пронина Т. Д. II, 121
Пронкин С. В. II, 635, 859
Пропп В. Я. III, 544, 584
Просвирнова О. Е. III, 576
Просеков И. Ю. 11,312, 651
Проскурякова Н. А. II, 242, 332, 679,685
Протасов Л. Г. I, 307; II, 684; III, 898
Прохоров М. Ф. I, 762, 772; II, 117;
III, 551
Пругавин А. С. II, 866; III, 578
Пругавин В. С. II, 320; III, 549
Прутченко С. II, 871; III, 882
Прянишников И. М. II, 186, 218, 818,
896, 897, 904
Птуха М. В. I, 283, 307, 309, 318, 528,
607,618, 631,642, 765; III, 873
Пугачев Е. И. II, 31,356, 637, 775, 864;
111,34,816
Пукирев В. В. I, 712, 887; II, 472, 473,
505, 899
Пуллат Р. Н. I, 491, 629, 643, 865;
III, 548
Пулькин М. В. I, 484, 486, 861; III, 165,
351, 353,354
938
Указатель имен
Пульхеров А. II, 872
Пурлевский С. Д. III, 891
Пустоход П. И. I, 640
Путилин И. Д. I, 779; III, 136, 164
Путилов Б. Н. I, 762; III, 544
Путятин Р. Т. III, 357, 891
Пушкарев Л. Н. I, 305,486,489, 769;
И, 630; III, 543, 545, 546, 557, 576,
705
Пушкарев С. Г. I, 484; II, 313; III, 351
Пушкарева И. М. 1,494; II, 121, 342;
III, 571
Пушкарева Н. Л. 1,494, 635,638,647,
761, 762, 770, 771, 775, 778, 780,
784, 875; III, 893
Пушкаренко А. А. III, 159
Пушкевич А. II, 315
Пушкин А. С. I, 3, 16, 59; II, 78, 135,
658, 712; III, 518, 823
Пушкин Н. Е. II, 664; III, 875
Пыжиков А. В. I, 70; II, 654
Пыляев М. И. III, 360
Пэнто Р. III, 146
Рабин Е. П. III, 558
Рабинович А. II, 649
Рабинович Г. X. 1,490,491,501
Рабинович М. Г. I, 489, 635, 767, 768,
776, 780, 865, 867, 866; III, 546, 547
Рабинович М. Д. 1,489,500; II, 682;
III, 232,359
Рабинович Я. В. II, 863
Рабцевич В. В. 1,489,490, 774; II, 314,
335,336
Равинский Д. К. 1,494
Равич С. III, 891
Радаев В. В. 1,480; III, 746
Радищев А. Н. II, 33,511; III, 818
Раев М. II, 298, 639
Разгон А. М. 1,491,864
Разгон В. Н. 1,489,490,491
Разгон И. М. I, 762
Разин С. Т. 11,31,355,629
Разоренова Н. В. II, 862
Разумихин С. III, 361, 362, 896
Райан В. Ф. III, 584
Ранкур-Лаферьер Д. I, 15,28; III, 544,
674, 707
Ранненкампф (сост.) III, 875
Раскин Д. И. I, 294, 504; II, 626, 632,
636,663,666, 673, 674, 862, 885;
III, 159, 347, 348,351
Расков Д. Е. I, 70; II, 344; III, 440, 568
Распутин Г. Е. II, 810,903; III, 135,664,
852
Рассудов Р. Я. I, 296
Растягаева Г. И. И, 652
Раух Д. Э. II, 684, 685
Рафиенко Л. С. 1,490
Рахимов Р. Р. 1,296
Рахматуллин М. А. 1,866; II, 118, 121,
126, 315, 316, 318; II, 659,660,680,
855, 866; III, 576
Рахштмир П. Ю. II, 887
Рашин А. Г. I, 84, 307,407,410,411,413,
418—420,494—497, 509, 510,628,
639, 864; II, 323,658; III, 199, 201,
326, 344, 345, 358, 478, 552, 571, 573,
577, 750, 759, 803, 874
Рашковский Е. Б. I, 69, 70; III, 703
Реан А. А. III, 583
Рева И. М. II, 337
Редигер А. Ф. I, 134, 135, 297,299, 300,
308,499; II, 381, 511, 512,635,658,
669,680,681, 893; III, 204,367,891
Редин Д. А. I, 304; II, 439, 567,652,
654,655,665,677,678, 868; III, 152,
346
РеентЮ. А. II, 656; III, 150
Резепин П. П. II, 667
Резун Д. Я. I, 294, 295
Рейнгардт Н. В. I, 780
Рейсер С. А. II, 871
Рейтблат А. И. И, 807, 867, 879; III, 550
Рейтенфельс Я. 1,781
Рейтерн М. X. I, 179
Рейфилд Д. III, 887
Ремезов А. III, 357, 891
Ремнев А. В. I, 90, 121, 288,297;
II, 547, 550, 551,869
939
Указатель имен
Репин И. Е. I, 737, 888; И, 467, 468,
792, 899, 903; III, 422, 539, 855, 857
Репин Н. Н. 1,227,491
Репина Л. П. 1,13,68,71—74; III, 586,706
Репников А. В. II, 887
Рибас, Иосиф де I, 204
Рибер А. I, 73, 90, 92, 291,482; II, 116,
298, 343, 402, 641
Ригельман А. И. 1,295
РикёрП. III, 581
Риккер К. Л. III, 397
Рикман В. Ю. I, 490; II, 340
Римашевская Н. I, 785
Римский С. В. I, 484, 487; III, 351,353
Римский-Корсаков Н. П. III, 886
Риттих А. А. I, 317; II, 322; III, 155, 879
Роббинс Р. X. II, 503, 546; III, 900
Рогалина Н. Л. II, 242,330,332, 333
Рогачев А. М. I, 861, 862
Рогов В. А. И, 647,683
Роговин Л. II, 647; III, 868
Рогожин Н. М. 1, 291, 297
Рогозный П. Г. I, 487, 781
Родес, Иоганн де, датский посланник
III, 895
Родзянко М. В. II, 740, 902
Родосский А. С. I, 308,451; III, 900
Рождественская Н. Ю. I, 861
Рожкова М. К. I, 407, 495; II, 126;
III, 199
Розанваллон П. III, 537, 589, 742, 748
Розанов А. И. III, 357, 891
Розанов В. В. 1,221,311
Розанов Н. П. I, 782; III, 244,353, 891
Розен, барон III, 612, 857
Розенберг Л. И. II, 113
Розенберг У. Г.,1, 305; III, 899
Розенталь И. С. II, 881, 889
Розинская Н. А. II, 318; III, 582
Рознатовский Н. С. III, 357, 891
Розов А. Н. 1,374,484-487; III, 358
Розов Н. С. I, 69; III, 706
Романенко Л. М. II, 848; III, 900
Романов А. М., великий князь II, 859,
877, 878; III, 369, 746, 891
Романов А. П. 1, 773; III, 578, 585,588
Романов Б. А. 1,638
Романов В. Н. III, 582
Романов К. С. II, 868
Романов М. Н. II, 650
Романов Н. Н. I, 294
Романович-Славатинский А. 1,482;
II, 17, 116—118, 126,340, 397,627;
III, 891
Романовский С. И. II, 888, 890; III, 556
Роскина Н. А. III, 887
Ростиславов Д. И. 1,372,373,486;
III, 352, 367
Ротшильд, Джеймс 1,204
Ротштейн А. III, 709
Роуз-Аккерман С. II, 670
Рошер В. III, 704
Руан К. III, 692
Рубакин Н. А. I, 773,783; II, 432,617,
650, 654, 684; III, 358, 578, 874
Рубинштейн Л. Н. II, 122, 123, 126
Рубл Б. А. III, 355
Рубцова М. А. III, 365, 896
РугаВ. Э. I, 861
Рудкевич Н. Г. II, 643,673
Руднев А. 1,766; III, 361,362,896
Руднев Л. И. III, 151
Руднев С. Ф. 1,772
Рудницкая Е. Л. II, 886; III, 555,556,704
Рудченко П. И. III, 879
Ружицкая И. В. II, 667—669, 713, 855;
III, 562
Руковский И. П. I, 137,393; II, 130,315;
III, 874
Рулан Н. III, 159,160
Румянцев П. П. I, 766
Румянцева М. А. III, 568
Румянцева М. Ф. II, 626, 664, 665
Румянцевы 1,715,887
Руновский Н. III, 868
Руперт В. Я. II, 399
Русакова Л. М. III, 559, 584
Русов А. III, 344
Русов Н. Н. III, 890
Руссо Ж. Ж. II, 394
940
Указатель имен
Рустамова Г. I, 288
Рутман Р. Е. II, 863
Рутц М. Г. I, 864
Рууд Ч. II, 867
Рущинский Л. П. I, 774
Рыбаков Б. А. I, 69; II, 127, 584, 628,
638; III, 574
Рыбаковский Л. Л. 1,634,
Рыбаченок И. С. III, 707
Рыбников Н. А. I, 770; III, 558
Рывкина Р. В. III, 574
Рыжов А. II, 540
Рыжов Д. С. III, 161
Рыклин М. III, 556
Рындзюнский П. Г. I, 315, 389,465,489,
490,491,640,772, 864—866; II, 120,
122,335; III, 551
Рычаловский Е. Е. II, 862
Рычков П. И. I, 478; II, 127; III, 897
Рэнсел, Дэвид, см. Ransel D. L.
Рюриковичи, князья I, 347; II, 359
Рябинин А. I, 774
Рябушинский В. П. I, 395, 475,491, 504;
II, 898; III, 400, 548, 557
Рябушинский П. П. III, 401
Рябушинский Ф. П. III, 397
Рябушкин А. П. I, 591, 791, 885, 888,
894; II, 363
Рябушкин Т. В. I, 497, 639, 765
Рябчиков А. М. I, 312
Ряжев А. С. I, 298
Рязанов В. Т. II, 318, 330
Рянский Л. М. I, 640; II, 114
Рянский Р. Л. II, 114
Сабанеева Е. А. I, 722,777
Саблер В. К. II, 380,898
Сабурова Т. А. I, 764
Савельев А. 1,288,780; II, 635
Савельев И., художник I, 80, 881
Савельев М. В. III, 365
Савельев П. И. I, 297
Савельева И. М. I, 28, 73
Савельева О. II, 867, 874, 875
Савин А. II, 629
Савинков Б. В. II, 838, 886; III, 891
Савицкий И. В. II, 341
Савицкий К. А. I, 822, 889; II, 463, 899;
III, 108, 852
Савицкий С. А. I, 73
Савич Г. Г. II, 650
СавкинИ. 1,311; II, 131; III, 550
Савченко И. III, 692
Саградов А. А. I, 320
Садовников Д. Н. I, 755
СаетЛ.Я. III, 891
Саид Е., см. Саид Э. В.
Саид Э. В. I, 28,47; III, 702
Сайко Э. В. I, 862
Саква Р. II, 646
Салинз М. II, 318; III, 473, 539, 542,
575, 589
Саломон А. П. III, 149,882
Салтыков-Щедрин М. Е. 1,171; II, 63,
538, 540,617, 767; 111,618,619
Сальников В. П. II, 663; III, 164, 900
Самарины 1,168; II, 63
Самаркин В. В. 1,863
Самбук С. М. 1,288
Самохвалов Д. С. III, 581
Сандерленд, Уиллард I, 14, 164, 172,
290, 291,296
Сандерлэнд У., см. Сандерленд,
Уиллард
Санин Г. А. I, 297
Санников А. П. III, 353
Сапсай А. Д. I, 204
Сапронов М. В. I, 71
Сарафанов Д. Е. I, 632
Сатаров Г. А. II, 670
Сафонов М. М. 1,14; И, 636,641, 852
Сафронов А. А. I, 306
Сафронов Ф. Г. 1,294
Сафронова Ю. А. II, 886
Сахаров А. М. I, 493, 862
Сахаров А. Н. I, 14, 297, 493; II, 321,
630, 635, 646, 734, 853, 859; III, 693
Сахаров И. П. I, 774
Сахарова Л. Г. II, 855; III, 366
Сбоев В. А. 1,300
941
Указатель имен
Свавицкая 3. М. 1,666,700,765,772;
III, 874
Свавицкий Н. А. I, 666, 700, 765, 772;
III, 874
СвакД. I, 294; III, 707
Сванидзе А. А. I, 864, 866; III, 566, 573,
695, 696
Сватиков С. Г. 1,295
Свежинский Е. А. I, 301
Свердлова О. Г. II, 854
Свечин III, 883, 892
Свидерский Ф. И. I, 772; III, 551
Свирщевский А. Р. 1,772
Святловский В. В. 1,483; II, 128, 129,
323,329; III, 369, 573,709, 897
Святополк-Мирский П. Д. 1,427
Севастьянов Ф. Л. II, 657
Севостьянов Г. Н. II, 321, 331
Сепор Л.-Ф. 1,105
Седерберг Г. I, 781; III, 891
Седов П. В. II, 374, 439, 629, 630, 633,
655,670, 671
Сеид-Алим, эмир Бухарский 1,277, 882
Сеид-Асфендиаф-Багадур-хан, хан
Хивинский I, 271, 882
Сейку Е. Ю. II, 880
Секиринский Д. С. II, 863,864
Селезнев Ф. А. И, 849, 888
Селиванов В. В. II, 315,316
Селунская Н. Б. I, 297,498, 504;
II, 647
Семакин С. И. I, 292; III, 567
Семевский В. И. 1,349,492,634,635,
766, 769, 770,774, 778, 781; II, 118—
120, 124, 314, 316, 317, 707, 853, 865,
867; III, 192,243,244,247,343,349,
353,354,420,468, 562, 574
Семевский М. И. I, 766; II, 118; III, 147,
576
Семенникова Л. И. I, 69, 70
Семенов А. В. 1,227; III, 875
Семенов В. Г. II, 667
Семенов П. П. 1,294
Семенов С. Т. II, 220,225,226,323,
325—328; III, 568, 891
Семенов Ю. И. I, 69, 70, 291, 296,310,
315, 639; II, 318, 632; III, 703, 744,
895
Семенова А. В. I, 291,489,777; III, 889
Семенова В. В. I, 73
Семенова Л. Н. 1,635, 768,777,779—
782; И, 876; III, 342,360,364
Семенова-Тян-Шанская О. П. 1,638,
639,643,691, 698, 766, 767, 770, 771,
773; II, 325; III, 156, 404, 549, 558,
568, 586
Семенов-Тян-Шанский В. П. I, 825,
842, 843, 846, 863, 865, 866; III, 877
Семенок А. К. II, 626
Семигин Г. Ю. III, 151, 152, 153
Семьянинов В. П. III, 153
Сенин А. С. II, 626
Сенчакова Л. Г. II, 864; III, 896
Сенявский А. С. I, 69, 862; II, 660
Сербина К. Н. I, 864
Сербов Н. И. II, 852
Сергеева А. В. III, 544
Сергеева С. В. I, 777
Сергеевич В. И., историк 1,863; II, 41,
119, 122,314,365, 373, 397,630,632,
639; III, 146, 159
Сергеевич В., рабочий II, 338; III, 891
Сергеевский Н. Д. III, 148
Сергий Радонежский I, 16
Сердюков Л. М. I, 305; III, 892
Серегни С. I, 305
Середа Н. В. II, 335, 652; III, 889
Сержпуховский А. II, 325
Серков А. И. II, 814, 881; III, 900
Серов Д. О. II, 439 665, 639, 655, 671,
678, 851; III, 152, 154, 348
Серповский Н. I, 294
Сивков К. В. II, 580, 636, 862; III, 558,
894
Сидельников С. М. II, 331
Сидоров А. Л. III, 898
Сизенко А. Г. I, 492
Сизов С. Г. I, 487
Сизова О. В. II, 341; III, 897
Сийловаск К. 1,494; II, 327
942
Указатель имен
Сикевич 3. В. 1,301; III, 544
Сикорский И. А. I, 779
Сили Д. Р. I, 297
Силина И. Г. I, 625, 629, 632
Сильвестров А. III, 357, 892
Сильвестрос М. В. II, 670
Сименс Э. В. III, 397
Симеон Полоцкий II, 361,628
Симонов Р. А. III, 588
Симонова М. С. 1,483; II, 326
СимчераВ. М. I, 319
Синдаловский Н. А. II, 866
Синелина Ю. Ю. I, 302
Синельников И. Ю. II, 456, 658, 666,
668, 675, 676
Синкевич Г. П. 1,636,638
Синова И. В. I, 779, 784; III, 147
Синявский А. Д. III, 549
Сифман Р. И. 1,95,318, 515, 516,633,
636; II, 432
Скабичевский А. М. II, 709, 774, 855,
873; III, 892
Сказкин С. Д. 1,492,772
Скалдин А. Д. I, 770; III, 164, 892
Скворцов И. П. 1,642
С-кий П. II, 326
Скляров Л. Ф. I, 294; II, 329, 331
Скобелев К. В. III, 549, 552
Скопин Г. А. III, 357, 892
Скорняков А. В. II, 628
Скоробогатов А. В. И, 852
Скотт В. III, 605
Скот Дж. I, 73; III, 560, 572
Скребицкий А. И. III, 343, 562, 875
Скрипилев Е. А. 1,296; III, 146,868
Скрипицын В. А. 1,317; III, 879
Скрынников Р. Г. II, 628
Скрябин С. И. 1,71,317
Скубневский В. А. I, 292, 491, 629,
860—862; II, 849, 884
Скуратова И. Н. III, 160
Скутнев А. В. I, 374,484, 486—488;
III, 164,352,356,358
Славянский К. Ф. 1,635,636
Сладкогласов С. П. III, 358, 892
Слезкин Ю. I, 120, 202, 203, 210, 297,
306, 307, 308
Слиозберг Г. Б. I, 176, 199, 303, 307,
308; III, 892
Слободянюк И. П. III, 152
Случевский В. К. III, 152
Смарагд, архиепископ II, 771, 872
Смарт Э. III, 472, 473, 575
Смахтина М. В. I, 480
Смелик О. Г. 1,642
Сметанин С. И. 1,481
Смилянская Е. Б. III, 546, 584
Смирнов А. 1,635,771; II, 645; III, 157
Смирнов В. III, 558
Смирнов Д. Н. III, 547
Смирнов И. И. II, 118; 111,654
Смирнов И. П. III, 794
Смирнов М. А. III, 161, 164
Смирнов М. И. III, 565
Смирнов Н. А. 1,288,486; II, 116
Смирнов Н. Н. I, 14, 302, 305; II, 667,
861,886; III, 558, 708
Смирнов П. П. I, 796, 863, 864, 866
Смирнов С. В. II, 870; III, 700
Смирнов Ф. III, 358, 892
Смирнова С. С. I, 536, 630,632
Смит В. III, 532, 587
Смит Д. II, 814, 881
Смит С. I, 28, 72,305; II, 693
Смоленков И. С. I, 720, 887
Смолин М. Б. III, 901
Смурова О. В. 1, 496; III, 551
Смыкалин А. III, 152, 153
Смыков Ю. И. I, 500
Смяткина И. А. II, 321
Снегирев В. Л. 1,488
Снегирев В. С. 1,642
Снегирев И. М. II, 159
Снежневский А. В. III, 147
Сникер Дж. II, 647
Соболев И. Г. И, 877
Соболева О. Ю. II, 883, 885
СовиА. 1,315; II, 131
Согрин В. В. I, 309,480; III, 704, 706
СозаЛ. Н. I, ,861,862
943
Указатель имен
Соковнин П. Н. 1,238,313; III, 875
Соколов А. Б. I, 72
Соколов А. В. III, 556, 585
Соколов А. Д. II, 663
Соколова. К. 1,312; 111,346
Соколов А. Н. II, 627
Соколов Б. Ф. II, 684
Соколов Г. III, 546, 897
Соколов И. И. III, 383, 547, 649, 855,
858
Соколов К. Б. 1,480, 861; II, 684; III, 545,
555
Соколов Н., врач 1,636
Соколов Н. М. III, 358, 892
Соколов Н. П., историк I, 60, 72
Соколов П. А. III, 358, 892
Соколов П. П. I, 624, 886; III, 523
Соколов Ю. И. I, 480,491 861
Соколова Н. В. II, 313
Соколовская Т. О. II, 881
Соколовский П. А. I, 892; II, 319, 324,
907; III, 550, 861,897
Солженицын А. И. I, 180, 189, 190,
206, 216, 300, 303, 304, 306—309
Соллогуб В. А. I, 722, 777; III, 892
Солнцев С. И. 1,640
Соловей В. Д. III, 676, 708
Соловей Т. Д. I, 306
Соловьев А. А. III, 578
Соловьев В. С. 1,217; II, 748, 863;
III, 373,510
Соловьев Е. Т. III, 156, 157
Соловьев К. А. II, 331, 646, 649, 860
Соловьев С. М. I, 221, 270, 311, 317,
334, 335, 517, 775, 859, 863, 866;
II, 11,21, 112, 117—119,311,312,
334, 482, 628, 662, 712, 739, 851,
861, 875; III, 564, 827
Соловьев Ю. Б. II, 321,642,648, 853,
856
Соловьев Я. А. II, 561; III, 885
Соловьева Е. И. I, 765; II, 314
Солодянкина О. Ю. I, 777
Соломаткин Л. И. II, 506, 524, 526, 900
Солоневич И. Л. II, 373,632, 850
Сонька Золотая Ручка, см.
Блювштейн С. И.
Сорина X. Д. 1,490
Сорокин А. К. III, 558
Сорокин П. А. 1,480; III, 676,708
Сороковикова В. И. III, 544
Сосновский И. В. III, 879
Сперанский М. М. II, 41,119,397,403,
404, 491, 524, 527, 537, 538, 671,
672, 704, 705,770, 797, 853, 871,
898; III, 603, 820, 821, 823, 890, 897
Спиридонова М. А. III, 404, 855
Спирин Л. М. II, 889
Спитцер Г. III, 709, 896
Спроге В. Э. III, 892
Срезневский И. И. I, 863; II, 627; III, 545,
901
Стайте Р. I, 783; II, 880, 883
Сталин И. В. I, 50, 78; II, 861; III, 664
Сталь Н. Е. III, 883
Стародубровская И. В. I, 52, 71; II, 853,
860; III, 704
Старцев В. И. I, 299, 307, 319; II, 649,
653, 853, 881, 886; III, 557
Стасов Д. В. III, 153
Стасюлевич М. М. III, 397
Стейнберг М. Д. 1,498; III, 554
Степанов А. А. 1,493
Степанов А. Д. II, 887; III, 901
Степанов В. В. I, 293, 320, 419, 496,497
Степанов В. И., этнограф 1,638; III, 897
Степанов В. Л. II, 857, 858
Степанов В., художник-график III, 650,
858
Степанов Е. И. 1,318; III, 897
Степанов К. А. III, 578
Степанов С. А. I, 309, 864, 867
Степанов Ю. Г. II, 118
Степанов Ю. С. III, 555
Степун Ф. А. 1,222,311; III, 560
Стефанович П. С. I, 485,488; III, 585,
698
Стефенсон Дж. III, 397
Стешенко В. С. I, 630
Стогов Д. И. 11,341,668, 871
944
Указатель имен
Стогов Э. И. II, 769; III, 892
Столыпин А. А. II, 671; III, 892
Столыпин Д. А. II, 314; III, 358, 892
Столыпин П. А. I, 50,161, 179; II, 228,
229,236,240, 242, 272, 309, 328—
333,420, 547, 578, 679, 721—723,
725, 732, 737, 858, 897; III, 566, 656,
660,709, 838, 889, 895
Столяров И. III, 378, 391, 545, 551, 892
Стоюнин В. Я. I, 728, 778
Стратилатов II, 335; III, 897
Страховский И. М. II, 316
Стрекалова Н. В. I, 491, 501
Стремоухое Н. С. 1,766
Струве П. Б. I, 16, 28, 199, 307; II, 109,
123, 124, 131, 744, 846, 861, 888, 889
Струмилин С. Г. I, 240, 268, 309, 317,
407, 434, 494, 503, 834; II, 129, 131,
343, 474, 660, 678, 854; III, 192, 193,
201—205, 253, 341—344, 346, 347,
364, 369, 469, 559, 561, 563, 569,
572, 574, 700, 705, 709, 766, 804,
877,883
Студенский Г. А. 1,316
Ступин М. III, 148
Стучка П. III, 901
Стэльмах М. К. III, 366
Суворин А. С. II, 410, 645, 858; III, 397,
887, 892
Суворов А. В. I, 16; II, 587,909; III, 515
Суворов Н. С. III, 147
Суворова Н. Г. II, 317,661
Судерберг Г. III, 546
Сулейменов Б. С. I, 288
Сулимов С. И. II, 861; III, 546
Султанов Ф. М. I, 305, 306
Сумароков А. П. I, 342; II, 593,787;
111,814, 892
Сумароков П. III, 561, 565
Суни Р. I, 290, 291, 298; III, 552
Суриков В. И. II, 909
Суряев В. Н. III, 347, 351
Сусанин И. 11,67,68, 124
Сусоколов А. А. III, 543
Сутырин Б. А. II, 884
Сухарев М. В. III, 704
Сухова О. А. II, 241, 321, 332; III, 549,
574
Сухово-Кобылин А. В. II, 538,617
Суходольский П. А. I, 811,888; II, 475,
899
Сухоруков В. С. II, 667
Сучков Е. Б. II, 874
Сушко А. В. I, 487; III, 352
Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д.
I, 290
Сырнев А. А. III, 425
Сыромятников Б. Н. III, 153
Сысоева Е. К. 1,482; II, 854
Таболина Т. В. I, 492; III, 900
Таганцев Н. С. III, 49,146—150, 158
Таирова-Яковлева Т. Г. I, 298
Такала И. Р. I, 861
Таки В. I, 169, 170, 288, 289, 296, 297,
302
Тан В. Г. II, 328
Танков А. III, 153
ТарабановаТ. А. III, 160
Тарановский В. В. 1,766
Тарановский Т. И, 674
Тарановский Ф. В. И, 609, 627,631, 636,
640, 646, 647,683, 889; III, 146, 901
Тарасов Б. Н. II, 855
Тарасов Ю. М. 1,295
Таргонский В. А. III, 877
Тарле Е. В. I, 296; III, 347, 574
Тарловская В. Р. I, 500
Тарлычева Л. В. I, 634
Тарновский Е. Н. Ill, 119,129,154,
162—164, 804
Татаринов С. II, 859
Татищев А. А. I, 294
Татищев В. Н. I, 635, 709; II, 28, 112,
118, 131,382512
Татищев С. С. II, 872, 876
Твардовская В. А. II, 643; III, 153
Твердюкова Е. Д. I, 528, 628, 630, 631
Тезяков Н. И. 1,644
ТельбергГ. Г. II, 649; III, 147
945
Указатель имен
Теляк Л. В. II, 333
Темницкий А. Л. III, 574, 691
Тенирс Д. Младший III, 434, 437, 855
Тенишев В. В. II, 209,322—324;
III, 155—159
Тенишев В. Н. 1,613,638,744,769, 771,
773, 782; II, 203, 215—217, 248, 322,
324; III, 93, 156, 291, 327, 368, 565,
896
Теннис Ф., см. Теннис Ф.
Теннис Ф. I, 38; II, 135, 182, 203, 282,
311, 691, 848; III, 537, 589, 742, 748
Теодорадзе А. С. III, 566
Тер-Акопян Н. Б. II, 866
Терещенко А. 1,489,492,635,731,779;
III, 546, 584
Терещенко Д. А. I, 861
Тернер Ф. Г. I, 767; III, 878
Тернер Ф. Дж. I, 109, 112, 226, 295
Тетрюмов И. III, 162
Тилли Ч. I, 72,318; III, 748
Тимирязев В. И. I, 472, 884
Тимофеев А. Г. 11, 127; III, 148
Тимофеев П. 1,438,498; II, 303,338,343
Тимошина Л. А. I, 488,489
Тимченко С. В. I, 288
Титаренко Л. Г. II, 624
Титков Е. П. III, 868
Титова. А. I, 773; III, 885
Титов В. Ю. II, 549
Тиханович-Савицкий Н. Н.
Тихвинский С. Л. I, 315
Тихомиров Л. А. II, 405,420, 632, 706,
853, 862; III, 569
Тихомиров М. Н. I, 862; II, 656
Тихон Задонский I, 368,485
Тихрнов А. А. I, 776; III, 892
Тихонова. К. 1,291,301
Тихонов Б. В. I, 294, 295, 639, 766
Тихонов В. А. II, 658; III, 892
Тихонов В. П. I, 639, 767; III, 158
Тихонов Е. И. III, 163
Тихонов Ю. А. 1,392,654,763,766;
II, 121,342
Тихонова А. В. I, 777
Тихонова Н. Е. 1,69; III, 745
Тишкин Г. А. I, 636, 775, 779, 780, 783;
И, 871
Тишков В. А. I, 14, 28, 286, 291,293,
296, 301,317—320; II, 123,633;
III, 700, 702, 745, 900
Тищенко Л. А. I, 775
Ткачев А. М. III, 569
Тойнби А. Дж. I, 23, 43, 60, 69, 72, 881;
III, 653—656, 703
Токарев А. И. 1,683
Токарев С. А. III, 899
Токвиль А. I, 753, 783; II, 843
Толочко А. П. II, 661
Толстиков А. В. II, 633
Толстова Н. Н. II, 339
Толстой И. Н. II, 399
Толстой Л. Н. I, 16, 59, 585,638,723;
II, 63, 229,471, 485, 540, 662, 717,
765, 897; III, 405, 539. 673
Толстой М. Н. II, 646; III, 709
Толстой Ф. П. I, 351, 883; II, 814, 882;
III, 888
Толченое И. А. I, 776; II, 335; III, 888
Тольц М. С. I, 565, 569, 574, 576,630,
632, 635, 636
Томилин С. А. 1,639, 642
Томпсон Ф. М. III, 696
Томпсон Э. П. II, 318
Томсинов В. А. III, 155, 165
Тонне А. С. 1,314
ТоркеХ.-Й. И, 631
Торопов А. Д. III, 554
Торстендаль Р. III, 709
Тош Дж. I, 33, 72, 73; III, 705
Тоштендаль Р. II, 647; III, 746
Травин Д. Я. II, 859, 860; III, 701, 745
ТрайнинА. Н. II, 325; III, 163
Тревельян Дж. М. 1,29; III, 694
Трезини Д. II, 426, 898
Трейвиш А. I, 269, 300, 316, 317, 846,
862
Тренин Д. III, 708
Трепавлов В. В. I, 296, 297, 301;
III, 704
946
Указатель имен
Трепов Ф. Ф. II, 460; III, 86
Третьяков А. I, 313
Трирогов Вл. I, 766,773; II, 326
Тройницкий А. Г. 1,348,349,483,640;
II, 317; III, 233, 349
Тройницкий Н. А. III, 878
Троицкая И. А. I, 509, 547, 627, 633,
634
Троицкий Н. А. I, 304,306; II, 659, 859,
863, 870
Троицкий П. II, 315, 316, 886; III, 361,
362,897
Троицкий С. М. 1,444,450,482,483,
486, 500; II, 340,493,641,653,664,
665,671,682, 862; III, 218,232,348,
349, 359
Трофимов В. К. III, 544
Трохина Т. I, 781
ТроцинаК. III, 151
Троцкий И. II, 641, 855, 867, 868
Троцкий Л. Д. I, 189; II, 660, 682, 739,
860; III, 555
Трощинский Д. П. II, 672
Трубецкая О. Н. II, 858,861, 886;
III, 559, 892
Трубецкой А. II, 710, 855
Трубецкой Е. Н. II, 715, 845, 846, 856,
861,889
Трубецкой П. И. II, 771
Трубецкой С. Н. II, 741, 838, 841,861,
886; III, 559, 892
Трубников В. В. I, 573, 641; III, 576,
885
Трунина Е. А. II, 653
Трутовский К. А. II, 247, 897; III, 259,
853
Трушков С. А. II, 653
Туберозов С. И, 773
Туган-Барановский М. И. III, 192,198,
343,344,347, 569, 574, 766, 805
Тульцева Л. А. III, 549, 565,569
Туманова А. С. II, 295, 341,623, 646,
684, 828, 842, 848, 880—882, 885,
889
Туманянц К. А. III, 346
Тур К. И. III, 159
Тургенев И. С. 1,724,772,778; II, 63,
316; III, 550
Туровский Р. I, 300, 316
Тутолмин С. Н. I, 784; II, 227, 323, 327,
328, 637, 864
Тучкова Э. Г. III, 345
Тушина Е. В. I, 864; III, 696
Тыркова-Вильямс А. В. И, 540,673;
III, 892
Тюкавкин В. Г. 1,315,317; II, 233,234,
242,329, 878, 882
Тюменцев И. О. II, 631
Тюменцев Ю. А. I, 72
Тютрюмов И. 1,770
Тютюкин С. В. II, 879
Уайлдман А. К. II, 95, 128,649
Уатт Д. III, 397
Уваров С. С. И, 405,497,642; III, 883
Уварова Н. А. III, 549
Удалов С. В. II, 642
Удальцова 3. В. III, 694,703
Узланер Д. А. III, 558
Уилсон Т. III, 581
Уильямс С. II, 331
Уиттфогелем К. А. II, 371,372
Уланов В. Я. I, 481, 485; II, 850
Ульянов Н. Д. I, 832, 889
Ульянова Г. Н. II, 848, 880, 882—884
Уоллис Дж. II, 314
Уоробек К., см. Worobec Ch. D.
Уортман Р. С. II, 116, 127, 377, 642,
644, 674, 726, 779, 780, 851, 856,
858—860, 875—879; III, 165
Урлаб Л. Л. III, 890
Урланис Б. Ц. I, 316, 510, 628, 632;
III, 750,752, 754, 756, 803, 805
Урусов С. Д. II, 347, 609,683; III, 892
Усенко О. Г. II, 631,862, 864
Успенский Г. И. I, 567,636,638, 770,
773; II, 68,69, 90, 91, 124, 127, 204,
245, 246, 302, 322—326, 334, 343;
III, 157, 379, 387,517, 545, 550,
585
947
Указатель имен
Успенский Б. А. II, 627, 628, 634,636,
640,642,643,684, 862; III, 521, 555,
586, 693
Успенский Д. И. II, 865
Успенский М. 1,634
Успенский Т. III, 158
Устина Н. А. II, 323
Устюгов Н. В. 1,482,491; II, 125, 339,
374; III, 364, 576
УткинА. И. III, 701
Ушаков А. С. I, 776; II, 335, 872; III, 547
Ушаков В. А. I, 287; III, 707
Ушаков Д. В. III, 588
Уэст Д. Л. I, 480; III, 567
Ф. 111,558
Ф. П. II, 316
Фадеев А. В. II, 871
Фадеев Р. А. II, 456,480,658, 768
Файбусович Э. Л. I, 310, 311
Файджес О. II, 334,684
Фаизова И. В. I, 482; II, 339, 638, 665
Файн Л. Е. II, 882
Фаронов В. Н. I, 768
Фарр В. 1,604
Фасмер М. I, 782, 862; II, 311,650,670;
III, 901
Фатеев А. I, 855
Федор Алексеевич, царь II, 360,370;
III, 807
Федор Иванович, царь II, 365,783
Федоров В. А. 1,483,484,487,634,638,
767, 770, 772; II, 122, 634; III, 349,
351,551,562, 575, 576
Федоров М. В. II, 625, 651,652
Федоров М. М. 1,288,292
Федорова И. В. I, 777; III, 885
Федосов И. А. II, 119, 665, 666, 674;
III, 890
Федосюк Ю. А. III, 546, 901
Федотов А. П. III, 899
Федотов П. А. I, 855, 883, 889; II, 524,
525, 900; III, 302, 303, 853
Федулин А. А. II, 117
Федяевский К. К. 1,676,766, 767, 770
Феллер В. I, 74
Фельдман М. А. I, 494; III, 345, 572
Фельдман Ф. А. 1,319
Фельдхофф Ю. III, 560
Феноменов М. I, 636, 698, 771, 785;
II, 684; III, 897
Феоктистов Е. М. II, 508, 668
Феофан Прокопович II, 379, 382,633;
III, 892
Фергюсон Н. III, 730, 746
Феретти М. I, 70
Фет А. А. 1,475; II, 766,767, 870;
III, 365,444,486,492, 515, 569,585,
892, 893
Фиалка Р. М. III, 404, 855
Фиглин Л. А. III, 587
Фигнер В. И. III, 893
Филарет (Дроздов В. М.), митрополит
Московский II, 379,634, 872; III, 354,
897
Филарет, патриарх II, 367
Филатов В. П. III, 705
Филатов С. I, 775
Филд Д. I, 405, 481, 493, 502, 641;
II, 116, 130, 327, 637, 746, 863, 864;
III, 543, 586, 694
Филимонов В. П. III, 548
Филипп II, король Испании I, 312
Филипп, митрополит I, 16
Филиппенко И. В. II, 871
Филиппов А. В. I, 774; III, 745
ФилипповА. Н. III, 148, 159
Филиппов В. Г. III, 114, 852
Филиппов М. А. I, 731, 778, 779
Филиппов С. А. I, 487
Филиппова Т. А. I, 304
Философов Д. А. III, 574, 883
Филюшкин А. И. I, 630; II, 628;
III, 702
Финкель М. I, 599,641
Фирсов Б. М. I, 317, 773; II, 322,326,
334; III, 156, 159,368
Фирсов В. Р. II, 878
Фирсов И. Н. II, 640
Фирсов Н. I, 296, 298, 300
948
Указатель имен
Фирсов С. Л. 1,485; II, 634; III, 351, 352
Фицпатрик Ш. 1,481
Фишер В. I, 503
Флайер М. С. II, 628
Фландрен Ж.-Л. I, 753
Флексор Д. С. I, 317; III, 156, 879
Флербе М. III, 589, 747
Флеровский Н. I, 867; И, 668,671, 774,
834, 868, 869, 873, 885; III, 383, 388,
547,550, 551,559, 886
Флоринский М. Ф. I, 297; II, 879;
III, 150, 676
Флоря Б. Н. 1,301; II, 629
Фойницкий И. Я. III, 150
Фомина А. С. III, 557
Фомина О. В. I, 629, 635, 768, 776, 781
Фонвизин Д. И. 1,342, 343,482; II, 636
Фортунатов А. Ф. 1,311
Франк С. Л. 1,20,28; И, 744, 813, 835,
861, 880, 885
Фридрих IIII, 390, 700
Фриз Г. Л. I, 14, 335, 465, 481, 485—
488, 502, 504, 781,782; II, 20, 634,
856, 877; III, 247,351
Фриз, Грегори, см. Фриз Г. Л.
Фролов С. В. II, 669
Фролова И. И. I, 783; II, 867; III, 692
Фролова О. Е. III, 365
Фромм Э. I, 747, 782; III, 533, 537, 538,
566, 582, 588, 589, 742, 748
Фроянов И. Я. I, 863; II, 629,640, 869;
III, 699
Фруменкова Т. Г. I, 299; II, 653,853,863
Фрумкин Я. Г. 1, 307
Фрумкина Р. М. III, 580
Фрэйм М. III, 809
Фуко М. I, 62, 66, 503, 778, 881;
III, 581,699,715, 740, 748
Фуллер Дж. Л. I, 317
Фуллер У. I, 319; II, 877
Фультон Р. III, 397
Фундуклей И. II, 511; III, 220,272,359
Фурсенко А. А. I, 287, 631; II, 645, 667,
854; III, 896
Фурсов А. И. I, 70
Хабарова О. В. I, 631
Хабермас Ю. I, 479
Хаген М. фон. I, 305
Хазиахметов Э. Н. 1,189
Хакен Г. I, 54, 881
Ханин Г. II, 128,660
Хантингтон С. I, 38, 39, 881,402, 642
Хануков А. П. 1,204
Ханыков Я. В. 1,641,642
Хапылев С. II, 391,639
Хапылев С. III, 869
Хардт М. I, 290
Харитонов В. М. I, 866
Харламов И. 1,769,773
Хартанович М. Ф. 1,501
Харузин Н. Н. 1,633,767; III, 897
Хархордин О. I, 503, 778; II, 623
Хасанов X. X. 1,288,305
Хасбулатова О. А. I, 783; II, 883
Хаузер К. II, 878
Хафизова Р. И. II, 653
Хачатурян В. М. I, 69
Хачатурян Н. А. II, 628
Хвостов В. М. I, 72, 780
Хевеши М. А. I, 28
Хеймсон Л. I, 498, 499; III, 553, 554
Хейсин М. Л. III, 550
Хелли Р. I, 519, 520, 524, 525, 608, 629;
II, 644
Хильдермайер М. I, 29; III, 699
Хитров М. 1,486
Хлебников Н. II, 637
Хмельницкая И. Б. II, 884
Хобсбаум Э. III, 652, 703
Хок С. Л. I, 314, 509, 537, 543, 626,
627, 632, 633, 660, 672; II, 96, 97,
115, 126, 128, 198, 320; III, 366, 368
Холквист П. I, 303
Холмс Л. I, 29; III, 744
Хомер У. III, 648, 858
Хомяков А. С. И, 712; III, 692
Хомяков Д. А. II, 642, 737
Хопко Ф. I, 634
Хопф Т. I, 298
Хорватова Е. В. II, 852
949
Указатель имен
Хорев Б. С. 1,310
Хоровитц Д. I, 319
Хорос В. Г. I, 69, 70; II, 888
Хорошев А. С. I, 312
Хорошилова Л. Б. I, 780
Хорошун К. Ю. III, 153
Хоскинг Дж., см. Hosking G.
Храповицкий А. В. II, 859
Хренов Н. А. 1,480, 861
Христофоров И. А. II, 121, 197, 198,
320, 342, 654, 679
Хроленок С. Ф. 1,491
Хромов С. П. I, 313
Хромых А. С. I, 294, 295
ХрохМ. I, 184, 275, 305
Хрусталев В. М. III, 888
Хрящева А. И. I, 493, 494, 766, 767
Худяков В. Н. II, 315
Хьюз Л. II, 850
Цаллер Дж. II, 624
Цамутали А. Н. I, 299,636; II, 321, 494,
645,648, 855, 857, 880
Цатурова М. К. I, 780
Цветков М. А. I, 262,263, 316
Цебриков М. I, 774; III, 883
Цейль М. А. 1,204; II, 650
Цимбаев Н. И. I, 297, 316; II, 641, 706,
853, 887
ЦирельС. 1,311,314
Цитович Н. М. II, 323
Цитович П.П.Ш, 151
Цыбин В. М. I, 492
Чаадаев П. Я. 1,3; II, 712
Чарушин А. А. 1,770; III, 156
Чаянов Aj В. 1,494,766; II, 131, 183,
225; III, 417, 425
Чебышев-Дмитриев А. П. III, 152
Чеканова Э. В. II, 341
Челинцев А. Н. I, 112, 296, 316,494, 765;
II, 125; III, 568
Червяков В. П. 1,768; III, 869
Черепанова И. В. II, 626
Черепахова М. С. II, 879; III, 554, 900
Черепнин Л. В. I, 34, 69, 481, 627, 628,
767, 865; II, 365, 374, 628—630, 642;
III, 867
Черкасова А. С. I, 504, 763, 768,773,
866; II, 963; III, 364, 547
Черкесов В. В. II, 651
ЧермакН. К. 11,319
Черменский Е. Д. II, 648, 864
Чернавская В. Н. I, 295
Черная Л. А. II, 628,635
Черненков Н. Н. I, 765,766, 767
Черников С. В. I, 483, 665
Черниченко В. А. I, 861
Чернов А. В. II, 374
Чернов В. М. I, 222, 307, 311; II, 332,
744, 839, 861,878, 886; III, 893
Чернов К. С. II, 641,853
Черноусое А. А. III, 886
Чернуха В. Г. I, 502; II, 130, 643, 649,
663,869, 870
Черных П. Я. 1,862; III, 901
Чернышев А. II, 464; III, 555
Чернышев А. Ф. I, 354, 883
Чернышев Б. В. II, 850
Чернышев И. В. II, 329; III, 571, 897
Чернышев Н. А. 1,773
Чернышева Е. В. II, 645
Чернышевский Н. Г. 1,732; II, 114;
III, 40
Черняев В. Ю. 1,298, 306, 307; II, 334,
648, 684, 860, 882; III, 554, 692, 899
Чернякова И. А. I, 530,630, 633, 635,
763
Черткова А. К. I, 735, 779; III, 893
Чертов А. А. I, 642
Чеснокова В. Ф. III, 544
Четырина Н. А. I, 862
Чехов А. П. I, 475, 718, 720, 777;
II, 617, 858; III, 237, 301,369, 523,
548,559, 673, 885
Чечулин Н. Д. I, 136, 517, 643, 768,777,
779; II, 130,312,334, 339, 635
Чешихин-Ветринский В. Е. II, 861
Чибисов М. Е. I, 629
Чижикова Л. Н. III, 344, 355
950
Указатель имен
Чижова В. В. II, 341, 626, 661
Чирикин В. А. III, 161
Чирков М. С. II, 625, 645
Чистиков А. Н. I, 14
Чистов К. В. I, 762, 773; И, 313, 862;
III, 359, 364, 546, 586
Чистяков О. И. II, 116, 119; III, 868
Чичерин Б. Н. I, 334; II, 131, 672, 708,
712,739, 854, 855; III, 893
Чичерины II, 317
Членов М. А. I, 639, 640; III, 878
Чорбай, генерал-майор 1,343
Чубарьян А. О. I, 304; III, 154
Чубинский М. П. II, 326
Чукмалдин Н. М. II, 531, 672; III, 893
Чулков М. Д. II, 391,639; III, 869
Чулков Н. I, 501
Чупров А. И. I, 534, 636; III, 163
Чупрынов М. Ю. И, 648, 663
Чуркин М. К. I, 639
Чухнин П. Н. I, 586,639
Чюркин С. И. I, 740
Шабо Ж. I, 864
Шавеко Н. А. II, 684
Шайхисламов Р. Б. I, 493
Шаламов А. Ю. II, 867
Шаляпин С. О. III, 149
Шамиль I, 163; II, 790, 877
Шангина И. И. I, 14, 769; II, 322;
III, 368, 566, 586, 896, 900, 901
Шанин Т. I, 70, 493, 766, 780; II, 209,
225, 318, 321, 323, 327; III, 155, 364,
548, 560, 572
Шанский Д. Н. II, 649
Шанявский А. Л. III, 163
Шапарова Н. С. III, 584, 901
Шапиро А. Л. I, 248,312,313, 652, 666,
763, 766; II, 114,314, 873
Шапкарин А. В. И, 580,656; III, 894, 895
Шаповалов В. А. I, 490; II, 121, 341
Шаповалов В. Ф. I, 69; III, 701
Шапталов Б. Н. III, 589
Шарый В. И. III, 877
Шаскольский И. П. III, 570, 896
Шаститко А. Е. III, 543
Шатковская Т. В. III, 160, 549
Шатохин И. Т. II, 545, 547, 549—552,
675, 677
Шаттенберг С. II, 341, 552, 553, 624,
672,677
ШахадатШ. 111,587
Шахеров В. П. 1,491, 860, 336; II, 872
Шахматов М. В. II, 628, 632
Шаховская 3. А. I, 165, 301; III, 893
Шаховской Д. И. II, 124
Шацилло К. Ф. 1,499; II, 877
Шацилло М. К. II, 129, 130
Шашков С. С. I, 762
Шварцбурд Ц. В. III, 560
Шварценберг Р. Ж. 1,317
Шварцер Н. 3. III, 870
Швейковская Е. Н. II, 312,651, 660,
671; III, 586
Швейниц Г.-Л. III, 887
Швитау Г. Г. 1,864
Шевелев В. Н. I, 61, 72
Шевченко М. М. II, 713, 855
Шевырин В. М. I, 499; II, 328, 333, 646,
653,673, 857, 888; III, 160, 708
Шейн П. В. I, 638
Шейнов В. П. III, 588
Шелгунов Н. В. I, 733, 779
Шелегина О. Н. I, 295
Шелохаев В. В. I, 306, 319,482,499;
II, 242, 330, 332, 333, 340, 649, 679,
886, 887, 888; III, 899, 900
Шемякин Я. Г. I, 69, 70
Шемякина О. Д. 1,44, 46,47, 70
Шепелев Л. Е. I, 311,482,483,485, 501,
504; II, 431, 642,643,650, 653,654,
656, 663—666, 671, 674, 857, 869,
883; III, 558, 883, 892
Шепелева В. Б. III, 708, 709
Шепукова Н. М. 1,349,641; II, 340
Шер Я. И. III, 582
Шереметевы I, 168,471, 641,654,664,
878; II, 75, 77, 125, 149, 193, 196
Шершеневич Г. Ф. 111,151
Шершнева Е. Л. III, 560
951
Указатель имен
Шестаков М. В. И, 342, 661; III, 897
Шестопалов А. Л. II, 856
Шидловский К. К. 1,642; II, 741
Шидловский С. И. I, 299, 317; II, 225,
327, 743, 856, 861; III, 156, 157, 561,
879, 893
Шикалов Ю. 1,631
Шикло А. Е. I, 29, 70
Шилкин Д. С. III, 879
Шилов Д. Н. II, 663, 668, 674, 677;
III, 899, 901
Шиловский Д. М. III, 161
Шиловский М. В. I, 295; II, 124
Шильдер Н. К. II, 665, 689, 709, 851—
854
Шильникова И. В. III, 346
Шингарев А. И. 1,599,603,635,636,
641, 773; И, 797—799,903
Шипилов А. В. I, 480; III, 344, 355, 360,
364, 585
Шипов Д. Н II, 555, 741, 742, 861
Шипов Н. Н. II, 662; III, 893
Ширина Д. А. I, 485; 111,352
Ширинянц А. А. III, 556
ШирлеИ. II, 120, 342, 852
Широкорад Л. ДЛИ, 693
Шишкин В. А. I, 631
Шишкин И. Г. II, 632
ШишовА. В. 1,316
Шкаратан О. И. 1,480; III, 560
Шквариков В. А. I, 865
Школьник М. М. III, 404, 855
Шкуратов В. А. III, 579—581
Шкуропат С. ГЛ, 310
Шлюмбом Ю. I, 655, 762; III, 584
Шмелев А. Д. II, 118
Шмелев Г.,М. 1,485; II, 630
Шмелев Н. П. III, 692
Шмелева М. Н. I, 767,776; III, 365,557
ШмидтА. О. III, 361,883
Шмидт О. Ю. I, 767
Шмидт С. О. I, 482; II, 342, 374; III, 583
Шолле М. I, 785
Шомпулев В. А. III, 893
Шорохова Е. В. 1,770
ШоуД. I, ПО
Шпенглер 0.1,43, 70
Шпотов Б. М. I, 296
Штейнгейль В. И. I, 728, 756, 778, 784
Штер М. П. I, 865; II, 695; III, 341, 878
Штомпка П. I, 70; III, 676, 708, 709
Шубин А. В. II, 881
Шубина А. НЛ, 319
Шувалов И. И. II, 384, 543
Шувалов П. А. II, 407
Шулепов Э. А. I, 862
Шулус И. И. I, 28, 29
Шульгин В. В. I, 774
Шульгин М. М. I, 294
Шульман Л. Ю. III, 585, 885
ШульцА. X. II, 771
Шумигорский Е. С. II, 852
Шумилов М. М. II, 663, 667
Шунков В. И. I, 490, 492, 631,796, 863;
II, 343,680
ШуперВ. 1,316
Шутов А. Ю. II, 644,645
Щапов А. П. 1,486; II, 312; III, 546
Щеглов В. Г. II, 397,650
Щеголев П. Е. И, 853; III, 896
Щедровский И. С. I, 544, 885
Щепетов К. Н. II, 125, 126
Щепкин М. П. II, 337
Щепкин М. С. I, 690, 769
Щепотьев С. А. II, 326
Щербакова Е. И. III, 896
Щербатов М. М. I, 501, 778; II, 43, 119,
842; III, 35
Щербатов П. П. III, 672
Щербина А. В. I, 306
Щербина Ф. А. 1,402,403,493, 641, 765;
II, 313, 319, 846, 866, 889; III, 354,
356, 365, 425, 586, 878, 885
Щербинин П. П. I, 637, 638, 640, 782
Щукин В. Г. II, 121, 888; III, 702
Щукин П. И. I, 776; III, 893
Эберхардт П. I. 857
Эванс П. II, 684, 685
952
Указатель имен
Эгунов Н. П. 1,288
Эдельман Р. III, 702
Эдисон Т. III, 397
Эйдельман Н. Я. 1,60,72; II, 12,114,
870
Эйкерт Р. III, 581
Эйхельман О. О. II, 650
Эйхлер М.-Г. I, 816, 888
ЭккН. 1,514, 628; III, 878
Эклоф Б. II, 116, 641, 848; III, 495
Экштут С. А. I, 60, 72; II, 342, 890;
III, 347,351,556
Эли М. III, 587
Элиас Н. 1,47, 73, 799—801, 863;
111,583,588
Эльяшевич Д. А. I, 310
Эмаусский А. В. II, 312, 863
Эммонс Т. II, 127, 131, 625, 661, 857,
870; III, 886
Энгел Б. А. I, 772
Энгельгардт, Александр Н. I, 638, 766,
770: II, 71, 124, 216, 304, 319, 325,
343
Энгельгардт, Анна Н. III, 893
Энгельман И. Е. II, 397
Энгельс Ф. I, 33, 34, 69, 860, 881
Эпштейн А. С. I, 311
Эриксен В. I, 528, 884
Эрисман Ф. 1,497; III, 345,360
Эрн В. Ф. III, 390, 550
Эскин Ю. М. II, 629
Эткинд А. I, 290
Эшли У. Дж. III, 695, 704
Юдин А. В. III, 546
Юдин Е. Е. И, 638
Юдин Н. Л. III, 565
Юдин П. Л. И, 869
Юдин Ю. И. III, 156
Юдина Л. С. 111,572
Юдкевич М. М. II, 672
Южаков С. Н. II, 337
ЮкинаИ. И. 1,647, 761,783
Юль Ю. III, 697
Юрганов А. Л. II, 372, 374,632; III, 546
Юрганова И. И. 1,485; III, 352
Юревич А. В. II, 672; III, 708
Юркевич И. II, 315,316
Юркин И. Н. II, 884
Юрченко Н. Л. I, 527, 546, 547, 550,629,
630,636, 644, 663, 768; II, 335
Юферов В. Н. III, 149
Юхнева Е. Д. I, 861
Юхнева Н. В. 1,303; III, 547,551
Юшанов А. Л. II, 507, 900
Юшков С. В. I, 775
Юшковский В. Д. II, 672
Яблочков М. Т. I, 356,482,483; II, 116
Ядов В. А. III, 374, 692
Ядринцев Н. М. 1,300,318, 773; II, 344;
III, 163
Якеменко Б. Г. I, 861
Якоби В. И. III, 63, 851
Яковенко Вл. И. I, 779; III, 148
Яковенко И. Г. I. 69; III, 676, 704, 708
Яковкина Н. И. II, 126
Яковлев А. Н. I, 315
Яковлев Я. А. I, 785
Яковцевский В. Н. 1,389
Якубова А. А. III, 403,855
Якунин В. И. I, 293
Якушкин Е. И. I, 770, 771; III, 158, 159
Ямзин И. Л. I, 294,317
Ян X. Ф. I, 502
Янгулова Л. В. I, 503
Яневич-Яневский К. III, 148
Янель 3. К. II, 864
Янжул И. И. I, 313; III, 360, 414, 559,
569,570, 574
Янин В. Л. 1,292,313,400,457,491,
493, 766, 772, 865; II, 123, 126, 320,
327, 671; III, 147, 551,575, 775
Яницкий О. Н. I, 863
Янов А. Л. III, 676, 693, 708
Янсон Ю. Э. I, 803; II, 313; III, 272,344,
362, 363, 771,788, 805
Янченко Д. Г. II, 645
Янькова Е. П. I, 731
Ярошенко Н. А. I, 719, 887
953
Указатель имен
Ярошенко С. С. III, 589
Ярская-Смирнова Е. I, 637, 766
Ярцев А. А. II, 548, 626, 640, 643, 644,
676
Ясницкий А. II, 322
Яснопольский Н. П. I, 139, 299, 483;
II, 99, 129; III, 878
Ястребицкая А. Л. III, 695
Яхно О. Н. I, 863
Яхонтов А. П. I, 317
Яцунский В. К. II, 126, 131, 321, 324,
325, 340, 343; III, 199, 563
Adams В. F. III, 161
Adorno Th. W. I, 783
Aliens. E„ Jr. II, 661
Allworth E. I, 302
Amburger E. 1,298; II, 651,668
Amove R. F. Ill, 579
Anderson C. A. Ill, 552
Anderson A. Ill, 695
Anderson В. A. I, 294
Aries Ph. Ill, 695
Armstrong J. A. 1,298; II, 674
Arts W. I, 306
AscherA. I, 293; II, 331
Aston T. H. Ill, 696
Atkinson D. 1,762,782; II, 316, 344
Augustine W. A. 1,640
Avdeev A. I, 627, 655, 660, 664
Avrich P. II, 864, 872
Azrael J. R. 1,291,298
Baberowski J. I, 304; II, 860; III, 153
Baker A. V. 1,315
Balzer H. D. I, 502; II, 889
Banac I. II, 342; III, 694
BarazD. Ill, 148, 566
Baron S. W. I, 299
Bartlett R. P. J. 1,492,493, 627, 767;
II, 126,313,317; III, 701
Baschmakoff N. Ill, 701
Bassin M. I, 290
BeckerS. 1,483; II, 643; III, 559
Behrisch L. Ill, 162
Behrman S. J. 1,637
Bendix R. Ill, 696
Berelovitch A. II, 339, 631
Berkner L. K. Ill, 695
Berlin I. II, 886
Beynon H. I, 480
Beyrau D. I, 500; II, 124, 343, 681
Bideleux R. II, 327
Bilimovich A. D. II, 331
Billington J. H. Ill, 702, 708
Black С. E. 1,481,783; II, 681,683;
III, 698, 745
Blackwell W. L. Ill, 558
Blakesley R. P. Ill, 701
Blalock H. M., Jr. 1,636
Blanchard I. Ill, 560, 573
Blum A. I, 627, 633, 655, 660, 664
Blum J. I, 803; II, 115, 117, 131,313,
317; III, 279, 696
Bogatyrev S. N. I, 290
Boh К. I, 762; III, 694
Bohac R. D. 1,492, 627, 763; II, 119, 126
Bonnell V. E. Ill, 571
Boserup E. I, 316
BoskovskaN. I, 630, 635
Bova R. Ill, 701
Bowman M. J. I, 495; III, 552
Bradley J. II, 338, 880, 889
Breyfogle N. I, 290
Breyfogle N. В. I, 292, 301
Brooke С. I, 73
Brooks J. 1,301; II, 118, 867; III, 550,577
Browder R. P. 1,319; III, 898
Brower D. R. I, 299, 302, 501; II, 888;
III, 550, 552, 559
Brown P. В. II, 664
Burbank J. I, 290, 627; II, 115, 328,628,
881; III, 159, 160, 165,584, 700
Burds J. I, 636, 772; II, 324; III, 551
Burgess E. W. I, 862, 863
Burguiere A. Ill, 543
Burke P. I, 73; III, 565, 692, 697
Bush M. L. 1,480; III, 694
Bushkovich P. II, 341, 342, 632, 637,
639, 694
954
Указатель имен
Bushnell J. I, 500,635; И, 317, 343,600,
681,682
Butler W. E. II, 645, 647
Byms R. F. II, 857
Campbell A. Ill, 695
Cantor N. Ill, 697
Carpon С. I, 627, 655
Carrol N. Ill, 705
CarrusA. W. II, 115,318
Cavallo G. Ill, 579
Cavender M. W. II, 121, 342
Chattier R. Ill, 579
Chemiavsky M. 1,316,349; II, 628,633,
674, 862
Chirot D. Ill, 694
Channon J. II, 313
Christian D. II, 319; III, 362,363,365,366
Chulos C. J. Ill, 584
Clark G. 1,316; II, 124
Classen C. Ill, 581
Clements В. E. I, 772
Clowes E. W. 1,490; II, 870, 880; III, 551,
555,556
Coale A. J. 1,550,637
Cockbum J. S. Ill, 697
Cole J. P.1,311
Coleman H. J. I, 781
Conftno M. I, 481; II, 126
CoxT. 1,492
CracraftJ. I, 72; II, 850
Crews R. D. I, 293
Crisp О. I, 775; II, 117, 125, 131, 645,
647,848
Cross G. S. Ill, 698
Crummey R. II, 664
CurrT. R. Ill, 697
Curtiss J. S. I, 500; II, 645,681; III, 352
Czap P., Jr. 1,627,630,636,763—766;
III, 155
Daalen R. von. Ill, 581, 587
Dallin A. II, 683
Daly J. W. II, 647
Daniels R. V. II, 644
Davies R. W. 1,315,494; III, 549
Deacon R. A. II, 867, 868
DeMause L. I, 770
Demos J. P. 111,581
Dennison T. К. 1,763; II, 115,318,320,369
DewaldJ. 111,581,694
Dewey H. W. II, 117
Dicks H. V. I, 783
Dixon S. I, 29; III, 584
Dollar Ch. M. 1,483
DomarE. D. 11,115,122,124
Donnorummo R. P. I, 315; II, 127; III, 553
Doyle W. Ill, 695—697
Duffy J. Ill, 580
Duglas M. 1,28
Dukes P. II, 637
Dumont L. Ill, 691
Dunn P. P. I, 770
Dunning Ch. II, 632
Durkheim E. II, 344
Durman К. II, 870
Dyatchkov V. I, 539,641
Edmondson L. I, 775,783; II, 131,645,
647, 848
Eisenmann L. Ill, 693
Eisenstadt S. N. II, 624; III, 709
Eklof В. I, 772; II, 321, 327, 551, 577
Ely С. I, 290
Emmons T. II, 127, 131,625,661, 857,
870; III, 886
EmsleyC. Ill, 161, 164
Endicott T. A. II, 627
Engel В. A. I, 627, 634, 771, 772, 779;
II, 326; III, 551
Engelstein L. I, 73, 290, 637, 777, 779;
II, 338, 544
Eversley D. E. С. 1,576,643
Fallows Th. II, 625,643,661, 870
Farmer G. 1,312
Farnsworth В. I, 770, 771, 785; III, 692
Federico G. Ill, 342
Fedor Th. S. I, 863; II, 343
Fenoaltea S. II, 126
955
Указатель имен
Field D. 1,492,493; II, 124, 127, 131, 674,
862—864
Figes О. I, 305; II, 637, 684, 860, 867
Fisher A. I, 293,303
Fitzpatrick Sh. I, 481; III, 550
Flandrin J.-L. I, 783; III, 694,695
Fleron F. J„ Jr. II, 683
Fletcher A. Ill, 693
Flinn M. W. Ill, 695
Floud R. I, 248,493
Foglesong D. S. Ill, 702
Forster R. II, 862
Fox D. R. 1,312
Frame M. II, 880
Frank A. J. I, 293
Frank St. 1,771; II, 325,864; III, 155, 157,
162,550
Frankel J. I, 308
Freeze G. L. I, 14, 379, 380,444, 481,
485—488, 500, 501, 781; II, 116, 117,
119, 120, 127, 634; III, 241, 249,353—
356, 358, 549, 551,584, 898
Frieden N. M. I, 502
Frierson С. A. I, 771; II, 328; III, 156, 365
Fryer P. Ill, 701
Fuller W. C„ Jr. II, 681
Galtung J. Ill, 692,694
GarthoffR. L. II, 681
Gatrell P. I, 314; II, 130, 131
Gaudin С. II, 328, 332; III, 160, 165
Geifman A. II, 885; III, 745
Geoffrey H. II, 637
Geraci R. I, 302
Gerasimov I. V. II, 645
Gerschenkron A. II, 131
Gibson R.,S. Ill, 360
Gies F. Ill, 695
Gies J. Ill, 695
Gillis J. R. Ill, 692—694,696, 706
Glass D. D. I, 576,643
Gleason A. I, 504; II, 888
Glickman R. L. I, 777; II, 326, 338
Goff J. L. Ill, 573
Goldstone J. A. II, 632
Goodman Y. Ill, 579
Gorshkov В. В. I, 497; III, 345, 358, 696
Gottlieb B. Ill, 694
Goubert P. Ill, 694
Goulboum E. I, 319
Graff H. J. Ill, 577, 579, 580, 588, 805
Grafts N. F. R. Ill, 369
Graham D. I, 289
Grant S. A. II, 320
Grassby R. I, 762
Greene J. P. II, 862
Greenfield L. 1,28
Gregory P. I, 315; II, 856; III, 745,773,
775, 776, 805
Greyerz K. Ill, 697
Gurko V. I. II, 661
Haberer E. E. 1,306
Hahn J. W. II, 683
Haimson L. H. 1,504; III, 553
Hajnal J. I, 576,643,762
Halecki О. I, 293
Halman L. I, 306
Hamburg G. M. II, 641,856
Hamerow Th. S. Ill, 696
H&nynen T. I, 630, 763
Harrison L. Ill, 746
Harrison M. I, 315; III, 549
Hartley J. M. I, 29; II, 671; III, 701
Hassel J. II, 665
Hawes J. M. I, 627
Heady F. II, 624,696
Heater D. В. II, 638; III, 696
Hedlund S. I, 71; III, 699
Hefner R. 1,318
Heiestad T. Ill, 692,694
Heldt V. I, 778
Hellie R. I, 629,630,642; II, 115, 116,
632,644
Herlihy P. 11,319; III, 745
Hey D. Ill, 704
Heywood С. I, 642, 769
Hildermeier M. 1,29,389; II, 878; III, 699
HinerN. R. I, 627, 111
Hingley R. II, 867
956
Указатель имен
Hittle J. М. I, 488,489
Hoben А. 1,318
Hoch St. L. I, 315,626, 627,635, 636, 640,
644,763—766,770; II, 115,128,316;
III, 366
Hodgson J. H. 1,302
Hoffman J. V. Ill, 579
Hoffmann D. L. Ill, 701
Hoffmann E. P. II, 683
Hollander P. Ill, 692
HoskingG. I, 305; II, 624, 631
Houston R. A. Ill, 572, 579
Hroch M. I, 305
Hsia R. P.-Ch. Ill, 704
Hubertus F. J. II, 864
Hughes L. II, 850
Huntington S. P. Ill, 704, 746
Huppert G. Ill, 694,695
Huret R. Ill, 703
Huskey E. II, 675
Hutton M. J. I, 780
Inalcik H. 1,293
Ingram M. J. 1,312
Inkeles A. 1,481
Ivan the Terrible II, 631
Jaher F. II, 638
Jasny N. I, 319
Jensen R. J. 1,483
Johansson, Egil III, 580
Johnson R. E. 1,766,772; II, 338, 864;
111,551—553
Jones R.E. II, 118, 119, 638
Kahan A. 1,349,495; II, 474,660; III, 552
Kahk Yu. Ill, 567
Kaiser D. H. I, 627, 629, 630, 763, 767,
768, 774; III, 559
Kangaspuro M. Ill, 701
Kanitshchev V. I, 539, 633, 641, 768
Kappeler A. I, 124, 298, 301, 504; II, 684
Kashin K. Ill, 368
Kassow S. D. 1,490, 504; II, 880; III, 551,
555
Katz M. II, 857
KayeH. L. 1,317
Keenan E. L. II, 629,632,644
Keep J. L. H. I, 305, 500; II, 681, 873
Keith Th. Ill, 573
Kelly С. II, 672
Kenez P. 1,298
Kerans D. II, 328
Kerensky A. F. 1,319; III, 898
Kemer R. J. 1,293
Khodarkovsky M. I, 290, 291
Kingston-Mann E. I, 315, 494, 627, 763;
II, 119, 131,324, 328; III, 544, 706
Kivelson V. A. I, 12, 292, 297, 774;
II, 628, 630, 632
Kleimola A. M. I, 775; II, 117, 664
KlierJ. D. I, 303, 308; II, 877
KnaffaL. Ill, 161
Knight A. Ill, 584
Koenker D. P. Ill, 552, 553
Kohut Z. E. I, 298
Kojima Sh. Ill, 552
Kolchin P. II, 115, 124, 126
Kollmann N. Sh. II, 629, 630
Kolonitskii В. II, 637, 867
KomlosJ. I, 14,248
Kooij P. I, 539, 626, 763
Kort M. I, 312; III, 694
Kotilane J. Ill, 701
Kotsonis Y. I, 494; II, 331, 857; III, 701
Krukones J. H. II, 870
Kucherov S. Ill, 153
Kuropjatnik M. I, 763
Lambroza Sh. I, 303; II, 877
Landes D. S. I, 310; III, 746
Lane D. 1,306
Lantzeff G. V. 1,287
Lapidus G. W. 1,762
Laslett P. 1,762; III, 693—695
Laue Th. Ill, 553
Le Roy-Ladurie E. Ill, 704
Ledeneva A. II, 624
LeDonne J. P. I, 291,293, 296; II, 627,
637, 638, 641
957
Указатель имен
Leonard С. S. II, 119,126, 317,318,339,
638; III, 368
Levin А. II, 648
Levin Е. I, 774, 778, 779
LewinM. И, 313; III, 155,698
Lieven D. I, 298; II, 674; III, 702
Lincoln W. В. I, 297; II, 674, 854, 869
Lindert P. H. I, 14,491; III, 342
Lissem P. II, 669
Lloyd M. Ill, 695
Loewen J. W. 1,28
Lohr E. II, 877
Loit A. I, 305
Longworth Ph. I, 295; II, 628, 862;
III, 699
Lovell S. II, 624
Lowe H.-D. I, 309,493
Lukes St. Ill, 691
Lydolph P. E. 1,311
Macey D. A. J. II, 329,331,657,669,676
Macfarlane A. Ill, 691
Machina M. J. II, 115, 122, 124
Mackinnon A. Ill, 580
M^czak A. II, 341, 624, 637
Madariaga I. de II, 638, 639; III, 696, 701
Malia M. Ill, 702
Manchester L. 1,479, 487
Mandel D. Ill, 553
Martinek J. Ill, 579, 692
Martynova A. 1,643
MasaxykTh. G. Ill, 693
Matossian M. К. I, 769; III, 546
Matsuzato К. I, 318; II, 339
Mazour A. G. II, 854
McCaffray S. P. II, 880; III, 345, 557,
558, 70L
McCarthy R. G. 11,319
McDaniel T. Ill, 553,704
McKean R. В. II, 331; III, 553
McKenzie R. D. I, 862, 863; II, 661,857
McMillan J. F. I, 73
McReynolds L. II, 869, 870
Meehan-Waters В. 1,298; II, 634,637,
664
Melancon M. I, 504; II, 880; III, 345, 701
MellorR. E.H.I, 293
Melton E. I, 493; II, 115, 127,318
Melton H. E., Jr. II, 124
Mendelsohn E. I, 304, 779; II, 635, 850
MenningB. W. II, 681
Merl St. 1,494
Michels R. II, 848; III, 745
Miliukov P. N. II, 860; III, 693
Miller M. A. Ill, 696
Mironov B. N. I, 28, 489; II, 122, 336,
661,869; 111,745
Mitterauer M. I, 627, 769; III, 694
Mixter T. 1,315,494, 627, 763; II, 119,
324; III, 544
Monas S. II, 674, 868
MoonD. II, 115; III, 546
Morrison A. S. I, 290, 297, 318
Mostashari F. I, 295
Mousmier R. Ill, 693
Mulhall M. G. 1,292,781; III, 754,757,
758, 806
Neuberger J. 1,12
Neven M. I, 627,655
Obolensky D. Ill, 693
OfFord D. II, 863
Okey R. Ill, 694
Olmstead A. I, 14
Olson J. S. I, 301
Olson L. Ill, 693
Olson M. Ill, 704
O’Malley L. D. II, 851
Orlovsky D. T. II, 658,664,666, 668,674,
675
Owen Th. С. 1,490,643, 849
Palat M. К. II, 332
PallotJ. I, 295; II, 313, 331,332
Paping R. I, 539, 626, 630, 763
Papmehl К. A. II, 869
Park R. E. I, 862, 863
Parker G. 1,72; III, 748
Partanen J. I, 630, 763
958
Указатель имен
Pearson Th. S. II, 657,661,674,857, 860,
888; III, 160, 163
Pennigton D. N. Ill, 694
Perrie M. I, 306; II, 631, 864
Peter the Great I, 290; II, 631, 633, 637,
639, 850, 851
Pierce R. A. 1,287,318
Pintner W. M. I, 298, 450, 504; II, 535,
624, 641,664—666, 674,679; III, 218,
349, 359
Pipes R. 1,305,307,316; II, 632,639
Plaggenborg St. II, 856
Plakans A. 1,627,764—766
Plamper J. I, 486, 501
Poes E. Ill, 697
Poe M. II, 630; II, 702
Polla M. I, 763
Pollock E. Ill, 368
Pollock L. A. Ill, 695
Polonsky A. I, 310
Popkins G. Ill, 160
Porter Th. E. II, 848
Rabow-Edling S. II, 855
Radkey 0.1,307; II, 684
RaeffM. II, 342,633,638,644,654,664,
673—675, 677, 851, 852, 854, 862, 887
Ragsdale H. II, 852
RamerS. С. 1,771; II, 327
Ransel D. L. I, 14, 290, 509, 608, 627,
629, 637, 638, 642, 643, 763, 777;
II, 115,341, 628, 637, 638, 665, 881;
III, 551,584, 700
Ransom R. L. II, 124
Ranum О. I, 316
Reddy W. M. I, 480
Reid S. E. Ill, 701
Reindard S. Ill, 694
Resnick D. P. Ill, 579, 580, 692
Riasanovsky N. V. II, 642, 867
Riddle J. M. I, 637, 640; III, 695
Rieber A. J. 1,292,294, 302,481,490,
504; II, 131,643
Robbins R. G., Jr. II, 625,626, 644, 652,
655,667,676, 872
Robinson G. T. II, 320,645
Rock S. Ill, 584
Rogachevskii A. II, 624,673
Rogger H. 1,296,303; II, 435,627,654,
655, 674,886
RoselJ. 1,319
Rosenberg Ch. E. Ill, 694
Rosenberg W. G. Ill, 553
Rosenthal B. G. Ill, 551
Rowland D. II, 664
Rowney D. К. I, 298,450, 504; II, 535,
624,627,666, 674; III, 218,349
Rowney К. II, 675
Ruane Ch. I, 502, 783
Ruckman J. A. 1,491; II, 643; III, 557
Rudeng E. Ill, 692,694
Rudolph R. L. I, 763
Ryavec K. W. II, 673, 677
Rywkin M. I, 287
Sabol J. I, 306
Saegert S. 1,317
Sahadeo J. I, 289, 299, 302, 306
Said E. W.II, 631
Sanborn J. I, 305; III, 705
Sanderland W., см. Сандерленд, Уиллард
Sanders M. L. Ill, 707
Sandin B. Ill, 580
Sanjuan P. II, 861
Scarre G. Ill, 697
Schattenberg S. II, 653, 672,676
Schedewie F. S. II, 343
Scheibert P. II, 116
Schilling H. Ill, 162
Schimmelpenninck D. van der Oye I, 290
Schneer M. II, 325
Schrader A. I, 290, 292,301; III, 697
Schubart W. Ill, 692
Scott W. A. I, 783
Scribner R. W. Ill, 697
Seaton A. 1,295
SeavoyR. E. II, 125; III, 573
Segal B.M. 11,319
Seignobos Ch. Ill, 693
Seregny S. J. I, 305, 502; II, 327; III, 705
959
Указатель имен
Service R. I, 305; II, 631
Shanaham D. Ill, 691
Shanin T. 1,494; II, 320, 873
Shapely P. Ill, 560, 698
Shapiro L. В. 1,306
Shatz M. S. 1,779; II, 635,850
ShawD.J.B.1,295; II, 314,320
Shelley L. Ill, 162
Shikalov Y. 1, 630, 763
Shimkin D. V. II, 861
Shorter E. Ill, 694
Sills D. L. 1, 502
Simmons I. G. I, 316
Simms J. Y., Jr. I, 315
Slicher van Bath В. H. Ill, 696
Slocum J. W. I, 300
Smele J. D.
Smith А. К. I, 480; III, 365, 366
Smith D. II, 881
Smith J. HI, 701
Smith R. E. F. II, 319; III, 362, 363, 365,
366
Smith S. A. I, 305; III, 553, 584, 705
Smith-Peter S. II, 849
Spechler M. С. 1,299
Squire P. S. II, 868
Staliunas D. I, 304
Stanislawski M. 1,308,310
Starr S. F. II, 435,643, 654, 655,674
Steams P. N. 1,29,69,500, 503,637,769;
II, 624, 681; III, 560, 580, 692
Steckel R. H. 1,248
Stein H.-P. 1,298
Steinberg M. D. I, 781; II, 325, 338, 864;
III, 550, 553, 554
Stevenson J. Ill, 693
StitesiR. I, 780, 783; II, 121; III, 555
Stivens С. В. II, 632
Stockdale M. К. I, 290
Stoff L. S. I, 780
Stolberg E.-M. I, 295
Stone L. Ill, 580,694, 758, 806
Storch H. 1,628, 796
Street В. V. Ill, 579, 696
Subtelny 0.1,318
Sunderland W. I, 290, 292, 296, 301, 303
Suny R. G. 1,305, 320; II, 644,675,850;
III, 552
Sutch R. II, 124
Sutton R. S. Ill, 162
Szamuely T. II, 644,850
Szeftel M. II, 631,645
Taranovski Th. II, 889
Taylor Ph. M. Ill, 707
Tewari J. G. 1,287
Thaden E. С. 1,287,288,293; II, 853,
857, 887
Thomas К. I, 303; III, 585,697,698
Thompson E. P. II, 319; III, 560
Timberlake Ch. E. II, 870,888
Tiryakian E. A. Ill, 709
Tomohiko U. I, 302
Took W. Ill, 347, 574
Torke H.-J. II, 665,671,674,886
Tovrov J. I, 777—779
Treadgold D. W. II, 331
Troitskaia 1.1,633
Tumin M. M. I, 339,480
Tuminez A. S. I, 306
Turner F. J. 1,295
Turton D. I, 319
Ulam А. В. II, 888
Uyama T. I, 302
VakarN. P. I, 305
Valle R. Ill, 708
Vardi L. Ill, 696
Vassilyev A. T. II, 867, 868
Velychenko St. I, 148, 300; II, 655
Venezky R. L. Ill, 579
Vernadsky G. 1,293
Vemer A. M. II, 635,667, 859
VinogradoffP. II, 661,662
Vitarbo G. I, 298
Volkov V. II, 624
Von Hagen M. 1,291,298
Vucinich W. S. 1,288,769; II, 320, 572,
625, 857, 870; III, 546, 553
960
Указатель имен
Wachtel А. В. 1,777
WadaH. 1,770
Wade R. А. II, 682; III, 698
Wagner D. A. Ill, 579
Wagner W. G. 1,775
Waldron P. 11,331
Walicki A. II, 887
Walkin J. II, 683
Wall R. 1,762,763; III, 695
Wandycz P. S. Ill, 694
Waris E. I, 764, 765
Watters F. M. II, 320
Wcislo F. W. II, 674
Webb W. P. 1,312
Weber E. 1,486; III, 693,694
Weber M. II, 653,676
Weickhardt G. G. II, 665
Weinberg R. I, 304
WeissmanN. В. II, 652,858; III, 162
WerthP. I, 290, 302; II, 653
Werthman M. S. Ill, 697
West J. L. I, 490; II, 880; III, 551, 555,
556
Wetherell С. 1,627
Whelan H. W. II, 641, 644,664, 857
White C. 1,311
White St. II, 850
Whittaker С. H. II, 633,641
WiegleyT. M. L. 1,312
Wilbur E. M. 1,315,494
Wildman А. К. I, 305; II, 128,681
Williamson J. G. 1,491
Wilson A. I, 320
Winchester I. Ill, 580
WinkelG. 1,317
Winn Ch. Ill, 553
Wirth L. I, 862, 863
Wirtschafter E. К. I, 500; II, 635,681, 886
Wittfogel К. A. II, 631,632
Wittram R. Ill, 692
Wood A. II, 344
Worobec Ch. D. I, 627, 761, 763, 764,
769, 771, 772, 779; 11, 313, 326, 328;
III, 157
Wortman R. 1,778,779; II, 131,633,635,
644,683
Wright В. I, 312
Wright G. II, 122
Wyman W. 1,312
Yaney G. L. II, 331, 651,675,683
Yarmolinsky A. II, 888
Yosho I. II, 344
ZehrH. Ill, 164,697
ZelnikR. E. II, 118,344, 553
Zimmerman J. I, 28
Zinsser J. P. Ill, 695
Zirin M. I, 761
Ziircher E. J. 1, 301, 303
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аборт I, 86, 424, 537, 560, 567, 579, 580, 582, 584—590, 637—640, 735, 754; II, 110,
211
Абсолютизм I, 72, 184, 289, 450, 486, 489, 490, 492, 500, 502, 753; И, 11 1, 335, 357,
374, 376, 390, 393, 403, 410, 412, 431, 488, 493, 548, 607, 632, 633, 635,
636, 637, 639, 641, 650, 664, 666, 671, 674, 683, 734, 812, 851, 852, 856;
111,218, 232, 348, 359, 496,616
Авторитаризм в семейных и общественных отношениях I, 694, 712, 716, 731;
III, 622
Аграрное перенаселение I, 84, 101, 107, 108, 260, 315, 571; II, 207, 220, 244, 577;
III, 43, 325, 425, 430, 563, 568, 594
Аграрный вопрос I, 316; II, 123, 128, 241,244, 327, 328,333,422, 873, 698
Адвокатура и адвокаты I, 52, 207, 216; II, 541, 542, 736, 755; III, 70, 71, 85, 86, 89,
91, 153, 523
Административная юстиция II, 399, 404, 406, 408, 507, 509, 510, 608, 611, 626,
640, 668, 669, 723, 774
Административное и юридическое размежевание города и деревни I, 805—810
Азиатский деспотизм см. Восточный деспотизм
Азиатский способ производства II, 632
Аккумуляция возрастная I, 523—530,619,630
Алкоголь см. Водка
Альтернативный подход в историографии I, 59—61, 71—74, 264, 265; II, 89—93,
241; III, 93, 102, 104, 107, 175, 179, 185—188, 271, 281, 286, 290, 292—
294, 662, 663, 716; контрфактическая ситуация — вся помещичья земля
переходит крестьянам безвозмездно II, 89—94
Антибуржуазность интеллигенции, рабочих, крестьян II, 715, 739, 860, 879;
III, 394, 396—399, 414, 554, 609
Антисемитизм I, 176, 179, 187, 199, 206, 210, 217, 218, 301,303, 307—310; II, 800;
см. также Евреи
Антропометрические данные см. Вес; Рост
Армия: армия как защитница режима 582—606, 731; выступления солдат в 1905—
1906 гг. II, 600; дедовщина в русской армии XVIII—XX вв. I, 756—757,
784; доля потомственных дворян в офицерском корпусе в 1750—1912 гг.
II, 232; единство народа и армия II, 586—607; престиж военной службы
IL, 16, 235, 236, 585, 605; распределение офицеров по уровню образова¬
ния в конце XIX—начале XX в. III, 235, 236; продолжительность воин¬
ской службы I, 342, 446; II, 38, 699; III, 812, 818, 824, 827; социальное
и этническое происхождение офицеров I, 129, 302, 449, 450; III, 230, 232;
численность в России в 1680—1913 гг. I, 153—156, 159—161, 298, 444—
446, 449, 501, 513, 527; II, 583—586, 681—683; численность в некоторых
странах в XIX—XX вв. II, 584
Артель II, 304—306, 343, 457, 587, 589, 593, 596—598; III, 460, 558, 608
962
Предметный указатель
Баланс рабочих и нерабочих дней в году у крестьян см. Бюджет времени
Банкетная кампания оппозиции в 1904 г. I, 326; II, 799; III 836
Барщина И, 14, 54, 62—65, 76 (доходность барщинных имений), 69, 70, 77, 79—
81,85, 101, 114, 122, 127, 177, 178, 198; III, 422, 423,563,650,819
Белопашцы II, 66—71, 124
Бесчестье I, 337, 558; II, 35, 48, 51, 289; III 25, 39, 52, 93, 102
Биологический статус населения III, 201, 270, 309, 335; см. также Рост; Вес
Божий суд по обычному праву II, 158; III, 61,62, 379
Боярская дума II, 172, 362—368, 370, 379, 629, 637; III, 839
Брак воинский см. Новобранцы
Брак: внутри- и межсословные браки I, 854—856; возраст вступления I, 539—
542, 561—564, 565 (за рубежом); III, 393; выбор невесты и жениха I, 524,
556—558, 696, 771; доля вдовых и лиц, никогда не состоявших в браке I, 574—
576; доля повторных браков в Европейской России в 1867—1910 гт. I, 569;
межэтнические браки I, 165, 166; ограничения по закону при вступлении
в брак III, 56, 57; отношение к браку I, 553—560; повторные I, 569;
продолжительность I, 569, 570; сезонность I, 565—568; уровень брачно¬
сти I, 568—572; по расчету и по любви I, 759—761
Братание II, 801 (на фронте); III, 101 (побратимство)
Братчины II, 186
Брачность см. Брак; Демографические процессы
Бремя воинской повинности в Российской империи для отдельных этносов
в 1867—1868 и 1904—1907 гг. I, 133
Буржуазия I, 463—464; 480-481, 484, 489—491, 499, 501—502; II, 189, 407, 643,
648, 674, 692, 693, 716, 739, 809, 816, 841—842, 849, 853, 857, 864, 888;
484, 557—558, 604, 688; менталитет I, 489; II, 849; III, 399—401; постсо¬
ветская I, 329, 503; III, 637—638; отрицательное отношение к буржуазии
III, 190, 390, 456; численность крупной буржуазии в 1880—1890 гг.
И, 857
Бюджет времени: распределение труда крестьянской семьи в течение года в Во¬
логодской, Московской и Харьковской губерниях в 1900-е гг. III, 417; го¬
довой бюджет времени крестьянина-работника в середине XIX—начале
XX в. III, 418; трудовые издержки в полеводстве Европейской России
в 1880-е и 1901—1910 гг. III, 423; использование крестьянами годового
календарного фонда времени III, 425, 427
Бюджет государственный I, 139—142; И, 100—103, 129, 236, 405, 425, 473, 474,
647; III, 268,818, 828
Бюджет семьи: крестьян I, 313, 493, 641, 765, 766; II, 100; III, 25, 354, 360, 365;
рабочих III, 177—179, 202, 342, 572; чиновников II, 678; III, 209
Бюрократизация: городской общины II, 257—260; государственного управления
II, 375, 402, 431—439, 477, 502, 549, 553, 654, 665, 703; III, 669; крестьян¬
ской общины II, 149—150, 175, 246—247, 256; приходской жизни I, 367
Бюрократия: определение II, 350—354; элита на 23 февраля 1917 г. II, 504; в ли¬
тературе и в жизни II, 537—544; в современной историографии II, 544—
554; доля лиц иностранного происхождения II, 509; доля потомственного
963
Предметный указатель
дворянства среди классных чиновников III, 217; душевладение по разря¬
дам чиновников в 1755 и 1840—1855 гг. Ill, 218; жалобы населения на
чиновников II, 531—537; изменения в составе и организации бюрократии
II, 490—514; обуржуазивание II, 491—492; от патримониальной к рацио¬
нальной II, 499—514; отличие российского чиновника от идеального чи¬
новника II, 498—537; привлечение к уголовной ответственности за
должностные преступления II, 520—536; профессионализация II, 492—
497, 550—556, 669; распределение чиновников по уровню образования
в конце XIX—начале XX в. III, 236; состав и организация II, 490—498;
социальная мобильность II, 497; социальное происхождение II, 535; ста¬
тистика разных разъездов и заседаний военного министра А. Ф. Редигера
в 1905—1909 гг. II, 512; стратификация II, 494—495; уровень образова¬
ния в 1755—1917 гт. II, 493—504,535,536; факторы успешной карьеры 1,477—
478; численность в 1646—1915 гг. II, 430—435; численность в России
и за рубежом в XVI—начале XX в. и 2010 г. II, 435, 436, 440, 441; в СССР
II, 438; число земских начальников и подведомственного им населения
в 1893, 1904 и 1912 гг. II, 457; число чиновников, привлеченных к суду за
мздоимство и лихоимство в 1839—1913 гг. И, 520, 521, 529, 530, 532, 533,
535, 536; этнический состав лиц на коронной и общественной службе
в 1897 г. I, 148—150; эффективность управления II, 544—582; см. также
Взятка; Коррупция
Валовой внутренний продукт: в России и за рубежом в 1860—1987 гг. I, 252, 256;
257, 281, 469; II, 436, 438, 474; III, 336, 337, 536, 589, 636, 637, 681, 724,
747, 774, 775
Вдовство I, 421, 425, 558—561, 569, 572, 573, 574 (доля вдовых среди городского
и сельского населения Европейской России в 1897 г.), 575, 576, 595, 615,
623, 634, 651, 659, 660, 695, 699, 715, 717, 745; II, 44, 173, 191, 197, 217,
223, 472, 543, 783, 791; III, 54, 57, 100, 101, 345, 430, 431,816
Великие реформы 1860-х—начала 1870-х гг. (крестьянская, земская, судебная,
военная, церковная) I, 50, 338; II, 89, 90, 113, 1 15, 116, 128, 200, 303, 402,
479, 480, 502, 503, 540, 574, 633, 641, 643, 735, 736; III, 633, 634, 639, 656,
659
Венечная память (разрешение на вступление в брак) II, 57
Венчание на царство, или коронование II, 360, 379, 380, 383, 628, 783
Вероятность умереть у новорожденного мальчика до достижения им 10 лет у 11 на-
ррдностей России в 1897 г. I, 607
Верховная власть как лидер общества и модернизации II, 733—745
Вес, рост и индекс массы тела III, 300—301, 311, 332, 335,
Вестернизация I, 171, 302, 727, 801; II, 293, 433, 570—576 (удачи и провалы), 616,
703, 706, 840, 844; III, 603, 620, 640, 655, 662, 670; см. также Модерни¬
зация
Вече I, 805; II, 60, 367; III, 60
Взаимоотношения верхов и низов как игра в «испорченный телефон» II, 459—
470
964
Предметный указатель
Взятка (посулы, поминки, почесть): как плата за услуги с просителей II, как об¬
мен дарами II, 524, 525; функциональность II, 526, 527; как следствие
низкого жалованья II, 526, 527; коррупция в суде III, 74—77; в коронном
управлении II, 514—531
Влияние семейных практик на социальные и политические отношения в общест¬
ве I, 686—688
Внутрисемейные отношения: у крестьянства I, 688—708; у мещан и купцов I, 708—
720; у дворян I, 720—740; развитие внутрисемейных отношений: от пат¬
риархально-авторитарных к демократическим I, 752—761
Водка: I, 207—210 (потребление водки в черте еврейской оседлости), 212, 374,
426, 457, 458 (пьянство), 604, 839, 861, 862; И, 20, 100, 103, 104, 187, 188,
305, 319, 519; III, 93, 102, 104, 107, 175, 177—179, 185, 271, 280, 286, 290,
292—294, 309, 363, 378, 394, 407, 410, 411, 426, 429, 434, 444, 471, 472,
559, 724, 738, 771,828
Возраст вступления в брак городского и сельского населения Европейской Рос¬
сии в 1867 и 1910 гг. III, 393
Возраст наступления уголовной ответственности в конце XVII—начале XX в.
11,21,22; 111,28
Возрастная аккумуляция I, 526
Возрастная стратификация I, 460, 461
Воинская повинность: всесословная I, 144, 197; II, 600; III, 40, 321, 323, 830; бремя
для отдельных этносов I, 133, 134; жеребьевый и очередной порядок отбы¬
вания III, 658; рекрутская I, 809, 810; II, 19, 22, 44, 47, 58, 62, 66, 154, 256,
258, 283, 291, 307, 533, 607; III, 322, 808, 824; использование рекрутской по¬
винности для чистки общины от нежелательных элементов II, 191, 307; ук¬
лонение от службы I, 135
Воинский брак, здоровье и рост населения III, 321—325
Волокита в судопроизводстве III, 77—82
Вольные хлебопашцы см. Свободные хлебопашцы
Воля и свобода в понимании крестьян II, 31, 32
Воспроизводство населения: брутто-коэффициент и нетто-коэффициент I, 546—
549, 551, 621, 644; переход от традиционного к современному типу I, 618—
625; III, 671
Восточный деспотизм II, 371, 631; неприменимость понятия к российской госу¬
дарственности II, 371, 372
Всесословная правомерная монархия пореформенного периода II, 83, 405—411,
720
Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор II, 684, 876
Второе раскрепощение крестьянства в 1906 г. II, 83, 127, 720
Выкидыш см. Аборт
Выкупная операция 1861 г. II, 94—99
«Вымирание» помещичьих крестьян в первой половине XIX в. I, 592
Габитус 1,67; И, 180; 111,329
Газават I, 88, 163
965
Предметный указатель
Географический детерминизм I, 228—257
Географический фактор I, 221—228
Гипотеза о недостатке рабочего времени для сельскохозяйственных работ в Рос¬
сии I, 233—235
Г ипотеза Р. Пайпса — Л. В. Милова о решающей роли климата в истории России
I, 228—249
Город: определение 1, 790—791; распределение городов по числу жителей в кон¬
це XVII—начале XXI в. I, 796, 797, 798; средняя людность городов
в 1646—2009 гг. 1, 799; функциональная структура городов в XVIII—
XIX вв. I, 812; распределение городских общин по численности посад¬
ских мужского пола в 1719 и 1744 гг. II, 257; город Владимир в 1838
и 1910 гг. II, 695
Город и деревня: общее и особенное 1, 790—805; от слитности к дифференциа¬
ции и от дифференциации к интеграции I, 787—790, 860, 861; админист¬
ративное и юридическое размежевание I, 805—810; экономическое раз¬
межевание 1, 810—811
Городская община и городские корпорации: до XVIII в. II, 137—144, 249, 250;
в 1699—1775 гг.: 11, 250—258; в 1775—1869 гг. И, 258—267; после Вели¬
ких реформ 1860-х гг. II, 267—281
Городские и сельские поселения: общее и особенное 1, 790—805
Городское сословие: закрепощение и раскрепощение II, 20, 21, 47—51; страти¬
фикация и внутрисословная мобильность I, 383—398; трансформация со¬
словия в классы I, 385, 386; численность I, 388, 389, 444, 445
Горькая теорема» А. П. Паршева о неконкурентоспособности России на мировом
рынке I, 251—258
«Горячий след», оставленный преступником, в обычном праве III, 104
Господства типы (традиционный, харизматический, легальный, смешанный)
111, 356
Государственная дума: как парламент 11, 412—417; электорат II, 417—419
Государственная поддержка приходского духовенства РПЦ в 1764—1916 гг.
111, 253
Государственность: определение ключевых понятий II, 347—359; от народной
монархии к правовому государству II, 607—623; народная монархия до
XVII в. II, 359—374; дворянская патерналистская монархия XVIII в.
II, 374—394; правомерная бюрократическая монархия первой половины
XIX в.; II, 394—405; всесословная правомерная монархия пореформенного
периода; II, 405—411; дуалистическая правовая монархия 1906—1917 гг.
II, 41J1—422; республика II, 421, 422; взаимоотношение коронных властей
и народа как игра в «испорченный телефон» II, 459—470
Государственные расходы и доходы по Туркестанскому краю в 1868—1916 гг.
I, 141
Государственный аппарат в современной историографии II, 544—554
Государство и народ II, 745—759
Государство и образованное общество II, 698—813
Государство и общество II, 696—698
966
Предметный указатель
Государство: определение II, 347—359; имперская Россия как минималистское
государство II, 447; органы коронного управления II, 423—430; право¬
мерное и правовое как две последовательные стадии развития правового
государства II, 357—358; полицейское II, 390; самоуправление как со¬
ставная часть государственного управления II, 476—481
Гражданское общество: определение И, 348, 349; развитие в России II, 690—696,
840—845
Гражданское право: источники III, 49, 50; субъекты III, 50; обязательственное
право III, 50—54; наследственное право III, 54—55; вещное право III, 54—
55; семейное право III, 56—59
Грамотность: волостных старшин и сельских старост в 34 земских губерниях
в 1880 г. II, 457; доля грамотных по-русски и на родном языке среди раз¬
личных народов империи в 1897 г. I, 275; новобранцев в 1867—1913 гг.
III, 477—478; женщин по возрастным группам в 1797—1897 гг. III, 479;
населения в 1797—1917 гг. III, 482; населения по сословиям в 1847—
1917 гг. III, 483; осужденных в 1837—1907 гг. III, 484; населения в при¬
балтийских губерниях в 1777—1897 гг. III, 486; населения в XIII—начале
XXI в. III, 488; мужчин и женщин в разных странах в XVII—XX вв. III,
491; темпы утраты грамотности по данным переписей 1897, 1920 и 1926 гг.
III, 499; ретросказание грамотности в 1797—1917 гг. по данным перепи¬
сей населения III, 478—485; рецидив безграмотности III, 496—501; пси¬
хологические, социальные и политические последствия низкой грамотно¬
сти III, 501—543
Дворяне: закрепощение и раскрепощение I, 16—18, 38—44; запрещение негра¬
мотным жениться II, 16; доля потомственного дворянства среди классных
чиновников III, 217; доля потомственных дворян в офицерском корпусе
сухопутных войск в 1750—1912 гг. III, 232; обеднение после Великих
реформ I, 358, 359, 474, 475, 484; II, 715; образование I, 371, 372; получе¬
ние потомственного дворянства I, 359, 454, 455; III, 826; превращение
в сословие и в класс I, 340—344, 460—462; социальная мобильность
I, 448—458; стратификация и внутрисословная мобильность I, 340—361;
утрата сословных привилегий в пореформенный период I, 460—462; уча¬
стие в государственном управлении II, 385—389; численность I, 388, 389,
444, 445; см также Дворянские корпорации; Дворянское собрание
Дворянская патерналистская монархия XVIII в.: обоснование легитимности вла¬
сти и изменения в политической культуре II, 374—385; роль дворянства
в государственном управлении II, 389—394; роль закона в государствен¬
ном управлении II, 389—394
Дворянские корпорации в России: до XVIII в. II, 281—283; в конце XVIII—
начале XX в. II, 283, 284
Дворянское собрание II, 284—292
Делопроизводство: по Министерству юстиции в 1825—1913 гг. II, 444, 559; по
Министерству внутренних дел в 1803—1863 гг. II, 560; в губернских
правлениях в 1825—1859 гг. II, 557, 561
967
Предметный указатель
Демографическая модернизация: от традиционного к рациональному типу вос¬
производства населения I, 505—510, 618—625
Демографические процессы: в XVIII—начале XX в. I, 552; III, 326; в России
и зарубежных странах в XIX—начале XX в. I, 622; среди разных сосло¬
вий в 1840—1850-е гг. I, 577; в среде помещичьих и государственных
крестьян и городского населения в первой половине XIX в. I, 593, 660;
у различных конфессий I, 616; точность их регистрации I, 530—553; см.
также Брак; Контрацепция; Смертность
Демографические характеристики: населения различных конфессий в Европей¬
ской России в 1896—1904 гг. I, 616; помещичьего крестьянства Москов¬
ской губернии в XIX в. I, 660; трех поселений Западной Сибири конца
XIX—начала XX в. I, 537
Демографический детерминизм: мальтузианская гипотеза исторической динами¬
ки России I, 258—261
Депутатское собрание и дворянские опеки II, 292—299
Дети: внебрачные I, 560, 581, 582, 590, 612, 613, 615, 636, 638, 698, 706, 711, 712,
714, 728, 735, 738, 754, 775; II, 211, 212; III, 409; 613, 833, 835; воспита¬
ние I, 750, 751; доля в возрасте до 7 лет в общей численности населения
Европейской России I, 578; доживающих до возраста 1 год, 10; 15 и 20
лет, у разных поколений российских матерей I, 607; в среднем на семью
в XVIII—первой половине XIX в. I, 663; народная педагогика I, 690, 706,
770; нежеланные 1, 584; отдача в кабалу, в услужение I, 462; отношение
к детям I, 462, 559, 560, 690—692, 716, 717, 730, отцы и дети I, 751; по¬
вышение статуса в пореформенное время I, 496, подкидывание I, 519,
560, 584, 712; III, 327, 335; участие в сельскохозяйственных работах I, 418,
673, 674
Детоубийство I, 608—614, 642
Дефекты климата и их влияние на сельское хозяйство I, 235—241
Дефекты оценки численности и состава населения I, 510—530
Дефицит административного ресурса у государства II, 435—440
Децильный коэффициент дифференциации I, 469—476
Джини коэффициент имущественного неравенства I, 353, 358, 381, 392—395,
404,405
Динамика и структура преступности III, 117—132
Динамика политического процесса II, 829—834
Дискурс: определение I, 63; III, 374; империи и национализма I, 78, 90—92, 279,
320; II, 635; детоубийства I, 643; детства I, 755; генезиса капитализма II, 198;
бюрократии II, 351, 352, 646; мобилизационной модели развития II, 474,
475; гражданского общества II, 814, 832, 833, 843, 848; торга II, 852;
III, 589, 748; преступления III, 110, 111, 148; дворянина III, 386; предрас¬
судков III, 513; национального характера III, 544; российского крестьян¬
ства III, 549; идентичности России III, 641, 643, 664, 671, 675, 703, 706,
707,718, 748, 847
Дискуссии с: А. М. Анфимовым и П. Н. Зыряновым II, 241, 331; В. П. Даниловым
II, 237, 238, 330; Й. Баберовски II, 553; Т. Я. Валетовым и В. Н. Парамо-
968
Предметный указатель
новым III, 463, 464; В. А. Веременко I, 735—740; Я. Е. Водарским и
B. М. Кабузаном I, 592; Т. Деннисон и А. И. Христофоровым II, 196—
198; Н. А. Ивановой и В. П. Желтовой I, 482; Л. В. Кошман I, 465, 818;
C. В. Любичанковским II, 554—570; Л. В. Миловым и Р. Пайпсом I, 228—
248; А. П. Паршевым I, 251—258; А. С. Тумановой II, 295; С. Шаттен-
берг II, 552, 553; О. Д. Шемякиной I, 44—47
Добровольные общественные ассоциации: виды II, 813—825; значение И, 825—829
Должностные преступления II, 531—537
Доносы II, 16, 116, 117, 392, 410, 772—774, 872, 873; III, 17, 147, 259
Доходы и расходы государственные по регионам I, 138, 141
Доходы населения: годовой доход 10% беднейшего и богатейшего населения
России в 1901—1904 гг. I, 467, 468; доходы офицеров, чиновников, при¬
ходского духовенства, крестьян, рабочих в 1760—1900-е гг. III, 264—
270; см. также Жалованье; Заработная плата рабочих
Доходы приходского духовенства: принтов Владимирской епархии в 1863 г. III, 247;
от требоисполнения III, 240—248; от земли III, 249; пособие от прихода
III, 248—251; государственная поддержка III, 251—254; суммарные до¬
ходы III, 254—258; недовольство духовенства своим материальным по¬
ложением III, 258—264; доходы духовенства, офицеров и чиновников
в 1760—1909 гг. III, 257
Дуалистическая правовая монархия 1906—1917 гг. II, 411—422
Духовенство православное приходское: закрепощение и раскрепощение I, 18, 20,
44—47; изменение численности духовенства и паствы в приходе в XVIII—
начале XX в. III, 240; имущественное неравенство I, 378, 379; негативное
отношение населения к духовенству I, 372—374; превращение в сословие
I, 371; разборы I, 450; сословные привилегии I, 368, 369; стратификация
и внутрисословная мобильность I, 361—383; социальное происхождение
студентов С.-Петербургской духовной академии I, 451; трансформация
сословия в профессию I, 377, 378; уровень образования I, 371, 372, 380;
церковные реформы 1860—1870-е гг. I, 376, 377; численность I, 388, 389,
444, 445; см. также Доходы приходского духовенства
Духовное родство, или кумовство II, 57, 101
Евреи: положение в империи I, 195—221; уровень жизни I, 211—221; черта ев¬
рейской оседлости: причины появления и последствия I, 195—200; пра¬
вительственная политика I, 200—211; антисемитизм и его факторы I, 176,
179, 187, 206, 210, 218, 301, 303, 307—310; вклады в сберегательные кас¬
сы в 1899—1913 гг. I, 214; демографические характеристики I, 616, 617;
индекс человеческого развития I, 283; материальное положение I, 211,
221; общественная благотворительность I, 209; участие в революционном
движении I, 188—190; см. также Этноконфессиональная политика; Эт-
ноконфессиональный, этнодемографический и этносоциальный состав
населения
Европеизация см. Вестернизация; Модернизация; Погромы
Единонаследие по указу 1714 г. I, 350; II, 42, 699; III, 54, 809, 812
969
Предметный указатель
Епископское тягло I, 20, 44
Если бы вся помещичья земля перешла крестьянам безвозмездно II, 89—94
Жалобы, апелляции и отмененные приговоры III, 82—91
Жалованная грамота городам I, 338, 384, 446—447, 458, 489, 792, 808, 809; III, 43,
48, 49, 112, 258, 392, 702; III, 12, 658
Жалованная грамота дворянству I, 338, 341, 342, 344, 346, 458, 477; II, 39—43, 92,
112, 284, 294, 340, 392, 702—704; III, 12, 658, 818, 819
Жалованная грамота крестьянству I, 399
Жалованье: чиновников III, 208—221; офицеров III, 221—238; офицеров, чинов¬
ников и доходы приходского духовенства в 1760—1900-е гг. III, 257, 265;
врачей, свободных профессий, учителей III, 263; см. также Доходы при¬
ходского духовенства
Женский вопрос: возраст наступления половой зрелости I, 563; заплачка невесты
I, 636; менархе I, 563; менопауза (климакс) I, 570, 589, 663; мир женщин
и мужчин II, 193, 194; питание девочек хуже, чем мальчиков III, 320; по¬
вышение роли женщины в крестьянской семье и общине в пореформен¬
ный период I, 695, 696; II, 223, 224; положение горожанок I, 708—717;
положение дворянок I, 721; положение крестьянок I, 689, 690; II, 193,
194; правовое положение в России и за границей I, 739, 740; структура
занятости I, 830; участие в отходничестве I, 698—700; феминизм I, 754,
761,784; И, 871,883
Жизненный цикл семьи: у крестьян I, 661—671, 676—678; у горожан и духовен¬
ства I, 661
Забастовочное движение рабочих: в 1905—1906 гг. II, 600; в 1895—1917 гг.
III, 430—434, 441; в губерниях в 1915—январе 1917 г. I, 442; в России
и за границей в 1895—1921 гг. III, 434; причины забастовок в США
в 1895—1905 гг. III, 435
«Забидящая свеча» как способ наказать преступника III, 103
Закон и обычай: отличия II, 156, 157; III, 98—105; правовая обособленность кре¬
стьян II, 105—109
Занятия городского населения I, 811—825
Занятия сельского населения I, 825—830
Заработная плата рабочих: в черной металлургии в 1713—1860 гг. III, 193; поку¬
пательная сила зарплаты в С.-Петербурге в 1711—2003 гг. III, 186; поку¬
пательная способность зарплаты плотника в 1913, 1985 и 2003 гг. III, 188;
в 1897—1913 гг. III, 193; оплата сельскохозяйственных рабочих в 1871—
1914 гг. III, 196; оплата сельскохозяйственного рабочего в Туркестане
и России в 1913—1915 гг. I, 86; соотношение зарплаты рабочих и жало¬
ванья лиц умственного труда III, 265; соотношение реальной заработной
платы промышленных рабочих России и других стран в начале XX в.
III, 203—205
Землевладение: городского сословия II, 51; дворян I, 356—358; II, 43; духовенст¬
ва II, 45, 46; крестьян в 1860—1916 гг. I, 402, 403; чиновников III, 349
970
ПреОметныи указатель
Земские соборы I, 337, 342, 481; II, 29, 172, 282, 359, 361—370, 373, 374, 379, 385,
393, 408, 611, 614, 628, 630, 696, 745, 762, 764, 830, 831, 840; III, 626, 807
Земства I, 439, 466, 696, 772; II, 93, 237, 240, 276, 302, 327, 332, 353, 354, 405, 407,
409, 410, 418, 454, 477—479, 490, 509, 531, 544, 545, 547, 548, 575, 618,
625, 626, 640, 644—646, 661, 676, 697, 715, 722, 731, 741, 743, 747, 748,
757, 763, 767, 768, 772, 805, 826, 833, 834, 845, 861, 884; III, 162, 309, 327,
344, 419, 498, 499, 517, 518, 535, 562, 578, 833, 834—836, 838
Идеалы молодежи в конце XIX—начале XX в. III, 401—404
Идеальные типы: образы России и Запада в цивилизационном дискурсе в конце
XIX—начале XX в. Ill, 641—649, 661; механическая и органическая со¬
лидарность III, 666
Имущественное неравенство см. Джини коэффициент имущественного нера¬
венства; Социальная стратификация; Децильный коэффициент нера¬
венства
Инвалидность населения по народностям в 1897 г. I, 611
Индекс массы тела мужского населения III, 300, 301
Индекс человеческого развития: 13 народов России в 1897 г. I, 283; России
в 1851—1913 гг. III, 337
Индексы цен и зарплаты плотников в С.-Петербурге в 1703—1913 гг. III, 181
Инородцы I, 127, 130, 134, 135, 137, 139, 142—144, 173, 181, 219, 263, 273, 278,
284, 296, 299, 301, 340, 398, 511; II, 416, 527; III, 75, 76; см. также Евреи;
Этноконфессиональный, этнодемографический и этносоциальный состав
населения
Иностранный капитал в России в 1880—1915 гг. I, 253, 254
Институционализм I, 50—54; развитие России с точки зрения концепции III, 657—
663
Интегральный подход I, 65—69; развитие России с точки зрения парадигмы
III, 671—676
Интеллигенция: определение II, 349; коллективные представления II, 396—401
Интенсивность труда, богатство и ощущение счастья III, 470—474
Информационные войны II, 806—813
Исповедь и причастие: пропуск во время Великого поста лицами православного
исповедания в 1780—1913 гг. III, 405
Историография: социальной истории I, 20—28; советская и ее недостатки I, 21,
22; оптимисты и пессимисты I, 17, 18; II, 717, 718; III, 700; негативизм
историографии в отношении России I, 15, 16, 373; III, 723
Исторический оптимизм как важнейшее условие успешной модернизации III, 729
Источники о преступности и методика их обработки III, 111—117
Итоги развития России в период империи III, 593—603
Каналы связи между обществом и государством II, 759—775
Каторга и ссылка III, 41—43
Классы: определение I, 333; превращение сословий в классы в пореформенный
период и незавершенность классообразования к 1917 г. I, 460—463
971
Предметный указатель
Клиентизм и патронаж I, 328; II, 120, 293, 328, 341, 352, 387, 500, 501, 506, 507,
524, 525, 528, 552, 553, 568, 570, 624, 632, 637, 655, 665, 668
Климакс см. Женский вопрос
Климат и урожаи в России в 1752—1879 гг. I, 250
Клиотерапия I, 15—20
Колея историческая I, 51; III, 630, 699, 713; досоветская, советская и постсовет¬
ская история: преемственность и изменения III, 713—718
Коллегии II, 425, 426, 490, 491, 499; III, 810
Коллективные представления: крестьянства и городских низов III, 375—385 (до¬
реформенный период), 386—396 (в пореформенное время); интеллиген¬
ции и буржуазии III, 396—401; см. также Менталитет
Колонизация: в историографии I, 75—94; территориальная экспансии и увеличе¬
ние территории и населения I, 94—105; факторы территориальной экс¬
пансии I, 105—108; фронтирный подход к изучению колонизации I, 108—
113; колониализм европейский и русский I, 271, 272; результаты терри¬
ториальной экспансии I, 261—269
Конституция России в форме Основных законов Российской империи 1906 г.
11,411—413
Контент-анализ содержания журнала «Нива» за 1870—1913 гг. II, 396—398
Контрацепция I, 270, 422, 579—592, 639, 640, 754; II, 199
Контрреформы I, 484, 487; II, 251, 408, 409, 452, 643, 644, 669, 670, 717, 735, 736,
835, 853, 860; III, 153, 352, 659, 660, 662, 669, 670, 705, 708
Конфессиональная и этническая толерантность I, 130—144
Концепции и парадигмы в современной историографии I, 31—33; III, 649—676;
см. также Формационная концепция; Модернизация; Цивилизационная
концепция; Мир-системная концепция; Институционализм; Синергетиче¬
ская концепция; Постмодернизм; Интегральный подход
Корпоративное крепостное право II, 24—27, 434, 435
Коррупция см. Взятка
Крепостное право: определение И, 15, 16; историография II, 7—15; три формы
(государственное, корпоративное, частновладельческое) II, 16, 24—28;
институциональные предпосылки возникновения и существования II, 60—
62; закрепощение и раскрепощение сословий II, 11, 38; закрепощенное
дворянство II, 16—18; закрепощенное духовенство II, 18—20; закрепо¬
щенные посадские II, 20, 21; закрепощенное крестьянство II, 21—24;
корпоративное, или общинное, крепостное право II, 24—27; всеобщность
крепостничества и ее причины II, 27, 38; факторы длительного существо¬
вания II, 74—80; и культурные установки II, 31, 32, 74, 75; и субсистен-
циальная трудовая этика как его предпосылка I, 73; как компенсация за
слабость коронного бюрократического аппарата II, 481, 482; как средство
увеличить доходы помещиков и государства II, 62—64; освобождение
крестьянства как пример образцовой российской реформы И, 80—89,
110—113; пережитки крепостничества II, 107—110
Крестьяне: закрепощение и раскрепощение II, 21—24, 51—59; в городе I, 851—
852; имущественное неравенство I, 399—406; как квазисословие I, 399—
972
Предметный указатель
459; категории I, 398; оброчные крестьяне I, 493, 758; II, 14, 77, 114, 177;
половозрастная стратификация I, 193, 194; распределение крестьян, при¬
нимавших участие в полевых работах по возрасту I, 674; стратификация
и внутрисословная мобильность I, 398—407; доля помещичьих крестьян
в населении России в 1719—1857 гг. II, 61; численность I, 388, 389, 444,
445; см. также Крепостное право; Крестьянская община; Суд
Крестьянская община в XVII—начале XX в. I, 137—144
Крестьянская община в XVIII—первой половине XIX в.: функции II, 152—156;
структуры и управление II, 156—172; у государственных, удельных и по¬
мещичьих крестьян II, 172—179; принципы общинной жизни II, 179—
185; личность и внутриобщинные отношения II, 185—200; тенденции
развития И, 146—152
Крестьянская община после эмансипации: структуры и управление II, 200—211;
функции II, 211—220; принципы жизни II, 220—227; межличностные от¬
ношения в общине II, 244—249
Крестьянская община: типология II, 144—146
Крестьянские волнения: в 1796—1917 гг. II, 461, 580, 600; крестьянское движе¬
ние как момент истины II, 579—582
Купечество: воспроизводств I, 545; имущественный ценз I, 387; купеческое об¬
щество II, 261, 262, 273, 274; одворянивание I, 497, 501; преемственность
капиталов I, 396—397; привилегии I, 384, 385; социальная мобильность
I, 394, 446, 452; социальный состав московского купечества в 1898 г.
I, 457, 458; смертность I, 547; утрата привилегий и разрушение сословно¬
сти I, 385, 386, 390; численность и распределение по гильдиям I, 388, 389,
444, 445
Лаг в уровне развития между Россией и великими державами к 1913 г. и 1989 г.
III, 625, 628
Легитимность власти и ее основания II, 359—362, 374—385
Ловушки догоняющего развития III, 630—641
Мальтузианская гипотеза исторической динамики России см. Демографический
детерминизм
Медицинская помощь населению: I, 595—597, 642; III, 43, 47, 189, 269, 307, 313,
326, 327, 809,815
Международный статус Российской империи I, 269—287
Межэтнические браки в С.-Петербурге в 1881, 1883, 1901, 1902, 1904, 1907 гг.
I, 166
Менталитет I, 263, 265, 311, 329, 332, 344, 368, 383, 399, 409, 459, 486, 488, 489,
496, 498, 553, 631, 643, 772, 860, 862, 863; II, 73, 74, 197, 241, 303, 321,
360, 373, 395, 512, 541, 574, 575, 642, 643, 668, 684, 714, 846, 855, 875;
III, 373, 374 (определение), 386, 466, 543, 544, 547—549, 552—555, 557,
559, 567, 568, 569, 571, 582, 583, 593, 595, 601, 659, 697, 700
Методика построения индекса потребительских цен III, 160—180
Метрический учет в масштабах епархий и Европейской России I, 530—535
973
Предметный указатель
Мещане: в деревне I, 854; мещанское общество II, 261, 262, 273, 274; разрушение
сословности I, 385, 386, 390; социальная мобильность I, 394, 446, 452;
содержание и число приговоров мещанского общества г. Чебоксары
в 1864—1914 гг. II, 276; число участников мещанских сходов в Казан¬
ской губернии в 1896 г. II, 277; численность I, 388, 389, 444, 445
Мир-системная концепция I, 48—50; развитие России с точки зрения концепции
III, 655—656
Мифологический тип сознания III, 504—508
Мифы имперского периода истории России: антинародность государства и пра¬
вительственной политики II, 359—362, 579—582, 698; пробуржуазность
интеллигенции III, 396—398; высокий уровень жизни дворянства, бюро¬
кратии, офицерского корпуса и духовенства III, 264—270; враждебность
царизма просвещению III, 496—501; всеобщая грамотность населения
в Древнерусском государстве III, 475; вымирание помещичьих крестьян
в первой половине XIX в. I, 592; вымирание сибирских народов I, 119;
опущение демографического перехода в позднеимперский период I, 618—
625; засилье бюрократии II, 435—440; игнорирование правительством
общественного мнения II, 797; имперский проект — экономически убы¬
точный и несостоятельный I, 261—269; иррациональность института
крепостного права И, 60—64, 74—80, 481, 482; крестьяне и рабочие —
трудоголики III, 414—460; кризис семьи в пореформенный период
I, 735—740, 752—761; недоимки как показатель бедности населения
II, 470—476; некомпетентность бюрократского аппарата II, 470—476; не¬
правовой характер государственности И, 359—362, 607—623; несостоя¬
тельность имперского реформаторства II, 570—576, 733—745; неспра¬
ведливый продажный антинародный суд III, 74—91, 144—146; неэффек¬
тивность общины как института II, 304—306; ограблении крестьянства
в ходе эмансипации II, 94—99; огромное материальное неравенство
в обществе I, 469—476; оторванность армии от народа II, 586—607; от¬
сутствие гражданского общества И, 840—843; отсутствие самоуправле¬
ния II, 476—481; перманентный характер урбанизации I, 838, 839; проти¬
воположность города и деревни I, 860, 861; развитие России обусловлено
географической средой (географический детерминизм) I, 249—251; от¬
сталость предопределена колонизацией, наличием огромных природных
ресурсов и низкой плотностью населения (мальтузианская парадигма)
I, 258—261, 264, 265; пьяная Россия III, 724, 770; реакционная роль само¬
державия II, 733—735; реформы — побочный продукт революционной
борьбы II, 570—576; реверсивность реформ вследствие контрреформ
II, 669, 670, 735, 736; революция — двигатель модернизации («локомотив
истории») III, 676—691; российские революции имели объективные со¬
циально-экономические и были неизбежны III, 676—679; российский
пролетариат — «передовой отряд российского общества» и «передовой
борец за свободу и демократию» I, 424—428; Россия как тюрьма народов
и как типичная колониальная империя I, 271—273; сверхбюрократиче¬
ское государство II, 435—440; систематическое снижение жизненного
974
Предметный указатель
уровня населения III, 435—440; системный кризис российского социума
III, 679—681, 686—690; Столыпинская реформа — запоздалый и несо¬
стоятельный проект, направленный против интересов основной массы
крестьянства II, 576—579; счастье определяется материальным благосос¬
тоянием III, 536—543, 739—744; хроническое голодание российских кре¬
стьян I, 246—249; цена империи была неоправданно высокой I, 139—144;
экономическая неэффективность крепостного права и принудительного
труда II, 62—64
Модернизация: определение I, 38—41; демографическая I, 618—625; семейная
I, 752—761; социальная III, 600; политическая II, 607—623; 834—847;
психологическая III, 504—513; имперская III, 718, 719; советская III, 714—
716; постсоветская III, 716—718; не делает человека счастливее III, 739—
744; что препятствовало III, 726—732; что способствовало III, 718—726;
развитие России с точки зрения модернизационной концепции III, 655—
671
Моральная экономика II, 183, 318; III, 465, 560, 572, 728; см. также Праздник;
Трудовая этика
Мышление: симпрактичное III, 505, 506, 514, 516, 520, 522, 582, 585, 588; рацио¬
нальное III, 508—513
Набеги кочевников и захват в плен I, 105
Наивный монархизм II, 384, 637, 749; 864; III, 529, 530
Наивный парламентаризм II, 385, 614
Наказания и пенитенциарная система III, 33—49, 130, 131 (структура наказаний
в 1834—1913 гг.)
Налоги: отношение всех налогов к национальному доходу в ряде стран в 1913—
1914 гг. II, 104; доля прямых и косвенных налогов в сумме обыкновен¬
ных государственных доходов II, 474; налоговые и социальные льготы
нерусских народов, входивших в состав Российской империи I, 136;
уменьшение налогового бремени крестьянства в пореформенное время
II, 99—107; прямые налоги по группам губерний в 1886—1895 гг. I, 138;
платежи податного населения разных категорий России в 1859 г. I, 137;
с дворян на содержание местных учреждений и подоходный I, 355, 483
Народ и армия: в XVIII—первой половине XIX в. II, 586—594; после Великих
реформ 1860—1870-х гг. И, 594—607
Народная монархия XVII в.: основания легитимности власти и политический
менталитет II, 359—362; роль Боярской думы, Земского собора и Освя¬
щенного собора II, 362—368; значение обычая, традиции и закона в госу¬
дарственном управлении II, 368—374
Население: половозрастной состав населения Вологодской губернии в 1717 г.
I, 519; распределение русского населения по районам Российской импе¬
рии в 1897 г. I, 97; распределение сословий между городом и деревней
I, 323; социальный состав населения I, 444, 445, 457; среднегодовой при¬
рост I, 23; национальный состав I, 444, 445; точность демографического
учета I, 511—533; Туркестане и Российской империи в 1858, 1878—1888,
975
Предметный указатель
1897, 1911, 1916, 1917 гг. I, 83, 88; численность городского и сельского
1, 839, 857; численность и плотность в 1646—1914 гг. I, 95, 512—516; см.
также Этноконфессиональный, этнодемографический и этносоциаль¬
ный состав населения
Население, скот и пашня в Туркестанском крае по переписи 1917 г. 1, 88
Населенность крестьянского двора в России в конце XVII—начале XX в. I, 666,
667
Национальная политика см. Этноконфессиональная политика; Этноконфессио¬
нальный, этнодемографический и этносоциальный состав населения
Национальное движение: и русские либералы I, 43, 44; и большевики I, 44, 45;
у «молодых» и «старых» народов I, 40; у русских I, 40; фазы развития
I, 39, 40; см. также Этноконфессиональная политика; Этноконфес¬
сиональный, этнодемографический и этносоциальный состав населе¬
ния
Национальный вопрос: I, 28—45, 113—115; принципы национальной политики
I, 115—144; недоуправление национальными окраинами I, 144—152; см.
также Конфессиональная и этническая толерантность; Этноконфессио¬
нальная политика
Национальный состав населения см. Этноконфессиональный, этнодемографиче¬
ский и этносоциальный состав населения
Национальный состав ссыльных революционеров в 1907—1917 гг. I, 188
Негативистский взгляд на коронное управление, его причины и последствия
II, 554—570
Недоимки II, 470—476
Недоуправляемость Российской империей I, 144—152; II, 422—447
Нерабочие дни в году: у крестьян II, 308, 309; у рабочих И, 315, 316; см также
Бюджет времени; Праздники; Трудовая этика
Неравенство в российском обществе в начале XX в. I, 469—476; см. также
Джини коэффициент имущественного неравенства; Децильный коэффи¬
циент; Социальная стратификация
Нерусские народы в составе Российской империи см. Евреи; Этноконфессио¬
нальный, этнодемографический и этносоциальный состав населения; Эт¬
ноконфессиональная политика
«Нива», контент-анализ содержания журнала за 1870—1913 гг. II, 317—320
Николаевские реформы начала XX в. II, 713—733
Нищие I, 24, 502, 503, 861, 862; II, 52, 64, 173, 187, 305, 260, 752 (как «живые хо¬
дячи^ газеты»); III, 452, 809
Нобилитация: местных элит I, 122—130; купечества I, 457, 497, 501; II 50, 51;
чиновников I, 497; А. А. Фета и А. П. Чехова I, 475, 476; евреев I, 204
Новобранцы: результаты врачебного осмотра лиц, подлежавших призыву в ар¬
мию, в 1839—1916 гг. III, 321; грамотность в XVIII—начале XX в. III,
477, 478; рост III, 300, 301, 326, 332, 335; см. также Воинская повин¬
ность
Нормальность российского исторического процесса I, 13; III, 593—603
Нормы демографического поведения православного населения I, 553—561
976
Предметный указатель
Областничество сибирское I, 295
Обособленность крестьян от общего правопорядка III, 105—109
Образование: среднее число лет обучения одного человека в возрасте 10 лет
и старше за счет всех видов образования в 1797—2002 гг. III, 489; число
лиц с высшим и средним образованием в России в 1850-е, 1897, 1917
и 1939 гг. III, 720; число лиц с полным семинарским образованием среди
белого православного духовенства в 1835, 1860, 1880 и 1904 гг. I, 380;
крестьяне ограничивали образование своих детей III, 395; дворянства
I, 371; духовенства I, 371; офицеров III, 236; чиновников II, 493, 494, 502,
536; III, 236; и продвижение чиновников по службе I, 455, 477;
Оброк: размеры I, 346; II, 20, 24, 63, 64, 284; III, 219, 232, 363, 421—423; доход¬
ность оброчных имений II, 62, 123; оброчные крестьяне I, 493, 758; II, 14,
77, 114, 177
Общественное мнение: определение II, 349; как фактор государственной полити¬
ки II, 768, 769, 797, 814, 860; народа II, 751—759; политика государства
как результат диалога с общественностью II, 698—717
Общественность: определение II, 348, 349; состав и численность II, 696, 697
Общество и общность (община) см. Общность и общество
Общество и семья I, 750—752
Общество потребления его недостатки и пределы III, 537—538, 742
Общий баланс рабочих и нерабочих дней в году см. Бюджет времени
Община городская: в XVI—XVII вв. II, 137—144; в 1699—1775 гг. II, 258—267;
после Великих реформ 1860-х гг. II, 267—281; см. также Купцы; Меща¬
не; Цехи
Община крестьянская: в XVI—XVII вв. II, 137—144; в XVIII—первой половине
XIX в. II, 146—200; после эмансипации II, 200—227; возрождение общи¬
ны после 1917 г. II, 242—244; межличностные отношения в общине II,
185—200, 244—249; принципы общинной жизни II, 179—185, 220—227;
функции и структуры в общине II, 152—171,211—220
Общность и общество: две модели социальной организации II, 135—137; транс¬
формация общности в общество у разных сословий II, 299—311
Объективность и суровость судебных приговоров III, 72, 73
Обычай см. Обычное гражданское право; Обычное уголовное право
Обычное гражданское право: вещное III, 97, 98; обязательственное III, 98, 99;
наследственное право III, 99—101; семейное право III, 101, 102; суд
и процесс III, 102—105; см. также Закон и обычай
Обычное уголовное право: понятие преступления III, 92—95; наказание III, 95—97
Огораживание в Европе и России II, 239
Одворянивание купечества см. Нобилитация
Окрестьянивание: рабочих I, 413; III, 394—396; городского населения I, 718, 858;
III, 232, 392—394
Округление возраста I, 523—530, 619, 630
Октябрьский переворот 1917 г. как антимодернизм III, 608—610; см. также Ре¬
волюция 1917 г.
Оптимисты и пессимисты в историографии I, 17, 18; II, 717, 718; III, 700
977
Предметный указатель
Органы государственного управления II, 423—430
Освобождение: дворянства И, 38—44; духовенства II, 44—47; городского сосло¬
вия И, 47—51; крестьянства II, 51—59; освобождение крестьянства как
пример образцовой российской реформы II, 80—89
Освященный собор II, 279, 362—370, 379, 385, 386, 611, 830, 831; III, 811
Основные законы Российской империи 1906 г. как конституция II, 411—413
Основные правовые системы III, 11,12
Особенности демографического развития различных народов России I, 614—618
Отмена крепостничества II, 38—59
Отраслевая структура занятости: населения империи в 1897 г. I, 813, 827; город¬
ского населения Европейской России в XVIII—XIX вв. I, 822; мужского
и женского населения Европейской России в 1857—1897 гг. I, 826, 830;
отдельных народов Российской империи в 1897 г. I, 153
Отхожие промыслы: влияние на рождаемость крестьян I, 579, 588—589; влияние
на семейный уклад крестьян II, 698, 699; участие женщин в 1880—1913 гг.
I, 700; число паспортов на право отхода в Европейской России в 1861—
1910 гг. по регионам I, 701; в 1770—1913 гг. Ill, 199
Отцы и дети III, 401—404
Офицеры: жалованье III, 221—238; образование III, 236; происхождение I, 302,
449, 450; III, 230, 232, 236; этнический состав I, 129; численность III, 232
Официальной народности теория II, 404, 405, 408
Патернализм: верховной власти I, 144, 178; И, 535; II, 389, 735; помещиков II, 51,
52; в армии II, 381; предпринимателей III, 400, 401; в семье, обществе
и государстве III, 600, 601
Патронаж см. Клиентизм
Пенитенциарная система III, 43—49
Пенсионное обслуживание III, 345, 346, 348,
Пережитки крепостничества II, 107—110
Переплатили ли бывшие помещичьи крестьяне за землю? II, 94—99
Пиаже Ж. и его концепция интеллектуального развитии человека III, 512, 583
Пиар верховной власти II, 779—797
Пиар как средство влияния государства на общество и общества на государство
II, 775—813
Пиар оппозиции II, 797—806
Питание: горожан в середине XIX в. III, 270—280; горожан в начале XX в.
III, 280—284; детей в начале XX в. III, 313—321; крестьян в XVIII—
первой половине XIX в. III, 284—293; крестьян в пореформенный период
III, 293—300; привилегированных слоев населения III, 301—311; здоро¬
вье и биологический статус населения III, 270—321; солдат III, 311, 312;
воспитанников закрытых учебных заведений III, 305—307; российских
и зарубежных рабочих III, 279; крестьян и сельскохозяйственных рабо¬
чих после 1861 г. по сведениям Комиссии 1873 г. III, 294; нормы потреб¬
ления I, 313; III, 274, 283, 299, 360; потребление основных продуктов пи¬
тания русскими и зарубежными рабочими в середине XIX в. Ill, 279; рас¬
978
Предметный указатель
ходы рабочих на питание в начале XX в. III, 177—179; состав и калорий¬
ность питания во второй половине XIX—начале XX в. III, 273—298;
учащихся учебных заведений в 1905—1913 гг. III, 314—316, 320; см.
также Вес; Индекс массы тела
Платежи податного населения разных категорий России в 1859 г. I, 137
Площадь природных зон Европейской России и распределение населения между
ними в конце XVII—начале XX в. I, 262
Поведение крестьянина сквозь призму его психического склада III, 513—536
Погромы: еврейские I, 177—180, 187, 190, 209, 210, 217, 219, 304, 309, 862;
III, 823, 832, 835—837; армяно-татарский I, 176; немецкие II, 800, 877;
русских в Центральной Азии в 1916 г. I, 88, 89
Политика государства как результат диалога с общественностью II, 698—717
Политическая пропаганда и пиар II, 777—779
Полицейское государство в России II, 390
Полиция: сельская в 46 губерниях Европейской России в 1880, 1888 и 1904 гг.
II, 450; число земских начальников и подведомственного им населения
в 1893, 1904 и 1912 гг. II, 453
Половозрастная структура населения I, 518—530
Половозрастной и семейный состав крестьян и промышленных рабочих в 1897 г.
I, 425
Половозрастной состав крестьянства Вологодской губернии по переписи 1717 г.
I, 519
Половозрастной состав рабочих России в 1879—1913 гг. I, 419, 425
Положение отдельных народов в империи и их роль в экономической и общест¬
венной жизни I, 152—162
Помещики: стратификация в 1678, 1717, 1777, 1836, 1858 гг. II, 349—352; как
предприниматели II, 76; см. также Дворяне
Помещичьи крестьяне — пионеры регулирования рождаемости I, 592—595
Поминки см. Взятка
Помочь (толока) II, 186, 216, 248, 325; III, 94, 420, 430
Последствия интеграционной политики в этноконфессиональном вопросе I, 187—
195
Последствия недоуправления: laissez faire как принцип управления II, 447—453;
трудности реформирования II, 453—459; умеренные налоги и недоимки
II, 470—476; сильное самоуправление II, 476—481; трудности общения
между народом и властями II, 459—470; крепостное право и коллектив¬
ная ответственность II, 481, 482; церковь как соучастник государственно¬
го управления II, 482—490
Пост: уменьшение рождаемости через 9 месяцев после Великого поста, 1867—
1910 гг. III, 408; доля населения, практиковавшая половое воздержание
во время Великого поста по религиозным соображениям, 1867—1910 гг.
III, 409
Постмодернизм I, 62—65; развитие России с точки зрения парадигмы III, 663—
665
Посулы см. Взятка
979
Предметный указатель
Потребление водки в черте еврейской оседлости в 1870—1913 гг. I, 208
Почесть см. Взятка
Почетное гражданство как сословная группа I, 345, 359, 387, 388, 390, 490;
III, 497
Почетный гражданин города как почетное звание II, 772
Почтовые и телеграфные отправления: в 1825—1913 гг. II, 443; объем казенной
корреспонденции в 1857 и 1913 гг. II, 444; скорость доставки I, 146
Права, обязанности, привилегии отдельных этноконфессиональных групп I, 130—
139
Правеж II, 21; III, 52, 63
Правовая обособленность крестьян см. Закон и обычай
Правовое и правомерное государство II, 357, 358
Правовые системы (обычай, судебное право, законодательство) III, 11,12
Правомерная монархия в первой половине XIX в. II, 394—405
Праздники: времяпрепровождение III, 436, 437; отношение интеллигенции
III, 428, 429; церкви III, 432—434; факторы большого их числа у право¬
славных крестьян III, 430—436; число праздничных дней III, 418—420,
425, 562; см. также Бюджет времени; Трудовая этика
Практические результаты — критерий оценки эффективности управления II, 570—
582
Предпосылки и причины Русской революции 1917 III, 676—679
Представление народа о времени I, 521—525
Преступность: определение, терминология, проблематика II, 80—82, 109—111;
динамика за три столетия III, 117—140; источники и методика их обра¬
ботки III, 111—117; структура наказаний в 1834—1913 гг. III, 130, 131; по
профессиям и сословиям III, 134; распределение подсудимых по сослови¬
ям и видам приговоров в 1861—1864 гг. III, 75; факторы III, 132—137;
в России и за границей III, 140; число поданных жалоб и апелляций на
приговоры судов в 1835—1903 гг. III, 83; раскрываемость преступлений
III, 73, 74
Приданое I, 353, 627, 688, 696, 711, 712, 749, 842; II, 753; III, 54, 57, 58, 100—102
Приказы II, 425, 426
Приказы общественного призрения II, 429, 430, 652, 702; III, 43, 633, 816, 817
Природные зоны I, 262; см. также Географическая среда
Природные ресурсы России I, 221—228
Присяжных суд, его достоинства и недостатки И, 528, 529, 736, 886; III, 69, 71,
85—91, 122, 153, 155, 531, 532, 636, 833
Причастие см. Исповедь
Проверка точности демографического учета по таблицам Э. Коула и П. Демени
I, 548—553
Продолжительность жизни I, 119, 212, 283, 507, 549, 550 (московских купцов
в 1744—1858 гг.), 558, 618 (у 11 народностей Европейской России
в 1896—1897 гг.), 621, 622 (в России и за рубежом в XIX—начале XX в.),
631, 632, 644; II, 565, 582, 725; III, 471, 625, 628, 755
Прозвища: среди крестьян I, 554; II, 185, 248, 301; III, 96; чиновников II, 540
980
Предметный указатель
Производительность труда в зерновом производстве по регионам в XVIII—
начале XX в. I, 267
Промышленность: географическое размещение I, 834; динамика промышленного
производства в России и зарубежных странах в 1860—1913 гг. I, 254,
255; иностранный капитал в промышленности I, 253, 254; число пред¬
приятий и рабочих в промышленности I, 407
Профессионализация: I, 488, 502; III, 593; купцов III, 385; III, 613; преступности
III, 136; рабочих I, 411—413; суда и следствия III, 88, 120, 121; чиновни¬
ков II, 401, 442, 494, 503, 509, 535, 546, 550
Профессиональная структура занятости см. Отраслевая структура занятости
Прямые налоги русских и нерусских в XVIII в. I, 136
Рабочие промышленные: I, 407—447; численность и социальное происхождение
I, 407—418; III, 199; половозрастной и семейный профиль I, 418—428;
маргинальность как социальной группы и ее влияние на их поведение
и психологию I, 424—428; рабочее движение в конце XIX—начале XX в.
как отражение маргинальное™ и фрустрированности пролетариев
I, 428—439; вовлечение рабочих в политическую борьбу I, 439—443;
в России и за рубежом в 1850 и 1900 гг. I, 412; возраст поступления на
фабрики I, 413; доля детей и подростков I, 419; половозрастной состав
I, 419, 425; жалобы на предпринимателей I, 429; распределение между
городом и деревней I, 834; трудовая дисциплина III, 457, 458; числен¬
ность лиц наемного труда в 1860—1917 гг. I, 411; штрафы в 1901 и 1913 гг.
по фабричным округам III, 457; см. также Заработная плата; Питание
Развитие России в рамках семи парадигм: марксистской III, 649—652; цивилиза¬
ционной III, 652—655; мир-системной III, 655—657; институциональной
III, 657—660; синергетической III, 660—663; постмодернистской III, 663—
665; модернизационной III, 665—671
Развитие российского общества от этакратического к классовому I, 458—465
Разводы и признание брака недействительным: разводы в 1842—1914 гг. I, 742;
в России и за рубежом I, 622; основания разводов в середине XIX—
начале XX в. I, 743; число разведенных в С.-Петербурге по сословиям
в 1910 г. I, 744; основания для получения разрешения на отдельное жи¬
тельство от мужа в 1891 г. I, 745; самовольные I, 711, 742
Раздача государственных земель и населенных имений государственных кресть¬
ян дворянству I, 349, 358; II, 30, 500
Размещение этносов по регионам Российской империи в 1897 г. I, 201
Разночинцы: определение I, 447, 448; как сословная группа I, 500, 810, 854, 855;
И, 259, 497, 520, 535, 536; численность I, 388, 389, 444, 445, 511,512
Раскол российского культурного и социального пространства и его причины II, 571,
572; III, 604—606
Раскольники см. Старообрядцы
Раскрываемость преступлений III, 73, 74
Распределение крепостных по разрядам чиновников в местном управлении в 1755
и 1840—1855 гг. 111,218
981
Предметный указатель
Распределение крестьян, принимавших участие в полевых работах, по возрасту
в конце XIX—начале XX в. I, 674
Распределение лиц, имевших физические недостатки, по родному языку в России
в 1897 г. 1,611
Распределение русского населения по районам Российской империи в 1897 г.
I, 97
Распределение чиновников и офицеров по уровню образования в конце XIX—
начале XX в. III, 236
Распределение этносов по сословиям в 1897 г. I, 123
Рациональный тип сознания III, 508—513
Реализация национальной политики I, 162—172
Реальное годовое денежное жалованье и столовые чиновников высших, сред¬
них и низших классов в губернских правлениях в 1761—1913 гг.
111,214
Революции в ракурсе модернизационной парадигмы III, 679—691
Революция 1905—1907 гг.: выступления российских рабочих, крестьян и солдат
в 1905—1906 гг. И, 600; «Кровавое воскресенье» I, 439; И, 805
Революция 1917 г.: две стадии — февральская и октябрьская III, 677; как побоч¬
ный продукт успешной модернизации III, 632—639; предпосылки и при¬
чины III, 676—679; уроки III, 632—639
Революция цен в России и на Западе III, 180, 184, 191, 342
Регулирование рождаемости I, 579—595
Результаты территориальной экспансии I, 261—269
Ремесленники см. Цехи
Рентабельность труда крепостных II, 62—64
Реформы: использование стратегии последовательных промежуточных институ¬
тов II, 243; III, 440, 635, 639, 640, 659, 721; николаевские реформы начала
XX в. II, 717—733; опережали потребности, возможности и готовность
народных масс к переменам I, 59; II, 610, 611, 702, 736; III, 597, 610—612;
опасность забегания вперед III, 660, 722, 745; радикальные (шоковые)
и постепенные II, 93, 698, 733, 737; III, 635, 636, 660; успешные и неус¬
пешные III, 570—576; см. также Великие реформы; Контрреформы;
Столыпинская реформа
Рождаемость см. Демографические процессы
Роль географической среды в российской истории I, 249—251
Роль климата и институтов в развитии России I, 241—246
Российская революция 1917 г. как побочный продукт успешной модернизации
III, 676—679
Российское общество в зеркале семейных отношений I, 746—760
Россия и Запад: лаг в уровне развития между Россией и великими державами по
13 признакам III, 625 (к 1913 г.), 628 (в 1989 г.); нормальность российского
исторического процесса I, 13; III, 593—603; образ России и Запада в циви¬
лизационном дискурсе III, 661; идеальные образы III, 641—649, 661; об¬
щее и особенное III, 603—612; разные часовые пояса III, 612—630; не¬
достатки стратегии догоняющего развития III, 630—641
982
Предметный указатель
Рост мужчин: I, 248; И, 65; III, 300, 301, 326, 332, 335; см. также Биологический
статус
Русификация и модернизация I, 106, 148, 181, 182, 188, 193, 274, 285, 304
Самодержавие как лидер модернизации II, 733—745
Самозванство II, 745, 862, 863; III, 521, 529, 530
Самозванчество см. Самозванство
Самосуд см. Суд
Самоубийства: I, 426, 549, 784, 785; И, 604, 622; III, 23—26, 31, 47, 471, 540, 558,
681, 689, 700, 738, 740, 748, 500, 501
Самоуправление: концепции (общественная и государственная) II, 142, 143; как
следствие и компенсация недоуправления II, 476—481; см. также Об¬
щина городская; Община крестьянская
Санитарное состояние городов I, 603, 604, 642; III, 615, 616
Сберегательные кассы и вклады населения в 1899—1913 гг. I, 213, 214; И, 64,
725; III, 339, 340, 680, 681
Свобода и воля в понимании крестьян 11,31, 32
Свободные (вольные) хлебопашцы I, 54, 61, 65—71, 123; III, 134, 820
Свойство (связи, возникавшие посредством брака) II, 101
Сглаз III, 383, 432, 725
Секретное законодательство II, 413
Секуляризация сознания III, 404—414
Секуляризация церковных имений I, 488; II, 47, 701; протест митрополита Арсе¬
ния МацеевичаН, 787; III, 251, 815, 826
Сельские поселения: классификация и число I, 801—805; городского типа I, 843,
844; распределение по числу жителей в 1850 и 1897 гг. I, 803
Сельское население: занятия I, 825—830; социальная структура I, 849; I, 388, 389,
444, 445; см. также Город и деревня; Крестьяне; Население
Семейная организация крестьян: Архангельской губернии в XVI—XVIII в. I, 652,
654; Ярославской губернии в 1762 г. I, 655; Московской губернии в 1811—
1857 гг. I, 655; Тамбовской губернии в 1811 г. I, 658
Семейная структура: городского населения I, 678—686; крестьянства I, 651—659,
661—678
Семейное состояние: населения Европейской России в бракоспособном возрасте
в 1850-е и 1897 гг. I, 572—574; населения различных конфессий в Евро¬
пейской России в 1897 г. I, 615; рабочих и крестьян России в 1897 г.
I, 421; городского и сельского населения I, 574; населения по сословиям
I, 572
Семья: крестьянская I, 688—708; городская I, 708—720; дворянская I, 720—740;
внутрисемейные отношения I, 645—648, 752—761; людность крестьян¬
ского двора I, 666, 667; пять форм семейной организации I, 649, 650; рос¬
сийское общество в зеркале семейных отношений I, 750—752; факторы
устойчивости большой семьи в деревне I, 678—686
Синергетическая концепция I, 54—62; развитие России с точки зрения концеп¬
ции III, 660—663
983
Предметный указатель
Синод I, 368, 370, 371, 741; II, 379, 380, 386, 391, 400, 423, 634, 700; III, 66, 251,
811,815
Скорость доставки почтовых отправлений в Московском государстве в 1669—
1695 гг. 1,146
Смена курса национальной политики в 1860-е гг. и его причины I, 173—181
Смертная казнь, позорящие и телесные наказания III, 38—41
Смертность: в России и за границей I, 622; влияние материального достатка
I, 599; возрастная I, 550; доля детей, доживающих до 1—20 лет I, 607; ве¬
роятность умереть у новорожденного 11 народностей России в 1897 г.
I, 607; крестьянства I, 599; купечества I, 547; младенческая I, 539; общий
уровень I, 159, 190, 552, 622; различия по сословиям I, 599; снижение
в пореформенный период как показатель повышения уровня жизни
III, 325—329; московского купечества мужского пола в 1744—1858 гг.
I, 547; по ревизским сказкам и моделям Коула — Демени, Москва,
1851—1857 гг. I, 550; среди разных сословий в 1840—1870-е гг. I, 599; по
данным ревизий I, 545—548; зависимость от образа жизни I, 601—608;
зависимость от местожительства I, 603—605; зависимость от рождаемо¬
сти и ухода за детьми I, 605—608; см. также Демографические процес¬
сы; Продолжительность жизни
Соблюдение предпринимателями рабочего законодательства и договоров с рабо¬
чими III, 460—470
Соборность I, 53; II, 620, 621; II, 685; III, 390, 641
Соотношение реальной заработной платы промышленных рабочих в России за
рубежом в начале XX в. III, 203—205
Сословия: определение, признаки, формирование I, 334—340; дворянство как
сословие I, 340—361; духовенство как сословие I, 362—383; городское
сословие I, 383—398; крестьянство как квазисословие I, 398—407; со¬
словная парадигма I, 335—339, 481; трансформация в классы I, 377, 378,
385, 386, 399, 465, 479, 502, 504; межсословная социальная мобильность
I, 448—458; см также: Городское сословие; Дворяне; Духовенство; Кре¬
стьяне; Купечество; Мещане
Сословная структура рабочих Московской губернии и Смоленской губернии
в 1880—1895 гг. 1,416
Состав православного приходского духовенства в России в XVIII—начале XX в.
I, 379
Составные семьи и факторы их длительного существования I, 673—678
Состояние невменяемости III, 21—31
Сотрудничество с нерусскими элитами I, 122—130
Социализация в деревне I, 750—752; см. также Дети
Социальная мобильность I, 323—325, 448—458; см. также Городское сословие;
Дворяне; Духовенство; Крестьяне; Купечество; Мещане;
Социальная стратификация: типы I, 325—334; городского сословия I, 388—394;
дворянства I, 348—358; III, 233; духовенства I, 379; крестьянства I, 400—
403, 677 (половозрастная среди крестьян); российского общества начала
XX в. I, 463, 464
984
Предметный указатель
Социальная структура населения: городского и сельского Европейской России
в XVIII—XIX вв. I, 847—857; распределение населения по сословиям
между городом и деревней в Европейской России в XIX в. I, 850
Социальная структура отдельных этносов империи в 1897 г. I, 124
Социальная структура российского общества за 200 лет I, 458—479
Социальное происхождение учителей в 1911 г. I, 458
Социальное происхождение чиновников в 1755, 1795—1805 и 1840—1855 гг.
I, 450
Социальное происхождения учащихся и студентов в XIX—начале XX в. I, 451,
456
Социальный состав московского гильдейского купечества в 1898 г. I, 457
Социальный состав населения в Европейской России в XVII—начале XX в.
I, 443—448, 463
Средний класс I, 465—469
Старики: I, 558, 559, 673, 674, 677; II, 159, 164—166, 180, 222, 223, 226; III, 107,
108
Старообрядцы I, 45—47, 70, 108, 132, 166, 294, 299, 491, 531, 582, 590, 631, 640,
748, 762; И, 50, 199, 305, 306, 320, 344, 454, 702, 745, 746, 756, 788, 825,
831, 840, 862; III, 31, 269, 386, 400, 439, 440, 548, 557, 567, 568, 817
Статус-кво присоединяемой территории I, 115—122
Столыпинская реформа: выход из общины и укрепление земли в личную собст¬
венность в 1907—1915 гг. II, 233; число ходатайств об отдельных земле¬
устроительных действиях, 1907—1915 гг. II, 234; число ходатайств об
укреплении земли в собственность и о землеустройстве II, 236; расходы
по Главному управлению землеустройства и земледелия в 1907—1915 гг.
II, 236; как образцовая реформа И, 576—579
Стратификация см. Социальная стратификация
Структура угодий Европейской России по природным зонам в конце XVII—
начале XX в. I, 262
Субъект и объект преступления III, 21—27
Суд: Божий III, 61, 158; III, 61, 62, 379; волостной III, 71, 96, 97, 102, 103, 108,
115, 116; вотчинный II, 16, 62, 66, 68; крестьянский I, 559, III, 102—106,
158; мировой I, 696; III, 71, 72, 91, 103, 162, 163; присяжных II, 528, 529,
736, 886; III, 69, 71, 85—91, 122, 153, 155, 531, 532, 636, 833; самосуд
И, 159, 162, 308, 603—605; III, 85, 96, 97, 156, 160, 394, 395, словесный
II, 477; III, 65; совестный III, 66; волокита и ее причины III, 77—82; дви¬
жение уголовных и гражданских дел в различных судебных инстанциях
III, 81, 82; жалобы и апелляции на приговоры III, 82—91; объективность
судебных решений III, 72, 73; нерешенные дела в различных судебных
инстанциях России в 1834—1864 гт. III, 77; «возрастная» структура
167 тыс. нерешенных дел во всех судебных инстанциях России к 1863 г.
III, 78
Судебные практики: от господства обычая к господству закона III, 144—146
Судоустройство и процессуальное право: в XI—XVII вв. III, 60—64, в XVIII—
первой половине XIX в. III, 64—69; в 1864—1913 гг. III, 69—72
985
Предметный указатель
Счастье: и богатство 470—474; как стать счастливым III, 536—543; и модерниза¬
ция III, 739—744
Табель о рангах I, 369, 447, 454; II, 433, 494, 495, 497, 499, 450, 526; III, 235, 657,
811
Телесные наказания III, 38—41
Теневая экономика III, 724
Теорема Томаса I, 257; III, 374, 724, 746
Теория крестьянского хозяйства А. В. Чаянова I, 183
Теория модернизации см. Модернизация
Теория официальной народности II, 404, 405, 408
Терроризм и его отрицательное влияние на становление гражданского общест¬
ва и правового государства I, 211, 497; II, 248, 408, 604, 636, 696, 714,
715, 739, 744, 801, 835—839, 878, 885, 886; III, 37, 71, 633, 719, 720,
738, 838
Технология проведения крестьянской реформы в помещичьей деревне II, 80—89
Тип сознания: мифологический и рациональный III, 504—513
Типология городских семей: в Ярославской и Киевской губерниях в XIX в. I, 681,
682; в сибирских городах в 1867 г. I, 683; в Европейской России по рай¬
онам в 1897 г. I, 684
Типология господства II, 356
Типология крестьянских семей: в Ярославской, Нижегородской, Пермской и Ки¬
евской губерниях в середине XIX в. и 1897 г. I, 668, 669; в Европейской
России по районам в 1897 г. I, 670; типология семей в ее историческом
развитии I, 648—685
Товарный состав внешней торговли России в XVII—начале XX в. I, 227
Точность метрического учета населения в России I, 533
«Третий пункт» — увольнение чиновника со службы без объяснения причин
И, 506, 507
«Третьеиюньский переворот» И, 418, 419
Трудности реформирования в условиях дефицита административного ресурса
И, 453—459
Трудовая дисциплина: штрафы с рабочих III, 457; влияние концентрации произ¬
водства и характера труда на уровень трудовой дисциплины III, 458
Трудовая этика: субсистенциальная, протестантская и гедонистская III, 415, 416;
крестьян III, 414—453; праздники и рабочие будни крестьян III, 416—
442; отношение крестьян к труду и трудовому соглашению III, 442—453;
рабочих III, 453—460; предпринимателей III, 460—470
«Ты» и «Вы» см. Прозвища
Тюрьма и пенитенциарная система III, 43—49
Уголовное право: источники права III, 12, 13; возраст наступления уголовной
ответственности в XVII—начале XX в. III, 21, 22, 28; основные понятия
в их историческом развитии III, 13—31; номенклатура составов преступ¬
лений III, 31—33; наказания и пенитенциарная система III, 33—49
986
Предметный указатель
Уменьшение налогового бремени крестьянства в пореформенное время II, 99—107
Умеренные налоги и недоимки как следствие недоуправления II, 470—476
Управление коронное: влияние инфраструктуры II, 400, 440—447, 544, 550; не-
доуправление (недостаток чиновников) I, 144—152; II, 422—447; негати-
вистский взгляд на коронное управление, его причины и последствия
II, 554—570; церковь как соучастник государственного управления II, 482—
490; см. также Самоуправление
Урбанизация: «деурбанизация» в XVIII—первой половине XIX в. I, 838—841;
рассеянная урбанизация I, 842, 846, 858; III, 596; урбанизация советская
I, 857—860; факторы медленной урбанизации I, 838—846
Уровень жизни в период империи III, 264—270, 329—341
Урожаи: в Европейской России в XVIII в. I, 250; влияние климата I, 250; регио¬
нальные различия в производительности труда в зерновом производстве
I, 267; сбор главнейших полевых культур в Российской империи в 1901—
1913 гг. II, 238; урожайность зерновых хлебов в России в 1801—1914 гг. II, 574
Уроки истории России периода империи III, 711—744
Уроки революций III, 732—739
Утрата грамотности: определение II, 724; III, 496—501; по данным переписей
1897, 1920 и 1926 г. III, 497—499
Уход за детьми I, 605—608; см. также Дети
Учащиеся и студенты: число учащихся начальных школ в 1856—1915 гг. II, 572;
процентное соотношение учащихся, принадлежавших к разным слоям
общества, в начальной и средней школе в 1913 г. III, 315; качество пита¬
ния учащихся в 1905—1913 гг. III, 314—316, 320; социальное происхож¬
дения учащихся и студентов в XIX—начале XX в. I, 451, 456
Учредительное собрание I, 194, 195, 278, 307, 439; II, 248, 422, 467, 614—616,
684; III, 677
Февральская революция 1917 г. см. Революция 1917 г.
Феминизм I, 754, 761, 784; II, 871, 883
Формационная (марксистская) концепция I, 33—38; развитие России с марксист¬
ской точки зрения III, 649—652
Функциональная трансформация городов и ее последствия I, 830—835
Ходить в кусочки — собирать милостыню во время неурожая II, 186, 187
Христианизация населения I, 175, 197, 204, 300, 303, 782; II, 373; III, 56, 147, 151
Хулиганство в начале XX в. II, 221, 222, 325, 326; III, 395, 599, 692
Царские регалии (шапка Мономаха, корона, скипетр, держава) II, 329
Цена империи I, 139—144
Ценз: образовательный для чиновников II, 492, 497; III, 821; для участия в выбо¬
рах в Государственную думу I, 284, 466, 475; III, 416—419, 837; для права
участвовать в дворянском собрании I, 357; II, 284, 285; для получения
дворянства I, 359, 454, 455; III, 826; для записи в купеческую гильдию
I, 387, 390; для участия в выборах в городские думы и общества I, 393,
987
Предметный указатель
394; II, 259, 267—270; для освобождения от физического наказания II, 82;
III, 40, 41; для участия в суде присяжных III, 87; для приема в рекруты
III, 321,322, 826, 827, 830, 839
Ценз возрастной: для вступления в брак I, 561; для получения гражданской пра¬
воспособности III, 50; для получения священства I, 379
Цензура нравов: влияние общественного мнения I, 634, 696, 771, 799; II, 319;
проверка девственности невесты I, 290, 554, 696, 735, 781, 799; II, 245;
III, 382
Цены земли: рыночные и выкупные цены надельной земли И, 96
Цены и зарплата в России в XVIII—начале XX в. III, 191—206
Цены и зарплата в С.-Петербурге в 1703—1913 гг. III, 181—190
Цены на пшеницу, баранину в Туркестане и России в 1913—1915 гг. I, 86
Цены товаров: в С.-Петербурге в 1703—1913 гг. I, 181; в Туркестане и России
I, 86; революция цен в России III, 180, 184, 191, 342; соотношение цен на
хлеб в России и Западной Европе в XVII—начале XX в. III, 184
Церковь: как связующее звено между властями и народом и соучастник государ¬
ственного управления И, 482—490; церковные реформы 1860—1870-х гг.
I, 376, 377; протест митрополита Арсения Мацеевича против секуляриза¬
ции II, 787; III, 815; автономия от государства I, 370, 371; см. также Се¬
куляризация; Синод
Цехи, цеховые и их корпорации I, 388—393, 395, 444, 445, 490; II, 261—267,
271—273, 335, 337; III, 190, 360, 566, 811, 819
Цивилизация: определение I, 41, 42; цивилизационная концепция I, 41—48; раз¬
витие России с точки зрения концепции III, 652—655
Цикличность (маятниковость, инверсивность) реформ как политическая болезнь
I, 13, 15,40; II, 669, 670; III, 706
Частная собственность: городского сословия II, 48—51; дворянства II, 43, 44; ду¬
ховенства И, 45—47; крестьянства I, 58, 59; в Манифесте 1905 г. II, 109
Человек — семья — общество I, 750—752
Человеческий капитал: России за 1000 лет III, 474—496; в России и на Западе
III, 490—496
Черта оседлости см. Евреи
Чиновники см. Бюрократия
Численность армии II, 583—607
Численность городского и сельского населения в России и СССР в 1914—2009 гг.
I, 835—847, 857
Численность лиц наемного труда в России в 1860—1917 гг. I, 411
Численность лиц, занятых разными видами деятельности в Российской империи
в 1897 г. 1,813
Численность переселенцев по районам вселения в 1678—1915 гг. I, 99
Численность промышленных рабочих: в 1725—1916 гг. I, 407; в 1860—1916 гг.
I, 410; в Петербурге и Москве в 1858—1916 гг. I, 411; в России и других
странах в 1850 г. и 1900 г. I, 412
Численность чиновников II, 430—435
988
Предметный указатель
Школа: социальное происхождение учащихся гимназий в 1843—1914 гг. 1, 456;
социальное происхождение учащихся начальной и средней школы в 1913 г.
III, 315; число учащихся начальных школ в империи в 1856—1915 гг.
II, 572; питание учащихся III, 314—316, 320
Этика праздности см. Трудовая этика
Этика трудовая см. Трудовая этика
Этнический статус: бремя воинской повинности для отдельных этносов I, 133,
134; индекс человеческого развития 13 народов России в 1897 г.
I, 283; индекс вероятности умереть у новорожденного мальчика до
достижения им 10 лет у 11 народностей России в 1897 г. I, 607;
«инородцы» и их правовое и материальное положение I, 127, 130,
134, 135, 137, 139, 142—144, 173, 181, 219, 263, 273, 278, 284, 296,
299, 301, 340, 398, 51 1; II, 416, 527; III, 75, 76; налоговые и социаль¬
ные льготы нерусских народов, входивших в состав Российской им¬
перии I, 136; распределение лиц, имевших физические недостатки,
по родному языку в России в 1897 г. I, 611; смертность и средняя
продолжительность предстоящей жизни при рождении у 11 народно¬
стей Европейской России в 1896—1897 гг. I, 607, 618; численность
«русских» и «нерусских», освобожденных от несения воинской по¬
винности в 1910 г. I, 134
Этноконфессиональная политика: принципы I, 115—130; этапы I, 172—194; ин¬
теграционная политика в пореформенный период и ее последствия I, 187—
195; причины смены курса в 1860-е гг. I, 181—187; сотрудничество с не¬
русскими элитами I, 122—130; цена империи I, 139—144
Этноконфессиональный вопрос см. Этноконфессиональная политика
Этноконфессиональный, этнодемографический и этносоциальный состав населе¬
ния: демографические характеристики населения различных конфессий
в Европейской России в 1896—1904 гг. I, 616; доля грамотных по-русски
и на родном языке среди различных народов империи в 1897 г. I, 275;
профессиональная структура самодеятельного населения отдельных на¬
родов в 1897 г. 1, 153; семейное состояние населения различных конфес¬
сий в России I, 615; социальная структура отдельных этносов империи
I, 123, 124; этнический состав ссыльных революционеров в 1907—1917 гг.
I, 188; элиты I, 129; губернаторов, вице-губернаторов и предводителей
дворянства в восьми малороссийских губерниях в 1897 г. I, 148; России
в 1719—1914 гг. I, 102, 103, 150; этнопрофессиональная структура в 1897 г.
I, 155, 159; распределение русского населения по районам Российской
империи в 1897 г. I, 97; этносоциальная структура населения империи
в 1897 г. I, 126
Эффективность труда: вольных хлебопашцев и белопашцев II, 66—70; русских
и западноевропейских крестьян, американских фермеров и рабов II, 70—
74; помещичьих и казенных крестьян II, 64—66
Эффективность управления по практическим результатам деятельности властей
II, 570—582
989
Предметный указатель
Юридический плюрализм см. Закон и обычай
Ярмарки как информационные центры И, 754, 755
Laissez faire как принцип управления II, 447—453
Path dependence см. Колея историческая
PR-кампании см. Пиар
)
В оформлении обложки использован фрагмент репродукции картины:
К. С. Петров-Водкин (1878—1939). Фантазия. 1925.
Государственный Русский музей
Научное издание
Миронов Борис Николаевич
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНУ
В трех томах
Том 3
Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
книга предназначена «для детей старше 16 лет»
Редакторы Е. А. Гольдин, С. И. Зубкова
Компьютерная верстка Н. В. Коробовой
Художественное оформление А. П. Баклановой
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93;
95 3001 — книги, 95 3150 — литература по истории и историческим наукам
Подписано в печать 01.12.2015
Формат 70 х 100/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 72,1. Печ. л. 62.
Тираж 1500 экз. Заказ 6064
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59
ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
197110, С.-Петербург, ул. Петрозаводская, 9, лит. А, пом. 1Н
Телефон/факс: (812) 230-97-87
sales@dbulanin.ru (отдел реализации)
postbook@dbulanin.ru (книга-почтой)
redaktor@dbulanin.ru (издательский отдел)
http://www.dbulanin.ru
Борис Николаевич Миронов
Доктор исторических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного
университета, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории
Российской академии наук.
Автор 10 книг и около 300 статей, многие
из которых переведены на английский,
китайский, немецкий, французский,
испанский и другие языки, в том числе
книги «Историк и математика»,
«Социальная история России»,
«Благосостояние населения и революции
в имперской России: XVIII—начало XX века».
В настоящий момент по числу ссылок
на работы по версии РИНЦ Б. Н. Миронов
входит в ТОП-5 современных российских
историков.
Подробнее об авторе и его работах
см. на сайте: http://bmironov.spb.ru