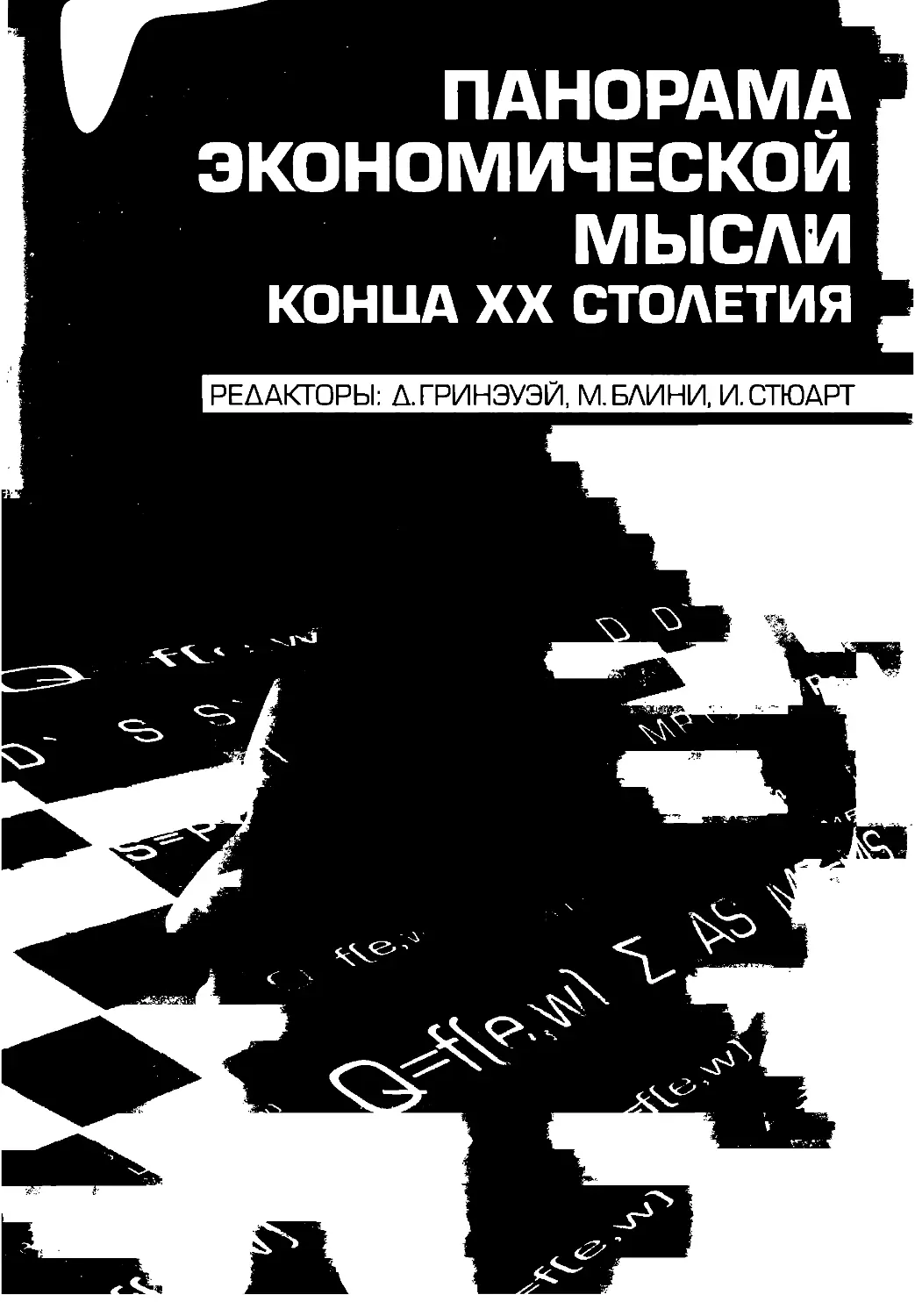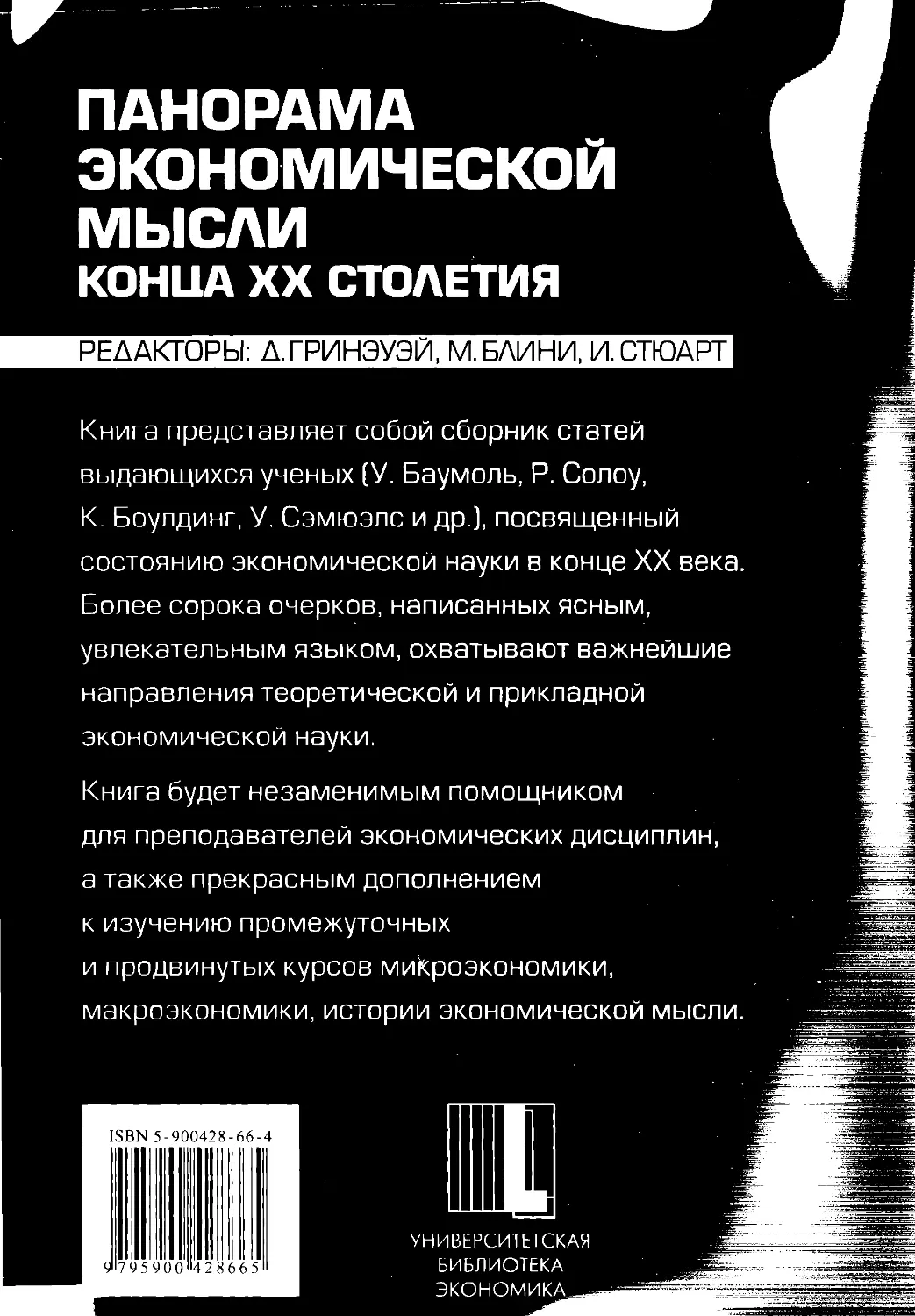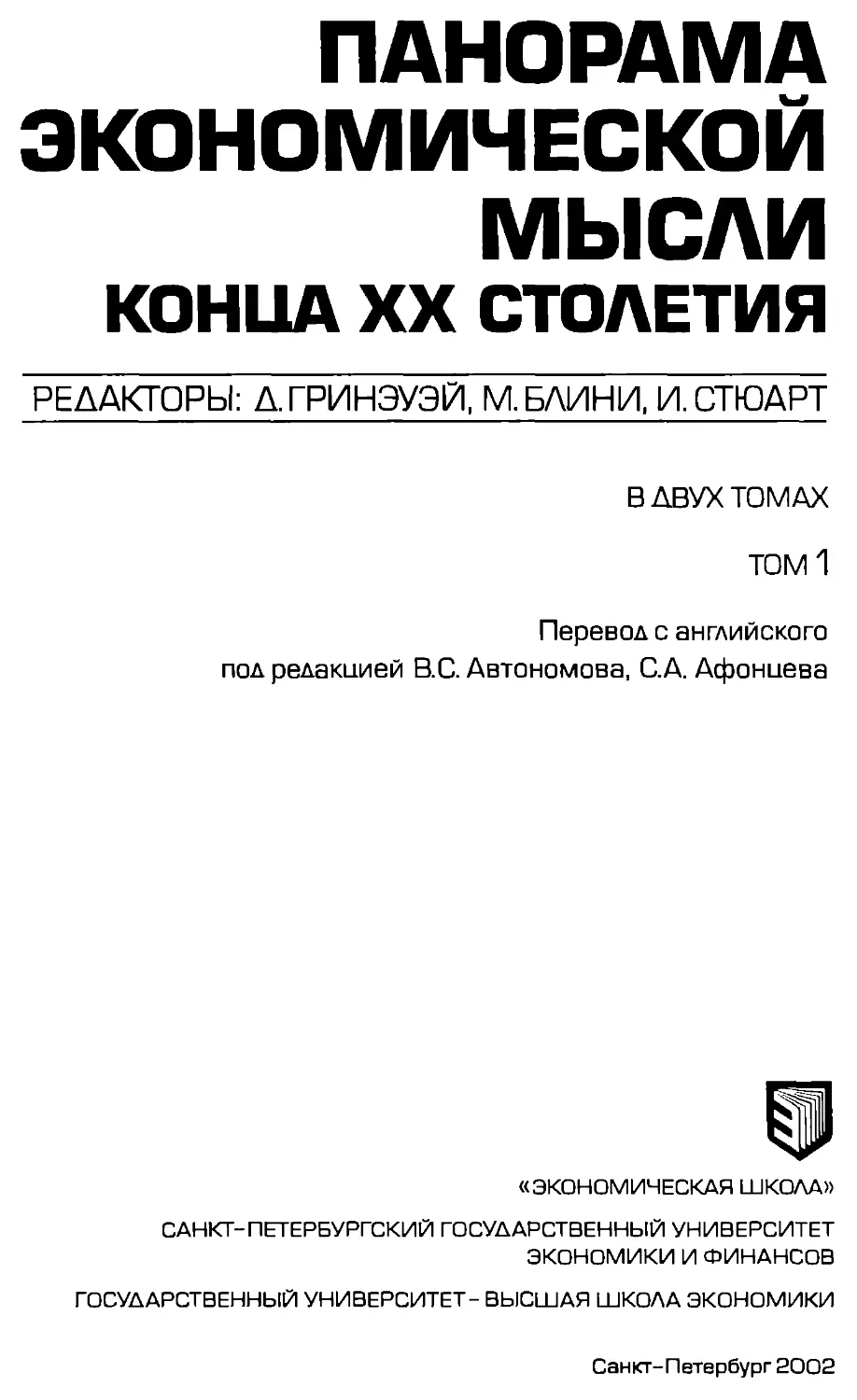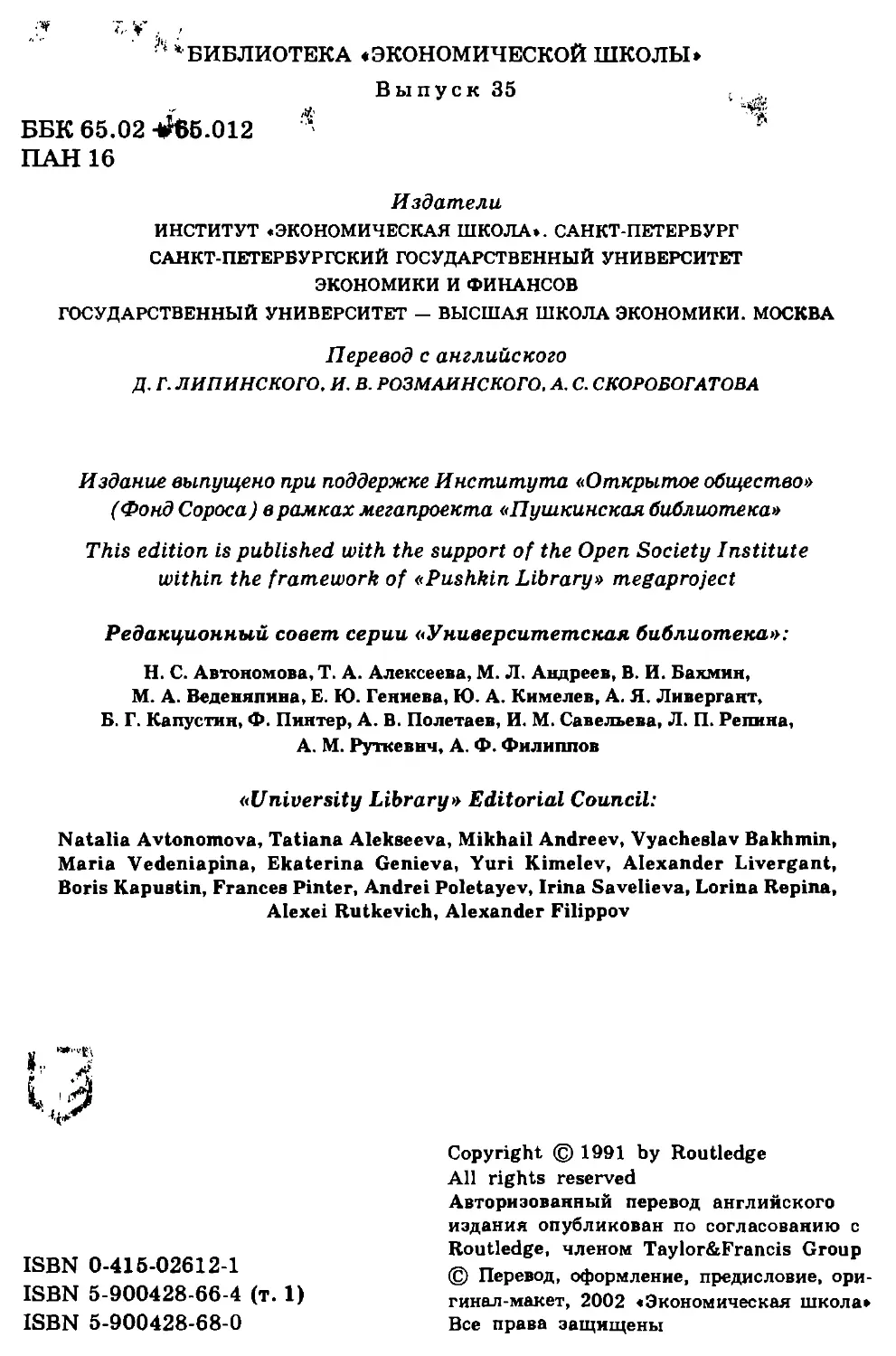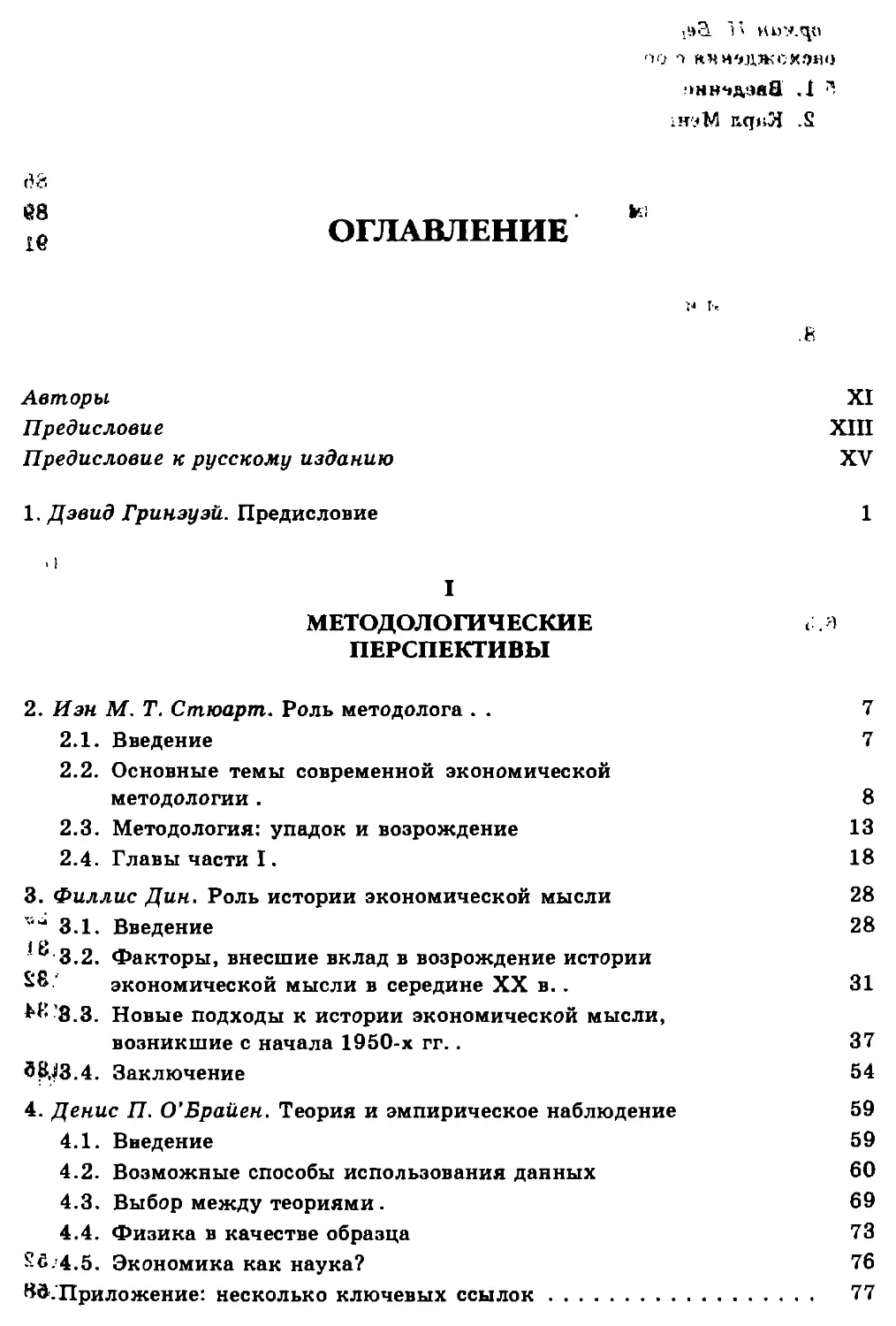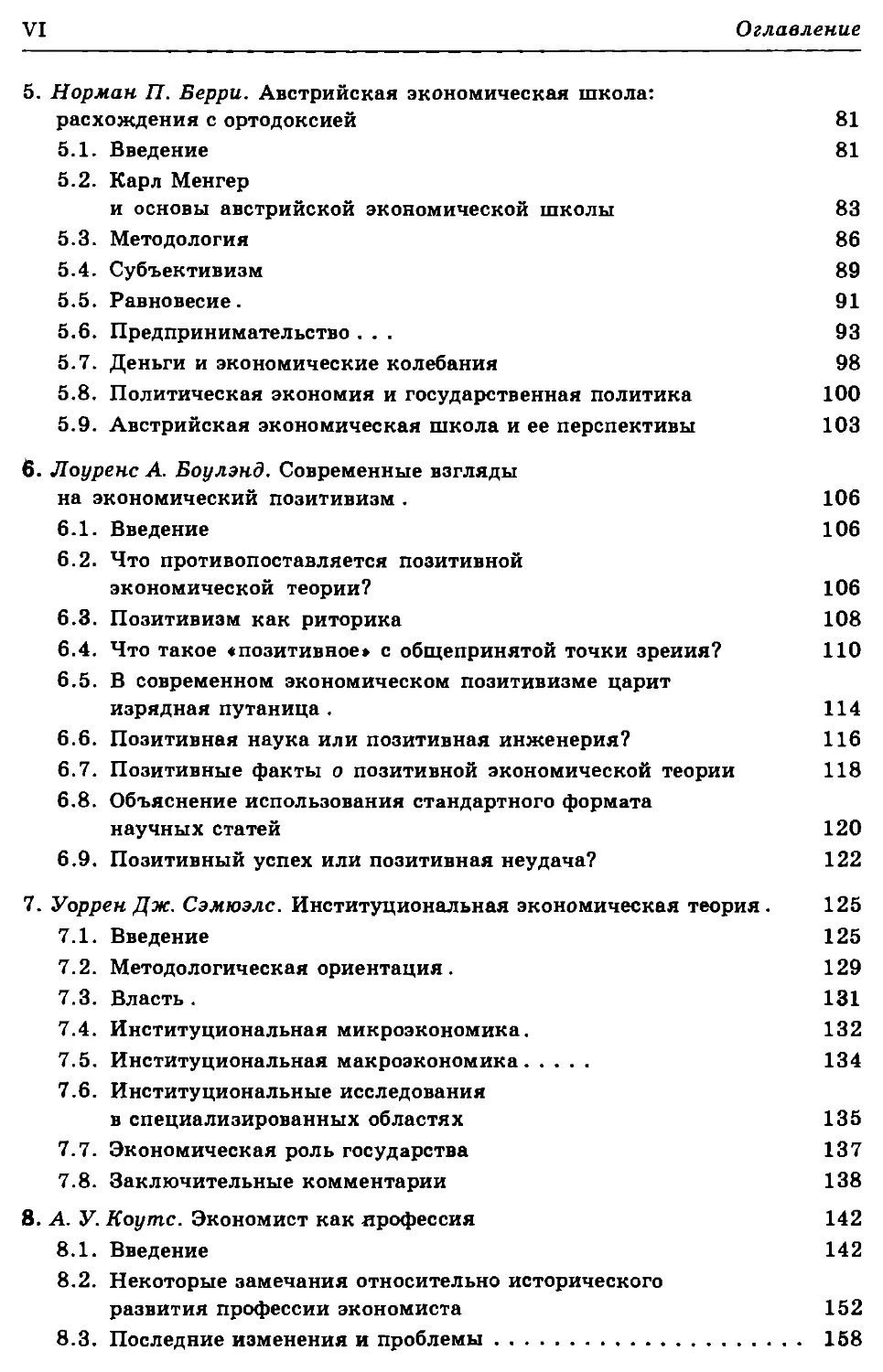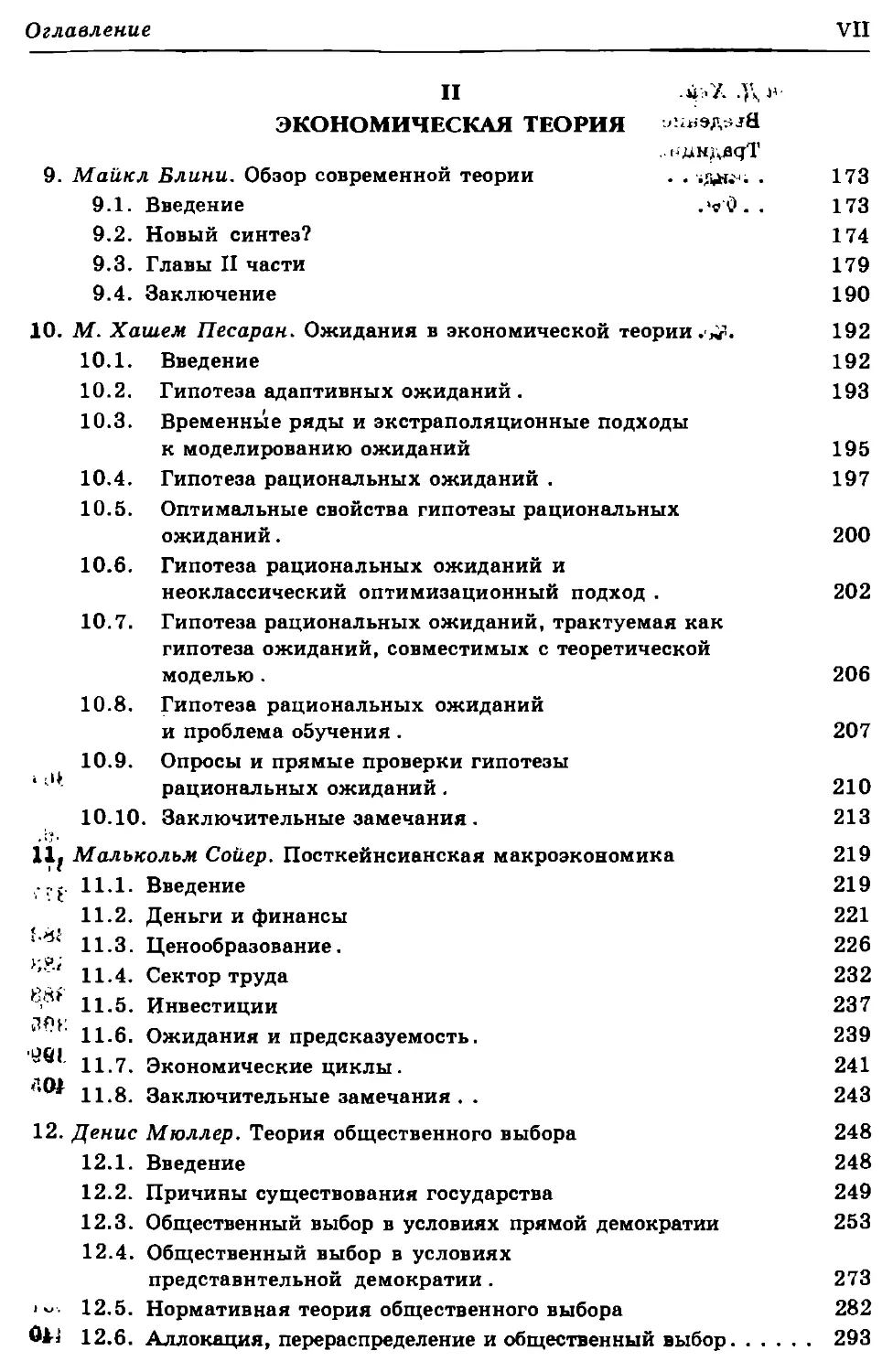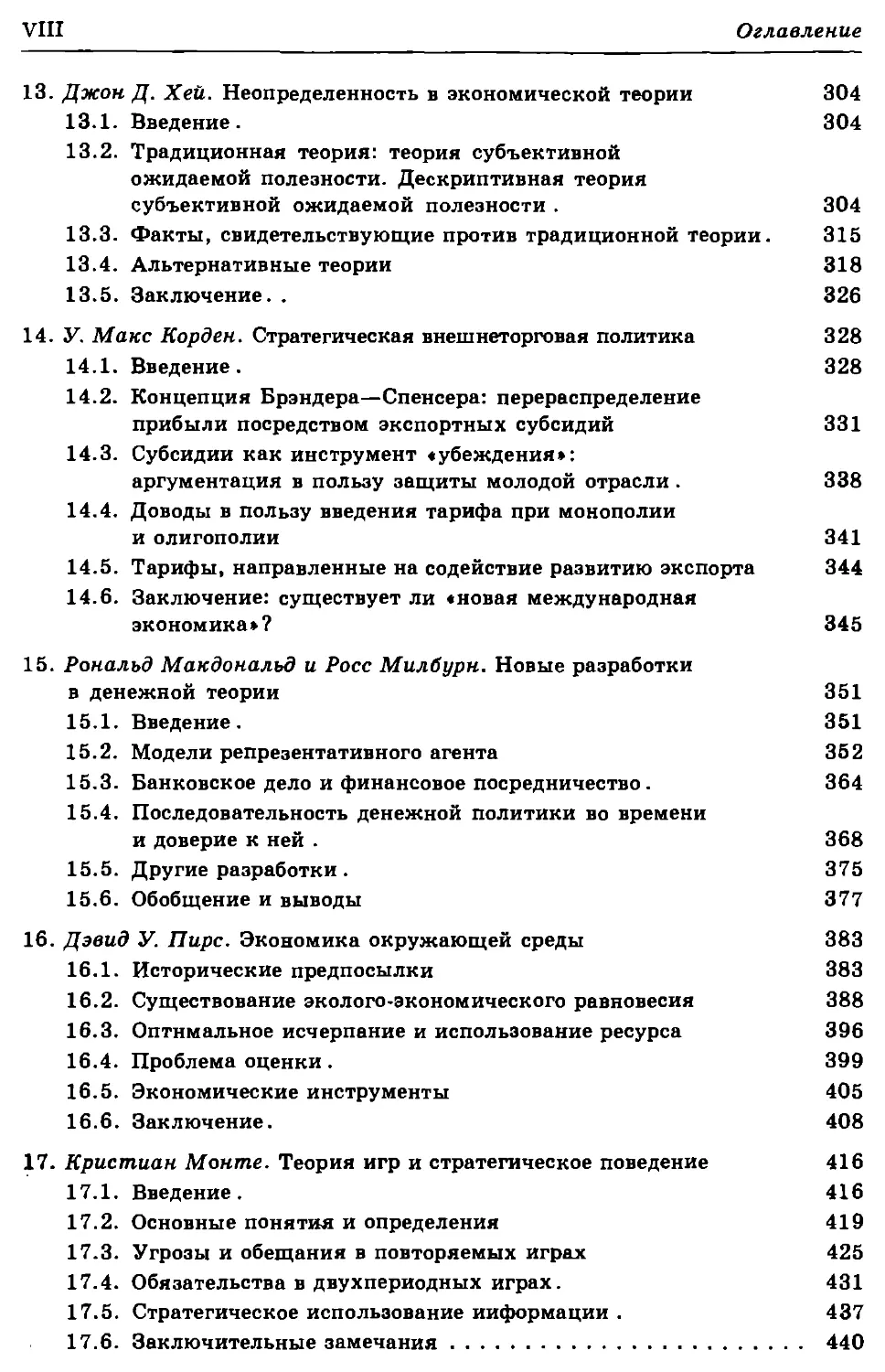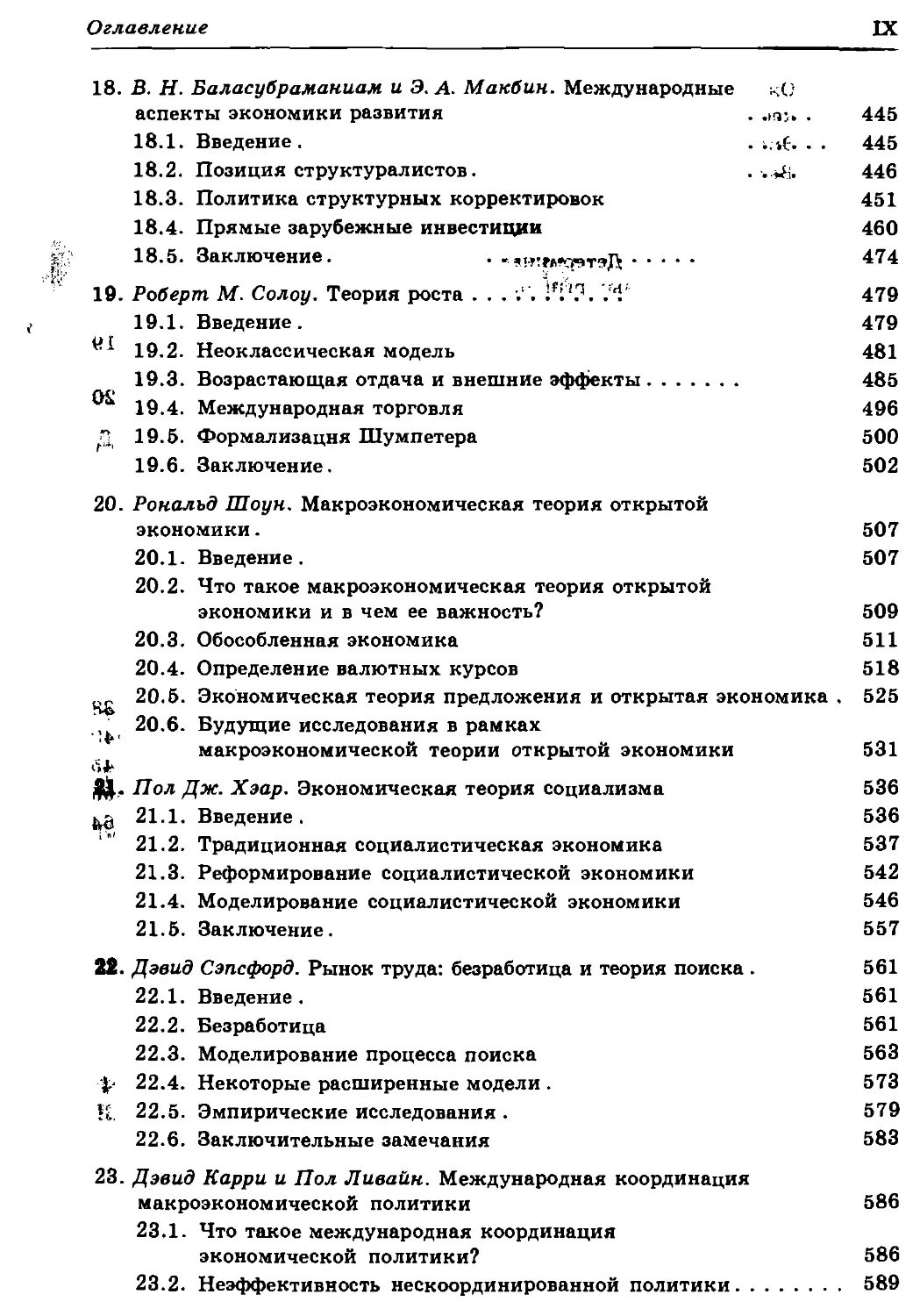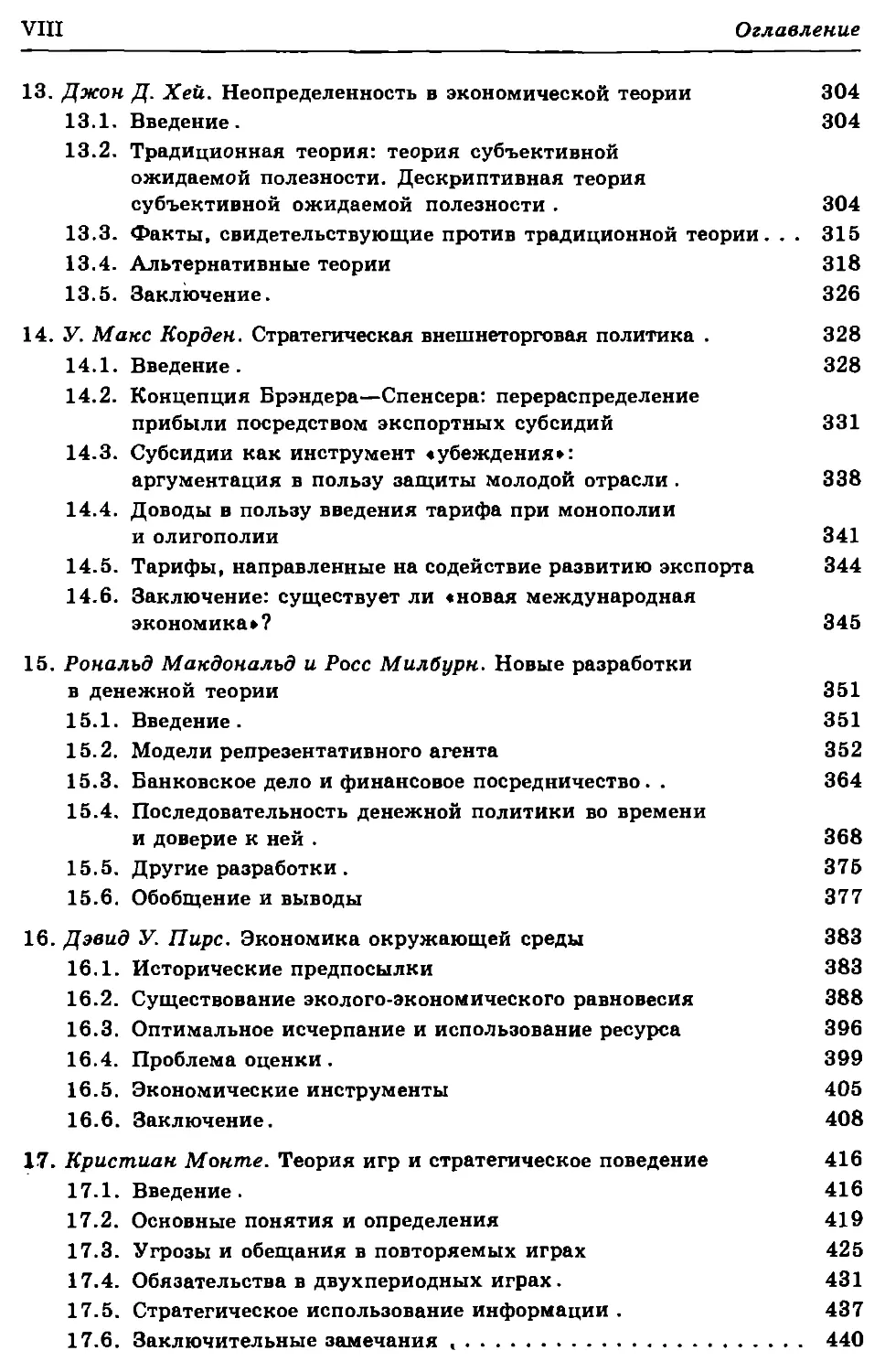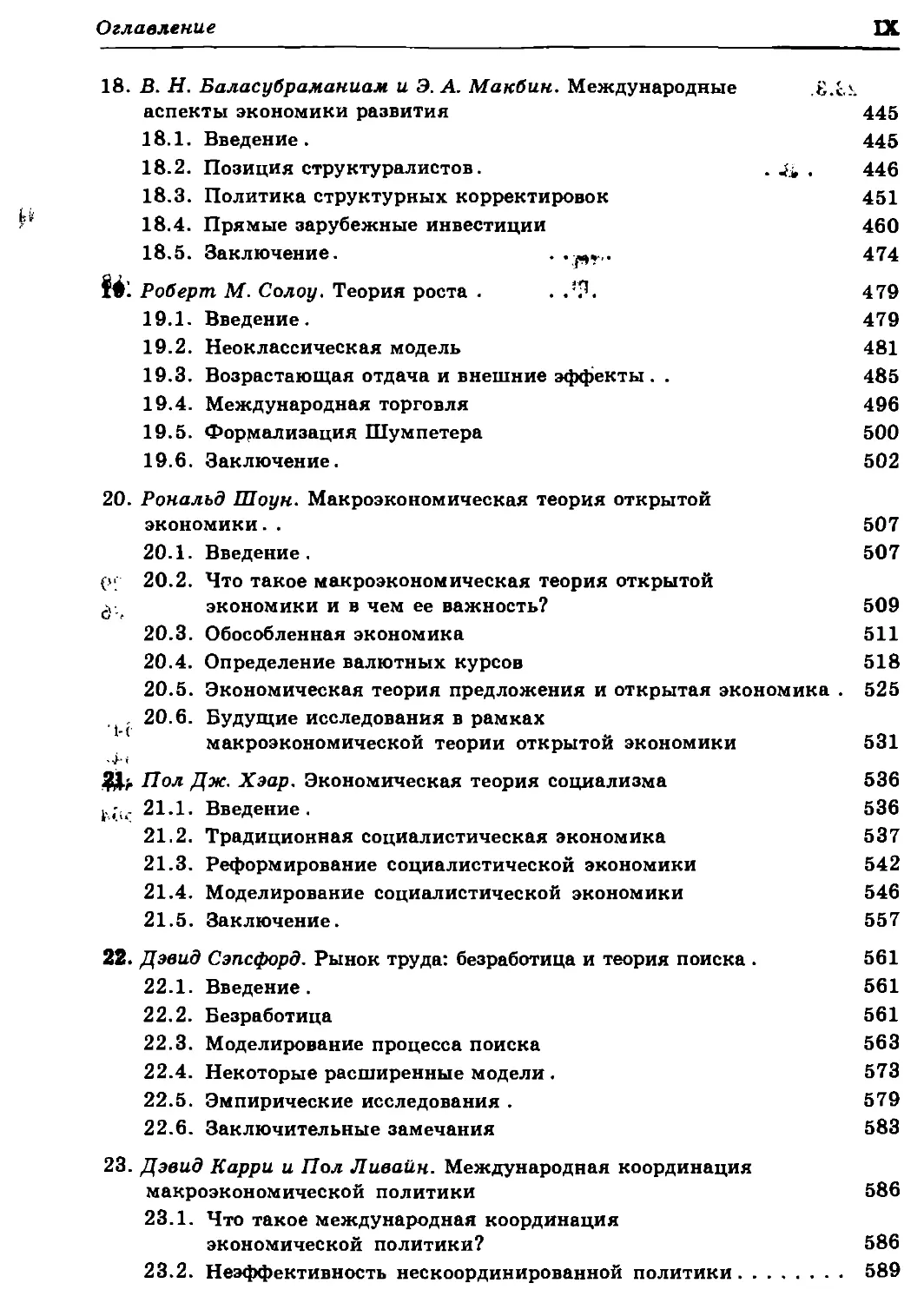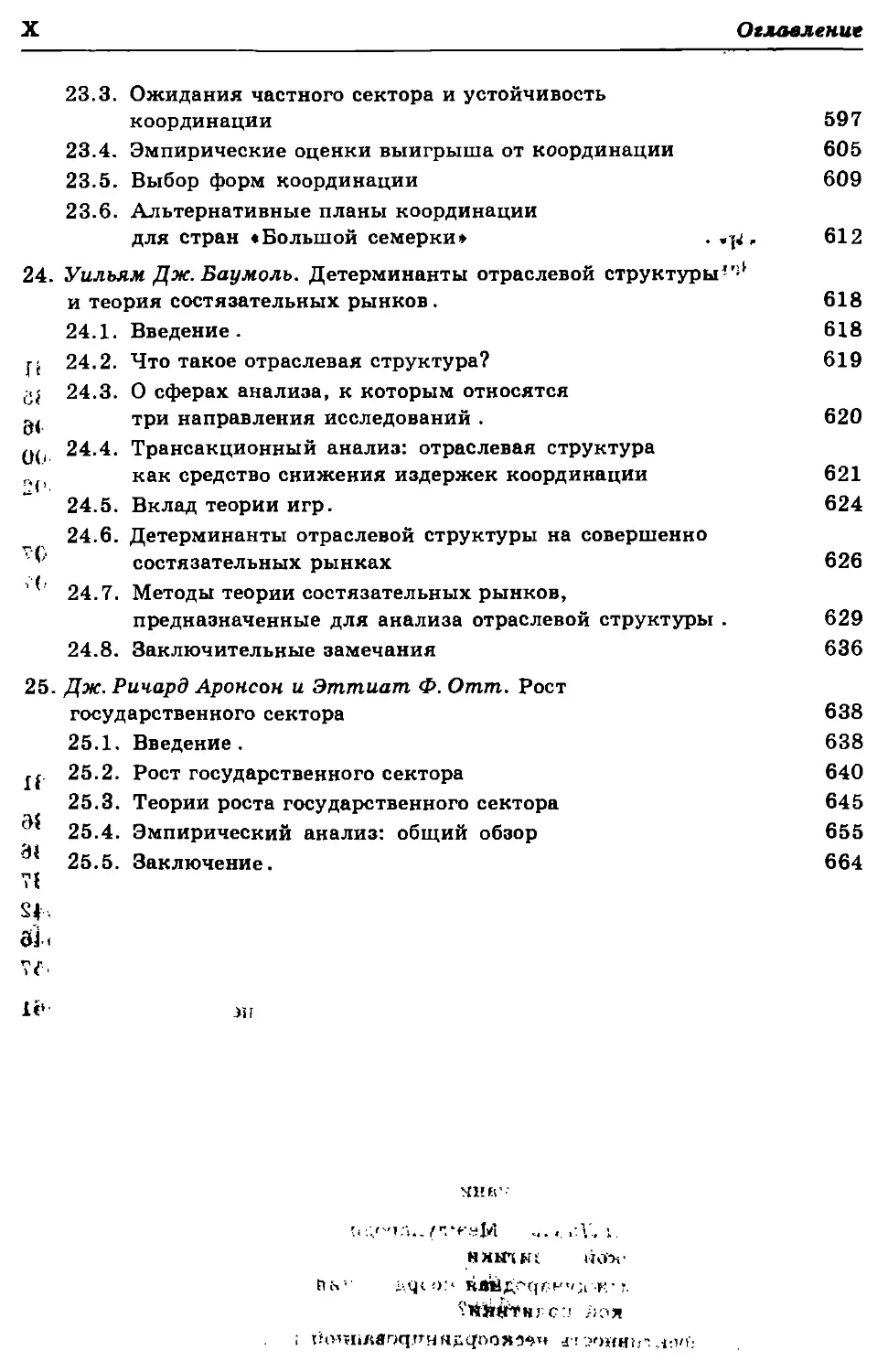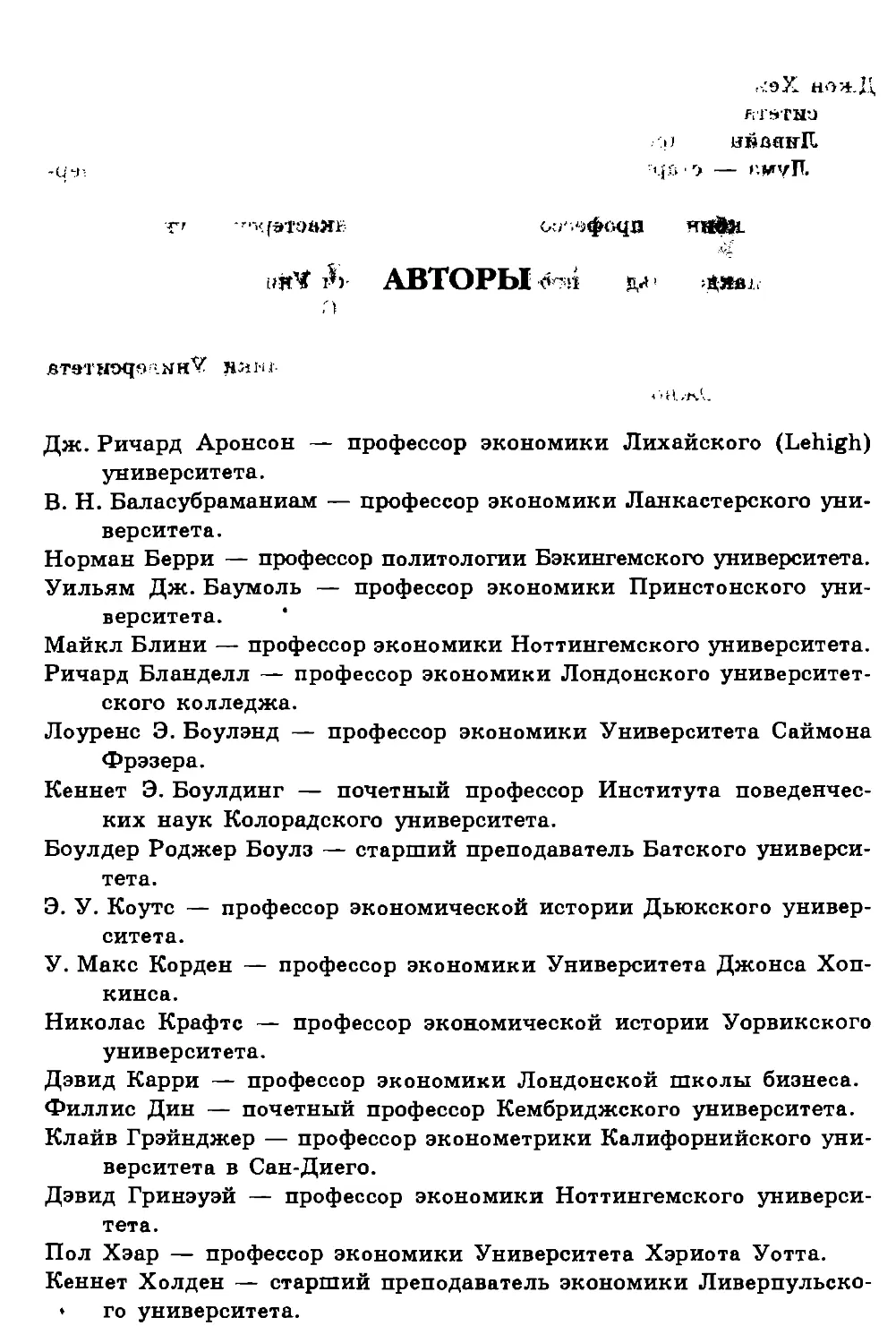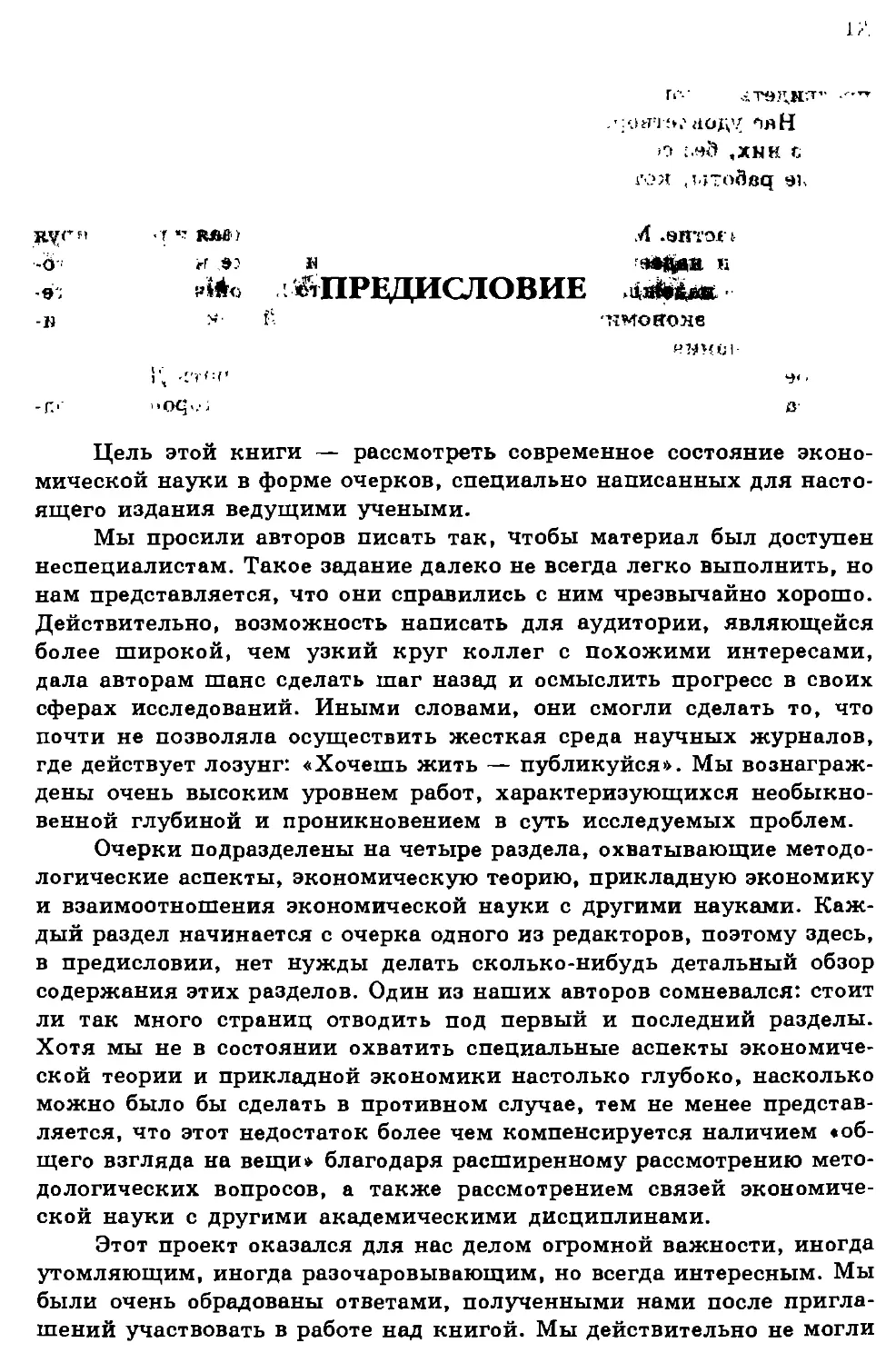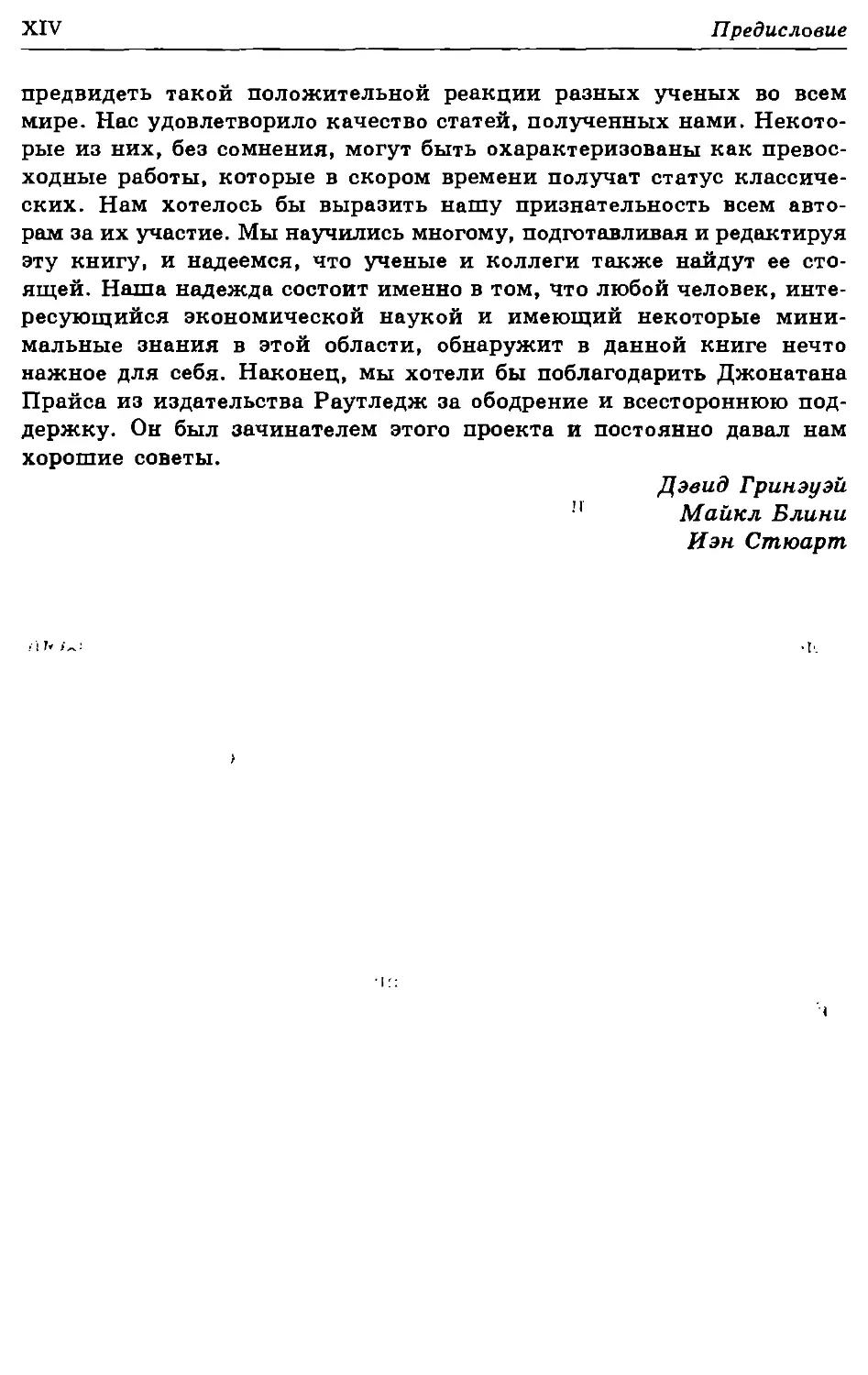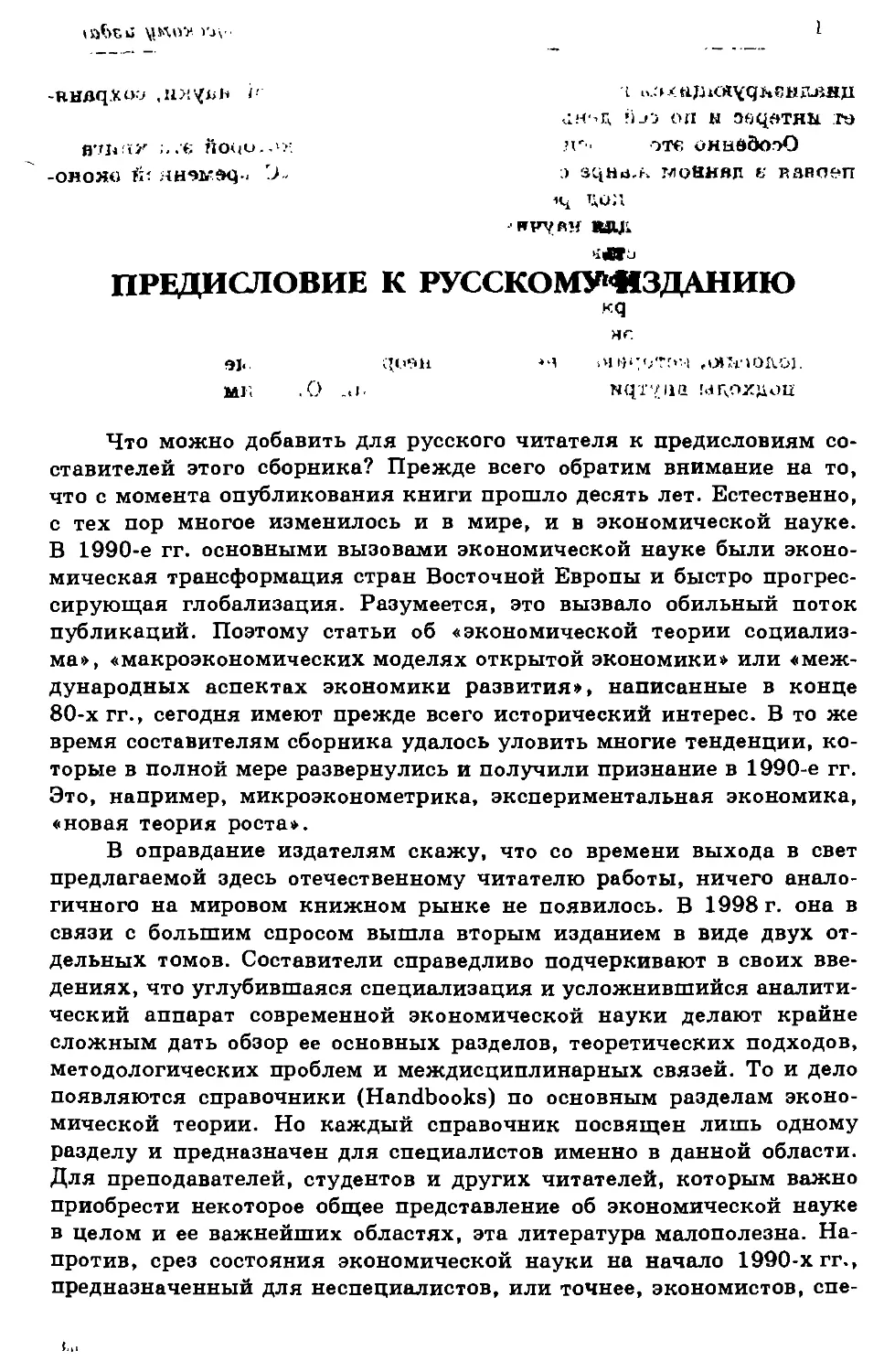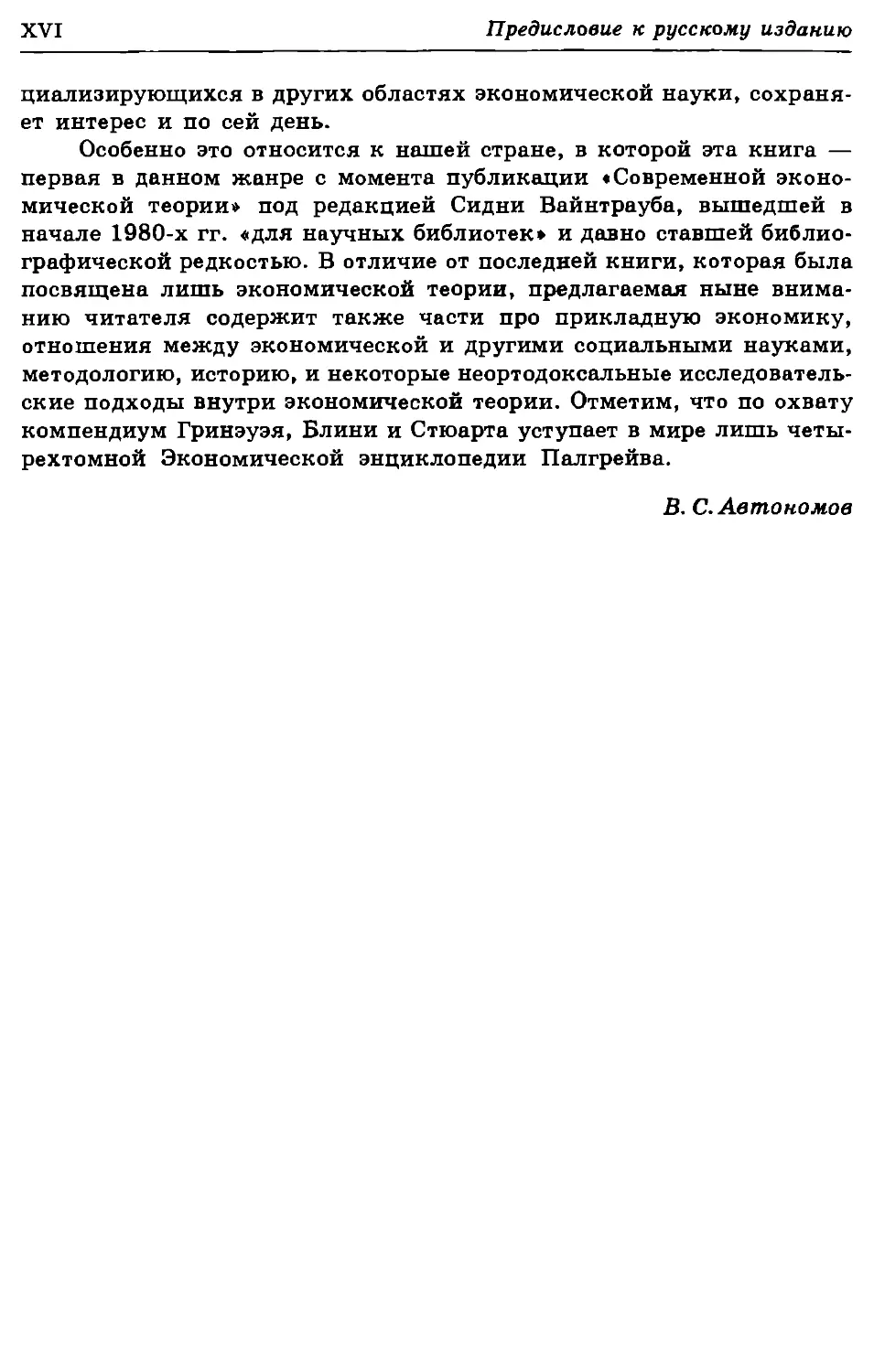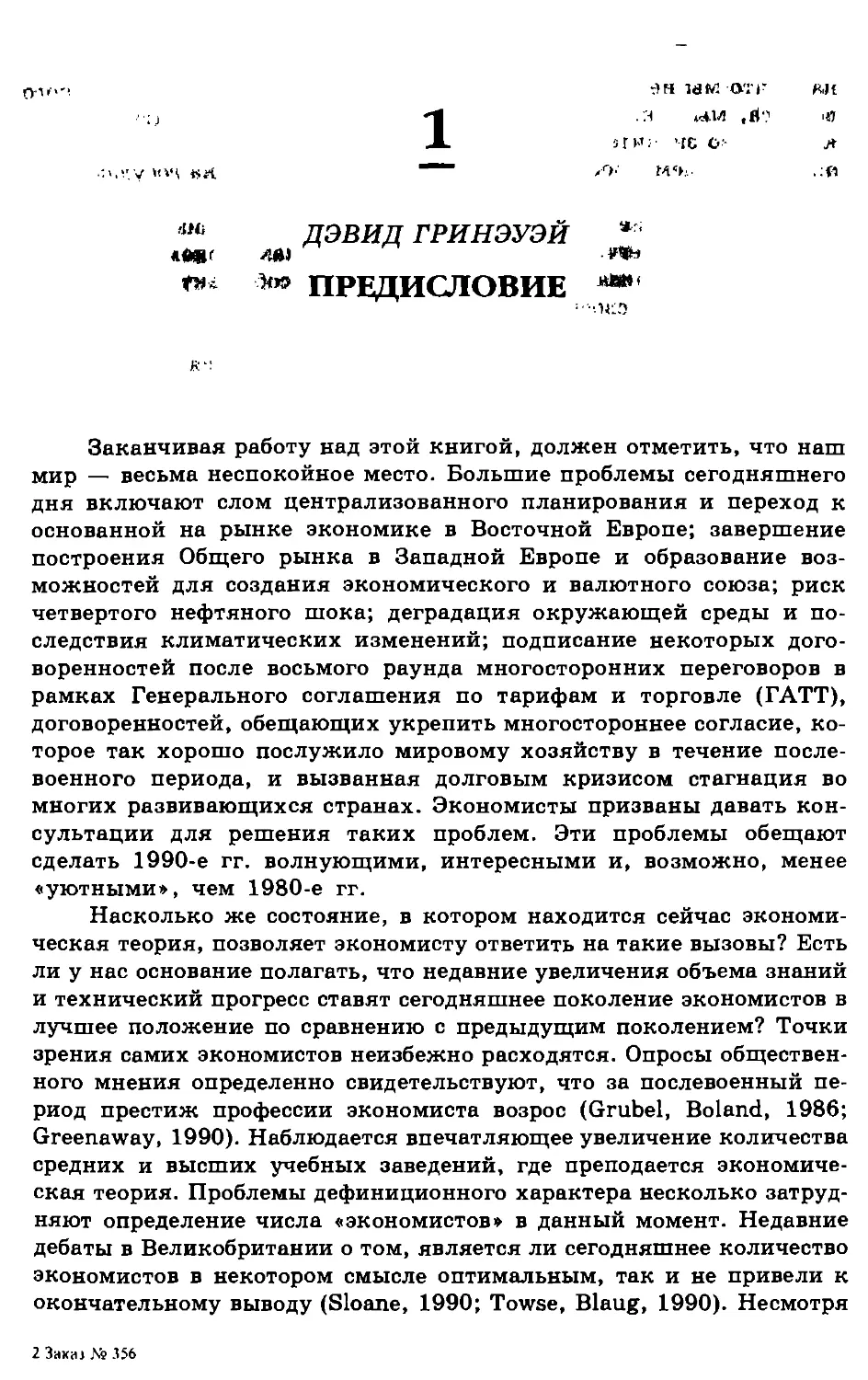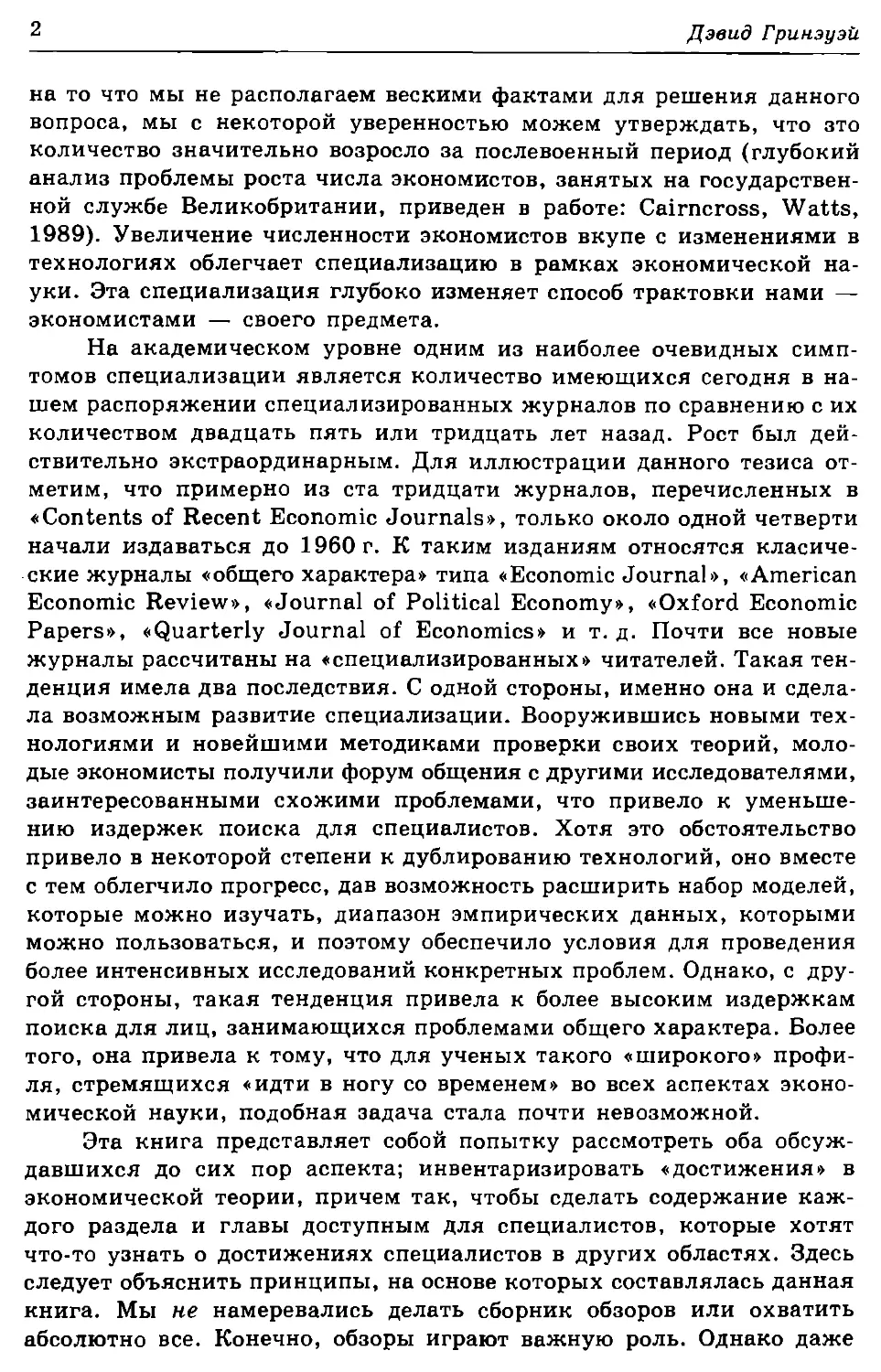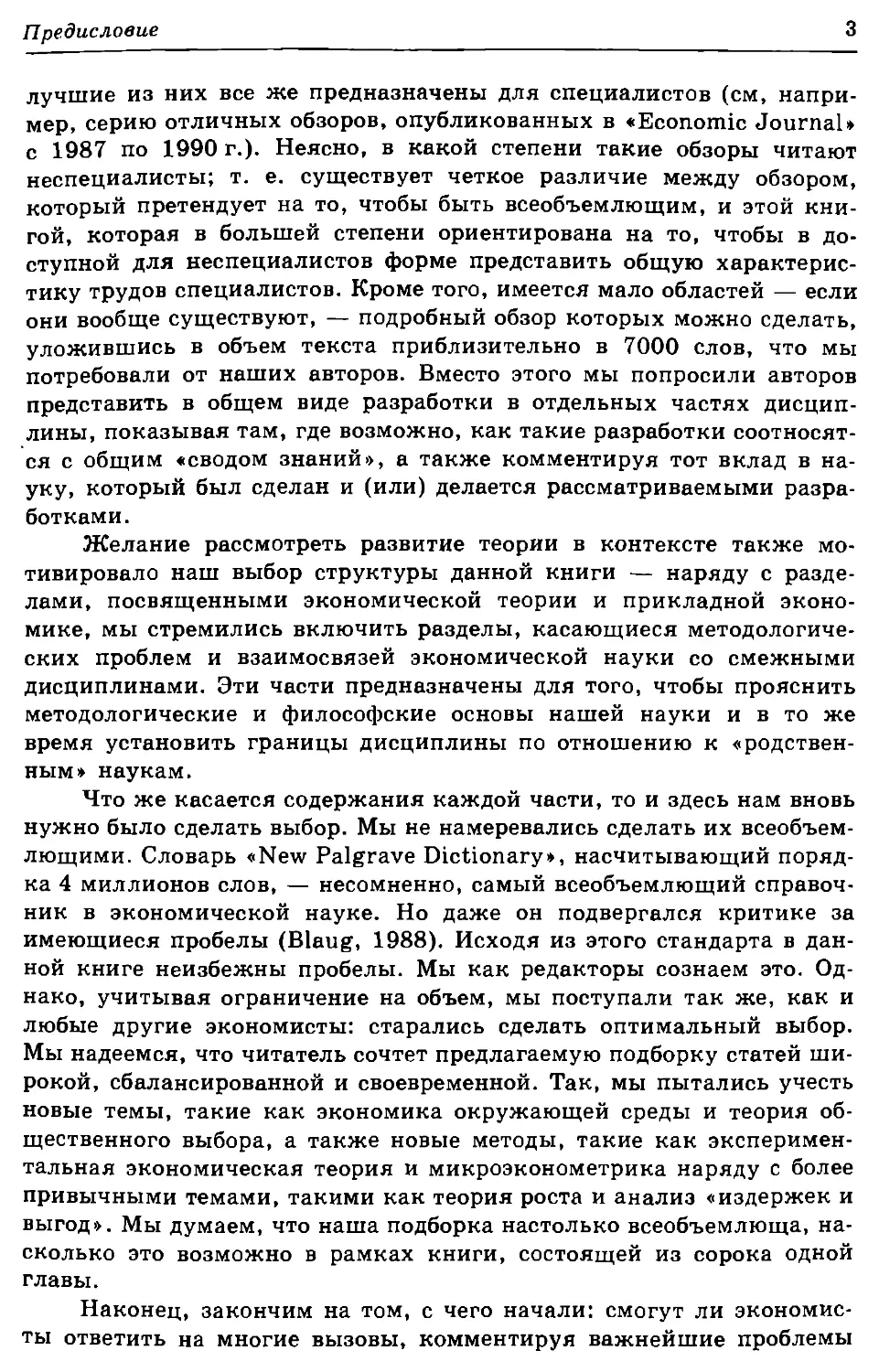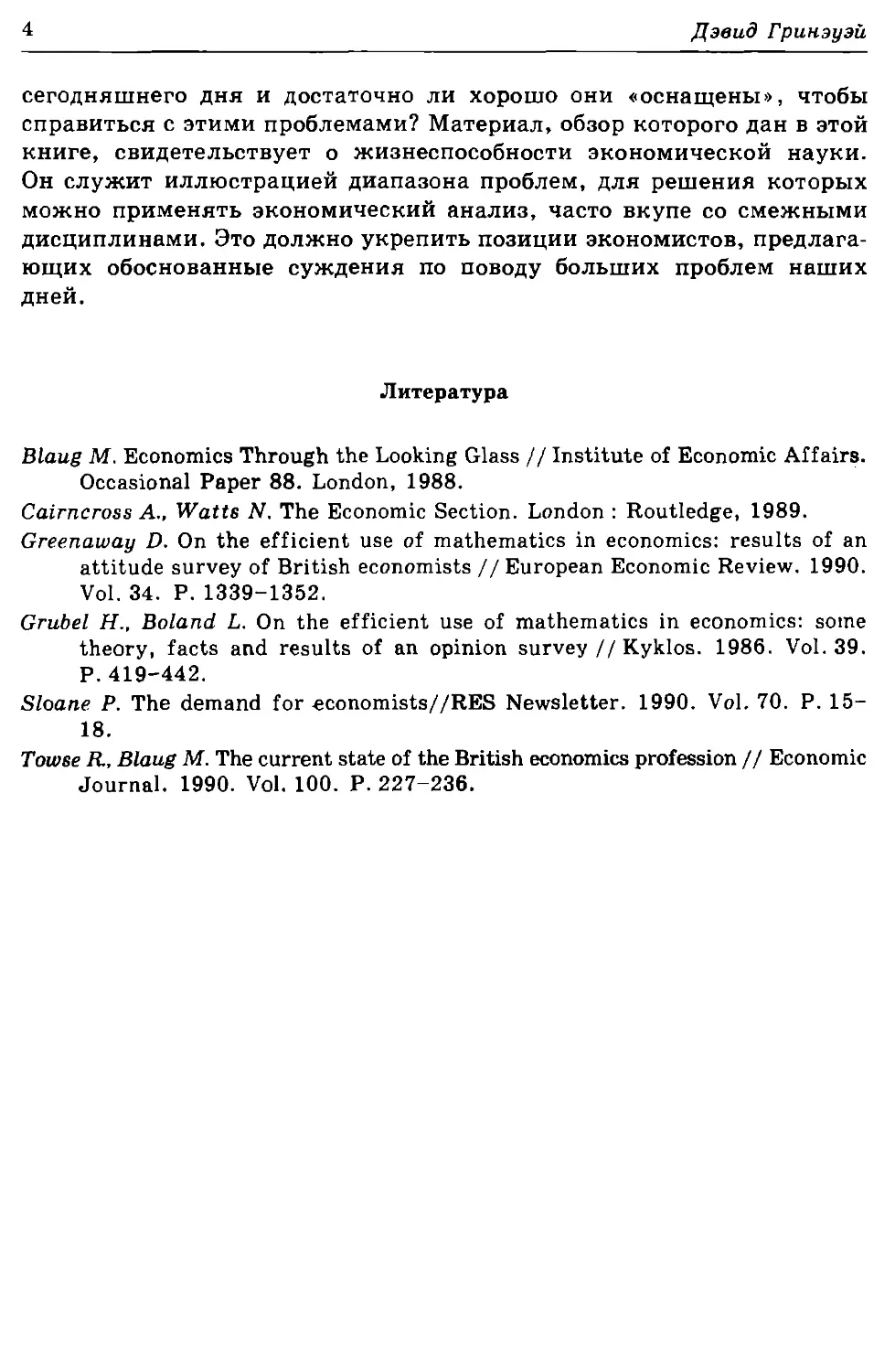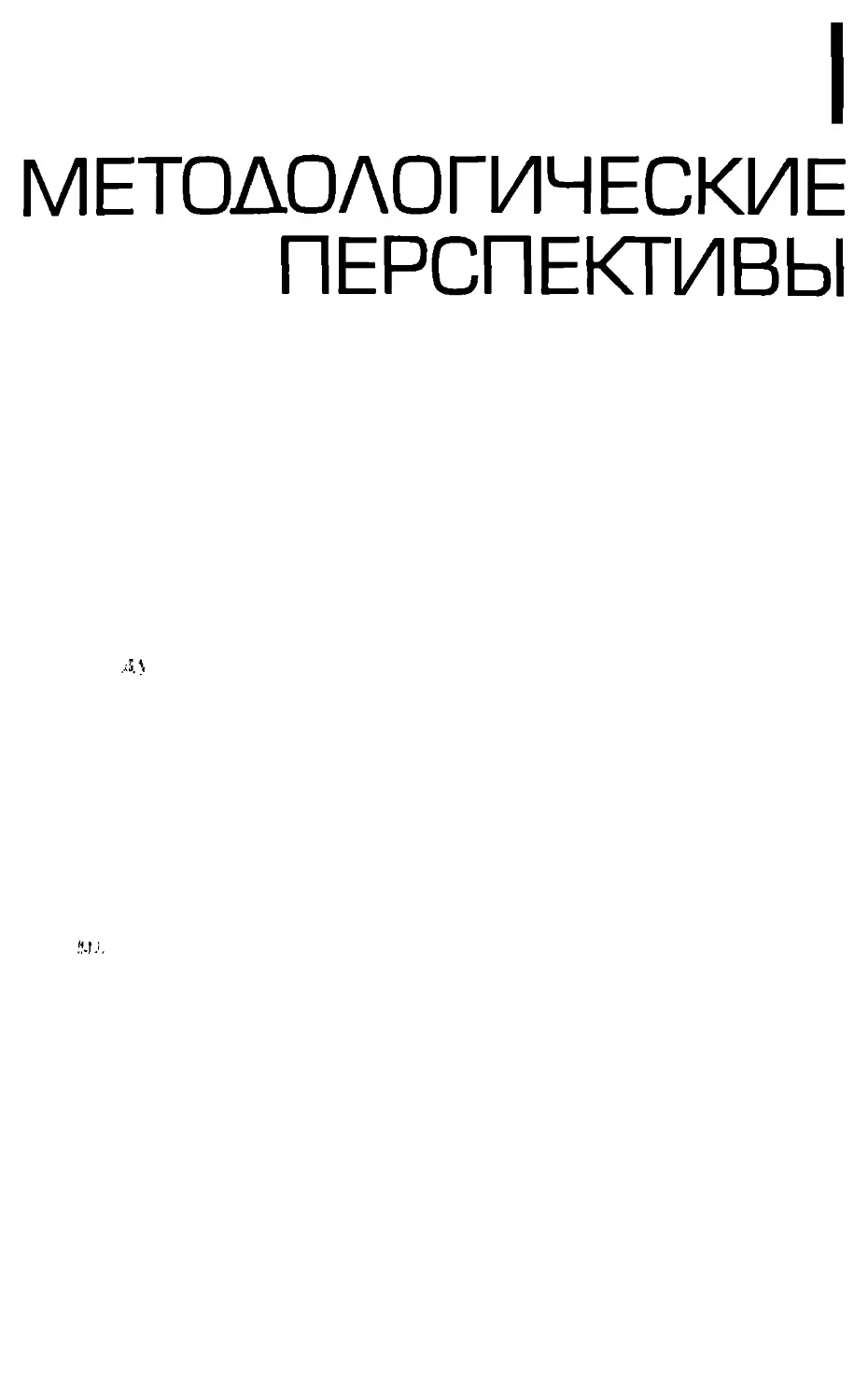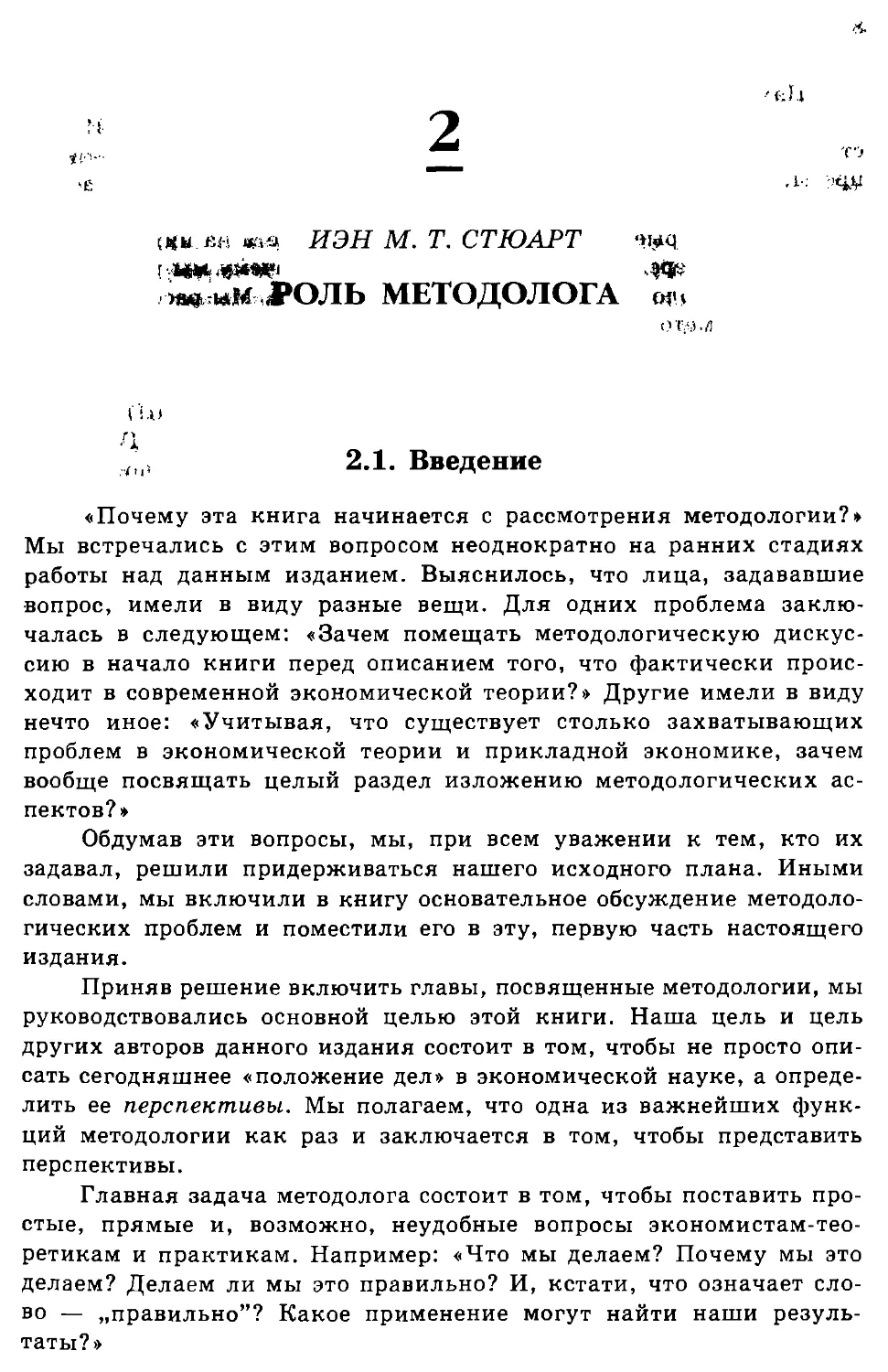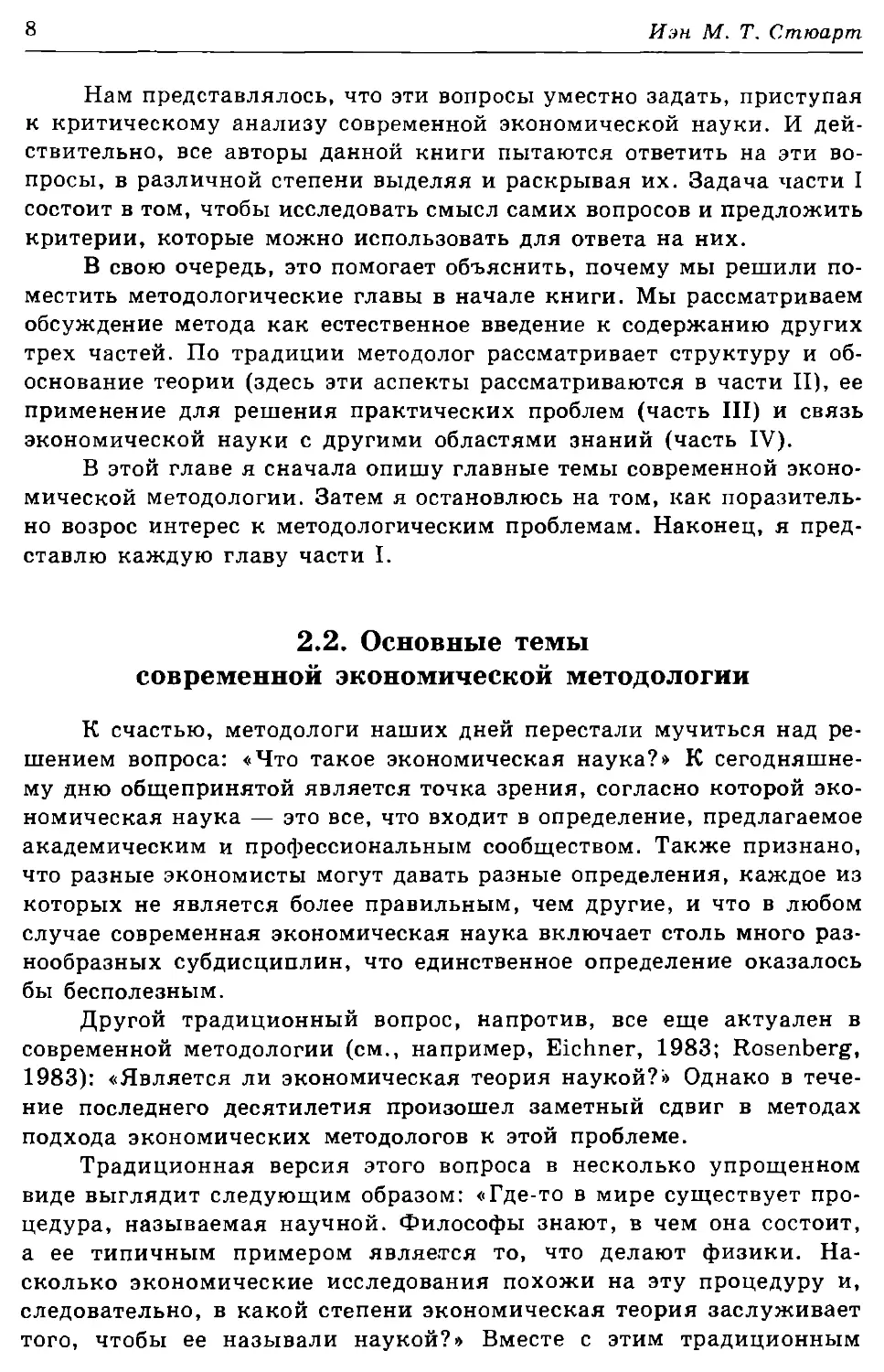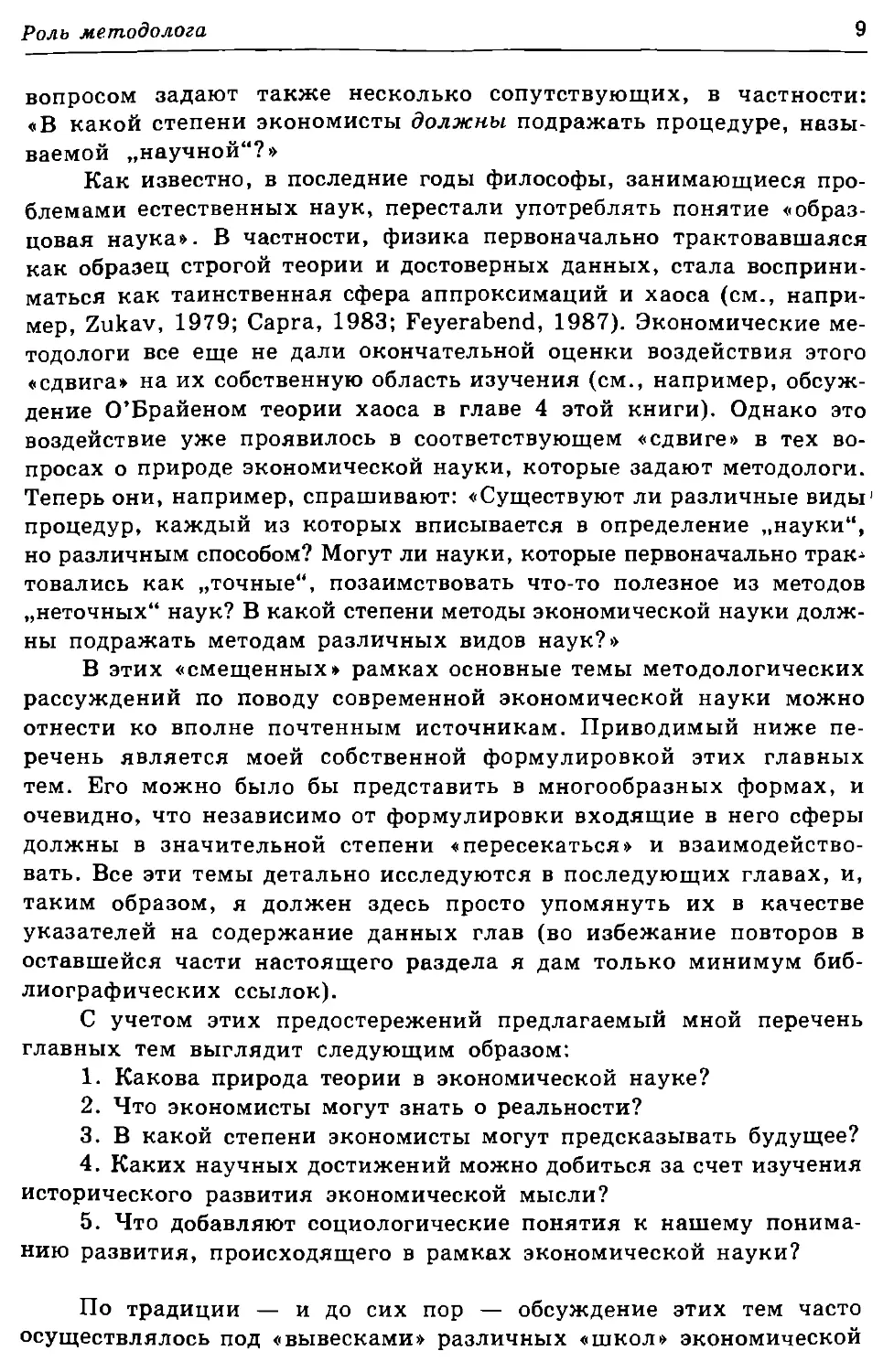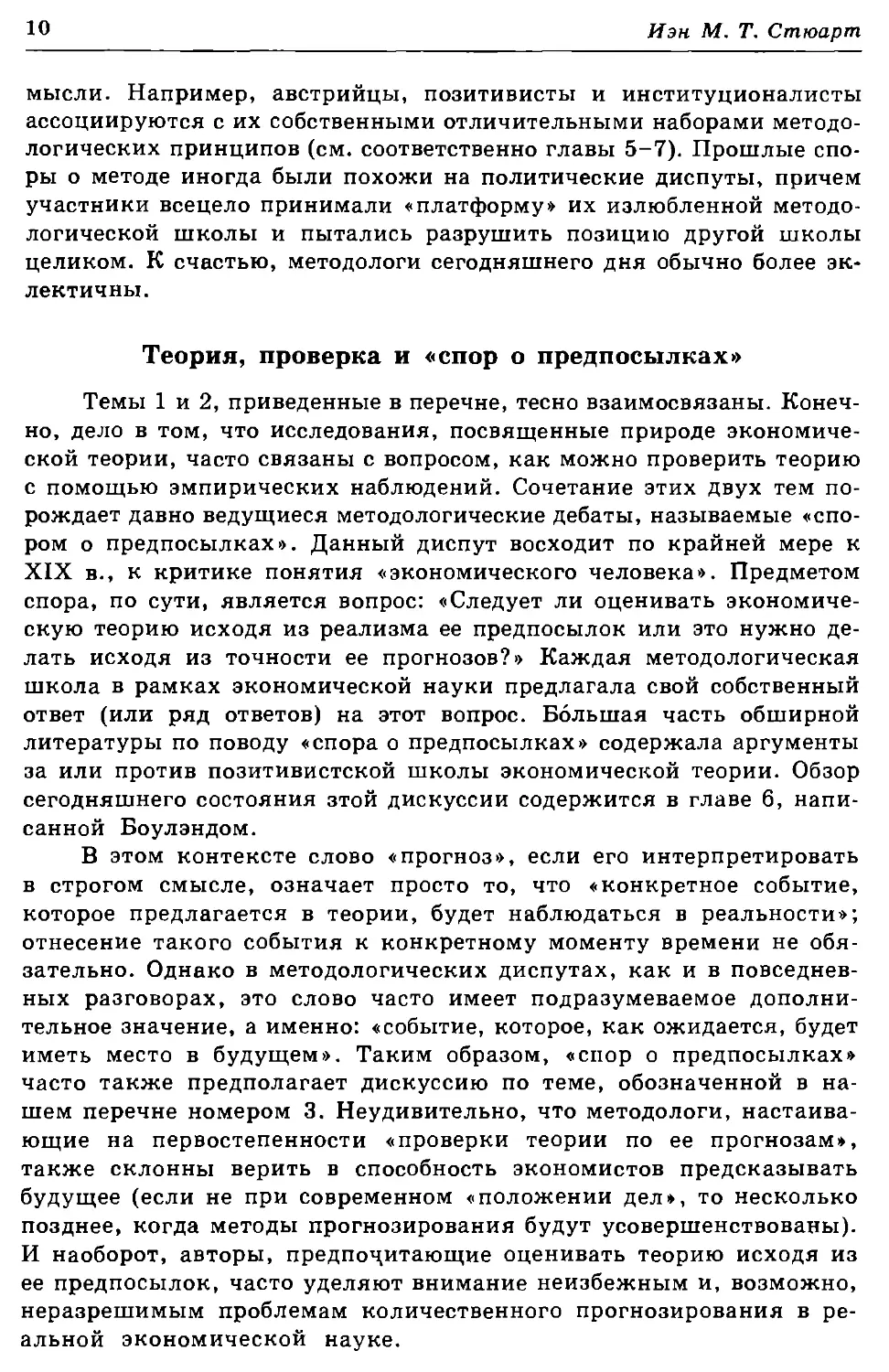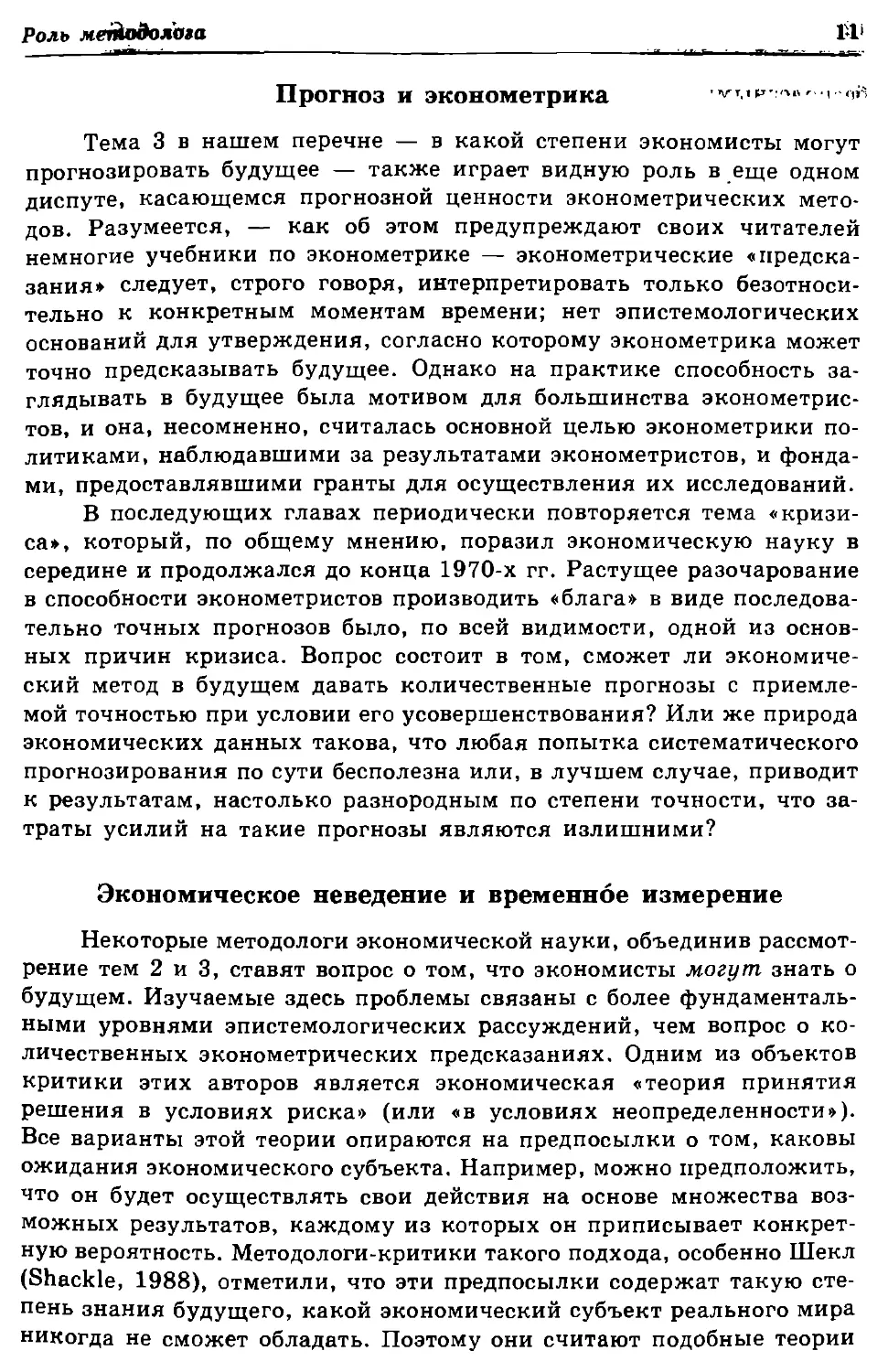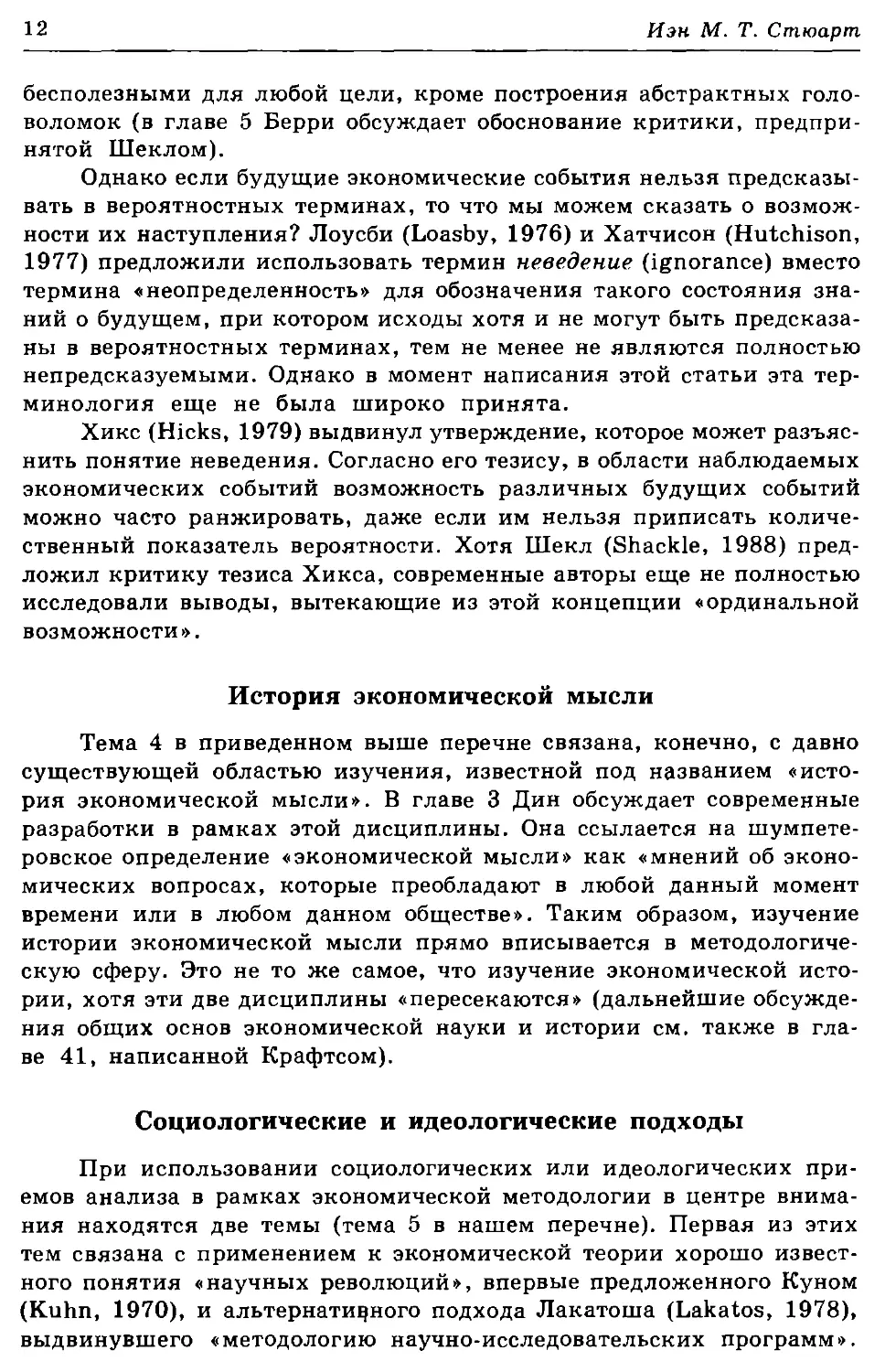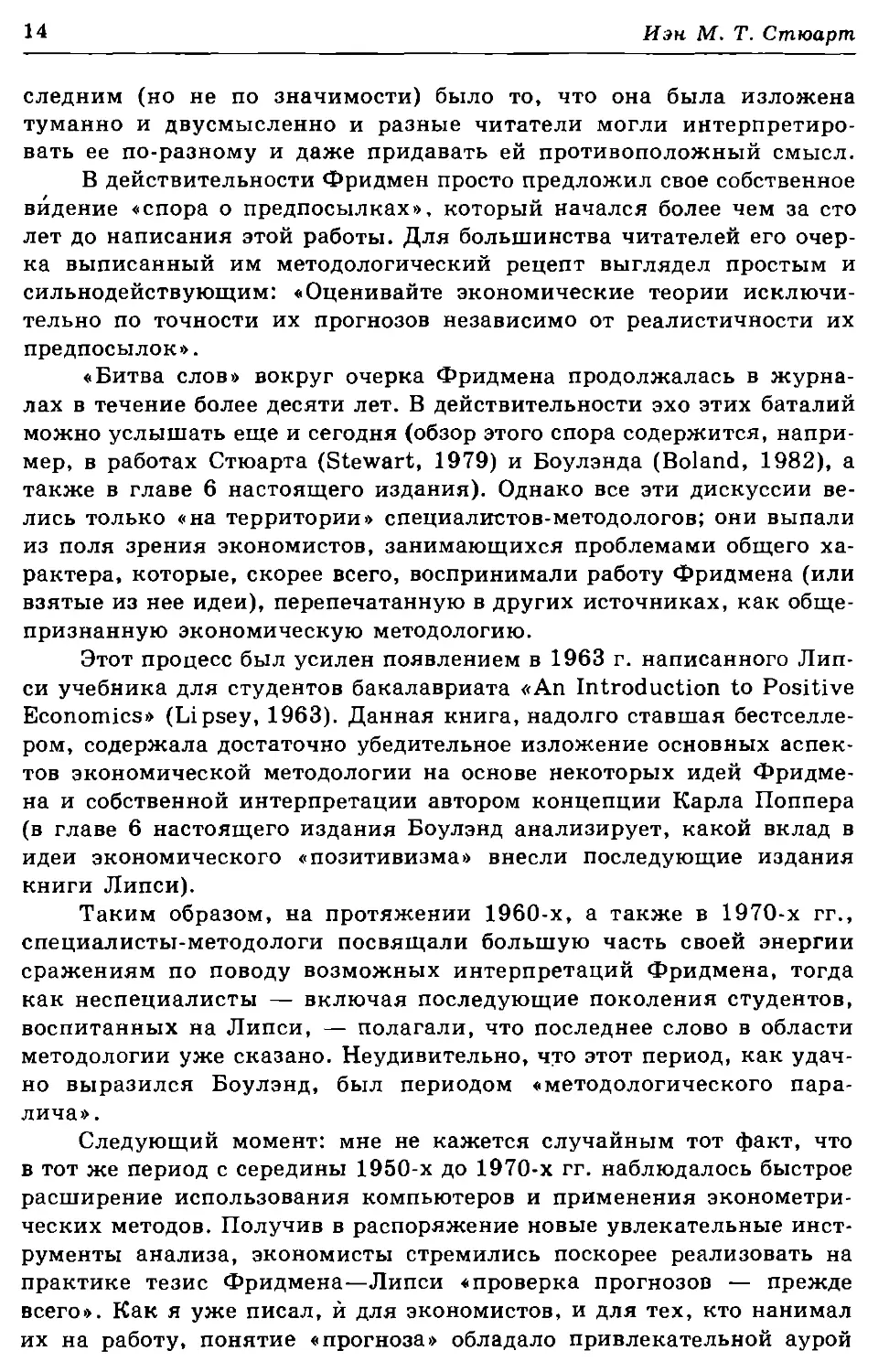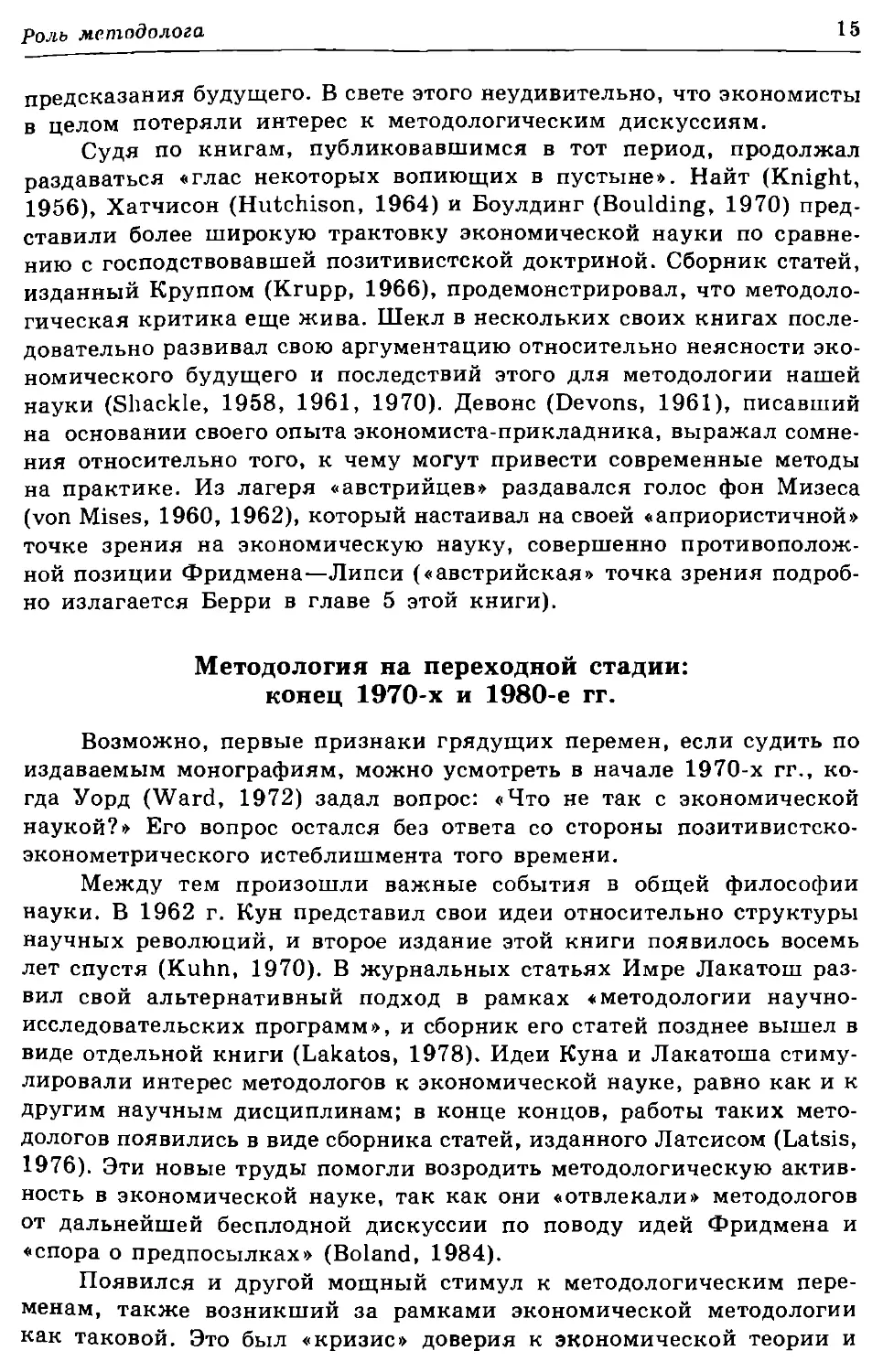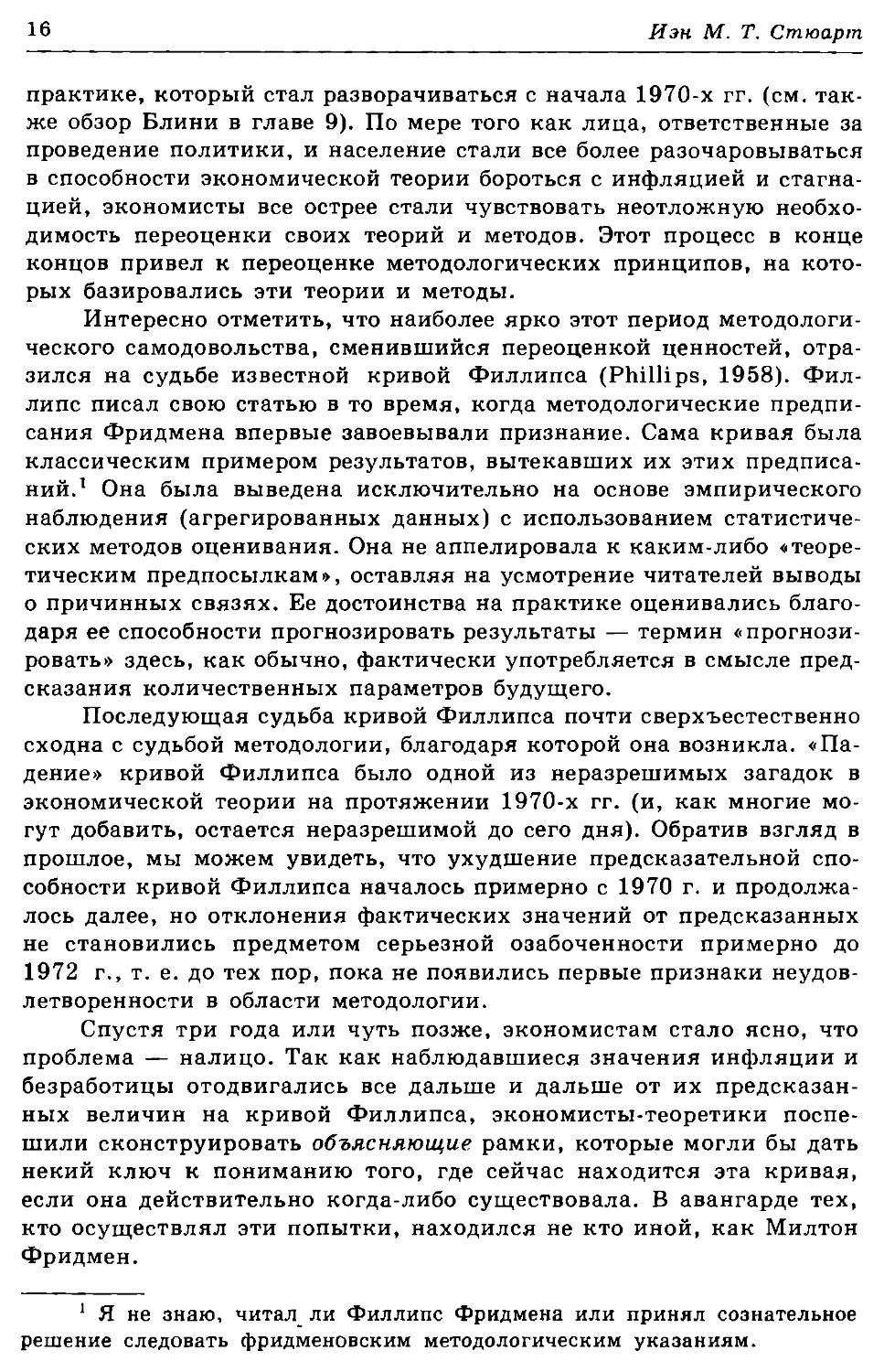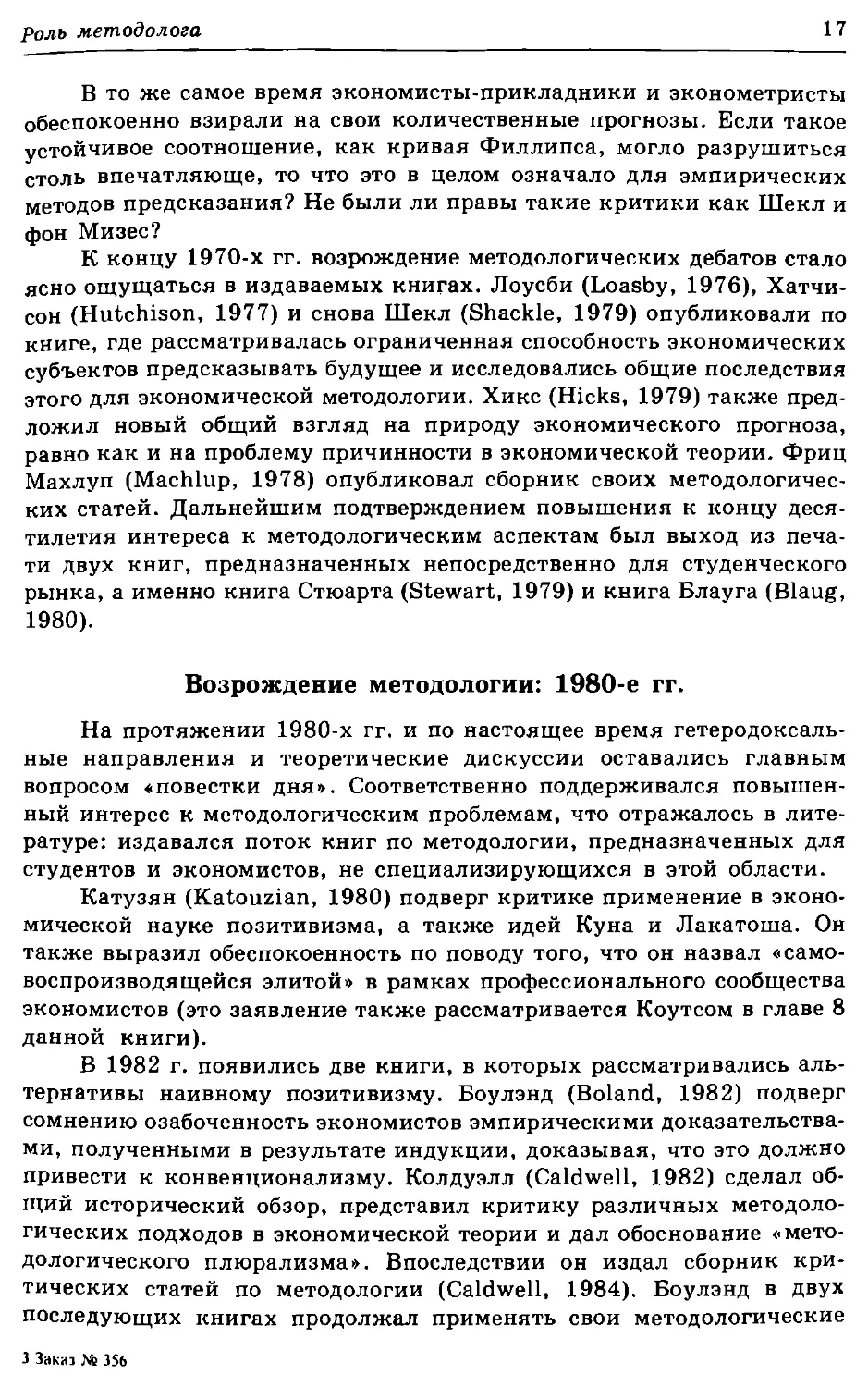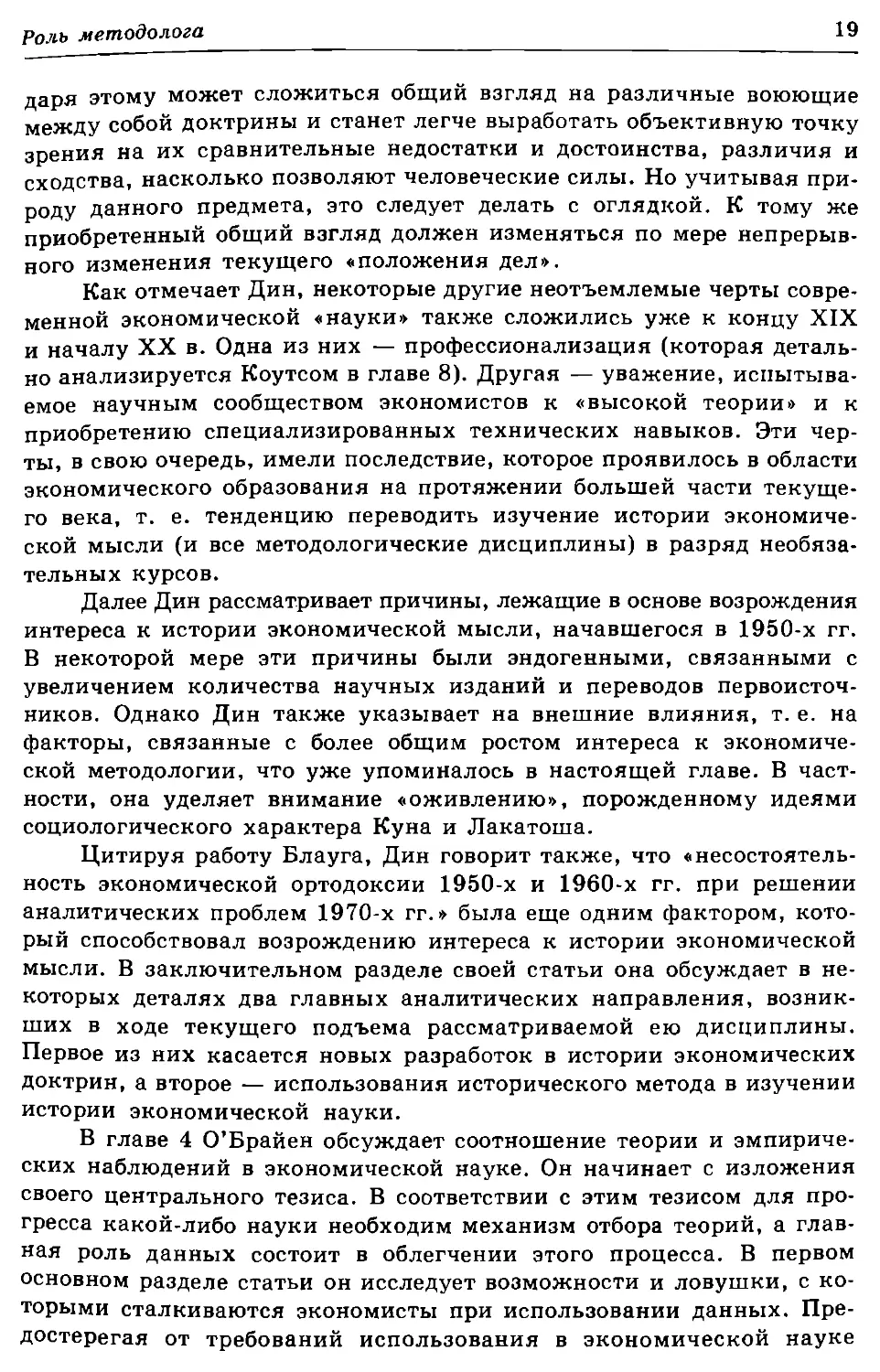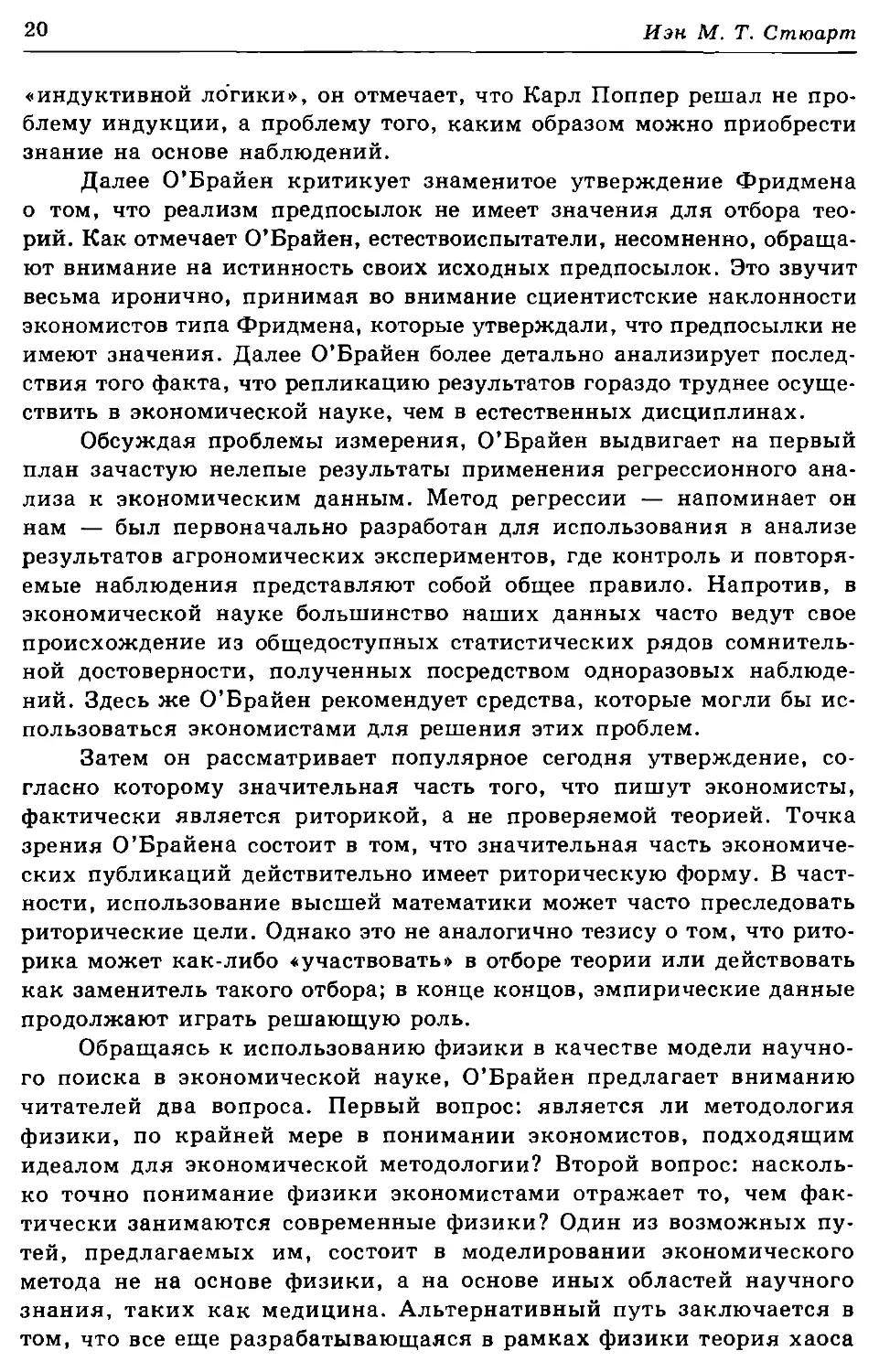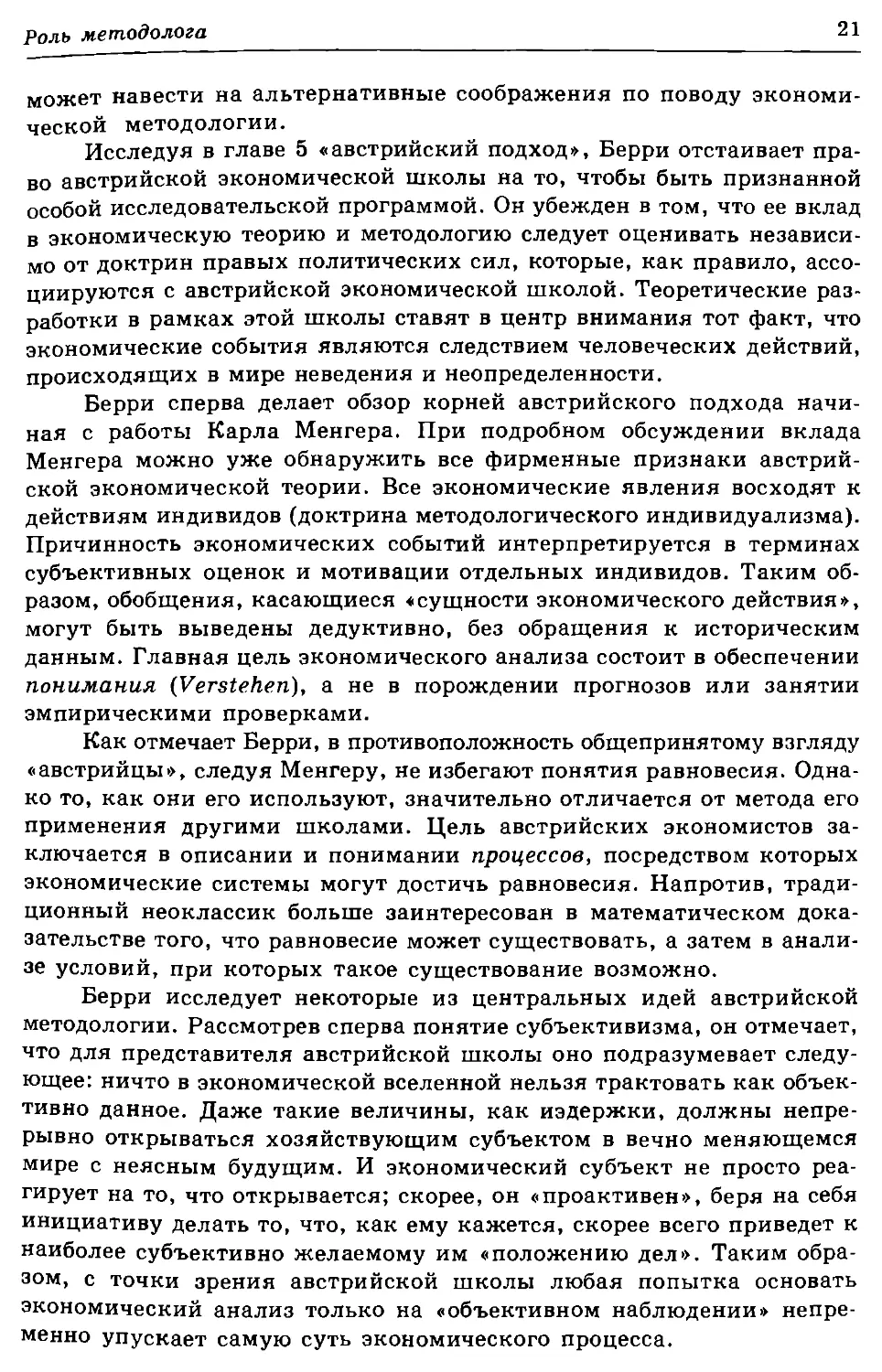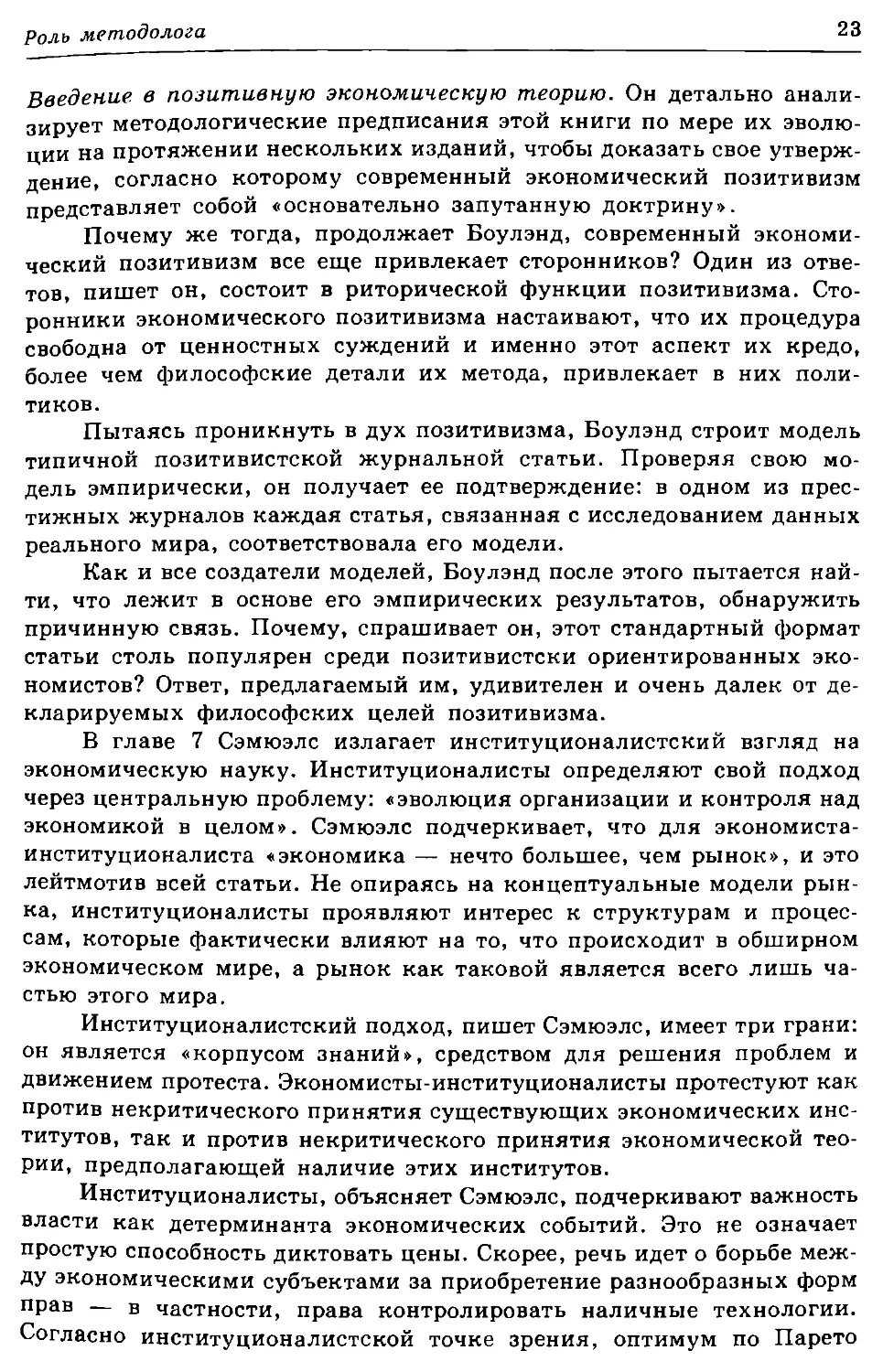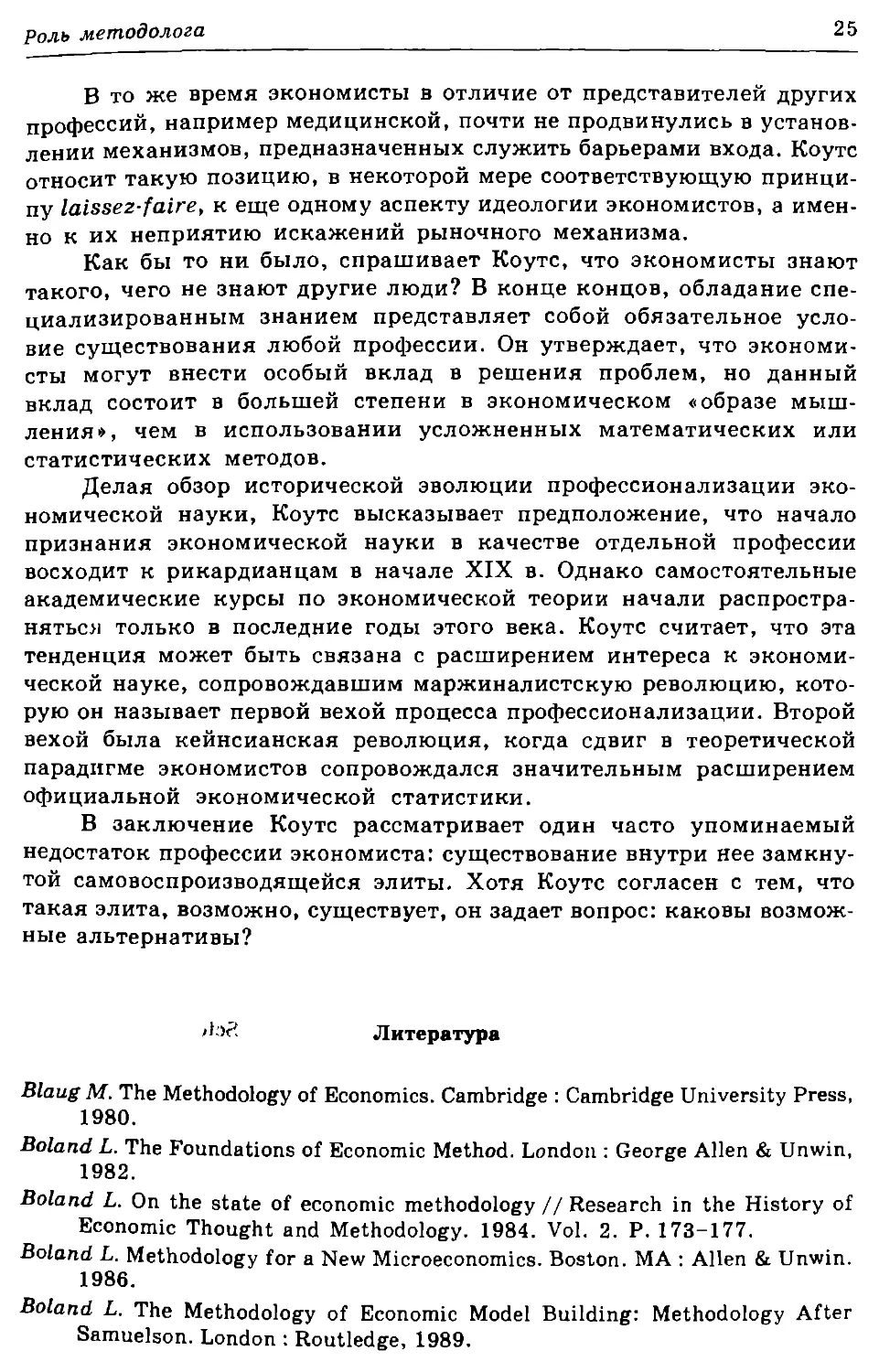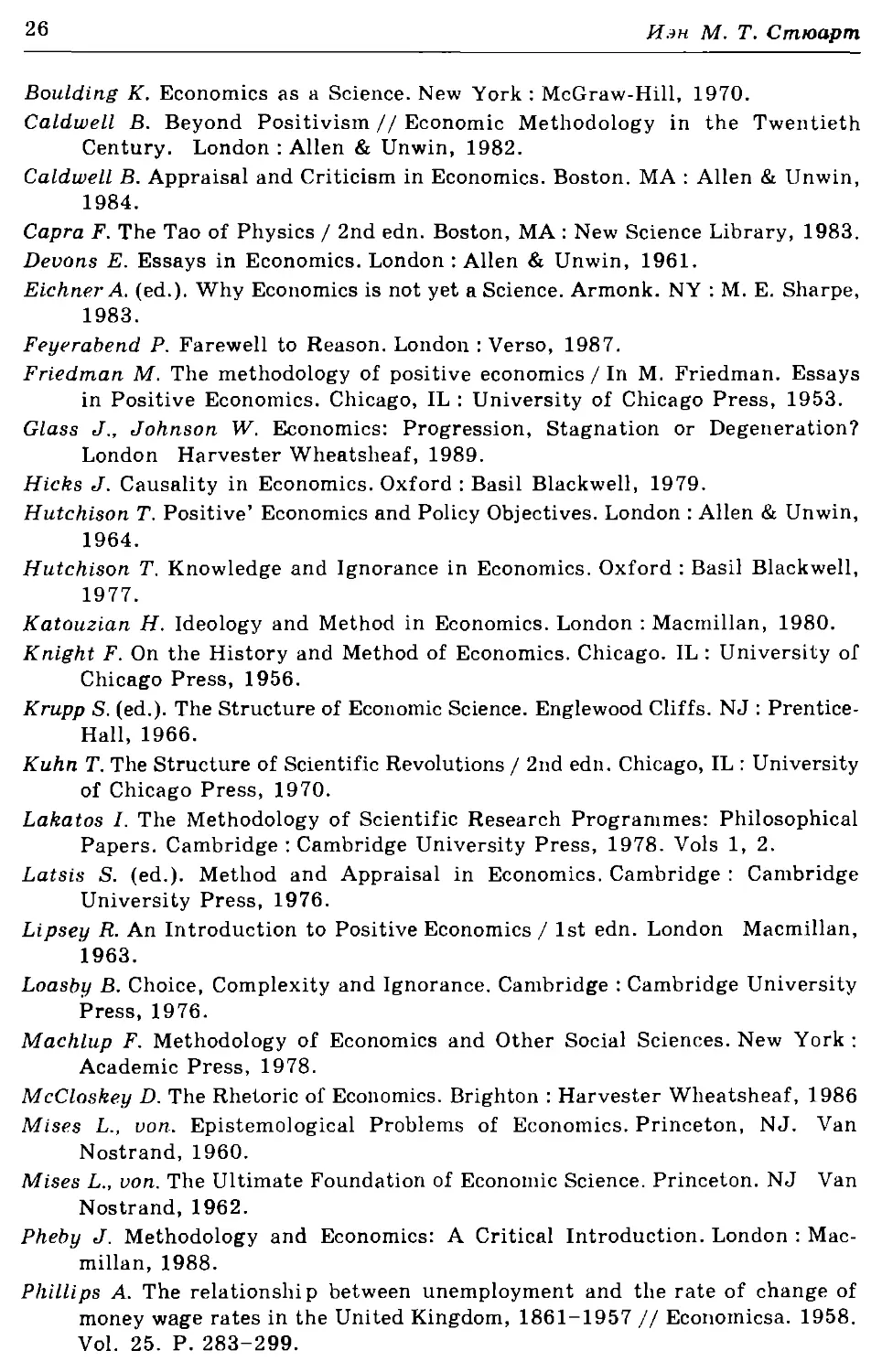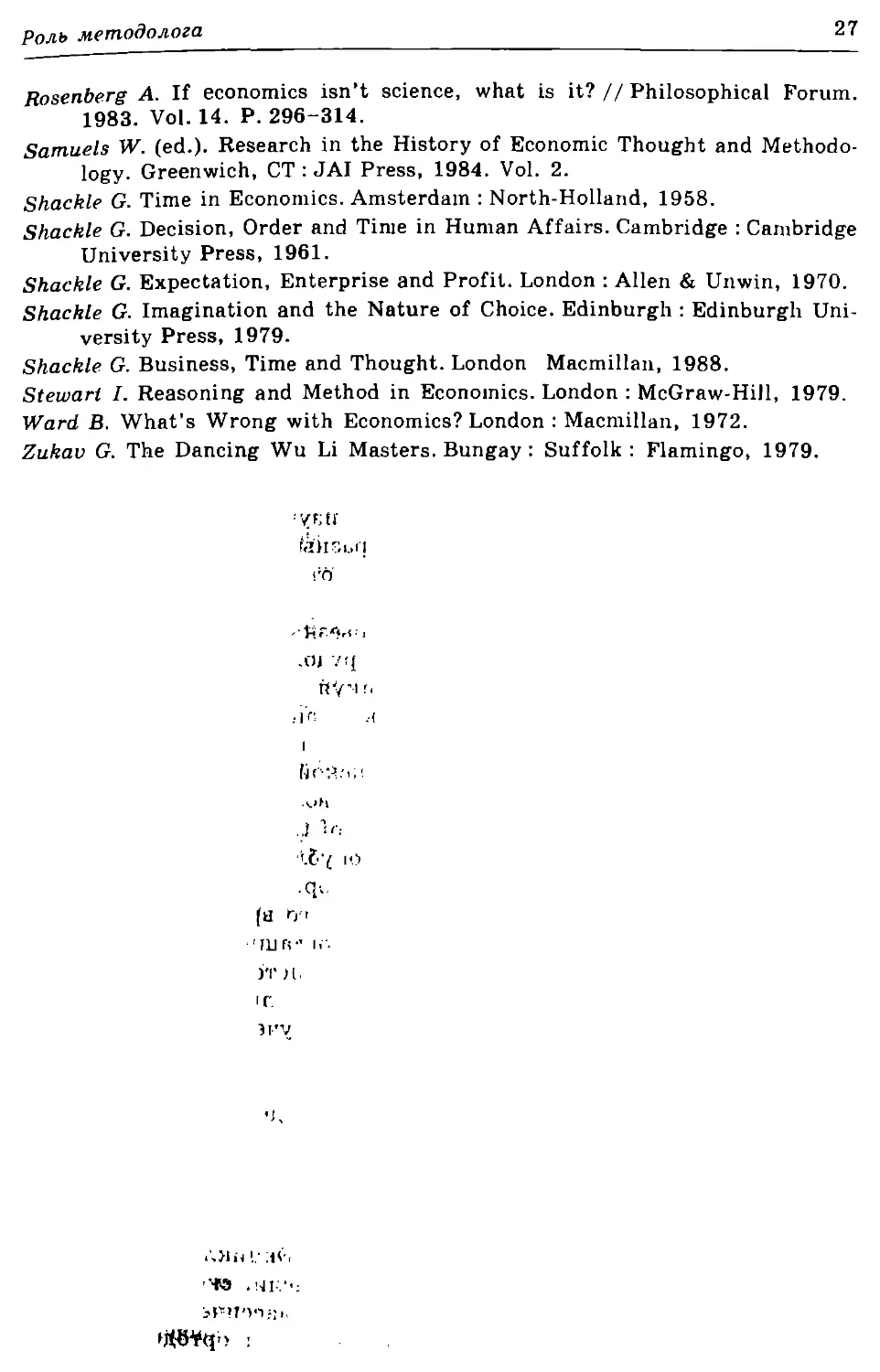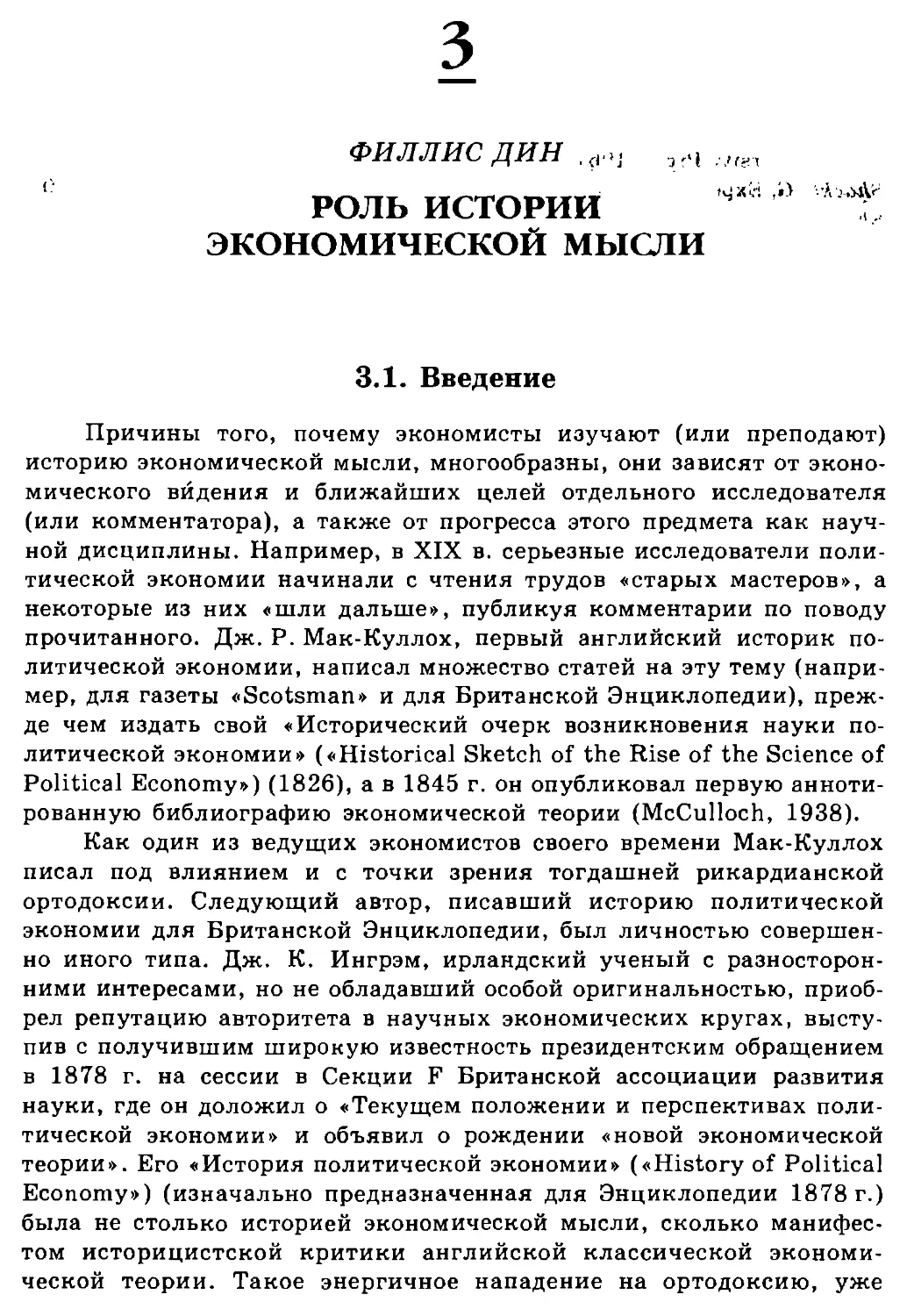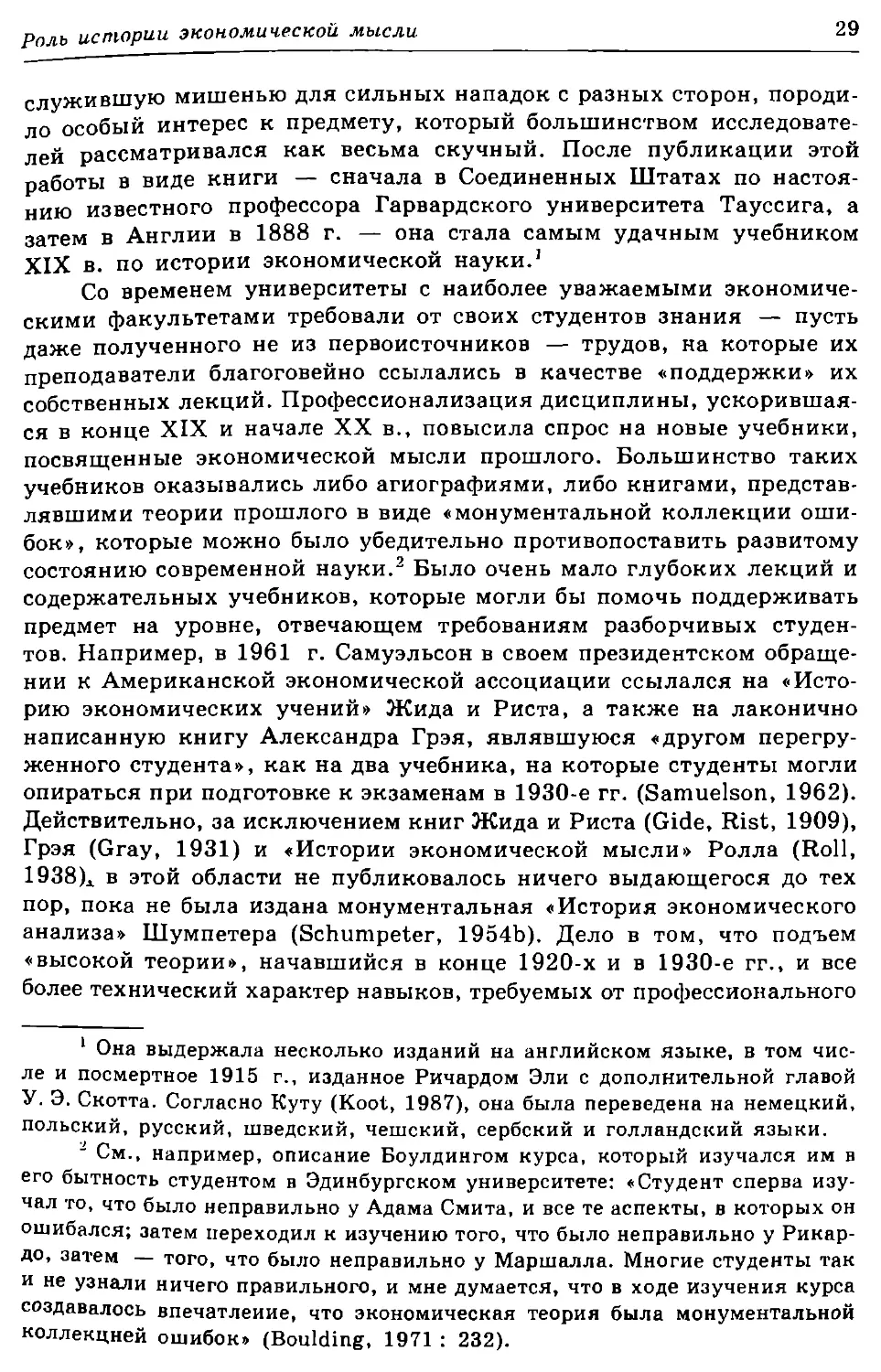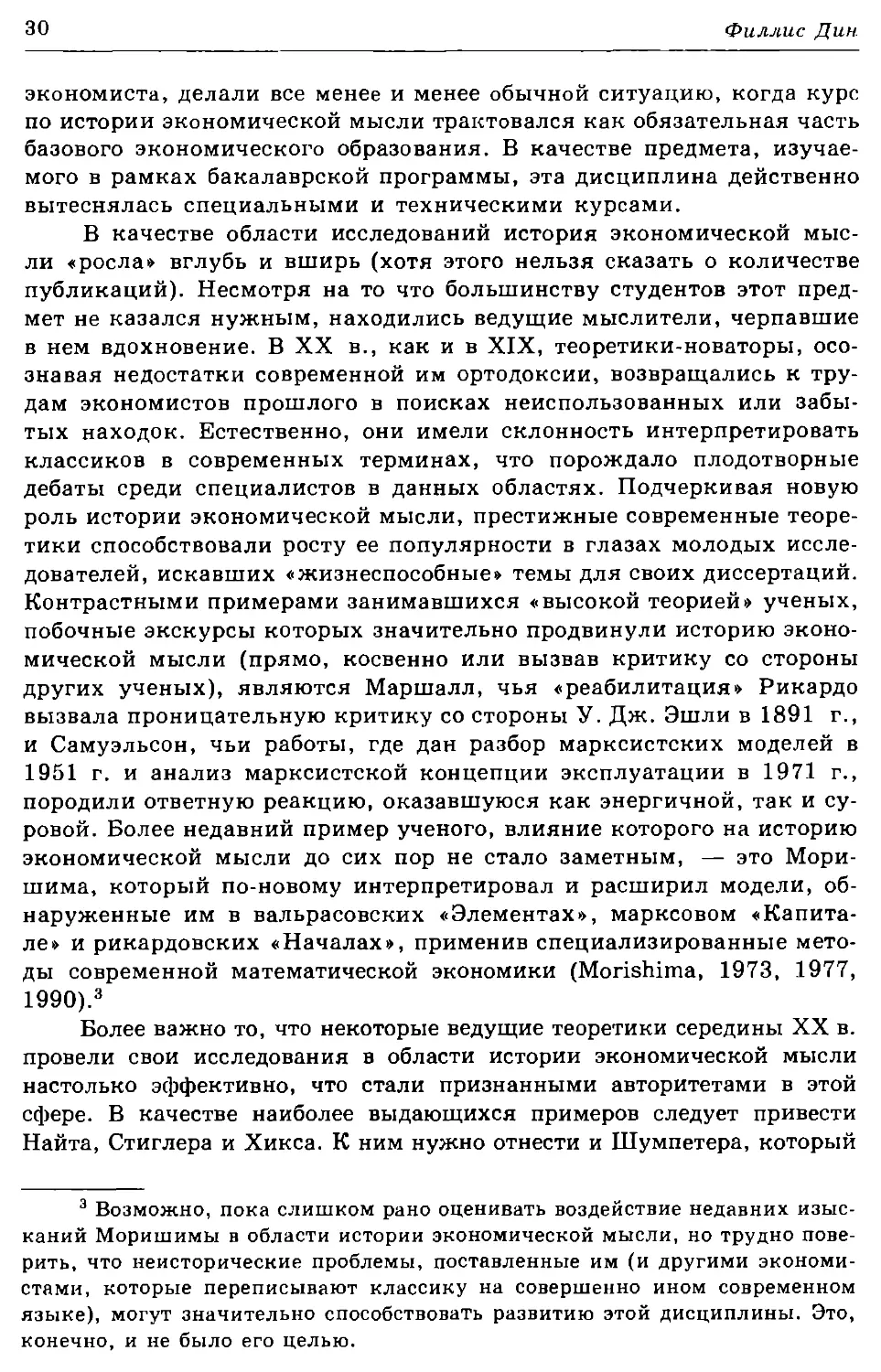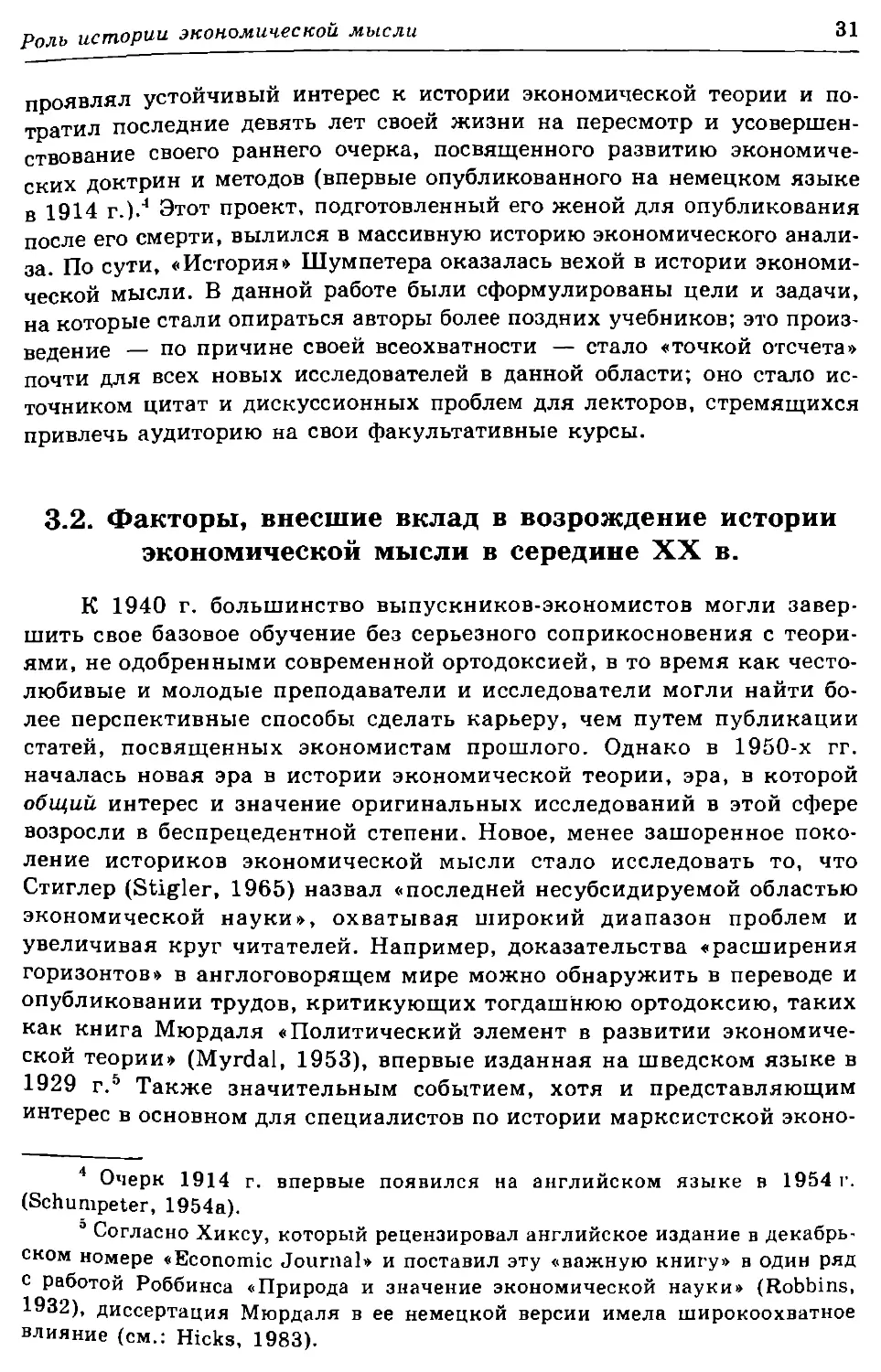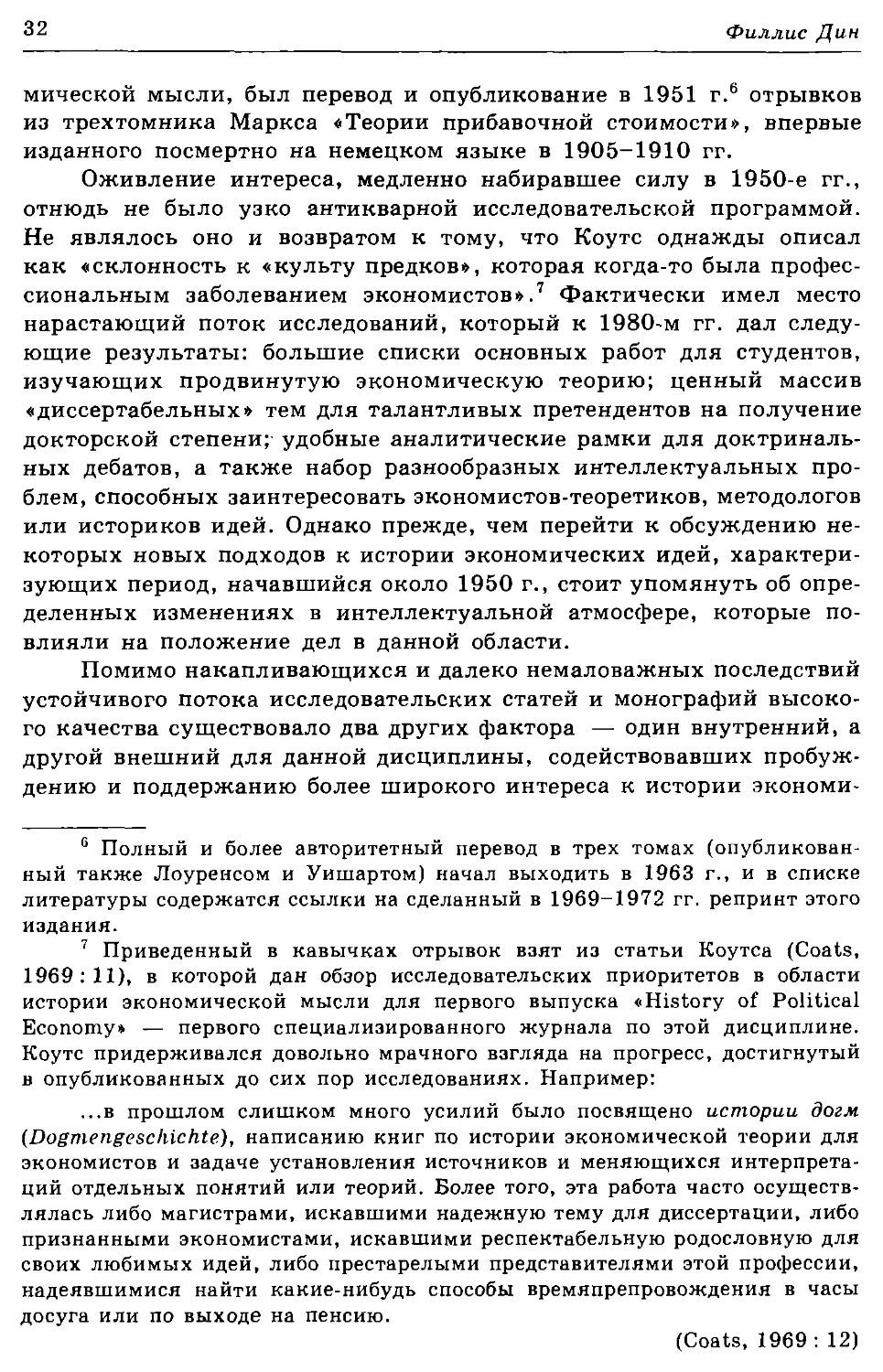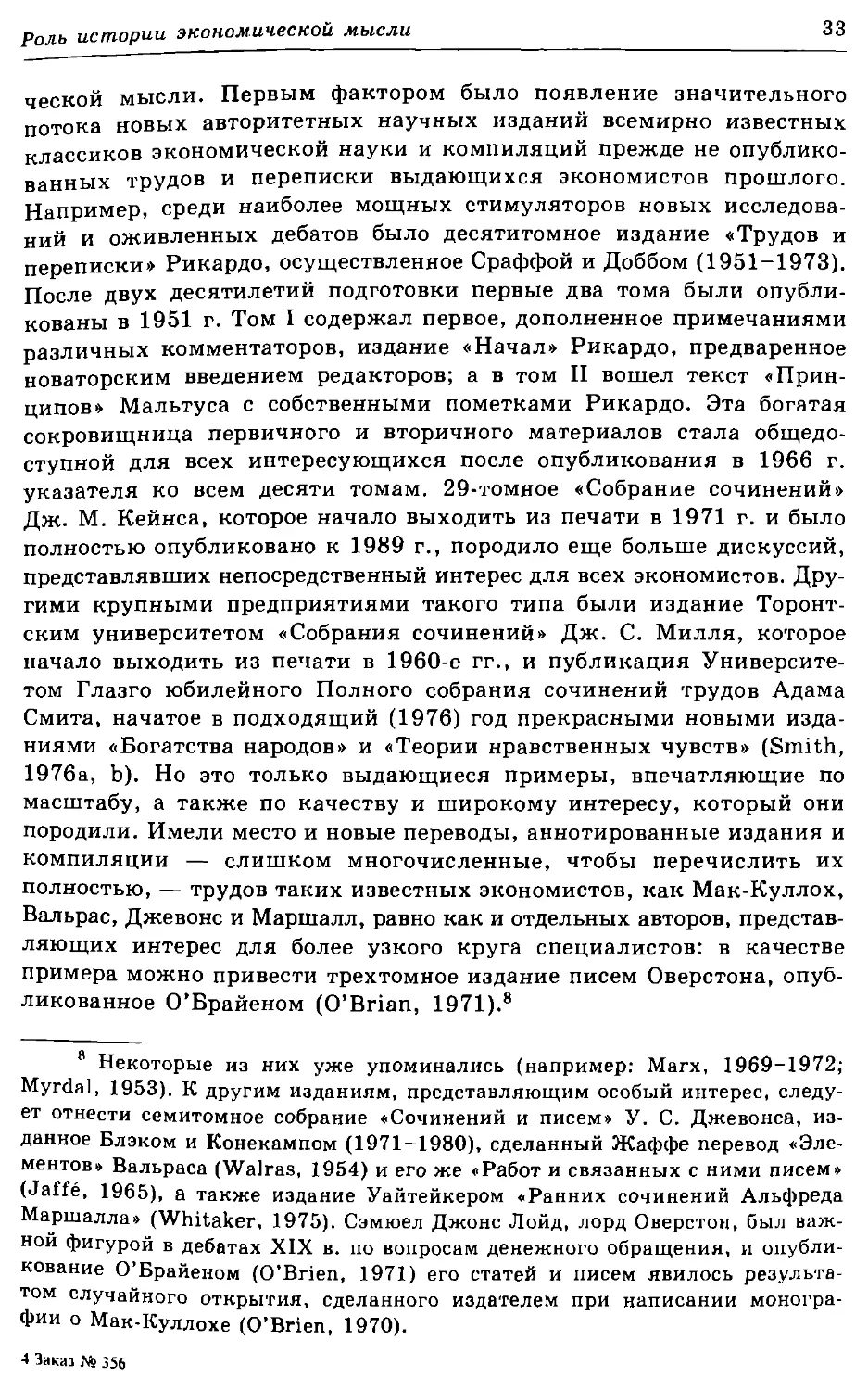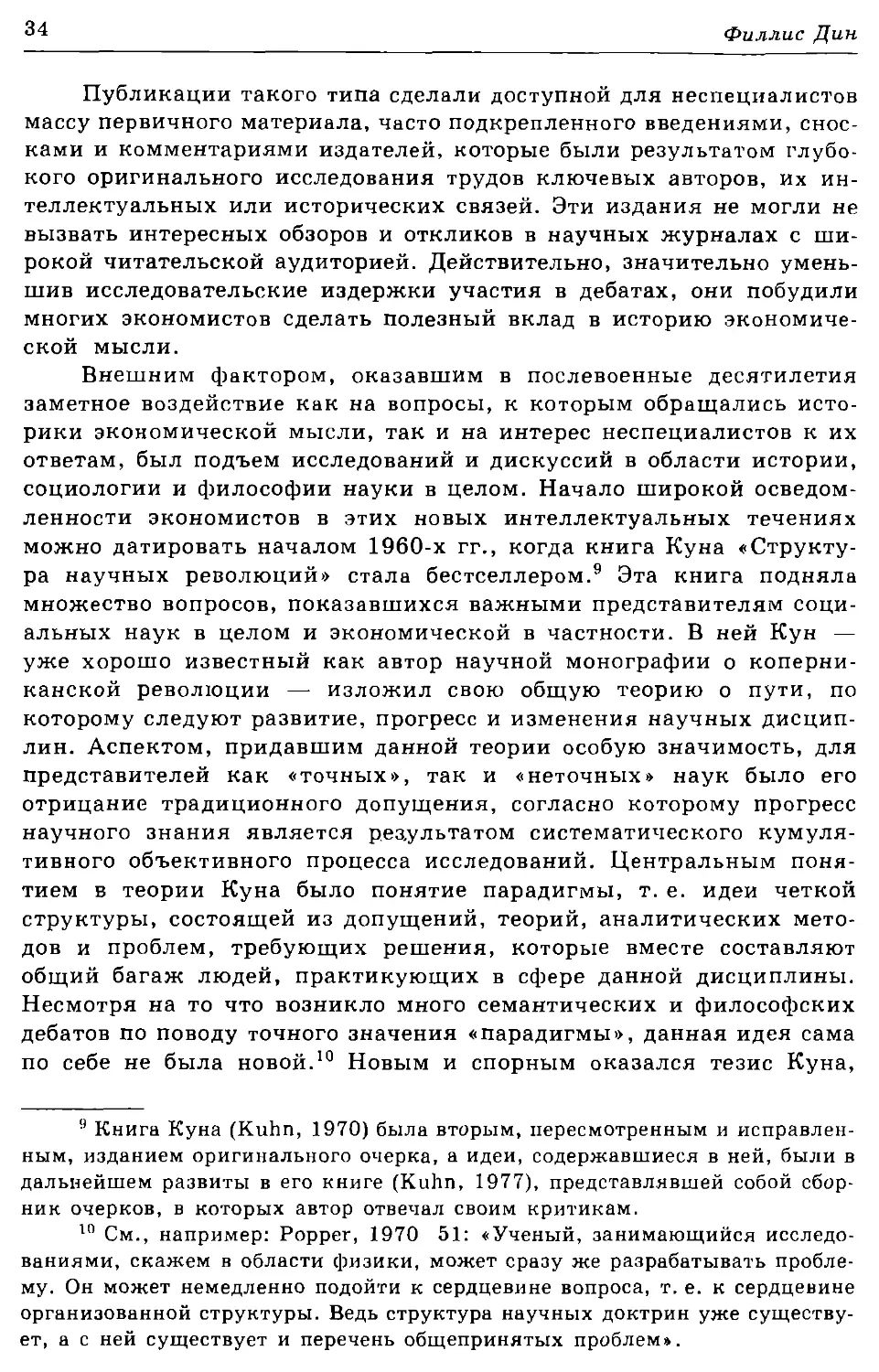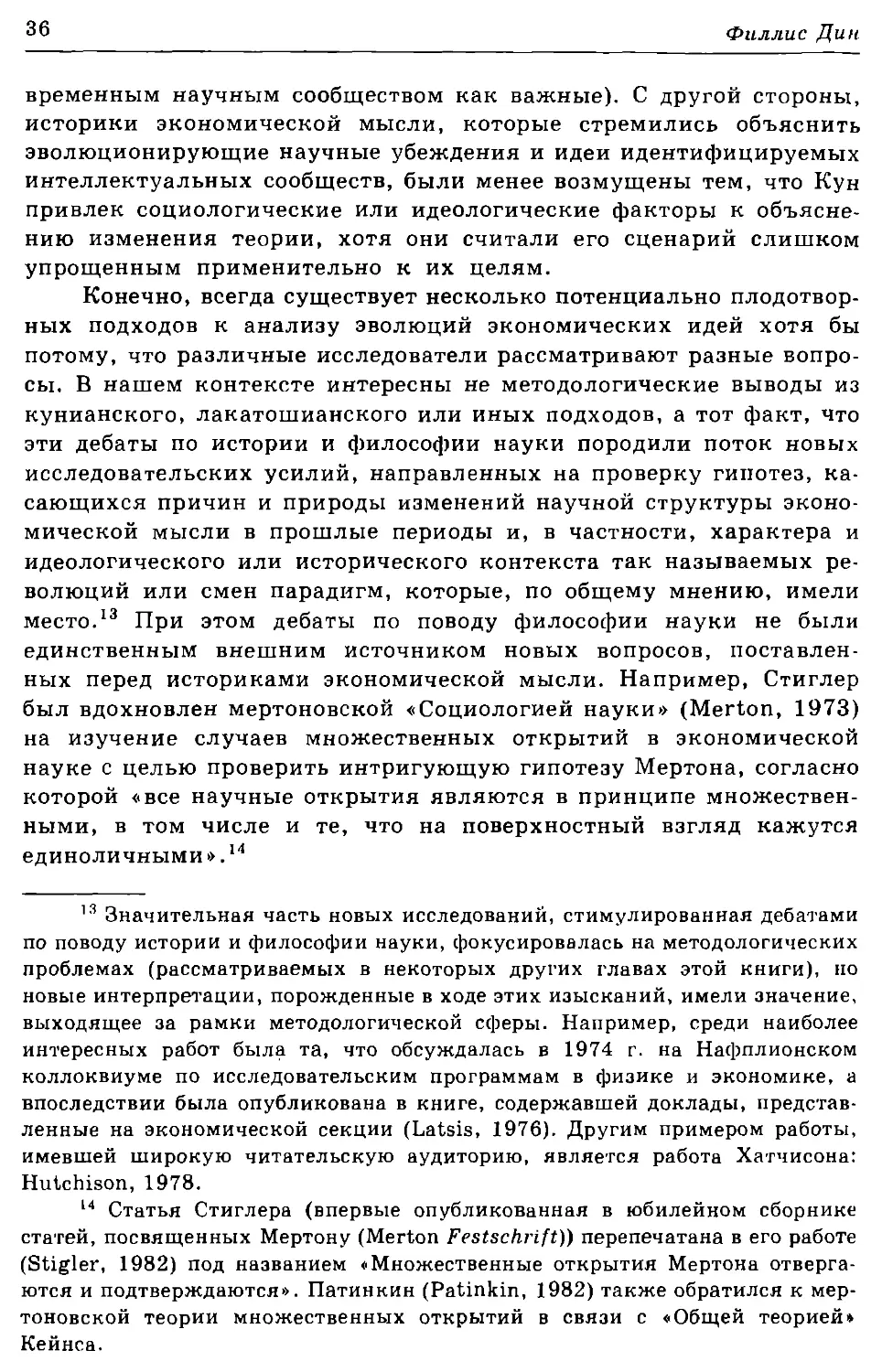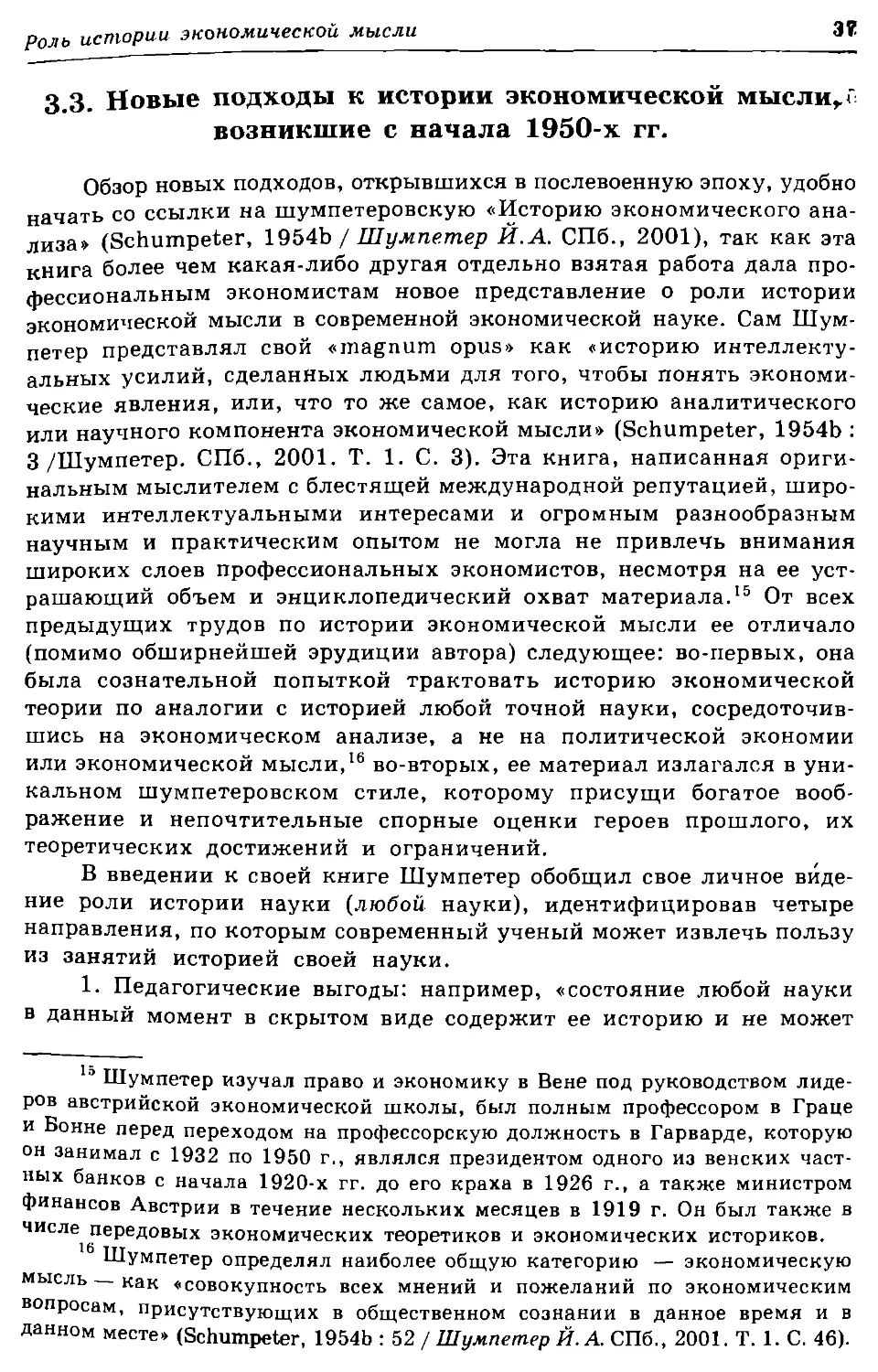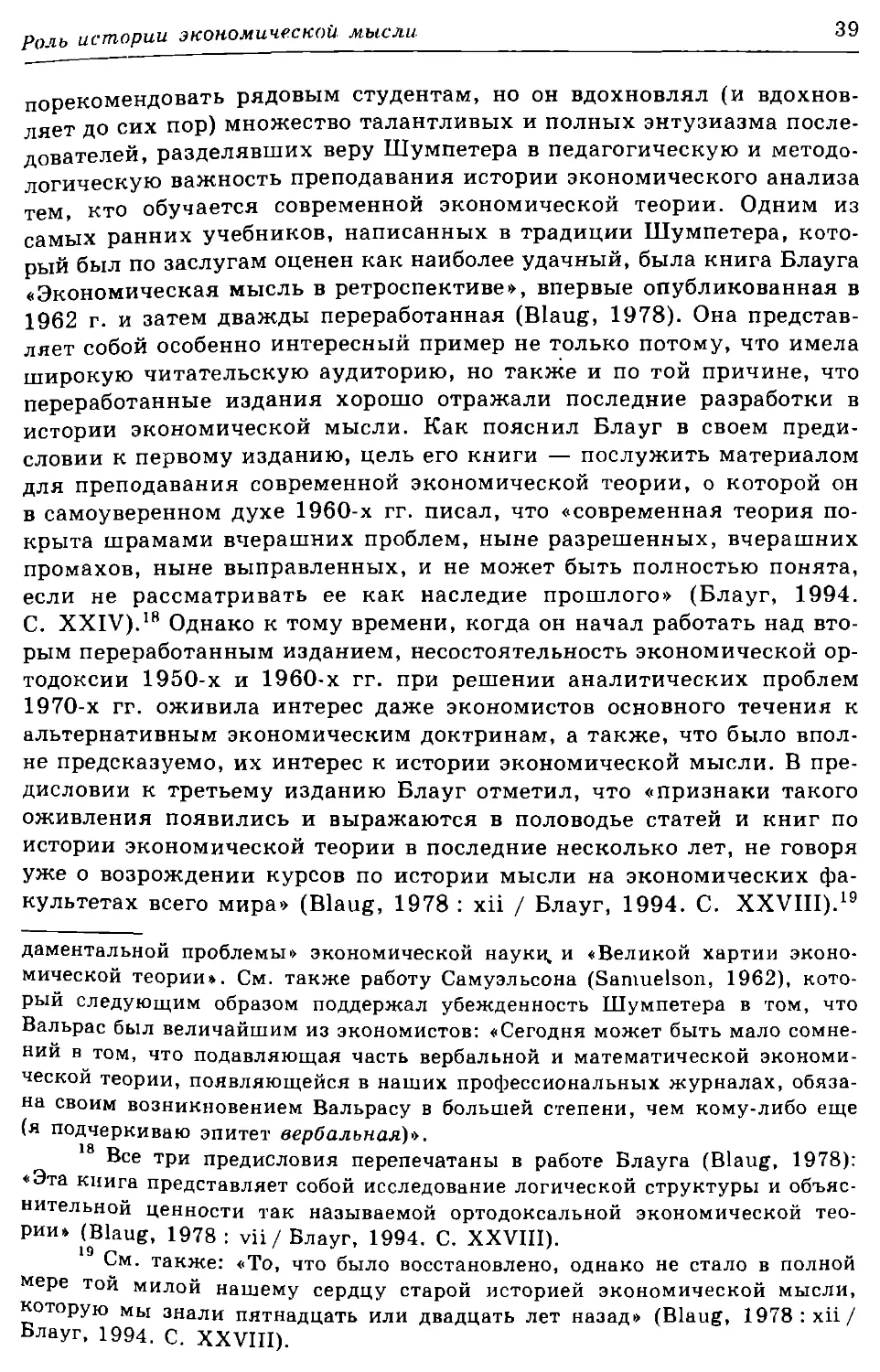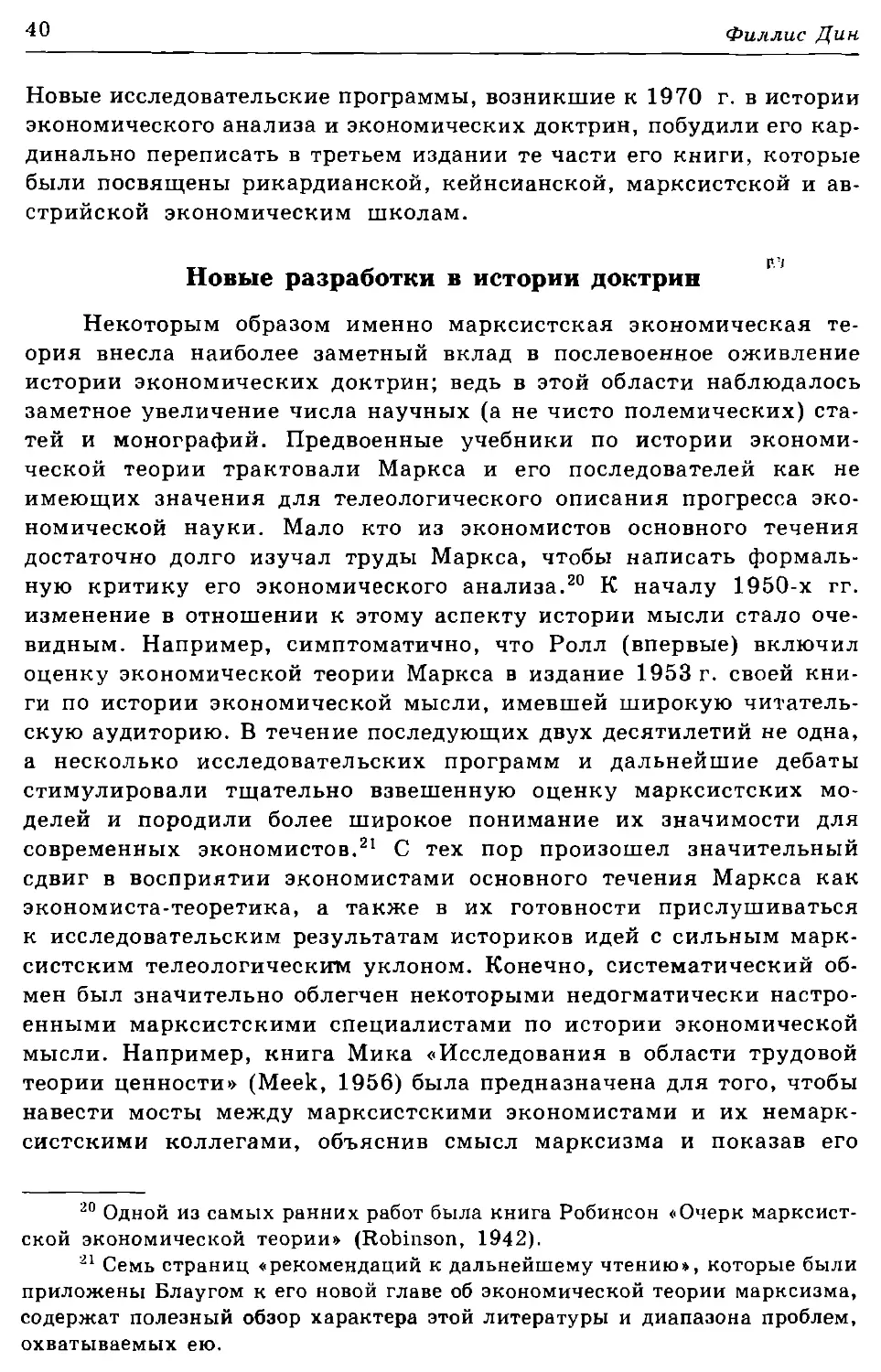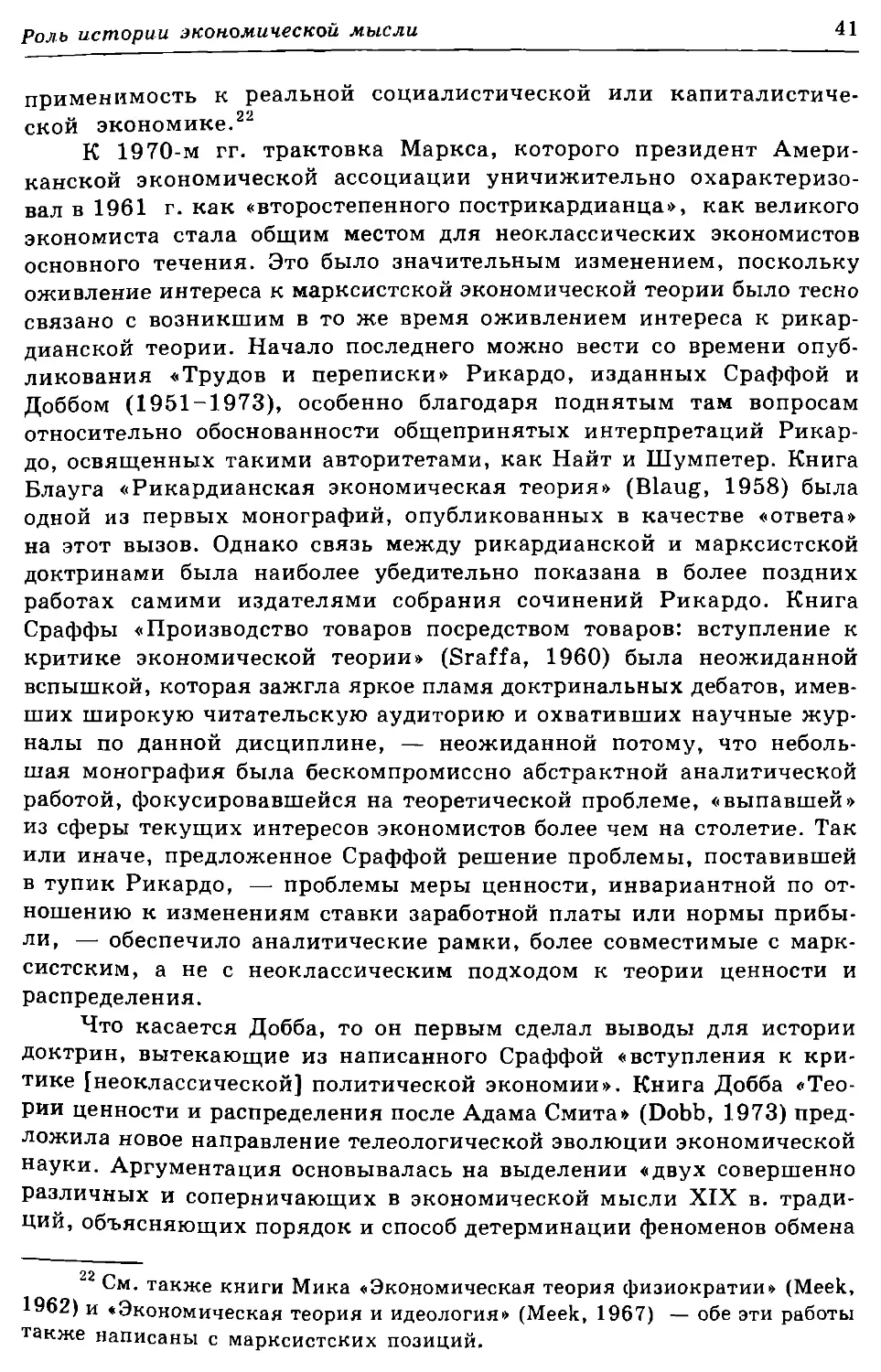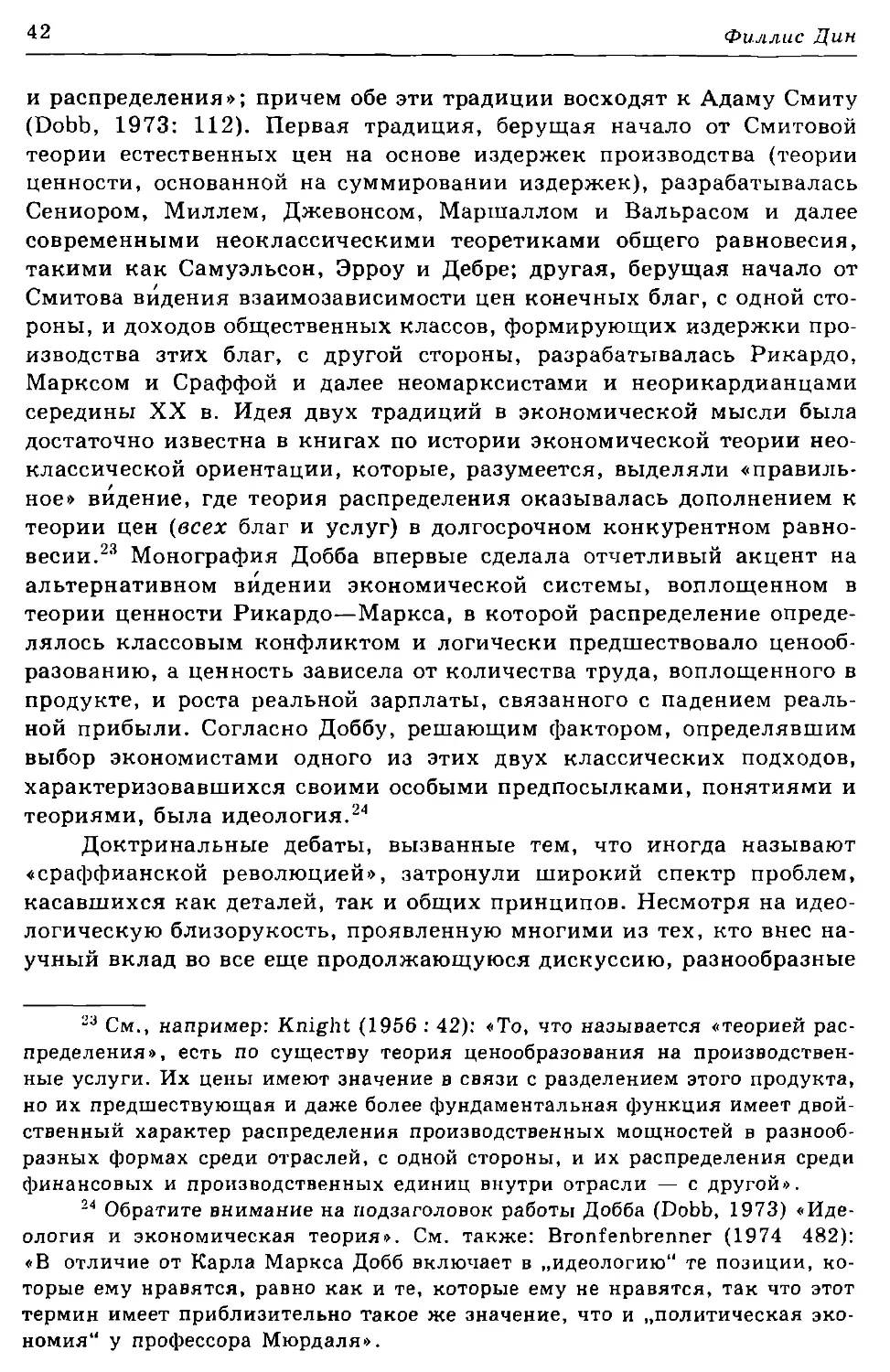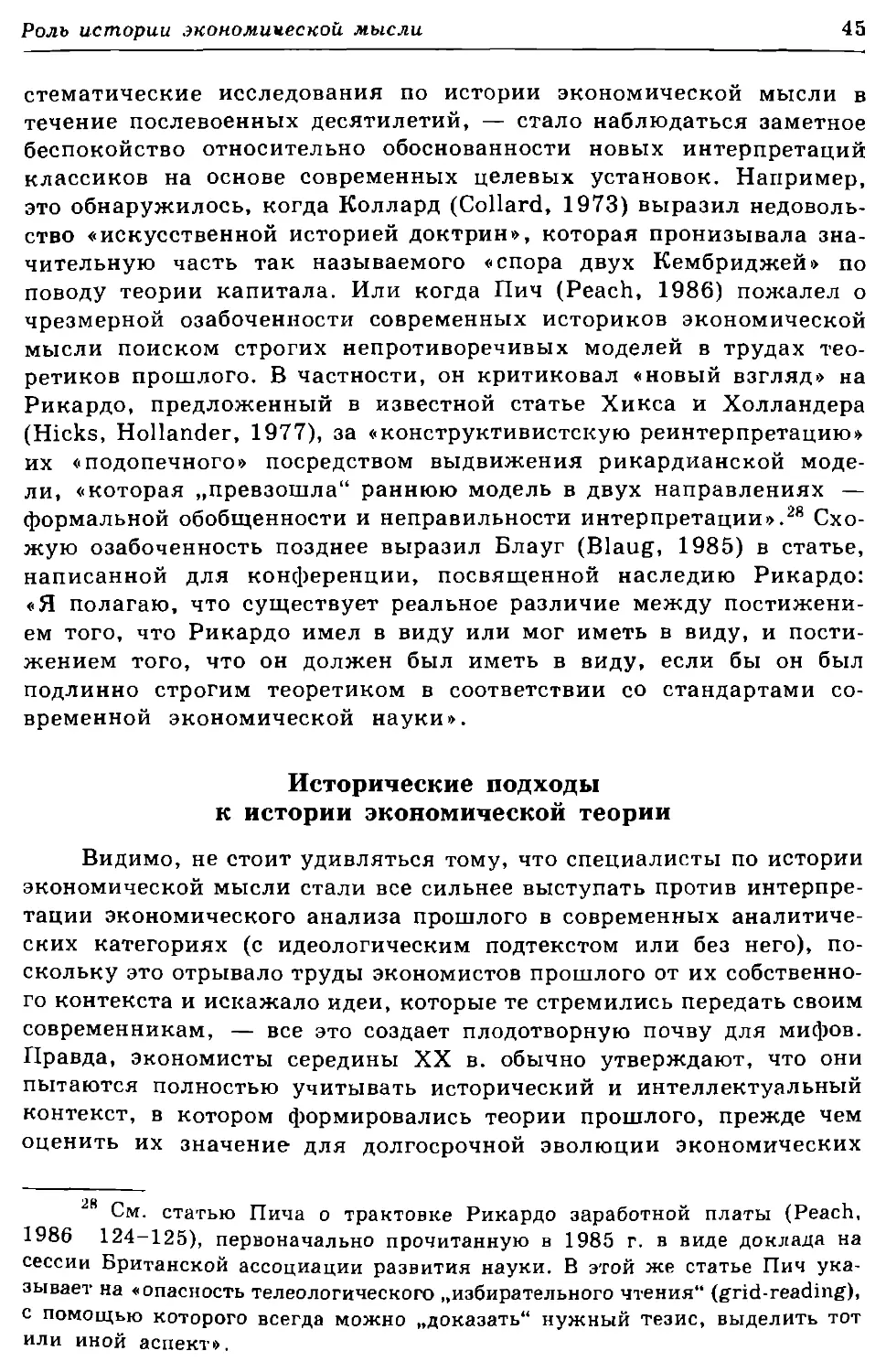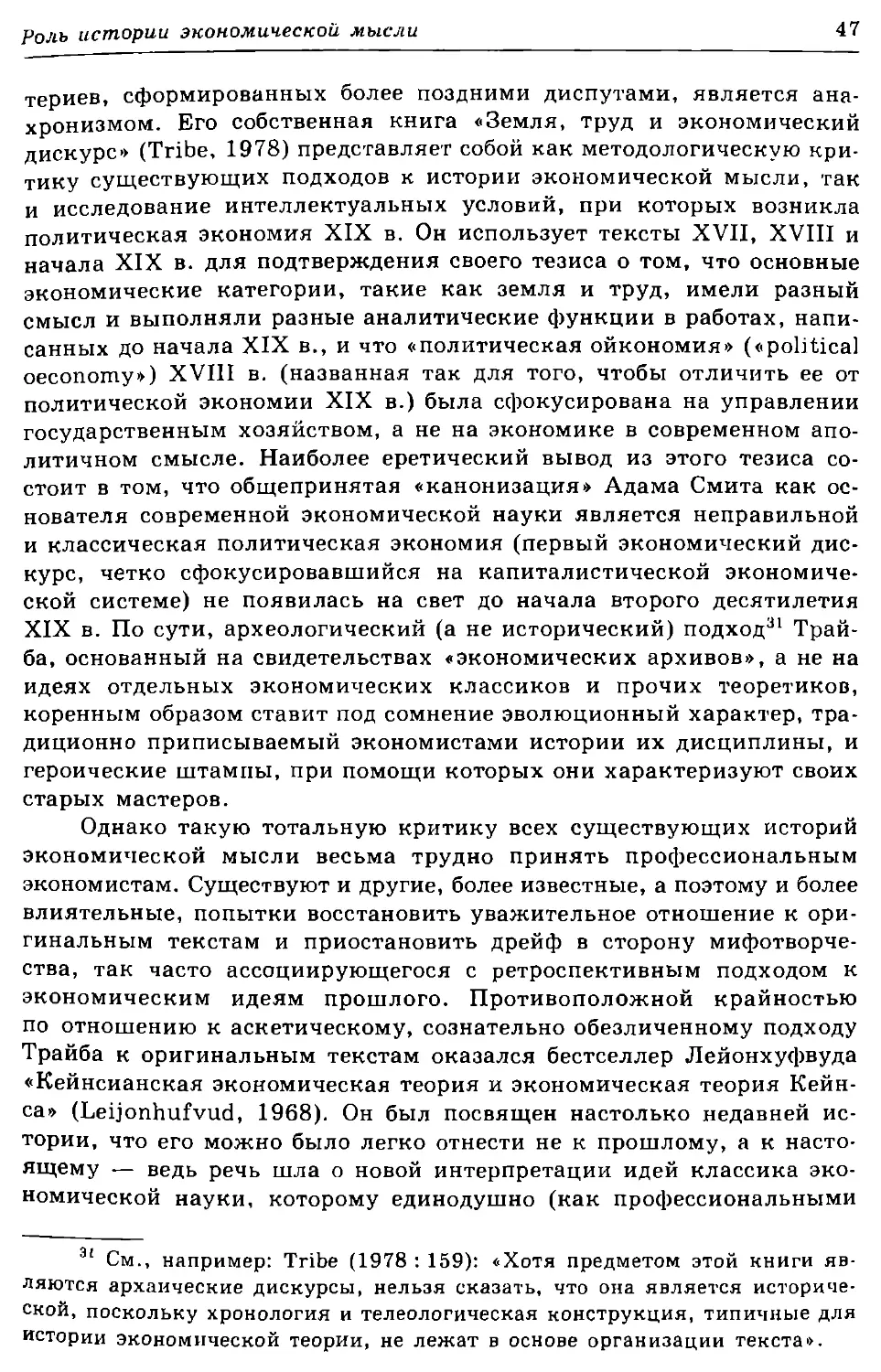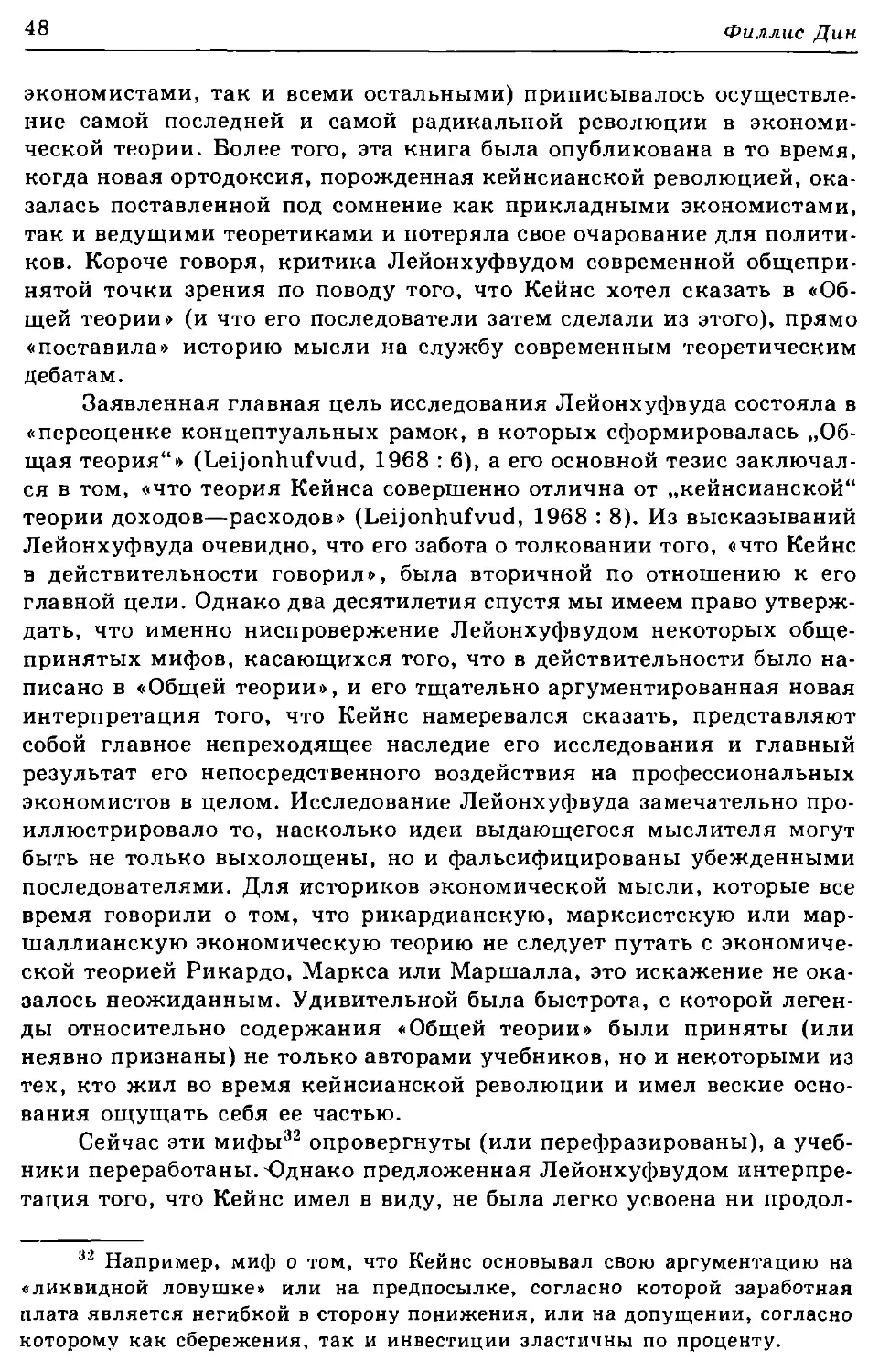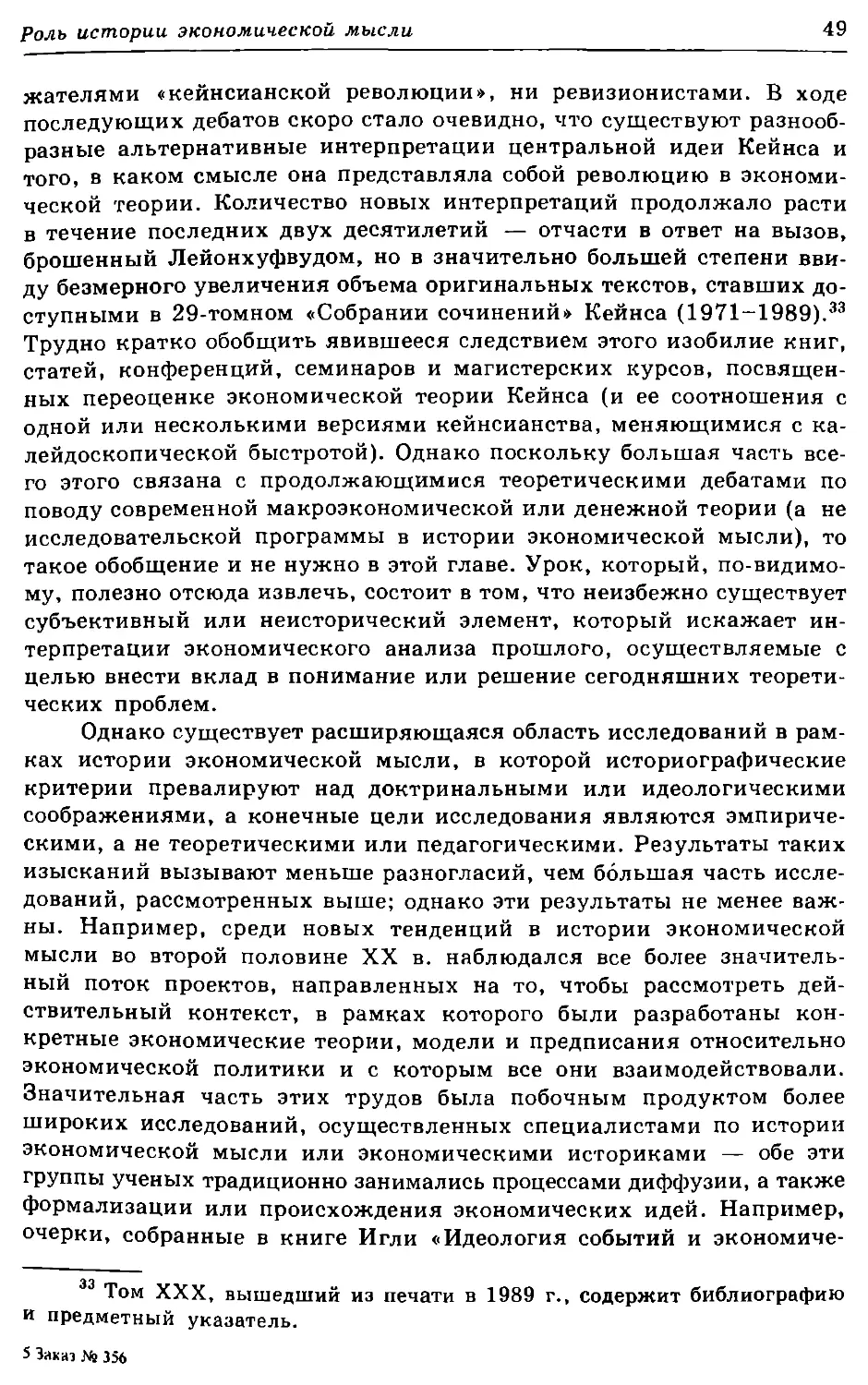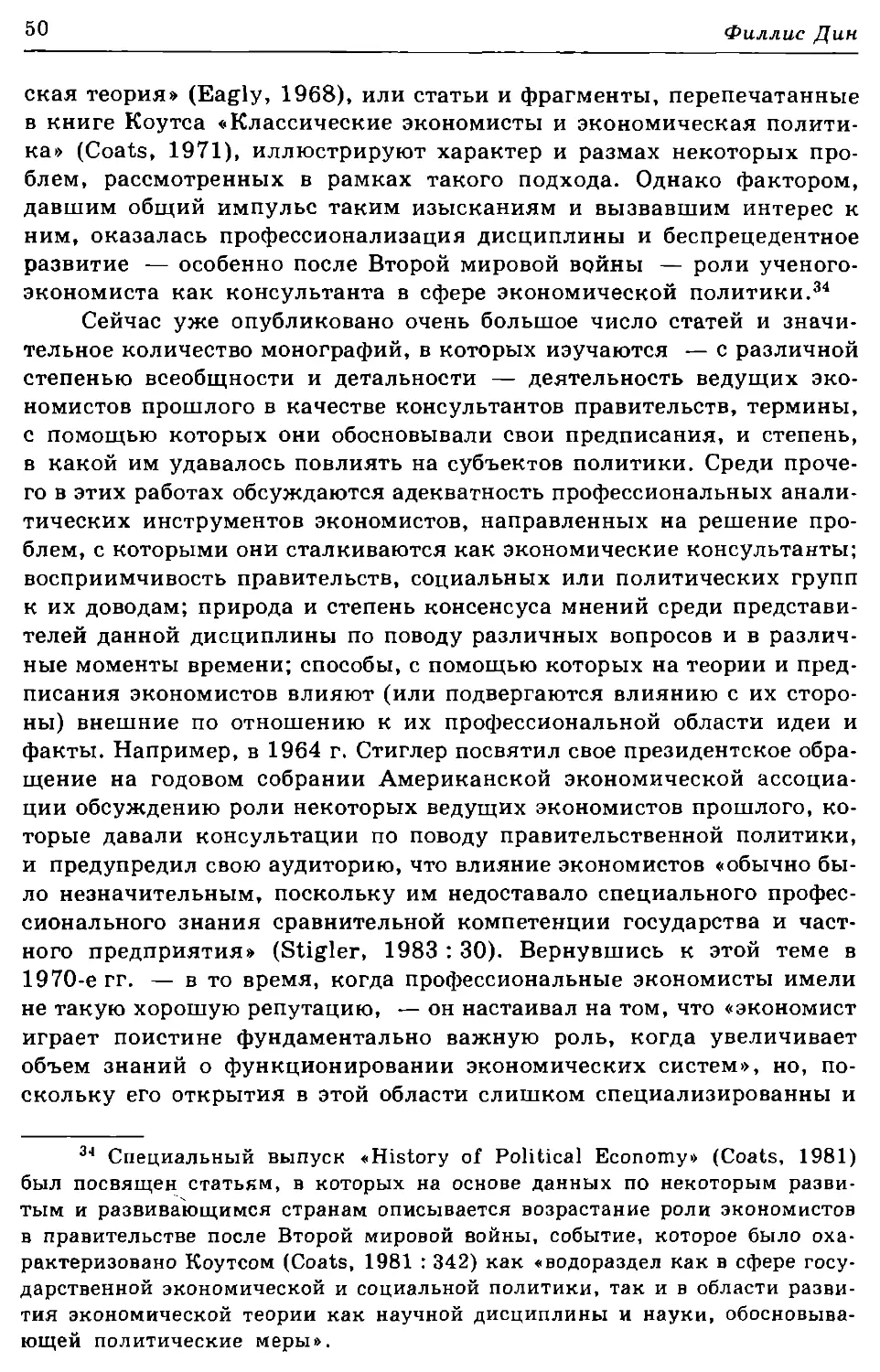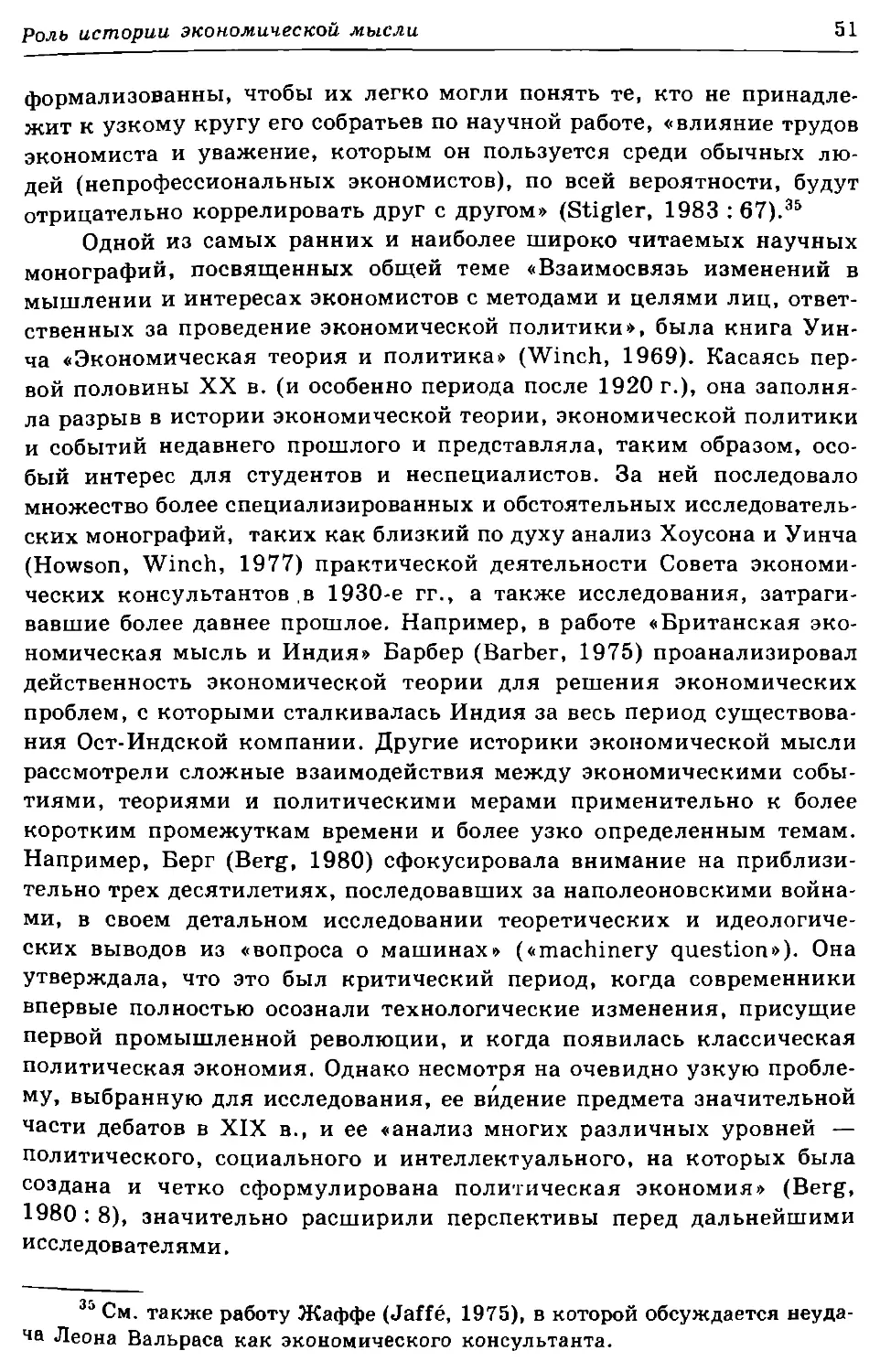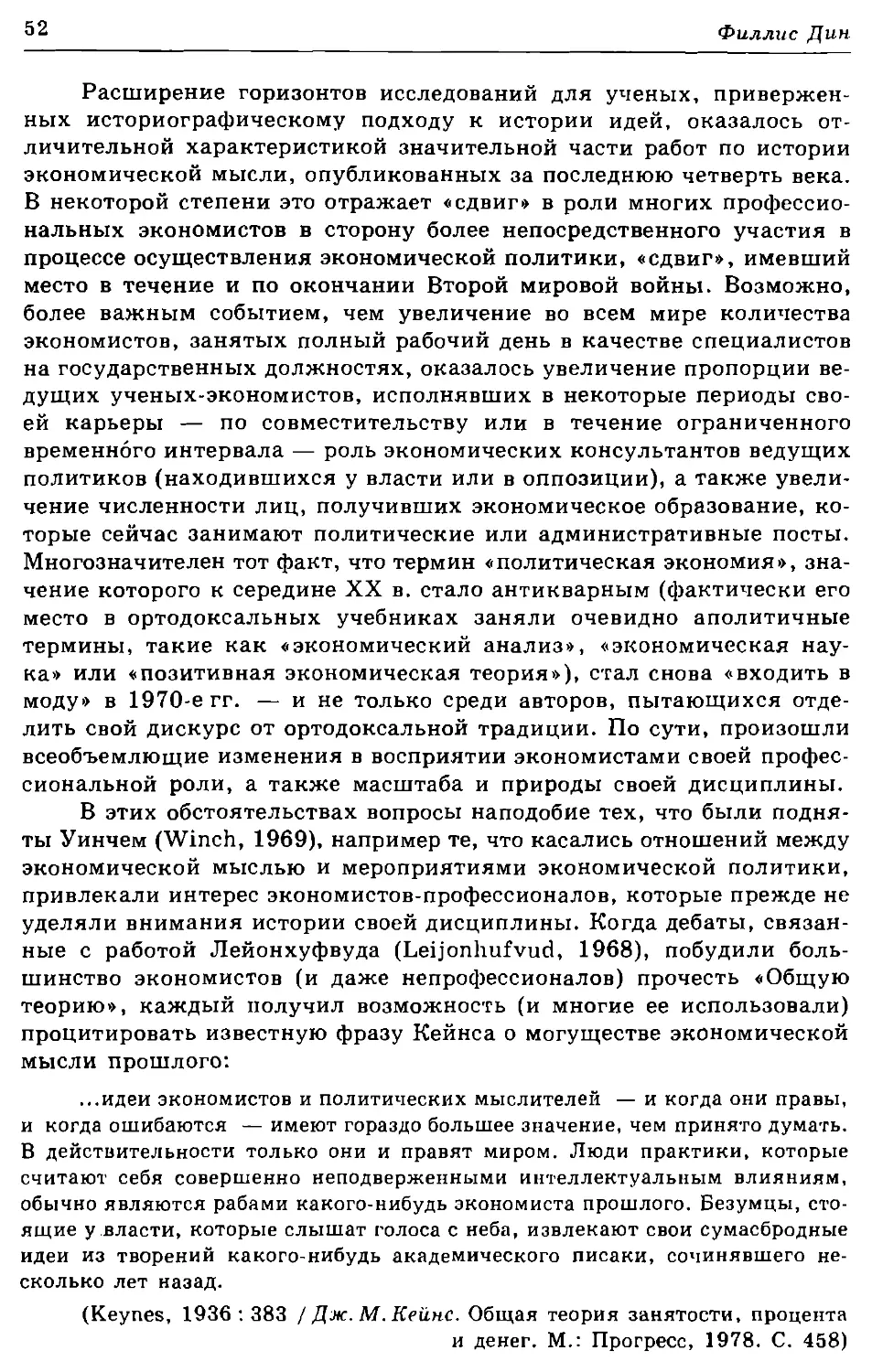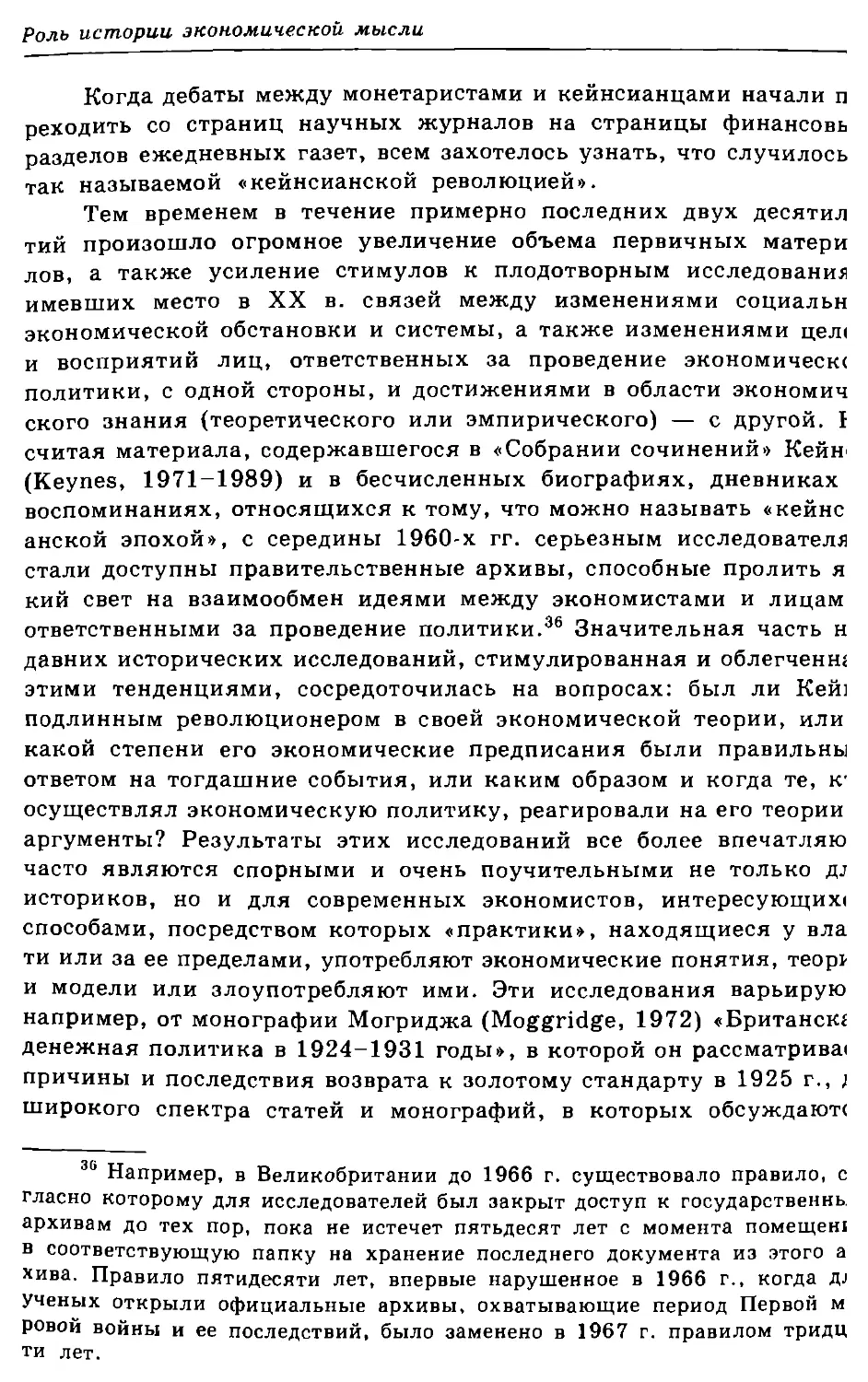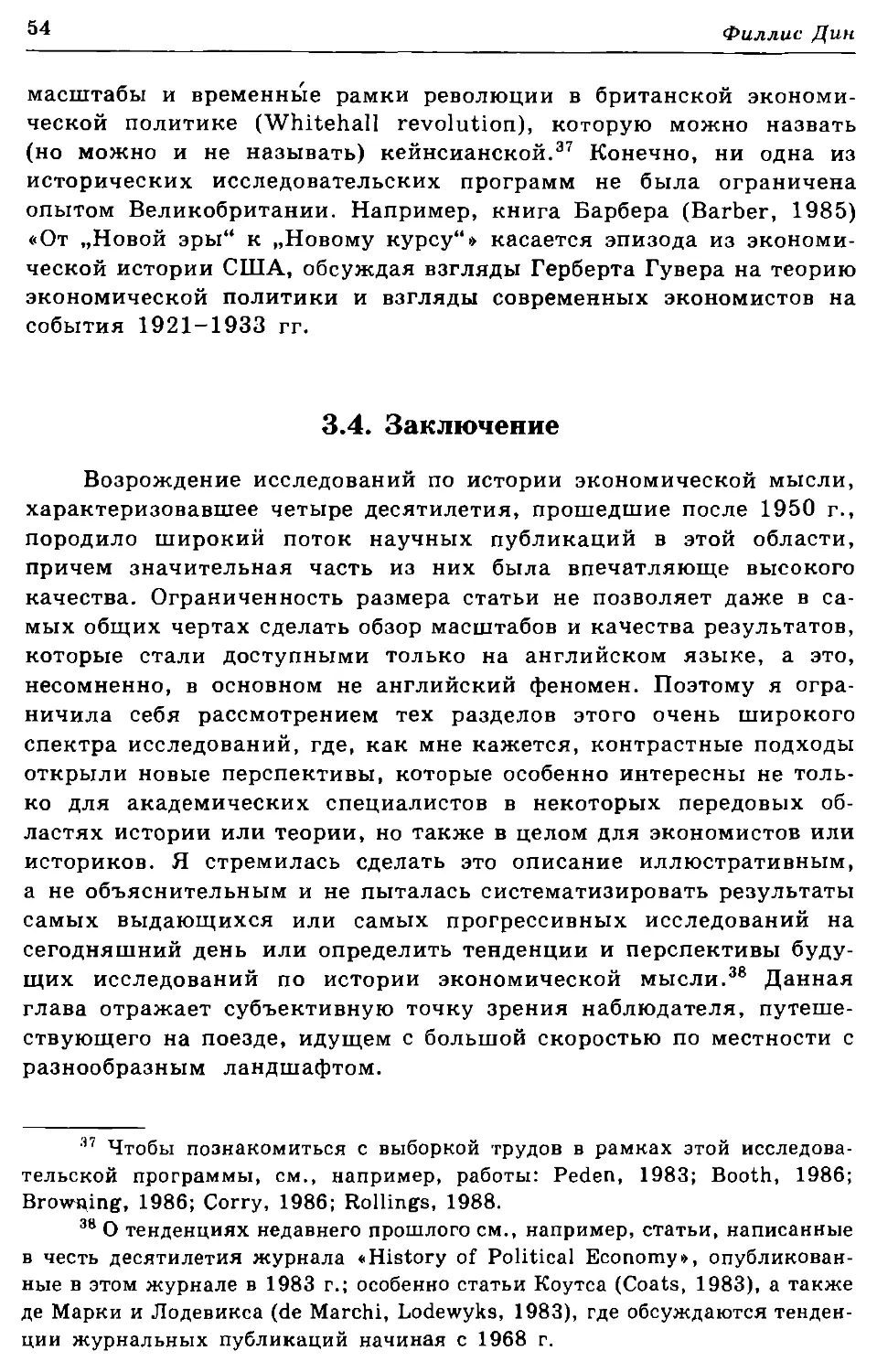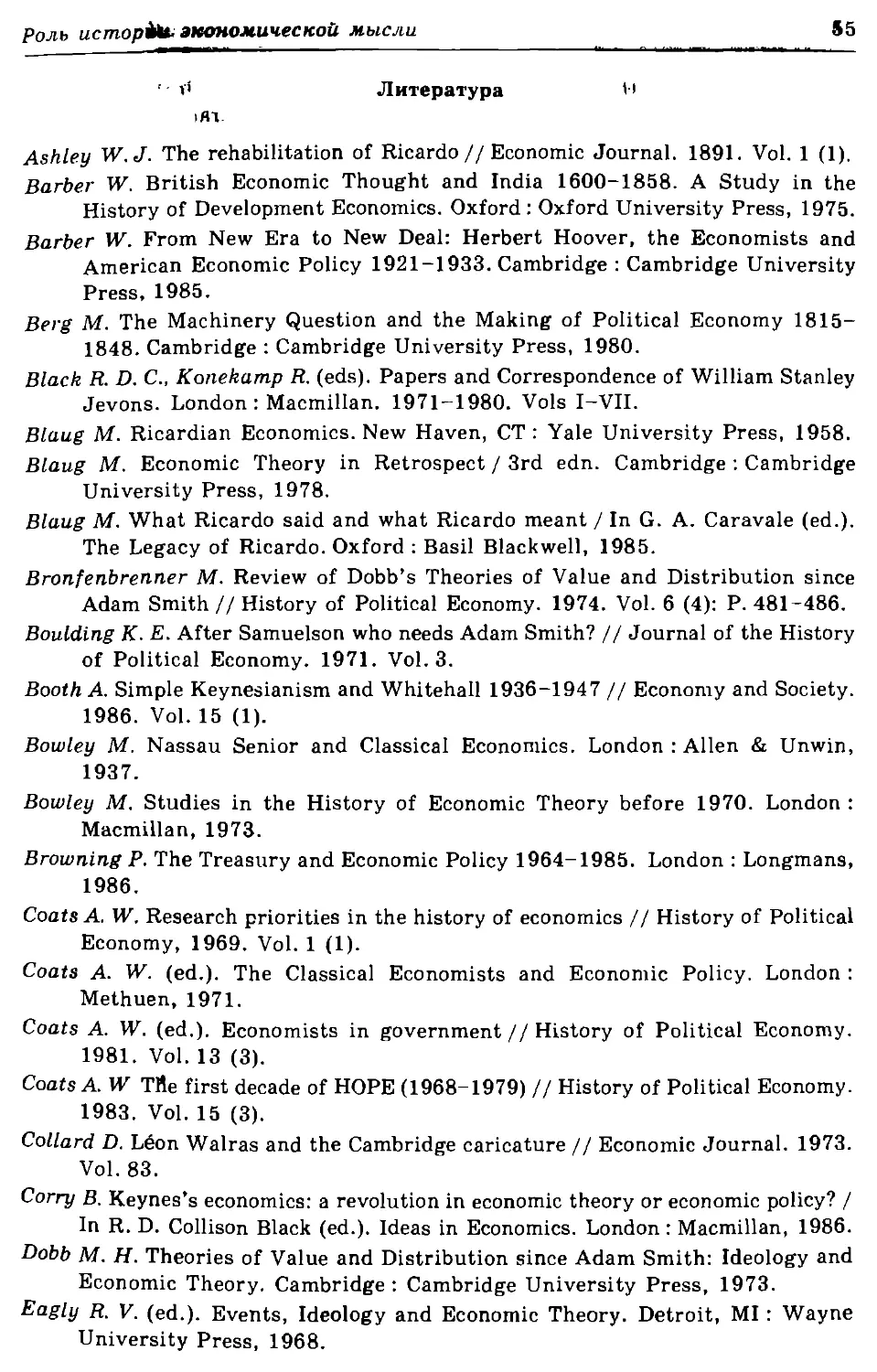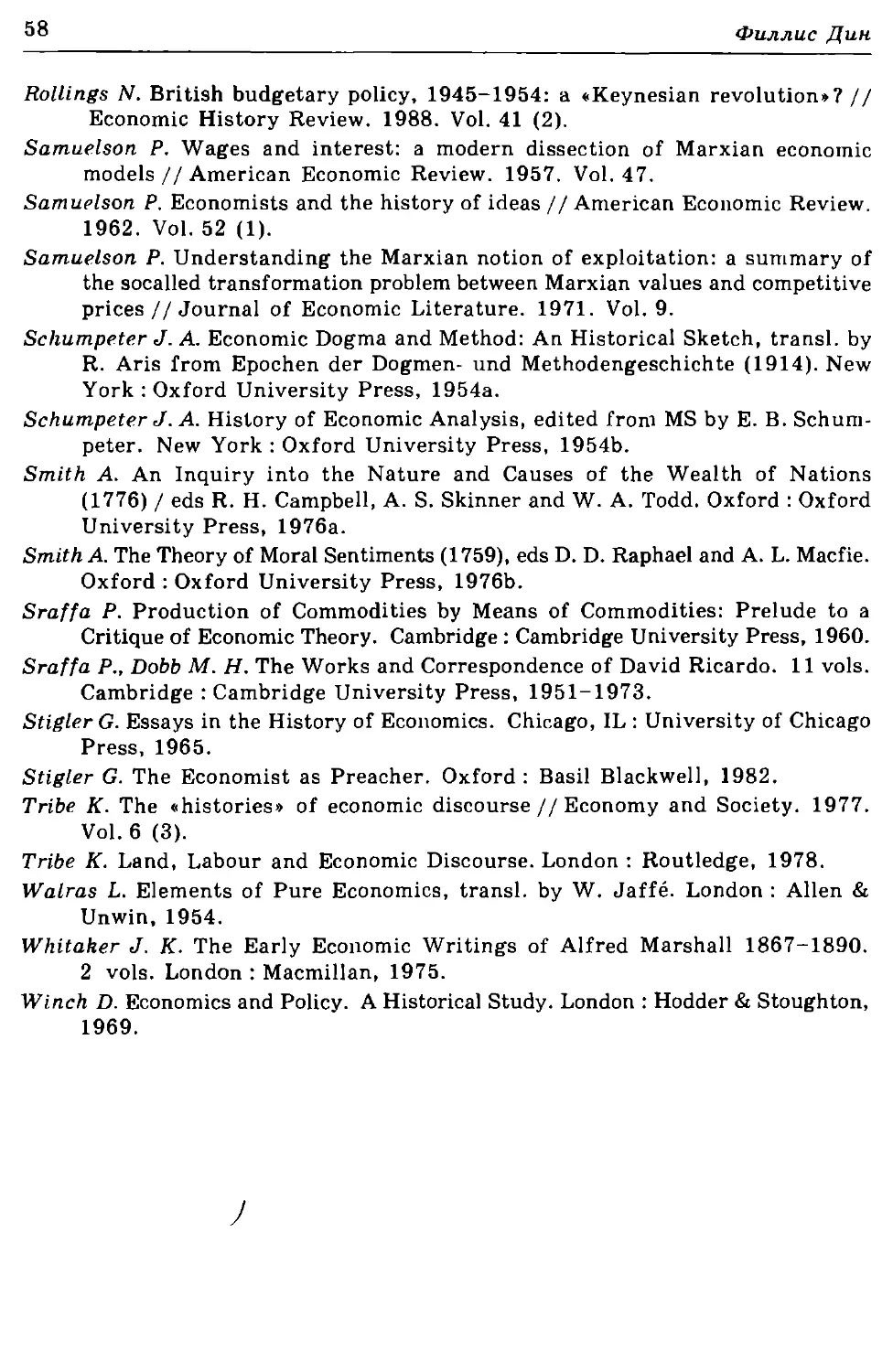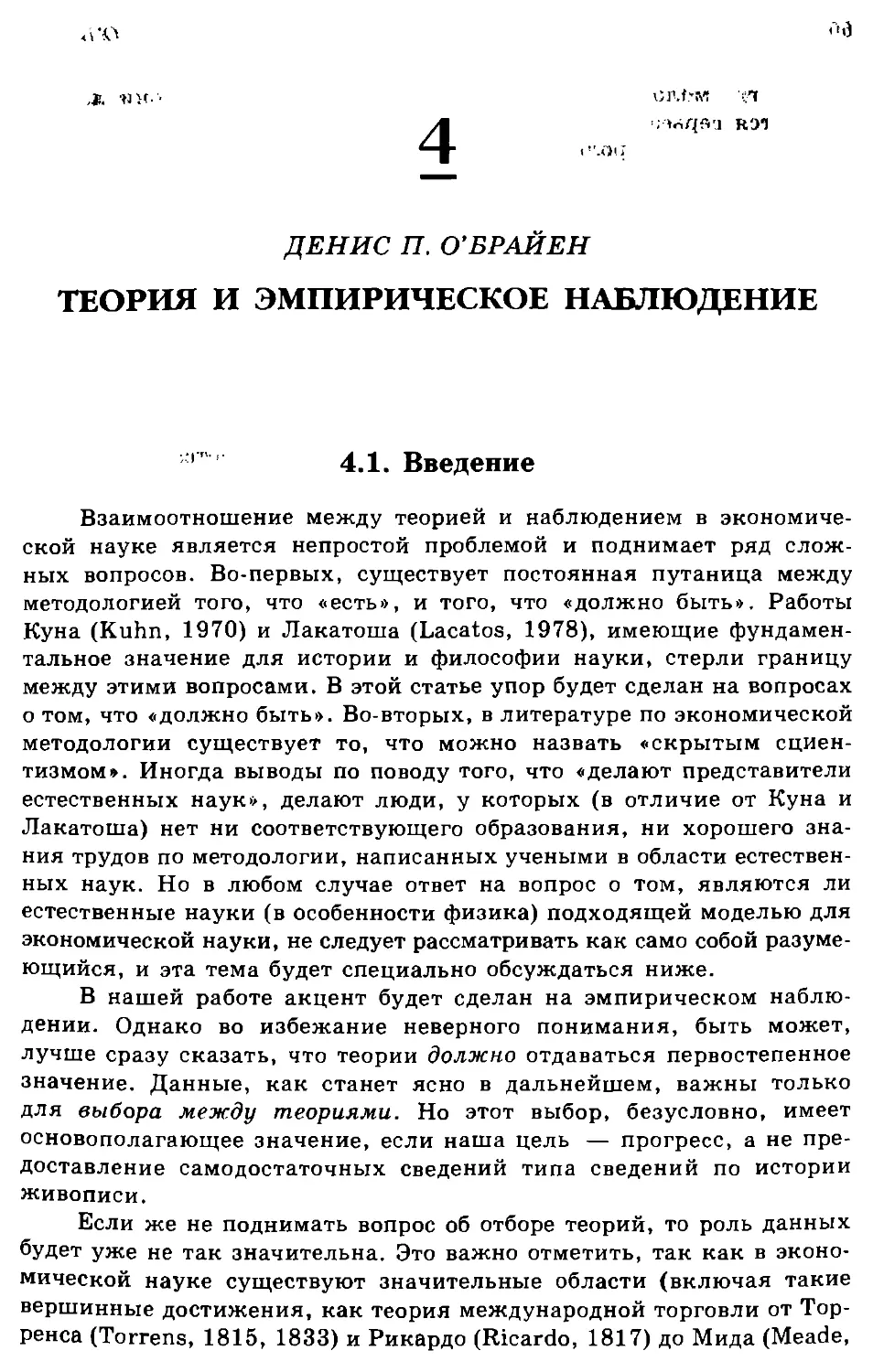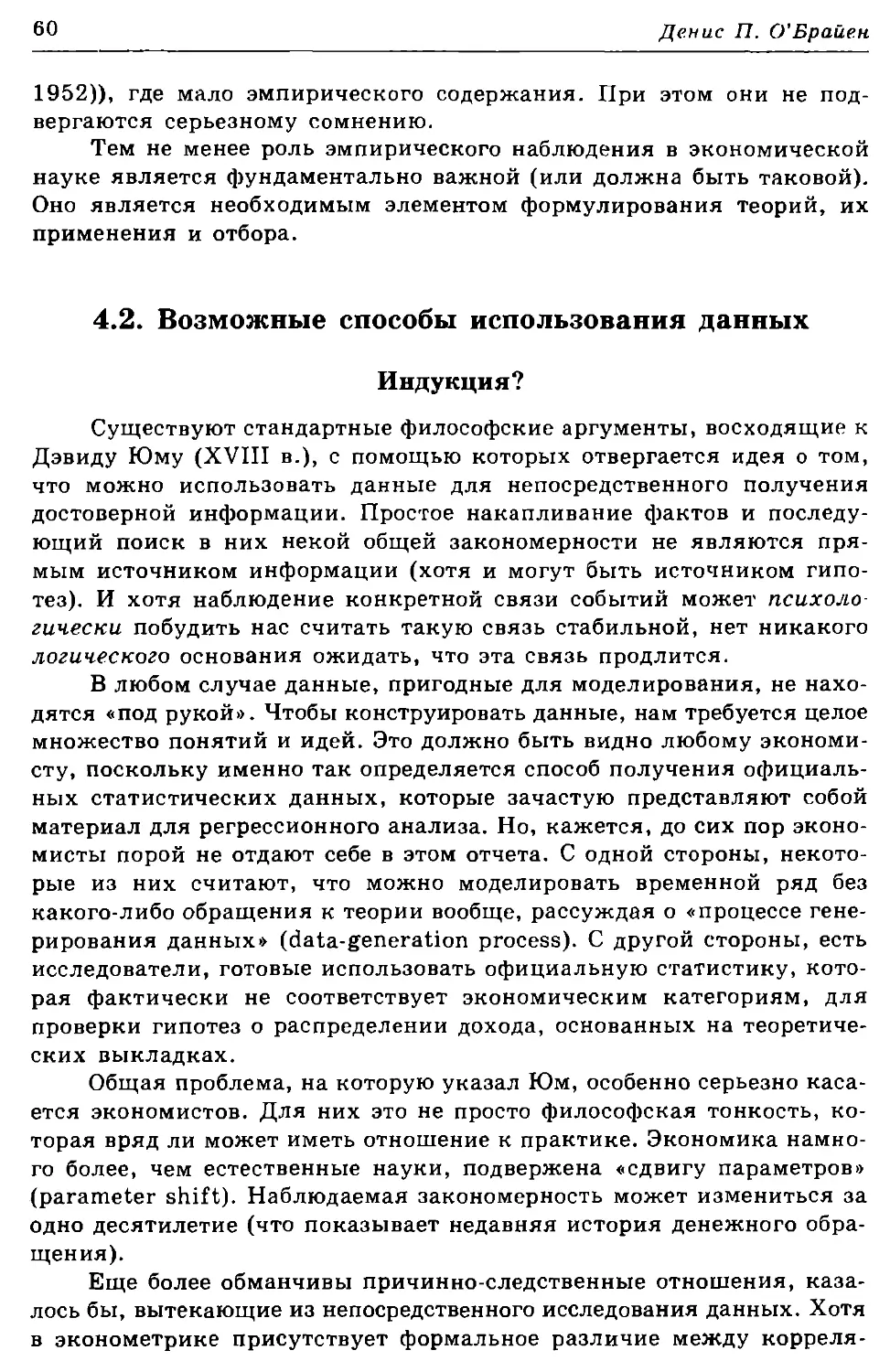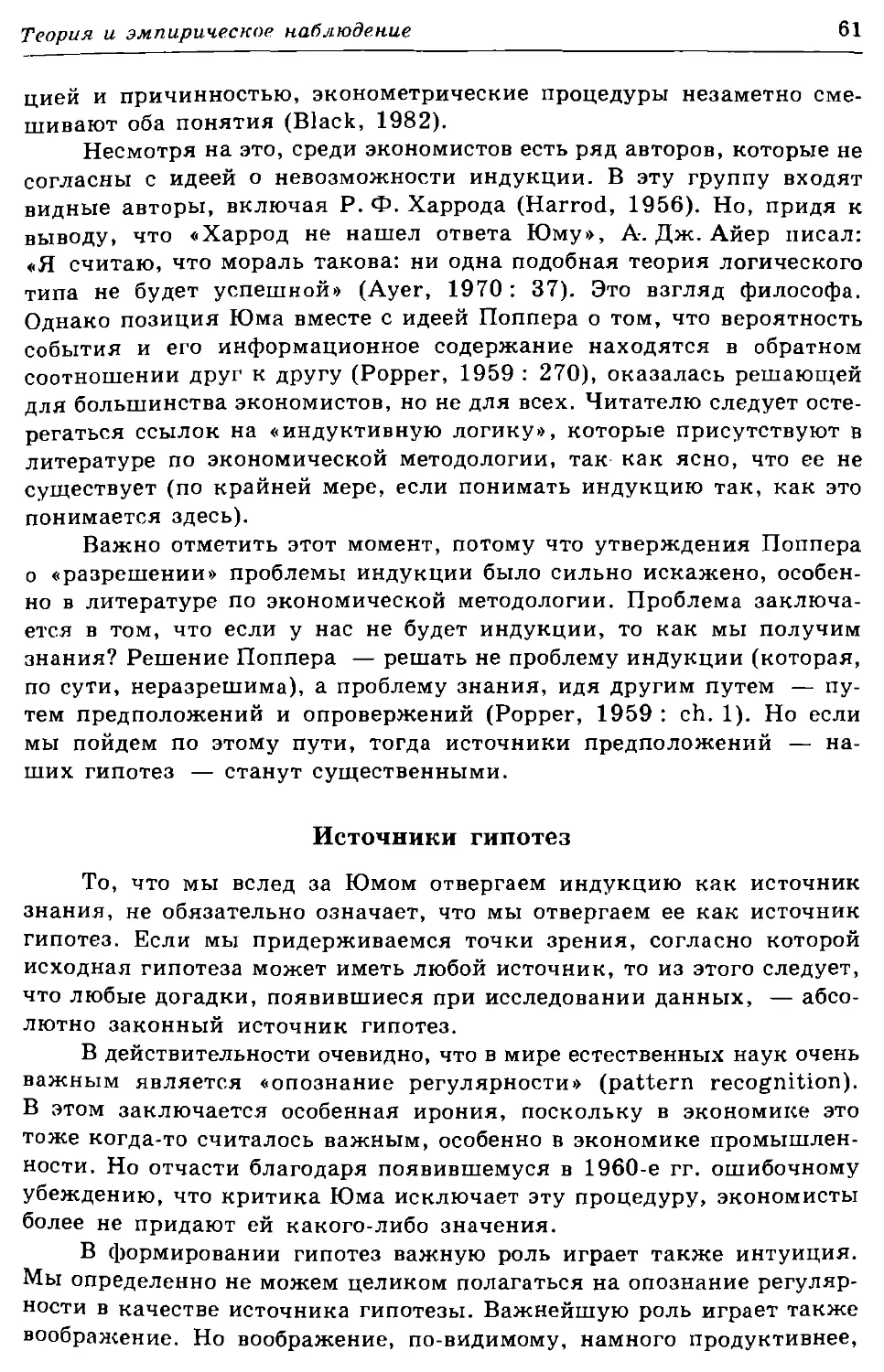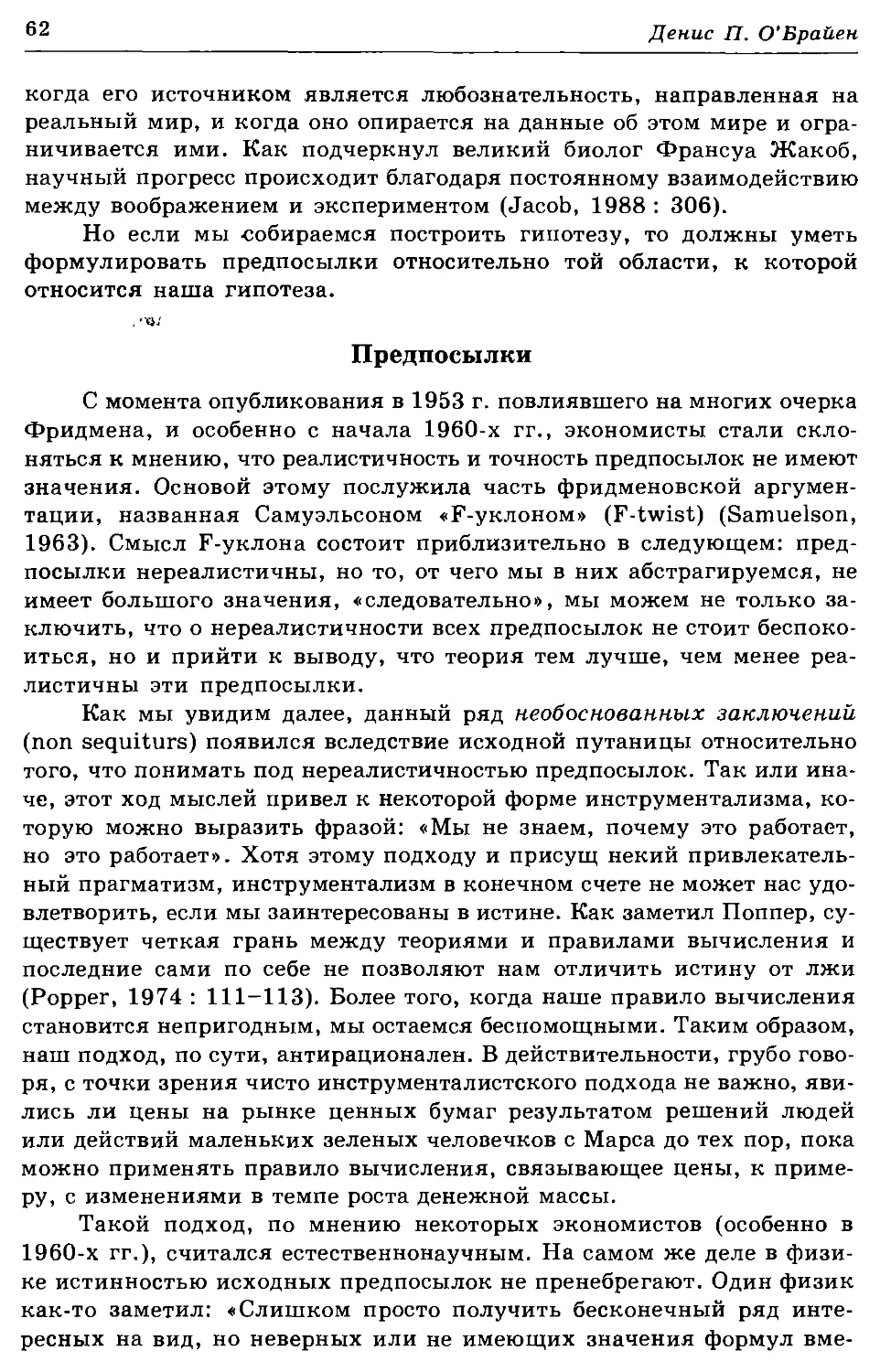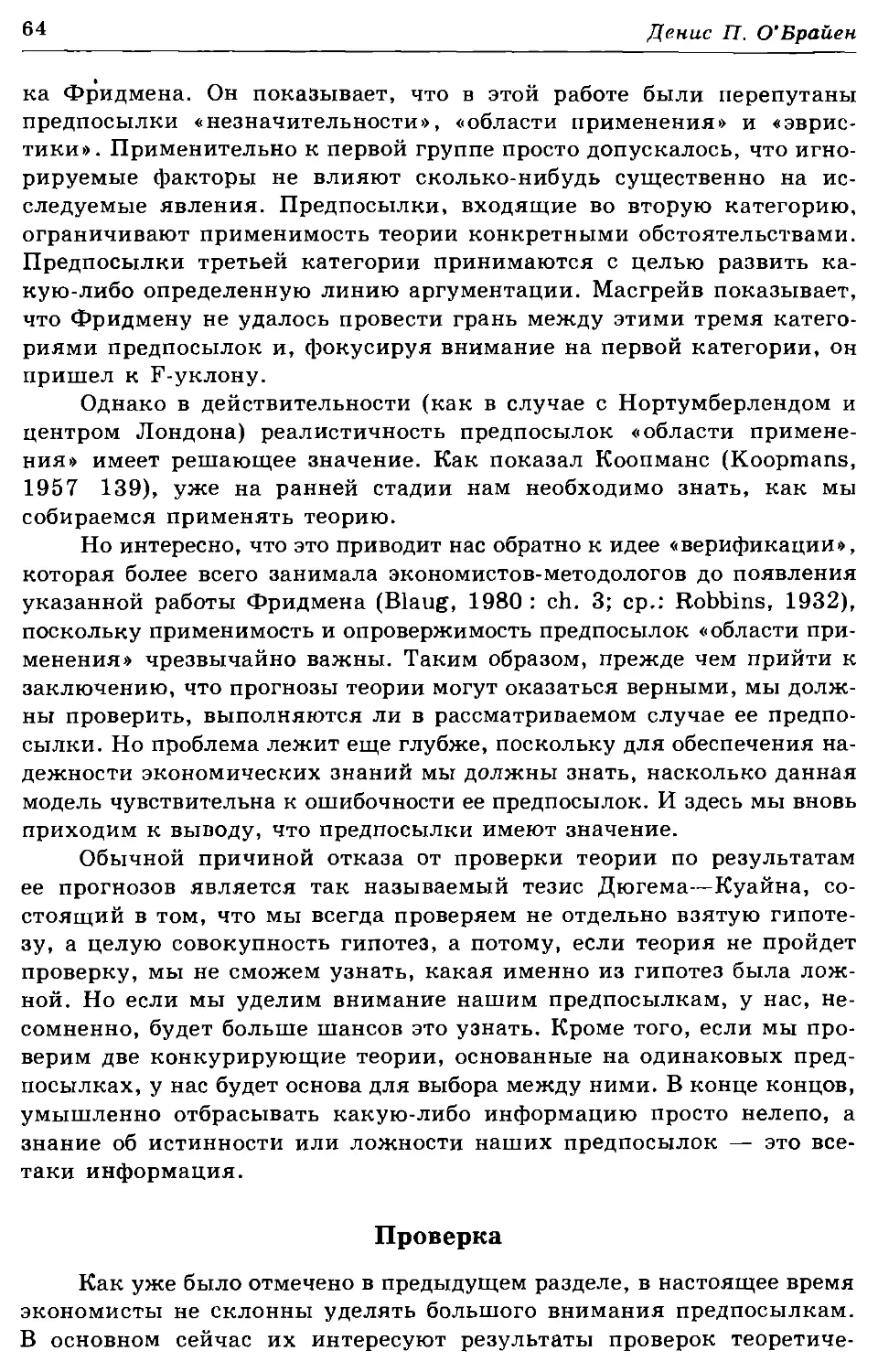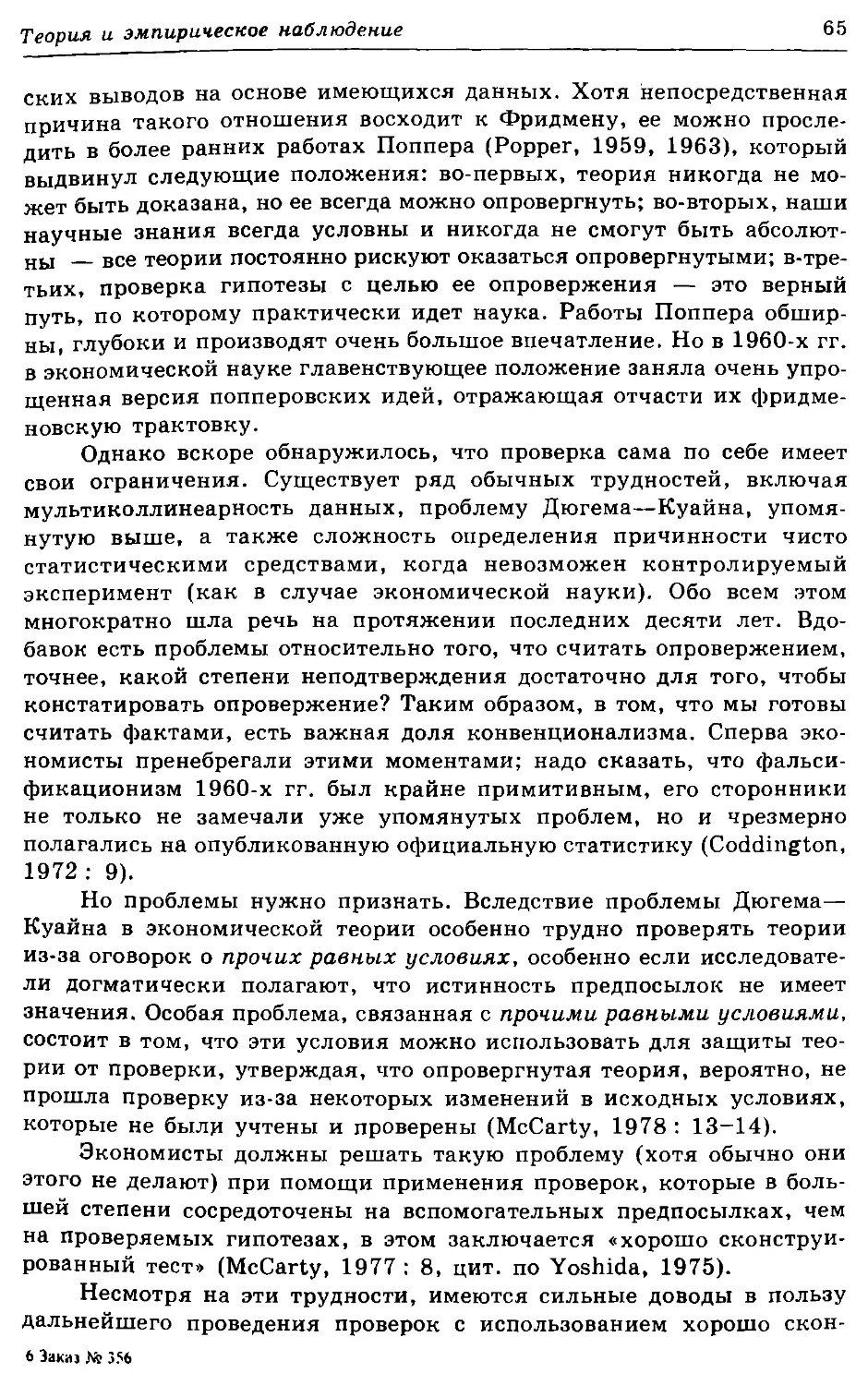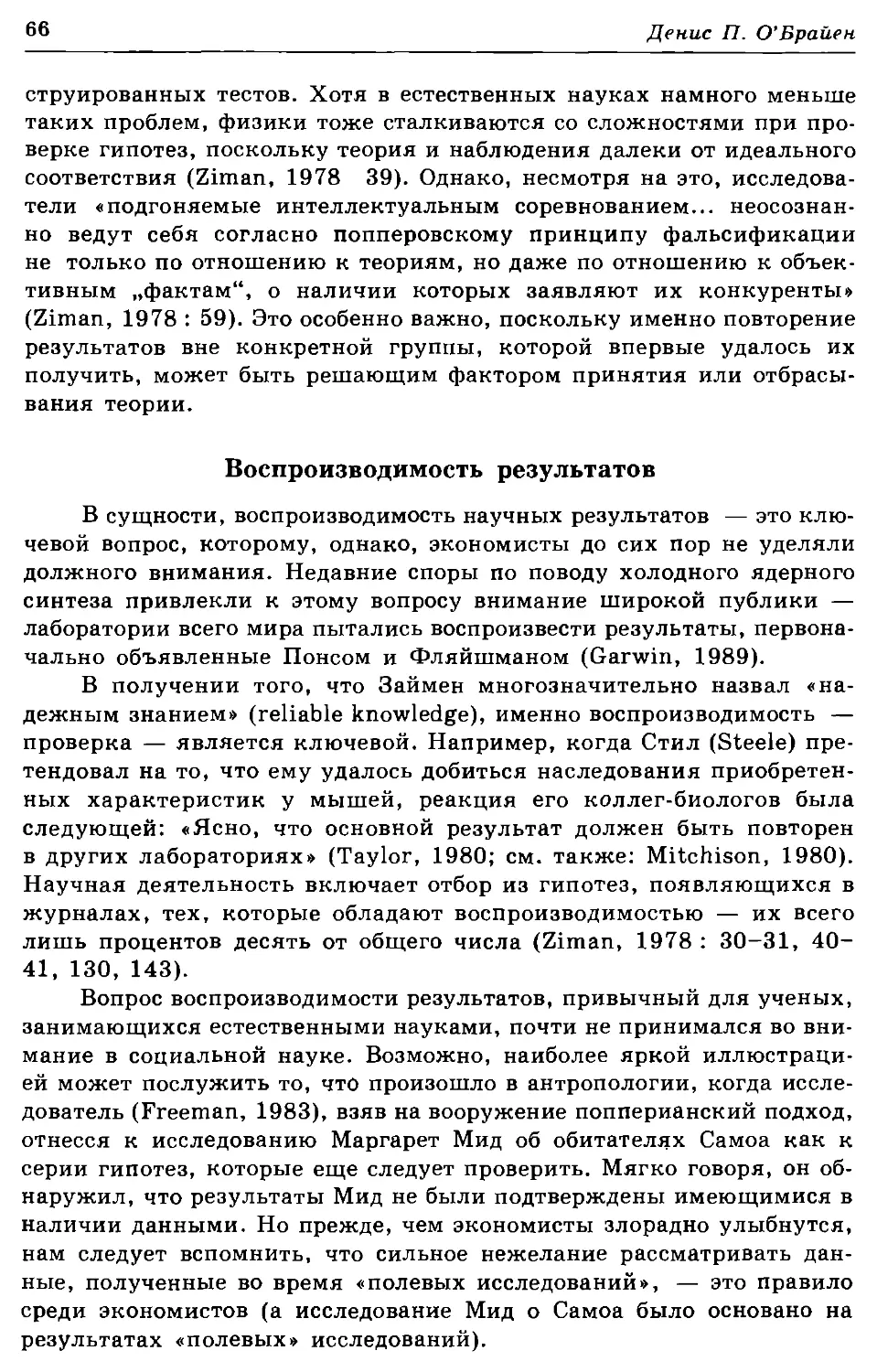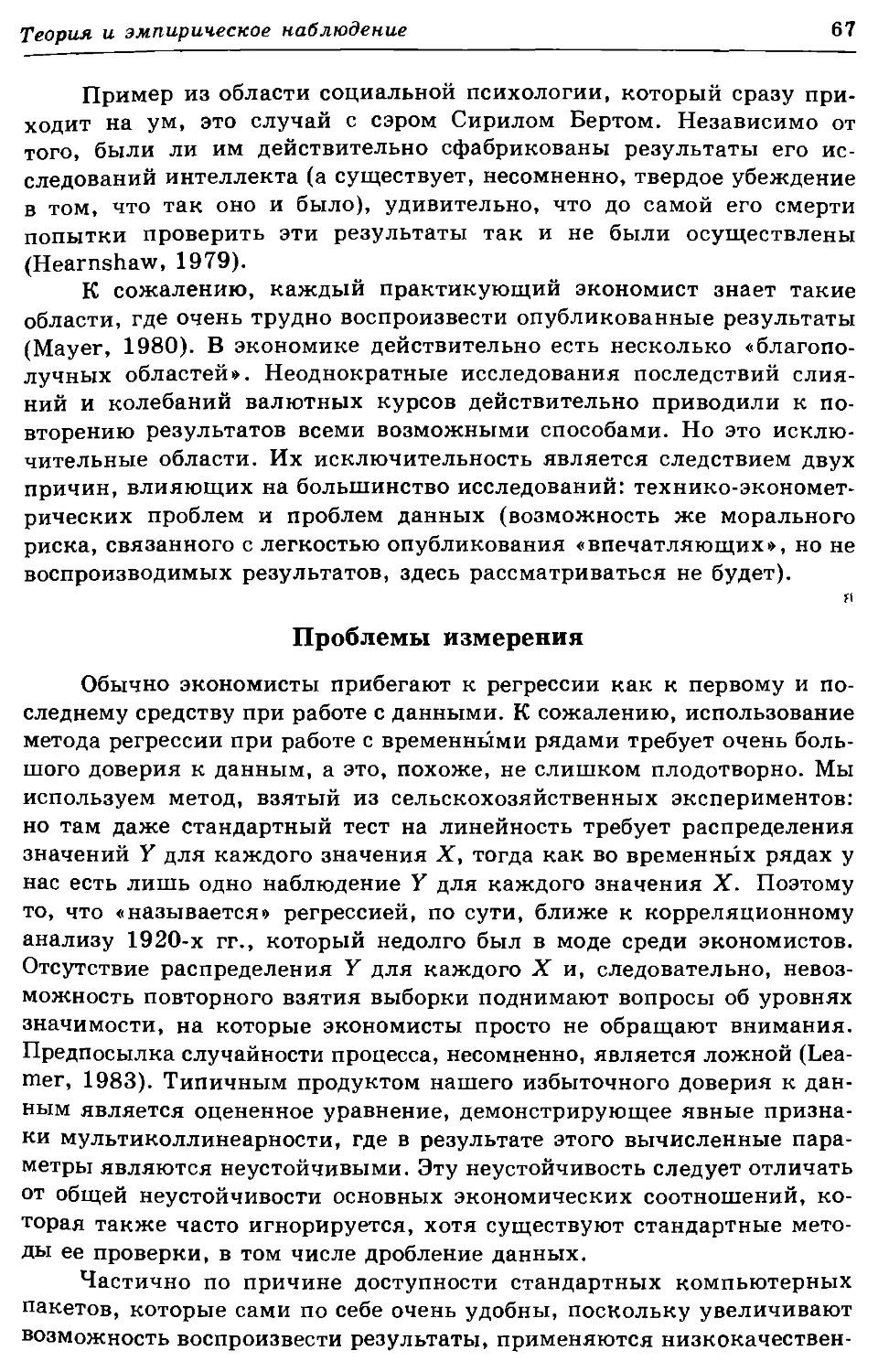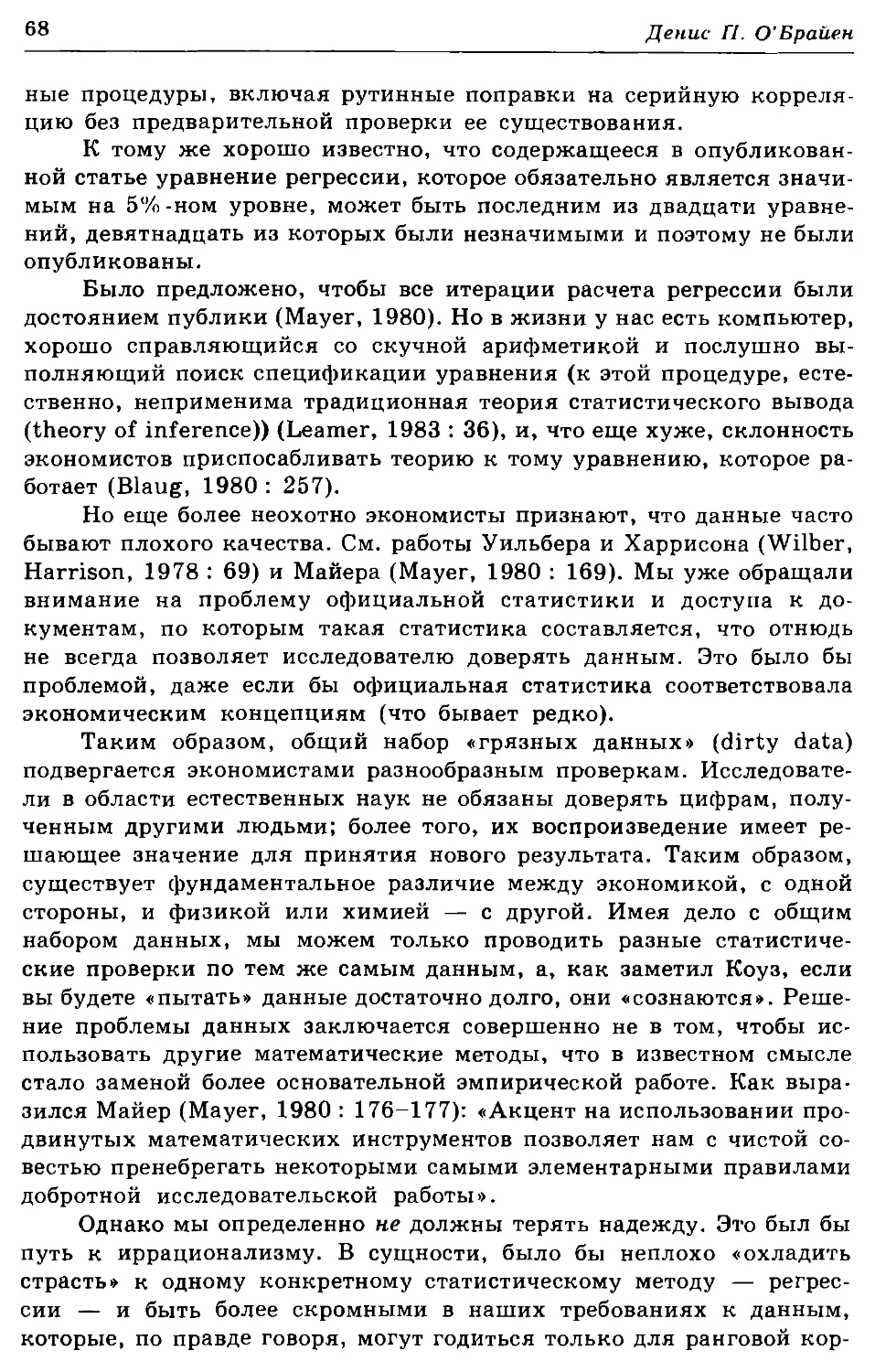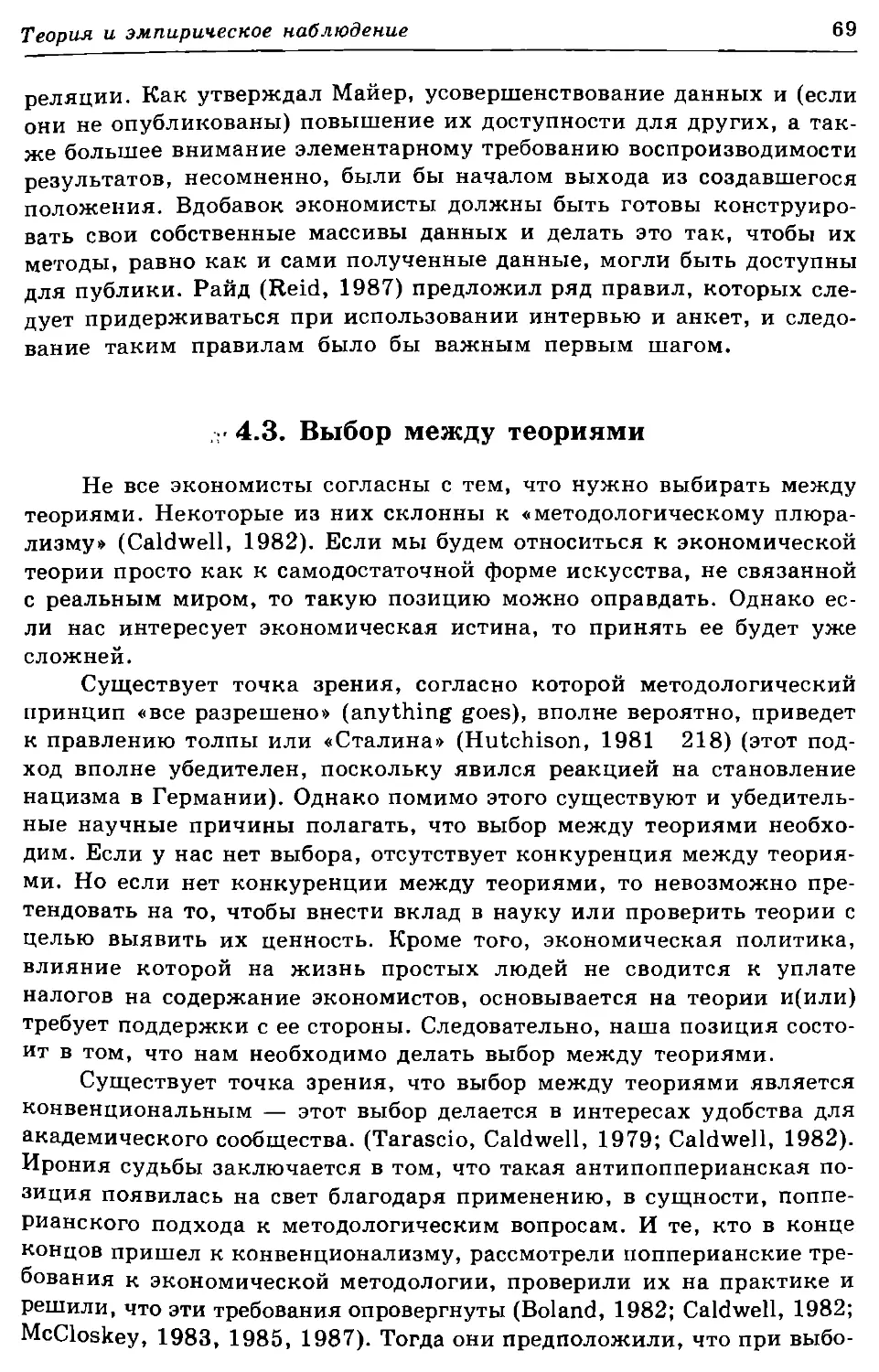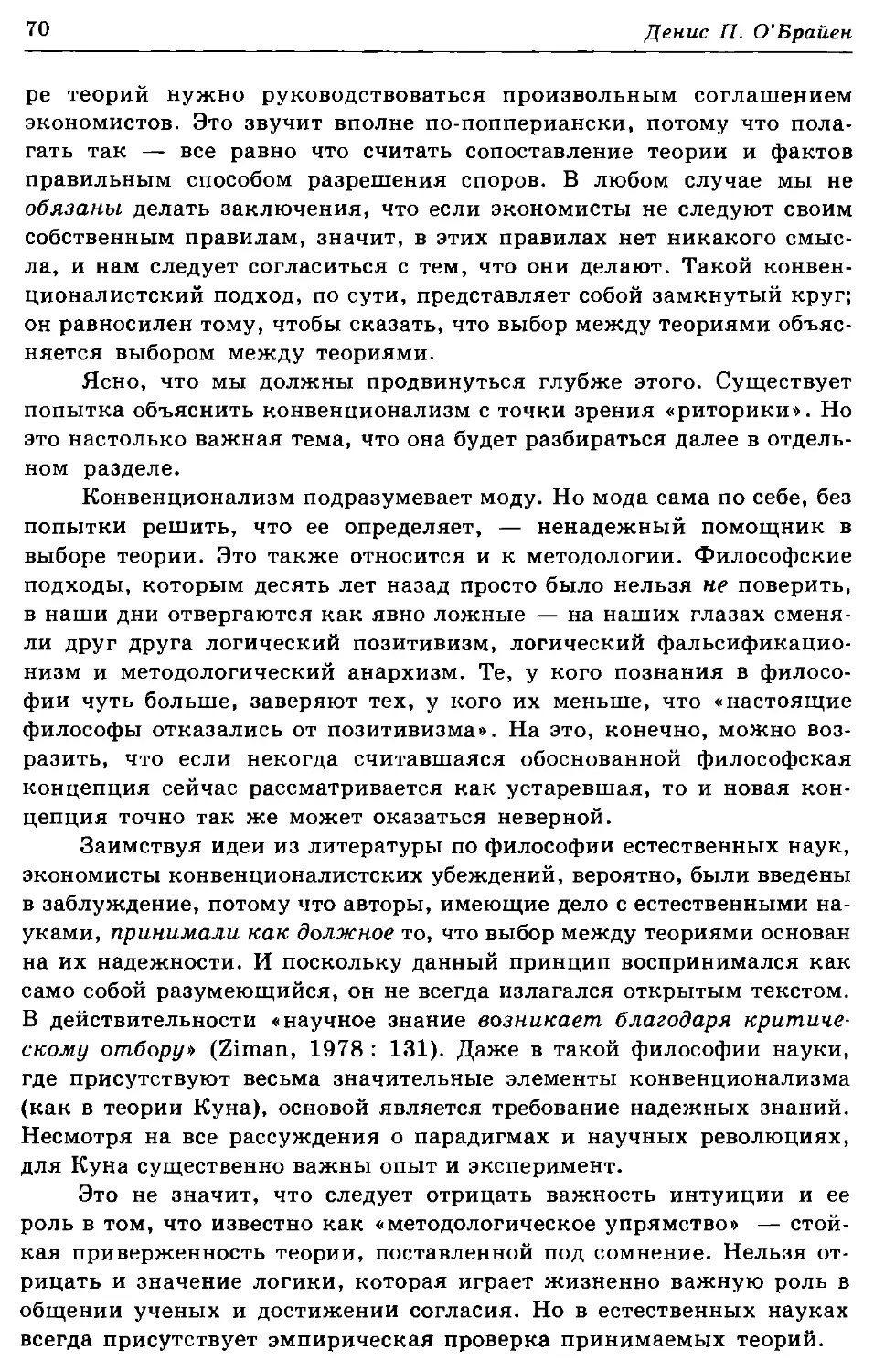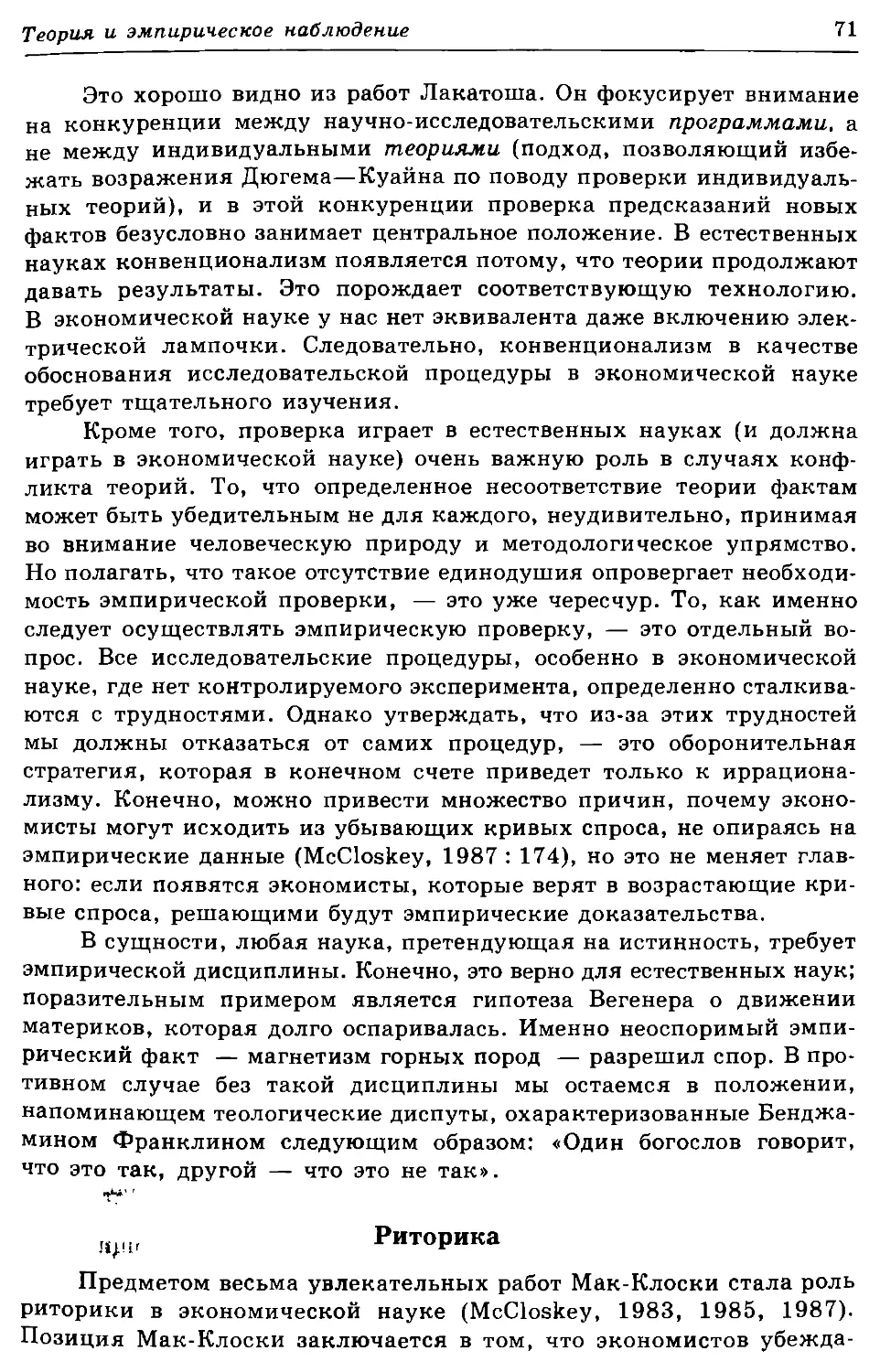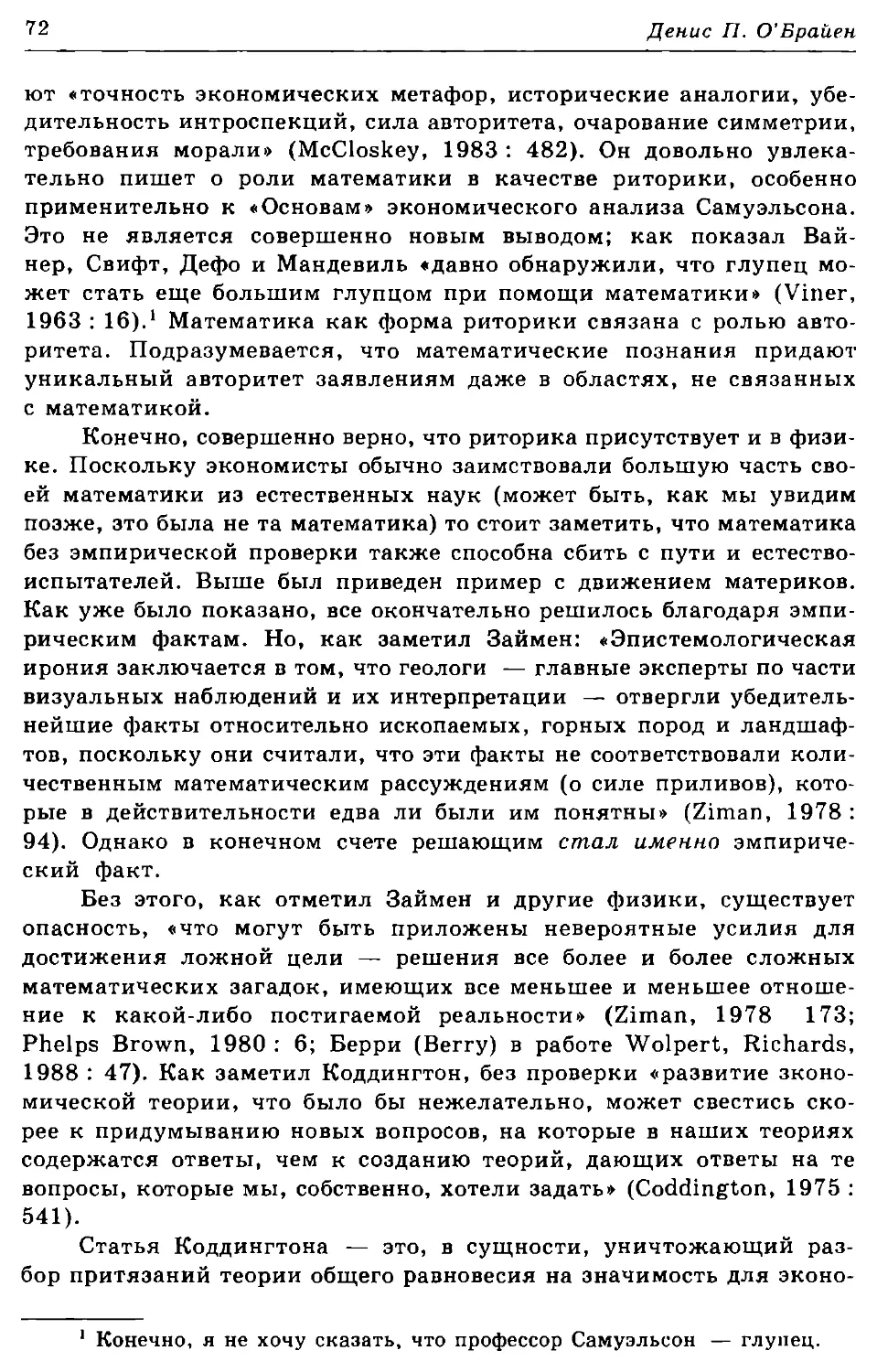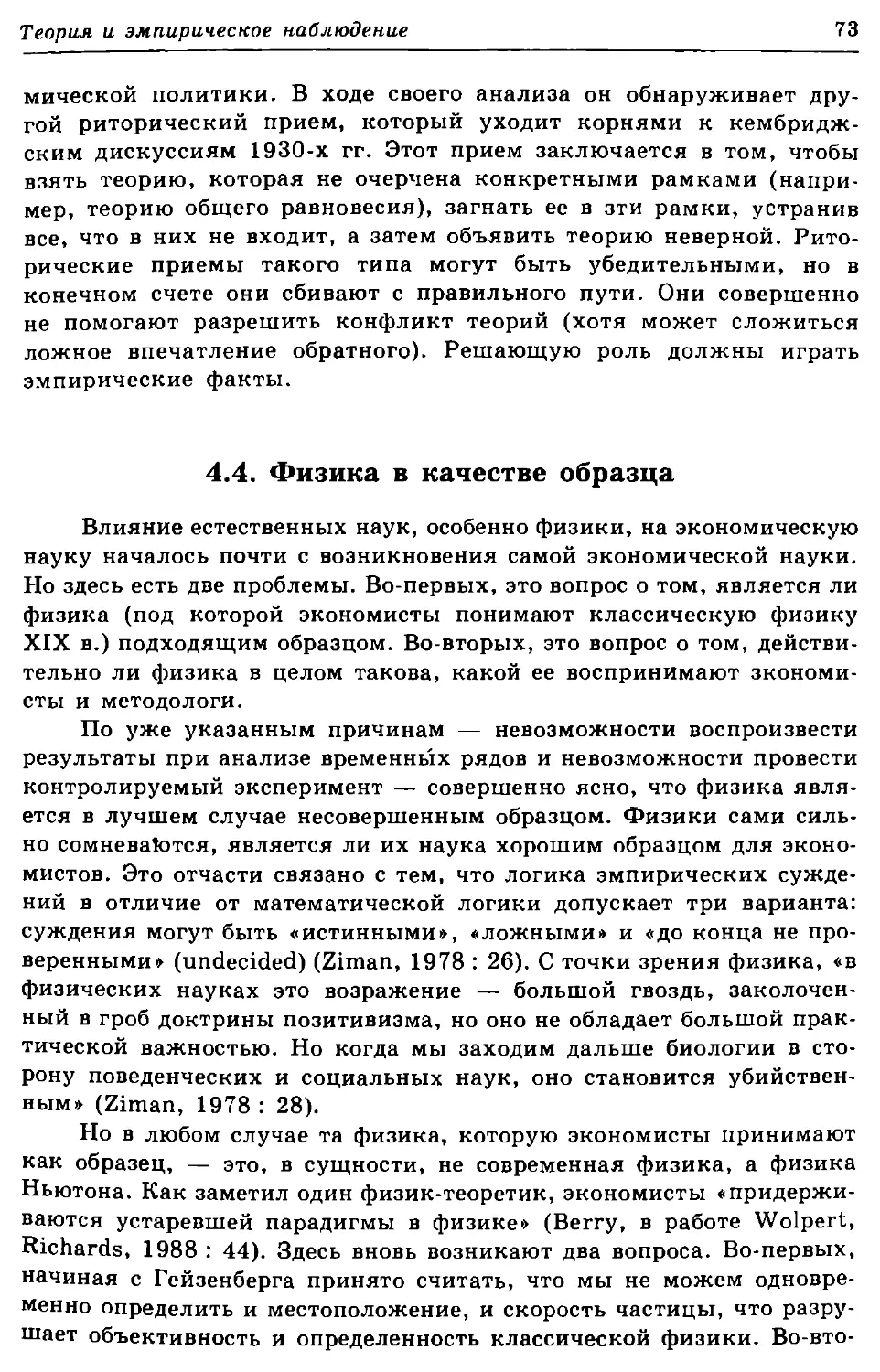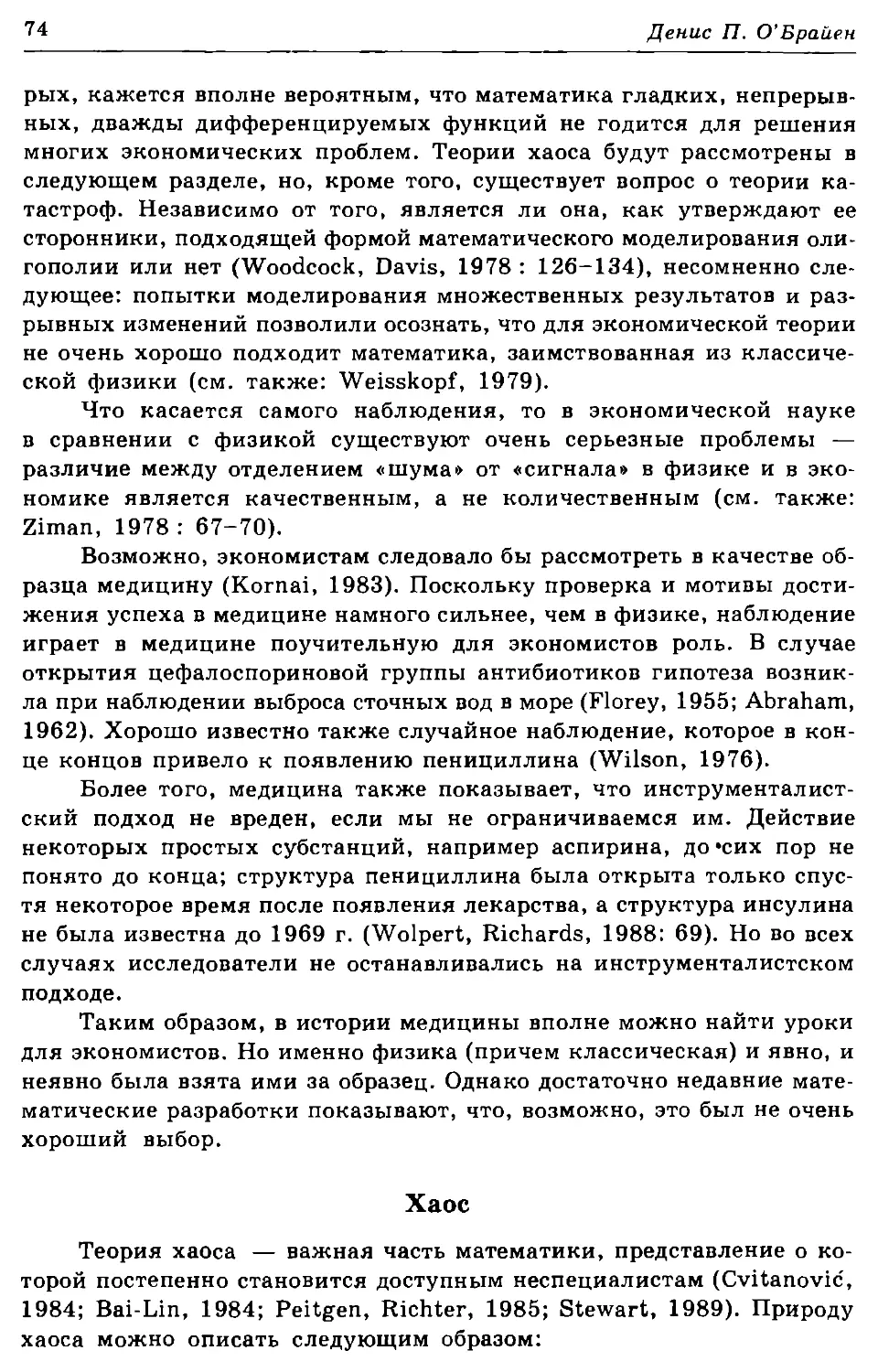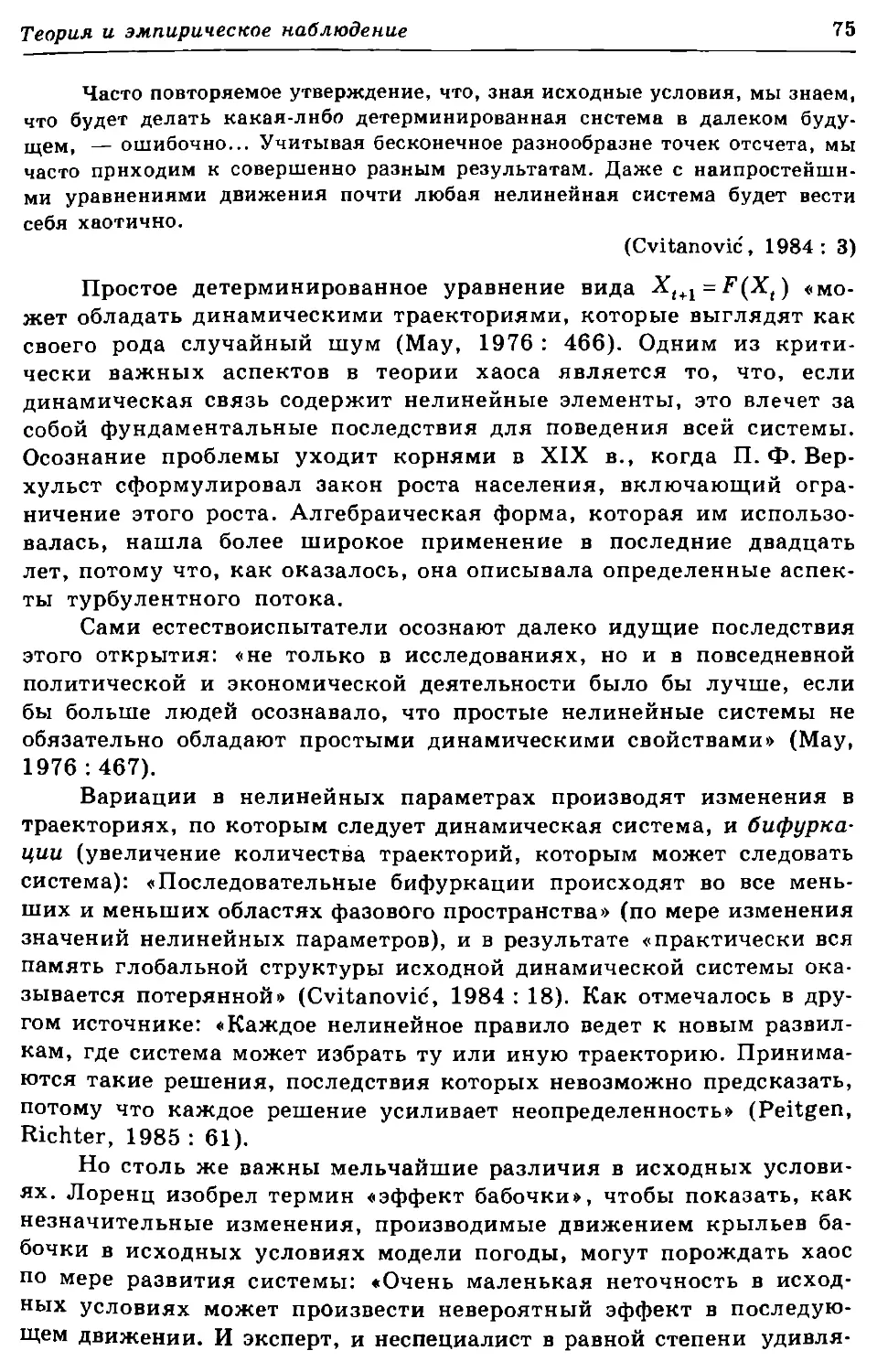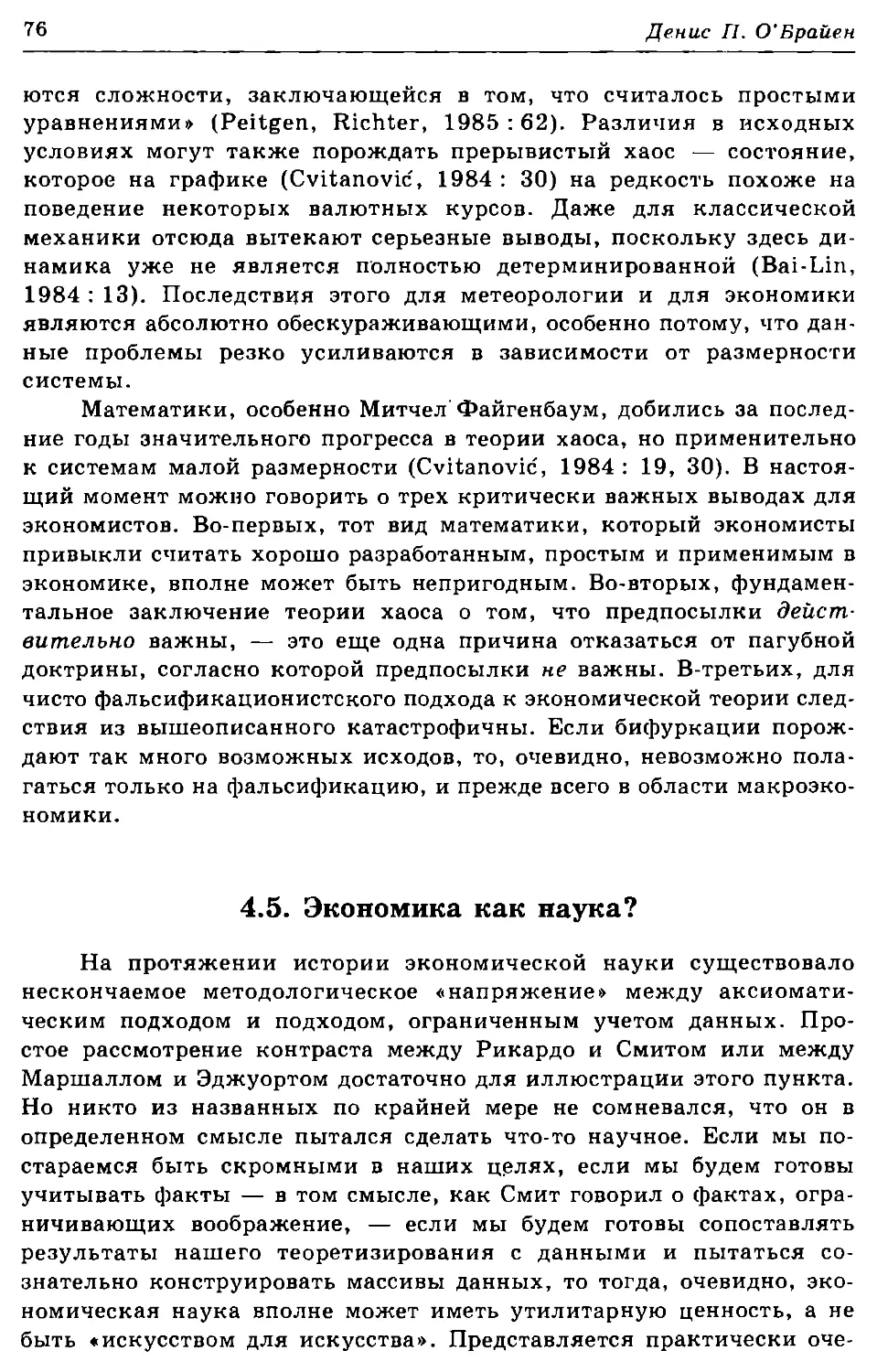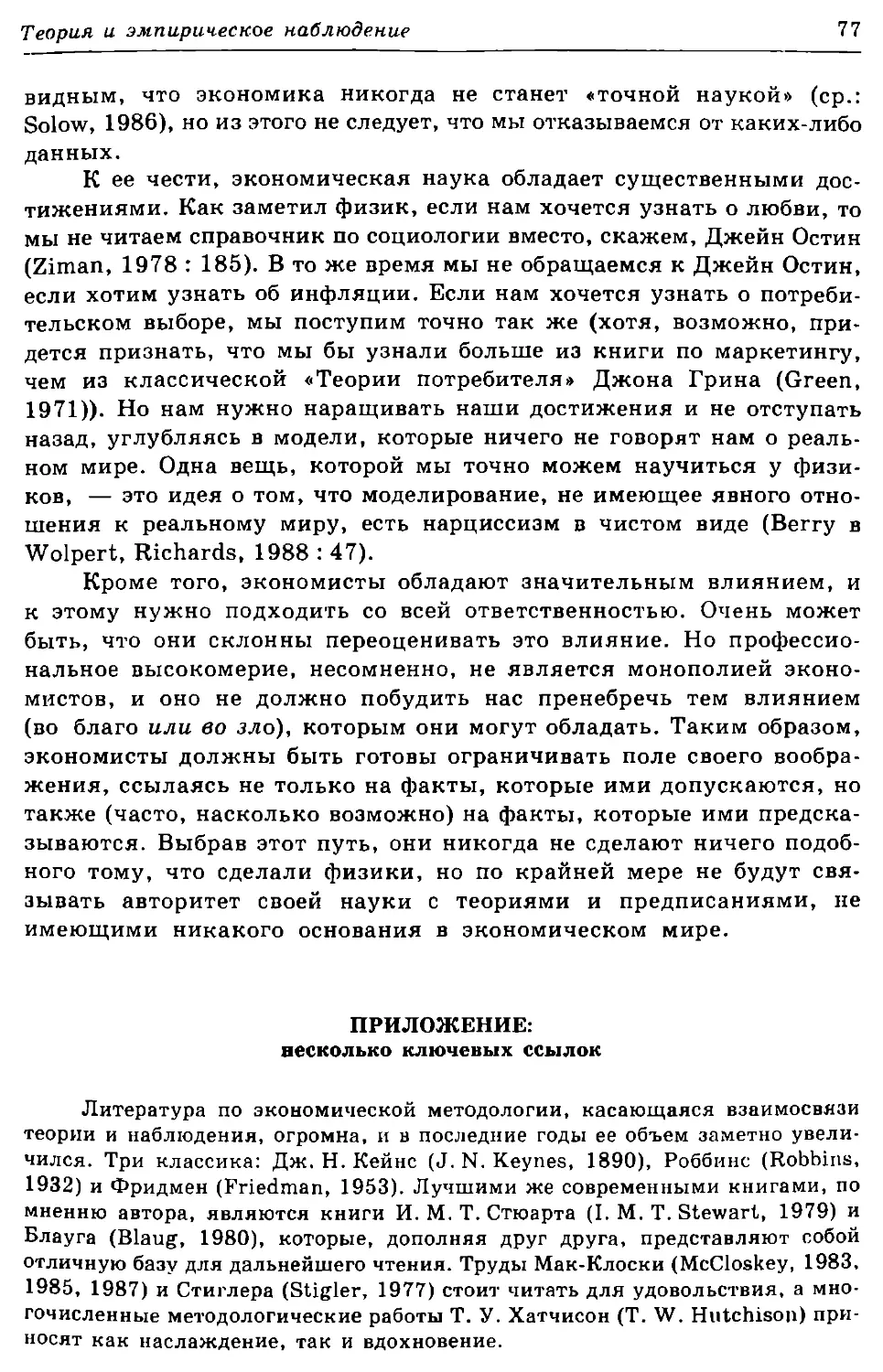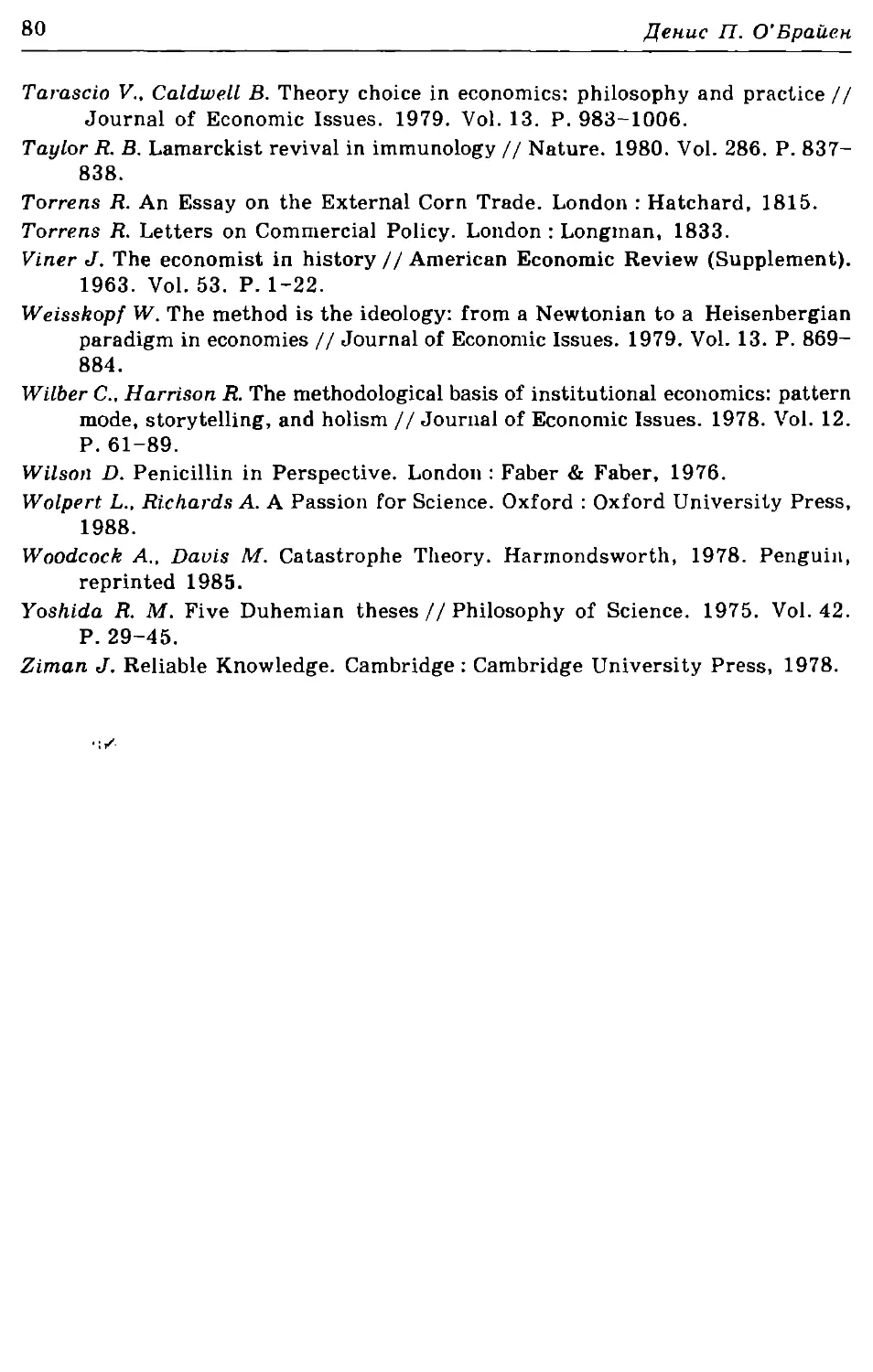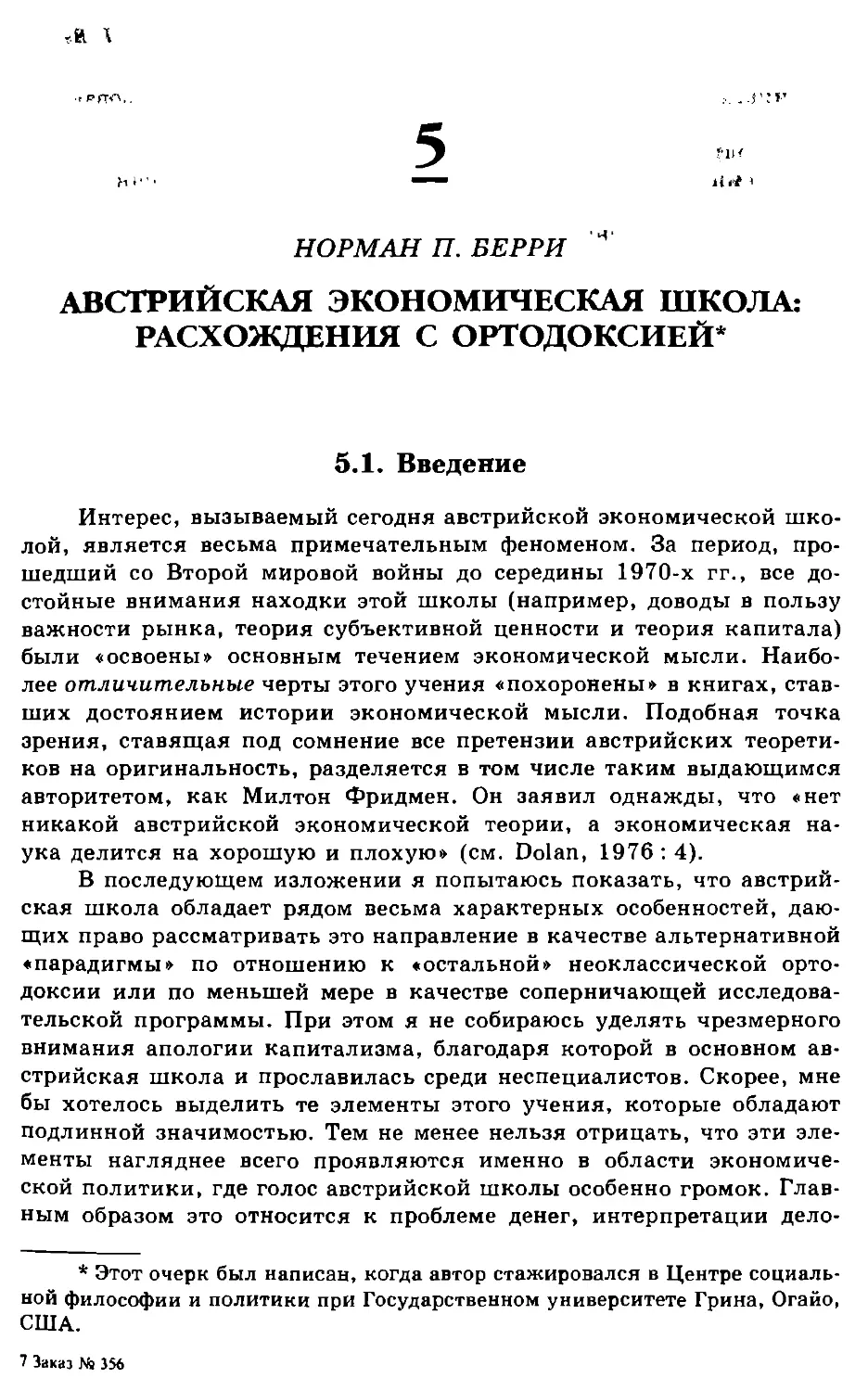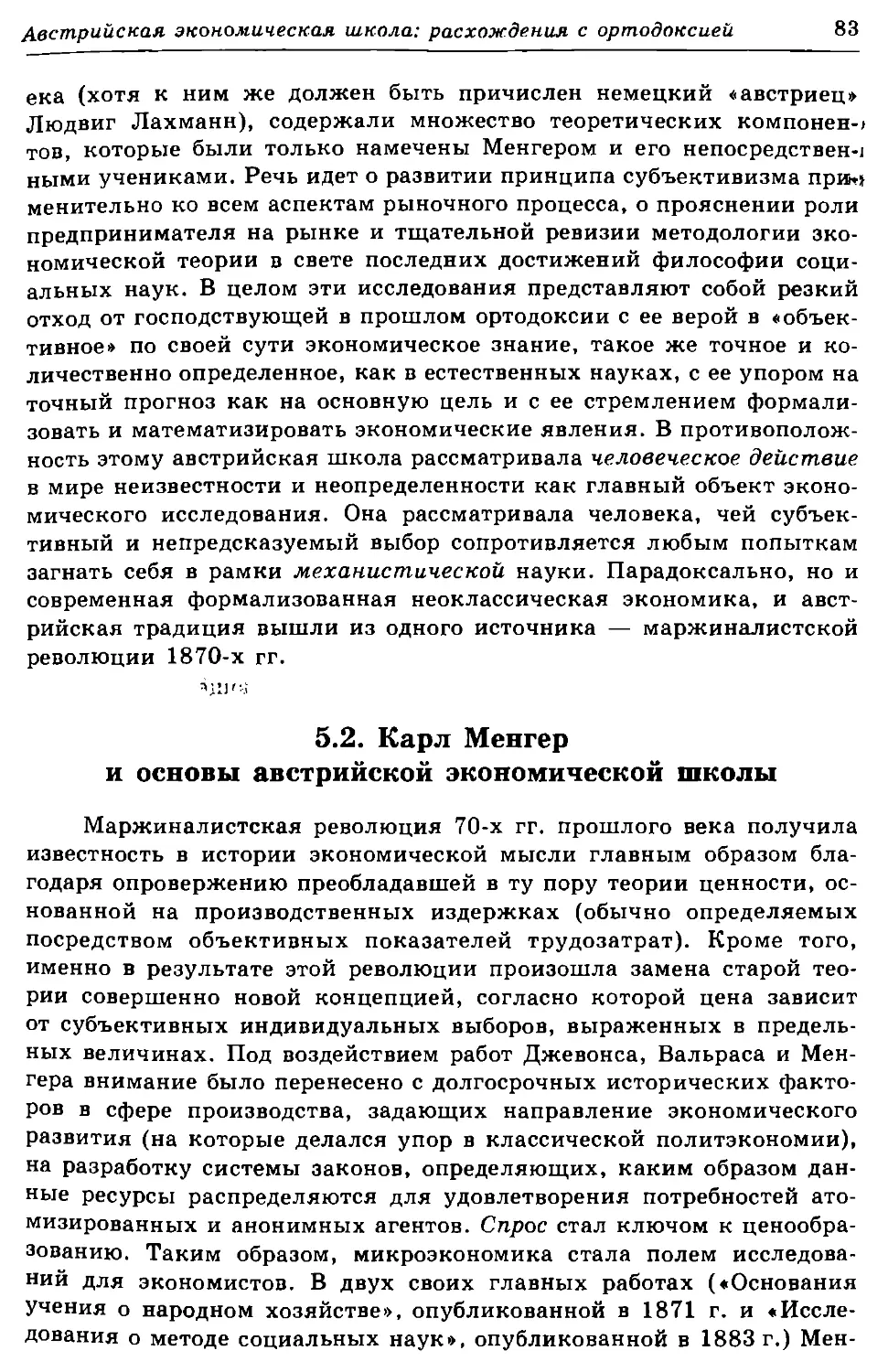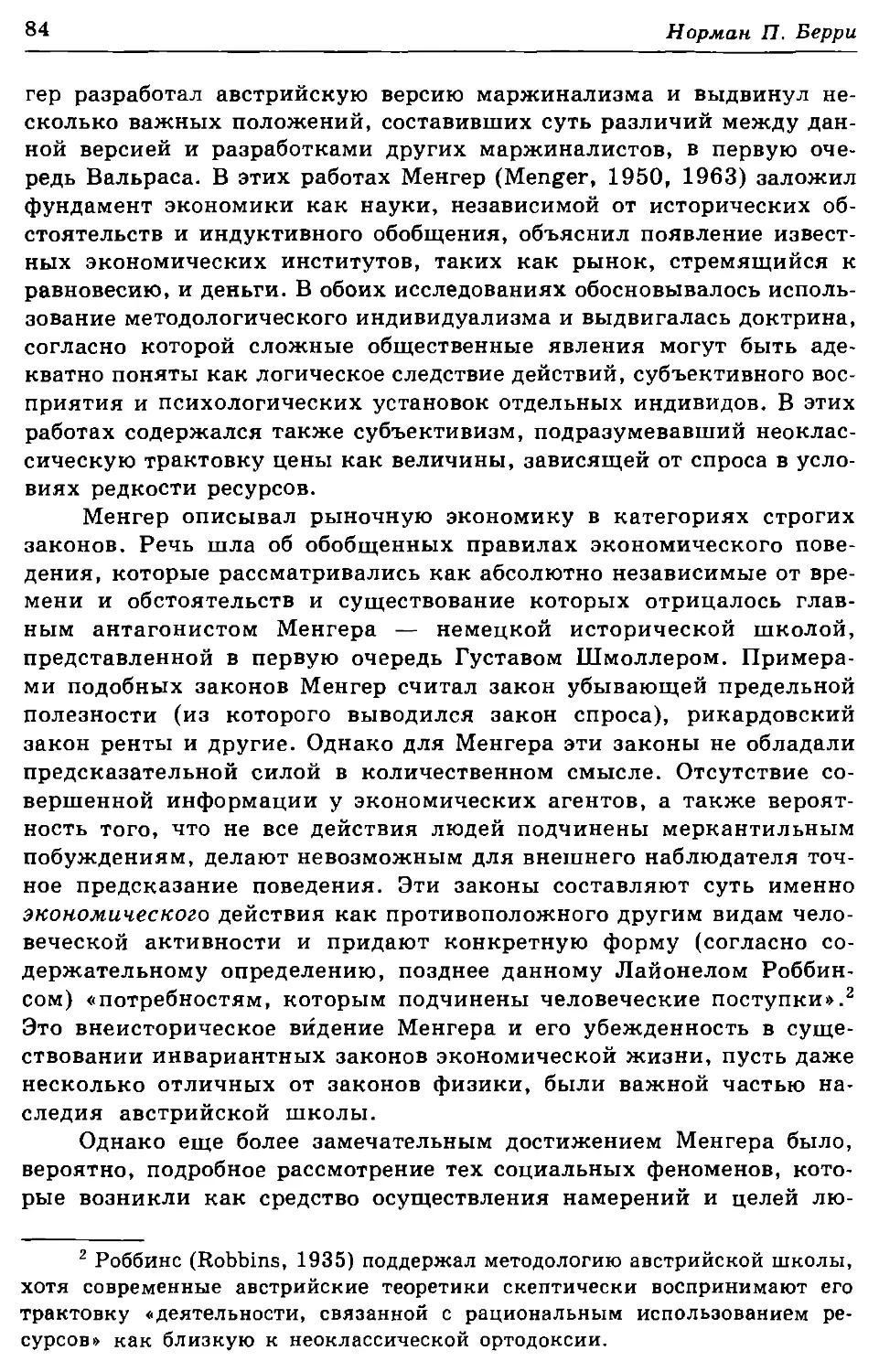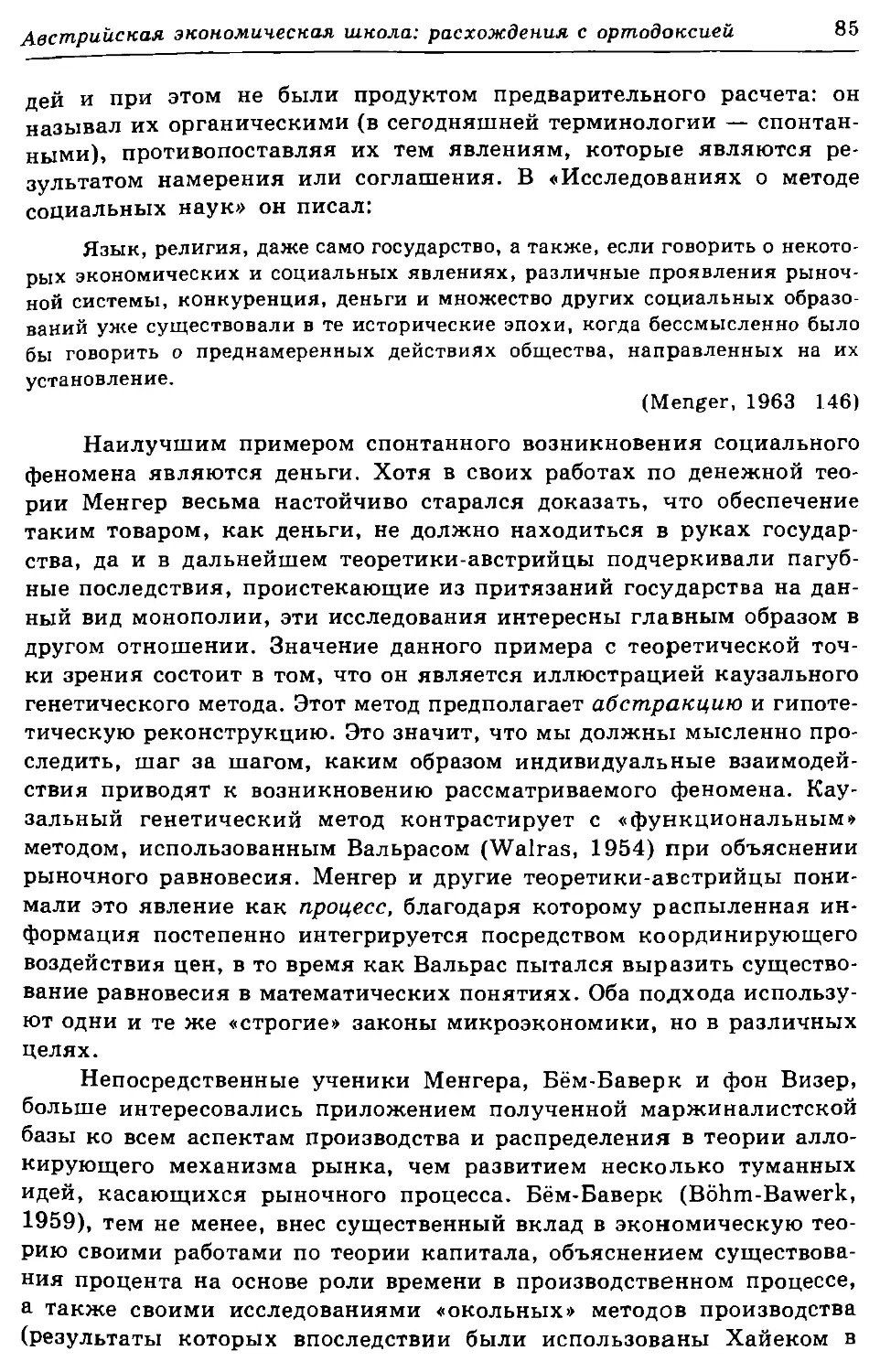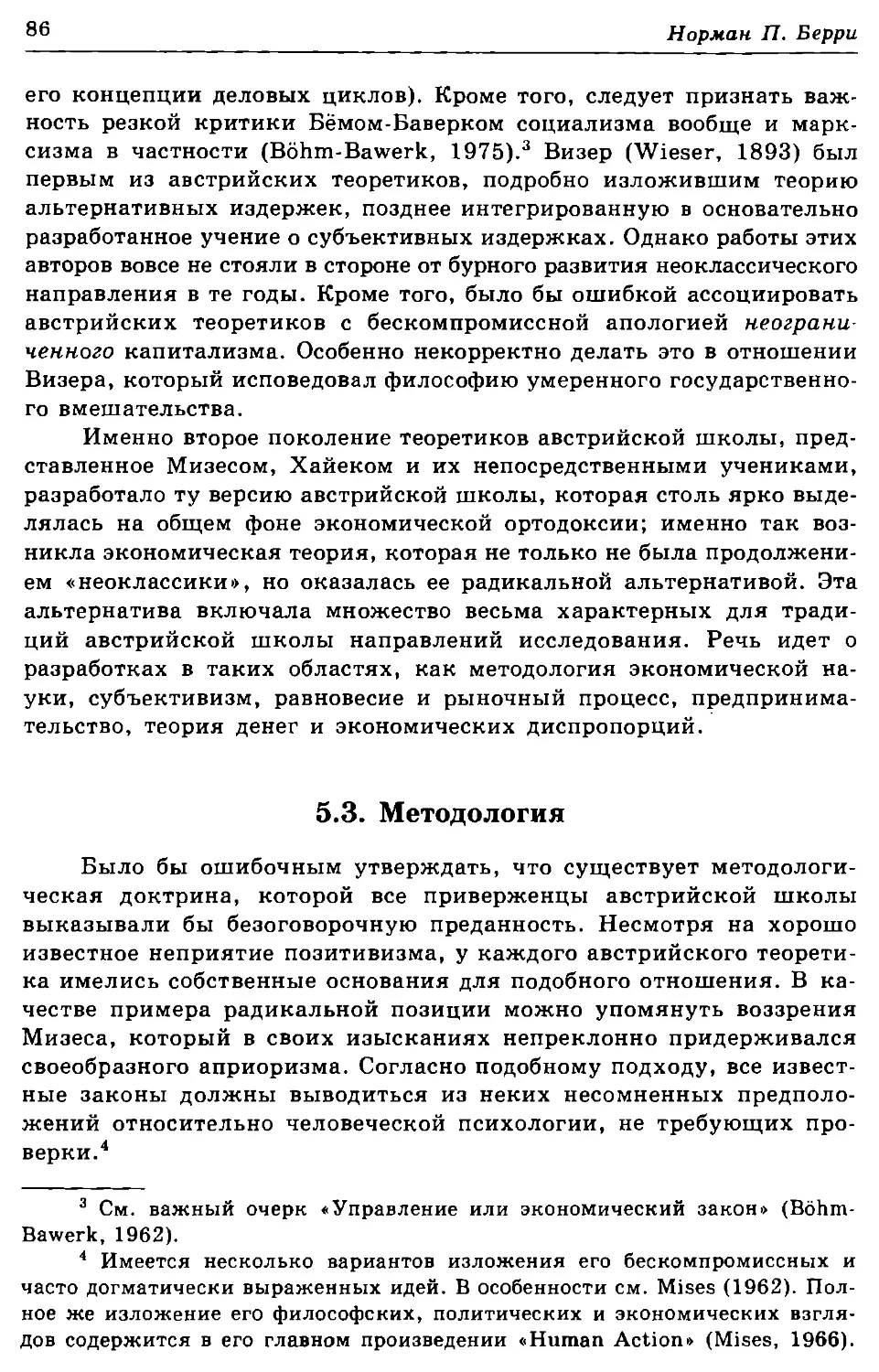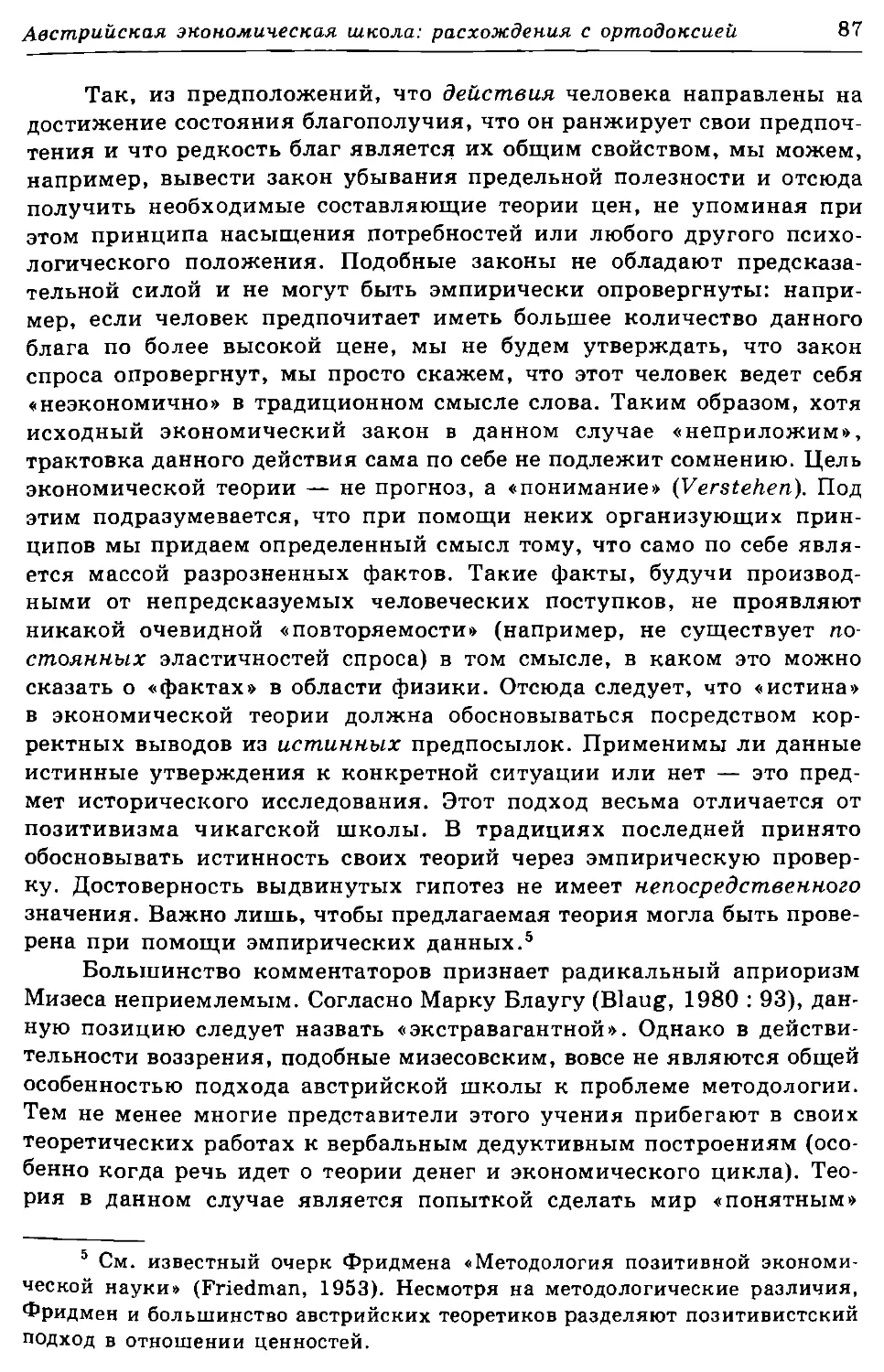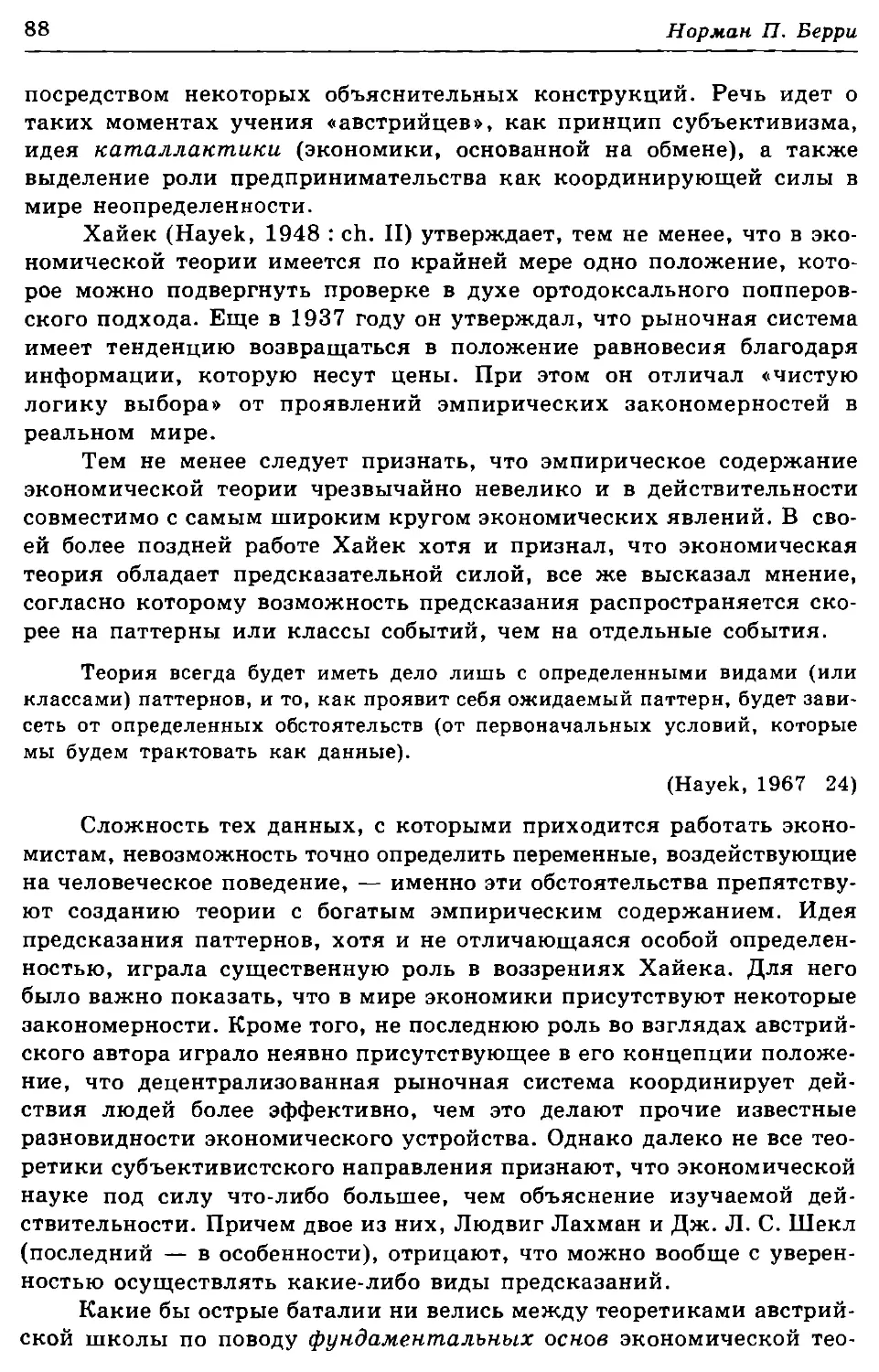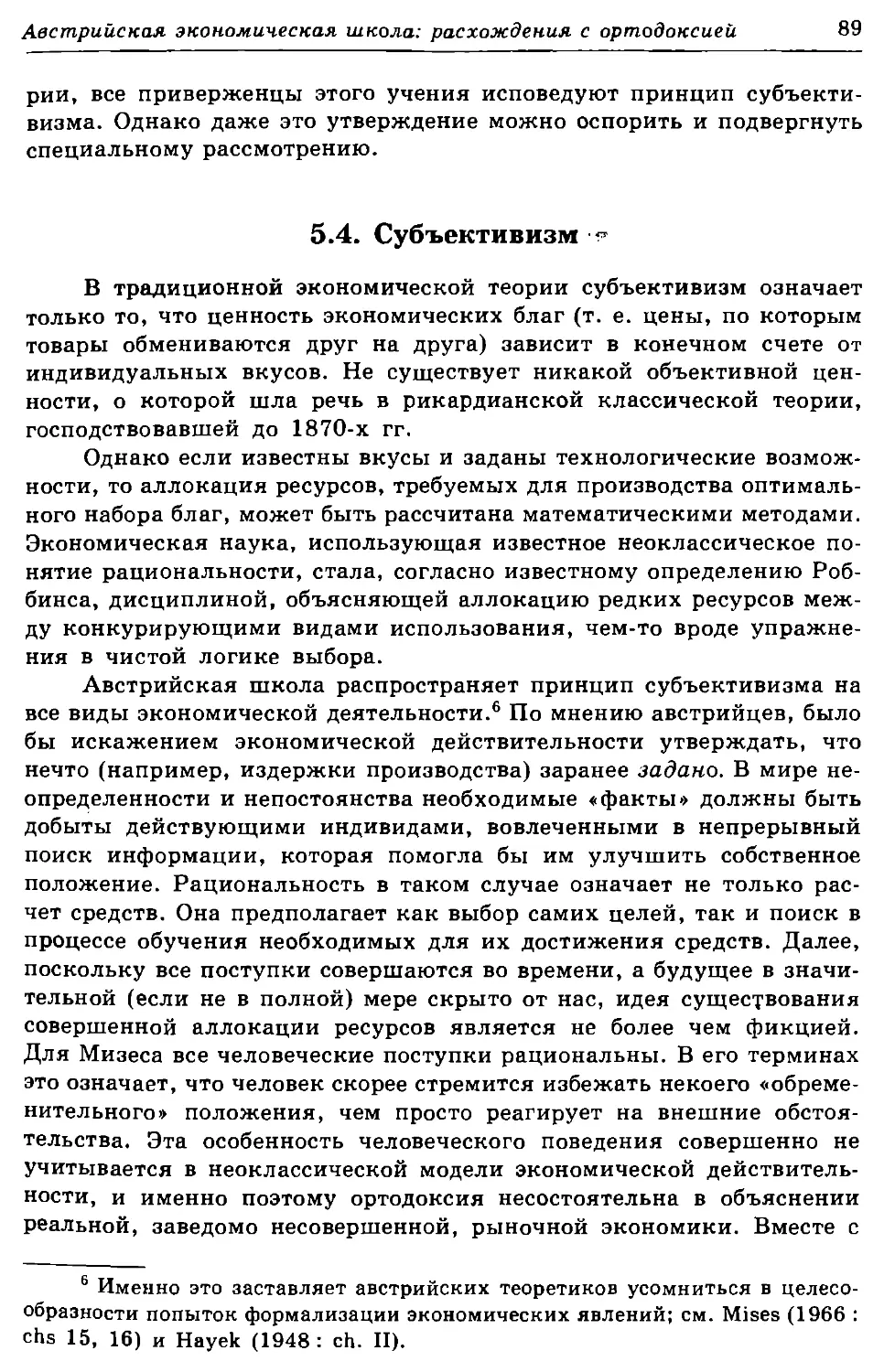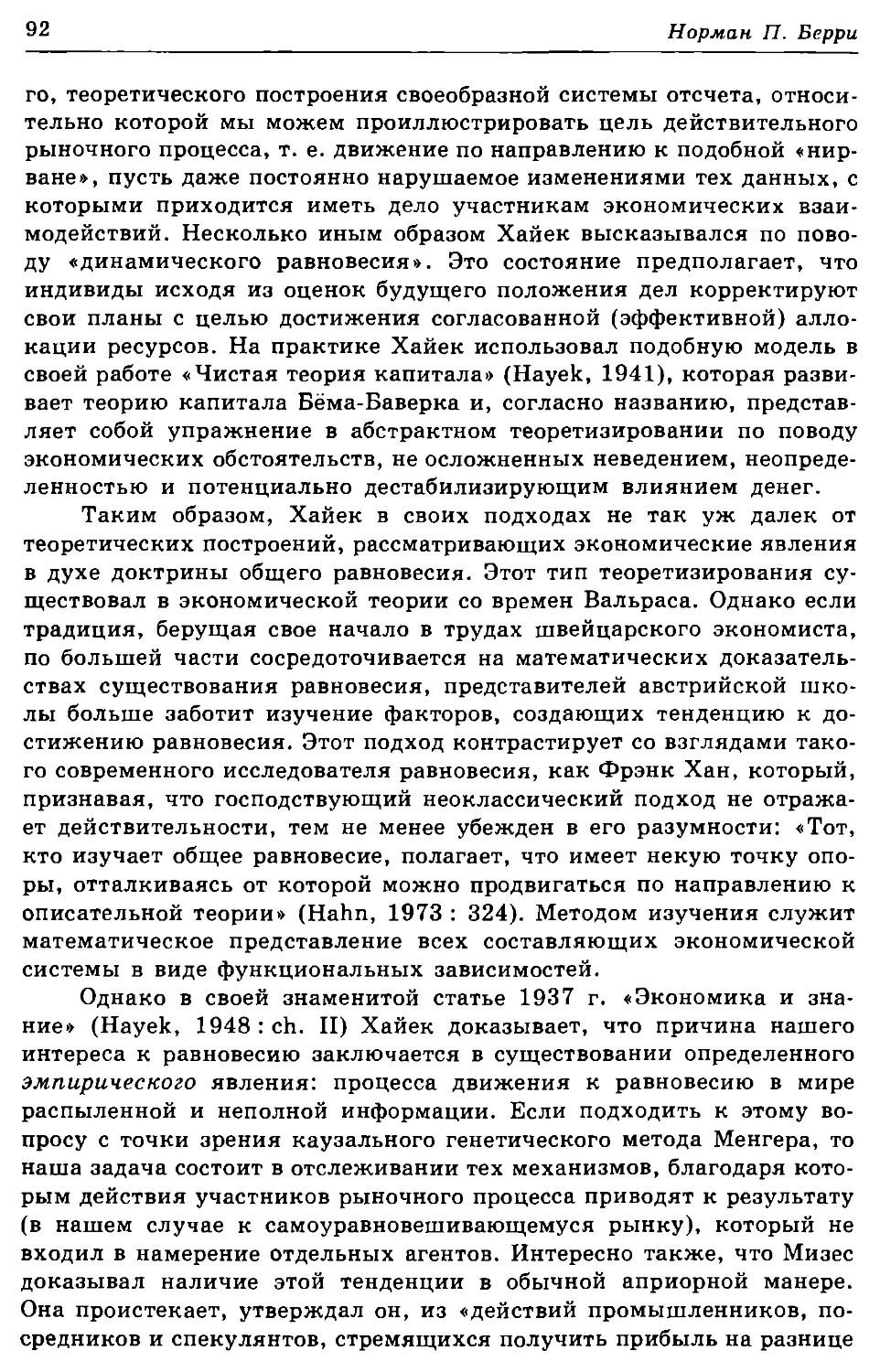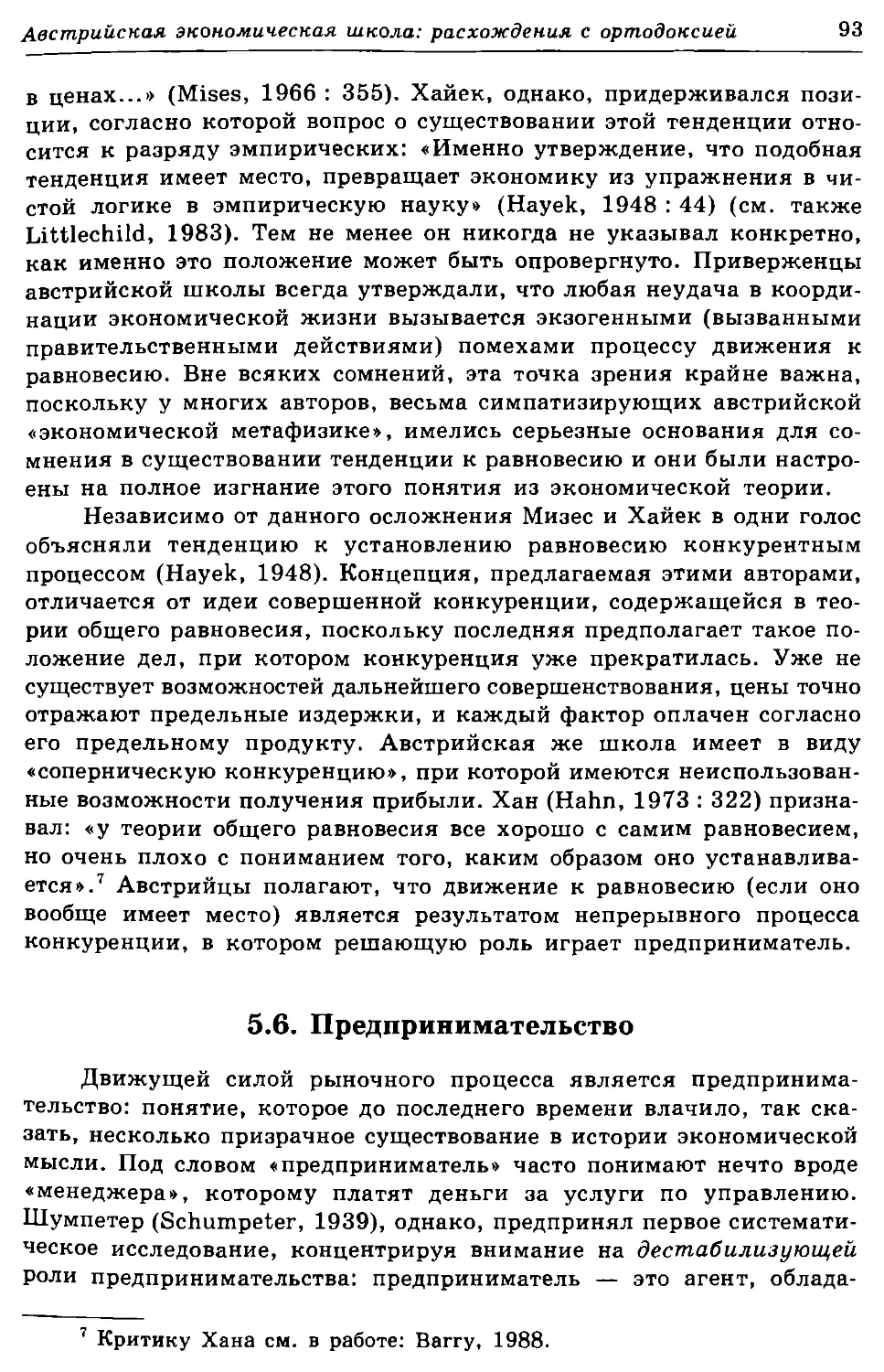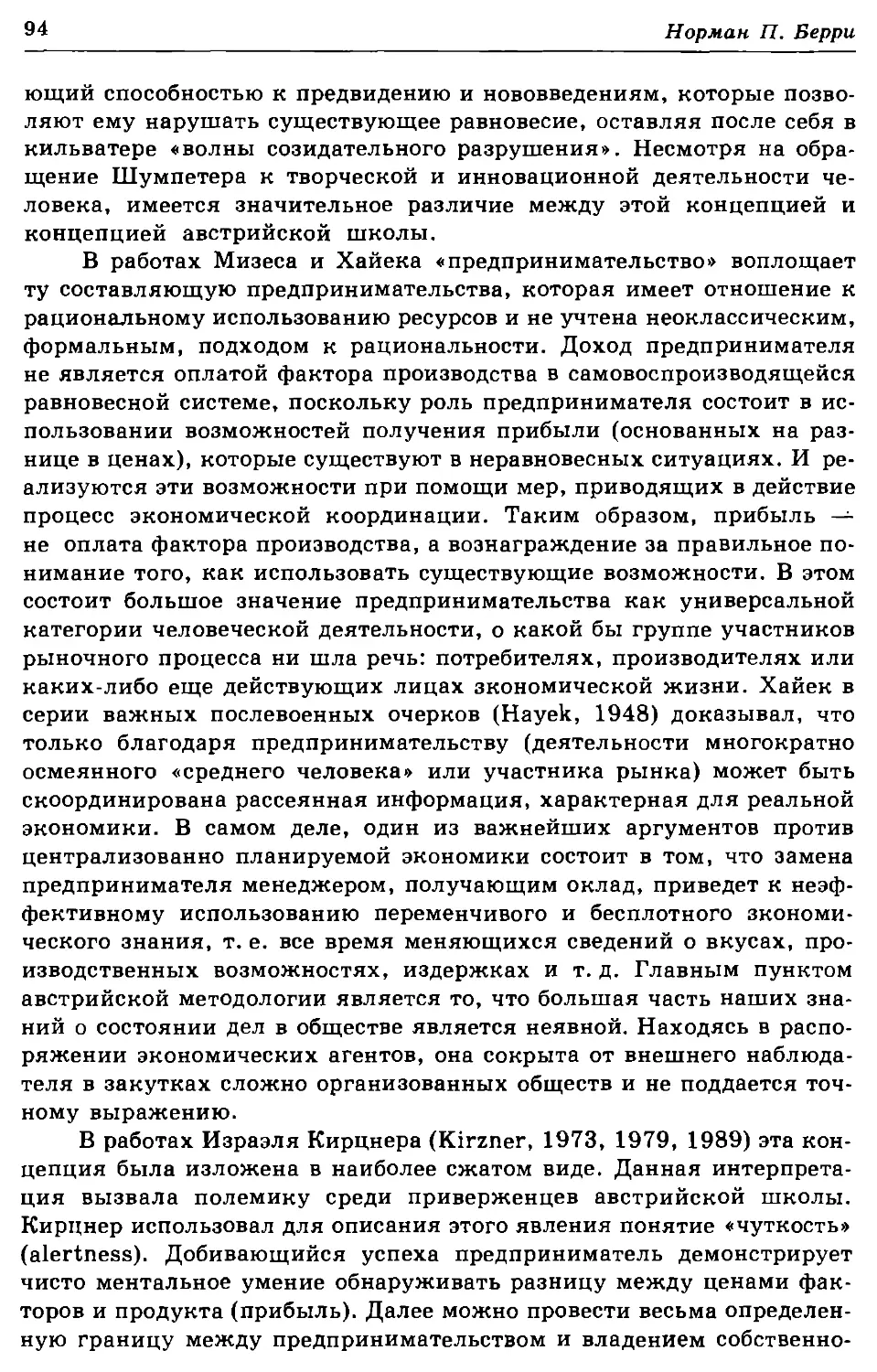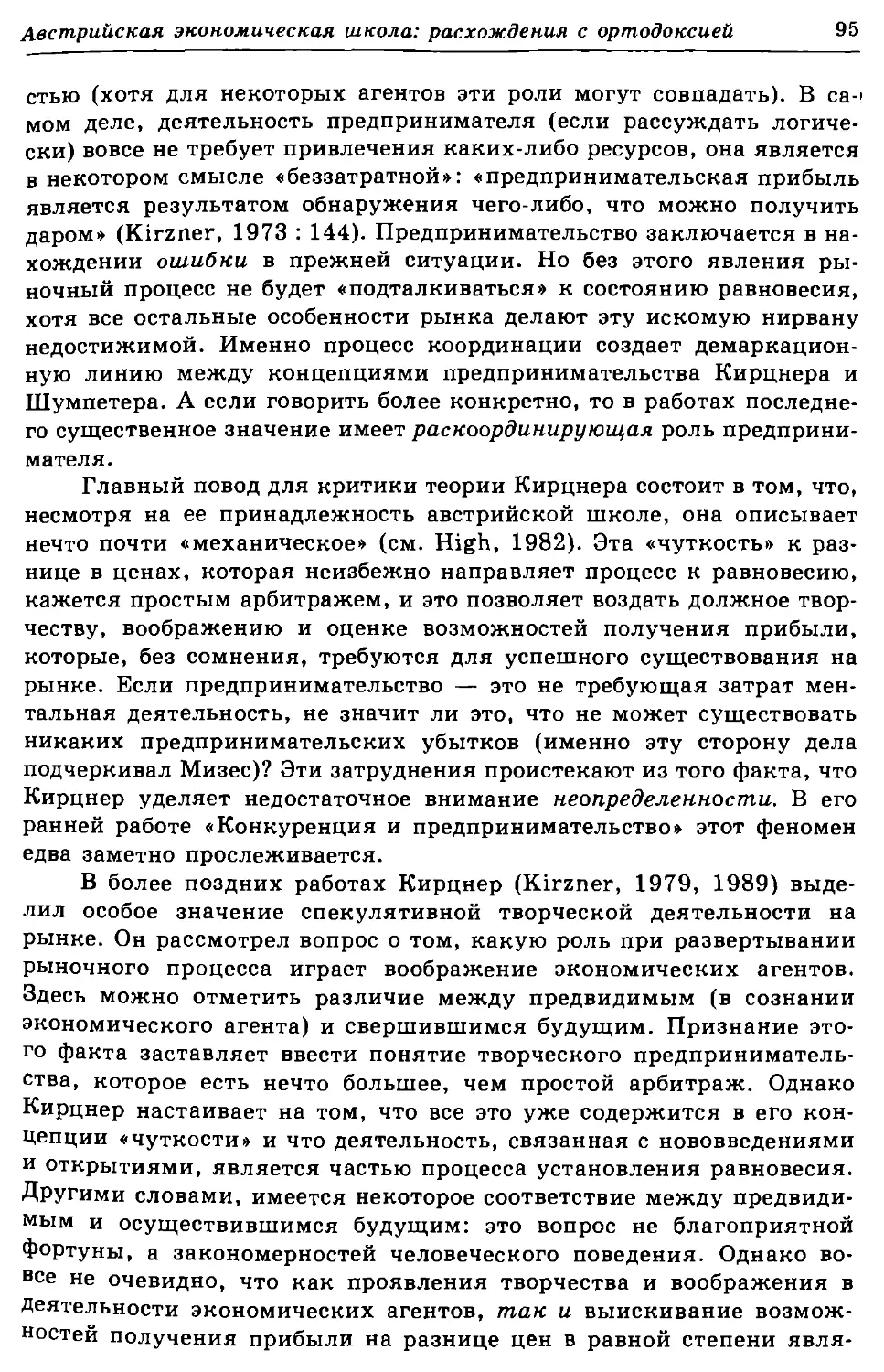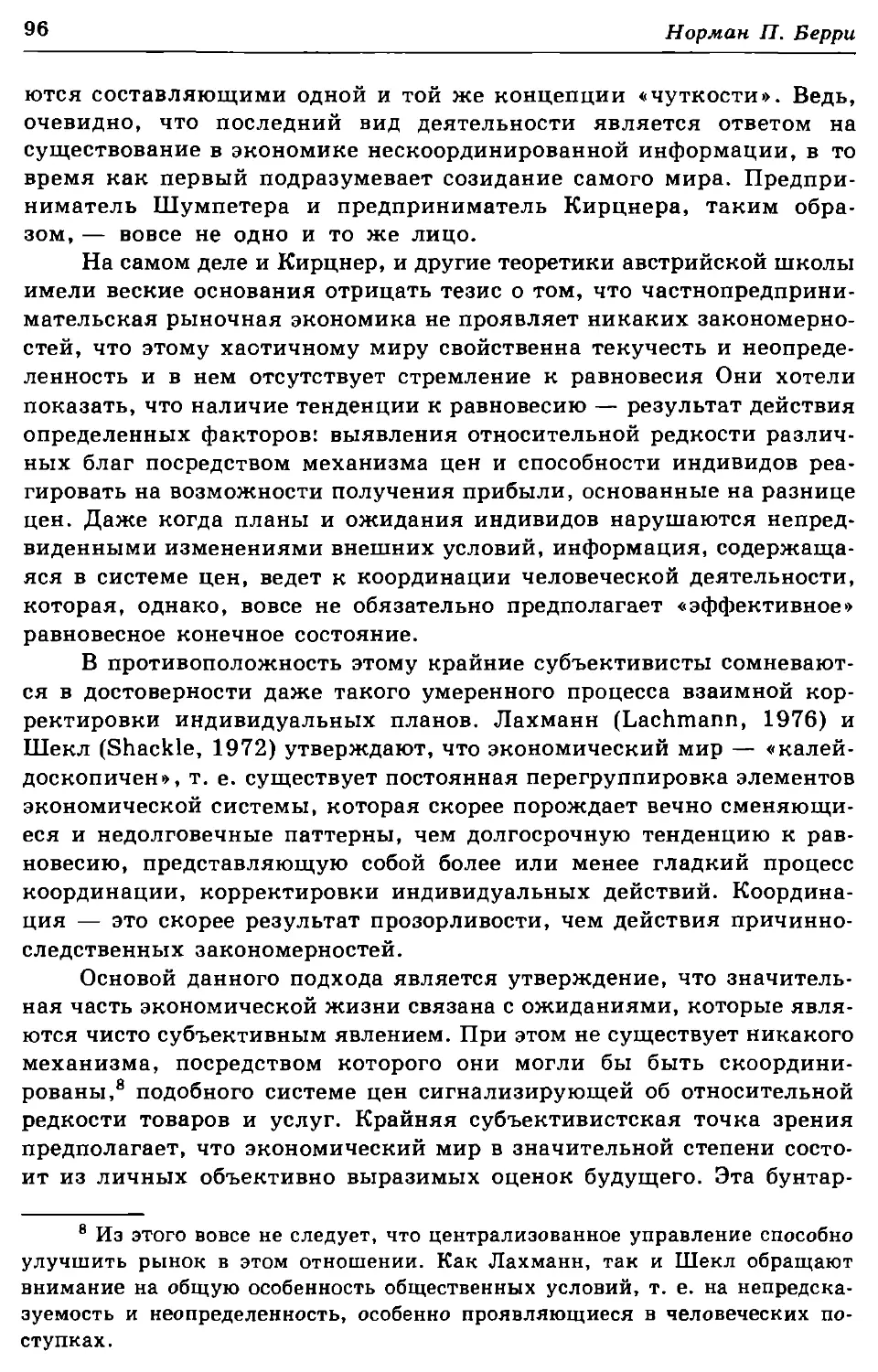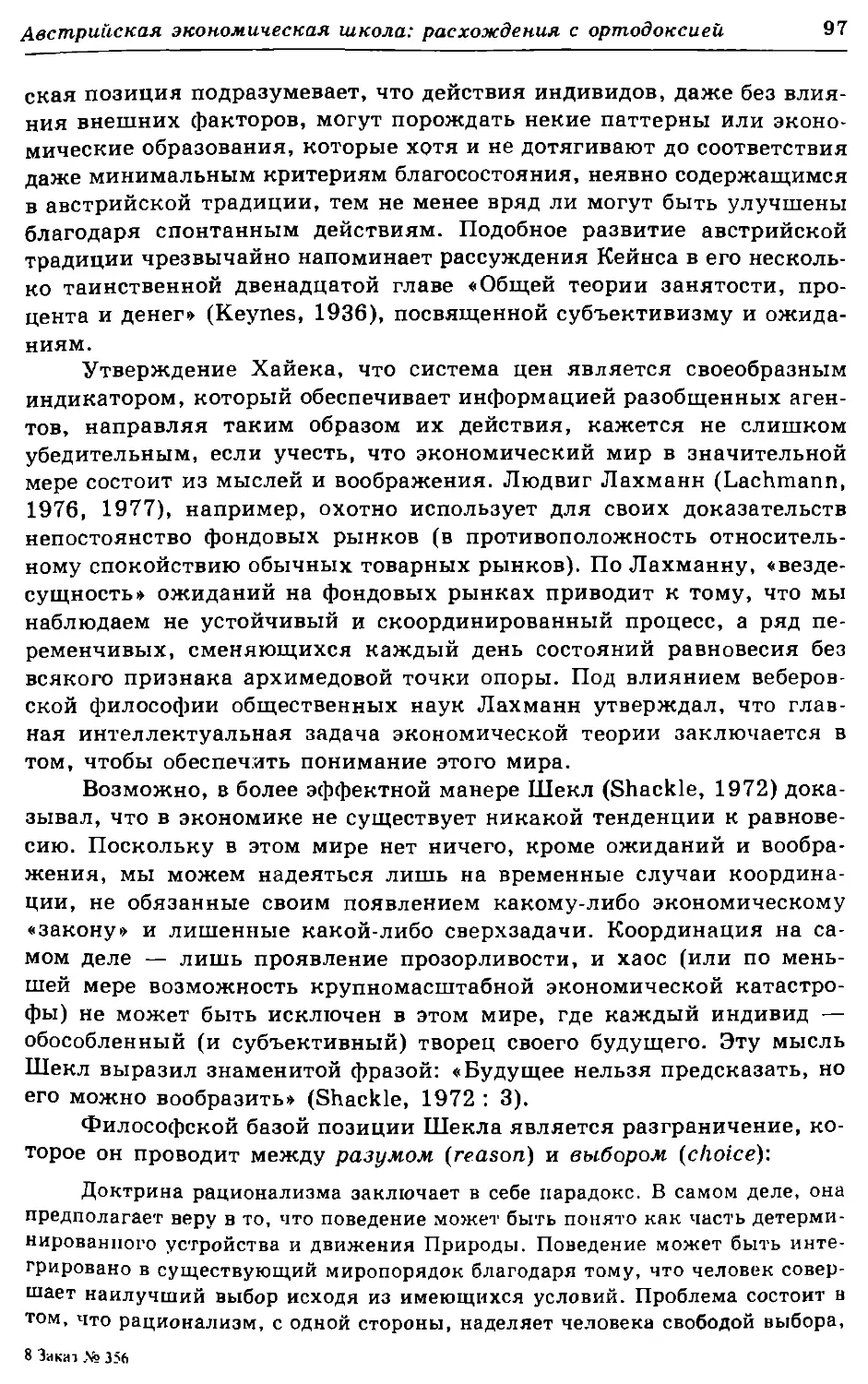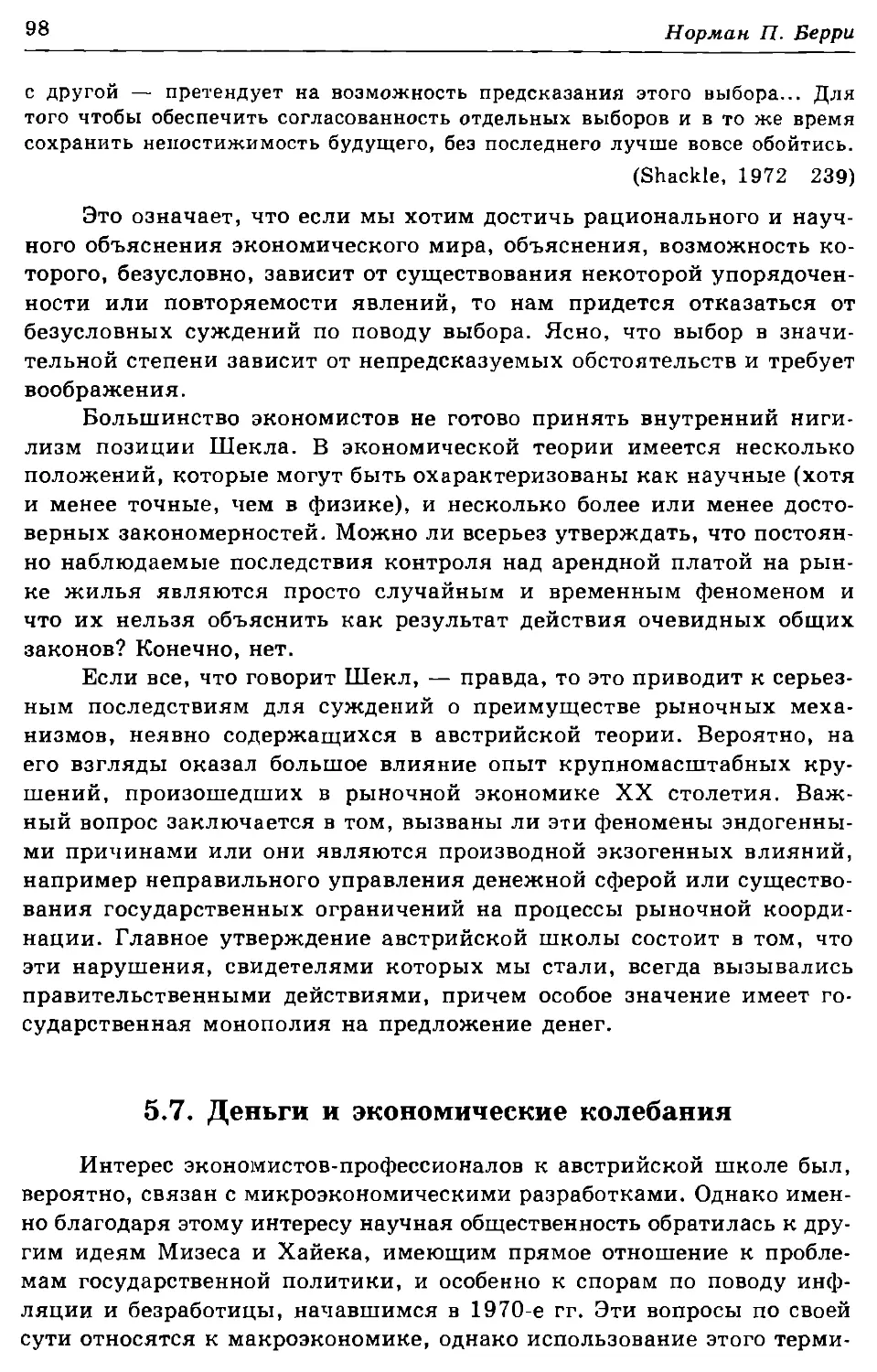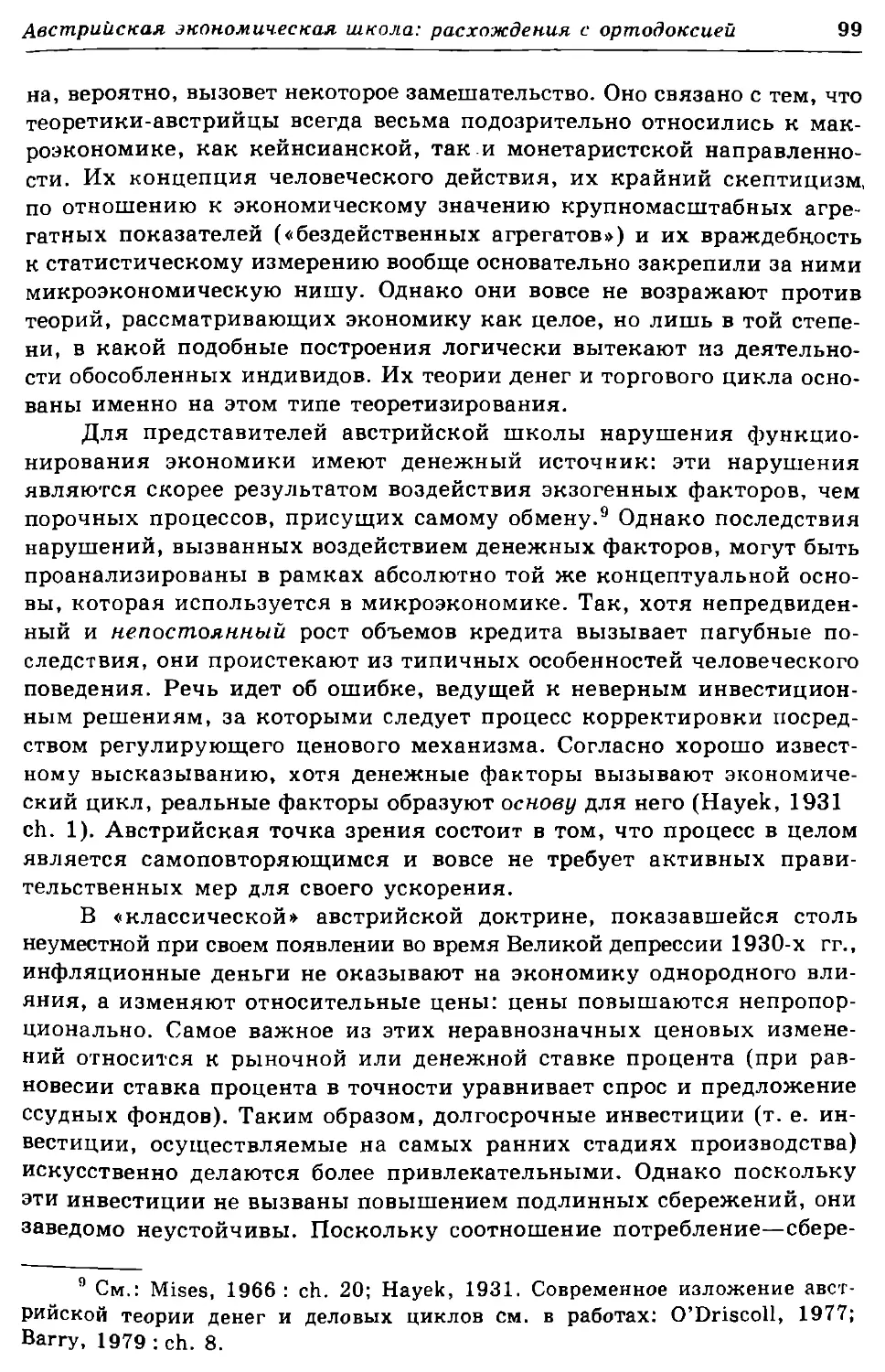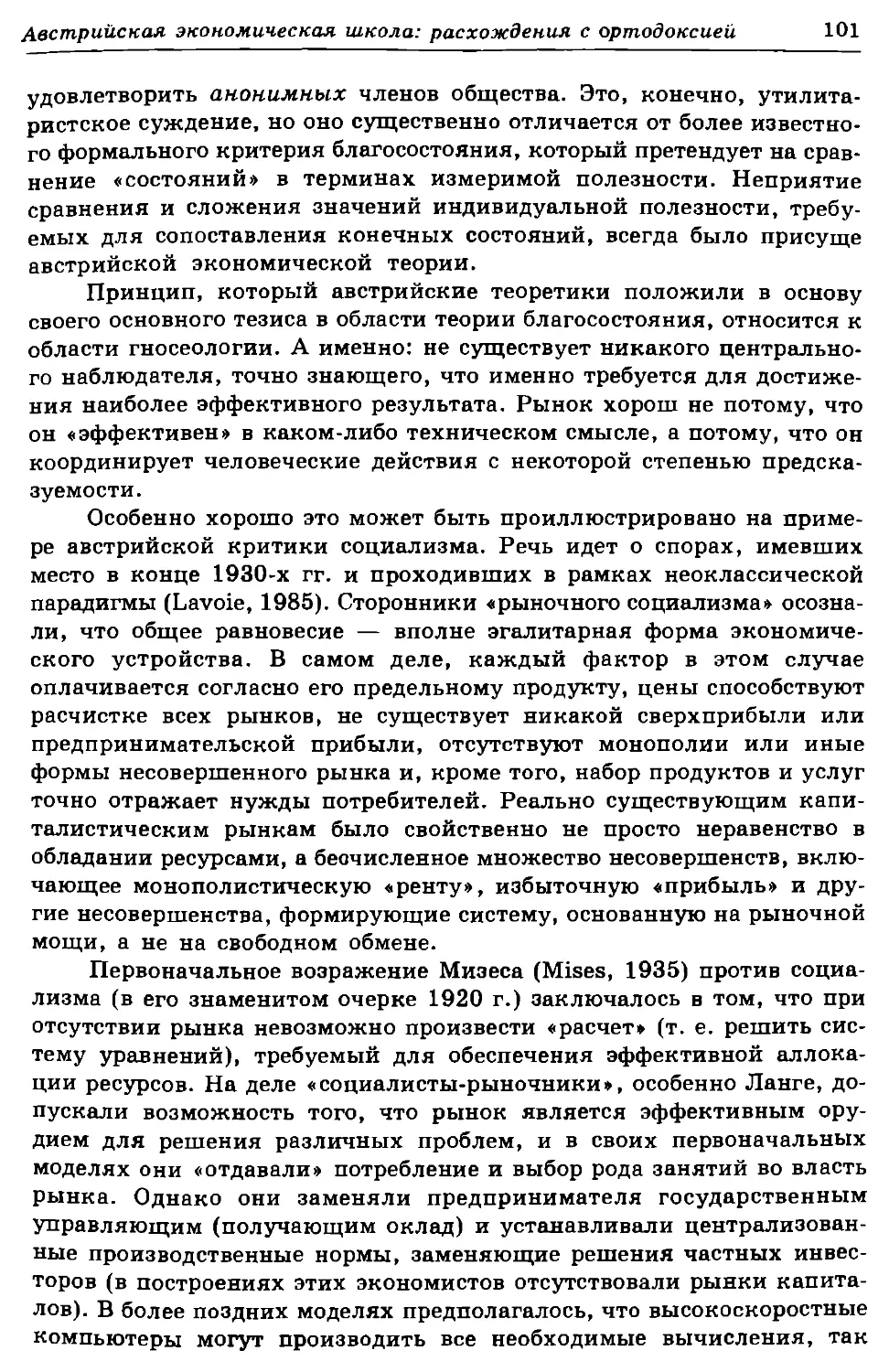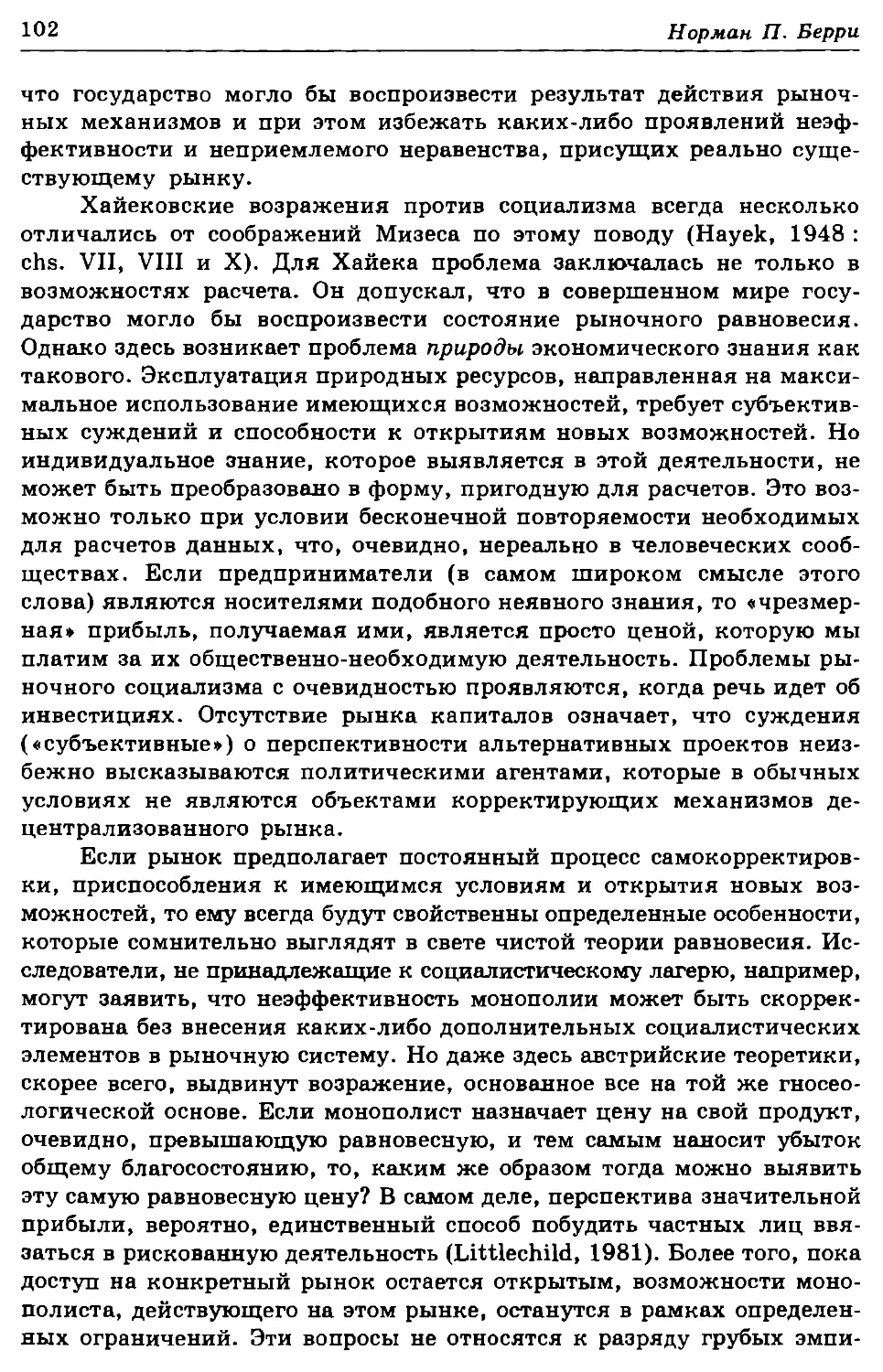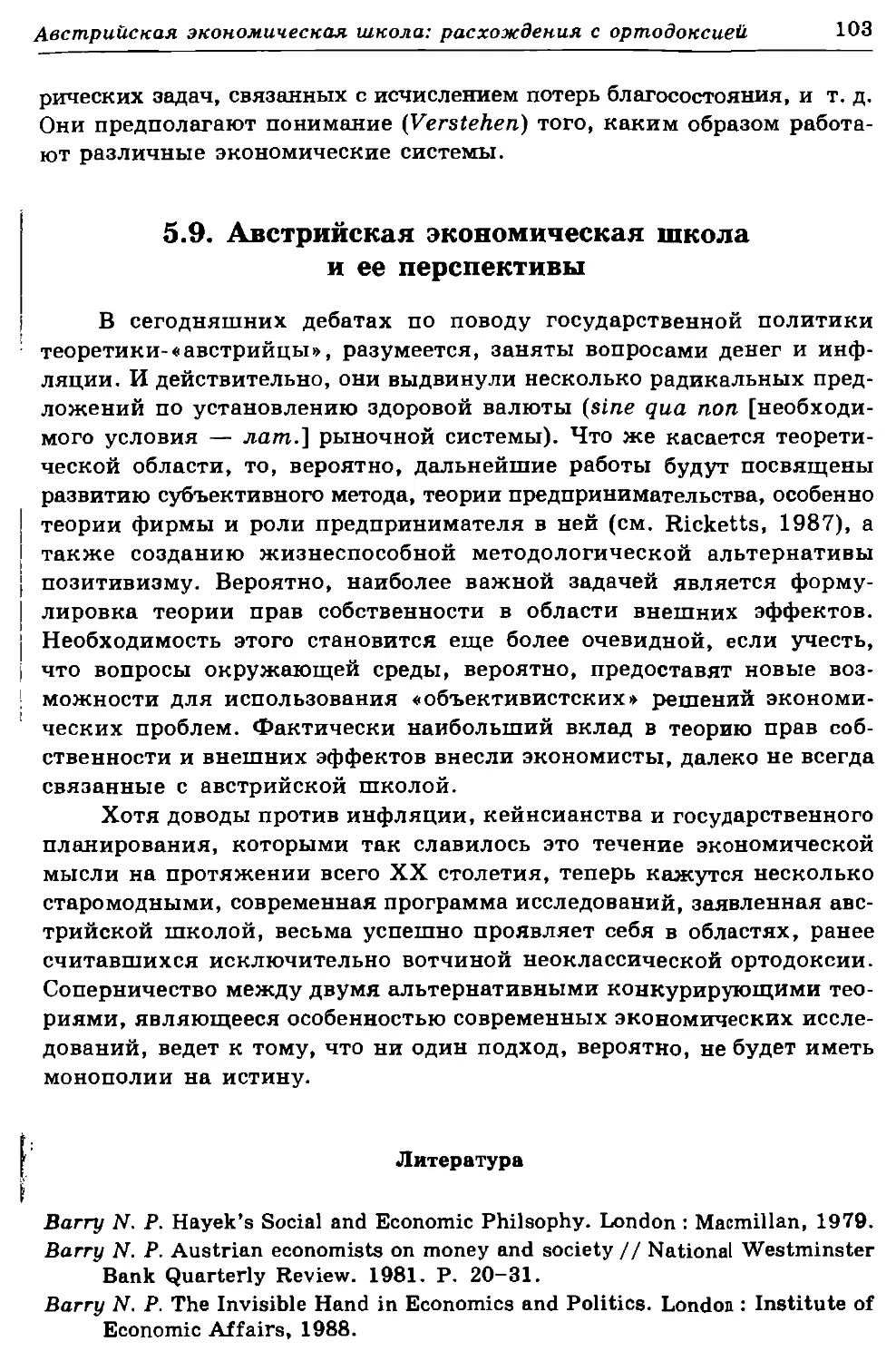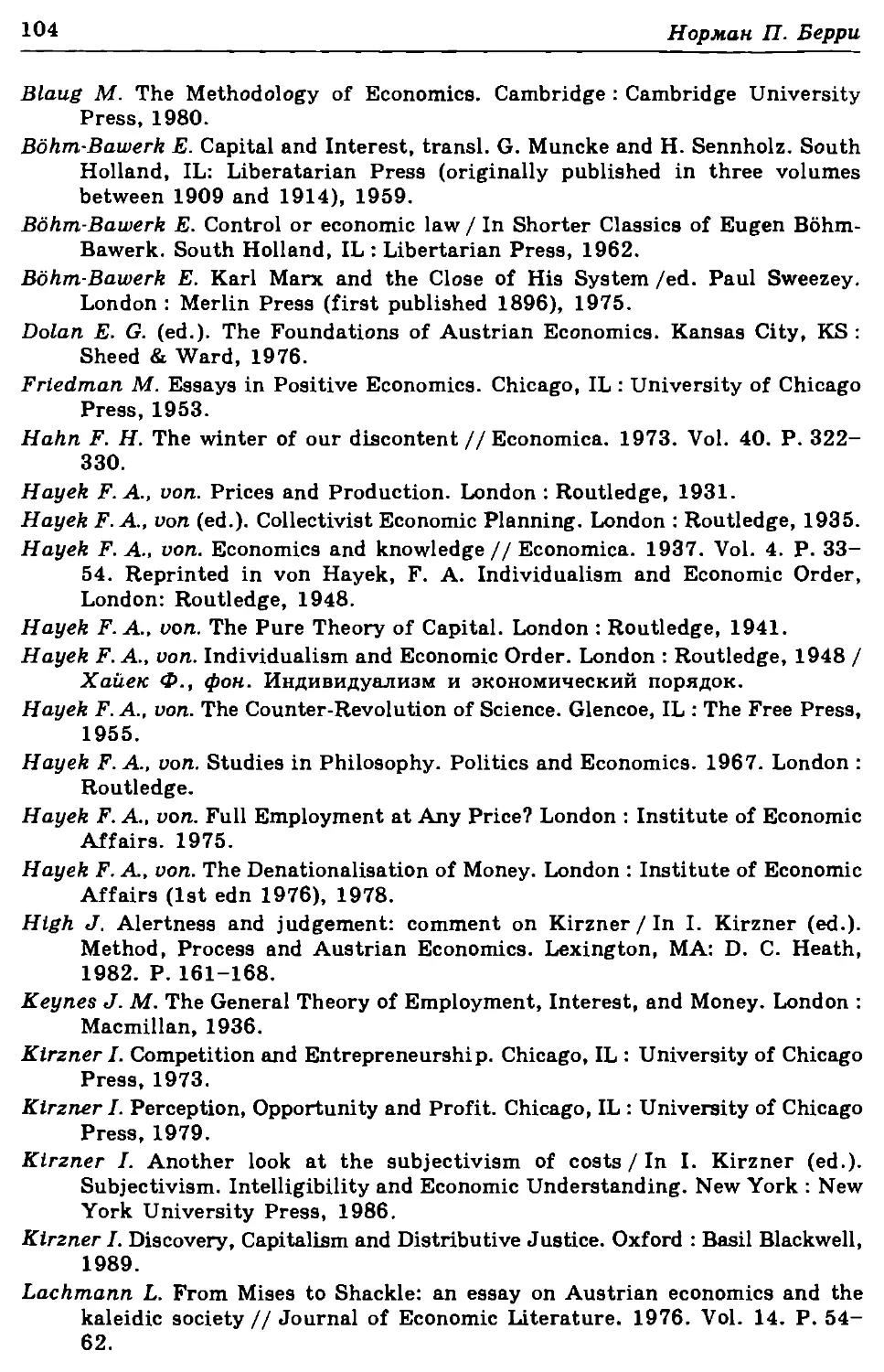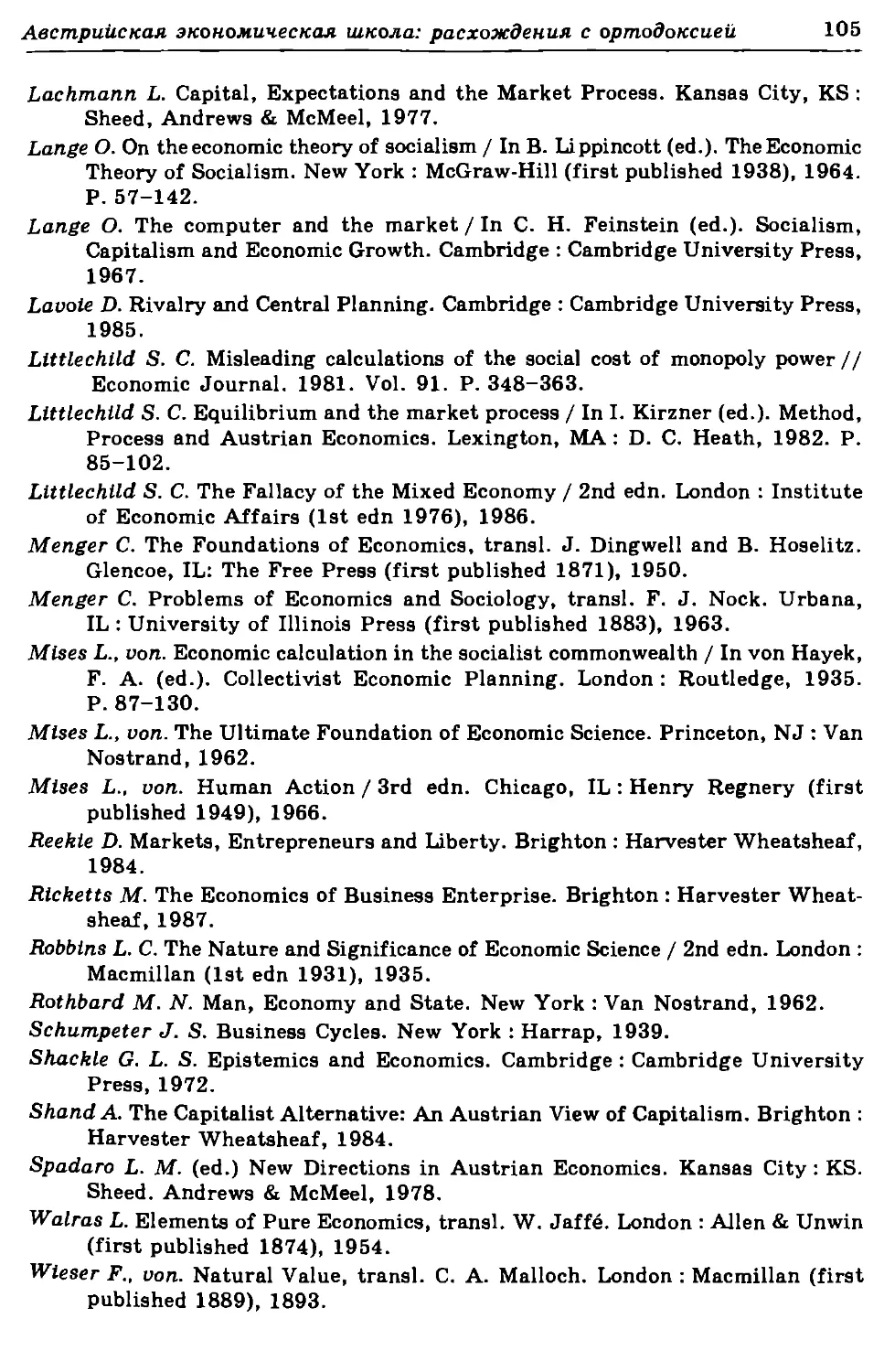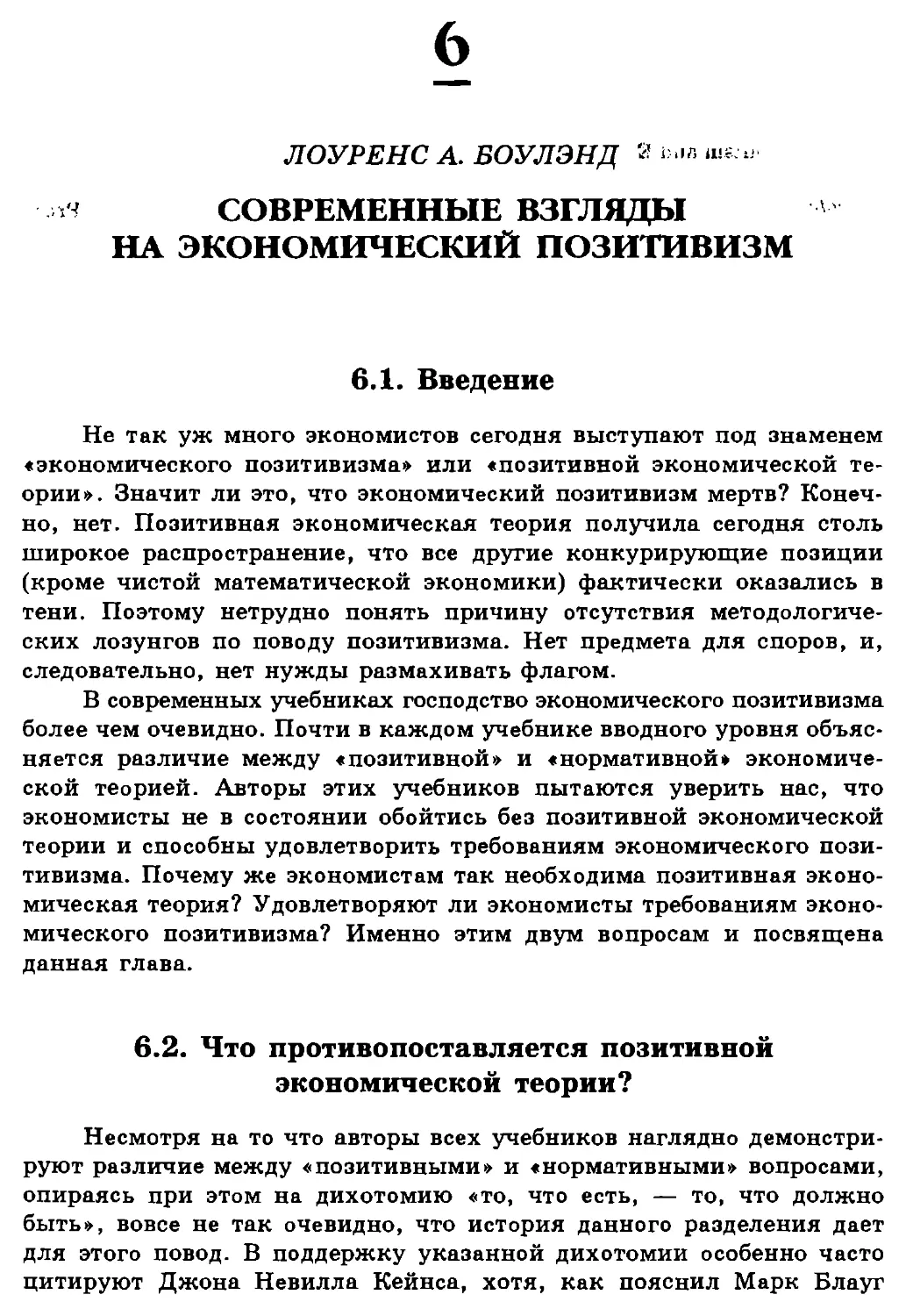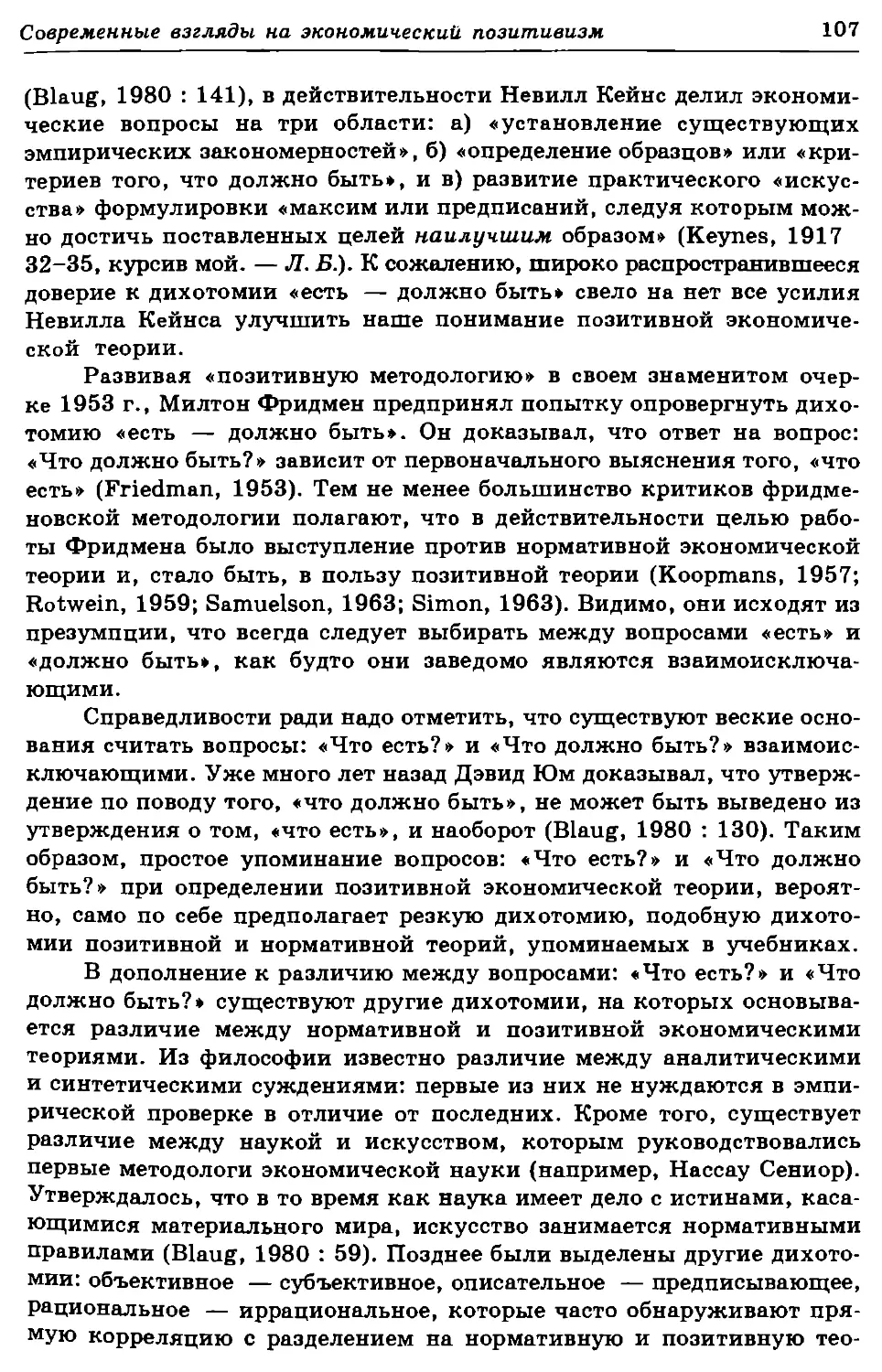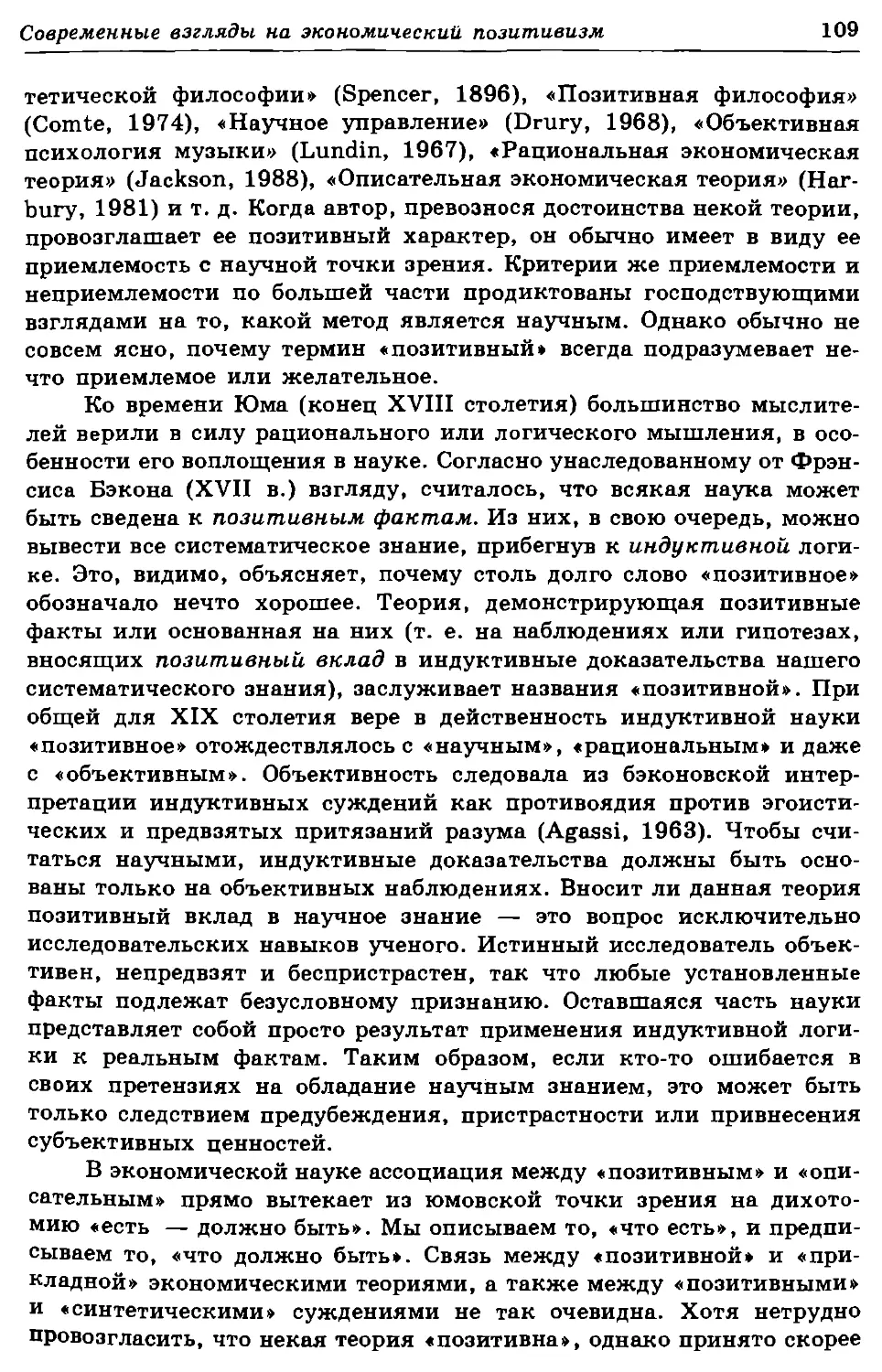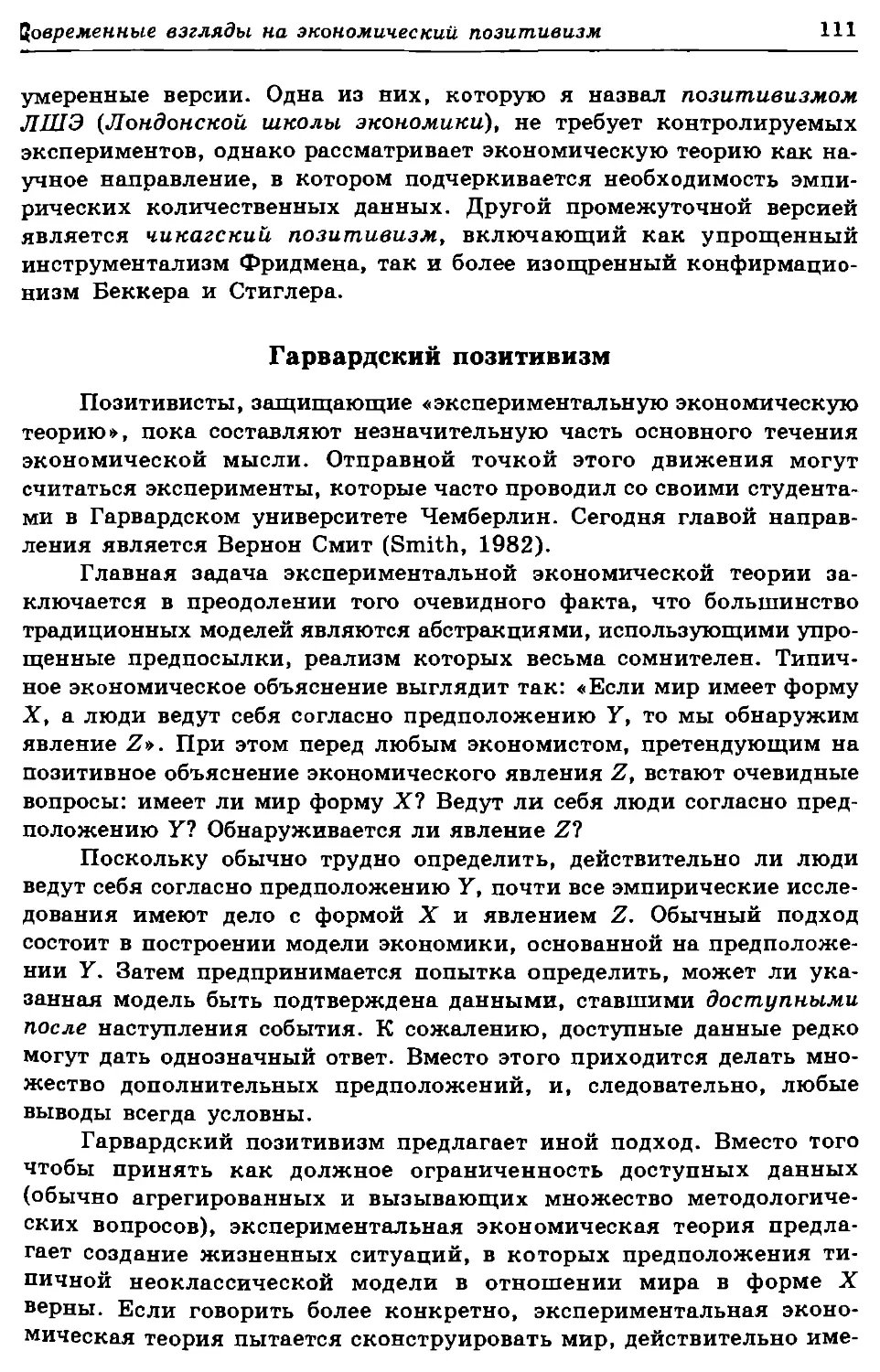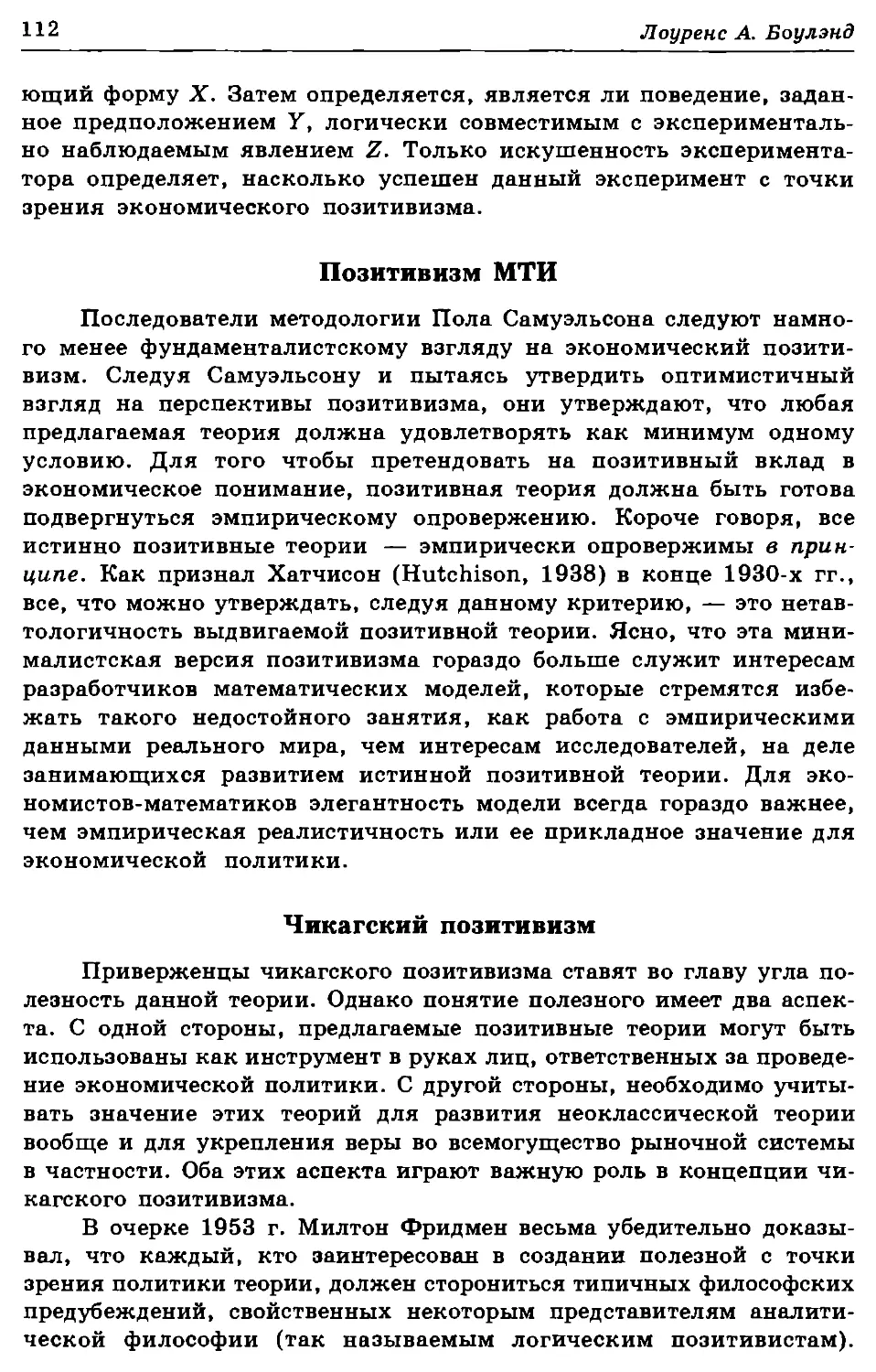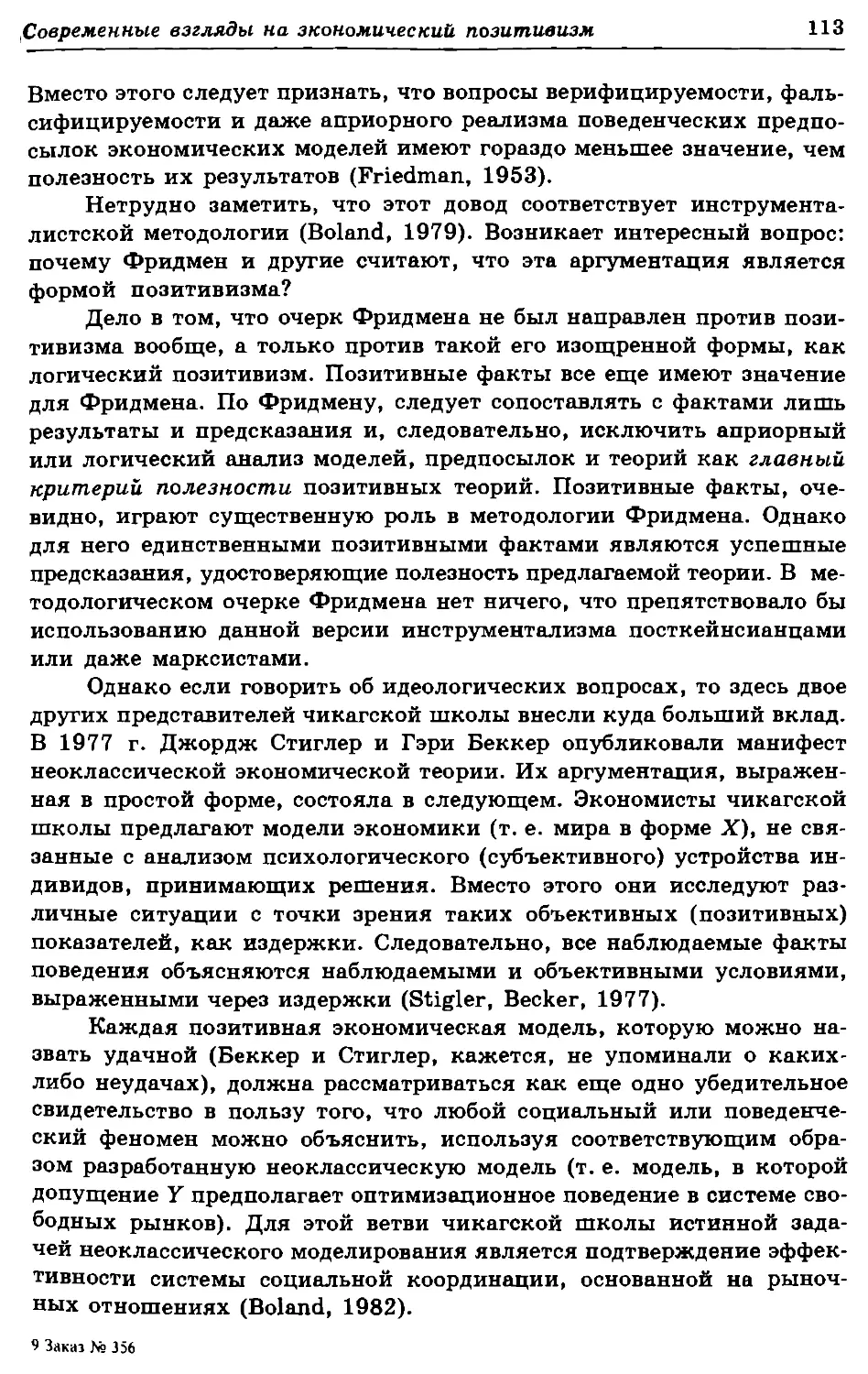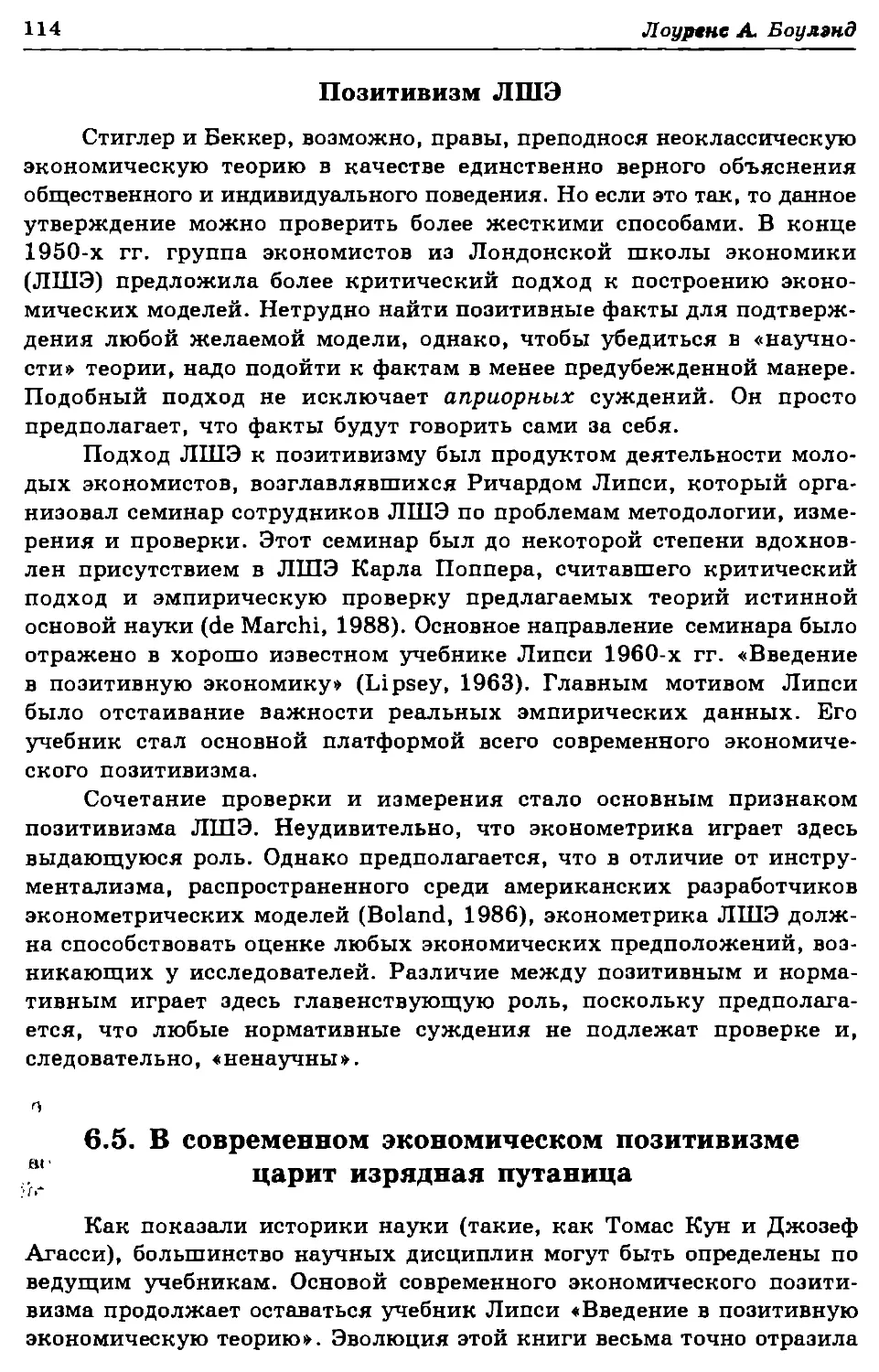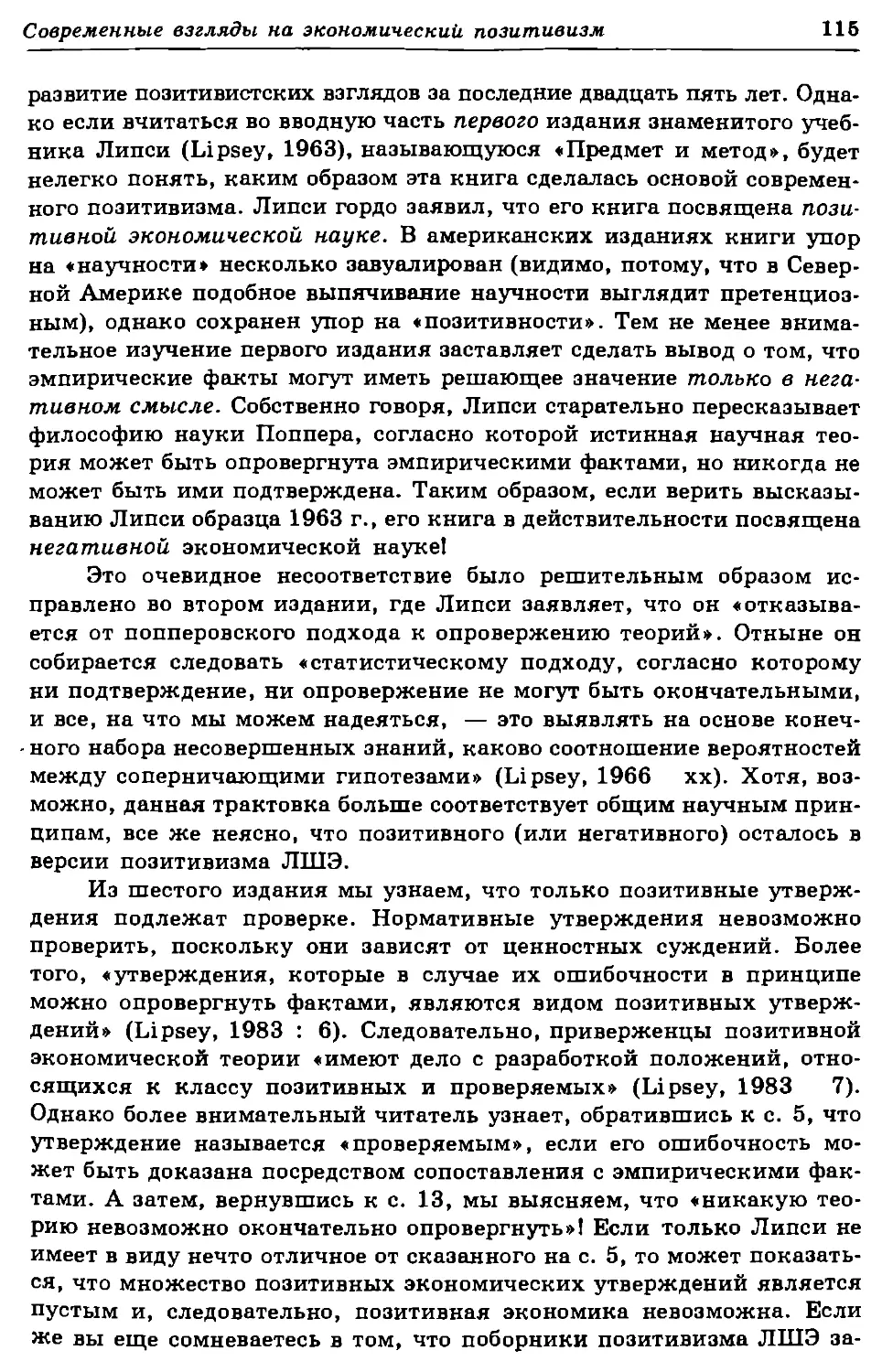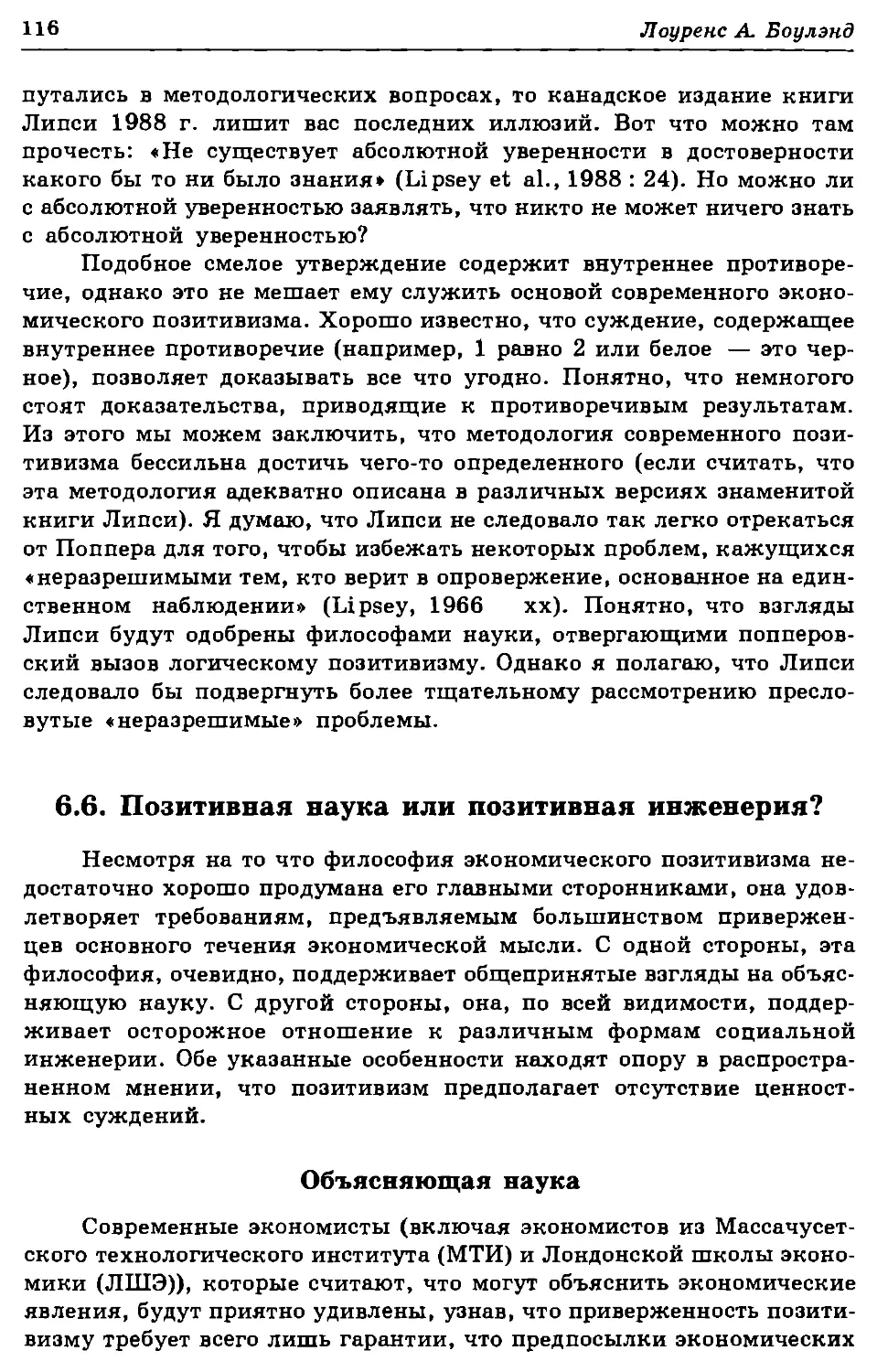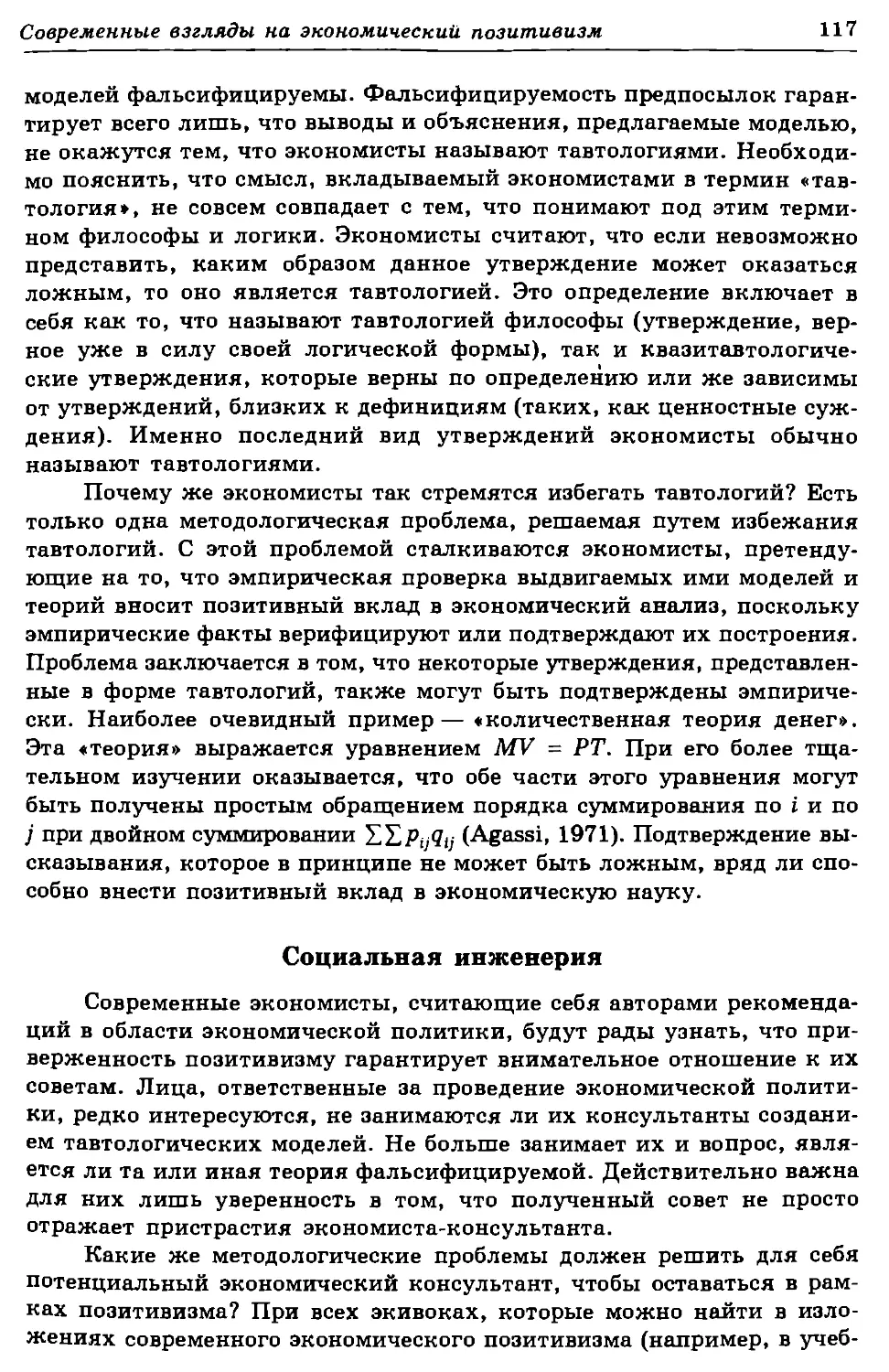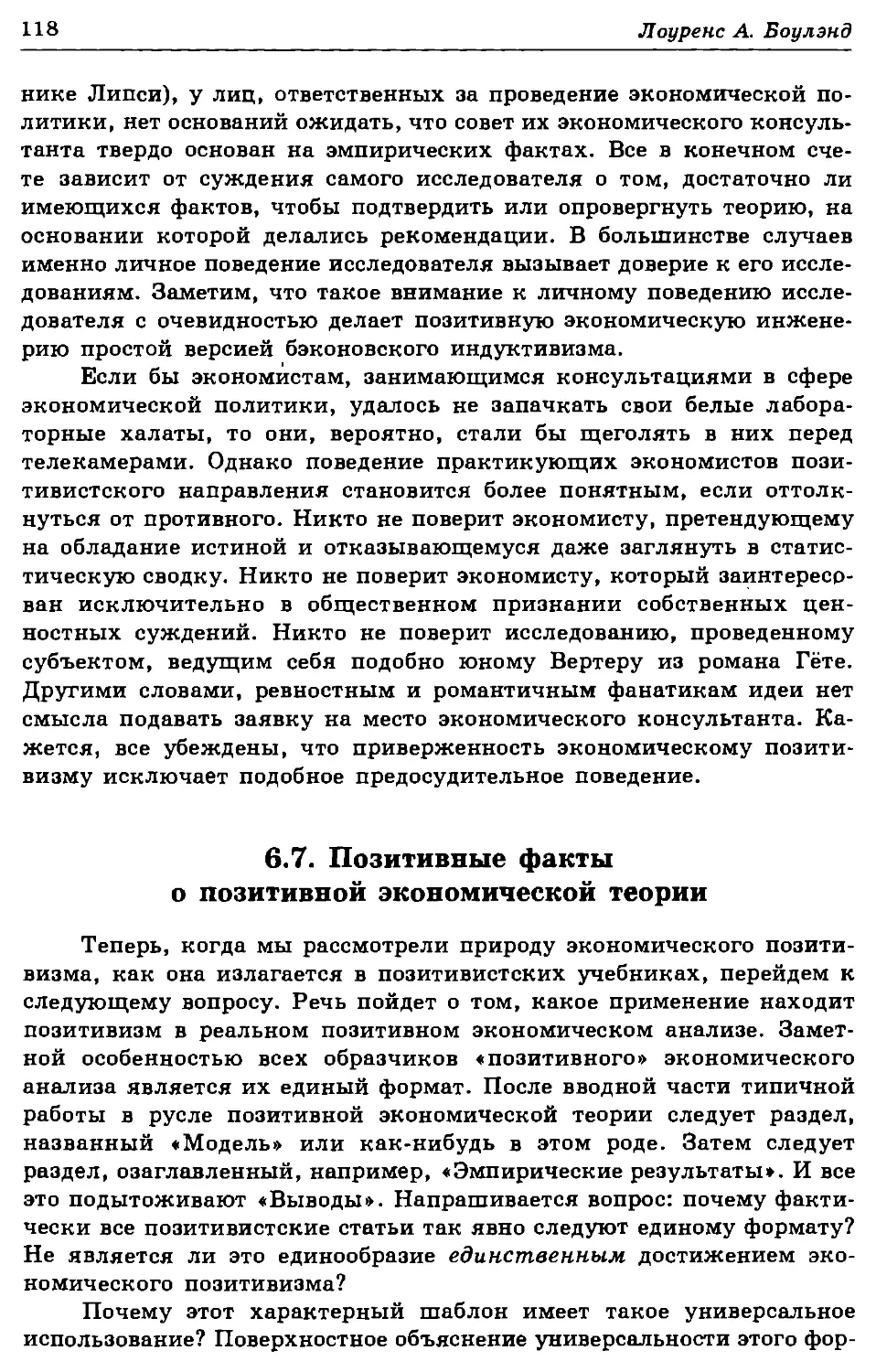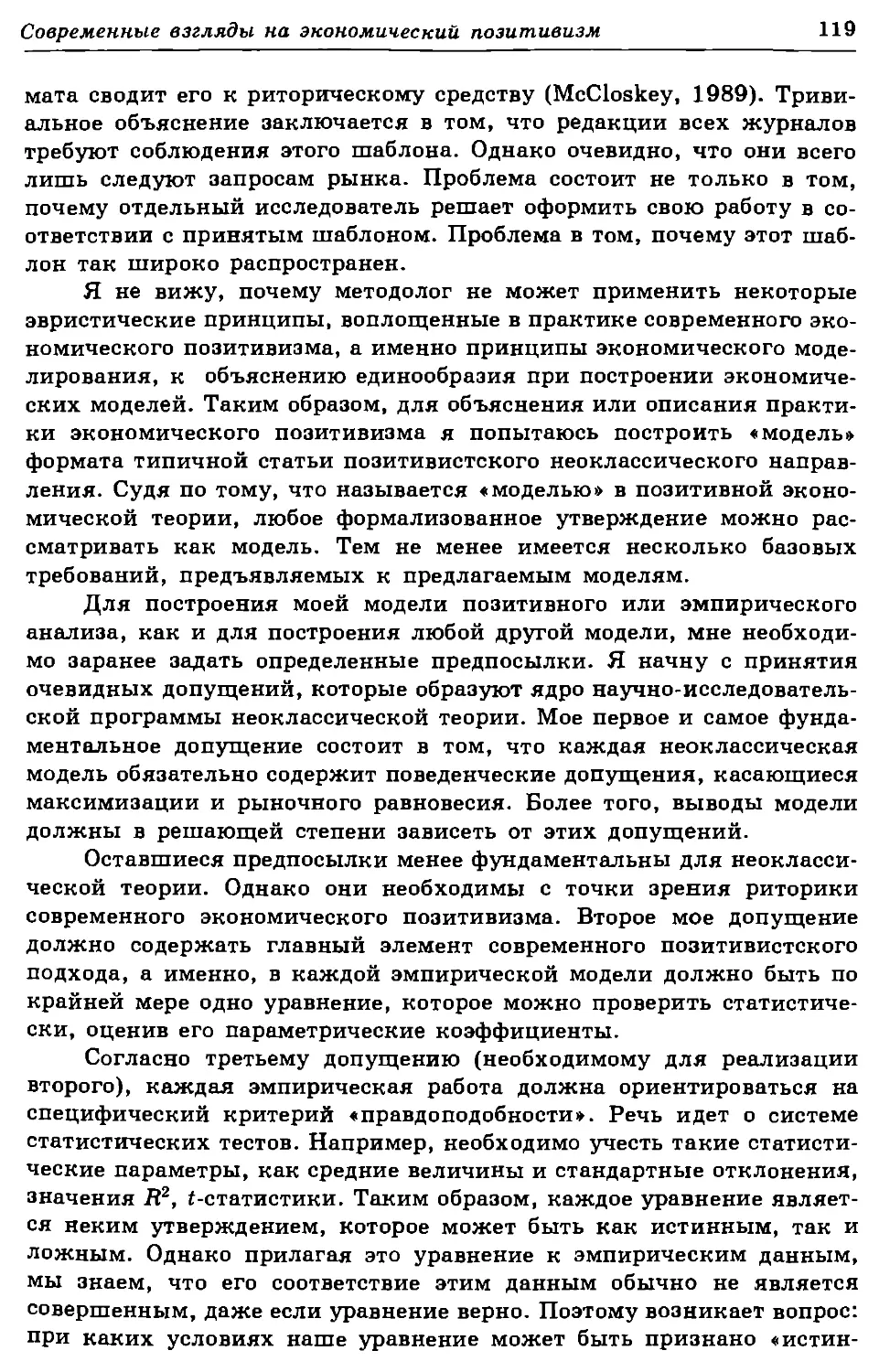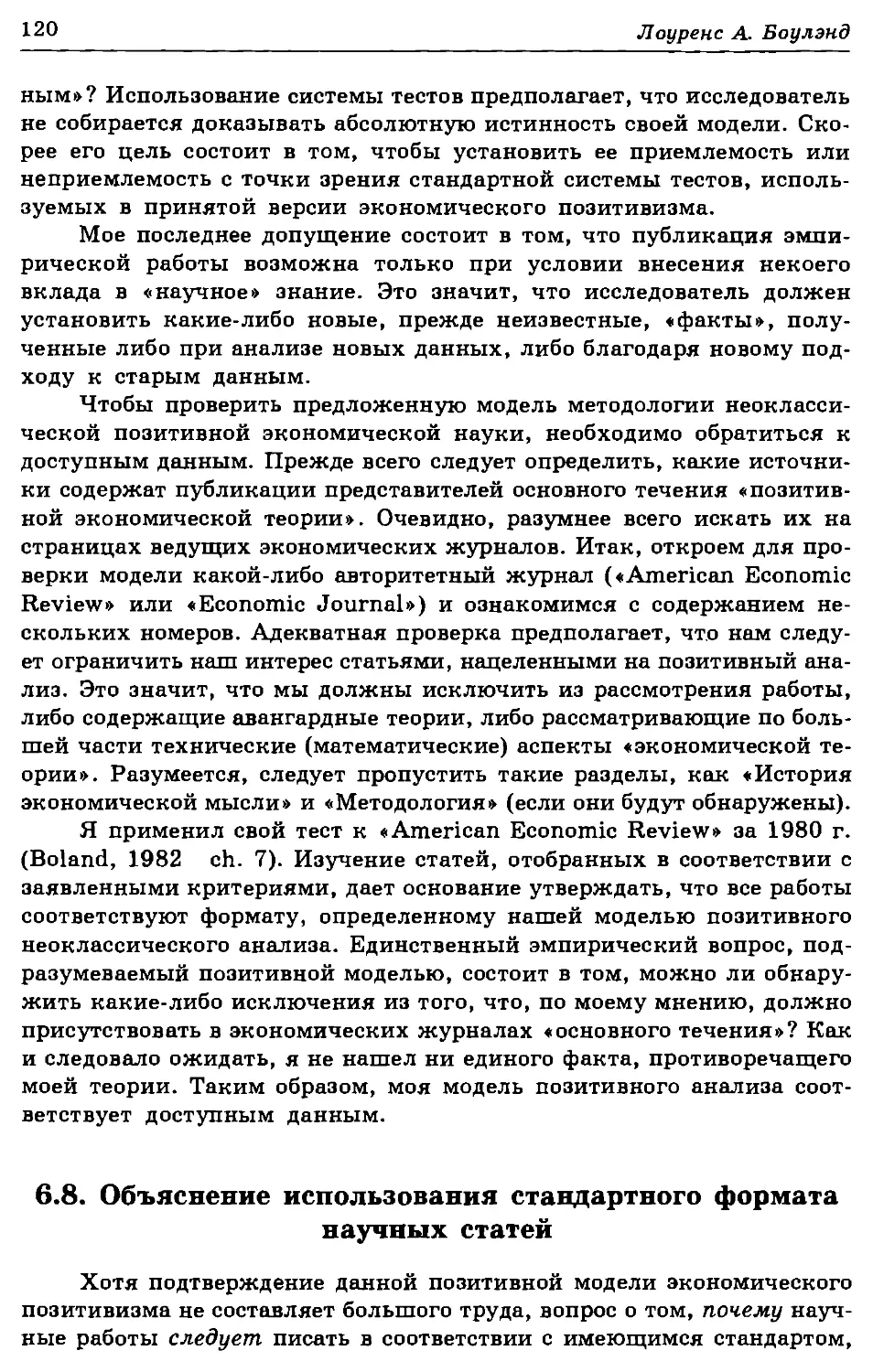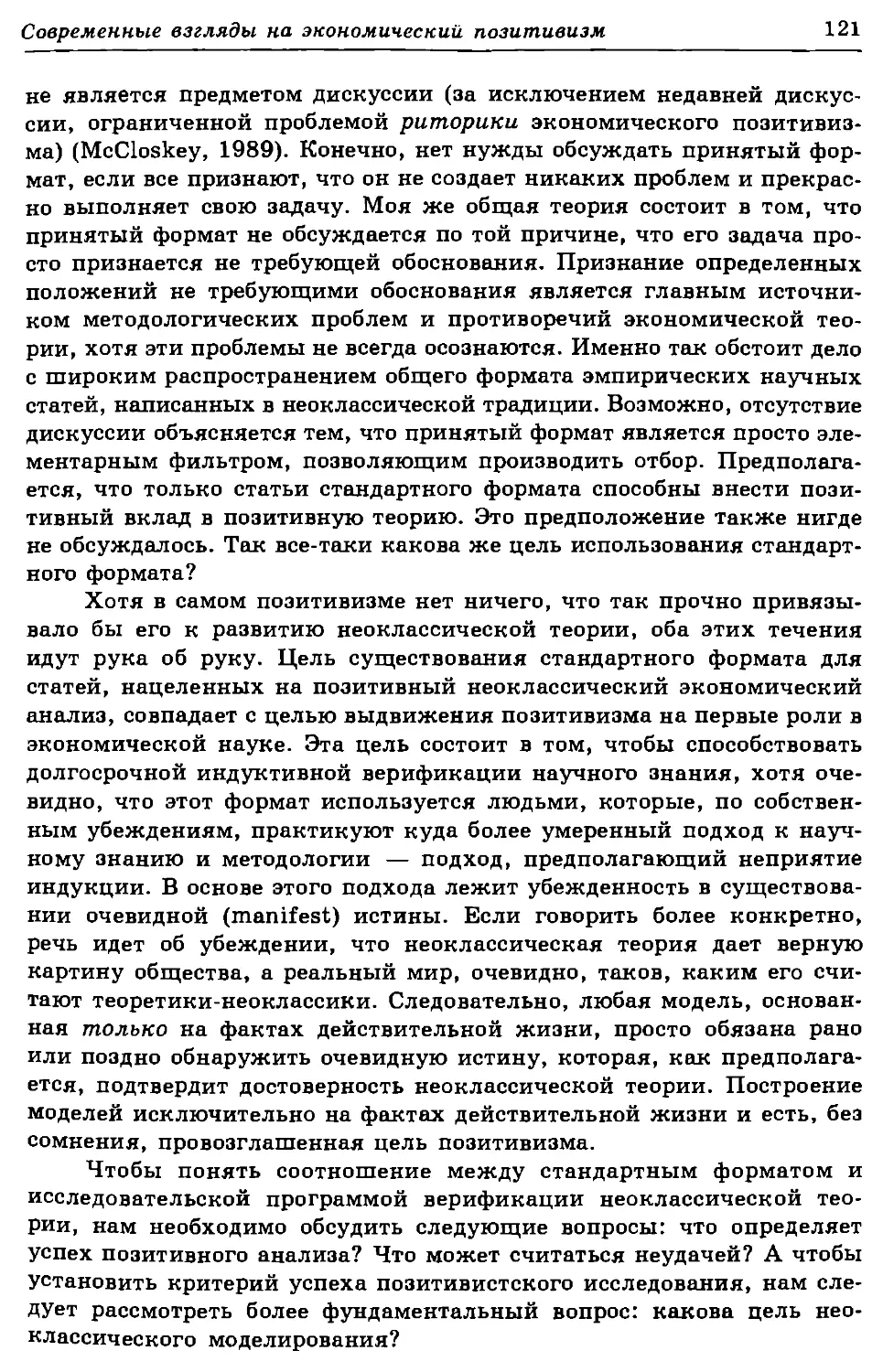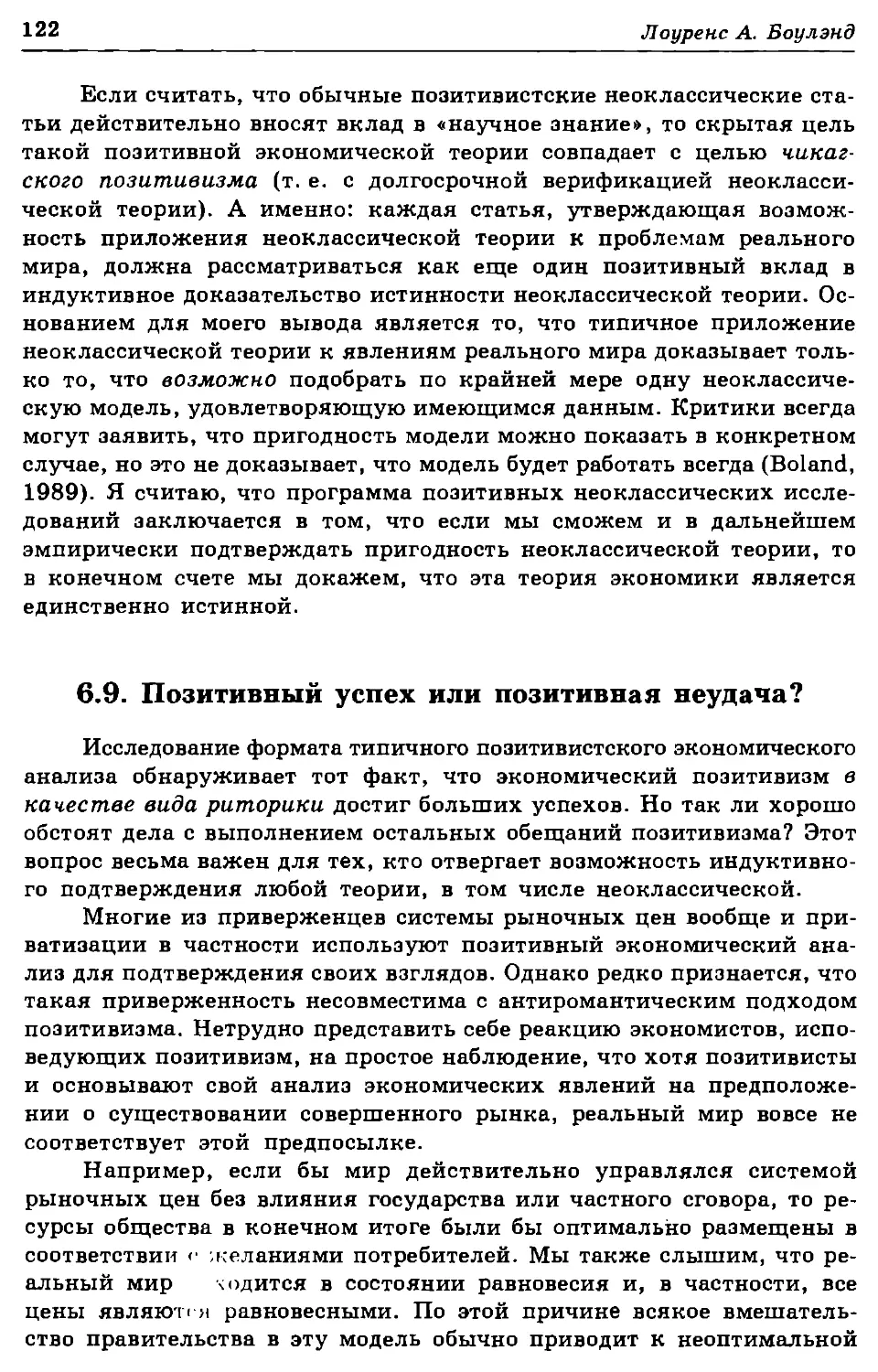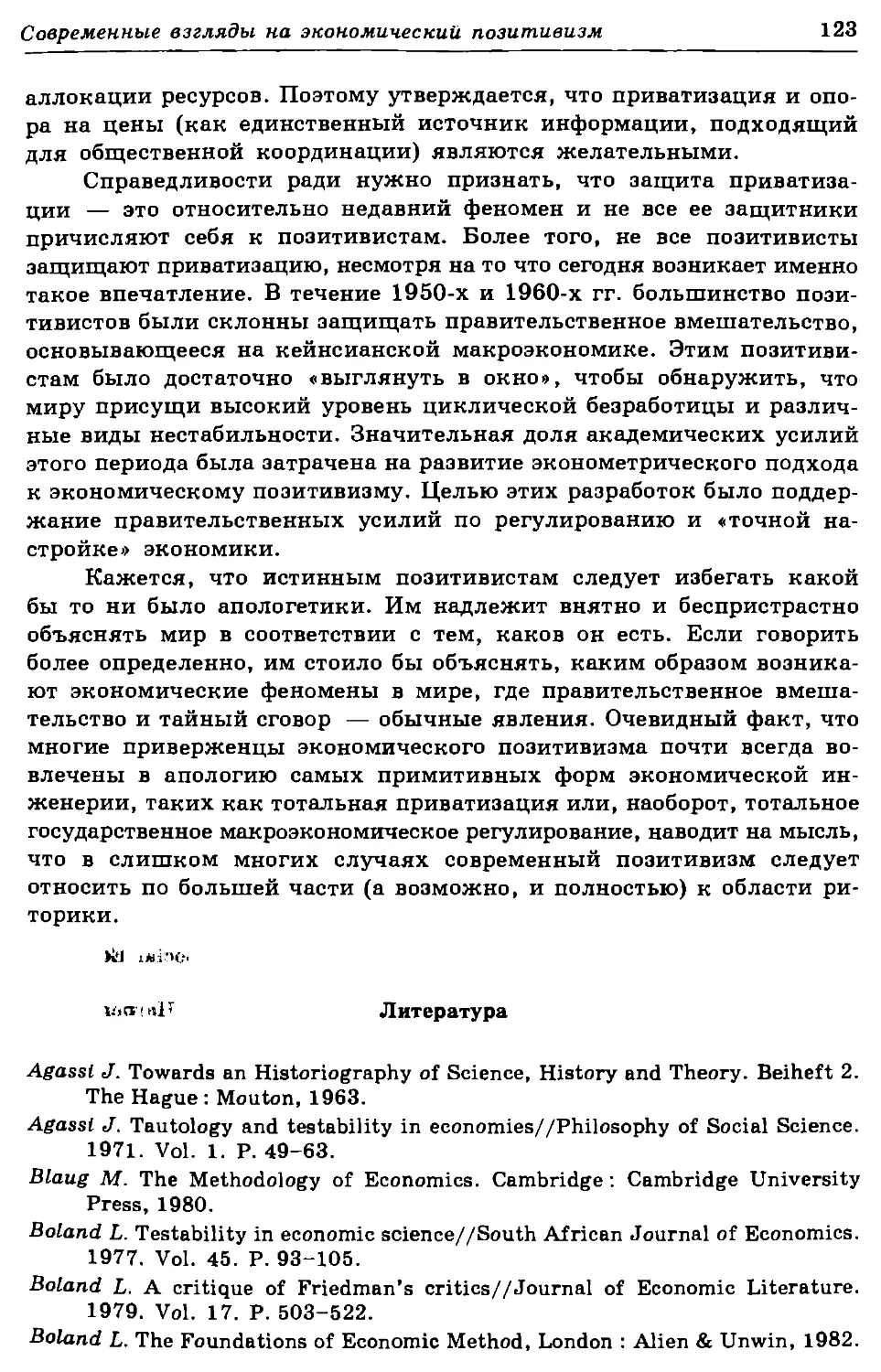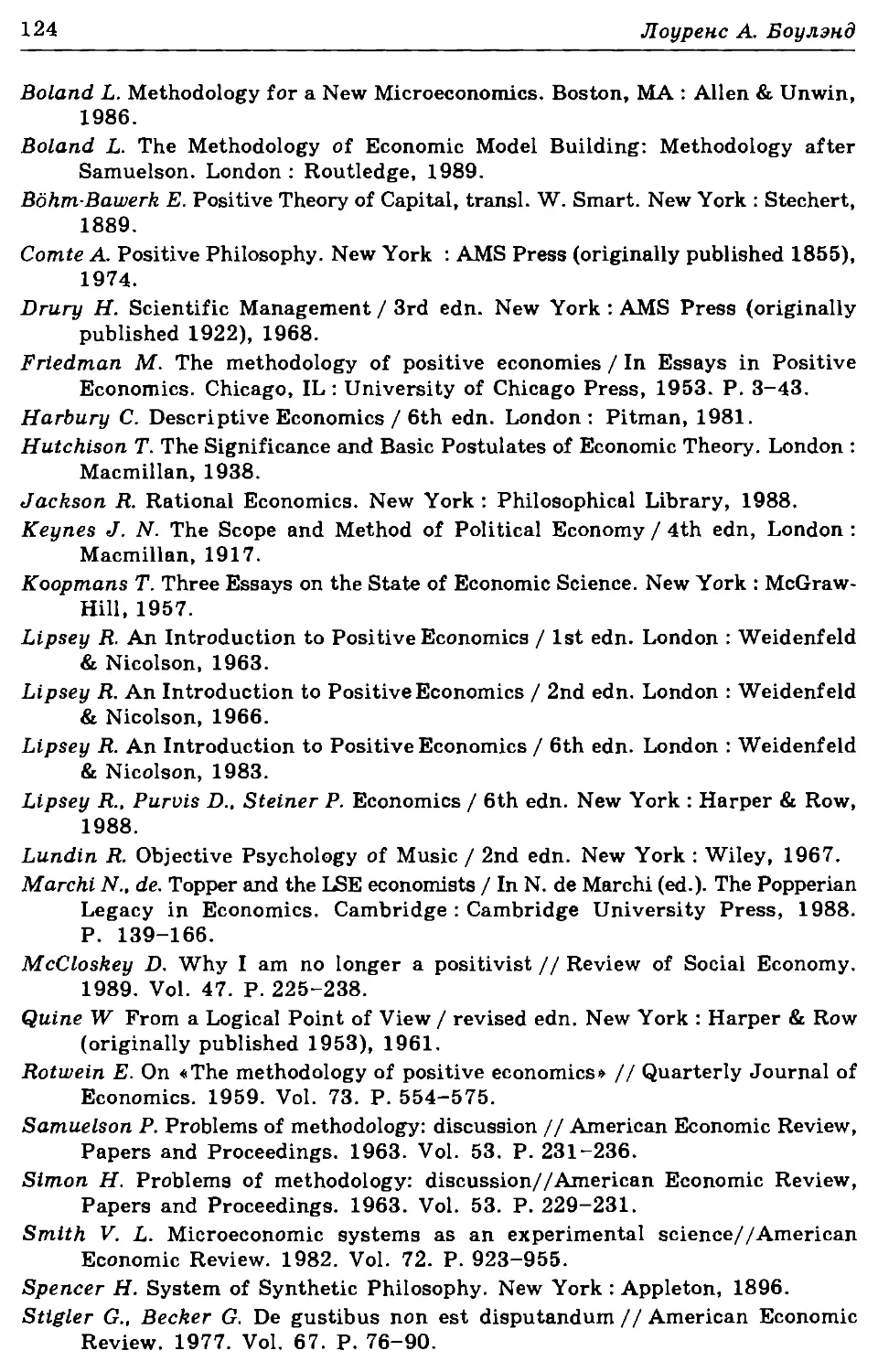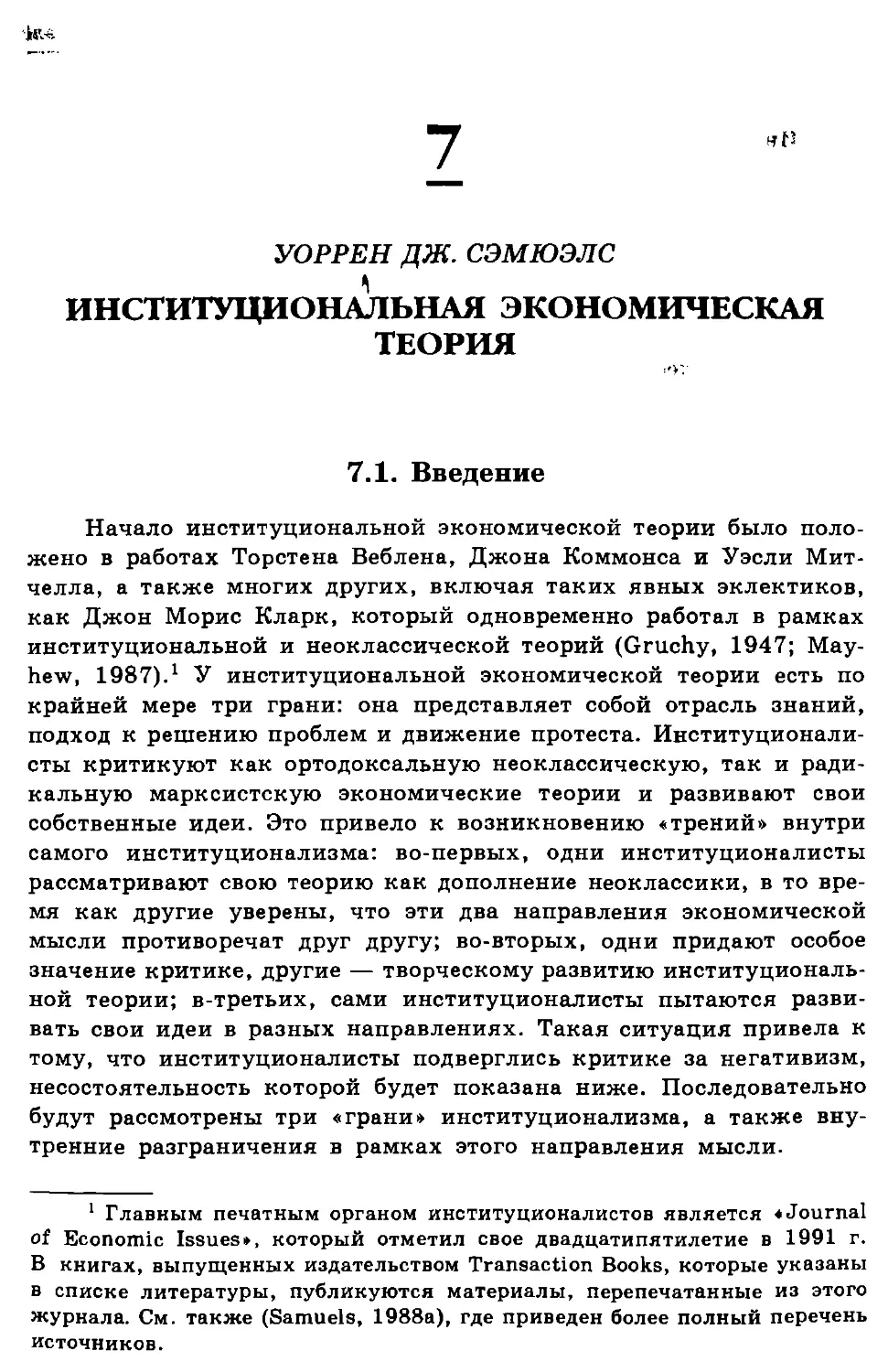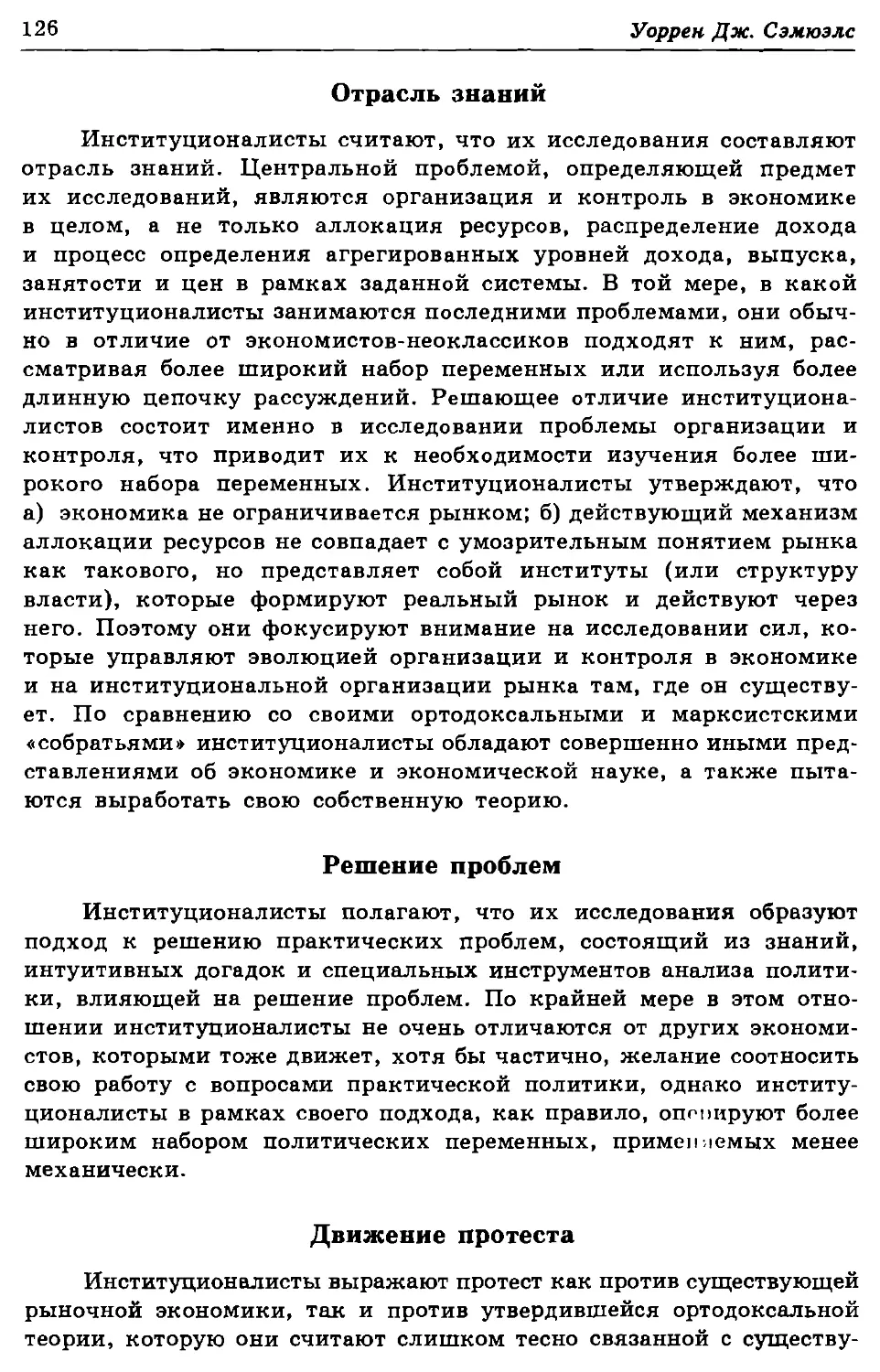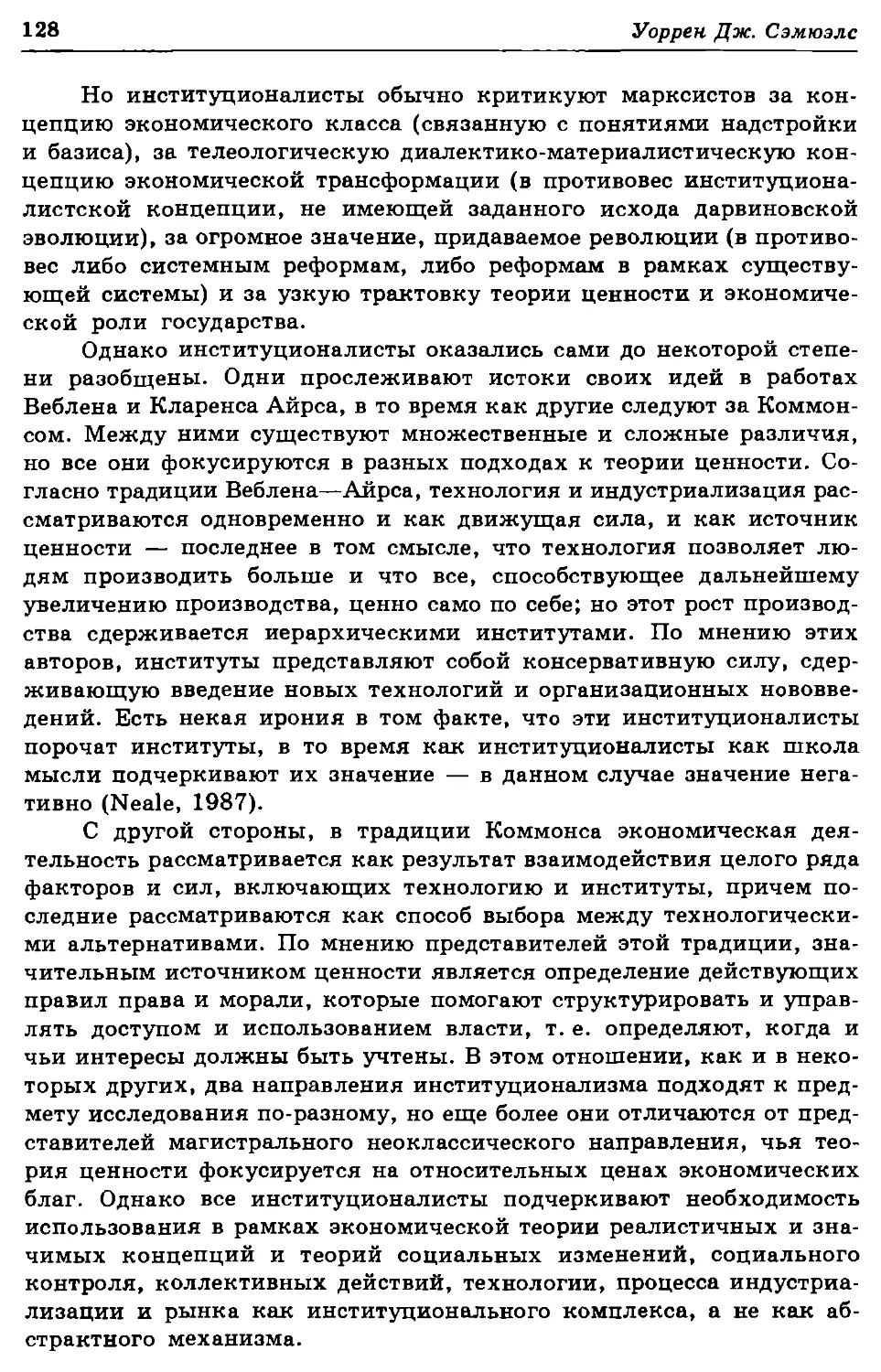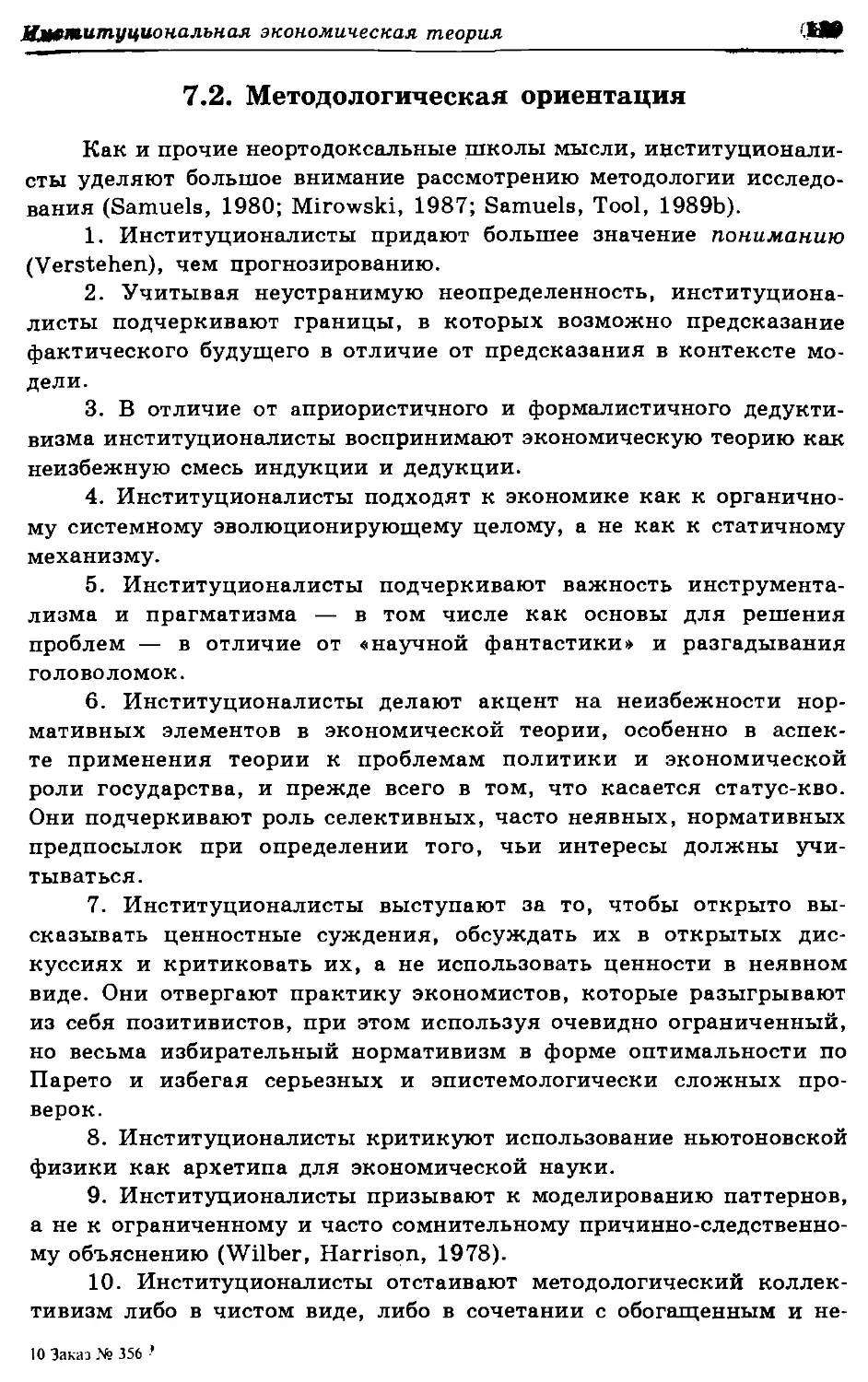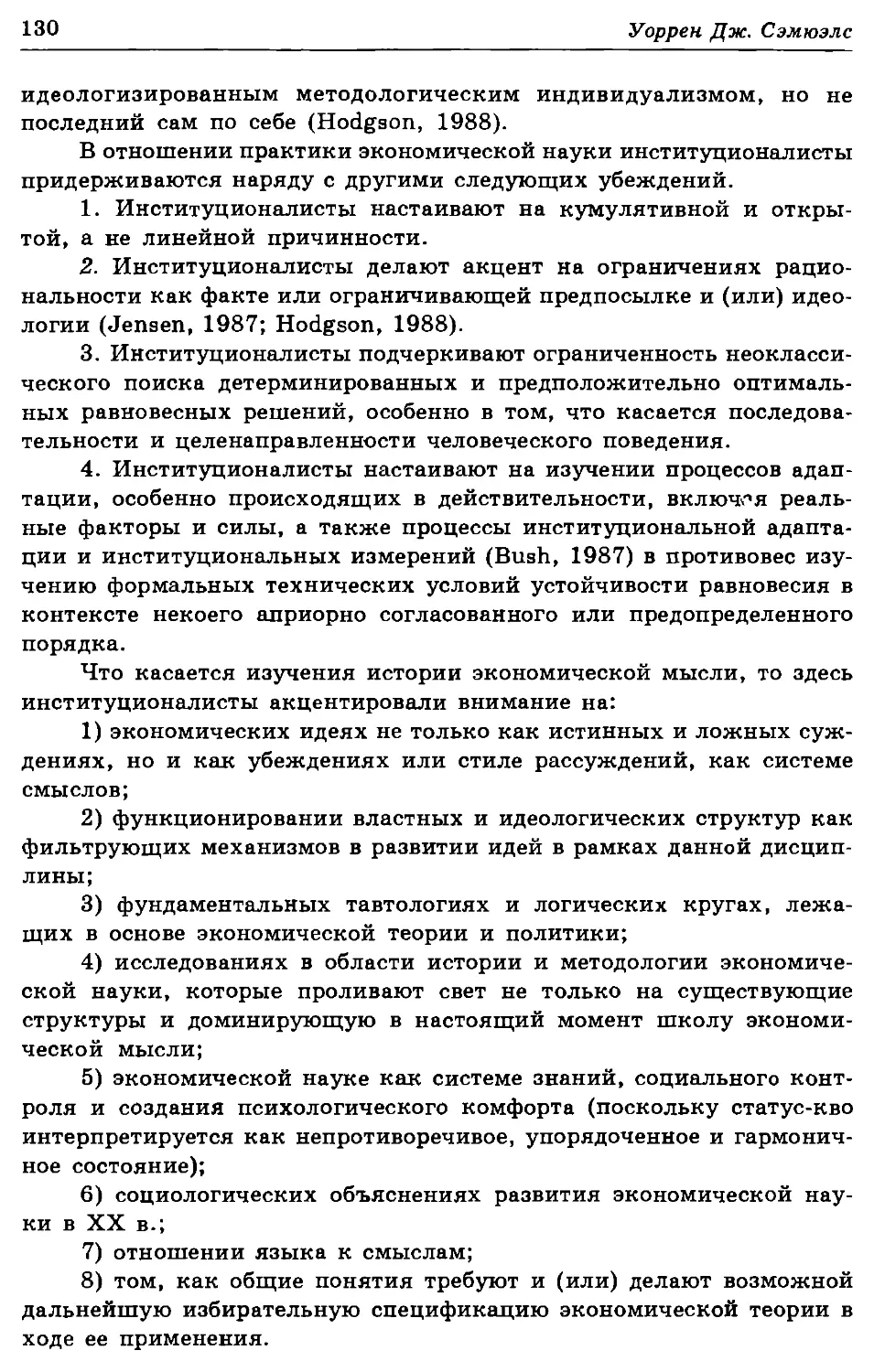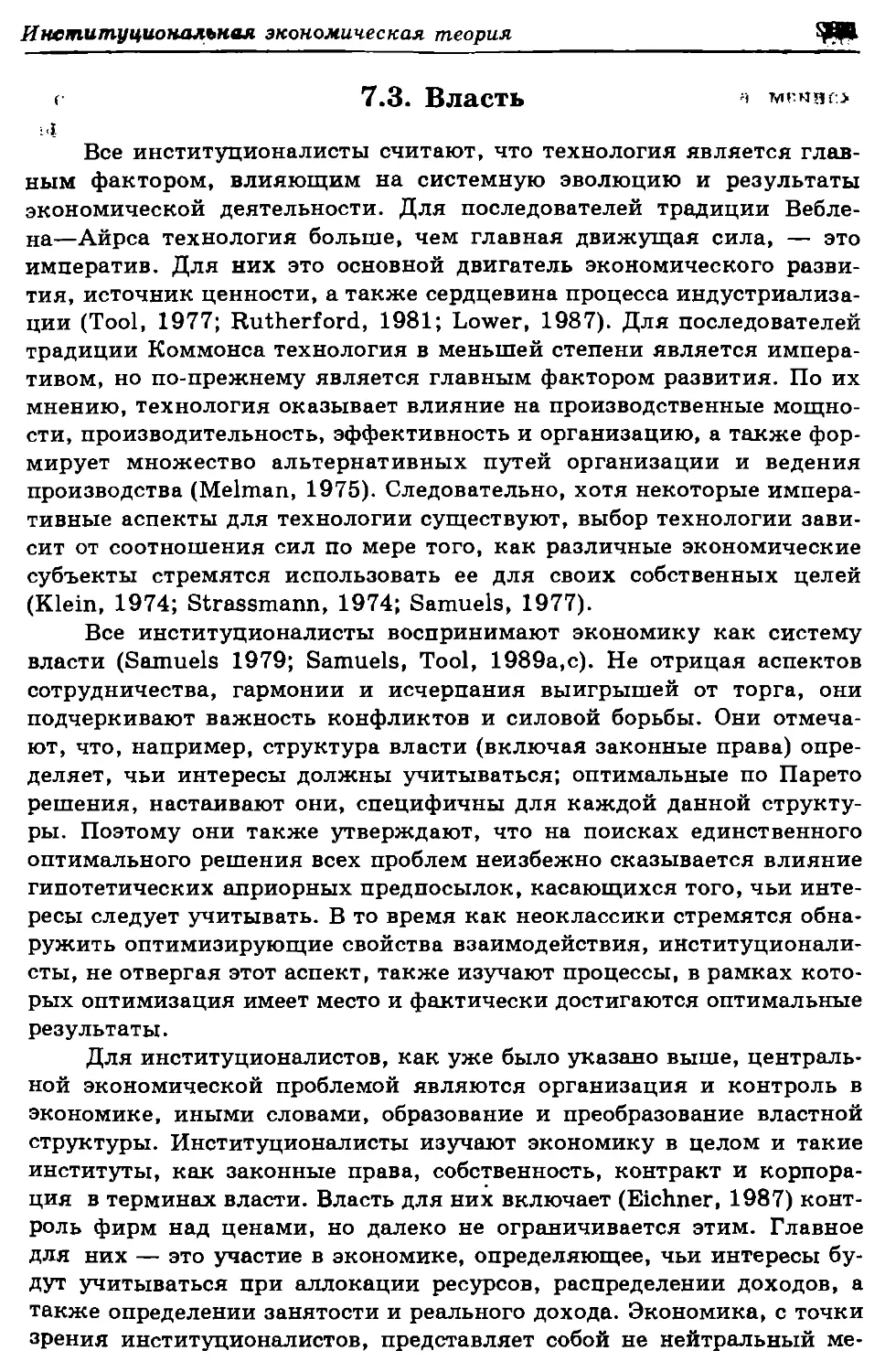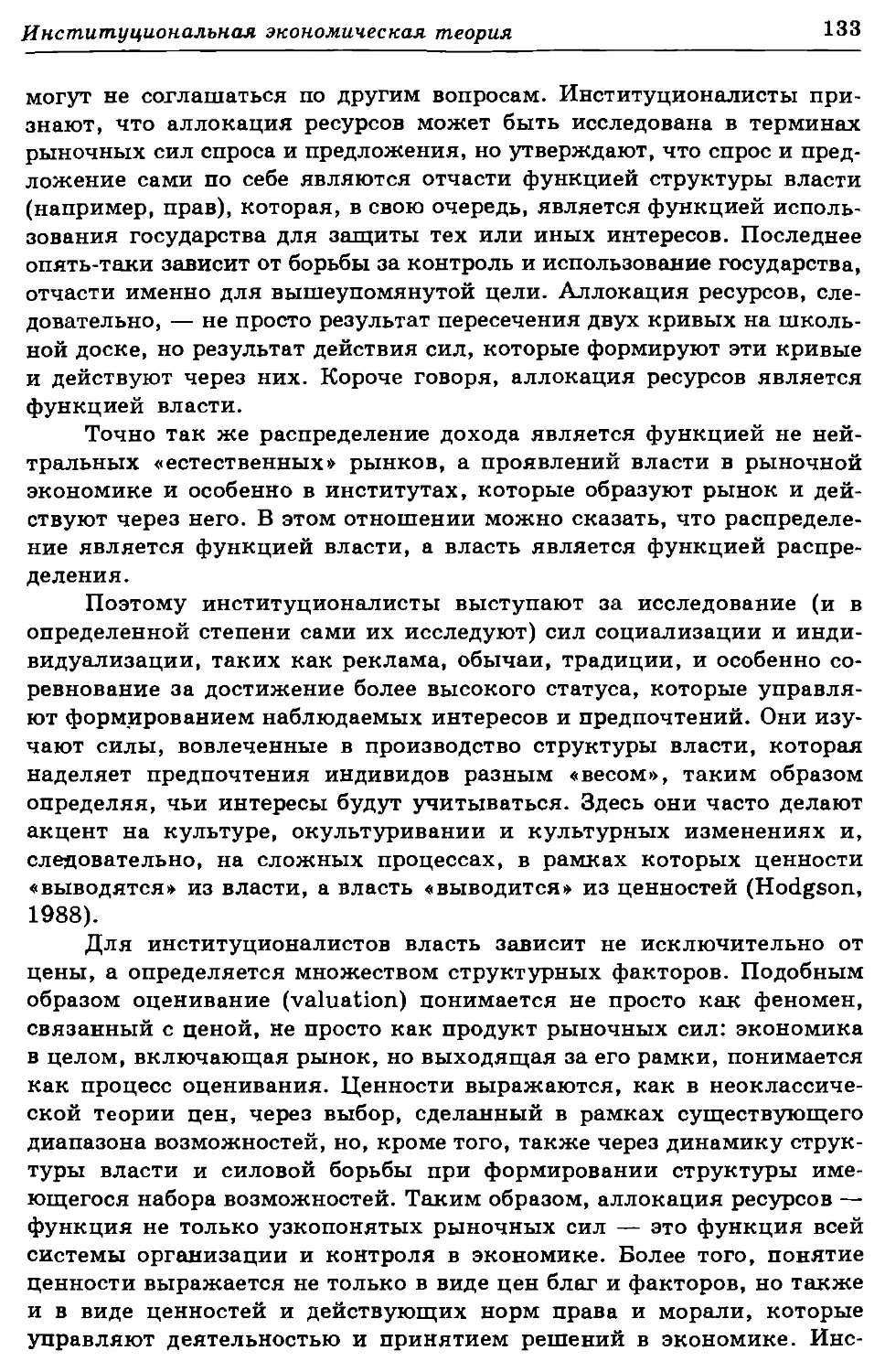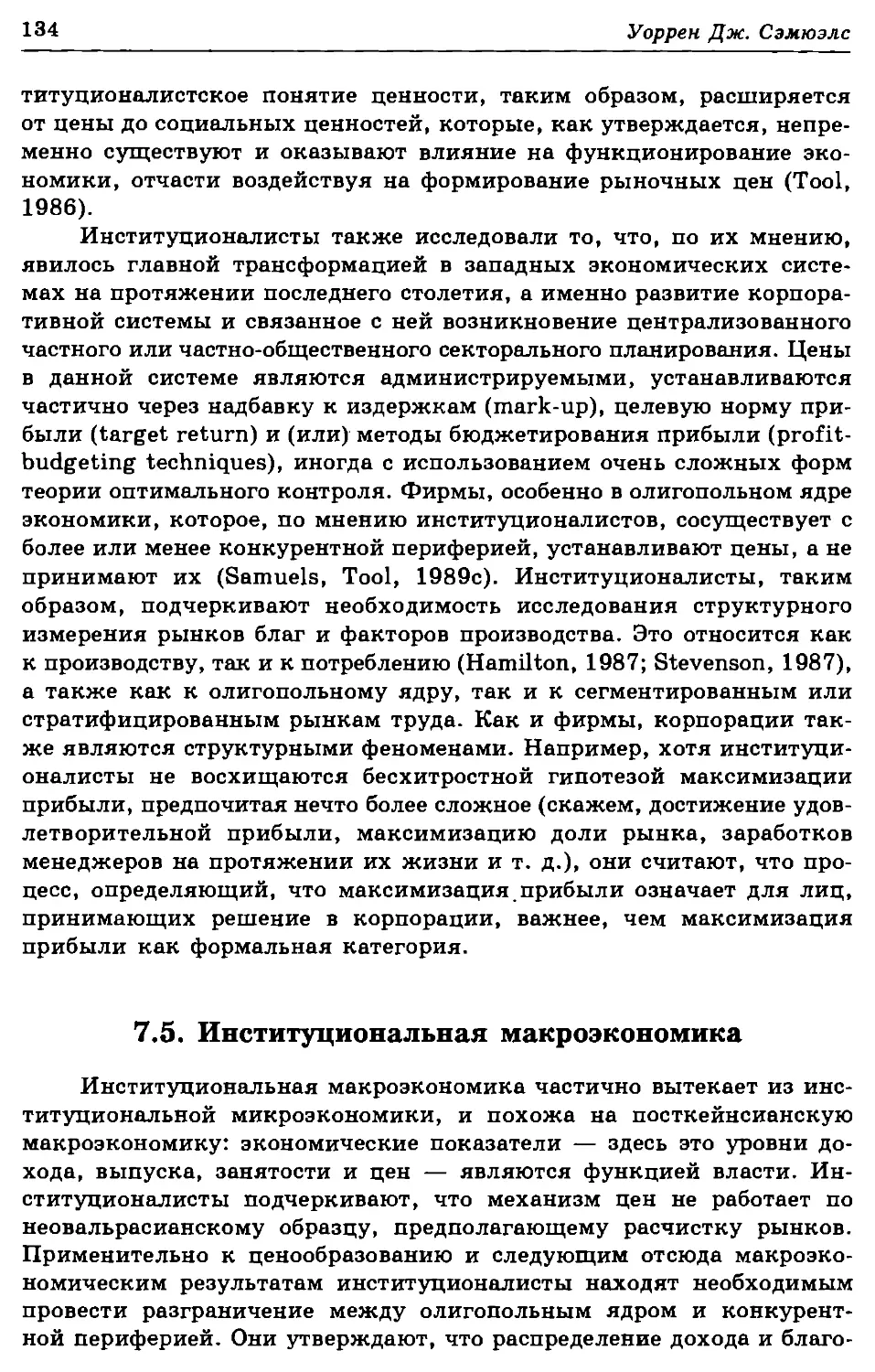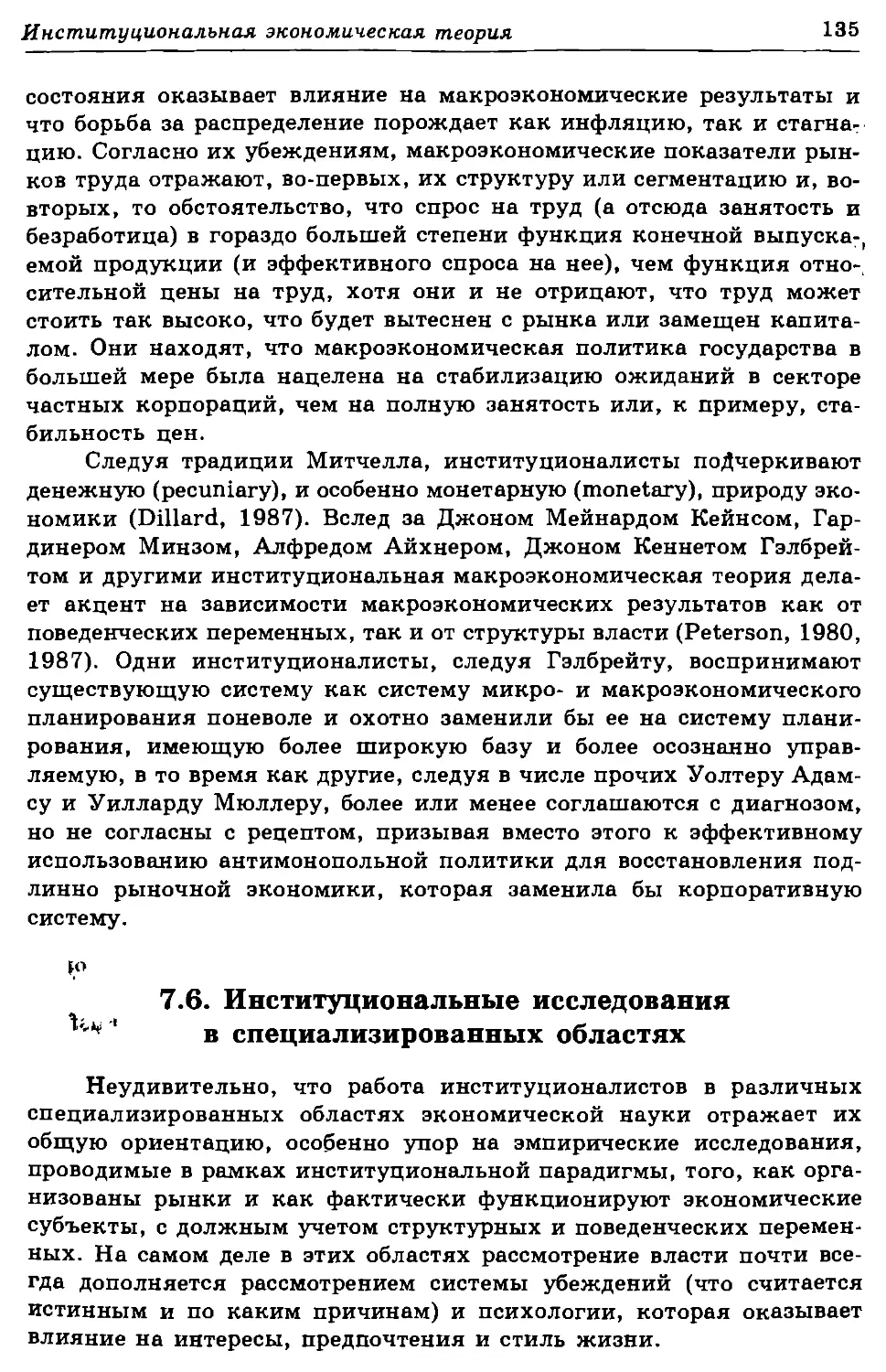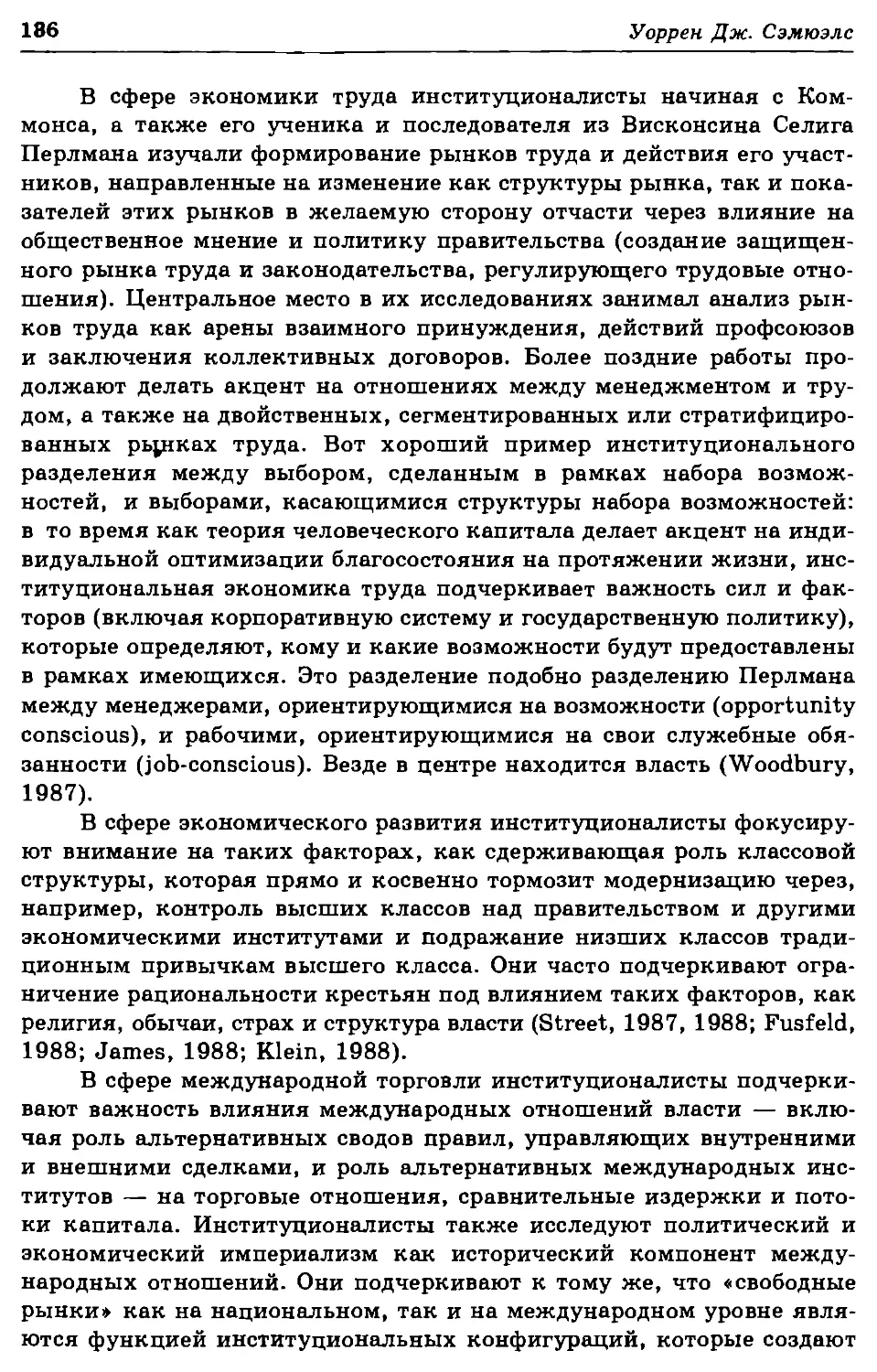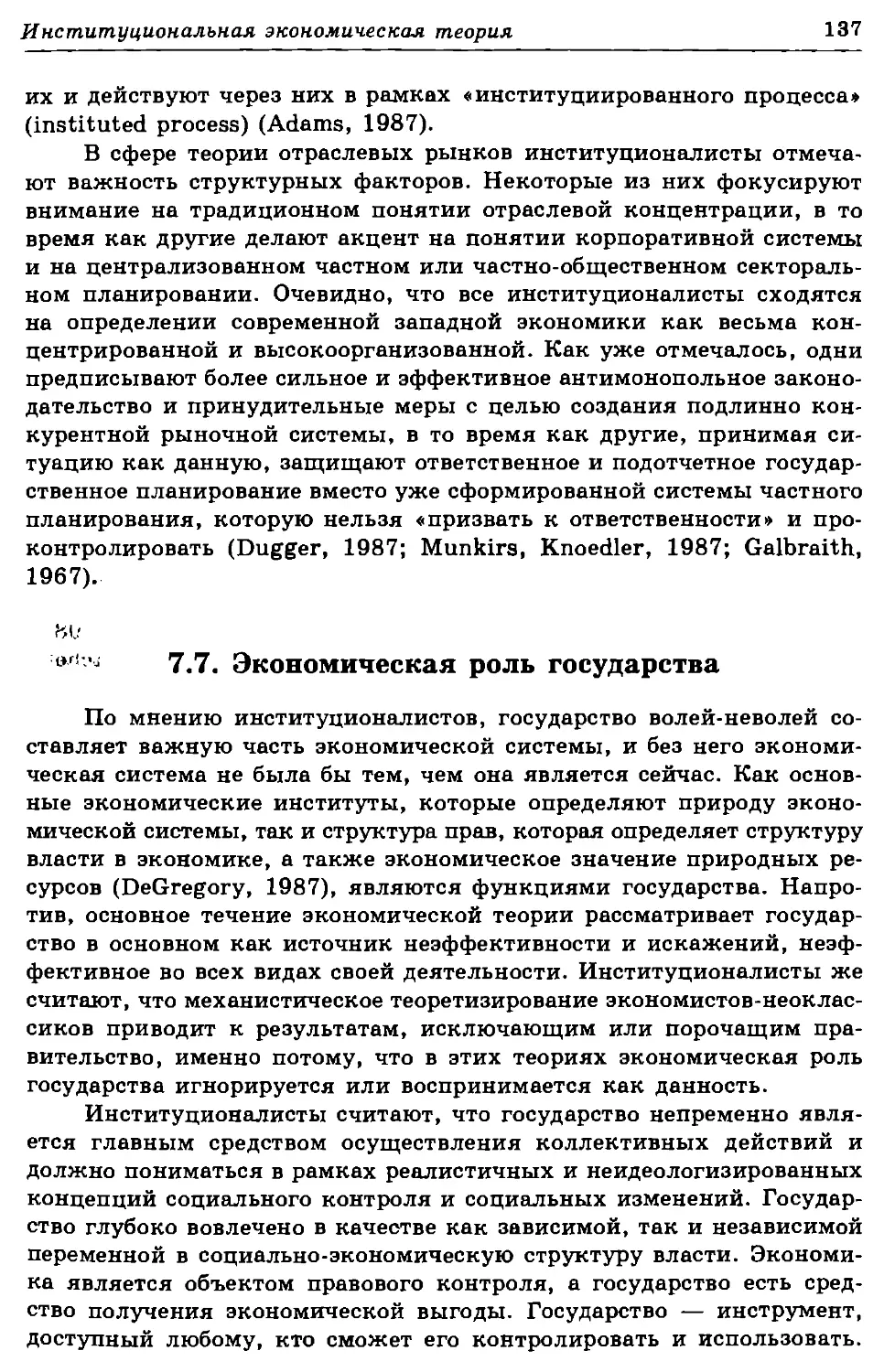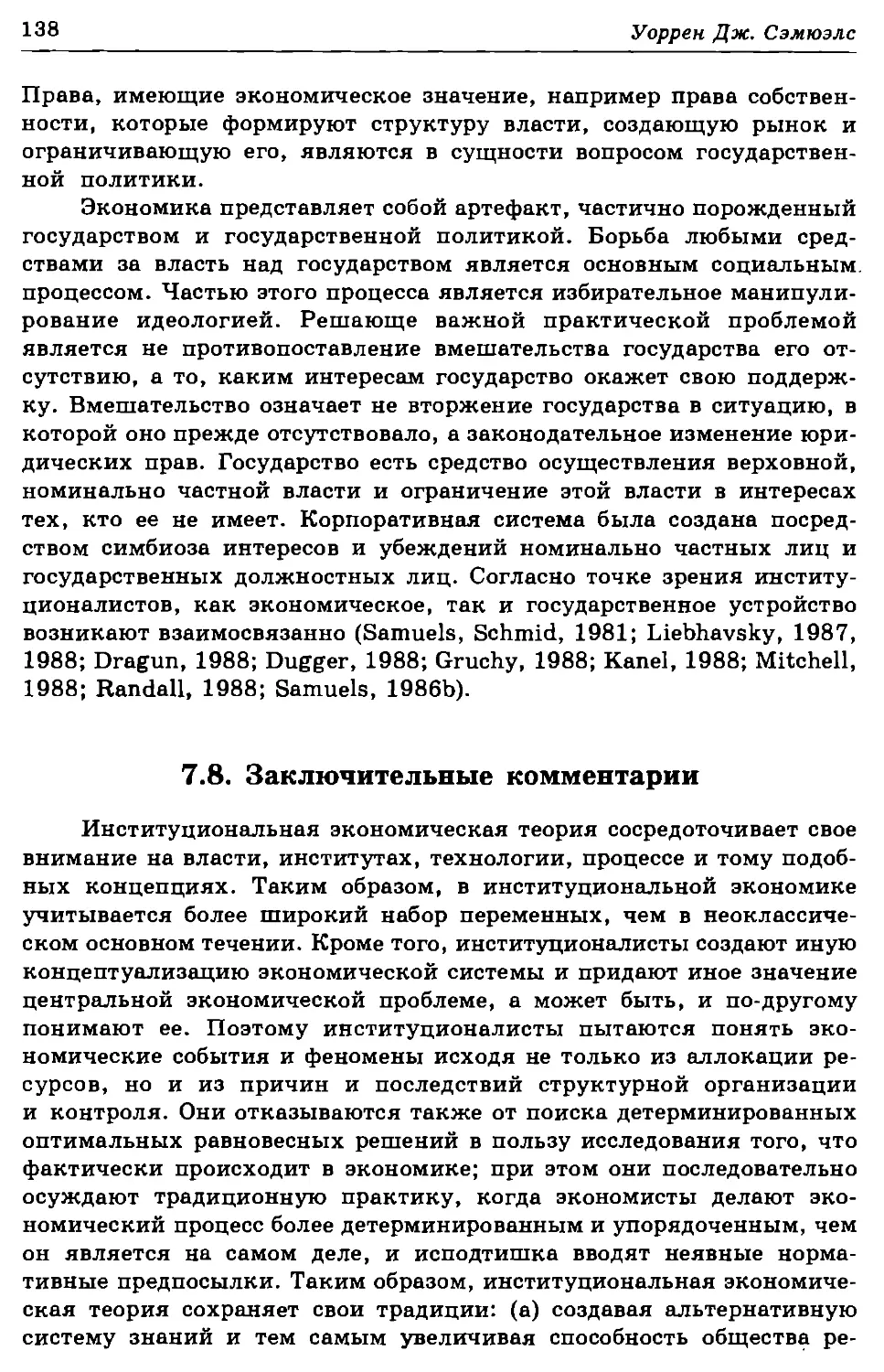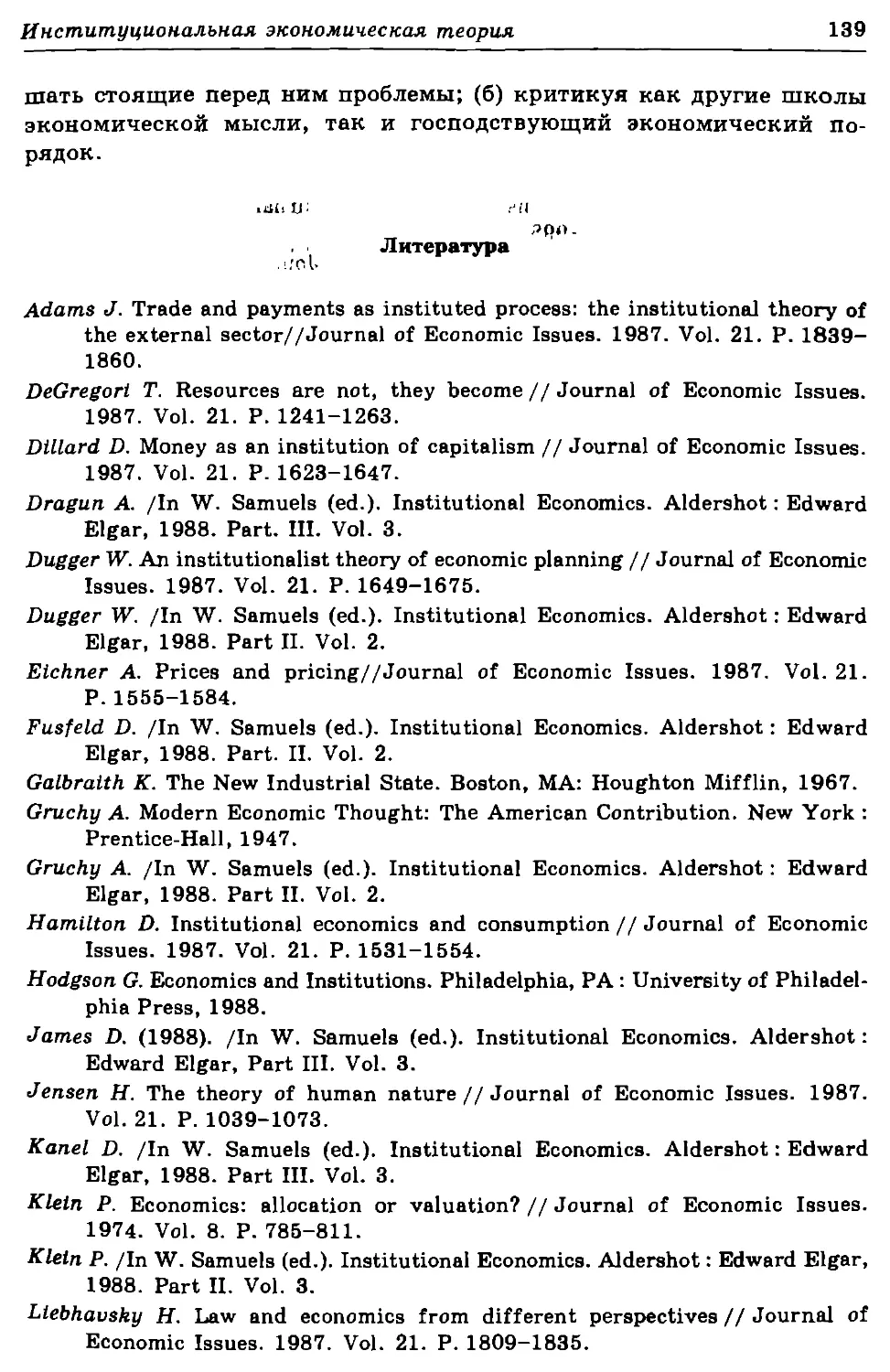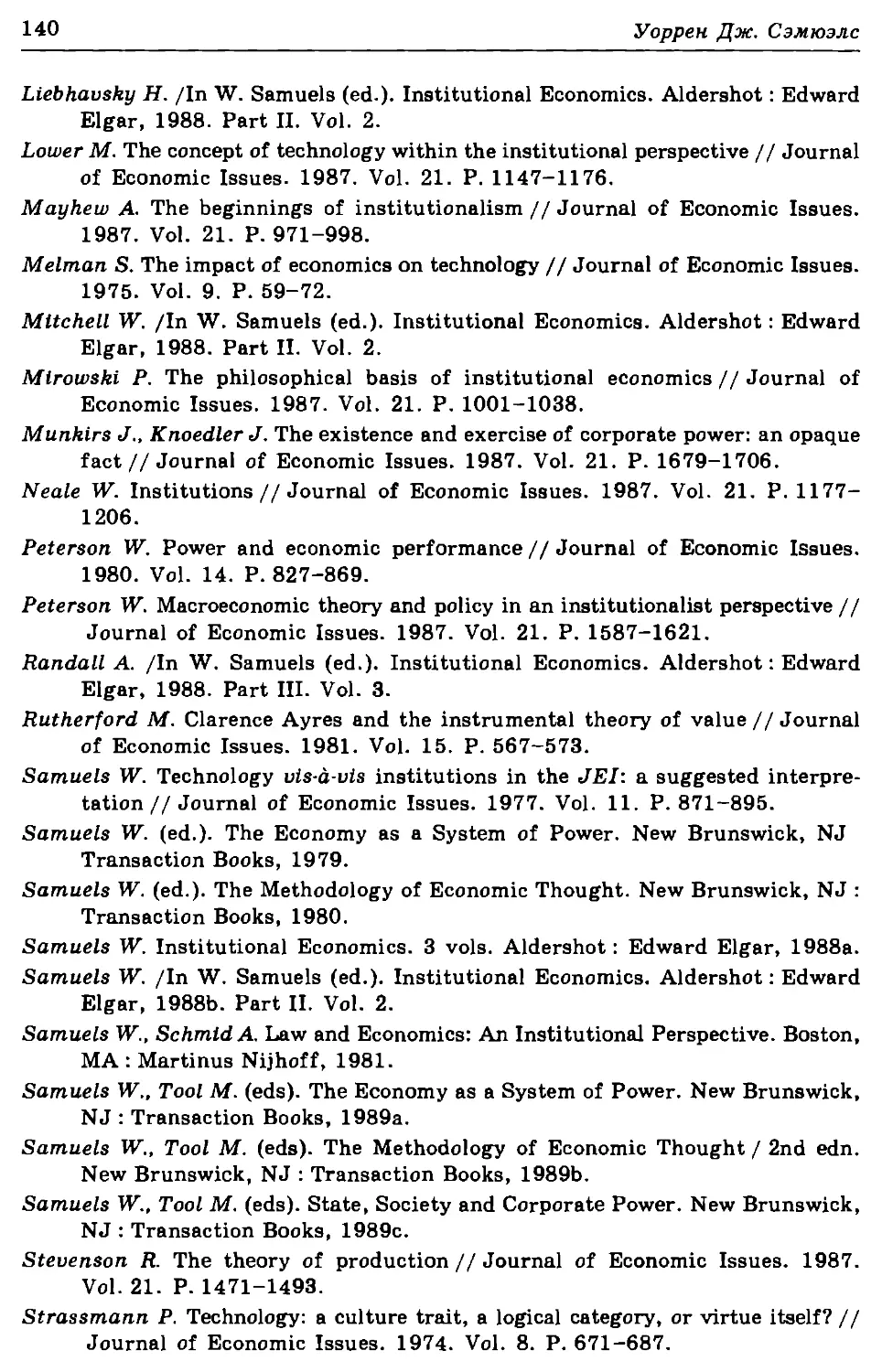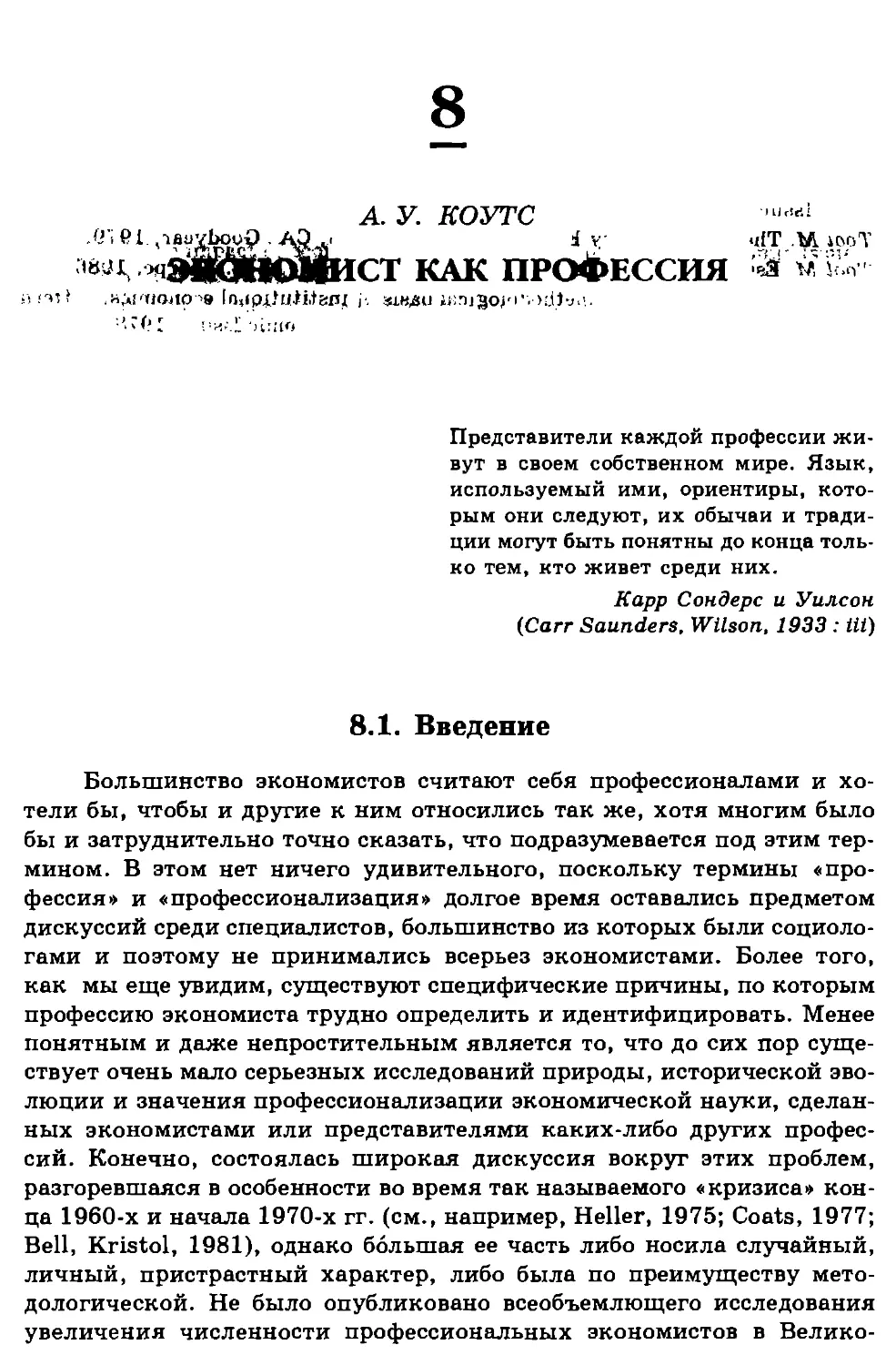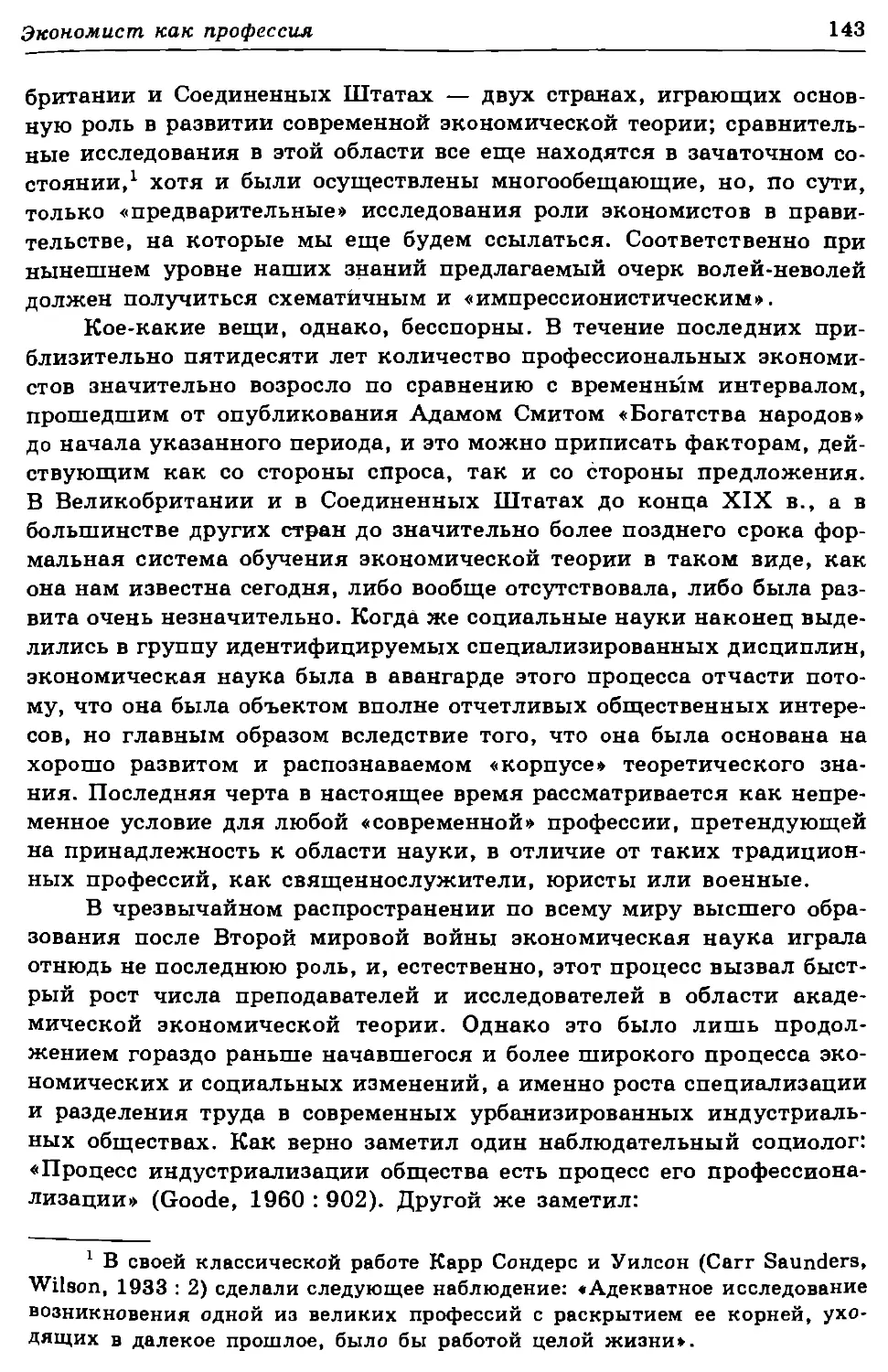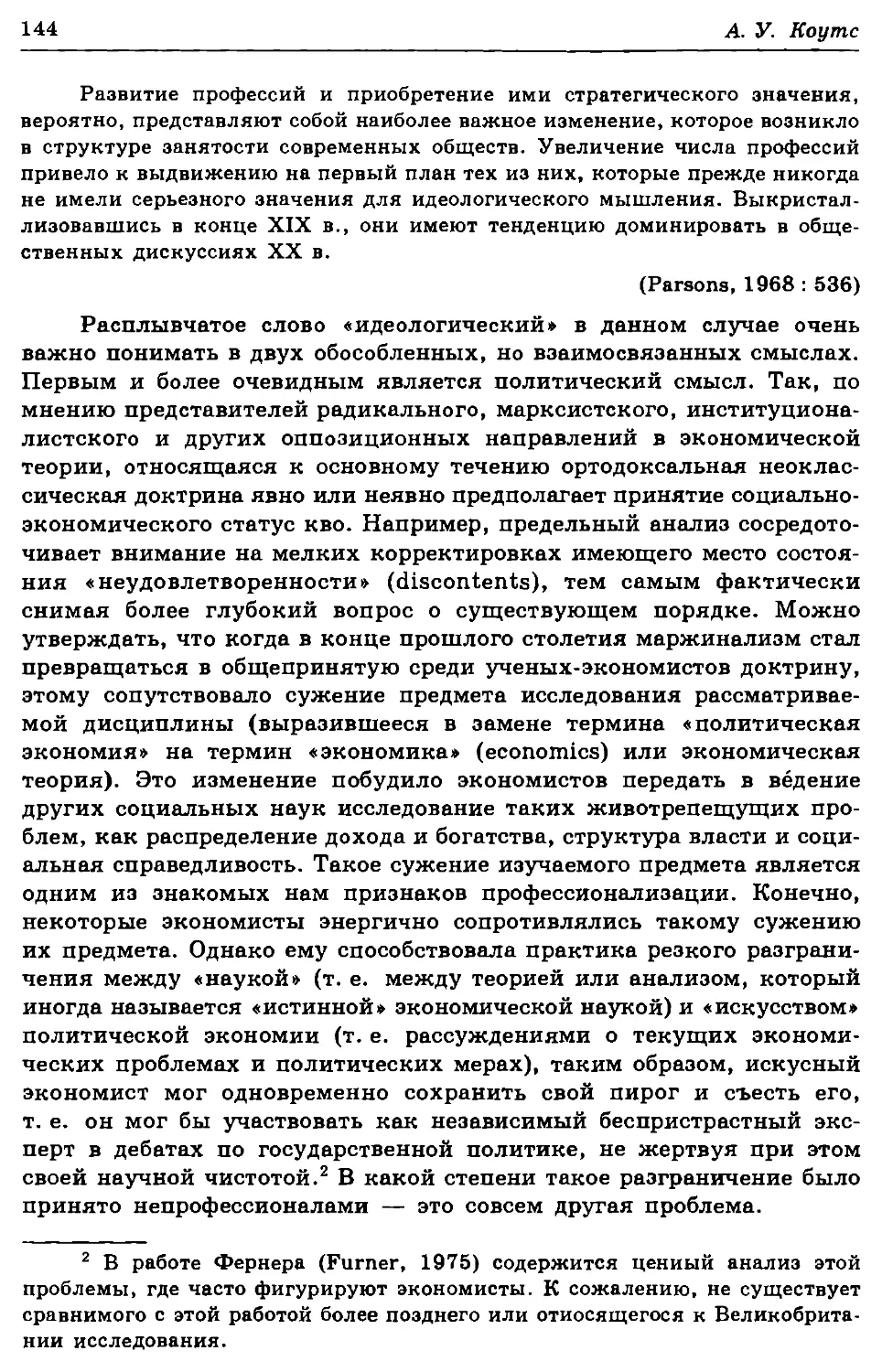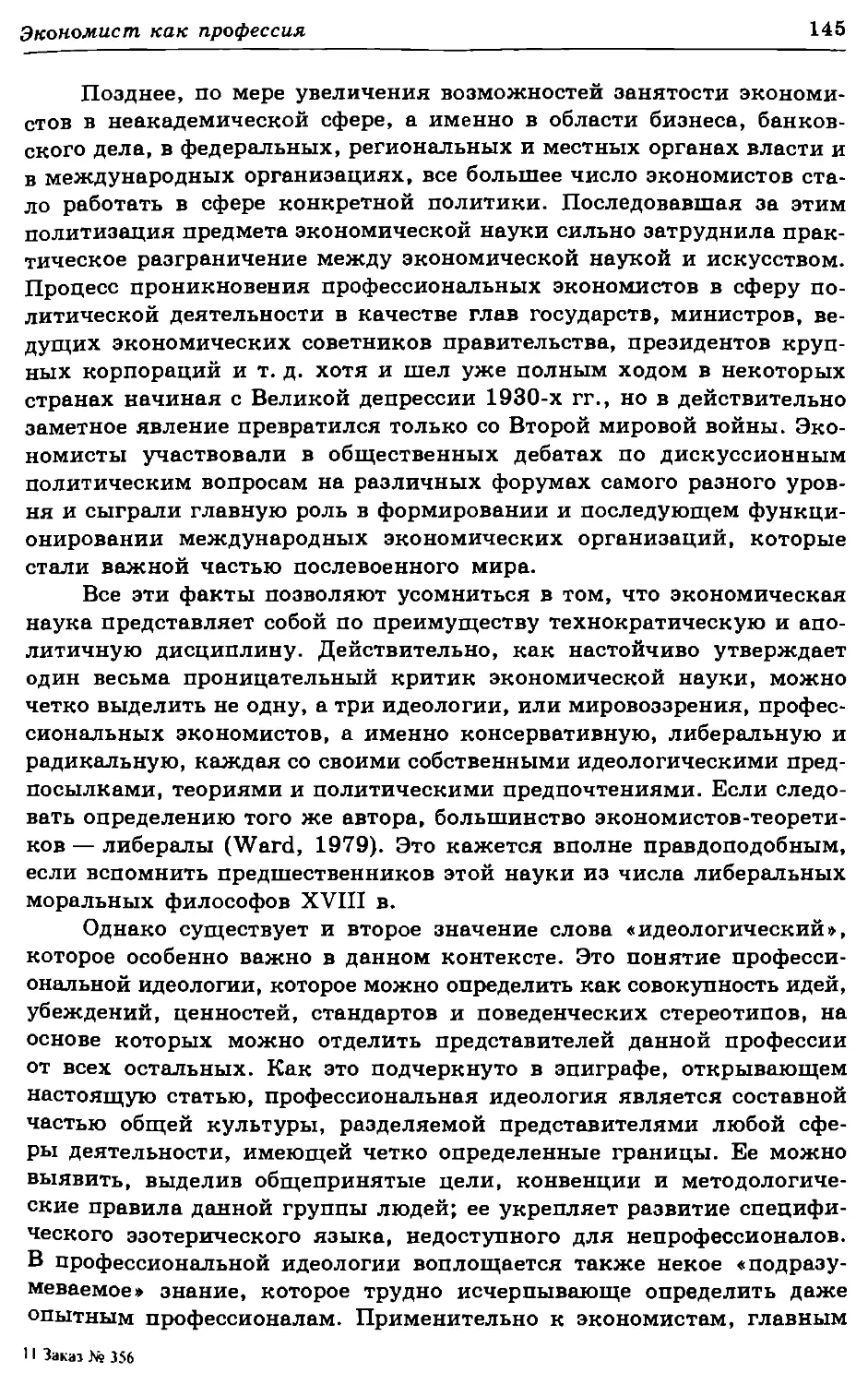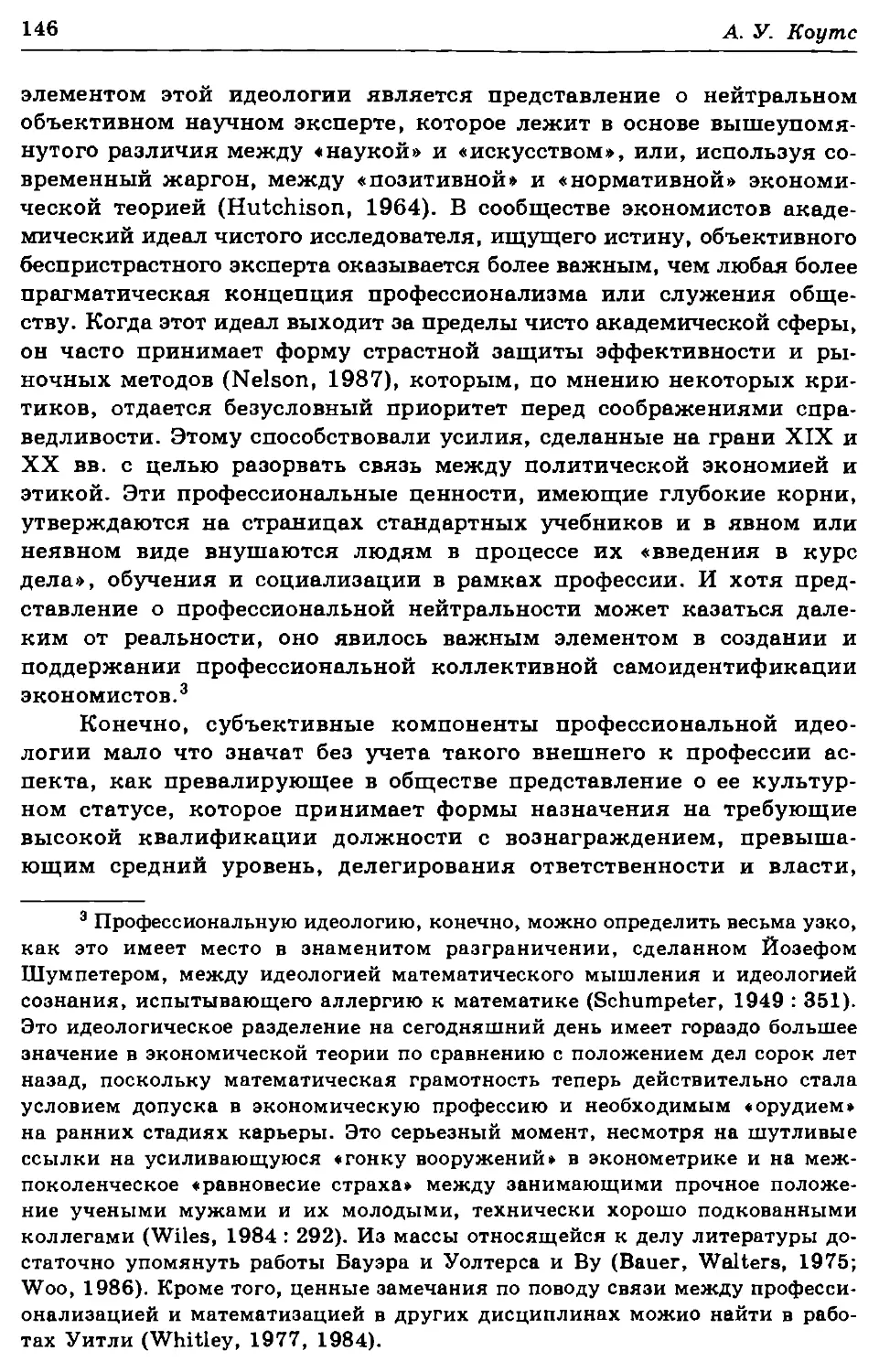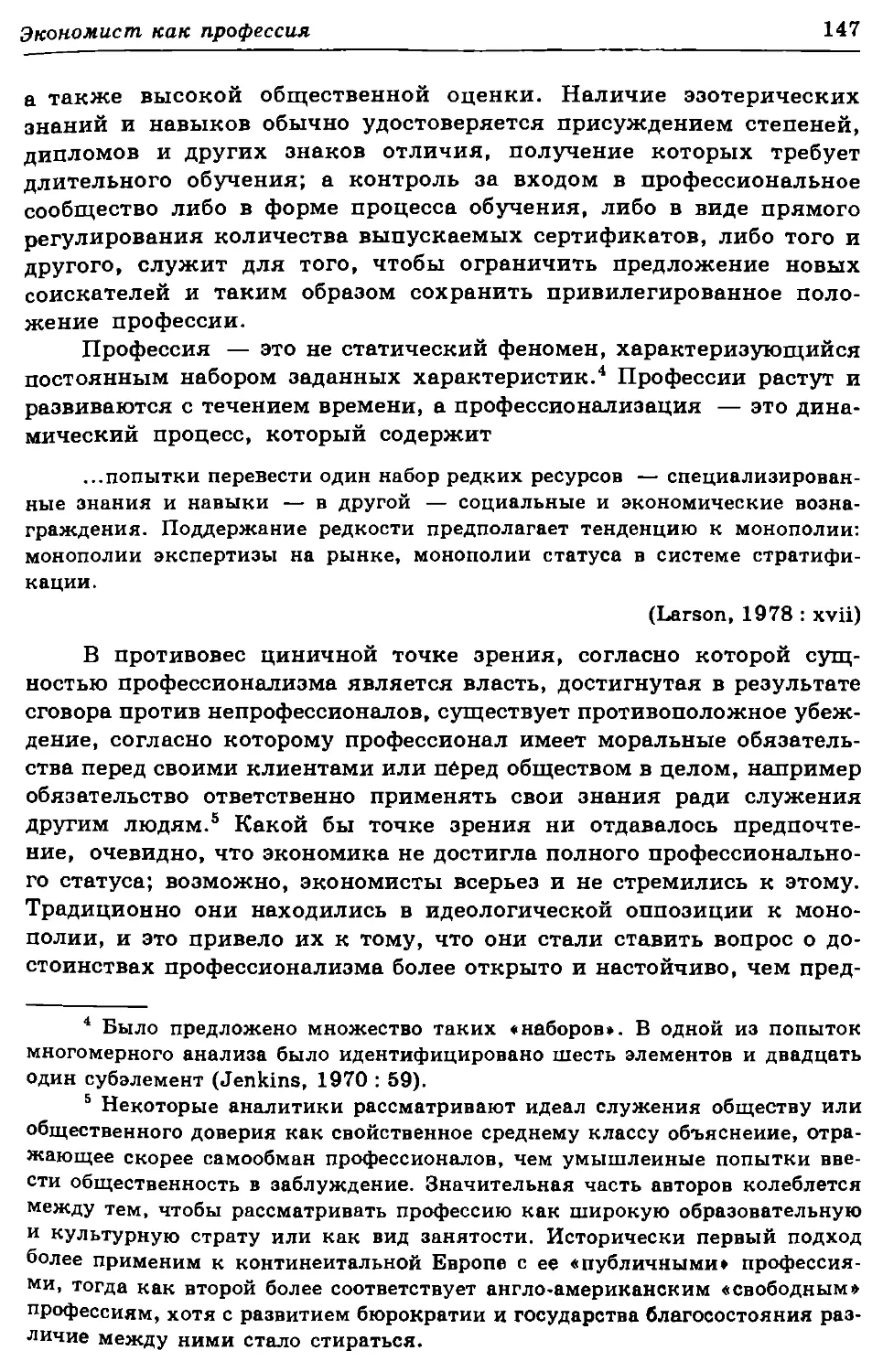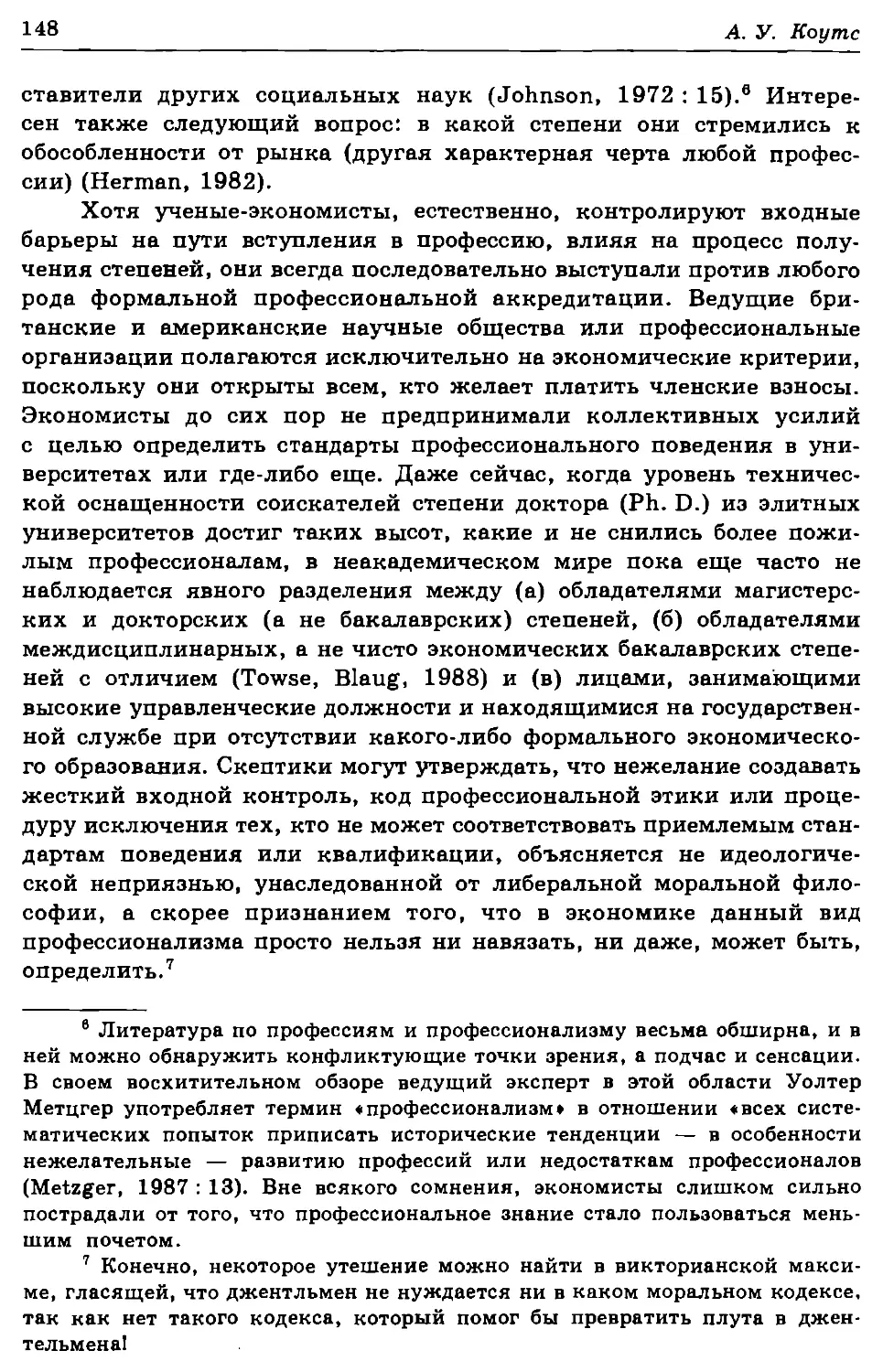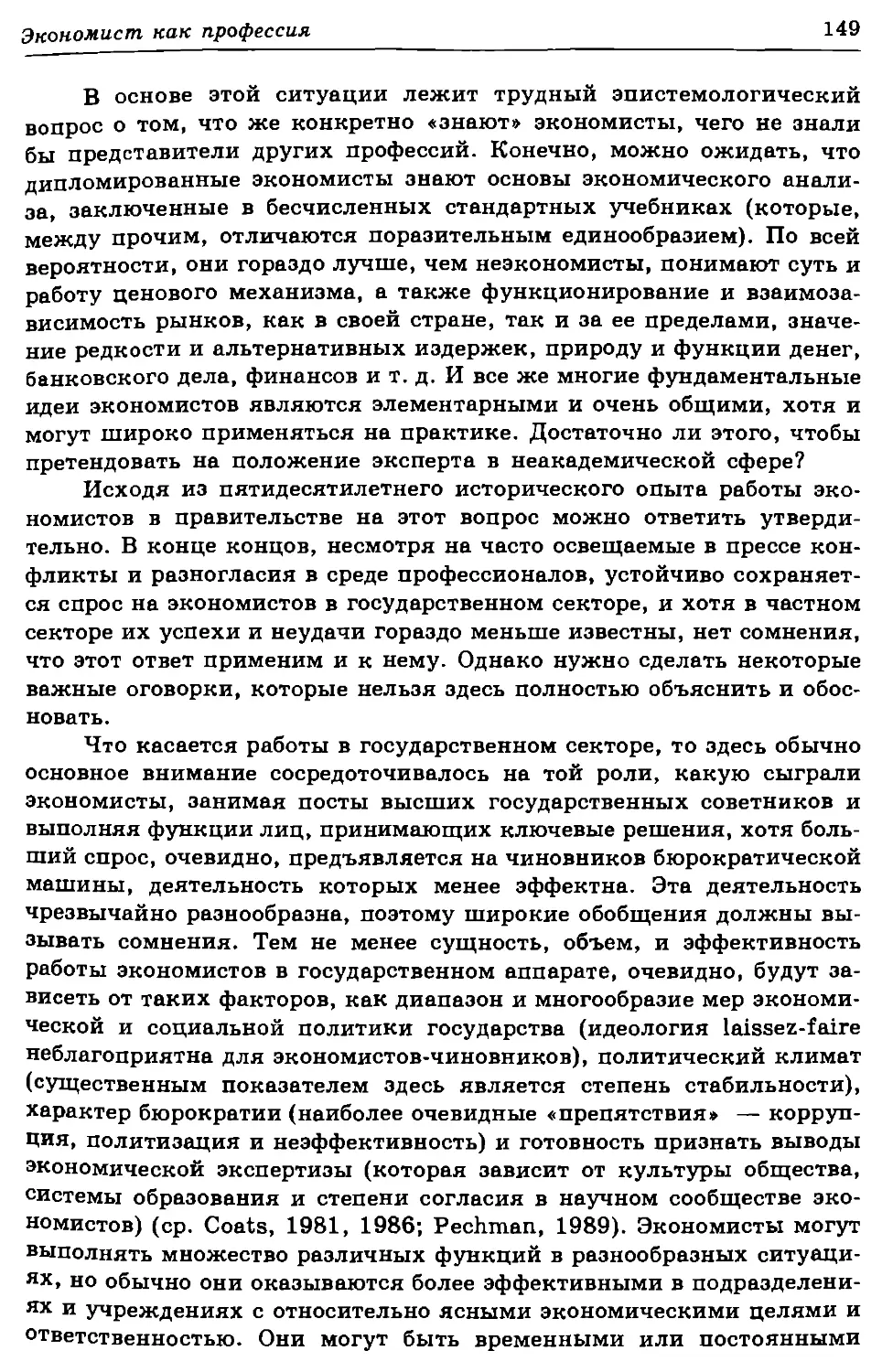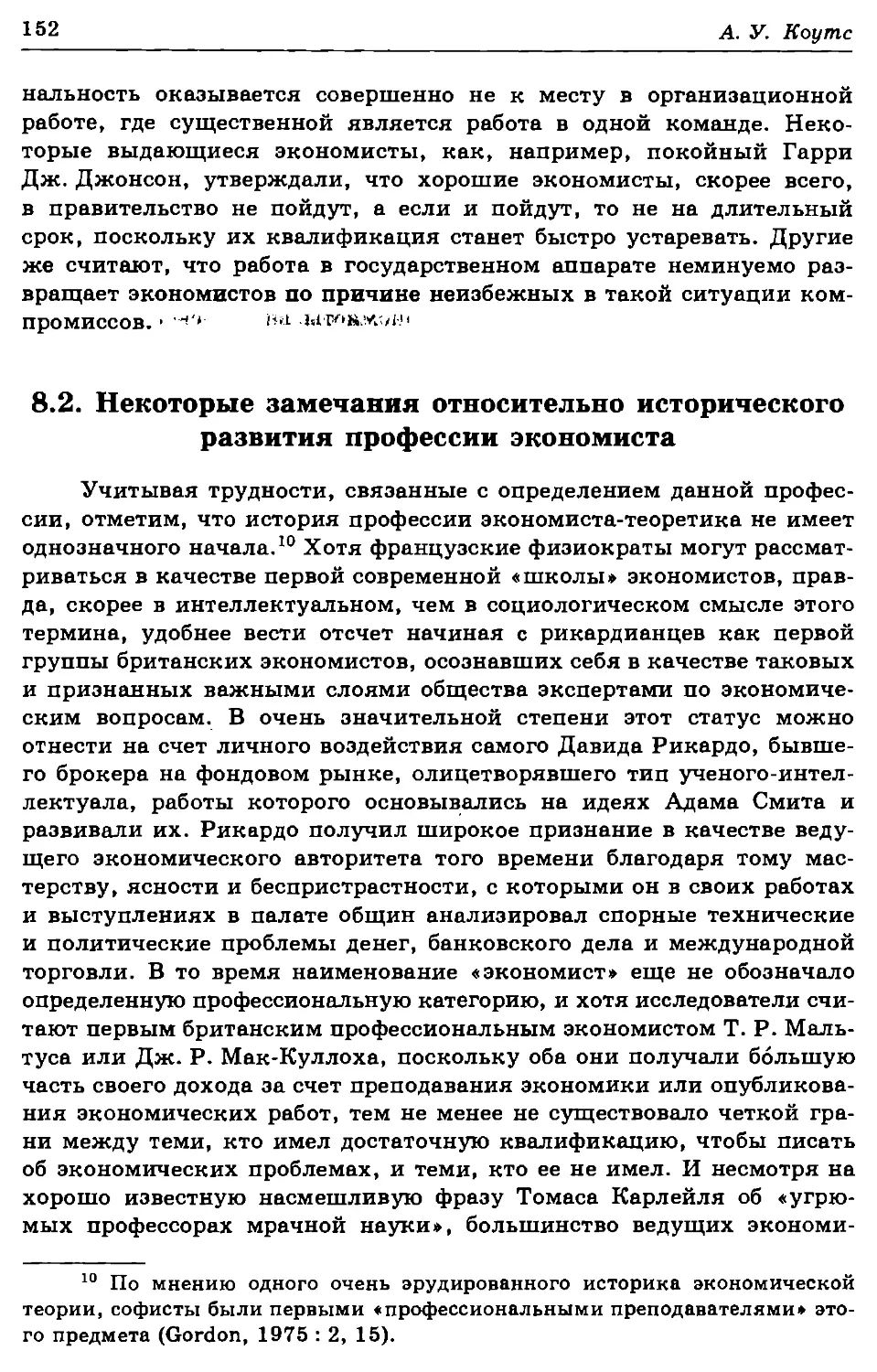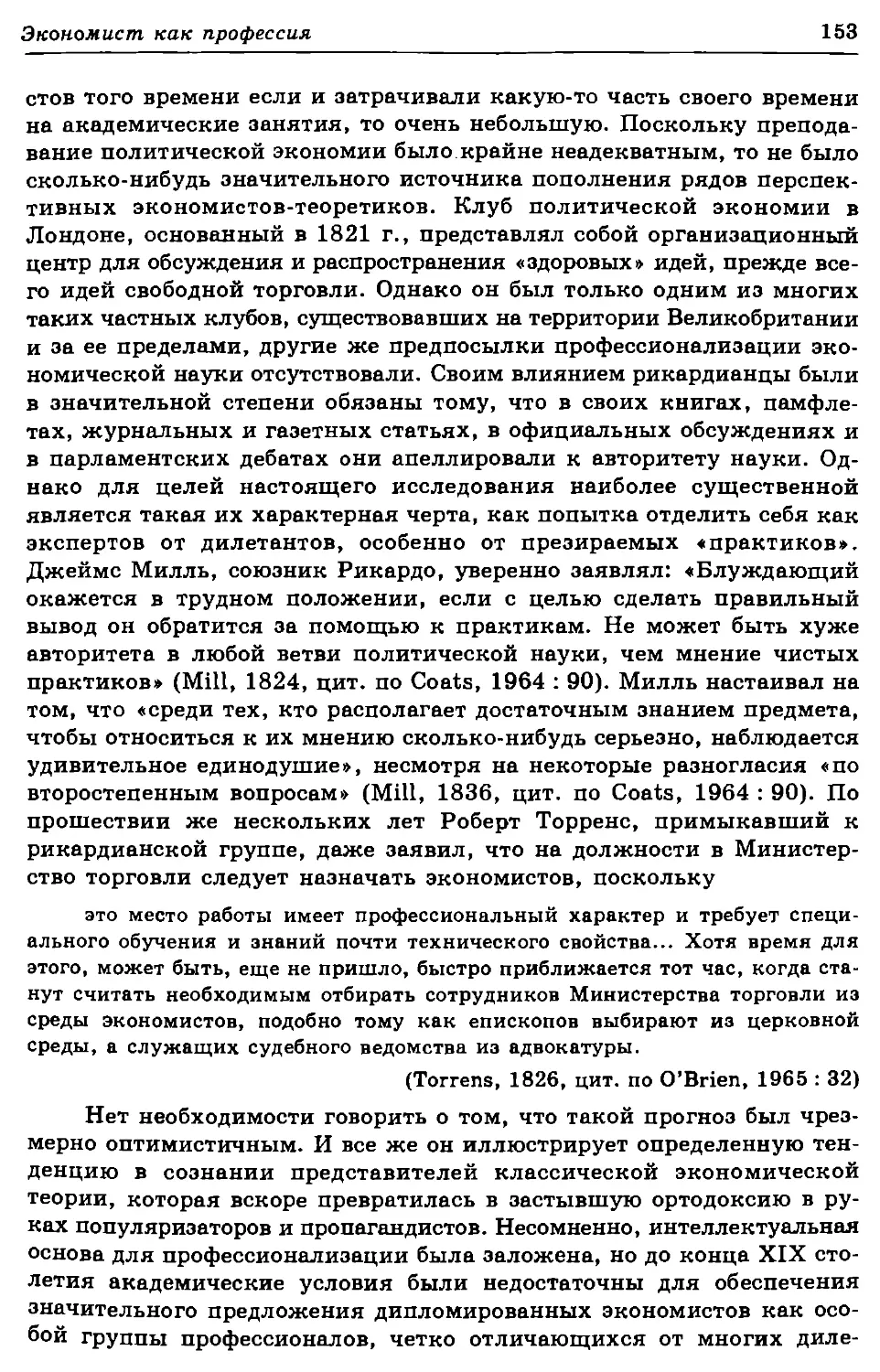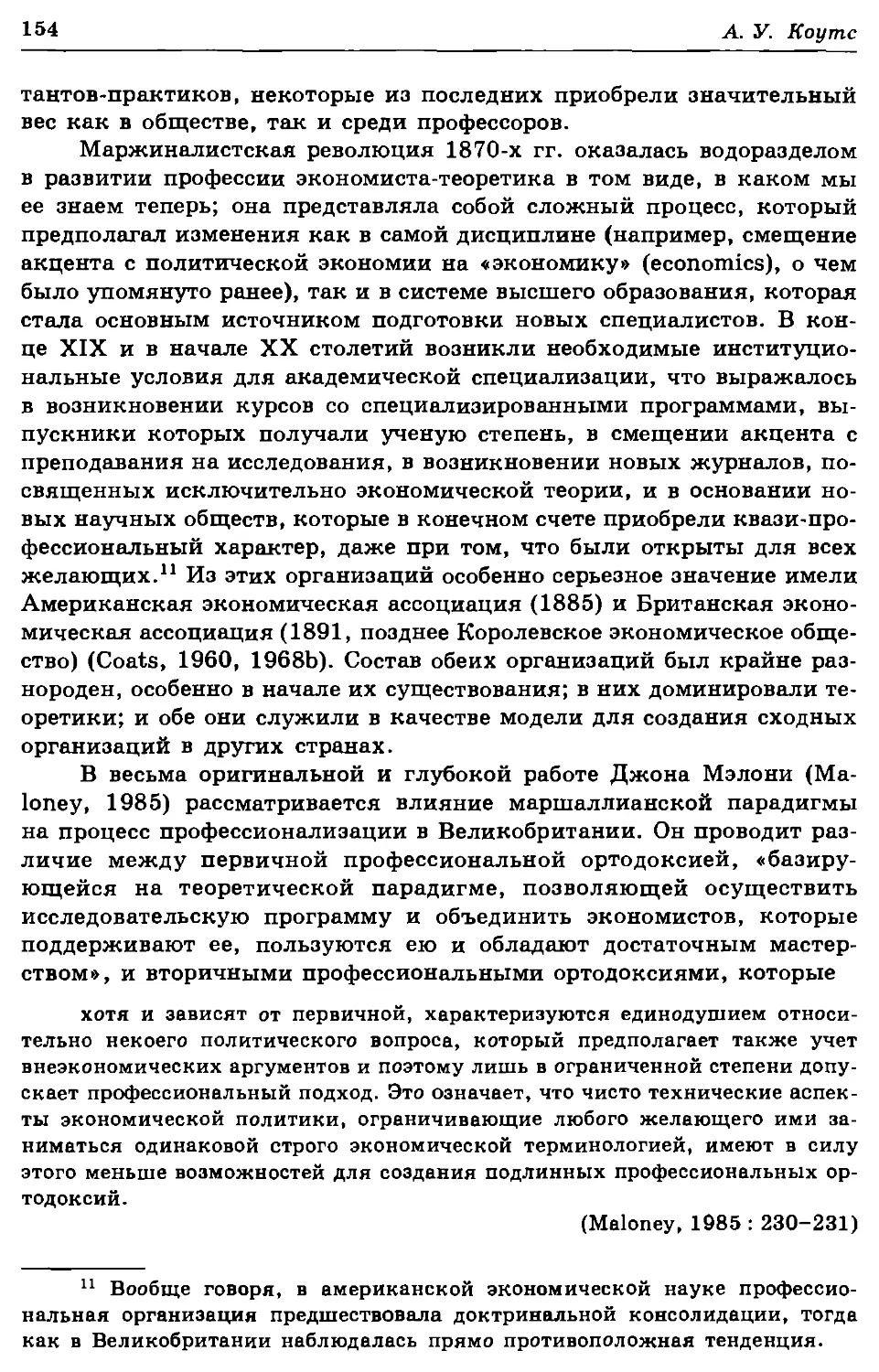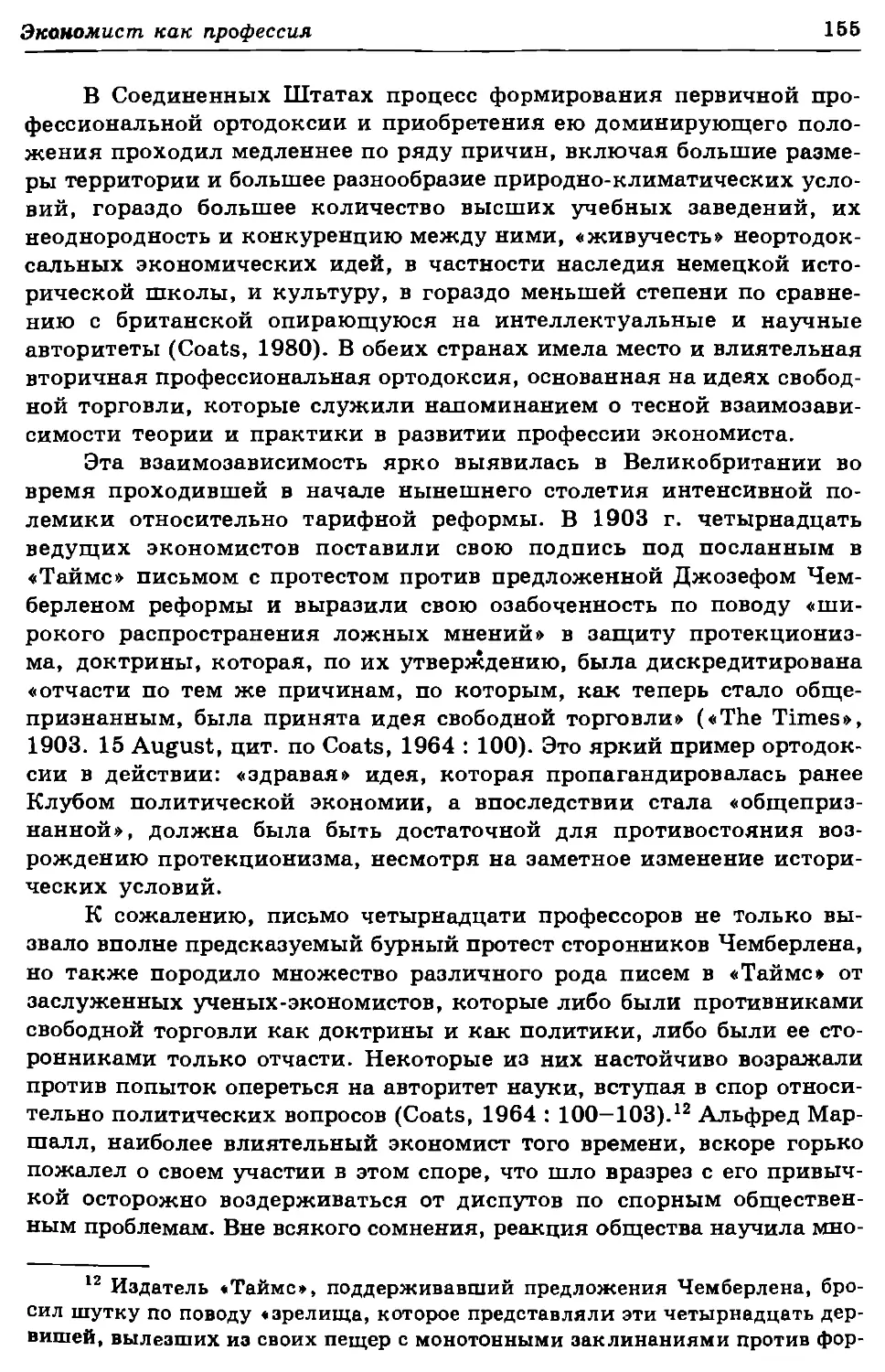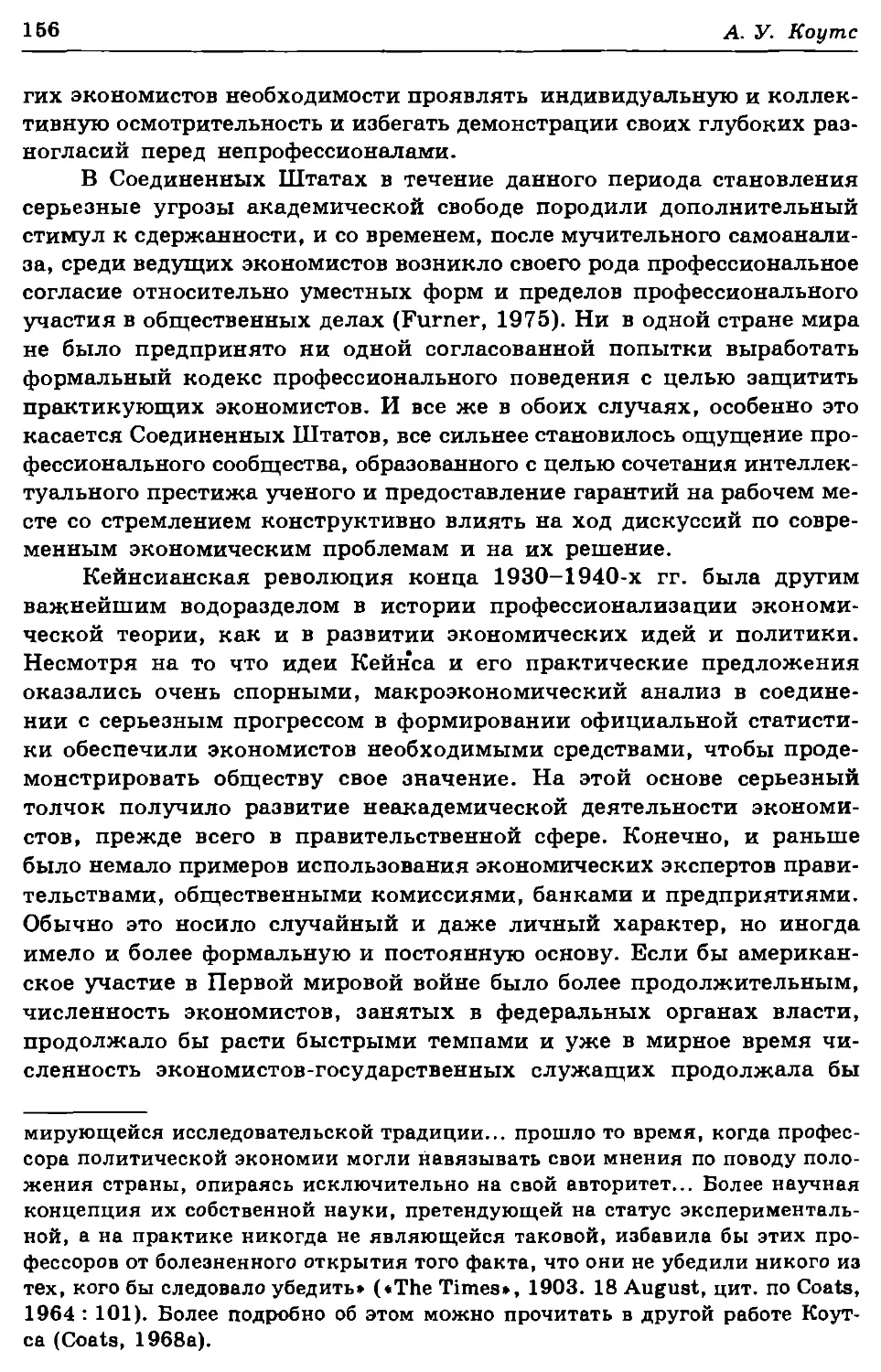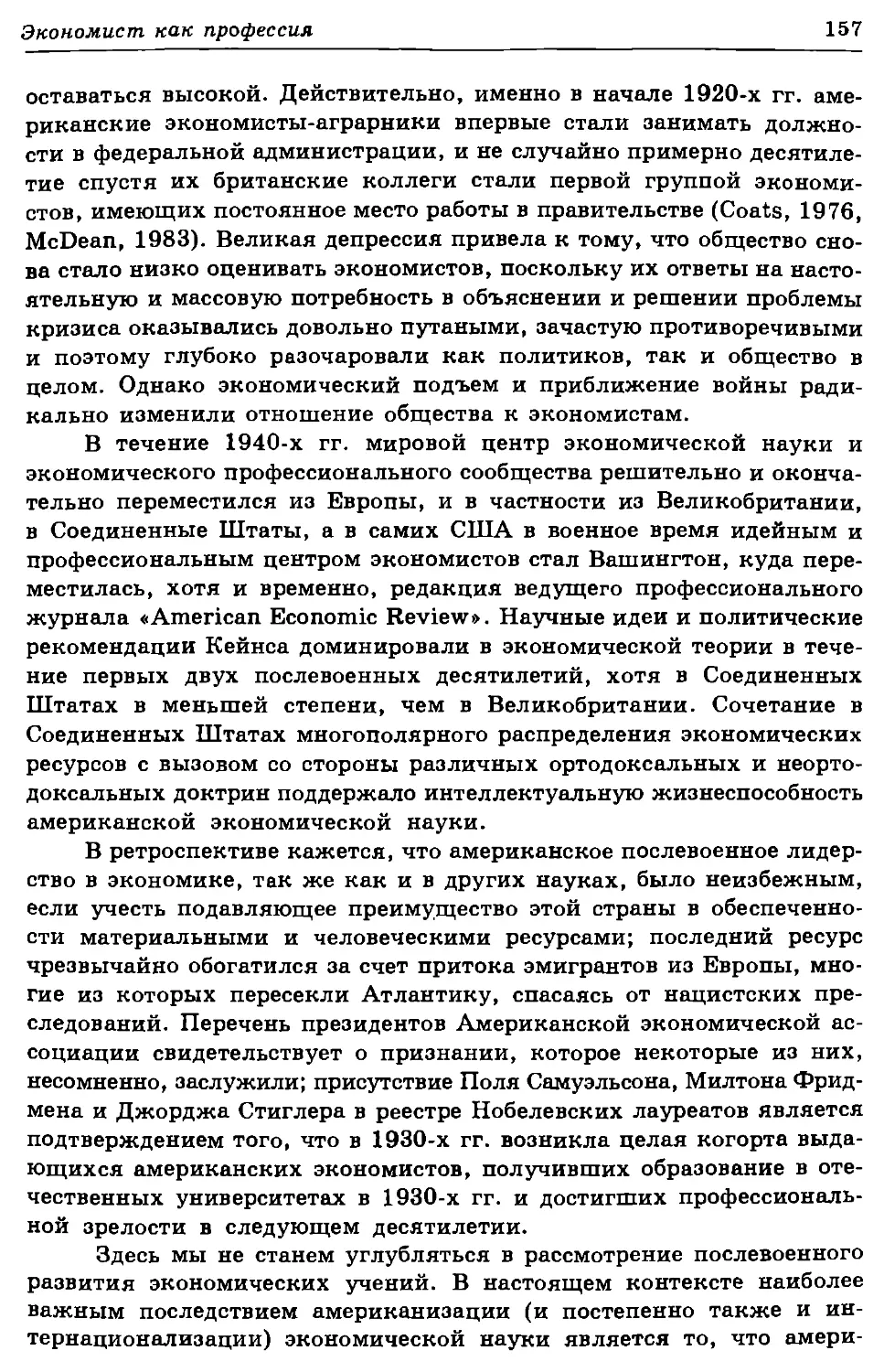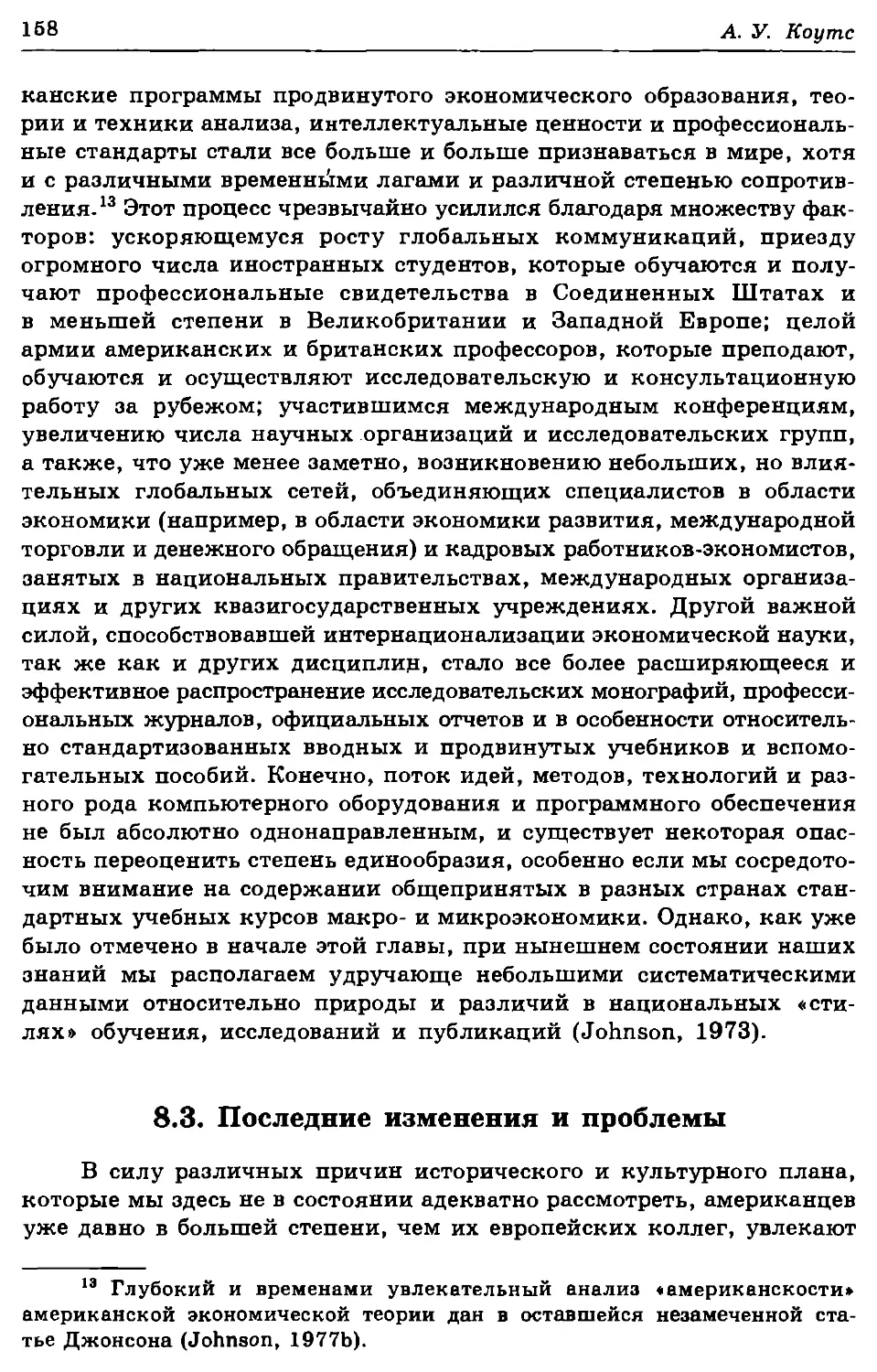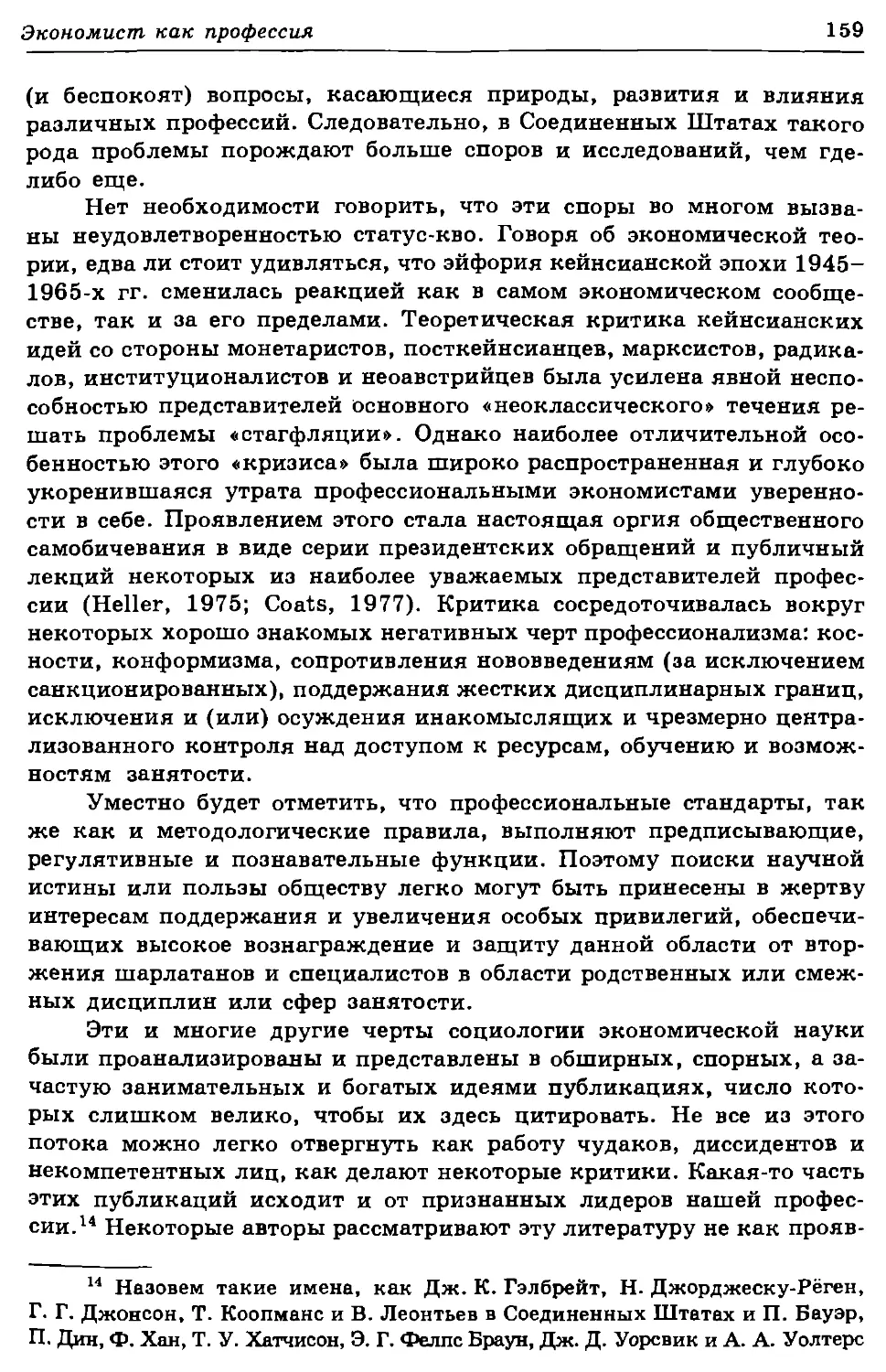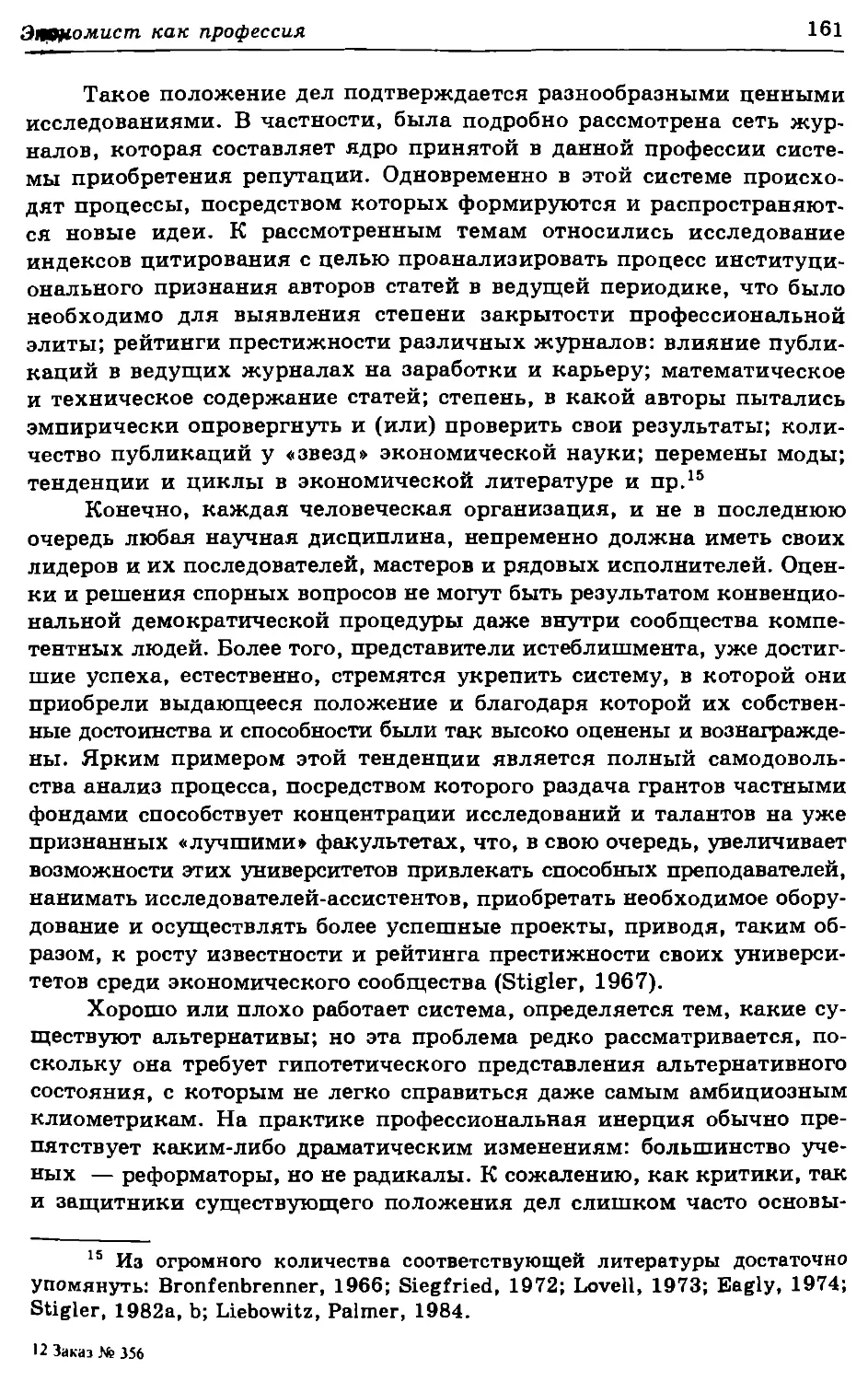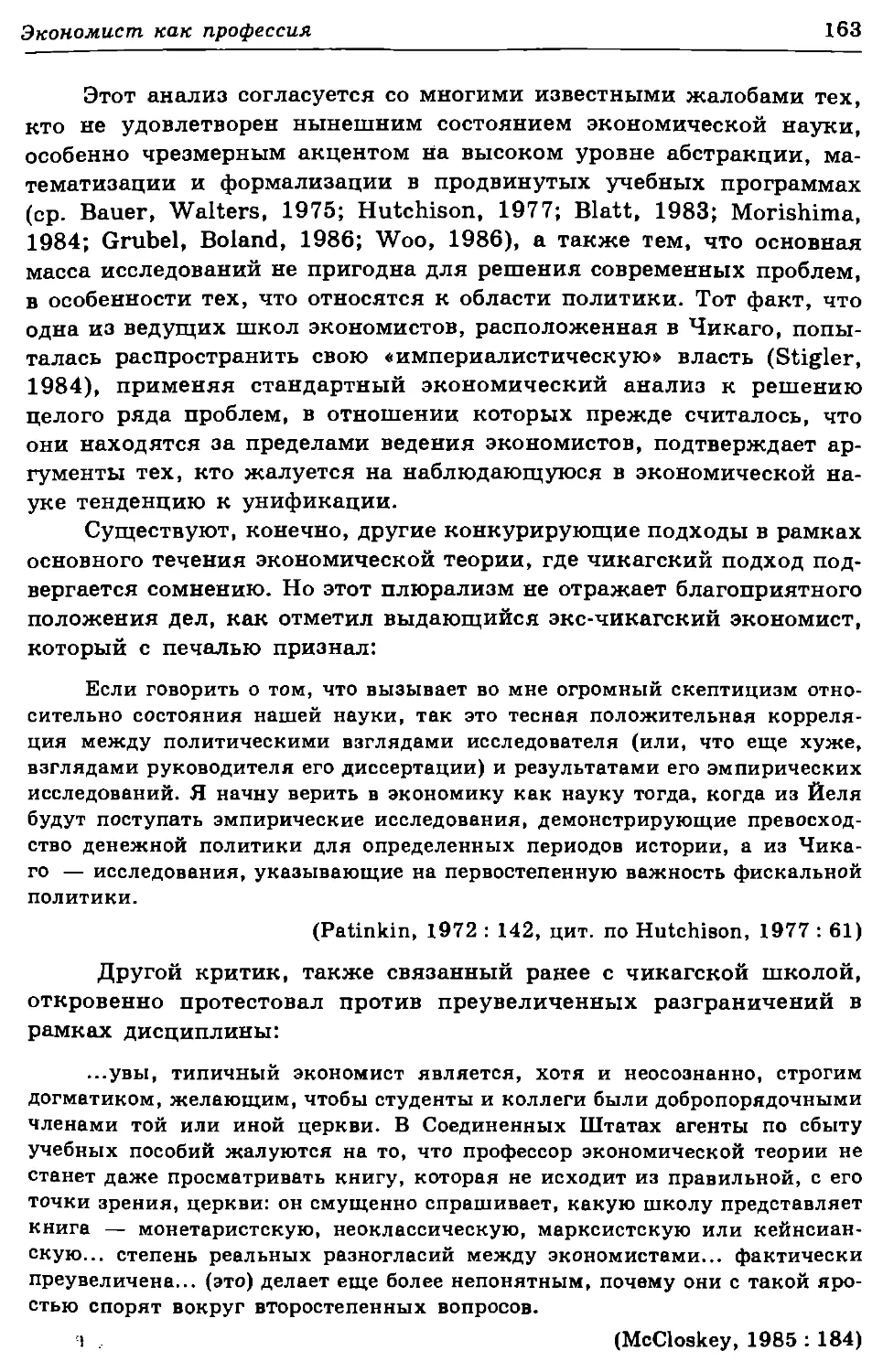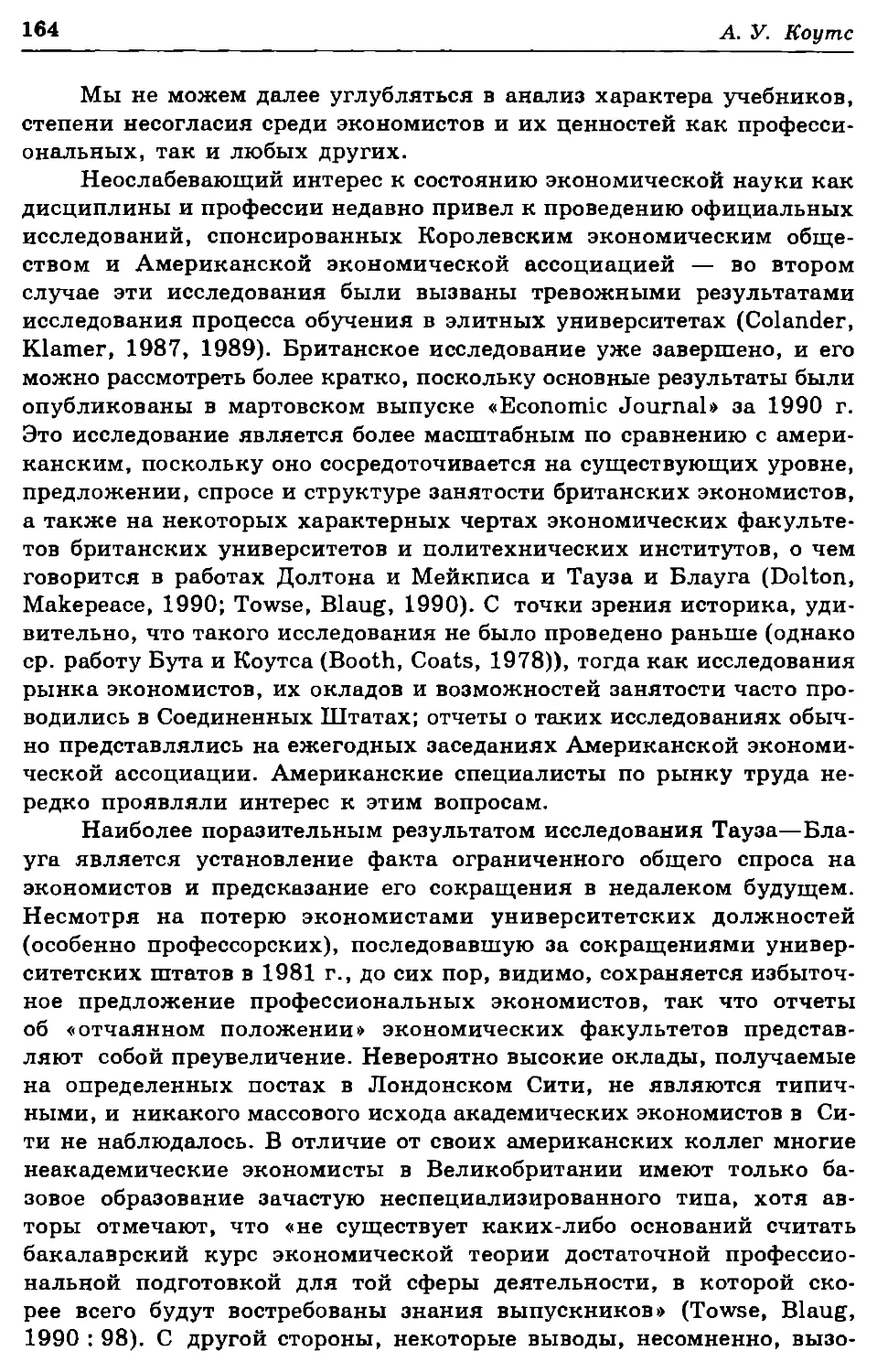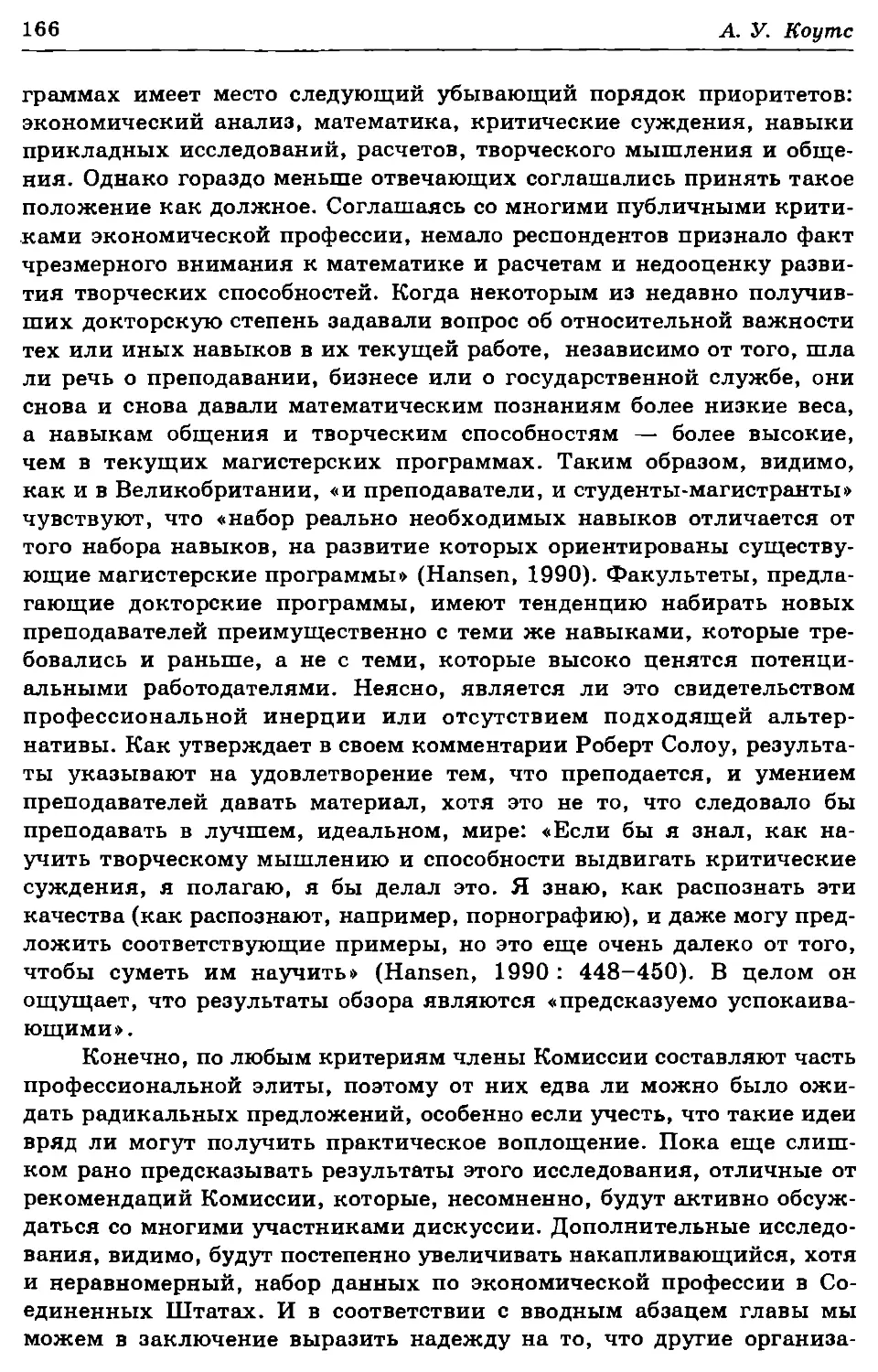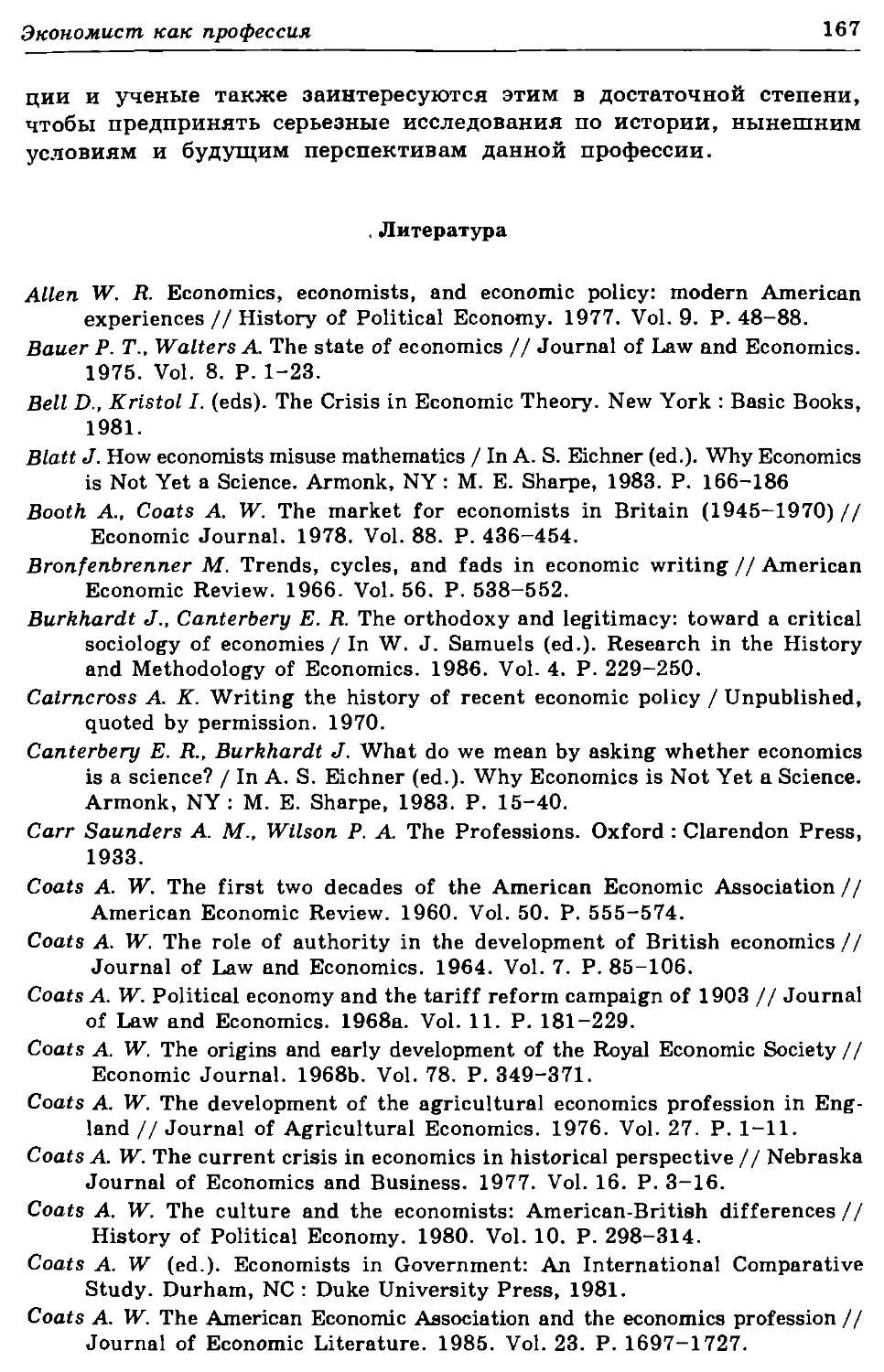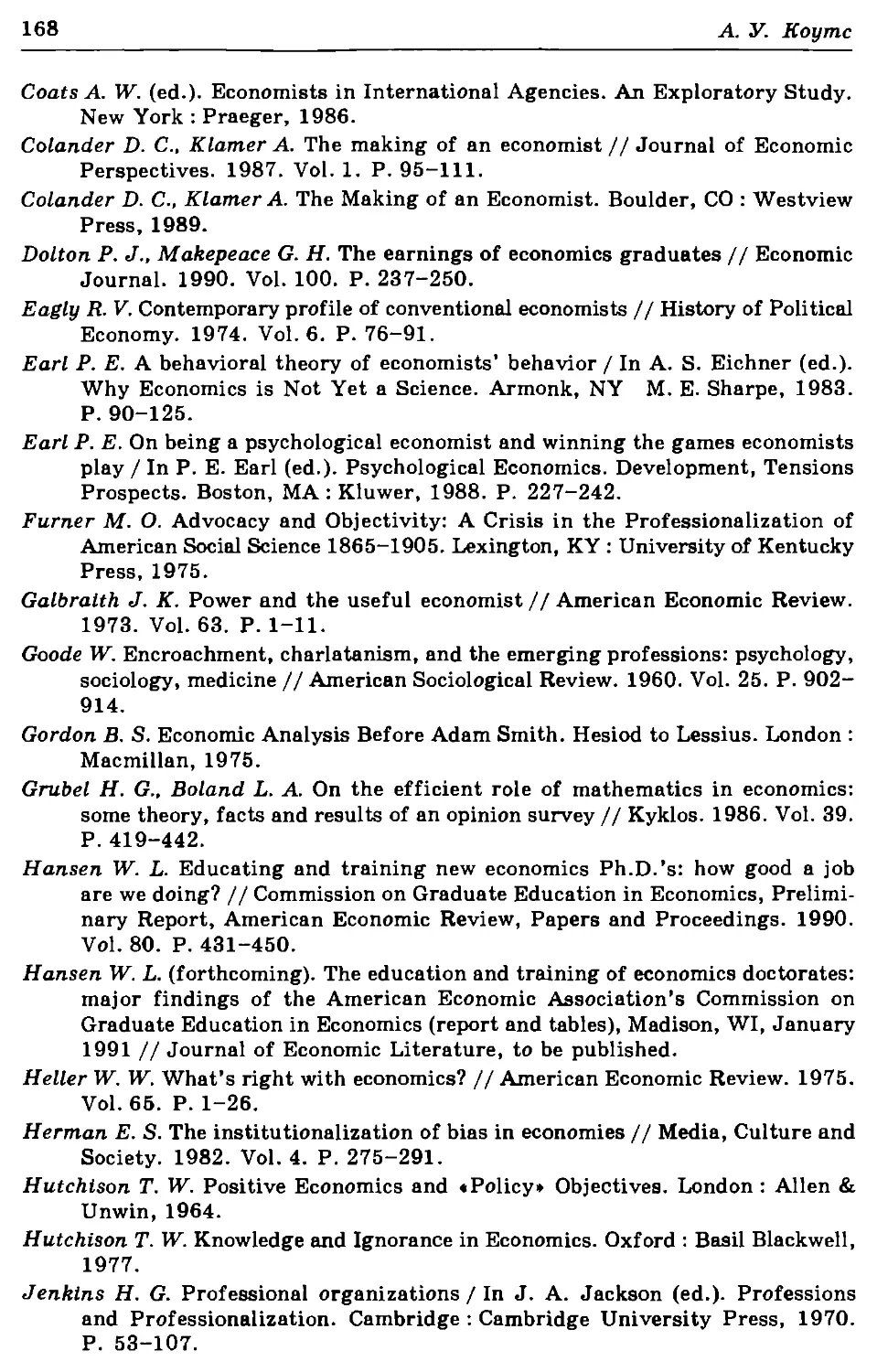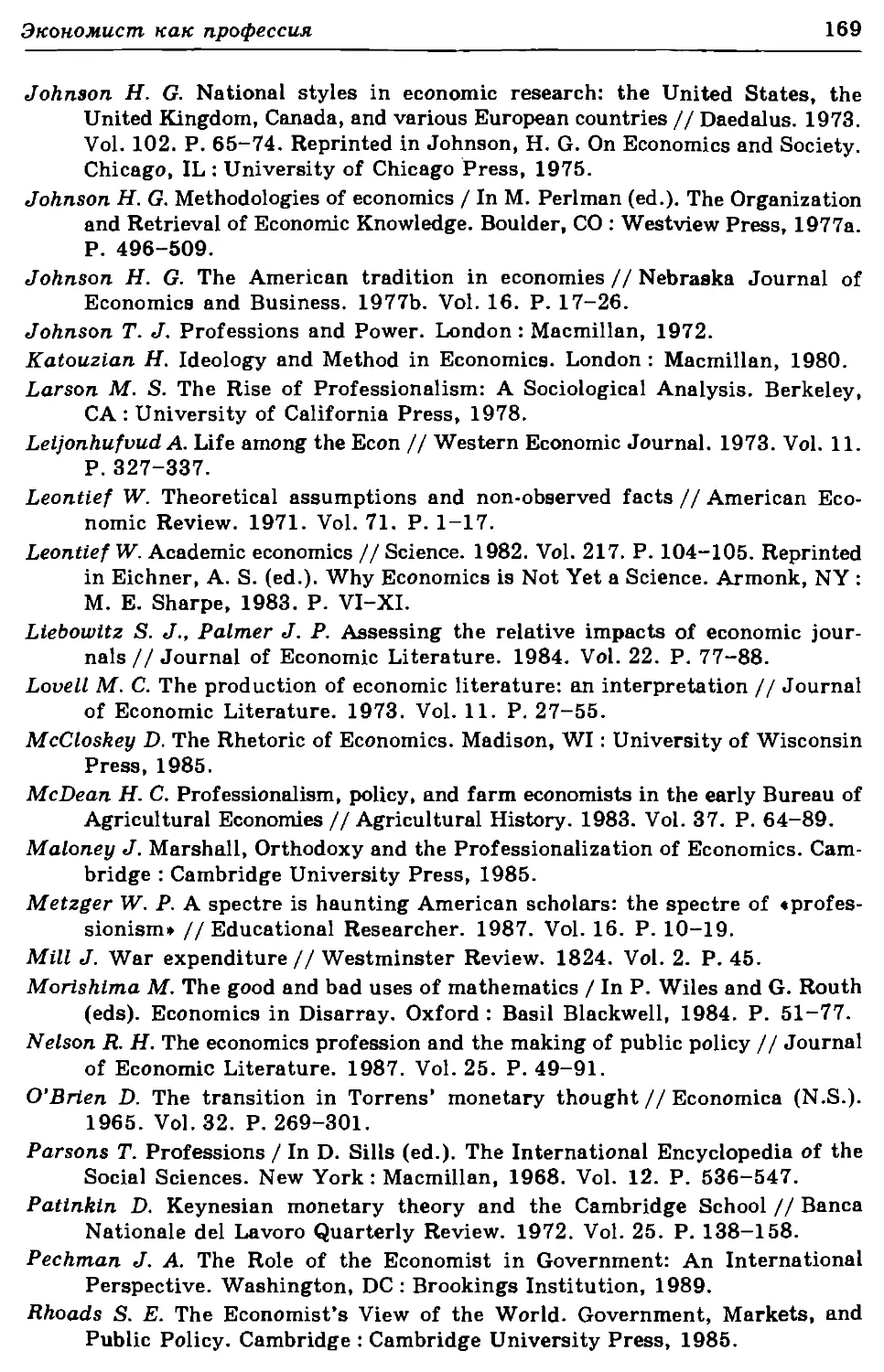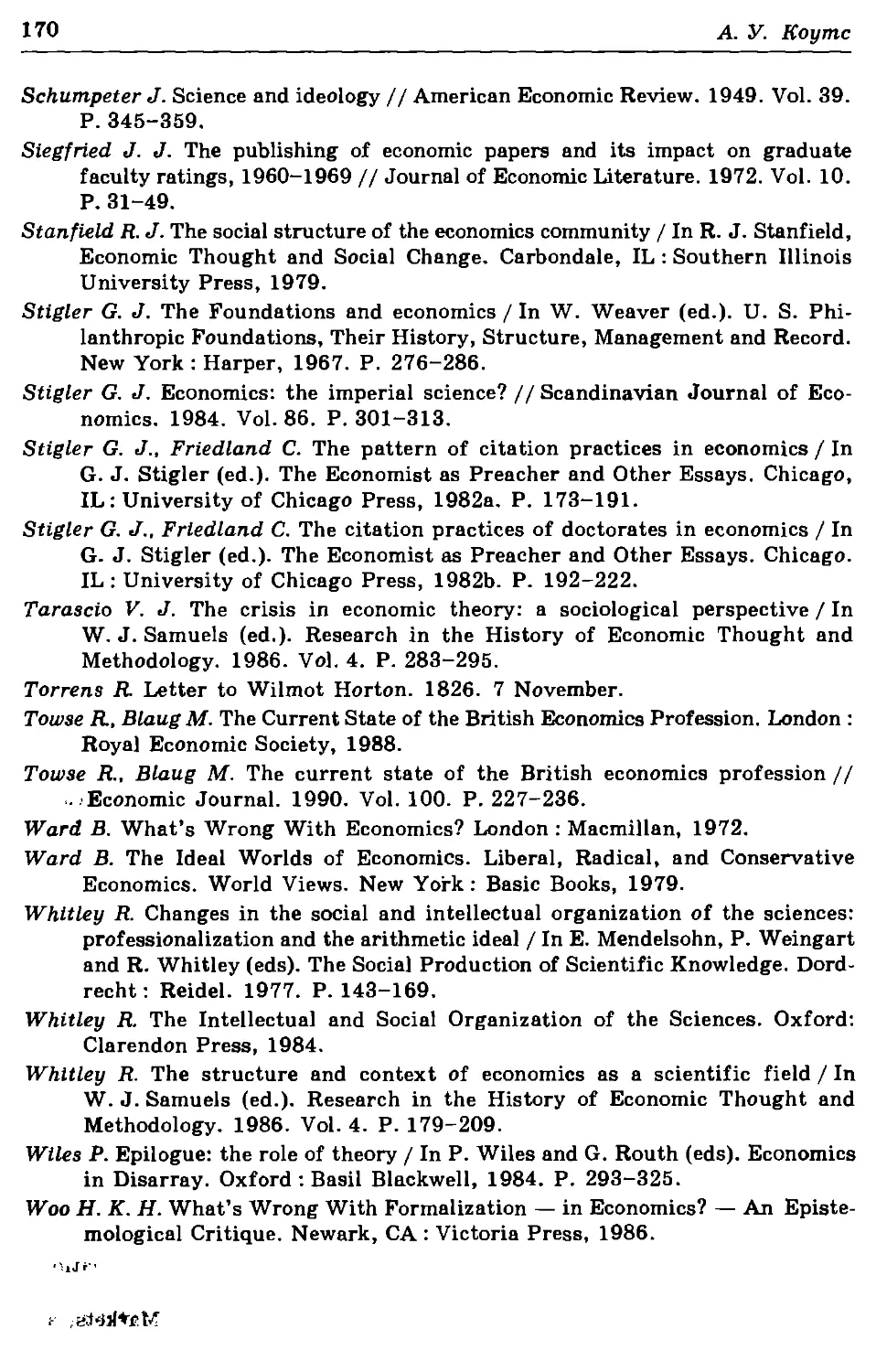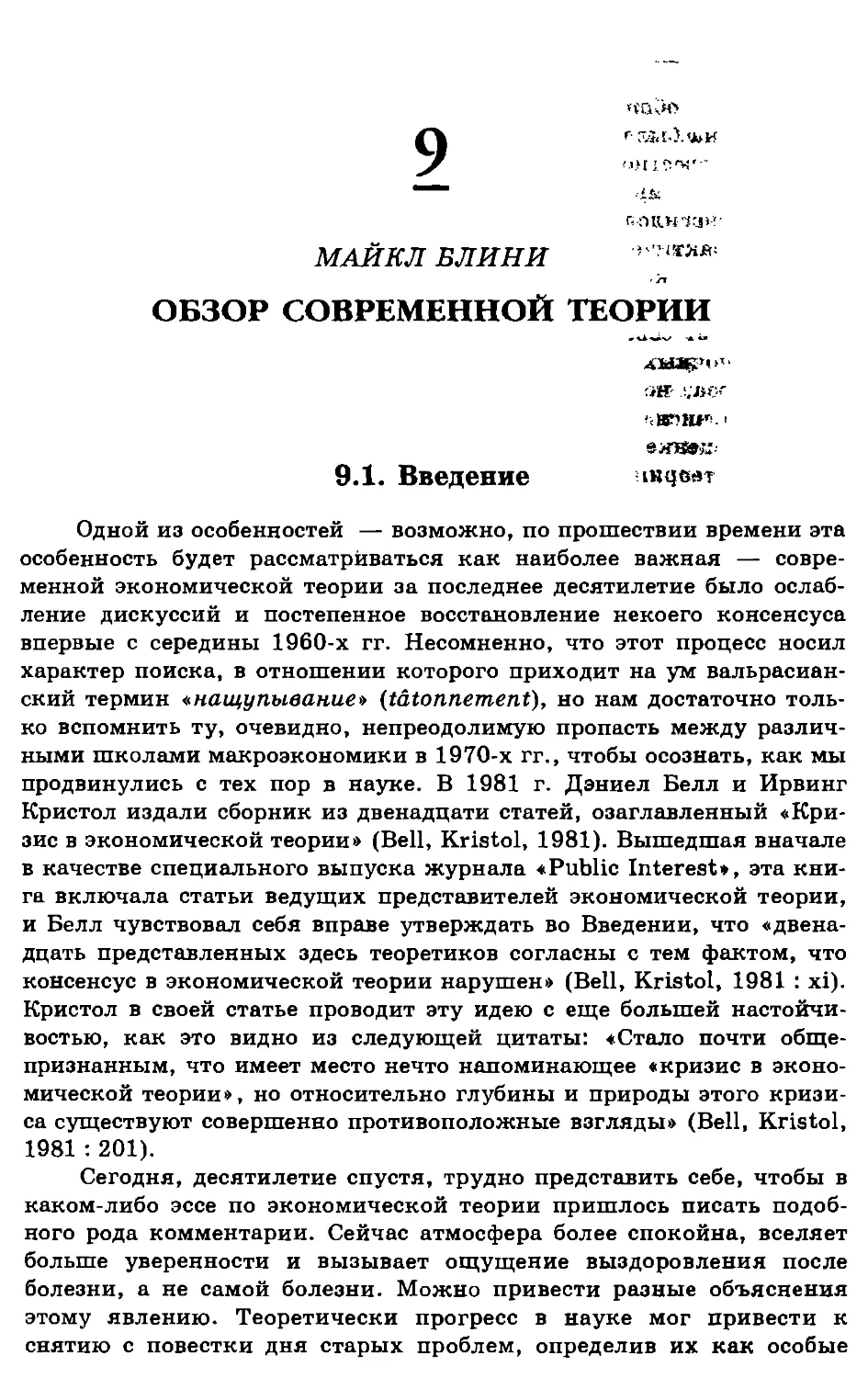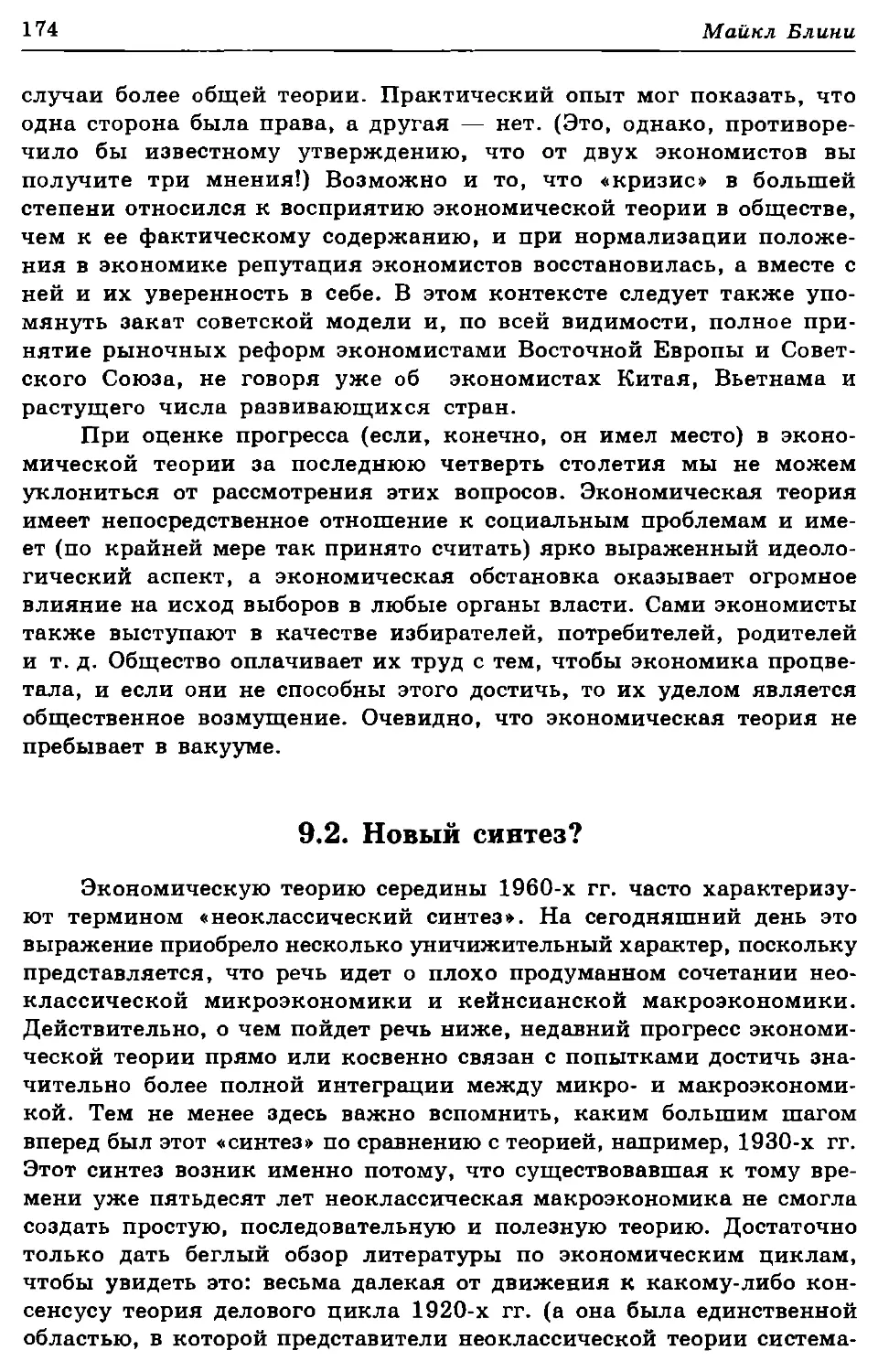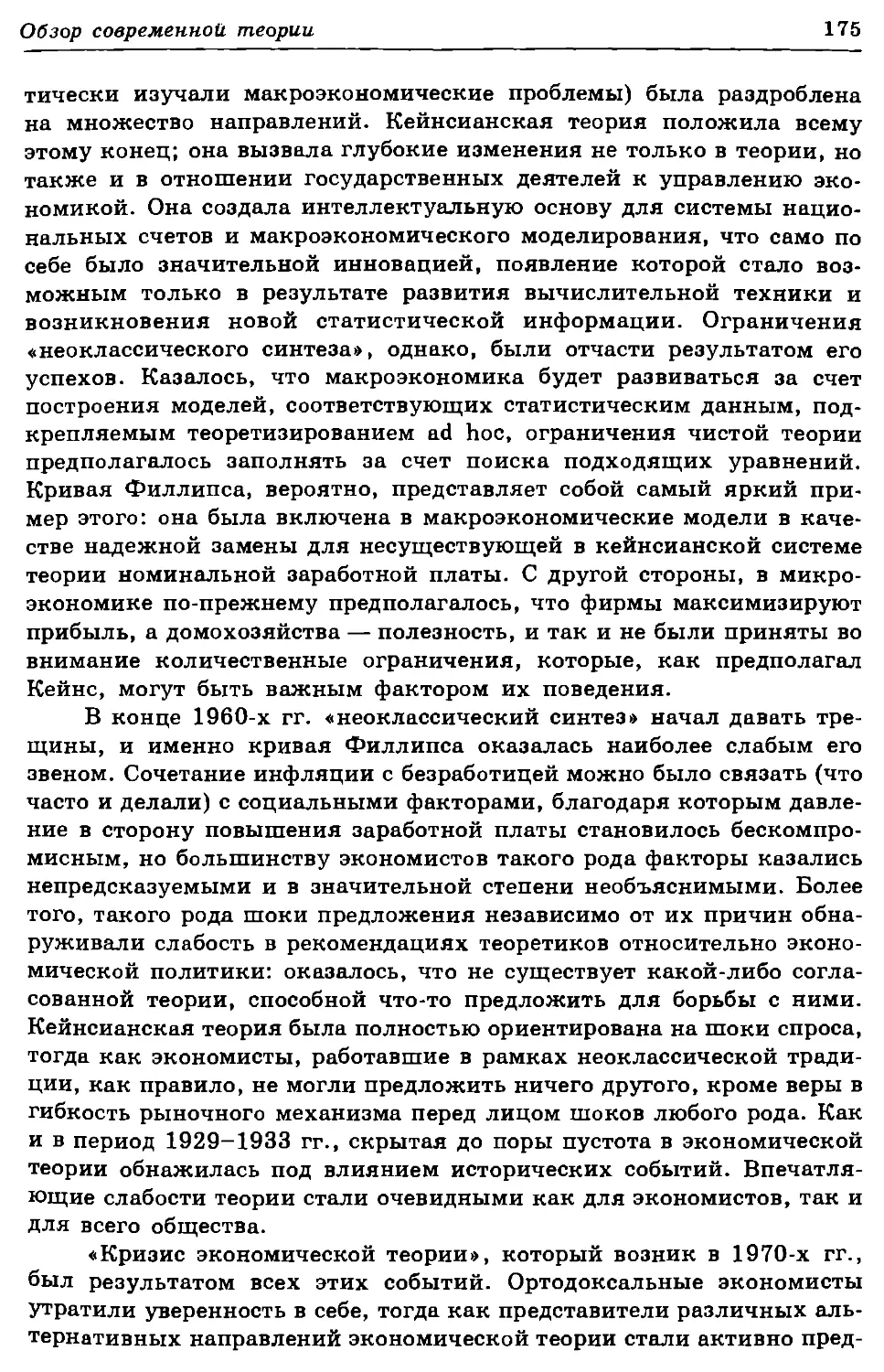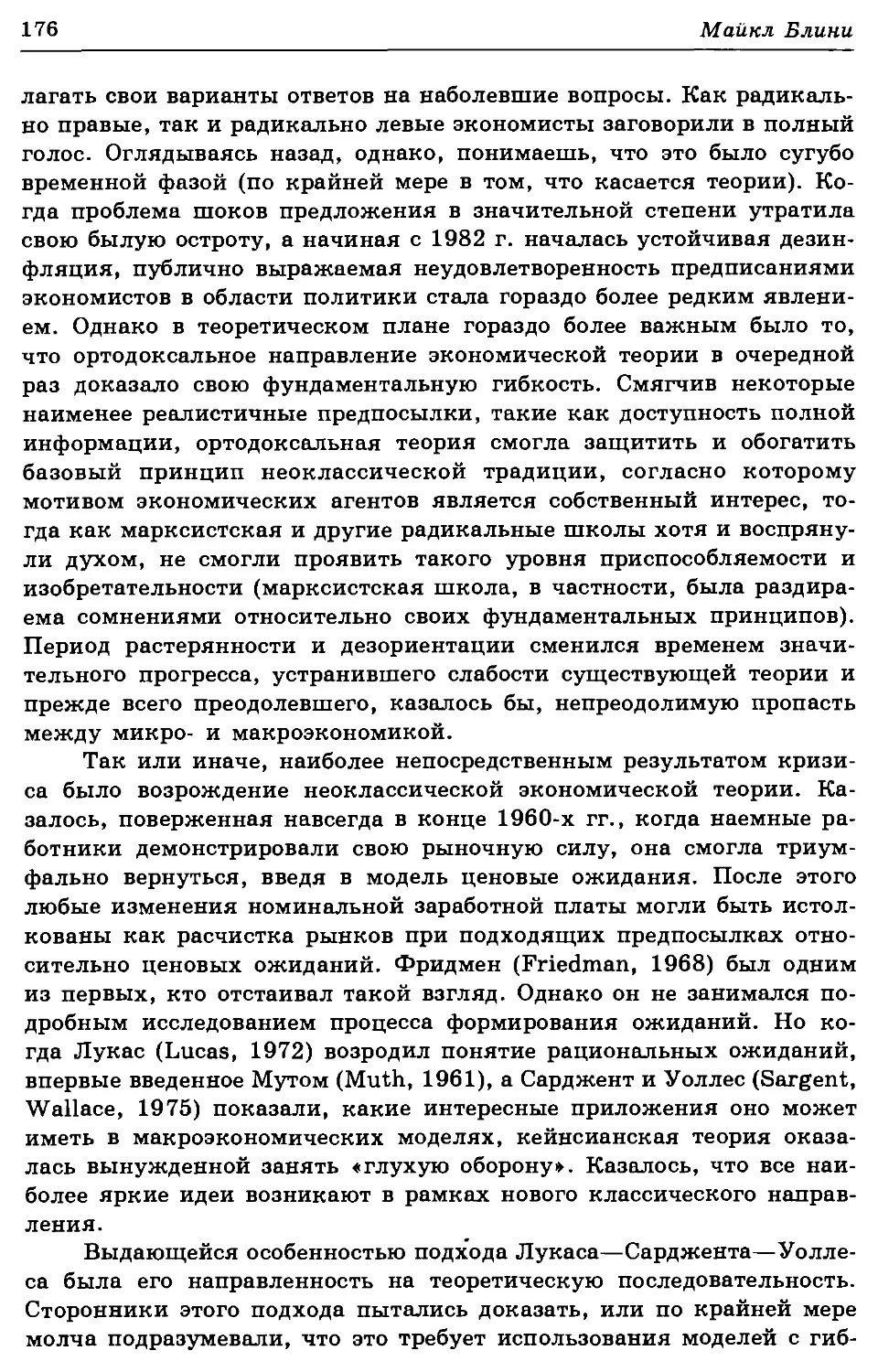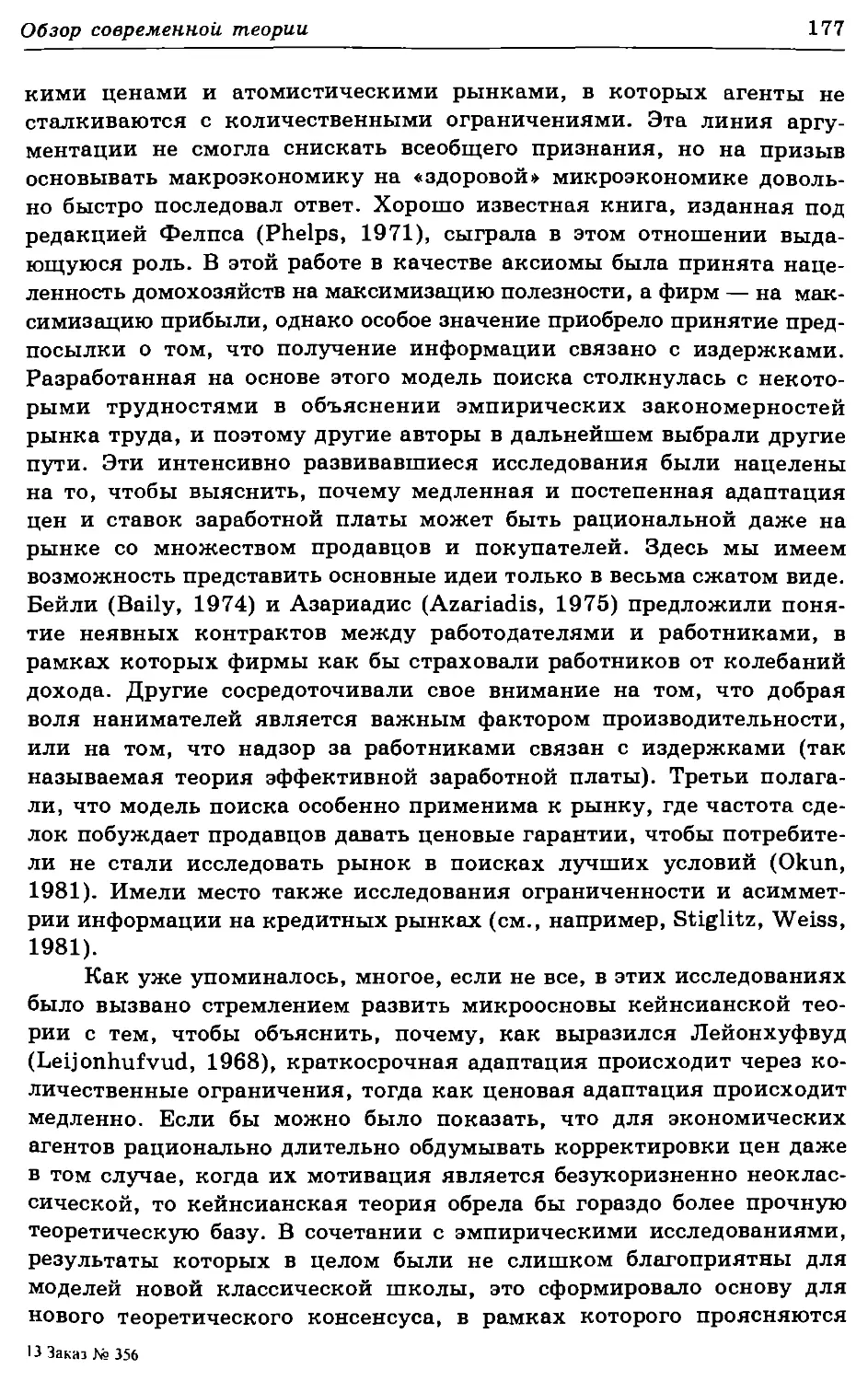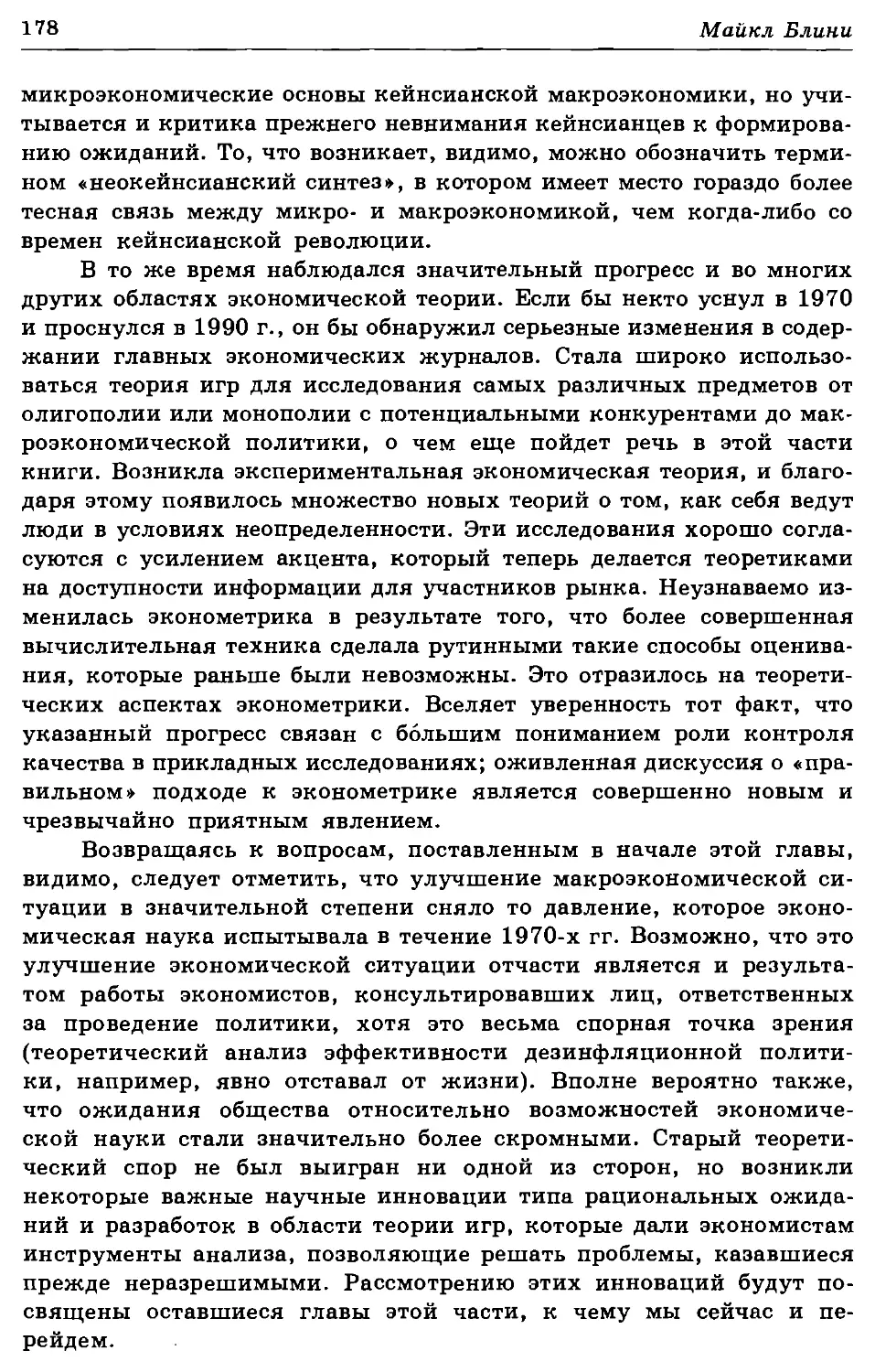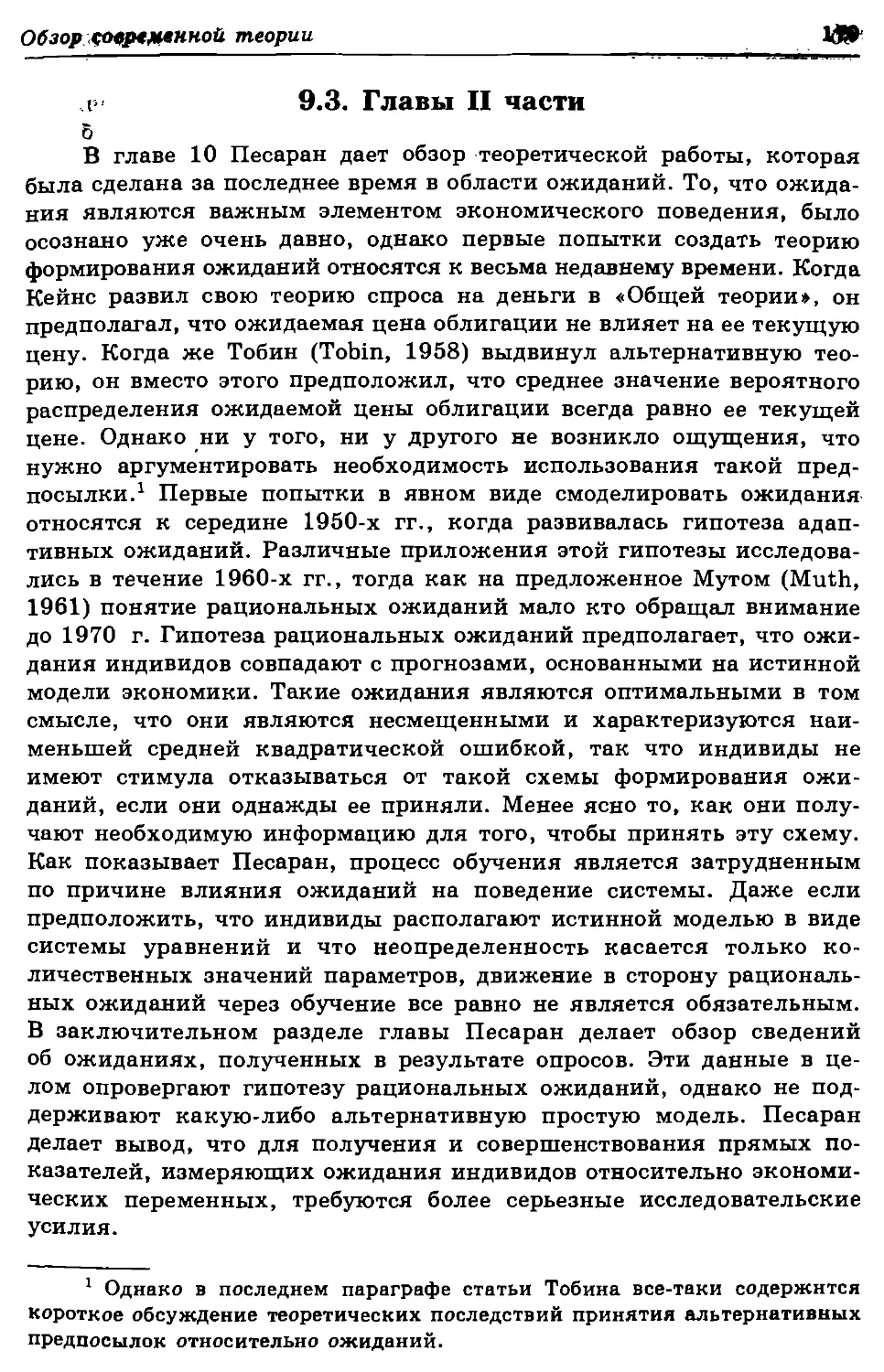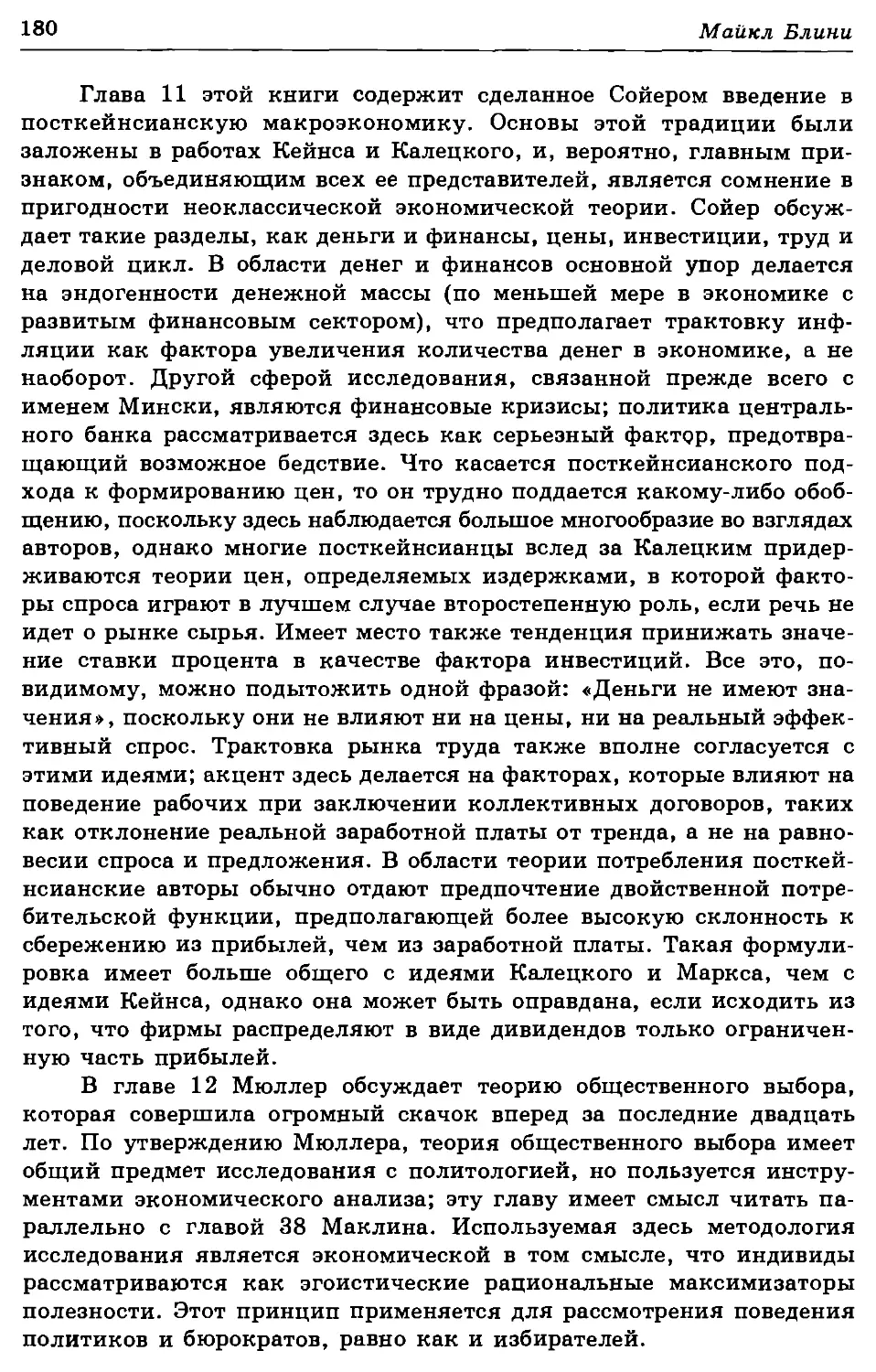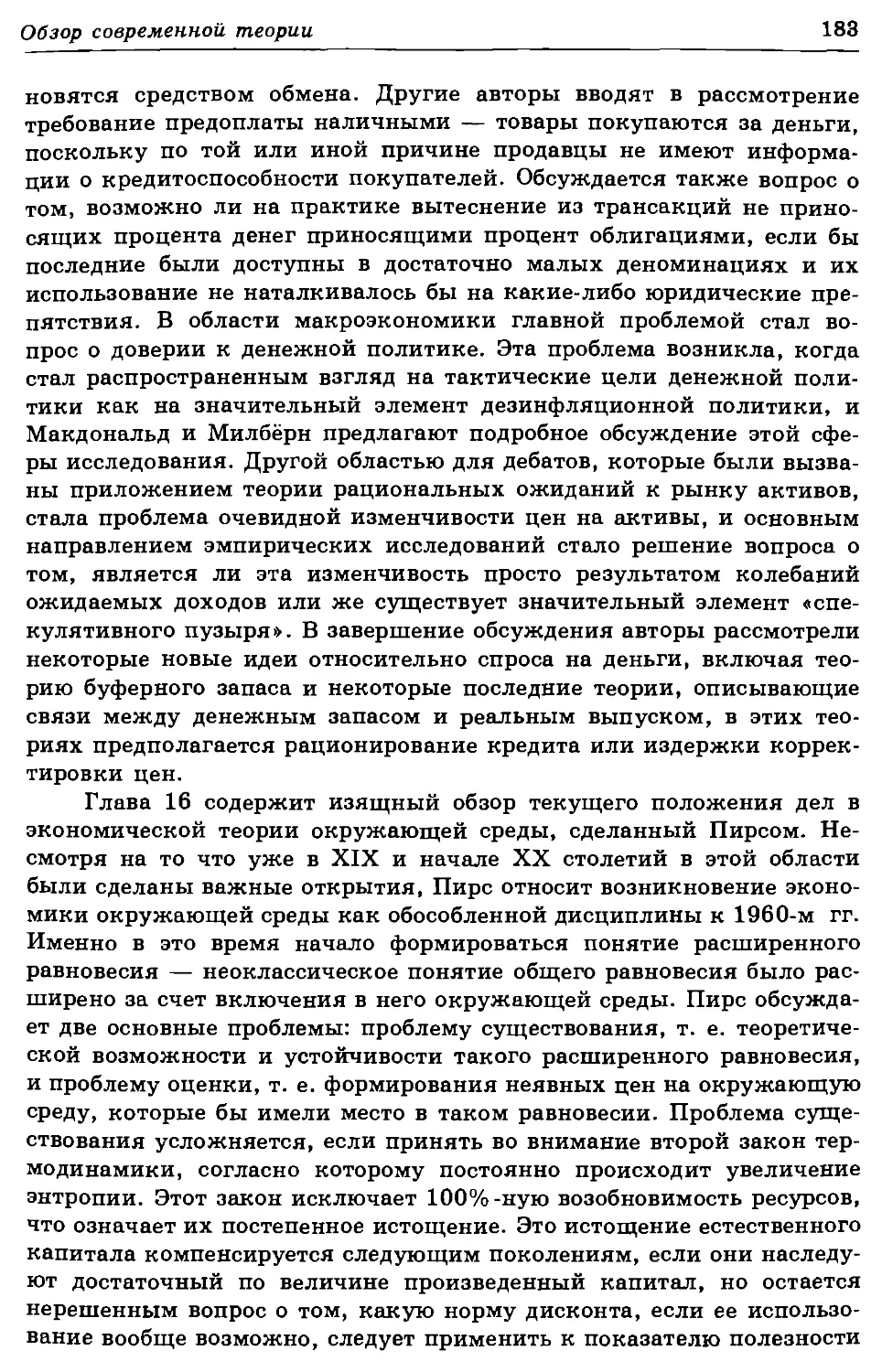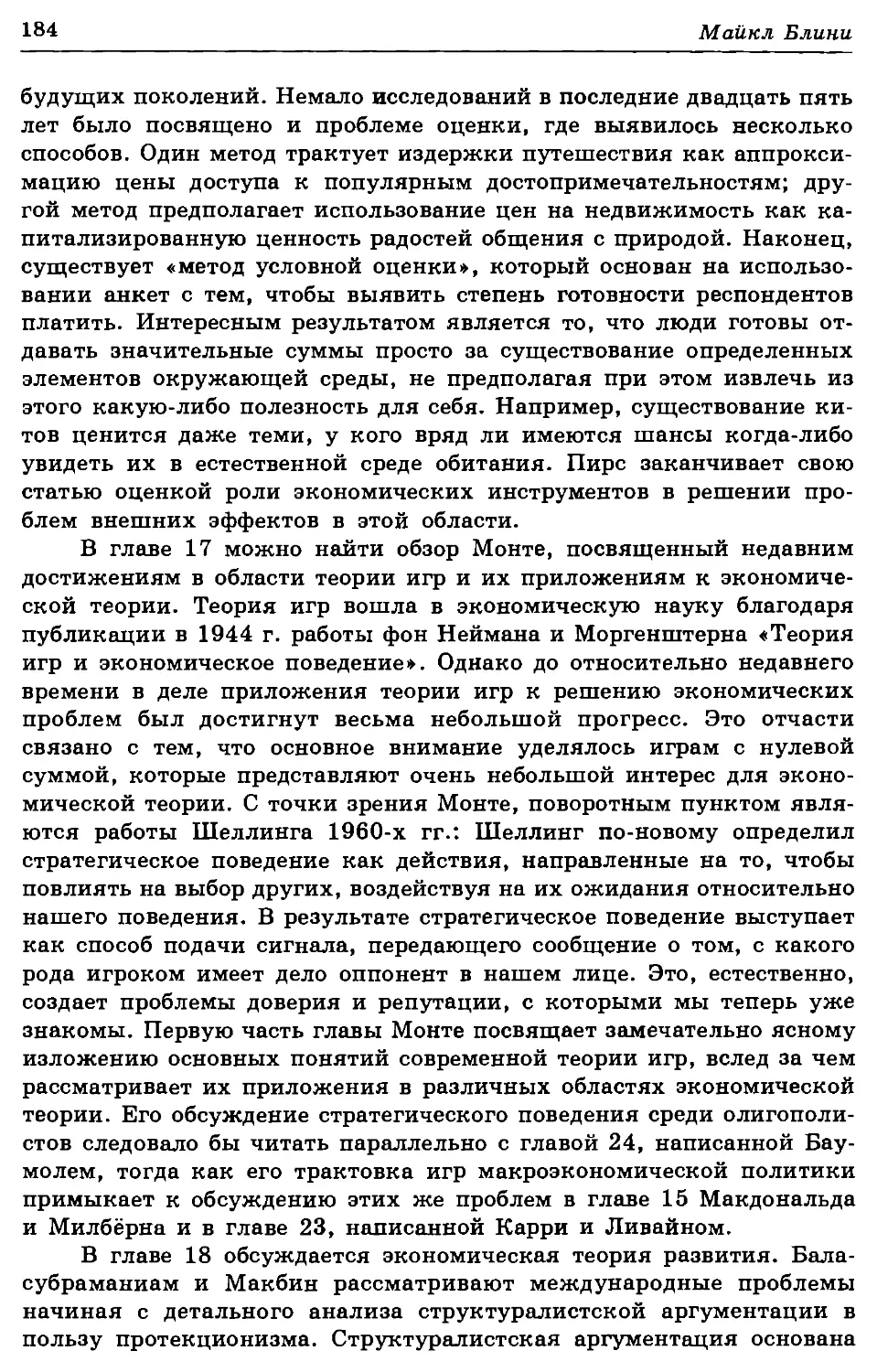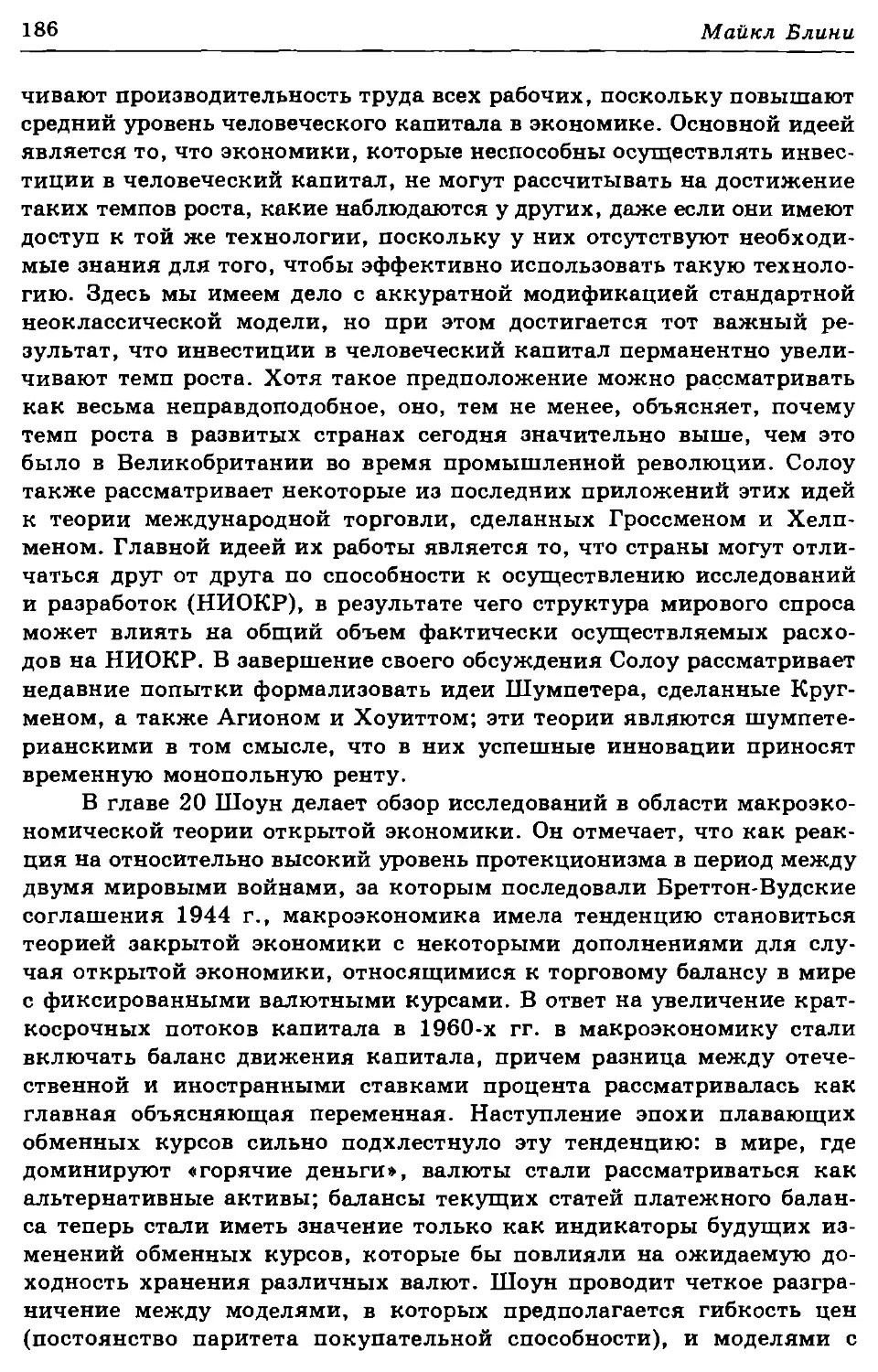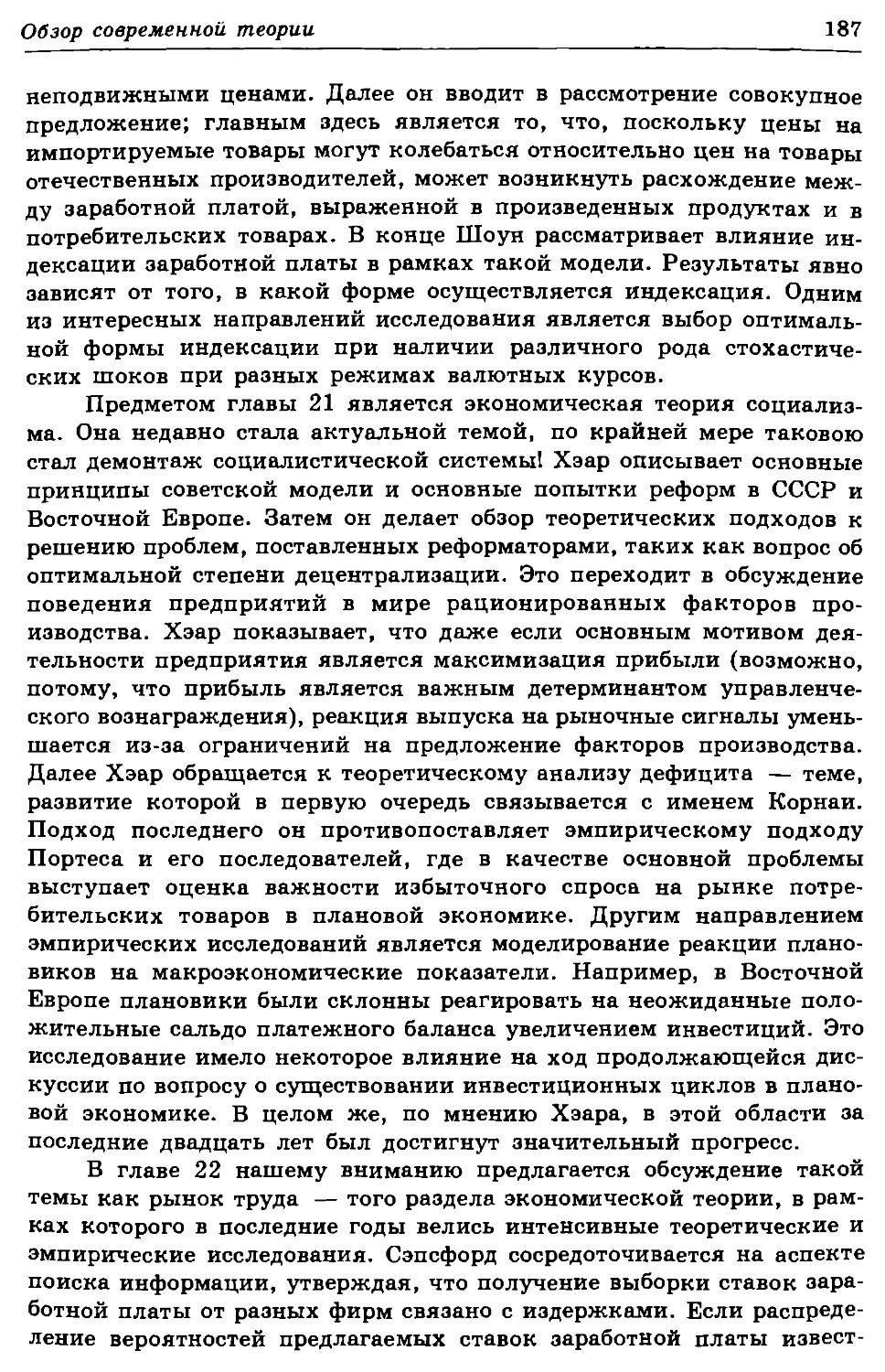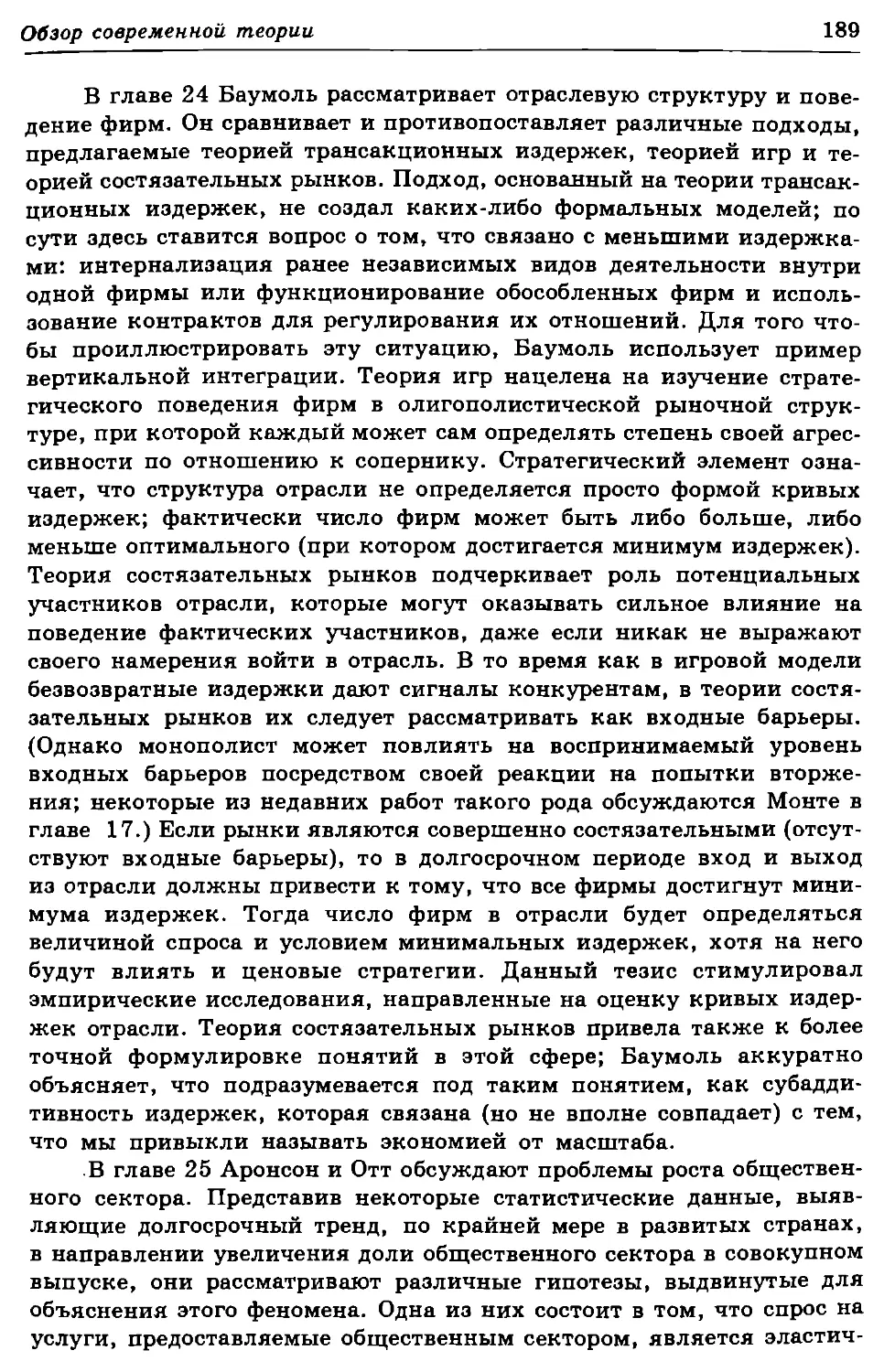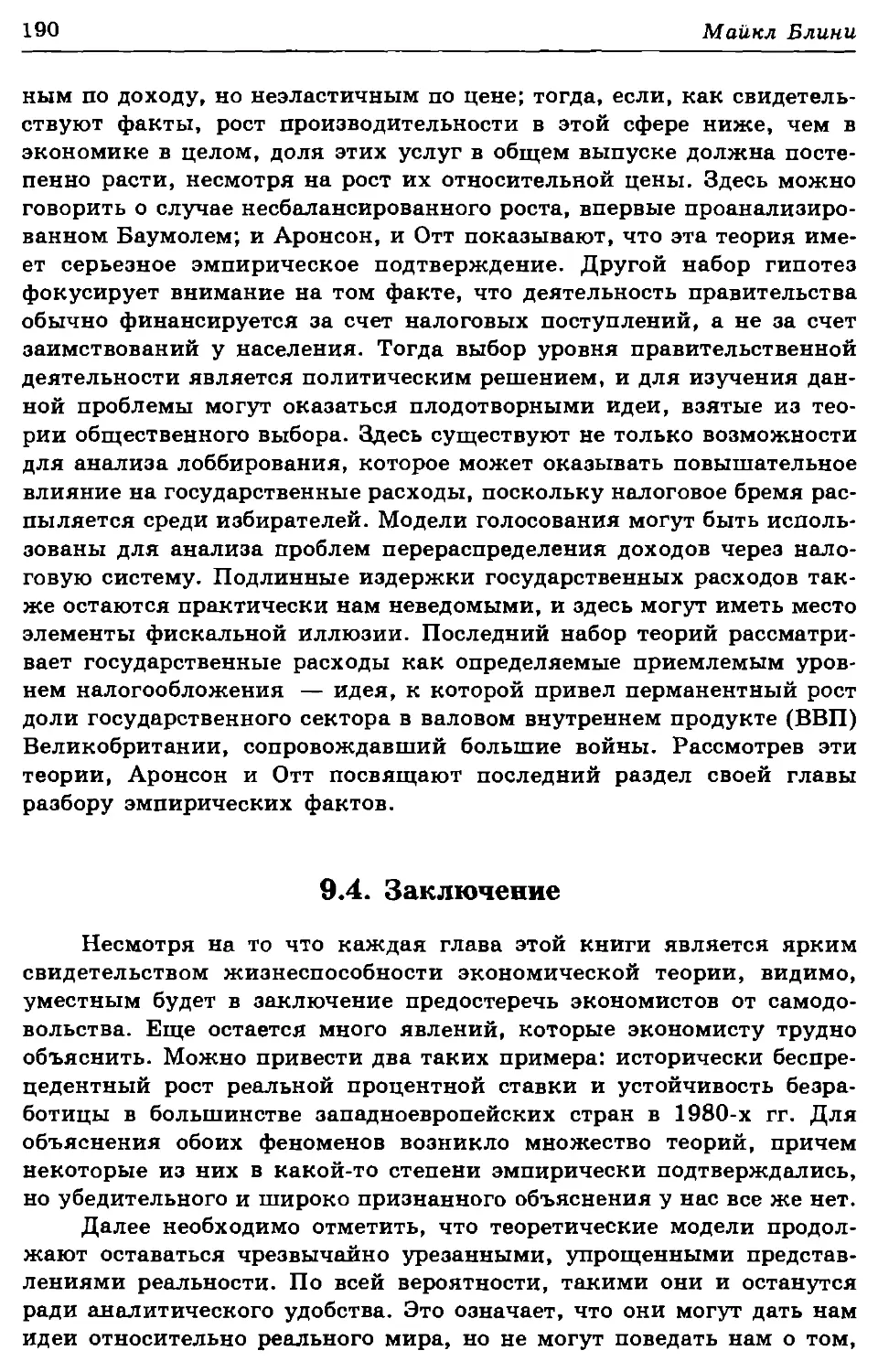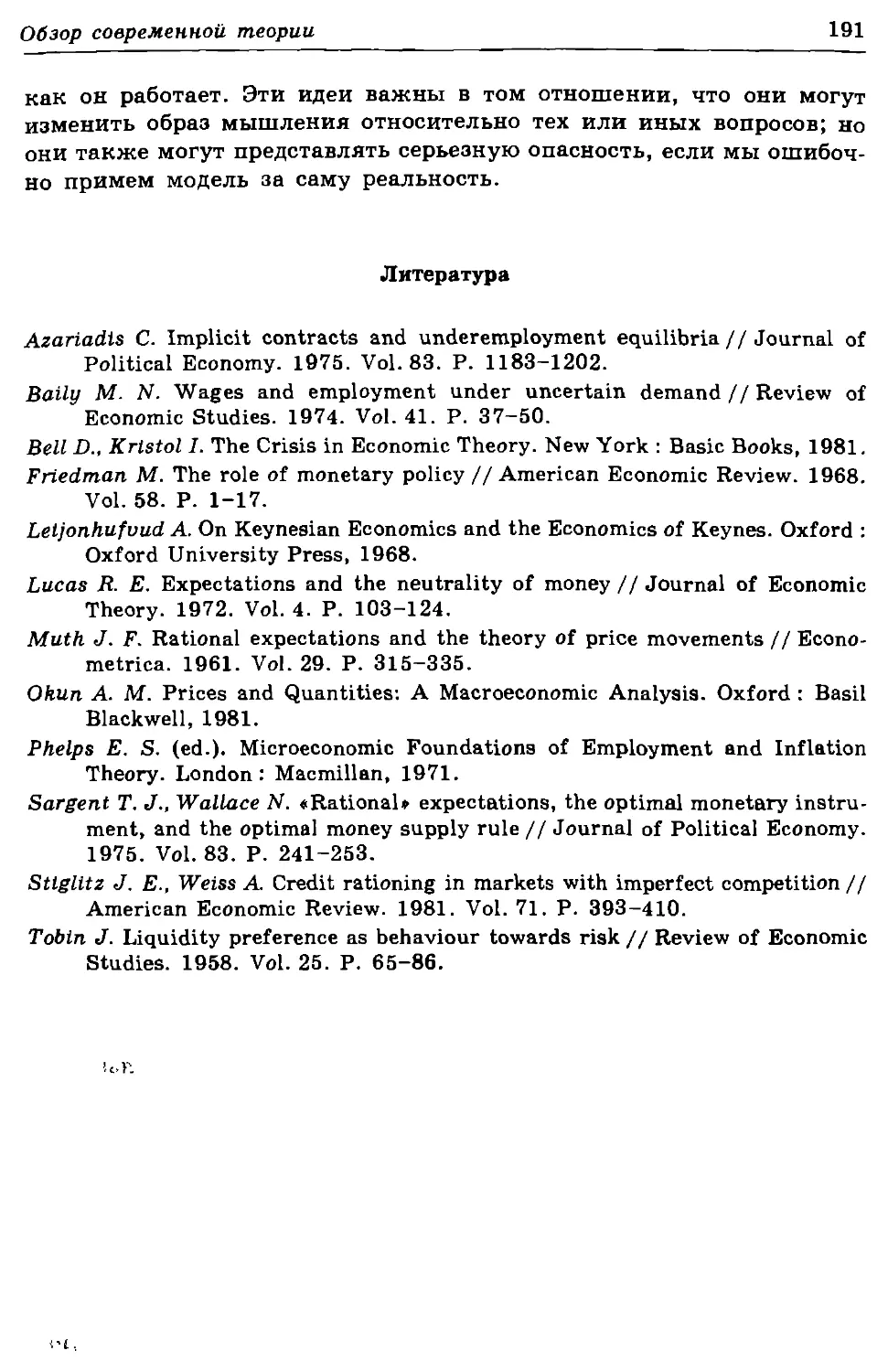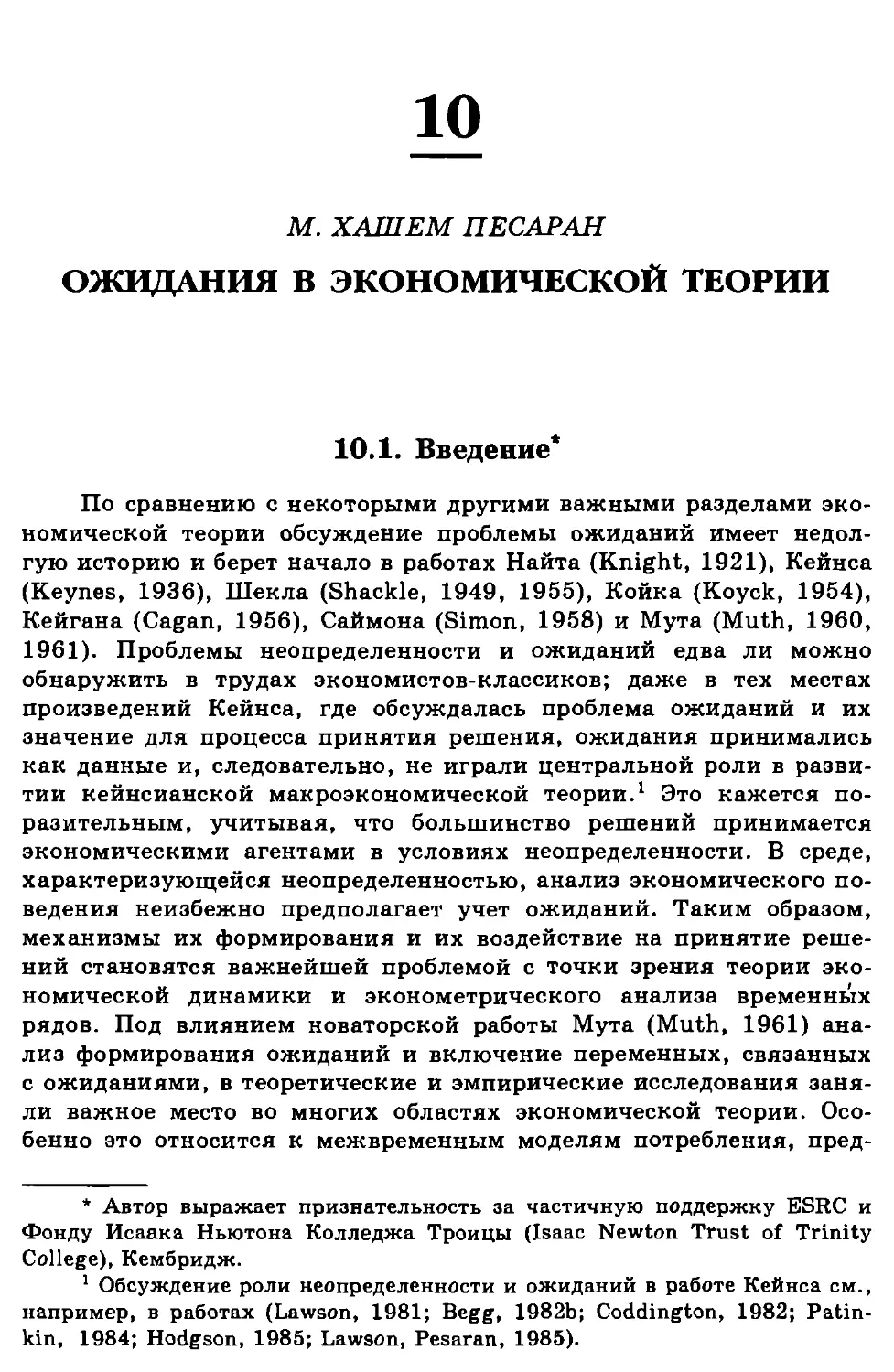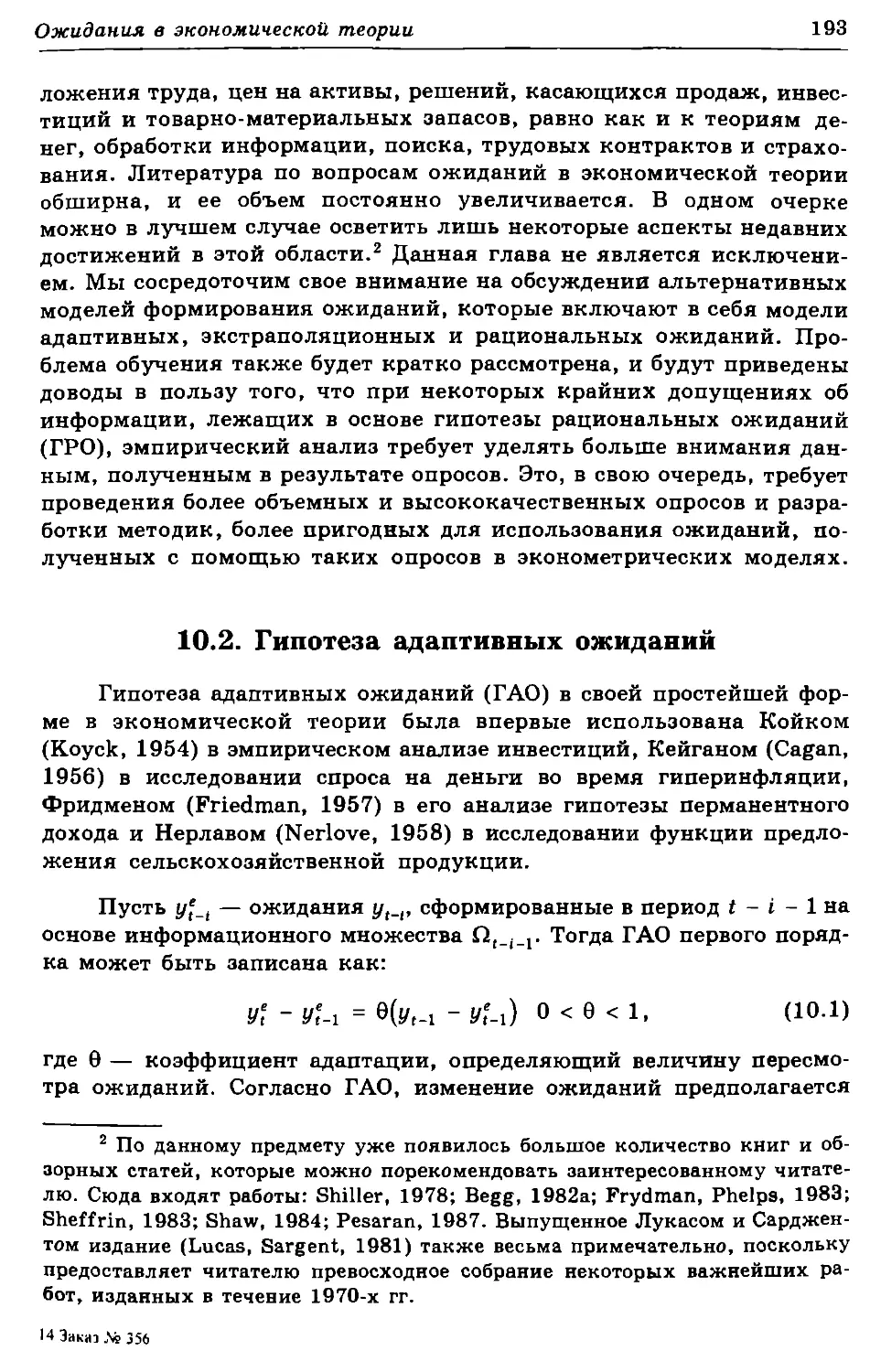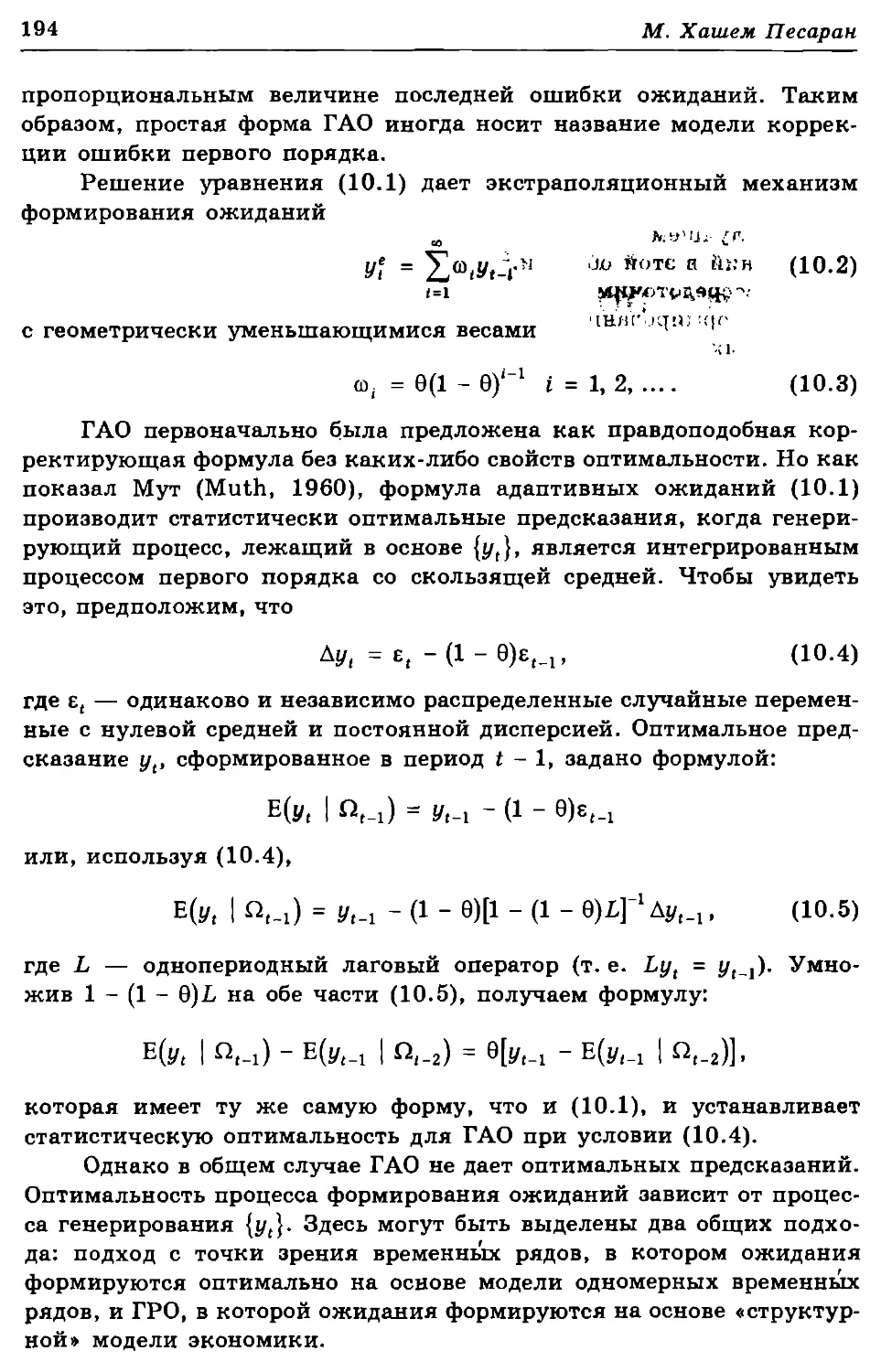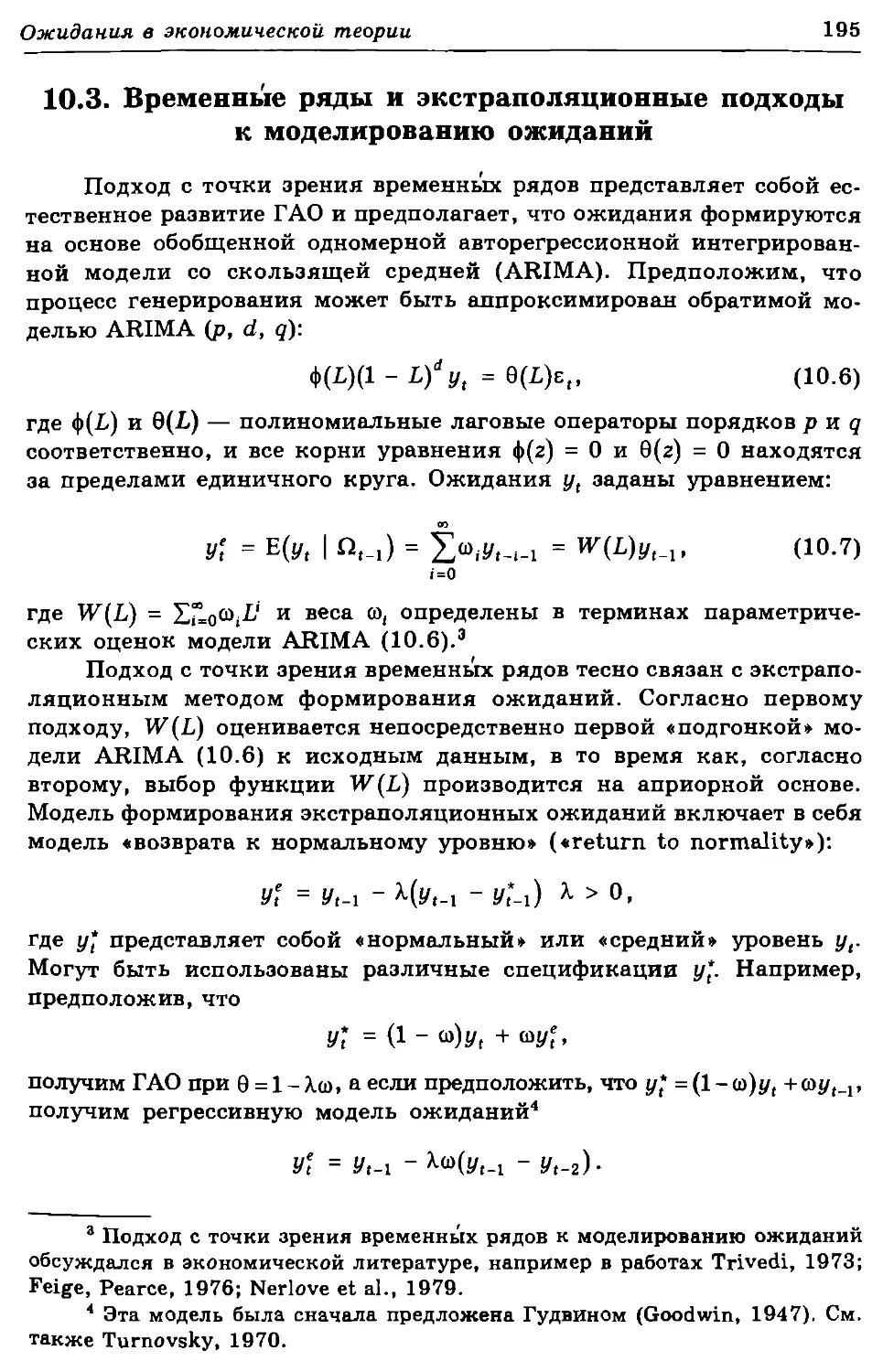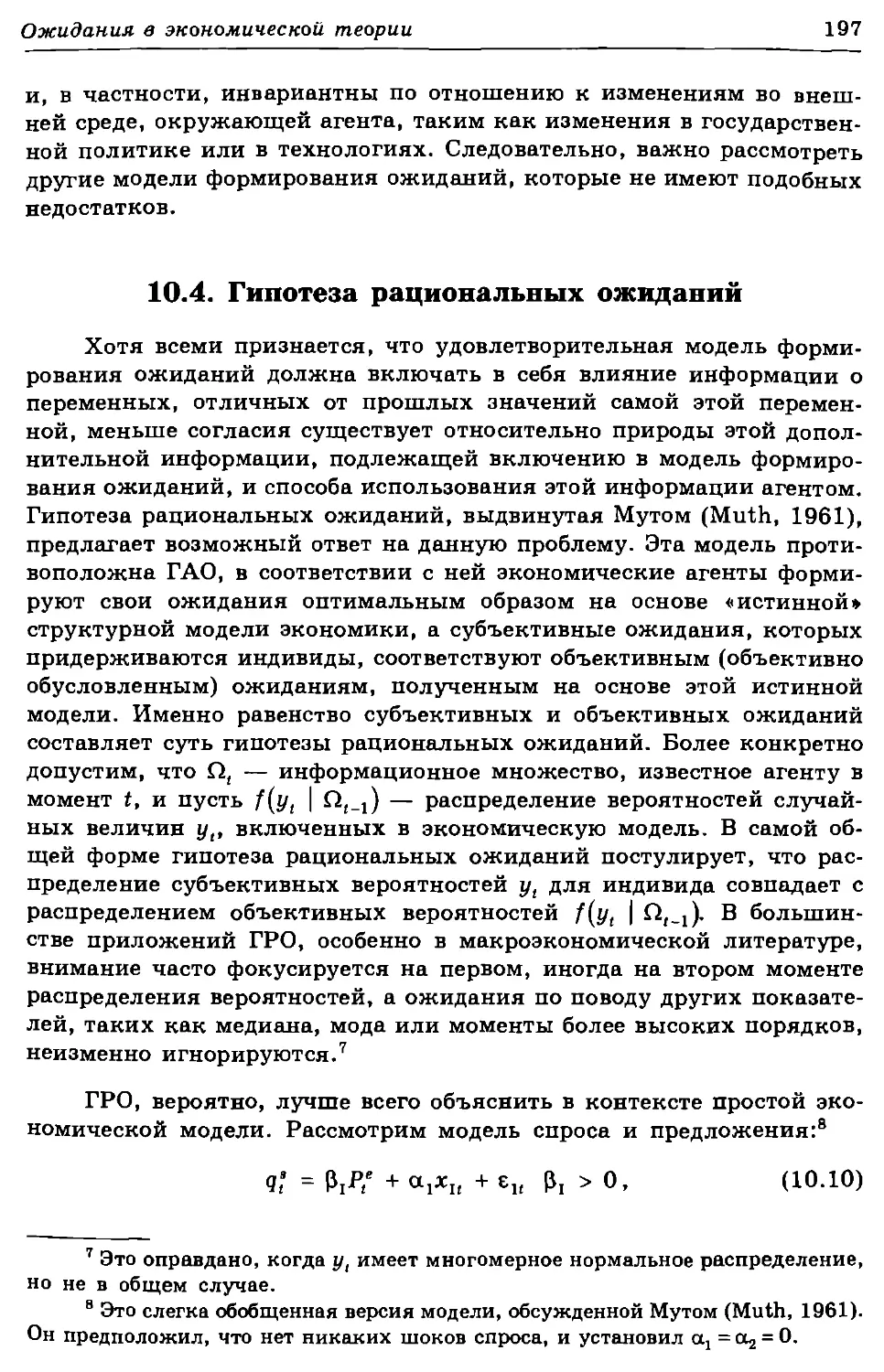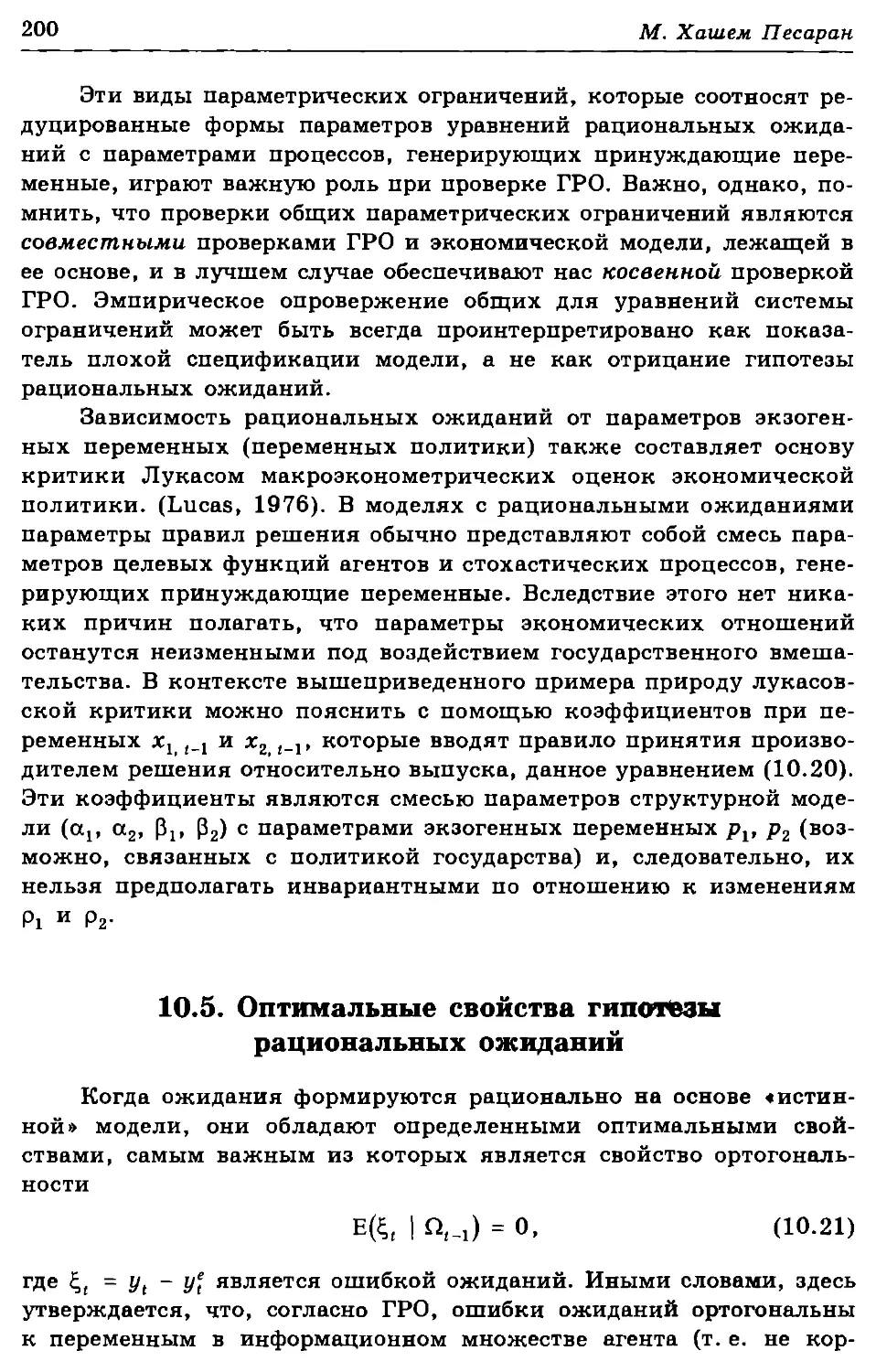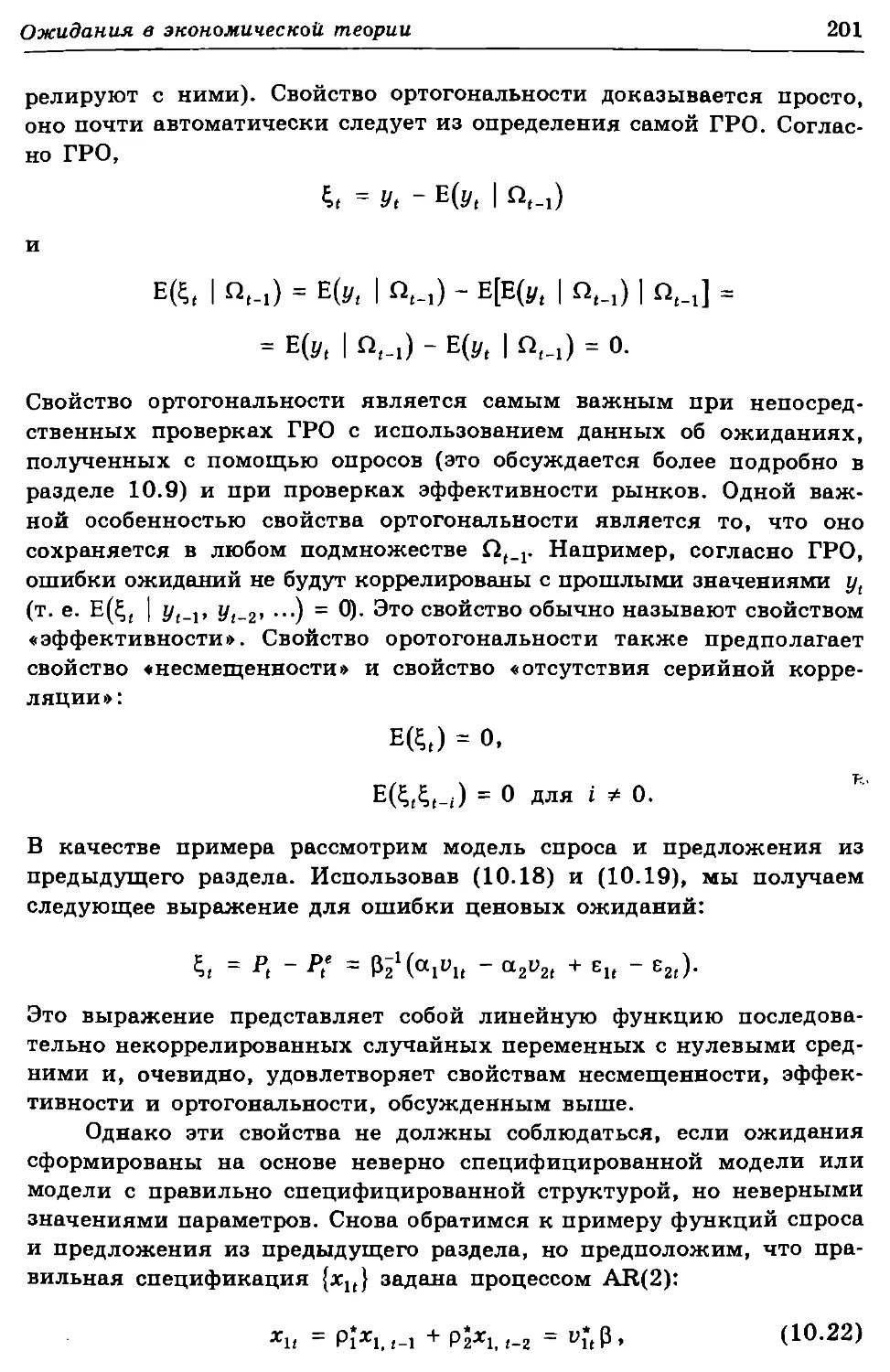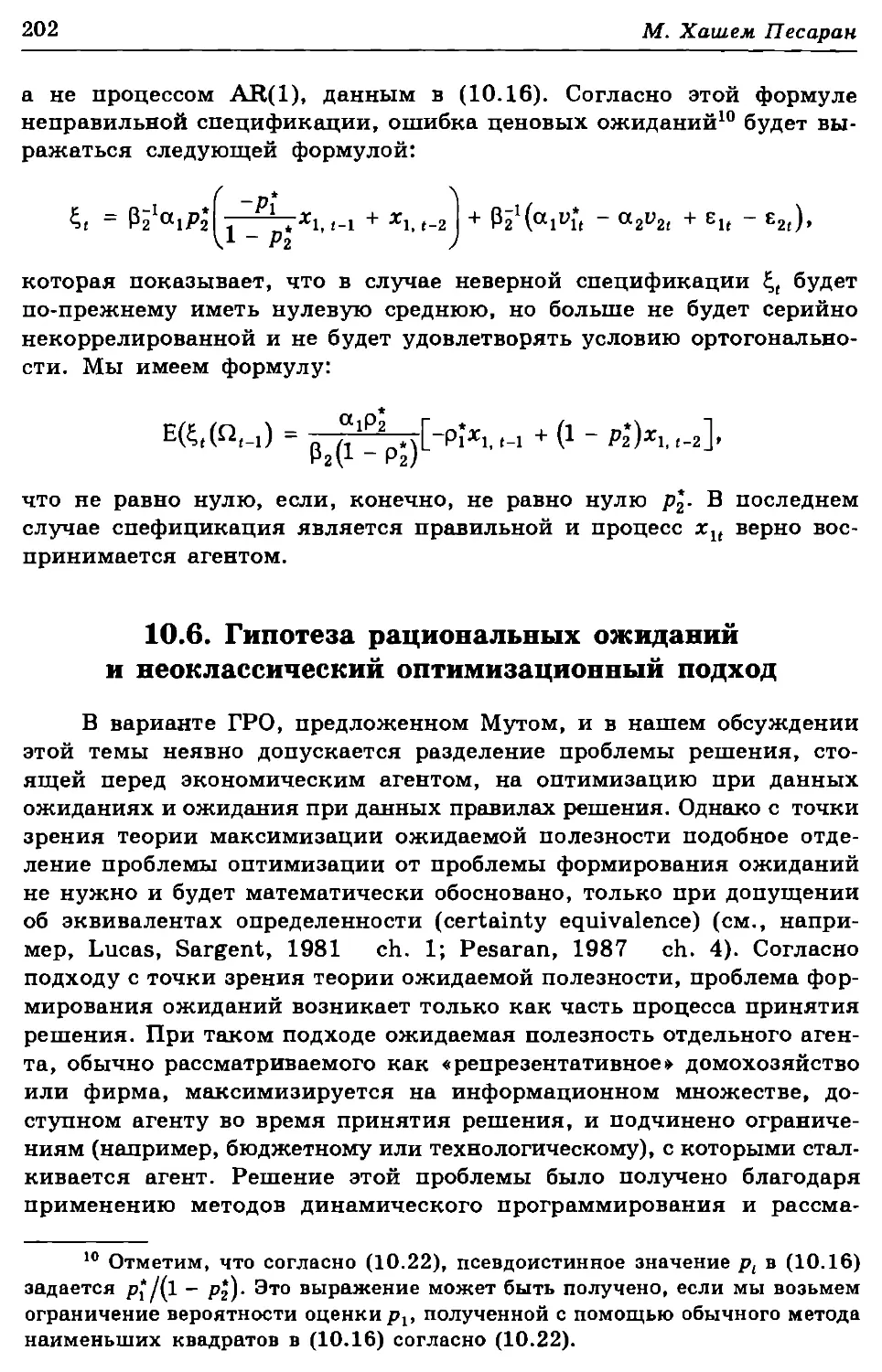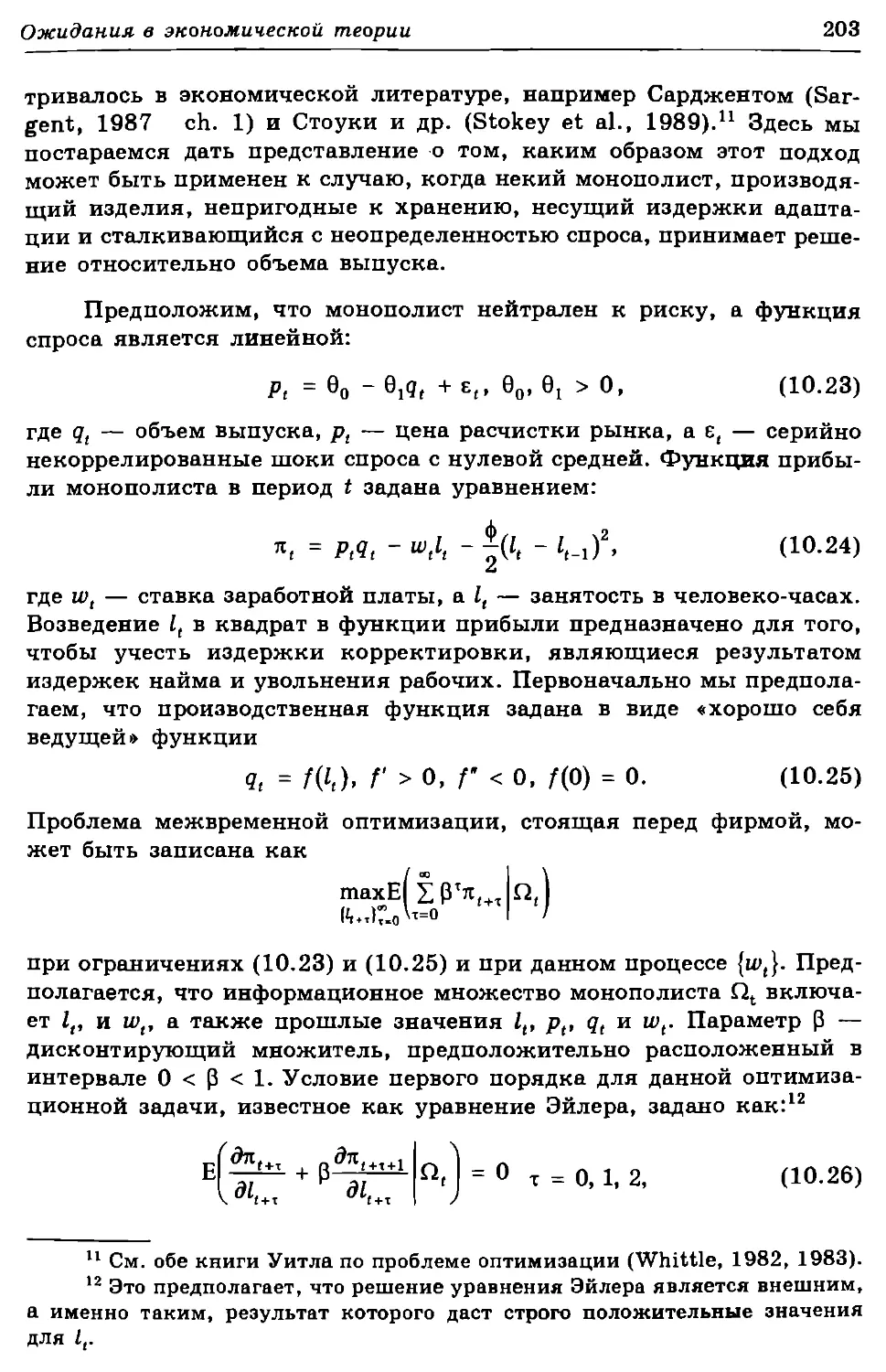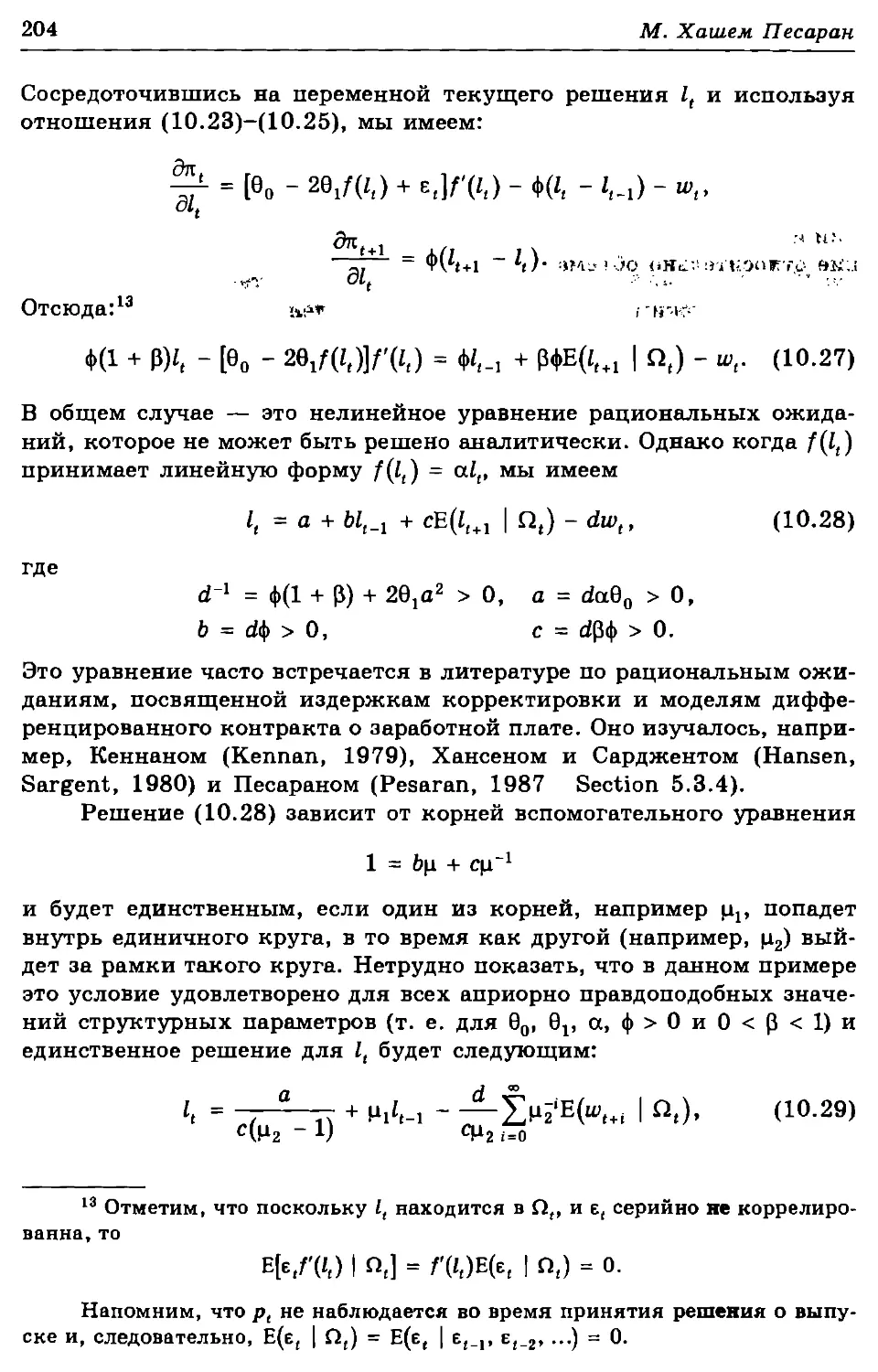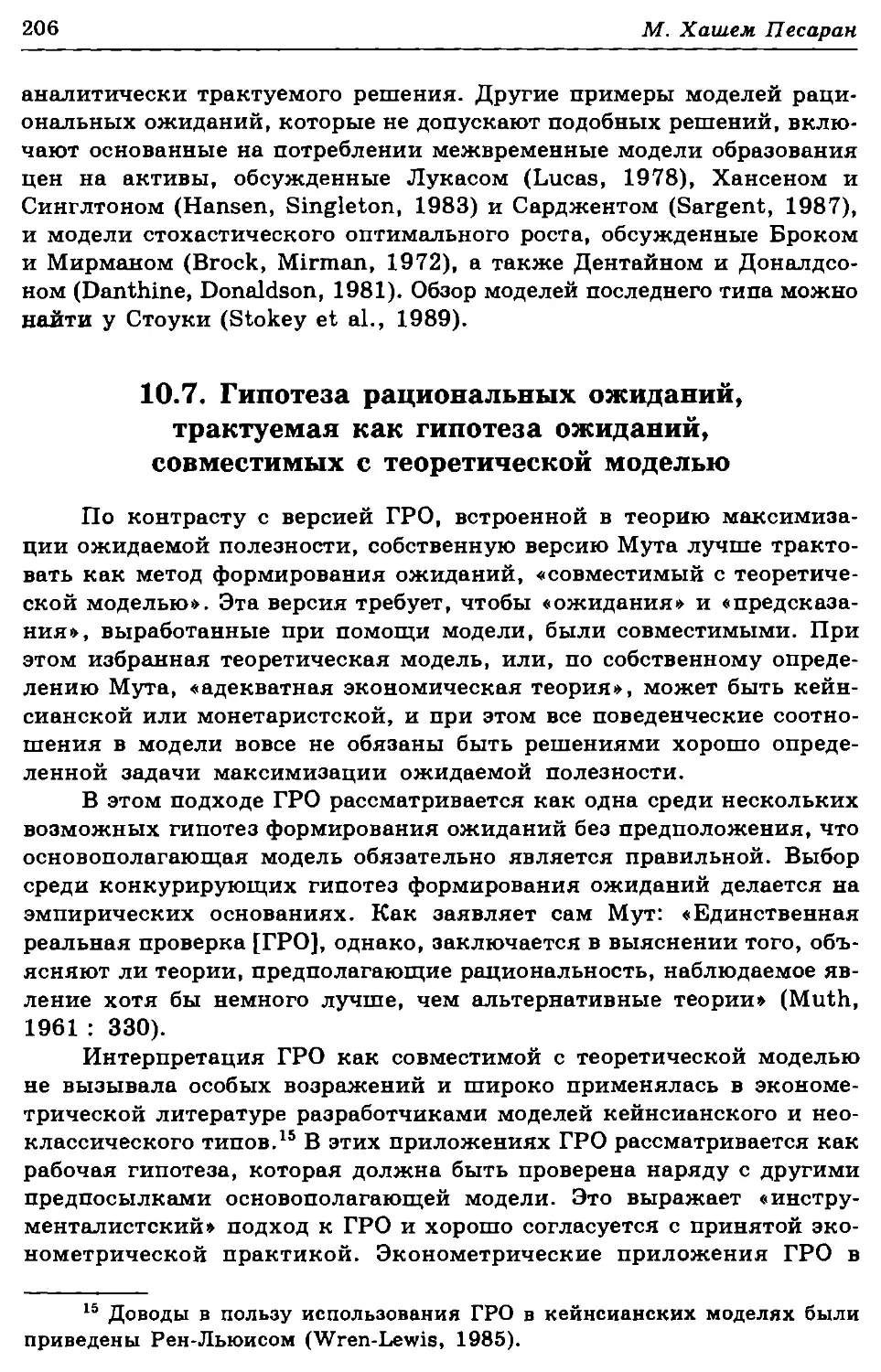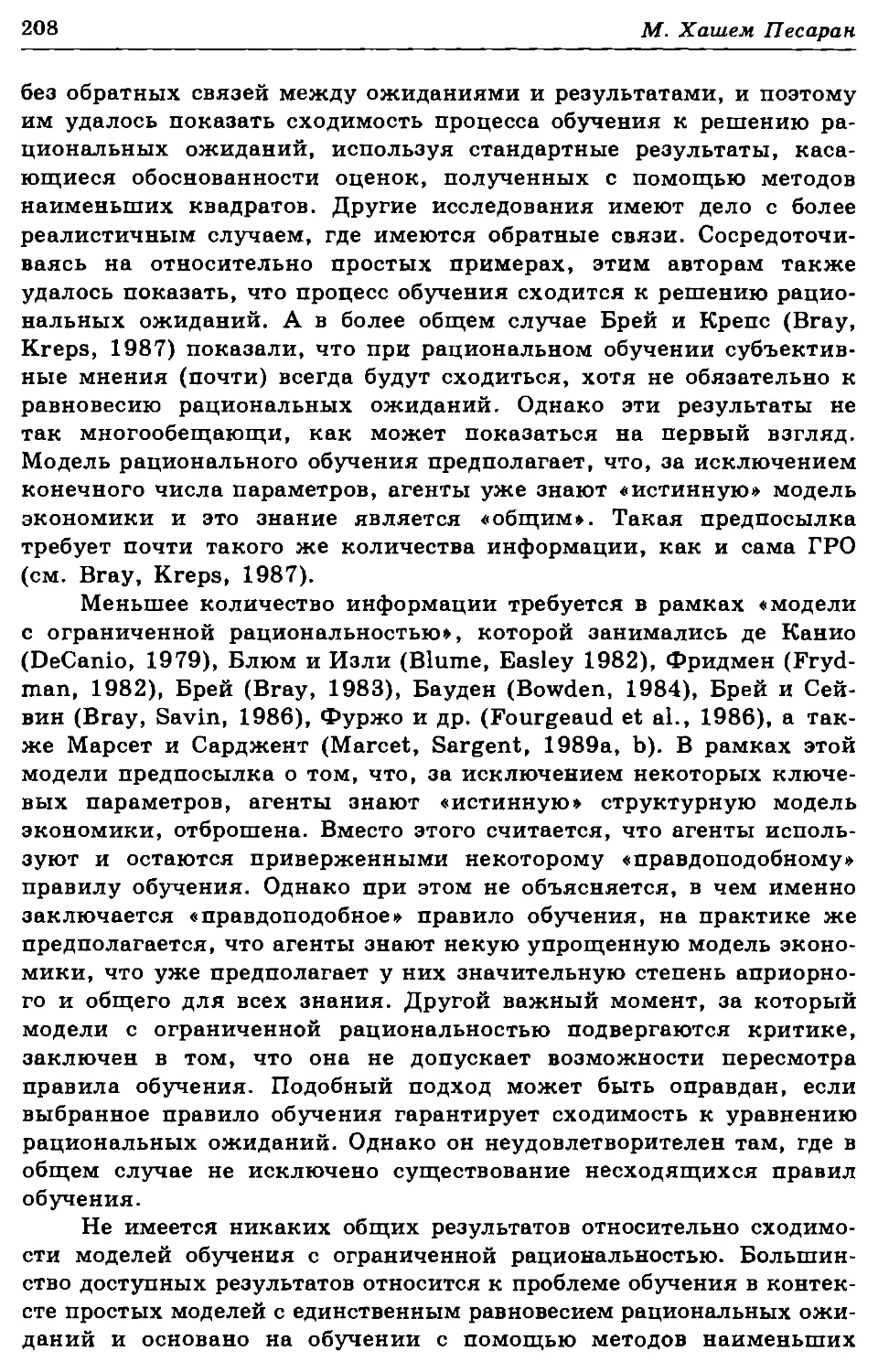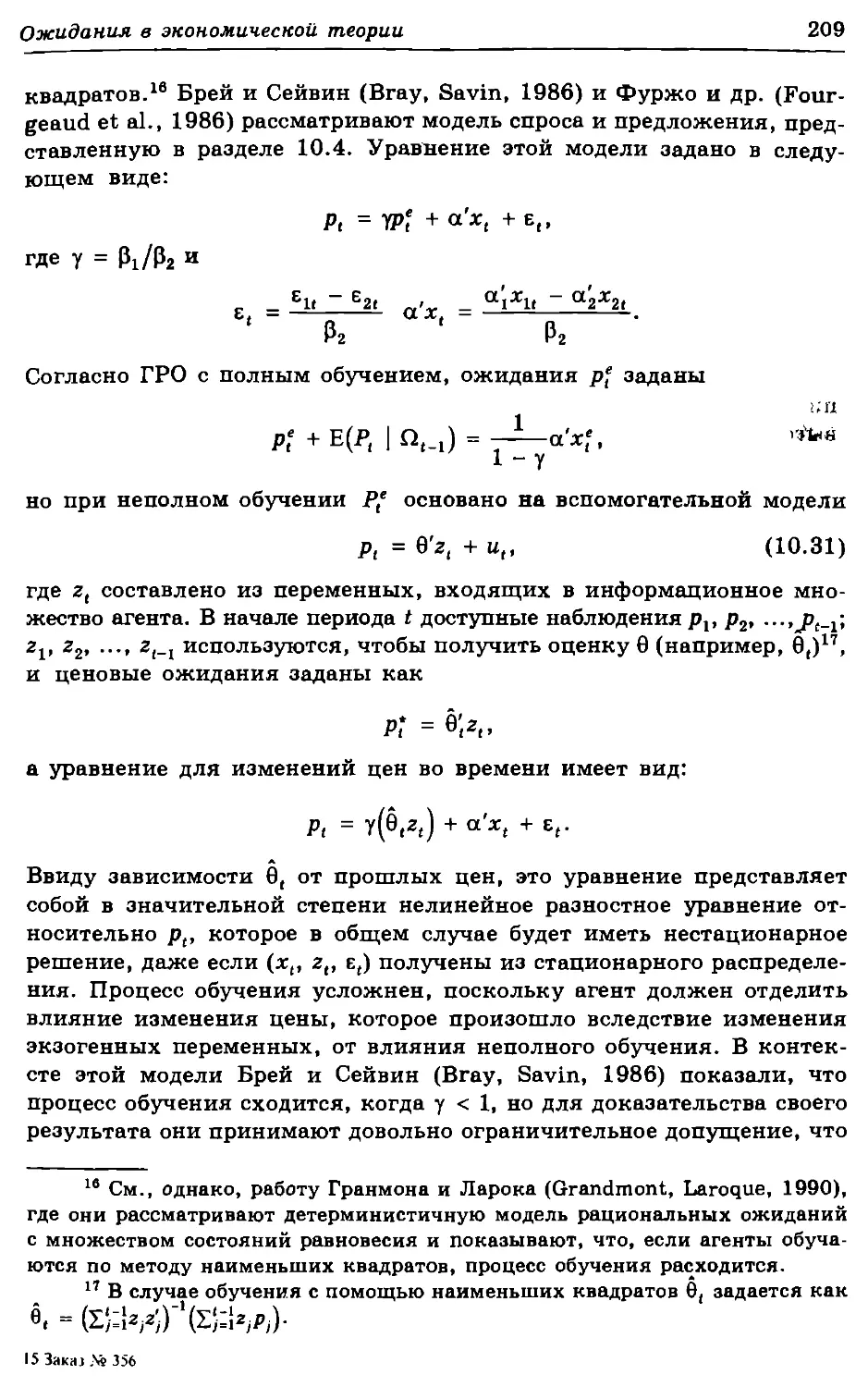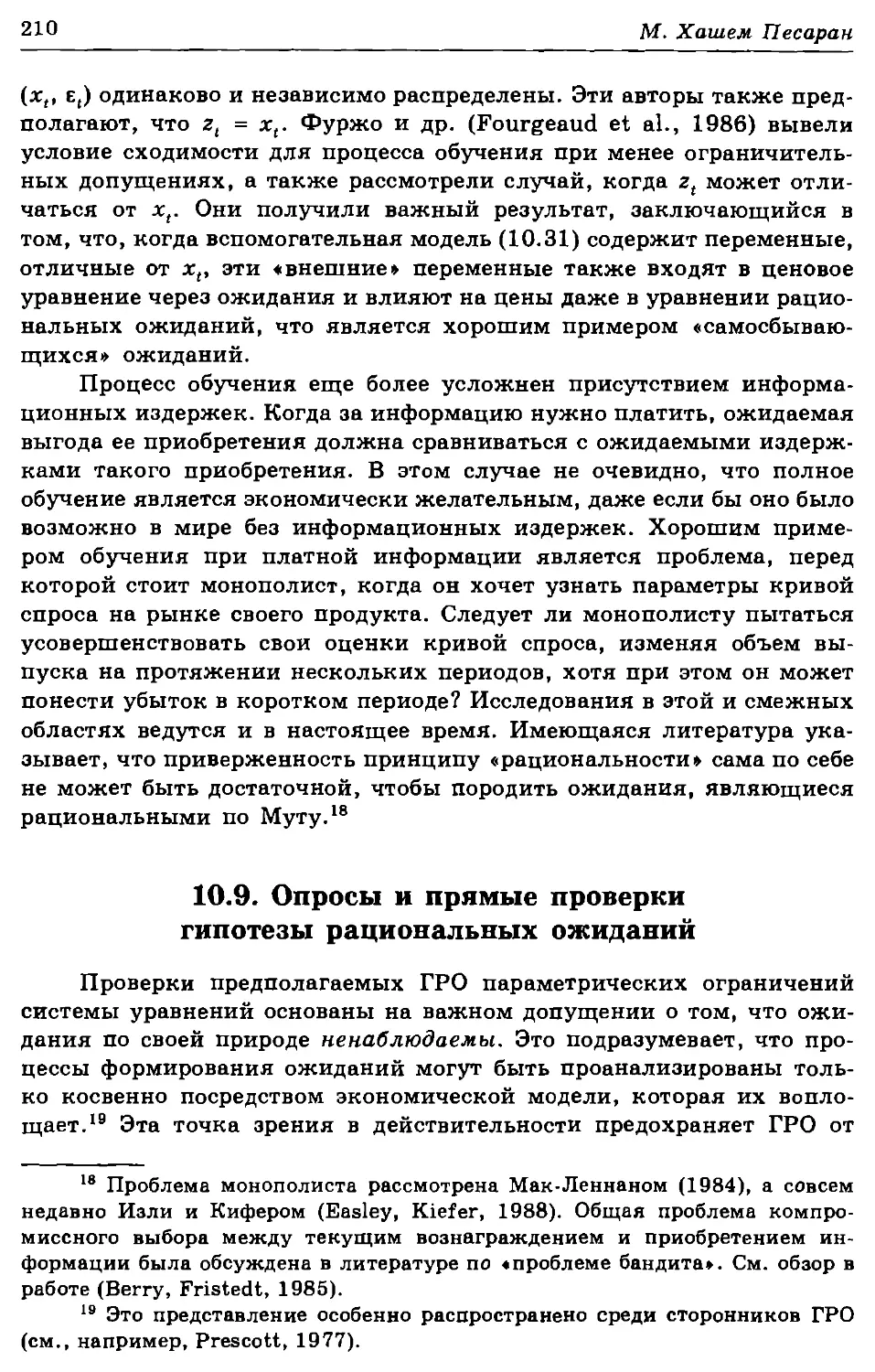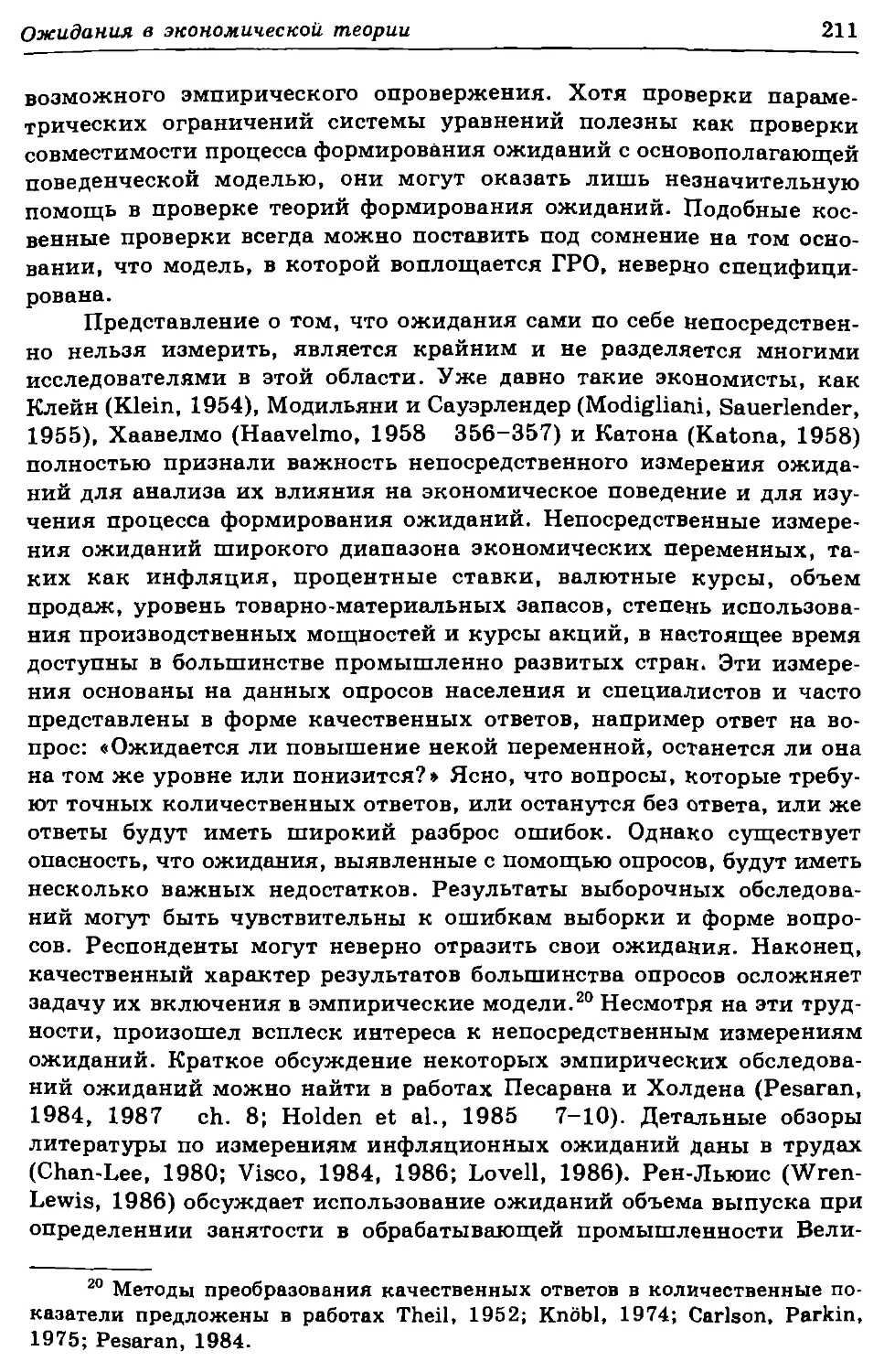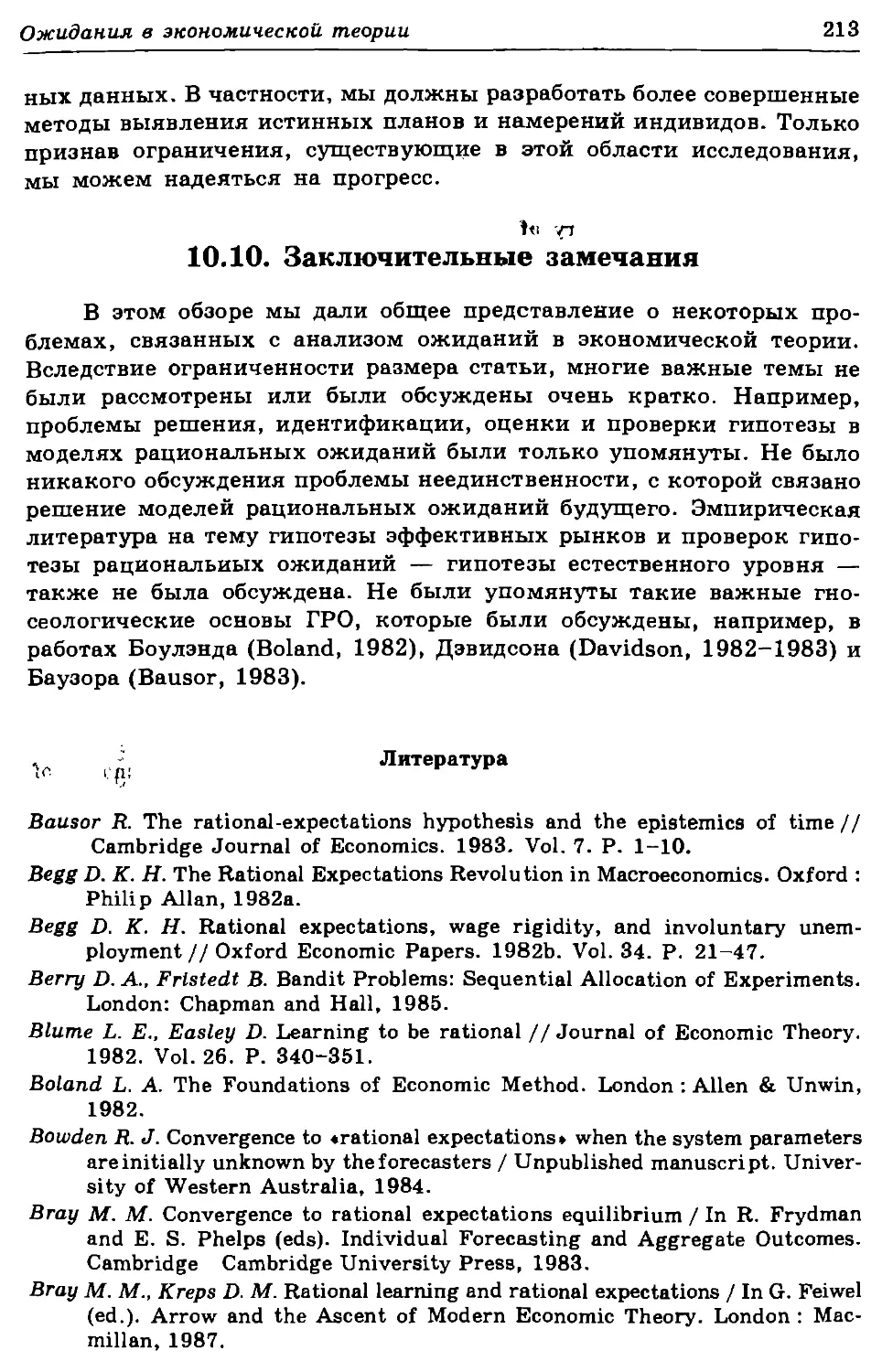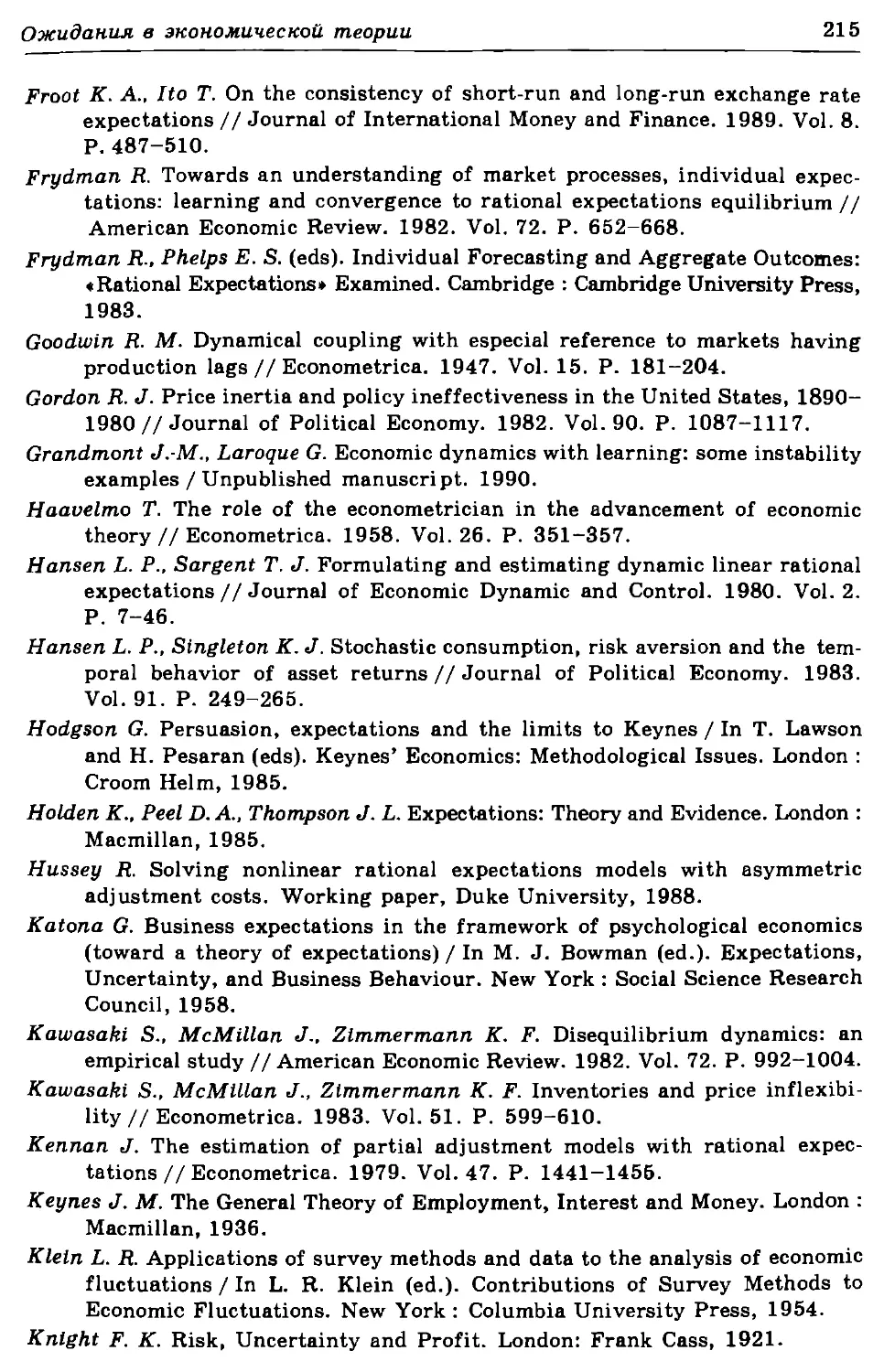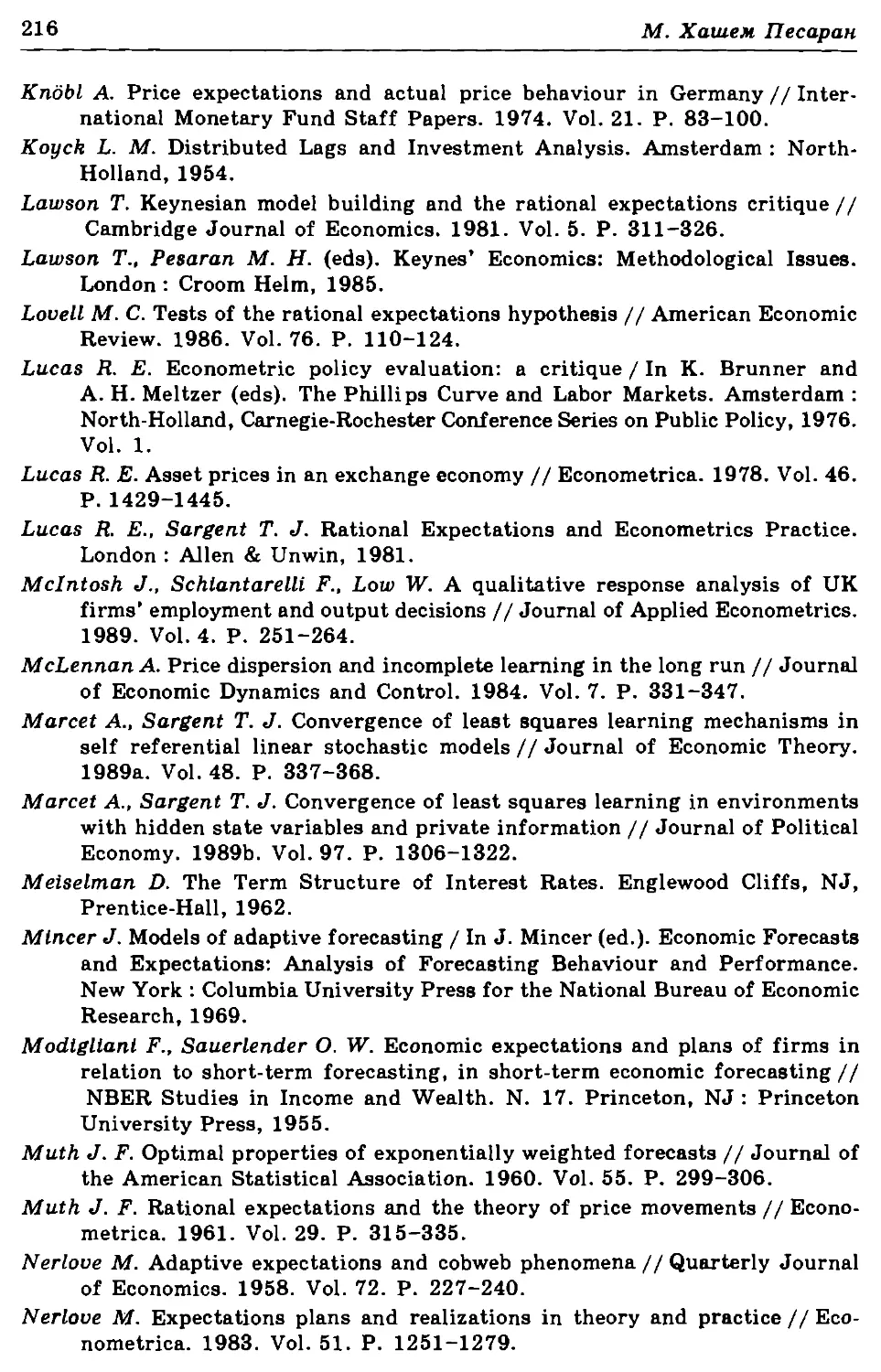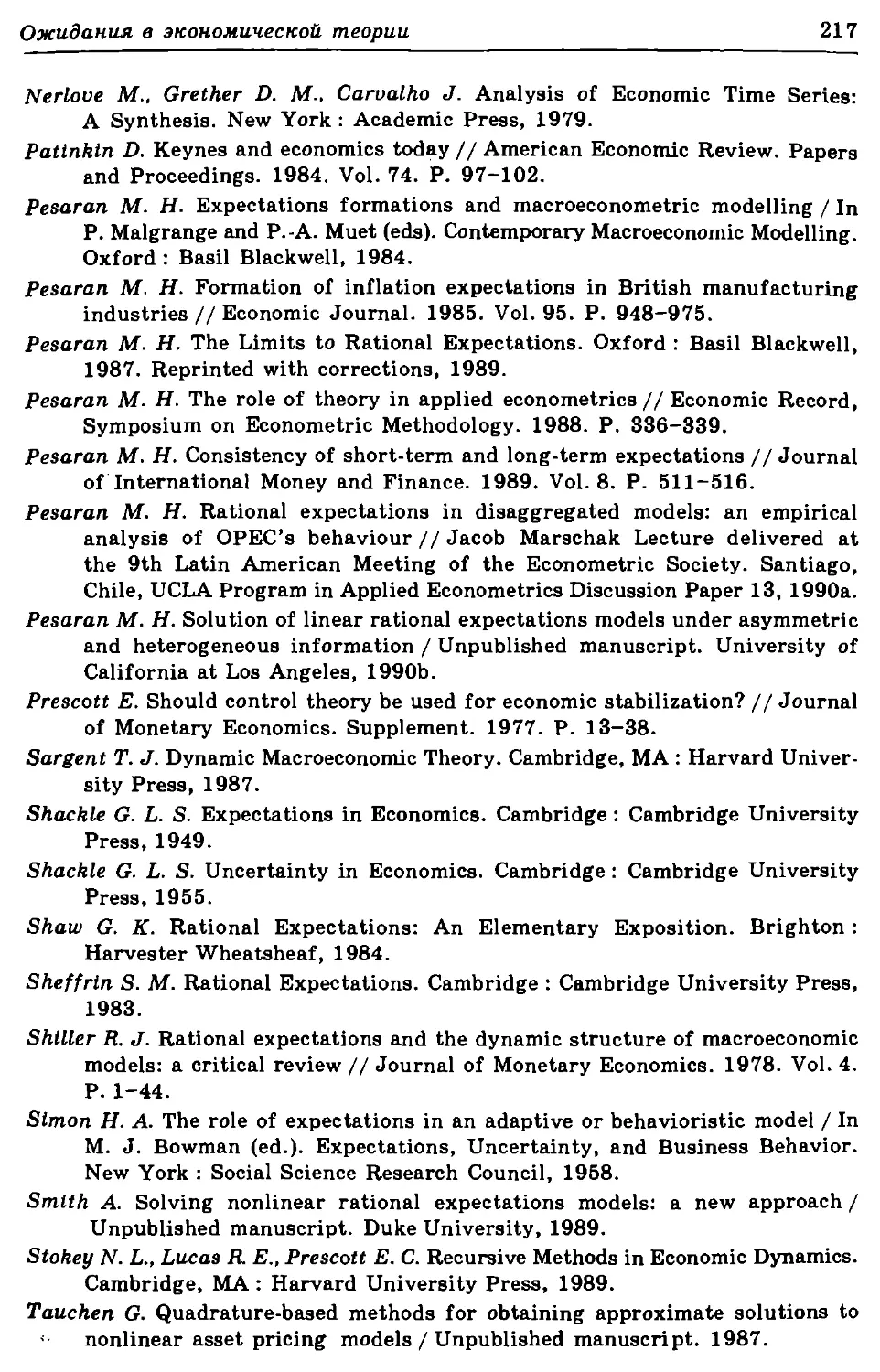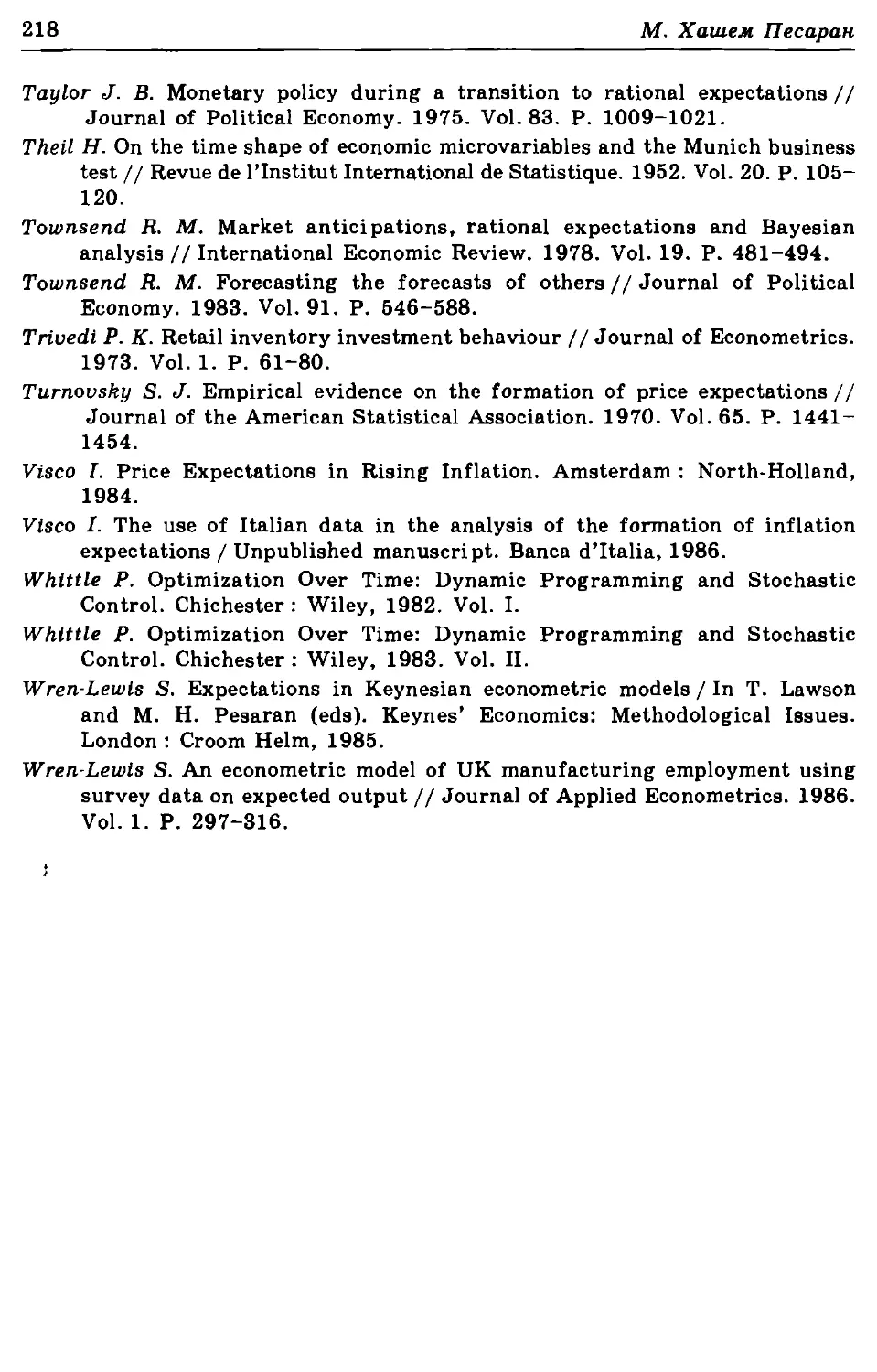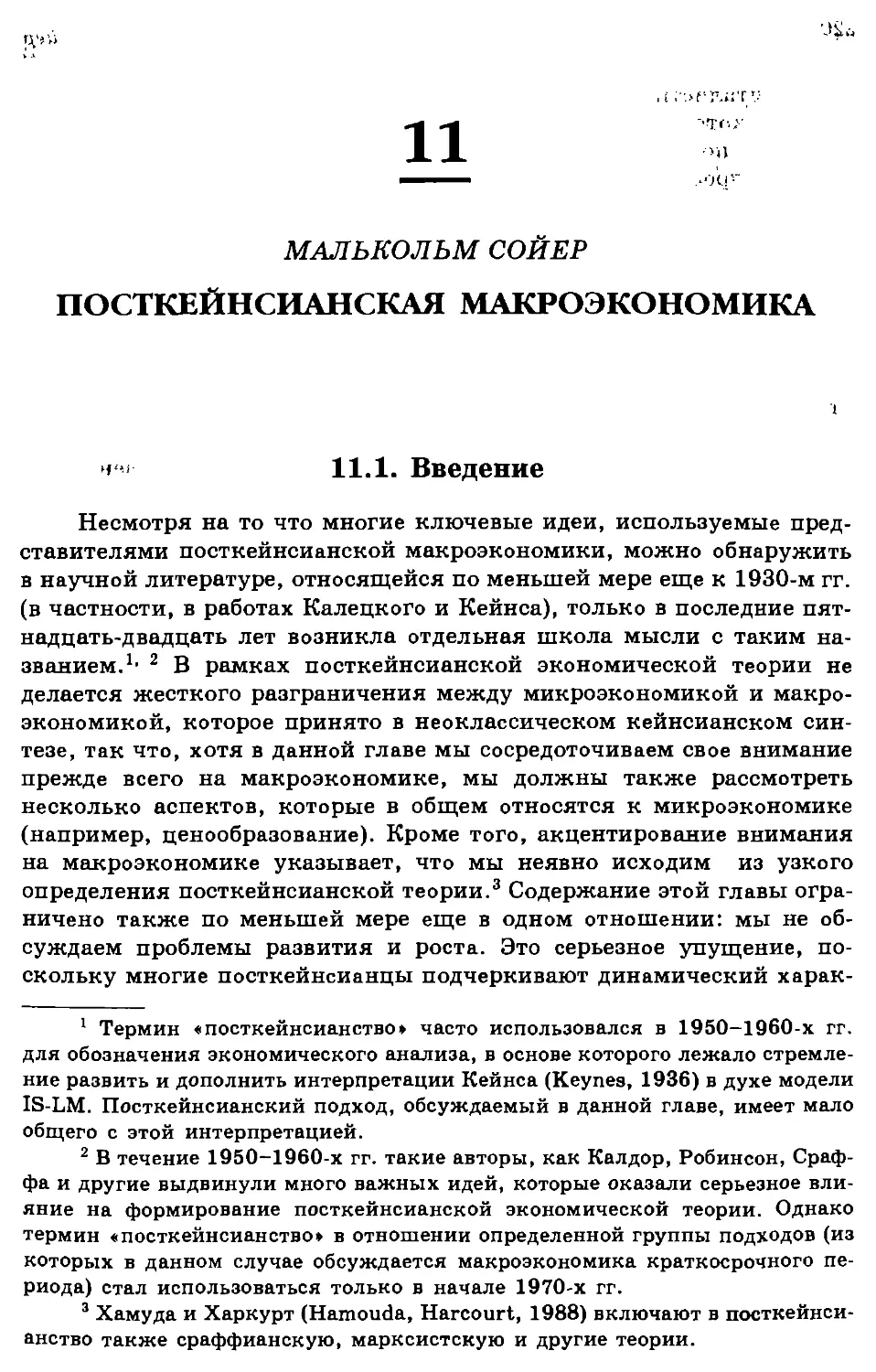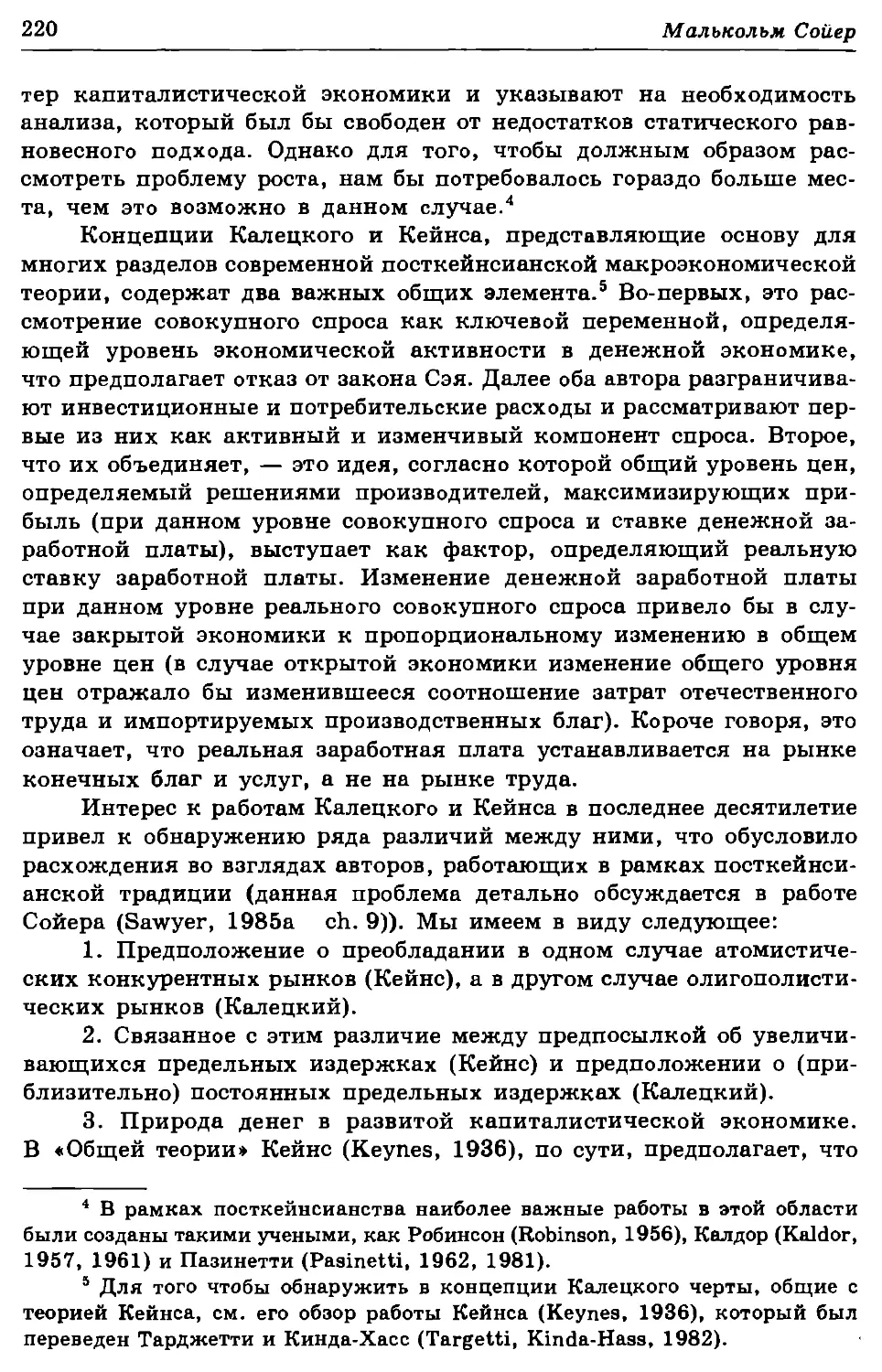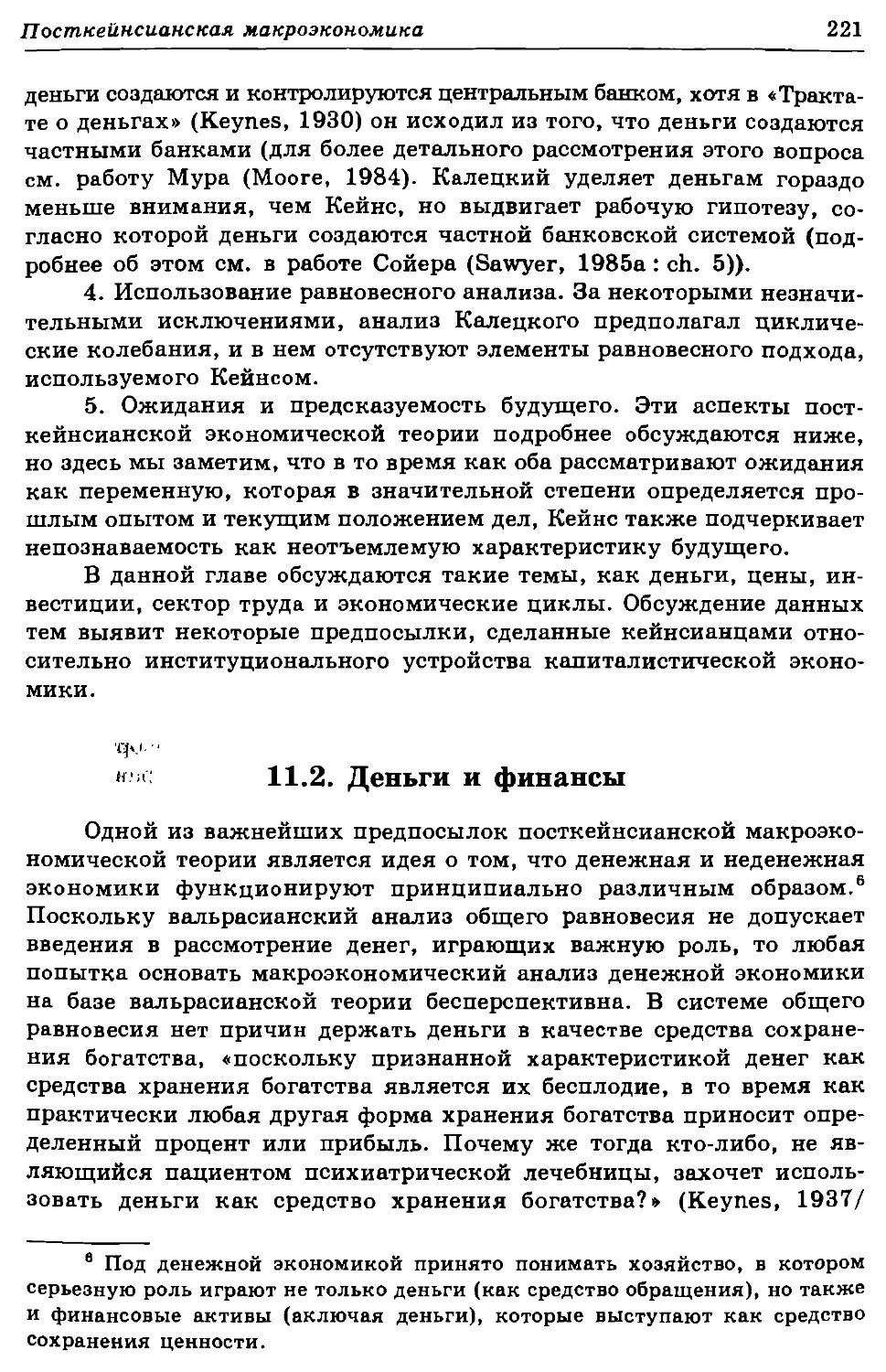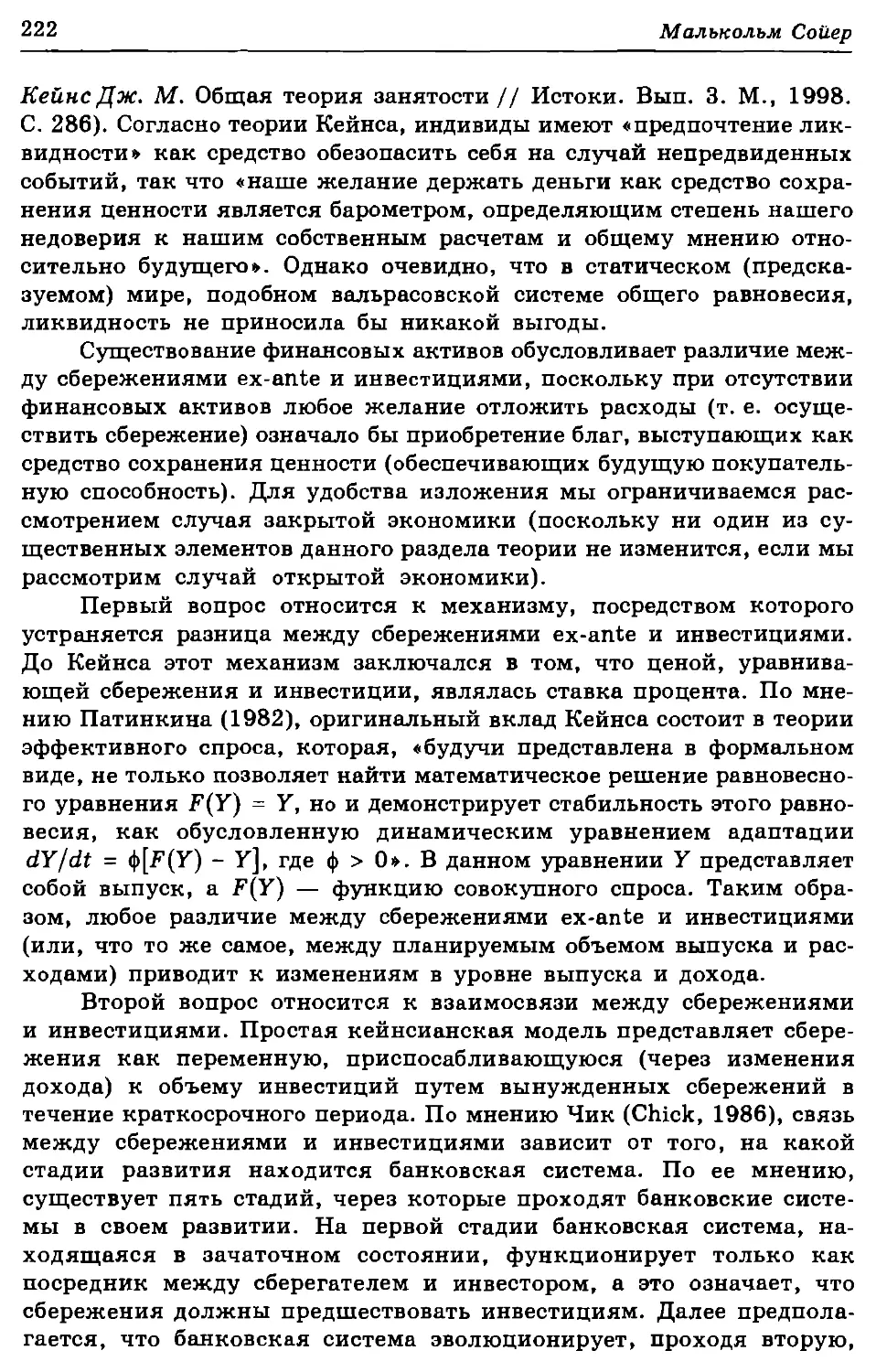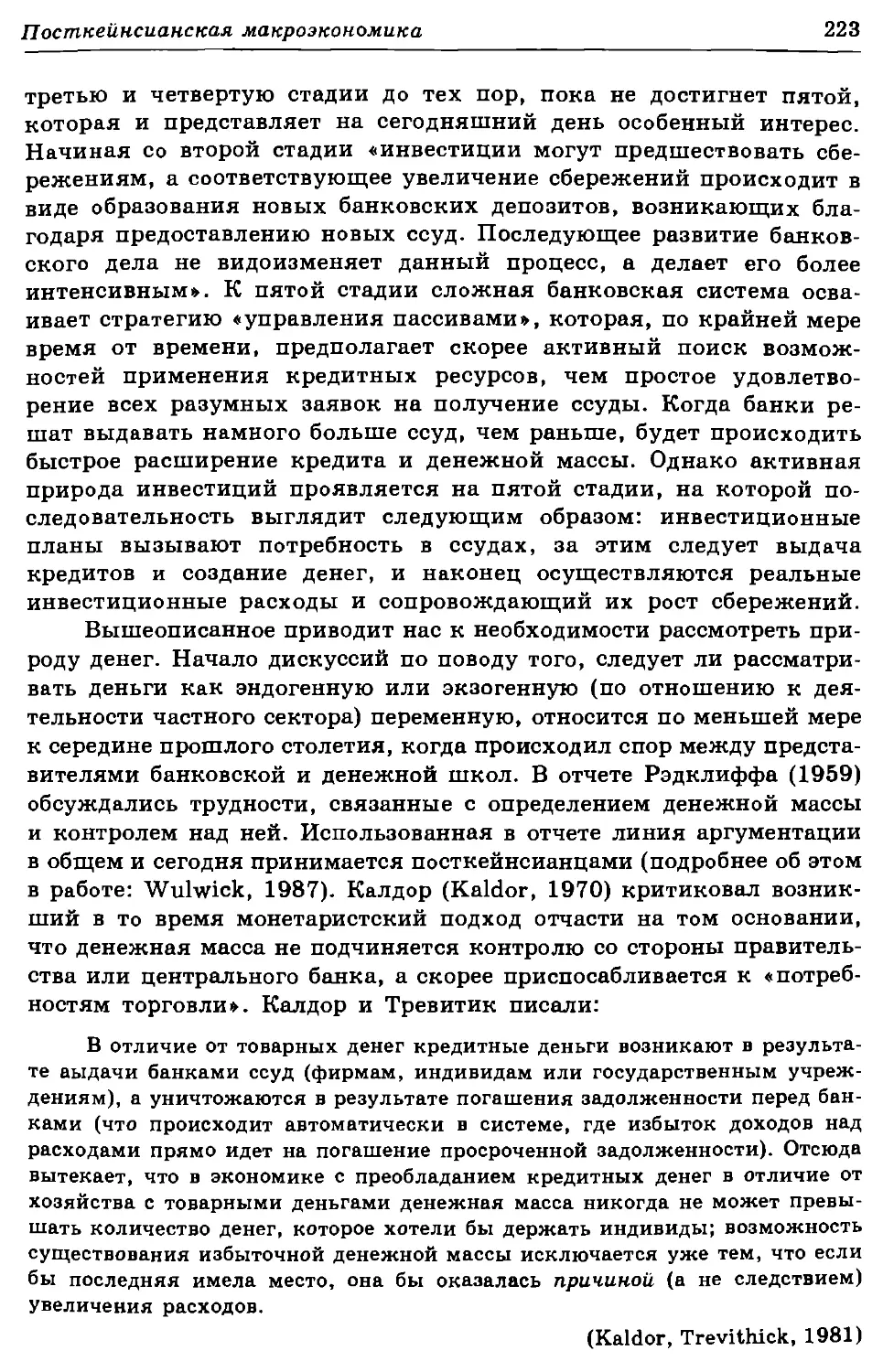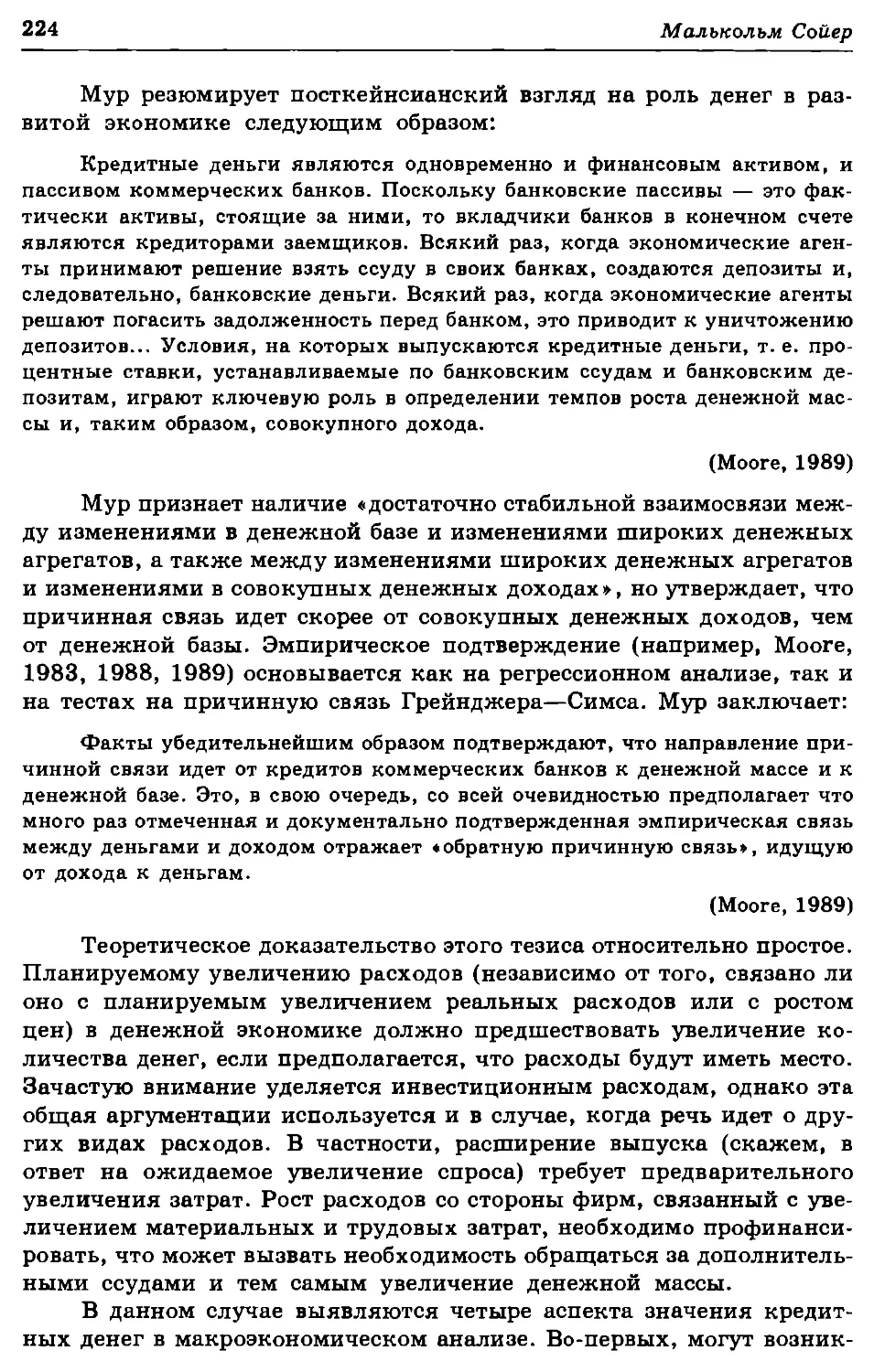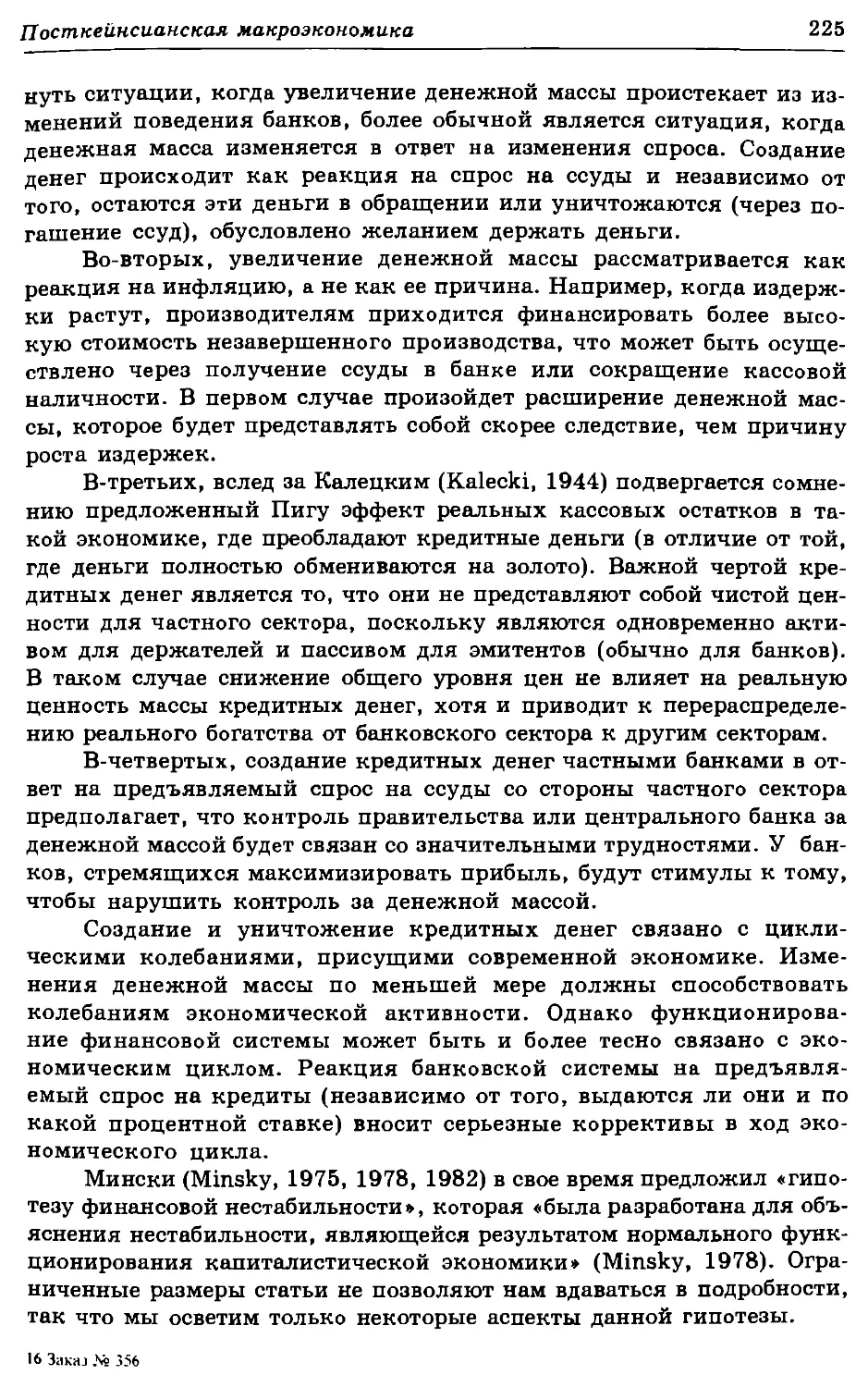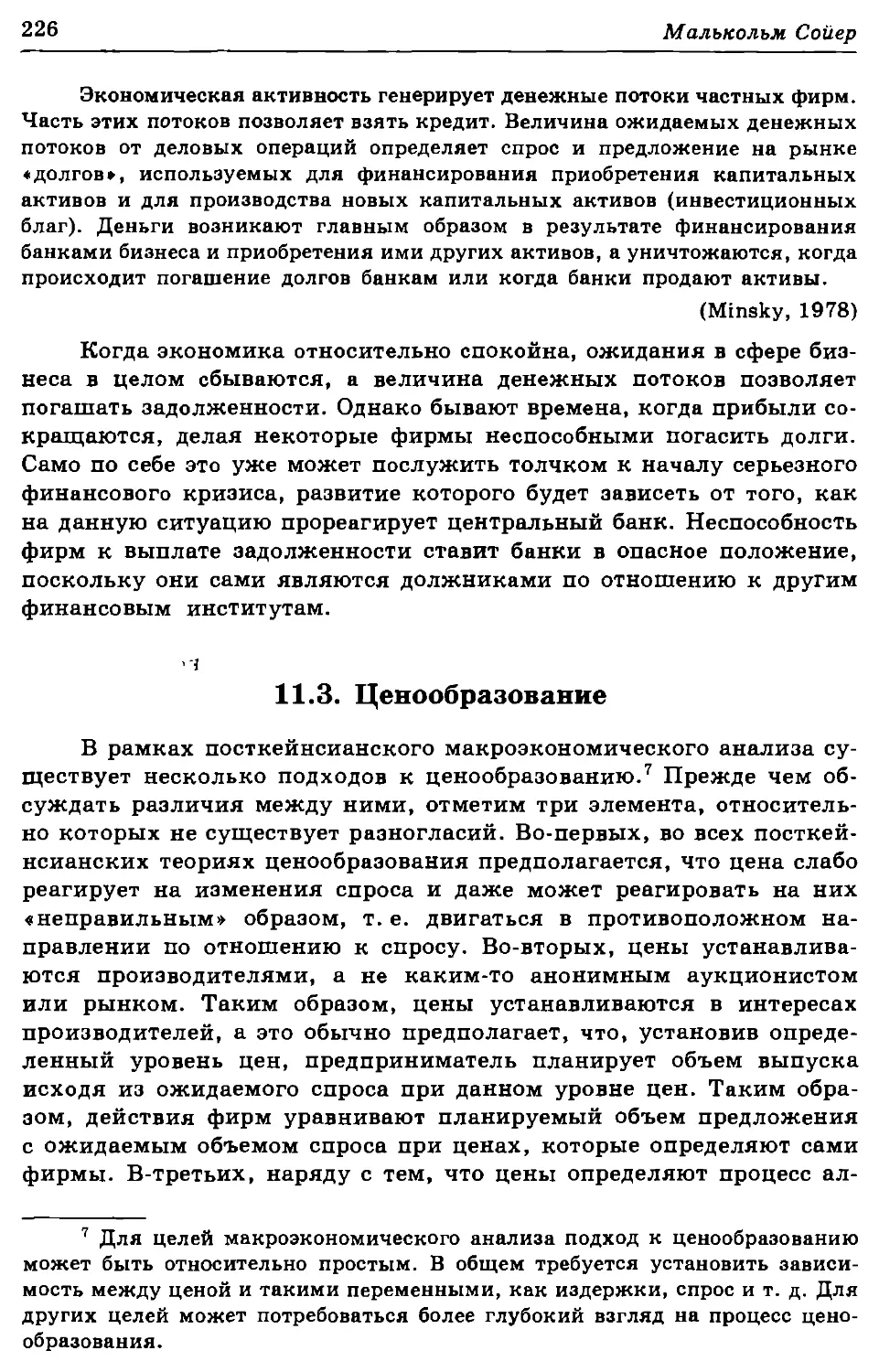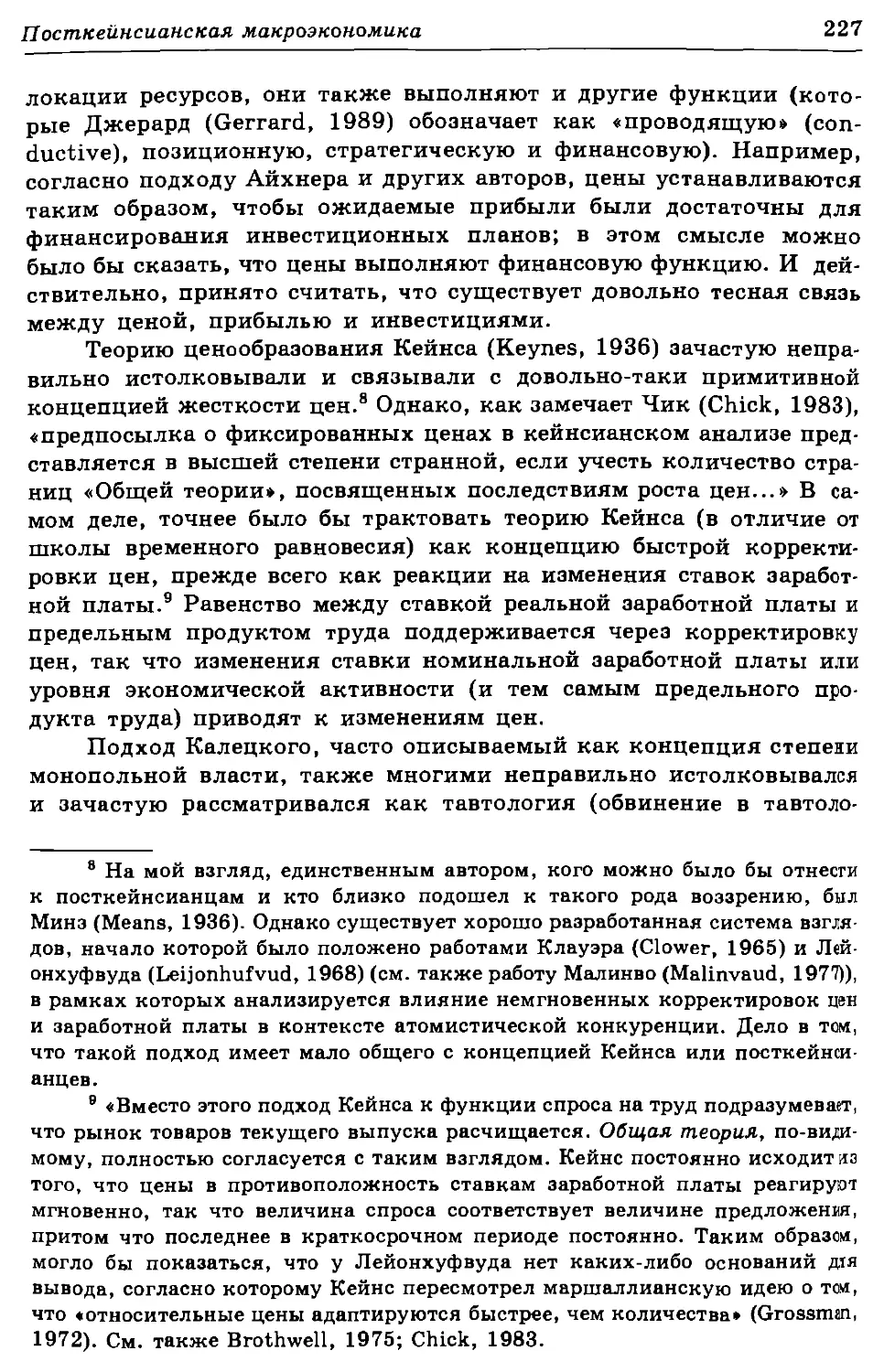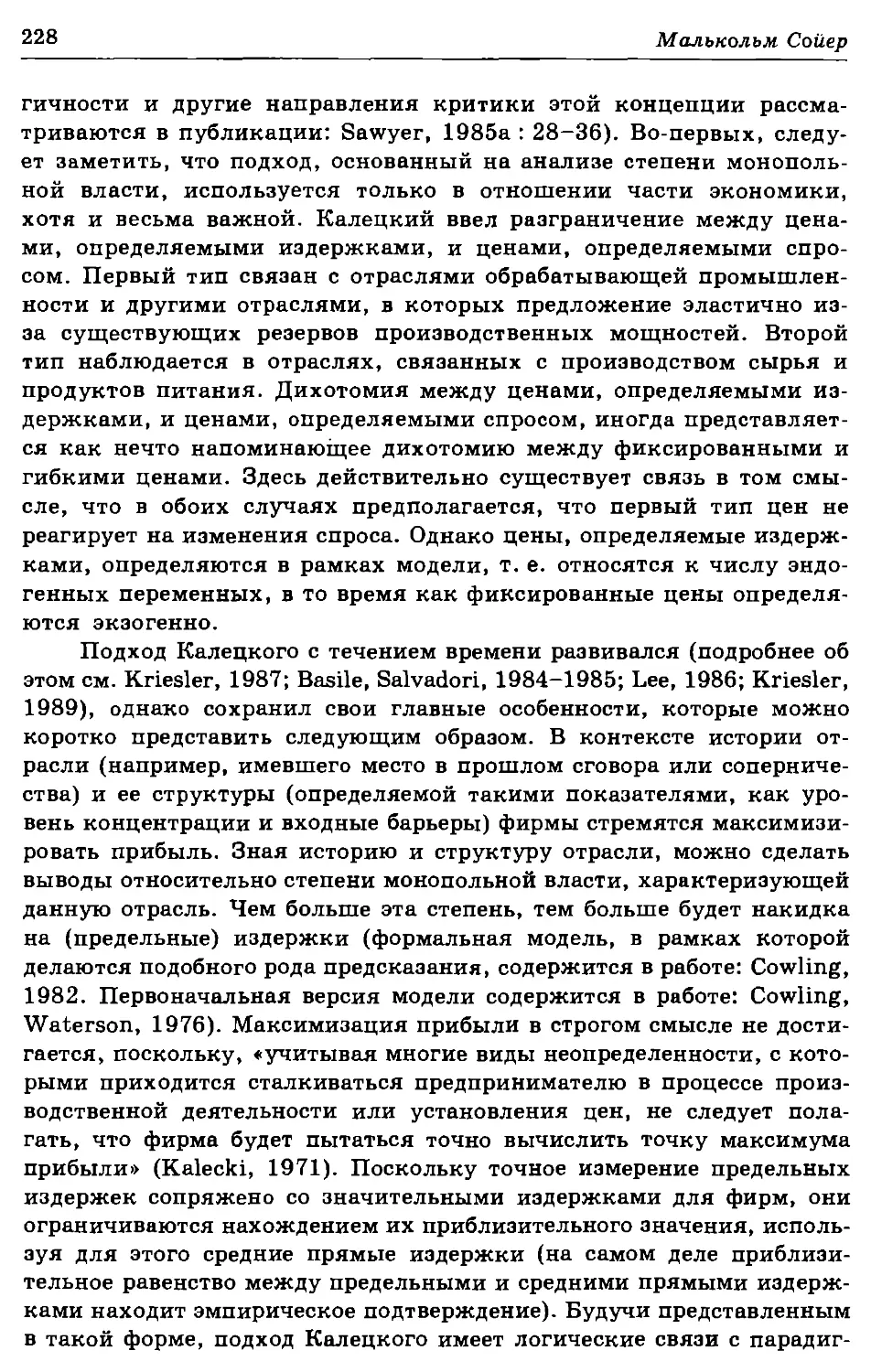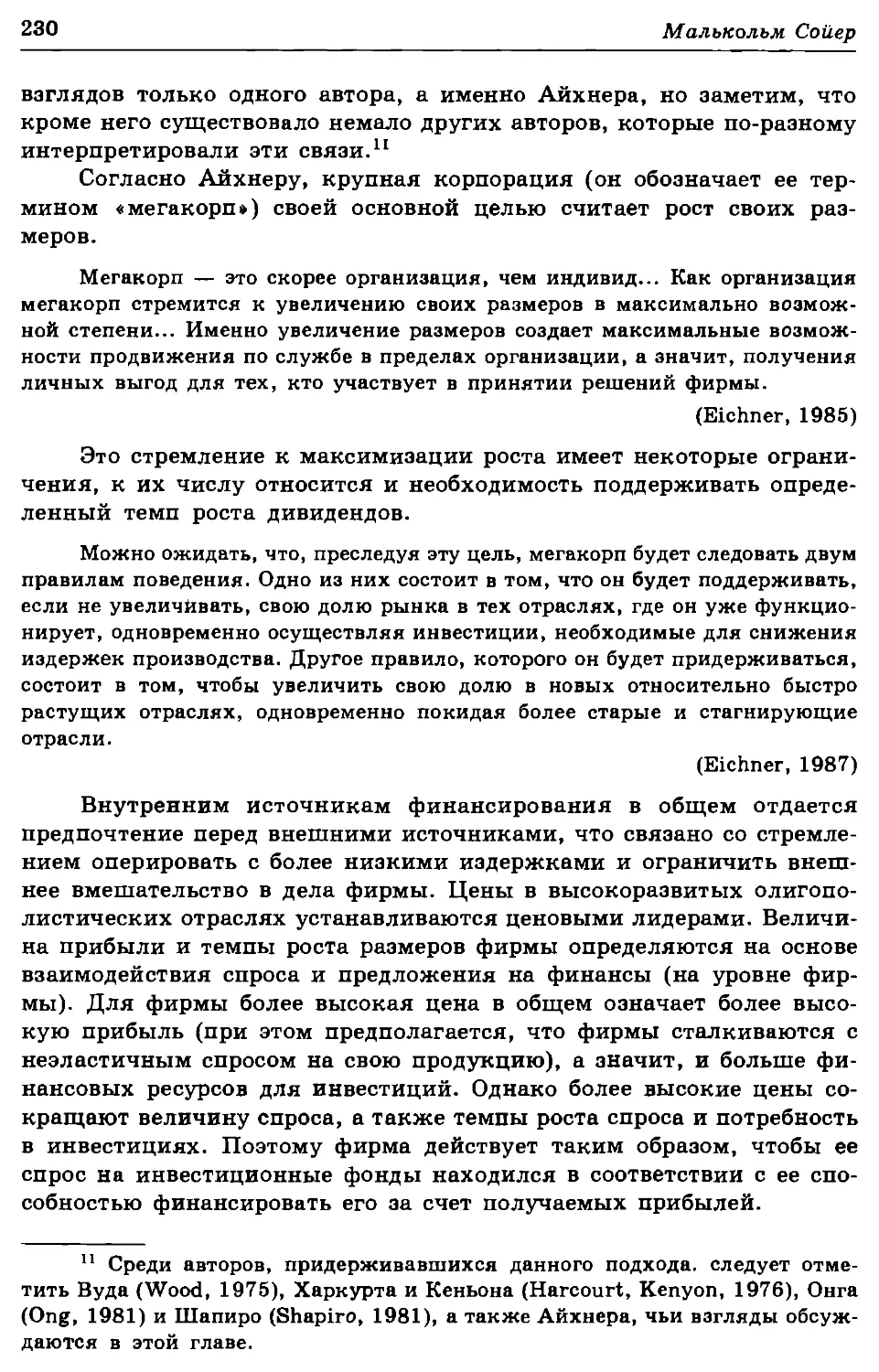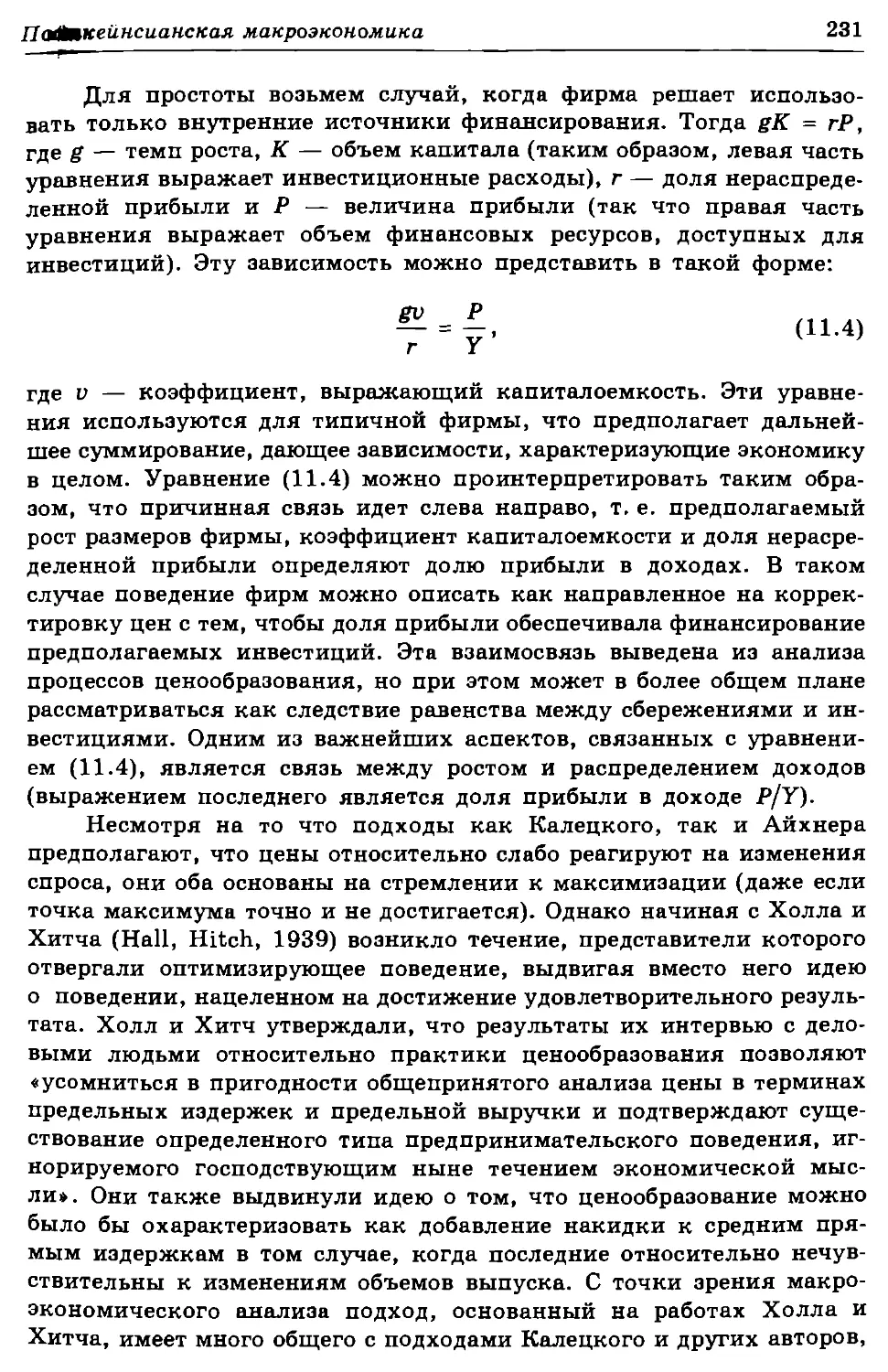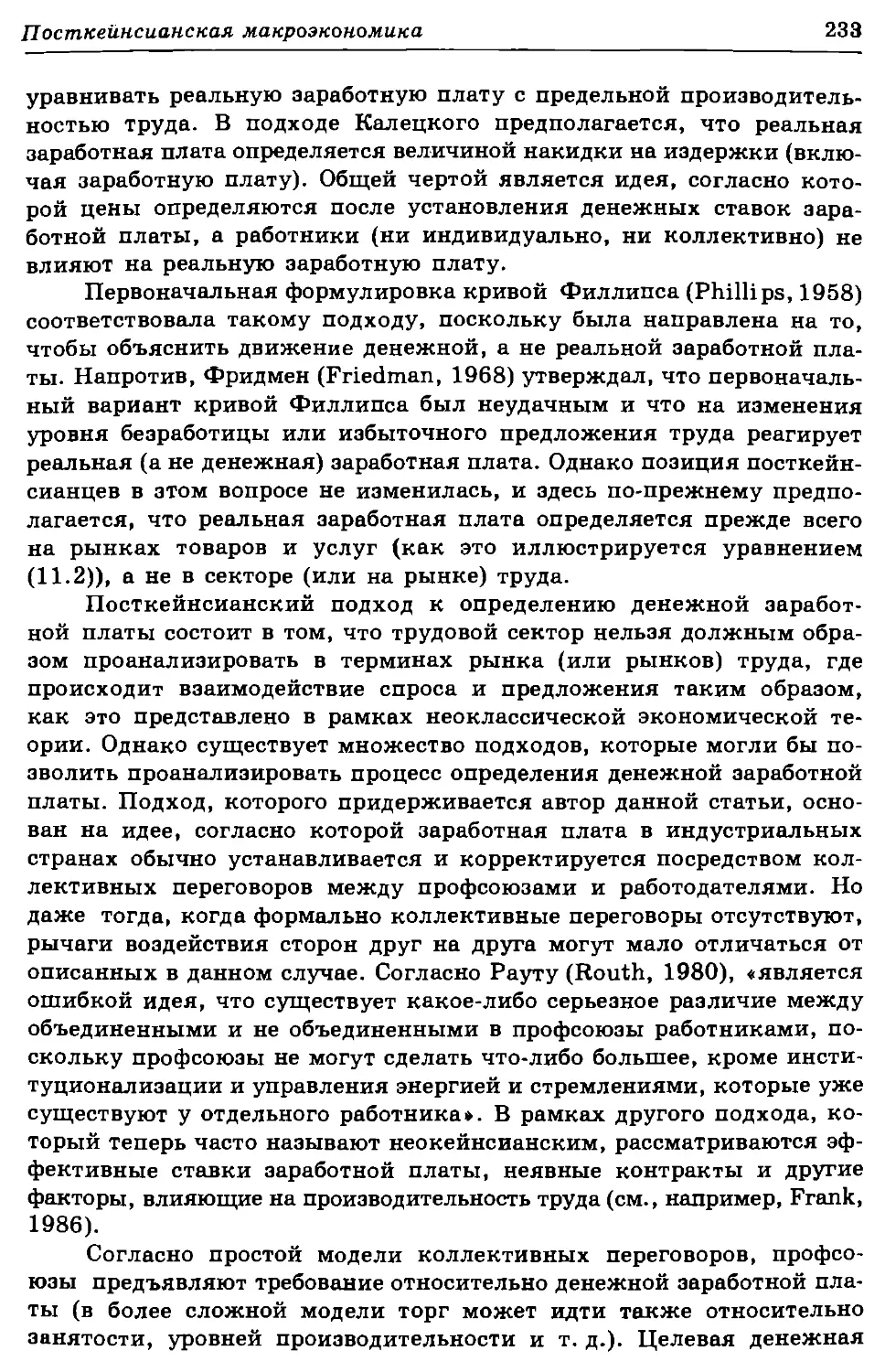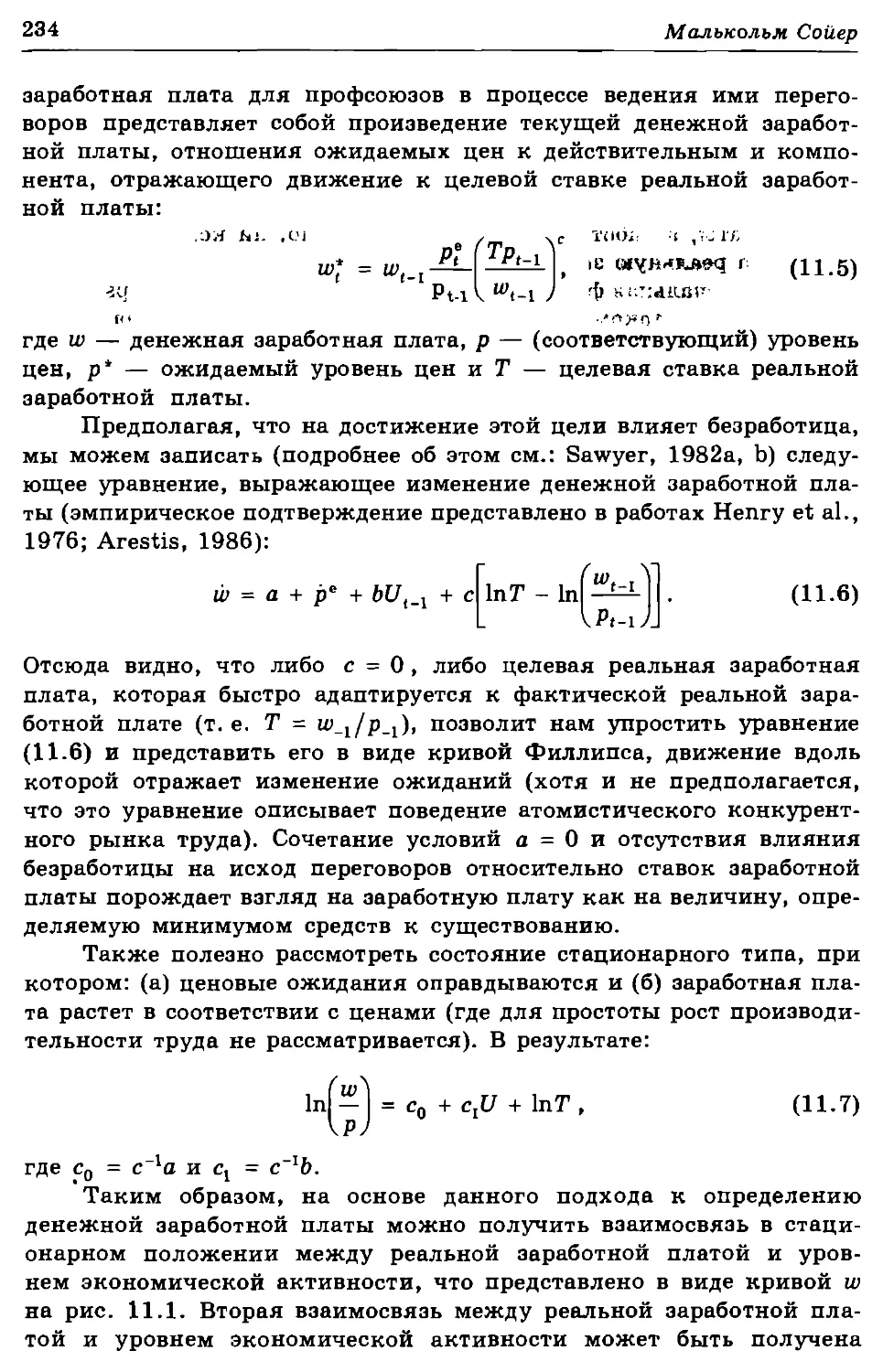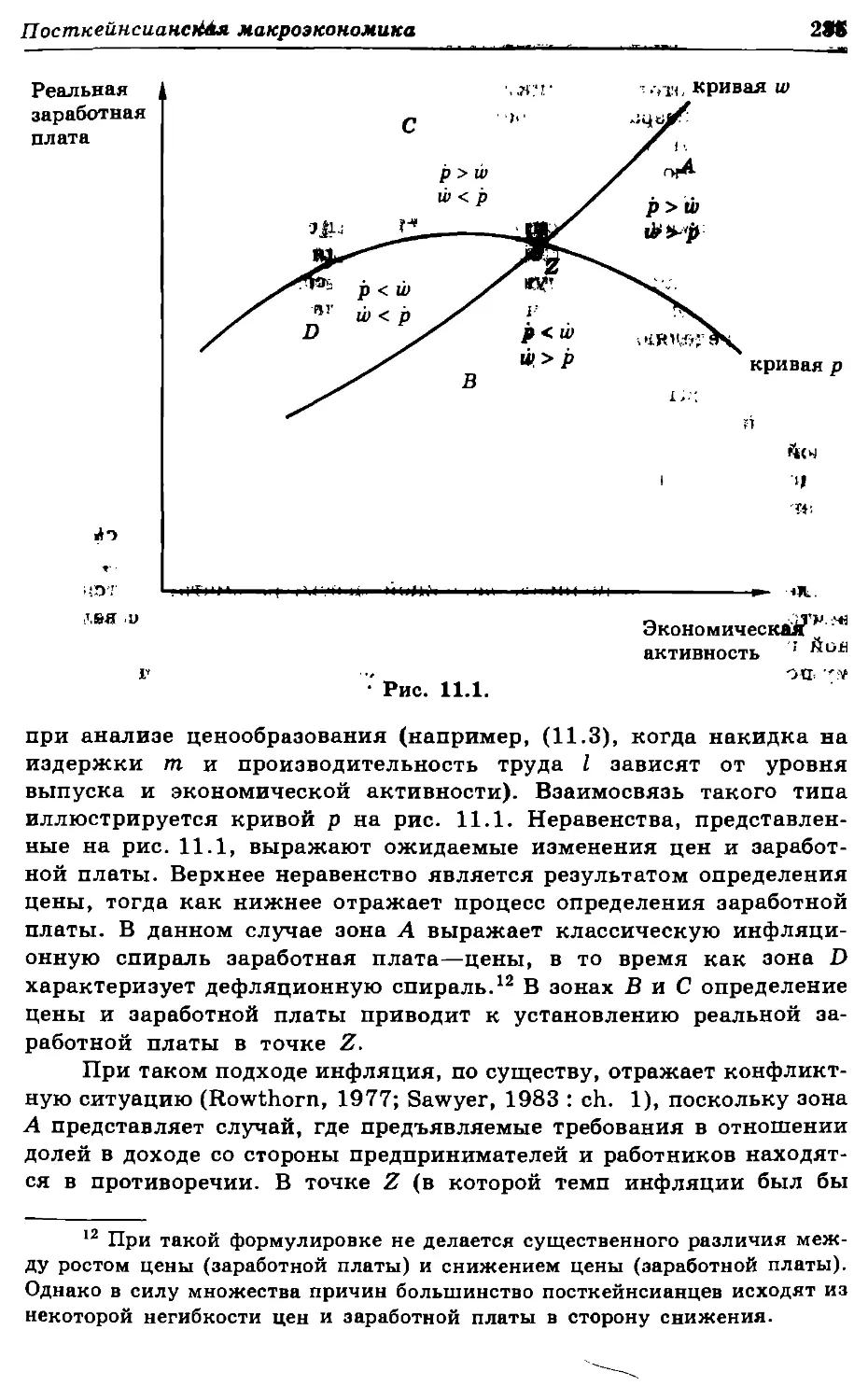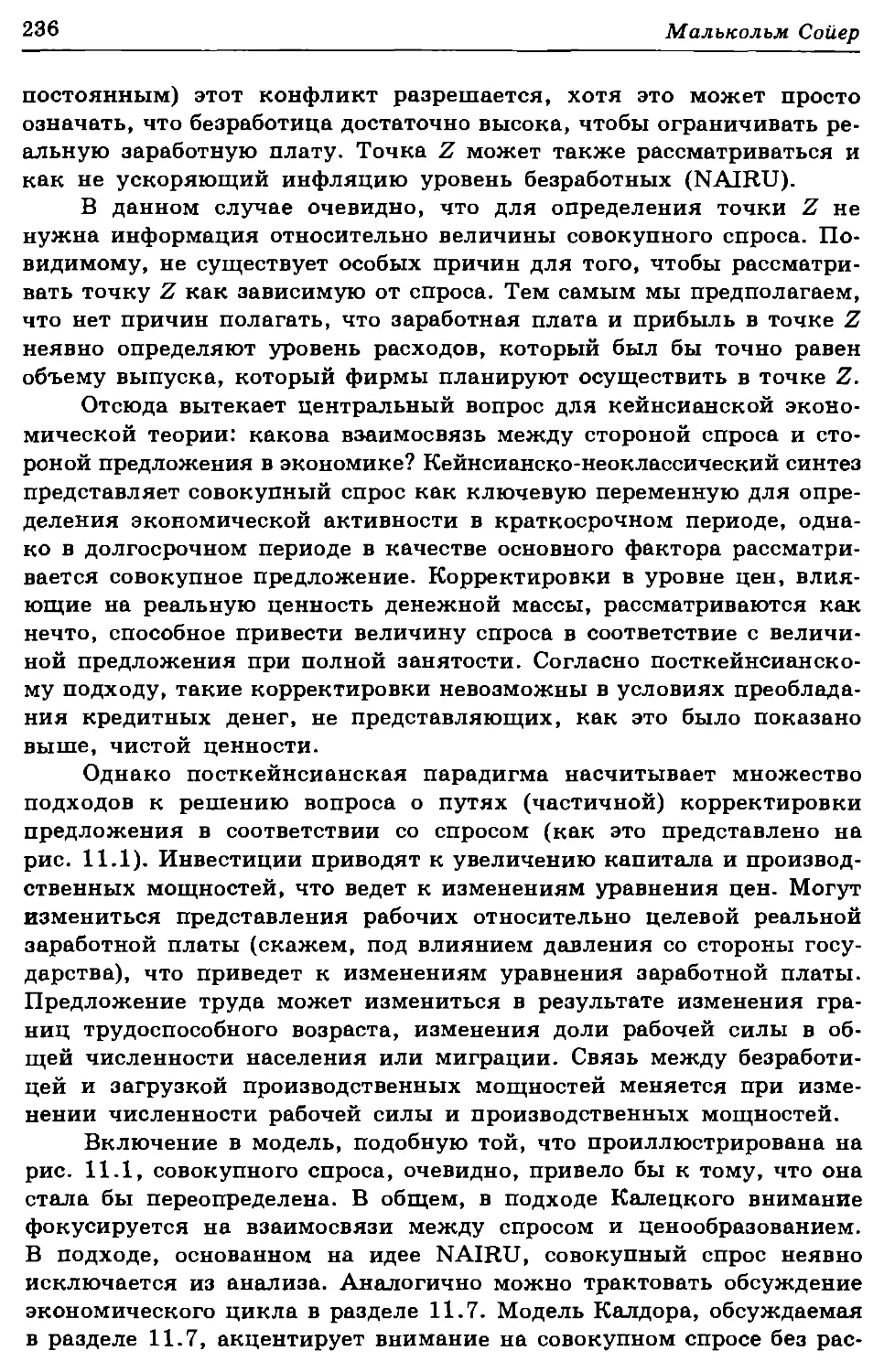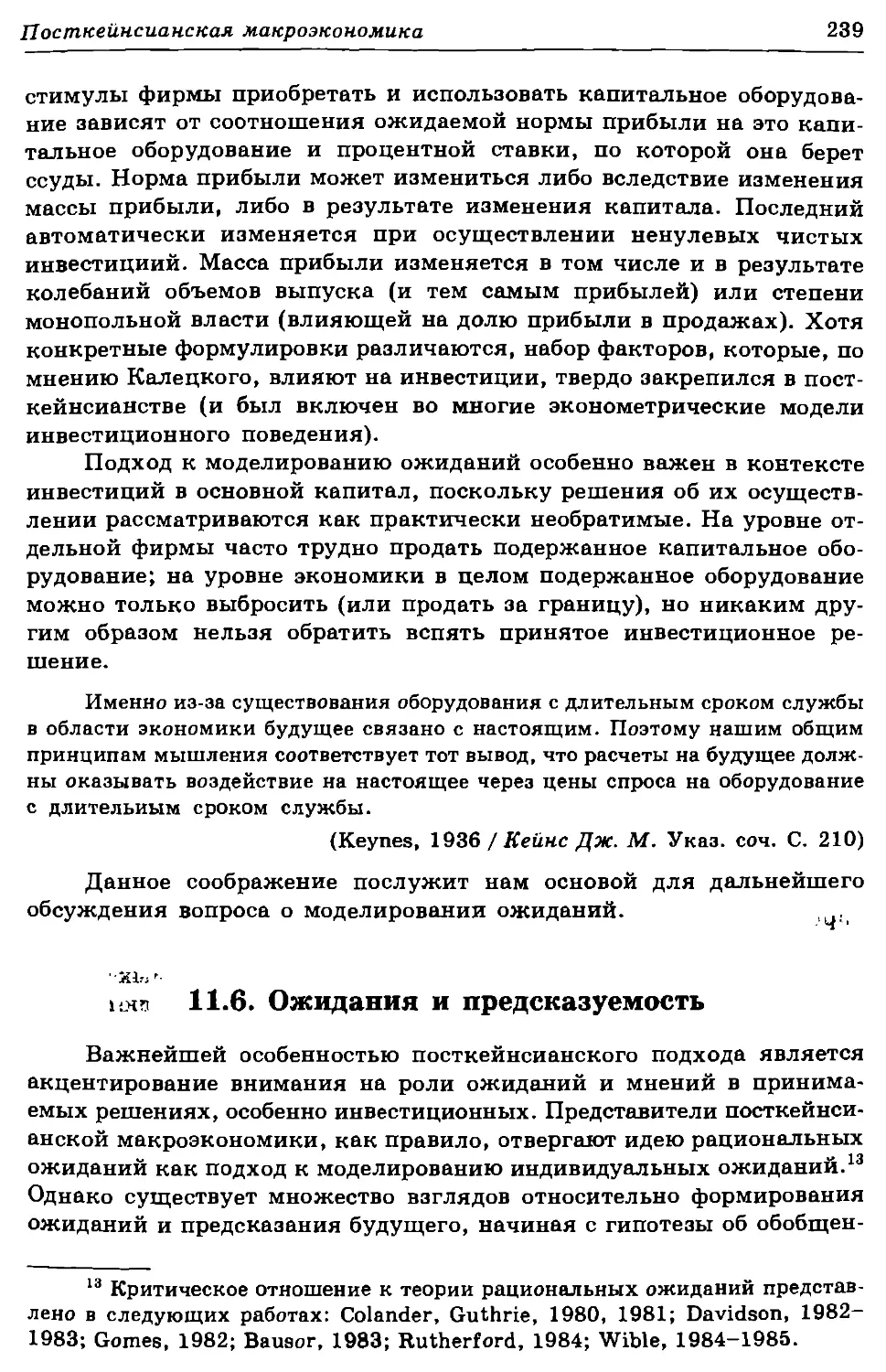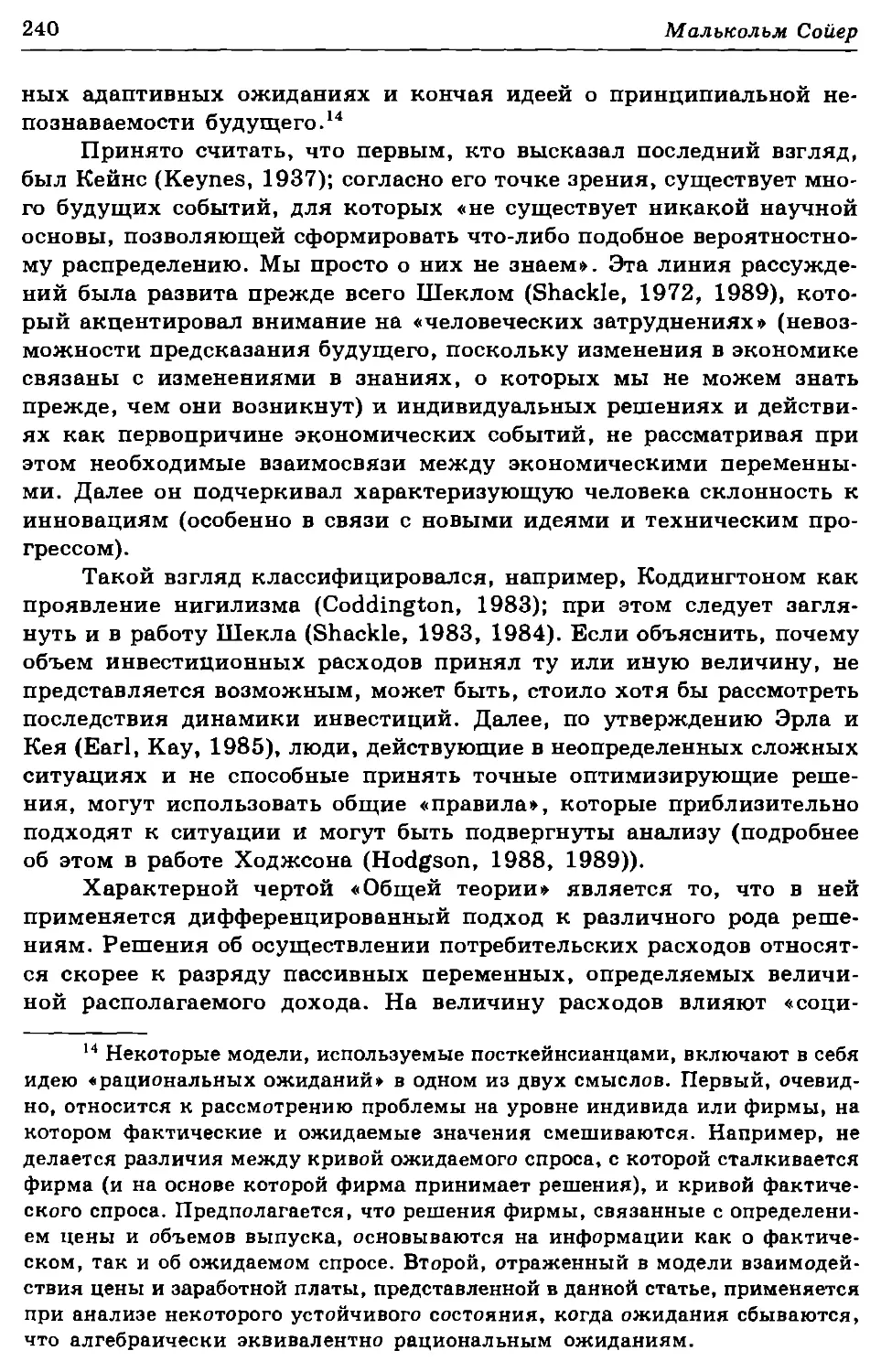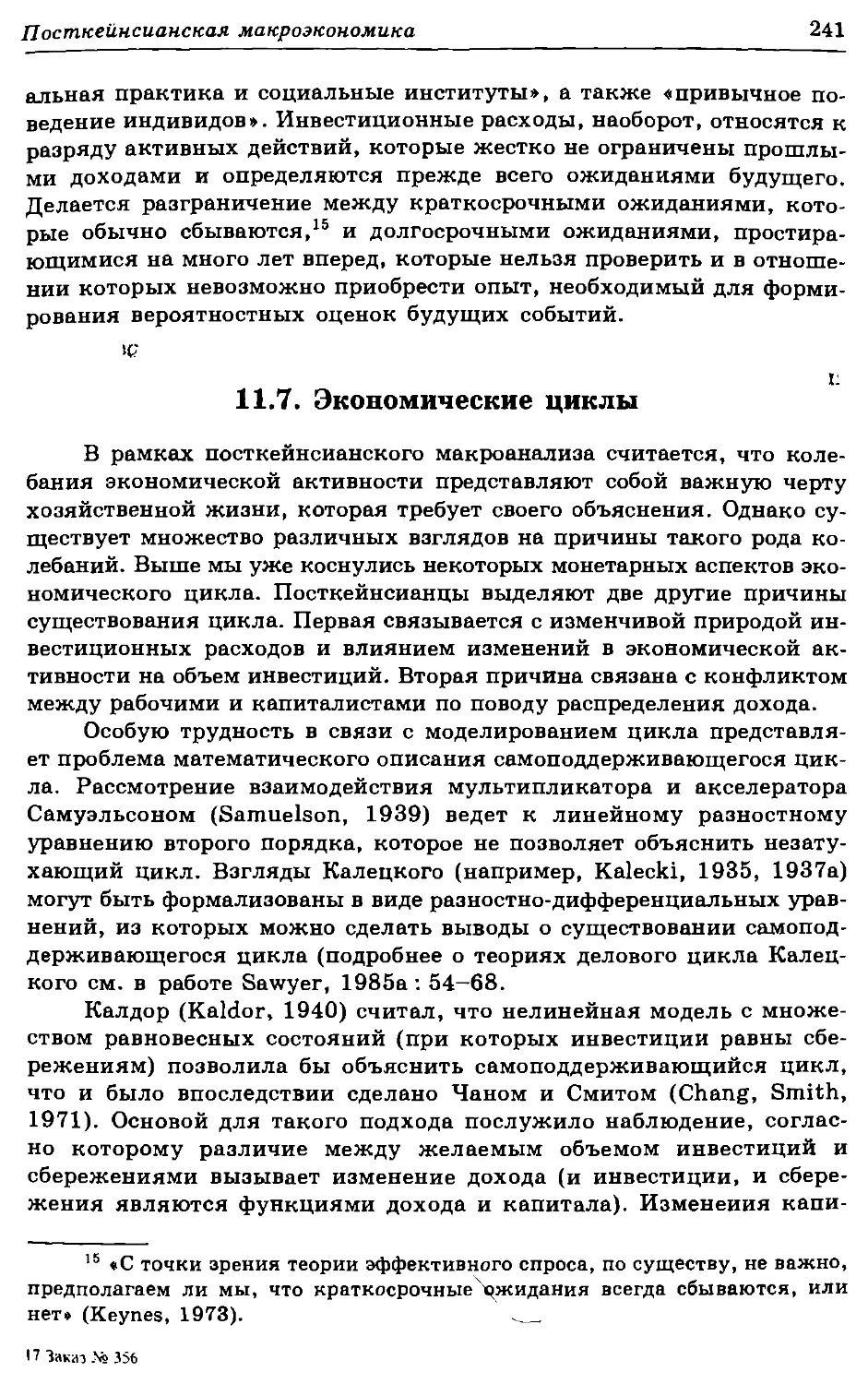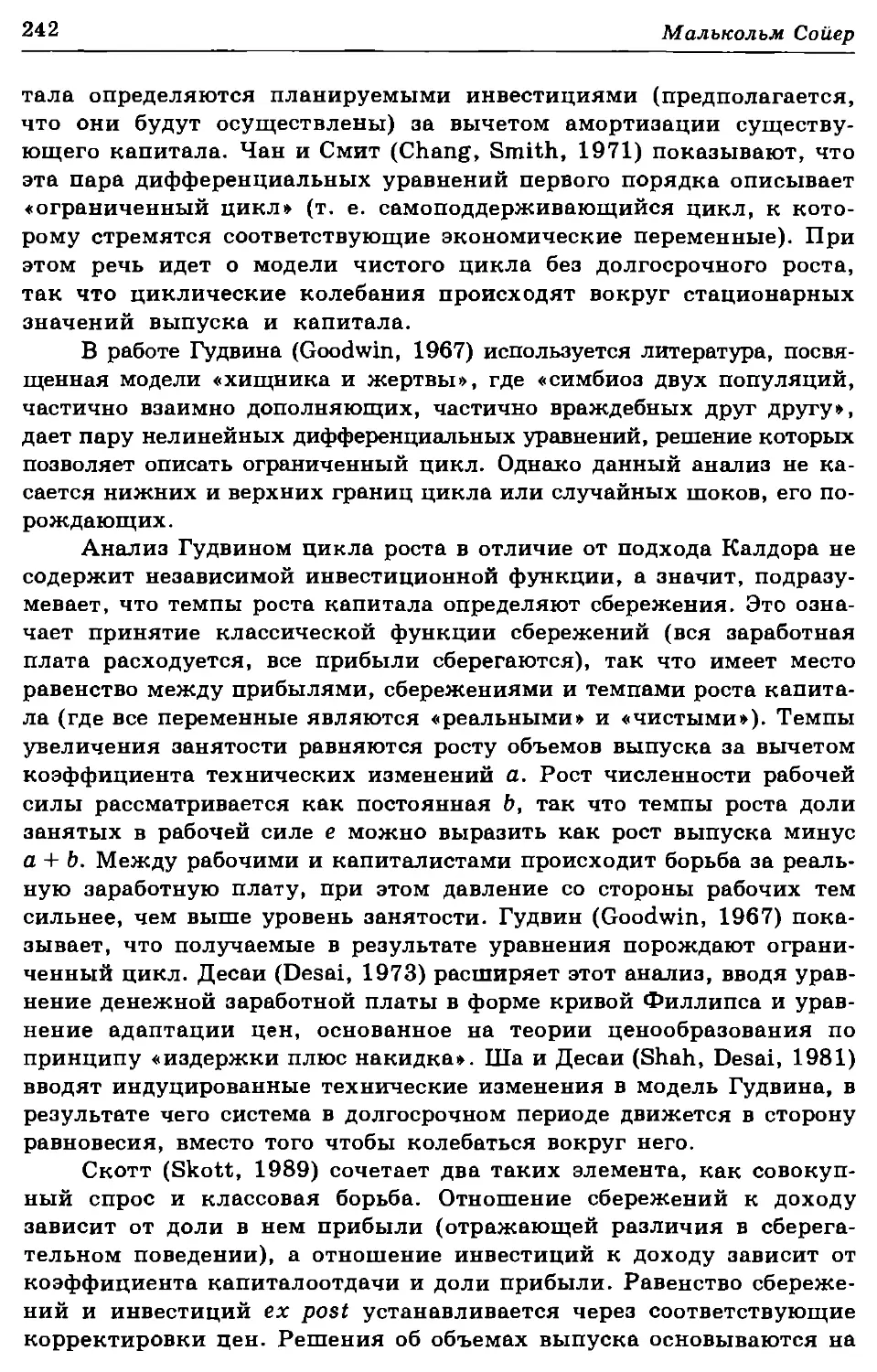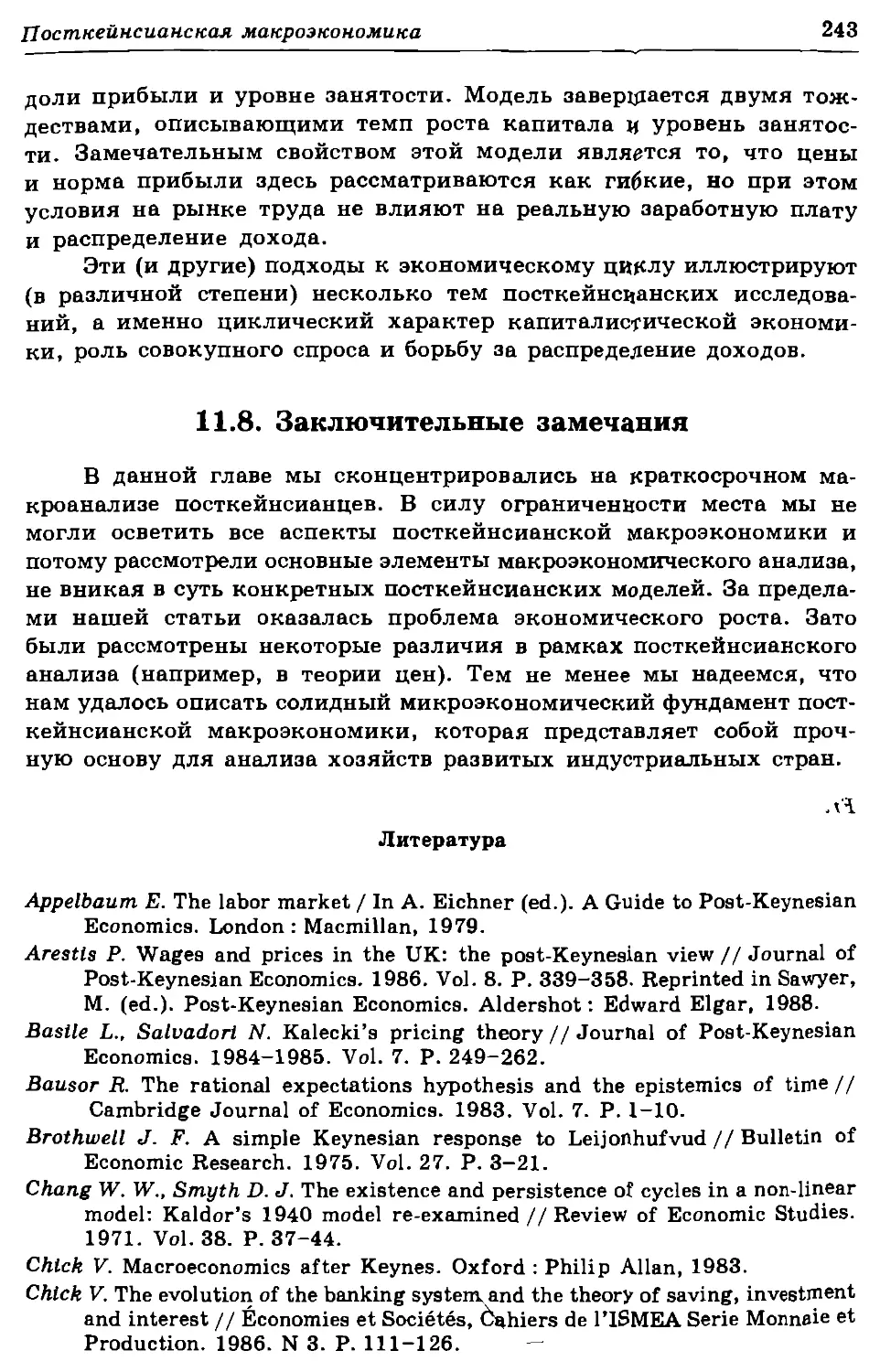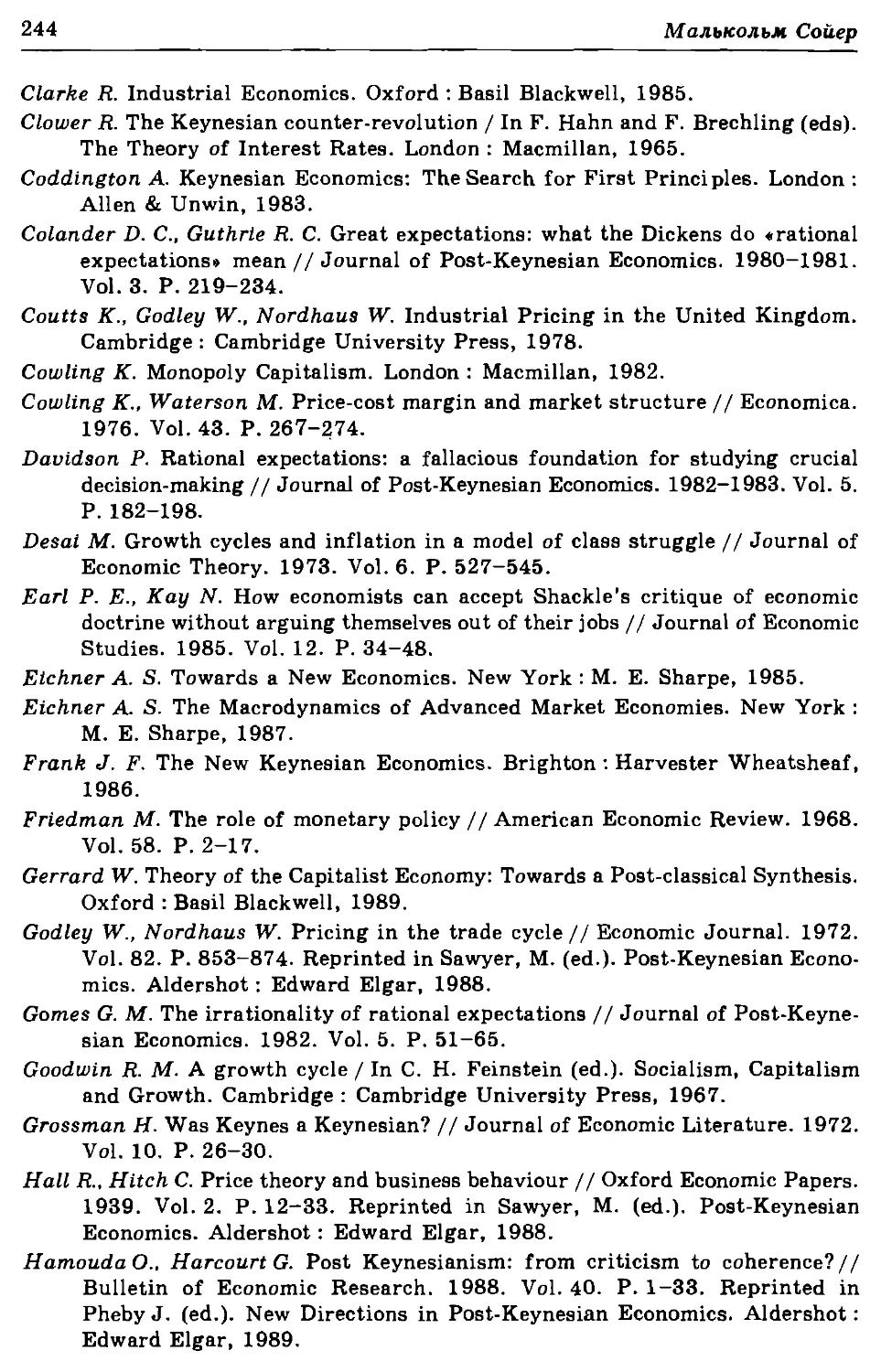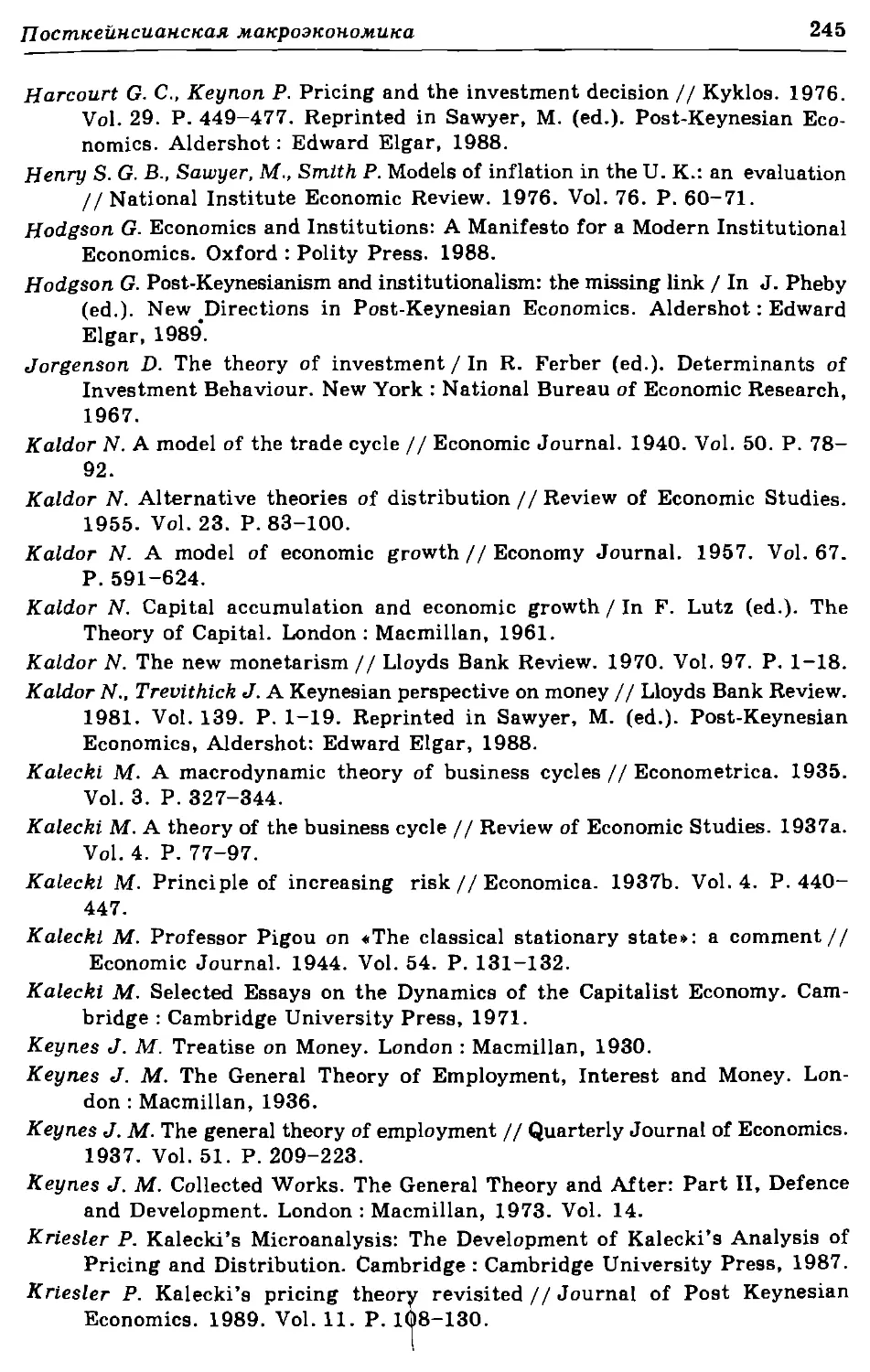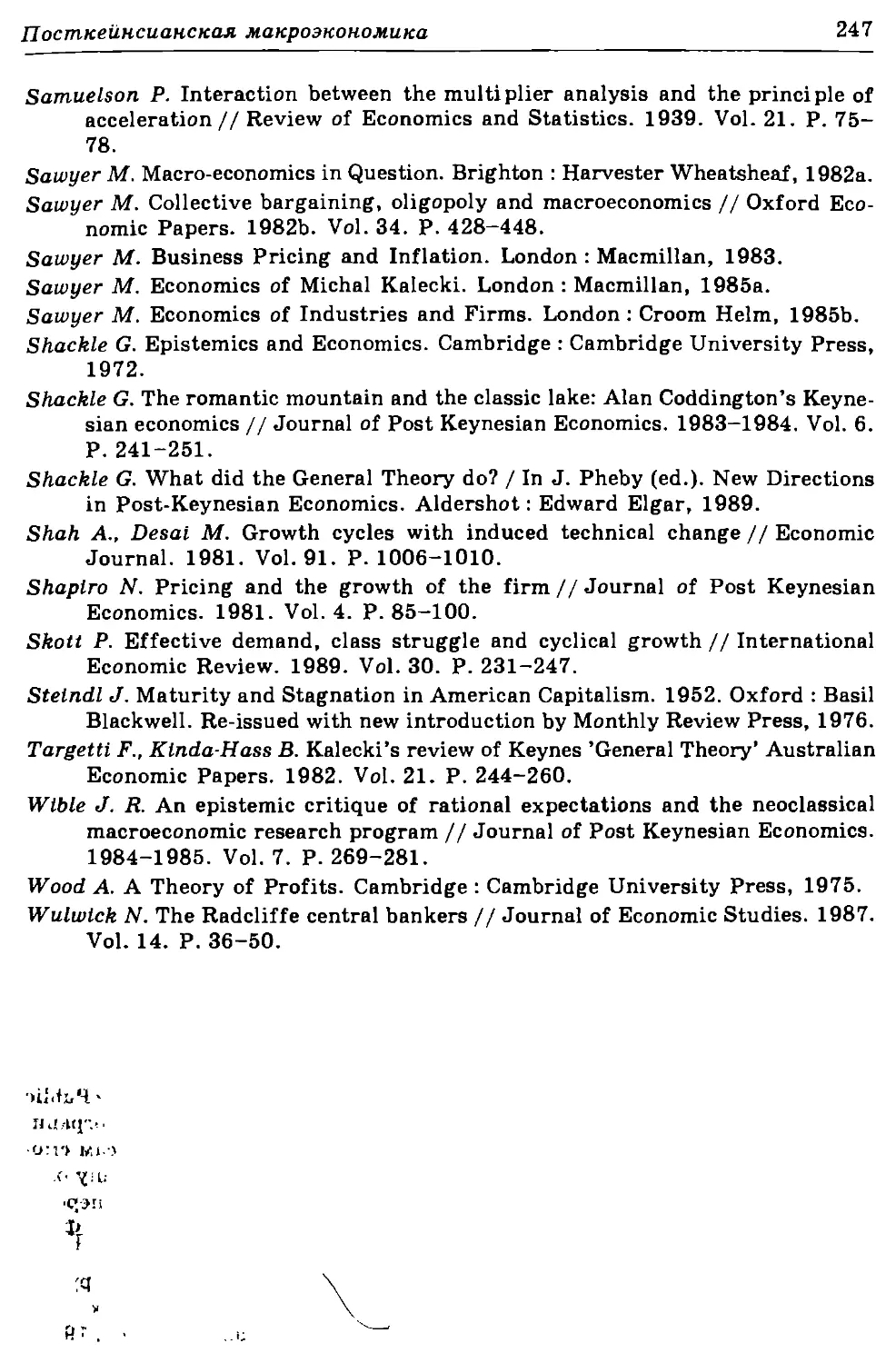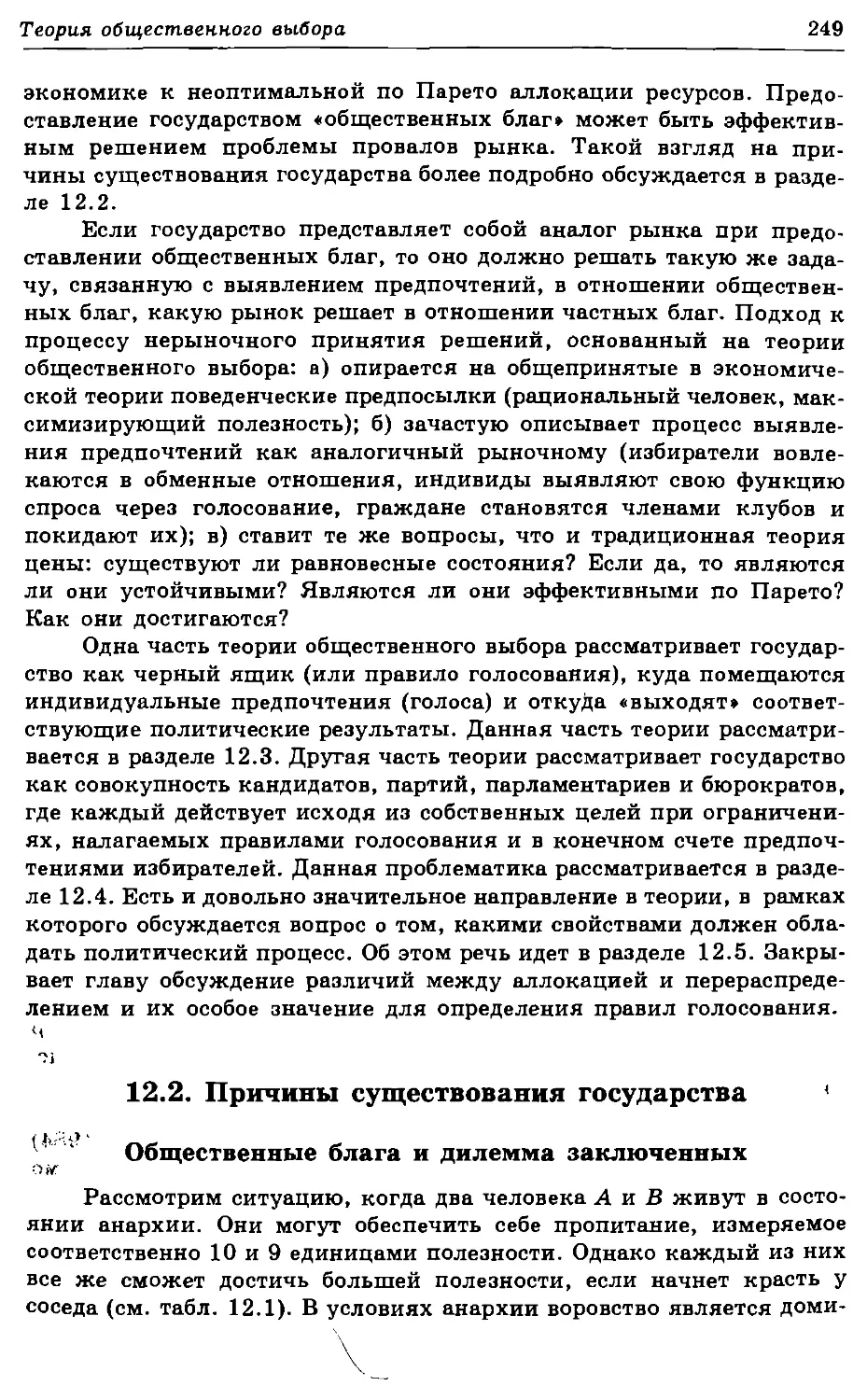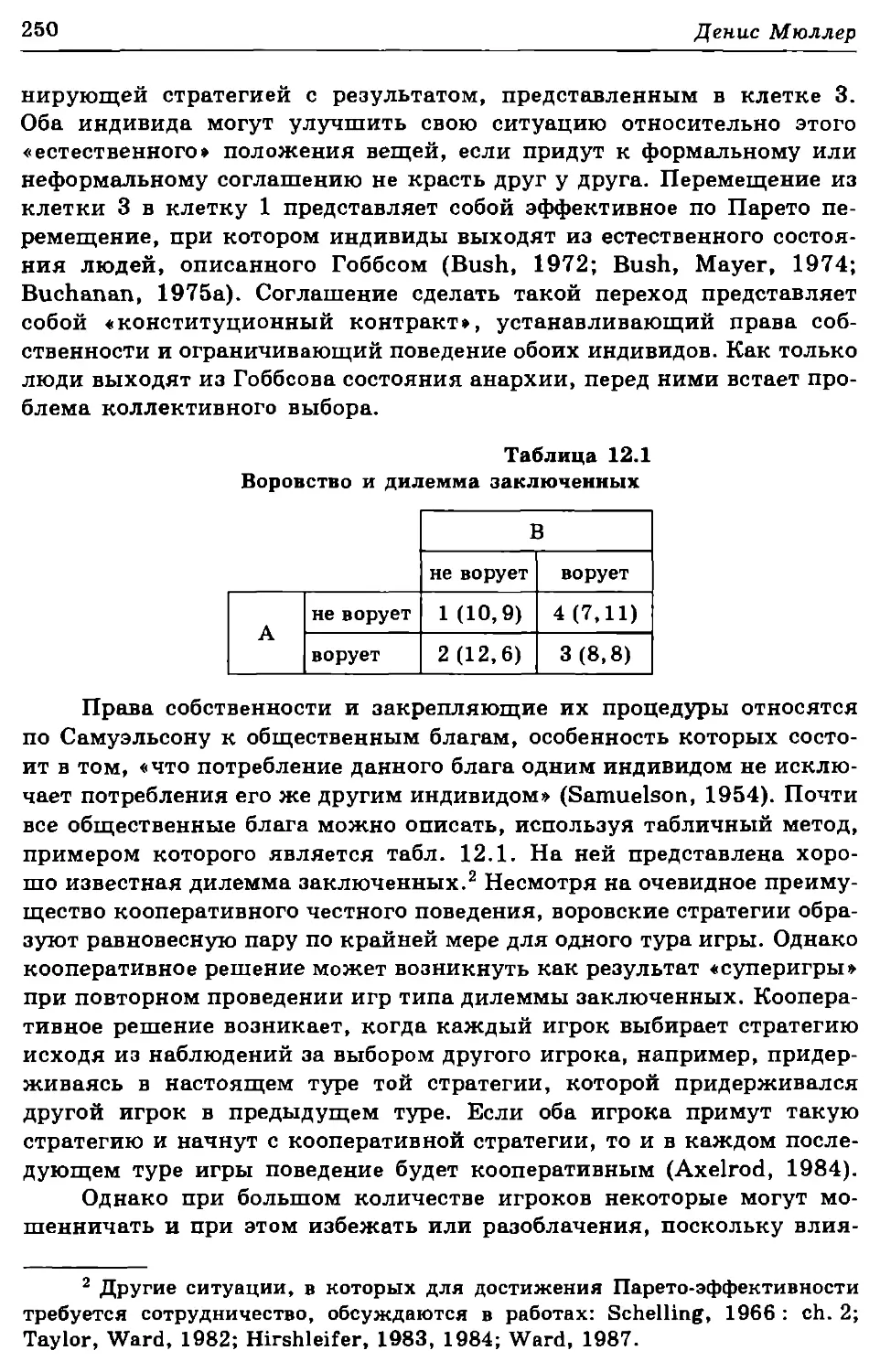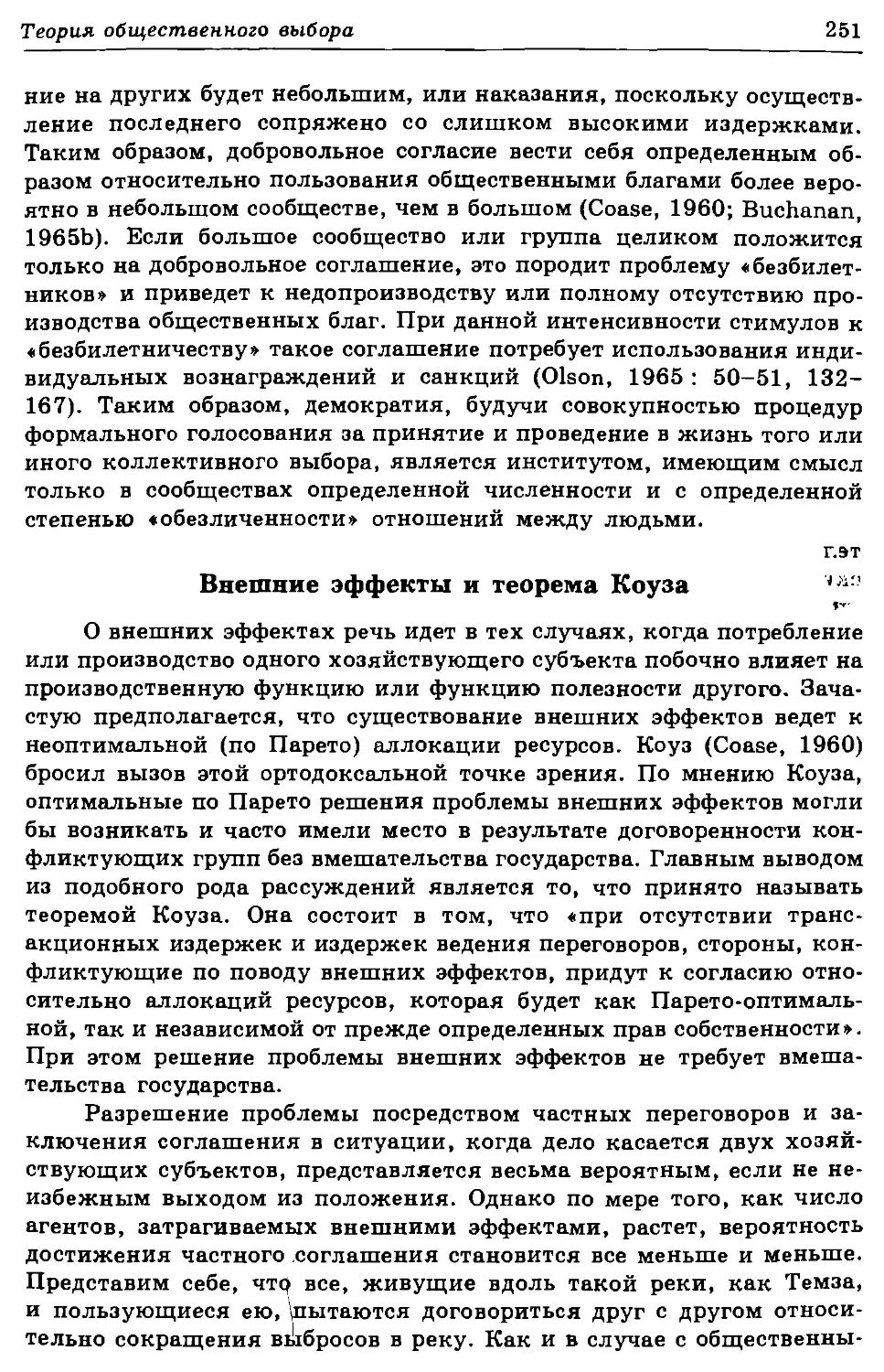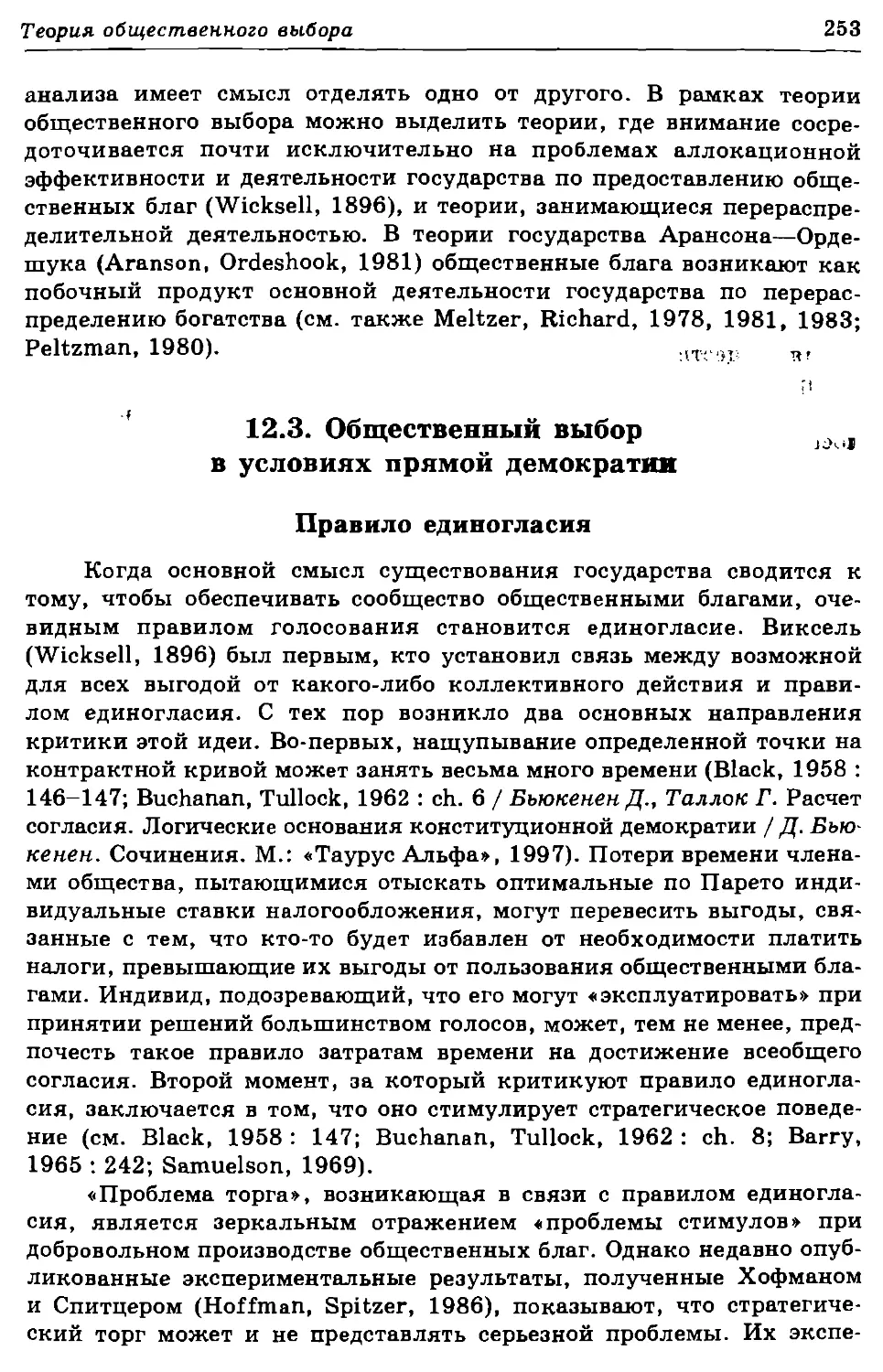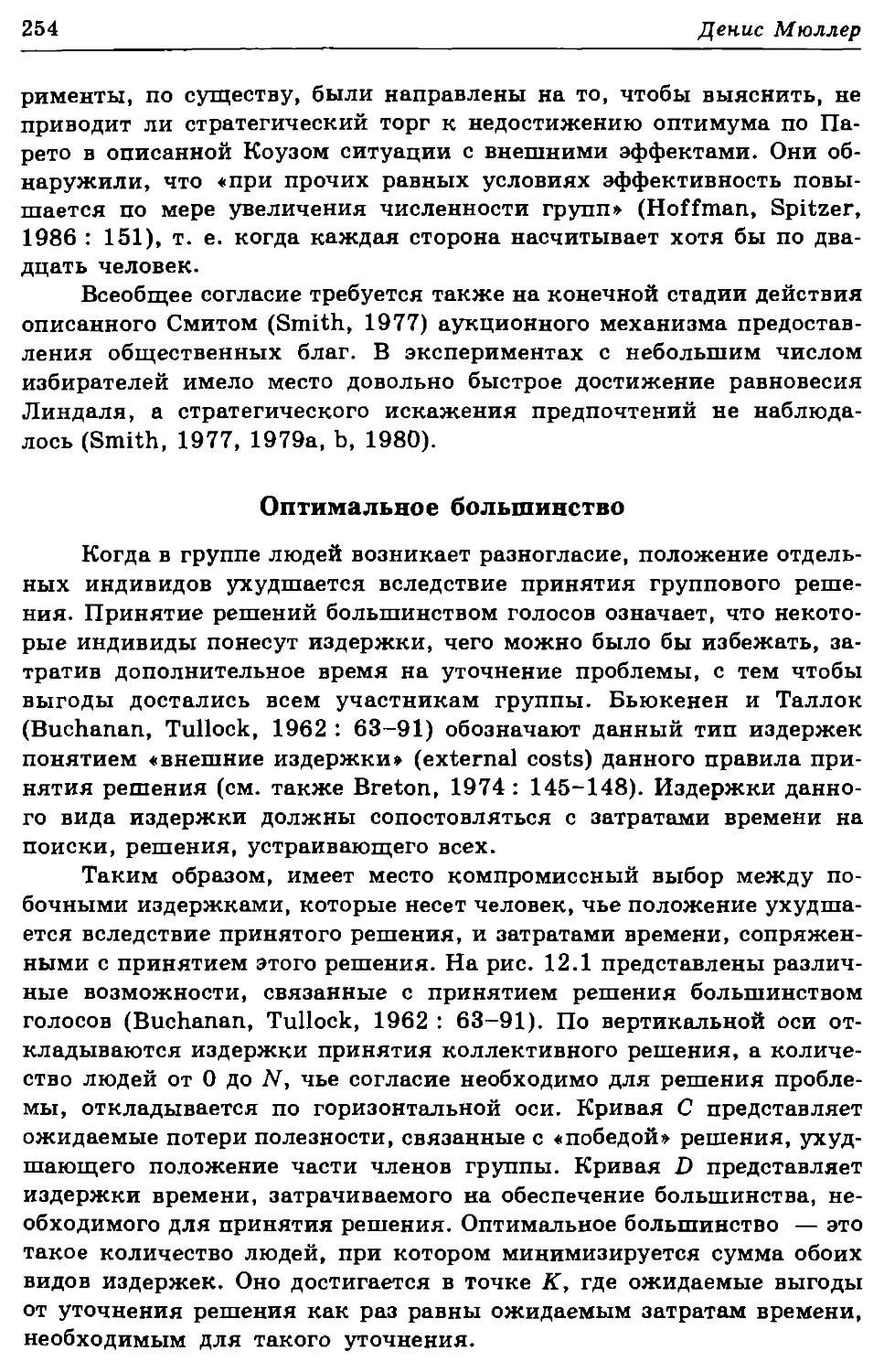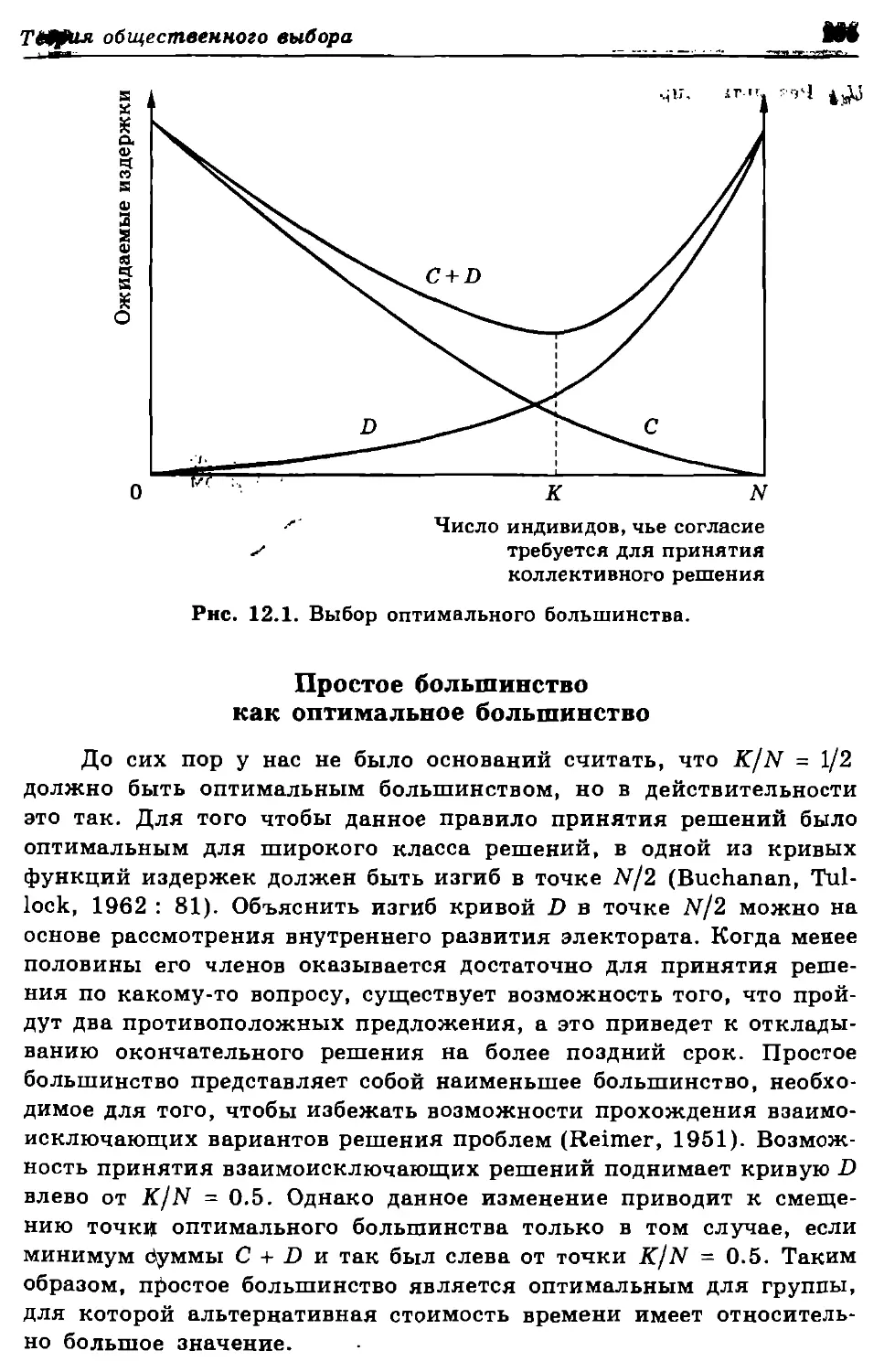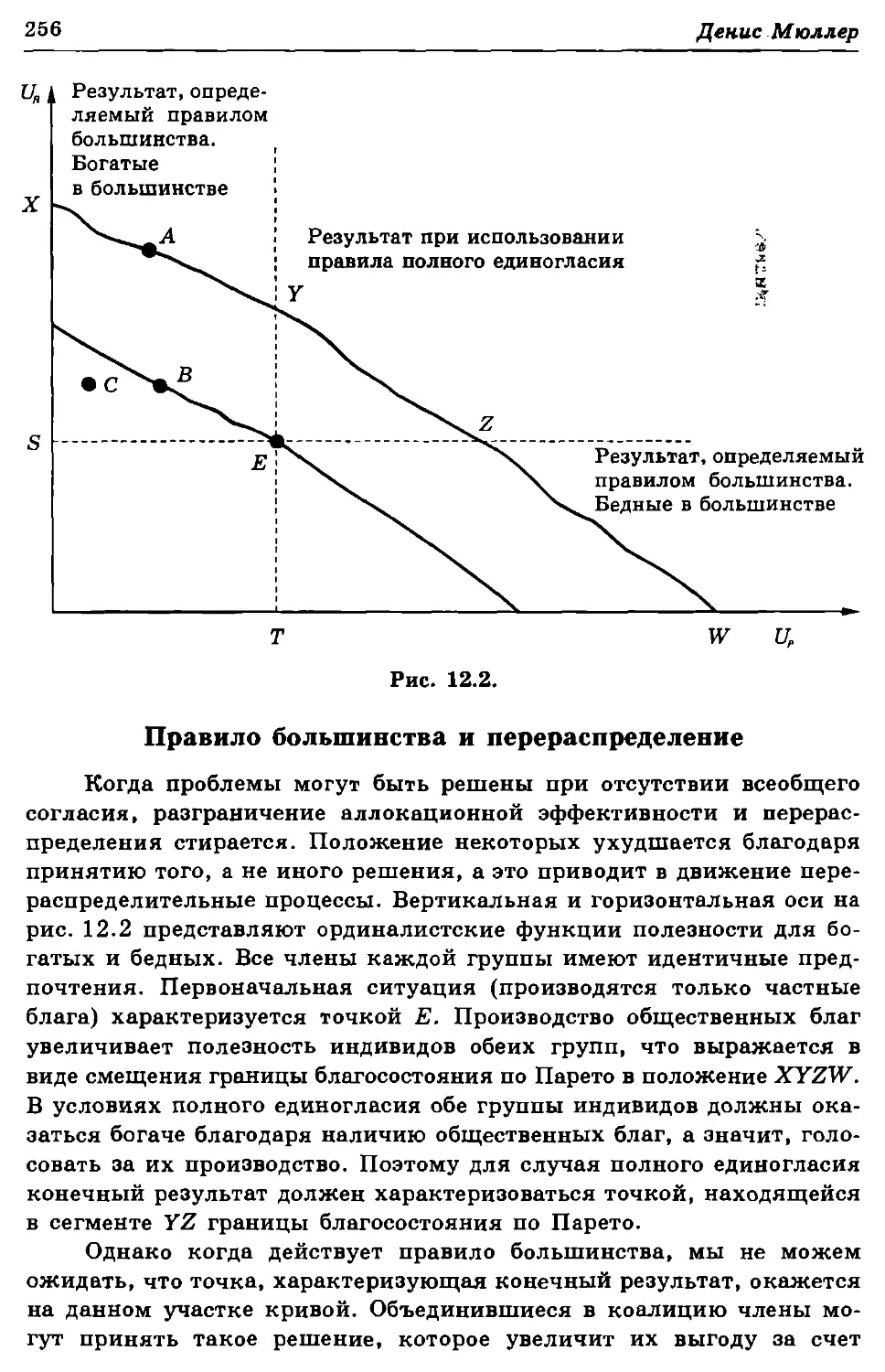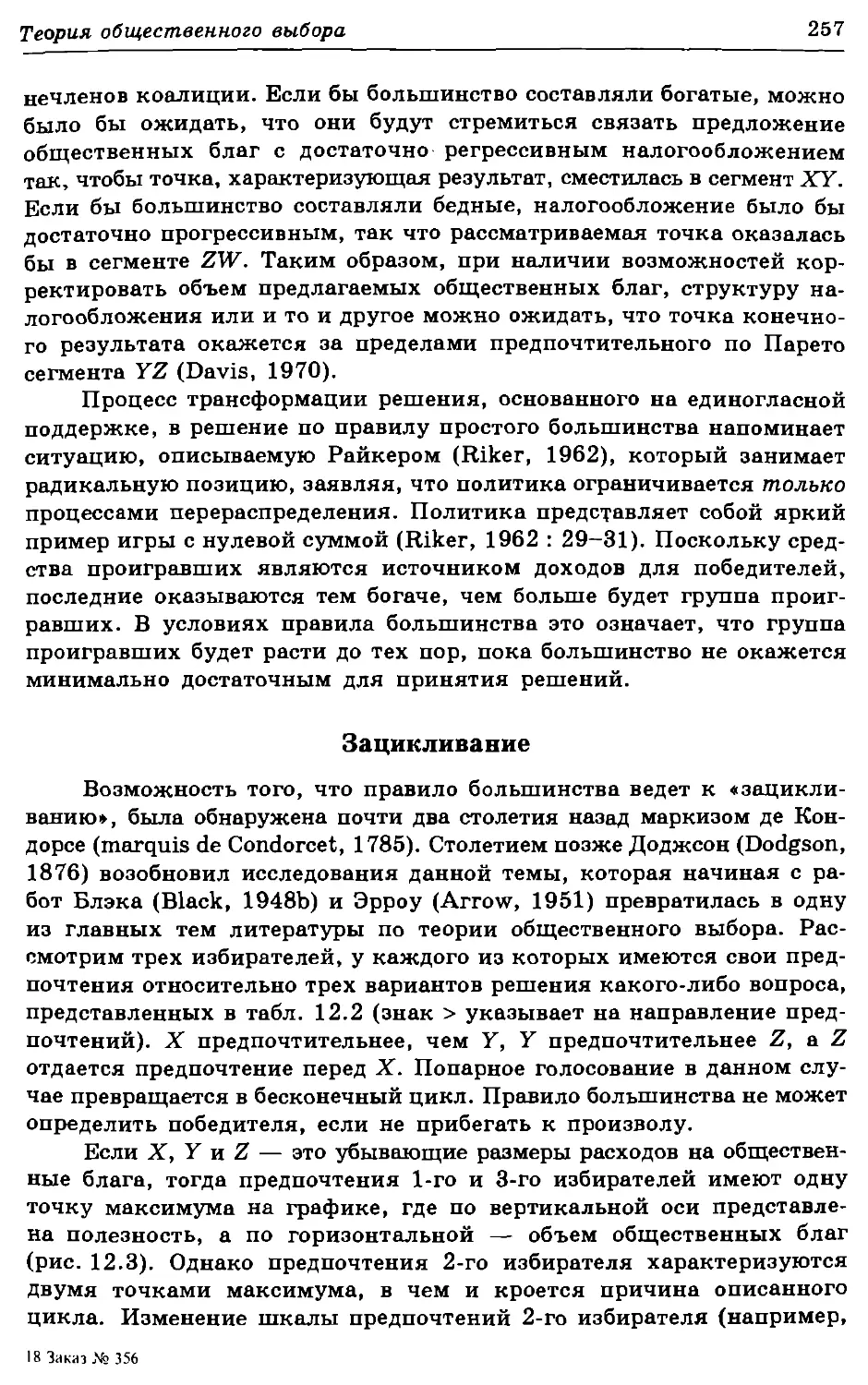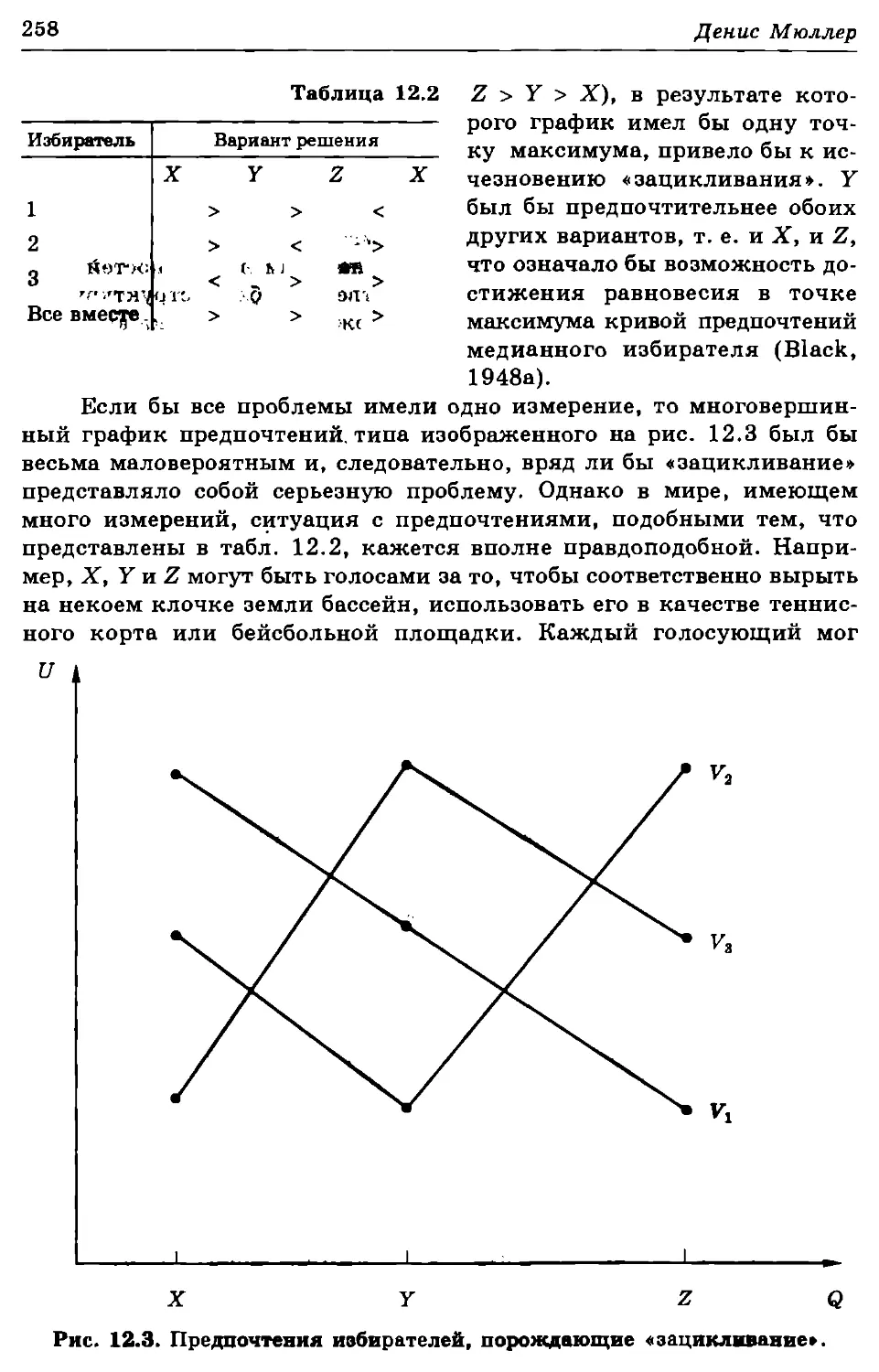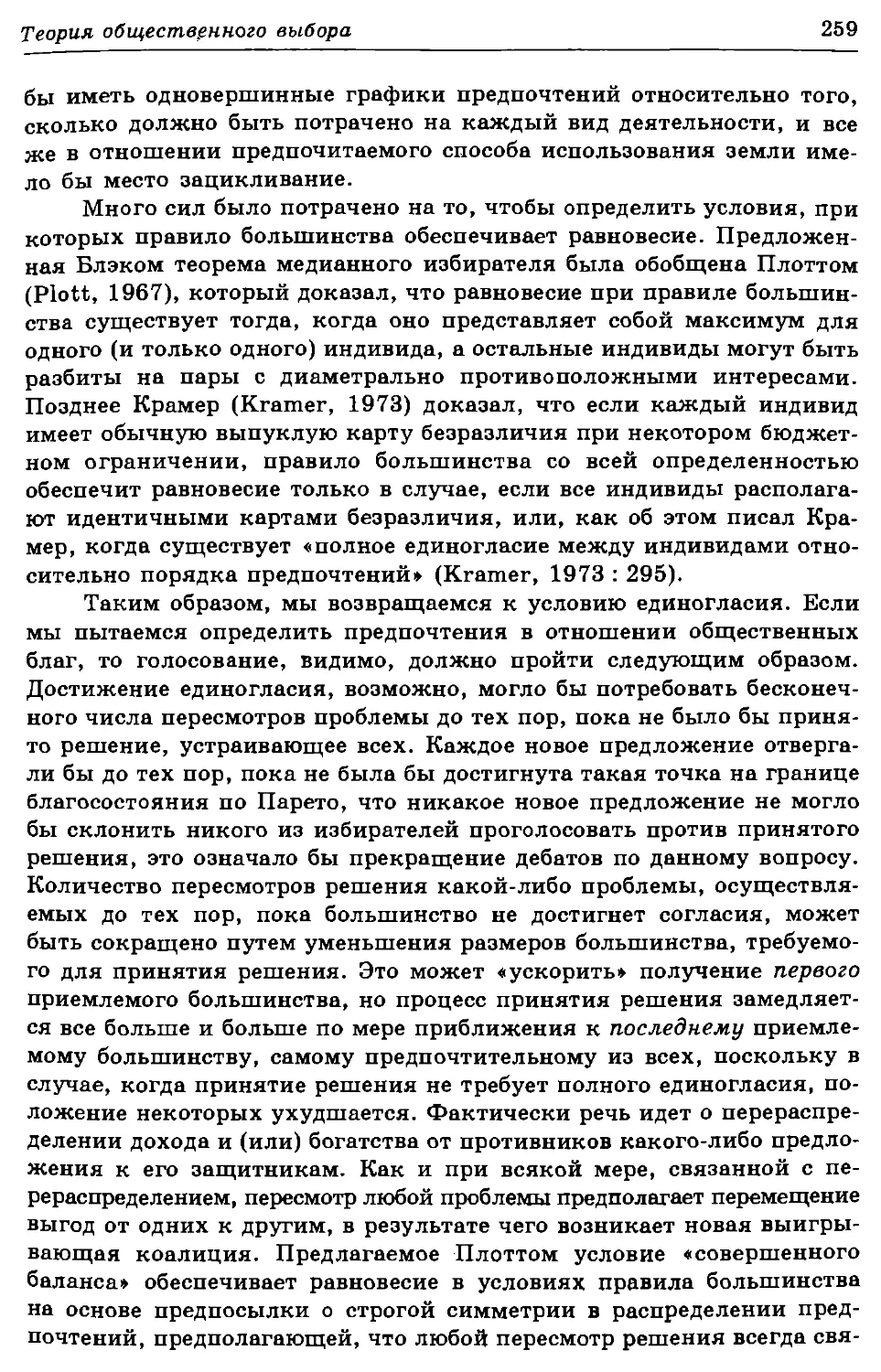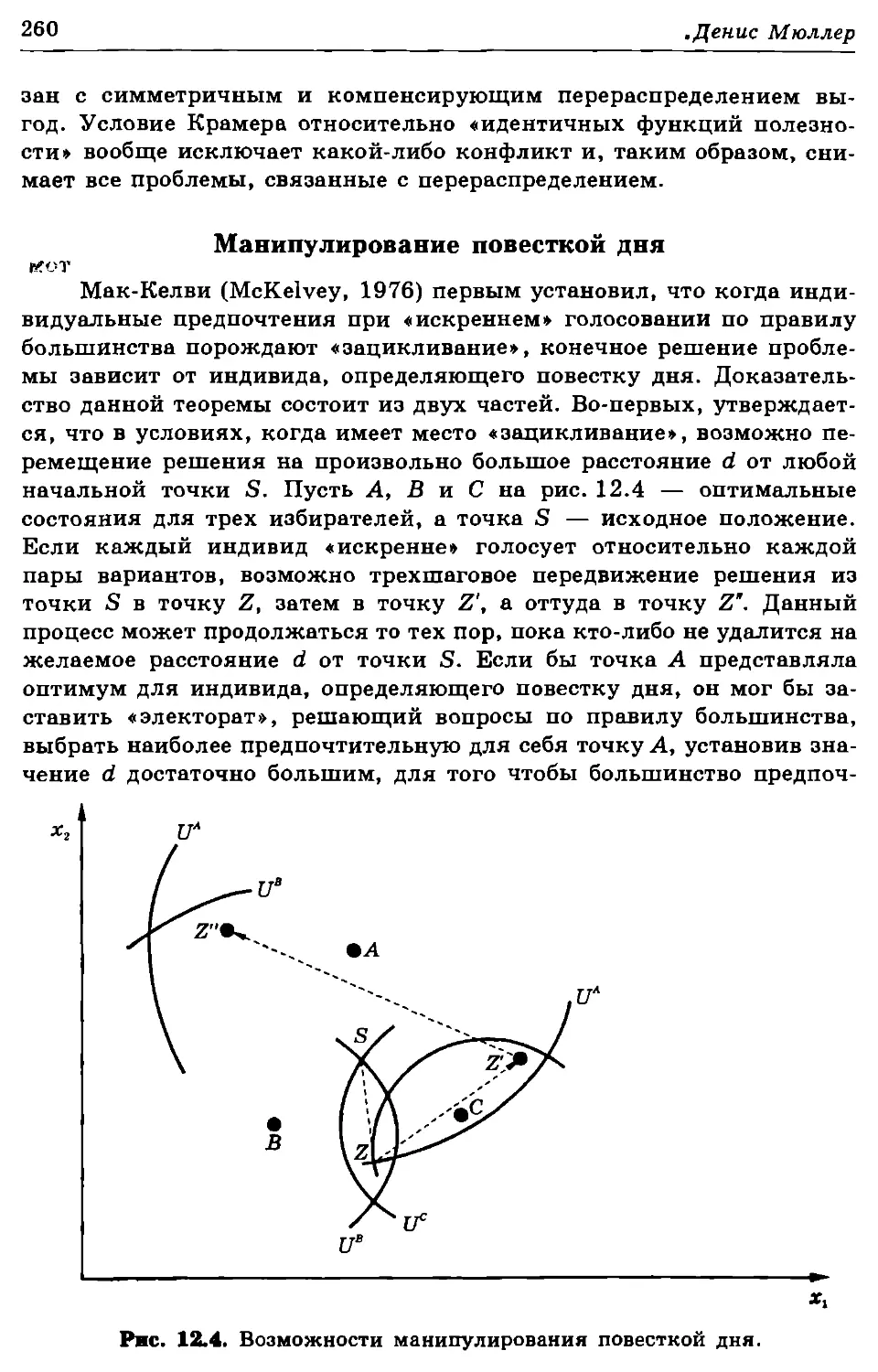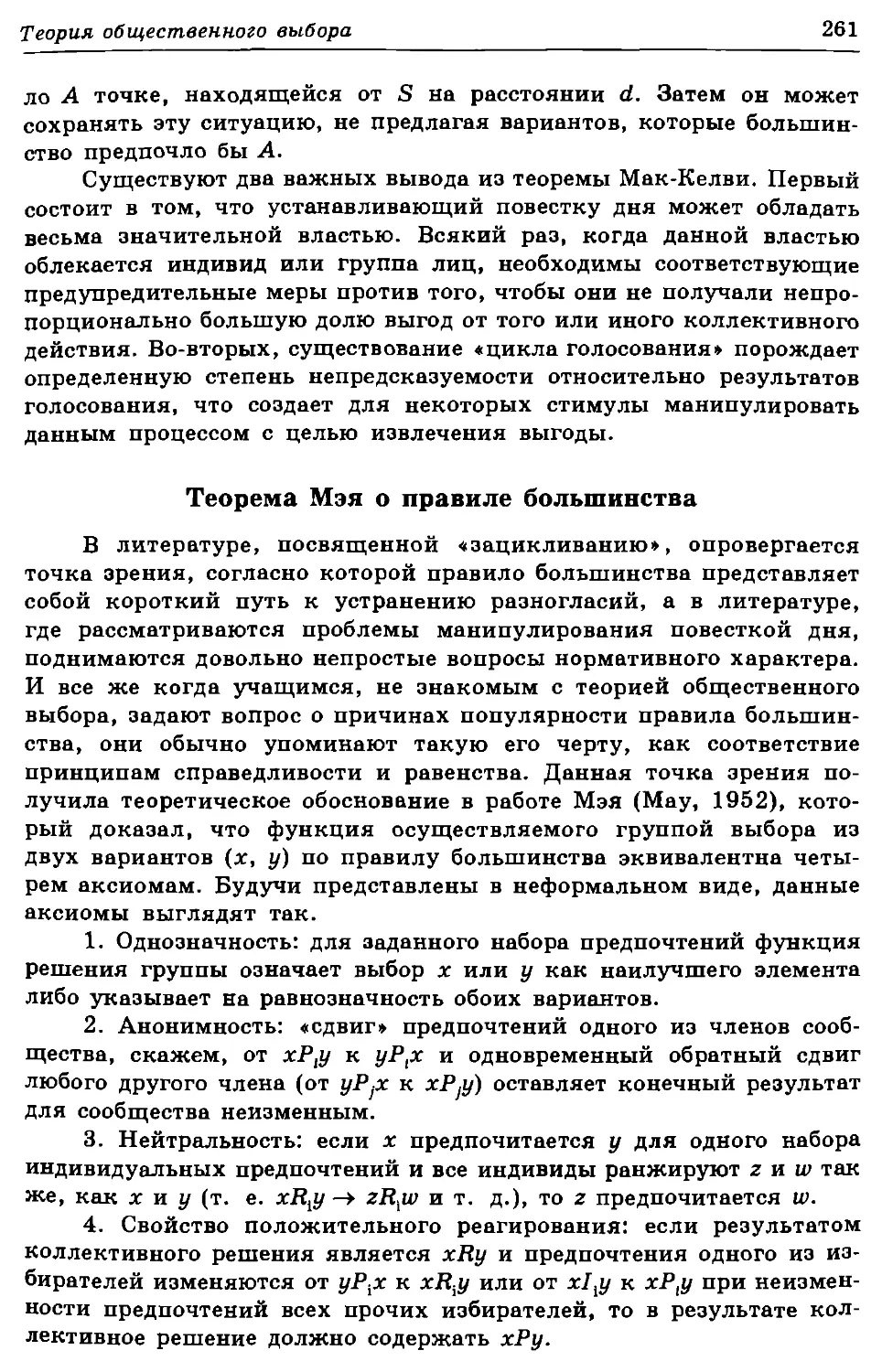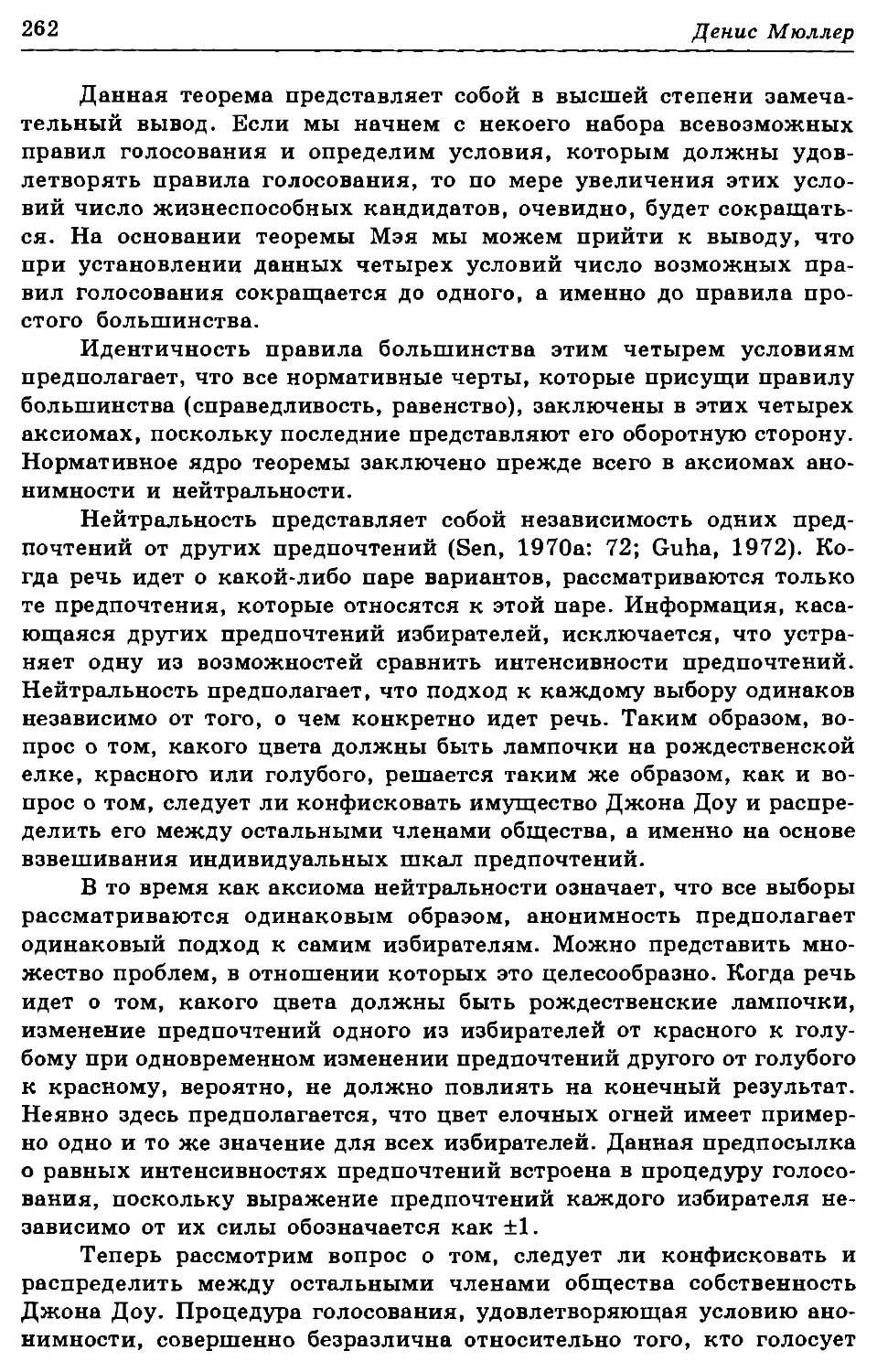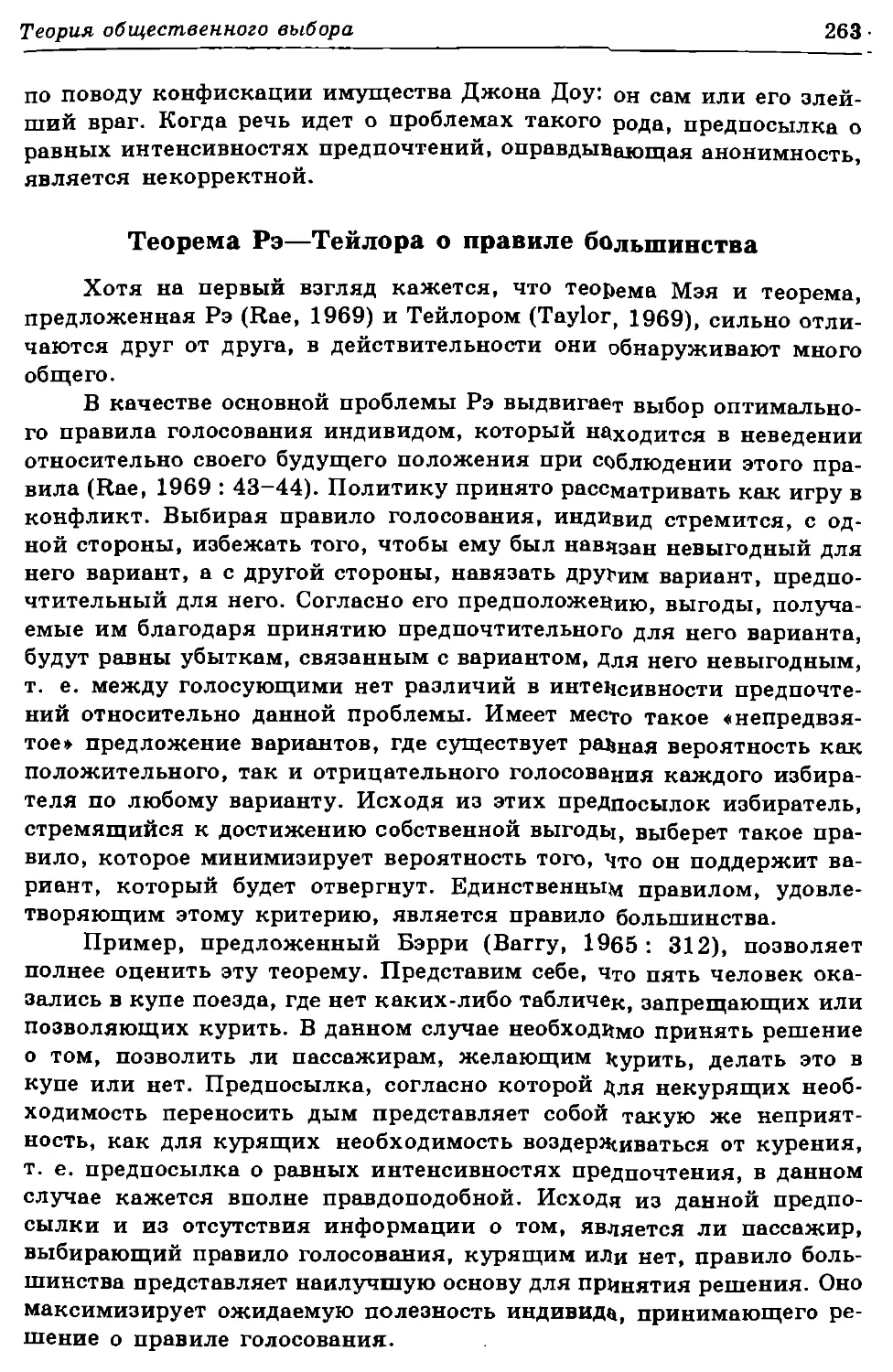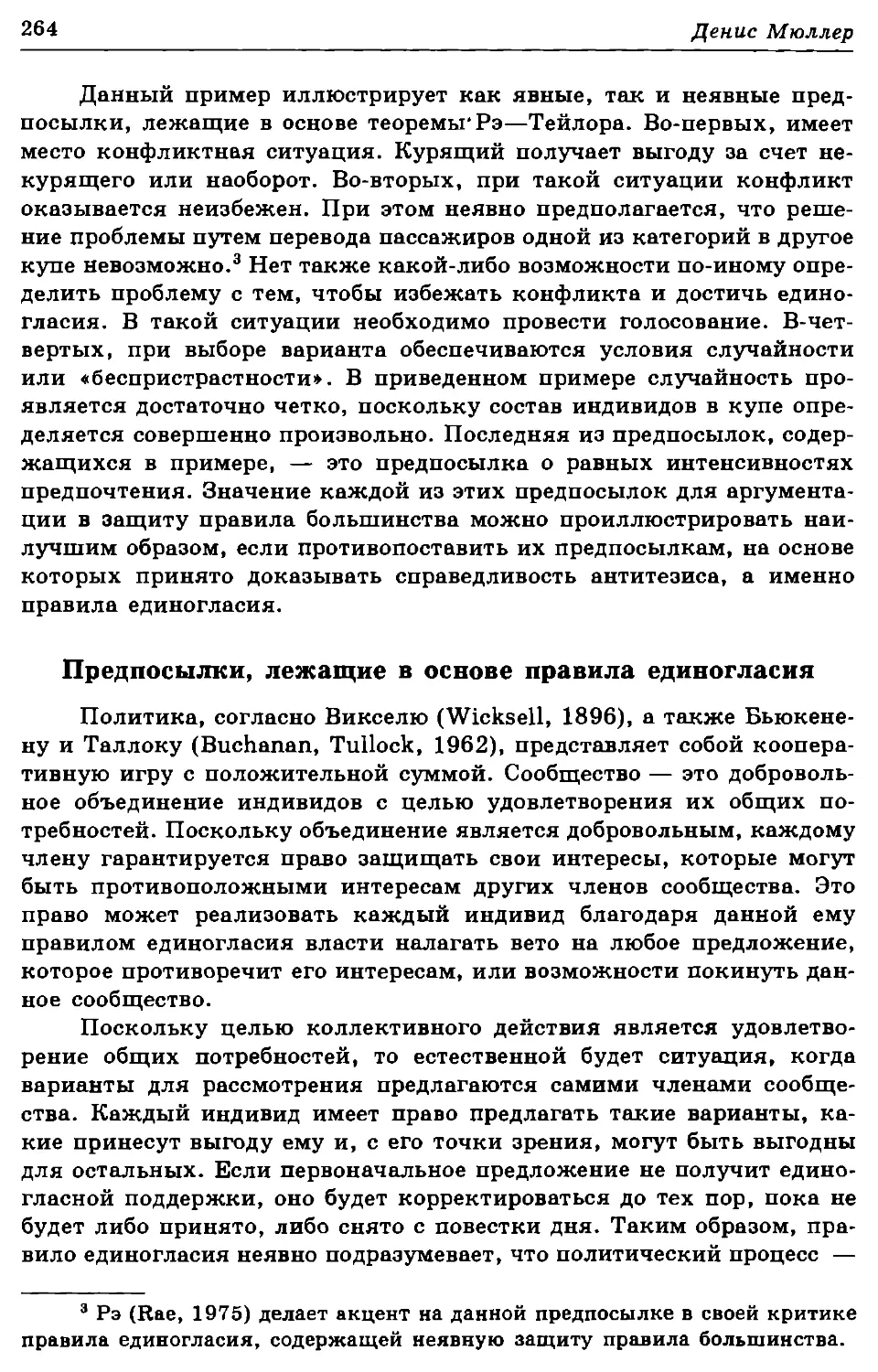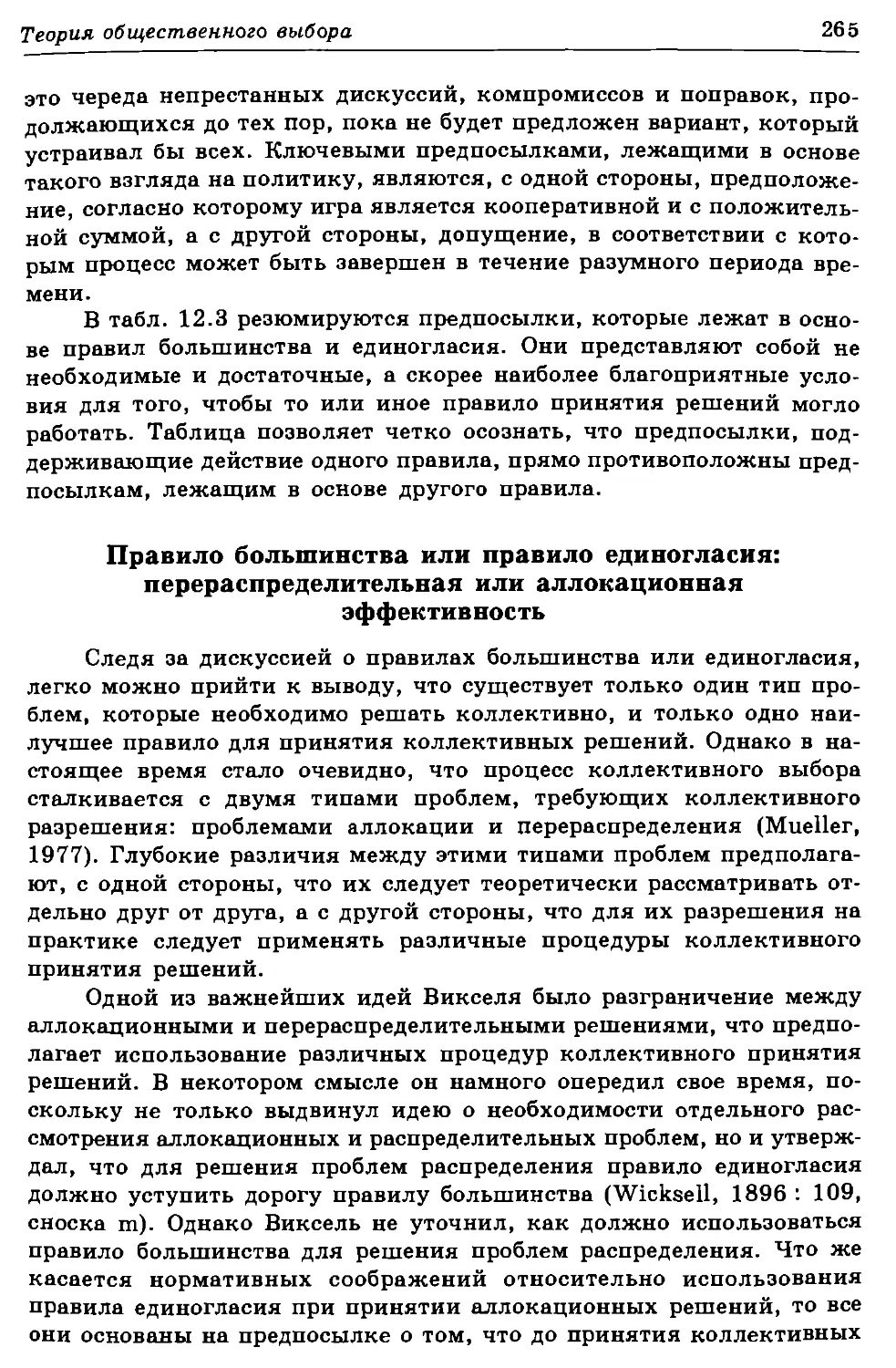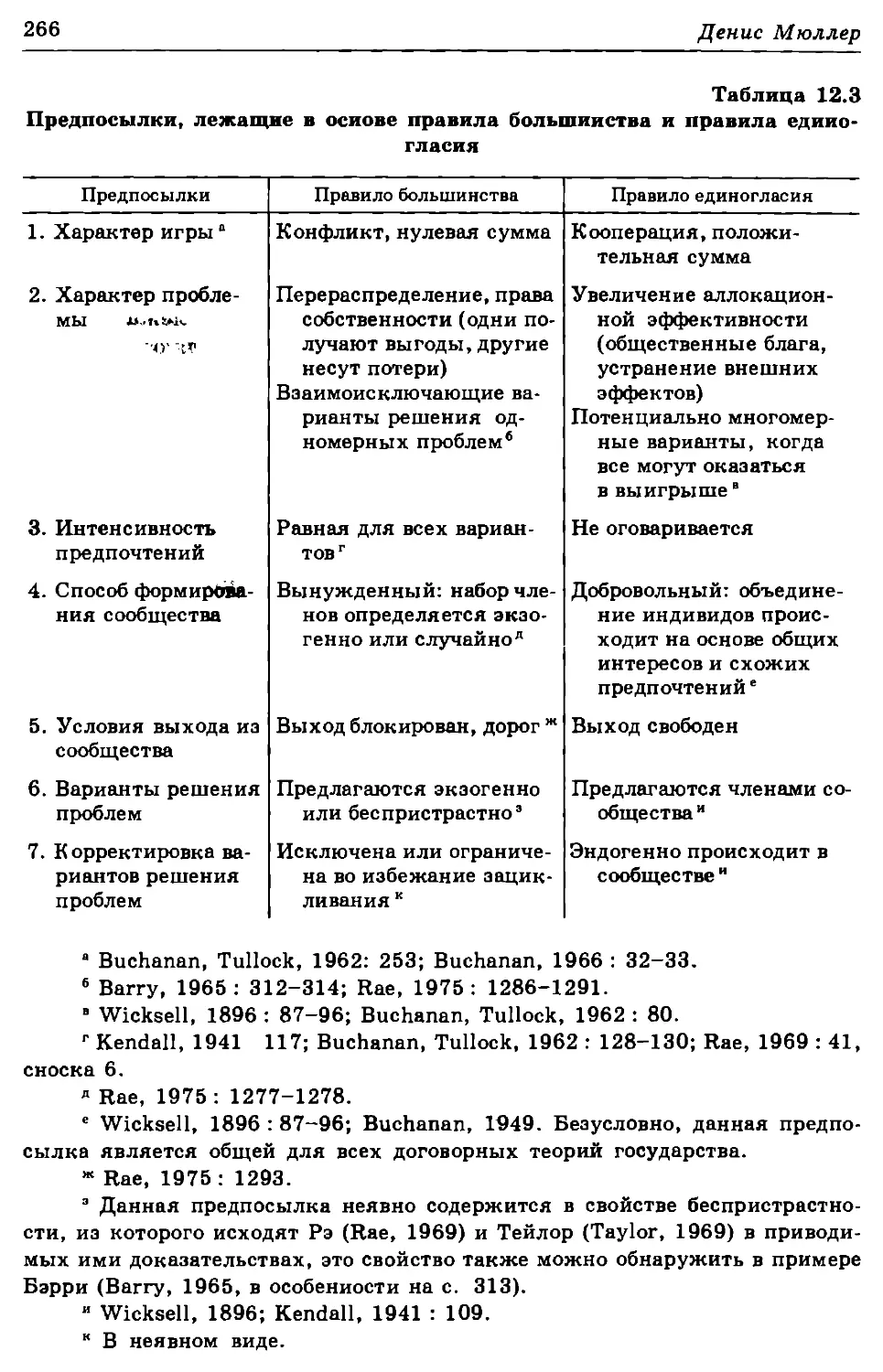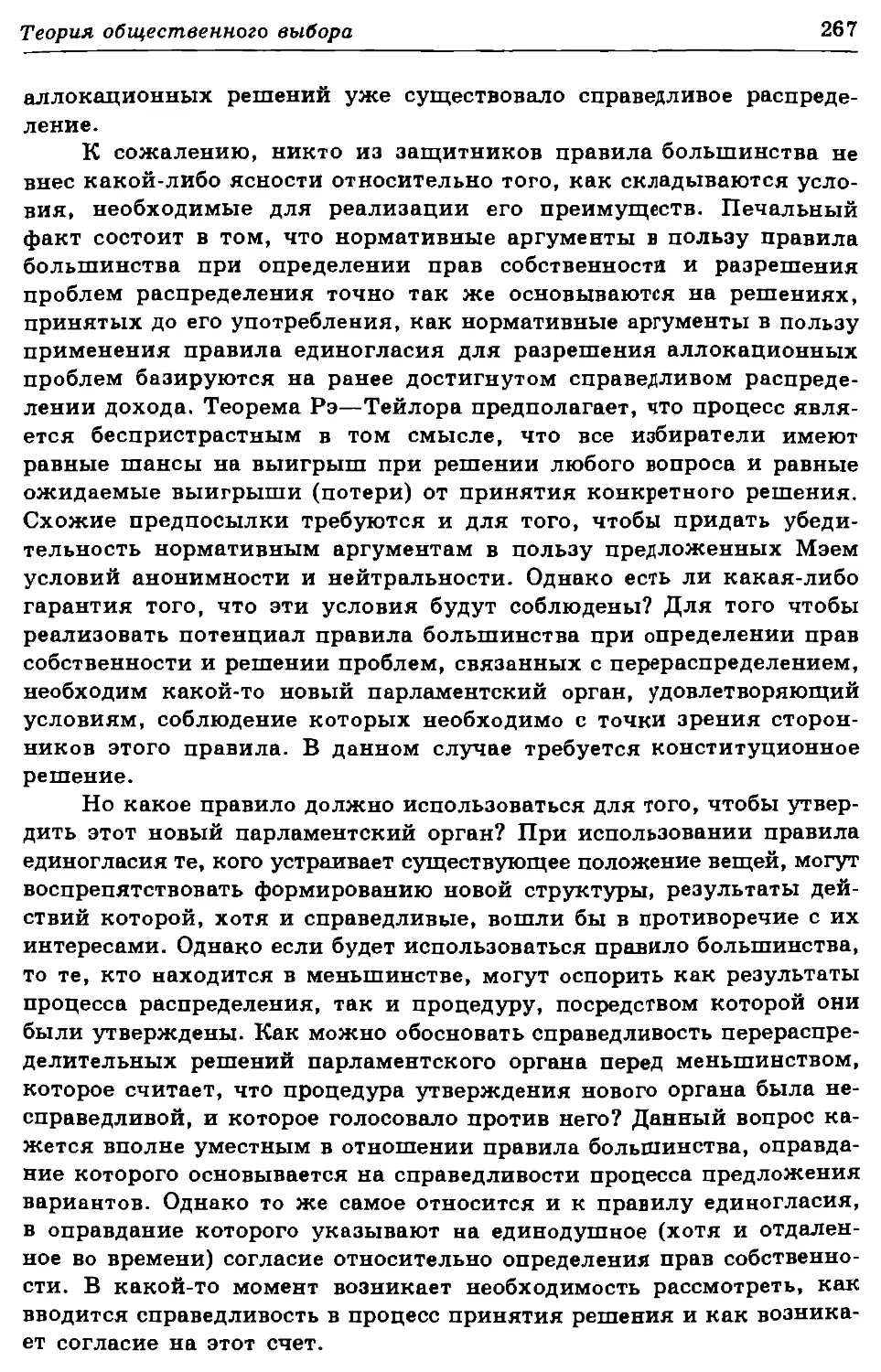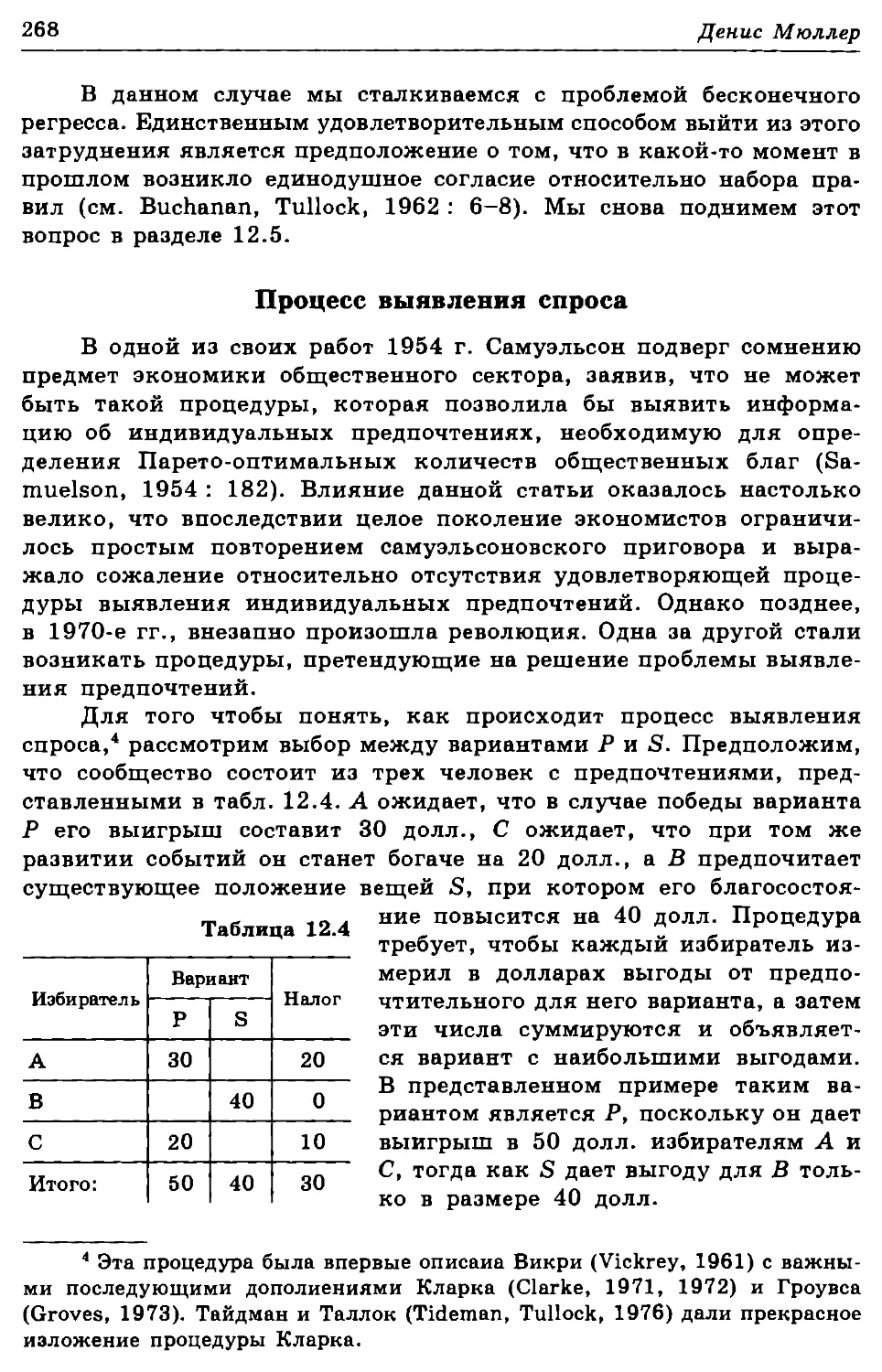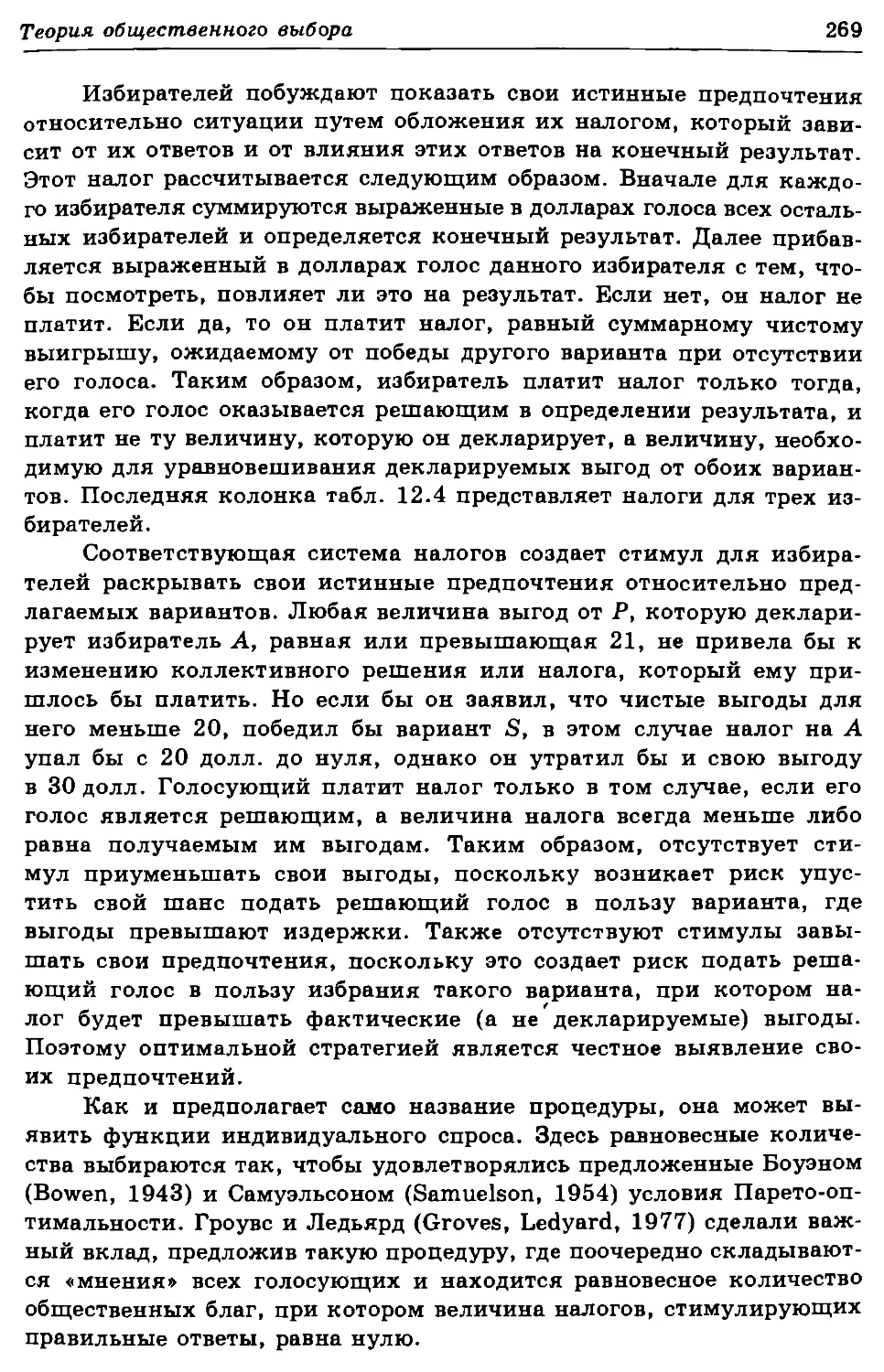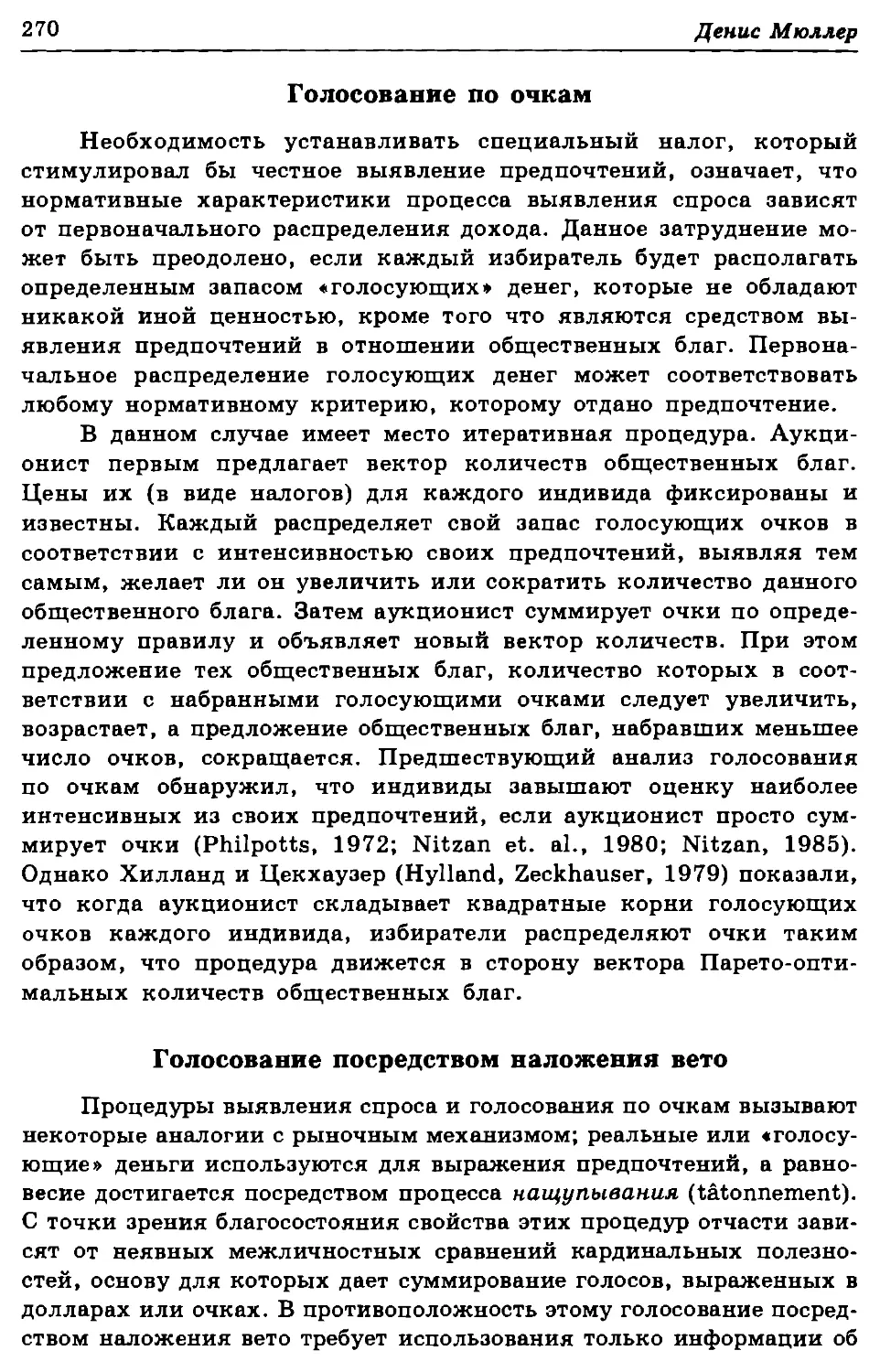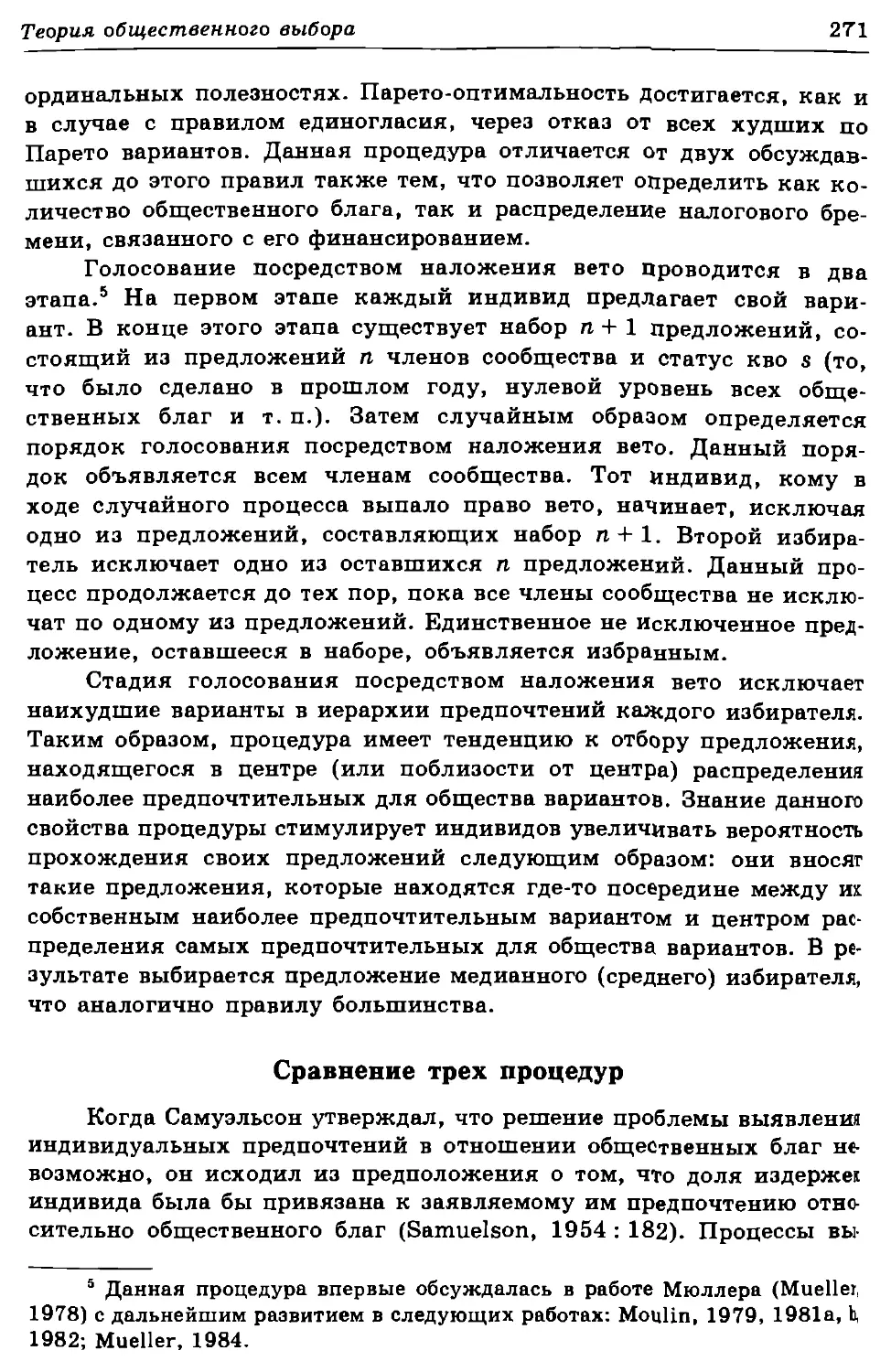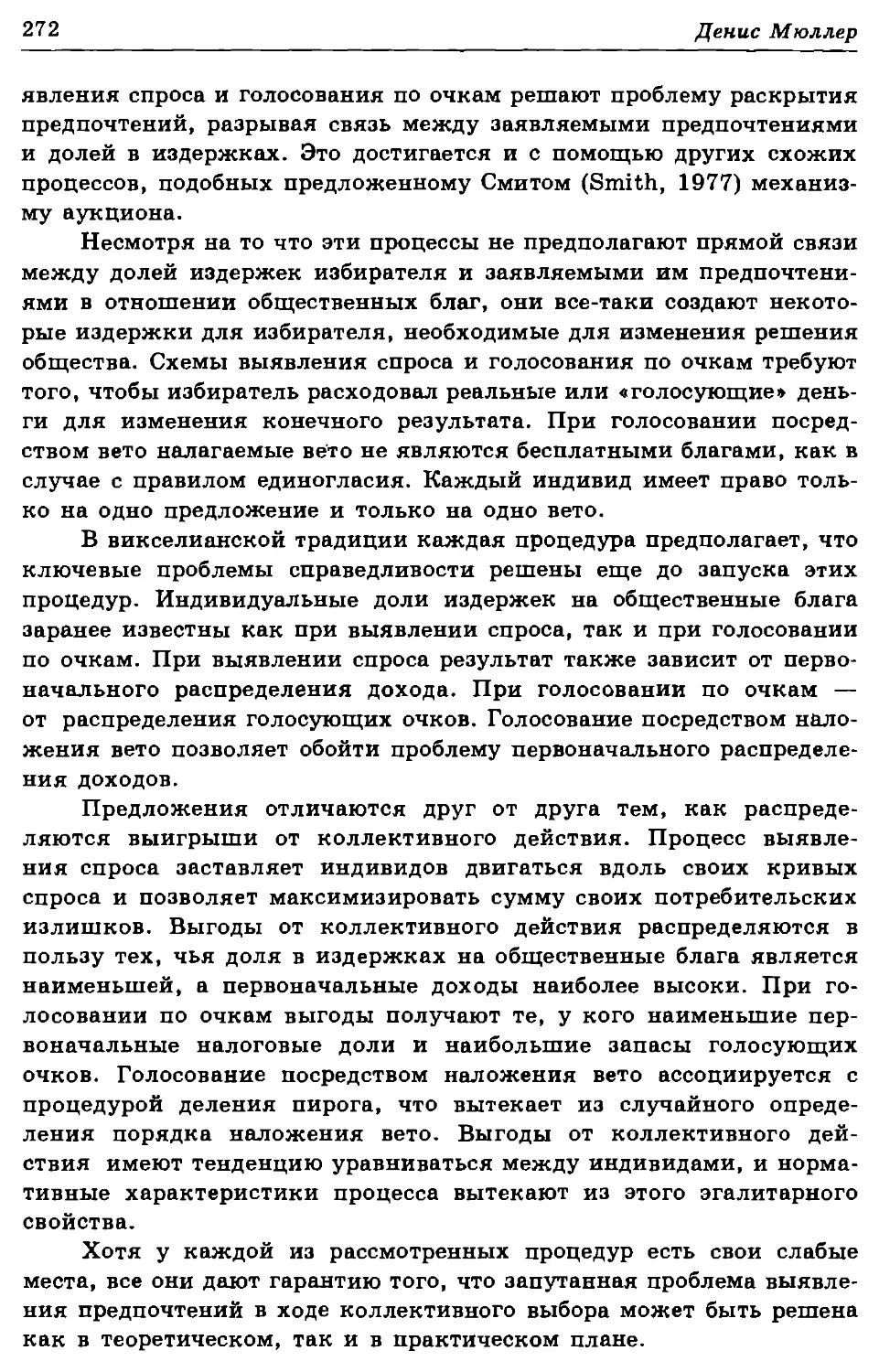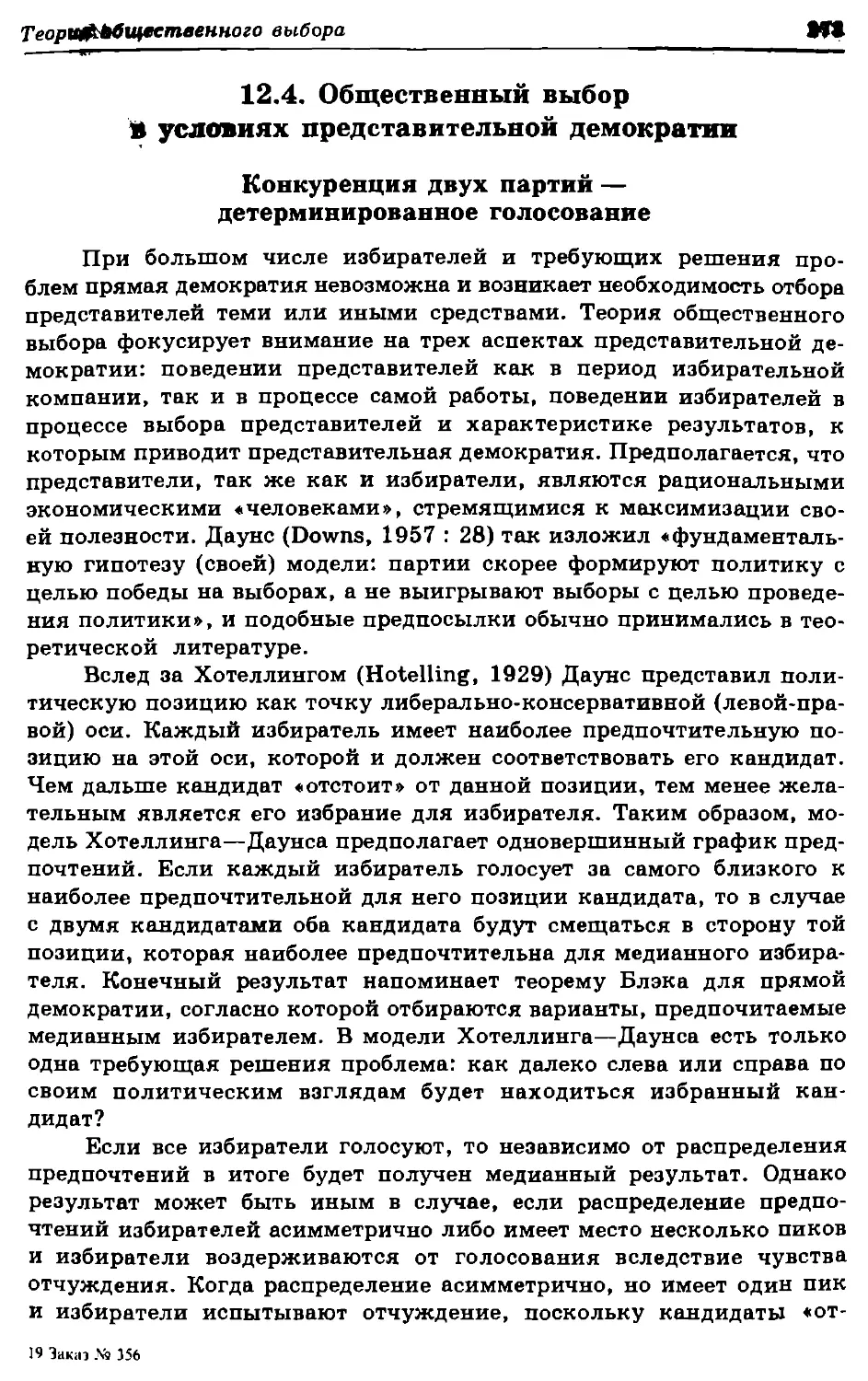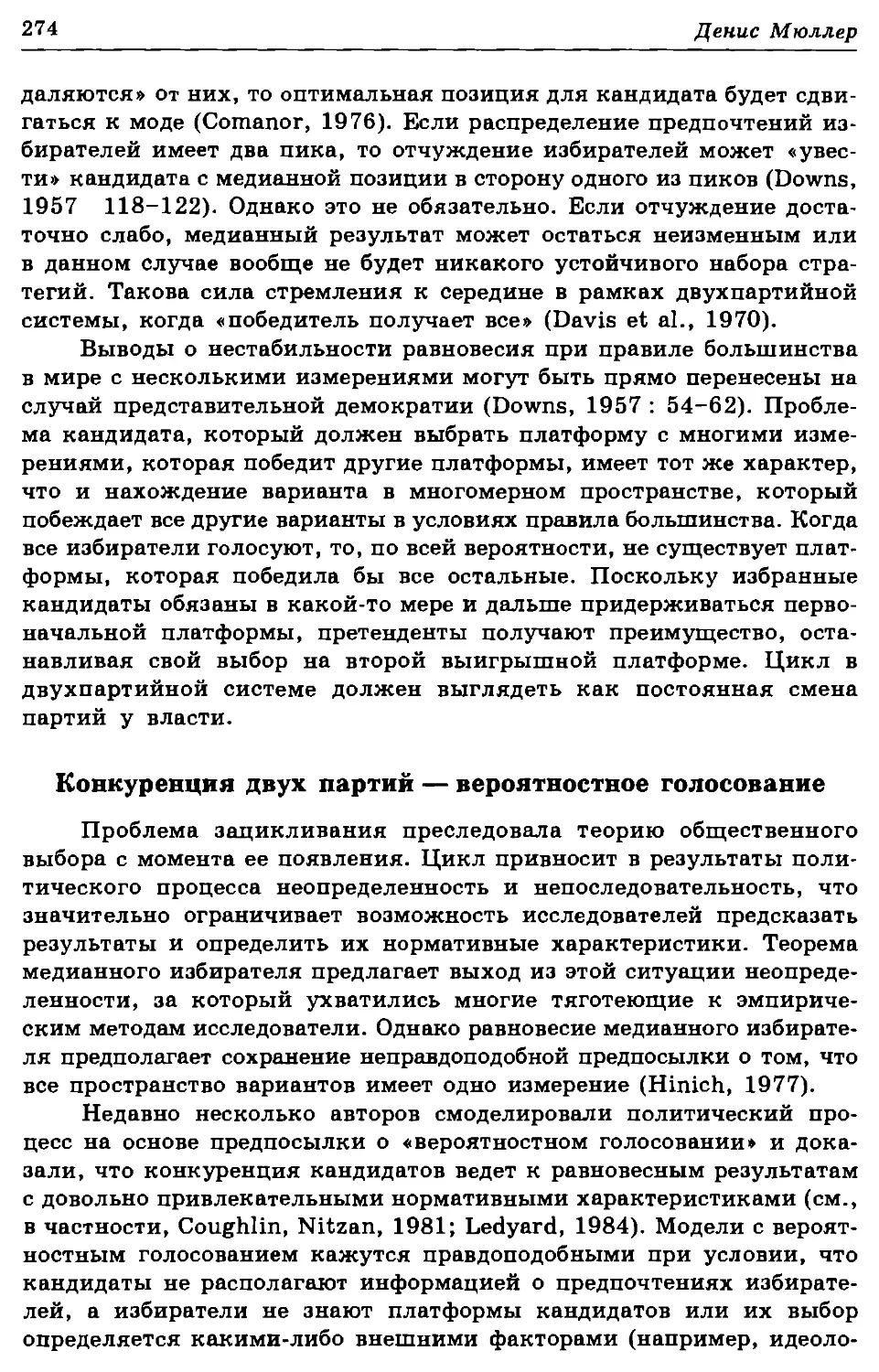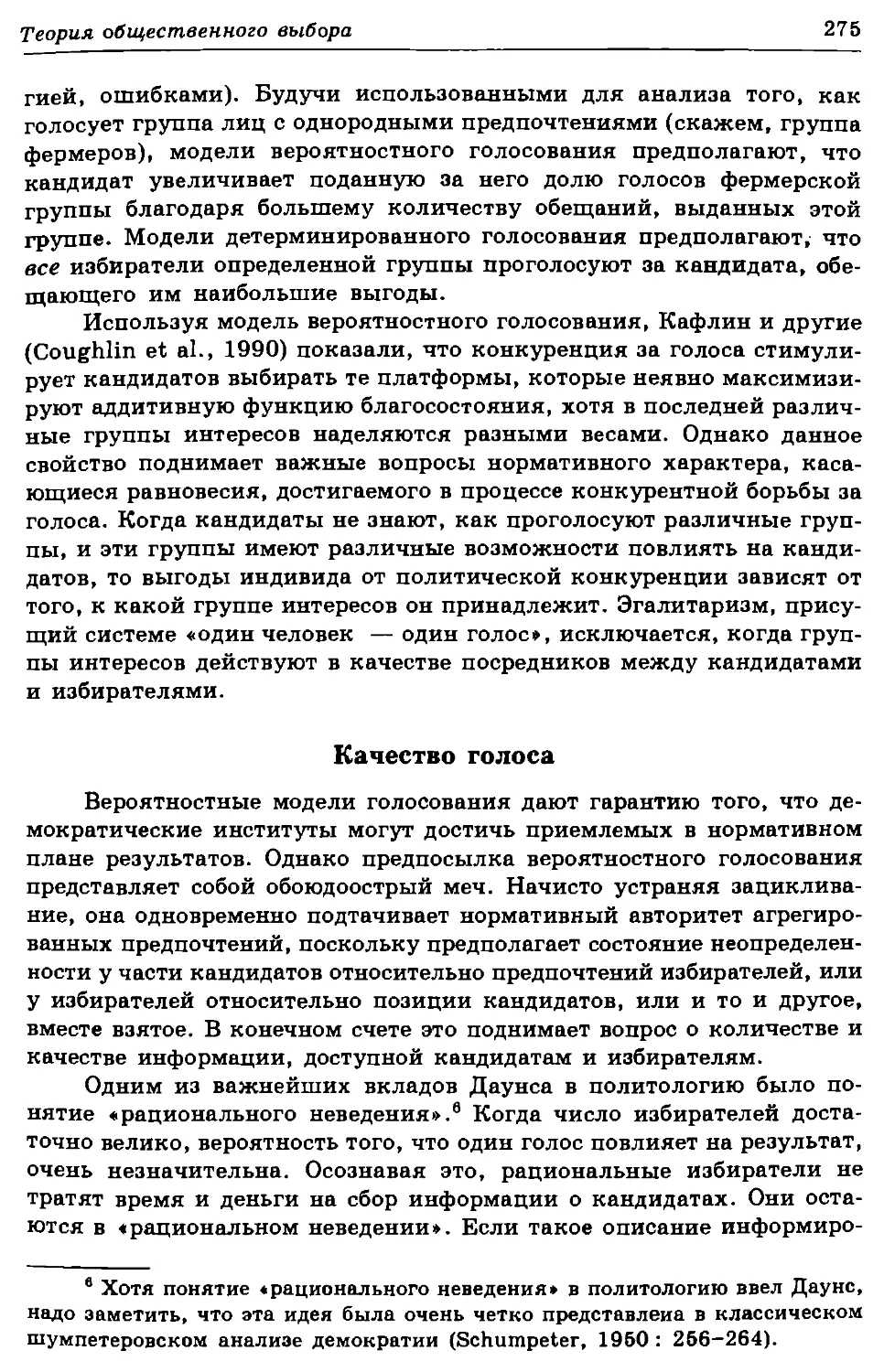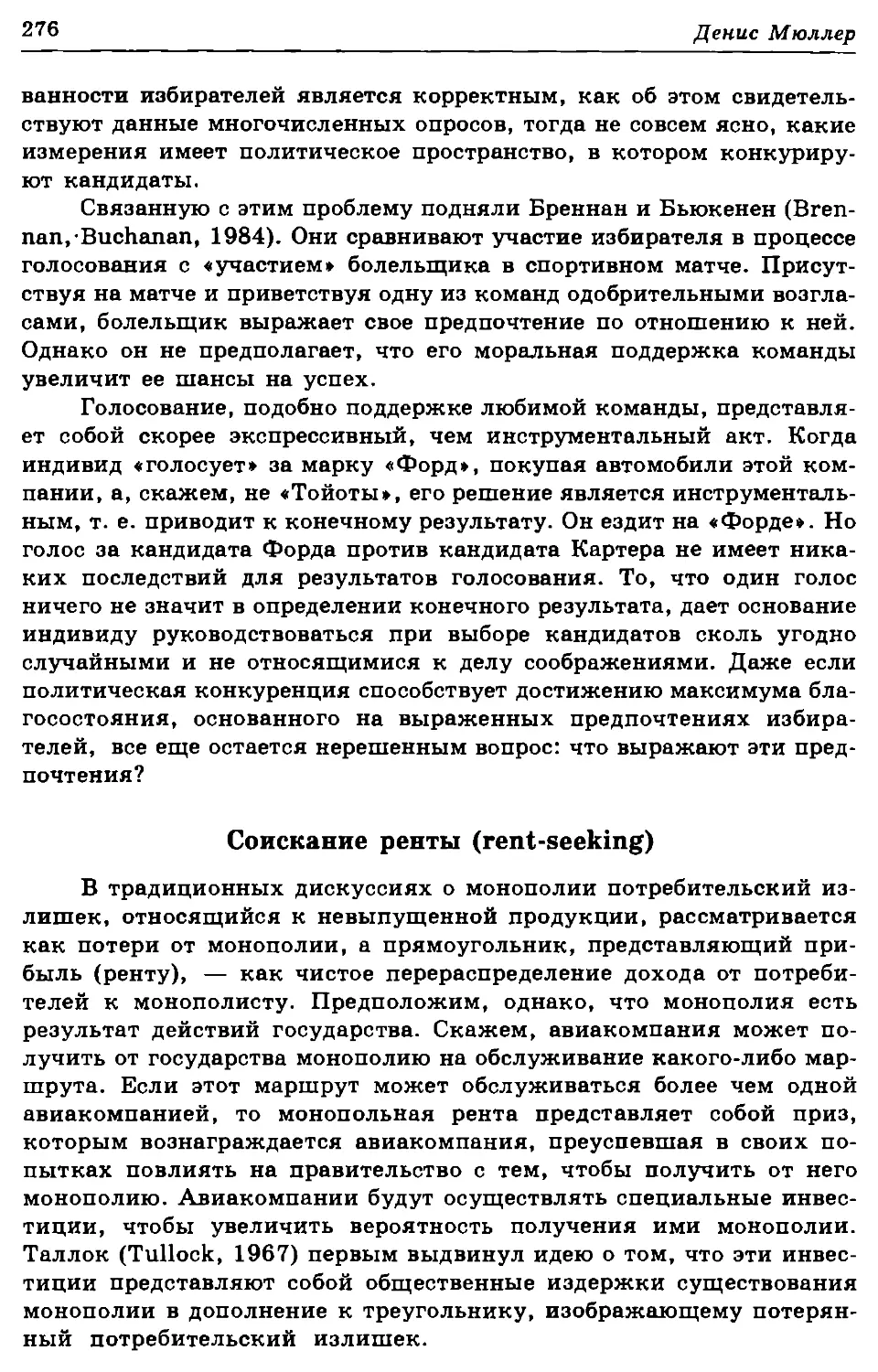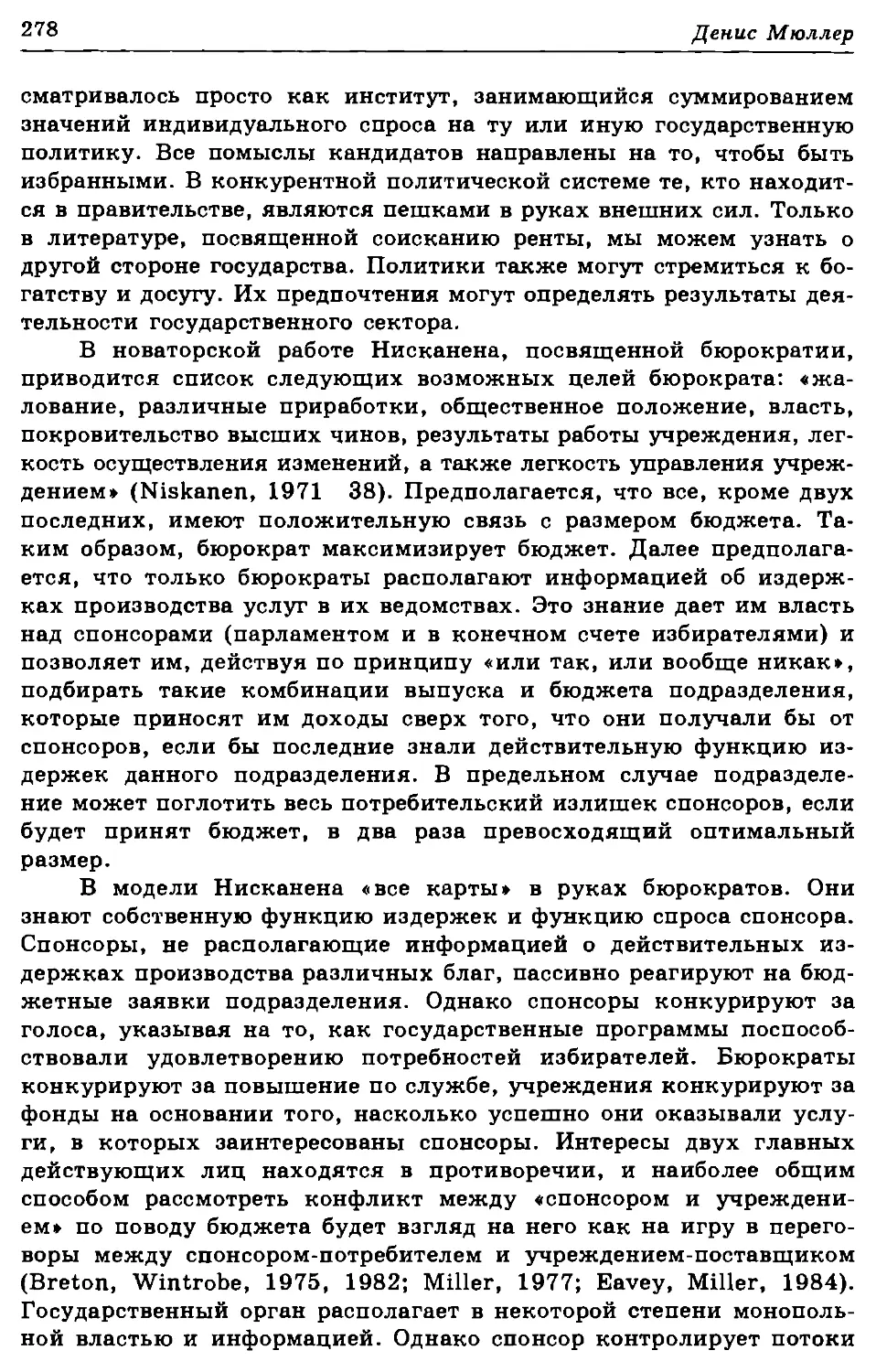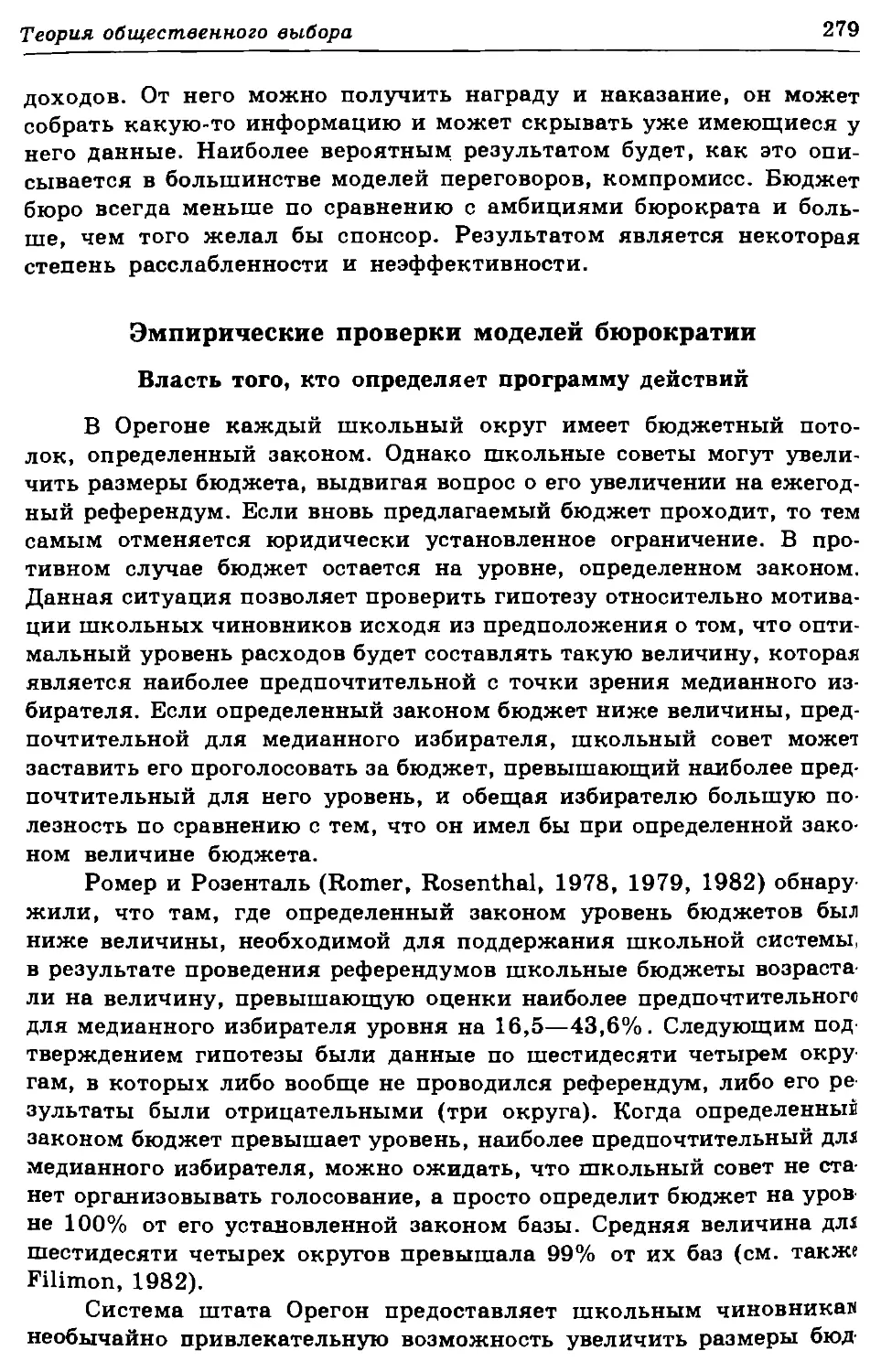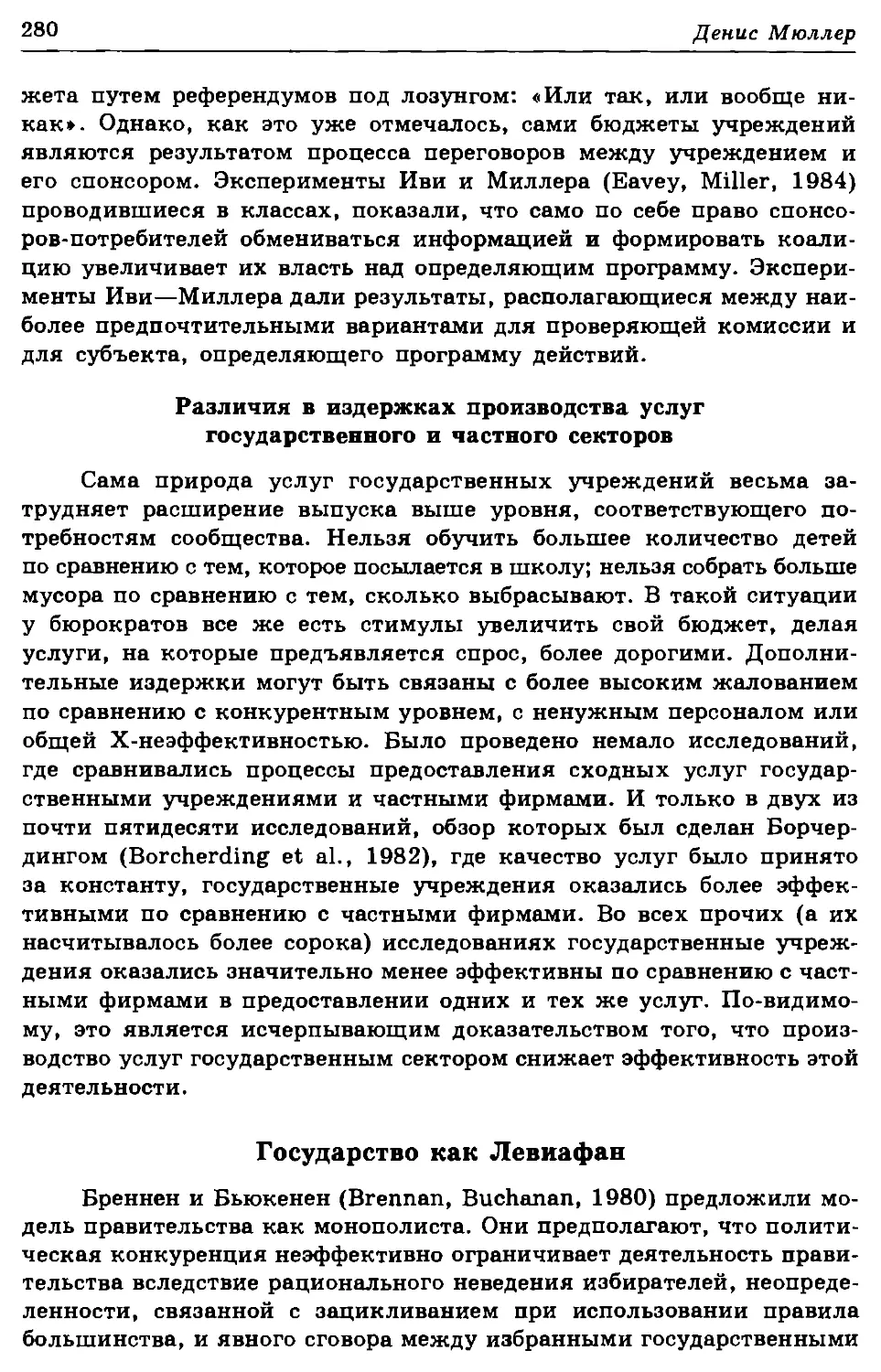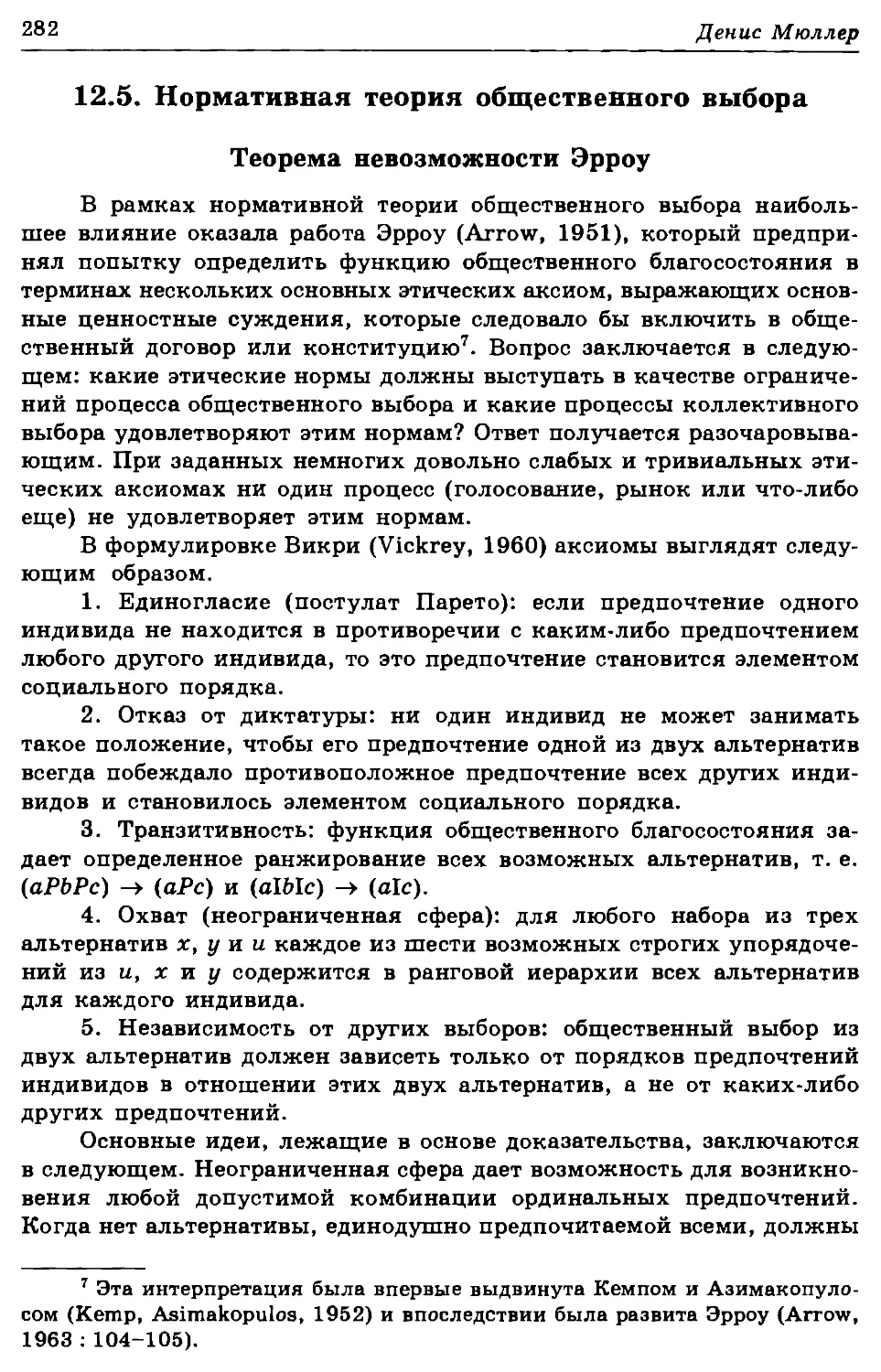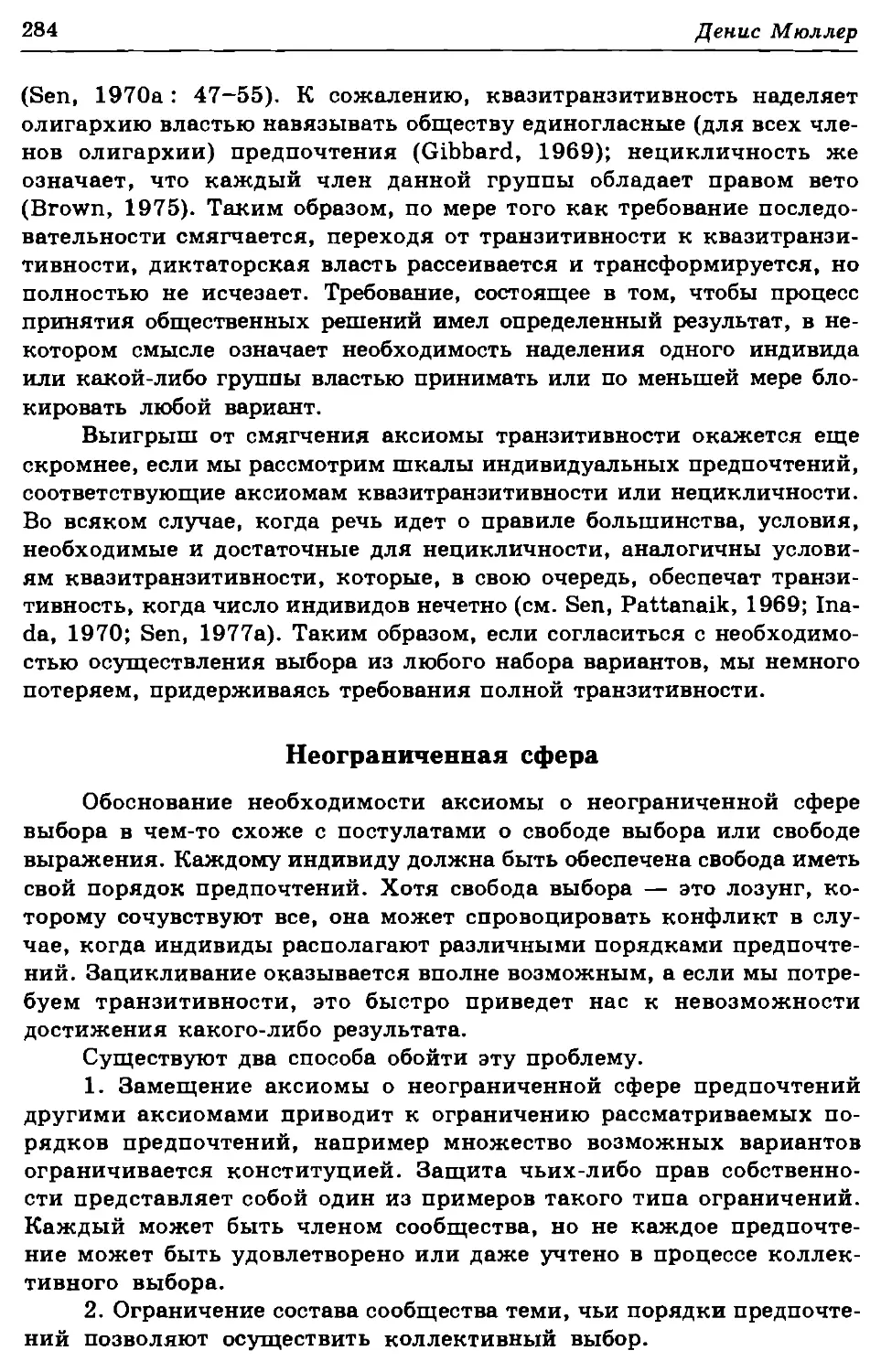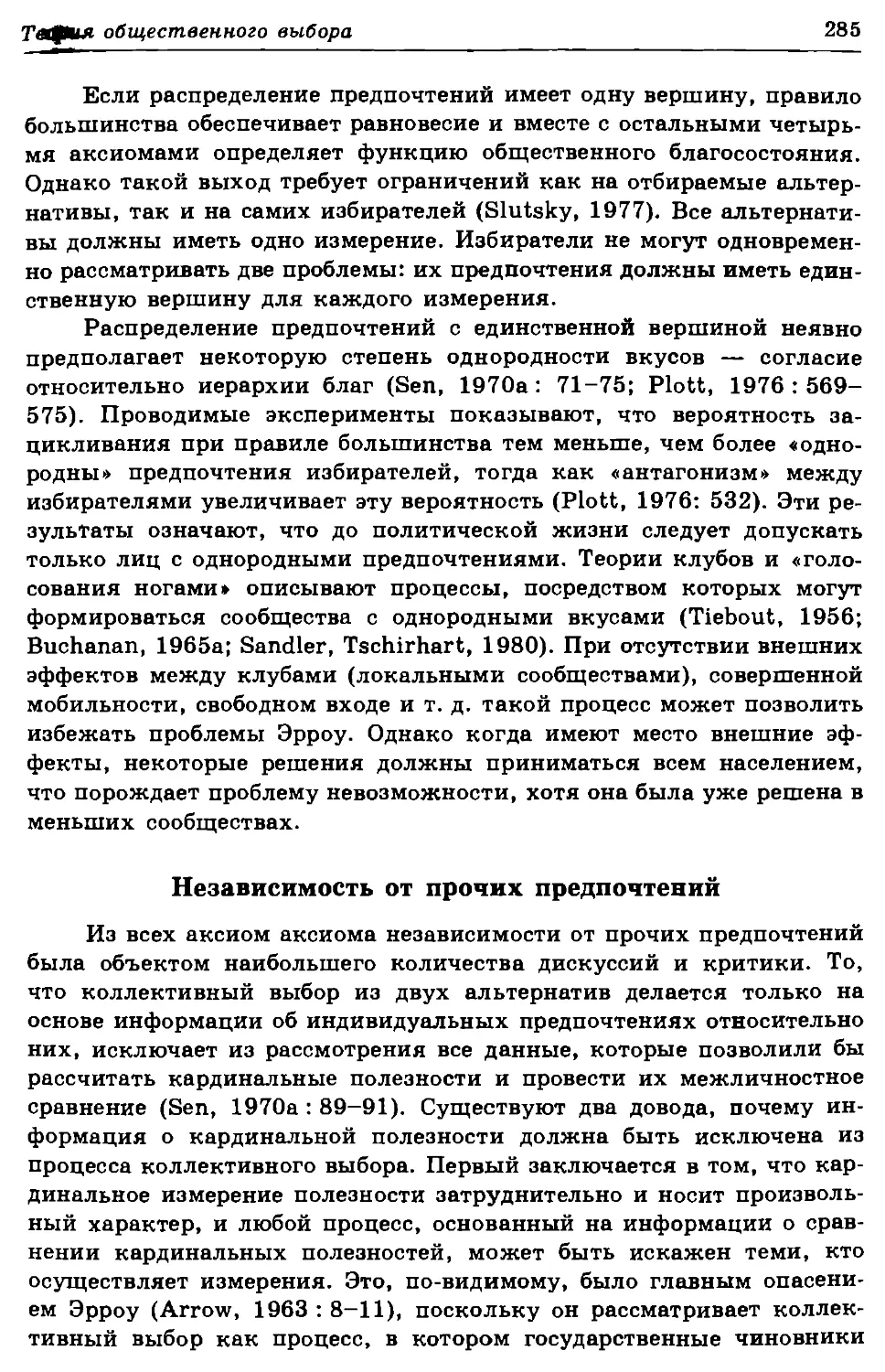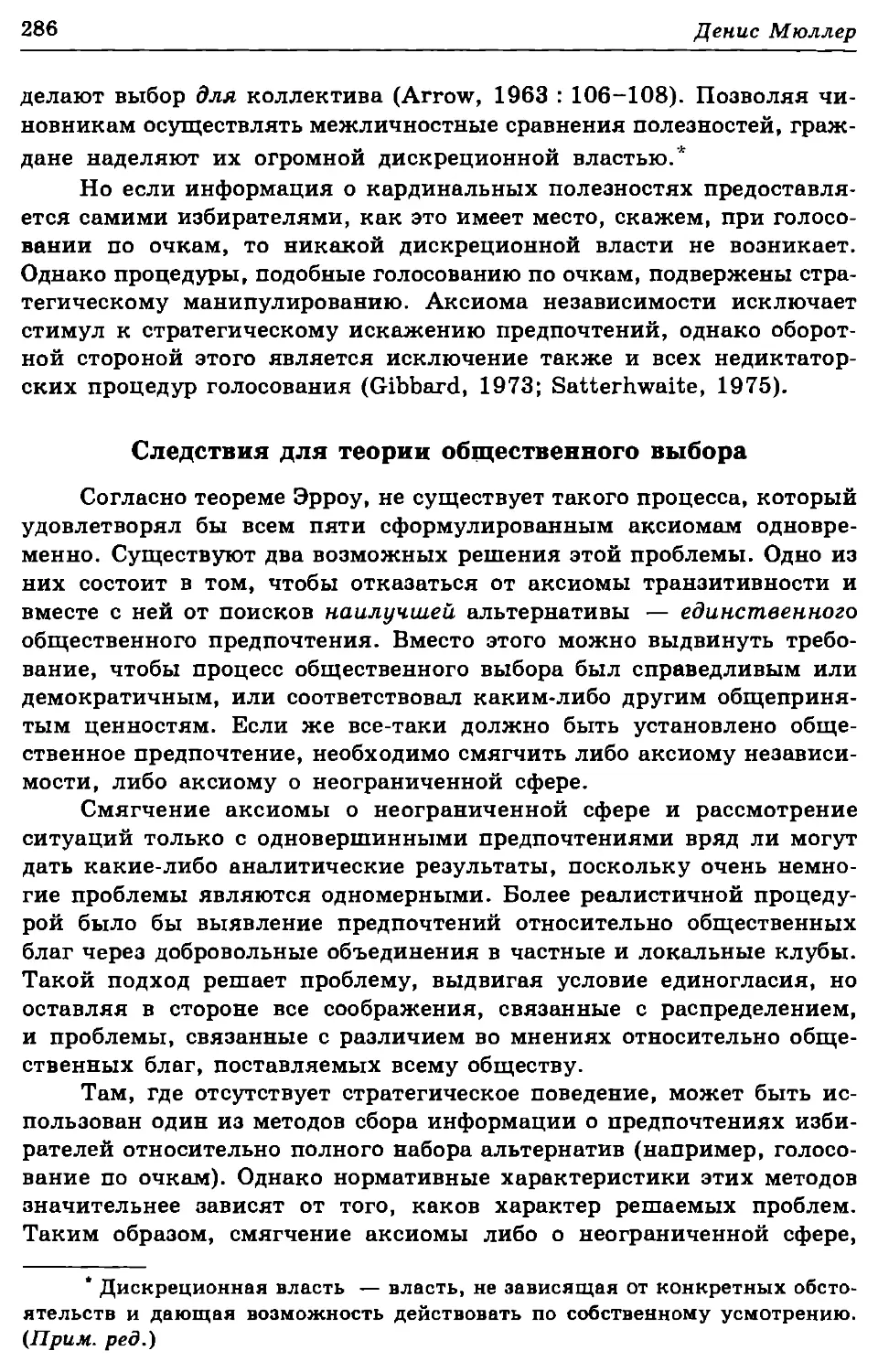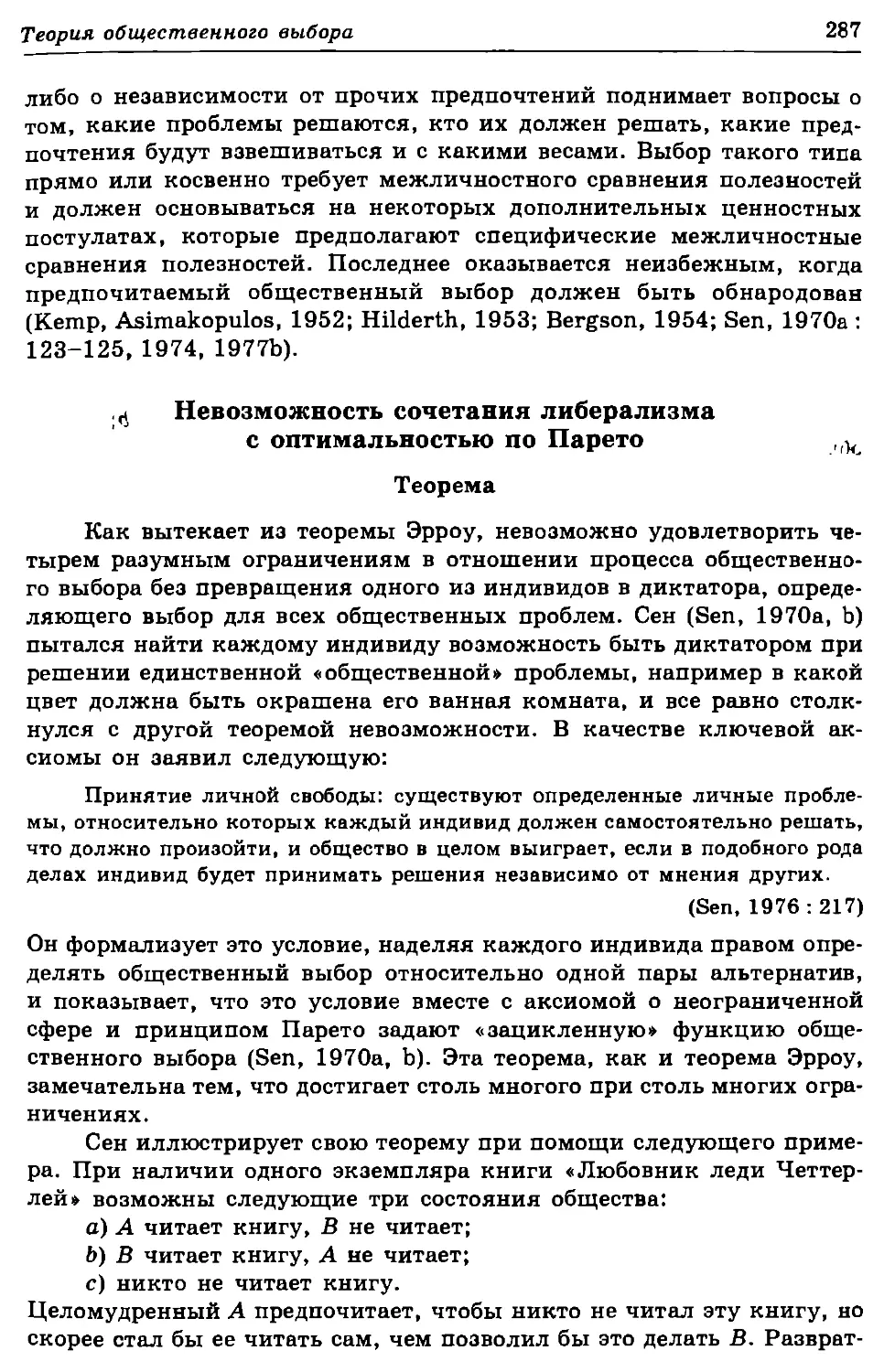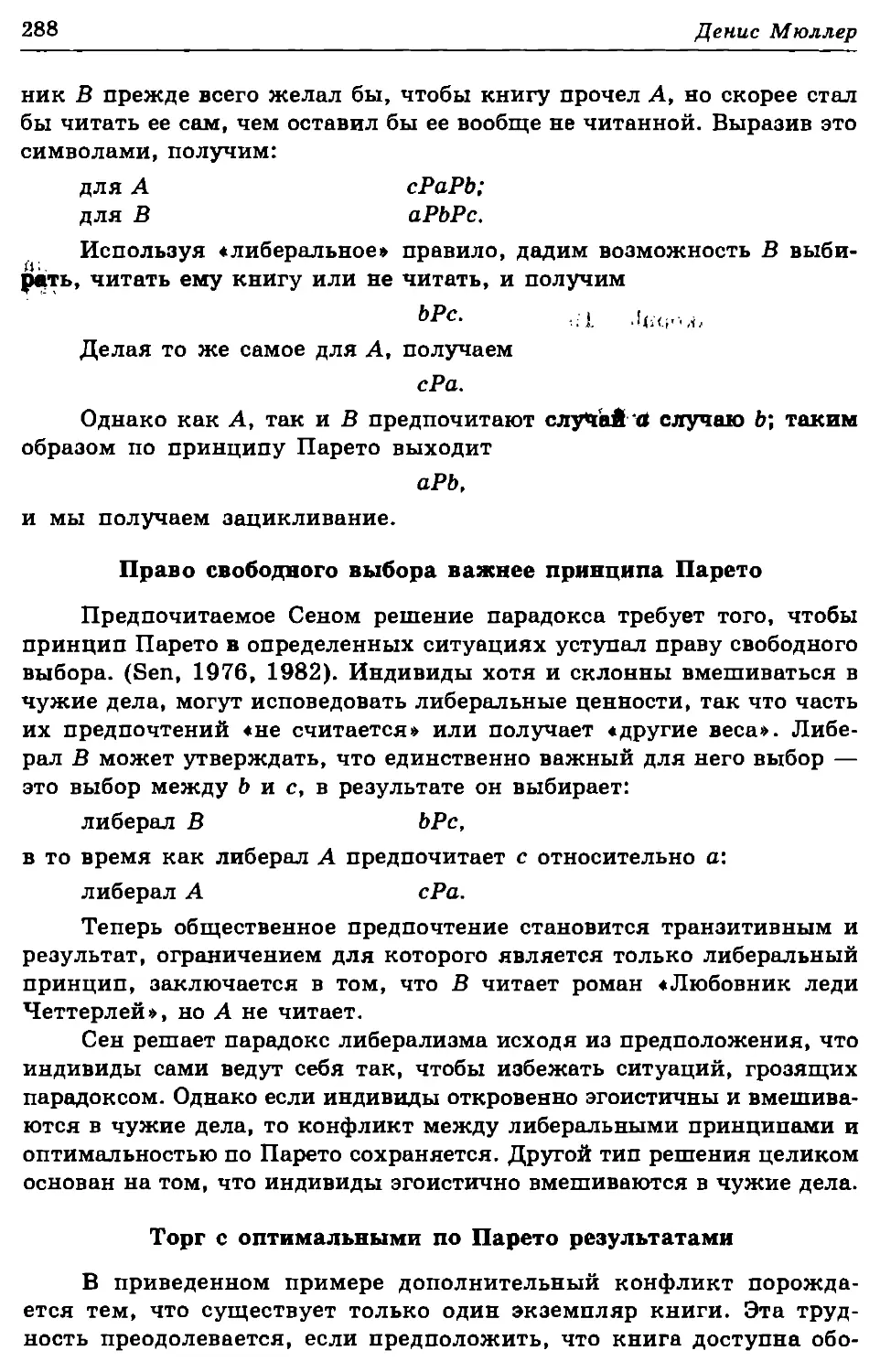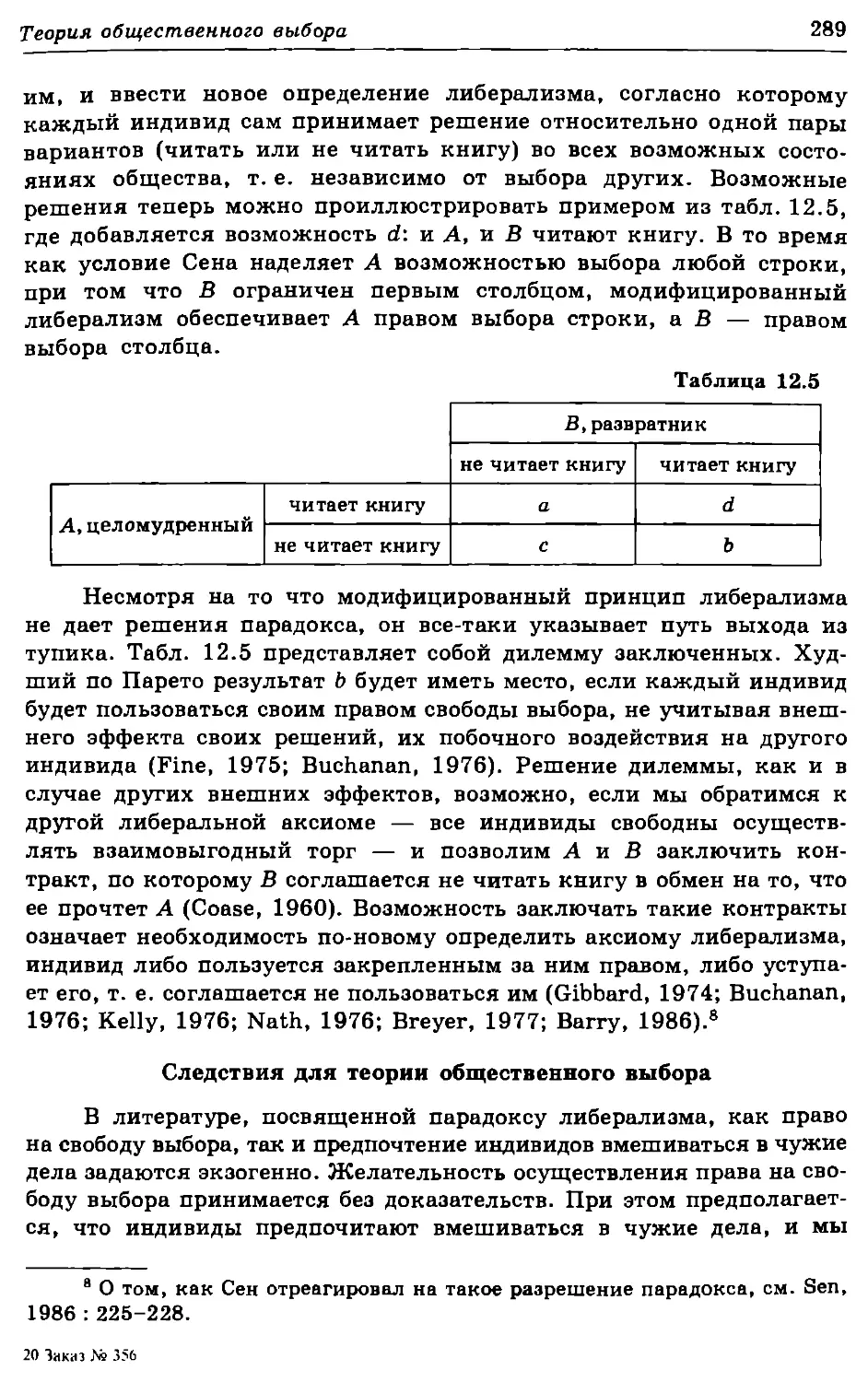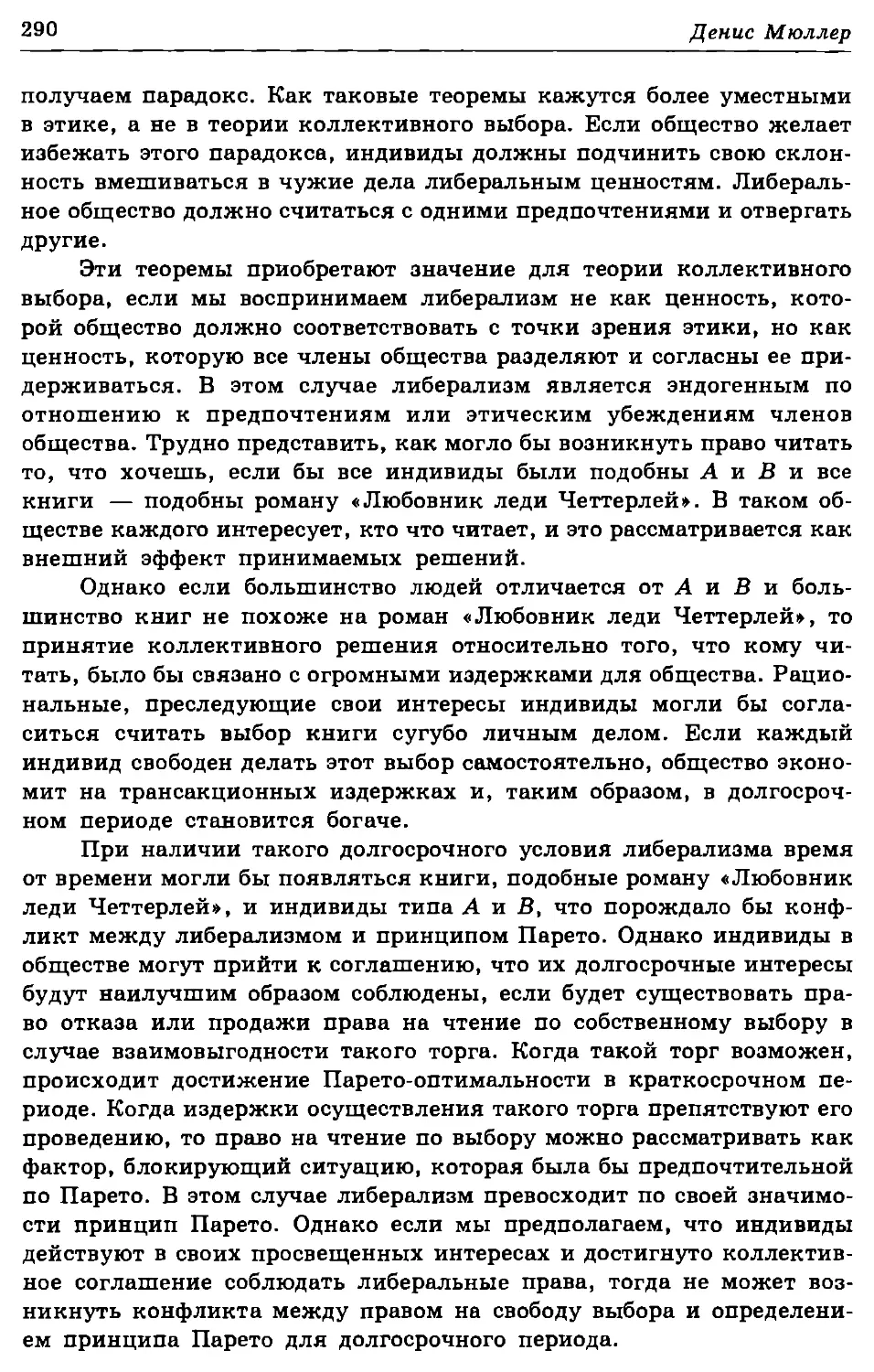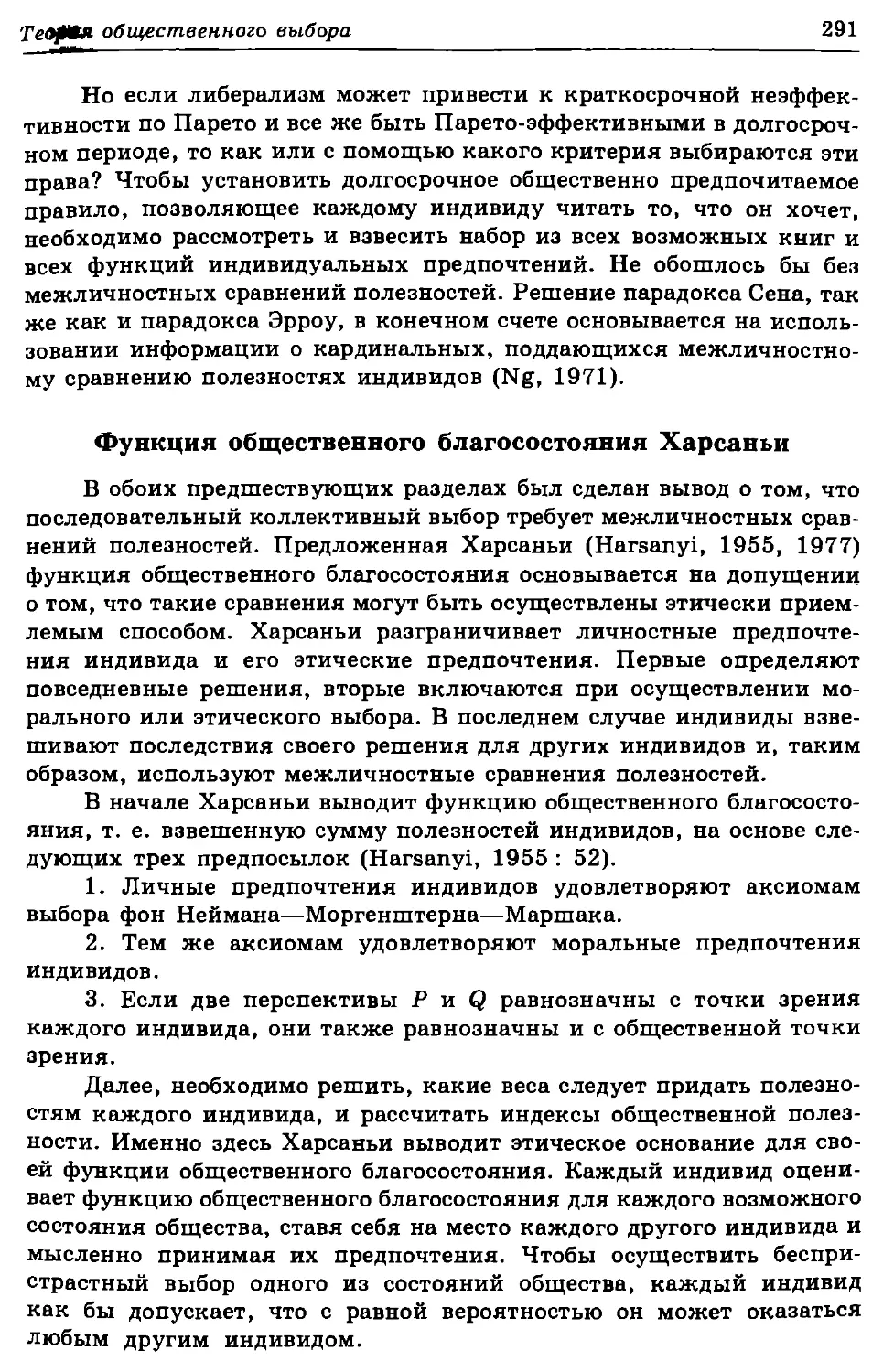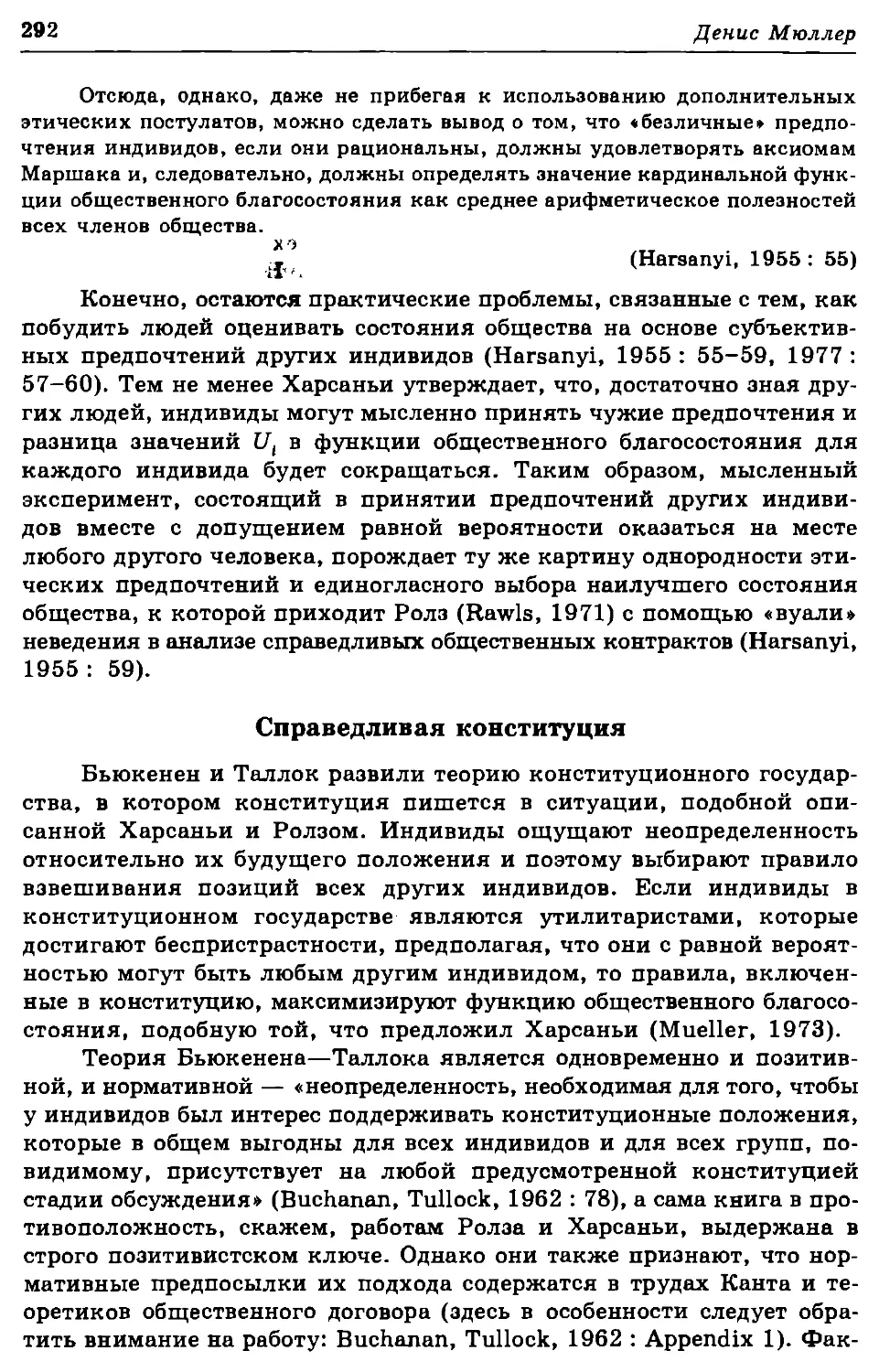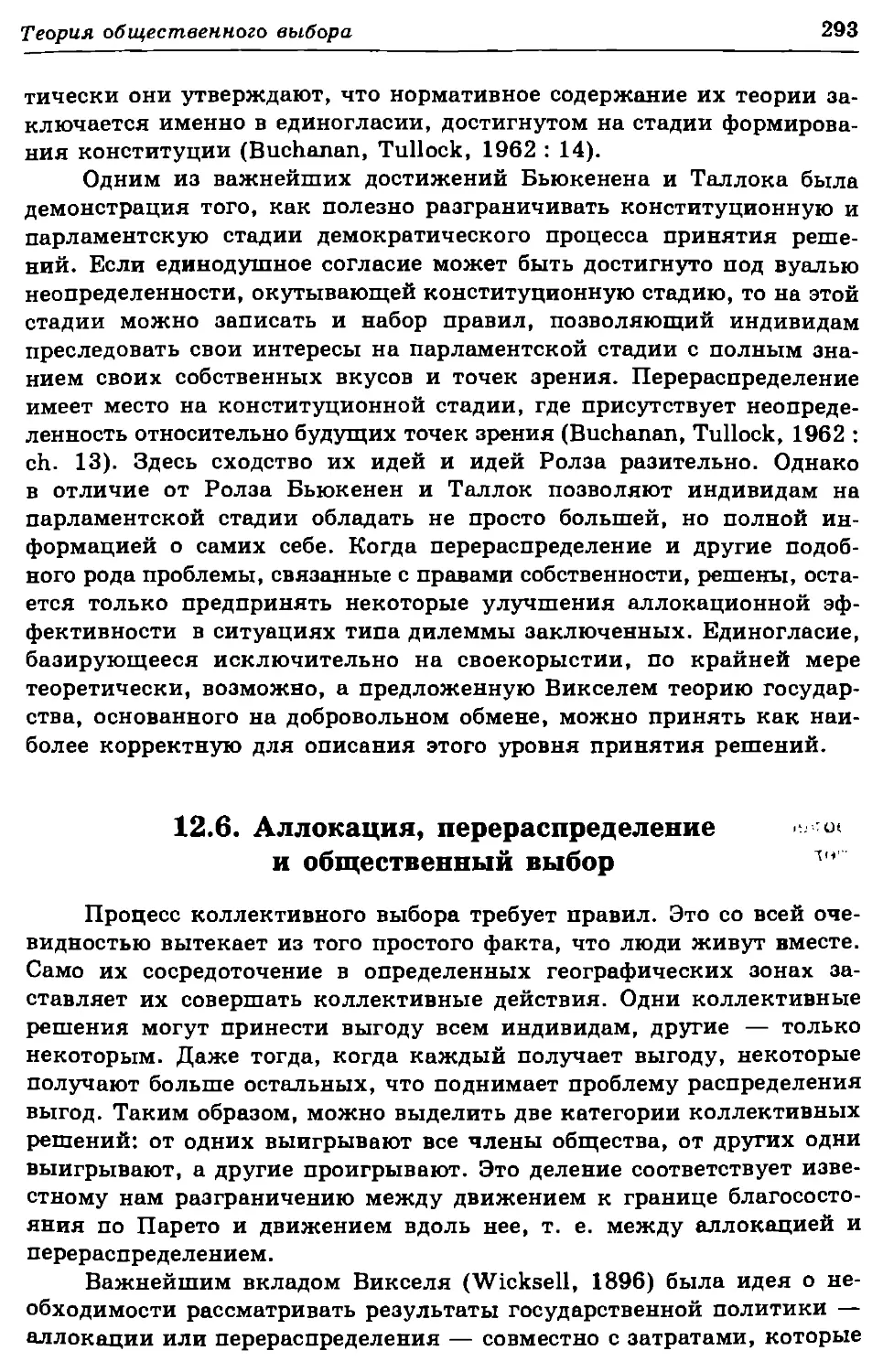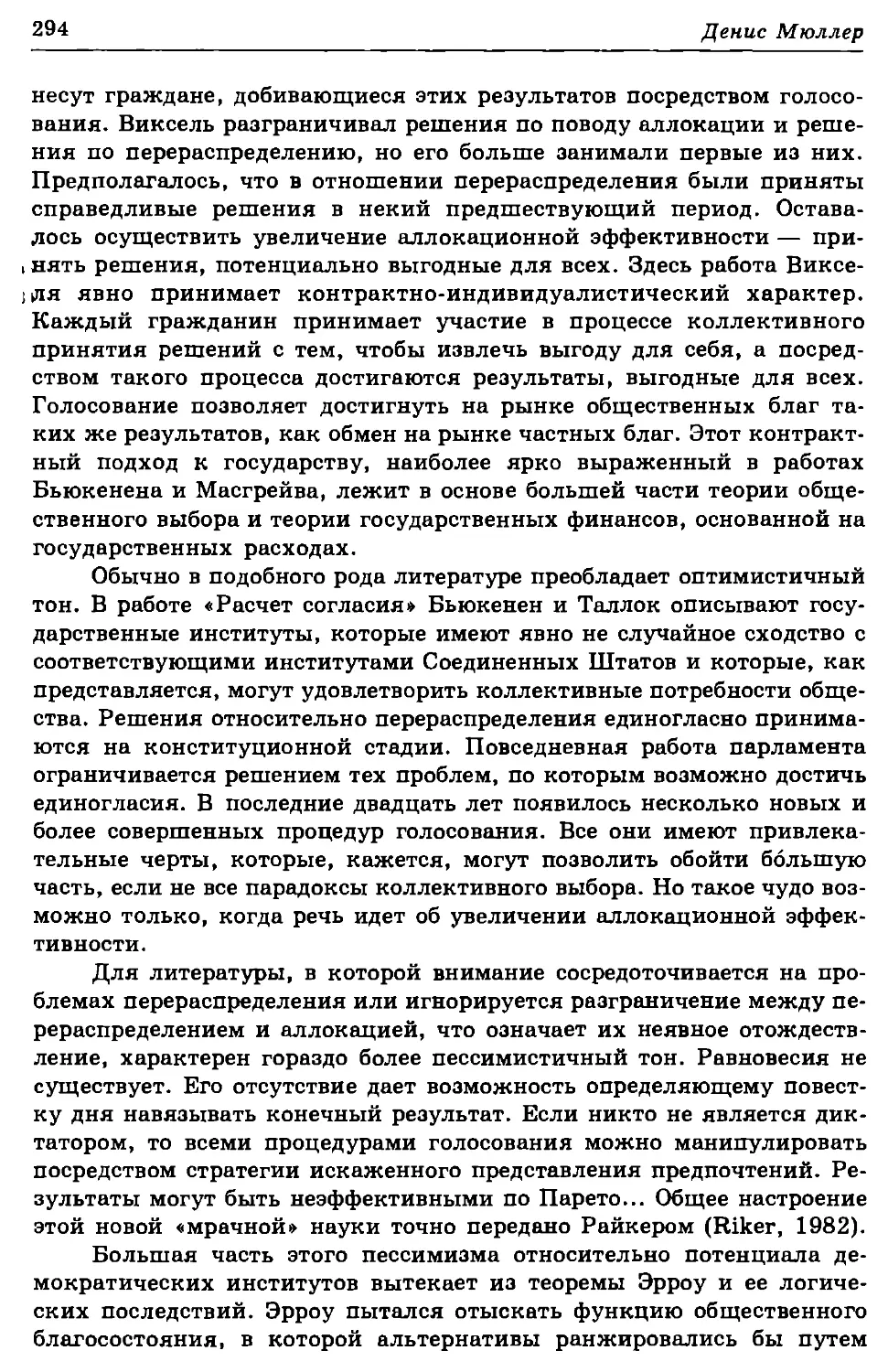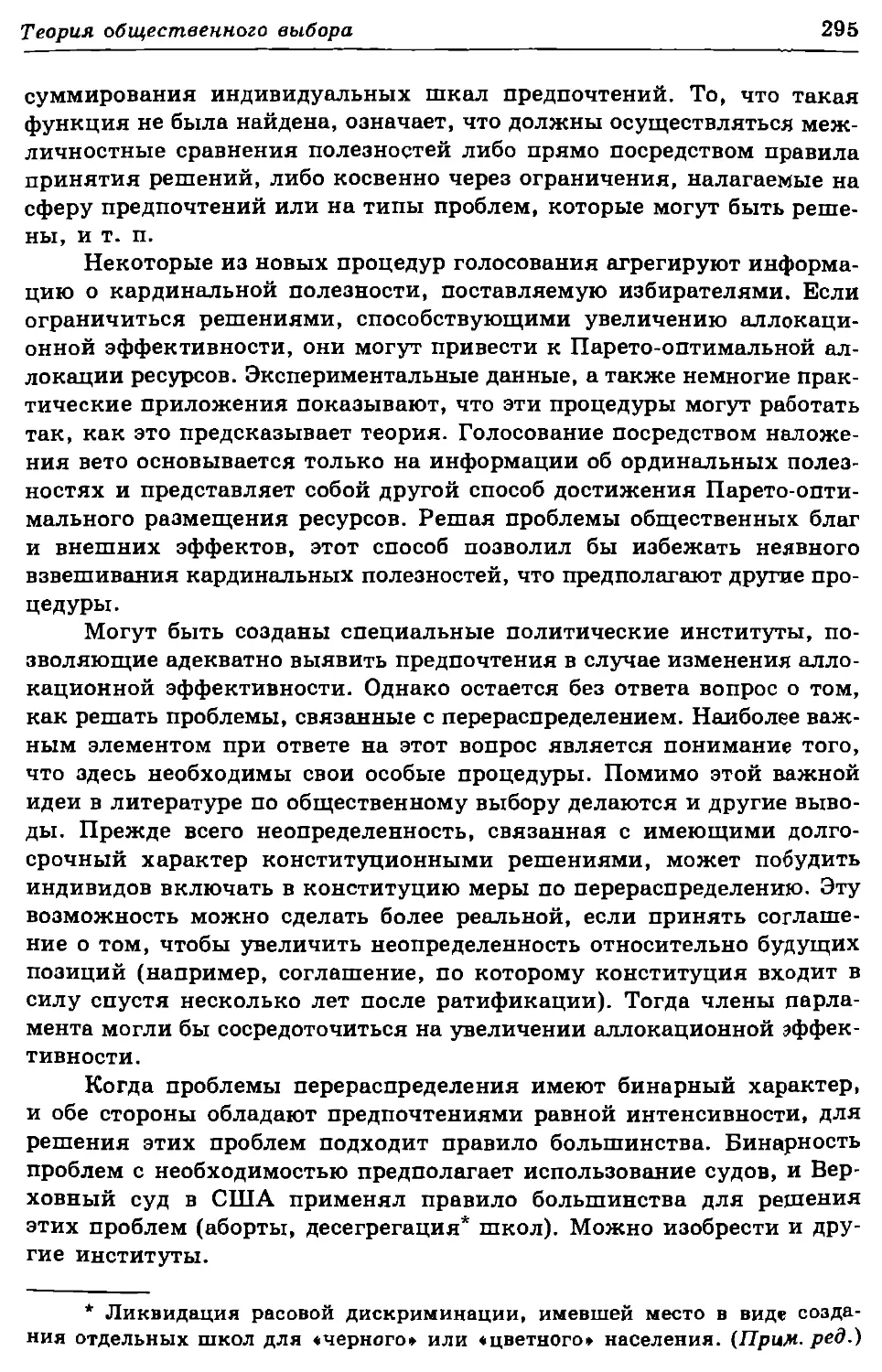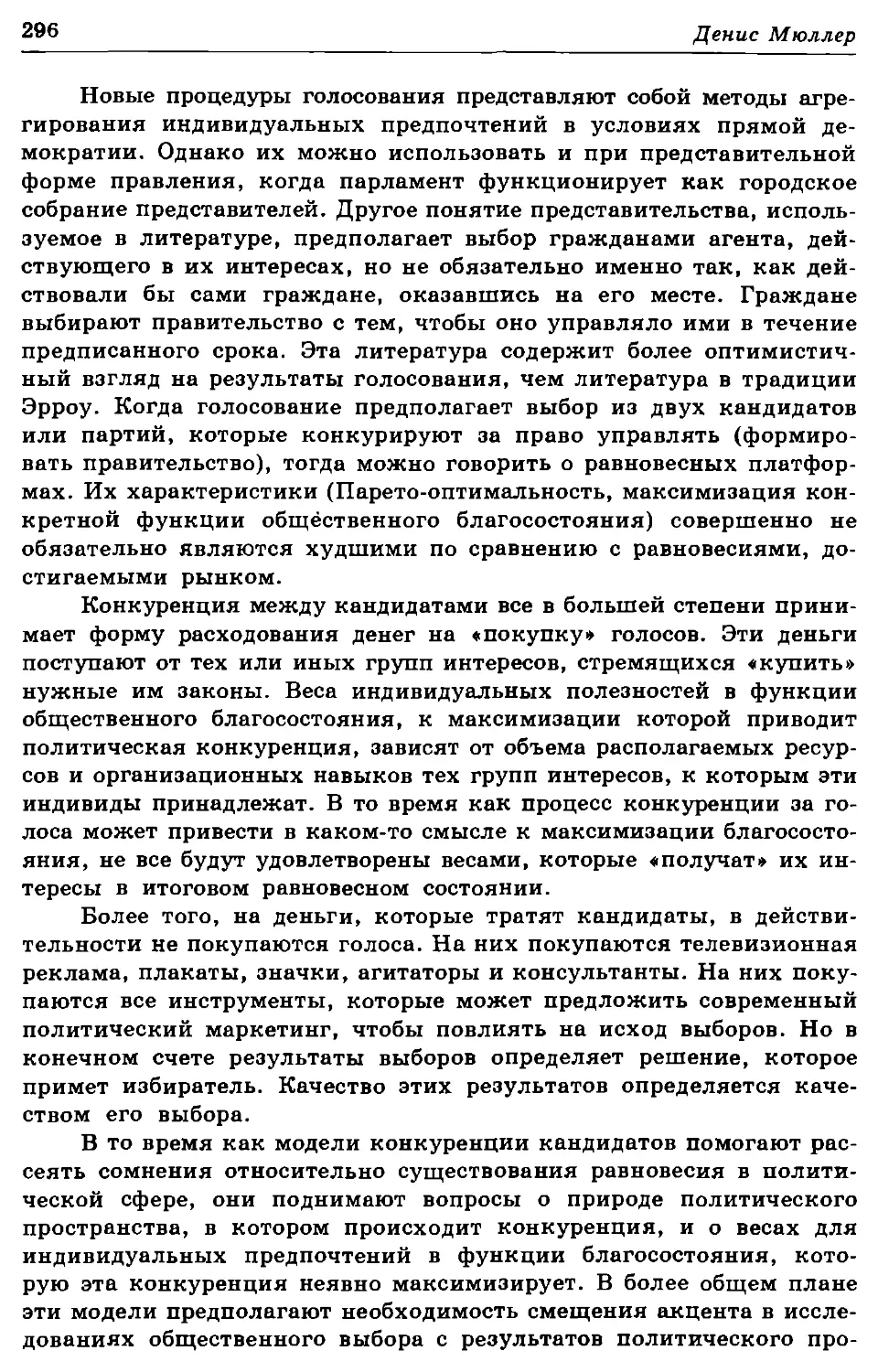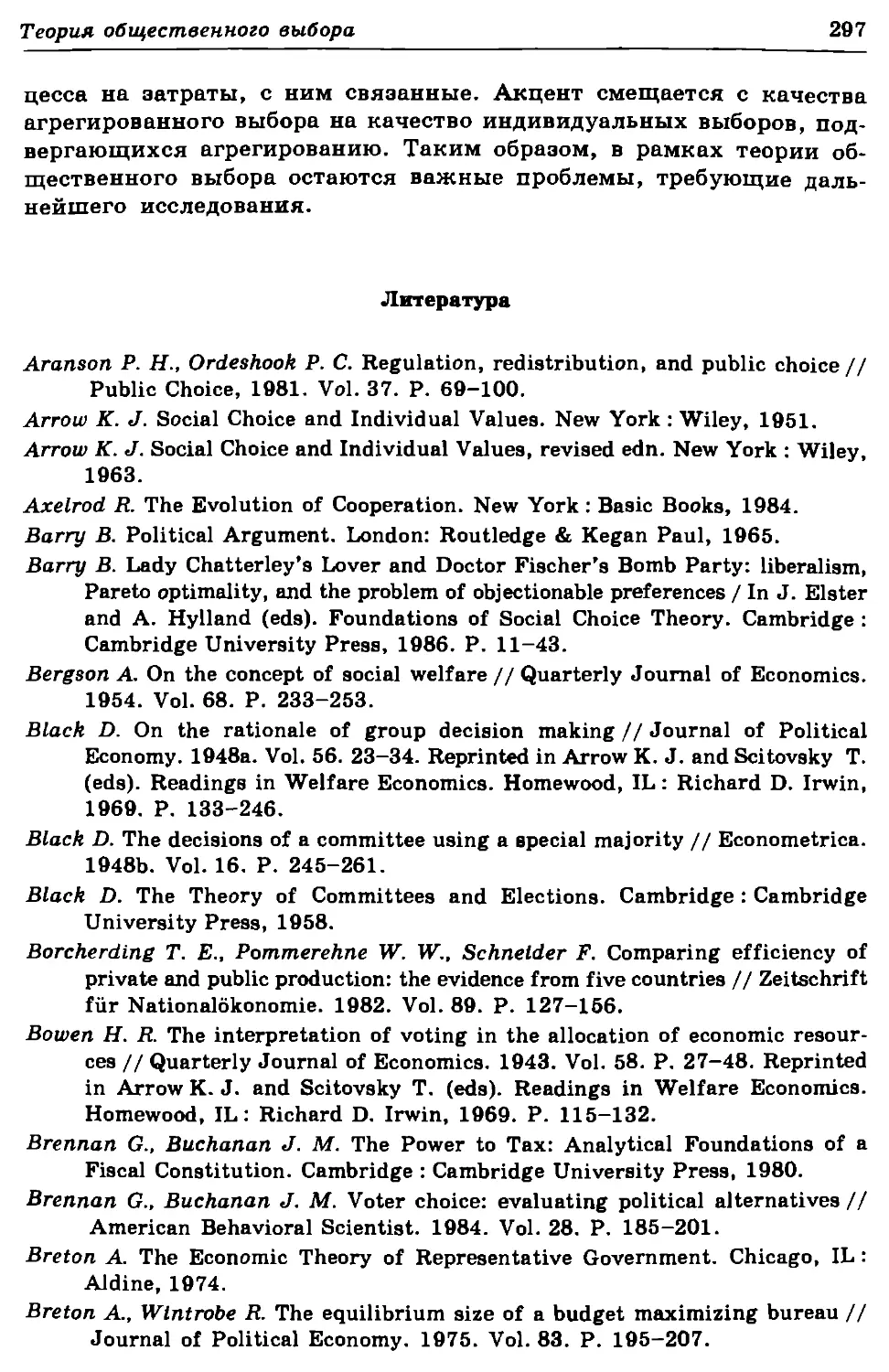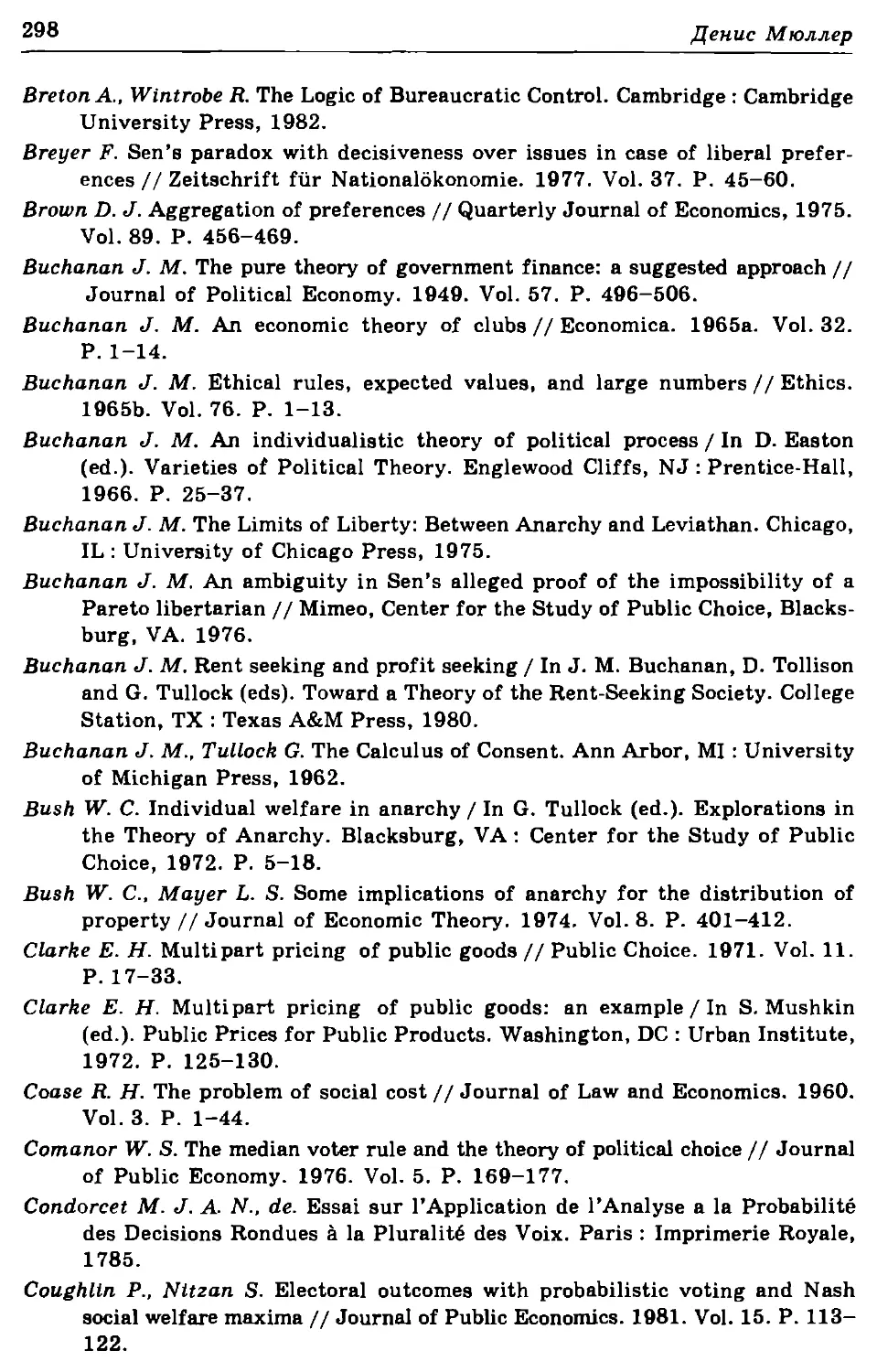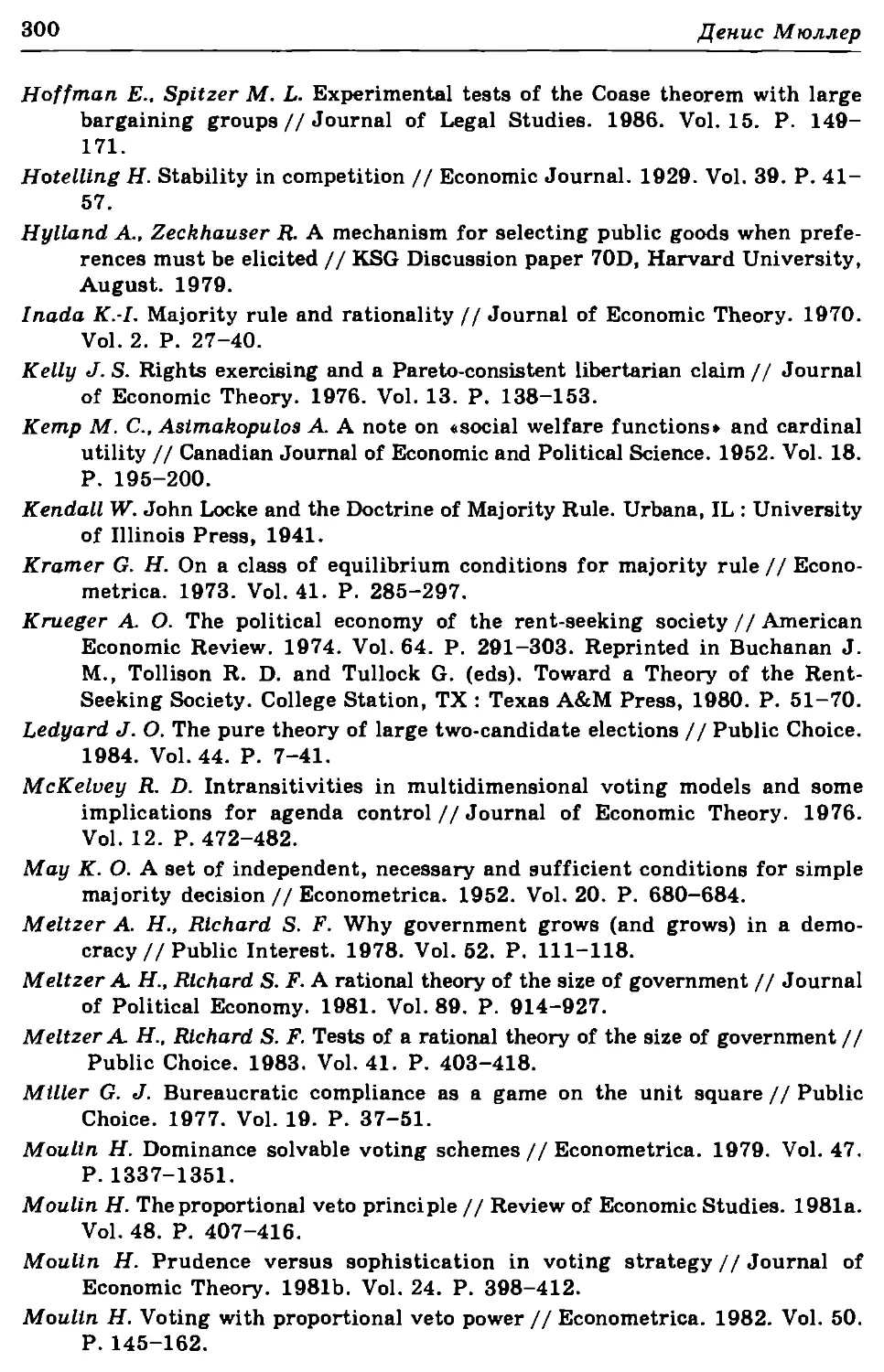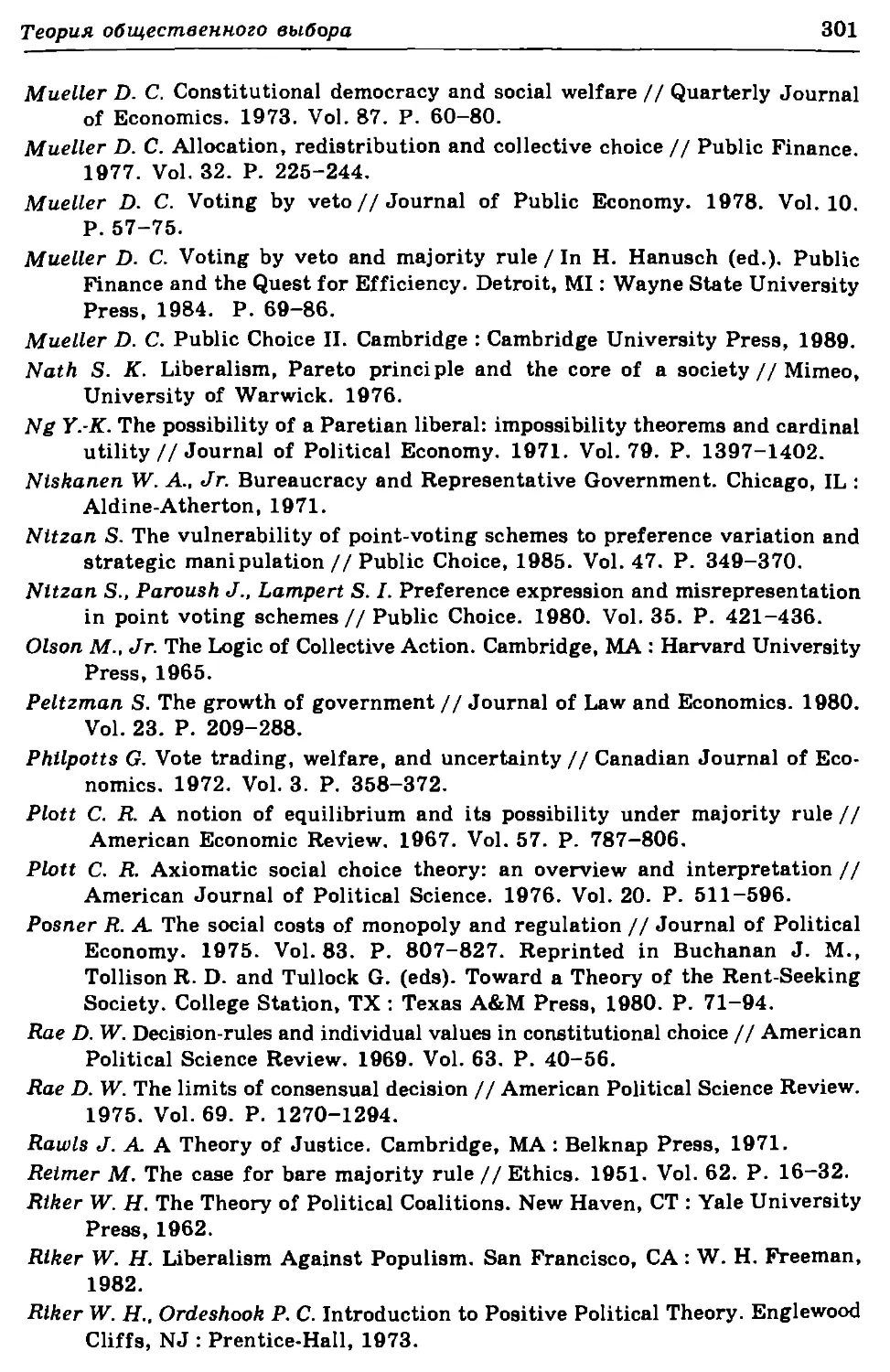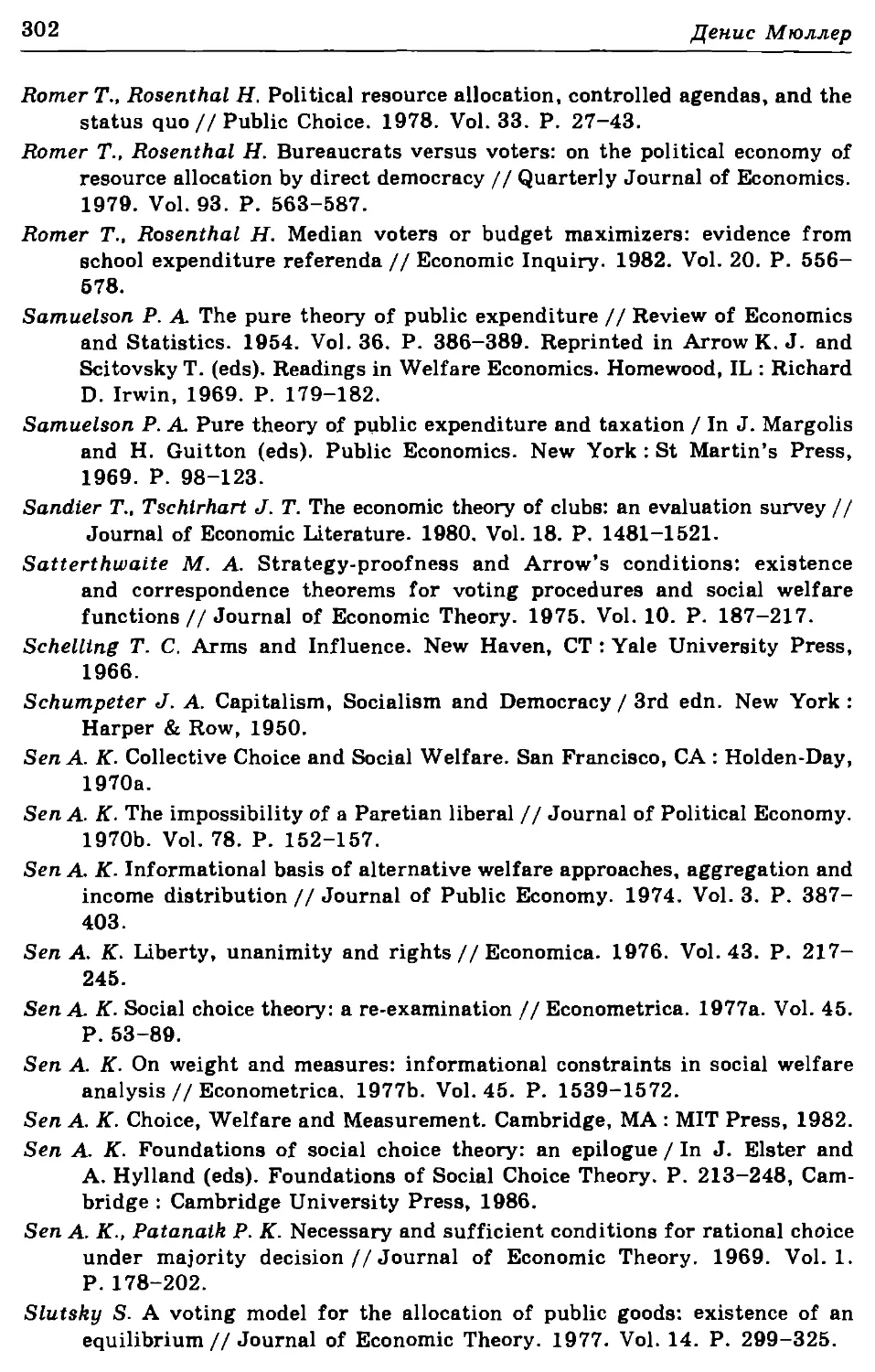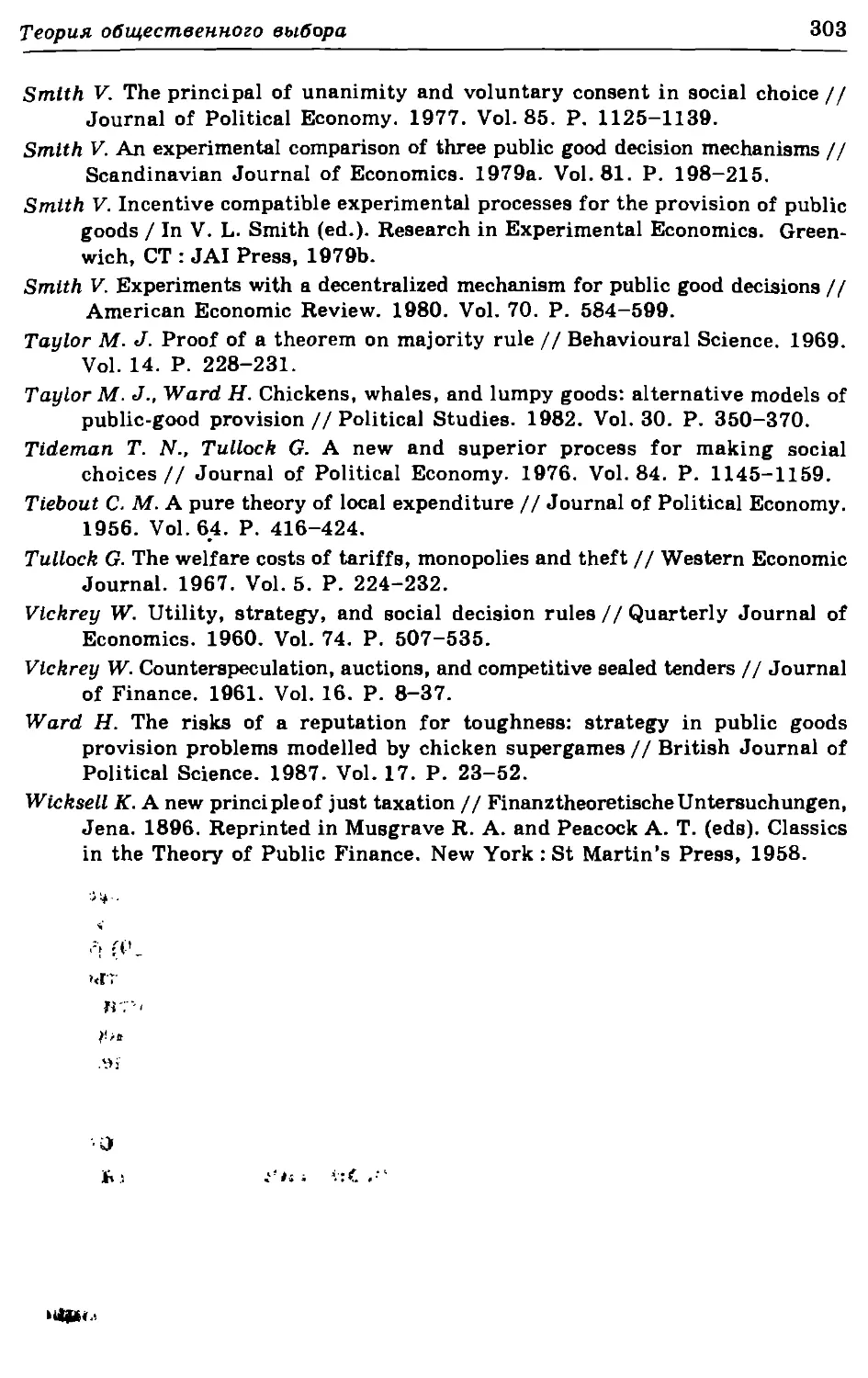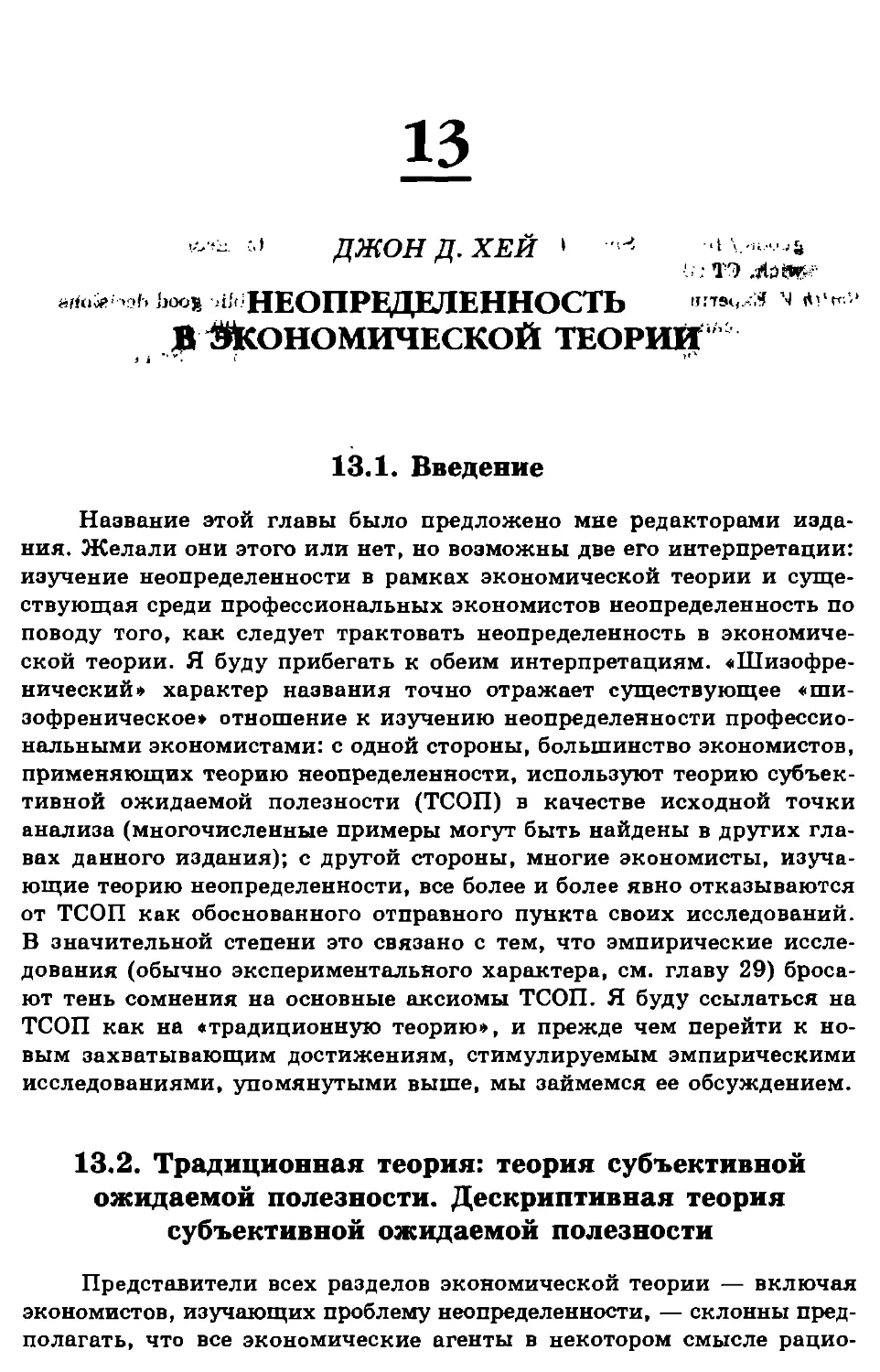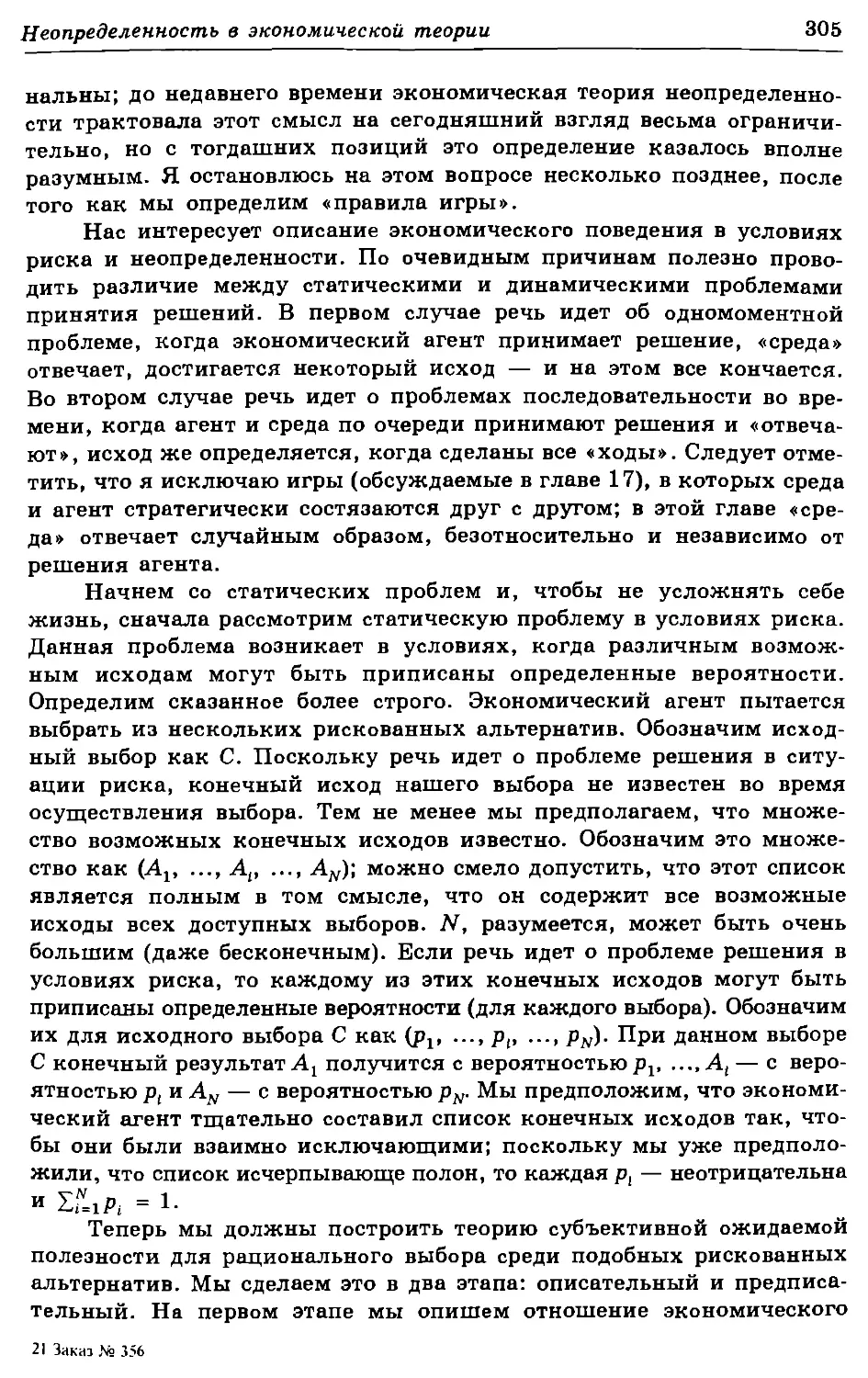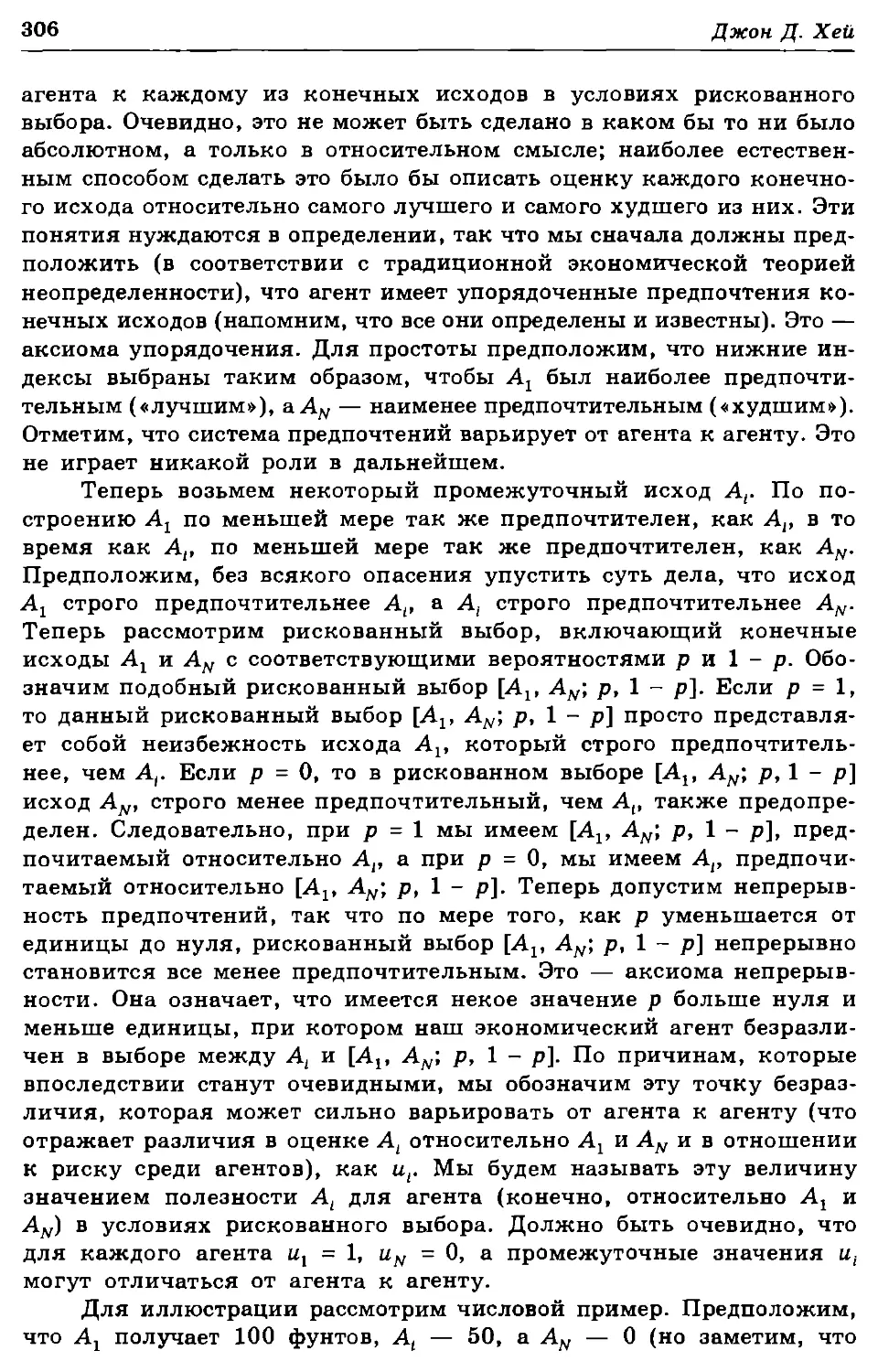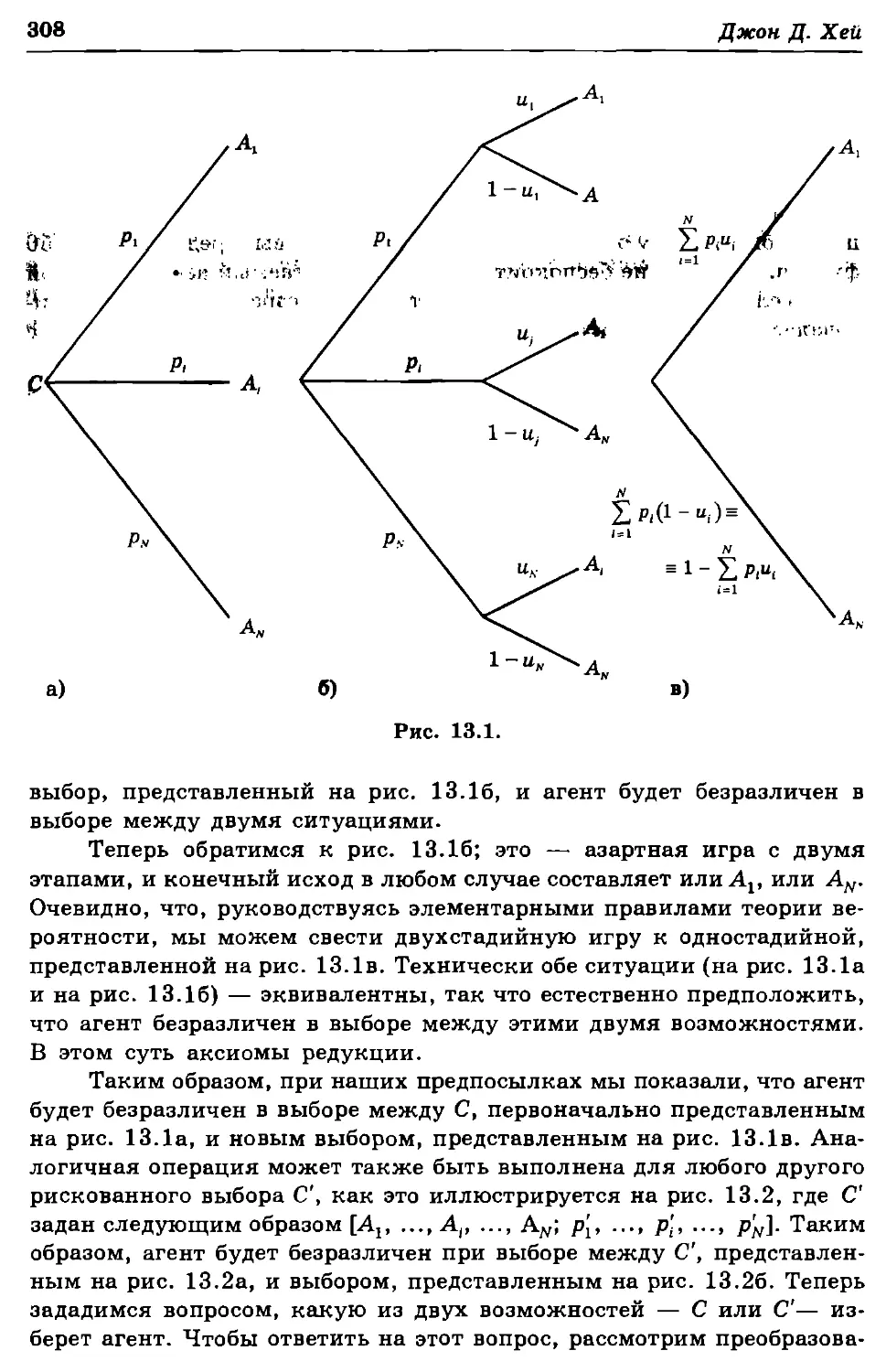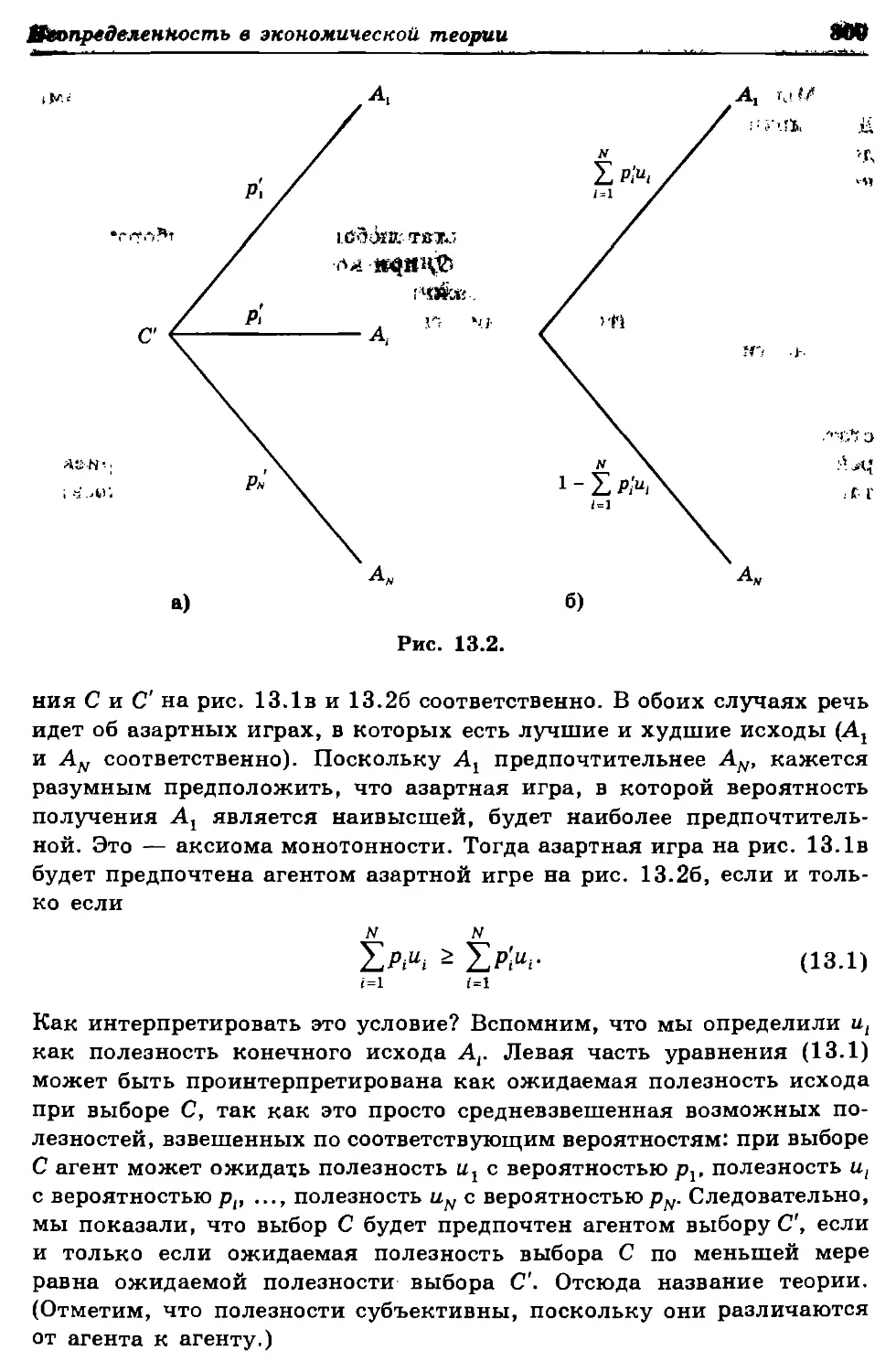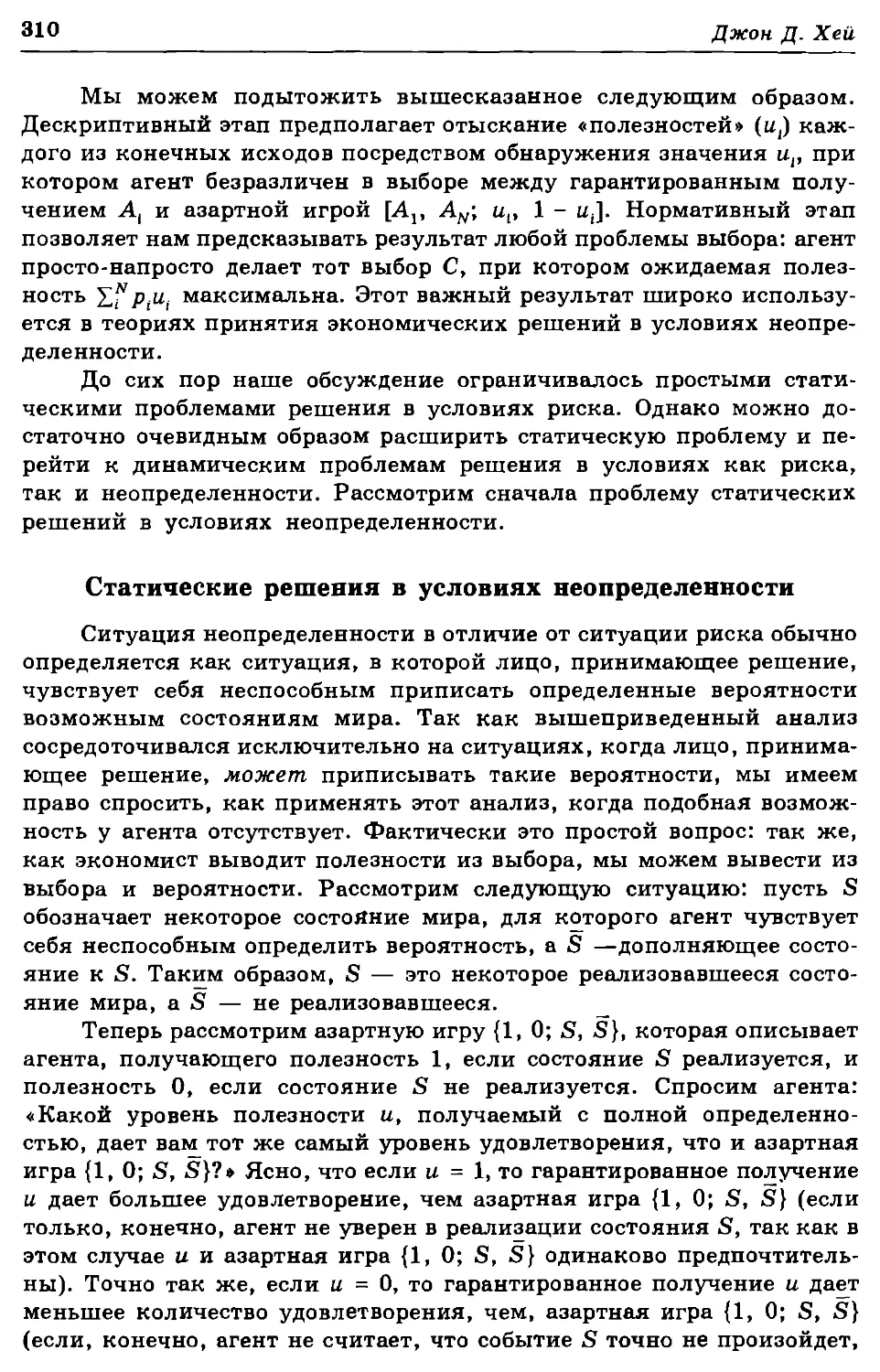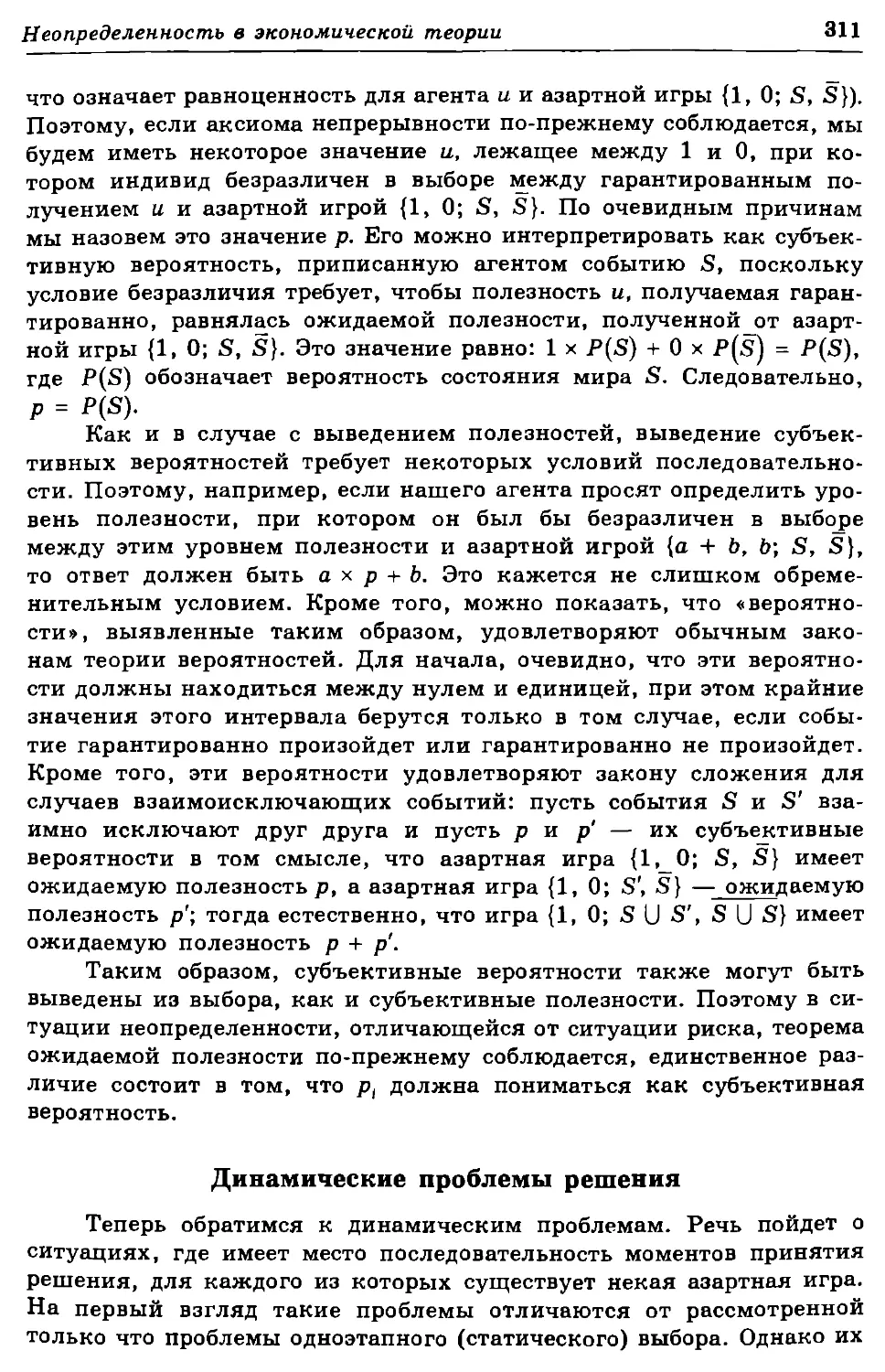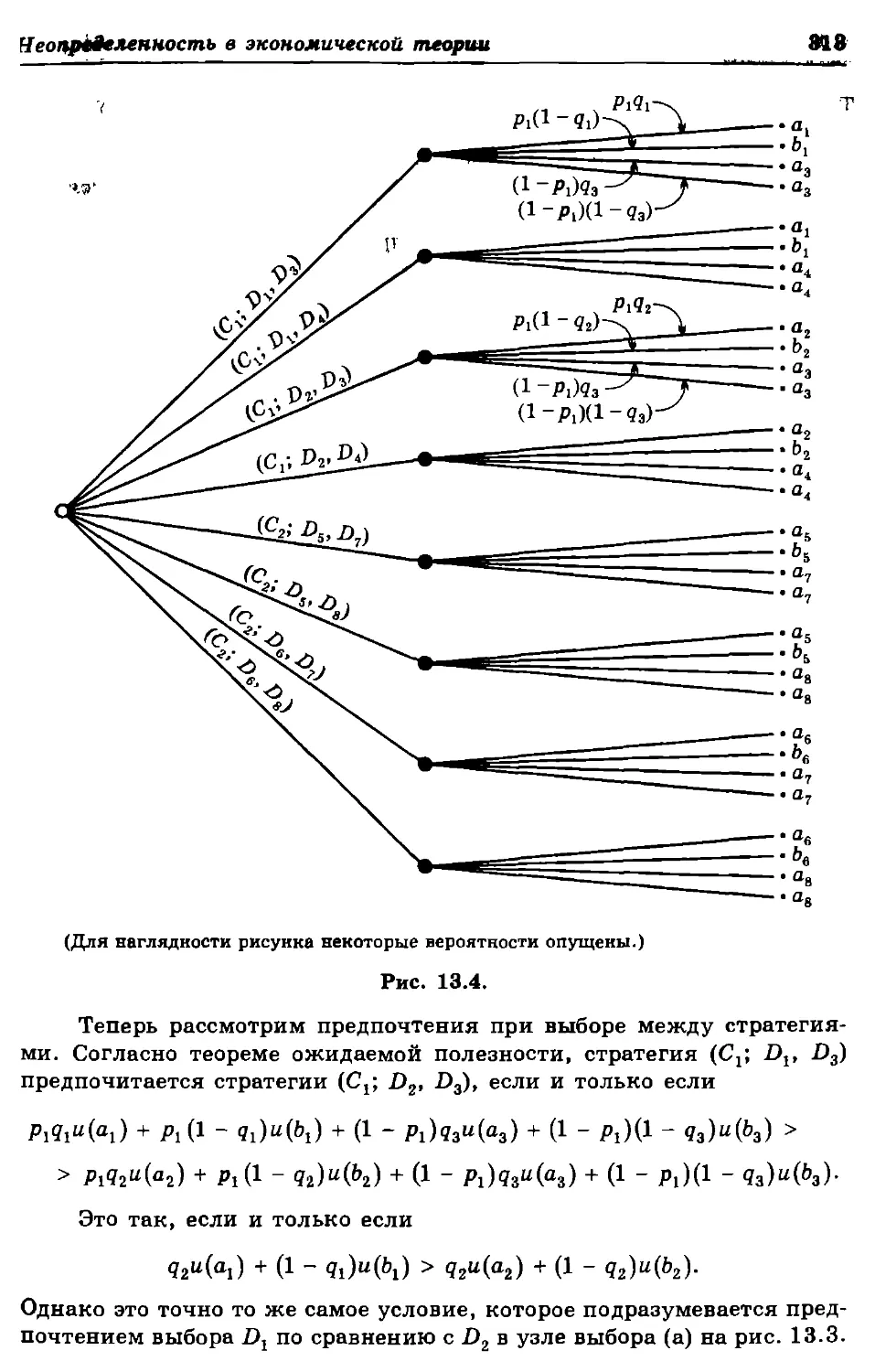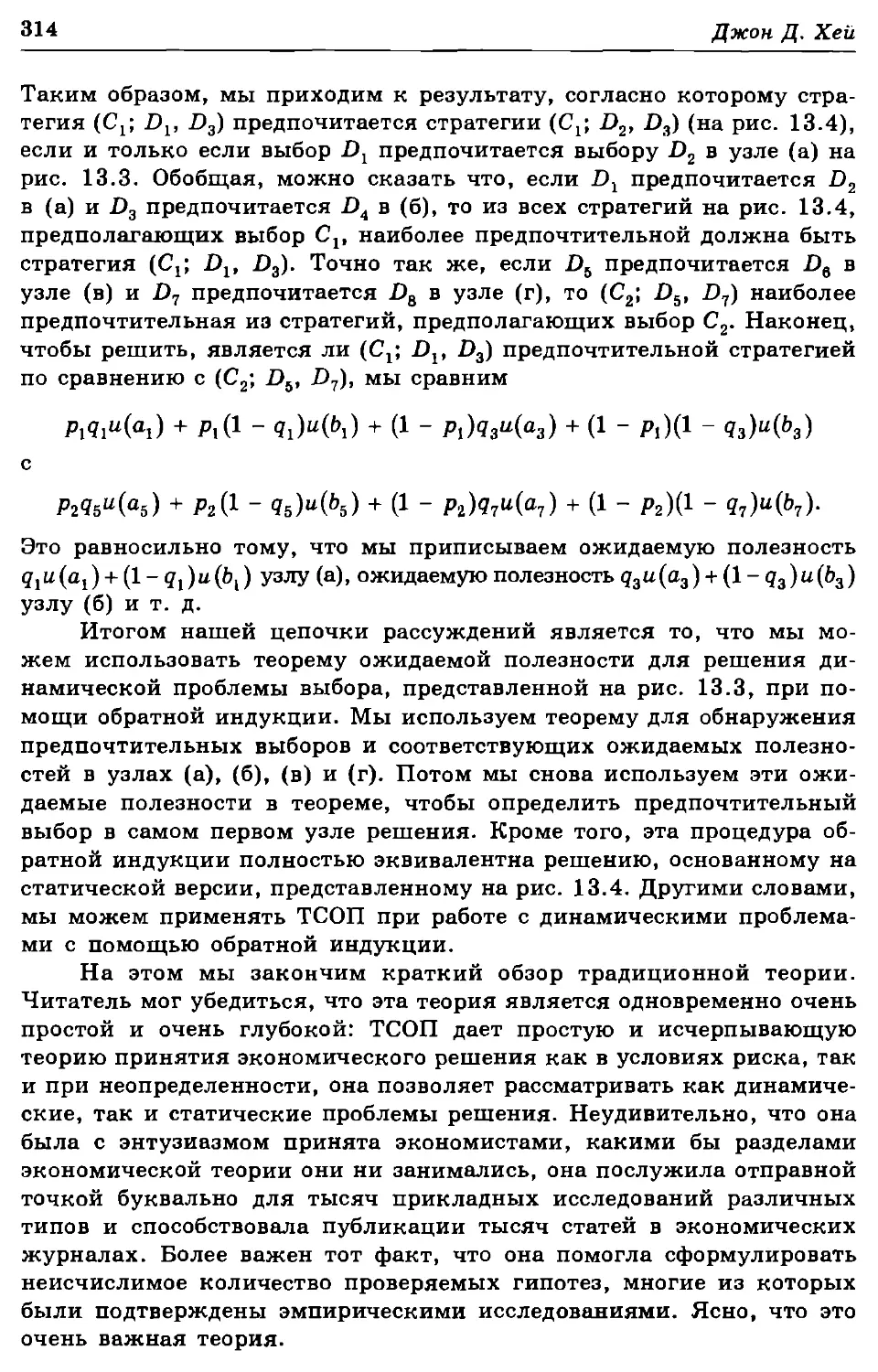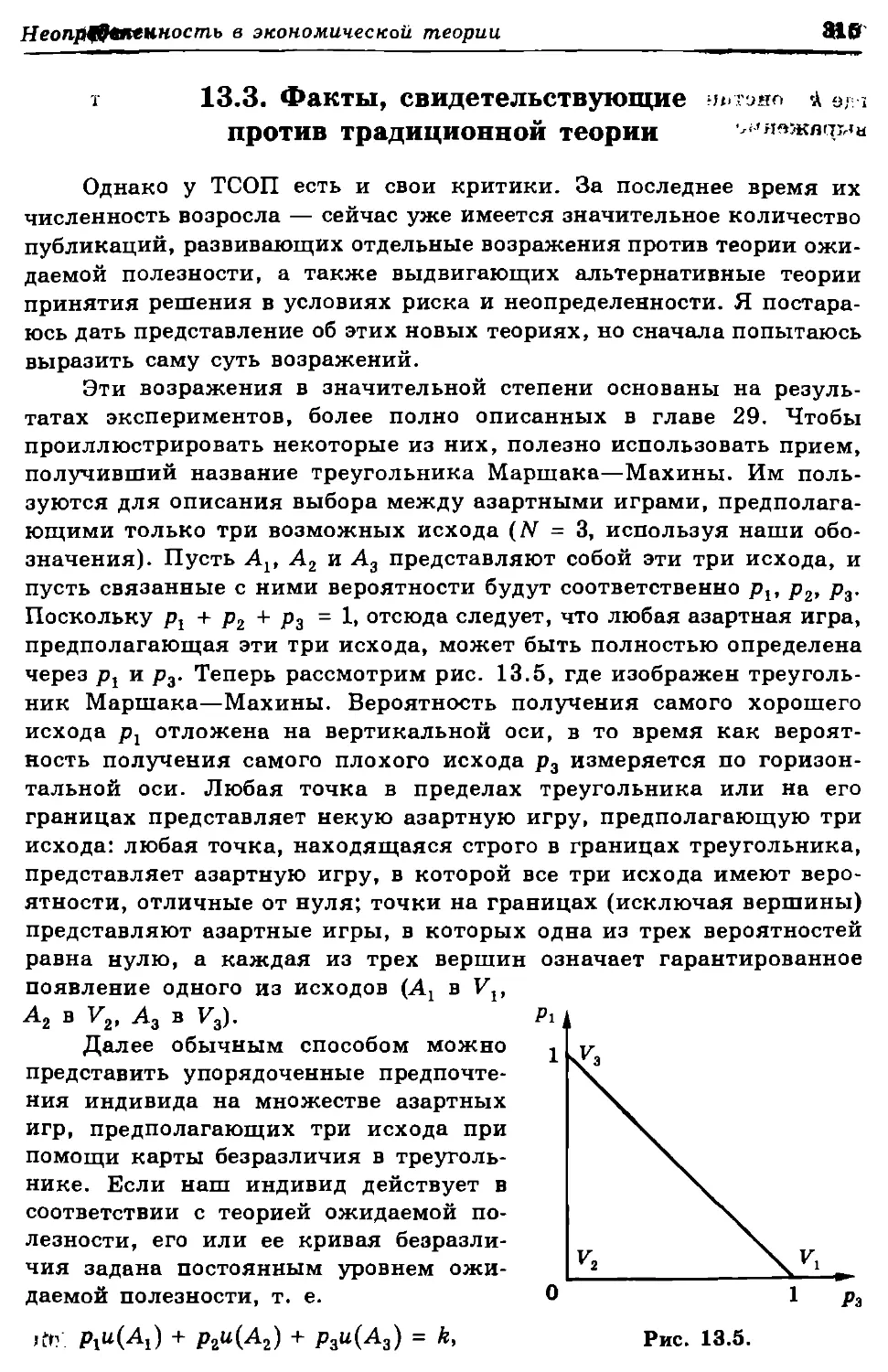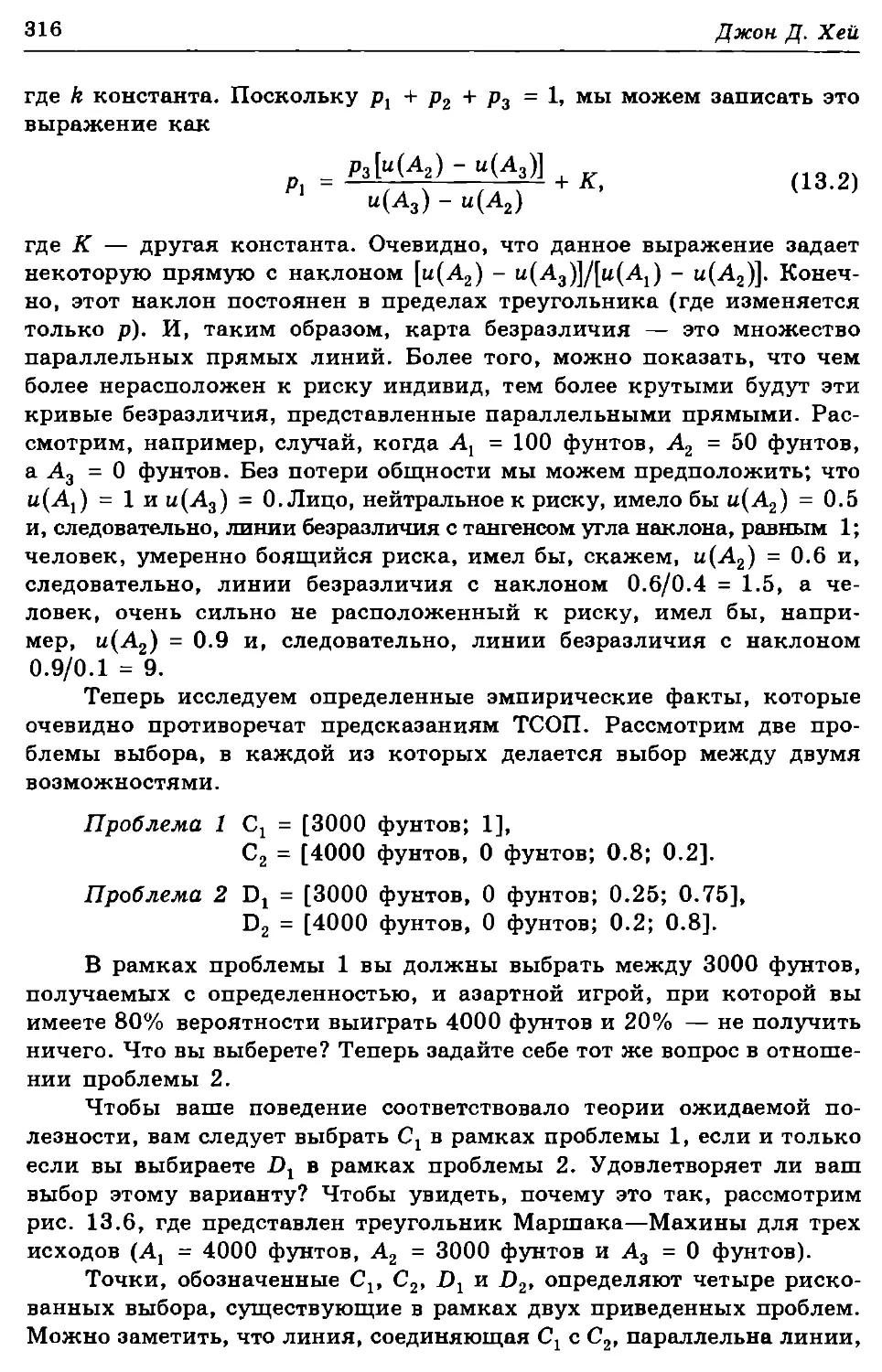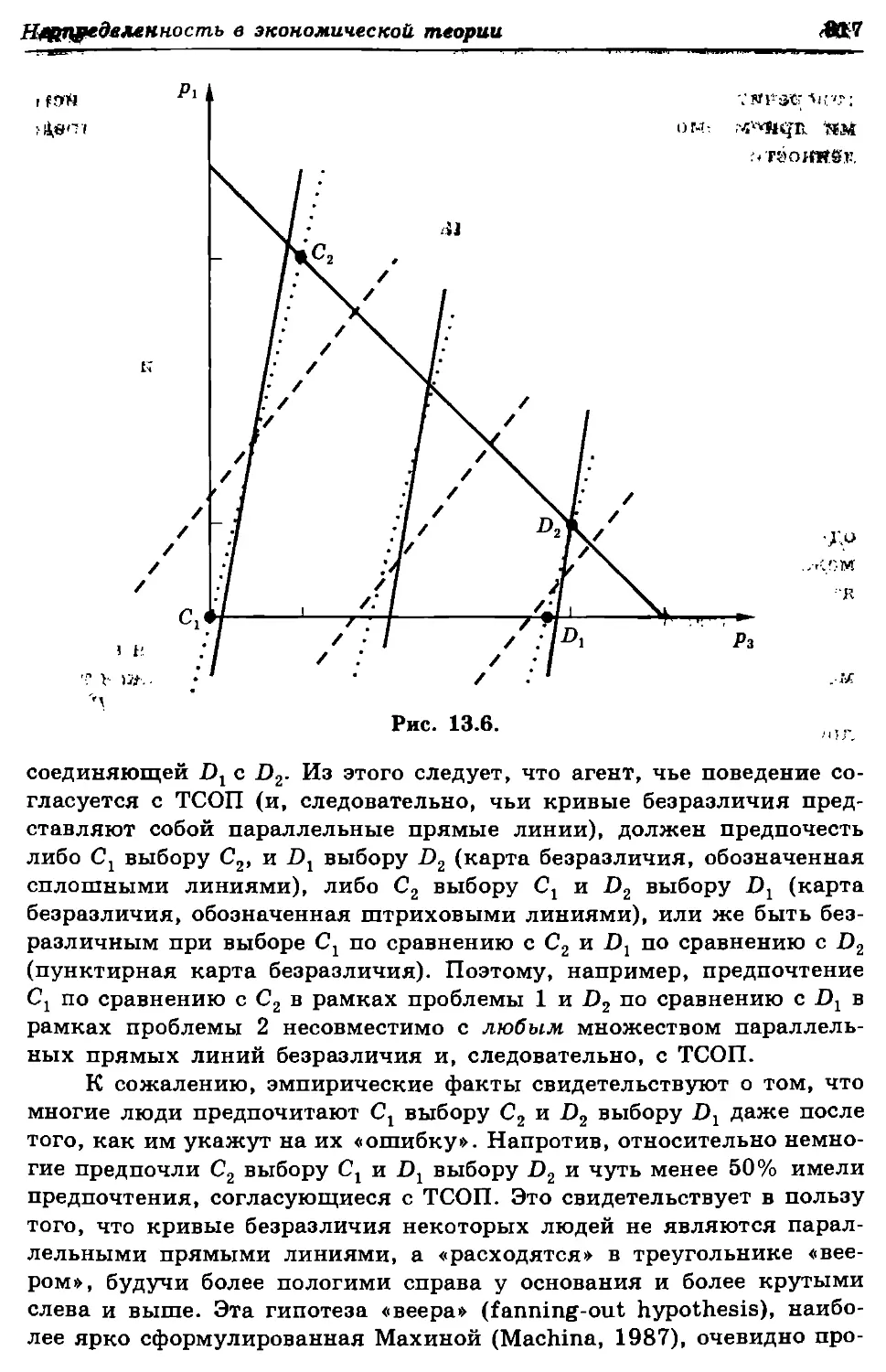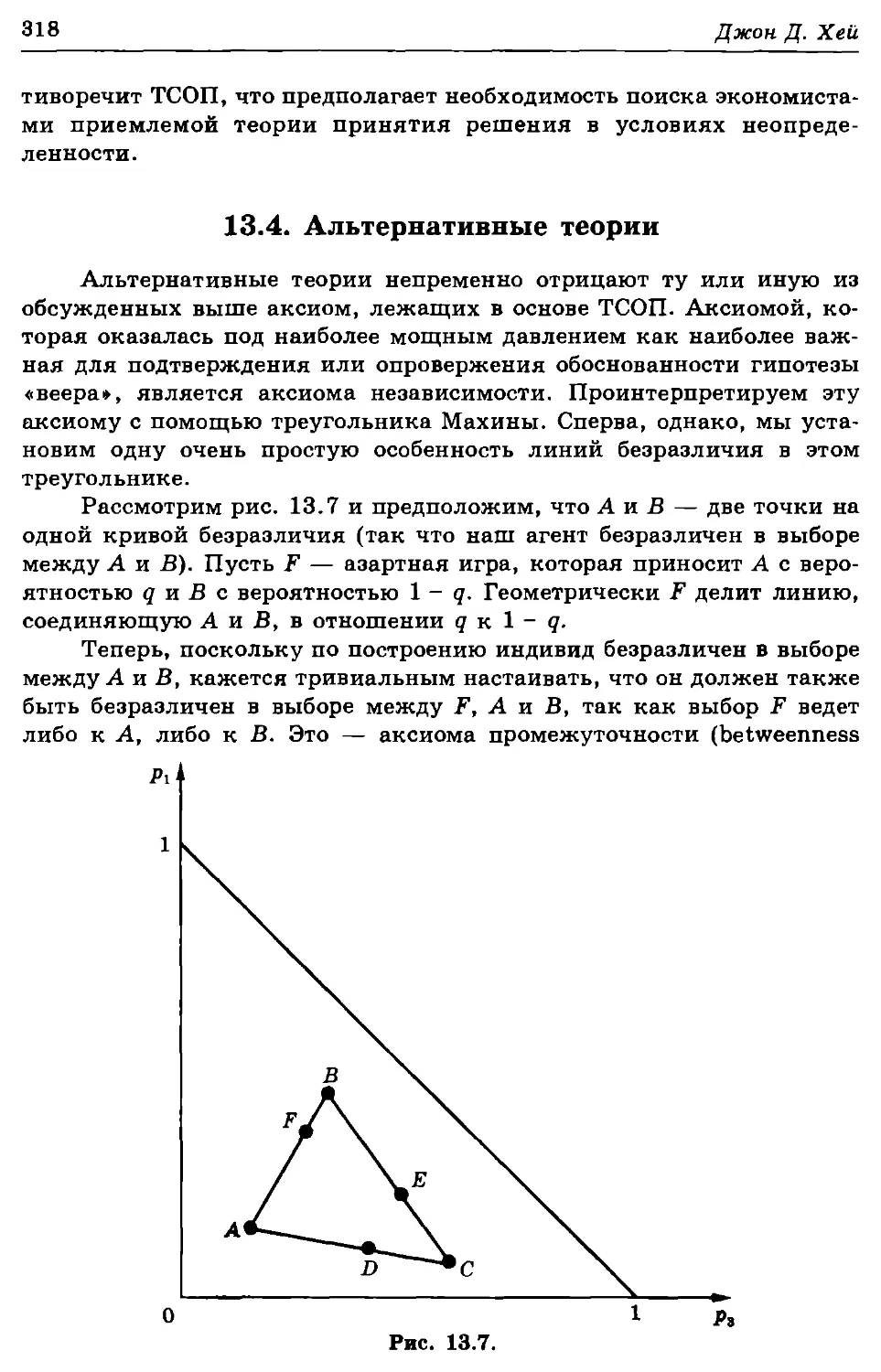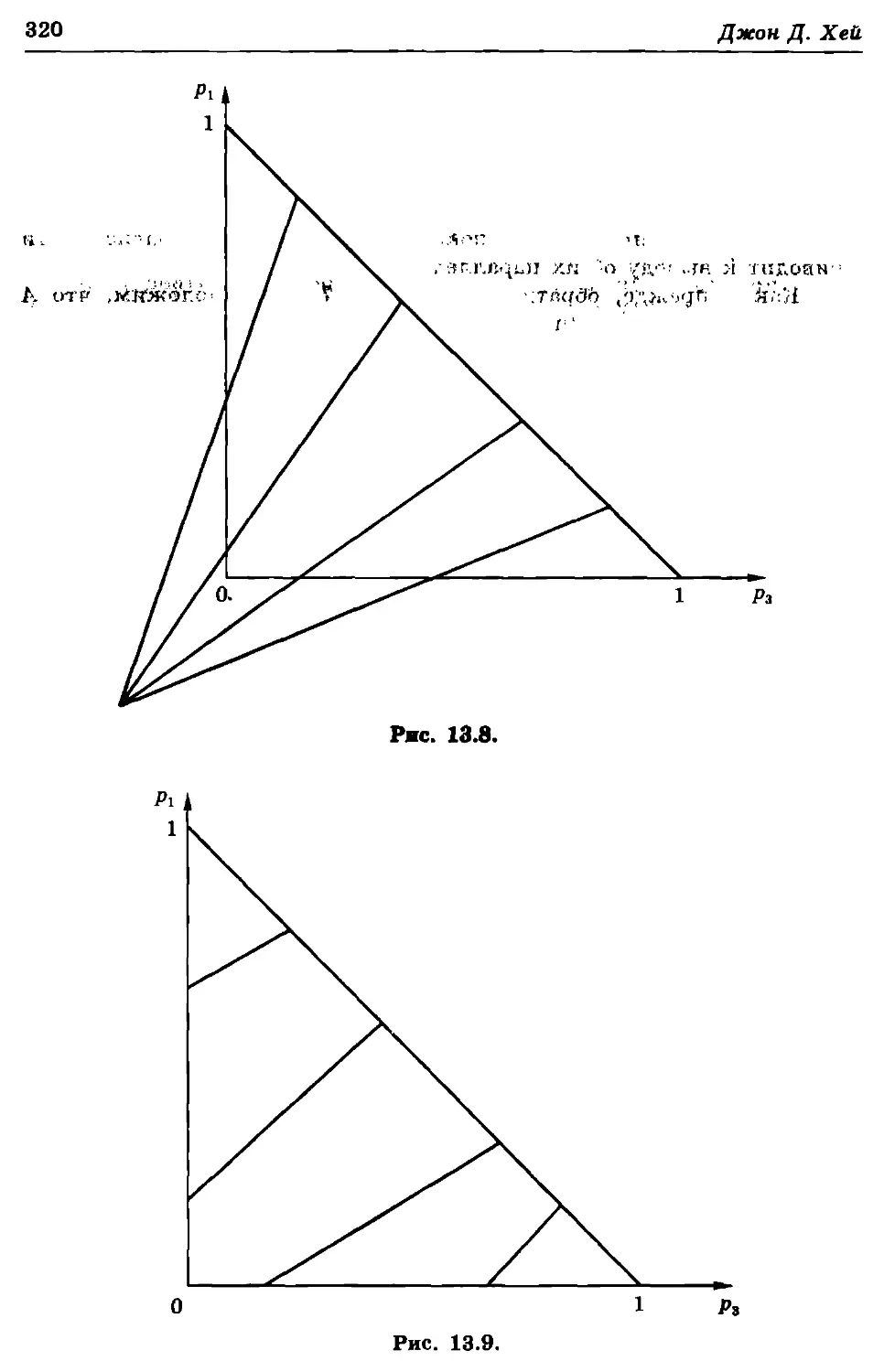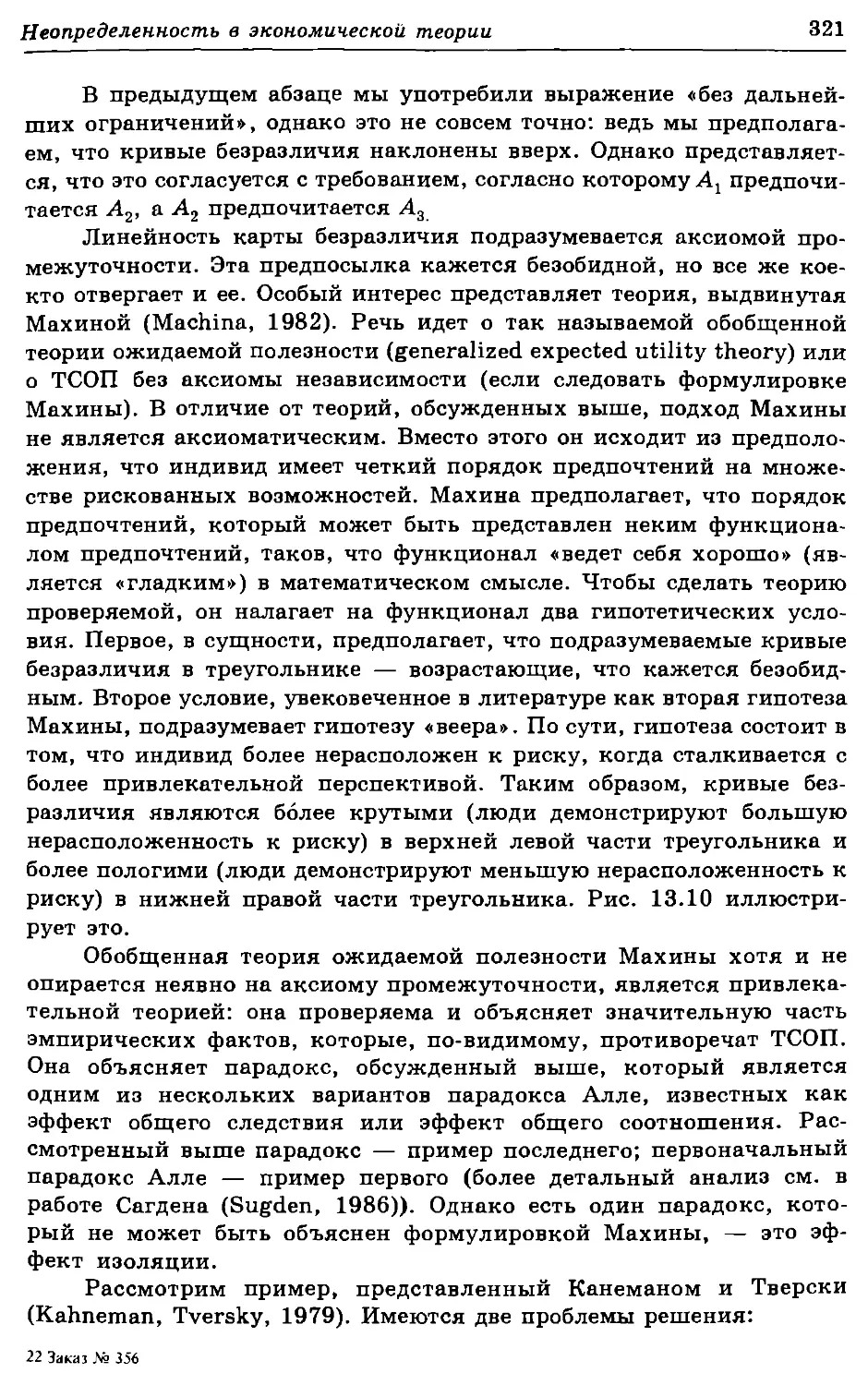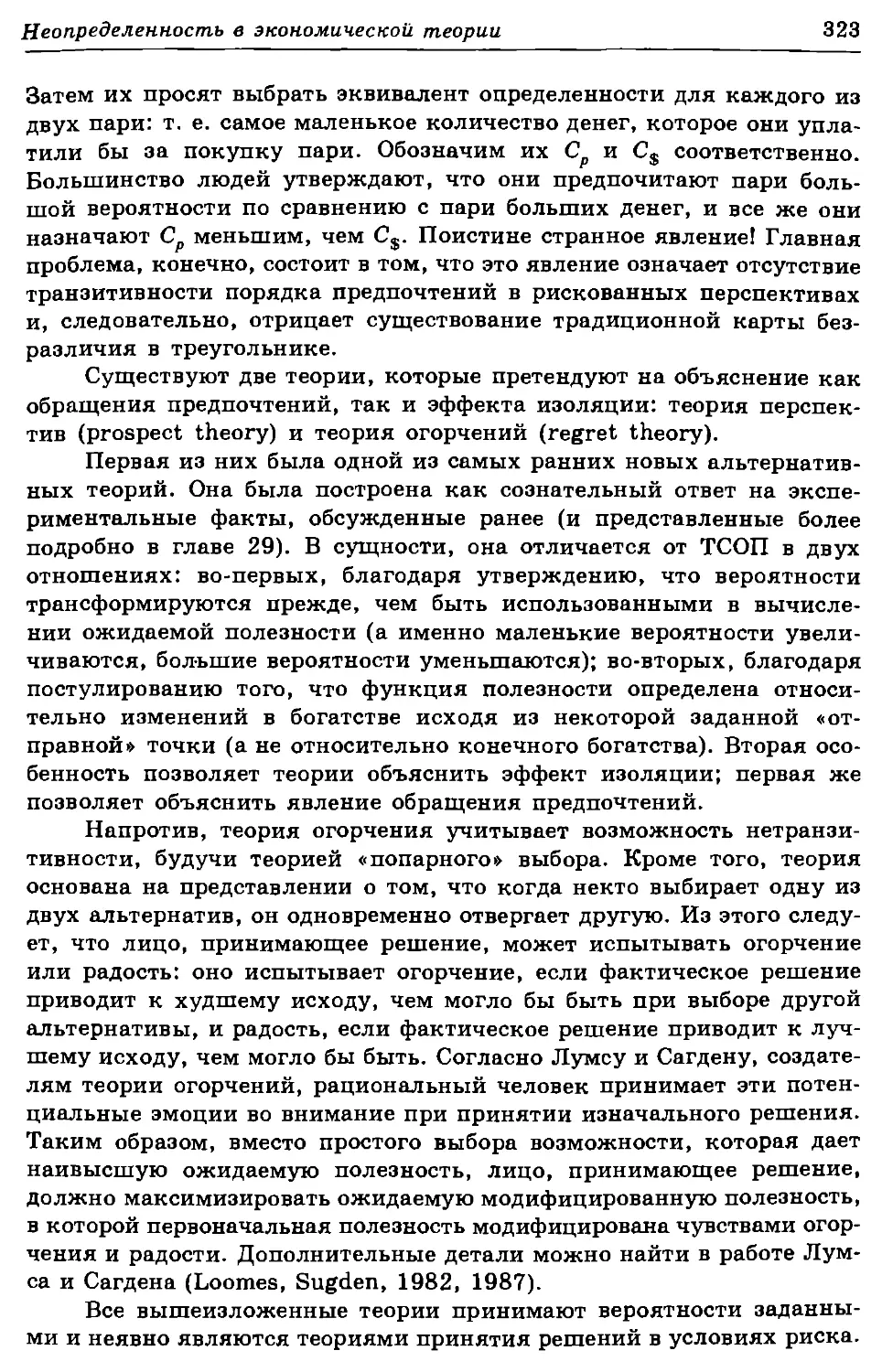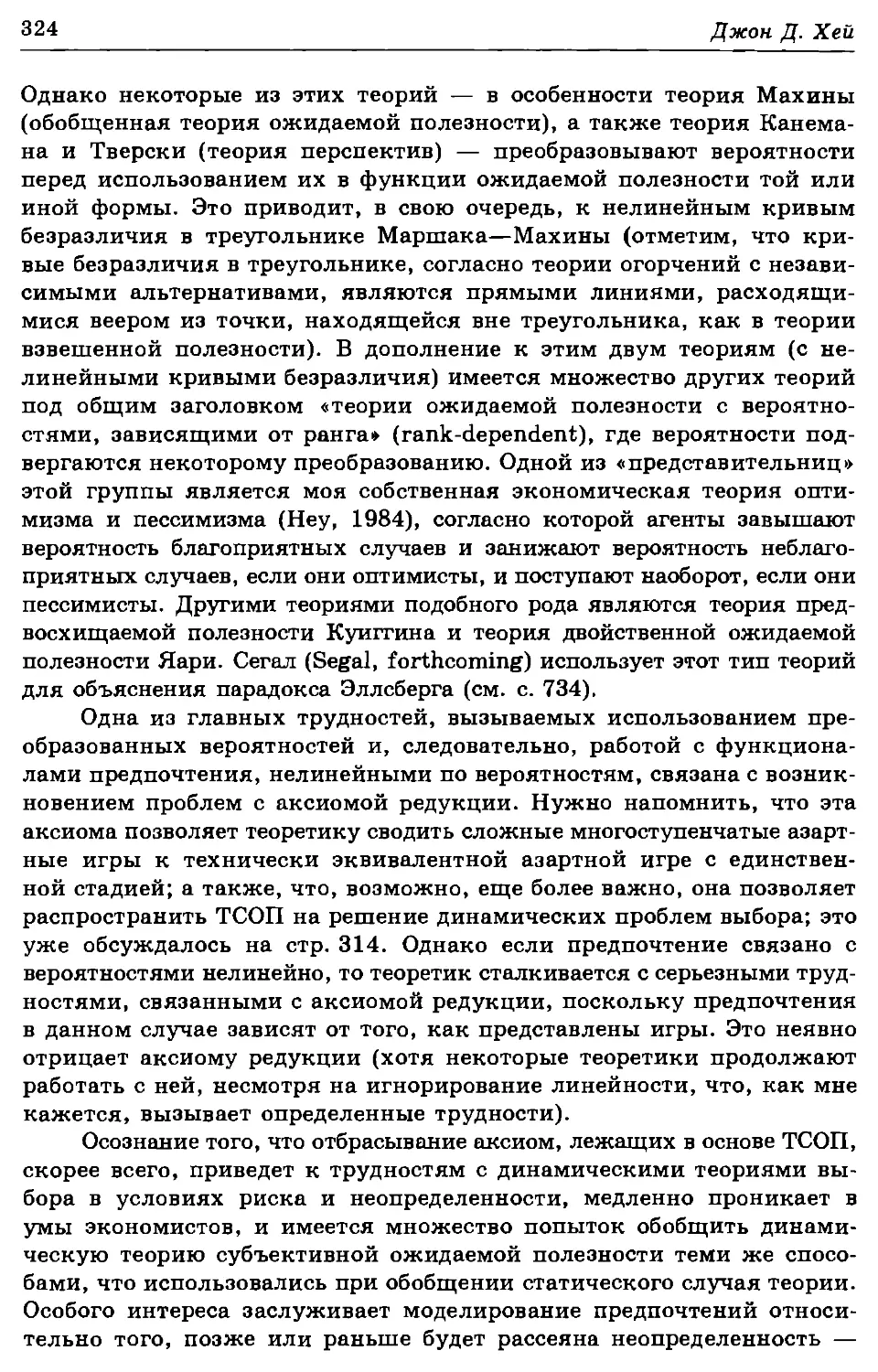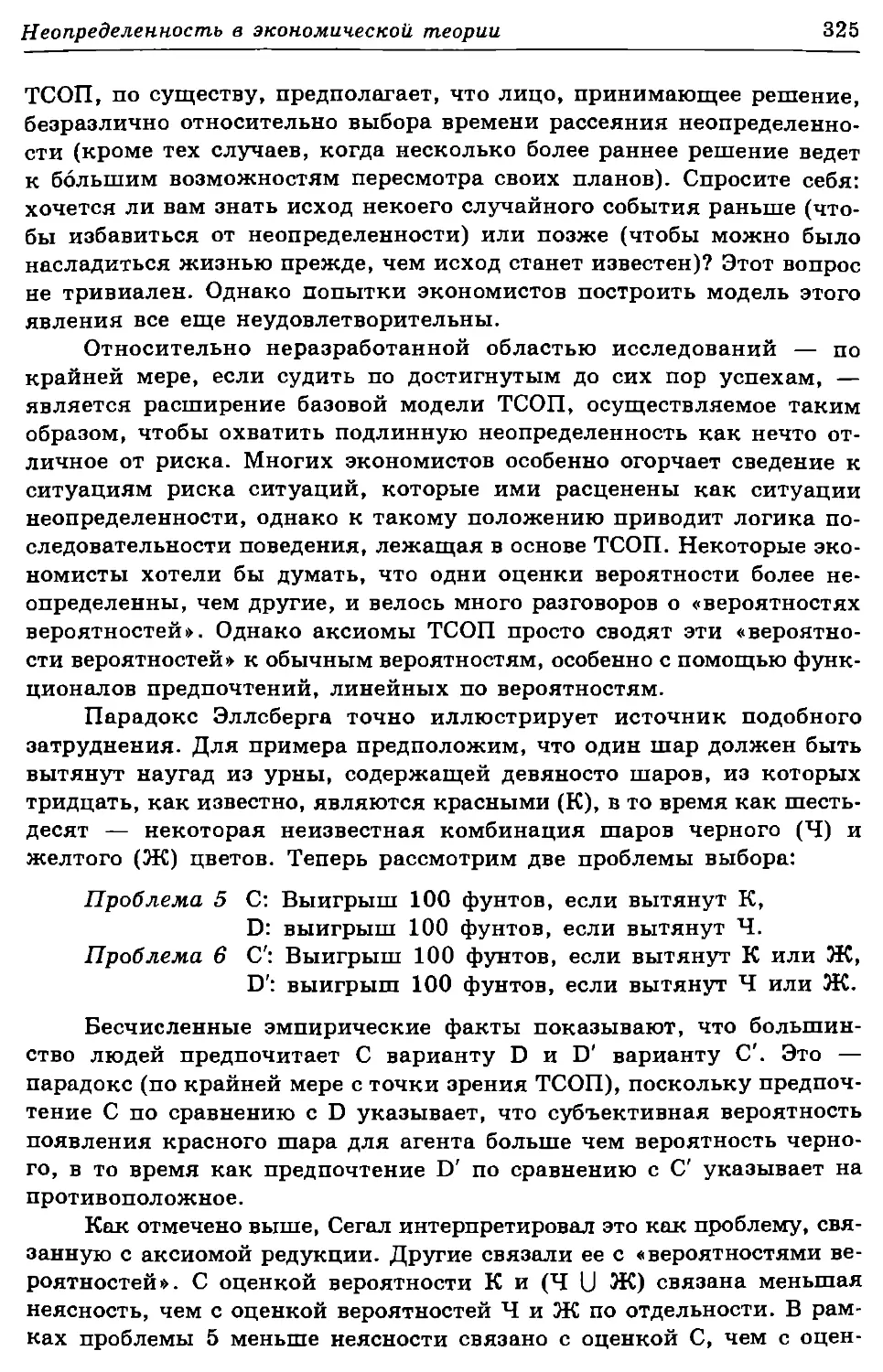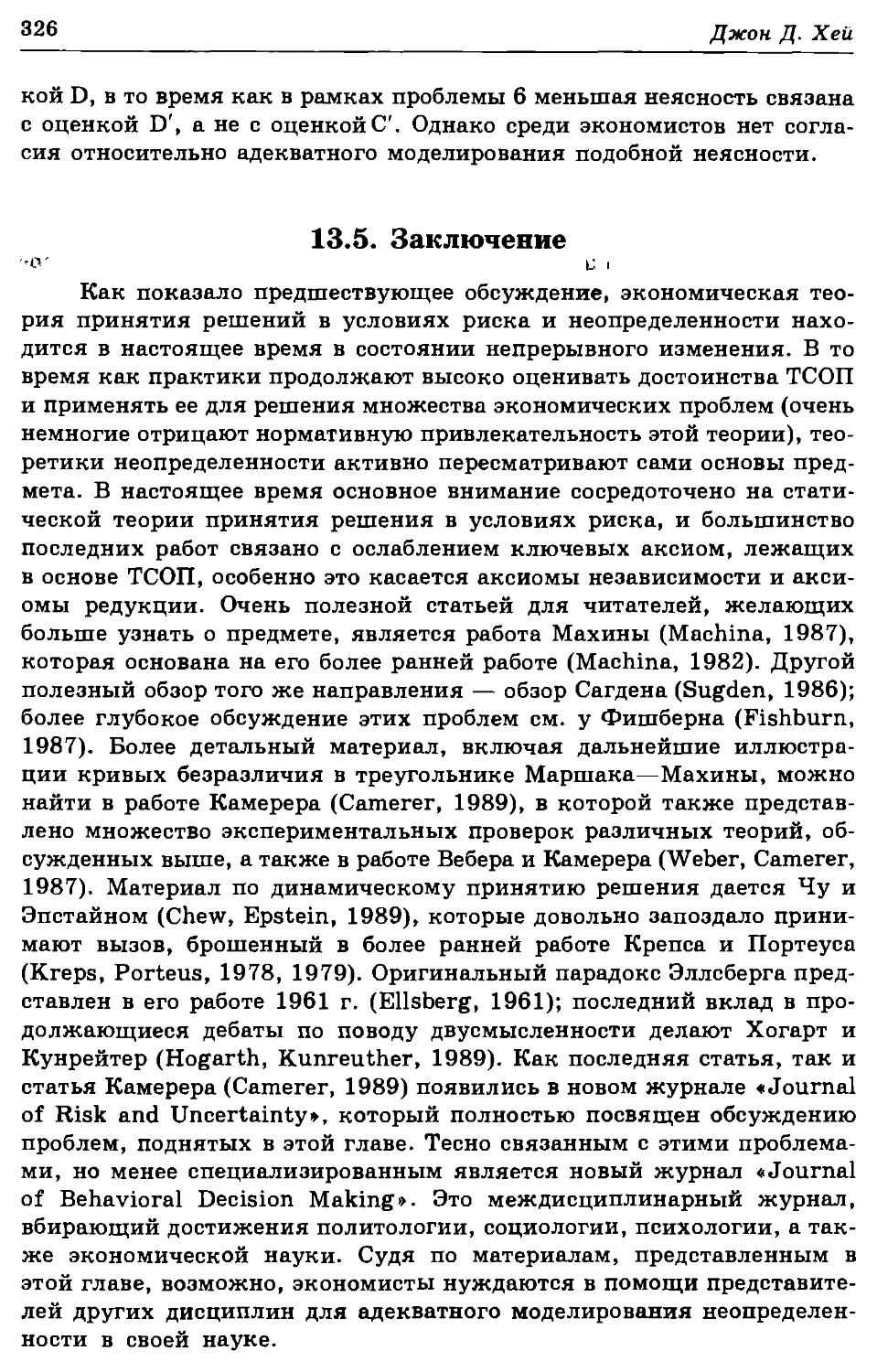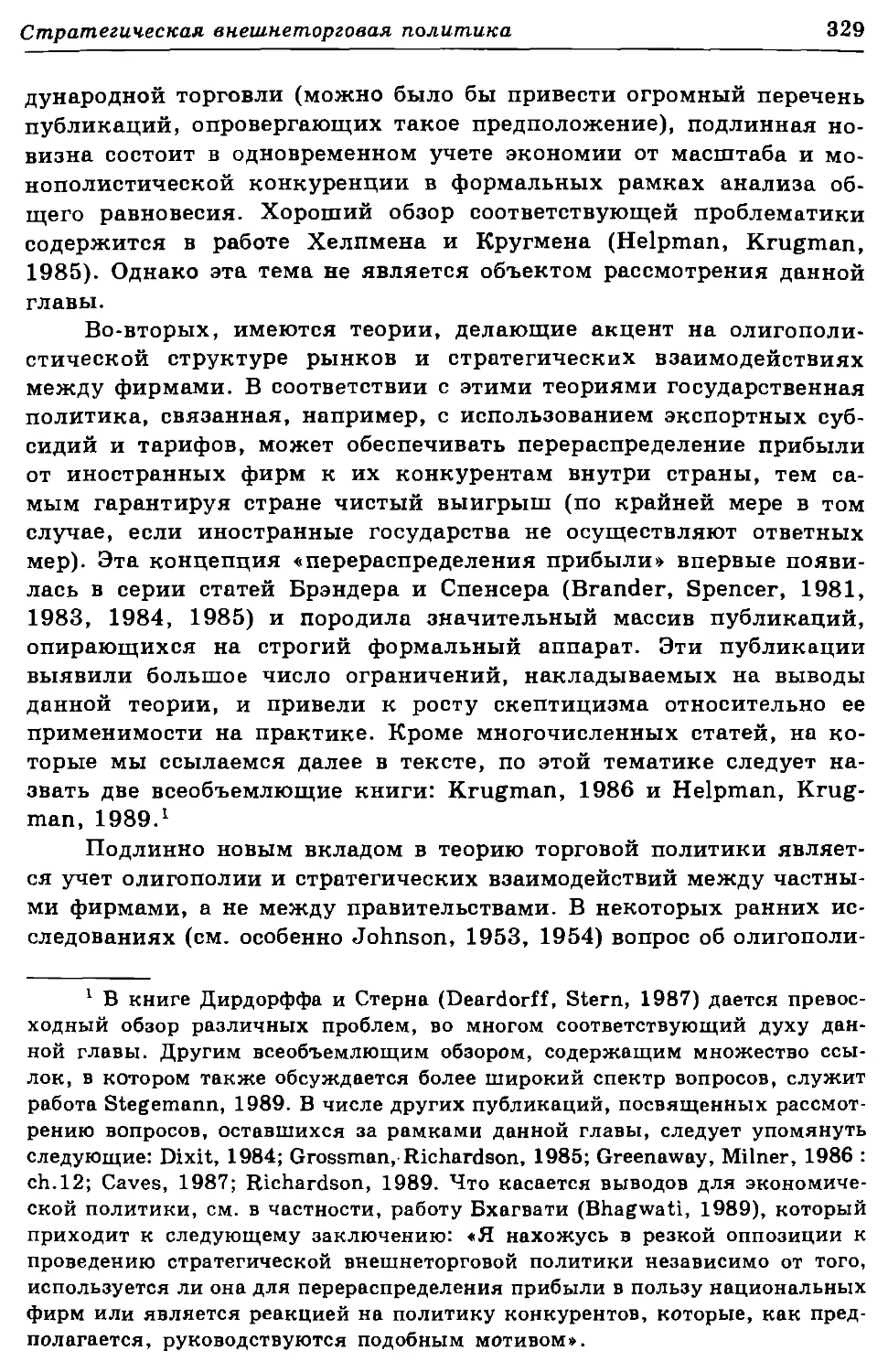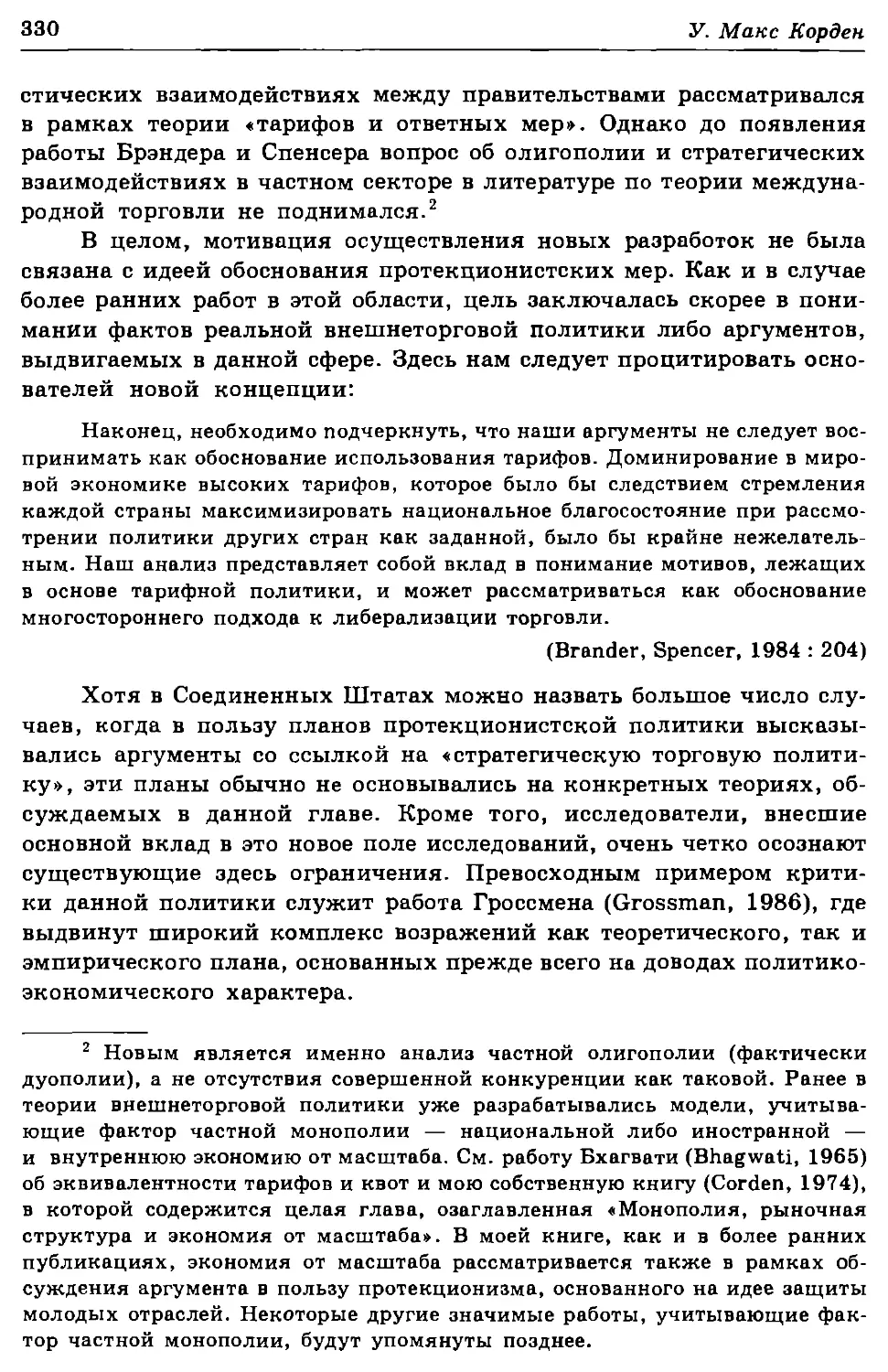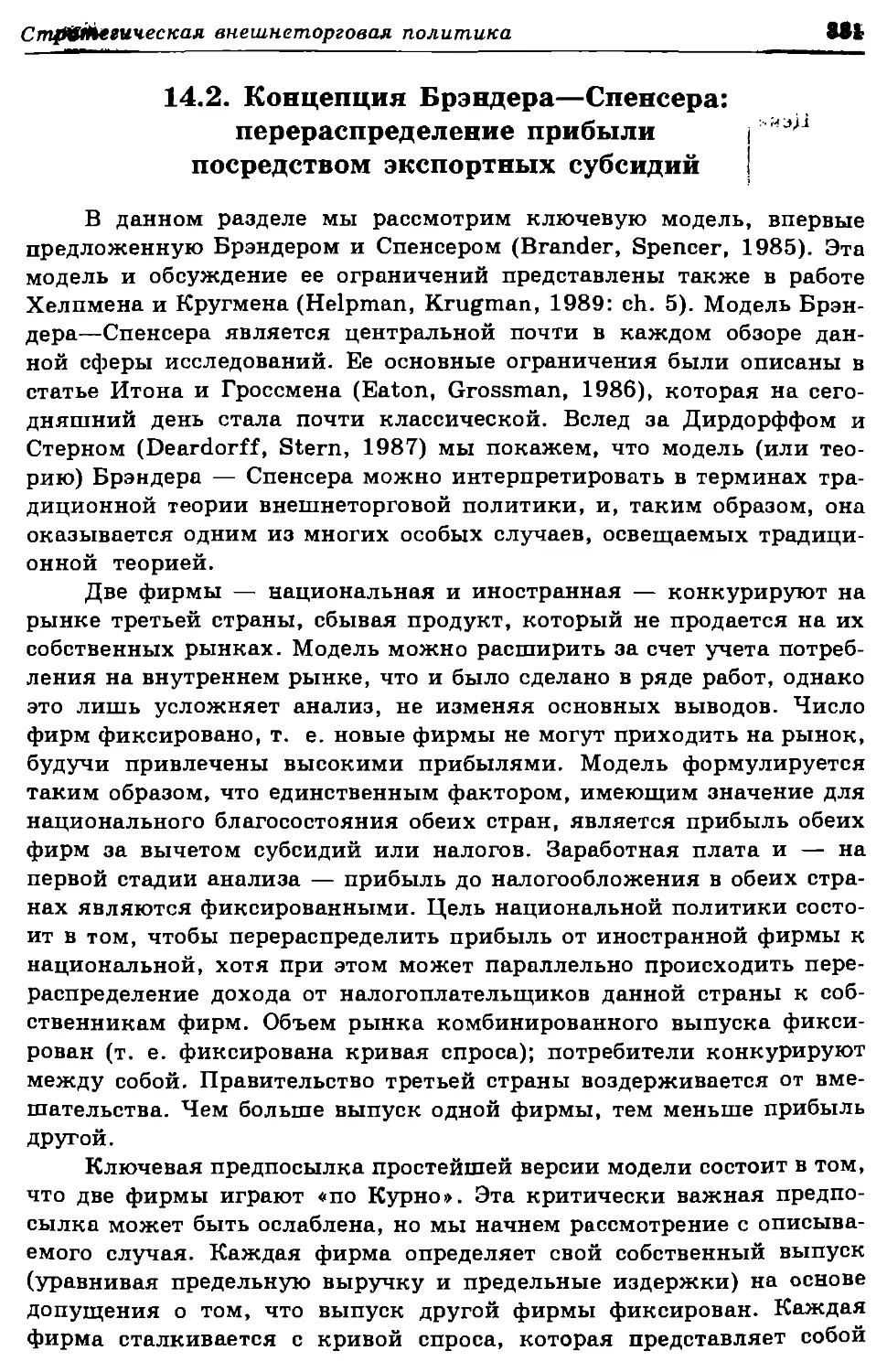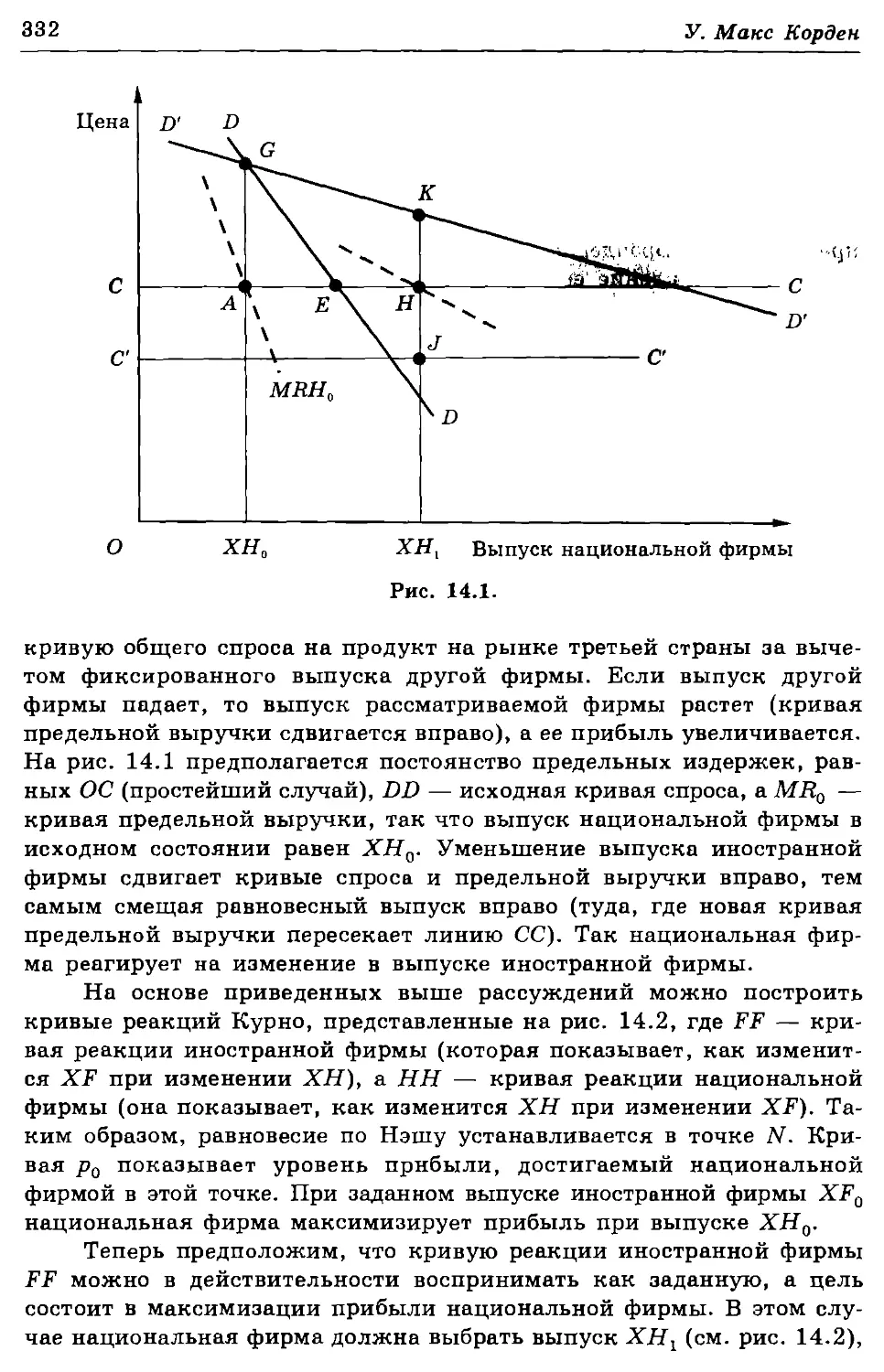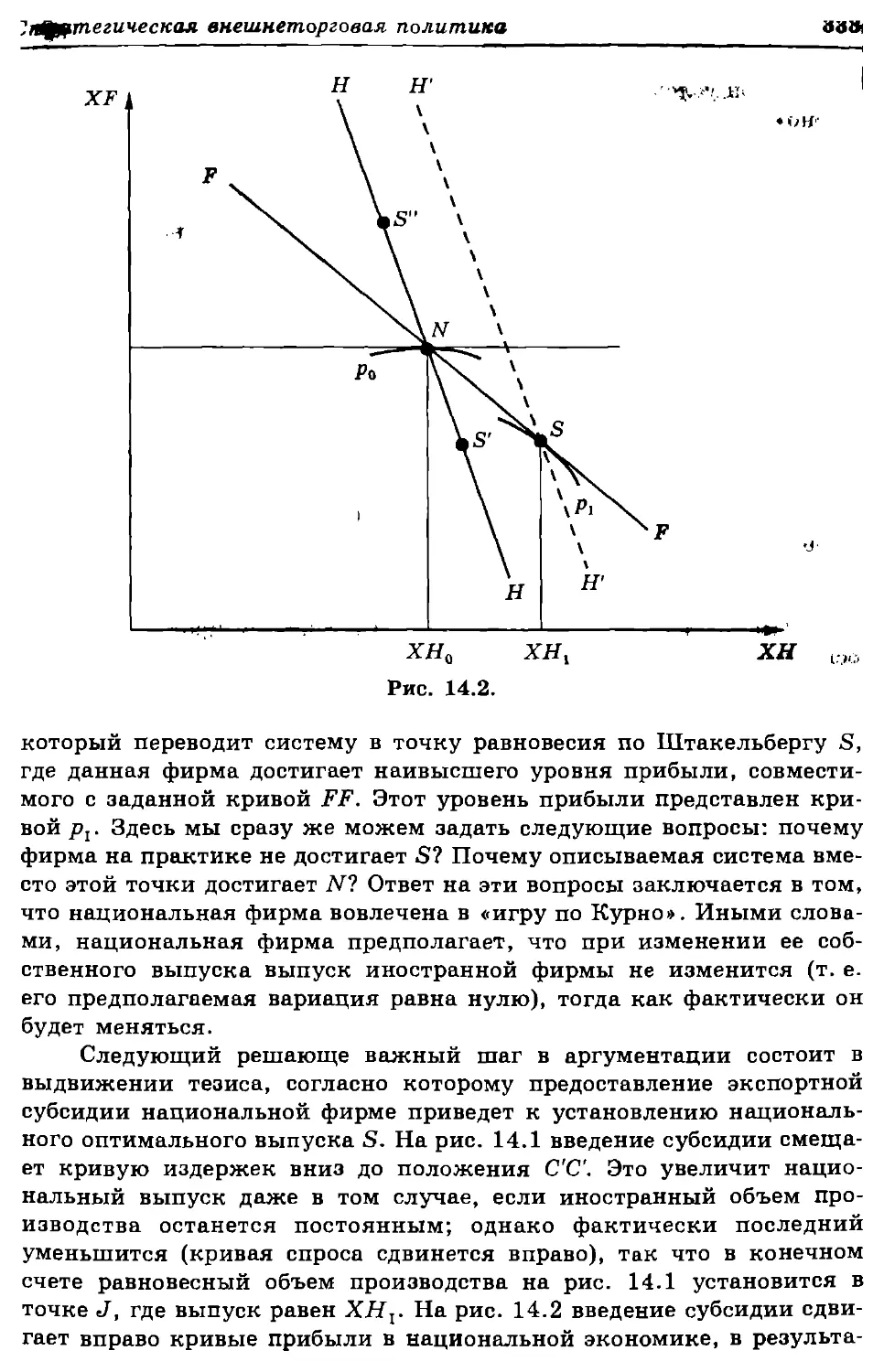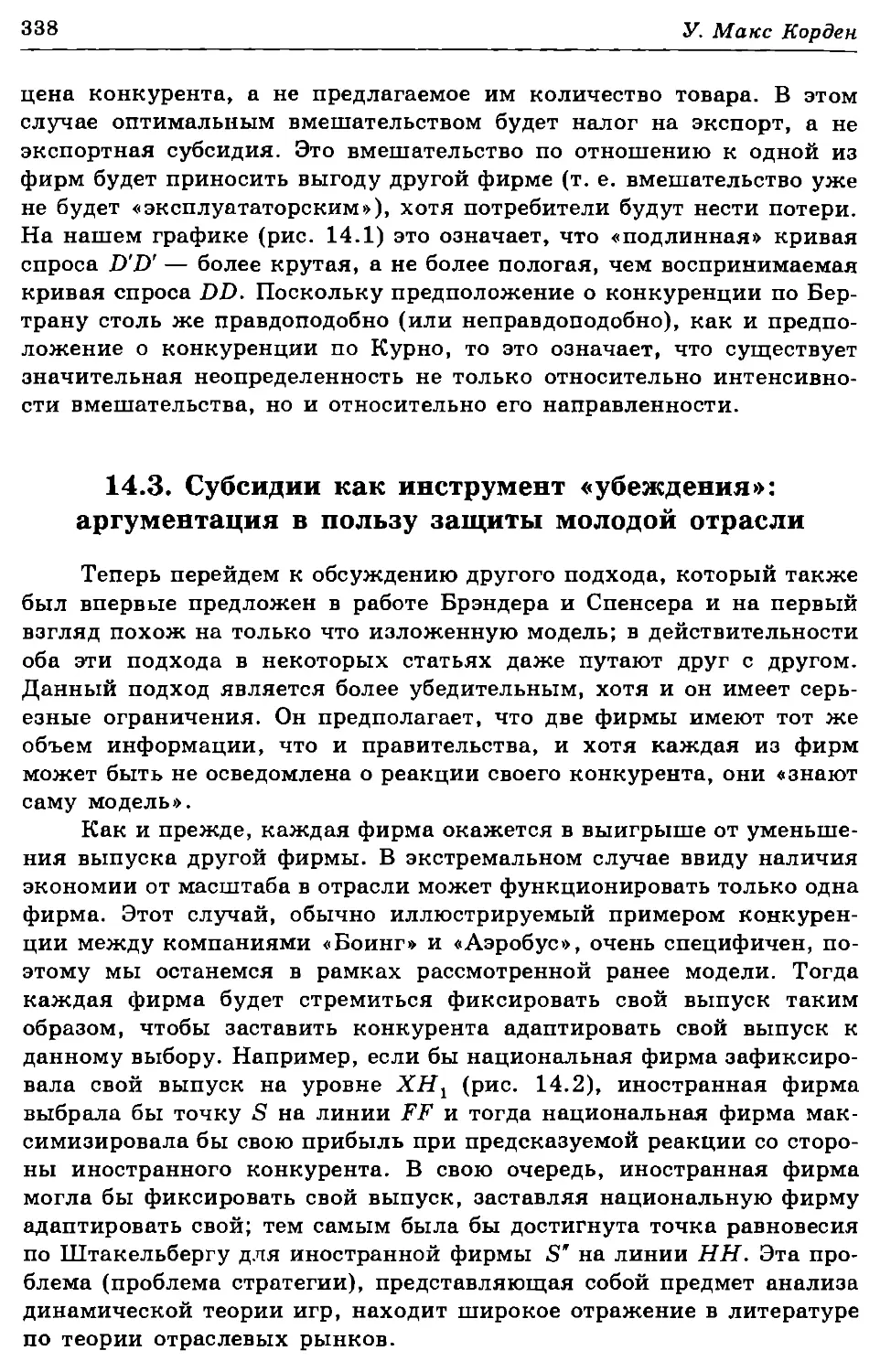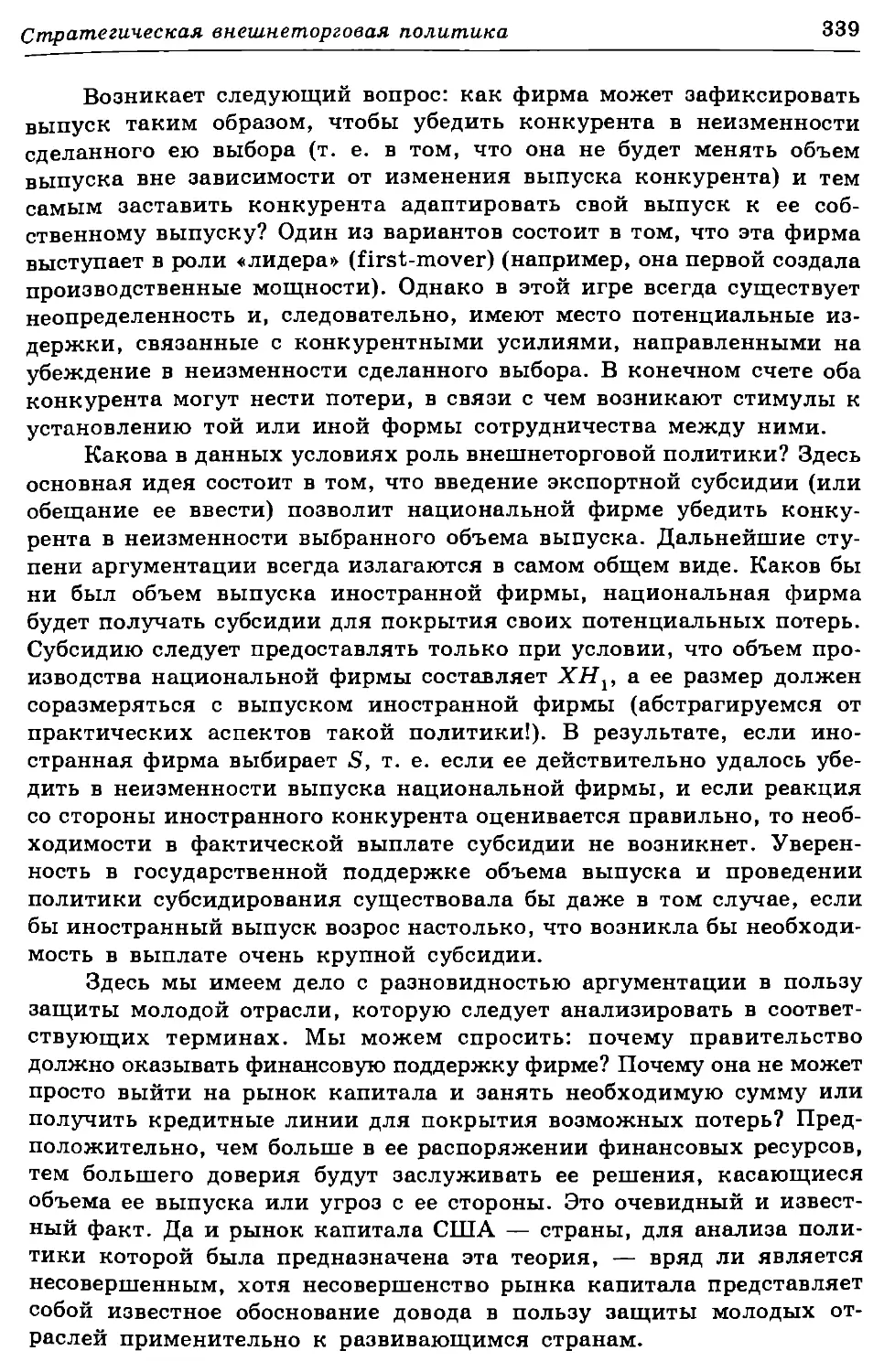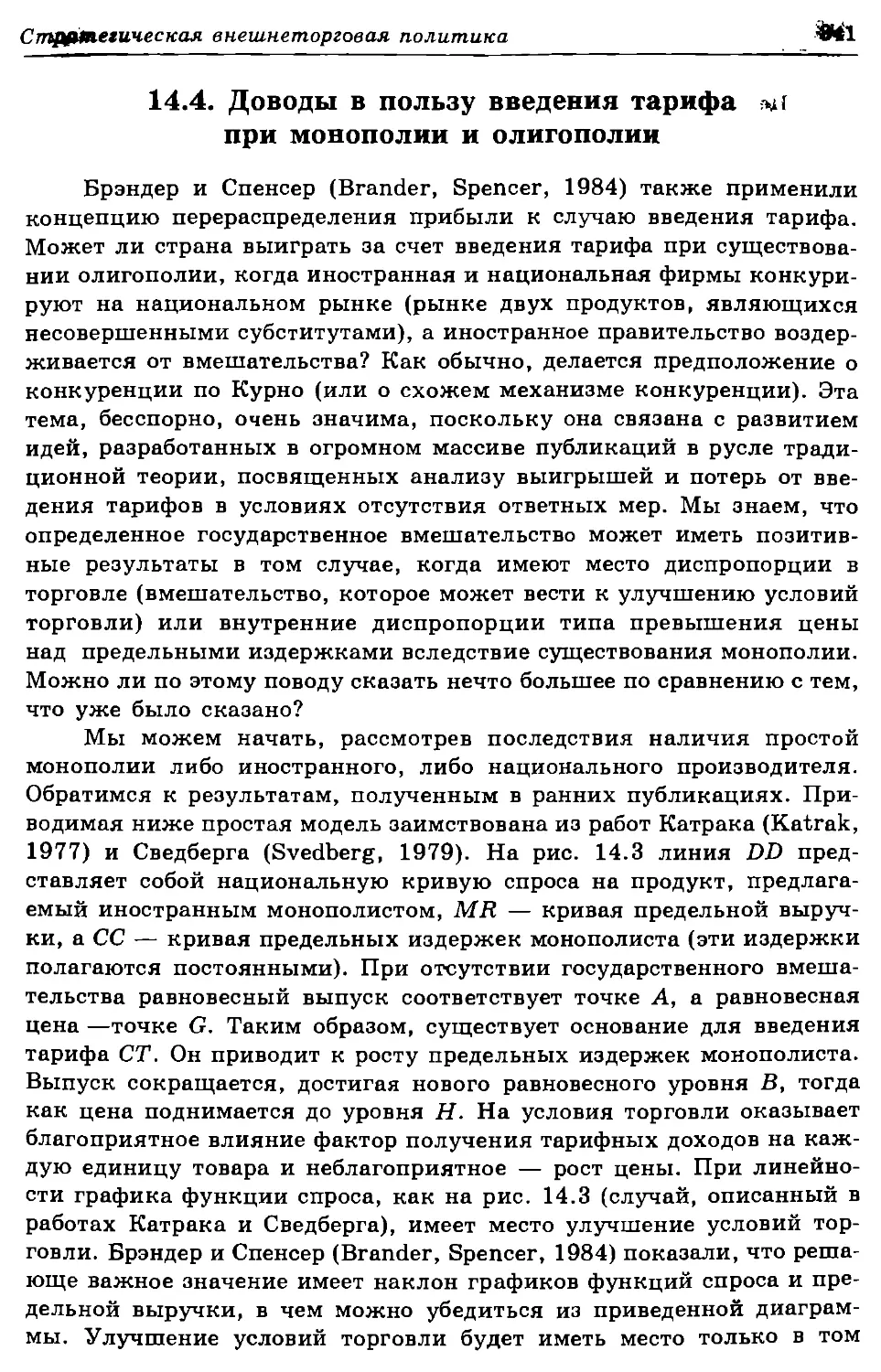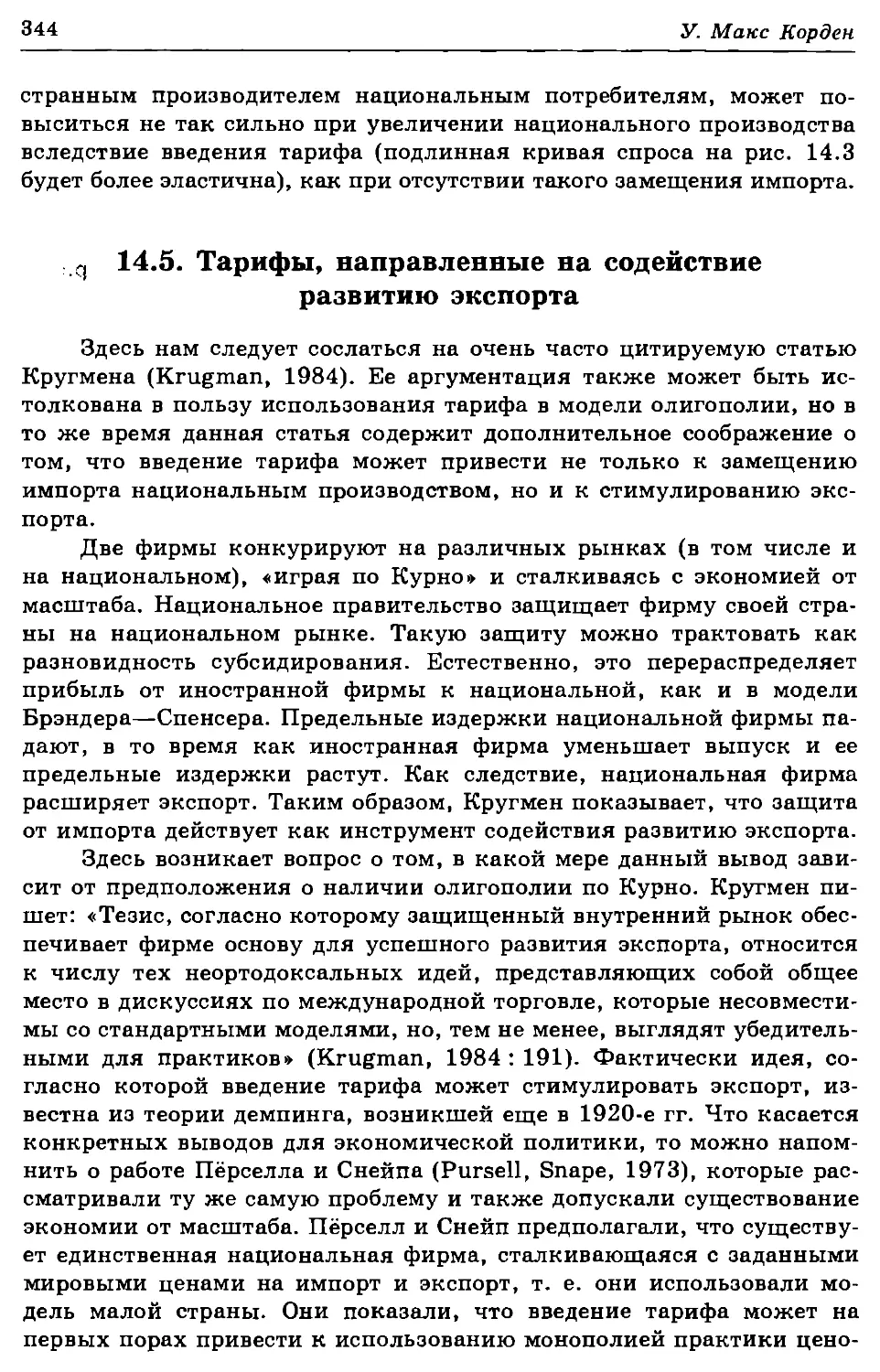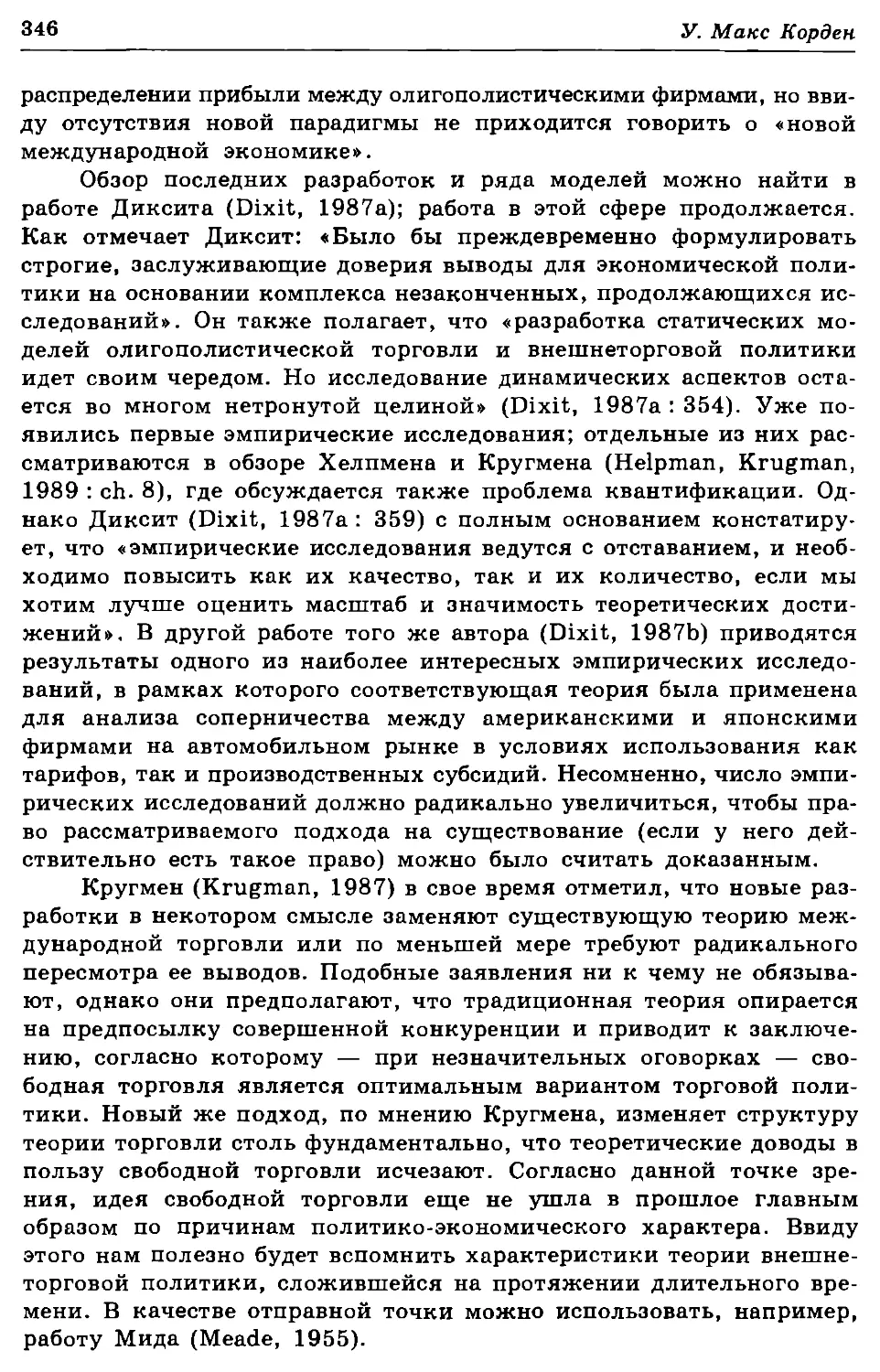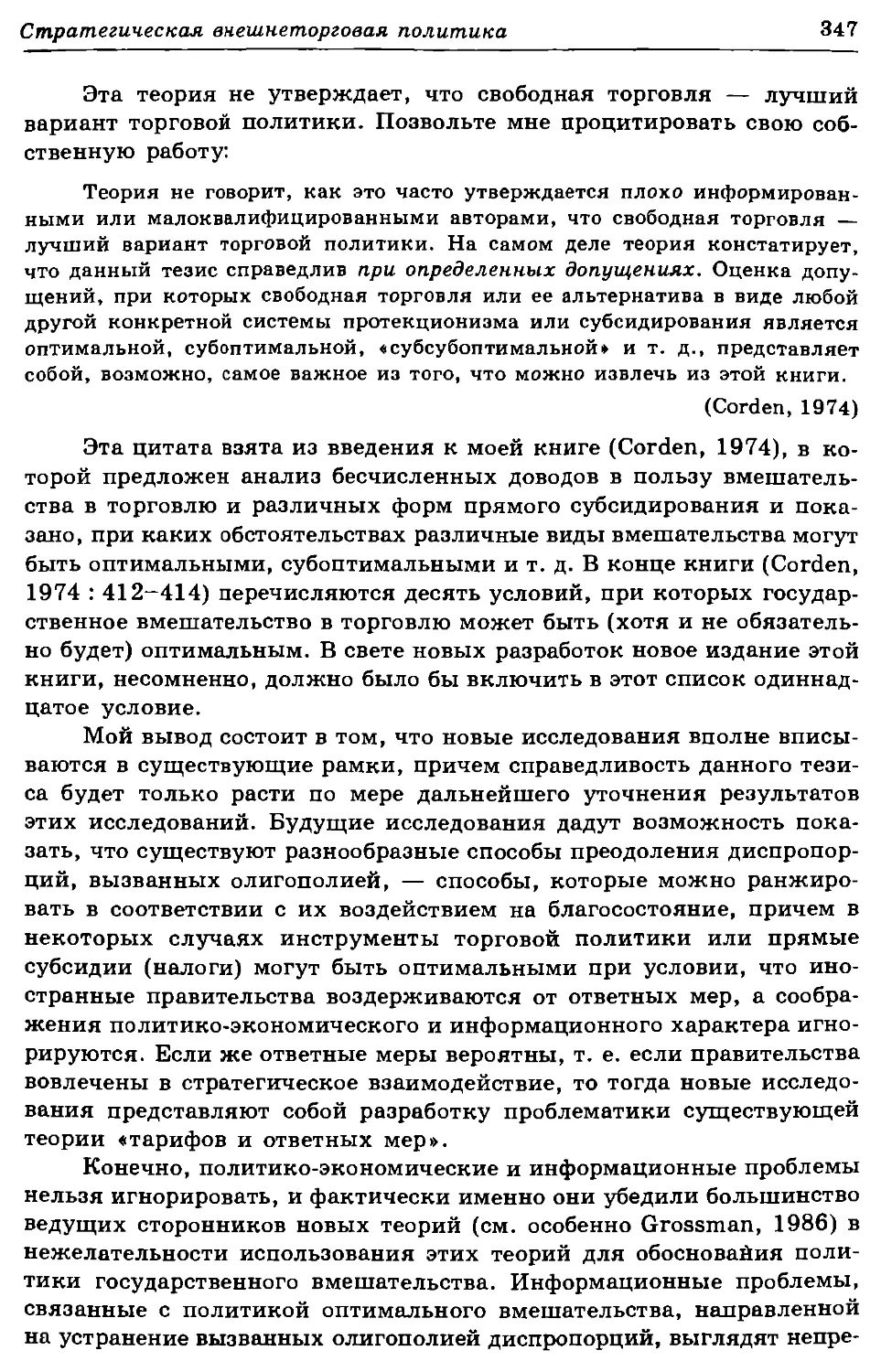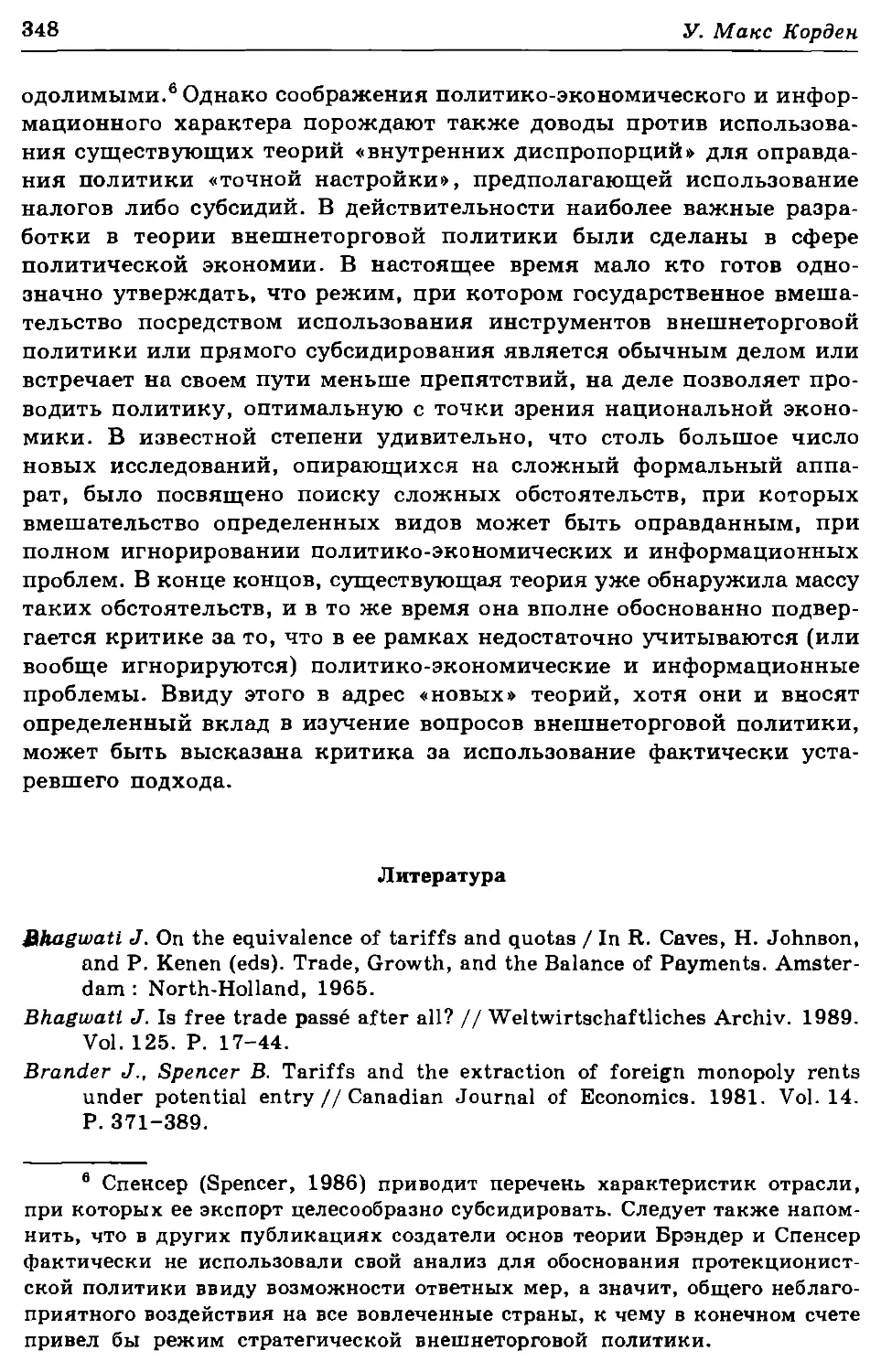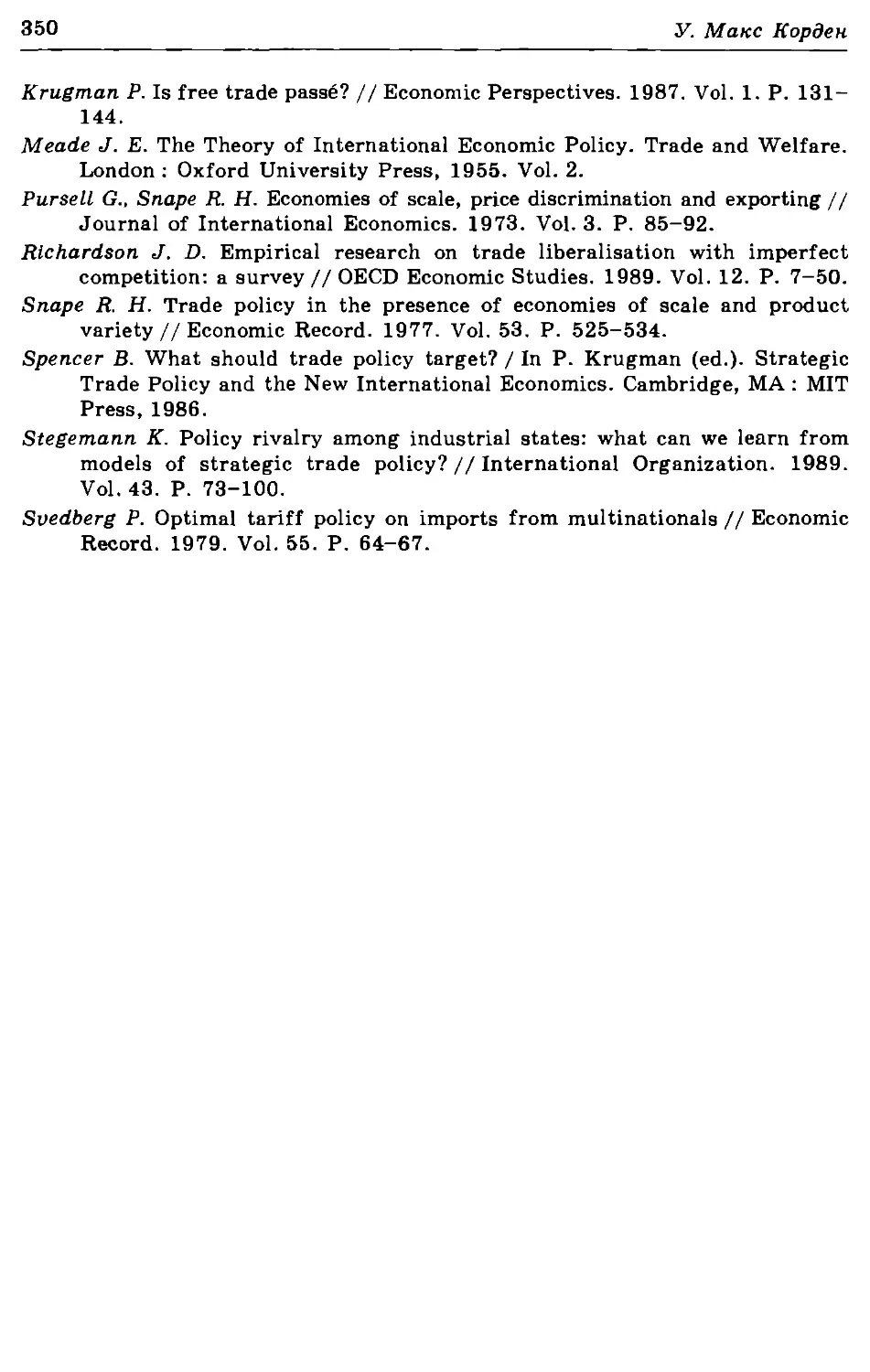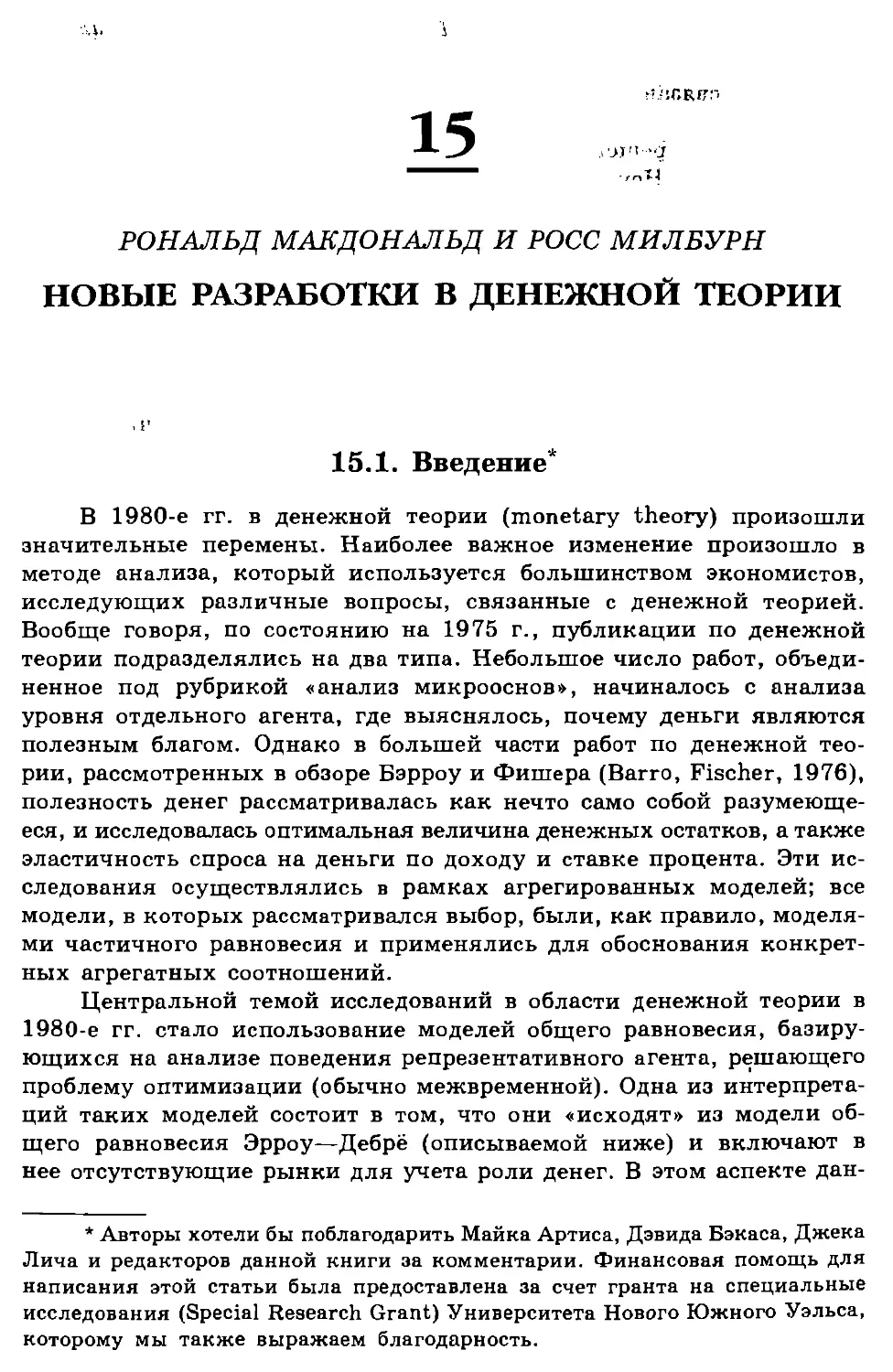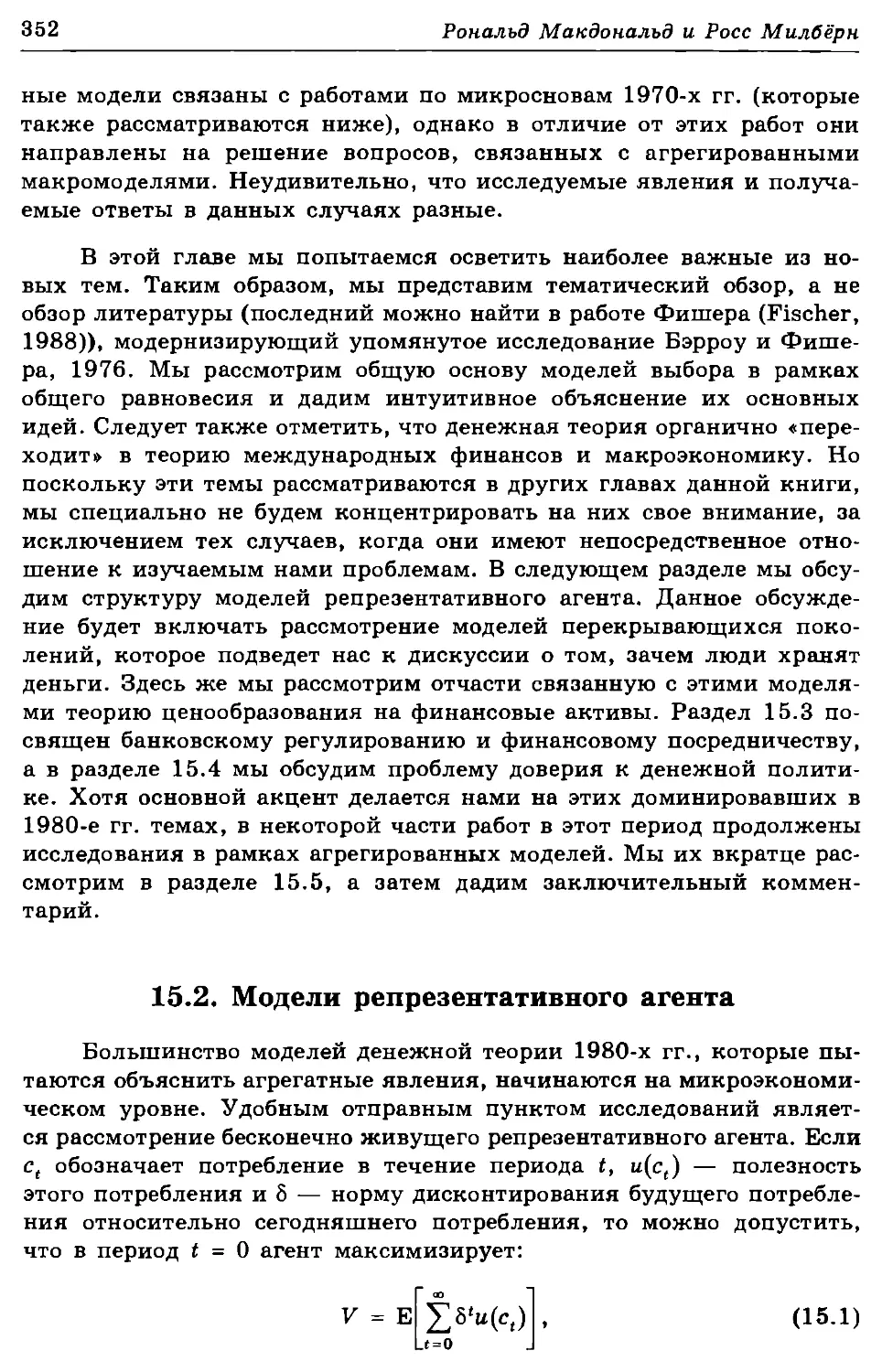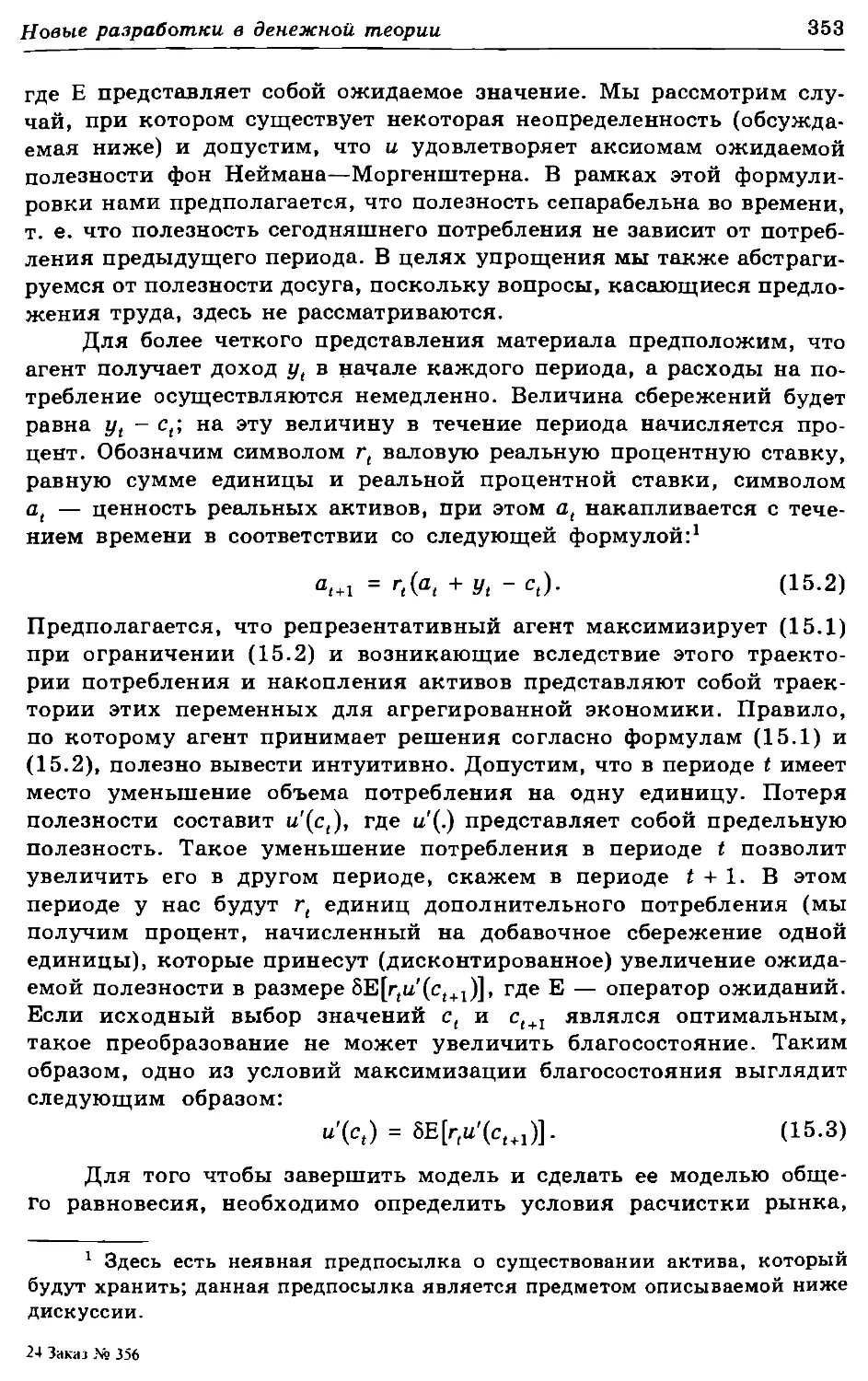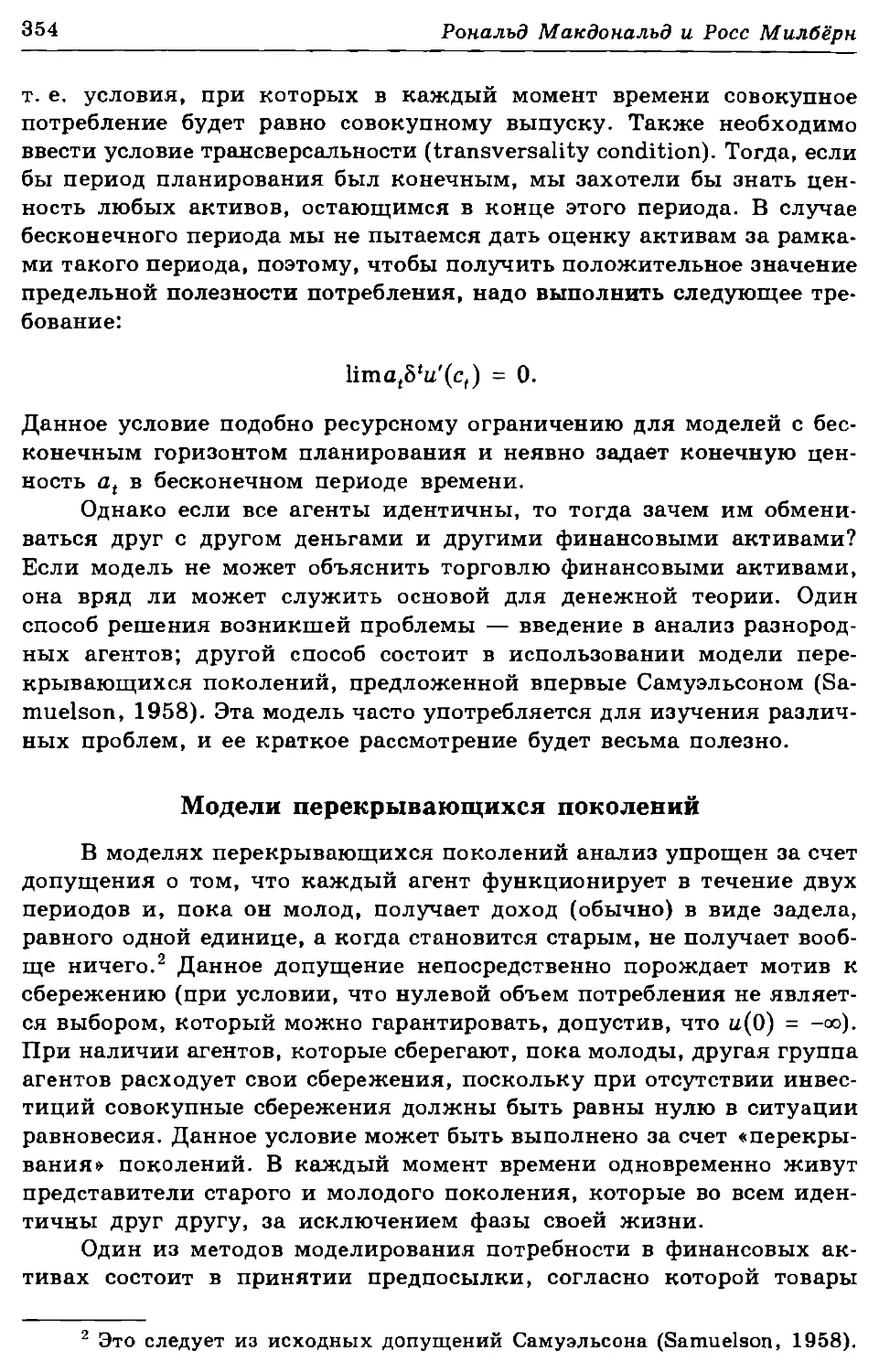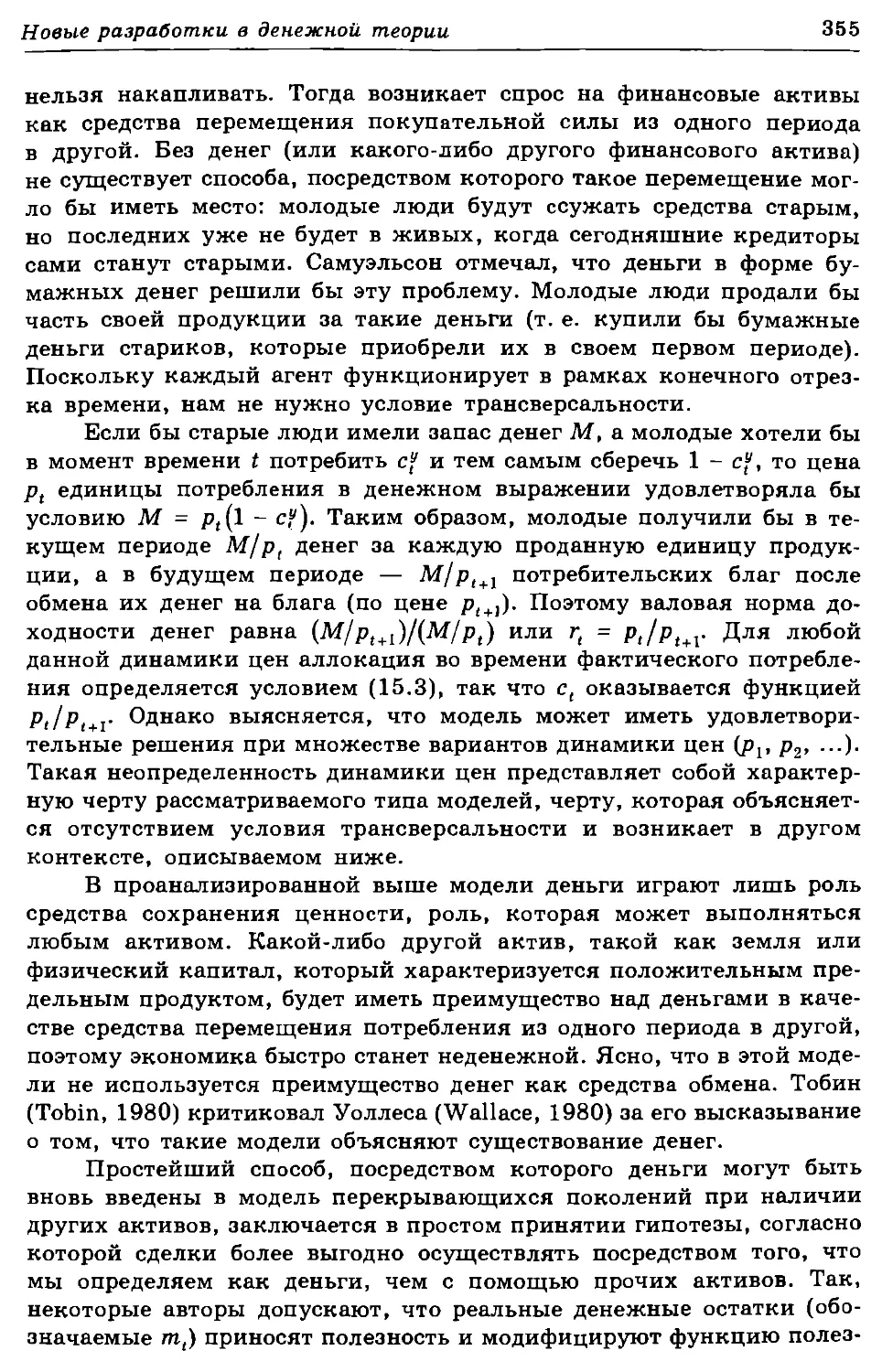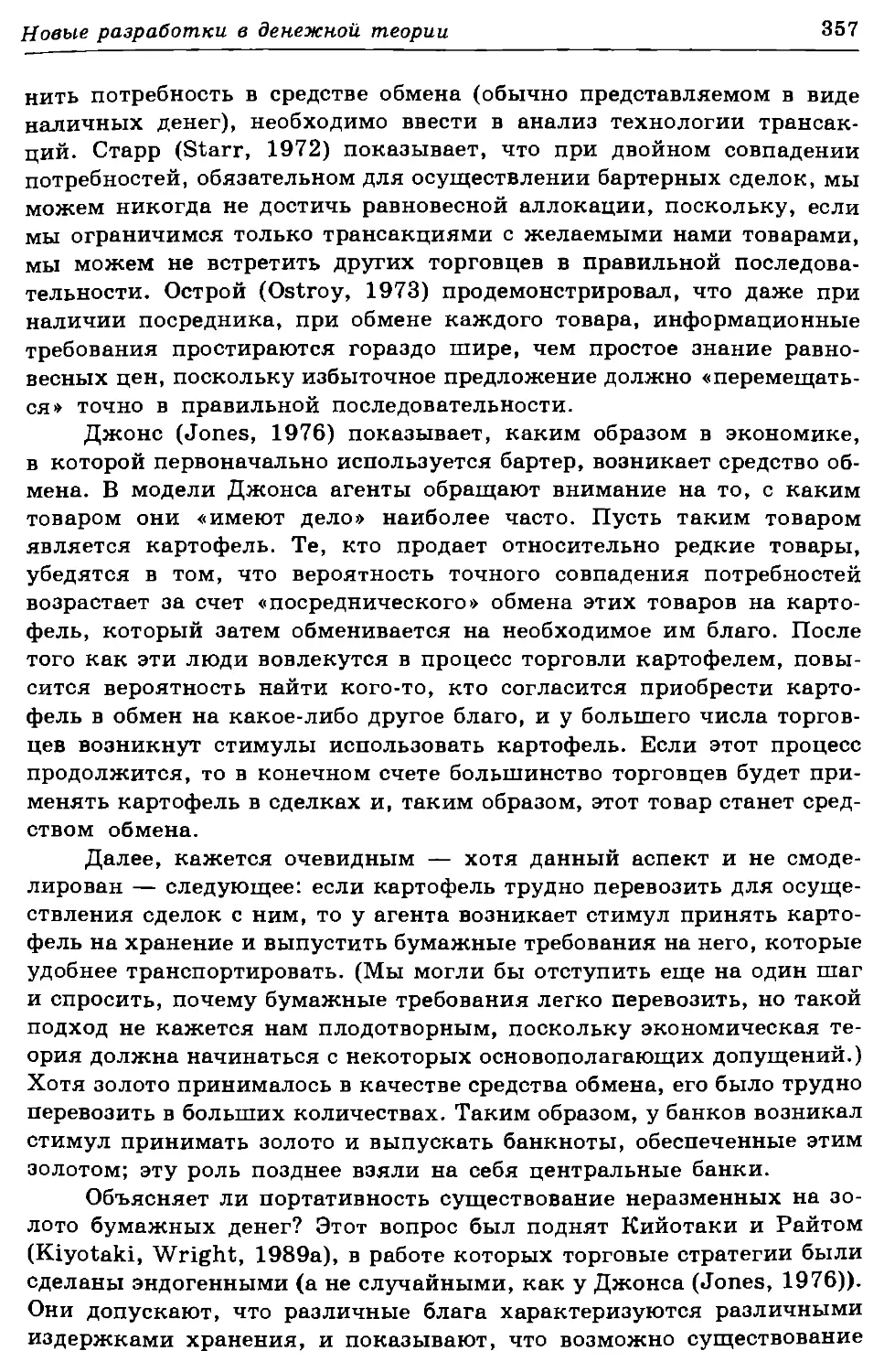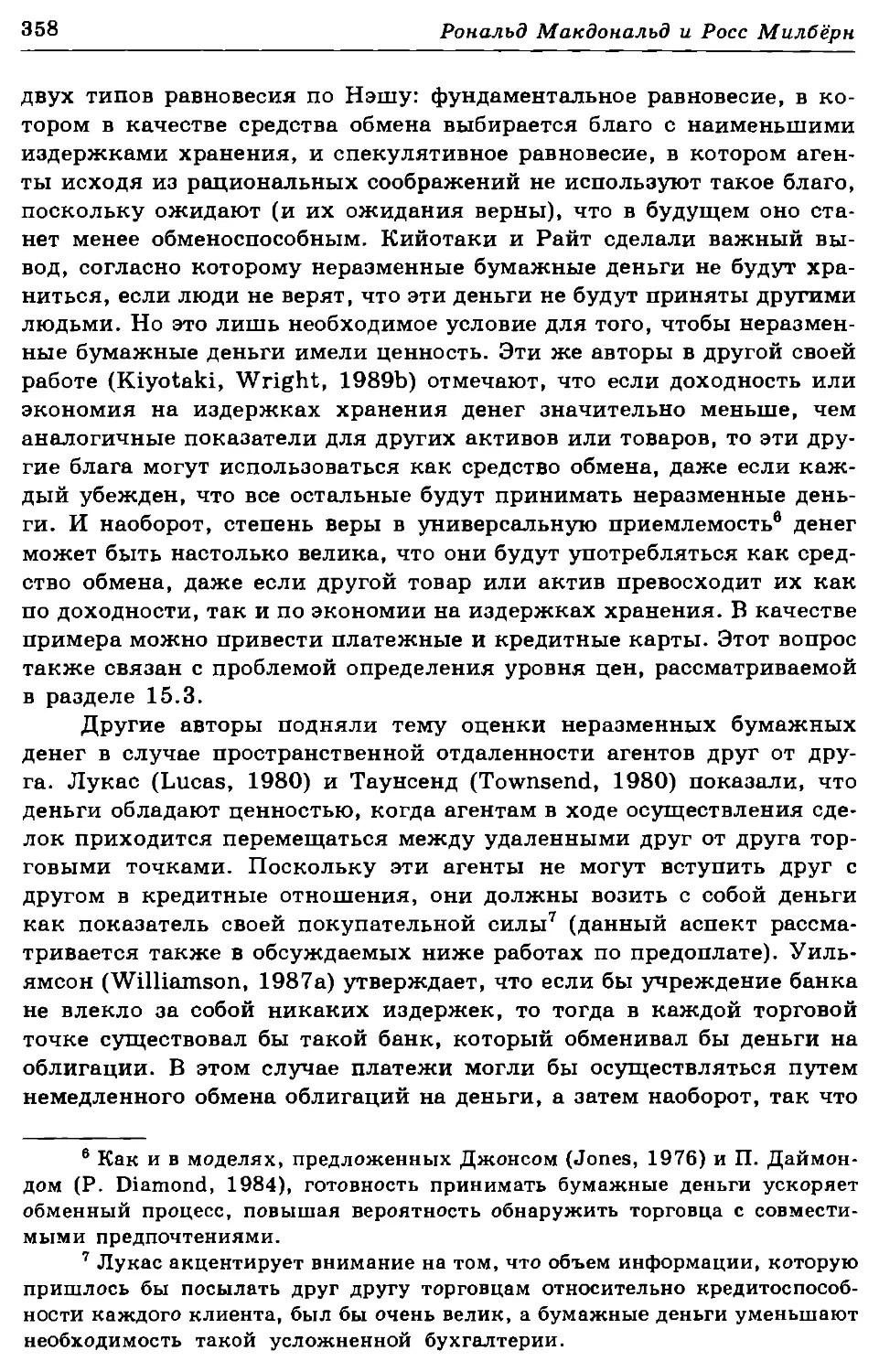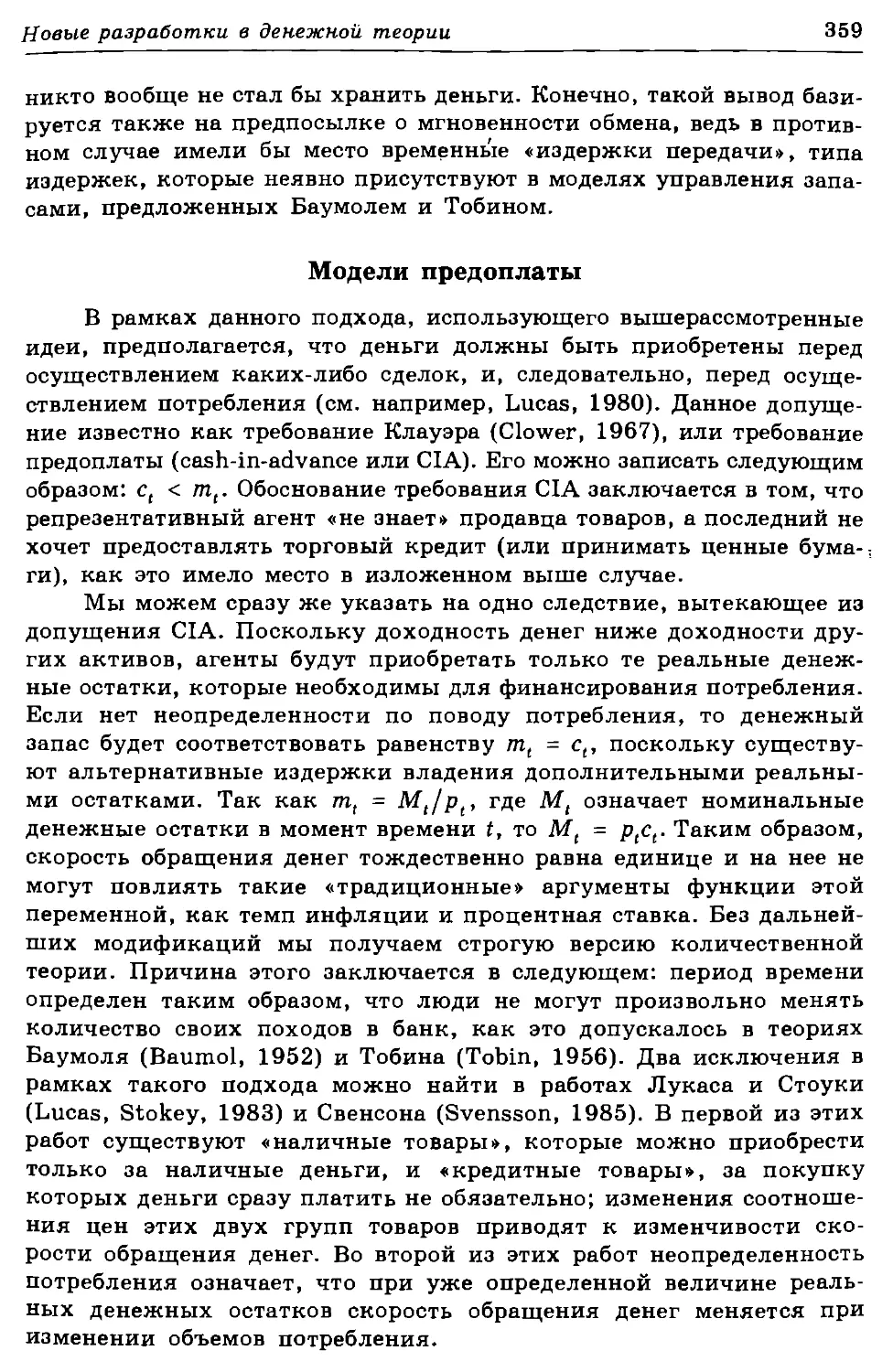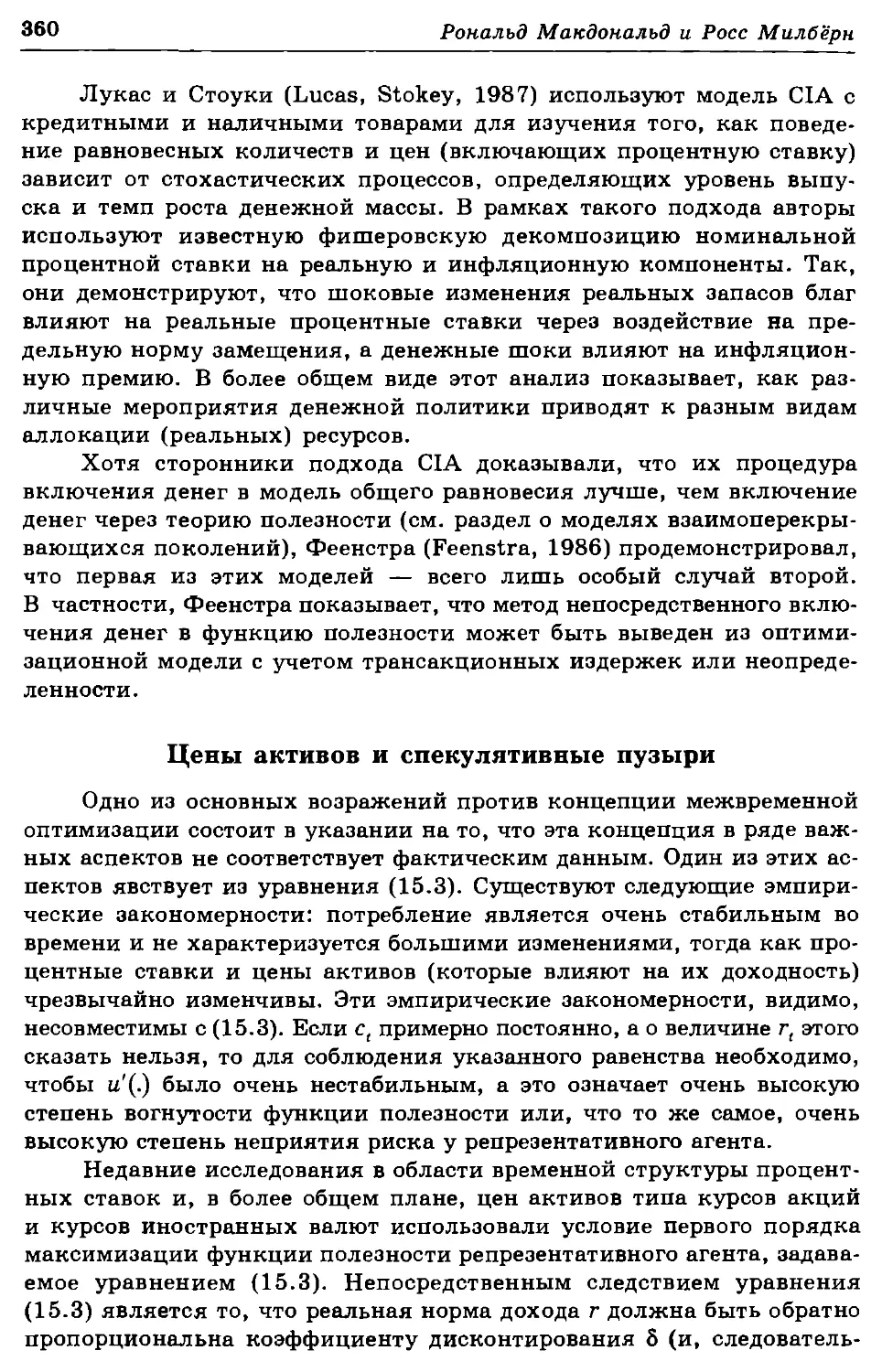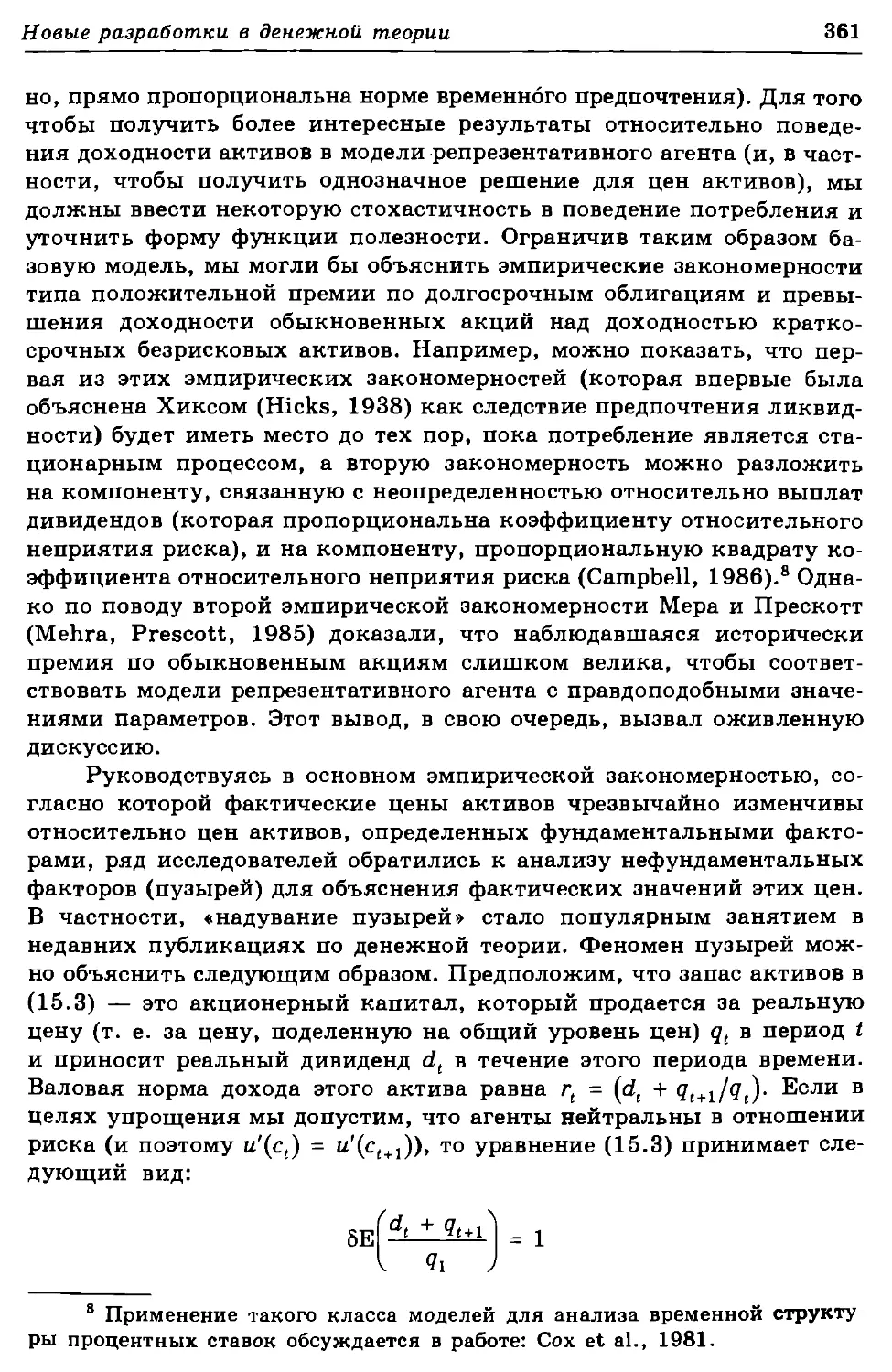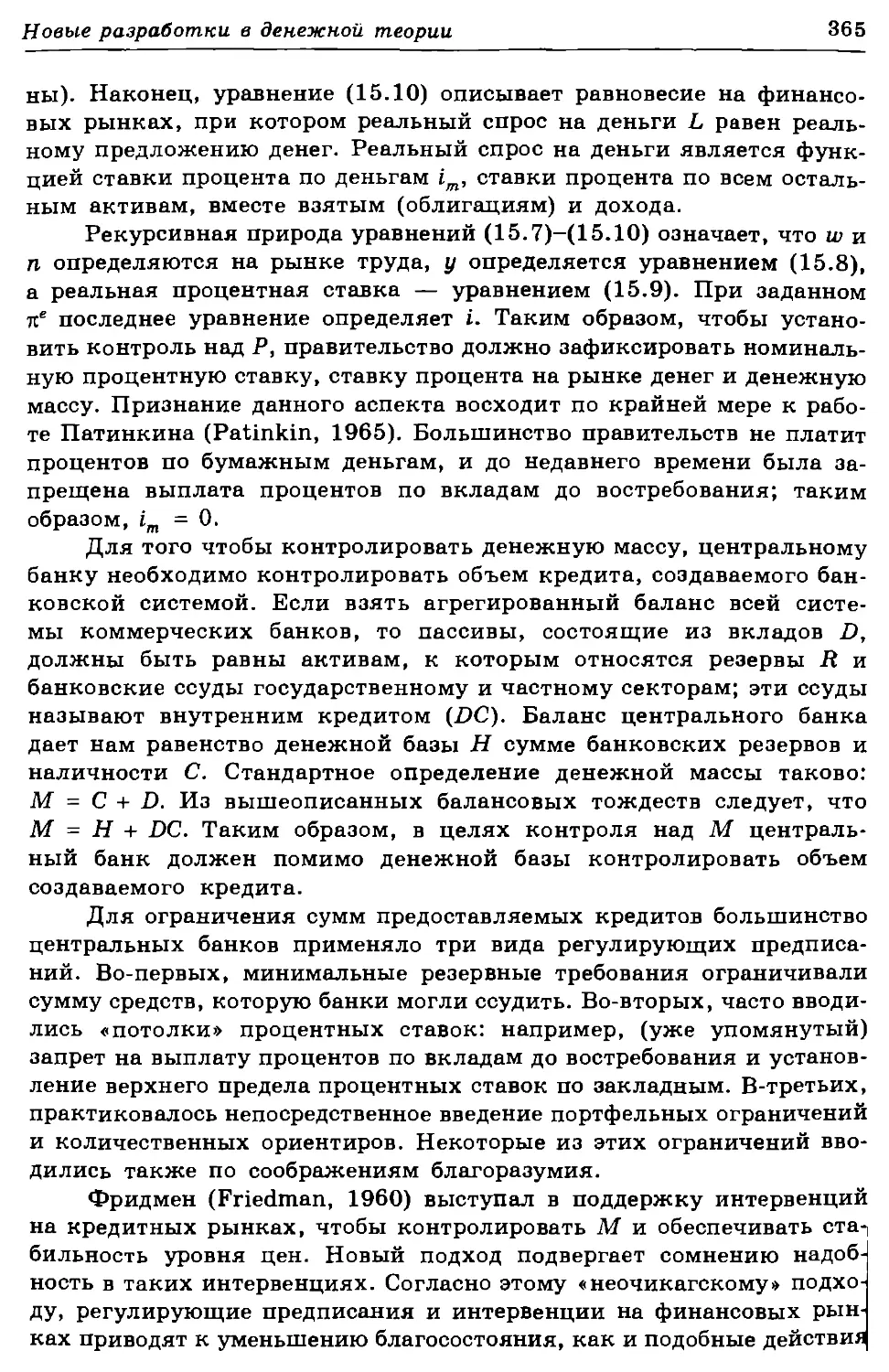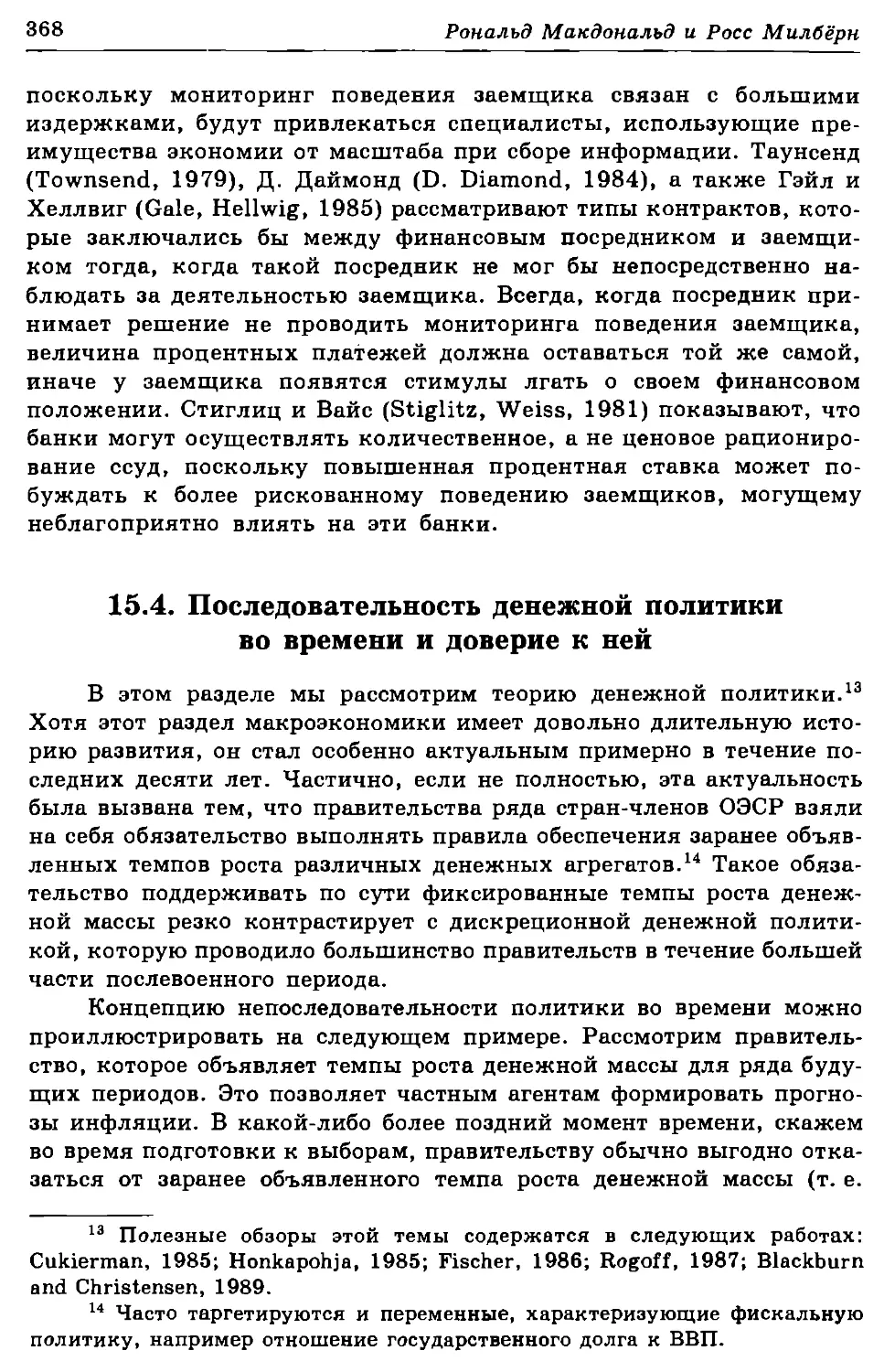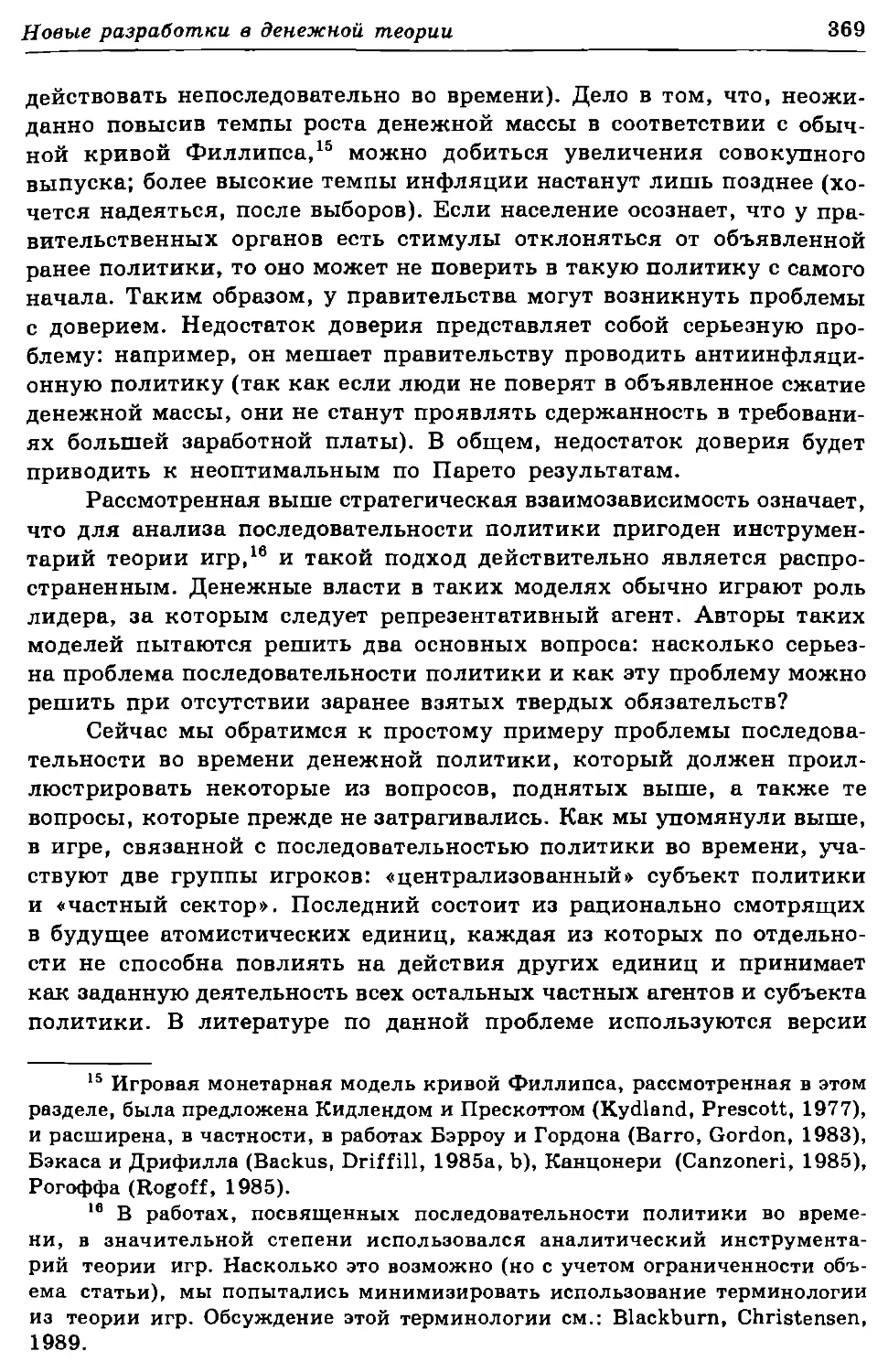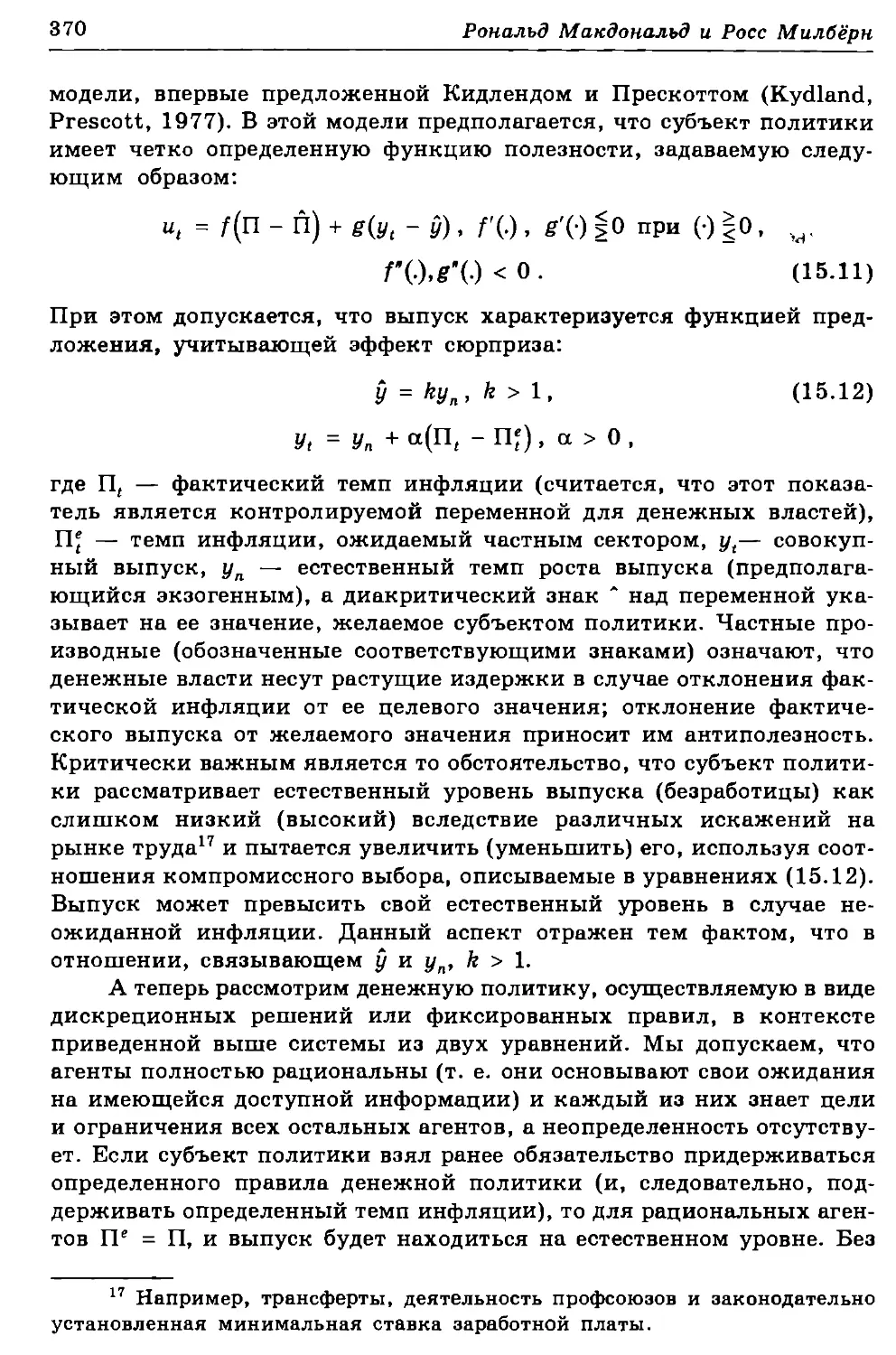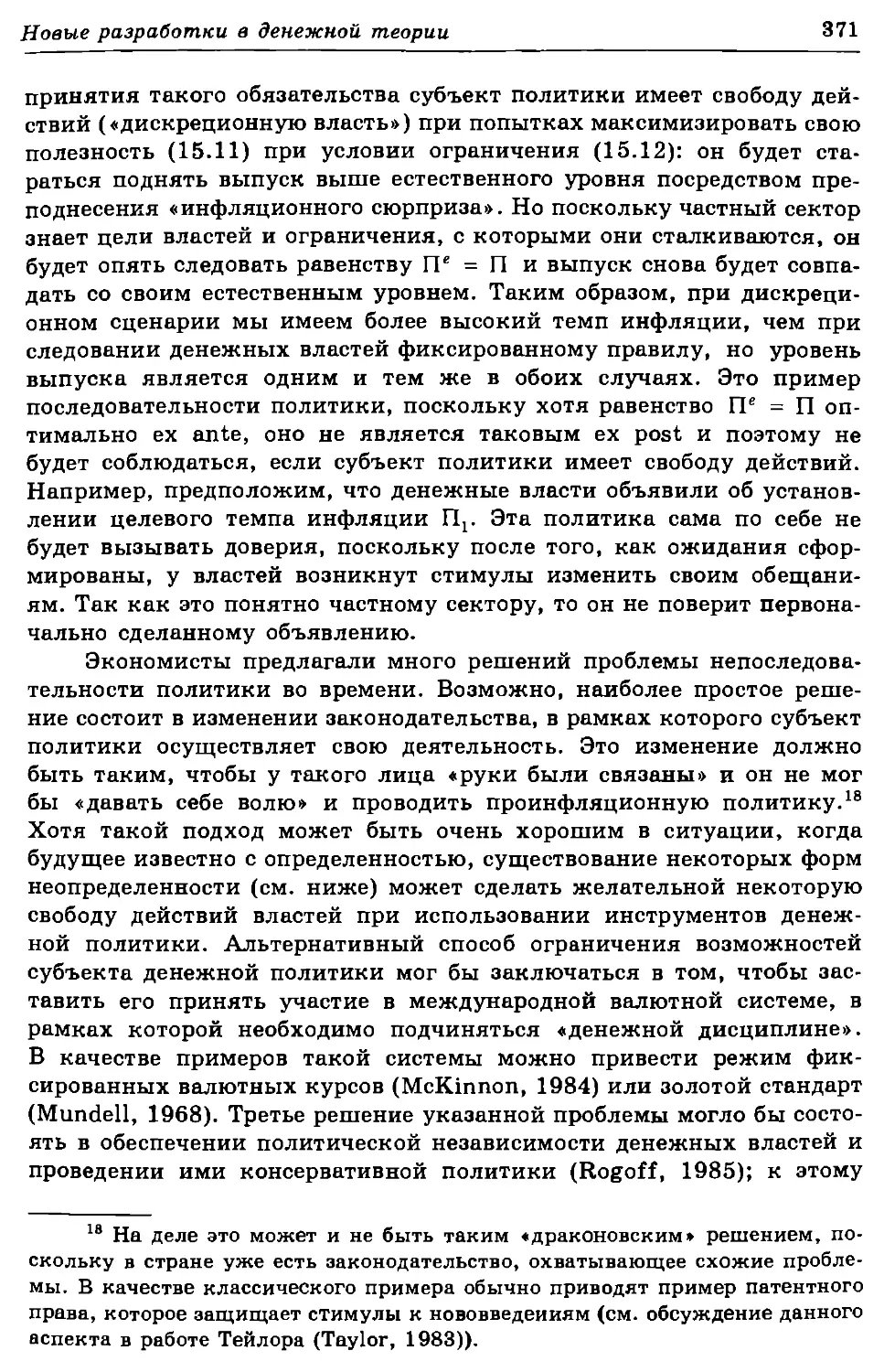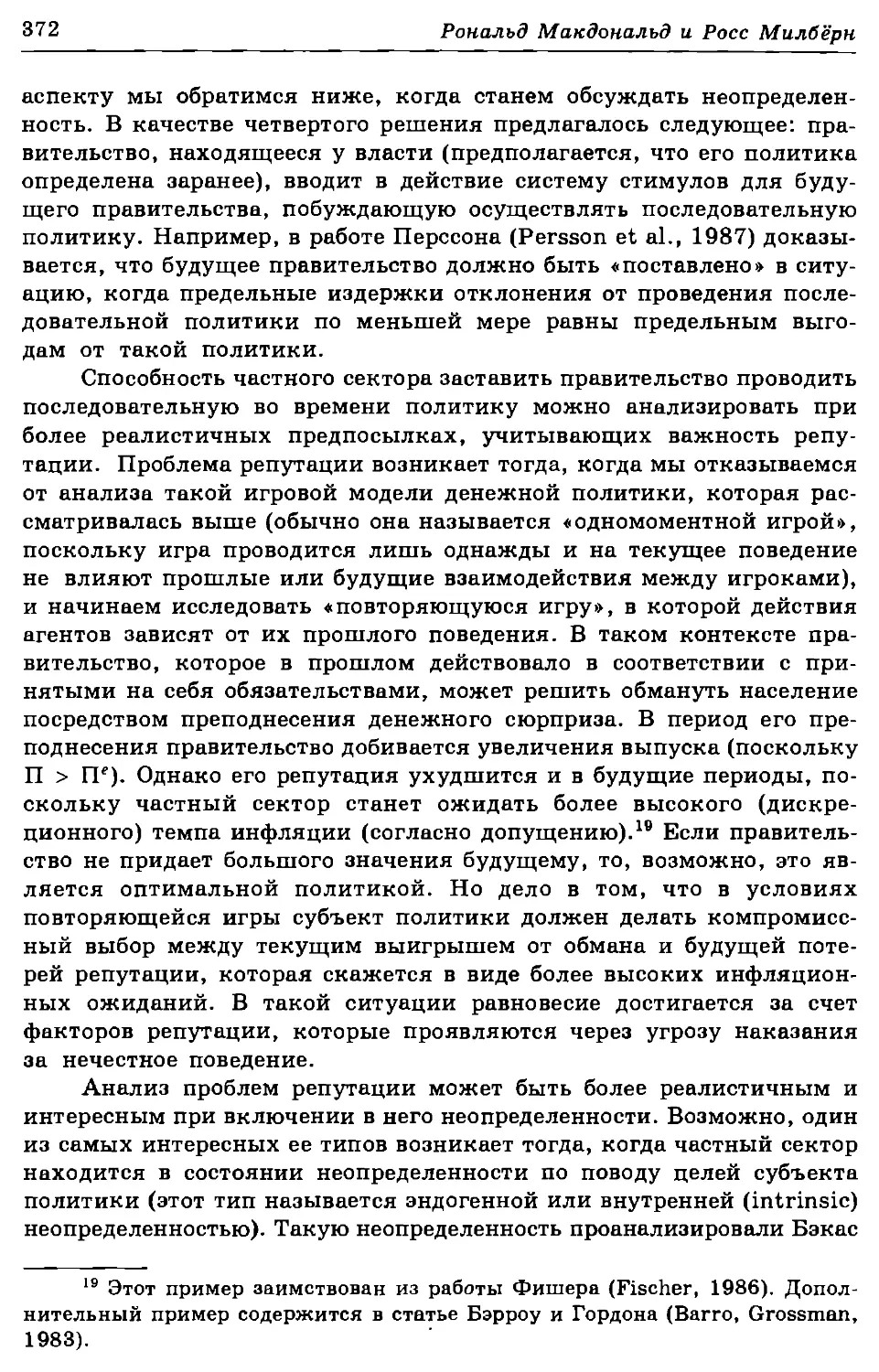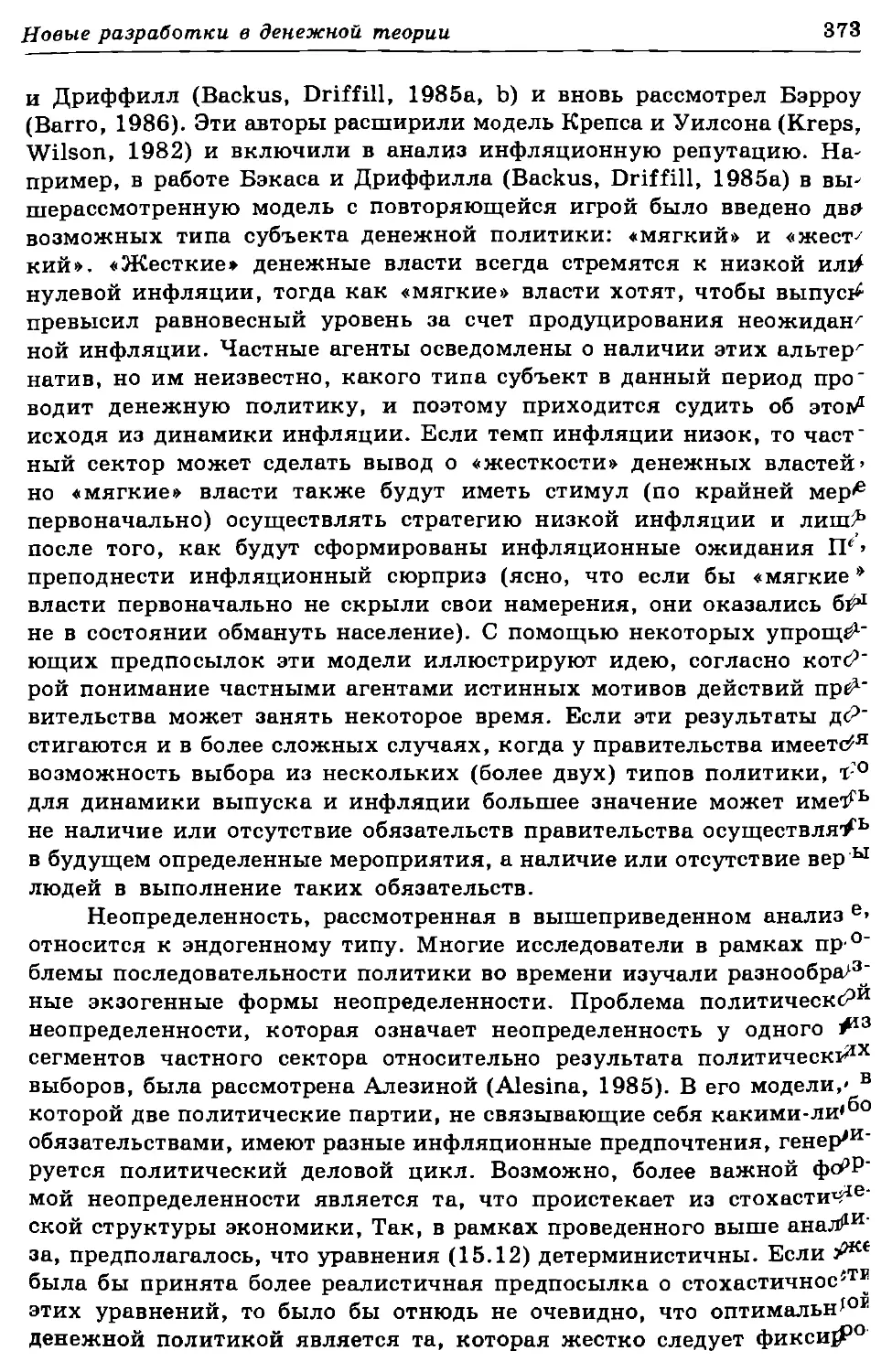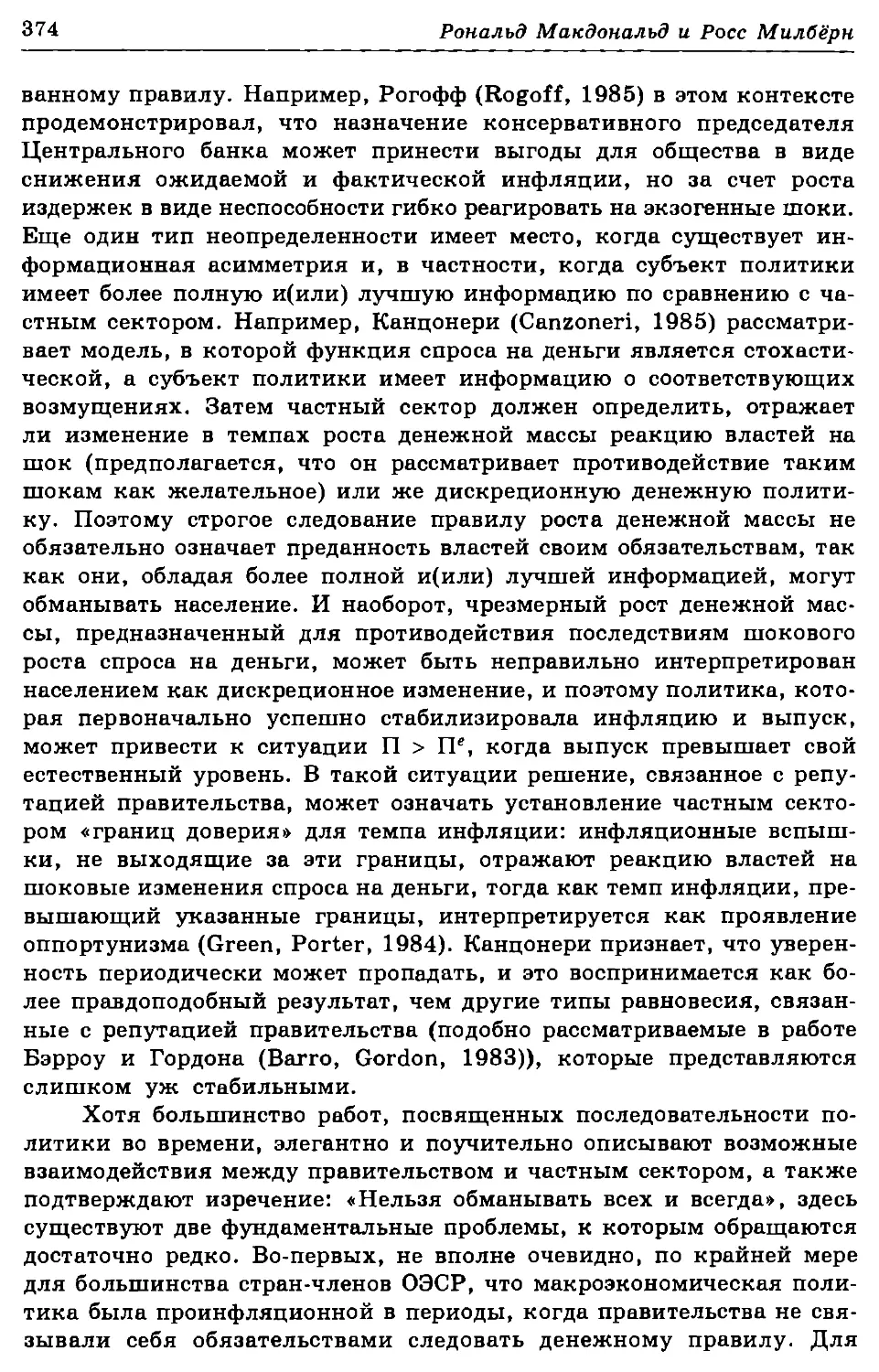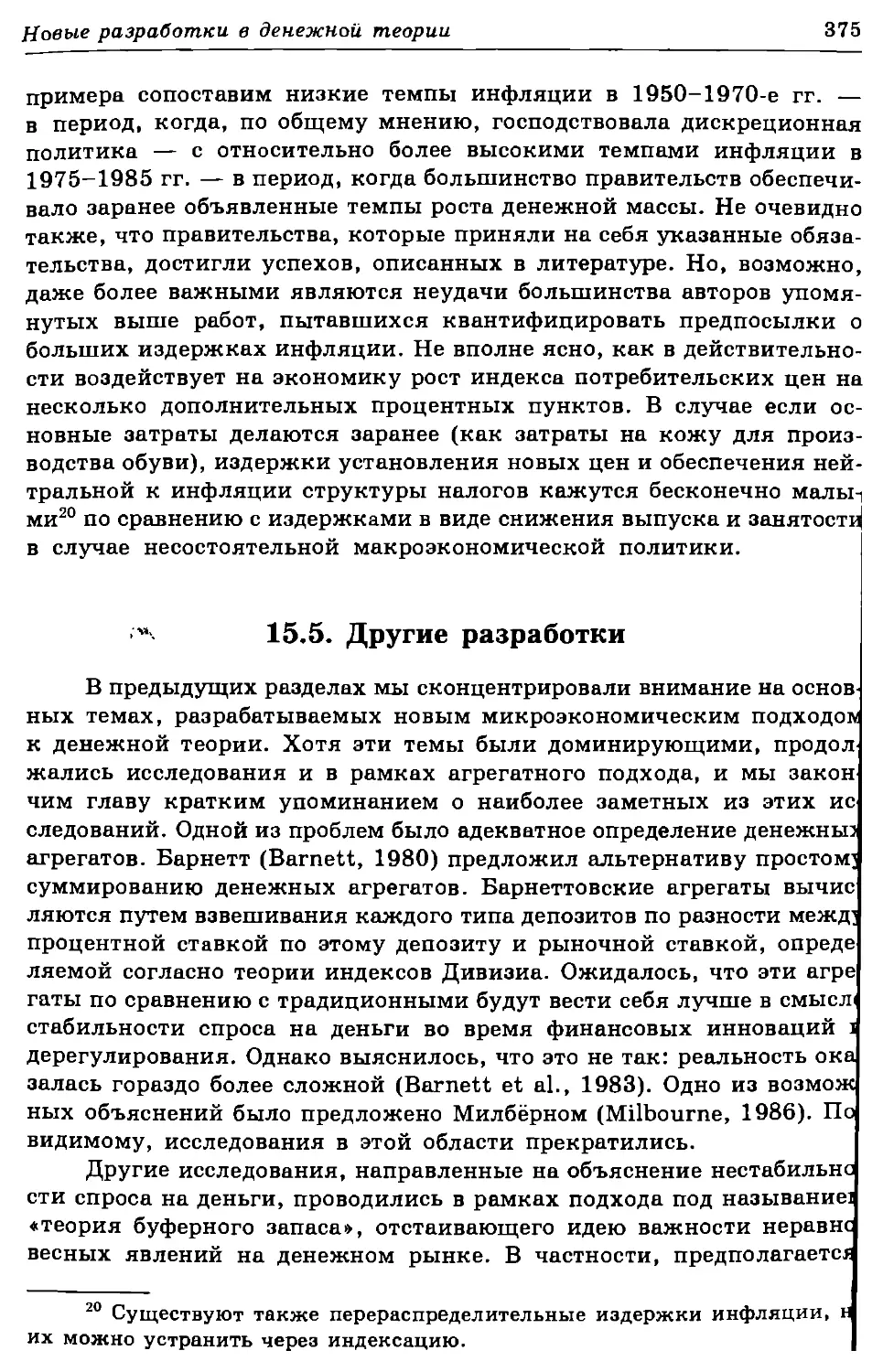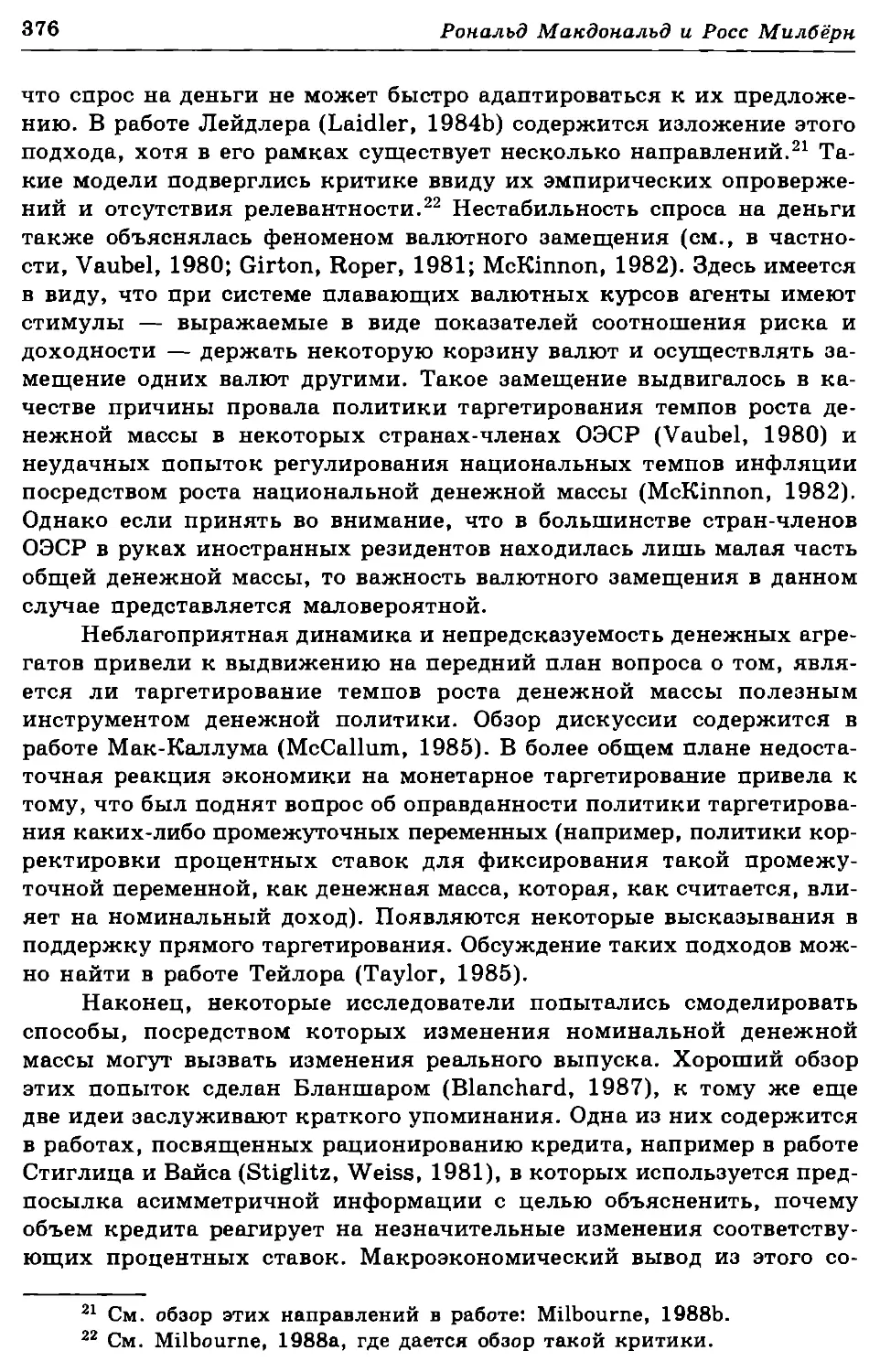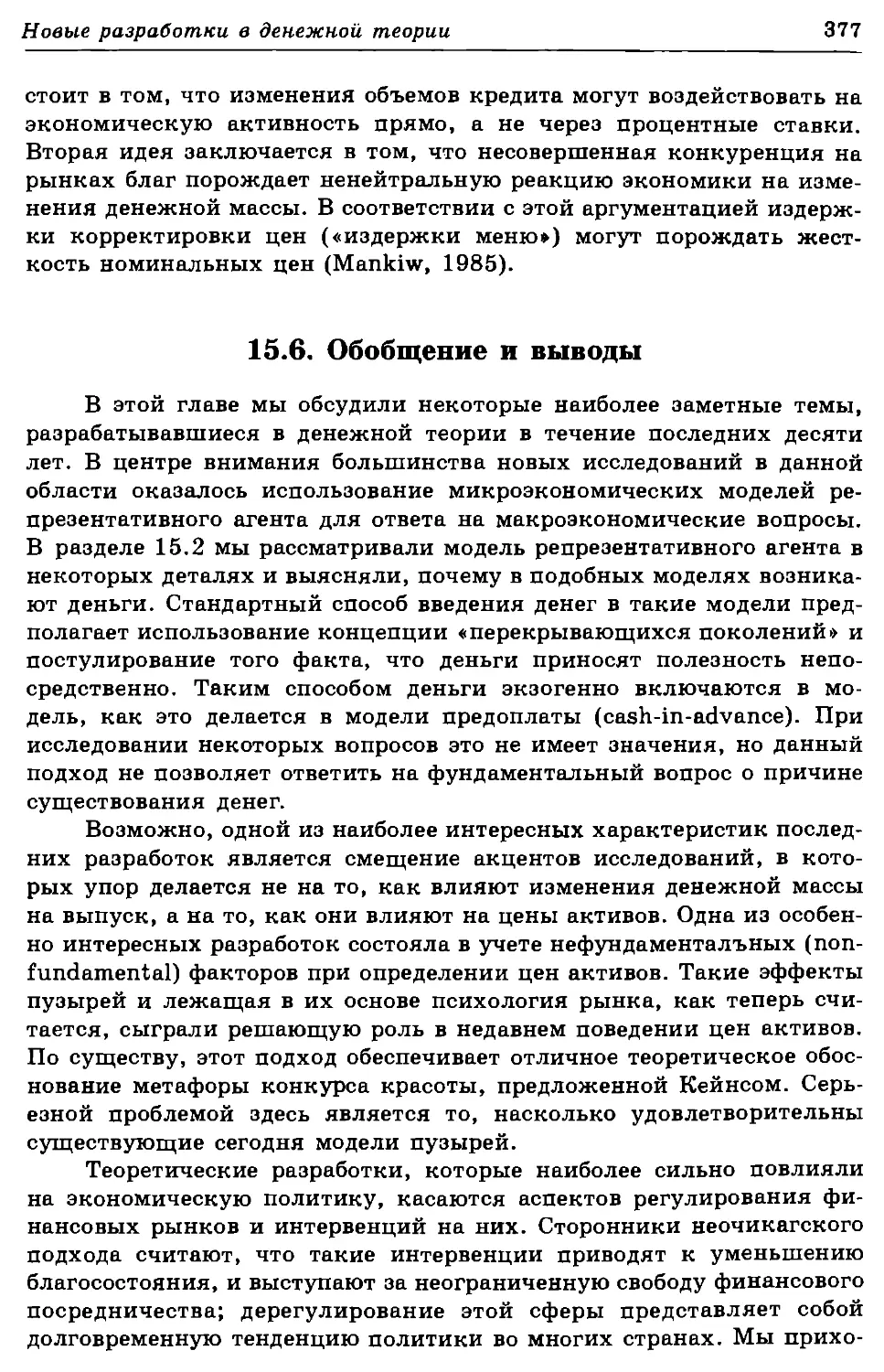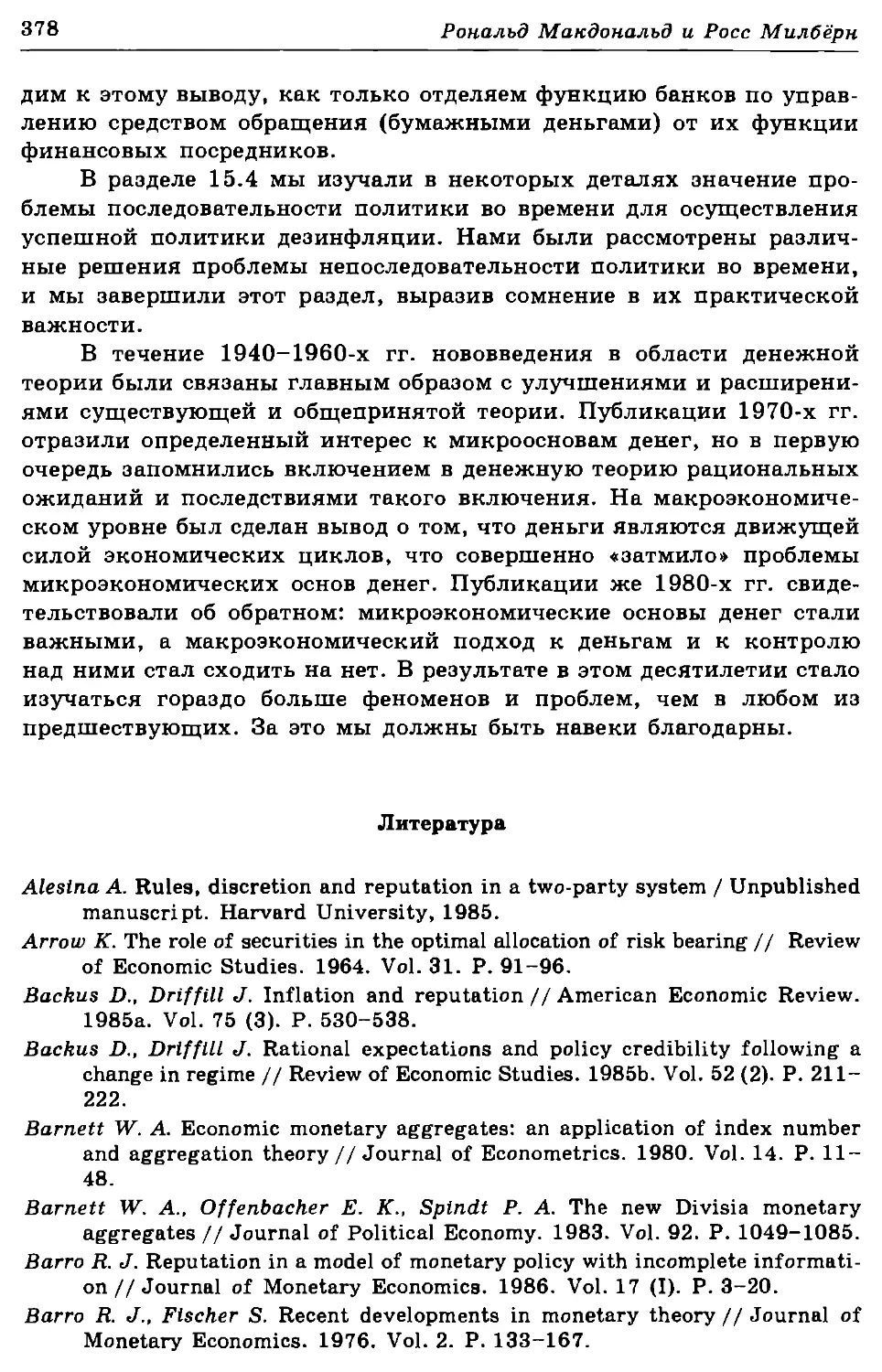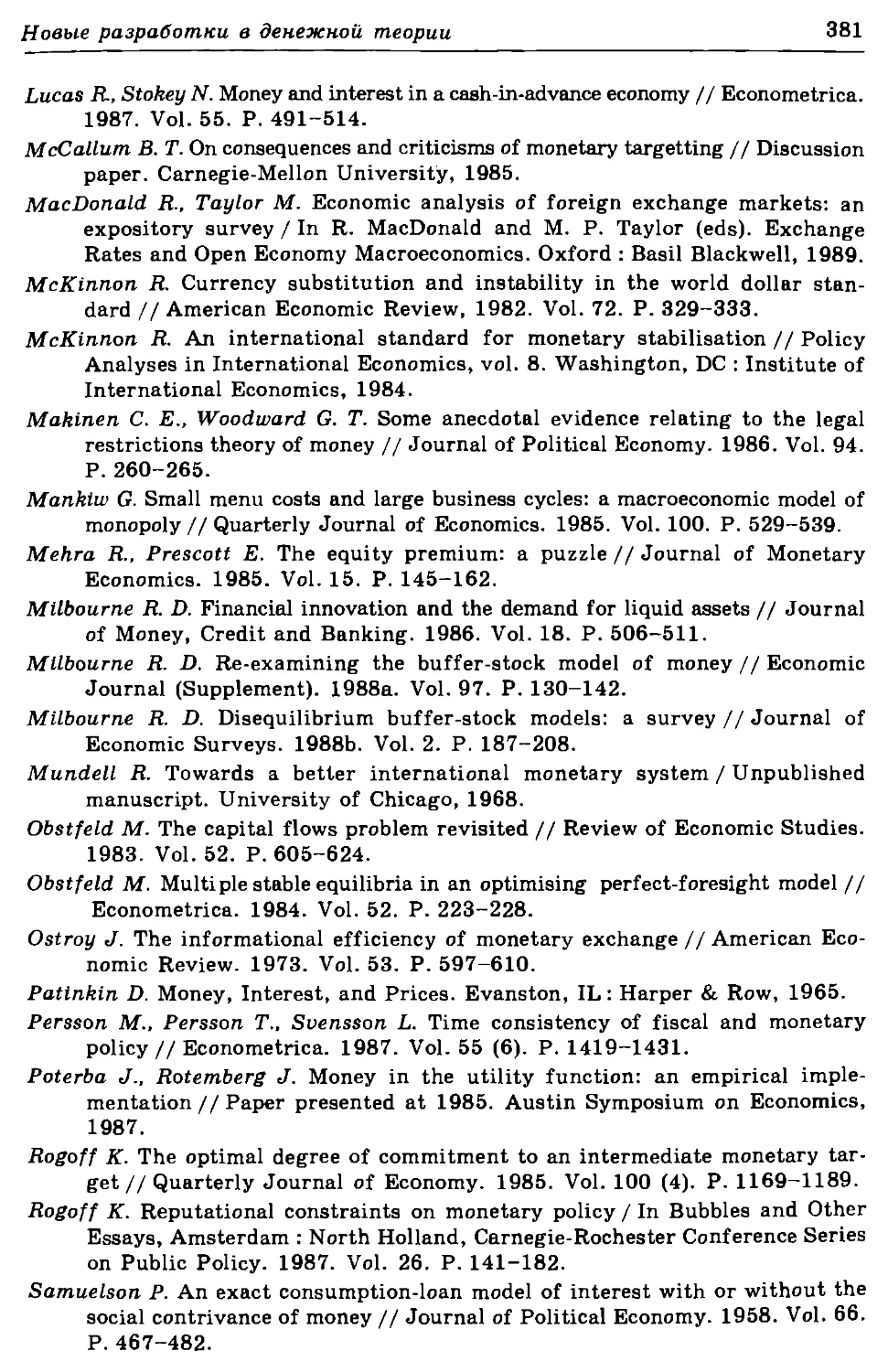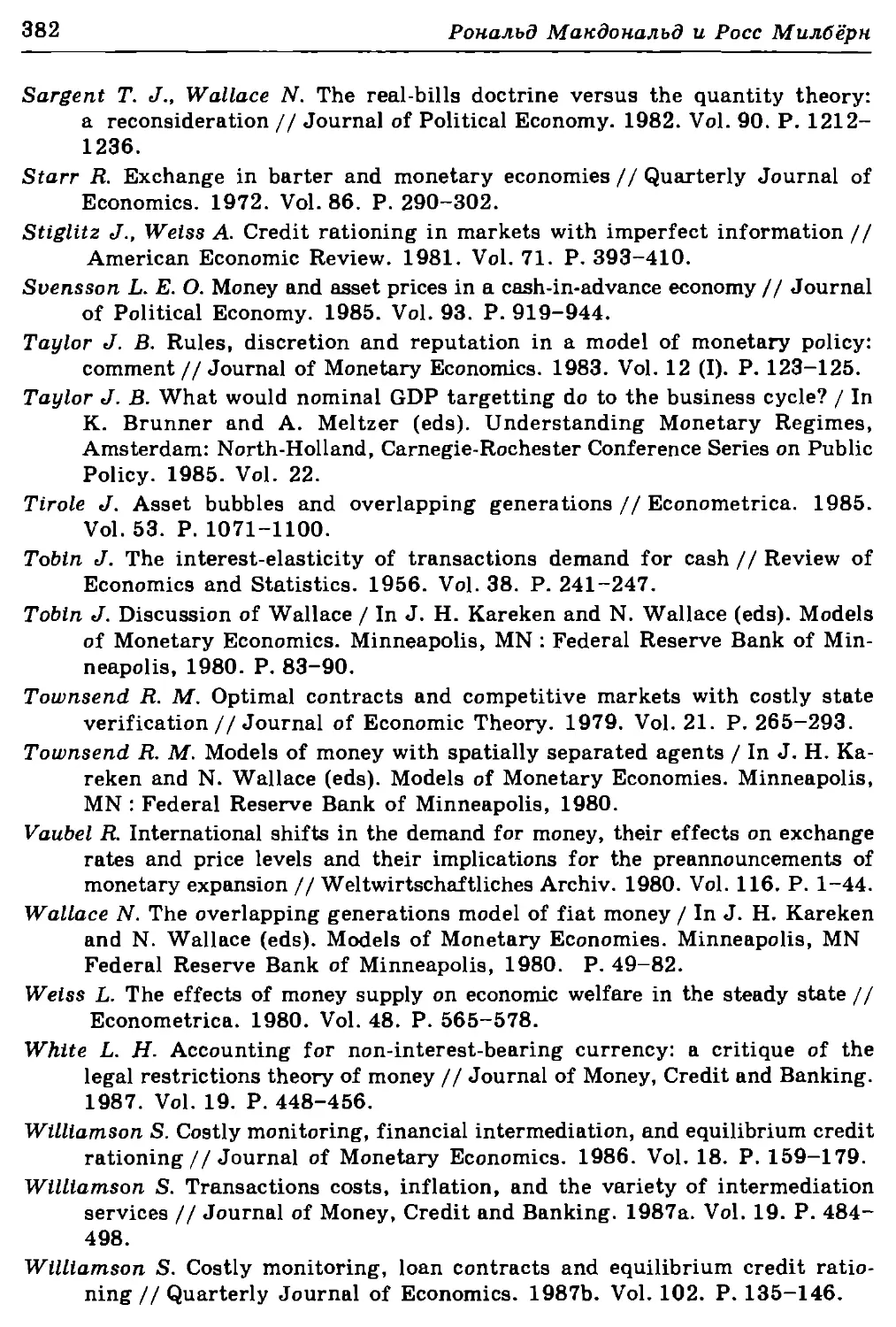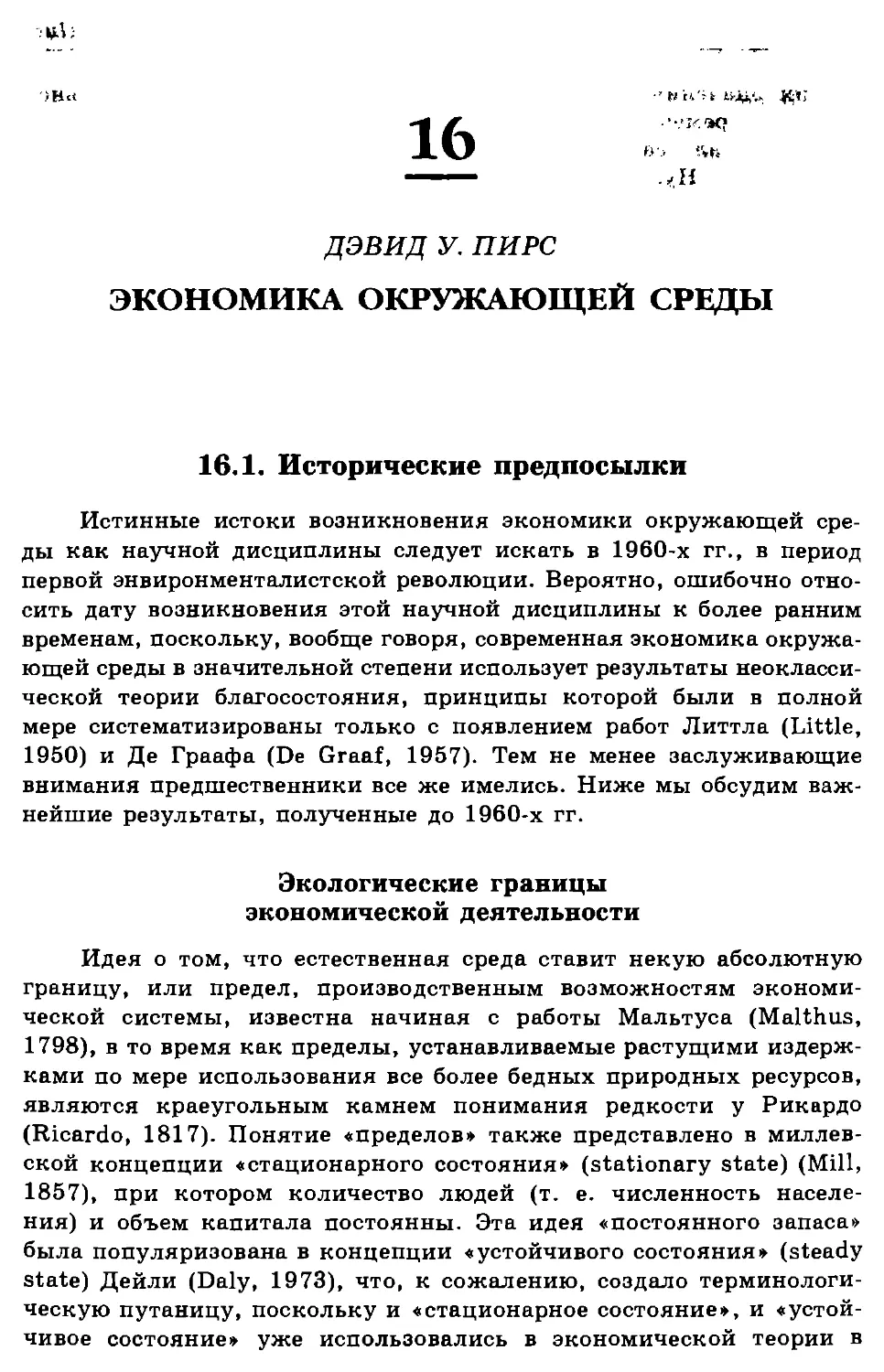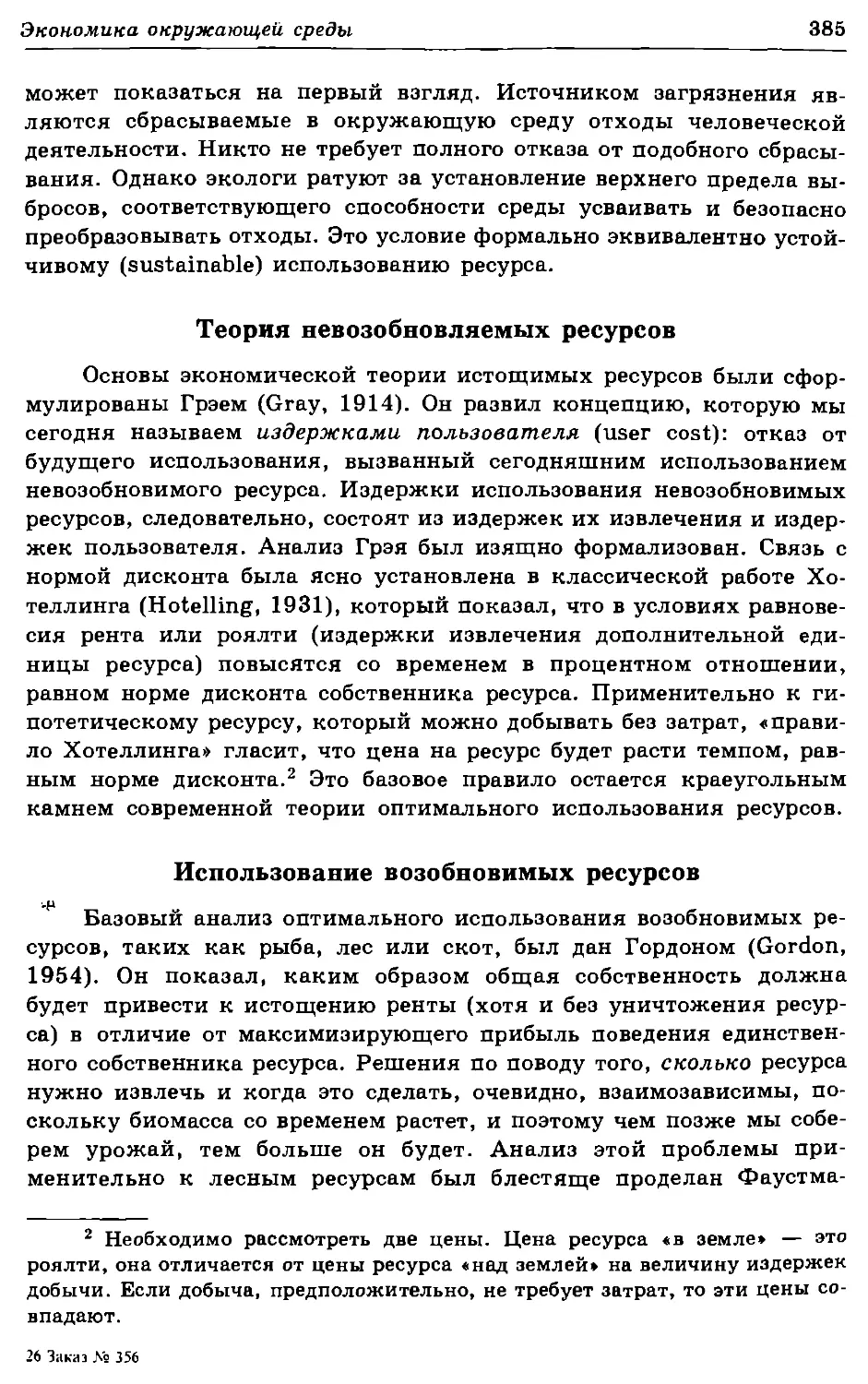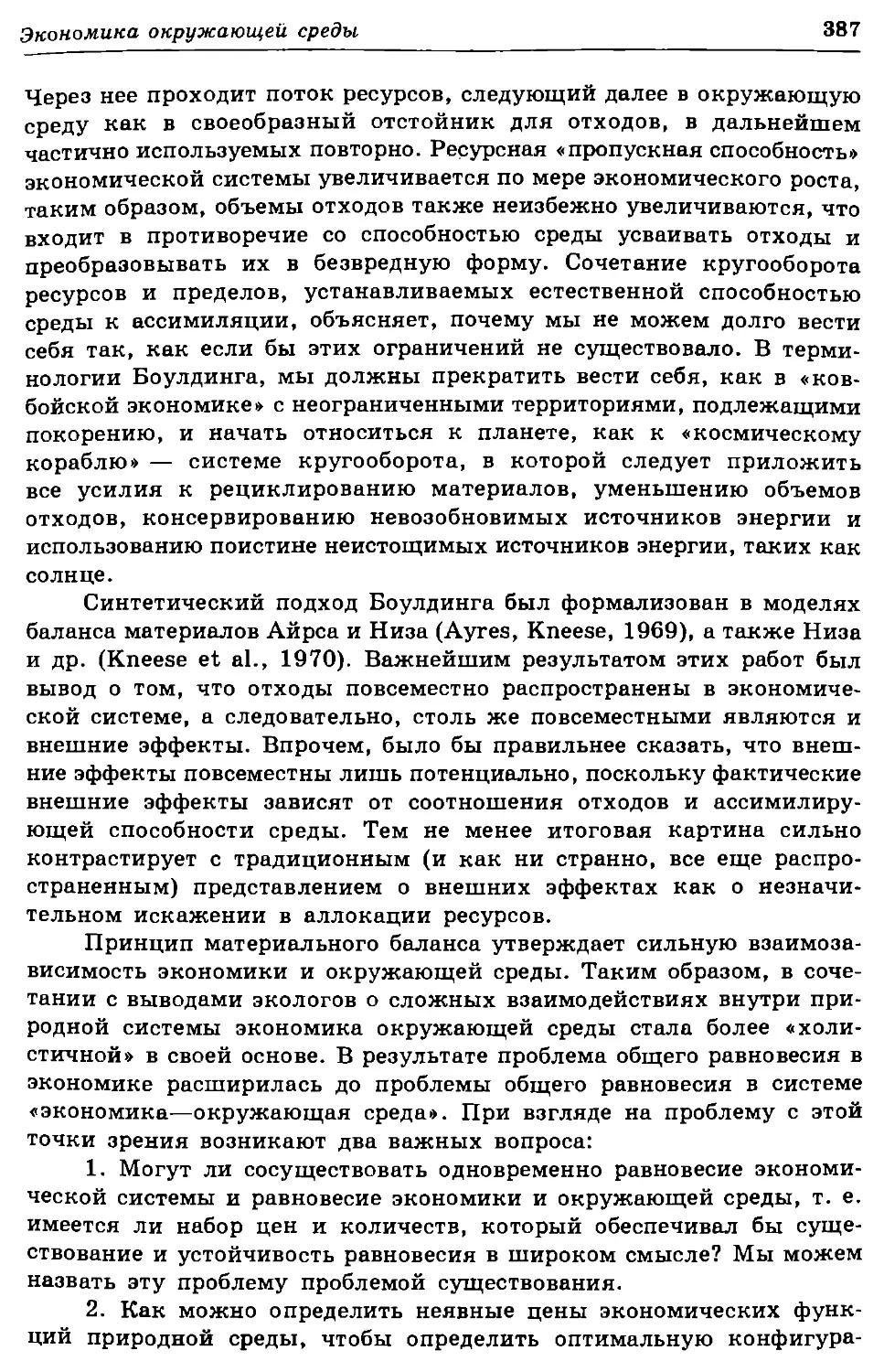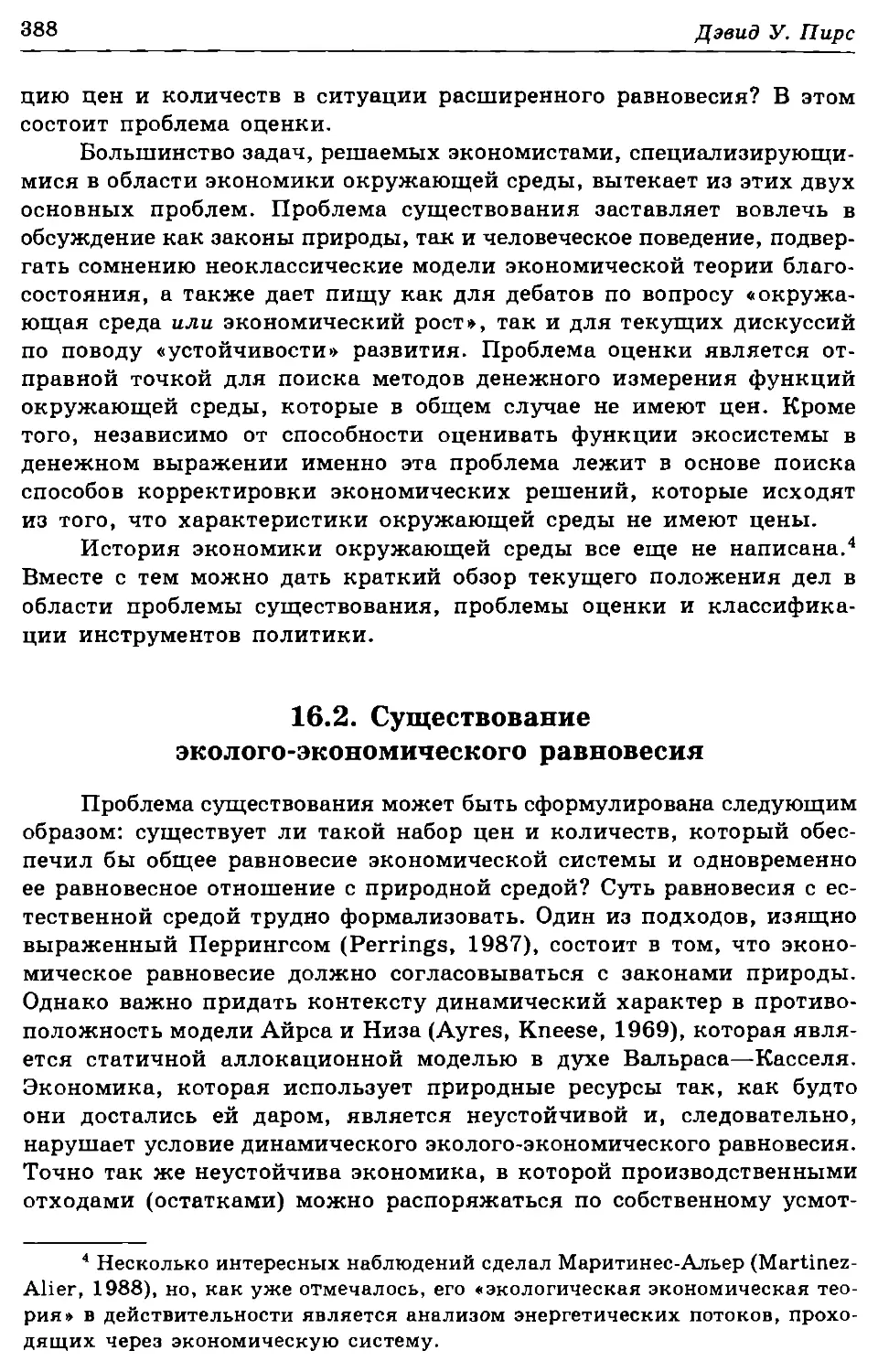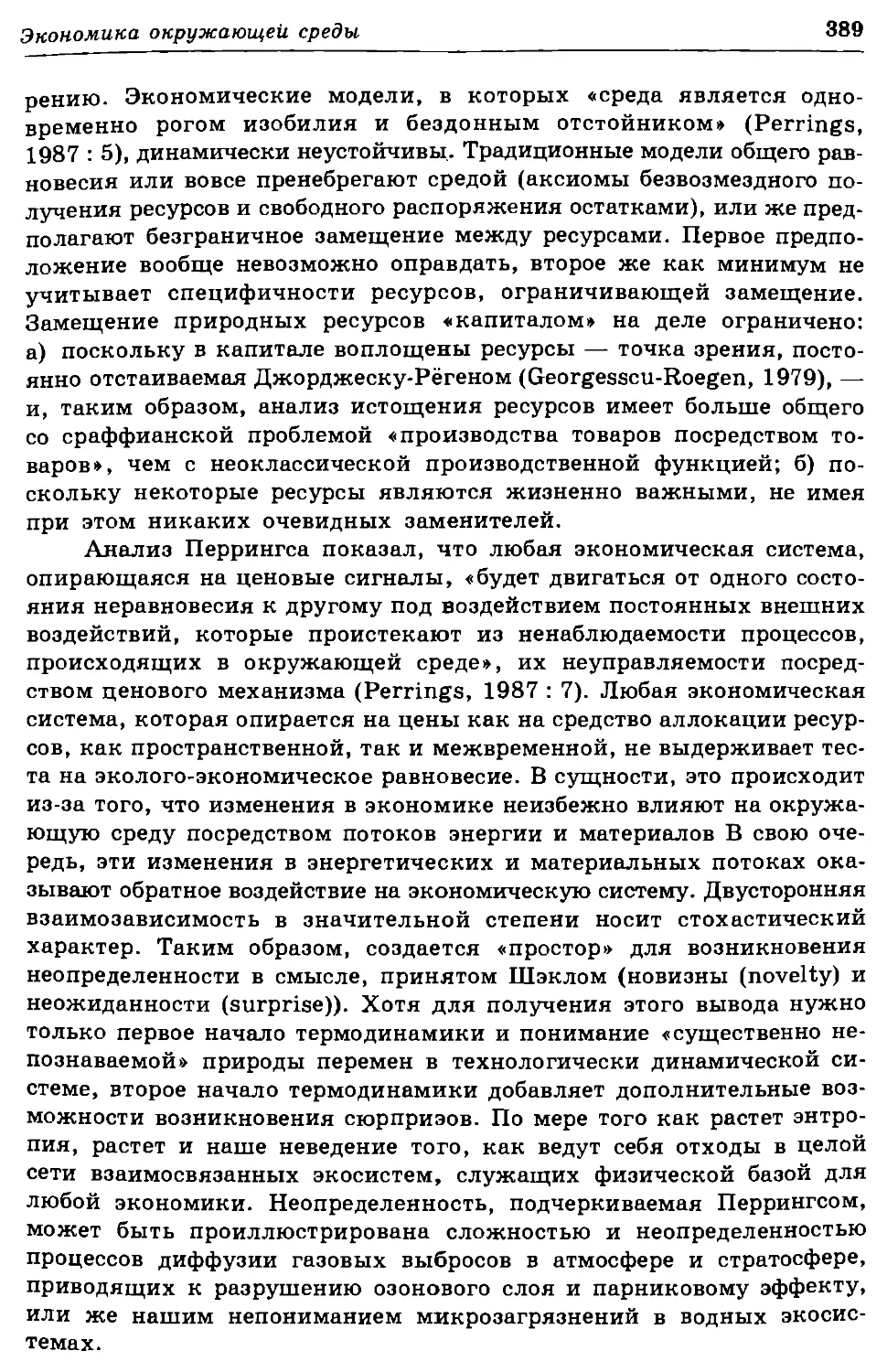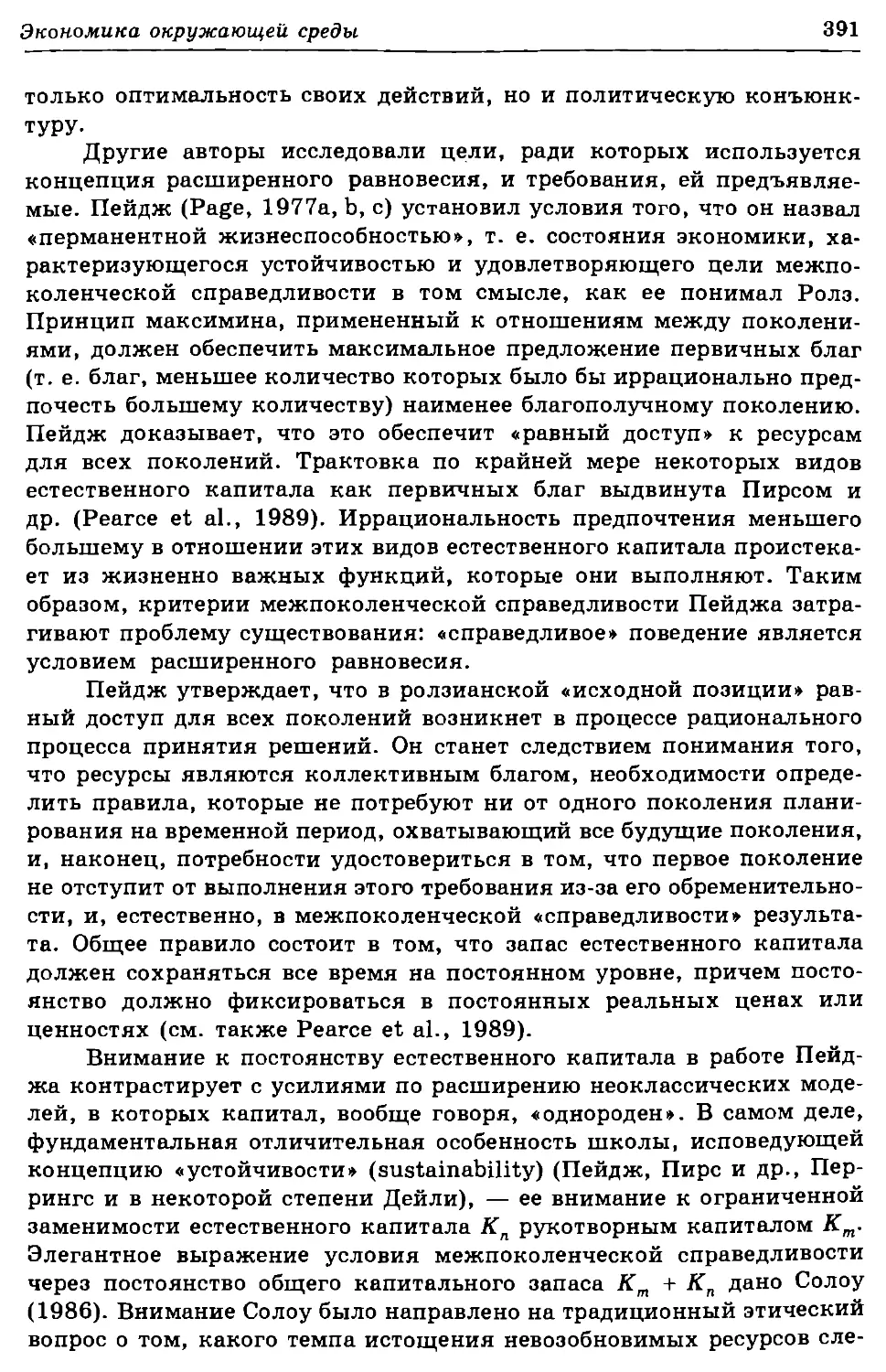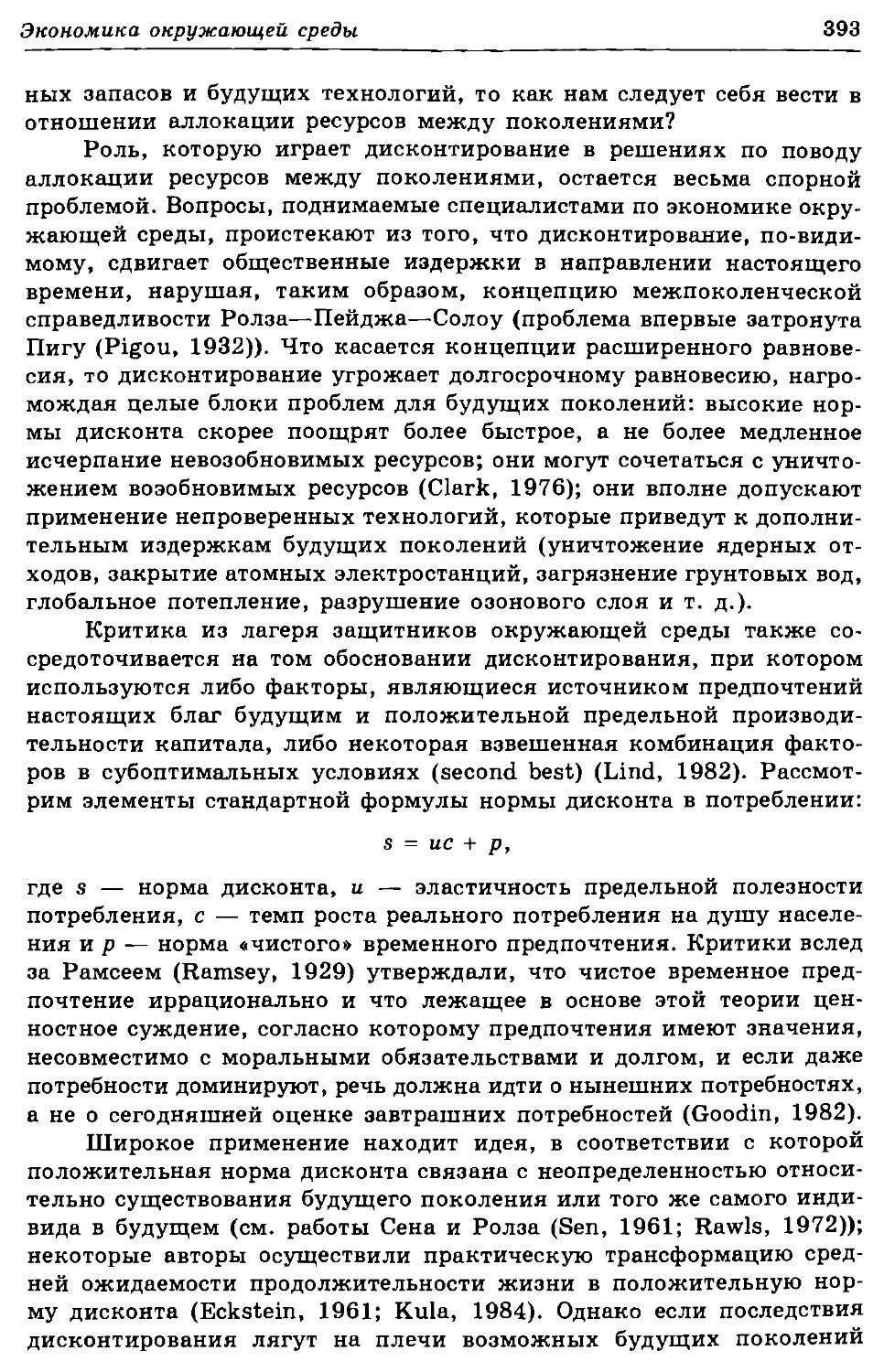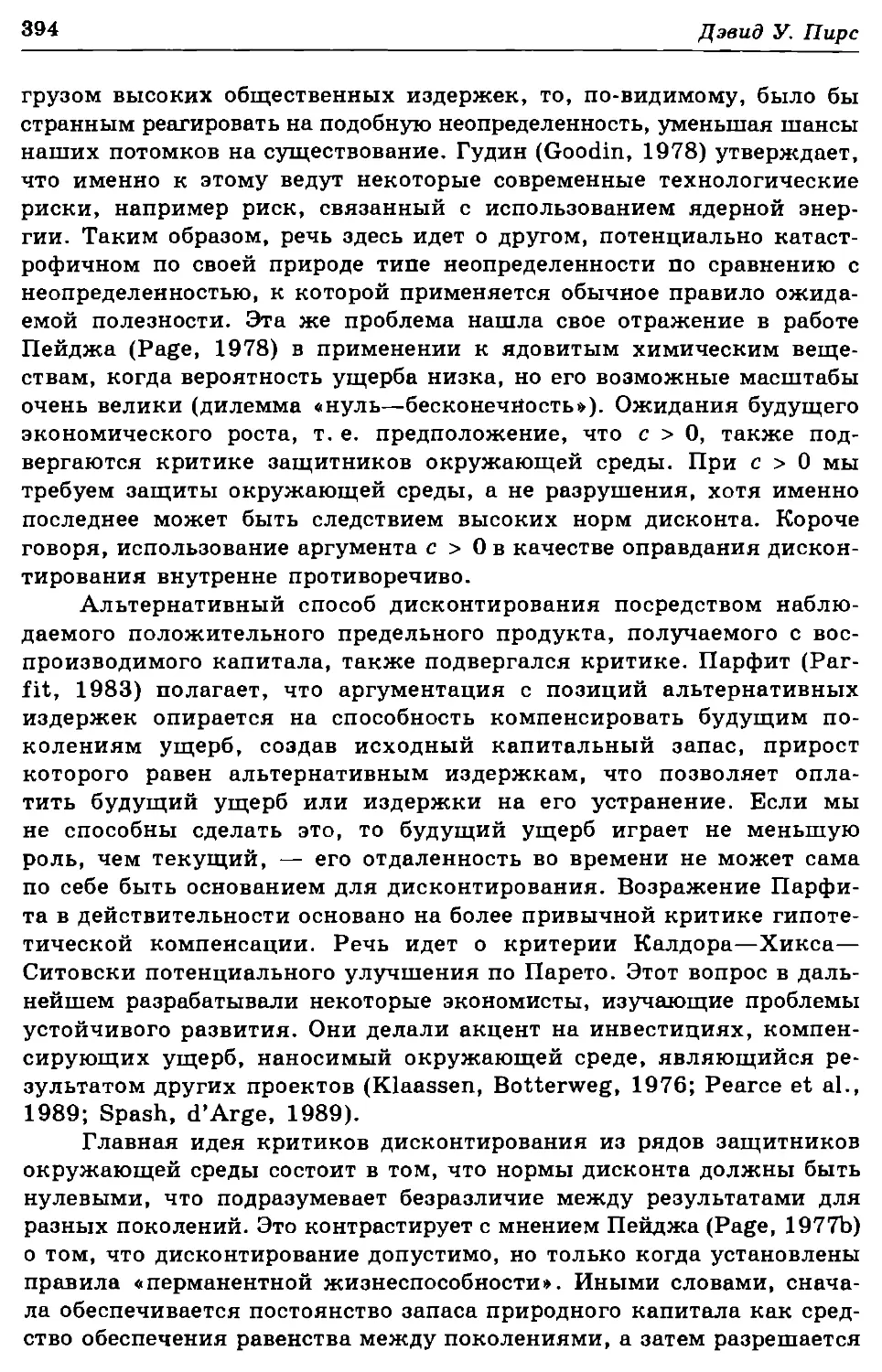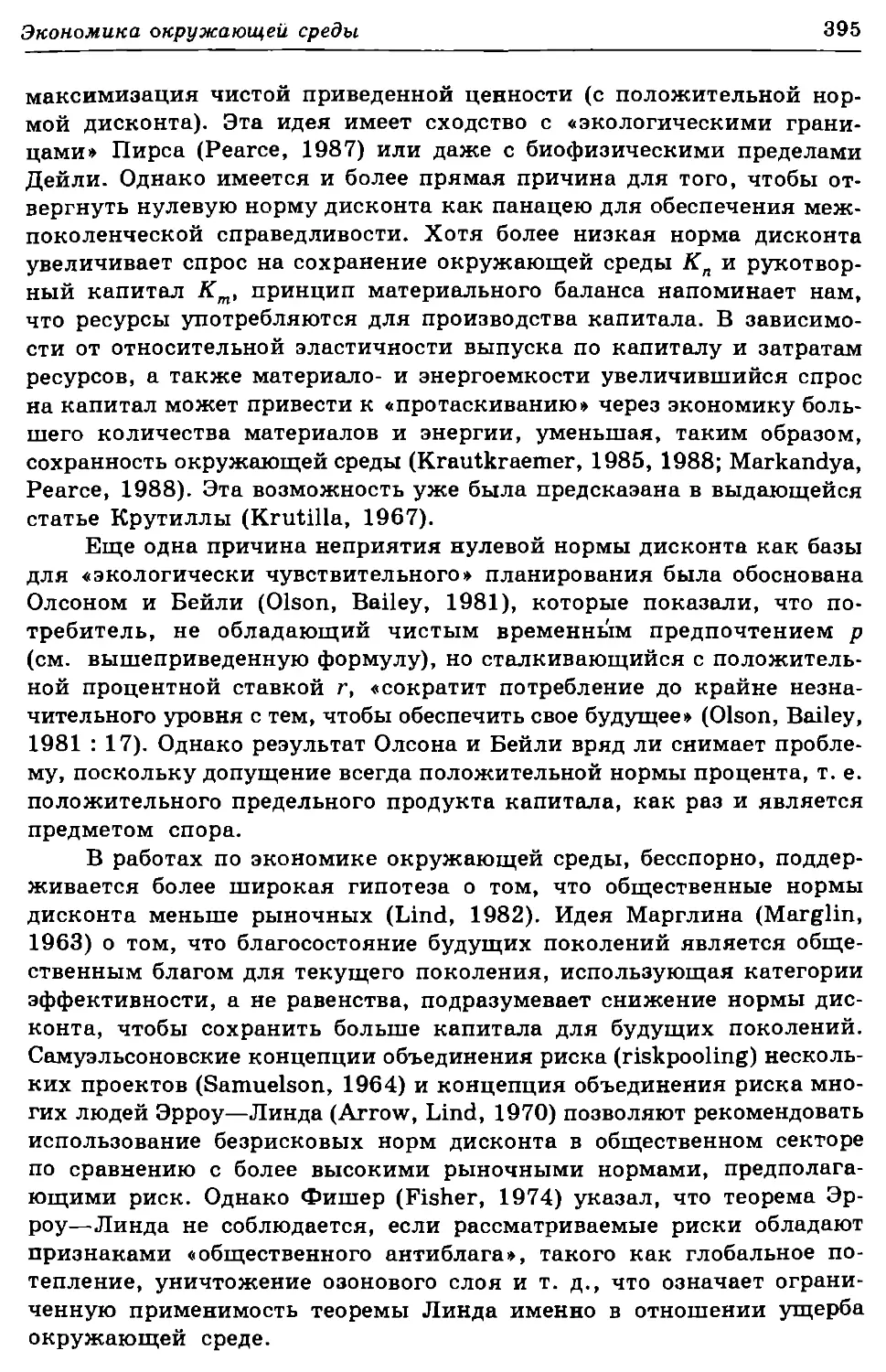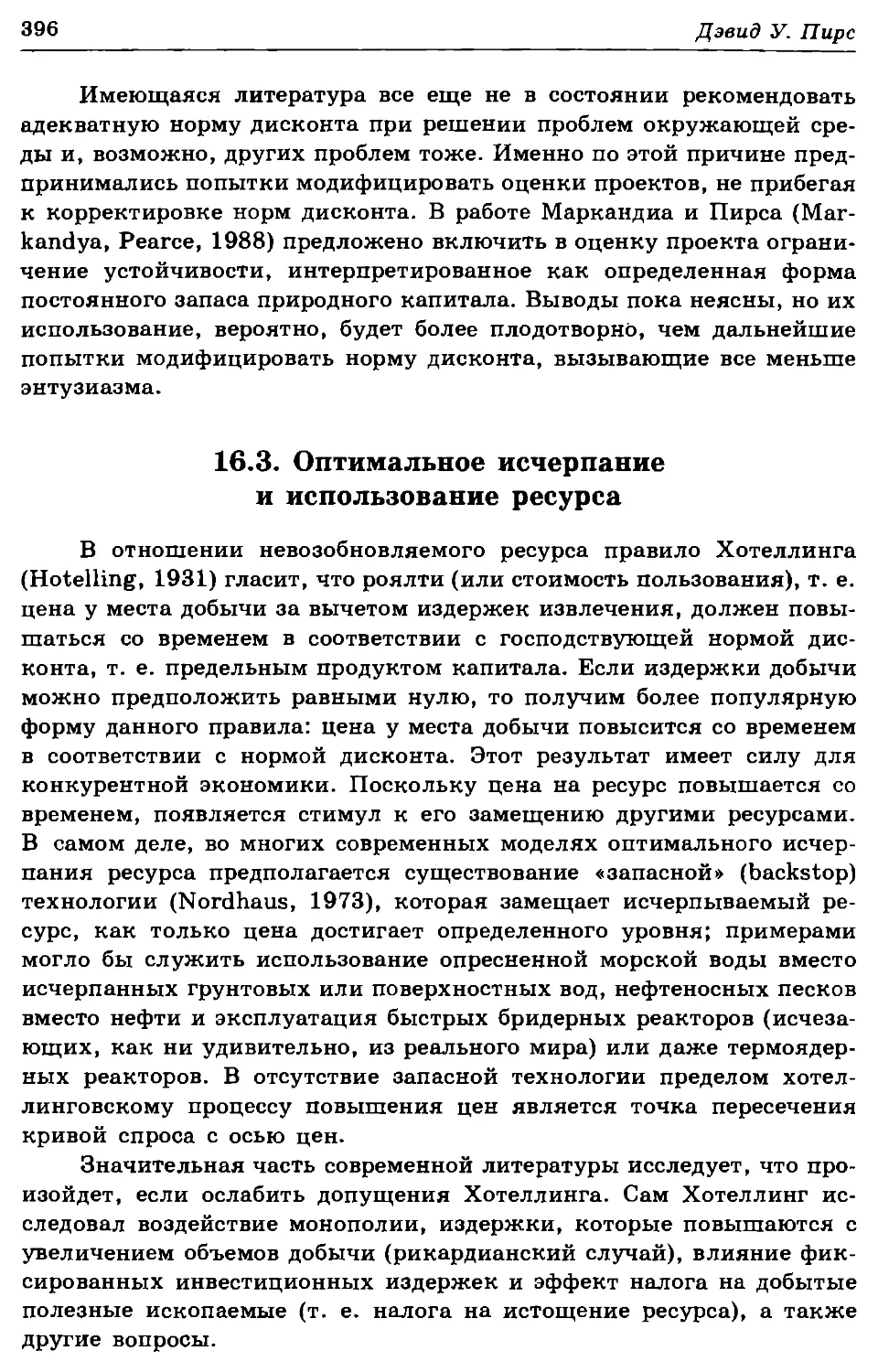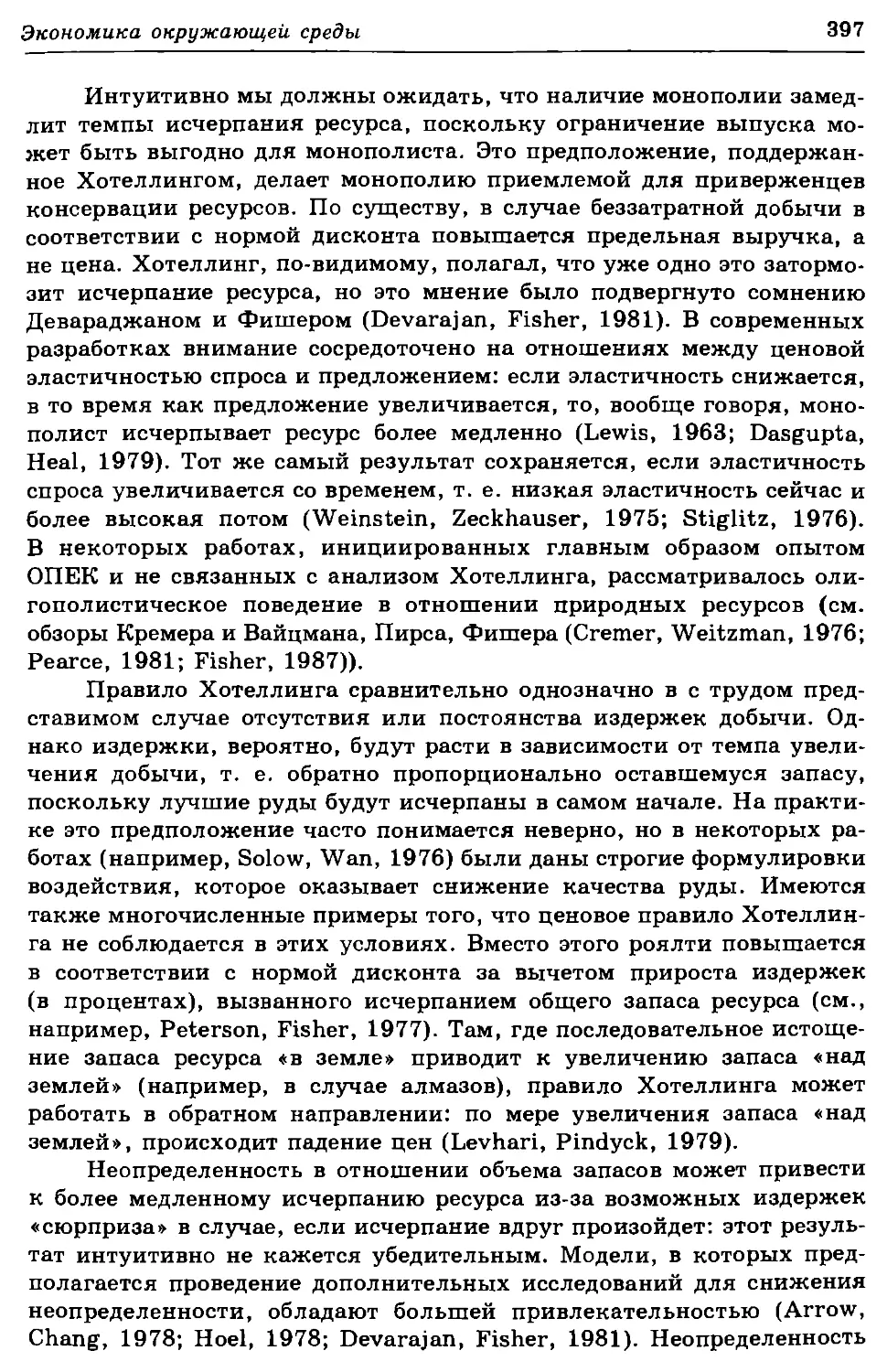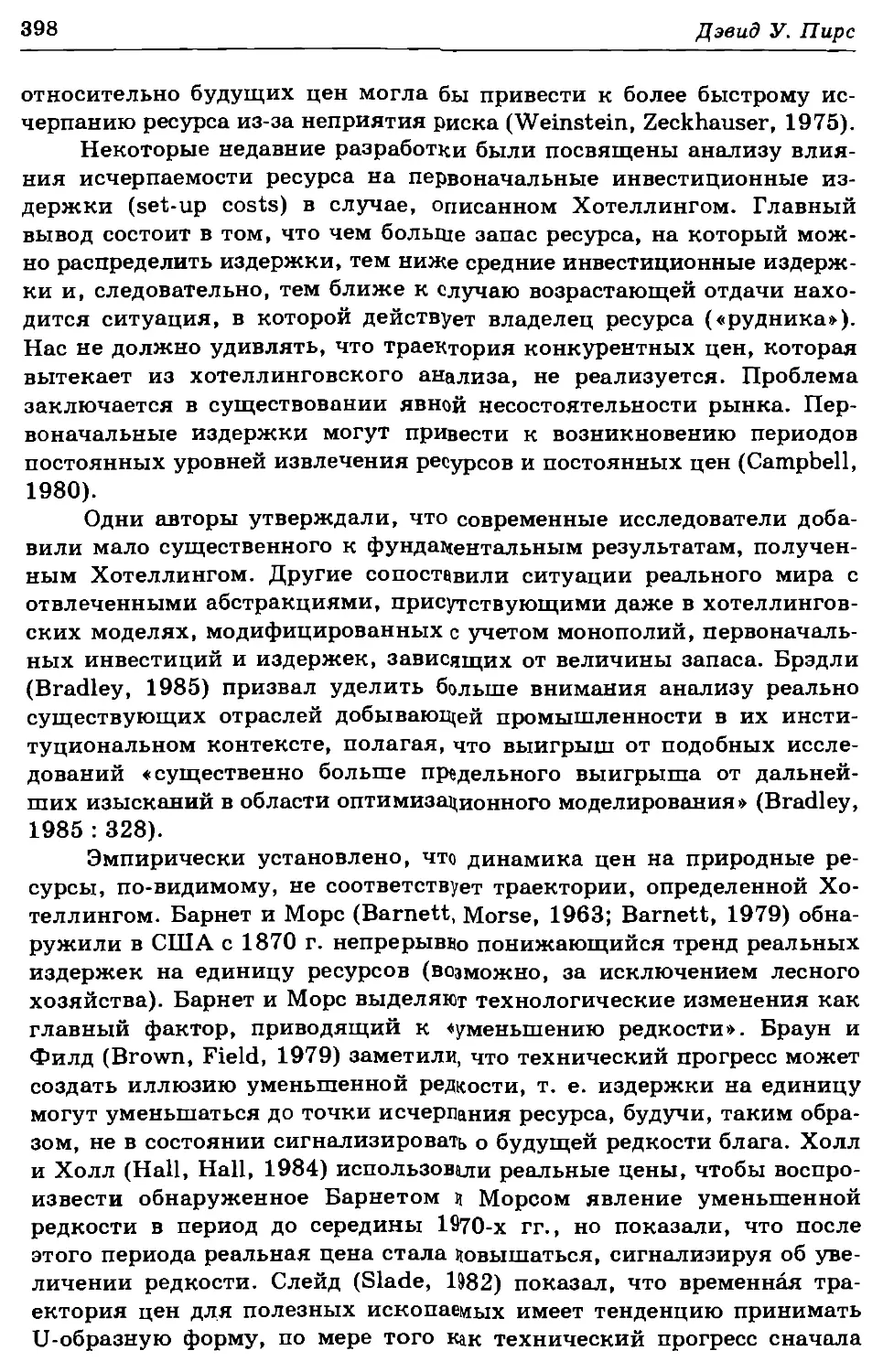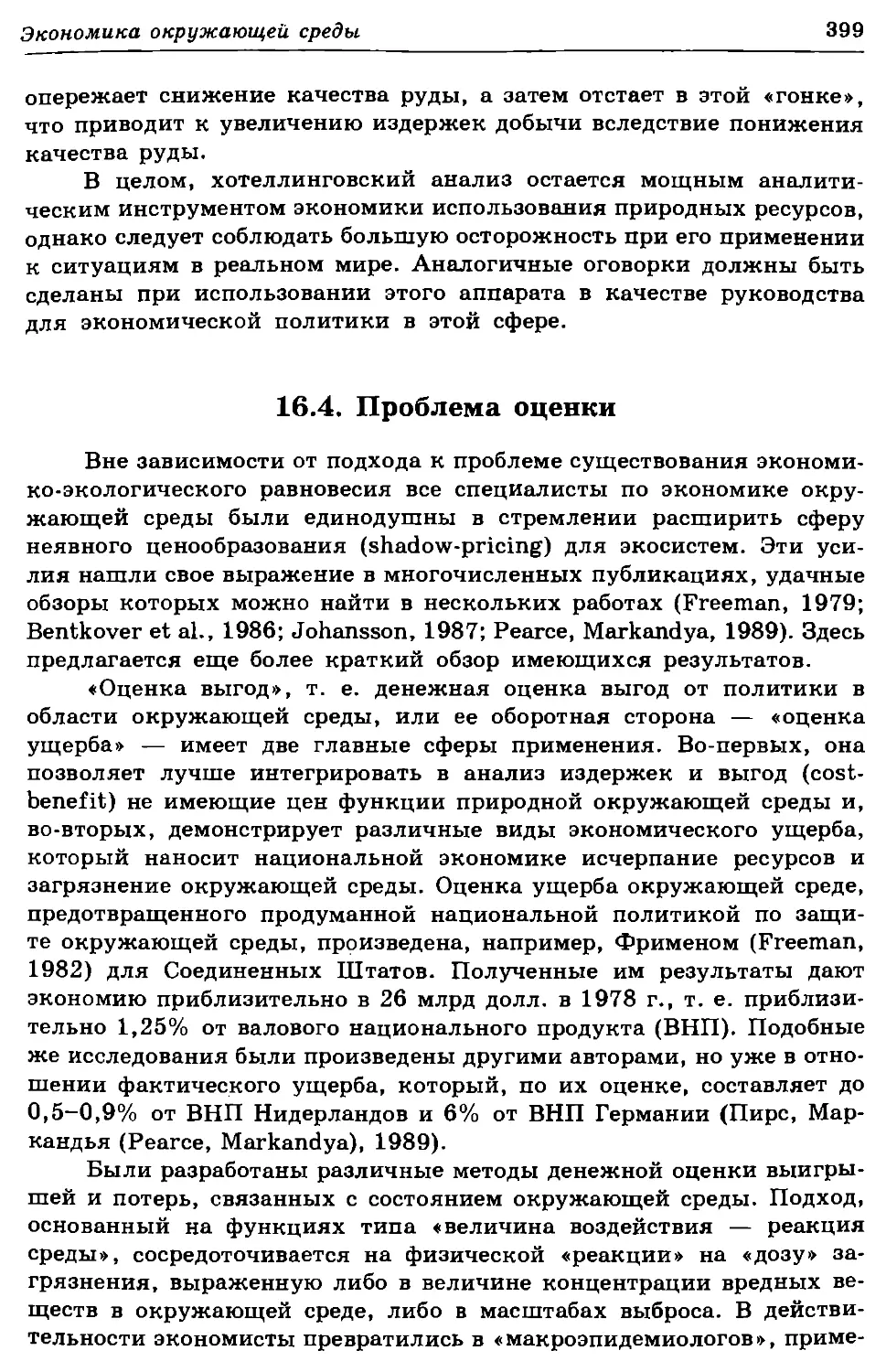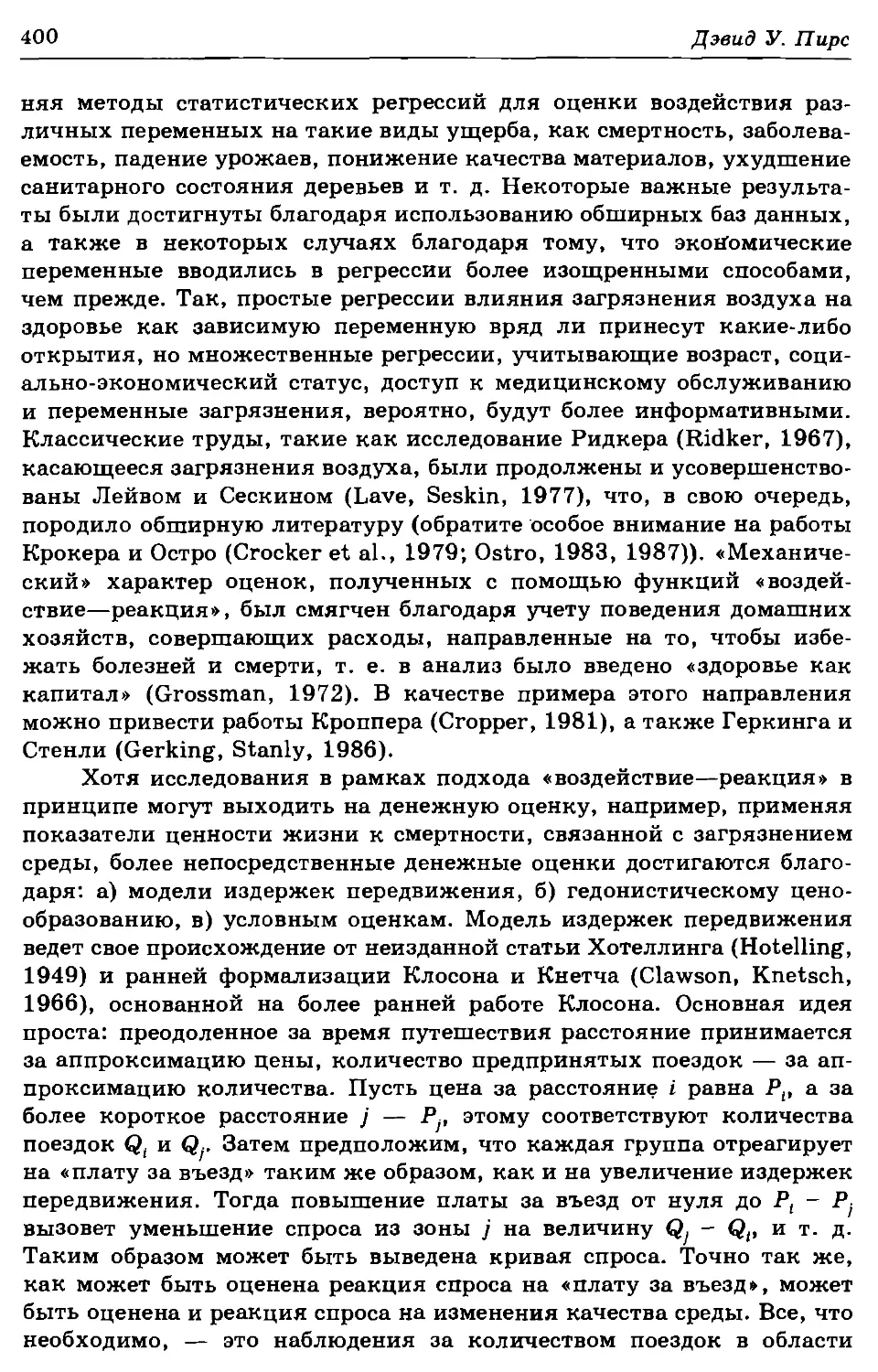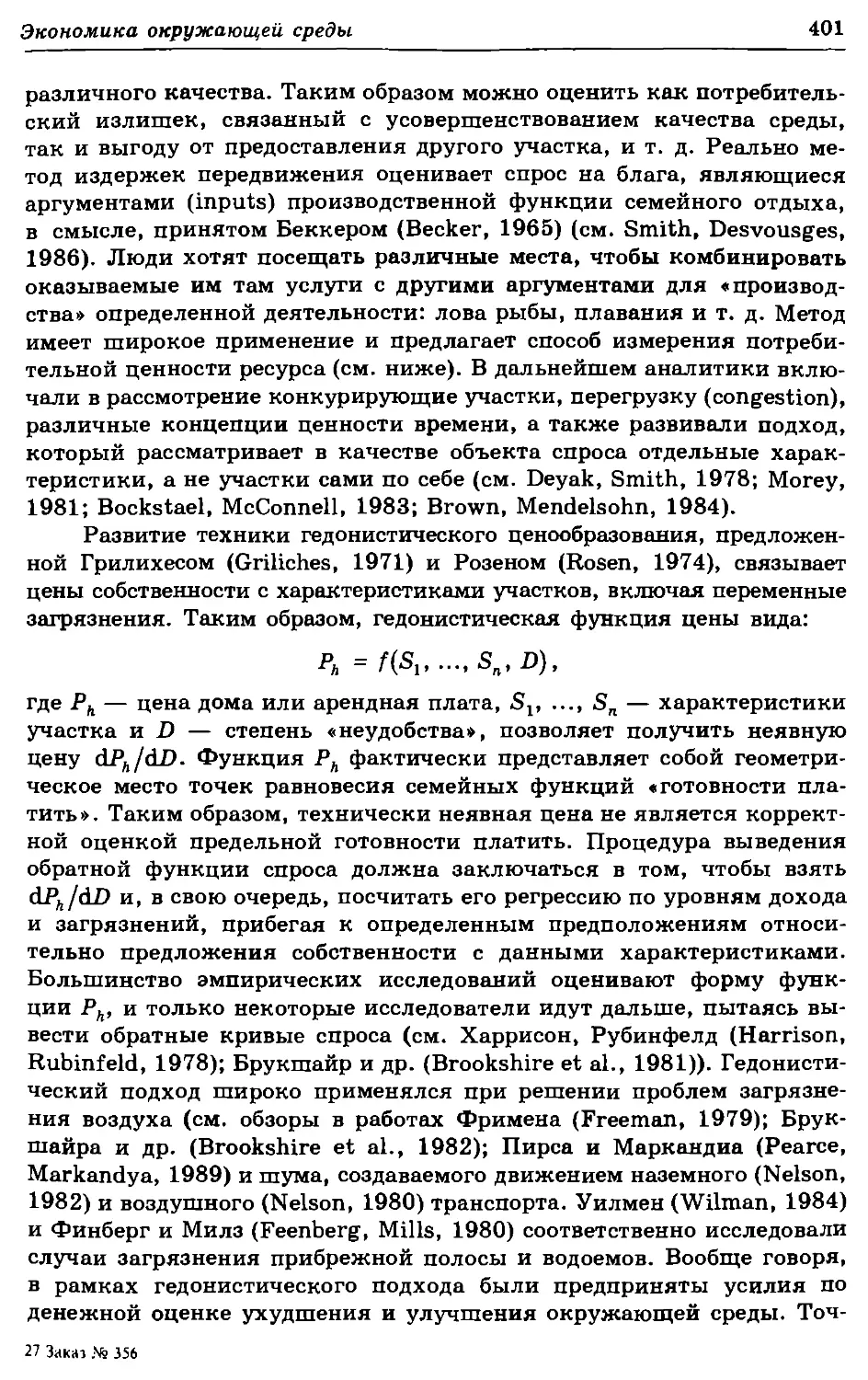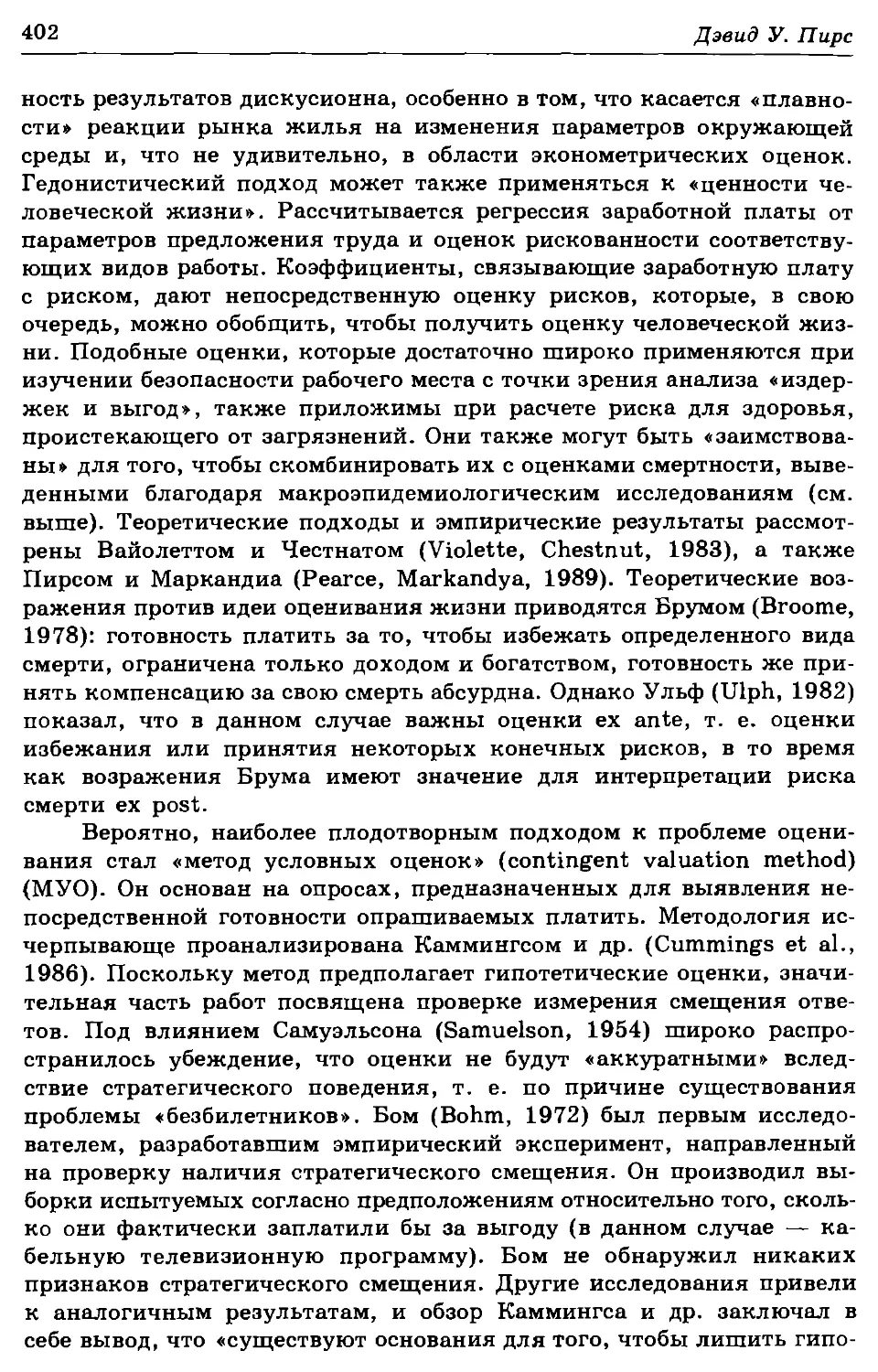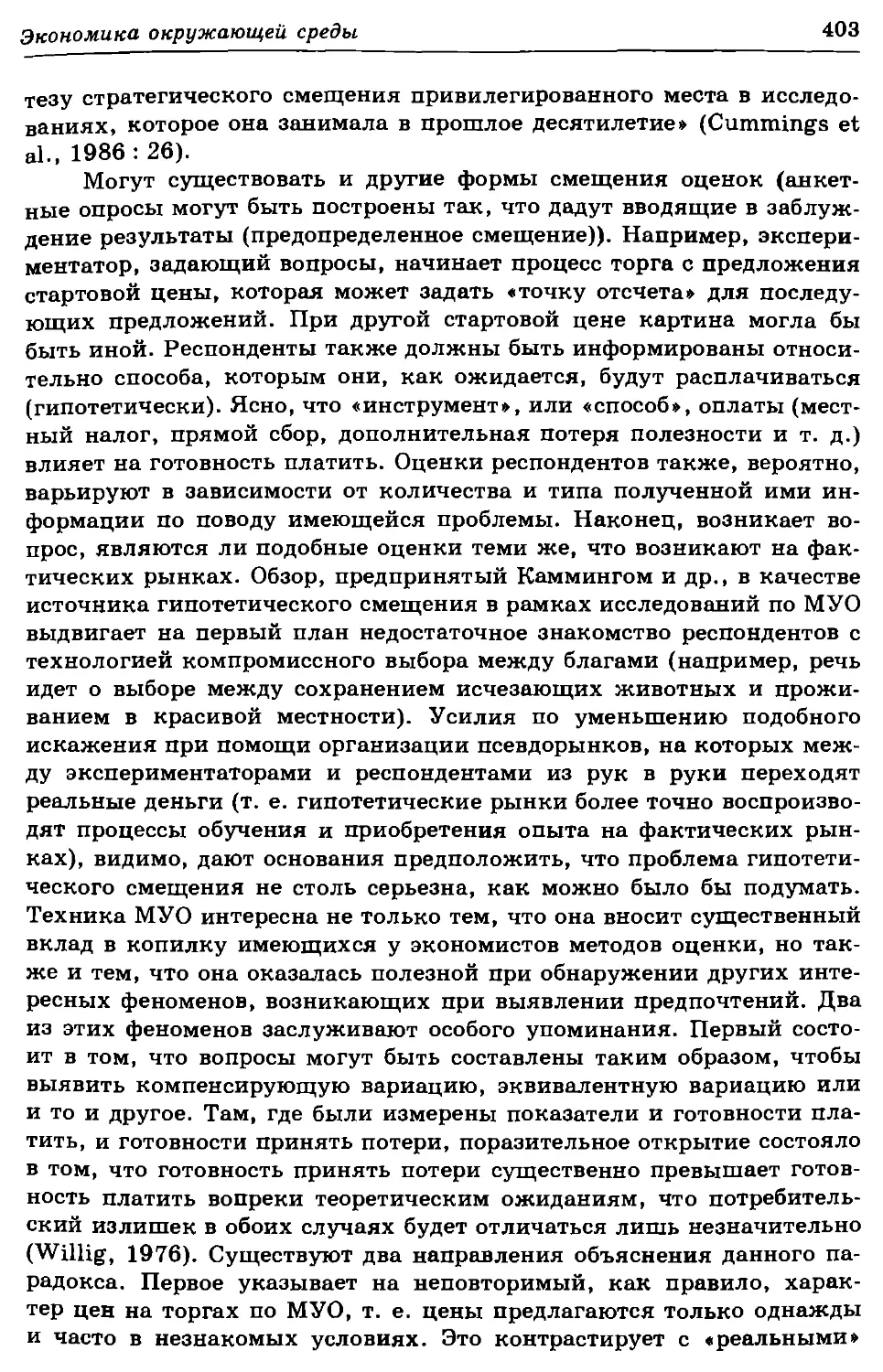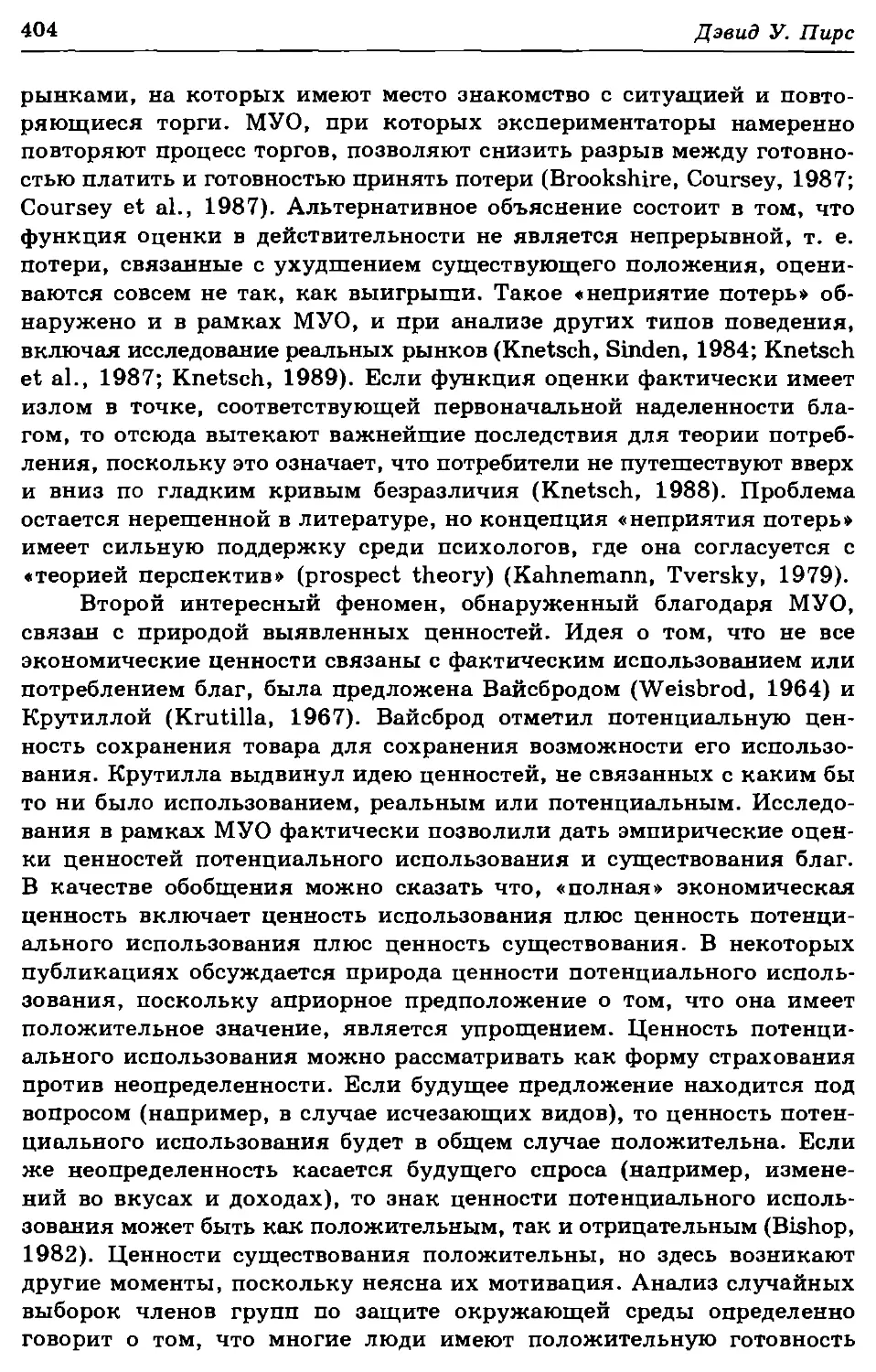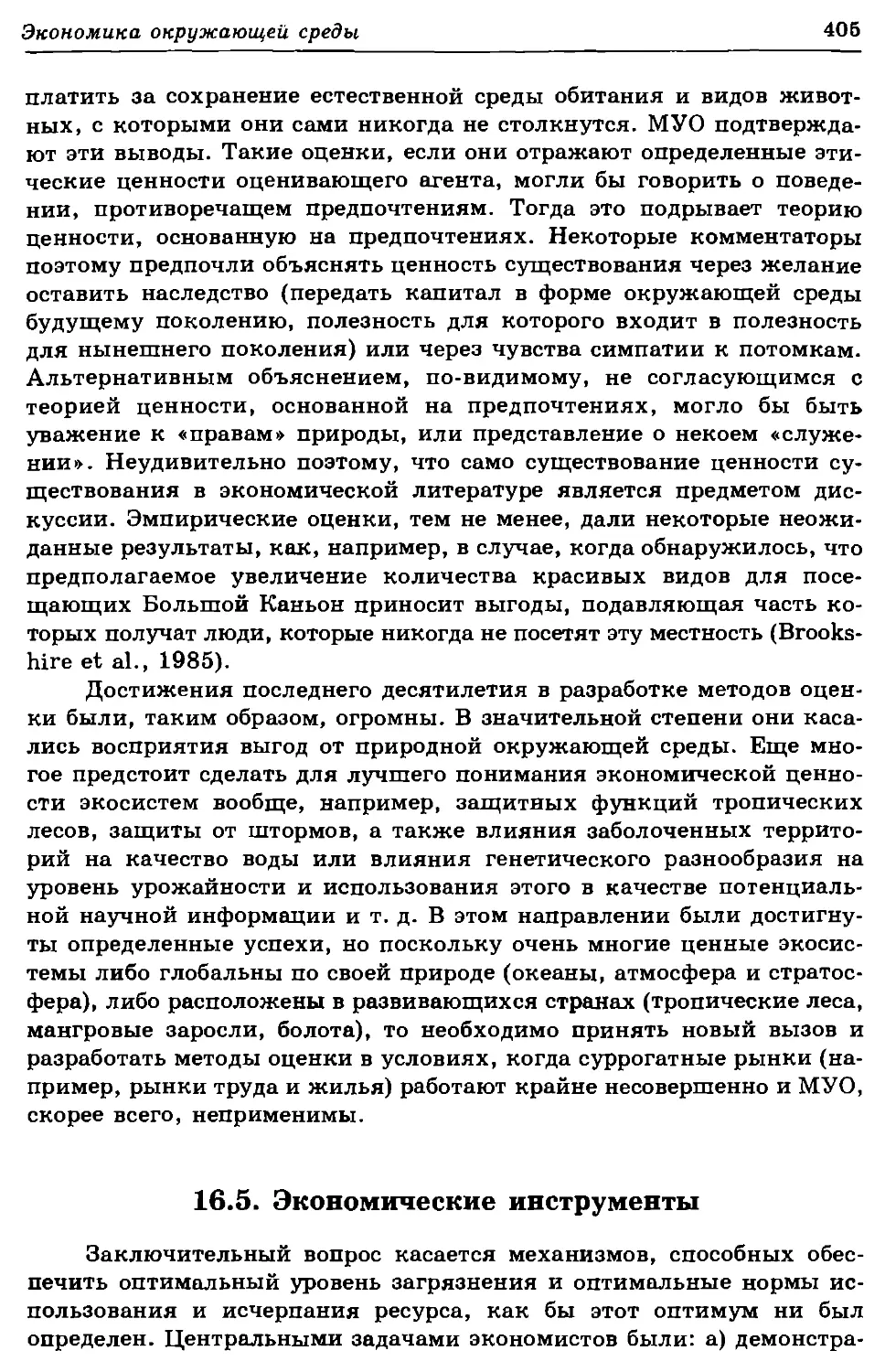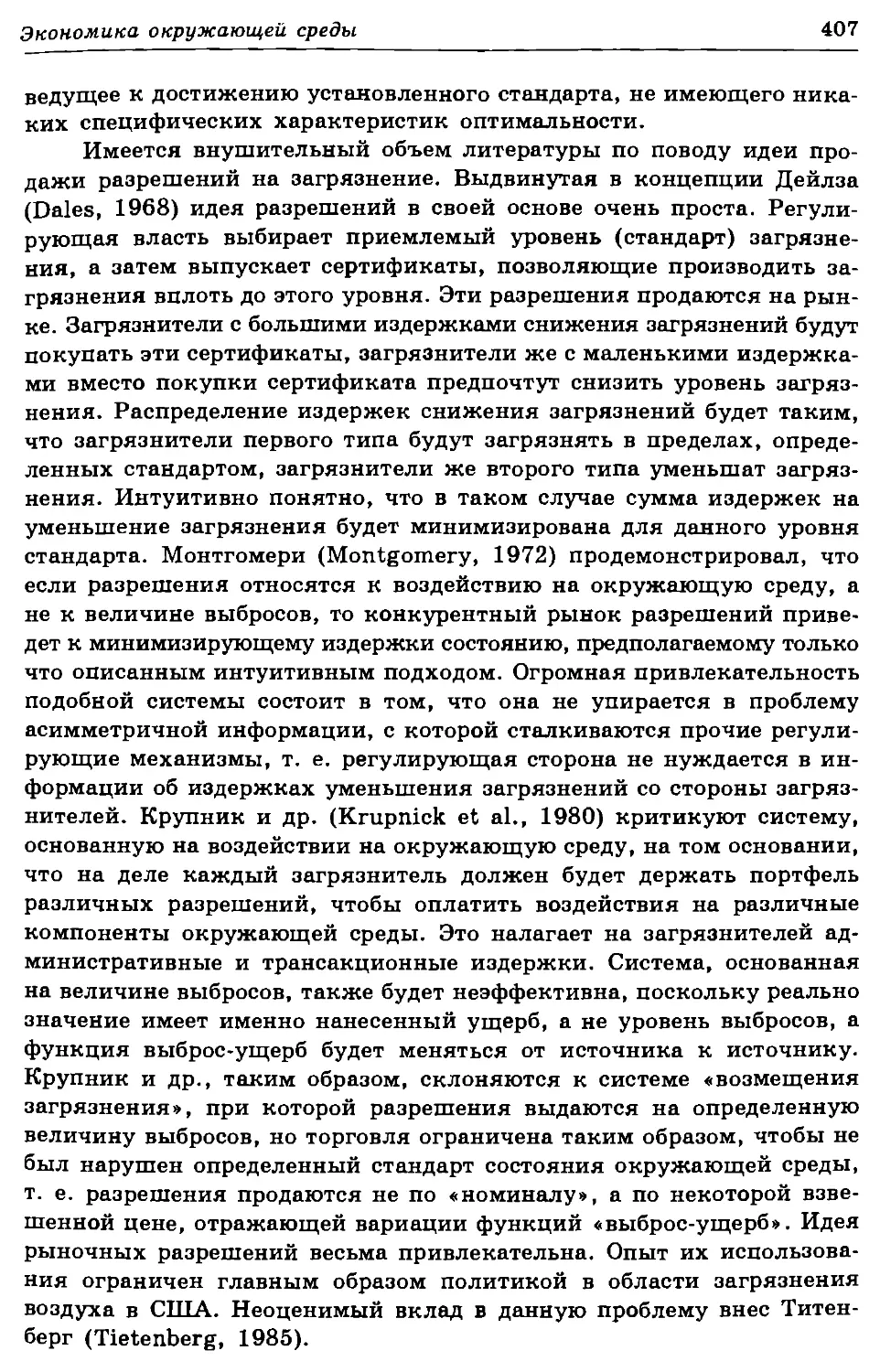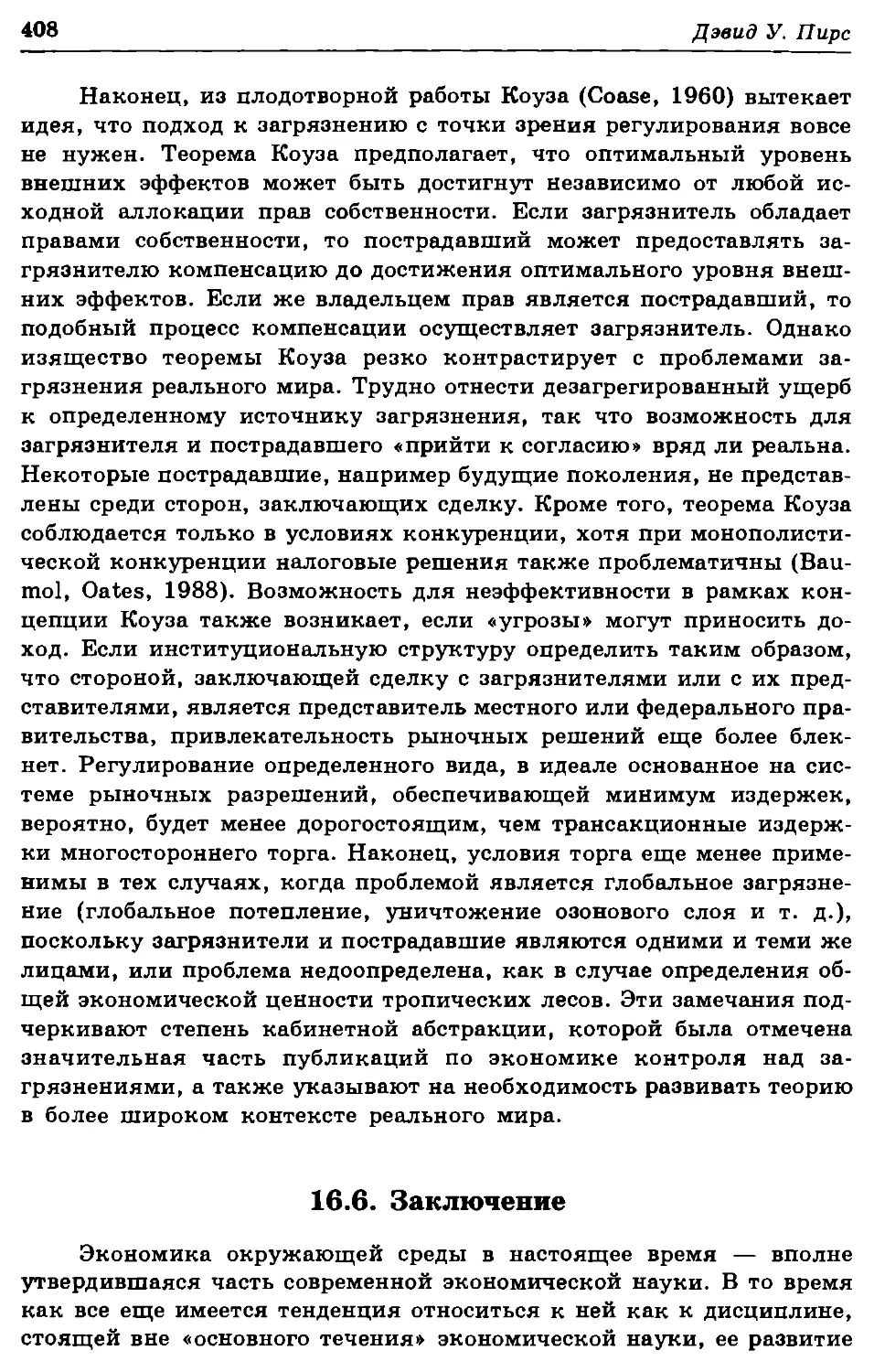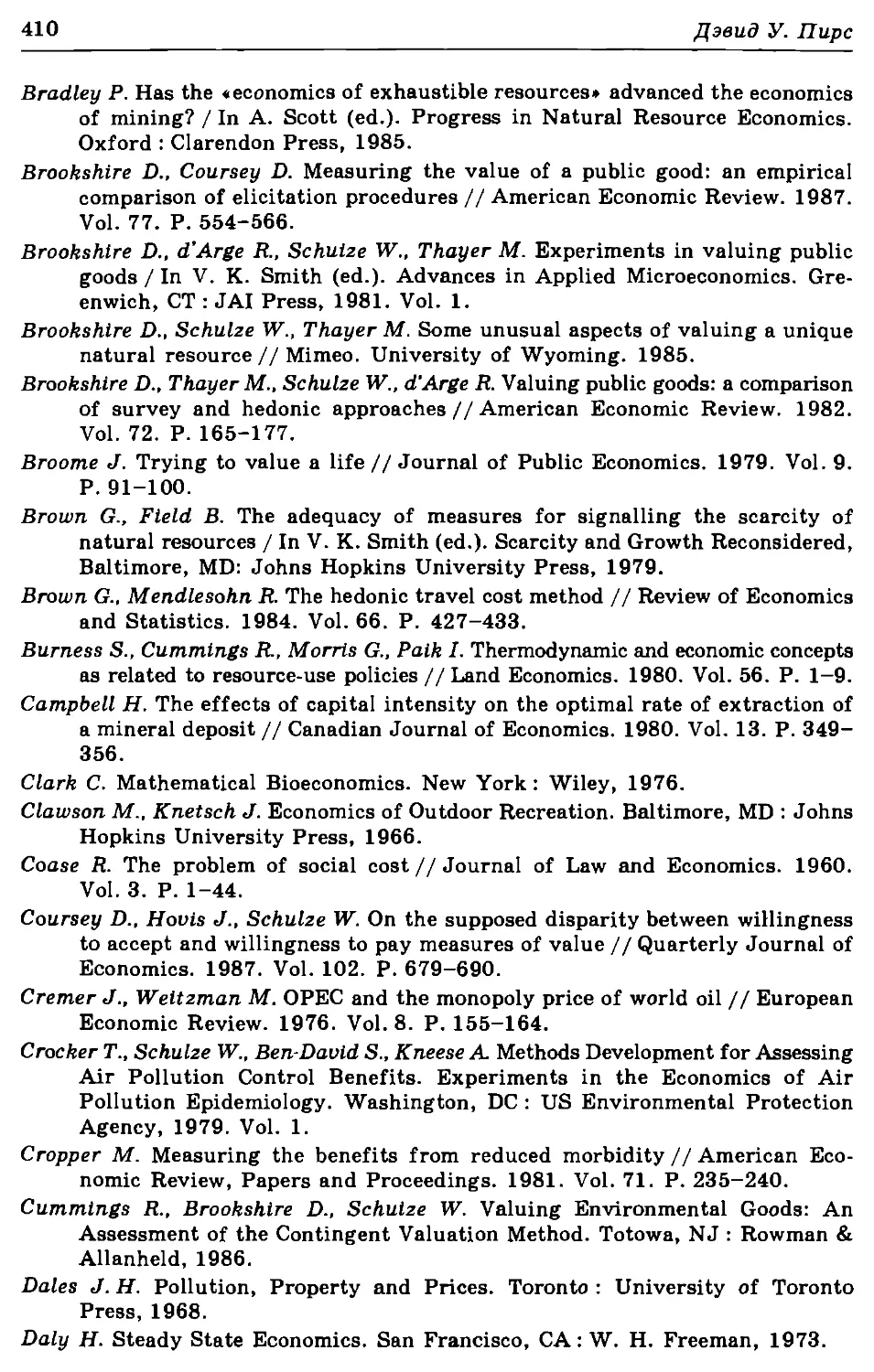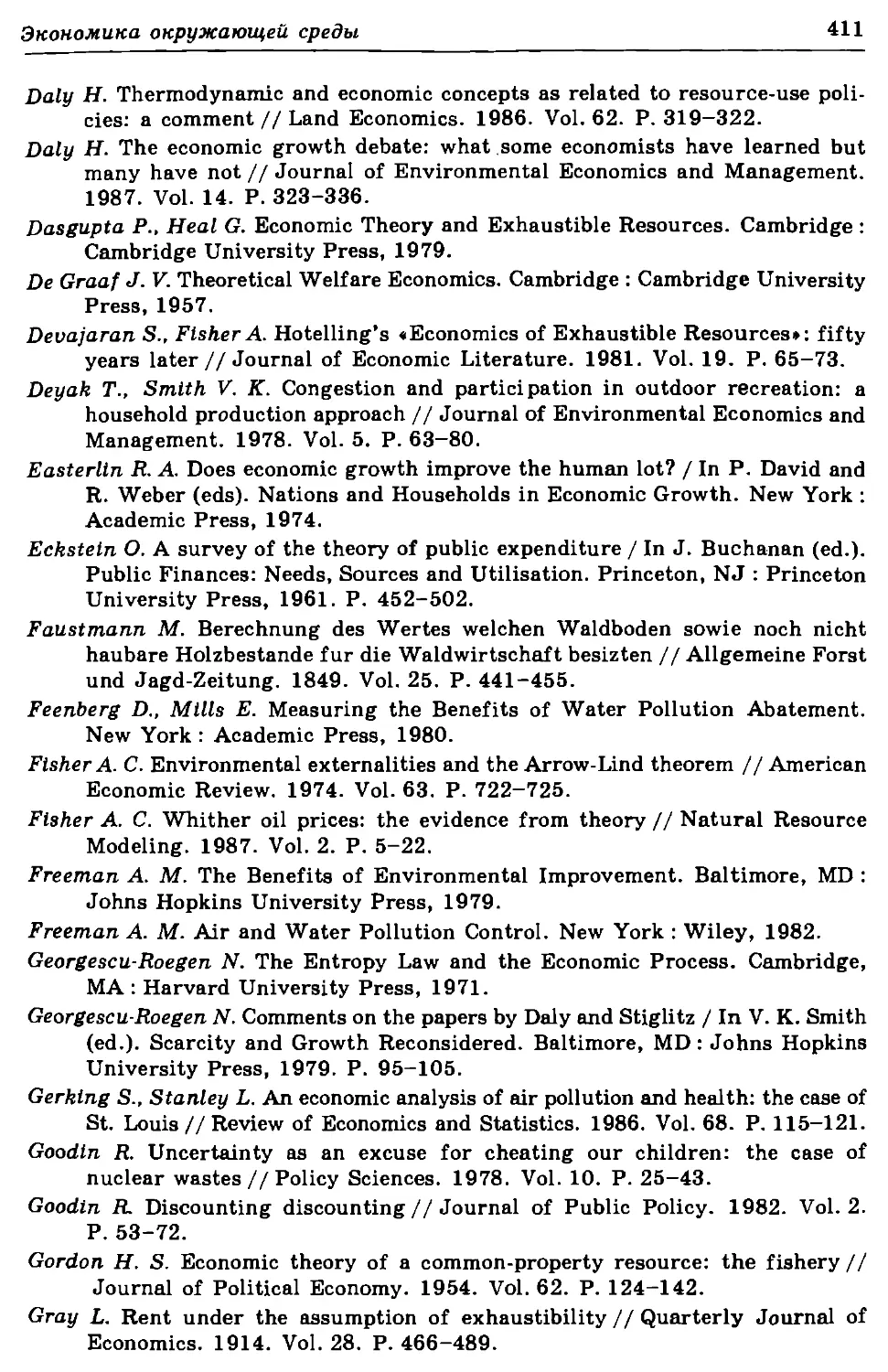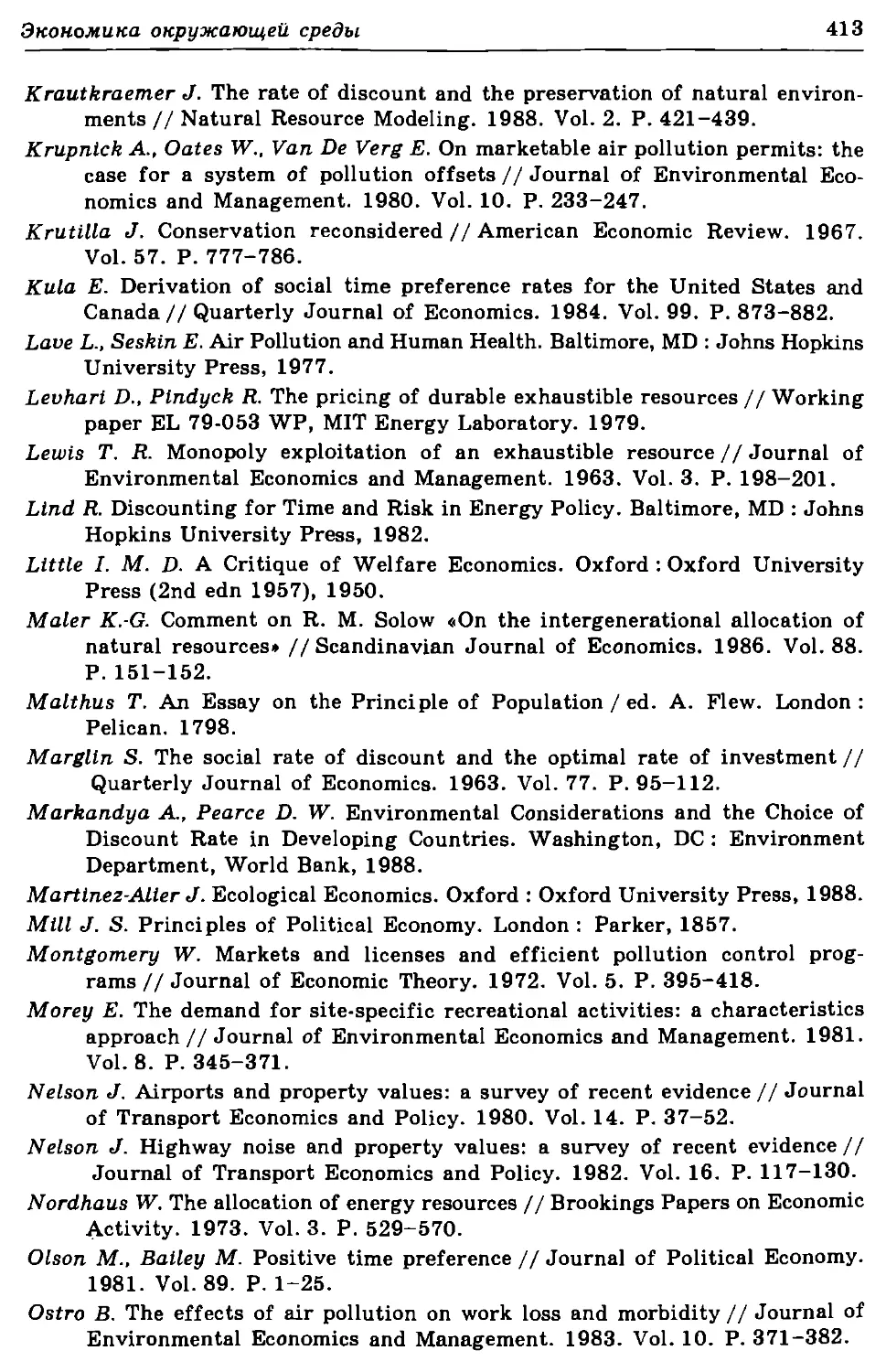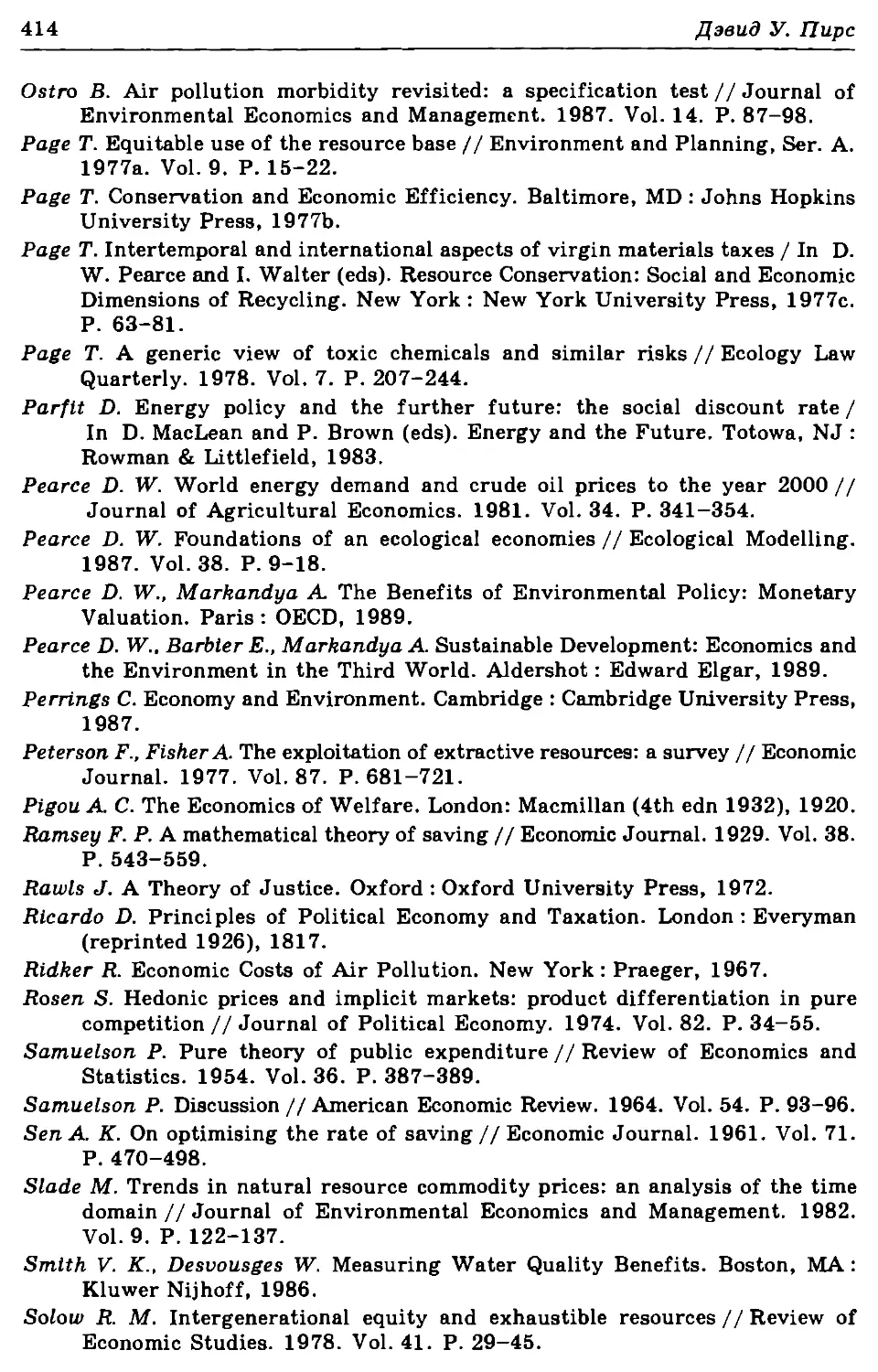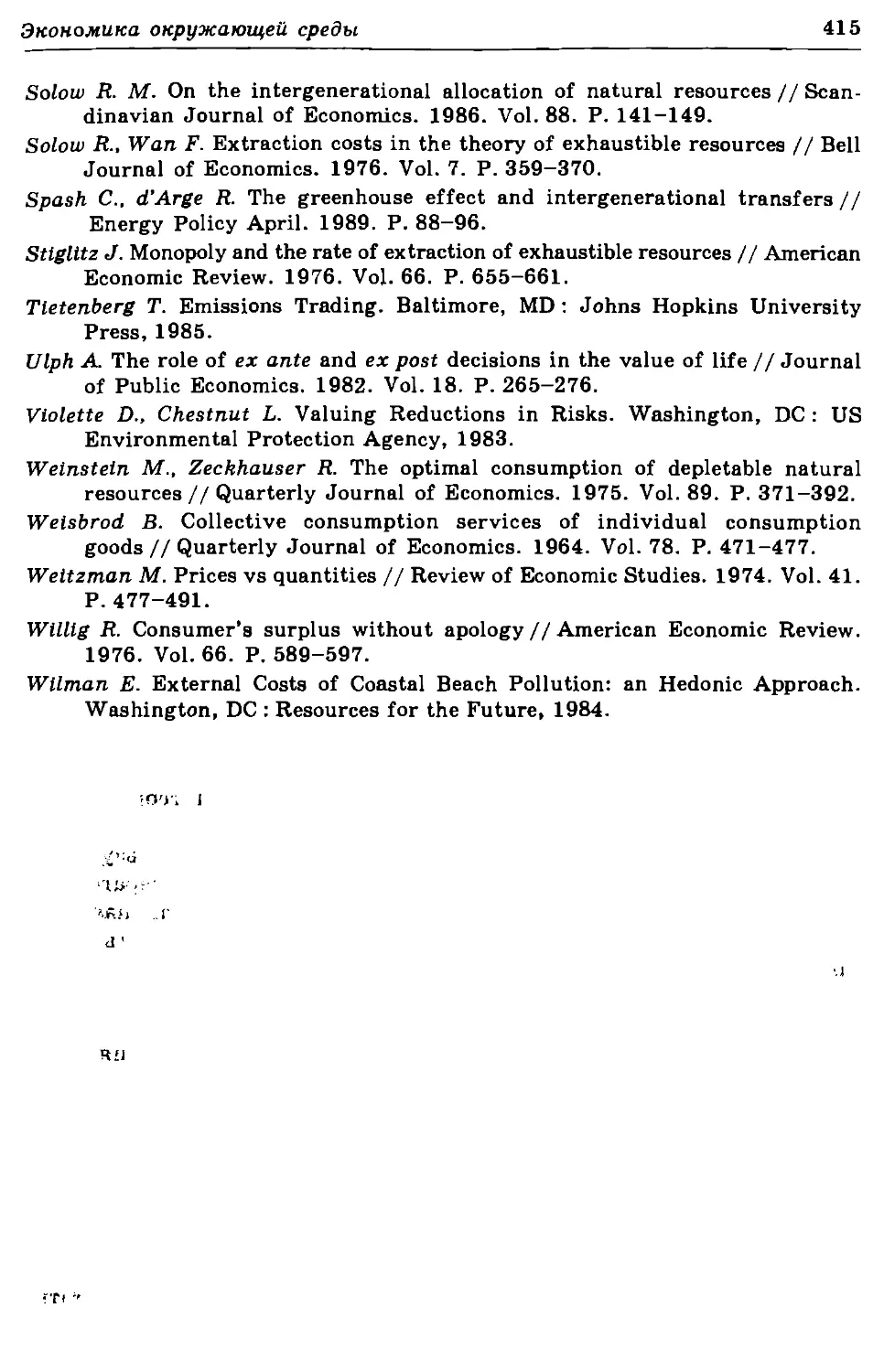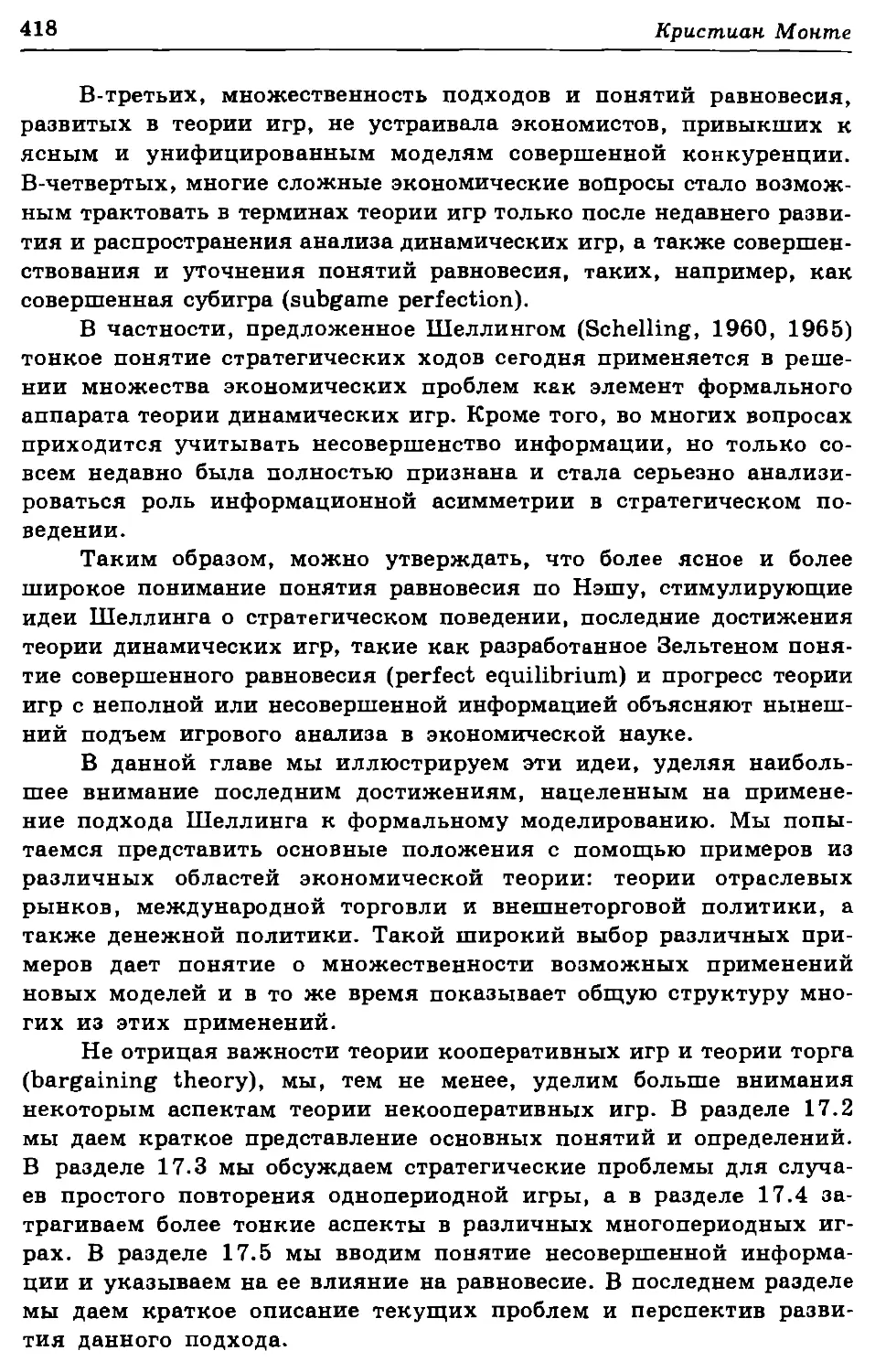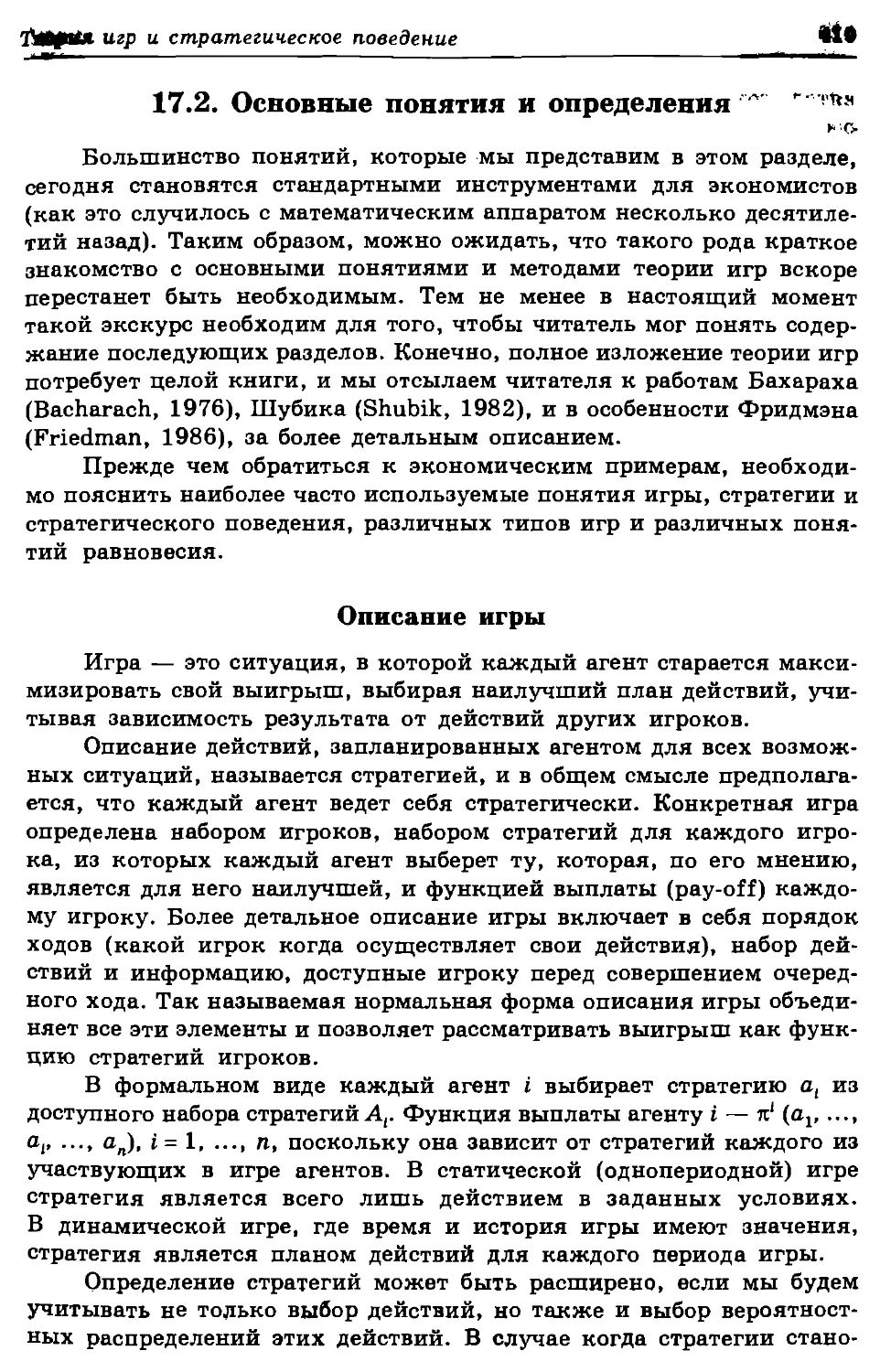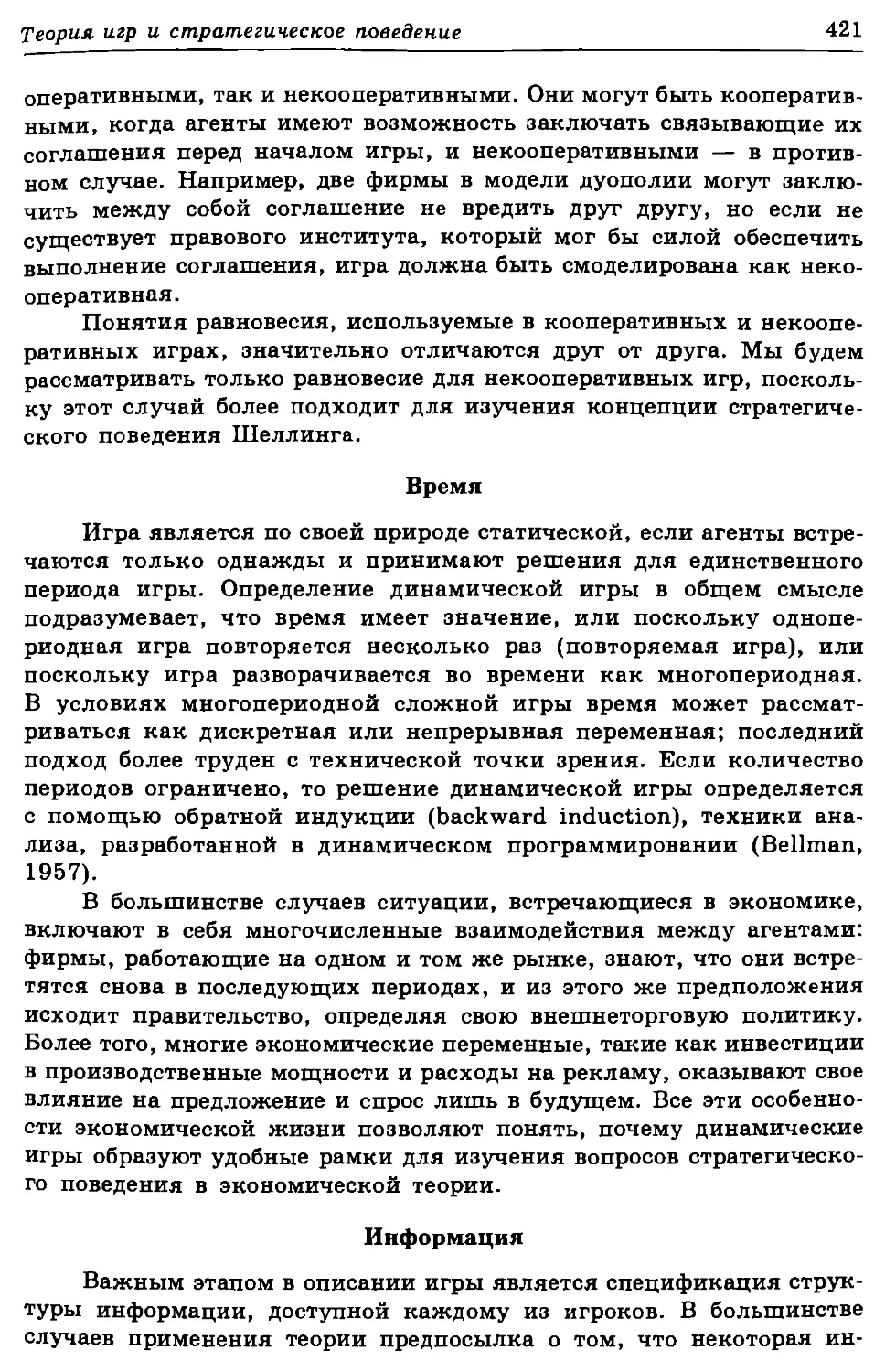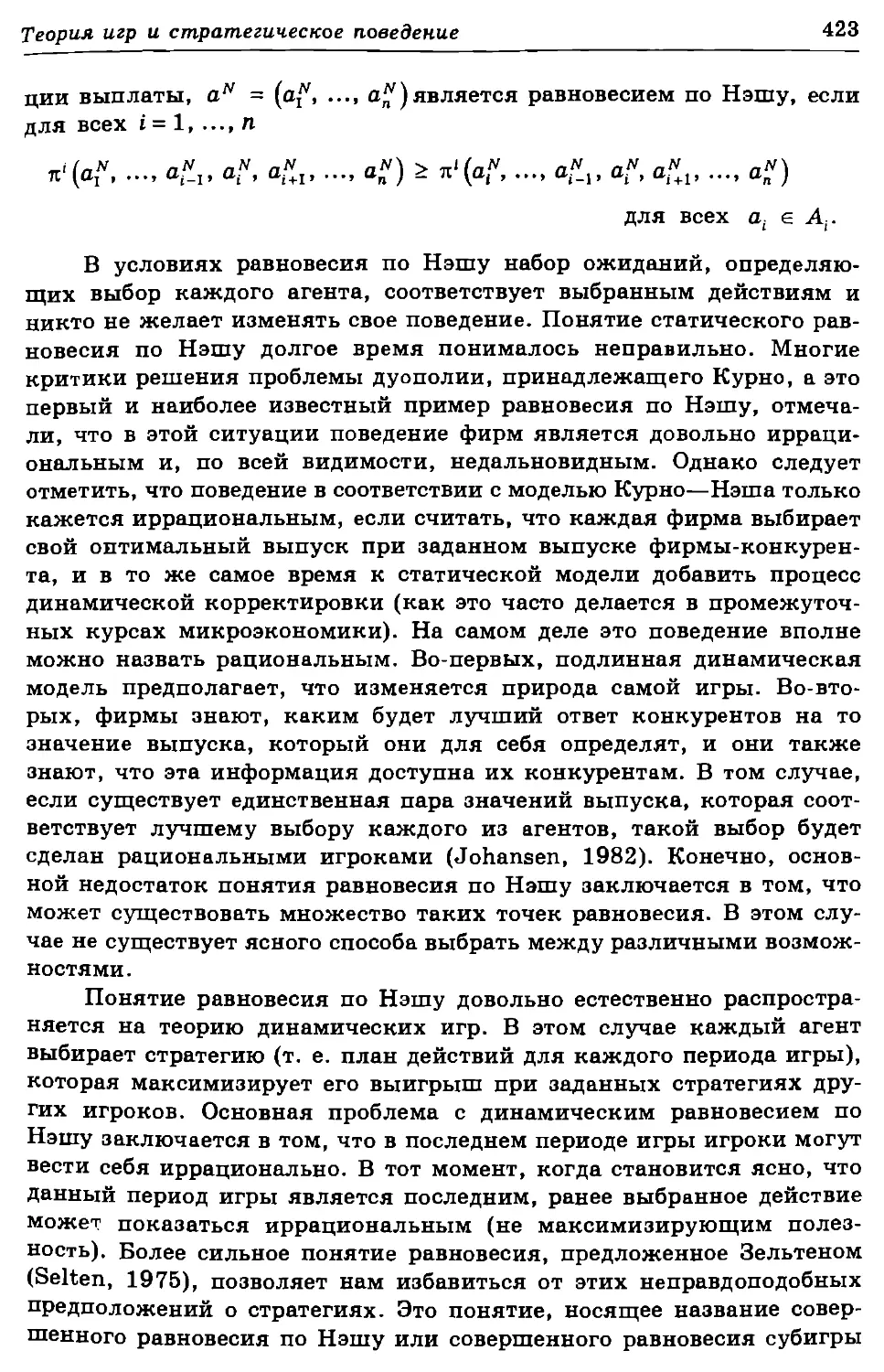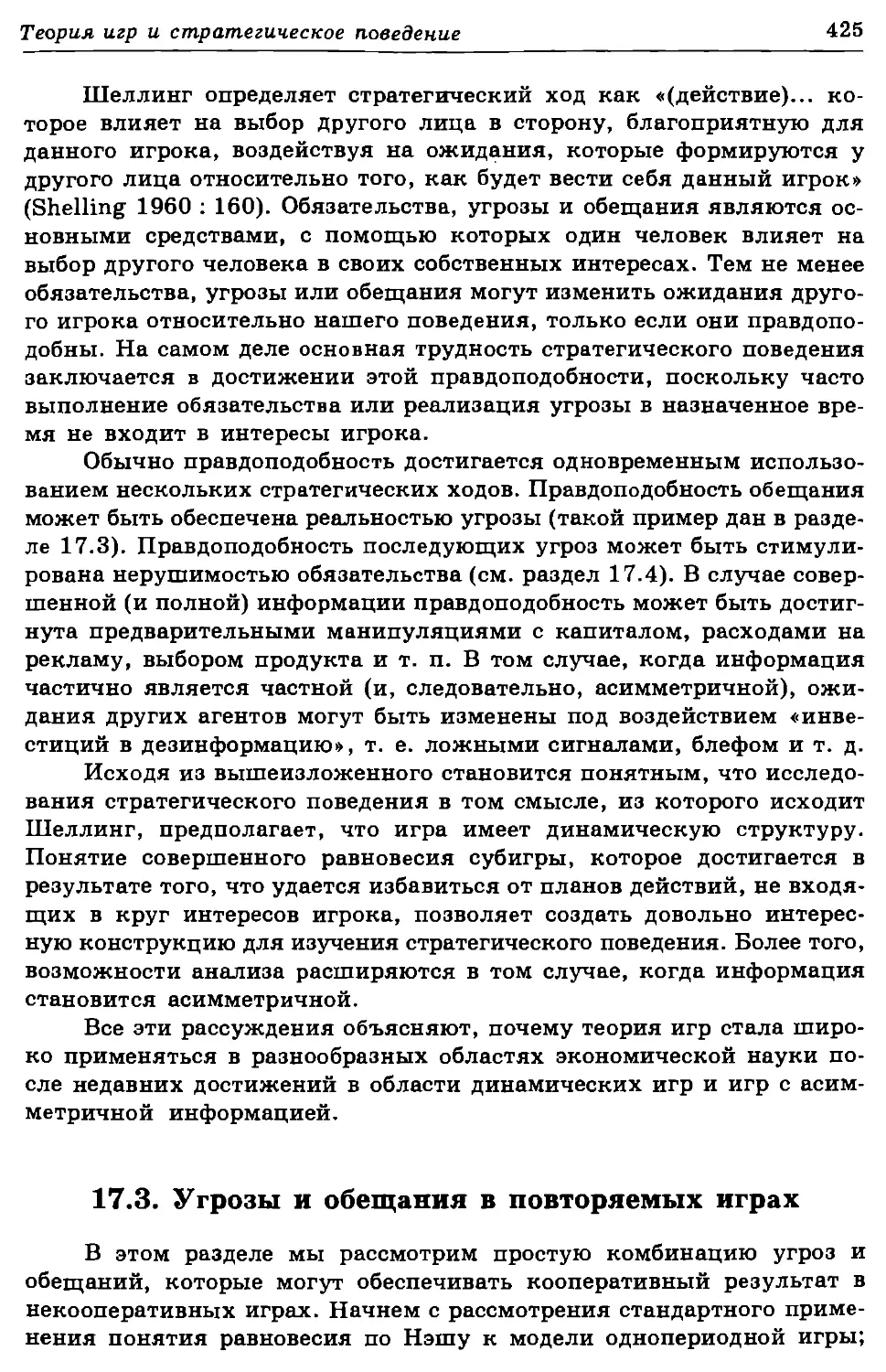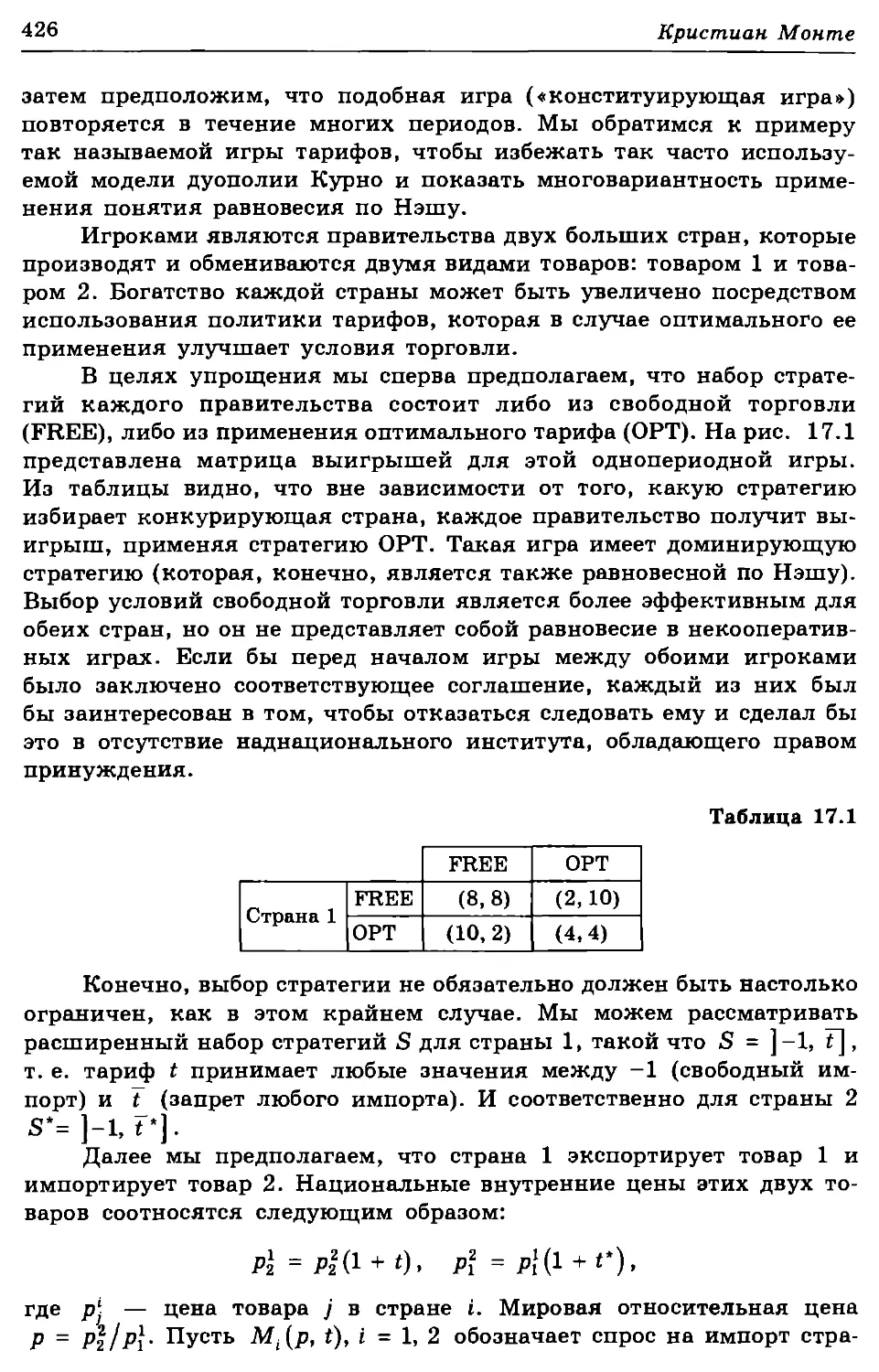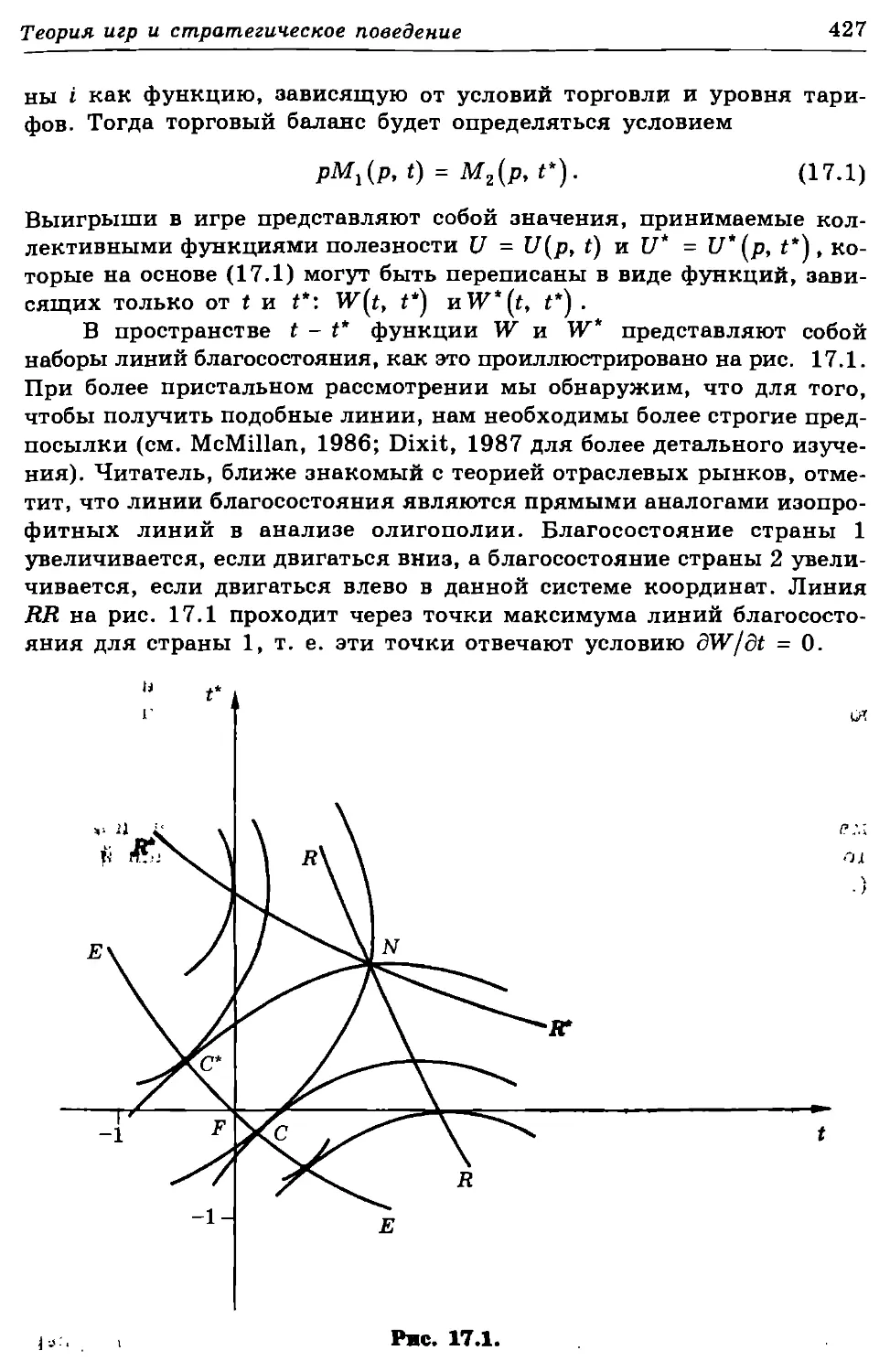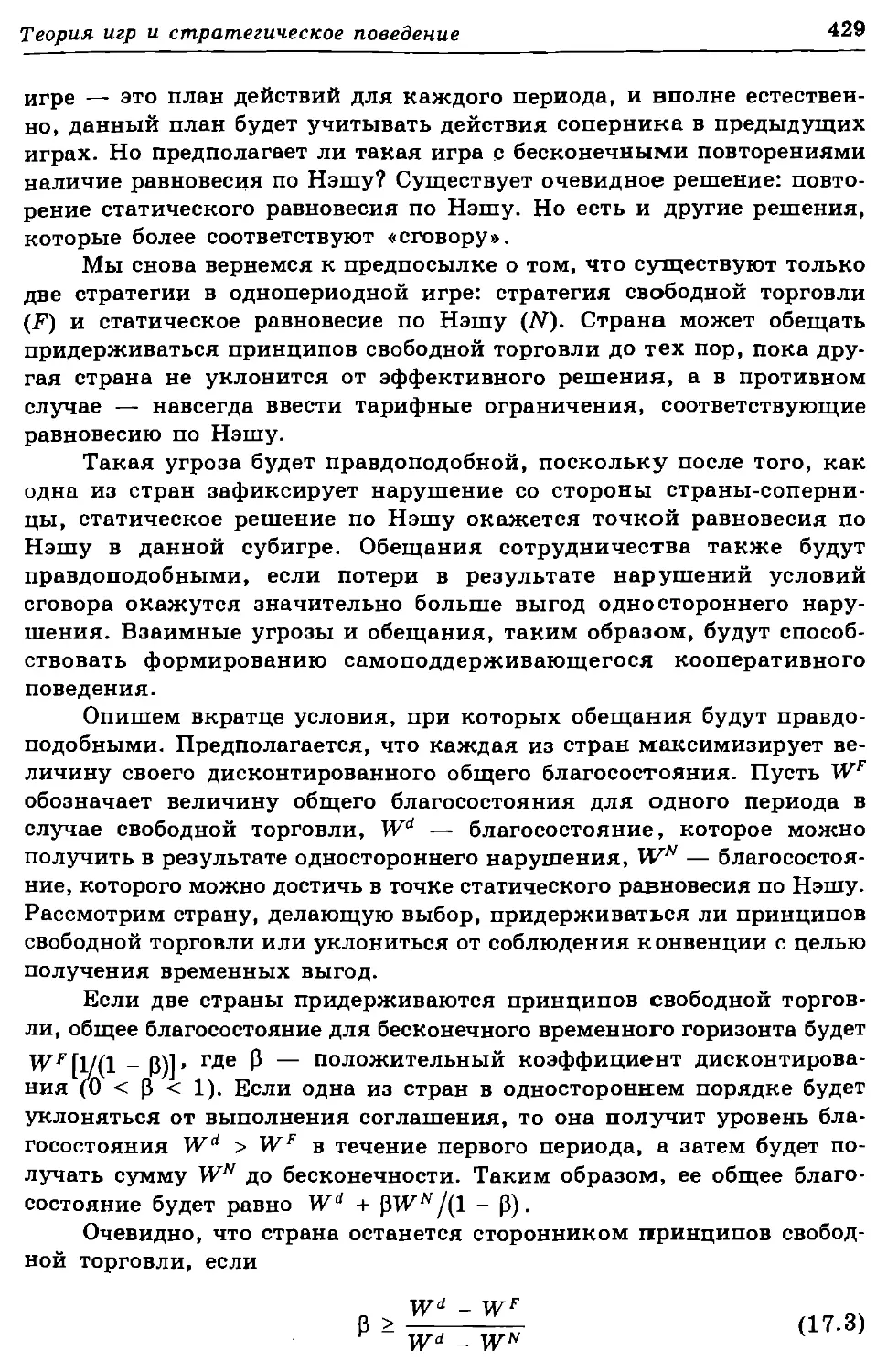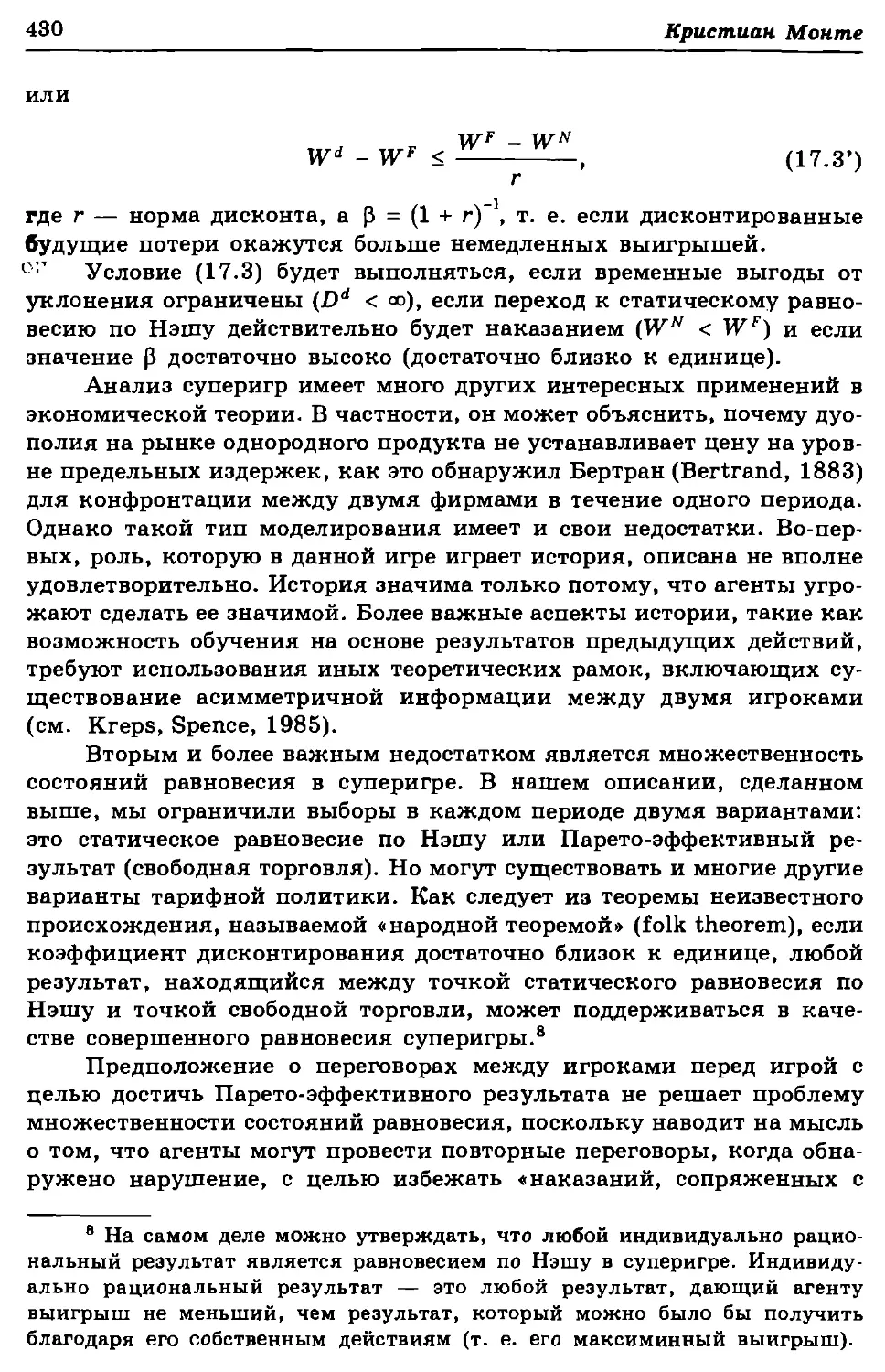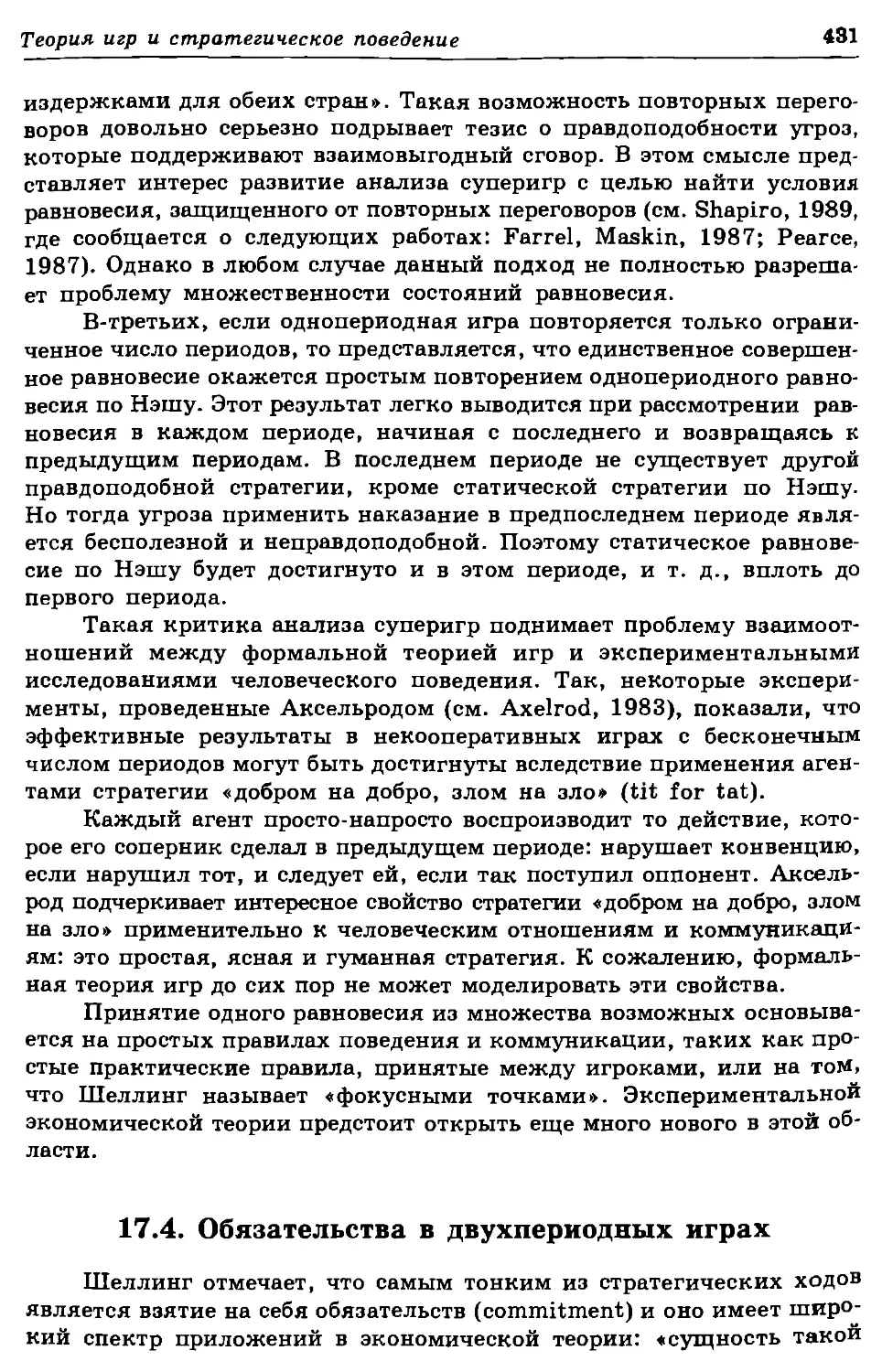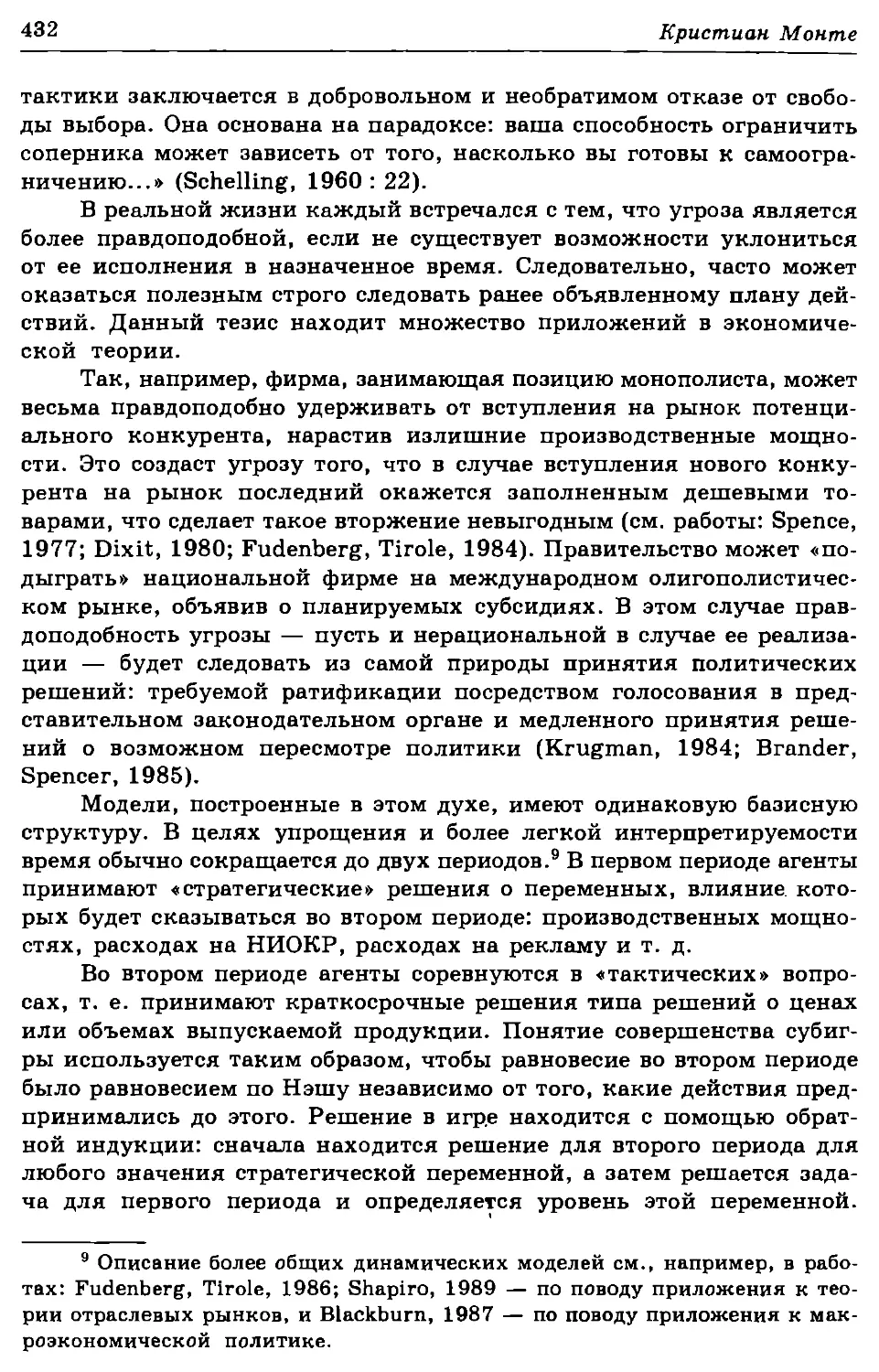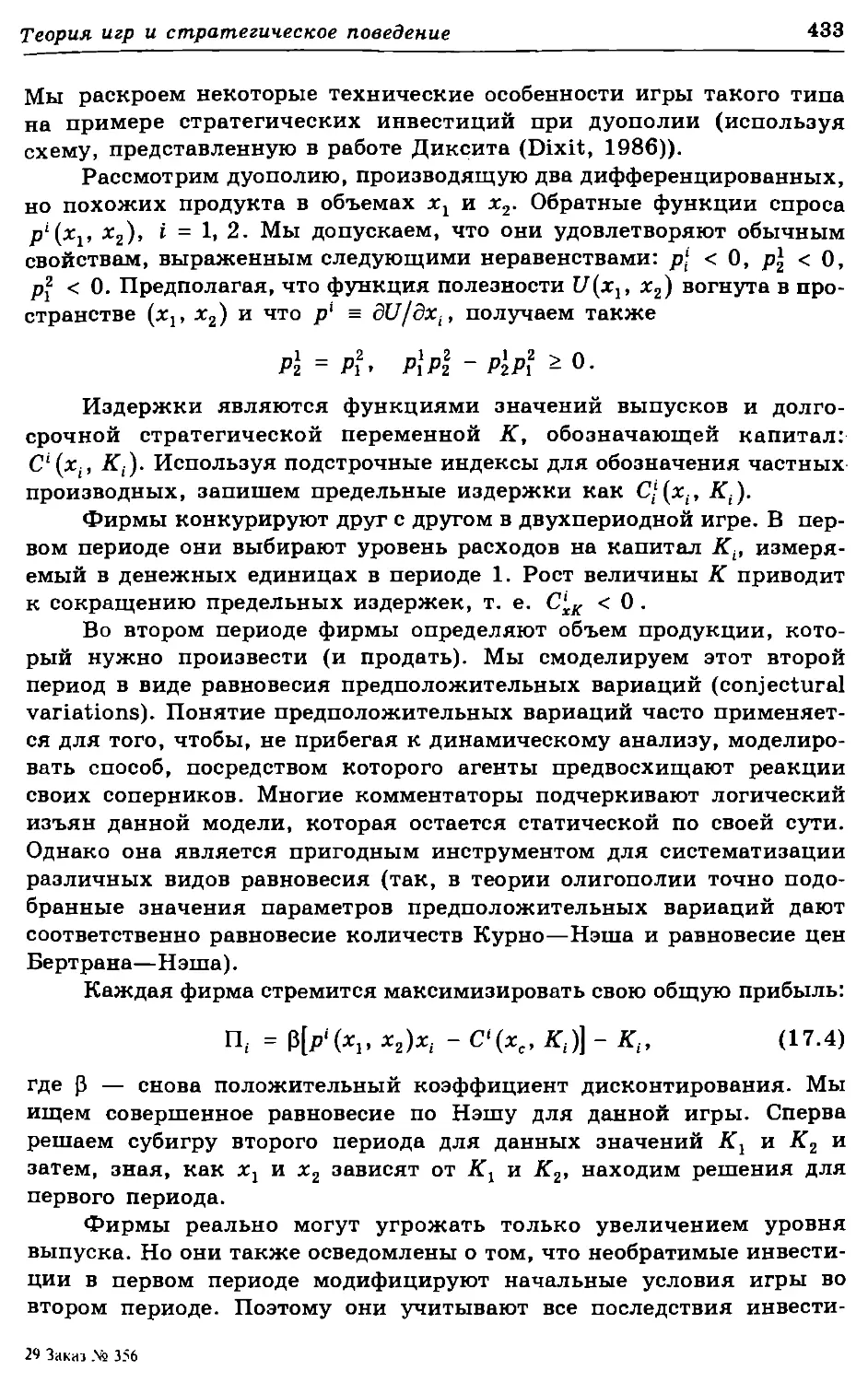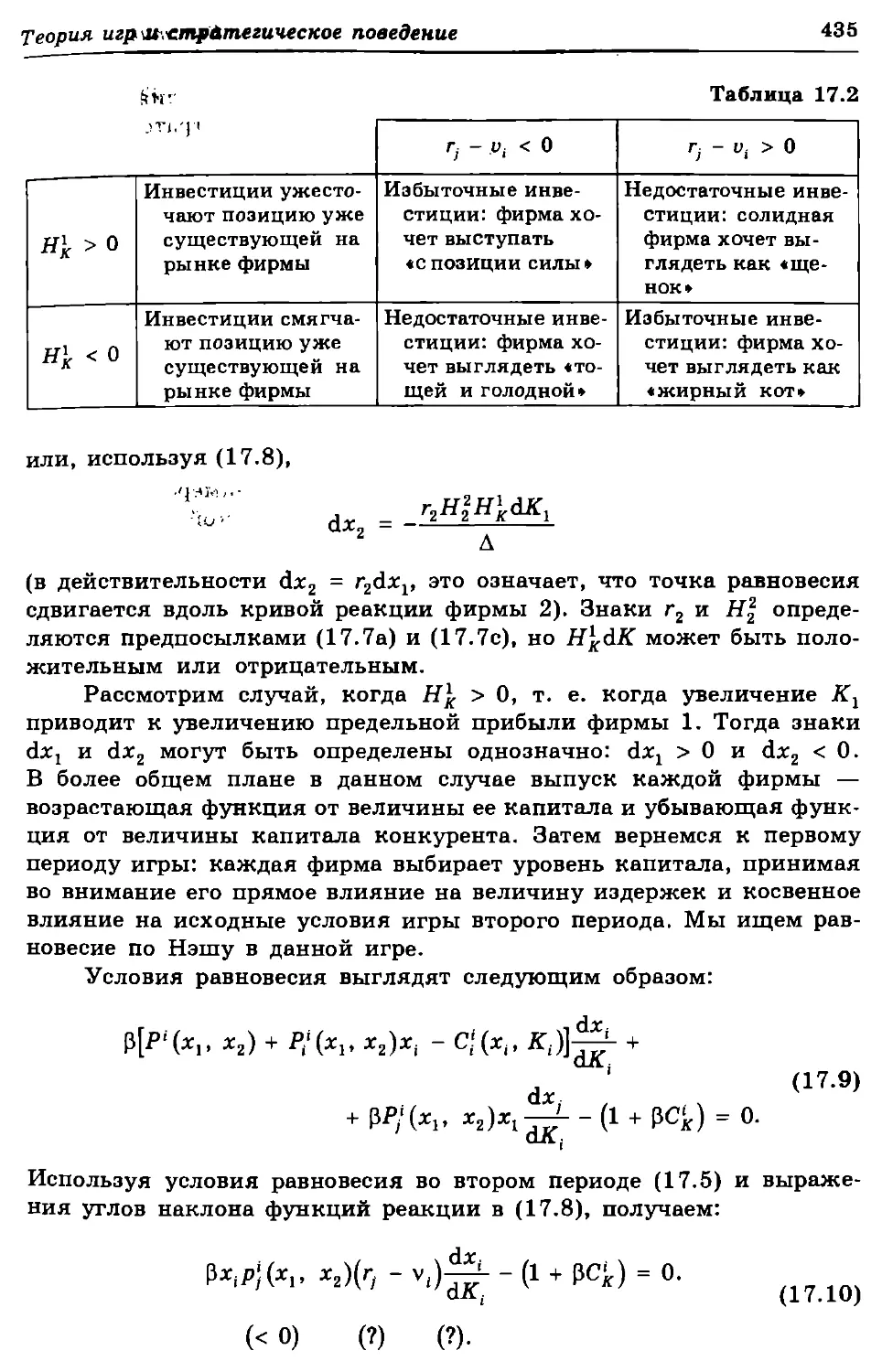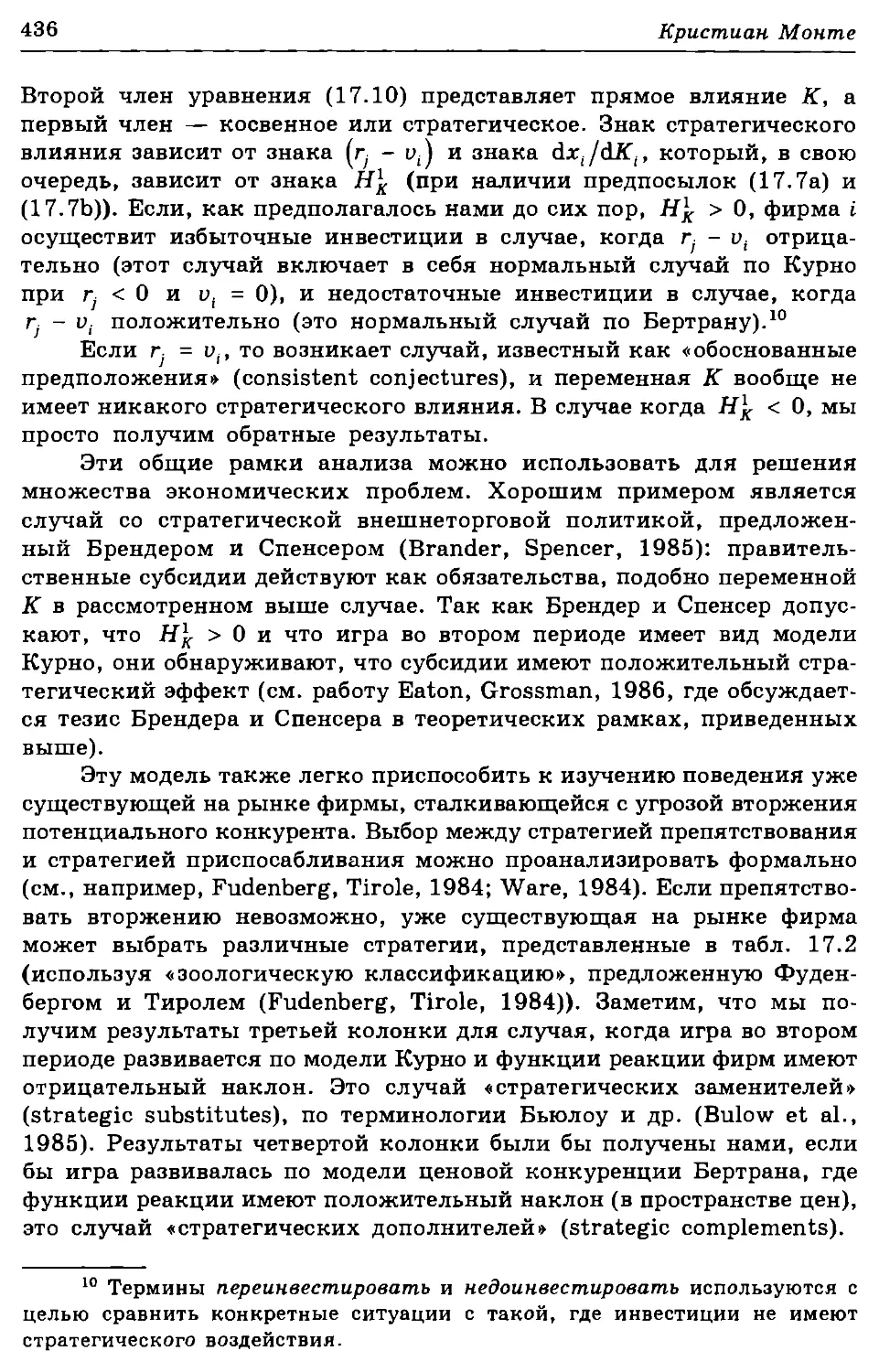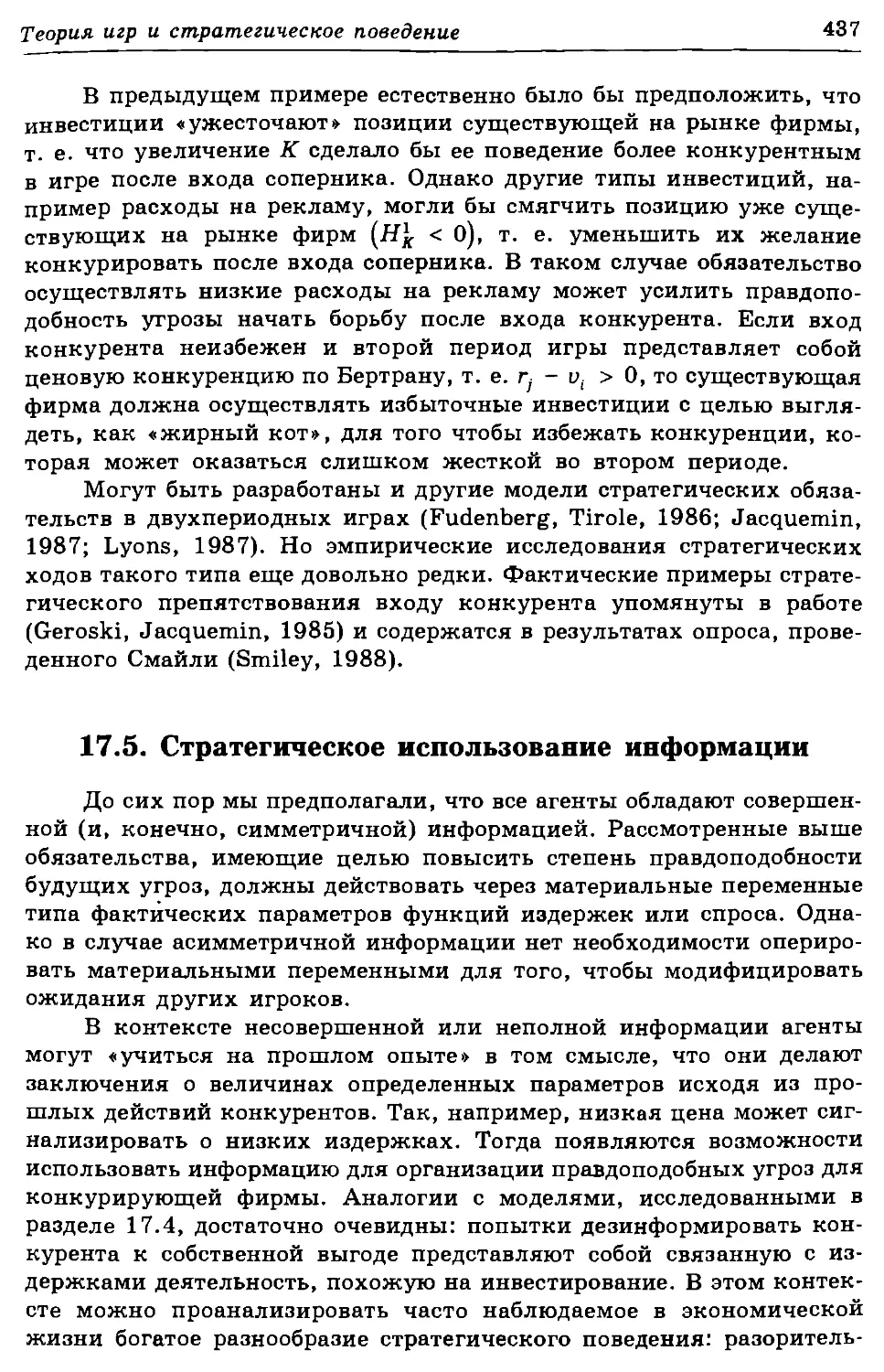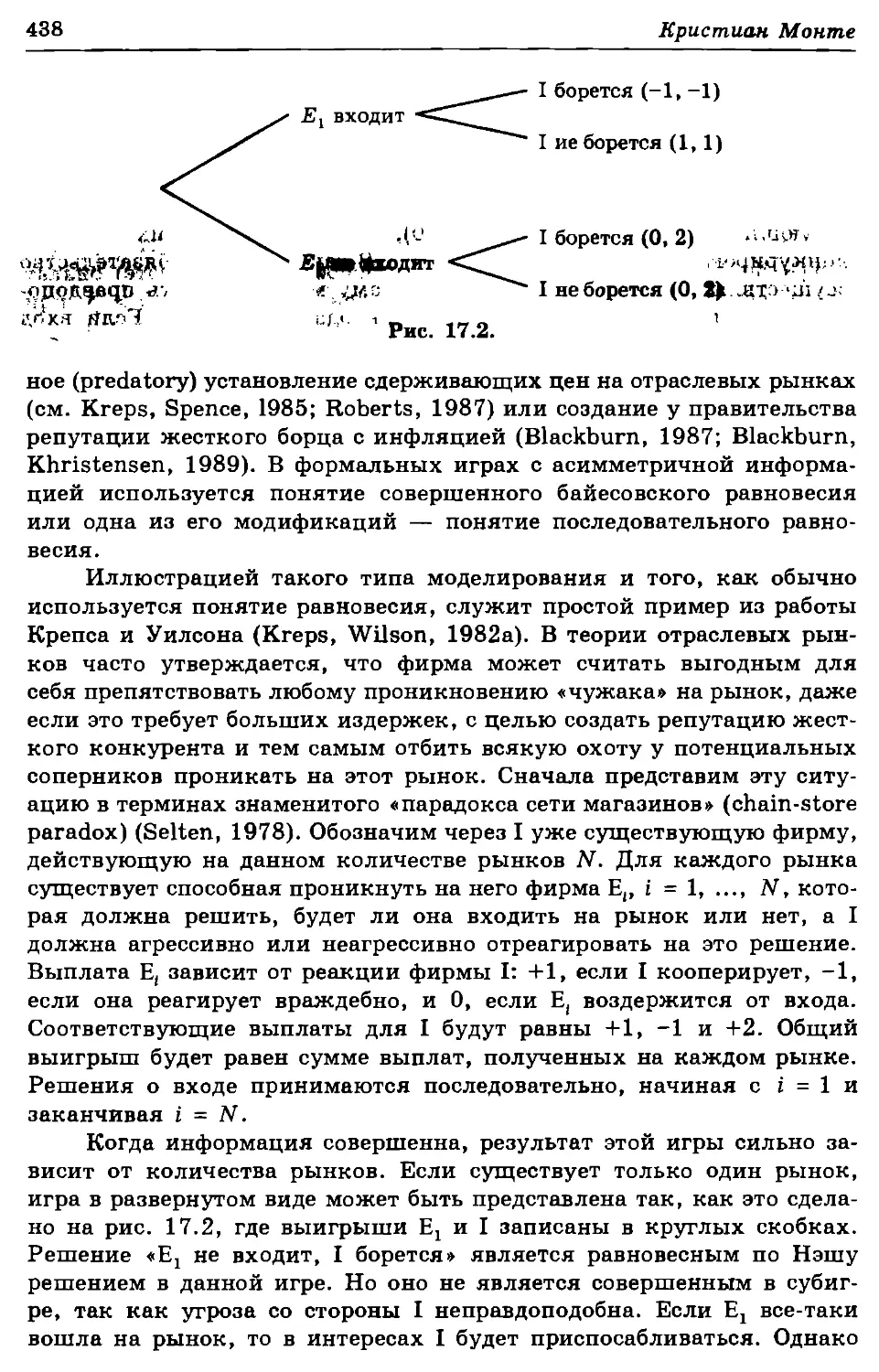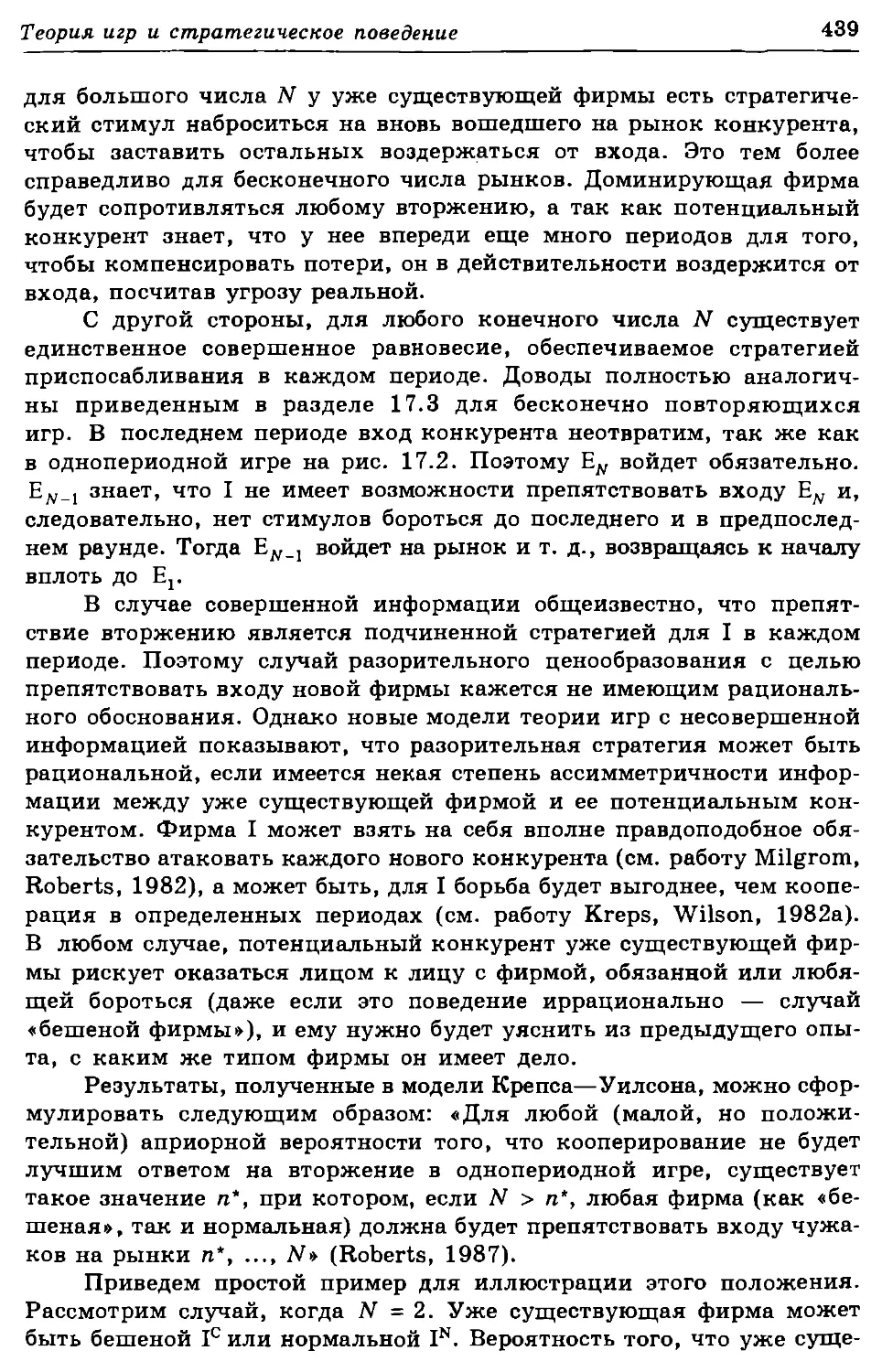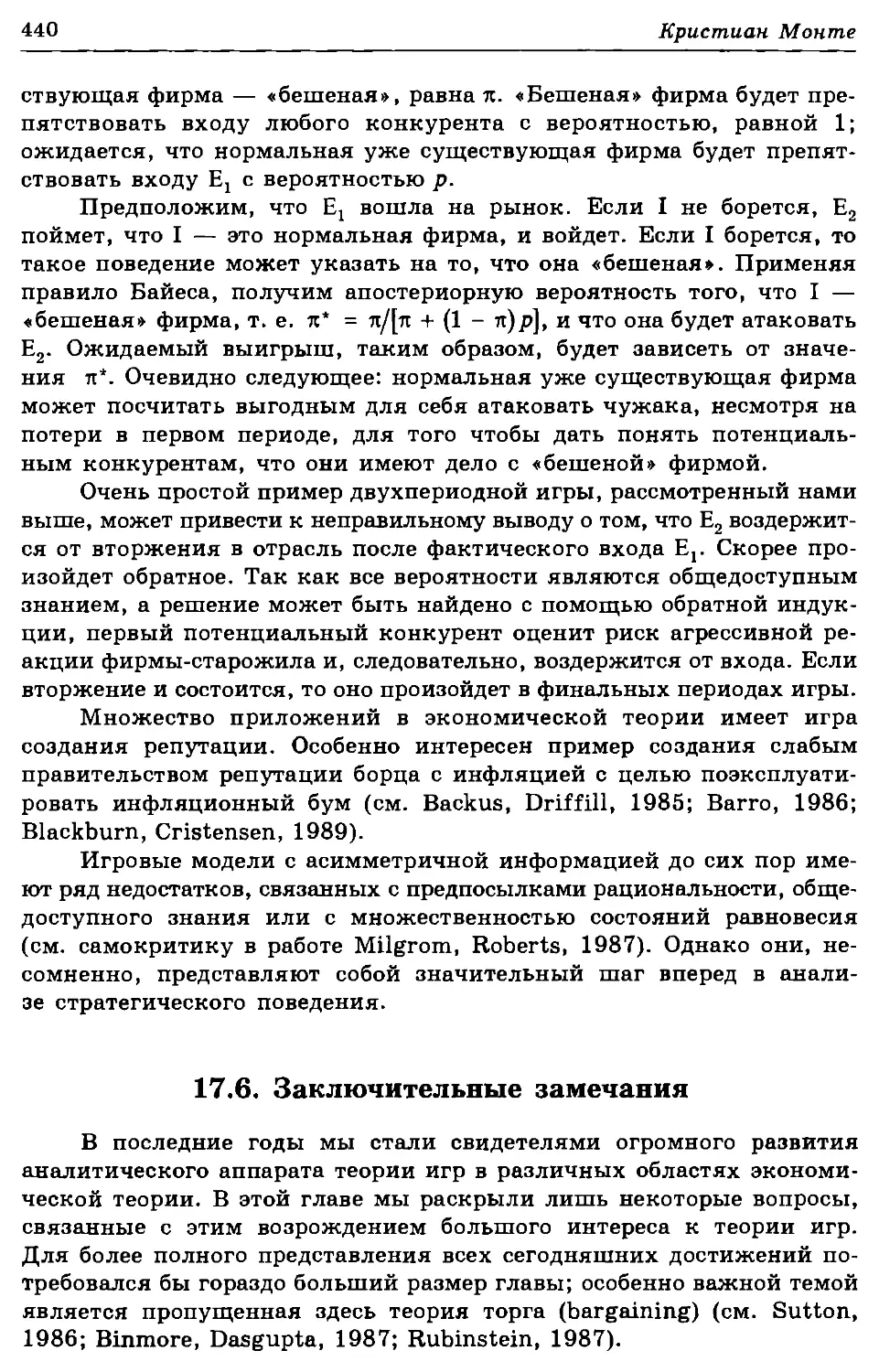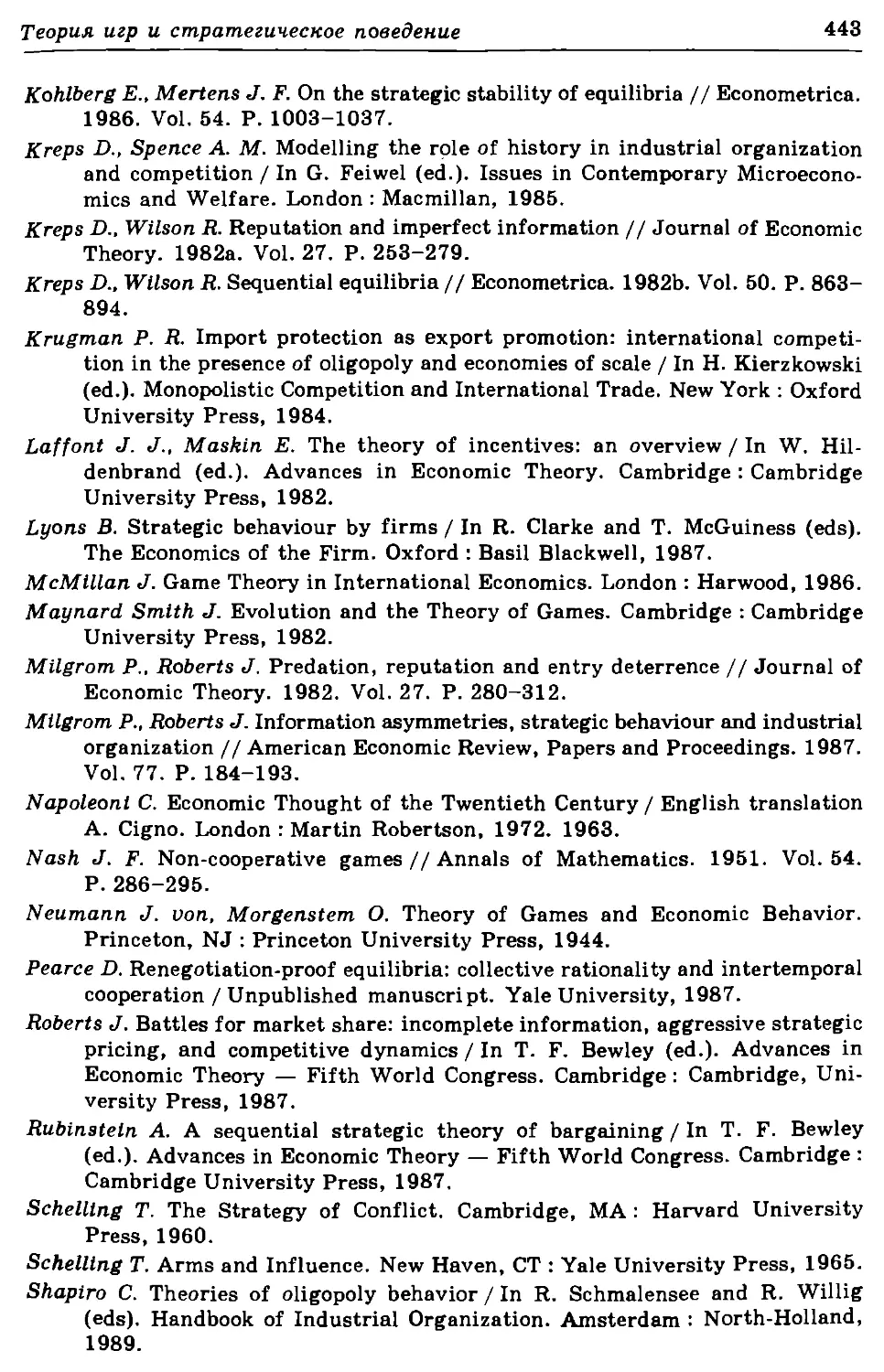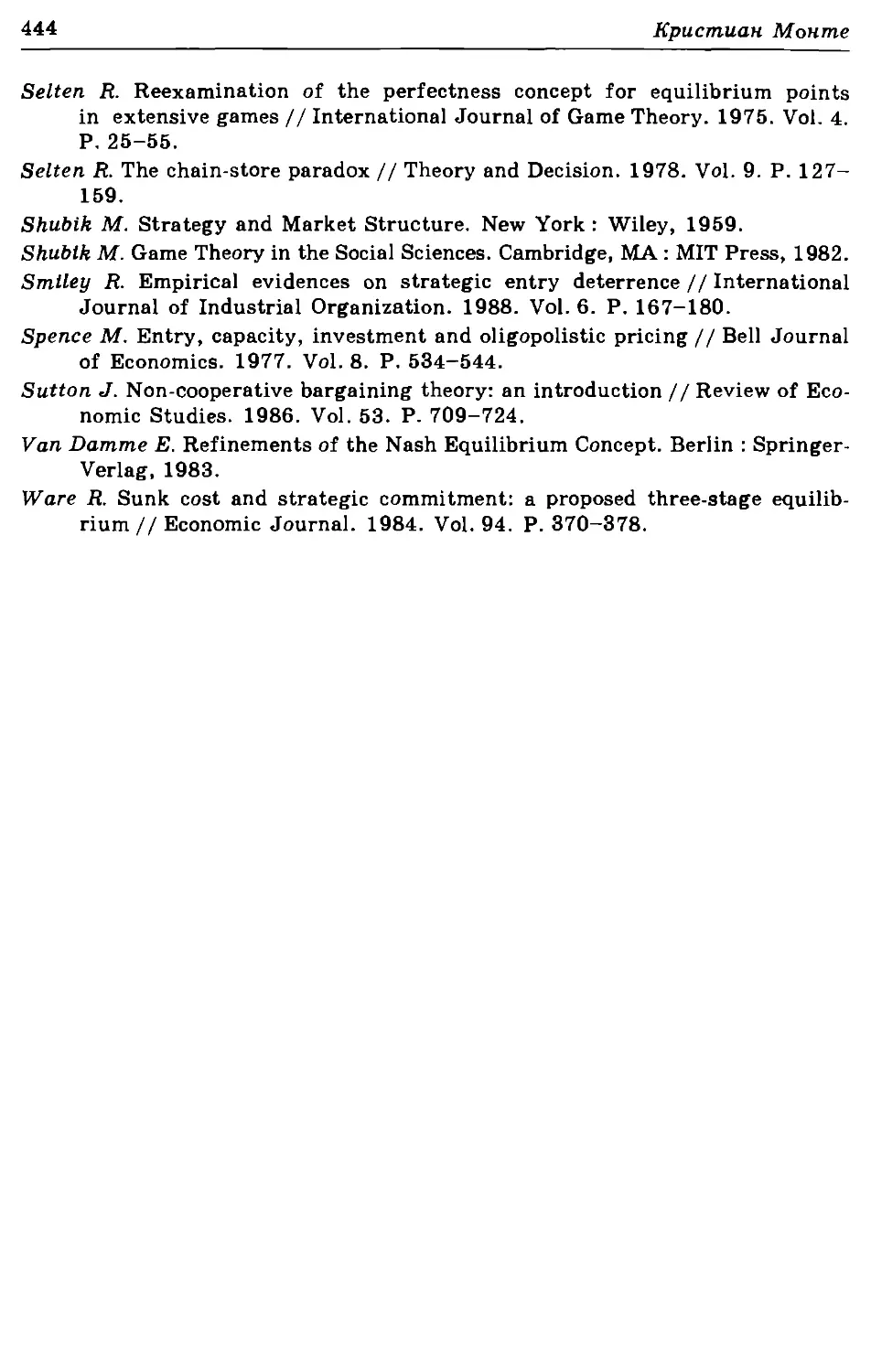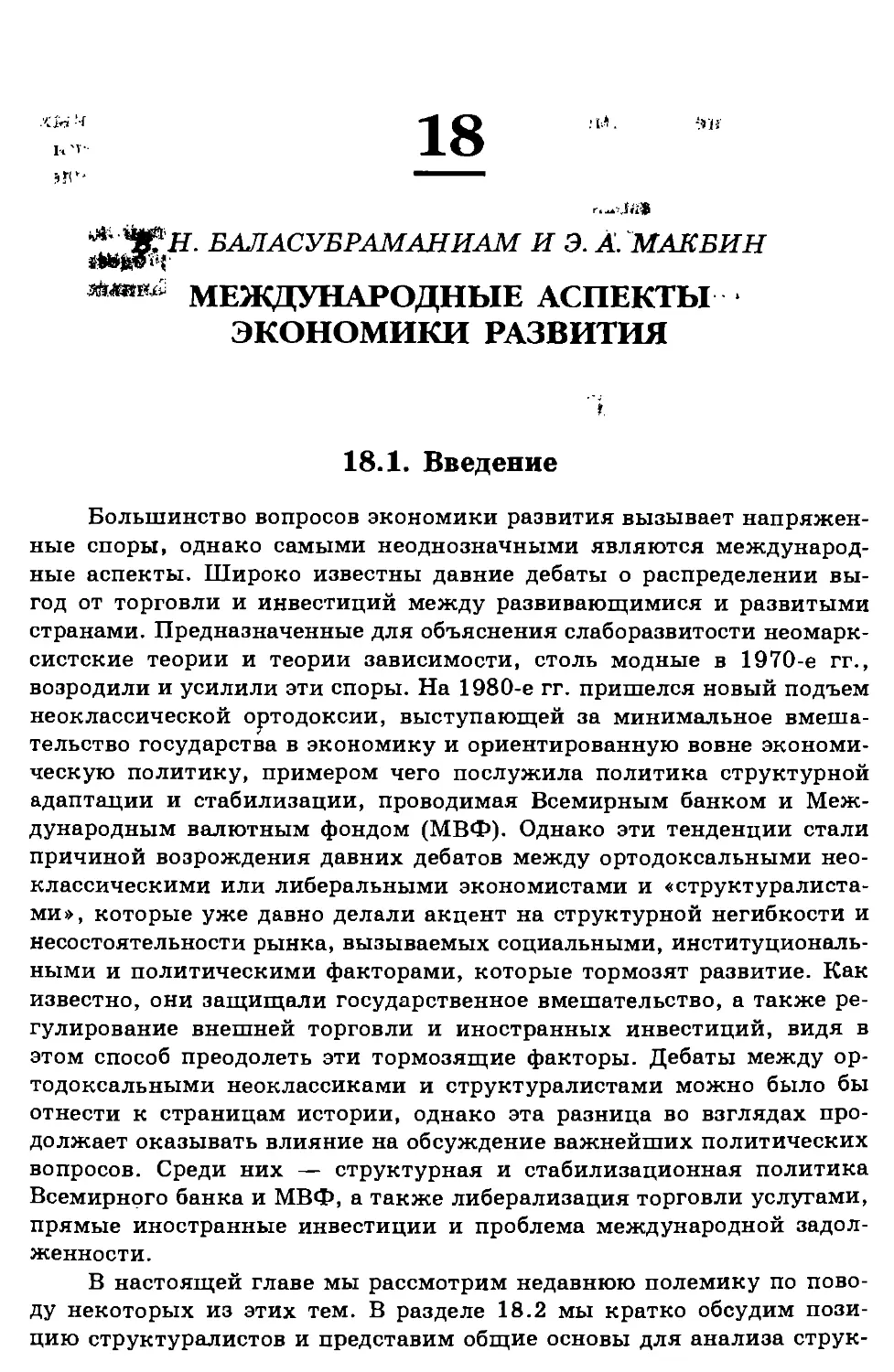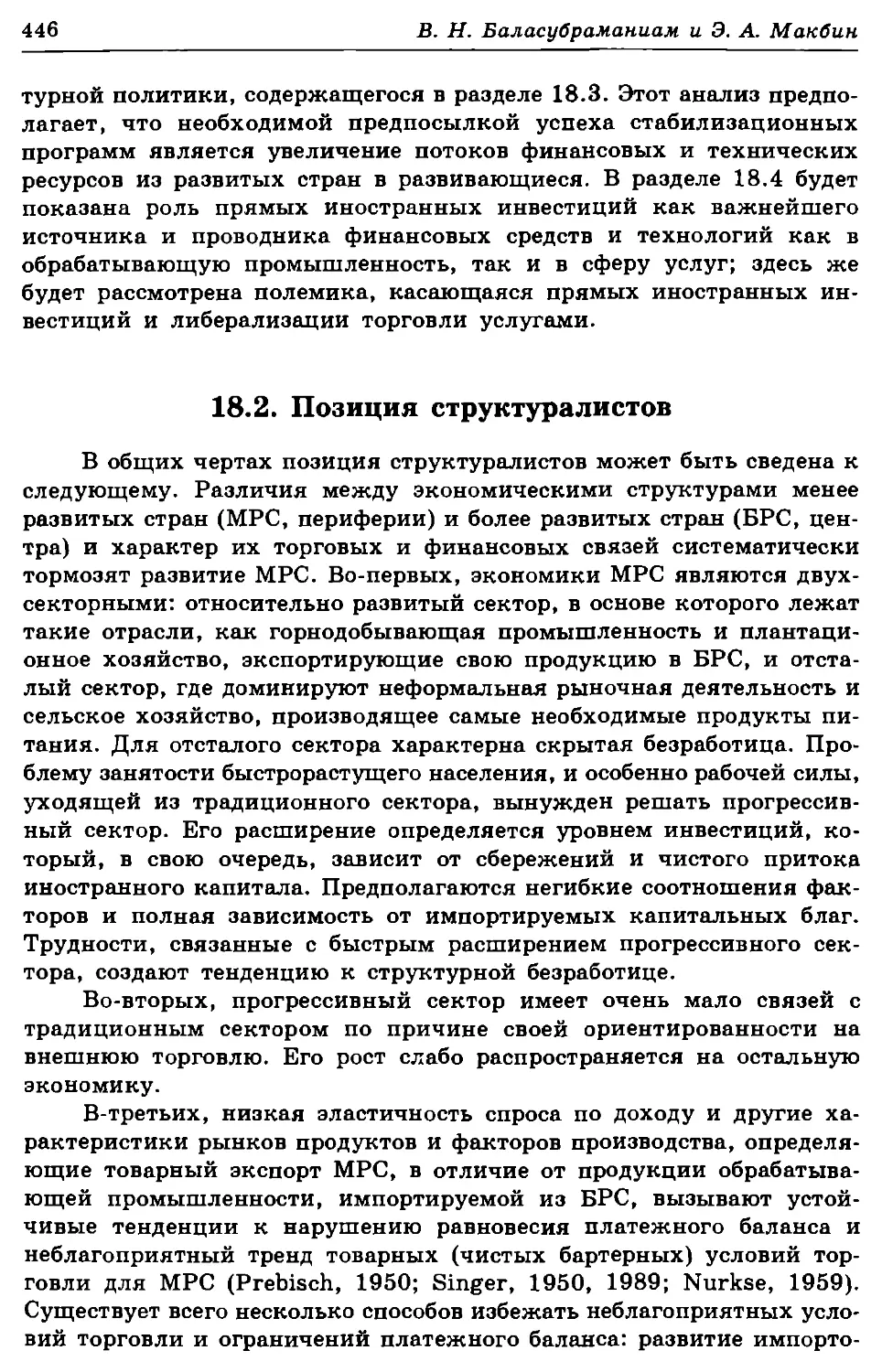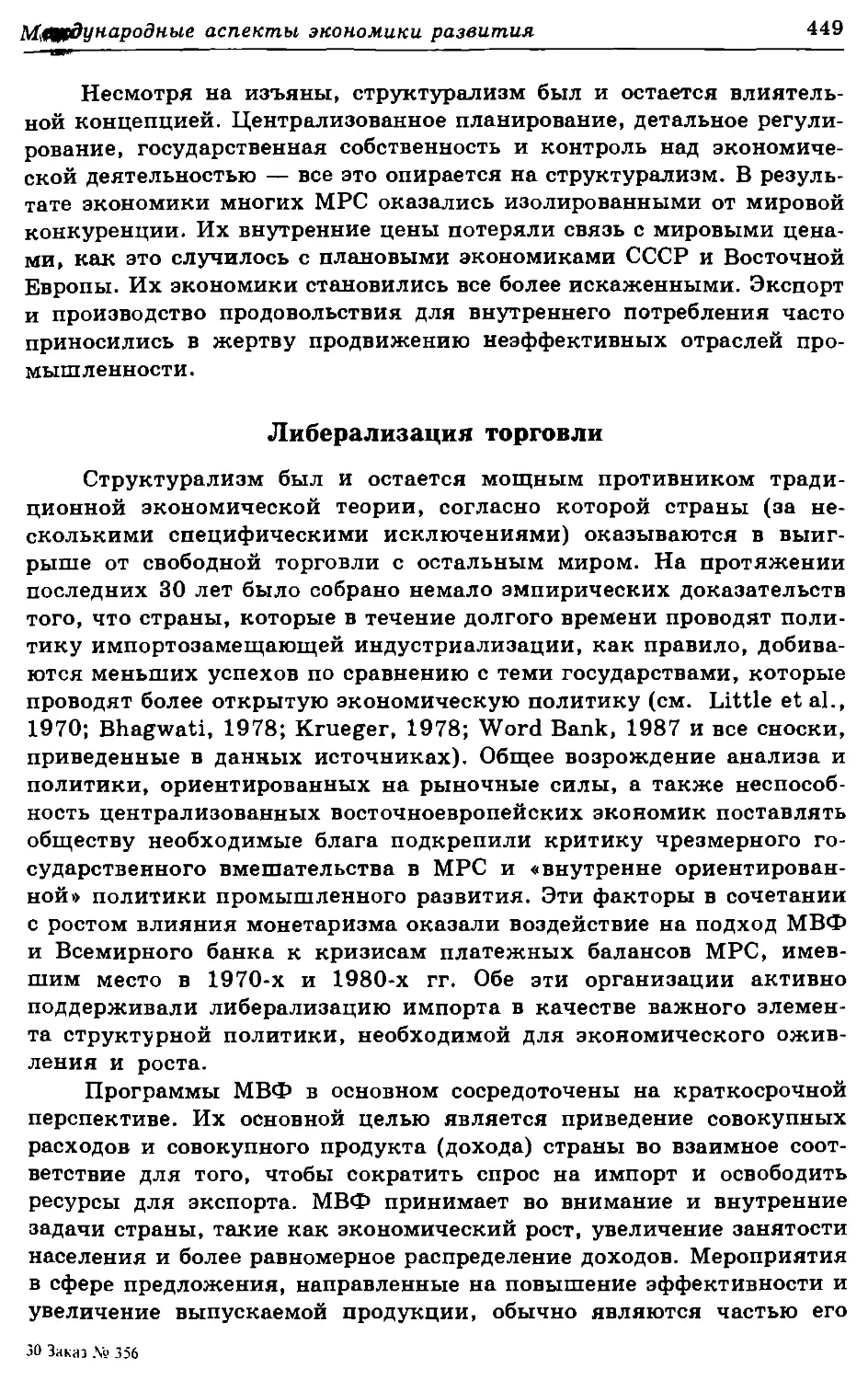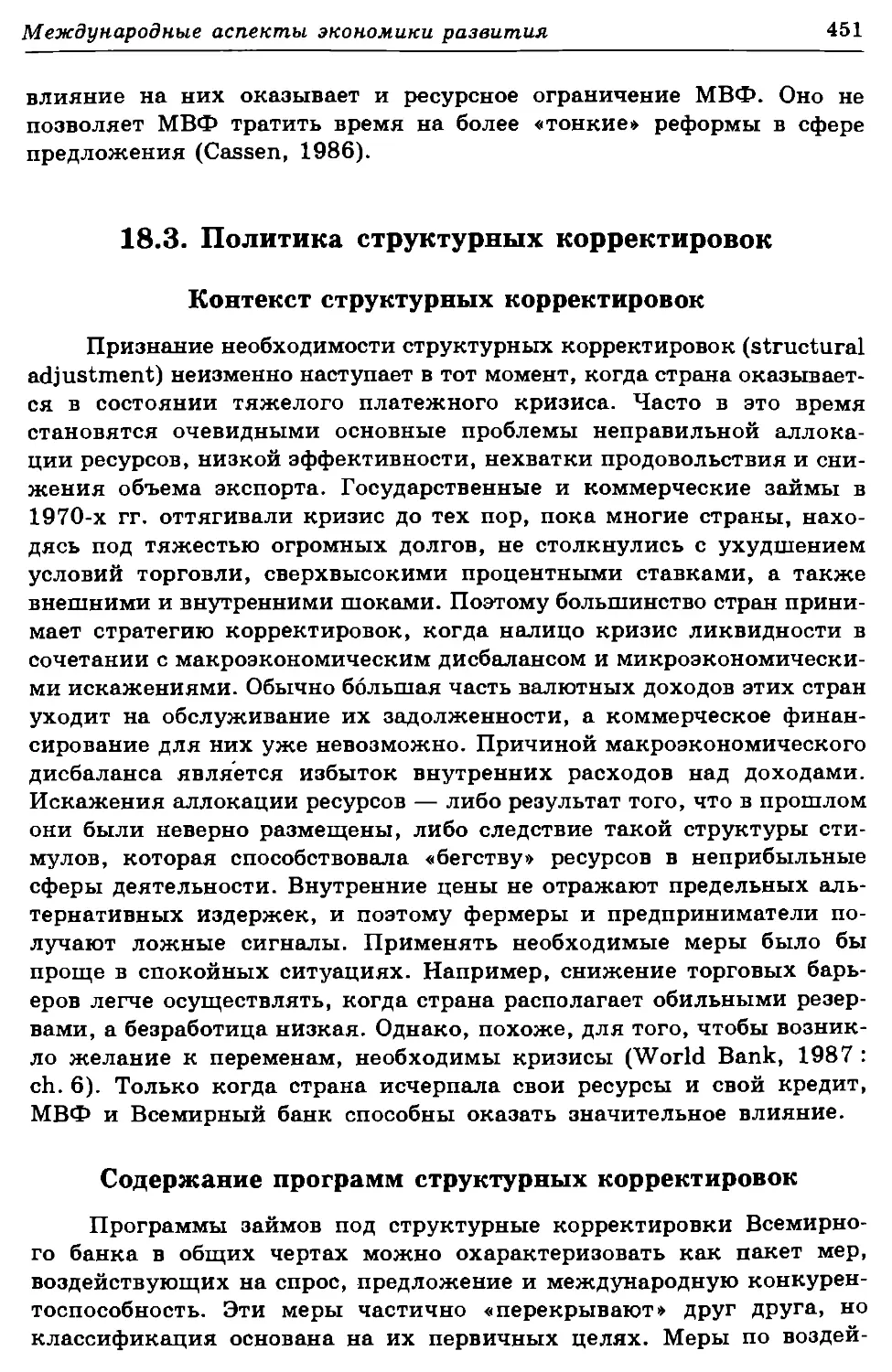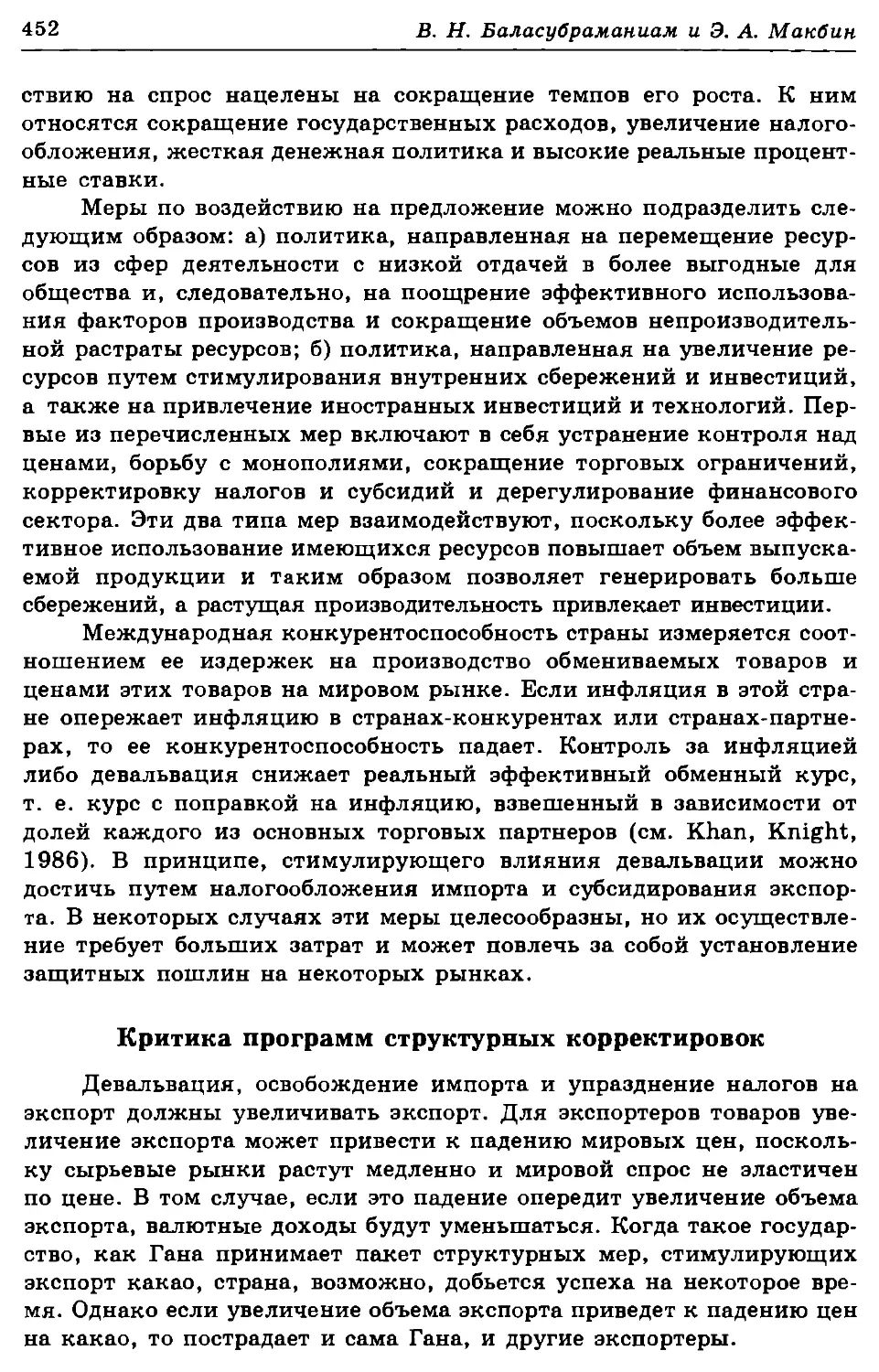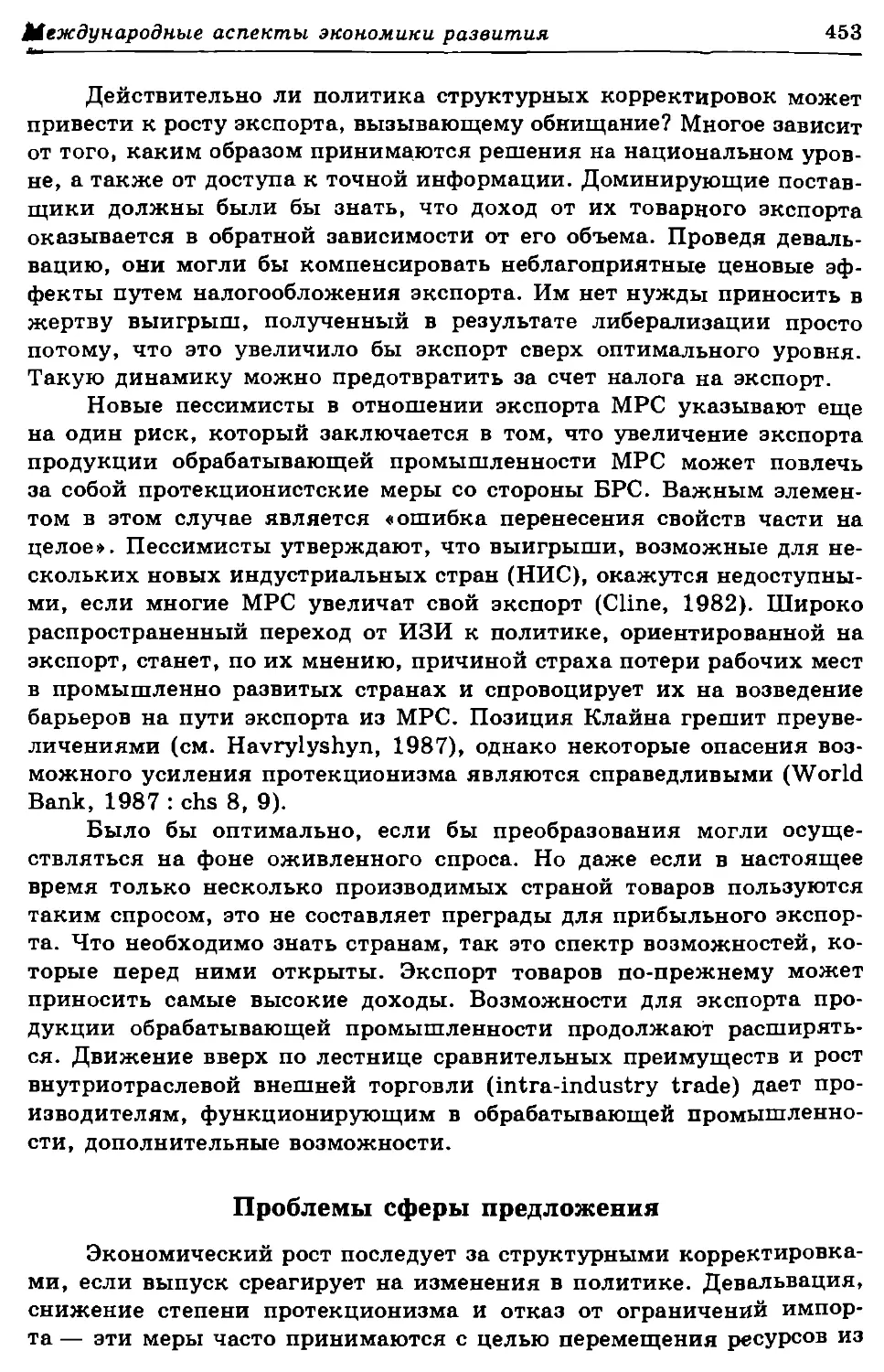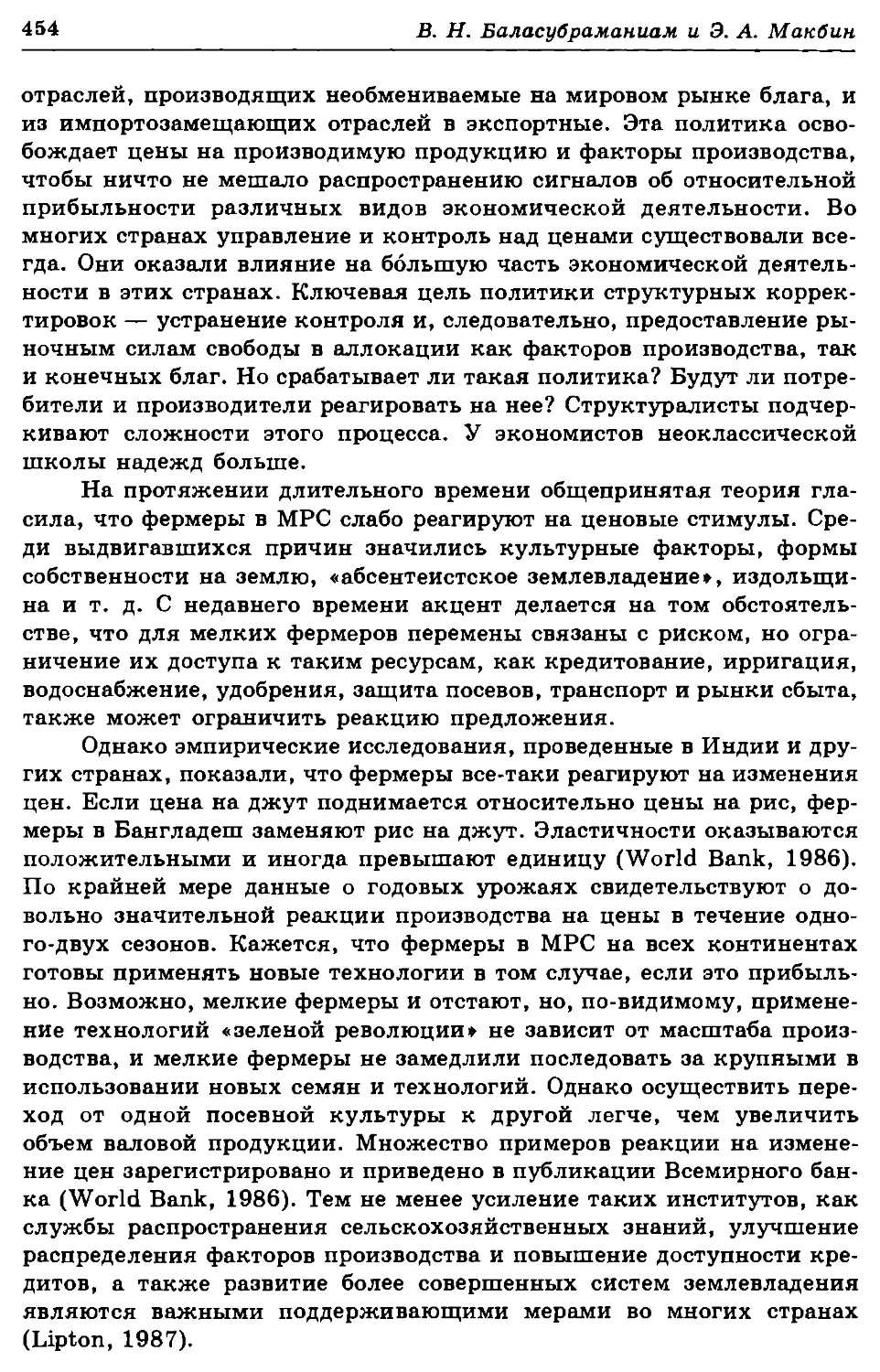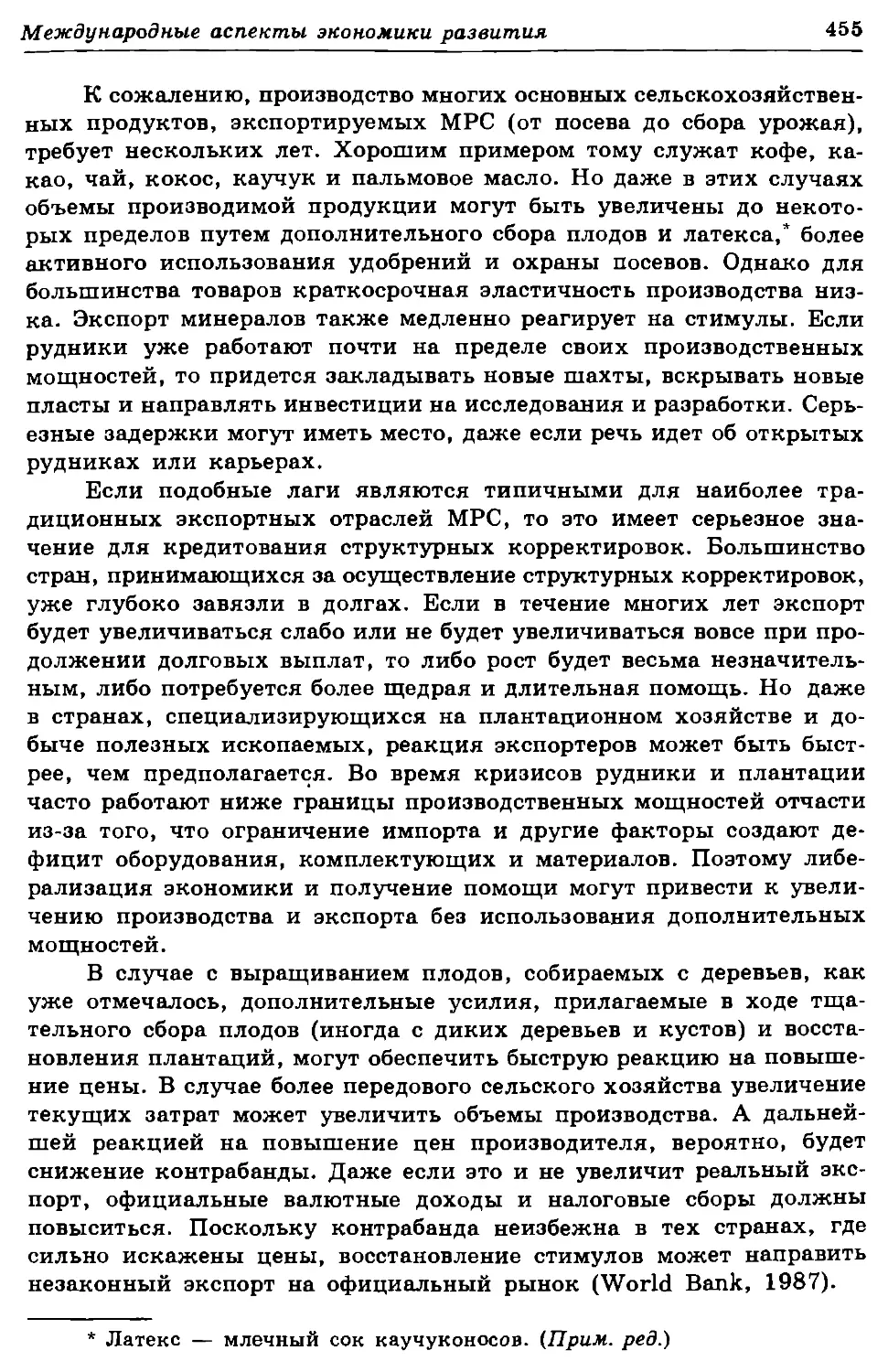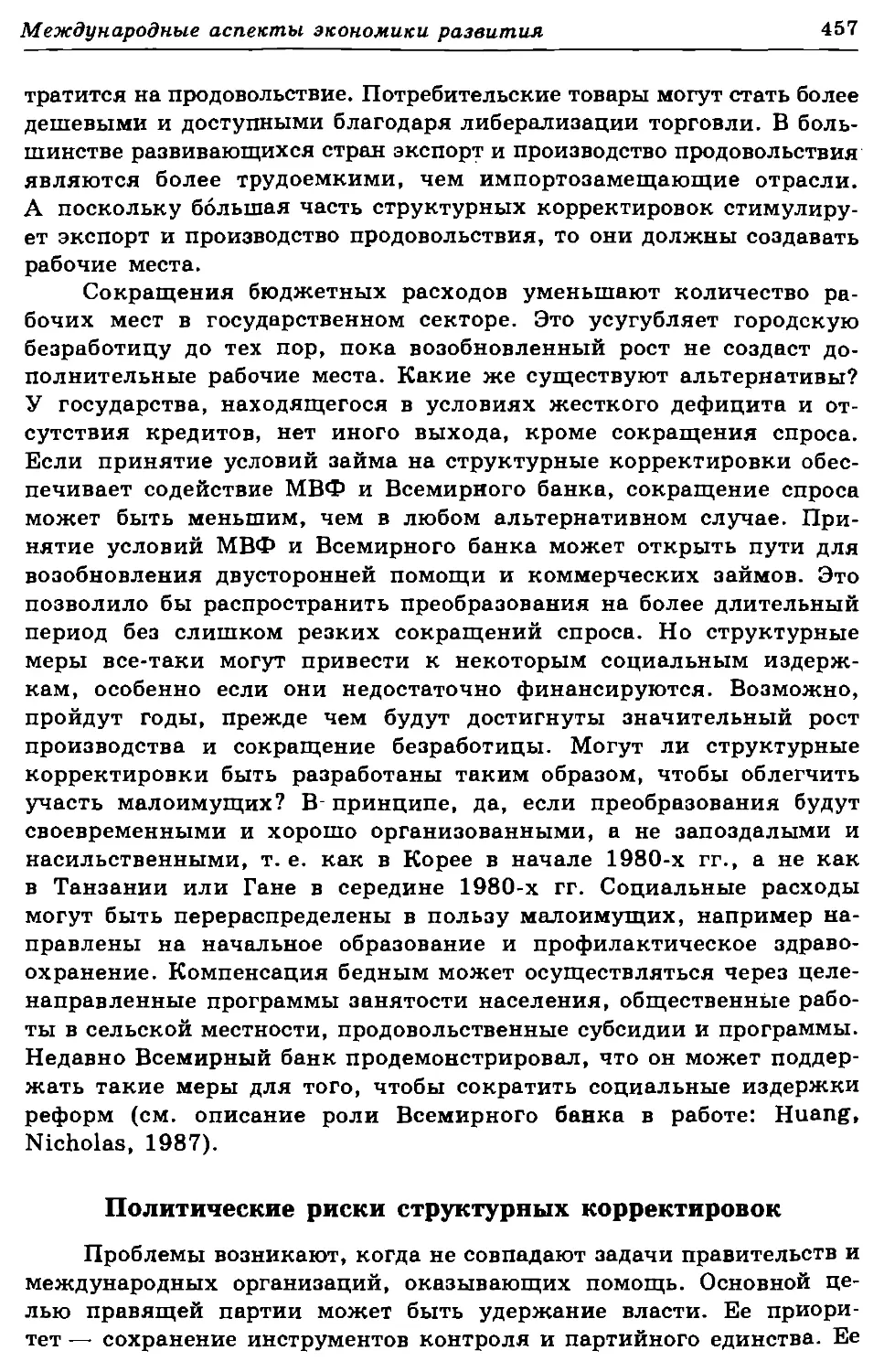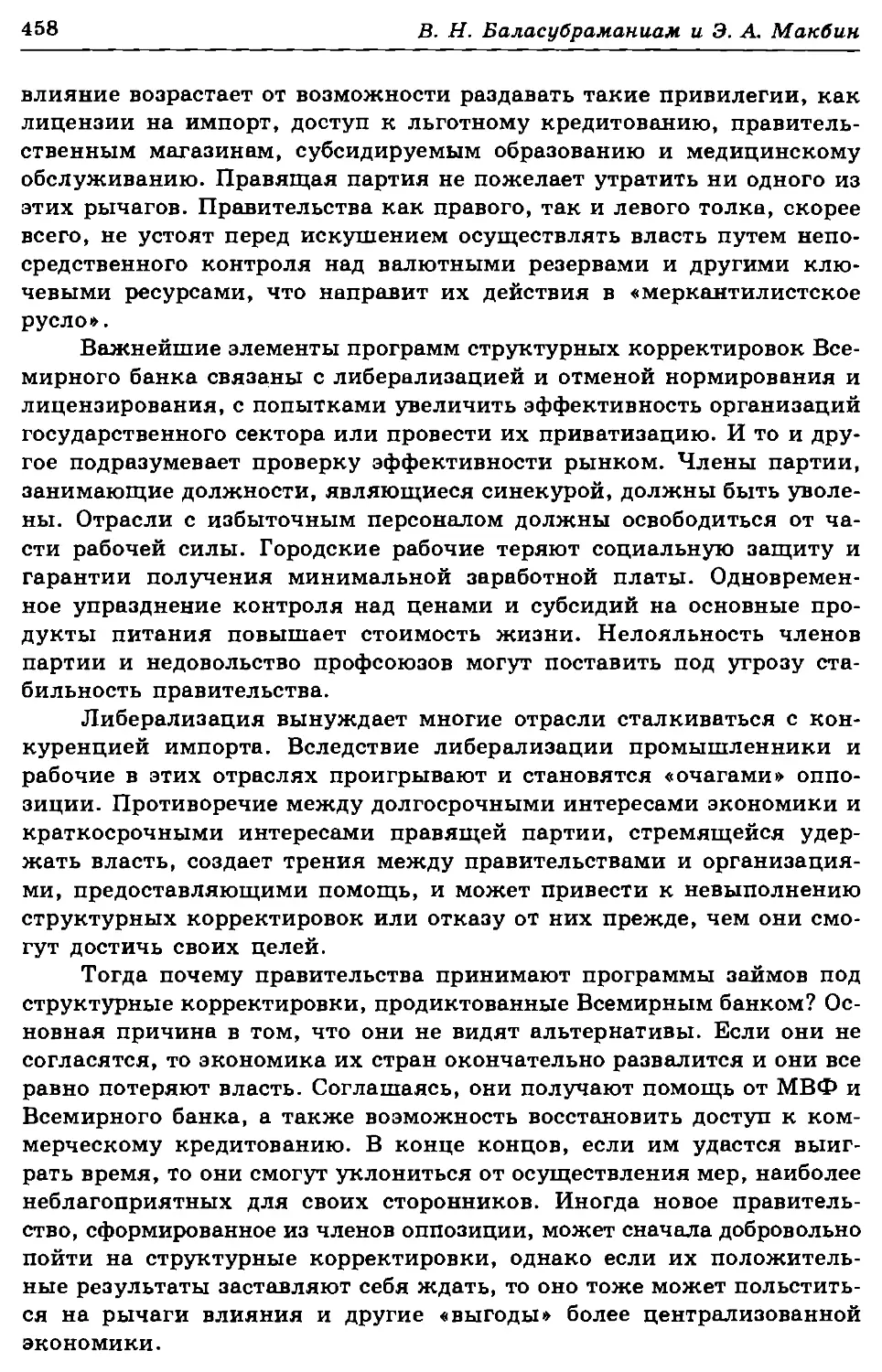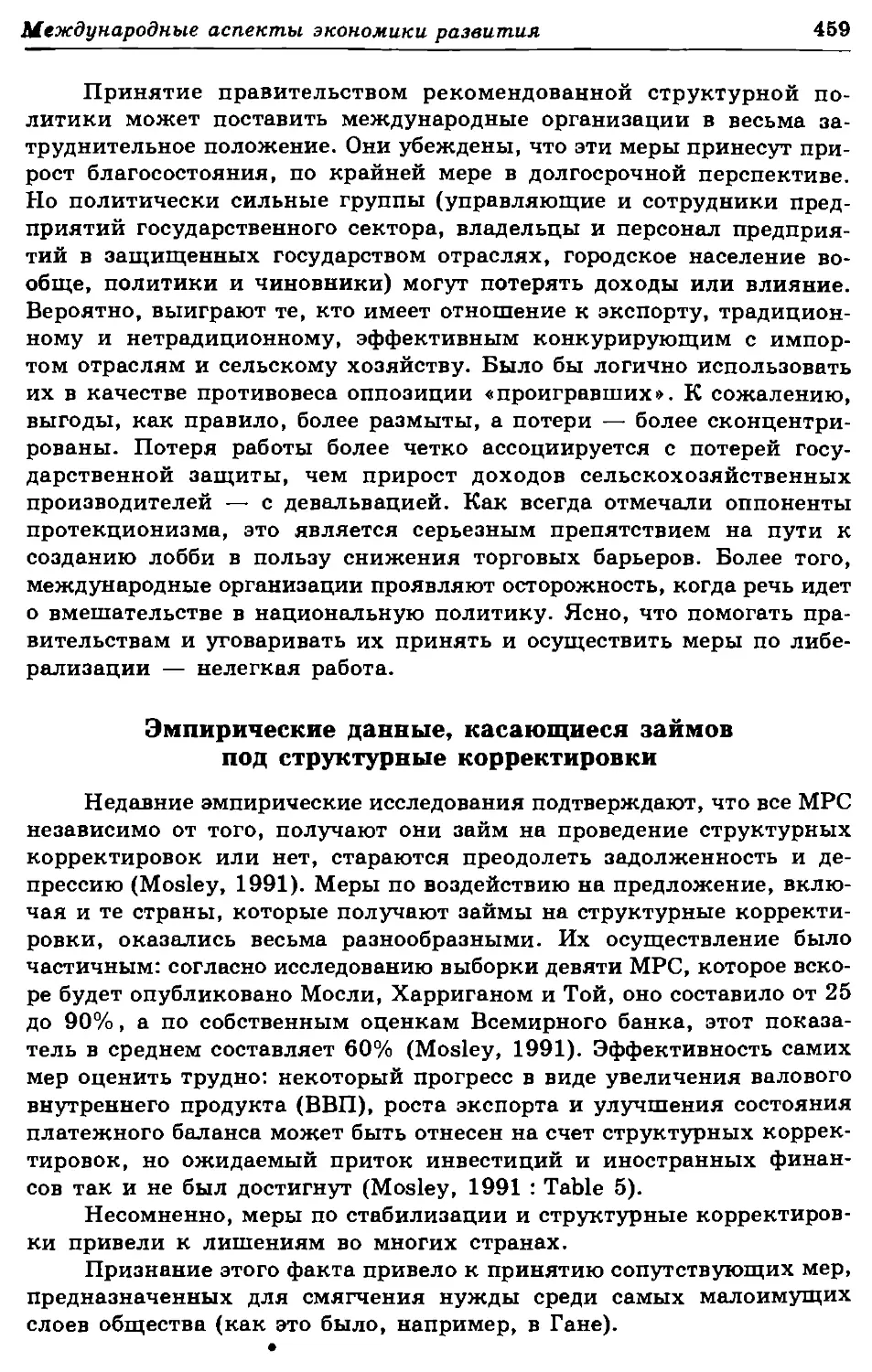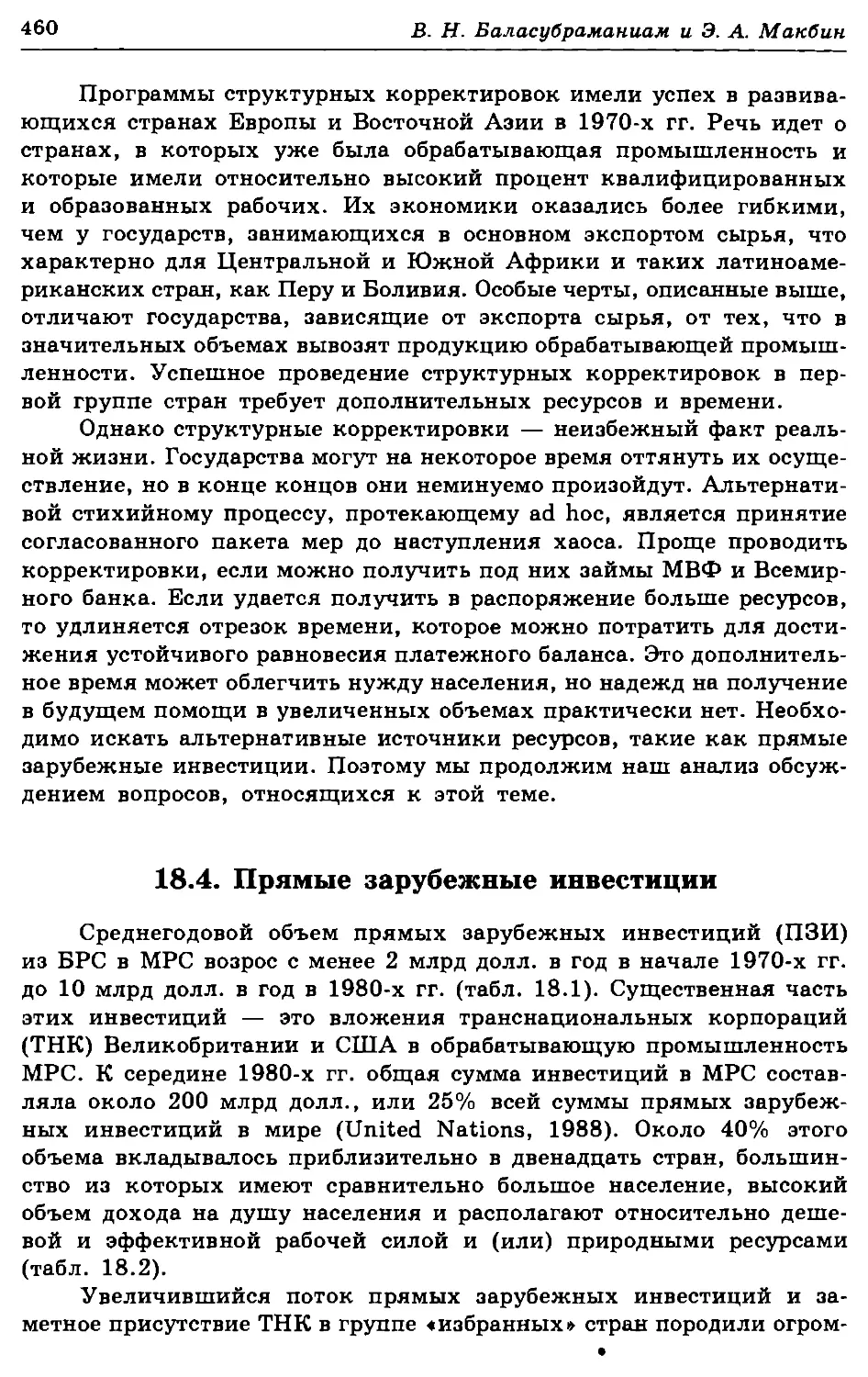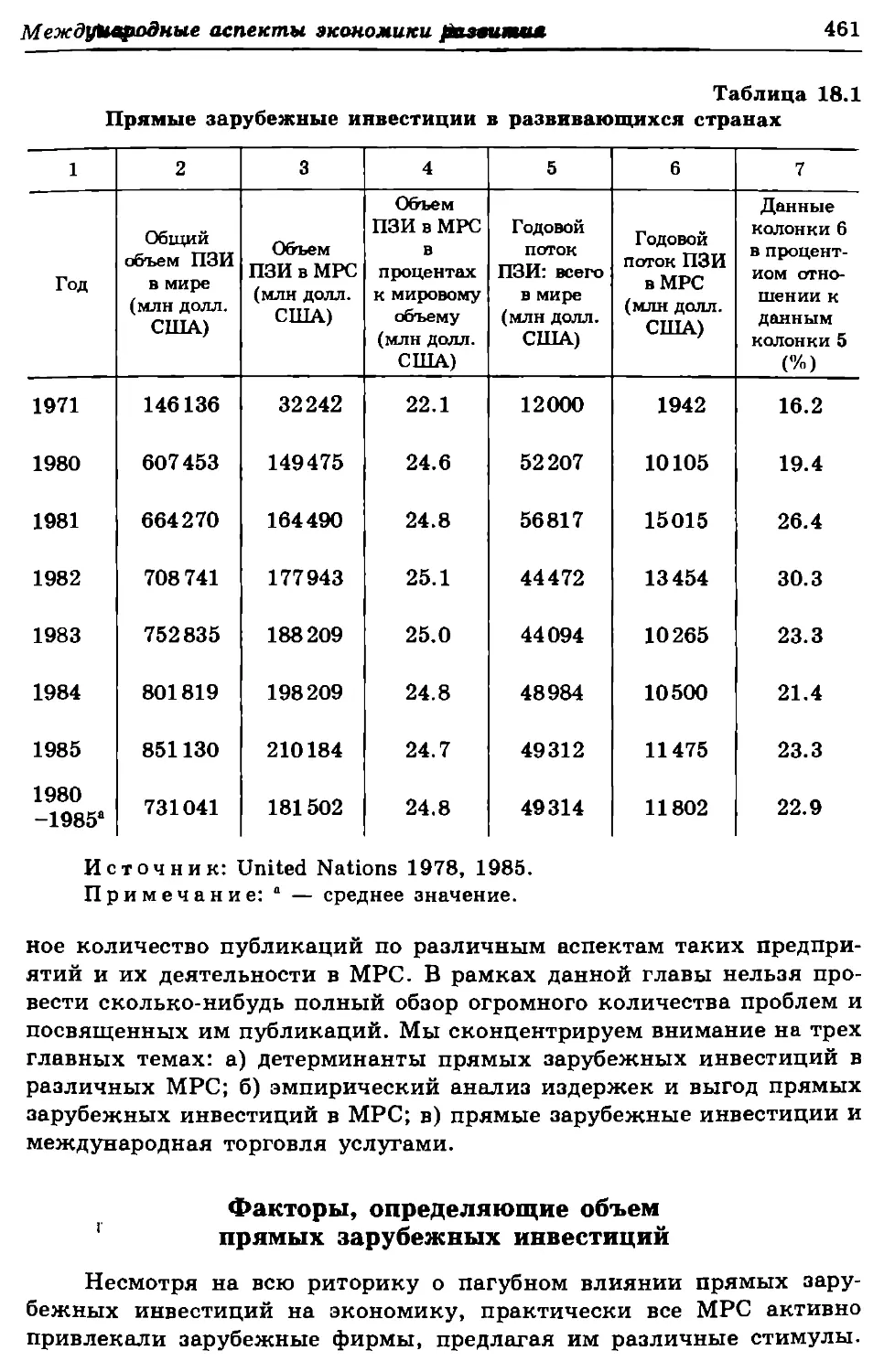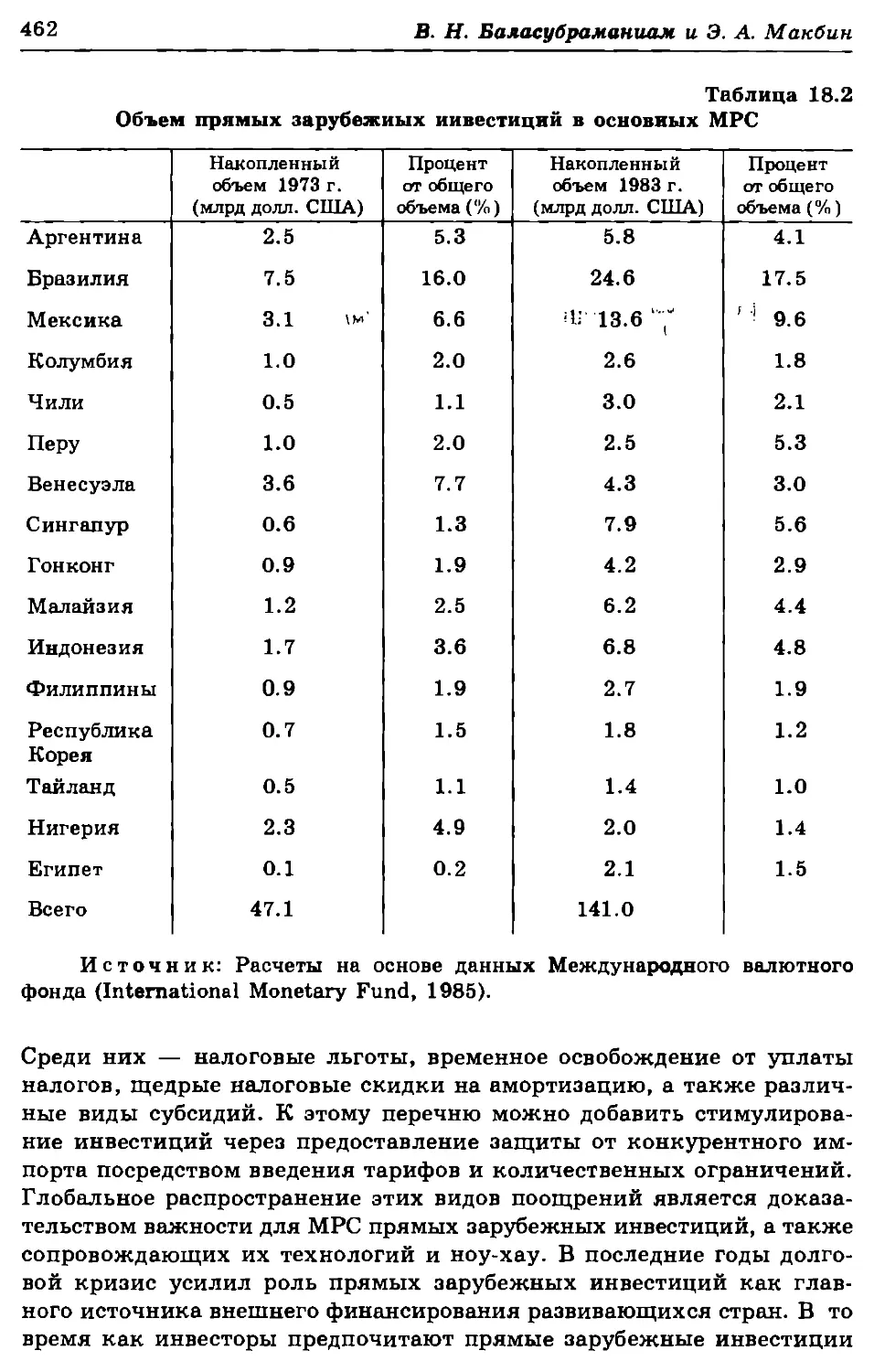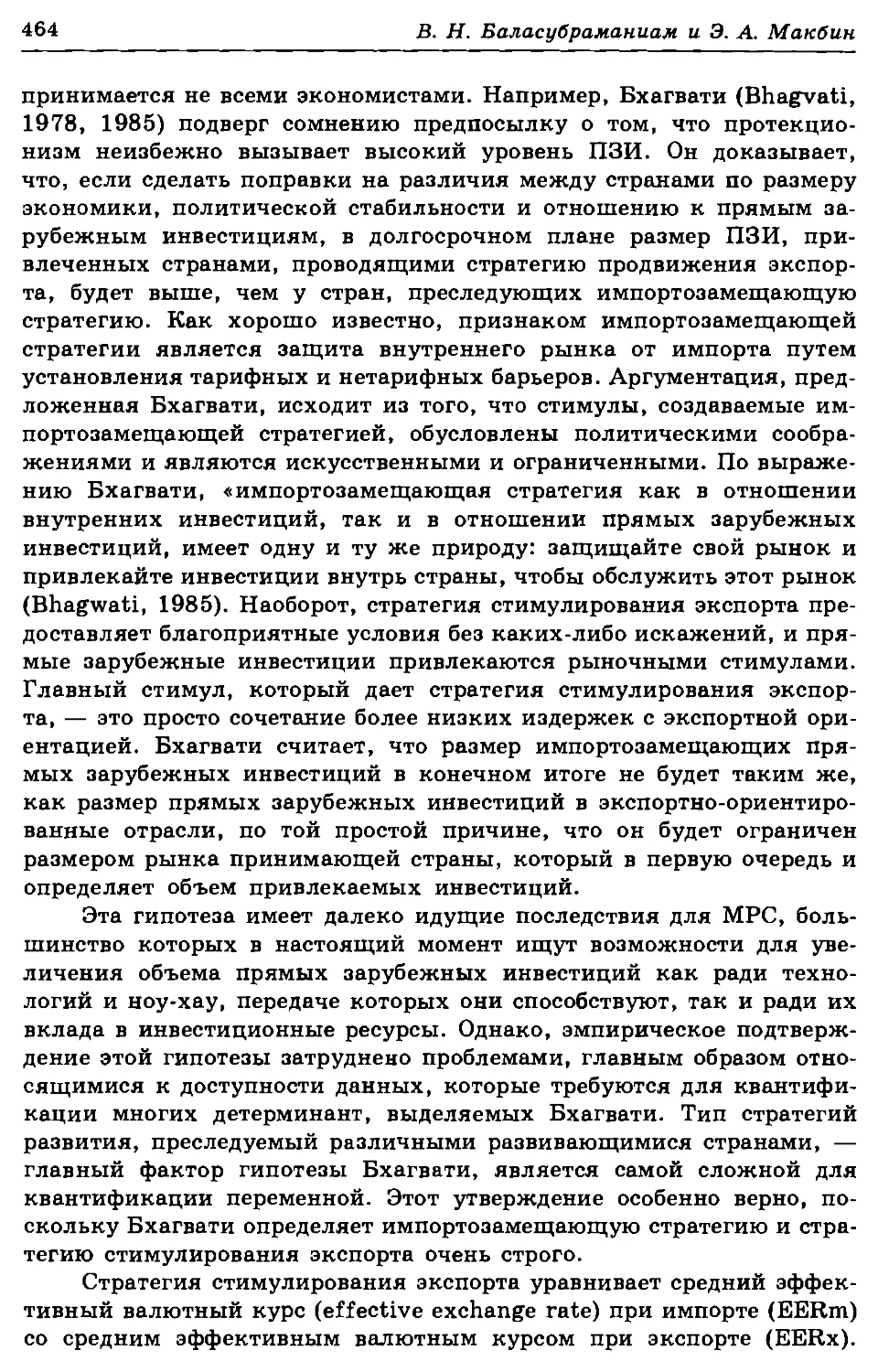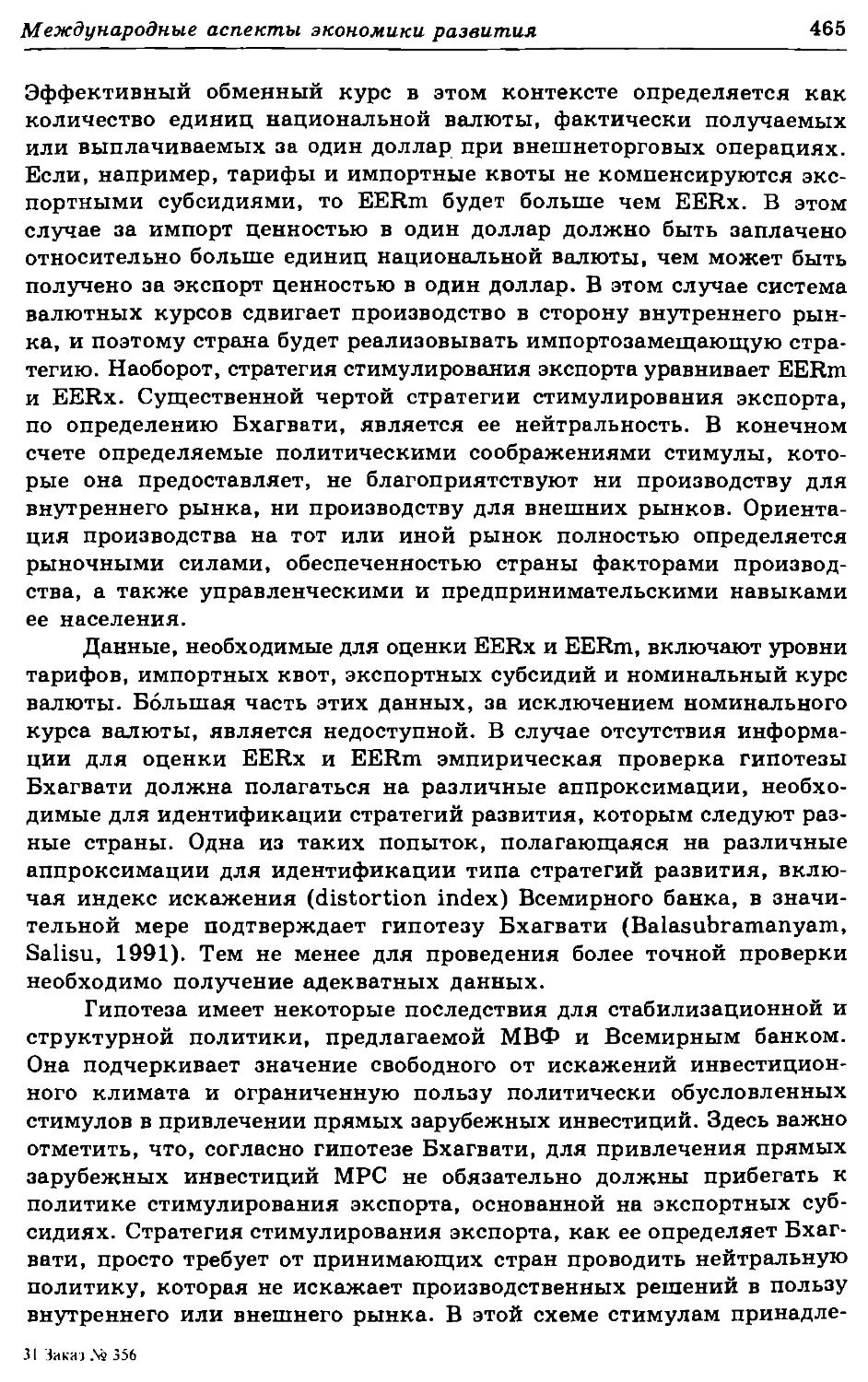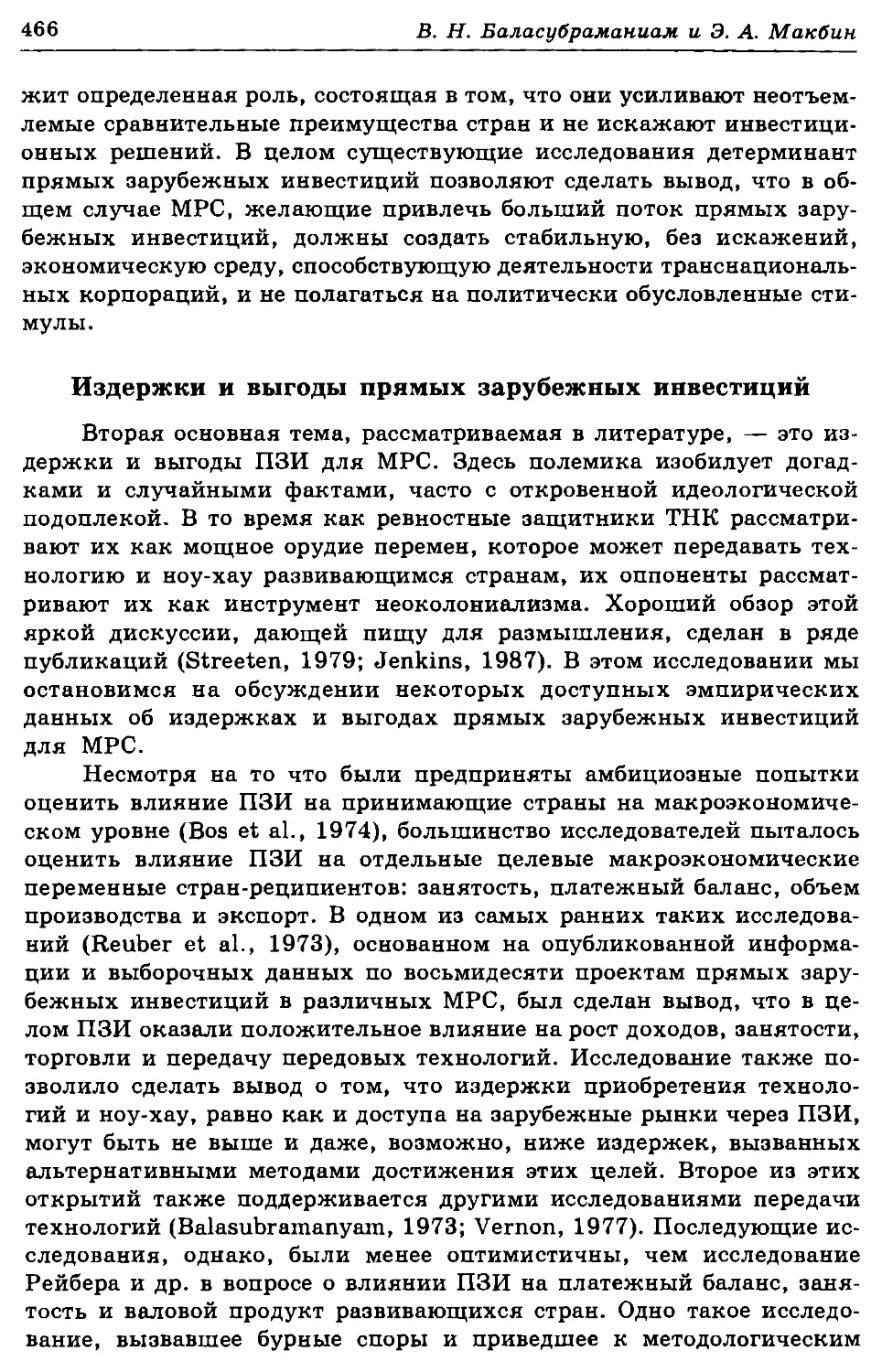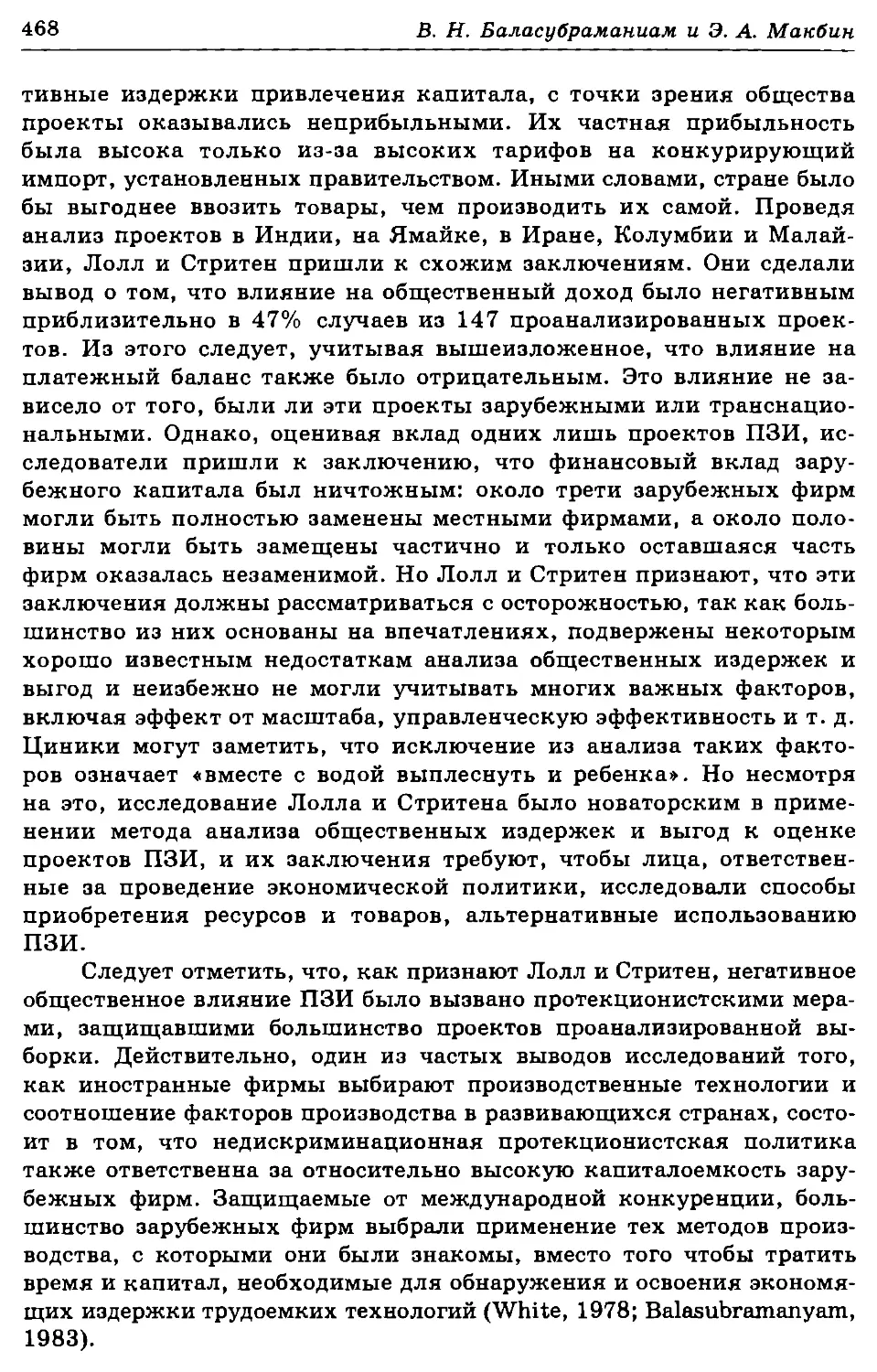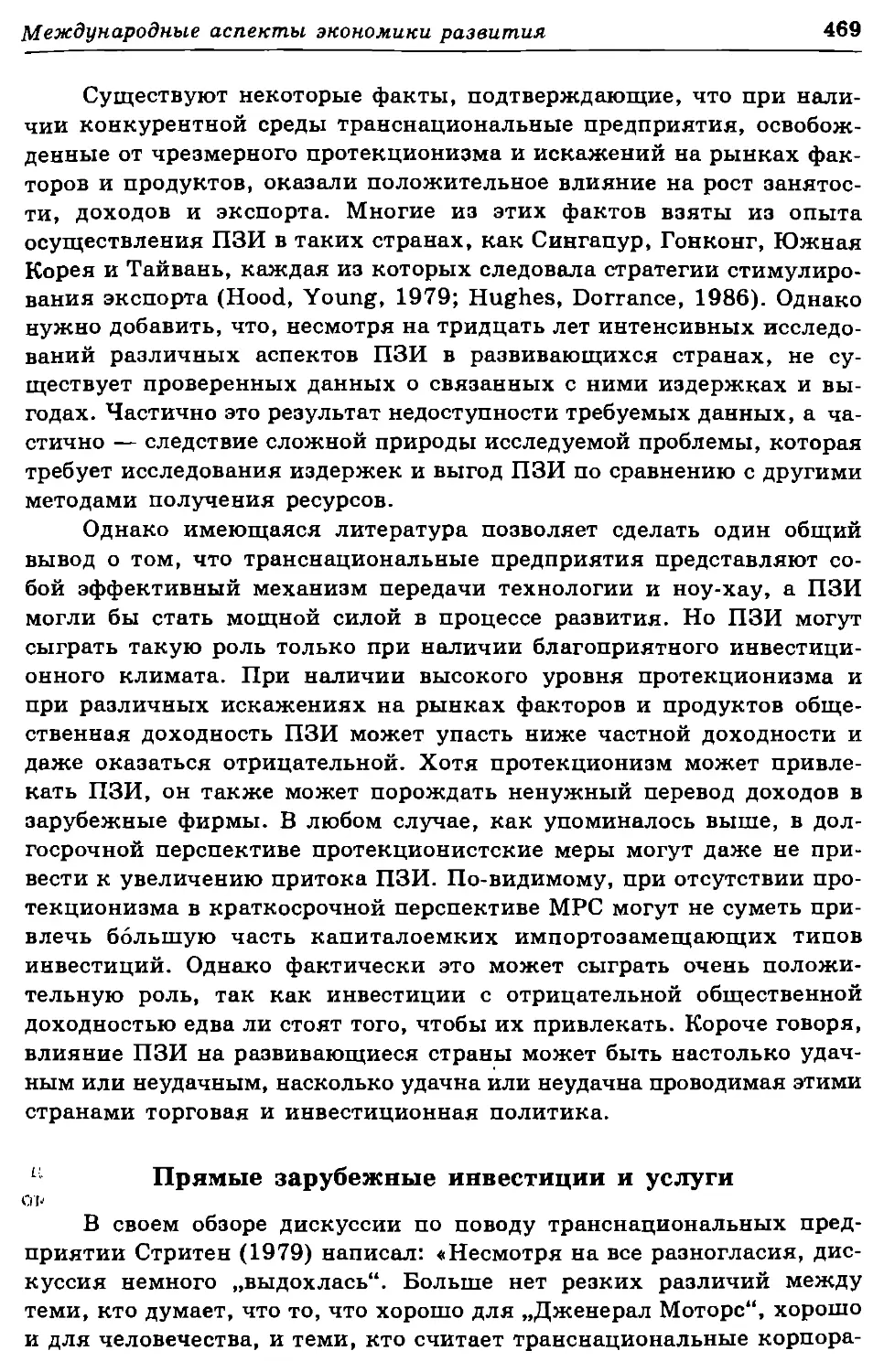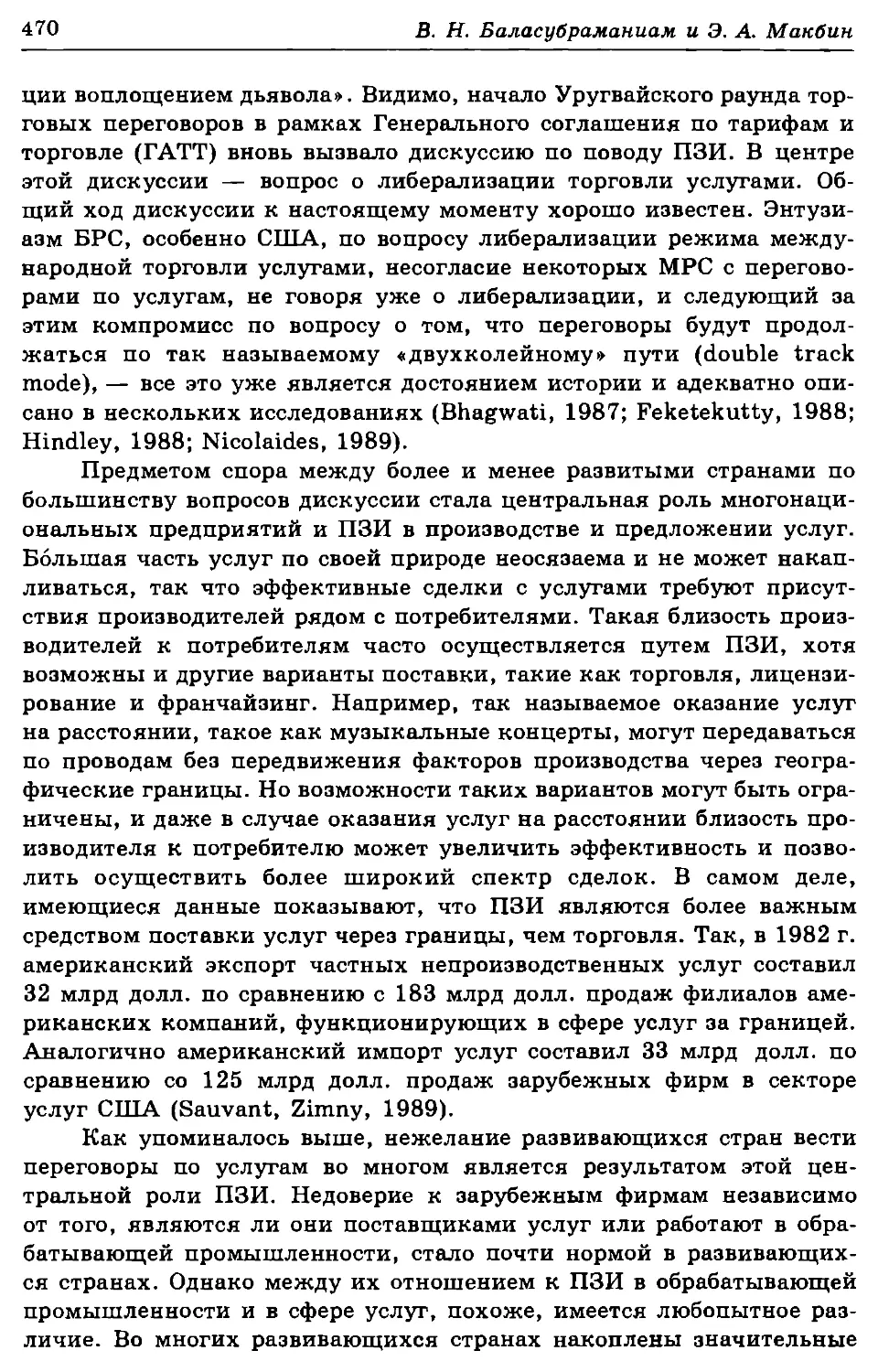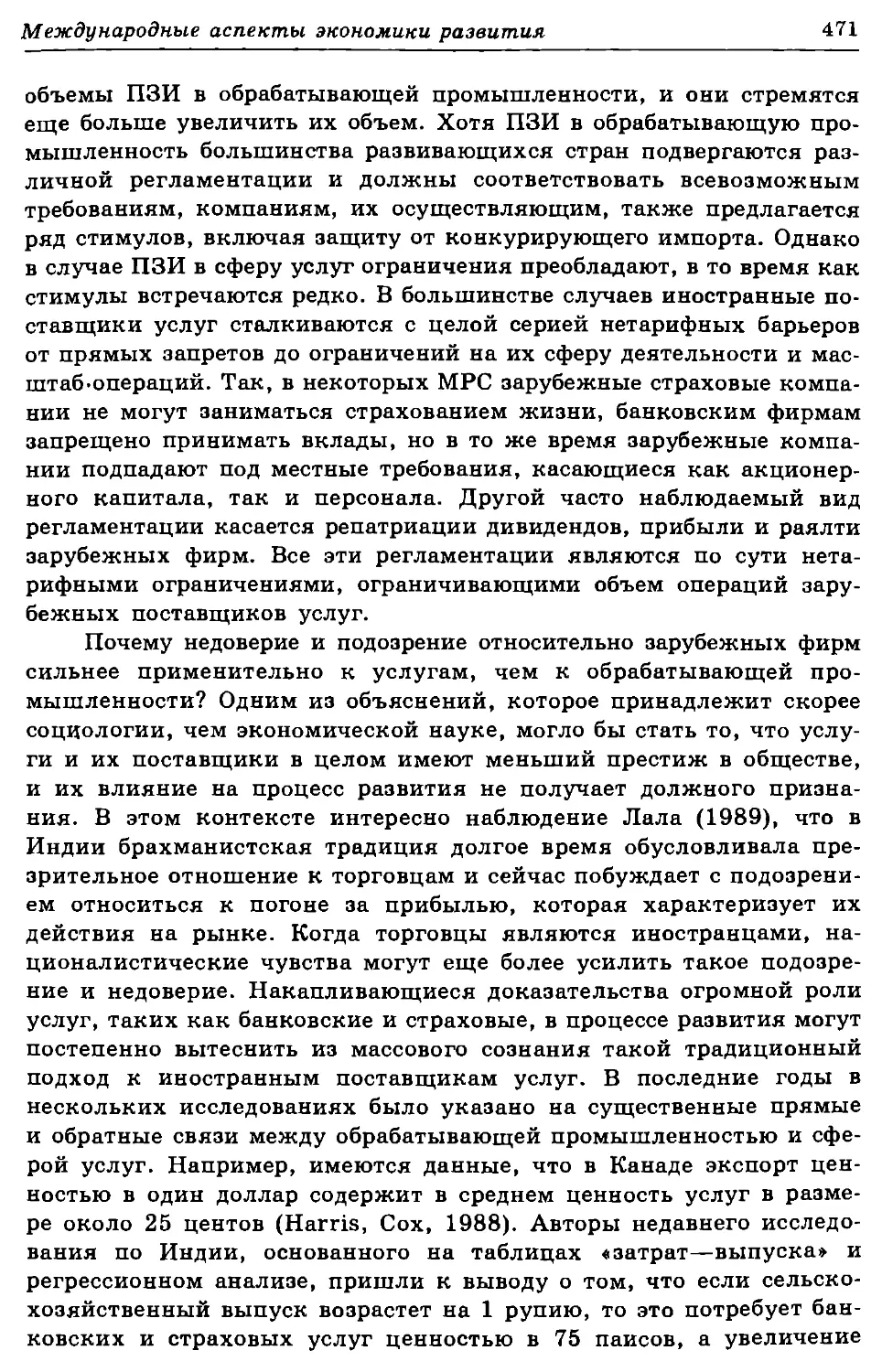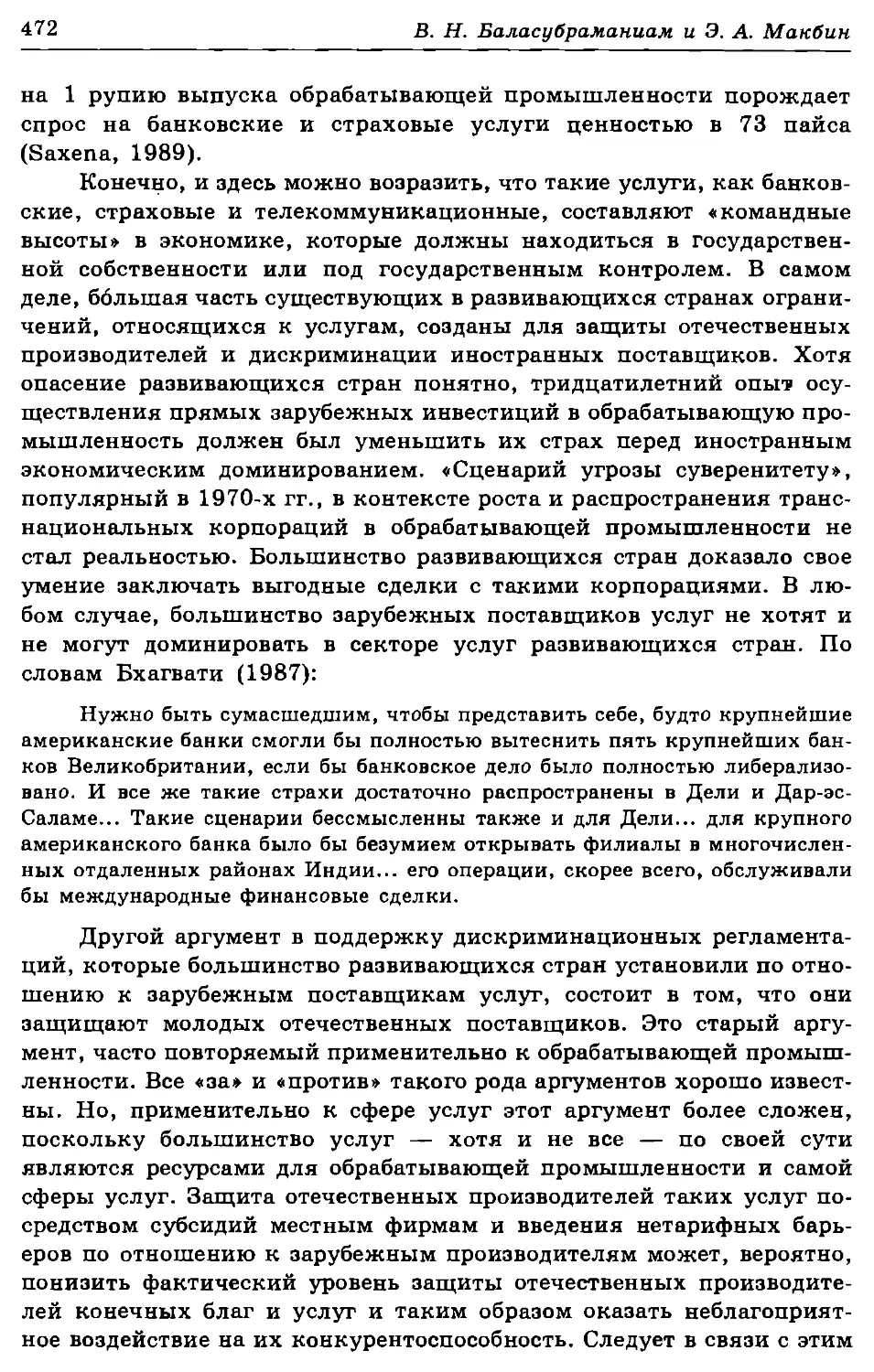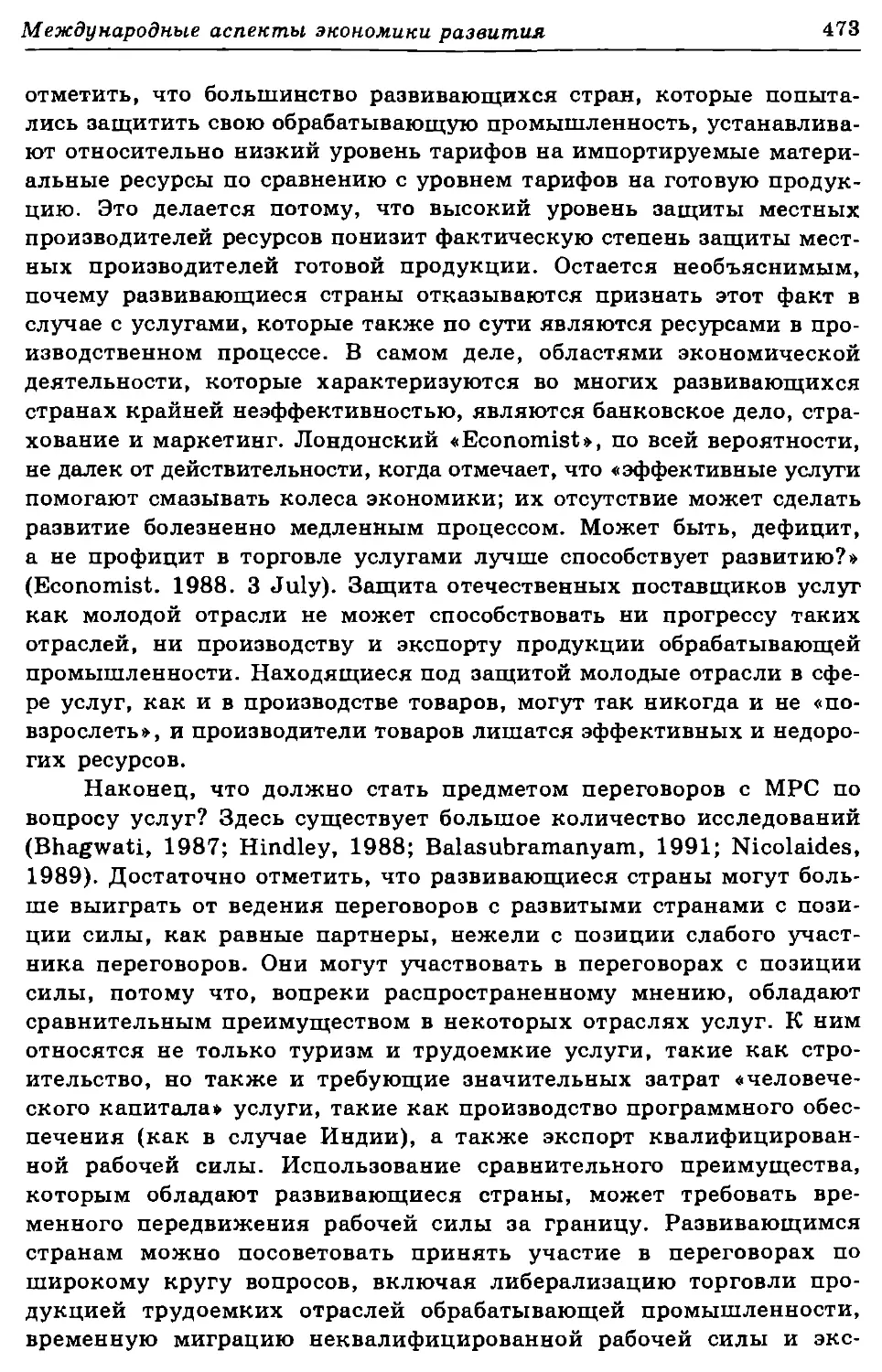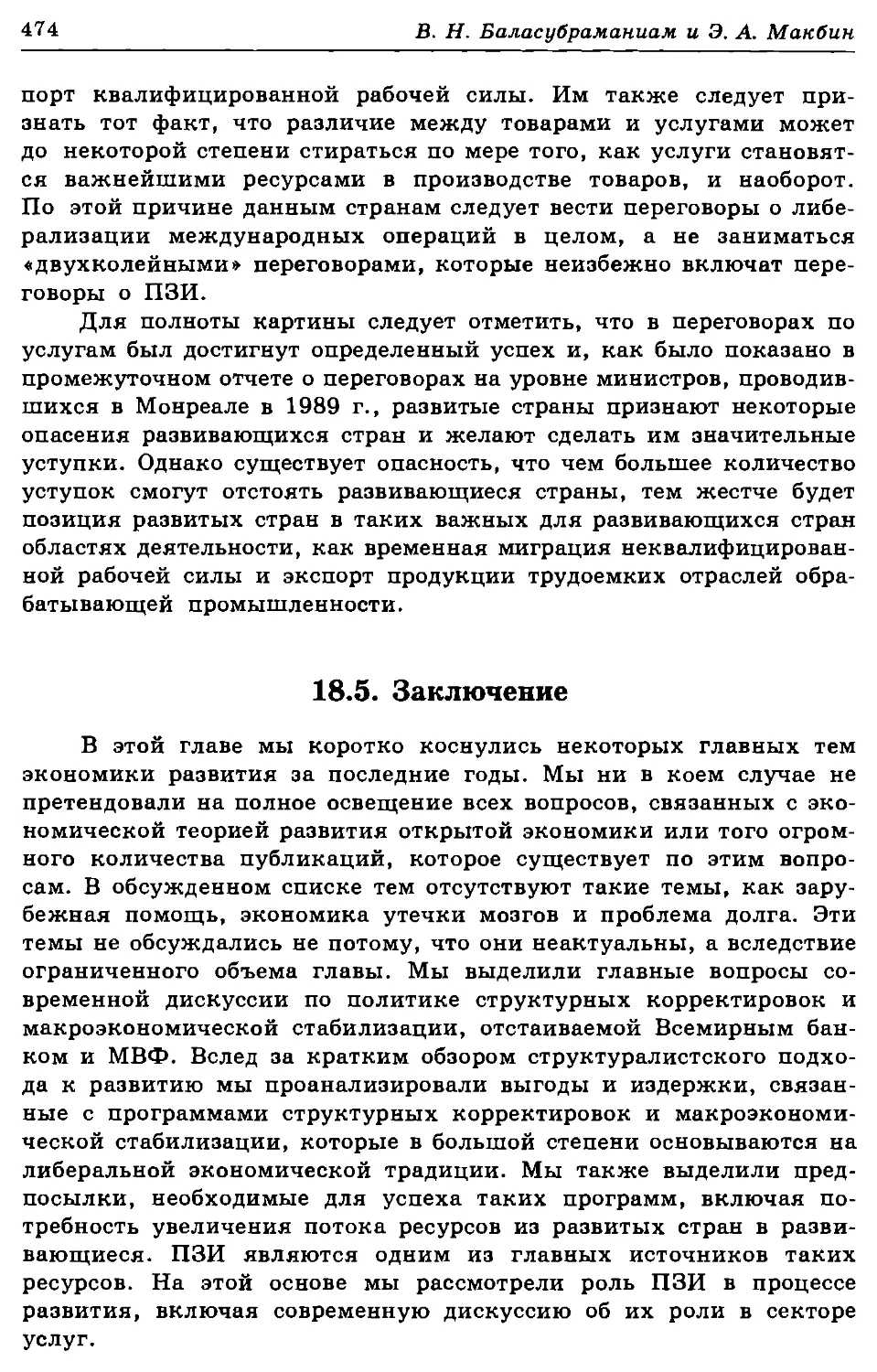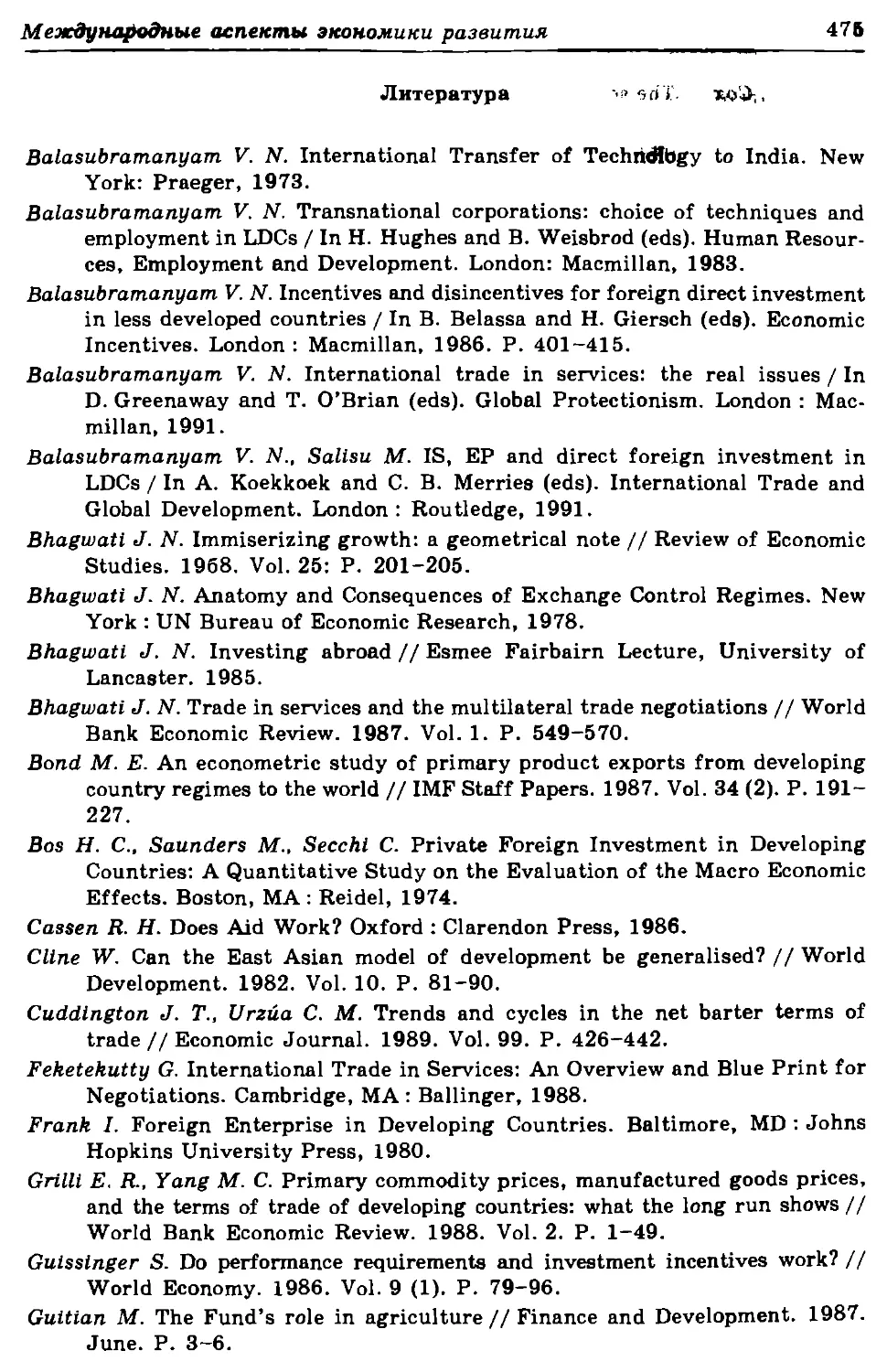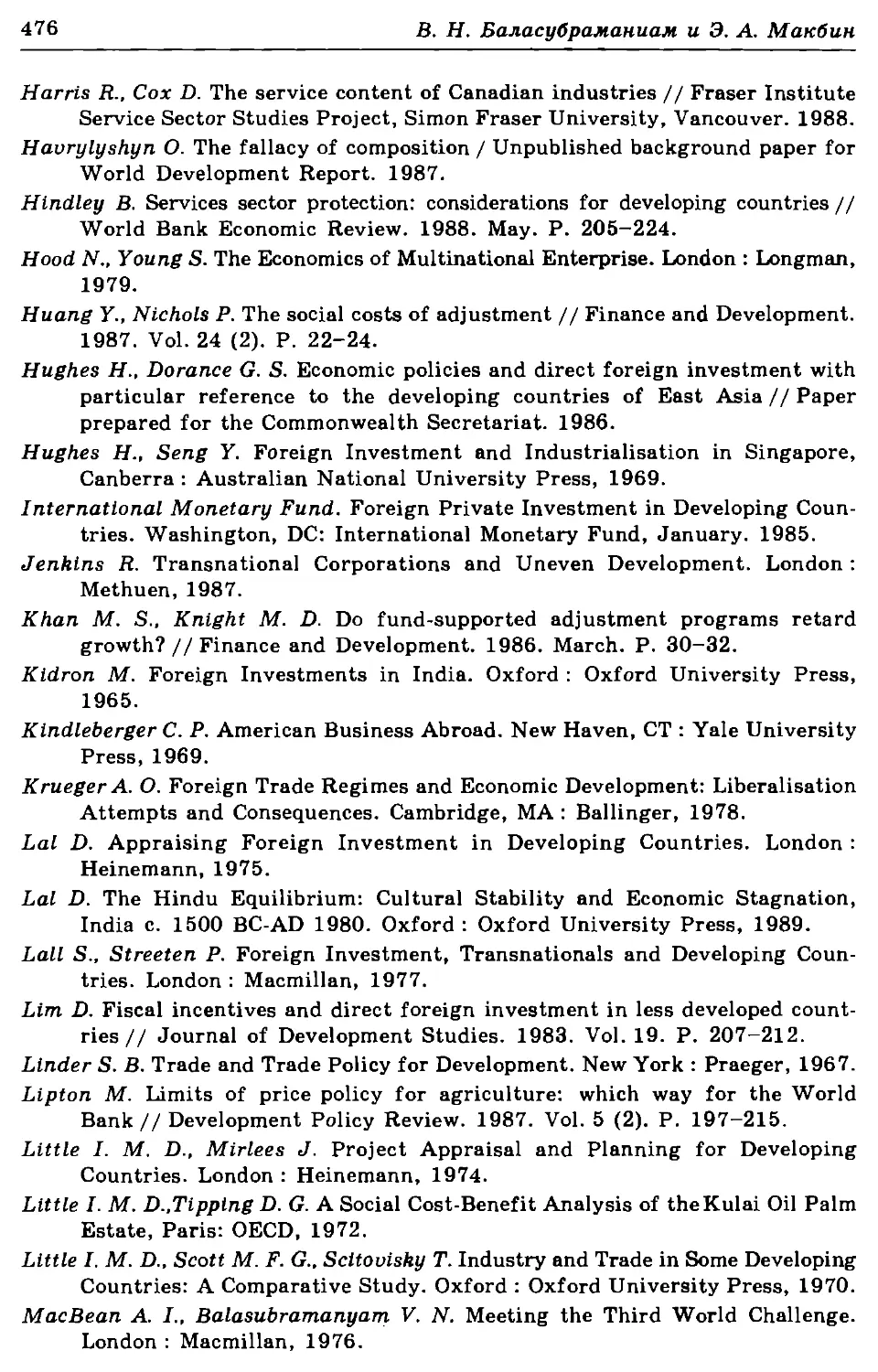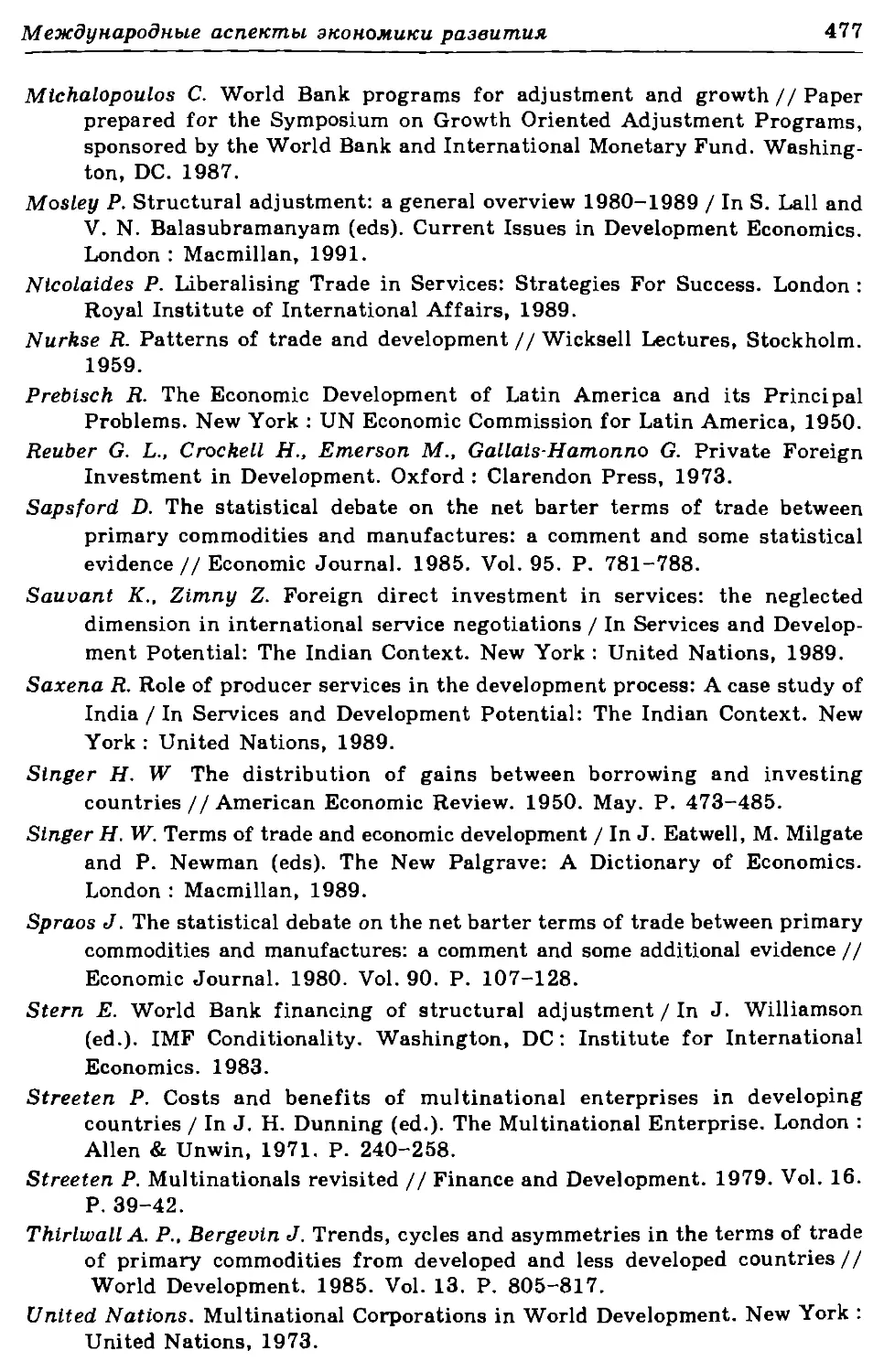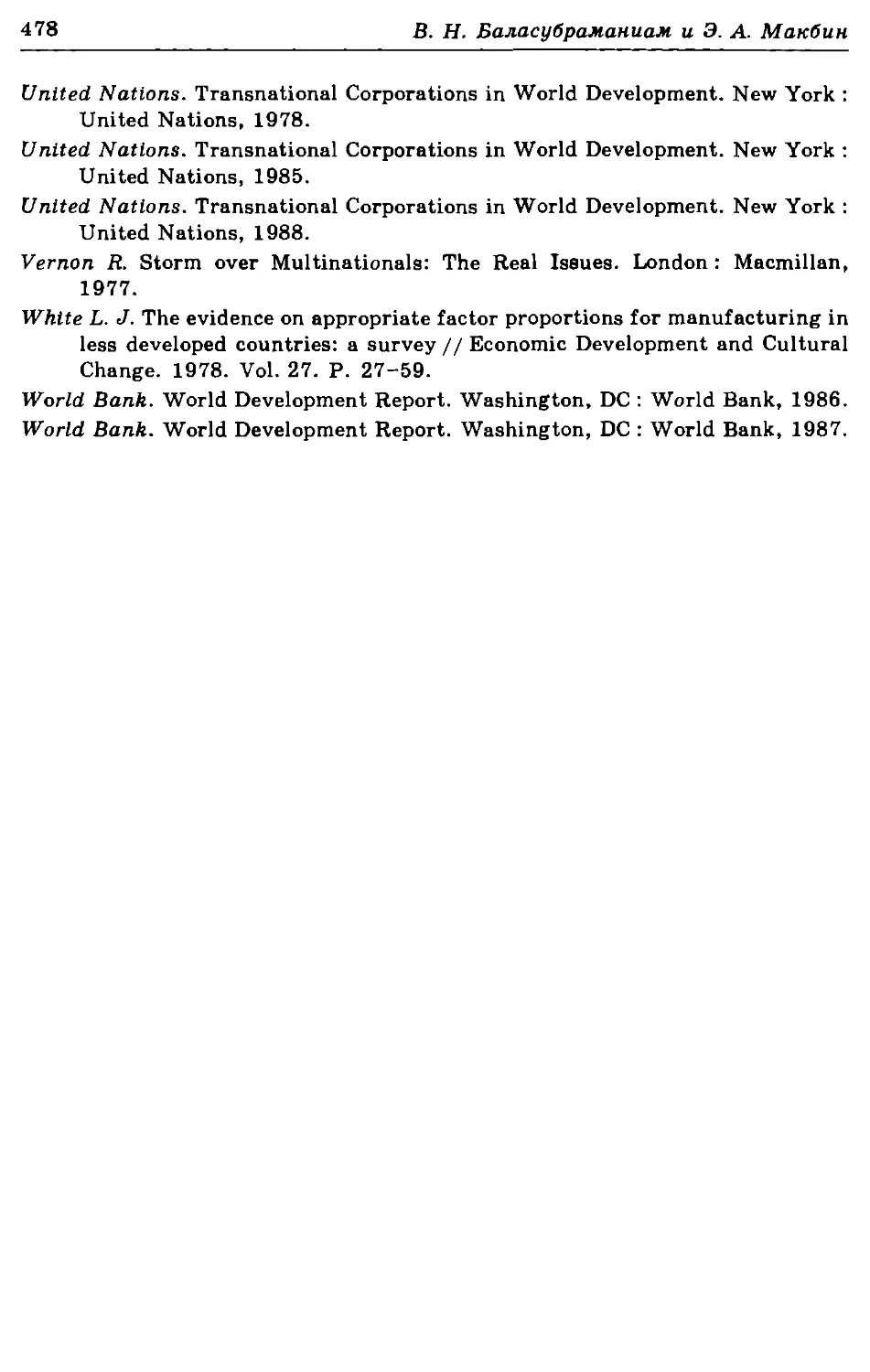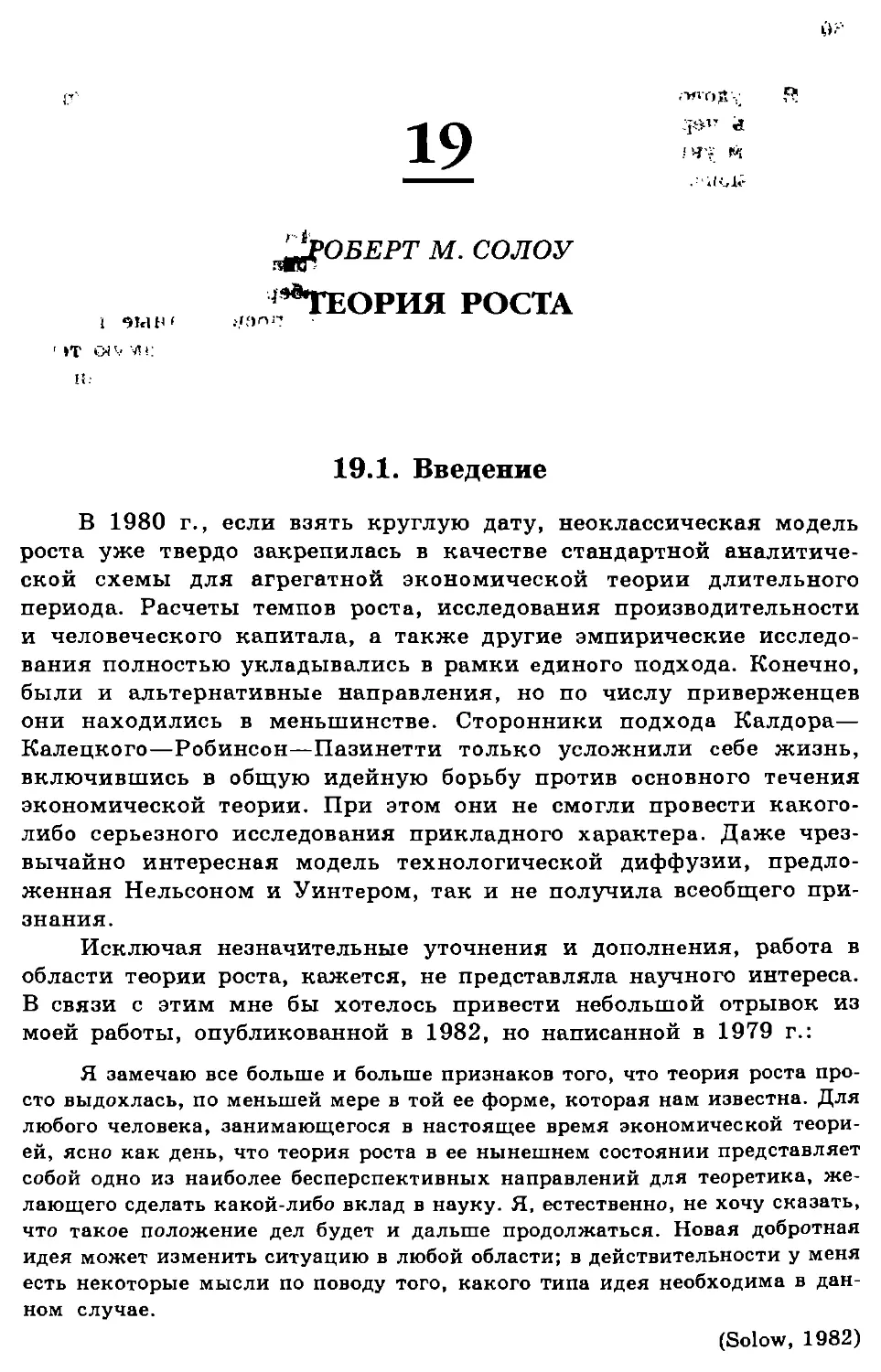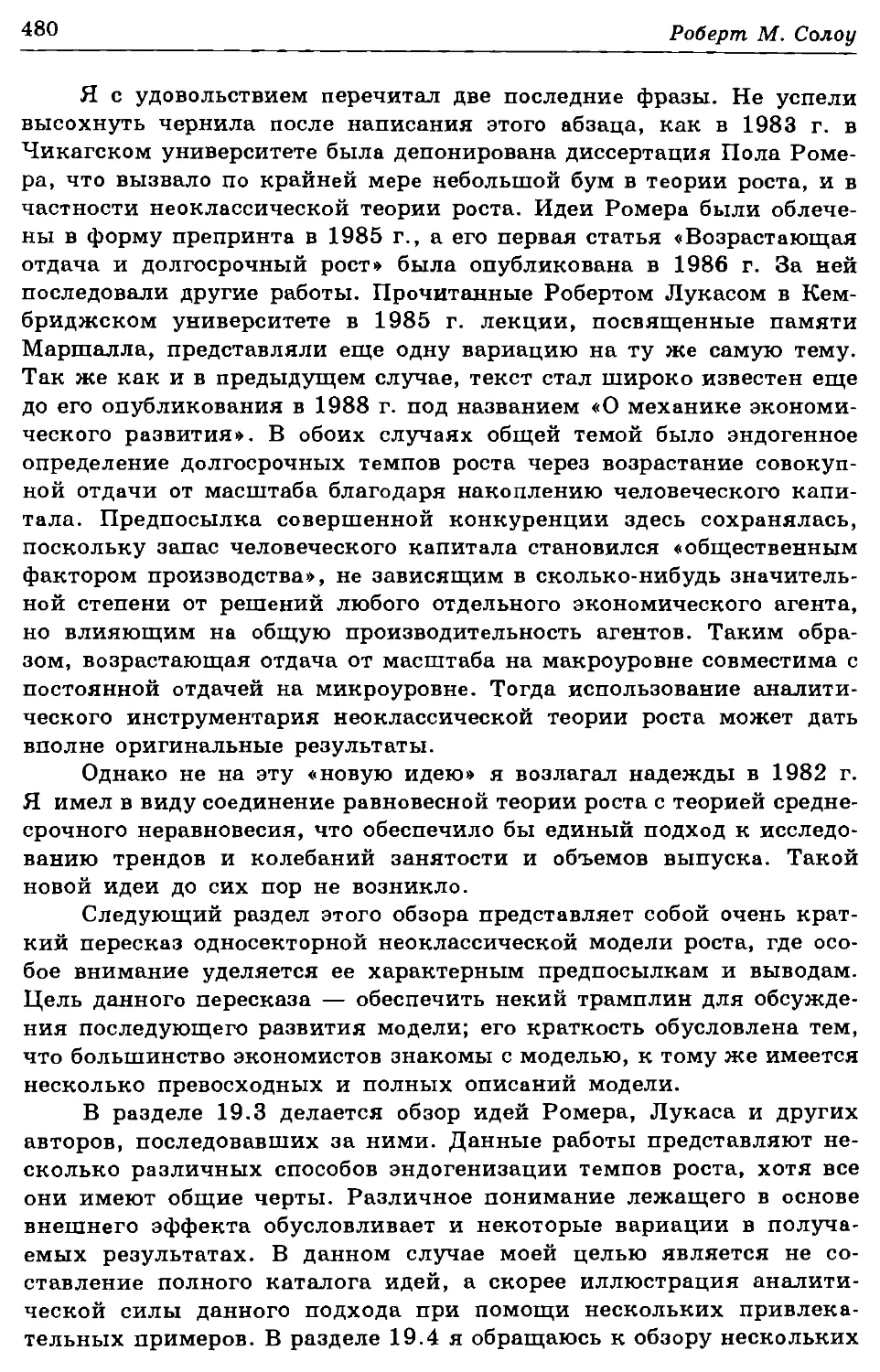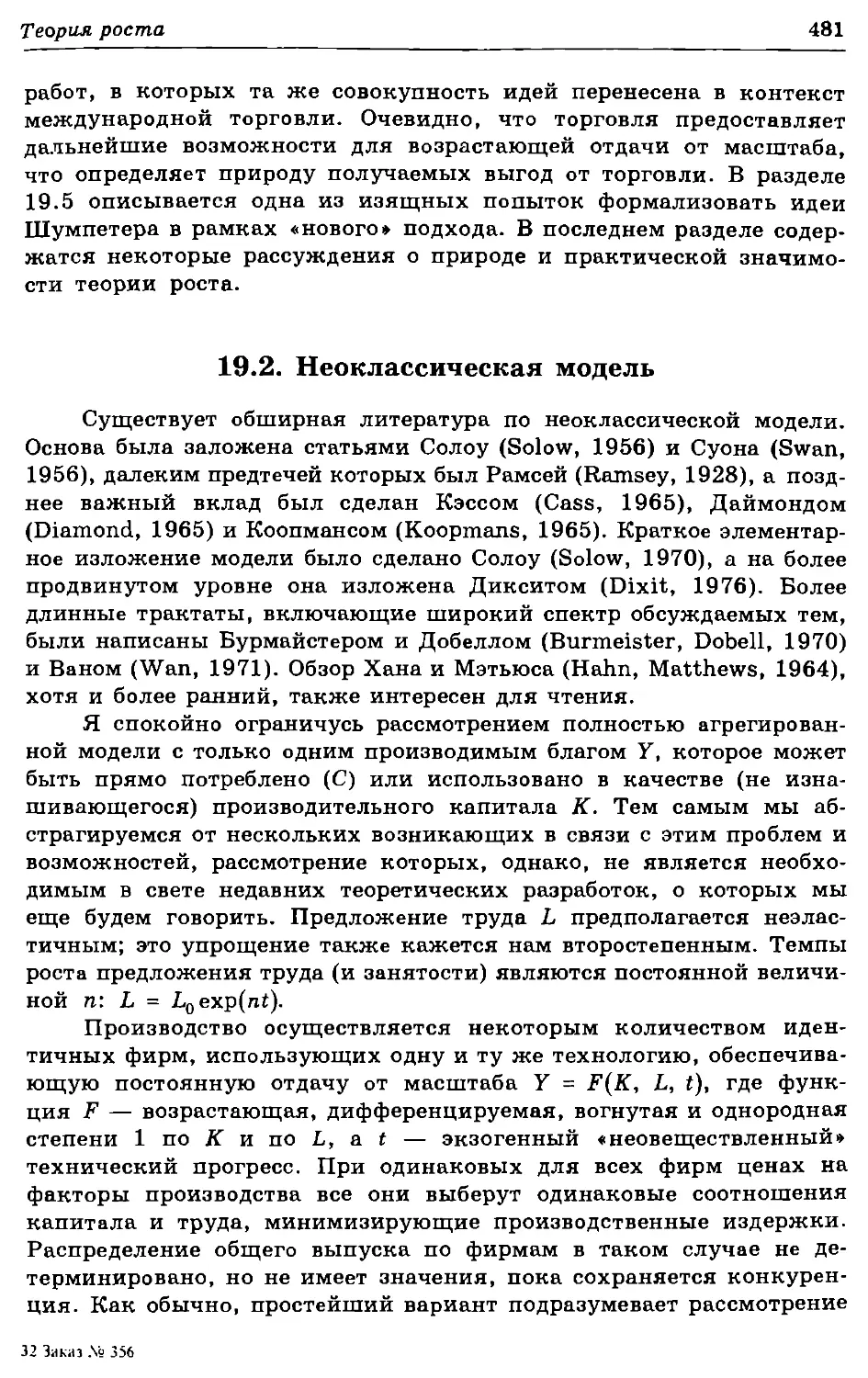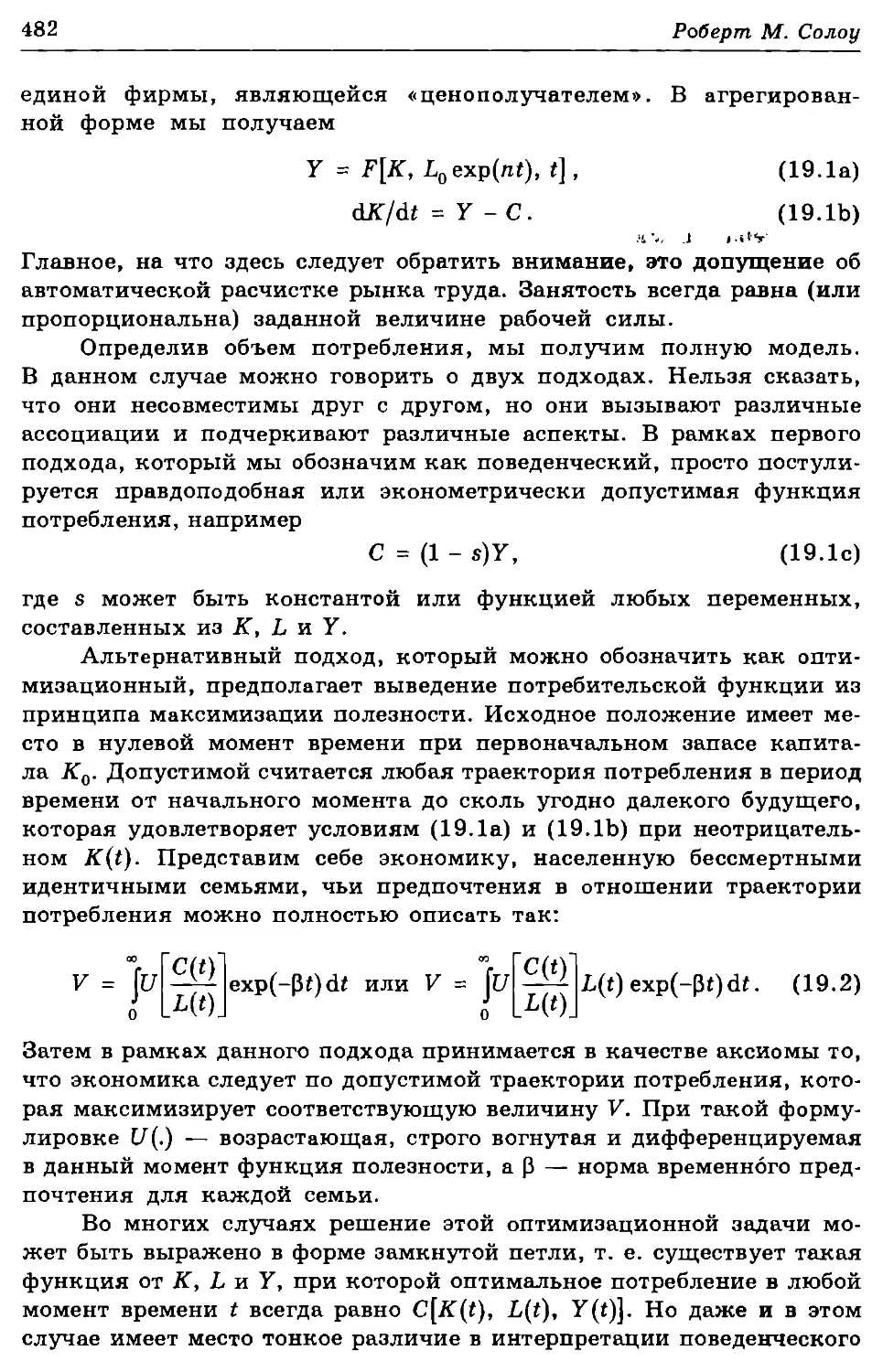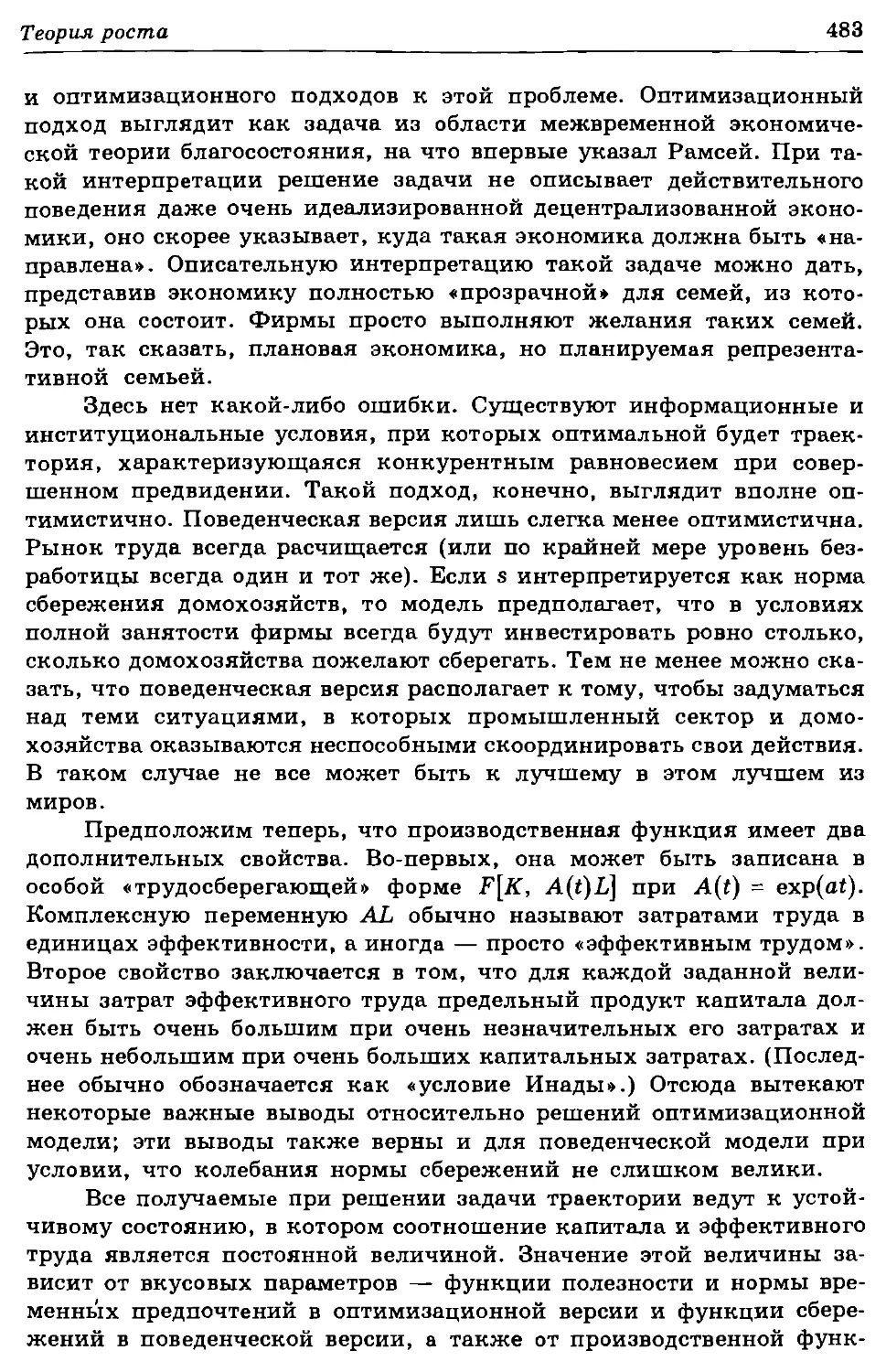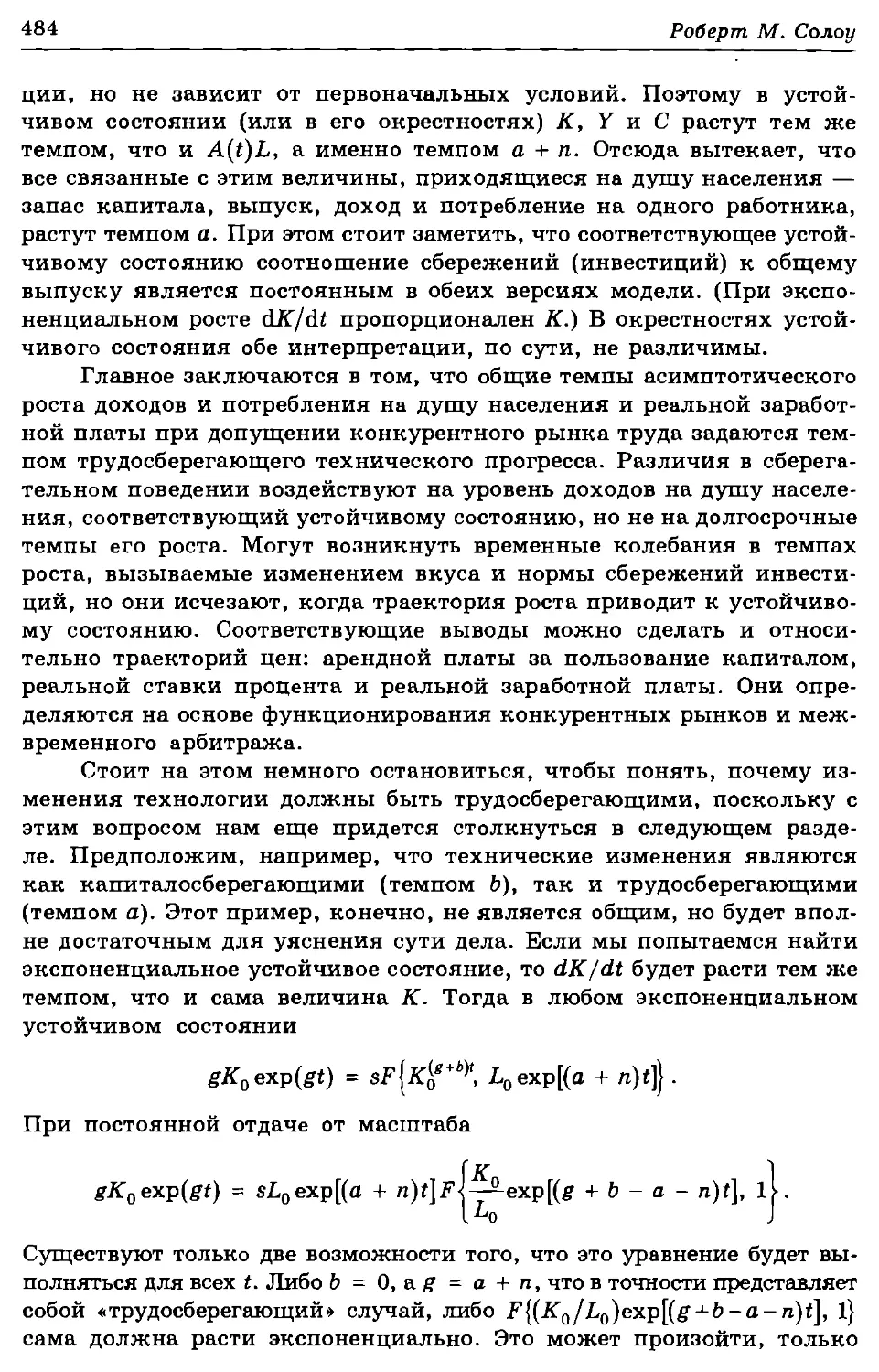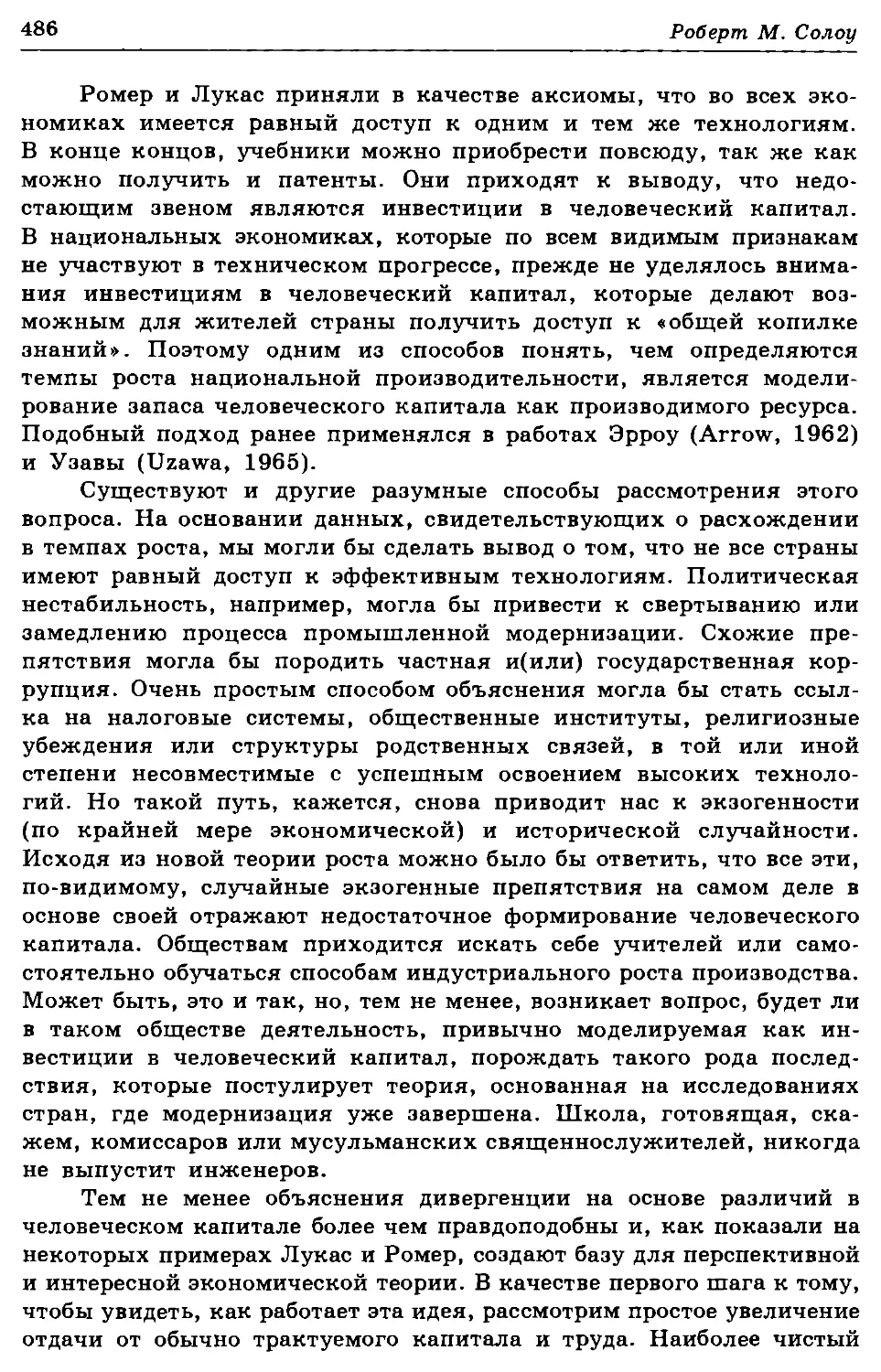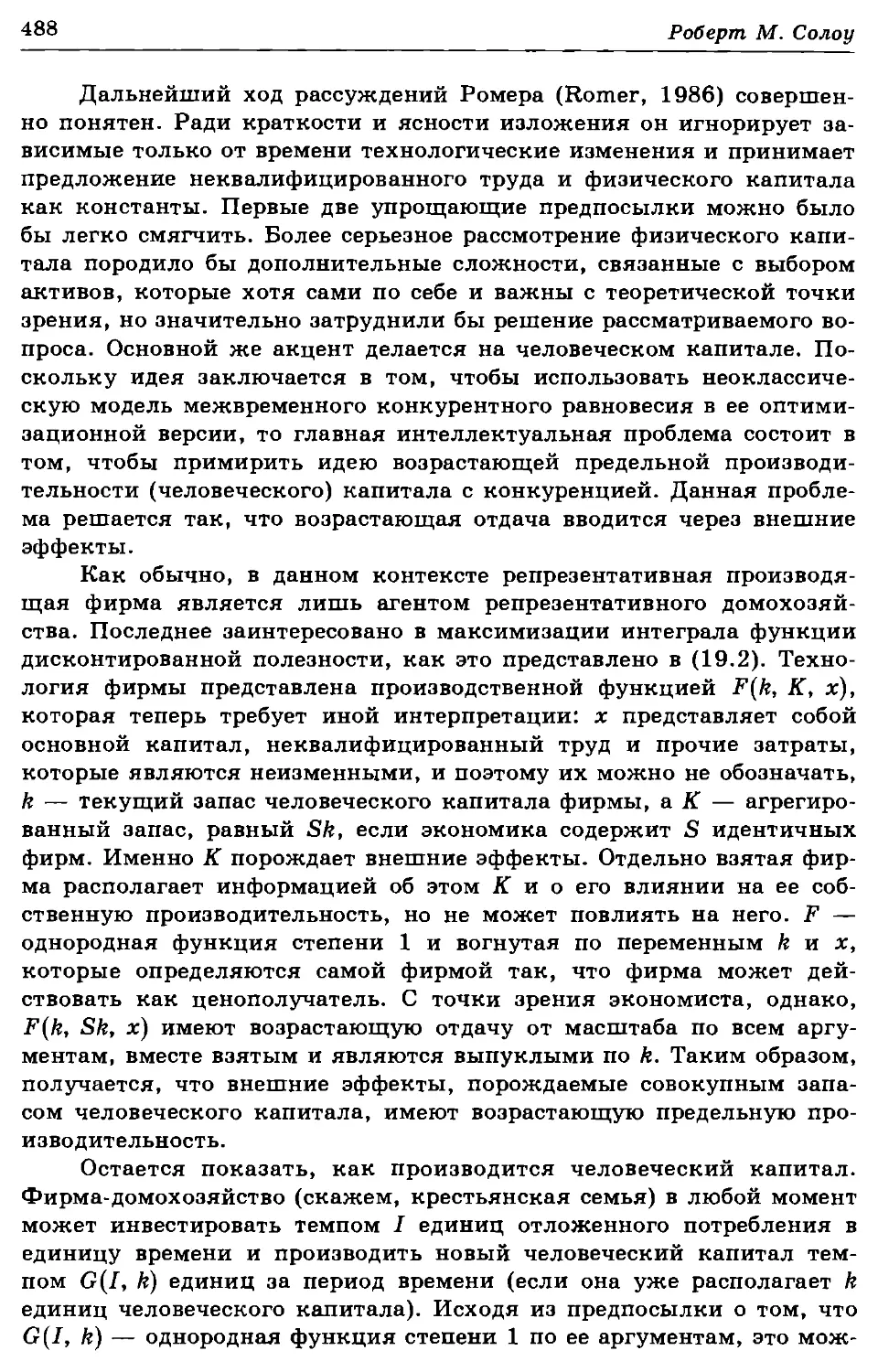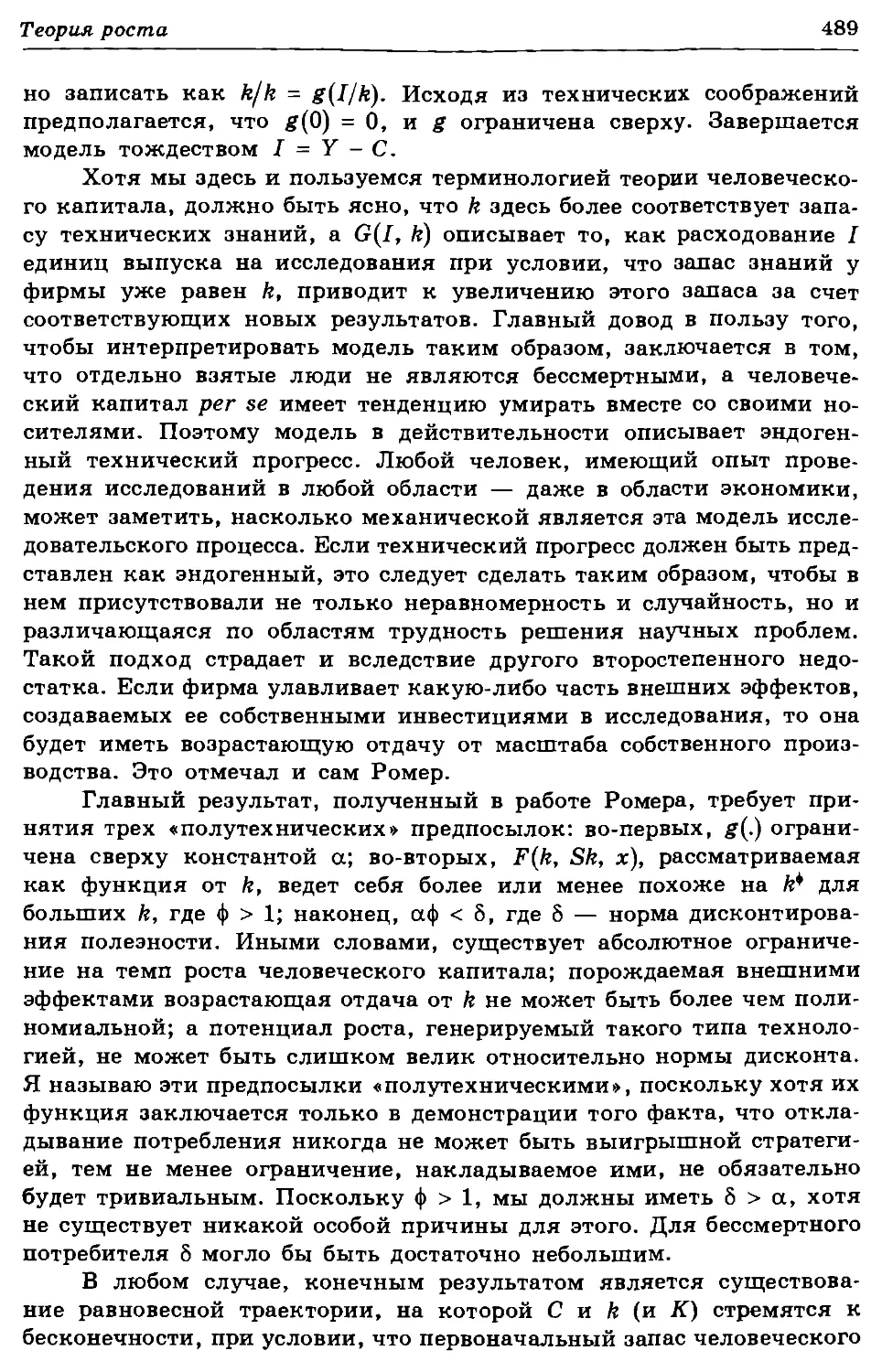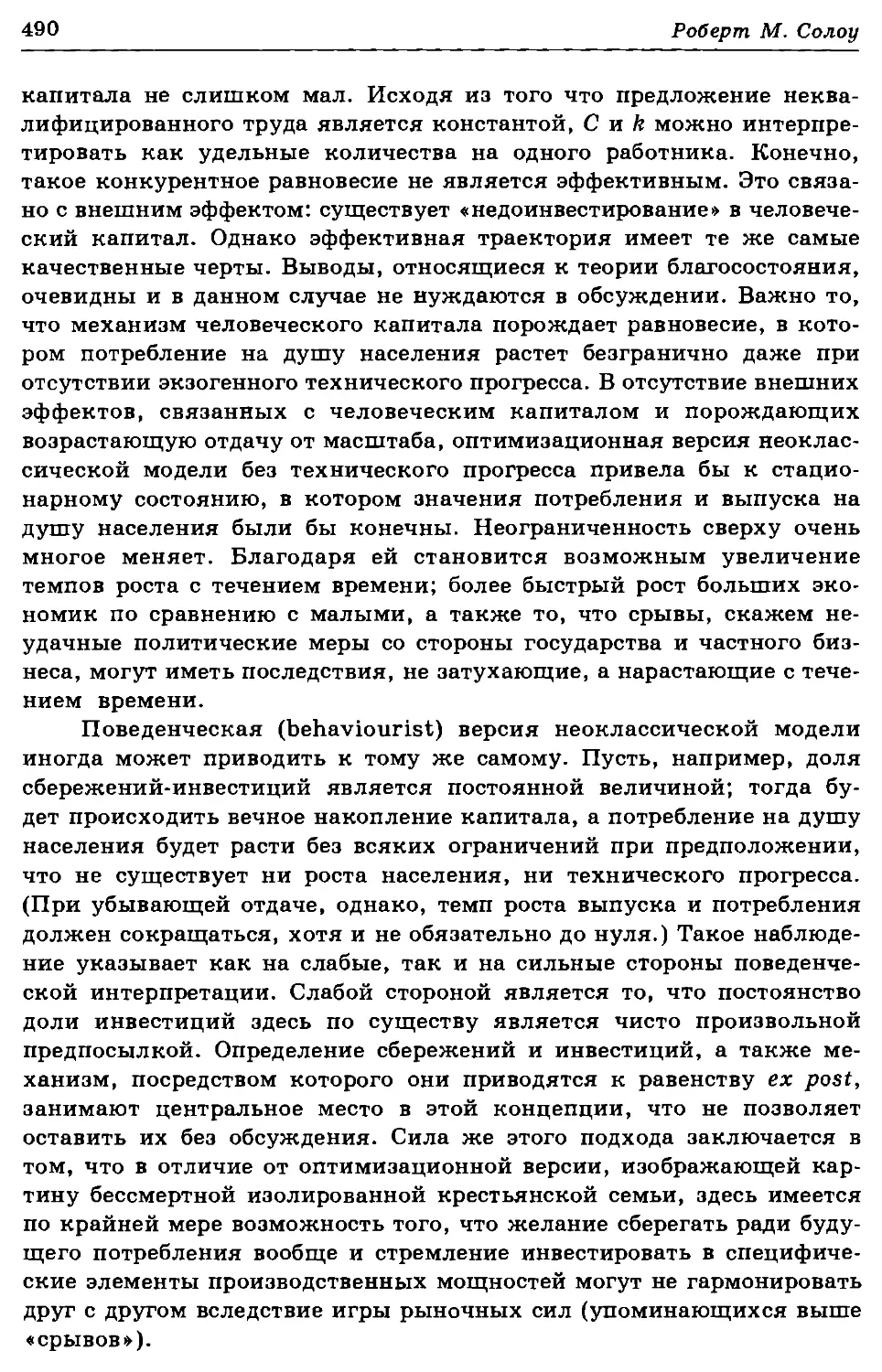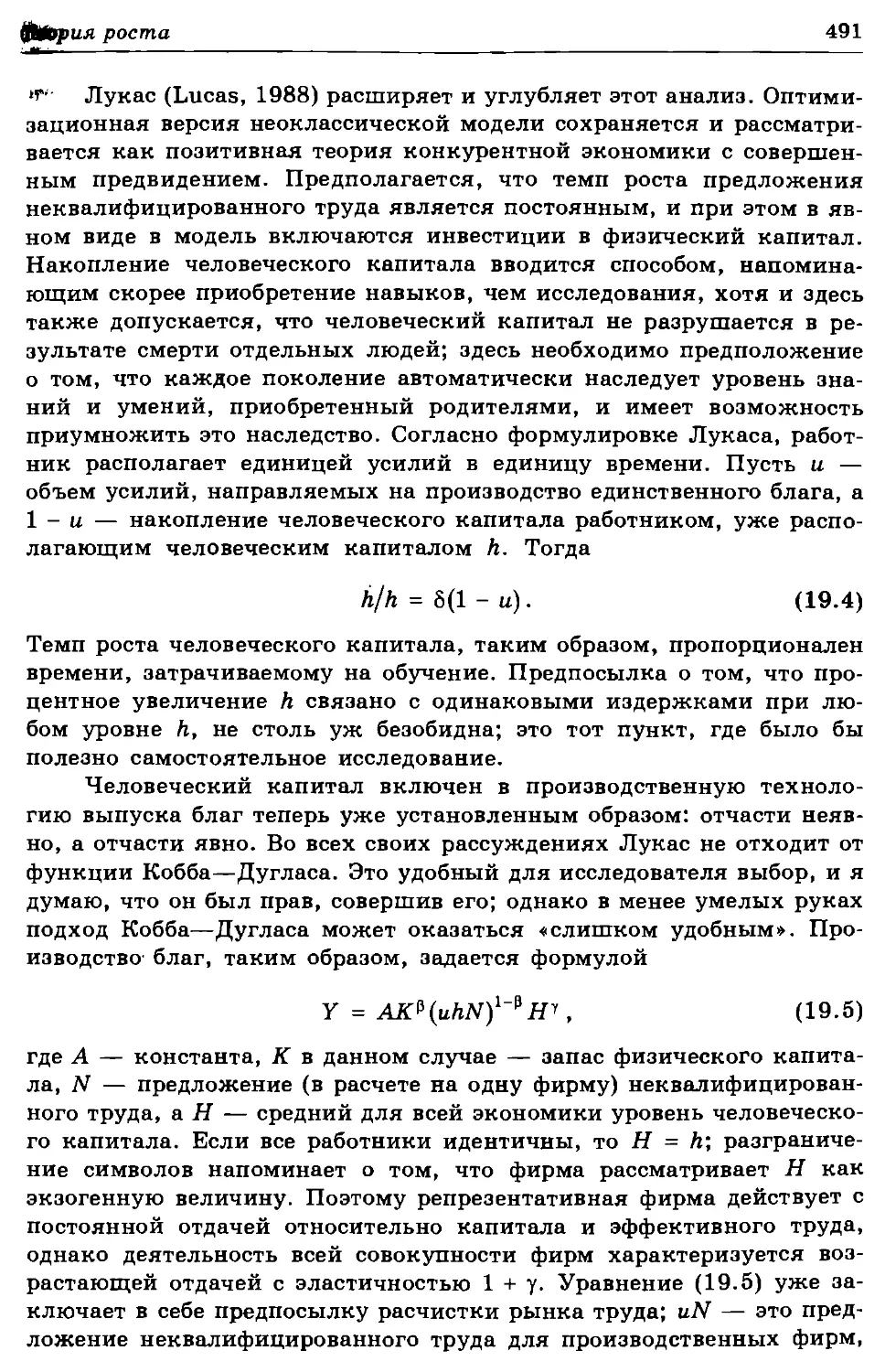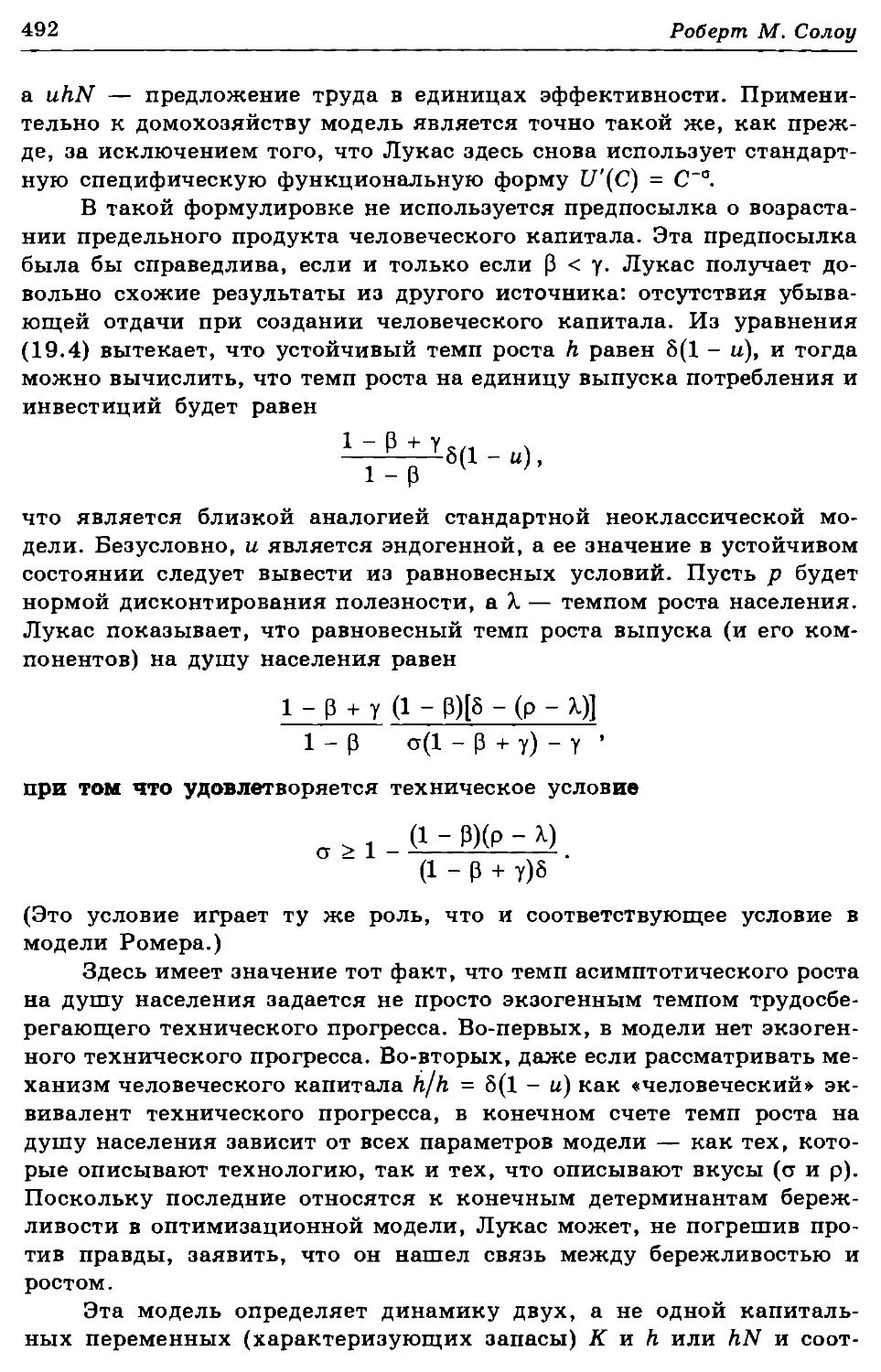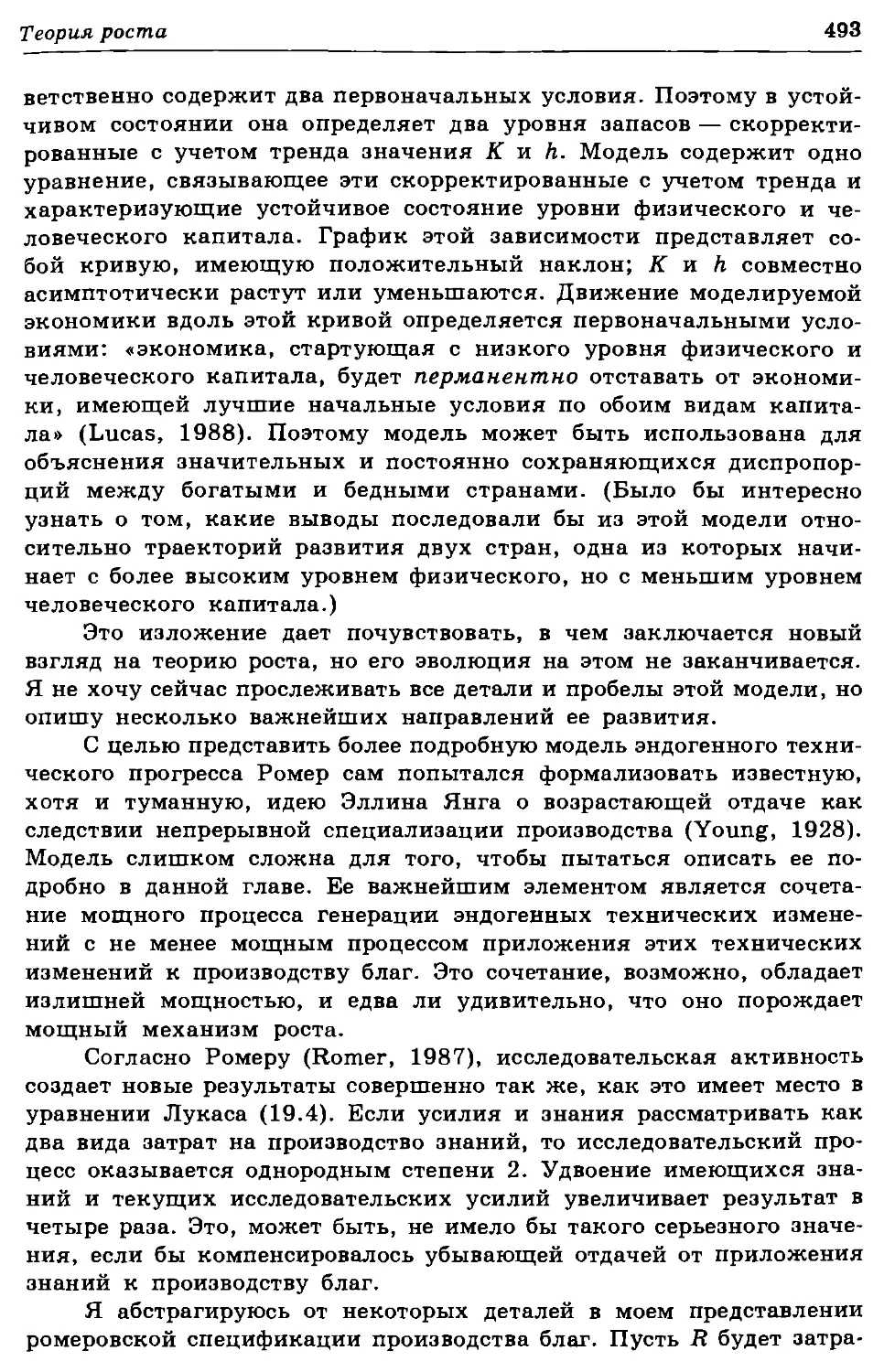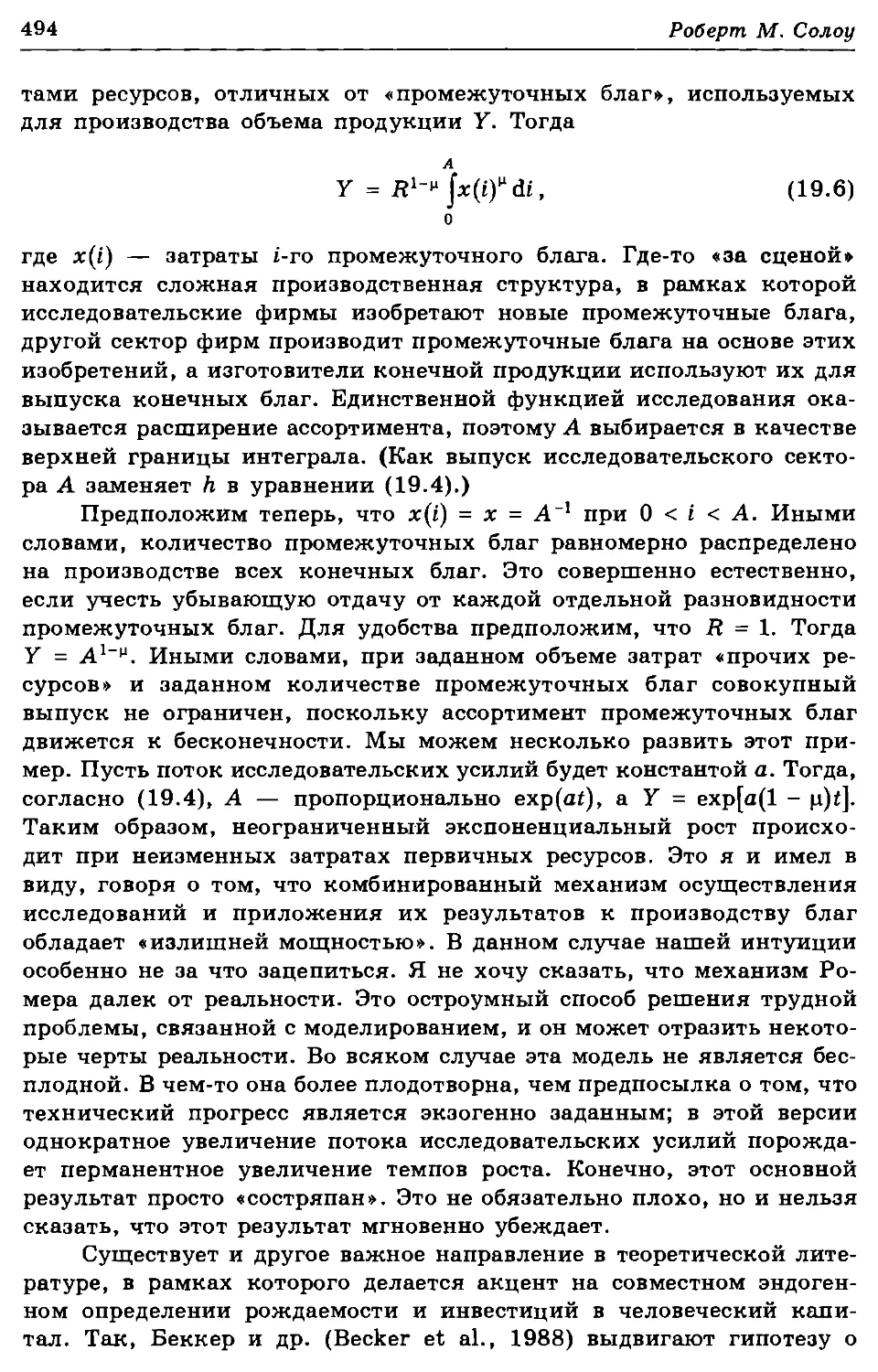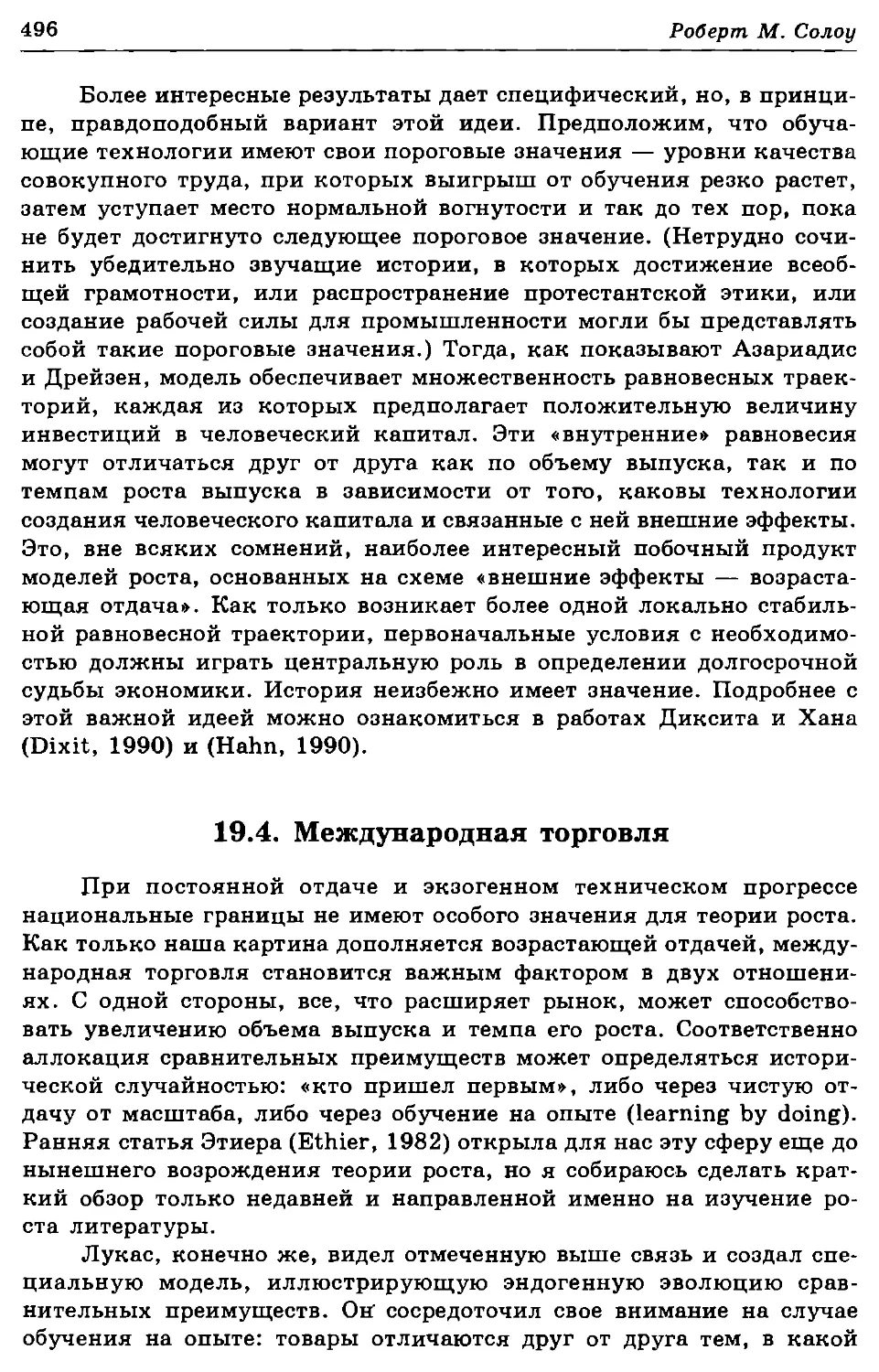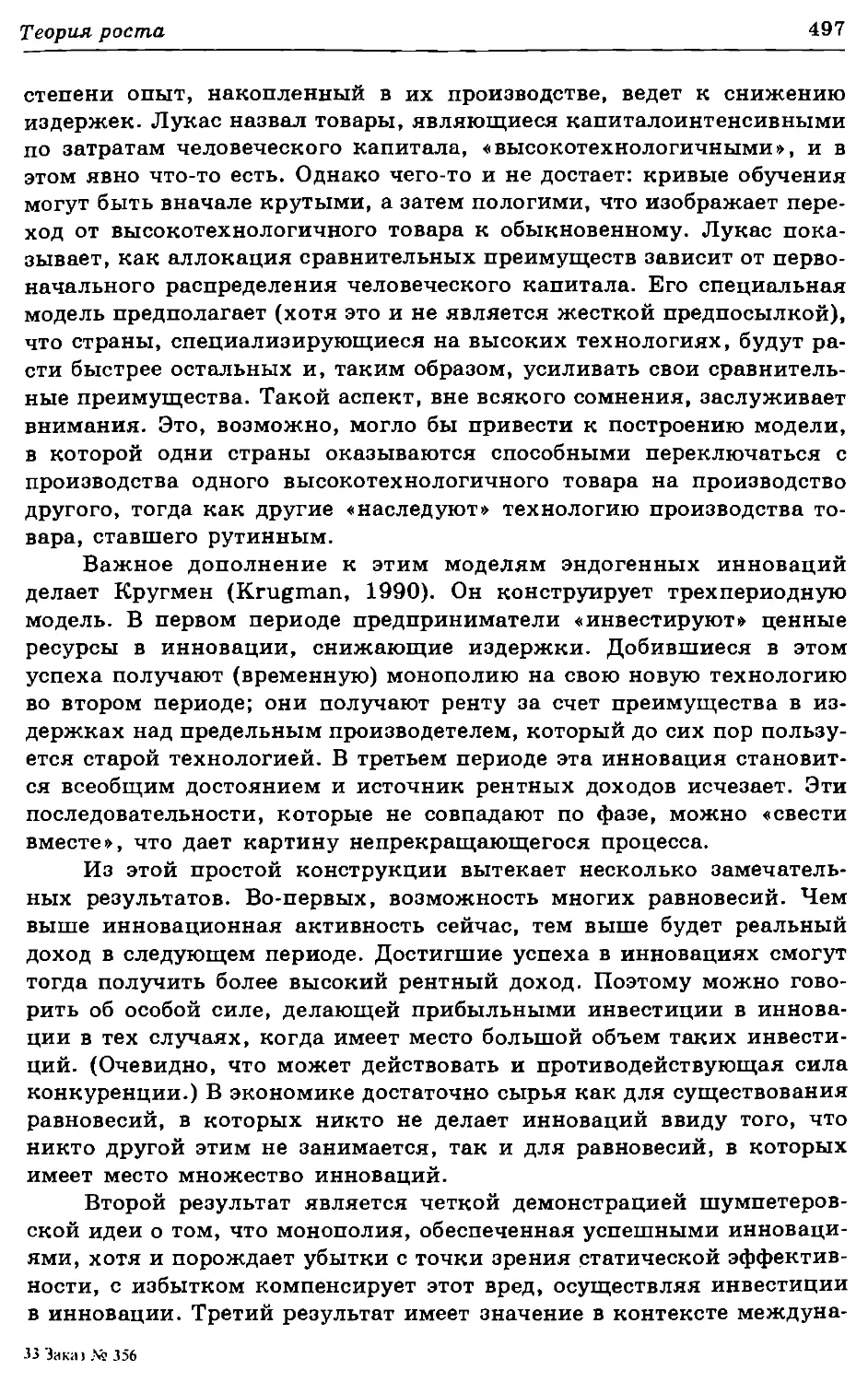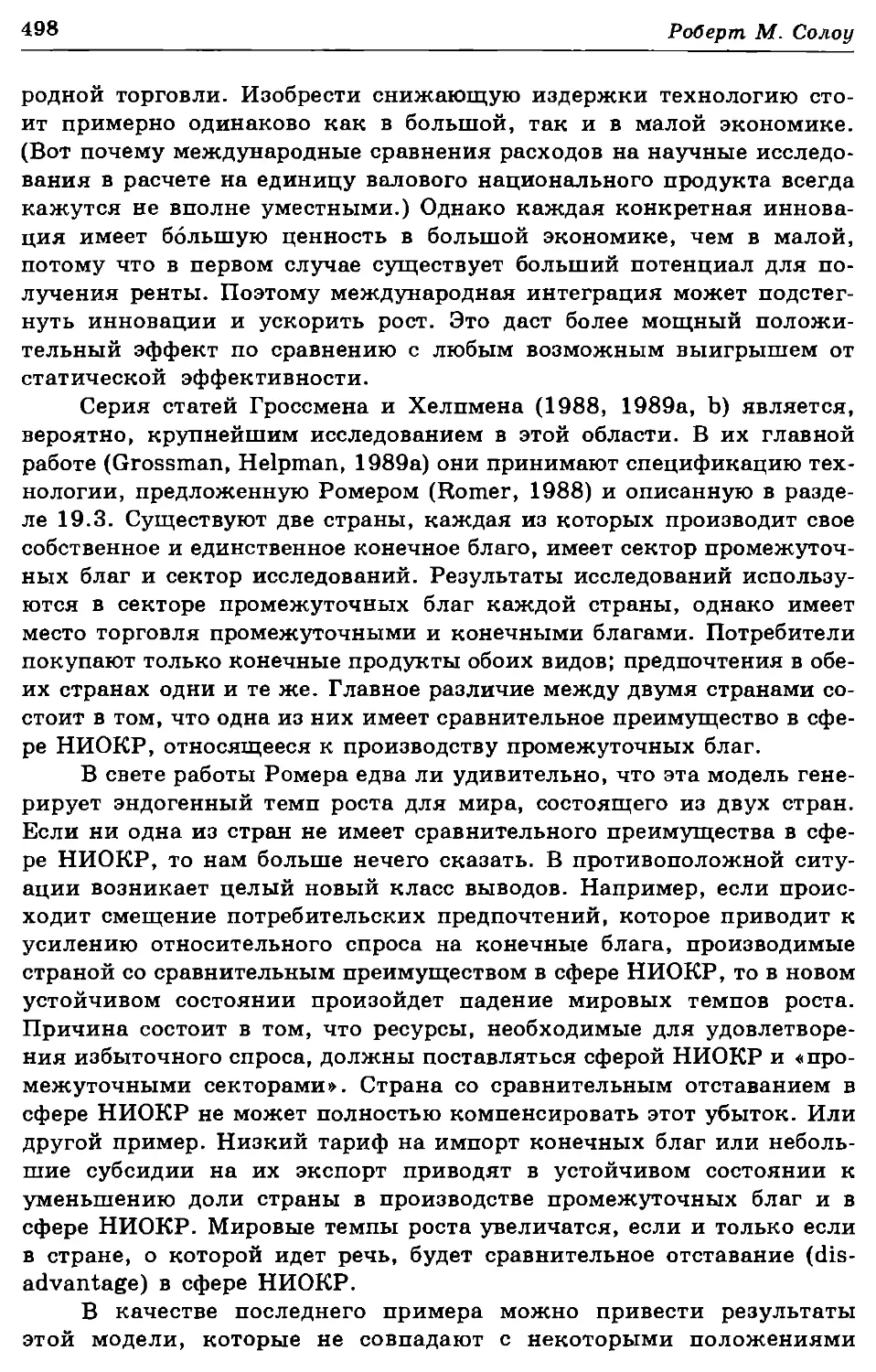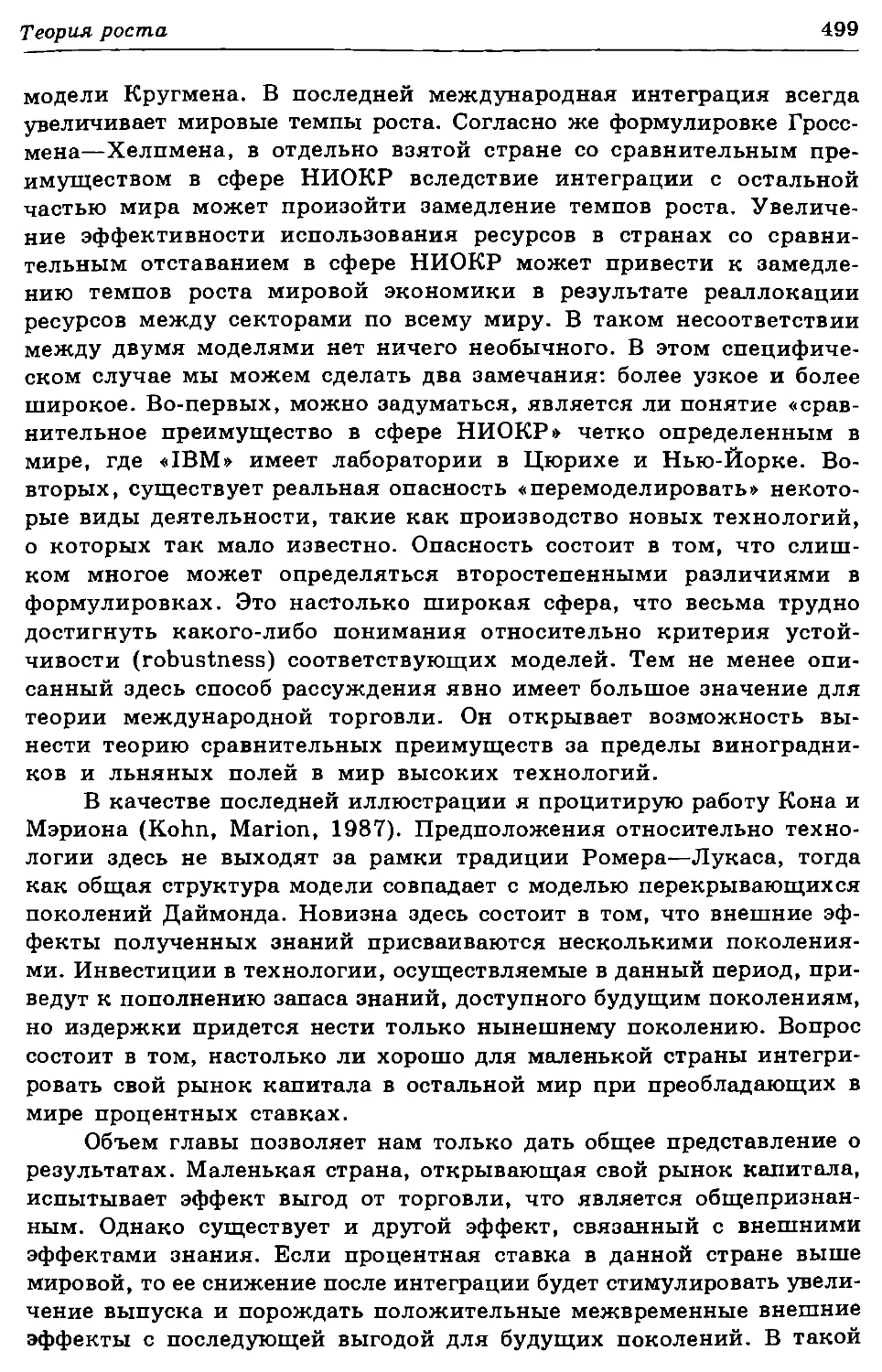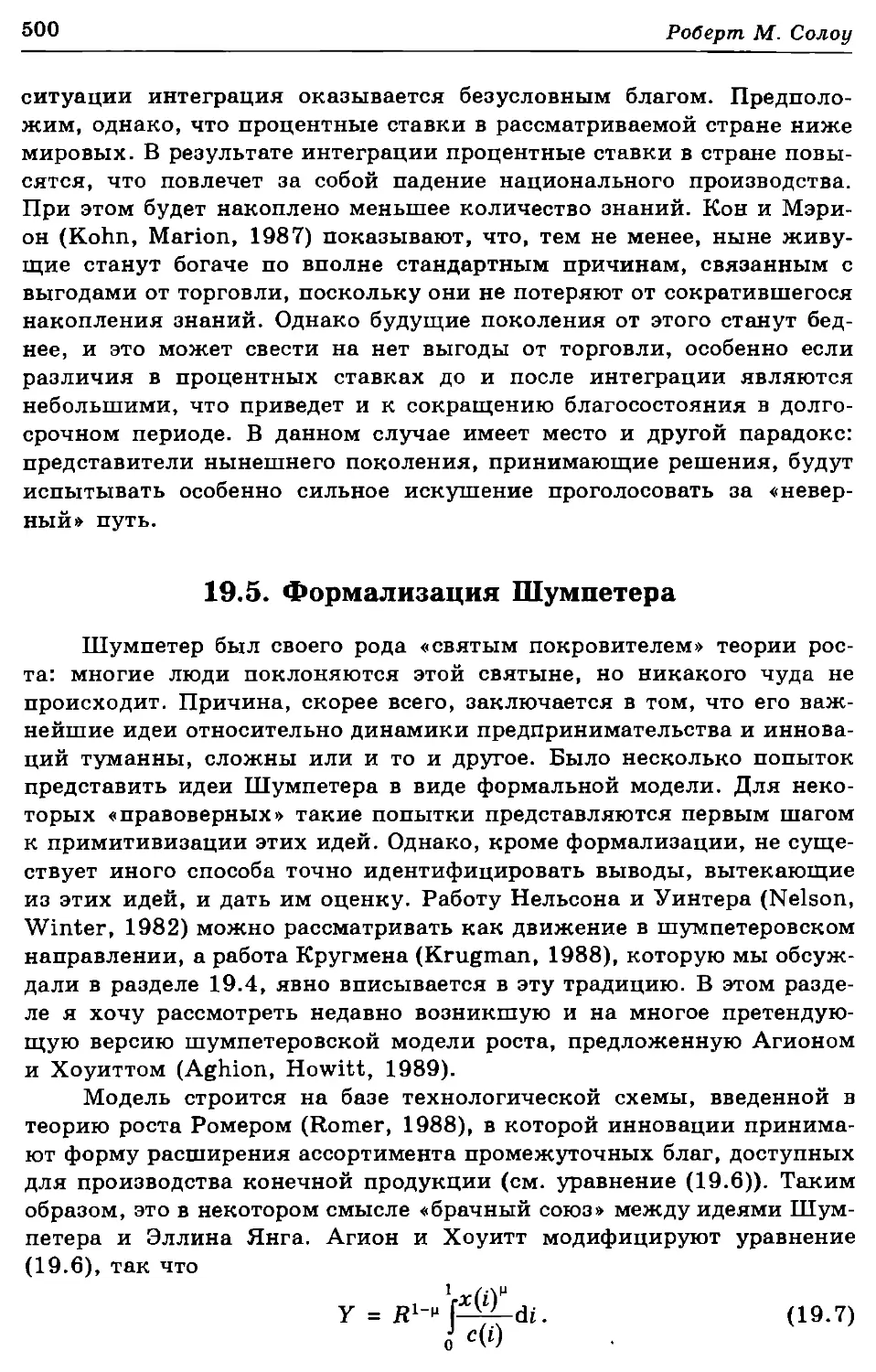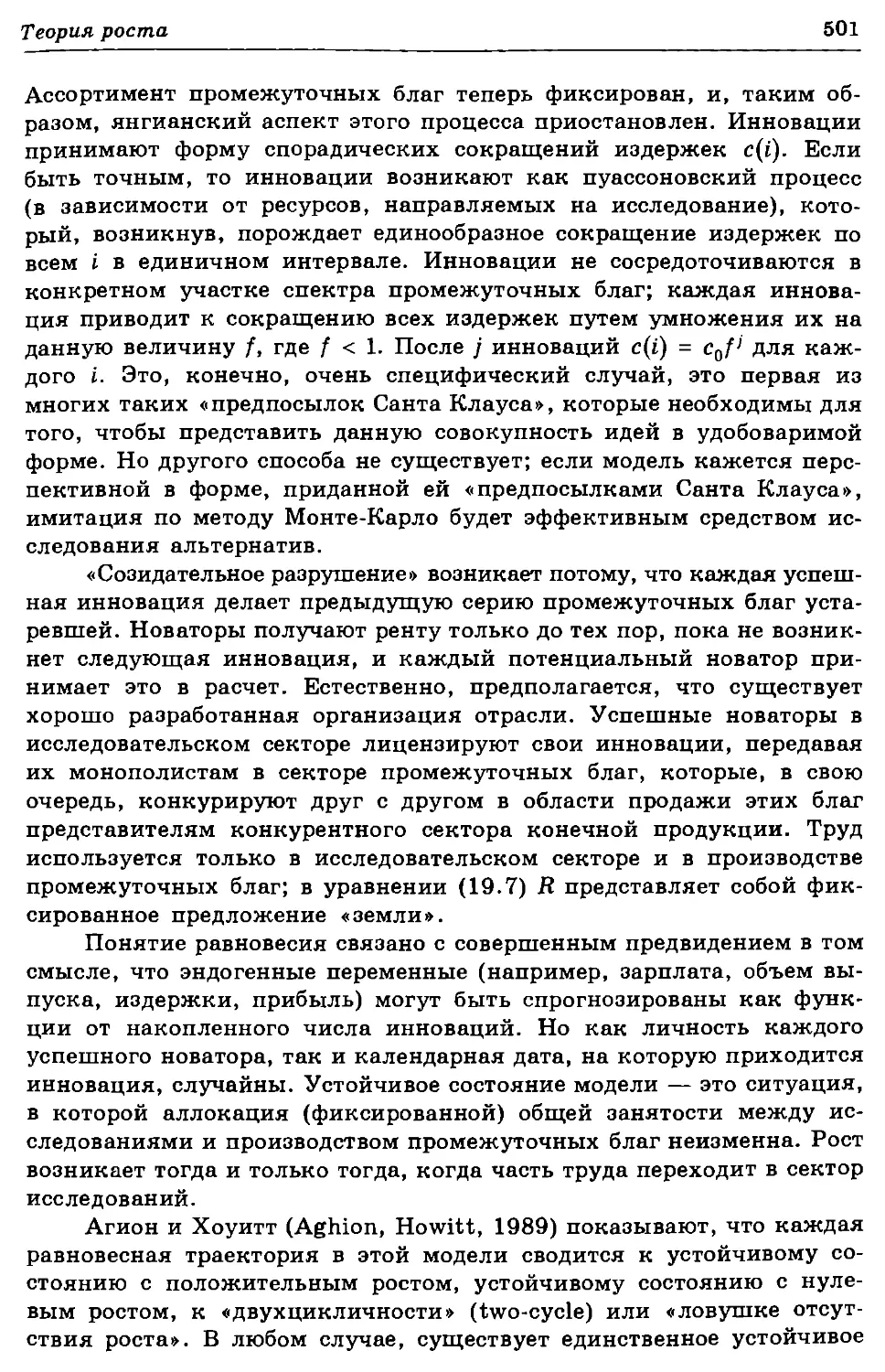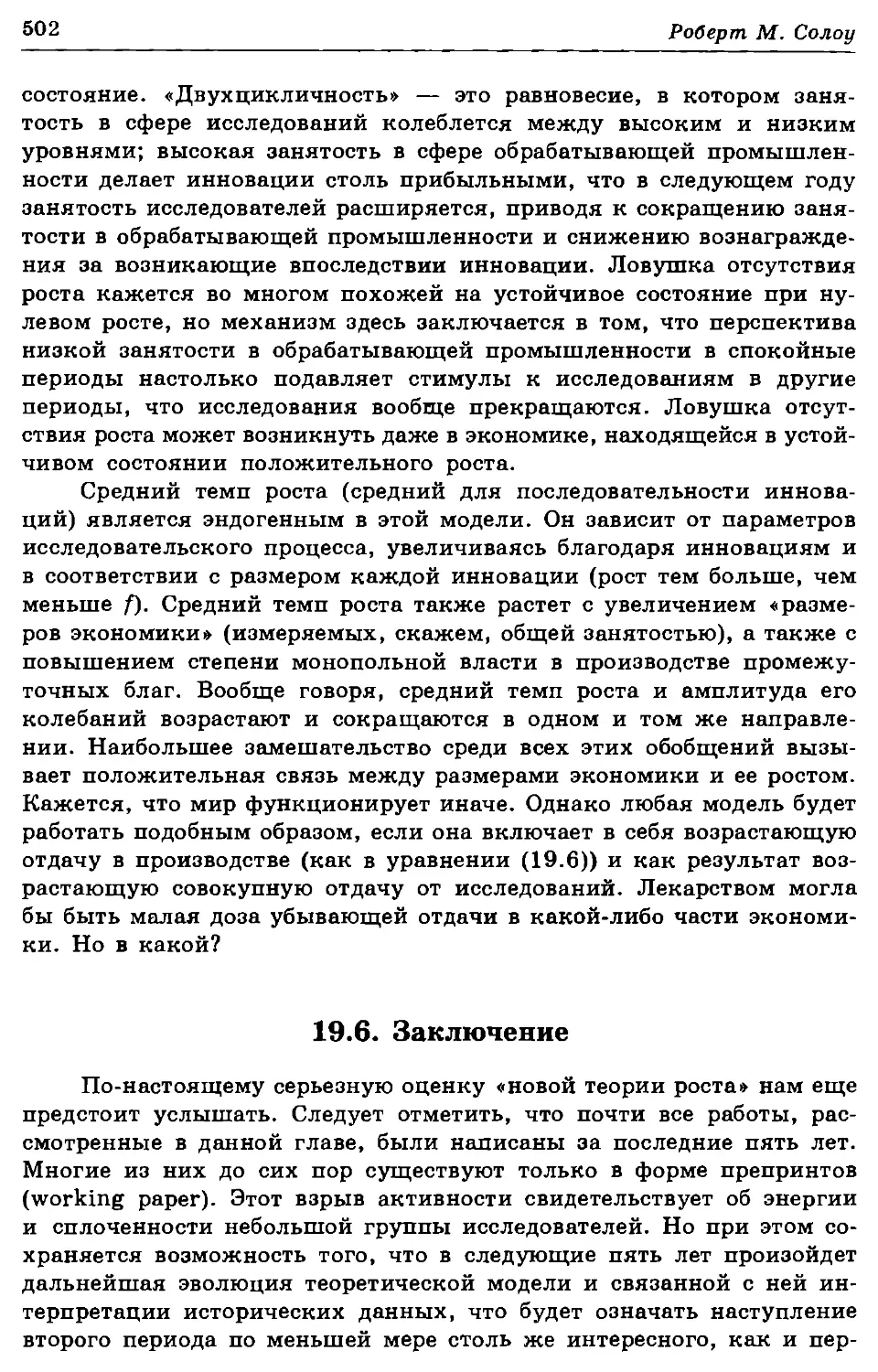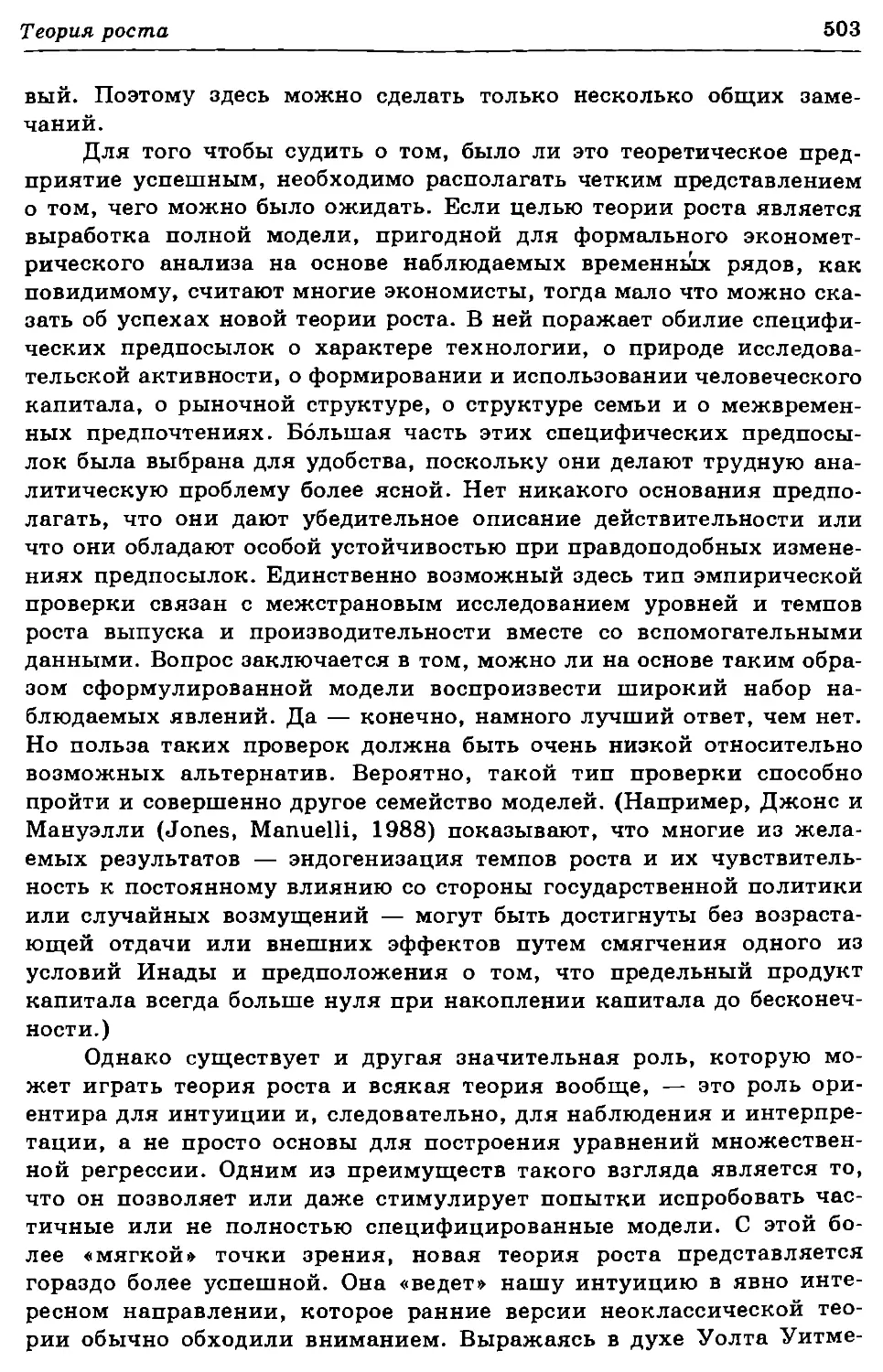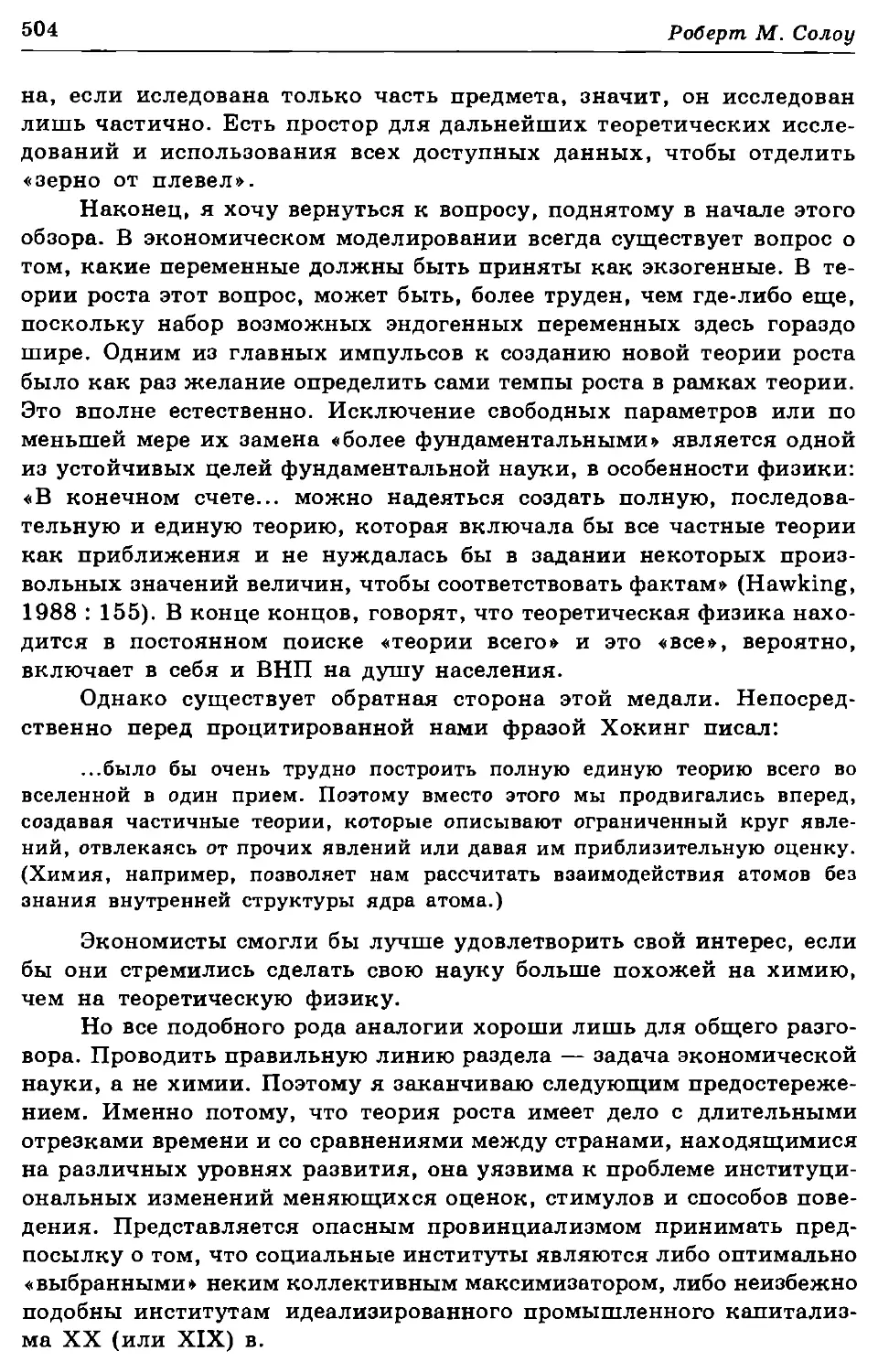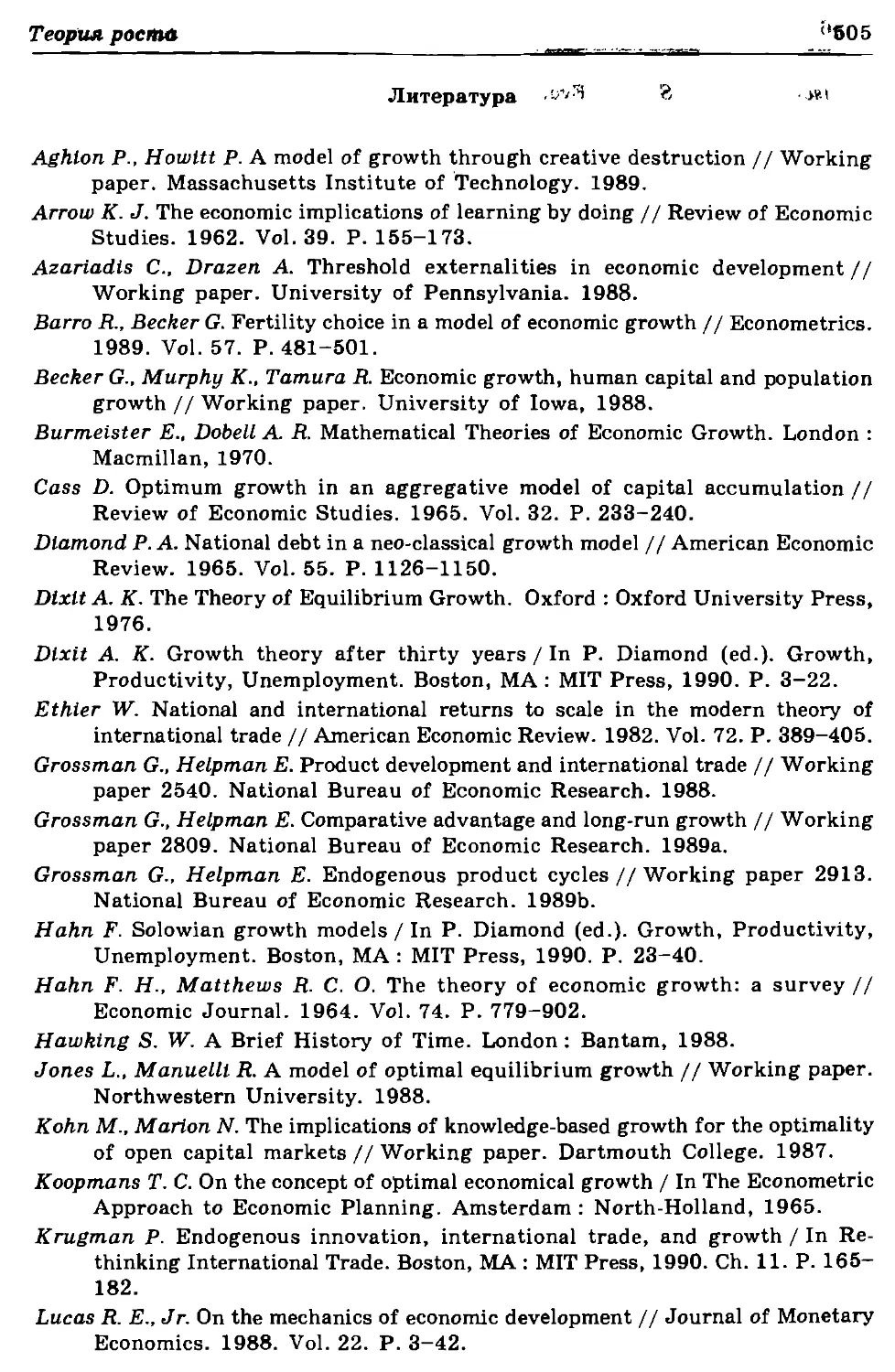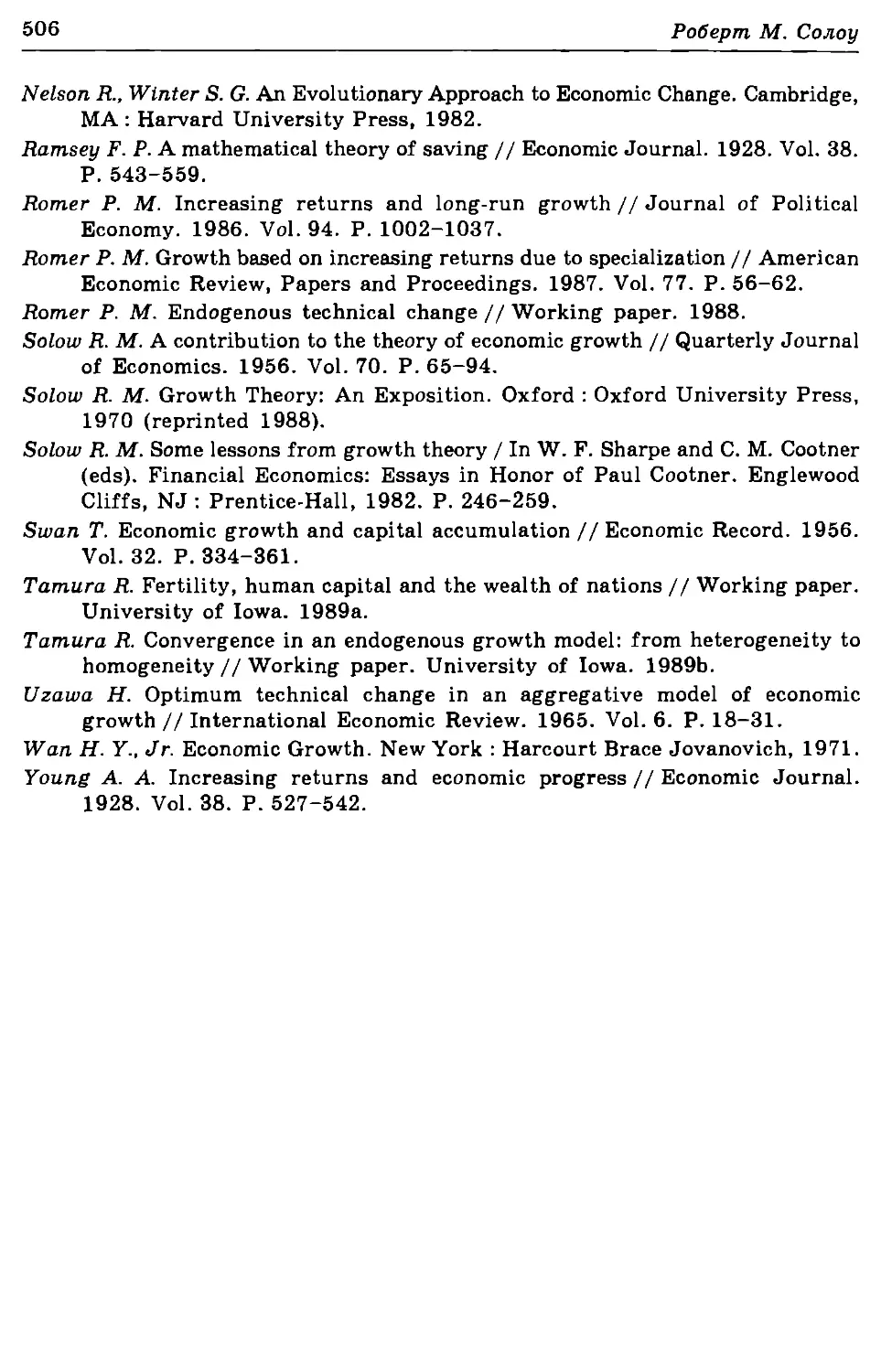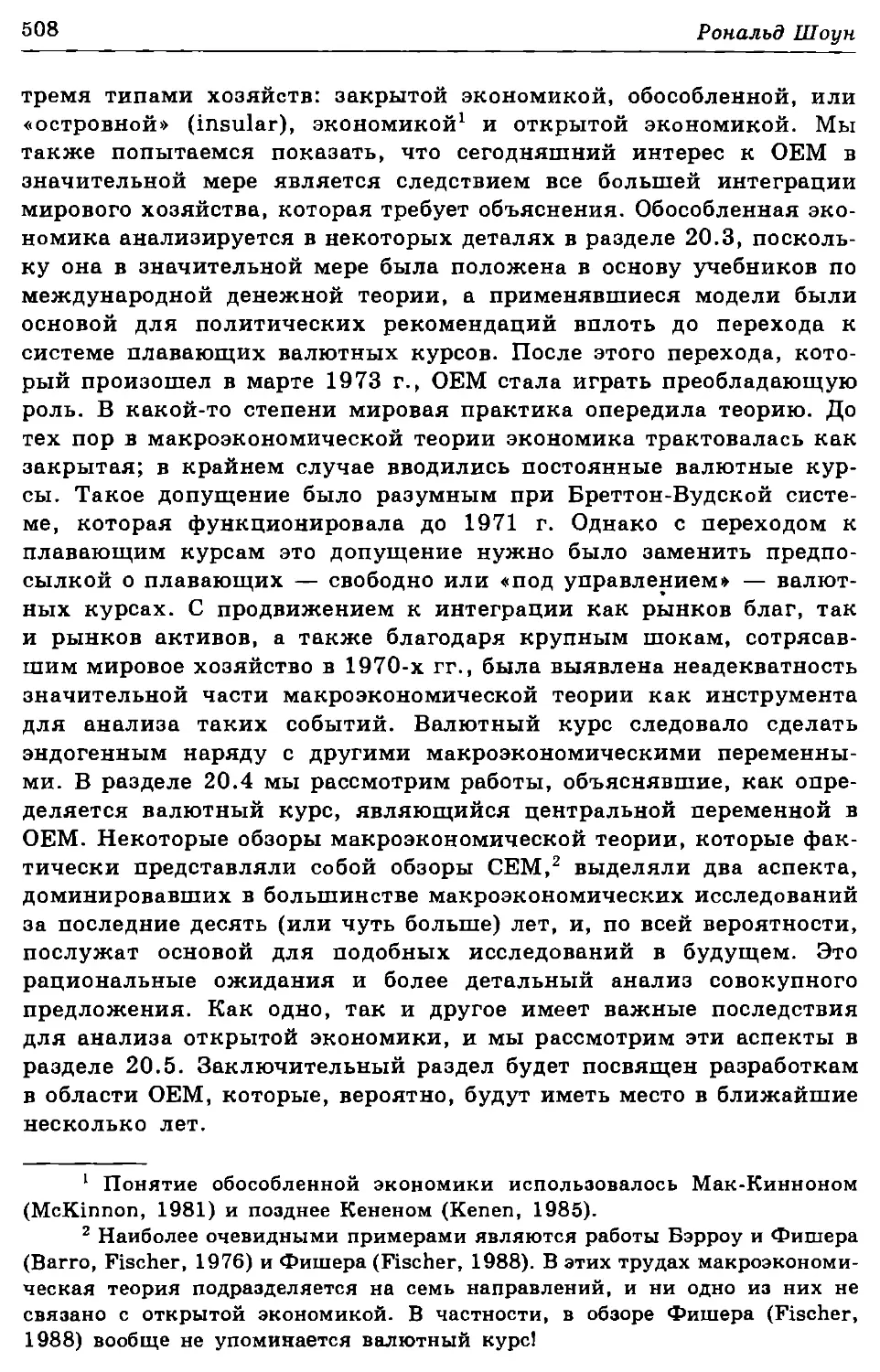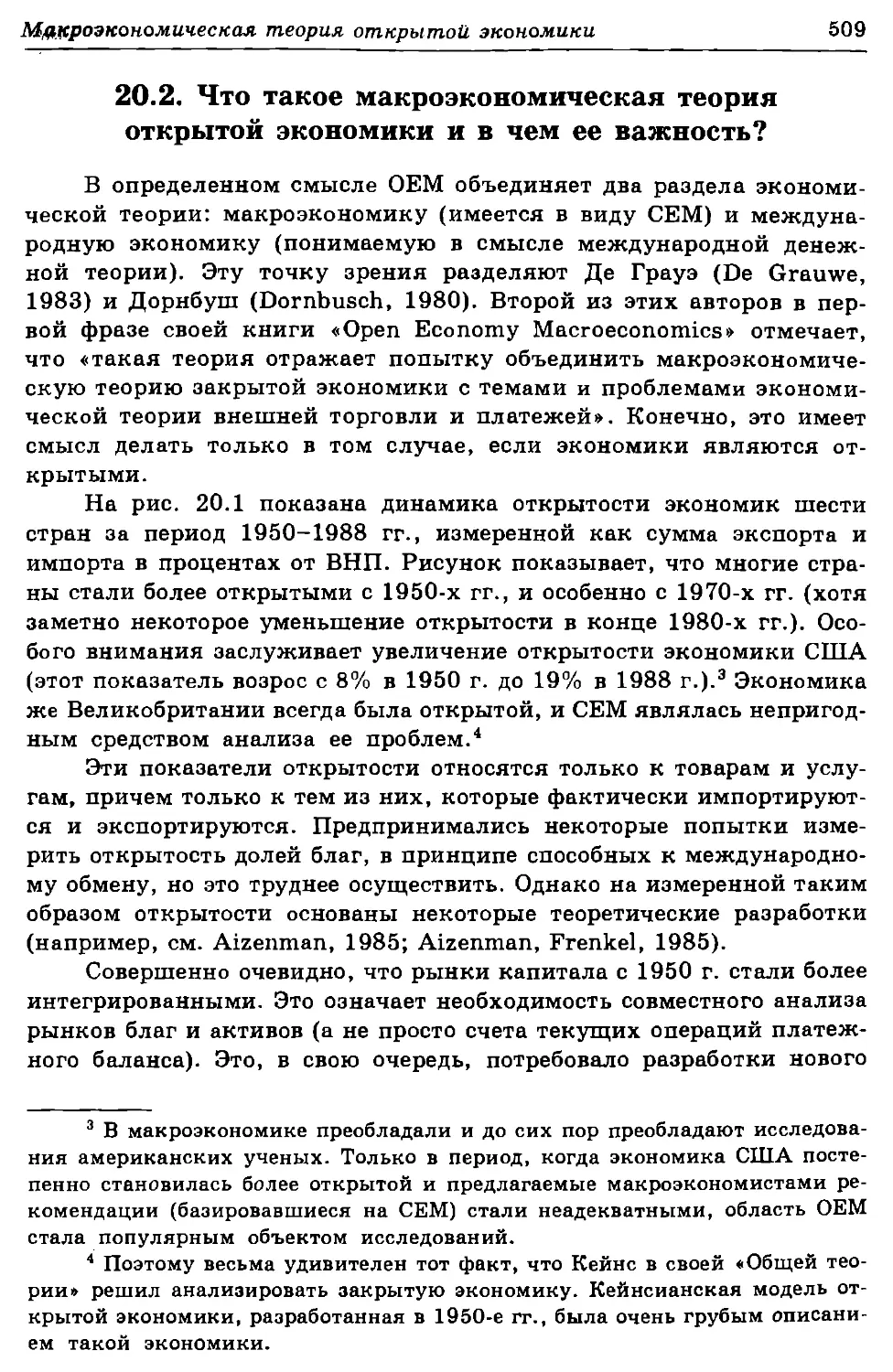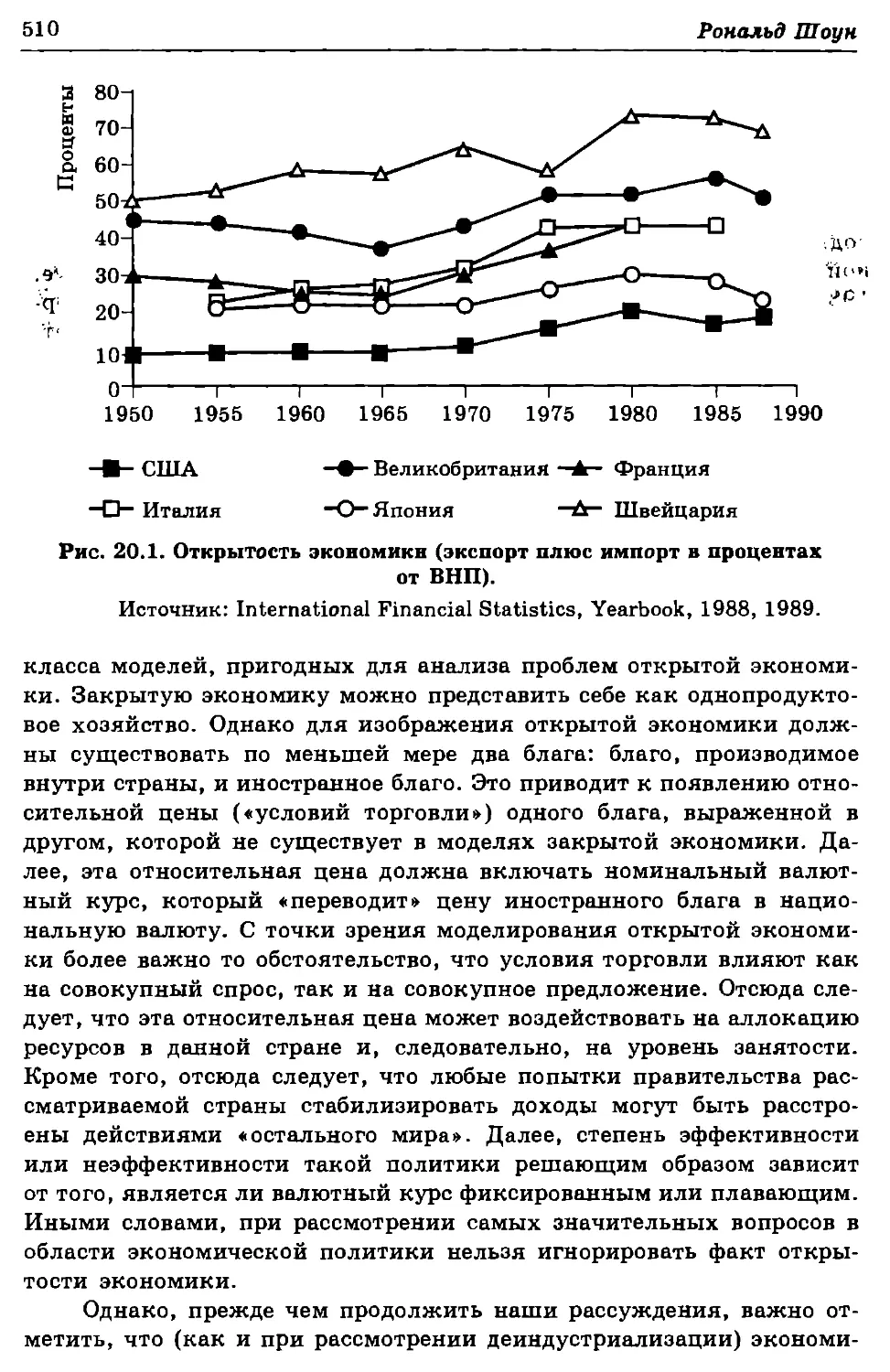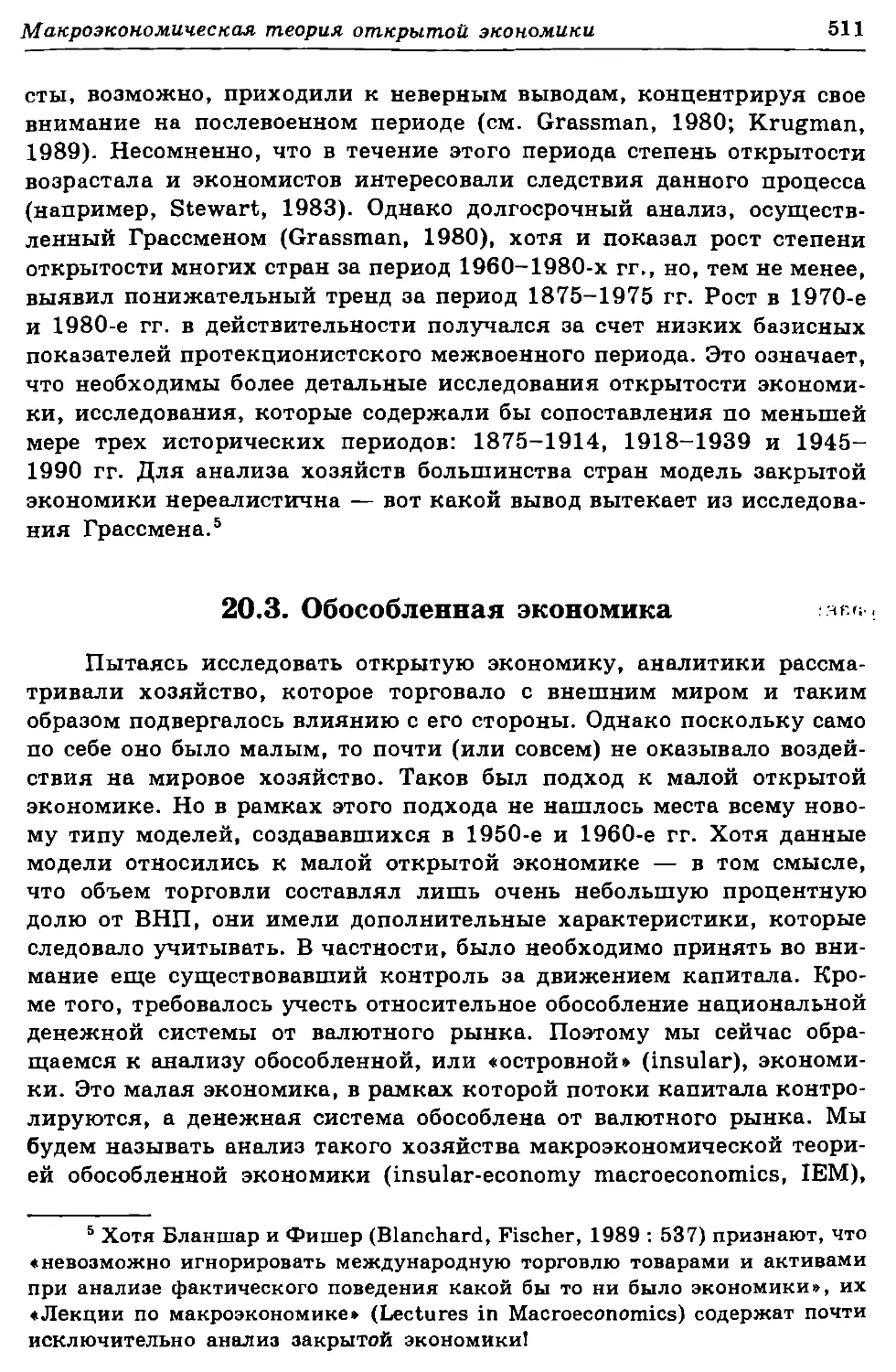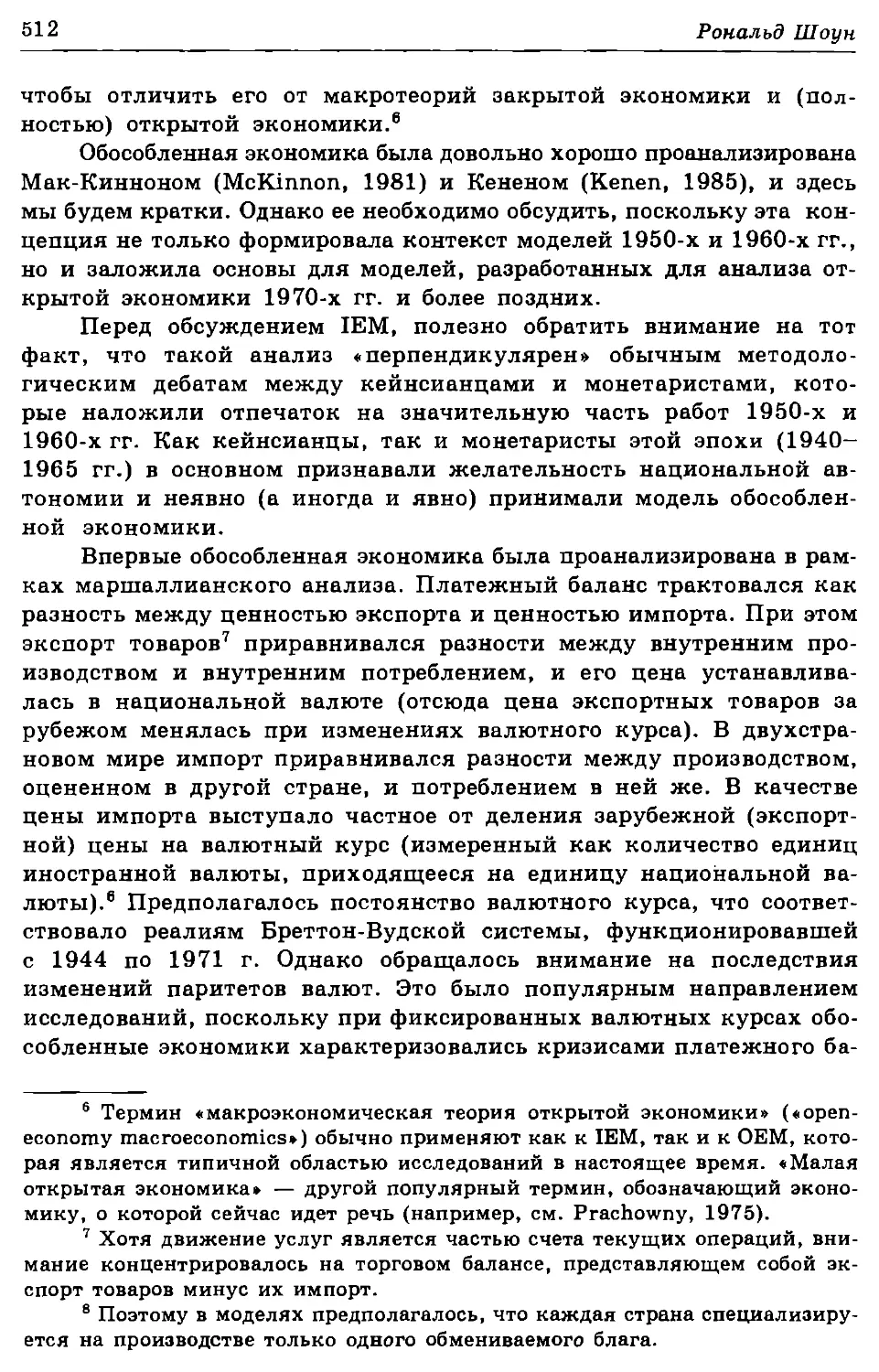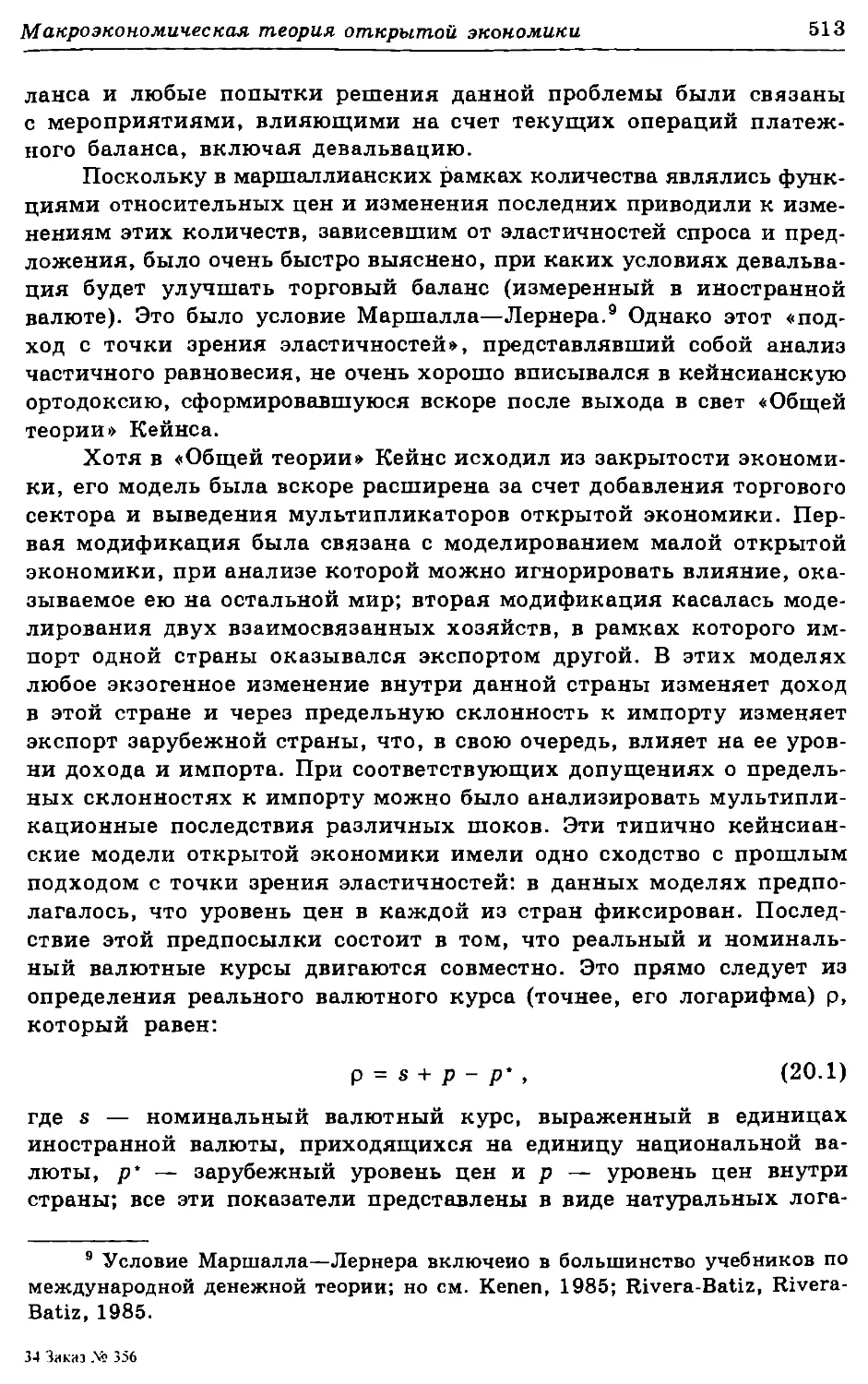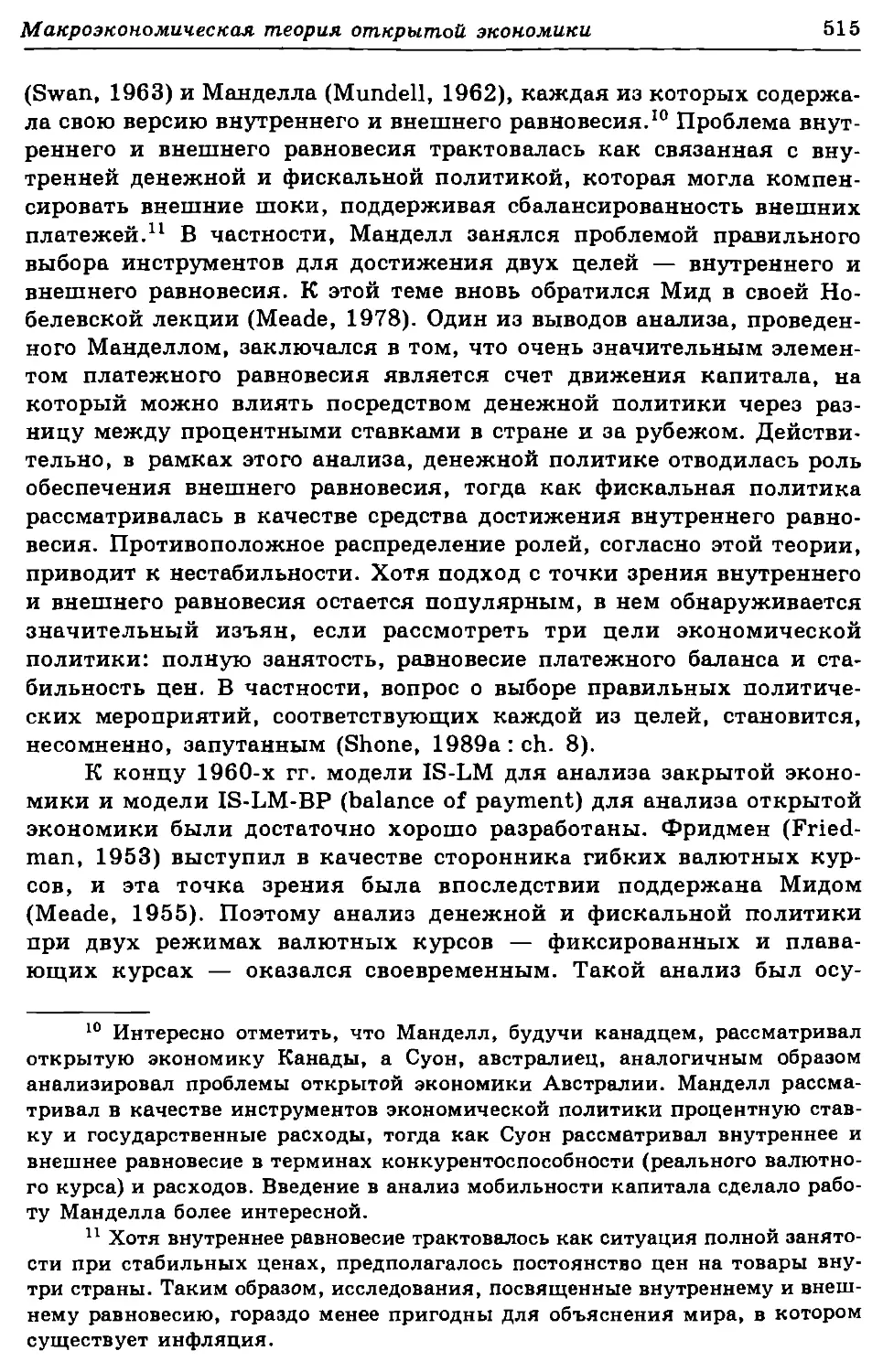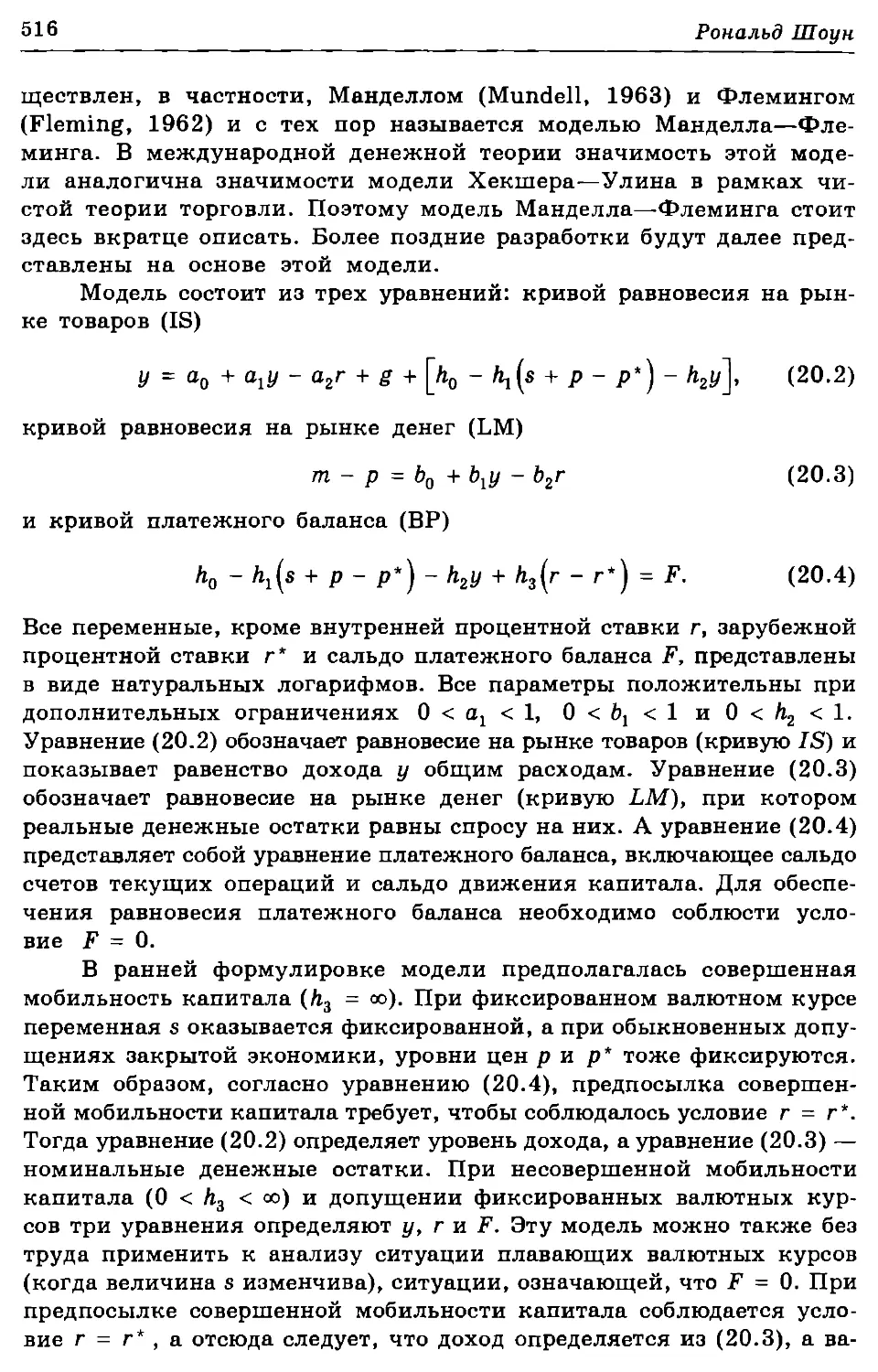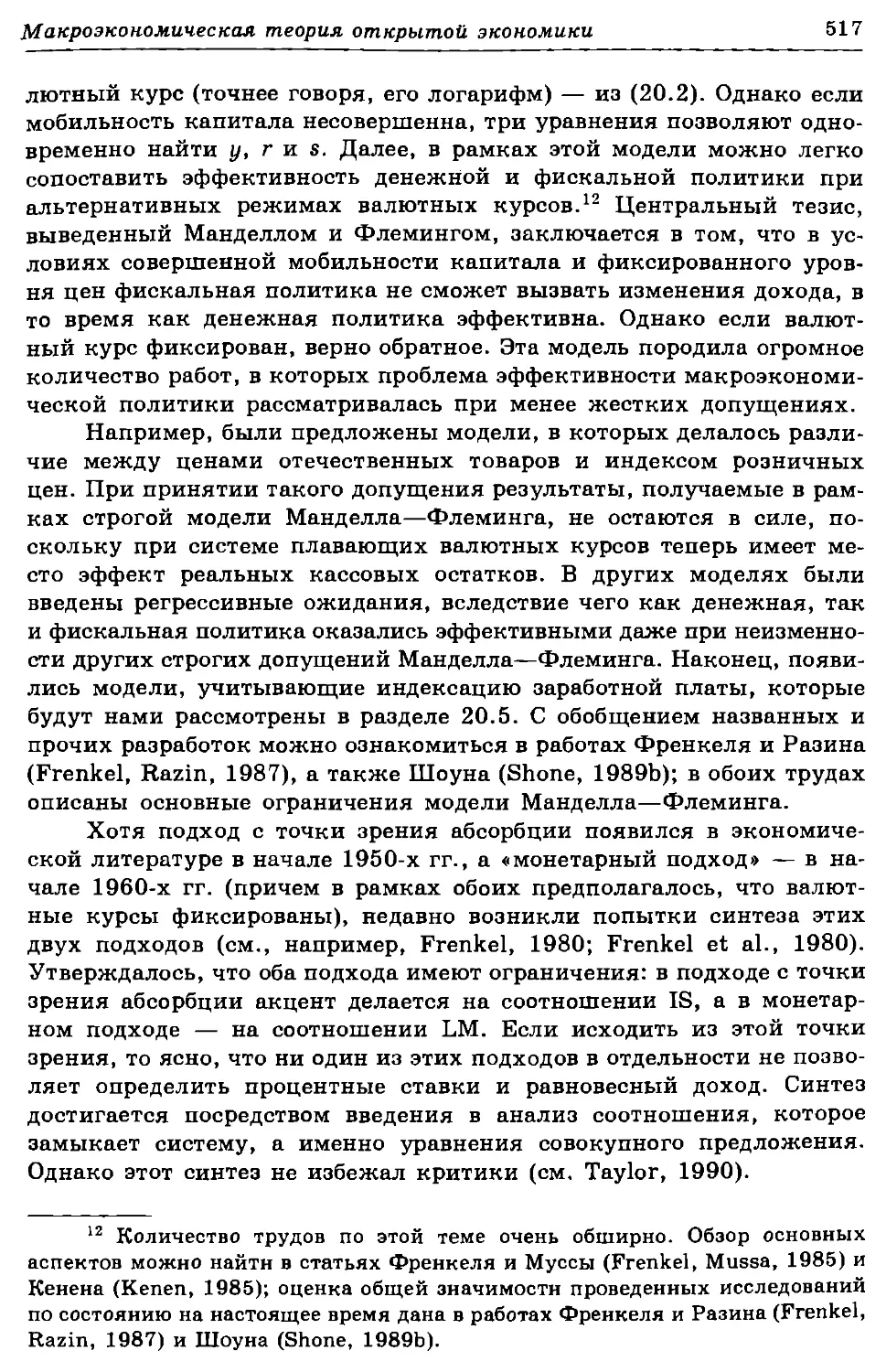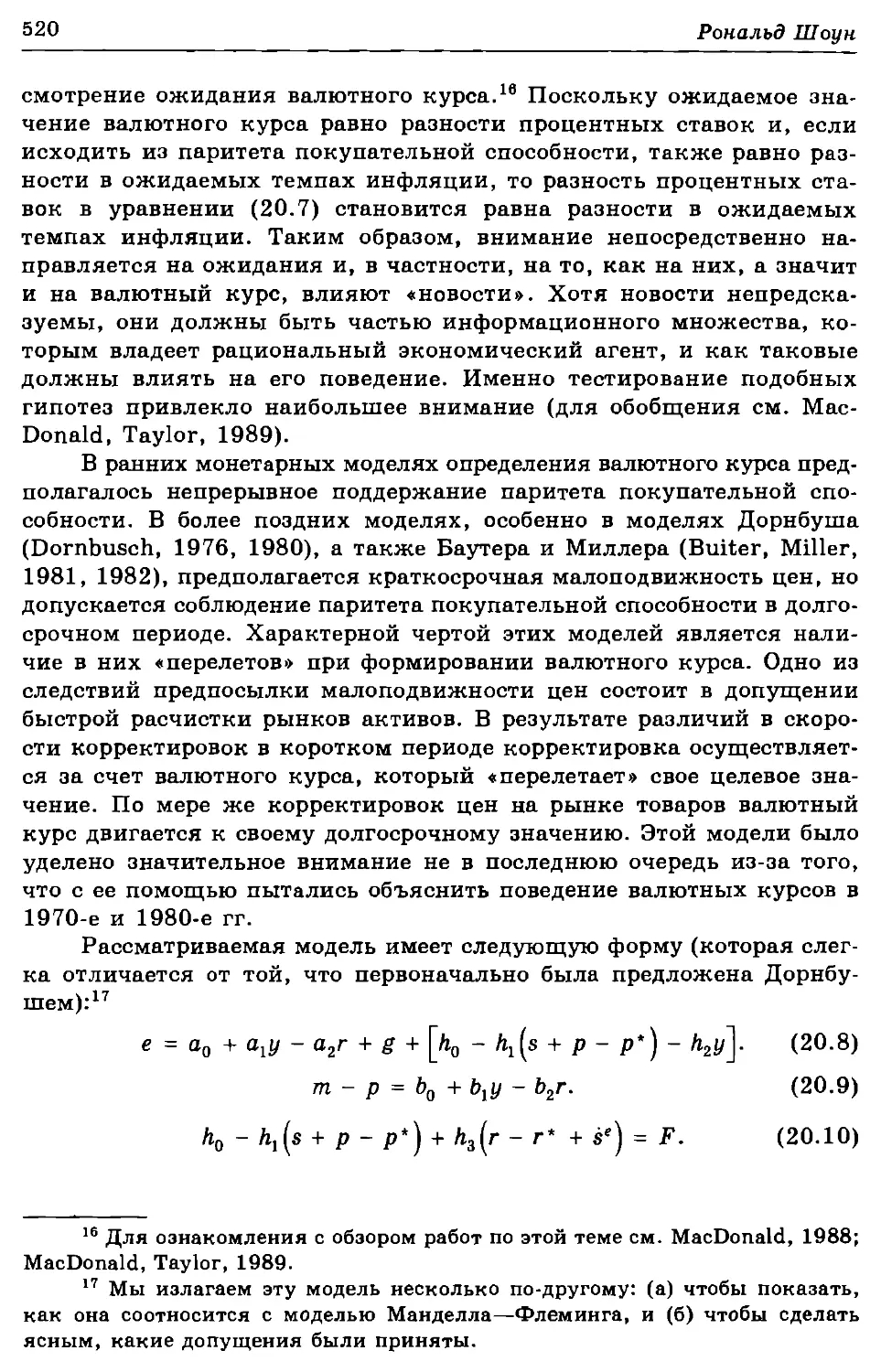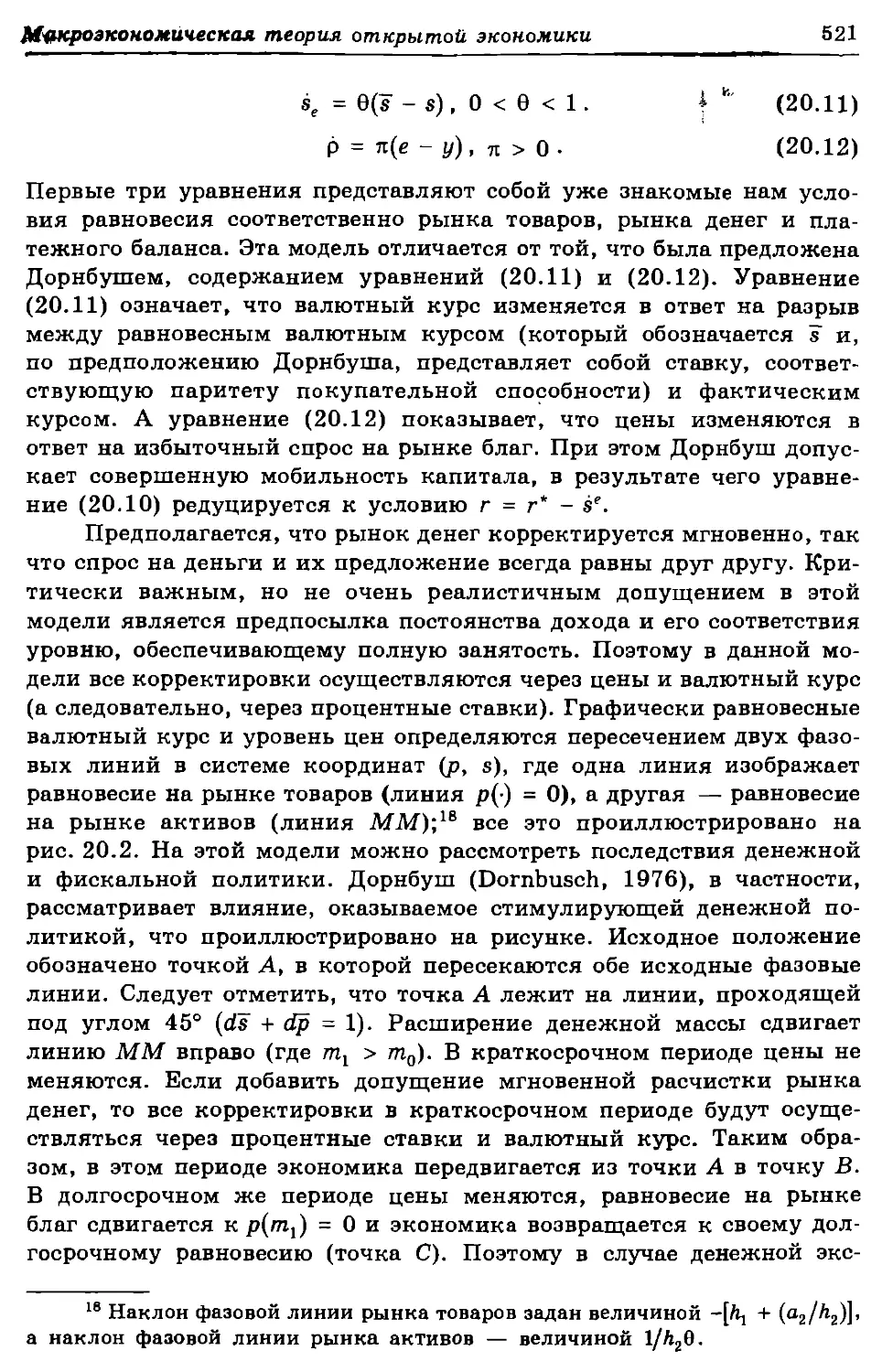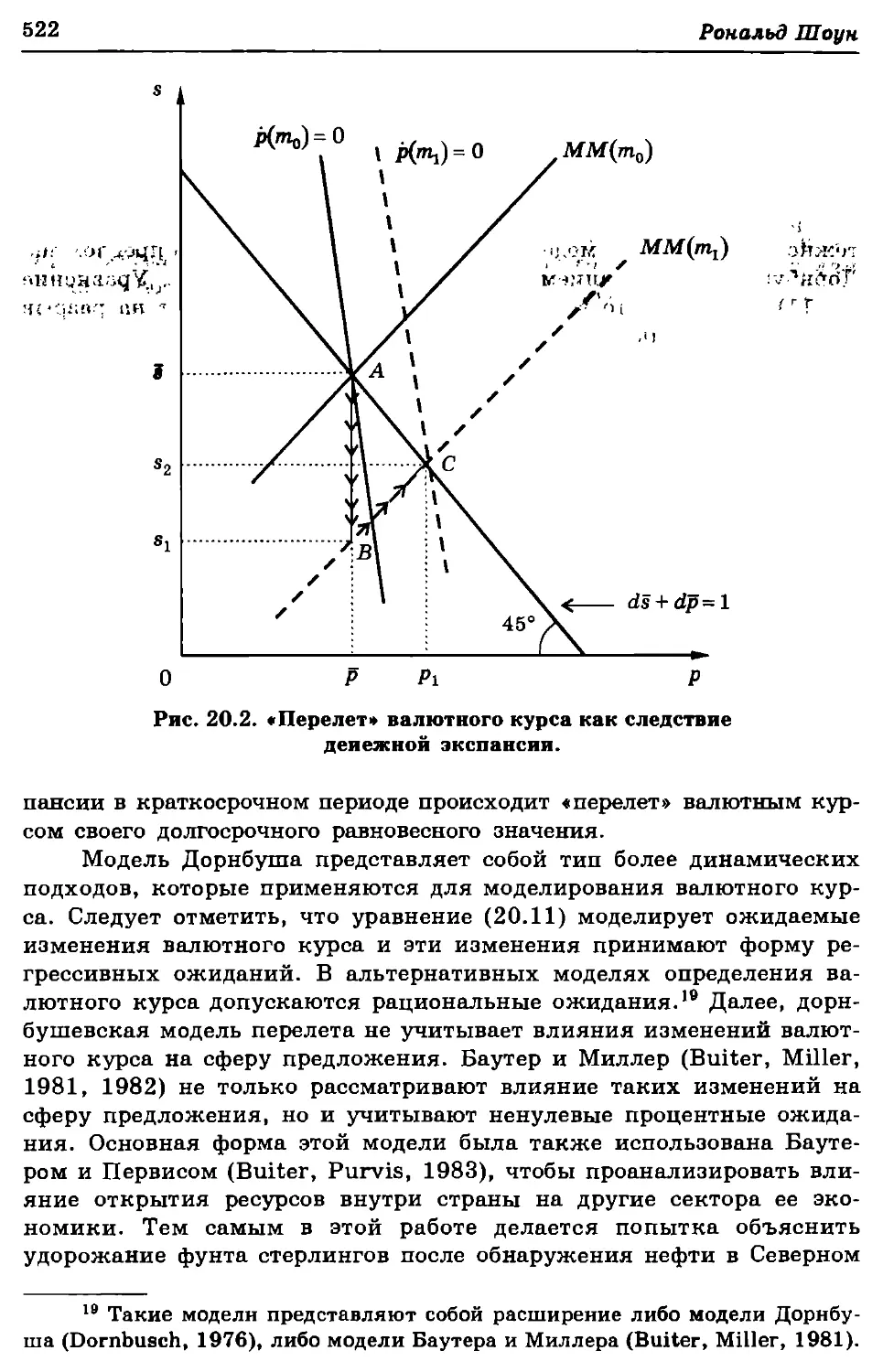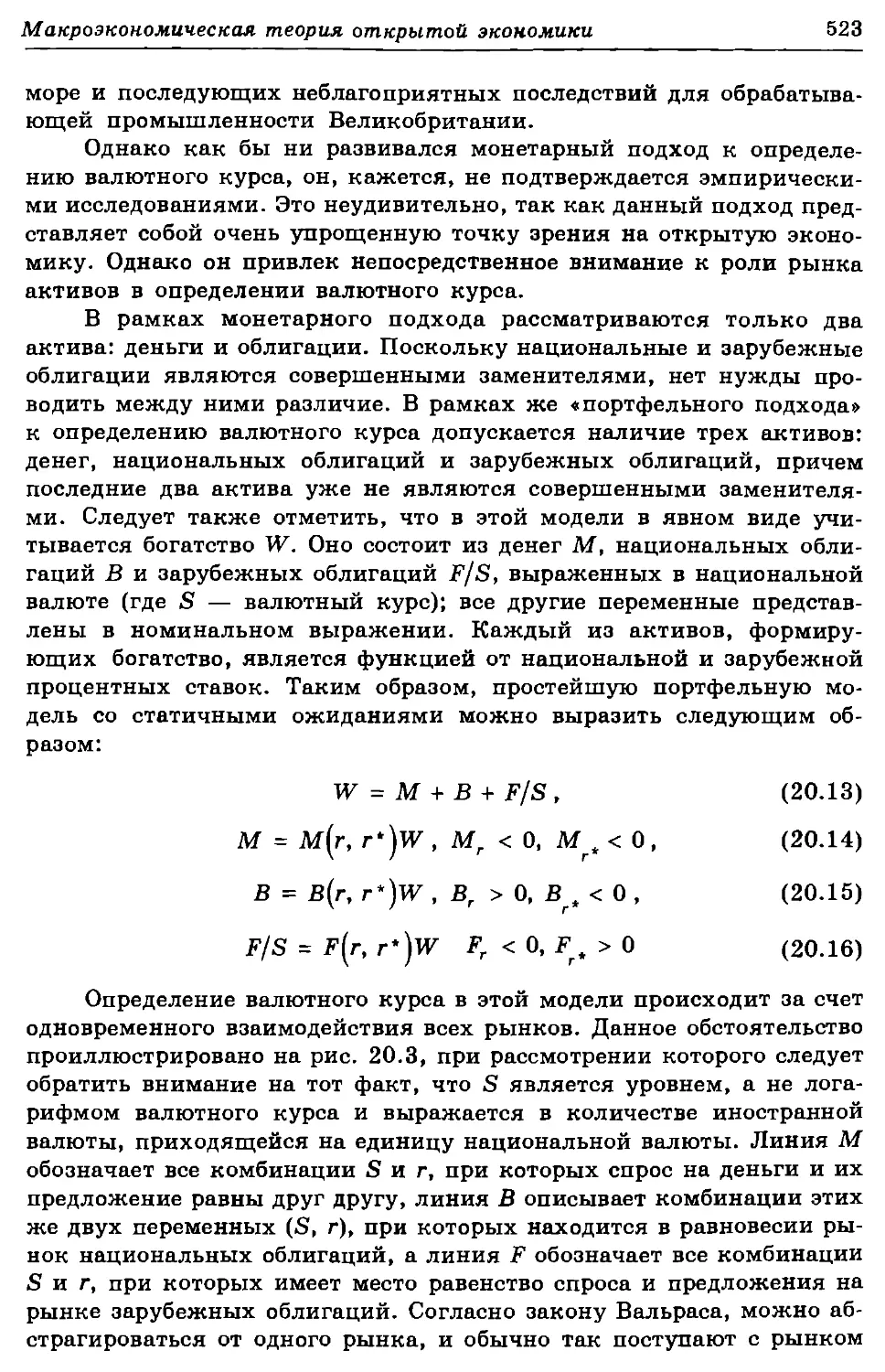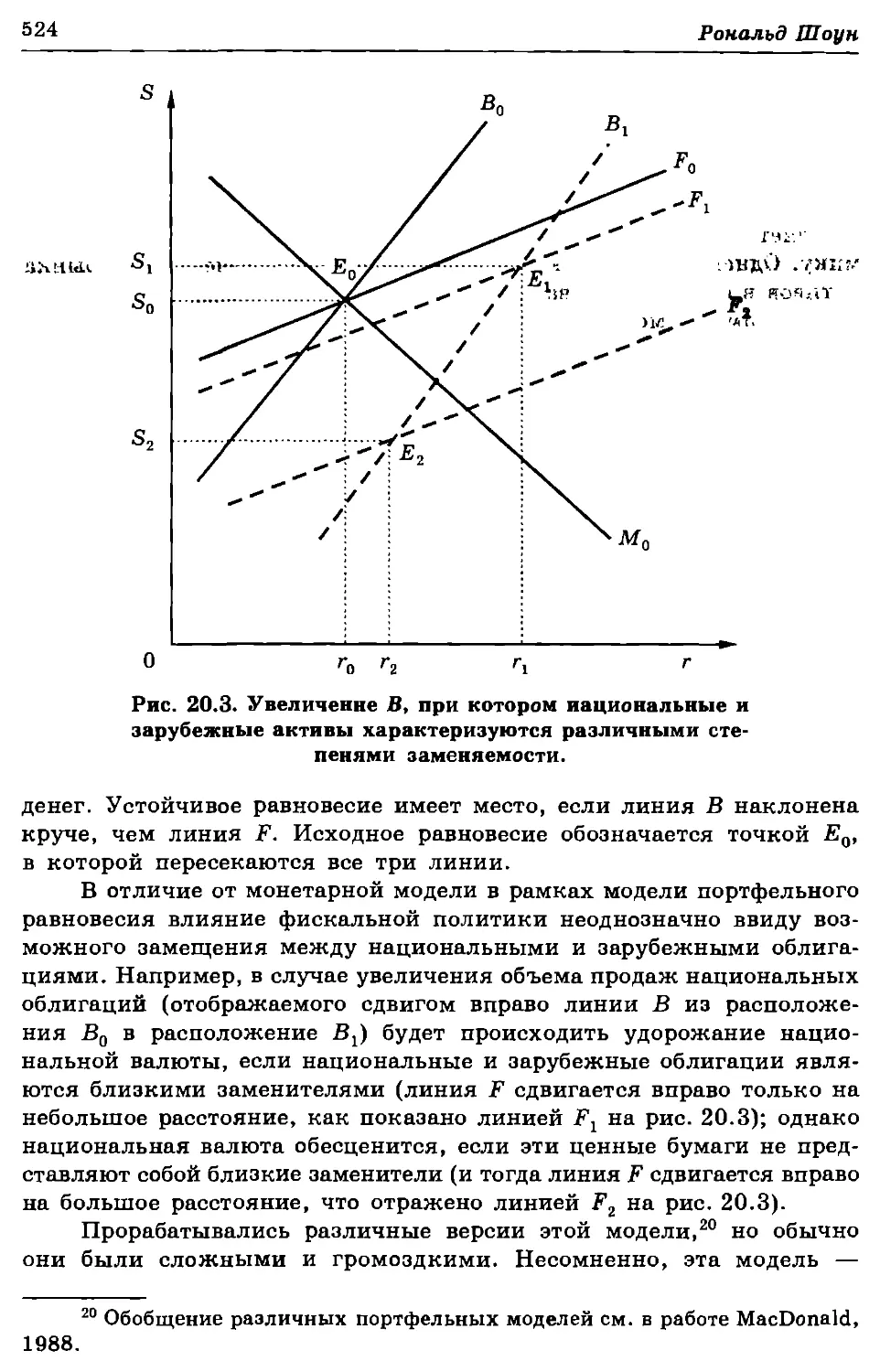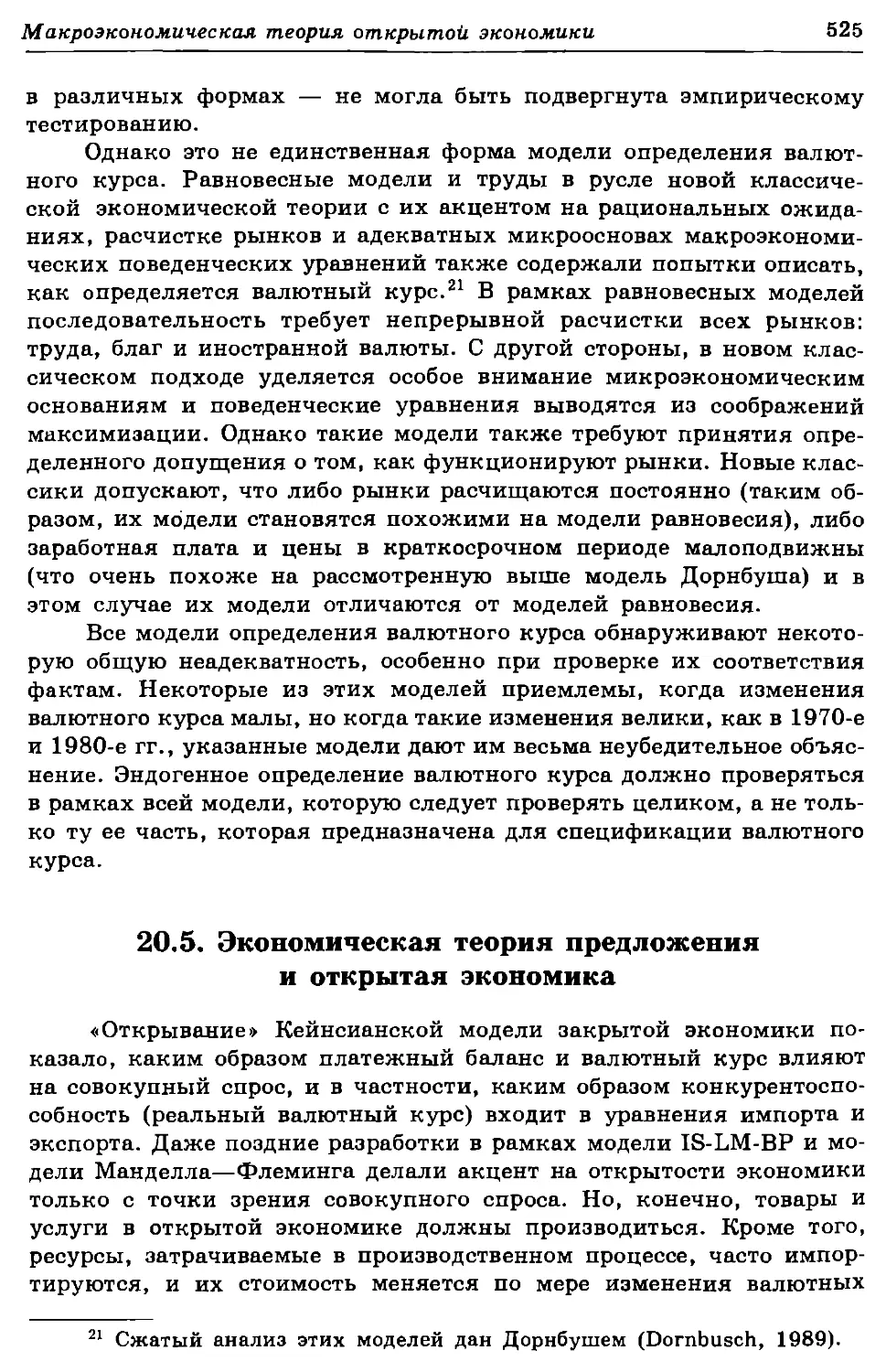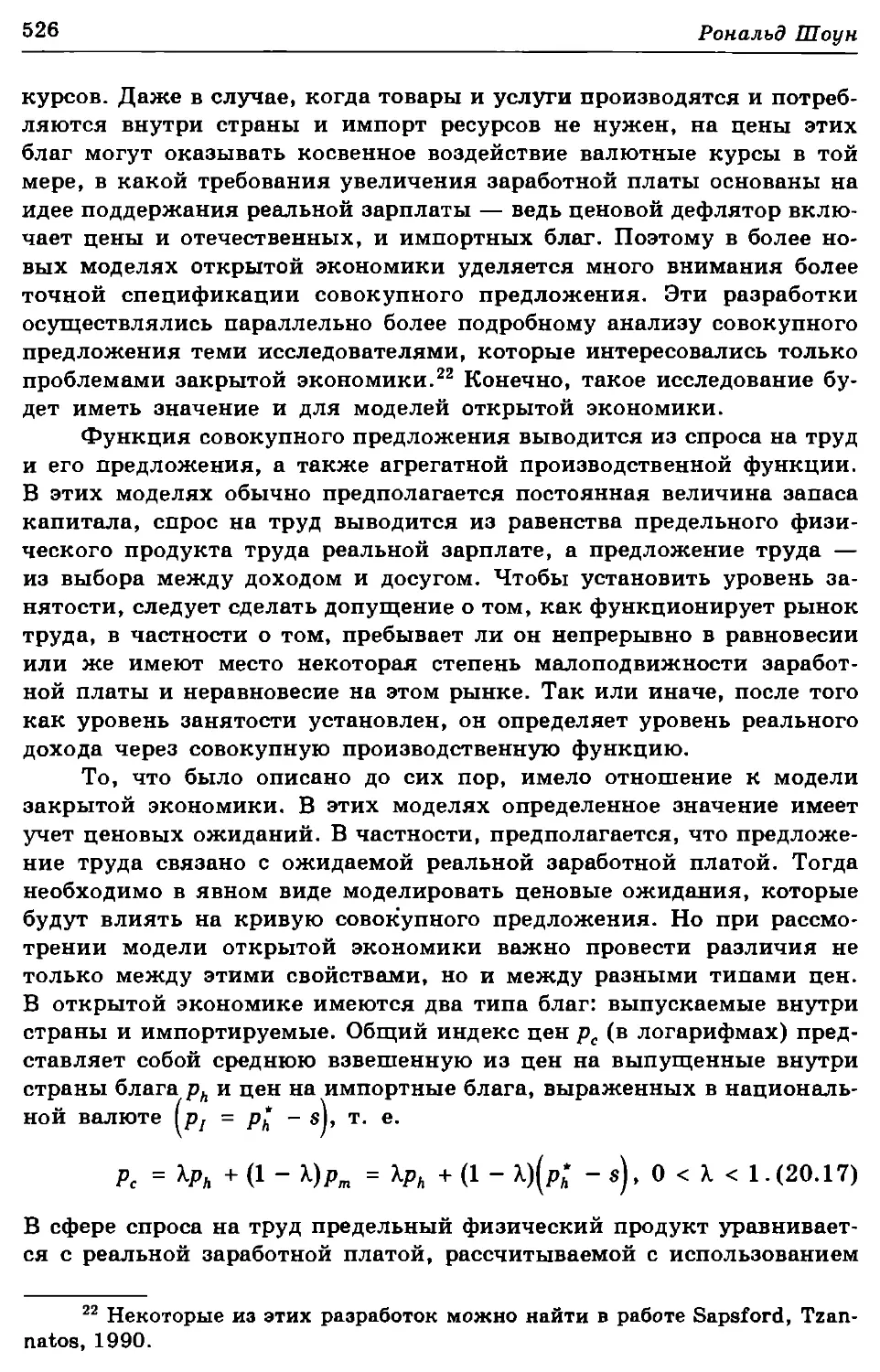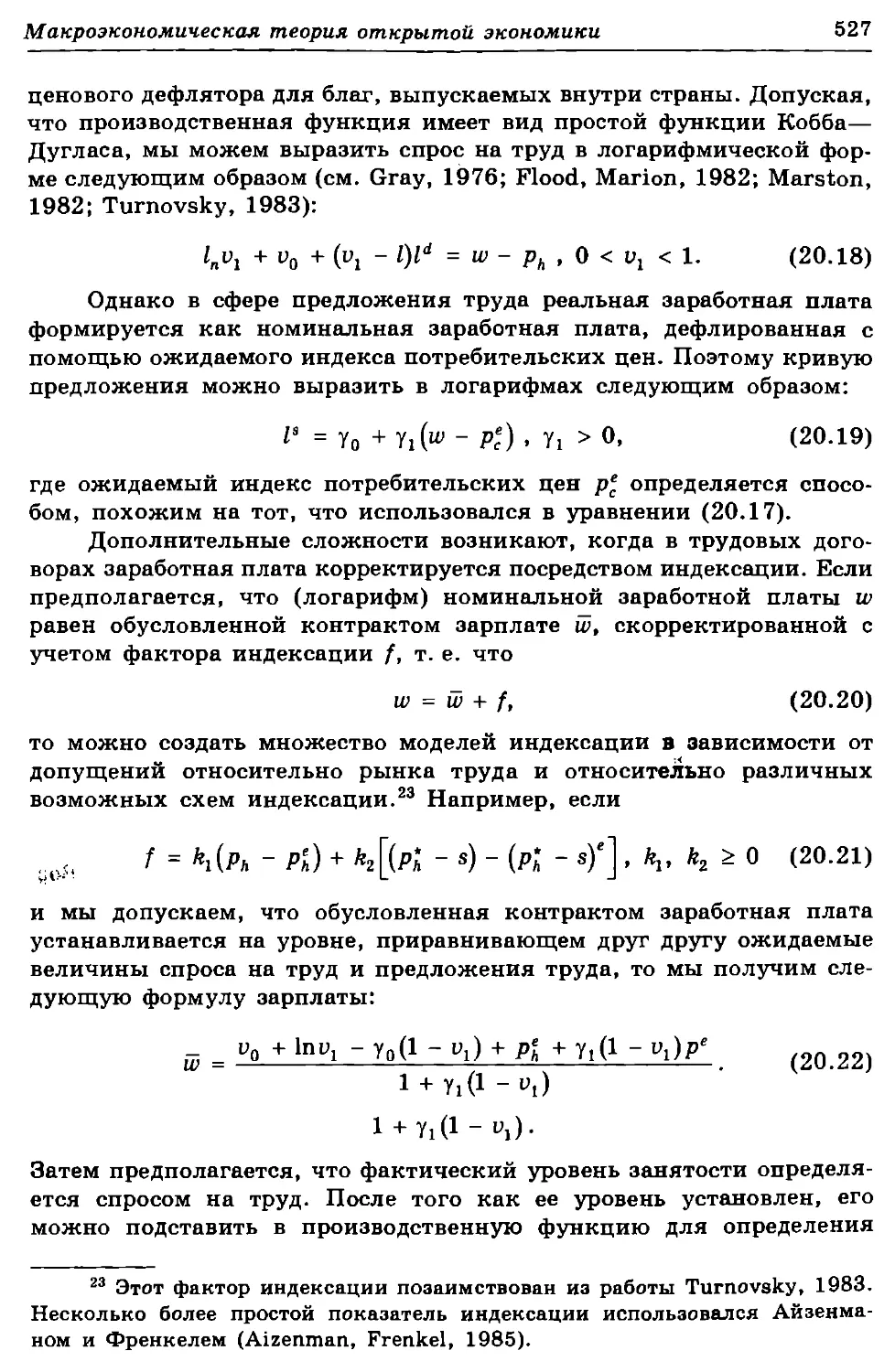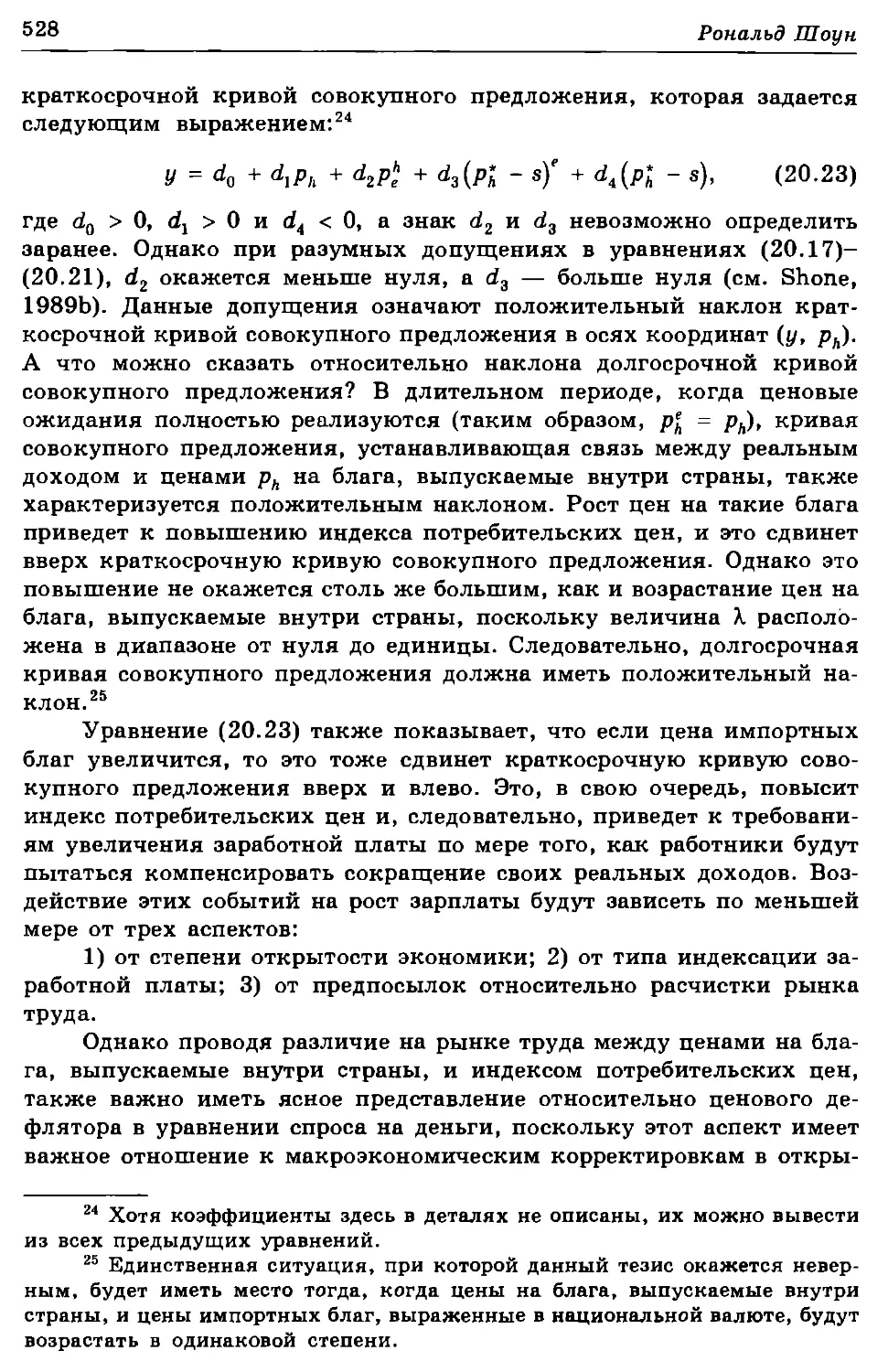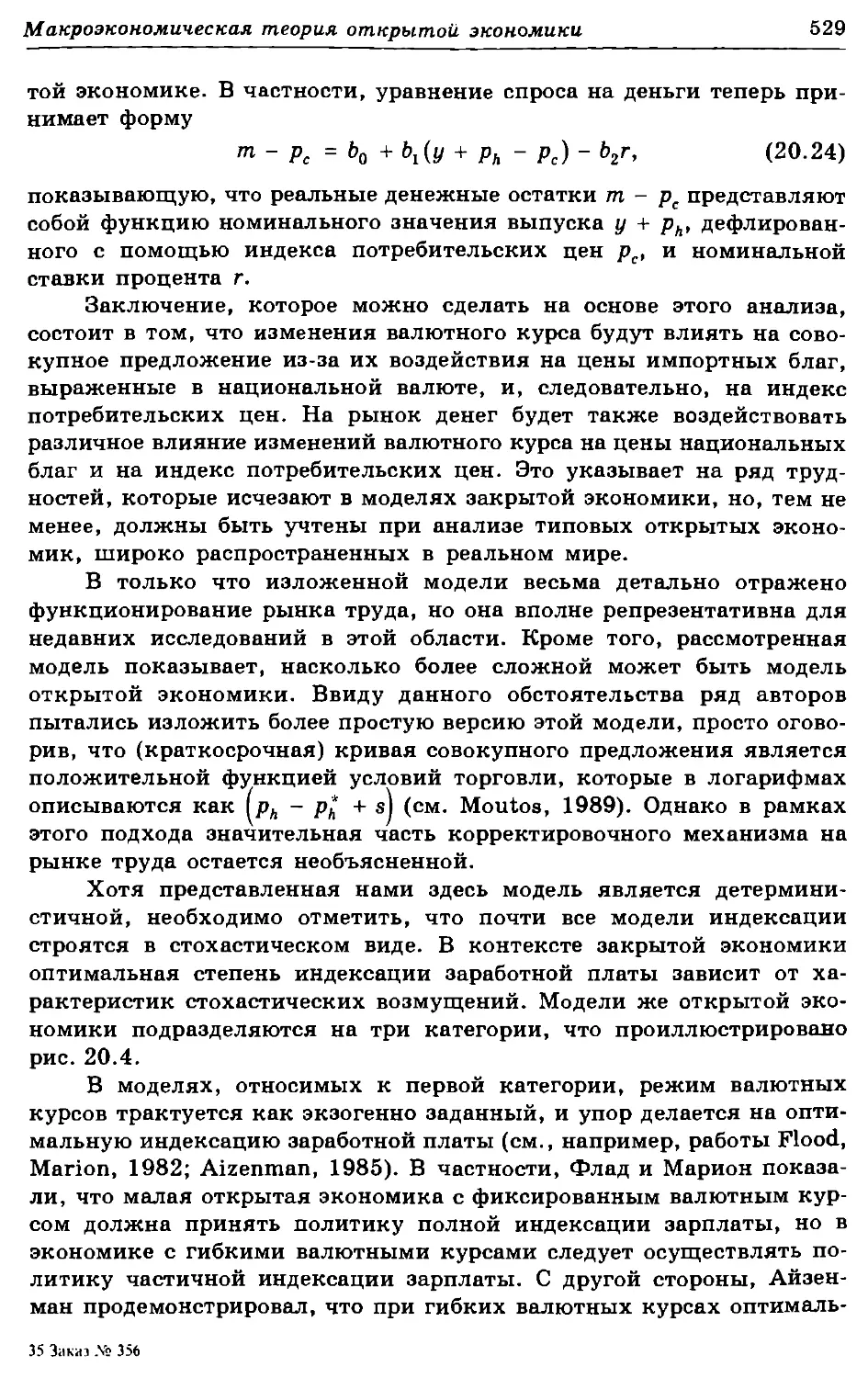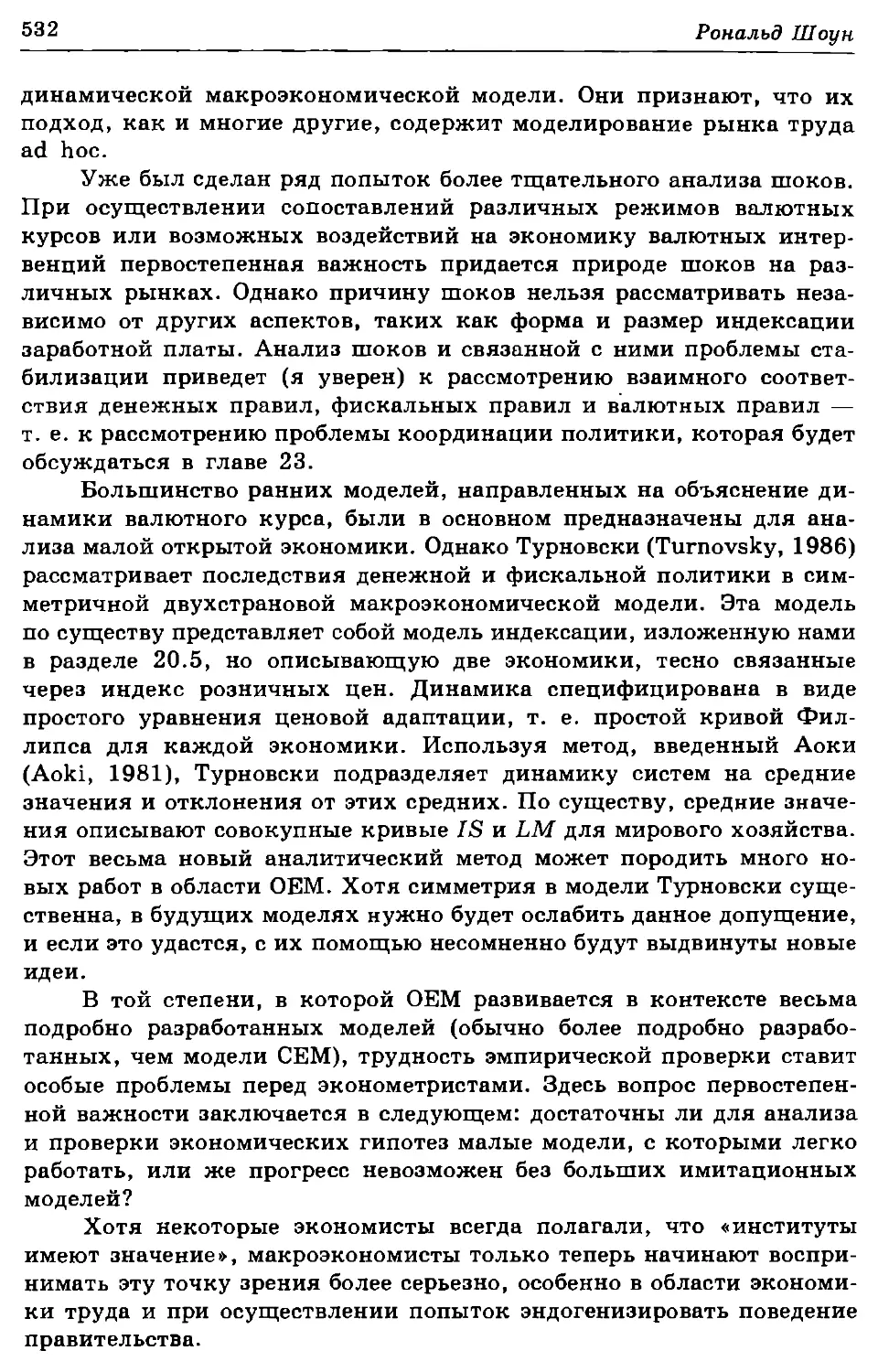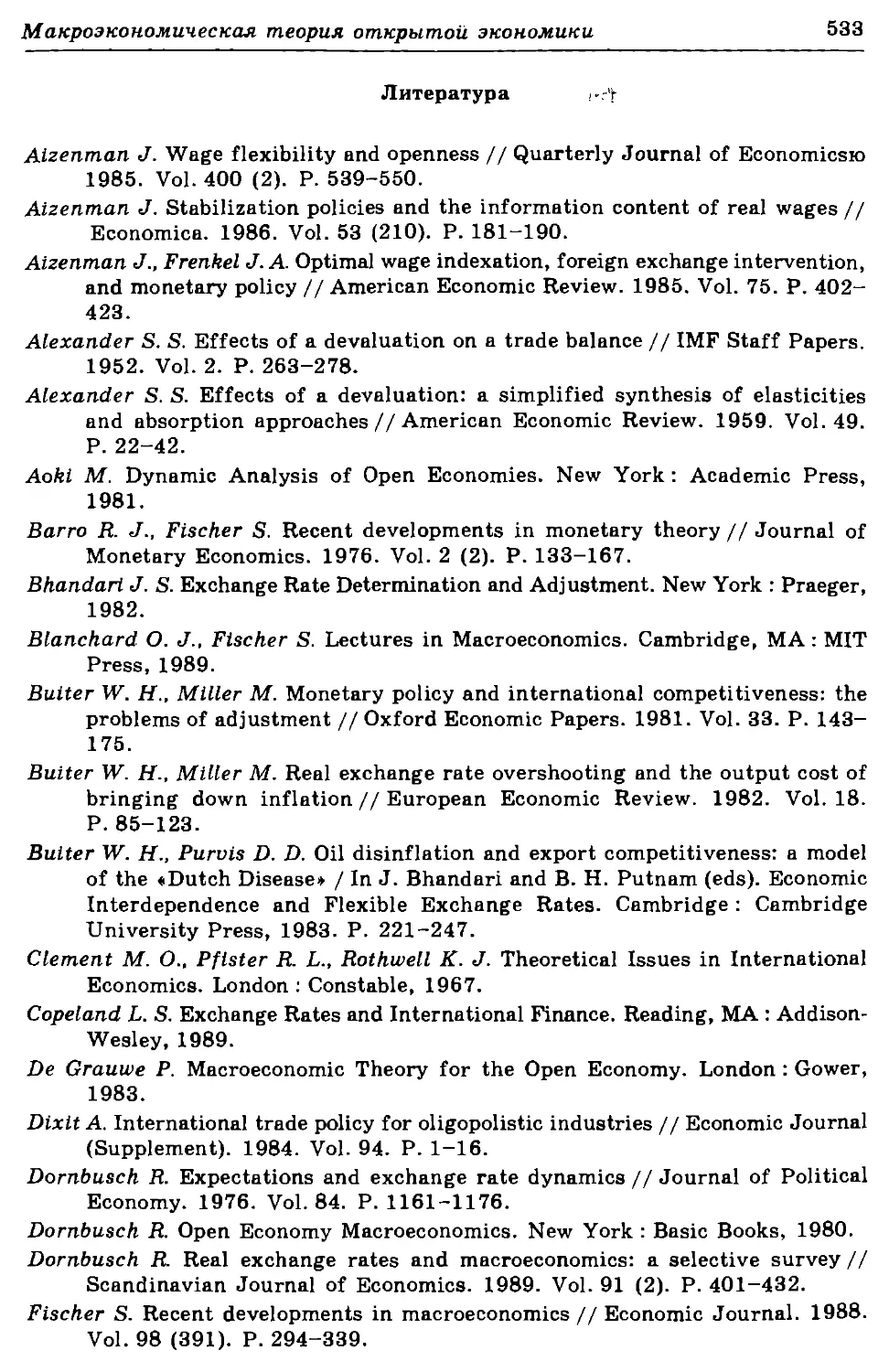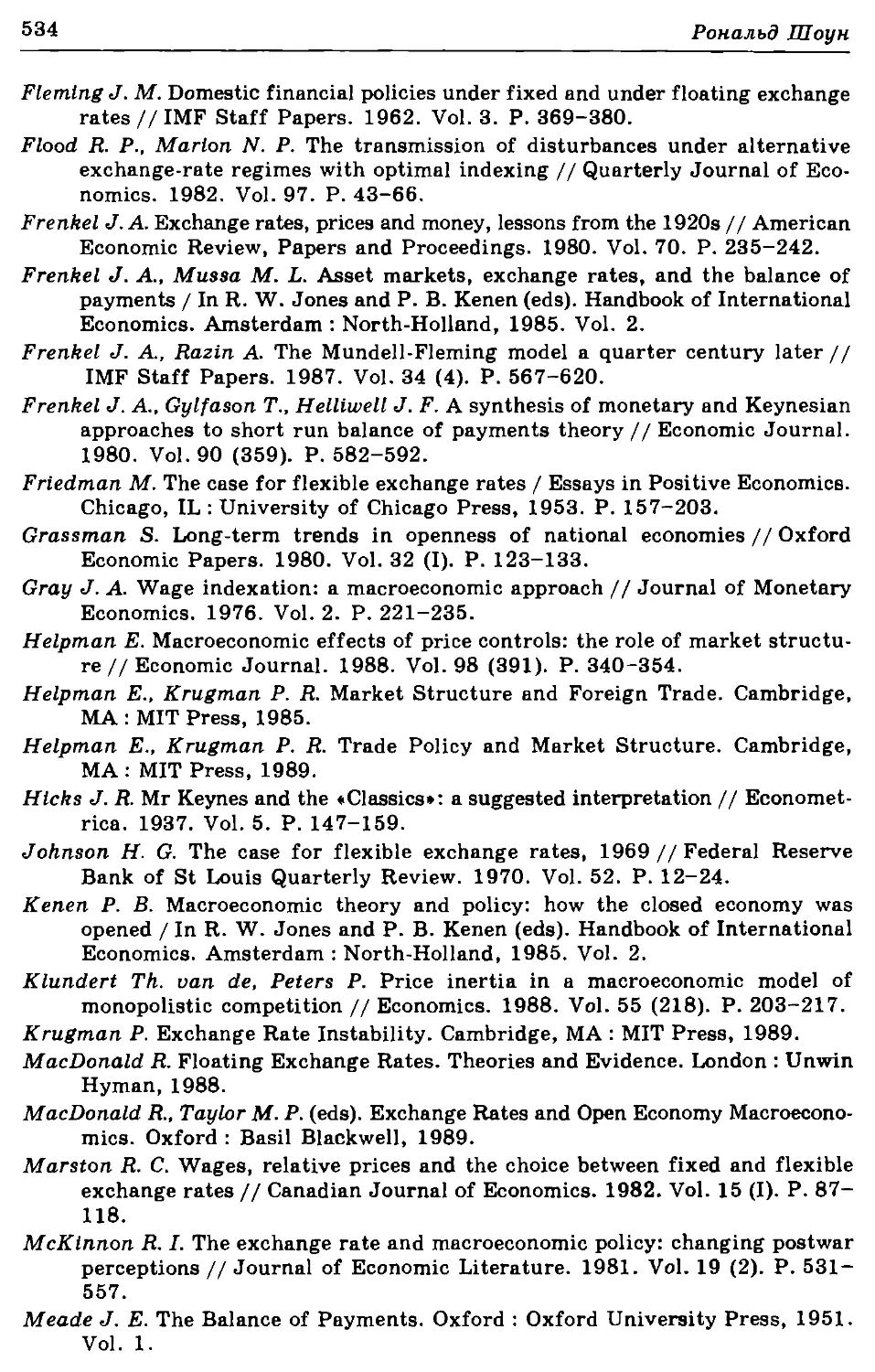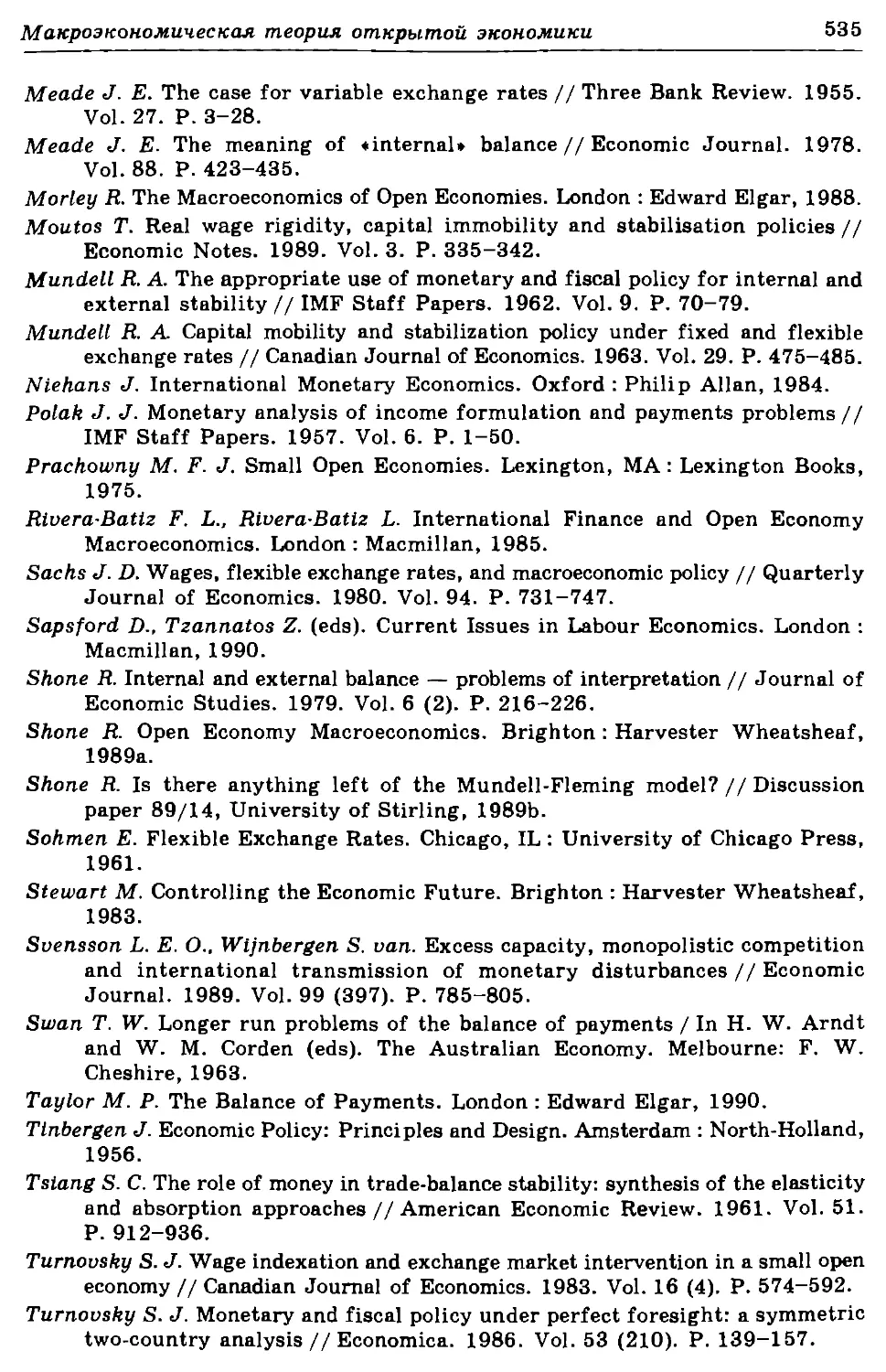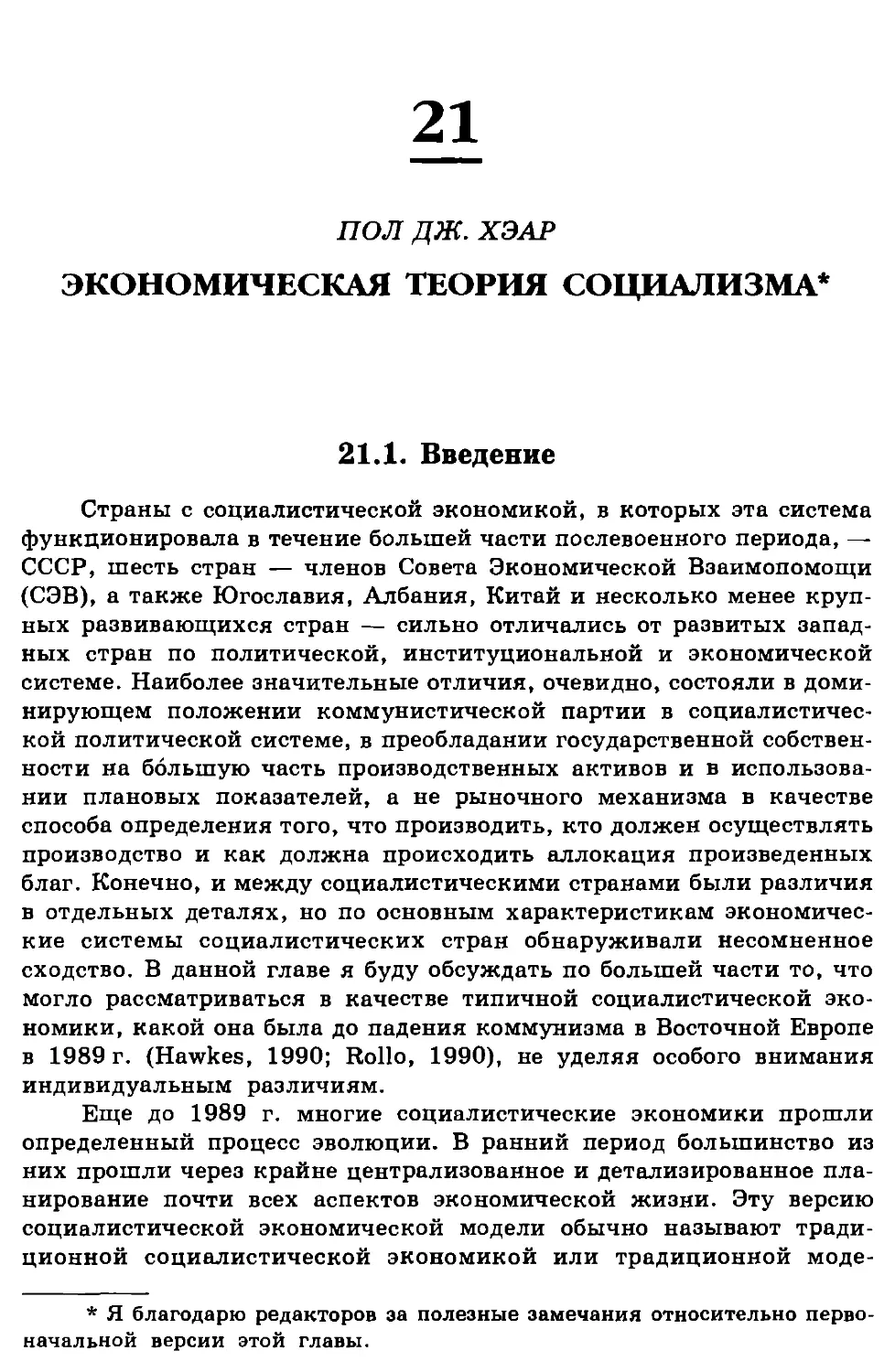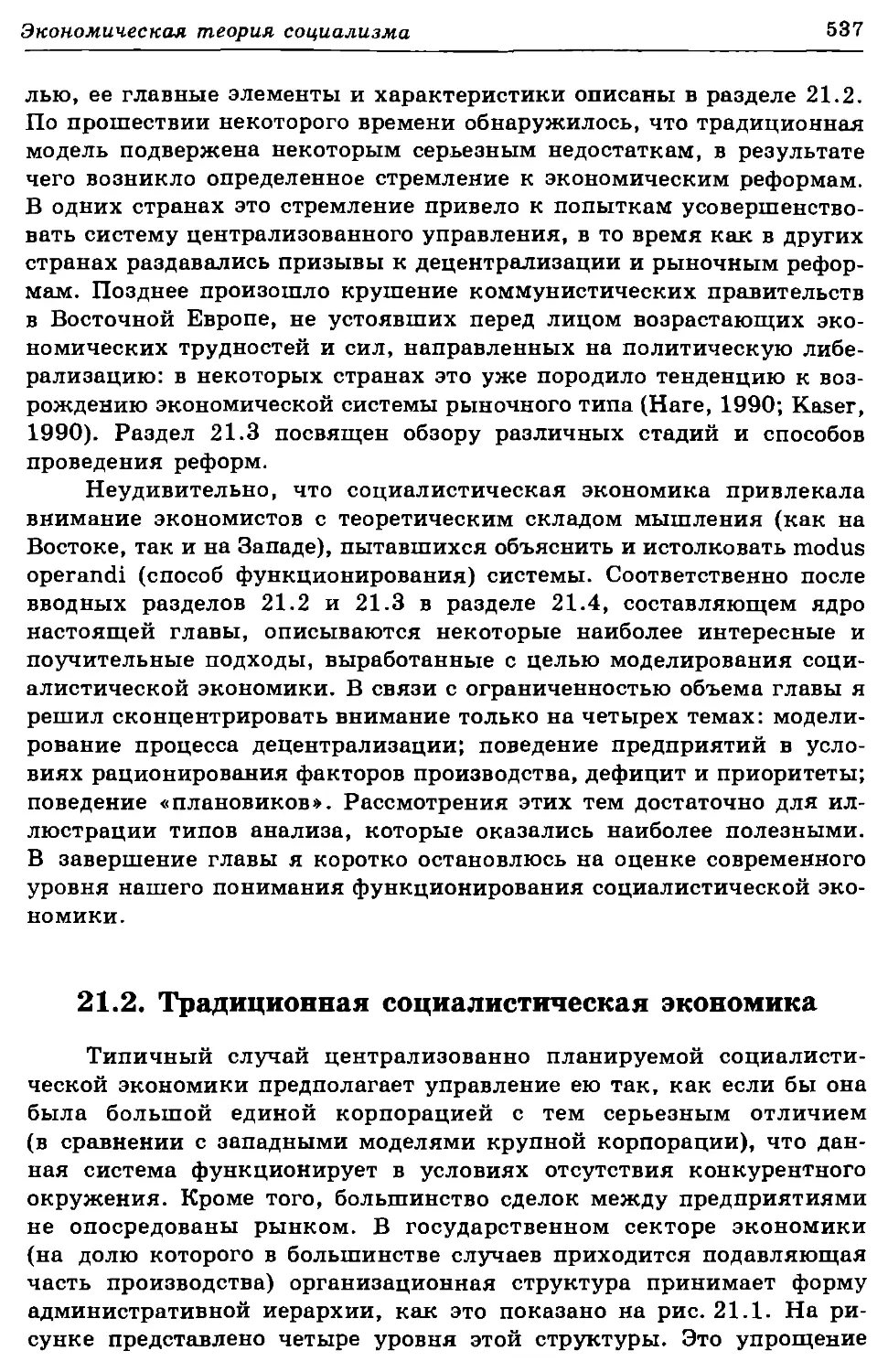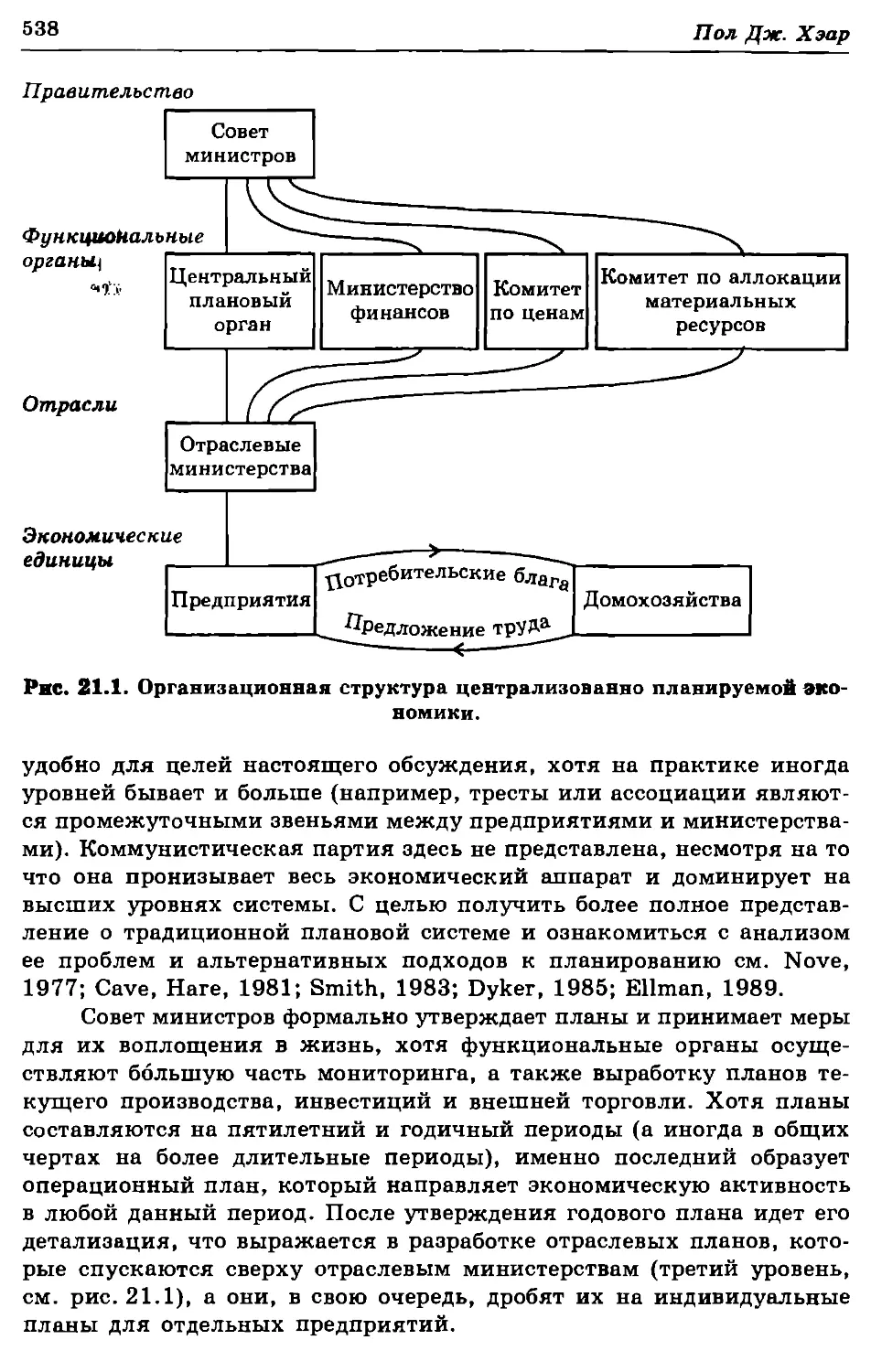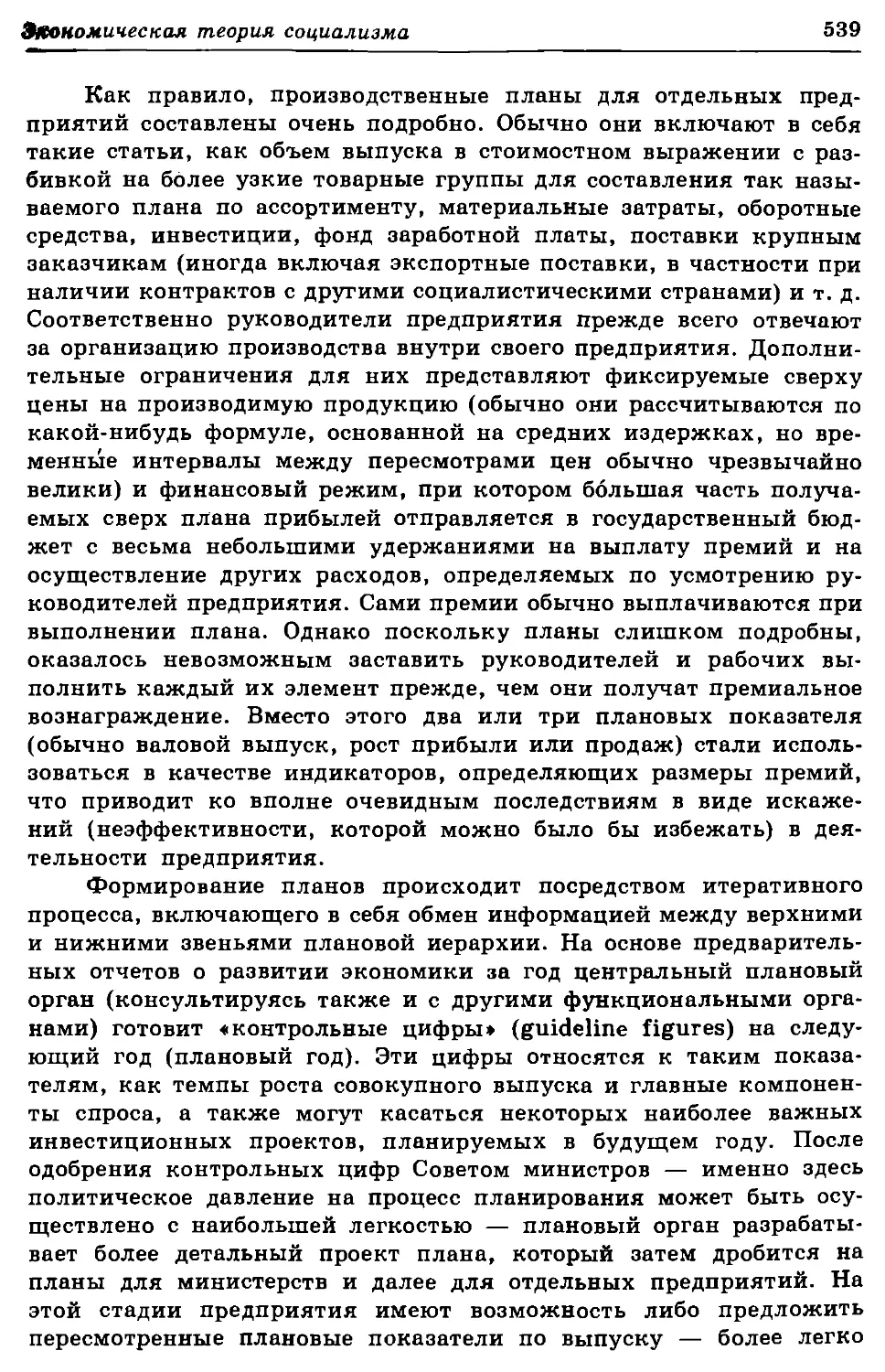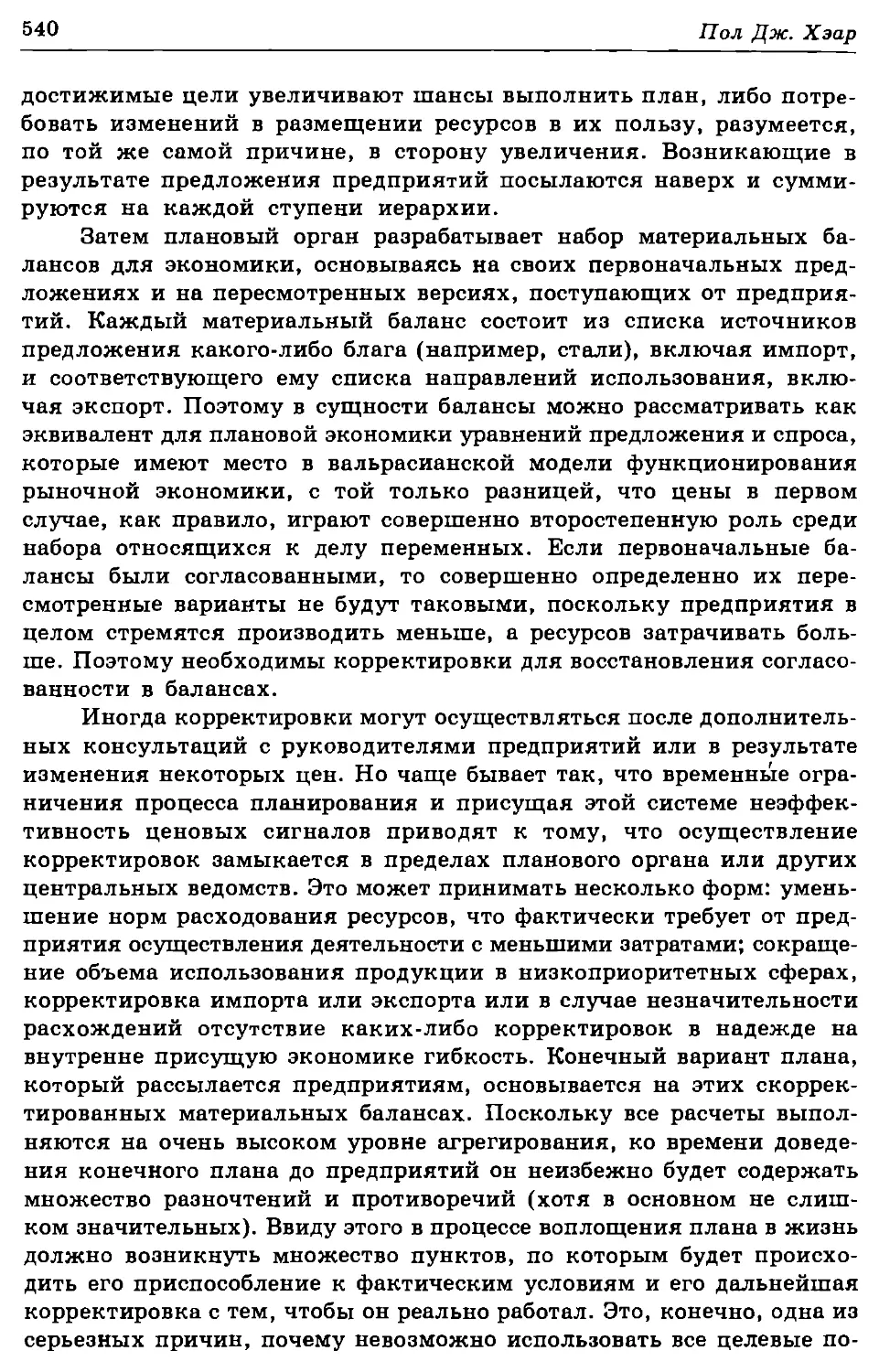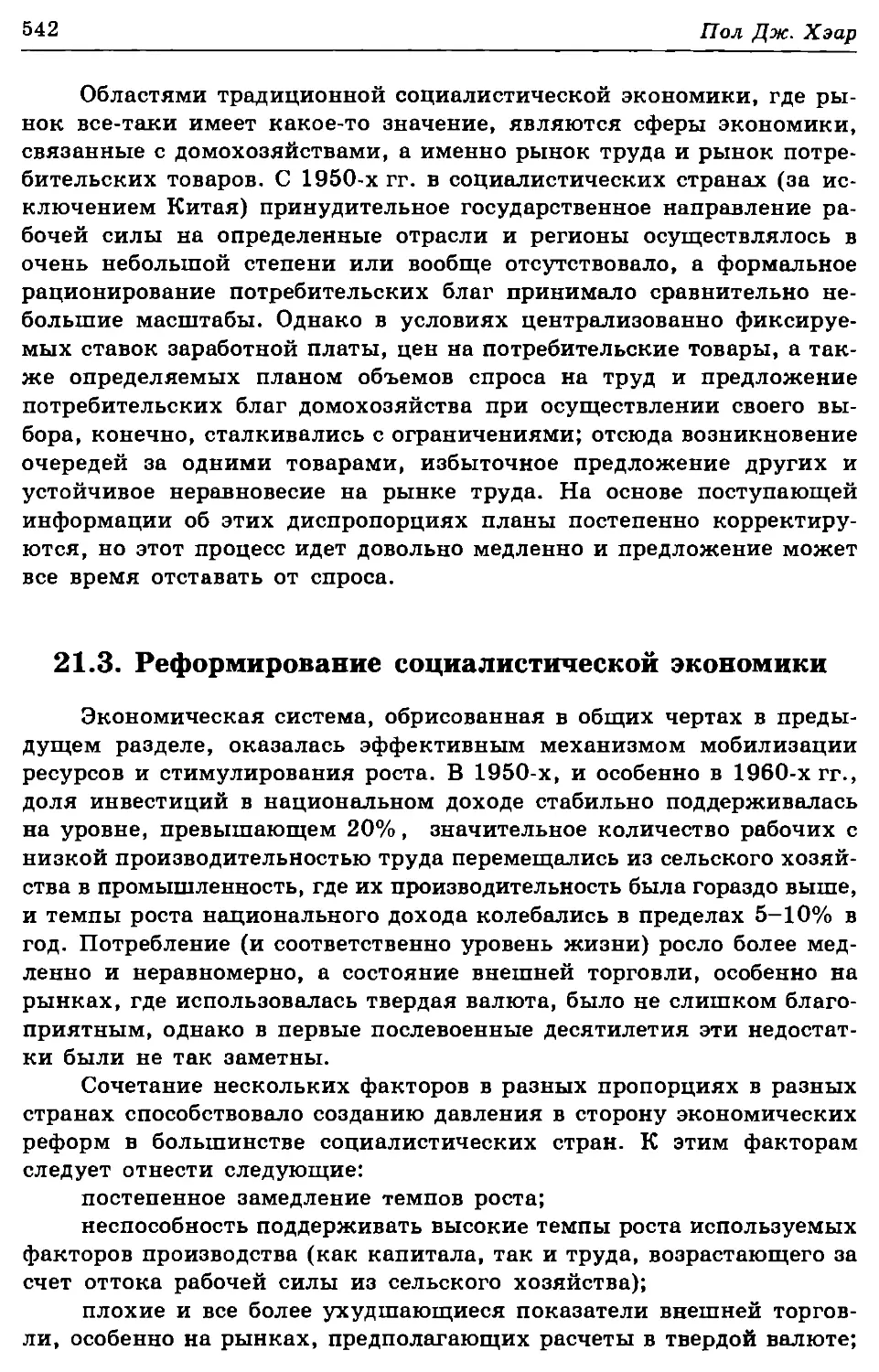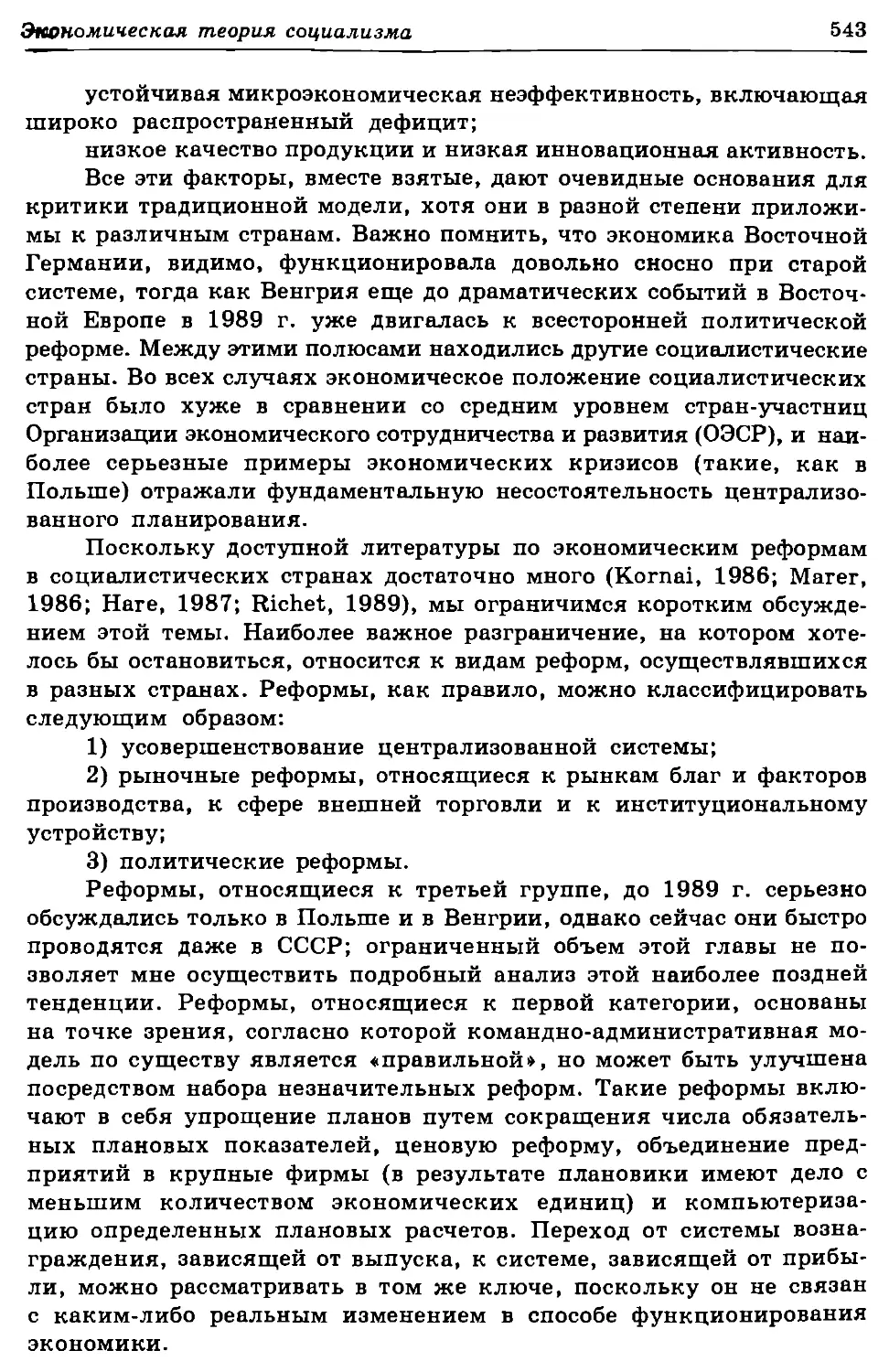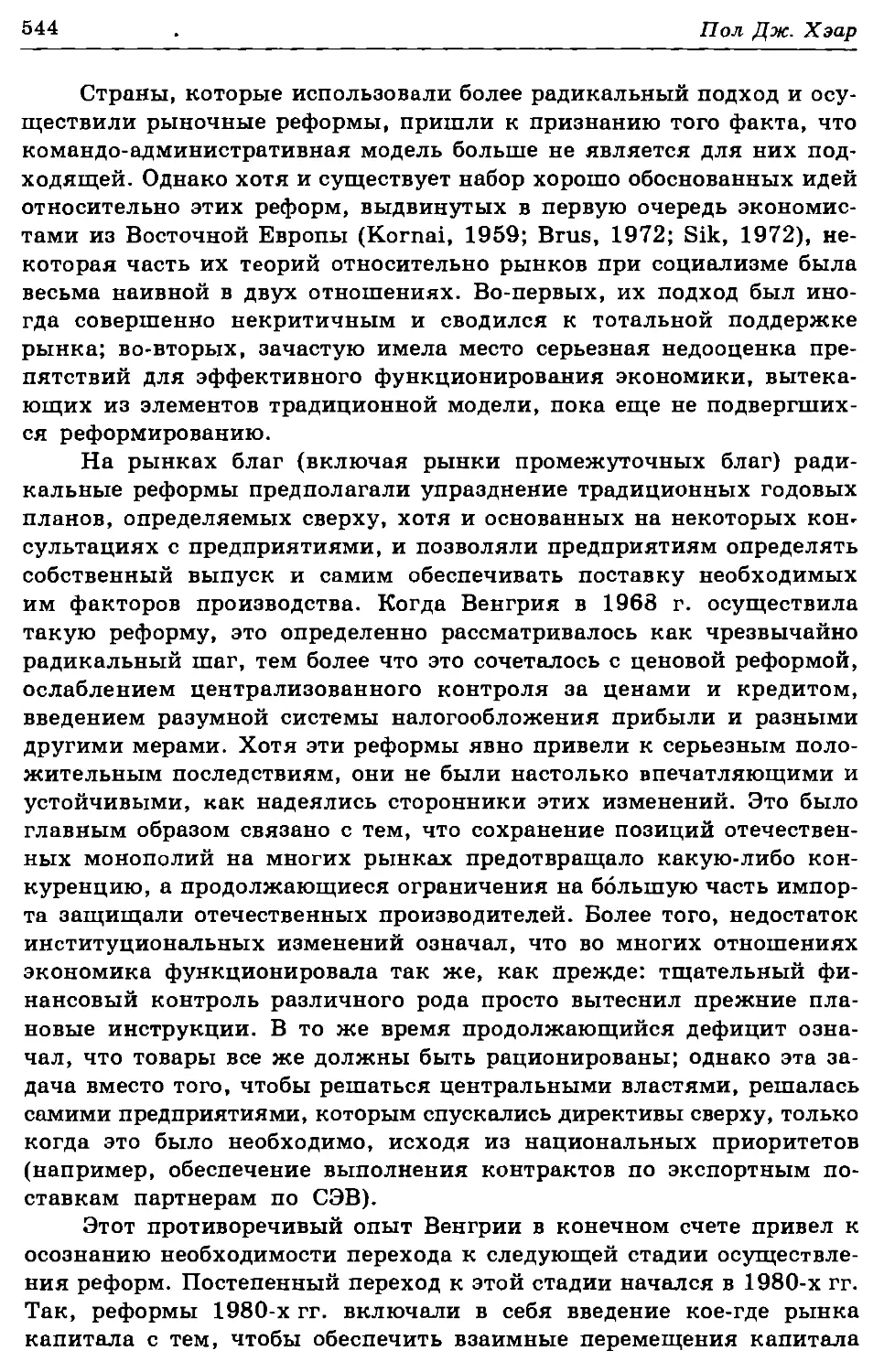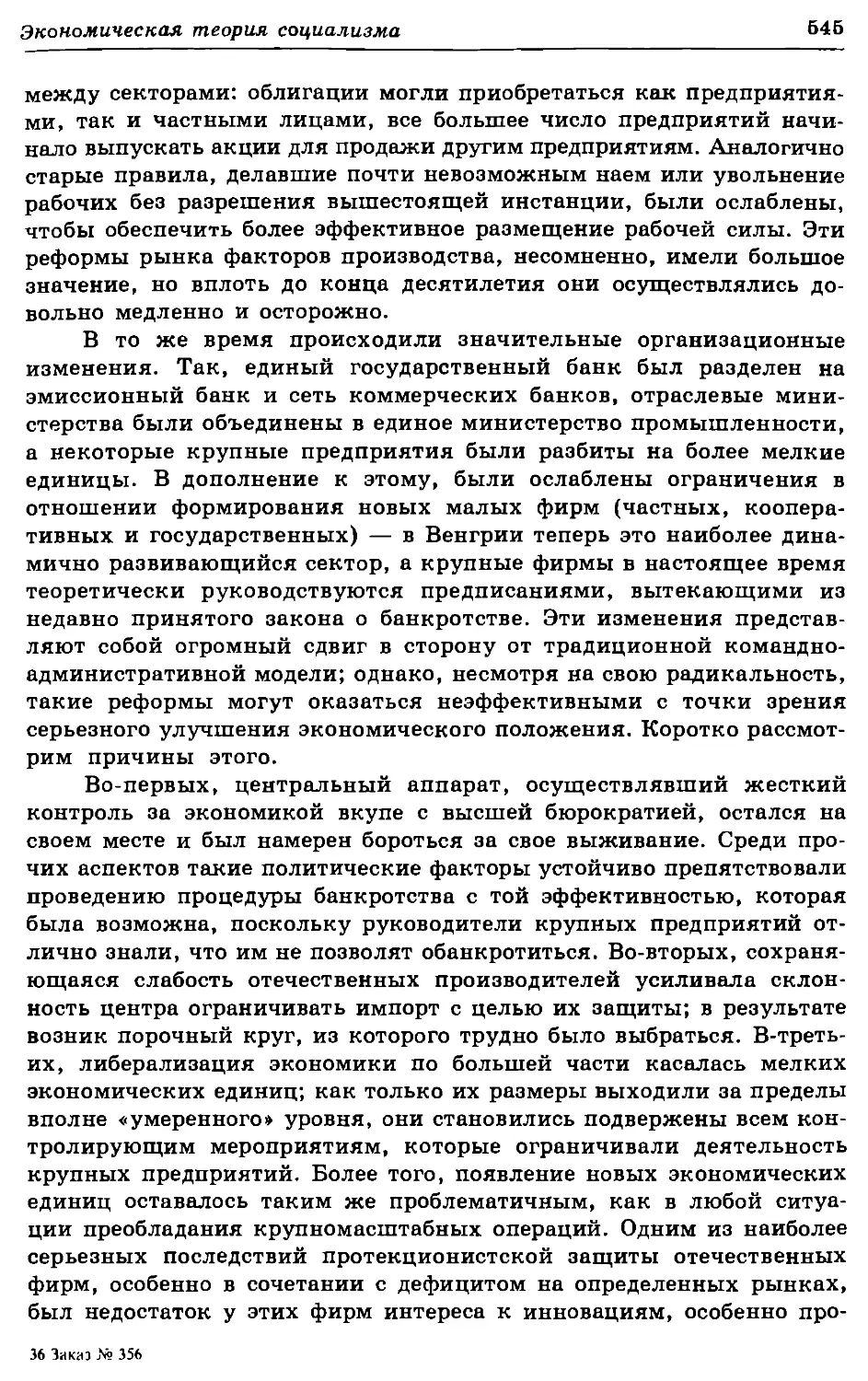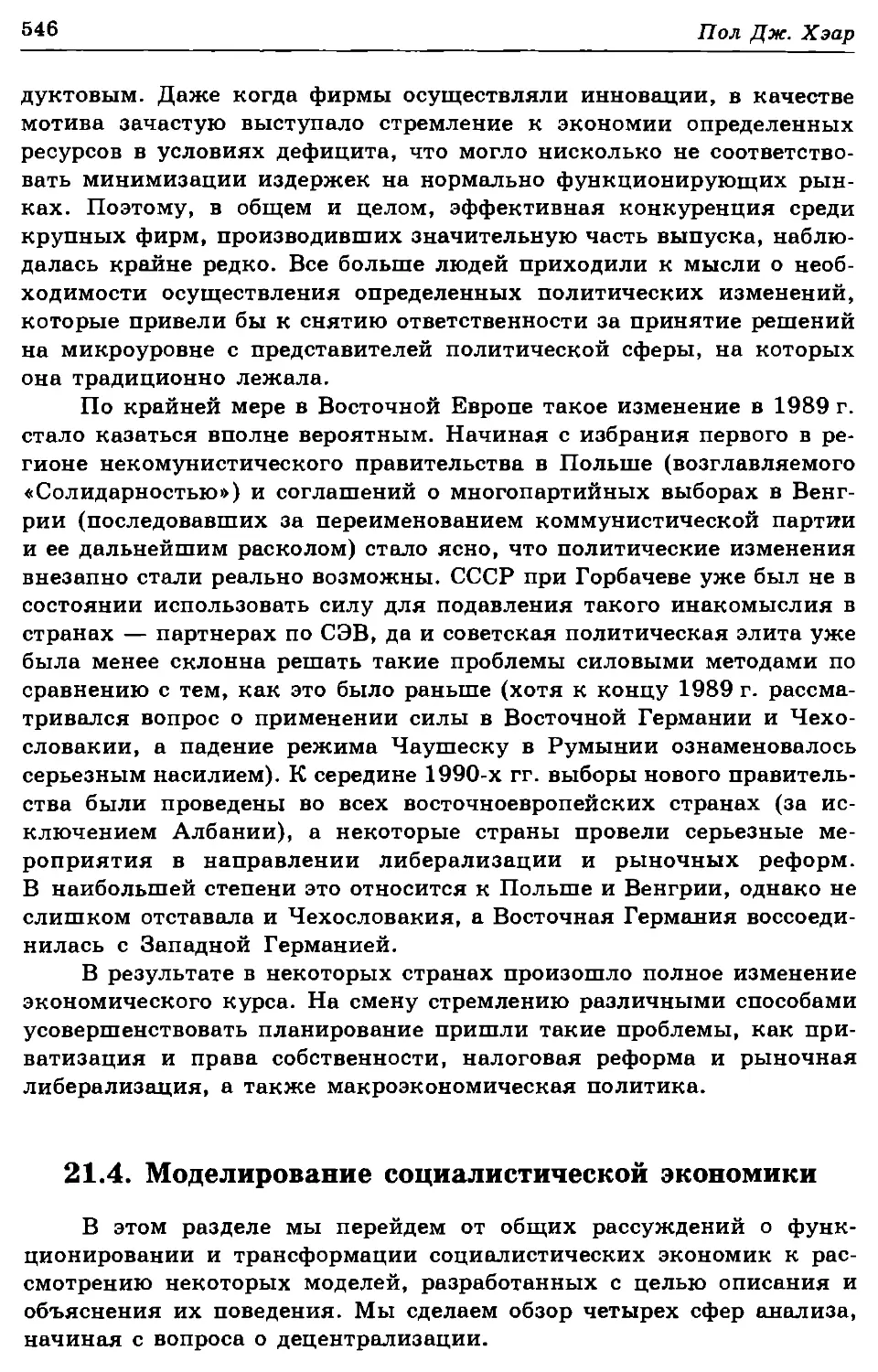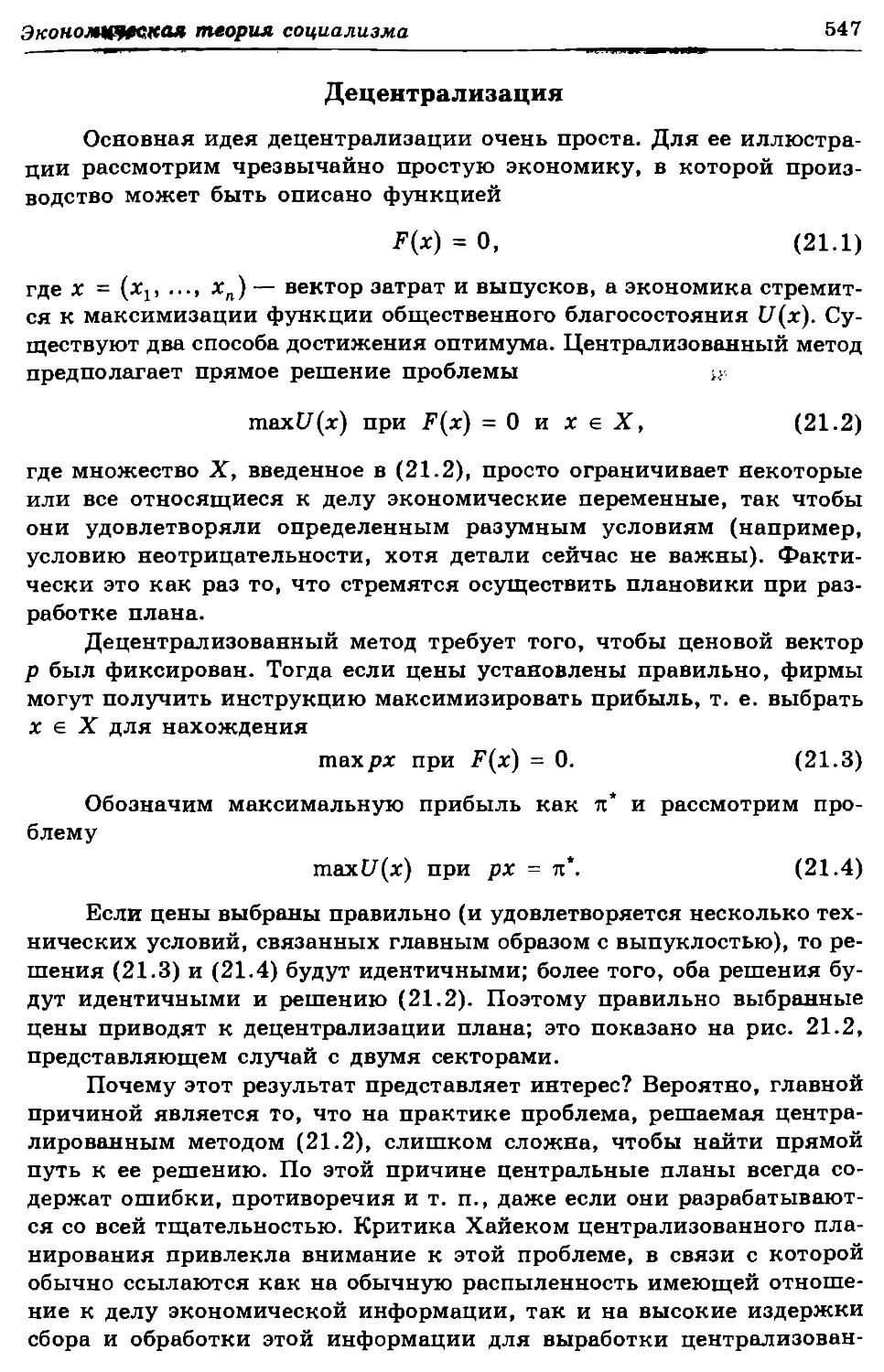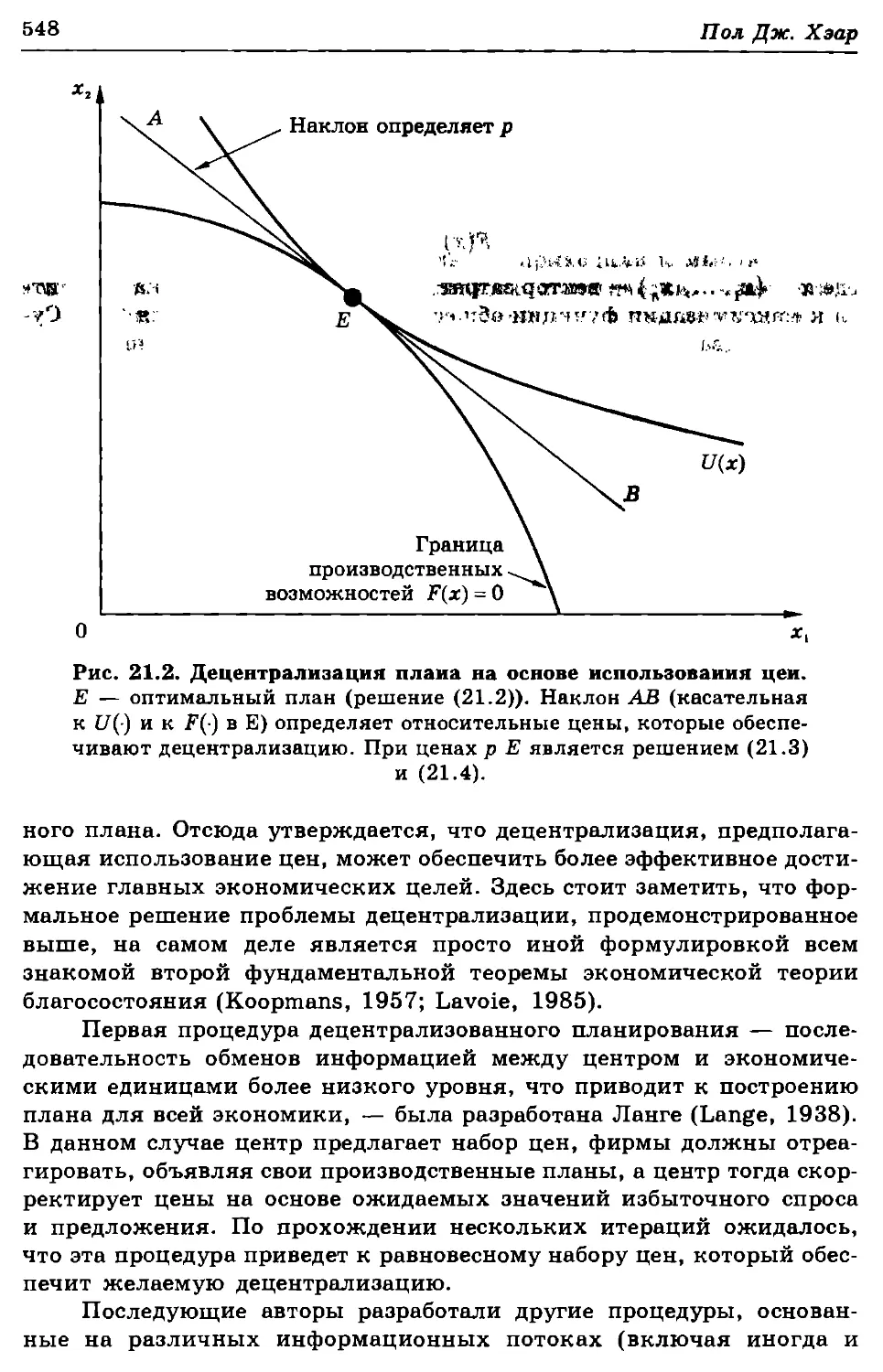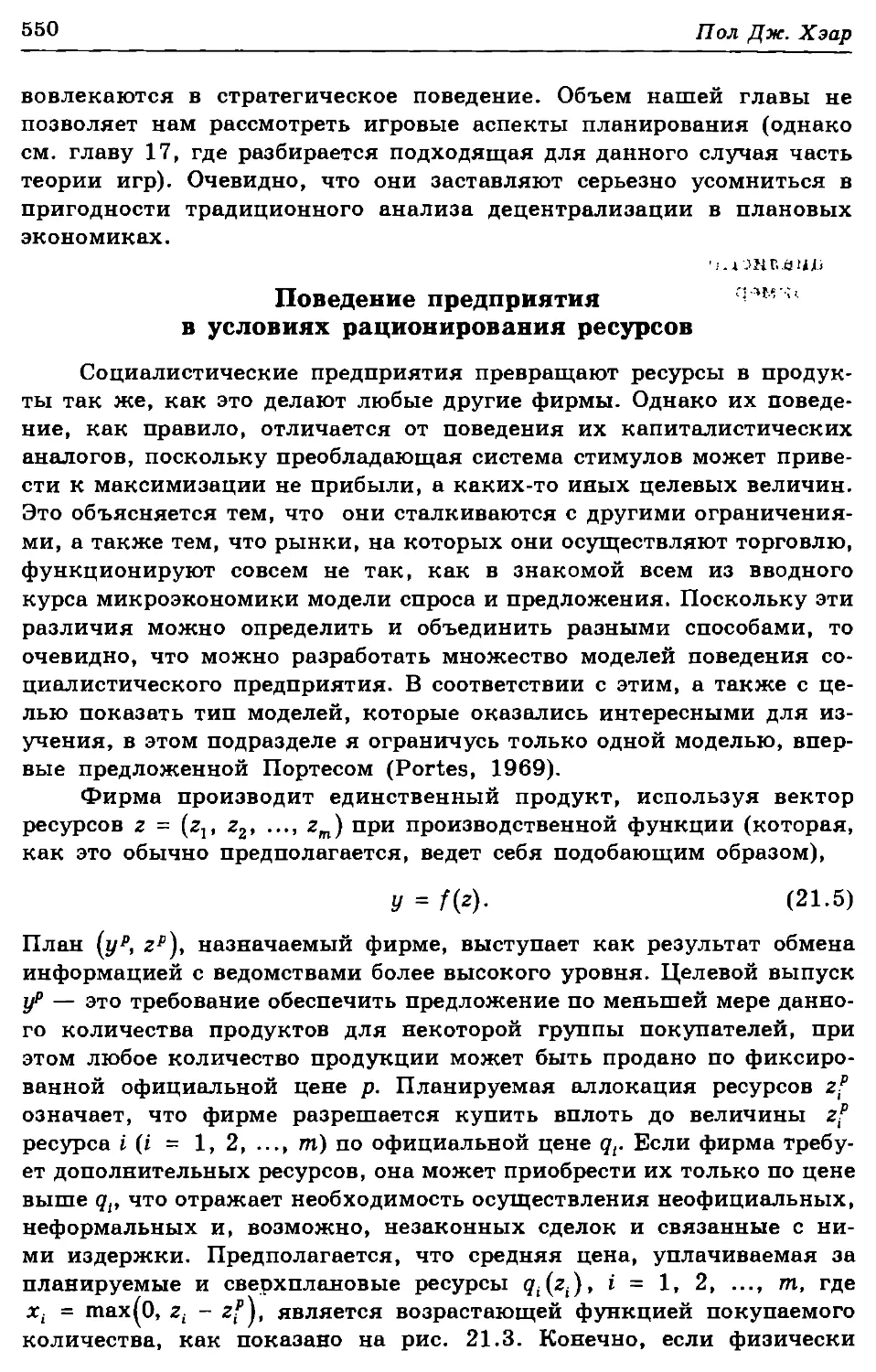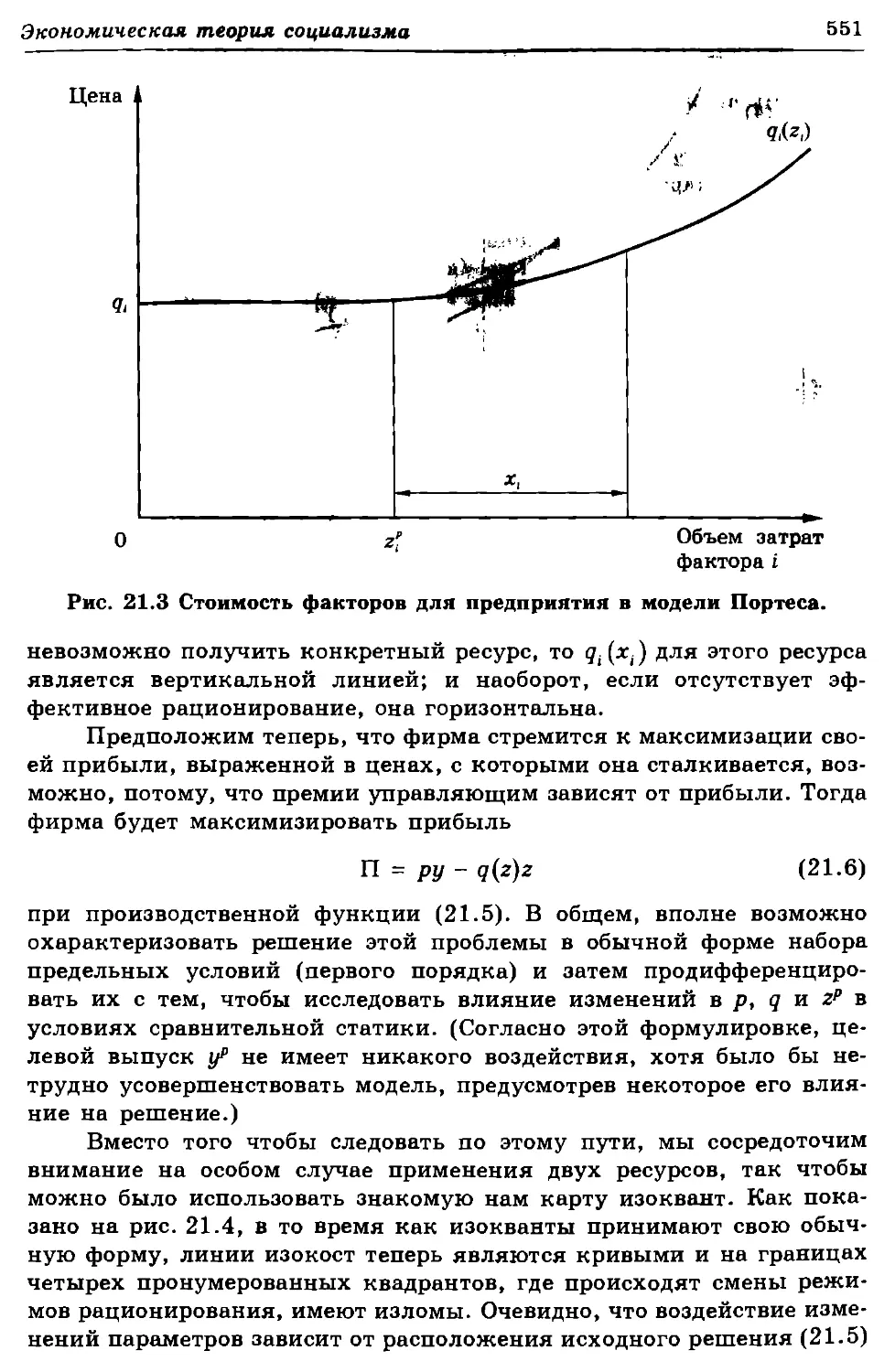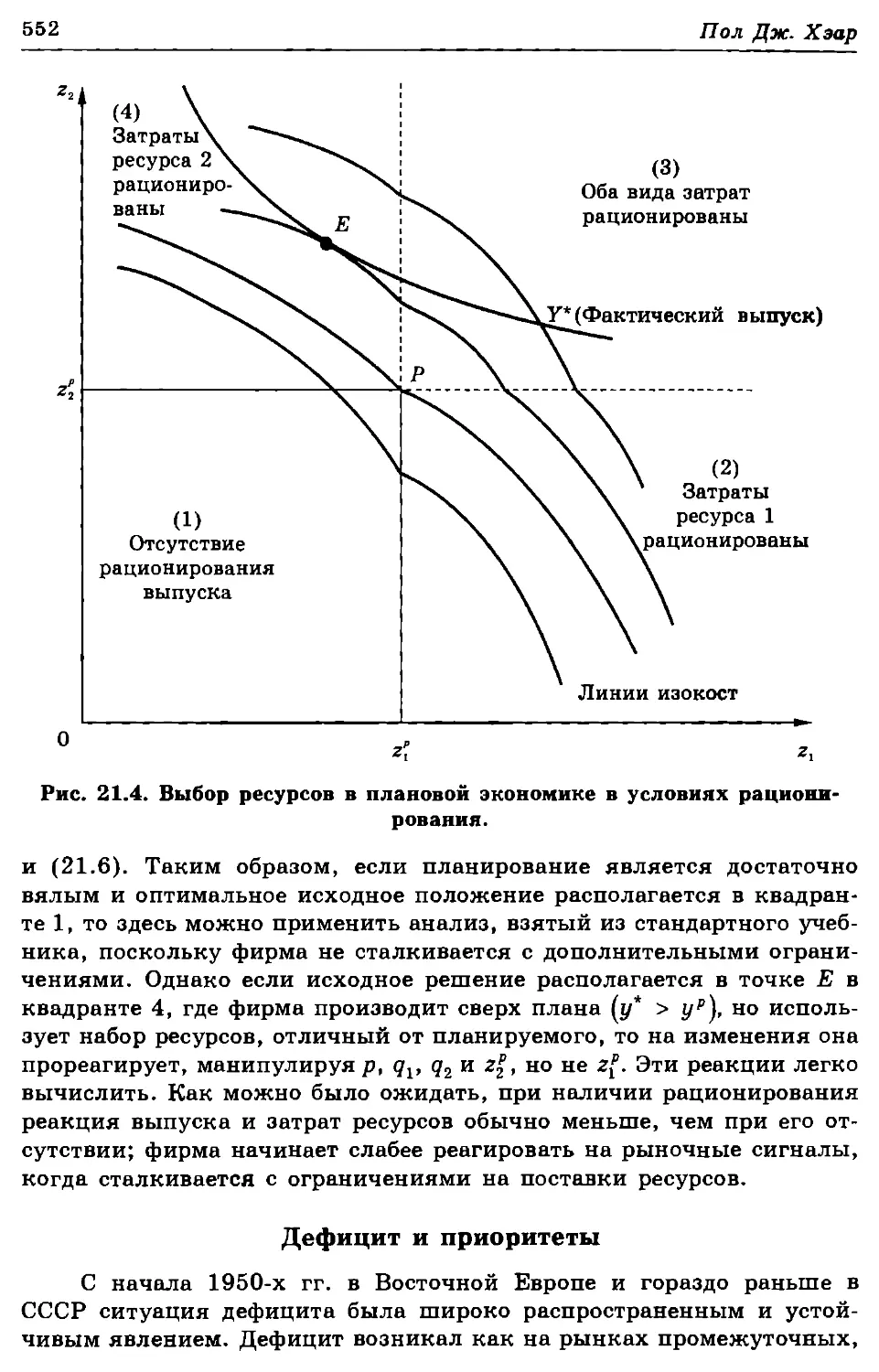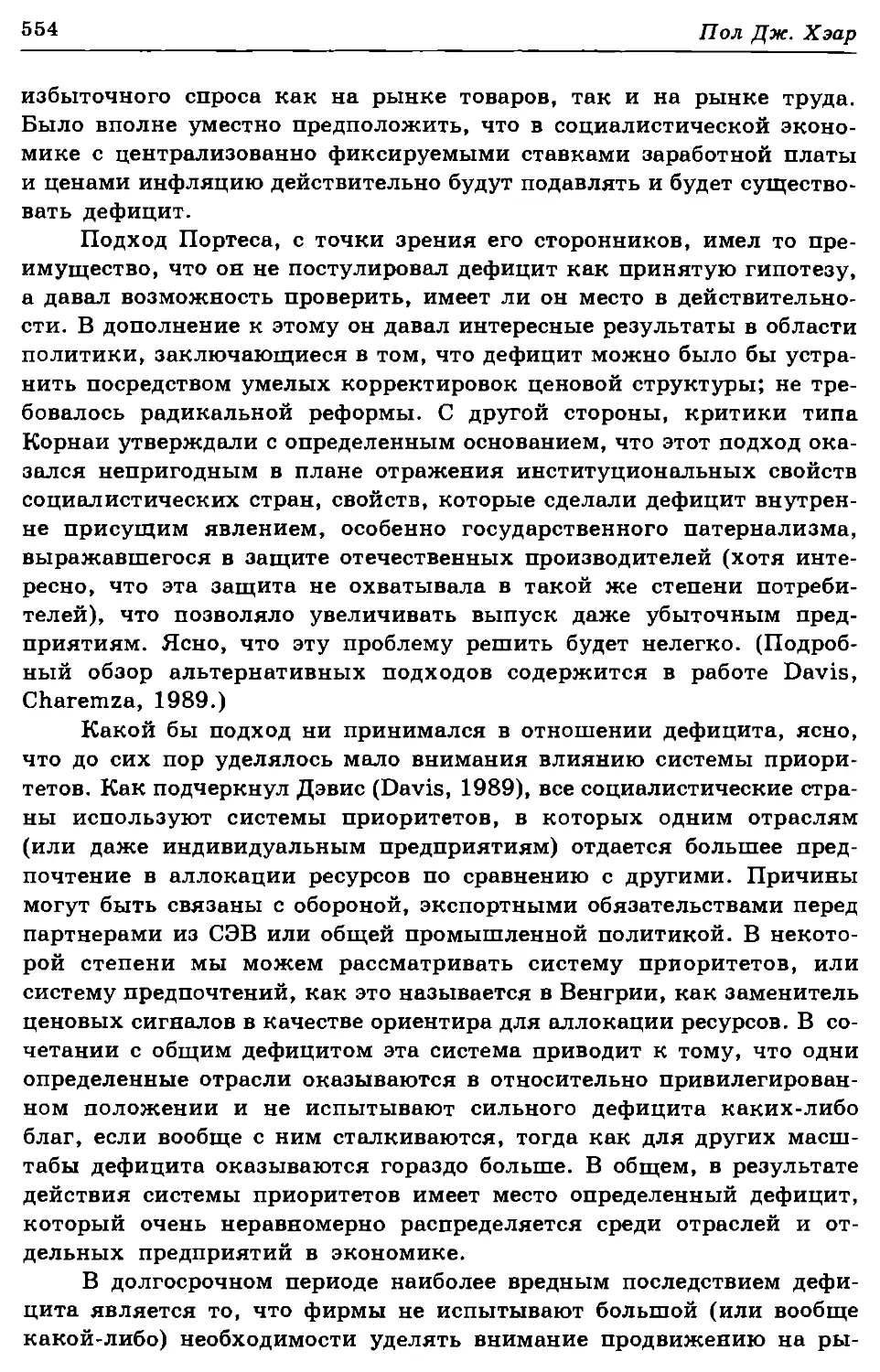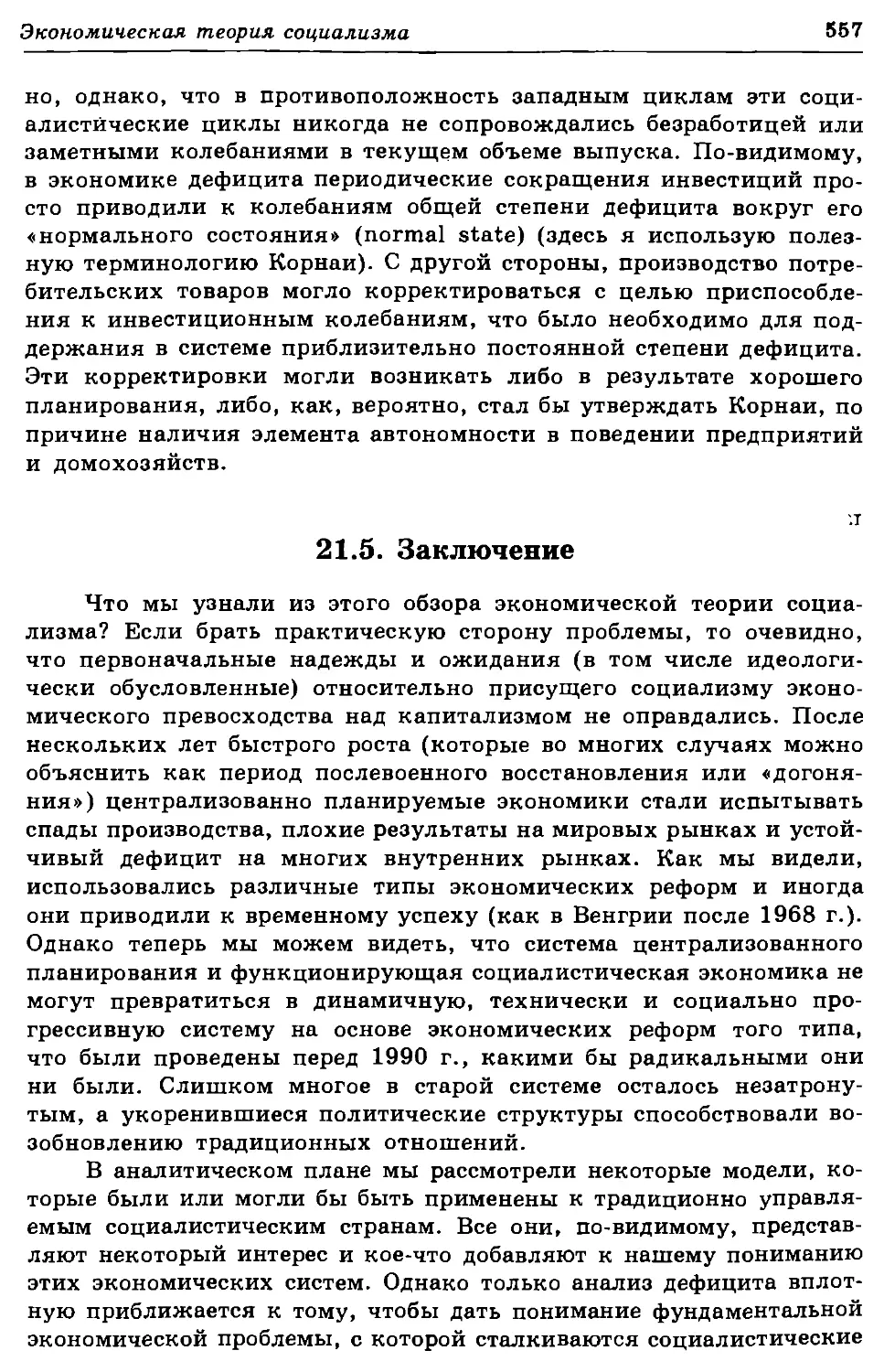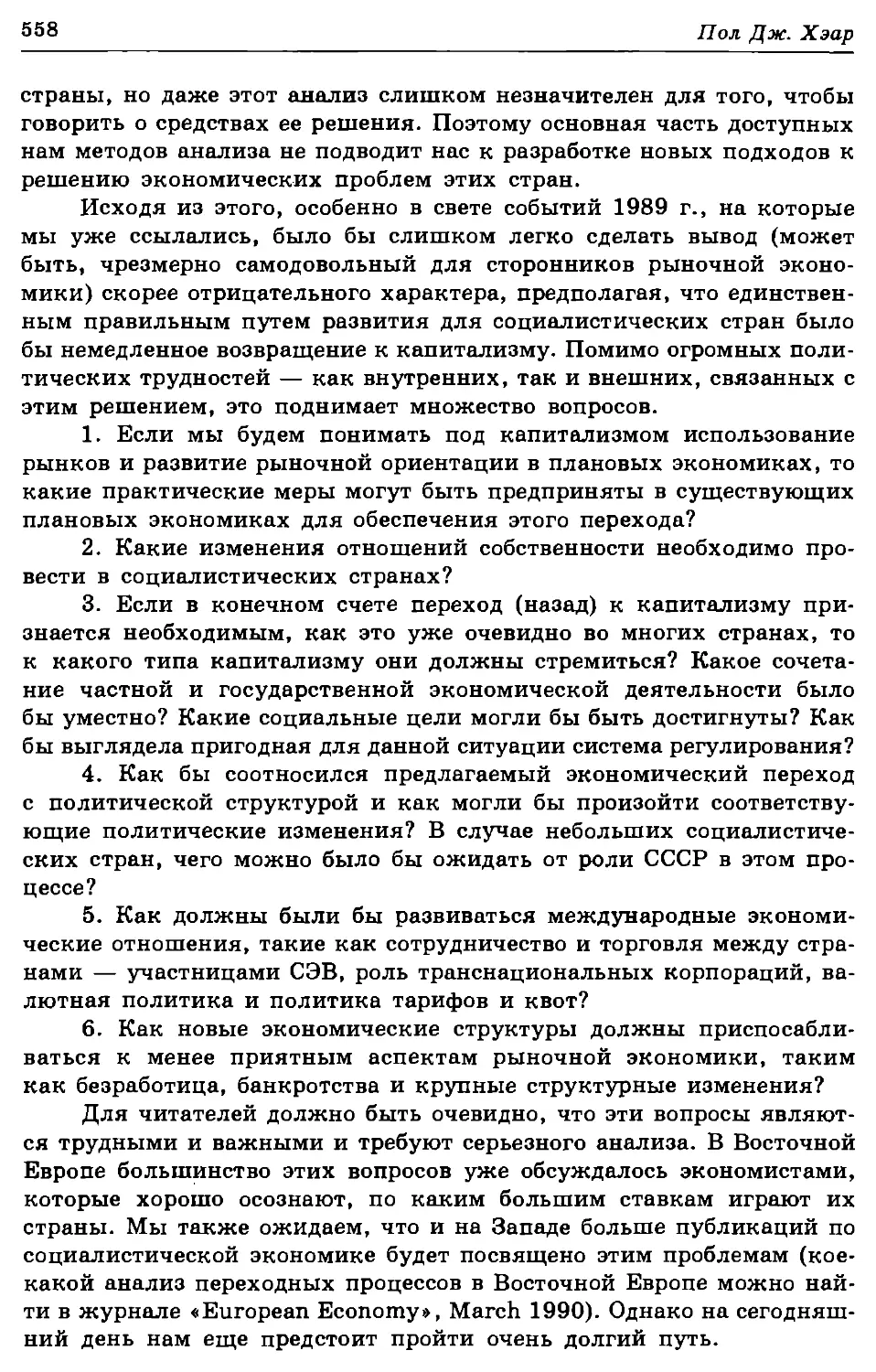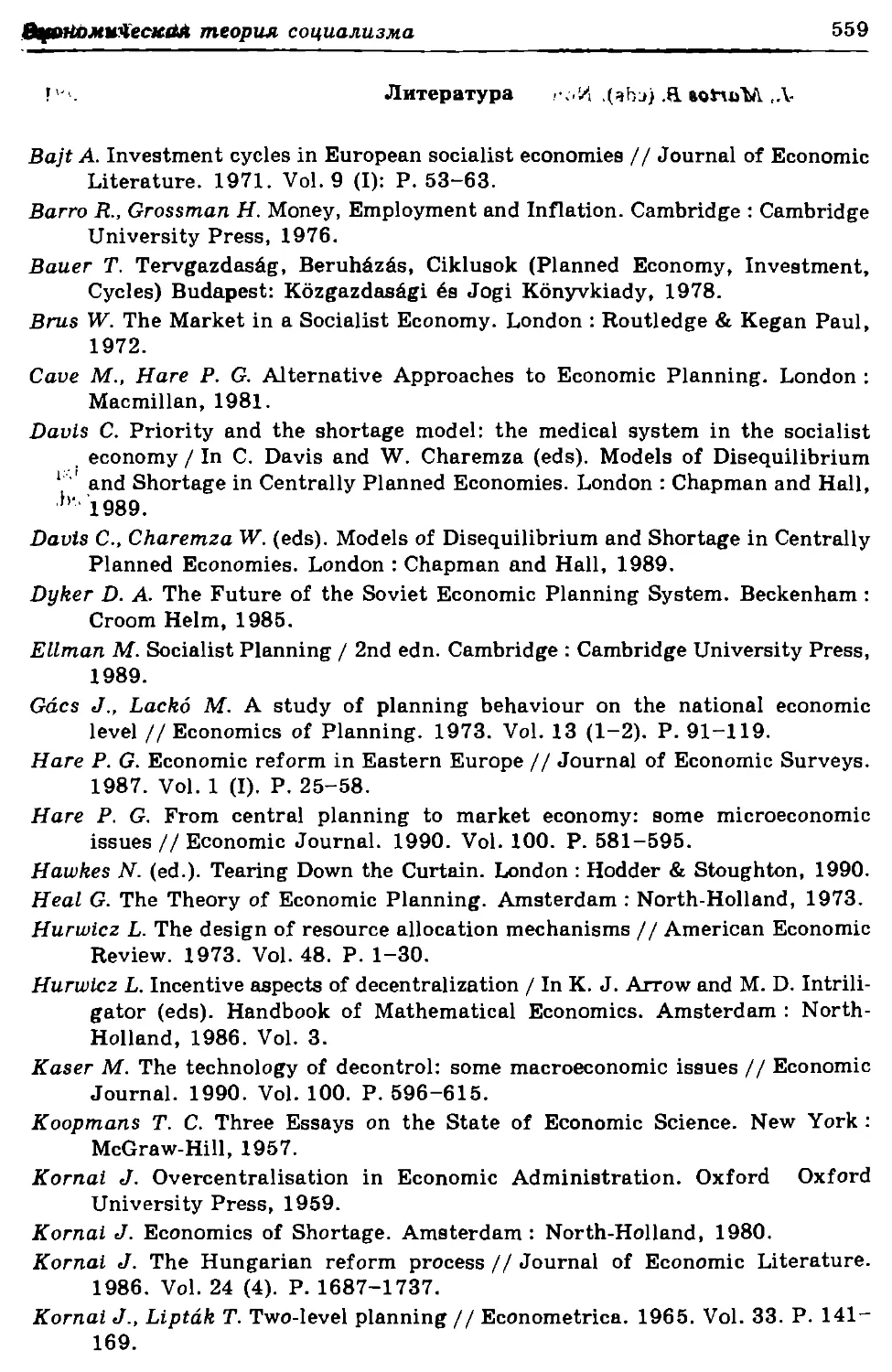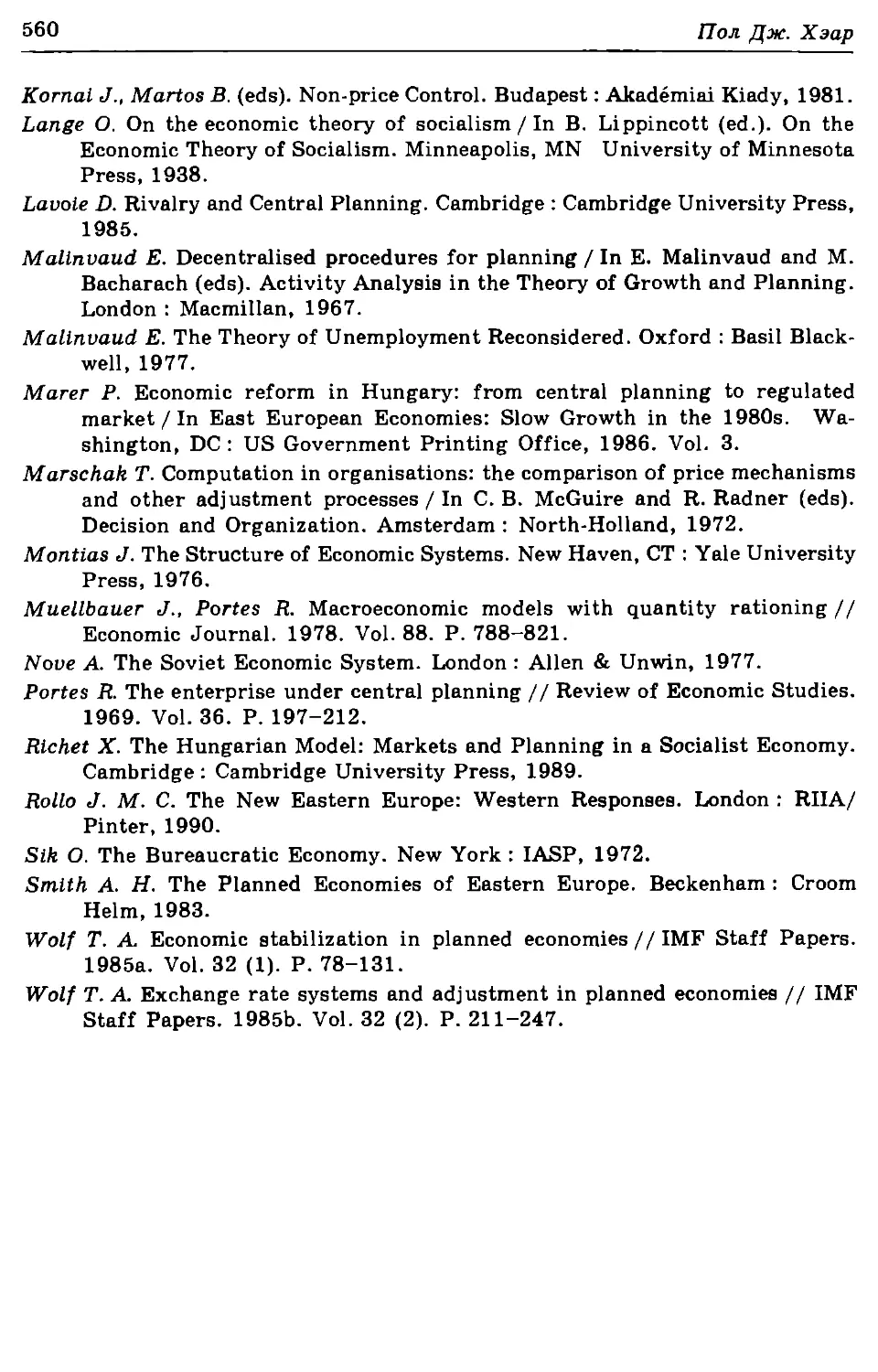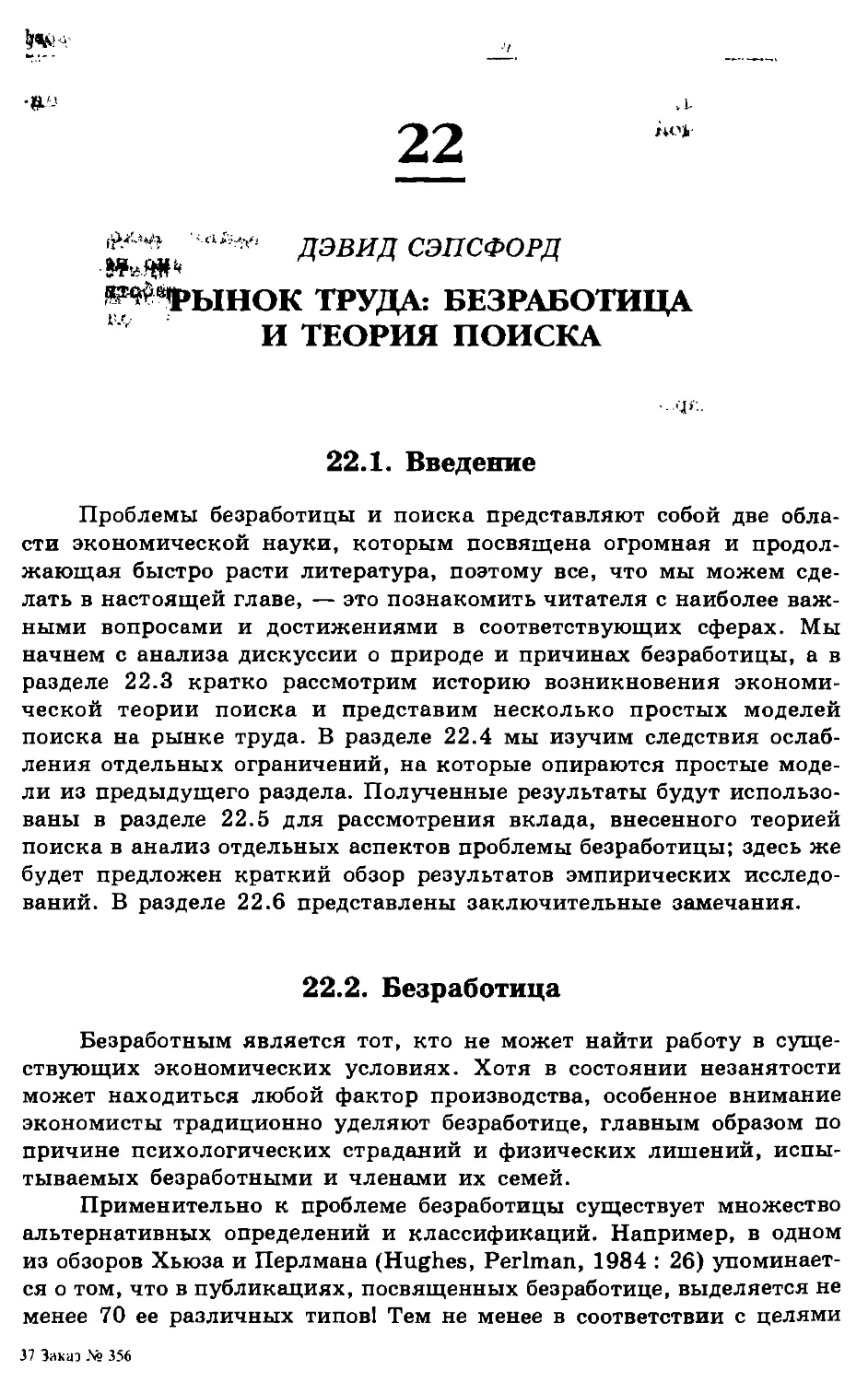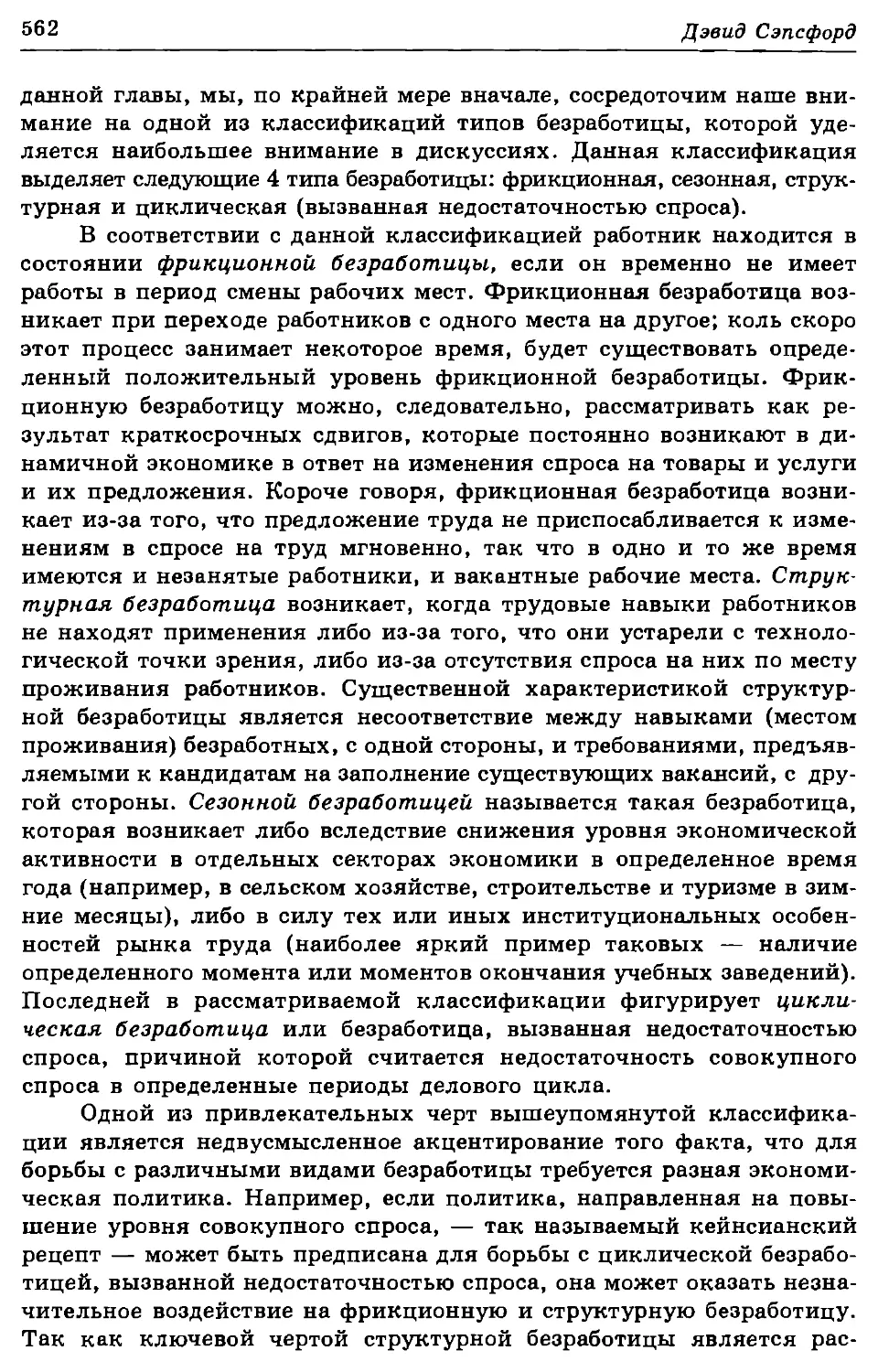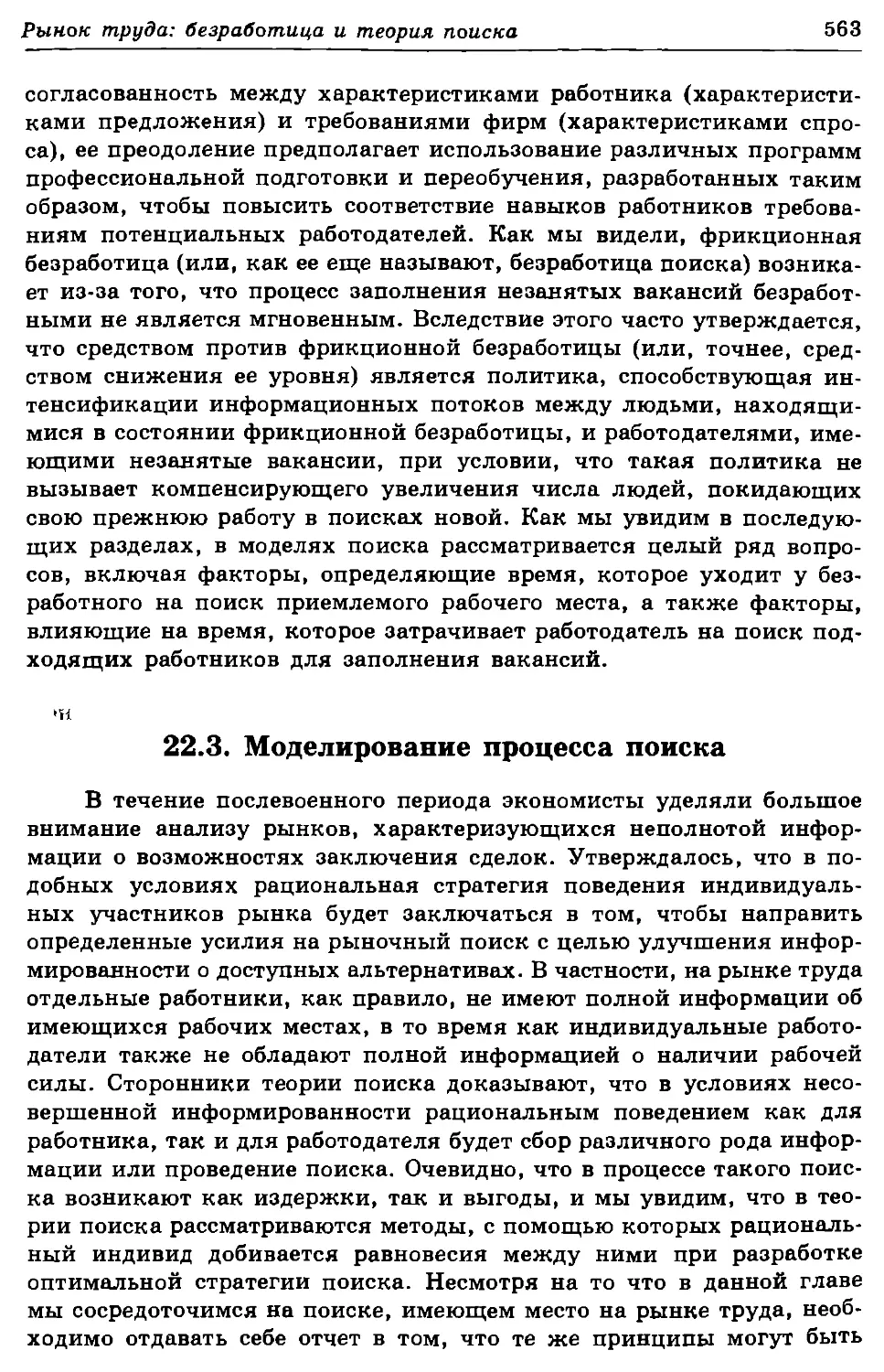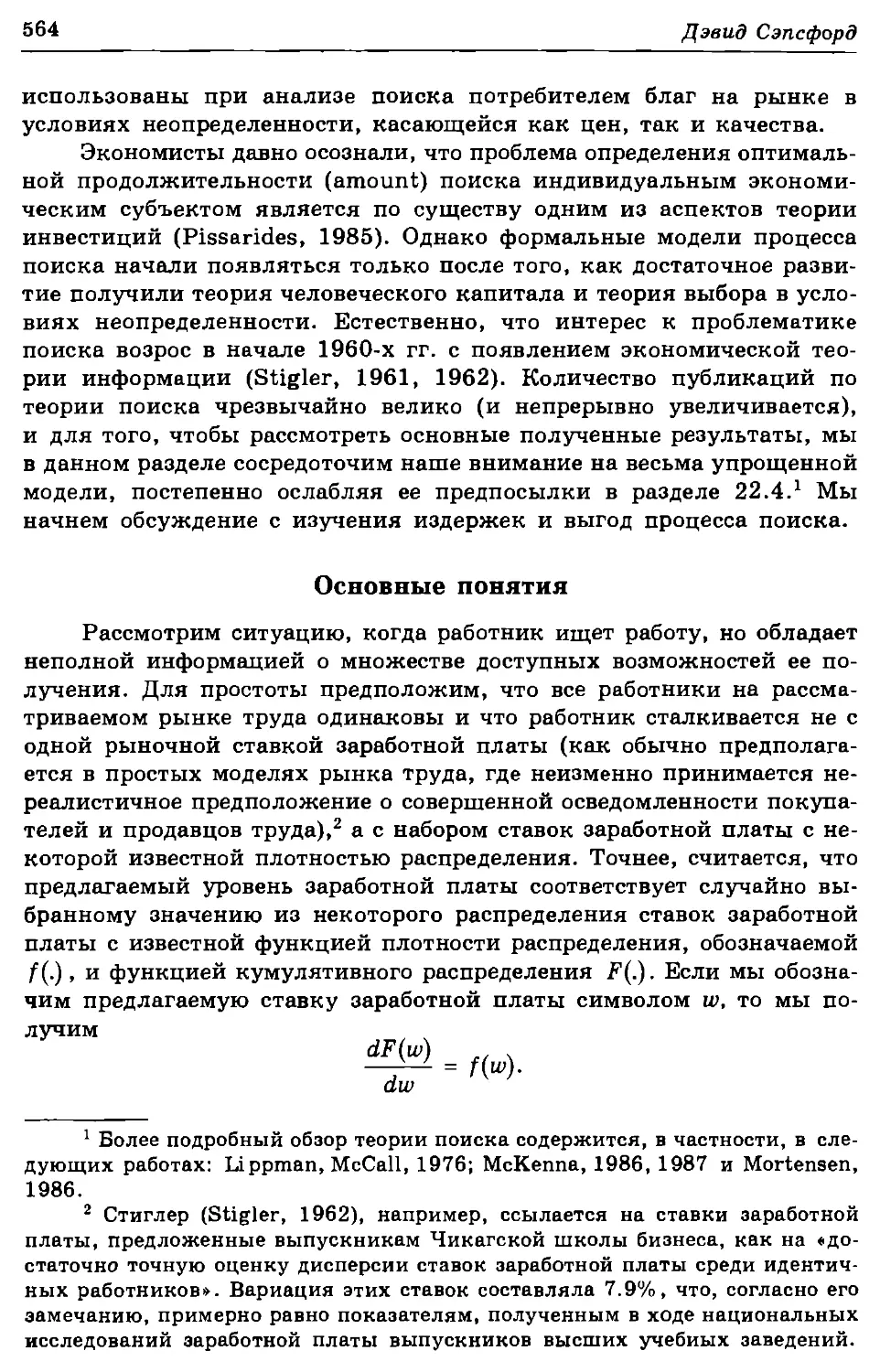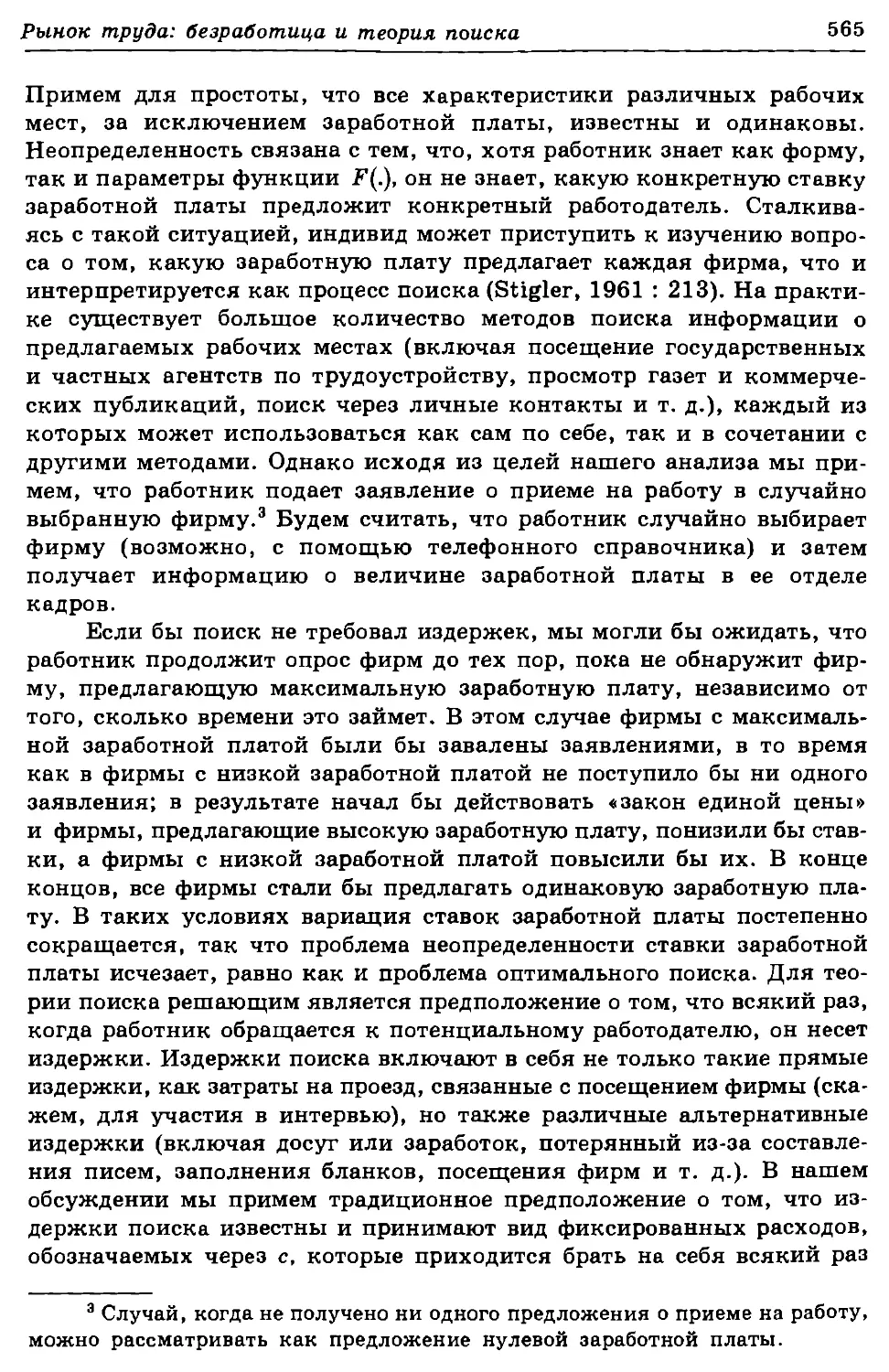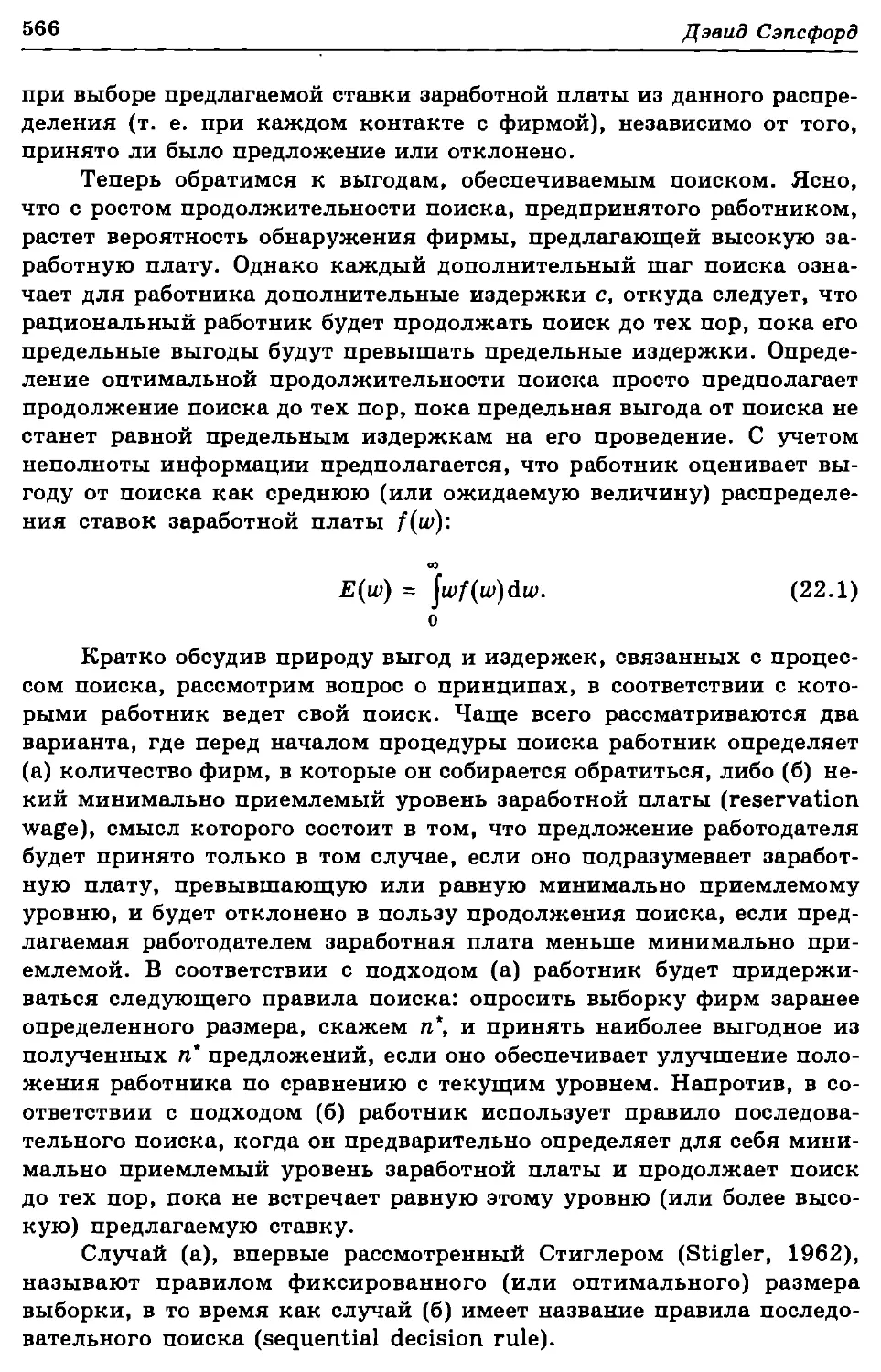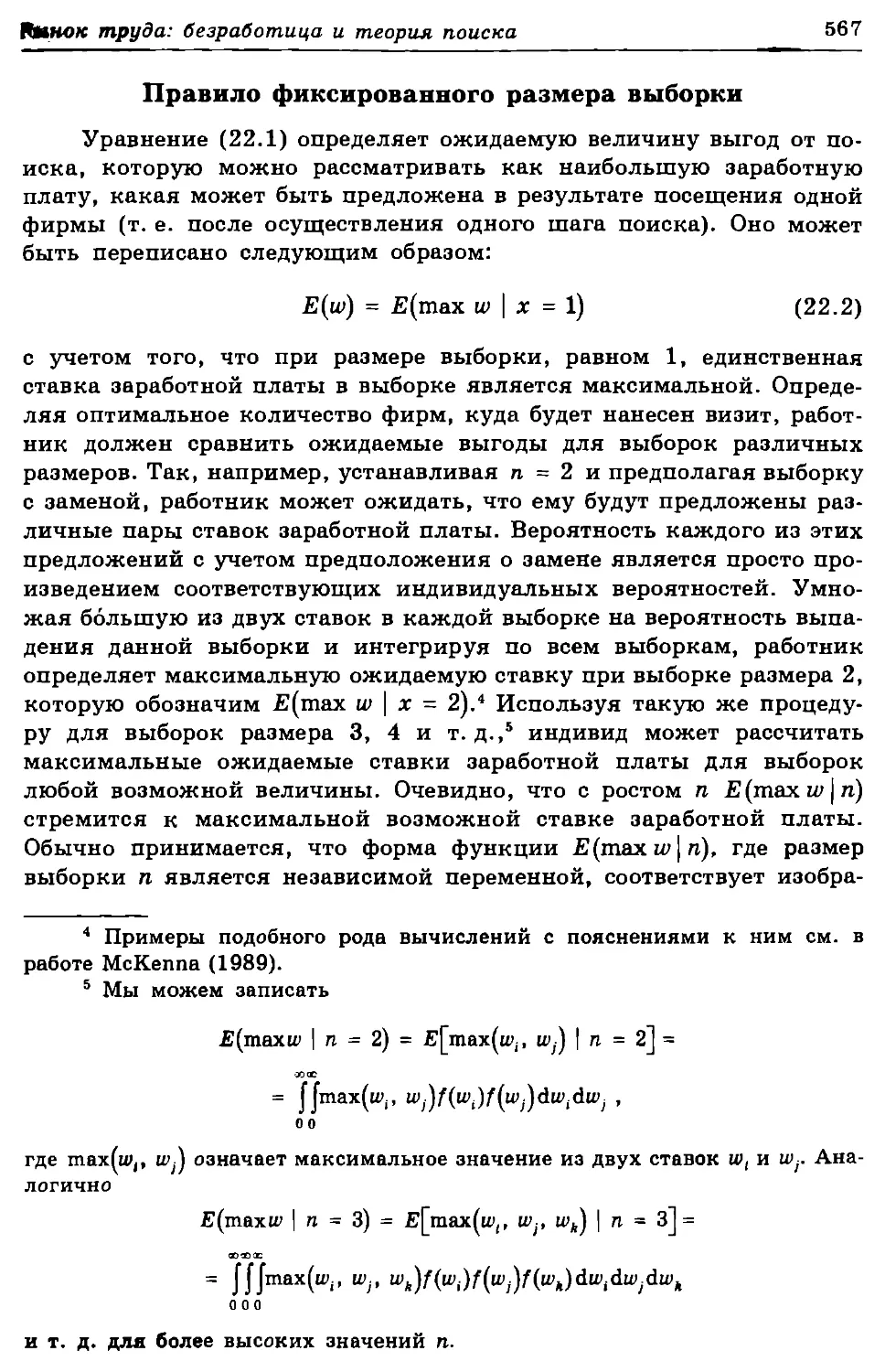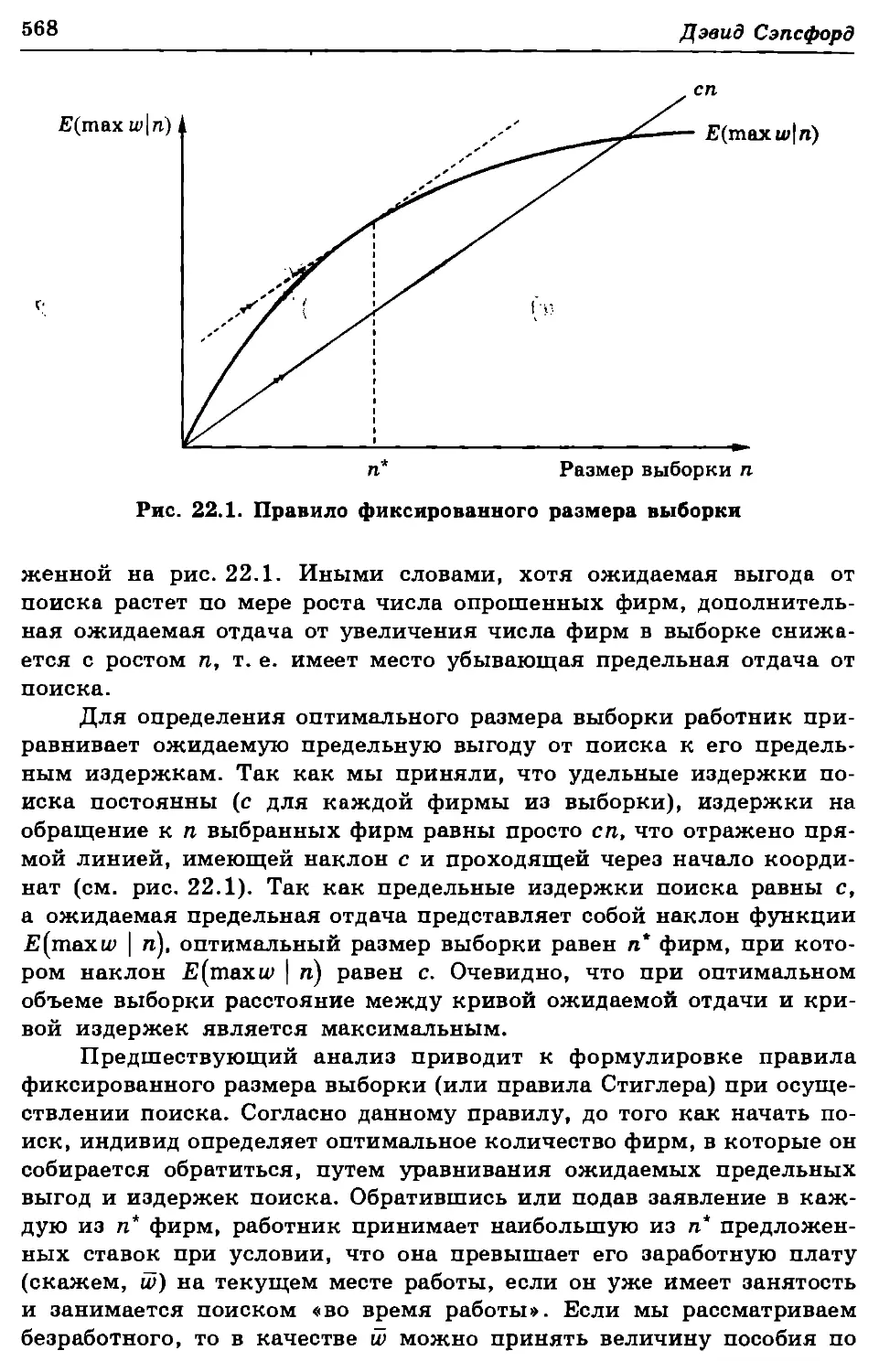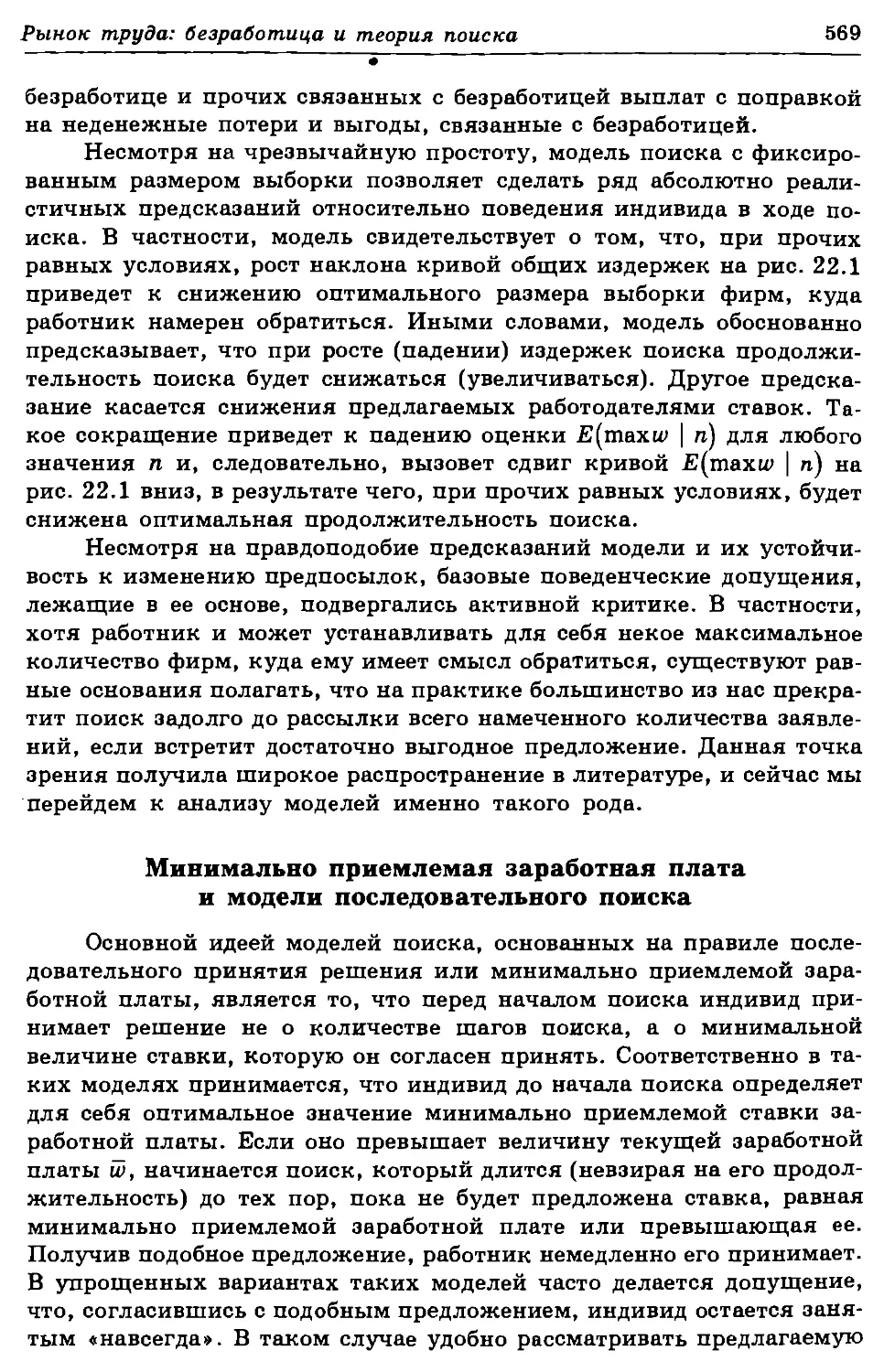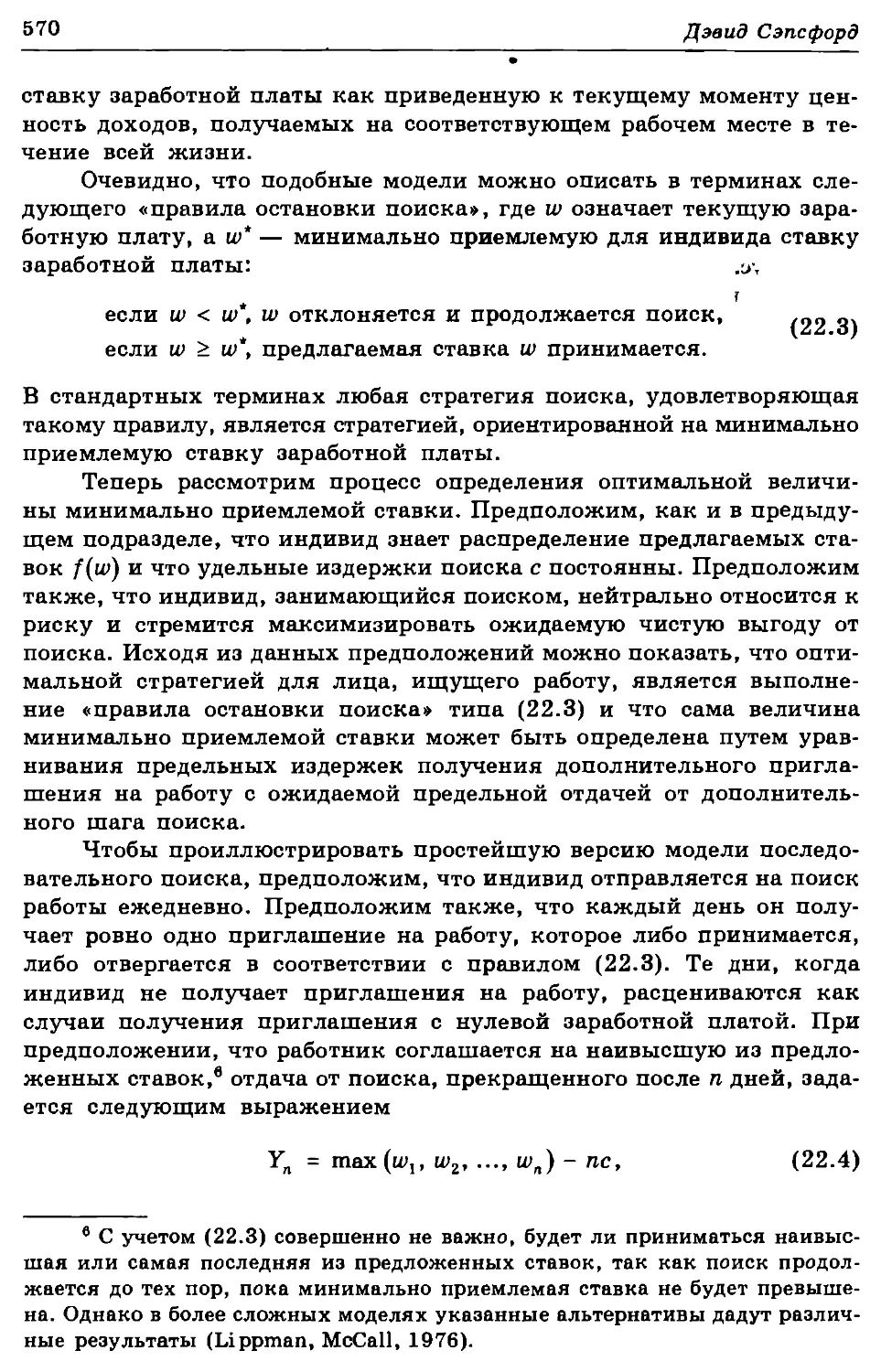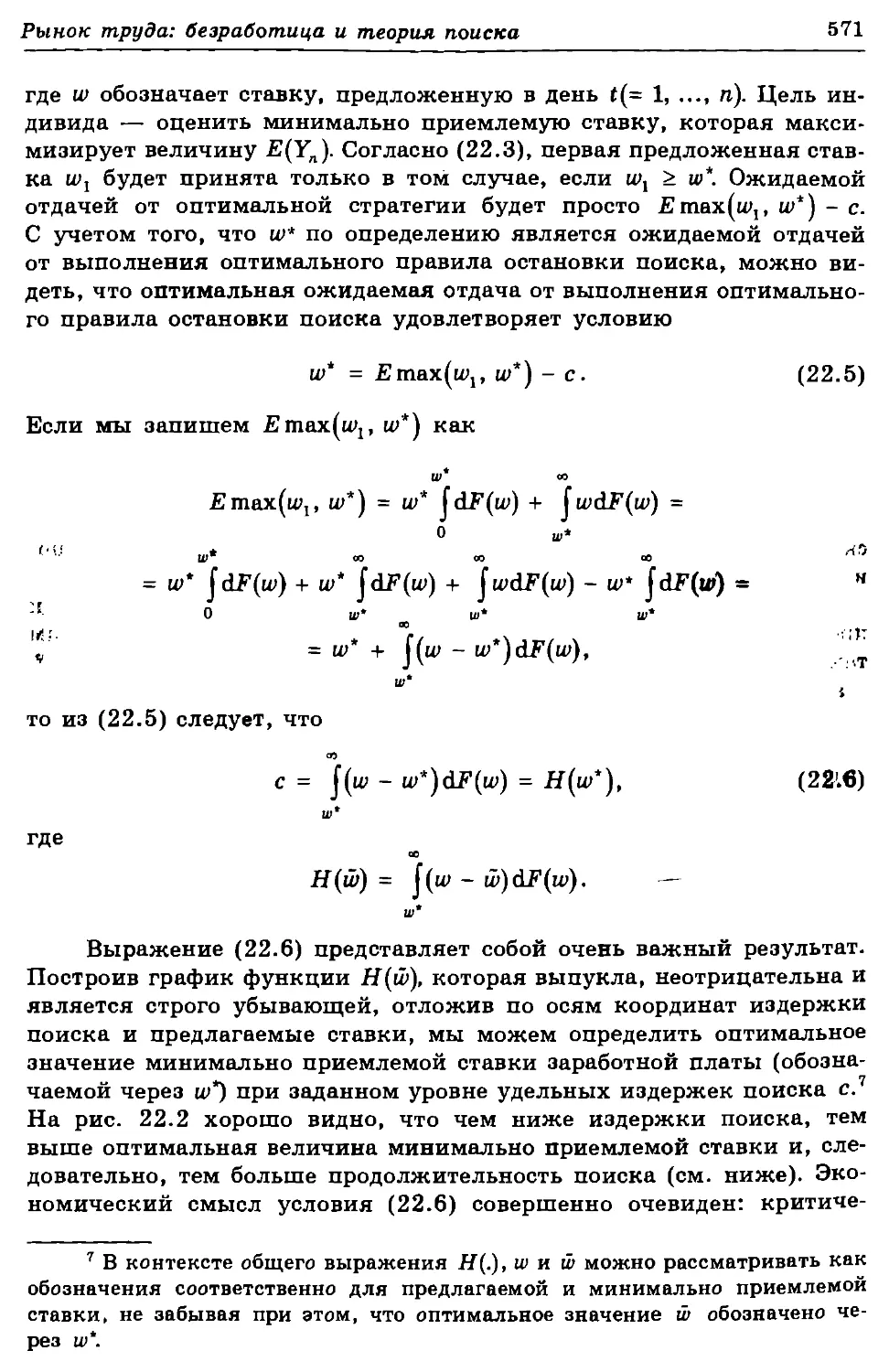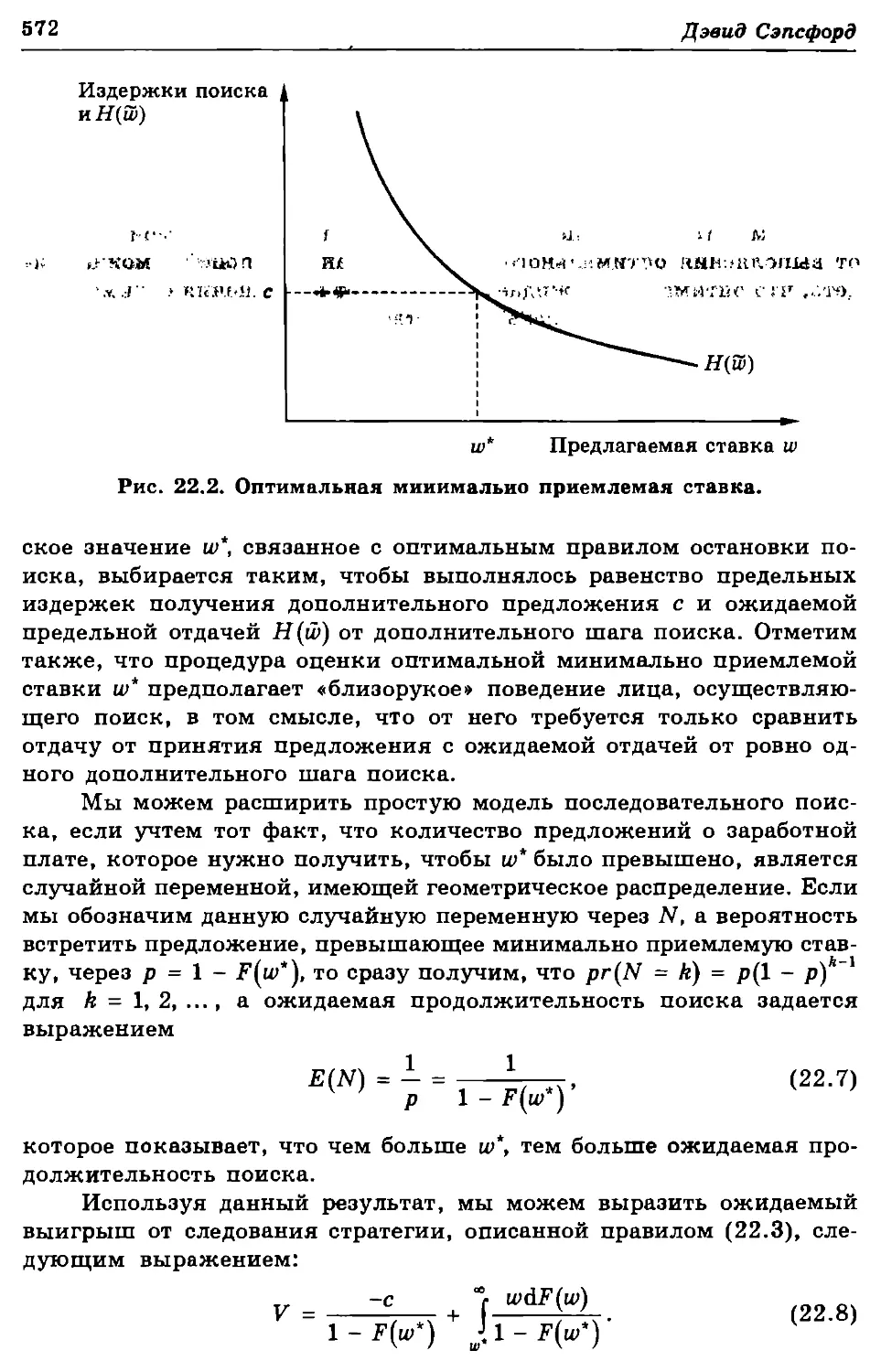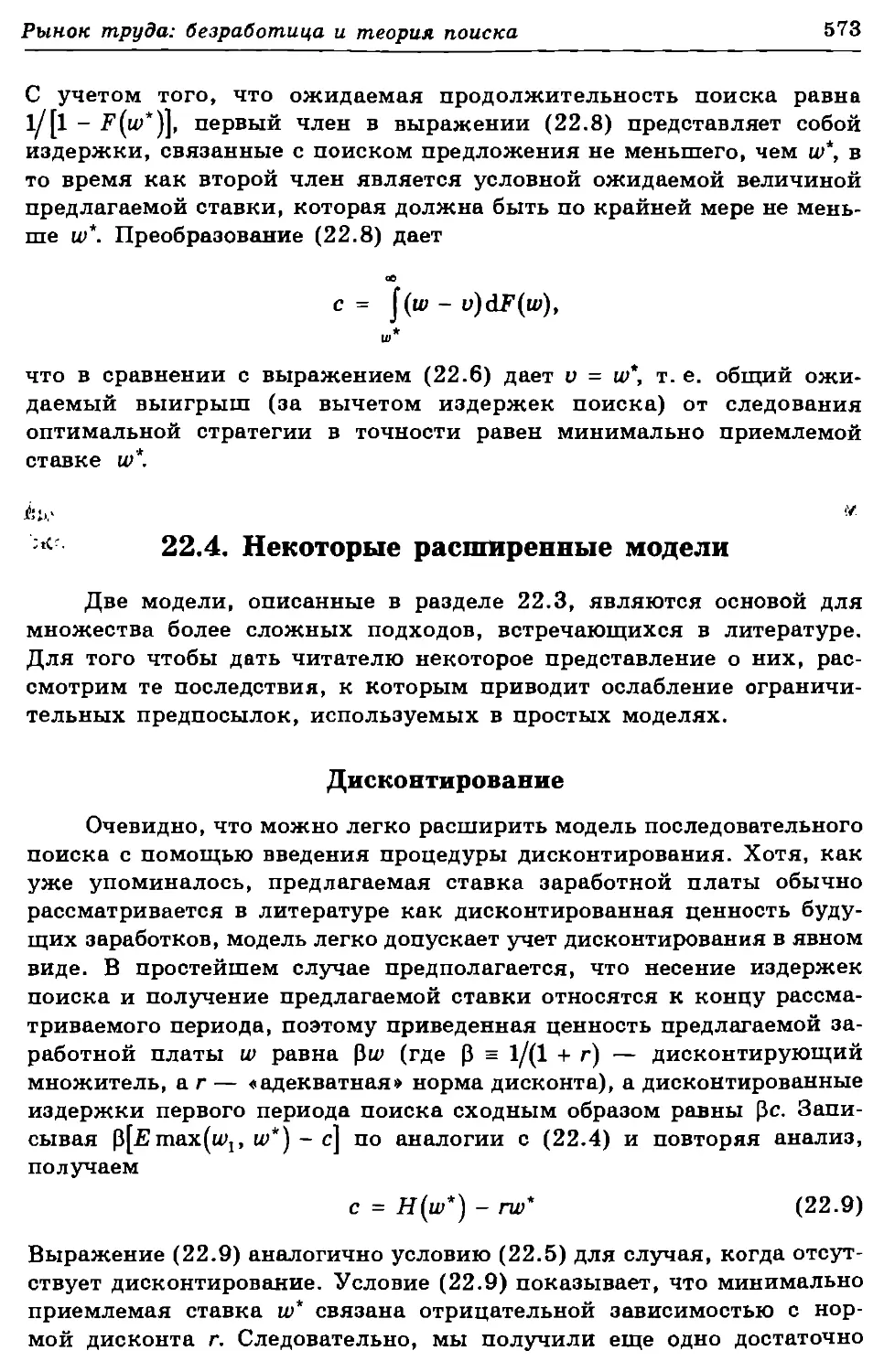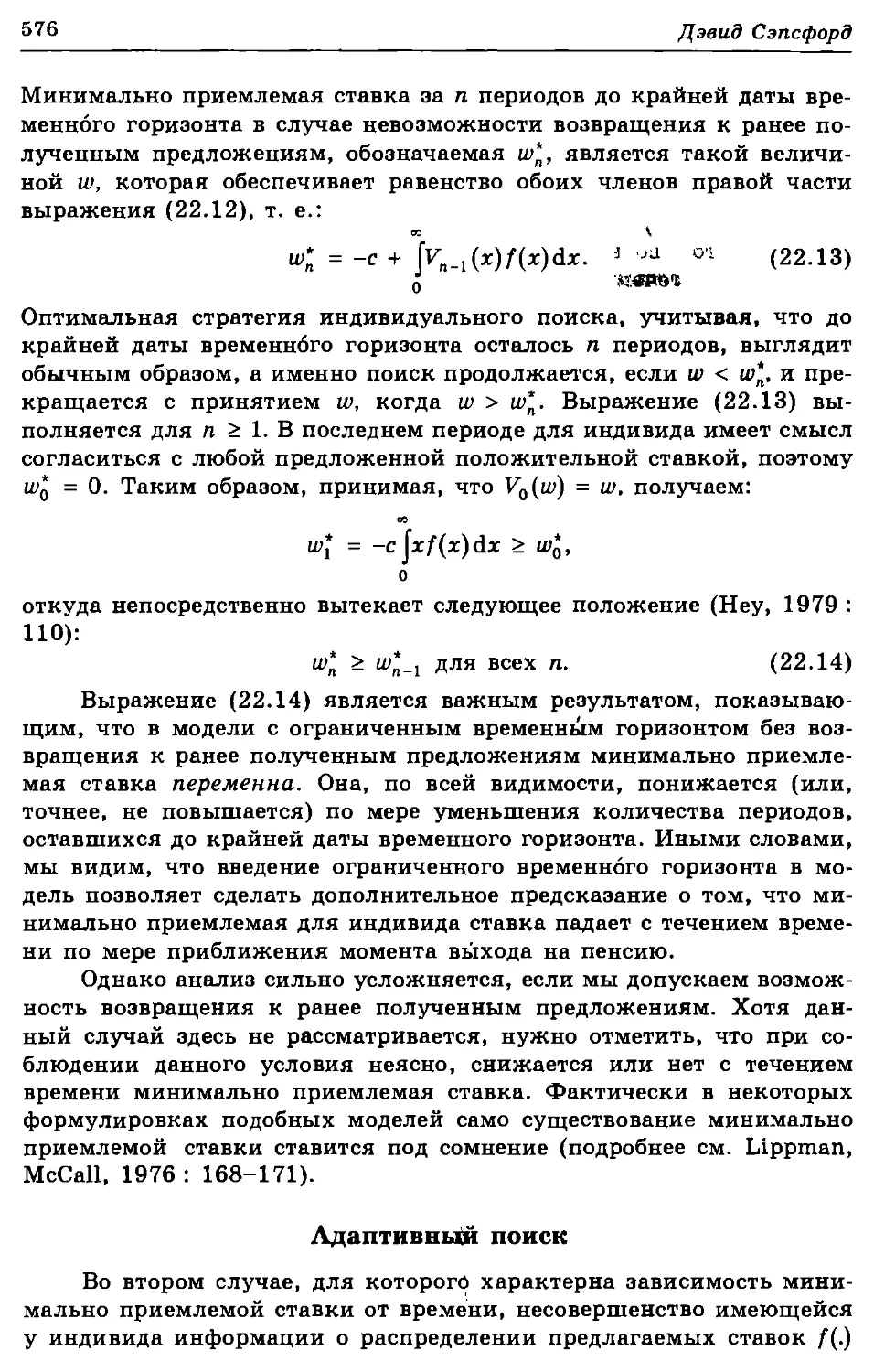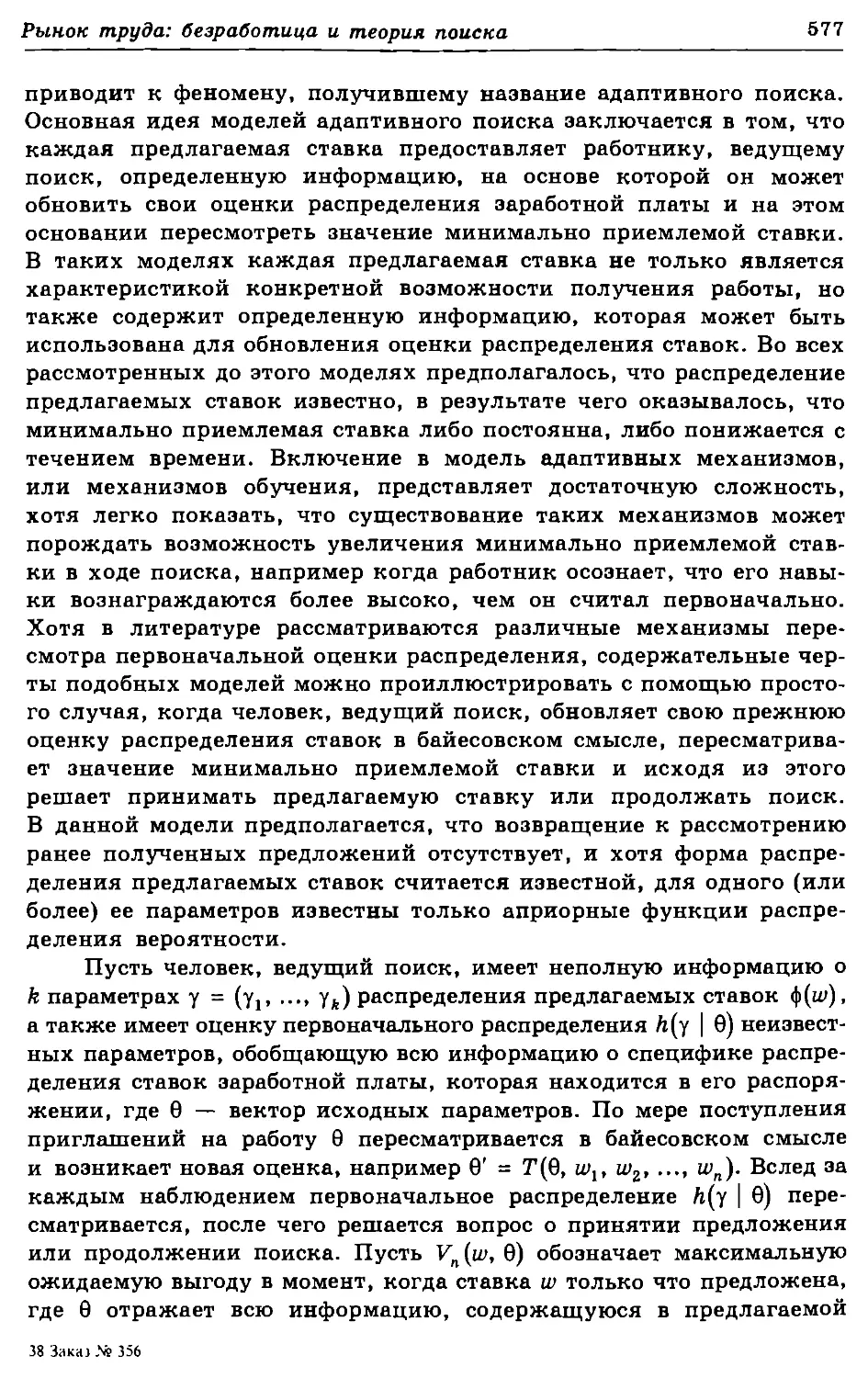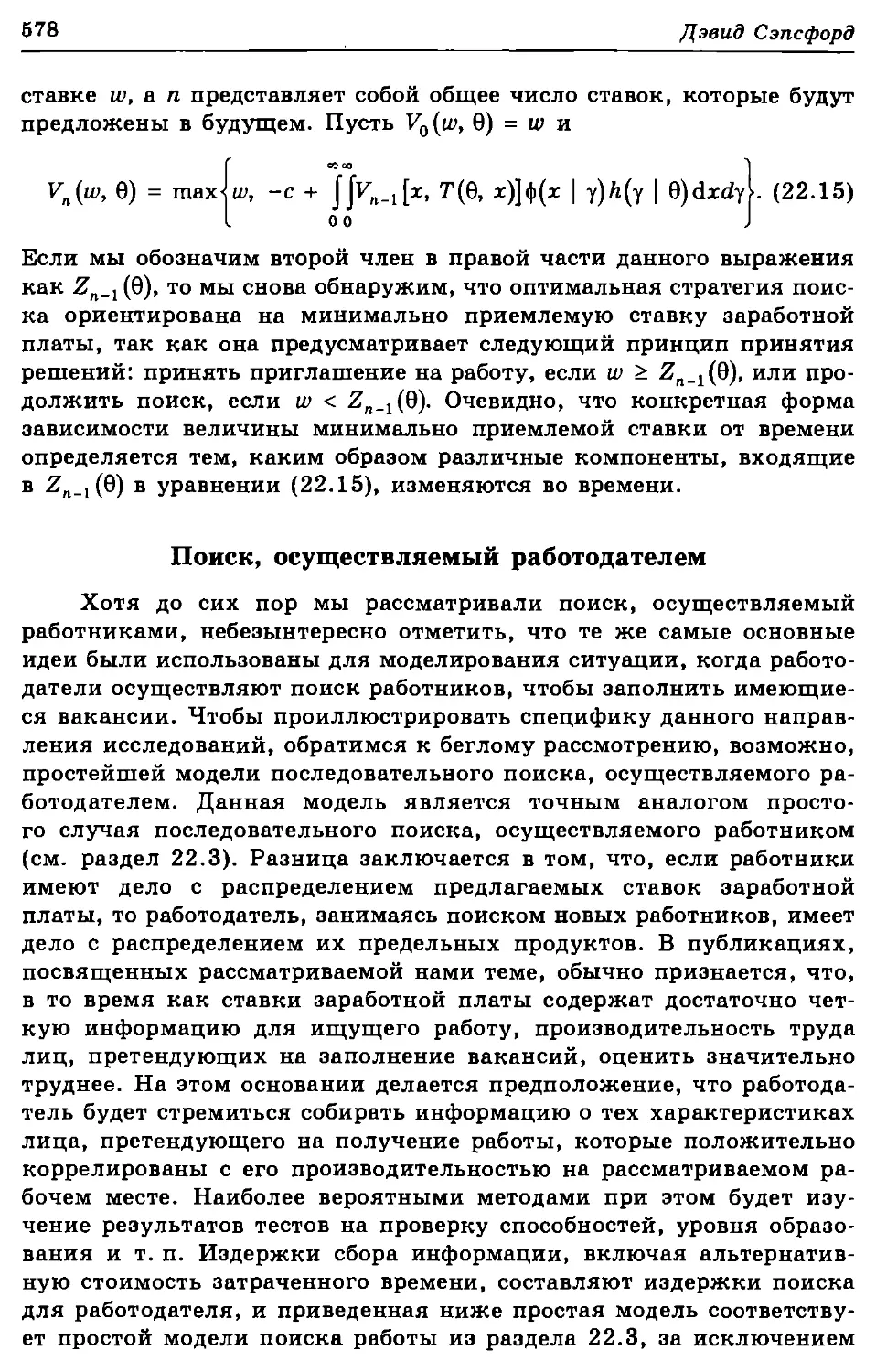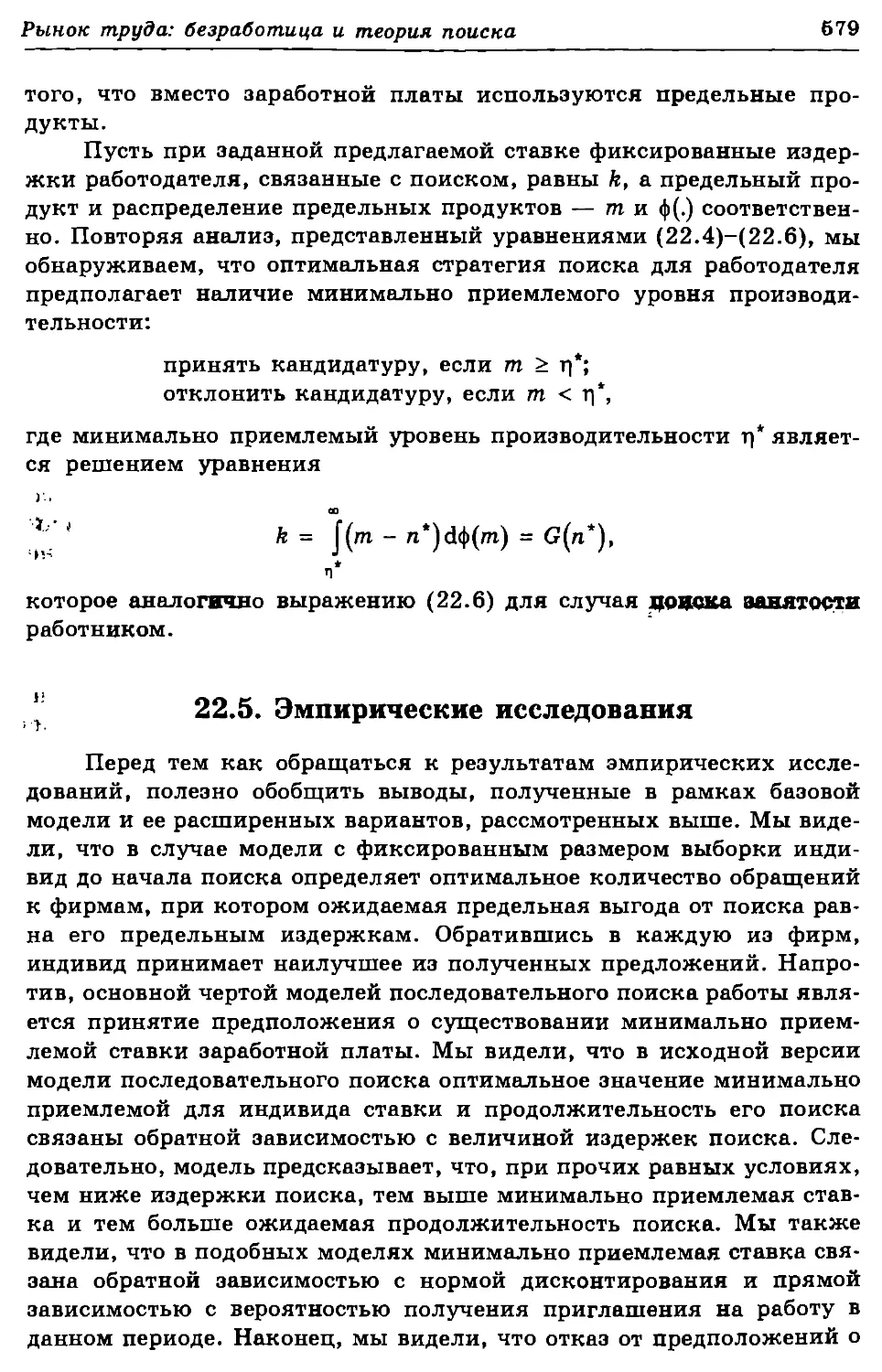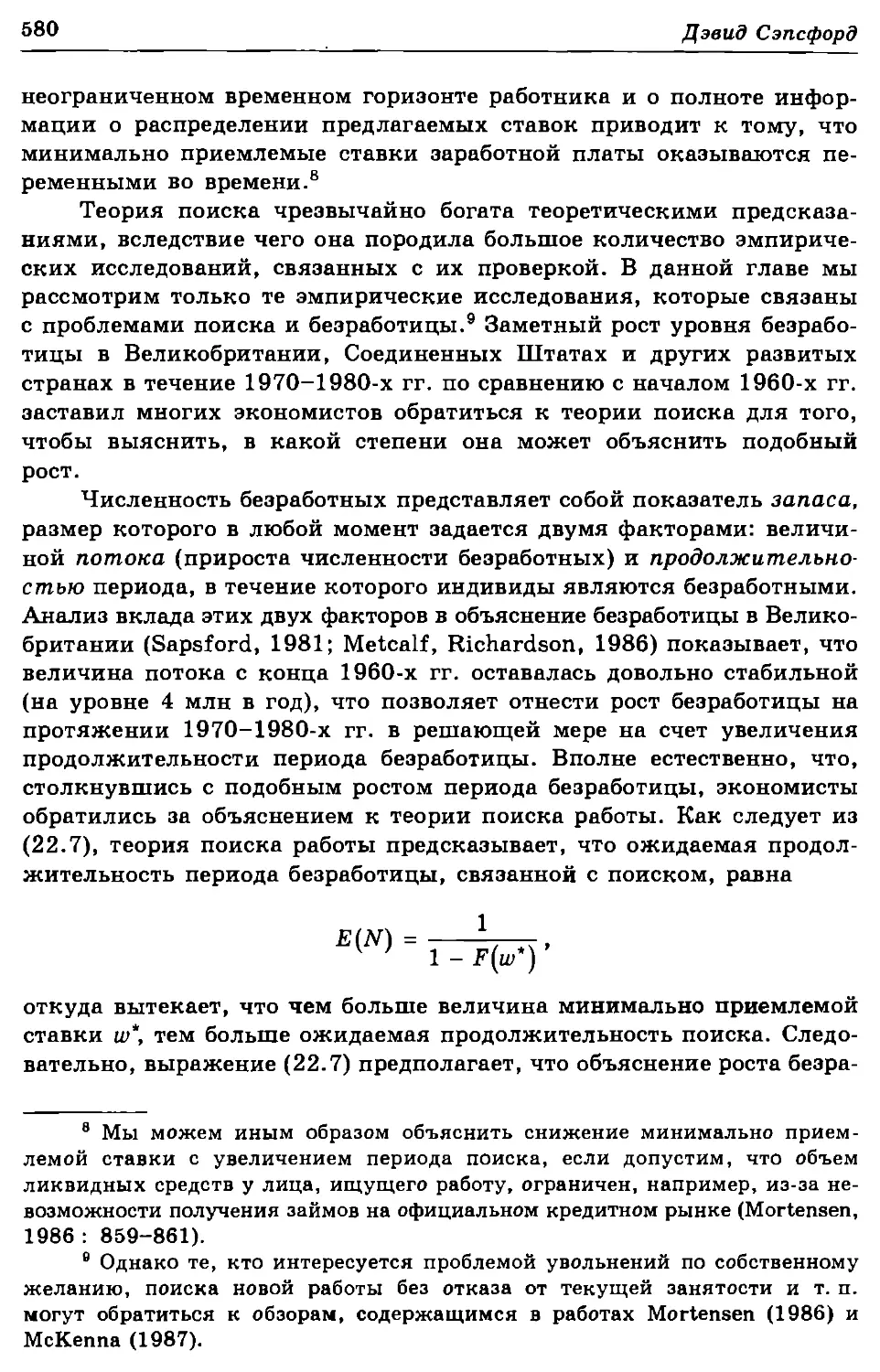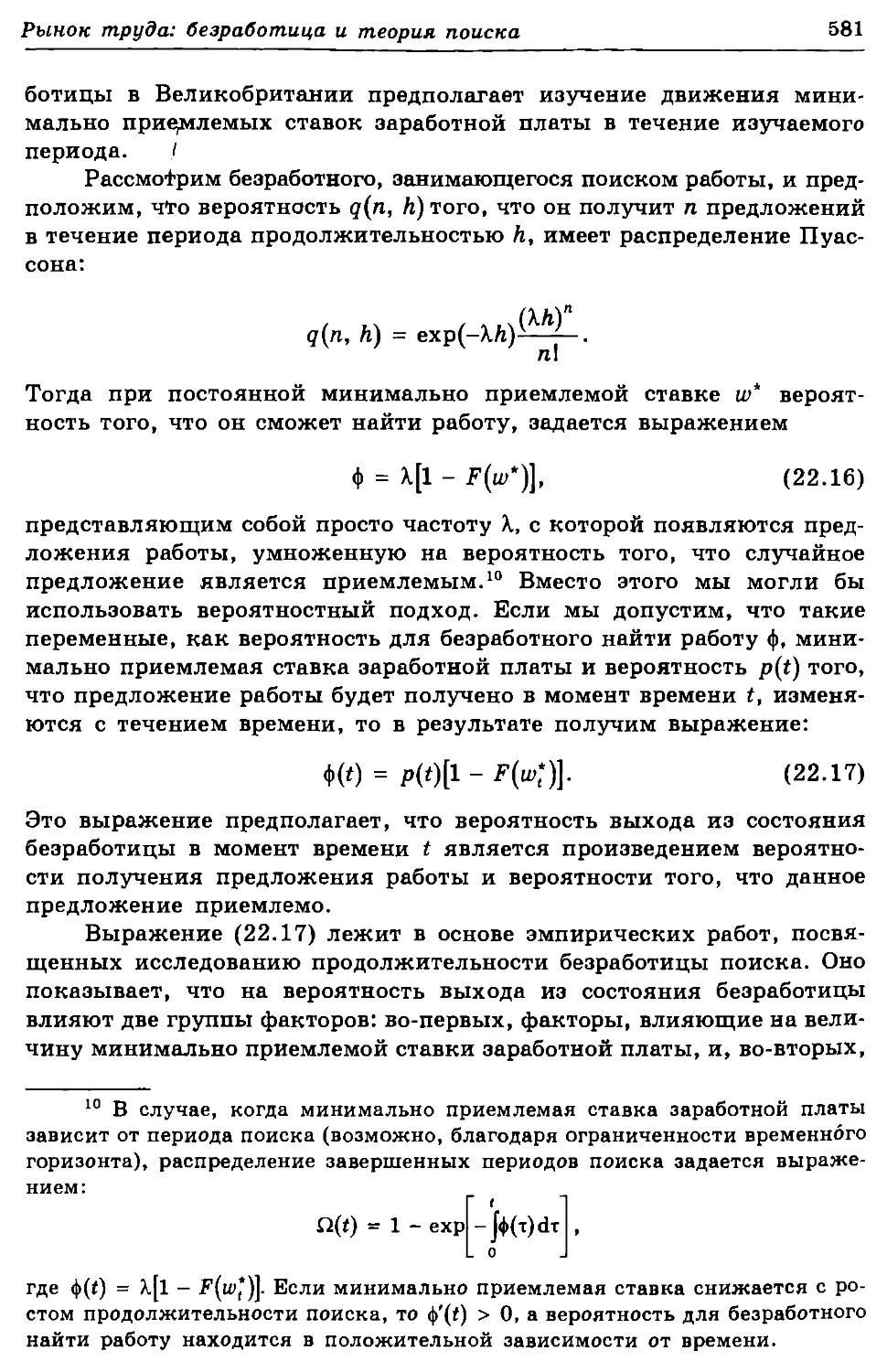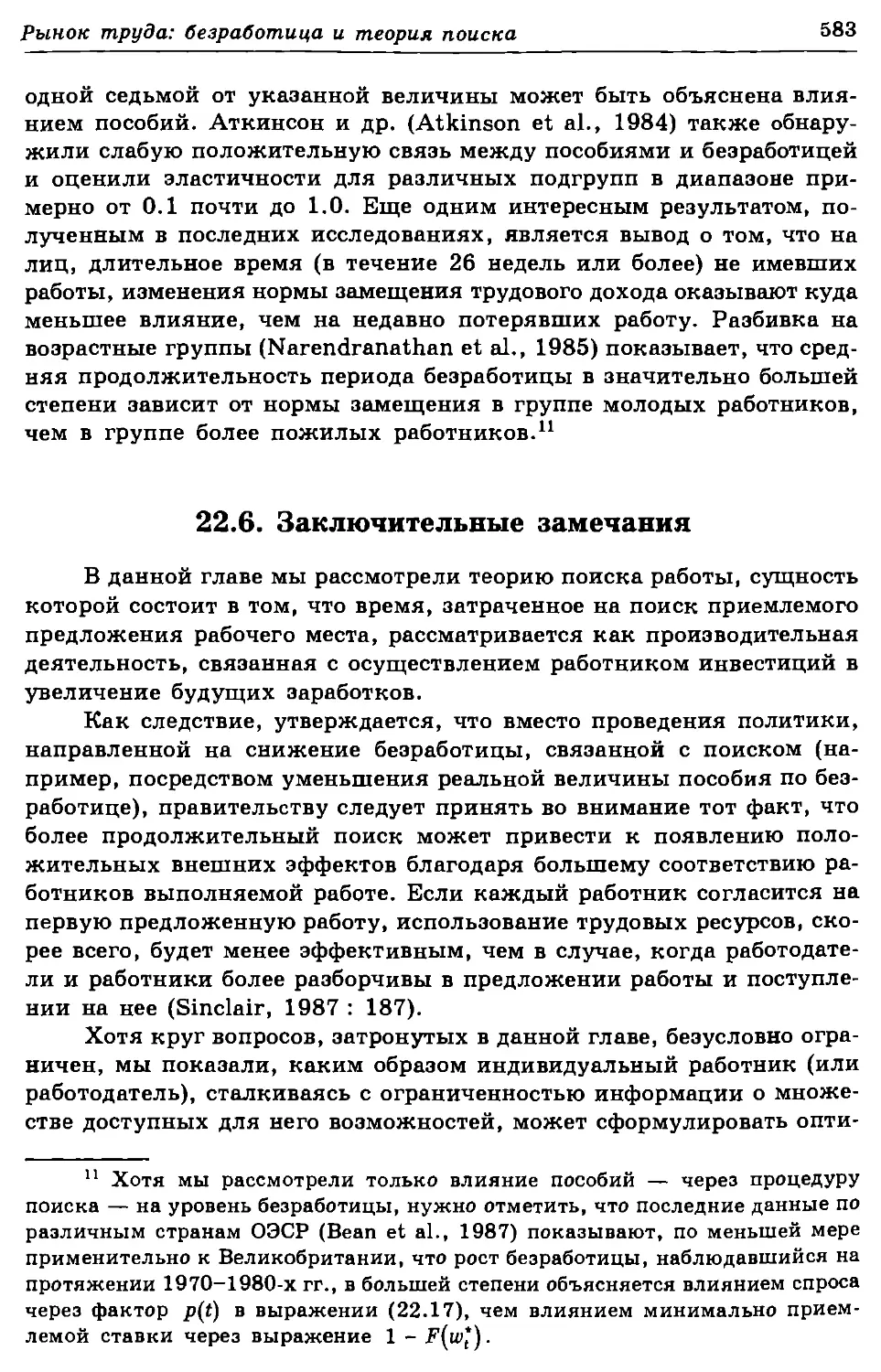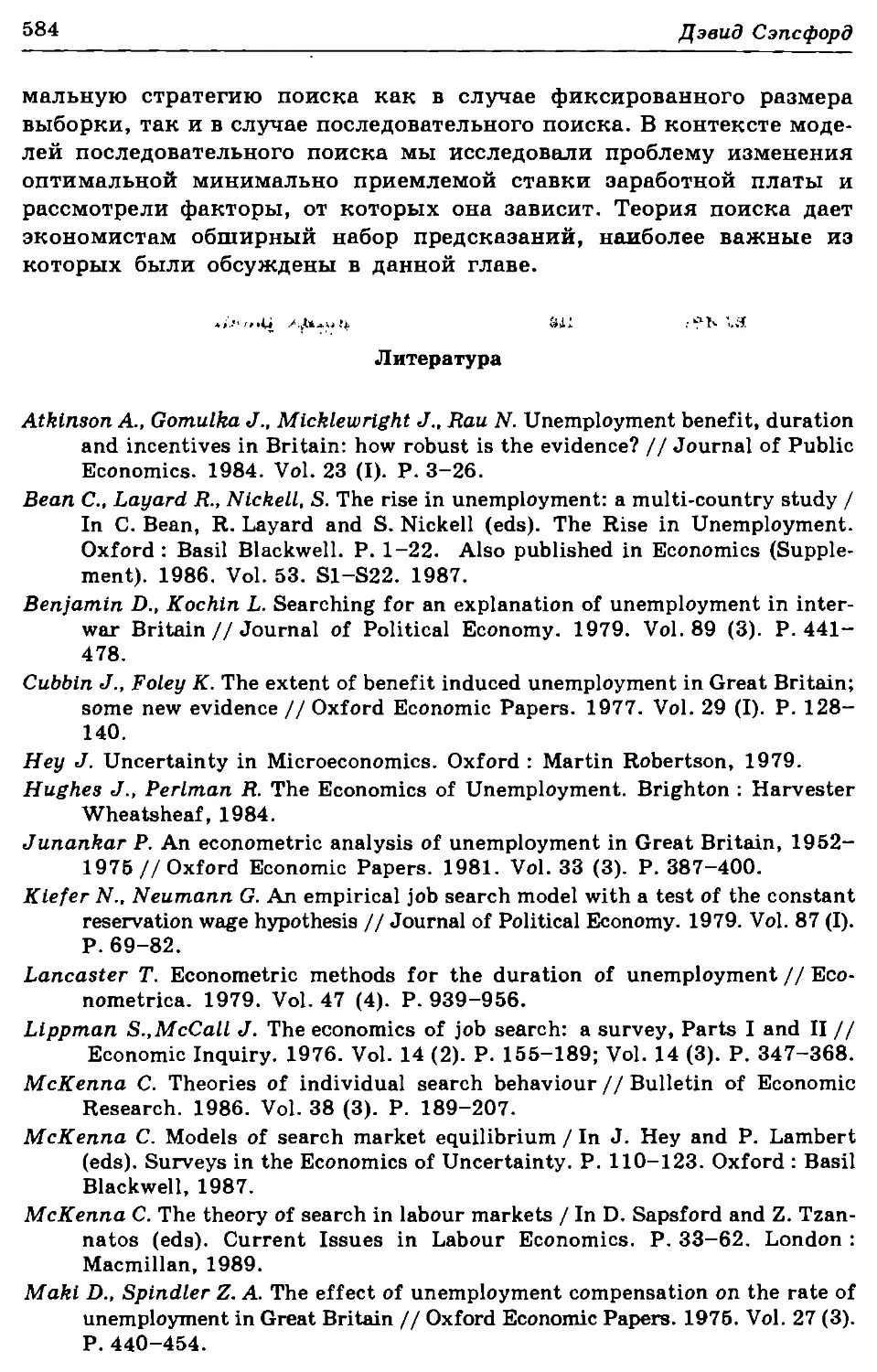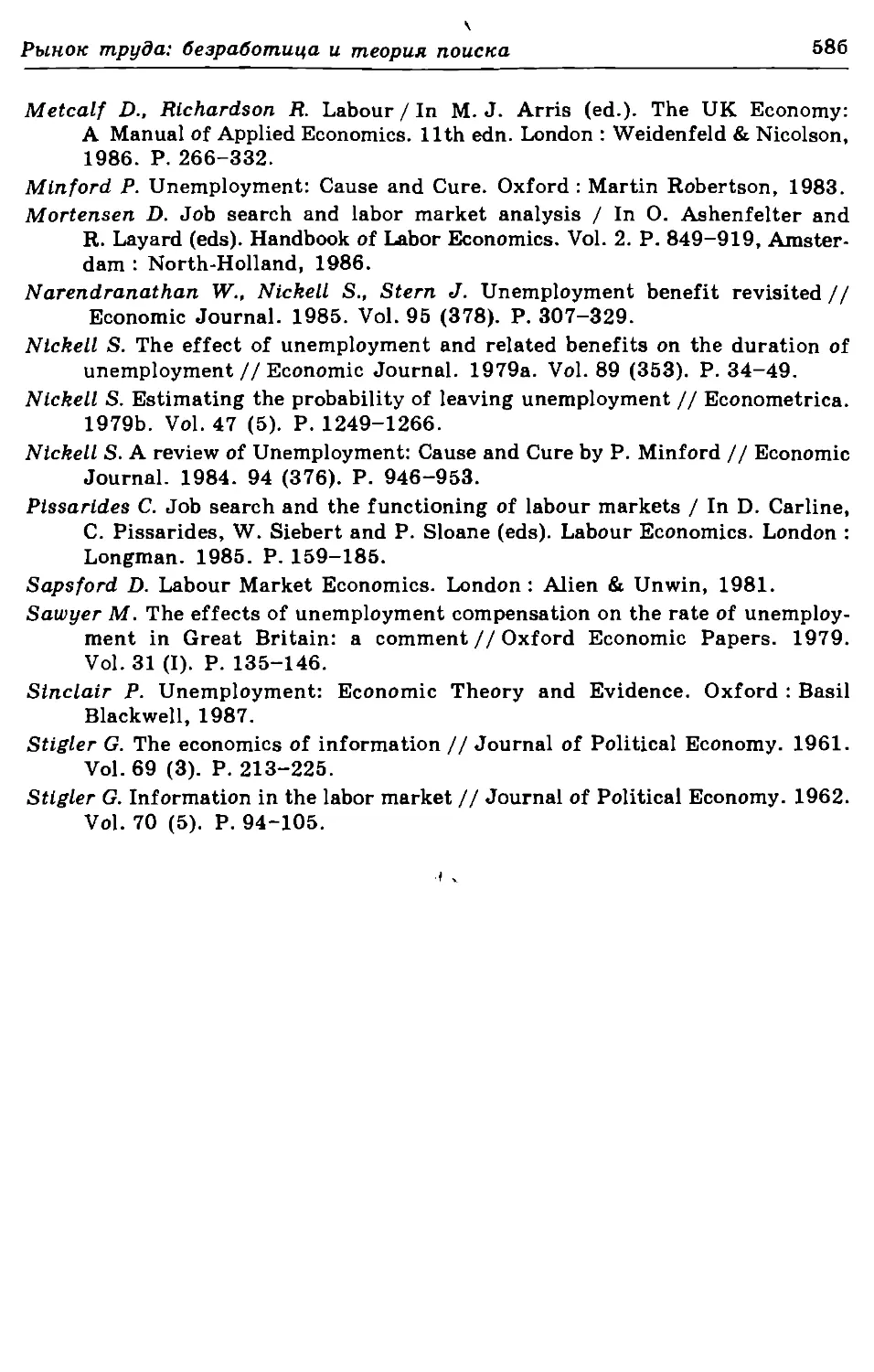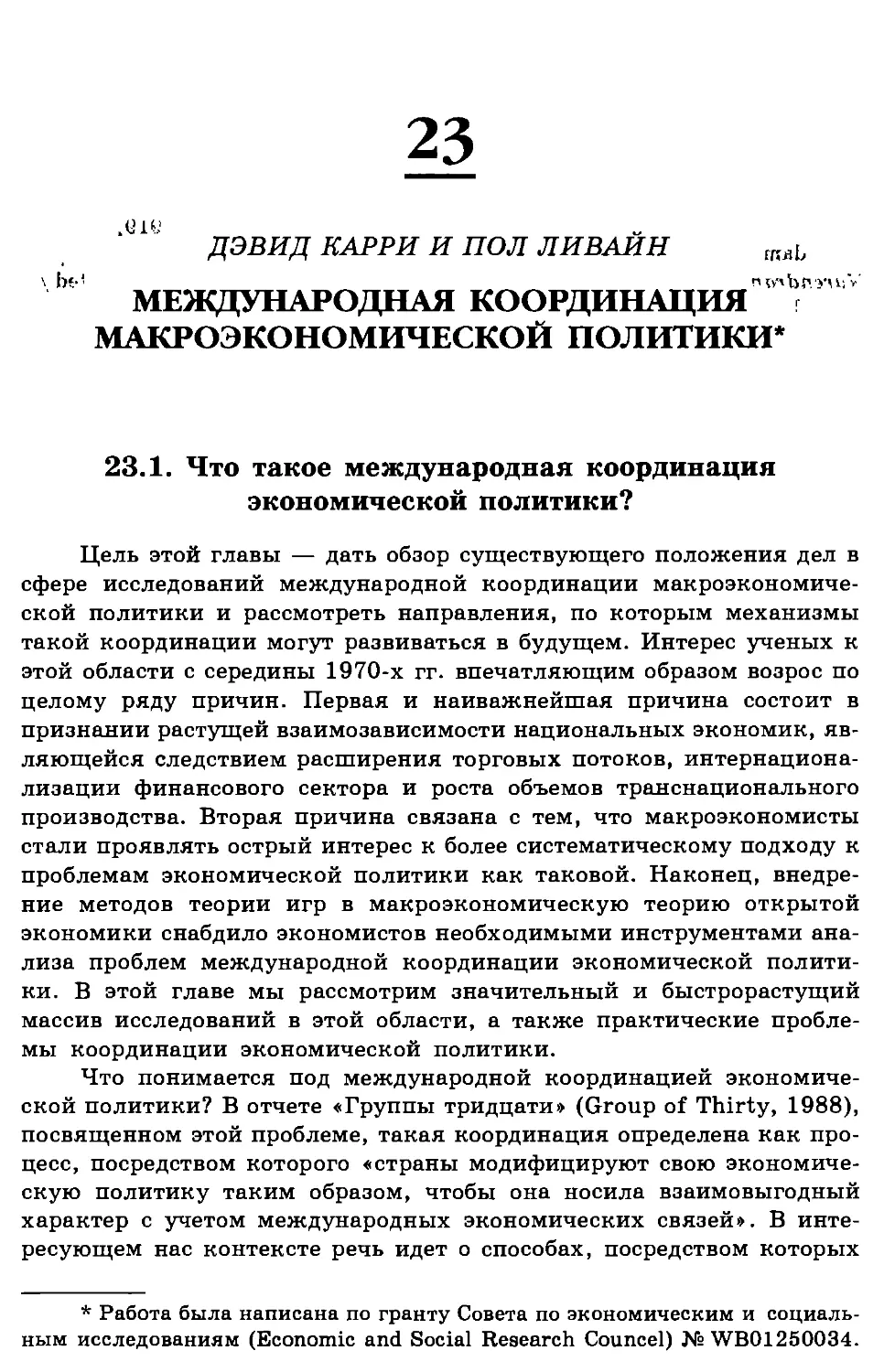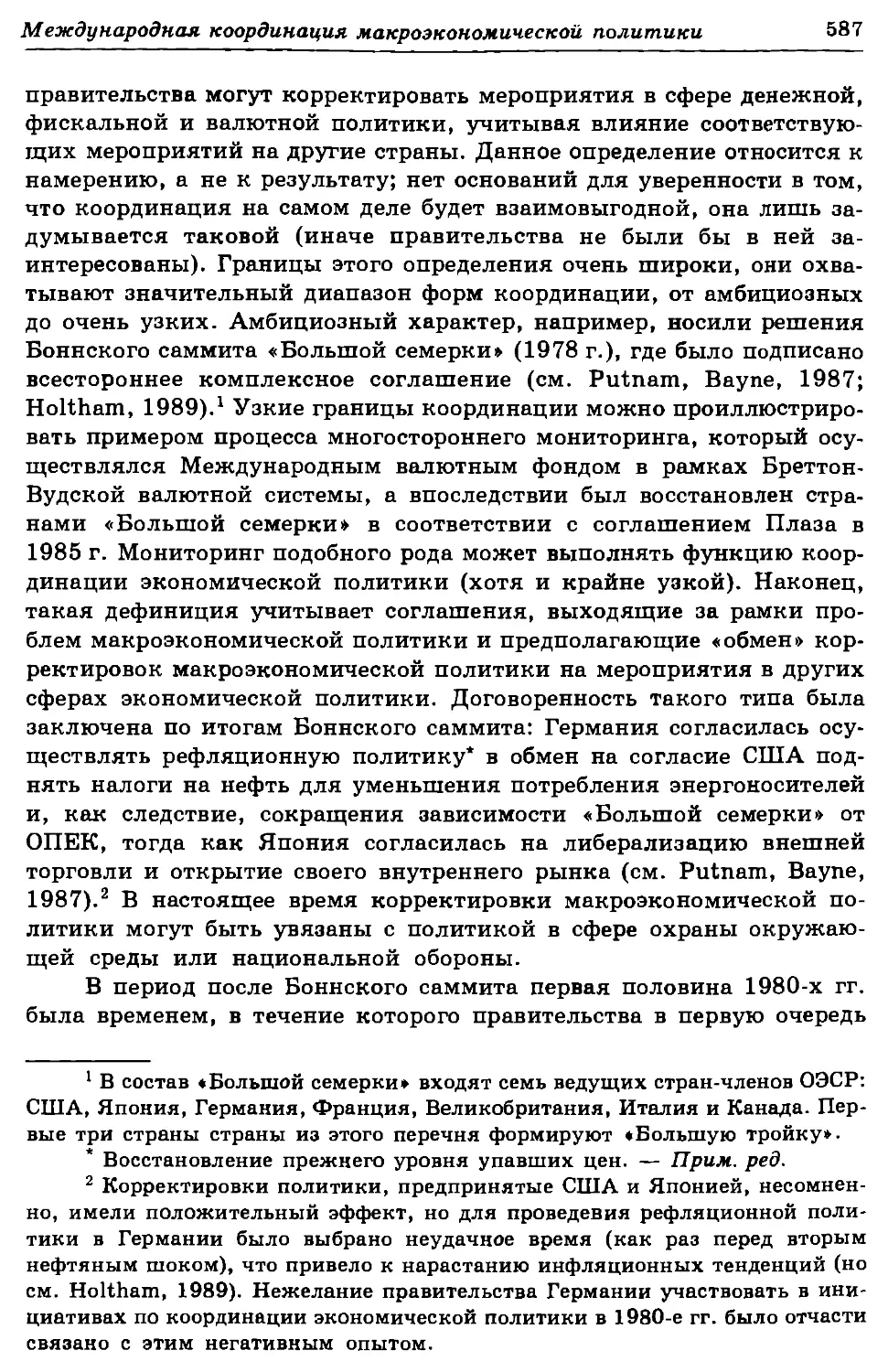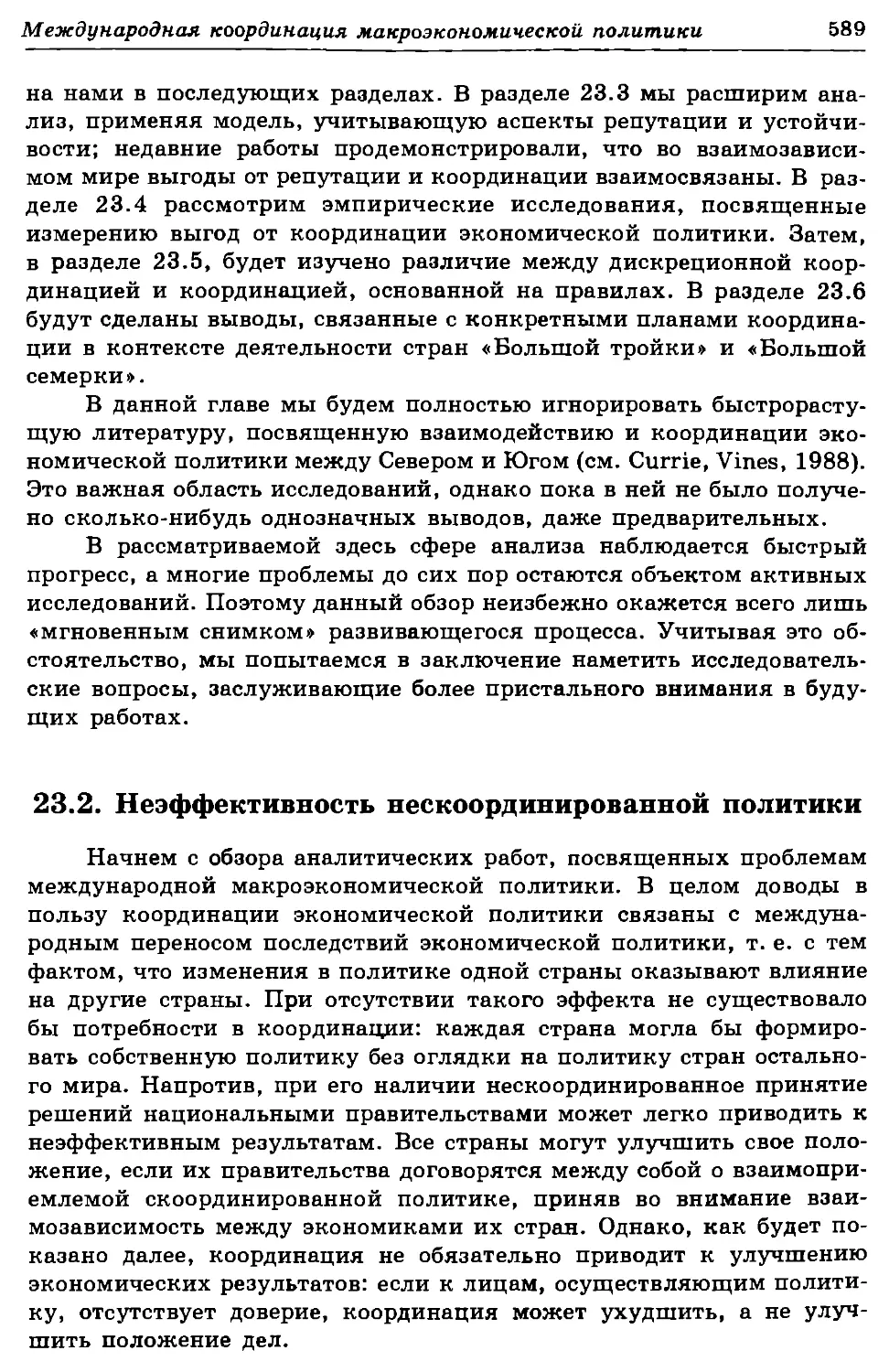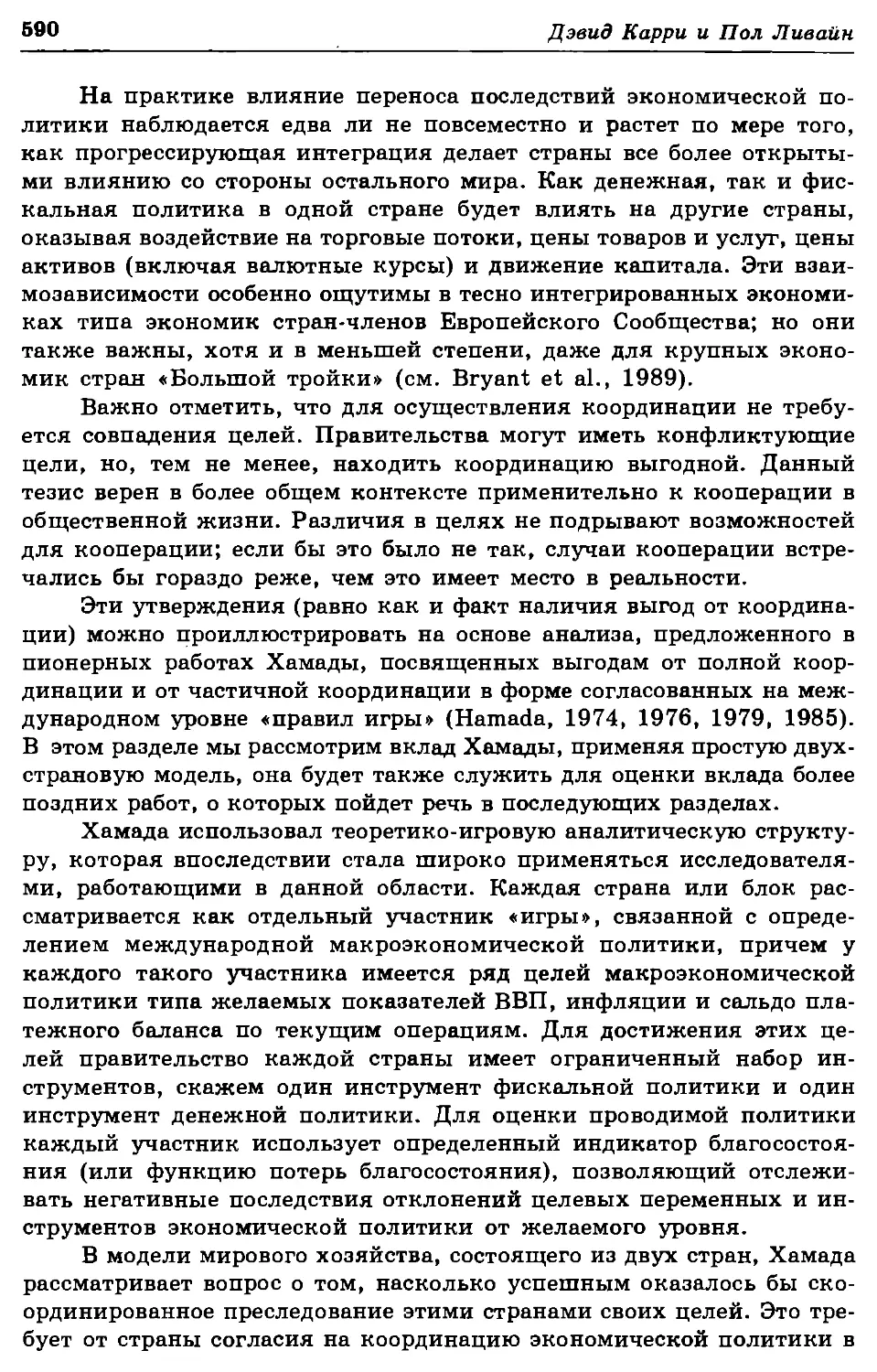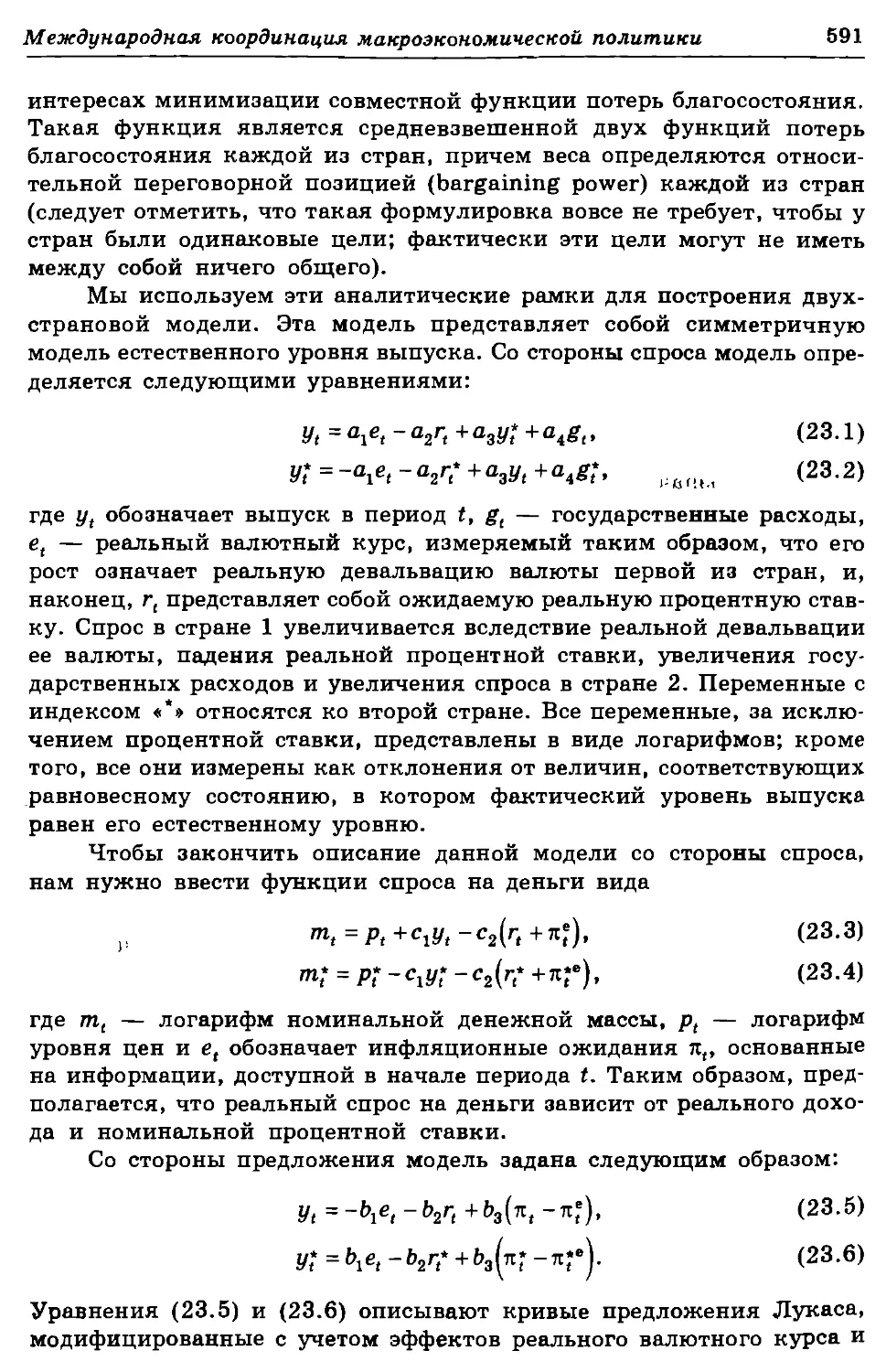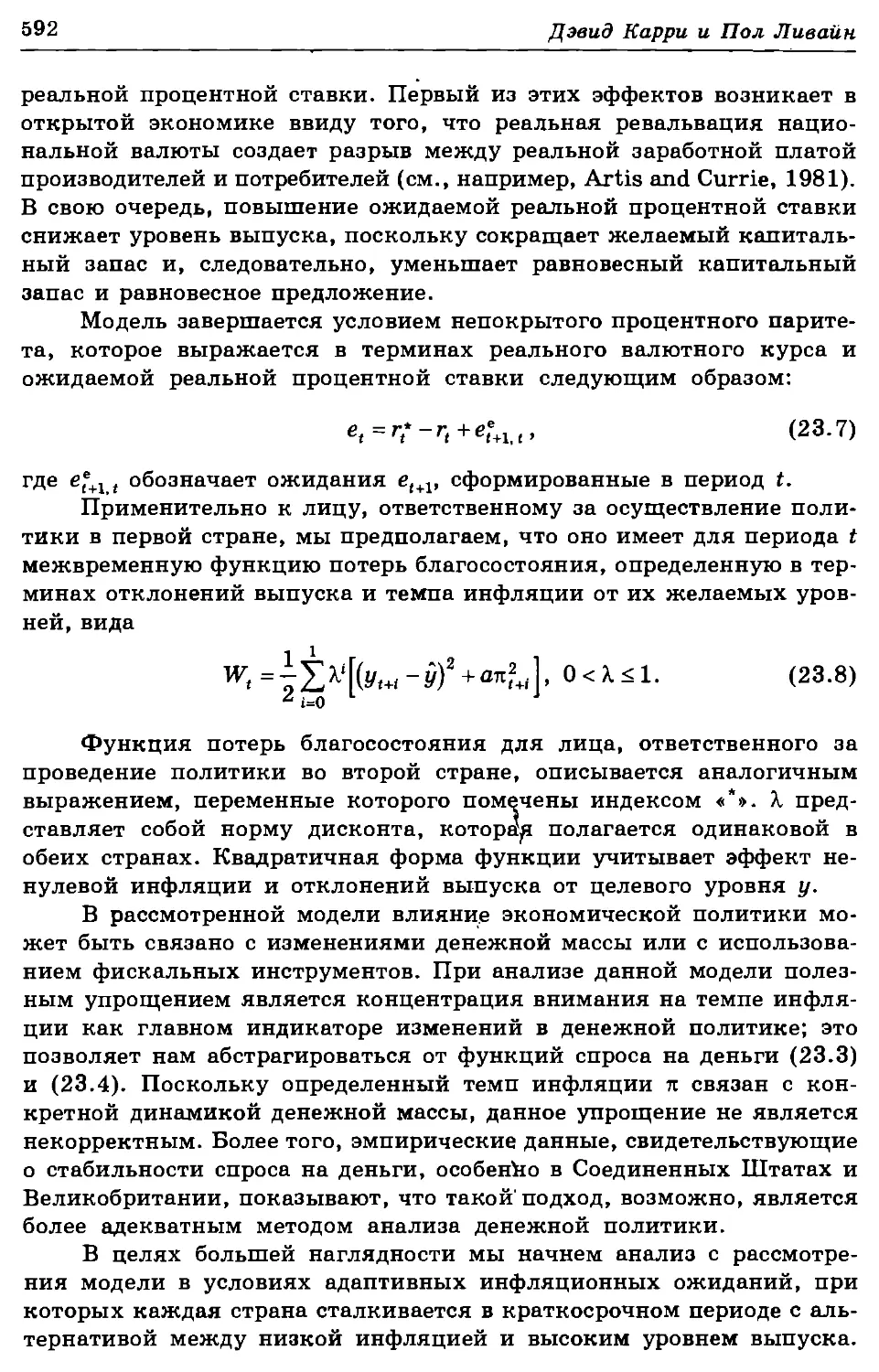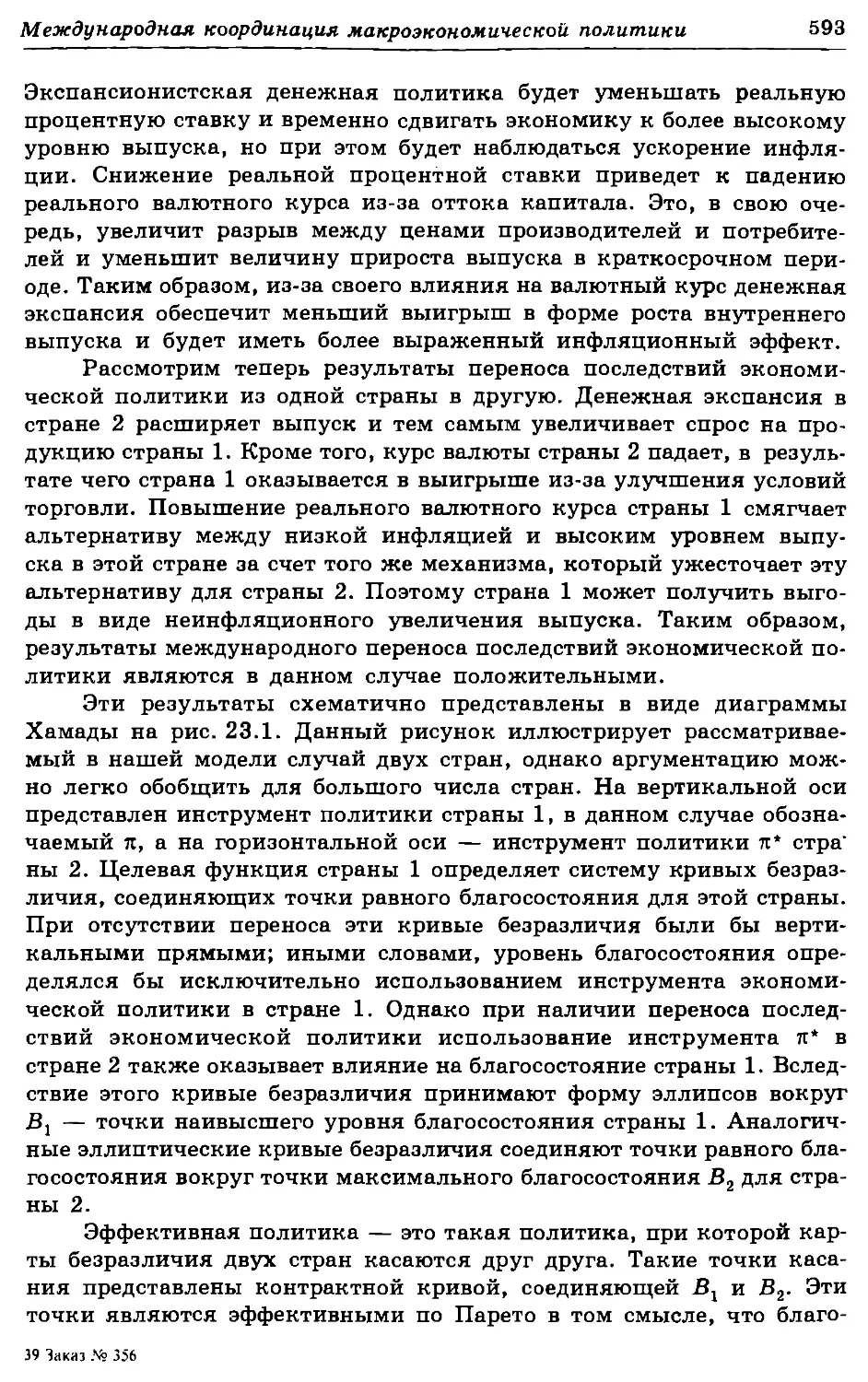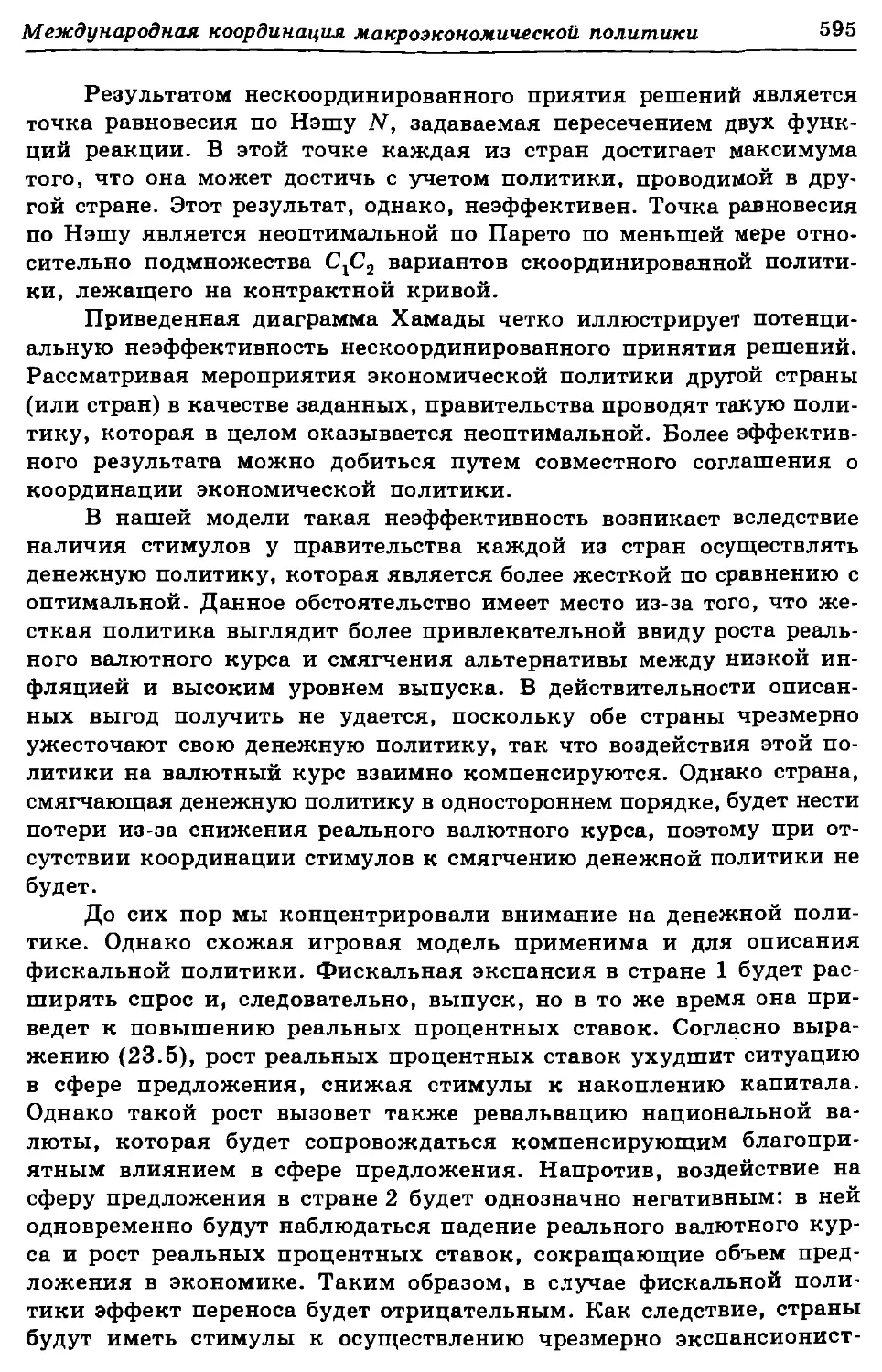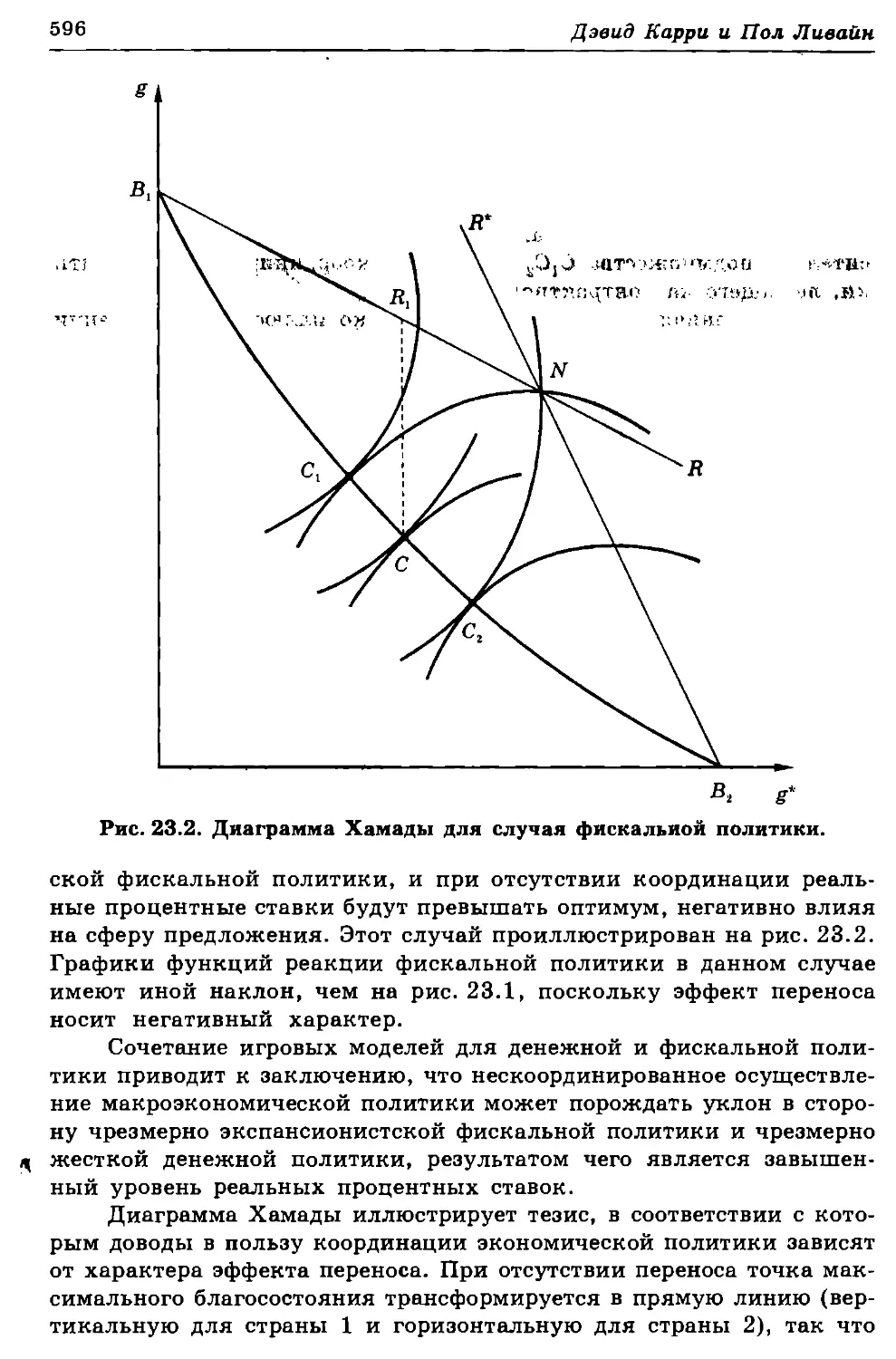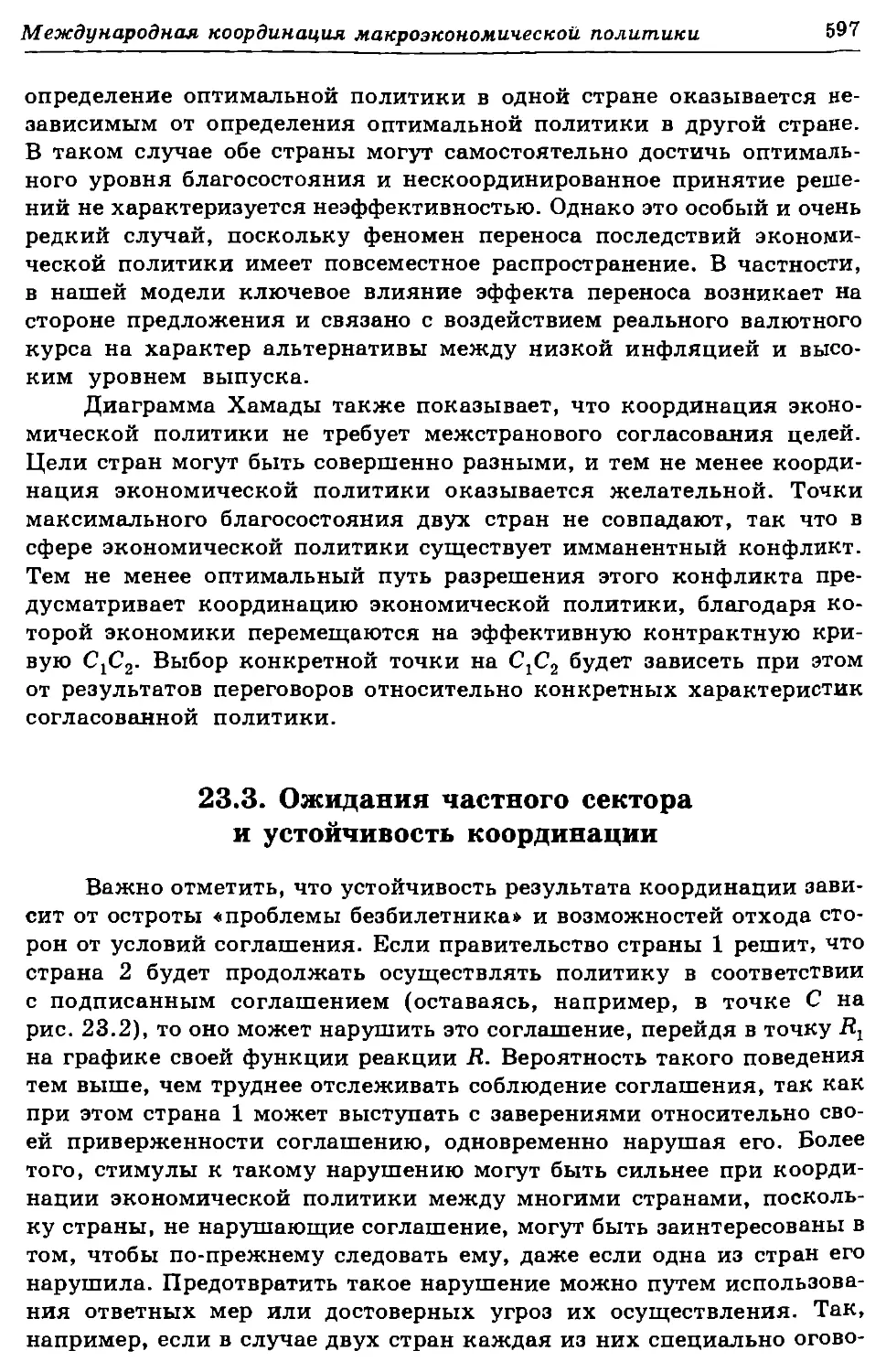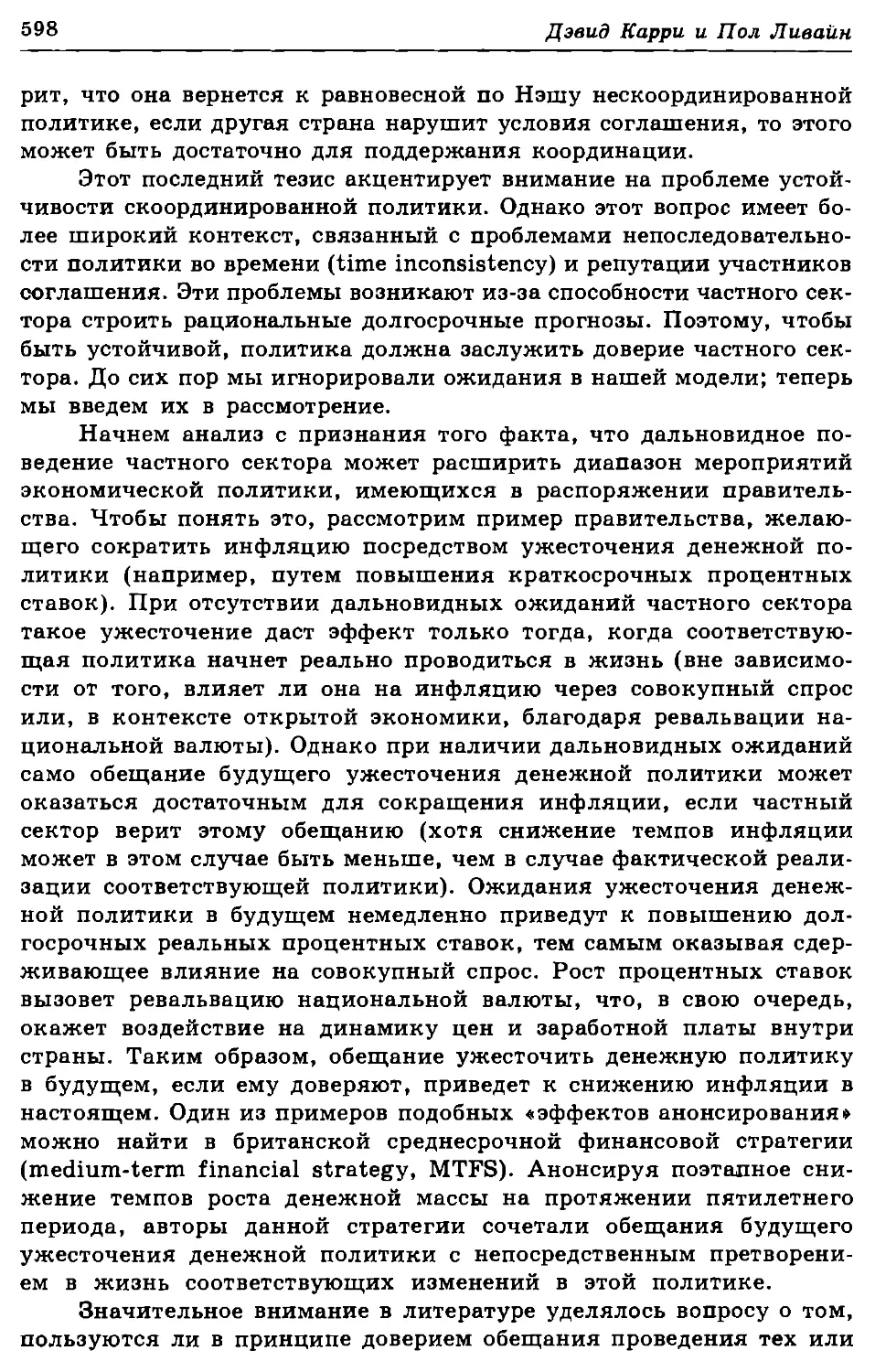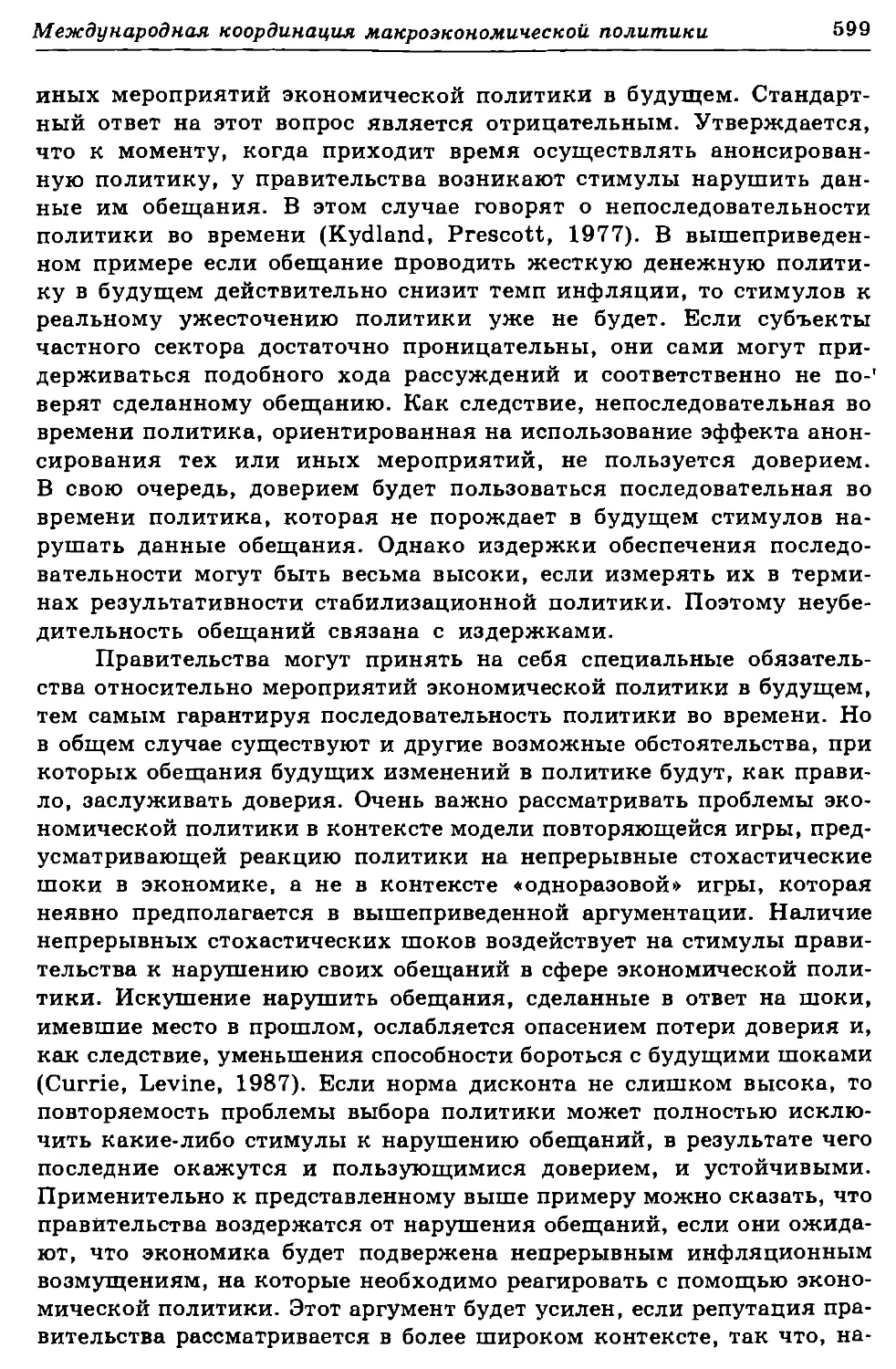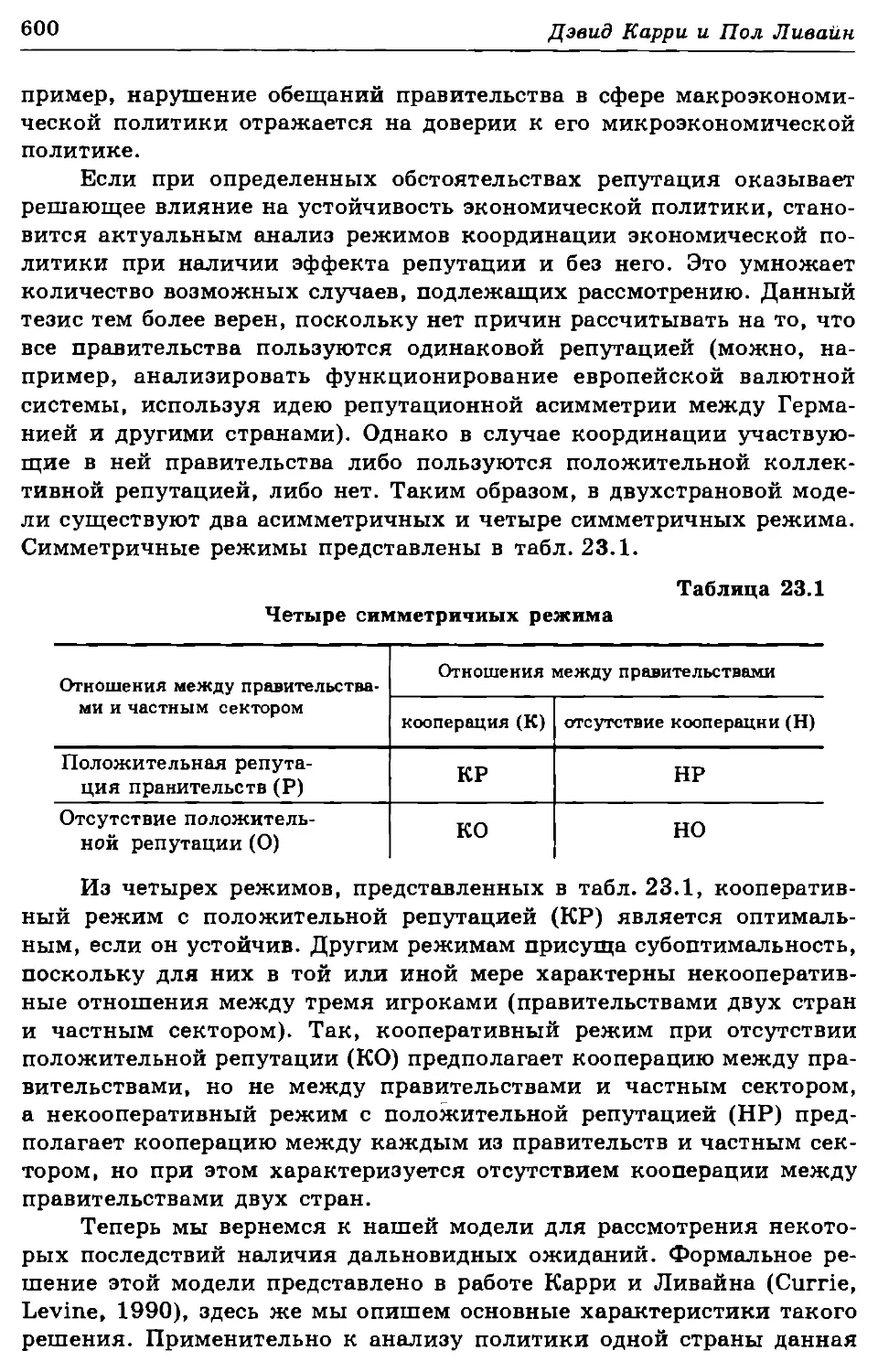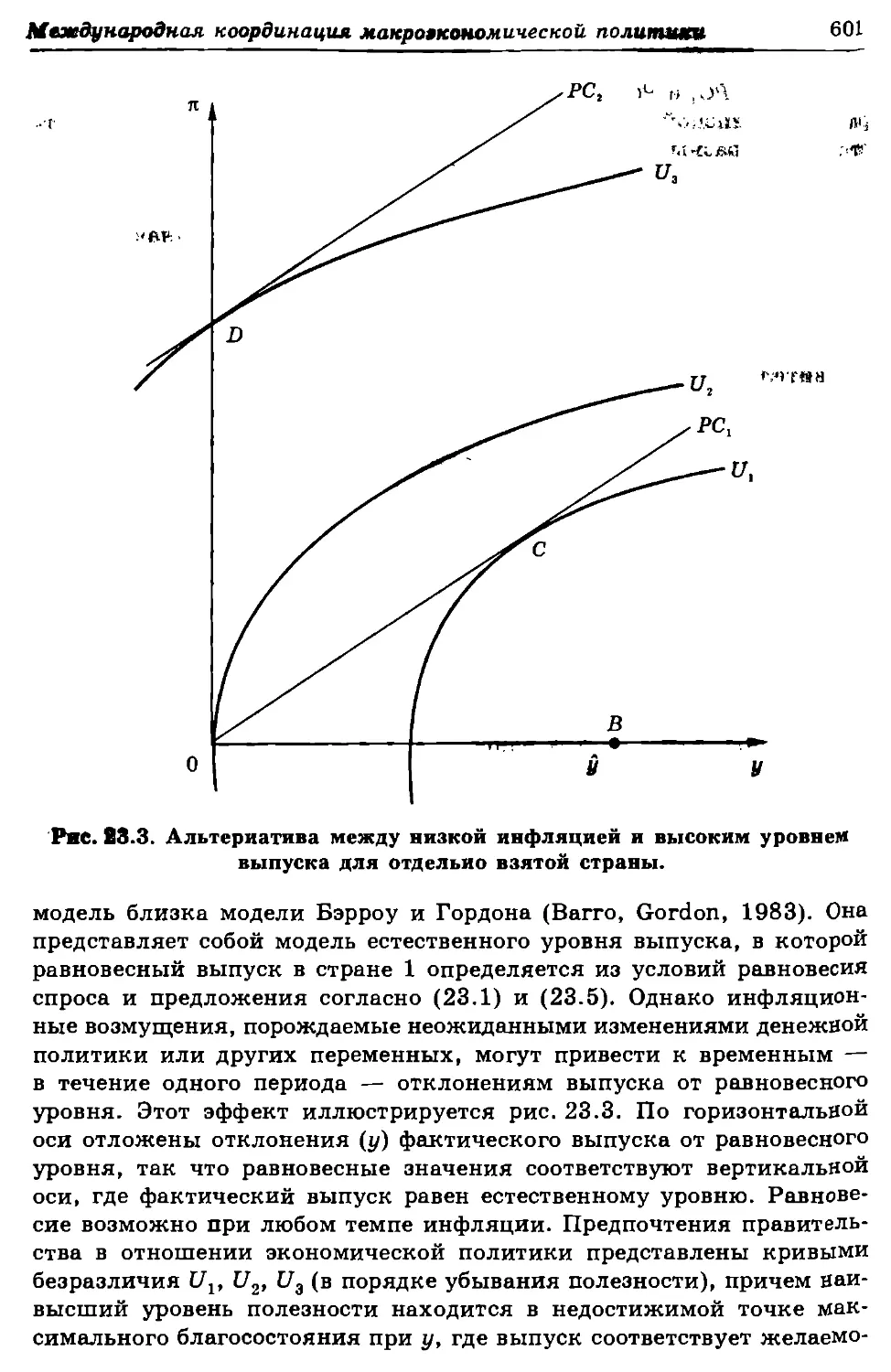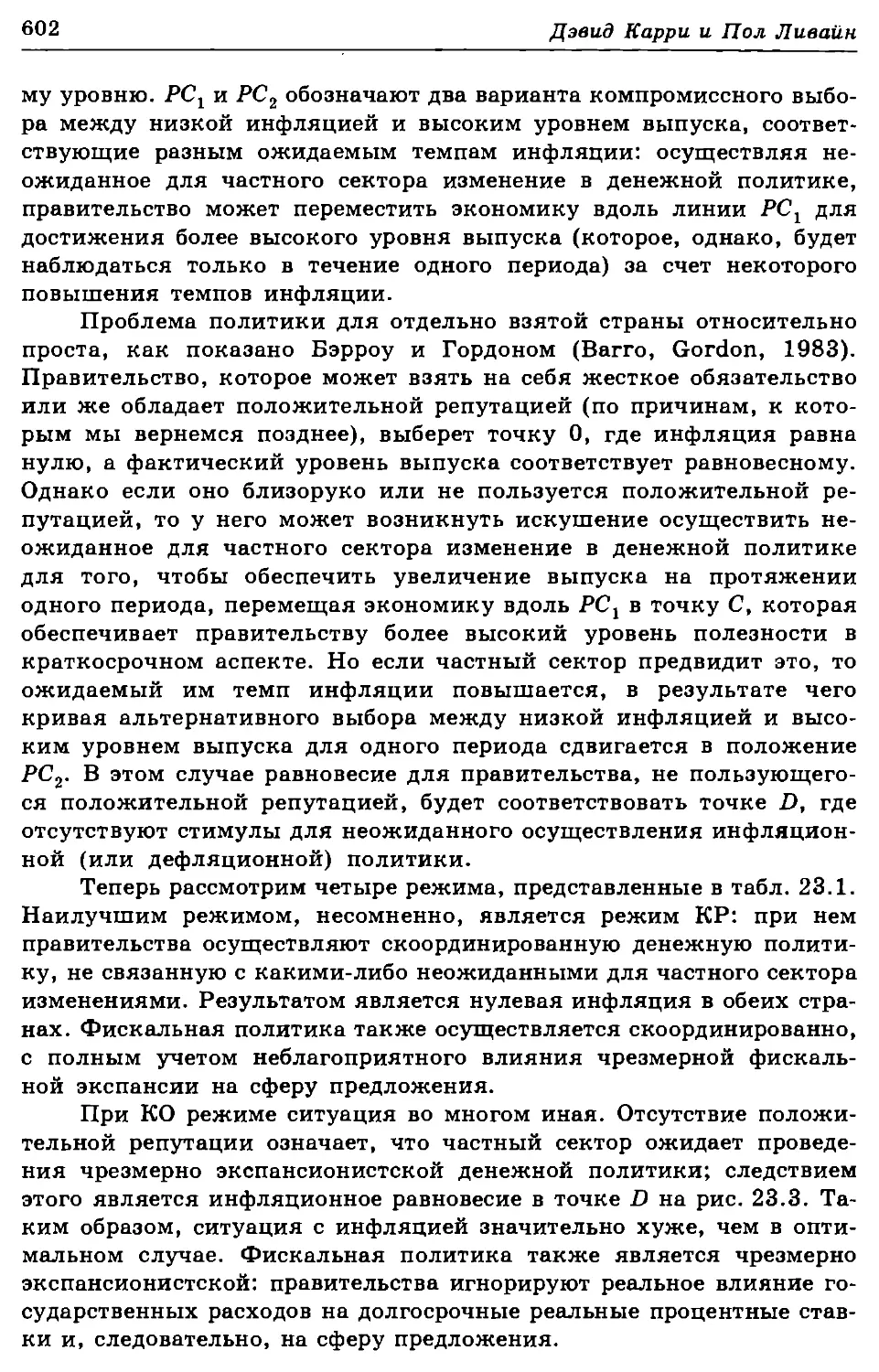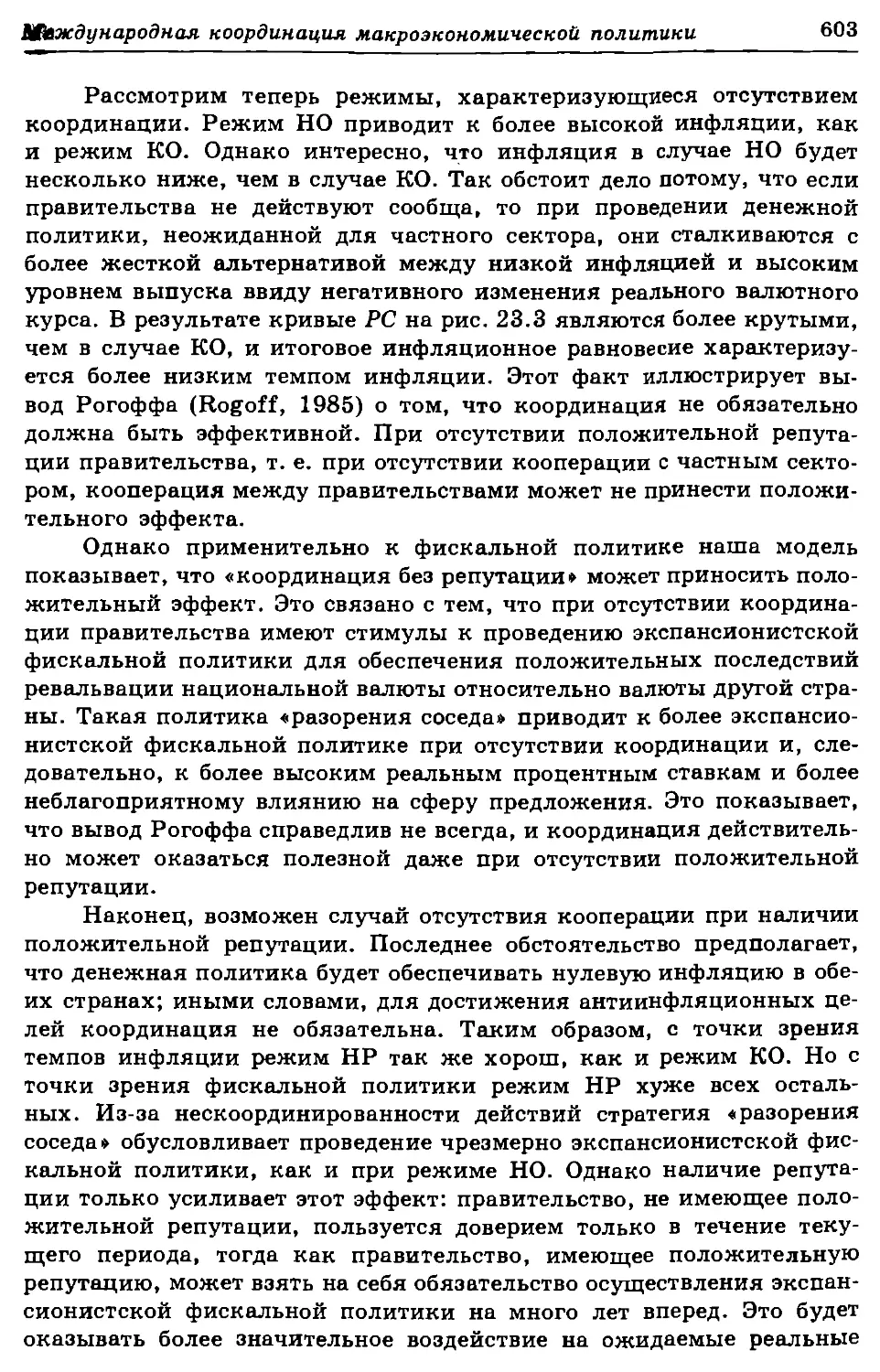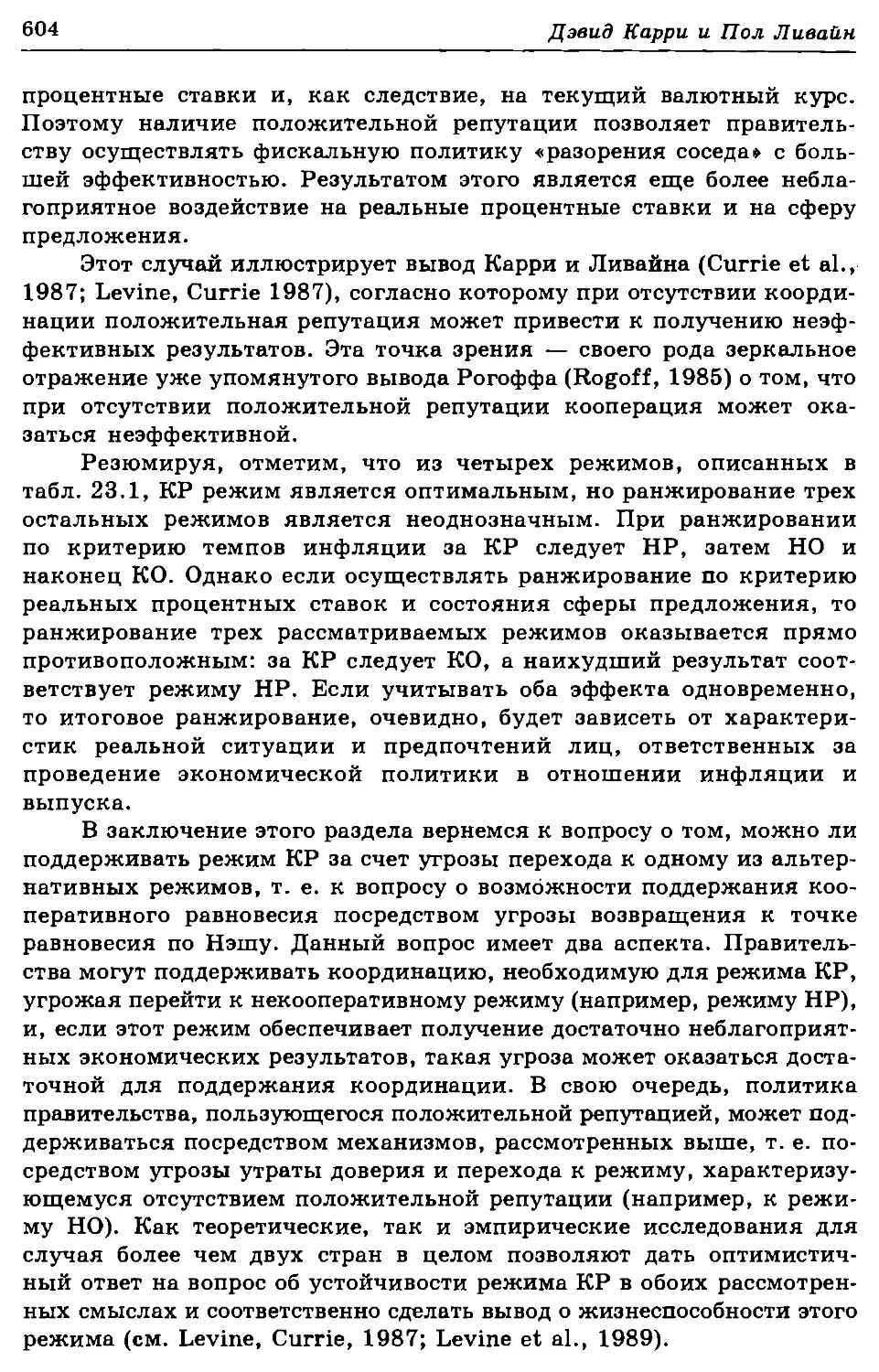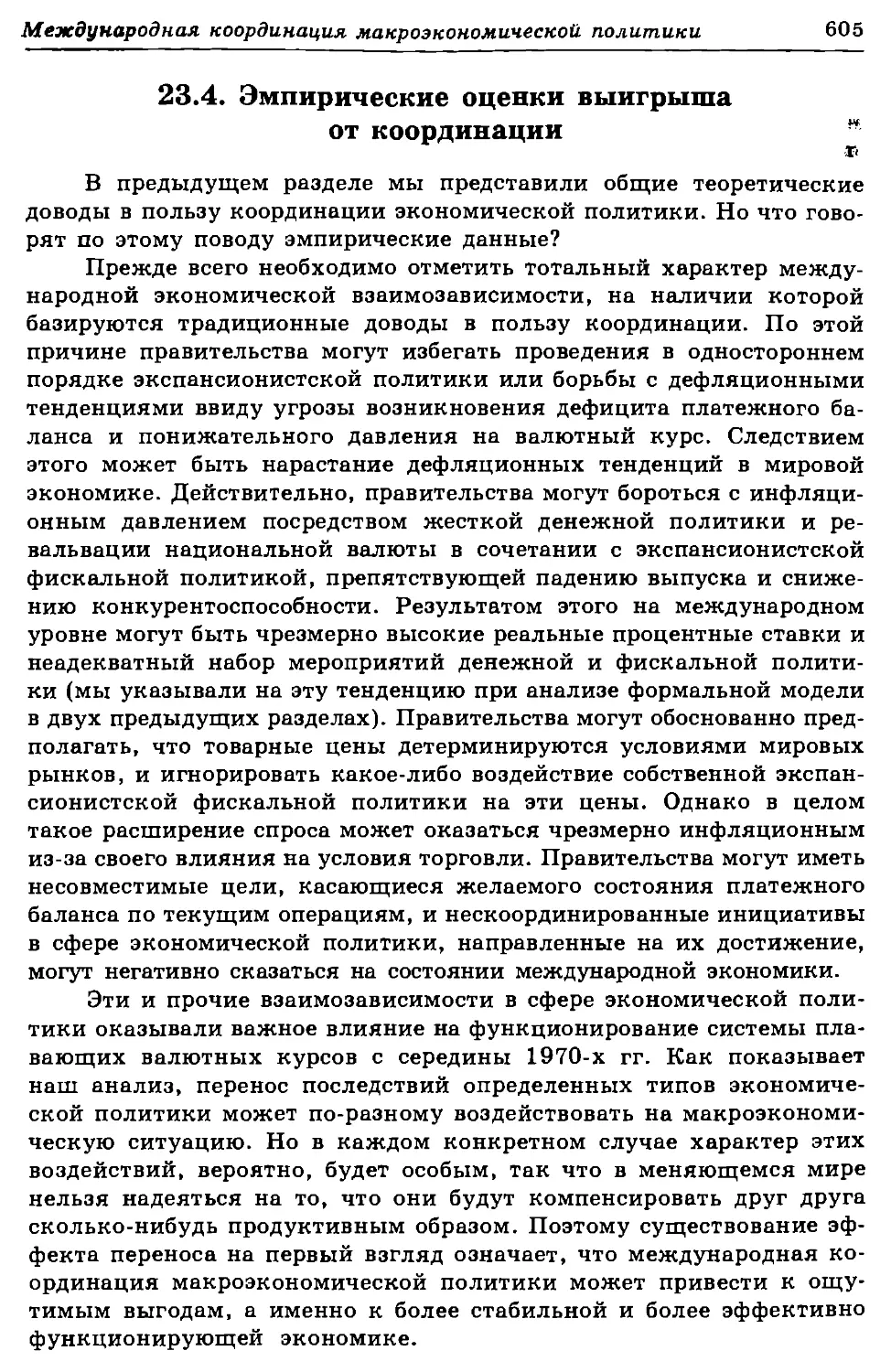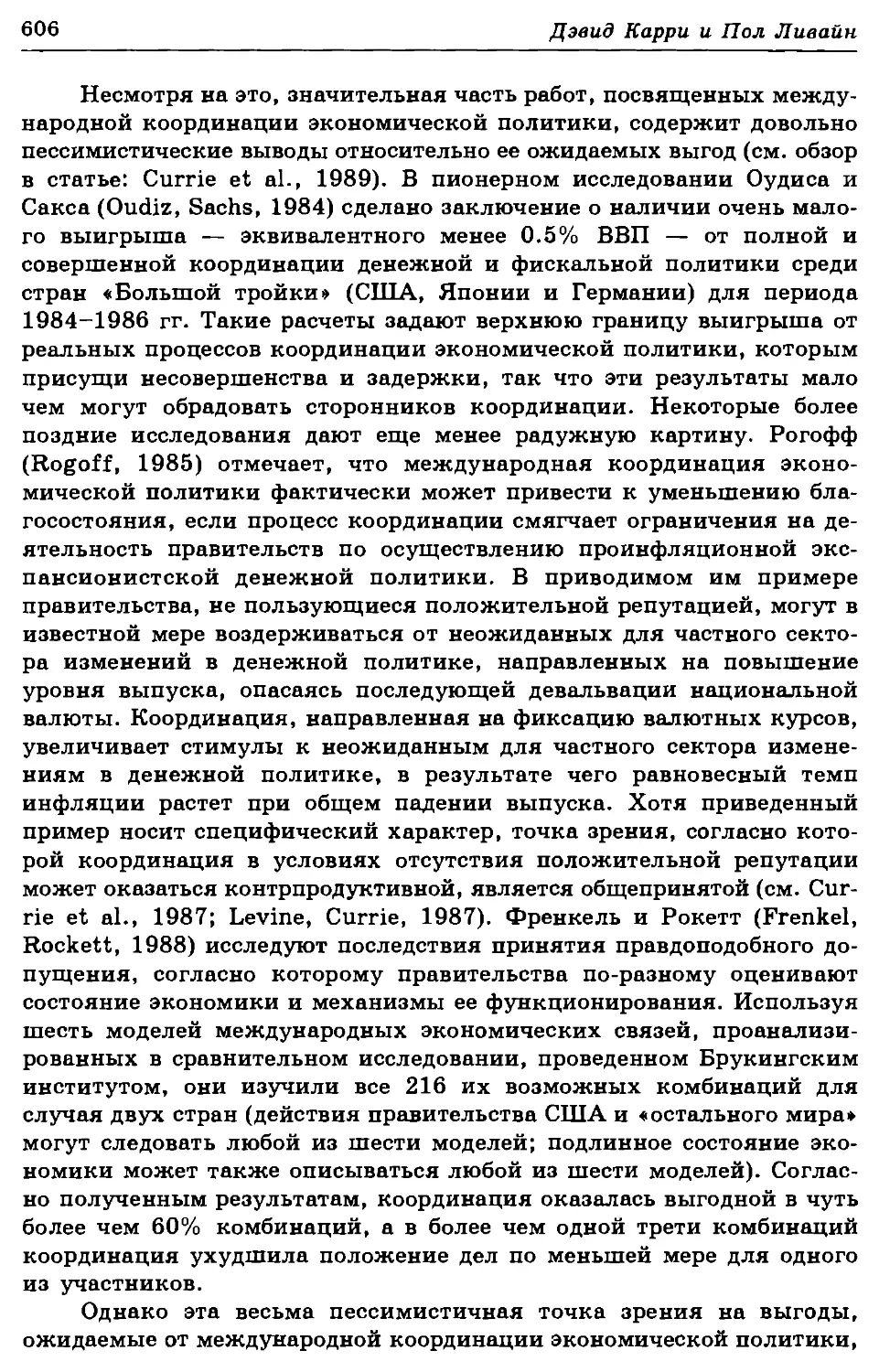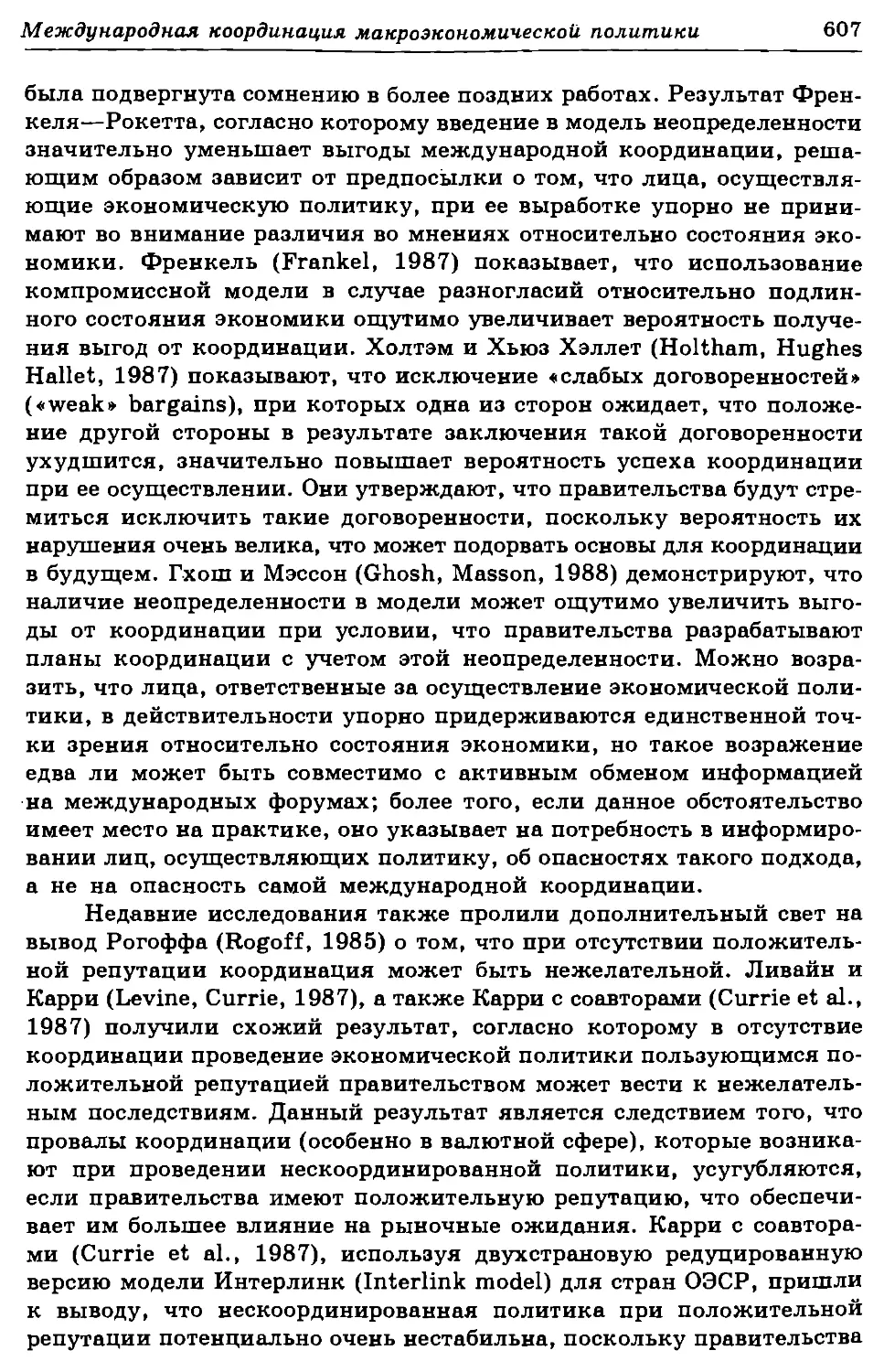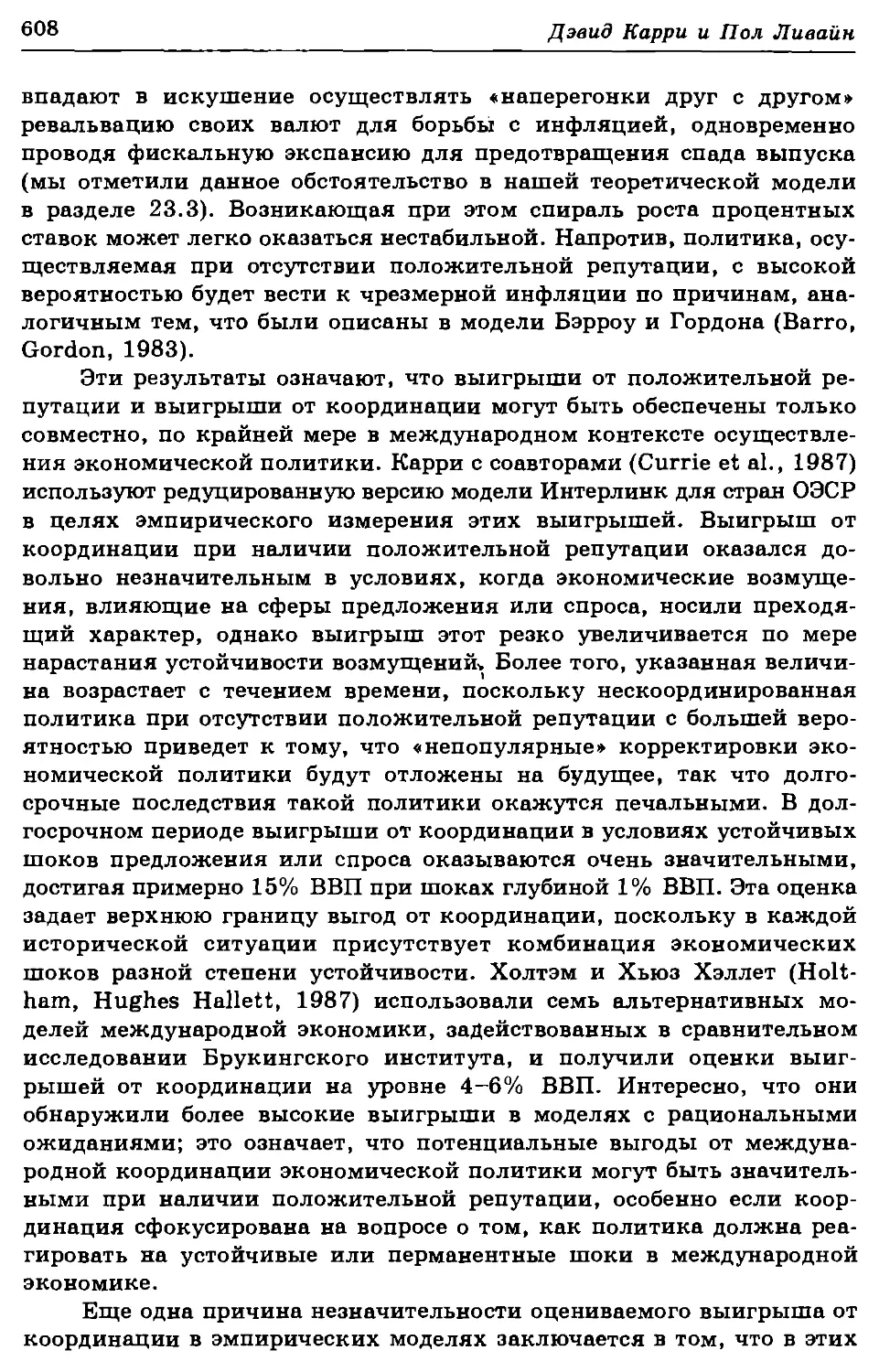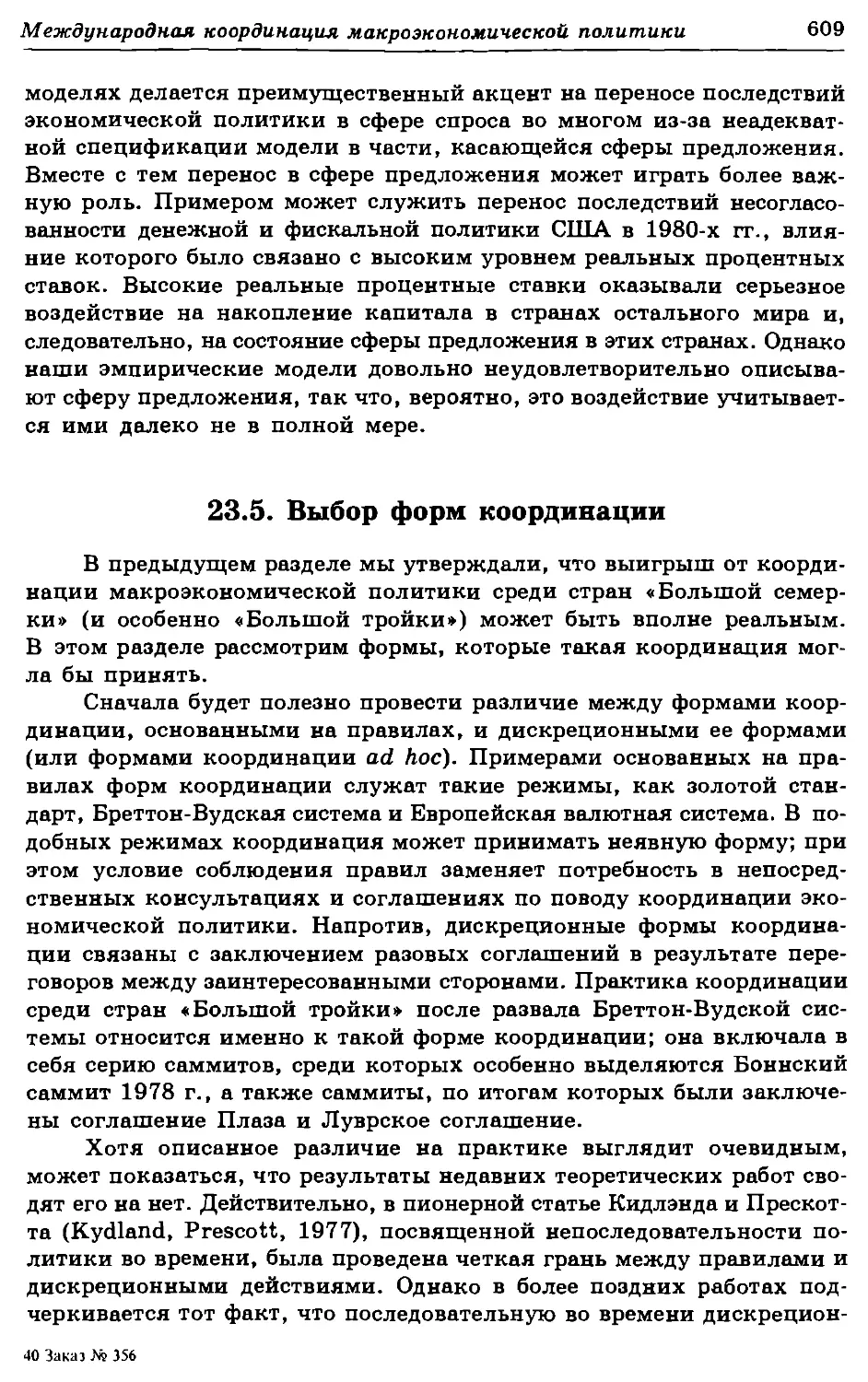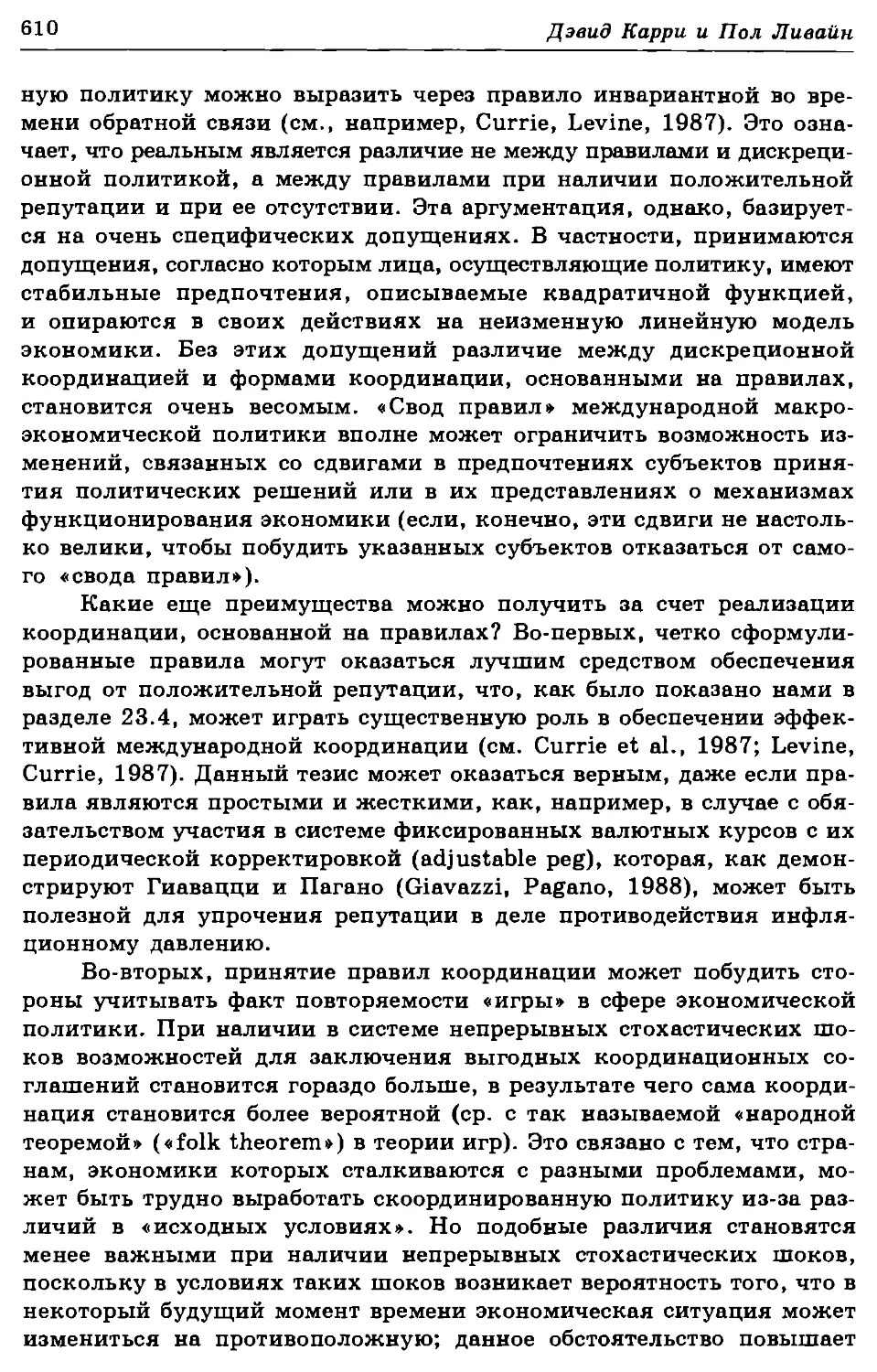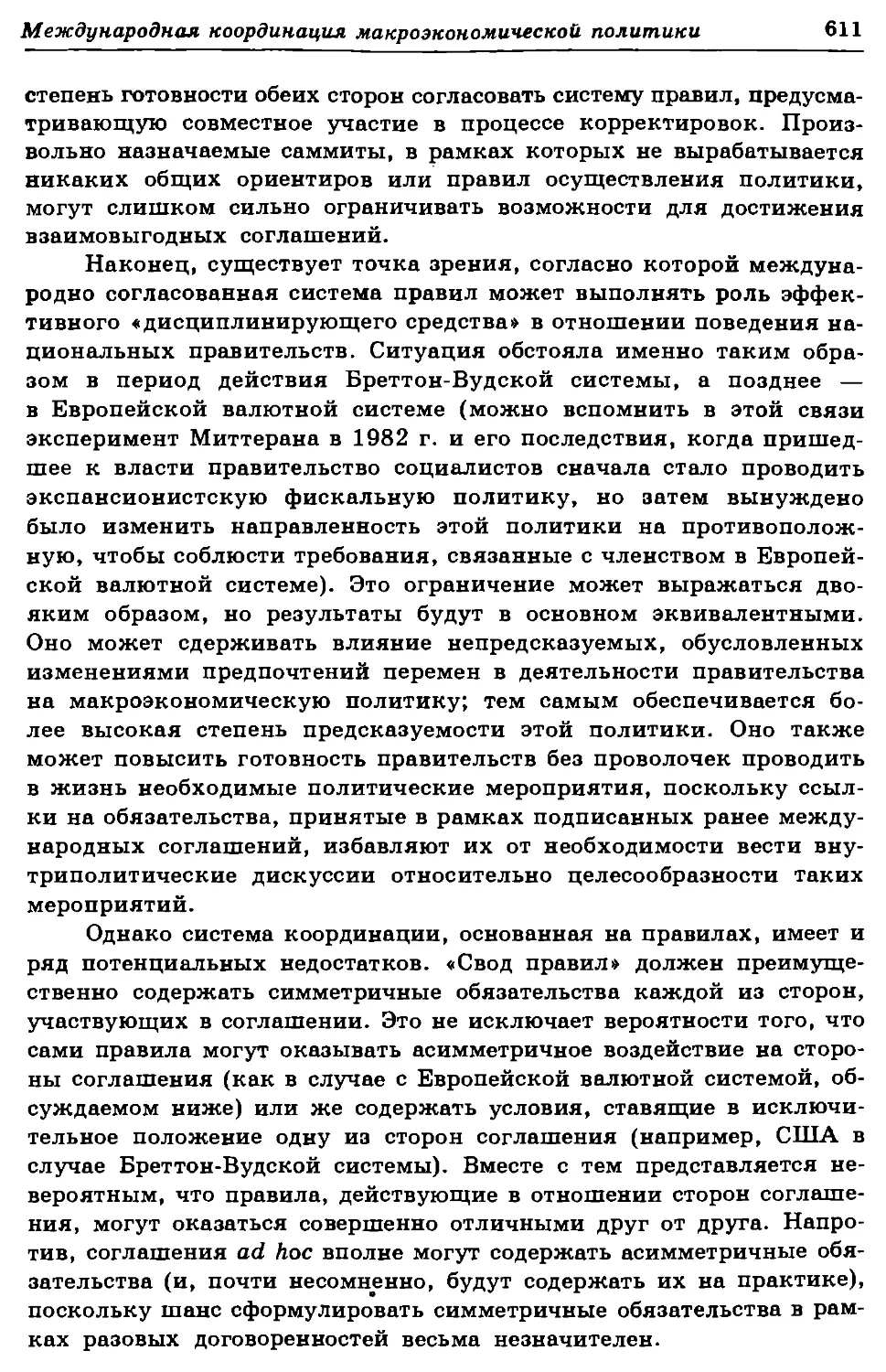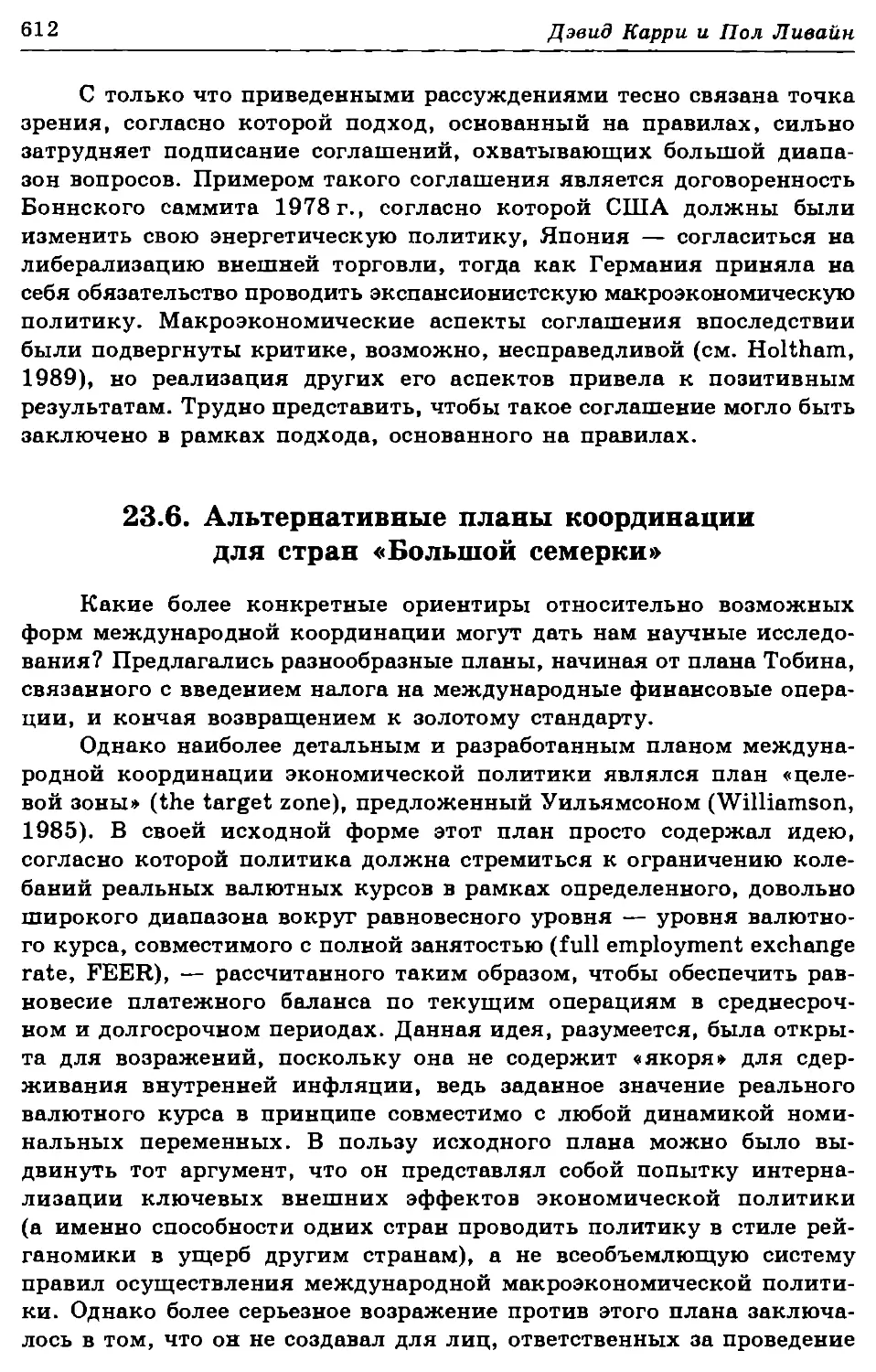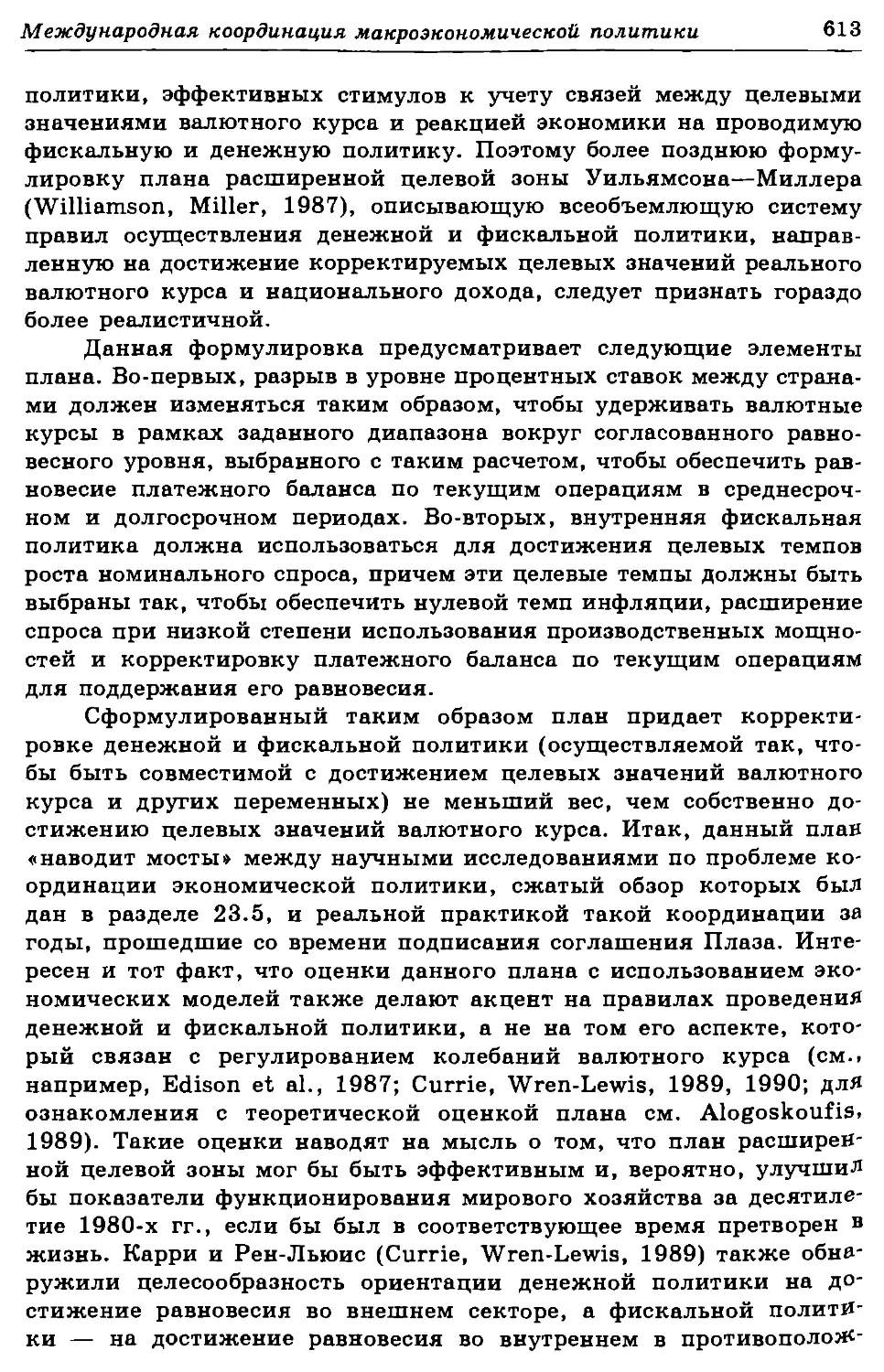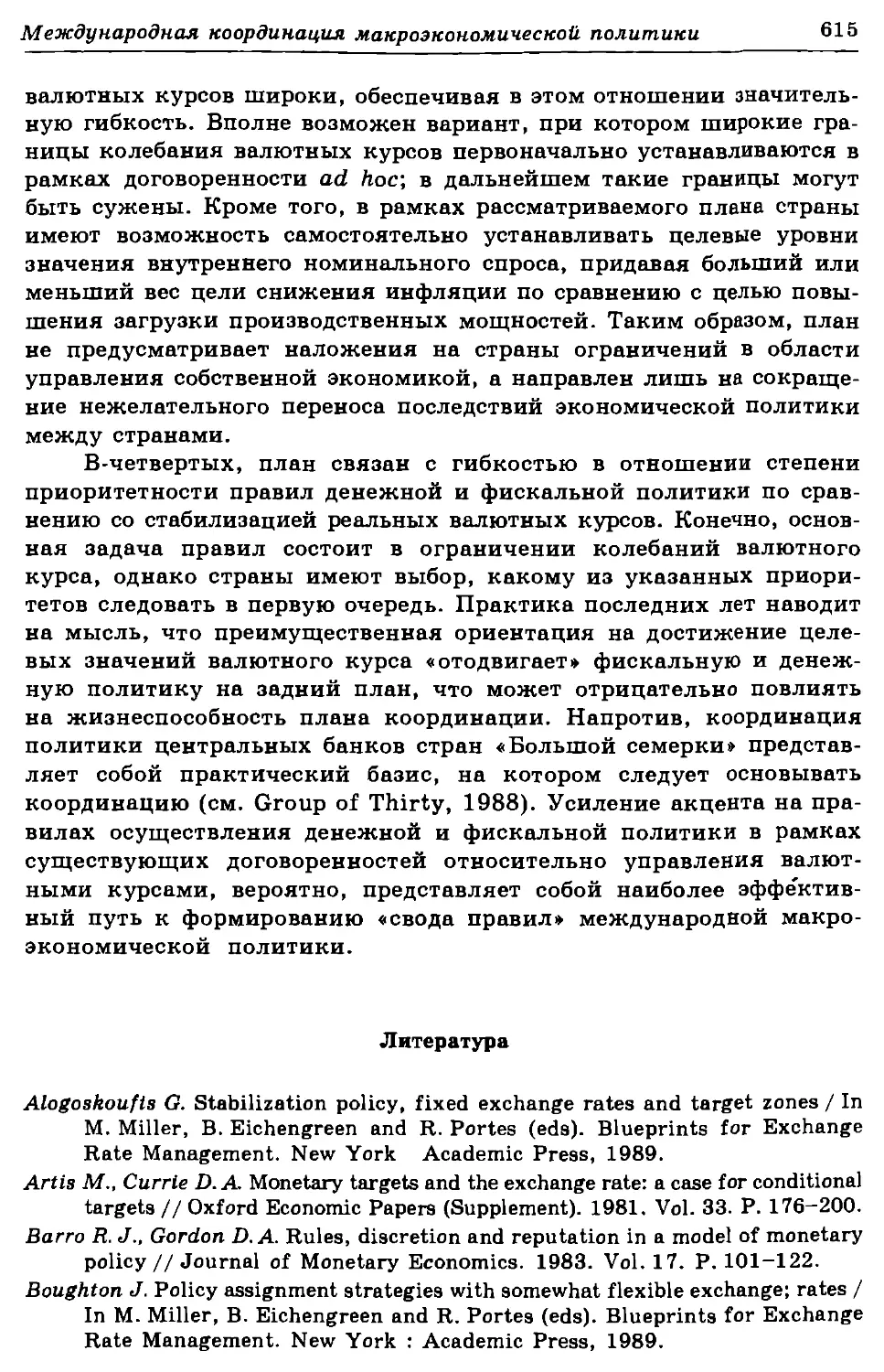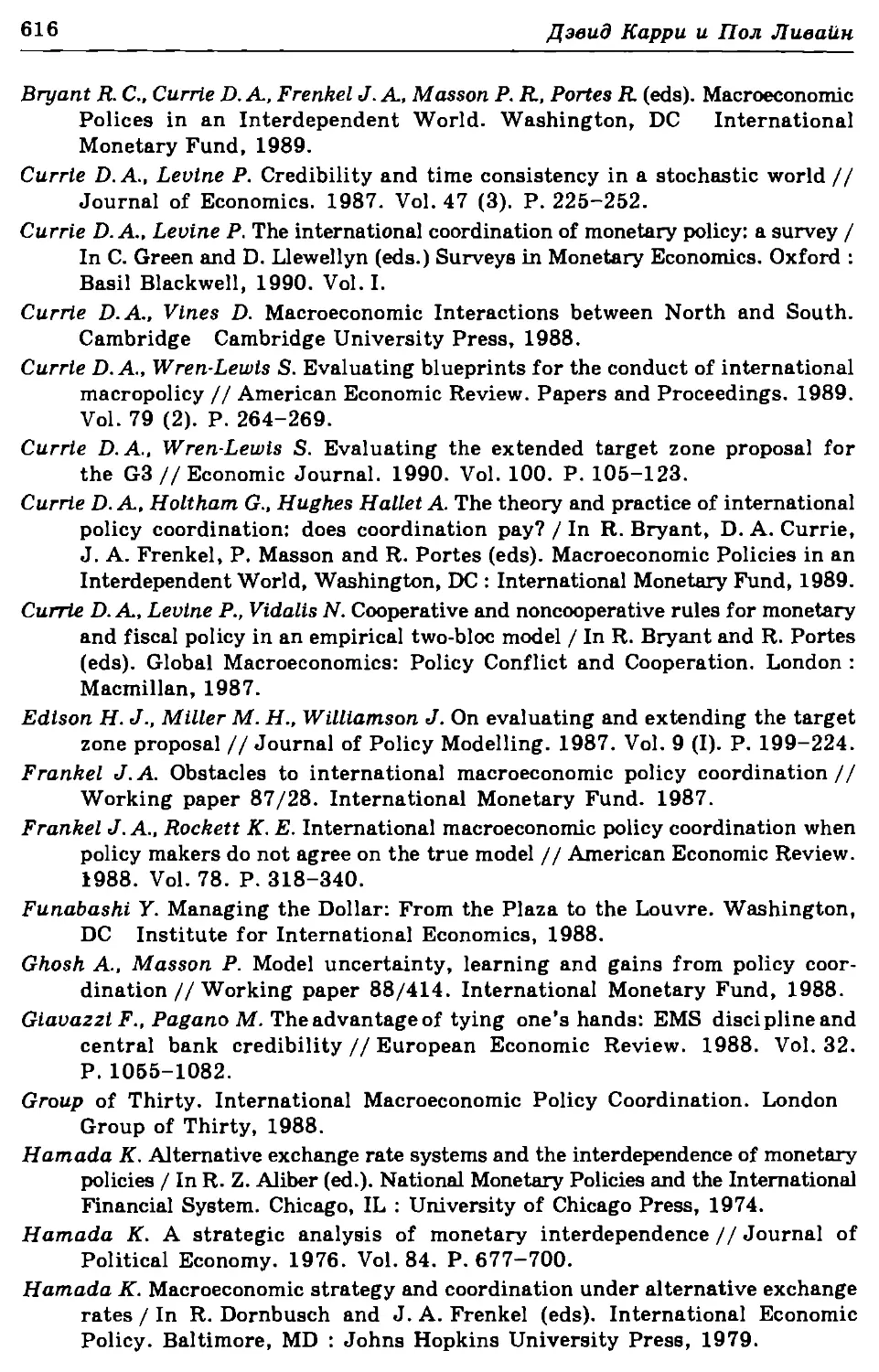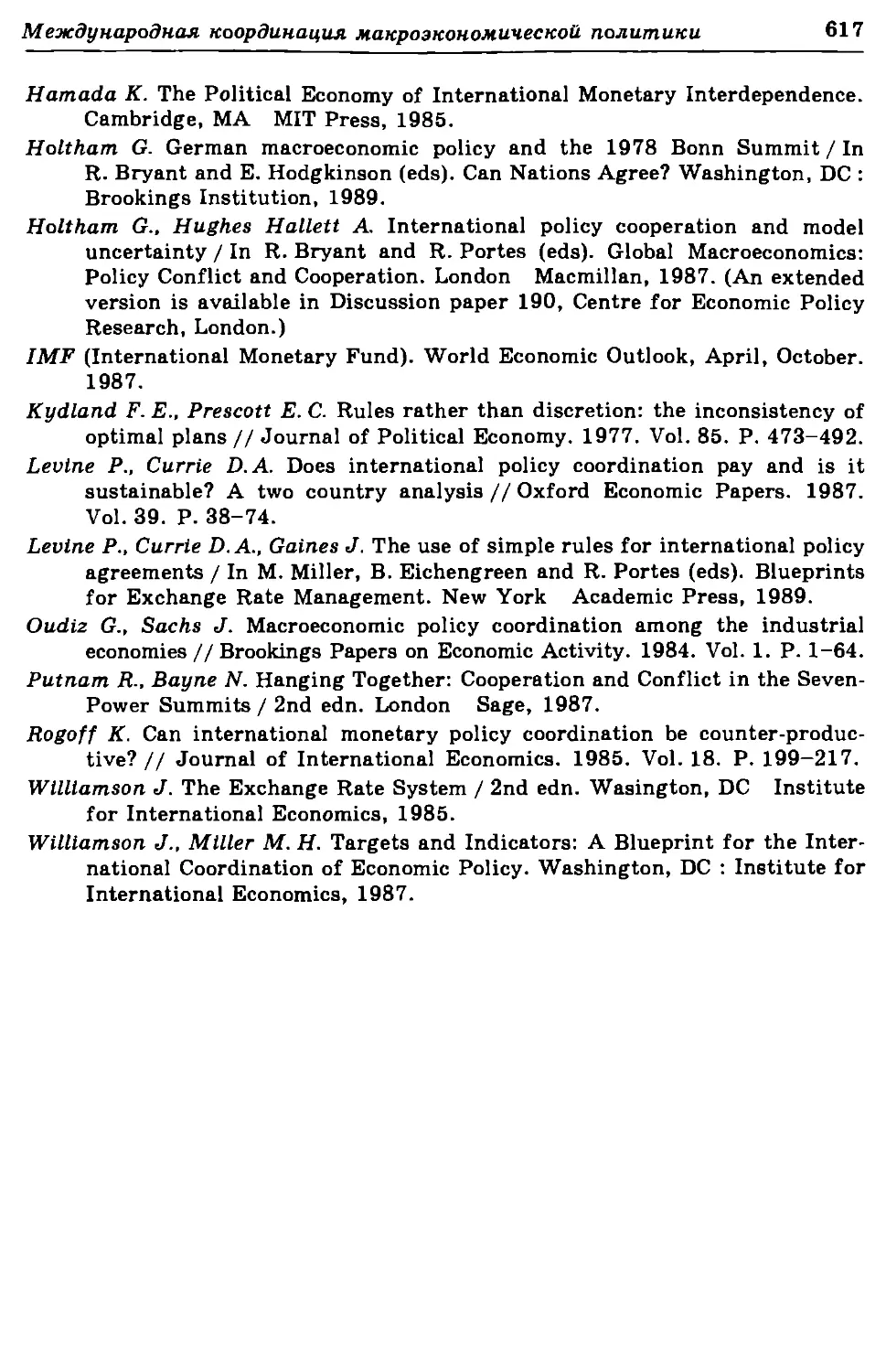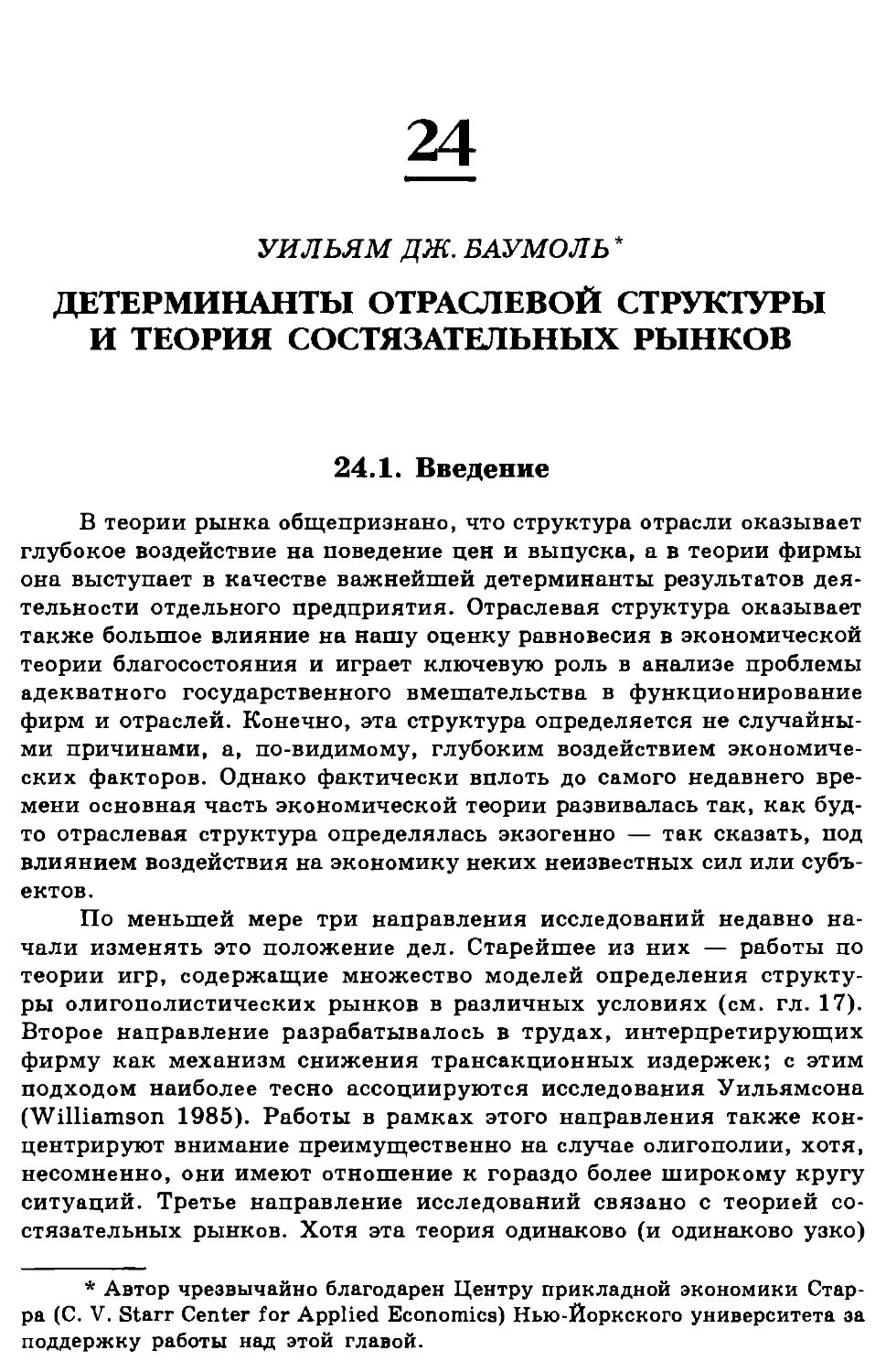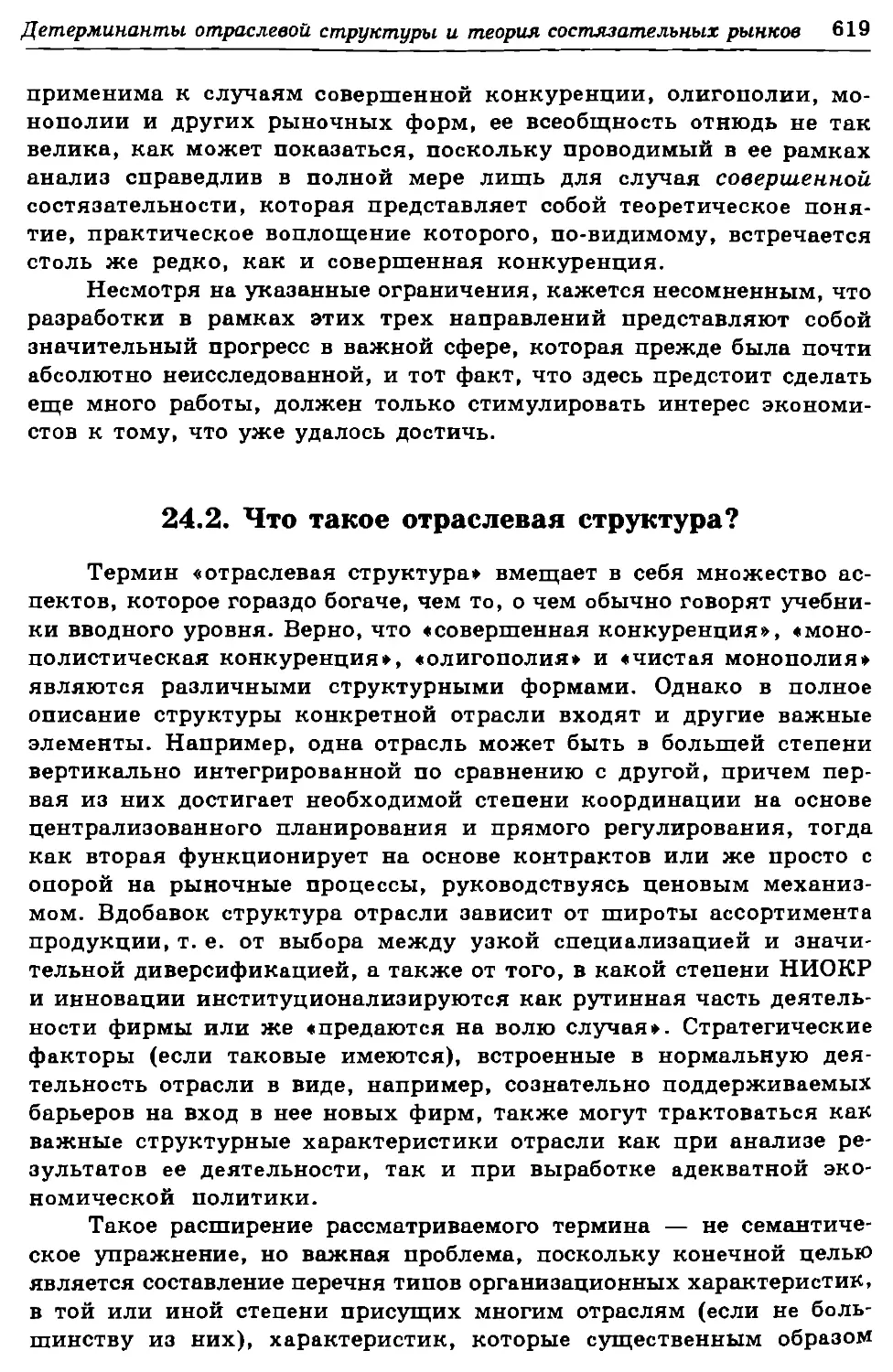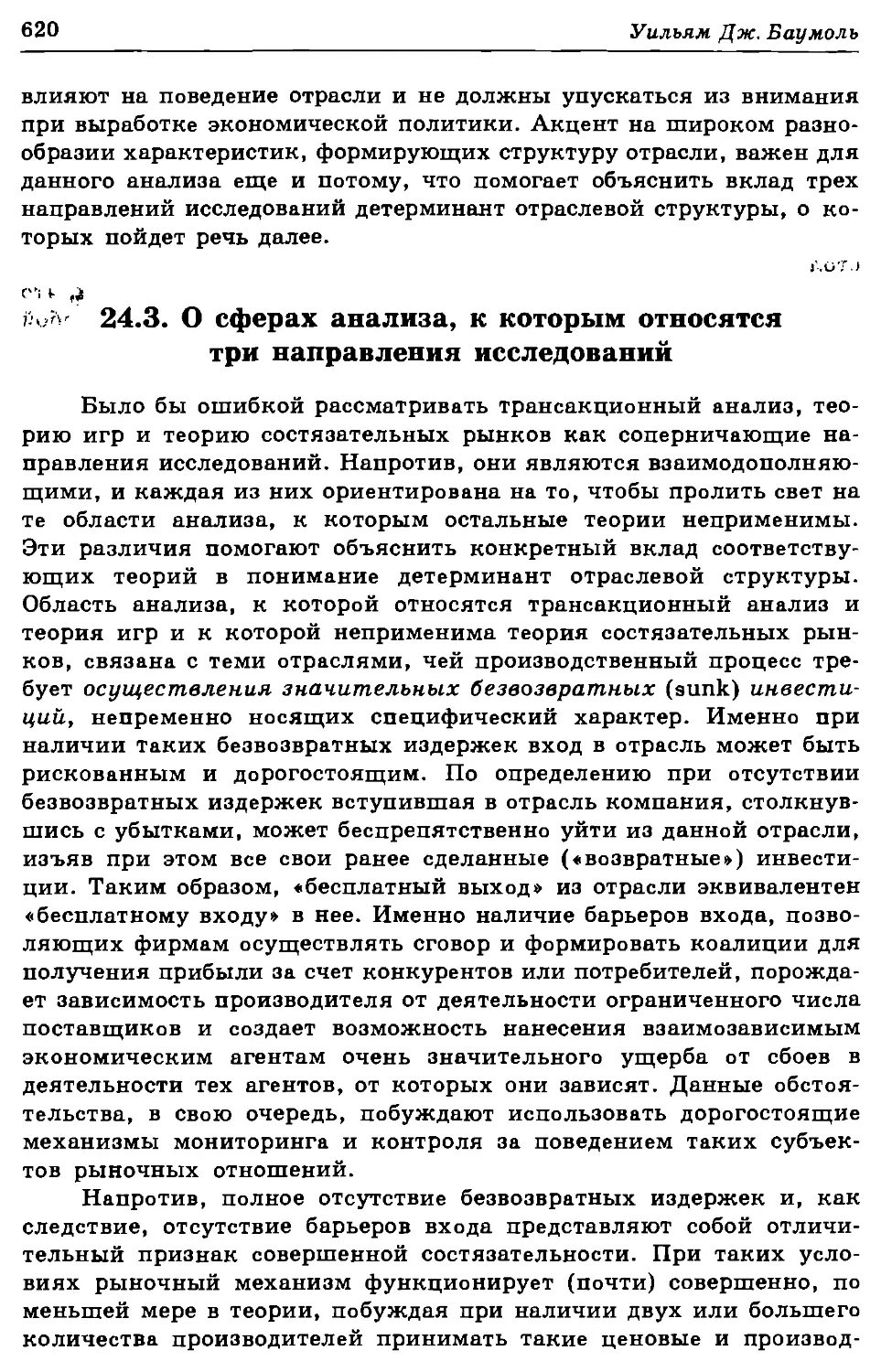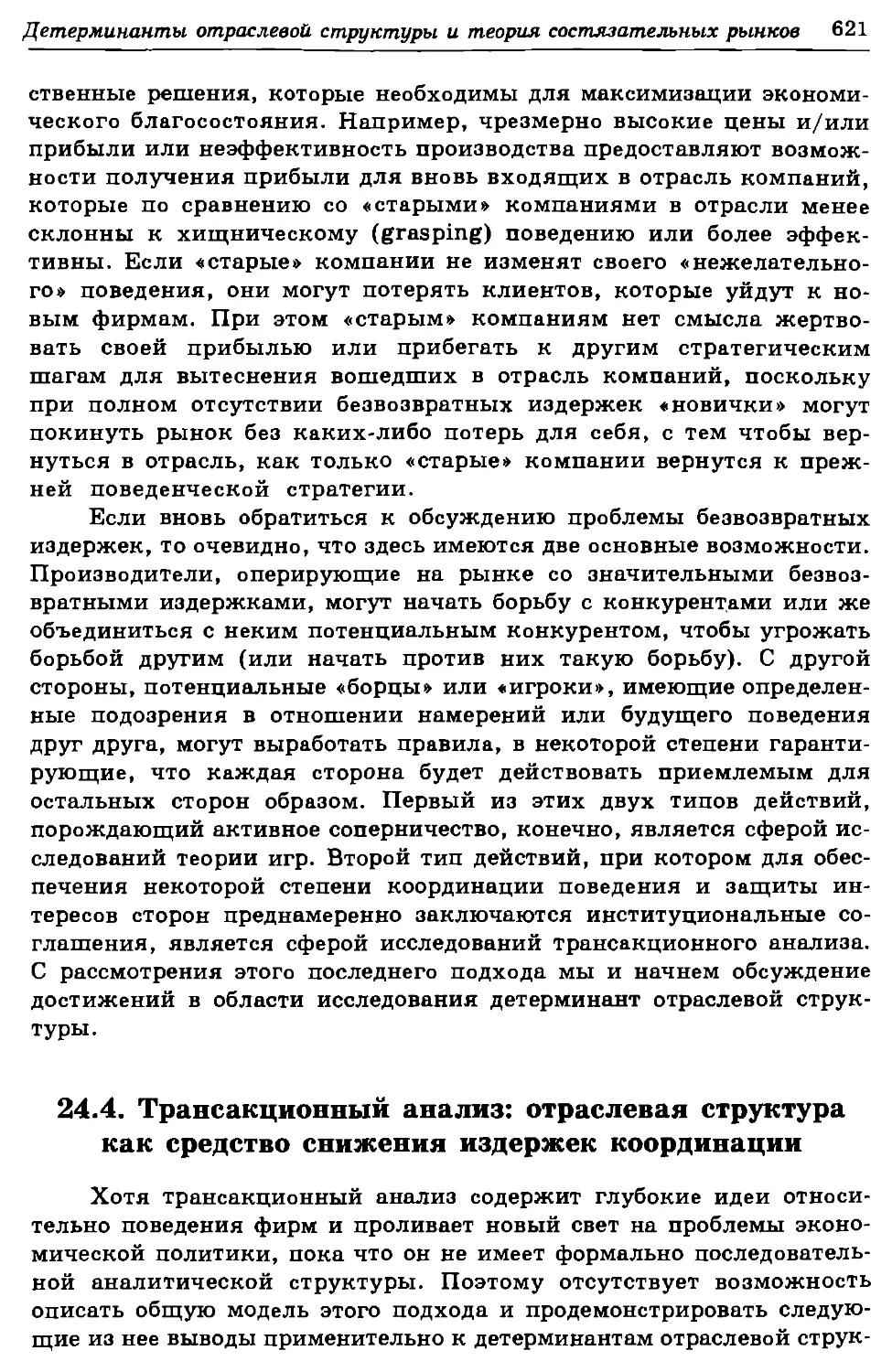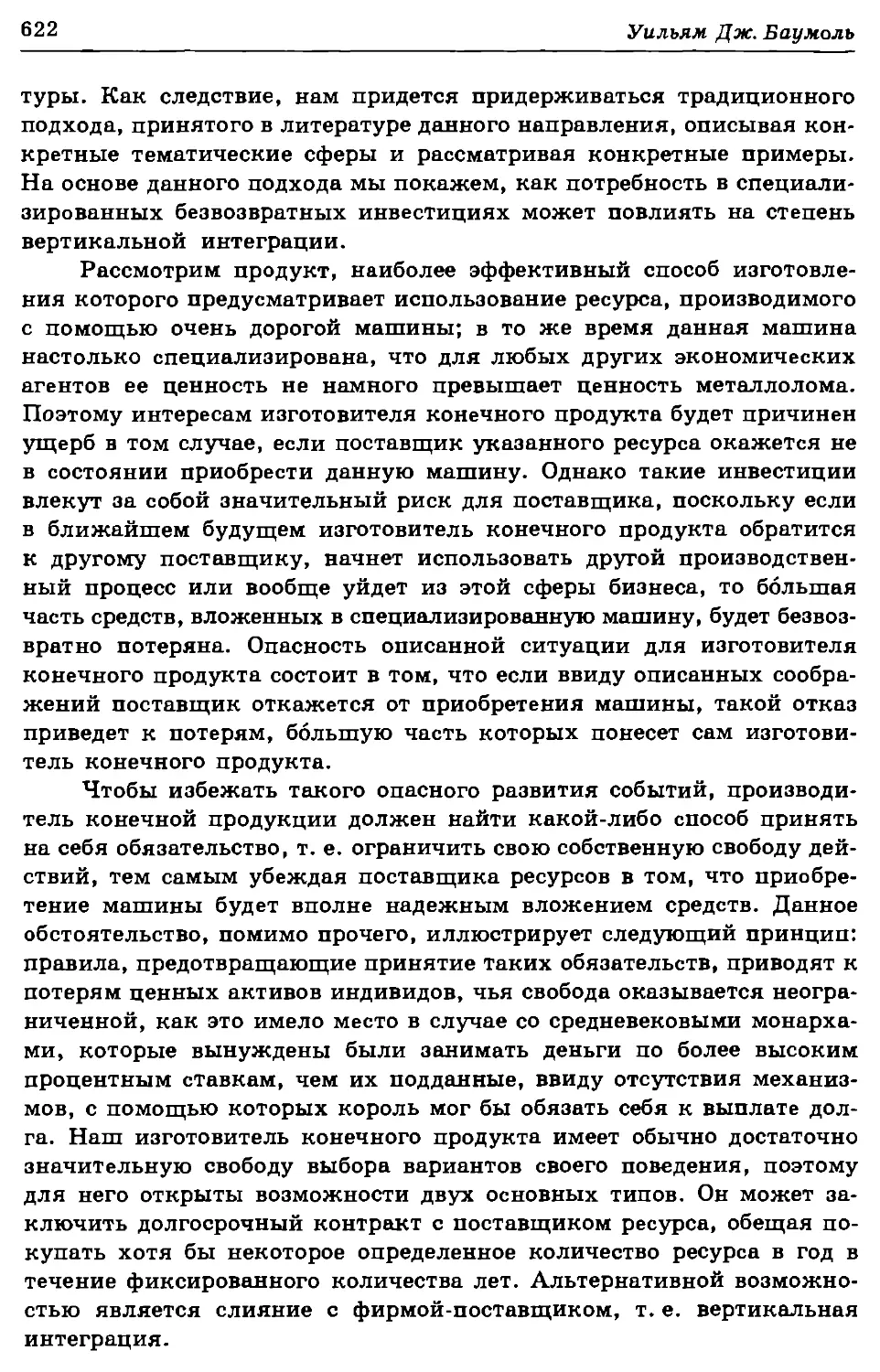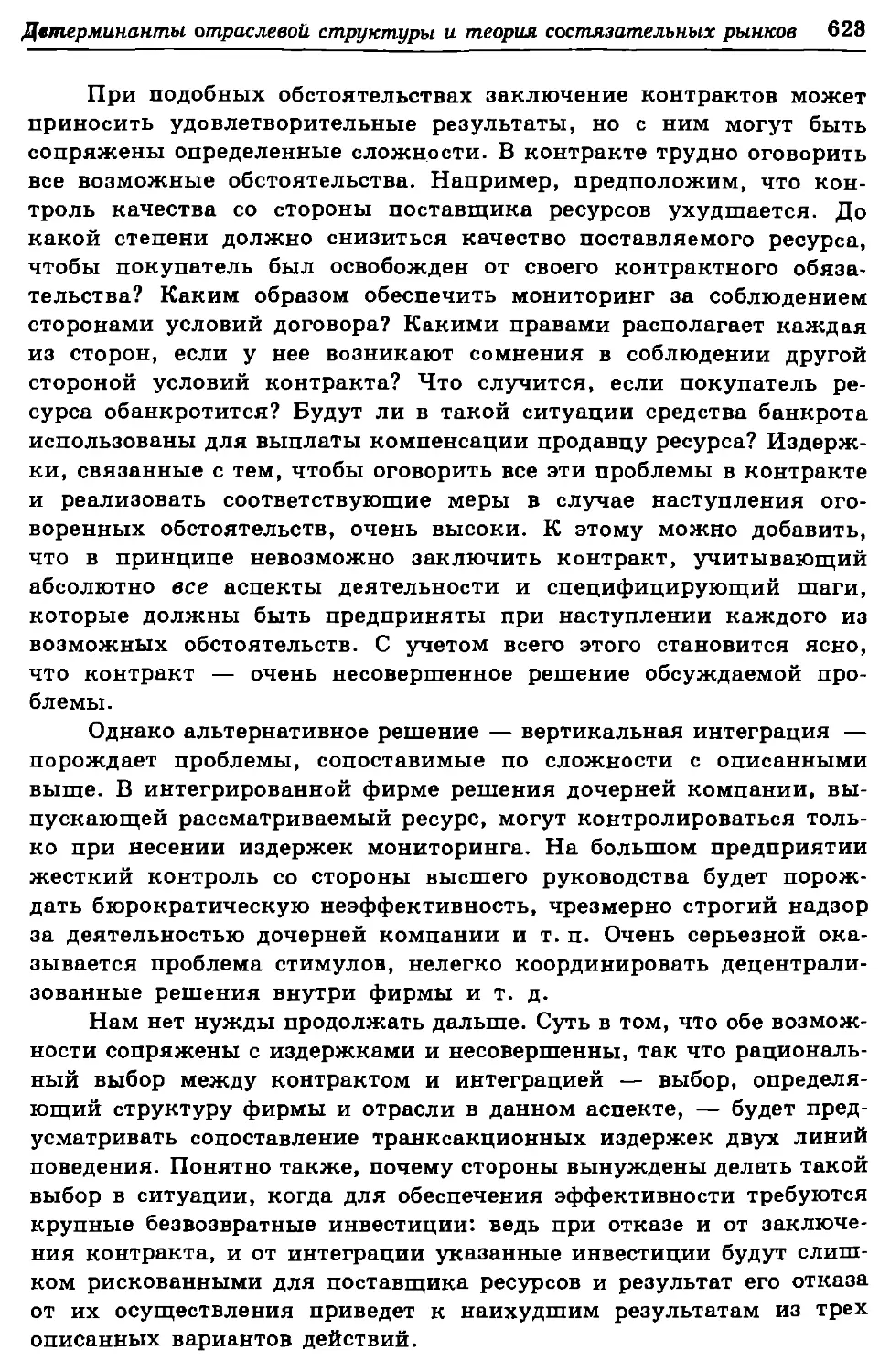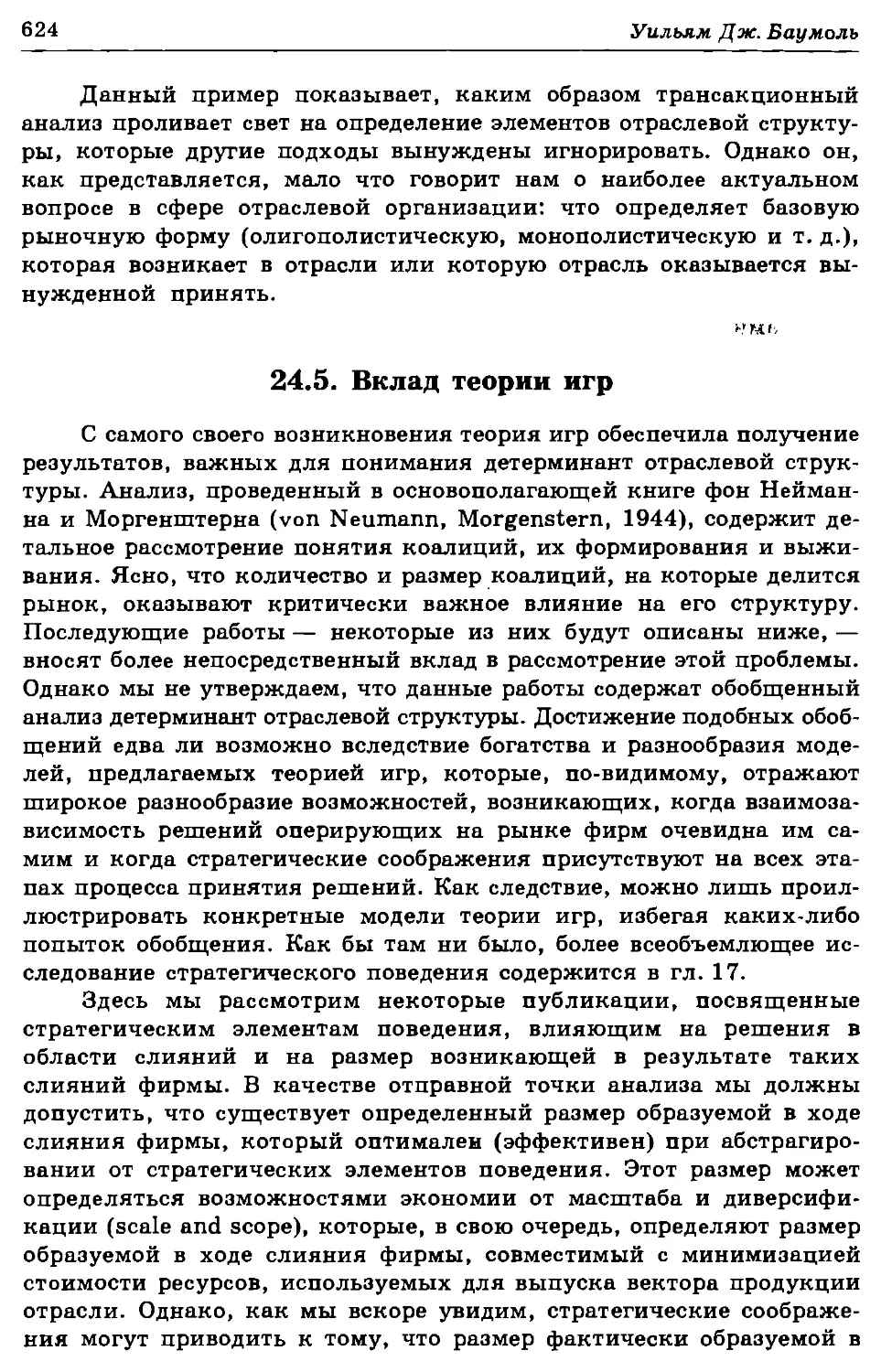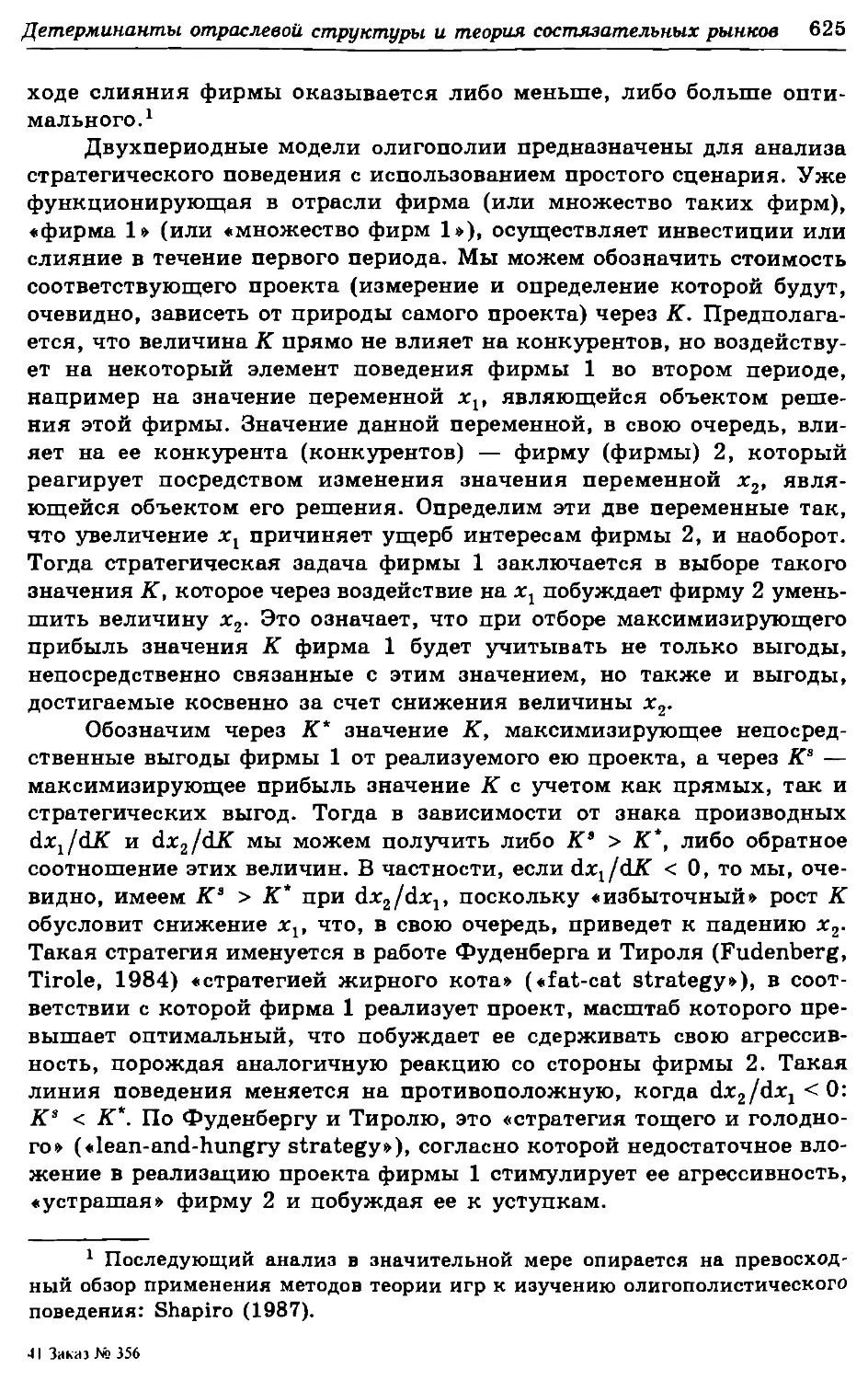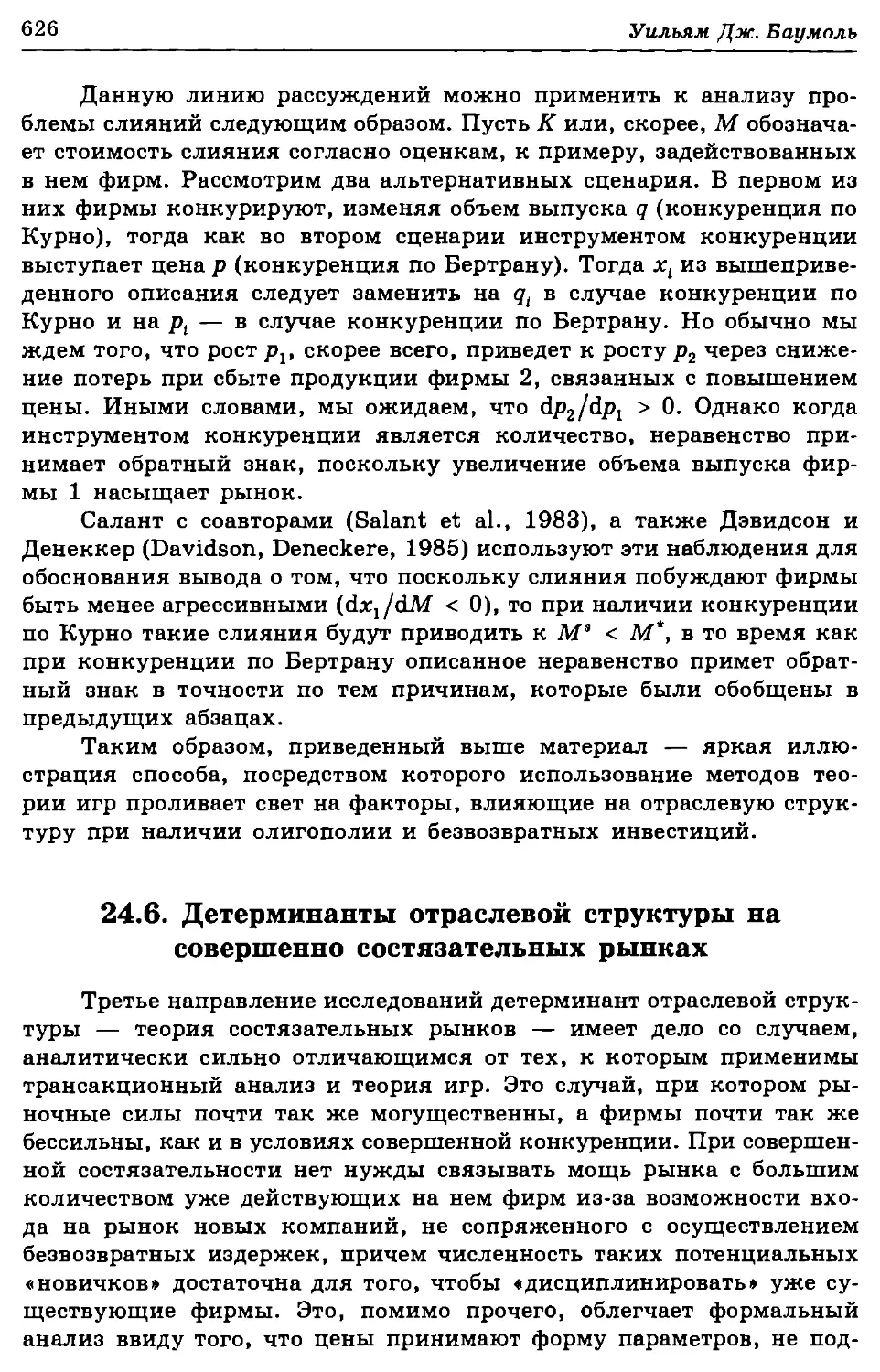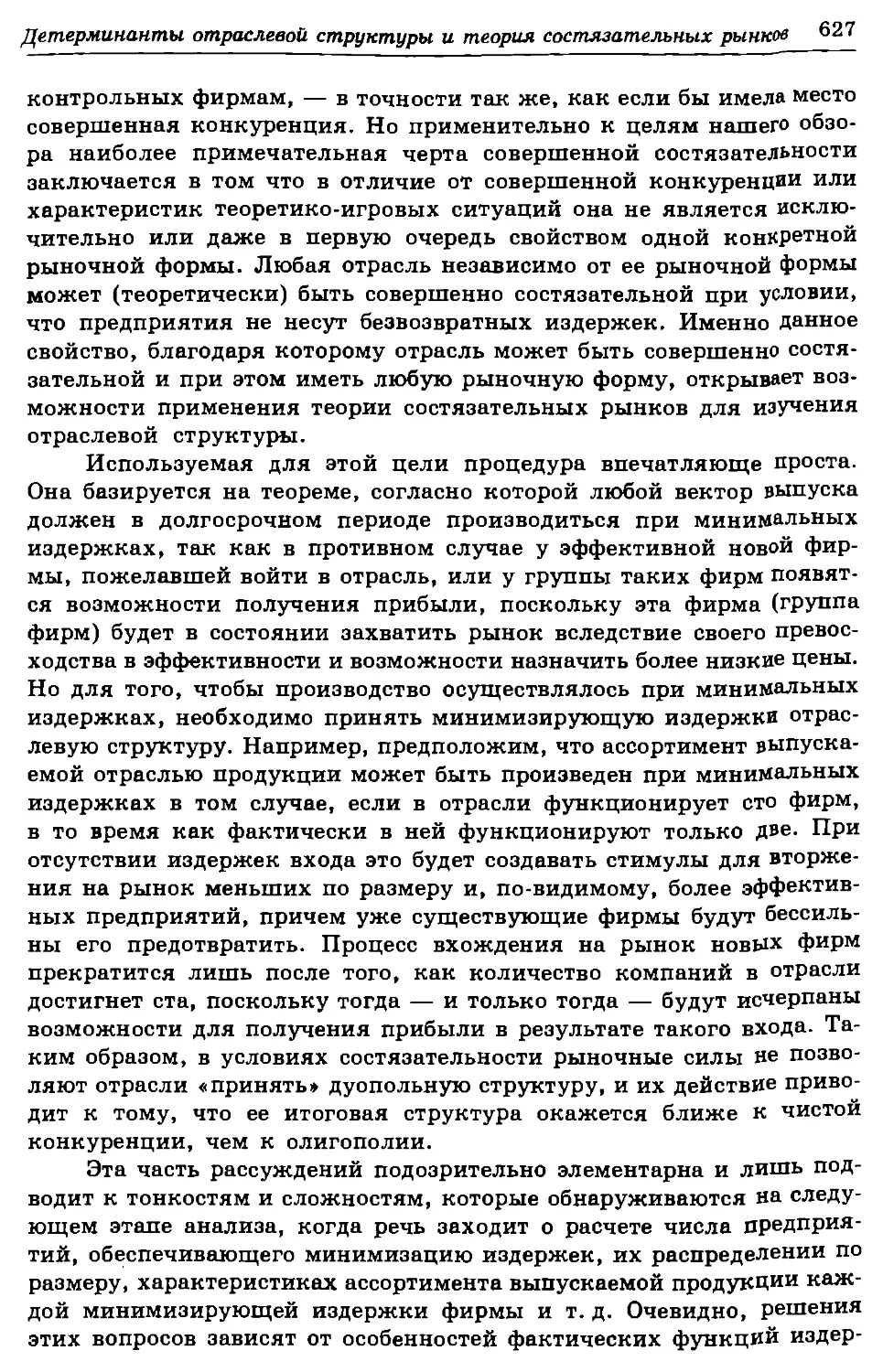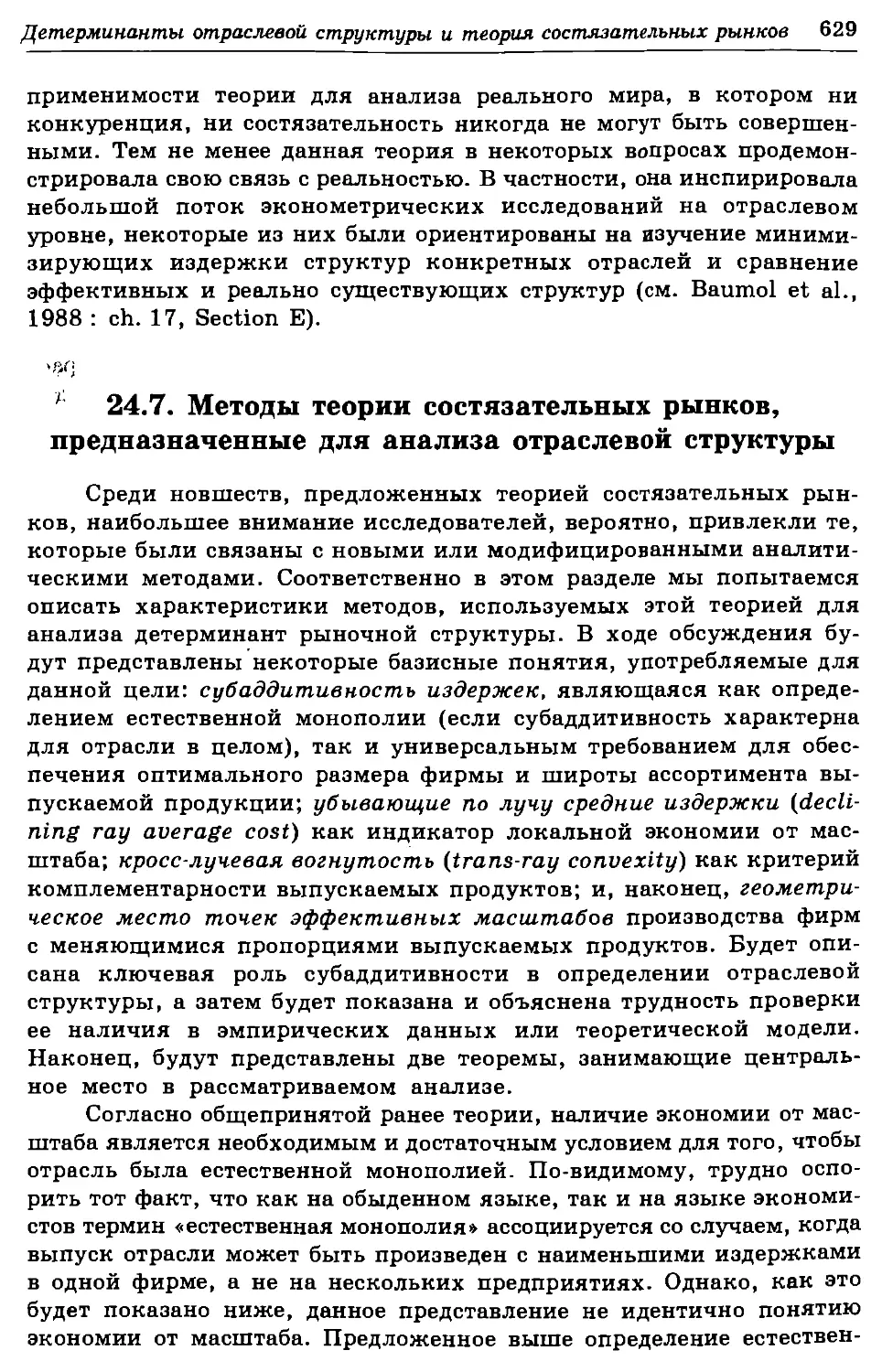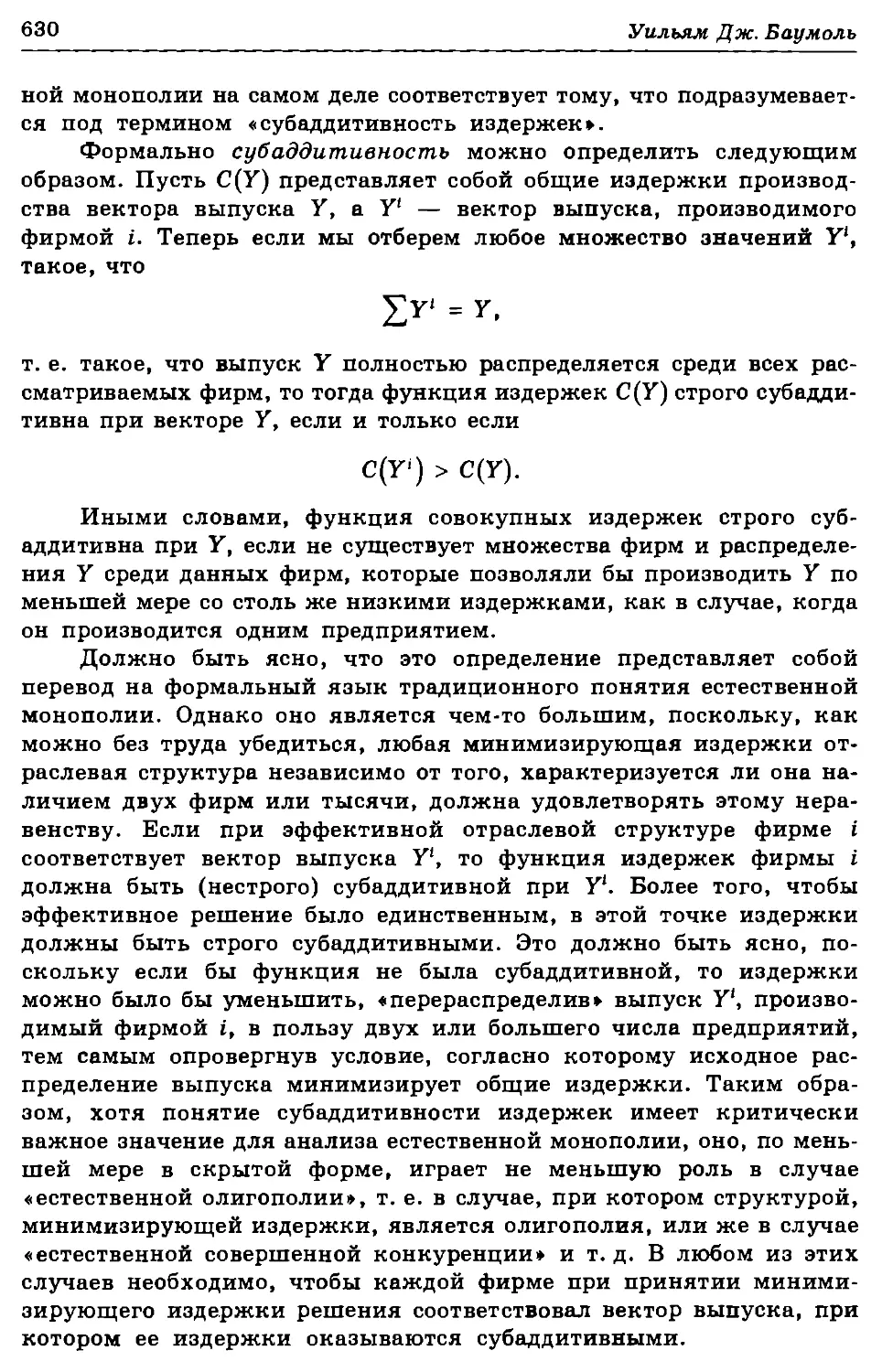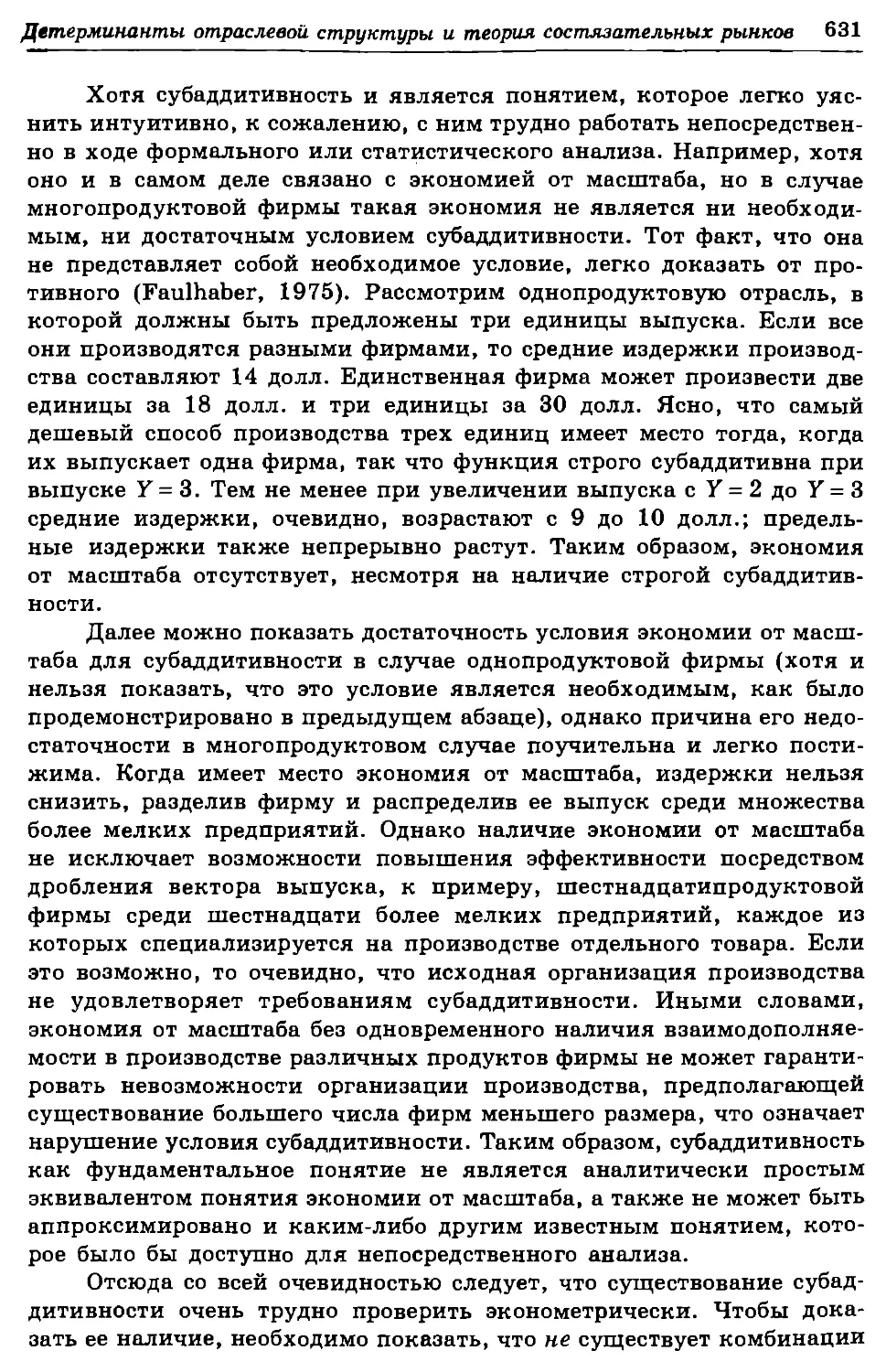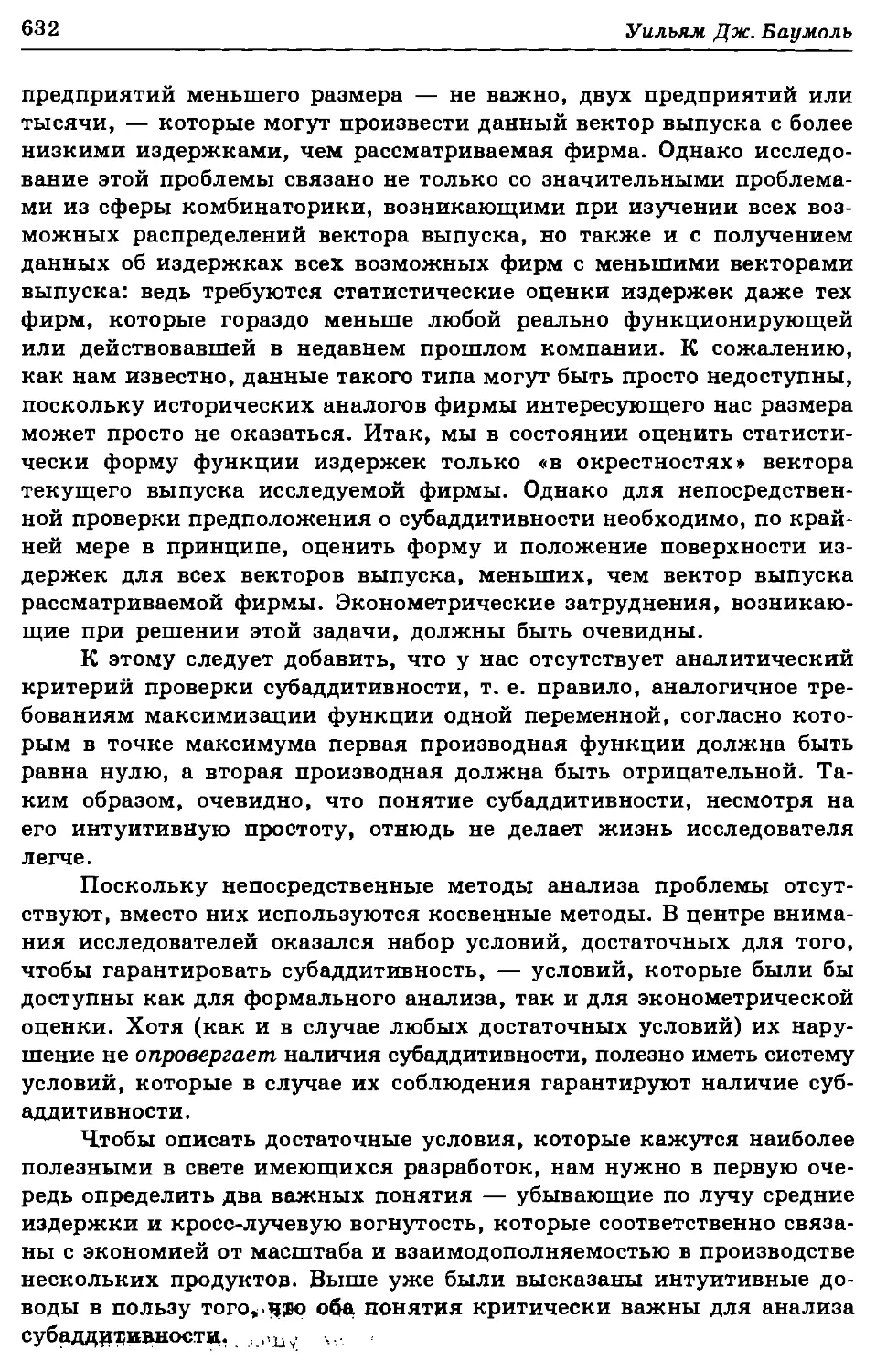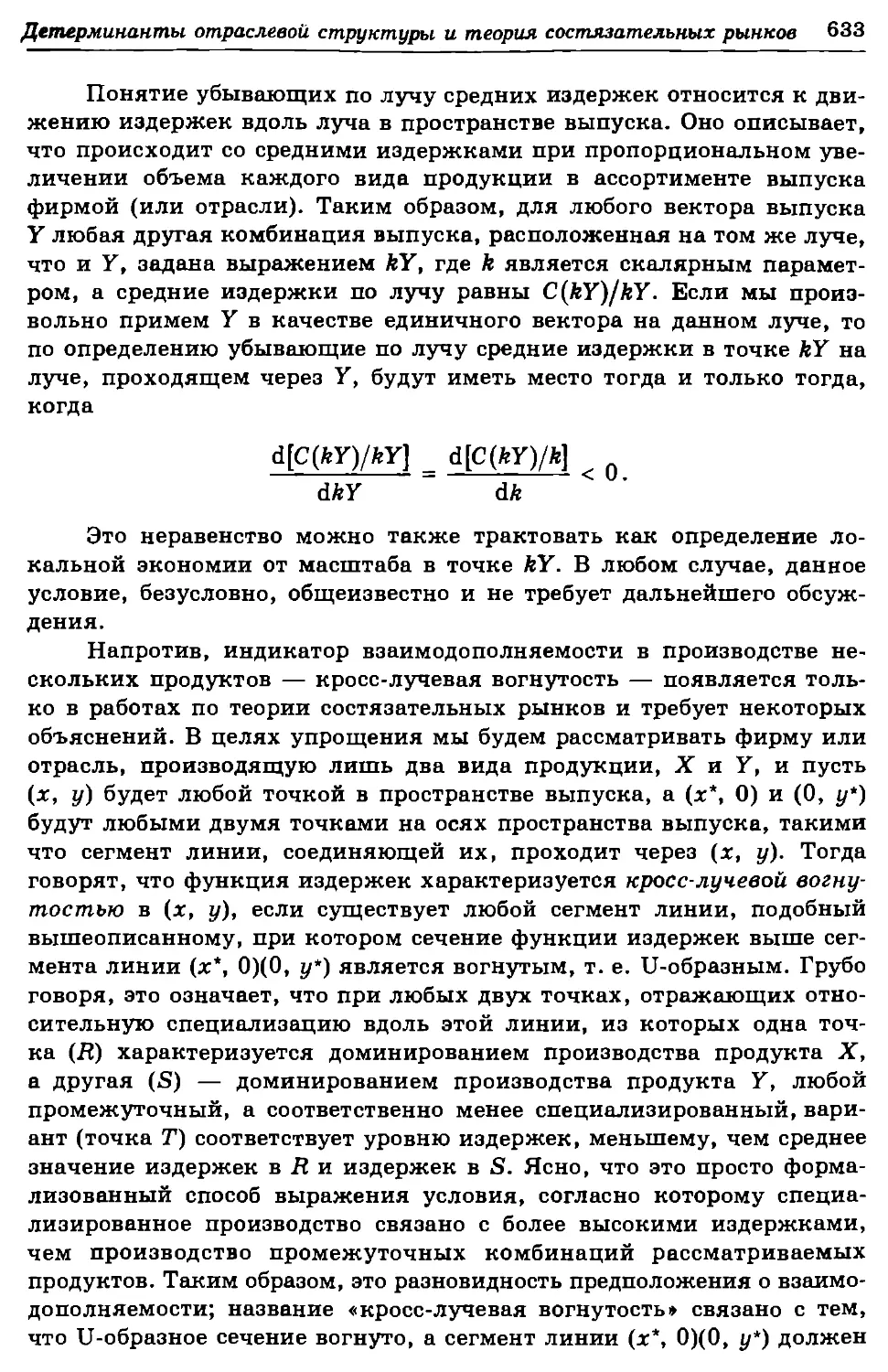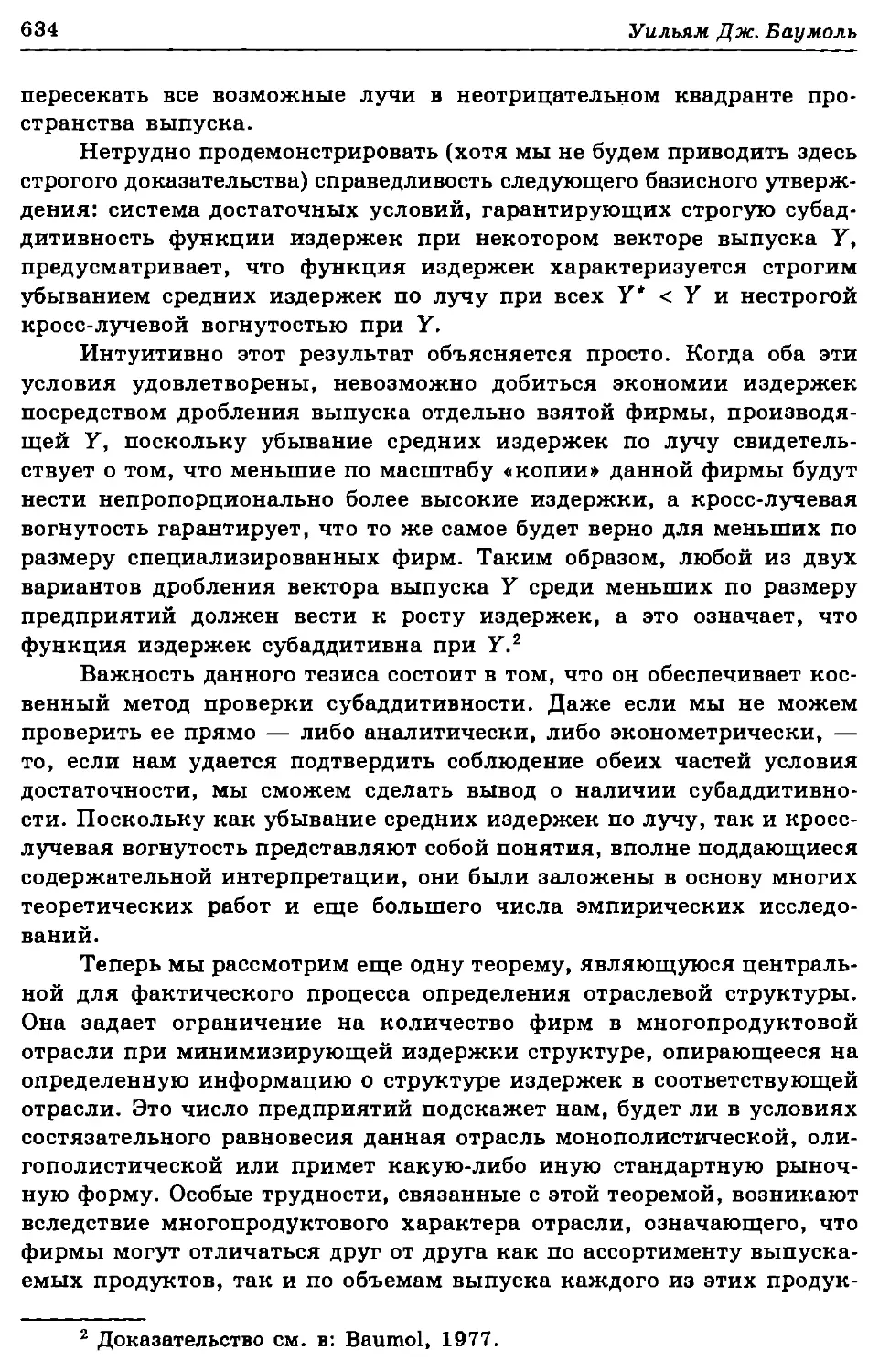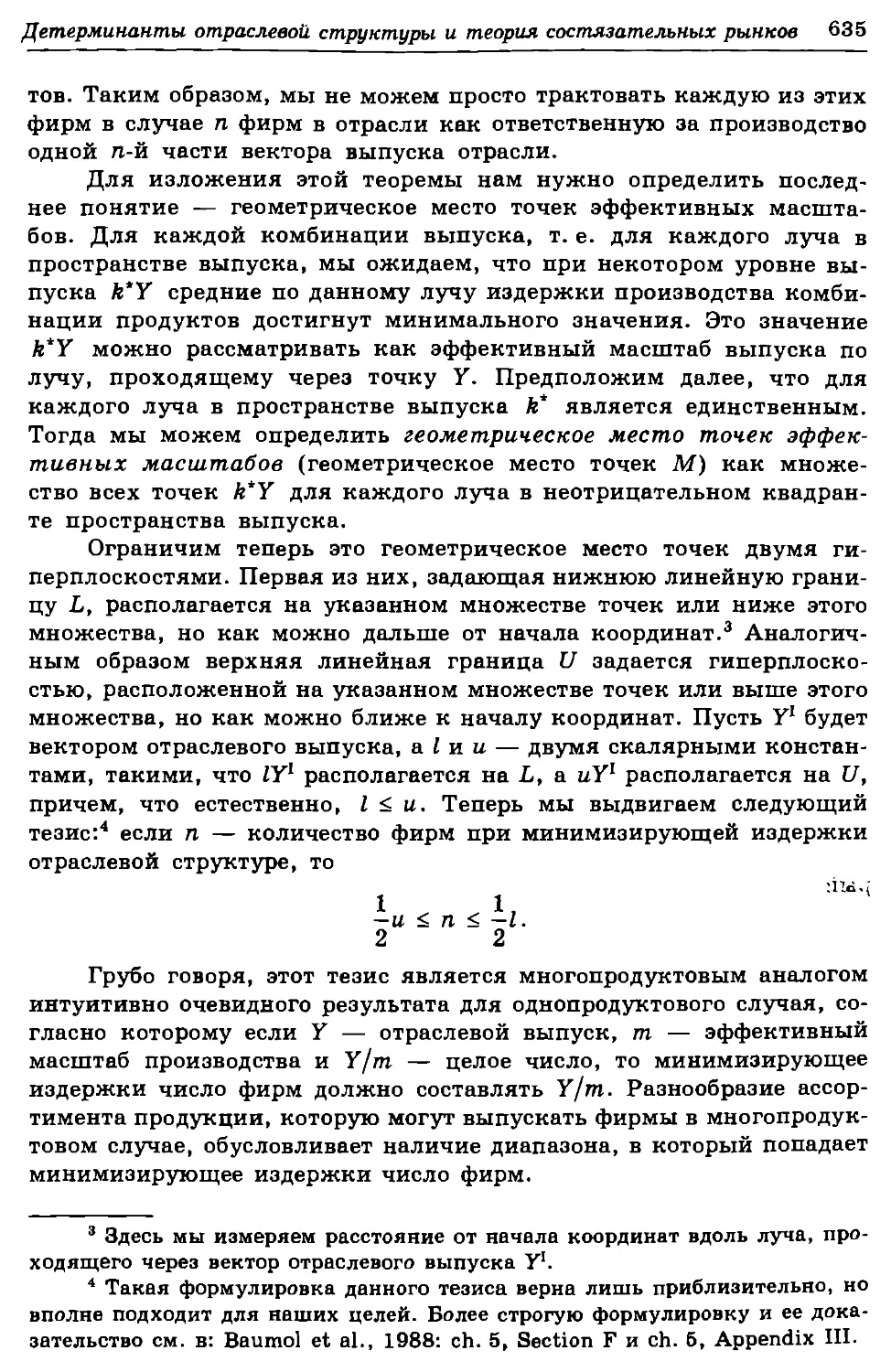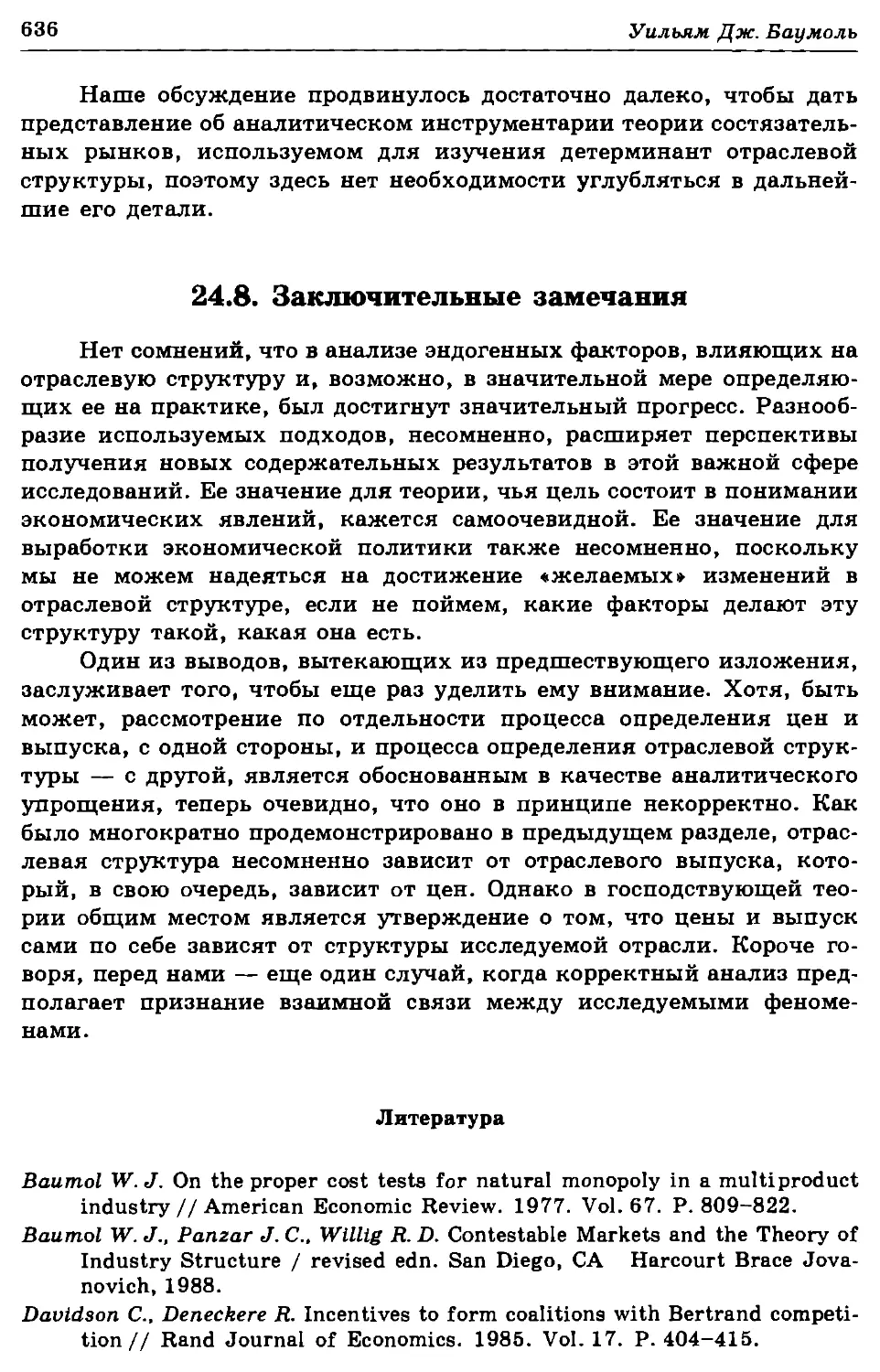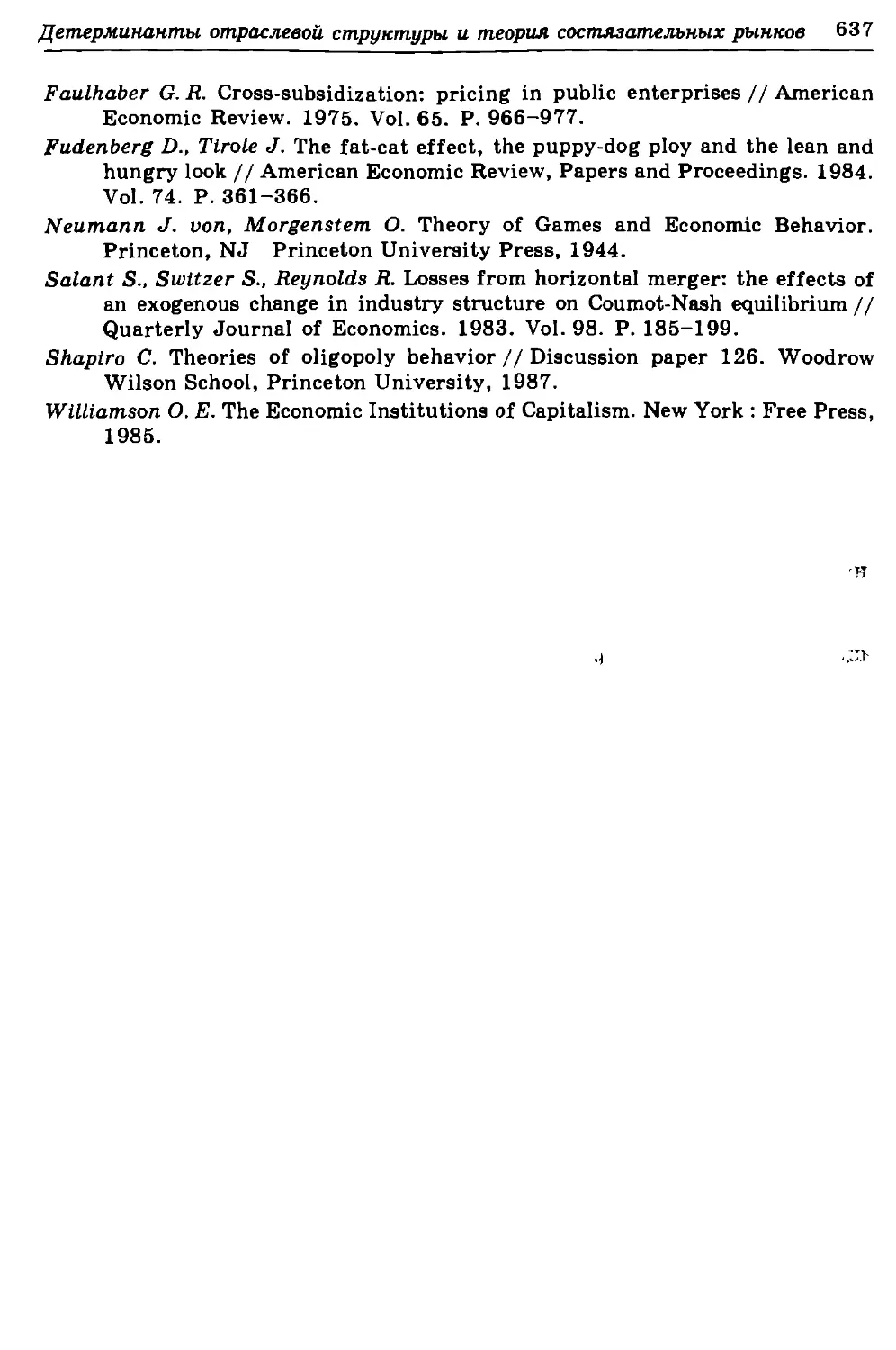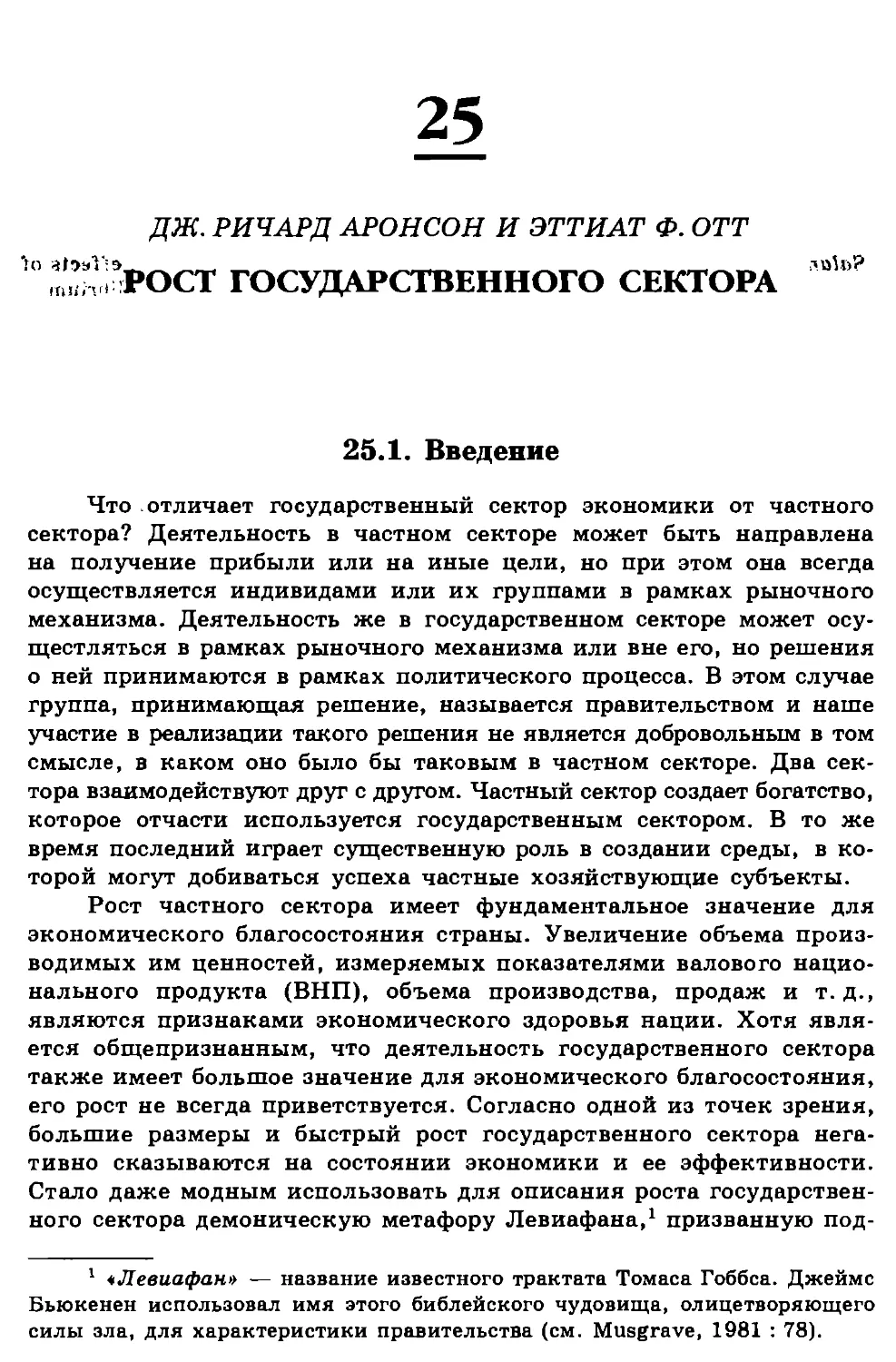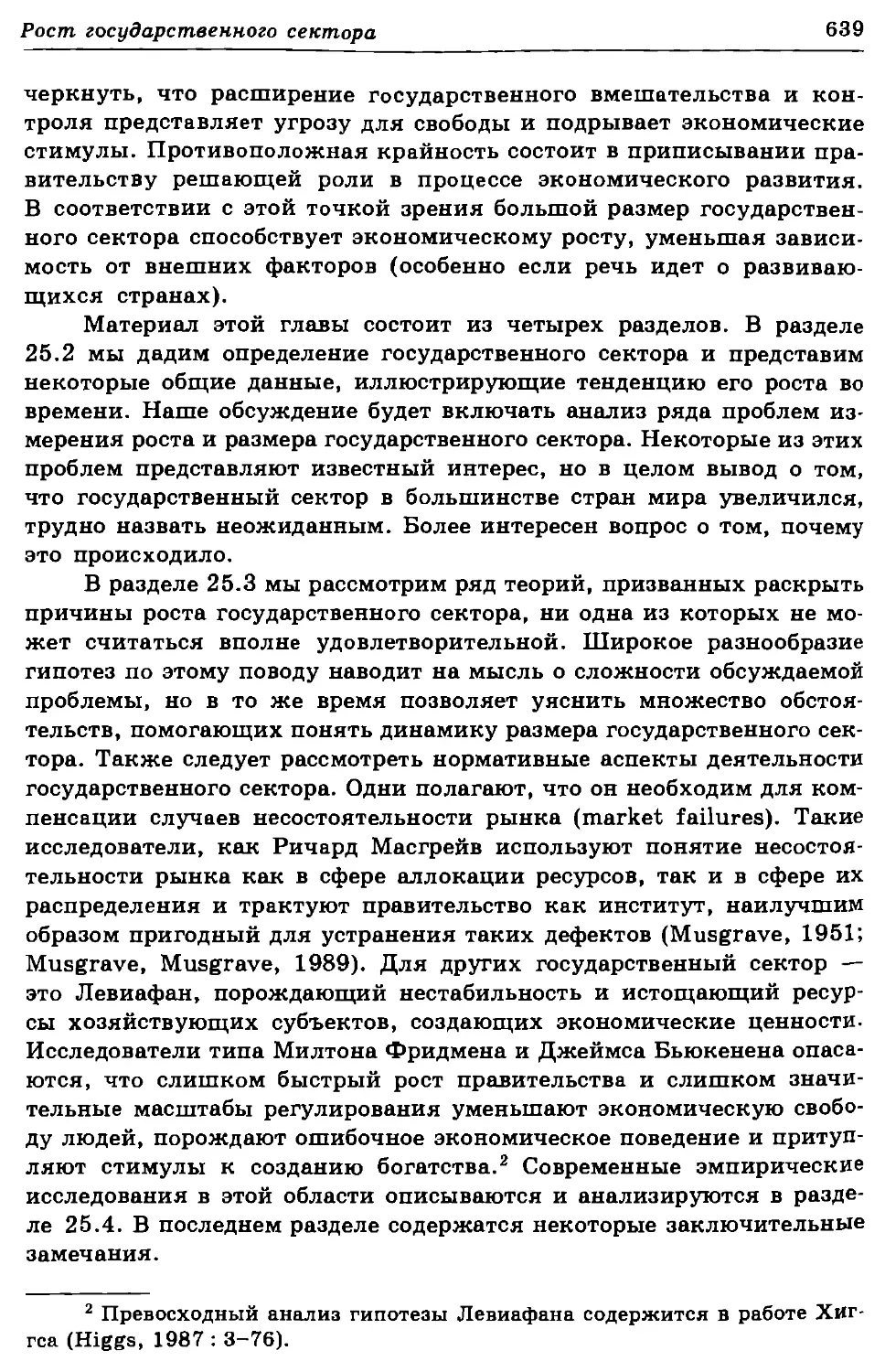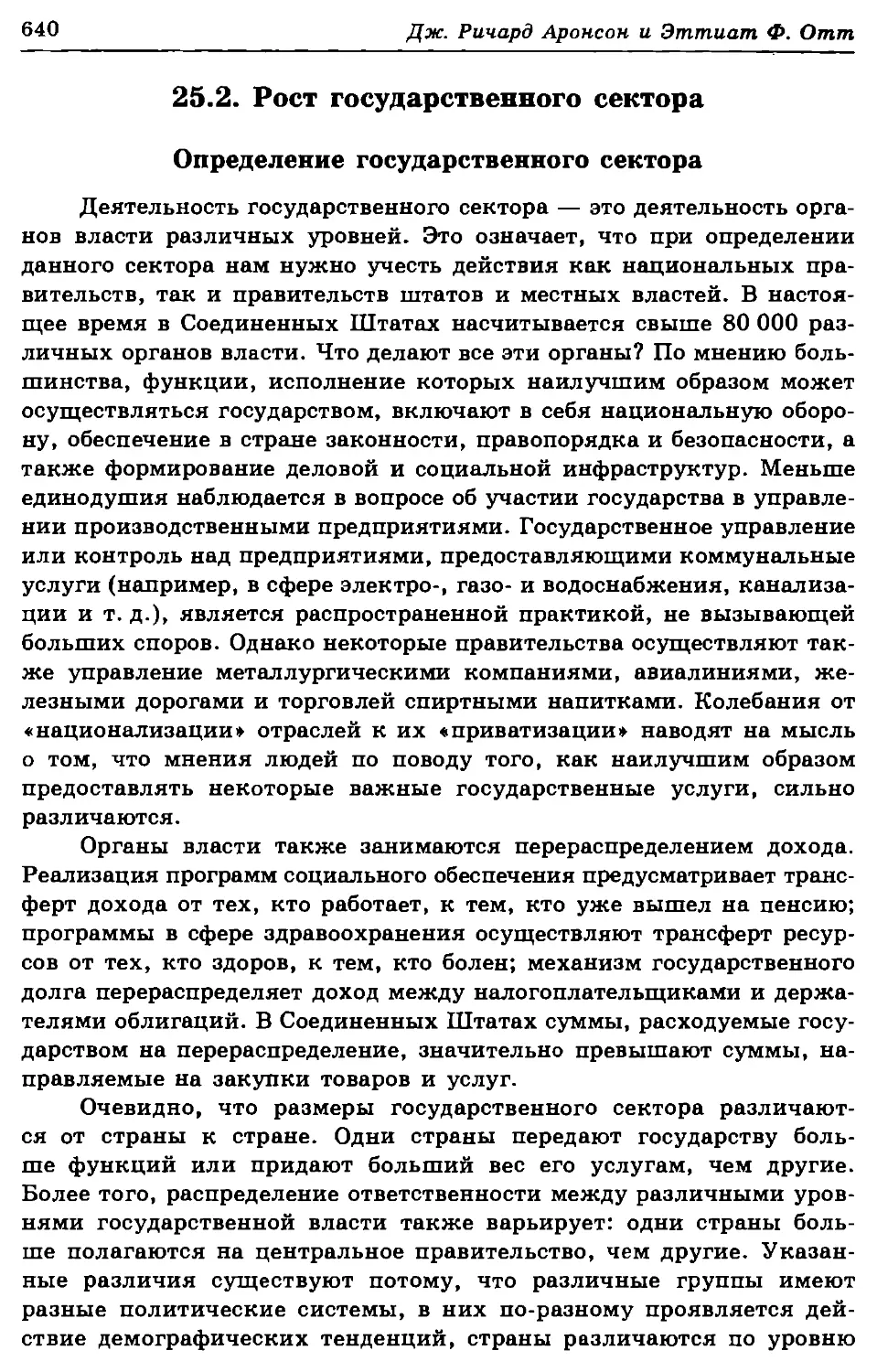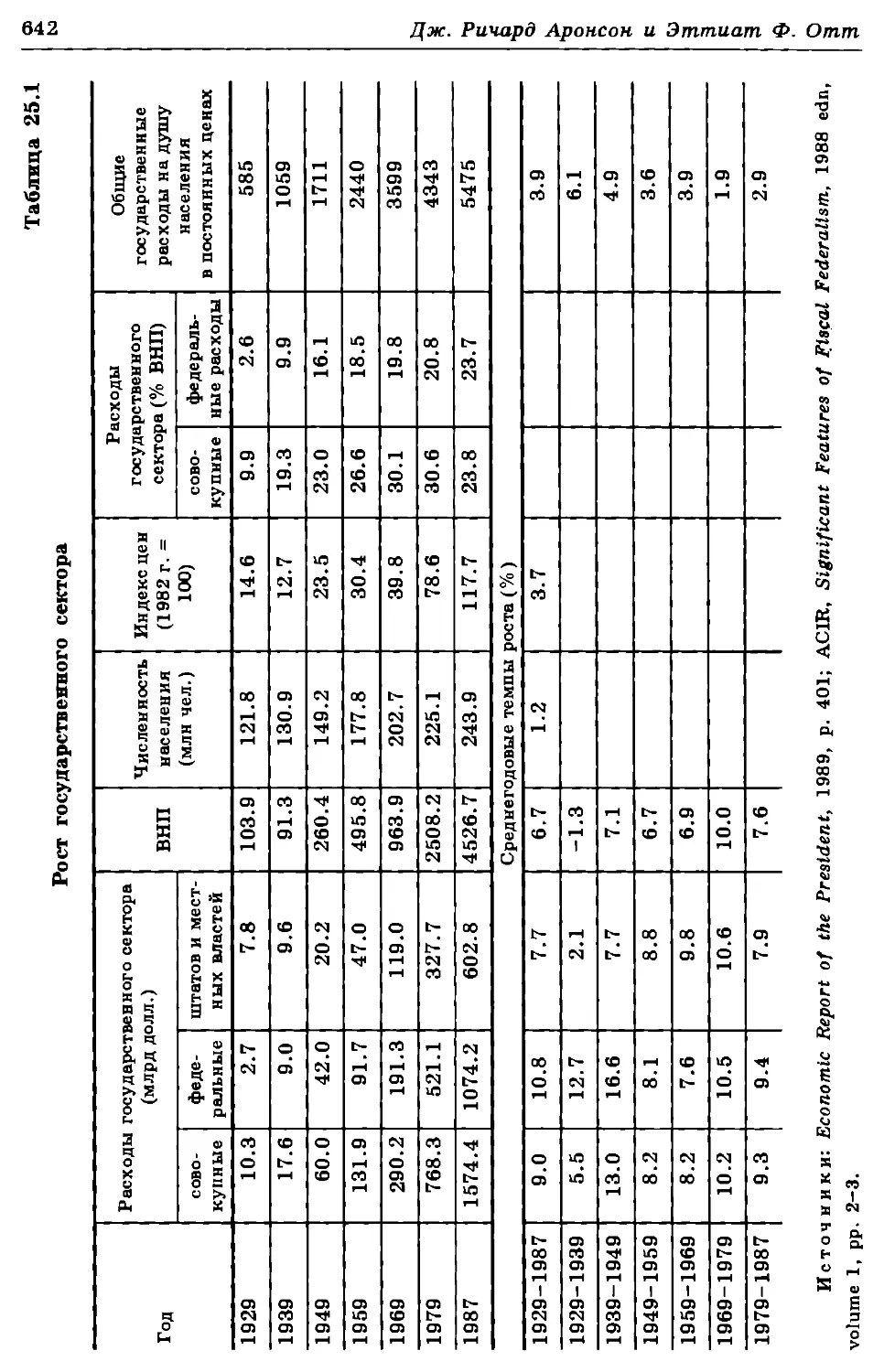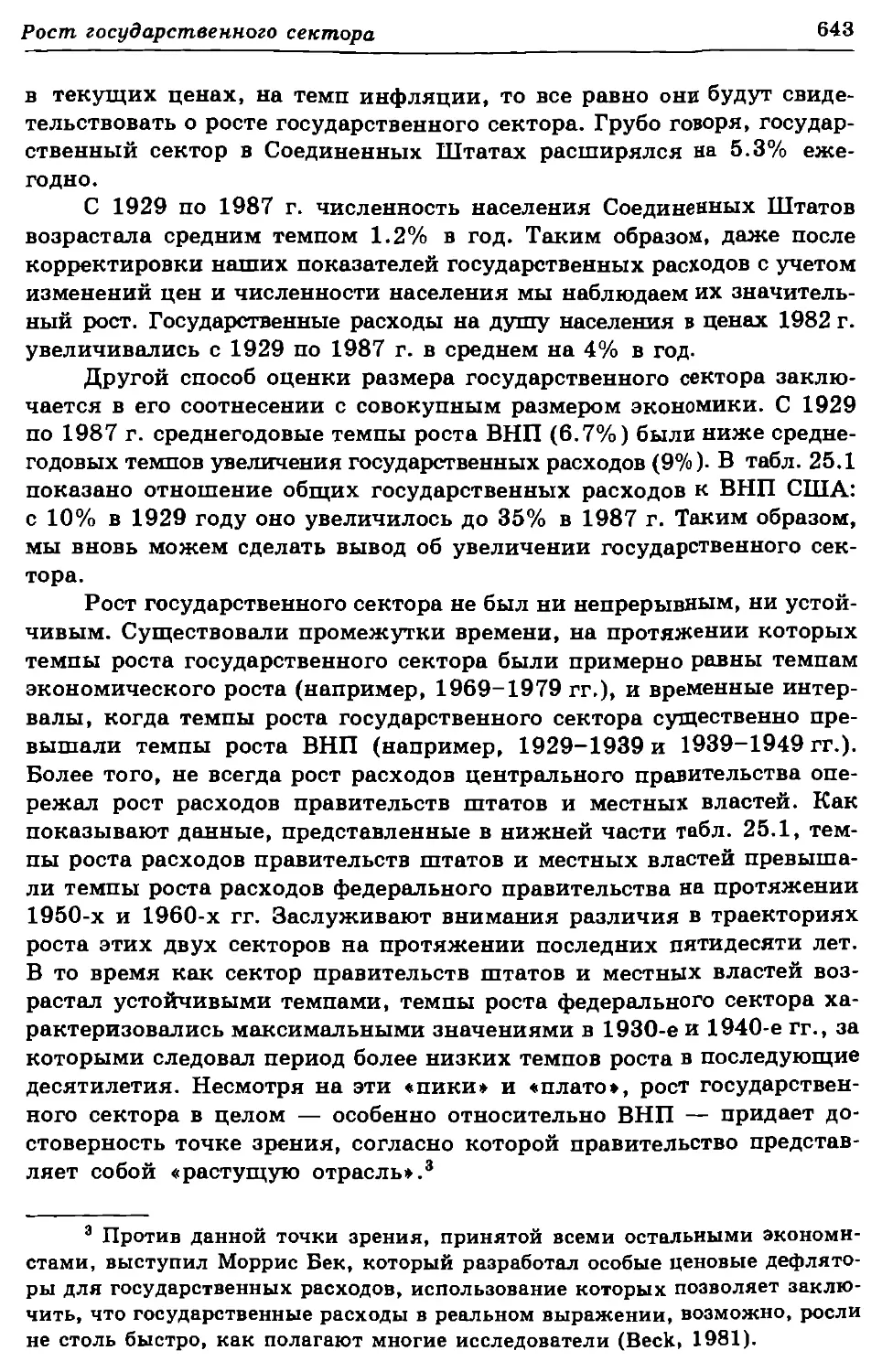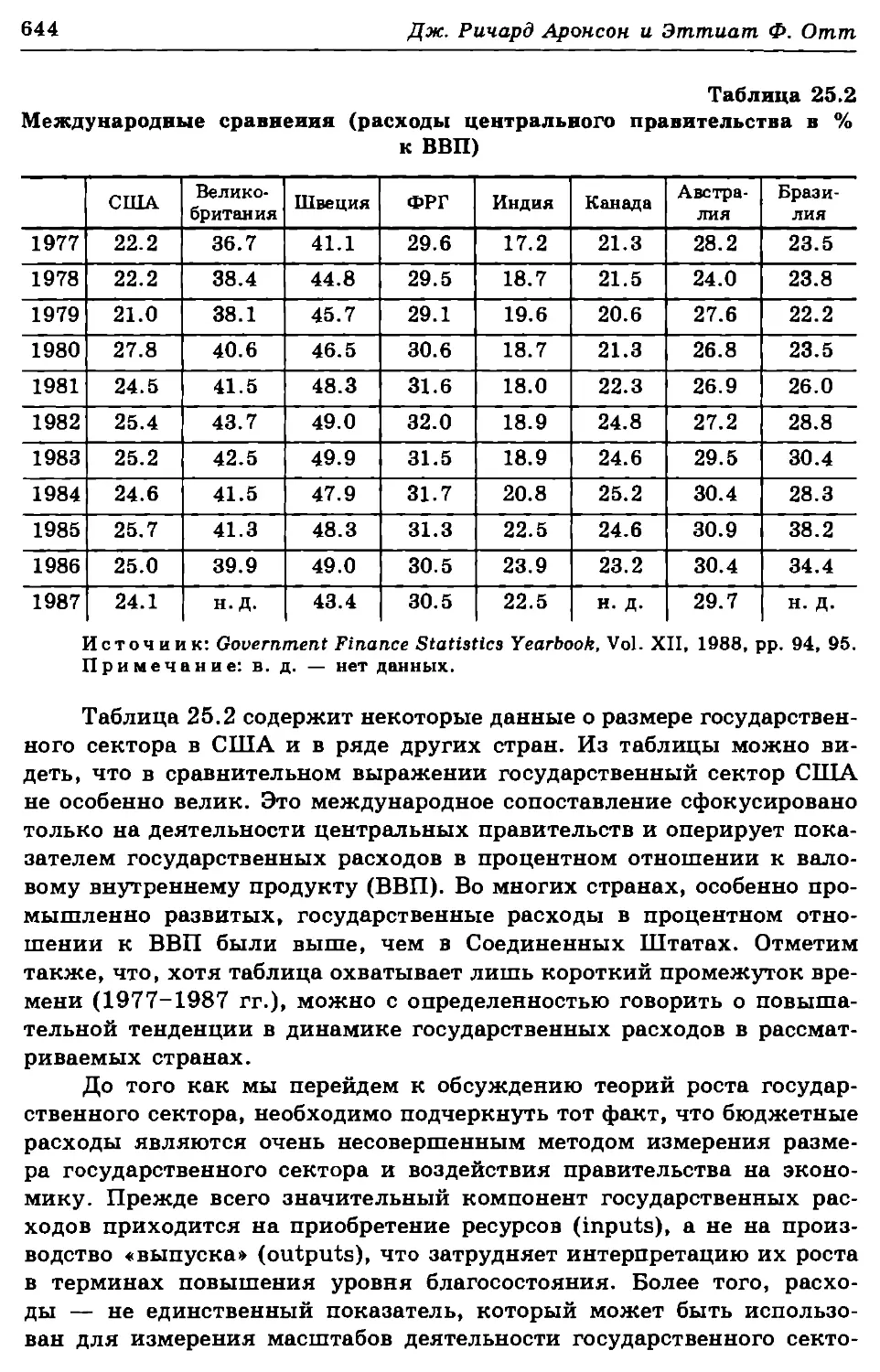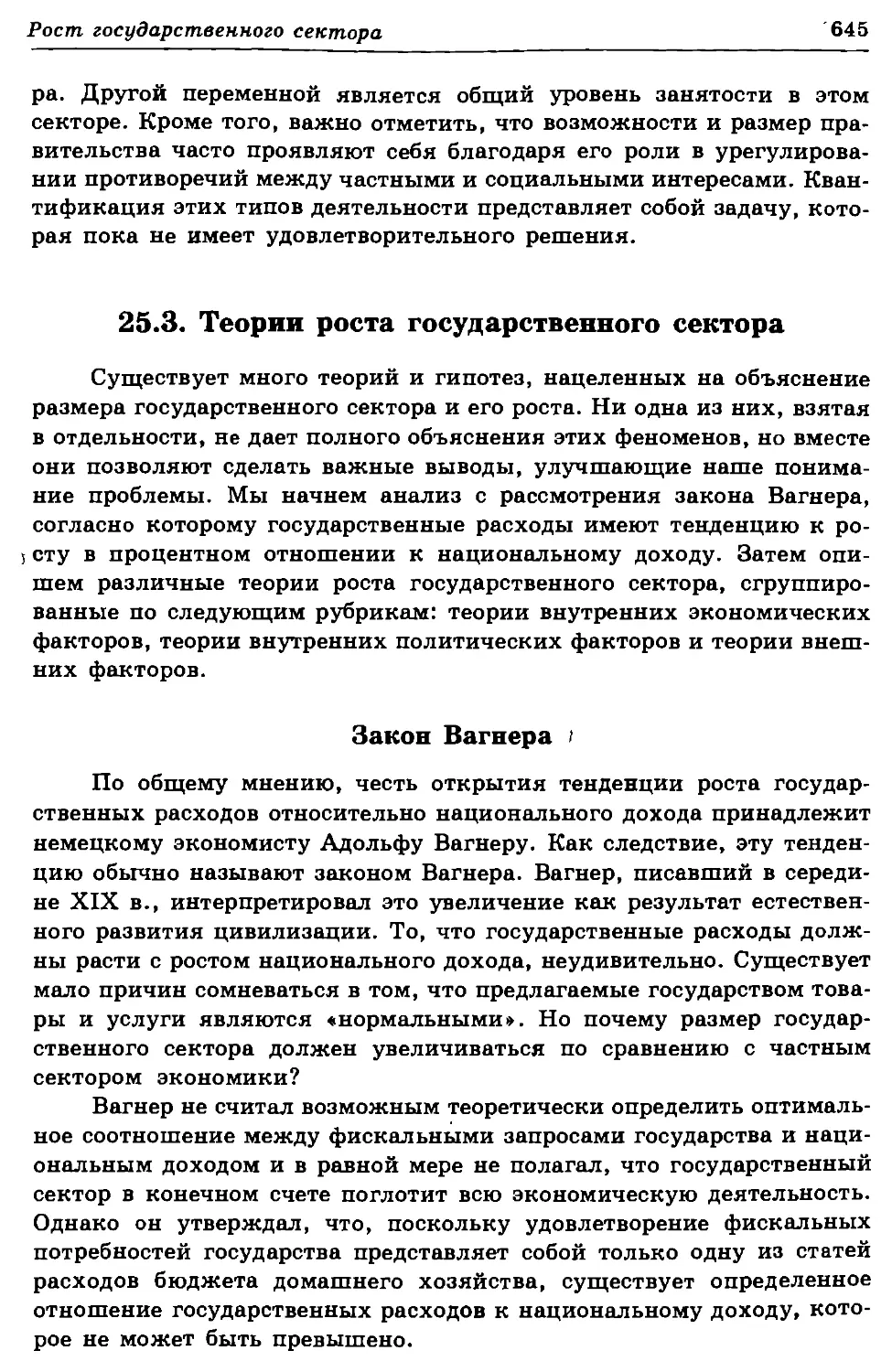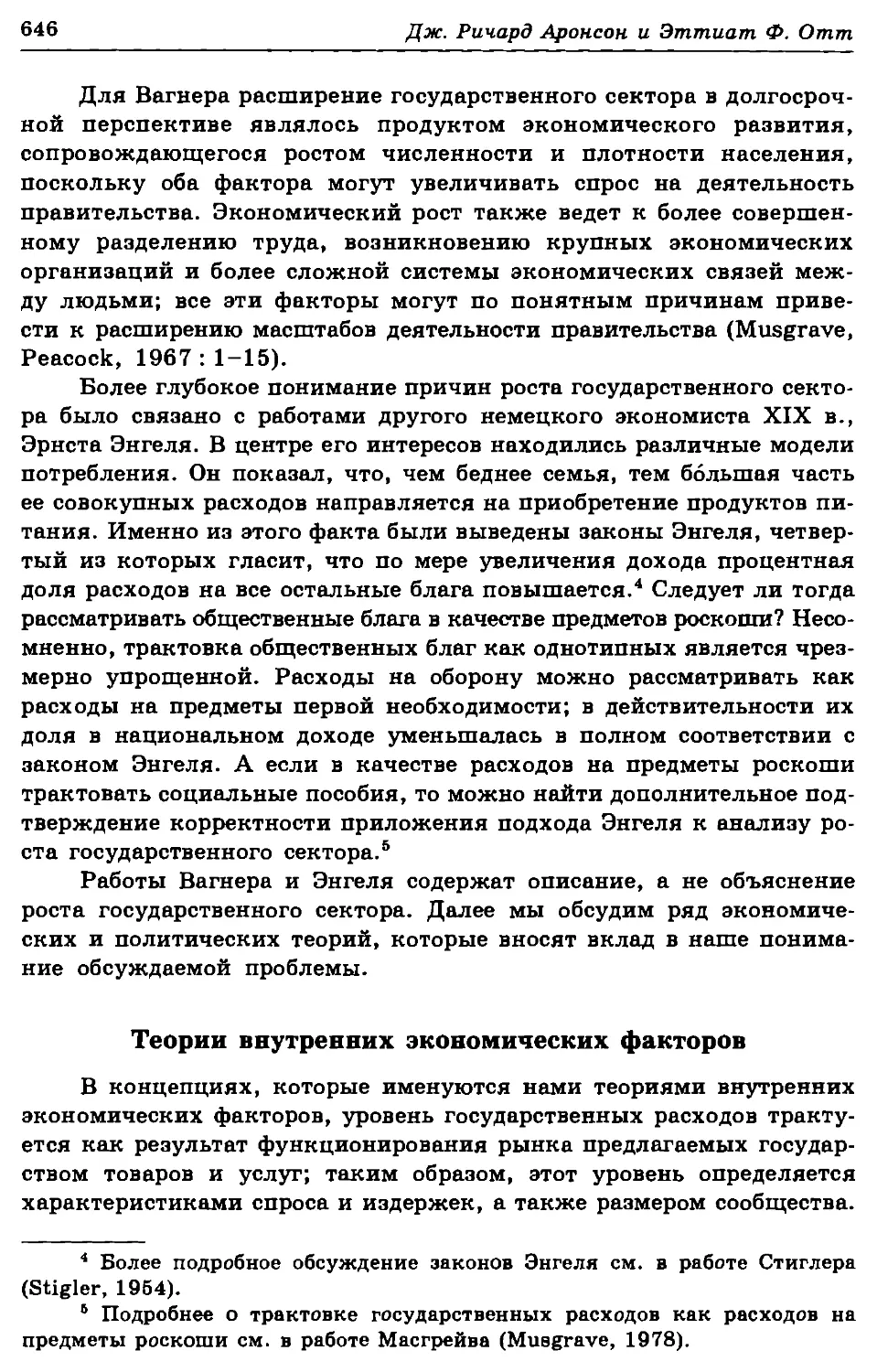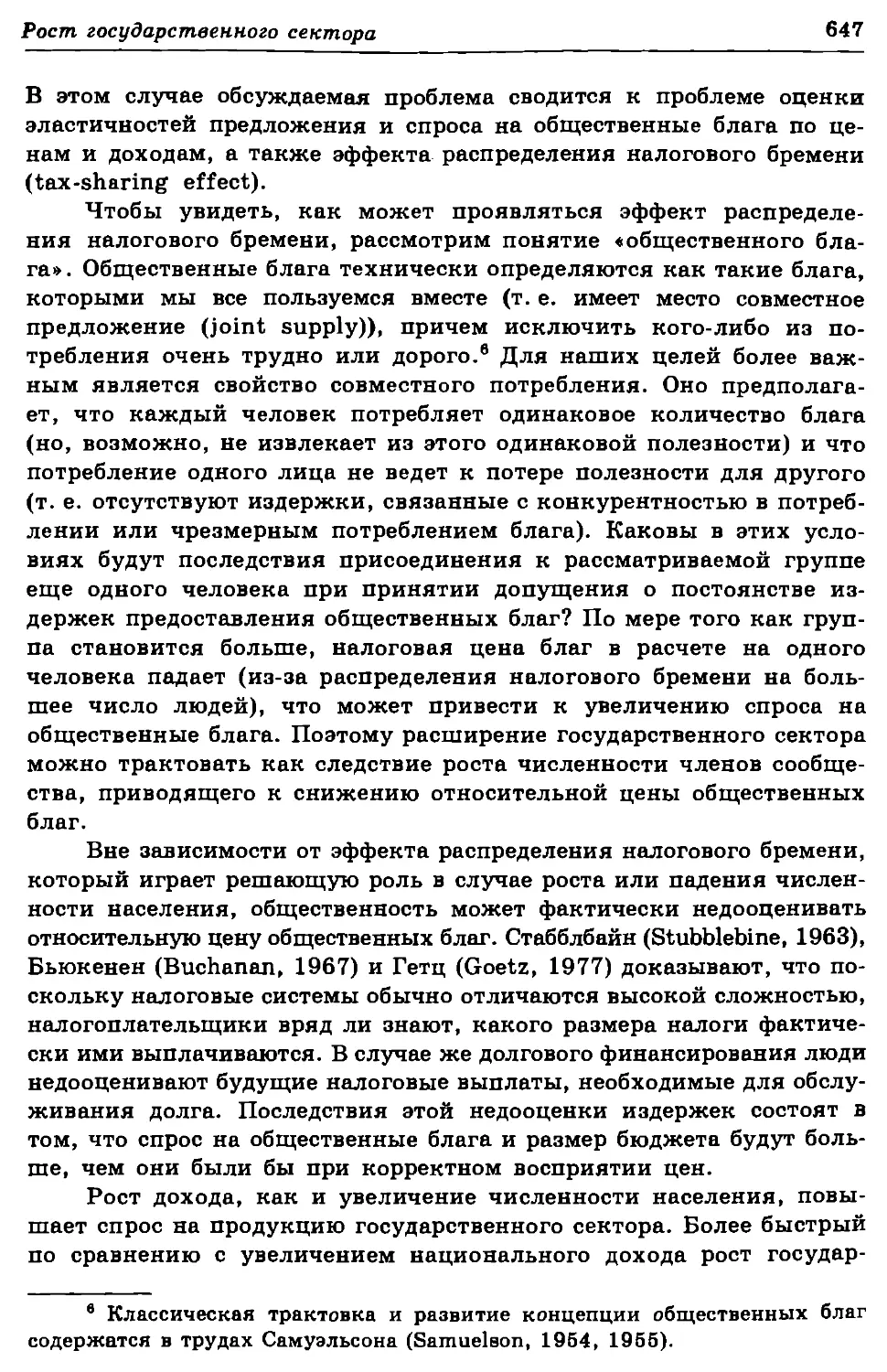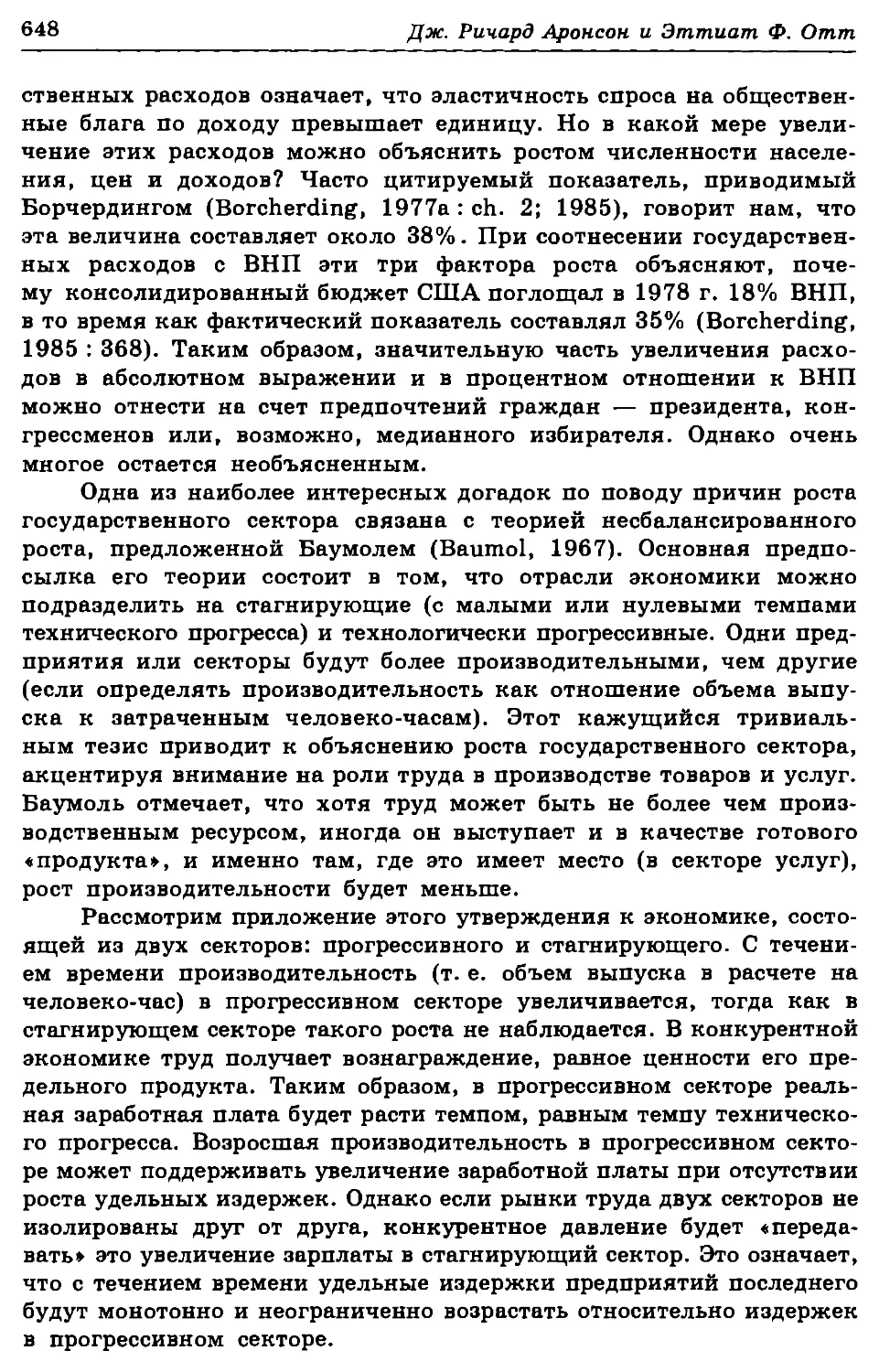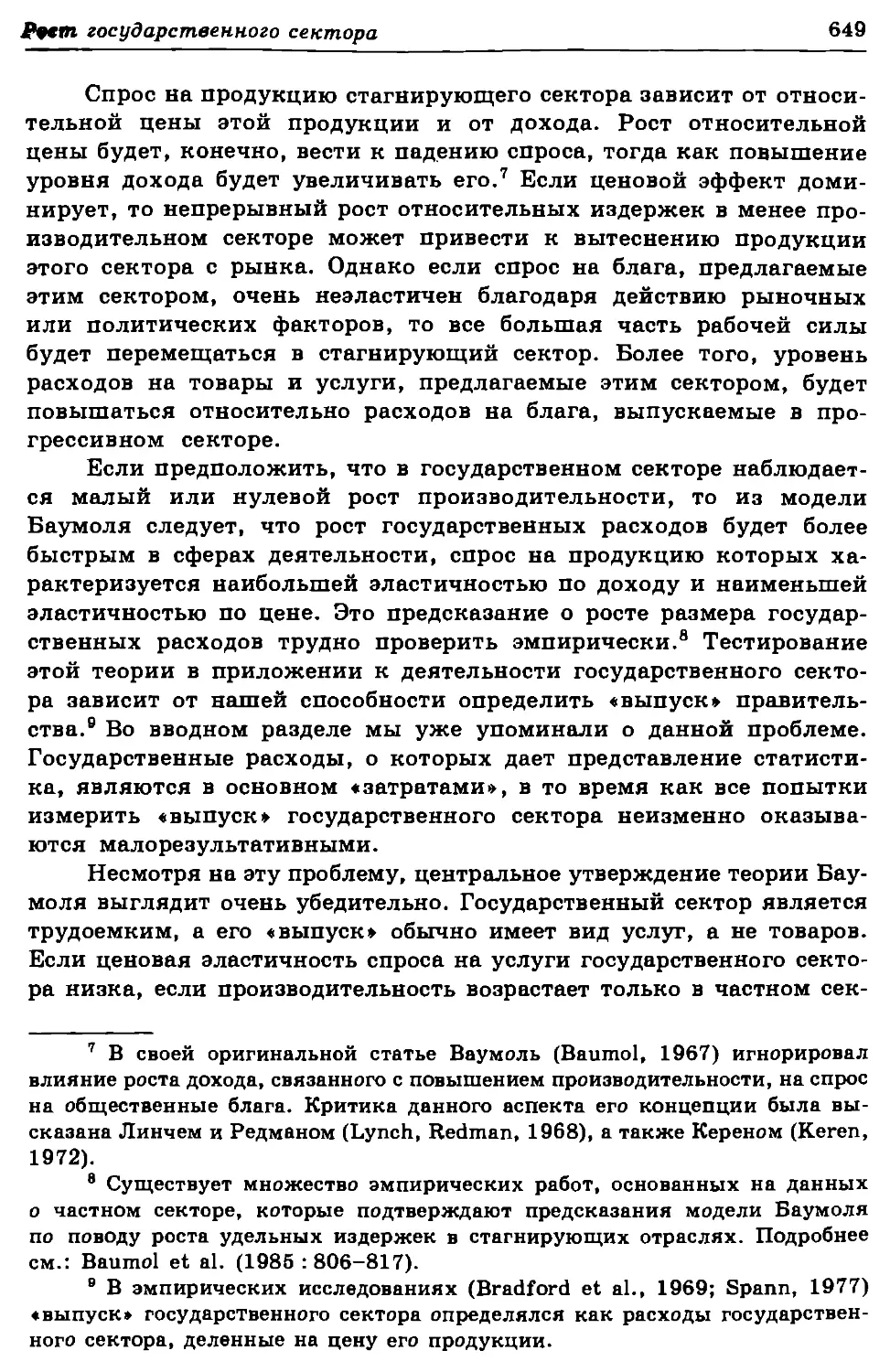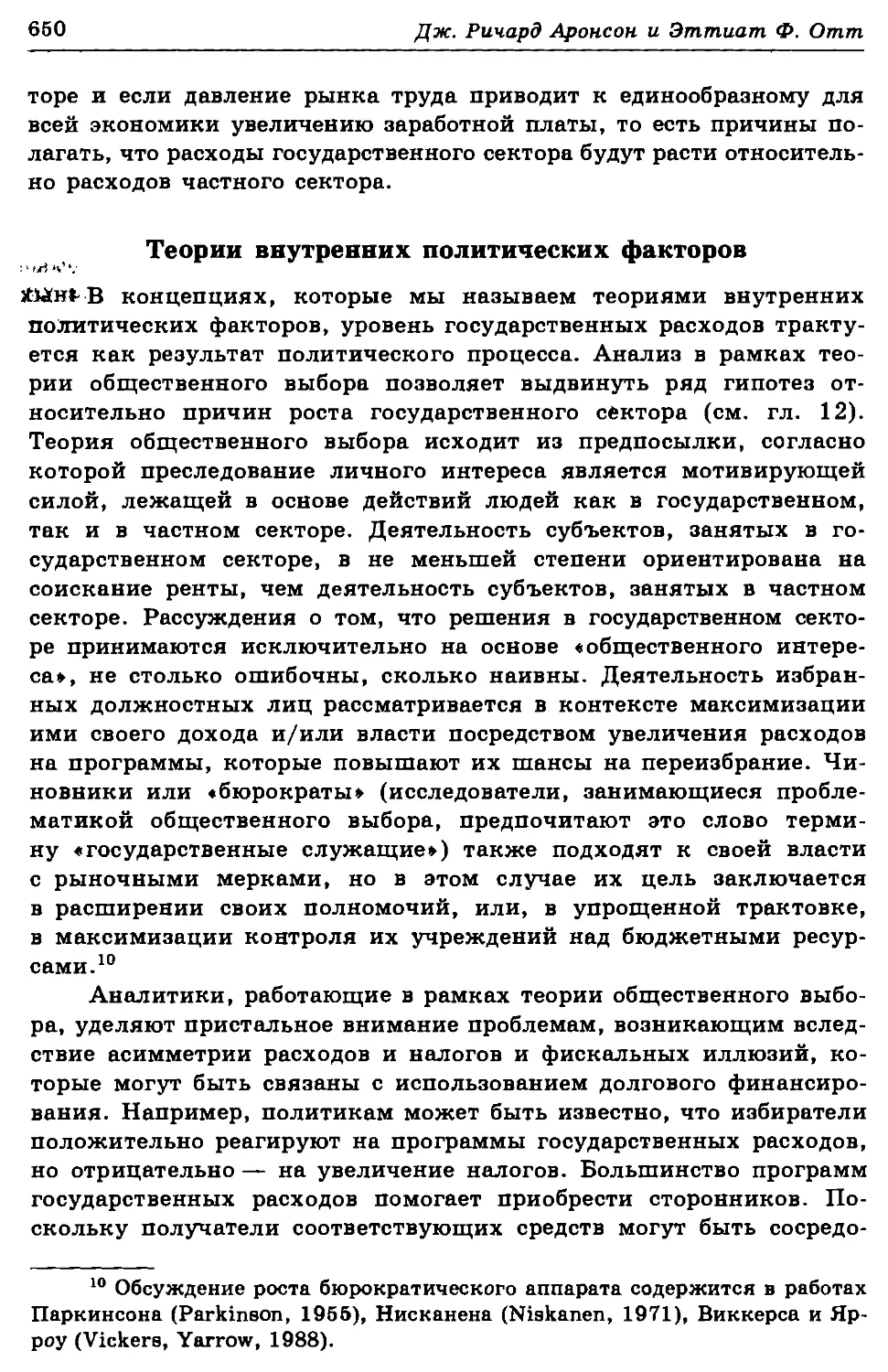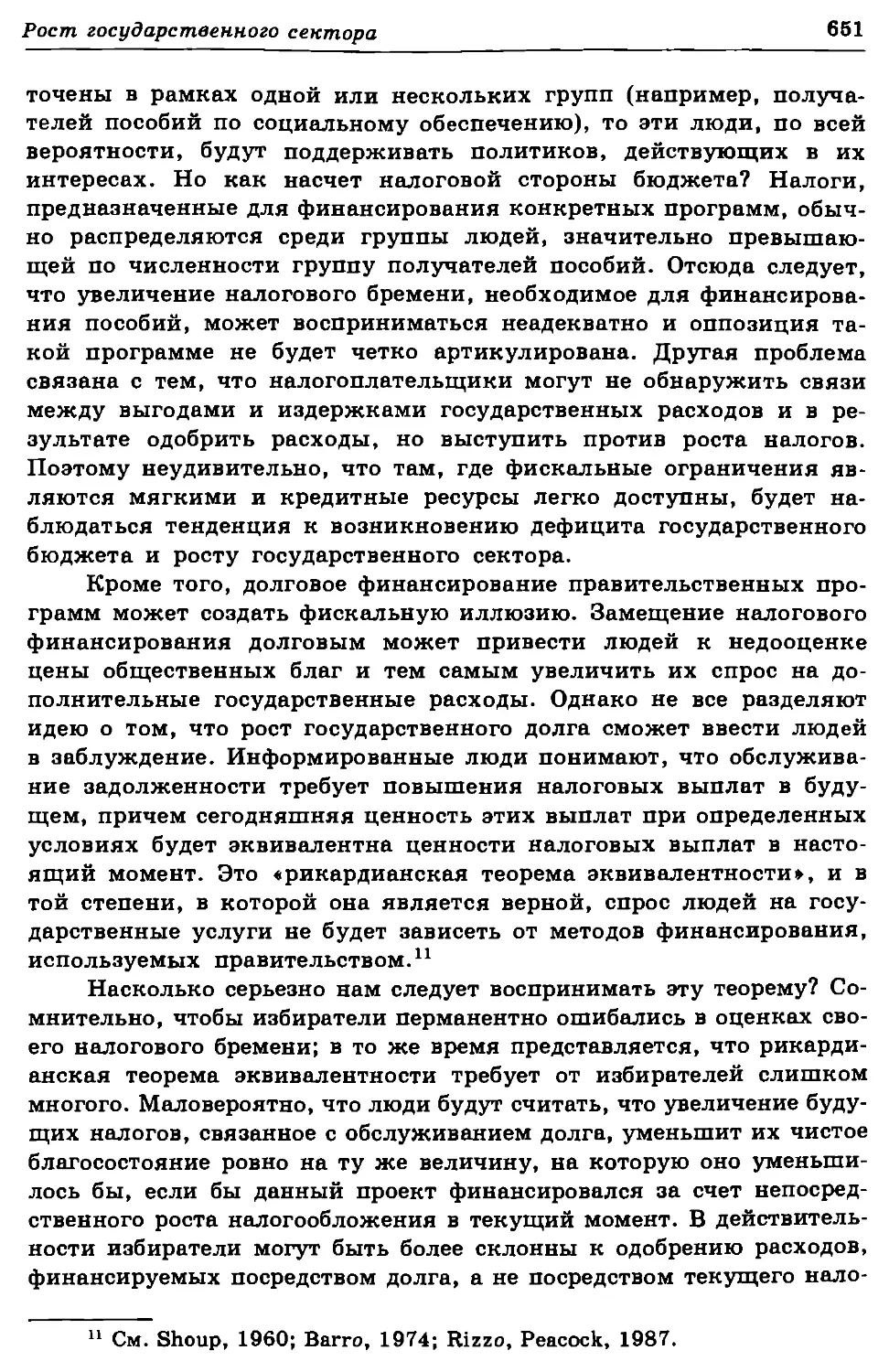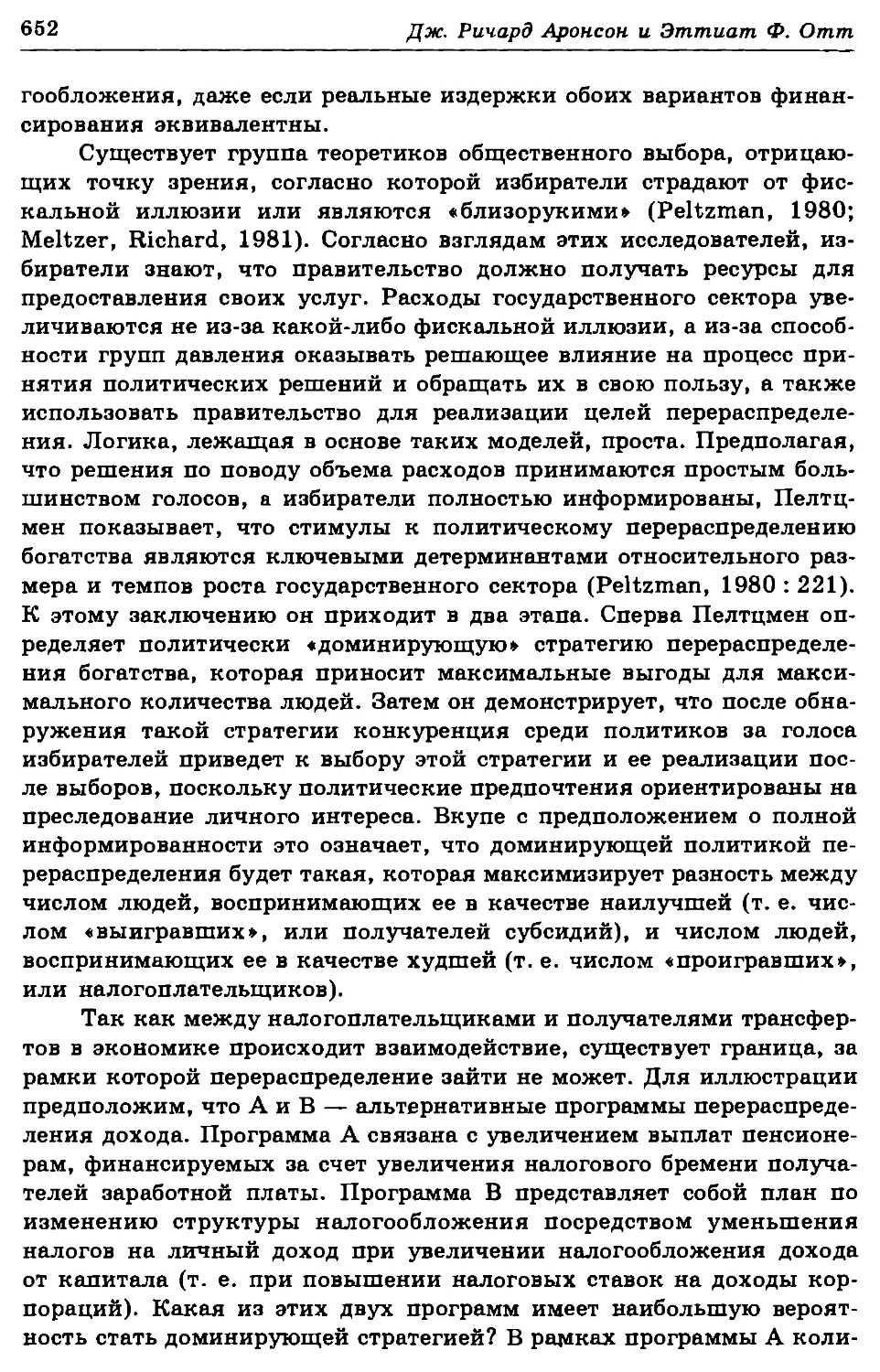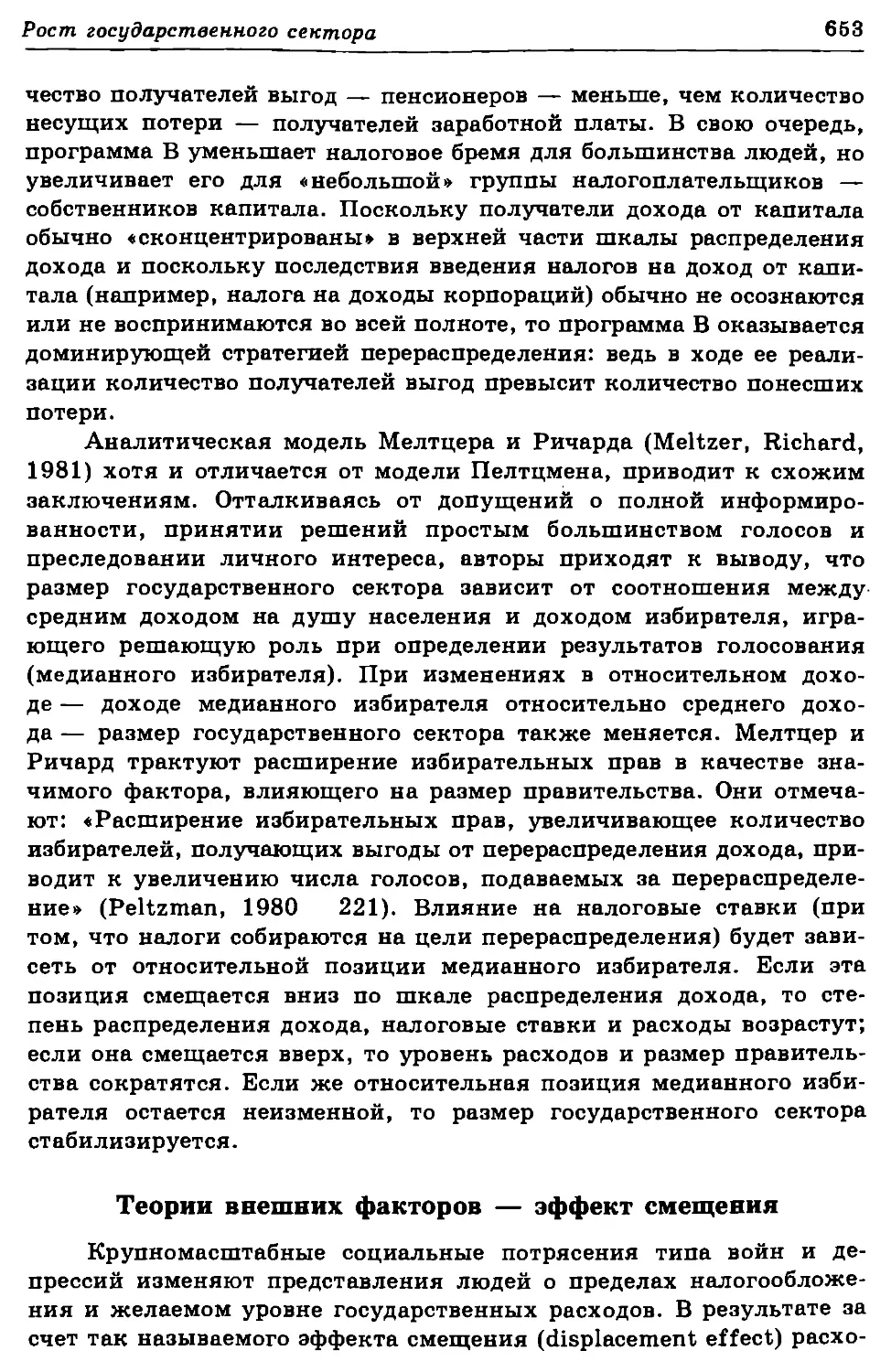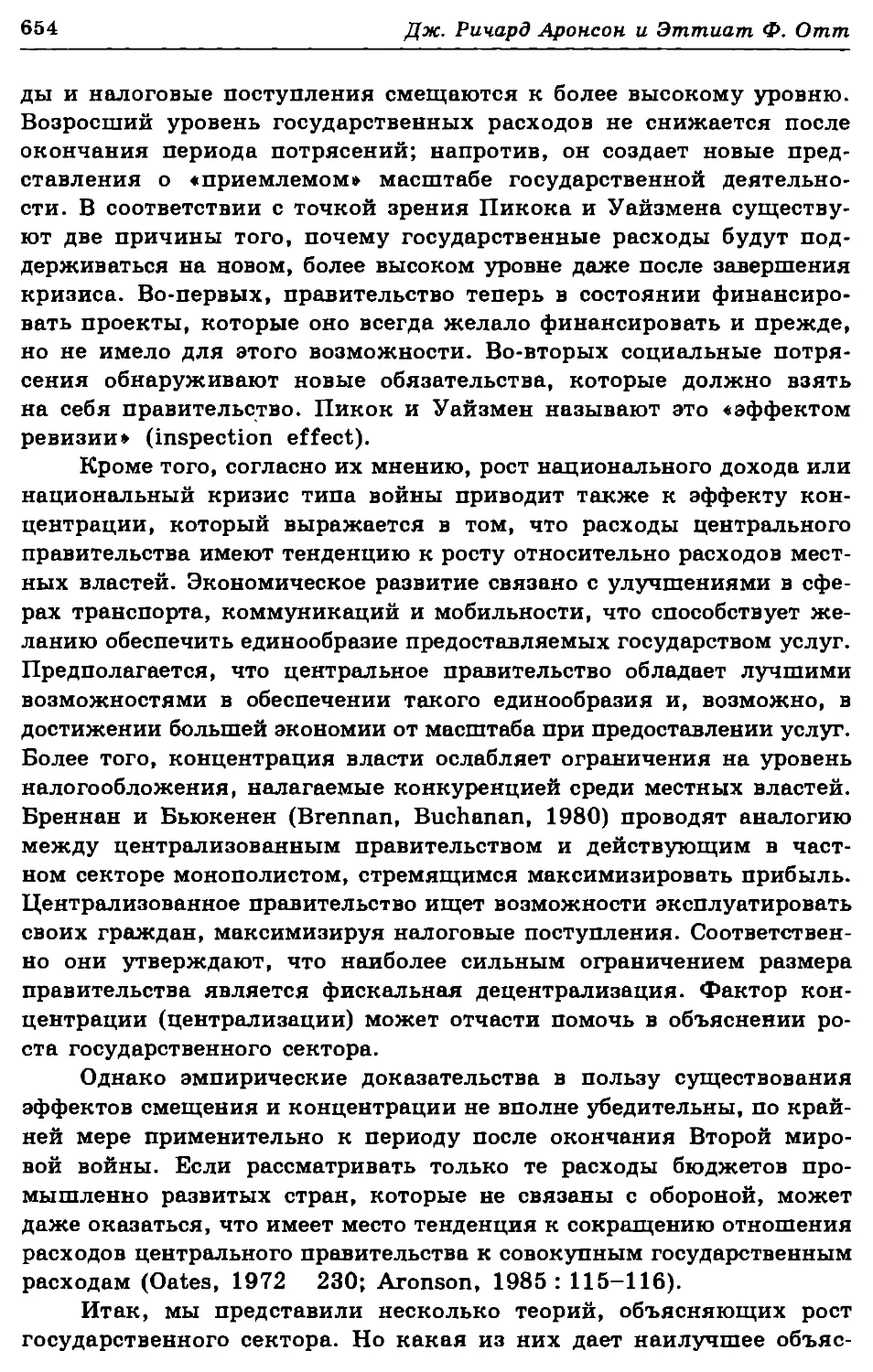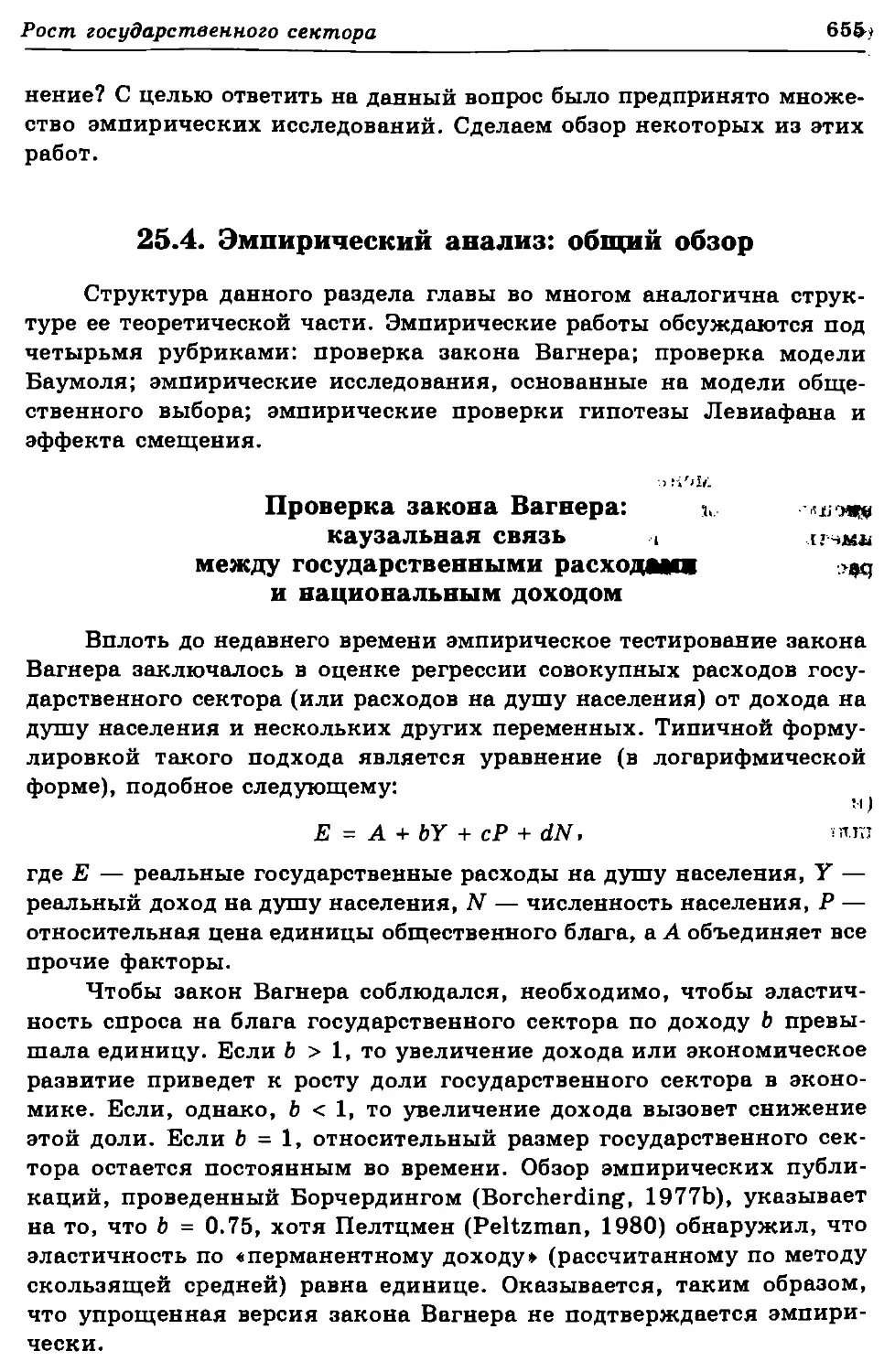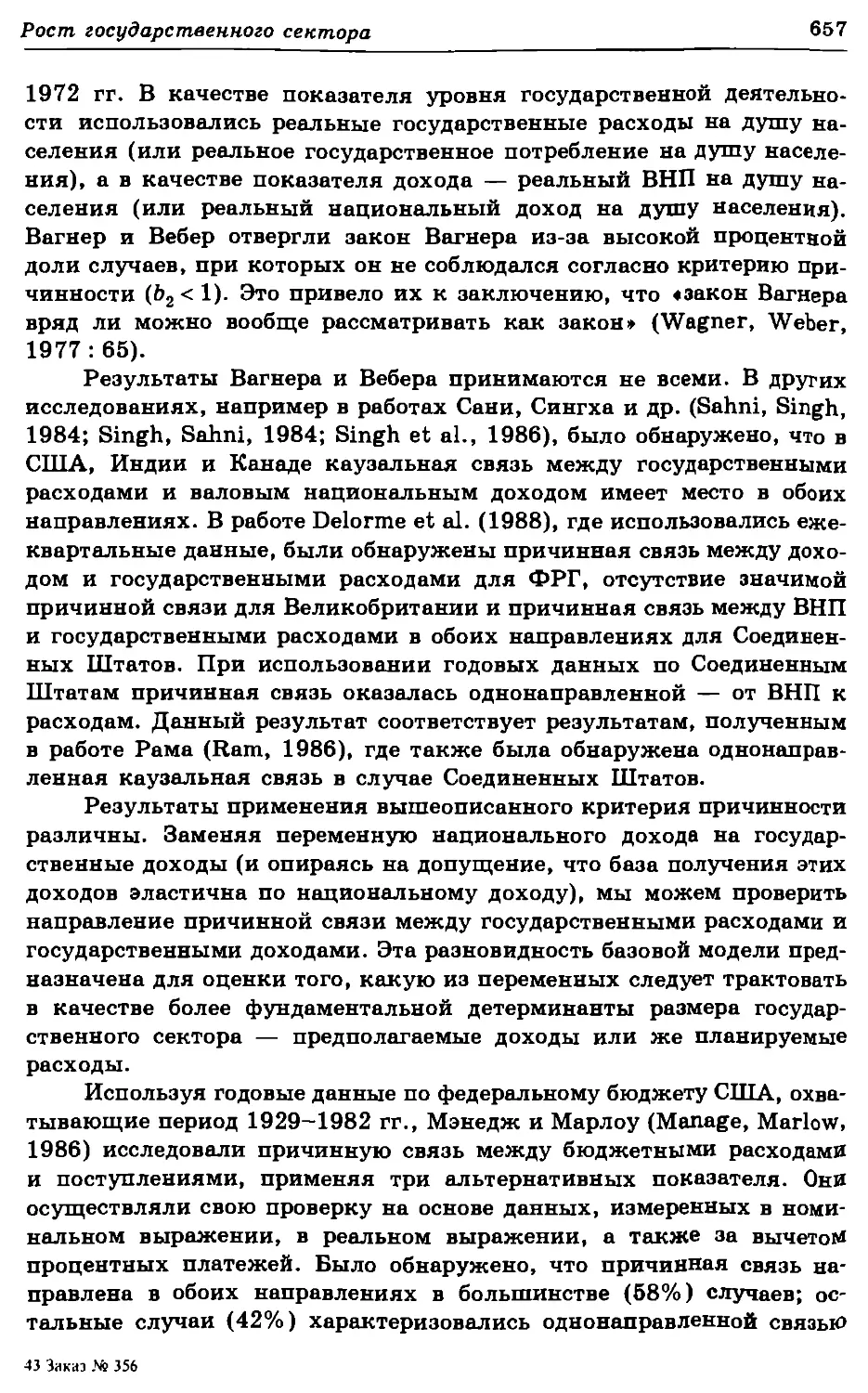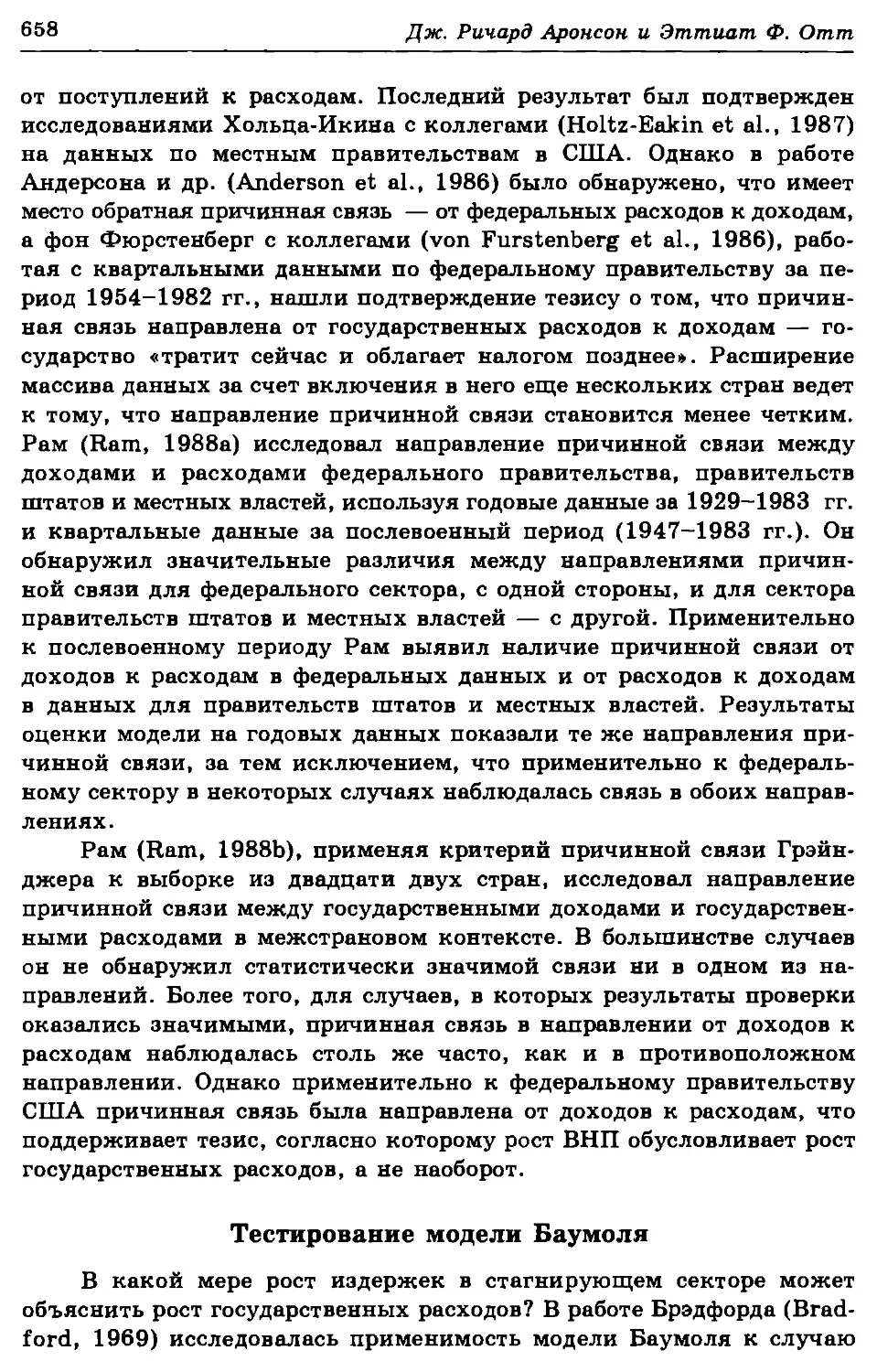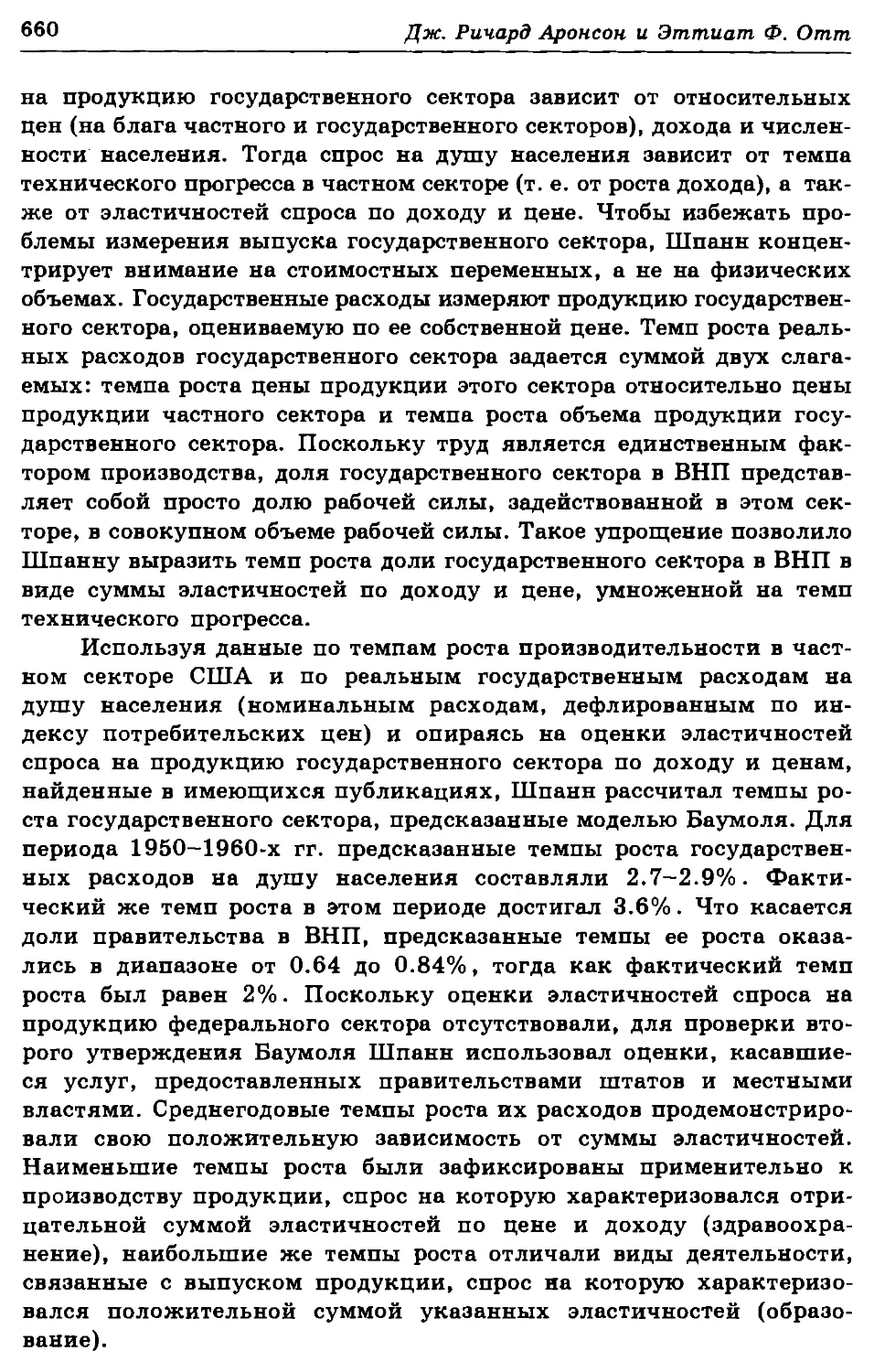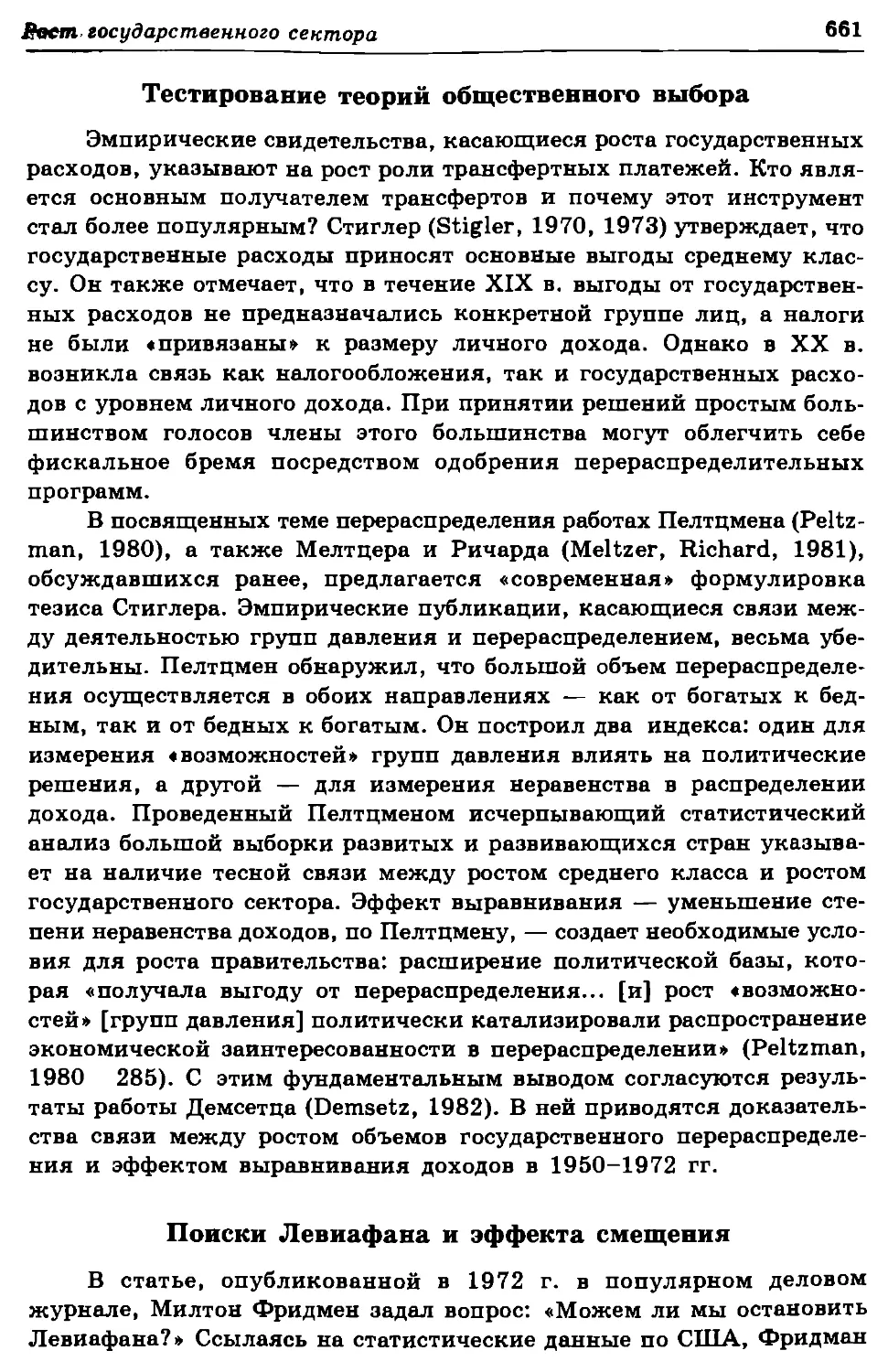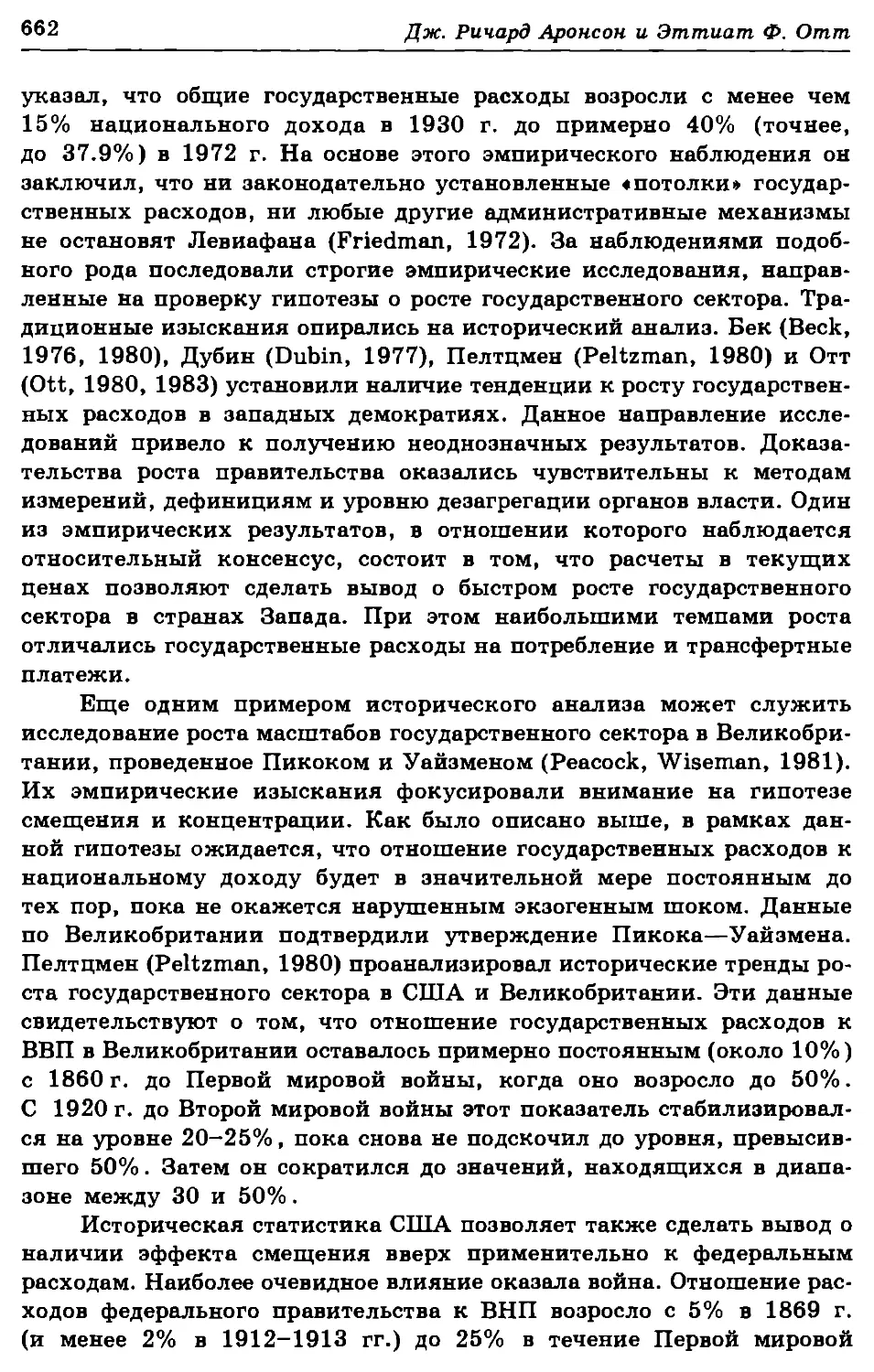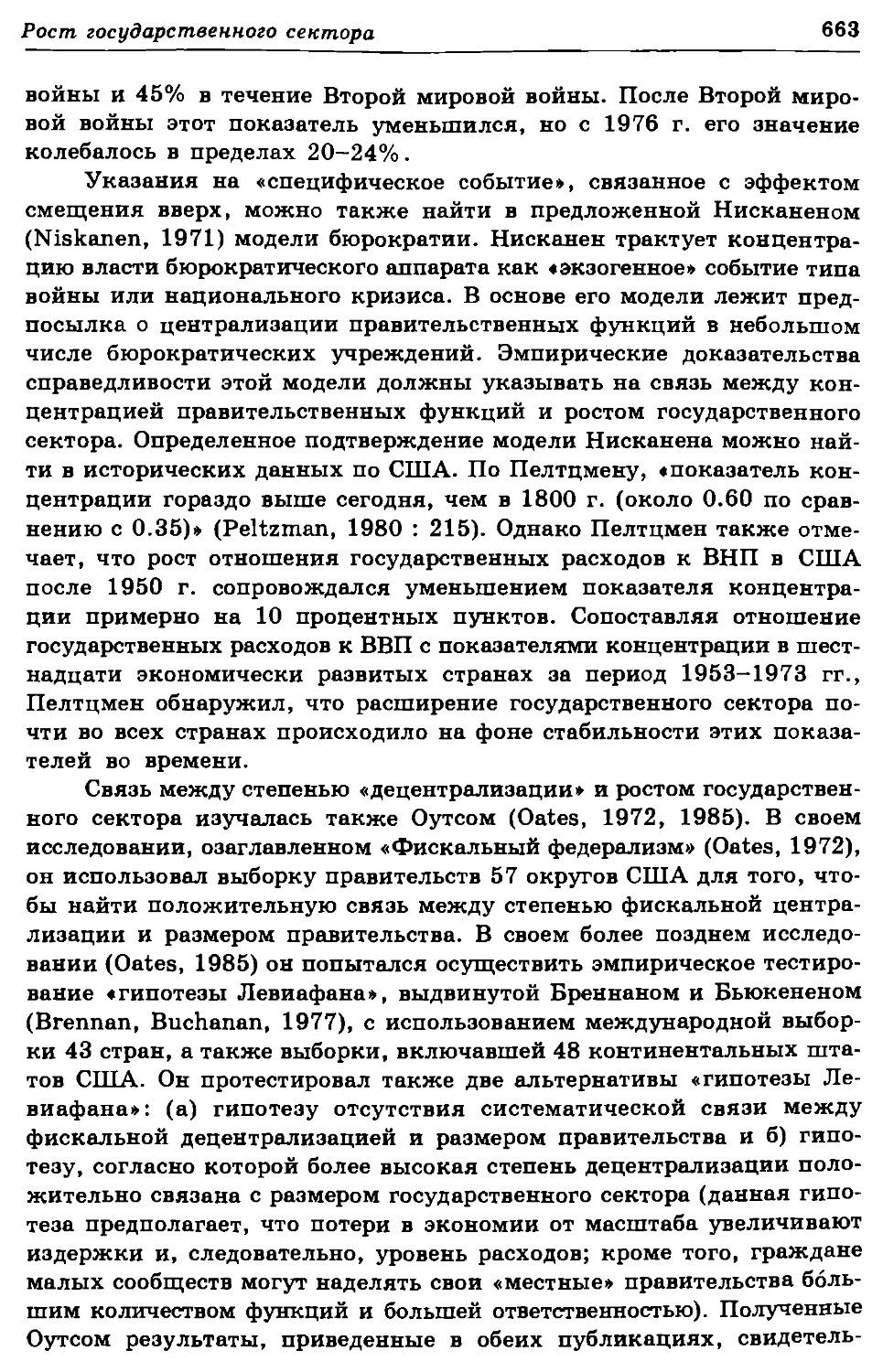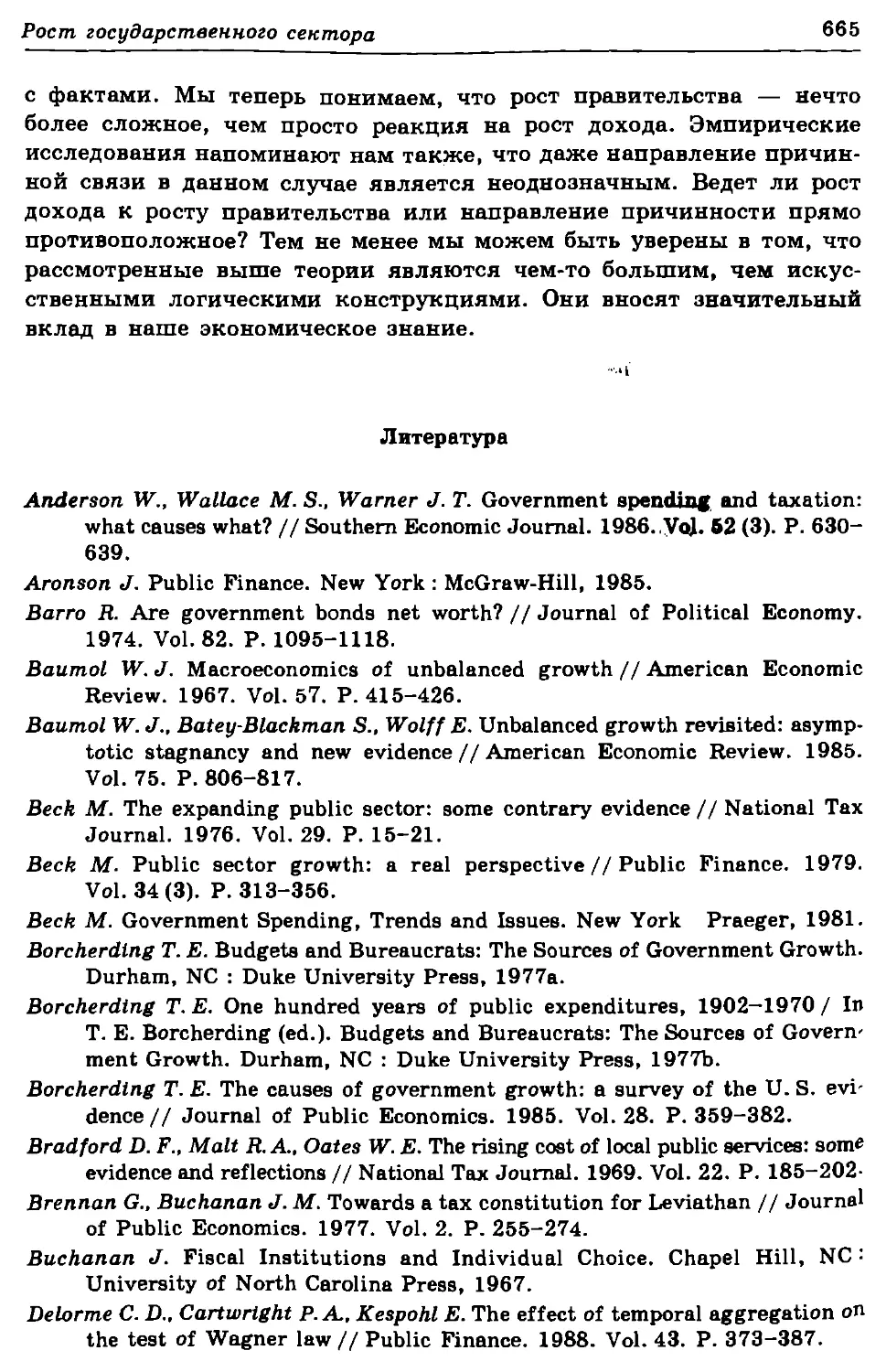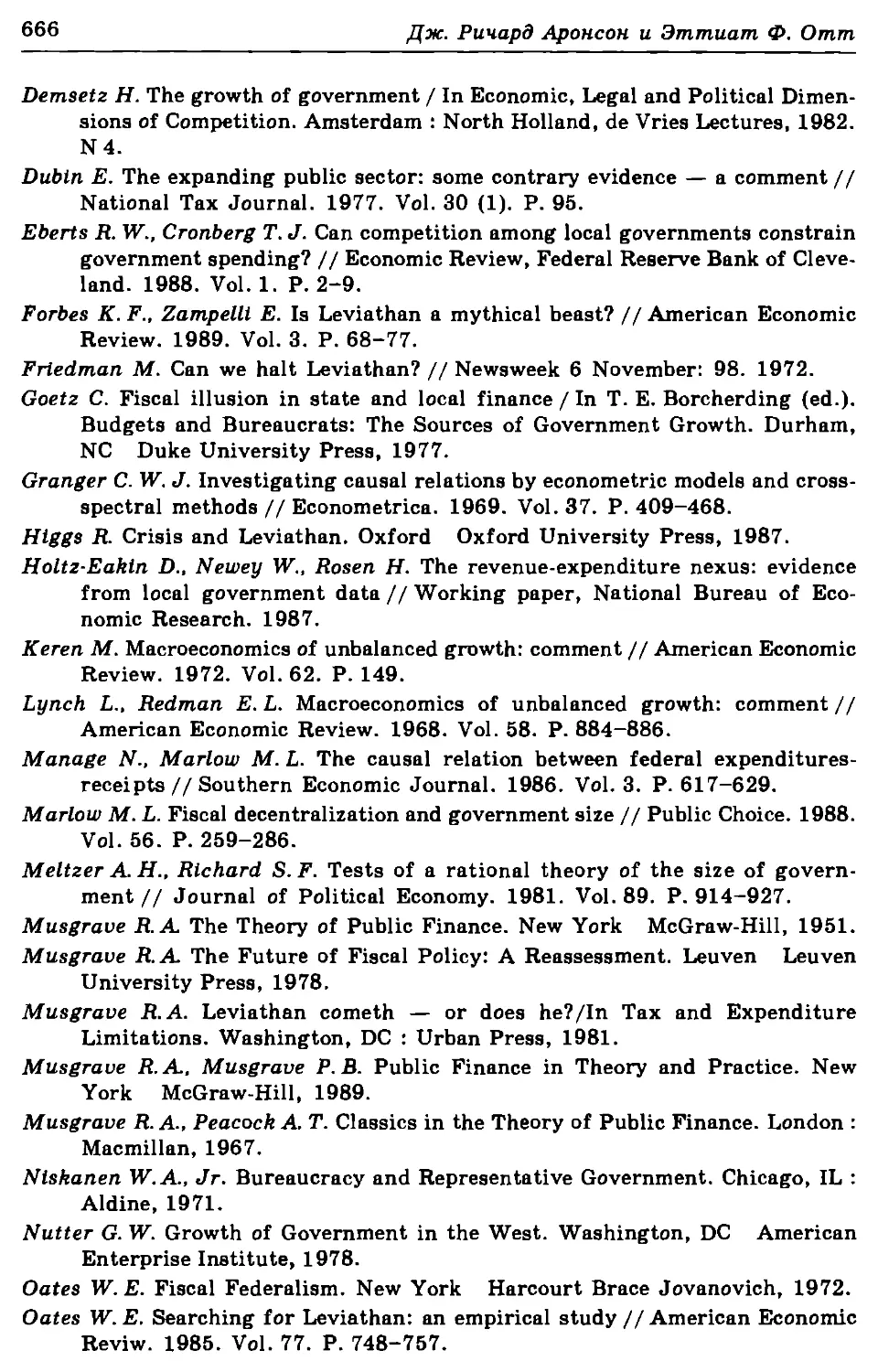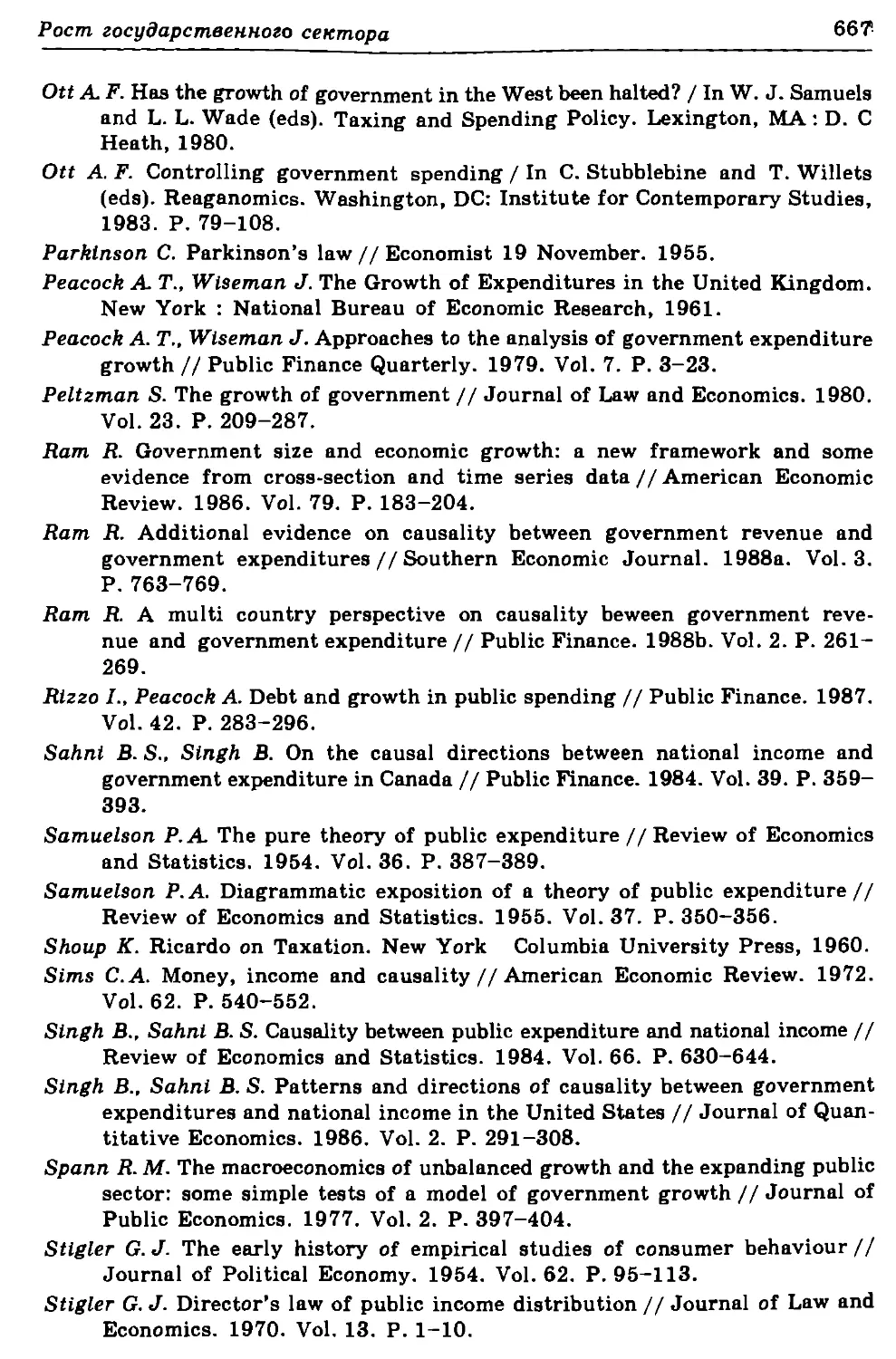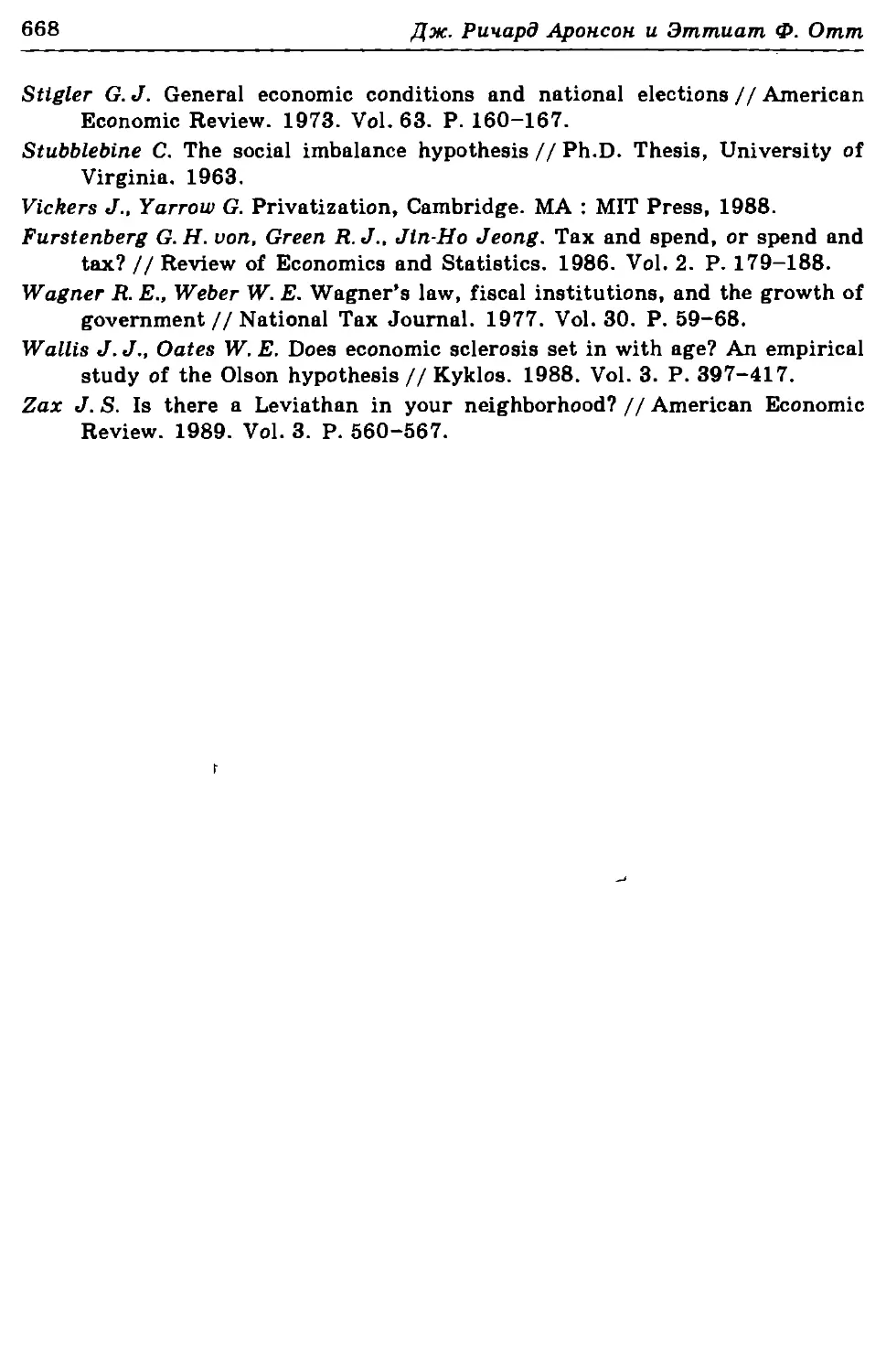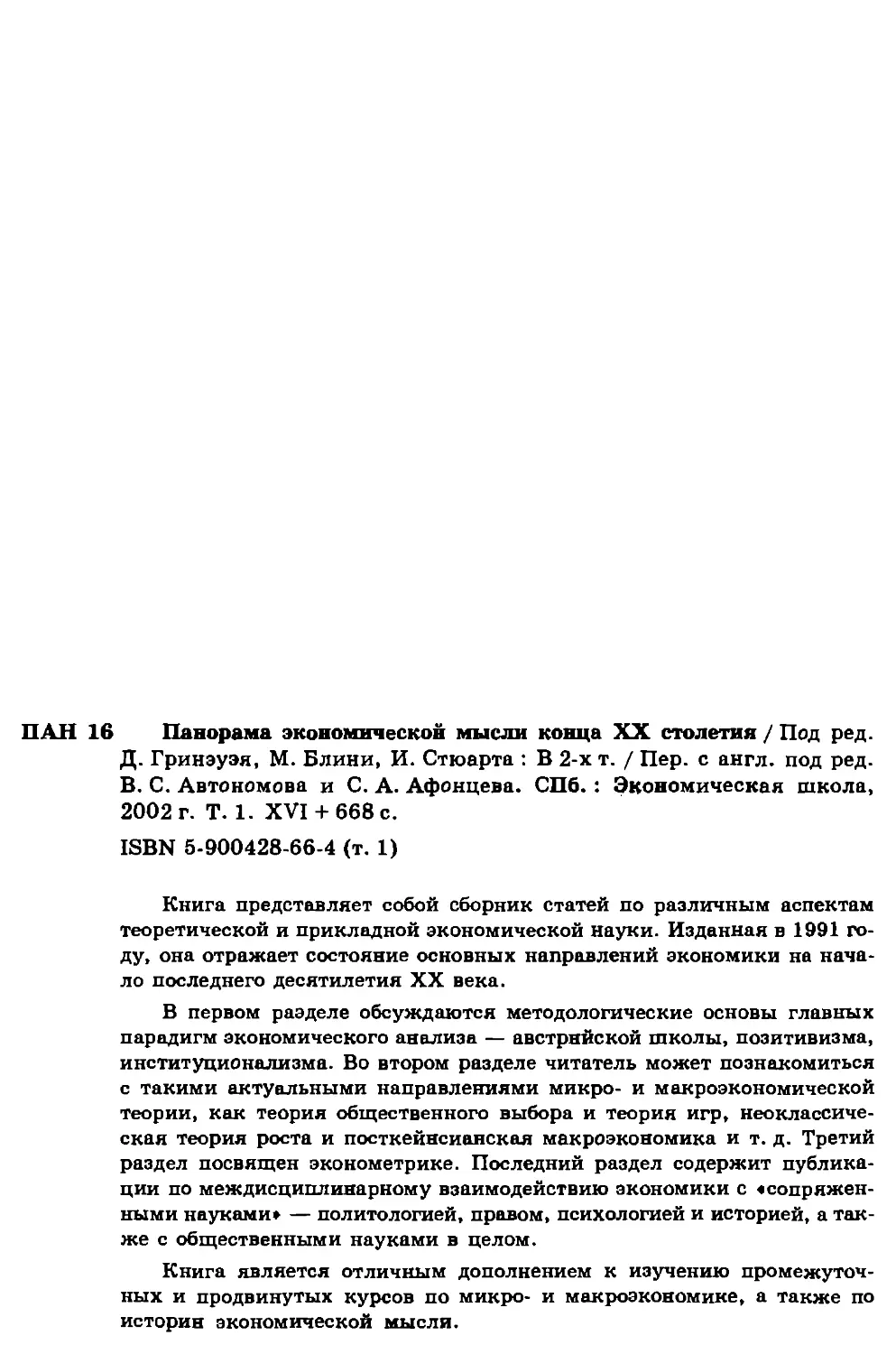Author: Стюарт И. Гринэуэй Д. Блини М.
Tags: история экономической мысли экономика экономическая теория прикладная экономика
ISBN: 0-415-02612-1
Year: 2002
Text
я
ПАНОРАМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ
ПАНОРАМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
KOHL1A XX СТОЛЕТИЯ
РЕДАКТОРЫ: Д.ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ
Книга представляет собой сборник статей
выдающихся ученых (У. Баумоль, Р. Солоу,
К. Боулдинг, У. Сэмюэлс и др.], посвященный
состоянию экономической науки в конце XX века.
Более сорока очерков, написанных ясным,
увлекательным языком, охватывают важнейшие
направления теоретической и прикладной
экономической науки.
Книга будет незаменимым помощником
для преподавателей экономических дисциплин,
а также прекрасным дополнением
к изучению промежуточных
и продвинутых курсов микроэкономики,
макроэкономики, истории экономической мысли.
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЭКОНОМИКА
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
ПАНОРАМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ
РЕДАКТОРЫ: Д. ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ
«
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЭКОНОМИКА
COMPANION TO
CONTEMPORARY
ECONOMIC
THOUGHT
EDITED BY
DAVID GREENAWAY, MICHAEL BLEANEY
AND IAN STEWART
ПАНОРАМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
KOHUA XX СТОЛЕТИЯ
РЕДАКТОРЫ: Л ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ
В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ1
Перевод с английского
под редакцией В.С. Автономова, С.А. Афониева
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
Санкт-Петербург 2002
Л * БИБЛИОТЕКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»
Выпуск 35 (
ББК 65.02 -fcf66-012 *
ПАН 16
Издатели
ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ. МОСКВА
Перевод с английского
Д. Г. ЛИПИНСКОГО. И. В. РОЗМАИНСКОГО. А. С. СКОРОБОГАТОВА
Издание выпущено при поддержке Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»
This edition is published with the support of the Open Society Institute
within the framework of «Pushkin Library» megaproject
Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:
Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин,
М. А. Веденяпнна, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант,
Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина,
А. М. Руткевнч, А. Ф. Филиппов
«University Library» Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev, Vyacheslav Bakhmin,
Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev, Alexander Livergant,
Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva, Lorina Repina,
Alexei Rutkevich, Alexander Filippov
ISBN 0-415-02612-1
ISBN 5-900428-66-4 (т. 1)
ISBN 5-900428-68-0
Copyright © 1991 by Routledge
All rights reserved
Авторизованный перевод английского
издания опубликован по согласованию с
Routledge, членом Taylor&Francis Group
© Перевод, оформление, предисловие, ори-
гинал-макет, 2002 «Экономическая школа»
Все права защищены
л>В и wuxqti
'TI'J ня нчлжскэяо
1ЦВЧД,1ЯЕ1 .1
,ч?М ncpuH .8
ОГЛАВЛЕНИЕ
В N Авторы Предисловие Предисловие к русскому изданию 1. Дэвид Гринэуэй. Предисловие .8 XI XIII XV 1
-1 I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ .3
ПЕРСПЕКТИВЫ
2. И эн М. Т. Стюарт. Роль методолога . . 7
2.1. Введение 7
2.2. Основные темы современной экономической
методологии . 8
2.3. Методология: упадок и возрождение 13
2.4. Главы части I. 18
3. Филлис Дин. Роль истории экономической мысли 28
’1и 3.1. Введение 28
•* 3,2. Факторы, внесшие вклад в возрождение истории
S6.' экономической мысли в середине XX в. . 31
^•’3.3. Новые подходы к истории экономической мысли,
возникшие с начала 1950-х гг.. 37
38.J3.4. Заключение 54
4. Денис П. О’Брайен. Теория и эмпирическое наблюдение 59
4.1. Введение 59
4.2. Возможные способы использования данных 60
4.3. Выбор между теориями. 69
4.4. Физика в качестве образца 73
£б.'4.5. Экономика как наука? 76
«^.Приложение: несколько ключевых ссылок . . . . 77
VI
Оглавление
5. Норман П. Берри. Австрийская экономическая школа:
расхождения с ортодоксией 81
5.1. Введение 81
5.2. Карл Менгер
и основы австрийской экономической школы 83
5.3. Методология 86
5.4. Субъективизм 89
5.5. Равновесие. 91
5.6. Предпринимательство ... 93
5.7. Деньги и экономические колебания 98
5.8. Политическая экономия и государственная политика 100
5.9. Австрийская экономическая школа и ее перспективы 103
б. Лоуренс А. Боулэнд. Современные взгляды
на экономический позитивизм . 106
6.1. Введение 106
6.2. Что противопоставляется позитивной
экономической теории? 106
6.3. Позитивизм как риторика 108
6.4. Что такое «позитивное» с общепринятой точки зрения? 110
6.5. В современном экономическом позитивизме царит
изрядная путаница . 114
6.6. Позитивная наука или позитивная инженерия? 116
6.7. Позитивные факты о позитивной экономической теории 118
6.8. Объяснение использования стандартного формата
научных статей 120
6.9. Позитивный успех или позитивная неудача? 122
7. Уоррен Дж. Сэмюэлс. Институциональная экономическая теория. 125
7.1. Введение 125
7.2. Методологическая ориентация . 129
7.3. Власть . 131
7.4. Институциональная микроэкономика. 132
7.5. Институциональная макроэкономика..... 134
7.6. Институциональные исследования
в специализированных областях 135
7.7. Экономическая роль государства 137
7.8. Заключительные комментарии 138
8. А. У. Коутс. Экономист как профессия 142
8.1. Введение 142
8.2. Некоторые замечания относительно исторического
развития профессии экономиста 152
8.3. Последние изменения и проблемы........................ 158
Оглавление
VII
II
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
..идндлдТ
9. Майкл Блини. Обзор современной теории . . 9.1. Введение ,>вЛ>
9.2. Новый синтез?
9.3. Главы II части
9.4. Заключение
10. М. Хашем Песаран. Ожидания в экономической теории . 10.1. Введение 10.2. Гипотеза адаптивных ожиданий . 10.3. Временные ряды и экстраполяционные подходы к моделированию ожиданий 10.4. Гипотеза рациональных ожиданий . 10.5. Оптимальные свойства гипотезы рациональных ожиданий. 10.6. Гипотеза рациональных ожиданий и неоклассический оптимизационный подход . 10.7. Гипотеза рациональных ожиданий, трактуемая как гипотеза ожиданий, совместимых с теоретической моделью . 10.8. Гипотеза рациональных ожиданий и проблема обучения . 10.9. Опросы и прямые проверки гипотезы
рациональных ожиданий .
10.10. Заключительные замечания.
Ц» Малькольм Сойер. Посткейнсианская макроэкономика
г 11.1. Введение 11.2. Деньги и финансы
11.3. Ценообразование.
11.4. Сектор труда
8 11.5. Инвестиции
11.6. Ожидания и предсказуемость.
aei. 11.7. Экономические циклы.
<101 11.8. Заключительные замечания . .
12. Денис Мюллер. Теория общественного выбора 12.1. Введение 12.2. Причины существования государства 12.3. Общественный выбор в условиях прямой демократии 12.4. Общественный выбор в условиях представительной демократии .
> м. 12.5. Нормативная теория общественного выбора
12.6. Аллокация, перераспределение и общественный выбор.
173
173
174
179
190
192
192
193
195
197
200
202
206
207
210
213
219
219
221
226
232
237
239
241
243
248
248
249
253
273
282
293
VIII
Оглавление
13. Джон Д. Хей. Неопределенность в экономической теории 304
13.1. Введение. 304
13.2. Традиционная теория: теория субъективной
ожидаемой полезности. Дескриптивная теория
субъективной ожидаемой полезности . 304
13.3. Факты, свидетельствующие против традиционной теории. 315
13.4. Альтернативные теории 318
13.5. Заключение. . 326
14. У. Макс Корден. Стратегическая внешнеторговая политика 328
14.1. Введение. 328
14.2. Концепция Брэндера—Спенсера: перераспределение
прибыли посредством экспортных субсидий 331
14.3. Субсидии как инструмент «убеждения»:
аргументация в пользу защиты молодой отрасли . 338
14.4. Доводы в пользу введения тарифа при монополии
и олигополии 341
14.5. Тарифы, направленные на содействие развитию экспорта 344
14.6. Заключение: существует ли «новая международная
экономика»? 345
15. Рональд Макдональд и Росс Милбурн. Новые разработки
в денежной теории 351
15.1. Введение. 351
15.2. Модели репрезентативного агента 352
15.3. Банковское дело и финансовое посредничество . 364
15.4. Последовательность денежной политики во времени
и доверие к ней . 368
15.5. Другие разработки . 375
15.6. Обобщение и выводы 377
16. Дэвид У. Пирс. Экономика окружающей среды 383
16.1. Исторические предпосылки 383
16.2. Существование эколого-экономического равновесия 388
16.3. Оптимальное исчерпание и использование ресурса 396
16.4. Проблема оценки . 399
16.5. Экономические инструменты 405
16.6. Заключение. 408
17. Кристиан Монте. Теория игр и стратегическое поведение 416
17.1. Введение. 416
17.2. Основные понятия и определения 419
17.3. Угрозы и обещания в повторяемых играх 425
17.4. Обязательства в двухпериодных играх. 431
17.5. Стратегическое использование информации . 437
17.6. Заключительные замечания.............................. 440
Оглавление
IX
18. В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин. Международные кС
аспекты экономики развития . 445
18.1. Введение. . . 445
18.2. Позиция структуралистов. . 446
18.3. Политика структурных корректировок 451
18.4. Прямые зарубежные инвестиции 460
18.5. Заключение. . 474
19. Роберт М. Солоу. Теория роста . . . 7'!' 479
19.1. Введение. 479
19.2. Неоклассическая модель 481
19.3. Возрастающая отдача и внешние эффекты 485
19.4. Международная торговля 496
Д 19.5. Формализация Шумпетера 500
19.6. Заключение. 502
20. Рональд Шоун. Макроэкономическая теория открытой
ЭКОНОМИКИ. 507
20.1. Введение. 507
20.2. Что такое макроэкономическая теория открытой
экономики и в чем ее важность? 509
20.3. Обособленная экономика 511
20.4. Определение валютных курсов 518
„„ 20.5. Экономическая теория предложения и открытая экономика . 525 ГМЬ
20.6. Будущие исследования в рамках
макроэкономической теории открытой экономики 531
Пол Дж. Хэар. Экономическая теория социализма 536
^3 21.1. Введение. 536
21.2. Традиционная социалистическая экономика 537
21.3. Реформирование социалистической экономики 542
21.4. Моделирование социалистической экономики 546
21.5. Заключение. 557
22. Дэвид Сэпсфорд. Рынок труда: безработица и теория поиска . 561
22.1. Введение. 561
22.2. Безработица 561
22.3. Моделирование процесса поиска 563
4? 22.4. Некоторые расширенные модели . 573
К. 22.5. Эмпирические исследования . 579
22.6. Заключительные замечания 583
23. Дэвид Карри и Пол Ливайн. Международная координация
макроэкономической политики 586
23.1. Что такое международная координация
экономической политики? 586
23.2. Неэффективность нескоординированной политики. . 589
VIII
Оглавление
13. Джон Д. Хей. Неопределенность в экономической теории
13.1. Введение.
13.2. Традиционная теория: теория субъективной
ожидаемой полезности. Дескриптивная теория
субъективной ожидаемой полезности .
13.3. Факты, свидетельствующие против традиционной теории. .
13.4. Альтернативные теории
13.5. Заключение.
14. У. Макс Корден. Стратегическая внешнеторговая политика .
14.1. Введение.
14.2. Концепция Брэндера—Спенсера: перераспределение
прибыли посредством экспортных субсидий
14.3. Субсидии как инструмент «убеждения»:
аргументация в пользу защиты молодой отрасли .
14.4. Доводы в пользу введения тарифа при монополии
и олигополии
14.5. Тарифы, направленные на содействие развитию экспорта
14.6. Заключение: существует ли «новая международная
экономика»?
15. Рональд Макдональд и Росс Милбурн. Новые разработки
в денежной теории
15.1. Введение.
15.2. Модели репрезентативного агента
15.3. Банковское дело и финансовое посредничество. .
15.4. Последовательность денежной политики во времени
и доверие к ней .
15.5. Другие разработки .
15.6. Обобщение и выводы
16. Дэвид У. Пирс. Экономика окружающей среды
16.1. Исторические предпосылки
16.2. Существование эколого-экономического равновесия
16.3. Оптимальное исчерпание и использование ресурса
16.4. Проблема оценки .
16.5. Экономические инструменты
16.6. Заключение.
17. Кристиан Монте. Теория игр и стратегическое поведение
17.1. Введение.
17.2. Основные понятия и определения
17.3. Угрозы и обещания в повторяемых играх
17.4. Обязательства в двухпериодных играх.
17.5. Стратегическое использование информации .
17.6. Заключительные замечания ............................
304
304
304
315
318
326
328
328
331
338
341
344
345
351
351
352
364
368
375
377
383
383
388
396
399
405
408
416
416
419
425
431
437
440
Оглавление
DC
18. В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин. Международные аспекты экономики развития K.J.S
445 445 446
18.1. 18.2. Введение . Позиция структуралистов.
18.3. Политика структурных корректировок 451
18.4. Прямые зарубежные инвестиции 460
18.5. Заключение. . 474
141 Роберт М. Солоу. Теория роста . . 479
19.1. Введение. 479
19.2. Неоклассическая модель 481
19.3. Возрастающая отдача и внешние эффекты . . 485
19.4. Международная торговля 496
19.5. Формализация Шумпетера 500
19.6. Заключение. 502
20. Рональд Шоун. Макроэкономическая теория открытой
ЭКОНОМИКИ.. 507
20.1. Введение. 507
е; 20.2. Что такое макроэкономическая теория открытой
сН экономики и в чем ее важность? 509
20.3. Обособленная экономика 511
20.4. Определение валютных курсов 518
20.5. Экономическая теория предложения и открытая экономика . 525
. 20.6. Будущие исследования в рамках
макроэкономической теории открытой экономики 531
Пол Дж. Хэар. Экономическая теория социализма 536
1Л,- 21.1. Введение. 536
21.2. Традиционная социалистическая экономика 537
21.3. Реформирование социалистической экономики 542
21.4. Моделирование социалистической экономики 546
21.5. Заключение. 557
22. Дэвид Сэпсфорд. Рынок труда: безработица и теория поиска . 561
22.1. Введение. 561
22.2. Безработица 561
22.3. Моделирование процесса поиска 563
22.4. Некоторые расширенные модели. 573
22.5. Эмпирические исследования . 579
22.6. Заключительные замечания 583
23. Дэвид Карри и Пол Ливайн. Международная координация
макроэкономической политики 586
23.1. Что такое международная координация
экономической политики? 586
23.2. Неэффективность нескоординированной политики . . 589
X
Оглавление
23.3. Ожидания частного сектора и устойчивость
координации 597
23.4. Эмпирические оценки выигрыша от координации 605
23.5. Выбор форм координации 23.6. Альтернативные планы координации 609
для стран «Большой семерки* . , 612
24. Уильям Дж. Баумоль. Детерминанты отраслевой структуры1'5* и теория состязательных рынков . 618
24.1. Введение. 618
14 24.2. Что такое отраслевая структура? 619
б? 24.3. О сферах анализа, к которым относятся
3< три направления исследований . 620
00 24.4. Трансакционный анализ: отраслевая структура
2е. как средство снижения издержек координации 621
24.5. Вклад теории игр. 624
24.6. Детерминанты отраслевой структуры на совершенно
V состязательных рынках 626
24.7. Методы теории состязательных рынков,
предназначенные для анализа отраслевой структуры . 629
24.8. Заключительные замечания 636
25. Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт. Рост
государственного сектора 638
25.1. Введение. 638
П 25.2. Рост государственного сектора 640
3$ 25.3. Теории роста государственного сектора 645
25.4. Эмпирический анализ: общий обзор 655
34 25.5. Заключение. 664
71
S|.
аь 76
16
HHR’-
Ь-./'ПЛ- ... ,:V-, 1.
hxmths но?*'
йь>- йЧ1!,:‘ ЯЛЙД'-ЧГ-нчд•*• г.
'.'КЙк'Гнгс:.! Лоя
; Оочплвоц.пнямСрояЭ'м» л ; лоЛ;
ЛГЙТЫЭ
>) нйаавЛ
-ЦЧг — нмуП.
Т' -'•Х(ЭТ£>вЯ£ О:Г.чфОЦП НВЙИ-
iirt'f АВТОРЫ '•' •п ц/1 >аяй1.
п
ВТвТНОЧОЯЫН^ ЯЛгИ
< ’ а ,лЛ.
Дж. Ричард Аронсон — профессор экономики Лихайского (Lehigh)
университета.
В. Н. Баласубраманиам — профессор экономики Ланкастерского уни-
верситета.
Норман Берри — профессор политологии Бэкингемского университета.
Уильям Дж. Баумоль — профессор экономики Принстонского уни-
верситета.
Майкл Блини — профессор экономики Ноттингемского университета.
Ричард Бланделл — профессор экономики Лондонского университет-
ского колледжа.
Лоуренс Э. Боулэнд — профессор экономики Университета Саймона
Фрэзера.
Кеннет Э. Боулдинг — почетный профессор Института поведенчес-
ких наук Колорадского университета.
Боулдер Роджер Боулз — старший преподаватель Батского универси-
тета.
Э. У. Коутс — профессор экономической истории Дьюкского универ-
ситета.
У. Макс Корден — профессор экономики Университета Джонса Хоп-
кинса.
Николас Крафтс — профессор экономической истории Уорвикского
университета.
Дэвид Карри — профессор экономики Лондонской школы бизнеса.
Филлис Дин — почетный профессор Кембриджского университета.
Клайв Грэйнджер — профессор эконометрики Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего.
Дэвид Гринэуэй — профессор экономики Ноттингемского универси-
тета.
Пол Хэар — профессор экономики Университета Хэриота Уотта.
Кеннет Холден — старший преподаватель экономики Ливерпульско-
• го университета.
XII
Авторы
Джон Хей — профессор экономики и статистики Йоркского универ-
ситета.
Пол Ливайн — профессор экономики Лейстерского университета.
Грэм Лумз — старший преподаватель экономики Йоркского универ-
ситета.
Элесдер Макбин — профессор экономики Ланкастерского университе-
та.
Рональд Макдональд — профессор экономики Университета Данди.
Иэн Маклин — преподаватель политологии Оксфордского универси-
тетского колледжа.
Росс Милбурн — старший преподаватель экономики Университета
Нового Южного Уэльса.
Крис Милнер — профессор экономики Университета Лоуборо.
Грэм Майзон — профессор эконометрики Саутгэмптонского универ-
ситета.
Кристиан Монте — профессор экономики Университета Монпелье.
Деннис Ч. Мюллер — профессор экономики Мерилендского универси-
тета.
Денис О’Брайен — профессор экономики Дарэмского университета.
Аттиат Ф. Отт — профессор экономики ДюкскогЬ университета.
Сэр Алан Пикок — почетный профессор Университета Хэриота-Уотта.
Дэвид У. Пирс — профессор экономики Лондонского университетско-
го колледжа.
М. Хашем Песаран — профессор экономики Кембриджского универ-
ситета.
Уоррен Дж. Сэмюэлс — профессор экономики Университета штата
Мичиган.
Дэвид Сэпсфорд — профессор экономики Ланкастерского универси-
тета.
Малкольм Сойер — профессор экономики Лидского университета.
Рональд Шоун — старший преподаватель экономики Стерлингского
университета.
Роберт М. Солоу — профессор экономики Массачусетского технологи-
ческого института.
Иэн Стюарт — бывший преподаватель экономики Ноттингемского
университета.
Эдвард Тауэр — профессор экономики Дюкского университета.
В. Фред ван Раай — профессор экономической психологии Универ-
ситета им. Эразма Роттердамского.
Джон Уэлли — профессор экономики Университета Западного Онта-
рио.
r>’- лтяцнлг-
.•хин;»>'do;;v пяН
о :.чЭ ,хнк с
1’<?я ,i.i~o3eq аь
•Г *7 КЛЙ> Л .энтоп
-О и .$? И к
9'; ^ПРЕДИСЛОВИЕ
-и 'кмояоме
1',
-П'- • >oqv; Д'
Цель этой книги — рассмотреть современное состояние эконо-
мической науки в форме очерков, специально написанных для насто-
ящего издания ведущими учеными.
Мы просили авторов писать так, чтобы материал был доступен
неспециалистам. Такое задание далеко не всегда легко выполнить, но
нам представляется, что они справились с ним чрезвычайно хорошо.
Действительно, возможность написать для аудитории, являющейся
более широкой, чем узкий круг коллег с похожими интересами,
дала авторам шанс сделать шаг назад и осмыслить прогресс в своих
сферах исследований. Иными словами, они смогли сделать то, что
почти не позволяла осуществить жесткая среда научных журналов,
где действует лозунг: «Хочешь жить — публикуйся». Мы вознаграж-
дены очень высоким уровнем работ, характеризующихся необыкно-
венной глубиной и проникновением в суть исследуемых проблем.
Очерки подразделены на четыре раздела, охватывающие методо-
логические аспекты, экономическую теорию, прикладную экономику
и взаимоотношения экономической науки с другими науками. Каж-
дый раздел начинается с очерка одного из редакторов, поэтому здесь,
в предисловии, нет нужды делать сколько-нибудь детальный обзор
содержания этих разделов. Один из наших авторов сомневался: стоит
ли так много страниц отводить под первый и последний разделы.
Хотя мы не в состоянии охватить специальные аспекты экономиче-
ской теории и прикладной экономики настолько глубоко, насколько
можно было бы сделать в противном случае, тем не менее представ-
ляется, что этот недостаток более чем компенсируется наличием «об-
щего взгляда на вещи» благодаря расширенному рассмотрению мето-
дологических вопросов, а также рассмотрением связей экономиче-
ской науки с другими академическими дисциплинами.
Этот проект оказался для нас делом огромной важности, иногда
утомляющим, иногда разочаровывающим, но всегда интересным. Мы
были очень обрадованы ответами, полученными нами после пригла-
шений участвовать в работе над книгой. Мы действительно не могли
XIV
Предисловие
предвидеть такой положительной реакции разных ученых во всем
мире. Нас удовлетворило качество статей, полученных нами. Некото-
рые из них, без сомнения, могут быть охарактеризованы как превос-
ходные работы, которые в скором времени получат статус классиче-
ских. Нам хотелось бы выразить нашу признательность всем авто-
рам за их участие. Мы научились многому, подготавливая и редактируя
эту книгу, и надеемся, что ученые и коллеги также найдут ее сто-
ящей. Наша надежда состоит именно в том, что любой человек, инте-
ресующийся экономической наукой и имеющий некоторые мини-
мальные знания в этой области, обнаружит в данной книге нечто
нажное для себя. Наконец, мы хотели бы поблагодарить Джонатана
Прайса из издательства Раутледж за ободрение и всестороннюю под-
держку. Он был зачинателем этого проекта и постоянно давал нам
хорошие советы.
Дэвид Гринэуэй
!1 Майкл Блини
Иэн Стюарт
isbt J nV
1
-RHflqxoo <’ 1 I'.axHjjxcrt^'qRSMiuiHH
лч‘’Д !)jj on ы ofiqeTHU ro
fl'njnz йочо.-’z л'" оте ОЯНбЭоэО
-онояо Й1 ядокэдsqa.*.K моннвп е лапоеп
iq цо;1
врупн шцк
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ*<ИЗДАНИЮ
xq
нс
<м<. t’OOH М 14 НС'/ТГС! eOUi-JOROJ.
Mi’. .О ..г Nqr/iia мцохдои
Что можно добавить для русского читателя к предисловиям со-
ставителей этого сборника? Прежде всего обратим внимание на то,
что с момента опубликования книги прошло десять лет. Естественно,
с тех пор многое изменилось и в мире, и в экономической науке.
В 1990-е гг. основными вызовами экономической науке были эконо-
мическая трансформация стран Восточной Европы и быстро прогрес-
сирующая глобализация. Разумеется, это вызвало обильный поток
публикаций. Поэтому статьи об «экономической теории социализ-
ма», «макроэкономических моделях открытой экономики» или «меж-
дународных аспектах экономики развития», написанные в конце
80-х гг., сегодня имеют прежде всего исторический интерес. В то же
время составителям сборника удалось уловить многие тенденции, ко-
торые в полной мере развернулись и получили признание в 1990-е гг.
Это, например, микроэконометрика, экспериментальная экономика,
«новая теория роста».
В оправдание издателям скажу, что со времени выхода в свет
предлагаемой здесь отечественному читателю работы, ничего анало-
гичного на мировом книжном рынке не появилось. В 1998 г. она в
связи с большим спросом вышла вторым изданием в виде двух от-
дельных томов. Составители справедливо подчеркивают в своих вве-
дениях, что углубившаяся специализация и усложнившийся аналити-
ческий аппарат современной экономической науки делают крайне
сложным дать обзор ее основных разделов, теоретических подходов,
методологических проблем и междисциплинарных связей. То и дело
появляются справочники (Handbooks) по основным разделам эконо-
мической теории. Но каждый справочник посвящен лишь одному
разделу и предназначен для специалистов именно в данной области.
Для преподавателей, студентов и других читателей, которым важно
приобрести некоторое общее представление об экономической науке
в целом и ее важнейших областях, эта литература малополезна. На-
против, срез состояния экономической науки на начало 1990-х гг.,
предназначенный для неспециалистов, или точнее, экономистов, спе-
XVI
Предисловие к русскому изданию
диализирующихся в других областях экономической науки, сохраня-
ет интерес и по сей день.
Особенно это относится к нашей стране, в которой эта книга —
первая в данном жанре с момента публикации «Современной эконо-
мической теории» под редакцией Сидни Вайнтрауба, вышедшей в
начале 1980-х гг. «для научных библиотек» и давно ставшей библио-
графической редкостью. В отличие от последней книги, которая была
посвящена лишь экономической теории, предлагаемая ныне внима-
нию читателя содержит также части про прикладную экономику,
отношения между экономической и другими социальными науками,
методологию, историю, и некоторые неортодоксальные исследователь-
ские подходы внутри экономической теории. Отметим, что по охвату
компендиум Гринэуэя, Блини и Стюарта уступает в мире лишь четы-
рехтомной Экономической энциклопедии Палгрейва.
В. С. Автономов
0 V
гШ IdM ОТ Г
। »ам tri*?
ЧС O‘-
м <>.•..
1Й
МП
ДЭВИД ГРИНЭУЭЙ *г;
ПРЕДИСЛОВИЕ
Заканчивая работу над этой книгой, должен отметить, что наш
мир — весьма неспокойное место. Большие проблемы сегодняшнего
дня включают слом централизованного планирования и переход к
основанной на рынке экономике в Восточной Европе; завершение
построения Общего рынка в Западной Европе и образование воз-
можностей для создания экономического и валютного союза; риск
четвертого нефтяного шока; деградация окружающей среды и по-
следствия климатических изменений; подписание некоторых дого-
воренностей после восьмого раунда многосторонних переговоров в
рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),
договоренностей, обещающих укрепить многостороннее согласие, ко-
торое так хорошо послужило мировому хозяйству в течение после-
военного периода, и вызванная долговым кризисом стагнация во
многих развивающихся странах. Экономисты призваны давать кон-
сультации для решения таких проблем. Эти проблемы обещают
сделать 1990-е гг. волнующими, интересными и, возможно, менее
«уютными», чем 1980-е гг.
Насколько же состояние, в котором находится сейчас экономи-
ческая теория, позволяет экономисту ответить на такие вызовы? Есть
ли у нас основание полагать, что недавние увеличения объема знаний
и технический прогресс ставят сегодняшнее поколение экономистов в
лучшее положение по сравнению с предыдущим поколением? Точки
зрения самих экономистов неизбежно расходятся. Опросы обществен-
ного мнения определенно свидетельствуют, что за послевоенный пе-
риод престиж профессии экономиста возрос (Grubel, Boland, 1986;
Greenaway, 1990). Наблюдается впечатляющее увеличение количества
средних и высших учебных заведений, где преподается экономиче-
ская теория. Проблемы дефиниционного характера несколько затруд-
няют определение числа «экономистов» в данный момент. Недавние
дебаты в Великобритании о том, является ли сегодняшнее количество
экономистов в некотором смысле оптимальным, так и не привели к
окончательному выводу (Sloane, 1990; Towse, Blaug, 1990). Несмотря
2 Заказ № 356
2
Дэвид Гринэуэй
на то что мы не располагаем вескими фактами для решения данного
вопроса, мы с некоторой уверенностью можем утверждать, что это
количество значительно возросло за послевоенный период (глубокий
анализ проблемы роста числа экономистов, занятых на государствен-
ной службе Великобритании, приведен в работе: Cairncross, Watts,
1989). Увеличение численности экономистов вкупе с изменениями в
технологиях облегчает специализацию в рамках экономической на-
уки. Эта специализация глубоко изменяет способ трактовки нами —
экономистами — своего предмета.
На академическом уровне одним из наиболее очевидных симп-
томов специализации является количество имеющихся сегодня в на-
шем распоряжении специализированных журналов по сравнению с их
количеством двадцать пять или тридцать лет назад. Рост был дей-
ствительно экстраординарным. Для иллюстрации данного тезиса от-
метим, что примерно из ста тридцати журналов, перечисленных в
«Contents of Recent Economic Journals», только около одной четверти
начали издаваться до 1960 г. К таким изданиям относятся класиче-
ские журналы «общего характера» типа «Economic Journal», «American
Economic Review», «Journal of Political Economy», «Oxford Economic
Papers», «Quarterly Journal of Economics» и т. д. Почти все новые
журналы рассчитаны на «специализированных» читателей. Такая тен-
денция имела два последствия. С одной стороны, именно она и сдела-
ла возможным развитие специализации. Вооружившись новыми тех-
нологиями и новейшими методиками проверки своих теорий, моло-
дые экономисты получили форум общения с другими исследователями,
заинтересованными схожими проблемами, что привело к уменьше-
нию издержек поиска для специалистов. Хотя это обстоятельство
привело в некоторой степени к дублированию технологий, оно вместе
с тем облегчило прогресс, дав возможность расширить набор моделей,
которые можно изучать, диапазон эмпирических данных, которыми
можно пользоваться, и поэтому обеспечило условия для проведения
более интенсивных исследований конкретных проблем. Однако, с дру-
гой стороны, такая тенденция привела к более высоким издержкам
поиска для лиц, занимающихся проблемами общего характера. Более
того, она привела к тому, что для ученых такого «широкого» профи-
ля, стремящихся «идти в ногу со временем» во всех аспектах эконо-
мической науки, подобная задача стала почти невозможной.
Эта книга представляет собой попытку рассмотреть оба обсуж-
давшихся до сих пор аспекта; инвентаризировать «достижения» в
экономической теории, причем так, чтобы сделать содержание каж-
дого раздела и главы доступным для специалистов, которые хотят
что-то узнать о достижениях специалистов в других областях. Здесь
следует объяснить принципы, на основе которых составлялась данная
книга. Мы не намеревались делать сборник обзоров или охватить
абсолютно все. Конечно, обзоры играют важную роль. Однако даже
Предисловие
3
лучшие из них все же предназначены для специалистов (см, напри-
мер, серию отличных обзоров, опубликованных в «Economic Journal»
с 1987 по 1990 г.). Неясно, в какой степени такие обзоры читают
неспециалисты; т. е. существует четкое различие между обзором,
который претендует на то, чтобы быть всеобъемлющим, и этой кни-
гой, которая в большей степени ориентирована на то, чтобы в до-
ступной для неспециалистов форме представить общую характерис-
тику трудов специалистов. Кроме того, имеется мало областей — если
они вообще существуют, — подробный обзор которых можно сделать,
уложившись в объем текста приблизительно в 7000 слов, что мы
потребовали от наших авторов. Вместо этого мы попросили авторов
представить в общем виде разработки в отдельных частях дисцип-
лины, показывая там, где возможно, как такие разработки соотносят-
ся с общим «сводом знаний», а также комментируя тот вклад в на-
уку, который был сделан и (или) делается рассматриваемыми разра-
ботками.
Желание рассмотреть развитие теории в контексте также мо-
тивировало наш выбор структуры данной книги — наряду с разде-
лами, посвященными экономической теории и прикладной эконо-
мике, мы стремились включить разделы, касающиеся методологиче-
ских проблем и взаимосвязей экономической науки со смежными
дисциплинами. Эти части предназначены для того, чтобы прояснить
методологические и философские основы нашей науки и в то же
время установить границы дисциплины по отношению к «родствен-
ным» наукам.
Что же касается содержания каждой части, то и здесь нам вновь
нужно было сделать выбор. Мы не намеревались сделать их всеобъем-
лющими. Словарь «New Palgrave Dictionary», насчитывающий поряд-
ка 4 миллионов слов, — несомненно, самый всеобъемлющий справоч-
ник в экономической науке. Но даже он подвергался критике за
имеющиеся пробелы (Blaug, 1988). Исходя из этого стандарта в дан-
ной книге неизбежны пробелы. Мы как редакторы сознаем это. Од-
нако, учитывая ограничение на объем, мы поступали так же, как и
любые другие экономисты: старались сделать оптимальный выбор.
Мы надеемся, что читатель сочтет предлагаемую подборку статей ши-
рокой, сбалансированной и своевременной. Так, мы пытались учесть
новые темы, такие как экономика окружающей среды и теория об-
щественного выбора, а также новые методы, такие как эксперимен-
тальная экономическая теория и микроэконометрика наряду с более
привычными темами, такими как теория роста и анализ «издержек и
выгод». Мы думаем, что наша подборка настолько всеобъемлюща, на-
сколько это возможно в рамках книги, состоящей из сорока одной
главы.
Наконец, закончим на том, с чего начали: смогут ли экономис-
ты ответить на многие вызовы, комментируя важнейшие проблемы
4
Дэвид Гринэуэй,
сегодняшнего дня и достаточно ли хорошо они «оснащены», чтобы
справиться с этими проблемами? Материал, обзор которого дан в этой
книге, свидетельствует о жизнеспособности экономической науки.
Он служит иллюстрацией диапазона проблем, для решения которых
можно применять экономический анализ, часто вкупе со смежными
дисциплинами. Это должно укрепить позиции экономистов, предлага-
ющих обоснованные суждения по поводу больших проблем наших
дней.
Литература
Blaug М. Economics Through the Looking Glass // Institute of Economic Affairs.
Occasional Paper 88. London, 1988.
Cairncross A., Watts N. The Economic Section. London : Routledge, 1989.
Greenaway D. On the efficient use of mathematics in economics: results of an
attitude survey of British economists // European Economic Review. 1990.
Vol. 34. P. 1339-1352.
Grubel H., Boland L. On the efficient use of mathematics in economics: some
theory, facts and results of an opinion survey//Kyklos. 1986. Vol. 39.
P.419-442.
Sloane P. The demand for economists//RES Newsletter. 1990. Vol. 70. P. 15-
18.
Towse R., Blaug M. The current state of the British economics profession // Economic
Journal. 1990. Vol. 100. P. 227-236.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
2
«и.йн ИЭН М. Т. СТЮАРТ WQ
мм^тыМа^РОЛЬ МЕТОДОЛОГА огл
I !.М
Д. 2.1. Введение
«Почему эта книга начинается с рассмотрения методологии?»
Мы встречались с этим вопросом неоднократно на ранних стадиях
работы над данным изданием. Выяснилось, что лица, задававшие
вопрос, имели в виду разные вещи. Для одних проблема заклю-
чалась в следующем: «Зачем помещать методологическую дискус-
сию в начало книги перед описанием того, что фактически проис-
ходит в современной экономической теории?» Другие имели в виду
нечто иное: «Учитывая, что существует столько захватывающих
проблем в экономической теории и прикладной экономике, зачем
вообще посвящать целый раздел изложению методологических ас-
пектов? »
Обдумав эти вопросы, мы, при всем уважении к тем, кто их
задавал, решили придерживаться нашего исходного плана. Иными
словами, мы включили в книгу основательное обсуждение методоло-
гических проблем и поместили его в эту, первую часть настоящего
издания.
Приняв решение включить главы, посвященные методологии, мы
руководствовались основной целью этой книги. Наша цель и цель
других авторов данного издания состоит в том, чтобы не просто опи-
сать сегодняшнее «положение дел» в экономической науке, а опреде-
лить ее перспективы. Мы полагаем, что одна из важнейших функ-
ций методологии как раз и заключается в том, чтобы представить
перспективы.
Главная задача методолога состоит в том, чтобы поставить про-
стые, прямые и, возможно, неудобные вопросы экономистам-тео-
ретикам и практикам. Например: «Что мы делаем? Почему мы это
делаем? Делаем ли мы это правильно? И, кстати, что означает сло-
во — „правильно”? Какое применение могут найти наши резуль-
таты?»
8
Иэн М. Т. Стюарт.
Нам представлялось, что эти вопросы уместно задать, приступая
к критическому анализу современной экономической науки. И дей-
ствительно, все авторы данной книги пытаются ответить на эти во-
просы, в различной степени выделяя и раскрывая их. Задача части I
состоит в том, чтобы исследовать смысл самих вопросов и предложить
критерии, которые можно использовать для ответа на них.
В свою очередь, это помогает объяснить, почему мы решили по-
местить методологические главы в начале книги. Мы рассматриваем
обсуждение метода как естественное введение к содержанию других
трех частей. По традиции методолог рассматривает структуру и об-
основание теории (здесь эти аспекты рассматриваются в части II), ее
применение для решения практических проблем (часть III) и связь
экономической науки с другими областями знаний (часть IV).
В этой главе я сначала опишу главные темы современной эконо-
мической методологии. Затем я остановлюсь на том, как поразитель-
но возрос интерес к методологическим проблемам. Наконец, я пред-
ставлю каждую главу части I.
2.2. Основные темы
современной экономической методологии
К счастью, методологи наших дней перестали мучиться над ре-
шением вопроса: «Что такое экономическая наука?» К сегодняшне-
му дню общепринятой является точка зрения, согласно которой эко-
номическая наука — это все, что входит в определение, предлагаемое
академическим и профессиональным сообществом. Также признано,
что разные экономисты могут давать разные определения, каждое из
которых не является более правильным, чем другие, и что в любом
случае современная экономическая наука включает столь много раз-
нообразных субдисциплин, что единственное определение оказалось
бы бесполезным.
Другой традиционный вопрос, напротив, все еще актуален в
современной методологии (см., например, Eichner, 1983; Rosenberg,
1983): «Является ли экономическая теория наукой?» Однако в тече-
ние последнего десятилетия произошел заметный сдвиг в методах
подхода экономических методологов к этой проблеме.
Традиционная версия этого вопроса в несколько упрощенном
виде выглядит следующим образом: «Где-то в мире существует про-
цедура, называемая научной. Философы знают, в чем она состоит,
а ее типичным примером является то, что делают физики. На-
сколько экономические исследования похожи на эту процедуру и,
следовательно, в какой степени экономическая теория заслуживает
того, чтобы ее называли наукой?» Вместе с этим традиционным
Роль методолога
9
вопросом задают также несколько сопутствующих, в частности:
«В какой степени экономисты должны подражать процедуре, назы-
ваемой „научной**?»
Как известно, в последние годы философы, занимающиеся про-
блемами естественных наук, перестали употреблять понятие «образ-
цовая наука». В частности, физика первоначально трактовавшаяся
как образец строгой теории и достоверных данных, стала восприни-
маться как таинственная сфера аппроксимаций и хаоса (см., напри-
мер, Zukav, 1979; Capra, 1983; Feyerabend, 1987). Экономические ме-
тодологи все еще не дали окончательной оценки воздействия этого
«сдвига» на их собственную область изучения (см., например, обсуж-
дение О’Брайеном теории хаоса в главе 4 этой книги). Однако это
воздействие уже проявилось в соответствующем «сдвиге» в тех во-
просах о природе экономической науки, которые задают методологи.
Теперь они, например, спрашивают: «Существуют ли различные виды1
процедур, каждый из которых вписывается в определение „науки**,
но различным способом? Могут ли науки, которые первоначально трак-
товались как „точные**, позаимствовать что-то полезное из методов
„неточных** наук? В какой степени методы экономической науки долж-
ны подражать методам различных видов наук?»
В этих «смещенных» рамках основные темы методологических
рассуждений по поводу современной экономической науки можно
отнести ко вполне почтенным источникам. Приводимый ниже пе-
речень является моей собственной формулировкой этих главных
тем. Его можно было бы представить в многообразных формах, и
очевидно, что независимо от формулировки входящие в него сферы
должны в значительной степени «пересекаться» и взаимодейство-
вать. Все эти темы детально исследуются в последующих главах, и,
таким образом, я должен здесь просто упомянуть их в качестве
указателей на содержание данных глав (во избежание повторов в
оставшейся части настоящего раздела я дам только минимум биб-
лиографических ссылок).
С учетом этих предостережений предлагаемый мной перечень
главных тем выглядит следующим образом:
1. Какова природа теории в экономической науке?
2. Что экономисты могут знать о реальности?
3. В какой степени экономисты могут предсказывать будущее?
4. Каких научных достижений можно добиться за счет изучения
исторического развития экономической мысли?
5. Что добавляют социологические понятия к нашему понима-
нию развития, происходящего в рамках экономической науки?
По традиции — и до сих пор — обсуждение этих тем часто
осуществлялось под «вывесками» различных «школ» экономической
10
Иэн М. Т. Стюарт
мысли. Например, австрийцы, позитивисты и институционалисты
ассоциируются с их собственными отличительными наборами методо-
логических принципов (см. соответственно главы 5-7). Прошлые спо-
ры о методе иногда были похожи на политические диспуты, причем
участники всецело принимали «платформу» их излюбленной методо-
логической школы и пытались разрушить позицию другой школы
целиком. К счастью, методологи сегодняшнего дня обычно более эк-
лектичны.
Теория, проверка и «спор о предпосылках»
Темы 1 и 2, приведенные в перечне, тесно взаимосвязаны. Конеч-
но, дело в том, что исследования, посвященные природе экономиче-
ской теории, часто связаны с вопросом, как можно проверить теорию
с помощью эмпирических наблюдений. Сочетание этих двух тем по-
рождает давно ведущиеся методологические дебаты, называемые «спо-
ром о предпосылках». Данный диспут восходит по крайней мере к
XIX в., к критике понятия «экономического человека». Предметом
спора, по сути, является вопрос: «Следует ли оценивать экономиче-
скую теорию исходя из реализма ее предпосылок или это нужно де-
лать исходя из точности ее прогнозов?» Каждая методологическая
школа в рамках экономической науки предлагала свой собственный
ответ (или ряд ответов) на этот вопрос. Большая часть обширной
литературы по поводу «спора о предпосылках» содержала аргументы
за или против позитивистской школы экономической теории. Обзор
сегодняшнего состояния этой дискуссии содержится в главе 6, напи-
санной Боулэндом.
В этом контексте слово «прогноз», если его интерпретировать
в строгом смысле, означает просто то, что «конкретное событие,
которое предлагается в теории, будет наблюдаться в реальности»;
отнесение такого события к конкретному моменту времени не обя-
зательно. Однако в методологических диспутах, как и в повседнев-
ных разговорах, это слово часто имеет подразумеваемое дополни-
тельное значение, а именно: «событие, которое, как ожидается, будет
иметь место в будущем». Таким образом, «спор о предпосылках»
часто также предполагает дискуссию по теме, обозначенной в на-
шем перечне номером 3. Неудивительно, что методологи, настаива-
ющие на первостепенности «проверки теории по ее прогнозам»,
также склонны верить в способность экономистов предсказывать
будущее (если не при современном «положении дел», то несколько
позднее, когда методы прогнозирования будут усовершенствованы).
И наоборот, авторы, предпочитающие оценивать теорию исходя из
ее предпосылок, часто уделяют внимание неизбежным и, возможно,
неразрешимым проблемам количественного прогнозирования в ре-
альной экономической науке.
Роль меЛодоя'ога
11*
Прогноз и эконометрика , <,г
Тема 3 в нашем перечне — в какой степени экономисты могут
прогнозировать будущее — также играет видную роль в еще одном
диспуте, касающемся прогнозной ценности эконометрических мето-
дов. Разумеется, — как об этом предупреждают своих читателей
немногие учебники по эконометрике — эконометрические «предска-
зания» следует, строго говоря, интерпретировать только безотноси-
тельно к конкретным моментам времени; нет эпистемологических
оснований для утверждения, согласно которому эконометрика может
точно предсказывать будущее. Однако на практике способность за-
глядывать в будущее была мотивом для большинства эконометрис-
тов, и она, несомненно, считалась основной целью эконометрики по-
литиками, наблюдавшими за результатами эконометристов, и фонда-
ми, предоставлявшими гранты для осуществления их исследований.
В последующих главах периодически повторяется тема «кризи-
са», который, по общему мнению, поразил экономическую науку в
середине и продолжался до конца 1970-х гг. Растущее разочарование
в способности эконометристов производить «блага» в виде последова-
тельно точных прогнозов было, по всей видимости, одной из основ-
ных причин кризиса. Вопрос состоит в том, сможет ли экономиче-
ский метод в будущем давать количественные прогнозы с приемле-
мой точностью при условии его усовершенствования? Или же природа
экономических данных такова, что любая попытка систематического
прогнозирования по сути бесполезна или, в лучшем случае, приводит
к результатам, настолько разнородным по степени точности, что за-
траты усилий на такие прогнозы являются излишними?
Экономическое неведение и временное измерение
Некоторые методологи экономической науки, объединив рассмот-
рение тем 2 и 3, ставят вопрос о том, что экономисты могут знать о
будущем. Изучаемые здесь проблемы связаны с более фундаменталь-
ными уровнями эпистемологических рассуждений, чем вопрос о ко-
личественных эконометрических предсказаниях. Одним из объектов
критики этих авторов является экономическая «теория принятия
решения в условиях риска» (или «в условиях неопределенности»).
Все варианты этой теории опираются на предпосылки о том, каковы
ожидания экономического субъекта. Например, можно предположить,
что он будет осуществлять свои действия на основе множества воз-
можных результатов, каждому из которых он приписывает конкрет-
ную вероятность. Методологи-критики такого подхода, особенно Шекл
(Shackle, 1988), отметили, что эти предпосылки содержат такую сте-
пень знания будущего, какой экономический субъект реального мира
никогда не сможет обладать. Поэтому они считают подобные теории
12
Иэн М. Т. Стюарт.
бесполезными для любой цели, кроме построения абстрактных голо-
воломок (в главе 5 Берри обсуждает обоснование критики, предпри-
нятой Шеклом).
Однако если будущие экономические события нельзя предсказы-
вать в вероятностных терминах, то что мы можем сказать о возмож-
ности их наступления? Лоусби (Loasby, 1976) и Хатчисон (Hutchison,
1977) предложили использовать термин неведение (ignorance) вместо
термина «неопределенность» для обозначения такого состояния зна-
ний о будущем, при котором исходы хотя и не могут быть предсказа-
ны в вероятностных терминах, тем не менее не являются полностью
непредсказуемыми. Однако в момент написания этой статьи эта тер-
минология еще не была широко принята.
Хикс (Hicks, 1979) выдвинул утверждение, которое может разъяс-
нить понятие неведения. Согласно его тезису, в области наблюдаемых
экономических событий возможность различных будущих событий
можно часто ранжировать, даже если им нельзя приписать количе-
ственный показатель вероятности. Хотя Шекл (Shackle, 1988) пред-
ложил критику тезиса Хикса, современные авторы еще не полностью
исследовали выводы, вытекающие из этой концепции «ординальной
возможности ».
История экономической мысли
Тема 4 в приведенном выше перечне связана, конечно, с давно
существующей областью изучения, известной под названием «исто-
рия экономической мысли». В главе 3 Дин обсуждает современные
разработки в рамках этой дисциплины. Она ссылается на шумпете-
ровское определение «экономической мысли» как «мнений об эконо-
мических вопросах, которые преобладают в любой данный момент
времени или в любом данном обществе». Таким образом, изучение
истории экономической мысли прямо вписывается в методологиче-
скую сферу. Это не то же самое, что изучение экономической исто-
рии, хотя эти две дисциплины «пересекаются» (дальнейшие обсужде-
ния общих основ экономической науки и истории см. также в гла-
ве 41, написанной Крафтсом).
Социологические и идеологические подходы
При использовании социологических или идеологических при-
емов анализа в рамках экономической методологии в центре внима-
ния находятся две темы (тема 5 в нашем перечне). Первая из этих
тем связана с применением к экономической теории хорошо извест-
ного понятия «научных революций», впервые предложенного Куном
(Kuhn, 1970), и альтернативного подхода Лакатоша (Lakatos, 1978),
выдвинувшего «методологию научно-исследовательских программ».
Роль методолога
13
Вторая важная тема касается не столько природы экономической
науки, сколько социологических черт профессии экономиста как та-
ковой. Этот аспект детально обсуждается Коутсом в главе 8.
2.3. Методология: упадок и возрождение
Примерно в последние десять лет наблюдался экстраординар-
ный рост интереса к методологическим вопросам экономической
теории. Это еще сильнее впечатляет, если учесть, что в течение трех
с лишним предыдущих десятилетий экономическая методология
была фактически в полном забвении среди большинства эконо-
мистов. В данном разделе я сделаю краткий обзор этих противопо-
ложных фаз методологической активности, воплощенной в соот-
ветствующих публикациях, и порассуждаю о причинах такого —
«то густо, то пусто» — сценария развития событий. При обзоре
литературы я сосредоточу внимание главным образом на книгах по
методологии, опубликованных в каждом периоде, которые были
предназначены для читателей-экономистов, интересующихся про-
блемами общего характера, а не для специалистов; к таким книгам
относятся, в частности, учебники для студентов бакалавриата. Моя
предпосылка состоит в том, что количество изданных книг такого
типа служит подходящим приблизительным индикатором общего
уровня заинтересованности экономистов методологическими аспек-
тами.
Я полагаю, что можно в ретроспективе увидеть периоды застоя
и подъема в заинтересованности методологическими проблемами,
отделенные друг от друга коротким периодом «водораздела» кон-
ца 1970-1980-х гг. В течение этого промежуточного периода раз-
личные стимулы к методологическим изменениям, корни которых
находятся как внутри самой экономической теории, так и в широ-
кой области философии науки, соединились, чтобы положить нача-
ло возрождению интереса к методологии, которое стало очевидным
в 1980-е гг.
Методология в упадке:
1950-конец 1970-х гг.
Начальной вехой этого долгого периода стал опубликованный
в 1953 г. известный очерк Фридмена «Методология позитивной
экономической науки» (Friedman, 1953). Эта статья содержала все,
что требуется, чтобы вызвать длительную дискуссию в любой на-
уке. Во-первых, она была написана харизматическим авторитетом
в своей области; во-вторых, она предлагала идеи, которые многим
читателям казались смелым отходом от тогдашней традиции; по-
14
Иэн М. Т. Стюарт
следним (но не по значимости) было то, что она была изложена
туманно и двусмысленно и разные читатели могли интерпретиро-
вать ее по-разному и даже придавать ей противоположный смысл.
В действительности Фридмен просто предложил свое собственное
видение «спора о предпосылках», который начался более чем за сто
лет до написания этой работы. Для большинства читателей его очер-
ка выписанный им методологический рецепт выглядел простым и
сильнодействующим: «Оценивайте экономические теории исключи-
тельно по точности их прогнозов независимо от реалистичности их
предпосылок».
«Битва слов» вокруг очерка Фридмена продолжалась в журна-
лах в течение более десяти лет. В действительности эхо этих баталий
можно услышать еще и сегодня (обзор этого спора содержится, напри-
мер, в работах Стюарта (Stewart, 1979) и Боулэнда (Boland, 1982), а
также в главе 6 настоящего издания). Однако все эти дискуссии ве-
лись только «на территории» специалистов-методологов; они выпали
из поля зрения экономистов, занимающихся проблемами общего ха-
рактера, которые, скорее всего, воспринимали работу Фридмена (или
взятые из нее идеи), перепечатанную в других источниках, как обще-
признанную экономическую методологию.
Этот процесс был усилен появлением в 1963 г. написанного Лип-
си учебника для студентов бакалавриата «Ап Introduction to Positive
Economics» (Lipsey, 1963). Данная книга, надолго ставшая бестселле-
ром, содержала достаточно убедительное изложение основных аспек-
тов экономической методологии на основе некоторых идей Фридме-
на и собственной интерпретации автором концепции Карла Поппера
(в главе 6 настоящего издания Боулэнд анализирует, какой вклад в
идеи экономического «позитивизма» внесли последующие издания
книги Липси).
Таким образом, на протяжении 1960-х, а также в 1970-х гг.,
специалисты-методологи посвящали большую часть своей энергии
сражениям по поводу возможных интерпретаций Фридмена, тогда
как неспециалисты — включая последующие поколения студентов,
воспитанных на Липси, — полагали, что последнее слово в области
методологии уже сказано. Неудивительно, что этот период, как удач-
но выразился Боулэнд, был периодом «методологического пара-
лича».
Следующий момент: мне не кажется случайным тот факт, что
в тот же период с середины 1950-х до 1970-х гг. наблюдалось быстрое
расширение использования компьютеров и применения эконометри-
ческих методов. Получив в распоряжение новые увлекательные инст-
рументы анализа, экономисты стремились поскорее реализовать на
практике тезис Фридмена—Липси «проверка прогнозов — прежде
всего». Как я уже писал, й для экономистов, и для тех, кто нанимал
их на работу, понятие «прогноза» обладало привлекательной аурой
Роль методолога
15
предсказания будущего. В свете этого неудивительно, что экономисты
в целом потеряли интерес к методологическим дискуссиям.
Судя по книгам, публиковавшимся в тот период, продолжал
раздаваться «глас некоторых вопиющих в пустыне». Найт (Knight,
1956), Хатчисон (Hutchison, 1964) и Боулдинг (Boulding, 1970) пред-
ставили более широкую трактовку экономической науки по сравне-
нию с господствовавшей позитивистской доктриной. Сборник статей,
изданный Круппом (Krupp, 1966), продемонстрировал, что методоло-
гическая критика еще жива. Шекл в нескольких своих книгах после-
довательно развивал свою аргументацию относительно неясности эко-
номического будущего и последствий этого для методологии нашей
науки (Shackle, 1958, 1961, 1970). Девоне (Devons, 1961), писавший
на основании своего опыта экономиста-прикладника, выражал сомне-
ния относительно того, к чему могут привести современные методы
на практике. Из лагеря «австрийцев» раздавался голос фон Мизеса
(von Mises, 1960, 1962), который настаивал на своей «априористичной»
точке зрения на экономическую науку, совершенно противополож-
ной позиции Фридмена—Липси («австрийская» точка зрения подроб-
но излагается Берри в главе 5 этой книги).
Методология на переходной стадии:
конец 1970-х и 1980-е гг.
Возможно, первые признаки грядущих перемен, если судить по
издаваемым монографиям, можно усмотреть в начале 1970-х гг., ко-
гда Уорд (Ward, 1972) задал вопрос: «Что не так с экономической
наукой?» Его вопрос остался без ответа со стороны позитивистско-
эконометрического истеблишмента того времени.
Между тем произошли важные события в общей философии
науки. В 1962 г. Кун представил свои идеи относительно структуры
научных революций, и второе издание этой книги появилось восемь
лет спустя (Kuhn, 1970). В журнальных статьях Имре Лакатош раз-
вил свой альтернативный подход в рамках «методологии научно-
исследовательских программ», и сборник его статей позднее вышел в
виде отдельной книги (Lakatos, 1978). Идеи Куна и Лакатоша стиму-
лировали интерес методологов к экономической науке, равно как и к
другим научным дисциплинам; в конце концов, работы таких мето-
дологов появились в виде сборника статей, изданного Латсисом (Latsis,
1976). Эти новые труды помогли возродить методологическую актив-
ность в экономической науке, так как они «отвлекали» методологов
от дальнейшей бесплодной дискуссии по поводу идей Фридмена и
«спора о предпосылках» (Boland, 1984).
Появился и другой мощный стимул к методологическим пере-
менам, также возникший за рамками экономической методологии
как таковой. Это был «кризис» доверия к экономической теории и
16
Иэн М. Т. Стюарт
практике, который стал разворачиваться с начала 1970-х гг. (см. так-
же обзор Блини в главе 9). По мере того как лица, ответственные за
проведение политики, и население стали все более разочаровываться
в способности экономической теории бороться с инфляцией и стагна-
цией, экономисты все острее стали чувствовать неотложную необхо-
димость переоценки своих теорий и методов. Этот процесс в конце
концов привел к переоценке методологических принципов, на кото-
рых базировались эти теории и методы.
Интересно отметить, что наиболее ярко этот период методологи-
ческого самодовольства, сменившийся переоценкой ценностей, отра-
зился на судьбе известной кривой Филлипса (Phillips, 1958). Фил-
липс писал свою статью в то время, когда методологические предпи-
сания Фридмена впервые завоевывали признание. Сама кривая была
классическим примером результатов, вытекавших их этих предписа-
ний.1 Она была выведена исключительно на основе эмпирического
наблюдения (агрегированных данных) с использованием статистиче-
ских методов оценивания. Она не аппелировала к каким-либо «теоре-
тическим предпосылкам», оставляя на усмотрение читателей выводы
о причинных связях. Ее достоинства на практике оценивались благо-
даря ее способности прогнозировать результаты — термин «прогнози-
ровать» здесь, как обычно, фактически употребляется в смысле пред-
сказания количественных параметров будущего.
Последующая судьба кривой Филлипса почти сверхъестественно
сходна с судьбой методологии, благодаря которой она возникла. «Па-
дение» кривой Филлипса было одной из неразрешимых загадок в
экономической теории на протяжении 1970-х гг. (и, как многие мо-
гут добавить, остается неразрешимой до сего дня). Обратив взгляд в
прошлое, мы можем увидеть, что ухудшение предсказательной спо-
собности кривой Филлипса началось примерно с 1970 г. и продолжа-
лось далее, но отклонения фактических значений от предсказанных
не становились предметом серьезной озабоченности примерно до
1972 г., т. е. до тех пор, пока не появились первые признаки неудов-
летворенности в области методологии.
Спустя три года или чуть позже, экономистам стало ясно, что
проблема — налицо. Так как наблюдавшиеся значения инфляции и
безработицы отодвигались все дальше и дальше от их предсказан-
ных величин на кривой Филлипса, экономисты-теоретики поспе-
шили сконструировать объясняющие рамки, которые могли бы дать
некий ключ к пониманию того, где сейчас находится эта кривая,
если она действительно когда-либо существовала. В авангарде тех,
кто осуществлял эти попытки, находился не кто иной, как Милтон
Фридмен.
1 Я не знаю, читал ли Филлипс Фридмена или принял сознательное
решение следовать фридменовским методологическим указаниям.
Роль методолога
17
В то же самое время экономисты-прикладники и эконометристы
обеспокоенно взирали на свои количественные прогнозы. Если такое
устойчивое соотношение, как кривая Филлипса, могло разрушиться
столь впечатляюще, то что это в целом означало для эмпирических
методов предсказания? Не были ли правы такие критики как Шекл и
фон Мизес?
К концу 1970-х гг. возрождение методологических дебатов стало
ясно ощущаться в издаваемых книгах. Лоусби (Loasby, 1976), Хатчи-
сон (Hutchison, 1977) и снова Шекл (Shackle, 1979) опубликовали по
книге, где рассматривалась ограниченная способность экономических
субъектов предсказывать будущее и исследовались общие последствия
этого для экономической методологии. Хикс (Hicks, 1979) также пред-
ложил новый общий взгляд на природу экономического прогноза,
равно как и на проблему причинности в экономической теории. Фриц
Махлуп (Machlup, 1978) опубликовал сборник своих методологичес-
ких статей. Дальнейшим подтверждением повышения к концу деся-
тилетия интереса к методологическим аспектам был выход из печа-
ти двух книг, предназначенных непосредственно для студенческого
рынка, а именно книга Стюарта (Stewart, 1979) и книга Блауга (Blaug,
1980).
Возрождение методологии: 1980-е гг.
На протяжении 1980-х гг. и по настоящее время гетеродоксаль-
ные направления и теоретические дискуссии оставались главным
вопросом «повестки дня». Соответственно поддерживался повышен-
ный интерес к методологическим проблемам, что отражалось в лите-
ратуре: издавался поток книг по методологии, предназначенных для
студентов и экономистов, не специализирующихся в этой области.
Катузян (Katouzian, 1980) подверг критике применение в эконо-
мической науке позитивизма, а также идей Куна и Лакатоша. Он
также выразил обеспокоенность по поводу того, что он назвал «само-
воспроизводящейся элитой» в рамках профессионального сообщества
экономистов (это заявление также рассматривается Коутсом в главе 8
данной книги).
В 1982 г. появились две книги, в которых рассматривались аль-
тернативы наивному позитивизму. Боулэнд (Boland, 1982) подверг
сомнению озабоченность экономистов эмпирическими доказательства-
ми, полученными в результате индукции, доказывая, что это должно
привести к конвенционализму. Колдуэлл (Caldwell, 1982) сделал об-
щий исторический обзор, представил критику различных методоло-
гических подходов в экономической теории и дал обоснование «мето-
дологического плюрализма». Впоследствии он издал сборник кри-
тических статей по методологии (Caldwell, 1984). Боулэнд в двух
последующих книгах продолжал применять свои методологические
3 Заказ № 356
18
Иэн М. Т. Стюарт
воззрения к микроэкономике (Boland, 1986) и к построению экономи-
ческих моделей (Boland, 1989). Мак-Клоски (McCloskey, 1986) выдви-
нул поразительную идею о том, что большую часть того, что мы назы-
ваем «теорией», на самом деле лучше трактовать как риторику, т. е.
как драматическое средство, призванное убеждать других лиц или
произвести на них впечатление. Так он спугнул зайца, охота за кото-
рым идет до сих пор. Шекл — окрыленный, как можно предполо-
жить, ниспровержением веры в способность экономистов к прогнози-
рованию — опубликовал еще один сборник своих статей, вновь под-
черкнув свою центральную тему: «Метод в экономической теории
должен начинаться с рассмотрения времени» (Shackle, 1988). В конце
1980-х гг. появились еще два учебника для студентов, в каждом из
которых идеи Куна и Лакатоша интегрировались с более традицион-
ными аспектами экономической методологии; это были книги Фиби
(Pheby, 1988) и Гласса и Джонсона (Glass, Johnson, 1989).
В завершение этого раздела следует сказать несколько слов о
разработках в области методологии, опубликованных в журнальной
литературе. Даже в недавний, только что описанный период подъема
интереса к методологии методологические статьи привлекали интерес
меньшинства редакторов журналов общей экономической пробле-
матики. Заметным исключением оказался журнал институциона-
листов «Journal of Economic Issues», редакторы которого издавна при-
ветствовали методологические работы. Тем не менее в 1980-х гг. вышло
два новых важных журнальных издания, посвященных методологии.
В 1983 году был основан ежегодник «Research in the History of
Economic Thought and Methodology». Его второй том содержал сбор-
ник статей, посвященных недавним разработкам в области эконо-
мической методологии (Samuels, 1984). Еще одной важной вехой
оказалась «инаугурация» в 1985 г. нового журнала «Economics and
Philosophy»; он посвящен обсуждению тем, лежащих на стыке между
двумя отраженными в его названии дисциплинами, в том числе и
вопросов методологии.
2.4. Главы части I
Дин начинает главу 3 «Роль истории экономической мысли» с
кратких сведений о корнях этой дисциплины, заложенных в XIX в.
Она показывает, что экономические писатели того периода уже были
заняты доктринальными и идеологическими спорами, ставшими с тех
пор неотъемлемой частью экономической науки. И действительно,
если к статье Дин можно было бы предложить какой-либо подзаголо-
вок, то наилучшей его формулировкой была бы: «Доктрина против
объективности». Дин доказывает, что одна из потенциальных выгод
от изучения истории экономической мысли состоит в том, что благо-
Роль методолога
19
даря этому может сложиться общий взгляд на различные воюющие
между собой доктрины и станет легче выработать объективную точку
зрения на их сравнительные недостатки и достоинства, различия и
сходства, насколько позволяют человеческие силы. Но учитывая при-
роду данного предмета, это следует делать с оглядкой. К тому же
приобретенный общий взгляд должен изменяться по мере непрерыв-
ного изменения текущего «положения дел».
Как отмечает Дин, некоторые другие неотъемлемые черты совре-
менной экономической «науки» также сложились уже к концу XIX
и началу XX в. Одна из них — профессионализация (которая деталь-
но анализируется Коутсом в главе 8). Другая — уважение, испытыва-
емое научным сообществом экономистов к «высокой теории» и к
приобретению специализированных технических навыков. Эти чер-
ты, в свою очередь, имели последствие, которое проявилось в области
экономического образования на протяжении большей части текуще-
го века, т. е. тенденцию переводить изучение истории экономиче-
ской мысли (и все методологические дисциплины) в разряд необяза-
тельных курсов.
Далее Дин рассматривает причины, лежащие в основе возрождения
интереса к истории экономической мысли, начавшегося в 1950-х гг.
В некоторой мере эти причины были эндогенными, связанными с
увеличением количества научных изданий и переводов первоисточ-
ников. Однако Дин также указывает на внешние влияния, т. е. на
факторы, связанные с более общим ростом интереса к экономиче-
ской методологии, что уже упоминалось в настоящей главе. В част-
ности, она уделяет внимание «оживлению», порожденному идеями
социологического характера Куна и Лакатоша.
Цитируя работу Блауга, Дин говорит также, что «несостоятель-
ность экономической ортодоксии 1950-х и 1960-х гг. при решении
аналитических проблем 1970-х гг.» была еще одним фактором, кото-
рый способствовал возрождению интереса к истории экономической
мысли. В заключительном разделе своей статьи она обсуждает в не-
которых деталях два главных аналитических направления, возник-
ших в ходе текущего подъема рассматриваемой ею дисциплины.
Первое из них касается новых разработок в истории экономических
доктрин, а второе — использования исторического метода в изучении
истории экономической науки.
В главе 4 О’Брайен обсуждает соотношение теории и эмпириче-
ских наблюдений в экономической науке. Он начинает с изложения
своего центрального тезиса. В соответствии с этим тезисом для про-
гресса какой-либо науки необходим механизм отбора теорий, а глав-
ная роль данных состоит в облегчении этого процесса. В первом
основном разделе статьи он исследует возможности и ловушки, с ко-
торыми сталкиваются экономисты при использовании данных. Пре-
достерегая от требований использования в экономической науке
20
Иэн М. Т. Стюарт
«индуктивной логики», он отмечает, что Карл Поппер решал не про-
блему индукции, а проблему того, каким образом можно приобрести
знание на основе наблюдений.
Далее О’Брайен критикует знаменитое утверждение Фридмена
о том, что реализм предпосылок не имеет значения для отбора тео-
рий. Как отмечает О’Брайен, естествоиспытатели, несомненно, обраща-
ют внимание на истинность своих исходных предпосылок. Это звучит
весьма иронично, принимая во внимание сциентистские наклонности
экономистов типа Фридмена, которые утверждали, что предпосылки не
имеют значения. Далее О’Брайен более детально анализирует послед-
ствия того факта, что репликацию результатов гораздо труднее осуще-
ствить в экономической науке, чем в естественных дисциплинах.
Обсуждая проблемы измерения, О’Брайен выдвигает на первый
план зачастую нелепые результаты применения регрессионного ана-
лиза к экономическим данным. Метод регрессии — напоминает он
нам — был первоначально разработан для использования в анализе
результатов агрономических экспериментов, где контроль и повторя-
емые наблюдения представляют собой общее правило. Напротив, в
экономической науке большинство наших данных часто ведут свое
происхождение из общедоступных статистических рядов сомнитель-
ной достоверности, полученных посредством одноразовых наблюде-
ний. Здесь же О’Брайен рекомендует средства, которые могли бы ис-
пользоваться экономистами для решения этих проблем.
Затем он рассматривает популярное сегодня утверждение, со-
гласно которому значительная часть того, что пишут экономисты,
фактически является риторикой, а не проверяемой теорией. Точка
зрения О’Брайена состоит в том, что значительная часть экономиче-
ских публикаций действительно имеет риторическую форму. В част-
ности, использование высшей математики может часто преследовать
риторические цели. Однако это не аналогично тезису о том, что рито-
рика может как-либо «участвовать» в отборе теории или действовать
как заменитель такого отбора; в конце концов, эмпирические данные
продолжают играть решающую роль.
Обращаясь к использованию физики в качестве модели научно-
го поиска в экономической науке, О’Брайен предлагает вниманию
читателей два вопроса. Первый вопрос: является ли методология
физики, по крайней мере в понимании экономистов, подходящим
идеалом для экономической методологии? Второй вопрос: насколь-
ко точно понимание физики экономистами отражает то, чем фак-
тически занимаются современные физики? Один из возможных пу-
тей, предлагаемых им, состоит в моделировании экономического
метода не на основе физики, а на основе иных областей научного
знания, таких как медицина. Альтернативный путь заключается в
том, что все еще разрабатывающаяся в рамках физики теория хаоса
Роль методолога
21
может навести на альтернативные соображения по поводу экономи-
ческой методологии.
Исследуя в главе 5 «австрийский подход», Берри отстаивает пра-
во австрийской экономической школы на то, чтобы быть признанной
особой исследовательской программой. Он убежден в том, что ее вклад
в экономическую теорию и методологию следует оценивать независи-
мо от доктрин правых политических сил, которые, как правило, ассо-
циируются с австрийской экономической школой. Теоретические раз-
работки в рамках этой школы ставят в центр внимания тот факт, что
экономические события являются следствием человеческих действий,
происходящих в мире неведения и неопределенности.
Берри сперва делает обзор корней австрийского подхода начи-
ная с работы Карла Менгера. При подробном обсуждении вклада
Менгера можно уже обнаружить все фирменные признаки австрий-
ской экономической теории. Все экономические явления восходят к
действиям индивидов (доктрина методологического индивидуализма).
Причинность экономических событий интерпретируется в терминах
субъективных оценок и мотивации отдельных индивидов. Таким об-
разом, обобщения, касающиеся «сущности экономического действия»,
могут быть выведены дедуктивно, без обращения к историческим
данным. Главная цель экономического анализа состоит в обеспечении
понимания (Verstehen), а не в порождении прогнозов или занятии
эмпирическими проверками.
Как отмечает Берри, в противоположность общепринятому взгляду
«австрийцы», следуя Менгеру, не избегают понятия равновесия. Одна-
ко то, как они его используют, значительно отличается от метода его
применения другими школами. Цель австрийских экономистов за-
ключается в описании и понимании процессов, посредством которых
экономические системы могут достичь равновесия. Напротив, тради-
ционный неоклассик больше заинтересован в математическом дока-
зательстве того, что равновесие может существовать, а затем в анали-
зе условий, при которых такое существование возможно.
Берри исследует некоторые из центральных идей австрийской
методологии. Рассмотрев сперва понятие субъективизма, он отмечает,
что для представителя австрийской школы оно подразумевает следу-
ющее: ничто в экономической вселенной нельзя трактовать как объек-
тивно данное. Даже такие величины, как издержки, должны непре-
рывно открываться хозяйствующим субъектом в вечно меняющемся
мире с неясным будущим. И экономический субъект не просто реа-
гирует на то, что открывается; скорее, он «проактивен», беря на себя
инициативу делать то, что, как ему кажется, скорее всего приведет к
наиболее субъективно желаемому им «положению дел». Таким обра-
зом, с точки зрения австрийской школы любая попытка основать
экономический анализ только на «объективном наблюдении» непре-
менно упускает самую суть экономического процесса.
22
Иэн М. Т. Спгюарт
«Австрийский» взгляд на предпринимателя предполагает не про-
сто формальную «рациональность», но скорее состояние «чуткости» к
любым возможностям, которые могут быть выявлены в рыночной
информации. Данное понятие подразумевает больше, чем просто ар-
битраж; предприниматель также «проактивен», не просто реагируя
на разницу в ценах, но осуществляя «прыжки в неизвестность», свя-
занные с инновационной деятельностью.
Наконец, Берри рассматривает некоторые аспекты австрийской
точки зрения на деньги и экономические колебания, а также выводы
для макроэкономической политики, которые следуют из австрийско-
го подхода.
В главе 6 Боулэнд изучает «современные воззрения на экономи-
ческий позитивизм». Он начинает с исследования значения (или, точ-
нее говоря, значений) термина «позитивная экономическая теория».
Позитивная экономическая теория, отмечает Боулэнд, часто опреде-
ляется через ее противопоставление чему-либо еще. Но чему? Он дела-
ет обзор нескольких подобных предлагаемых противопоставлений,
содержащихся в публикациях, — например, аналитическое и синте-
тическое, сущее и должное, теоретическое и прикладное — и обнару-
живает, что каждое из них недостаточно описывает, что означает
позитивная экономическая теория. Он полагает, что термин «пози-
тивный» может быть наиболее важен как риторический прием. Не-
высказанный подтекст выглядит следующим образом: «Позитивный
образ действий — это хорошо». Боулэнд рассматривает возможные
источники такой презумпции.
Далее он проводит различие между четырьмя ветвями совре-
менного экономического позитивизма. Они представляют собой кон-
тинуум воззрений. На одном полюсе — группа экономистов пока
что еще малой численности, которая выступает в поддержку ис-
пользования экспериментального метода в экономической науке
(обзор этого направления детально представлен Лумзом в главе 29
настоящей книги). На другом полюсе спектра находятся последо-
ватели Самуэльсона, готовые принять методологическую точку зре-
ния, согласно которой теории лишь в принципе должны быть про-
веряемы.
Между этими двумя крайностями расположены группы, которые
Боулэнд нарек «чикагской» и «лондонской» школами позитивной
экономической теории. К первой, конечно же, относятся последовате-
ли Милтона Фридмена, чью методологическую позицию Боулэнд опи-
сывает как «упрощенный инструментализм». Он также излагает бо-
лее сложные подходы Беккера и Стиглера.
Что касается «лондонского позитивизма»,2 то Боулэнд отмечает,
что Евангелием этой ветви в течение многих лет был учебник Липси
2 Имеется в виду Лондонская школа экономики. (Прим, ред.)
Роль методолога 23
Введение, в позитивную экономическую теорию. Он детально анали-
зирует методологические предписания этой книги по мере их эволю-
ции на протяжении нескольких изданий, чтобы доказать свое утверж-
дение, согласно которому современный экономический позитивизм
представляет собой «основательно запутанную доктрину».
Почему же тогда, продолжает Боулэнд, современный экономи-
ческий позитивизм все еще привлекает сторонников? Один из отве-
тов, пишет он, состоит в риторической функции позитивизма. Сто-
ронники экономического позитивизма настаивают, что их процедура
свободна от ценностных суждений и именно этот аспект их кредо,
более чем философские детали их метода, привлекает в них поли-
тиков.
Пытаясь проникнуть в дух позитивизма, Боулэнд строит модель
типичной позитивистской журнальной статьи. Проверяя свою мо-
дель эмпирически, он получает ее подтверждение: в одном из прес-
тижных журналов каждая статья, связанная с исследованием данных
реального мира, соответствовала его модели.
Как и все создатели моделей, Боулэнд после этого пытается най-
ти, что лежит в основе его эмпирических результатов, обнаружить
причинную связь. Почему, спрашивает он, этот стандартный формат
статьи столь популярен среди позитивистски ориентированных эко-
номистов? Ответ, предлагаемый им, удивителен и очень далек от де-
кларируемых философских целей позитивизма.
В главе 7 Сэмюэлс излагает институционалистский взгляд на
экономическую науку. Институционалисты определяют свой подход
через центральную проблему: «эволюция организации и контроля над
экономикой в целом». Сэмюэлс подчеркивает, что для экономиста-
институционалиста «экономика — нечто большее, чем рынок», и это
лейтмотив всей статьи. Не опираясь на концептуальные модели рын-
ка, институционалисты проявляют интерес к структурам и процес-
сам, которые фактически влияют на то, что происходит в обширном
экономическом мире, а рынок как таковой является всего лишь ча-
стью этого мира.
Институционалистский подход, пишет Сэмюэлс, имеет три грани:
он является «корпусом знаний», средством для решения проблем и
движением протеста. Экономисты-институционалисты протестуют как
против некритического принятия существующих экономических инс-
титутов, так и против некритического принятия экономической тео-
рии, предполагающей наличие этих институтов.
Институционалисты, объясняет Сэмюэлс, подчеркивают важность
власти как детерминанта экономических событий. Это не означает
простую способность диктовать цены. Скорее, речь идет о борьбе меж-
ду экономическими субъектами за приобретение разнообразных форм
прав — в частности, права контролировать наличные технологии.
Согласно институционалистской точке зрения, оптимум по Парето
24
Иэн М. Т. Стюарт
зависит от конкретной конфигурации правомочий. Поскольку нео-
классические экономисты игнорируют значение властной структуры,
они, по мнению институционалистов, «узаконивают» ее, т. е. молчаливо
принимают господствующий социально-политический статус-кво.
Сэмюэлс продолжает эту тему при рассмотрении институциона-
листской микроэкономической теории. Для институционалиста «ал-
локация ресурса есть функция власти». Действительно, выясняется,
что, по мнению институционалистов, все известные феномены тради-
ционной микроэкономической теории — только поверхностные при-
знаки иных, более важных экономических событий. Эти события
принимают формы силовой политики, борьбы за правомочия и при-
своения собственности обманными путями. При этом предполагается,
что правительство — далеко не посторонний фактор по отношению к
описываемому экономическому процессу и находится в его центре,
поскольку контроль, осуществляемый через административные орга-
ны, рассматривается просто как один из способов борьбы за власть.
В макроэкономической сфере аспекты власти и институциональ-
ной структуры также играют решающую роль. Например, институ-
ционалисты изучают способы, посредством которых на макроэко-
номические показатели может повлиять распределение дохода и бо-
гатства.
Сэмюэлс делает обзор конкретных областей, исследуемых эконо-
мистами-институционалистами. Описанная им программа исследова-
ний вполне в духе институционализма. Ее центр тяжести — не по-
строение формализованных моделей, а скорее попытки обнаружить и
понять, какие причинные силы — особенно те, что связаны со струк-
турами и властью, — в действительности играют важную роль в эко-
номике, понимаемой в широком смысле.
Центральной темой главы 8, написанной Коутсом, является при-
зыв к систематическому исследованию «природы, исторической эво-
люции и значимости» профессионализации экономической науки. Он
отмечает, что в последние десятилетия много говорилось о «проблемах»
и «кризисах» в экономической теории, но нам не хватает достовер-
ных данных, на основе которых можно было бы оценить важность этих
трудностей для экономической науки как профессии.
Делая обзор возможных причин заметного расширения спроса
на профессиональных экономистов за прошедшие полвека, Коутс по-
лагает, что это, возможно, было проявлением общей тенденции к
специализации функций, тенденции, часто сопровождавшей процесс
индустриализации. Важное значение имели также хорошо разрабо-
танные теоретические рамки, которые могли помочь экономистам
установить свою профессиональную идентичность. Идеология эконо-
мической науки, свободной от ценностей, также являлась мощным
фактором формирования представлений о себе у профессионального
экономиста.
Роль методолога 25
В то же время экономисты в отличие от представителей других
профессий, например медицинской, почти не продвинулись в установ-
лении механизмов, предназначенных служить барьерами входа. Коутс
относит такую позицию, в некоторой мере соответствующую принци-
пу laissez-faire, к еще одному аспекту идеологии экономистов, а имен-
но к их неприятию искажений рыночного механизма.
Как бы то ни было, спрашивает Коутс, что экономисты знают
такого, чего не знают другие люди? В конце концов, обладание спе-
циализированным знанием представляет собой обязательное усло-
вие существования любой профессии. Он утверждает, что экономи-
сты могут внести особый вклад в решения проблем, но данный
вклад состоит в большей степени в экономическом «образе мыш-
ления», чем в использовании усложненных математических или
статистических методов.
Делая обзор исторической эволюции профессионализации эко-
номической науки, Коутс высказывает предположение, что начало
признания экономической науки в качестве отдельной профессии
восходит к рикардианцам в начале XIX в. Однако самостоятельные
академические курсы по экономической теории начали распростра-
няться только в последние годы этого века. Коутс считает, что эта
тенденция может быть связана с расширением интереса к экономи-
ческой науке, сопровождавшим маржиналистскую революцию, кото-
рую он называет первой вехой процесса профессионализации. Второй
вехой была кейнсианская революция, когда сдвиг в теоретической
парадигме экономистов сопровождался значительным расширением
официальной экономической статистики.
В заключение Коутс рассматривает один часто упоминаемый
недостаток профессии экономиста: существование внутри нее замкну-
той самовоспроизводящейся элиты. Хотя Коутс согласен с тем, что
такая элита, возможно, существует, он задает вопрос: каковы возмож-
ные альтернативы?
'Ьг? Литература
Blaug М. The Methodology of Economics. Cambridge : Cambridge University Press,
1980.
Boland L. The Foundations of Economic Method. London : George Allen & Unwin,
1982.
Boland L. On the state of economic methodology // Research in the History of
Economic Thought and Methodology. 1984. Vol. 2. P. 173-177.
Boland L. Methodology for a New Microeconomics. Boston. MA : Allen & Unwin.
1986.
Boland L. The Methodology of Economic Model Building: Methodology After
Samuelson. London : Routledge, 1989.
26
Иэн М. Т. Стюарт
Boulding К. Economics as a Science. New York : McGraw-Hill, 1970.
Caldwell B. Beyond Positivism // Economic Methodology in the Twentieth
Century. London : Allen & Unwin, 1982.
Caldwell B. Appraisal and Criticism in Economics. Boston. MA : Allen & Unwin,
1984.
Capra F. The Tao of Physics / 2nd edn. Boston, MA : New Science Library, 1983.
Devons E. Essays in Economics. London : Allen & Unwin, 1961.
Eichner A. (ed.). Why Economics is not yet a Science. Armonk. NY : M. E. Sharpe,
1983.
Feyerabend P. Farewell to Reason. London : Verso, 1987.
Friedman M. The methodology of positive economics / In M. Friedman. Essays
in Positive Economics. Chicago, IL : University of Chicago Press, 1953.
Glass J., Johnson W. Economics: Progression, Stagnation or Degeneration?
London Harvester Wheatsheaf, 1989.
Hicks J. Causality in Economics. Oxford : Basil Blackwell, 1979.
Hutchison T. Positive’ Economics and Policy Objectives. London : Allen & Unwin,
1964.
Hutchison T. Knowledge and Ignorance in Economics. Oxford : Basil Blackwell,
1977.
Katouzian H. Ideology and Method in Economics. London : Macmillan, 1980.
Knight F. On the History and Method of Economics. Chicago. IL : University of
Chicago Press, 1956.
Krupp S. (ed.). The Structure of Economic Science. Englewood Cliffs. NJ : Prentice-
Hall, 1966.
Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions / 2nd edn. Chicago, IL : University
of Chicago Press, 1970.
Lakatos I. The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical
Papers. Cambridge : Cambridge University Press, 1978. Vols 1, 2.
Latsis S. (ed.). Method and Appraisal in Economics. Cambridge : Cambridge
University Press, 1976.
Lipsey R. An Introduction to Positive Economics / 1st edn. London Macmillan,
1963.
Loasby B. Choice, Complexity and Ignorance. Cambridge : Cambridge University
Press, 1976.
Machlup F. Methodology of Economics and Other Social Sciences. New York :
Academic Press, 1978.
McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Brighton : Harvester Wheatsheaf, 1986
Mises L., von. Epistemological Problems of Economics. Princeton, NJ. Van
Nostrand, 1960.
Mises L„ von. The Ultimate Foundation of Economic Science. Princeton. NJ Van
Nostrand, 1962.
Pheby J. Methodology and Economics: A Critical Introduction. London : Mac-
millan, 1988.
Phillips A. The relationship between unemployment and the rate of change of
money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957 // Economicsa. 1958.
Vol. 25. P. 283-299.
Роль методолога
27
Rosenberg A. If economics isn’t science, what is it? // Philosophical Forum.
1983. Vol. 14. P. 296-314.
Samuels W. (ed.). Research in the History of Economic Thought and Methodo-
logy. Greenwich, CT : JAI Press, 1984. Vol. 2.
Shackle G. Time in Economics. Amsterdam : North-Holland, 1958.
Shackle G. Decision, Order and Time in Human Affairs. Cambridge : Cambridge
University Press, 1961.
Shackle G. Expectation, Enterprise and Profit. London : Allen & Unwin, 1970.
Shackle G. Imagination and the Nature of Choice. Edinburgh : Edinburgh Uni-
versity Press, 1979.
Shackle G. Business, Time and Thought. London Macmillan, 1988.
Stewart I. Reasoning and Method in Economics. London : McGraw-Hill, 1979.
Ward B. What’s Wrong with Economics? London : Macmillan, 1972.
Zukav G. The Dancing Wu Li Masters. Bungay : Suffolk : Flamingo, 1979.
'/f; tr
fail <;ы I
co
fW-ir,
h-.
<»h
,.J U:
'.dy io
,q-..
(а о->
'lure ir.
)Т Л.
1Г.
3I'V
'RS . «••••<:
i
3
ФИЛЛИС дин ,d >.
РОЛЬ ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ мысли
3.1. Введение
Причины того, почему экономисты изучают (или преподают)
историю экономической мысли, многообразны, они зависят от эконо-
мического видения и ближайших целей отдельного исследователя
(или комментатора), а также от прогресса этого предмета как науч-
ной дисциплины. Например, в XIX в. серьезные исследователи поли-
тической экономии начинали с чтения трудов «старых мастеров», а
некоторые из них «шли дальше», публикуя комментарии по поводу
прочитанного. Дж. Р. Мак-Куллох, первый английский историк по-
литической экономии, написал множество статей на эту тему (напри-
мер, для газеты «Scotsman» и для Британской Энциклопедии), преж-
де чем издать свой «Исторический очерк возникновения науки по-
литической экономии» («Historical Sketch of the Rise of the Science of
Political Economy») (1826), а в 1845 г. он опубликовал первую анноти-
рованную библиографию экономической теории (McCulloch, 1938).
Как один из ведущих экономистов своего времени Мак-Куллох
писал под влиянием и с точки зрения тогдашней рикардианской
ортодоксии. Следующий автор, писавший историю политической
экономии для Британской Энциклопедии, был личностью совершен-
но иного типа. Дж. К. Ингрэм, ирландский ученый с разносторон-
ними интересами, но не обладавший особой оригинальностью, приоб-
рел репутацию авторитета в научных экономических кругах, высту-
пив с получившим широкую известность президентским обращением
в 1878 г. на сессии в Секции F Британской ассоциации развития
науки, где он доложил о «Текущем положении и перспективах поли-
тической экономии» и объявил о рождении «новой экономической
теории». Его «История политической экономии» («History of Political
Economy») (изначально предназначенная для Энциклопедии 1878 г.)
была не столько историей экономической мысли, сколько манифес-
том историцистской критики английской классической экономи-
ческой теории. Такое энергичное нападение на ортодоксию, уже
Роль истории экономической мысли 29
служившую мишенью для сильных нападок с разных сторон, породи-
ло особый интерес к предмету, который большинством исследовате-
лей рассматривался как весьма скучный. После публикации этой
работы в виде книги — сначала в Соединенных Штатах по настоя-
нию известного профессора Гарвардского университета Тауссига, а
затем в Англии в 1888 г. — она стала самым удачным учебником
XIX в. по истории экономической науки.1
Со временем университеты с наиболее уважаемыми экономиче-
скими факультетами требовали от своих студентов знания — пусть
даже полученного не из первоисточников — трудов, на которые их
преподаватели благоговейно ссылались в качестве «поддержки» их
собственных лекций. Профессионализация дисциплины, ускорившая-
ся в конце XIX и начале XX в., повысила спрос на новые учебники,
посвященные экономической мысли прошлого. Большинство таких
учебников оказывались либо агиографиями, либо книгами, представ-
лявшими теории прошлого в виде «монументальной коллекции оши-
бок», которые можно было убедительно противопоставить развитому
состоянию современной науки.2 Было очень мало глубоких лекций и
содержательных учебников, которые могли бы помочь поддерживать
предмет на уровне, отвечающем требованиям разборчивых студен-
тов. Например, в 1961 г. Самуэльсон в своем президентском обраще-
нии к Американской экономической ассоциации ссылался на «Исто-
рию экономических учений» Жида и Риста, а также на лаконично
написанную книгу Александра Грэя, являвшуюся «другом перегру-
женного студента», как на два учебника, на которые студенты могли
опираться при подготовке к экзаменам в 1930-е гг. (Samuelson, 1962).
Действительно, за исключением книг Жида и Риста (Gide, Rist, 1909),
Грэя (Gray, 1931) и «Истории экономической мысли» Ролла (Roll,
1938)х в этой области не публиковалось ничего выдающегося до тех
пор, пока не была издана монументальная «История экономического
анализа» Шумпетера (Schumpeter, 1954b). Дело в том, что подъем
«высокой теории», начавшийся в конце 1920-х и в 1930-е гг., и все
более технический характер навыков, требуемых от профессионального
1 Она выдержала несколько изданий на английском языке, в том чис-
ле и посмертное 1915 г., изданное Ричардом Эли с дополнительной главой
У. Э. Скотта. Согласно Куту (Koot, 1987), она была переведена на немецкий,
польский, русский, шведский, чешский, сербский и голландский языки.
См., например, описание Боулдингом курса, который изучался им в
его бытность студентом в Эдинбургском университете: «Студент сперва изу-
чал то, что было неправильно у Адама Смита, и все те аспекты, в которых он
ошибался; затем переходил к изучению того, что было неправильно у Рикар-
до, затем — того, что было неправильно у Маршалла. Многие студенты так
и не узнали ничего правильного, и мне думается, что в ходе изучения курса
создавалось впечатление, что экономическая теория была монументальной
коллекцией ошибок» (Boulding, 1971 : 232).
30
Филлис Дин
экономиста, делали все менее и менее обычной ситуацию, когда курс
по истории экономической мысли трактовался как обязательная часть
базового экономического образования. В качестве предмета, изучае-
мого в рамках бакалаврской программы, эта дисциплина действенно
вытеснялась специальными и техническими курсами.
В качестве области исследований история экономической мыс-
ли «росла» вглубь и вширь (хотя этого нельзя сказать о количестве
публикаций). Несмотря на то что большинству студентов этот пред-
мет не казался нужным, находились ведущие мыслители, черпавшие
в нем вдохновение. В XX в., как и в XIX, теоретики-новаторы, осо-
знавая недостатки современной им ортодоксии, возвращались к тру-
дам экономистов прошлого в поисках неиспользованных или забы-
тых находок. Естественно, они имели склонность интерпретировать
классиков в современных терминах, что порождало плодотворные
дебаты среди специалистов в данных областях. Подчеркивая новую
роль истории экономической мысли, престижные современные теоре-
тики способствовали росту ее популярности в глазах молодых иссле-
дователей, искавших «жизнеспособные» темы для своих диссертаций.
Контрастными примерами занимавшихся «высокой теорией» ученых,
побочные экскурсы которых значительно продвинули историю эконо-
мической мысли (прямо, косвенно или вызвав критику со стороны
других ученых), являются Маршалл, чья «реабилитация» Рикардо
вызвала проницательную критику со стороны У. Дж. Эшли в 1891 г.,
и Самуэльсон, чьи работы, где дан разбор марксистских моделей в
1951 г. и анализ марксистской концепции эксплуатации в 1971 г.,
породили ответную реакцию, оказавшуюся как энергичной, так и су-
ровой. Более недавний пример ученого, влияние которого на историю
экономической мысли до сих пор не стало заметным, — это Мори-
шима, который по-новому интерпретировал и расширил модели, об-
наруженные им в вальрасовских «Элементах», марксовом «Капита-
ле» и рикардовских «Началах», применив специализированные мето-
ды современной математической экономики (Morishima, 1973, 1977,
1990).3
Более важно то, что некоторые ведущие теоретики середины XX в.
провели свои исследования в области истории экономической мысли
настолько эффективно, что стали признанными авторитетами в этой
сфере. В качестве наиболее выдающихся примеров следует привести
Найта, Стиглера и Хикса. К ним нужно отнести и Шумпетера, который
3 Возможно, пока слишком рано оценивать воздействие недавних изыс-
каний Моришимы в области истории экономической мысли, но трудно пове-
рить, что неисторические проблемы, поставленные им (и другими экономи-
стами, которые переписывают классику на совершенно ином современном
языке), могут значительно способствовать развитию этой дисциплины. Это,
конечно, и не было его целью.
Роль истории экономической мысли 31
проявлял устойчивый интерес к истории экономической теории и по-
тратил последние девять лет своей жизни на пересмотр и усовершен-
ствование своего раннего очерка, посвященного развитию экономиче-
ских доктрин и методов (впервые опубликованного на немецком языке
в 1914 г.).4 Этот проект, подготовленный его женой для опубликования
после его смерти, вылился в массивную историю экономического анали-
за. По сути, «История» Шумпетера оказалась вехой в истории экономи-
ческой мысли. В данной работе были сформулированы цели и задачи,
на которые стали опираться авторы более поздних учебников; это произ-
ведение — по причине своей всеохватности — стало «точкой отсчета»
почти для всех новых исследователей в данной области; оно стало ис-
точником цитат и дискуссионных проблем для лекторов, стремящихся
привлечь аудиторию на свои факультативные курсы.
3.2. Факторы, внесшие вклад в возрождение истории
экономической мысли в середине XX в.
К 1940 г. большинство выпускников-экономистов могли завер-
шить свое базовое обучение без серьезного соприкосновения с теори-
ями, не одобренными современной ортодоксией, в то время как често-
любивые и молодые преподаватели и исследователи могли найти бо-
лее перспективные способы сделать карьеру, чем путем публикации
статей, посвященных экономистам прошлого. Однако в 1950-х гг.
началась новая эра в истории экономической теории, эра, в которой
общий интерес и значение оригинальных исследований в этой сфере
возросли в беспрецедентной степени. Новое, менее зашоренное поко-
ление историков экономической мысли стало исследовать то, что
Стиглер (Stigler, 1965) назвал «последней несубсидируемой областью
экономической науки», охватывая широкий диапазон проблем и
увеличивая круг читателей. Например, доказательства «расширения
горизонтов» в англоговорящем мире можно обнаружить в переводе и
опубликовании трудов, критикующих тогдашнюю ортодоксию, таких
как книга Мюрдаля «Политический элемент в развитии экономиче-
ской теории» (Myrdal, 1953), впервые изданная на шведском языке в
1929 г.5 Также значительным событием, хотя и представляющим
интерес в основном для специалистов по истории марксистской эконо-
4 Очерк 1914 г. впервые появился на английском языке в 1954 г.
(Schumpeter, 1954а).
0 Согласно Хиксу, который рецензировал английское издание в декабрь-
ском номере «Economic Journal» и поставил эту «важную книгу» в один ряд
с работой Роббинса «Природа и значение экономической науки» (Robbins,
1932), диссертация Мюрдаля в ее немецкой версии имела широкоохватное
влияние (см.: Hicks, 1983).
32
Филлис Дин
мической мысли, был перевод и опубликование в 1951 г.6 отрывков
из трехтомника Маркса «Теории прибавочной стоимости», впервые
изданного посмертно на немецком языке в 1905-1910 гг.
Оживление интереса, медленно набиравшее силу в 1950-е гг.,
отнюдь не было узко антикварной исследовательской программой.
Не являлось оно и возвратом к тому, что Коутс однажды описал
как «склонность к «культу предков», которая когда-то была профес-
сиональным заболеванием экономистов».7 Фактически имел место
нарастающий поток исследований, который к 1980-м гг. дал следу-
ющие результаты: большие списки основных работ для студентов,
изучающих продвинутую экономическую теорию; ценный массив
«диссертабельных» тем для талантливых претендентов на получение
докторской степени; удобные аналитические рамки для доктриналь-
ных дебатов, а также набор разнообразных интеллектуальных про-
блем, способных заинтересовать экономистов-теоретиков, методологов
или историков идей. Однако прежде, чем перейти к обсуждению не-
которых новых подходов к истории экономических идей, характери-
зующих период, начавшийся около 1950 г., стоит упомянуть об опре-
деленных изменениях в интеллектуальной атмосфере, которые по-
влияли на положение дел в данной области.
Помимо накапливающихся и далеко немаловажных последствий
устойчивого потока исследовательских статей и монографий высоко-
го качества существовало два других фактора — один внутренний, а
другой внешний для данной дисциплины, содействовавших пробуж-
дению и поддержанию более широкого интереса к истории экономи-
6 Полный и более авторитетный перевод в трех томах (опубликован-
ный также Лоуренсом и Уишартом) начал выходить в 1963 г., и в списке
литературы содержатся ссылки на сделанный в 1969-1972 гг. репринт этого
издания.
7 Приведенный в кавычках отрывок взят из статьи Коутса (Coats,
1969:11), в которой дан обзор исследовательских приоритетов в области
истории экономической мысли для первого выпуска «History of Political
Economy» — первого специализированного журнала по этой дисциплине.
Коутс придерживался довольно мрачного взгляда на прогресс, достигнутый
в опубликованных до сих пор исследованиях. Например:
...в прошлом слишком много усилий было посвящено истории догм
(Dogmengeschiehte), написанию книг по истории экономической теории для
экономистов и задаче установления источников и меняющихся интерпрета-
ций отдельных понятий или теорий. Более того, эта работа часто осуществ-
лялась либо магистрами, искавшими надежную тему для диссертации, либо
признанными экономистами, искавшими респектабельную родословную для
своих любимых идей, либо престарелыми представителями этой профессии,
надеявшимися найти какие-нибудь способы времяпрепровождения в часы
досуга или по выходе на пенсию.
(Coats, 1969 : 12)
Роль истории экономической мысли 33
ческой мысли. Первым фактором было появление значительного
потока новых авторитетных научных изданий всемирно известных
классиков экономической науки и компиляций прежде не опублико-
ванных трудов и переписки выдающихся экономистов прошлого.
Например, среди наиболее мощных стимуляторов новых исследова-
ний и оживленных дебатов было десятитомное издание «Трудов и
переписки» Рикардо, осуществленное Сраффой и Доббом (1951-1973).
После двух десятилетий подготовки первые два тома были опубли-
кованы в 1951 г. Том I содержал первое, дополненное примечаниями
различных комментаторов, издание «Начал» Рикардо, предваренное
новаторским введением редакторов; а в том II вошел текст «Прин-
ципов» Мальтуса с собственными пометками Рикардо. Эта богатая
сокровищница первичного и вторичного материалов стала общедо-
ступной для всех интересующихся после опубликования в 1966 г.
указателя ко всем десяти томам. 29-томное «Собрание сочинений»
Дж. М. Кейнса, которое начало выходить из печати в 1971 г. и было
полностью опубликовано к 1989 г., породило еще больше дискуссий,
представлявших непосредственный интерес для всех экономистов. Дру-
гими крупными предприятиями такого типа были издание Торонт-
ским университетом «Собрания сочинений» Дж. С. Милля, которое
начало выходить из печати в 1960-е гг., и публикация Университе-
том Глазго юбилейного Полного собрания сочинений трудов Адама
Смита, начатое в подходящий (1976) год прекрасными новыми изда-
ниями «Богатства народов» и «Теории нравственных чувств» (Smith,
1976а, Ь). Но это только выдающиеся примеры, впечатляющие по
масштабу, а также по качеству и широкому интересу, который они
породили. Имели место и новые переводы, аннотированные издания и
компиляции — слишком многочисленные, чтобы перечислить их
полностью, — трудов таких известных экономистов, как Мак-Куллох,
Вальрас, Джевонс и Маршалл, равно как и отдельных авторов, представ-
ляющих интерес для более узкого круга специалистов: в качестве
примера можно привести трехтомное издание писем Оверстона, опуб-
ликованное О’Брайеном (O’Brian, 1971).8
8 Некоторые из них уже упоминались (например; Marx, 1969-1972;
Myrdal, 1953). К другим изданиям, представляющим особый интерес, следу-
ет отнести семитомное собрание «Сочинений и писем» У. С. Джевонса, из-
данное Блэком и Конекампом (1971-1980), сделанный Жаффе перевод «Эле-
ментов» Вальраса (Walras, 1954) и его же «Работ и связанных с ними писем»
(Jaffe, 1965), а также издание Уайтейкером «Ранних сочинений Альфреда
Маршалла» (Whitaker, 1975). Сэмюел Джонс Лойд, лорд Оверстон, был важ-
ной фигурой в дебатах XIX в. по вопросам денежного обращения, и опубли-
кование О’Брайеном (O’Brien, 1971) его статей и писем явилось результа-
том случайного открытия, сделанного издателем при написании моногра-
фии о Мак-Куллохе (O’Brien, 1970).
4 Заказ № 356
34
Филлис Дин
Публикации такого типа сделали доступной для неспециалистов
массу первичного материала, часто подкрепленного введениями, снос-
ками и комментариями издателей, которые были результатом глубо-
кого оригинального исследования трудов ключевых авторов, их ин-
теллектуальных или исторических связей. Эти издания не могли не
вызвать интересных обзоров и откликов в научных журналах с ши-
рокой читательской аудиторией. Действительно, значительно умень-
шив исследовательские издержки участия в дебатах, они побудили
многих экономистов сделать полезный вклад в историю экономиче-
ской мысли.
Внешним фактором, оказавшим в послевоенные десятилетия
заметное воздействие как на вопросы, к которым обращались исто-
рики экономической мысли, так и на интерес неспециалистов к их
ответам, был подъем исследований и дискуссий в области истории,
социологии и философии науки в целом. Начало широкой осведом-
ленности экономистов в этих новых интеллектуальных течениях
можно датировать началом 1960-х гг., когда книга Куна «Структу-
ра научных революций» стала бестселлером.9 Эта книга подняла
множество вопросов, показавшихся важными представителям соци-
альных наук в целом и экономической в частности. В ней Кун —
уже хорошо известный как автор научной монографии о коперни-
канской революции — изложил свою общую теорию о пути, по
которому следуют развитие, прогресс и изменения научных дисцип-
лин. Аспектом, придавшим данной теории особую значимость, для
представителей как «точных», так и «неточных» наук было его
отрицание традиционного допущения, согласно которому прогресс
научного знания является результатом систематического кумуля-
тивного объективного процесса исследований. Центральным поня-
тием в теории Куна было понятие парадигмы, т. е. идеи четкой
структуры, состоящей из допущений, теорий, аналитических мето-
дов и проблем, требующих решения, которые вместе составляют
общий багаж людей, практикующих в сфере данной дисциплины.
Несмотря на то что возникло много семантических и философских
дебатов по поводу точного значения «парадигмы», данная идея сама
по себе не была новой.10 Новым и спорным оказался тезис Куна,
9 Книга Куна (Kuhn, 1970) была вторым, пересмотренным и исправлен-
ным, изданием оригинального очерка, а идеи, содержавшиеся в ней, были в
дальнейшем развиты в его книге (Kuhn, 1977), представлявшей собой сбор-
ник очерков, в которых автор отвечал своим критикам.
10 См., например: Popper, 1970 51: «Ученый, занимающийся исследо-
ваниями, скажем в области физики, может сразу же разрабатывать пробле-
му. Он может немедленно подойти к сердцевине вопроса, т. е. к сердцевине
организованной структуры. Ведь структура научных доктрин уже существу-
ет, а с ней существует и перечень общепринятых проблем».
Роль истории экономической мысли 35
согласно которому в рамках господствующей парадигмы науки или
дисциплины имеют место только незначительные достижения в
области научного знания, а крупные достижения всегда представля-
ют собой результат смен парадигм (например, переход от коперни-
канского к ньютонианскому и от ньютонианского к эйнштейниан-
скому взгляду на мир), смен, являющихся, по сути, иррациональны-
ми «прыжками в неизвестность».11
Теория Куна подняла методологические и историографические
проблемы, столь же интересные для представителей социальных
наук, как и для представителей естественных наук. Ученые, верив-
шие в рациональные, позитивные, свободные от ценностей каноны
научного прогресса, отвергали вывод, в соответствии с которым не
существует объективных критериев отдельно от меняющихся взгля-
дов на мир практикующих ученых, на основе которых оценивается
прогресс знания. Например, историки экономического анализа, шед-
шие по стопам Шумпетера, предпочли альтернативный подход, раз-
работанный Лакатошем несколько лет спустя.12 Лакатош и его
последователи рассматривали историю науки как историю конку-
рирующих или следующих друг за другом исследовательских про-
грамм, каждая из которых исходно вдохновлялась крупной общей
теорией, являвшейся достаточно новой и впечатляющей по своей
объяснительной способности, что стимулировало согласованный и
непрерывный поток исследований, предназначенных для проверки,
расширения и четкой формулировки ее следствий или для исклю-
чения ее аномалий. В принципе, описанный Лакатошем сценарий
оснастил историков правилами, которые позволяли различать про-
грессивные исследовательские программы (т. е. способные пред-
сказывать новые факты, не выводимые из соперничающих иссле-
довательских программ) и программы вырождающиеся (т. е. не
способные убедительно справиться с проблемами, трактуемыми со-
11 См.: Kuhn, 1970:150 / Кун Т. Структура научных революций. М.,
Прогресс, 1977. С. 197-198: «Защитники конкурирующих парадигм осу-
ществляют свои исследования в разных мирах. В одном мире содержатся
несвободные тела, которые падают с замедлением, в другом — маятники,
которые повторяют свои колебания снова и снова. В одном случае решение
проблем состоит в изучении смесей, в другом — соединений. Один мир
помещается в плоской, другой — в искривленной матрице пространства.
Работая в различных мирах, обе группы ученых видят вещи по-разному,
хотя и наблюдают за ними с одной и той же позиции и смотрят в одном и
том же направлении».
См.: Lakatos, Musgrave (1970), где содержится статья, в которой Ла-
катош излагает свои воззрения по поводу «фальсификации и методологии
научных исследовательских программ». Она перепечатана вместе с другими
статьями по данной теме в книге: Lakatos, 1978.
36
Филлис Дин
временным научным сообществом как важные). С другой стороны,
историки экономической мысли, которые стремились объяснить
эволюционирующие научные убеждения и идеи идентифицируемых
интеллектуальных сообществ, были менее возмущены тем, что Кун
привлек социологические или идеологические факторы к объясне-
нию изменения теории, хотя они считали его сценарий слишком
упрощенным применительно к их целям.
Конечно, всегда существует несколько потенциально плодотвор-
ных подходов к анализу эволюций экономических идей хотя бы
потому, что различные исследователи рассматривают разные вопро-
сы. В нашем контексте интересны не методологические выводы из
кунианского, лакатошианского или иных подходов, а тот факт, что
эти дебаты по истории и философии науки породили поток новых
исследовательских усилий, направленных на проверку гипотез, ка-
сающихся причин и природы изменений научной структуры эконо-
мической мысли в прошлые периоды и, в частности, характера и
идеологического или исторического контекста так называемых ре-
волюций или смен парадигм, которые, по общему мнению, имели
место.13 При этом дебаты по поводу философии науки не были
единственным внешним источником новых вопросов, поставлен-
ных перед историками экономической мысли. Например, Стиглер
был вдохновлен мертоновской «Социологией науки» (Merton, 1973)
на изучение случаев множественных открытий в экономической
науке с целью проверить интригующую гипотезу Мертона, согласно
которой «все научные открытия являются в принципе множествен-
ными, в том числе и те, что на поверхностный взгляд кажутся
единоличными ».14
13 Значительная часть новых исследований, стимулированная дебатами
по поводу истории и философии науки, фокусировалась на методологических
проблемах (рассматриваемых в некоторых других главах этой книги), но
новые интерпретации, порожденные в ходе этих изысканий, имели значение,
выходящее за рамки методологической сферы. Например, среди наиболее
интересных работ была та, что обсуждалась в 1974 г. на Нафплионском
коллоквиуме по исследовательским программам в физике и экономике, а
впоследствии была опубликована в книге, содержавшей доклады, представ-
ленные на экономической секции (Latsis, 1976). Другим примером работы,
имевшей широкую читательскую аудиторию, является работа Хатчисона:
Hutchison, 1978.
14 Статья Стиглера (впервые опубликованная в юбилейном сборнике
статей, посвященных Мертону (Merton Festschrift)) перепечатана в его работе
(Stigler, 1982) под названием «Множественные открытия Мертона отверга-
ются и подтверждаются». Патинкин (Patinkin, 1982) также обратился к мер-
тоновской теории множественных открытий в связи с «Общей теорией»
Кейнса.
Роль истории экономической мысли 3?
3.3. Новые подходы к истории экономической мысли,
возникшие с начала 1950-х гг.
Обзор новых подходов, открывшихся в послевоенную эпоху, удобно
начать со ссылки на шумпетеровскую «Историю экономического ана-
лиза» (Schumpeter, 1954b / Шумпетер Й.А. СПб., 2001), так как эта
книга более чем какая-либо другая отдельно взятая работа дала про-
фессиональным экономистам новое представление о роли истории
экономической мысли в современной экономической науке. Сам Шум-
петер представлял свой «magnum opus» как «историю интеллекту-
альных усилий, сделанных людьми для того, чтобы понять экономи-
ческие явления, или, что то же самое, как историю аналитического
или научного компонента экономической мысли» (Schumpeter, 1954b :
3 /Шумпетер. СПб., 2001. Т. 1. С. 3). Эта книга, написанная ориги-
нальным мыслителем с блестящей международной репутацией, широ-
кими интеллектуальными интересами и огромным разнообразным
научным и практическим опытом не могла не привлечь внимания
широких слоев профессиональных экономистов, несмотря на ее уст-
рашающий объем и энциклопедический охват материала.1 * 15 От всех
предыдущих трудов по истории экономической мысли ее отличало
(помимо обширнейшей эрудиции автора) следующее: во-первых, она
была сознательной попыткой трактовать историю экономической
теории по аналогии с историей любой точной науки, сосредоточив-
шись на экономическом анализе, а не на политической экономии
или экономической мысли,16 во-вторых, ее материал излагался в уни-
кальном шумпетеровском стиле, которому присущи богатое вооб-
ражение и непочтительные спорные оценки героев прошлого, их
теоретических достижений и ограничений.
В введении к своей книге Шумпетер обобщил свое личное виде-
ние роли истории науки (любой науки), идентифицировав четыре
направления, по которым современный ученый может извлечь пользу
из занятий историей своей науки.
1. Педагогические выгоды: например, «состояние любой науки
в данный момент в скрытом виде содержит ее историю и не может
1э Шумпетер изучал право и экономику в Вене под руководством лиде-
ров австрийской экономической школы, был полным профессором в Граце
и Бонне перед переходом на профессорскую должность в Гарварде, которую
он занимал с 1932 по 1950 г., являлся президентом одного из венских част-
ных банков с начала 1920-х гг. до его краха в 1926 г., а также министром
финансов Австрии в течение нескольких месяцев в 1919 г. Он был также в
числе^ передовых экономических теоретиков и экономических историков.
Шумпетер определял наиболее общую категорию — экономическую
мысль как «совокупность всех мнений и пожеланий по экономическим
вопросам, присутствующих в общественном сознании в данное время и в
Данном месте» (Schumpeter, 1954b : 52 / Шумпетер Й.А. СПб., 2001. Т. 1. С. 46).
38
Филлис Дин
быть удовлетворительно изложено, если это скрытое присутствие не
сделать открытым» (Schumpeter, 1954b : 4 / Й. А. Шумпетер. Исто-
рия экономического анализа. СПб., 2001. Т. 1. С. 5).
2. Новые идеи: например «Мы осознаем, в силу каких причин
мы находимся именно на нашей стадии развития и не продвинулись
дальше». И мы узнаем, какие идеи в науке пользуются успехом и
почему». (Schumpeter 1954b: 5, курсив в оригинале / Й. А. Шумпе-
тер. История экономического анализа. СПб., 2001. Т. 1. С. 6).
3. Идеи по поводу способов мышления: например, «даже самый
замкнутый из ученых обязательно раскрывает свой мыслительный
процесс — такова природа научной деятельности (в отличие от поли-
тической)» (Schumpeter 1954b : 5 / Шумпетер Й.А. История эконо-
мического анализа. СПб., 2001. Т. 1. С. 6).
4. Понимание эволюции научных идей.
Именно об этом четвертом «источнике пользы», т. е. о постиже-
нии «процесса, в ходе которого усилия людей понять экономические
явления в нескончаемой последовательности порождают, совершен-
ствуют и устраняют аналитические структуры» (Schumpeter, 1954b : 6 /
Шумпетер Й. А. СПб., 2001. Т. 1. С. 7), Шумпетер говорил как об
основной цели своего труда ввиду его особой важности для экономи-
ческой науки. Особым свойством экономической теории, которое он
подчеркивает в этом контексте, была не только историческая обуслов-
ленность ее предмета исследования, но также склонность экономистов
к зашоренности глубокими доктринальными различиями. Очевидным
«лекарством» от этого недуга является систематическое изучение ис-
тории доктрин, благодаря которому экономист, готовый воспринять
интересное «предположение или полезный, хотя и горький, урок»,
может извлечь пользу из трудов предшественников, работавших «по
другую сторону» доктринального барьера.
Для немногих специалистов по истории экономической мысли,
ставших преподавать и исследовать предмет, бывший тогда (в период
экономического бума 1950-х и 1960-х гг.) одной из наименее мод-
ных областей расширяющейся, становящейся все более техничной и
высокопрофессионализированной экономической науки, «История»
Шумпетера представляла своевременную рекламу, которая сулила за-
метное продвижение в сравнительно «заброшенной» области эконо-
мического знания.17 Это был не тот текст, который можно было бы
17 Ее своевременность была усилена тем фактом, что шумпетеровское
видение тогдашнего состояния экономической науки, с которым было тесно
связано его описание ее прошлого, полностью соответствовало видению нео-
классических теоретиков общего равновесия, которые начали доминировать
в ортодоксальных экономических исследованиях в 1950-х гг. См., например:
Schumpeter (1954b : 242), где Шумпетер приписывал Вальрасу открытие «фун-
Роль истории экономической мысли 39
порекомендовать рядовым студентам, но он вдохновлял (и вдохнов-
ляет до сих пор) множество талантливых и полных энтузиазма после-
дователей, разделявших веру Шумпетера в педагогическую и методо-
логическую важность преподавания истории экономического анализа
тем кто обучается современной экономической теории. Одним из
самых ранних учебников, написанных в традиции Шумпетера, кото-
рый был по заслугам оценен как наиболее удачный, была книга Блауга
«Экономическая мысль в ретроспективе», впервые опубликованная в
1962 г. и затем дважды переработанная (Blaug, 1978). Она представ-
ляет собой особенно интересный пример не только потому, что имела
широкую читательскую аудиторию, но также и по той причине, что
переработанные издания хорошо отражали последние разработки в
истории экономической мысли. Как пояснил Блауг в своем преди-
словии к первому изданию, цель его книги — послужить материалом
для преподавания современной экономической теории, о которой он
в самоуверенном духе 1960-х гг. писал, что «современная теория по-
крыта шрамами вчерашних проблем, ныне разрешенных, вчерашних
промахов, ныне выправленных, и не может быть полностью понята,
если не рассматривать ее как наследие прошлого» (Блауг, 1994.
С. XXIV).18 Однако к тому времени, когда он начал работать над вто-
рым переработанным изданием, несостоятельность экономической ор-
тодоксии 1950-х и 1960-х гг. при решении аналитических проблем
1970-х гг. оживила интерес даже экономистов основного течения к
альтернативным экономическим доктринам, а также, что было впол-
не предсказуемо, их интерес к истории экономической мысли. В пре-
дисловии к третьему изданию Блауг отметил, что «признаки такого
оживления появились и выражаются в половодье статей и книг по
истории экономической теории в последние несколько лет, не говоря
уже о возрождении курсов по истории мысли на экономических фа-
культетах всего мира» (Blaug, 1978 : xii / Блауг, 1994. С. XXVIII).19
даментальной проблемы» экономической наукц и «Великой хартии эконо-
мической теории». См. также работу Самуэльсона (Samuelson, 1962), кото-
рый следующим образом поддержал убежденность Шумпетера в том, что
Вальрас был величайшим из экономистов: «Сегодня может быть мало сомне-
нии в том, что подавляющая часть вербальной и математической экономи-
ческой теории, появляющейся в наших профессиональных журналах, обяза-
на своим возникновением Вальрасу в большей степени, чем кому-либо еще
(я подчеркиваю эпитет вербальная)».
Все три предисловия перепечатаны в работе Блауга (Blaug, 1978):
«Эта книга представляет собой исследование логической структуры и объяс-
нительной ценности так называемой ортодоксальной экономической тео-
рии» (Blaug, 1978 : vii / Блауг, 1994. С. XXVIII).
См. также: «То, что было восстановлено, однако не стало в полной
мере той милой нашему сердцу старой историей экономической мысли,
которую мы знали пятнадцать или двадцать лет назад» (Blaug, 1978 : xii /
Блауг, 1994. с. XXVIII).
40
Филлис Дин
Новые исследовательские программы, возникшие к 1970 г. в истории
экономического анализа и экономических доктрин, побудили его кар-
динально переписать в третьем издании те части его книги, которые
были посвящены рикардианской, кейнсианской, марксистской и ав-
стрийской экономическим школам.
Новые разработки в истории доктрин
Некоторым образом именно марксистская экономическая те-
ория внесла наиболее заметный вклад в послевоенное оживление
истории экономических доктрин; ведь в этой области наблюдалось
заметное увеличение числа научных (а не чисто полемических) ста-
тей и монографий. Предвоенные учебники по истории экономи-
ческой теории трактовали Маркса и его последователей как не
имеющих значения для телеологического описания прогресса эко-
номической науки. Мало кто из экономистов основного течения
достаточно долго изучал труды Маркса, чтобы написать формаль-
ную критику его экономического анализа.20 К началу 1950-х гг.
изменение в отношении к этому аспекту истории мысли стало оче-
видным. Например, симптоматично, что Ролл (впервые) включил
оценку экономической теории Маркса в издание 1953 г. своей кни-
ги по истории экономической мысли, имевшей широкую читатель-
скую аудиторию. В течение последующих двух десятилетий не одна,
а несколько исследовательских программ и дальнейшие дебаты
стимулировали тщательно взвешенную оценку марксистских мо-
делей и породили более широкое понимание их значимости для
современных экономистов.21 С тех пор произошел значительный
сдвиг в восприятии экономистами основного течения Маркса как
экономиста-теоретика, а также в их готовности прислушиваться
к исследовательским результатам историков идей с сильным марк-
систским телеологическим уклоном. Конечно, систематический об-
мен был значительно облегчен некоторыми недогматически настро-
енными марксистскими специалистами по истории экономической
мысли. Например, книга Мика «Исследования в области трудовой
теории ценности» (Meek, 1956) была предназначена для того, чтобы
навести мосты между марксистскими экономистами и их немарк-
систскими коллегами, объяснив смысл марксизма и показав его
20 Одной из самых ранних работ была книга Робинсон «Очерк марксист-
ской экономической теории» (Robinson, 1942).
21 Семь страниц «рекомендаций к дальнейшему чтению», которые были
приложены Блаугом к его новой главе об экономической теории марксизма,
содержат полезный обзор характера этой литературы и диапазона проблем,
охватываемых ею.
Роль истории экономической мысли
41
применимость к реальной социалистической или капиталистиче-
22
ской экономике.
К 1970-м гг. трактовка Маркса, которого президент Амери-
канской экономической ассоциации уничижительно охарактеризо-
вал в 1961 г. как «второстепенного пострикардианца», как великого
экономиста стала общим местом для неоклассических экономистов
основного течения. Это было значительным изменением, поскольку
оживление интереса к марксистской экономической теории было тесно
связано с возникшим в то же время оживлением интереса к рикар-
дианской теории. Начало последнего можно вести со времени опуб-
ликования «Трудов и переписки» Рикардо, изданных Сраффой и
Доббом (1951-1973), особенно благодаря поднятым там вопросам
относительно обоснованности общепринятых интерпретаций Рикар-
до, освященных такими авторитетами, как Найт и Шумпетер. Книга
Блауга «Рикардианская экономическая теория» (Blaug, 1958) была
одной из первых монографий, опубликованных в качестве «ответа»
на этот вызов. Однако связь между рикардианской и марксистской
доктринами была наиболее убедительно показана в более поздних
работах самими издателями собрания сочинений Рикардо. Книга
Сраффы «Производство товаров посредством товаров: вступление к
критике экономической теории» (Sraffa, 1960) была неожиданной
вспышкой, которая зажгла яркое пламя доктринальных дебатов, имев-
ших широкую читательскую аудиторию и охвативших научные жур-
налы по данной дисциплине, — неожиданной потому, что неболь-
шая монография была бескомпромиссно абстрактной аналитической
работой, фокусировавшейся на теоретической проблеме, «выпавшей»
из сферы текущих интересов экономистов более чем на столетие. Так
или иначе, предложенное Сраффой решение проблемы, поставившей
в тупик Рикардо, — проблемы меры ценности, инвариантной по от-
ношению к изменениям ставки заработной платы или нормы прибы-
ли, — обеспечило аналитические рамки, более совместимые с марк-
систским, а не с неоклассическим подходом к теории ценности и
распределения.
Что касается Добба, то он первым сделал выводы для истории
доктрин, вытекающие из написанного Сраффой «вступления к кри-
тике [неоклассической] политической экономии». Книга Добба «Тео-
рии ценности и распределения после Адама Смита» (Dobb, 1973) пред-
ложила новое направление телеологической эволюции экономической
науки. Аргументация основывалась на выделении «двух совершенно
различных и соперничающих в экономической мысли XIX в. тради-
ции, объясняющих порядок и способ детерминации феноменов обмена *
22 См. также книги Мика «Экономическая теория физиократии» (Meek,
1962) и «Экономическая теория и идеология» (Meek, 1967) — обе эти работы
также написаны с марксистских позиций.
42
Филлис Дин
и распределения»; причем обе эти традиции восходят к Адаму Смиту
(Dobb, 1973: 112). Первая традиция, берущая начало от Смитовой
теории естественных цен на основе издержек производства (теории
ценности, основанной на суммировании издержек), разрабатывалась
Сениором, Миллем, Джевонсом, Маршаллом и Вальрасом и далее
современными неоклассическими теоретиками общего равновесия,
такими как Самуэльсон, Эрроу и Дебре; другая, берущая начало от
Смитова видения взаимозависимости цен конечных благ, с одной сто-
роны, и доходов общественных классов, формирующих издержки про-
изводства этих благ, с другой стороны, разрабатывалась Рикардо,
Марксом и Сраффой и далее неомарксистами и неорикардианцами
середины XX в. Идея двух традиций в экономической мысли была
достаточно известна в книгах по истории экономической теории нео-
классической ориентации, которые, разумеется, выделяли «правиль-
ное» видение, где теория распределения оказывалась дополнением к
теории цен (всех благ и услуг) в долгосрочном конкурентном равно-
весии.23 Монография Добба впервые сделала отчетливый акцент на
альтернативном видении экономической системы, воплощенном в
теории ценности Рикардо—Маркса, в которой распределение опреде-
лялось классовым конфликтом и логически предшествовало ценооб-
разованию, а ценность зависела от количества труда, воплощенного в
продукте, и роста реальной зарплаты, связанного с падением реаль-
ной прибыли. Согласно Доббу, решающим фактором, определявшим
выбор экономистами одного из этих двух классических подходов,
характеризовавшихся своими особыми предпосылками, понятиями и
теориями, была идеология.24
Доктринальные дебаты, вызванные тем, что иногда называют
«сраффианской революцией», затронули широкий спектр проблем,
касавшихся как деталей, так и общих принципов. Несмотря на идео-
логическую близорукость, проявленную многими из тех, кто внес на-
учный вклад во все еще продолжающуюся дискуссию, разнообразные
23 См., например: Knight (1956 : 42): «То, что называется «теорией рас-
пределения», есть по существу теория ценообразования на производствен-
ные услуги. Их цены имеют значение в связи с разделением этого продукта,
но их предшествующая и даже более фундаментальная функция имеет двой-
ственный характер распределения производственных мощностей в разнооб-
разных формах среди отраслей, с одной стороны, и их распределения среди
финансовых и производственных единиц внутри отрасли — с другой».
24 Обратите внимание на подзаголовок работы Добба (Dobb, 1973) «Иде-
ология и экономическая теория». См. также: Bronfenbrenner (1974 482):
«В отличие от Карла Маркса Добб включает в „идеологию" те позиции, ко-
торые ему нравятся, равно как и те, которые ему не нравятся, так что этот
термин имеет приблизительно такое же значение, что и „политическая эко-
номия" у профессора Мюрдаля».
Роль истории экономической мысли
43
интерпретации того, что Рикардо в действительности имел в виду, в
какой степени он продолжал смитианскую традицию и в чем заклю-
чалось наследие, оставленное им современной экономической тео-
рии, заметно расширили возможности критического понимания эко-
номистами альтернативных систем политической экономии, равно
как и самой системы идей Рикардо. Отнюдь не очевидно, что истори-
ки экономической мысли пришли к большему единству мнений по
этим вопросам, поскольку в то время, как дискуссия давала ответы
на некоторые из старых вопросов, она порождала большое количество
новых фундаментальных вопросов. Например, в начале 1950-х гг.
широко преобладала точка зрения, согласно которой рикардианская
экономическая теория представляла «боковое ответвление» от орто-
доксальной традиции экономического теоретизирования. Шумпетер
настойчиво и постоянно писал об этом не только в отношении теории
распределения Рикардо, но и в отношении его денежной теории.25
Неомарксистские и неорикардианские последователи Сраффы придер-
живались в целом единого мнения, что Рикардо работал в традиции,
идущей от Смита к классической ортодоксии XX в., но они, конечно,
считали, что маржиналистская революция пошла по ложному пути.26
Однако наряду с этими диаметрально противоположными точками
зрения на место Рикардо в родословной основного течения современ-
ного экономического анализа всегда существовал третий подход, де-
лавший акцент на фундаментальной непрерывности эволюции эко-
номических идей и отвергавший идею как «рикардианского», так и
«маржиналистского» уклона.
Серия монографий Холландера об экономических теориях трех
ведущих английских классических экономистов — Смита, Рикардо и
Милля — представила эту третью точку зрения на основе обширного
детального толкования их трудов (Hollander, 1973, 1979, 1986). Хол-
ландер систематически оспаривал общепринятое мнение по поводу
того, в чем состояла сущность системы экономических идей, предло-
женных каждым из его «подопечных». Во всех трех монографиях, а
затем и в обобщающй книге о классической экономической теории
(Hollander, 1987) отстаивался тезис о том, что каждый из данных
трех авторов в значительной мере занимался вопросом аллокации
25 См., например: Schumpeter (1954b 704, сноска), где он декларирует
как факт «то, что в вопросах денежной, как и общей, теории, рикардианское
учение является „боковым ответвлением", которое замедлило развитие ана-
лиза». Сравните с фразой Джевонса (Jevons, 1879) в предисловии ко второму
изданию его «Теории политической экономии» о «компетентном, но ошибоч-
но мыслящем человеке — Давиде Рикардо, [который] перевел локомотив
экономической науки на ложный путь».
В этом они следовали Марксу, который рассматривал Рикардо как
«последнего из подлинно научных экономистов».
44
Филлис Дин
ресурсов, являющимся центральным для неоклассической экономи-
ческой теории. Холландер настаивал, что историки экономической
мысли часто упускали из виду фундаментальную непрерывность клас-
сических и неоклассических идей, близоруко фокусируя внимание на
относительно второстепенных различиях между системами идей Смита
и Рикардо, с одной стороны, и Рикардо и Милля — с другой.27 «Ре-
абилитируя» таким образом Рикардо, Холландер явно разделял «по-
зицию, занятую Альфредом Маршаллом, который настаивал на том,
что он сам писал в рикардианской традиции, и не одобрял критику
в адрес Рикардо (и Дж. С. Милля) со стороны Джевонса и других»
(Hollander, 1986 245). Значительная часть дебатов по этим вопросам
вращалась вокруг идеологически инспирированных различий в ак-
центах, и мы можем сказать, что ни детальные комментарии класси-
ков, используемые Холландером для подкрепления своих аргументов,
ни его реабилитация теории Рикардо как части единой классическо-
неоклассической линии не являются главными достоинствами его
объемистой книги. Избранные цитаты из классиков не могут подкре-
пить точки зрения, являющиеся, по сути, идеологическими, а попу-
лярное увлечение выведением родословных сегодняшних сопернича-
ющих школ экономической мысли не является самым эффективным
способом научного постижения «процесса, в ходе которого усилия
людей понять экономические явления в нескончаемой последователь-
ности порождают, совершенствуют и устраняют аналитические струк-
туры» (Schumpeter, 1954b / Шумпетер Й.А. СПб., 2001. Т. 1. С. 7).
Обширная эрудиция, привнесенная Холландером в свой анализ, и
сложные проблемы, поставленные им перед сегодняшними исследо-
вателями истории экономической теории, заставляющие их система-
тически и детально проверять свои заключения (ответ на этот вызов
см., например, в работе: Peach, 1984), — вот что очень важно в атаке,
предпринятой Холландером по широкому фронту на общепринятую
точку зрения учебников относительно сущности классической эко-
номической теории XIX в.
Тем не менее во многих научных трудах, написанных в рамках
доктринальных споров, — трудах, несомненно стимулировавших си-
27 См., например: Hollander (1986: 167): «Общепринятое мнение, что
смитианская форма „Основ" Милля сама по себе означает отход от рикарди-
анской теории, представляет собой ошибку, аналогичную убеждению, что
Смит, в силу самой своей заинтересованности в прикладном применении
теории и ее социальных аспектов, оказывается предстааителем аналитиче-
ской „школы", отличной от аналитической „школы" Рикардо. В обоих при-
мерах неправильное понимание является следствием того, что игнорируется
аудитория, для которой предназначались работы названных экономистов,
т. е. тот факт, что в отличие от Смита и Милля Рикардо адресовал свои
труды профессионалам».
Роль истории экономической мысли
45
стематические исследования по истории экономической мысли в
течение послевоенных десятилетий, — стало наблюдаться заметное
беспокойство относительно обоснованности новых интерпретаций
классиков на основе современных целевых установок. Например,
это обнаружилось, когда Коллард (Collard, 1973) выразил недоволь-
ство «искусственной историей доктрин», которая пронизывала зна-
чительную часть так называемого «спора двух Кембриджей» по
поводу теории капитала. Или когда Пич (Peach, 1986) пожалел о
чрезмерной озабоченности современных историков экономической
мысли поиском строгих непротиворечивых моделей в трудах тео-
ретиков прошлого. В частности, он критиковал «новый взгляд» на
Рикардо, предложенный в известной статье Хикса и Холландера
(Hicks, Hollander, 1977), за «конструктивистскую реинтерпретацию»
их «подопечного» посредством выдвижения рикардианской моде-
ли, «которая „превзошла" раннюю модель в двух направлениях —
формальной обобщенности и неправильности интерпретации».28 Схо-
жую озабоченность позднее выразил Блауг (Blaug, 1985) в статье,
написанной для конференции, посвященной наследию Рикардо:
«Я полагаю, что существует реальное различие между постижени-
ем того, что Рикардо имел в виду или мог иметь в виду, и пости-
жением того, что он должен был иметь в виду, если бы он был
подлинно строгим теоретиком в соответствии со стандартами со-
временной экономической науки».
Исторические подходы
к истории экономической теории
Видимо, не стоит удивляться тому, что специалисты по истории
экономической мысли стали все сильнее выступать против интерпре-
тации экономического анализа прошлого в современных аналитиче-
ских категориях (с идеологическим подтекстом или без него), по-
скольку это отрывало труды экономистов прошлого от их собственно-
го контекста и искажало идеи, которые те стремились передать своим
современникам, — все это создает плодотворную почву для мифов.
Правда, экономисты середины XX в. обычно утверждают, что они
пытаются полностью учитывать исторический и интеллектуальный
контекст, в котором формировались теории прошлого, прежде чем
оценить их значение для долгосрочной эволюции экономических
28 См. статью Пича о трактовке Рикардо заработной платы (Peach,
1986 124-125), первоначально прочитанную в 1985 г. в виде доклада на
сессии Британской ассоциации развития науки. В этой же статье Пич ука-
зывает на «опасность телеологического „избирательного чтения" (grid-reading),
с помощью которого всегда можно „доказать" нужный тезис, выделить тот
или иной аспект».
46
Филлис Дин
идей.29 Однако существует много способов нарисовать фон согласно
сценарию, который уже сложился в голове автора. Кроме того, в ис-
тории экономической теории существуют ощутимые различия в под-
ходах к конкретной исследовательской проблеме, — они связаны
как с точкой зрения, от которой отталкивается исследователь, так и
с выводом, к которому он собирается прийти. Например, уважение к
историографическим критериям и стремление реалистично изложить
цели и смысл прошлого экономического анализа и его связи с внеш-
ними событиями или социополитической обстановкой, которые вли-
яли на него или подвергались влиянию с его стороны, не гарантируют
того, что полученные результаты окажутся эмпирически недвусмыс-
ленными.
Новые горизонты, недавно открытые исследователями, чья мето-
дология ориентировалась на историографические (а не телеологиче-
ские, доктринальные или идеологические) критерии, весьма разнооб-
разны, поскольку не все из этих исследователей сами являются про-
фессиональными экономистами. И действительно, некоторые из них
стали продвигаться в направлениях, которые могут показаться эконо-
мистам нелепыми. Например, Трайб (Tribe, 1977), который попытал-
ся идентифицировать и проанализировать экономические дискуссии
XVII и XVIII вв. в их реальном историческом единстве, указывает на
то, что «глубокие знания современной экономической теории пред-
ставляют собой огромное препятствие для любого потенциального ис-
торика» экономических идей. Выступая против традиции, в соответ-
ствии с которой история экономического анализа должна переписы-
ваться каждым поколением экономистов,30 он настаивает на том, что
принцип оценивания экономических текстов прошлого на основе кри-
29 См., например: Hollander (1973 : 17): «Наша точка зрения состоит в
том, что невозможно понять замысел „Богатства народов", не выяснив не
только природу британской экономики во времена Смита, но и, что еще
важнее, его видение этой экономики». См. также предисловие к книге Боули
«Исследования истории экономической теории до 1870 года» (Bowley, 1973
viii), в которой после констатации того, что она пыталась «рассмотреть трак-
товку разнообразных проблем в различных трудах исходя из аналитических
рамок их авторов, а не из точки зрения современной экономической тео-
рии», она откровенно признается: «Приняв этот подход, я убедилась, что его
игнорирование привело меня к неправильной интерпретации определенных
аспектов теории ценности и заработной платы в моей работе „Нассау Сениор
и классическая экономическая теория"».
30 Сравните с тезисом Блауга (Blaug, 1978 : vii): «Между прошлым и
настоящим экономическим мышлением существует взаимодействие, пото-
му что независимо от того, излагаем ли мы мысли кратко или многословно,
каждым поколением история экономической мысли будет переписываться
заново» (Блауг, 1994. С. XXIV).
Роль истории экономической мысли
47
териев, сформированных более поздними диспутами, является ана-
хронизмом. Его собственная книга «Земля, труд и экономический
дискурс» (Tribe, 1978) представляет собой как методологическую кри-
тику существующих подходов к истории экономической мысли, так
и исследование интеллектуальных условий, при которых возникла
политическая экономия XIX в. Он использует тексты XVII, XVIII и
начала XIX в. для подтверждения своего тезиса о том, что основные
экономические категории, такие как земля и труд, имели разный
смысл и выполняли разные аналитические функции в работах, напи-
санных до начала XIX в., и что «политическая ойкономия» («political
oeconomy») XVIII в. (названная так для того, чтобы отличить ее от
политической экономии XIX в.) была сфокусирована на управлении
государственным хозяйством, а не на экономике в современном апо-
литичном смысле. Наиболее еретический вывод из этого тезиса со-
стоит в том, что общепринятая «канонизация» Адама Смита как ос-
нователя современной экономической науки является неправильной
и классическая политическая экономия (первый экономический дис-
курс, четко сфокусировавшийся на капиталистической экономиче-
ской системе) не появилась на свет до начала второго десятилетия
XIX в. По сути, археологический (а не исторический) подход31 Трай-
ба, основанный на свидетельствах «экономических архивов», а не на
идеях отдельных экономических классиков и прочих теоретиков,
коренным образом ставит под сомнение эволюционный характер, тра-
диционно приписываемый экономистами истории их дисциплины, и
героические штампы, при помощи которых они характеризуют своих
старых мастеров.
Однако такую тотальную критику всех существующих историй
экономической мысли весьма трудно принять профессиональным
экономистам. Существуют и другие, более известные, а поэтому и более
влиятельные, попытки восстановить уважительное отношение к ори-
гинальным текстам и приостановить дрейф в сторону мифотворче-
ства, так часто ассоциирующегося с ретроспективным подходом к
экономическим идеям прошлого. Противоположной крайностью
по отношению к аскетическому, сознательно обезличенному подходу
Трайба к оригинальным текстам оказался бестселлер Лейонхуфвуда
«Кейнсианская экономическая теория и экономическая теория Кейн-
са» (Leijonhufvud, 1968). Он был посвящен настолько недавней ис-
тории, что его можно было легко отнести не к прошлому, а к насто-
ящему — ведь речь шла о новой интерпретации идей классика эко-
номической науки, которому единодушно (как профессиональными
31 См., например: Tribe (1978 : 159): «Хотя предметом этой книги яв-
ляются архаические дискурсы, нельзя сказать, что она является историче-
ской, поскольку хронология и телеологическая конструкция, типичные для
истории экономической теории, не лежат в основе организации текста».
48
Филлис Дин
экономистами, так и всеми остальными) приписывалось осуществле-
ние самой последней и самой радикальной революции в экономи-
ческой теории. Более того, эта книга была опубликована в то время,
когда новая ортодоксия, порожденная кейнсианской революцией, ока-
залась поставленной под сомнение как прикладными экономистами,
так и ведущими теоретиками и потеряла свое очарование для полити-
ков. Короче говоря, критика Лейонхуфвудом современной общепри-
нятой точки зрения по поводу того, что Кейнс хотел сказать в «Об-
щей теории» (и что его последователи затем сделали из этого), прямо
«поставила» историю мысли на службу современным теоретическим
дебатам.
Заявленная главная цель исследования Лейонхуфвуда состояла в
«переоценке концептуальных рамок, в которых сформировалась „Об-
щая теория'*» (Leijonhufvud, 1968 : 6), а его основной тезис заключал-
ся в том, «что теория Кейнса совершенно отлична от „кейнсианской**
теории доходов—расходов» (Leijonhufvud, 1968 : 8). Из высказываний
Лейонхуфвуда очевидно, что его забота о толковании того, «что Кейнс
в действительности говорил», была вторичной по отношению к его
главной цели. Однако два десятилетия спустя мы имеем право утверж-
дать, что именно ниспровержение Лейонхуфвудом некоторых обще-
принятых мифов, касающихся того, что в действительности было на-
писано в «Общей теории», и его тщательно аргументированная новая
интерпретация того, что Кейнс намеревался сказать, представляют
собой главное непреходящее наследие его исследования и главный
результат его непосредственного воздействия на профессиональных
экономистов в целом. Исследование Лейонхуфвуда замечательно про-
иллюстрировало то, насколько идеи выдающегося мыслителя могут
быть не только выхолощены, но и фальсифицированы убежденными
последователями. Для историков экономической мысли, которые все
время говорили о том, что рикардианскую, марксистскую или мар-
шаллианскую экономическую теорию не следует путать с экономиче-
ской теорией Рикардо, Маркса или Маршалла, это искажение не ока-
залось неожиданным. Удивительной была быстрота, с которой леген-
ды относительно содержания «Общей теории» были приняты (или
неявно признаны) не только авторами учебников, но и некоторыми из
тех, кто жил во время кейнсианской революции и имел веские осно-
вания ощущать себя ее частью.
Сейчас эти мифы32 опровергнуты (или перефразированы), а учеб-
ники переработаны.Однако предложенная Лейонхуфвудом интерпре-
тация того, что Кейнс имел в виду, не была легко усвоена ни продол-
32 Например, миф о том, что Кейнс основывал свою аргументацию на
«ликвидной ловушке» или на предпосылке, согласно которой заработная
плата является негибкой в сторону понижения, или на допущении, согласно
которому как сбережения, так и инвестиции эластичны по проценту.
Роль истории экономической мысли
49
жателями «кейнсианской революции», ни ревизионистами. В ходе
последующих дебатов скоро стало очевидно, что существуют разнооб-
разные альтернативные интерпретации центральной идеи Кейнса и
того, в каком смысле она представляла собой революцию в экономи-
ческой теории. Количество новых интерпретаций продолжало расти
в течение последних двух десятилетий — отчасти в ответ на вызов,
брошенный Лейонхуфвудом, но в значительно большей степени вви-
ду безмерного увеличения объема оригинальных текстов, ставших до-
ступными в 29-томном «Собрании сочинений» Кейнса (1971-1989).33
Трудно кратко обобщить явившееся следствием этого изобилие книг,
статей, конференций, семинаров и магистерских курсов, посвящен-
ных переоценке экономической теории Кейнса (и ее соотношения с
одной или несколькими версиями кейнсианства, меняющимися с ка-
лейдоскопической быстротой). Однако поскольку большая часть все-
го этого связана с продолжающимися теоретическими дебатами по
поводу современной макроэкономической или денежной теории (а не
исследовательской программы в истории экономической мысли), то
такое обобщение и не нужно в этой главе. Урок, который, по-видимо-
му, полезно отсюда извлечь, состоит в том, что неизбежно существует
субъективный или неисторический элемент, который искажает ин-
терпретации экономического анализа прошлого, осуществляемые с
целью внести вклад в понимание или решение сегодняшних теорети-
ческих проблем.
Однако существует расширяющаяся область исследований в рам-
ках истории экономической мысли, в которой историографические
критерии превалируют над доктринальными или идеологическими
соображениями, а конечные цели исследования являются эмпириче-
скими, а не теоретическими или педагогическими. Результаты таких
изысканий вызывают меньше разногласий, чем большая часть иссле-
дований, рассмотренных выше; однако эти результаты не менее важ-
ны. Например, среди новых тенденций в истории экономической
мысли во второй половине XX в. наблюдался все более значитель-
ный поток проектов, направленных на то, чтобы рассмотреть дей-
ствительный контекст, в рамках которого были разработаны кон-
кретные экономические теории, модели и предписания относительно
экономической политики и с которым все они взаимодействовали.
Значительная часть этих трудов была побочным продуктом более
широких исследований, осуществленных специалистами по истории
экономической мысли или экономическими историками — обе эти
группы ученых традиционно занимались процессами диффузии, а также
формализации или происхождения экономических идей. Например,
очерки, собранные в книге Игли «Идеология событий и экономиче-
33 Том XXX, вышедший из печати в 1989 г., содержит библиографию
и предметный указатель.
5 Заказ № 356
50
Филлис Дин
ская теория» (Eagly, 1968), или статьи и фрагменты, перепечатанные
в книге Коутса «Классические экономисты и экономическая полити-
ка» (Coats, 1971), иллюстрируют характер и размах некоторых про-
блем, рассмотренных в рамках такого подхода. Однако фактором,
давшим общий импульс таким изысканиям и вызвавшим интерес к
ним, оказалась профессионализация дисциплины и беспрецедентное
развитие — особенно после Второй мировой войны — роли ученого-
экономиста как консультанта в сфере экономической политики.34
Сейчас уже опубликовано очень большое число статей и значи-
тельное количество монографий, в которых изучаются — с различной
степенью всеобщности и детальности — деятельность ведущих эко-
номистов прошлого в качестве консультантов правительств, термины,
с помощью которых они обосновывали свои предписания, и степень,
в какой им удавалось повлиять на субъектов политики. Среди проче-
го в этих работах обсуждаются адекватность профессиональных анали-
тических инструментов экономистов, направленных на решение про-
блем, с которыми они сталкиваются как экономические консультанты;
восприимчивость правительств, социальных или политических групп
к их доводам; природа и степень консенсуса мнений среди представи-
телей данной дисциплины по поводу различных вопросов и в различ-
ные моменты времени; способы, с помощью которых на теории и пред-
писания экономистов влияют (или подвергаются влиянию с их сторо-
ны) внешние по отношению к их профессиональной области идеи и
факты. Например, в 1964 г. Стиглер посвятил свое президентское обра-
щение на годовом собрании Американской экономической ассоциа-
ции обсуждению роли некоторых ведущих экономистов прошлого, ко-
торые давали консультации по поводу правительственной политики,
и предупредил свою аудиторию, что влияние экономистов «обычно бы-
ло незначительным, поскольку им недоставало специального профес-
сионального знания сравнительной компетенции государства и част-
ного предприятия» (Stigler, 1983 : 30). Вернувшись к этой теме в
1970-е гг. — в то время, когда профессиональные экономисты имели
не такую хорошую репутацию, — он настаивал на том, что «экономист
играет поистине фундаментально важную роль, когда увеличивает
объем знаний о функционировании экономических систем», но, по-
скольку его открытия в этой области слишком специализированны и
34 Специальный выпуск «History of Political Economy» (Coats, 1981)
был посвящен статьям, в которых на основе данных по некоторым разви-
тым и развивающимся странам описывается возрастание роли экономистов
в правительстве после Второй мировой войны, событие, которое было оха-
рактеризовано Коутсом (Coats, 1981 : 342) как «водораздел как в сфере госу-
дарственной экономической и социальной политики, так и в области разви-
тия экономической теории как научной дисциплины и науки, обосновыва-
ющей политические меры».
Роль истории экономической мысли
51
формализовании, чтобы их легко могли понять те, кто не принадле-
жит к узкому кругу его собратьев по научной работе, «влияние трудов
экономиста и уважение, которым он пользуется среди обычных лю-
дей (непрофессиональных экономистов), по всей вероятности, будут
отрицательно коррелировать друг с другом» (Stigler, 1983 : 67).35
Одной из самых ранних и наиболее широко читаемых научных
монографий, посвященных общей теме «Взаимосвязь изменений в
мышлении и интересах экономистов с методами и целями лиц, ответ-
ственных за проведение экономической политики», была книга Уин-
ча «Экономическая теория и политика» (Winch, 1969). Касаясь пер-
вой половины XX в. (и особенно периода после 1920 г.), она заполня-
ла разрыв в истории экономической теории, экономической политики
и событий недавнего прошлого и представляла, таким образом, осо-
бый интерес для студентов и неспециалистов. За ней последовало
множество более специализированных и обстоятельных исследователь-
ских монографий, таких как близкий по духу анализ Хоусона и Уинча
(Howson, Winch, 1977) практической деятельности Совета экономи-
ческих консультантов в 1930-е гг., а также исследования, затраги-
вавшие более давнее прошлое. Например, в работе «Британская эко-
номическая мысль и Индия» Барбер (Barber, 1975) проанализировал
действенность экономической теории для решения экономических
проблем, с которыми сталкивалась Индия за весь период существова-
ния Ост-Индской компании. Другие историки экономической мысли
рассмотрели сложные взаимодействия между экономическими собы-
тиями, теориями и политическими мерами применительно к более
коротким промежуткам времени и более узко определенным темам.
Например, Берг (Berg, 1980) сфокусировала внимание на приблизи-
тельно трех десятилетиях, последовавших за наполеоновскими война-
ми, в своем детальном исследовании теоретических и идеологиче-
ских выводов из «вопроса о машинах» («machinery question»). Она
утверждала, что это был критический период, когда современники
впервые полностью осознали технологические изменения, присущие
первой промышленной революции, и когда появилась классическая
политическая экономия. Однако несмотря на очевидно узкую пробле-
му, выбранную для исследования, ее видение предмета значительной
части дебатов в XIX в., и ее «анализ многих различных уровней —
политического, социального и интеллектуального, на которых была
создана и четко сформулирована политическая экономия» (Berg,
1980 : 8), значительно расширили перспективы перед дальнейшими
исследователями.
3j См. также работу Жаффе (Jaffe, 1975), в которой обсуждается неуда-
ча Леона Вальраса как экономического консультанта.
52
Филлис Дин
Расширение горизонтов исследований для ученых, привержен-
ных историографическому подходу к истории идей, оказалось от-
личительной характеристикой значительной части работ по истории
экономической мысли, опубликованных за последнюю четверть века.
В некоторой степени это отражает «сдвиг» в роли многих профессио-
нальных экономистов в сторону более непосредственного участия в
процессе осуществления экономической политики, «сдвиг», имевший
место в течение и по окончании Второй мировой войны. Возможно,
более важным событием, чем увеличение во всем мире количества
экономистов, занятых полный рабочий день в качестве специалистов
на государственных должностях, оказалось увеличение пропорции ве-
дущих ученых-экономистов, исполнявших в некоторые периоды сво-
ей карьеры — по совместительству или в течение ограниченного
временного интервала — роль экономических консультантов ведущих
политиков (находившихся у власти или в оппозиции), а также увели-
чение численности лиц, получивших экономическое образование, ко-
торые сейчас занимают политические или административные посты.
Многозначителен тот факт, что термин «политическая экономия», зна-
чение которого к середине XX в. стало антикварным (фактически его
место в ортодоксальных учебниках заняли очевидно аполитичные
термины, такие как «экономический анализ», «экономическая нау-
ка» или «позитивная экономическая теория»), стал снова «входить в
моду» в 1970-е гг. — и не только среди авторов, пытающихся отде-
лить свой дискурс от ортодоксальной традиции. По сути, произошли
всеобъемлющие изменения в восприятии экономистами своей профес-
сиональной роли, а также масштаба и природы своей дисциплины.
В этих обстоятельствах вопросы наподобие тех, что были подня-
ты Уинчем (Winch, 1969), например те, что касались отношений между
экономической мыслью и мероприятиями экономической политики,
привлекали интерес экономистов-профессионалов, которые прежде не
уделяли внимания истории своей дисциплины. Когда дебаты, связан-
ные с работой Лейонхуфвуда (Leijonhufvud, 1968), побудили боль-
шинство экономистов (и даже непрофессионалов) прочесть «Общую
теорию», каждый получил возможность (и многие ее использовали)
процитировать известную фразу Кейнса о могуществе экономической
мысли прошлого:
...идеи экономистов и политических мыслителей — и когда они правы,
и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято думать.
В действительности только они и правят миром. Люди практики, которые
считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям,
обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, сто-
ящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные
идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего не-
сколько лет назад.
(Keynes, 1936 : 383 / Дж. М.Кейнс. Общая теория занятости, процента
и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 458)
Роль истории экономической мысли
Когда дебаты между монетаристами и кейнсианцами начали п
реходить со страниц научных журналов на страницы финансовь
разделов ежедневных газет, всем захотелось узнать, что случилось
так называемой «кейнсианской революцией».
Тем временем в течение примерно последних двух десятил
тий произошло огромное увеличение объема первичных матери
лов, а также усиление стимулов к плодотворным исследования
имевших место в XX в. связей между изменениями социальн
экономической обстановки и системы, а также изменениями цел«
и восприятий лиц, ответственных за проведение экономическ!
политики, с одной стороны, и достижениями в области экономия
ского знания (теоретического или эмпирического) — с другой. I
считая материала, содержавшегося в «Собрании сочинений» Кейн
(Keynes, 1971-1989) и в бесчисленных биографиях, дневниках
воспоминаниях, относящихся к тому, что можно называть «кейнс
анской эпохой», с середины 1960-х гг. серьезным исследователя
стали доступны правительственные архивы, способные пролить я
кий свет на взаимообмен идеями между экономистами и лицам
ответственными за проведение политики.36 Значительная часть н
давних исторических исследований, стимулированная и облегченнг
этими тенденциями, сосредоточилась на вопросах: был ли Кей]
подлинным революционером в своей экономической теории, или
какой степени его экономические предписания были правильны
ответом на тогдашние события, или каким образом и когда те, к'
осуществлял экономическую политику, реагировали на его теории
аргументы? Результаты этих исследований все более впечатляю
часто являются спорными и очень поучительными не только д;
историков, но и для современных экономистов, интересующих!
способами, посредством которых «практики», находящиеся у вла
ти или за ее пределами, употребляют экономические понятия, теор!
и модели или злоупотребляют ими. Эти исследования варьирую
например, от монографии Могриджа (Moggridge, 1972) «Британскг
денежная политика в 1924-1931 годы», в которой он рассматрива,
причины и последствия возврата к золотому стандарту в 1925 г., )
широкого спектра статей и монографий, в которых обсуждают!
30 Например, в Великобритании до 1966 г. существовало правило, с
гласно которому для исследователей был закрыт доступ к государственны
архивам до тех пор, пока не истечет пятьдесят лет с момента помещен!
в соответствующую папку на хранение последнего документа из этого а
Хива. Правило пятидесяти лет, впервые нарушенное в 1966 г., когда
ученых открыли официальные архивы, охватывающие период Первой м
ровой войны и ее последствий, было заменено в 1967 г. правилом тридц
ти лет.
54
Филлис Дин
масштабы и временные рамки революции в британской экономи-
ческой политике (Whitehall revolution), которую можно назвать
(но можно и не называть) кейнсианской.37 Конечно, ни одна из
исторических исследовательских программ не была ограничена
опытом Великобритании. Например, книга Барбера (Barber, 1985)
«От „Новой эры“ к „Новому курсу**» касается эпизода из экономи-
ческой истории США, обсуждая взгляды Герберта Гувера на теорию
экономической политики и взгляды современных экономистов на
события 1921-1933 гг.
3.4. Заключение
Возрождение исследований по истории экономической мысли,
характеризовавшее четыре десятилетия, прошедшие после 1950 г.,
породило широкий поток научных публикаций в этой области,
причем значительная часть из них была впечатляюще высокого
качества. Ограниченность размера статьи не позволяет даже в са-
мых общих чертах сделать обзор масштабов и качества результатов,
которые стали доступными только на английском языке, а это,
несомненно, в основном не английский феномен. Поэтому я огра-
ничила себя рассмотрением тех разделов этого очень широкого
спектра исследований, где, как мне кажется, контрастные подходы
открыли новые перспективы, которые особенно интересны не толь-
ко для академических специалистов в некоторых передовых об-
ластях истории или теории, но также в целом для экономистов или
историков. Я стремилась сделать это описание иллюстративным,
а не объяснительным и не пыталась систематизировать результаты
самых выдающихся или самых прогрессивных исследований на
сегодняшний день или определить тенденции и перспективы буду-
щих исследований по истории экономической мысли.38 Данная
глава отражает субъективную точку зрения наблюдателя, путеше-
ствующего на поезде, идущем с большой скоростью по местности с
разнообразным ландшафтом.
37 Чтобы познакомиться с выборкой трудов в рамках этой исследова-
тельской программы, см., например, работы: Peden, 1983; Booth, 1986;
Browning, 1986; Corry, 1986; Rollings, 1988.
38 О тенденциях недавнего прошлого см., например, статьи, написанные
в честь десятилетия журнала «History of Political Economy», опубликован-
ные в этом журнале в 1983 г.; особенно статьи Коутса (Coats, 1983), а также
де Марки и Лодевикса (de Marchi, Lodewyks, 1983), где обсуждаются тенден-
ции журнальных публикаций начиная с 1968 г.
Роль ucmopiit- экономической мысли
55
' »< Литература VI
>ят
Ashley W.J. The rehabilitation of Ricardo//Economic Journal. 1891. Vol. 1 (1).
Barber W. British Economic Thought and India 1600-1858. A Study in the
History of Development Economics. Oxford : Oxford University Press, 1975.
Barber W. From New Era to New Deal: Herbert Hoover, the Economists and
American Economic Policy 1921-1933. Cambridge : Cambridge University
Press, 1985.
Berg M. The Machinery Question and the Making of Political Economy 1815-
1848. Cambridge : Cambridge University Press, 1980.
Black R. D. C., Konekamp R. (eds). Papers and Correspondence of William Stanley
Jevons. London : Macmillan. 1971-1980. Vols I-VII.
Blaug M. Ricardian Economics. New Haven, CT : Yale University Press, 1958.
Blaug M. Economic Theory in Retrospect I 3rd edn. Cambridge : Cambridge
University Press, 1978.
Blaug M. What Ricardo said and what Ricardo meant I In G. A. Caravale (ed.).
The Legacy of Ricardo. Oxford : Basil Blackwell, 1985.
Bronfenbrenner M. Review of Dobb’s Theories of Value and Distribution since
Adam Smith // History of Political Economy. 1974. Vol. 6 (4): P. 481-486.
Boulding К. E. After Samuelson who needs Adam Smith? // Journal of the History
of Political Economy. 1971. Vol. 3.
Booth A. Simple Keynesianism and Whitehall 1936-1947 // Economy and Society.
1986. Vol. 15 (1).
Bowley M. Nassau Senior and Classical Economics. London : Allen & Unwin,
1937.
Bowley M. Studies in the History of Economic Theory before 1970. London :
Macmillan, 1973.
Browning P. The Treasury and Economic Policy 1964-1985. London : Longmans,
1986.
Coats A. W. Research priorities in the history of economics // History of Political
Economy, 1969. Vol. 1 (1).
Coats A. W. (ed.). The Classical Economists and Economic Policy. London :
Methuen, 1971.
Coats A. W. (ed.). Economists in government//History of Political Economy.
1981. Vol. 13 (3).
Coats A. W ТЙе first decade of HOPE (1968-1979) // History of Political Economy.
1983. Vol. 15 (3).
Collard D. Leon Walras and the Cambridge caricature // Economic Journal. 1973.
Vol. 83.
Corry B. Keynes’s economics: a revolution in economic theory or economic policy? /
In R. D. Collison Black (ed.). Ideas in Economics. London : Macmillan, 1986.
Dobb M. H. Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and
Economic Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1973.
Eagly R. V. (ed.). Events, Ideology and Economic Theory. Detroit, MI : Wayne
University Press, 1968.
56
Филлис Дин
Gide Р. Н. С.. Rist С. Histoire des doctrines econoiniques depuis les physiocrates
jusqu’a nos jours. Paris; History of Economic Doctrines, transl. R. Richards,
London : Harrap, 1909.
Gray A. The Development of Economic Doctrine: an Introductory Survey, London :
Longmans, Green, 1931.
Hicks J. R. Classics and Moderns, Collected Essays. Oxford : Oxford University
Press, 1983. Vol. III.
Hicks J., Hollander S. Mr Ricardo and the moderns // Quarterly Journal of
Economics. 1977. Vol. 91 (2).
Hollander S. The Economics of Adam Smith. London : Heinemann, 1973.
Hollander S. The Economics of David Ricardo. Toronto Toronto University Press,
1979.
Hollander S. The Economics of John Stuart Mill. 2 vols. Toronto : Toronto
University Press, 1986.
Hollander S. Classical Economics. Oxford : Basil Blackwell, 1987.
Howson S., Winch D. The Economic Advisory Council 1930-1939: A Study of
Economic Advice during Depression and Recovery, Cambridge : Cambridge
University Press, 1977.
Hutchison T. W. On Revolutions and Progress in Economic Knowledge. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 1978.
Jaffe W (ed.). Correspondence of Leon Walras and Related Papers. Amster-
dam North-Holland, 1965. Vols I-III.
Jaffe W. Leon Walras: an economic adviser manque // Economic Journal, 1975.
Vol. 85.
Jevons W. S. The Theory of Political Economy / 2nd edn. London : Macmillan,
1879.
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London
Macmillan, 1936.
Keynes J. M. The Collected Writings of John Maynard Keynes / eds D. Moggridge
and E. Johnson. 30 vols. London : Macmillan, 1971-1989.
Knight F. H. On the History and Method of Economics. Chicago. IL : University
of Chicago Press, 1956.
Koot G. M. English Historical Economics 1870-1926. Cambridge : Cambridge
University Press, 1987.
Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, IL, 1968. Chicago
University Press, 1970.
Kuhn T. S. The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and
Change. Chicago. IL : University of Chicago Press, 1977.
Lakatos I. The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical
Papers. Vol. I. Cambridge : Cambridge University Press, 1978.
Lakatos I., Musgrave A .(eds). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge :
Cambridge University Press, 1970.
Latsis S. (ed.). Method and Appraisal in Economics. Cambridge : Cambridge
University Press, 1976.
Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. New
York : Oxford University Press, 1968.
Роль истории экономической мысли
57
McCulloch J. R. The Literature of Political Economy. A Classified Catalogue of
Select Publications in the Different Departments of that Science with
Historical Critical and Biographical Notices. 1845. reprinted 1938. London:
LSE Reprints Series.
March! N. de, Lodewyks J. HOPE and the journal literature in the history of
economic thought// History of Political Economy. 1983. Vol. 15 (3).
Marx K. Theories of Surplus Value. 3 vols. London : Lawrence & Wishart, 1969-
1972.
Meek R. L. Studies in the Labour Theory of Value. London : Lawrence & Wishart
(2nd rev. edn 1973). 1956.
Meek R. L. The Economics of Physiocracy. Cambridge : MA. Harvard University
Press, 1962.
Meek R. L. Studies in Ideology and Other Essays. London : Chapman and Hall,
1967.
Merton R. K. The Sociology of Science. Chicago, IL: University of Chicago Press,
1973.
Mill J. S. The Collected Works of John Stuart Mill. London : Toronto University
Press and Routledge, 1963.
Moggridge D. British Monetary Policy, 1924-1931: The Norman Conquest of
$4.86, Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
Morishima M. Marx’s Economics. Cambridge : Cambridge University Press, 1973.
Morishima M. Walras’s Economics. Cambridge : Cambridge University Press,
1977.
Morishima M. Ricardo’s Economics. Cambridge : Cambridge University Press,
1990.
Myrdal G. The Political Element in the Development of Economic Theory, trans,
from German edn (1932) by Paul Streeten (original Swedish edn 1929).
London : Routledge & Kegan Paul, 1953.
O'Brien D. P. J. R. McCulloch: A Study in Classical Economics. London : Alien
& Unwin, 1970.
O’Brien D. P. The Correspondence of Lord Overstone. 3 vols. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 1971.
Patinkin D. Anticipations of theGeneral Theory? Oxford : Basil Blackwell, 1982.
Peach T. David Ricardo’s early treatment of probability: a new interpretation //
Economic Journal. 1984. Vol. 94.
Peach T. David Ricardo’s treatment of wages / In R. D. Collison Black (ed.).
Ideas in Economics. London : Macmillan, 1986.
Peden G. C. Sir Richard Hopkins and the «Keynesian revolution» in employment
policy, 1929-1945 //Economic History Review. 1983. Vol. 36 (2).
Popper K. Normal science and its dangers / In I. Lakatos and A. Musgrave (eds).
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge : Cambridge University
Press, 1970.
Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London :
Macmillan, 1932.
Robinson J. An Essay on Marxian Economics. London : Macmillan, 1942.
Roll E. A History of Economic Thought. London : Faber & Faber, 1938 (rev. edn
1953; new rev. edn 1973).
58
Филлис Дин
Rollings N. British budgetary policy, 1945-1954: a «Keynesian revolution»? //
Economic History Review. 1988. Vol. 41 (2).
Samuelson P. Wages and interest: a modern dissection of Marxian economic
models//American Economic Review. 1957. Vol. 47.
Samuelson P. Economists and the history of ideas // American Economic Review.
1962. Vol. 52 (1).
Samuelson P. Understanding the Marxian notion of exploitation: a summary of
the socalled transformation problem between Marxian values and competitive
prices //Journal of Economic Literature. 1971. Vol. 9.
Schumpeter J. A. Economic Dogma and Method: An Historical Sketch, transl. by
R. Aris from Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte (1914). New
York : Oxford University Press, 1954a.
Schumpeter J. A. History of Economic Analysis, edited from MS by E. B. Schum-
peter. New York : Oxford University Press, 1954b.
Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
(1776) / eds R. H. Campbell, A. S. Skinner and W. A. Todd. Oxford : Oxford
University Press, 1976a.
Smith A. The Theory of Moral Sentiments (1759), eds D. D. Raphael and A. L. Macfie.
Oxford : Oxford University Press, 1976b.
Sraffa P. Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a
Critique of Economic Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1960.
Sraffa P„ Dobb M. H. The Works and Correspondence of David Ricardo. 11 vols.
Cambridge : Cambridge University Press, 1951-1973.
Stigler G. Essays in the History of Economics. Chicago, IL : University of Chicago
Press, 1965.
Stigler G. The Economist as Preacher. Oxford : Basil Blackwell, 1982.
Tribe K. The «histories» of economic discourse //Economy and Society. 1977.
Vol. 6 (3).
Tribe K. Land, Labour and Economic Discourse. London : Routledge, 1978.
Walras L. Elements of Pure Economics, transl. by W. Jaffe. London : Allen &
Unwin, 1954.
Whitaker J. K. The Early Economic Writings of Alfred Marshall 1867-1890.
2 vols. London : Macmillan, 1975.
Winch D. Economics and Policy. A Historical Study. London : Hodder & Stoughton,
1969.
4 ГО
'НИ.'
СГЛ.-М <1
'iWfi'J R3T
ДЕНИС П. О’БРАЙЕН
ТЕОРИЯ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
4.1. Введение
Взаимоотношение между теорией и наблюдением в экономиче-
ской науке является непростой проблемой и поднимает ряд слож-
ных вопросов. Во-первых, существует постоянная путаница между
методологией того, что «есть», и того, что «должно быть». Работы
Куна (Kuhn, 1970) и Лакатоша (Lacatos, 1978), имеющие фундамен-
тальное значение для истории и философии науки, стерли границу
между этими вопросами. В этой статье упор будет сделан на вопросах
о том, что «должно быть». Во-вторых, в литературе по экономической
методологии существует то, что можно назвать «скрытым сциен-
тизмом». Иногда выводы по поводу того, что «делают представители
естественных наук», делают люди, у которых (в отличие от Куна и
Лакатоша) нет ни соответствующего образования, ни хорошего зна-
ния трудов по методологии, написанных учеными в области естествен-
ных наук. Но в любом случае ответ на вопрос о том, являются ли
естественные науки (в особенности физика) подходящей моделью для
экономической науки, не следует рассматривать как само собой разуме-
ющийся, и эта тема будет специально обсуждаться ниже.
В нашей работе акцент будет сделан на эмпирическом наблю-
дении. Однако во избежание неверного понимания, быть может,
лучше сразу сказать, что теории должно отдаваться первостепенное
значение. Данные, как станет ясно в дальнейшем, важны только
для выбора между теориями. Но этот выбор, безусловно, имеет
основополагающее значение, если наша цель — прогресс, а не пре-
доставление самодостаточных сведений типа сведений по истории
живописи.
Если же не поднимать вопрос об отборе теорий, то роль данных
будет уже не так значительна. Это важно отметить, так как в эконо-
мической науке существуют значительные области (включая такие
вершинные достижения, как теория международной торговли от Тор-
ренса (Torrens, 1815, 1833) и Рикардо (Ricardo, 1817) до Мида (Meade,
60
Денис П. О'Брайен
1952)), где мало эмпирического содержания. При этом они не под-
вергаются серьезному сомнению.
Тем не менее роль эмпирического наблюдения в экономической
науке является фундаментально важной (или должна быть таковой).
Оно является необходимым элементом формулирования теорий, их
применения и отбора.
4.2. Возможные способы использования данных
Индукция?
Существуют стандартные философские аргументы, восходящие к
Дэвиду Юму (XVIII в.), с помощью которых отвергается идея о том,
что можно использовать данные для непосредственного получения
достоверной информации. Простое накапливание фактов и последу-
ющий поиск в них некой общей закономерности не являются пря-
мым источником информации (хотя и могут быть источником гипо-
тез). И хотя наблюдение конкретной связи событий может психоло
гически побудить нас считать такую связь стабильной, нет никакого
логического основания ожидать, что эта связь продлится.
В любом случае данные, пригодные для моделирования, не нахо-
дятся «под рукой». Чтобы конструировать данные, нам требуется целое
множество понятий и идей. Это должно быть видно любому экономи-
сту, поскольку именно так определяется способ получения официаль-
ных статистических данных, которые зачастую представляют собой
материал для регрессионного анализа. Но, кажется, до сих пор эконо-
мисты порой не отдают себе в этом отчета. С одной стороны, некото-
рые из них считают, что можно моделировать временной ряд без
какого-либо обращения к теории вообще, рассуждая о «процессе гене-
рирования данных» (data-generation process). С другой стороны, есть
исследователи, готовые использовать официальную статистику, кото-
рая фактически не соответствует экономическим категориям, для
проверки гипотез о распределении дохода, основанных на теоретиче-
ских выкладках.
Общая проблема, на которую указал Юм, особенно серьезно каса-
ется экономистов. Для них это не просто философская тонкость, ко-
торая вряд ли может иметь отношение к практике. Экономика намно-
го более, чем естественные науки, подвержена «сдвигу параметров»
(parameter shift). Наблюдаемая закономерность может измениться за
одно десятилетие (что показывает недавняя история денежного обра-
щения).
Еще более обманчивы причинно-следственные отношения, каза-
лось бы, вытекающие из непосредственного исследования данных. Хотя
в эконометрике присутствует формальное различие между корреля-
Теория и эмпирическое наблюдение
61
цией и причинностью, эконометрические процедуры незаметно сме-
шивают оба понятия (Black, 1982).
Несмотря на это, среди экономистов есть ряд авторов, которые не
согласны с идеей о невозможности индукции. В эту группу входят
видные авторы, включая Р. Ф. Харрода (Harrod, 1956). Но, придя к
выводу, что «Харрод не нашел ответа Юму», А. Дж. Айер писал:
«Я считаю, что мораль такова: ни одна подобная теория логического
типа не будет успешной» (Ayer, 1970 : 37). Это взгляд философа.
Однако позиция Юма вместе с идеей Поппера о том, что вероятность
события и его информационное содержание находятся в обратном
соотношении друг к другу (Popper, 1959 : 270), оказалась решающей
для большинства экономистов, но не для всех. Читателю следует осте-
регаться ссылок на «индуктивную логику», которые присутствуют в
литературе по экономической методологии, так как ясно, что ее не
существует (по крайней мере, если понимать индукцию так, как это
понимается здесь).
Важно отметить этот момент, потому что утверждения Поппера
о «разрешении» проблемы индукции было сильно искажено, особен-
но в литературе по экономической методологии. Проблема заключа-
ется в том, что если у нас не будет индукции, то как мы получим
знания? Решение Поппера — решать не проблему индукции (которая,
по сути, неразрешима), а проблему знания, идя другим путем — пу-
тем предположений и опровержений (Popper, 1959 : ch. 1). Но если
мы пойдем по этому пути, тогда источники предположений — на-
ших гипотез — станут существенными.
Источники гипотез
То, что мы вслед за Юмом отвергаем индукцию как источник
знания, не обязательно означает, что мы отвергаем ее как источник
гипотез. Если мы придерживаемся точки зрения, согласно которой
исходная гипотеза может иметь любой источник, то из этого следует,
что любые догадки, появившиеся при исследовании данных, — абсо-
лютно законный источник гипотез.
В действительности очевидно, что в мире естественных наук очень
важным является «опознание регулярности» (pattern recognition).
В этом заключается особенная ирония, поскольку в экономике это
тоже когда-то считалось важным, особенно в экономике промышлен-
ности. Но отчасти благодаря появившемуся в 1960-е гг. ошибочному
убеждению, что критика Юма исключает эту процедуру, экономисты
более не придают ей какого-либо значения.
В формировании гипотез важную роль играет также интуиция.
Мы определенно не можем целиком полагаться на опознание регуляр-
ности в качестве источника гипотезы. Важнейшую роль играет также
воображение. Но воображение, по-видимому, намного продуктивнее,
62
Денис П. О'Брайен
когда его источником является любознательность, направленная на
реальный мир, и когда оно опирается на данные об этом мире и огра-
ничивается ими. Как подчеркнул великий биолог Франсуа Жакоб,
научный прогресс происходит благодаря постоянному взаимодействию
между воображением и экспериментом (Jacob, 1988 : 306).
Но если мы собираемся построить гипотезу, то должны уметь
формулировать предпосылки относительно той области, к которой
относится наша гипотеза.
. 'Ч:
Предпосылки
С момента опубликования в 1953 г. повлиявшего на многих очерка
Фридмена, и особенно с начала 1960-х гг., экономисты стали скло-
няться к мнению, что реалистичность и точность предпосылок не имеют
значения. Основой этому послужила часть фридменовской аргумен-
тации, названная Самуэльсоном «F-уклоном» (F-twist) (Samuelson,
1963). Смысл F-уклона состоит приблизительно в следующем: пред-
посылки нереалистичны, но то, от чего мы в них абстрагируемся, не
имеет большого значения, «следовательно», мы можем не только за-
ключить, что о нереалистичности всех предпосылок не стоит беспоко-
иться, но и прийти к выводу, что теория тем лучше, чем менее реа-
листичны эти предпосылки.
Как мы увидим далее, данный ряд необоснованных заключений.
(non sequiturs) появился вследствие исходной путаницы относительно
того, что понимать под нереалистичностью предпосылок. Так или ина-
че, этот ход мыслей привел к некоторой форме инструментализма, ко-
торую можно выразить фразой: «Мы не знаем, почему это работает,
но это работает». Хотя этому подходу и присущ некий привлекатель-
ный прагматизм, инструментализм в конечном счете не может нас удо-
влетворить, если мы заинтересованы в истине. Как заметил Поппер, су-
ществует четкая грань между теориями и правилами вычисления и
последние сами по себе не позволяют нам отличить истину от лжи
(Popper, 1974 : 111-113). Более того, когда наше правило вычисления
становится непригодным, мы остаемся беспомощными. Таким образом,
наш подход, по сути, антирационален. В действительности, грубо гово-
ря, с точки зрения чисто инструменталистского подхода не важно, яви-
лись ли цены на рынке ценных бумаг результатом решений людей
или действий маленьких зеленых человечков с Марса до тех пор, пока
можно применять правило вычисления, связывающее цены, к приме-
ру, с изменениями в темпе роста денежной массы.
Такой подход, по мнению некоторых экономистов (особенно в
1960-х гг.), считался естественнонаучным. На самом же деле в физи-
ке истинностью исходных предпосылок не пренебрегают. Один физик
как-то заметил: «Слишком просто получить бесконечный ряд инте-
ресных на вид, но неверных или не имеющих значения формул вме-
Теория и эмпирическое наблюдение
63
сто того, чтобы проверить обоснованность исходных предпосылок»
(Ziman, 1978 : 14).
Конечно, тут можно возразить, что предпосылки никогда не
бывают абсолютно точными. Однако следует отметить два момента.
Во-первых, предпосылки являются по своей сути картой, где точны
лишь контуры и отражены далеко не все детали. Разумеется, мы не
включаем в карту каждую деталь, но в то же время нам не нужна
карта центра Лондона, если мы находимся в Нортумберленде. Во-
вторых, предпосылки основываются на ранее полученной инфор-
мации — это так или должно быть так, чему пример — естественные
науки. Предпосылки теории должны непременно основываться на
результатах работы ученых, выдержавших и теоретическую кри-
тику, и неоднократную проверку (поскольку, как мы увидим, после-
днее зачастую отсутствует в экономике, то можно понять, почему эко-
номисты пренебрегли данным аспектом процедуры научного иссле-
дования).
Конечно, какая-то степень конвенционализма здесь все еще тре-
буется; если мы описываем, что является прочими равными условия-
ми, и считаем содержание этих условий доступным для проверки
(Hutchison, 1938), то попадаем в ситуацию бесконечного регресса
(McCarty, 1978). Но конвенция (соглашение между учеными о том,
что разумно принять) имеет под собой основу (по крайней мере в
естественных науках) — принять можно результаты, которые вы-
держали критику и были неоднократно воспроизведены. Поскольку
экономической науке это менее свойственно — тут разница не ко-
личественная, а качественная, то использование конвенций имеет здесь,
вероятно, более шаткую основу, чем в физике, и, таким образом, тем
более необходимо следить за тем, какие предпосылки выдвигаются
экономистом.
Конечно, может показаться, что даже в естественных науках уче-
ные пренебрегают предпосылками. Как подметил один автор, многие
современные биологи, занимающиеся молекулярными аспектами, пре-
зирают таксономию растений. Но «их исследования неизбежно парази-
тируют на теле таксономического знания» (Ziman, 1978 : 46).
Проверка предпосылок в экономической науке жизненно важна
еще и по другой причине: если мы выводим статистические заклю-
чения на основании данных, в которых присутствует «значительный
и неустранимый разброс» (Ziman, 1978 170), то проверка предпосы-
лок по крайней мере даст нам некоторое представление о возможных
источниках этих расхождений.
То, что точность предпосылок, подобная точности карты, имеет
важное значение, кажется настолько очевидным, что возникает инте-
ресный вопрос, как же экономисты оказались в нынешней ситуации?
Ответ на этот вопрос в какой-то степени был дан философом Аланом
Масгрейвом (Alan Musgrave, 1981) в его анализе оригинального очер-
64
Денис ГГ. О' Брайен
ка Фридмена. Он показывает, что в этой работе были перепутаны
предпосылки «незначительности», «области применения» и «эврис-
тики». Применительно к первой группе просто допускалось, что игно-
рируемые факторы не влияют сколько-нибудь существенно на ис-
следуемые явления. Предпосылки, входящие во вторую категорию,
ограничивают применимость теории конкретными обстоятельствами.
Предпосылки третьей категории принимаются с целью развить ка-
кую-либо определенную линию аргументации. Масгрейв показывает,
что Фридмену не удалось провести грань между этими тремя катего-
риями предпосылок и, фокусируя внимание на первой категории, он
пришел к F-уклону.
Однако в действительности (как в случае с Нортумберлендом и
центром Лондона) реалистичность предпосылок «области примене-
ния» имеет решающее значение. Как показал Коопманс (Koopmans,
1957 139), уже на ранней стадии нам необходимо знать, как мы
собираемся применять теорию.
Но интересно, что это приводит нас обратно к идее «верификации»,
которая более всего занимала экономистов-методологов до появления
указанной работы Фридмена (Blaug, 1980 : ch. 3; ср.: Robbins, 1932),
поскольку применимость и опровержимость предпосылок «области при-
менения» чрезвычайно важны. Таким образом, прежде чем прийти к
заключению, что прогнозы теории могут оказаться верными, мы долж-
ны проверить, выполняются ли в рассматриваемом случае ее предпо-
сылки. Но проблема лежит еще глубже, поскольку для обеспечения на-
дежности экономических знаний мы должны знать, насколько данная
модель чувствительна к ошибочности ее предпосылок. И здесь мы вновь
приходим к выводу, что предпосылки имеют значение.
Обычной причиной отказа от проверки теории по результатам
ее прогнозов является так называемый тезис Дюгема—Куайна, со-
стоящий в том, что мы всегда проверяем не отдельно взятую гипоте-
зу, а целую совокупность гипотез, а потому, если теория не пройдет
проверку, мы не сможем узнать, какая именно из гипотез была лож-
ной. Но если мы уделим внимание нашим предпосылкам, у нас, не-
сомненно, будет больше шансов это узнать. Кроме того, если мы про-
верим две конкурирующие теории, основанные на одинаковых пред-
посылках, у нас будет основа для выбора между ними. В конце концов,
умышленно отбрасывать какую-либо информацию просто нелепо, а
знание об истинности или ложности наших предпосылок — это все-
таки информация.
Проверка
Как уже было отмечено в предыдущем разделе, в настоящее время
экономисты не склонны уделять большого внимания предпосылкам.
В основном сейчас их интересуют результаты проверок теоретиче-
Теория и эмпирическое наблюдение
65
ских выводов на основе имеющихся данных. Хотя непосредственная
причина такого отношения восходит к Фридмену, ее можно просле-
дить в более ранних работах Поппера (Popper, 1959, 1963), который
выдвинул следующие положения: во-первых, теория никогда не мо-
жет быть доказана, но ее всегда можно опровергнуть; во-вторых, наши
научные знания всегда условны и никогда не смогут быть абсолют-
ны __все теории постоянно рискуют оказаться опровергнутыми; в-тре-
тьих, проверка гипотезы с целью ее опровержения — это верный
путь, по которому практически идет наука. Работы Поппера обшир-
ны, глубоки и производят очень большое впечатление. Но в 1960-х гг.
в экономической науке главенствующее положение заняла очень упро-
щенная версия попперовских идей, отражающая отчасти их фридме-
новскую трактовку.
Однако вскоре обнаружилось, что проверка сама по себе имеет
свои ограничения. Существует ряд обычных трудностей, включая
мультиколлинеарность данных, проблему Дюгема—Куайна, упомя-
нутую выше, а также сложность определения причинности чисто
статистическими средствами, когда невозможен контролируемый
эксперимент (как в случае экономической науки). Обо всем этом
многократно шла речь на протяжении последних десяти лет. Вдо-
бавок есть проблемы относительно того, что считать опровержением,
точнее, какой степени неподтверждения достаточно для того, чтобы
констатировать опровержение? Таким образом, в том, что мы готовы
считать фактами, есть важная доля конвенционализма. Сперва эко-
номисты пренебрегали этими моментами; надо сказать, что фальси-
фикационизм 1960-х гг. был крайне примитивным, его сторонники
не только не замечали уже упомянутых проблем, но и чрезмерно
полагались на опубликованную официальную статистику (Coddington,
1972 : 9).
Но проблемы нужно признать. Вследствие проблемы Дюгема—
Куайна в экономической теории особенно трудно проверять теории
из-за оговорок о прочих равных условиях, особенно если исследовате-
ли догматически полагают, что истинность предпосылок не имеет
значения. Особая проблема, связанная с прочими равными условиями,
состоит в том, что эти условия можно использовать для защиты тео-
рии от проверки, утверждая, что опровергнутая теория, вероятно, не
прошла проверку из-за некоторых изменений в исходных условиях,
которые не были учтены и проверены (McCarty, 1978 : 13-14).
Экономисты должны решать такую проблему (хотя обычно они
этого не делают) при помощи применения проверок, которые в боль-
шей степени сосредоточены на вспомогательных предпосылках, чем
на проверяемых гипотезах, в этом заключается «хорошо сконструи-
рованный тест» (McCarty, 1977 : 8, цит. по Yoshida, 1975).
Несмотря на эти трудности, имеются сильные доводы в пользу
дальнейшего проведения проверок с использованием хорошо скон-
6 Заказ № 356
66
Денис П. О’Брайен
струированных тестов. Хотя в естественных науках намного меньше
таких проблем, физики тоже сталкиваются со сложностями при про-
верке гипотез, поскольку теория и наблюдения далеки от идеального
соответствия (Ziman, 1978 39). Однако, несмотря на это, исследова-
тели «подгоняемые интеллектуальным соревнованием... неосознан-
но ведут себя согласно попперовскому принципу фальсификации
не только по отношению к теориям, но даже по отношению к объек-
тивным „фактам", о наличии которых заявляют их конкуренты»
(Ziman, 1978 : 59). Это особенно важно, поскольку именно повторение
результатов вне конкретной группы, которой впервые удалось их
получить, может быть решающим фактором принятия или отбрасы-
вания теории.
Воспроизводимость результатов
В сущности, воспроизводимость научных результатов — это клю-
чевой вопрос, которому, однако, экономисты до сих пор не уделяли
должного внимания. Недавние споры по поводу холодного ядерного
синтеза привлекли к этому вопросу внимание широкой публики —
лаборатории всего мира пытались воспроизвести результаты, первона-
чально объявленные Понсом и Фляйшманом (Garwin, 1989).
В получении того, что Займен многозначительно назвал «на-
дежным знанием» (reliable knowledge), именно воспроизводимость —
проверка — является ключевой. Например, когда Стил (Steele) пре-
тендовал на то, что ему удалось добиться наследования приобретен-
ных характеристик у мышей, реакция его коллег-биологов была
следующей: «Ясно, что основной результат должен быть повторен
в других лабораториях» (Taylor, 1980; см. также: Mitchison, 1980).
Научная деятельность включает отбор из гипотез, появляющихся в
журналах, тех, которые обладают воспроизводимостью — их всего
лишь процентов десять от общего числа (Ziman, 1978 : 30-31, 40-
41, 130, 143).
Вопрос воспроизводимости результатов, привычный для ученых,
занимающихся естественными науками, почти не принимался во вни-
мание в социальной науке. Возможно, наиболее яркой иллюстраци-
ей может послужить то, что произошло в антропологии, когда иссле-
дователь (Freeman, 1983), взяв на вооружение попперианский подход,
отнесся к исследованию Маргарет Мид об обитателях Самоа как к
серии гипотез, которые еще следует проверить. Мягко говоря, он об-
наружил, что результаты Мид не были подтверждены имеющимися в
наличии данными. Но прежде, чем экономисты злорадно улыбнутся,
нам следует вспомнить, что сильное нежелание рассматривать дан-
ные, полученные во время «полевых исследований», — это правило
среди экономистов (а исследование Мид о Самоа было основано на
результатах «полевых» исследований).
Теория и эмпирическое наблюдение 67
Пример из области социальной психологии, который сразу при-
ходит на ум, это случай с сэром Сирилом Бертом. Независимо от
того, были ли им действительно сфабрикованы результаты его ис-
следований интеллекта (а существует, несомненно, твердое убеждение
в том, что так оно и было), удивительно, что до самой его смерти
попытки проверить эти результаты так и не были осуществлены
(Hearnshaw, 1979).
К сожалению, каждый практикующий экономист знает такие
области, где очень трудно воспроизвести опубликованные результаты
(Mayer, 1980). В экономике действительно есть несколько «благопо-
лучных областей». Неоднократные исследования последствий слия-
ний и колебаний валютных курсов действительно приводили к по-
вторению результатов всеми возможными способами. Но это исклю-
чительные области. Их исключительность является следствием двух
причин, влияющих на большинство исследований: технико-экономет-
рических проблем и проблем данных (возможность же морального
риска, связанного с легкостью опубликования «впечатляющих», но не
воспроизводимых результатов, здесь рассматриваться не будет).
я
Проблемы измерения
Обычно экономисты прибегают к регрессии как к первому и по-
следнему средству при работе с данными. К сожалению, использование
метода регрессии при работе с временными рядами требует очень боль-
шого доверия к данным, а это, похоже, не слишком плодотворно. Мы
используем метод, взятый из сельскохозяйственных экспериментов:
но там даже стандартный тест на линейность требует распределения
значений У для каждого значения X, тогда как во временных рядах у
нас есть лишь одно наблюдение У для каждого значения X. Поэтому
то, что «называется» регрессией, по сути, ближе к корреляционному
анализу 1920-х гг., который недолго был в моде среди экономистов.
Отсутствие распределения У для каждого X и, следовательно, невоз-
можность повторного взятия выборки поднимают вопросы об уровнях
значимости, на которые экономисты просто не обращают внимания.
Предпосылка случайности процесса, несомненно, является ложной (Lea-
rner, 1983). Типичным продуктом нашего избыточного доверия к дан-
ным является оцененное уравнение, демонстрирующее явные призна-
ки мультиколлинеарности, где в результате этого вычисленные пара-
метры являются неустойчивыми. Эту неустойчивость следует отличать
от общей неустойчивости основных экономических соотношений, ко-
торая также часто игнорируется, хотя существуют стандартные мето-
ды ее проверки, в том числе дробление данных.
Частично по причине доступности стандартных компьютерных
пакетов, которые сами по себе очень удобны, поскольку увеличивают
возможность воспроизвести результаты, применяются низкокачествен-
68
Денис П. О' Брайен
ные процедуры, включая рутинные поправки на серийную корреля-
цию без предварительной проверки ее существования.
К тому же хорошо известно, что содержащееся в опубликован-
ной статье уравнение регрессии, которое обязательно является значи-
мым на 5% -ном уровне, может быть последним из двадцати уравне-
ний, девятнадцать из которых были незначимыми и поэтому не были
опубликованы.
Было предложено, чтобы все итерации расчета регрессии были
достоянием публики (Mayer, 1980). Но в жизни у нас есть компьютер,
хорошо справляющийся со скучной арифметикой и послушно вы-
полняющий поиск спецификации уравнения (к этой процедуре, есте-
ственно, неприменима традиционная теория статистического вывода
(theory of inference)) (Learner, 1983 : 36), и, что еще хуже, склонность
экономистов приспосабливать теорию к тому уравнению, которое ра-
ботает (Blaug, 1980 : 257).
Но еще более неохотно экономисты признают, что данные часто
бывают плохого качества. См. работы Уильбера и Харрисона (Wilber,
Harrison, 1978 : 69) и Майера (Mayer, 1980 : 169). Мы уже обращали
внимание на проблему официальной статистики и доступа к до-
кументам, по которым такая статистика составляется, что отнюдь
не всегда позволяет исследователю доверять данным. Это было бы
проблемой, даже если бы официальная статистика соответствовала
экономическим концепциям (что бывает редко).
Таким образом, общий набор «грязных данных» (dirty data)
подвергается экономистами разнообразным проверкам. Исследовате-
ли в области естественных наук не обязаны доверять цифрам, полу-
ченным другими людьми; более того, их воспроизведение имеет ре-
шающее значение для принятия нового результата. Таким образом,
существует фундаментальное различие между экономикой, с одной
стороны, и физикой или химией — с другой. Имея дело с общим
набором данных, мы можем только проводить разные статистиче-
ские проверки по тем же самым данным, а, как заметил Коуз, если
вы будете «пытать» данные достаточно долго, они «сознаются». Реше-
ние проблемы данных заключается совершенно не в том, чтобы ис-
пользовать другие математические методы, что в известном смысле
стало заменой более основательной эмпирической работе. Как выра-
зился Майер (Mayer, 1980 : 176-177): «Акцент на использовании про-
двинутых математических инструментов позволяет нам с чистой со-
вестью пренебрегать некоторыми самыми элементарными правилами
добротной исследовательской работы».
Однако мы определенно не должны терять надежду. Это был бы
путь к иррационализму. В сущности, было бы неплохо «охладить
страсть» к одному конкретному статистическому методу — регрес-
сии — и быть более скромными в наших требованиях к данным,
которые, по правде говоря, могут годиться только для ранговой кор-
Теория и эмпирическое наблюдение 69
реляции. Как утверждал Майер, усовершенствование данных и (если
они не опубликованы) повышение их доступности для других, а так-
же большее внимание элементарному требованию воспроизводимости
результатов, несомненно, были бы началом выхода из создавшегося
положения. Вдобавок экономисты должны быть готовы конструиро-
вать свои собственные массивы данных и делать это так, чтобы их
методы, равно как и сами полученные данные, могли быть доступны
для публики. Райд (Reid, 1987) предложил ряд правил, которых сле-
дует придерживаться при использовании интервью и анкет, и следо-
вание таким правилам было бы важным первым шагом.
4.3. Выбор между теориями
Не все экономисты согласны с тем, что нужно выбирать между
теориями. Некоторые из них склонны к «методологическому плюра-
лизму» (Caldwell, 1982). Если мы будем относиться к экономической
теории просто как к самодостаточной форме искусства, не связанной
с реальным миром, то такую позицию можно оправдать. Однако ес-
ли нас интересует экономическая истина, то принять ее будет уже
сложней.
Существует точка зрения, согласно которой методологический
принцип «все разрешено» (anything goes), вполне вероятно, приведет
к правлению толпы или «Сталина» (Hutchison, 1981 218) (этот под-
ход вполне убедителен, поскольку явился реакцией на становление
нацизма в Германии). Однако помимо этого существуют и убедитель-
ные научные причины полагать, что выбор между теориями необхо-
дим. Если у нас нет выбора, отсутствует конкуренция между теория-
ми. Но если нет конкуренции между теориями, то невозможно пре-
тендовать на то, чтобы внести вклад в науку или проверить теории с
целью выявить их ценность. Кроме того, экономическая политика,
влияние которой на жизнь простых людей не сводится к уплате
налогов на содержание экономистов, основывается на теории и(или)
требует поддержки с ее стороны. Следовательно, наша позиция состо-
ит в том, что нам необходимо делать выбор между теориями.
Существует точка зрения, что выбор между теориями является
конвенциональным — этот выбор делается в интересах удобства для
академического сообщества. (Tarascio, Caldwell, 1979; Caldwell, 1982).
Ирония судьбы заключается в том, что такая антипопперианская по-
зиция появилась на свет благодаря применению, в сущности, поппе-
рианского подхода к методологическим вопросам. И те, кто в конце
концов пришел к конвенционализму, рассмотрели попперианские тре-
бования к экономической методологии, проверили их на практике и
решили, что эти требования опровергнуты (Boland, 1982; Caldwell, 1982;
McCloskey, 1983, 1985, 1987). Тогда они предположили, что при выбо-
70
Денис П. О'Брайен
ре теорий нужно руководствоваться произвольным соглашением
экономистов. Это звучит вполне по-поппериански, потому что пола-
гать так — все равно что считать сопоставление теории и фактов
правильным способом разрешения споров. В любом случае мы не
обязаны делать заключения, что если экономисты не следуют своим
собственным правилам, значит, в этих правилах нет никакого смыс-
ла, и нам следует согласиться с тем, что они делают. Такой конвен-
ционалистский подход, по сути, представляет собой замкнутый круг;
он равносилен тому, чтобы сказать, что выбор между теориями объяс-
няется выбором между теориями.
Ясно, что мы должны продвинуться глубже этого. Существует
попытка объяснить конвенционализм с точки зрения «риторики». Но
это настолько важная тема, что она будет разбираться далее в отдель-
ном разделе.
Конвенционализм подразумевает моду. Но мода сама по себе, без
попытки решить, что ее определяет, — ненадежный помощник в
выборе теории. Это также относится и к методологии. Философские
подходы, которым десять лет назад просто было нельзя не поверить,
в наши дни отвергаются как явно ложные — на наших глазах сменя-
ли друг друга логический позитивизм, логический фальсификацио-
низм и методологический анархизм. Те, у кого познания в филосо-
фии чуть больше, заверяют тех, у кого их меньше, что «настоящие
философы отказались от позитивизма». На это, конечно, можно воз-
разить, что если некогда считавшаяся обоснованной философская
концепция сейчас рассматривается как устаревшая, то и новая кон-
цепция точно так же может оказаться неверной.
Заимствуя идеи из литературы по философии естественных наук,
экономисты конвенционалистских убеждений, вероятно, были введены
в заблуждение, потому что авторы, имеющие дело с естественными на-
уками, принимали как должное то, что выбор между теориями основан
на их надежности. И поскольку данный принцип воспринимался как
само собой разумеющийся, он не всегда излагался открытым текстом.
В действительности «научное знание возникает благодаря критиче-
скому отбору» (Ziman, 1978 : 131). Даже в такой философии науки,
где присутствуют весьма значительные элементы конвенционализма
(как в теории Куна), основой является требование надежных знаний.
Несмотря на все рассуждения о парадигмах и научных революциях,
для Куна существенно важны опыт и эксперимент.
Это не значит, что следует отрицать важность интуиции и ее
роль в том, что известно как «методологическое упрямство» — стой-
кая приверженность теории, поставленной под сомнение. Нельзя от-
рицать и значение логики, которая играет жизненно важную роль в
общении ученых и достижении согласия. Но в естественных науках
всегда присутствует эмпирическая проверка принимаемых теорий.
Теория и эмпирическое наблюдение
71
Это хорошо видно из работ Лакатоша. Он фокусирует внимание
на конкуренции между научно-исследовательскими программами, а
не между индивидуальными теориями (подход, позволяющий избе-
жать возражения Дюгема—Куайна по поводу проверки индивидуаль-
ных теорий), и в этой конкуренции проверка предсказаний новых
фактов безусловно занимает центральное положение. В естественных
науках конвенционализм появляется потому, что теории продолжают
давать результаты. Это порождает соответствующую технологию.
В экономической науке у нас нет эквивалента даже включению элек-
трической лампочки. Следовательно, конвенционализм в качестве
обоснования исследовательской процедуры в экономической науке
требует тщательного изучения.
Кроме того, проверка играет в естественных науках (и должна
играть в экономической науке) очень важную роль в случаях конф-
ликта теорий. То, что определенное несоответствие теории фактам
может быть убедительным не для каждого, неудивительно, принимая
во внимание человеческую природу и методологическое упрямство.
Но полагать, что такое отсутствие единодушия опровергает необходи-
мость эмпирической проверки, — это уже чересчур. То, как именно
следует осуществлять эмпирическую проверку, — это отдельный во-
прос. Все исследовательские процедуры, особенно в экономической
науке, где нет контролируемого эксперимента, определенно сталкива-
ются с трудностями. Однако утверждать, что из-за этих трудностей
мы должны отказаться от самих процедур, — это оборонительная
стратегия, которая в конечном счете приведет только к иррациона-
лизму. Конечно, можно привести множество причин, почему эконо-
мисты могут исходить из убывающих кривых спроса, не опираясь на
эмпирические данные (McCloskey, 1987 : 174), но это не меняет глав-
ного: если появятся экономисты, которые верят в возрастающие кри-
вые спроса, решающими будут эмпирические доказательства.
В сущности, любая наука, претендующая на истинность, требует
эмпирической дисциплины. Конечно, это верно для естественных наук;
поразительным примером является гипотеза Вегенера о движении
материков, которая долго оспаривалась. Именно неоспоримый эмпи-
рический факт — магнетизм горных пород — разрешил спор. В про-
тивном случае без такой дисциплины мы остаемся в положении,
напоминающем теологические диспуты, охарактеризованные Бенджа-
мином Франклином следующим образом: «Один богослов говорит,
что это так, другой — что это не так».
!Q,.r Риторика
Предметом весьма увлекательных работ Мак-Клоски стала роль
риторики в экономической науке (McCloskey, 1983, 1985, 1987).
Позиция Мак-Клоски заключается в том, что экономистов убежда-
72
Денис П. О'Брайен
ют «точность экономических метафор, исторические аналогии, убе-
дительность интроспекций, сила авторитета, очарование симметрии,
требования морали» (McCloskey, 1983 : 482). Он довольно увлека-
тельно пишет о роли математики в качестве риторики, особенно
применительно к «Основам» экономического анализа Самуэльсона.
Это не является совершенно новым выводом; как показал Вай-
нер, Свифт, Дефо и Мандевиль «давно обнаружили, что глупец мо-
жет стать еще большим глупцом при помощи математики» (Viner,
1963 : 16).1 Математика как форма риторики связана с ролью авто-
ритета. Подразумевается, что математические познания придают
уникальный авторитет заявлениям даже в областях, не связанных
с математикой.
Конечно, совершенно верно, что риторика присутствует и в физи-
ке. Поскольку экономисты обычно заимствовали большую часть сво-
ей математики из естественных наук (может быть, как мы увидим
позже, это была не та математика) то стоит заметить, что математика
без эмпирической проверки также способна сбить с пути и естество-
испытателей. Выше был приведен пример с движением материков.
Как уже было показано, все окончательно решилось благодаря эмпи-
рическим фактам. Но, как заметил Займен: «Эпистемологическая
ирония заключается в том, что геологи — главные эксперты по части
визуальных наблюдений и их интерпретации — отвергли убедитель-
нейшие факты относительно ископаемых, горных пород и ландшаф-
тов, поскольку они считали, что эти факты не соответствовали коли-
чественным математическим рассуждениям (о силе приливов), кото-
рые в действительности едва ли были им понятны» (Ziman, 1978 :
94). Однако в конечном счете решающим стал именно эмпириче-
ский факт.
Без этого, как отметил Займен и другие физики, существует
опасность, «что могут быть приложены невероятные усилия для
достижения ложной цели — решения все более и более сложных
математических загадок, имеющих все меньшее и меньшее отноше-
ние к какой-либо постигаемой реальности» (Ziman, 1978 173;
Phelps Brown, 1980 : 6; Берри (Berry) в работе Wolpert, Richards,
1988 : 47). Как заметил Коддингтон, без проверки «развитие эконо-
мической теории, что было бы нежелательно, может свестись ско-
рее к придумыванию новых вопросов, на которые в наших теориях
содержатся ответы, чем к созданию теорий, дающих ответы на те
вопросы, которые мы, собственно, хотели задать» (Coddington, 1975 :
541).
Статья Коддингтона — это, в сущности, уничтожающий раз-
бор притязаний теории общего равновесия на значимость для эконо-
1 Конечно, я не хочу сказать, что профессор Самуэльсон — глупец.
Теория и эмпирическое наблюдение
73
мической политики. В ходе своего анализа он обнаруживает дру-
гой риторический прием, который уходит корнями к кембридж-
ским дискуссиям 1930-х гг. Этот прием заключается в том, чтобы
взять теорию, которая не очерчена конкретными рамками (напри-
мер, теорию общего равновесия), загнать ее в зти рамки, устранив
все, что в них не входит, а затем объявить теорию неверной. Рито-
рические приемы такого типа могут быть убедительными, но в
конечном счете они сбивают с правильного пути. Они совершенно
не помогают разрешить конфликт теорий (хотя может сложиться
ложное впечатление обратного). Решающую роль должны играть
эмпирические факты.
4.4. Физика в качестве образца
Влияние естественных наук, особенно физики, на экономическую
науку началось почти с возникновения самой экономической науки.
Но здесь есть две проблемы. Во-первых, это вопрос о том, является ли
физика (под которой экономисты понимают классическую физику
XIX в.) подходящим образцом. Во-вторых, это вопрос о том, действи-
тельно ли физика в целом такова, какой ее воспринимают экономи-
сты и методологи.
По уже указанным причинам — невозможности воспроизвести
результаты при анализе временных рядов и невозможности провести
контролируемый эксперимент — совершенно ясно, что физика явля-
ется в лучшем случае несовершенным образцом. Физики сами силь-
но сомнева!отся, является ли их наука хорошим образцом для эконо-
мистов. Это отчасти связано с тем, что логика эмпирических сужде-
ний в отличие от математической логики допускает три варианта:
суждения могут быть «истинными», «ложными» и «до конца не про-
веренными» (undecided) (Ziman, 1978 : 26). С точки зрения физика, «в
физических науках это возражение — большой гвоздь, заколочен-
ный в гроб доктрины позитивизма, но оно не обладает большой прак-
тической важностью. Но когда мы заходим дальше биологии в сто-
рону поведенческих и социальных наук, оно становится убийствен-
ным» (Ziman, 1978 : 28).
Но в любом случае та физика, которую экономисты принимают
как образец, — это, в сущности, не современная физика, а физика
Ньютона. Как заметил один физик-теоретик, экономисты «придержи-
ваются устаревшей парадигмы в физике» (Berry, в работе Wolpert,
Richards, 1988 : 44). Здесь вновь возникают два вопроса. Во-первых,
начиная с Гейзенберга принято считать, что мы не можем одновре-
менно определить и местоположение, и скорость частицы, что разру-
шает объективность и определенность классической физики. Во-вто-
74
Денис П. О’Брайен
рых, кажется вполне вероятным, что математика гладких, непрерыв-
ных, дважды дифференцируемых функций не годится для решения
многих экономических проблем. Теории хаоса будут рассмотрены в
следующем разделе, но, кроме того, существует вопрос о теории ка-
тастроф. Независимо от того, является ли она, как утверждают ее
сторонники, подходящей формой математического моделирования оли-
гополии или нет (Woodcock, Davis, 1978 : 126-134), несомненно сле-
дующее: попытки моделирования множественных результатов и раз-
рывных изменений позволили осознать, что для экономической теории
не очень хорошо подходит математика, заимствованная из классиче-
ской физики (см. также: Weisskopf, 1979).
Что касается самого наблюдения, то в экономической науке
в сравнении с физикой существуют очень серьезные проблемы —
различие между отделением «шума» от «сигнала» в физике и в эко-
номике является качественным, а не количественным (см. также:
Ziman, 1978 : 67-70).
Возможно, экономистам следовало бы рассмотреть в качестве об-
разца медицину (Kornai, 1983). Поскольку проверка и мотивы дости-
жения успеха в медицине намного сильнее, чем в физике, наблюдение
играет в медицине поучительную для экономистов роль. В случае
открытия цефалоспориновой группы антибиотиков гипотеза возник-
ла при наблюдении выброса сточных вод в море (Florey, 1955; Abraham,
1962). Хорошо известно также случайное наблюдение, которое в кон-
це концов привело к появлению пенициллина (Wilson, 1976).
Более того, медицина также показывает, что инструменталист-
ский подход не вреден, если мы не ограничиваемся им. Действие
некоторых простых субстанций, например аспирина, до «сих пор не
понято до конца; структура пенициллина была открыта только спус-
тя некоторое время после появления лекарства, а структура инсулина
не была известна до 1969 г. (Wolpert, Richards, 1988: 69). Но во всех
случаях исследователи не останавливались на инструменталистском
подходе.
Таким образом, в истории медицины вполне можно найти уроки
для экономистов. Но именно физика (причем классическая) и явно, и
неявно была взята ими за образец. Однако достаточно недавние мате-
матические разработки показывают, что, возможно, это был не очень
хороший выбор.
Хаос
Теория хаоса — важная часть математики, представление о ко-
торой постепенно становится доступным неспециалистам (Cvitanovic,
1984; Bai-Lin, 1984; Peitgen, Richter, 1985; Stewart, 1989). Природу
хаоса можно описать следующим образом:
Теория и эмпирическое наблюдение
75
Часто повторяемое утверждение, что, зная исходные условия, мы знаем,
что будет делать какая-либо детерминированная система в далеком буду-
щем, — ошибочно... Учитывая бесконечное разнообразие точек отсчета, мы
часто приходим к совершенно разным результатам. Даже с наипростейшн-
ми уравнениями движения почти любая нелинейная система будет вести
себя хаотично.
(Cvitanovic, 1984: 3)
Простое детерминированное уравнение вида X(+1=F(X() «мо-
жет обладать динамическими траекториями, которые выглядят как
своего рода случайный шум (Мау, 1976 : 466). Одним из крити-
чески важных аспектов в теории хаоса является то, что, если
динамическая связь содержит нелинейные элементы, это влечет за
собой фундаментальные последствия для поведения всей системы.
Осознание проблемы уходит корнями в XIX в., когда П. Ф. Вер-
хульст сформулировал закон роста населения, включающий огра-
ничение этого роста. Алгебраическая форма, которая им использо-
валась, нашла более широкое применение в последние двадцать
лет, потому что, как оказалось, она описывала определенные аспек-
ты турбулентного потока.
Сами естествоиспытатели осознают далеко идущие последствия
этого открытия: «не только в исследованиях, но и в повседневной
политической и экономической деятельности было бы лучше, если
бы больше людей осознавало, что простые нелинейные системы не
обязательно обладают простыми динамическими свойствами» (Мау,
1976 : 467).
Вариации в нелинейных параметрах производят изменения в
траекториях, по которым следует динамическая система, и бифурка-
ции (увеличение количества траекторий, которым может следовать
система): «Последовательные бифуркации происходят во все мень-
ших и меньших областях фазового пространства» (по мере изменения
значений нелинейных параметров), и в результате «практически вся
память глобальной структуры исходной динамической системы ока-
зывается потерянной» (Cvitanovic, 1984 : 18). Как отмечалось в дру-
гом источнике: «Каждое нелинейное правило ведет к новым развил-
кам, где система может избрать ту или иную траекторию. Принима-
ются такие решения, последствия которых невозможно предсказать,
потому что каждое решение усиливает неопределенность» (Peitgen,
Richter, 1985 : 61).
Но столь же важны мельчайшие различия в исходных услови-
ях. Лоренц изобрел термин «эффект бабочки», чтобы показать, как
незначительные изменения, производимые движением крыльев ба-
бочки в исходных условиях модели погоды, могут порождать хаос
по мере развития системы: «Очень маленькая неточность в исход-
ных условиях может произвести невероятный эффект в последую-
щем движении. И эксперт, и неспециалист в равной степени удивля-
76
Денис П. О'Брайен
ются сложности, заключающейся в том, что считалось простыми
уравнениями» (Peitgen, Richter, 1985 : 62). Различия в исходных
условиях могут также порождать прерывистый хаос — состояние,
которое на графике (Cvitanovic, 1984 : 30) на редкость похоже на
поведение некоторых валютных курсов. Даже для классической
механики отсюда вытекают серьезные выводы, поскольку здесь ди-
намика уже не является полностью детерминированной (Bai-Lin,
1984 : 13). Последствия этого для метеорологии и для экономики
являются абсолютно обескураживающими, особенно потому, что дан-
ные проблемы резко усиливаются в зависимости от размерности
системы.
Математики, особенно Митчел'Файгенбаум, добились за послед-
ние годы значительного прогресса в теории хаоса, но применительно
к системам малой размерности (Cvitanovic, 1984 : 19, 30). В настоя-
щий момент можно говорить о трех критически важных выводах для
экономистов. Во-первых, тот вид математики, который экономисты
привыкли считать хорошо разработанным, простым и применимым в
экономике, вполне может быть непригодным. Во-вторых, фундамен-
тальное заключение теории хаоса о том, что предпосылки дейст-
вительно важны, — это еще одна причина отказаться от пагубной
доктрины, согласно которой предпосылки не важны. В-третьих, для
чисто фальсификационистского подхода к экономической теории след-
ствия из вышеописанного катастрофичны. Если бифуркации порож-
дают так много возможных исходов, то, очевидно, невозможно пола-
гаться только на фальсификацию, и прежде всего в области макроэко-
номики.
4.5. Экономика как наука?
На протяжении истории экономической науки существовало
нескончаемое методологическое «напряжение» между аксиомати-
ческим подходом и подходом, ограниченным учетом данных. Про-
стое рассмотрение контраста между Рикардо и Смитом или между
Маршаллом и Эджуортом достаточно для иллюстрации этого пункта.
Но никто из названных по крайней мере не сомневался, что он в
определенном смысле пытался сделать что-то научное. Если мы по-
стараемся быть скромными в наших целях, если мы будем готовы
учитывать факты — в том смысле, как Смит говорил о фактах, огра-
ничивающих воображение, — если мы будем готовы сопоставлять
результаты нашего теоретизирования с данными и пытаться со-
знательно конструировать массивы данных, то тогда, очевидно, эко-
номическая наука вполне может иметь утилитарную ценность, а не
быть «искусством для искусства». Представляется практически оче-
Теория и эмпирическое наблюдение
77
видным, что экономика никогда не станет «точной наукой» (ср.:
Solow, 1986), но из этого не следует, что мы отказываемся от каких-либо
данных.
К ее чести, экономическая наука обладает существенными дос-
тижениями. Как заметил физик, если нам хочется узнать о любви, то
мы не читаем справочник по социологии вместо, скажем, Джейн Остин
(Ziman, 1978 : 185). В то же время мы не обращаемся к Джейн Остин,
если хотим узнать об инфляции. Если нам хочется узнать о потреби-
тельском выборе, мы поступим точно так же (хотя, возможно, при-
дется признать, что мы бы узнали больше из книги по маркетингу,
чем из классической «Теории потребителя» Джона Грина (Green,
1971)). Но нам нужно наращивать наши достижения и не отступать
назад, углубляясь в модели, которые ничего не говорят нам о реаль-
ном мире. Одна вещь, которой мы точно можем научиться у физи-
ков, — это идея о том, что моделирование, не имеющее явного отно-
шения к реальному миру, есть нарциссизм в чистом виде (Berry в
Wolpert, Richards, 1988 : 47).
Кроме того, экономисты обладают значительным влиянием, и
к этому нужно подходить со всей ответственностью. Очень может
быть, что они склонны переоценивать это влияние. Но профессио-
нальное высокомерие, несомненно, не является монополией эконо-
мистов, и оно не должно побудить нас пренебречь тем влиянием
(во благо или во зло), которым они могут обладать. Таким образом,
экономисты должны быть готовы ограничивать поле своего вообра-
жения, ссылаясь не только на факты, которые ими допускаются, но
также (часто, насколько возможно) на факты, которые ими предска-
зываются. Выбрав этот путь, они никогда не сделают ничего подоб-
ного тому, что сделали физики, но по крайней мере не будут свя-
зывать авторитет своей науки с теориями и предписаниями, не
имеющими никакого основания в экономическом мире.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
несколько ключевых ссылок
Литература по экономической методологии, касающаяся взаимосвязи
теории и наблюдения, огромна, и в последние годы ее объем заметно увели-
чился. Три классика: Дж. Н. Кейнс (J. N. Keynes, 1890), Роббинс (Robbins,
1932) и Фридмен (Friedman, 1953). Лучшими же современными книгами, по
мнению автора, являются книги И. М. Т. Стюарта (I. М. Т. Stewart, 1979) и
Блауга (Blaug, 1980), которые, дополняя друг друга, представляют собой
отличную базу для дальнейшего чтения. Труды Мак-Клоски (McCloskey, 1983,
1985, 1987) и Стиглера (Stigler, 1977) стоит читать для удовольствия, а мно-
гочисленные методологические работы Т. У. Хатчисон (Т. W. Hutchison) при-
носят как наслаждение, так и вдохновение.
80
Денис П. О’Брайен
Tarascio V., Caldwell В. Theory choice in economics: philosophy and practice //
Journal of Economic Issues. 1979. Vol. 13. P. 983-1006.
Taylor R. B. Lamarckist revival in immunology // Nature. 1980. Vol. 286. P. 837-
838.
Torrens R. An Essay on the External Corn Trade. London : Hatchard, 1815.
Torrens R. Letters on Commercial Policy. London : Longman, 1833.
Viner J. The economist in history // American Economic Review (Supplement).
1963. Vol. 53. P. 1-22.
Weisskopf W. The method is the ideology: from a Newtonian to a Heisenbergian
paradigm in economies // Journal of Economic Issues. 1979. Vol. 13. P. 869-
884.
Wilber C„ Harrison R. The methodological basis of institutional economics: pattern
mode, storytelling, and holism // Journal of Economic Issues. 1978. Vol. 12.
P.61-89.
Wilson D. Penicillin in Perspective. London : Faber & Faber, 1976.
Wolpert L.. Richards A. A Passion for Science. Oxford : Oxford University Press,
1988.
Woodcock A.. Davis M. Catastrophe Theory. Harmondsworth, 1978. Penguin,
reprinted 1985.
Yoshida R. M. Five Duhemian theses//Philosophy of Science. 1975. Vol. 42.
P.29-45.
Ziman J. Reliable Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
,81 X
• » РЛ’4’'.. •• - 3 ' ’ >•’
5
Hl". — li.l '
НОРМАН П. БЕРРИ 4
АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА:
РАСХОЖДЕНИЯ С ОРТОДОКСИЕЙ*
5.1. Введение
Интерес, вызываемый сегодня австрийской экономической шко-
лой, является весьма примечательным феноменом. За период, про-
шедший со Второй мировой войны до середины 1970-х гг., все до-
стойные внимания находки этой школы (например, доводы в пользу
важности рынка, теория субъективной ценности и теория капитала)
были «освоены» основным течением экономической мысли. Наибо-
лее отличительные черты этого учения «похоронены» в книгах, став-
ших достоянием истории экономической мысли. Подобная точка
зрения, ставящая под сомнение все претензии австрийских теорети-
ков на оригинальность, разделяется в том числе таким выдающимся
авторитетом, как Милтон Фридмен. Он заявил однажды, что «нет
никакой австрийской экономической теории, а экономическая на-
ука делится на хорошую и плохую» (см. Dolan, 1976 : 4).
В последующем изложении я попытаюсь показать, что австрий-
ская школа обладает рядом весьма характерных особенностей, даю-
щих право рассматривать это направление в качестве альтернативной
«парадигмы» по отношению к «остальной» неоклассической орто-
доксии или по меньшей мере в качестве соперничающей исследова-
тельской программы. При этом я не собираюсь уделять чрезмерного
внимания апологии капитализма, благодаря которой в основном ав-
стрийская школа и прославилась среди неспециалистов. Скорее, мне
бы хотелось выделить те элементы этого учения, которые обладают
подлинной значимостью. Тем не менее нельзя отрицать, что эти эле-
менты нагляднее всего проявляются именно в области экономиче-
ской политики, где голос австрийской школы особенно громок. Глав-
ным образом это относится к проблеме денег, интерпретации дело-
* Этот очерк был написан, когда автор стажировался в Центре социаль-
ной философии и политики при Государственном университете Грина, Огайо,
США.
7 Заказ № 356
82
Норман П. Берри
вых циклов и экономико-философской критике централизованной
плановой экономики. Кроме этого, необходимо прояснить одно важ-
ное обстоятельство. Дело в том, что австрийские исследователи при
объяснении экономических феноменов хранили безоговорочную вер-
ность доктрине Wertfreihe.it (свободы от ценностных суждений) и ис-
поведовали несомненный позитивизм в своих подходах. Вопрос за-
ключается в том, каким образом они сочетали подобную идеологию
с приверженностью ценностным суждениям вообще и в частности с
приверженностью точке зрения на общественное благосостояние, со-
гласно которой именно рынки, более или менее свободный, обеспечи-
вают максимизацию благополучия людей с большим успехом, чем
все остальные экономические системы. При этом следует подчерк-
нуть, что возражения австрийской школы по поводу многих видов
государственной политики, таких как регулирование арендной пла-
ты, ограничения свободы международной торговли, искусственное под-
держание цен и т. д., не являются сугубо оригинальными и обнару-
живаются в философии экономических школ, существенно отлича-
ющихся по своим основам от австрийской (в особенности здесь можно
выделить чикагскую школу).
Хотя истоки австрийской экономической теории1 следует ис-
кать в Венском университете второй половины прошлого века, в
период интеллектуального расцвета империи Габсбургов, выражение
«австрийская школа» сегодня почти утратило определенный геогра-
фический смысл. Творцы австрийской версии маржиналистской ре-
волюции Карл Менгер (1840-1921), Фридрих фон Визер (1851-1926)
и Евгений фон Бём-Баверк (1851-1914) передали эстафету авторам
(в особенности Людвигу фон Мизесу (1882-1973) и Фридриху фон
Хайеку (1899-1992)), которые приобрели широкую известность в
Англии и Соединенных Штатах. Именно пребывание Мизеса в Нью-
Йорке положило начало возникновению «американского» поколения
экономистов австрийской школы (в особенности это касается Изра-
эля Кирцнера и Мюррея Ротбарда), которые продолжали развивать и
уточнять оригинальную парадигму. Лишь силою обстоятельств, веро-
ятно, нелепых и печальных, «изгнание» австрийской школы привело
к тому, что это учение стало ассоциироваться исключительно с фана-
тичной приверженностью доктрине laissez-faire, а вовсе не с создани-
ем подлинной экономической теории.
Можно только пожалеть об этом, поскольку работы экономистов
«второго поколения» австрийской школы, в основном Мизеса и Хай-
1 Хорошим кратким введением в австрийское учение могут служить
книги Долана (Dolan, 1976), Спадаро (Spadaro, 1978), Рики (Reekie, 1984),
Шенда (Shand, 1984) и Литлчайлда (Littlechild, 1986). См. также двухтомный
труд представителя австрийской экономической школы Ротбарда (Rothbard,
1962), посвященный вопросам экономической теории и методологии.
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
83
ека (хотя к ним же должен быть причислен немецкий «австриец»
Людвиг Лахманн), содержали множество теоретических компонент
тов, которые были только намечены Менгером и его непосредствен-!
ными учениками. Речь идет о развитии принципа субъективизма прим
менительно ко всем аспектам рыночного процесса, о прояснении роли
предпринимателя на рынке и тщательной ревизии методологии эко-
номической теории в свете последних достижений философии соци-
альных наук. В целом эти исследования представляют собой резкий
отход от господствующей в прошлом ортодоксии с ее верой в «объек-
тивное» по своей сути экономическое знание, такое же точное и ко-
личественно определенное, как в естественных науках, с ее упором на
точный прогноз как на основную цель и с ее стремлением формали-
зовать и математизировать экономические явления. В противополож-
ность этому австрийская школа рассматривала человеческое действие
в мире неизвестности и неопределенности как главный объект эконо-
мического исследования. Она рассматривала человека, чей субъек-
тивный и непредсказуемый выбор сопротивляется любым попыткам
загнать себя в рамки механистической науки. Парадоксально, но и
современная формализованная неоклассическая экономика, и авст-
рийская традиция вышли из одного источника — маржиналистской
революции 1870-х гг.
5.2. Карл Менгер
и основы австрийской экономической школы
Маржиналистская революция 70-х гг. прошлого века получила
известность в истории экономической мысли главным образом бла-
годаря опровержению преобладавшей в ту пору теории ценности, ос-
нованной на производственных издержках (обычно определяемых
посредством объективных показателей трудозатрат). Кроме того,
именно в результате этой революции произошла замена старой тео-
рии совершенно новой концепцией, согласно которой цена зависит
от субъективных индивидуальных выборов, выраженных в предель-
ных величинах. Под воздействием работ Джевонса, Вальраса и Мен-
гера внимание было перенесено с долгосрочных исторических факто-
ров в сфере производства, задающих направление экономического
развития (на которые делался упор в классической политэкономии),
на разработку системы законов, определяющих, каким образом дан-
ные ресурсы распределяются для удовлетворения потребностей ато-
мизированных и анонимных агентов. Спрос стал ключом к ценообра-
зованию. Таким образом, микроэкономика стала полем исследова-
ний для экономистов. В двух своих главных работах («Основания
учения о народном хозяйстве», опубликованной в 1871 г. и «Иссле-
дования о методе социальных наук», опубликованной в 1883 г.) Мен-
84
Норман П. Берри
гер разработал австрийскую версию маржинализма и выдвинул не-
сколько важных положений, составивших суть различий между дан-
ной версией и разработками других маржиналистов, в первую оче-
редь Вальраса. В этих работах Менгер (Menger, 1950, 1963) заложил
фундамент экономики как науки, независимой от исторических об-
стоятельств и индуктивного обобщения, объяснил появление извест-
ных экономических институтов, таких как рынок, стремящийся к
равновесию, и деньги. В обоих исследованиях обосновывалось исполь-
зование методологического индивидуализма и выдвигалась доктрина,
согласно которой сложные общественные явления могут быть аде-
кватно поняты как логическое следствие действий, субъективного вос-
приятия и психологических установок отдельных индивидов. В этих
работах содержался также субъективизм, подразумевавший неоклас-
сическую трактовку цены как величины, зависящей от спроса в усло-
виях редкости ресурсов.
Менгер описывал рыночную экономику в категориях строгих
законов. Речь шла об обобщенных правилах экономического пове-
дения, которые рассматривались как абсолютно независимые от вре-
мени и обстоятельств и существование которых отрицалось глав-
ным антагонистом Менгера — немецкой исторической школой,
представленной в первую очередь Густавом Шмоллером. Примера-
ми подобных законов Менгер считал закон убывающей предельной
полезности (из которого выводился закон спроса), рикардовский
закон ренты и другие. Однако для Менгера эти законы не обладали
предсказательной силой в количественном смысле. Отсутствие со-
вершенной информации у экономических агентов, а также вероят-
ность того, что не все действия людей подчинены меркантильным
побуждениям, делают невозможным для внешнего наблюдателя точ-
ное предсказание поведения. Эти законы составляют суть именно
экономического действия как противоположного другим видам чело-
веческой активности и придают конкретную форму (согласно со-
держательному определению, позднее данному Лайонелом Роббин-
сом) «потребностям, которым подчинены человеческие поступки».2
Это внеисторическое видение Менгера и его убежденность в суще-
ствовании инвариантных законов экономической жизни, пусть даже
несколько отличных от законов физики, были важной частью на-
следия австрийской школы.
Однако еще более замечательным достижением Менгера было,
вероятно, подробное рассмотрение тех социальных феноменов, кото-
рые возникли как средство осуществления намерений и целей лю-
2 Роббинс (Robbins, 1935) поддержал методологию австрийской школы,
хотя современные австрийские теоретики скептически воспринимают его
трактовку «деятельности, связанной с рациональным использованием ре-
сурсов» как близкую к неоклассической ортодоксии.
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией 85
дей и при этом не были продуктом предварительного расчета: он
называл их органическими (в сегодняшней терминологии — спонтан-
ными), противопоставляя их тем явлениям, которые являются ре-
зультатом намерения или соглашения. В «Исследованиях о методе
социальных наук» он писал:
Язык, религия, даже само государство, а также, если говорить о некото-
рых экономических и социальных явлениях, различные проявления рыноч-
ной системы, конкуренция, деньги и множество других социальных образо-
ваний уже существовали в те исторические эпохи, когда бессмысленно было
бы говорить о преднамеренных действиях общества, направленных на их
установление.
(Menger, 1963 146)
Наилучшим примером спонтанного возникновения социального
феномена являются деньги. Хотя в своих работах по денежной тео-
рии Менгер весьма настойчиво старался доказать, что обеспечение
таким товаром, как деньги, не должно находиться в руках государ-
ства, да и в дальнейшем теоретики-австрийцы подчеркивали пагуб-
ные последствия, проистекающие из притязаний государства на дан-
ный вид монополии, эти исследования интересны главным образом в
другом отношении. Значение данного примера с теоретической точ-
ки зрения состоит в том, что он является иллюстрацией каузального
генетического метода. Этот метод предполагает абстракцию и гипоте-
тическую реконструкцию. Это значит, что мы должны мысленно про-
следить, шаг за шагом, каким образом индивидуальные взаимодей-
ствия приводят к возникновению рассматриваемого феномена. Кау-
зальный генетический метод контрастирует с «функциональным»
методом, использованным Вальрасом (Walras, 1954) при объяснении
рыночного равновесия. Менгер и другие теоретики-австрийцы пони-
мали это явление как процесс, благодаря которому распыленная ин-
формация постепенно интегрируется посредством координирующего
воздействия цен, в то время как Вальрас пытался выразить существо-
вание равновесия в математических понятиях. Оба подхода использу-
ют одни и те же «строгие» законы микроэкономики, но в различных
целях.
Непосредственные ученики Менгера, Бём-Баверк и фон Визер,
больше интересовались приложением полученной маржиналистской
базы ко всем аспектам производства и распределения в теории алло-
кирующего механизма рынка, чем развитием несколько туманных
идей, касающихся рыночного процесса. Бём-Баверк (Bohm-Bawerk,
1959), тем не менее, внес существенный вклад в экономическую тео-
рию своими работами по теории капитала, объяснением существова-
ния процента на основе роли времени в производственном процессе,
а также своими исследованиями «окольных» методов производства
(результаты которых впоследствии были использованы Хайеком в
86
Норман П. Берри
его концепции деловых циклов). Кроме того, следует признать важ-
ность резкой критики Бёмом-Баверком социализма вообще и марк-
сизма в частности (Bohm-Bawerk, 1975).3 Визер (Wieser, 1893) был
первым из австрийских теоретиков, подробно изложившим теорию
альтернативных издержек, позднее интегрированную в основательно
разработанное учение о субъективных издержках. Однако работы этих
авторов вовсе не стояли в стороне от бурного развития неоклассического
направления в те годы. Кроме того, было бы ошибкой ассоциировать
австрийских теоретиков с бескомпромиссной апологией неограни-
ченного капитализма. Особенно некорректно делать это в отношении
Визера, который исповедовал философию умеренного государственно-
го вмешательства.
Именно второе поколение теоретиков австрийской школы, пред-
ставленное Мизесом, Хайеком и их непосредственными учениками,
разработало ту версию австрийской школы, которая столь ярко выде-
лялась на общем фоне экономической ортодоксии; именно так воз-
никла экономическая теория, которая не только не была продолжени-
ем «неоклассики», но оказалась ее радикальной альтернативой. Эта
альтернатива включала множество весьма характерных для тради-
ций австрийской школы направлений исследования. Речь идет о
разработках в таких областях, как методология экономической на-
уки, субъективизм, равновесие и рыночный процесс, предпринима-
тельство, теория денег и экономических диспропорций.
5.3. Методология
Было бы ошибочным утверждать, что существует методологи-
ческая доктрина, которой все приверженцы австрийской школы
выказывали бы безоговорочную преданность. Несмотря на хорошо
известное неприятие позитивизма, у каждого австрийского теорети-
ка имелись собственные основания для подобного отношения. В ка-
честве примера радикальной позиции можно упомянуть воззрения
Мизеса, который в своих изысканиях непреклонно придерживался
своеобразного априоризма. Согласно подобному подходу, все извест-
ные законы должны выводиться из неких несомненных предполо-
жений относительно человеческой психологии, не требующих про-
верки.4
3 См. важный очерк «Управление или экономический закон» (Bohm-
Bawerk, 1962).
4 Имеется несколько вариантов изложения его бескомпромиссных и
часто догматически выраженных идей. В особенности см. Mises (1962). Пол-
ное же изложение его философских, политических и экономических взгля-
дов содержится в его главном произведении «Human Action» (Mises, 1966).
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
87
Так, из предположений, что действия человека направлены на
достижение состояния благополучия, что он ранжирует свои предпоч-
тения и что редкость благ является их общим свойством, мы можем,
например, вывести закон убывания предельной полезности и отсюда
получить необходимые составляющие теории цен, не упоминая при
этом принципа насыщения потребностей или любого другого психо-
логического положения. Подобные законы не обладают предсказа-
тельной силой и не могут быть эмпирически опровергнуты: напри-
мер, если человек предпочитает иметь большее количество данного
блага по более высокой цене, мы не будем утверждать, что закон
спроса опровергнут, мы просто скажем, что этот человек ведет себя
«неэкономично» в традиционном смысле слова. Таким образом, хотя
исходный экономический закон в данном случае «неприложим»,
трактовка данного действия сама по себе не подлежит сомнению. Цель
экономической теории — не прогноз, а «понимание» (Verstehen). Под
этим подразумевается, что при помощи неких организующих прин-
ципов мы придаем определенный смысл тому, что само по себе явля-
ется массой разрозненных фактов. Такие факты, будучи производ-
ными от непредсказуемых человеческих поступков, не проявляют
никакой очевидной «повторяемости» (например, не существует по-
стоянных эластичностей спроса) в том смысле, в каком это можно
сказать о «фактах» в области физики. Отсюда следует, что «истина»
в экономической теории должна обосновываться посредством кор-
ректных выводов из истинных предпосылок. Применимы ли данные
истинные утверждения к конкретной ситуации или нет — это пред-
мет исторического исследования. Этот подход весьма отличается от
позитивизма чикагской школы. В традициях последней принято
обосновывать истинность своих теорий через эмпирическую провер-
ку. Достоверность выдвинутых гипотез не имеет непосредственного
значения. Важно лишь, чтобы предлагаемая теория могла быть прове-
рена при помощи эмпирических данных.5
Большинство комментаторов признает радикальный априоризм
Мизеса неприемлемым. Согласно Марку Блаугу (Blaug, 1980 : 93), дан-
ную позицию следует назвать «экстравагантной». Однако в действи-
тельности воззрения, подобные мизесовским, вовсе не являются общей
особенностью подхода австрийской школы к проблеме методологии.
Тем не менее многие представители этого учения прибегают в своих
теоретических работах к вербальным дедуктивным построениям (осо-
бенно когда речь идет о теории денег и экономического цикла). Тео-
рия в данном случае является попыткой сделать мир «понятным»
5 См. известный очерк Фридмена «Методология позитивной экономи-
ческой науки» (Friedman, 1953). Несмотря на методологические различия,
Фридмен и большинство австрийских теоретиков разделяют позитивистский
подход в отношении ценностей.
88
Норман П. Берри
посредством некоторых объяснительных конструкций. Речь идет о
таких моментах учения «австрийцев», как принцип субъективизма,
идея каталлактики (экономики, основанной на обмене), а также
выделение роли предпринимательства как координирующей силы в
мире неопределенности.
Хайек (Hayek, 1948 : ch. II) утверждает, тем не менее, что в эко-
номической теории имеется по крайней мере одно положение, кото-
рое можно подвергнуть проверке в духе ортодоксального попперов-
ского подхода. Еще в 1937 году он утверждал, что рыночная система
имеет тенденцию возвращаться в положение равновесия благодаря
информации, которую несут цены. При этом он отличал «чистую
логику выбора» от проявлений эмпирических закономерностей в
реальном мире.
Тем не менее следует признать, что эмпирическое содержание
экономической теории чрезвычайно невелико и в действительности
совместимо с самым широким кругом экономических явлений. В сво-
ей более поздней работе Хайек хотя и признал, что экономическая
теория обладает предсказательной силой, все же высказал мнение,
согласно которому возможность предсказания распространяется ско-
рее на паттерны или классы событий, чем на отдельные события.
Теория всегда будет иметь дело лишь с определенными видами (или
классами) паттернов, и то, как проявит себя ожидаемый паттерн, будет зави-
сеть от определенных обстоятельств (от первоначальных условий, которые
мы будем трактовать как данные).
(Hayek, 1967 24)
Сложность тех данных, с которыми приходится работать эконо-
мистам, невозможность точно определить переменные, воздействующие
на человеческое поведение, — именно эти обстоятельства препятству-
ют созданию теории с богатым эмпирическим содержанием. Идея
предсказания паттернов, хотя и не отличающаяся особой определен-
ностью, играла существенную роль в воззрениях Хайека. Для него
было важно показать, что в мире экономики присутствуют некоторые
закономерности. Кроме того, не последнюю роль во взглядах австрий-
ского автора играло неявно присутствующее в его концепции положе-
ние, что децентрализованная рыночная система координирует дей-
ствия людей более эффективно, чем это делают прочие известные
разновидности экономического устройства. Однако далеко не все тео-
ретики субъективистского направления признают, что экономической
науке под силу что-либо большее, чем объяснение изучаемой дей-
ствительности. Причем двое из них, Людвиг Лахман и Дж. Л. С. Шекл
(последний — в особенности), отрицают, что можно вообще с уверен-
ностью осуществлять какие-либо виды предсказаний.
Какие бы острые баталии ни велись между теоретиками австрий-
ской школы по поводу фундаментальных основ экономической тео-
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
89
рии, все приверженцы этого учения исповедуют принцип субъекти-
визма. Однако даже это утверждение можно оспорить и подвергнуть
специальному рассмотрению.
5.4. Субъективизм
В традиционной экономической теории субъективизм означает
только то, что ценность экономических благ (т. е. цены, по которым
товары обмениваются друг на друга) зависит в конечном счете от
индивидуальных вкусов. Не существует никакой объективной цен-
ности, о которой шла речь в рикардианской классической теории,
господствовавшей до 1870-х гг.
Однако если известны вкусы и заданы технологические возмож-
ности, то аллокация ресурсов, требуемых для производства оптималь-
ного набора благ, может быть рассчитана математическими методами.
Экономическая наука, использующая известное неоклассическое по-
нятие рациональности, стала, согласно известному определению Роб-
бинса, дисциплиной, объясняющей аллокацию редких ресурсов меж-
ду конкурирующими видами использования, чем-то вроде упражне-
ния в чистой логике выбора.
Австрийская школа распространяет принцип субъективизма на
все виды экономической деятельности.6 По мнению австрийцев, было
бы искажением экономической действительности утверждать, что
нечто (например, издержки производства) заранее задано. В мире не-
определенности и непостоянства необходимые «факты» должны быть
добыты действующими индивидами, вовлеченными в непрерывный
поиск информации, которая помогла бы им улучшить собственное
положение. Рациональность в таком случае означает не только рас-
чет средств. Она предполагает как выбор самих целей, так и поиск в
процессе обучения необходимых для их достижения средств. Далее,
поскольку все поступки совершаются во времени, а будущее в значи-
тельной (если не в полной) мере скрыто от нас, идея существования
совершенной аллокации ресурсов является не более чем фикцией.
Для Мизеса все человеческие поступки рациональны. В его терминах
это означает, что человек скорее стремится избежать некоего «обреме-
нительного» положения, чем просто реагирует на внешние обстоя-
тельства. Эта особенность человеческого поведения совершенно не
учитывается в неоклассической модели экономической действитель-
ности, и именно поэтому ортодоксия несостоятельна в объяснении
реальной, заведомо несовершенной, рыночной экономики. Вместе с
6 Именно это заставляет австрийских теоретиков усомниться в целесо-
образности попыток формализации экономических явлений; см. Mises (1966 :
chs 15, 16) и Hayek (1948: ch. II).
90
Норман П. Берри
тем неоклассическая модель прекрасно приспособлена для теорети-
ческого описания совершенного рынка.
Из нашего обсуждения явствует, какое большое значение авст-
рийские теоретики придавали ментальным аспектам экономическо-
го поведения. Это значит, что то, что называется экономической де-
ятельностью, — это в первую очередь индивидуальные оценки состо-
яния дел и выборы между альтернативными линиями поведения.
Экономическая теория, пренебрегающая этим обстоятельством и за-
нимающаяся исключительно теми объектами, которые могут быть
представлены квантифицируемыми переменными, обречена на игно-
рирование некоторых фундаментальных особенностей рыночной эко-
номики. Многие важные экономические явления не поддаются непо-
средственному наблюдению.
Изложенные выше соображения можно наглядно проиллюстри-
ровать, обратившись к трактовке такого понятия, как издержки. Из-
вестно, что для микроэкономической теории обычным является рас-
смотрение издержек как ценности упущенной возможности исполь-
зовать тот же самый ресурс иным образом. Так, если я потратил
100 долларов на телевизор, то мои издержки составят ту же самую
сумму, которую я мог бы израсходовать на покупку стиральной ма-
шины. Таким образом, возникает искушение выражать издержки в
объективированном виде — через денежные расходы. Ex post так оно
и есть. Однако таким образом мы теряем истинную суть издержек,
заключающуюся в их субъективной природе, поскольку их оценка
предполагает частное по своему характеру суждение человека, дела-
ющего выбор. Издержки «выявляются» в момент решения, и, следо-
вательно, их нельзя выразить в объективном количественном виде.
Как указал Кирцнер (Kirzner, 1986 : 147), невозможность точного из-
мерения и сравнения издержек полностью аналогична хорошо извест-
ной невозможности межличностного сравнения полезностей.
Это обсуждение могло бы показаться мелочным выискиванием
изъянов в неоклассической модели, если бы не то обстоятельство, что
теория рационального экономического планирования в значительной
степени зависит от существования объективного метода сравнения
издержек конкурирующих экономических проектов. Однако если
исходить из приведенных выше соображений, издержки выявляются
только при развертывании рыночного процесса, в действиях индиви-
дов, принимающих решения. Можно ли утверждать в таком случае,
что плановики имеют в своем распоряжении некие объективные дан-
ные (если только речь не идет об их собственных субъективных оцен-
ках, что явно не то, что имеет в виду первоначальная теория экономи-
ческого планирования)?
Подобные же аргументы заставляют теоретиков австрийской
школы относиться скептически, если не прямо негативно, к концеп-
ции «общественных» издержек. Речь идет об отрицательных внешних
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
91
эффектах, которые действия экономических агентов накладывают на
общество. Невозможно отрицать, что в том или ином смысле это
явление имеет место. Однако можно ли осмысленно толковать о жерт-
вах, приносимых обществом, которое само по себе, строго говоря, не
является действующим лицом? Как может быть принято «социаль-
ное» решение, например, по поводу выбора между чистой окружаю-
щей средой при невысоком объеме производства и противополож-
ной ситуацией? Поскольку доктрина «оптимального уровня налогов
на загрязнение окружающей среды» является непоследовательной в
своей основе, позиция австрийской школы заключается в том, что
подобные проблемы должны решаться в ходе индивидуальных пере-
говоров в рамках системы специфицированных прав собственности
(хотя, нужно признать, что австрийская школа ни внесла каких-либо
теоретических новшеств в эту область).
Однако как бы убедительно австрийская школа ни встраивала
субъективизм в экономическую науку, можно утверждать, что ока-
занное влияние не было конструктивным. Политическая экономия
стремится обнаружить и объяснить некие закономерности, существо-
вание которых, до некоторой степени, очевидно в экономической
жизни. В таком случае, подчеркивая роль неопределенности и непо-
знаваемости, не ставим ли мы под сомнение возможность предсказа-
ния хотя бы тех «паттернов», о которых писал Хайек? Не отводим ли
мы экономической науке достаточно жалкую роль, ограничиваясь
задачей обеспечения «понятности» изучаемого мира? Более того, хотя
Хайек и Мизес отвергали понятие агрегированной функции обще-
ственного благосостояния, поскольку оно представляет собой обыч-
ную ошибку объективизма, их работы изобилуют суждениями об об-
щественном благосостоянии.
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, следует обратиться к
понятию равновесия, интерпретация которого весьма важна для пра-
вильного понимания учения австрийской школы.
5.5. Равновесие
Известно, что теоретики австрийской школы уделяли большое
внимание проблеме неравновесия и невозможности совершенной ко-
ординации действий в рыночной экономике. Они полагали, что пред-
метом исследований экономистов должен быть непосредственный
рыночный процесс. Тем не менее было бы несправедливо и ошибочно
утверждать, что концепция равновесия была для представителей это-
го учения чем-то неведомым. Мизес говорит о «вечно повторяющей
себя экономике», о состоянии совершенного равновесия, когда при
неизменных условиях постоянно воспроизводятся одни и те же блага.
Это состояние он использовал в качестве полезного, хотя и фиктивно-
92
Норман П. Берри
го, теоретического построения своеобразной системы отсчета, относи-
тельно которой мы можем проиллюстрировать цель действительного
рыночного процесса, т. е. движение по направлению к подобной «нир-
ване», пусть даже постоянно нарушаемое изменениями тех данных, с
которыми приходится иметь дело участникам экономических взаи-
модействий. Несколько иным образом Хайек высказывался по пово-
ду «динамического равновесия». Это состояние предполагает, что
индивиды исходя из оценок будущего положения дел корректируют
свои планы с целью достижения согласованной (эффективной) алло-
кации ресурсов. На практике Хайек использовал подобную модель в
своей работе «Чистая теория капитала» (Hayek, 1941), которая разви-
вает теорию капитала Бёма-Баверка и, согласно названию, представ-
ляет собой упражнение в абстрактном теоретизировании по поводу
экономических обстоятельств, не осложненных неведением, неопреде-
ленностью и потенциально дестабилизирующим влиянием денег.
Таким образом, Хайек в своих подходах не так уж далек от
теоретических построений, рассматривающих экономические явления
в духе доктрины общего равновесия. Этот тип теоретизирования су-
ществовал в экономической теории со времен Вальраса. Однако если
традиция, берущая свое начало в трудах швейцарского экономиста,
по большей части сосредоточивается на математических доказатель-
ствах существования равновесия, представителей австрийской шко-
лы больше заботит изучение факторов, создающих тенденцию к до-
стижению равновесия. Этот подход контрастирует со взглядами тако-
го современного исследователя равновесия, как Фрэнк Хан, который,
признавая, что господствующий неоклассический подход не отража-
ет действительности, тем не менее убежден в его разумности: «Тот,
кто изучает общее равновесие, полагает, что имеет некую точку опо-
ры, отталкиваясь от которой можно продвигаться по направлению к
описательной теории» (Hahn, 1973 : 324). Методом изучения служит
математическое представление всех составляющих экономической
системы в виде функциональных зависимостей.
Однако в своей знаменитой статье 1937 г. «Экономика и зна-
ние» (Hayek, 1948 : ch. II) Хайек доказывает, что причина нашего
интереса к равновесию заключается в существовании определенного
эмпирического явления: процесса движения к равновесию в мире
распыленной и неполной информации. Если подходить к этому во-
просу с точки зрения каузального генетического метода Менгера, то
наша задача состоит в отслеживании тех механизмов, благодаря кото-
рым действия участников рыночного процесса приводят к результату
(в нашем случае к самоуравновешивающемуся рынку), который не
входил в намерение отдельных агентов. Интересно также, что Мизес
доказывал наличие этой тенденции в обычной априорной манере.
Она проистекает, утверждал он, из «действий промышленников, по-
средников и спекулянтов, стремящихся получить прибыль на разнице
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
93
в ценах...» (Mises, 1966 : 355). Хайек, однако, придерживался пози-
ции, согласно которой вопрос о существовании этой тенденции отно-
сится к разряду эмпирических: «Именно утверждение, что подобная
тенденция имеет место, превращает экономику из упражнения в чи-
стой логике в эмпирическую науку» (Hayek, 1948 : 44) (см. также
Littlechild, 1983). Тем не менее он никогда не указывал конкретно,
как именно это положение может быть опровергнуто. Приверженцы
австрийской школы всегда утверждали, что любая неудача в коорди-
нации экономической жизни вызывается экзогенными (вызванными
правительственными действиями) помехами процессу движения к
равновесию. Вне всяких сомнений, эта точка зрения крайне важна,
поскольку у многих авторов, весьма симпатизирующих австрийской
«экономической метафизике», имелись серьезные основания для со-
мнения в существовании тенденции к равновесию и они были настро-
ены на полное изгнание этого понятия из экономической теории.
Независимо от данного осложнения Мизес и Хайек в одни голос
объясняли тенденцию к установлению равновесию конкурентным
процессом (Hayek, 1948). Концепция, предлагаемая этими авторами,
отличается от идеи совершенной конкуренции, содержащейся в тео-
рии общего равновесия, поскольку последняя предполагает такое по-
ложение дел, при котором конкуренция уже прекратилась. Уже не
существует возможностей дальнейшего совершенствования, цены точно
отражают предельные издержки, и каждый фактор оплачен согласно
его предельному продукту. Австрийская же школа имеет в виду
«соперническую конкуренцию», при которой имеются неиспользован-
ные возможности получения прибыли. Хан (Hahn, 1973 : 322) призна-
вал: «у теории общего равновесия все хорошо с самим равновесием,
но очень плохо с пониманием того, каким образом оно устанавлива-
ется».7 Австрийцы полагают, что движение к равновесию (если оно
вообще имеет место) является результатом непрерывного процесса
конкуренции, в котором решающую роль играет предприниматель.
5.6. Предпринимательство
Движущей силой рыночного процесса является предпринима-
тельство: понятие, которое до последнего времени влачило, так ска-
зать, несколько призрачное существование в истории экономической
мысли. Под словом «предприниматель» часто понимают нечто вроде
«менеджера», которому платят деньги за услуги по управлению.
Шумпетер (Schumpeter, 1939), однако, предпринял первое системати-
ческое исследование, концентрируя внимание на дестабилизующей
роли предпринимательства: предприниматель — это агент, облада-
7
Критику Хана см. в работе: Barry, 1988.
94
Норман П. Берри
ющий способностью к предвидению и нововведениям, которые позво-
ляют ему нарушать существующее равновесие, оставляя после себя в
кильватере «волны созидательного разрушения». Несмотря на обра-
щение Шумпетера к творческой и инновационной деятельности че-
ловека, имеется значительное различие между этой концепцией и
концепцией австрийской школы.
В работах Мизеса и Хайека «предпринимательство» воплощает
ту составляющую предпринимательства, которая имеет отношение к
рациональному использованию ресурсов и не учтена неоклассическим,
формальным, подходом к рациональности. Доход предпринимателя
не является оплатой фактора производства в самовоспроизводящейся
равновесной системе, поскольку роль предпринимателя состоит в ис-
пользовании возможностей получения прибыли (основанных на раз-
нице в ценах), которые существуют в неравновесных ситуациях. И ре-
ализуются эти возможности при помощи мер, приводящих в действие
процесс экономической координации. Таким образом, прибыль —
не оплата фактора производства, а вознаграждение за правильное по-
нимание того, как использовать существующие возможности. В этом
состоит большое значение предпринимательства как универсальной
категории человеческой деятельности, о какой бы группе участников
рыночного процесса ни шла речь: потребителях, производителях или
каких-либо еще действующих лицах зкономической жизни. Хайек в
серии важных послевоенных очерков (Hayek, 1948) доказывал, что
только благодаря предпринимательству (деятельности многократно
осмеянного «среднего человека» или участника рынка) может быть
скоординирована рассеянная информация, характерная для реальной
экономики. В самом деле, один из важнейших аргументов против
централизованно планируемой экономики состоит в том, что замена
предпринимателя менеджером, получающим оклад, приведет к неэф-
фективному использованию переменчивого и бесплотного экономи-
ческого знания, т. е. все время меняющихся сведений о вкусах, про-
изводственных возможностях, издержках и т. д. Главным пунктом
австрийской методологии является то, что большая часть наших зна-
ний о состоянии дел в обществе является неявной. Находясь в распо-
ряжении экономических агентов, она сокрыта от внешнего наблюда-
теля в закутках сложно организованных обществ и не поддается точ-
ному выражению.
В работах Израэля Кирцнера (Kirzner, 1973, 1979, 1989) эта кон-
цепция была изложена в наиболее сжатом виде. Данная интерпрета-
ция вызвала полемику среди приверженцев австрийской школы.
Кирцнер использовал для описания этого явления понятие «чуткость»
(alertness). Добивающийся успеха предприниматель демонстрирует
чисто ментальное умение обнаруживать разницу между ценами фак-
торов и продукта (прибыль). Далее можно провести весьма определен-
ную границу между предпринимательством и владением собственно-
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
95
стью (хотя для некоторых агентов эти роли могут совпадать). В ca-i
мом деле, деятельность предпринимателя (если рассуждать логиче-
ски) вовсе не требует привлечения каких-либо ресурсов, она является
в некотором смысле «беззатратной»: «предпринимательская прибыль
является результатом обнаружения чего-либо, что можно получить
даром» (Kirzner, 1973 : 144). Предпринимательство заключается в на-
хождении ошибки в прежней ситуации. Но без этого явления ры-
ночный процесс не будет «подталкиваться» к состоянию равновесия,
хотя все остальные особенности рынка делают эту искомую нирвану
недостижимой. Именно процесс координации создает демаркацион-
ную линию между концепциями предпринимательства Кирцнера и
Шумпетера. А если говорить более конкретно, то в работах последне-
го существенное значение имеет раскоординирующая роль предприни-
мателя.
Главный повод для критики теории Кирцнера состоит в том, что,
несмотря на ее принадлежность австрийской школе, она описывает
нечто почти «механическое» (см. High, 1982). Эта «чуткость» к раз-
нице в ценах, которая неизбежно направляет процесс к равновесию,
кажется простым арбитражем, и это позволяет воздать должное твор-
честву, воображению и оценке возможностей получения прибыли,
которые, без сомнения, требуются для успешного существования на
рынке. Если предпринимательство — это не требующая затрат мен-
тальная деятельность, не значит ли это, что не может существовать
никаких предпринимательских убытков (именно эту сторону дела
подчеркивал Мизес)? Эти затруднения проистекают из того факта, что
Кирцнер уделяет недостаточное внимание неопределенности. В его
ранней работе «Конкуренция и предпринимательство» этот феномен
едва заметно прослеживается.
В более поздних работах Кирцнер (Kirzner, 1979, 1989) выде-
лил особое значение спекулятивной творческой деятельности на
рынке. Он рассмотрел вопрос о том, какую роль при развертывании
рыночного процесса играет воображение экономических агентов.
Здесь можно отметить различие между предвидимым (в сознании
экономического агента) и свершившимся будущим. Признание это-
го факта заставляет ввести понятие творческого предприниматель-
ства, которое есть нечто большее, чем простой арбитраж. Однако
Кирцнер настаивает на том, что все это уже содержится в его кон-
цепции «чуткости» и что деятельность, связанная с нововведениями
и открытиями, является частью процесса установления равновесия.
Другими словами, имеется некоторое соответствие между предвиди-
мым и осуществившимся будущим: это вопрос не благоприятной
фортуны, а закономерностей человеческого поведения. Однако во-
все не очевидно, что как проявления творчества и воображения в
Деятельности экономических агентов, так и выискивание возмож-
ностей получения прибыли на разнице цен в равной степени явля-
96
Норман П. Берри
ются составляющими одной и той же концепции «чуткости». Ведь,
очевидно, что последний вид деятельности является ответом на
существование в экономике нескоординированной информации, в то
время как первый подразумевает созидание самого мира. Предпри-
ниматель Шумпетера и предприниматель Кирцнера, таким обра-
зом, — вовсе не одно и то же лицо.
На самом деле и Кирцнер, и другие теоретики австрийской школы
имели веские основания отрицать тезис о том, что частнопредприни-
мательская рыночная экономика не проявляет никаких закономерно-
стей, что этому хаотичному миру свойственна текучесть и неопреде-
ленность и в нем отсутствует стремление к равновесия Они хотели
показать, что наличие тенденции к равновесию — результат действия
определенных факторов: выявления относительной редкости различ-
ных благ посредством механизма цен и способности индивидов реа-
гировать на возможности получения прибыли, основанные на разнице
цен. Даже когда планы и ожидания индивидов нарушаются непред-
виденными изменениями внешних условий, информация, содержаща-
яся в системе цен, ведет к координации человеческой деятельности,
которая, однако, вовсе не обязательно предполагает «эффективное»
равновесное конечное состояние.
В противоположность этому крайние субъективисты сомневают-
ся в достоверности даже такого умеренного процесса взаимной кор-
ректировки индивидуальных планов. Лахманн (Lachmann, 1976) и
Шекл (Shackle, 1972) утверждают, что экономический мир — «калей-
доскопичен», т. е. существует постоянная перегруппировка элементов
экономической системы, которая скорее порождает вечно сменяющи-
еся и недолговечные паттерны, чем долгосрочную тенденцию к рав-
новесию, представляющую собой более или менее гладкий процесс
координации, корректировки индивидуальных действий. Координа-
ция — это скорее результат прозорливости, чем действия причинно-
следственных закономерностей.
Основой данного подхода является утверждение, что значитель-
ная часть экономической жизни связана с ожиданиями, которые явля-
ются чисто субъективным явлением. При этом не существует никакого
механизма, посредством которого они могли бы быть скоордини-
рованы,8 подобного системе цен сигнализирующей об относительной
редкости товаров и услуг. Крайняя субъективистская точка зрения
предполагает, что экономический мир в значительной степени состо-
ит из личных объективно выразимых оценок будущего. Эта бунтар-
8 Из этого вовсе не следует, что централизованное управление способно
улучшить рынок в этом отношении. Как Лахманн, так и Шекл обращают
внимание на общую особенность общественных условий, т. е. на непредска-
зуемость и неопределенность, особенно проявляющиеся в человеческих по-
ступках.
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
97
екая позиция подразумевает, что действия индивидов, даже без влия-
ния внешних факторов, могут порождать некие паттерны или эконо-
мические образования, которые хотя и не дотягивают до соответствия
даже минимальным критериям благосостояния, неявно содержащимся
в австрийской традиции, тем не менее вряд ли могут быть улучшены
благодаря спонтанным действиям. Подобное развитие австрийской
традиции чрезвычайно напоминает рассуждения Кейнса в его несколь-
ко таинственной двенадцатой главе «Общей теории занятости, про-
цента и денег» (Keynes, 1936), посвященной субъективизму и ожида-
ниям.
Утверждение Хайека, что система цен является своеобразным
индикатором, который обеспечивает информацией разобщенных аген-
тов, направляя таким образом их действия, кажется не слишком
убедительным, если учесть, что экономический мир в значительной
мере состоит из мыслей и воображения. Людвиг Лахманн (Lachmann,
1976, 1977), например, охотно использует для своих доказательств
непостоянство фондовых рынков (в противоположность относитель-
ному спокойствию обычных товарных рынков). По Лахманну, «везде-
сущность» ожиданий на фондовых рынках приводит к тому, что мы
наблюдаем не устойчивый и скоординированный процесс, а ряд пе-
ременчивых, сменяющихся каждый день состояний равновесия без
всякого признака архимедовой точки опоры. Под влиянием веберов-
ской философии общественных наук Лахманн утверждал, что глав-
ная интеллектуальная задача экономической теории заключается в
том, чтобы обеспечить понимание этого мира.
Возможно, в более эффектной манере Шекл (Shackle, 1972) дока-
зывал, что в экономике не существует никакой тенденции к равнове-
сию. Поскольку в этом мире нет ничего, кроме ожиданий и вообра-
жения, мы можем надеяться лишь на временные случаи координа-
ции, не обязанные своим появлением какому-либо экономическому
«закону» и лишенные какой-либо сверхзадачи. Координация на са-
мом деле — лишь проявление прозорливости, и хаос (или по мень-
шей мере возможность крупномасштабной экономической катастро-
фы) не может быть исключен в этом мире, где каждый индивид —
обособленный (и субъективный) творец своего будущего. Эту мысль
Шекл выразил знаменитой фразой: «Будущее нельзя предсказать, но
его можно вообразить» (Shackle, 1972 : 3).
Философской базой позиции Шекла является разграничение, ко-
торое он проводит между разумом (reason) и выбором (choice):
Доктрина рационализма заключает в себе парадокс. В самом деле, она
предполагает веру в то, что поведение может быть понято как часть детерми-
нированного устройства и движения Природы. Поведение может быть инте-
грировано в существующий миропорядок благодаря тому, что человек совер-
шает наилучший выбор исходя из имеющихся условий. Проблема состоит в
том, что рационализм, с одной стороны, наделяет человека свободой выбора,
8 Заказ № 356
98
Норман П. Берри
с другой — претендует на возможность предсказания этого выбора... Для
того чтобы обеспечить согласованность отдельных выборов и в то же время
сохранить непостижимость будущего, без последнего лучше вовсе обойтись.
(Shackle, 1972 239)
Это означает, что если мы хотим достичь рационального и науч-
ного объяснения экономического мира, объяснения, возможность ко-
торого, безусловно, зависит от существования некоторой упорядочен-
ности или повторяемости явлений, то нам придется отказаться от
безусловных суждений по поводу выбора. Ясно, что выбор в значи-
тельной степени зависит от непредсказуемых обстоятельств и требует
воображения.
Большинство экономистов не готово принять внутренний ниги-
лизм позиции Шекла. В экономической теории имеется несколько
положений, которые могут быть охарактеризованы как научные (хотя
и менее точные, чем в физике), и несколько более или менее досто-
верных закономерностей. Можно ли всерьез утверждать, что постоян-
но наблюдаемые последствия контроля над арендной платой на рын-
ке жилья являются просто случайным и временным феноменом и
что их нельзя объяснить как результат действия очевидных общих
законов? Конечно, нет.
Если все, что говорит Шекл, — правда, то это приводит к серьез-
ным последствиям для суждений о преимуществе рыночных меха-
низмов, неявно содержащихся в австрийской теории. Вероятно, на
его взгляды оказал большое влияние опыт крупномасштабных кру-
шений, произошедших в рыночной экономике XX столетия. Важ-
ный вопрос заключается в том, вызваны ли эти феномены эндогенны-
ми причинами или они являются производной экзогенных влияний,
например неправильного управления денежной сферой или существо-
вания государственных ограничений на процессы рыночной коорди-
нации. Главное утверждение австрийской школы состоит в том, что
эти нарушения, свидетелями которых мы стали, всегда вызывались
правительственными действиями, причем особое значение имеет го-
сударственная монополия на предложение денег.
5.7. Деньги и экономические колебания
Интерес экономистов-профессионалов к австрийской школе был,
вероятно, связан с микроэкономическими разработками. Однако имен-
но благодаря этому интересу научная общественность обратилась к дру-
гим идеям Мизеса и Хайека, имеющим прямое отношение к пробле-
мам государственной политики, и особенно к спорам по поводу инф-
ляции и безработицы, начавшимся в 1970-е гг. Эти вопросы по своей
сути относятся к макроэкономике, однако использование этого терми-
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
99
на, вероятно, вызовет некоторое замешательство. Оно связано с тем, что
теоретики-австрийцы всегда весьма подозрительно относились к мак-
роэкономике, как кейнсианской, так.и монетаристской направленно-
сти. Их концепция человеческого действия, их крайний скептицизм,
по отношению к экономическому значению крупномасштабных агре-
гатных показателей («бездейственных агрегатов») и их враждебность
к статистическому измерению вообще основательно закрепили за ними
микроэкономическую нишу. Однако они вовсе не возражают против
теорий, рассматривающих экономику как целое, но лишь в той степе-
ни, в какой подобные построения логически вытекают из деятельно-
сти обособленных индивидов. Их теории денег и торгового цикла осно-
ваны именно на этом типе теоретизирования.
Для представителей австрийской школы нарушения функцио-
нирования экономики имеют денежный источник: эти нарушения
являются скорее результатом воздействия экзогенных факторов, чем
порочных процессов, присущих самому обмену.9 Однако последствия
нарушений, вызванных воздействием денежных факторов, могут быть
проанализированы в рамках абсолютно той же концептуальной осно-
вы, которая используется в микроэкономике. Так, хотя непредвиден-
ный и непостоянный рост объемов кредита вызывает пагубные по-
следствия, они проистекают из типичных особенностей человеческого
поведения. Речь идет об ошибке, ведущей к неверным инвестицион-
ным решениям, за которыми следует процесс корректировки посред-
ством регулирующего ценового механизма. Согласно хорошо извест-
ному высказыванию, хотя денежные факторы вызывают экономиче-
ский цикл, реальные факторы образуют основу для него (Hayek, 1931
ch. 1). Австрийская точка зрения состоит в том, что процесс в целом
является самоповторяющимся и вовсе не требует активных прави-
тельственных мер для своего ускорения.
В «классической» австрийской доктрине, показавшейся столь
неуместной при своем появлении во время Великой депрессии 1930-х гг.,
инфляционные деньги не оказывают на экономику однородного вли-
яния, а изменяют относительные цены: цены повышаются непропор-
ционально. Самое важное из этих неравнозначных ценовых измене-
ний относится к рыночной или денежной ставке процента (при рав-
новесии ставка процента в точности уравнивает спрос и предложение
ссудных фондов). Таким образом, долгосрочные инвестиции (т. е. ин-
вестиции, осуществляемые на самых ранних стадиях производства)
искусственно делаются более привлекательными. Однако поскольку
эти инвестиции не вызваны повышением подлинных сбережений, они
заведомо неустойчивы. Поскольку соотношение потребление—сбере-
9 См.: Mises, 1966 : ch. 20; Hayek, 1931. Современное изложение авст-
рийской теории денег и деловых циклов см. в работах: O’Driscoll, 1977;
Barry, 1979 : ch. 8.
100
Норман П. Берри
жения остается на том же уровне, что и до денежной инъекции,
производственные ресурсы будут направлены на то, чтобы обеспечить
потребительский спрос: в результате самые ранние стадии производ-
ства останутся без «подпитки» капиталом.10 Таким образом, несмот-
ря на эти неверно направленные инвестиции, вытекающие из целого
набора ошибок, процесс является самокорректирующимся, пусть даже
за счет некоторой (временной) безработицы в отдельных секторах
экономики.
Очевидно, это не та теория, которая могла бы иметь особую по-
пулярность в 1930-е гг., когда наблюдался высокий уровень безрабо-
тицы во всех секторах экономики. Неудивительно, что существующие
в то время условия вызвали к жизни теории, называвшие недостаток
эффективного спроса основной причиной депрессии. Даже Хайек не
был защищен от этого «поветрия», признавая, что «вторичная депрес-
сия» (на самом деле представляющая собой понижательную спираль)
может быть результатом дефляции, сменившей первоначальный чрез-
мерно оживленный бум. Однако исходная идея теории, состоящая в
том, что инфляция обладает реальным влиянием на структуру произ-
водства, а не просто повышает уровень цен, до сих пор остается глав-
ной и наиболее отличительной особенностью австрийской макроэко-
номики. Как и в чикагской ортодоксии, деньги здесь также «имеют
значение». На самом деле «элементарную» истинность количествен-
ной теории денег всегда подчеркивал сам Хайек. Однако деньги в
австрийской концепции имеют значение, несколько отличное от зна-
чения, приписываемого им монетаризмом: вне состояния равновесия
деньги никогда не являются «нейтральными». Именно по этой при-
чине, а также в силу некоторых других соображений государство не
должно обладать правом произвольно распоряжаться деньгами (Hayek,
1978; Barry, 1981).
5.8. Политическая экономия
и государственная политика
На протяжении всего изложения я проводил следующую мысль:
хотя теоретики-австрийцы могут справедливо полагать, что их анализ
причинных связей, существующих в экономике, относится к науке,
«свободной от ценностных суждений», в их учении неявно присут-
ствует вполне определенный взгляд на общественное благосостояние.
А именно: беспрепятственный рыночный процесс является наилуч-
шим вариантом использования ресурсов, вариантом, позволяющим
10 Парадоксально, но во время депрессии представители австрийской
школы настаивали на необходимости повышения уровня сбережений и уре-
зания потребления как условий оживления.
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
101
удовлетворить анонимных членов общества. Это, конечно, утилита-
ристское суждение, но оно существенно отличается от более известно-
го формального критерия благосостояния, который претендует на срав-
нение «состояний» в терминах измеримой полезности. Неприятие
сравнения и сложения значений индивидуальной полезности, требу-
емых для сопоставления конечных состояний, всегда было присуще
австрийской экономической теории.
Принцип, который австрийские теоретики положили в основу
своего основного тезиса в области теории благосостояния, относится к
области гносеологии. А именно: не существует никакого центрально-
го наблюдателя, точно знающего, что именно требуется для достиже-
ния наиболее эффективного результата. Рынок хорош не потому, что
он «эффективен» в каком-либо техническом смысле, а потому, что он
координирует человеческие действия с некоторой степенью предска-
зуемости.
Особенно хорошо это может быть проиллюстрировано на приме-
ре австрийской критики социализма. Речь идет о спорах, имевших
место в конце 1930-х гг. и проходивших в рамках неоклассической
парадигмы (Lavoie, 1985). Сторонники «рыночного социализма» осозна-
ли, что общее равновесие — вполне эгалитарная форма экономиче-
ского устройства. В самом деле, каждый фактор в этом случае
оплачивается согласно его предельному продукту, цены способствуют
расчистке всех рынков, не существует никакой сверхприбыли или
предпринимательской прибыли, отсутствуют монополии или иные
формы несовершенного рынка и, кроме того, набор продуктов и услуг
точно отражает нужды потребителей. Реально существующим капи-
талистическим рынкам было свойственно не просто неравенство в
обладании ресурсами, а беочисленное множество несовершенств, вклю-
чающее монополистическую «ренту», избыточную «прибыль» и дру-
гие несовершенства, формирующие систему, основанную на рыночной
мощи, а не на свободном обмене.
Первоначальное возражение Мизеса (Mises, 1935) против социа-
лизма (в его знаменитом очерке 1920 г.) заключалось в том, что при
отсутствии рынка невозможно произвести «расчет» (т. е. решить сис-
тему уравнений), требуемый для обеспечения эффективной аллока-
ции ресурсов. На деле «социалисты-рыночники», особенно Ланге, до-
пускали возможность того, что рынок является эффективным ору-
дием для решения различных проблем, и в своих первоначальных
моделях они «отдавали» потребление и выбор рода занятий во власть
рынка. Однако они заменяли предпринимателя государственным
управляющим (получающим оклад) и устанавливали централизован-
ные производственные нормы, заменяющие решения частных инвес-
торов (в построениях этих экономистов отсутствовали рынки капита-
лов). В более поздних моделях предполагалось, что высокоскоростные
компьютеры могут производить все необходимые вычисления, так
102
Норман П. Берри
что государство могло бы воспроизвести результат действия рыноч-
ных механизмов и при этом избежать каких-либо проявлений неэф-
фективности и неприемлемого неравенства, присущих реально суще-
ствующему рынку.
Хайековские возражения против социализма всегда несколько
отличались от соображений Мизеса по этому поводу (Hayek, 1948 :
chs. VII, VIII и X). Для Хайека проблема заключалась не только в
возможностях расчета. Он допускал, что в совершенном мире госу-
дарство могло бы воспроизвести состояние рыночного равновесия.
Однако здесь возникает проблема природы экономического знания как
такового. Эксплуатация природных ресурсов, направленная на макси-
мальное использование имеющихся возможностей, требует субъектив-
ных суждений и способности к открытиям новых возможностей. Но
индивидуальное знание, которое выявляется в этой деятельности, не
может быть преобразовано в форму, пригодную для расчетов. Это воз-
можно только при условии бесконечной повторяемости необходимых
для расчетов данных, что, очевидно, нереально в человеческих сооб-
ществах. Если предприниматели (в самом широком смысле этого
слова) являются носителями подобного неявного знания, то «чрезмер-
ная» прибыль, получаемая ими, является просто ценой, которую мы
платим за их общественно-необходимую деятельность. Проблемы ры-
ночного социализма с очевидностью проявляются, когда речь идет об
инвестициях. Отсутствие рынка капиталов означает, что суждения
(«субъективные») о перспективности альтернативных проектов неиз-
бежно высказываются политическими агентами, которые в обычных
условиях не являются объектами корректирующих механизмов де-
централизованного рынка.
Если рынок предполагает постоянный процесс самокорректиров-
ки, приспособления к имеющимся условиям и открытия новых воз-
можностей, то ему всегда будут свойственны определенные особенности,
которые сомнительно выглядят в свете чистой теории равновесия. Ис-
следователи, не принадлежащие к социалистическому лагерю, например,
могут заявить, что неэффективность монополии может быть скоррек-
тирована без внесения каких-либо дополнительных социалистических
элементов в рыночную систему. Но даже здесь австрийские теоретики,
скорее всего, выдвинут возражение, основанное все на той же гносео-
логической основе. Если монополист назначает цену на свой продукт,
очевидно, превышающую равновесную, и тем самым наносит убыток
общему благосостоянию, то, каким же образом тогда можно выявить
эту самую равновесную цену? В самом деле, перспектива значительной
прибыли, вероятно, единственный способ побудить частных лиц ввя-
заться в рискованную деятельность (Littlechild, 1981). Более того, пока
доступ на конкретный рынок остается открытым, возможности моно-
полиста, действующего на этом рынке, останутся в рамках определен-
ных ограничений. Эти вопросы не относятся к разряду грубых эмпи-
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
103
рических задач, связанных с исчислением потерь благосостояния, и т. д.
Они предполагают понимание (Verstehen) того, каким образом работа-
ют различные экономические системы.
5.9. Австрийская экономическая школа
и ее перспективы
В сегодняшних дебатах по поводу государственной политики
теоретики-« австрийцы », разумеется, заняты вопросами денег и инф-
ляции. И действительно, они выдвинули несколько радикальных пред-
ложений по установлению здоровой валюты (sine qua поп [необходи-
мого условия — лат.] рыночной системы). Что же касается теорети-
ческой области, то, вероятно, дальнейшие работы будут посвящены
развитию субъективного метода, теории предпринимательства, особенно
теории фирмы и роли предпринимателя в ней (см. Ricketts, 1987), а
также созданию жизнеспособной методологической альтернативы
позитивизму. Вероятно, наиболее важной задачей является форму-
лировка теории прав собственности в области внешних эффектов.
Необходимость этого становится еще более очевидной, если учесть,
что вопросы окружающей среды, вероятно, предоставят новые воз-
можности для использования «объективистских» решений экономи-
ческих проблем. Фактически наибольший вклад в теорию прав соб-
ственности и внешних эффектов внесли экономисты, далеко не всегда
связанные с австрийской школой.
Хотя доводы против инфляции, кейнсианства и государственного
планирования, которыми так славилось это течение экономической
мысли на протяжении всего XX столетия, теперь кажутся несколько
старомодными, современная программа исследований, заявленная авс-
трийской школой, весьма успешно проявляет себя в областях, ранее
считавшихся исключительно вотчиной неоклассической ортодоксии.
Соперничество между двумя альтернативными конкурирующими тео-
риями, являющееся особенностью современных экономических иссле-
дований, ведет к тому, что ни один подход, вероятно, не будет иметь
монополии на истину.
Литература
Barry N. Р. Hayek’s Social and Economic Philsophy. London : Macmillan, 1979.
Barry N. P. Austrian economists on money and society // National Westminster
Bank Quarterly Review. 1981. P. 20-31.
Barry N. P. The Invisible Hand in Economics and Politics. London : Institute of
Economic Affairs, 1988.
104
Норман П. Берри
Blaug М. The Methodology of Economics. Cambridge : Cambridge University
Press, 1980.
Bohm-Bawerk E. Capital and Interest, transl. G. Muncke and H. Sennholz. South
Holland, IL: Liberatarian Press (originally published in three volumes
between 1909 and 1914), 1959.
Bohm-Bawerk E. Control or economic law / In Shorter Classics of Eugen Bohm-
Bawerk. South Holland, IL : Libertarian Press, 1962.
Bohm-Bawerk E. Karl Marx and the Close of His System /ed. Paul Sweezey.
London : Merlin Press (first published 1896), 1975.
Dolan E. G. (ed.). The Foundations of Austrian Economics. Kansas City, KS :
Sheed & Ward, 1976.
Friedman M. Essays in Positive Economics. Chicago, IL : University of Chicago
Press, 1953.
Hahn F. H. The winter of our discontent //Economica. 1973. Vol. 40. P. 322-
330.
Hayek F.A., von. Prices and Production. London : Routledge, 1931.
Hayek F.A., von (ed.). Collectivist Economic Planning. London : Routledge, 1935.
Hayek F. A., von. Economics and knowledge // Economica. 1937. Vol. 4. P. 33-
54. Reprinted in von Hayek, F. A. Individualism and Economic Order,
London: Routledge, 1948.
Hayek F.A., von. The Pure Theory of Capital. London : Routledge, 1941.
Hayek F.A., von. Individualism and Economic Order. London : Routledge, 1948 I
Хайек Ф., фон. Индивидуализм и экономический порядок.
Hayek F. A., von. The Counter-Revolution of Science. Glencoe, IL : The Free Press,
1955.
Hayek F.A., von. Studies in Philosophy. Politics and Economics. 1967. London :
Routledge.
Hayek F. A., von. Full Employment at Any Price? London : Institute of Economic
Affairs. 1975.
Hayek F. A., von. The Denationalisation of Money. London : Institute of Economic
Affairs (1st edn 1976), 1978.
High J. Alertness and judgement: comment on Kirzner / In I. Kirzner (ed.).
Method, Process and Austrian Economics. Lexington, MA: D. C. Heath,
1982. P.161-168.
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London :
Macmillan, 1936.
Kirzner I. Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL : University of Chicago
Press, 1973.
Kirzner I. Perception, Opportunity and Profit. Chicago, IL : University of Chicago
Press, 1979.
Kirzner I. Another look at the subjectivism of costs / In I. Kirzner (ed.).
Subjectivism. Intelligibility and Economic Understanding. New York : New
York University Press, 1986.
Kirzner I. Discovery, Capitalism and Distributive Justice. Oxford : Basil Blackwell,
1989.
Lachmann L. From Mises to Shackle: an essay on Austrian economics and the
kaleidic society // Journal of Economic Literature. 1976. Vol. 14. P. 54-
62.
Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией
105
Lachmann L. Capital, Expectations and the Market Process. Kansas City, KS :
Sheed, Andrews & McMeel, 1977.
Lange O. On the economic theory of socialism / In B. Lippincott (ed.). The Economic
Theory of Socialism. New York : McGraw-Hill (first published 1938), 1964.
P.57-142.
Lange O. The computer and the market / In С. H. Feinstein (ed.). Socialism,
Capitalism and Economic Growth. Cambridge : Cambridge University Press,
1967.
Lavoie D. Rivalry and Central Planning. Cambridge : Cambridge University Press,
1985.
Littlechild S. C. Misleading calculations of the social cost of monopoly power//
Economic Journal. 1981. Vol. 91. P. 348-363.
Littlechild S. C. Equilibrium and the market process I In I. Kirzner (ed.). Method,
Process and Austrian Economics. Lexington, MA : D. C. Heath, 1982. P.
85-102.
Littlechild S. C. The Fallacy of the Mixed Economy I 2nd edn. London : Institute
of Economic Affairs (1st edn 1976), 1986.
Menger C. The Foundations of Economics, transl. J. Dingwell and B. Hoselitz.
Glencoe, IL: The Free Press (first published 1871), 1950.
Menger C. Problems of Economics and Sociology, transl. F. J. Nock. Urbana,
IL : University of Illinois Press (first published 1883), 1963.
Mises L., von. Economic calculation in the socialist commonwealth / In von Hayek,
F. A. (ed.). Collectivist Economic Planning. London : Routledge, 1935.
P.87-130.
Mises L., von. The Ultimate Foundation of Economic Science. Princeton, NJ : Van
Nostrand, 1962.
Mises L., von. Human Action / 3rd edn. Chicago, IL: Henry Regnery (first
published 1949), 1966.
Reekie D. Markets, Entrepreneurs and Liberty. Brighton : Harvester Wheatsheaf,
1984.
Ricketts M. The Economics of Business Enterprise. Brighton : Harvester Wheat-
sheaf, 1987.
Robbins L. C. The Nature and Significance of Economic Science / 2nd edn. London :
Macmillan (1st edn 1931), 1935.
Rothbard M. N. Man, Economy and State. New York : Van Nostrand, 1962.
Schumpeter J. S. Business Cycles. New York : Harrap, 1939.
Shackle G. L. S. Epistemics and Economics. Cambridge : Cambridge University
Press, 1972.
Shand A. The Capitalist Alternative: An Austrian View of Capitalism. Brighton :
Harvester Wheatsheaf, 1984.
Spadaro L. M. (ed.) New Directions in Austrian Economics. Kansas City : KS.
Sheed. Andrews & McMeel, 1978.
Walras L. Elements of Pure Economics, transl. W. Jaffe. London : Allen & Unwin
(first published 1874), 1954.
Wieser F., von. Natural Value, transl. C. A. Malloch. London : Macmillan (first
published 1889), 1893.
6
ЛОУРЕНС А. БОУЛЭНД й <• ‘
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ л
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ
6.1. Введение
Не так уж много экономистов сегодня выступают под знаменем
«экономического позитивизма» или «позитивной экономической те-
ории». Значит ли это, что экономический позитивизм мертв? Конеч-
но, нет. Позитивная экономическая теория получила сегодня столь
широкое распространение, что все другие конкурирующие позиции
(кроме чистой математической экономики) фактически оказались в
тени. Поэтому нетрудно понять причину отсутствия методологиче-
ских лозунгов по поводу позитивизма. Нет предмета для споров, и,
следовательно, нет нужды размахивать флагом.
В современных учебниках господство экономического позитивизма
более чем очевидно. Почти в каждом учебнике вводного уровня объяс-
няется различие между «позитивной» и «нормативной» экономиче-
ской теорией. Авторы этих учебников пытаются уверить нас, что
экономисты не в состоянии обойтись без позитивной экономической
теории и способны удовлетворить требованиям экономического пози-
тивизма. Почему же экономистам так необходима позитивная эконо-
мическая теория? Удовлетворяют ли экономисты требованиям эконо-
мического позитивизма? Именно этим двум вопросам и посвящена
данная глава.
6.2. Что противопоставляется позитивной
экономической теории?
Несмотря на то что авторы всех учебников наглядно демонстри-
руют различие между «позитивными» и «нормативными» вопросами,
опираясь при этом на дихотомию «то, что есть, — то, что должно
быть», вовсе не так очевидно, что история данного разделения дает
для этого повод. В поддержку указанной дихотомии особенно часто
цитируют Джона Невилла Кейнса, хотя, как пояснил Марк Блауг
Современные взгляды на экономический позитивизм
107
(Blaug, 1980 : 141), в действительности Невилл Кейнс делил экономи-
ческие вопросы на три области: а) «установление существующих
эмпирических закономерностей», б) «определение образцов» или «кри-
териев того, что должно быть», и в) развитие практического «искус-
ства» формулировки «максим или предписаний, следуя которым мож-
но достичь поставленных целей наилучшим образом» (Keynes, 1917
32-35, курсив мой. — Л. Б.). К сожалению, широко распространившееся
доверие к дихотомии «есть — должно быть» свело на нет все усилия
Невилла Кейнса улучшить наше понимание позитивной экономиче-
ской теории.
Развивая «позитивную методологию» в своем знаменитом очер-
ке 1953 г., Милтон Фридмен предпринял попытку опровергнуть дихо-
томию «есть — должно быть». Он доказывал, что ответ на вопрос:
«Что должно быть?» зависит от первоначального выяснения того, «что
есть» (Friedman, 1953). Тем не менее большинство критиков фридме-
новской методологии полагают, что в действительности целью рабо-
ты Фридмена было выступление против нормативной экономической
теории и, стало быть, в пользу позитивной теории (Koopmans, 1957;
Rotwein, 1959; Samuelson, 1963; Simon, 1963). Видимо, они исходят из
презумпции, что всегда следует выбирать между вопросами «есть» и
«должно быть», как будто они заведомо являются взаимоисключа-
ющими.
Справедливости ради надо отметить, что существуют веские осно-
вания считать вопросы: «Что есть?» и «Что должно быть?» взаимоис-
ключающими. Уже много лет назад Дэвид Юм доказывал, что утверж-
дение по поводу того, «что должно быть», не может быть выведено из
утверждения о том, «что есть», и наоборот (Blaug, 1980 : 130). Таким
образом, простое упоминание вопросов: «Что есть?» и «Что должно
быть?» при определении позитивной экономической теории, вероят-
но, само по себе предполагает резкую дихотомию, подобную дихото-
мии позитивной и нормативной теорий, упоминаемых в учебниках.
В дополнение к различию между вопросами: «Что есть?» и «Что
должно быть?» существуют другие дихотомии, на которых основыва-
ется различие между нормативной и позитивной экономическими
теориями. Из философии известно различие между аналитическими
и синтетическими суждениями: первые из них не нуждаются в эмпи-
рической проверке в отличие от последних. Кроме того, существует
различие между наукой и искусством, которым руководствовались
первые методологи экономической науки (например, Нассау Сениор).
Утверждалось, что в то время как наука имеет дело с истинами, каса-
ющимися материального мира, искусство занимается нормативными
правилами (Blaug, 1980 : 59). Позднее были выделены другие дихото-
мии: объективное — субъективное, описательное — предписывающее,
рациональное — иррациональное, которые часто обнаруживают пря-
мую корреляцию с разделением на нормативную и позитивную тео-
108
Лоуренс А. Боулэнд
рии. Конечно, нельзя не упомянуть о более тривиальном разделении
на теоретическую и прикладную экономику, существующем сегодня
на большинстве экономических факультетов.
К этому списку хотелось бы добавить еще одно разделение, а
именно разделение на романтический и классический подходы, час-
то встречающееся в дискуссиях о британской литературе XIX столе-
тия. Если говорить более определенно, я полагаю, что романтический
и классический подходы различаются степенью реализма своих пред-
посылок. В то время как романтик, вероятно, допускает, что мир та-
ков, каким он хотел бы его видеть, классик беспристрастно принима-
ет мир таким, каков он есть. Например, романтически настроенный
эгалитарист, возможно, хотел бы, чтобы богатства распределялись
равномерно. В то же время реалистически настроенный классик за-
явит, что никто не вправе предполагать равенства в распределении до
тех пор, пока для этого не появятся надежные эмпирические осно-
вания.
Как же, учитывая все эти дихотомии, можно истолковать приро-
ду позитивной экономической теории и почему ее следует разраба-
тывать? Я полагаю, что причиной существования столь многих разли-
чий, выявленных в дебатах о позитивной экономической теории,
служит то, что каждое из этих различий выражает одну из ипостасей,
в которой позитивная экономическая теория не должна проявляться.
Это значит, что большинство людей воспринимают позитивную эко-
номическую теорию, основываясь на заявлениях о том, чем она не
является, а вовсе не на соображениях о том, что она представляет
собой на самом деле. Короче говоря, у нас есть только негативное
понимание экономического позитивизма!
6.3. Позитивизм как риторика
В определенном смысле различие между позитивной и норма-
тивной экономическими теориями совершенно размывается. Эконо-
мические советники из лагеря сторонников позитивной теории фак-
тически всегда уверяли, что их рекомендации — наилучший путь
достижения поставленных целей. Это очевидно даже в исходной ра-
боте Джона Невилла Кейнса. Трудно вообразить, каким образом можно
вообще избежать каких-либо нормативных суждений. Так что же на
самом деле хотят сказать, утверждая, что некое экономическое иссле-
дование или политическая рекомендация соответствует требованиям
позитивизма?
Идея «позитивной экономической теории» по большей части
является риторической (Boland, 1989 epilogue). Риторические зада-
чи также очевидны в использовании некоторых других дихотомий.
Можно вспомнить книги, носящие такие названия, как «Система син-
Современные взгляды на экономический позитивизм
109
тетической философии» (Spencer, 1896), «Позитивная философия»
(Comte, 1974), «Научное управление» (Drury, 1968), «Объективная
психология музыки» (Lundin, 1967), «Рациональная экономическая
теория» (Jackson, 1988), «Описательная экономическая теория» (Наг-
bury, 1981) и т. д. Когда автор, превознося достоинства некой теории,
провозглашает ее позитивный характер, он обычно имеет в виду ее
приемлемость с научной точки зрения. Критерии же приемлемости и
неприемлемости по большей части продиктованы господствующими
взглядами на то, какой метод является научным. Однако обычно не
совсем ясно, почему термин «позитивный» всегда подразумевает не-
что приемлемое или желательное.
Ко времени Юма (конец XVIII столетия) большинство мыслите-
лей верили в силу рационального или логического мышления, в осо-
бенности его воплощения в науке. Согласно унаследованному от Фрэн-
сиса Бэкона (XVII в.) взгляду, считалось, что всякая наука может
быть сведена к позитивным фактам. Из них, в свою очередь, можно
вывести все систематическое знание, прибегнув к индуктивной логи-
ке. Это, видимо, объясняет, почему столь долго слово «позитивное»
обозначало нечто хорошее. Теория, демонстрирующая позитивные
факты или основанная на них (т. е. на наблюдениях или гипотезах,
вносящих позитивный вклад в индуктивные доказательства нашего
систематического знания), заслуживает названия «позитивной». При
общей для XIX столетия вере в действенность индуктивной науки
«позитивное» отождествлялось с «научным», «рациональным* и даже
с «объективным». Объективность следовала из бэконовской интер-
претации индуктивных суждений как противоядия против эгоисти-
ческих и предвзятых притязаний разума (Agassi, 1963). Чтобы счи-
таться научными, индуктивные доказательства должны быть осно-
ваны только на объективных наблюдениях. Вносит ли данная теория
позитивный вклад в научное знание — это вопрос исключительно
исследовательских навыков ученого. Истинный исследователь объек-
тивен, непредвзят и беспристрастен, так что любые установленные
факты подлежат безусловному признанию. Оставшаяся часть науки
представляет собой просто результат применения индуктивной логи-
ки к реальным фактам. Таким образом, если кто-то ошибается в
своих претензиях на обладание научным знанием, это может быть
только следствием предубеждения, пристрастности или привнесения
субъективных ценностей.
В экономической науке ассоциация между «позитивным» и «опи-
сательным» прямо вытекает из юмовской точки зрения на дихото-
мию «есть — должно быть». Мы описываем то, «что есть», и предпи-
сываем то, «что должно быть». Связь между «позитивной» и «при-
кладной» экономическими теориями, а также между «позитивными»
и «синтетическими» суждениями не так очевидна. Хотя нетрудно
провозгласить, что некая теория «позитивна», однако принято скорее
110
Лоуренс А. Боулэнд
считать, что чистая теория не носит эмпирического характера (Hut-
chison, 1938) и, следовательно, именно прикладной теории полагается
быть «позитивной». В таком случае, что имел в виду Бём-Баверк,
когда назвал свою книгу «Позитивной теорией капитала» (Bohm-
Bawerk, 1889)? Хотя связь между «позитивными» и «синтетическими»
суждениями достаточно очевидна, этого нельзя сказать об их антони-
мах. Едва ли возможно непосредственно связать «нормативные» и
«аналитические» суждения, кроме как с той точки зрения, что истин-
ность нормативных суждений, вообще говоря, условна, поскольку за-
висит от принятых ценностей. Но если аналитическая истина заведо-
мо является тавтологией, то чисто технически связь между аналити-
ческими и нормативными суждениями не слишком прочна (Quine,
1961 ch. 2).
Послевоенное влияние логического позитивизма вкупе с ретро-
спективным влиянием Макса Вебера привели к тому, что позитивист-
ская риторика стала еще более запутанной. Логические позитивисты
принадлежали к тому крылу аналитической философии, в рамках ко-
торого было принято отличать верифицируемое научное знание от не-
верифицируемой «метафизики». Социолог Макс Вебер, работавший на
рубеже столетий, признан ведущим идеологом направления, утверж-
давшего «свободное от ценностей» научное знание. Еще большей пута-
ницы добавила критика Поппером логического позитивизма. Поппер
считал, что теория только в том случае вносит позитивный вклад в
науку, если она фальсифицируема (как полагает большинство коммен-
таторов, это означает, что теория не должна являться тавтологией). Все
эти интеллектуальные осложнения затрудняют нам даже определение
того, чем не является позитивная экономическая теория.
6.4. Что такое «позитивное»
с общепринятой точки зрения?
Экономический позитивизм, практикуемый сегодня, можно раз-
делить на четыре направления. Первой и наиболее оптимистической
версией является то, что я назвал гарвардским позитивизмом. Это
течение представлено недавними попытками разработать «экспери-
ментальную» экономическую теорию. Его истоками являются ранние
исследования Эдуарда Чемберлина. Другой крайностью является сла-
бая минималистская версия, которую я назвал позитивизмом МТИ
(Массачусетсского технологического института). Слабой ее можно
назвать благодаря методологическому подходу, согласно которому
теория, чтобы представлять интерес, должна быть только потенци-
ально опровержимой. Не существует никаких дополнительных огра-
ничений, требующих эмпирического подтверждения или проверки.
Между этими двумя крайними точками зрения находятся две более
Довременные взгляды на экономический позитивизм
111
умеренные версии. Одна из них, которую я назвал позитивизмом
ЛШЭ (Лондонской школы экономики), не требует контролируемых
экспериментов, однако рассматривает экономическую теорию как на-
учное направление, в котором подчеркивается необходимость эмпи-
рических количественных данных. Другой промежуточной версией
является чикагский позитивизм, включающий как упрощенный
инструментализм Фридмена, так и более изощренный конфирмацио-
низм Беккера и Стиглера.
Гарвардский позитивизм
Позитивисты, защищающие «экспериментальную экономическую
теорию», пока составляют незначительную часть основного течения
экономической мысли. Отправной точкой этого движения могут
считаться эксперименты, которые часто проводил со своими студента-
ми в Гарвардском университете Чемберлин. Сегодня главой направ-
ления является Вернон Смит (Smith, 1982).
Главная задача экспериментальной экономической теории за-
ключается в преодолении того очевидного факта, что большинство
традиционных моделей являются абстракциями, использующими упро-
щенные предпосылки, реализм которых весьма сомнителен. Типич-
ное экономическое объяснение выглядит так: «Если мир имеет форму
X, а люди ведут себя согласно предположению Y, то мы обнаружим
явление Z*. При этом перед любым экономистом, претендующим на
позитивное объяснение экономического явления Z, встают очевидные
вопросы: имеет ли мир форму X? Ведут ли себя люди согласно пред-
положению У? Обнаруживается ли явление Z?
Поскольку обычно трудно определить, действительно ли люди
ведут себя согласно предположению У, почти все эмпирические иссле-
дования имеют дело с формой X и явлением Z. Обычный подход
состоит в построении модели экономики, основанной на предположе-
нии У. Затем предпринимается попытка определить, может ли ука-
занная модель быть подтверждена данными, ставшими доступными
после наступления события. К сожалению, доступные данные редко
могут дать однозначный ответ. Вместо этого приходится делать мно-
жество дополнительных предположений, и, следовательно, любые
выводы всегда условны.
Гарвардский позитивизм предлагает иной подход. Вместо того
чтобы принять как должное ограниченность доступных данных
(обычно агрегированных и вызывающих множество методологиче-
ских вопросов), экспериментальная экономическая теория предла-
гает создание жизненных ситуаций, в которых предположения ти-
пичной неоклассической модели в отношении мира в форме X
верны. Если говорить более конкретно, экспериментальная эконо-
мическая теория пытается сконструировать мир, действительно име-
112
Лоуренс А. Боулэнд
ющий форму X. Затем определяется, является ли поведение, задан-
ное предположением Y, логически совместимым с эксперименталь-
но наблюдаемым явлением Z. Только искушенность эксперимента-
тора определяет, насколько успешен данный эксперимент с точки
зрения экономического позитивизма.
Позитивизм МТИ
Последователи методологии Пола Самуэльсона следуют намно-
го менее фундаменталистскому взгляду на экономический позити-
визм. Следуя Самуэльсону и пытаясь утвердить оптимистичный
взгляд на перспективы позитивизма, они утверждают, что любая
предлагаемая теория должна удовлетворять как минимум одному
условию. Для того чтобы претендовать на позитивный вклад в
экономическое понимание, позитивная теория должна быть готова
подвергнуться эмпирическому опровержению. Короче говоря, все
истинно позитивные теории — эмпирически опровержимы в прин-
ципе. Как признал Хатчисон (Hutchison, 1938) в конце 1930-х гг.,
все, что можно утверждать, следуя данному критерию, — это нетав-
тологичность выдвигаемой позитивной теории. Ясно, что эта мини-
малистская версия позитивизма гораздо больше служит интересам
разработчиков математических моделей, которые стремятся избе-
жать такого недостойного занятия, как работа с эмпирическими
данными реального мира, чем интересам исследователей, на деле
занимающихся развитием истинной позитивной теории. Для эко-
номистов-математиков элегантность модели всегда гораздо важнее,
чем эмпирическая реалистичность или ее прикладное значение для
экономической политики.
Чикагский позитивизм
Приверженцы чикагского позитивизма ставят во главу угла по-
лезность данной теории. Однако понятие полезного имеет два аспек-
та. С одной стороны, предлагаемые позитивные теории могут быть
использованы как инструмент в руках лиц, ответственных за проведе-
ние экономической политики. С другой стороны, необходимо учиты-
вать значение этих теорий для развития неоклассической теории
вообще и для укрепления веры во всемогущество рыночной системы
в частности. Оба этих аспекта играют важную роль в концепции чи-
кагского позитивизма.
В очерке 1953 г. Милтон Фридмен весьма убедительно доказы-
вал, что каждый, кто заинтересован в создании полезной с точки
зрения политики теории, должен сторониться типичных философских
предубеждений, свойственных некоторым представителям аналити-
ческой философии (так называемым логическим позитивистам).
Довременные взгляды на экономический позитивизм
113
Вместо этого следует признать, что вопросы верифицируемое™, фаль-
сифицируемости и даже априорного реализма поведенческих предпо-
сылок экономических моделей имеют гораздо меньшее значение, чем
полезность их результатов (Friedman, 1953).
Нетрудно заметить, что этот довод соответствует инструмента-
листской методологии (Boland, 1979). Возникает интересный вопрос:
почему Фридмен и другие считают, что эта аргументация является
формой позитивизма?
Дело в том, что очерк Фридмена не был направлен против пози-
тивизма вообще, а только против такой его изощренной формы, как
логический позитивизм. Позитивные факты все еще имеют значение
для Фридмена. По Фридмену, следует сопоставлять с фактами лишь
результаты и предсказания и, следовательно, исключить априорный
или логический анализ моделей, предпосылок и теорий как главный
критерий полезности позитивных теорий. Позитивные факты, оче-
видно, играют существенную роль в методологии Фридмена. Однако
для него единственными позитивными фактами являются успешные
предсказания, удостоверяющие полезность предлагаемой теории. В ме-
тодологическом очерке Фридмена нет ничего, что препятствовало бы
использованию данной версии инструментализма посткейнсианцами
или даже марксистами.
Однако если говорить об идеологических вопросах, то здесь двое
других представителей чикагской школы внесли куда больший вклад.
В 1977 г. Джордж Стиглер и Гэри Беккер опубликовали манифест
неоклассической экономической теории. Их аргументация, выражен-
ная в простой форме, состояла в следующем. Экономисты чикагской
школы предлагают модели экономики (т. е. мира в форме X), не свя-
занные с анализом психологического (субъективного) устройства ин-
дивидов, принимающих решения. Вместо этого они исследуют раз-
личные ситуации с точки зрения таких объективных (позитивных)
показателей, как издержки. Следовательно, все наблюдаемые факты
поведения объясняются наблюдаемыми и объективными условиями,
выраженными через издержки (Stigler, Becker, 1977).
Каждая позитивная экономическая модель, которую можно на-
звать удачной (Беккер и Стиглер, кажется, не упоминали о каких-
либо неудачах), должна рассматриваться как еще одно убедительное
свидетельство в пользу того, что любой социальный или поведенче-
ский феномен можно объяснить, используя соответствующим обра-
зом разработанную неоклассическую модель (т. е. модель, в которой
допущение Y предполагает оптимизационное поведение в системе сво-
бодных рынков). Для этой ветви чикагской школы истинной зада-
чей неоклассического моделирования является подтверждение эффек-
тивности системы социальной координации, основанной на рыноч-
ных отношениях (Boland, 1982).
9 Заказ № 356
114
Лоурене А. Боуланд
Позитивизм ЛШЭ
Стиглер и Беккер, возможно, правы, преподнося неоклассическую
экономическую теорию в качестве единственно верного объяснения
общественного и индивидуального поведения. Но если это так, то данное
утверждение можно проверить более жесткими способами. В конце
1950-х гг. группа экономистов из Лондонской школы экономики
(ЛШЭ) предложила более критический подход к построению эконо-
мических моделей. Нетрудно найти позитивные факты для подтверж-
дения любой желаемой модели, однако, чтобы убедиться в «научно-
сти» теории, надо подойти к фактам в менее предубежденной манере.
Подобный подход не исключает априорных суждений. Он просто
предполагает, что факты будут говорить сами за себя.
Подход ЛШЭ к позитивизму был продуктом деятельности моло-
дых экономистов, возглавлявшихся Ричардом Липси, который орга-
низовал семинар сотрудников ЛШЭ по проблемам методологии, изме-
рения и проверки. Этот семинар был до некоторой степени вдохнов-
лен присутствием в ЛШЭ Карла Поппера, считавшего критический
подход и эмпирическую проверку предлагаемых теорий истинной
основой науки (de Marchi, 1988). Основное направление семинара было
отражено в хорошо известном учебнике Липси 1960-х гг. «Введение
в позитивную экономику» (Lipsey, 1963). Главным мотивом Липси
было отстаивание важности реальных эмпирических данных. Его
учебник стал основной платформой всего современного экономиче-
ского позитивизма.
Сочетание проверки и измерения стало основным признаком
позитивизма ЛШЭ. Неудивительно, что эконометрика играет здесь
выдающуюся роль. Однако предполагается, что в отличие от инстру-
ментализма, распространенного среди американских разработчиков
эконометрических моделей (Boland, 1986), эконометрика ЛШЭ долж-
на способствовать оценке любых экономических предположений, воз-
никающих у исследователей. Различие между позитивным и норма-
тивным играет здесь главенствующую роль, поскольку предполага-
ется, что любые нормативные суждения не подлежат проверке и,
следовательно, «ненаучны».
п
6.5. В современном экономическом позитивизме
царит изрядная путаница
Как показали историки науки (такие, как Томас Кун и Джозеф
Агасси), большинство научных дисциплин могут быть определены по
ведущим учебникам. Основой современного экономического позити-
визма продолжает оставаться учебник Липси «Введение в позитивную
экономическую теорию». Эволюция этой книги весьма точно отразила
Современные взгляды на экономический позитивизм
116
развитие позитивистских взглядов за последние двадцать пять лет. Одна-
ко если вчитаться во вводную часть первого издания знаменитого учеб-
ника Липси (Lipsey, 1963), называющуюся «Предмет и метод», будет
нелегко понять, каким образом эта книга сделалась основой современ-
ного позитивизма. Липси гордо заявил, что его книга посвящена пози-
тивной экономической науке. В американских изданиях книги упор
на «научности» несколько завуалирован (видимо, потому, что в Север-
ной Америке подобное выпячивание научности выглядит претенциоз-
ным), однако сохранен упор на «позитивности». Тем не менее внима-
тельное изучение первого издания заставляет сделать вывод о том, что
эмпирические факты могут иметь решающее значение только в нега-
тивном смысле. Собственно говоря, Липси старательно пересказывает
философию науки Поппера, согласно которой истинная научная тео-
рия может быть опровергнута эмпирическими фактами, но никогда не
может быть ими подтверждена. Таким образом, если верить высказы-
ванию Липси образца 1963 г., его книга в действительности посвящена
негативной экономической науке!
Это очевидное несоответствие было решительным образом ис-
правлено во втором издании, где Липси заявляет, что он «отказыва-
ется от попперовского подхода к опровержению теорий». Отныне он
собирается следовать «статистическому подходу, согласно которому
ни подтверждение, ни опровержение не могут быть окончательными,
и все, на что мы можем надеяться, — это выявлять на основе конеч-
ного набора несовершенных знаний, каково соотношение вероятностей
между соперничающими гипотезами» (Lipsey, 1966 хх). Хотя, воз-
можно, данная трактовка больше соответствует общим научным прин-
ципам, все же неясно, что позитивного (или негативного) осталось в
версии позитивизма ЛШЭ.
Из шестого издания мы узнаем, что только позитивные утверж-
дения подлежат проверке. Нормативные утверждения невозможно
проверить, поскольку они зависят от ценностных суждений. Более
того, «утверждения, которые в случае их ошибочности в принципе
можно опровергнуть фактами, являются видом позитивных утверж-
дений» (Lipsey, 1983 : 6). Следовательно, приверженцы позитивной
экономической теории «имеют дело с разработкой положений, отно-
сящихся к классу позитивных и проверяемых» (Lipsey, 1983 7).
Однако более внимательный читатель узнает, обратившись к с. 5, что
утверждение называется «проверяемым», если его ошибочность мо-
жет быть доказана посредством сопоставления с эмпирическими фак-
тами. А затем, вернувшись к с. 13, мы выясняем, что «никакую тео-
рию невозможно окончательно опровергнуть»! Если только Липси не
имеет в виду нечто отличное от сказанного на с. 5, то может показать-
ся, что множество позитивных экономических утверждений является
пустым и, следовательно, позитивная экономика невозможна. Если
Же вы еще сомневаетесь в том, что поборники позитивизма ЛШЭ за-
116
Лоуренс А. Боулэнд
путались в методологических вопросах, то канадское издание книги
Липси 1988 г. лишит вас последних иллюзий. Вот что можно там
прочесть: «Не существует абсолютной уверенности в достоверности
какого бы то ни было знания» (Lipsey et al., 1988 : 24). Но можно ли
с абсолютной уверенностью заявлять, что никто не может ничего знать
с абсолютной уверенностью?
Подобное смелое утверждение содержит внутреннее противоре-
чие, однако это не мешает ему служить основой современного эконо-
мического позитивизма. Хорошо известно, что суждение, содержащее
внутреннее противоречие (например, 1 равно 2 или белое — это чер-
ное), позволяет доказывать все что угодно. Понятно, что немногого
стоят доказательства, приводящие к противоречивым результатам.
Из этого мы можем заключить, что методология современного пози-
тивизма бессильна достичь чего-то определенного (если считать, что
эта методология адекватно описана в различных версиях знаменитой
книги Липси). Я думаю, что Липси не следовало так легко отрекаться
от Поппера для того, чтобы избежать некоторых проблем, кажущихся
«неразрешимыми тем, кто верит в опровержение, основанное на един-
ственном наблюдении» (Lipsey, 1966 хх). Понятно, что взгляды
Липси будут одобрены философами науки, отвергающими попперов-
ский вызов логическому позитивизму. Однако я полагаю, что Липси
следовало бы подвергнуть более тщательному рассмотрению пресло-
вутые «неразрешимые» проблемы.
6.6. Позитивная наука или позитивная инженерия?
Несмотря на то что философия экономического позитивизма не-
достаточно хорошо продумана его главными сторонниками, она удов-
летворяет требованиям, предъявляемым большинством привержен-
цев основного течения экономической мысли. С одной стороны, эта
философия, очевидно, поддерживает общепринятые взгляды на объяс-
няющую науку. С другой стороны, она, по всей видимости, поддер-
живает осторожное отношение к различным формам социальной
инженерии. Обе указанные особенности находят опору в распростра-
ненном мнении, что позитивизм предполагает отсутствие ценност-
ных суждений.
Объясняющая наука
Современные экономисты (включая экономистов из Массачусет-
ского технологического института (МТИ) и Лондонской школы эконо-
мики (ЛШЭ)), которые считают, что могут объяснить экономические
явления, будут приятно удивлены, узнав, что приверженность позити-
визму требует всего лишь гарантии, что предпосылки экономических
Современные взгляды на экономический позитивизм
117
моделей фальсифицируемы. Фальсифицируемость предпосылок гаран-
тирует всего лишь, что выводы и объяснения, предлагаемые моделью,
не окажутся тем, что экономисты называют тавтологиями. Необходи-
мо пояснить, что смысл, вкладываемый экономистами в термин «тав-
тология», не совсем совпадает с тем, что понимают под этим терми-
ном философы и логики. Экономисты считают, что если невозможно
представить, каким образом данное утверждение может оказаться
ложным, то оно является тавтологией. Это определение включает в
себя как то, что называют тавтологией философы (утверждение, вер-
ное уже в силу своей логической формы), так и квазитавтологиче-
ские утверждения, которые верны по определению или же зависимы
от утверждений, близких к дефинициям (таких, как ценностные суж-
дения). Именно последний вид утверждений экономисты обычно
называют тавтологиями.
Почему же экономисты так стремятся избегать тавтологий? Есть
только одна методологическая проблема, решаемая путем избежания
тавтологий. С этой проблемой сталкиваются экономисты, претенду-
ющие на то, что эмпирическая проверка выдвигаемых ими моделей и
теорий вносит позитивный вклад в экономический анализ, поскольку
эмпирические факты верифицируют или подтверждают их построения.
Проблема заключается в том, что некоторые утверждения, представлен-
ные в форме тавтологий, также могут быть подтверждены эмпириче-
ски. Наиболее очевидный пример— «количественная теория денег».
Эта «теория» выражается уравнением MV = РТ. При его более тща-
тельном изучении оказывается, что обе части этого уравнения могут
быть получены простым обращением порядка суммирования по i и по
j при двойном суммировании EZPyQy (Agassi, 1971). Подтверждение вы-
сказывания, которое в принципе не может быть ложным, вряд ли спо-
собно внести позитивный вклад в экономическую науку.
Социальная инженерия
Современные экономисты, считающие себя авторами рекоменда-
ций в области экономической политики, будут рады узнать, что при-
верженность позитивизму гарантирует внимательное отношение к их
советам. Лица, ответственные за проведение экономической полити-
ки, редко интересуются, не занимаются ли их консультанты создани-
ем тавтологических моделей. Не больше занимает их и вопрос, явля-
ется ли та или иная теория фальсифицируемой. Действительно важна
для них лишь уверенность в том, что полученный совет не просто
отражает пристрастия экономиста-консультанта.
Какие же методологические проблемы должен решить для себя
потенциальный экономический консультант, чтобы оставаться в рам-
ках позитивизма? При всех экивоках, которые можно найти в изло-
жениях современного экономического позитивизма (например, в учеб-
118
Лоуренс А. Боулэнд
нике Липси), у лиц, ответственных за проведение экономической по-
литики, нет оснований ожидать, что совет их экономического консуль-
танта твердо основан на эмпирических фактах. Все в конечном сче-
те зависит от суждения самого исследователя о том, достаточно ли
имеющихся фактов, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, на
основании которой делались рекомендации. В большинстве случаев
именно личное поведение исследователя вызывает доверие к его иссле-
дованиям. Заметим, что такое внимание к личному поведению иссле-
дователя с очевидностью делает позитивную экономическую инжене-
рию простой версией бэконовского индуктивизма.
Если бы экономистам, занимающимся консультациями в сфере
экономической политики, удалось не запачкать свои белые лабора-
торные халаты, то они, вероятно, стали бы щеголять в них перед
телекамерами. Однако поведение практикующих экономистов пози-
тивистского направления становится более понятным, если оттолк-
нуться от противного. Никто не поверит экономисту, претендующему
на обладание истиной и отказывающемуся даже заглянуть в статис-
тическую сводку. Никто не поверит экономисту, который заинтересо-
ван исключительно в общественном признании собственных цен-
ностных суждений. Никто не поверит исследованию, проведенному
субъектом, ведущим себя подобно юному Вертеру из романа Гёте.
Другими словами, ревностным и романтичным фанатикам идеи нет
смысла подавать заявку на место экономического консультанта. Ка-
жется, все убеждены, что приверженность экономическому позити-
визму исключает подобное предосудительное поведение.
6.7. Позитивные факты
о позитивной экономической теории
Теперь, когда мы рассмотрели природу экономического позити-
визма, как она излагается в позитивистских учебниках, перейдем к
следующему вопросу. Речь пойдет о том, какое применение находит
позитивизм в реальном позитивном экономическом анализе. Замет-
ной особенностью всех образчиков «позитивного» экономического
анализа является их единый формат. После вводной части типичной
работы в русле позитивной экономической теории следует раздел,
названный «Модель» или как-нибудь в этом роде. Затем следует
раздел, озаглавленный, например, «Эмпирические результаты». И все
это подытоживают «Выводы». Напрашивается вопрос: почему факти-
чески все позитивистские статьи так явно следуют единому формату?
Не является ли это единообразие единственным достижением эко-
номического позитивизма?
Почему этот характерный шаблон имеет такое универсальное
использование? Поверхностное объяснение универсальности этого фор-
Современные взгляды на экономический позитивизм
119
мата сводит его к риторическому средству (McCloskey, 1989). Триви-
альное объяснение заключается в том, что редакции всех журналов
требуют соблюдения этого шаблона. Однако очевидно, что они всего
лишь следуют запросам рынка. Проблема состоит не только в том,
почему отдельный исследователь решает оформить свою работу в со-
ответствии с принятым шаблоном. Проблема в том, почему этот шаб-
лон так широко распространен.
Я не вижу, почему методолог не может применить некоторые
эвристические принципы, воплощенные в практике современного эко-
номического позитивизма, а именно принципы экономического моде-
лирования, к объяснению единообразия при построении экономиче-
ских моделей. Таким образом, для объяснения или описания практи-
ки экономического позитивизма я попытаюсь построить «модель»
формата типичной статьи позитивистского неоклассического направ-
ления. Судя по тому, что называется «моделью» в позитивной эконо-
мической теории, любое формализованное утверждение можно рас-
сматривать как модель. Тем не менее имеется несколько базовых
требований, предъявляемых к предлагаемым моделям.
Для построения моей модели позитивного или эмпирического
анализа, как и для построения любой другой модели, мне необходи-
мо заранее задать определенные предпосылки. Я начну с принятия
очевидных допущений, которые образуют ядро научно-исследователь-
ской программы неоклассической теории. Мое первое и самое фунда-
ментальное допущение состоит в том, что каждая неоклассическая
модель обязательно содержит поведенческие допущения, касающиеся
максимизации и рыночного равновесия. Более того, выводы модели
должны в решающей степени зависеть от этих допущений.
Оставшиеся предпосылки менее фундаментальны для неокласси-
ческой теории. Однако они необходимы с точки зрения риторики
современного экономического позитивизма. Второе мое допущение
должно содержать главный элемент современного позитивистского
подхода, а именно, в каждой эмпирической модели должно быть по
крайней мере одно уравнение, которое можно проверить статистиче-
ски, оценив его параметрические коэффициенты.
Согласно третьему допущению (необходимому для реализации
второго), каждая эмпирическая работа должна ориентироваться на
специфический критерий «правдоподобности». Речь идет о системе
статистических тестов. Например, необходимо учесть такие статисти-
ческие параметры, как средние величины и стандартные отклонения,
значения R2, f-статистики. Таким образом, каждое уравнение являет-
ся неким утверждением, которое может быть как истинным, так и
ложным. Однако прилагая это уравнение к эмпирическим данным,
мы знаем, что его соответствие этим данным обычно не является
совершенным, даже если уравнение верно. Поэтому возникает вопрос:
при каких условиях наше уравнение может быть признано «истин-
120
Лоуренс А. Боулэнд
ным»? Использование системы тестов предполагает, что исследователь
не собирается доказывать абсолютную истинность своей модели. Ско-
рее его цель состоит в том, чтобы установить ее приемлемость или
неприемлемость с точки зрения стандартной системы тестов, исполь-
зуемых в принятой версии экономического позитивизма.
Мое последнее допущение состоит в том, что публикация эмпи-
рической работы возможна только при условии внесения некоего
вклада в «научное» знание. Это значит, что исследователь должен
установить какие-либо новые, прежде неизвестные, «факты», полу-
ченные либо при анализе новых данных, либо благодаря новому под-
ходу к старым данным.
Чтобы проверить предложенную модель методологии неокласси-
ческой позитивной экономической науки, необходимо обратиться к
доступным данным. Прежде всего следует определить, какие источни-
ки содержат публикации представителей основного течения «позитив-
ной экономической теории». Очевидно, разумнее всего искать их на
страницах ведущих экономических журналов. Итак, откроем для про-
верки модели какой-либо авторитетный журнал («American Economic
Review» или «Economic Journal») и ознакомимся с содержанием не-
скольких номеров. Адекватная проверка предполагает, что нам следу-
ет ограничить наш интерес статьями, нацеленными на позитивный ана-
лиз. Это значит, что мы должны исключить из рассмотрения работы,
либо содержащие авангардные теории, либо рассматривающие по боль-
шей части технические (математические) аспекты «экономической те-
ории». Разумеется, следует пропустить такие разделы, как «История
экономической мысли» и «Методология» (если они будут обнаружены).
Я применил свой тест к «American Economic Review» за 1980 г.
(Boland, 1982 ch. 7). Изучение статей, отобранных в соответствии с
заявленными критериями, дает основание утверждать, что все работы
соответствуют формату, определенному нашей моделью позитивного
неоклассического анализа. Единственный эмпирический вопрос, под-
разумеваемый позитивной моделью, состоит в том, можно ли обнару-
жить какие-либо исключения из того, что, по моему мнению, должно
присутствовать в экономических журналах «основного течения»? Как
и следовало ожидать, я не нашел ни единого факта, противоречащего
моей теории. Таким образом, моя модель позитивного анализа соот-
ветствует доступным данным.
6.8. Объяснение использования стандартного формата
научных статей
Хотя подтверждение данной позитивной модели экономического
позитивизма не составляет большого труда, вопрос о том, почему науч-
ные работы следует писать в соответствии с имеющимся стандартом,
Современные взгляды на экономический позитивизм
121
не является предметом дискуссии (за исключением недавней дискус-
сии, ограниченной проблемой риторики экономического позитивиз-
ма) (McCloskey, 1989). Конечно, нет нужды обсуждать принятый фор-
мат, если все признают, что он не создает никаких проблем и прекрас-
но выполняет свою задачу. Моя же общая теория состоит в том, что
принятый формат не обсуждается по той причине, что его задача про-
сто признается не требующей обоснования. Признание определенных
положений не требующими обоснования является главным источни-
ком методологических проблем и противоречий экономической тео-
рии, хотя эти проблемы не всегда осознаются. Именно так обстоит дело
с широким распространением общего формата эмпирических научных
статей, написанных в неоклассической традиции. Возможно, отсутствие
дискуссии объясняется тем, что принятый формат является просто эле-
ментарным фильтром, позволяющим производить отбор. Предполага-
ется, что только статьи стандартного формата способны внести пози-
тивный вклад в позитивную теорию. Это предположение также нигде
не обсуждалось. Так все-таки какова же цель использования стандарт-
ного формата?
Хотя в самом позитивизме нет ничего, что так прочно привязы-
вало бы его к развитию неоклассической теории, оба этих течения
идут рука об руку. Цель существования стандартного формата для
статей, нацеленных на позитивный неоклассический экономический
анализ, совпадает с целью выдвижения позитивизма на первые роли в
экономической науке. Эта цель состоит в том, чтобы способствовать
долгосрочной индуктивной верификации научного знания, хотя оче-
видно, что этот формат используется людьми, которые, по собствен-
ным убеждениям, практикуют куда более умеренный подход к науч-
ному знанию и методологии — подход, предполагающий неприятие
индукции. В основе этого подхода лежит убежденность в существова-
нии очевидной (manifest) истины. Если говорить более конкретно,
речь идет об убеждении, что неоклассическая теория дает верную
картину общества, а реальный мир, очевидно, таков, каким его счи-
тают теоретики-неоклассики. Следовательно, любая модель, основан-
ная только на фактах действительной жизни, просто обязана рано
или поздно обнаружить очевидную истину, которая, как предполага-
ется, подтвердит достоверность неоклассической теории. Построение
моделей исключительно на фактах действительной жизни и есть, без
сомнения, провозглашенная цель позитивизма.
Чтобы понять соотношение между стандартным форматом и
исследовательской программой верификации неоклассической тео-
рии, нам необходимо обсудить следующие вопросы: что определяет
успех позитивного анализа? Что может считаться неудачей? А чтобы
установить критерий успеха позитивистского исследования, нам сле-
дует рассмотреть более фундаментальный вопрос: какова цель нео-
классического моделирования?
122
Лоуренс А. Боулэнд
Если считать, что обычные позитивистские неоклассические ста-
тьи действительно вносят вклад в «научное знание», то скрытая цель
такой позитивной экономической теории совпадает с целью чикаг-
ского позитивизма (т. е. с долгосрочной верификацией неокласси-
ческой теории). А именно: каждая статья, утверждающая возмож-
ность приложения неоклассической теории к проблемам реального
мира, должна рассматриваться как еще один позитивный вклад в
индуктивное доказательство истинности неоклассической теории. Ос-
нованием для моего вывода является то, что типичное приложение
неоклассической теории к явлениям реального мира доказывает толь-
ко то, что возможно подобрать по крайней мере одну неоклассиче-
скую модель, удовлетворяющую имеющимся данным. Критики всегда
могут заявить, что пригодность модели можно показать в конкретном
случае, но это не доказывает, что модель будет работать всегда (Boland,
1989). Я считаю, что программа позитивных неоклассических иссле-
дований заключается в том, что если мы сможем и в дальнейшем
эмпирически подтверждать пригодность неоклассической теории, то
в конечном счете мы докажем, что эта теория экономики является
единственно истинной.
6.9. Позитивный успех или позитивная неудача?
Исследование формата типичного позитивистского экономического
анализа обнаруживает тот факт, что экономический позитивизм в
качестве вида риторики достиг больших успехов. Но так ли хорошо
обстоят дела с выполнением остальных обещаний позитивизма? Этот
вопрос весьма важен для тех, кто отвергает возможность индуктивно-
го подтверждения любой теории, в том числе неоклассической.
Многие из приверженцев системы рыночных цен вообще и при-
ватизации в частности используют позитивный экономический ана-
лиз для подтверждения своих взглядов. Однако редко признается, что
такая приверженность несовместима с антиромантическим подходом
позитивизма. Нетрудно представить себе реакцию экономистов, испо-
ведующих позитивизм, на простое наблюдение, что хотя позитивисты
и основывают свой анализ экономических явлений на предположе-
нии о существовании совершенного рынка, реальный мир вовсе не
соответствует этой предпосылке.
Например, если бы мир действительно управлялся системой
рыночных цен без влияния государства или частного сговора, то ре-
сурсы общества в конечном итоге были бы оптимально размещены в
соответствии < желаниями потребителей. Мы также слышим, что ре-
альный мир ходится в состоянии равновесия и, в частности, все
цены являют! я равновесными. По этой причине всякое вмешатель-
ство правительства в эту модель обычно приводит к неоптимальной
Современные взгляды на экономический позитивизм
123
аллокации ресурсов. Поэтому утверждается, что приватизация и опо-
ра на цены (как единственный источник информации, подходящий
для общественной координации) являются желательными.
Справедливости ради нужно признать, что защита приватиза-
ции — это относительно недавний феномен и не все ее защитники
причисляют себя к позитивистам. Более того, не все позитивисты
защищают приватизацию, несмотря на то что сегодня возникает именно
такое впечатление. В течение 1950-х и 1960-х гг. большинство пози-
тивистов были склонны защищать правительственное вмешательство,
основывающееся на кейнсианской макроэкономике. Этим позитиви-
стам было достаточно «выглянуть в окно», чтобы обнаружить, что
миру присущи высокий уровень циклической безработицы и различ-
ные виды нестабильности. Значительная доля академических усилий
этого периода была затрачена на развитие эконометрического подхода
к экономическому позитивизму. Целью этих разработок было поддер-
жание правительственных усилий по регулированию и «точной на-
стройке» экономики.
Кажется, что истинным позитивистам следует избегать какой
бы то ни было апологетики. Им надлежит внятно и беспристрастно
объяснять мир в соответствии с тем, каков он есть. Если говорить
более определенно, им стоило бы объяснять, каким образом возника-
ют экономические феномены в мире, где правительственное вмеша-
тельство и тайный сговор — обычные явления. Очевидный факт, что
многие приверженцы экономического позитивизма почти всегда во-
влечены в апологию самых примитивных форм экономической ин-
женерии, таких как тотальная приватизация или, наоборот, тотальное
государственное макроэкономическое регулирование, наводит на мысль,
что в слишком многих случаях современный позитивизм следует
относить по большей части (а возможно, и полностью) к области ри-
торики.
*>£1
u> п! nl Г Литература
Agassi J. Towards an Historiography of Science, History and Theory. Beiheft 2.
The Hague : Mouton, 1963.
Agassi J. Tautology and testability in economies//Philosophy of Social Science.
1971. Vol. 1. P. 49-63.
Blaug M. The Methodology of Economics. Cambridge : Cambridge University
Press, 1980.
Boland L. Testability in economic science//South African Journal of Economics.
1977. Vol. 45. P. 93-105.
Boland L. A critique of Friedman’s critics//Journal of Economic Literature.
1979. Vol. 17. P. 503-522.
Boland L. The Foundations of Economic Method, London : Alien & Unwin, 1982.
124
Лоуренс А. Боулэнд
Boland L. Methodology for a New Microeconomics. Boston, MA : Allen & Unwin,
1986.
Boland L. The Methodology of Economic Model Building: Methodology after
Samuelson. London : Routledge, 1989.
Bohm-Bawerk E. Positive Theory of Capital, transl. W. Smart. New York : Stechert,
1889.
Comte A. Positive Philosophy. New York : AMS Press (originally published 1855),
1974.
Drury H. Scientific Management / 3rd edn. New York : AMS Press (originally
published 1922), 1968.
Friedman M. The methodology of positive economies I In Essays in Positive
Economics. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1953. P. 3-43.
Harbury C. Descriptive Economics I 6th edn. London : Pitman, 1981.
Hutchison T. The Significance and Basic Postulates of Economic Theory. London :
Macmillan, 1938.
Jackson R. Rational Economics. New York : Philosophical Library, 1988.
Keynes J. N. The Scope and Method of Political Economy / 4th edn, London :
Macmillan, 1917.
Koopmans T. Three Essays on the State of Economic Science. New York : McGraw-
Hill, 1957.
Lipsey R. An Introduction to Positive Economics I 1st edn. London : Weidenfeld
& Nicolson, 1963.
Lipsey R. An Introduction to Positive Economics / 2nd edn. London : Weidenfeld
& Nicolson, 1966.
Lipsey R. An Introduction to Positive Economics / 6th edn. London : Weidenfeld
& Nicolson, 1983.
Lipsey R., Purvis D., Steiner P. Economics I 6th edn. New York : Harper & Row,
1988.
Lundin R. Objective Psychology of Music / 2nd edn. New York : Wiley, 1967.
Marchl N., de. Topper and the ISE economists I In N. de Marchi (ed.). The Popperian
Legacy in Economics. Cambridge : Cambridge University Press, 1988.
P. 139-166.
McCloskey D. Why I am no longer a positivist // Review of Social Economy.
1989. Vol. 47. P. 225-238.
Quine W From a Logical Point of View / revised edn. New York : Harper & Row
(originally published 1953), 1961.
Rotwein E. On «The methodology of positive economics» // Quarterly Journal of
Economics. 1959. Vol. 73. P. 554-575.
Samuelson P. Problems of methodology: discussion // American Economic Review,
Papers and Proceedings. 1963. Vol. 53. P. 231-236.
Simon H. Problems of methodology: discussion//American Economic Review,
Papers and Proceedings. 1963. Vol. 53. P. 229-231.
Smith V. L. Microeconomic systems as an experimental science//American
Economic Review. 1982. Vol. 72. P. 923-955.
Spencer H. System of Synthetic Philosophy. New York : Appleton, 1896.
Stigler G., Becker G. De gustibus non est disputandum // American Economic
Review. 1977. Vol. 67. P. 76-90.
ш
nt'
УОРРЕН ДЖ. СЭМЮЭЛС
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
7.1. Введение
Начало институциональной экономической теории было поло-
жено в работах Торстена Веблена, Джона Коммонса и Уэсли Мит-
челла, а также многих других, включая таких явных эклектиков,
как Джон Морис Кларк, который одновременно работал в рамках
институциональной и неоклассической теорий (Gruchy, 1947; May-
hew, 1987).1 У институциональной экономической теории есть по
крайней мере три грани: она представляет собой отрасль знаний,
подход к решению проблем и движение протеста. Институционали-
сты критикуют как ортодоксальную неоклассическую, так и ради-
кальную марксистскую экономические теории и развивают свои
собственные идеи. Это привело к возникновению «трений» внутри
самого институционализма: во-первых, одни институционалисты
рассматривают свою теорию как дополнение неоклассики, в то вре-
мя как другие уверены, что эти два направления экономической
мысли противоречат друг другу; во-вторых, одни придают особое
значение критике, другие — творческому развитию институциональ-
ной теории; в-третьих, сами институционалисты пытаются разви-
вать свои идеи в разных направлениях. Такая ситуация привела к
тому, что институционалисты подверглись критике за негативизм,
несостоятельность которой будет показана ниже. Последовательно
будут рассмотрены три «грани» институционализма, а также вну-
тренние разграничения в рамках этого направления мысли.
1 Главным печатным органом институционалистов является «Journal
of Economic Issues», который отметил свое двадцатипятилетие в 1991 г.
В книгах, выпущенных издательством Transaction Books, которые указаны
в списке литературы, публикуются материалы, перепечатанные из этого
журнала. См. также (Samuels, 1988а), где приведен более полный перечень
источников.
126
Уоррен Дж. Сэмюэлс
Отрасль знаний
Институционалисты считают, что их исследования составляют
отрасль знаний. Центральной проблемой, определяющей предмет
их исследований, являются организация и контроль в экономике
в целом, а не только аллокация ресурсов, распределение дохода
и процесс определения агрегированных уровней дохода, выпуска,
занятости и цен в рамках заданной системы. В той мере, в какой
институционалисты занимаются последними проблемами, они обыч-
но в отличие от экономистов-неоклассиков подходят к ним, рас-
сматривая более широкий набор переменных или используя более
длинную цепочку рассуждений. Решающее отличие институциона-
листов состоит именно в исследовании проблемы организации и
контроля, что приводит их к необходимости изучения более ши-
рокого набора переменных. Институционалисты утверждают, что
а) экономика не ограничивается рынком; б) действующий механизм
аллокации ресурсов не совпадает с умозрительным понятием рынка
как такового, но представляет собой институты (или структуру
власти), которые формируют реальный рынок и действуют через
него. Поэтому они фокусируют внимание на исследовании сил, ко-
торые управляют эволюцией организации и контроля в экономике
и на институциональной организации рынка там, где он существу-
ет. По сравнению со своими ортодоксальными и марксистскими
«собратьями» институционалисты обладают совершенно иными пред-
ставлениями об экономике и экономической науке, а также пыта-
ются выработать свою собственную теорию.
Решение проблем
Институционалисты полагают, что их исследования образуют
подход к решению практических проблем, состоящий из знаний,
интуитивных догадок и специальных инструментов анализа полити-
ки, влияющей на решение проблем. По крайней мере в этом отно-
шении институционалисты не очень отличаются от других экономи-
стов, которыми тоже движет, хотя бы частично, желание соотносить
свою работу с вопросами практической политики, однако институ-
ционалисты в рамках своего подхода, как правило, оптируют более
широким набором политических переменных, применяемых менее
механически.
Движение протеста
Институционалисты выражают протест как против существующей
рыночной экономики, так и против утвердившейся ортодоксальной
теории, которую они считают слишком тесно связанной с существу-
Институциональная экономическая теория
127
ющим институциональным устройством общества. Они не соглаша-
ются принять существующую конфигурацию институтов западной
экономической системы ни как единственно возможную, ни как окон-
чательно сложившуюся. Согласно их воззрениям, придавать налично-
му институциональному устройству, в особенности его иерархической
структуре, привилегированный статус лишь из-за того, что оно суще-
ствует, безосновательно.
Институционалисты действительно всегда были настроены кри-
тически. Они критикуют механический позитивизм неоклассической
ортодоксии, принятое в ней понимание, а точнее, способ моделирова-
ния природы человека. Они критикуют отсутствие в неоклассическом
видении проблем власти. Критически относясь к неоклассической
практике, для которой характерен поиск детерминированных, равно-
весных и оптимальных решений, они вместо этого, не претендуя на
какую-либо завершенность анализа, придают особое значение процес-
сам адаптации и силам, реально действующим в экономике. Особен-
но критично они относятся к теориям и способу теоретизирования,
исходящим из существующего институционального устройства или
того устройства, которое предполагается существующим, особенно в
форме анализа, с помощью которого предполагается на основе неяв-
ных нормативных предпосылок прийти к «оптимальным» решениям.
Они также критикуют механистическое применение допущений о
рациональности, конкуренции, информированности и наряду с этим
методологический индивидуализм, трактуя их как нереалистичные
предпосылки, которые используются в идеологических целях. Осо-
бенно острой критике с их стороны подверглась принятая в основном
течении экономической теории трактовка экономической роли госу-
дарства. Однако институционалисты не только критиковали. Они
разработали альтернативные как теоретические, так и эмпирические
методы анализа почти во всех значительных областях экономической
теории.
Неоклассика не была ни единственным объектом критики ин-
ституционалистов, ни единственной школой, с которой должен быть
сопоставлен институционализм. Важно его сопоставление и с марк-
систской экономической теорией. Институционалисты соглашаются
с марксистами, что власть имеет значение, что в экономической тео-
рии необходимо рассматривать системные изменения, что методоло-
гический индивидуализм должен быть дополнен методологическим
коллективизмом, что экономика (и государственное устройство) со-
зданы людьми и могут быть преобразованы, и наряду с этим указыва-
ют, что интересам масс, например интересам рабочего класса, необхо-
димо отводить место в экономической теории, которого они обычно
лишены из-за скрытой или даже открытой ориентации экономистов
на интересы господствующего класса.
128
Уоррен Дж. Сэмюэлс
Но институционалисты обычно критикуют марксистов за кон-
цепцию экономического класса (связанную с понятиями надстройки
и базиса), за телеологическую диалектико-материалистическую кон-
цепцию экономической трансформации (в противовес институциона-
листской концепции, не имеющей заданного исхода дарвиновской
эволюции), за огромное значение, придаваемое революции (в противо-
вес либо системным реформам, либо реформам в рамках существу-
ющей системы) и за узкую трактовку теории ценности и экономиче-
ской роли государства.
Однако институционалисты оказались сами до некоторой степе-
ни разобщены. Одни прослеживают истоки своих идей в работах
Веблена и Кларенса Айрса, в то время как другие следуют за Коммон-
сом. Между ними существуют множественные и сложные различия,
но все они фокусируются в разных подходах к теории ценности. Со-
гласно традиции Веблена—Айрса, технология и индустриализация рас-
сматриваются одновременно и как движущая сила, и как источник
ценности — последнее в том смысле, что технология позволяет лю-
дям производить больше и что все, способствующее дальнейшему
увеличению производства, ценно само по себе; но этот рост производ-
ства сдерживается иерархическими институтами. По мнению этих
авторов, институты представляют собой консервативную силу, сдер-
живающую введение новых технологий и организационных нововве-
дений. Есть некая ирония в том факте, что эти институционалисты
порочат институты, в то время как институционалисты как школа
мысли подчеркивают их значение — в данном случае значение нега-
тивно (Neale, 1987).
С другой стороны, в традиции Коммонса экономическая дея-
тельность рассматривается как результат взаимодействия целого ряда
факторов и сил, включающих технологию и институты, причем по-
следние рассматриваются как способ выбора между технологически-
ми альтернативами. По мнению представителей этой традиции, зна-
чительным источником ценности является определение действующих
правил права и морали, которые помогают структурировать и управ-
лять доступом и использованием власти, т. е. определяют, когда и
чьи интересы должны быть учтены. В этом отношении, как и в неко-
торых других, два направления институционализма подходят к пред-
мету исследования по-разному, но еще более они отличаются от пред-
ставителей магистрального неоклассического направления, чья тео-
рия ценности фокусируется на относительных ценах экономических
благ. Однако все институционалисты подчеркивают необходимость
использования в рамках экономической теории реалистичных и зна-
чимых концепций и теорий социальных изменений, социального
контроля, коллективных действий, технологии, процесса индустриа-
лизации и рынка как институционального комплекса, а не как аб-
страктного механизма.
Им^цштуциональная экономическая теория (KW
7.2. Методологическая ориентация
Как и прочие неортодоксальные школы мысли, институционали-
сты уделяют большое внимание рассмотрению методологии исследо-
вания (Samuels, 1980; Mirowski, 1987; Samuels, Tool, 1989b).
1. Институционалисты придают большее значение пониманию
(Verstehen), чем прогнозированию.
2. Учитывая неустранимую неопределенность, институциона-
листы подчеркивают границы, в которых возможно предсказание
фактического будущего в отличие от предсказания в контексте мо-
дели.
3. В отличие от априористичного и формалистичного дедукти-
визма институционалисты воспринимают экономическую теорию как
неизбежную смесь индукции и дедукции.
4. Институционалисты подходят к экономике как к органично-
му системному эволюционирующему целому, а не как к статичному
механизму.
5. Институционалисты подчеркивают важность инструмента-
лизма и прагматизма — в том числе как основы для решения
проблем — в отличие от «научной фантастики» и разгадывания
головоломок.
6. Институционалисты делают акцент на неизбежности нор-
мативных элементов в экономической теории, особенно в аспек-
те применения теории к проблемам политики и экономической
роли государства, и прежде всего в том, что касается статус-кво.
Они подчеркивают роль селективных, часто неявных, нормативных
предпосылок при определении того, чьи интересы должны учи-
тываться.
7. Институционалисты выступают за то, чтобы открыто вы-
сказывать ценностные суждения, обсуждать их в открытых дис-
куссиях и критиковать их, а не использовать ценности в неявном
виде. Они отвергают практику экономистов, которые разыгрывают
из себя позитивистов, при этом используя очевидно ограниченный,
но весьма избирательный нормативизм в форме оптимальности по
Парето и избегая серьезных и эпистемологически сложных про-
верок.
8. Институционалисты критикуют использование ньютоновской
физики как архетипа для экономической науки.
9. Институционалисты призывают к моделированию паттернов,
а не к ограниченному и часто сомнительному причинно-следственно-
му объяснению (Wilber, Harrison, 1978).
10. Институционалисты отстаивают методологический коллек-
тивизм либо в чистом виде, либо в сочетании с обогащенным и не-
10 Заказ № 356 ’
130
Уоррен Дж. Сэмюэлс
идеологизированным методологическим индивидуализмом, но не
последний сам по себе (Hodgson, 1988).
В отношении практики экономической науки институционалисты
придерживаются наряду с другими следующих убеждений.
1. Институционалисты настаивают на кумулятивной и откры-
той, а не линейной причинности.
2. Институционалисты делают акцент на ограничениях рацио-
нальности как факте или ограничивающей предпосылке и (или) идео-
логии (Jensen, 1987; Hodgson, 1988).
3. Институционалисты подчеркивают ограниченность неокласси-
ческого поиска детерминированных и предположительно оптималь-
ных равновесных решений, особенно в том, что касается последова-
тельности и целенаправленности человеческого поведения.
4. Институционалисты настаивают на изучении процессов адап-
тации, особенно происходящих в действительности, включая реаль-
ные факторы и силы, а также процессы институциональной адапта-
ции и институциональных измерений (Bush, 1987) в противовес изу-
чению формальных технических условий устойчивости равновесия в
контексте некоего априорно согласованного или предопределенного
порядка.
Что касается изучения истории экономической мысли, то здесь
институционалисты акцентировали внимание на:
1) экономических идеях не только как истинных и ложных суж-
дениях, но и как убеждениях или стиле рассуждений, как системе
смыслов;
2) функционировании властных и идеологических структур как
фильтрующих механизмов в развитии идей в рамках данной дисцип-
лины;
3) фундаментальных тавтологиях и логических кругах, лежа-
щих в основе экономической теории и политики;
4) исследованиях в области истории и методологии экономиче-
ской науки, которые проливают свет не только на существующие
структуры и доминирующую в настоящий момент школу экономи-
ческой мысли;
5) экономической науке как системе знаний, социального конт-
роля и создания психологического комфорта (поскольку статус-кво
интерпретируется как непротиворечивое, упорядоченное и гармонич-
ное состояние);
6) социологических объяснениях развития экономической нау-
ки в XX в.;
7) отношении языка к смыслам;
8) том, как общие понятия требуют и (или) делают возможной
дальнейшую избирательную спецификацию экономической теории в
ходе ее применения.
Институциональная экономическая теория
с 7.3. Власть ’ мгнво
• .1
Все институционалисты считают, что технология является глав-
ным фактором, влияющим на системную эволюцию и результаты
экономической деятельности. Для последователей традиции Вебле-
на—Айрса технология больше, чем главная движущая сила, — это
императив. Для них это основной двигатель экономического разви-
тия, источник ценности, а также сердцевина процесса индустриализа-
ции (Tool, 1977; Rutherford, 1981; Lower, 1987). Для последователей
традиции Коммонса технология в меньшей степени является импера-
тивом, но по-прежнему является главным фактором развития. По их
мнению, технология оказывает влияние на производственные мощно-
сти, производительность, эффективность и организацию, а также фор-
мирует множество альтернативных путей организации и ведения
производства (Melman, 1975). Следовательно, хотя некоторые импера-
тивные аспекты для технологии существуют, выбор технологии зави-
сит от соотношения сил по мере того, как различные экономические
субъекты стремятся использовать ее для своих собственных целей
(Klein, 1974; Strassmann, 1974; Samuels, 1977).
Все институционалисты воспринимают экономику как систему
власти (Samuels 1979; Samuels, Tool, 1989а,с). Не отрицая аспектов
сотрудничества, гармонии и исчерпания выигрышей от торга, они
подчеркивают важность конфликтов и силовой борьбы. Они отмеча-
ют, что, например, структура власти (включая законные права) опре-
деляет, чьи интересы должны учитываться; оптимальные по Парето
решения, настаивают они, специфичны для каждой данной структу-
ры. Поэтому они также утверждают, что на поисках единственного
оптимального решения всех проблем неизбежно сказывается влияние
гипотетических априорных предпосылок, касающихся того, чьи инте-
ресы следует учитывать. В то время как неоклассики стремятся обна-
ружить оптимизирующие свойства взаимодействия, институционали-
сты, не отвергая этот аспект, также изучают процессы, в рамках кото-
рых оптимизация имеет место и фактически достигаются оптимальные
результаты.
Для институционалистов, как уже было указано выше, централь-
ной экономической проблемой являются организация и контроль в
экономике, иными словами, образование и преобразование властной
структуры. Институционалисты изучают экономику в целом и такие
институты, как законные права, собственность, контракт и корпора-
ция в терминах власти. Власть для них включает (Eichner, 1987) конт-
роль фирм над ценами, но далеко не ограничивается этим. Главное
для них — это участие в экономике, определяющее, чьи интересы бу-
дут учитываться при аллокации ресурсов, распределении доходов, а
также определении занятости и реального дохода. Экономика, с точки
зрения институционалистов, представляет собой не нейтральный ме-
132
Уоррен Дж. Сэмюэлс
ханизм, а процесс принятия решений (Tool, 1979), где отдельные эко-
номические субъекты и подгруппы любыми средствами борются за вы-
годное положение и результаты деятельности.
Экономика больше, чем рынок. Экономика — это институты,
формирующие рынок, через которые рынок функционирует и кото-
рые порождают результаты рынка. Рынок, следовательно, подчинен
силам, которые управляют организацией и контролем в экономике,
большей частью через образование и преобразование институтов, где
главным являются власть и силовая борьба. Власть неизбежна и, бо-
лее того, существенна для экономической системы. По мнению ин-
ституционалистов, исследования воображаемых чистых рынков должны
быть отделены от исследований того, как действуют реально суще-
ствующие «пронизанные» институтами рынки. Институты имеют зна-
чение.
Институционализм, следовательно, является и теорией социаль-
ного контроля, и теорией социальных изменений, включая анализ
институциональной адаптации и деятельности институтов как спосо-
бов контроля и изменений. Не последней темой исследования инсти-
туционалистов являются вопросы частной собственности, корпора-
ции и корпоративной системы, равно как и государства самого по
себе. По всем этим направлениям доводы институционалистов о том,
что оптимальные решения неразрывно связаны с данной структурой
власти, выделяют важный, но традиционно игнорируемый аспект
неоклассической теории. Институционалисты также исследуют власть,
структуру власти и силовую борьбу независимо от технических усло-
вий так называемой оптимальности. Например, опираясь на эмпири-
ческие факты, институционалисты не воспринимают права собствен-
ности и другие права как данность, предшествующую человеку. Они
не считают права экзогенными по отношению к экономике или опре-
деляемыми самой логикой предполагаемой оптимальности (анализ
затрат и выгод).
С точки зрения институционалистов, непризнание фактора влас-
ти в формальной неоклассической теории фактически способствует
легитимизации существующей структуры смены и отправления вла-
сти. Это отчасти происходит вследствие принятия в качестве опти-
мальных предельных корректировок, осуществляемых фирмами и
другими экономическими субъектами.
7.4. Институциональная микроэкономика
Центральное микроэкономическое утверждение экономистов-инс-
титуционалистов состоит в том, что аллокация ресурсов есть функция
не рынка, а структуры власти, которая действует через него. С этим
утверждением все институционалисты полностью согласны, однако они
Институциональная экономическая теория
133
могут не соглашаться по другим вопросам. Институционалисты при-
знают, что аллокация ресурсов может быть исследована в терминах
рыночных сил спроса и предложения, но утверждают, что спрос и пред-
ложение сами по себе являются отчасти функцией структуры власти
(например, прав), которая, в свою очередь, является функцией исполь-
зования государства для защиты тех или иных интересов. Последнее
опять-таки зависит от борьбы за контроль и использование государства,
отчасти именно для вышеупомянутой цели. Аллокация ресурсов, сле-
довательно, — не просто результат пересечения двух кривых на школь-
ной доске, но результат действия сил, которые формируют эти кривые
и действуют через них. Короче говоря, аллокация ресурсов является
функцией власти.
Точно так же распределение дохода является функцией не ней-
тральных «естественных» рынков, а проявлений власти в рыночной
экономике и особенно в институтах, которые образуют рынок и дей-
ствуют через него. В этом отношении можно сказать, что распределе-
ние является функцией власти, а власть является функцией распре-
деления.
Поэтому институционалисты выступают за исследование (и в
определенной степени сами их исследуют) сил социализации и инди-
видуализации, таких как реклама, обычаи, традиции, и особенно со-
ревнование за достижение более высокого статуса, которые управля-
ют формированием наблюдаемых интересов и предпочтений. Они изу-
чают силы, вовлеченные в производство структуры власти, которая
наделяет предпочтения индивидов разным «весом», таким образом
определяя, чьи интересы будут учитываться. Здесь они часто делают
акцент на культуре, окультуривании и культурных изменениях и,
следовательно, на сложных процессах, в рамках которых ценности
«выводятся» из власти, а власть «выводится» из ценностей (Hodgson,
1988).
Для институционалистов власть зависит не исключительно от
цены, а определяется множеством структурных факторов. Подобным
образом оценивание (valuation) понимается не просто как феномен,
связанный с ценой, не просто как продукт рыночных сил: экономика
в целом, включающая рынок, но выходящая за его рамки, понимается
как процесс оценивания. Ценности выражаются, как в неоклассиче-
ской теории цен, через выбор, сделанный в рамках существующего
диапазона возможностей, но, кроме того, также через динамику струк-
туры власти и силовой борьбы при формировании структуры име-
ющегося набора возможностей. Таким образом, аллокация ресурсов —
функция не только узкопонятых рыночных сил — это функция всей
системы организации и контроля в экономике. Более того, понятие
ценности выражается не только в виде цен благ и факторов, но также
и в виде ценностей и действующих норм права и морали, которые
управляют деятельностью и принятием решений в экономике. Инс-
134
Уоррен Дж. Сэмюэлс
титуционалистское понятие ценности, таким образом, расширяется
от цены до социальных ценностей, которые, как утверждается, непре-
менно существуют и оказывают влияние на функционирование эко-
номики, отчасти воздействуя на формирование рыночных цен (Tool,
1986).
Институционалисты также исследовали то, что, по их мнению,
явилось главной трансформацией в западных экономических систе-
мах на протяжении последнего столетия, а именно развитие корпора-
тивной системы и связанное с ней возникновение централизованного
частного или частно-общественного секторального планирования. Цены
в данной системе являются администрируемыми, устанавливаются
частично через надбавку к издержкам (mark-up), целевую норму при-
были (target return) и (или) методы бюджетирования прибыли (profit-
budgeting techniques), иногда с использованием очень сложных форм
теории оптимального контроля. Фирмы, особенно в олигопольном ядре
экономики, которое, по мнению институционалистов, сосуществует с
более или менее конкурентной периферией, устанавливают цены, а не
принимают их (Samuels, Tool, 1989с). Институционалисты, таким
образом, подчеркивают необходимость исследования структурного
измерения рынков благ и факторов производства. Это относится как
к производству, так и к потреблению (Hamilton, 1987; Stevenson, 1987),
а также как к олигопольному ядру, так и к сегментированным или
стратифицированным рынкам труда. Как и фирмы, корпорации так-
же являются структурными феноменами. Например, хотя институци-
оналисты не восхищаются бесхитростной гипотезой максимизации
прибыли, предпочитая нечто более сложное (скажем, достижение удов-
летворительной прибыли, максимизацию доли рынка, заработков
менеджеров на протяжении их жизни и т. д.), они считают, что про-
цесс, определяющий, что максимизация прибыли означает для лиц,
принимающих решение в корпорации, важнее, чем максимизация
прибыли как формальная категория.
7.5. Институциональная макроэкономика
Институциональная макроэкономика частично вытекает из инс-
титуциональной микроэкономики, и похожа на посткейнсианскую
макроэкономику: экономические показатели — здесь это уровни до-
хода, выпуска, занятости и цен — являются функцией власти. Ин-
ституционалисты подчеркивают, что механизм цен не работает по
неовальрасианскому образцу, предполагающему расчистку рынков.
Применительно к ценообразованию и следующим отсюда макроэко-
номическим результатам институционалисты находят необходимым
провести разграничение между олигопольным ядром и конкурент-
ной периферией. Они утверждают, что распределение дохода и благо-
Институциональная экономическая теория
135
состояния оказывает влияние на макроэкономические результаты и
что борьба за распределение порождает как инфляцию, так и стагна-
цию. Согласно их убеждениям, макроэкономические показатели рын-
ков труда отражают, во-первых, их структуру или сегментацию и, во-
вторых, то обстоятельство, что спрос на труд (а отсюда занятость и
безработица) в гораздо большей степени функция конечной выпуска-,
емой продукции (и эффективного спроса на нее), чем функция отно-
сительной цены на труд, хотя они и не отрицают, что труд может
стоить так высоко, что будет вытеснен с рынка или замещен капита-
лом. Они находят, что макроэкономическая политика государства в
большей мере была нацелена на стабилизацию ожиданий в секторе
частных корпораций, чем на полную занятость или, к примеру, ста-
бильность цен.
Следуя традиции Митчелла, институционалисты подчеркивают
денежную (pecuniary), и особенно монетарную (monetary), природу эко-
номики (Dillard, 1987). Вслед за Джоном Мейнардом Кейнсом, Гар-
динером Минзом, Алфредом Айхнером, Джоном Кеннетом Гэлбрей-
том и другими институциональная макроэкономическая теория дела-
ет акцент на зависимости макроэкономических результатов как от
поведенческих переменных, так и от структуры власти (Peterson, 1980,
1987). Одни институционалисты, следуя Гэлбрейту, воспринимают
существующую систему как систему микро- и макроэкономического
планирования поневоле и охотно заменили бы ее на систему плани-
рования, имеющую более широкую базу и более осознанно управ-
ляемую, в то время как другие, следуя в числе прочих Уолтеру Адам-
су и Уилларду Мюллеру, более или менее соглашаются с диагнозом,
но не согласны с рецептом, призывая вместо этого к эффективному
использованию антимонопольной политики для восстановления под-
линно рыночной экономики, которая заменила бы корпоративную
систему.
7.6. Институциональные исследования
* в специализированных областях
Неудивительно, что работа институционалистов в различных
специализированных областях экономической науки отражает их
общую ориентацию, особенно упор на эмпирические исследования,
проводимые в рамках институциональной парадигмы, того, как орга-
низованы рынки и как фактически функционируют экономические
субъекты, с должным учетом структурных и поведенческих перемен-
ных. На самом деле в этих областях рассмотрение власти почти все-
гда дополняется рассмотрением системы убеждений (что считается
истинным и по каким причинам) и психологии, которая оказывает
влияние на интересы, предпочтения и стиль жизни.
186
Уоррен Дж. Сэмюэлс
В сфере экономики труда институционалисты начиная с Ком-
монса, а также его ученика и последователя из Висконсина Селига
Перлмана изучали формирование рынков труда и действия его участ-
ников, направленные на изменение как структуры рынка, так и пока-
зателей этих рынков в желаемую сторону отчасти через влияние на
общественное мнение и политику правительства (создание защищен-
ного рынка труда и законодательства, регулирующего трудовые отно-
шения). Центральное место в их исследованиях занимал анализ рын-
ков труда как арены взаимного принуждения, действий профсоюзов
и заключения коллективных договоров. Более поздние работы про-
должают делать акцент на отношениях между менеджментом и тру-
дом, а также на двойственных, сегментированных или стратифициро-
ванных рцнках труда. Вот хороший пример институционального
разделения между выбором, сделанным в рамках набора возмож-
ностей, и выборами, касающимися структуры набора возможностей:
в то время как теория человеческого капитала делает акцент на инди-
видуальной оптимизации благосостояния на протяжении жизни, инс-
титуциональная экономика труда подчеркивает важность сил и фак-
торов (включая корпоративную систему и государственную политику),
которые определяют, кому и какие возможности будут предоставлены
в рамках имеющихся. Это разделение подобно разделению Перлмана
между менеджерами, ориентирующимися на возможности (opportunity
conscious), и рабочими, ориентирующимися на свои служебные обя-
занности (job-conscious). Везде в центре находится власть (Woodbury,
1987).
В сфере экономического развития институционалисты фокусиру-
ют внимание на таких факторах, как сдерживающая роль классовой
структуры, которая прямо и косвенно тормозит модернизацию через,
например, контроль высших классов над правительством и другими
экономическими институтами и подражание низших классов тради-
ционным привычкам высшего класса. Они часто подчеркивают огра-
ничение рациональности крестьян под влиянием таких факторов, как
религия, обычаи, страх и структура власти (Street, 1987, 1988; Fusfeld,
1988; James, 1988; Klein, 1988).
В сфере международной торговли институционалисты подчерки-
вают важность влияния международных отношений власти — вклю-
чая роль альтернативных сводов правил, управляющих внутренними
и внешними сделками, и роль альтернативных международных инс-
титутов — на торговые отношения, сравнительные издержки и пото-
ки капитала. Институционалисты также исследуют политический и
экономический империализм как исторический компонент между-
народных отношений. Они подчеркивают к тому же, что «свободные
рынки» как на национальном, так и на международном уровне явля-
ются функцией институциональных конфигураций, которые создают
Институциональная экономическая теория
137
их и действуют через них в рамках «институциированного процесса»
(instituted process) (Adams, 1987).
В сфере теории отраслевых рынков институционалисты отмеча-
ют важность структурных факторов. Некоторые из них фокусируют
внимание на традиционном понятии отраслевой концентрации, в то
время как другие делают акцент на понятии корпоративной системы
и на централизованном частном или частно-общественном сектораль-
ном планировании. Очевидно, что все институционалисты сходятся
на определении современной западной экономики как весьма кон-
центрированной и высокоорганизованной. Как уже отмечалось, одни
предписывают более сильное и эффективное антимонопольное законо-
дательство и принудительные меры с целью создания подлинно кон-
курентной рыночной системы, в то время как другие, принимая си-
туацию как данную, защищают ответственное и подотчетное государ-
ственное планирование вместо уже сформированной системы частного
планирования, которую нельзя «призвать к ответственности» и про-
контролировать (Dugger, 1987; Munkirs, Knoedler, 1987; Galbraith,
1967).
8V
7.7. Экономическая роль государства
По мнению институционалистов, государство волей-неволей со-
ставляет важную часть экономической системы, и без него экономи-
ческая система не была бы тем, чем она является сейчас. Как основ-
ные экономические институты, которые определяют природу эконо-
мической системы, так и структура прав, которая определяет структуру
власти в экономике, а также экономическое значение природных ре-
сурсов (DeGregory, 1987), являются функциями государства. Напро-
тив, основное течение экономической теории рассматривает государ-
ство в основном как источник неэффективности и искажений, неэф-
фективное во всех видах своей деятельности. Институционалисты же
считают, что механистическое теоретизирование экономистов-неоклас-
сиков приводит к результатам, исключающим или порочащим пра-
вительство, именно потому, что в этих теориях экономическая роль
государства игнорируется или воспринимается как данность.
Институционалисты считают, что государство непременно явля-
ется главным средством осуществления коллективных действий и
должно пониматься в рамках реалистичных и неидеологизированных
концепций социального контроля и социальных изменений. Государ-
ство глубоко вовлечено в качестве как зависимой, так и независимой
переменной в социально-экономическую структуру власти. Экономи-
ка является объектом правового контроля, а государство есть сред-
ство получения экономической выгоды. Государство — инструмент,
доступный любому, кто сможет его контролировать и использовать.
138
Уоррен Дж. Сэмюэлс
Права, имеющие экономическое значение, например права собствен-
ности, которые формируют структуру власти, создающую рынок и
ограничивающую его, являются в сущности вопросом государствен-
ной политики.
Экономика представляет собой артефакт, частично порожденный
государством и государственной политикой. Борьба любыми сред-
ствами за власть над государством является основным социальным,
процессом. Частью этого процесса является избирательное манипули-
рование идеологией. Решающе важной практической проблемой
является не противопоставление вмешательства государства его от-
сутствию, а то, каким интересам государство окажет свою поддерж-
ку. Вмешательство означает не вторжение государства в ситуацию, в
которой оно прежде отсутствовало, а законодательное изменение юри-
дических прав. Государство есть средство осуществления верховной,
номинально частной власти и ограничение этой власти в интересах
тех, кто ее не имеет. Корпоративная система была создана посред-
ством симбиоза интересов и убеждений номинально частных лиц и
государственных должностных лиц. Согласно точке зрения институ-
ционалистов, как экономическое, так и государственное устройство
возникают взаимосвязанно (Samuels, Schmid, 1981; Liebhavsky, 1987,
1988; Dragun, 1988; Dugger, 1988; Gruchy, 1988; Kanel, 1988; Mitchell,
1988; Randall, 1988; Samuels, 1986b).
7.8. Заключительные комментарии
Институциональная экономическая теория сосредоточивает свое
внимание на власти, институтах, технологии, процессе и тому подоб-
ных концепциях. Таким образом, в институциональной экономике
учитывается более широкий набор переменных, чем в неоклассиче-
ском основном течении. Кроме того, институционалисты создают иную
концептуализацию экономической системы и придают иное значение
центральной экономической проблеме, а может быть, и по-другому
понимают ее. Поэтому институционалисты пытаются понять эко-
номические события и феномены исходя не только из аллокации ре-
сурсов, но и из причин и последствий структурной организации
и контроля. Они отказываются также от поиска детерминированных
оптимальных равновесных решений в пользу исследования того, что
фактически происходит в экономике; при этом они последовательно
осуждают традиционную практику, когда экономисты делают эко-
номический процесс более детерминированным и упорядоченным, чем
он является на самом деле, и исподтишка вводят неявные норма-
тивные предпосылки. Таким образом, институциональная экономиче-
ская теория сохраняет свои традиции: (а) создавая альтернативную
систему знаний и тем самым увеличивая способность общества ре-
Институциональная экономическая теория
139
шать стоящие перед ним проблемы; (б) критикуя как другие школы
экономической мысли, так и господствующий экономический по-
рядок.
.tllili: .-'I
. . Литература
. i.'Cl-
Adams J. Trade and payments as instituted process: the institutional theory of
the external sector//Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1839-
1860.
DeGregori T. Resources are not, they become // Journal of Economic Issues.
1987. Vol. 21. P. 1241-1263.
Dillard D. Money as an institution of capitalism // Journal of Economic Issues.
1987. Vol. 21. P. 1623-1647.
Dragun A. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part. III. Vol. 3.
Dugger W. An institutionalist theory of economic planning // Journal of Economic
Issues. 1987. Vol. 21. P. 1649-1675.
Dugger W. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part II. Vol. 2.
Eichner A. Prices and pricing//Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21.
P.1555-1584.
Fusfeld D. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part. II. Vol. 2.
Galbraith K. The New Industrial State. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1967.
Gruchy A. Modern Economic Thought: The American Contribution. New York :
Prentice-Hall, 1947.
Gruchy A. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part II. Vol. 2.
Hamilton D. Institutional economics and consumption // Journal of Economic
Issues. 1987. Vol. 21. P. 1531-1554.
Hodgson G. Economics and Institutions. Philadelphia, PA : University of Philadel-
phia Press, 1988.
James D. (1988). /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot:
Edward Elgar, Part III. Vol. 3.
Jensen H. The theory of human nature//Journal of Economic Issues. 1987.
Vol. 21. P. 1039-1073.
Kanel D. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part III. Vol. 3.
Klein P. Economics: allocation or valuation? // Journal of Economic Issues.
1974. Vol. 8. P. 785-811.
Klein P. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward Elgar,
1988. Part II. Vol. 3.
Liebhausky H. Law and economics from different perspectives // Journal of
Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1809-1835.
140
Уоррен Дж. Сэмюэлс
Liebhavsky Н. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part II. Vol. 2.
Lower M. The concept of technology within the institutional perspective // Journal
of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1147-1176.
Mayhew A. The beginnings of institutionalism // Journal of Economic Issues.
1987. Vol. 21. P. 971-998.
Melman S. The impact of economics on technology // Journal of Economic Issues.
1975. Vol. 9. P. 59-72.
Mttchell W. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part II. Vol. 2.
Mirowski P. The philosophical basis of institutional economics // Journal of
Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1001-1038.
Munkirs J„ Knoedler J. The existence and exercise of corporate power: an opaque
fact//Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1679-1706.
Neale W. Institutions//Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1177-
1206.
Peterson W. Power and economic performance // Journal of Economic Issues.
1980. Vol. 14. P. 827-869.
Peterson W. Macroeconomic theory and policy in an institutionalist perspective //
Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1587-1621.
Randall A. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part III. Vol. 3.
Rutherford M. Clarence Ayres and the instrumental theory of value // Journal
of Economic Issues. 1981. Vol. 15. P. 567-573.
Samuels W. Technology vis-a-vis institutions in the JET. a suggested interpre-
tation//Journal of Economic Issues. 1977. Vol. 11. P. 871-895.
Samuels W. (ed.). The Economy as a System of Power. New Brunswick, NJ
Transaction Books, 1979.
Samuels W. (ed.). The Methodology of Economic Thought. New Brunswick, NJ :
Transaction Books, 1980.
Samuels W. Institutional Economics. 3 vols. Aidershot: Edward Elgar, 1988a.
Samuels W. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988b. Part II. Vol. 2.
Samuels W., Schmid A. Law and Economics: An Institutional Perspective. Boston,
MA : Martinus Nijhoff, 1981.
Samuels W., Tool M. (eds). The Economy as a System of Power. New Brunswick,
NJ : Transaction Books, 1989a.
Samuels W„ Tool M. (eds). The Methodology of Economic Thought / 2nd edn.
New Brunswick, NJ : Transaction Books, 1989b.
Samuels W., Tool M. (eds). State, Society and Corporate Power. New Brunswick,
NJ : Transaction Books, 1989c.
Stevenson R. The theory of production // Journal of Economic Issues. 1987.
Vol. 21. P. 1471-1493.
Strassmann P. Technology: a culture trait, a logical category, or virtue itself? //
Journal of Economic Issues. 1974. Vol. 8. P. 671-687.
Институциональная экономическая теория 141
Street J. The institutionalist theory of economic development//Journal of
Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1861-1887.
Street J. /In W. Samuels (ed.). Institutional Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1988. Part II. Vol. 3.
Tool M. A social value theory in neoinstitutional economies // Journal of Economic
Issues. 1977. Vol. 11. P. 823-846.
Tool M. The Discretionary Economy. Santa Monica, CA : Goodyear, 1979.
Tool M. Essays in Social Value Theory. Armonk, NY : M. E. Sharpe, 1986.
Wilber C., Harrison R. The methodological basis of institutional economics: pattern
model, storytelling, and holism // Journal of Economic Issues. 1978. Vol. 12.
P.61-89.
Woodbury S. Power in the labor market: institutionalist approaches to labor
problems//Journal of Economic Issues. 1987. Vol. 21. P. 1781-1807.
8
А. У. КОУТС ’"“л
Pl /lauvbovQ . AQ j.' d у ufT jooT
;'^А-'»чЗД|й8ММвИСТ КАК ПРОФЕССИЯ w'
sntl .одчюир->• 1п<«рл1цШгщ ;•. идеи jj:nj3o>'i".->diu,>.
•’"Pl Ги;.!
Представители каждой профессии жи-
вут в своем собственном мире. Язык,
используемый ими, ориентиры, кото-
рым они следуют, их обычаи и тради-
ции могут быть понятны до конца толь-
ко тем, кто живет среди них.
Карр Сондерс и Уилсон
(Carr Saunders, Wilson, 1933 : lit)
8.1. Введение
Большинство экономистов считают себя профессионалами и хо-
тели бы, чтобы и другие к ним относились так же, хотя многим было
бы и затруднительно точно сказать, что подразумевается под этим тер-
мином. В этом нет ничего удивительного, поскольку термины «про-
фессия» и «профессионализация» долгое время оставались предметом
дискуссий среди специалистов, большинство из которых были социоло-
гами и поэтому не принимались всерьез экономистами. Более того,
как мы еще увидим, существуют специфические причины, по которым
профессию экономиста трудно определить и идентифицировать. Менее
понятным и даже непростительным является то, что до сих пор суще-
ствует очень мало серьезных исследований природы, исторической эво-
люции и значения профессионализации экономической науки, сделан-
ных экономистами или представителями каких-либо других профес-
сий. Конечно, состоялась широкая дискуссия вокруг этих проблем,
разгоревшаяся в особенности во время так называемого «кризиса» кон-
ца 1960-х и начала 1970-х гг. (см., например, Heller, 1975; Coats, 1977;
Bell, Kristol, 1981), однако большая ее часть либо носила случайный,
личный, пристрастный характер, либо была по преимуществу мето-
дологической. Не было опубликовано всеобъемлющего исследования
увеличения численности профессиональных экономистов в Велико-
Экономист как профессия
143
британии и Соединенных Штатах — двух странах, играющих основ-
ную роль в развитии современной экономической теории; сравнитель-
ные исследования в этой области все еще находятся в зачаточном со-
стоянии,1 хотя и были осуществлены многообещающие, но, по сути,
только «предварительные» исследования роли экономистов в прави-
тельстве, на которые мы еще будем ссылаться. Соответственно при
нынешнем уровне наших знаний предлагаемый очерк волей-неволей
должен получиться схематичным и «импрессионистическим».
Кое-какие вещи, однако, бесспорны. В течение последних при-
близительно пятидесяти лет количество профессиональных экономи-
стов значительно возросло по сравнению с временным интервалом,
прошедшим от опубликования Адамом Смитом «Богатства народов»
до начала указанного периода, и это можно приписать факторам, дей-
ствующим как со стороны спроса, так и со стороны предложения.
В Великобритании и в Соединенных Штатах до конца XIX в., а в
большинстве других стран до значительно более позднего срока фор-
мальная система обучения экономической теории в таком виде, как
она нам известна сегодня, либо вообще отсутствовала, либо была раз-
вита очень незначительно. Когда же социальные науки наконец выде-
лились в группу идентифицируемых специализированных дисциплин,
экономическая наука была в авангарде этого процесса отчасти пото-
му, что она была объектом вполне отчетливых общественных интере-
сов, но главным образом вследствие того, что она была основана на
хорошо развитом и распознаваемом «корпусе» теоретического зна-
ния. Последняя черта в настоящее время рассматривается как непре-
менное условие для любой «современной» профессии, претендующей
на принадлежность к области науки, в отличие от таких традицион-
ных профессий, как священнослужители, юристы или военные.
В чрезвычайном распространении по всему миру высшего обра-
зования после Второй мировой войны экономическая наука играла
отнюдь не последнюю роль, и, естественно, этот процесс вызвал быст-
рый рост числа преподавателей и исследователей в области акаде-
мической экономической теории. Однако это было лишь продол-
жением гораздо раньше начавшегося и более широкого процесса эко-
номических и социальных изменений, а именно роста специализации
и разделения труда в современных урбанизированных индустриаль-
ных обществах. Как верно заметил один наблюдательный социолог:
«Процесс индустриализации общества есть процесс его профессиона-
лизации» (Goode, 1960 : 902). Другой же заметил:
1 В своей классической работе Карр Сондерс и Уилсон (Carr Saunders,
Wilson, 1933 : 2) сделали следующее наблюдение: «Адекватное исследование
возникновения одной из великих профессий с раскрытием ее корней, ухо-
дящих в далекое прошлое, было бы работой целой жизни».
144
А. У. Коутс
Развитие профессий и приобретение ими стратегического значения,
вероятно, представляют собой наиболее важное изменение, которое возникло
в структуре занятости современных обществ. Увеличение числа профессий
привело к выдвижению на первый план тех из них, которые прежде никогда
не имели серьезного значения для идеологического мышления. Выкристал-
лизовавшись в конце XIX в., они имеют тенденцию доминировать в обще-
ственных дискуссиях XX в.
(Parsons, 1968 : 536)
Расплывчатое слово «идеологический» в данном случае очень
важно понимать в двух обособленных, но взаимосвязанных смыслах.
Первым и более очевидным является политический смысл. Так, по
мнению представителей радикального, марксистского, институциона-
листского и других оппозиционных направлений в экономической
теории, относящаяся к основному течению ортодоксальная неоклас-
сическая доктрина явно или неявно предполагает принятие социально-
экономического статус кво. Например, предельный анализ сосредото-
чивает внимание на мелких корректировках имеющего место состоя-
ния «неудовлетворенности» (discontents), тем самым фактически
снимая более глубокий вопрос о существующем порядке. Можно
утверждать, что когда в конце прошлого столетия маржинализм стал
превращаться в общепринятую среди ученых-экономистов доктрину,
этому сопутствовало сужение предмета исследования рассматривае-
мой дисциплины (выразившееся в замене термина «политическая
экономия» на термин «экономика» (economics) или экономическая
теория). Это изменение побудило экономистов передать в ведение
других социальных наук исследование таких животрепещущих про-
блем, как распределение дохода и богатства, структура власти и соци-
альная справедливость. Такое сужение изучаемого предмета является
одним из знакомых нам признаков профессионализации. Конечно,
некоторые экономисты энергично сопротивлялись такому сужению
их предмета. Однако ему способствовала практика резкого разграни-
чения между «наукой» (т. е. между теорией или анализом, который
иногда называется «истинной» экономической наукой) и «искусством»
политической экономии (т. е. рассуждениями о текущих экономи-
ческих проблемах и политических мерах), таким образом, искусный
экономист мог одновременно сохранить свой пирог и съесть его,
т. е. он мог бы участвовать как независимый беспристрастный экс-
перт в дебатах по государственной политике, не жертвуя при этом
своей научной чистотой.2 В какой степени такое разграничение было
принято непрофессионалами — это совсем другая проблема.
2 В работе Фернера (Furner, 1975) содержится ценный анализ этой
проблемы, где часто фигурируют экономисты. К сожалению, не существует
сравнимого с этой работой более позднего или относящегося к Великобрита-
нии исследования.
Экономист как профессия
145
Позднее, по мере увеличения возможностей занятости экономи-
стов в неакадемической сфере, а именно в области бизнеса, банков-
ского дела, в федеральных, региональных и местных органах власти и
в международных организациях, все большее число экономистов ста-
ло работать в сфере конкретной политики. Последовавшая за этим
политизация предмета экономической науки сильно затруднила прак-
тическое разграничение между экономической наукой и искусством.
Процесс проникновения профессиональных экономистов в сферу по-
литической деятельности в качестве глав государств, министров, ве-
дущих экономических советников правительства, президентов круп-
ных корпораций и т. д. хотя и шел уже полным ходом в некоторых
странах начиная с Великой депрессии 1930-х гг., но в действительно
заметное явление превратился только со Второй мировой войны. Эко-
номисты участвовали в общественных дебатах по дискуссионным
политическим вопросам на различных форумах самого разного уров-
ня и сыграли главную роль в формировании и последующем функци-
онировании международных экономических организаций, которые
стали важной частью послевоенного мира.
Все эти факты позволяют усомниться в том, что экономическая
наука представляет собой по преимуществу технократическую и апо-
литичную дисциплину. Действительно, как настойчиво утверждает
один весьма проницательный критик экономической науки, можно
четко выделить не одну, а три идеологии, или мировоззрения, профес-
сиональных экономистов, а именно консервативную, либеральную и
радикальную, каждая со своими собственными идеологическими пред-
посылками, теориями и политическими предпочтениями. Если следо-
вать определению того же автора, большинство экономистов-теорети-
ков — либералы (Ward, 1979). Это кажется вполне правдоподобным,
если вспомнить предшественников этой науки из числа либеральных
моральных философов XVIII в.
Однако существует и второе значение слова «идеологический»,
которое особенно важно в данном контексте. Это понятие професси-
ональной идеологии, которое можно определить как совокупность идей,
убеждений, ценностей, стандартов и поведенческих стереотипов, на
основе которых можно отделить представителей данной профессии
от всех остальных. Как это подчеркнуто в эпиграфе, открывающем
настоящую статью, профессиональная идеология является составной
частью общей культуры, разделяемой представителями любой сфе-
ры деятельности, имеющей четко определенные границы. Ее можно
выявить, выделив общепринятые цели, конвенции и методологиче-
ские правила данной группы людей; ее укрепляет развитие специфи-
ческого эзотерического языка, недоступного для непрофессионалов.
В профессиональной идеологии воплощается также некое «подразу-
меваемое» знание, которое трудно исчерпывающе определить даже
опытным профессионалам. Применительно к экономистам, главным
11 Заказ № 356
146
А. У. Коутс
элементом этой идеологии является представление о нейтральном
объективном научном эксперте, которое лежит в основе вышеупомя-
нутого различия между «наукой» и «искусством», или, используя со-
временный жаргон, между «позитивной» и «нормативной» экономи-
ческой теорией (Hutchison, 1964). В сообществе экономистов акаде-
мический идеал чистого исследователя, ищущего истину, объективного
беспристрастного эксперта оказывается более важным, чем любая более
прагматическая концепция профессионализма или служения обще-
ству. Когда этот идеал выходит за пределы чисто академической сферы,
он часто принимает форму страстной защиты эффективности и ры-
ночных методов (Nelson, 1987), которым, по мнению некоторых кри-
тиков, отдается безусловный приоритет перед соображениями спра-
ведливости. Этому способствовали усилия, сделанные на грани XIX и
XX вв. с целью разорвать связь между политической экономией и
этикой. Эти профессиональные ценности, имеющие глубокие корни,
утверждаются на страницах стандартных учебников и в явном или
неявном виде внушаются людям в процессе их «введения в курс
дела», обучения и социализации в рамках профессии. И хотя пред-
ставление о профессиональной нейтральности может казаться дале-
ким от реальности, оно явилось важным элементом в создании и
поддержании профессиональной коллективной самоидентификации
экономистов.3
Конечно, субъективные компоненты профессиональной идео-
логии мало что значат без учета такого внешнего к профессии ас-
пекта, как превалирующее в обществе представление о ее культур-
ном статусе, которое принимает формы назначения на требующие
высокой квалификации должности с вознаграждением, превыша-
ющим средний уровень, делегирования ответственности и власти,
3 Профессиональную идеологию, конечно, можно определить весьма узко,
как это имеет место в знаменитом разграничении, сделанном Йозефом
Шумпетером, между идеологией математического мышления и идеологией
сознания, испытывающего аллергию к математике (Schumpeter, 1949 : 351).
Это идеологическое разделение на сегодняшний день имеет гораздо большее
значение в экономической теории по сравнению с положением дел сорок лет
назад, поскольку математическая грамотность теперь действительно стала
условием допуска в экономическую профессию и необходимым «орудием»
на ранних стадиях карьеры. Это серьезный момент, несмотря на шутливые
ссылки на усиливающуюся «гонку вооружений» в эконометрике и на меж-
поколенческое «равновесие страха» между занимающими прочное положе-
ние учеными мужами и их молодыми, технически хорошо подкованными
коллегами (Wiles, 1984 : 292). Из массы относящейся к делу литературы до-
статочно упомянуть работы Бауэра и Уолтерса и By (Bauer, Walters, 1975;
Woo, 1986). Кроме того, ценные замечания по поводу связи между професси-
онализацией и математизацией в других дисциплинах можно найти в рабо-
тах Уитли (Whitley, 1977, 1984).
Экономист как профессия
147
а также высокой общественной оценки. Наличие эзотерических
знаний и навыков обычно удостоверяется присуждением степеней,
дипломов и других знаков отличия, получение которых требует
длительного обучения; а контроль за входом в профессиональное
сообщество либо в форме процесса обучения, либо в виде прямого
регулирования количества выпускаемых сертификатов, либо того и
другого, служит для того, чтобы ограничить предложение новых
соискателей и таким образом сохранить привилегированное поло-
жение профессии.
Профессия — это не статический феномен, характеризующийся
постоянным набором заданных характеристик.4 Профессии растут и
развиваются с течением времени, а профессионализация — это дина-
мический процесс, который содержит
...попытки перевести один набор редких ресурсов — специализирован-
ные знания и навыки — в другой — социальные и экономические возна-
граждения. Поддержание редкости предполагает тенденцию к монополии:
монополии экспертизы на рынке, монополии статуса в системе стратифи-
кации.
(Larson, 1978 : xvii)
В противовес циничной точке зрения, согласно которой сущ-
ностью профессионализма является власть, достигнутая в результате
сговора против непрофессионалов, существует противоположное убеж-
дение, согласно которому профессионал имеет моральные обязатель-
ства перед своими клиентами или пёред обществом в целом, например
обязательство ответственно применять свои знания ради служения
другим людям.5 Какой бы точке зрения ни отдавалось предпочте-
ние, очевидно, что экономика не достигла полного профессионально-
го статуса; возможно, экономисты всерьез и не стремились к этому.
Традиционно они находились в идеологической оппозиции к моно-
полии, и это привело их к тому, что они стали ставить вопрос о до-
стоинствах профессионализма более открыто и настойчиво, чем пред-
4 Было предложено множество таких «наборов». В одной из попыток
многомерного анализа было идентифицировано шесть элементов и двадцать
один субэлемент (Jenkins, 1970 : 59).
5 Некоторые аналитики рассматривают идеал служения обществу или
общественного доверия как свойственное среднему классу объяснение, отра-
жающее скорее самообман профессионалов, чем умышленные попытки вве-
сти общественность в заблуждение. Значительная часть авторов колеблется
между тем, чтобы рассматривать профессию как широкую образовательную
и культурную страту или как вид занятости. Исторически первый подход
более применим к континентальной Европе с ее «публичными» профессия-
ми, тогда как второй более соответствует англо-американским «свободным»
профессиям, хотя с развитием бюрократии и государства благосостояния раз-
личие между ними стало стираться.
148
А. У. Коутс
ставители других социальных наук (Johnson, 1972 : 15).8 Интере-
сен также следующий вопрос: в какой степени они стремились к
обособленности от рынка (другая характерная черта любой профес-
сии) (Herman, 1982).
Хотя ученые-экономисты, естественно, контролируют входные
барьеры на пути вступления в профессию, влияя на процесс полу-
чения степеней, они всегда последовательно выступали против любого
рода формальной профессиональной аккредитации. Ведущие бри-
танские и американские научные общества или профессиональные
организации полагаются исключительно на экономические критерии,
поскольку они открыты всем, кто желает платить членские взносы.
Экономисты до сих пор не предпринимали коллективных усилий
с целью определить стандарты профессионального поведения в уни-
верситетах или где-либо еще. Даже сейчас, когда уровень техничес-
кой оснащенности соискателей степени доктора (Ph. D.) из элитных
университетов достиг таких высот, какие и не снились более пожи-
лым профессионалам, в неакадемическом мире пока еще часто не
наблюдается явного разделения между (а) обладателями магистерс-
ких и докторских (а не бакалаврских) степеней, (б) обладателями
междисциплинарных, а не чисто экономических бакалаврских степе-
ней с отличием (Towse, Blaug, 1988) и (в) лицами, занимающими
высокие управленческие должности и находящимися на государствен-
ной службе при отсутствии какого-либо формального экономическо-
го образования. Скептики могут утверждать, что нежелание создавать
жесткий входной контроль, код профессиональной этики или проце-
дуру исключения тех, кто не может соответствовать приемлемым стан-
дартам поведения или квалификации, объясняется не идеологиче-
ской неприязнью, унаследованной от либеральной моральной фило-
софии, а скорее признанием того, что в экономике данный вид
профессионализма просто нельзя ни навязать, ни даже, может быть,
определить.6 7
6 Литература по профессиям и профессионализму весьма обширна, и в
ней можно обнаружить конфликтующие точки зрения, а подчас и сенсации.
В своем восхитительном обзоре ведущий эксперт в этой области Уолтер
Метцгер употребляет термин «профессионализм» в отношении «всех систе-
матических попыток приписать исторические тенденции — в особенности
нежелательные — развитию профессий или недостаткам профессионалов
(Metzger, 1987 : 13). Вне всякого сомнения, экономисты слишком сильно
пострадали от того, что профессиональное знание стало пользоваться мень-
шим почетом.
7 Конечно, некоторое утешение можно найти в викторианской макси-
ме, гласящей, что джентльмен не нуждается ни в каком моральном кодексе,
так как нет такого кодекса, который помог бы превратить плута в джен-
тельмена!
Экономист как профессия
149
В основе этой ситуации лежит трудный эпистемологический
вопрос о том, что же конкретно «знают» экономисты, чего не знали
бы представители других профессий. Конечно, можно ожидать, что
дипломированные экономисты знают основы экономического анали-
за, заключенные в бесчисленных стандартных учебниках (которые,
между прочим, отличаются поразительным единообразием). По всей
вероятности, они гораздо лучше, чем неэкономисты, понимают суть и
работу ценового механизма, а также функционирование и взаимоза-
висимость рынков, как в своей стране, так и за ее пределами, значе-
ние редкости и альтернативных издержек, природу и функции денег,
банковского дела, финансов и т. д. И все же многие фундаментальные
идеи экономистов являются элементарными и очень общими, хотя и
могут широко применяться на практике. Достаточно ли этого, чтобы
претендовать на положение эксперта в неакадемической сфере?
Исходя из пятидесятилетнего исторического опыта работы эко-
номистов в правительстве на этот вопрос можно ответить утверди-
тельно. В конце концов, несмотря на часто освещаемые в прессе кон-
фликты и разногласия в среде профессионалов, устойчиво сохраняет-
ся спрос на экономистов в государственном секторе, и хотя в частном
секторе их успехи и неудачи гораздо меньше известны, нет сомнения,
что этот ответ применим и к нему. Однако нужно сделать некоторые
важные оговорки, которые нельзя здесь полностью объяснить и обос-
новать.
Что касается работы в государственном секторе, то здесь обычно
основное внимание сосредоточивалось на той роли, какую сыграли
экономисты, занимая посты высших государственных советников и
выполняя функции лиц, принимающих ключевые решения, хотя боль-
ший спрос, очевидно, предъявляется на чиновников бюрократической
машины, деятельность которых менее эффектна. Эта деятельность
чрезвычайно разнообразна, поэтому широкие обобщения должны вы-
зывать сомнения. Тем не менее сущность, объем, и эффективность
работы экономистов в государственном аппарате, очевидно, будут за-
висеть от таких факторов, как диапазон и многообразие мер экономи-
ческой и социальной политики государства (идеология laissez-faire
неблагоприятна для экономистов-чиновников), политический климат
(существенным показателем здесь является степень стабильности),
характер бюрократии (наиболее очевидные «препятствия» — корруп-
ция, политизация и неэффективность) и готовность признать выводы
экономической экспертизы (которая зависит от культуры общества,
системы образования и степени согласия в научном сообществе эко-
номистов) (ср. Coats, 1981, 1986; Pechman, 1989). Экономисты могут
выполнять множество различных функций в разнообразных ситуаци-
ях, но обычно они оказываются более эффективными в подразделени-
ях и учреждениях с относительно ясными экономическими целями и
ответственностью. Они могут быть временными или постоянными
150
А. У. Коутс
служащими, работающими либо в специализированных подотделах
(например, в качестве разработчиков моделей и прогнозистов), либо в
качестве «свободных художников», предлагающих свои услуги управ-
ляющим или иным специалистам (и в таких случаях конфликты
профессиональных ценностей и идеологий могут стать значимыми).
Большая часть работы более низкого уровня состоит в рутинном сбо-
ре данных, их представлении и анализе, что либо вообще не требует
от экономиста применения специализированных знаний и навыков,
либо требует их в совсем небольшом размере. И поскольку государ-
ственная служба, как и сама экономическая теория, приобретает все
более и более «количественный» характер, отчасти в ответ на нена-
сытный спрос на экономическую и социальную статистику, экономи-
сты часто работают совместно с другими специалистами, выполня-
ющими количественные исследования: статистиками, математиками,
исследователями операций или бухгалтерами. Именно в таких ситу-
ациях результаты работы экономистов могут и должны дифференци-
роваться согласно способностям их авторов к количественному ана-
лизу, поскольку кроме технических и математических навыков они
также обладают особым интеллектуальным аппаратом или «обра-
зом мышления», который обычно не присущ большинству неэконо-
мистов.8 Ценность основных, на первый взгляд элементарных идей,
составляющих интеллектуальный багаж экономистов, неоднократно
подчеркивали многие авторитетные профессионалы исходя из своего
опыта работы в правительстве. Весьма часто их приятно удивляла
способность экономистов ставить такие глубокие и эффективные во-
просы, которые другие были либо не в состоянии поставить, либо не
имели на то желания. В этом контексте чрезмерное акцентирование
внимания на количественных методах может быть профессионально
и интеллектуально вредным, так как решения по сложным полити-
ческим проблемам довольно редко можно вывести из каких-то коли-
чественных параметров.
Как показывает сравнительное изучение национальных прави-
тельств и международных организаций, задачи, которые выполняют-
ся экономистом, находящимся на государственной службе, будут в
значительной степени зависеть от масштаба, структуры и ответствен-
ности организации, в которой он работает. Множество экономистов
работает в диапазоне от высших государственных советников, лиц,
ответственных за проведение политики, до скромных «трудяг», обра-
батывающих бюрократические «виноградники», многие из которых
просто занимаются рутинными расчетами. Политические предложе-
ния могут возникнуть в любом из звеньев государственного аппарата
и за его пределами, но многие из наиболее существенных политиче-
6 Политолог Роудс (Rhoads, 1985) дает проницательный анализ досто-
инств и недостатков интеллектуального аппарата экономистов.
Экономист как профессия
151
ских формулировок и предложений по их применению возникают на
средних уровнях. По мере того как предложения проходят по офици-
альным каналам, т. е. если от них не отказываются, они обычно мо-
дифицируются, оттачиваются, им придается другая форма. После того
как четко сформулированное решение принято, его претворение в жизнь
часто требует адаптации и интерпретации с тем, чтобы учесть специ-
фические обстоятельства, которые не принимались во внимание со-
ставителями первоначальных проектов и теми, кто принимал решение.
На каждом из указанных этапов экономисты вносят свой вклад.
Опытные экономисты, занятые на государственной службе, на
своем опыте убедились: для того, чтобы добиться хороших результа-
тов, они должны учитывать факты бюрократической и политической
жизни. Как отметил Роберт Нельсон в своем недавнем содержатель-
ном обзоре большой массы литературы, они не могут функциониро-
вать просто как неуклонные и фанатичные защитники эффективно-
сти. В реальной жизни
...они должны также приспосабливать защиту рыночных методов, эф-
фективного использования ресурсов и других экономических подходов к по-
литической среде... модифицировать предложения с тем, чтобы сделать их
привлекательными с точки зрения справедливости или избежать нарушения
реальных или мнимых «прав»... понять, что они члены организации, с которой
должны быть в той или иной степени солидарны... а также развивать и
применять свои навыки в бюрократической и политической тактике, что
неизбежно переплетается с применением их экономического опыта.
(Nelson, 1987 : 50)
На государственной службе индивидуальность, интуиция, во-
ображение, навыки общения, способность быстро работать и выносли-
вость могут играть большую роль, чем логика и техника анализа, и
следствия из этих требований для высшего экономического образова-
ния еще будут рассмотрены нами позже. В данном случае ясно, что
приверженность строгой форме профессионализма, предполагающей
вездесущую рациональность, положительно может принести вред.® Не-
редко можно услышать жалобы на то, что заработанный тяжким
трудом профессиональный капитал дипломированных экономистов
оказывается бесполезным или просто вредным на государственной
службе. При этом привычный в академической среде упор на ориги-
* Рассуждая по поводу иррациональных элементов в проведении поли-
тики, один очень опытный британский экономист, в прошлом правитель-
ственный советник, заметил, что «любое подразделение правительства по
своей атмосфере зачастую довольно мало отличается от сумасшедшего дома.
Здесь я использую этот термин не в уничижительном смысле; это просто
один из фактов официальной жизни» (Cairncross, 1970). Увлекательные и
содержательные истории о работе американских экономистов на государ-
ственной службе можно найти в работе Аллена (Allen, 1977).
152
А. У. Коутс
нальность оказывается совершенно не к месту в организационной
работе, где существенной является работа в одной команде. Неко-
торые выдающиеся экономисты, как, например, покойный Гарри
Дж. Джонсон, утверждали, что хорошие экономисты, скорее всего,
в правительство не пойдут, а если и пойдут, то не на длительный
срок, поскольку их квалификация станет быстро устаревать. Другие
же считают, что работа в государственном аппарате неминуемо раз-
вращает экономистов по причине неизбежных в такой ситуации ком-
промиссов. ' .ЫТОНХ'Д-.Ч
8.2. Некоторые замечания относительно исторического
развития профессии экономиста
Учитывая трудности, связанные с определением данной профес-
сии, отметим, что история профессии экономиста-теоретика не имеет
однозначного начала.10 Хотя французские физиократы могут рассмат-
риваться в качестве первой современной «школы» экономистов, прав-
да, скорее в интеллектуальном, чем в социологическом смысле этого
термина, удобнее вести отсчет начиная с рикардианцев как первой
группы британских экономистов, осознавших себя в качестве таковых
и признанных важными слоями общества экспертами по экономиче-
ским вопросам. В очень значительной степени этот статус можно
отнести на счет личного воздействия самого Давида Рикардо, бывше-
го брокера на фондовом рынке, олицетворявшего тип ученого-интел-
лектуала, работы которого основывались на идеях Адама Смита и
развивали их. Рикардо получил широкое признание в качестве веду-
щего экономического авторитета того времени благодаря тому мас-
терству, ясности и беспристрастности, с которыми он в своих работах
и выступлениях в палате общин анализировал спорные технические
и политические проблемы денег, банковского дела и международной
торговли. В то время наименование «экономист» еще не обозначало
определенную профессиональную категорию, и хотя исследователи счи-
тают первым британским профессиональным экономистом Т. Р. Маль-
туса или Дж. Р. Мак-Куллоха, поскольку оба они получали большую
часть своего дохода за счет преподавания экономики или опубликова-
ния экономических работ, тем не менее не существовало четкой гра-
ни между теми, кто имел достаточную квалификацию, чтобы писать
об экономических проблемах, и теми, кто ее не имел. И несмотря на
хорошо известную насмешливую фразу Томаса Карлейля об «угрю-
мых профессорах мрачной науки», большинство ведущих экономи-
10 По мнению одного очень эрудированного историка экономической
теории, софисты были первыми «профессиональными преподавателями* это-
го предмета (Gordon, 1975 : 2, 15).
Экономист как профессия
153
стов того времени если и затрачивали какую-то часть своего времени
на академические занятия, то очень небольшую. Поскольку препода-
вание политической экономии было крайне неадекватным, то не было
сколько-нибудь значительного источника пополнения рядов перспек-
тивных экономистов-теоретиков. Клуб политической экономии в
Лондоне, основанный в 1821 г., представлял собой организационный
центр для обсуждения и распространения «здоровых» идей, прежде все-
го идей свободной торговли. Однако он был только одним из многих
таких частных клубов, существовавших на территории Великобритании
и за ее пределами, другие же предпосылки профессионализации эко-
номической науки отсутствовали. Своим влиянием рикардианцы были
в значительной степени обязаны тому, что в своих книгах, памфле-
тах, журнальных и газетных статьях, в официальных обсуждениях и
в парламентских дебатах они апеллировали к авторитету науки. Од-
нако для целей настоящего исследования наиболее существенной
является такая их характерная черта, как попытка отделить себя как
экспертов от дилетантов, особенно от презираемых «практиков».
Джеймс Милль, союзник Рикардо, уверенно заявлял: «Блуждающий
окажется в трудном положении, если с целью сделать правильный
вывод он обратится за помощью к практикам. Не может быть хуже
авторитета в любой ветви политической науки, чем мнение чистых
практиков» (Mill, 1824, цит. по Coats, 1964 : 90). Милль настаивал на
том, что «среди тех, кто располагает достаточным знанием предмета,
чтобы относиться к их мнению сколько-нибудь серьезно, наблюдается
удивительное единодушие», несмотря на некоторые разногласия «по
второстепенным вопросам» (Mill, 1836, цит. по Coats, 1964 : 90). По
прошествии же нескольких лет Роберт Торренс, примыкавший к
рикардианской группе, даже заявил, что на должности в Министер-
ство торговли следует назначать экономистов, поскольку
это место работы имеет профессиональный характер и требует специ-
ального обучения и знаний почти технического свойства... Хотя время для
этого, может быть, еще не пришло, быстро приближается тот час, когда ста-
нут считать необходимым отбирать сотрудников Министерства торговли из
среды экономистов, подобно тому как епископов выбирают из церковной
среды, а служащих судебного ведомства из адвокатуры.
(Torrens, 1826, цит. по O’Brien, 1965 : 32)
Нет необходимости говорить о том, что такой прогноз был чрез-
мерно оптимистичным. И все же он иллюстрирует определенную тен-
денцию в сознании представителей классической экономической
теории, которая вскоре превратилась в застывшую ортодоксию в ру-
ках популяризаторов и пропагандистов. Несомненно, интеллектуальная
основа для профессионализации была заложена, но до конца XIX сто-
летия академические условия были недостаточны для обеспечения
значительного предложения дипломированных экономистов как осо-
бой группы профессионалов, четко отличающихся от многих диле-
154
А. У. Коутс
тантов-практиков, некоторые из последних приобрели значительный
вес как в обществе, так и среди профессоров.
Маржиналистская революция 1870-х гг. оказалась водоразделом
в развитии профессии экономиста-теоретика в том виде, в каком мы
ее знаем теперь; она представляла собой сложный процесс, который
предполагал изменения как в самой дисциплине (например, смещение
акцента с политической экономии на «экономику» (economics), о чем
было упомянуто ранее), так и в системе высшего образования, которая
стала основным источником подготовки новых специалистов. В кон-
це XIX и в начале XX столетий возникли необходимые институцио-
нальные условия для академической специализации, что выражалось
в возникновении курсов со специализированными программами, вы-
пускники которых получали ученую степень, в смещении акцента с
преподавания на исследования, в возникновении новых журналов, по-
священных исключительно экономической теории, и в основании но-
вых научных обществ, которые в конечном счете приобрели квази-про-
фессиональный характер, даже при том, что были открыты для всех
желающих.11 Из этих организаций особенно серьезное значение имели
Американская экономическая ассоциация (1885) и Британская эконо-
мическая ассоциация (1891, позднее Королевское экономическое обще-
ство) (Coats, 1960, 1968b). Состав обеих организаций был крайне раз-
нороден, особенно в начале их существования; в них доминировали те-
оретики; и обе они служили в качестве модели для создания сходных
организаций в других странах.
В весьма оригинальной и глубокой работе Джона Мэлони (Ma-
loney, 1985) рассматривается влияние маршаллианской парадигмы
на процесс профессионализации в Великобритании. Он проводит раз-
личие между первичной профессиональной ортодоксией, «базиру-
ющейся на теоретической парадигме, позволяющей осуществить
исследовательскую программу и объединить экономистов, которые
поддерживают ее, пользуются ею и обладают достаточным мастер-
ством», и вторичными профессиональными ортодоксиями, которые
хотя и зависят от первичной, характеризуются единодушием относи-
тельно некоего политического вопроса, который предполагает также учет
внеэкономических аргументов и поэтому лишь в ограниченной степени допу-
скает профессиональный подход. Это означает, что чисто технические аспек-
ты экономической политики, ограничивающие любого желающего ими за-
ниматься одинаковой строго экономической терминологией, имеют в силу
этого меньше возможностей для создания подлинных профессиональных ор-
тодоксий.
(Maloney, 1985 : 230-231)
11 Вообще говоря, в американской экономической науке профессио-
нальная организация предшествовала доктринальной консолидации, тогда
как в Великобритании наблюдалась прямо противоположная тенденция.
Экономист как профессия
155
В Соединенных Штатах процесс формирования первичной про-
фессиональной ортодоксии и приобретения ею доминирующего поло-
жения проходил медленнее по ряду причин, включая большие разме-
ры территории и большее разнообразие природно-климатических усло-
вий, гораздо большее количество высших учебных заведений, их
неоднородность и конкуренцию между ними, «живучесть» неортодок-
сальных экономических идей, в частности наследия немецкой исто-
рической школы, и культуру, в гораздо меньшей степени по сравне-
нию с британской опирающуюся на интеллектуальные и научные
авторитеты (Coats, 1980). В обеих странах имела место и влиятельная
вторичная профессиональная ортодоксия, основанная на идеях свобод-
ной торговли, которые служили напоминанием о тесной взаимозави-
симости теории и практики в развитии профессии экономиста.
Эта взаимозависимость ярко выявилась в Великобритании во
время проходившей в начале нынешнего столетия интенсивной по-
лемики относительно тарифной реформы. В 1903 г. четырнадцать
ведущих экономистов поставили свою подпись под посланным в
«Таймс» письмом с протестом против предложенной Джозефом Чем-
берленом реформы и выразили свою озабоченность по поводу «ши-
рокого распространения ложных мнений» в защиту протекциониз-
ма, доктрины, которая, по их утверждению, была дискредитирована
«отчасти по тем же причинам, по которым, как теперь стало обще-
признанным, была принята идея свободной торговли» («The Times»,
1903. 15 August, цит. по Coats, 1964 : 100). Это яркий пример ортодок-
сии в действии: «здравая» идея, которая пропагандировалась ранее
Клубом политической экономии, а впоследствии стала «общеприз-
нанной», должна была быть достаточной для противостояния воз-
рождению протекционизма, несмотря на заметное изменение истори-
ческих условий.
К сожалению, письмо четырнадцати профессоров не только вы-
звало вполне предсказуемый бурный протест сторонников Чемберлена,
но также породило множество различного рода писем в «Таймс» от
заслуженных ученых-экономистов, которые либо были противниками
свободной торговли как доктрины и как политики, либо были ее сто-
ронниками только отчасти. Некоторые из них настойчиво возражали
против попыток опереться на авторитет науки, вступая в спор относи-
тельно политических вопросов (Coats, 1964 : 100—103).12 Альфред Мар-
шалл, наиболее влиятельный экономист того времени, вскоре горько
пожалел о своем участии в этом споре, что шло вразрез с его привыч-
кой осторожно воздерживаться от диспутов по спорным обществен-
ным проблемам. Вне всякого сомнения, реакция общества научила мно-
12 Издатель «Таймс», поддерживавший предложения Чемберлена, бро-
сил шутку по поводу «зрелища, которое представляли эти четырнадцать дер-
вишей, вылезших из своих пещер с монотонными заклинаниями против фор-
156
А. У. Коутс
гих экономистов необходимости проявлять индивидуальную и коллек-
тивную осмотрительность и избегать демонстрации своих глубоких раз-
ногласий перед непрофессионалами.
В Соединенных Штатах в течение данного периода становления
серьезные угрозы академической свободе породили дополнительный
стимул к сдержанности, и со временем, после мучительного самоанали-
за, среди ведущих экономистов возникло своего рода профессиональное
согласие относительно уместных форм и пределов профессионального
участия в общественных делах (Furner, 1975). Ни в одной стране мира
не было предпринято ни одной согласованной попытки выработать
формальный кодекс профессионального поведения с целью защитить
практикующих экономистов. И все же в обоих случаях, особенно это
касается Соединенных Штатов, все сильнее становилось ощущение про-
фессионального сообщества, образованного с целью сочетания интеллек-
туального престижа ученого и предоставление гарантий на рабочем ме-
сте со стремлением конструктивно влиять на ход дискуссий по совре-
менным экономическим проблемам и на их решение.
Кейнсианская революция конца 1930-1940-х гг. была другим
важнейшим водоразделом в истории профессионализации экономи-
ческой теории, как и в развитии экономических идей и политики.
Несмотря на то что идеи Кейнса и его практические предложения
оказались очень спорными, макроэкономический анализ в соедине-
нии с серьезным прогрессом в формировании официальной статисти-
ки обеспечили экономистов необходимыми средствами, чтобы проде-
монстрировать обществу свое значение. На этой основе серьезный
толчок получило развитие неакадемической деятельности экономи-
стов, прежде всего в правительственной сфере. Конечно, и раньше
было немало примеров использования экономических экспертов прави-
тельствами, общественными комиссиями, банками и предприятиями.
Обычно это носило случайный и даже личный характер, но иногда
имело и более формальную и постоянную основу. Если бы американ-
ское участие в Первой мировой войне было более продолжительным,
численность экономистов, занятых в федеральных органах власти,
продолжало бы расти быстрыми темпами и уже в мирное время чи-
сленность экономистов-государственных служащих продолжала бы
мируюгцейся исследовательской традиции... прошло то время, когда профес-
сора политической экономии могли навязывать свои мнения по поводу поло-
жения страны, опираясь исключительно на свой авторитет... Более научная
концепция их собственной науки, претендующей на статус эксперименталь-
ной, а на практике никогда не являющейся таковой, избавила бы этих про-
фессоров от болезненного открытия того факта, что они не убедили никого из
тех, кого бы следовало убедить» («The Times», 1903. 18 August, цит. по Coats,
1964 : 101). Более подробно об этом можно прочитать в другой работе Коут-
са (Coats, 1968а).
Экономист как профессия
157
оставаться высокой. Действительно, именно в начале 1920-х гг. аме-
риканские экономисты-аграрники впервые стали занимать должно-
сти в федеральной администрации, и не случайно примерно десятиле-
тие спустя их британские коллеги стали первой группой экономи-
стов, имеющих постоянное место работы в правительстве (Coats, 1976,
McDean, 1983). Великая депрессия привела к тому, что общество сно-
ва стало низко оценивать экономистов, поскольку их ответы на насто-
ятельную и массовую потребность в объяснении и решении проблемы
кризиса оказывались довольно путаными, зачастую противоречивыми
и поэтому глубоко разочаровали как политиков, так и общество в
целом. Однако экономический подъем и приближение войны ради-
кально изменили отношение общества к экономистам.
В течение 1940-х гг. мировой центр экономической науки и
экономического профессионального сообщества решительно и оконча-
тельно переместился из Европы, и в частности из Великобритании,
в Соединенные Штаты, а в самих США в военное время идейным и
профессиональным центром экономистов стал Вашингтон, куда пере-
местилась, хотя и временно, редакция ведущего профессионального
журнала «American Economic Review». Научные идеи и политические
рекомендации Кейнса доминировали в экономической теории в тече-
ние первых двух послевоенных десятилетий, хотя в Соединенных
Штатах в меньшей степени, чем в Великобритании. Сочетание в
Соединенных Штатах многополярного распределения экономических
ресурсов с вызовом со стороны различных ортодоксальных и неорто-
доксальных доктрин поддержало интеллектуальную жизнеспособность
американской экономической науки.
В ретроспективе кажется, что американское послевоенное лидер-
ство в экономике, так же как и в других науках, было неизбежным,
если учесть подавляющее преимущество этой страны в обеспеченно-
сти материальными и человеческими ресурсами; последний ресурс
чрезвычайно обогатился за счет притока эмигрантов из Европы, мно-
гие из которых пересекли Атлантику, спасаясь от нацистских пре-
следований. Перечень президентов Американской экономической ас-
социации свидетельствует о признании, которое некоторые из них,
несомненно, заслужили; присутствие Поля Самуэльсона, Милтона Фрид-
мена и Джорджа Стиглера в реестре Нобелевских лауреатов является
подтверждением того, что в 1930-х гг. возникла целая когорта выда-
ющихся американских экономистов, получивших образование в оте-
чественных университетах в 1930-х гг. и достигших профессиональ-
ной зрелости в следующем десятилетии.
Здесь мы не станем углубляться в рассмотрение послевоенного
развития экономических учений. В настоящем контексте наиболее
важным последствием американизации (и постепенно также и ин-
тернационализации) экономической науки является то, что амери-
168
А. У. Коутс
канские программы продвинутого экономического образования, тео-
рии и техники анализа, интеллектуальные ценности и профессиональ-
ные стандарты стали все больше и больше признаваться в мире, хотя
и с различными временными лагами и различной степенью сопротив-
ления.13 Этот процесс чрезвычайно усилился благодаря множеству фак-
торов: ускоряющемуся росту глобальных коммуникаций, приезду
огромного числа иностранных студентов, которые обучаются и полу-
чают профессиональные свидетельства в Соединенных Штатах и
в меньшей степени в Великобритании и Западной Европе; целой
армии американских и британских профессоров, которые преподают,
обучаются и осуществляют исследовательскую и консультационную
работу за рубежом; участившимся международным конференциям,
увеличению числа научных организаций и исследовательских групп,
а также, что уже менее заметно, возникновению небольших, но влия-
тельных глобальных сетей, объединяющих специалистов в области
экономики (например, в области экономики развития, международной
торговли и денежного обращения) и кадровых работников-экономистов,
занятых в национальных правительствах, международных организа-
циях и других квазигосударственных учреждениях. Другой важной
силой, способствовавшей интернационализации экономической науки,
так же как и других дисциплин, стало все более расширяющееся и
эффективное распространение исследовательских монографий, професси-
ональных журналов, официальных отчетов и в особенности относитель-
но стандартизованных вводных и продвинутых учебников и вспомо-
гательных пособий. Конечно, поток идей, методов, технологий и раз-
ного рода компьютерного оборудования и программного обеспечения
не был абсолютно однонаправленным, и существует некоторая опас-
ность переоценить степень единообразия, особенно если мы сосредото-
чим внимание на содержании общепринятых в разных странах стан-
дартных учебных курсов макро- и микроэкономики. Однако, как уже
было отмечено в начале этой главы, при нынешнем состоянии наших
знаний мы располагаем удручающе небольшими систематическими
данными относительно природы и различий в национальных «сти-
лях» обучения, исследований и публикаций (Johnson, 1973).
8.3. Последние изменения и проблемы
В силу различных причин исторического и культурного плана,
которые мы здесь не в состоянии адекватно рассмотреть, американцев
уже давно в большей степени, чем их европейских коллег, увлекают
13 Глубокий и временами увлекательный анализ «американскости»
американской экономической теории дан в оставшейся незамеченной ста-
тье Джонсона (Johnson, 1977b).
Экономист как профессия
159
(и беспокоят) вопросы, касающиеся природы, развития и влияния
различных профессий. Следовательно, в Соединенных Штатах такого
рода проблемы порождают больше споров и исследований, чем где-
либо еще.
Нет необходимости говорить, что эти споры во многом вызва-
ны неудовлетворенностью статус-кво. Говоря об экономической тео-
рии, едва ли стоит удивляться, что эйфория кейнсианской эпохи 1945-
1965-х гг. сменилась реакцией как в самом экономическом сообще-
стве, так и за его пределами. Теоретическая критика кейнсианских
идей со стороны монетаристов, посткейнсианцев, марксистов, радика-
лов, институционалистов и неоавстрийцев была усилена явной неспо-
собностью представителей основного «неоклассического» течения ре-
шать проблемы «стагфляции». Однако наиболее отличительной осо-
бенностью этого «кризиса» была широко распространенная и глубоко
укоренившаяся утрата профессиональными экономистами уверенно-
сти в себе. Проявлением этого стала настоящая оргия общественного
самобичевания в виде серии президентских обращений и публичный
лекций некоторых из наиболее уважаемых представителей профес-
сии (Heller, 1975; Coats, 1977). Критика сосредоточивалась вокруг
некоторых хорошо знакомых негативных черт профессионализма: кос-
ности, конформизма, сопротивления нововведениям (за исключением
санкционированных), поддержания жестких дисциплинарных границ,
исключения и (или) осуждения инакомыслящих и чрезмерно центра-
лизованного контроля над доступом к ресурсам, обучению и возмож-
ностям занятости.
Уместно будет отметить, что профессиональные стандарты, так
же как и методологические правила, выполняют предписывающие,
регулятивные и познавательные функции. Поэтому поиски научной
истины или пользы обществу легко могут быть принесены в жертву
интересам поддержания и увеличения особых привилегий, обеспечи-
вающих высокое вознаграждение и защиту данной области от втор-
жения шарлатанов и специалистов в области родственных или смеж-
ных дисциплин или сфер занятости.
Эти и многие другие черты социологии экономической науки
были проанализированы и представлены в обширных, спорных, а за-
частую занимательных и богатых идеями публикациях, число кото-
рых слишком велико, чтобы их здесь цитировать. Не все из этого
потока можно легко отвергнуть как работу чудаков, диссидентов и
некомпетентных лиц, как делают некоторые критики. Какая-то часть
этих публикаций исходит и от признанных лидеров нашей профес-
сии.14 Некоторые авторы рассматривают эту литературу не как прояв-
14 Назовем такие имена, как Дж. К. Гэлбрейт, Н. Джорджеску-Рёген,
Г. Г. Джонсон, Т. Коопманс и В. Леонтьев в Соединенных Штатах и П. Бауэр,
П. Дин, Ф. Хан, Т. У. Хатчисон, Э. Г. Фелпс Браун, Дж. Д. Уорсвик и А. А. Уолтерс
160
А. У. Коутс
ление патологии, а скорее как свидетельство цветущего здоровья (Heller,
1975). Тем не менее существует общее осознание того, что слишком
большое количество публикуемых разногласий, особенно в отноше-
нии основных принципов, может подорвать научный авторитет эко-
номической науки в глазах общества.
Многие наиболее откровенные критики состояния экономической
науки выражают сожаление, что данная профессия слишком иерар-
хична и элитарна и в ней доминирует относительно небольшой кон-
тингент ортодоксальных неоклассически ориентированных экономи-
стов, группирующихся вокруг ведущих университетов. Как выразил-
ся один из президентов Американской экономической ассоциации,
в наше время возник
деспотизм нового типа. Он заключается в приписывании научного пре-
восходства всему тому, что наиболее близко по убеждениям и по методу тем,
кто уже достиг вершин. Эта всеобъемлющая и тягостная тенденция зачас-
тую весьма опасна, хотя часто бывает обоснованной или неосознанной.
(Galbraith, 1973)
Есть мнение, что профессиональный истеблишмент прямо или
косвенно контролирует процесс отбора руководителей Американской
экономической ассоциации, издателей и членов редакционных кол-
легий журналов ассоциации и других ведущих профессиональных
журналов, получателей главных премий и наград, а также процесс
размещения выделяемых на исследования средств через систему ре-
цензий, используемую Национальным научным фондом и крупней-
шими частными организациями, предоставляющими гранты. Пред-
ставители этой элиты определяют также и основные требования к
ключевым курсам в элитных университетах, контролируя тем са-
мым процесс выдачи сертификатов, вход в профессию новых специа-
листов и перспективы их карьеры. Они делают это посредством как
сети неформальных коммуникаций, которые влияют на кадровые
назначения, так и публикаций, которые имеют большое значение при
определении последующей карьеры ученого. Существует, конечно,
множество незаметных подгрупп специалистов, колледжей, школ и
сетей. Иногда какой-нибудь исключительный специалист, который
имел несчастье обучаться или работать во второсортном университе-
те, приобретает репутацию звезды и попадает в главную команду лиги.
Но большая часть выпускников ведущих университетов стараются
остаться частью элиты и в свое время производят «наследников», ко-
торые, в свою очередь, способствуют воспроизводству системы.
в Великобритании. В качестве примера социологически ориентированной
критической литературы см.: Leontiev, 1971, 1982; Ward, 1972; Leijonhufvud,
1973; Johnson, 1977a, b; Stanfield, 1979; Katouzian, 1980; Canterbery, Burkhardt,
1983; Earl, 1983, 1988; Wiles, 1984; Coats, 1985; Burkhardt, Canterbery, 1986;
Tarascio, 1986.
Энрцомист как профессия
161
Такое положение дел подтверждается разнообразными ценными
исследованиями. В частности, была подробно рассмотрена сеть жур-
налов, которая составляет ядро принятой в данной профессии систе-
мы приобретения репутации. Одновременно в этой системе происхо-
дят процессы, посредством которых формируются и распространяют-
ся новые идеи. К рассмотренным темам относились исследование
индексов цитирования с целью проанализировать процесс институци-
онального признания авторов статей в ведущей периодике, что было
необходимо для выявления степени закрытости профессиональной
элиты; рейтинги престижности различных журналов: влияние публи-
каций в ведущих журналах на заработки и карьеру; математическое
и техническое содержание статей; степень, в какой авторы пытались
эмпирически опровергнуть и (или) проверить свои результаты; коли-
чество публикаций у «звезд» экономической науки; перемены моды;
тенденции и циклы в экономической литературе и пр.15
Конечно, каждая человеческая организация, и не в последнюю
очередь любая научная дисциплина, непременно должна иметь своих
лидеров и их последователей, мастеров и рядовых исполнителей. Оцен-
ки и решения спорных вопросов не могут быть результатом конвенцио-
нальной демократической процедуры даже внутри сообщества компе-
тентных людей. Более того, представители истеблишмента, уже достиг-
шие успеха, естественно, стремятся укрепить систему, в которой они
приобрели выдающееся положение и благодаря которой их собствен-
ные достоинства и способности были так высоко оценены и вознагражде-
ны. Ярким примером этой тенденции является полный самодоволь-
ства анализ процесса, посредством которого раздача грантов частными
фондами способствует концентрации исследований и талантов на уже
признанных «лучшими» факультетах, что, в свою очередь, увеличивает
возможности этих университетов привлекать способных преподавателей,
нанимать исследователей-ассистентов, приобретать необходимое обору-
дование и осуществлять более успешные проекты, приводя, таким об-
разом, к росту известности и рейтинга престижности своих универси-
тетов среди экономического сообщества (Stigler, 1967).
Хорошо или плохо работает система, определяется тем, какие су-
ществуют альтернативы; но эта проблема редко рассматривается, по-
скольку она требует гипотетического представления альтернативного
состояния, с которым не легко справиться даже самым амбициозным
клиометрикам. На практике профессиональная инерция обычно пре-
пятствует каким-либо драматическим изменениям: большинство уче-
ных — реформаторы, но не радикалы. К сожалению, как критики, так
и защитники существующего положения дел слишком часто основы-
15 Из огромного количества соответствующей литературы достаточно
упомянуть: Bronfenbrenner, 1966; Siegfried, 1972; Lovell, 1973; Eagly, 1974;
Stigler, 1982a, b; Liebowitz, Palmer, 1984.
12 Заказ № 356
162
А. У. Коутс
вают свои оценки на личном опыте и на слухах, а не на надежных
фактах. При этом существуют глубокие различия в профессиональных
ценностях и стандартах, если не несоизмеримость парадигм.
Вместо того чтобы углубляться в этот вопрос, приводя суждения
отдельных экономистов, которые едва ли являются беспристрастными,
имеет смысл обратиться к беспристрастному социологу науки Ричарду
Уитли, который осуществил обзор современной экономической теории
с точки зрения своей весьма амбициозной и широкой типологии есте-
ственных и социальных наук. Уитли рассматривает отдельные науки
как репутационные системы (reputational systems) организации рабо-
ты и контроля в терминах специфических ключевых переменных, опре-
деляемых историей данной науки и содержанием ее предмета. При
таком подходе англо-саксонская экономическая теория представляет
собой уникальный случай (Whitley, 1984, 1986).16
Как и в физике, теоретическое ядро экономической теории изла-
гается в учебниках, учебных программах, коммуникационных систе-
мах, определяет раздачу академических постов и почестей, но эконо-
мическая теория отличается от других наук тем, что, например, в
отличие от физики в ней существует жесткое разделение теоретиче-
ской и эмпирической работы. Это отчасти объясняется недостатком
технического контроля за эмпирической работой, ограничивающим
зависимость экономиста-прикладника от теоретика (в отличие от си-
туации в физике), а также существованием другой «аудитории» за
пределами теоретического истеблишмента и научного или профессио-
нального сообщества. Конкуренция между производителями в рамках
«основного ядра» хотя и интенсивна, но ограничивается технически-
ми усовершенствованиями и распространением аналитической схе-
мы на новые проблемы, которые можно решить и имеющимися тех-
ническими средствами. Доминирование утвердившихся теоретических
целей, а также степень безличности и формализации процедур коор-
динации и контроля колеблются от одной области эмпирических
исследований к другой, так как относительно трудно поддающаяся
осмыслению и прогнозу природа эмпирических феноменов ограничи-
вает возможности систематического сравнения и оценки решений задач
посредством формальной системы коммуникаций. Разнородность
прикладных областей ограничивается «жесткой демаркацией» типов
проблем, считающихся допустимыми и важными; с другой стороны,
отклонения на периферии могут быть в значительной степени проиг-
норированы интеллектуальной элитой, которая контролирует основ-
ные средства коммуникаций и учебные программы.
18 Ключевыми переменными в любой научной сфере, по мнению Уит-
ли, являются степень функциональной и стратегической взаимозависимо-
сти среди ученых и степень технической и стратегической неопределенно-
сти задач.
Экономист как профессия
163
Этот анализ согласуется со многими известными жалобами тех,
кто не удовлетворен нынешним состоянием экономической науки,
особенно чрезмерным акцентом на высоком уровне абстракции, ма-
тематизации и формализации в продвинутых учебных программах
(ср. Bauer, Walters, 1975; Hutchison, 1977; Blatt, 1983; Morishima,
1984; Grubel, Boland, 1986; Woo, 1986), а также тем, что основная
масса исследований не пригодна для решения современных проблем,
в особенности тех, что относятся к области политики. Тот факт, что
одна из ведущих школ экономистов, расположенная в Чикаго, попы-
талась распространить свою «империалистическую» власть (Stigler,
1984), применяя стандартный экономический анализ к решению
целого ряда проблем, в отношении которых прежде считалось, что
они находятся за пределами ведения экономистов, подтверждает ар-
гументы тех, кто жалуется на наблюдающуюся в экономической на-
уке тенденцию к унификации.
Существуют, конечно, другие конкурирующие подходы в рамках
основного течения экономической теории, где чикагский подход под-
вергается сомнению. Но этот плюрализм не отражает благоприятного
положения дел, как отметил выдающийся экс-чикагский экономист,
который с печалью признал:
Если говорить о том, что вызывает во мне огромный скептицизм отно-
сительно состояния нашей науки, так это тесная положительная корреля-
ция между политическими взглядами исследователя (или, что еще хуже,
взглядами руководителя его диссертации) и результатами его эмпирических
исследований. Я начну верить в экономику как науку тогда, когда из Йеля
будут поступать эмпирические исследования, демонстрирующие превосход-
ство денежной политики для определенных периодов истории, а из Чика-
го — исследования, указывающие на первостепенную важность фискальной
политики.
(Patinkin, 1972 : 142, цит. по Hutchison, 1977 : 61)
Другой критик, также связанный ранее с чикагской школой,
откровенно протестовал против преувеличенных разграничений в
рамках дисциплины:
...увы, типичный экономист является, хотя и неосознанно, строгим
догматиком, желающим, чтобы студенты и коллеги были добропорядочными
членами той или иной церкви. В Соединенных Штатах агенты по сбыту
учебных пособий жалуются на то, что профессор экономической теории не
станет даже просматривать книгу, которая не исходит из правильной, с его
точки зрения, церкви: он смущенно спрашивает, какую школу представляет
книга — монетаристскую, неоклассическую, марксистскую или кейнсиан-
скую... степень реальных разногласий между экономистами... фактически
преувеличена... (это) делает еще более непонятным, почему они с такой яро-
стью спорят вокруг второстепенных вопросов.
I
(McCloskey, 1985 : 184)
164
А. У. Коутс
Мы не можем далее углубляться в анализ характера учебников,
степени несогласия среди экономистов и их ценностей как професси-
ональных, так и любых других.
Неослабевающий интерес к состоянию экономической науки как
дисциплины и профессии недавно привел к проведению официальных
исследований, спонсированных Королевским экономическим обще-
ством и Американской экономической ассоциацией — во втором
случае эти исследования были вызваны тревожными результатами
исследования процесса обучения в элитных университетах (Colander,
Klamer, 1987, 1989). Британское исследование уже завершено, и его
можно рассмотреть более кратко, поскольку основные результаты были
опубликованы в мартовском выпуске «Economic Journal» за 1990 г.
Это исследование является более масштабным по сравнению с амери-
канским, поскольку оно сосредоточивается на существующих уровне,
предложении, спросе и структуре занятости британских экономистов,
а также на некоторых характерных чертах экономических факульте-
тов британских университетов и политехнических институтов, о чем
говорится в работах Долтона и Мейкписа и Тауза и Блауга (Dolton,
Makepeace, 1990; Towse, Blaug, 1990). С точки зрения историка, уди-
вительно, что такого исследования не было проведено раньше (однако
ср. работу Бута и Коутса (Booth, Coats, 1978)), тогда как исследования
рынка экономистов, их окладов и возможностей занятости часто про-
водились в Соединенных Штатах; отчеты о таких исследованиях обыч-
но представлялись на ежегодных заседаниях Американской экономи-
ческой ассоциации. Американские специалисты по рынку труда не-
редко проявляли интерес к этим вопросам.
Наиболее поразительным результатом исследования Тауза—Бла-
уга является установление факта ограниченного общего спроса на
экономистов и предсказание его сокращения в недалеком будущем.
Несмотря на потерю экономистами университетских должностей
(особенно профессорских), последовавшую за сокращениями универ-
ситетских штатов в 1981 г., до сих пор, видимо, сохраняется избыточ-
ное предложение профессиональных экономистов, так что отчеты
об «отчаянном положении» экономических факультетов представ-
ляют собой преувеличение. Невероятно высокие оклады, получаемые
на определенных постах в Лондонском Сити, не являются типич-
ными, и никакого массового исхода академических экономистов в Си-
ти не наблюдалось. В отличие от своих американских коллег многие
неакадемические экономисты в Великобритании имеют только ба-
зовое образование зачастую неспециализированного типа, хотя ав-
торы отмечают, что «не существует каких-либо оснований считать
бакалаврский курс экономической теории достаточной профессио-
нальной подготовкой для той сферы деятельности, в которой ско-
рее всего будут востребованы знания выпускников» (Towse, Blaug,
1990 : 98). С другой стороны, некоторые выводы, несомненно, вызо-
Экономист как профессия
165
вут сочувственный отклик по другую сторону Атлантического океа-
на. В качестве примеров можно привести «постоянные жалобы, исхо-
дящие практически от каждого работодателя, о том, что вновь наня-
тые экономисты недостаточно знакомы с источниками данных и не
имеют знаний в области национального счетоводства» (Towse, Blaug,
1990 : 98), а также точку зрения — широко распространенную как в
области высшего образования, так и за ее пределами, — что «учеб-
ные программы в экономике являются слишком теоретическими,
слишком непрактическими и совершенно не связанными с возмож-
ными направлениями использования экономической теории в бизне-
се или управлении государством... (и что) обучение практически не
ориентируется на фактические сферы занятости выпускников-эконо-
мистов» (Towse, Blaug, 1990 : 99).
При той распространенности, какую в Соединенных Штатах имеет
профессия экономиста, исследование, проведенное Комиссией Амери-
канской экономической ассоциации по магистерскому образованию
в экономике, неизбежно больше по размаху в сравнении с британ-
ским аналогом, хотя набор исследуемых проблем здесь более ограни-
чен.17 Особого интереса заслуживает тот факт, что Комиссия сделала
обзор не только шести так называемых элитных факультетов, но и вы-
борок из других факультетов, представляющих соответственно девять,
пятнадцать, двадцать и сорок две программы, прохождение которых
необходимо для получения степени доктора философии. Никогда преж-
де такого систематического сравнения не осуществлялось.
Несмотря на громкий и непрекращающийся хор жалоб на совре-
менное состояние экономической науки в Соединенных Штатах —
некоторые из них уже были упомянуты — и всеобщее желание изме-
нить программы для получения степени доктора философии в обла-
сти экономики, которое выразили при ответах на вопросы исследовате-
лей преподаватели, студенты-магистранты и лица, недавно получив-
шие докторскую степень, все же сохранялось почти всеобщее согласие
относительно целесообразности тех приоритетов, которые в настоя-
щее время имеют место в учебных программах. Речь идет о преобла-
дании экономической теории, вслед за которой идут эконометрика,
эмпирическая экономика, прикладная экономика, анализ институтов,
история экономики и экономической мысли. В отношении навыков в
целом было признано, что в ныне существующих докторских про-
17 Я очень благодарен моим коллегам: председателю этой Комиссии
Анне Крюгер и ее исполнительному директору Ли Хансену за то, что они
любезно согласились предоставить неопубликованный предварительный от-
чет, а также приношу благодарность членам Комиссии: Алану С. Блайндеру,
Клаудии Голдин, Т. Полу Шульцу и Роберту Солоу за дополнительные ком-
ментарии. В настоящее время окончательный отчет уже готов и должен
быть опубликован в «Journal of Economic Literature» (Hansen, forthcoming).
166
А. У. Коутс
граммах имеет место следующий убывающий порядок приоритетов:
экономический анализ, математика, критические суждения, навыки
прикладных исследований, расчетов, творческого мышления и обще-
ния. Однако гораздо меньше отвечающих соглашались принять такое
положение как должное. Соглашаясь со многими публичными крити-
ками экономической профессии, немало респондентов признало факт
чрезмерного внимания к математике и расчетам и недооценку разви-
тия творческих способностей. Когда некоторым из недавно получив-
ших докторскую степень задавали вопрос об относительной важности
тех или иных навыков в их текущей работе, независимо от того, шла
ли речь о преподавании, бизнесе или о государственной службе, они
снова и снова давали математическим познаниям более низкие веса,
а навыкам общения и творческим способностям — более высокие,
чем в текущих магистерских программах. Таким образом, видимо,
как и в Великобритании, «и преподаватели, и студенты-магистранты»
чувствуют, что «набор реально необходимых навыков отличается от
того набора навыков, на развитие которых ориентированы существу-
ющие магистерские программы» (Hansen, 1990). Факультеты, предла-
гающие докторские программы, имеют тенденцию набирать новых
преподавателей преимущественно с теми же навыками, которые тре-
бовались и раньше, а не с теми, которые высоко ценятся потенци-
альными работодателями. Неясно, является ли это свидетельством
профессиональной инерции или отсутствием подходящей альтер-
нативы. Как утверждает в своем комментарии Роберт Солоу, результа-
ты указывают на удовлетворение тем, что преподается, и умением
преподавателей давать материал, хотя это не то, что следовало бы
преподавать в лучшем, идеальном, мире: «Если бы я знал, как на-
учить творческому мышлению и способности выдвигать критические
суждения, я полагаю, я бы делал это. Я знаю, как распознать эти
качества (как распознают, например, порнографию), и даже могу пред-
ложить соответствующие примеры, но это еще очень далеко от того,
чтобы суметь им научить» (Hansen, 1990 : 448-450). В целом он
ощущает, что результаты обзора являются «предсказуемо успокаива-
ющими».
Конечно, по любым критериям члены Комиссии составляют часть
профессиональной элиты, поэтому от них едва ли можно было ожи-
дать радикальных предложений, особенно если учесть, что такие идеи
вряд ли могут получить практическое воплощение. Пока еще слиш-
ком рано предсказывать результаты этого исследования, отличные от
рекомендаций Комиссии, которые, несомненно, будут активно обсуж-
даться со многими участниками дискуссии. Дополнительные исследо-
вания, видимо, будут постепенно увеличивать накапливающийся, хотя
и неравномерный, набор данных по экономической профессии в Со-
единенных Штатах. И в соответствии с вводным абзацем главы мы
можем в заключение выразить надежду на то, что другие организа-
Экономист как профессия
167
ции и ученые также заинтересуются этим в достаточной степени,
чтобы предпринять серьезные исследования по истории, нынешним
условиям и будущим перспективам данной профессии.
. Литература
Allen W. R. Economics, economists, and economic policy: modern American
experiences // History of Political Economy. 1977. Vol. 9. P. 48-88.
Bauer P. T., Walters A. The state of economics // Journal of Law and Economics.
1975. Vol. 8. P. 1-23.
Bell D., Kristol I. (eds). The Crisis in Economic Theory. New York : Basic Books,
1981.
Blatt J. How economists misuse mathematics / In A. S. Eichner (ed.). Why Economics
is Not Yet a Science. Armonk, NY : M. E. Sharpe, 1983. P. 166-186
Booth A., Coats A. W. The market for economists in Britain (1945-1970) //
Economic Journal. 1978. Vol. 88. P. 436-454.
Bronfenbrenner M. Trends, cycles, and fads in economic writing // American
Economic Review. 1966. Vol. 56. P. 538-552.
Burkhardt J., Canterbery E. R. The orthodoxy and legitimacy: toward a critical
sociology of economies / In W. J. Samuels (ed.). Research in the History
and Methodology of Economics. 1986. Vol. 4. P. 229-250.
Cairncross A. K. Writing the history of recent economic policy / Unpublished,
quoted by permission. 1970.
Canterbery E. R., Burkhardt J. What do we mean by asking whether economics
is a science? / In A. S. Eichner (ed.). Why Economics is Not Yet a Science.
Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1983. P. 15-40.
Carr Saunders A. M., Wilson P. A. The Professions. Oxford : Clarendon Press,
1933.
Coats A. W. The first two decades of the American Economic Association //
American Economic Review. 1960. Vol. 50. P. 555-574.
Coats A. W. The role of authority in the development of British economics //
Journal of Law and Economics. 1964. Vol. 7. P. 85-106.
Coats A. W. Political economy and the tariff reform campaign of 1903 // Journal
of Law and Economics. 1968a. Vol. 11. P. 181-229.
Coats A. W. The origins and early development of the Royal Economic Society //
Economic Journal. 1968b. Vol. 78. P. 349-371.
Coats A. W. The development of the agricultural economics profession in Eng-
land //Journal of Agricultural Economics. 1976. Vol. 27. P. 1-11.
Coats A. W. The current crisis in economics in historical perspective// Nebraska
Journal of Economics and Business. 1977. Vol. 16. P. 3-16.
Coats A. W. The culture and the economists: American-British differences //
History of Political Economy. 1980. Vol. 10. P. 298-314.
Coats A. W (ed.). Economists in Government: An International Comparative
Study. Durham, NC : Duke University Press, 1981.
Coats A. W. The American Economic Association and the economics profession //
Journal of Economic Literature. 1985. Vol. 23. P. 1697-1727.
168
А. У. Коутс
Coats A. W. (ed.). Economists in International Agencies. An Exploratory Study.
New York : Praeger, 1986.
Colander D. С., К lamer A. The making of an economist // Journal of Economic
Perspectives. 1987. Vol. 1. P. 95-111.
Colander D. С., К lamer A. The Making of an Economist. Boulder, CO : Westview
Press, 1989.
Dolton P. J., Makepeace G. H. The earnings of economics graduates // Economic
Journal. 1990. Vol. 100. P. 237-250.
Eagly R. V. Contemporary profile of conventional economists // History of Political
Economy. 1974. Vol. 6. P. 76-91.
Earl P. E. A behavioral theory of economists’ behavior I In A. S. Eichner (ed.).
Why Economics is Not Yet a Science. Armonk, NY M. E. Sharpe, 1983.
P.90-125.
Earl P. E. On being a psychological economist and winning the games economists
play I In P. E. Earl (ed.). Psychological Economics. Development, Tensions
Prospects. Boston, MA : Kluwer, 1988. P. 227-242.
Furner M. O. Advocacy and Objectivity: A Crisis in the Professionalization of
American Social Science 1865-1905. Lexington, KY : University of Kentucky
Press, 1975.
Galbraith J. K. Power and the useful economist // American Economic Review.
1973. Vol. 63. P. 1-11.
Goode W. Encroachment, charlatanism, and the emerging professions: psychology,
sociology, medicine // American Sociological Review. 1960. Vol. 25. P. 902-
914.
Gordon B. S. Economic Analysis Before Adam Smith. Hesiod to Lessius. London :
Macmillan, 1975.
Grubel H. G., Boland L. A. On the efficient role of mathematics in economics:
some theory, facts and results of an opinion survey // Kyklos. 1986. Vol. 39.
P.419-442.
Hansen W. L. Educating and training new economics Ph.D.’s: how good a job
are we doing? // Commission on Graduate Education in Economics, Prelimi-
nary Report, American Economic Review, Papers and Proceedings. 1990.
Vol. 80. P. 431-450.
Hansen W. L. (forthcoming). The education and training of economics doctorates:
major findings of the American Economic Association’s Commission on
Graduate Education in Economics (report and tables), Madison, WI, January
1991 // Journal of Economic Literature, to be published.
Heller W. W. What’s right with economics? // American Economic Review. 1975.
Vol. 65. P. 1-26.
Herman E. S. The institutionalization of bias in economies 11 Media, Culture and
Society. 1982. Vol. 4. P. 275-291.
Hutchison T. W. Positive Economics and «Policy» Objectives. London : Allen &
Unwin, 1964.
Hutchison T. W. Knowledge and Ignorance in Economics. Oxford : Basil Blackwell,
1977.
Jenkins H. G. Professional organizations / In J. A. Jackson (ed.). Professions
and Professionalization. Cambridge : Cambridge University Press, 1970.
P. 53-107.
Экономист как профессия
169
Johnson Н. G. National styles in economic research: the United States, the
United Kingdom, Canada, and various European countries // Daedalus. 1973.
Vol. 102. P. 65-74. Reprinted in Johnson, H. G. On Economics and Society.
Chicago, IL : University of Chicago Press, 1975.
Johnson H. G. Methodologies of economics I In M. Perlman (ed.). The Organization
and Retrieval of Economic Knowledge. Boulder, CO : Westview Press, 1977a.
P. 496-509.
Johnson H. G. The American tradition in economies//Nebraska Journal of
Economics and Business. 1977b. Vol. 16. P. 17-26.
Johnson T. J. Professions and Power. London : Macmillan, 1972.
Katouzian H. Ideology and Method in Economics. London : Macmillan, 1980.
Larson M. S. The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley,
CA : University of California Press, 1978.
Leijonhufvud A. Life among the Econ // Western Economic Journal. 1973. Vol. 11.
P.327-337.
Leontief W. Theoretical assumptions and non-observed facts // American Eco-
nomic Review. 1971. Vol. 71. P. 1-17.
Leontief W. Academic economics // Science. 1982. Vol. 217. P. 104-105. Reprinted
in Eichner, A. S. (ed.). Why Economics is Not Yet a Science. Armonk, NY :
M. E. Sharpe, 1983. P. VI-XI.
Liebowitz S. J., Palmer J. P. Assessing the relative impacts of economic jour-
nals // Journal of Economic Literature. 1984. Vol. 22. P. 77-88.
Lovell M. C. The production of economic literature: an interpretation // Journal
of Economic Literature. 1973. Vol. 11. P. 27-55.
McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Madison, WI: University of Wisconsin
Press, 1985.
McDean H. C. Professionalism, policy, and farm economists in the early Bureau of
Agricultural Economies //Agricultural History. 1983. Vol. 37. P. 64-89.
Maloney J. Marshall, Orthodoxy and the Professionalization of Economics. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 1985.
Metzger W. P. A spectre is haunting American scholars: the spectre of «profes-
sionism» //Educational Researcher. 1987. Vol. 16. P. 10-19.
Mill J. War expenditure // Westminster Review. 1824. Vol. 2. P. 45.
Morishima M. The good and bad uses of mathematics / In P. Wiles and G. Routh
(eds). Economics in Disarray. Oxford : Basil Blackwell, 1984. P. 51-77.
Nelson R. H. The economics profession and the making of public policy // Journal
of Economic Literature. 1987. Vol. 25. P. 49-91.
O'Brien D. The transition in Torrens’ monetary thought // Economica (N.S.).
1965. Vol. 32. P. 269-301.
Parsons T. Professions I In D. Sills (ed.). The International Encyclopedia of the
Social Sciences. New York : Macmillan, 1968. Vol. 12. P. 536-547.
Patinkin D. Keynesian monetary theory and the Cambridge School // Banca
Nationale del Lavoro Quarterly Review. 1972. Vol. 25. P. 138-158.
Pechman J. A. The Role of the Economist in Government: An International
Perspective. Washington, DC: Brookings Institution, 1989.
Rhoads S. E. The Economist’s View of the World. Government, Markets, and
Public Policy. Cambridge : Cambridge University Press, 1985.
170
А. У. Коутс
Schumpeter J. Science and ideology // American Economic Review. 1949. Vol. 39.
P.345-359.
Siegfried J. J. The publishing of economic papers and its impact on graduate
faculty ratings, 1960-1969 // Journal of Economic Literature. 1972. Vol. 10.
P. 31-49.
Stanfield R. J. The social structure of the economics community / In R. J. Stanfield,
Economic Thought and Social Change. Carbondale, IL : Southern Illinois
University Press, 1979.
Stigler G. J. The Foundations and economics / In W. Weaver (ed.). U. S. Phi-
lanthropic Foundations, Their History, Structure, Management and Record.
New York : Harper, 1967. P. 276-286.
Stigler G. J. Economics: the imperial science? //Scandinavian Journal of Eco-
nomics. 1984. Vol. 86. P. 301-313.
Stigler G. J., Friedland C. The pattern of citation practices in economics / In
G. J. Stigler (ed.). The Economist as Preacher and Other Essays. Chicago,
IL: University of Chicago Press, 1982a. P. 173-191.
Stigler G. J., Friedland C. The citation practices of doctorates in economics / In
G. J. Stigler (ed.). The Economist as Preacher and Other Essays. Chicago.
IL: University of Chicago Press, 1982b. P. 192-222.
Tarascio V. J. The crisis in economic theory: a sociological perspective / In
W. J. Samuels (ed.). Research in the History of Economic Thought and
Methodology. 1986. Vol. 4. P. 283-295.
Torrens R. Letter to Wilmot Horton. 1826. 7 November.
Towse R., Blaug M. The Current State of the British Economics Profession. London :
Royal Economic Society, 1988.
Towse R., Blaug M. The current state of the British economics profession //
.. . Economic Journal. 1990. Vol. 100. P. 227-236.
Ward B. What’s Wrong With Economics? London : Macmillan, 1972.
Ward B. The Ideal Worlds of Economics. Liberal, Radical, and Conservative
Economics. World Views. New York : Basic Books, 1979.
Whitley R. Changes in the social and intellectual organization of the sciences:
professionalization and the arithmetic ideal / In E. Mendelsohn, P. Weingart
and R. Whitley (eds). The Social Production of Scientific Knowledge. Dord-
recht: Reidel. 1977. P. 143-169.
Whitley R. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford:
Clarendon Press, 1984.
Whitley R. The structure and context of economics as a scientific field / In
W. J. Samuels (ed.). Research in the History of Economic Thought and
Methodology. 1986. Vol. 4. P. 179-209.
Wiles P. Epilogue: the role of theory / In P. Wiles and G. Routh (eds). Economics
in Disarray. Oxford : Basil Blackwell, 1984. P. 293-325.
Woo H. К. H. What’s Wrong With Formalization — in Economics? — An Episte-
mological Critique. Newark, CA : Victoria Press, 1986.
UJr"
t-
"ЛдЛльи
ппшпаи'
МАЙКЛ БЛИНИ -••глй:
ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ
хиир-’о’'
<№ ,;;ве-'
е>п»"-
9.1. Введение чицват
Одной из особенностей — возможно, по прошествии времени эта
особенность будет рассматриваться как наиболее важная — совре-
менной экономической теории за последнее десятилетие было ослаб-
ление дискуссий и постепенное восстановление некоего консенсуса
впервые с середины 1960-х гг. Несомненно, что этот процесс носил
характер поиска, в отношении которого приходит на ум вальрасиан-
ский термин «нащупывание* (tatonnement), но нам достаточно толь-
ко вспомнить ту, очевидно, непреодолимую пропасть между различ-
ными школами макроэкономики в 1970-х гг., чтобы осознать, как мы
продвинулись с тех пор в науке. В 1981 г. Дэниел Белл и Ирвинг
Кристол издали сборник из двенадцати статей, озаглавленный «Кри-
зис в экономической теории» (Bell, Kristol, 1981). Вышедшая вначале
в качестве специального выпуска журнала «Public Interest», эта кни-
га включала статьи ведущих представителей экономической теории,
и Белл чувствовал себя вправе утверждать во Введении, что «двена-
дцать представленных здесь теоретиков согласны с тем фактом, что
консенсус в экономической теории нарушен» (Bell, Kristol, 1981 : xi).
Кристол в своей статье проводит эту идею с еще большей настойчи-
востью, как это видно из следующей цитаты: «Стало почти обще-
признанным, что имеет место нечто напоминающее «кризис в эконо-
мической теории», но относительно глубины и природы этого кризи-
са существуют совершенно противоположные взгляды» (Bell, Kristol,
1981 : 201).
Сегодня, десятилетие спустя, трудно представить себе, чтобы в
каком-либо эссе по экономической теории пришлось писать подоб-
ного рода комментарии. Сейчас атмосфера более спокойна, вселяет
больше уверенности и вызывает ощущение выздоровления после
болезни, а не самой болезни. Можно привести разные объяснения
этому явлению. Теоретически прогресс в науке мог привести к
снятию с повестки дня старых проблем, определив их как особые
174
Майкл Блини
случаи более общей теории. Практический опыт мог показать, что
одна сторона была права, а другая — нет. (Это, однако, противоре-
чило бы известному утверждению, что от двух экономистов вы
получите три мнения!) Возможно и то, что «кризис» в большей
степени относился к восприятию экономической теории в обществе,
чем к ее фактическому содержанию, и при нормализации положе-
ния в экономике репутация экономистов восстановилась, а вместе с
ней и их уверенность в себе. В этом контексте следует также упо-
мянуть закат советской модели и, по всей видимости, полное при-
нятие рыночных реформ экономистами Восточной Европы и Совет-
ского Союза, не говоря уже об экономистах Китая, Вьетнама и
растущего числа развивающихся стран.
При оценке прогресса (если, конечно, он имел место) в эконо-
мической теории за последнюю четверть столетия мы не можем
уклониться от рассмотрения этих вопросов. Экономическая теория
имеет непосредственное отношение к социальным проблемам и име-
ет (по крайней мере так принято считать) ярко выраженный идеоло-
гический аспект, а экономическая обстановка оказывает огромное
влияние на исход выборов в любые органы власти. Сами экономисты
также выступают в качестве избирателей, потребителей, родителей
и т. д. Общество оплачивает их труд с тем, чтобы экономика процве-
тала, и если они не способны этого достичь, то их уделом является
общественное возмущение. Очевидно, что экономическая теория не
пребывает в вакууме.
9.2. Новый синтез?
Экономическую теорию середины 1960-х гг. часто характеризу-
ют термином «неоклассический синтез». На сегодняшний день это
выражение приобрело несколько уничижительный характер, поскольку
представляется, что речь идет о плохо продуманном сочетании нео-
классической микроэкономики и кейнсианской макроэкономики.
Действительно, о чем пойдет речь ниже, недавний прогресс экономи-
ческой теории прямо или косвенно связан с попытками достичь зна-
чительно более полной интеграции между микро- и макроэкономи-
кой. Тем не менее здесь важно вспомнить, каким большим шагом
вперед был этот «синтез» по сравнению с теорией, например, 1930-х гг.
Этот синтез возник именно потому, что существовавшая к тому вре-
мени уже пятьдесят лет неоклассическая макроэкономика не смогла
создать простую, последовательную и полезную теорию. Достаточно
только дать беглый обзор литературы по экономическим циклам,
чтобы увидеть это: весьма далекая от движения к какому-либо кон-
сенсусу теория делового цикла 1920-х гг. (а она была единственной
областью, в которой представители неоклассической теории система-
Обзор современной теории
175
тически изучали макроэкономические проблемы) была раздроблена
на множество направлений. Кейнсианская теория положила всему
этому конец; она вызвала глубокие изменения не только в теории, но
также и в отношении государственных деятелей к управлению эко-
номикой. Она создала интеллектуальную основу для системы нацио-
нальных счетов и макроэкономического моделирования, что само по
себе было значительной инновацией, появление которой стало воз-
можным только в результате развития вычислительной техники и
возникновения новой статистической информации. Ограничения
«неоклассического синтеза», однако, были отчасти результатом его
успехов. Казалось, что макроэкономика будет развиваться за счет
построения моделей, соответствующих статистическим данным, под-
крепляемым теоретизированием ad hoc, ограничения чистой теории
предполагалось заполнять за счет поиска подходящих уравнений.
Кривая Филлипса, вероятно, представляет собой самый яркий при-
мер этого: она была включена в макроэкономические модели в каче-
стве надежной замены для несуществующей в кейнсианской системе
теории номинальной заработной платы. С другой стороны, в микро-
экономике по-прежнему предполагалось, что фирмы максимизируют
прибыль, а домохозяйства — полезность, и так и не были приняты во
внимание количественные ограничения, которые, как предполагал
Кейнс, могут быть важным фактором их поведения.
В конце 1960-х гг. «неоклассический синтез» начал давать тре-
щины, и именно кривая Филлипса оказалась наиболее слабым его
звеном. Сочетание инфляции с безработицей можно было связать (что
часто и делали) с социальными факторами, благодаря которым давле-
ние в сторону повышения заработной платы становилось бескомпро-
мисным, но большинству экономистов такого рода факторы казались
непредсказуемыми и в значительной степени необъяснимыми. Более
того, такого рода шоки предложения независимо от их причин обна-
руживали слабость в рекомендациях теоретиков относительно эконо-
мической политики: оказалось, что не существует какой-либо согла-
сованной теории, способной что-то предложить для борьбы с ними.
Кейнсианская теория была полностью ориентирована на шоки спроса,
тогда как экономисты, работавшие в рамках неоклассической тради-
ции, как правило, не могли предложить ничего другого, кроме веры в
гибкость рыночного механизма перед лицом шоков любого рода. Как
и в период 1929-1933 гг., скрытая до поры пустота в экономической
теории обнажилась под влиянием исторических событий. Впечатля-
ющие слабости теории стали очевидными как для экономистов, так и
для всего общества.
«Кризис экономической теории», который возник в 1970-х гг.,
был результатом всех этих событий. Ортодоксальные экономисты
утратили уверенность в себе, тогда как представители различных аль-
тернативных направлений экономической теории стали активно пред-
176
Майкл Блини
лагать свои варианты ответов на наболевшие вопросы. Как радикаль-
но правые, так и радикально левые экономисты заговорили в полный
голос. Оглядываясь назад, однако, понимаешь, что это было сугубо
временной фазой (по крайней мере в том, что касается теории). Ко-
гда проблема шоков предложения в значительной степени утратила
свою былую остроту, а начиная с 1982 г. началась устойчивая дезин-
фляция, публично выражаемая неудовлетворенность предписаниями
экономистов в области политики стала гораздо более редким явлени-
ем. Однако в теоретическом плане гораздо более важным было то,
что ортодоксальное направление экономической теории в очередной
раз доказало свою фундаментальную гибкость. Смягчив некоторые
наименее реалистичные предпосылки, такие как доступность полной
информации, ортодоксальная теория смогла защитить и обогатить
базовый принцип неоклассической традиции, согласно которому
мотивом экономических агентов является собственный интерес, то-
гда как марксистская и другие радикальные школы хотя и воспряну-
ли духом, не смогли проявить такого уровня приспособляемости и
изобретательности (марксистская школа, в частности, была раздира-
ема сомнениями относительно своих фундаментальных принципов).
Период растерянности и дезориентации сменился временем значи-
тельного прогресса, устранившего слабости существующей теории и
прежде всего преодолевшего, казалось бы, непреодолимую пропасть
между микро- и макроэкономикой.
Так или иначе, наиболее непосредственным результатом кризи-
са было возрождение неоклассической экономической теории. Ка-
залось, поверженная навсегда в конце 1960-х гг., когда наемные ра-
ботники демонстрировали свою рыночную силу, она смогла триум-
фально вернуться, введя в модель ценовые ожидания. После этого
любые изменения номинальной заработной платы могли быть истол-
кованы как расчистка рынков при подходящих предпосылках отно-
сительно ценовых ожиданий. Фридмен (Friedman, 1968) был одним
из первых, кто отстаивал такой взгляд. Однако он не занимался по-
дробным исследованием процесса формирования ожиданий. Но ко-
гда Лукас (Lucas, 1972) возродил понятие рациональных ожиданий,
впервые введенное Мутом (Muth, 1961), а Сарджент и Уоллес (Sargent,
Wallace, 1975) показали, какие интересные приложения оно может
иметь в макроэкономических моделях, кейнсианская теория оказа-
лась вынужденной занять «глухую оборону». Казалось, что все наи-
более яркие идеи возникают в рамках нового классического направ-
ления.
Выдающейся особенностью подхода Лукаса—Сарджента—Уолле-
са была его направленность на теоретическую последовательность.
Сторонники этого подхода пытались доказать, или по крайней мере
молча подразумевали, что это требует использования моделей с гиб-
Обзор современной, теории
177
кими ценами и атомистическими рынками, в которых агенты не
сталкиваются с количественными ограничениями. Эта линия аргу-
ментации не смогла снискать всеобщего признания, но на призыв
основывать макроэкономику на «здоровой» микроэкономике доволь-
но быстро последовал ответ. Хорошо известная книга, изданная под
редакцией Фелпса (Phelps, 1971), сыграла в этом отношении выда-
ющуюся роль. В этой работе в качестве аксиомы была принята наце-
ленность домохозяйств на максимизацию полезности, а фирм — на мак-
симизацию прибыли, однако особое значение приобрело принятие пред-
посылки о том, что получение информации связано с издержками.
Разработанная на основе этого модель поиска столкнулась с некото-
рыми трудностями в объяснении эмпирических закономерностей
рынка труда, и поэтому другие авторы в дальнейшем выбрали другие
пути. Эти интенсивно развивавшиеся исследования были нацелены
на то, чтобы выяснить, почему медленная и постепенная адаптация
цен и ставок заработной платы может быть рациональной даже на
рынке со множеством продавцов и покупателей. Здесь мы имеем
возможность представить основные идеи только в весьма сжатом виде.
Бейли (Baily, 1974) и Азариадис (Azariadis, 1975) предложили поня-
тие неявных контрактов между работодателями и работниками, в
рамках которых фирмы как бы страховали работников от колебаний
дохода. Другие сосредоточивали свое внимание на том, что добрая
воля нанимателей является важным фактором производительности,
или на том, что надзор за работниками связан с издержками (так
называемая теория эффективной заработной платы). Третьи полага-
ли, что модель поиска особенно применима к рынку, где частота сде-
лок побуждает продавцов давать ценовые гарантии, чтобы потребите-
ли не стали исследовать рынок в поисках лучших условий (Okun,
1981). Имели место также исследования ограниченности и асиммет-
рии информации на кредитных рынках (см., например, Stiglitz, Weiss,
1981).
Как уже упоминалось, многое, если не все, в этих исследованиях
было вызвано стремлением развить микроосновы кейнсианской тео-
рии с тем, чтобы объяснить, почему, как выразился Лейонхуфвуд
(Leijonhufvud, 1968), краткосрочная адаптация происходит через ко-
личественные ограничения, тогда как ценовая адаптация происходит
медленно. Если бы можно было показать, что для экономических
агентов рационально длительно обдумывать корректировки цен даже
в том случае, когда их мотивация является безукоризненно неоклас-
сической, то кейнсианская теория обрела бы гораздо более прочную
теоретическую базу. В сочетании с эмпирическими исследованиями,
результаты которых в целом были не слишком благоприятны для
моделей новой классической школы, это сформировало основу для
нового теоретического консенсуса, в рамках которого проясняются
13 Заказ № 356
178
Майкл Блини
микроэкономические основы кейнсианской макроэкономики, но учи-
тывается и критика прежнего невнимания кейнсианцев к формирова-
нию ожиданий. То, что возникает, видимо, можно обозначить терми-
ном «неокейнсианский синтез», в котором имеет место гораздо более
тесная связь между микро- и макроэкономикой, чем когда-либо со
времен кейнсианской революции.
В то же время наблюдался значительный прогресс и во многих
других областях экономической теории. Если бы некто уснул в 1970
и проснулся в 1990 г., он бы обнаружил серьезные изменения в содер-
жании главных экономических журналов. Стала широко использо-
ваться теория игр для исследования самых различных предметов от
олигополии или монополии с потенциальными конкурентами до мак-
роэкономической политики, о чем еще пойдет речь в этой части
книги. Возникла экспериментальная экономическая теория, и благо-
даря этому появилось множество новых теорий о том, как себя ведут
люди в условиях неопределенности. Эти исследования хорошо согла-
суются с усилением акцента, который теперь делается теоретиками
на доступности информации для участников рынка. Неузнаваемо из-
менилась эконометрика в результате того, что более совершенная
вычислительная техника сделала рутинными такие способы оценива-
ния, которые раньше были невозможны. Это отразилось на теорети-
ческих аспектах эконометрики. Вселяет уверенность тот факт, что
указанный прогресс связан с большим пониманием роли контроля
качества в прикладных исследованиях; оживленная дискуссия о «пра-
вильном» подходе к эконометрике является совершенно новым и
чрезвычайно приятным явлением.
Возвращаясь к вопросам, поставленным в начале этой главы,
видимо, следует отметить, что улучшение макроэкономической си-
туации в значительной степени сняло то давление, которое эконо-
мическая наука испытывала в течение 1970-х гг. Возможно, что это
улучшение экономической ситуации отчасти является и результа-
том работы экономистов, консультировавших лиц, ответственных
за проведение политики, хотя это весьма спорная точка зрения
(теоретический анализ эффективности дезинфляционной полити-
ки, например, явно отставал от жизни). Вполне вероятно также,
что ожидания общества относительно возможностей экономиче-
ской науки стали значительно более скромными. Старый теорети-
ческий спор не был выигран ни одной из сторон, но возникли
некоторые важные научные инновации типа рациональных ожида-
ний и разработок в области теории игр, которые дали экономистам
инструменты анализа, позволяющие решать проблемы, казавшиеся
прежде неразрешимыми. Рассмотрению этих инноваций будут по-
священы оставшиеся главы этой части, к чему мы сейчас и пе-
рейдем.
Обзор разрешенной теории
t 9.3. Главы II части
б
В главе 10 Песаран дает обзор теоретической работы, которая
была сделана за последнее время в области ожиданий. То, что ожида-
ния являются важным элементом экономического поведения, было
осознано уже очень давно, однако первые попытки создать теорию
формирования ожиданий относятся к весьма недавнему времени. Когда
Кейнс развил свою теорию спроса на деньги в «Общей теории», он
предполагал, что ожидаемая цена облигации не влияет на ее текущую
цену. Когда же Тобин (Tobin, 1958) выдвинул альтернативную тео-
рию, он вместо этого предположил, что среднее значение вероятного
распределения ожидаемой цены облигации всегда равно ее текущей
цене. Однако ни у того, ни у другого не возникло ощущения, что
нужно аргументировать необходимость использования такой пред-
посылки.1 Первые попытки в явном виде смоделировать ожидания
относятся к середине 1950-х гг., когда развивалась гипотеза адап-
тивных ожиданий. Различные приложения этой гипотезы исследова-
лись в течение 1960-х гг., тогда как на предложенное Мутом (Muth,
1961) понятие рациональных ожиданий мало кто обращал внимание
до 1970 г. Гипотеза рациональных ожиданий предполагает, что ожи-
дания индивидов совпадают с прогнозами, основанными на истинной
модели экономики. Такие ожидания являются оптимальными в том
смысле, что они являются несмещенными и характеризуются наи-
меньшей средней квадратической ошибкой, так что индивиды не
имеют стимула отказываться от такой схемы формирования ожи-
даний, если они однажды ее приняли. Менее ясно то, как они полу-
чают необходимую информацию для того, чтобы принять эту схему.
Как показывает Песаран, процесс обучения является затрудненным
по причине влияния ожиданий на поведение системы. Даже если
предположить, что индивиды располагают истинной моделью в виде
системы уравнений и что неопределенность касается только ко-
личественных значений параметров, движение в сторону рациональ-
ных ожиданий через обучение все равно не является обязательным.
В заключительном разделе главы Песаран делает обзор сведений
об ожиданиях, полученных в результате опросов. Эти данные в це-
лом опровергают гипотезу рациональных ожиданий, однако не под-
держивают какую-либо альтернативную простую модель. Песаран
делает вывод, что для получения и совершенствования прямых по-
казателей, измеряющих ожидания индивидов относительно экономи-
ческих переменных, требуются более серьезные исследовательские
усилия.
1 Однако в последнем параграфе статьи Тобина все-таки содержится
короткое обсуждение теоретических последствий принятия альтернативных
предпосылок относительно ожиданий.
180
Майкл Блини
Глава 11 этой книги содержит сделанное Сойером введение в
посткейнсианскую макроэкономику. Основы этой традиции были
заложены в работах Кейнса и Калецкого, и, вероятно, главным при-
знаком, объединяющим всех ее представителей, является сомнение в
пригодности неоклассической экономической теории. Сойер обсуж-
дает такие разделы, как деньги и финансы, цены, инвестиции, труд и
деловой цикл. В области денег и финансов основной упор делается
на эндогенности денежной массы (по меньшей мере в экономике с
развитым финансовым сектором), что предполагает трактовку инф-
ляции как фактора увеличения количества денег в экономике, а не
наоборот. Другой сферой исследования, связанной прежде всего с
именем Мински, являются финансовые кризисы; политика централь-
ного банка рассматривается здесь как серьезный фактор, предотвра-
щающий возможное бедствие. Что касается посткейнсианского под-
хода к формированию цен, то он трудно поддается какому-либо обоб-
щению, поскольку здесь наблюдается большое многообразие во взглядах
авторов, однако многие посткейнсианцы вслед за Калецким придер-
живаются теории цен, определяемых издержками, в которой факто-
ры спроса играют в лучшем случае второстепенную роль, если речь не
идет о рынке сырья. Имеет место также тенденция принижать значе-
ние ставки процента в качестве фактора инвестиций. Все это, по-
видимому, можно подытожить одной фразой: «Деньги не имеют зна-
чения», поскольку они не влияют ни на цены, ни на реальный эффек-
тивный спрос. Трактовка рынка труда также вполне согласуется с
этими идеями; акцент здесь делается на факторах, которые влияют на
поведение рабочих при заключении коллективных договоров, таких
как отклонение реальной заработной платы от тренда, а не на равно-
весии спроса и предложения. В области теории потребления посткей-
нсианские авторы обычно отдают предпочтение двойственной потре-
бительской функции, предполагающей более высокую склонность к
сбережению из прибылей, чем из заработной платы. Такая формули-
ровка имеет больше общего с идеями Калецкого и Маркса, чем с
идеями Кейнса, однако она может быть оправдана, если исходить из
того, что фирмы распределяют в виде дивидендов только ограничен-
ную часть прибылей.
В главе 12 Мюллер обсуждает теорию общественного выбора,
которая совершила огромный скачок вперед за последние двадцать
лет. По утверждению Мюллера, теория общественного выбора имеет
общий предмет исследования с политологией, но пользуется инстру-
ментами экономического анализа; эту главу имеет смысл читать па-
раллельно с главой 38 Маклина. Используемая здесь методология
исследования является экономической в том смысле, что индивиды
рассматриваются как эгоистические рациональные максимизаторы
полезности. Этот принцип применяется для рассмотрения поведения
политиков и бюрократов, равно как и избирателей.
Обзор современной теории
181
Маловероятно, что при какой-либо демократии может иметь ме-
сто единогласие по большинству вопросов, хотя и могут быть ситуа-
ции, при которых оно было бы желательным. Мюллер подробно рас-
сматривает недавние исследования прямой демократии и оценивает
сравнительные достоинства правил единогласия и простого большин-
ства для принятия решений. Правило простого большинства может
привести к зацикливанию в том смысле, что попарное голосование
между двумя вариантами не приводит к последовательному выбору.
Недавние исследования показали, что в таких ситуациях контроль за
повесткой дня может быть важным фактором, определяющим ко-
нечный результат, — вывод интуитивно близкий всем, кто когда-
либо заседал в комисиях! Далее Мюллер переходит к обсуждению
более поздних работ в области теории представительной демократии,
являющихся попыткой обогатить исходную модель Даунса. Он также
рассматривает поведение бюрократов и цели лоббистов, делая здесь
особый акцент на теории соискания ренты. Так называемая теорема
невозможности Эрроу сразу после своего возникновения привлекла
огромное внимание. Мюллер прослеживает выводы из нее и дает оценку
более поздним работам в этой области, в особенности работе Сена.
Завершает главу указание на необходимость более серьезных исследова-
ний того, что в действительности определяет выбор избирателя в пред-
ставительной демократии при растущих инвестициях, которые осу-
ществляют политические партии, чтобы повлиять на этот выбор.
В главе 13 Хей обсуждает такую важную для экономической
теории проблему, как неопределенность. Стандартной теорией, при-
меняемой к ситуации неопределенности, является теория ожидаемой
полезности, принцип которой заключается в следующем: каждому
возможному исходу в рисковой ситуации приписывается определен-
ная полезность, и индивиды стремятся к максимизации своей ожида-
емой полезности, которая есть не что иное, как математическое ожи-
дание полезности при данном распределении субъективных вероят-
ностей результатов. Ясно, что существует множество различных типов
азартных игр, которые могут иметь одинаковую субъективную ожи-
даемую полезность, и теория субъективной ожидаемой полезности
базируется на предпосылке, согласно которой эти различия не имеют
значения. Как показывают Хей и более подробно Лумз в главе 29
экспериментальные данные указывают на то, что эти различия все-
таки имеют значение в определенных ситуациях. Хей показывает,
что теорию субъективной ожидаемой полезности можно свести к
набору аксиом, и далее исследует альтернативные теории, которые
были разработаны в связи с этими экспериментальными результатами
и основывались на ослаблении некоторых или всех этих аксиом. В дан-
ном случае речь идет о сфере, в которой в середине 1980-х гг. был
достигнут значительный прогресс, и глава Хея является превосход-
ным введением в эту проблематику.
182
Майкл Блини
В главе 14 мы обращаемся к теории внешнеторговой политики.
Корден рассматривает некоторые из последних моделей, демонстриру-
ющих целесообразность протекционистской политики для отрасли с
олигополистической структурой. Эта аргументация не вполне убеди-
тельна, если другие государства отвечают тем же, но все же основной
идеей является то, что посредством экспортных субсидий или тари-
фов можно переместить прибыли от иностранных олигополистов к их
отечественным конкурентам. Корден подробно рассматривает эти
модели и сравнивает их с более ранними работами, в которых дела-
лось допущение, что рынки конкурентны. Он утверждает, что новые
результаты сходны с прежде полученными результатами для конку-
рентной модели с учетом воздействия на условия торговли (т. е. страна
может получить выигрыш, устанавливая экспортные пошлины, по-
скольку это делает условия торговли более выгодными для нее). В не-
которых из этих новых моделей учитывается также экономия от
масштаба, но Корден утверждает, что их результаты не очень отлича-
ются от прежде полученных результатов для модели конкурентной
отрасли с экономией от масштаба. Основным пунктом его критики
этих моделей для случая олигополии (некоторые называют их «но-
вой международной экономикой») является ограничительный харак-
тер предпосылки Курно, как правило, используемой в анализе страте-
гической игры. Речь идет о предпосылке, согласно которой ни один
из игроков не реагирует на изменения в игре своего противника (од-
нако см. комментарии Монте относительно этой критики предпосыл-
ки Курно в разделе 17.2 главы 17). Завершая свое обсуждение, Кор-
ден предполагает, что наиболее важное недавнее достижение в облас-
ти теории торговой политики совершено в области политической
экономии государственного вмешательства. В ее рамках впервые ис-
следуется вопрос о наиболее вероятных факторах, вызывающих про-
текционистские меры государства, а не просто предполагается, что
они принимаются на основе экономической теории (хочется верить,
что правильной). Эти вопросы обсуждаются Милнером в главе 34.
В главе 15 Макдональд и Милберн делают обзор последних раз-
работок в области монетарной теории. В своем пространном обсуж-
дении они демонстрируют внимание, проявляемое к этому предмету в
наше время в противоположность 1960-м и началу 1970-х гг., когда
казалось, что его главной темой является оценка функций спроса на
деньги. Прежде всего возродился интерес к микроосновам денежной
теории. Хорошо известно, что модели общего равновесия Эрроу—Деб-
ре не отводят деньгам никакой роли, поскольку все возможные буду-
щие сделки могут быть осуществлены на основе условных контрак-
тов. Одно из направлений исследования начинается с бартерной
экономики и показывает, как требование двойного совпадения по-
требностей обменивающихся индивидов создает стимул стремиться к
обладанию часто желаемыми товарами, которые, таким образом, ста-
Обзор современной теории
183
новятся средством обмена. Другие авторы вводят в рассмотрение
требование предоплаты наличными — товары покупаются за деньги,
поскольку по той или иной причине продавцы не имеют информа-
ции о кредитоспособности покупателей. Обсуждается также вопрос о
том, возможно ли на практике вытеснение из трансакций не прино-
сящих процента денег приносящими процент облигациями, если бы
последние были доступны в достаточно малых деноминациях и их
использование не наталкивалось бы на какие-либо юридические пре-
пятствия. В области макроэкономики главной проблемой стал во-
прос о доверии к денежной политике. Эта проблема возникла, когда
стал распространенным взгляд на тактические цели денежной поли-
тики как на значительный элемент дезинфляционной политики, и
Макдональд и Милберн предлагают подробное обсуждение этой сфе-
ры исследования. Другой областью для дебатов, которые были вызва-
ны приложением теории рациональных ожиданий к рынку активов,
стала проблема очевидной изменчивости цен на активы, и основным
направлением эмпирических исследований стало решение вопроса о
том, является ли эта изменчивость просто результатом колебаний
ожидаемых доходов или же существует значительный элемент «спе-
кулятивного пузыря». В завершение обсуждения авторы рассмотрели
некоторые новые идеи относительно спроса на деньги, включая тео-
рию буферного запаса и некоторые последние теории, описывающие
связи между денежным запасом и реальным выпуском, в этих тео-
риях предполагается рационирование кредита или издержки коррек-
тировки цен.
Глава 16 содержит изящный обзор текущего положения дел в
экономической теории окружающей среды, сделанный Пирсом. Не-
смотря на то что уже в XIX и начале XX столетий в этой области
были сделаны важные открытия, Пирс относит возникновение эконо-
мики окружающей среды как обособленной дисциплины к 1960-м гг.
Именно в это время начало формироваться понятие расширенного
равновесия — неоклассическое понятие общего равновесия было рас-
ширено за счет включения в него окружающей среды. Пирс обсужда-
ет две основные проблемы: проблему существования, т. е. теоретиче-
ской возможности и устойчивости такого расширенного равновесия,
и проблему оценки, т. е. формирования неявных цен на окружающую
среду, которые бы имели место в таком равновесии. Проблема суще-
ствования усложняется, если принять во внимание второй закон тер-
модинамики, согласно которому постоянно происходит увеличение
энтропии. Этот закон исключает 100%-ную возобновимость ресурсов,
что означает их постепенное истощение. Это истощение естественного
капитала компенсируется следующим поколениям, если они наследу-
ют достаточный по величине произведенный капитал, но остается
нерешенным вопрос о том, какую норму дисконта, если ее использо-
вание вообще возможно, следует применить к показателю полезности
184
Майкл Блини
будущих поколений. Немало исследований в последние двадцать пять
лет было посвящено и проблеме оценки, где выявилось несколько
способов. Один метод трактует издержки путешествия как аппрокси-
мацию цены доступа к популярным достопримечательностям; дру-
гой метод предполагает использование цен на недвижимость как ка-
питализированную ценность радостей общения с природой. Наконец,
существует «метод условной оценки», который основан на использо-
вании анкет с тем, чтобы выявить степень готовности респондентов
платить. Интересным результатом является то, что люди готовы от-
давать значительные суммы просто за существование определенных
элементов окружающей среды, не предполагая при этом извлечь из
этого какую-либо полезность для себя. Например, существование ки-
тов ценится даже теми, у кого вряд ли имеются шансы когда-либо
увидеть их в естественной среде обитания. Пирс заканчивает свою
статью оценкой роли экономических инструментов в решении про-
блем внешних эффектов в этой области.
В главе 17 можно найти обзор Монте, посвященный недавним
достижениям в области теории игр и их приложениям к экономиче-
ской теории. Теория игр вошла в экономическую науку благодаря
публикации в 1944 г. работы фон Неймана и Моргенштерна «Теория
игр и экономическое поведение». Однако до относительно недавнего
времени в деле приложения теории игр к решению экономических
проблем был достигнут весьма небольшой прогресс. Это отчасти
связано с тем, что основное внимание уделялось играм с нулевой
суммой, которые представляют очень небольшой интерес для эконо-
мической теории. С точки зрения Монте, поворотным пунктом явля-
ются работы Шеллинга 1960-х гг.: Шеллинг по-новому определил
стратегическое поведение как действия, направленные на то, чтобы
повлиять на выбор других, воздействуя на их ожидания относительно
нашего поведения. В результате стратегическое поведение выступает
как способ подачи сигнала, передающего сообщение о том, с какого
рода игроком имеет дело оппонент в нашем лице. Это, естественно,
создает проблемы доверия и репутации, с которыми мы теперь уже
знакомы. Первую часть главы Монте посвящает замечательно ясному
изложению основных понятий современной теории игр, вслед за чем
рассматривает их приложения в различных областях экономической
теории. Его обсуждение стратегического поведения среди олигополи-
стов следовало бы читать параллельно с главой 24, написанной Бау-
молем, тогда как его трактовка игр макроэкономической политики
примыкает к обсуждению этих же проблем в главе 15 Макдональда
и Милберна и в главе 23, написанной Карри и Ливайном.
В главе 18 обсуждается экономическая теория развития. Бала-
субраманиам и Макбин рассматривают международные проблемы
начиная с детального анализа структуралистской аргументации в
пользу протекционизма. Структуралистская аргументация основана
Обзор современной теории
185
на убеждении в том, что открытость к мировой экономике ограничи-
вает возможности развития бедных стран в силу ряда факторов, вклю-
чая долгосрочный понижательный тренд относительных цен на сы-
рье, дискриминацию, имеющую место в богатых странах в отношении
экспортной продукции обрабатывающей промышленности из новых
индустриальных стран, и низкую эластичность спроса на сырье как
по ценам, так и по доходу, что означает, что мировое увеличение
экспорта сырья привело бы к заметному снижению его цен. Такого
рода аргументация является интеллектуальной базой тех, кто высту-
пает за импортозамещающую индустриализацию. Напротив, Всемир-
ный банк является страстным защитником структурной адаптации,
главным направлением которой является увеличение зависимости
внутренних цен от мировых и уменьшение их искажений. Всемир-
ный банк утверждал, что более открытые экономики с менее иска-
женными ценами находятся в лучшем положении по сравнению с
теми, которые неявно принимают структуралистскую аргументацию.
Баласубраманиам и Макбин подробно разбирают факты, имеющие
отношение к этим вопросам. Далее они обращаются к проблеме пря-
мых зарубежных инвестиций. По их мнению, несмотря на частые
риторические атаки на мультинациональные компании, правитель-
ства развивающихся стран обычно стремились привлечь через эти
компании прямые инвестиции по крайней мере в обрабатывающую
промышленность для того, чтобы импортировать передовые техно-
логии. Однако подобные стремления не распространяются на сферу
услуг, и Баласубраманиам и Макбин предполагают, что прямые зару-
бежные инвестиции могли бы способствовать повышению эффектив-
ности некоторых отраслей сферы услуг, таких как банковское дело и
страхование. Они выражают некоторую озабоченность по поводу усту-
пок, которые делают правительства для привлечения зарубежных ин-
вестиций в обрабатывающую промышленность, поскольку конкурен-
ция между правительствами в этой сфере может поднять рентабель-
ность инвестиций без значительного увеличения их совокупного
потока.
В главе 19 Солоу анализирует недавние работы по теории эконо-
мического роста. Он начинает со ссылки на свое собственное утверж-
дение, сделанное в 1979 г., о том, что без появления глубоких новых
идей в этой области существуют весьма небольшие возможности для
оригинальной теоретической работы. Далее он обсуждает ряд статей,
опубликованных за последние несколько лет, которые, как представ-
ляется, содержат некоторые интересные теоретические инновации.
Одной из новых тем, исследованной Лукасом и Ромером, является
рассмотрение человеческого капитала как дополнительного фактора
производства, который характеризуется возрастающей отдачей от мас-
штаба на уровне экономики в целом, хотя такая отдача и отсутствует
на уровне фирмы. Инвестиции в человеческий капитал прямо увели-
186
Майкл Блини
чивают производительность труда всех рабочих, поскольку повышают
средний уровень человеческого капитала в экономике. Основной идеей
является то, что экономики, которые неспособны осуществлять инвес-
тиции в человеческий капитал, не могут рассчитывать на достижение
таких темпов роста, какие наблюдаются у других, даже если они имеют
доступ к той же технологии, поскольку у них отсутствуют необходи-
мые знания для того, чтобы эффективно использовать такую техноло-
гию. Здесь мы имеем дело с аккуратной модификацией стандартной
неоклассической модели, но при этом достигается тот важный ре-
зультат, что инвестиции в человеческий капитал перманентно увели-
чивают темп роста. Хотя такое предположение можно рассматривать
как весьма неправдоподобное, оно, тем не менее, объясняет, почему
темп роста в развитых странах сегодня значительно выше, чем это
было в Великобритании во время промышленной революции. Солоу
также рассматривает некоторые из последних приложений этих идей
к теории международной торговли, сделанных Гроссменом и Хелп-
меном. Главной идеей их работы является то, что страны могут отли-
чаться друг от друга по способности к осуществлению исследований
и разработок (НИОКР), в результате чего структура мирового спроса
может влиять на общий объем фактически осуществляемых расхо-
дов на НИОКР. В завершение своего обсуждения Солоу рассматривает
недавние попытки формализовать идеи Шумпетера, сделанные Круг-
меном, а также Агионом и Хоуиттом; эти теории являются шумпете-
рианскими в том смысле, что в них успешные инновации приносят
временную монопольную ренту.
В главе 20 Шоун делает обзор исследований в области макроэко-
номической теории открытой экономики. Он отмечает, что как реак-
ция на относительно высокий уровень протекционизма в период между
двумя мировыми войнами, за которым последовали Бреттон-Вудские
соглашения 1944 г., макроэкономика имела тенденцию становиться
теорией закрытой экономики с некоторыми дополнениями для слу-
чая открытой экономики, относящимися к торговому балансу в мире
с фиксированными валютными курсами. В ответ на увеличение крат-
косрочных потоков капитала в 1960-х гг. в макроэкономику стали
включать баланс движения капитала, причем разница между отече-
ственной и иностранными ставками процента рассматривалась как
главная объясняющая переменная. Наступление эпохи плавающих
обменных курсов сильно подхлестнуло эту тенденцию: в мире, где
доминируют «горячие деньги», валюты стали рассматриваться как
альтернативные активы; балансы текущих статей платежного балан-
са теперь стали иметь значение только как индикаторы будущих из-
менений обменных курсов, которые бы повлияли на ожидаемую до-
ходность хранения различных валют. Шоун проводит четкое разгра-
ничение между моделями, в которых предполагается гибкость цен
(постоянство паритета покупательной способности), и моделями с
Обзор современной теории
187
неподвижными ценами. Далее он вводит в рассмотрение совокупное
предложение; главным здесь является то, что, поскольку цены на
импортируемые товары могут колебаться относительно цен на товары
отечественных производителей, может возникнуть расхождение меж-
ду заработной платой, выраженной в произведенных продуктах и в
потребительских товарах. В конце Шоун рассматривает влияние ин-
дексации заработной платы в рамках такой модели. Результаты явно
зависят от того, в какой форме осуществляется индексация. Одним
из интересных направлений исследования является выбор оптималь-
ной формы индексации при наличии различного рода стохастиче-
ских шоков при разных режимах валютных курсов.
Предметом главы 21 является экономическая теория социализ-
ма. Она недавно стала актуальной темой, по крайней мере таковою
стал демонтаж социалистической системы! Хэар описывает основные
принципы советской модели и основные попытки реформ в СССР и
Восточной Европе. Затем он делает обзор теоретических подходов к
решению проблем, поставленных реформаторами, таких как вопрос об
оптимальной степени децентрализации. Это переходит в обсуждение
поведения предприятий в мире рационированных факторов про-
изводства. Хэар показывает, что даже если основным мотивом дея-
тельности предприятия является максимизация прибыли (возможно,
потому, что прибыль является важным детерминантом управленче-
ского вознаграждения), реакция выпуска на рыночные сигналы умень-
шается из-за ограничений на предложение факторов производства.
Далее Хэар обращается к теоретическому анализу дефицита — теме,
развитие которой в первую очередь связывается с именем Корнай.
Подход последнего он противопоставляет эмпирическому подходу
Портеса и его последователей, где в качестве основной проблемы
выступает оценка важности избыточного спроса на рынке потре-
бительских товаров в плановой экономике. Другим направлением
эмпирических исследований является моделирование реакции плано-
виков на макроэкономические показатели. Например, в Восточной
Европе плановики были склонны реагировать на неожиданные поло-
жительные сальдо платежного баланса увеличением инвестиций. Это
исследование имело некоторое влияние на ход продолжающейся дис-
куссии по вопросу о существовании инвестиционных циклов в плано-
вой экономике. В целом же, по мнению Хэара, в этой области за
последние двадцать лет был достигнут значительный прогресс.
В главе 22 нашему вниманию предлагается обсуждение такой
темы как рынок труда — того раздела экономической теории, в рам-
ках которого в последние годы велись интенсивные теоретические и
эмпирические исследования. Сэпсфорд сосредоточивается на аспекте
поиска информации, утверждая, что получение выборки ставок зара-
ботной платы от разных фирм связано с издержками. Если распреде-
ление вероятностей предлагаемых ставок заработной платы извест-
188
Майкл Блини
но, то рациональным будет осуществлять поиск до тех пор, пока не
будет предложена определенная ставка заработной платы (известная
под названием «приемлемой заработной платы» (reservation wage)).
Если распределение вероятностей само по себе должно быть выявле-
но посредством поиска, то более правильным будет сосредоточиться
на вопросе о размере выборки. В целом глава Сэпсфорда представля-
ет собой обзор теоретических и эмпирических исследований в этой
области.
Глава 23 содержит изящный обзор теории международной ко-
ординации политики, сделанный Карри и Ливайном. В последние
пятнадцать лет эта тема очень активно исследовалась, после того как
Хамада в нескольких своих работах сформулировал основные прин-
ципы подхода к ней. Считается, что государства минимизируют функ-
цию потерь благосостояния, аргументами которой являются инфля-
ция и отклонения выпуска от некоторого целевого значения, а теория
игр используется для определения того, позволит ли кооперативное
решение достигнуть более высокого уровня международного благо-
состояния (определяемого как взвешенная сумма благосостояний
отдельных государств) по сравнению с его уровнем при равновесии
Нэша, которое, по всей вероятности, установилось бы при отсутствии
кооперации. Карри и Ливайн интерпретируют основные результаты в
рамках простой модели естественной нормы безработицы с плава-
ющими валютными курсами. В таком мире при отсутствии междуна-
родной координации денежная политика имеет тенденцию быть чрез-
мерно жесткой, а фискальная — избыточно мягкой, поскольку вы-
сокая ставка реального процента создает благоприятные побочные
эффекты, связанные с повышением валютного курса. Далее авторы
вводят в рассмотрение частный сектор, допуская колебания степени
доверия к антиинфляционной политике (эта часть их главы смыка-
ется с обсуждением данных проблем в главе 15 Макдональдом и
Милберном). Если политика правительства пользуется доверием, то
международная кооперация всегда повышает благосостояние, но ин-
тересно то, что последнее не обязательно будет иметь место, если
политике не доверяют. Совершенно другой проблемой является во-
прос о том, насколько важным может быть выигрыш от международ-
ной координации политики. Один из аспектов этой проблемы, кото-
рый недавно активно обсуждался, связан с влиянием неопределенно-
сти и различий во взглядах правительства по макроэкономическим
проблемам. В оценках выигрышей и потерь благосостояния от коор-
динации, данных разными исследователями, имеются значительные
различия, но Карри и Ливайн утверждают, что в целом результаты
вполне определенно положительны. Завершают главу соображения
по поводу некоторых недавних предложений в области координации
международной политики.
Обзор современной теории
189
В главе 24 Баумоль рассматривает отраслевую структуру и пове-
дение фирм. Он сравнивает и противопоставляет различные подходы,
предлагаемые теорией трансакционных издержек, теорией игр и те-
орией состязательных рынков. Подход, основанный на теории трансак-
ционных издержек, не создал каких-либо формальных моделей; по
сути здесь ставится вопрос о том, что связано с меньшими издержка-
ми: интернализация ранее независимых видов деятельности внутри
одной фирмы или функционирование обособленных фирм и исполь-
зование контрактов для регулирования их отношений. Для того что-
бы проиллюстрировать эту ситуацию, Баумоль использует пример
вертикальной интеграции. Теория игр нацелена на изучение страте-
гического поведения фирм в олигополистической рыночной струк-
туре, при которой каждый может сам определять степень своей агрес-
сивности по отношению к сопернику. Стратегический элемент озна-
чает, что структура отрасли не определяется просто формой кривых
издержек; фактически число фирм может быть либо больше, либо
меньше оптимального (при котором достигается минимум издержек).
Теория состязательных рынков подчеркивает роль потенциальных
участников отрасли, которые могут оказывать сильное влияние на
поведение фактических участников, даже если никак не выражают
своего намерения войти в отрасль. В то время как в игровой модели
безвозвратные издержки дают сигналы конкурентам, в теории состя-
зательных рынков их следует рассматривать как входные барьеры.
(Однако монополист может повлиять на воспринимаемый уровень
входных барьеров посредством своей реакции на попытки вторже-
ния; некоторые из недавних работ такого рода обсуждаются Монте в
главе 17.) Если рынки являются совершенно состязательными (отсут-
ствуют входные барьеры), то в долгосрочном периоде вход и выход
из отрасли должны привести к тому, что все фирмы достигнут мини-
мума издержек. Тогда число фирм в отрасли будет определяться
величиной спроса и условием минимальных издержек, хотя на него
будут влиять и ценовые стратегии. Данный тезис стимулировал
эмпирические исследования, направленные на оценку кривых издер-
жек отрасли. Теория состязательных рынков привела также к более
точной формулировке понятий в этой сфере; Баумоль аккуратно
объясняет, что подразумевается под таким понятием, как субадди-
тивность издержек, которая связана (но не вполне совпадает) с тем,
что мы привыкли называть экономией от масштаба.
В главе 25 Аронсон и Отт обсуждают проблемы роста обществен-
ного сектора. Представив некоторые статистические данные, выяв-
ляющие долгосрочный тренд, по крайней мере в развитых странах,
в направлении увеличения доли общественного сектора в совокупном
выпуске, они рассматривают различные гипотезы, выдвинутые для
объяснения этого феномена. Одна из них состоит в том, что спрос на
услуги, предоставляемые общественным сектором, является эластич-
190
Майкл Блини
ным по доходу, но неэластичным по цене; тогда, если, как свидетель-
ствуют факты, рост производительности в этой сфере ниже, чем в
экономике в целом, доля этих услуг в общем выпуске должна посте-
пенно расти, несмотря на рост их относительной цены. Здесь можно
говорить о случае несбалансированного роста, впервые проанализиро-
ванном Баумолем; и Аронсон, и Отт показывают, что эта теория име-
ет серьезное эмпирическое подтверждение. Другой набор гипотез
фокусирует внимание на том факте, что деятельность правительства
обычно финансируется за счет налоговых поступлений, а не за счет
заимствований у населения. Тогда выбор уровня правительственной
деятельности является политическим решением, и для изучения дан-
ной проблемы могут оказаться плодотворными идеи, взятые из тео-
рии общественного выбора. Здесь существуют не только возможности
для анализа лоббирования, которое может оказывать повышательное
влияние на государственные расходы, поскольку налоговое бремя рас-
пыляется среди избирателей. Модели голосования могут быть исполь-
зованы для анализа проблем перераспределения доходов через нало-
говую систему. Подлинные издержки государственных расходов так-
же остаются практически нам неведомыми, и здесь могут иметь место
элементы фискальной иллюзии. Последний набор теорий рассматри-
вает государственные расходы как определяемые приемлемым уров-
нем налогообложения — идея, к которой привел перманентный рост
доли государственного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП)
Великобритании, сопровождавший большие войны. Рассмотрев эти
теории, Аронсон и Отт посвящают последний раздел своей главы
разбору эмпирических фактов.
9.4. Заключение
Несмотря на то что каждая глава этой книги является ярким
свидетельством жизнеспособности экономической теории, видимо,
уместным будет в заключение предостеречь экономистов от самодо-
вольства. Еще остается много явлений, которые экономисту трудно
объяснить. Можно привести два таких примера: исторически беспре-
цедентный рост реальной процентной ставки и устойчивость безра-
ботицы в большинстве западноевропейских стран в 1980-х гг. Для
объяснения обоих феноменов возникло множество теорий, причем
некоторые из них в какой-то степени эмпирически подтверждались,
но убедительного и широко признанного объяснения у нас все же нет.
Далее необходимо отметить, что теоретические модели продол-
жают оставаться чрезвычайно урезанными, упрощенными представ-
лениями реальности. По всей вероятности, такими они и останутся
ради аналитического удобства. Это означает, что они могут дать нам
идеи относительно реального мира, но не могут поведать нам о том,
Обзор современной теории
191
как он работает. Эти идеи важны в том отношении, что они могут
изменить образ мышления относительно тех или иных вопросов; но
они также могут представлять серьезную опасность, если мы ошибоч-
но примем модель за саму реальность.
Литература
Azariadis С. Implicit contracts and underemployment equilibria//Journal of
Political Economy. 1975. Vol. 83. P. 1183-1202.
Baily M. N. Wages and employment under uncertain demand//Review of
Economic Studies. 1974. Vol. 41. P. 37-50.
Bell D., Kristol I. The Crisis in Economic Theory. New York : Basic Books, 1981.
Friedman M. The role of monetary policy//American Economic Review. 1968.
Vol. 58. P. 1-17.
Leljonhufvud A. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. Oxford :
Oxford University Press, 1968.
Lucas R. E. Expectations and the neutrality of money // Journal of Economic
Theory. 1972. Vol. 4. P. 103-124.
Muth J. F. Rational expectations and the theory of price movements // Econo-
metrics. 1961. Vol. 29. P. 315-335.
Okun A. M. Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis. Oxford : Basil
Blackwell, 1981.
Phelps E. S. (ed.). Microeconomic Foundations of Employment and Inflation
Theory. London: Macmillan, 1971.
Sargent T. J., Wallace N. «Rational» expectations, the optimal monetary instru-
ment, and the optimal money supply rule // Journal of Political Economy.
1975. Vol. 83. P. 241-253.
Sttglttz J. E., Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect competition //
American Economic Review. 1981. Vol. 71. P. 393-410.
Tobin J. Liquidity preference as behaviour towards risk // Review of Economic
Studies. 1958. Vol. 25. P. 65-86.
10
М. ХАШЕМ ПЕСАРАН
ОЖИДАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
10.1. Введение*
По сравнению с некоторыми другими важными разделами эко-
номической теории обсуждение проблемы ожиданий имеет недол-
гую историю и берет начало в работах Найта (Knight, 1921), Кейнса
(Keynes, 1936), Шекла (Shackle, 1949, 1955), Койка (Коуск, 1954),
Кейгана (Cagan, 1956), Саймона (Simon, 1958) и Мута (Muth, 1960,
1961). Проблемы неопределенности и ожиданий едва ли можно
обнаружить в трудах экономистов-классиков; даже в тех местах
произведений Кейнса, где обсуждалась проблема ожиданий и их
значение для процесса принятия решения, ожидания принимались
как данные и, следовательно, не играли центральной роли в разви-
тии кейнсианской макроэкономической теории.* 1 Это кажется по-
разительным, учитывая, что большинство решений принимается
экономическими агентами в условиях неопределенности. В среде,
характеризующейся неопределенностью, анализ экономического по-
ведения неизбежно предполагает учет ожиданий. Таким образом,
механизмы их формирования и их воздействие на принятие реше-
ний становятся важнейшей проблемой с точки зрения теории эко-
номической динамики и эконометрического анализа временных
рядов. Под влиянием новаторской работы Мута (Muth, 1961) ана-
лиз формирования ожиданий и включение переменных, связанных
с ожиданиями, в теоретические и эмпирические исследования заня-
ли важное место во многих областях экономической теории. Осо-
бенно это относится к межвременным моделям потребления, пред-
* Автор выражает признательность за частичную поддержку ESRC и
Фонду Исаака Ньютона Колледжа Троицы (Isaac Newton Trust of Trinity
College), Кембридж.
1 Обсуждение роли неопределенности и ожиданий в работе Кейнса см.,
например, в работах (Lawson, 1981; Begg, 1982b; Coddington, 1982; Patin-
kin, 1984; Hodgson, 1985; Lawson, Pesaran, 1985).
Ожидания в экономической теории
193
ложения труда, цен на активы, решений, касающихся продаж, инвес-
тиций и товарно-материальных запасов, равно как и к теориям де-
нег, обработки информации, поиска, трудовых контрактов и страхо-
вания. Литература по вопросам ожиданий в экономической теории
обширна, и ее объем постоянно увеличивается. В одном очерке
можно в лучшем случае осветить лишь некоторые аспекты недавних
достижений в этой области.2 Данная глава не является исключени-
ем. Мы сосредоточим свое внимание на обсуждении альтернативных
моделей формирования ожиданий, которые включают в себя модели
адаптивных, экстраполяционных и рациональных ожиданий. Про-
блема обучения также будет кратко рассмотрена, и будут приведены
доводы в пользу того, что при некоторых крайних допущениях об
информации, лежащих в основе гипотезы рациональных ожиданий
(ГРО), эмпирический анализ требует уделять больше внимания дан-
ным, полученным в результате опросов. Это, в свою очередь, требует
проведения более объемных и высококачественных опросов и разра-
ботки методик, более пригодных для использования ожиданий, по-
лученных с помощью таких опросов в эконометрических моделях.
10.2. Гипотеза адаптивных ожиданий
Гипотеза адаптивных ожиданий (ГАО) в своей простейшей фор-
ме в экономической теории была впервые использована Койком
(Коуск, 1954) в эмпирическом анализе инвестиций, Кейганом (Cagan,
1956) в исследовании спроса на деньги во время гиперинфляции,
Фридменом (Friedman, 1957) в его анализе гипотезы перманентного
дохода и Нерлавом (Nerlove, 1958) в исследовании функции предло-
жения сельскохозяйственной продукции.
Пусть — ожидания yt_t, сформированные в период t - i - 1 на
основе информационного множества Тогда ГАО первого поряд-
ка может быть записана как:
yet -у^ = &(у,_1 -У^) о < е < I, (10.1)
где 0 — коэффициент адаптации, определяющий величину пересмо-
тра ожиданий. Согласно ГАО, изменение ожиданий предполагается
2 По данному предмету уже появилось большое количество книг и об-
зорных статей, которые можно порекомендовать заинтересованному читате-
лю. Сюда входят работы: Shiller, 1978; Begg, 1982а; Frydman, Phelps, 1983;
Sheffrin, 1983; Shaw, 1984; Pesaran, 1987. Выпущенное Лукасом и Сарджен-
том издание (Lucas, Sargent, 1981) также весьма примечательно, поскольку
предоставляет читателю превосходное собрание некоторых важнейших ра-
бот, изданных в течение 1970-х гг.
14 Заказ № 356
194
М. Хашем Песаран
пропорциональным величине последней ошибки ожиданий. Таким
образом, простая форма ГАО иногда носит название модели коррек-
ции ошибки первого порядка.
Решение уравнения (10.1) дает экстраполяционный механизм
формирования ожиданий
у' = йотс я й1;н (10-2)
i=i
с геометрически уменьшающимися весами 1НЖ !)f
41.
СО; = 0(1 - 0)i-1 i = 1, 2, .... (10.3)
ГАО первоначально была предложена как правдоподобная кор-
ректирующая формула без каких-либо свойств оптимальности. Но как
показал Мут (Muth, 1960), формула адаптивных ожиданий (10.1)
производит статистически оптимальные предсказания, когда генери-
рующий процесс, лежащий в основе {yt}, является интегрированным
процессом первого порядка со скользящей средней. Чтобы увидеть
это, предположим, что
by, = et — (1 — 0)е(1 , (10.4)
где е( — одинаково и независимо распределенные случайные перемен-
ные с нулевой средней и постоянной дисперсией. Оптимальное пред-
сказание yt, сформированное в период t - 1, задано формулой:
E(j/t I ^t-i) = Vt-i ~ U _ ®)et-i
или, используя (10.4),
E(yt | = у,.! - (1 - 0)[1 - (1 - О)!]’1 Ду,.,, (10.5)
где L — однопериодный лаговый оператор (т. е. Lyt = yt_t). Умно-
жив 1 - (1 - 0)L на обе части (10.5), получаем формулу:
E(yt I Q.J _ Е(у(_1 | Q(_2) = _ Е(у<-1 I ^t-г)].
которая имеет ту же самую форму, что и (10.1), и устанавливает
статистическую оптимальность для ГАО при условии (10.4).
Однако в общем случае ГАО не дает оптимальных предсказаний.
Оптимальность процесса формирования ожиданий зависит от процес-
са генерирования {yt}. Здесь могут быть выделены два общих подхо-
да: подход с точки зрения временных рядов, в котором ожидания
формируются оптимально на основе модели одномерных временных
рядов, и ГРО, в которой ожидания формируются на основе «структур-
ной» модели экономики.
Ожидания в экономической теории
195
10.3. Временные ряды и экстраполяционные подходы
к моделированию ожиданий
Подход с точки зрения временных рядов представляет собой ес-
тественное развитие ГАО и предполагает, что ожидания формируются
на основе обобщенной одномерной авторегрессионной интегрирован-
ной модели со скользящей средней (ARIMA). Предположим, что
процесс генерирования может быть аппроксимирован обратимой мо-
делью ARIMA (р, d, q):
ф(Ь)(1 - L)dyt = 0(L)e„ (10.6)
где ф(Ь) и 0(L) — полиномиальные лаговые операторы порядков р и q
соответственно, и все корни уравнения ф(з) = 0 и 0(z) = 0 находятся
за пределами единичного круга. Ожидания yt заданы уравнением:
У' = E(yt | П,.,) = f^y^ = W(L)yt_x, (10.7)
i=0
где W(L) = £“отЛ* и веса определены в терминах параметриче-
ских оценок модели ARIMA (10.6).3
Подход с точки зрения временных рядов тесно связан с экстрапо-
ляционным методом формирования ожиданий. Согласно первому
подходу, W(L) оценивается непосредственно первой «подгонкой» мо-
дели ARIMA (10.6) к исходным данным, в то время как, согласно
второму, выбор функции W(L) производится на априорной основе.
Модель формирования экстраполяционных ожиданий включает в себя
модель «возврата к нормальному уровню» («return to normality»):
V't = У,-1 ~ ЦУ,-1 ~ y,~i) X > °-
где у* представляет собой «нормальный» или «средний» уровень уг
Могут быть использованы различные спецификации у,. Например,
предположив, что
У* = (1 - ®)</t +
получим ГАО при 0 = 1 - Хсо, а если предположить, что у* =(l-a>)yt+(oyt_v
получим регрессивную модель ожиданий4
yet = У,-1 - ^(yt-i - yt_2)-
3 Подход с точки зрения временных рядов к моделированию ожиданий
обсуждался в экономической литературе, например в работах Trivedi, 1973;
Feige, Pearce, 1976; Nerlove et al., 1979.
4 Эта модель была сначала предложена Гудвином (Goodwin, 1947). См.
также Turnovsky, 1970.
196
М. Хашем Песаран
Более общие модели формирования экстраполяционных ожиданий
обсуждались в работах Майзелмана (Meiselman, 1962), Минсера (Mincer,
1969), и Френкеля (Frenkel, 1975). Майзелман предложил модель обу-
чения на ошибках
,Уе1+, - t-iy‘+e = Ys(yt - t-iV,)’ (10.8)
где tyet+s — ожидание yt+3, сформированное в период t. Согласно моде-
ли обучения на ошибках, пересмотр ожиданий yt+s за период от t - 1
до t пропорционален текущей ошибке ожиданий. Различные модели
формирования ожиданий могут быть получены при помощи различ-
ных предпосылок, касающихся коэффициентов пересмотра ys. Минсер
(Miner, 1969) показал, что в общем случае имеется однозначное соот-
ветствие между моделью обучения на ошибках (10.8) и спецификаци-
ей общей экстраполяционной модели (10.7). Коэффициенты пере-
смотра связаны с весами <о( через рекурсивные отношения
7з = s = 1, 2, (10.9)
;=0
где у0 s 1. Например, простая гипотеза адаптивных ожиданий, кото-
рая является экстраполяционной моделью с экспоненциально умень-
шающимися весами, соответствует случаю, когда коэффициенты пере-
смотра одинаковы для всех горизонтов предсказания. Минсер (Mincer,
1969) также рассмотрел возможности уменьшения или увеличения
коэффициентов пересмотра. Он продемонстрировал, что коэффициенты
пересмотра будут снижаться (расти), когда веса <о( уменьшаются (уве-
личиваются) более чем экспоненциально. Модель коррекции ошибок
и общая экстраполяционная модель ожиданий алгебраически эквива-
лентны, однако первая из них особенно удобна, когда наблюдателю
доступны ожидания, сформированные в различные прошлые моменты
времени применительно к одному и тому же моменту времени в буду-
щем.5 6
Несмотря на большую степень обобщенности экстраполяционной
модели и модели обучения на ошибках, и та и другая имеют два
существенных недостатка. Во-первых, сосредоточиваясь на истории уп
мы игнорируем возможное воздействие на ожидания переменных,
отличных от прошлых значений угв Во-вторых, еще более важно
следующее: в этих моделях предполагается, что веса <о( фиксированы
5 Примеры этих типов данных приводится в работе Meiselman, 1962, где
рассмотрена временная структура процентных ставок, а также в работах Froot,
Ito, 1989; Pesaran, 1989, где изучены ожидания валютного курса.
6 Та же самая критика также приложима к подходу с точки зрения
временных рядов, где веса оптимально выведены из оценок одномерной
ARIMA-модели процесса yt.
Ожидания в экономической теории
197
и, в частности, инвариантны по отношению к изменениям во внеш-
ней среде, окружающей агента, таким как изменения в государствен-
ной политике или в технологиях. Следовательно, важно рассмотреть
другие модели формирования ожиданий, которые не имеют подобных
недостатков.
10.4. Гипотеза рациональных ожиданий
Хотя всеми признается, что удовлетворительная модель форми-
рования ожиданий должна включать в себя влияние информации о
переменных, отличных от прошлых значений самой этой перемен-
ной, меньше согласия существует относительно природы этой допол-
нительной информации, подлежащей включению в модель формиро-
вания ожиданий, и способа использования этой информации агентом.
Гипотеза рациональных ожиданий, выдвинутая Мутом (Muth, 1961),
предлагает возможный ответ на данную проблему. Эта модель проти-
воположна ГАО, в соответствии с ней экономические агенты форми-
руют свои ожидания оптимальным образом на основе «истинной»
структурной модели экономики, а субъективные ожидания, которых
придерживаются индивиды, соответствуют объективным (объективно
обусловленным) ожиданиям, полученным на основе этой истинной
модели. Именно равенство субъективных и объективных ожиданий
составляет суть гипотезы рациональных ожиданий. Более конкретно
допустим, что Q( — информационное множество, известное агенту в
момент t, и пусть f(yt | Q(_j) — распределение вероятностей случай-
ных величин у,, включенных в экономическую модель. В самой об-
щей форме гипотеза рациональных ожиданий постулирует, что рас-
пределение субъективных вероятностей yt для индивида совпадает с
распределением объективных вероятностей f(yt | В большин-
стве приложений ГРО, особенно в макроэкономической литературе,
внимание часто фокусируется на первом, иногда на втором моменте
распределения вероятностей, а ожидания по поводу других показате-
лей, таких как медиана, мода или моменты более высоких порядков,
неизменно игнорируются.7
ГРО, вероятно, лучше всего объяснить в контексте простой эко-
номической модели. Рассмотрим модель спроса и предложения:8
4t = РЛ' + а1хп + еп Pi > (10.10)
7 Это оправдано, когда у, имеет многомерное нормальное распределение,
но не в общем случае.
8 Это слегка обобщенная версия модели, обсужденной Мутом (Muth, 1961).
Он предположил, что нет никаких шоков спроса, и установил 04 = = 0.
198
М. Хашем Песаран
9," = Р2Р, + а2х21 + е21 Р2 < 0, (10.11)
9, = 9(’ = qf, (10.12)
где qf — общее количество сельскохозяйственной продукции, предло-
женной за период t, qf — спрос на продукцию, хи и х2( — параметры
спроса и предложения (экзогенные переменные, определяющие распо-
ложение кривых спроса и предложения), Pt и Р(е — цена продукта и
ее ожидание, сформированное производителем в период t - 1. Допус-
кается, что как функция спроса, так и функция предложения подвер-
жены влиянию случайных шоков е1( и е2(. Условие расчистки рынков
(10.12) также предполагает, что продукция не может храниться. За-
меняя qf и qf в (10.12) и решая для Р(, мы получаем
P(=yP(‘+z(, (10.13)
где у = Рл/Р2 и
z, = P^cijXie - а2х2( + е1( - е2(). (10.14)
Согласно ГРО, ожидание цены Р(е выводится при условии, что
Р(е =Е(Р( |O(_j). Взяв условные ожидания обеих частей выражения
(10.13) с учетом О(_р мы получим:
Pf = Е(Р, | 0,-0 = (1 - у)’1 Е(г( | Q,^). (10.15)
Это превращает первоначальную проблему формирования ожиданий
цен в проблему формирования ожиданий экзогенных или «принуж-
дающих» («forcing») переменных системы. Это общая особенность
ГРО и она не ограничена представленным примером. Решение моде-
ли, основанной на гипотезе рациональных ожиданий, требует полной
спецификации процесса, генерирующего принуждающие переменные.
Здесь мы предположим, что шоки предложения и спроса е1( и е2(
серийно не коррелированы и имеют нулевые средние значения и что
экзогенные переменные х1( и х2( следуют авторегрессионным (AR(1))
процессам:
хи = Pixi,e-i + (10.16)
Х21 = Р2х1,(-1 + v2f (10.17)
Теперь, представив эти результаты в (10.14) и взяв условные ожида-
ния каждой части уравнения, получим формулу:
Е(г, I = Pi1 («iPixi,t-i - a2p2x2,t-i)>
которая, если подставить ее назад в (10.15), даст следующее выраже-
ние для ценовых ожиданий:
= (Рг - Pi) (aiPixi,i-i - a2P2x2,i-i)• (10.18)
Оя^^ония в экономической теории
199
Сравнение этого выражения с экстраполяционной формулой, об-
сужденной в предыдущем разделе, раскрывает основное различие,
существующее между ГРО и гипотезой экстраполяционных ожида-
ний. В отличие от ожиданий, сформированных на основе экстраполя-
ционной гипотезы, рациональные ожидания зависят от прошлой
истории переменных помимо самих цен, и, что более важно, веса,
приписанные прошлым наблюдениям (а именно <х1р1/(32 - pj и
-а2р2/(Р2 - 01))> не инвариантны по отношению к изменениям про-
цессов, генерирующих экзогенные переменные.9 Согласно ГРО, сдвиг
в параметрах процессов х1( и х2(, вызванный, например, изменениями
в государственной экономической политике, институциональных со-
глашениях или техническом ноу-хау, полностью и правильно воспри-
нимается производителями, которые в этом случае корректируют свои
ценовые ожидания в соответствии с (10.18).
Используя (10.18) и (10.13), мы имеем следующие решения от-
носительно цен и объема выпуска:
4 СП- -VG Р = + Р101 х | _ / <10.W
7 Х2( + - Е21). Н2 \ 02 Р1 /
К'
Я Ъ = aifxle + • Р1^—Xj ( jl - ^10C2Pz х2 (_j + е1(. (10.20) Ч 1( р2 -р1 р2 -pj 2л 1 и
Согласно предпосылке, что экзогенные переменные и случайные шоки
распределены независимо, ГРО налагает на уравнения определенное
количество параметрических ограничений, связывающих параметры
приведенных выше уравнений цены и выпуска с параметрами экзо-
генных процессов (10.16) и (10.17). Оценка систем уравнений (10.16),
(10.17), (10.19) и (10.20) дает девять оценок параметров только с
семью неизвестными (ар рр а2, Р2, рр р2); таким образом, мы получа-
ем два параметрических ограничения системы уравнений. Природа и
количество таких ограничений в значительной степени зависят от
процессов, порождающих экзогенные переменные. Например, увели-
чение порядка авторегрессионных (AR) процессов в уравнениях (10.16)
и (10.17) от одного до двух повышает количество общих для уравне-
ний системы параметрических ограничений от двух до семи.
9 Как это получается в данном простом примере, где рациональные
ожидания в (10.18) не зависят от прошлых цен. Но это ситуация не обяза-
тельна для более сложных моделей, в которых процесс принятия решения
связан с издержками корректировки или испытывает влияние эффекта при-
вычки.
200
М. Хашем Песаран
Эти виды параметрических ограничений, которые соотносят ре-
дуцированные формы параметров уравнений рациональных ожида-
ний с параметрами процессов, генерирующих принуждающие пере-
менные, играют важную роль при проверке ГРО. Важно, однако, по-
мнить, что проверки общих параметрических ограничений являются
совместными проверками ГРО и экономической модели, лежащей в
ее основе, и в лучшем случае обеспечивают нас косвенной проверкой
ГРО. Эмпирическое опровержение общих для уравнений системы
ограничений может быть всегда проинтерпретировано как показа-
тель плохой спецификации модели, а не как отрицание гипотезы
рациональных ожиданий.
Зависимость рациональных ожиданий от параметров экзоген-
ных переменных (переменных политики) также составляет основу
критики Лукасом макроэконометрических оценок экономической
политики. (Lucas, 1976). В моделях с рациональными ожиданиями
параметры правил решения обычно представляют собой смесь пара-
метров целевых функций агентов и стохастических процессов, гене-
рирующих принуждающие переменные. Вследствие этого нет ника-
ких причин полагать, что параметры экономических отношений
останутся неизменными под воздействием государственного вмеша-
тельства. В контексте вышеприведенного примера природу Лукасов-
ской критики можно пояснить с помощью коэффициентов при пе-
ременных Xj и х2 (-1, которые вводят правило принятия произво-
дителем решения относительно выпуска, данное уравнением (10.20).
Эти коэффициенты являются смесью параметров структурной моде-
ли (ар а2, рр Р2) с параметрами экзогенных переменных pv р2 (воз-
можно, связанных с политикой государства) и, следовательно, их
нельзя предполагать инвариантными по отношению к изменениям
Pi и р2.
10.5. Оптимальные свойства гипотезы
рациональных ожиданий
Когда ожидания формируются рационально на основе «истин-
ной» модели, они обладают определенными оптимальными свой-
ствами, самым важным из которых является свойство ортогональ-
ности
Е(^, | Q,^) = 0, (10.21)
где = yt - у, является ошибкой ожиданий. Иными словами, здесь
утверждается, что, согласно ГРО, ошибки ожиданий ортогональны
к переменным в информационном множестве агента (т. е. не кор-
Ожидания в экономической теории
201
релируют с ними). Свойство ортогональности доказывается просто,
оно почти автоматически следует из определения самой ГРО. Соглас-
но ГРО,
= У( - E(i/t I
И
E(Sf | Qe.O = E(y, | - E[E(y( | | Q(_J =
= E(yf | Q.J - E(yf | O(_j) = 0.
Свойство ортогональности является самым важным при непосред-
ственных проверках ГРО с использованием данных об ожиданиях,
полученных с помощью опросов (это обсуждается более подробно в
разделе 10.9) и при проверках эффективности рынков. Одной важ-
ной особенностью свойства ортогональности является то, что оно
сохраняется в любом подмножестве Q(_r Например, согласно ГРО,
ошибки ожиданий не будут коррелировали с прошлыми значениями yt
(т. е. Е(^( | г/(_р у(_2, ...) = 0). Это свойство обычно называют свойством
«эффективности». Свойство оротогональности также предполагает
свойство «несмещенности» и свойство «отсутствия серийной корре-
ляции»:
Е(М = 0,
Е(^Д(_;) = 0 для i * 0.
В качестве примера рассмотрим модель спроса и предложения из
предыдущего раздела. Использовав (10.18) и (10.19), мы получаем
следующее выражение для ошибки ценовых ожиданий:
= Р( - Pte = ^(aivu - a2v2t + - е2().
Это выражение представляет собой линейную функцию последова-
тельно некоррелированных случайных переменных с нулевыми сред-
ними и, очевидно, удовлетворяет свойствам несмещенности, эффек-
тивности и ортогональности, обсужденным выше.
Однако эти свойства не должны соблюдаться, если ожидания
сформированы на основе неверно специфицированной модели или
модели с правильно специфицированной структурой, но неверными
значениями параметров. Снова обратимся к примеру функций спроса
и предложения из предыдущего раздела, но предположим, что пра-
вильная спецификация {х1(} задана процессом AR(2):
ХН = P1X1,(-1 + P*2*l,t-2 = иГ(₽» (10.22)
202
М. Хашем Песаран
а не процессом AR(1), данным в (10.16). Согласно этой формуле
неправильной спецификации, ошибка ценовых ожиданий10 будет вы-
ражаться следующей формулой:
= Р21а1РгL + Х1,(-2 + - a2v2t + Eu - е2().
k.1 - Р2 )
которая показывает, что в случае неверной спецификации будет
по-прежнему иметь нулевую среднюю, но больше не будет серийно
некоррелированной и не будет удовлетворять условию ортогонально-
сти. Мы имеем формулу:
E(Un(-i) = R Л J2n*\[~Pixi, >-1 + f1 - P2*)xi. «-г]-
P2V1 P2J
что не равно нулю, если, конечно, не равно нулю pj- В последнем
случае спефицикация является правильной и процесс хи верно вос-
принимается агентом.
10.6. Гипотеза рациональных ожиданий
и неоклассический оптимизационный подход
В варианте ГРО, предложенном Мутом, и в нашем обсуждении
этой темы неявно допускается разделение проблемы решения, сто-
ящей перед экономическим агентом, на оптимизацию при данных
ожиданиях и ожидания при данных правилах решения. Однако с точки
зрения теории максимизации ожидаемой полезности подобное отде-
ление проблемы оптимизации от проблемы формирования ожиданий
не нужно и будет математически обосновано, только при допущении
об эквивалентах определенности (certainty equivalence) (см., напри-
мер, Lucas, Sargent, 1981 ch. 1; Pesaran, 1987 ch. 4). Согласно
подходу с точки зрения теории ожидаемой полезности, проблема фор-
мирования ожиданий возникает только как часть процесса принятия
решения. При таком подходе ожидаемая полезность отдельного аген-
та, обычно рассматриваемого как «репрезентативное» домохозяйство
или фирма, максимизируется на информационном множестве, до-
ступном агенту во время принятия решения, и подчинено ограниче-
ниям (например, бюджетному или технологическому), с которыми стал-
кивается агент. Решение этой проблемы было получено благодаря
применению методов динамического программирования и рассма-
10 Отметим, что согласно (10.22), псевдоистинное значение pL в (10.16)
задается р^/(1 - pj). Это выражение может быть получено, если мы возьмем
ограничение вероятности оценки р1( полученной с помощью обычного метода
наименьших квадратов в (10.16) согласно (10.22).
Ожидания в экономической теории
203
тривалось в экономической литературе, например Сарджентом (Sar-
gent, 1987 ch. 1) и Стоуки и др. (Stokey et al., 1989).11 Здесь мы
постараемся дать представление о том, каким образом этот подход
может быть применен к случаю, когда некий монополист, производя-
щий изделия, непригодные к хранению, несущий издержки адапта-
ции и сталкивающийся с неопределенностью спроса, принимает реше-
ние относительно объема выпуска.
Предположим, что монополист нейтрален к риску, а функция
спроса является линейной:
pt = 0О - 019( + е(, 0О, 0! > 0, (10.23)
где qt — объем выпуска, pt — цена расчистки рынка, а Е( — серийно
некоррелированные шоки спроса с нулевой средней. Функция прибы-
ли монополиста в период t задана уравнением:
л, = ptqt - wtlt - - l^)2, (10.24)
где wt — ставка заработной платы, a lt — занятость в человеко-часах.
Возведение lt в квадрат в функции прибыли предназначено для того,
чтобы учесть издержки корректировки, являющиеся результатом
издержек найма и увольнения рабочих. Первоначально мы предпола-
гаем, что производственная функция задана в виде «хорошо себя
ведущей» функции
7, = f > 0, Г < 0. /(0) = о. (10.25)
Проблема межвременной оптимизации, стоящая перед фирмой, мо-
жет быть записана как
maxEl X Ртл1+Х Q( I
при ограничениях (10.23) и (10.25) и при данном процессе {ш(}. Пред-
полагается, что информационное множество монополиста Qt включа-
ет lt, и wt, а также прошлые значения lt, pt, qt и wt. Параметр Р —
дисконтирующий множитель, предположительно расположенный в
интервале 0 < Р < 1. Условие первого порядка для данной оптимиза-
ционной задачи, известное как уравнение Эйлера, задано как:12
1^1 + т dlt+.
= 0 T = 0, 1, 2,
(10.26)
11 См. обе книги Уитла по проблеме оптимизации (Whittle, 1982, 1983).
12 Это предполагает, что решение уравнения Эйлера является внешним,
а именно таким, результат которого даст строго положительные значения
для I,.
204
М. Хашем Песаран
Сосредоточившись на переменной текущего решения lt и используя
отношения (10.23)-(10.25), мы имеем:
= [0О - 20^(0 + Е,]Г(О - ф(/, - - wt,
dL
Отсюда:13 Зк । -4 ’ д1 ~ :>?4- ' ЯЦ IvM' '(ГГ-
ф(1 + p)Jf - [0О - 2Q1f(ll)]f’(lt') = + РфЕ(/(+1 | Q() - wt. (10.27)
В общем случае — это нелинейное уравнение рациональных ожида-
ний, которое не может быть решено аналитически. Однако когда /(Q
принимает линейную форму f(lt) = alt, мы имеем
lt = а + Ц-j + cE(Z1+1 | Q() - dwt, (10.28)
где
d-1 = ф(1 + р) + 2Qra2 >0, а = da0o > 0,
b = dfy > 0, с = с2рф > 0.
Это уравнение часто встречается в литературе по рациональным ожи-
даниям, посвященной издержкам корректировки и моделям диффе-
ренцированного контракта о заработной плате. Оно изучалось, напри-
мер, Кеннаном (Kennan, 1979), Хансеном и Сарджентом (Hansen,
Sargent, 1980) и Песараном (Pesaran, 1987 Section 5.3.4).
Решение (10.28) зависит от корней вспомогательного уравнения
1 = 6ц + ср-1
и будет единственным, если один из корней, например цр попадет
внутрь единичного круга, в то время как другой (например, ц2) вый-
дет за рамки такого круга. Нетрудно показать, что в данном примере
это условие удовлетворено для всех априорно правдоподобных значе-
ний структурных параметров (т. е. для 0О, 0Р а, ф > 0 и 0 < р < 1) и
единственное решение для lt будет следующим:
lt = -Г-Нт + ~ I «,), (Ю-29)
с(ц2 - 1) сц2 £о
13 Отметим, что поскольку lt находится в £1(, и е( серийно не коррелиро-
ванна, то
Е[е,Г(О I П(] = /'(ОЕ(е, I П,) = 0.
Напомним, что pt не наблюдается во время принятия решения о выпу-
ске и, следовательно, Е(е( | £1() = Е(е( | е(_р е(_2, ...) = 0.
Ожидания в экономической теории
205
которое является функцией ожидаемой монополистом ставки зара-
ботной платы. В качестве примера предположим, что ставка заработ-
ной платы следует процессу AR первого порядка с параметром р
(|р| < |ц2|). Тогда (10.29) принимает вид:14
= -(ц2 - I)’1 + - -(ц2 - р)-1и>(. (10.30)
с с
Это решение ясно показывает зависимость правила решения о занято-
сти от параметра процесса заработной платы. Следует повторить, что
это общая особенность подхода с точки зрения рациональных ожида-
ний, которая должна быть принята во внимание в эконометрическом
анализе.
Формулировка ГРО как части проблемы максимизации ожида-
емой полезности имеет важное преимущество перед версией данной
гипотезы, предложенной Мутом. Она в явном виде встраивает гипо-
тезу формирования ожиданий в неоклассическую концепцию опти-
мизации и обеспечивает более тесную связь между экономической
теорией и эконометрическим анализом. Однако чтобы этот подход
стал операциональным, часто необходимо сделать ограничительные
допущения относительно предпочтений, технологий, наделенности
факторами производства и информационных множеств (см. Pesaran,
1988). Иногда даже незначительные на первый взгляд изменения
спецификации технологий и предпочтений могут вылиться в плохо
поддающиеся анализу правила решения. Например, предположим, что
линейная производственная функция, лежащая в основе правила
решения (10.28), подвержена случайным шокам и задана таким об-
разом:
<lt = <ЦП(. П( > о»
где {т](} является последовательностью случайных переменных, рас-
пределенных независимо от lt, со средней, равной 1. Далее, предполо-
жим, что ц( наблюдается монополистом в момент t (т. е. ц( включена
в Q(). При данной технологии производства мы получаем уравнение:
= а( + + с(Е(/(+1 | Q() - dtwt,
где ц
df1 = ф(1 + Р) + 20!a2Ti?, а( = а60цД,
bt = Ф<*(, с( = Ф1Ч,
которое является линейным уравнением рациональных ожиданий
со случайными коэффициентами и, по-видимому, не должно иметь
14 Вспомним, что |ц2| > 1 и, следовательно, это решение допустимо, даже
если процесс {mJ имеет единичный корень.
206
М. Хашем Песаран
аналитически трактуемого решения. Другие примеры моделей раци-
ональных ожиданий, которые не допускают подобных решений, вклю-
чают основанные на потреблении межвременные модели образования
цен на активы, обсужденные Лукасом (Lucas, 1978), Хансеном и
Синглтоном (Hansen, Singleton, 1983) и Сарджентом (Sargent, 1987),
и модели стохастического оптимального роста, обсужденные Броком
и Мирманом (Brock, Mirman, 1972), а также Дентайном и Доналдсо-
ном (Danthine, Donaldson, 1981). Обзор моделей последнего типа можно
найти у Стоуки (Stokey et al., 1989).
10.7. Гипотеза рациональных ожиданий,
трактуемая как гипотеза ожиданий,
совместимых с теоретической моделью
По контрасту с версией ГРО, встроенной в теорию максимиза-
ции ожидаемой полезности, собственную версию Мута лучше тракто-
вать как метод формирования ожиданий, «совместимый с теоретиче-
ской моделью». Эта версия требует, чтобы «ожидания» и «предсказа-
ния», выработанные при помощи модели, были совместимыми. При
этом избранная теоретическая модель, или, по собственному опреде-
лению Мута, «адекватная экономическая теория», может быть кейн-
сианской или монетаристской, и при этом все поведенческие соотно-
шения в модели вовсе не обязаны быть решениями хорошо опреде-
ленной задачи максимизации ожидаемой полезности.
В этом подходе ГРО рассматривается как одна среди нескольких
возможных гипотез формирования ожиданий без предположения, что
основополагающая модель обязательно является правильной. Выбор
среди конкурирующих гипотез формирования ожиданий делается на
эмпирических основаниях. Как заявляет сам Мут: «Единственная
реальная проверка [ГРО], однако, заключается в выяснении того, объ-
ясняют ли теории, предполагающие рациональность, наблюдаемое яв-
ление хотя бы немного лучше, чем альтернативные теории» (Muth,
1961 : 330).
Интерпретация ГРО как совместимой с теоретической моделью
не вызывала особых возражений и широко применялась в экономе-
трической литературе разработчиками моделей кейнсианского и нео-
классического типов.15 В этих приложениях ГРО рассматривается как
рабочая гипотеза, которая должна быть проверена наряду с другими
предпосылками основополагающей модели. Это выражает «инстру-
менталистский» подход к ГРО и хорошо согласуется с принятой эко-
нометрической практикой. Эконометрические приложения ГРО в
15 Доводы в пользу использования ГРО в кейнсианских моделях были
приведены Рен-Льюисом (Wren-Lewis, 1985).
Ожидания в экономической теории
207
области идентификации, оценки и проверки гипотез были довольно
детально исследованы в соответствующей литературе и рассмотрены
в обзорной работе Песарана (Pesaran, 1987 : chs 5-7). Большинство
исследований, выполненных в этих областях, до сих пор ограничива-
лось линейными моделями рациональных ожиданий при однородной
информации, но за последние несколько лет были также сделаны
важные достижения в оценке и числовом решении нелинейных моде-
лей рациональных ожиданий (см., например, Tauchen, 1987; Hussey,
1988; Duffle, Singleton, 1989; Smith, 1989). Некоторый прогресс был
также достигнут в области линейных моделей рациональных ожида-
ний при разнородной информации, см. работу Песарана (Pesaran,
1990а, Ь). н;
и
.1Н.
10.8. Гипотеза рациональных ожиданий
и проблема обучения
Одна из фундаментальных предпосылок, лежащих в основе ГРО,
заключается в том, что агенты знают или способны построить «истин-
ную», по крайней мере вероятную, модель экономики. Хотя агенты,
без сомнения, учатся на своих прошлых ошибках, остается открытым
вопрос, сходится ли процесс обучения к равновесию рациональных
ожиданий. Вообще говоря, рассматриваемая проблема изучалась в
литературе с использованием двух моделей: рациональной (или байе-
сианской) модели обучения и модели обучения с ограниченной раци-
ональностью.
Рациональная модель обучения предполагает, что агенты пра-
вильно специфицируют экономическую модель, но не уверены отно-
сительно значения некоторых параметров. На первый взгляд ка-
жется, что это все та же проблема оценки, знакомая из экономе-
трической литературы. Однако при более тщательном рассмотрении
становится ясно, что в процессе обучения, при котором имеется
обратная связь между ожиданиями и результатами, экономическая
среда, в которой осуществляется оценка, изменяется во времени,
и обычные доказательства сходимости параметрических оценок к
их истинным значениям оказываются уже неприменимыми. Глав-
ный источник трудностей заключается в том факте, что в процессе
обучения ошибки ожиданий не удовлетворяют свойству ортогональ-
ности (10.21) и агентам приходится отделять систематическое вли-
яние ошибок ожиданий от влияния других переменных. Исследо-
вания, в которых рассматривается проблема рационального обуче-
ния, включают работы Сайерта и деГрота (Cyert, DeGroot, 1974),
Тейлора (Taylor, 1975), Фридмена (Friedman, 1979), Таунсенда (Town-
send, 1978, 1983), Брея и Крепса (Bray, Kreps, 1987), а также Фелд-
мена (Feldman, 1987а, Ь). Фридмен и Тейлор рассмотрели модели
208
М. Хашем Песаран
без обратных связей между ожиданиями и результатами, и поэтому
им удалось показать сходимость процесса обучения к решению ра-
циональных ожиданий, используя стандартные результаты, каса-
ющиеся обоснованности оценок, полученных с помощью методов
наименьших квадратов. Другие исследования имеют дело с более
реалистичным случаем, где имеются обратные связи. Сосредоточи-
ваясь на относительно простых примерах, этим авторам также
удалось показать, что процесс обучения сходится к решению рацио-
нальных ожиданий. А в более общем случае Брей и Крепе (Bray,
Kreps, 1987) показали, что при рациональном обучении субъектив-
ные мнения (почти) всегда будут сходиться, хотя не обязательно к
равновесию рациональных ожиданий. Однако эти результаты не
так многообещающи, как может показаться на первый взгляд.
Модель рационального обучения предполагает, что, за исключением
конечного числа параметров, агенты уже знают «истинную» модель
экономики и это знание является «общим». Такая предпосылка
требует почти такого же количества информации, как и сама ГРО
(см. Bray, Kreps, 1987).
Меньшее количество информации требуется в рамках «модели
с ограниченной рациональностью», которой занимались де Канио
(DeCanio, 1979), Блюм и Изли (Blume, Easley 1982), Фридмен (Fryd-
man, 1982), Брей (Bray, 1983), Бауден (Bowden, 1984), Брей и Сей-
вин (Bray, Savin, 1986), Фуржо и др. (Fourgeaud et al., 1986), а так-
же Марсет и Сарджент (Marcet, Sargent, 1989а, b). В рамках этой
модели предпосылка о том, что, за исключением некоторых ключе-
вых параметров, агенты знают «истинную» структурную модель
экономики, отброшена. Вместо этого считается, что агенты исполь-
зуют и остаются приверженными некоторому «правдоподобному»
правилу обучения. Однако при этом не объясняется, в чем именно
заключается «правдоподобное» правило обучения, на практике же
предполагается, что агенты знают некую упрощенную модель эконо-
мики, что уже предполагает у них значительную степень априорно-
го и общего для всех знания. Другой важный момент, за который
модели с ограниченной рациональностью подвергаются критике,
заключен в том, что она не допускает возможности пересмотра
правила обучения. Подобный подход может быть оправдан, если
выбранное правило обучения гарантирует сходимость к уравнению
рациональных ожиданий. Однако он неудовлетворителен там, где в
общем случае не исключено существование несходящихся правил
обучения.
Не имеется никаких общих результатов относительно сходимо-
сти моделей обучения с ограниченной рациональностью. Большин-
ство доступных результатов относится к проблеме обучения в контек-
сте простых моделей с единственным равновесием рациональных ожи-
даний и основано на обучении с помощью методов наименьших
Ожидания в экономической теории
209
квадратов.18 Брей и Сейвин (Bray, Savin, 1986) и Фуржо и др. (Four-
geaud et al., 1986) рассматривают модель спроса и предложения, пред-
ставленную в разделе 10.4. Уравнение этой модели задано в следу-
ющем виде:
Pl = YP, + «Ч + Е(>
где у = Pi/P2 и
Е = EU - E2t а'х = <Х11 - a2*2t
‘ Р2 ₽г ’
Согласно ГРО с полным обучением, ожидания заданы
р‘ +Е(Р, IQ.-Jzz-J— a'xf,
1 “ Y
но при неполном обучении Р‘ основано на вспомогательной модели
pt = O'z, + и,, (10.31)
где 2, составлено из переменных, входящих в информационное мно-
жество агента. В начале периода t доступные наблюдения pv р2,
2Р 22, ..., 2,_, используются, чтобы получить оценку 0 (например, 0,)* 17,
и ценовые ожидания заданы как
РГ =
а уравнение для изменений цен во времени имеет вид:
Pi = + a'xt + er
Ввиду зависимости 0, от прошлых цен, это уравнение представляет
собой в значительной степени нелинейное разностное уравнение от-
носительно pt, которое в общем случае будет иметь нестационарное
решение, даже если (х,, 2,, е() получены из стационарного распределе-
ния. Процесс обучения усложнен, поскольку агент должен отделить
влияние изменения цены, которое произошло вследствие изменения
экзогенных переменных, от влияния неполного обучения. В контек-
сте этой модели Брей и Сейвин (Bray, Savin, 1986) показали, что
процесс обучения сходится, когда у < 1, но для доказательства своего
результата они принимают довольно ограничительное допущение, что
18 См., однако, работу Гранмона и Ларока (Grandmont, baroque, 1990),
где они рассматривают детерминистичную модель рациональных ожиданий
с множеством состояний равновесия и показывают, что, если агенты обуча-
ются по методу наименьших квадратов, процесс обучения расходится.
17 В случае обучения с помощью наименьших квадратов 0, задается как
ё, =
15 Заказ № 356
210
М. Хашем Песаран
(х(, е() одинаково и независимо распределены. Эти авторы также пред-
полагают, что z( = х(. Фуржо и др. (Fourgeaud et al., 1986) вывели
условие сходимости для процесса обучения при менее ограничитель-
ных допущениях, а также рассмотрели случай, когда z( может отли-
чаться от х(. Они получили важный результат, заключающийся в
том, что, когда вспомогательная модель (10.31) содержит переменные,
отличные от х(, эти «внешние» переменные также входят в ценовое
уравнение через ожидания и влияют на цены даже в уравнении рацио-
нальных ожиданий, что является хорошим примером «самосбываю-
щихся» ожиданий.
Процесс обучения еще более усложнен присутствием информа-
ционных издержек. Когда за информацию нужно платить, ожидаемая
выгода ее приобретения должна сравниваться с ожидаемыми издерж-
ками такого приобретения. В этом случае не очевидно, что полное
обучение является экономически желательным, даже если бы оно было
возможно в мире без информационных издержек. Хорошим приме-
ром обучения при платной информации является проблема, перед
которой стоит монополист, когда он хочет узнать параметры кривой
спроса на рынке своего продукта. Следует ли монополисту пытаться
усовершенствовать свои оценки кривой спроса, изменяя объем вы-
пуска на протяжении нескольких периодов, хотя при этом он может
понести убыток в коротком периоде? Исследования в этой и смежных
областях ведутся и в настоящее время. Имеющаяся литература ука-
зывает, что приверженность принципу «рациональности» сама по себе
не может быть достаточной, чтобы породить ожидания, являющиеся
рациональными по Муту.18
10.9. Опросы и прямые проверки
гипотезы рациональных ожиданий
Проверки предполагаемых ГРО параметрических ограничений
системы уравнений основаны на важном допущении о том, что ожи-
дания по своей природе ненаблюдаемы. Это подразумевает, что про-
цессы формирования ожиданий могут быть проанализированы толь-
ко косвенно посредством экономической модели, которая их вопло-
щает.19 Эта точка зрения в действительности предохраняет ГРО от
18 Проблема монополиста рассмотрена Мак-Леннаном (1984), а совсем
недавно Изли и Кифером (Easley, Kiefer, 1988). Общая проблема компро-
миссного выбора между текущим вознаграждением и приобретением ин-
формации была обсуждена в литературе по «проблеме бандита». См. обзор в
работе (Berry, Fristedt, 1985).
19 Это представление особенно распространено среди сторонников ГРО
(см., например, Prescott, 1977).
Ожидания в экономической теории
211
возможного эмпирического опровержения. Хотя проверки параме-
трических ограничений системы уравнений полезны как проверки
совместимости процесса формирования ожиданий с основополагающей
поведенческой моделью, они могут оказать лишь незначительную
помощь в проверке теорий формирования ожиданий. Подобные кос-
венные проверки всегда можно поставить под сомнение на том осно-
вании, что модель, в которой воплощается ГРО, неверно специфици-
рована.
Представление о том, что ожидания сами по себе непосредствен-
но нельзя измерить, является крайним и не разделяется многими
исследователями в этой области. Уже давно такие экономисты, как
Клейн (Klein, 1954), Модильяни и Сауэрлендер (Modigliani, Sauerlender,
1955), Хаавелмо (Haavelmo, 1958 356-357) и Катона (Katona, 1958)
полностью признали важность непосредственного измерения ожида-
ний для анализа их влияния на экономическое поведение и для изу-
чения процесса формирования ожиданий. Непосредственные измере-
ния ожиданий широкого диапазона экономических переменных, та-
ких как инфляция, процентные ставки, валютные курсы, объем
продаж, уровень товарно-материальных запасов, степень использова-
ния производственных мощностей и курсы акций, в настоящее время
доступны в большинстве промышленно развитых стран. Эти измере-
ния основаны на данных опросов населения и специалистов и часто
представлены в форме качественных ответов, например ответ на во-
прос: «Ожидается ли повышение некой переменной, останется ли она
на том же уровне или понизится?» Ясно, что вопросы, которые требу-
ют точных количественных ответов, или останутся без ответа, или же
ответы будут иметь широкий разброс ошибок. Однако существует
опасность, что ожидания, выявленные с помощью опросов, будут иметь
несколько важных недостатков. Результаты выборочных обследова-
ний могут быть чувствительны к ошибкам выборки и форме вопро-
сов. Респонденты могут неверно отразить свои ожидания. Наконец,
качественный характер результатов большинства опросов осложняет
задачу их включения в эмпирические модели.20 Несмотря на эти труд-
ности, произошел всплеск интереса к непосредственным измерениям
ожиданий. Краткое обсуждение некоторых эмпирических обследова-
ний ожиданий можно найти в работах Песарана и Холдена (Pesaran,
1984, 1987 ch. 8; Holden et al., 1985 7-10). Детальные обзоры
литературы по измерениям инфляционных ожиданий даны в трудах
(Chan-Lee, 1980; Visco, 1984, 1986; Lovell, 1986). Рен-Льюис (Wren-
Lewis, 1986) обсуждает использование ожиданий объема выпуска при
определеннии занятости в обрабатывающей промышленности Вели-
20 Методы преобразования качественных ответов в количественные по-
казатели предложены в работах Theil, 1952; КпоЫ, 1974; Carlson, Parkin,
1975; Pesaran, 1984.
212
М. Хашем Песаран
кобритании, Фрут и Ито (Froot, Ito, 1989) исследуют отношение меж-
ду краткосрочными и долгосрочными ожиданиями валютного курса,
а Докко и Эделстайн (Dokko, Edelstein, 1989) вновь исследуют ста-
тистические свойства ливингстоновских прогнозов курсов акций.
Ожидания, полученные с помощью опросов, используются в эко-
номической литературе в самых разных контекстах: от микроэконо-
метрических приложений, обсужденных Нерлавом (Nerlove, 1983),
Кавасаки и др. (Kawasaki et al., 1982, 1983) и Макинтошем и др.
(McIntosh et al., 1989), до более привычных макроэкономических при-
ложений, упомянутых выше. В первом случае качественные ответы
по поводу ожидаемых и фактических значений переменных анализи-
руются непосредственно, в то время как в последнем случае каче-
ственные ответы сначала преобразуются в количественные оценки, а
затем полученные результаты используются в эконометрических мо-
делях. В обоих типах приложений особое внимание должно быть
уделено проблеме ошибок измерения ожиданий. Эта проблема может
быть особенно серьезна в последнем случае, когда результаты обсле-
дований используются после преобразования порядковых ответов в
количественные показатели. Проблема ошибок измерения инфляци-
онных ожиданий и ее эконометрические приложения для проверки
ГРО и моделирования инфляционных ожиданий обсуждены в рабо-
тах Песарана (Pesaran, 1985, 1987).
Когда ожидания, «взятые» из опросов, доступны, ГРО может быть
проверена непосредственно благодаря использованию наблюдаемых
ошибок ожиданий. В экономических публикациях было предложено
несколько процедур, которые можно разделить на четыре большие
группы: проверки несмещенности, отсутствия серийной корреляции,
эффективности и ортогональности. Все эти проверки используют свой-
ство ортогональности, обсужденное ранее (см. уравнение (10.21)). Од-
нако важно обратить внимание на то, что первые две проверки не
имеют силы, когда ожидания измерены с систематическими или слу-
чайными ошибками. Проверка эффективности — также особый слу-
чай проверки ортогональности, в нем играет роль только «эффектив-
ное» использование информации, содержащейся в прошлых значениях
рассматриваемой переменной. По этим причинам недавние проверки
ГРО сосредоточились на проверке ортогональности.
Эмпирическая литература по прямым проверкам ГРО обширна,
и ее объем увеличивается. Результаты некоторых из этих исследова-
ний рассмотрены Холденом и др. (Holden et al., 1985) и Ловеллом
(Lovell, 1986). В целом, проведенные исследования не подтверждают
ГРО. Имеется очевидная потребность в разработке других моделей
формирования ожиданий, которые допускают неполное обучение и
лучше согласуются с доступными опросными данными. Мы должны
также рассмотреть способы улучшения качества опросов, уделяя бо-
лее пристальное внимание проблеме компиляции и обработки опрос-
Ожидания в экономической теории
213
ных данных. В частности, мы должны разработать более совершенные
методы выявления истинных планов и намерений индивидов. Только
признав ограничения, существующие в этой области исследования,
мы можем надеяться на прогресс.
<п
10.10. Заключительные замечания
В этом обзоре мы дали общее представление о некоторых про-
блемах, связанных с анализом ожиданий в экономической теории.
Вследствие ограниченности размера статьи, многие важные темы не
были рассмотрены или были обсуждены очень кратко. Например,
проблемы решения, идентификации, оценки и проверки гипотезы в
моделях рациональных ожиданий были только упомянуты. Не было
никакого обсуждения проблемы неединственности, с которой связано
решение моделей рациональных ожиданий будущего. Эмпирическая
литература на тему гипотезы эффективных рынков и проверок гипо-
тезы рациональных ожиданий — гипотезы естественного уровня —
также не была обсуждена. Не были упомянуты такие важные гно-
сеологические основы ГРО, которые были обсуждены, например, в
работах Боулэнда (Boland, 1982), Дэвидсона (Davidson, 1982-1983) и
Баузора (Bausor, 1983).
•jc Литература
Bausor R. The rational-expectations hypothesis and the epistemics of time//
Cambridge Journal of Economics. 1983. Vol. 7. P. 1-10.
Begg D. К. H. The Rational Expectations Revolution in Macroeconomics. Oxford :
Philip Allan, 1982a.
Begg D. К. H. Rational expectations, wage rigidity, and involuntary unem-
ployment // Oxford Economic Papers. 1982b. Vol. 34. P. 21-47.
Berry D. A., Frlstedt B. Bandit Problems: Sequential Allocation of Experiments.
London: Chapman and Hall, 1985.
Blume L. E., Easley D. Learning to be rational //Journal of Economic Theory.
1982. Vol. 26. P. 340-351.
Boland L. A. The Foundations of Economic Method. London : Allen & Unwin,
1982.
Bowden R. J. Convergence to «rational expectations» when the system parameters
are initially unknown by the forecasters / Unpublished manuscript. Univer-
sity of Western Australia, 1984.
Bray M. M. Convergence to rational expectations equilibrium I In R. Frydman
and E. S. Phelps (eds). Individual Forecasting and Aggregate Outcomes.
Cambridge Cambridge University Press, 1983.
Bray M. M., Kreps D. M. Rational learning and rational expectations / In G. Feiwel
(ed.). Arrow and the Ascent of Modern Economic Theory. London : Mac-
millan, 1987.
214
М. Хашем Песаран
Bray М. М., Savin N. Е. Rational expectations equilibria, learning and model
specifications//Econometrica. 1986. Vol. 54. P. 1129-1160.
Brock W. A., Mirman L. J. Optimal economic growth and uncertainty: the dis-
counted case//Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 4. P. 479-513.
Cagan P. The monetary dynamics of hyperinflation / In M. Friedman (ed.). Studies
in the Quantity Theory of Money. Chicago, IL : University of Chicago
Press, 1956.
Carlson J. A., Parkin M. Inflation expectations // Econometrica. 1975. Vol. 42.
P.123-138.
Chan-Lee J. H. A review of recent work in the area of inflationary expecta-
tions // Welwirtschaftliches Archiv. 1980. Vol. 1. P. 45-85.
Coddington A. Deficient foresight: a troublesome theme in Keynesian econo-
mies // American Economic Review. 1982. Vol. 72. P. 480-487.
Cyert R. M., DeGroot M. H. Rational expectations and Bayesian analysis // Journal
of Political Economy. 1974. Vol. 82. P. 521-536.
Danthine J., Donaldson J. B. Stochastic properties of fast vs. slow growing
economies//Econometrica. 1981. Vol. 49. P. 1007-1033.
Davidson P. Rational expectations: a fallacious foundation for studying crucial
decision-making processes // Journal of Post-Keynesian Economics. 1982-
1983. Vol. 5. P. 182-198.
DeCanio S. J. Rational expectations and learning from experience // Quarterly
Journal of Economics. 1979. Vol. 93. P. 47-57.
Dokko Y., Edelstein R. H. How well do economists forecast stock market prices?
A study of the Livingston Surveys //American Economic Review. 1989.
Vol. 79. P. 865-871.
Duffle D., Singleton K. J. Simulated moments estimation of Markov models of
asset prices / Unpublished manuscript. 1989.
Easley D., Kiefer N. M. Controlling a stochastic process with unknown para-
meters//Econometrica. 1988. Vol. 56. P. 1045-1064.
Felge E. L.. Pearce D. K. Economically rational expectations: are innovations in
the rate of inflation independent of innovations in measures of monetary
and fiscal policy? // Journal of Political Economy. 1976. Vol. 84. P. 499-
522.
Feldman M. An example of convergence to rational expectations with hetero-
geneous beliefs // International Economic Review. 1987a. Vol. 28. P. 635-
650.
Feldman M. Bayesian learning and convergence to rational expectations // Journal
of Mathematical Economics. 1987b. Vol. 16. P. 297-313.
Fourgeaud C., Gourieroux C., Pradel J. Learning procedures and convergence to
rationality // Econometrica. 1986. Vol. 54. P. 845-868.
Frenkel J. A. Inflation and the formation of expectations // Journal of Monetary
Economics. 1975. Vol. 1. P. 403-421.
Friedman В. M. Optimal expectations and the extreme information assumptions
of «rational expectations» macromodels // Journal of Monetary Economics.
1979. Vol. 5. P. 23-41.
Friedman M. A Theory of the Consumption Function. Princeton, NJ : Princeton
University Press, 1957.
Ожидания в экономической теории
215
Froot К. A., Ito Т. On the consistency of short-run and long-run exchange rate
expectations //Journal of International Money and Finance. 1989. Vol. 8.
P. 487-510.
Frydman R. Towards an understanding of market processes, individual expec-
tations: learning and convergence to rational expectations equilibrium //
American Economic Review. 1982. Vol. 72. P. 652-668.
Frydman R., Phelps E. S. (eds). Individual Forecasting and Aggregate Outcomes:
«Rational Expectations» Examined. Cambridge : Cambridge University Press,
1983.
Goodwin R. M. Dynamical coupling with especial reference to markets having
production lags//Econometrica. 1947. Vol. 15. P. 181-204.
Gordon R. J. Price inertia and policy ineffectiveness in the United States, 1890-
1980//Journal of Political Economy. 1982. Vol. 90. P. 1087-1117.
Grandmont J.-M., baroque G. Economic dynamics with learning: some instability
examples / Unpublished manuscript. 1990.
Haavelmo T. The role of the econometrician in the advancement of economic
theory // Econometrica. 1958. Vol. 26. P. 351-357.
Hansen L. P., Sargent T. J. Formulating and estimating dynamic linear rational
expectations//Journal of Economic Dynamic and Control. 1980. Vol. 2.
P. 7-46.
Hansen L. P., Singleton K. J. Stochastic consumption, risk aversion and the tem-
poral behavior of asset returns//Journal of Political Economy. 1983.
Vol. 91. P. 249-265.
Hodgson G. Persuasion, expectations and the limits to Keynes / In T. Lawson
and H. Pesaran (eds). Keynes’ Economics: Methodological Issues. London :
Croom Helm, 1985.
Holden K., Peel D. A., Thompson J. L. Expectations: Theory and Evidence. London :
Macmillan, 1985.
Hussey R. Solving nonlinear rational expectations models with asymmetric
adjustment costs. Working paper, Duke University, 1988.
Katona G. Business expectations in the framework of psychological economics
(toward a theory of expectations) / In M. J. Bowman (ed.). Expectations,
Uncertainty, and Business Behaviour. New York : Social Science Research
Council, 1958.
Kawasaki S., McMillan J., Zimmermann K. F. Disequilibrium dynamics: an
empirical study //American Economic Review. 1982. Vol. 72. P. 992-1004.
Kawasaki S., McMillan J., Zimmermann K. F. Inventories and price inflexibi-
lity//Econometrica. 1983. Vol. 51. P. 599-610.
Kennan J. The estimation of partial adjustment models with rational expec-
tations//Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 1441-1455.
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London :
Macmillan, 1936.
Klein L. R. Applications of survey methods and data to the analysis of economic
fluctuations I In L. R. Klein (ed.). Contributions of Survey Methods to
Economic Fluctuations. New York : Columbia University Press, 1954.
Knight F. K. Risk, Uncertainty and Profit. London: Frank Cass, 1921.
216
М. Хашем Песаран
Knobl A. Price expectations and actual price behaviour in Germany // Inter-
national Monetary Fund Staff Papers. 1974. Vol. 21. P. 83-100.
Koyck L. M. Distributed Lags and Investment Analysis. Amsterdam : North-
Holland, 1954.
Lawson T. Keynesian model building and the rational expectations critique //
Cambridge Journal of Economics. 1981. Vol. 5. P. 311-326.
Lawson T., Pesaran M. H. (eds). Keynes’ Economics: Methodological Issues.
London : Croom Helm, 1985.
Lovell M. C. Tests of the rational expectations hypothesis // American Economic
Review. 1986. Vol. 76. P. 110-124.
Lucas R. E. Econometric policy evaluation: a critique / In K. Brunner and
A. H. Meltzer (eds). The Phillips Curve and Labor Markets. Amsterdam :
North-Holland, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1976.
Vol. 1.
Lucas R. E. Asset prices in an exchange economy // Econometrica. 1978. Vol. 46.
P. 1429-1445.
Lucas R. E., Sargent T. J. Rational Expectations and Econometrics Practice.
London : Allen & Unwin, 1981.
McIntosh J., Schiantarelli F., Low W. A qualitative response analysis of UK
firms’ employment and output decisions // Journal of Applied Econometrics.
1989. Vol. 4. P. 251-264.
McLennan A. Price dispersion and incomplete learning in the long run // Journal
of Economic Dynamics and Control. 1984. Vol. 7. P. 331-347.
Marcet A., Sargent T. J. Convergence of least squares learning mechanisms in
self referential linear stochastic models // Journal of Economic Theory.
1989a. Vol. 48. P. 337-368.
Marcet A., Sargent T. J. Convergence of least squares learning in environments
with hidden state variables and private information // Journal of Political
Economy. 1989b. Vol. 97. P. 1306-1322.
Meiselman D. The Term Structure of Interest Rates. Englewood Cliffs, NJ,
Prentice-Hall, 1962.
Mincer J. Models of adaptive forecasting / In J. Mincer (ed.). Economic Forecasts
and Expectations: Analysis of Forecasting Behaviour and Performance.
New York : Columbia University Press for the National Bureau of Economic
Research, 1969.
Modigliani F., Sauerlender O. W. Economic expectations and plans of firms in
relation to short-term forecasting, in short-term economic forecasting//
NBER Studies in Income and Wealth. N. 17. Princeton, NJ : Princeton
University Press, 1955.
Muth J. F. Optimal properties of exponentially weighted forecasts // Journal of
the American Statistical Association. 1960. Vol. 55. P. 299-306.
Muth J. F. Rational expectations and the theory of price movements // Econo-
metrica. 1961. Vol. 29. P. 315-335.
Nerlove M. Adaptive expectations and cobweb phenomena//Quarterly Journal
of Economics. 1958. Vol. 72. P. 227-240.
Nerlove M. Expectations plans and realizations in theory and practice // Eco-
nometrica. 1983. Vol. 51. P. 1251-1279.
Ожидания в экономической теории
217
Nerloue М., Grether D. М., Carvalho J. Analysis of Economic Time Series:
A Synthesis. New York : Academic Press, 1979.
Patinkin D. Keynes and economics today // American Economic Review. Papers
and Proceedings. 1984. Vol. 74. P. 97-102.
Pesaran M. H. Expectations formations and macroeconometric modelling / In
P. Malgrange and P.-А. Muet (eds). Contemporary Macroeconomic Modelling.
Oxford : Basil Blackwell, 1984.
Pesaran M. H. Formation of inflation expectations in British manufacturing
industries //Economic Journal. 1985. Vol. 95. P. 948-975.
Pesaran M. H. The Limits to Rational Expectations. Oxford : Basil Blackwell,
1987. Reprinted with corrections, 1989.
Pesaran M. H. The role of theory in applied econometrics // Economic Record,
Symposium on Econometric Methodology. 1988. P. 336-339.
Pesaran M. H. Consistency of short-term and long-term expectations // Journal
of International Money and Finance. 1989. Vol. 8. P. 511-516.
Pesaran M. H. Rational expectations in disaggregated models: an empirical
analysis of OPEC’s behaviour//Jacob Marschak Lecture delivered at
the 9th Latin American Meeting of the Econometric Society. Santiago,
Chile, UCLA Program in Applied Econometrics Discussion Paper 13, 1990a.
Pesaran M. H. Solution of linear rational expectations models under asymmetric
and heterogeneous information / Unpublished manuscript. University of
California at Los Angeles, 1990b.
Prescott E. Should control theory be used for economic stabilization? // Journal
of Monetary Economics. Supplement. 1977. P. 13-38.
Sargent T. J. Dynamic Macroeconomic Theory. Cambridge, MA : Harvard Univer-
sity Press, 1987.
Shackle G. L. S. Expectations in Economics. Cambridge: Cambridge University
Press, 1949.
Shackle G. L. S. Uncertainty in Economics. Cambridge : Cambridge University
Press, 1955.
Shaw G. K. Rational Expectations: An Elementary Exposition. Brighton :
Harvester Wheatsheaf, 1984.
Sheffrln S. M. Rational Expectations. Cambridge : Cambridge University Press,
1983.
Shtller R. J. Rational expectations and the dynamic structure of macroeconomic
models: a critical review // Journal of Monetary Economics. 1978. Vol. 4.
P. 1-44.
Simon H. A. The role of expectations in an adaptive or behavioristic model / In
M. J. Bowman (ed.). Expectations, Uncertainty, and Business Behavior.
New York : Social Science Research Council, 1958.
Smith A. Solving nonlinear rational expectations models: a new approach /
Unpublished manuscript. Duke University, 1989.
Stokey N. L., Lucas R. E„ Prescott E. C. Recursive Methods in Economic Dynamics.
Cambridge, MA : Harvard University Press, 1989.
Tauchen G. Quadrature-based methods for obtaining approximate solutions to
nonlinear asset pricing models / Unpublished manuscript. 1987.
218
М. Хашем Песаран
Taylor J. В. Monetary policy during a transition to rational expectations //
Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. P. 1009-1021.
Theil H. On the time shape of economic microvariables and the Munich business
test // Revue de 1’Institut International de Statistique. 1952. Vol. 20. P. 105-
120.
Townsend R. M. Market anticipations, rational expectations and Bayesian
analysis//International Economic Review. 1978. Vol. 19. P. 481-494.
Townsend R. M. Forecasting the forecasts of others//Journal of Political
Economy. 1983. Vol. 91. P. 546-588.
Trivedi P. K. Retail inventory investment behaviour // Journal of Econometrics.
1973. Vol. 1. P. 61-80.
Turnovsky S. J. Empirical evidence on the formation of price expectations//
Journal of the American Statistical Association. 1970. Vol. 65. P. 1441-
1454.
Visco I. Price Expectations in Rising Inflation. Amsterdam : North-Holland,
1984.
Visco I. The use of Italian data in the analysis of the formation of inflation
expectations /Unpublished manuscript. Banca d’Italia, 1986.
Whittle P. Optimization Over Time: Dynamic Programming and Stochastic
Control. Chichester : Wiley, 1982. Vol. I.
Whittle P. Optimization Over Time: Dynamic Programming and Stochastic
Control. Chichester: Wiley, 1983. Vol. II.
Wren-Lewis S. Expectations in Keynesian econometric models / In T. Lawson
and M. H. Pesaran (eds). Keynes’ Economics: Methodological Issues.
London : Croom Helm, 1985.
Wren-Lewis S. An econometric model of UK manufacturing employment using
survey data on expected output // Journal of Applied Econometrics. 1986.
Vol. 1. P. 297-316.
МАЛЬКОЛЬМ СОЙЕР
ПОСТКЕЙНСИАНСКАЯ МАКРОЭКОНОМИКА
> 11.1. Введение
Несмотря на то что многие ключевые идеи, используемые пред-
ставителями посткейнсианской макроэкономики, можно обнаружить
в научной литературе, относящейся по меньшей мере еще к 1930-м гг.
(в частности, в работах Калецкого и Кейнса), только в последние пят-
надцать-двадцать лет возникла отдельная школа мысли с таким на-
званием.1, 1 2 В рамках посткейнсианской экономической теории не
делается жесткого разграничения между микроэкономикой и макро-
экономикой, которое принято в неоклассическом кейнсианском син-
тезе, так что, хотя в данной главе мы сосредоточиваем свое внимание
прежде всего на макроэкономике, мы должны также рассмотреть
несколько аспектов, которые в общем относятся к микроэкономике
(например, ценообразование). Кроме того, акцентирование внимания
на макроэкономике указывает, что мы неявно исходим из узкого
определения посткейнсианской теории.3 Содержание этой главы огра-
ничено также по меньшей мере еще в одном отношении: мы не об-
суждаем проблемы развития и роста. Это серьезное упущение, по-
скольку многие посткейнсианцы подчеркивают динамический харак-
1 Термин «посткейнсианство» часто использовался в 1950-1960-х гг.
для обозначения экономического анализа, в основе которого лежало стремле-
ние развить и дополнить интерпретации Кейнса (Keynes, 1936) в духе модели
IS-LM. Посткейнсианский подход, обсуждаемый в данной главе, имеет мало
общего с этой интерпретацией.
2 В течение 1950-1960-х гг. такие авторы, как Калдор, Робинсон, Сраф-
фа и другие выдвинули много важных идей, которые оказали серьезное вли-
яние на формирование посткейнсианской экономической теории. Однако
термин «посткейнсианство» в отношении определенной группы подходов (из
которых в данном случае обсуждается макроэкономика краткосрочного пе-
риода) стал использоваться только в начале 1970-х гг.
3 Хамуда и Харкурт (Hamouda, Harcourt, 1988) включают в посткейнси-
анство также сраффианскую, марксистскую и другие теории.
220
Малькольм Сойер
тер капиталистической экономики и указывают на необходимость
анализа, который был бы свободен от недостатков статического рав-
новесного подхода. Однако для того, чтобы должным образом рас-
смотреть проблему роста, нам бы потребовалось гораздо больше мес-
та, чем это возможно в данном случае.4
Концепции Калецкого и Кейнса, представляющие основу для
многих разделов современной посткейнсианской макроэкономической
теории, содержат два важных общих элемента.5 Во-первых, это рас-
смотрение совокупного спроса как ключевой переменной, определя-
ющей уровень экономической активности в денежной экономике,
что предполагает отказ от закона Сэя. Далее оба автора разграничива-
ют инвестиционные и потребительские расходы и рассматривают пер-
вые из них как активный и изменчивый компонент спроса. Второе,
что их объединяет, — это идея, согласно которой общий уровень цен,
определяемый решениями производителей, максимизирующих при-
быль (при данном уровне совокупного спроса и ставке денежной за-
работной платы), выступает как фактор, определяющий реальную
ставку заработной платы. Изменение денежной заработной платы
при данном уровне реального совокупного спроса привело бы в слу-
чае закрытой экономики к пропорциональному изменению в общем
уровне цен (в случае открытой экономики изменение общего уровня
цен отражало бы изменившееся соотношение затрат отечественного
труда и импортируемых производственных благ). Короче говоря, это
означает, что реальная заработная плата устанавливается на рынке
конечных благ и услуг, а не на рынке труда.
Интерес к работам Калецкого и Кейнса в последнее десятилетие
привел к обнаружению ряда различий между ними, что обусловило
расхождения во взглядах авторов, работающих в рамках посткейнси-
анской традиции (данная проблема детально обсуждается в работе
Сойера (Sawyer, 1985а ch. 9)). Мы имеем в виду следующее:
1. Предположение о преобладании в одном случае атомистиче-
ских конкурентных рынков (Кейнс), а в другом случае олигополисти-
ческих рынков (Калецкий).
2. Связанное с этим различие между предпосылкой об увеличи-
вающихся предельных издержках (Кейнс) и предположении о (при-
близительно) постоянных предельных издержках (Калецкий).
3. Природа денег в развитой капиталистической экономике.
В «Общей теории» Кейнс (Keynes, 1936), по сути, предполагает, что
4 В рамках посткейнсианства наиболее важные работы в этой области
были созданы такими учеными, как Робинсон (Robinson, 1956), Калдор (Kaldor,
1957, 1961) и Пазинетти (Pasinetti, 1962, 1981).
5 Для того чтобы обнаружить в концепции Калецкого черты, общие с
теорией Кейнса, см. его обзор работы Кейнса (Keynes, 1936), который был
переведен Тарджетти и Кинда-Хасс (Targetti, Kinda-Hass, 1982).
Посткейнсианская макроэкономика
221
деньги создаются и контролируются центральным банком, хотя в «Тракта-
те о деньгах» (Keynes, 1930) он исходил из того, что деньги создаются
частными банками (для более детального рассмотрения этого вопроса
см. работу Мура (Moore, 1984). Калецкий уделяет деньгам гораздо
меньше внимания, чем Кейнс, но выдвигает рабочую гипотезу, со-
гласно которой деньги создаются частной банковской системой (под-
робнее об этом см. в работе Сойера (Sawyer, 1985а: ch. 5)).
4. Использование равновесного анализа. За некоторыми незначи-
тельными исключениями, анализ Калецкого предполагал цикличе-
ские колебания, и в нем отсутствуют элементы равновесного подхода,
используемого Кейнсом.
5. Ожидания и предсказуемость будущего. Эти аспекты пост-
кейнсианской экономической теории подробнее обсуждаются ниже,
но здесь мы заметим, что в то время как оба рассматривают ожидания
как переменную, которая в значительной степени определяется про-
шлым опытом и текущим положением дел, Кейнс также подчеркивает
непознаваемость как неотъемлемую характеристику будущего.
В данной главе обсуждаются такие темы, как деньги, цены, ин-
вестиции, сектор труда и экономические циклы. Обсуждение данных
тем выявит некоторые предпосылки, сделанные кейнсианцами отно-
сительно институционального устройства капиталистической эконо-
мики.
Ф-' "
11.2. Деньги и финансы
Одной из важнейших предпосылок посткейнсианской макроэко-
номической теории является идея о том, что денежная и неденежная
экономики функционируют принципиально различным образом.6
Поскольку вальрасианский анализ общего равновесия не допускает
введения в рассмотрение денег, играющих важную роль, то любая
попытка основать макроэкономический анализ денежной экономики
на базе вальрасианской теории бесперспективна. В системе общего
равновесия нет причин держать деньги в качестве средства сохране-
ния богатства, «поскольку признанной характеристикой денег как
средства хранения богатства является их бесплодие, в то время как
практически любая другая форма хранения богатства приносит опре-
деленный процент или прибыль. Почему же тогда кто-либо, не яв-
ляющийся пациентом психиатрической лечебницы, захочет исполь-
зовать деньги как средство хранения богатства?» (Keynes, 1937/
6 Под денежной экономикой принято понимать хозяйство, в котором
серьезную роль играют не только деньги (как средство обращения), но также
и финансовые активы (включая деньги), которые выступают как средство
сохранения ценности.
222
Малькольм Сойер
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости // Истоки. Вып. 3. М., 1998.
С. 286). Согласно теории Кейнса, индивиды имеют «предпочтение лик-
видности» как средство обезопасить себя на случай непредвиденных
событий, так что «наше желание держать деньги как средство сохра-
нения ценности является барометром, определяющим степень нашего
недоверия к нашим собственным расчетам и общему мнению отно-
сительно будущего». Однако очевидно, что в статическом (предска-
зуемом) мире, подобном вальрасовской системе общего равновесия,
ликвидность не приносила бы никакой выгоды.
Существование финансовых активов обусловливает различие меж-
ду сбережениями ex-ante и инвестициями, поскольку при отсутствии
финансовых активов любое желание отложить расходы (т. е. осуще-
ствить сбережение) означало бы приобретение благ, выступающих как
средство сохранения ценности (обеспечивающих будущую покупатель-
ную способность). Для удобства изложения мы ограничиваемся рас-
смотрением случая закрытой экономики (поскольку ни один из су-
щественных элементов данного раздела теории не изменится, если мы
рассмотрим случай открытой экономики).
Первый вопрос относится к механизму, посредством которого
устраняется разница между сбережениями ex-ante и инвестициями.
До Кейнса этот механизм заключался в том, что ценой, уравнива-
ющей сбережения и инвестиции, являлась ставка процента. По мне-
нию Патинкина (1982), оригинальный вклад Кейнса состоит в теории
эффективного спроса, которая, «будучи представлена в формальном
виде, не только позволяет найти математическое решение равновесно-
го уравнения F(Y) = У, но и демонстрирует стабильность этого равно-
весия, как обусловленную динамическим уравнением адаптации
dY/dt = ф[.Р(У) - У], где ф > О». В данном уравнении У представляет
собой выпуск, а F(y) — функцию совокупного спроса. Таким обра-
зом, любое различие между сбережениями ex-ante и инвестициями
(или, что то же самое, между планируемым объемом выпуска и рас-
ходами) приводит к изменениям в уровне выпуска и дохода.
Второй вопрос относится к взаимосвязи между сбережениями
и инвестициями. Простая кейнсианская модель представляет сбере-
жения как переменную, приспосабливающуюся (через изменения
дохода) к объему инвестиций путем вынужденных сбережений в
течение краткосрочного периода. По мнению Чик (Chick, 1986), связь
между сбережениями и инвестициями зависит от того, на какой
стадии развития находится банковская система. По ее мнению,
существует пять стадий, через которые проходят банковские систе-
мы в своем развитии. На первой стадии банковская система, на-
ходящаяся в зачаточном состоянии, функционирует только как
посредник между сберегателем и инвестором, а это означает, что
сбережения должны предшествовать инвестициям. Далее предпола-
гается, что банковская система эволюционирует, проходя вторую,
Посткейнсианская макроэкономика
223
третью и четвертую стадии до тех пор, пока не достигнет пятой,
которая и представляет на сегодняшний день особенный интерес.
Начиная со второй стадии «инвестиции могут предшествовать сбе-
режениям, а соответствующее увеличение сбережений происходит в
виде образования новых банковских депозитов, возникающих бла-
годаря предоставлению новых ссуд. Последующее развитие банков-
ского дела не видоизменяет данный процесс, а делает его более
интенсивным». К пятой стадии сложная банковская система осва-
ивает стратегию «управления пассивами», которая, по крайней мере
время от времени, предполагает скорее активный поиск возмож-
ностей применения кредитных ресурсов, чем простое удовлетво-
рение всех разумных заявок на получение ссуды. Когда банки ре-
шат выдавать намного больше ссуд, чем раньше, будет происходить
быстрое расширение кредита и денежной массы. Однако активная
природа инвестиций проявляется на пятой стадии, на которой по-
следовательность выглядит следующим образом: инвестиционные
планы вызывают потребность в ссудах, за этим следует выдача
кредитов и создание денег, и наконец осуществляются реальные
инвестиционные расходы и сопровождающий их рост сбережений.
Вышеописанное приводит нас к необходимости рассмотреть при-
роду денег. Начало дискуссий по поводу того, следует ли рассматри-
вать деньги как эндогенную или экзогенную (по отношению к дея-
тельности частного сектора) переменную, относится по меньшей мере
к середине прошлого столетия, когда происходил спор между предста-
вителями банковской и денежной школ. В отчете Рэдклиффа (1959)
обсуждались трудности, связанные с определением денежной массы
и контролем над ней. Использованная в отчете линия аргументации
в общем и сегодня принимается посткейнсианцами (подробнее об этом
в работе: Wulwick, 1987). Калдор (Kaldor, 1970) критиковал возник-
ший в то время монетаристский подход отчасти на том основании,
что денежная масса не подчиняется контролю со стороны правитель-
ства или центрального банка, а скорее приспосабливается к «потреб-
ностям торговли». Калдор и Тревитик писали:
В отличие от товарных денег кредитные деньги возникают в результа-
те выдачи банками ссуд (фирмам, индивидам или государственным учреж-
дениям), а уничтожаются в результате погашения задолженности перед бан-
ками (что происходит автоматически в системе, где избыток доходов над
расходами прямо идет на погашение просроченной задолженности). Отсюда
вытекает, что в экономике с преобладанием кредитных денег в отличие от
хозяйства с товарными деньгами денежная масса никогда не может превы-
шать количество денег, которое хотели бы держать индивиды; возможность
существования избыточной денежной массы исключается уже тем, что если
бы последняя имела место, она бы оказалась причиной (а не следствием)
увеличения расходов.
(Kaldor, Trevithick, 1981)
224
Малькольм Сойер
Мур резюмирует посткейнсианский взгляд на роль денег в раз-
витой экономике следующим образом:
Кредитные деньги являются одновременно и финансовым активом, и
пассивом коммерческих банков. Поскольку банковские пассивы — это фак-
тически активы, стоящие за ними, то вкладчики банков в конечном счете
являются кредиторами заемщиков. Всякий раз, когда экономические аген-
ты принимают решение взять ссуду в своих банках, создаются депозиты и,
следовательно, банковские деньги. Всякий раз, когда экономические агенты
решают погасить задолженность перед банком, это приводит к уничтожению
депозитов... Условия, на которых выпускаются кредитные деньги, т. е. про-
центные ставки, устанавливаемые по банковским ссудам и банковским де-
позитам, играют ключевую роль в определении темпов роста денежной мас-
сы и, таким образом, совокупного дохода.
(Moore, 1989)
Мур признает наличие «достаточно стабильной взаимосвязи меж-
ду изменениями в денежной базе и изменениями широких денежных
агрегатов, а также между изменениями широких денежных агрегатов
и изменениями в совокупных денежных доходах», но утверждает, что
причинная связь идет скорее от совокупных денежных доходов, чем
от денежной базы. Эмпирическое подтверждение (например, Мооге,
1983, 1988, 1989) основывается как на регрессионном анализе, так и
на тестах на причинную связь Грейнджера—Симса. Мур заключает:
Факты убедительнейшим образом подтверждают, что направление при-
чинной связи идет от кредитов коммерческих банков к денежной массе и к
денежной базе. Это, в свою очередь, со всей очевидностью предполагает что
много раз отмеченная и документально подтвержденная эмпирическая связь
между деньгами и доходом отражает «обратную причинную связь», идущую
от дохода к деньгам.
(Мооге, 1989)
Теоретическое доказательство этого тезиса относительно простое.
Планируемому увеличению расходов (независимо от того, связано ли
оно с планируемым увеличением реальных расходов или с ростом
цен) в денежной экономике должно предшествовать увеличение ко-
личества денег, если предполагается, что расходы будут иметь место.
Зачастую внимание уделяется инвестиционным расходам, однако эта
общая аргументации используется и в случае, когда речь идет о дру-
гих видах расходов. В частности, расширение выпуска (скажем, в
ответ на ожидаемое увеличение спроса) требует предварительного
увеличения затрат. Рост расходов со стороны фирм, связанный с уве-
личением материальных и трудовых затрат, необходимо профинанси-
ровать, что может вызвать необходимость обращаться за дополнитель-
ными ссудами и тем самым увеличение денежной массы.
В данном случае выявляются четыре аспекта значения кредит-
ных денег в макроэкономическом анализе. Во-первых, могут возник-
Посткейнсианская макроэкономика
225
нуть ситуации, когда увеличение денежной массы проистекает из из-
менений поведения банков, более обычной является ситуация, когда
денежная масса изменяется в ответ на изменения спроса. Создание
денег происходит как реакция на спрос на ссуды и независимо от
того, остаются эти деньги в обращении или уничтожаются (через по-
гашение ссуд), обусловлено желанием держать деньги.
Во-вторых, увеличение денежной массы рассматривается как
реакция на инфляцию, а не как ее причина. Например, когда издерж-
ки растут, производителям приходится финансировать более высо-
кую стоимость незавершенного производства, что может быть осуще-
ствлено через получение ссуды в банке или сокращение кассовой
наличности. В первом случае произойдет расширение денежной мас-
сы, которое будет представлять собой скорее следствие, чем причину
роста издержек.
В-третьих, вслед за Калецким (Kalecki, 1944) подвергается сомне-
нию предложенный Пигу эффект реальных кассовых остатков в та-
кой экономике, где преобладают кредитные деньги (в отличие от той,
где деньги полностью обмениваются на золото). Важной чертой кре-
дитных денег является то, что они не представляют собой чистой цен-
ности для частного сектора, поскольку являются одновременно акти-
вом для держателей и пассивом для эмитентов (обычно для банков).
В таком случае снижение общего уровня цен не влияет на реальную
ценность массы кредитных денег, хотя и приводит к перераспределе-
нию реального богатства от банковского сектора к другим секторам.
В-четвертых, создание кредитных денег частными банками в от-
вет на предъявляемый спрос на ссуды со стороны частного сектора
предполагает, что контроль правительства или центрального банка за
денежной массой будет связан со значительными трудностями. У бан-
ков, стремящихся максимизировать прибыль, будут стимулы к тому,
чтобы нарушить контроль за денежной массой.
Создание и уничтожение кредитных денег связано с цикли-
ческими колебаниями, присущими современной экономике. Изме-
нения денежной массы по меньшей мере должны способствовать
колебаниям экономической активности. Однако функционирова-
ние финансовой системы может быть и более тесно связано с эко-
номическим циклом. Реакция банковской системы на предъявля-
емый спрос на кредиты (независимо от того, выдаются ли они и по
какой процентной ставке) вносит серьезные коррективы в ход эко-
номического цикла.
Мински (Minsky, 1975, 1978, 1982) в свое время предложил «гипо-
тезу финансовой нестабильности», которая «была разработана для объ-
яснения нестабильности, являющейся результатом нормального функ-
ционирования капиталистической экономики» (Minsky, 1978). Огра-
ниченные размеры статьи не позволяют нам вдаваться в подробности,
так что мы осветим только некоторые аспекты данной гипотезы.
16 Заказ № 356
226
Малькольм Сойер
Экономическая активность генерирует денежные потоки частных фирм.
Часть этих потоков позволяет взять кредит. Величина ожидаемых денежных
потоков от деловых операций определяет спрос и предложение на рынке
♦ долгов», используемых для финансирования приобретения капитальных
активов и для производства новых капитальных активов (инвестиционных
благ). Деньги возникают главным образом в результате финансирования
банками бизнеса и приобретения ими других активов, а уничтожаются, когда
происходит погашение долгов банкам или когда банки продают активы.
(Minsky, 1978)
Когда экономика относительно спокойна, ожидания в сфере биз-
неса в целом сбываются, а величина денежных потоков позволяет
погашать задолженности. Однако бывают времена, когда прибыли со-
кращаются, делая некоторые фирмы неспособными погасить долги.
Само по себе это уже может послужить толчком к началу серьезного
финансового кризиса, развитие которого будет зависеть от того, как
на данную ситуацию прореагирует центральный банк. Неспособность
фирм к выплате задолженности ставит банки в опасное положение,
поскольку они сами являются должниками по отношению к другим
финансовым институтам.
11.3. Ценообразование
В рамках посткейнсианского макроэкономического анализа су-
ществует несколько подходов к ценообразованию.7 Прежде чем об-
суждать различия между ними, отметим три элемента, относитель-
но которых не существует разногласий. Во-первых, во всех посткей-
нсианских теориях ценообразования предполагается, что цена слабо
реагирует на изменения спроса и даже может реагировать на них
♦ неправильным» образом, т. е. двигаться в противоположном на-
правлении по отношению к спросу. Во-вторых, цены устанавлива-
ются производителями, а не каким-то анонимным аукционистом
или рынком. Таким образом, цены устанавливаются в интересах
производителей, а это обычно предполагает, что, установив опреде-
ленный уровень цен, предприниматель планирует объем выпуска
исходя из ожидаемого спроса при данном уровне цен. Таким обра-
зом, действия фирм уравнивают планируемый объем предложения
с ожидаемым объемом спроса при ценах, которые определяют сами
фирмы. В-третьих, наряду с тем, что цены определяют процесс ал-
7 Для целей макроэкономического анализа подход к ценообразованию
может быть относительно простым. В общем требуется установить зависи-
мость между ценой и такими переменными, как издержки, спрос и т. д. Для
других целей может потребоваться более глубокий взгляд на процесс цено-
образования.
Посткейнсианская макроэкономика
227
локации ресурсов, они также выполняют и другие функции (кото-
рые Джерард (Gerrard, 1989) обозначает как «проводящую» (con-
ductive), позиционную, стратегическую и финансовую). Например,
согласно подходу Айхнера и других авторов, цены устанавливаются
таким образом, чтобы ожидаемые прибыли были достаточны для
финансирования инвестиционных планов; в этом смысле можно
было бы сказать, что цены выполняют финансовую функцию. И дей-
ствительно, принято считать, что существует довольно тесная связь
между ценой, прибылью и инвестициями.
Теорию ценообразования Кейнса (Keynes, 1936) зачастую непра-
вильно истолковывали и связывали с довольно-таки примитивной
концепцией жесткости цен.8 Однако, как замечает Чик (Chick, 1983),
«предпосылка о фиксированных ценах в кейнсианском анализе пред-
ставляется в высшей степени странной, если учесть количество стра-
ниц «Общей теории», посвященных последствиям роста цен...» В са-
мом деле, точнее было бы трактовать теорию Кейнса (в отличие от
школы временного равновесия) как концепцию быстрой корректи-
ровки цен, прежде всего как реакции на изменения ставок заработ-
ной платы.9 Равенство между ставкой реальной заработной платы и
предельным продуктом труда поддерживается через корректировку
цен, так что изменения ставки номинальной заработной платы или
уровня экономической активности (и тем самым предельного про-
дукта труда) приводят к изменениям цен.
Подход Калецкого, часто описываемый как концепция степени
монопольной власти, также многими неправильно истолковывался
и зачастую рассматривался как тавтология (обвинение в тавтоло-
8 На мой взгляд, единственным автором, кого можно было бы отнести
к посткейнсианцам и кто близко подошел к такого рода воззрению, бил
Минз (Means, 1936). Однако существует хорошо разработанная система взгля-
дов, начало которой было положено работами Клауэра (Clower, 1965) и Лей-
онхуфвуда (Leijonhufvud, 1968) (см. также работу Малинво (Malinvaud, 1977)),
в рамках которых анализируется влияние немгновенных корректировок цвн
и заработной платы в контексте атомистической конкуренции. Дело в том,
что такой подход имеет мало общего с концепцией Кейнса или посткейнси-
анцев.
8 «Вместо этого подход Кейнса к функции спроса на труд подразумевает,
что рынок товаров текущего выпуска расчищается. Общая теория, по-види-
мому, полностью согласуется с таким взглядом. Кейнс постоянно исходит из
того, что цены в противоположность ставкам заработной платы реагируют
мгновенно, так что величина спроса соответствует величине предложения,
притом что последнее в краткосрочном периоде постоянно. Таким образом,
могло бы показаться, что у Лейонхуфвуда нет каких-либо оснований дтя
вывода, согласно которому Кейнс пересмотрел маршаллианскую идею о том,
что «относительные цены адаптируются быстрее, чем количества» (Grossman,
1972). См. также Brothwell, 1975; Chick, 1983.
228
Малькольм Сойер
гичности и другие направления критики этой концепции рассма-
триваются в публикации: Sawyer, 1985а : 28-36). Во-первых, следу-
ет заметить, что подход, основанный на анализе степени монополь-
ной власти, используется только в отношении части экономики,
хотя и весьма важной. Калецкий ввел разграничение между цена-
ми, определяемыми издержками, и ценами, определяемыми спро-
сом. Первый тип связан с отраслями обрабатывающей промышлен-
ности и другими отраслями, в которых предложение эластично из-
за существующих резервов производственных мощностей. Второй
тип наблюдается в отраслях, связанных с производством сырья и
продуктов питания. Дихотомия между ценами, определяемыми из-
держками, и ценами, определяемыми спросом, иногда представляет-
ся как нечто напоминающее дихотомию между фиксированными и
гибкими ценами. Здесь действительно существует связь в том смы-
сле, что в обоих случаях предполагается, что первый тип цен не
реагирует на изменения спроса. Однако цены, определяемые издерж-
ками, определяются в рамках модели, т. е. относятся к числу эндо-
генных переменных, в то время как фиксированные цены определя-
ются экзогенно.
Подход Калецкого с течением времени развивался (подробнее об
этом см. Kriesler, 1987; Basile, Salvadori, 1984-1985; Lee, 1986; Kriesler,
1989), однако сохранил свои главные особенности, которые можно
коротко представить следующим образом. В контексте истории от-
расли (например, имевшего место в прошлом сговора или соперниче-
ства) и ее структуры (определяемой такими показателями, как уро-
вень концентрации и входные барьеры) фирмы стремятся максимизи-
ровать прибыль. Зная историю и структуру отрасли, можно сделать
выводы относительно степени монопольной власти, характеризующей
данную отрасль. Чем больше эта степень, тем больше будет накидка
на (предельные) издержки (формальная модель, в рамках которой
делаются подобного рода предсказания, содержится в работе: Cowling,
1982. Первоначальная версия модели содержится в работе: Cowling,
Waterson, 1976). Максимизация прибыли в строгом смысле не дости-
гается, поскольку, «учитывая многие виды неопределенности, с кото-
рыми приходится сталкиваться предпринимателю в процессе произ-
водственной деятельности или установления цен, не следует пола-
гать, что фирма будет пытаться точно вычислить точку максимума
прибыли» (Kalecki, 1971). Поскольку точное измерение предельных
издержек сопряжено со значительными издержками для фирм, они
ограничиваются нахождением их приблизительного значения, исполь-
зуя для этого средние прямые издержки (на самом деле приблизи-
тельное равенство между предельными и средними прямыми издерж-
ками находит эмпирическое подтверждение). Будучи представленным
в такой форме, подход Калецкого имеет логические связи с парадиг-
Посткейнсианская макроэкономика
229
мой «структура отрасли—поведение—результат» в теории отрасле-
вой организации.10
Особый научный вклад Калецкого состоит, в частности, в том,
что он описал взаимосвязь между ценовыми решениями и распреде-
лением доходов. На уровне фирмы цена р рассматривается как сумма
прямых издержек ADC и т — процентной накидки на них, т. е.
р = (1 + m)ADC .
(ИЛ)
Если мы распишем ADC как сумму средних трудовых затрат wl
и средних материальных затрат nf, где w — денежная заработная
плата, п — цена единицы материальных затрат, а I и f — трудовые и
материальные затраты на единицу выпуска, то это уравнение можно
будет представить следующим образом:
л _ т
S 1 + т
w - 1 (I +
р 1 + т\ и> J
(И.2)
(И.З)
где л — прибыль, так что уравнение (11.2) связывает прибыль от
продаж с накидкой, а схожее с ним уравнение (11.3) связывает с
накидкой реальную заработную плату. Эти взаимосвязи выводятся
на уровне фирмы. При этом утверждается, что аналогичные взаимо-
связи действуют и на уровне экономики в целом. В данном случае
важен не сам процесс агрегирования, связывающий уровень фирмы с
хозяйством в целом, а скорее общая идея относительно влияния ценовых
решений на распределение дохода и реальную заработную плату.
В рамках посткейнсианства в целом принято считать, что имеет
место высокая склонность к сбережению из прибыли и что предпри-
ятия предпочитают внутренние источники финансирования внешним
источникам. Этот взгляд лежит в основе теории распределения дохо-
дов Калдора (Kaldor, 1955). Штайндль (Steindl, 1952) изображает ста-
ционарное состояние отрасли как ситуацию, когда доля прибыли в
цене достаточна для финансирования расширения основного капита-
ла (алгебраическое выражение данного взгляда формально идентично
уравнению (11.4), представленному ниже). Обсуждая подходы, в кото-
рых делается акцент на связи между ценой, прибылью и инвестици-
ями, по причине недостатка места мы ограничимся рассмотрением
10 Обсуждение парадигмы «структура поведение—результат» можно най-
ти в любой работе по теории отраслевых рынков (например, Clarke, 1985;
Sawyer, 1985b). Рассмотрение связи между структурой отрасли и прибыль-
ностью со ссылками на калецкианскую степень монопольной власти можно
найти в работе: Reynolds, 1984.
230
Малькольм Сойер
взглядов только одного автора, а именно Айхнера, но заметим, что
кроме него существовало немало других авторов, которые по-разному
интерпретировали эти связи.11
Согласно Айхнеру, крупная корпорация (он обозначает ее тер-
мином «мегакорп») своей основной целью считает рост своих раз-
меров.
Мегакорп — это скорее организация, чем индивид... Как организация
мегакорп стремится к увеличению своих размеров в максимально возмож-
ной степени... Именно увеличение размеров создает максимальные возмож-
ности продвижения по службе в пределах организации, а значит, получения
личных выгод для тех, кто участвует в принятии решений фирмы.
(Eichner, 1985)
Это стремление к максимизации роста имеет некоторые ограни-
чения, к их числу относится и необходимость поддерживать опреде-
ленный темп роста дивидендов.
Можно ожидать, что, преследуя эту цель, мегакорп будет следовать двум
правилам поведения. Одно из них состоит в том, что он будет поддерживать,
если не увеличивать, свою долю рынка в тех отраслях, где он уже функцио-
нирует, одновременно осуществляя инвестиции, необходимые для снижения
издержек производства. Другое правило, которого он будет придерживаться,
состоит в том, чтобы увеличить свою долю в новых относительно быстро
растущих отраслях, одновременно покидая более старые и стагнирующие
отрасли.
(Eichner, 1987)
Внутренним источникам финансирования в общем отдается
предпочтение перед внешними источниками, что связано со стремле-
нием оперировать с более низкими издержками и ограничить внеш-
нее вмешательство в дела фирмы. Цены в высокоразвитых олигопо-
листических отраслях устанавливаются ценовыми лидерами. Величи-
на прибыли и темпы роста размеров фирмы определяются на основе
взаимодействия спроса и предложения на финансы (на уровне фир-
мы). Для фирмы более высокая цена в общем означает более высо-
кую прибыль (при этом предполагается, что фирмы сталкиваются с
неэластичным спросом на свою продукцию), а значит, и больше фи-
нансовых ресурсов для инвестиций. Однако более высокие цены со-
кращают величину спроса, а также темпы роста спроса и потребность
в инвестициях. Поэтому фирма действует таким образом, чтобы ее
спрос на инвестиционные фонды находился в соответствии с ее спо-
собностью финансировать его за счет получаемых прибылей.
11 Среди авторов, придерживавшихся данного подхода, следует отме-
тить Вуда (Wood, 1975), Харкурта и Кеньона (Harcourt, Kenyon, 1976), Онга
(Ong, 1981) и Шапиро (Shapiro, 1981), а также Айхнера, чьи взгляды обсуж-
даются в этой главе.
ПаЯлкейнсианская макроэкономика
231
Для простоты возьмем случай, когда фирма решает использо-
вать только внутренние источники финансирования. Тогда gK = гР,
Где g — темп роста, К — объем капитала (таким образом, левая часть
уравнения выражает инвестиционные расходы), г — доля нераспреде-
ленной прибыли и Р — величина прибыли (так что правая часть
уравнения выражает объем финансовых ресурсов, доступных для
инвестиций). Эту зависимость можно представить в такой форме:
gv P
г ~ У ’
(И.4)
где v — коэффициент, выражающий капиталоемкость. Эти уравне-
ния используются для типичной фирмы, что предполагает дальней-
шее суммирование, дающее зависимости, характеризующие экономику
в целом. Уравнение (11.4) можно проинтерпретировать таким обра-
зом, что причинная связь идет слева направо, т. е. предполагаемый
рост размеров фирмы, коэффициент капиталоемкости и доля нерасре-
деленной прибыли определяют долю прибыли в доходах. В таком
случае поведение фирм можно описать как направленное на коррек-
тировку цен с тем, чтобы доля прибыли обеспечивала финансирование
предполагаемых инвестиций. Эта взаимосвязь выведена из анализа
процессов ценообразования, но при этом может в более общем плане
рассматриваться как следствие равенства между сбережениями и ин-
вестициями. Одним из важнейших аспектов, связанных с уравнени-
ем (11.4), является связь между ростом и распределением доходов
(выражением последнего является доля прибыли в доходе Р/У).
Несмотря на то что подходы как Калецкого, так и Айхнера
предполагают, что цены относительно слабо реагируют на изменения
спроса, они оба основаны на стремлении к максимизации (даже если
точка максимума точно и не достигается). Однако начиная с Холла и
Хитча (Hall, Hitch, 1939) возникло течение, представители которого
отвергали оптимизирующее поведение, выдвигая вместо него идею
о поведении, нацеленном на достижение удовлетворительного резуль-
тата. Холл и Хитч утверждали, что результаты их интервью с дело-
выми людьми относительно практики ценообразования позволяют
«усомниться в пригодности общепринятого анализа цены в терминах
предельных издержек и предельной выручки и подтверждают суще-
ствование определенного типа предпринимательского поведения, иг-
норируемого господствующим ныне течением экономической мыс-
ли». Они также выдвинули идею о том, что ценообразование можно
было бы охарактеризовать как добавление накидки к средним пря-
мым издержкам в том случае, когда последние относительно нечув-
ствительны к изменениям объемов выпуска. С точки зрения макро-
экономического анализа подход, основанный на работах Холла и
Хитча, имеет много общего с подходами Калецкого и других авторов,
232
Малькольм Сойер
а также с результатами эмпирических исследований Годли и Норд-
хауза (Godley, Nordhaus, 1972), Каутса и др. (Coutts et al, 1978), кото-
рые в целом трактуют ценообразование на основе принципа «издер-
жки плюс».
Ф а ат 11.4. Сектор труда .(йнштякш»
Посткейнсианский анализ сектора труда заключает в себе два
взаимосвязанных элемента. Во-первых, предполагается, что процесс
обмена трудовыми услугами и определение ставок заработной платы
не осуществляется на рынке в обычном смысли слова (именно по
этой причине этот раздел мы озаглавили «сектор труда», а не «рынок
труда»). Ставки заработной платы зачастую устанавливаются в ре-
зультате коллективных переговоров, а относительные ставки заработ-
ной платы имеют важное значение для статуса того или иного работ-
ника. Труд представляет собой человеческий вклад в производствен-
ный процесс, а такие факторы, как трудовая дисциплина, мораль,
ответственность и т. д. серьезно влияют на уровень производительно-
сти (общий обзор, касающийся посткейнсианского подхода к трудовому
сектору, можно найти в работе Аппелбаума (Appelbaum, 1979)).
Вторым элементом, тесно связанным с первым, является идея,
согласно которой переговоры между работодателем и работником
(независимо от того, ведутся ли они индивидуально или коллективно,
на равных или с преимуществом одной из сторон) определяют денеж-
ную, а не реальную ставку заработной платы.
Для совокупной рабочей силы может и не существовать никакого спо-
соба привести товарный эквивалент денежной заработной платы в соответ-
ствие с предельной тягостью труда при существующем объеме занятости.
Вполне реальна ситуация, когда у работников в целом не будет никакого
средства, с помощью которого они могли бы привести свою реальную заработ-
ную плату к известной величине путем пересмотра совместно с предприни-
мателем ставок денежной заработной платы. В этом суть нашего возраже-
ния. Мы пытаемся показать, что общий уровень реальной заработной платы
определяется в первую очередь силами совсем другого рода.
(Keynes, 1936 / Кейнс Дж. М. Общая теория занятости,
процента и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 66)
В простейшей формулировке уровень занятости (и уровень эко-
номической активности в целом) определяется величиной совокуп-
ного спроса и ставкой реальной заработной платы, которые задаются
равенством между реальной заработной платой и предельной про-
изводительностью труда. Любые колебания денежной заработной
платы компенсируются соответствующим изменением в уровне цен,
оставляющим реальную заработную плату неизменной. Согласно фор-
мулировке Кейнса, цены изменяются достаточно динамично, чтобы
Посткейнсианская макроэкономика
233
уравнивать реальную заработную плату с предельной производитель-
ностью труда. В подходе Калецкого предполагается, что реальная
заработная плата определяется величиной накидки на издержки (вклю-
чая заработную плату). Общей чертой является идея, согласно кото-
рой цены определяются после установления денежных ставок зара-
ботной платы, а работники (ни индивидуально, ни коллективно) не
влияют на реальную заработную плату.
Первоначальная формулировка кривой Филлипса (Phillips, 1958)
соответствовала такому подходу, поскольку была направлена на то,
чтобы объяснить движение денежной, а не реальной заработной пла-
ты. Напротив, Фридмен (Friedman, 1968) утверждал, что первоначаль-
ный вариант кривой Филлипса был неудачным и что на изменения
уровня безработицы или избыточного предложения труда реагирует
реальная (а не денежная) заработная плата. Однако позиция посткейн-
сианцев в этом вопросе не изменилась, и здесь по-прежнему предпо-
лагается, что реальная заработная плата определяется прежде всего
на рынках товаров и услуг (как это иллюстрируется уравнением
(11.2)), а не в секторе (или на рынке) труда.
Посткейнсианский подход к определению денежной заработ-
ной платы состоит в том, что трудовой сектор нельзя должным обра-
зом проанализировать в терминах рынка (или рынков) труда, где
происходит взаимодействие спроса и предложения таким образом,
как это представлено в рамках неоклассической экономической те-
ории. Однако существует множество подходов, которые могли бы по-
зволить проанализировать процесс определения денежной заработной
платы. Подход, которого придерживается автор данной статьи, осно-
ван на идее, согласно которой заработная плата в индустриальных
странах обычно устанавливается и корректируется посредством кол-
лективных переговоров между профсоюзами и работодателями. Но
даже тогда, когда формально коллективные переговоры отсутствуют,
рычаги воздействия сторон друг на друга могут мало отличаться от
описанных в данном случае. Согласно Рауту (Routh, 1980), «является
ошибкой идея, что существует какое-либо серьезное различие между
объединенными и не объединенными в профсоюзы работниками, по-
скольку профсоюзы не могут сделать что-либо большее, кроме инсти-
туционализации и управления энергией и стремлениями, которые уже
существуют у отдельного работника». В рамках другого подхода, ко-
торый теперь часто называют неокейнсианским, рассматриваются эф-
фективные ставки заработной платы, неявные контракты и другие
факторы, влияющие на производительность труда (см., например, Frank,
1986).
Согласно простой модели коллективных переговоров, профсо-
юзы предъявляют требование относительно денежной заработной пла-
ты (в более сложной модели торг может идти также относительно
занятости, уровней производительности и т. д.). Целевая денежная
234
Малькольм Сойер
заработная плата для профсоюзов в процессе ведения ими перего-
воров представляет собой произведение текущей денежной заработ-
ной платы, отношения ожидаемых цен к действительным и компо-
нента, отражающего движение к целевой ставке реальной заработ-
ной платы:
.:>Я Ы. .01 > у -Ч
w* = —1-^± , (мун-пимн I (11.5)
гу J Ф нг.чаквр
где w — денежная заработная плата, р — (соответствующий) уровень
цен, р* — ожидаемый уровень цен и Т — целевая ставка реальной
заработной платы.
Предполагая, что на достижение этой цели влияет безработица,
мы можем записать (подробнее об этом см.: Sawyer, 1982а, Ь) следу-
ющее уравнение, выражающее изменение денежной заработной пла-
ты (эмпирическое подтверждение представлено в работах Henry et al.,
1976; Arestis, 1986):
й> = a + pe + Ы7(_!
+ c InT - In —
(И-6)
Отсюда видно, что либо с = 0 , либо целевая реальная заработная
плата, которая быстро адаптируется к фактической реальной зара-
ботной плате (т. е. Т - w^/p^), позволит нам упростить уравнение
(11.6) и представить его в виде кривой Филлипса, движение вдоль
которой отражает изменение ожиданий (хотя и не предполагается,
что это уравнение описывает поведение атомистического конкурент-
ного рынка труда). Сочетание условий а = 0 и отсутствия влияния
безработицы на исход переговоров относительно ставок заработной
платы порождает взгляд на заработную плату как на величину, опре-
деляемую минимумом средств к существованию.
Также полезно рассмотреть состояние стационарного типа, при
котором: (а) ценовые ожидания оправдываются и (б) заработная пла-
та растет в соответствии с ценами (где для простоты рост производи-
тельности труда не рассматривается). В результате:
In - = с0 + ClU + InT, (11.7)
\PJ
где с0 = с~1а и Cj - с~тЬ.
Таким образом, на основе данного подхода к определению
денежной заработной платы можно получить взаимосвязь в стаци-
онарном положении между реальной заработной платой и уров-
нем экономической активности, что представлено в виде кривой w
на рис. 11.1. Вторая взаимосвязь между реальной заработной пла-
той и уровнем экономической активности может быть получена
ПосткейнсиансЯЛл макроэкономика
298
при анализе ценообразования (например, (11.3), когда накидка на
издержки т и производительность труда I зависят от уровня
выпуска и экономической активности). Взаимосвязь такого типа
иллюстрируется кривой р на рис. 11.1. Неравенства, представлен-
ные на рис. 11.1, выражают ожидаемые изменения цен и заработ-
ной платы. Верхнее неравенство является результатом определения
цены, тогда как нижнее отражает процесс определения заработной
платы. В данном случае зона А выражает классическую инфляци-
онную спираль заработная плата—цены, в то время как зона D
характеризует дефляционную спираль.12 В зонах В и С определение
цены и заработной платы приводит к установлению реальной за-
работной платы в точке Z.
При таком подходе инфляция, по существу, отражает конфликт-
ную ситуацию (Rowthorn, 1977; Sawyer, 1983 : ch. 1), поскольку зона
А представляет случай, где предъявляемые требования в отношении
долей в доходе со стороны предпринимателей и работников находят-
ся в противоречии. В точке Z (в которой темп инфляции был бы
12 При такой формулировке не делается существенного различия меж-
ду ростом цены (заработной платы) и снижением цены (заработной платы).
Однако в силу множества причин большинство посткейнсианцев исходят из
некоторой негибкости цен и заработной платы в сторону снижения.
236
Малькольм Сойер
постоянным) этот конфликт разрешается, хотя это может просто
означать, что безработица достаточно высока, чтобы ограничивать ре-
альную заработную плату. Точка Z может также рассматриваться и
как не ускоряющий инфляцию уровень безработных (NAIRU).
В данном случае очевидно, что для определения точки Z не
нужна информация относительно величины совокупного спроса. По-
видимому, не существует особых причин для того, чтобы рассматри-
вать точку Z как зависимую от спроса. Тем самым мы предполагаем,
что нет причин полагать, что заработная плата и прибыль в точке Z
неявно определяют уровень расходов, который был бы точно равен
объему выпуска, который фирмы планируют осуществить в точке Z.
Отсюда вытекает центральный вопрос для кейнсианской эконо-
мической теории: какова взаимосвязь между стороной спроса и сто-
роной предложения в экономике? Кейнсианско-неоклассический синтез
представляет совокупный спрос как ключевую переменную для опре-
деления экономической активности в краткосрочном периоде, одна-
ко в долгосрочном периоде в качестве основного фактора рассматри-
вается совокупное предложение. Корректировки в уровне цен, влия-
ющие на реальную ценность денежной массы, рассматриваются как
нечто, способное привести величину спроса в соответствие с величи-
ной предложения при полной занятости. Согласно посткейнсианско-
му подходу, такие корректировки невозможны в условиях преоблада-
ния кредитных денег, не представляющих, как это было показано
выше, чистой ценности.
Однако посткейнсианская парадигма насчитывает множество
подходов к решению вопроса о путях (частичной) корректировки
предложения в соответствии со спросом (как это представлено на
рис. 11.1). Инвестиции приводят к увеличению капитала и производ-
ственных мощностей, что ведет к изменениям уравнения цен. Могут
измениться представления рабочих относительно целевой реальной
заработной платы (скажем, под влиянием давления со стороны госу-
дарства), что приведет к изменениям уравнения заработной платы.
Предложение труда может измениться в результате изменения гра-
ниц трудоспособного возраста, изменения доли рабочей силы в об-
щей численности населения или миграции. Связь между безработи-
цей и загрузкой производственных мощностей меняется при изме-
нении численности рабочей силы и производственных мощностей.
Включение в модель, подобную той, что проиллюстрирована на
рис. 11.1, совокупного спроса, очевидно, привело бы к тому, что она
стала бы переопределена. В общем, в подходе Калецкого внимание
фокусируется на взаимосвязи между спросом и ценообразованием.
В подходе, основанном на идее NAIRU, совокупный спрос неявно
исключается из анализа. Аналогично можно трактовать обсуждение
экономического цикла в разделе 11.7. Модель Калдора, обсуждаемая
в разделе 11.7, акцентирует внимание на совокупном спросе без рас-
Посткейнсианская макроэкономика
237
смотрения сектора труда, тогда как в модели Гудвина совокупный
спрос вообще не играет какой-либо роли (поскольку там предполага-
ется, что все сбережения инвестируются).
11.5. Инвестиции
Хотя инвестиционным расходам отводится центральная роль в
посткейнсианском макроэкономическом анализе, существует отно-
сительно немного формальных моделей факторов, определяющих ин-
вестиции. В этом проявляется общая проблема, связанная с тем, что,
с одной стороны, фирмы не могут с легкостью обратить вспять приня-
тые инвестиционные решения, а с другой стороны, невозможно прогно-
зирование будущих событий, которые возникнут на протяжении сро-
ка службы капитального оборудования. Таким образом, использова-
ние формальных моделей (таких, как модель Джоргенсона (Jorgenson,
1963)) отвергается на том основании, что (по меньшей мере для эко-
номики в целом) инвестиционные решения необратимы и фирмы не
могут осуществить точные расчеты, направленные на максимизацию
прибыли (или какие-либо еще), по причине невозможности сформиро-
вать обоснованные ожидания будущего.
Подход Кейнса (Keynes, 1936) к инвестиционным решениям
часто отождествлялся с идеей, согласно которой фирмы будут кор-
ректировать величину своего капитала до тех пор, пока предельная
эффективность капитала не станет равна ставке процента. Это само
по себе верно, но «Кейнс считал, что основную роль в определении
инвестиционных решений играет „оптимизм"» (Chick, 1983). Урав-
нение предельной эффективности капитала и ставки процента «отра-
жает тот элемент в инвестиционных решениях, который доступен
экономическому анализу» (Chick, 1983). Предельная эффективность
капитала определяется ожиданиями будущего, а ожидания эти не
имеют надежной основы: «Весьма примечательным фактом явля-
ется крайняя ненадежность тех сведений, на основе которых нам
приходится оценивать предполагаемый доход. Наши познания о
факторах, которые будут определять доход от инвестиций через
несколько лет, обычно весьма слабы, а зачастую ничтожны» (Keynes,
1936 / Кейнс Дж. М. Указ. соч. С. 213). Колебания в состоянии
долгосрочных ожиданий рассматриваются как весьма значитель-
ные, «поскольку представлятся весьма вероятным, что колебания
рыночной оценки предельной эффективности различных типов ка-
питальных активов... будут слишком велики, чтобы их можно было
ослабить любыми практически возможными изменениями ставки
процента» (Keynes, 1936 / Кейнс Дж. М. Указ. соч. С. 229).
В подходе Калецкого существенной чертой инвестиционных рас-
ходов является то, что они подвержены колебаниям и порождают
238
Малькольм Сойер
деловой цикл. Калецкий начинает свой анализ с разграничения между
инвестиционными решениями и фактическими инвестициями в основ-
ной капитал, где временной лаг между тем и другим состоит из
лагов времени строительства, поставки и т. д. Поэтому экономиче-
ские переменные, отражающие текущее положение дел, можно пред-
ставить как факторы инвестиционных решений, которые, в свою оче-
редь, приведут в некоторый момент в будущем к фактическим ин-
вестиционным расходам.
Фирмы предпочитают внутренние финансовые источники, по-
скольку считается, что этот тип финансирования во многих отноше-
ниях обходится дешевле внешнего финансирования. Использование
внешнего финансирования предполагает различного рода трансакци-
онные издержки, связанные с получением ссуды или с дополнитель-
ной эмиссией акций. Поскольку текущие прибыли в значительной
степени определяют объем внутренних финансовых средств, доступ-
ных фирме, их можно рассматривать как важный фактор инвести-
ций. Использование внешних источников финансирования со сторо-
ны фирмы ограничено потому, что их стоимость растет по мере увели-
чения объема их использования фирмой. Калецкий (Kalecki, 1937b)
ввел «принцип возрастающего риска». Суть его в том, что чем боль-
ше объем заемных средств, которые фирма желает использовать
(относительно ее прибылей и активов), тем больше риск того, что она
окажется неспособной погасить долг и выплатить по нему проценты.
Финансовые институты принимают в расчет увеличивающийся риск
и устанавливают более высокие процентные ставки при выдаче более
значительных по объему ссуд.
Для фирм, рассматриваемых как нечто целое, инвестиционные
расходы ограничены объемом доступных финансов, которые, в свою
очередь, ограничиваются доступными для этих целей сбережениями
и желанием банков выдавать ссуды. Инвестиционные решения в зна-
чительной степени обусловлены доступными в текущий момент сбе-
режениями, хотя в то же время эти решения определяют объем буду-
щих инвестиционных расходов и тем самым величину будущих сбе-
режений. Некоторый объем инвестиционных расходов порождает в
частном секторе закрытой экономики соответствующую величину
сбережений. Но эти сбережения оказываются доступными только после
того, как инвестиции уже осуществлены. Финансирование инвести-
ций возможно благодаря прежде осуществленным сбережениям и
кредитной деятельности банков.
Фирмы расширяют свой капитал, когда финансы становятся
доступны благодаря получаемым прибылям и осуществленным сбе-
режениям. Таким образом, некоторые потенциальные инвестиции, осу-
ществление которых было отложено в прошлом по причине недостат-
ка финансов, теперь могут быть сделаны, поскольку появились до-
ступные финансовые источники. Далее, можно предполагать, что
Посткейнсианская макроэкономика
239
стимулы фирмы приобретать и использовать капитальное оборудова-
ние зависят от соотношения ожидаемой нормы прибыли на это капи-
тальное оборудование и процентной ставки, по которой она берет
ссуды. Норма прибыли может измениться либо вследствие изменения
массы прибыли, либо в результате изменения капитала. Последний
автоматически изменяется при осуществлении ненулевых чистых
инвестициий. Масса прибыли изменяется в том числе и в результате
колебаний объемов выпуска (и тем самым прибылей) или степени
монопольной власти (влияющей на долю прибыли в продажах). Хотя
конкретные формулировки различаются, набор факторов, которые, по
мнению Калецкого, влияют на инвестиции, твердо закрепился в пост-
кейнсианстве (и был включен во многие эконометрические модели
инвестиционного поведения).
Подход к моделированию ожиданий особенно важен в контексте
инвестиций в основной капитал, поскольку решения об их осуществ-
лении рассматриваются как практически необратимые. На уровне от-
дельной фирмы часто трудно продать подержанное капитальное обо-
рудование; на уровне экономики в целом подержанное оборудование
можно только выбросить (или продать за границу), но никаким дру-
гим образом нельзя обратить вспять принятое инвестиционное ре-
шение.
Именно из-за существования оборудования с длительным сроком службы
в области экономики будущее связано с настоящим. Поэтому нашим общим
принципам мышления соответствует тот вывод, что расчеты на будущее долж-
ны оказывать воздействие на настоящее через цены спроса на оборудование
с длительным сроком службы.
(Keynes, 1936 / Кейнс Дж. М. Указ. соч. С. 210)
Данное соображение послужит нам основой для дальнейшего
обсуждения вопроса о моделировании ожиданий. ,,
ХЫ'-
г.яп 11.6. Ожидания и предсказуемость
Важнейшей особенностью посткейнсианского подхода является
акцентирование внимания на роли ожиданий и мнений в принима-
емых решениях, особенно инвестиционных. Представители посткейнси-
анской макроэкономики, как правило, отвергают идею рациональных
ожиданий как подход к моделированию индивидуальных ожиданий.13
Однако существует множество взглядов относительно формирования
ожиданий и предсказания будущего, начиная с гипотезы об обобщен-
13 Критическое отношение к теории рациональных ожиданий представ-
лено в следующих работах: Colander, Guthrie, 1980, 1981; Davidson, 1982-
1983; Gomes, 1982; Bausor, 1983; Rutherford, 1984; Wible, 1984-1985.
240
Малькольм Сойер
ных адаптивных ожиданиях и кончая идеей о принципиальной не-
познаваемости будущего.14
Принято считать, что первым, кто высказал последний взгляд,
был Кейнс (Keynes, 1937); согласно его точке зрения, существует мно-
го будущих событий, для которых «не существует никакой научной
основы, позволяющей сформировать что-либо подобное вероятностно-
му распределению. Мы просто о них не знаем». Эта линия рассужде-
ний была развита прежде всего Шеклом (Shackle, 1972, 1989), кото-
рый акцентировал внимание на «человеческих затруднениях» (невоз-
можности предсказания будущего, поскольку изменения в экономике
связаны с изменениями в знаниях, о которых мы не можем знать
прежде, чем они возникнут) и индивидуальных решениях и действи-
ях как первопричине экономических событий, не рассматривая при
этом необходимые взаимосвязи между экономическими переменны-
ми. Далее он подчеркивал характеризующую человека склонность к
инновациям (особенно в связи с новыми идеями и техническим про-
грессом).
Такой взгляд классифицировался, например, Коддингтоном как
проявление нигилизма (Coddington, 1983); при этом следует загля-
нуть и в работу Шекла (Shackle, 1983, 1984). Если объяснить, почему
объем инвестиционных расходов принял ту или иную величину, не
представляется возможным, может быть, стоило хотя бы рассмотреть
последствия динамики инвестиций. Далее, по утверждению Эрла и
Кея (Earl, Kay, 1985), люди, действующие в неопределенных сложных
ситуациях и не способные принять точные оптимизирующие реше-
ния, могут использовать общие «правила», которые приблизительно
подходят к ситуации и могут быть подвергнуты анализу (подробнее
об этом в работе Ходжсона (Hodgson, 1988, 1989)).
Характерной чертой «Общей теории» является то, что в ней
применяется дифференцированный подход к различного рода реше-
ниям. Решения об осуществлении потребительских расходов относят-
ся скорее к разряду пассивных переменных, определяемых величи-
ной располагаемого дохода. На величину расходов влияют «соци-
14 Некоторые модели, используемые посткейнсианцами, включают в себя
идею «рациональных ожиданий» в одном из двух смыслов. Первый, очевид-
но, относится к рассмотрению проблемы на уровне индивида или фирмы, на
котором фактические и ожидаемые значения смешиваются. Например, не
делается различия между кривой ожидаемого спроса, с которой сталкивается
фирма (и на основе которой фирма принимает решения), и кривой фактиче-
ского спроса. Предполагается, что решения фирмы, связанные с определени-
ем цены и объемов выпуска, основываются на информации как о фактиче-
ском, так и об ожидаемом спросе. Второй, отраженный в модели взаимодей-
ствия цены и заработной платы, представленной в данной статье, применяется
при анализе некоторого устойчивого состояния, когда ожидания сбываются,
что алгебраически эквивалентно рациональным ожиданиям.
Посткейнсианская макроэкономика
241
альная практика и социальные институты», а также «привычное по-
ведение индивидов». Инвестиционные расходы, наоборот, относятся к
разряду активных действий, которые жестко не ограничены прошлы-
ми доходами и определяются прежде всего ожиданиями будущего.
Делается разграничение между краткосрочными ожиданиями, кото-
рые обычно сбываются,15 * 17 и долгосрочными ожиданиями, простира-
ющимися на много лет вперед, которые нельзя проверить и в отноше-
нии которых невозможно приобрести опыт, необходимый для форми-
рования вероятностных оценок будущих событий.
I:
11.7. Экономические циклы
В рамках посткейнсианского макроанализа считается, что коле-
бания экономической активности представляют собой важную черту
хозяйственной жизни, которая требует своего объяснения. Однако су-
ществует множество различных взглядов на причины такого рода ко-
лебаний. Выше мы уже коснулись некоторых монетарных аспектов эко-
номического цикла. Посткейнсианцы выделяют две другие причины
существования цикла. Первая связывается с изменчивой природой ин-
вестиционных расходов и влиянием изменений в экономической ак-
тивности на объем инвестиций. Вторая причина связана с конфликтом
между рабочими и капиталистами по поводу распределения дохода.
Особую трудность в связи с моделированием цикла представля-
ет проблема математического описания самоподдерживающегося цик-
ла. Рассмотрение взаимодействия мультипликатора и акселератора
Самуэльсоном (Samuelson, 1939) ведет к линейному разностному
уравнению второго порядка, которое не позволяет объяснить незату-
хающий цикл. Взгляды Калецкого (например, Kalecki, 1935, 1937а)
могут быть формализованы в виде разностно-дифференциальных урав-
нений, из которых можно сделать выводы о существовании самопод-
держивающегося цикла (подробнее о теориях делового цикла Калец-
кого см. в работе Sawyer, 1985а: 54-68.
Калдор (Kaldor, 1940) считал, что нелинейная модель с множе-
ством равновесных состояний (при которых инвестиции равны сбе-
режениям) позволила бы объяснить самоподдерживающийся цикл,
что и было впоследствии сделано Чаном и Смитом (Chang, Smith,
1971). Основой для такого подхода послужило наблюдение, соглас-
но которому различие между желаемым объемом инвестиций и
сбережениями вызывает изменение дохода (и инвестиции, и сбере-
жения являются функциями дохода и капитала). Изменения капи-
15 «С точки зрения теории эффективного спроса, по существу, не важно,
предполагаем ли мы, что краткосрочные\ркидания всегда сбываются, или
нет» (Keynes, 1973). -__
17 Заказ № 356
242
Малькольм Сойер
тала определяются планируемыми инвестициями (предполагается,
что они будут осуществлены) за вычетом амортизации существу-
ющего капитала. Чан и Смит (Chang, Smith, 1971) показывают, что
эта пара дифференциальных уравнений первого порядка описывает
«ограниченный цикл» (т. е. самоподдерживающийся цикл, к кото-
рому стремятся соответствующие экономические переменные). При
этом речь идет о модели чистого цикла без долгосрочного роста,
так что циклические колебания происходят вокруг стационарных
значений выпуска и капитала.
В работе Гудвина (Goodwin, 1967) используется литература, посвя-
щенная модели «хищника и жертвы», где «симбиоз двух популяций,
частично взаимно дополняющих, частично враждебных друг другу»,
дает пару нелинейных дифференциальных уравнений, решение которых
позволяет описать ограниченный цикл. Однако данный анализ не ка-
сается нижних и верхних границ цикла или случайных шоков, его по-
рождающих.
Анализ Гудвином цикла роста в отличие от подхода Калдора не
содержит независимой инвестиционной функции, а значит, подразу-
мевает, что темпы роста капитала определяют сбережения. Это озна-
чает принятие классической функции сбережений (вся заработная
плата расходуется, все прибыли сберегаются), так что имеет место
равенство между прибылями, сбережениями и темпами роста капита-
ла (где все переменные являются «реальными» и «чистыми»). Темпы
увеличения занятости равняются росту объемов выпуска за вычетом
коэффициента технических изменений а. Рост численности рабочей
силы рассматривается как постоянная Ь, так что темпы роста доли
занятых в рабочей силе е можно выразить как рост выпуска минус
а + Ь. Между рабочими и капиталистами происходит борьба за реаль-
ную заработную плату, при этом давление со стороны рабочих тем
сильнее, чем выше уровень занятости. Гудвин (Goodwin, 1967) пока-
зывает, что получаемые в результате уравнения порождают ограни-
ченный цикл. Десаи (Desai, 1973) расширяет этот анализ, вводя урав-
нение денежной заработной платы в форме кривой Филлипса и урав-
нение адаптации цен, основанное на теории ценообразования по
принципу «издержки плюс накидка». Ша и Десаи (Shah, Desai, 1981)
вводят индуцированные технические изменения в модель Гудвина, в
результате чего система в долгосрочном периоде движется в сторону
равновесия, вместо того чтобы колебаться вокруг него.
Скотт (Skott, 1989) сочетает два таких элемента, как совокуп-
ный спрос и классовая борьба. Отношение сбережений к доходу
зависит от доли в нем прибыли (отражающей различия в сберега-
тельном поведении), а отношение инвестиций к доходу зависит от
коэффициента капиталоотдачи и доли прибыли. Равенство сбереже-
ний и инвестиций ex post устанавливается через соответствующие
корректировки цен. Решения об объемах выпуска основываются на
Посткейнсианская макроэкономика
243
доли прибыли и уровне занятости. Модель завершается двумя тож-
дествами, описывающими темп роста капитала и уровень занятос-
ти. Замечательным свойством этой модели является то, что цены
и норма прибыли здесь рассматриваются как гибкие, но при этом
условия на рынке труда не влияют на реальную заработную плату
и распределение дохода.
Эти (и другие) подходы к экономическому циклу иллюстрируют
(в различной степени) несколько тем посткейнсианских исследова-
ний, а именно циклический характер капиталистической экономи-
ки, роль совокупного спроса и борьбу за распределение доходов.
11.8. Заключительные замечания
В данной главе мы сконцентрировались на краткосрочном ма-
кроанализе посткейнсианцев. В силу ограниченности места мы не
могли осветить все аспекты посткейнсианской макроэкономики и
потому рассмотрели основные элементы макроэкономического анализа,
не вникая в суть конкретных посткейнсианских моделей. За предела-
ми нашей статьи оказалась проблема экономического роста. Зато
были рассмотрены некоторые различия в рамках посткейнсианского
анализа (например, в теории цен). Тем не менее мы надеемся, что
нам удалось описать солидный микроэкономический фундамент пост-
кейнсианской макроэкономики, которая представляет собой проч-
ную основу для анализа хозяйств развитых индустриальных стран.
лЯ
Литература
Appelbaum Е. The labor market / In A. Eichner (ed.). A Guide to Post-Keynesian
Economics. London : Macmillan, 1979.
Arestis P. Wages and prices in the UK: the post-Keynesian view // Journal of
Post-Keynesian Economics. 1986. Vol. 8. P. 339-358. Reprinted in Sawyer,
M. (ed.). Post-Keynesian Economics. Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Basile L., Salvador! N. Kalecki’s pricing theory//Journal of Post-Keynesian
Economics. 1984-1985. Vol. 7. P. 249-262.
Bausor R. The rational expectations hypothesis and the epistemics of time //
Cambridge Journal of Economics. 1983. Vol. 7. P. 1-10.
Brothwell J. F. A simple Keynesian response to Leijonhufvud // Bulletin of
Economic Research. 1975. Vol. 27. P. 3-21.
Chang W. W., Smyth D. J. The existence and persistence of cycles in a non-linear
model: Kaldor’s 1940 model re-examined //Review of Economic Studies.
1971. Vol. 38. P. 37-44.
Chick V. Macroeconomics after Keynes. Oxford : Philip Allan, 1983.
Chick V. The evolution of the banking system, and the theory of saving, investment
and interest // Economies et Societes, Cahiers de 1’ISMEA Serie Monnaie et
Production. 1986. N 3. P. 111-126. —
244
Малькольм Сойер
Clarke R. Industrial Economics. Oxford : Basil Blackwell, 1985.
Clower R. The Keynesian counter-revolution I In F. Hahn and F. Brechling (eds).
The Theory of Interest Rates. London : Macmillan, 1965.
Coddington A. Keynesian Economics: The Search for First Principles. London :
Allen & Unwin, 1983.
Colander D. C., Guthrie R. C. Great expectations: what the Dickens do «rational
expectations» mean//Journal of Post-Keynesian Economics. 1980-1981.
Vol. 3. P. 219-234.
Coutts K., Godley W., Nordhaus W. Industrial Pricing in the United Kingdom.
Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
Cowling K. Monopoly Capitalism. London : Macmillan, 1982.
Cowling K., Waterson M. Price-cost margin and market structure // Economica.
1976. Vol. 43. P. 267-274.
Davidson P. Rational expectations: a fallacious foundation for studying crucial
decision-making // Journal of Post-Keynesian Economics. 1982-1983. Vol. 5.
P.182-198.
Desai M. Growth cycles and inflation in a model of class struggle // Journal of
Economic Theory. 1973. Vol. 6. P. 527-545.
Earl P. E., Kay N. How economists can accept Shackle’s critique of economic
doctrine without arguing themselves out of their jobs // Journal of Economic
Studies. 1985. Vol. 12. P. 34-48.
Eichner A. S. Towards a New Economics. New York : M. E. Sharpe, 1985.
Eichner A. S. The Macrodynamics of Advanced Market Economies. New York :
M. E. Sharpe, 1987.
Frank J. F. The New Keynesian Economics. Brighton : Harvester Wheatsheaf,
1986.
Friedman M. The role of monetary policy // American Economic Review. 1968.
Vol. 58. P. 2-17.
Gerrard W. Theory of the Capitalist Economy: Towards a Post-classical Synthesis.
Oxford : Basil Blackwell, 1989.
Godley W., Nordhaus W. Pricing in the trade cycle // Economic Journal. 1972.
Vol. 82. P. 853-874. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian Econo-
mics. Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Gomes G. M. The irrationality of rational expectations // Journal of Post-Keyne-
sian Economics. 1982. Vol. 5. P. 51-65.
Goodwin R. M. A growth cycle / In С. H. Feinstein (ed.). Socialism, Capitalism
and Growth. Cambridge : Cambridge University Press, 1967.
Grossman H. Was Keynes a Keynesian? // Journal of Economic Literature. 1972.
Vol. 10. P. 26-30.
Hall R„ Hitch C. Price theory and business behaviour // Oxford Economic Papers.
1939. Vol. 2. P. 12-33. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian
Economics. Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Hamouda 0., Harcourt G. Post Keynesianism: from criticism to coherence?//
Bulletin of Economic Research. 1988. Vol. 40. P. 1-33. Reprinted in
PhebyJ. (ed.). New Directions in Post-Keynesian Economics. Aidershot:
Edward Elgar, 1989.
Посткейнсианская макроэкономика
245
Harcourt G. С., Keynon Р. Pricing and the investment decision // Kyklos. 1976.
Vol. 29. P. 449-477. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian Eco-
nomics. Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Henry S. G. B., Sawyer, M., Smith P. Models of inflation in the U. K.: an evaluation
// National Institute Economic Review. 1976. Vol. 76. P. 60-71.
Hodgson G. Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional
Economics. Oxford : Polity Press. 1988.
Hodgson G. Post-Keynesianism and institutionalism: the missing link / In J. Pheby
(ed.). New Directions in Post-Keynesian Economics. Aidershot: Edward
Elgar, 1989*.
Jorgenson D. The theory of investment / In R. Ferber (ed.). Determinants of
Investment Behaviour. New York : National Bureau of Economic Research,
1967.
Kaldor N. A model of the trade cycle // Economic Journal. 1940. Vol. 50. P. 78-
92.
Kaldor N. Alternative theories of distribution //Review of Economic Studies.
1955. Vol. 23. P. 83-100.
Kaldor N. A model of economic growth//Economy Journal. 1957. Vol. 67.
P. 591-624.
Kaldor N. Capital accumulation and economic growth I In F. Lutz (ed.). The
Theory of Capital. London: Macmillan, 1961.
Kaldor N. The new monetarism // Lloyds Bank Review. 1970. Vol. 97. P. 1-18.
Kaldor N., Trevithick J. A Keynesian perspective on money // Lloyds Bank Review.
1981. Vol. 139. P. 1-19. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian
Economics, Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Kalecki M. A macrodynamic theory of business cycles // Econometrica. 1935.
Vol. 3. P. 327-344.
Kalecki M. A theory of the business cycle // Review of Economic Studies. 1937a.
Vol. 4. P. 77-97.
Kalecki M. Principle of increasing risk//Economics. 1937b. Vol. 4. P.440-
447.
Kalecki M. Professor Pigou on «The classical stationary state»: a comment//
Economic Journal. 1944. Vol. 54. P. 131-132.
Kalecki M. Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 1971.
Keynes J. M. Treatise on Money. London : Macmillan, 1930.
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Lon-
don : Macmillan, 1936.
Keynes J. M. The general theory of employment // Quarterly Journal of Economics.
1937. Vol. 51. P. 209-223.
Keynes J. M. Collected Works. The General Theory and After: Part II, Defence
and Development. London : Macmillan, 1973. Vol. 14.
Kriesler P. Kalecki’s Microanalysis: The Development of Kalecki’s Analysis of
Pricing and Distribution. Cambridge : Cambridge University Press, 1987.
Kriesler P. Kalecki’s pricing theory revisited//Journal of Post Keynesian
Economics. 1989. Vol. 11. P. 1Q8-130.
246
Малькольм Сойер
Lee F. S. Kalecki’s pricing theory: two comments // Journal of Post Keynesian
Economics. 1986. Vol. 8. P. 145-148.
Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. Ox-
ford : Oxford University Press, 1968.
Malinvaud E. The Theory of Unemployment Reconsidered. Oxford : Basil Black-
well, 1977.
Means G. C. Notes on inflexible prices // American Economic Review. 1936.
Vol. 26 (Supplement). P. 23-35.
Minsky H. P. John Maynard Keynes. New York : Columbia University Press,
1975.
Minsky H. P. The financial instability hypothesis: a restatement // Thames Papers
in Political Economy, Autumn, 1978.
Minsky H. P. Can «It» Happen Again. New York : M. E. Sharpe, 1982.
Мооге B. Unpacking the post-Keynesian black box: bank lending and the money
supply //Journal of Post Keynesian Economics, 1983. Vol. 5. P. 537-556.
Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian Economics. Aidershot:
Edward Elgar, 1988.
Moore B. Keynes and the endogeneity of the money stock // Studi Economic!.
1984. Vol. 22. P. 23-69.
Moore B. Horizontalist and Verticalists. Cambridge : Cambridge University Press,
1988.
Moore B. The endogeneity of credit money // Review of Political Economy. 1989.
Vol. 1. P. 65-93.
Ong N.-P. Target pricing, competition and growth // Journal of Post Keynesian
Economics. 1981. Vol. 4. P. 101-116.
Pasinetti L. Rate of profit and income distribution in relation to the rate of
economic growth//Review of Economic Studies. 1962. Vol. 29. P. 267-
279. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian Economics. Aidershot:
Edward Elgar, 1988.
Pasinetti L. Structural Change and Economic Growth. Cambridge : Cambridge
University Press, 1981.
Patinkin D. Anticipation of the General Theory and Other Essays on Keynes.
Oxford : Basil Blackwell, 1982.
Phillips A. W. The relation between unemployment and the rate of change of
money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957 // Economica. 1958.
Vol. 25. P. 283-299.
Radcliffe Report The Committee on the Workings of the Monetary System. London :
HMSO, Cmnd 827, 1959.
Reynolds P. An empirical analysis of the degree of monopoly theory of distri-
bution //Bulletin of Economic Research. 1984. Vol. 36. P. 59-84.
Robinson J. The Accumulation of Capital. London : Macmillan, 1956.
Routh G. Occupation and Pay in Great Britain, 1906-1979. London : Macmillan,
1980.
Rowthorn R. Conflict, inflation and money // Cambridge Journal of Economics,
1977. Vol. 1. P. 215-239. Reprinted in Sawyer, M. (ed.). Post-Keynesian
Economics. Aidershot: Edward Elgar, 1988.
Rutherford M. Rational expectations and Keynesian uncertainty // Journal of
Post Keynesian Economics, 1984. Vol. 6. P. 377-387.
Посткейнсианская макроэкономика
247
Samuelson Р. Interaction between the multiplier analysis and the principle of
acceleration// Review of Economics and Statistics. 1939. Vol. 21. P. 75-
78.
Sawyer M. Macro-economics in Question. Brighton : Harvester Wheatsheaf, 1982a.
Sawyer M. Collective bargaining, oligopoly and macroeconomics // Oxford Eco-
nomic Papers. 1982b. Vol. 34. P. 428-448.
Sawyer M. Business Pricing and Inflation. London : Macmillan, 1983.
Sawyer M. Economics of Michal Kalecki. London : Macmillan, 1985a.
Sawyer M. Economics of Industries and Firms. London : Croom Helm, 1985b.
Shackle G. Epistemics and Economics. Cambridge : Cambridge University Press,
1972.
Shackle G. The romantic mountain and the classic lake: Alan Coddington’s Keyne-
sian economics // Journal of Post Keynesian Economics. 1983-1984. Vol. 6.
P. 241-251.
Shackle G. What did the General Theory do? / In J. Pheby (ed.). New Directions
in Post-Keynesian Economics. Aidershot: Edward Elgar, 1989.
Shah A., Desai M. Growth cycles with induced technical change // Economic
Journal. 1981. Vol. 91. P. 1006-1010.
Shapiro N. Pricing and the growth of the firm//Journal of Post Keynesian
Economics. 1981. Vol. 4. P. 85-100.
Skott P. Effective demand, class struggle and cyclical growth//International
Economic Review. 1989. Vol. 30. P. 231-247.
Steindl J. Maturity and Stagnation in American Capitalism. 1952. Oxford : Basil
Blackwell. Re-issued with new introduction by Monthly Review Press, 1976.
Targetti F., Klnda-Hass B. Kalecki’s review of Keynes ’General Theory’ Australian
Economic Papers. 1982. Vol. 21. P. 244-260.
Wlble J. R. An epistemic critique of rational expectations and the neoclassical
macroeconomic research program // Journal of Post Keynesian Economics.
1984-1985. Vol. 7. P. 269-281.
Wood A. A Theory of Profits. Cambridge : Cambridge University Press, 1975.
Wulwlck N. The Radcliffe central bankers // Journal of Economic Studies. 1987.
Vol. 14. P. 36-50.
>il<tu4'
HUAtp.
•o:r> mi >
-< ЧЛ:
12
ДЕНИС МЮЛЛЕР , & ,п, л,
V V;','..
« i ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА*
12.1. Введение
Теория общественного выбора может быть определена как эконо-
мический анализ процессов нерыночного принятия решений или,
проще говоря, как применение экономической теории в политологии.
Таким образом, данная теория имеет тот же предмет, что и политоло-
гия: теория государства, правила голосования, поведение избирателя,
партийная политика, бюрократия. При этом исследование ведется на
основе методологии экономической теории. Основной поведенческой
предпосылкой теории общественного выбора, как и экономической
теории в целом, является идея, согласно которой человек независимо
от того, в какой роли он выступает, как избиратель, политик или
бюрократ, действует как рациональный эгоист, максимизирующий
полезность.* 1
Свое исследование сферы политики экономист мог бы начать с
вопроса: почему вообще существует государство? Почему коллектив-
ный выбор не может реализоваться через рыночный механизм? Отве-
чая на этот вопрос, современная экономическая теория ссылается на
несостоятельность (провалы) рынка. Проблемы, связанные с внешни-
ми эффектами и неделимостью некоторых благ, приводят в рыночной
* Эта статья в значительной степени основана на моей работе «Public
Choice II» (Mueller, 1989). Вследствие небольшого объема статьи я ограни-
чился ссылками только на наиболее новаторские работы. Читатель сам смо-
жет обратиться к книге за более подробной библиографией. Я приношу бла-
годарность Издательству Кембриджского университета за позволение перепе-
чатать материалы из той книги. Я хотел бы поблагодарить также Фонд
Тиссена за финансовую поддержку.
1 Использование этого постулата Шумпетером (Schumpeter, 1950, русск.
пер. 1995) повлияло на формирование взглядов Даунса, изложенных в его
знаменитой работе (Downs, 1957 : 3-20). См. также: Buchanan, Tullock, 1962 :
17-39; Riker, Ordeshook, 1973 : 8-37.
Теория общественного выбора
249
экономике к неоптимальной по Парето аллокации ресурсов. Предо-
ставление государством «общественных благ» может быть эффектив-
ным решением проблемы провалов рынка. Такой взгляд на при-
чины существования государства более подробно обсуждается в разде-
ле 12.2.
Если государство представляет собой аналог рынка при предо-
ставлении общественных благ, то оно должно решать такую же зада-
чу, связанную с выявлением предпочтений, в отношении обществен-
ных благ, какую рынок решает в отношении частных благ. Подход к
процессу нерыночного принятия решений, основанный на теории
общественного выбора: а) опирается на общепринятые в экономиче-
ской теории поведенческие предпосылки (рациональный человек, мак-
симизирующий полезность); б) зачастую описывает процесс выявле-
ния предпочтений как аналогичный рыночному (избиратели вовле-
каются в обменные отношения, индивиды выявляют свою функцию
спроса через голосование, граждане становятся членами клубов и
покидают их); в) ставит те же вопросы, что и традиционная теория
цены: существуют ли равновесные состояния? Если да, то являются
ли они устойчивыми? Являются ли они эффективными по Парето?
Как они достигаются?
Одна часть теории общественного выбора рассматривает государ-
ство как черный ящик (или правило голосования), куда помещаются
индивидуальные предпочтения (голоса) и откуда «выходят» соответ-
ствующие политические результаты. Данная часть теории рассматри-
вается в разделе 12.3. Другая часть теории рассматривает государство
как совокупность кандидатов, партий, парламентариев и бюрократов,
где каждый действует исходя из собственных целей при ограничени-
ях, налагаемых правилами голосования и в конечном счете предпоч-
тениями избирателей. Данная проблематика рассматривается в разде-
ле 12.4. Есть и довольно значительное направление в теории, в рамках
которого обсуждается вопрос о том, какими свойствами должен обла-
дать политический процесс. Об этом речь идет в разделе 12.5. Закры-
вает главу обсуждение различий между аллокацией и перераспреде-
лением и их особое значение для определения правил голосования,
ч
12.2. Причины существования государства 4
k ' Общественные блага и дилемма заключенных
Рассмотрим ситуацию, когда два человека Аи В живут в состо-
янии анархии. Они могут обеспечить себе пропитание, измеряемое
соответственно 10 и 9 единицами полезности. Однако каждый из них
все же сможет достичь большей полезности, если начнет красть у
соседа (см. табл. 12.1). В условиях анархии воровство является доми-
250
Денис Мюллер
нирующей стратегией с результатом, представленным в клетке 3.
Оба индивида могут улучшить свою ситуацию относительно этого
«естественного» положения вещей, если придут к формальному или
неформальному соглашению не красть друг у друга. Перемещение из
клетки 3 в клетку 1 представляет собой эффективное по Парето пе-
ремещение, при котором индивиды выходят из естественного состоя-
ния людей, описанного Гоббсом (Bush, 1972; Bush, Mayer, 1974;
Buchanan, 1975a). Соглашение сделать такой переход представляет
собой «конституционный контракт», устанавливающий права соб-
ственности и ограничивающий поведение обоих индивидов. Как только
люди выходят из Гоббсова состояния анархии, перед ними встает про-
блема коллективного выбора.
Таблица 12.1
Воровство и дилемма заключенных
в
не ворует ворует
A не ворует 1 (10,9) 4(7,11)
ворует 2 (12,6) 3 (8,8)
Права собственности и закрепляющие их процедуры относятся
по Самуэльсону к общественным благам, особенность которых состо-
ит в том, «что потребление данного блага одним индивидом не исклю-
чает потребления его же другим индивидом» (Samuelson, 1954). Почти
все общественные блага можно описать, используя табличный метод,
примером которого является табл. 12.1. На ней представлена хоро-
шо известная дилемма заключенных.2 Несмотря на очевидное преиму-
щество кооперативного честного поведения, воровские стратегии обра-
зуют равновесную пару по крайней мере для одного тура игры. Однако
кооперативное решение может возникнуть как результат «суперигры»
при повторном проведении игр типа дилеммы заключенных. Коопера-
тивное решение возникает, когда каждый игрок выбирает стратегию
исходя из наблюдений за выбором другого игрока, например, придер-
живаясь в настоящем туре той стратегии, которой придерживался
другой игрок в предыдущем туре. Если оба игрока примут такую
стратегию и начнут с кооперативной стратегии, то и в каждом после-
дующем туре игры поведение будет кооперативным (Axelrod, 1984).
Однако при большом количестве игроков некоторые могут мо-
шенничать и при этом избежать или разоблачения, поскольку влия-
2 Другие ситуации, в которых для достижения Парето-эффективности
требуется сотрудничество, обсуждаются в работах: Schelling, 1966 : ch. 2;
Taylor, Ward, 1982; Hirshleifer, 1983, 1984; Ward, 1987.
Теория общественного выбора
251
ние на других будет небольшим, или наказания, поскольку осуществ-
ление последнего сопряжено со слишком высокими издержками.
Таким образом, добровольное согласие вести себя определенным об-
разом относительно пользования общественными благами более веро-
ятно в небольшом сообществе, чем в большом (Coase, 1960; Buchanan,
1965b). Если большое сообщество или группа целиком положится
только на добровольное соглашение, это породит проблему «безбилет-
ников» и приведет к недопроизводству или полному отсутствию про-
изводства общественных благ. При данной интенсивности стимулов к
«безбилетничеству» такое соглашение потребует использования инди-
видуальных вознаграждений и санкций (Olson, 1965 : 50-51, 132-
167). Таким образом, демократия, будучи совокупностью процедур
формального голосования за принятие и проведение в жизнь того или
иного коллективного выбора, является институтом, имеющим смысл
только в сообществах определенной численности и с определенной
степенью «обезличенности» отношений между людьми.
г.эт
Внешние эффекты и теорема Коуза
Г*'
О внешних эффектах речь идет в тех случаях, когда потребление
или производство одного хозяйствующего субъекта побочно влияет на
производственную функцию или функцию полезности другого. Зача-
стую предполагается, что существование внешних эффектов ведет к
неоптимальной (по Парето) аллокации ресурсов. Коуз (Coase, 1960)
бросил вызов этой ортодоксальной точке зрения. По мнению Коуза,
оптимальные по Парето решения проблемы внешних эффектов могли
бы возникать и часто имели место в результате договоренности кон-
фликтующих групп без вмешательства государства. Главным выводом
из подобного рода рассуждений является то, что принято называть
теоремой Коуза. Она состоит в том, что «при отсутствии транс-
акционных издержек и издержек ведения переговоров, стороны, кон-
фликтующие по поводу внешних эффектов, придут к согласию отно-
сительно аллокаций ресурсов, которая будет как Парето-оптималь-
ной, так и независимой от прежде определенных прав собственности».
При этом решение проблемы внешних эффектов не требует вмеша-
тельства государства.
Разрешение проблемы посредством частных переговоров и за-
ключения соглашения в ситуации, когда дело касается двух хозяй-
ствующих субъектов, представляется весьма вероятным, если не не-
избежным выходом из положения. Однако по мере того, как число
агентов, затрагиваемых внешними эффектами, растет, вероятность
достижения частного соглашения становится все меньше и меньше.
Представим себе, что все, живущие вдоль такой реки, как Темза,
и пользующиеся ею, \пытаются договориться друг с другом относи-
тельно сокращения выбросов в реку. Как и в случае с общественны-
252
Денис Мюллер
ми благами, государство выходит на сцену, когда его вмешательство
может представить собой разумную альтернативу достижению Па-
рето-эффективности, сопряженному с более высокими трансакцион-
ными издержками при большом числе вовлеченных в спор индиви-
дов (Dahlman, 1979).
Перераспределение как причина существования государства
Один из наиболее простых способов объяснения происхождения
государства в ситуации первоначальной анархии состоит в доказа-
тельстве того, что оно возникло для удовлетворения коллективных
потребностей общества. Однако существует не меньше оснований для
того, чтобы рассматривать в качестве основы возникновения государ-
ства мотивы, связанные с перераспределением. Лучший из воинов
становится во главе рода и со временем начинает собирать дань со
своих соплеменников. Можно предполагать, что первоначальная дея-
тельность государства связана с выполнением военных и полицей-
ских функций, причем выгоды от этого присваивает авторитарный
лидер (лидеры).
Таким образом, в качестве причины возникновения государства
можно рассматривать необходимость удовлетворить либо коллектив-
ные потребности всех членов общины, либо желания только некото-
рой их части. Первое объяснение основано на достижении эффектив-
ной аллокации ресурсов, а второе — на перераспределении.
Разграничение между аллокационной эффективностью и пере-
распределением является фундаментальным для экономической те-
ории и теории общественного выбора в особенности. Через аллокацию
частных благ рыночный обмен «подобно невидимой руке» выводит
общество из неоптимального по Парето состояния в оптимальное.
Однако достижение этого состояния происходит вслепую. Вопрос о
распределении не превращается здесь в яблоко раздора, поскольку
оно (распределение) представляет собой побочный продукт процесса,
выгодного всем сторонам.
Для достижения Парето-эффективности в процессе аллокации
общественных благ необходим менее анархичный по сравнению с
рынком процесс коллективного выбора. Когда стоит вопрос о том,
сколько должно быть произведено общественных благ и из каких
средств за них заплатить, необходим сознательный выбор. В случае
аллокации общественных благ, определяемой политическим процес-
сом, распределение происходит намного нагляднее, чем в случае осу-
ществляемой рынком аллокации частных благ. Можно также пред-
положить, что эта и другие проблемы, касающиеся распределения,
играют основную роль в политическом процессе.
Хотя аллокационная эффективность и проблемы распределения
неизбежно оказываются тесно связанными друг с другом, для целей
Теория общественного выбора
253
анализа имеет смысл отделять одно от другого. В рамках теории
общественного выбора можно выделить теории, где внимание сосре-
доточивается почти исключительно на проблемах аллокационной
эффективности и деятельности государства по предоставлению обще-
ственных благ (Wicksell, 1896), и теории, занимающиеся перераспре-
делительной деятельностью. В теории государства Арансона—Орде-
шука (Aranson, Ordeshook, 1981) общественные блага возникают как
побочный продукт основной деятельности государства по перерас-
пределению богатства (см. также Meltzer, Richard, 1978, 1981, 1983;
Peltzman, 1980). п; и
и
* 12.3. Общественный выбор
в условиях прямой демократии
Правило единогласия
Когда основной смысл существования государства сводится к
тому, чтобы обеспечивать сообщество общественными благами, оче-
видным правилом голосования становится единогласие. Виксель
(Wicksell, 1896) был первым, кто установил связь между возможной
для всех выгодой от какого-либо коллективного действия и прави-
лом единогласия. С тех пор возникло два основных направления
критики этой идеи. Во-первых, нащупывание определенной точки на
контрактной кривой может занять весьма много времени (Black, 1958 :
146-147; Buchanan, Tullock, 1962 : ch. 6 / Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчет
согласия. Логические основания конституционной демократии / Д. Бью
кенен. Сочинения. М.: «Таурус Альфа», 1997). Потери времени члена-
ми общества, пытающимися отыскать оптимальные по Парето инди-
видуальные ставки налогообложения, могут перевесить выгоды, свя-
занные с тем, что кто-то будет избавлен от необходимости платить
налоги, превышающие их выгоды от пользования общественными бла-
гами. Индивид, подозревающий, что его могут «эксплуатировать» при
принятии решений большинством голосов, может, тем не менее, пред-
почесть такое правило затратам времени на достижение всеобщего
согласия. Второй момент, за который критикуют правило единогла-
сия, заключается в том, что оно стимулирует стратегическое поведе-
ние (см. Black, 1958: 147; Buchanan, Tullock, 1962: ch. 8; Barry,
1965 : 242; Samuelson, 1969).
«Проблема торга», возникающая в связи с правилом единогла-
сия, является зеркальным отражением «проблемы стимулов» при
добровольном производстве общественных благ. Однако недавно опуб-
ликованные экспериментальные результаты, полученные Хофманом
и Спитцером (Hoffman, Spitzer, 1986), показывают, что стратегиче-
ский торг может и не представлять серьезной проблемы. Их экспе-
254
Денис Мюллер
рименты, по существу, были направлены на то, чтобы выяснить, не
приводит ли стратегический торг к недостижению оптимума по Па-
рето в описанной Коузом ситуации с внешними эффектами. Они об-
наружили, что «при прочих равных условиях эффективность повы-
шается по мере увеличения численности групп» (Hoffman, Spitzer,
1986 : 151), т. е. когда каждая сторона насчитывает хотя бы по два-
дцать человек.
Всеобщее согласие требуется также на конечной стадии действия
описанного Смитом (Smith, 1977) аукционного механизма предостав-
ления общественных благ. В экспериментах с небольшим числом
избирателей имело место довольно быстрое достижение равновесия
Линдаля, а стратегического искажения предпочтений не наблюда-
лось (Smith, 1977, 1979а, Ь, 1980).
Оптимальное большинство
Когда в группе людей возникает разногласие, положение отдель-
ных индивидов ухудшается вследствие принятия группового реше-
ния. Принятие решений большинством голосов означает, что некото-
рые индивиды понесут издержки, чего можно было бы избежать, за-
тратив дополнительное время на уточнение проблемы, с тем чтобы
выгоды достались всем участникам группы. Бьюкенен и Таллок
(Buchanan, Tullock, 1962 : 63-91) обозначают данный тип издержек
понятием «внешние издержки» (external costs) данного правила при-
нятия решения (см. также Breton, 1974 : 145-148). Издержки данно-
го вида издержки должны сопостовляться с затратами времени на
поиски, решения, устраивающего всех.
Таким образом, имеет место компромиссный выбор между по-
бочными издержками, которые несет человек, чье положение ухудша-
ется вследствие принятого решения, и затратами времени, сопряжен-
ными с принятием этого решения. На рис. 12.1 представлены различ-
ные возможности, связанные с принятием решения большинством
голосов (Buchanan, Tullock, 1962 : 63-91). По вертикальной оси от-
кладываются издержки принятия коллективного решения, а количе-
ство людей от 0 до N, чье согласие необходимо для решения пробле-
мы, откладывается по горизонтальной оси. Кривая С представляет
ожидаемые потери полезности, связанные с «победой» решения, ухуд-
шающего положение части членов группы. Кривая D представляет
издержки времени, затрачиваемого на обеспечение большинства, не-
обходимого для принятия решения. Оптимальное большинство — это
такое количество людей, при котором минимизируется сумма обоих
видов издержек. Оно достигается в точке К, где ожидаемые выгоды
от уточнения решения как раз равны ожидаемым затратам времени,
необходимым для такого уточнения.
Число индивидов, чье согласие
требуется для принятия
коллективного решения
Рнс. 12.1. Выбор оптимального большинства.
Простое большинство
как оптимальное большинство
До сих пор у нас не было оснований считать, что K/N = 1/2
должно быть оптимальным большинством, но в действительности
это так. Для того чтобы данное правило принятия решений было
оптимальным для широкого класса решений, в одной из кривых
функций издержек должен быть изгиб в точке N/2 (Buchanan, Tul-
lock, 1962 : 81). Объяснить изгиб кривой D в точке N/2 можно на
основе рассмотрения внутреннего развития электората. Когда менее
половины его членов оказывается достаточно для принятия реше-
ния по какому-то вопросу, существует возможность того, что прой-
дут два противоположных предложения, а это приведет к отклады-
ванию окончательного решения на более поздний срок. Простое
большинство представляет собой наименьшее большинство, необхо-
димое для того, чтобы избежать возможности прохождения взаимо-
исключающих вариантов решения проблем (Reimer, 1951). Возмож-
ность принятия взаимоисключающих решений поднимает кривую D
влево от K/N = 0.5. Однако данное изменение приводит к смеще-
нию точки оптимального большинства только в том случае, если
минимум суммы С + D и так был слева от точки K/N = 0.5. Таким
образом, простое большинство является оптимальным для группы,
для которой альтернативная стоимость времени имеет относитель-
но большое значение.
256
Денис Мюллер
Правило большинства и перераспределение
Когда проблемы могут быть решены при отсутствии всеобщего
согласия, разграничение аллокационной эффективности и перерас-
пределения стирается. Положение некоторых ухудшается благодаря
принятию того, а не иного решения, а это приводит в движение пере-
распределительные процессы. Вертикальная и горизонтальная оси на
рис. 12.2 представляют ординалистские функции полезности для бо-
гатых и бедных. Все члены каждой группы имеют идентичные пред-
почтения. Первоначальная ситуация (производятся только частные
блага) характеризуется точкой Е. Производство общественных благ
увеличивает полезность индивидов обеих групп, что выражается в
виде смещения границы благосостояния по Парето в положение XYZW.
В условиях полного единогласия обе группы индивидов должны ока-
заться богаче благодаря наличию общественных благ, а значит, голо-
совать за их производство. Поэтому для случая полного единогласия
конечный результат должен характеризоваться точкой, находящейся
в сегменте YZ границы благосостояния по Парето.
Однако когда действует правило большинства, мы не можем
ожидать, что точка, характеризующая конечный результат, окажется
на данном участке кривой. Объединившиеся в коалицию члены мо-
гут принять такое решение, которое увеличит их выгоду за счет
Теория общественного выбора 257
нечленов коалиции. Если бы большинство составляли богатые, можно
было бы ожидать, что они будут стремиться связать предложение
общественных благ с достаточно регрессивным налогообложением
так, чтобы точка, характеризующая результат, сместилась в сегмент XY.
Если бы большинство составляли бедные, налогообложение было бы
достаточно прогрессивным, так что рассматриваемая точка оказалась
бы в сегменте ZW. Таким образом, при наличии возможностей кор-
ректировать объем предлагаемых общественных благ, структуру на-
логообложения или и то и другое можно ожидать, что точка конечно-
го результата окажется за пределами предпочтительного по Парето
сегмента YZ (Davis, 1970).
Процесс трансформации решения, основанного на единогласной
поддержке, в решение по правилу простого большинства напоминает
ситуацию, описываемую Райкером (Riker, 1962), который занимает
радикальную позицию, заявляя, что политика ограничивается только
процессами перераспределения. Политика представляет собой яркий
пример игры с нулевой суммой (Riker, 1962 : 29-31). Поскольку сред-
ства проигравших являются источником доходов для победителей,
последние оказываются тем богаче, чем больше будет группа проиг-
равших. В условиях правила большинства это означает, что группа
проигравших будет расти до тех пор, пока большинство не окажется
минимально достаточным для принятия решений.
Зацикливание
Возможность того, что правило большинства ведет к «зацикли-
ванию», была обнаружена почти два столетия назад маркизом де Кон-
дорсе (marquis de Condorcet, 1785). Столетием позже Доджсон (Dodgson,
1876) возобновил исследования данной темы, которая начиная с ра-
бот Блэка (Black, 1948b) и Эрроу (Arrow, 1951) превратилась в одну
из главных тем литературы по теории общественного выбора. Рас-
смотрим трех избирателей, у каждого из которых имеются свои пред-
почтения относительно трех вариантов решения какого-либо вопроса,
представленных в табл. 12.2 (знак > указывает на направление пред-
почтений). X предпочтительнее, чем У, У предпочтительнее Z, a Z
отдается предпочтение перед X. Попарное голосование в данном слу-
чае превращается в бесконечный цикл. Правило большинства не может
определить победителя, если не прибегать к произволу.
Если X, У и Z — это убывающие размеры расходов на обществен-
ные блага, тогда предпочтения 1-го и 3-го избирателей имеют одну
точку максимума на графике, где по вертикальной оси представле-
на полезность, а по горизонтальной — объем общественных благ
(рис. 12.3). Однако предпочтения 2-го избирателя характеризуются
двумя точками максимума, в чем и кроется причина описанного
цикла. Изменение шкалы предпочтений 2-го избирателя (например,
18 Заказ № 356
258
Денис Мюллер
Таблица 12.2 Z > У > X), в результате кото- рого график имел бы одну точ- ку максимума, привело бы к ис-
Избиратель Вариант решения
1 2 3 йет-х: Г г- .-ТИЧ X Y Z X > < .< ( Ю «В чезновению «зацикливания». У был бы предпочтительнее обоих других вариантов, т. е. и X, и Z, что означало бы возможность до-
ОП $ £>Я1 стижения равновесия в точке
Все вместе к > > >кс > максимума кривой предпочтений
медианного избирателя (Black, 1948а).
Если бы все проблемы имели одно измерение, то многовершин-
ный график предпочтений, типа изображенного на рис. 12.3 был бы
весьма маловероятным и, следовательно, вряд ли бы «зацикливание»
представляло собой серьезную проблему. Однако в мире, имеющем
много измерений, ситуация с предпочтениями, подобными тем, что
представлены в табл. 12.2, кажется вполне правдоподобной. Напри-
мер, X, Y и Z могут быть голосами за то, чтобы соответственно вырыть
на некоем клочке земли бассейн, использовать его в качестве теннис-
ного корта или бейсбольной площадки. Каждый голосующий мог
Рис. 12.3. Предпочтения избирателей, порождающие «зацикливание».
Теория общественного выбора
259
бы иметь одновершинные графики предпочтений относительно того,
сколько должно быть потрачено на каждый вид деятельности, и все
же в отношении предпочитаемого способа использования земли име-
ло бы место зацикливание.
Много сил было потрачено на то, чтобы определить условия, при
которых правило большинства обеспечивает равновесие. Предложен-
ная Блэком теорема медианного избирателя была обобщена Плоттом
(Plott, 1967), который доказал, что равновесие при правиле большин-
ства существует тогда, когда оно представляет собой максимум для
одного (и только одного) индивида, а остальные индивиды могут быть
разбиты на пары с диаметрально противоположными интересами.
Позднее Крамер (Kramer, 1973) доказал, что если каждый индивид
имеет обычную выпуклую карту безразличия при некотором бюджет-
ном ограничении, правило большинства со всей определенностью
обеспечит равновесие только в случае, если все индивиды располага-
ют идентичными картами безразличия, или, как об этом писал Кра-
мер, когда существует «полное единогласие между индивидами отно-
сительно порядка предпочтений» (Kramer, 1973 : 295).
Таким образом, мы возвращаемся к условию единогласия. Если
мы пытаемся определить предпочтения в отношении общественных
благ, то голосование, видимо, должно пройти следующим образом.
Достижение единогласия, возможно, могло бы потребовать бесконеч-
ного числа пересмотров проблемы до тех пор, пока не было бы приня-
то решение, устраивающее всех. Каждое новое предложение отверга-
ли бы до тех пор, пока не была бы достигнута такая точка на границе
благосостояния по Парето, что никакое новое предложение не могло
бы склонить никого из избирателей проголосовать против принятого
решения, это означало бы прекращение дебатов по данному вопросу.
Количество пересмотров решения какой-либо проблемы, осуществля-
емых до тех пор, пока большинство не достигнет согласия, может
быть сокращено путем уменьшения размеров большинства, требуемо-
го для принятия решения. Это может «ускорить» получение первого
приемлемого большинства, но процесс принятия решения замедляет-
ся все больше и больше по мере приближения к последнему приемле-
мому большинству, самому предпочтительному из всех, поскольку в
случае, когда принятие решения не требует полного единогласия, по-
ложение некоторых ухудшается. Фактически речь идет о перераспре-
делении дохода и (или) богатства от противников какого-либо предло-
жения к его защитникам. Как и при всякой мере, связанной с пе-
рераспределением, пересмотр любой проблемы предполагает перемещение
выгод от одних к другим, в результате чего возникает новая выигры-
вающая коалиция. Предлагаемое Плоттом условие «совершенного
баланса» обеспечивает равновесие в условиях правила большинства
на основе предпосылки о строгой симметрии в распределении пред-
почтений, предполагающей, что любой пересмотр решения всегда свя-
260
.Денис Мюллер
зан с симметричным и компенсирующим перераспределением вы-
год. Условие Крамера относительно «идентичных функций полезно-
сти» вообще исключает какой-либо конфликт и, таким образом, сни-
мает все проблемы, связанные с перераспределением.
Манипулирование повесткой дня
кот
Мак-Келви (McKelvey, 1976) первым установил, что когда инди-
видуальные предпочтения при «искреннем» голосовании по правилу
большинства порождают «зацикливание», конечное решение пробле-
мы зависит от индивида, определяющего повестку дня. Доказатель-
ство данной теоремы состоит из двух частей. Во-первых, утверждает-
ся, что в условиях, когда имеет место «зацикливание», возможно пе-
ремещение решения на произвольно большое расстояние d от любой
начальной точки S. Пусть А, В и С на рис. 12.4 — оптимальные
состояния для трех избирателей, а точка S — исходное положение.
Если каждый индивид «искренне» голосует относительно каждой
пары вариантов, возможно трехшаговое передвижение решения из
точки S в точку Z, затем в точку Z', а оттуда в точку Z". Данный
процесс может продолжаться то тех пор, пока кто-либо не удалится на
желаемое расстояние d от точки S. Если бы точка А представляла
оптимум для индивида, определяющего повестку дня, он мог бы за-
ставить «электорат», решающий вопросы по правилу большинства,
выбрать наиболее предпочтительную для себя точку А, установив зна-
чение d достаточно большим, для того чтобы большинство предпоч-
Рис. 12.4. Возможности манипулирования повесткой дня.
Теория общественного выбора
261
ло А точке, находящейся от S на расстоянии d. Затем он может
сохранять эту ситуацию, не предлагая вариантов, которые большин-
ство предпочло бы А.
Существуют два важных вывода из теоремы Мак-Келви. Первый
состоит в том, что устанавливающий повестку дня может обладать
весьма значительной властью. Всякий раз, когда данной властью
облекается индивид или группа лиц, необходимы соответствующие
предупредительные меры против того, чтобы они не получали непро-
порционально большую долю выгод от того или иного коллективного
действия. Во-вторых, существование «цикла голосования» порождает
определенную степень непредсказуемости относительно результатов
голосования, что создает для некоторых стимулы манипулировать
данным процессом с целью извлечения выгоды.
Теорема Мэя о правиле большинства
В литературе, посвященной «зацикливанию», опровергается
точка зрения, согласно которой правило большинства представляет
собой короткий путь к устранению разногласий, а в литературе,
где рассматриваются проблемы манипулирования повесткой дня,
поднимаются довольно непростые вопросы нормативного характера.
И все же когда учащимся, не знакомым с теорией общественного
выбора, задают вопрос о причинах популярности правила большин-
ства, они обычно упоминают такую его черту, как соответствие
принципам справедливости и равенства. Данная точка зрения по-
лучила теоретическое обоснование в работе Мэя (Мау, 1952), кото-
рый доказал, что функция осуществляемого группой выбора из
двух вариантов (х, у) по правилу большинства эквивалентна четы-
рем аксиомам. Будучи представлены в неформальном виде, данные
аксиомы выглядят так.
1. Однозначность: для заданного набора предпочтений функция
решения группы означает выбор х или у как наилучшего элемента
либо указывает на равнозначность обоих вариантов.
2. Анонимность: «сдвиг» предпочтений одного из членов сооб-
щества, скажем, от xPty к yPtx и одновременный обратный сдвиг
любого другого члена (от yPjX к хРр) оставляет конечный результат
для сообщества неизменным.
3. Нейтральность: если х предпочитается у для одного набора
индивидуальных предпочтений и все индивиды ранжируют z и w так
же, как х и у (т. е. xR{y -> zRxw и т. д.), то z предпочитается w.
4. Свойство положительного реагирования: если результатом
коллективного решения является xRy и предпочтения одного из из-
бирателей изменяются от уР,х к xRjj или от х!{у к xPty при неизмен-
ности предпочтений всех прочих избирателей, то в результате кол-
лективное решение должно содержать хРу.
262
Денис Мюллер
Данная теорема представляет собой в высшей степени замеча-
тельный вывод. Если мы начнем с некоего набора всевозможных
правил голосования и определим условия, которым должны удов-
летворять правила голосования, то по мере увеличения этих усло-
вий число жизнеспособных кандидатов, очевидно, будет сокращать-
ся. На основании теоремы Мэя мы можем прийти к выводу, что
при установлении данных четырех условий число возможных пра-
вил голосования сокращается до одного, а именно до правила про-
стого большинства.
Идентичность правила большинства этим четырем условиям
предполагает, что все нормативные черты, которые присущи правилу
большинства (справедливость, равенство), заключены в этих четырех
аксиомах, поскольку последние представляют его оборотную сторону.
Нормативное ядро теоремы заключено прежде всего в аксиомах ано-
нимности и нейтральности.
Нейтральность представляет собой независимость одних пред-
почтений от других предпочтений (Sen, 1970а: 72; Guha, 1972). Ко-
гда речь идет о какой-либо паре вариантов, рассматриваются только
те предпочтения, которые относятся к этой паре. Информация, каса-
ющаяся других предпочтений избирателей, исключается, что устра-
няет одну из возможностей сравнить интенсивности предпочтений.
Нейтральность предполагает, что подход к каждому выбору одинаков
независимо от того, о чем конкретно идет речь. Таким образом, во-
прос о том, какого цвета должны быть лампочки на рождественской
елке, красного или голубого, решается таким же образом, как и во-
прос о том, следует ли конфисковать имущество Джона Доу и распре-
делить его между остальными членами общества, а именно на основе
взвешивания индивидуальных шкал предпочтений.
В то время как аксиома нейтральности означает, что все выборы
рассматриваются одинаковым образом, анонимность предполагает
одинаковый подход к самим избирателям. Можно представить мно-
жество проблем, в отношении которых это целесообразно. Когда речь
идет о том, какого цвета должны быть рождественские лампочки,
изменение предпочтений одного из избирателей от красного к голу-
бому при одновременном изменении предпочтений другого от голубого
к красному, вероятно, не должно повлиять на конечный результат.
Неявно здесь предполагается, что цвет елочных огней имеет пример-
но одно и то же значение для всех избирателей. Данная предпосылка
о равных интенсивностях предпочтений встроена в процедуру голосо-
вания, поскольку выражение предпочтений каждого избирателя не-
зависимо от их силы обозначается как ±1.
Теперь рассмотрим вопрос о том, следует ли конфисковать и
распределить между остальными членами общества собственность
Джона Доу. Процедура голосования, удовлетворяющая условию ано-
нимности, совершенно безразлична относительно того, кто голосует
Теория общественного выбора
263-
по поводу конфискации имущества Джона Доу: он сам или его злей-
ший враг. Когда речь идет о проблемах такого рода, предпосылка о
равных интенсивностях предпочтений, оправдывающая анонимность,
является некорректной.
Теорема Рэ—Тейлора о правиле большинства
Хотя на первый взгляд кажется, что теорема Мэя и теорема,
предложенная Рэ (Rae, 1969) и Тейлором (Taylor, 1969), сильно отли-
чаются друг от друга, в действительности они обнаруживают много
общего.
В качестве основной проблемы Рэ выдвигает выбор оптимально-
го правила голосования индивидом, который находится в неведении
относительно своего будущего положения при соблюдении этого пра-
вила (Rae, 1969 : 43—44). Политику принято рассматривать как игру в
конфликт. Выбирая правило голосования, индивид стремится, с од-
ной стороны, избежать того, чтобы ему был навязан невыгодный для
него вариант, а с другой стороны, навязать другим вариант, предпо-
чтительный для него. Согласно его предположению, выгоды, получа-
емые им благодаря принятию предпочтительного для него варианта,
будут равны убыткам, связанным с вариантом, для него невыгодным,
т. е. между голосующими нет различий в интенсивности предпочте-
ний относительно данной проблемы. Имеет место такое «непредвзя-
тое» предложение вариантов, где существует ранная вероятность как
положительного, так и отрицательного голосования каждого избира-
теля по любому варианту. Исходя из этих предпосылок избиратель,
стремящийся к достижению собственной выгодьц выберет такое пра-
вило, которое минимизирует вероятность того, Что он поддержит ва-
риант, который будет отвергнут. Единственным правилом, удовле-
творяющим этому критерию, является правило большинства.
Пример, предложенный Бэрри (Barry, 1965 : 312), позволяет
полнее оценить эту теорему. Представим себе, что пять человек ока-
зались в купе поезда, где нет каких-либо табличек, запрещающих или
позволяющих курить. В данном случае необходимо принять решение
о том, позволить ли пассажирам, желающим Иурить, делать это в
купе или нет. Предпосылка, согласно которой для некурящих необ-
ходимость переносить дым представляет собой такую же неприят-
ность, как для курящих необходимость воздерживаться от курения,
т. е. предпосылка о равных интенсивностях предпочтения, в данном
случае кажется вполне правдоподобной. Исходя из данной предпо-
сылки и из отсутствия информации о том, является ли пассажир,
выбирающий правило голосования, курящим или нет, правило боль-
шинства представляет наилучшую основу для принятия решения. Оно
максимизирует ожидаемую полезность индивида, принимающего ре-
шение о правиле голосования.
264
Денис Мюллер
Данный пример иллюстрирует как явные, так и неявные пред-
посылки, лежащие в основе теоремы'Рэ—Тейлора. Во-первых, имеет
место конфликтная ситуация. Курящий получает выгоду за счет не-
курящего или наоборот. Во-вторых, при такой ситуации конфликт
оказывается неизбежен. При этом неявно предполагается, что реше-
ние проблемы путем перевода пассажиров одной из категорий в другое
купе невозможно.3 Нет также какой-либо возможности по-иному опре-
делить проблему с тем, чтобы избежать конфликта и достичь едино-
гласия. В такой ситуации необходимо провести голосование. В-чет-
вертых, при выборе варианта обеспечиваются условия случайности
или «беспристрастности». В приведенном примере случайность про-
является достаточно четко, поскольку состав индивидов в купе опре-
деляется совершенно произвольно. Последняя из предпосылок, содер-
жащихся в примере, — это предпосылка о равных интенсивностях
предпочтения. Значение каждой из этих предпосылок для аргумента-
ции в защиту правила большинства можно проиллюстрировать наи-
лучшим образом, если противопоставить их предпосылкам, на основе
которых принято доказывать справедливость антитезиса, а именно
правила единогласия.
Предпосылки, лежащие в основе правила единогласия
Политика, согласно Викселю (Wicksell, 1896), а также Бьюкене-
ну и Таллоку (Buchanan, Tullock, 1962), представляет собой коопера-
тивную игру с положительной суммой. Сообщество — это доброволь-
ное объединение индивидов с целью удовлетворения их общих по-
требностей. Поскольку объединение является добровольным, каждому
члену гарантируется право защищать свои интересы, которые могут
быть противоположными интересам других членов сообщества. Это
право может реализовать каждый индивид благодаря данной ему
правилом единогласия власти налагать вето на любое предложение,
которое противоречит его интересам, или возможности покинуть дан-
ное сообщество.
Поскольку целью коллективного действия является удовлетво-
рение общих потребностей, то естественной будет ситуация, когда
варианты для рассмотрения предлагаются самими членами сообще-
ства. Каждый индивид имеет право предлагать такие варианты, ка-
кие принесут выгоду ему и, с его точки зрения, могут быть выгодны
для остальных. Если первоначальное предложение не получит едино-
гласной поддержки, оно будет корректироваться до тех пор, пока не
будет либо принято, либо снято с повестки дня. Таким образом, пра-
вило единогласия неявно подразумевает, что политический процесс —
3 Рэ (Rae, 1975) делает акцент на данной предпосылке в своей критике
правила единогласия, содержащей неявную защиту правила большинства.
Теория общественного выбора
265
это череда непрестанных дискуссий, компромиссов и поправок, про-
должающихся до тех пор, пока не будет предложен вариант, который
устраивал бы всех. Ключевыми предпосылками, лежащими в основе
такого взгляда на политику, являются, с одной стороны, предположе-
ние, согласно которому игра является кооперативной и с положитель-
ной суммой, а с другой стороны, допущение, в соответствии с кото-
рым процесс может быть завершен в течение разумного периода вре-
мени.
В табл. 12.3 резюмируются предпосылки, которые лежат в осно-
ве правил большинства и единогласия. Они представляют собой не
необходимые и достаточные, а скорее наиболее благоприятные усло-
вия для того, чтобы то или иное правило принятия решений могло
работать. Таблица позволяет четко осознать, что предпосылки, под-
держивающие действие одного правила, прямо противоположны пред-
посылкам, лежащим в основе другого правила.
Правило большинства или правило единогласия:
перераспределительная или аллокационная
эффективность
Следя за дискуссией о правилах большинства или единогласия,
легко можно прийти к выводу, что существует только один тип про-
блем, которые необходимо решать коллективно, и только одно наи-
лучшее правило для принятия коллективных решений. Однако в на-
стоящее время стало очевидно, что процесс коллективного выбора
сталкивается с двумя типами проблем, требующих коллективного
разрешения: проблемами аллокации и перераспределения (Mueller,
1977). Глубокие различия между этими типами проблем предполага-
ют, с одной стороны, что их следует теоретически рассматривать от-
дельно друг от друга, а с другой стороны, что для их разрешения на
практике следует применять различные процедуры коллективного
принятия решений.
Одной из важнейших идей Викселя было разграничение между
аллокационными и перераспределительными решениями, что предпо-
лагает использование различных процедур коллективного принятия
решений. В некотором смысле он намного опередил свое время, по-
скольку не только выдвинул идею о необходимости отдельного рас-
смотрения аллокационных и распределительных проблем, но и утверж-
дал, что для решения проблем распределения правило единогласия
должно уступить дорогу правилу большинства (Wicksell, 1896 : 109,
сноска ш). Однако Виксель не уточнил, как должно использоваться
правило большинства для решения проблем распределения. Что же
касается нормативных соображений относительно использования
правила единогласия при принятии аллокационных решений, то все
они основаны на предпосылке о том, что до принятия коллективных
266
Денис Мюллер
Таблица 12.3
Предпосылки, лежащие в основе правила большинства и правила едино-
гласия
Предпосылки Правило большинства Правило единогласия
1. Характер игры “ Конфликт, нулевая сумма Кооперация, положи- тельная сумма
2. Характер пробле- мы •'О' чг Перераспределение, права собственности (одни по- лучают выгоды, другие несут потери) Взаимоисключающие ва- рианты решения од- номерных проблем6 Увеличение аллокацион- ной эффективности (общественные блага, устранение внешних эффектов) Потенциально многомер- ные варианты, когда все могут оказаться в выигрыше3
3. Интенсивность предпочтений Равная для всех вариан- тов1. Не оговаривается
4. Способ формирова- ния сообщества Вынужденный: набор чле- нов определяется экзо- генно или случайно л Добровольный: объедине- ние индивидов проис- ходит на основе общих интересов и схожих предпочтенийе
5. Условия выхода из сообщества Выход блокирован, дорог ж Выход свободен
6. Варианты решения проблем Предлагаются экзогенно или беспристрастно3 Предлагаются членами со- общества и
7. Корректировка ва- риантов решения проблем Исключена или ограниче- на во избежание зацик- ливания к Эндогенно происходит в сообществе и
“ Buchanan, Tullock, 1962: 253; Buchanan, 1966 : 32-33.
6 Barry, 1965: 312-314; Rae, 1975: 1286-1291.
• Wicksell, 1896 : 87-96; Buchanan, Tullock, 1962 : 80.
r Kendall, 1941 117; Buchanan, Tullock, 1962 : 128-130; Rae, 1969 : 41,
сноска 6.
д Rae, 1975 : 1277-1278.
' Wicksell, 1896 : 87-96; Buchanan, 1949. Безусловно, данная предпо-
сылка является общей для всех договорных теорий государства.
ж Rae, 1975 : 1293.
3 Данная предпосылка неявно содержится в свойстве беспристрастно-
сти, из которого исходят Рэ (Rae, 1969) и Тейлор (Taylor, 1969) в приводи-
мых ими доказательствах, это свойство также можно обнаружить в примере
Бэрри (Barry, 1965, в особенности на с. 313).
и Wicksell, 1896; Kendall, 1941 : 109.
к В неявном виде.
Теория общественного выбора
267
аллокационных решений уже существовало справедливое распреде-
ление.
К сожалению, никто из защитников правила большинства не
внес какой-либо ясности относительно того, как складываются усло-
вия, необходимые для реализации его преимуществ. Печальный
факт состоит в том, что нормативные аргументы в пользу правила
большинства при определении прав собственности и разрешения
проблем распределения точно так же основываются на решениях,
принятых до его употребления, как нормативные аргументы в пользу
применения правила единогласия для разрешения аллокационных
проблем базируются на ранее достигнутом справедливом распреде-
лении дохода. Теорема Рэ—Тейлора предполагает, что процесс явля-
ется беспристрастным в том смысле, что все избиратели имеют
равные шансы на выигрыш при решении любого вопроса и равные
ожидаемые выигрыши (потери) от принятия конкретного решения.
Схожие предпосылки требуются и для того, чтобы придать убеди-
тельность нормативным аргументам в пользу предложенных Мэем
условий анонимности и нейтральности. Однако есть ли какая-либо
гарантия того, что эти условия будут соблюдены? Для того чтобы
реализовать потенциал правила большинства при определении прав
собственности и решении проблем, связанных с перераспределением,
необходим какой-то новый парламентский орган, удовлетворяющий
условиям, соблюдение которых необходимо с точки зрения сторон-
ников этого правила. В данном случае требуется конституционное
решение.
Но какое правило должно использоваться для того, чтобы утвер-
дить этот новый парламентский орган? При использовании правила
единогласия те, кого устраивает существующее положение вещей, могут
воспрепятствовать формированию новой структуры, результаты дей-
ствий которой, хотя и справедливые, вошли бы в противоречие с их
интересами. Однако если будет использоваться правило большинства,
то те, кто находится в меньшинстве, могут оспорить как результаты
процесса распределения, так и процедуру, посредством которой они
были утверждены. Как можно обосновать справедливость перераспре-
делительных решений парламентского органа перед меньшинством,
которое считает, что процедура утверждения нового органа была не-
справедливой, и которое голосовало против него? Данный вопрос ка-
жется вполне уместным в отношении правила большинства, оправда-
ние которого основывается на справедливости процесса предложения
вариантов. Однако то же самое относится и к правилу единогласия,
в оправдание которого указывают на единодушное (хотя и отдален-
ное во времени) согласие относительно определения прав собственно-
сти. В какой-то момент возникает необходимость рассмотреть, как
вводится справедливость в процесс принятия решения и как возника-
ет согласие на этот счет.
268
Денис Мюллер
В данном случае мы сталкиваемся с проблемой бесконечного
регресса. Единственным удовлетворительным способом выйти из этого
затруднения является предположение о том, что в какой-то момент в
прошлом возникло единодушное согласие относительно набора пра-
вил (см. Buchanan, Tullock, 1962 : 6-8). Мы снова поднимем этот
вопрос в разделе 12.5.
Процесс выявления спроса
В одной из своих работ 1954 г. Самуэльсон подверг сомнению
предмет экономики общественного сектора, заявив, что не может
быть такой процедуры, которая позволила бы выявить информа-
цию об индивидуальных предпочтениях, необходимую для опре-
деления Парето-оптимальных количеств общественных благ (Sa-
muelson, 1954 : 182). Влияние данной статьи оказалось настолько
велико, что впоследствии целое поколение экономистов ограничи-
лось простым повторением самуэльсоновского приговора и выра-
жало сожаление относительно отсутствия удовлетворяющей проце-
дуры выявления индивидуальных предпочтений. Однако позднее,
в 1970-е гг., внезапно произошла революция. Одна за другой стали
возникать процедуры, претендующие на решение проблемы выявле-
ния предпочтений.
Для того чтобы понять, как происходит процесс выявления
спроса,4 рассмотрим выбор между вариантами Р и S. Предположим,
что сообщество состоит из трех человек с предпочтениями, пред-
ставленными в табл. 12.4. А ожидает, что в случае победы варианта
Р его выигрыш составит 30 долл., С ожидает, что при том же
развитии событий он станет богаче на 20 долл., а В предпочитает
вещей S, при котором его благосостоя-
ние повысится на 40 долл. Процедура
требует, чтобы каждый избиратель из-
мерил в долларах выгоды от предпо-
чтительного для него варианта, а затем
эти числа суммируются и объявляет-
ся вариант с наибольшими выгодами.
В представленном примере таким ва-
риантом является Р, поскольку он дает
выигрыш в 50 долл, избирателям А и
С, тогда как S дает выгоду для В толь-
ко в размере 40 долл.
существующее положение
Таблица 12.4
Избиратель Вариант Налог
Р S
А 30 20
В 40 0
С 20 10
Итого: 50 40 30
4 Эта процедура была впервые описана Викри (Vickrey, 1961) с важны-
ми последующими дополнениями Кларка (Clarke, 1971, 1972) и Гроувса
(Groves, 1973). Тайдман и Таллок (Tideman, Tullock, 1976) дали прекрасное
изложение процедуры Кларка.
Теория общественного выбора
269
Избирателей побуждают показать свои истинные предпочтения
относительно ситуации путем обложения их налогом, который зави-
сит от их ответов и от влияния этих ответов на конечный результат.
Этот налог рассчитывается следующим образом. Вначале для каждо-
го избирателя суммируются выраженные в долларах голоса всех осталь-
ных избирателей и определяется конечный результат. Далее прибав-
ляется выраженный в долларах голос данного избирателя с тем, что-
бы посмотреть, повлияет ли это на результат. Если нет, он налог не
платит. Если да, то он платит налог, равный суммарному чистому
выигрышу, ожидаемому от победы другого варианта при отсутствии
его голоса. Таким образом, избиратель платит налог только тогда,
когда его голос оказывается решающим в определении результата, и
платит не ту величину, которую он декларирует, а величину, необхо-
димую для уравновешивания декларируемых выгод от обоих вариан-
тов. Последняя колонка табл. 12.4 представляет налоги для трех из-
бирателей.
Соответствующая система налогов создает стимул для избира-
телей раскрывать свои истинные предпочтения относительно пред-
лагаемых вариантов. Любая величина выгод от Р, которую деклари-
рует избиратель А, равная или превышающая 21, не привела бы к
изменению коллективного решения или налога, который ему при-
шлось бы платить. Но если бы он заявил, что чистые выгоды для
него меньше 20, победил бы вариант S, в этом случае налог на А
упал бы с 20 долл, до нуля, однако он утратил бы и свою выгоду
в 30 долл. Голосующий платит налог только в том случае, если его
голос является решающим, а величина налога всегда меньше либо
равна получаемым им выгодам. Таким образом, отсутствует сти-
мул приуменьшать свои выгоды, поскольку возникает риск упус-
тить свой шанс подать решающий голос в пользу варианта, где
выгоды превышают издержки. Также отсутствуют стимулы завы-
шать свои предпочтения, поскольку это создает риск подать реша-
ющий голос в пользу избрания такого варианта, при котором на-
лог будет превышать фактические (а не декларируемые) выгоды.
Поэтому оптимальной стратегией является честное выявление сво-
их предпочтений.
Как и предполагает само название процедуры, она может вы-
явить функции индивидуального спроса. Здесь равновесные количе-
ства выбираются так, чтобы удовлетворялись предложенные Боуэном
(Bowen, 1943) и Самуэльсоном (Samuelson, 1954) условия Парето-оп-
тимальности. Гроувс и Ледьярд (Groves, Ledyard, 1977) сделали важ-
ный вклад, предложив такую процедуру, где поочередно складывают-
ся «мнения» всех голосующих и находится равновесное количество
общественных благ, при котором величина налогов, стимулирующих
правильные ответы, равна нулю.
270
Денис Мюллер
Голосование по очкам
Необходимость устанавливать специальный налог, который
стимулировал бы честное выявление предпочтений, означает, что
нормативные характеристики процесса выявления спроса зависят
от первоначального распределения дохода. Данное затруднение мо-
жет быть преодолено, если каждый избиратель будет располагать
определенным запасом «голосующих» денег, которые не обладают
никакой иной ценностью, кроме того что являются средством вы-
явления предпочтений в отношении общественных благ. Первона-
чальное распределение голосующих денег может соответствовать
любому нормативному критерию, которому отдано предпочтение.
В данном случае имеет место итеративная процедура. Аукци-
онист первым предлагает вектор количеств общественных благ.
Цены их (в виде налогов) для каждого индивида фиксированы и
известны. Каждый распределяет свой запас голосующих очков в
соответствии с интенсивностью своих предпочтений, выявляя тем
самым, желает ли он увеличить или сократить количество данного
общественного блага. Затем аукционист суммирует очки по опреде-
ленному правилу и объявляет новый вектор количеств. При этом
предложение тех общественных благ, количество которых в соот-
ветствии с набранными голосующими очками следует увеличить,
возрастает, а предложение общественных благ, набравших меньшее
число очков, сокращается. Предшествующий анализ голосования
по очкам обнаружил, что индивиды завышают оценку наиболее
интенсивных из своих предпочтений, если аукционист просто сум-
мирует очки (Philpotts, 1972; Nitzan et. al., 1980; Nitzan, 1985).
Однако Хилланд и Цекхаузер (Hylland, Zeckhauser, 1979) показали,
что когда аукционист складывает квадратные корни голосующих
очков каждого индивида, избиратели распределяют очки таким
образом, что процедура движется в сторону вектора Парето-опти-
мальных количеств общественных благ.
Голосование посредством наложения вето
Процедуры выявления спроса и голосования по очкам вызывают
некоторые аналогии с рыночным механизмом; реальные или «голосу-
ющие» деньги используются для выражения предпочтений, а равно-
весие достигается посредством процесса нащупывания (tatonnement).
С точки зрения благосостояния свойства этих процедур отчасти зави-
сят от неявных межличностных сравнений кардинальных полезно-
стей, основу для которых дает суммирование голосов, выраженных в
долларах или очках. В противоположность этому голосование посред-
ством наложения вето требует использования только информации об
Теория общественного выбора
271
ординальных полезностях. Парето-оптимальность достигается, как и
в случае с правилом единогласия, через отказ от всех худших по
Парето вариантов. Данная процедура отличается от двух обсуждав-
шихся до этого правил также тем, что позволяет определить как ко-
личество общественного блага, так и распределение налогового бре-
мени, связанного с его финансированием.
Голосование посредством наложения вето Проводится в два
этапа.5 На первом этапе каждый индивид предлагает свой вари-
ант. В конце этого этапа существует набор п + 1 предложений, со-
стоящий из предложений п членов сообщества и статус кво s (то,
что было сделано в прошлом году, нулевой уровень всех обще-
ственных благ и т. п.). Затем случайным образом определяется
порядок голосования посредством наложения вето. Данный поря-
док объявляется всем членам сообщества. Тот индивид, кому в
ходе случайного процесса выпало право вето, начинает, исключая
одно из предложений, составляющих набор п + 1. Второй избира-
тель исключает одно из оставшихся п предложений. Данный про-
цесс продолжается до тех пор, пока все члены сообщества не исклю-
чат по одному из предложений. Единственное не исключенное пред-
ложение, оставшееся в наборе, объявляется избранным.
Стадия голосования посредством наложения вето исключает
наихудшие варианты в иерархии предпочтений каждого избирателя.
Таким образом, процедура имеет тенденцию к отбору предложения,
находящегося в центре (или поблизости от центра) распределения
наиболее предпочтительных для общества вариантов. Знание данного
свойства процедуры стимулирует индивидов увеличивать вероятность
прохождения своих предложений следующим образом: они вносят
такие предложения, которые находятся где-то посередине между их
собственным наиболее предпочтительным вариантом и центром рас-
пределения самых предпочтительных для общества вариантов. В ре-
зультате выбирается предложение медианного (среднего) избирателя,
что аналогично правилу большинства.
Сравнение трех процедур
Когда Самуэльсон утверждал, что решение проблемы выявления
индивидуальных предпочтений в отношении общественных благ не-
возможно, он исходил из предположения о том, что доля издержек
индивида была бы привязана к заявляемому им предпочтению отно-
сительно общественного благ (Samuelson, 1954 : 182). Процессы вы-
5 Данная процедура впервые обсуждалась в работе Мюллера (Mueller,
1978) с дальнейшим развитием в следующих работах: Moulin, 1979, 1981а, Ь,
1982; Mueller, 1984.
272
Денис Мюллер
явления спроса и голосования по очкам решают проблему раскрытия
предпочтений, разрывая связь между заявляемыми предпочтениями
и долей в издержках. Это достигается и с помощью других схожих
процессов, подобных предложенному Смитом (Smith, 1977) механиз-
му аукциона.
Несмотря на то что эти процессы не предполагают прямой связи
между долей издержек избирателя и заявляемыми им предпочтени-
ями в отношении общественных благ, они все-таки создают некото-
рые издержки для избирателя, необходимые для изменения решения
общества. Схемы выявления спроса и голосования по очкам требуют
того, чтобы избиратель расходовал реальные или «голосующие» день-
ги для изменения конечного результата. При голосовании посред-
ством вето налагаемые вето не являются бесплатными благами, как в
случае с правилом единогласия. Каждый индивид имеет право толь-
ко на одно предложение и только на одно вето.
В викселианской традиции каждая процедура предполагает, что
ключевые проблемы справедливости решены еще до запуска этих
процедур. Индивидуальные доли издержек на общественные блага
заранее известны как при выявлении спроса, так и при голосовании
по очкам. При выявлении спроса результат также зависит от перво-
начального распределения дохода. При голосовании по очкам —
от распределения голосующих очков. Голосование посредством нало-
жения вето позволяет обойти проблему первоначального распределе-
ния доходов.
Предложения отличаются друг от друга тем, как распреде-
ляются выигрыши от коллективного действия. Процесс выявле-
ния спроса заставляет индивидов двигаться вдоль своих кривых
спроса и позволяет максимизировать сумму своих потребительских
излишков. Выгоды от коллективного действия распределяются в
пользу тех, чья доля в издержках на общественные блага является
наименьшей, а первоначальные доходы наиболее высоки. При го-
лосовании по очкам выгоды получают те, у кого наименьшие пер-
воначальные налоговые доли и наибольшие запасы голосующих
очков. Голосование посредством наложения вето ассоциируется с
процедурой деления пирога, что вытекает из случайного опреде-
ления порядка наложения вето. Выгоды от коллективного дей-
ствия имеют тенденцию уравниваться между индивидами, и норма-
тивные характеристики процесса вытекают из этого эгалитарного
свойства.
Хотя у каждой из рассмотренных процедур есть свои слабые
места, все они дают гарантию того, что запутанная проблема выявле-
ния предпочтений в ходе коллективного выбора может быть решена
как в теоретическом, так и в практическом плане.
ТеорШр&бщвственного выбора М*
12.4. Общественный выбор
В условиях представительной демократии
Конкуренция двух партий —
детерминированное голосование
При большом числе избирателей и требующих решения про-
блем прямая демократия невозможна и возникает необходимость отбора
представителей теми или иными средствами. Теория общественного
выбора фокусирует внимание на трех аспектах представительной де-
мократии: поведении представителей как в период избирательной
компании, так и в процессе самой работы, поведении избирателей в
процессе выбора представителей и характеристике результатов, к
которым приводит представительная демократия. Предполагается, что
представители, так же как и избиратели, являются рациональными
экономическими «человеками», стремящимися к максимизации сво-
ей полезности. Даунс (Downs, 1957 : 28) так изложил «фундаменталь-
ную гипотезу (своей) модели: партии скорее формируют политику с
целью победы на выборах, а не выигрывают выборы с целью проведе-
ния политики», и подобные предпосылки обычно принимались в тео-
ретической литературе.
Вслед за Хотеллингом (Hotelling, 1929) Даунс представил поли-
тическую позицию как точку либерально-консервативной (левой-пра-
вой) оси. Каждый избиратель имеет наиболее предпочтительную по-
зицию на этой оси, которой и должен соответствовать его кандидат.
Чем дальше кандидат «отстоит» от данной позиции, тем менее жела-
тельным является его избрание для избирателя. Таким образом, мо-
дель Хотеллинга—Даунса предполагает одновершинный график пред-
почтений. Если каждый избиратель голосует за самого близкого к
наиболее предпочтительной для него позиции кандидата, то в случае
с двумя кандидатами оба кандидата будут смещаться в сторону той
позиции, которая наиболее предпочтительна для медианного избира-
теля. Конечный результат напоминает теорему Блэка для прямой
демократии, согласно которой отбираются варианты, предпочитаемые
медианным избирателем. В модели Хотеллинга—Даунса есть только
одна требующая решения проблема: как далеко слева или справа по
своим политическим взглядам будет находиться избранный кан-
дидат?
Если все избиратели голосуют, то независимо от распределения
предпочтений в итоге будет получен медианный результат. Однако
результат может быть иным в случае, если распределение предпо-
чтений избирателей асимметрично либо имеет место несколько пиков
и избиратели воздерживаются от голосования вследствие чувства
отчуждения. Когда распределение асимметрично, но имеет один пик
и избиратели испытывают отчуждение, поскольку кандидаты «от-
19 Заказ № 356
274
Денис Мюллер
даляются» от них, то оптимальная позиция для кандидата будет сдви-
гаться к моде (Сошапог, 1976). Если распределение предпочтений из-
бирателей имеет два пика, то отчуждение избирателей может «увес-
ти» кандидата с медианной позиции в сторону одного из пиков (Downs,
1957 118-122). Однако это не обязательно. Если отчуждение доста-
точно слабо, медианный результат может остаться неизменным или
в данном случае вообще не будет никакого устойчивого набора стра-
тегий. Такова сила стремления к середине в рамках двухпартийной
системы, когда «победитель получает все» (Davis et al., 1970).
Выводы о нестабильности равновесия при правиле большинства
в мире с несколькими измерениями могут быть прямо перенесены на
случай представительной демократии (Downs, 1957 : 54-62). Пробле-
ма кандидата, который должен выбрать платформу с многими изме-
рениями, которая победит другие платформы, имеет тот же характер,
что и нахождение варианта в многомерном пространстве, который
побеждает все другие варианты в условиях правила большинства. Когда
все избиратели голосуют, то, по всей вероятности, не существует плат-
формы, которая победила бы все остальные. Поскольку избранные
кандидаты обязаны в какой-то мере и дальше придерживаться перво-
начальной платформы, претенденты получают преимущество, оста-
навливая свой выбор на второй выигрышной платформе. Цикл в
двухпартийной системе должен выглядеть как постоянная смена
партий у власти.
Конкуренция двух партий — вероятностное голосование
Проблема зацикливания преследовала теорию общественного
выбора с момента ее появления. Цикл привносит в результаты поли-
тического процесса неопределенность и непоследовательность, что
значительно ограничивает возможность исследователей предсказать
результаты и определить их нормативные характеристики. Теорема
медианного избирателя предлагает выход из этой ситуации неопреде-
ленности, за который ухватились многие тяготеющие к эмпириче-
ским методам исследователи. Однако равновесие медианного избирате-
ля предполагает сохранение неправдоподобной предпосылки о том, что
все пространство вариантов имеет одно измерение (Hinich, 1977).
Недавно несколько авторов смоделировали политический про-
цесс на основе предпосылки о «вероятностном голосовании» и дока-
зали, что конкуренция кандидатов ведет к равновесным результатам
с довольно привлекательными нормативными характеристиками (см.,
в частности, Coughlin, Nitzan, 1981; Ledyard, 1984). Модели с вероят-
ностным голосованием кажутся правдоподобными при условии, что
кандидаты не располагают информацией о предпочтениях избирате-
лей, а избиратели не знают платформы кандидатов или их выбор
определяется какими-либо внешними факторами (например, идеоло-
Теория общественного выбора
275
гией, ошибками). Будучи использованными для анализа того, как
голосует группа лиц с однородными предпочтениями (скажем, группа
фермеров), модели вероятностного голосования предполагают, что
кандидат увеличивает поданную за него долю голосов фермерской
группы благодаря большему количеству обещаний, выданных этой
группе. Модели детерминированного голосования предполагают, что
все избиратели определенной группы проголосуют за кандидата, обе-
щающего им наибольшие выгоды.
Используя модель вероятностного голосования, Кафлин и другие
(Coughlin et al., 1990) показали, что конкуренция за голоса стимули-
рует кандидатов выбирать те платформы, которые неявно максимизи-
руют аддитивную функцию благосостояния, хотя в последней различ-
ные группы интересов наделяются разными весами. Однако данное
свойство поднимает важные вопросы нормативного характера, каса-
ющиеся равновесия, достигаемого в процессе конкурентной борьбы за
голоса. Когда кандидаты не знают, как проголосуют различные груп-
пы, и эти группы имеют различные возможности повлиять на канди-
датов, то выгоды индивида от политической конкуренции зависят от
того, к какой группе интересов он принадлежит. Эгалитаризм, прису-
щий системе «один человек — один голос», исключается, когда груп-
пы интересов действуют в качестве посредников между кандидатами
и избирателями.
Качество голоса
Вероятностные модели голосования дают гарантию того, что де-
мократические институты могут достичь приемлемых в нормативном
плане результатов. Однако предпосылка вероятностного голосования
представляет собой обоюдоострый меч. Начисто устраняя зациклива-
ние, она одновременно подтачивает нормативный авторитет агрегиро-
ванных предпочтений, поскольку предполагает состояние неопределен-
ности у части кандидатов относительно предпочтений избирателей, или
у избирателей относительно позиции кандидатов, или и то и другое,
вместе взятое. В конечном счете это поднимает вопрос о количестве и
качестве информации, доступной кандидатам и избирателям.
Одним из важнейших вкладов Даунса в политологию было по-
нятие «рационального неведения».® Когда число избирателей доста-
точно велико, вероятность того, что один голос повлияет на результат,
очень незначительна. Осознавая это, рациональные избиратели не
тратят время и деньги на сбор информации о кандидатах. Они оста-
ются в «рациональном неведении». Если такое описание информиро-
® Хотя понятие «рационального неведения* в политологию ввел Даунс,
надо заметить, что эта идея была очень четко представлена в классическом
шумпетеровском анализе демократии (Schumpeter, 1950 : 256-264).
276
Денис Мюллер
ванности избирателей является корректным, как об этом свидетель-
ствуют данные многочисленных опросов, тогда не совсем ясно, какие
измерения имеет политическое пространство, в котором конкуриру-
ют кандидаты.
Связанную с этим проблему подняли Бреннан и Бьюкенен (Bren-
nan, Buchanan, 1984). Они сравнивают участие избирателя в процессе
голосования с «участием» болельщика в спортивном матче. Присут-
ствуя на матче и приветствуя одну из команд одобрительными возгла-
сами, болельщик выражает свое предпочтение по отношению к ней.
Однако он не предполагает, что его моральная поддержка команды
увеличит ее шансы на успех.
Голосование, подобно поддержке любимой команды, представля-
ет собой скорее экспрессивный, чем инструментальный акт. Когда
индивид «голосует» за марку «Форд», покупая автомобили этой ком-
пании, а, скажем, не «Тойоты», его решение является инструменталь-
ным, т. е. приводит к конечному результату. Он ездит на «Форде». Но
голос за кандидата Форда против кандидата Картера не имеет ника-
ких последствий для результатов голосования. То, что один голос
ничего не значит в определении конечного результата, дает основание
индивиду руководствоваться при выборе кандидатов сколь угодно
случайными и не относящимися к делу соображениями. Даже если
политическая конкуренция способствует достижению максимума бла-
госостояния, основанного на выраженных предпочтениях избира-
телей, все еще остается нерешенным вопрос: что выражают эти пред-
почтения?
Соискание ренты (rent-seeking)
В традиционных дискуссиях о монополии потребительский из-
лишек, относящийся к невыпущенной продукции, рассматривается
как потери от монополии, а прямоугольник, представляющий при-
быль (ренту), — как чистое перераспределение дохода от потреби-
телей к монополисту. Предположим, однако, что монополия есть
результат действий государства. Скажем, авиакомпания может по-
лучить от государства монополию на обслуживание какого-либо мар-
шрута. Если этот маршрут может обслуживаться более чем одной
авиакомпанией, то монопольная рента представляет собой приз,
которым вознаграждается авиакомпания, преуспевшая в своих по-
пытках повлиять на правительство с тем, чтобы получить от него
монополию. Авиакомпании будут осуществлять специальные инвес-
тиции, чтобы увеличить вероятность получения ими монополии.
Таллок (Tullock, 1967) первым выдвинул идею о том, что эти инвес-
тиции представляют собой общественные издержки существования
монополии в дополнение к треугольнику, изображающему потерян-
ный потребительский излишек.
Теория общественного выбора
277
Бьюкенен (Buchanan, 1980 : 12-14) выделил три типа расходов,
направленных на соискание ренты:
1) усилия и расходы потенциальных получателей монополии;
2) усилия государственных чиновников, связанные с превраще-
нием в свои доходы расходов потенциальных монополистов или с
иной реакцией на эти расходы;
3) искажения, вносимые в результаты деятельности третьих лиц
самой монополией или государством, как последствия соискания
ренты.
Можно представить следующие примеры каждого из этих типов
расходов.
1) Авиакомпании нанимают лоббистов с целью подкупа должност-
ного лица, в ведении которого находится выдача монополий на мар-
шрут.
2) Поскольку взятки представляют собой дополнение к доходу
этого должностного лица, то чиновники, занимающие более низкие долж-
ности, инвестируют свое время в изучение деятельности авиакомпаний,
чтобы увеличить свои возможности занять впоследствии его место.
3) Дополнительные доходы государства от создания монополии
порождают конкуренцию среди других групп интересов с целью полу-
чения субсидий.
Государственное регулирование цен и объемов выпуска представ-
ляет собой наиболее яркий пример той сферы, где происходит соис-
кание ренты. Познер (Posner, 1975) дал оценку социальных издержек
соискания ренты, связанного с регулированием, в шести отраслях биз-
неса: услуги врачей, зрелища, производство молочных продуктов, ав-
томобильный транспорт, добыча и переработка нефти и воздушный
транспорт. Исходя из предпосылки о том, что весь прямоугольник
ренты превращается в расходы на ее соискание, общие потери, состо-
ящие из расходов на соискание ренты и потери части потребительско-
го излишка, оцениваются по разным отраслям от 10 до 60% от обще-
го объема продаж при различных значениях эластичности спроса.
Тарифы и квоты представляют собой другую форму защиты от
конкуренции, получаемой от государства избранными отраслями.
В своей новаторской работе Крюгер (Krueger, 1974 : 55-57) исследова-
ла соискание ренты, имевшее место в Индии в связи с выдачей им-
портных и прочих лицензий, и оценила потенциальные убытки для
1964 г. в 7,3% национального дохода. В 1968 г. импортные лицензии
в Турции привели к растрате ресурсов, эквивалентной 15% ВНП.
г чг
'Г”-' Предложение государственных услуг
п
В предыдущих разделах индивидуальные предпочтения отдельно
взятого избирателя или члена группы интересов определяли деятель-
ность государственного сектора. Государство, подобно рынку, рас-
278
Денис Мюллер
сматривалось просто как институт, занимающийся суммированием
значений индивидуального спроса на ту или иную государственную
политику. Все помыслы кандидатов направлены на то, чтобы быть
избранными. В конкурентной политической системе те, кто находит-
ся в правительстве, являются пешками в руках внешних сил. Только
в литературе, посвященной соисканию ренты, мы можем узнать о
другой стороне государства. Политики также могут стремиться к бо-
гатству и досугу. Их предпочтения могут определять результаты дея-
тельности государственного сектора.
В новаторской работе Нисканена, посвященной бюрократии,
приводится список следующих возможных целей бюрократа: «жа-
лование, различные приработки, общественное положение, власть,
покровительство высших чинов, результаты работы учреждения, лег-
кость осуществления изменений, а также легкость управления учреж-
дением» (Niskanen, 1971 38). Предполагается, что все, кроме двух
последних, имеют положительную связь с размером бюджета. Та-
ким образом, бюрократ максимизирует бюджет. Далее предполага-
ется, что только бюрократы располагают информацией об издерж-
ках производства услуг в их ведомствах. Это знание дает им власть
над спонсорами (парламентом и в конечном счете избирателями) и
позволяет им, действуя по принципу «или так, или вообще никак»,
подбирать такие комбинации выпуска и бюджета подразделения,
которые приносят им доходы сверх того, что они получали бы от
спонсоров, если бы последние знали действительную функцию из-
держек данного подразделения. В предельном случае подразделе-
ние может поглотить весь потребительский излишек спонсоров, если
будет принят бюджет, в два раза превосходящий оптимальный
размер.
В модели Нисканена «все карты» в руках бюрократов. Они
знают собственную функцию издержек и функцию спроса спонсора.
Спонсоры, не располагающие информацией о действительных из-
держках производства различных благ, пассивно реагируют на бюд-
жетные заявки подразделения. Однако спонсоры конкурируют за
голоса, указывая на то, как государственные программы поспособ-
ствовали удовлетворению потребностей избирателей. Бюрократы
конкурируют за повышение по службе, учреждения конкурируют за
фонды на основании того, насколько успешно они оказывали услу-
ги, в которых заинтересованы спонсоры. Интересы двух главных
действующих лиц находятся в противоречии, и наиболее общим
способом рассмотреть конфликт между «спонсором и учреждени-
ем» по поводу бюджета будет взгляд на него как на игру в перего-
воры между спонсором-потребителем и учреждением-поставщиком
(Breton, Wintrobe, 1975, 1982; Miller, 1977; Eavey, Miller, 1984).
Государственный орган располагает в некоторой степени монополь-
ной властью и информацией. Однако спонсор контролирует потоки
Теория общественного выбора
279
доходов. От него можно получить награду и наказание, он может
собрать какую-то информацию и может скрывать уже имеющиеся у
него данные. Наиболее вероятным результатом будет, как это опи-
сывается в большинстве моделей переговоров, компромисс. Бюджет
бюро всегда меньше по сравнению с амбициями бюрократа и боль-
ше, чем того желал бы спонсор. Результатом является некоторая
степень расслабленности и неэффективности.
Эмпирические проверки моделей бюрократии
Власть того, кто определяет программу действий
В Орегоне каждый школьный округ имеет бюджетный пото-
лок, определенный законом. Однако школьные советы могут увели-
чить размеры бюджета, выдвигая вопрос о его увеличении на ежегод-
ный референдум. Если вновь предлагаемый бюджет проходит, то тем
самым отменяется юридически установленное ограничение. В про-
тивном случае бюджет остается на уровне, определенном законом.
Данная ситуация позволяет проверить гипотезу относительно мотива-
ции школьных чиновников исходя из предположения о том, что опти-
мальный уровень расходов будет составлять такую величину, которая
является наиболее предпочтительной с точки зрения медианного из-
бирателя. Если определенный законом бюджет ниже величины, пред-
почтительной для медианного избирателя, школьный совет может
заставить его проголосовать за бюджет, превышающий наиболее пред-
почтительный для него уровень, и обещая избирателю большую по-
лезность по сравнению с тем, что он имел бы при определенной зако-
ном величине бюджета.
Ромер и Розенталь (Romer, Rosenthal, 1978, 1979, 1982) обнару
жили, что там, где определенный законом уровень бюджетов был
ниже величины, необходимой для поддержания школьной системы,
в результате проведения референдумов школьные бюджеты возраста
ли на величину, превышающую оценки наиболее предпочтительногс
для медианного избирателя уровня на 16,5—43,6%. Следующим под
тверждением гипотезы были данные по шестидесяти четырем окру
гам, в которых либо вообще не проводился референдум, либо его ре
зультаты были отрицательными (три округа). Когда определенный
законом бюджет превышает уровень, наиболее предпочтительный длл
медианного избирателя, можно ожидать, что школьный совет не ста
нет организовывать голосование, а просто определит бюджет на уров
не 100% от его установленной законом базы. Средняя величина дл£
шестидесяти четырех округов превышала 99% от их баз (см. также
Filimon, 1982).
Система штата Орегон предоставляет школьным чиновникам
необычайно привлекательную возможность увеличить размеры бюд
280
Денис Мюллер
жета путем референдумов под лозунгом: «Или так, или вообще ни-
как». Однако, как это уже отмечалось, сами бюджеты учреждений
являются результатом процесса переговоров между учреждением и
его спонсором. Эксперименты Иви и Миллера (Eavey, Miller, 1984)
проводившиеся в классах, показали, что само по себе право спонсо-
ров-потребителей обмениваться информацией и формировать коали-
цию увеличивает их власть над определяющим программу. Экспери-
менты Иви—Миллера дали результаты, располагающиеся между наи-
более предпочтительными вариантами для проверяющей комиссии и
для субъекта, определяющего программу действий.
Различия в издержках производства услуг
государственного и частного секторов
Сама природа услуг государственных учреждений весьма за-
трудняет расширение выпуска выше уровня, соответствующего по-
требностям сообщества. Нельзя обучить большее количество детей
по сравнению с тем, которое посылается в школу; нельзя собрать больше
мусора по сравнению с тем, сколько выбрасывают. В такой ситуации
у бюрократов все же есть стимулы увеличить свой бюджет, делая
услуги, на которые предъявляется спрос, более дорогими. Дополни-
тельные издержки могут быть связаны с более высоким жалованием
по сравнению с конкурентным уровнем, с ненужным персоналом или
общей Х-неэффективностью. Было проведено немало исследований,
где сравнивались процессы предоставления сходных услуг государ-
ственными учреждениями и частными фирмами. И только в двух из
почти пятидесяти исследований, обзор которых был сделан Борчер-
дингом (Borcherding et al., 1982), где качество услуг было принято
за константу, государственные учреждения оказались более эффек-
тивными по сравнению с частными фирмами. Во всех прочих (а их
насчитывалось более сорока) исследованиях государственные учреж-
дения оказались значительно менее эффективны по сравнению с част-
ными фирмами в предоставлении одних и тех же услуг. По-видимо-
му, это является исчерпывающим доказательством того, что произ-
водство услуг государственным сектором снижает эффективность этой
деятельности.
Государство как Левиафан
Бреннен и Бьюкенен (Brennan, Buchanan, 1980) предложили мо-
дель правительства как монополиста. Они предполагают, что полити-
ческая конкуренция неэффективно ограничивает деятельность прави-
тельства вследствие рационального неведения избирателей, неопреде-
ленности, связанной с зацикливанием при использовании правила
большинства, и явного сговора между избранными государственными
Теория общественного выбора
28:
деятелями (Brennan, Buchanan, 1980: 17-24). Так же как и модел:
Нисканена, модель Бреннана и Бьюкенена основана на предпосылке <
том, что первичной целью правительства является максимизации
государственных доходов.
При рассмотрении государства как корыстного максимизатор!
собственных доходов, а не благожелательного поставщика обществен
ных благ многие традиционные положения теории государствен
ных финансов ставятся с ног на голову (Brennan, Buchanan, 1980: 2)
В традиционном анализе предполагается, что целью государств!
является собрать определенный объем доходов при определенны:
ограничениях эффективности и справедливости. Бреннен и Бьюке
нен полагают, что граждане стремятся установить для бюрократе]
ограничения в виде некоего предела для их доходов. Если требу
емый объем государственных доходов, получаемых посредством на
логообложения, фиксирован, то оптимальным является такой на
лог, который вызывает наименьшие искажения, т. е. такой налог
которым облагаются наименее эластичные источники доходов. Есл1
объем государственных доходов является максимизируемой вели
чиной, граждане будут ограничивать правительство, оставляя ем;
наиболее эластичную налогооблагаемую базу и уводя от налогообло
жения часть своих доходов и богатства. Граждане, ожидающие, чт<
бюрократы максимизируют свои бюджеты, будут ограничивать и:
возможности в этом плане посредством конституционного сокра
щения видов дохода и богатства, которые подлежат налогообло
жению.
Модель государства-Левиафана еще раз подтверждает справедли
вость выдвинутой Викселем (Wicksell, 1896) идеи о том, что проекть
увеличения государственных расходов следует привязывать к нало
гам, необходимым для их финансирования. Виксель выдвинул дан
ное предложение для того, чтобы обеспечить разумную основу дл:
выбора граждан, которые могут сравнить выгоды от государственны:
расходов с издержками их финансирования. В качестве дополнитель
ного преимущества идея Викселя обеспечивает сбалансированны!
бюджет и принуждает государство поставлять некоторые обществен
ные блага, если оно хочет увеличить доходы (Brennan, Buchanan, 1980
154-155).
Традиционный анализ бюджетной и денежной политики пред
полагает, что государство руководствуется благородными мотивами
Однако в руках Левиафана, постоянно стремящегося к открытию вс<
новых и новых источников доходов, оба инструмента экономическо!
политики становятся чрезвычайно опасными. Естественно, появляют
ся поправки к конституции, требующие сбалансированного бюджета
и ограничения, накладываемые на способность государства печатат
деньги (Brennan, Buchanan, 1980 : 5, 6, 10).
282
Денис Мюллер
12.5. Нормативная теория общественного выбора
Теорема невозможности Эрроу
В рамках нормативной теории общественного выбора наиболь-
шее влияние оказала работа Эрроу (Arrow, 1951), который предпри-
нял попытку определить функцию общественного благосостояния в
терминах нескольких основных этических аксиом, выражающих основ-
ные ценностные суждения, которые следовало бы включить в обще-
ственный договор или конституцию7. Вопрос заключается в следую-
щем: какие этические нормы должны выступать в качестве ограниче-
ний процесса общественного выбора и какие процессы коллективного
выбора удовлетворяют этим нормам? Ответ получается разочаровыва-
ющим. При заданных немногих довольно слабых и тривиальных эти-
ческих аксиомах ни один процесс (голосование, рынок или что-либо
еще) не удовлетворяет этим нормам.
В формулировке Викри (Vickrey, 1960) аксиомы выглядят следу-
ющим образом.
1. Единогласие (постулат Парето): если предпочтение одного
индивида не находится в противоречии с каким-либо предпочтением
любого другого индивида, то это предпочтение становится элементом
социального порядка.
2. Отказ от диктатуры: ни один индивид не может занимать
такое положение, чтобы его предпочтение одной из двух альтернатив
всегда побеждало противоположное предпочтение всех других инди-
видов и становилось элементом социального порядка.
3. Транзитивность: функция общественного благосостояния за-
дает определенное ранжирование всех возможных альтернатив, т. е.
(аРЪРс) -> (аРс) и (al&Ic) -> (ale).
4. Охват (неограниченная сфера): для любого набора из трех
альтернатив х, у и и каждое из шести возможных строгих упорядоче-
ний из и, х и у содержится в ранговой иерархии всех альтернатив
для каждого индивида.
5. Независимость от других выборов: общественный выбор из
двух альтернатив должен зависеть только от порядков предпочтений
индивидов в отношении этих двух альтернатив, а не от каких-либо
других предпочтений.
Основные идеи, лежащие в основе доказательства, заключаются
в следующем. Неограниченная сфера дает возможность для возникно-
вения любой допустимой комбинации ординальных предпочтений.
Когда нет альтернативы, единодушно предпочитаемой всеми, должны
7 Эта интерпретация была впервые выдвинута Кемпом и Азимакопуло-
сом (Kemp, Asimakopulos, 1952) и впоследствии была развита Эрроу (Arrow,
1963 : 104-105).
Теория общественного выбора
283 "
быть найдены какие-то методы для выбора из альтернатив, пред-
почтительных по Парето. Предпосылка о независимости позволяет
ограничить внимание предпочтениями индивидов только относитель-
но двух рассматриваемых вариантов. Однако, как мы это уже обнару-
жили, обсуждая правило большинства, легко создать правила выбора
из любых двух альтернатив, но они порождают зацикливание при
последовательном осуществлении выбора тремя индивидами. Однако
аксиома транзитивности требует выбрать один из трех вариантов. Про-
цесс общественного выбора не должен зайти в тупик (Arrow, 1963 :
120). Но располагая информацией относительно индивидуальных ор-
динальных предпочтений для каждой пары вариантов, невозможно
найти метод осуществления такого выбора, который не оказался бы
<1
J
у
и
принудительным или диктаторским.
Смягчение постулатов
/
Чтобы избежать теоретического результата в виде теоремы не- I
возможности, необходимо несколько смягчить постулаты. Рассмотрим,
однако, значение теоремы в том виде, как она сформулирована, по-
стольку, поскольку ее формулировка вытекает как раз из «слабости»
постулатов. Несмотря на то что, как мы еще увидим, данные аксиомы
несколько более строги, чем может показаться на первый взгляд, они
слабее, чем это необходимо для соответствия разумным критериям
распределительной справедливости. Например, эти аксиомы не могут
исключить тиранию со стороны одной группы, состоящей из несколь-
ких человек и находящейся на границе благосостояния по Парето,
по отношению к другим членам общества. Даже допустив это, а
также и другие нарушения наших принципов справедливости, мы не
в состоянии отыскать такой процесс, который позволил бы осуще-
ствить выбор среди оптимальных по Парето вариантов при данных
аксиомах.
Смягчение аксиом единогласия и отказа от диктатуры любой
формы едва ли нуждается в обсуждении, если мы не отказываемся от
идеалов индивидуализма и гражданского суверенитета. Однако осталь-
I
ные три аксиомы требуют более детального анализа. »
Транзитивность
С точки зрения Эрроу, причина, по которой необходима аксиома |
транзитивности, заключается в том, «что общественный выбор должен t
быть сделан из любого набора вариантов» (Arrow, 1963 : 120). Однако i
достижение данной цели не требует применения этой аксиомы во I
всей ее полноте. Теоремы возможности были доказаны при замене i
транзитивности квазитранзитивностью (т. е. транзитивностью только I
строгих предпочтений) или нецикличностью (XjPXgP ... хп_1Рхп —>trRxn)
284
Денис Мюллер
(Sen, 1970а: 47-55). К сожалению, квазитранзитивность наделяет
олигархию властью навязывать обществу единогласные (для всех чле-
нов олигархии) предпочтения (Gibbard, 1969); нецикличность же
означает, что каждый член данной группы обладает правом вето
(Brown, 1975). Таким образом, по мере того как требование последо-
вательности смягчается, переходя от транзитивности к квазитранзи-
тивности, диктаторская власть рассеивается и трансформируется, но
полностью не исчезает. Требование, состоящее в том, чтобы процесс
принятия общественных решений имел определенный результат, в не-
котором смысле означает необходимость наделения одного индивида
или какой-либо группы властью принимать или по меньшей мере бло-
кировать любой вариант.
Выигрыш от смягчения аксиомы транзитивности окажется еще
скромнее, если мы рассмотрим шкалы индивидуальных предпочтений,
соответствующие аксиомам квазитранзитивности или нецикличности.
Во всяком случае, когда речь идет о правиле большинства, условия,
необходимые и достаточные для нецикличности, аналогичны услови-
ям квазитранзитивности, которые, в свою очередь, обеспечат транзи-
тивность, когда число индивидов нечетно (см. Sen, Pattanaik, 1969; Ina-
da, 1970; Sen, 1977a). Таким образом, если согласиться с необходимо-
стью осуществления выбора из любого набора вариантов, мы немного
потеряем, придерживаясь требования полной транзитивности.
Неограниченная сфера
Обоснование необходимости аксиомы о неограниченной сфере
выбора в чем-то схоже с постулатами о свободе выбора или свободе
выражения. Каждому индивиду должна быть обеспечена свобода иметь
свой порядок предпочтений. Хотя свобода выбора — это лозунг, ко-
торому сочувствуют все, она может спровоцировать конфликт в слу-
чае, когда индивиды располагают различными порядками предпочте-
ний. Зацикливание оказывается вполне возможным, а если мы потре-
буем транзитивности, это быстро приведет нас к невозможности
достижения какого-либо результата.
Существуют два способа обойти эту проблему.
1. Замещение аксиомы о неограниченной сфере предпочтений
другими аксиомами приводит к ограничению рассматриваемых по-
рядков предпочтений, например множество возможных вариантов
ограничивается конституцией. Защита чьих-либо прав собственно-
сти представляет собой один из примеров такого типа ограничений.
Каждый может быть членом сообщества, но не каждое предпочте-
ние может быть удовлетворено или даже учтено в процессе коллек-
тивного выбора.
2. Ограничение состава сообщества теми, чьи порядки предпочте-
ний позволяют осуществить коллективный выбор.
Твфия общественного выбора
285
Если распределение предпочтений имеет одну вершину, правило
большинства обеспечивает равновесие и вместе с остальными четырь-
мя аксиомами определяет функцию общественного благосостояния.
Однако такой выход требует ограничений как на отбираемые альтер-
нативы, так и на самих избирателей (Slutsky, 1977). Все альтернати-
вы должны иметь одно измерение. Избиратели не могут одновремен-
но рассматривать две проблемы: их предпочтения должны иметь един-
ственную вершину для каждого измерения.
Распределение предпочтений с единственной вершиной неявно
предполагает некоторую степень однородности вкусов — согласие
относительно иерархии благ (Sen, 1970а: 71-75; Plott, 1976:569-
575). Проводимые эксперименты показывают, что вероятность за-
цикливания при правиле большинства тем меньше, чем более «одно-
родны» предпочтения избирателей, тогда как «антагонизм» между
избирателями увеличивает эту вероятность (Plott, 1976: 532). Эти ре-
зультаты означают, что до политической жизни следует допускать
только лиц с однородными предпочтениями. Теории клубов и «голо-
сования ногами» описывают процессы, посредством которых могут
формироваться сообщества с однородными вкусами (Tiebout, 1956;
Buchanan, 1965а; Sandler, Tschirhart, 1980). При отсутствии внешних
эффектов между клубами (локальными сообществами), совершенной
мобильности, свободном входе и т. д. такой процесс может позволить
избежать проблемы Эрроу. Однако когда имеют место внешние эф-
фекты, некоторые решения должны приниматься всем населением,
что порождает проблему невозможности, хотя она была уже решена в
меньших сообществах.
Независимость от прочих предпочтений
Из всех аксиом аксиома независимости от прочих предпочтений
была объектом наибольшего количества дискуссий и критики. То,
что коллективный выбор из двух альтернатив делается только на
основе информации об индивидуальных предпочтениях относительно
них, исключает из рассмотрения все данные, которые позволили бы
рассчитать кардинальные полезности и провести их межличностное
сравнение (Sen, 1970а : 89—91). Существуют два довода, почему ин-
формация о кардинальной полезности должна быть исключена из
процесса коллективного выбора. Первый заключается в том, что кар-
динальное измерение полезности затруднительно и носит произволь-
ный характер, и любой процесс, основанный на информации о срав-
нении кардинальных полезностей, может быть искажен теми, кто
осуществляет измерения. Это, по-видимому, было главным опасени-
ем Эрроу (Arrow, 1963 : 8-11), поскольку он рассматривает коллек-
тивный выбор как процесс, в котором государственные чиновники
286
Денис Мюллер
делают выбор для коллектива (Arrow, 1963 : 106-108). Позволяя чи-
новникам осуществлять межличностные сравнения полезностей, граж-
дане наделяют их огромной дискреционной властью.*
Но если информация о кардинальных полезностях предоставля-
ется самими избирателями, как это имеет место, скажем, при голосо-
вании по очкам, то никакой дискреционной власти не возникает.
Однако процедуры, подобные голосованию по очкам, подвержены стра-
тегическому манипулированию. Аксиома независимости исключает
стимул к стратегическому искажению предпочтений, однако оборот-
ной стороной этого является исключение также и всех недиктатор-
ских процедур голосования (Gibbard, 1973; Satterhwaite, 1975).
Следствия для теории общественного выбора
Согласно теореме Эрроу, не существует такого процесса, который
удовлетворял бы всем пяти сформулированным аксиомам одновре-
менно. Существуют два возможных решения этой проблемы. Одно из
них состоит в том, чтобы отказаться от аксиомы транзитивности и
вместе с ней от поисков наилучшей альтернативы — единственного
общественного предпочтения. Вместо этого можно выдвинуть требо-
вание, чтобы процесс общественного выбора был справедливым или
демократичным, или соответствовал каким-либо другим общеприня-
тым ценностям. Если же все-таки должно быть установлено обще-
ственное предпочтение, необходимо смягчить либо аксиому независи-
мости, либо аксиому о неограниченной сфере.
Смягчение аксиомы о неограниченной сфере и рассмотрение
ситуаций только с одновершинными предпочтениями вряд ли могут
дать какие-либо аналитические результаты, поскольку очень немно-
гие проблемы являются одномерными. Более реалистичной процеду-
рой было бы выявление предпочтений относительно общественных
благ через добровольные объединения в частные и локальные клубы.
Такой подход решает проблему, выдвигая условие единогласия, но
оставляя в стороне все соображения, связанные с распределением,
и проблемы, связанные с различием во мнениях относительно обще-
ственных благ, поставляемых всему обществу.
Там, где отсутствует стратегическое поведение, может быть ис-
пользован один из методов сбора информации о предпочтениях изби-
рателей относительно полного набора альтернатив (например, голосо-
вание по очкам). Однако нормативные характеристики этих методов
значительнее зависят от того, каков характер решаемых проблем.
Таким образом, смягчение аксиомы либо о неограниченной сфере,
* Дискреционная власть — власть, не зависящая от конкретных обсто-
ятельств и дающая возможность действовать по собственному усмотрению.
(Прим, ред.)
Теория общественного выбора
287
либо о независимости от прочих предпочтений поднимает вопросы о
том, какие проблемы решаются, кто их должен решать, какие пред-
почтения будут взвешиваться и с какими весами. Выбор такого типа
прямо или косвенно требует межличностного сравнения полезностей
и должен основываться на некоторых дополнительных ценностных
постулатах, которые предполагают специфические межличностные
сравнения полезностей. Последнее оказывается неизбежным, когда
предпочитаемый общественный выбор должен быть обнародован
(Kemp, Asimakopulos, 1952; Hilderth, 1953; Bergson, 1954; Sen, 1970a :
123-125, 1974, 1977b).
Невозможность сочетания либерализма
с оптимальностью по Парето ,,к
Теорема
Как вытекает из теоремы Эрроу, невозможно удовлетворить че-
тырем разумным ограничениям в отношении процесса общественно-
го выбора без превращения одного из индивидов в диктатора, опреде-
ляющего выбор для всех общественных проблем. Сен (Sen, 1970а, Ь)
пытался найти каждому индивиду возможность быть диктатором при
решении единственной «общественной» проблемы, например в какой
цвет должна быть окрашена его ванная комната, и все равно столк-
нулся с другой теоремой невозможности. В качестве ключевой ак-
сиомы он заявил следующую:
Принятие личной свободы: существуют определенные личные пробле-
мы, относительно которых каждый индивид должен самостоятельно решать,
что должно произойти, и общество в целом выиграет, если в подобного рода
делах индивид будет принимать решения независимо от мнения других.
(Sen, 1976 : 217)
Он формализует это условие, наделяя каждого индивида правом опре-
делять общественный выбор относительно одной пары альтернатив,
и показывает, что это условие вместе с аксиомой о неограниченной
сфере и принципом Парето задают «зацикленную» функцию обще-
ственного выбора (Sen, 1970а, Ь). Эта теорема, как и теорема Эрроу,
замечательна тем, что достигает столь многого при столь многих огра-
ничениях.
Сен иллюстрирует свою теорему при помощи следующего приме-
ра. При наличии одного экземпляра книги «Любовник леди Четтер-
лей» возможны следующие три состояния общества:
а) А читает книгу, В не читает;
5) В читает книгу, А не читает;
с) никто не читает книгу.
Целомудренный А предпочитает, чтобы никто не читал эту книгу, но
скорее стал бы ее читать сам, чем позволил бы это делать В. Разврат-
288
Денис Мюллер
ник В прежде всего желал бы, чтобы книгу прочел А, но скорее стал
бы читать ее сам, чем оставил бы ее вообще не читанной. Выразив это
символами, получим:
для А сРаРЬ;
для В аРЬРс.
Используя «либеральное» правило, дадим возможность В выби-
рать, читать ему книгу или не читать, и получим
ЬРс- -.А
Делая то же самое для А, получаем
сРа.
Однако как А, так и В предпочитают слуЧ'аЙ а случаю Ь; таким
образом по принципу Парето выходит
аРЬ,
и мы получаем зацикливание.
Право свободного выбора важнее принципа Парето
Предпочитаемое Сеном решение парадокса требует того, чтобы
принцип Парето в определенных ситуациях уступал праву свободного
выбора. (Sen, 1976, 1982). Индивиды хотя и склонны вмешиваться в
чужие дела, могут исповедовать либеральные ценности, так что часть
их предпочтений «не считается» или получает «другие веса». Либе-
рал В может утверждать, что единственно важный для него выбор —
это выбор между b и с, в результате он выбирает:
либерал В ЬРс,
в то время как либерал А предпочитает с относительно а:
либерал А сРа.
Теперь общественное предпочтение становится транзитивным и
результат, ограничением для которого является только либеральный
принцип, заключается в том, что В читает роман «Любовник леди
Четтерлей», но А не читает.
Сен решает парадокс либерализма исходя из предположения, что
индивиды сами ведут себя так, чтобы избежать ситуаций, грозящих
парадоксом. Однако если индивиды откровенно эгоистичны и вмешива-
ются в чужие дела, то конфликт между либеральными принципами и
оптимальностью по Парето сохраняется. Другой тип решения целиком
основан на том, что индивиды эгоистично вмешиваются в чужие дела.
Торг с оптимальными по Парето результатами
В приведенном примере дополнительный конфликт порожда-
ется тем, что существует только один экземпляр книги. Эта труд-
ность преодолевается, если предположить, что книга доступна обо-
Теория общественного выбора
289
им, и ввести новое определение либерализма, согласно которому
каждый индивид сам принимает решение относительно одной пары
вариантов (читать или не читать книгу) во всех возможных состо-
яниях общества, т. е. независимо от выбора других. Возможные
решения теперь можно проиллюстрировать примером из табл. 12.5,
где добавляется возможность d: и А, и В читают книгу. В то время
как условие Сена наделяет А возможностью выбора любой строки,
при том что В ограничен первым столбцом, модифицированный
либерализм обеспечивает А правом выбора строки, а В — правом
выбора столбца.
Таблица 12.5
В, развратник
не читает книгу читает книгу
А, целомудренный читает книгу а d
не читает книгу с Ъ
Несмотря на то что модифицированный принцип либерализма
не дает решения парадокса, он все-таки указывает путь выхода из
тупика. Табл. 12.5 представляет собой дилемму заключенных. Худ-
ший по Парето результат b будет иметь место, если каждый индивид
будет пользоваться своим правом свободы выбора, не учитывая внеш-
него эффекта своих решений, их побочного воздействия на другого
индивида (Fine, 1975; Buchanan, 1976). Решение дилеммы, как и в
случае других внешних эффектов, возможно, если мы обратимся к
другой либеральной аксиоме — все индивиды свободны осуществ-
лять взаимовыгодный торг — и позволим А и В заключить кон-
тракт, по которому В соглашается не читать книгу в обмен на то, что
ее прочтет A (Coase, 1960). Возможность заключать такие контракты
означает необходимость по-новому определить аксиому либерализма,
индивид либо пользуется закрепленным за ним правом, либо уступа-
ет его, т. е. соглашается не пользоваться им (Gibbard, 1974; Buchanan,
1976; Kelly, 1976; Nath, 1976; Breyer, 1977; Barry, 1986).8
Следствия для теории общественного выбора
В литературе, посвященной парадоксу либерализма, как право
на свободу выбора, так и предпочтение индивидов вмешиваться в чужие
дела задаются экзогенно. Желательность осуществления права на сво-
боду выбора принимается без доказательств. При этом предполагает-
ся, что индивиды предпочитают вмешиваться в чужие дела, и мы
8 О том, как Сен отреагировал на такое разрешение парадокса, см. Sen,
1986 : 225-228.
20 Заказ № 3?6
290
Денис Мюллер
получаем парадокс. Как таковые теоремы кажутся более уместными
в этике, а не в теории коллективного выбора. Если общество желает
избежать этого парадокса, индивиды должны подчинить свою склон-
ность вмешиваться в чужие дела либеральным ценностям. Либераль-
ное общество должно считаться с одними предпочтениями и отвергать
другие.
Эти теоремы приобретают значение для теории коллективного
выбора, если мы воспринимаем либерализм не как ценность, кото-
рой общество должно соответствовать с точки зрения этики, но как
ценность, которую все члены общества разделяют и согласны ее при-
держиваться. В этом случае либерализм является эндогенным по
отношению к предпочтениям или этическим убеждениям членов
общества. Трудно представить, как могло бы возникнуть право читать
то, что хочешь, если бы все индивиды были подобны А и В и все
книги — подобны роману «Любовник леди Четтерлей». В таком об-
ществе каждого интересует, кто что читает, и это рассматривается как
внешний эффект принимаемых решений.
Однако если большинство людей отличается от А и В и боль-
шинство книг не похоже на роман «Любовник леди Четтерлей», то
принятие коллективного решения относительно того, что кому чи-
тать, было бы связано с огромными издержками для общества. Рацио-
нальные, преследующие свои интересы индивиды могли бы согла-
ситься считать выбор книги сугубо личным делом. Если каждый
индивид свободен делать этот выбор самостоятельно, общество эконо-
мит на трансакционных издержках и, таким образом, в долгосроч-
ном периоде становится богаче.
При наличии такого долгосрочного условия либерализма время
от времени могли бы появляться книги, подобные роману «Любовник
леди Четтерлей», и индивиды типа А и В, что порождало бы конф-
ликт между либерализмом и принципом Парето. Однако индивиды в
обществе могут прийти к соглашению, что их долгосрочные интересы
будут наилучшим образом соблюдены, если будет существовать пра-
во отказа или продажи права на чтение по собственному выбору в
случае взаимовыгодности такого торга. Когда такой торг возможен,
происходит достижение Парето-оптимальности в краткосрочном пе-
риоде. Когда издержки осуществления такого торга препятствуют его
проведению, то право на чтение по выбору можно рассматривать как
фактор, блокирующий ситуацию, которая была бы предпочтительной
по Парето. В этом случае либерализм превосходит по своей значимо-
сти принцип Парето. Однако если мы предполагаем, что индивиды
действуют в своих просвещенных интересах и достигнуто коллектив-
ное соглашение соблюдать либеральные права, тогда не может воз-
никнуть конфликта между правом на свободу выбора и определени-
ем принципа Парето для долгосрочного периода.
ТеОфЛя общественного выбора
291
Но если либерализм может привести к краткосрочной неэффек-
тивности по Парето и все же быть Парето-эффективными в долгосроч-
ном периоде, то как или с помощью какого критерия выбираются эти
права? Чтобы установить долгосрочное общественно предпочитаемое
правило, позволяющее каждому индивиду читать то, что он хочет,
необходимо рассмотреть и взвесить набор из всех возможных книг и
всех функций индивидуальных предпочтений. Не обошлось бы без
межличностных сравнений полезностей. Решение парадокса Сена, так
же как и парадокса Эрроу, в конечном счете основывается на исполь-
зовании информации о кардинальных, поддающихся межличностно-
му сравнению полезностях индивидов (Ng, 1971).
Функция общественного благосостояния Харсаньи
В обоих предшествующих разделах был сделан вывод о том, что
последовательный коллективный выбор требует межличностных срав-
нений полезностей. Предложенная Харсаньи (Harsanyi, 1955, 1977)
функция общественного благосостояния основывается на допущении
о том, что такие сравнения могут быть осуществлены этически прием-
лемым способом. Харсаньи разграничивает личностные предпочте-
ния индивида и его этические предпочтения. Первые определяют
повседневные решения, вторые включаются при осуществлении мо-
рального или этического выбора. В последнем случае индивиды взве-
шивают последствия своего решения для других индивидов и, таким
образом, используют межличностные сравнения полезностей.
В начале Харсаньи выводит функцию общественного благососто-
яния, т. е. взвешенную сумму полезностей индивидов, на основе сле-
дующих трех предпосылок (Harsanyi, 1955 : 52).
1. Личные предпочтения индивидов удовлетворяют аксиомам
выбора фон Неймана—Моргенштерна—Маршака.
2. Тем же аксиомам удовлетворяют моральные предпочтения
индивидов.
3. Если две перспективы Р и Q равнозначны с точки зрения
каждого индивида, они также равнозначны и с общественной точки
зрения.
Далее, необходимо решить, какие веса следует придать полезно-
стям каждого индивида, и рассчитать индексы общественной полез-
ности. Именно здесь Харсаньи выводит этическое основание для сво-
ей функции общественного благосостояния. Каждый индивид оцени-
вает функцию общественного благосостояния для каждого возможного
состояния общества, ставя себя на место каждого другого индивида и
мысленно принимая их предпочтения. Чтобы осуществить беспри-
страстный выбор одного из состояний общества, каждый индивид
как бы допускает, что с равной вероятностью он может оказаться
любым другим индивидом.
292
Денис Мюллер
Отсюда, однако, даже не прибегая к использованию дополнительных
этических постулатов, можно сделать вывод о том, что «безличные» предпо-
чтения индивидов, если они рациональны, должны удовлетворять аксиомам
Маршака и, следовательно, должны определять значение кардинальной функ-
ции общественного благосостояния как среднее арифметическое полезностей
всех членов общества,
хэ
-j (Harsanyi, 1955: 55)
Конечно, остаются практические проблемы, связанные с тем, как
побудить людей оценивать состояния общества на основе субъектив-
ных предпочтений других индивидов (Harsanyi, 1955 : 55-59, 1977 :
57-60). Тем не менее Харсаньи утверждает, что, достаточно зная дру-
гих людей, индивиды могут мысленно принять чужие предпочтения и
разница значений Ut в функции общественного благосостояния для
каждого индивида будет сокращаться. Таким образом, мысленный
эксперимент, состоящий в принятии предпочтений других индиви-
дов вместе с допущением равной вероятности оказаться на месте
любого другого человека, порождает ту же картину однородности эти-
ческих предпочтений и единогласного выбора наилучшего состояния
общества, к которой приходит Ролз (Rawls, 1971) с помощью «вуали»
неведения в анализе справедливых общественных контрактов (Harsanyi,
1955 : 59).
Справедливая конституция
Бьюкенен и Таллок развили теорию конституционного государ-
ства, в котором конституция пишется в ситуации, подобной опи-
санной Харсаньи и Ролзом. Индивиды ощущают неопределенность
относительно их будущего положения и поэтому выбирают правило
взвешивания позиций всех других индивидов. Если индивиды в
конституционном государстве являются утилитаристами, которые
достигают беспристрастности, предполагая, что они с равной вероят-
ностью могут быть любым другим индивидом, то правила, включен-
ные в конституцию, максимизируют функцию общественного благосо-
стояния, подобную той, что предложил Харсаньи (Mueller, 1973).
Теория Бьюкенена—Таллока является одновременно и позитив-
ной, и нормативной — «неопределенность, необходимая для того, чтобы
у индивидов был интерес поддерживать конституционные положения,
которые в общем выгодны для всех индивидов и для всех групп, по-
видимому, присутствует на любой предусмотренной конституцией
стадии обсуждения» (Buchanan, Tullock, 1962 : 78), а сама книга в про-
тивоположность, скажем, работам Ролза и Харсаньи, выдержана в
строго позитивистском ключе. Однако они также признают, что нор-
мативные предпосылки их подхода содержатся в трудах Канта и те-
оретиков общественного договора (здесь в особенности следует обра-
тить внимание на работу: Buchanan, Tullock, 1962 : Appendix 1). Фак-
Теория общественного выбора
293
тически они утверждают, что нормативное содержание их теории за-
ключается именно в единогласии, достигнутом на стадии формирова-
ния конституции (Buchanan, Tullock, 1962 : 14).
Одним из важнейших достижений Бьюкенена и Таллока была
демонстрация того, как полезно разграничивать конституционную и
парламентскую стадии демократического процесса принятия реше-
ний. Если единодушное согласие может быть достигнуто под вуалью
неопределенности, окутывающей конституционную стадию, то на этой
стадии можно записать и набор правил, позволяющий индивидам
преследовать свои интересы на парламентской стадии с полным зна-
нием своих собственных вкусов и точек зрения. Перераспределение
имеет место на конституционной стадии, где присутствует неопреде-
ленность относительно будущих точек зрения (Buchanan, Tullock, 1962 :
ch. 13). Здесь сходство их идей и идей Ролза разительно. Однако
в отличие от Ролза Бьюкенен и Таллок позволяют индивидам на
парламентской стадии обладать не просто большей, но полной ин-
формацией о самих себе. Когда перераспределение и другие подоб-
ного рода проблемы, связанные с правами собственности, решены, оста-
ется только предпринять некоторые улучшения аллокационной эф-
фективности в ситуациях типа дилеммы заключенных. Единогласие,
базирующееся исключительно на своекорыстии, по крайней мере
теоретически, возможно, а предложенную Викселем теорию государ-
ства, основанного на добровольном обмене, можно принять как наи-
более корректную для описания этого уровня принятия решений.
12.6. Аллокация, перераспределение '
и общественный выбор
Процесс коллективного выбора требует правил. Это со всей оче-
видностью вытекает из того простого факта, что люди живут вместе.
Само их сосредоточение в определенных географических зонах за-
ставляет их совершать коллективные действия. Одни коллективные
решения могут принести выгоду всем индивидам, другие — только
некоторым. Даже тогда, когда каждый получает выгоду, некоторые
получают больше остальных, что поднимает проблему распределения
выгод. Таким образом, можно выделить две категории коллективных
решений: от одних выигрывают все члены общества, от других одни
выигрывают, а другие проигрывают. Это деление соответствует изве-
стному нам разграничению между движением к границе благососто-
яния по Парето и движением вдоль нее, т. е. между аллокацией и
перераспределением.
Важнейшим вкладом Викселя (Wicksell, 1896) была идея о не-
обходимости рассматривать результаты государственной политики —
аллокации или перераспределения — совместно с затратами, которые
294
Денис Мюллер
несут граждане, добивающиеся этих результатов посредством голосо-
вания. Виксель разграничивал решения по поводу аллокации и реше-
ния по перераспределению, но его больше занимали первые из них.
Предполагалось, что в отношении перераспределения были приняты
справедливые решения в некий предшествующий период. Остава-
лось осуществить увеличение аллокационной эффективности — при-
нять решения, потенциально выгодные для всех. Здесь работа Виксе-
)ЛЯ явно принимает контрактно-индивидуалистический характер.
Каждый гражданин принимает участие в процессе коллективного
принятия решений с тем, чтобы извлечь выгоду для себя, а посред-
ством такого процесса достигаются результаты, выгодные для всех.
Голосование позволяет достигнуть на рынке общественных благ та-
ких же результатов, как обмен на рынке частных благ. Этот контракт-
ный подход к государству, наиболее ярко выраженный в работах
Бьюкенена и Масгрейва, лежит в основе большей части теории обще-
ственного выбора и теории государственных финансов, основанной на
государственных расходах.
Обычно в подобного рода литературе преобладает оптимистичный
тон. В работе «Расчет согласия» Бьюкенен и Таллок описывают госу-
дарственные институты, которые имеют явно не случайное сходство с
соответствующими институтами Соединенных Штатов и которые, как
представляется, могут удовлетворить коллективные потребности обще-
ства. Решения относительно перераспределения единогласно принима-
ются на конституционной стадии. Повседневная работа парламента
ограничивается решением тех проблем, по которым возможно достичь
единогласия. В последние двадцать лет появилось несколько новых и
более совершенных процедур голосования. Все они имеют привлека-
тельные черты, которые, кажется, могут позволить обойти большую
часть, если не все парадоксы коллективного выбора. Но такое чудо воз-
можно только, когда речь идет об увеличении аллокационной эффек-
тивности.
Для литературы, в которой внимание сосредоточивается на про-
блемах перераспределения или игнорируется разграничение между пе-
рераспределением и аллокацией, что означает их неявное отождеств-
ление, характерен гораздо более пессимистичный тон. Равновесия не
существует. Его отсутствие дает возможность определяющему повест-
ку дня навязывать конечный результат. Если никто не является дик-
татором, то всеми процедурами голосования можно манипулировать
посредством стратегии искаженного представления предпочтений. Ре-
зультаты могут быть неэффективными по Парето... Общее настроение
этой новой «мрачной» науки точно передано Райкером (Riker, 1982).
Большая часть этого пессимизма относительно потенциала де-
мократических институтов вытекает из теоремы Эрроу и ее логиче-
ских последствий. Эрроу пытался отыскать функцию общественного
благосостояния, в которой альтернативы ранжировались бы путем
Теория общественного выбора
295
суммирования индивидуальных шкал предпочтений. То, что такая
функция не была найдена, означает, что должны осуществляться меж-
личностные сравнения полезностей либо прямо посредством правила
принятия решений, либо косвенно через ограничения, налагаемые на
сферу предпочтений или на типы проблем, которые могут быть реше-
ны, и т. п.
Некоторые из новых процедур голосования агрегируют информа-
цию о кардинальной полезности, поставляемую избирателями. Если
ограничиться решениями, способствующими увеличению аллокаци-
онной эффективности, они могут привести к Парето-оптимальной ал-
локации ресурсов. Экспериментальные данные, а также немногие прак-
тические приложения показывают, что эти процедуры могут работать
так, как это предсказывает теория. Голосование посредством наложе-
ния вето основывается только на информации об ординальных полез-
ностях и представляет собой другой способ достижения Парето-опти-
мального размещения ресурсов. Решая проблемы общественных благ
и внешних эффектов, этот способ позволил бы избежать неявного
взвешивания кардинальных полезностей, что предполагают другие про-
цедуры.
Могут быть созданы специальные политические институты, по-
зволяющие адекватно выявить предпочтения в случае изменения алло-
кационной эффективности. Однако остается без ответа вопрос о том,
как решать проблемы, связанные с перераспределением. Наиболее важ-
ным элементом при ответе на этот вопрос является понимание того,
что здесь необходимы свои особые процедуры. Помимо этой важной
идеи в литературе по общественному выбору делаются и другие выво-
ды. Прежде всего неопределенность, связанная с имеющими долго-
срочный характер конституционными решениями, может побудить
индивидов включать в конституцию меры по перераспределению. Эту
возможность можно сделать более реальной, если принять соглаше-
ние о том, чтобы увеличить неопределенность относительно будущих
позиций (например, соглашение, по которому конституция входит в
силу спустя несколько лет после ратификации). Тогда члены парла-
мента могли бы сосредоточиться на увеличении аллокационной эффек-
тивности.
Когда проблемы перераспределения имеют бинарный характер,
и обе стороны обладают предпочтениями равной интенсивности, для
решения этих проблем подходит правило большинства. Бинарность
проблем с необходимостью предполагает использование судов, и Вер-
ховный суд в США применял правило большинства для решения
этих проблем (аборты, десегрегация* школ). Можно изобрести и дру-
гие институты.
* Ликвидация расовой дискриминации, имевшей место в виде созда-
ния отдельных школ для «черного» или «цветного» населения. (Прим, ред.)
296
Денис Мюллер
Новые процедуры голосования представляют собой методы агре-
гирования индивидуальных предпочтений в условиях прямой де-
мократии. Однако их можно использовать и при представительной
форме правления, когда парламент функционирует как городское
собрание представителей. Другое понятие представительства, исполь-
зуемое в литературе, предполагает выбор гражданами агента, дей-
ствующего в их интересах, но не обязательно именно так, как дей-
ствовали бы сами граждане, оказавшись на его месте. Граждане
выбирают правительство с тем, чтобы оно управляло ими в течение
предписанного срока. Эта литература содержит более оптимистич-
ный взгляд на результаты голосования, чем литература в традиции
Эрроу. Когда голосование предполагает выбор из двух кандидатов
или партий, которые конкурируют за право управлять (формиро-
вать правительство), тогда можно говорить о равновесных платфор-
мах. Их характеристики (Парето-оптимальность, максимизация кон-
кретной функции общественного благосостояния) совершенно не
обязательно являются худшими по сравнению с равновесиями, до-
стигаемыми рынком.
Конкуренция между кандидатами все в большей степени прини-
мает форму расходования денег на ♦ покупку» голосов. Эти деньги
поступают от тех или иных групп интересов, стремящихся «купить»
нужные им законы. Веса индивидуальных полезностей в функции
общественного благосостояния, к максимизации которой приводит
политическая конкуренция, зависят от объема располагаемых ресур-
сов и организационных навыков тех групп интересов, к которым эти
индивиды принадлежат. В то время как процесс конкуренции за го-
лоса может привести в каком-то смысле к максимизации благососто-
яния, не все будут удовлетворены весами, которые «получат» их ин-
тересы в итоговом равновесном состоянии.
Более того, на деньги, которые тратят кандидаты, в действи-
тельности не покупаются голоса. На них покупаются телевизионная
реклама, плакаты, значки, агитаторы и консультанты. На них поку-
паются все инструменты, которые может предложить современный
политический маркетинг, чтобы повлиять на исход выборов. Но в
конечном счете результаты выборов определяет решение, которое
примет избиратель. Качество этих результатов определяется каче-
ством его выбора.
В то время как модели конкуренции кандидатов помогают рас-
сеять сомнения относительно существования равновесия в полити-
ческой сфере, они поднимают вопросы о природе политического
пространства, в котором происходит конкуренция, и о весах для
индивидуальных предпочтений в функции благосостояния, кото-
рую эта конкуренция неявно максимизирует. В более общем плане
эти модели предполагают необходимость смещения акцента в иссле-
дованиях общественного выбора с результатов политического про-
Теория общественного выбора
297
цесса на затраты, с ним связанные. Акцент смещается с качества
агрегированного выбора на качество индивидуальных выборов, под-
вергающихся агрегированию. Таким образом, в рамках теории об-
щественного выбора остаются важные проблемы, требующие даль-
нейшего исследования.
Литература
Aranson Р. Н., Ordeshook Р. С. Regulation, redistribution, and public choice //
Public Choice, 1981. Vol. 37. P. 69-100.
Arrow K. J. Social Choice and Individual Values. New York : Wiley, 1951.
Arrow K. J. Social Choice and Individual Values, revised edn. New York : Wiley,
1963.
Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York : Basic Books, 1984.
Barry B. Political Argument. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
Barry B. Lady Chatterley’s Lover and Doctor Fischer’s Bomb Party: liberalism,
Pareto optimality, and the problem of objectionable preferences I In J. Elster
and A. Hylland (eds). Foundations of Social Choice Theory. Cambridge :
Cambridge University Press, 1986. P. 11-43.
Bergson A. On the concept of social welfare // Quarterly Journal of Economics.
1954. Vol. 68. P. 233-253.
Black D. On the rationale of group decision making // Journal of Political
Economy. 1948a. Vol. 56. 23-34. Reprinted in Arrow K. J. and Scitovsky T.
(eds). Readings in Welfare Economics. Homewood, IL: Richard D. Irwin,
1969. P. 133-246.
Black D. The decisions of a committee using a special majority // Econometrica.
1948b. Vol. 16. P. 245-261.
Black D. The Theory of Committees and Elections. Cambridge : Cambridge
University Press, 1958.
Borcherding T. E., Pommerehne W. W., Schneider F. Comparing efficiency of
private and public production: the evidence from five countries // Zeitschrift
fur Nationalokonomie. 1982. Vol. 89. P. 127-156.
Bowen H. R. The interpretation of voting in the allocation of economic resour-
ces // Quarterly Journal of Economics. 1943. Vol. 58. P. 27-48. Reprinted
in Arrow K. J. and Scitovsky T. (eds). Readings in Welfare Economics.
Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1969. P. 115-132.
Brennan G., Buchanan J. M. The Power to Tax: Analytical Foundations of a
Fiscal Constitution. Cambridge : Cambridge University Press, 1980.
Brennan G., Buchanan J. M. Voter choice: evaluating political alternatives //
American Behavioral Scientist. 1984. Vol. 28. P. 185-201.
Breton A. The Economic Theory of Representative Government. Chicago, IL :
Aldine, 1974.
Breton A., Wlntrobe R. The equilibrium size of a budget maximizing bureau //
Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. P. 195-207.
298
Денис Мюллер
Breton A., Wintrobe R. The Logic of Bureaucratic Control. Cambridge : Cambridge
University Press, 1982.
Breyer F. Sen’s paradox with decisiveness over issues in case of liberal prefer-
ences // Zeitschrift fur Nationaldkonomie. 1977. Vol. 37. P. 45-60.
Brown D. J. Aggregation of preferences // Quarterly Journal of Economics, 1975.
Vol. 89. P. 456-469.
Buchanan J. M. The pure theory of government finance: a suggested approach //
Journal of Political Economy. 1949. Vol. 57. P. 496-506.
Buchanan J. M. An economic theory of clubs // Economica. 1965a. Vol. 32.
P. 1-14.
Buchanan J. M. Ethical rules, expected values, and large numbers // Ethics.
1965b. Vol. 76. P. 1-13.
Buchanan J. M. An individualistic theory of political process / In D. Easton
(ed.). Varieties of Political Theory. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall,
1966. P. 25-37.
Buchanan J. M. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago,
IL : University of Chicago Press, 1975.
Buchanan J. M. An ambiguity in Sen’s alleged proof of the impossibility of a
Pareto libertarian // Mimeo, Center for the Study of Public Choice, Blacks-
burg, VA. 1976.
Buchanan J. M. Rent seeking and profit seeking / In J. M. Buchanan, D. Tollison
and G. Tullock (eds). Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. College
Station, TX : Texas A&M Press, 1980.
Buchanan J. M., Tullock G. The Calculus of Consent. Ann Arbor, MI : University
of Michigan Press, 1962.
Bush W. C. Individual welfare in anarchy / In G. Tullock (ed.). Explorations in
the Theory of Anarchy. Blacksburg, VA : Center for the Study of Public
Choice, 1972. P. 5-18.
Bush W. C., Mayer L. S. Some implications of anarchy for the distribution of
property //Journal of Economic Theory. 1974. Vol. 8. P. 401-412.
Clarke E. H. Multipart pricing of public goods // Public Choice. 1971. Vol. 11.
P.17-33.
Clarke E. H. Multipart pricing of public goods: an example / In S. Mushkin
(ed.). Public Prices for Public Products. Washington, DC : Urban Institute,
1972. P. 125-130.
Coase R. H. The problem of social cost // Journal of Law and Economics. 1960.
Vol. 3. P. 1-44.
Comanor W. S. The median voter rule and the theory of political choice // Journal
of Public Economy. 1976. Vol. 5. P. 169-177.
Condorcet M. J. A. N., de. Essai sur Г Application de 1’Analyse a la Probability
des Decisions Rondues a la Pluralit6 des Voix. Paris : Imprimerie Royale,
1785.
Coughlin P., Nltzan S. Electoral outcomes with probabilistic voting and Nash
social welfare maxima // Journal of Public Economics. 1981. Vol. 15. P. ИЗ-
122.
Теория общественного выбора
299
Coughlin. Р., Mueller D. С., Murrell Р. Electoral politics, interest groups, and the
size of government//Economic Inquiry. 1990. Vol. 28. P. 682-705.
Dahlman C. J. The problem of externality // Journal of Law and Economics.
1979. Vol. 22. P. 141-162.
Davis J. R. On the incidence of income redistribution // Public Choice. 1970.
Vol. 8. P. 63-74.
Davis O. A., Hintch M. J., Ordeshook P. C. An expository development of a
mathematical model of the electoral process // American Political Science
Review. 1970. Vol. 64. P. 426-448.
Dodgson C. L. A method of taking votes on more than two issues // Reprinted
in Black, D. The Theory of Committees and Elections. 1876. P. 224-234,
Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York : Harper & Row, 1957.
Eavey C. L., Miller G. J. Bureaucratic agenda control: imposition or bargaining? //
American Political Science Review. 1984. Vol. 78. P. 719-733.
Filimon R. Asymmetric information and agenda control // Journal of Public
Economics. 1982. Vol. 17. P. 51-70.
Fine B. J. Individual liberalism in a Paretian society // Journal of Political
Economy. 1975. Vol. 83. P. 1277-1282.
Gibbard A. Intransitive social indifference and the Arrow dilemma // Mimeo.
1969.
Gibbard A. Manipulation of voting schemes: a general result//Econometrica.
1973. Vol. 41. P. 587-602.
Gibbard A. A Pareto-consistent libertarian claim // Journal of Economic Theory.
1974. Vol. 7. P. 388-410.
Groves T. Incentives in teams //Econometrica. 1973. Vol. 41. P. 617-631.
Groves T., Ledyard J. O. Optimal allocation of public goods: a solution to tie
«free rider» problem//Econometrica. 1977. Vol. 45. P. 783-809.
Guha A. S. Neutrality, monotonicity and the right of veto // Econometrica. 197!.
Vol. 40. P. 821-826.
Harsanyi J. C. Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal con-
parisons of utility // Journal of Political Economy. 1955. Vol. 63. P. 309-
321. Reprinted in Arrow K. J. and Scitovsky T. (eds). Readings in Welfare
Economics. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1969. P. 46-60.
Harsanyi J. C. Rational Behaviour and Bargaining Equilibrium in Games and
Social Situations. Cambridge : Cambridge University Press, 1977.
Hildreth C. Alternative conditions for social orderings //Econometrica, 1953.
Vol. 21. P. 81-94.
Hinich M. J. Equilibrium in spatial voting: the median voter result is an arti-
fact // Journal of Economic Theory. 1977. Vol. 16. P. 208-219.
Htrshleifer J. From weakest-link to best-shot: the voluntary provision of public
goods, Public Choice. 1983. Vol. 41 (3). P. 371-386.
Hirshleifer J. The voluntary provision of public goods — descending-weigh
social composition functions // Working paper 326. University of Californi
at Los Angeles, 1984.
300
Денис Мюллер
Hoffman Е., Spitzer М. L. Experimental tests of the Coase theorem with large
bargaining groups//Journal of Legal Studies. 1986. Vol. 15. P. 149-
171.
Hotelling H. Stability in competition // Economic Journal. 1929. Vol. 39. P. 41-
57.
Hylland A., Zeckhauser R. A mechanism for selecting public goods when prefe-
rences must be elicited // KSG Discussion paper 70D, Harvard University,
August. 1979.
Inada K.-I. Majority rule and rationality // Journal of Economic Theory. 1970.
Vol. 2. P. 27-40.
Kelly J. S. Rights exercising and a Pareto-consistent libertarian claim // Journal
of Economic Theory. 1976. Vol. 13. P. 138-153.
Kemp M. C., Aslmakopulos A. A note on «social welfare functions» and cardinal
utility // Canadian Journal of Economic and Political Science. 1952. Vol. 18.
P. 195-200.
Kendall W. John Locke and the Doctrine of Majority Rule. Urbana, IL : University
of Illinois Press, 1941.
Kramer G. H. On a class of equilibrium conditions for majority rule // Econo-
metrica. 1973. Vol. 41. P. 285-297.
Krueger A. O. The political economy of the rent-seeking society//American
Economic Review. 1974. Vol. 64. P. 291-303. Reprinted in Buchanan J.
M., Tollison R. D. and Tullock G. (eds). Toward a Theory of the Rent-
Seeking Society. College Station, TX : Texas A&M Press, 1980. P. 51-70.
Ledyard J. O. The pure theory of large two-candidate elections // Public Choice.
1984. Vol. 44. P. 7-41.
McKelvey R. D. In transitivities in multidimensional voting models and some
implications for agenda control // Journal of Economic Theory. 1976.
Vol. 12. P. 472-482.
May К. O. A set of independent, necessary and sufficient conditions for simple
majority decision//Econometrica. 1952. Vol. 20. P. 680-684.
Meltzer A. H., Richard S. F. Why government grows (and grows) in a demo-
cracy//Public Interest. 1978. Vol. 52. P. 111-118.
Meltzer A H., Richard S. F. A rational theory of the size of government // Journal
of Political Economy. 1981. Vol. 89. P. 914-927.
Meltzer A H., Richard S. F. Tests of a rational theory of the size of government //
Public Choice. 1983. Vol. 41. P. 403-418.
Miller G. J. Bureaucratic compliance as a game on the unit square // Public
Choice. 1977. Vol. 19. P. 37-51.
Moulin H. Dominance solvable voting schemes // Econometrica. 1979. Vol. 47.
P.1337-1351.
Moulin H. The proportional veto principle // Review of Economic Studies. 1981a.
Vol. 48. P. 407-416.
Moulin H. Prudence versus sophistication in voting strategy//Journal of
Economic Theory. 1981b. Vol. 24. P. 398-412.
Moulin H. Voting with proportional veto power // Econometrica. 1982. Vol. 50.
P.145-162.
Теория общественного выбора
301
Mueller D. С. Constitutional democracy and social welfare // Quarterly Journal
of Economics. 1973. Vol. 87. P. 60-80.
Mueller D. C. Allocation, redistribution and collective choice // Public Finance.
1977. Vol. 32. P. 225-244.
Mueller D. C. Voting by veto//Journal of Public Economy. 1978. Vol. 10.
P.57-75.
Mueller D. C. Voting by veto and majority rule / In H. Hanusch (ed.). Public
Finance and the Quest for Efficiency. Detroit, MI: Wayne State University
Press, 1984. P. 69-86.
Mueller D. C. Public Choice II. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
Nath S. K. Liberalism, Pareto principle and the core of a society//Mimeo,
University of Warwick. 1976.
Ng Y.-K. The possibility of a Paretian liberal: impossibility theorems and cardinal
utility //Journal of Political Economy. 1971. Vol. 79. P. 1397-1402.
Ntskanen W. A., Jr. Bureaucracy and Representative Government. Chicago, IL :
Aldine-Atherton, 1971.
Nitzan S. The vulnerability of point-voting schemes to preference variation and
strategic manipulation//Public Choice, 1985. Vol. 47. P. 349-370.
Nttzan S., Paroush J., Lampert S. I. Preference expression and misrepresentation
in point voting schemes // Public Choice. 1980. Vol. 35. P. 421-436.
Olson M., Jr. The Logic of Collective Action. Cambridge, MA : Harvard University
Press, 1965.
Peltzman S. The growth of government // Journal of Law and Economics. 1980.
Vol. 23. P. 209-288.
Philpotts G. Vote trading, welfare, and uncertainty // Canadian Journal of Eco-
nomics. 1972. Vol. 3. P. 358-372.
Plott C. R. A notion of equilibrium and its possibility under majority rule //
American Economic Review. 1967. Vol. 57. P. 787-806.
Plott C. R. Axiomatic social choice theory: an overview and interpretation //
American Journal of Political Science. 1976. Vol. 20. P. 511-596.
Posner R. A. The social costs of monopoly and regulation // Journal of Political
Economy. 1975. Vol. 83. P. 807-827. Reprinted in Buchanan J. M.,
Tollison R. D. and Tullock G. (eds). Toward a Theory of the Rent-Seeking
Society. College Station, TX : Texas A&M Press, 1980. P. 71-94.
Rae D. W. Decision-rules and individual values in constitutional choice // American
Political Science Review. 1969. Vol. 63. P. 40-56.
Rae D. W. The limits of consensual decision // American Political Science Review.
1975. Vol. 69. P. 1270-1294.
Rawls J. A. A Theory of Justice. Cambridge, MA : Belknap Press, 1971.
Reimer M. The case for bare majority rule//Ethics. 1951. Vol. 62. P. 16-32.
Riker W. H. The Theory of Political Coalitions. New Haven, CT : Yale University
Press, 1962.
Riker W. H. Liberalism Against Populism. San Francisco, CA: W. H. Freeman,
1982.
Riker W. H., Ordeshook P. C. Introduction to Positive Political Theory. Englewood
Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1973.
302
Денис Мюллер
Romer Т., Rosenthal Н. Political resource allocation, controlled agendas, and the
status quo//Public Choice. 1978. Vol. 33. P. 27-43.
Romer T., Rosenthal H. Bureaucrats versus voters: on the political economy of
resource allocation by direct democracy // Quarterly Journal of Economics.
1979. Vol. 93. P. 563-587.
Romer T., Rosenthal H. Median voters or budget maximizers: evidence from
school expenditure referenda // Economic Inquiry. 1982. Vol. 20. P. 556-
578.
Samuelson P. A. The pure theory of public expenditure // Review of Economics
and Statistics. 1954. Vol. 36. P. 386-389. Reprinted in Arrow K. J. and
Scitovsky T. (eds). Readings in Welfare Economics. Homewood, IL : Richard
D. Irwin, 1969. P. 179-182.
Samuelson P. A. Pure theory of public expenditure and taxation / In J. Margolis
and H. Guitton (eds). Public Economics. New York : St Martin’s Press,
1969. P. 98-123.
Sandier T„ Tschlrhart J. T. The economic theory of clubs: an evaluation survey //
Journal of Economic Literature. 1980. Vol. 18. P. 1481-1521.
Satterthwaite M. A. Strategy-proofness and Arrow’s conditions: existence
and correspondence theorems for voting procedures and social welfare
functions // Journal of Economic Theory. 1975. Vol. 10. P. 187-217.
Schelling T. C. Arms and Influence. New Haven, CT : Yale University Press,
1966.
Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and Democracy / 3rd edn. New York :
Harper & Row, 1950.
Sen A. K. Collective Choice and Social Welfare. San Francisco, CA : Holden-Day,
1970a.
Sen A. K. The impossibility of a Paretian liberal // Journal of Political Economy.
1970b. Vol. 78. P. 152-157.
Sen A. K. Informational basis of alternative welfare approaches, aggregation and
income distribution // Journal of Public Economy. 1974. Vol. 3. P. 387-
403.
Sen A. K. Liberty, unanimity and rights//Economica. 1976. Vol. 43. P. 217-
245.
Sen A. K. Social choice theory: a re-examination // Econometrica. 1977a. Vol. 45.
P.53-89.
Sen A. K. On weight and measures: informational constraints in social welfare
analysis//Econometrica. 1977b. Vol. 45. P. 1539-1572.
Sen A. K. Choice, Welfare and Measurement. Cambridge, MA : MIT Press, 1982.
Sen A. K. Foundations of social choice theory: an epilogue / In J. Elster and
A. Hylland (eds). Foundations of Social Choice Theory. P. 213-248, Cam-
bridge : Cambridge University Press, 1986.
Sen A. K., Patanalk P. K. Necessary and sufficient conditions for rational choice
under majority decision//Journal of Economic Theory. 1969. Vol. 1.
P.178-202.
Slutsky S. A voting model for the allocation of public goods: existence of an
equilibrium//Journal of Economic Theory. 1977. Vol. 14. P. 299-325.
Теория общественного выбора
303
Smith V. The principal of unanimity and voluntary consent in social choice//
Journal of Political Economy. 1977. Vol. 85. P. 1125-1139.
Smith V. An experimental comparison of three public good decision mechanisms //
Scandinavian Journal of Economics. 1979a. Vol. 81. P. 198-215.
Smith V. Incentive compatible experimental processes for the provision of public
goods / In V. L. Smith (ed.). Research in Experimental Economics. Green-
wich, CT : JAI Press, 1979b.
Smith V. Experiments with a decentralized mechanism for public good decisions //
American Economic Review. 1980. Vol. 70. P. 584-599.
Taylor M. J. Proof of a theorem on majority rule // Behavioural Science. 1969.
Vol. 14. P. 228-231.
Taylor M. J., Ward H. Chickens, whales, and lumpy goods: alternative models of
public-good provision//Political Studies. 1982. Vol. 30. P. 350-370.
Tideman T. N., Tullock G. A new and superior process for making social
choices// Journal of Political Economy. 1976. Vol. 84. P. 1145-1159.
Tiebout С. M. A pure theory of local expenditure // Journal of Political Economy.
1956. Vol. 64. P. 416-424.
Tullock G. The welfare costs of tariffs, monopolies and theft // Western Economic
Journal. 1967. Vol. 5. P. 224-232.
Vickrey W. Utility, strategy, and social decision rules // Quarterly Journal of
Economics. 1960. Vol. 74. P. 507-535.
Vickrey W. Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders // Journal
of Finance. 1961. Vol. 16. P. 8-37.
Ward H. The risks of a reputation for toughness: strategy in public goods
provision problems modelled by chicken supergames // British Journal of
Political Science. 1987. Vol. 17. P. 23-52.
Wicksell K. A new principleof just taxation // FinanztheoretischeUntersuchungen,
Jena. 1896. Reprinted in Musgrave R. A. and Peacock A. T. (eds). Classics
in the Theory of Public Finance. New York : St Martin’s Press, 1958.
л (t'_
><rr
л:'-'
bl i’iti
>04*.
13
ДЖОН Д. ХЕЙ »
arfoiieHjb boog -4fr НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Ji •• ”. < »•'
13.1. Введение
Название этой главы было предложено мне редакторами изда-
ния. Желали они этого или нет, но возможны две его интерпретации:
изучение неопределенности в рамках экономической теории и суще-
ствующая среди профессиональных экономистов неопределенность по
поводу того, как следует трактовать неопределенность в экономиче-
ской теории. Я буду прибегать к обеим интерпретациям. «Шизофре-
нический» характер названия точно отражает существующее «ши-
зофреническое» отношение к изучению неопределенности профессио-
нальными экономистами: с одной стороны, большинство экономистов,
применяющих теорию неопределенности, используют теорию субъек-
тивной ожидаемой полезности (ТСОП) в качестве исходной точки
анализа (многочисленные примеры могут быть найдены в других гла-
вах данного издания); с другой стороны, многие экономисты, изуча-
ющие теорию неопределенности, все более и более явно отказываются
от ТСОП как обоснованного отправного пункта своих исследований.
В значительной степени это связано с тем, что эмпирические иссле-
дования (обычно экспериментального характера, см. главу 29) броса-
ют тень сомнения на основные аксиомы ТСОП. Я буду ссылаться на
ТСОП как на «традиционную теорию», и прежде чем перейти к но-
вым захватывающим достижениям, стимулируемым эмпирическими
исследованиями, упомянутыми выше, мы займемся ее обсуждением.
13.2. Традиционная теория: теория субъективной
ожидаемой полезности. Дескриптивная теория
субъективной ожидаемой полезности
Представители всех разделов экономической теории — включая
экономистов, изучающих проблему неопределенности, — склонны пред-
полагать, что все экономические агенты в некотором смысле рацио-
Неопределенность в экономической теории
305
нальны; до недавнего времени экономическая теория неопределенно-
сти трактовала этот смысл на сегодняшний взгляд весьма ограничи-
тельно, но с тогдашних позиций это определение казалось вполне
разумным. Я остановлюсь на этом вопросе несколько позднее, после
того как мы определим «правила игры».
Нас интересует описание экономического поведения в условиях
риска и неопределенности. По очевидным причинам полезно прово-
дить различие между статическими и динамическими проблемами
принятия решений. В первом случае речь идет об одномоментной
проблеме, когда экономический агент принимает решение, «среда»
отвечает, достигается некоторый исход — и на этом все кончается.
Во втором случае речь идет о проблемах последовательности во вре-
мени, когда агент и среда по очереди принимают решения и «отвеча-
ют», исход же определяется, когда сделаны все «ходы». Следует отме-
тить, что я исключаю игры (обсуждаемые в главе 17), в которых среда
и агент стратегически состязаются друг с другом; в этой главе «сре-
да» отвечает случайным образом, безотносительно и независимо от
решения агента.
Начнем со статических проблем и, чтобы не усложнять себе
жизнь, сначала рассмотрим статическую проблему в условиях риска.
Данная проблема возникает в условиях, когда различным возмож-
ным исходам могут быть приписаны определенные вероятности.
Определим сказанное более строго. Экономический агент пытается
выбрать из нескольких рискованных альтернатив. Обозначим исход-
ный выбор как С. Поскольку речь идет о проблеме решения в ситу-
ации риска, конечный исход нашего выбора не известен во время
осуществления выбора. Тем не менее мы предполагаем, что множе-
ство возможных конечных исходов известно. Обозначим это множе-
ство как (Ар ..., Ар ..., An); можно смело допустить, что этот список
является полным в том смысле, что он содержит все возможные
исходы всех доступных выборов. N, разумеется, может быть очень
большим (даже бесконечным). Если речь идет о проблеме решения в
условиях риска, то каждому из этих конечных исходов могут быть
приписаны определенные вероятности (для каждого выбора). Обозначим
их для исходного выбора С как (рг, ..., pt, ..., pN). При данном выборе
С конечный результат Aj получится с вероятностью рг..А( — с веро-
ятностью р( и An — с вероятностью pN. Мы предположим, что экономи-
ческий агент тщательно составил список конечных исходов так, что-
бы они были взаимно исключающими; поскольку мы уже предполо-
жили, что список исчерпывающе полон, то каждая pt — неотрицательна
и = 1-
Теперь мы должны построить теорию субъективной ожидаемой
полезности для рационального выбора среди подобных рискованных
альтернатив. Мы сделаем это в два этапа: описательный и предписа-
тельный. На первом этапе мы опишем отношение экономического
21 Заказ № 356
306
Джон Д. Хей
агента к каждому из конечных исходов в условиях рискованного
выбора. Очевидно, это не может быть сделано в каком бы то ни было
абсолютном, а только в относительном смысле; наиболее естествен-
ным способом сделать это было бы описать оценку каждого конечно-
го исхода относительно самого лучшего и самого худшего из них. Эти
понятия нуждаются в определении, так что мы сначала должны пред-
положить (в соответствии с традиционной экономической теорией
неопределенности), что агент имеет упорядоченные предпочтения ко-
нечных исходов (напомним, что все они определены и известны). Это —
аксиома упорядочения. Для простоты предположим, что нижние ин-
дексы выбраны таким образом, чтобы Аг был наиболее предпочти-
тельным («лучшим»), a An — наименее предпочтительным («худшим»).
Отметим, что система предпочтений варьирует от агента к агенту. Это
не играет никакой роли в дальнейшем.
Теперь возьмем некоторый промежуточный исход Аг По по-
строению Aj по меньшей мере так же предпочтителен, как At, в то
время как At, по меньшей мере так же предпочтителен, как Aw.
Предположим, без всякого опасения упустить суть дела, что исход
Ат строго предпочтительнее Ар a А; строго предпочтительнее AN.
Теперь рассмотрим рискованный выбор, включающий конечные
исходы Aj и An с соответствующими вероятностями р и 1 - р. Обо-
значим подобный рискованный выбор [Ар Ад,; р, 1 - р]. Если р = 1,
то данный рискованный выбор [Ар AN', р, 1 - р] просто представля-
ет собой неизбежность исхода Ар который строго предпочтитель-
нее, чем АР Если р = 0, то в рискованном выборе [Ар AN; р, 1 - р]
исход An, строго менее предпочтительный, чем Ар также предопре-
делен. Следовательно, при р = 1 мы имеем [Ар AN', р, 1 - р], пред-
почитаемый относительно Ар а при р = 0, мы имеем Ар предпочи-
таемый относительно [Ар Aw; р, 1 - р]. Теперь допустим непрерыв-
ность предпочтений, так что по мере того, как р уменьшается от
единицы до нуля, рискованный выбор [Ар AN; р, 1 - р] непрерывно
становится все менее предпочтительным. Это — аксиома непрерыв-
ности. Она означает, что имеется некое значение р больше нуля и
меньше единицы, при котором наш экономический агент безразли-
чен в выборе между А, и [Ар AN', р, 1 - р]. По причинам, которые
впоследствии станут очевидными, мы обозначим эту точку безраз-
личия, которая может сильно варьировать от агента к агенту (что
отражает различия в оценке At относительно Ат и AN и в отношении
к риску среди агентов), как иг Мы будем называть эту величину
значением полезности А( для агента (конечно, относительно Aj и
Ад,) в условиях рискованного выбора. Должно быть очевидно, что
для каждого агента = 1, uN = 0, а промежуточные значения и,
могут отличаться от агента к агенту.
Для иллюстрации рассмотрим числовой пример. Предположим,
что Aj получает 100 фунтов, А( — 50, a AN — 0 (но заметим, что
Неопределенность в экономической теории
307
результаты не обязательно должны быть выражены в денежной фор-
ме). Теперь спросим себя: какой должно быть вероятность р, чтобы
достичь безразличия между А1 (50 фунтов), получаемым гаранти-
рованно, и азартной игрой с исходами 100 и 0 фунтов с соответству-
ющими вероятностями р и 1 - р? Ясно, что если р = 1, то вы пред-
почли бы азартную игру; если же р - 0, то вы предпочли бы 50
фунтов. Если вас не беспокоит риск, предполагаемый азартной игрой
(т. е. если вы нейтральны к риску), то точка безразличия характери-
зовалась бы вероятностью р = 0.5; при этом значении азартная игра
была бы игрой с равновероятным получением 100 и 0 фунтов (с ожи-
даемым значением 50 фунтов). Если, однако, вас тревожит риск и вы
не хотите его принимать на себя (т. е. вы являетесь лицом, не распо-
ложенным к риску), то вы пожелали бы значения р большего 0.5,
чтобы достичь безразличия. Если, напротив, вам нравится риск (т. е.
вы расположены к риску), то значение безразличия было бы несколь-
ко меньше 0,5. Для меня, поскольку я не расположен к риску, прием-
лемое значение составило бы примерно 0.7: я оцениваю 50 верных
фунтов и азартную игру с шансами 70/30 для исходов 100 и 0 фунтов
как равноценные.
Нормативная теория
субъективной ожидаемой полезности
Аксиома непрерывности требует, чтобы для каждого i существо-
вало такое значение ut, при котором индивид безразличен в выборе
между гарантированным получением А, и азартной игрой [Ар AN;
ut, 1 - uf]. Аксиома непрерывности требует, чтобы это безразличие имело
место независимо от контекста, в котором возникает проблема выбо-
ра. Следовательно, если агент готов принять At, мы можем заменить
его на [Ар AN; ut, 1 - uj и он или она не станут от этого менее счаст-
ливыми.
Вооруженные этой новой аксиомой, перейдем теперь к норма-
тивному этапу. Обсудим исходный выбор С, описанный выше и про-
иллюстрированный на рис. 13.1а. Мы будем использовать запись:
[^i..А» Pi...Pt> -"’Pn]
для обозначения исходного выбора С, при котором Аг получается
с вероятностью рр ..., At — с вероятностью pt, и AN — с вероятно-
стью pN.
Аксиома непрерывности говорит, что для каждого i существует
ut, такое что агент безразличен в выборе между А( и азартной игрой
[Ар Aw; и, 1 - uj, в то время как аксиома независимости утверждает,
что это безразличие сохраняется независимо от контекста. Таким
образом, мы можем заменить исходный выбор С на рис. 13.1а на
308
Джон Д. Хей
выбор, представленный на рис. 13.16, и агент будет безразличен в
выборе между двумя ситуациями.
Теперь обратимся к рис. 13.16; это —• азартная игра с двумя
этапами, и конечный исход в любом случае составляет или Aj, или AN.
Очевидно, что, руководствуясь элементарными правилами теории ве-
роятности, мы можем свести двухстадийную игру к одностадийной,
представленной на рис. 13.1в. Технически обе ситуации (на рис. 13.1а
и на рис. 13.16) — эквивалентны, так что естественно предположить,
что агент безразличен в выборе между этими двумя возможностями.
В этом суть аксиомы редукции.
Таким образом, при наших предпосылках мы показали, что агент
будет безразличен в выборе между С, первоначально представленным
на рис. 13.1а, и новым выбором, представленным на рис. 13.1в. Ана-
логичная операция может также быть выполнена для любого другого
рискованного выбора С', как это иллюстрируется на рис. 13.2, где С
задан следующим образом [Ар ...,А(.AN; р[, ..., р[, ..., р^]. Таким
образом, агент будет безразличен при выборе между С, представлен-
ным на рис. 13.2а, и выбором, представленным на рис. 13.26. Теперь
зададимся вопросом, какую из двух возможностей — С или С— из-
берет агент. Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим преобразова-
Я>»пределенНость в экономической, теории
Рис. 13.2.
ния С и С' на рис. 13.1в и 13.26 соответственно. В обоих случаях речь
идет об азартных играх, в которых есть лучшие и худшие исходы (Aj
и An соответственно). Поскольку А1 предпочтительнее AN, кажется
разумным предположить, что азартная игра, в которой вероятность
получения Aj является наивысшей, будет наиболее предпочтитель-
ной. Это — аксиома монотонности. Тогда азартная игра на рис. 13.1в
будет предпочтена агентом азартной игре на рис. 13.26, если и толь-
ко если
N N
XPiui * Xp'iui- (13.1)
i=l i=l
Как интерпретировать это условие? Вспомним, что мы определили ut
как полезность конечного исхода Аг Левая часть уравнения (13.1)
может быть проинтерпретирована как ожидаемая полезность исхода
при выборе С, так как это просто средневзвешенная возможных по-
лезностей, взвешенных по соответствующим вероятностям: при выборе
С агент может ожидать полезность и1 с вероятностью полезность и,
с вероятностью pt, ..., полезность uN с вероятностью pN. Следовательно,
мы показали, что выбор С будет предпочтен агентом выбору С, если
и только если ожидаемая полезность выбора С по меньшей мере
равна ожидаемой полезности выбора С. Отсюда название теории.
(Отметим, что полезности субъективны, поскольку они различаются
от агента к агенту.)
310
Джон Д. Хей
Мы можем подытожить вышесказанное следующим образом.
Дескриптивный этап предполагает отыскание «полезностей» (и) каж-
дого из конечных исходов посредством обнаружения значения ир при
котором агент безразличен в выборе между гарантированным полу-
чением А( и азартной игрой [Ар AN\ 1 - uj. Нормативный этап
позволяет нам предсказывать результат любой проблемы выбора: агент
просто-напросто делает тот выбор С, при котором ожидаемая полез-
ность максимальна. Этот важный результат широко использу-
ется в теориях принятия экономических решений в условиях неопре-
деленности.
До сих пор наше обсуждение ограничивалось простыми стати-
ческими проблемами решения в условиях риска. Однако можно до-
статочно очевидным образом расширить статическую проблему и пе-
рейти к динамическим проблемам решения в условиях как риска,
так и неопределенности. Рассмотрим сначала проблему статических
решений в условиях неопределенности.
Статические решения в условиях неопределенности
Ситуация неопределенности в отличие от ситуации риска обычно
определяется как ситуация, в которой лицо, принимающее решение,
чувствует себя неспособным приписать определенные вероятности
возможным состояниям мира. Так как вышеприведенный анализ
сосредоточивался исключительно на ситуациях, когда лицо, принима-
ющее решение, может приписывать такие вероятности, мы имеем
право спросить, как применять этот анализ, когда подобная возмож-
ность у агента отсутствует. Фактически это простой вопрос: так же,
как экономист выводит полезности из выбора, мы можем вывести из
выбора и вероятности. Рассмотрим следующую ситуацию: пусть S
обозначает некоторое состояние мира, для которого агент чувствует
себя неспособным определить вероятность, a S —дополняющее состо-
яние к S. Таким образом, S — это некоторое реализовавшееся состо-
яние мира, aS — не реализовавшееся.
Теперь рассмотрим азартную игру {1, 0; S, S}, которая описывает
агента, получающего полезность 1, если состояние S реализуется, и
полезность 0, если состояние S не реализуется. Спросим агента:
«Какой уровень полезности и, получаемый с полной определенно-
стью, дает вам тот же самый уровень удовлетворения, что и азартная
игра {1, 0; S, S}?» Ясно, что если u = 1, то гарантированное получение
и дает большее удовлетворение, чем азартная игра {1, 0; S, S} (если
только, конечно, агент не уверен в реализации состояния S, так как в
этом случае и и азартная игра {1, 0; S, S} одинаково предпочтитель-
ны). Точно так же, если и = 0, то гарантированное получение и дает
меньшее количество удовлетворения, чем, азартная игра {1, 0; S, S}
(если, конечно, агент не считает, что событие S точно не произойдет,
Неопределенность в экономической теории
311
что означает равноценность для агента и и азартной игры {1, 0; S, S}).
Поэтому, если аксиома непрерывности по-прежнему соблюдается, мы
будем иметь некоторое значение и, лежащее между 1 и 0, при ко-
тором индивид безразличен в выборе между гарантированным по-
лучением и и азартной игрой {1, 0; S, S}. По очевидным причинам
мы назовем это значение р. Его можно интерпретировать как субъек-
тивную вероятность, приписанную агентом событию S, поскольку
условие безразличия требует, чтобы полезность и, получаемая гаран-
тированно, равнялась ожидаемой полезности, полученной от азарт-
ной игры {1, 0; S, S}. Это значение равно: 1 х P(S) + 0 х P(s) = P(S),
где P(S) обозначает вероятность состояния мира S. Следовательно,
Р = P(S).
Как и в случае с выведением полезностей, выведение субъек-
тивных вероятностей требует некоторых условий последовательно-
сти. Поэтому, например, если нашего агента просят определить уро-
вень полезности, при котором он был бы безразличен в выборе
между этим уровнем полезности и азартной игрой {а + b, b; S, S},
то ответ должен быть ах р + Ь. Это кажется не слишком обреме-
нительным условием. Кроме того, можно показать, что «вероятно-
сти», выявленные таким образом, удовлетворяют обычным зако-
нам теории вероятностей. Для начала, очевидно, что эти вероятно-
сти должны находиться между нулем и единицей, при этом крайние
значения этого интервала берутся только в том случае, если собы-
тие гарантированно произойдет или гарантированно не произойдет.
Кроме того, эти вероятности удовлетворяют закону сложения для
случаев взаимоисключающих событий: пусть события S и S' вза-
имно исключают друг друга и пусть р и р' — их субъективные
вероятности в том смысле, что азартная игра {1,_0; S, S} имеет
ожидаемую полезность р, а азартная игра {1, 0; S', 8} — ожидаемую
полезность р'; тогда естественно, что игра {1, 0; S U S', S U 8} имеет
ожидаемую полезность р + р'.
Таким образом, субъективные вероятности также могут быть
выведены из выбора, как и субъективные полезности. Поэтому в си-
туации неопределенности, отличающейся от ситуации риска, теорема
ожидаемой полезности по-прежнему соблюдается, единственное раз-
личие состоит в том, что должна пониматься как субъективная
вероятность.
Динамические проблемы решения
Теперь обратимся к динамическим проблемам. Речь пойдет о
ситуациях, где имеет место последовательность моментов принятия
решения, для каждого из которых существует некая азартная игра.
На первый взгляд такие проблемы отличаются от рассмотренной
только что проблемы одноэтапного (статического) выбора. Однако их
312
Джон Д. Хей
О — узел выбора (последующие заглавные буквы указывают до-
ступные выборы).
• — узел шанса (последующие строчные буквы указывают субъек-
тивные вероятности.
— конечные точки (соответствующие строчные буквы представ-
ляют конечные исходы).
Рис. 13.3.
можно привести к знакомому виду, если просто интерпретировать
проблему выбора как выбор между различными стратегиями, где сами
стратегии являются по сути условными выборами. Простая иллю-
страция пояснит сказанное. Рассмотрим рис. 13.3, который показы-
вает простую динамическую проблему выбора: имеются два узла ре-
шения (два выбора) и два узла шанса. На первый взгляд эта проблема
отлична от рассмотренной выше. Однако она может быть приведена
к привычному виду, если мы переопределим наш выбор как выбор
между стратегиями; члены множества выборов выглядят так: (Ср
DpB3), (Cr; Dp DJ, (Ср D2, D3), (Ср D2, DJ и т. д., где (Сх; Dp D3),
например, обозначает выбор Ср вслед за которым выбирается Dr или D3
в зависимости от исхода узла шанса'после Сг. Проинтерпретирован-
ная в таком свете проблема может быть представлена так, как пока-
зано на рис. 13.4.
Неопределенность в экономической теории
М8
(Для наглядности рисунка некоторые вероятности опущены.)
Рис. 13.4.
Теперь рассмотрим предпочтения при выборе между стратегия-
ми. Согласно теореме ожидаемой полезности, стратегия (Сг; Dlf D3)
предпочитается стратегии (Ср D2, D3), если и только если
Pitfiu(ai) + Pi (1 - qi)u(bi) + (1 - Pi)q3u(a3) + (1 - pj(l - Q3)u(d3) >
> PiQ2u(a2) + Pi(l - q2)u(&2) + (1 - + (1 - Pi)(l - <7з)“(Ьз)-
Это так, если и только если
92u(ai) + С1 - > <72и(а2) + (1 - 92)u(fc2)-
Однако это точно то же самое условие, которое подразумевается пред-
почтением выбора Dx по сравнению с D2 в узле выбора (а) на рис. 13.3.
314
Джон Д. Хей
Таким образом, мы приходим к результату, согласно которому стра-
тегия (Ср Z)p Z)3) предпочитается стратегии (Ср D2, D3) (на рис. 13.4),
если и только если выбор Dl предпочитается выбору D2 в узле (а) на
рис. 13.3. Обобщая, можно сказать что, если Dx предпочитается D2
в (а) и D3 предпочитается D4 в (б), то из всех стратегий на рис. 13.4,
предполагающих выбор Cv наиболее предпочтительной должна быть
стратегия (Ср Du D3). Точно так же, если D6 предпочитается D6 в
узле (в) и D7 предпочитается D& в узле (г), то (С2; D3, D7) наиболее
предпочтительная из стратегий, предполагающих выбор С2. Наконец,
чтобы решить, является ли (Сг; Dlt D3) предпочтительной стратегией
по сравнению с (С2; D6, D7), мы сравним
Pi<7i“(<4) + Pi(1 - Qi)u(M + (1 - Р1)9з“(аз) + U - PiX1 - Чз)и(ьз)
С
+ Р2(! - <75)U(M + (i - Р2)97и(а7) + (1 - РгХ1 - Q7)u(b7).
Это равносильно тому, что мы приписываем ожидаемую полезность
qlu(a1) + (1 - узлу (а), ожидаемую полезность q3u(a3) + (1 - Q3)u(i>3)
узлу (б) и т. д.
Итогом нашей цепочки рассуждений является то, что мы мо-
жем использовать теорему ожидаемой полезности для решения ди-
намической проблемы выбора, представленной на рис. 13.3, при по-
мощи обратной индукции. Мы используем теорему для обнаружения
предпочтительных выборов и соответствующих ожидаемых полезно-
стей в узлах (а), (б), (в) и (г). Потом мы снова используем эти ожи-
даемые полезности в теореме, чтобы определить предпочтительный
выбор в самом первом узле решения. Кроме того, эта процедура об-
ратной индукции полностью эквивалентна решению, основанному на
статической версии, представленному на рис. 13.4. Другими словами,
мы можем применять ТСОП при работе с динамическими проблема-
ми с помощью обратной индукции.
На этом мы закончим краткий обзор традиционной теории.
Читатель мог убедиться, что эта теория является одновременно очень
простой и очень глубокой: ТСОП дает простую и исчерпывающую
теорию принятия экономического решения как в условиях риска, так
и при неопределенности, она позволяет рассматривать как динамиче-
ские, так и статические проблемы решения. Неудивительно, что она
была с энтузиазмом принята экономистами, какими бы разделами
экономической теории они ни занимались, она послужила отправной
точкой буквально для тысяч прикладных исследований различных
типов и способствовала публикации тысяч статей в экономических
журналах. Более важен тот факт, что она помогла сформулировать
неисчислимое количество проверяемых гипотез, многие из которых
были подтверждены эмпирическими исследованиями. Ясно, что это
очень важная теория.
Неоправленное ть в экономической теории
аде
т 13.3. Факты, свидетельствующие ш-тоно а щн
против традиционной теории ^яажячуц
Однако у ТСОП есть и свои критики. За последнее время их
численность возросла — сейчас уже имеется значительное количество
публикаций, развивающих отдельные возражения против теории ожи-
даемой полезности, а также выдвигающих альтернативные теории
принятия решения в условиях риска и неопределенности. Я постара-
юсь дать представление об этих новых теориях, но сначала попытаюсь
выразить саму суть возражений.
Эти возражения в значительной степени основаны на резуль-
татах экспериментов, более полно описанных в главе 29. Чтобы
проиллюстрировать некоторые из них, полезно использовать прием,
получивший название треугольника Маршака—Махины. Им поль-
зуются для описания выбора между азартными играми, предполага-
ющими только три возможных исхода (W = 3, используя наши обо-
значения). Пусть Ар А2 и А3 представляют собой эти три исхода, и
пусть связанные с ними вероятности будут соответственно р2, р3.
Поскольку Pj + р2 + р3 = 1, отсюда следует, что любая азартная игра,
предполагающая эти три исхода, может быть полностью определена
через pj и р3. Теперь рассмотрим рис. 13.5, где изображен треуголь-
ник Маршака—Махины. Вероятность получения самого хорошего
исхода pj отложена на вертикальной оси, в то время как вероят-
ность получения самого плохого исхода р3 измеряется по горизон-
тальной оси. Любая точка в пределах треугольника или на его
границах представляет некую азартную игру, предполагающую три
исхода: любая точка, находящаяся строго в границах треугольника,
представляет азартную игру, в которой все три исхода имеют веро-
ятности, отличные от нуля; точки на границах (исключая вершины)
представляют азартные игры, в которых одна из трех вероятностей
равна нулю, а каждая из трех вершин означает гарантированное
появление одного из исходов (Ат в V\,
А2 в V2, А3 в V3). Pi
Далее обычным способом можно v
представить упорядоченные предпочте-
ния индивида на множестве азартных N.
игр, предполагающих три исхода при
помощи карты безразличия в треуголь- 'К
нике. Если наш индивид действует в 'v
соответствии с теорией ожидаемой по-
лезности, его или ее кривая безразли-
чия задана постоянным уровнем ожи- 22________________ г
даемой полезности, т. е. О 1 р3
PiU(Ai) + p2u(A2) + Р3и(А3) = k, Рис. 13.5.
316
Джон Д. Хей.
где k константа. Поскольку pr + р2 + р3 = 1, мы можем записать это
выражение как
p3[u(A2) - и(А3)1
О, = -------;-----------1- Л,
u(A3) - и(А2)
(13.2)
где К — другая константа. Очевидно, что данное выражение задает
некоторую прямую с наклоном [u(A2) - u(A3)]/[u(Aj) - u(A2)]. Конеч-
но, этот наклон постоянен в пределах треугольника (где изменяется
только р). И, таким образом, карта безразличия — это множество
параллельных прямых линий. Более того, можно показать, что чем
более нерасположен к риску индивид, тем более крутыми будут эти
кривые безразличия, представленные параллельными прямыми. Рас-
смотрим, например, случай, когда А] = 100 фунтов, А2 = 50 фунтов,
а А3 = 0 фунтов. Без потери общности мы можем предположить; что
u(Aj) = 1 и и(А3) = 0. Лицо, нейтральное к риску, имело бы и(А2) = 0.5
и, следовательно, линии безразличия с тангенсом угла наклона, равным 1;
человек, умеренно боящийся риска, имел бы, скажем, и(А2) = 0.6 и,
следовательно, линии безразличия с наклоном 0.6/0.4 = 1.5, а че-
ловек, очень сильно не расположенный к риску, имел бы, напри-
мер, и(А2) = 0.9 и, следовательно, линии безразличия с наклоном
0.9/0.1 = 9.
Теперь исследуем определенные эмпирические факты, которые
очевидно противоречат предсказаниям ТСОП. Рассмотрим две про-
блемы выбора, в каждой из которых делается выбор между двумя
возможностями.
Проблема 1 Сг = [3000 фунтов; 1],
С2 = [4000 фунтов, 0 фунтов; 0.8; 0.2].
Проблема 2 Dt = [3000 фунтов, 0 фунтов; 0.25; 0.75],
D2 = [4000 фунтов, 0 фунтов; 0.2; 0.8].
В рамках проблемы 1 вы должны выбрать между 3000 фунтов,
получаемых с определенностью, и азартной игрой, при которой вы
имеете 80% вероятности выиграть 4000 фунтов и 20% — не получить
ничего. Что вы выберете? Теперь задайте себе тот же вопрос в отноше-
нии проблемы 2.
Чтобы ваше поведение соответствовало теории ожидаемой по-
лезности, вам следует выбрать в рамках проблемы 1, если и только
если вы выбираете Dx в рамках проблемы 2. Удовлетворяет ли ваш
выбор этому варианту? Чтобы увидеть, почему это так, рассмотрим
рис. 13.6, где представлен треугольник Маршака—Махины для трех
исходов (Aj = 4000 фунтов, А2 = 3000 фунтов и А3 = 0 фунтов).
Точки, обозначенные Ср С2, Dr и D2, определяют четыре риско-
ванных выбора, существующие в рамках двух приведенных проблем.
Можно заметить, что линия, соединяющая С\ с С2, параллельна линии,
Нщпределенностъ в экономической, теории
«к-7
соединяющей Dx с D2. Из этого следует, что агент, чье поведение со-
гласуется с ТСОП (и, следовательно, чьи кривые безразличия пред-
ставляют собой параллельные прямые линии), должен предпочесть
либо Cj выбору С2, и Dr выбору D2 (карта безразличия, обозначенная
сплошными линиями), либо С2 выбору Cj и D2 выбору Dr (карта
безразличия, обозначенная штриховыми линиями), или же быть без-
различным при выборе Cj по сравнению с С2 и по сравнению с D2
(пунктирная карта безразличия). Поэтому, например, предпочтение
Cj по сравнению с С2 в рамках проблемы 1 и D2 по сравнению с Dj в
рамках проблемы 2 несовместимо с любым множеством параллель-
ных прямых линий безразличия и, следовательно, с ТСОП.
К сожалению, эмпирические факты свидетельствуют о том, что
многие люди предпочитают Сг выбору С2 и D2 выбору Dr даже после
того, как им укажут на их «ошибку». Напротив, относительно немно-
гие предпочли С2 выбору Ct и Dr выбору D2 и чуть менее 50% имели
предпочтения, согласующиеся с ТСОП. Это свидетельствует в пользу
того, что кривые безразличия некоторых людей не являются парал-
лельными прямыми линиями, а «расходятся» в треугольнике «вее-
ром», будучи более пологими справа у основания и более крутыми
слева и выше. Эта гипотеза «веера» (fanning-out hypothesis), наибо-
лее ярко сформулированная Махиной (Machina, 1987), очевидно про-
318
Джон Д. Хей
тиворечит ТСОП, что предполагает необходимость поиска экономиста-
ми приемлемой теории принятия решения в условиях неопреде-
ленности.
13.4. Альтернативные теории
Альтернативные теории непременно отрицают ту или иную из
обсужденных выше аксиом, лежащих в основе ТСОП. Аксиомой, ко-
торая оказалась под наиболее мощным давлением как наиболее важ-
ная для подтверждения или опровержения обоснованности гипотезы
«веера», является аксиома независимости. Проинтерпретируем эту
аксиому с помощью треугольника Махины. Сперва, однако, мы уста-
новим одну очень простую особенность линий безразличия в этом
треугольнике.
Рассмотрим рис. 13.7 и предположим, что А и В — две точки на
одной кривой безразличия (так что наш агент безразличен в выборе
между А и В). Пусть F — азартная игра, которая приносит А с веро-
ятностью q и В с вероятностью 1 - q. Геометрически F делит линию,
соединяющую А и В, в отношении q к 1 - q.
Теперь, поскольку по построению индивид безразличен в выборе
между А и В, кажется тривиальным настаивать, что он должен также
быть безразличен в выборе между F, А и В, так как выбор F ведет
либо к А, либо к В. Это — аксиома промежуточности (betweenness
Неопределенность в экономической теории
319
axiom). Таким образом, кривая безразличия, проходящая через А и В,
должна также проходить через F. Но q был выбран произвольно;
следовательно, кривая безразличия, проходящая через А и В, есть
прямая линия, соединяющая А и В. Аксиома промежуточности поэто-
му достаточна, чтобы показать, что кривые безразличия в треугольни-
ке — прямые линии. Теперь покажем, как аксиома независимости
приводит к выводу об их параллельности.
Как и прежде, обратимся к рис. 13.7 и предположим, что А
и В — любые две точки на одной кривой безразличия. Пусть С —
любая другая точка в пределах треугольника. Теперь предположим,
что точка D — азартная игра с исходами А и С и с соответствующими
вероятностями р и 1 - р, так что D = [А, С; р, 1 - р].
Геометрически D делит прямую линию, соединяющую А с С, в
отношении р к 1 - р. Точно так же определим Е как азартную игру с
исходами В и С и соответствующими вероятностями р и 1 - р, так что
Е = [В, С; р, 1 - р]. И вновь геометрически Е делит прямую линию,
соединяющую В с С, в отношении р к 1 - р. Согласно аксиоме незави-
симости, поскольку А и В равноценны, D и Е также должны быть
равноценными. Однако, согласно элементарным геометрическим от-
ношениям, линия, соединяющая D с Е, параллельна линии, соединя-
ющей А с В. Следовательно, аксиома независимости подразумевает,
что прямолинейные кривые безразличия (подразумеваемые аксиомой
промежуточности) параллельны. Казалось бы, разумно было заклю-
чить, что феномен «веера», наблюдаемый в экспериментах, не согла-
суется с аксиомой независимости. Именно к такому выводу пришло
несколько исследователей. В частности, Чу и Мак-Кримон (Chew, 1983)
заменили сильную аксиому независимости слабой аксиомой незави-
симости, которая требует, чтобы при безразличии индивида в выборе
между А и В для каждого q имелась такая вероятность г, для которой
[А, С; q, 1 - g] и [В, С; г, 1 - г] были бы безразличными. Обратите
внимание, что сильное условие независимости требует, чтобы г = q.
Это ведет к модификации (обобщению) ТСОП, называемой теорией
взвешенной полезности. Так как вероятность г при слабом условии
независима от С, из этого следует, что кривые безразличия, подразу-
меваемые теорией взвешенной полезности, должны быть прямыми
линиями (что подразумевается аксиомой промежуточности), расходя-
щимися веером из общей точки, как проиллюстрировано на рис. 13.8.
Это согласовывалось бы с эмпирическими фактами, приведенными
выше, и при этом теория была бы эмпирически проверяемой.
Дальнейшее обобщение должно отбросить аксиому независимо-
сти в любой форме; это приводит нас к прямолинейным кривым
безразличия без всяких дальнейших ограничений, как проиллюстри-
ровано на рис. 13.9. Это карта безразличия, вытекающая из теории
неявной ожидаемой полезности (implicit expected utility) (см. Chew,
1985).
320
Джон Д. Хей
Рис. 13.9.
Неопределенность в экономической, теории
321
В предыдущем абзаце мы употребили выражение «без дальней-
ших ограничений», однако это не совсем точно: ведь мы предполага-
ем, что кривые безразличия наклонены вверх. Однако представляет-
ся, что это согласуется с требованием, согласно которому предпочи-
тается А2, а А2 предпочитается А3
Линейность карты безразличия подразумевается аксиомой про-
межуточности. Эта предпосылка кажется безобидной, но все же кое-
кто отвергает и ее. Особый интерес представляет теория, выдвинутая
Махиной (Machina, 1982). Речь идет о так называемой обобщенной
теории ожидаемой полезности (generalized expected utility theory) или
о ТСОП без аксиомы независимости (если следовать формулировке
Махины). В отличие от теорий, обсужденных выше, подход Махины
не является аксиоматическим. Вместо этого он исходит из предполо-
жения, что индивид имеет четкий порядок предпочтений на множе-
стве рискованных возможностей. Махина предполагает, что порядок
предпочтений, который может быть представлен неким функциона-
лом предпочтений, таков, что функционал «ведет себя хорошо» (яв-
ляется «гладким») в математическом смысле. Чтобы сделать теорию
проверяемой, он налагает на функционал два гипотетических усло-
вия. Первое, в сущности, предполагает, что подразумеваемые кривые
безразличия в треугольнике — возрастающие, что кажется безобид-
ным. Второе условие, увековеченное в литературе как вторая гипотеза
Махины, подразумевает гипотезу «веера». По сути, гипотеза состоит в
том, что индивид более нерасположен к риску, когда сталкивается с
более привлекательной перспективой. Таким образом, кривые без-
различия являются более крутыми (люди демонстрируют большую
нерасположенность к риску) в верхней левой части треугольника и
более пологими (люди демонстрируют меньшую нерасположенность к
риску) в нижней правой части треугольника. Рис. 13.10 иллюстри-
рует это.
Обобщенная теория ожидаемой полезности Махины хотя и не
опирается неявно на аксиому промежуточности, является привлека-
тельной теорией: она проверяема и объясняет значительную часть
эмпирических фактов, которые, по-видимому, противоречат ТСОП.
Она объясняет парадокс, обсужденный выше, который является
одним из нескольких вариантов парадокса Алле, известных как
эффект общего следствия или эффект общего соотношения. Рас-
смотренный выше парадокс — пример последнего; первоначальный
парадокс Алле — пример первого (более детальный анализ см. в
работе Сагдена (Sugden, 1986)). Однако есть один парадокс, кото-
рый не может быть объяснен формулировкой Махины, — это эф-
фект изоляции.
Рассмотрим пример, представленный Канеманом и Тверски
(Kahneman, Tversky, 1979). Имеются две проблемы решения:
22 Заказ № 356
322
Джон Д. Хей
Проблема 3. В дополнение к тому, что вы имеете, вам дали
1000 фунтов. Теперь вас просят выбрать между
Ci = [1000, 0; 0.5, 0.5] и С2 = [500; 1).
Проблема 4. В дополнение к тому, что вы имеете, вам дали
2000 фунтов. Теперь вас просят выбрать между
П1= [-1000, 0; 0.5, 0.5] и D2 = [-500; 1].
В экспериментах Канемана и Тверски большинство испытуемых
выбрало С2 в рамках проблемы 3 и в рамках проблемы 4. Однако
обратите внимание, что в отношении исхода обе проблемы идентичны.
В самом деле, С\ = [2,000, 1,000; 0.5, 0.5] = Dr и С2 = [1,500; 1] = D2-
Как заметили Канеман и Тверски, поведение большинства «явно про-
тиворечит теории полезности».
Схожая проблема возникает в связи с явлением обращения пред-
почтений. Пусть, например, имеются две рискованные перспективы,
которые можно условно назвать «пари большой вероятности» (Р bet)
и «пари больших денег» ($ bet). В первом случае имеется высокая
вероятность выиграть небольшое количество денег (и небольшая ве-
роятность потери еще более незначительного количества денег). Во
втором случае имеется маленькая вероятность выиграть весьма боль-
шую сумму денег (и очень высокая вероятность потери небольшой
суммы денег). Людей просят назвать, какое пари они предпочитают.
Неопределенность в экономической теории
323
Затем их просят выбрать эквивалент определенности для каждого из
двух пари: т. е. самое маленькое количество денег, которое они упла-
тили бы за покупку пари. Обозначим их Ср и С$ соответственно.
Большинство людей утверждают, что они предпочитают пари боль-
шой вероятности по сравнению с пари больших денег, и все же они
назначают Ср меньшим, чем С$. Поистине странное явление! Главная
проблема, конечно, состоит в том, что это явление означает отсутствие
транзитивности порядка предпочтений в рискованных перспективах
и, следовательно, отрицает существование традиционной карты без-
различия в треугольнике.
Существуют две теории, которые претендуют на объяснение как
обращения предпочтений, так и эффекта изоляции: теория перспек-
тив (prospect theory) и теория огорчений (regret theory).
Первая из них была одной из самых ранних новых альтернатив-
ных теорий. Она была построена как сознательный ответ на экспе-
риментальные факты, обсужденные ранее (и представленные более
подробно в главе 29). В сущности, она отличается от ТСОП в двух
отношениях: во-первых, благодаря утверждению, что вероятности
трансформируются прежде, чем быть использованными в вычисле-
нии ожидаемой полезности (а именно маленькие вероятности увели-
чиваются, большие вероятности уменьшаются); во-вторых, благодаря
постулированию того, что функция полезности определена относи-
тельно изменений в богатстве исходя из некоторой заданной «от-
правной» точки (а не относительно конечного богатства). Вторая осо-
бенность позволяет теории объяснить эффект изоляции; первая же
позволяет объяснить явление обращения предпочтений.
Напротив, теория огорчения учитывает возможность нетранзи-
тивности, будучи теорией «попарного» выбора. Кроме того, теория
основана на представлении о том, что когда некто выбирает одну из
двух альтернатив, он одновременно отвергает другую. Из этого следу-
ет, что лицо, принимающее решение, может испытывать огорчение
или радость: оно испытывает огорчение, если фактическое решение
приводит к худшему исходу, чем могло бы быть при выборе другой
альтернативы, и радость, если фактическое решение приводит к луч-
шему исходу, чем могло бы быть. Согласно Лумсу и Сагдену, создате-
лям теории огорчений, рациональный человек принимает эти потен-
циальные эмоции во внимание при принятии изначального решения.
Таким образом, вместо простого выбора возможности, которая дает
наивысшую ожидаемую полезность, лицо, принимающее решение,
должно максимизировать ожидаемую модифицированную полезность,
в которой первоначальная полезность модифицирована чувствами огор-
чения и радости. Дополнительные детали можно найти в работе Лум-
са и Сагдена (Loomes, Sugden, 1982, 1987).
Все вышеизложенные теории принимают вероятности заданны-
ми и неявно являются теориями принятия решений в условиях риска.
324
Джон Д. Хей.
Однако некоторые из этих теорий — в особенности теория Махины
(обобщенная теория ожидаемой полезности), а также теория Канема-
на и Тверски (теория перспектив) — преобразовывают вероятности
перед использованием их в функции ожидаемой полезности той или
иной формы. Это приводит, в свою очередь, к нелинейным кривым
безразличия в треугольнике Маршака—Махины (отметим, что кри-
вые безразличия в треугольнике, согласно теории огорчений с незави-
симыми альтернативами, являются прямыми линиями, расходящи-
мися веером из точки, находящейся вне треугольника, как в теории
взвешенной полезности). В дополнение к этим двум теориям (с не-
линейными кривыми безразличия) имеется множество других теорий
под общим заголовком «теории ожидаемой полезности с вероятно-
стями, зависящими от ранга» (rank-dependent), где вероятности под-
вергаются некоторому преобразованию. Одной из «представительниц»
этой группы является моя собственная экономическая теория опти-
мизма и пессимизма (Неу, 1984), согласно которой агенты завышают
вероятность благоприятных случаев и занижают вероятность неблаго-
приятных случаев, если они оптимисты, и поступают наоборот, если они
пессимисты. Другими теориями подобного рода являются теория пред-
восхищаемой полезности Куиггина и теория двойственной ожидаемой
полезности Яари. Сегал (Segal, forthcoming) использует этот тип теорий
для объяснения парадокса Эллсберга (см. с. 734).
Одна из главных трудностей, вызываемых использованием пре-
образованных вероятностей и, следовательно, работой с функциона-
лами предпочтения, нелинейными по вероятностям, связана с возник-
новением проблем с аксиомой редукции. Нужно напомнить, что эта
аксиома позволяет теоретику сводить сложные многоступенчатые азарт-
ные игры к технически эквивалентной азартной игре с единствен-
ной стадией; а также, что, возможно, еще более важно, она позволяет
распространить ТСОП на решение динамических проблем выбора; это
уже обсуждалось на стр. 314. Однако если предпочтение связано с
вероятностями нелинейно, то теоретик сталкивается с серьезными труд-
ностями, связанными с аксиомой редукции, поскольку предпочтения
в данном случае зависят от того, как представлены игры. Это неявно
отрицает аксиому редукции (хотя некоторые теоретики продолжают
работать с ней, несмотря на игнорирование линейности, что, как мне
кажется, вызывает определенные трудности).
Осознание того, что отбрасывание аксиом, лежащих в основе ТСОП,
скорее всего, приведет к трудностям с динамическими теориями вы-
бора в условиях риска и неопределенности, медленно проникает в
умы экономистов, и имеется множество попыток обобщить динами-
ческую теорию субъективной ожидаемой полезности теми же спосо-
бами, что использовались при обобщении статического случая теории.
Особого интереса заслуживает моделирование предпочтений относи-
тельно того, позже или раньше будет рассеяна неопределенность —
Неопределенность в экономической, теории
325
ТСОП, по существу, предполагает, что лицо, принимающее решение,
безразлично относительно выбора времени рассеяния неопределенно-
сти (кроме тех случаев, когда несколько более раннее решение ведет
к большим возможностям пересмотра своих планов). Спросите себя:
хочется ли вам знать исход некоего случайного события раньше (что-
бы избавиться от неопределенности) или позже (чтобы можно было
насладиться жизнью прежде, чем исход станет известен)? Этот вопрос
не тривиален. Однако попытки экономистов построить модель этого
явления все еще неудовлетворительны.
Относительно неразработанной областью исследований — по
крайней мере, если судить по достигнутым до сих пор успехам, —
является расширение базовой модели ТСОП, осуществляемое таким
образом, чтобы охватить подлинную неопределенность как нечто от-
личное от риска. Многих экономистов особенно огорчает сведение к
ситуациям риска ситуаций, которые ими расценены как ситуации
неопределенности, однако к такому положению приводит логика по-
следовательности поведения, лежащая в основе ТСОП. Некоторые эко-
номисты хотели бы думать, что одни оценки вероятности более не-
определенны, чем другие, и велось много разговоров о «вероятностях
вероятностей». Однако аксиомы ТСОП просто сводят эти «вероятно-
сти вероятностей» к обычным вероятностям, особенно с помощью функ-
ционалов предпочтений, линейных по вероятностям.
Парадокс Эллсберга точно иллюстрирует источник подобного
затруднения. Для примера предположим, что один шар должен быть
вытянут наугад из урны, содержащей девяносто шаров, из которых
тридцать, как известно, являются красными (К), в то время как шесть-
десят — некоторая неизвестная комбинация шаров черного (Ч) и
желтого (Ж) цветов. Теперь рассмотрим две проблемы выбора:
Проблема 5 С: Выигрыш 100 фунтов, если вытянут К,
D: выигрыш 100 фунтов, если вытянут Ч.
Проблема 6 С: Выигрыш 100 фунтов, если вытянут К или Ж,
D': выигрыш 100 фунтов, если вытянут Ч или Ж.
Бесчисленные эмпирические факты показывают, что большин-
ство людей предпочитает С варианту D и D' варианту С'. Это —
парадокс (по крайней мере с точки зрения ТСОП), поскольку предпоч-
тение С по сравнению с D указывает, что субъективная вероятность
появления красного шара для агента больше чем вероятность черно-
го, в то время как предпочтение D' по сравнению с С' указывает на
противоположное.
Как отмечено выше, Сегал интерпретировал это как проблему, свя-
занную с аксиомой редукции. Другие связали ее с «вероятностями ве-
роятностей». С оценкой вероятности К и (Ч U Ж) связана меньшая
неясность, чем с оценкой вероятностей Ч и Ж по отдельности. В рам-
ках проблемы 5 меньше неясности связано с оценкой С, чем с оцен-
326
Джон Д. Хей
кой D, в то время как в рамках проблемы 6 меньшая неясность связана
с оценкой D', а не с оценкой С'. Однако среди экономистов нет согла-
сия относительно адекватного моделирования подобной неясности.
13.5. Заключение
’О' и ।
Как показало предшествующее обсуждение, экономическая тео-
рия принятия решений в условиях риска и неопределенности нахо-
дится в настоящее время в состоянии непрерывного изменения. В то
время как практики продолжают высоко оценивать достоинства ТСОП
и применять ее для решения множества экономических проблем (очень
немногие отрицают нормативную привлекательность этой теории), тео-
ретики неопределенности активно пересматривают сами основы пред-
мета. В настоящее время основное внимание сосредоточено на стати-
ческой теории принятия решения в условиях риска, и большинство
последних работ связано с ослаблением ключевых аксиом, лежащих
в основе ТСОП, особенно это касается аксиомы независимости и акси-
омы редукции. Очень полезной статьей для читателей, желающих
больше узнать о предмете, является работа Махины (Machina, 1987),
которая основана на его более ранней работе (Machina, 1982). Другой
полезный обзор того же направления — обзор Сагдена (Sugden, 1986);
более глубокое обсуждение этих проблем см. у Фишберна (Fishburn,
1987). Более детальный материал, включая дальнейшие иллюстра-
ции кривых безразличия в треугольнике Маршака—Махины, можно
найти в работе Камерера (Сатегег, 1989), в которой также представ-
лено множество экспериментальных проверок различных теорий, об-
сужденных выше, а также в работе Вебера и Камерера (Weber, Сатегег,
1987). Материал по динамическому принятию решения дается Чу и
Эпстайном (Chew, Epstein, 1989), которые довольно запоздало прини-
мают вызов, брошенный в более ранней работе Крепса и Портеуса
(Kreps, Porteus, 1978, 1979). Оригинальный парадокс Эллсберга пред-
ставлен в его работе 1961 г. (Ellsberg, 1961); последний вклад в про-
должающиеся дебаты по поводу двусмысленности делают Хогарт и
Кунрейтер (Hogarth, Kunreuther, 1989). Как последняя статья, так и
статья Камерера (Сатегег, 1989) появились в новом журнале «Journal
of Risk and Uncertainty», который полностью посвящен обсуждению
проблем, поднятых в этой главе. Тесно связанным с этими проблема-
ми, но менее специализированным является новый журнал «Journal
of Behavioral Decision Making». Это междисциплинарный журнал,
вбирающий достижения политологии, социологии, психологии, а так-
же экономической науки. Судя по материалам, представленным в
этой главе, возможно, экономисты нуждаются в помощи представите-
лей других дисциплин для адекватного моделирования неопределен-
ности в своей науке.
Неопределенность в экономической теории
327
Литература
Camerer С. F. An experimental test of several generalized utility theories //
Journal of Risk and Uncertainty. 1989. Vol. 2. P. 61-104.
Chew S. H. A generalization of the quasilinear mean with applications to the
measurement of income inequality and decision theory resolving the Allais
paradox // Econometrica. 1983. Vol. 51. P. 1065—1092.
Chew S. H. Implicit-weighted and semi-weighted utility theories, M-estimators
and non-demand revelation of second-price auctions for an uncertain
auctioned object //Working paper 155, Department of Economics, Johns
Hopkins University. 1985.
Chew S. H., Epstein L. G. The structure of preferences and attitudes towards the
timing of the resolution of uncertainty // International Economic Review.
1989. Vol. 30. P. 103-117.
Ellsberg D. Risk, ambiguity and the Savage axioms // Quarterly Journal of
Economics. 1961. Vol. 75. P. 643-669.
Fishburn P. C. Reconsiderations in the foundations of decision under uncer-
tainty // Economic Journal. 1987. Vol. 97. P. 825-841.
Hey J. D. The economics of optimism and pessimism: a definition and some
applications//Kyklos. 1984. Vol. 37. P. 181-205.
Hogarth R. M., Kunreuther H. Risk, ambiguity and insurance // Journal of Risk
and Uncertainty. 1989. Vol. 2. P. 5-36.
Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk //
Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 263-291.
Kreps D. M., Porteus E. L. Temporal resolution of uncertainty and dynamic
choice theory // Econometrica. 1978. Vol. 46. P. 185-200.
Kreps D. M., Porteus E. L. Dynamic choice theory and dynamic programming //
Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 91-100.
Loomes G. C., Sugden R. Regret theory: an alternative theory of rational choice
under uncertainty //Economic Journal. 1982. Vol. 92. P. 805-824.
Loomes G. C., Sugden R. Some implications of a more general form of regret
theory // Journal of Economic Theory. 1987. Vol. 41. P. 270-287.
Machina M. J. «Expected utility» analysis without the independence axiom//
Econometrica. 1982. Vol. 50. P. 277-323.
Machina M. J. Choice under uncertainty: problems solved and unsolved//
Journal of Economic Perspectives. 1987. Vol. 1. P. 121-154. Reprinted
with alterations in Hey J. D. (ed.). Current Issues in Microeconomics,
London: Macmillan, 1989.
Segal U. (forthcoming). The Ellsberg paradox and risk aversion: an anticipated
utility approach // International Economic Review.
Sugden R. New developments in the theory of choice under uncertainty // Bulletin
of Economic Research. 1986. Vol. 38. P. 1-24. Reprinted in Hey J. D. and
Lambert P. J. (eds). Surveys in the Economics of Uncertainty, Oxford:
Basil Blackwell, 1987.
Weber M., Camerer C. F. Recent developments in modelling preferences under
risk//OR Spectrum. 1987. Vol. 9. P. 129-151.
14
У. МАКС КОРДЕН
4 'X СТРАПЛ ИЧЕСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ
ПОЛИТИКА*
14.1. Введение
В этой главе мы сделаем обзор некоторых недавних разра-
боток в теории внешнеторговой политики, связанных с учетом
фактора несовершенной конкуренции, стратегических взаимодей-
ствий, обусловленных олигополистической структурой рынков, а
также экономии от масштаба. Все эти разработки получили общее
название «новой международной экономики». По мнению некото-
рых специалистов, они представляют собой качественный прорыв в
изучении внешнеторговой проблематики. Одна из целей этой гла-
вы состоит в рассмотрении вопросов о том, в какой мере некоторые
из этих разработок являются действительно новыми и как они со-
относятся с традиционной теорией. Мы сфокусируем внимание на
одном из центральных аспектов «новой международной экономи-
ки», а именно на концепции «перераспределения прибыли» (profit-
shifting) Брэндера—Спенсера, и на выводах для экономической
политики, которые из нее следуют. Эта концепция с известной
степенью детализации анализируется в последующих трех разде-
лах. Заключение, к которому мы приходим, состоит в том, что она
тесно связана с аналитической структурой традиционной теории
внешнеторговой политики.
Существуют два направления новых разработок, фигурирующих
под названием «новой международной экономики». Во-первых, это
позитивные теории международной торговли, которые принимают
во внимание внутреннюю экономию от масштаба и фактор монопо-
листической конкуренции, интегрируя их в структуру моделей
общего равновесия. Хотя вряд ли можно утверждать, что рассмот-
рение экономии от масштаба является чем-то новым в теории меж-
* Автор признателен Исайе Фрэнку, Ричарду Помфрету, Джеймсу Риде-
лю и Ричарду Снейпу за комментарии к раннему варианту текста.
Стратегическая внешнеторговая политика
329
дународной торговли (можно было бы привести огромный перечень
публикаций, опровергающих такое предположение), подлинная но-
визна состоит в одновременном учете экономии от масштаба и мо-
нополистической конкуренции в формальных рамках анализа об-
щего равновесия. Хороший обзор соответствующей проблематики
содержится в работе Хелпмена и Кругмена (Helpman, Krugman,
1985). Однако эта тема не является объектом рассмотрения данной
главы.
Во-вторых, имеются теории, делающие акцент на олигополи-
стической структуре рынков и стратегических взаимодействиях
между фирмами. В соответствии с этими теориями государственная
политика, связанная, например, с использованием экспортных суб-
сидий и тарифов, может обеспечивать перераспределение прибыли
от иностранных фирм к их конкурентам внутри страны, тем са-
мым гарантируя стране чистый выигрыш (по крайней мере в том
случае, если иностранные государства не осуществляют ответных
мер). Эта концепция «перераспределения прибыли» впервые появи-
лась в серии статей Брэндера и Спенсера (Brander, Spencer, 1981,
1983, 1984, 1985) и породила значительный массив публикаций,
опирающихся на строгий формальный аппарат. Эти публикации
выявили большое число ограничений, накладываемых на выводы
данной теории, и привели к росту скептицизма относительно ее
применимости на практике. Кроме многочисленных статей, на ко-
торые мы ссылаемся далее в тексте, по этой тематике следует на-
звать две всеобъемлющие книги: Krugman, 1986 и Helpman, Krug-
man, 1989.1
Подлинно новым вкладом в теорию торговой политики являет-
ся учет олигополии и стратегических взаимодействий между частны-
ми фирмами, а не между правительствами. В некоторых ранних ис-
следованиях (см. особенно Johnson, 1953, 1954) вопрос об олигополи-
1 В книге Дирдорффа и Стерна (Deardorff, Stern, 1987) дается превос-
ходный обзор различных проблем, во многом соответствующий духу дан-
ной главы. Другим всеобъемлющим обзором, содержащим множество ссы-
лок, в котором также обсуждается более широкий спектр вопросов, служит
работа Stegemann, 1989. В числе других публикаций, посвященных рассмот-
рению вопросов, оставшихся за рамками данной главы, следует упомянуть
следующие: Dixit, 1984; Grossman, Richardson, 1985; Greenaway, Milner, 1986 :
ch.12; Caves, 1987; Richardson, 1989. Что касается выводов для экономиче-
ской политики, см. в частности, работу Бхагвати (Bhagwati, 1989), который
приходит к следующему заключению: «Я нахожусь в резкой оппозиции к
проведению стратегической внешнеторговой политики независимо от того,
используется ли она для перераспределения прибыли в пользу национальных
фирм или является реакцией на политику конкурентов, которые, как пред-
полагается, руководствуются подобным мотивом».
330
У. Макс Корден
стических взаимодействиях между правительствами рассматривался
в рамках теории «тарифов и ответных мер». Однако до появления
работы Брэндера и Спенсера вопрос об олигополии и стратегических
взаимодействиях в частном секторе в литературе по теории междуна-
родной торговли не поднимался.2
В целом, мотивация осуществления новых разработок не была
связана с идеей обоснования протекционистских мер. Как и в случае
более ранних работ в этой области, цель заключалась скорее в пони-
мании фактов реальной внешнеторговой политики либо аргументов,
выдвигаемых в данной сфере. Здесь нам следует процитировать осно-
вателей новой концепции:
Наконец, необходимо подчеркнуть, что наши аргументы не следует вос-
принимать как обоснование использования тарифов. Доминирование в миро-
вой экономике высоких тарифов, которое было бы следствием стремления
каждой страны максимизировать национальное благосостояние при рассмо-
трении политики других стран как заданной, было бы крайне нежелатель-
ным. Наш анализ представляет собой вклад в понимание мотивов, лежащих
в основе тарифной политики, и может рассматриваться как обоснование
многостороннего подхода к либерализации торговли.
(Brander, Spencer, 1984 : 204)
Хотя в Соединенных Штатах можно назвать большое число слу-
чаев, когда в пользу планов протекционистской политики высказы-
вались аргументы со ссылкой на «стратегическую торговую полити-
ку», эти планы обычно не основывались на конкретных теориях, об-
суждаемых в данной главе. Кроме того, исследователи, внесшие
основной вклад в это новое поле исследований, очень четко осознают
существующие здесь ограничения. Превосходным примером крити-
ки данной политики служит работа Гроссмена (Grossman, 1986), где
выдвинут широкий комплекс возражений как теоретического, так и
эмпирического плана, основанных прежде всего на доводах политико-
экономического характера.
2 Новым является именно анализ частной олигополии (фактически
дуополии), а не отсутствия совершенной конкуренции как таковой. Ранее в
теории внешнеторговой политики уже разрабатывались модели, учитыва-
ющие фактор частной монополии — национальной либо иностранной —
и внутреннюю экономию от масштаба. См. работу Бхагвати (Bhagwati, 1965)
об эквивалентности тарифов и квот и мою собственную книгу (Corden, 1974),
в которой содержится целая глава, озаглавленная «Монополия, рыночная
структура и экономия от масштаба». В моей книге, как и в более ранних
публикациях, экономия от масштаба рассматривается также в рамках об-
суждения аргумента в пользу протекционизма, основанного на идее защиты
молодых отраслей. Некоторые другие значимые работы, учитывающие фак-
тор частной монополии, будут упомянуты позднее.
СпцЯ&Лееическая внешнеторговая политика 831
14.2. Концепция Брэндера—Спенсера:
перераспределение прибыли i
посредством экспортных субсидий !
В данном разделе мы рассмотрим ключевую модель, впервые
предложенную Брэндером и Спенсером (Brander, Spencer, 1985). Эта
модель и обсуждение ее ограничений представлены также в работе
Хелпмена и Кругмена (Helpman, Krugman, 1989: ch. 5). Модель Брэн-
дера—Спенсера является центральной почти в каждом обзоре дан-
ной сферы исследований. Ее основные ограничения были описаны в
статье Итона и Гроссмена (Eaton, Grossman, 1986), которая на сего-
дняшний день стала почти классической. Вслед за Дирдорффом и
Стерном (Deardorff, Stern, 1987) мы покажем, что модель (или тео-
рию) Брэндера — Спенсера можно интерпретировать в терминах тра-
диционной теории внешнеторговой политики, и, таким образом, она
оказывается одним из многих особых случаев, освещаемых традици-
онной теорией.
Две фирмы — национальная и иностранная — конкурируют на
рынке третьей страны, сбывая продукт, который не продается на их
собственных рынках. Модель можно расширить за счет учета потреб-
ления на внутреннем рынке, что и было сделано в ряде работ, однако
это лишь усложняет анализ, не изменяя основных выводов. Число
фирм фиксировано, т. е. новые фирмы не могут приходить на рынок,
будучи привлечены высокими прибылями. Модель формулируется
таким образом, что единственным фактором, имеющим значение для
национального благосостояния обеих стран, является прибыль обеих
фирм за вычетом субсидий или налогов. Заработная плата и — на
первой стадии анализа — прибыль до налогообложения в обеих стра-
нах являются фиксированными. Цель национальной политики состо-
ит в том, чтобы перераспределить прибыль от иностранной фирмы к
национальной, хотя при этом может параллельно происходить пере-
распределение дохода от налогоплательщиков данной страны к соб-
ственникам фирм. Объем рынка комбинированного выпуска фикси-
рован (т. е. фиксирована кривая спроса); потребители конкурируют
между собой. Правительство третьей страны воздерживается от вме-
шательства. Чем больше выпуск одной фирмы, тем меньше прибыль
другой.
Ключевая предпосылка простейшей версии модели состоит в том,
что две фирмы играют «по Курно». Эта критически важная предпо-
сылка может быть ослаблена, но мы начнем рассмотрение с описыва-
емого случая. Каждая фирма определяет свой собственный выпуск
(уравнивая предельную выручку и предельные издержки) на основе
допущения о том, что выпуск другой фирмы фиксирован. Каждая
фирма сталкивается с кривой спроса, которая представляет собой
332
У. Макс Корден
кривую общего спроса на продукт на рынке третьей страны за выче-
том фиксированного выпуска другой фирмы. Если выпуск другой
фирмы падает, то выпуск рассматриваемой фирмы растет (кривая
предельной выручки сдвигается вправо), а ее прибыль увеличивается.
На рис. 14.1 предполагается постоянство предельных издержек, рав-
ных ОС (простейший случай), DD — исходная кривая спроса, a MR0 —
кривая предельной выручки, так что выпуск национальной фирмы в
исходном состоянии равен ХН0. Уменьшение выпуска иностранной
фирмы сдвигает кривые спроса и предельной выручки вправо, тем
самым смещая равновесный выпуск вправо (туда, где новая кривая
предельной выручки пересекает линию СС). Так национальная фир-
ма реагирует на изменение в выпуске иностранной фирмы.
На основе приведенных выше рассуждений можно построить
кривые реакций Курно, представленные на рис. 14.2, где FF — кри-
вая реакции иностранной фирмы (которая показывает, как изменит-
ся XF при изменении ХН), а НН — кривая реакции национальной
фирмы (она показывает, как изменится ХН при изменении XF). Та-
ким образом, равновесие по Нэшу устанавливается в точке У. Кри-
вая р0 показывает уровень прибыли, достигаемый национальной
фирмой в этой точке. При заданном выпуске иностранной фирмы XFQ
национальная фирма максимизирует прибыль при выпуске ХН0.
Теперь предположим, что кривую реакции иностранной фирмы
FF можно в действительности воспринимать как заданную, а цель
состоит в максимизации прибыли национальной фирмы. В этом слу-
чае национальная фирма должна выбрать выпуск XHY (см. рис. 14.2),
^яф&тегическая внешнеторговая политика
аза
который переводит систему в точку равновесия по Штакельбергу S,
где данная фирма достигает наивысшего уровня прибыли, совмести-
мого с заданной кривой FF. Этот уровень прибыли представлен кри-
вой р1. Здесь мы сразу же можем задать следующие вопросы: почему
фирма на практике не достигает S? Почему описываемая система вме-
сто этой точки достигает N? Ответ на эти вопросы заключается в том,
что национальная фирма вовлечена в «игру по Курно». Иными слова-
ми, национальная фирма предполагает, что при изменении ее соб-
ственного выпуска выпуск иностранной фирмы не изменится (т. е.
его предполагаемая вариация равна нулю), тогда как фактически он
будет меняться.
Следующий решающе важный шаг в аргументации состоит в
выдвижении тезиса, согласно которому предоставление экспортной
субсидии национальной фирме приведет к установлению националь-
ного оптимального выпуска S. На рис. 14.1 введение субсидии смеща-
ет кривую издержек вниз до положения С'С. Это увеличит нацио-
нальный выпуск даже в том случае, если иностранный объем про-
изводства останется постоянным; однако фактически последний
уменьшится (кривая спроса сдвинется вправо), так что в конечном
счете равновесный объем производства на рис. 14.1 установится в
точке J, где выпуск равен ХНг. На рис. 14.2 введение субсидии сдви-
гает вправо кривые прибыли в национальной экономике, в результа-
334
У. Макс К орден
те чего при условии, что национальная фирма продолжает «играть по
Курно», ее кривая реакции смещается в положение Н'Н', и равнове-
сие достигается в точке национального оптимума S.
Теперь мы можем непосредственно отметить ключевое допуще-
ние (и, возможно, порок) данного подхода, известное из публикаций
по теории игр. Почему национальная фирма действует настолько не-
благоразумно, что «играет по Курно», т. е. принимает допущение, со-
гласно которому выпуск иностранной фирмы не меняется при изме-
нении национального выпуска? Иными словами, почему должна иметь
место нулевая предполагаемая вариация иностранного выпуска? На-
циональная фирма должна знать, что ее собственный выпуск будет
меняться всегда, когда меняется выпуск иностранной фирмы; так
почему же тогда она игнорирует аналогичную реакцию со стороны
последней? Если правительство понимает модель настолько адекватно,
чтобы предоставить соответствующую ситуации экспортную субсидию,
то почему же эту модель не понимает фирма? Эта критика кажется
принципиальной, но давайте пока что оставим все предпосылки без
изменений и выясним значимость модели в рамках традиционной
теории торговли.
Рассмотрим традиционный аргумент в пользу протекционизма,
основанный на концепции условий торговли, который можно интер-
претировать как довод в поддержку введения налога на экспорт. Он
предполагает заданность кривой иностранного спроса, т. е. иностран-
ной кривой реакции, учитывающей эффекты общего равновесия, но
также допускает, что эту кривую нельзя стратегически сдвинуть та-
ким образом, чтобы ликвидировать стимулы к введению налога на
экспорт. Таким образом, допускается отсутствие ответных мер. Пусть
на рис. 14.1 кривая DD будет кривой спроса. Дальнейшая аргумента-
ция очень проста. Конкурирующие производители выберут равновес-
ную точку Е, поскольку каждый из них полагает, что в этой точке
его предельная выручка оказывается равной цене. Однако отвеча-
ющее социальному оптимуму равновесие, достижение которого пред-
полагает использование монопольной власти национальных произво-
дителей, соответствует точке А. Если бы экспорт был монополизиро-
ван единственной фирмой, она, естественно, выбрала бы эту точку.
Но при наличии конкуренции необходимо ввести налог, равный AG;
в этом случае цена возрастет (а условия торговли улучшатся) благо-
даря переходу экономики из точки Е в точку G.
Если пользоваться языком традиционной теории, то можно
сказать, что имеет место «искажение» в торговле, поскольку кри-
вые предельной частной и предельной общественной выручки не
совпадают друг с другом. Данную ситуацию называют «торговой
диспропорцией» (trade diversion) (Corden, 1974 : 31-32), чтобы от-
личить ее от «внутренней диспропорции», означающей в данном
случае несовпадение кривых предельных частных и предельных
Стратегическая внешнеторговая политика
335
общественных издержек. Что же происходит в обсуждавшейся выше
модели?
В ней также имеет место «торговая диспропорция», но она свя-
зана с тем, что уровень экспорта оказывается слишком низким, а не
слишком высоким. В рамках данной модели в стране существует
единственный производитель, так что проблема, на которой сфокуси-
рована ортодоксальная аргументация, основанная на концепции усло-
вий торговли, отсутствует. В этом случает национальный производи-
тель, «играющий по Курно», видит («предполагает») неправильную
кривую иностранного спроса, которая не учитывает изменения ино-
странного выпуска, порождаемые переменами в величине националь-
ного выпуска.
Истинной кривой спроса является D'D’ (которая более эластич-
на, чем DD), и кривая предельной выручки, выведенная из нее, будет
определять равновесие в точке Н. Таким образом, подлинно опти-
мальным выпуском является ХНг Если бы фирма воспринимала
именно кривую спроса D'D', то ее предположения были бы «последо-
вательными» (consistent). Как отметили Дирдорфф и Стерн (Deardorff,
Stern, 1987 50), «здесь в известном смысле имеет место искажение».
Иными словами, существует несовершенство частной информации или
несовершенство в понимании ситуации со стороны частной фирмы,
и предполагается, что правительство обладает лучшими знаниями.
Следует подчеркнуть, что понятие «торговой диспропорции» озна-
чает лишь то, что воспринимаемая частными хозяйствующими субъ-
ектами кривая предельной выручки не совпадает с кривой предель-
ной общественной выручки, а вовсе не то, что государственное вме-
шательство должно ограничивать торговлю и тем самым улучшать
условия торговли. В рассматриваемом случае национальная экономи-
ка выигрывает за счет политики, увеличивающей экспорт и тем са-
мым ухудшающей условия торговли (движение из точки G в точку К
на рис. 14.1). Полезно также отметить, что обоснование государствен-
ного вмешательства тезисом о возникновении искажений вследствие
«несовершенства частной информации» является общераспростра-
ненным.
Я не претендую на первооткрывательство, но сошлюсь на раздел
своей собственной книги (Corden, 1974 : 252-253), который посвя-
щен рассмотрению аргументации в пользу защиты молодых отраслей
и озаглавлен «Несовершенство частной информации». В нем содер-
жится детальный анализ одного из доводов в пользу популярной
идеи защиты молодых отраслей, и следующие фразы полностью при-
менимы к теме нашего обсуждения: «Но доводы в пользу защиты
молодых отраслей в действительности не являются строгими. Под-
линно оптимальная политика правительства заключалась бы в рас-
пространении информации... Почему частная фирма (или государствен-
ное предприятие) должна иметь меньший объем информации о своих
336
У. Макс Корден
будущих кривых издержек, чем центральный орган власти?» В об-
суждаемом здесь случае выражение «кривые издержек» следует про-
сто заменить на «перспективы спроса» или «поведение иностранного
конкурента».
В рамках традиционной аргументации в пользу тарифов или
налогов на экспорт, основанной на концепции условий торговли,
оптимальное вмешательство оказывает негативное влияние на зару-
бежную страну; в этом отношении оно носит «эксплуататорский»
характер. В обсуждаемом случае этот тезис также верен примени-
тельно к иностранному конкуренту, но не применительно к третьей
стране (стране-потребителю). Последняя фактически оказывается в
выигрыше, когда производящие страны субсидируют экспорт, — этот
тезис, разумеется, хорошо известен.3
Следующий шаг в анализе, осуществленном Брэндером и Спенсе-
ром, состоит в принятии предпосылки, согласно которой иностранное
правительство также субсидирует экспорт, принимая во внимание не
только то обстоятельство, что обе фирмы «играют по Курно», но и факт
субсидирования экспорта со стороны национального правительства. Ины-
ми словами, сначала оба правительства, а затем и обе фирмы «играют
по Курно». Правительства знают все о поведении обеих фирм, но, тем
не менее, «играют по Курно» друг с другом. Здесь следует подчерк-
нуть, что Брэндер и Спенсер наряду с другими исследователями, вне-
сшими основной вклад в данную область исследований, полностью от-
давали себе отчет в возникающих здесь трудностях и ограничениях.
Проблемы общего характера, связанные с данной аргументаци-
ей, в основном те же, что и в теории «оптимальных тарифов и ответ-
ных мер», впервые выдвинутой Ситовски (Scitovsky, 1941) и разви-
той Джонсоном (Johnson, 1953), а также — в более общем виде —
в теории олигополии. Здесь можно воспользоваться идеями из дина-
мической теории игр (отличный обзор соответствующей проблема-
тики дан в работе Диксита (Dixit, 1987а)).
Возвращаясь к простому случаю, в котором иностранное прави-
тельство не осуществляет вмешательства, укажем на важность одного
обстоятельства, отмеченного в статье Итона и Гроссмена (Eaton, Gross-
3 В рамках традиционного аргумента, основанного на концепции усло-
вий торговли, налог на торговлю является неэффективным по Парето с об-
щемировой (но не с национальной) точки зрения при условии наличия со-
вершенной конкуренции и при отсутствии внутренних искажений, не ском-
пенсированных соответствующими субсидиями или налогами. В обсуждаемом
нами случае, где присутствует частная олигополия, свободная торговля не
обязательно является эффективной по Парето с общемировой точки зрения.
Таким образом, существует возможность, при которой политика, принося-
щая выгоды одной стране и убытки другой, приводит к Парето-улучшению
с точки зрения мира в целом.
Стратегическая внешнеторговая политика
337
man, 1986) и выдвинутого на первый план в работе Хелпмена и Круг-
мена (Helpman, Krugman, 1989). Если количество национальных фирм
превышает единицу, то аргументы в пользу налога на экспорт вновь
обретают силу. Национальные фирмы конкурируют друг с другом и
порождают отрицательную внешнюю экономию друг для друга, сни-
жая цену, которую каждая из них получает на рынке третьей стра-
ны. Вследствие этого становится целесообразным до известной сте-
пени ограничить их деятельность в сфере экспорта. Это в точности
соответствует традиционному аргументу в пользу протекционизма, осно-
ванному на концепции условий торговли. Чем больше число нацио-
нальных фирм, тем ближе модель соответствует условию совершен-
ной конкуренции и стандартной формуле оптимального тарифа или
налога на экспорт. Как отмечают упомянутые авторы, в модели с
несколькими национальными и иностранными фирмами, каждая из
которых «играет по Курно», можно сформулировать вывод в пользу
налога на экспорт либо экспортной субсидии. Однако эти рассужде-
ния сами по себе не разрушают аргументацию Брэндера—Спенсера,
касающуюся перераспределения прибыли. Скорее, они показывают,
что существует целый ряд аргументов, указывающих на источник
диспропорций в торговле, которые могут служить оправданием госу-
дарственного вмешательства, и в этом ряду аргумент, касающийся
перераспределения прибыли, является действительно новым.
Очевидно, что выводы из модели в конечном итоге зависят от ха-
рактера «предположений» фирм о реакциях друг друга. «Игра по Кур-
но» предполагает предположения об отсутствии реакции. Если бы пред-
положения национальной фирмы о кривой реакции иностранной фир-
мы были «последовательными», т. е. если бы они в конечном счете
оправдывались, то невозможно было бы выдвинуть никаких аргумен-
тов в пользу государственного вмешательства, кроме традиционного
довода в пользу введения налога на экспорт (со всеми его ограничения-
ми). Однако помимо рассмотренных выше существуют и другие ва-
рианты предположений. В частности, воспринимаемая национальной
фирмой кривая спроса может учитывать ожидаемые реакции со сторо-
ны иностранного конкурента, но в недостаточной, или, возможно, в чрез-
мерной степени. Если правительство обладает лучшими знаниями, то
тогда, предположительно, существуют доводы в пользу вмешательства
или по меньшей мере в пользу предоставления правительством инфор-
мации национальному производителю. Однако поскольку этот произ-
водитель может как переоценить, так и недооценить реакцию со сторо-
ны иностранного производителя, даже на базе этих рассуждений мож-
но обосновать довод в пользу налога на экспорт.
Итон и Гроссмен (Eaton, Grossman, 1986) выдвинули следующий
тезис, нанесший серьезный удар по позициям рассматриваемой кон-
цепции. Предположим, что фирмы «играют по Бертрану», а не «по
Курно». Это означает, что каждая из них предполагает, что задана
23 Заказ № 356
338
У. Макс Корден
цена конкурента, а не предлагаемое им количество товара. В этом
случае оптимальным вмешательством будет налог на экспорт, а не
экспортная субсидия. Это вмешательство по отношению к одной из
фирм будет приносить выгоду другой фирме (т. е. вмешательство уже
не будет «эксплуататорским»), хотя потребители будут нести потери.
На нашем графике (рис. 14.1) это означает, что «подлинная» кривая
спроса D'D’ — более крутая, а не более пологая, чем воспринимаемая
кривая спроса DD. Поскольку предположение о конкуренции по Бер-
трану столь же правдоподобно (или неправдоподобно), как и предпо-
ложение о конкуренции по Курно, то это означает, что существует
значительная неопределенность не только относительно интенсивно-
сти вмешательства, но и относительно его направленности.
14.3. Субсидии как инструмент «убеждения»:
аргументация в пользу защиты молодой отрасли
Теперь перейдем к обсуждению другого подхода, который также
был впервые предложен в работе Брэндера и Спенсера и на первый
взгляд похож на только что изложенную модель; в действительности
оба эти подхода в некоторых статьях даже путают друг с другом.
Данный подход является более убедительным, хотя и он имеет серь-
езные ограничения. Он предполагает, что две фирмы имеют тот же
объем информации, что и правительства, и хотя каждая из фирм
может быть не осведомлена о реакции своего конкурента, они «знают
саму модель».
Как и прежде, каждая фирма окажется в выигрыше от уменьше-
ния выпуска другой фирмы. В экстремальном случае ввиду наличия
экономии от масштаба в отрасли может функционировать только одна
фирма. Этот случай, обычно иллюстрируемый примером конкурен-
ции между компаниями «Боинг» и «Аэробус», очень специфичен, по-
этому мы останемся в рамках рассмотренной ранее модели. Тогда
каждая фирма будет стремиться фиксировать свой выпуск таким
образом, чтобы заставить конкурента адаптировать свой выпуск к
данному выбору. Например, если бы национальная фирма зафиксиро-
вала свой выпуск на уровне ХНх (рис. 14.2), иностранная фирма
выбрала бы точку S на линии FF и тогда национальная фирма мак-
симизировала бы свою прибыль при предсказуемой реакции со сторо-
ны иностранного конкурента. В свою очередь, иностранная фирма
могла бы фиксировать свой выпуск, заставляя национальную фирму
адаптировать свой; тем самым была бы достигнута точка равновесия
по Штакельбергу для иностранной фирмы S’ на линии НН. Эта про-
блема (проблема стратегии), представляющая собой предмет анализа
динамической теории игр, находит широкое отражение в литературе
по теории отраслевых рынков.
Стратегическая внешнеторговая политика
339
Возникает следующий вопрос: как фирма может зафиксировать
выпуск таким образом, чтобы убедить конкурента в неизменности
сделанного ею выбора (т. е. в том, что она не будет менять объем
выпуска вне зависимости от изменения выпуска конкурента) и тем
самым заставить конкурента адаптировать свой выпуск к ее соб-
ственному выпуску? Один из вариантов состоит в том, что эта фирма
выступает в роли «лидера» (first-mover) (например, она первой создала
производственные мощности). Однако в этой игре всегда существует
неопределенность и, следовательно, имеют место потенциальные из-
держки, связанные с конкурентными усилиями, направленными на
убеждение в неизменности сделанного выбора. В конечном счете оба
конкурента могут нести потери, в связи с чем возникают стимулы к
установлению той или иной формы сотрудничества между ними.
Какова в данных условиях роль внешнеторговой политики? Здесь
основная идея состоит в том, что введение экспортной субсидии (или
обещание ее ввести) позволит национальной фирме убедить конку-
рента в неизменности выбранного объема выпуска. Дальнейшие сту-
пени аргументации всегда излагаются в самом общем виде. Каков бы
ни был объем выпуска иностранной фирмы, национальная фирма
будет получать субсидии для покрытия своих потенциальных потерь.
Субсидию следует предоставлять только при условии, что объем про-
изводства национальной фирмы составляет ХНх, а ее размер должен
соразмеряться с выпуском иностранной фирмы (абстрагируемся от
практических аспектов такой политики!). В результате, если ино-
странная фирма выбирает S, т. е. если ее действительно удалось убе-
дить в неизменности выпуска национальной фирмы, и если реакция
со стороны иностранного конкурента оценивается правильно, то необ-
ходимости в фактической выплате субсидии не возникнет. Уверен-
ность в государственной поддержке объема выпуска и проведении
политики субсидирования существовала бы даже в том случае, если
бы иностранный выпуск возрос настолько, что возникла бы необходи-
мость в выплате очень крупной субсидии.
Здесь мы имеем дело с разновидностью аргументации в пользу
защиты молодой отрасли, которую следует анализировать в соответ-
ствующих терминах. Мы можем спросить: почему правительство
должно оказывать финансовую поддержку фирме? Почему она не может
просто выйти на рынок капитала и занять необходимую сумму или
получить кредитные линии для покрытия возможных потерь? Пред-
положительно, чем больше в ее распоряжении финансовых ресурсов,
тем большего доверия будут заслуживать ее решения, касающиеся
объема ее выпуска или угроз с ее стороны. Это очевидный и извест-
ный факт. Да и рынок капитала США — страны, для анализа поли-
тики которой была предназначена эта теория, — вряд ли является
несовершенным, хотя несовершенство рынка капитала представляет
собой известное обоснование довода в пользу защиты молодых от-
раслей применительно к развивающимся странам.
340
У. Макс Корден
Ответ мог бы заключаться в том, что увеличение объема финан-
совых ресурсов фирмы само по себе не позволяет ей окончательно
убедить всех, что она будет поддерживать свой объем выпуска. Она
могла бы получить ресурсы для поддержания своего выпуска даже в
том случае, если бы ее иностранный конкурент не смог ответить
снижением своего, но эти ресурсы не могут служить стимулом для
поддержания выпуска фирмы на желаемом уровне (в точке S) при
любых издержках. Этот тезис действительно корректен. Идея заклю-
чается в том, что, по некоторым причинам, правительству доверяют
больше. Это доверие будет сохраняться даже тогда, когда фирме уже
перестанут доверять. Оно сохранится даже в том случае, если станет
вероятным возникновение чистых потерь для страны. Стимулы к
поддержанию достаточного объема выпуска для фирмы связаны с тем,
что именно он обусловливает предоставление субсидии. В модели,
описывающей экстремальный случай, когда выжить может только
одна из двух фирм, предоставление субсидии будет обусловлено тем,
что данная фирма остается в бизнесе.
Тезис, согласно которому правительство пользуется столь высоким
доверием, является, конечно, неправдоподобным. Базовое предположе-
ние состоит в том, что правительство будет продолжать субсидирова-
ние даже в том случае, когда объем субсидий окажется очень боль-
шим ввиду отказа иностранной фирмы «пойти на уступки». В любом
случае, главный вывод заключается в том, что данный вариант обсуж-
даемой аргументации — в рамках которого национальное и иностран-
ное правительства, возможно, конкурируют в деле компенсации убыт-
ков «своих» фирм в процессе международной конкуренции — пред-
ставляет собой особый случай аргументации в пользу защиты молодых
отраслей. Он логически корректен и фактически представляет собой
довод в пользу защиты «молодых отраслей-экспортеров».4
4 Проблемы, возникающие, когда отрасль субсидируется (прямо или
косвенно ссылаясь на идею защиты молодых отраслей) хорошо известны.
Одна из них связана с перераспределением дохода от налогоплательщиков к
собственникам капитала и, возможно, также к наемным работникам под-
держиваемых отраслей. Вмешательство, которое можно оправдать с точки
зрения эффективности по Парето, имеет неизбежные перераспределительные
последствия, которые могут оказаться нежелательными. Другое известное
обстоятельство связано с тем, что потребность в сборе дополнительных нало-
говых доходов для выплаты субсидий неизбежно вносит диспропорции в
экономику. Во всех обсуждаемых здесь случаях, когда субсидия фактически
выплачивается (или существуют ожидания ее выплаты), возникают эти про-
блемы (или возражения). Трудно поверить в то, что перераспределение дохо-
да от налогоплательщиков в пользу национальных олигополистических про-
изводителей, конкурирующих на международных рынках, будет рассматри-
ваться как экономически нейтральное либо желательное.
Стпр/ипегическая внешнеторговая политика
14.4. Доводы в пользу введения тарифа
при монополии и олигополии
Брэндер и Спенсер (Brander, Spencer, 1984) также применили
концепцию перераспределения прибыли к случаю введения тарифа.
Может ли страна выиграть за счет введения тарифа при существова-
нии олигополии, когда иностранная и национальная фирмы конкури-
руют на национальном рынке (рынке двух продуктов, являющихся
несовершенными субститутами), а иностранное правительство воздер-
живается от вмешательства? Как обычно, делается предположение о
конкуренции по Курно (или о схожем механизме конкуренции). Эта
тема, бесспорно, очень значима, поскольку она связана с развитием
идей, разработанных в огромном массиве публикаций в русле тради-
ционной теории, посвященных анализу выигрышей и потерь от вве-
дения тарифов в условиях отсутствия ответных мер. Мы знаем, что
определенное государственное вмешательство может иметь позитив-
ные результаты в том случае, когда имеют место диспропорции в
торговле (вмешательство, которое может вести к улучшению условий
торговли) или внутренние диспропорции типа превышения цены
над предельными издержками вследствие существования монополии.
Можно ли по этому поводу сказать нечто большее по сравнению с тем,
что уже было сказано?
Мы можем начать, рассмотрев последствия наличия простой
монополии либо иностранного, либо национального производителя.
Обратимся к результатам, полученным в ранних публикациях. При-
водимая ниже простая модель заимствована из работ Катрака (Katrak,
1977) и Сведберга (Svedberg, 1979). На рис. 14.3 линия DD пред-
ставляет собой национальную кривую спроса на продукт, предлага-
емый иностранным монополистом, MR — кривая предельной выруч-
ки, а СС — кривая предельных издержек монополиста (эти издержки
полагаются постоянными). При отсутствии государственного вмеша-
тельства равновесный выпуск соответствует точке А, а равновесная
цена —точке G. Таким образом, существует основание для введения
тарифа СТ. Он приводит к росту предельных издержек монополиста.
Выпуск сокращается, достигая нового равновесного уровня В, тогда
как цена поднимается до уровня Н. На условия торговли оказывает
благоприятное влияние фактор получения тарифных доходов на каж-
дую единицу товара и неблагоприятное — рост цены. При линейно-
сти графика функции спроса, как на рис. 14.3 (случай, описанный в
работах Катрака и Сведберга), имеет место улучшение условий тор-
говли. Брэндер и Спенсер (Brander, Spencer, 1984) показали, что реша-
юще важное значение имеет наклон графиков функций спроса и пре-
дельной выручки, в чем можно убедиться из приведенной диаграм-
мы. Улучшение условий торговли будет иметь место только в том
342
У. Макс Корден
случае, если кривая спроса более полога, чем кривая предельной
выручки.
Введение тарифа обусловливает возникновение издержек протек-
ционизма, связанных со снижением потребления (на графике соот-
ветствующая область заштрихована). Очевидно, что при установлении
оптимального тарифа данный факт должен учитываться. Однако если
существуют предпосылки для улучшения условий торговли, то выиг-
рыш от введения небольшого тарифа будет положительным, а значит,
положительным будет и оптимальный тариф.
В любом случае, мы имеем дело с известной аргументацией в
пользу введения тарифа, основанной на концепции условий торгов-
ли, которая предполагает субсидирование импорта в ситуации, когда
кривая предельной выручки является сравнительно более пологой.
Теперь рассмотрим ситуацию, при которой существует единствен-
ный — фактический или потенциальный — национальный произво-
дитель, сталкивающийся с экономией от масштаба, и в то же время
отсутствует возможность воздействия на условия торговли, а цена
импорта задана (т. е. мы имеем дело с моделью малой страны). Эта
модель заимствована из работ Кордена (Corden, 1967) и Снейпа (Snape,
1977). В данной модели может иметь место выигрыш от субсидирова-
ния национального производства, поскольку цена в исходной ситуа-
ции превышает предельные издержки внутри страны, отражая извест-
ный случай внутренних диспропорций, связанных с недостаточным
уровнем потребления монополизированного продукта. Хотя предо-
Стратегическая внешнеторговая политика
343
ставление субсидии приводит к замещению импорта более дорогой
национальной продукцией, обусловливая стандартные потери от про-
ведения протекционистской политики, она также вызывает увеличе-
ние потребления внутри страны.
В модели Кордена (Corden, 1967) введение тарифа может не
оказать благоприятного воздействия, поскольку она предполагает,
что национальный и иностранный продукты являются совершен-
ными субститутами, так что введение тарифа фактически уменьша-
ет национальное потребление. Однако в модели Снейпа (Snape, 1977)
два продукта дифференцированы, так что введение тарифа обуслов-
ливает сокращение потребления импортируемого продукта и увели-
чение потребления продукта, производимого внутри страны. Вто-
рой эффект, рассматриваемый сам по себе, обусловливает выигрыш,
поскольку (из-за наличия монополии) цена в исходной ситуации
превышала предельные издержки. Хелпмен и Кругмен (Helpman,
Krugman, 1989) называют этот эффект «выигрышем в производ-
ственной эффективности» от введения тарифа и относят его к умень-
шению или устранению одной из стандартных внутренних дис-
пропорций, а именно диспропорции, порожденной национальной
монополией, при которой объем производства оказывается ниже
общественного оптимума.
Таким образом, в предшествующей литературе были развиты
два элемента анализа воздействия тарифа при наличии олигополии с
дифференциацией продукта. Было показано, во-первых, что его вве-
дение может сократить прибыль иностранной фирмы и тем самым
улучшить условия торговли; во-вторых, что оно может привести к
увеличению потребления национальной продукции, тем самым ком-
пенсируя внутренние диспропорции, обусловленные превышением
цены над предельными издержками.
Эффект перераспределения прибыли, рассмотренный Брэндером
и Спенсером (Brander, Spencer, 1984), опирается, по существу, на тот
же тип анализа, который был рассмотрен выше применительно к
аргументации в пользу субсидирования экспорта. Было продемон-
стрировано, что, когда введение тарифа приводит к замещению им-
порта национальным выпуском, прибыль перераспределяется в пользу
национальной фирмы, за счет чего может возникать чистый выиг-
рыш для страны. Интересен следующий вопрос: является ли этот
эффект новым по сравнению с двумя упомянутыми выше эффектами
или же он в действительности может рассматриваться как один из
элементов воздействия тарифа на условия торговли. На основе анали-
за Хелпмена и Кругмена (Helpman, Krugman, 1989 : ch. 6) можно
сделать вывод, что данный эффект действительно должен отражаться
в выигрыше за счет улучшения условий торговли, но, как отмечают
эти авторы, он увеличивает вероятность того, что такой выигрыш
будет иметь место. Это связано с тем, что цена, предлагаемая ино-
344
У. Макс Корден
странным производителем национальным потребителям, может по-
выситься не так сильно при увеличении национального производства
вследствие введения тарифа (подлинная кривая спроса на рис. 14.3
будет более эластична), как при отсутствии такого замещения импорта.
. q 14.5. Тарифы, направленные на содействие
развитию экспорта
Здесь нам следует сослаться на очень часто цитируемую статью
Кругмена (Krugman, 1984). Ее аргументация также может быть ис-
толкована в пользу использования тарифа в модели олигополии, но в
то же время данная статья содержит дополнительное соображение о
том, что введение тарифа может привести не только к замещению
импорта национальным производством, но и к стимулированию экс-
порта.
Две фирмы конкурируют на различных рынках (в том числе и
на национальном), «играя по Курно» и сталкиваясь с экономией от
масштаба. Национальное правительство защищает фирму своей стра-
ны на национальном рынке. Такую защиту можно трактовать как
разновидность субсидирования. Естественно, это перераспределяет
прибыль от иностранной фирмы к национальной, как и в модели
Брэндера—Спенсера. Предельные издержки национальной фирмы па-
дают, в то время как иностранная фирма уменьшает выпуск и ее
предельные издержки растут. Как следствие, национальная фирма
расширяет экспорт. Таким образом, Кругмен показывает, что защита
от импорта действует как инструмент содействия развитию экспорта.
Здесь возникает вопрос о том, в какой мере данный вывод зави-
сит от предположения о наличии олигополии по Курно. Кругмен пи-
шет: «Тезис, согласно которому защищенный внутренний рынок обес-
печивает фирме основу для успешного развития экспорта, относится
к числу тех неортодоксальных идей, представляющих собой общее
место в дискуссиях по международной торговле, которые несовмести-
мы со стандартными моделями, но, тем не менее, выглядят убедитель-
ными для практиков» (Krugman, 1984 : 191). Фактически идея, со-
гласно которой введение тарифа может стимулировать экспорт, из-
вестна из теории демпинга, возникшей еще в 1920-е гг. Что касается
конкретных выводов для экономической политики, то можно напом-
нить о работе Пёрселла и Снейпа (Pursell, Snape, 1973), которые рас-
сматривали ту же самую проблему и также допускали существование
экономии от масштаба. Пёрселл и Снейп предполагали, что существу-
ет единственная национальная фирма, сталкивающаяся с заданными
мировыми ценами на импорт и экспорт, т. е. они использовали мо-
дель малой страны. Они показали, что введение тарифа может на
первых порах привести к использованию монополией практики цено-
Стратегическая внешнеторговая политика
345
вой дискриминации, при которой монополия повышает цены внутри
страны и начинает экспортные операции.
Из сказанного следует, что для получения упомянутого результа-
та не обязательно предполагать наличие олигополии. Пёрселл и Снейп
(Pursell, Snape, 1973 : 90) отмечают, что в рассмотренном ими случае
введение тарифа никогда не будет оптимальным, но «можно сформу-
лировать аргумент в пользу предоставления субсидий, которые позво-
ляют фирме начать свою деятельность (и экспортные операции)...»
Однако Хелпменом и Кругменом (Helpman, Krugman, 1989) было
продемонстрировано, что в случае олигополии по Курно введение та-
рифа может быть оптимальной политикой с точки зрения страны,
при условии отсутствия ответных мер со стороны иностранного пра-
вительства. Фактически анализ Пёрселла и Снейпа выглядит более
обоснованным, чем анализ Кругмена (Krugman, 1984). В модели ма-
лой страны нам нет необходимости принимать во внимание ни реак-
цию иностранной фирмы, ни реакцию иностранного правительства
независимо от того, описываются ли соответствующие взаимодействия
моделью Курно или же они носят стратегический характер. На са-
мом деле эта модель недалека от реальности. Напротив, в модели
Кругмена мы сталкиваемся не только с тем, что обе фирмы близоруко
«играют по Курно», но и с пассивностью иностранного правитель-
ства.5
14.6. Заключение: существует ли
«новая международная экономика»?
Количество моделей, построенных на основе новаторской работы
Брэндера и Спенсера и учитывающих фактор олигополии и эффект
перераспределения прибыли, в последнее время значительно возросло,
а их разработчики начинают выходить за рамки статических моде-
лей, описывающих поведение по Курно. В рамках данной главы у нас
нет возможности рассмотреть их все. Фундаментальная проблема за-
ключается в том, что каждая модель выглядит особым случаем, при-
водящим к конкретным результатам в зависимости от величины
различных параметров и т. п. Усилия по поиску общих принципов
практически отсутствовали, и можно со всей определенностью утверж-
дать, что на базе соответствующих работ так и не сложилось единой
исследовательской парадигмы. Были опубликованы новые работы, опи-
рающиеся на сложный формальный аппарат, и появилась важней-
шая новая идея, связанная с ролью внешнеторговой политики в пере-
5 Вторую предпосылку можно было бы оправдать, если бы цель анализа
состояла в объяснении вмешательства японского правительства при пассив-
ности правительства США.
346
У. Макс Корден
распределении прибыли между олигополистическими фирмами, но вви-
ду отсутствия новой парадигмы не приходится говорить о «новой
международной экономике».
Обзор последних разработок и ряда моделей можно найти в
работе Диксита (Dixit, 1987а); работа в этой сфере продолжается.
Как отмечает Диксит: «Было бы преждевременно формулировать
строгие, заслуживающие доверия выводы для экономической поли-
тики на основании комплекса незаконченных, продолжающихся ис-
следований». Он также полагает, что «разработка статических мо-
делей олигополистической торговли и внешнеторговой политики
идет своим чередом. Но исследование динамических аспектов оста-
ется во многом нетронутой целиной» (Dixit, 1987а : 354). Уже по-
явились первые эмпирические исследования; отдельные из них рас-
сматриваются в обзоре Хелпмена и Кругмена (Helpman, Krugman,
1989 : ch. 8), где обсуждается также проблема квантификации. Од-
нако Диксит (Dixit, 1987а : 359) с полным основанием констатиру-
ет, что «эмпирические исследования ведутся с отставанием, и необ-
ходимо повысить как их качество, так и их количество, если мы
хотим лучше оценить масштаб и значимость теоретических дости-
жений». В другой работе того же автора (Dixit, 1987b) приводятся
результаты одного из наиболее интересных эмпирических исследо-
ваний, в рамках которого соответствующая теория была применена
для анализа соперничества между американскими и японскими
фирмами на автомобильном рынке в условиях использования как
тарифов, так и производственных субсидий. Несомненно, число эмпи-
рических исследований должно радикально увеличиться, чтобы пра-
во рассматриваемого подхода на существование (если у него дей-
ствительно есть такое право) можно было считать доказанным.
Кругмен (Krugman, 1987) в свое время отметил, что новые раз-
работки в некотором смысле заменяют существующую теорию меж-
дународной торговли или по меньшей мере требуют радикального
пересмотра ее выводов. Подобные заявления ни к чему не обязыва-
ют, однако они предполагают, что традиционная теория опирается
на предпосылку совершенной конкуренции и приводит к заключе-
нию, согласно которому — при незначительных оговорках — сво-
бодная торговля является оптимальным вариантом торговой поли-
тики. Новый же подход, по мнению Кругмена, изменяет структуру
теории торговли столь фундаментально, что теоретические доводы в
пользу свободной торговли исчезают. Согласно данной точке зре-
ния, идея свободной торговли еще не ушла в прошлое главным
образом по причинам политико-экономического характера. Ввиду
этого нам полезно будет вспомнить характеристики теории внешне-
торговой политики, сложившейся на протяжении длительного вре-
мени. В качестве отправной точки можно использовать, например,
работу Мида (Meade, 1955).
Стратегическая внешнеторговая политика
347
Эта теория не утверждает, что свободная торговля — лучший
вариант торговой политики. Позвольте мне процитировать свою соб-
ственную работу:
Теория не говорит, как это часто утверждается плохо информирован-
ными или малоквалифицированными авторами, что свободная торговля —
лучший вариант торговой политики. На самом деле теория констатирует,
что данный тезис справедлив при определенных допущениях. Оценка допу-
щений, при которых свободная торговля или ее альтернатива в виде любой
другой конкретной системы протекционизма или субсидирования является
оптимальной, субоптимальной, «субсубоптимальной» и т. д., представляет
собой, возможно, самое важное из того, что можно извлечь из этой книги.
(Corden, 1974)
Эта цитата взята из введения к моей книге (Corden, 1974), в ко-
торой предложен анализ бесчисленных доводов в пользу вмешатель-
ства в торговлю и различных форм прямого субсидирования и пока-
зано, при каких обстоятельствах различные виды вмешательства могут
быть оптимальными, субоптимальными и т. д. В конце книги (Corden,
1974 : 412—414) перечисляются десять условий, при которых государ-
ственное вмешательство в торговлю может быть (хотя и не обязатель-
но будет) оптимальным. В свете новых разработок новое издание этой
книги, несомненно, должно было бы включить в этот список одиннад-
цатое условие.
Мой вывод состоит в том, что новые исследования вполне вписы-
ваются в существующие рамки, причем справедливость данного тези-
са будет только расти по мере дальнейшего уточнения результатов
этих исследований. Будущие исследования дадут возможность пока-
зать, что существуют разнообразные способы преодоления диспропор-
ций, вызванных олигополией, — способы, которые можно ранжиро-
вать в соответствии с их воздействием на благосостояние, причем в
некоторых случаях инструменты торговой политики или прямые
субсидии (налоги) могут быть оптимальными при условии, что ино-
странные правительства воздерживаются от ответных мер, а сообра-
жения политико-экономического и информационного характера игно-
рируются. Если же ответные меры вероятны, т. е. если правительства
вовлечены в стратегическое взаимодействие, то тогда новые исследо-
вания представляют собой разработку проблематики существующей
теории «тарифов и ответных мер».
Конечно, политико-экономические и информационные проблемы
нельзя игнорировать, и фактически именно они убедили большинство
ведущих сторонников новых теорий (см. особенно Grossman, 1986) в
нежелательности использования этих теорий для обосновайия поли-
тики государственного вмешательства. Информационные проблемы,
связанные с политикой оптимального вмешательства, направленной
на устранение вызванных олигополией диспропорций, выглядят непре-
348
У. Макс Корден
одолимыми.6 Однако соображения политико-экономического и инфор-
мационного характера порождают также доводы против использова-
ния существующих теорий «внутренних диспропорций» для оправда-
ния политики «точной настройки», предполагающей использование
налогов либо субсидий. В действительности наиболее важные разра-
ботки в теории внешнеторговой политики были сделаны в сфере
политической экономии. В настоящее время мало кто готов одно-
значно утверждать, что режим, при котором государственное вмеша-
тельство посредством использования инструментов внешнеторговой
политики или прямого субсидирования является обычным делом или
встречает на своем пути меньше препятствий, на деле позволяет про-
водить политику, оптимальную с точки зрения национальной эконо-
мики. В известной степени удивительно, что столь большое число
новых исследований, опирающихся на сложный формальный аппа-
рат, было посвящено поиску сложных обстоятельств, при которых
вмешательство определенных видов может быть оправданным, при
полном игнорировании политико-экономических и информационных
проблем. В конце концов, существующая теория уже обнаружила массу
таких обстоятельств, и в то же время она вполне обоснованно подвер-
гается критике за то, что в ее рамках недостаточно учитываются (или
вообще игнорируются) политико-экономические и информационные
проблемы. Ввиду этого в адрес «новых» теорий, хотя они и вносят
определенный вклад в изучение вопросов внешнеторговой политики,
может быть высказана критика за использование фактически уста-
ревшего подхода.
Литература
Bhagwatt J. On the equivalence of tariffs and quotas / In R. Caves, H. Johneon,
and P. Kenen (eds). Trade, Growth, and the Balance of Payments. Amster-
dam : North-Holland, 1965.
Bhagwati J. Is free trade passe after all? // Weltwirtschaftliches Archiv. 1989.
Vol. 125. P. 17-44.
Brander J., Spencer B. Tariffs and the extraction of foreign monopoly rents
under potential entry//Canadian Journal of Economics. 1981. Vol. 14.
P.371-389.
6 Спенсер (Spencer, 1986) приводит перечень характеристик отрасли,
при которых ее экспорт целесообразно субсидировать. Следует также напом-
нить, что в других публикациях создатели основ теории Брэндер и Спенсер
фактически не использовали свой анализ для обоснования протекционист-
ской политики ввиду возможности ответных мер, а значит, общего неблаго-
приятного воздействия на все вовлеченные страны, к чему в конечном счете
привел бы режим стратегической внешнеторговой политики.
Стратегическая внешнеторговая политика
349
Brander J., Spencer В. International R&D rivalry and industrial strategy//
Review of Economic Studies. 1983. Vol. 50. P. 707-722.
Brander J., Spencer B. Tariff protection and imperfect competition / In H. Kierz-
kowski (ed.). Monopolistic Competition and International Trade. Oxford :
Oxford University Press, 1984.
Brander J., Spencer B. Export subsidies and international market share rivalry //
Journal of International Economics. 1985. Vol. 18. P. 83-100.
Caves R. E. Industrial policy and trade policy: the connections / In H. Kierz-
kowski (ed.). Protection and Competition in International Trade. Oxford :
Basil Blackwell, 1987.
Corden W. M. Monopoly, tariffs and subsidies // Economics. 1967. Vol. 34. P. 50-
58.
Corden W. M. Trade Policy and Economic Welfare. Oxford : Oxford University
Press, 1974.
Deardorff A., Stern R. Current issues in trade policy: an overview / In R. Stem
(ed.). U. S. Trade Policies in a Changing World Economy. Cambridge,
MA : MIT Press, 1987.
Dixit A. International trade policy for oligopolistic industries // Economical Jour-
nal (Supplement). 1984. Vol. 94. P. 1-16.
Dixit A. Strategic aspects of trade policy / In T. Bewley (ed.). Advances in Economic
Theory — Fifth World Congress. Cambridge : Cambridge University Press,
1987a.
Dixit A. Tariffs and subsidies under oligopoly: the case of the U. S. automobile
industry / In H. Kierzkowski (ed.). Protection and Competition in Inter-
national Trade. Oxford : Basil Blackwell, 1987b.
Eaton J„ Grossman G. M. Optimal trade and industrial policy under oligopoly //
Quarterly Journal of Economics. 1986. Vol. 101. P. 383-406.
Greenaway D., Milner C. The Economics of Intra-industry Trade. Oxford : Basil
Blackwell, 1986.
Grossman G. M. Strategic export promotion: a critique / In P. Krugman (ed.).
Strategic Trade Policy and the New International Economics. Cambridge,
MA : MIT Press, 1986.
Grossman G. M., Richardson J. D. Strategic trade policy: a survey of issues and
early analysis // Special Papers in International Economics. Vol. 15. 1985.
Helpman E., Krugman P. Market Structure and Foreign Trade. Cambridge, MA :
MIT Press, 1985.
Helpman E., Krugman P. Trade Policy and Market Structure. Cambridge, MA :
MIT Press, 1989.
Johnson H. G. Optimum tariffs and retaliation // Review of Economic Studies.
1953-1954. Vol. 21. P. 142-153.
Katrak H. Multi-national monopolies and commercial policy // Oxford Economic
Papers. 1977. Vol. 29. P. 283-291.
Krugman P. Import protection as export promotion: international competition
in the presence of oligopoly and economies of scale / In H. Kierzkowski
(ed.). Monopolistic Competition and International Trade. Oxford : Oxford
University Press. 1984.
Krugman P. (ed.). Strategic Trade Policy and the New International Economics.
Cambridge, MA : MIT Press, 1986.
350
У. Макс Корден
Krugman Р. Is free trade passe? // Economic Perspectives. 1987. Vol. 1. P. 131-
144.
Meade J. E. The Theory of International Economic Policy. Trade and Welfare.
London : Oxford University Press, 1955. Vol. 2.
Pursell G„ Snape R. H. Economies of scale, price discrimination and exporting //
Journal of International Economics. 1973. Vol. 3. P. 85-92.
Richardson J. D. Empirical research on trade liberalisation with imperfect
competition: a survey//OECD Economic Studies. 1989. Vol. 12. P. 7-50.
Snape R. H. Trade policy in the presence of economies of scale and product
variety//Economic Record. 1977. Vol. 53. P. 525-534.
Spencer B. What should trade policy target? I In P. Krugman (ed.). Strategic
Trade Policy and the New International Economics. Cambridge, MA : MIT
Press, 1986.
Stegemann K. Policy rivalry among industrial states: what can we learn from
models of strategic trade policy?//International Organization. 1989.
Vol. 43. P. 73-100.
Svedberg P. Optimal tariff policy on imports from multinationals // Economic
Record. 1979. Vol. 55. P. 64-67.
15
РОНАЛЬД МАКДОНАЛЬД И РОСС МИЛБУРН
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ДЕНЕЖНОЙ ТЕОРИИ
, р
15.1. Введение*
В 1980-е гг. в денежной теории (monetary theory) произошли
значительные перемены. Наиболее важное изменение произошло в
методе анализа, который используется большинством экономистов,
исследующих различные вопросы, связанные с денежной теорией.
Вообще говоря, по состоянию на 1975 г., публикации по денежной
теории подразделялись на два типа. Небольшое число работ, объеди-
ненное под рубрикой «анализ микрооснов», начиналось с анализа
уровня отдельного агента, где выяснялось, почему деньги являются
полезным благом. Однако в большей части работ по денежной тео-
рии, рассмотренных в обзоре Бэрроу и Фишера (Barro, Fischer, 1976),
полезность денег рассматривалась как нечто само собой разумеюще-
еся, и исследовалась оптимальная величина денежных остатков, а также
эластичность спроса на деньги по доходу и ставке процента. Эти ис-
следования осуществлялись в рамках агрегированных моделей; все
модели, в которых рассматривался выбор, были, как правило, моделя-
ми частичного равновесия и применялись для обоснования конкрет-
ных агрегатных соотношений.
Центральной темой исследований в области денежной теории в
1980-е гг. стало использование моделей общего равновесия, базиру-
ющихся на анализе поведения репрезентативного агента, решающего
проблему оптимизации (обычно межвременной). Одна из интерпрета-
ций таких моделей состоит в том, что они «исходят» из модели об-
щего равновесия Эрроу—Дебрё (описываемой ниже) и включают в
нее отсутствующие рынки для учета роли денег. В этом аспекте дан-
* Авторы хотели бы поблагодарить Майка Артиса, Дэвида Бэкаса, Джека
Лича и редакторов данной книги за комментарии. Финансовая помощь для
написания этой статьи была предоставлена за счет гранта на специальные
исследования (Special Research Grant) Университета Нового Южного Уэльса,
которому мы также выражаем благодарность.
352
Рональд Макдональд и Росс Милберн
ные модели связаны с работами по микросновам 1970-х гг. (которые
также рассматриваются ниже), однако в отличие от этих работ они
направлены на решение вопросов, связанных с агрегированными
макромоделями. Неудивительно, что исследуемые явления и получа-
емые ответы в данных случаях разные.
В этой главе мы попытаемся осветить наиболее важные из но-
вых тем. Таким образом, мы представим тематический обзор, а не
обзор литературы (последний можно найти в работе Фишера (Fischer,
1988)), модернизирующий упомянутое исследование Бэрроу и Фише-
ра, 1976. Мы рассмотрим общую основу моделей выбора в рамках
общего равновесия и дадим интуитивное объяснение их основных
идей. Следует также отметить, что денежная теория органично «пере-
ходит» в теорию международных финансов и макроэкономику. Но
поскольку эти темы рассматриваются в других главах данной книги,
мы специально не будем концентрировать на них свое внимание, за
исключением тех случаев, когда они имеют непосредственное отно-
шение к изучаемым нами проблемам. В следующем разделе мы обсу-
дим структуру моделей репрезентативного агента. Данное обсужде-
ние будет включать рассмотрение моделей перекрывающихся поко-
лений, которое подведет нас к дискуссии о том, зачем люди хранят
деньги. Здесь же мы рассмотрим отчасти связанную с этими моделя-
ми теорию ценообразования на финансовые активы. Раздел 15.3 по-
священ банковскому регулированию и финансовому посредничеству,
а в разделе 15.4 мы обсудим проблему доверия к денежной полити-
ке. Хотя основной акцент делается нами на этих доминировавших в
1980-е гг. темах, в некоторой части работ в этот период продолжены
исследования в рамках агрегированных моделей. Мы их вкратце рас-
смотрим в разделе 15.5, а затем дадим заключительный коммен-
тарий.
15.2. Модели репрезентативного агента
Большинство моделей денежной теории 1980-х гг., которые пы-
таются объяснить агрегатные явления, начинаются на микроэкономи-
ческом уровне. Удобным отправным пунктом исследований являет-
ся рассмотрение бесконечно живущего репрезентативного агента. Если
с( обозначает потребление в течение периода t, u(c() — полезность
этого потребления и 5 — норму дисконтирования будущего потребле-
ния относительно сегодняшнего потребления, то можно допустить,
что в период t = 0 агент максимизирует:
V = Е £б‘и(с() ,
-t = 0
(15-1)
Новые разработки в денежной, теории
353
где Е представляет собой ожидаемое значение. Мы рассмотрим слу-
чай, при котором существует некоторая неопределенность (обсужда-
емая ниже) и допустим, что и удовлетворяет аксиомам ожидаемой
полезности фон Неймана—Моргенштерна. В рамках этой формули-
ровки нами предполагается, что полезность сепарабельна во времени,
т. е. что полезность сегодняшнего потребления не зависит от потреб-
ления предыдущего периода. В целях упрощения мы также абстраги-
руемся от полезности досуга, поскольку вопросы, касающиеся предло-
жения труда, здесь не рассматриваются.
Для более четкого представления материала предположим, что
агент получает доход yt в начале каждого периода, а расходы на по-
требление осуществляются немедленно. Величина сбережений будет
равна yt - ct; на эту величину в течение периода начисляется про-
цент. Обозначим символом г( валовую реальную процентную ставку,
равную сумме единицы и реальной процентной ставки, символом
at — ценность реальных активов, при этом а( накапливается с тече-
нием времени в соответствии со следующей формулой:1 *
а<+1 = ri(ai + У( - ct)- (15.2)
Предполагается, что репрезентативный агент максимизирует (15.1)
при ограничении (15.2) и возникающие вследствие этого траекто-
рии потребления и накопления активов представляют собой траек-
тории этих переменных для агрегированной экономики. Правило,
по которому агент принимает решения согласно формулам (15.1) и
(15.2), полезно вывести интуитивно. Допустим, что в периоде t имеет
место уменьшение объема потребления на одну единицу. Потеря
полезности составит и'(с(), гДв иО представляет собой предельную
полезность. Такое уменьшение потребления в периоде t позволит
увеличить его в другом периоде, скажем в периоде t + 1. В этом
периоде у нас будут г( единиц дополнительного потребления (мы
получим процент, начисленный на добавочное сбережение одной
единицы), которые принесут (дисконтированное) увеличение ожида-
емой полезности в размере 5E[r(u'(c(+1)], где Е — оператор ожиданий.
Если исходный выбор значений с( и с(+1 являлся оптимальным,
такое преобразование не может увеличить благосостояние. Таким
образом, одно из условий максимизации благосостояния выглядит
следующим образом:
u'(c() = 8E[r,u'(c(+i)]. <15-3)
Для того чтобы завершить модель и сделать ее моделью обще-
го равновесия, необходимо определить условия расчистки рынка,
1 Здесь есть неявная предпосылка о существовании актива, который
будут хранить; данная предпосылка является предметом описываемой ниже
дискуссии.
24 Заказ № 356
354
Рональд Макдональд и Росс Милберн
т. е. условия, при которых в каждый момент времени совокупное
потребление будет равно совокупному выпуску. Также необходимо
ввести условие трансверсальности (transversality condition). Тогда, если
бы период планирования был конечным, мы захотели бы знать цен-
ность любых активов, остающимся в конце этого периода. В случае
бесконечного периода мы не пытаемся дать оценку активам за рамка-
ми такого периода, поэтому, чтобы получить положительное значение
предельной полезности потребления, надо выполнить следующее тре-
бование:
lima(8'u'(cf) = 0.
Данное условие подобно ресурсному ограничению для моделей с бес-
конечным горизонтом планирования и неявно задает конечную цен-
ность at в бесконечном периоде времени.
Однако если все агенты идентичны, то тогда зачем им обмени-
ваться друг с другом деньгами и другими финансовыми активами?
Если модель не может объяснить торговлю финансовыми активами,
она вряд ли может служить основой для денежной теории. Один
способ решения возникшей проблемы — введение в анализ разнород-
ных агентов; другой способ состоит в использовании модели пере-
крывающихся поколений, предложенной впервые Самуэльсоном (Sa-
muelson, 1958). Эта модель часто употребляется для изучения различ-
ных проблем, и ее краткое рассмотрение будет весьма полезно.
Модели перекрывающихся поколений
В моделях перекрывающихся поколений анализ упрощен за счет
допущения о том, что каждый агент функционирует в течение двух
периодов и, пока он молод, получает доход (обычно) в виде задела,
равного одной единице, а когда становится старым, не получает вооб-
ще ничего.2 Данное допущение непосредственно порождает мотив к
сбережению (при условии, что нулевой объем потребления не являет-
ся выбором, который можно гарантировать, допустив, что и(0) = -оо).
При наличии агентов, которые сберегают, пока молоды, другая группа
агентов расходует свои сбережения, поскольку при отсутствии инвес-
тиций совокупные сбережения должны быть равны нулю в ситуации
равновесия. Данное условие может быть выполнено за счет «перекры-
вания» поколений. В каждый момент времени одновременно живут
представители старого и молодого поколения, которые во всем иден-
тичны друг другу, за исключением фазы своей жизни.
Один из методов моделирования потребности в финансовых ак-
тивах состоит в принятии предпосылки, согласно которой товары
2 Это следует из исходных допущений Самуэльсона (Samuelson, 1958).
Новые разработки в денежной теории
355
нельзя накапливать. Тогда возникает спрос на финансовые активы
как средства перемещения покупательной силы из одного периода
в другой. Без денег (или какого-либо другого финансового актива)
не существует способа, посредством которого такое перемещение мог-
ло бы иметь место: молодые люди будут ссужать средства старым,
но последних уже не будет в живых, когда сегодняшние кредиторы
сами станут старыми. Самуэльсон отмечал, что деньги в форме бу-
мажных денег решили бы эту проблему. Молодые люди продали бы
часть своей продукции за такие деньги (т. е. купили бы бумажные
деньги стариков, которые приобрели их в своем первом периоде).
Поскольку каждый агент функционирует в рамках конечного отрез-
ка времени, нам не нужно условие трансверсальности.
Если бы старые люди имели запас денег М, а молодые хотели бы
в момент времени t потребить с/ и тем самым сберечь 1 - с^, то цена
pt единицы потребления в денежном выражении удовлетворяла бы
условию М = р((1 - с)*). Таким образом, молодые получили бы в те-
кущем периоде М/р, денег за каждую проданную единицу продук-
ции, а в будущем периоде — Mlpt+V потребительских благ после
обмена их денег на блага (по цене р(+)). Поэтому валовая норма до-
ходности денег равна (М/р^^ЦМ/pt) или r( = pjp . Для любой
данной динамики цен аллокация во времени фактического потребле-
ния определяется условием (15.3), так что с( оказывается функцией
Р</Р(+г Однако выясняется, что модель может иметь удовлетвори-
тельные решения при множестве вариантов динамики цен (рр р2, ...).
Такая неопределенность динамики цен представляет собой характер-
ную черту рассматриваемого типа моделей, черту, которая объясняет-
ся отсутствием условия трансверсальности и возникает в другом
контексте, описываемом ниже.
В проанализированной выше модели деньги играют лишь роль
средства сохранения ценности, роль, которая может выполняться
любым активом. Какой-либо другой актив, такой как земля или
физический капитал, который характеризуется положительным пре-
дельным продуктом, будет иметь преимущество над деньгами в каче-
стве средства перемещения потребления из одного периода в другой,
поэтому экономика быстро станет неденежной. Ясно, что в этой моде-
ли не используется преимущество денег как средства обмена. Тобин
(Tobin, 1980) критиковал Уоллеса (Wallace, 1980) за его высказывание
о том, что такие модели объясняют существование денег.
Простейший способ, посредством которого деньги могут быть
вновь введены в модель перекрывающихся поколений при наличии
других активов, заключается в простом принятии гипотезы, согласно
которой сделки более выгодно осуществлять посредством того, что
мы определяем как деньги, чем с помощью прочих активов. Так,
некоторые авторы допускают, что реальные денежные остатки (обо-
значаемые ш() приносят полезность и модифицируют функцию полез-
356
Рональд Макдональд и Росс Милберн
ности, которая для каждого периода имеет вид: u(c(, т,).3 Примеры
можно найти в работах Фишера (Fischer, 1979), Вайса (Weiss, 1980) и
Обстфелда (Obstfeld, 1983, 1984). Естественно, это порождает спрос на
деньги, даже когда их доходность меньше доходности другого ак-
тива.4 Одна из линий критики этого типа модели связана с вопросом
о том, приносят ли деньги полезность прямо или косвенно, через
трансакционные издержки. Так, Клауэр (Clower, 1967) утверждал, что
включение денег в функцию полезности не позволяет создать теорию,
в которой деньги играют особую роль в сделках. Кэрекен и Уоллес
(Kareken, Wallace, 1980) возражают против того, что они рассматрива-
ют как неявную теорию, лежащую в основе данного подхода, посколь-
ку это не позволяет проверить непротиворечивость соответствующей
модели. Так как альтернативные подходы связаны с микроосновами
денег, было бы весьма полезно обсудить этот аспект.
Микроэкономические основы денег
Авторы публикаций по микроэкономическим основам денег пы-
таются ответить на фундаментальные вопросы о том, являются ли
деньги приносящим полезность благом, и если являются, то почему.
Деньги при этом определяются как нечто, выполняющее функции
средства обмена, средства сохранения ценности и счетной единицы.
В моделях межвременного общего равновесия Эрроу (Arrow, 1964) и
Дебрё (Debreu, 1959) деньги не играют никакой роли. Агенты взаимо-
действуют друг с другом в начале отсчета времени и покупают или
продают условные контракты на каждый период времени по равно-
весным ценам. В случае наступления соответствующих событий кон-
тракты обмениваются на блага, и, таким образом, нет необходимости
в средстве обмена и, следовательно, нет потребности в деньгах.5 Это
побудило Хана (Hahn, 1973) заявить, что «основы денежной теории
пока еще не заложены». Следует отметить, что модели перекрыва-
ющихся поколений порождают потребность в деньгах (или каком-
либо финансовом активе) за счет устранения какого-либо обмена между
сегодняшней и завтрашней молодежью. Однако это не объясняет
уникальную роль денег как средства обмена. Для того чтобы объяс-
3 Деньги обычно вводятся таким способом в модели роста, основанные
на предпосылке совершенного предвидения; обычно в таких моделях устой-
чивость и единственность равновесия в условиях совершенного предвидения
в значительной степени зависят от смешанной частной производной по
деньгам и потреблению.
4 О практическом применении см. (Poterba, Rotemberg, 1987).
5 Эрроу (Arrow, 1964) выдвинул идею о том, что в таких моделях деньги
могут выполнять функцию средства сохранения ценности. Однако Хан (Hahn,
1973) доказал, что это форма держания денег здесь не является существен-
ной, поскольку не влияет на равновесную аллокацию благ.
Новые разработки в денежной теории
357
нить потребность в средстве обмена (обычно представляемом в виде
наличных денег), необходимо ввести в анализ технологии трансак-
ций. Старр (Starr, 1972) показывает, что при двойном совпадении
потребностей, обязательном для осуществлении бартерных сделок, мы
можем никогда не достичь равновесной аллокации, поскольку, если
мы ограничимся только трансакциями с желаемыми нами товарами,
мы можем не встретить других торговцев в правильной последова-
тельности. Острой (Ostroy, 1973) продемонстрировал, что даже при
наличии посредника, при обмене каждого товара, информационные
требования простираются гораздо шире, чем простое знание равно-
весных цен, поскольку избыточное предложение должно «перемещать-
ся» точно в правильной последовательности.
Джонс (Jones, 1976) показывает, каким образом в экономике,
в которой первоначально используется бартер, возникает средство об-
мена. В модели Джонса агенты обращают внимание на то, с каким
товаром они «имеют дело» наиболее часто. Пусть таким товаром
является картофель. Те, кто продает относительно редкие товары,
убедятся в том, что вероятность точного совпадения потребностей
возрастает за счет «посреднического» обмена этих товаров на карто-
фель, который затем обменивается на необходимое им благо. После
того как эти люди вовлекутся в процесс торговли картофелем, повы-
сится вероятность найти кого-то, кто согласится приобрести карто-
фель в обмен на какое-либо другое благо, и у большего числа торгов-
цев возникнут стимулы использовать картофель. Если этот процесс
продолжится, то в конечном счете большинство торговцев будет при-
менять картофель в сделках и, таким образом, этот товар станет сред-
ством обмена.
Далее, кажется очевидным — хотя данный аспект и не смоде-
лирован — следующее: если картофель трудно перевозить для осуще-
ствления сделок с ним, то у агента возникает стимул принять карто-
фель на хранение и выпустить бумажные требования на него, которые
удобнее транспортировать. (Мы могли бы отступить еще на один шаг
и спросить, почему бумажные требования легко перевозить, но такой
подход не кажется нам плодотворным, поскольку экономическая те-
ория должна начинаться с некоторых основополагающих допущений.)
Хотя золото принималось в качестве средства обмена, его было трудно
перевозить в больших количествах. Таким образом, у банков возникал
стимул принимать золото и выпускать банкноты, обеспеченные этим
золотом; эту роль позднее взяли на себя центральные банки.
Объясняет ли портативность существование неразменных на зо-
лото бумажных денег? Этот вопрос был поднят Кийотаки и Райтом
(Kiyotaki, Wright, 1989а), в работе которых торговые стратегии были
сделаны эндогенными (а не случайными, как у Джонса (Jones, 1976)).
Они допускают, что различные блага характеризуются различными
издержками хранения, и показывают, что возможно существование
358
Рональд Макдональд и Росс Милберн
двух типов равновесия по Нэшу: фундаментальное равновесие, в ко-
тором в качестве средства обмена выбирается благо с наименьшими
издержками хранения, и спекулятивное равновесие, в котором аген-
ты исходя из рациональных соображений не используют такое благо,
поскольку ожидают (и их ожидания верны), что в будущем оно ста-
нет менее обменоспособным. Кийотаки и Райт сделали важный вы-
вод, согласно которому неразменные бумажные деньги не будут хра-
ниться, если люди не верят, что эти деньги не будут приняты другими
людьми. Но это лишь необходимое условие для того, чтобы неразмен-
ные бумажные деньги имели ценность. Эти же авторы в другой своей
работе (Kiyotaki, Wright, 1989b) отмечают, что если доходность или
экономия на издержках хранения денег значительно меньше, чем
аналогичные показатели для других активов или товаров, то эти дру-
гие блага могут использоваться как средство обмена, даже если каж-
дый убежден, что все остальные будут принимать неразменные день-
ги. И наоборот, степень веры в универсальную приемлемость® денег
может быть настолько велика, что они будут употребляться как сред-
ство обмена, даже если другой товар или актив превосходит их как
по доходности, так и по экономии на издержках хранения. В качестве
примера можно привести платежные и кредитные карты. Этот вопрос
также связан с проблемой определения уровня цен, рассматриваемой
в разделе 15.3.
Другие авторы подняли тему оценки неразменных бумажных
денег в случае пространственной отдаленности агентов друг от дру-
га. Лукас (Lucas, 1980) и Таунсенд (Townsend, 1980) показали, что
деньги обладают ценностью, когда агентам в ходе осуществления сде-
лок приходится перемещаться между удаленными друг от друга тор-
говыми точками. Поскольку эти агенты не могут вступить друг с
другом в кредитные отношения, они должны возить с собой деньги
как показатель своей покупательной силы6 7 (данный аспект рассма-
тривается также в обсуждаемых ниже работах по предоплате). Уиль-
ямсон (Williamson, 1987а) утверждает, что если бы учреждение банка
не влекло за собой никаких издержек, то тогда в каждой торговой
точке существовал бы такой банк, который обменивал бы деньги на
облигации. В этом случае платежи могли бы осуществляться путем
немедленного обмена облигаций на деньги, а затем наоборот, так что
6 Как и в моделях, предложенных Джонсом (Jones, 1976) и П. Даймон-
дом (Р. Diamond, 1984), готовность принимать бумажные деньги ускоряет
обменный процесс, повышая вероятность обнаружить торговца с совмести-
мыми предпочтениями.
7 Лукас акцентирует внимание на том, что объем информации, которую
пришлось бы посылать друг другу торговцам относительно кредитоспособ-
ности каждого клиента, был бы очень велик, а бумажные деньги уменьшают
необходимость такой усложненной бухгалтерии.
Новые разработки в денежной теории
359
никто вообще не стал бы хранить деньги. Конечно, такой вывод бази-
руется также на предпосылке о мгновенности обмена, ведь в против-
ном случае имели бы место временные «издержки передачи», типа
издержек, которые неявно присутствуют в моделях управления запа-
сами, предложенных Баумолем и Тобином.
Модели предоплаты
В рамках данного подхода, использующего вышерассмотренные
идеи, предполагается, что деньги должны быть приобретены перед
осуществлением каких-либо сделок, и, следовательно, перед осуще-
ствлением потребления (см. например, Lucas, 1980). Данное допуще-
ние известно как требование Клауэра (Clower, 1967), или требование
предоплаты (cash-in-advance или CIA). Его можно записать следующим
образом: ct < mt. Обоснование требования CIA заключается в том, что
репрезентативный агент «не знает» продавца товаров, а последний не
хочет предоставлять торговый кредит (или принимать ценные бума-,
ги), как это имело место в изложенном выше случае.
Мы можем сразу же указать на одно следствие, вытекающее из
допущения CIA. Поскольку доходность денег ниже доходности дру-
гих активов, агенты будут приобретать только те реальные денеж-
ные остатки, которые необходимы для финансирования потребления.
Если нет неопределенности по поводу потребления, то денежный
запас будет соответствовать равенству mt = ct, поскольку существу-
ют альтернативные издержки владения дополнительными реальны-
ми остатками. Так как mt = Mjpt, где Mt означает номинальные
денежные остатки в момент времени t, то Mt = ptct. Таким образом,
скорость обращения денег тождественно равна единице и на нее не
могут повлиять такие «традиционные» аргументы функции этой
переменной, как темп инфляции и процентная ставка. Без дальней-
ших модификаций мы получаем строгую версию количественной
теории. Причина этого заключается в следующем: период времени
определен таким образом, что люди не могут произвольно менять
количество своих походов в банк, как это допускалось в теориях
Баумоля (Baumol, 1952) и Тобина (Tobin, 1956). Два исключения в
рамках такого подхода можно найти в работах Лукаса и Стоуки
(Lucas, Stokey, 1983) и Свенсона (Svensson, 1985). В первой из этих
работ существуют «наличные товары», которые можно приобрести
только за наличные деньги, и «кредитные товары», за покупку
которых деньги сразу платить не обязательно; изменения соотноше-
ния цен этих двух групп товаров приводят к изменчивости ско-
рости обращения денег. Во второй из этих работ неопределенность
потребления означает, что при уже определенной величине реаль-
ных денежных остатков скорость обращения денег меняется при
изменении объемов потребления.
360
Рональд Макдональд и Росс Милберн
Лукас и Стоуки (Lucas, Stokey, 1987) используют модель CIA с
кредитными и наличными товарами для изучения того, как поведе-
ние равновесных количеств и цен (включающих процентную ставку)
зависит от стохастических процессов, определяющих уровень выпу-
ска и темп роста денежной массы. В рамках такого подхода авторы
используют известную фишеровскую декомпозицию номинальной
процентной ставки на реальную и инфляционную компоненты. Так,
они демонстрируют, что шоковые изменения реальных запасов благ
влияют на реальные процентные ставки через воздействие на пре-
дельную норму замещения, а денежные шоки влияют на инфляцион-
ную премию. В более общем виде этот анализ показывает, как раз-
личные мероприятия денежной политики приводят к разным видам
аллокации (реальных) ресурсов.
Хотя сторонники подхода CIA доказывали, что их процедура
включения денег в модель общего равновесия лучше, чем включение
денег через теорию полезности (см. раздел о моделях взаимоперекры-
вающихся поколений), Феенстра (Feenstra, 1986) продемонстрировал,
что первая из этих моделей — всего лишь особый случай второй.
В частности, Феенстра показывает, что метод непосредственного вклю-
чения денег в функцию полезности может быть выведен из оптими-
зационной модели с учетом трансакционных издержек или неопреде-
ленности.
Цены активов и спекулятивные пузыри
Одно из основных возражений против концепции межвременной
оптимизации состоит в указании на то, что эта концепция в ряде важ-
ных аспектов не соответствует фактическим данным. Один из этих ас-
пектов явствует из уравнения (15.3). Существуют следующие эмпири-
ческие закономерности: потребление является очень стабильным во
времени и не характеризуется большими изменениями, тогда как про-
центные ставки и цены активов (которые влияют на их доходность)
чрезвычайно изменчивы. Эти эмпирические закономерности, видимо,
несовместимы с (15.3). Если ct примерно постоянно, а о величине г( этого
сказать нельзя, то для соблюдения указанного равенства необходимо,
чтобы и'(.) было очень нестабильным, а это означает очень высокую
степень вогнутости функции полезности или, что то же самое, очень
высокую степень неприятия риска у репрезентативного агента.
Недавние исследования в области временной структуры процент-
ных ставок и, в более общем плане, цен активов типа курсов акций
и курсов иностранных валют использовали условие первого порядка
максимизации функции полезности репрезентативного агента, задава-
емое уравнением (15.3). Непосредственным следствием уравнения
(15.3) является то, что реальная норма дохода г должна быть обратно
пропорциональна коэффициенту дисконтирования 6 (и, следователь-
Новые разработки в денежной теории
361
но, прямо пропорциональна норме временного предпочтения). Для того
чтобы получить более интересные результаты относительно поведе-
ния доходности активов в модели репрезентативного агента (и, в част-
ности, чтобы получить однозначное решение для цен активов), мы
должны ввести некоторую стохастичность в поведение потребления и
уточнить форму функции полезности. Ограничив таким образом ба-
зовую модель, мы могли бы объяснить эмпирические закономерности
типа положительной премии по долгосрочным облигациям и превы-
шения доходности обыкновенных акций над доходностью кратко-
срочных безрисковых активов. Например, можно показать, что пер-
вая из этих эмпирических закономерностей (которая впервые была
объяснена Хиксом (Hicks, 1938) как следствие предпочтения ликвид-
ности) будет иметь место до тех пор, пока потребление является ста-
ционарным процессом, а вторую закономерность можно разложить
на компоненту, связанную с неопределенностью относительно выплат
дивидендов (которая пропорциональна коэффициенту относительного
неприятия риска), и на компоненту, пропорциональную квадрату ко-
эффициента относительного неприятия риска (Campbell, 1986).8 Одна-
ко по поводу второй эмпирической закономерности Мера и Прескотт
(Mehra, Prescott, 1985) доказали, что наблюдавшаяся исторически
премия по обыкновенным акциям слишком велика, чтобы соответ-
ствовать модели репрезентативного агента с правдоподобными значе-
ниями параметров. Этот вывод, в свою очередь, вызвал оживленную
дискуссию.
Руководствуясь в основном эмпирической закономерностью, со-
гласно которой фактические цены активов чрезвычайно изменчивы
относительно цен активов, определенных фундаментальными факто-
рами, ряд исследователей обратились к анализу нефундаментальных
факторов (пузырей) для объяснения фактических значений этих цен.
В частности, «надувание пузырей» стало популярным занятием в
недавних публикациях по денежной теории. Феномен пузырей мож-
но объяснить следующим образом. Предположим, что запас активов в
(15.3) — это акционерный капитал, который продается за реальную
цену (т. е. за цену, поделенную на общий уровень цен) qt в период t
и приносит реальный дивиденд dt в течение этого периода времени.
Валовая норма дохода этого актива равна rt = (dt + <7(+i/<7()- Если в
целях упрощения мы допустим, что агенты нейтральны в отношении
риска (и поэтому u'(c() = и'(с(+])), то уравнение (15.3) принимает сле-
дующий вид:
5Efd( + + = 1
I 91 J
8 Применение такого класса моделей для анализа временной структу-
ры процентных ставок обсуждается в работе: Сох et al., 1981.
362
Рональд Макдональд и Росс Милберн
или
qt = 3E(d( + g(+1) . (15.4)
Общее решение уравнения (15.4) таково:
□О / 1 \ t
т-- од = Х5‘Е dt+i + At - , нуф 415.5)
bt&Mbv (=o L ' J c-r\.
где E(A(+1) = At и ожидание формируется в период времени t. Легко
доказать, что (15.5) является решением (15.4) посредством подста-
новки первого из этих уравнений во второе.9 Первое слагаемое урав-
нения (15.5) называется формулой «дивиденд — курс акций» и по-
казывает, что текущий курс акций представляет собой дисконтиро-
ванную ценность будущих дивидендов. Эти дивиденды являются
фундаментальными факторами, управляющими курсами акций. Однако
второе слагаемое этого уравнения, которое называется пузырем, не
связано с фундаментальными факторами и является важным, если
агенты думают, что оно действительно важно.
Если At — константа, равная А, то курс акций будет расти тем-
пом А(1/5) даже при постоянных дивидендах. Это чистый прирост
ценности капитала, никак не связанный с фундаментальными факто-
рами. Существует бесконечное количество таких траекторий, по од-
ной на каждое значение А. Если каждый полагает, что курсы акций
будут расти некоторым одинаковым темпом, не связанным с фунда-
ментальными факторами, то курсы вырастут именно настолько; они
будут расти благодаря спекуляции, и такие ожидания будут оправды-
ваться. В представленном случае будут иметь место «спекулятивные
пузыри, соответствующие ожиданиям». Если описание процесса яв-
ляется правильным, то в определении курсов акций какую-то роль
играют психологические факторы.
Не существует естественного условия трансверсальности, которое
позволило бы нам определить, чему равно Аг Чтобы устранить спеку-
лятивные пузыри, нам нужно ввести такое условие трансверсально-
сти, согласно которому qt конечно или же At - 0. Принятие такой
предпосылки нельзя обосновать экономической интуицией, а «апел-
ляция» к сверхрациональности — в соответствии с которой каждый
агент допускает, что все остальные предполагают отсутствие пузырей,
в результате чего qt всегда принимает конечные значения, — является
неубедительной. Диба и Гроссман (Diba, Grossman, 1985) доказывают,
9 Можно было бы предположить, что способом решения (15.4) является
«обратная подстановка» за счет введения лагов в (15.4) и подстановки вме-
сто qt_1 и т. д. лаговых значений. Однако это способ необоснован, поскольку
дает решение для qt из выражения . Но так как 8 < 1, такое
суммирование не является сходящимся.
Новые разработки в денежной теории
363
что, поскольку цены активов не могут быть меньше нуля, спекулятив-
ные пузыри никогда не «раздуваются» в сторону падения этих цен.
Далее они доказывают, что такие пузыри не могут «раздуваться» так-
же и в сторону роста цен, так как ожидаемое значение шума, порож-
дающее «пузырь», должно быть равно нулю.
В экономической истории имело место несколько очевидных
спекулятивных пузырей: в качестве примера можно привести пузы-
ри, связанные с компанией Южных Морей, или пузырь, связанный с
тюльпаноманией в Голландии (Garber, 1989). В этих случаях пузыри
в конечном счете «лопались», и курсы акций никогда не росли тем-
пом, соответствующим детерминистичной модели пузыря. Модель,
предложенная Бланшаром (Blanchard, 1979), описывает «лопающий-
ся» пузырь со следующей структурой:
. А,/л с вероятностью л, ,,,
"t + i “л 1 (15.о)
0 с вероятностью 1-я.
Такая структура удовлетворяет условию Е(А(+1) = А( и, таким обра-
зом, представляет собой решение уравнения (15.4). Пузырь харак-
теризуется ненулевой вероятностью того, что он «лопнет» в любой
момент времени; и после того, как это произойдет, он не сможет вновь
«раздуться», поскольку все будущие значения А, равны нулю. Однако
существует вероятность л, с которой описываемый пузырь не «лоп-
нет» и будет продолжать «раздуваться».
Существование спекулятивных пузырей инициировало дискус-
сии, которые охватили и другие области, например движение валют-
ных курсов (см. обзорную работу Макдональда и Тейлора (MacDonald,
Taylor, 1989). Исходный аргумент, согласно которому спекуляция и
психологические факторы определяют курсы акций в коротком пе-
риоде, можно найти еще у Кейнса (Keynes, 1936); вышеописанные
формулировки приводят к выводу, что рациональные пузыри могут
существовать.10 Неудивительно, что экономисты, трактующие рыноч-
ные силы и фундаментальные факторы в качестве основных детерми-
нантов динамики курса акций, стремятся ниспровергнуть идею о на-
личии спекулятивных пузырей. В работе Гарбера (Garber, 1989) со-
держатся анализ и новая интерпретация тюльпаномании. Хэмилтон
(Hamilton, 1986) приводит несколько примеров того, как экономет-
рист мог бы прийти к ошибочному заключению о существовании
спекулятивных пузырей в такой ситуации, когда он был бы не осве-
10 Тироль (Tirole, 1985) показывает, что любая экономика, описываемая
моделью перекрывающихся поколений и характеризующаяся наличием
пузырей, должна быть неэффективной по Парето, поскольку рост значения А
увеличивает прирост ценности капитала. Поскольку нет верхнего предела
роста А, то нет предела и увеличению ценности капитала, и аллокацию в
любой такой экономике можно улучшить увеличением «пузыря».
364
Рональд Макдональд и Росс Милберн
домлен об изменении ожиданий, касающихся фундаментальных фак-
торов. Например, предположим, что существуют ожидания, согласно
которым через десять периодов валовые дивиденды увеличатся до
нового перманентного уровня (или то же самое случится с чистыми
дивидендами вследствие какого-либо перманентного изменения нало-
гов). Тогда в текущем периоде курсы акций начали бы расти на
величину, равную повышению дисконтированной ценности будущих
дивидендов, и этот рост имел бы место даже в том случае, если бы не
было пузырей, причем данный рост продолжался бы до десятого пе-
риода. Эконометрист же наблюдал бы только повышение курса акций
при отсутствии изменений текущих дивидендов (в том случае, есте-
ственно, если бы его анализ исключал будущие изменения фундамен-
тальных факторов) и поэтому обнаружил бы существование пузырей
там, где их нет (описанная ситуация похожа на так называемый
«эффект песо», который часто используется для объяснения нередко
обнаруживаемой неэффективности форвардных валютных рынков).11
15.3. Банковское дело и финансовое посредничество
Издавна существует убеждение, что контроль над денежной мас-
сой необходим для контроля за уровнем цен. Это наиболее легко
увидеть, записав простую классическую макромодель (с фиксирован-
ным запасом капитала) следующим образом:
nd(w) = ns(w) = п; (15.7)
У = (15.8)
у = с(у) + 1(1 - ле) + я; (15.9)
~ = L(im,i,y). (15.10)
Уравнение (15.7) обозначает равновесие на рынке труда, при
котором реальная заработная плата w уравнивает спрос на труд nd и
предложение труда ns. Равновесный уровень занятости равен п. Уро-
вень выпуска задается уравнением (15.8). Уравнение (15.9) представ-
ляет собой описание равновесия на рынке благ, при котором выпуск
равен совокупному спросу. Последний является функцией таких
аргументов, как потребление с, инвестиции I и государственные рас-
ходы g. Потребление, в свою очередь, представляет собой функцию
дохода, а инвестиции — функцию реальной процентной ставки, вы-
ражаемой как разность между номинальной ставкой и ожидаемым
темпом инфляции (принимаемой нами в качестве заданной величи-
11 Эффект песо был впервые описан Крэскером (Krasker, 1982).
Новые разработки в денежной теории
365
ны). Наконец, уравнение (15.10) описывает равновесие на финансо-
вых рынках, при котором реальный спрос на деньги L равен реаль-
ному предложению денег. Реальный спрос на деньги является функ-
цией ставки процента по деньгам 1т, ставки процента по всем осталь-
ным активам, вместе взятым (облигациям) и дохода.
Рекурсивная природа уравнений (15.7)-(15.10) означает, что w и
п определяются на рынке труда, у определяется уравнением (15.8),
а реальная процентная ставка — уравнением (15.9). При заданном
7te последнее уравнение определяет i. Таким образом, чтобы устано-
вить контроль над Р, правительство должно зафиксировать номиналь-
ную процентную ставку, ставку процента на рынке денег и денежную
массу. Признание данного аспекта восходит по крайней мере к рабо-
те Патинкина (Patinkin, 1965). Большинство правительств не платит
процентов по бумажным деньгам, и до недавнего времени была за-
прещена выплата процентов по вкладам до востребования; таким
образом, 1т = 0.
Для того чтобы контролировать денежную массу, центральному
банку необходимо контролировать объем кредита, создаваемого бан-
ковской системой. Если взять агрегированный баланс всей систе-
мы коммерческих банков, то пассивы, состоящие из вкладов D,
должны быть равны активам, к которым относятся резервы R и
банковские ссуды государственному и частному секторам; эти ссуды
называют внутренним кредитом (DC). Баланс центрального банка
дает нам равенство денежной базы Н сумме банковских резервов и
наличности С. Стандартное определение денежной массы таково:
М = С + D. Из вышеописанных балансовых тождеств следует, что
М = Н + DC. Таким образом, в целях контроля над М централь-
ный банк должен помимо денежной базы контролировать объем
создаваемого кредита.
Для ограничения сумм предоставляемых кредитов большинство
центральных банков применяло три вида регулирующих предписа-
ний. Во-первых, минимальные резервные требования ограничивали
сумму средств, которую банки могли ссудить. Во-вторых, часто вводи-
лись «потолки» процентных ставок: например, (уже упомянутый)
запрет на выплату процентов по вкладам до востребования и установ-
ление верхнего предела процентных ставок по закладным. В-третьих,
практиковалось непосредственное введение портфельных ограничений
и количественных ориентиров. Некоторые из этих ограничений вво-
дились также по соображениям благоразумия.
Фридмен (Friedman, 1960) выступал в поддержку интервенций
на кредитных рынках, чтобы контролировать М и обеспечивать ста-
бильность уровня цен. Новый подход подвергает сомнению надоб-
ность в таких интервенциях. Согласно этому «неочикагскому» подхо-
ду, регулирующие предписания и интервенции на финансовых рын-
ках приводят к уменьшению благосостояния, как и подобные действия
366
Рональд Макдональд и Росс Милберн
на других рынках. Сторонники данного подхода выступают за не-
ограниченное финансовое посредничество. Среди них ведущую роль
играют Блэк (Black, 1970) и Фама (Fama, 1980, 1983). Фама доказы-
вает, что для обеспечения контроля над уровнем цен не нужны огра-
ничения финансового посредничества; вполне достаточно контроля за
денежной базой или за наличностью. Он отмечает, что уравнение
(15.10) можно было бы вполне отнести к наличности, поскольку стан-
дартное определение М не является чем-то неприкосновенным при
условии, что четко определен спрос на наличность. При таком сцена-
рии нам не нужны обязательные резервные или портфельные ограни-
чения, порождающие искажения аллокации ресурсов.
Философия нерегулируемой банковской системы прямо проти-
воположна количественной теории денег (если только деньги не
определены как денежная база), и данное обстоятельство было под-
черкнуто Сарджентом и Уоллесом (Sargent, Wallace, 1982). Они
интерпретируют ограничения, применяемые в целях контроля за
денежной массой, как интервенции, предназначенные для того, что-
бы посредством установления минимальной деноминации облига-
ций отбить стимулы у некоторых агентов торговать ценными бума-
гами. Далее они определяют экономику, свободную от таких огра-
ничений, как экономику laissez-faire, или как равновесие «реальных
векселей». Подобную интерпретацию отвергает Лейдлер (Laidler,
1984а). Неудивительно, что равновесие laissez-faire или равновесие
в условиях неограниченного посредничества является оптимальным
по Парето, тогда как равновесие при ограничениях посредничества
не представляет собой Парето-оптимального состояния, поскольку
во втором случае часть агентов не может принять участия в процес-
се посредничества.
Вышерассмотренных аспектов касается вопрос о том, почему
экономические агенты держат у себя бумажные деньги. Уоллес
(Wallace, 1980) отстаивает теорию спроса на деньги, основанную на
правовых ограничениях: центральные банки искусственно создают
спрос на деньги (неразменную на драгоценный металл бумажную
наличность), заставляя коммерческие банки держать резервы в Цен-
тробанке в форме наличности, а также не допуская создания част-
ных денег и эмитируя облигации крупных деноминаций. Если бы
приносящие процент государственные облигации выпускались лю-
бых деноминаций, и не было бы обязательных требований к ком-
мерческим банкам держать резервы в виде наличности, то никто
не стал бы держать неразменные бумажные деньги. Таким образом,
как резервные требования, так и неделимость облигаций необходи-
мы для порождения спроса на деньги.
Возникающая здесь трудность состоит в вычислении процентов в
случае использования облигаций мелких деноминаций в качестве
средства обмена. Также непонятно, как в таких условиях частные
Новые разработки в денежной теории
367
наличные деньги могут приносить процент.12 Макинен и Вудворд
(Makinen, Woodward, 1986) и Уайт (White, 1987) приводят историче-
ские примеры, не подтверждающие тезис Уоллеса. В случае, рассмат-
риваемом в первой из работ, наличность была предпочтена принося-
щим процент облигациям небольшой деноминации, а в случае, опи-
санном во второй работе, не существовало обязательных резервных
требований или запрета на создание частных денег, хотя не принося-
щие процента банкноты обращались как деньги.
Харпер (Нагрет, 1988) отмечает, что для того, чтобы наличность
не существовала при отсутствии ограничений, названных Уоллесом,
должен иметь место некий тип системы электронных платежей. Если
бы каждый агент имел счет, с которого (или на который) можно было
бы мгновенно сделать перевод, то такие вклады приносили бы про-
центы, которые можно было бы начислять, скажем, на секунду, и не
было бы надобности в наличности. Если бы не было наличности, как
бы тогда определялись цены? Все цены имели бы котировки в некой
единице измерения. Фама (Fama, 1980) предлагает в качестве такой
единицы говядину или нефть. Холл (Hall, 1982), а также Гринфельд
и Йигер (Greenfield, Yeager, 1983) выдвигают следующую точку зре-
ния: если необходимо нечто, чья ценность стабильна относительно
большинства товаров, тогда почему не использовать среднюю взве-
шенную, как поступают при расчете текущего индекса цен? Дело в
том, что, если спрос на наличные деньги не предъявляется, нам не
нужно выражать цены благ в денежных единицах. Конечно, утверж-
дения, сделанные этими авторами, носят чисто академический харак-
тер, если существуют причины, по которым «чистый вариант» систе-
мы электронного перевода платежей связан с большими издержками,
чем существующее институциональное устройство, в рамках которого
спрос на деньги все-таки предъявляется. А если спрос на деньги есть,
то они должны иметь цену относительно благ.
Другая проблема, связанная с вышерассмотренными, касается
причин существования финансового посредничества в целом и спе-
циализированных финансовых учреждений (банков и других аген-
тов) в частности. Почему заимствование и кредитование не осуще-
ствляются прямо между индивидами? Неудивительно, что двумя
причинами, выдвигаемыми в моделях для ответа на этот вопрос,
являются асимметричная (или неполная) информация и экономия
от масштаба при сборе информации и проведении наблюдения за
заемщиками. Уильямсон (Williamson, 1986, 1987b) использует идею
пространственного размещения хозяйственных агентов для объяс-
нения того, почему агенты должны иметь достаточную информацию
друг о друге при заключении договора о выдаче прямых ссуд;
12 В защиту частных денег выступали Хайек (Hayek, 1976) и Кинг
(King, 1983).
368
Рональд Макдональд и Росс Милберн
поскольку мониторинг поведения заемщика связан с большими
издержками, будут привлекаться специалисты, использующие пре-
имущества экономии от масштаба при сборе информации. Таунсенд
(Townsend, 1979), Д. Даймонд (D. Diamond, 1984), а также Гэйл и
Хеллвиг (Gale, Hellwig, 1985) рассматривают типы контрактов, кото-
рые заключались бы между финансовым посредником и заемщи-
ком тогда, когда такой посредник не мог бы непосредственно на-
блюдать за деятельностью заемщика. Всегда, когда посредник при-
нимает решение не проводить мониторинга поведения заемщика,
величина процентных платежей должна оставаться той же самой,
иначе у заемщика появятся стимулы лгать о своем финансовом
положении. Стиглиц и Вайс (Stiglitz, Weiss, 1981) показывают, что
банки могут осуществлять количественное, а не ценовое рациониро-
вание ссуд, поскольку повышенная процентная ставка может по-
буждать к более рискованному поведению заемщиков, могущему
неблагоприятно влиять на эти банки.
15.4. Последовательность денежной политики
во времени и доверие к ней
В этом разделе мы рассмотрим теорию денежной политики.13
Хотя этот раздел макроэкономики имеет довольно длительную исто-
рию развития, он стал особенно актуальным примерно в течение по-
следних десяти лет. Частично, если не полностью, эта актуальность
была вызвана тем, что правительства ряда стран-членов ОЭСР взяли
на себя обязательство выполнять правила обеспечения заранее объяв-
ленных темпов роста различных денежных агрегатов.14 Такое обяза-
тельство поддерживать по сути фиксированные темпы роста денеж-
ной массы резко контрастирует с дискреционной денежной полити-
кой, которую проводило большинство правительств в течение большей
части послевоенного периода.
Концепцию непоследовательности политики во времени можно
проиллюстрировать на следующем примере. Рассмотрим правитель-
ство, которое объявляет темпы роста денежной массы для ряда буду-
щих периодов. Это позволяет частным агентам формировать прогно-
зы инфляции. В какой-либо более поздний момент времени, скажем
во время подготовки к выборам, правительству обычно выгодно отка-
заться от заранее объявленного темпа роста денежной массы (т. е.
13 Полезные обзоры этой темы содержатся в следующих работах:
Cukierman, 1985; Honkapohja, 1985; Fischer, 1986; Rogoff, 1987; Blackburn
and Christensen, 1989.
14 Часто таргетируются и переменные, характеризующие фискальную
политику, например отношение государственного долга к ВВП.
Новые разработки в денежной теории
369
действовать непоследовательно во времени). Дело в том, что, неожи-
данно повысив темпы роста денежной массы в соответствии с обыч-
ной кривой Филлипса,15 можно добиться увеличения совокупного
выпуска; более высокие темпы инфляции настанут лишь позднее (хо-
чется надеяться, после выборов). Если население осознает, что у пра-
вительственных органов есть стимулы отклоняться от объявленной
ранее политики, то оно может не поверить в такую политику с самого
начала. Таким образом, у правительства могут возникнуть проблемы
с доверием. Недостаток доверия представляет собой серьезную про-
блему: например, он мешает правительству проводить антиинфляци-
онную политику (так как если люди не поверят в объявленное сжатие
денежной массы, они не станут проявлять сдержанность в требовани-
ях большей заработной платы). В общем, недостаток доверия будет
приводить к неоптимальным по Парето результатам.
Рассмотренная выше стратегическая взаимозависимость означает,
что для анализа последовательности политики пригоден инструмен-
тарий теории игр,16 и такой подход действительно является распро-
страненным. Денежные власти в таких моделях обычно играют роль
лидера, за которым следует репрезентативный агент. Авторы таких
моделей пытаются решить два основных вопроса: насколько серьез-
на проблема последовательности политики и как эту проблему можно
решить при отсутствии заранее взятых твердых обязательств?
Сейчас мы обратимся к простому примеру проблемы последова-
тельности во времени денежной политики, который должен проил-
люстрировать некоторые из вопросов, поднятых выше, а также те
вопросы, которые прежде не затрагивались. Как мы упомянули выше,
в игре, связанной с последовательностью политики во времени, уча-
ствуют две группы игроков: «централизованный» субъект политики
и «частный сектор». Последний состоит из рационально смотрящих
в будущее атомистических единиц, каждая из которых по отдельно-
сти не способна повлиять на действия других единиц и принимает
как заданную деятельность всех остальных частных агентов и субъекта
политики. В литературе по данной проблеме используются версии
15 Игровая монетарная модель кривой Филлипса, рассмотренная в этом
разделе, была предложена Кидлендом и Прескоттом (Kydland, Prescott, 1977),
и расширена, в частности, в работах Бэрроу и Гордона (Barro, Gordon, 1983),
Бэкаса и Дрифилла (Backus, Driffill, 1985а, b), Канцонери (Canzoneri, 1985),
Рогоффа (Rogoff, 1985).
16 В работах, посвященных последовательности политики во време-
ни, в значительной степени использовался аналитический инструмента-
рий теории игр. Насколько это возможно (но с учетом ограниченности объ-
ема статьи), мы попытались минимизировать использование терминологии
из теории игр. Обсуждение этой терминологии см.: Blackburn, Christensen,
1989.
370
Рональд Макдональд и Росс Милберн
модели, впервые предложенной Кидлендом и Прескоттом (Kydland,
Prescott, 1977). В этой модели предполагается, что субъект политики
имеет четко определенную функцию полезности, задаваемую следу-
ющим образом:
и, = /(П - ft) + g(yt - у) , /'(.), g'(-) |0 при (•) |0,
Г(.),Н-)<0. (15.11)
При этом допускается, что выпуск характеризуется функцией пред-
ложения, учитывающей эффект сюрприза:
у = kyn, k > 1, (15.12)
yt = Уп + а(П( - П^), а > 0 ,
где П( — фактический темп инфляции (считается, что этот показа-
тель является контролируемой переменной для денежных властей),
П* — темп инфляции, ожидаемый частным сектором, yt— совокуп-
ный выпуск, уп — естественный темп роста выпуска (предполага-
ющийся экзогенным), а диакритический знак * над переменной ука-
зывает на ее значение, желаемое субъектом политики. Частные про-
изводные (обозначенные соответствующими знаками) означают, что
денежные власти несут растущие издержки в случае отклонения фак-
тической инфляции от ее целевого значения; отклонение фактиче-
ского выпуска от желаемого значения приносит им антиполезность.
Критически важным является то обстоятельство, что субъект полити-
ки рассматривает естественный уровень выпуска (безработицы) как
слишком низкий (высокий) вследствие различных искажений на
рынке труда17 и пытается увеличить (уменьшить) его, используя соот-
ношения компромиссного выбора, описываемые в уравнениях (15.12).
Выпуск может превысить свой естественный уровень в случае не-
ожиданной инфляции. Данный аспект отражен тем фактом, что в
отношении, связывающем у и уп, k > 1.
А теперь рассмотрим денежную политику, осуществляемую в виде
дискреционных решений или фиксированных правил, в контексте
приведенной выше системы из двух уравнений. Мы допускаем, что
агенты полностью рациональны (т. е. они основывают свои ожидания
на имеющейся доступной информации) и каждый из них знает цели
и ограничения всех остальных агентов, а неопределенность отсутству-
ет. Если субъект политики взял ранее обязательство придерживаться
определенного правила денежной политики (и, следовательно, под-
держивать определенный темп инфляции), то для рациональных аген-
тов Пе = П, и выпуск будет находиться на естественном уровне. Без
17 Например, трансферты, деятельность профсоюзов и законодательно
установленная минимальная ставка заработной платы.
Новые разработки в денежной теории
371
принятия такого обязательства субъект политики имеет свободу дей-
ствий («дискреционную власть») при попытках максимизировать свою
полезность (15.11) при условии ограничения (15.12): он будет ста-
раться поднять выпуск выше естественного уровня посредством пре-
поднесения «инфляционного сюрприза». Но поскольку частный сектор
знает цели властей и ограничения, с которыми они сталкиваются, он
будет опять следовать равенству Пе = П и выпуск снова будет совпа-
дать со своим естественным уровнем. Таким образом, при дискреци-
онном сценарии мы имеем более высокий темп инфляции, чем при
следовании денежных властей фиксированному правилу, но уровень
выпуска является одним и тем же в обоих случаях. Это пример
последовательности политики, поскольку хотя равенство Пе = П оп-
тимально ex ante, оно не является таковым ex post и поэтому не
будет соблюдаться, если субъект политики имеет свободу действий.
Например, предположим, что денежные власти объявили об установ-
лении целевого темпа инфляции Пр Эта политика сама по себе не
будет вызывать доверия, поскольку после того, как ожидания сфор-
мированы, у властей возникнут стимулы изменить своим обещани-
ям. Так как это понятно частному сектору, то он не поверит первона-
чально сделанному объявлению.
Экономисты предлагали много решений проблемы непоследова-
тельности политики во времени. Возможно, наиболее простое реше-
ние состоит в изменении законодательства, в рамках которого субъект
политики осуществляет свою деятельность. Это изменение должно
быть таким, чтобы у такого лица «руки были связаны» и он не мог
бы «давать себе волю» и проводить проинфляционную политику.18
Хотя такой подход может быть очень хорошим в ситуации, когда
будущее известно с определенностью, существование некоторых форм
неопределенности (см. ниже) может сделать желательной некоторую
свободу действий властей при использовании инструментов денеж-
ной политики. Альтернативный способ ограничения возможностей
субъекта денежной политики мог бы заключаться в том, чтобы зас-
тавить его принять участие в международной валютной системе, в
рамках которой необходимо подчиняться «денежной дисциплине».
В качестве примеров такой системы можно привести режим фик-
сированных валютных курсов (McKinnon, 1984) или золотой стандарт
(Mundell, 1968). Третье решение указанной проблемы могло бы состо-
ять в обеспечении политической независимости денежных властей и
проведении ими консервативной политики (Rogoff, 1985); к этому
18 На деле это может и не быть таким «драконовским» решением, по-
скольку в стране уже есть законодательство, охватывающее схожие пробле-
мы. В качестве классического примера обычно приводят пример патентного
права, которое защищает стимулы к нововведениям (см. обсуждение данного
аспекта в работе Тейлора (Taylor, 1983)).
372
Рональд Макдональд и Росс Милберн
аспекту мы обратимся ниже, когда станем обсуждать неопределен-
ность. В качестве четвертого решения предлагалось следующее: пра-
вительство, находящееся у власти (предполагается, что его политика
определена заранее), вводит в действие систему стимулов для буду-
щего правительства, побуждающую осуществлять последовательную
политику. Например, в работе Перссона (Persson et al., 1987) доказы-
вается, что будущее правительство должно быть «поставлено» в ситу-
ацию, когда предельные издержки отклонения от проведения после-
довательной политики по меньшей мере равны предельным выго-
дам от такой политики.
Способность частного сектора заставить правительство проводить
последовательную во времени политику можно анализировать при
более реалистичных предпосылках, учитывающих важность репу-
тации. Проблема репутации возникает тогда, когда мы отказываемся
от анализа такой игровой модели денежной политики, которая рас-
сматривалась выше (обычно она называется «одномоментной игрой»,
поскольку игра проводится лишь однажды и на текущее поведение
не влияют прошлые или будущие взаимодействия между игроками),
и начинаем исследовать «повторяющуюся игру», в которой действия
агентов зависят от их прошлого поведения. В таком контексте пра-
вительство, которое в прошлом действовало в соответствии с при-
нятыми на себя обязательствами, может решить обмануть население
посредством преподнесения денежного сюрприза. В период его пре-
поднесения правительство добивается увеличения выпуска (поскольку
П > Пе). Однако его репутация ухудшится и в будущие периоды, по-
скольку частный сектор станет ожидать более высокого (дискре-
ционного) темпа инфляции (согласно допущению).1® Если правитель-
ство не придает большого значения будущему, то, возможно, это яв-
ляется оптимальной политикой. Но дело в том, что в условиях
повторяющейся игры субъект политики должен делать компромисс-
ный выбор между текущим выигрышем от обмана и будущей поте-
рей репутации, которая скажется в виде более высоких инфляцион-
ных ожиданий. В такой ситуации равновесие достигается за счет
факторов репутации, которые проявляются через угрозу наказания
за нечестное поведение.
Анализ проблем репутации может быть более реалистичным и
интересным при включении в него неопределенности. Возможно, один
из самых интересных ее типов возникает тогда, когда частный сектор
находится в состоянии неопределенности по поводу целей субъекта
политики (этот тип называется эндогенной или внутренней (intrinsic)
неопределенностью). Такую неопределенность проанализировали Бэкас
18 Этот пример заимствован из работы Фишера (Fischer, 1986). Допол-
нительный пример содержится в статье Бэрроу и Гордона (Barro, Grossman,
1983).
Новые разработки в денежной теории
373
и Дриффилл (Backus, Driffill, 1985а, b) и вновь рассмотрел Бэрроу
(Вагго, 1986). Эти авторы расширили модель Крепса и Уилсона (Kreps,
Wilson, 1982) и включили в анализ инфляционную репутацию. На-
пример, в работе Бэкаса и Дриффилла (Backus, Driffill, 1985а) в вы-
шерассмотренную модель с повторяющейся игрой было введено двц
возможных типа субъекта денежной политики: «мягкий» и «жест^
кий». «Жесткие» денежные власти всегда стремятся к низкой илй
нулевой инфляции, тогда как «мягкие» власти хотят, чтобы выпуск
превысил равновесный уровень за счет продуцирования неожидан^
ной инфляции. Частные агенты осведомлены о наличии этих альтерг
натив, но им неизвестно, какого типа субъект в данный период про'
водит денежную политику, и поэтому приходится судить об этой4
исходя из динамики инфляции. Если темп инфляции низок, то част'
ный сектор может сделать вывод о «жесткости» денежных властей’
но «мягкие» власти также будут иметь стимул (по крайней мер^
первоначально) осуществлять стратегию низкой инфляции и лиш?’
после того, как будут сформированы инфляционные ожидания П‘ >
преподнести инфляционный сюрприз (ясно, что если бы «мягкие*
власти первоначально не скрыли свои намерения, они оказались б^*1
не в состоянии обмануть население). С помощью некоторых упрощ^1'
ющих предпосылок эти модели иллюстрируют идею, согласно котС5'
рой понимание частными агентами истинных мотивов действий пре^'
вительства может занять некоторое время. Если эти результаты де-*'
стигаются и в более сложных случаях, когда у правительства имеете’®
возможность выбора из нескольких (более двух) типов политики, т°
для динамики выпуска и инфляции большее значение может иметГь
не наличие или отсутствие обязательств правительства осуществляв1’
в будущем определенные мероприятия, а наличие или отсутствие вер ы
людей в выполнение таких обязательств.
Неопределенность, рассмотренная в вышеприведенном анализ е>
относится к эндогенному типу. Многие исследователи в рамках пр 0'
блемы последовательности политики во времени изучали разнообра>3'
ные экзогенные формы неопределенности. Проблема политической11
неопределенности, которая означает неопределенность у одного Z13
сегментов частного сектора относительно результата политически™
выборов, была рассмотрена Алезиной (Alesina, 1985). В его модели,» в
которой две политические партии, не связывающие себя какими-ли*®0
обязательствами, имеют разные инфляционные предпочтения, генер*11’
руется политический деловой цикл. Возможно, более важной фсРР‘
мой неопределенности является та, что проистекает из стохастиЧ16'
ской структуры экономики, Так, в рамках проведенного выше анал)111'
за, предполагалось, что уравнения (15.12) детерминистичны. Если >'*'*
была бы принята более реалистичная предпосылка о стохастичнос{Т®
этих уравнений, то было бы отнюдь не очевидно, что оптимально0®
денежной политикой является та, которая жестко следует фикси]Ро
374
Рональд Макдональд и Росс Милберн
ванному правилу. Например, Рогофф (Rogoff, 1985) в этом контексте
продемонстрировал, что назначение консервативного председателя
Центрального банка может принести выгоды для общества в виде
снижения ожидаемой и фактической инфляции, но за счет роста
издержек в виде неспособности гибко реагировать на экзогенные шоки.
Еще один тип неопределенности имеет место, когда существует ин-
формационная асимметрия и, в частности, когда субъект политики
имеет более полную и(или) лучшую информацию по сравнению с ча-
стным сектором. Например, Канцонери (Canzoneri, 1985) рассматри-
вает модель, в которой функция спроса на деньги является стохасти-
ческой, а субъект политики имеет информацию о соответствующих
возмущениях. Затем частный сектор должен определить, отражает
ли изменение в темпах роста денежной массы реакцию властей на
шок (предполагается, что он рассматривает противодействие таким
шокам как желательное) или же дискреционную денежную полити-
ку. Поэтому строгое следование правилу роста денежной массы не
обязательно означает преданность властей своим обязательствам, так
как они, обладая более полной и(или) лучшей информацией, могут
обманывать население. И наоборот, чрезмерный рост денежной мас-
сы, предназначенный для противодействия последствиям шокового
роста спроса на деньги, может быть неправильно интерпретирован
населением как дискреционное изменение, и поэтому политика, кото-
рая первоначально успешно стабилизировала инфляцию и выпуск,
может привести к ситуации П > Пе, когда выпуск превышает свой
естественный уровень. В такой ситуации решение, связанное с репу-
тацией правительства, может означать установление частным секто-
ром «границ доверия» для темпа инфляции: инфляционные вспыш-
ки, не выходящие за эти границы, отражают реакцию властей на
шоковые изменения спроса на деньги, тогда как темп инфляции, пре-
вышающий указанные границы, интерпретируется как проявление
оппортунизма (Green, Porter, 1984). Канцонери признает, что уверен-
ность периодически может пропадать, и это воспринимается как бо-
лее правдоподобный результат, чем другие типы равновесия, связан-
ные с репутацией правительства (подобно рассматриваемые в работе
Бэрроу и Гордона (Barro, Gordon, 1983)), которые представляются
слишком уж стабильными.
Хотя большинство работ, посвященных последовательности по-
литики во времени, элегантно и поучительно описывают возможные
взаимодействия между правительством и частным сектором, а также
подтверждают изречение: «Нельзя обманывать всех и всегда», здесь
существуют две фундаментальные проблемы, к которым обращаются
достаточно редко. Во-первых, не вполне очевидно, по крайней мере
для большинства стран-членов ОЭСР, что макроэкономическая поли-
тика была проинфляционной в периоды, когда правительства не свя-
зывали себя обязательствами следовать денежному правилу. Для
Новые разработки в денежной теории
375
примера сопоставим низкие темпы инфляции в 1950-1970-е гг. —
в период, когда, по общему мнению, господствовала дискреционная
политика — с относительно более высокими темпами инфляции в
1975-1985 гг. — в период, когда большинство правительств обеспечи-
вало заранее объявленные темпы роста денежной массы. Не очевидно
также, что правительства, которые приняли на себя указанные обяза-
тельства, достигли успехов, описанных в литературе. Но, возможно,
даже более важными являются неудачи большинства авторов упомя-
нутых выше работ, пытавшихся квантифицировать предпосылки о
больших издержках инфляции. Не вполне ясно, как в действительно-
сти воздействует на экономику рост индекса потребительских цен на
несколько дополнительных процентных пунктов. В случае если ос-
новные затраты делаются заранее (как затраты на кожу для произ-
водства обуви), издержки установления новых цен и обеспечения ней-
тральной к инфляции структуры налогов кажутся бесконечно малы-
ми20 по сравнению с издержками в виде снижения выпуска и занятости
в случае несостоятельной макроэкономической политики.
• 15.5. Другие разработки
В предыдущих разделах мы сконцентрировали внимание на основ
ных темах, разрабатываемых новым микроэкономическим подходок
к денежной теории. Хотя эти темы были доминирующими, продол
жались исследования и в рамках агрегатного подхода, и мы закон
чим главу кратким упоминанием о наиболее заметных из этих ис
следований. Одной из проблем было адекватное определение денежны?
агрегатов. Барнетт (Barnett, 1980) предложил альтернативу простому
суммированию денежных агрегатов. Барнеттовские агрегаты вычис
ляются путем взвешивания каждого типа депозитов по разности межд]
процентной ставкой по этому депозиту и рыночной ставкой, опреде
ляемой согласно теории индексов Дивизиа. Ожидалось, что эти агре
гаты по сравнению с традиционными будут вести себя лучше в смысл'
стабильности спроса на деньги во время финансовых инноваций I
дерегулирования. Однако выяснилось, что это не так: реальность ока
залась гораздо более сложной (Barnett et al., 1983). Одно из возмож
ных объяснений было предложено Милбёрном (Milbourne, 1986). По
видимому, исследования в этой области прекратились.
Другие исследования, направленные на объяснение нестабильна
сти спроса на деньги, проводились в рамках подхода под называние?
«теория буферного запаса», отстаивающего идею важности неравнс
весных явлений на денежном рынке. В частности, предполагаете!
20 Существуют также перераспределительные издержки инфляции, и
их можно устранить через индексацию.
376
Рональд Макдональд и Росс Милберн
что спрос на деньги не может быстро адаптироваться к их предложе-
нию. В работе Лейдлера (Laidler, 1984b) содержится изложение этого
подхода, хотя в его рамках существует несколько направлений.21 Та-
кие модели подверглись критике ввиду их эмпирических опроверже-
ний и отсутствия релевантности.22 Нестабильность спроса на деньги
также объяснялась феноменом валютного замещения (см., в частно-
сти, Vaubel, 1980; Girton, Roper, 1981; McKinnon, 1982). Здесь имеется
в виду, что при системе плавающих валютных курсов агенты имеют
стимулы — выражаемые в виде показателей соотношения риска и
доходности — держать некоторую корзину валют и осуществлять за-
мещение одних валют другими. Такое замещение выдвигалось в ка-
честве причины провала политики таргетирования темпов роста де-
нежной массы в некоторых странах-членах ОЭСР (Vaubel, 1980) и
неудачных попыток регулирования национальных темпов инфляции
посредством роста национальной денежной массы (McKinnon, 1982).
Однако если принять во внимание, что в большинстве стран-членов
ОЭСР в руках иностранных резидентов находилась лишь малая часть
общей денежной массы, то важность валютного замещения в данном
случае представляется маловероятной.
Неблагоприятная динамика и непредсказуемость денежных агре-
гатов привели к выдвижению на передний план вопроса о том, явля-
ется ли таргетирование темпов роста денежной массы полезным
инструментом денежной политики. Обзор дискуссии содержится в
работе Мак-Каллума (McCallum, 1985). В более общем плане недоста-
точная реакция экономики на монетарное таргетирование привела к
тому, что был поднят вопрос об оправданности политики таргетирова-
ния каких-либо промежуточных переменных (например, политики кор-
ректировки процентных ставок для фиксирования такой промежу-
точной переменной, как денежная масса, которая, как считается, вли-
яет на номинальный доход). Появляются некоторые высказывания в
поддержку прямого таргетирования. Обсуждение таких подходов мож-
но найти в работе Тейлора (Taylor, 1985).
Наконец, некоторые исследователи попытались смоделировать
способы, посредством которых изменения номинальной денежной
массы могут вызвать изменения реального выпуска. Хороший обзор
этих попыток сделан Бланшаром (Blanchard, 1987), к тому же еще
две идеи заслуживают краткого упоминания. Одна из них содержится
в работах, посвященных рационированию кредита, например в работе
Стиглица и Вайса (Stiglitz, Weiss, 1981), в которых используется пред-
посылка асимметричной информации с целью объясненить, почему
объем кредита реагирует на незначительные изменения соответству-
ющих процентных ставок. Макроэкономический вывод из этого со-
21 См. обзор этих направлений в работе: Milbourne, 1988b.
22 См. Milbourne, 1988а, где дается обзор такой критики.
Новые разработки в денежной теории
377
стоит в том, что изменения объемов кредита могут воздействовать на
экономическую активность прямо, а не через процентные ставки.
Вторая идея заключается в том, что несовершенная конкуренция на
рынках благ порождает ненейтральную реакцию экономики на изме-
нения денежной массы. В соответствии с этой аргументацией издерж-
ки корректировки цен («издержки меню») могут порождать жест-
кость номинальных цен (Mankiw, 1985).
15.6. Обобщение и выводы
В этой главе мы обсудили некоторые наиболее заметные темы,
разрабатывавшиеся в денежной теории в течение последних десяти
лет. В центре внимания большинства новых исследований в данной
области оказалось использование микроэкономических моделей ре-
презентативного агента для ответа на макроэкономические вопросы.
В разделе 15.2 мы рассматривали модель репрезентативного агента в
некоторых деталях и выясняли, почему в подобных моделях возника-
ют деньги. Стандартный способ введения денег в такие модели пред-
полагает использование концепции «перекрывающихся поколений» и
постулирование того факта, что деньги приносят полезность непо-
средственно. Таким способом деньги экзогенно включаются в мо-
дель, как это делается в модели предоплаты (cash-in-advance). При
исследовании некоторых вопросов это не имеет значения, но данный
подход не позволяет ответить на фундаментальный вопрос о причине
существования денег.
Возможно, одной из наиболее интересных характеристик послед-
них разработок является смещение акцентов исследований, в кото-
рых упор делается не на то, как влияют изменения денежной массы
на выпуск, а на то, как они влияют на цены активов. Одна из особен-
но интересных разработок состояла в учете нефундаменталъных (non-
fundamental) факторов при определении цен активов. Такие эффекты
пузырей и лежащая в их основе психология рынка, как теперь счи-
тается, сыграли решающую роль в недавнем поведении цен активов.
По существу, этот подход обеспечивает отличное теоретическое обос-
нование метафоры конкурса красоты, предложенной Кейнсом. Серь-
езной проблемой здесь является то, насколько удовлетворительны
существующие сегодня модели пузырей.
Теоретические разработки, которые наиболее сильно повлияли
на экономическую политику, касаются аспектов регулирования фи-
нансовых рынков и интервенций на них. Сторонники неочикагского
подхода считают, что такие интервенции приводят к уменьшению
благосостояния, и выступают за неограниченную свободу финансового
посредничества; дерегулирование этой сферы представляет собой
долговременную тенденцию политики во многих странах. Мы прихо-
378
Рональд Макдональд и Росс Милберн
дим к этому выводу, как только отделяем функцию банков по управ-
лению средством обращения (бумажными деньгами) от их функции
финансовых посредников.
В разделе 15.4 мы изучали в некоторых деталях значение про-
блемы последовательности политики во времени для осуществления
успешной политики дезинфляции. Нами были рассмотрены различ-
ные решения проблемы непоследовательности политики во времени,
и мы завершили этот раздел, выразив сомнение в их практической
важности.
В течение 1940-1960-х гг. нововведения в области денежной
теории были связаны главным образом с улучшениями и расширени-
ями существующей и общепринятой теории. Публикации 1970-х гг.
отразили определенный интерес к микроосновам денег, но в первую
очередь запомнились включением в денежную теорию рациональных
ожиданий и последствиями такого включения. На макроэкономиче-
ском уровне был сделан вывод о том, что деньги являются движущей
силой экономических циклов, что совершенно «затмило» проблемы
микроэкономических основ денег. Публикации же 1980-х гг. свиде-
тельствовали об обратном: микроэкономические основы денег стали
важными, а макроэкономический подход к деньгам и к контролю
над ними стал сходить на нет. В результате в этом десятилетии стало
изучаться гораздо больше феноменов и проблем, чем в любом из
предшествующих. За это мы должны быть навеки благодарны.
Литература
Alesina A. Rules, discretion and reputation in a two-party system / Unpublished
manuscript. Harvard University, 1985.
Arrow K. The role of securities in the optimal allocation of risk bearing // Review
of Economic Studies. 1964. Vol. 31. P. 91-96.
Backus D., Driffill J. Inflation and reputation//American Economic Review.
1985a. Vol. 75 (3). P. 530-538.
Backus D., Driffill J. Rational expectations and policy credibility following a
change in regime // Review of Economic Studies. 1985b. Vol. 52 (2). P. 211-
222.
Barnett W. A. Economic monetary aggregates: an application of index number
and aggregation theory //Journal of Econometrics. 1980. Vol. 14. P. 11-
48.
Barnett W. A., Offenbacher E. K., Spindt P. A. The new Divisia monetary
aggregates //Journal of Political Economy. 1983. Vol. 92. P. 1049-1085.
Barro R. J. Reputation in a model of monetary policy with incomplete informati-
on//Journal of Monetary Economics. 1986. Vol. 17 (I). P. 3-20.
Barro R. J., Fischer S. Recent developments in monetary theory // Journal of
Monetary Economics. 1976. Vol. 2. P. 133-167.
Новые разработки в денежной теории
379
Barro R. J., Gordon D. A positive theory of monetary policy in a natural rate
model //Journal of Political Economy. 1983. Vol. 91 (4). P. 589-610.
Baumol W. The transaction demand for cash; an inventory theoretic appro-
ach// Quarterly Journal of Economics. 1952. Vol. 66. P. 545-556.
Black F. Banking and interest rates in a world without money: the effects of
uncontrolled banking // Journal of Bank Research Autumn. 1970. Vol. (I).
P. 8-28.
Blackburn K., Christensen M. Monetary policy and policy credibility // Journal
of Economic Literature. 1989. Vol. 27. P. 1-45.
Blanchard O. J. Speculative bubbles, crashes find rational expectations // Eco-
nomics Letters. 1979. Vol. 3. P. 387-389.
Blanchard O. J. Why does money affect output? A survey // Working paper
453. Massachusetts Institute of Technology, 1987.
Campbell J. Y. Bond and stock returns in a simple exchange model // Quarterly
Journal of Economics. 1986. Vol. 101. P. 785-803.
Canzonerl M. Monetary policy games and the role of private information //
American Economic Review. 1985. Vol. 75 (5). P. 1056-1070.
Glower R. A reconsideration of the microfoundations of monetary theory //
Western Economic Journal. 1967. Vol. 6. P. 1-8.
Cox J. C., Ingersoll J. E„ Ross S. A. A theory of the term structure of interest
rates // Econometrica. 1985. Vol. 53. P. 385-408.
Cukierman A. Central bank behavior and credibility — some recent develop-
ments // Mimeo, Federal Reserve Bank of St Louis. 1985.
Debreu G. The Theory of Value. New Haven, CT : Cowles Foundation Monograph,
1959.
Diamond D. Financial intermediation and delegated monitoring // Review of
Economic Studies. 1984. Vol. 51. P. 393-414.
Diamond P. Money in search equilibrium // Econometrica. 1984. Vol. 52. P. 1-20.
Diba В. T., Grossman H. I. Rational bubbles in stock prices? // Working paper
1779, National Bureau of Economic Research, 1985.
Fama E. F. Banking in the theory of finance // Journal of Monetary Economics.
1980. Vol. 6. P. 39-57.
Fama E. F. Financial intermediation and price level control // Journal of Monetary
Economics. 1983. Vol. 12. P. 7-28.
Feenstra R. C. Functional equivalence between liquidity costs and the utility of
money//Journal of Monetary Economics. 1986. Vol. 17. P. 271—291.
Fischer S. Capital accumulation on the transition path in a monetary optimizing
model //Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 1433-1439.
Fischer S. Time consistent monetary and fiscal policy: a survey // Mimeo,
Massachusetts Institute of Technology, 1986.
Fischer S. Recent developments in macroeconomics // Economic Journal. 1988.
Vol. 98. P. 294-339.
Friedman M. A Program for Monetary Stability. New York : Fordham University
Press, 1960.
Gale D„ Hellwig M. Incentive-compatible debt contracts: the one period problem //
Reives of Economic Studies, 1985. Vol. 52. P. 647-664.
Garber P. Tulipmania // Journal of Political Economy. 1989. Vol. 97. P. 535-560.
380
Рональд Макдональд и Росс Милберн
Girton L., Roper D. Theory and implications of currency substitution // Journal
of Money, Credit and Banking. 1981. Vol. 13. P. 12-30.
Green E., Porter R. No cooperative collusion under imperfect price information //
Econometrica. 1984. Vol. 52 (I). P. 87-100.
Greenfield R. L., Yeager L. B. A laissez-faire approach to monetary stability //
Journal of Money, Credit and Banking. 1983. Vol. 15. P. 302-315.
Hahn F. On transaction costs, inessential sequence economics, and money //
Review of Economic Studies. 1973. Vol. 40. P. 449-462.
Hall R. E. «Friedman and Schwartz» monetary trends: a neo-Chicagoan view//
Journal of Economic Literature. 1982. Vol. 20. P. 1552-1556.
Hamilton J. D. On testing for self-fulfilling speculative price bubbles // Inter-
national Economic Review. 1986. Vol. 27. P. 545-552.
Harper I. Cashless payments systems and the legal restrictions theory of money //
Discussion paper 211. University of Melbourne, 1988.
Hayek F. The Denationalisation of Money. London : Institute for Economic Affairs,
1976.
Hicks J. R. Value and Capital. Oxford : Clarendon Press, 1938.
Honkapohja S. Expectations and the theory of macroeconomic policy: some recent
developments // European Journal of Political Economy. 1985. Vol. 1.
P.479-483.
Jones R. A. The origin and development of media of exchange//Journal of
Political Economy. 1976. Vol. 84. P. 757-775.
Kareken J. H., Wallace N. (eds). Models of Monetary Economies. Minneapolis,
MN : Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1980.
Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London :
Macmillan, 1936.
King R. G. On the economics of private money // Journal of Monetary Economics.
1983. Vol. 12. P. 127-158.
Kiyotaki N., Wright R. On money as a medium of exchange // Journal of Political
Economy. 1989a. Vol. 97. P. 927-954.
Kiyotaki N., Wright R. A contribution to the pure theory of money // Research
Department Staff Report 123. Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1989b.
Krasker W. The peso problem in testing the efficiency of forward exchange
markets//Journal of Monetary Economics. 1980. Vol. 6. 269-276.
Kreps D„ Wilson R. Reputation and imperfect information // Journal of Economic
Theory. 1982. Vol. 27 (2). P. 253-279.
Kydland F., Prescott E. Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal
plans // Journal of Political Economy. 1977. Vol. 85 (3). P. 473-491.
Laidler D. Misconceptions about the real-bills doctrine: a comment on Sargent
and Wallace // Journal of Political Economy. 1984a. 92: P. 149-155.
Laidler D. The buffer stock notion in economies // Economic Journal (Supplement).
1984b. Vol. 94. P. 17-34.
Lucas R. Equilibrium in a pure currency economy//Economic Inquiry. 1980.
Vol. 18. P. 203-230.
Lucas R., Stokey N. Optimal fiscal and monetary policy in an economy without
capital // Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12 (I). P. 55-93.
Новые разработки в денежной теории
381
Lucas R., Stokey N. Money and interest in a cash-in-advance economy // Econometrica.
1987. Vol. 55. P. 491-514.
McCallum В. T. On consequences and criticisms of monetary targetting // Discussion
paper. Carnegie-Mellon University, 1985.
MacDonald R., Taylor M. Economic analysis of foreign exchange markets: an
expository survey / In R. MacDonald and M. P. Taylor (eds). Exchange
Rates and Open Economy Macroeconomics. Oxford : Basil Blackwell, 1989.
McKinnon R. Currency substitution and instability in the world dollar stan-
dard //American Economic Review, 1982. Vol. 72. P. 329-333.
McKinnon R. An international standard for monetary stabilisation // Policy
Analyses in International Economics, vol. 8. Washington, DC : Institute of
International Economics, 1984.
Makinen С. E., Woodward G. T. Some anecdotal evidence relating to the legal
restrictions theory of money // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94.
P. 260-265.
Mankiw G. Small menu costs and large business cycles: a macroeconomic model of
monopoly // Quarterly Journal of Economics. 1985. Vol. 100. P. 529-539.
Mehra R., Prescott E. The equity premium: a puzzle//Journal of Monetary
Economics. 1985. Vol. 15. P. 145-162.
Milbourne R. D. Financial innovation and the demand for liquid assets // Journal
of Money, Credit and Banking. 1986. Vol. 18. P. 506-511.
Milbourne R. D. Re-examining the buffer-stock model of money // Economic
Journal (Supplement). 1988a. Vol. 97. P. 130-142.
Milbourne R. D. Disequilibrium buffer-stock models: a survey // Journal of
Economic Surveys. 1988b. Vol. 2. P. 187-208.
Mundell R. Towards a better international monetary system / Unpublished
manuscript. University of Chicago, 1968.
Obstfeld M. The capital flows problem revisited // Review of Economic Studies.
1983. Vol. 52. P. 605-624.
Obstfeld M. Multiple stable equilibria in an optimising perfect-foresight model //
Econometrica. 1984. Vol. 52. P. 223-228.
Ostroy J. The informational efficiency of monetary exchange // American Eco-
nomic Review. 1973. Vol. 53. P. 597-610.
Patinkin D. Money, Interest, and Prices. Evanston, IL: Harper & Row, 1965.
Persson M., Persson T„ Svensson L. Time consistency of fiscal and monetary
policy // Econometrica. 1987. Vol. 55 (6). P. 1419-1431.
Poterba J., Rotemberg J. Money in the utility function: an empirical imple-
mentation//Paper presented at 1985. Austin Symposium on Economics,
1987.
Rogoff K. The optimal degree of commitment to an intermediate monetary tar-
get // Quarterly Journal of Economy. 1985. Vol. 100 (4). P. 1169-1189.
Rogoff K. Reputational constraints on monetary policy / In Bubbles and Other
Essays, Amsterdam : North Holland, Carnegie-Rochester Conference Series
on Public Policy. 1987. Vol. 26. P. 141-182.
Samuelson P. An exact consumption-loan model of interest with or without the
social contrivance of money // Journal of Political Economy. 1958. Vol. 66.
P. 467-482.
382
Рональд Макдональд и Росс Милберн
Sargent Т. J., Wallace N. The real-bills doctrine versus the quantity theory:
a reconsideration // Journal of Political Economy. 1982. Vol. 90. P. 1212-
1236.
Starr R. Exchange in barter and monetary economies//Quarterly Journal of
Economics. 1972. Vol. 86. P. 290-302.
Stiglitz J., Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information //
American Economic Review. 1981. Vol. 71. P. 393-410.
Svensson L. E. O. Money and asset prices in a cash-in-advance economy // Journal
of Political Economy. 1985. Vol. 93. P. 919-944.
Taylor J. B. Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy:
comment //Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12 (I). P. 123-125.
Taylor J. B. What would nominal GDP targetting do to the business cycle? / In
K. Brunner and A. Meltzer (eds). Understanding Monetary Regimes,
Amsterdam: North-Holland, Carnegie-Rochester Conference Series on Public
Policy. 1985. Vol. 22.
Tirole J. Asset bubbles and overlapping generations // Econometrica. 1985.
Vol. 53. P. 1071-1100.
Tobin J. The interest-elasticity of transactions demand for cash // Review of
Economics and Statistics. 1956. Vol. 38. P. 241-247.
Tobin J. Discussion of Wallace / In J. H. Kareken and N. Wallace (eds). Models
of Monetary Economics. Minneapolis, MN : Federal Reserve Bank of Min-
neapolis, 1980. P.83-90.
Townsend R. M. Optimal contracts and competitive markets with costly state
verification//Journal of Economic Theory. 1979. Vol. 21. P. 265-293.
Townsend R. M. Models of money with spatially separated agents / In J. H. Ka-
reken and N. Wallace (eds). Models of Monetary Economies. Minneapolis,
MN : Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1980.
Vaubel R. International shifts in the demand for money, their effects on exchange
rates and price levels and their implications for the preannouncements of
monetary expansion // Weltwirtschaftliches Archiv. 1980. Vol. 116. P. 1-44.
Wallace N. The overlapping generations model of fiat money / In J. H. Kareken
and N. Wallace (eds). Models of Monetary Economies. Minneapolis, MN
Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1980. P. 49-82.
Weiss L. The effects of money supply on economic welfare in the steady state //
Econometrica. 1980. Vol. 48. P. 565-578.
White L. H. Accounting for non-interest-bearing currency: a critique of the
legal restrictions theory of money // Journal of Money, Credit and Banking.
1987. Vol. 19. P. 448-456.
Williamson S. Costly monitoring, financial intermediation, and equilibrium credit
rationing//Journal of Monetary Economics. 1986. Vol. 18. P. 159-179.
Williamson S. Transactions costs, inflation, and the variety of intermediation
services // Journal of Money, Credit and Banking. 1987a. Vol. 19. P. 484-
498.
Williamson S. Costly monitoring, loan contracts and equilibrium credit ratio-
ning//Quarterly Journal of Economics. 1987b. Vol. 102. P. 135-146.
• М.1;
16
’•.'К'М?
. J1
ДЭВИД У. ПИРС
ЭКОНОМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
16.1. Исторические предпосылки
Истинные истоки возникновения экономики окружающей сре-
ды как научной дисциплины следует искать в 1960-х гг., в период
первой энвиронменталистской революции. Вероятно, ошибочно отно-
сить дату возникновения этой научной дисциплины к более ранним
временам, поскольку, вообще говоря, современная экономика окружа-
ющей среды в значительной степени использует результаты неокласси-
ческой теории благосостояния, принципы которой были в полной
мере систематизированы только с появлением работ Литтла (Little,
1950) и Де Граафа (De Graaf, 1957). Тем не менее заслуживающие
внимания предшественники все же имелись. Ниже мы обсудим важ-
нейшие результаты, полученные до 1960-х гг.
Экологические границы
экономической деятельности
Идея о том, что естественная среда ставит некую абсолютную
границу, или предел, производственным возможностям экономи-
ческой системы, известна начиная с работы Мальтуса (Malthus,
1798), в то время как пределы, устанавливаемые растущими издерж-
ками по мере использования все более бедных природных ресурсов,
являются краеугольным камнем понимания редкости у Рикардо
(Ricardo, 1817). Понятие «пределов» также представлено в миллев-
ской концепции «стационарного состояния» (stationary state) (Mill,
1857), при котором количество людей (т. е. численность населе-
ния) и объем капитала постоянны. Эта идея «постоянного запаса»
была популяризована в концепции «устойчивого состояния» (steady
state) Дейли (Daly, 1973), что, к сожалению, создало терминологи-
ческую путаницу, поскольку и «стационарное состояние», и «устой-
чивое состояние» уже использовались в экономической теории в
384
Дэвид У. Пирс
других значениях.1 Вера в «пределы» не является обязательной
чертой современной экономики окружающей среды, тем не менее
эта идея стала важной частью аналитического аппарата сегодняш-
ней теории. Нулевой экономический рост — достижение «устой-
чивого» состояния в смысле, принятом Дейли, — тоже не является
обязательной частью экономики окружающей среды. На деле спра-
ведливо будет сказать, что лишь немногие экономисты, занимаю-
щиеся экономикой окружающей среды, исповедуют философию
«устойчивого состояния». Однако дебаты вокруг нулевого роста
были поучительны даже для тех, кто не разделяет негодования по
поводу экономического роста, поскольку дискуссия сфокусировала
внимание на социальных издержках того пути, которым развивает-
ся современная экономика.
Загрязнения как вид внешних эффектов
Влияние загрязнений на Парето-эффективность свободно функ-
ционирующей конкурентной системы было формализовано Пигу при
помощи ставшей уже классической концепции расхождения между
частными и общественными издержками. Загрязнения порождают
внешние эффекты, и цель социальной политики состоит в достиже-
нии общественно оптимального уровня этих эффектов. Сомнительно,
чтобы этот уровень равнялся нулю, пока ожидаемый от загрязнения
вред не покажется в каком-либо смысле катастрофическим (т. е. пока
кривая предельных внешних издержек загрязнения не станет со-
вершенно неэластичной). Утверждение, что оптимальный уровень
загрязнения больше нуля, немедленно создало отчуждение между
экономистами, с одной стороны, биологами и экологами — с другой;
рекомендации последних предполагали устранение загрязнений. В не-
котором смысле эта разница в позициях не так уж велика, как это
1 Классическая теория роста была по существу анализом движения к
неизбежному стационарному состоянию, при котором запасы являются по-
стоянными, и экономический рост, в смысле увеличения реального потребле-
ния, равен нулю. Это относится и к «устойчивому состоянию» в смысле,
принятом Дейли. Устойчивые состояния, понимаемые в этом смысле, из-
вестны и в науках о жизни: это состояния, при которых общее количество
биомассы является постоянным. Путаница возникает из-за того, что термин
«устойчивый рост» или «сбалансированный рост» используется в современ-
ной неоклассической теории роста при описании ситуаций, когда все виды
запасов (капитала, рабочей силы и т. д.) возрастают постоянным темпом,
так что соотношения между этими темпами неизменны. Таким образом, если
рабочая сила растет темпом I, а капитал со скоростью k, то отношение l/k
будет постоянным. (При сбалансированном росте I = k.) Устойчивое состоя-
ние, понимаемое в этом неоклассическом смысле, — не то, что Дейли считал
желательной целью общества.
Экономика окружающей среды
385
может показаться на первый взгляд. Источником загрязнения яв-
ляются сбрасываемые в окружающую среду отходы человеческой
деятельности. Никто не требует полного отказа от подобного сбрасы-
вания. Однако экологи ратуют за установление верхнего предела вы-
бросов, соответствующего способности среды усваивать и безопасно
преобразовывать отходы. Это условие формально эквивалентно устой-
чивому (sustainable) использованию ресурса.
Теория невозобновляемых ресурсов
Основы экономической теории истощимых ресурсов были сфор-
мулированы Грэем (Gray, 1914). Он развил концепцию, которую мы
сегодня называем издержками пользователя (user cost): отказ от
будущего использования, вызванный сегодняшним использованием
невозобновимого ресурса. Издержки использования невозобновимых
ресурсов, следовательно, состоят из издержек их извлечения и издер-
жек пользователя. Анализ Грэя был изящно формализован. Связь с
нормой дисконта была ясно установлена в классической работе Хо-
теллинга (Hotelling, 1931), который показал, что в условиях равнове-
сия рента или роялти (издержки извлечения дополнительной еди-
ницы ресурса) повысятся со временем в процентном отношении,
равном норме дисконта собственника ресурса. Применительно к ги-
потетическому ресурсу, который можно добывать без затрат, «прави-
ло Хотеллинга» гласит, что цена на ресурс будет расти темпом, рав-
ным норме дисконта.2 Это базовое правило остается краеугольным
камнем современной теории оптимального использования ресурсов.
Использование возобновимых ресурсов
Базовый анализ оптимального использования возобновимых ре-
сурсов, таких как рыба, лес или скот, был дан Гордоном (Gordon,
1954). Он показал, каким образом общая собственность должна
будет привести к истощению ренты (хотя и без уничтожения ресур-
са) в отличие от максимизирующего прибыль поведения единствен-
ного собственника ресурса. Решения по поводу того, сколько ресурса
нужно извлечь и когда это сделать, очевидно, взаимозависимы, по-
скольку биомасса со временем растет, и поэтому чем позже мы собе-
рем урожай, тем больше он будет. Анализ этой проблемы при-
менительно к лесным ресурсам был блестяще проделан Фаустма-
2 Необходимо рассмотреть две цены. Цена ресурса «в земле» — это
роялти, она отличается от цены ресурса «над землей» на величину издержек
добычи. Если добыча, предположительно, не требует затрат, то эти цены со-
впадают.
26 Заказ № 356
386
Дэвид У. Пирс
ном (Faustman, 1849). Он показал, что оптимальный период ротации,
т. е. период между одной рубкой леса и другой, определяется балан-
сом выигрышей от прироста биомассы, полученного благодаря от-
срочке рубки, и издержек, выраженных потерей процента, который
можно было бы получить, если инвестировать выручку от неотложен-
ной рубки. Решение Фаустмана до сих пор приложимо к однопро-
дуктовому лесу, т. е. к лесу, производящему только древесину, и не
приложимо к многопродуктовому лесу.
К 1960 гг. многие из «строительных блоков», необходимых для
появления экономики окружающей среды, были готовы. Оставалось
только соединить их и расширить горизонт применения. Хотя это до
сих пор и не является общепризнанным, но переломным моментом,
позволившим приступить к синтезу, стало появление очерка Боул-
динга (Boulding, 1966) о «космическом корабле под названием „Зем-
ля"», отмеченного свободой воображения и глубиной анализа.3 В то
время как стандартные учебники описывали экономику как линей-
ную систему (ресурсы направляются в производство для создания по-
требительских и инвестиционных благ), Боулдинг применил законы
термодинамики для обоснования двух положений:
а) извлечение, производство и потребление ресурсов приводит к
появлению производственных отходов («остатков»), равных по коли-
честву заключенного в них вещества (энергии) притоку ресурсов в эти
отрасли; б) не возможен стопроцентный возврат этих отходов для
повторного использования (рециклирования), что вытекает из второго
закона термодинамики. Первый закон, закон сохранения энергии
(материи), говорит нам, что экономическая система не может что-
либо уничтожить: все, что поступило в экономическую систему, долж-
но появиться снова в том же или в измененном виде где либо еще.
Второй закон — закон возрастания энтропии — приводит нас к выво-
ду, что энергия не может быть повторно использована, а процессы
использования многих материалов носят диссипативный («расточи-
тельный») характер, вследствие чего мы не можем заново употребить
преобразованный в производственном процессе продукт (например,
свинец, содержащийся в бензине). Все это приводит к тому, что эко-
номика является «системой кругооборота», а не линейной системой.
3 Примечательно, что в обзоре Мартинеса-Альера, посвященном исто-
рии «экологической экономической теории», фактически не уделено ника-
кого внимания очерку Боулдинга. Это частично связано с неудачным отож-
дествлением Мартинесом-Альером экологической экономической теории с
анализом энергетических потоков, проходящих через экономические систе-
мы (хотя даже в этом отношении Боулдинг сказал много ценного), но может
корениться в личной неприязни к работе Боулдинга (см. загадочную ссылку
на Боулдинга в работе Martinez-Alier 1988 : 2).
Экономика окружающей среды
387
Через нее проходит поток ресурсов, следующий далее в окружающую
среду как в своеобразный отстойник для отходов, в дальнейшем
частично используемых повторно. Ресурсная «пропускная способность»
экономической системы увеличивается по мере экономического роста,
таким образом, объемы отходов также неизбежно увеличиваются, что
входит в противоречие со способностью среды усваивать отходы и
преобразовывать их в безвредную форму. Сочетание кругооборота
ресурсов и пределов, устанавливаемых естественной способностью
среды к ассимиляции, объясняет, почему мы не можем долго вести
себя так, как если бы этих ограничений не существовало. В терми-
нологии Боулдинга, мы должны прекратить вести себя, как в «ков-
бойской экономике» с неограниченными территориями, подлежащими
покорению, и начать относиться к планете, как к «космическому
кораблю» — системе кругооборота, в которой следует приложить
все усилия к рециклированию материалов, уменьшению объемов
отходов, консервированию невозобновимых источников энергии и
использованию поистине неистощимых источников энергии, таких как
солнце.
Синтетический подход Боулдинга был формализован в моделях
баланса материалов Айрса и Низа (Ayres, Kneese, 1969), а также Низа
и др. (Kneese et al., 1970). Важнейшим результатом этих работ был
вывод о том, что отходы повсеместно распространены в экономиче-
ской системе, а следовательно, столь же повсеместными являются и
внешние эффекты. Впрочем, было бы правильнее сказать, что внеш-
ние эффекты повсеместны лишь потенциально, поскольку фактические
внешние эффекты зависят от соотношения отходов и ассимилиру-
ющей способности среды. Тем не менее итоговая картина сильно
контрастирует с традиционным (и как ни странно, все еще распро-
страненным) представлением о внешних эффектах как о незначи-
тельном искажении в аллокации ресурсов.
Принцип материального баланса утверждает сильную взаимоза-
висимость экономики и окружающей среды. Таким образом, в соче-
тании с выводами экологов о сложных взаимодействиях внутри при-
родной системы экономика окружающей среды стала более «холи-
стичной» в своей основе. В результате проблема общего равновесия в
экономике расширилась до проблемы общего равновесия в системе
«экономика—окружающая среда». При взгляде на проблему с этой
точки зрения возникают два важных вопроса:
1. Могут ли сосуществовать одновременно равновесие экономи-
ческой системы и равновесие экономики и окружающей среды, т. е.
имеется ли набор цен и количеств, который обеспечивал бы суще-
ствование и устойчивость равновесия в широком смысле? Мы можем
назвать эту проблему проблемой существования.
2. Как можно определить неявные цены экономических функ-
ций природной среды, чтобы определить оптимальную конфигура-
388
Дэвид У. Пирс
цию цен и количеств в ситуации расширенного равновесия? В этом
состоит проблема оценки.
Большинство задач, решаемых экономистами, специализирующи-
мися в области экономики окружающей среды, вытекает из этих двух
основных проблем. Проблема существования заставляет вовлечь в
обсуждение как законы природы, так и человеческое поведение, подвер-
гать сомнению неоклассические модели экономической теории благо-
состояния, а также дает пищу как для дебатов по вопросу «окружа-
ющая среда или экономический рост», так и для текущих дискуссий
по поводу «устойчивости» развития. Проблема оценки является от-
правной точкой для поиска методов денежного измерения функций
окружающей среды, которые в общем случае не имеют цен. Кроме
того, независимо от способности оценивать функции экосистемы в
денежном выражении именно эта проблема лежит в основе поиска
способов корректировки экономических решений, которые исходят
из того, что характеристики окружающей среды не имеют цены.
История экономики окружающей среды все еще не написана.4
Вместе с тем можно дать краткий обзор текущего положения дел в
области проблемы существования, проблемы оценки и классифика-
ции инструментов политики.
16.2. Существование
эколого-экономического равновесия
Проблема существования может быть сформулирована следующим
образом: существует ли такой набор цен и количеств, который обес-
печил бы общее равновесие экономической системы и одновременно
ее равновесное отношение с природной средой? Суть равновесия с ес-
тественной средой трудно формализовать. Один из подходов, изящно
выраженный Перрингсом (Perrings, 1987), состоит в том, что эконо-
мическое равновесие должно согласовываться с законами природы.
Однако важно придать контексту динамический характер в противо-
положность модели Айрса и Низа (Ayres, Kneese, 1969), которая явля-
ется статичной аллокационной моделью в духе Вальраса—Касселя.
Экономика, которая использует природные ресурсы так, как будто
они достались ей даром, является неустойчивой и, следовательно,
нарушает условие динамического эколого-экономического равновесия.
Точно так же неустойчива экономика, в которой производственными
отходами (остатками) можно распоряжаться по собственному усмот-
4 Несколько интересных наблюдений сделал Маритинес-Альер (Martinez-
Alier, 1988), но, как уже отмечалось, его «экологическая экономическая тео-
рия» в действительности является анализом энергетических потоков, прохо-
дящих через экономическую систему.
Экономика окружающей среды
389
рению. Экономические модели, в которых «среда является одно-
временно рогом изобилия и бездонным отстойником» (Perrings,
1987 : 5), динамически неустойчивы,. Традиционные модели общего рав-
новесия или вовсе пренебрегают средой (аксиомы безвозмездного по-
лучения ресурсов и свободного распоряжения остатками), или же пред-
полагают безграничное замещение между ресурсами. Первое предпо-
ложение вообще невозможно оправдать, второе же как минимум не
учитывает специфичности ресурсов, ограничивающей замещение.
Замещение природных ресурсов «капиталом» на деле ограничено:
а) поскольку в капитале воплощены ресурсы — точка зрения, посто-
янно отстаиваемая Джорджеску-Рёгеном (Georgesscu-Roegen, 1979), —
и, таким образом, анализ истощения ресурсов имеет больше общего
со сраффианской проблемой «производства товаров посредством то-
варов», чем с неоклассической производственной функцией; б) по-
скольку некоторые ресурсы являются жизненно важными, не имея
при этом никаких очевидных заменителей.
Анализ Перрингса показал, что любая экономическая система,
опирающаяся на ценовые сигналы, «будет двигаться от одного состо-
яния неравновесия к другому под воздействием постоянных внешних
воздействий, которые проистекают из ненаблюдаемости процессов,
происходящих в окружающей среде», их неуправляемости посред-
ством ценового механизма (Perrings, 1987 : 7). Любая экономическая
система, которая опирается на цены как на средство аллокации ресур-
сов, как пространственной, так и межвременной, не выдерживает тес-
та на эколого-экономическое равновесие. В сущности, это происходит
из-за того, что изменения в экономике неизбежно влияют на окружа-
ющую среду посредством потоков энергии и материалов В свою оче-
редь, эти изменения в энергетических и материальных потоках ока-
зывают обратное воздействие на экономическую систему. Двусторонняя
взаимозависимость в значительной степени носит стохастический
характер. Таким образом, создается «простор» для возникновения
неопределенности в смысле, принятом Шэклом (новизны (novelty) и
неожиданности (surprise)). Хотя для получения этого вывода нужно
только первое начало термодинамики и понимание «существенно не-
познаваемой» природы перемен в технологически динамической си-
стеме, второе начало термодинамики добавляет дополнительные воз-
можности возникновения сюрпризов. По мере того как растет энтро-
пия, растет и наше неведение того, как ведут себя отходы в целой
сети взаимосвязанных экосистем, служащих физической базой для
любой экономики. Неопределенность, подчеркиваемая Перрингсом,
может быть проиллюстрирована сложностью и неопределенностью
процессов диффузии газовых выбросов в атмосфере и стратосфере,
приводящих к разрушению озонового слоя и парниковому эффекту,
или же нашим непониманием микрозагрязнений в водных экосис-
темах.
390
Дэвид У. Пирс
Работа Перрингса является, вероятно, наиболее строгим изложе-
нием проблемы существования. Дейли (Daly, 1977, 1987) настойчиво
предлагал схожий подход, основанный на обоих началах термо-
динамики, но менее формализованный и не в такой степени, как у
Перрингса, учитывающий неопределенность. Дейли сделал много для
отстаивания подхода с позиций второго начала термодинамики Джорд-
жеску-Рёгена (Georgescu-Roegen, 1971), Дейли показал, что мы не
можем отвергнуть этот подход только из-эа того, что его временным
горизонтом является «тепловая смерть» Вселенной (что делает из-
лишней всякую заботу о будущем), или из-за того, что он якобы
предполагает некую энергетическую теорию ценности, в которой нор-
мативная цена отражает энергоемкость. Первое замечание не имеет
отношения к делу, а второе неприменимо к работе Джорджеску-Рёге-
на (см. ответ Дейли (Daly, 1986) на работу Бёрнеса и др. (Burness et
al., 1980)). Применимость понятия энтропии основана на том, что она
является мерой количественной разницы между ресурсами и эквива-
лентными им по физической массе производственными остатками.
Очевидно, что применение этого «количественного отличия», которое
объясняется невозможностью повторного использования ресурсов и
химической трансформацией остатков в экосистеме, является важ-
ным с точки зрения экономической политики, даже для временных
периодов, сопоставимых с человеческой жизнью. Рецепт Дейли состо-
ит в нулевом экономическом росте (НЭР), где рост измеряется в виде
положительных изменений реального ВВП, но при положительном
«развитии». Рост ограничен не только физическими границами («био-
физическими пределами»), но и заботой о будущих поколениях, о
животном мире и о влиянии роста на общественную мораль. Такие
«этико-социальные пределы», кроме того, подкрепляются саморазру-
шительной с точки зрения общества природой экономического роста,
выраженной парадоксом Истерлина (Easterlin, 1974): рост никого не
делает более счастливым вследствие феномена, аналогичного тому,
который объясняется гипотезой относительного дохода. Очевидная
проблема, возникающая в связи с идеей нулевого экономического роста,
состоит в том, что как только мы касаемся биофизических пределов,
НЭР перестает быть однозначно определенным. Уровень дохода, отве-
чающий эколого-экономическому равновесию, может быть как мень-
ше, так и больше, чем в случае нулевого роста. Если Перрингс все же
прав и не существует никакого расширенного экономического равно-
весия для экономических систем, по крайней мере частично опираю-
щихся на ценовые сигналы, то нулевой рост выглядит лучше, чем
положительный, поскольку он связан с более низким уровнем ис-
пользования материалов и энергии и отсюда с меньшим уровнем
расточения низкоэнтропийных ресурсов. Более того, люди, возможно,
согласятся принять НЭР, но не отрицательный рост. Лицам же, осу-
ществляющим политику в реальном мире, приходится учитывать не
Экономика окружающей среды
391
только оптимальность своих действий, но и политическую конъюнк-
туру.
Другие авторы исследовали цели, ради которых используется
концепция расширенного равновесия, и требования, ей предъявляе-
мые. Пейдж (Page, 1977а, Ь, с) установил условия того, что он назвал
«перманентной жизнеспособностью», т. е. состояния экономики, ха-
рактеризующегося устойчивостью и удовлетворяющего цели межпо-
коленческой справедливости в том смысле, как ее понимал Ролз.
Принцип максимина, примененный к отношениям между поколени-
ями, должен обеспечить максимальное предложение первичных благ
(т. е. благ, меньшее количество которых было бы иррационально пред-
почесть большему количеству) наименее благополучному поколению.
Пейдж доказывает, что это обеспечит «равный доступ» к ресурсам
для всех поколений. Трактовка по крайней мере некоторых видов
естественного капитала как первичных благ выдвинута Пирсом и
др. (Pearce et al., 1989). Иррациональность предпочтения меньшего
большему в отношении этих видов естественного капитала проистека-
ет из жизненно важных функций, которые они выполняют. Таким
образом, критерии межпоколенческой справедливости Пейджа затра-
гивают проблему существования: «справедливое» поведение является
условием расширенного равновесия.
Пейдж утверждает, что в ролзианской «исходной позиции» рав-
ный доступ для всех поколений возникнет в процессе рационального
процесса принятия решений. Он станет следствием понимания того,
что ресурсы являются коллективным благом, необходимости опреде-
лить правила, которые не потребуют ни от одного поколения плани-
рования на временной период, охватывающий все будущие поколения,
и, наконец, потребности удостовериться в том, что первое поколение
не отступит от выполнения этого требования из-за его обременительно-
сти, и, естественно, в межпоколенческой «справедливости» результа-
та. Общее правило состоит в том, что запас естественного капитала
должен сохраняться все время на постоянном уровне, причем посто-
янство должно фиксироваться в постоянных реальных ценах или
ценностях (см. также Pearce et al., 1989).
Внимание к постоянству естественного капитала в работе Пейд-
жа контрастирует с усилиями по расширению неоклассических моде-
лей, в которых капитал, вообще говоря, «однороден». В самом деле,
фундаментальная отличительная особенность школы, исповедующей
концепцию «устойчивости» (sustainability) (Пейдж, Пирс и др., Пер-
рингс и в некоторой степени Дейли), — ее внимание к ограниченной
заменимости естественного капитала Кп рукотворным капиталом Кт.
Элегантное выражение условия межпоколенческой справедливости
через постоянство общего капитального запаса Кт + Кп дано Солоу
(1986). Внимание Солоу было направлено на традиционный этический
вопрос о том, какого темпа истощения невозобновимых ресурсов еле-
392
Дэвид У. Пирс
дует добиваться, если мы хотим обеспечить межпоколенческую спра-
ведливость. Он указал на теорему Хартвика (Hartwick, 1977, 1978а, Ь),
согласно которой обеспечение неизменяемого во времени потока по-
требления, т. е. межпоколенческой справедливости в смысле, приня-
том Ролзом, требует инвестирования всей экономической ренты,
полученной с невозобновимых ресурсов, в воспроизводимый капи-
тал. Это правило практически реализуется в призывах использовать
ренту с нефтяных запасов Северного моря для наращивания произ-
водственных возможностей Великобритании или, если говорить о
задачах развивающихся экономик, подобных экономике Индонезии, в
призывах диверсифицировать капитальную основу народного хозяй-
ства для компенсации истощения запасов нефти и газа, а также запа-
сов тропических лесов. Солоу показал, что правило Хартвика может
быть проинтерпретировано как правило поддержания постоянного во
времени запаса капитала К - Кт + Кп. Как утверждает Солоу:
Изящная интерпретация допустимого потребления как процента на из-
начальное наследство или на исходный запас ресурсов кажется вполне
уместной. Это напоминает старомодное обязательство «сохранять капитал
нетронутым».
(Solow, 1986 : 149)
Правило Хартвика—Солоу действует при постоянном предложе-
нии труда и нулевом росте населения. Как только эти ограничения
несколько смягчаются, правило «отказывает» в нескольких отноше-
ниях. В отношении проблемы существования расширенного равнове-
сия критическим моментом является то, что технический прогресс
должен опережать рост населения для того, чтобы имелась возмож-
ность постоянного потребления на душу населения (однако этот ре-
зультат не гарантирован). Разные мнения по поводу степени, в какой
ВВП может быть «отделен» от расхода ресурсов и энергии, традици-
онно определяют различие между оптимистами и пессимистами в
дебатах по поводу окружающей среды. Пейдж (Page, 1977а) обратил
внимание на то, какую роль играет технология в увеличении рисков,
с которыми столкнутся будущие поколения, и отсюда в возникнове-
нии возможности уменьшения будущих производственных мощностей,
а не их увеличения.
Также неясно, что произойдет с результатом Хартвика—Солоу,
если Кп и Кт не являются полностью взаимозаменяемыми: ведь в
этом случае мы затронем самую сердцевину предположения Солоу о
том, что «признание взаимозаменяемости или однородности превра-
щает проблему „простой справедливости" в сложный вопрос аллока-
ции ресурсов» (Solow, 1986 : 142). Малер (Maier, 1986) задал еще один
важный вопрос по поводу неопределенности существенных перемен-
ных в модели Солоу. Если мы не знаем эластичности замещения
между Кп и Кт, будущей численности населения, величины ресурс-
Экономика окружающей среды
393
ных запасов и будущих технологий, то как нам следует себя вести в
отношении аллокации ресурсов между поколениями?
Роль, которую играет дисконтирование в решениях по поводу
аллокации ресурсов между поколениями, остается весьма спорной
проблемой. Вопросы, поднимаемые специалистами по экономике окру-
жающей среды, проистекают из того, что дисконтирование, по-види-
мому, сдвигает общественные издержки в направлении настоящего
времени, нарушая, таким образом, концепцию межпоколенческой
справедливости Ролза—Пейджа—Солоу (проблема впервые затронута
Пигу (Pigou, 1932)). Что касается концепции расширенного равнове-
сия, то дисконтирование угрожает долгосрочному равновесию, нагро-
мождая целые блоки проблем для будущих поколений: высокие нор-
мы дисконта скорее поощрят более быстрое, а не более медленное
исчерпание невозобновимых ресурсов; они могут сочетаться с уничто-
жением возобновимых ресурсов (Clark, 1976); они вполне допускают
применение непроверенных технологий, которые приведут к дополни-
тельным издержкам будущих поколений (уничтожение ядерных от-
ходов, закрытие атомных электростанций, загрязнение грунтовых вод,
глобальное потепление, разрушение озонового слоя и т. д.).
Критика из лагеря защитников окружающей среды также со-
средоточивается на том обосновании дисконтирования, при котором
используются либо факторы, являющиеся источником предпочтений
настоящих благ будущим и положительной предельной производи-
тельности капитала, либо некоторая взвешенная комбинация факто-
ров в субоптимальных условиях (second best) (Lind, 1982). Рассмот-
рим элементы стандартной формулы нормы дисконта в потреблении:
s = ис + р,
где s — норма дисконта, и — эластичность предельной полезности
потребления, с — темп роста реального потребления на душу населе-
ния и р— норма «чистого» временного предпочтения. Критики вслед
за Рамсеем (Ramsey, 1929) утверждали, что чистое временное пред-
почтение иррационально и что лежащее в основе этой теории цен-
ностное суждение, согласно которому предпочтения имеют значения,
несовместимо с моральными обязательствами и долгом, и если даже
потребности доминируют, речь должна идти о нынешних потребностях,
а не о сегодняшней оценке завтрашних потребностей (Goodin, 1982).
Широкое применение находит идея, в соответствии с которой
положительная норма дисконта связана с неопределенностью относи-
тельно существования будущего поколения или того же самого инди-
вида в будущем (см. работы Сена и Ролза (Sen, 1961; Rawls, 1972));
некоторые авторы осуществили практическую трансформацию сред-
ней ожидаемости продолжительности жизни в положительную нор-
му дисконта (Eckstein, 1961; Kula, 1984). Однако если последствия
дисконтирования лягут на плечи возможных будущих поколений
394
Дэвид У. Пирс
грузом высоких общественных издержек, то, по-видимому, было бы
странным реагировать на подобную неопределенность, уменьшая шансы
наших потомков на существование. Гудин (Goodin, 1978) утверждает,
что именно к этому ведут некоторые современные технологические
риски, например риск, связанный с использованием ядерной энер-
гии. Таким образом, речь здесь идет о другом, потенциально катаст-
рофичном по своей природе типе неопределенности по сравнению с
неопределенностью, к которой применяется обычное правило ожида-
емой полезности. Эта же проблема нашла свое отражение в работе
Пейджа (Page, 1978) в применении к ядовитым химическим веще-
ствам, когда вероятность ущерба низка, но его возможные масштабы
очень велики (дилемма «нуль—бесконечность»). Ожидания будущего
экономического роста, т. е. предположение, что с > 0, также под-
вергаются критике защитников окружающей среды. При с > 0 мы
требуем защиты окружающей среды, а не разрушения, хотя именно
последнее может быть следствием высоких норм дисконта. Короче
говоря, использование аргумента с > 0 в качестве оправдания дискон-
тирования внутренне противоречиво.
Альтернативный способ дисконтирования посредством наблю-
даемого положительного предельного продукта, получаемого с вос-
производимого капитала, также подвергался критике. Парфит (Par-
fit, 1983) полагает, что аргументация с позиций альтернативных
издержек опирается на способность компенсировать будущим по-
колениям ущерб, создав исходный капитальный запас, прирост
которого равен альтернативным издержкам, что позволяет опла-
тить будущий ущерб или издержки на его устранение. Если мы
не способны сделать это, то будущий ущерб играет не меньшую
роль, чем текущий, — его отдаленность во времени не может сама
по себе быть основанием для дисконтирования. Возражение Парфи-
та в действительности основано на более привычной критике гипоте-
тической компенсации. Речь идет о критерии Калдора—Хикса—
Ситовски потенциального улучшения по Парето. Этот вопрос в даль-
нейшем разрабатывали некоторые экономисты, изучающие проблемы
устойчивого развития. Они делали акцент на инвестициях, компен-
сирующих ущерб, наносимый окружающей среде, являющийся ре-
зультатом других проектов (Klaassen, Botterweg, 1976; Pearce et al.,
1989; Spash, d’Arge, 1989).
Главная идея критиков дисконтирования из рядов защитников
окружающей среды состоит в том, что нормы дисконта должны быть
нулевыми, что подразумевает безразличие между результатами для
разных поколений. Это контрастирует с мнением Пейджа (Page, 1977b)
о том, что дисконтирование допустимо, но только когда установлены
правила «перманентной жизнеспособности». Иными словами, снача-
ла обеспечивается постоянство запаса природного капитала как сред-
ство обеспечения равенства между поколениями, а затем разрешается
Экономика окружающей среды
395
максимизация чистой приведенной ценности (с положительной нор-
мой дисконта). Эта идея имеет сходство с «экологическими грани-
цами» Пирса (Pearce, 1987) или даже с биофизическими пределами
Дейли. Однако имеется и более прямая причина для того, чтобы от-
вергнуть нулевую норму дисконта как панацею для обеспечения меж-
поколенческой справедливости. Хотя более низкая норма дисконта
увеличивает спрос на сохранение окружающей среды Кп и рукотвор-
ный капитал Кт, принцип материального баланса напоминает нам,
что ресурсы употребляются для производства капитала. В зависимо-
сти от относительной эластичности выпуска по капиталу и затратам
ресурсов, а также материало- и энергоемкости увеличившийся спрос
на капитал может привести к «протаскиванию» через экономику боль-
шего количества материалов и энергии, уменьшая, таким образом,
сохранность окружающей среды (Krautkraemer, 1985, 1988; Markandya,
Pearce, 1988). Эта возможность уже была предсказана в выдающейся
статье Крутиллы (Krutilla, 1967).
Еще одна причина неприятия нулевой нормы дисконта как базы
для «экологически чувствительного» планирования была обоснована
Олсоном и Бейли (Olson, Bailey, 1981), которые показали, что по-
требитель, не обладающий чистым временным предпочтением р
(см. вышеприведенную формулу), но сталкивающийся с положитель-
ной процентной ставкой г, «сократит потребление до крайне незна-
чительного уровня с тем, чтобы обеспечить свое будущее» (Olson, Bailey,
1981 : 17). Однако результат Олсона и Бейли вряд ли снимает пробле-
му, поскольку допущение всегда положительной нормы процента, т. е.
положительного предельного продукта капитала, как раз и является
предметом спора.
В работах по экономике окружающей среды, бесспорно, поддер-
живается более широкая гипотеза о том, что общественные нормы
дисконта меньше рыночных (Lind, 1982). Идея Марглина (Marglin,
1963) о том, что благосостояние будущих поколений является обще-
ственным благом для текущего поколения, использующая категории
эффективности, а не равенства, подразумевает снижение нормы дис-
конта, чтобы сохранить больше капитала для будущих поколений.
Самуэльсоновские концепции объединения риска (riskpooling) несколь-
ких проектов (Samuelson, 1964) и концепция объединения риска мно-
гих людей Эрроу—Линда (Arrow, Lind, 1970) позволяют рекомендовать
использование безрисковых норм дисконта в общественном секторе
по сравнению с более высокими рыночными нормами, предполага-
ющими риск. Однако Фишер (Fisher, 1974) указал, что теорема Эр-
роу—Линда не соблюдается, если рассматриваемые риски обладают
признаками «общественного антиблага», такого как глобальное по-
тепление, уничтожение озонового слоя и т. д., что означает ограни-
ченную применимость теоремы Линда именно в отношении ущерба
окружающей среде.
396
Дэвид У. Пирс
Имеющаяся литература все еще не в состоянии рекомендовать
адекватную норму дисконта при решении проблем окружающей сре-
ды и, возможно, других проблем тоже. Именно по этой причине пред-
принимались попытки модифицировать оценки проектов, не прибегая
к корректировке норм дисконта. В работе Маркандиа и Пирса (Маг-
kandya, Pearce, 1988) предложено включить в оценку проекта ограни-
чение устойчивости, интерпретированное как определенная форма
постоянного запаса природного капитала. Выводы пока неясны, но их
использование, вероятно, будет более плодотворно, чем дальнейшие
попытки модифицировать норму дисконта, вызывающие все меньше
энтузиазма.
16.3. Оптимальное исчерпание
и использование ресурса
В отношении невозобновляемого ресурса правило Хотеллинга
(Hotelling, 1931) гласит, что роялти (или стоимость пользования), т. е.
цена у места добычи за вычетом издержек извлечения, должен повы-
шаться со временем в соответствии с господствующей нормой дис-
конта, т. е. предельным продуктом капитала. Если издержки добычи
можно предположить равными нулю, то получим более популярную
форму данного правила: цена у места добычи повысится со временем
в соответствии с нормой дисконта. Этот результат имеет силу для
конкурентной экономики. Поскольку цена на ресурс повышается со
временем, появляется стимул к его замещению другими ресурсами.
В самом деле, во многих современных моделях оптимального исчер-
пания ресурса предполагается существование «запасной» (backstop)
технологии (Nordhaus, 1973), которая замещает исчерпываемый ре-
сурс, как только цена достигает определенного уровня; примерами
могло бы служить использование опресненной морской воды вместо
исчерпанных грунтовых или поверхностных вод, нефтеносных песков
вместо нефти и эксплуатация быстрых бридерных реакторов (исчеза-
ющих, как ни удивительно, из реального мира) или даже термоядер-
ных реакторов. В отсутствие запасной технологии пределом хотел-
линговскому процессу повышения цен является точка пересечения
кривой спроса с осью цен.
Значительная часть современной литературы исследует, что про-
изойдет, если ослабить допущения Хотеллинга. Сам Хотеллинг ис-
следовал воздействие монополии, издержки, которые повышаются с
увеличением объемов добычи (рикардианский случай), влияние фик-
сированных инвестиционных издержек и эффект налога на добытые
полезные ископаемые (т. е. налога на истощение ресурса), а также
другие вопросы.
Экономика окружающей среды
397
Интуитивно мы должны ожидать, что наличие монополии замед-
лит темпы исчерпания ресурса, поскольку ограничение выпуска мо-
жет быть выгодно для монополиста. Это предположение, поддержан-
ное Хотеллингом, делает монополию приемлемой для приверженцев
консервации ресурсов. По существу, в случае беззатратной добычи в
соответствии с нормой дисконта повышается предельная выручка, а
не цена. Хотеллинг, по-видимому, полагал, что уже одно это затормо-
зит исчерпание ресурса, но это мнение было подвергнуто сомнению
Девараджаном и Фишером (Devarajan, Fisher, 1981). В современных
разработках внимание сосредоточено на отношениях между ценовой
эластичностью спроса и предложением: если эластичность снижается,
в то время как предложение увеличивается, то, вообще говоря, моно-
полист исчерпывает ресурс более медленно (Lewis, 1963; Dasgupta,
Heal, 1979). Тот же самый результат сохраняется, если эластичность
спроса увеличивается со временем, т. е. низкая эластичность сейчас и
более высокая потом (Weinstein, Zeckhauser, 1975; Stiglitz, 1976).
В некоторых работах, инициированных главным образом опытом
ОПЕК и не связанных с анализом Хотеллинга, рассматривалось оли-
гополистическое поведение в отношении природных ресурсов (см.
обзоры Кремера и Вайцмана, Пирса, Фишера (Cremer, Weitzman, 1976;
Pearce, 1981; Fisher, 1987)).
Правило Хотеллинга сравнительно однозначно в с трудом пред-
ставимом случае отсутствия или постоянства издержек добычи. Од-
нако издержки, вероятно, будут расти в зависимости от темпа увели-
чения добычи, т. е. обратно пропорционально оставшемуся запасу,
поскольку лучшие руды будут исчерпаны в самом начале. На практи-
ке это предположение часто понимается неверно, но в некоторых ра-
ботах (например, Solow, Wan, 1976) были даны строгие формулировки
воздействия, которое оказывает снижение качества руды. Имеются
также многочисленные примеры того, что ценовое правило Хотеллин-
га не соблюдается в этих условиях. Вместо этого роялти повышается
в соответствии с нормой дисконта за вычетом прироста издержек
(в процентах), вызванного исчерпанием общего запаса ресурса (см.,
например, Peterson, Fisher, 1977). Там, где последовательное истоще-
ние запаса ресурса «в земле» приводит к увеличению запаса «над
землей» (например, в случае алмазов), правило Хотеллинга может
работать в обратном направлении: по мере увеличения запаса «над
землей», происходит падение цен (Levhari, Pindyck, 1979).
Неопределенность в отношении объема запасов может привести
к более медленному исчерпанию ресурса из-за возможных издержек
«сюрприза» в случае, если исчерпание вдруг произойдет: этот резуль-
тат интуитивно не кажется убедительным. Модели, в которых пред-
полагается проведение дополнительных исследований для снижения
неопределенности, обладают большей привлекательностью (Arrow,
Chang, 1978; Hoel, 1978; Devarajan, Fisher, 1981). Неопределенность
398
Дэвид У. Пирс
относительно будущих цен могла бы привести к более быстрому ис-
черпанию ресурса из-за неприятия риска (Weinstein, Zeckhauser, 1975).
Некоторые недавние разработки были посвящены анализу влия-
ния исчерпаемости ресурса на первоначальные инвестиционные из-
держки (set-up costs) в случае, описанном Хотеллингом. Главный
вывод состоит в том, что чем больше запас ресурса, на который мож-
но распределить издержки, тем ниже средние инвестиционные издерж-
ки и, следовательно, тем ближе к случаю возрастающей отдачи нахо-
дится ситуация, в которой действует владелец ресурса («рудника»).
Нас не должно удивлять, что траектория конкурентных цен, которая
вытекает из хотеллинговского анализа, не реализуется. Проблема
заключается в существовании явной несостоятельности рынка. Пер-
воначальные издержки могут привести к возникновению периодов
постоянных уровней извлечения ресурсов и постоянных цен (Campbell,
1980).
Одни авторы утверждали, что современные исследователи доба-
вили мало существенного к фундаментальным результатам, получен-
ным Хотеллингом. Другие сопоставили ситуации реального мира с
отвлеченными абстракциями, присутствующими даже в хотеллингов-
ских моделях, модифицированных с учетом монополий, первоначаль-
ных инвестиций и издержек, зависящих от величины запаса. Брэдли
(Bradley, 1985) призвал уделить больше внимания анализу реально
существующих отраслей добывающей промышленности в их инсти-
туциональном контексте, полагая, что выигрыш от подобных иссле-
дований «существенно больше предельного выигрыша от дальней-
ших изысканий в области оптимизационного моделирования» (Bradley,
1985 : 328).
Эмпирически установлено, что динамика цен на природные ре-
сурсы, по-видимому, не соответствует траектории, определенной Хо-
теллингом. Барнет и Морс (Barnett, Morse, 1963; Barnett, 1979) обна-
ружили в США с 1870 г. непрерывно понижающийся тренд реальных
издержек на единицу ресурсов (возможно, за исключением лесного
хозяйства). Барнет и Морс выделяют технологические изменения как
главный фактор, приводящий к «уменьшению редкости». Браун и
Филд (Brown, Field, 1979) заметили, что технический прогресс может
создать иллюзию уменьшенной редкости, т. е. издержки на единицу
могут уменьшаться до точки исчерпания ресурса, будучи, таким обра-
зом, не в состоянии сигнализировать о будущей редкости блага. Холл
и Холл (Hall, Hall, 1984) использовали реальные цены, чтобы воспро-
извести обнаруженное Барнетом и Морсом явление уменьшенной
редкости в период до середины 1970-х гг., но показали, что после
этого периода реальная цена стала Повышаться, сигнализируя об уве-
личении редкости. Слейд (Slade, 1)82) показал, что временная тра-
ектория цен для полезных ископаемых имеет тенденцию принимать
U-образную форму, по мере того как технический прогресс сначала
Экономика окружающей, среды
399
опережает снижение качества руды, а затем отстает в этой «гонке»,
что приводит к увеличению издержек добычи вследствие понижения
качества руды.
В целом, хотеллинговский анализ остается мощным аналити-
ческим инструментом экономики использования природных ресурсов,
однако следует соблюдать большую осторожность при его применении
к ситуациям в реальном мире. Аналогичные оговорки должны быть
сделаны при использовании этого аппарата в качестве руководства
для экономической политики в этой сфере.
16.4. Проблема оценки
Вне зависимости от подхода к проблеме существования экономи-
ко-экологического равновесия все специалисты по экономике окру-
жающей среды были единодушны в стремлении расширить сферу
неявного ценообразования (shadow-pricing) для экосистем. Эти уси-
лия нашли свое выражение в многочисленных публикациях, удачные
обзоры которых можно найти в нескольких работах (Freeman, 1979;
Bentkover et al., 1986; Johansson, 1987; Pearce, Markandya, 1989). Здесь
предлагается еще более краткий обзор имеющихся результатов.
♦ Оценка выгод», т. е. денежная оценка выгод от политики в
области окружающей среды, или ее оборотная сторона — «оценка
ущерба» — имеет две главные сферы применения. Во-первых, она
позволяет лучше интегрировать в анализ издержек и выгод (cost-
benefit) не имеющие цен функции природной окружающей среды и,
во-вторых, демонстрирует различные виды экономического ущерба,
который наносит национальной экономике исчерпание ресурсов и
загрязнение окружающей среды. Оценка ущерба окружающей среде,
предотвращенного продуманной национальной политикой по защи-
те окружающей среды, произведена, например, Фрименом (Freeman,
1982) для Соединенных Штатов. Полученные им результаты дают
экономию приблизительно в 26 млрд долл, в 1978 г., т. е. приблизи-
тельно 1,25% от валового национального продукта (ВНП). Подобные
же исследования были произведены другими авторами, но уже в отно-
шении фактического ущерба, который, по их оценке, составляет до
0,5-0,9% от ВНП Нидерландов и 6% от ВНП Германии (Пирс, Мар-
кандья (Pearce, Markandya), 1989).
Были разработаны различные методы денежной оценки выигры-
шей и потерь, связанных с состоянием окружающей среды. Подход,
основанный на функциях типа «величина воздействия — реакция
среды», сосредоточивается на физической «реакции» на «дозу» за-
грязнения, выраженную либо в величине концентрации вредных ве-
ществ в окружающей среде, либо в масштабах выброса. В действи-
тельности экономисты превратились в «макроэпидемиологов», приме-
400
Дэвид У. Пирс
няя методы статистических регрессий для оценки воздействия раз-
личных переменных на такие виды ущерба, как смертность, заболева-
емость, падение урожаев, понижение качества материалов, ухудшение
санитарного состояния деревьев и т. д. Некоторые важные результа-
ты были достигнуты благодаря использованию обширных баз данных,
а также в некоторых случаях благодаря тому, что экономические
переменные вводились в регрессии более изощренными способами,
чем прежде. Так, простые регрессии влияния загрязнения воздуха на
здоровье как зависимую переменную вряд ли принесут какие-либо
открытия, но множественные регрессии, учитывающие возраст, соци-
ально-экономический статус, доступ к медицинскому обслуживанию
и переменные загрязнения, вероятно, будут более информативными.
Классические труды, такие как исследование Ридкера (Ridker, 1967),
касающееся загрязнения воздуха, были продолжены и усовершенство-
ваны Лейвом и Сескином (Lave, Seskin, 1977), что, в свою очередь,
породило обширную литературу (обратите особое внимание на работы
Крокера и Остро (Crocker et al., 1979; Ostro, 1983, 1987)). «Механиче-
ский» характер оценок, полученных с помощью функций «воздей-
ствие—реакция», был смягчен благодаря учету поведения домашних
хозяйств, совершающих расходы, направленные на то, чтобы избе-
жать болезней и смерти, т. е. в анализ было введено «здоровье как
капитал» (Grossman, 1972). В качестве примера этого направления
можно привести работы Кроппера (Cropper, 1981), а также Геркинга и
Стенли (Gerking, Stanly, 1986).
Хотя исследования в рамках подхода «воздействие—реакция» в
принципе могут выходить на денежную оценку, например, применяя
показатели ценности жизни к смертности, связанной с загрязнением
среды, более непосредственные денежные оценки достигаются благо-
даря: а) модели издержек передвижения, б) гедонистическому цено-
образованию, в) условным оценкам. Модель издержек передвижения
ведет свое происхождение от неизданной статьи Хотеллинга (Hotelling,
1949) и ранней формализации Клосона и Кнетча (Clawson, Knetsch,
1966), основанной на более ранней работе Клосона. Основная идея
проста: преодоленное за время путешествия расстояние принимается
за аппроксимацию цены, количество предпринятых поездок — за ап-
проксимацию количества. Пусть цена за расстояние i равна Pi( а за
более короткое расстояние j — Pjt этому соответствуют количества
поездок Qt и Q;. Затем предположим, что каждая группа отреагирует
на «плату за въезд» таким же образом, как и на увеличение издержек
передвижения. Тогда повышение платы за въезд от нуля до Р( - Ру
вызовет уменьшение спроса из зоны j на величину - Qt, и т. д.
Таким образом может быть выведена кривая спроса. Точно так же,
как может быть оценена реакция спроса на «плату за въезд», может
быть оценена и реакция спроса на изменения качества среды. Все, что
необходимо, — это наблюдения за количеством поездок в области
Экономика окружающей, среды
401
различного качества. Таким образом можно оценить как потребитель-
ский излишек, связанный с усовершенствованием качества среды,
так и выгоду от предоставления другого участка, и т. д. Реально ме-
тод издержек передвижения оценивает спрос на блага, являющиеся
аргументами (inputs) производственной функции семейного отдыха,
в смысле, принятом Беккером (Becker, 1965) (см. Smith, Desvousges,
1986). Люди хотят посещать различные места, чтобы комбинировать
оказываемые им там услуги с другими аргументами для «производ-
ства» определенной деятельности: лова рыбы, плавания и т. д. Метод
имеет широкое применение и предлагает способ измерения потреби-
тельной ценности ресурса (см. ниже). В дальнейшем аналитики вклю-
чали в рассмотрение конкурирующие участки, перегрузку (congestion),
различные концепции ценности времени, а также развивали подход,
который рассматривает в качестве объекта спроса отдельные харак-
теристики, а не участки сами по себе (см. Deyak, Smith, 1978; Morey,
1981; Bockstael, McConnell, 1983; Brown, Mendelsohn, 1984).
Развитие техники гедонистического ценообразования, предложен-
ной Грилихесом (Griliches, 1971) и Розеном (Rosen, 1974), связывает
цены собственности с характеристиками участков, включая переменные
загрязнения. Таким образом, гедонистическая функция цены вида:
Л = f(SY,...,Sn,D),
где Ph — цена дома или арендная плата, Sp ..., Sn — характеристики
участка и D — степень «неудобства», позволяет получить неявную
цену dPA/dZ>. Функция Ph фактически представляет собой геометри-
ческое место точек равновесия семейных функций «готовности пла-
тить». Таким образом, технически неявная цена не является коррект-
ной оценкой предельной готовности платить. Процедура выведения
обратной функции спроса должна заключаться в том, чтобы взять
dPh/dD и, в свою очередь, посчитать его регрессию по уровням дохода
и загрязнений, прибегая к определенным предположениям относи-
тельно предложения собственности с данными характеристиками.
Большинство эмпирических исследований оценивают форму функ-
ции Ph, и только некоторые исследователи идут дальше, пытаясь вы-
вести обратные кривые спроса (см. Харрисон, Рубинфелд (Harrison,
Rubinfeld, 1978); Брукшайр и др. (Brookshire et al., 1981)). Гедонисти-
ческий подход широко применялся при решении проблем загрязне-
ния воздуха (см. обзоры в работах Фримена (Freeman, 1979); Брук-
шайра и др. (Brookshire et al., 1982); Пирса и Маркандиа (Pearce,
Markandya, 1989) и шума, создаваемого движением наземного (Nelson,
1982) и воздушного (Nelson, 1980) транспорта. Уилмен (Wilman, 1984)
и Финберг и Милз (Feenberg, Mills, 1980) соответственно исследовали
случаи загрязнения прибрежной полосы и водоемов. Вообще говоря,
в рамках гедонистического подхода были предприняты усилия по
денежной оценке ухудшения и улучшения окружающей среды. Точ-
27 Заказ № 356
402
Дэвид У. Пирс
ность результатов дискусионна, особенно в том, что касается «плавно-
сти» реакции рынка жилья на изменения параметров окружающей
среды и, что не удивительно, в области эконометрических оценок.
Гедонистический подход может также применяться к «ценности че-
ловеческой жизни». Рассчитывается регрессия заработной платы от
параметров предложения труда и оценок рискованности соответству-
ющих видов работы. Коэффициенты, связывающие заработную плату
с риском, дают непосредственную оценку рисков, которые, в свою
очередь, можно обобщить, чтобы получить оценку человеческой жиз-
ни. Подобные оценки, которые достаточно широко применяются при
изучении безопасности рабочего места с точки зрения анализа «издер-
жек и выгод», также приложимы при расчете риска для здоровья,
проистекающего от загрязнений. Они также могут быть «заимствова-
ны» для того, чтобы скомбинировать их с оценками смертности, выве-
денными благодаря макроэпидемиологическим исследованиям (см.
выше). Теоретические подходы и эмпирические результаты рассмот-
рены Вайолеттом и Честнатом (Violette, Chestnut, 1983), а также
Пирсом и Маркандиа (Pearce, Markandya, 1989). Теоретические воз-
ражения против идеи оценивания жизни приводятся Брумом (Broome,
1978): готовность платить за то, чтобы избежать определенного вида
смерти, ограничена только доходом и богатством, готовность же при-
нять компенсацию за свою смерть абсурдна. Однако Ульф (Ulph, 1982)
показал, что в данном случае важны оценки ex ante, т. е. оценки
избежания или принятия некоторых конечных рисков, в то время
как возражения Брума имеют значение для интерпретации риска
смерти ex post.
Вероятно, наиболее плодотворным подходом к проблеме оцени-
вания стал «метод условных оценок» (contingent valuation method)
(МУО). Он основан на опросах, предназначенных для выявления не-
посредственной готовности опрашиваемых платить. Методология ис-
черпывающе проанализирована Каммингсом и др. (Cummings et al.,
1986). Поскольку метод предполагает гипотетические оценки, значи-
тельная часть работ посвящена проверке измерения смещения отве-
тов. Под влиянием Самуэльсона (Samuelson, 1954) широко распро-
странилось убеждение, что оценки не будут «аккуратными» вслед-
ствие стратегического поведения, т. е. по причине существования
проблемы «безбилетников». Бом (Bohm, 1972) был первым исследо-
вателем, разработавшим эмпирический эксперимент, направленный
на проверку наличия стратегического смещения. Он производил вы-
борки испытуемых согласно предположениям относительно того, сколь-
ко они фактически заплатили бы за выгоду (в данном случае — ка-
бельную телевизионную программу). Бом не обнаружил никаких
признаков стратегического смещения. Другие исследования привели
к аналогичным результатам, и обзор Каммингса и др. заключал в
себе вывод, что «существуют основания для того, чтобы лишить гипо-
Экономика окружающей среды
403
тезу стратегического смещения привилегированного места в исследо-
ваниях, которое она занимала в прошлое десятилетие» (Cummings et
al., 1986 : 26).
Могут существовать и другие формы смещения оценок (анкет-
ные опросы могут быть построены так, что дадут вводящие в заблуж-
дение результаты (предопределенное смещение)). Например, экспери-
ментатор, задающий вопросы, начинает процесс торга с предложения
стартовой цены, которая может задать «точку отсчета» для последу-
ющих предложений. При другой стартовой цене картина могла бы
быть иной. Респонденты также должны быть информированы относи-
тельно способа, которым они, как ожидается, будут расплачиваться
(гипотетически). Ясно, что «инструмент», или «способ», оплаты (мест-
ный налог, прямой сбор, дополнительная потеря полезности и т. д.)
влияет на готовность платить. Оценки респондентов также, вероятно,
варьируют в зависимости от количества и типа полученной ими ин-
формации по поводу имеющейся проблемы. Наконец, возникает во-
прос, являются ли подобные оценки теми же, что возникают на фак-
тических рынках. Обзор, предпринятый Каммингом и др., в качестве
источника гипотетического смещения в рамках исследований по МУ О
выдвигает на первый план недостаточное знакомство респондентов с
технологией компромиссного выбора между благами (например, речь
идет о выборе между сохранением исчезающих животных и прожи-
ванием в красивой местности). Усилия по уменьшению подобного
искажения при помощи организации псевдорынков, на которых меж-
ду экспериментаторами и респондентами из рук в руки переходят
реальные деньги (т. е. гипотетические рынки более точно воспроизво-
дят процессы обучения и приобретения опыта на фактических рын-
ках), видимо, дают основания предположить, что проблема гипотети-
ческого смещения не столь серьезна, как можно было бы подумать.
Техника МУО интересна не только тем, что она вносит существенный
вклад в копилку имеющихся у экономистов методов оценки, но так-
же и тем, что она оказалась полезной при обнаружении других инте-
ресных феноменов, возникающих при выявлении предпочтений. Два
из этих феноменов заслуживают особого упоминания. Первый состо-
ит в том, что вопросы могут быть составлены таким образом, чтобы
выявить компенсирующую вариацию, эквивалентную вариацию или
и то и другое. Там, где были измерены показатели и готовности пла-
тить, и готовности принять потери, поразительное открытие состояло
в том, что готовность принять потери существенно превышает готов-
ность платить вопреки теоретическим ожиданиям, что потребитель-
ский излишек в обоих случаях будет отличаться лишь незначительно
(Willig, 1976). Существуют два направления объяснения данного па-
радокса. Первое указывает на неповторимый, как правило, харак-
тер цен на торгах по МУО, т. е. цены предлагаются только однажды
и часто в незнакомых условиях. Это контрастирует с «реальными»
404
Дэвид У. Пирс
рынками, на которых имеют место знакомство с ситуацией и повто-
ряющиеся торги. МУО, при которых экспериментаторы намеренно
повторяют процесс торгов, позволяют снизить разрыв между готовно-
стью платить и готовностью принять потери (Brookshire, Coursey, 1987;
Coursey et al., 1987). Альтернативное объяснение состоит в том, что
функция оценки в действительности не является непрерывной, т. е.
потери, связанные с ухудшением существующего положения, оцени-
ваются совсем не так, как выигрыши. Такое «неприятие потерь» об-
наружено и в рамках МУО, и при анализе других типов поведения,
включая исследование реальных рынков (Knetsch, Sinden, 1984; Knetsch
et al., 1987; Knetsch, 1989). Если функция оценки фактически имеет
излом в точке, соответствующей первоначальной наделенности бла-
гом, то отсюда вытекают важнейшие последствия для теории потреб-
ления, поскольку это означает, что потребители не путешествуют вверх
и вниз по гладким кривым безразличия (Knetsch, 1988). Проблема
остается нерешенной в литературе, но концепция «неприятия потерь»
имеет сильную поддержку среди психологов, где она согласуется с
«теорией перспектив» (prospect theory) (Kahnemann, Tversky, 1979).
Второй интересный феномен, обнаруженный благодаря МУО,
связан с природой выявленных ценностей. Идея о том, что не все
экономические ценности связаны с фактическим использованием или
потреблением благ, была предложена Вайсбродом (Weisbrod, 1964) и
Крутиллой (Krutilla, 1967). Вайсброд отметил потенциальную цен-
ность сохранения товара для сохранения возможности его использо-
вания. Крутилла выдвинул идею ценностей, не связанных с каким бы
то ни было использованием, реальным или потенциальным. Исследо-
вания в рамках МУО фактически позволили дать эмпирические оцен-
ки ценностей потенциального использования и существования благ.
В качестве обобщения можно сказать что, «полная» экономическая
ценность включает ценность использования плюс ценность потенци-
ального использования плюс ценность существования. В некоторых
публикациях обсуждается природа ценности потенциального исполь-
зования, поскольку априорное предположение о том, что она имеет
положительное значение, является упрощением. Ценность потенци-
ального использования можно рассматривать как форму страхования
против неопределенности. Если будущее предложение находится под
вопросом (например, в случае исчезающих видов), то ценность потен-
циального использования будет в общем случае положительна. Если
же неопределенность касается будущего спроса (например, измене-
ний во вкусах и доходах), то знак ценности потенциального исполь-
зования может быть как положительным, так и отрицательным (Bishop,
1982). Ценности существования положительны, но здесь возникают
другие моменты, поскольку неясна их мотивация. Анализ случайных
выборок членов групп по защите окружающей среды определенно
говорит о том, что многие люди имеют положительную готовность
Экономика окружающей среды
406
платить за сохранение естественной среды обитания и видов живот-
ных, с которыми они сами никогда не столкнутся. МУ О подтвержда-
ют эти выводы. Такие оценки, если они отражают определенные эти-
ческие ценности оценивающего агента, могли бы говорить о поведе-
нии, противоречащем предпочтениям. Тогда это подрывает теорию
ценности, основанную на предпочтениях. Некоторые комментаторы
поэтому предпочли объяснять ценность существования через желание
оставить наследство (передать капитал в форме окружающей среды
будущему поколению, полезность для которого входит в полезность
для нынешнего поколения) или через чувства симпатии к потомкам.
Альтернативным объяснением, по-видимому, не согласующимся с
теорией ценности, основанной на предпочтениях, могло бы быть
уважение к «правам» природы, или представление о некоем «служе-
нии». Неудивительно поэтому, что само существование ценности су-
ществования в экономической литературе является предметом дис-
куссии. Эмпирические оценки, тем не менее, дали некоторые неожи-
данные результаты, как, например, в случае, когда обнаружилось, что
предполагаемое увеличение количества красивых видов для посе-
щающих Большой Каньон приносит выгоды, подавляющая часть ко-
торых получат люди, которые никогда не посетят эту местность (Brooks-
hire et al., 1985).
Достижения последнего десятилетия в разработке методов оцен-
ки были, таким образом, огромны. В значительной степени они каса-
лись восприятия выгод от природной окружающей среды. Еще мно-
гое предстоит сделать для лучшего понимания экономической ценно-
сти экосистем вообще, например, защитных функций тропических
лесов, защиты от штормов, а также влияния заболоченных террито-
рий на качество воды или влияния генетического разнообразия на
уровень урожайности и использования этого в качестве потенциаль-
ной научной информации и т. д. В этом направлении были достигну-
ты определенные успехи, но поскольку очень многие ценные экосис-
темы либо глобальны по своей природе (океаны, атмосфера и стратос-
фера), либо расположены в развивающихся странах (тропические леса,
мангровые заросли, болота), то необходимо принять новый вызов и
разработать методы оценки в условиях, когда суррогатные рынки (на-
пример, рынки труда и жилья) работают крайне несовершенно и МУО,
скорее всего, неприменимы.
16.5. Экономические инструменты
Заключительный вопрос касается механизмов, способных обес-
печить оптимальный уровень загрязнения и оптимальные нормы ис-
пользования и исчерпания ресурса, как бы этот оптимум ни был
определен. Центральными задачами экономистов были: а) демонстра-
406
Дэвид У. Пирс
ция того, что подход к регулированию на основе «админстрирования
и контроля» является в общем случае неэффективным; б) исследова-
ние достоинств двух главных альтернативных решений: системы спе-
циальных сборов и системы рыночных разрешений; в) проверка идеи,
согласно которой расширение прав собственности решит проблему
внешних эффектов.
На практике большая часть регулирования загрязнения состоит
в установлении определенных стандартов. Экономическое возраже-
ние против установления стандартов заключается в том, что подобная
практика хотя и может случайно привести к оптимальному уровню
внешних эффектов, но требования к информации, необходимой для
нахождения этого оптимума, трудновыполнимы как при установле-
нии оптимальных налогов, так и при определении стандартов. Кроме
того, эффективность штрафов за нарушение стандартов является
случайной величиной — наказанию должны предшествовать мони-
торинг и выявление нарушений. Дебаты вокруг установления стан-
дартов в экономике окружающей среды являются особым случаем
дебатов на тему «цена или количество» в экономической теории в
целом (Weitzman, 1974). Неопределенность относительно наклона гра-
фиков функций выгод и издержек приводит к неэффективности уста-
новления стандартов. В терминах динамической эффективности за-
грязняющая сторона не имеет никакого стимула уменьшать загрязне-
ние, если оно не достигает предельно допустимого уровня, в то время
как сбор с загрязнителя взимается при любом уровне выпуска.
Привлекательность сборов или налогов с загрязнителей состоит
в том, что они способны приводить к оптимальному уровню внешних
эффектов посредством автоматических изменений поведения загряз-
нителей. Повторим, однако, еще раз: оптимальный налог требует,
чтобы регулирующий орган обладал знанием соответствующих функ-
ций издержек и выгод, но в то же время информация относительно
частных издержек и выгод «асимметрична» — ею обладает загрязни-
тель и не обладает регулирующий орган. Налоговые решения также
поднимают проблемы прав собственности.
Идея налога состоит в том, чтобы создать оптимальный уровень
внешних эффектов, но как только оптимум достигнут, загрязнитель
все еще платит налог с этого оптимального уровня. Подобный сбор
предполагает, что права собственности на функции окружающей сре-
ды, используемые загрязнителем, принадлежат кому-то, отличному от
загрязнителя. Ясно, что если права собственности полностью принад-
лежат загрязнителю, то любые сборы незаконны. Третья альтернати-
ва состоит в том, что загрязнитель имеет «право» на оптимальное
загрязнение, но не более того. Природа сборов и их общий статус,
таким образом, зависят от первоначальной аллокации прав собствен-
ности. Баумоль и Оутс (Baumol, Oates, 1971) продемонстрировали, что
налоги могли бы с наименьшими издержками обеспечить решение,
Экономика окружающей среды
407
ведущее к достижению установленного стандарта, не имеющего ника-
ких специфических характеристик оптимальности.
Имеется внушительный объем литературы по поводу идеи про-
дажи разрешений на загрязнение. Выдвинутая в концепции Дейлза
(Dales, 1968) идея разрешений в своей основе очень проста. Регули-
рующая власть выбирает приемлемый уровень (стандарт) загрязне-
ния, а затем выпускает сертификаты, позволяющие производить за-
грязнения вплоть до этого уровня. Эти разрешения продаются на рын-
ке. Загрязнители с большими издержками снижения загрязнений будут
покупать эти сертификаты, загрязнители же с маленькими издержка-
ми вместо покупки сертификата предпочтут снизить уровень загряз-
нения. Распределение издержек снижения загрязнений будет таким,
что загрязнители первого типа будут загрязнять в пределах, опреде-
ленных стандартом, загрязнители же второго типа уменьшат загряз-
нения. Интуитивно понятно, что в таком случае сумма издержек на
уменьшение загрязнения будет минимизирована для данного уровня
стандарта. Монтгомери (Montgomery, 1972) продемонстрировал, что
если разрешения относятся к воздействию на окружающую среду, а
не к величине выбросов, то конкурентный рынок разрешений приве-
дет к минимизирующему издержки состоянию, предполагаемому только
что описанным интуитивным подходом. Огромная привлекательность
подобной системы состоит в том, что она не упирается в проблему
асимметричной информации, с которой сталкиваются прочие регули-
рующие механизмы, т. е. регулирующая сторона не нуждается в ин-
формации об издержках уменьшения загрязнений со стороны загряз-
нителей. Крупник и др. (Krupnick et al., 1980) критикуют систему,
основанную на воздействии на окружающую среду, на том основании,
что на деле каждый загрязнитель должен будет держать портфель
различных разрешений, чтобы оплатить воздействия на различные
компоненты окружающей среды. Это налагает на загрязнителей ад-
министративные и трансакционные издержки. Система, основанная
на величине выбросов, также будет неэффективна, поскольку реально
значение имеет именно нанесенный ущерб, а не уровень выбросов, а
функция выброс-ущерб будет меняться от источника к источнику.
Крупник и др., таким образом, склоняются к системе «возмещения
загрязнения», при которой разрешения выдаются на определенную
величину выбросов, но торговля ограничена таким образом, чтобы не
был нарушен определенный стандарт состояния окружающей среды,
т. е. разрешения продаются не по «номиналу», а по некоторой взве-
шенной цене, отражающей вариации функций «выброс-ущерб». Идея
рыночных разрешений весьма привлекательна. Опыт их использова-
ния ограничен главным образом политикой в области загрязнения
воздуха в США. Неоценимый вклад в данную проблему внес Титен-
берг (Tietenberg, 1985).
408
Дэвид У. Пирс
Наконец, из плодотворной работы Коуза (Coase, 1960) вытекает
идея, что подход к загрязнению с точки зрения регулирования вовсе
не нужен. Теорема Коуза предполагает, что оптимальный уровень
внешних эффектов может быть достигнут независимо от любой ис-
ходной аллокации прав собственности. Если загрязнитель обладает
правами собственности, то пострадавший может предоставлять за-
грязнителю компенсацию до достижения оптимального уровня внеш-
них эффектов. Если же владельцем прав является пострадавший, то
подобный процесс компенсации осуществляет загрязнитель. Однако
изящество теоремы Коуза резко контрастирует с проблемами за-
грязнения реального мира. Трудно отнести дезагрегированный ущерб
к определенному источнику загрязнения, так что возможность для
загрязнителя и пострадавшего «прийти к согласию» вряд ли реальна.
Некоторые пострадавшие, например будущие поколения, не представ-
лены среди сторон, заключающих сделку. Кроме того, теорема Коуза
соблюдается только в условиях конкуренции, хотя при монополисти-
ческой конкуренции налоговые решения также проблематичны (Ваи-
mol, Oates, 1988). Возможность для неэффективности в рамках кон-
цепции Коуза также возникает, если «угрозы» могут приносить до-
ход. Если институциональную структуру определить таким образом,
что стороной, заключающей сделку с загрязнителями или с их пред-
ставителями, является представитель местного или федерального пра-
вительства, привлекательность рыночных решений еще более блек-
нет. Регулирование определенного вида, в идеале основанное на сис-
теме рыночных разрешений, обеспечивающей минимум издержек,
вероятно, будет менее дорогостоящим, чем трансакционные издерж-
ки многостороннего торга. Наконец, условия торга еще менее приме-
нимы в тех случаях, когда проблемой является глобальное загрязне-
ние (глобальное потепление, уничтожение озонового слоя и т. д.),
поскольку загрязнители и пострадавшие являются одними и теми же
лицами, или проблема недоопределена, как в случае определения об-
щей экономической ценности тропических лесов. Эти замечания под-
черкивают степень кабинетной абстракции, которой была отмечена
значительная часть публикаций по экономике контроля над за-
грязнениями, а также указывают на необходимость развивать теорию
в более широком контексте реального мира.
16.6. Заключение
Экономика окружающей среды в настоящее время — вполне
утвердившаяся часть современной экономической науки. В то время
как все еще имеется тенденция относиться к ней как к дисциплине,
стоящей вне «основного течения» экономической науки, ее развитие
Экономика окружающей среды
40»
внесло реальный вклад в решение проблем основного течения, как
это было с обнаружением очевидной несовместимости различных
показателей потребительского излишка, возможными аргументами
против фундаментальных предпосылок максимизации полезности и
беспрепятственного замещения, а также с идеей расширенного равно-
весия. Эта дисциплина находится в состоянии непрерывного измене-
ния, чего и следует ожидать от недавно возникшей области науки.
Возможно, она поставит под сомнение некоторые фундаментальные
допущения экономической теории. И что еще важнее, она способна
внести вклад в улучшение окружающей среды и повышение благо-
состояния всего человечества.
Литература
Arrow К., Chang S. Optimal pricing, use and exploration of uncertain natural
resource stocks // Technical Report 31, Department of Economics. Harvard
University. 1978.
Arrow K., Lind R. Uncertainty and the evaluation of public investment deci-
sions //American Economic Review. 1970. Vol. 60. P. 364-378.
Ayres R., Kneese A. Production, consumption and externalities//American
Economic Review. 1969. Vol. 59. P. 282-297.
Barnett H. Scarcity and growth revisited / In V. K. Smith (ed.). Scarcity and
Growth Reconsidered. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press,
1979.
Barnett H., Morse C. Scarcity and Growth: The Economics of Natural Resource
Availability. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press, 1963.
Baumol W., Oates W. The use of standards and prices for protection of the
environment //Swedish Journal of Economics. 1971. Vol. 73. P. 42-54.
Baumol W., Oates W. The Theory of Environmental Policy / 2nd edn. Cambridge :
Cambridge University Press, 1988.
Becker G. A theory of the allocation of time // Economic Journal. 1965. Vol. 75.
P.493-517.
Beckermann W. Economists, scientists, and environmental catastrophe // Oxford
Economic Papers. 1972. Vol. 24. P. 237-244.
Bentkover J. D., Covello V. T., Mumpower J. Benefits Assessment: The State of the
Art. Dordrecht: Reidel, 1986.
Bishop R. Option value: an exposition and extension//Land Economics. 1982.
Vol. 58. P. 1-15.
Bockstael N., McConnell K. Welfare measurement in the household production
framework//American Economic Review. 1983. Vol. 73. P. 806-814.
Bohm P. Estimating demand for public goods: an experiment /1 European Eco-
nomic Review. 1972. Vol. 3. P. 111-130.
Bouldtng K. The economics of the coming spaceship earth / In H. Jarrett (ed.).
Environmental Quality in a Crowing Economy. Baltimore, MD : Johns
Hopkins University Press, 1966.
410
Дэвид У. Пирс
Bradley Р. Has the «economics of exhaustible resources» advanced the economics
of mining? / In A. Scott (ed.). Progress in Natural Resource Economics.
Oxford : Clarendon Press, 1985.
Brookshire D., Coursey D. Measuring the value of a public good: an empirical
comparison of elicitation procedures // American Economic Review. 1987.
Vol. 77. P. 554-566.
Brookshire D., d’Arge R., Schuize W., Thayer M. Experiments in valuing public
goods I In V. K. Smith (ed.). Advances in Applied Microeconomics. Gre-
enwich, CT : JAI Press, 1981. Vol. 1.
Brookshire D., Schulze W., Thayer M. Some unusual aspects of valuing a unique
natural resource // Mimeo. University of Wyoming. 1985.
Brookshire D., Thayer M., Schulze W., d’Arge R. Valuing public goods: a comparison
of survey and hedonic approaches//American Economic Review. 1982.
Vol. 72. P. 165-177.
Broome J. Trying to value a life // Journal of Public Economics. 1979. Vol. 9.
P. 91-100.
Brown G., Field B. The adequacy of measures for signalling the scarcity of
natural resources / In V. K. Smith (ed.). Scarcity and Growth Reconsidered,
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1979.
Brown G., Mendlesohn R. The hedonic travel cost method // Review of Economics
and Statistics. 1984. Vol. 66. P. 427-433.
Burness S., Cummings R., Morris G., Paik I. Thermodynamic and economic concepts
as related to resource-use policies // Land Economics. 1980. Vol. 56. P. 1-9.
Campbell H. The effects of capital intensity on the optimal rate of extraction of
a mineral deposit // Canadian Journal of Economics. 1980. Vol. 13. P. 349-
356.
Clark C. Mathematical Bioeconomics. New York: Wiley, 1976.
Clawson M., Knetsch J. Economics of Outdoor Recreation. Baltimore, MD : Johns
Hopkins University Press, 1966.
Coase R. The problem of social cost//Journal of Law and Economics. 1960.
Vol. 3. P. 1-44.
Coursey D., Hovis J., Schulze W. On the supposed disparity between willingness
to accept and willingness to pay measures of value // Quarterly Journal of
Economics. 1987. Vol. 102. P. 679-690.
Cremer J., Weitzman M. OPEC and the monopoly price of world oil // European
Economic Review. 1976. Vol. 8. P. 155-164.
Crocker T., Schulze W., Ben-David S., Kneese A Methods Development for Assessing
Air Pollution Control Benefits. Experiments in the Economics of Air
Pollution Epidemiology. Washington, DC : US Environmental Protection
Agency, 1979. Vol. 1.
Cropper M. Measuring the benefits from reduced morbidity // American Eco-
nomic Review, Papers and Proceedings. 1981. Vol. 71. P. 235-240.
Cummings R., Brookshire D., Schuize W. Valuing Environmental Goods: An
Assessment of the Contingent Valuation Method. Totowa, NJ : Rowman &
Allanheld, 1986.
Dales J. H. Pollution, Property and Prices. Toronto : University of Toronto
Press, 1968.
Daly H. Steady State Economics. San Francisco, CA: W. H. Freeman, 1973.
Экономика окружающей среды
411
Daly Н. Thermodynamic and economic concepts as related to resource-use poli-
cies: a comment // Land Economics. 1986. Vol. 62. P. 319-322.
Daly H. The economic growth debate: what some economists have learned but
many have not // Journal of Environmental Economics and Management.
1987. Vol. 14. P. 323-336.
Dasgupta P., Heal G. Economic Theory and Exhaustible Resources. Cambridge :
Cambridge University Press, 1979.
De Graaf J. V. Theoretical Welfare Economics. Cambridge : Cambridge University
Press, 1957.
Devajaran S., Fisher A. Hotelling’s «Economics of Exhaustible Resources*: fifty
years later//Journal of Economic Literature. 1981. Vol. 19. P. 65-73.
Deyak T., Smith V. K. Congestion and participation in outdoor recreation: a
household production approach // Journal of Environmental Economics and
Management. 1978. Vol. 5. P. 63-80.
Easterltn R. A. Does economic growth improve the human lot? / In P. David and
R. Weber (eds). Nations and Households in Economic Growth. New York :
Academic Press, 1974.
Eckstein O. A survey of the theory of public expenditure / In J. Buchanan (ed.).
Public Finances: Needs, Sources and Utilisation. Princeton, NJ : Princeton
University Press, 1961. P. 452-502.
Faust mann M. Berechnung des Wertes welchen Waldboden sowie noch nicht
haubare Holzbestande fur die Waldwirtschaft besizten // Allgemeine Forst
und Jagd-Zeitung. 1849. Vol. 25. P. 441-455.
Feenberg D., Mills E. Measuring the Benefits of Water Pollution Abatement.
New York : Academic Press, 1980.
Fisher A. C. Environmental externalities and the Arrow-Lind theorem // American
Economic Review. 1974. Vol. 63. P. 722-725.
Fisher A. C. Whither oil prices: the evidence from theory // Natural Resource
Modeling. 1987. Vol. 2. P. 5-22.
Freeman A. M. The Benefits of Environmental Improvement. Baltimore, MD :
Johns Hopkins University Press, 1979.
Freeman A. M. Air and Water Pollution Control. New York : Wiley, 1982.
Georgescu-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge,
MA : Harvard University Press, 1971.
Georgescu-Roegen N. Comments on the papers by Daly and Stiglitz I In V. K. Smith
(ed.). Scarcity and Growth Reconsidered. Baltimore, MD : Johns Hopkins
University Press, 1979. P. 95-105.
Gerking S., Stanley L. An economic analysis of air pollution and health: the case of
St. Louis//Review of Economics and Statistics. 1986. Vol. 68. P. 115-121.
Goodin R. Uncertainty as an excuse for cheating our children: the case of
nuclear wastes //Policy Sciences. 1978. Vol. 10. P. 25-43.
Goodin R. Discounting discounting//Journal of Public Policy. 1982. Vol. 2.
P.53-72.
Gordon H. S. Economic theory of a common-property resource: the fishery //
Journal of Political Economy. 1954. Vol. 62. P. 124-142.
Gray L. Rent under the assumption of exhaustibility // Quarterly Journal of
Economics. 1914. Vol. 28. P. 466-489.
412
Дэвид У. Пирс
Grillches Z. (ed.). Price Indexes and Quality Change. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1971.
Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health //
Journal of Political Economy. 1972. Vol. 80. P. 223-255.
Hall D., Hall J. Concepts and measures of natural resource scarcity with a
summary of recent trends // Journal of Environmental Economics and
Management. 1984. Vol. 11. P. 363-379.
Harrison D., Rubtnfeld O. Hedonic housing prices and the demand for clean
air//Journal of Environmental Economics. 1978. Vol. 5. P. 81-102.
Hartwick J. Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible
resources // American Economic Review. 1977. Vol. 66. P. 972-974.
Hartwick J. Substitution among exhaustible resources and intergenerational
equity // Review of Economic Studies. 1978a. Vol. 45. P. 347-354.
Hartwick J. Investing returns from depleting renewable resource stocks and
intergenerational equity//Economic Letters. 1978b. Vol. 1. P. 85-88.
Hoel M. Resource extraction, uncertainty, and learning // Bell Journal of Eco-
nomics. 1978. Vol. 9. P. 642-645.
Hotelling H. The economics of exhaustible resources // Journal of Political
Economy. 1931. Vol. 39. P. 137-175.
Hotelling H. The economics of public recreation — an economic survey of the
monetary evaluation of recreation in the national parks // Mimeo, US
National Park Service, Washington, DC. 1949.
Johansson P.-О. The Economic Theory and Measurement of Environmental
Benefits. Cambridge, MA : Cambridge University Press, 1987.
Kahnemann D., Tversky A. Prospect theory: an analysis of decisions under
risk// Econometrica. 1979. Vol. 42. P. 263-291.
Klaassen L., Botterweg T. Project evaluation and intangible effects: a shadow
project approach // In P. Nijkamp (ed.). Environmental Economics. Leiden:
Nijhoff, 1976. Vol. 1.
Kneese A., Ayres R., d’Arge R. Economics and the Environment: a Materials Balance
Approach. Washington, DC: Resources for the Future, 1970.
Knetsch J. The endowment effect and evidence of non-reversible indifference
curves // Mimeo, Department of Economics, Simon Fraser University,
Vancouver. 1988.
Knetsch J. Environmental and economic impact assessments and the divergence
between the willingness to pay and the compensation demanded measures
of loss//Mimeo, Department of Economics, Simon Fraser University,
Vancouver. 1989.
Knetsch J., Sinden J. Willingness to pay and compensation demanded: experi-
mental evidence of an unexpected disparity in measures of value // Quarterly
Journal of Economics. 1984. Vol. 99. P. 507-521.
Knetsch J., Thaler R., Kahneman D. Experimental tests of the endowment effect
and the Coase theorem // Mimeo, Department of Psychology, University of
California at Berkeley. 1987.
Krautkraemer J. Optimal growth, resource amenities, and the preservation of
natural environments // Review of Economic Studies. 1985. Vol. 52. P. 153-
170.
Экономика окружающей среды
413
Krautkraemer J. The rate of discount and the preservation of natural environ-
ments // Natural Resource Modeling. 1988. Vol. 2. P. 421-439.
Krupnlck A., Oates W., Van. De Verg E. On marketable air pollution permits: the
case for a system of pollution offsets // Journal of Environmental Eco-
nomics and Management. 1980. Vol. 10. P. 233-247.
Krutilla J. Conservation reconsidered//American Economic Review. 1967.
Vol. 57. P. 777-786.
Kula E. Derivation of social time preference rates for the United States and
Canada// Quarterly Journal of Economics. 1984. Vol. 99. P. 873-882.
Lave L., Seskin E. Air Pollution and Human Health. Baltimore, MD : Johns Hopkins
University Press, 1977.
Levharl D., Plndyck R. The pricing of durable exhaustible resources // Working
paper EL 79-053 WP, MIT Energy Laboratory. 1979.
Lewis T. R. Monopoly exploitation of an exhaustible resource//Journal of
Environmental Economics and Management. 1963. Vol. 3. P. 198-201.
Ltnd R. Discounting for Time and Risk in Energy Policy. Baltimore, MD : Johns
Hopkins University Press, 1982.
Little I. M. D. A Critique of Welfare Economics. Oxford : Oxford University
Press (2nd edn 1957), 1950.
Maier K.-G. Comment on R. M. Solow «On the intergenerational allocation of
natural resources» //Scandinavian Journal of Economics. 1986. Vol. 88.
P.151-152.
Malthus T. An Essay on the Principle of Population / ed. A. Flew. London :
Pelican. 1798.
Marglin S. The social rate of discount and the optimal rate of investment //
Quarterly Journal of Economics. 1963. Vol. 77. P. 95-112.
Markandya A., Pearce D. W. Environmental Considerations and the Choice of
Discount Rate in Developing Countries. Washington, DC : Environment
Department, World Bank, 1988.
Martinez-Alier J. Ecological Economics. Oxford : Oxford University Press, 1988.
Mill J. S. Principles of Political Economy. London : Parker, 1857.
Montgomery W. Markets and licenses and efficient pollution control prog-
rams //Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 5. P. 395-418.
Morey E. The demand for site-specific recreational activities: a characteristics
approach 11 Journal of Environmental Economics and Management. 1981.
Vol. 8. P. 345-371.
Nelson J. Airports and property values: a survey of recent evidence // Journal
of Transport Economics and Policy. 1980. Vol. 14. P. 37-52.
Nelson J. Highway noise and property values: a survey of recent evidence//
Journal of Transport Economics and Policy. 1982. Vol. 16. P. 117-130.
Nordhaus W. The allocation of energy resources // Brookings Papers on Economic
Activity. 1973. Vol. 3. P. 529-570.
Olson M., Bailey M. Positive time preference // Journal of Political Economy.
1981. Vol. 89. P. 1-25.
Ostro B. The effects of air pollution on work loss and morbidity // Journal of
Environmental Economics and Management. 1983. Vol. 10. P. 371-382.
414
Дэвид У. Пирс
Ostro В. Air pollution morbidity revisited: a specification test//Journal of
Environmental Economics and Management. 1987. Vol. 14. P. 87-98.
Page T. Equitable use of the resource base // Environment and Planning, Ser. A.
1977a. Vol. 9. P. 15-22.
Page T. Conservation and Economic Efficiency. Baltimore, MD : Johns Hopkins
University Press, 1977b.
Page T. Intertemporal and international aspects of virgin materials taxes / In D.
W. Pearce and I. Walter (eds). Resource Conservation: Social and Economic
Dimensions of Recycling. New York : New York University Press, 1977c.
P. 63-81.
Page T. A generic view of toxic chemicals and similar risks 11 Ecology Law
Quarterly. 1978. Vol. 7. P. 207-244.
Parflt D. Energy policy and the further future: the social discount rate /
In D. MacLean and P. Brown (eds). Energy and the Future. Totowa, NJ :
Rowman & Littlefield, 1983.
Pearce D. W. World energy demand and crude oil prices to the year 2000//
Journal of Agricultural Economics. 1981. Vol. 34. P. 341-354.
Pearce D. W. Foundations of an ecological economies // Ecological Modelling.
1987. Vol. 38. P. 9-18.
Pearce D. W., Markandya A The Benefits of Environmental Policy: Monetary
Valuation. Paris: OECD, 1989.
Pearce D. W., Barbier E., Markandya A. Sustainable Development: Economics and
the Environment in the Third World. Aidershot: Edward Elgar, 1989.
Perrings C. Economy and Environment. Cambridge : Cambridge University Press,
1987.
Peterson F., Fisher A. The exploitation of extractive resources: a survey // Economic
Journal. 1977. Vol. 87. P. 681-721.
Pigou A. C. The Economics of Welfare. London: Macmillan (4th edn 1932), 1920.
Ramsey F. P. A mathematical theory of saving // Economic Journal. 1929. Vol. 38.
P.543-559.
Rawls J. A Theory of Justice. Oxford : Oxford University Press, 1972.
Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation. London : Everyman
(reprinted 1926), 1817.
Ridker R. Economic Costs of Air Pollution. New York : Praeger, 1967.
Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure
competition//Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82. P. 34-55.
Samuelson P. Pure theory of public expenditure // Review of Economics and
Statistics. 1954. Vol. 36. P. 387-389.
Samuelson P. Discussion //American Economic Review. 1964. Vol. 54. P. 93-96.
Sen A. K. On optimising the rate of saving //Economic Journal. 1961. Vol. 71.
P.470-498.
Slade M. Trends in natural resource commodity prices: an analysis of the time
domain//Journal of Environmental Economics and Management. 1982.
Vol. 9. P. 122-137.
Smith V. K., Desvousges W. Measuring Water Quality Benefits. Boston, MA :
Kluwer Nijhoff, 1986.
Solow R. M. Intergenerational equity and exhaustible resources // Review of
Economic Studies. 1978. Vol. 41. P. 29-45.
Экономика окружающей среды
415
Solow R. М. On the intergenerational allocation of natural resources//Scan-
dinavian Journal of Economics. 1986. Vol. 88. P. 141-149.
Solow R., Wan F. Extraction costs in the theory of exhaustible resources // Bell
Journal of Economics. 1976. Vol. 7. P. 359-370.
Spash C., d’Arge R. The greenhouse effect and intergenerational transfers //
Energy Policy April. 1989. P. 88-96.
Stiglitz J. Monopoly and the rate of extraction of exhaustible resources // American
Economic Review. 1976. Vol. 66. P. 655-661.
Tletenberg T. Emissions Trading. Baltimore, MD : Johns Hopkins University
Press, 1985.
Ulph A. The role of ex ante and ex post decisions in the value of life // Journal
of Public Economics. 1982. Vol. 18. P. 265-276.
Violette D., Chestnut L. Valuing Reductions in Risks. Washington, DC : US
Environmental Protection Agency, 1983.
Weinstein M., Zeckhauser R. The optimal consumption of depletable natural
resources//Quarterly Journal of Economics. 1975. Vol. 89. P. 371-392.
Welsbrod B. Collective consumption services of individual consumption
goods // Quarterly Journal of Economics. 1964. Vol. 78. P. 471-477.
Wettzman M. Prices vs quantities // Review of Economic Studies. 1974. Vol. 41.
P. 477-491.
Wtllig R. Consumer’s surplus without apology//American Economic Review.
1976. Vol. 66. P. 589-597.
Wilman E. External Costs of Coastal Beach Pollution: an Hedonic Approach.
Washington, DC : Resources for the Future, 1984.
W. 1
>'l li- - "
w» .r
d '
J
T(
17
, КРИСТИАН МОНТЕ ?1с.
ТЕОДОа да? И СГРАГЕГИЧЕСКОЕ ЩйчдаНИЕ
17.1. Введение*
Теория игр занимается анализом сознательных взаимодействий
между агентами. Каждый игрок ведет себя стратегически в том смыс-
ле, что при принятии решения о том, какую линию поведения он
должен выбрать, он учитывает возможные влияния, которые эти дей-
ствия могут оказать на других игроков, а также то, что последние
ведут себя таким же образом. Экономическая жизнь полна ситуаций,
удовлетворяющих такому описанию: это олигополистические рынки,
внешнеторговая политика, проблемы торга, международные эффекты
макроэкономической политики, взаимоотношения между правитель-
ствами и частными агентами и т. д. К настоящему моменту использо-
вание понятийного аппарата теории игр в экономической теории имеет
уже довольно длительную историю.
Уже в 1838 г. Курно изучал ситуацию дуополии, используя кон-
цепцию равновесия, которая стала ключевой в теории некооперативных
игр после появления работы Нэша (Nash, 1951). «Контрактная кри-
вая», предложенная Эджуортом в конце XIX в., может быть легко
проинтерпретирована в терминах «ядра» — одной из концепций рав-
новесия в современной теории кооперативных игр.
Однако самым великим событием в этой истории стала публи-
кация в 1944 г. работы фон Неймана и Моргенштерна «Теория игр и
экономическое поведение», в которой развивались идеи, выдвинутые
фон Нейманом в 1928 г. Авторы этой книги провозгласили револю-
цию в экономической мысли, утверждая, что «теория стратегических
* Я благодарен Майку Блини, Дэвиду Гринуэю и Даниелю Серра за
полезные комментарии к предыдущему варианту данной главы. Я также
многим обязан моему коллеге Дидье Лосселю за нашу совместную работу и
дискуссии, связанные с этой темой. И наконец, я хочу поблагодарить моего
бывшего студента Жана-Стефана Мишара за его вопросы по предмету статьи
и курсовую работу, которые способствовали улучшению данного текста.
Теория игр и стратегическое поведение
417
игр — это тот самый инструмент, с помощью которого будет разви-
ваться теория экономического поведения» (von Neumann, Morgenstern,
1944 : 1-2).
Однако, несмотря на такие обещания, теория игр до определен-
ной степени находилась в тени в течение последующих двух десяти-
летий. В конце 1960-х гг. многие экономисты были разочарованы в
новом подходе, причем настолько, что один автор в 1963 г. смог
написать следующее: «До сегодняшнего дня не предпринималось серь-
езных попыток применить теорию игр к проблемам рынка или к
экономическим проблемам в целом» (Napoleoni, 1963 : 62). Такое
утверждение звучит анахронизмом в 1991 г., после того повторного
открытия, развития и теперешнего доминирования теории игр в эко-
номической литературе.
В большинстве последних работ, посвященных теории отрасле-
вых рынков, теории международной торговли, макроэкономической
и денежной теории, теории государственных финансов используется
аналитический аппарат теории игр (приведем лишь один пример:
в книге «Advances in Economic Theory» под редакцией Трумэна Бью-
ли (Bewley, 1987) только три главы из одиннадцати не имеют прямой
связи с теорией игр.
Вероятно, большой интерес для будущих историков экономиче-
ской мысли будет представлять вопрос о том, почему это плодотвор-
ное слияние теории игр с экономической теорией не произошло раньше
конца 1970-х гг.1 Мы можем сделать несколько предположений на
этот счет. Во-первых, после Второй мировой воины перед парадиг-
мой совершенной конкуренции все еще открывались возможности
расширения и развития; эта перспектива привлекала внимание и уси-
лия исследователей, работающих в областях теории общего равно-
весия, теории международной торговли, теории роста и т. д. Во-вто-
рых, теория игр довольно длительное время испытывала недостаток
внимания вследствие того, что многие неправильно понимали некото-
рые из ее базовых понятий, такие как равновесие Курно—Нэша,2
а также потому, что слишком большое внимание уделялось чисто
техническим вопросам, таким, например, как игры с нулевой сум-
мой, которые, вообще говоря, представляют мало интереса для эконо-
мистов.
1 Это не должно означать отрицания хороших работ, опубликованных в
период с 1944 по 1970 г., таких как работы Шубика (Shubik, 1959), и в
особенности работы, посвященные феномену «сжатия ядра» (когда возраста-
ет количество агентов), которые, безусловно, стали одним из значительных
достижений экономической теории после Второй мировой войны.
2 См. отличный комментарий Йохансена (Johansen, 1982) по этому
вопросу.
28 Зикнз № 356
418
Кристиан Монте
В-третьих, множественность подходов и понятий равновесия,
развитых в теории игр, не устраивала экономистов, привыкших к
ясным и унифицированным моделям совершенной конкуренции.
В-четвертых, многие сложные экономические вопросы стало возмож-
ным трактовать в терминах теории игр только после недавнего разви-
тия и распространения анализа динамических игр, а также совершен-
ствования и уточнения понятий равновесия, таких, например, как
совершенная субигра (subgame perfection).
В частности, предложенное Шеллингом (Schelling, 1960, 1965)
тонкое понятие стратегических ходов сегодня применяется в реше-
нии множества экономических проблем как элемент формального
аппарата теории динамических игр. Кроме того, во многих вопросах
приходится учитывать несовершенство информации, но только со-
всем недавно была полностью признана и стала серьезно анализи-
роваться роль информационной асимметрии в стратегическом по-
ведении.
Таким образом, можно утверждать, что более ясное и более
широкое понимание понятия равновесия по Нэшу, стимулирующие
идеи Шеллинга о стратегическом поведении, последние достижения
теории динамических игр, такие как разработанное Зельтеном поня-
тие совершенного равновесия (perfect equilibrium) и прогресс теории
игр с неполной или несовершенной информацией объясняют нынеш-
ний подъем игрового анализа в экономической науке.
В данной главе мы иллюстрируем эти идеи, уделяя наиболь-
шее внимание последним достижениям, нацеленным на примене-
ние подхода Шеллинга к формальному моделированию. Мы попы-
таемся представить основные положения с помощью примеров из
различных областей экономической теории: теории отраслевых
рынков, международной торговли и внешнеторговой политики, а
также денежной политики. Такой широкий выбор различных при-
меров дает понятие о множественности возможных применений
новых моделей и в то же время показывает общую структуру мно-
гих из этих применений.
Не отрицая важности теории кооперативных игр и теории торга
(bargaining theory), мы, тем не менее, уделим больше внимания
некоторым аспектам теории некооперативных игр. В разделе 17.2
мы даем краткое представление основных понятий и определений.
В разделе 17.3 мы обсуждаем стратегические проблемы для случа-
ев простого повторения однопериодной игры, а в разделе 17.4 за-
трагиваем более тонкие аспекты в различных многопериодных иг-
рах. В разделе 17.5 мы вводим понятие несовершенной информа-
ции и указываем на ее влияние на равновесие. В последнем разделе
мы даем краткое описание текущих проблем и перспектив разви-
тия данного подхода.
игр и стратегическое поведение
*!•
17.2. Основные понятия и определения
ь G-
Болыпинство понятий, которые мы представим в этом разделе,
сегодня становятся стандартными инструментами для экономистов
(как это случилось с математическим аппаратом несколько десятиле-
тий назад). Таким образом, можно ожидать, что такого рода краткое
знакомство с основными понятиями и методами теории игр вскоре
перестанет быть необходимым. Тем не менее в настоящий момент
такой экскурс необходим для того, чтобы читатель мог понять содер-
жание последующих разделов. Конечно, полное изложение теории игр
потребует целой книги, и мы отсылаем читателя к работам Бахараха
(Bacharach, 1976), Шубика (Shubik, 1982), и в особенности Фридмэна
(Friedman, 1986), за более детальным описанием.
Прежде чем обратиться к экономическим примерам, необходи-
мо пояснить наиболее часто используемые понятия игры, стратегии и
стратегического поведения, различных типов игр и различных поня-
тий равновесия.
Описание игры
Игра — это ситуация, в которой каждый агент старается макси-
мизировать свой выигрыш, выбирая наилучший план действий, учи-
тывая зависимость результата от действий других игроков.
Описание действий, запланированных агентом для всех возмож-
ных ситуаций, называется стратегией, и в общем смысле предполага-
ется, что каждый агент ведет себя стратегически. Конкретная игра
определена набором игроков, набором стратегий для каждого игро-
ка, из которых каждый агент выберет ту, которая, по его мнению,
является для него наилучшей, и функцией выплаты (pay-off) каждо-
му игроку. Более детальное описание игры включает в себя порядок
ходов (какой игрок когда осуществляет свои действия), набор дей-
ствий и информацию, доступные игроку перед совершением очеред-
ного хода. Так называемая нормальная форма описания игры объеди-
няет все эти элементы и позволяет рассматривать выигрыш как функ-
цию стратегий игроков.
В формальном виде каждый агент i выбирает стратегию at из
доступного набора стратегий Аг Функция выплаты агенту i — л1 (av ...,
at, ..., ап), i = 1, ..., п, поскольку она зависит от стратегий каждого из
участвующих в игре агентов. В статической (однопериодной) игре
стратегия является всего лишь действием в заданных условиях.
В динамической игре, где время и история игры имеют значения,
стратегия является планом действий для каждого периода игры.
Определение стратегий может быть расширено, если мы будем
учитывать не только выбор действий, но также и выбор вероятност-
ных распределений этих действий. В случае когда стратегии стано-
420
Кристиан Монте
вятся стохастическими, можно говорить о смешанных стратегиях, как
о случае, противоположном чистым стратегиям. В этой главе, руко-
водствуясь соображениями как простоты, так и интуитивной привле-
кательности, мы представим примеры только чистых стратегий.3
Различные классификации игр
Игры могут быть классифицированы в соответствии с разнооб-
разными критериями: со степенью гармонии между игроками, влия-
нием времени и условиями получения информации.
Гармония
Предполагается, что каждый игрок максимизирует свой выиг-
рыш. Тем не менее эта общая цель может предполагать весьма раз-
личные отношения к другим игрокам. В некоторых случаях все игро-
ки имеют одну и ту же цель, и поэтому они склонны кооперировать-
ся. В других случаях наблюдается ситуация прямого конфликта: один
агент выигрывает то, что другие агенты проигрывают. В последнем
варианте игра называется игрой с нулевой суммой (или в общем
случае — игрой с постоянной суммой). Несмотря на то что в эконо-
мической теории, начиная с работы фон Неймана и Моргенштерна и
до традиционного изложения теории игр в учебниках по микроэконо-
мике, использовались многочисленные примеры игр с нулевой сум-
мой, большая часть экономических проблем включает в себя элемен-
ты как конфликта, так и кооперации, т. е. представляет собой игры
с ненулевой суммой.4 Игры с ненулевой суммой могут быть как ко-
3 Однако мы должны признать, что смешанные стратегии могут пред-
ставлять собой очень изощренные формы стратегического поведения. В не-
которых типах игр неопределенность выбора может отчасти отвечать интере-
сам самого игрока (например, в игре с нулевой суммой для двух игроков, в
которой нет седловой точки, т. е. нет равновесия по принципу максимина:
каждый игрок ожидает хода другого игрока, откладывая свое решение и
сохраняя неопределенность относительно выбранной стратегии). В случае
когда игроки имеют возможность провести переговоры перед началом игры,
они располагают иными средствами для того, чтобы сделать свои решения
случайными величинами. Они могут установить позитивную корреляцию меж-
ду своими случайными стратегиями. И такие «скоррелированные стратегии»
позволяют игрокам достичь более высоких ожидаемых выигрышей, чем в
результате использования простых смешанных стратегий (Aumann, 1974,
1987).
4 Однако мы не должны упускать из виду тот факт, что игры с нулевой
суммой позволяют решать некоторые проблемы конфликтов и в рамках бо-
лее общих игр, имеющих аспекты конфликта и кооперации. В частности,
если допустить возможность образования коалиции, игры с нулевой суммой
помогают при оценивании относительной мощи различных коалиций.
Теория игр и стратегическое поведение
421
оперативными, так и некооперативными. Они могут быть кооператив-
ными, когда агенты имеют возможность заключать связывающие их
соглашения перед началом игры, и некооперативными — в против-
ном случае. Например, две фирмы в модели дуополии могут заклю-
чить между собой соглашение не вредить друг другу, но если не
существует правового института, который мог бы силой обеспечить
выполнение соглашения, игра должна быть смоделирована как неко-
оперативная .
Понятия равновесия, используемые в кооперативных и некоопе-
ративных играх, значительно отличаются друг от друга. Мы будем
рассматривать только равновесие для некооперативных игр, посколь-
ку этот случай более подходит для изучения концепции стратегиче-
ского поведения Шеллинга.
Время
Игра является по своей природе статической, если агенты встре-
чаются только однажды и принимают решения для единственного
периода игры. Определение динамической игры в общем смысле
подразумевает, что время имеет значение, или поскольку однопе-
риодная игра повторяется несколько раз (повторяемая игра), или
поскольку игра разворачивается во времени как многопериодная.
В условиях многопериодной сложной игры время может рассмат-
риваться как дискретная или непрерывная переменная; последний
подход более труден с технической точки зрения. Если количество
периодов ограничено, то решение динамической игры определяется
с помощью обратной индукции (backward induction), техники ана-
лиза, разработанной в динамическом программировании (Bellman,
1957).
В большинстве случаев ситуации, встречающиеся в экономике,
включают в себя многочисленные взаимодействия между агентами:
фирмы, работающие на одном и том же рынке, знают, что они встре-
тятся снова в последующих периодах, и из этого же предположения
исходит правительство, определяя свою внешнеторговую политику.
Более того, многие экономические переменные, такие как инвестиции
в производственные мощности и расходы на рекламу, оказывают свое
влияние на предложение и спрос лишь в будущем. Все эти особенно-
сти экономической жизни позволяют понять, почему динамические
игры образуют удобные рамки для изучения вопросов стратегическо-
го поведения в экономической теории.
Информация
Важным этапом в описании игры является спецификация струк-
туры информации, доступной каждому из игроков. В большинстве
случаев применения теории предпосылка о том, что некоторая ин-
422
Кристиан Монте
формация носит частный характер, является вполне естественной.
Например, каждая фирма знает свою собственную функцию издер-
жек, но не знает, какова эта функция для других игроков. Такая
информационная асимметрия делает возможным осуществление це-
лого спектра разновидностей стратегического поведения, таких, на-
пример, как блеф или создание репутации.
Сегодня стало уже традиционным считать, что информация яв-
ляется несовершенной, если агенты не знают о предыдущих действи-
ях кого либо из игроков, и что информация является неполной, если
агентам неизвестны функции выплаты оппонентам (например, пото-
му, что они не знают какого-либо из элементов, необходимых для
вычисления выплаты, такого, например, как издержки, необходимые
для расчета прибыли фирмы-конкурента).
Важно отметить, что даже в играх с асимметричной информаци-
ей значительная часть информации предполагается известной игро-
кам как общее знание, доступное каждому, и что субъективная веро-
ятность распределения частной информации между всеми агентами
также известна всем (общей является также предпосылка, что каж-
дый агент ведет себя рационально).
Понятия равновесия
в некооперативных играх
Сначала рассмотрим однопериодную модель с совершенной
(и полной) информацией. Для некооперативного равновесия наибо-
лее сильным понятием является равновесие доминирующей стра-
тегии, в котором существует только один выбор оптимальной стра-
тегии для каждого игрока вне зависимости от действий других
игроков. Дилемма заключенных — наиболее известный пример до-
минирующей стратегии. Но, как бы ни было привлекательно такое
понятие, тем не менее существует много примеров игр, где просто нет
доминирующей стратегии.5 Менее сильным и фактически более час-
то применяемым в теории некооперативных игр понятием является
равновесие по Нэшу. Грубо говоря, мы можем сказать, что в ситуа-
ции равновесия по Нэшу каждый агент поступает наилучшим обра-
зом при данных действиях других агентов. Описывая формально и
оставляя обозначения, применявшиеся ранее для стратегии и функ-
5 Это понятие очень важно с нормативной точки зрения. Для принятия
решений в условиях идеальной децентрализации принятия решений доми-
нирующие стратегии имеют особенное значение. Данное свойство объясняет,
почему не поддающиеся манипулированию механизмы принятия решений,
где доминирующие стратегии каждого агента выявляют его предпочтения,
так широко изучаются в экономике общественного сектора (см., например,
Laffont, Maskin, 1982).
Теория игр и стратегическое поведение
423
ции выплаты, aN = (af, .... а^)является равновесием по Нэшу, если
для всех i = 1, ..., п
..., а^, a?, а?+1, ..., а?) > л‘(<.............<)
для всех at е А,.
В условиях равновесия по Нэшу набор ожиданий, определяю-
щих выбор каждого агента, соответствует выбранным действиям и
никто не желает изменять свое поведение. Понятие статического рав-
новесия по Нэшу долгое время понималось неправильно. Многие
критики решения проблемы дуополии, принадлежащего Курно, а это
первый и наиболее известный пример равновесия по Нэшу, отмеча-
ли, что в этой ситуации поведение фирм является довольно ирраци-
ональным и, по всей видимости, недальновидным. Однако следует
отметить, что поведение в соответствии с моделью Курно—Нэша только
кажется иррациональным, если считать, что каждая фирма выбирает
свой оптимальный выпуск при заданном выпуске фирмы-конкурен-
та, и в то же самое время к статической модели добавить процесс
динамической корректировки (как это часто делается в промежуточ-
ных курсах микроэкономики). На самом деле это поведение вполне
можно назвать рациональным. Во-первых, подлинная динамическая
модель предполагает, что изменяется природа самой игры. Во-вто-
рых, фирмы знают, каким будет лучший ответ конкурентов на то
значение выпуска, который они для себя определят, и они также
знают, что эта информация доступна их конкурентам. В том случае,
если существует единственная пара значений выпуска, которая соот-
ветствует лучшему выбору каждого из агентов, такой выбор будет
сделан рациональными игроками (Johansen, 1982). Конечно, основ-
ной недостаток понятия равновесия по Нэшу заключается в том, что
может существовать множество таких точек равновесия. В этом слу-
чае не существует ясного способа выбрать между различными возмож-
ностями.
Понятие равновесия по Нэшу довольно естественно распростра-
няется на теорию динамических игр. В этом случае каждый агент
выбирает стратегию (т. е. план действий для каждого периода игры),
которая максимизирует его выигрыш при заданных стратегиях дру-
гих игроков. Основная проблема с динамическим равновесием по
Нэшу заключается в том, что в последнем периоде игры игроки могут
вести себя иррационально. В тот момент, когда становится ясно, что
данный период игры является последним, ранее выбранное действие
может показаться иррациональным (не максимизирующим полез-
ность). Более сильное понятие равновесия, предложенное Зельтеном
(Selten, 1975), позволяет нам избавиться от этих неправдоподобных
предположений о стратегиях. Это понятие, носящее название совер-
шенного равновесия по Нэшу или совершенного равновесия субигры
424
Кристиан Монте
(subgame perfect equilibrium) предполагает, что стратегии, избранные
игроками, являются равновесными по Нэшу в каждой субигре (т. е. в
каждой однопериодной игре основной игры) вне зависимости от того,
какие действия были предприняты ранее.®
Предполагается, что в том случае, когда информация являет-
ся неполной или несовершенной, рациональные агенты используют
субъективные вероятности, трансформированные в соответствии с
правилом Байеса (Bayes’s rule). Соответствующее понятие равновесия
называется байесовским равновесием. Это понятие было предложено
Харсаньи (Harsanyi, 1967-1968), который показал, что игра с непол-
ной информацией всегда может быть описана как байесовская игра.
В действительности игра с неполной информацией может быть пред-
ставлена в виде игры с несовершенной информацией, если мы введем
в игру нового игрока, называемого «природа», который выбирает
характеристики каждого игрока. Байесовское равновесие описывает-
ся как равновесие по Нэшу, в котором каждый игрок оценивает свой
выигрыш как свою ожидаемую полезность, обусловленную ег’о част-
ной информацией о состоянии «природы». Тем не менее это понятие
сталкивается с теми же самыми проблемами, что и равновесие по
Нэшу. Понятие совершенного байесовского равновесия является рас-
ширением понятия совершенного равновесия по Нэшу для игры с
несовершенной (и неполной информацией). Оно соединяет в себе
байесовское равновесие с динамической рациональностью, присущей
совершенному равновесию по Нэшу (в каждой субигре).6 7
Определение стратегического поведения,
предложенное Шеллингом
Слова «стратегия» или «стратегическое поведение» используют-
ся в теории игр в основном тогда, когда необходимо передать идею
зависимости агентов друг от друга в принятии решений. Тем не менее
переориентация теории, произошедшая в основном благодаря рабо-
там Шеллинга (Schelling, 1960, 1965), выделила более тонкие аспекты
стратегического поведения.
6 См. Van Damme, 1983 для более детального анализа последних усовер-
шенствований понятия равновесия по Нэшу.
7 Вообще говоря, существует множество точек совершенного байесов-
ского равновесия, зависящих от апостериорного отбора распределения веро-
ятностей вне равновесных траекторий. В конкретных моделях для отбора
разумных точек равновесия необходимы определенные критерии. В связи с
этим можно упомянуть понятие «последовательного равновесия» («sequential
equilibrium»), предложенное Крепсом и Уилсоном (Kreps, Wilson, 1982b),
или понятие «устойчивого равновесия» («stable equilibrium»), обсуждаемое
Колбергом и Мертенсом (Kohlberg, Mertens, 1986).
Теория игр и стратегическое поведение
425
Шеллинг определяет стратегический ход как «(действие)... ко-
торое влияет на выбор другого лица в сторону, благоприятную для
данного игрока, воздействуя на ожидания, которые формируются у
другого лица относительно того, как будет вести себя данный игрок»
(Shelling 1960 : 160). Обязательства, угрозы и обещания являются ос-
новными средствами, с помощью которых один человек влияет на
выбор другого человека в своих собственных интересах. Тем не менее
обязательства, угрозы или обещания могут изменить ожидания друго-
го игрока относительно нашего поведения, только если они правдопо-
добны. На самом деле основная трудность стратегического поведения
заключается в достижении этой правдоподобности, поскольку часто
выполнение обязательства или реализация угрозы в назначенное вре-
мя не входит в интересы игрока.
Обычно правдоподобность достигается одновременным использо-
ванием нескольких стратегических ходов. Правдоподобность обещания
может быть обеспечена реальностью угрозы (такой пример дан в разде-
ле 17.3). Правдоподобность последующих угроз может быть стимули-
рована нерушимостью обязательства (см. раздел 17.4). В случае совер-
шенной (и полной) информации правдоподобность может быть достиг-
нута предварительными манипуляциями с капиталом, расходами на
рекламу, выбором продукта и т. п. В том случае, когда информация
частично является частной (и, следовательно, асимметричной), ожи-
дания других агентов могут быть изменены под воздействием «инве-
стиций в дезинформацию», т. е. ложными сигналами, блефом и т. д.
Исходя из вышеизложенного становится понятным, что исследо-
вания стратегического поведения в том смысле, из которого исходит
Шеллинг, предполагает, что игра имеет динамическую структуру.
Понятие совершенного равновесия суб игры, которое достигается в
результате того, что удается избавиться от планов действий, не входя-
щих в круг интересов игрока, позволяет создать довольно интерес-
ную конструкцию для изучения стратегического поведения. Более того,
возможности анализа расширяются в том случае, когда информация
становится асимметричной.
Все эти рассуждения объясняют, почему теория игр стала широ-
ко применяться в разнообразных областях экономической науки по-
сле недавних достижений в области динамических игр и игр с асим-
метричной информацией.
17.3. Угрозы и обещания в повторяемых играх
В этом разделе мы рассмотрим простую комбинацию угроз и
обещаний, которые могут обеспечивать кооперативный результат в
некооперативных играх. Начнем с рассмотрения стандартного приме-
нения понятия равновесия по Нэшу к модели однопериодной игры;
426
Кристиан Монте
затем предположим, что подобная игра («конституирующая игра»)
повторяется в течение многих периодов. Мы обратимся к примеру
так называемой игры тарифов, чтобы избежать так часто использу-
емой модели дуополии Курно и показать многовариантность приме-
нения понятия равновесия по Нэшу.
Игроками являются правительства двух больших стран, которые
производят и обмениваются двумя видами товаров: товаром 1 и това-
ром 2. Богатство каждой страны может быть увеличено посредством
использования политики тарифов, которая в случае оптимального ее
применения улучшает условия торговли.
В целях упрощения мы сперва предполагаем, что набор страте-
гий каждого правительства состоит либо из свободной торговли
(FREE), либо из применения оптимального тарифа (ОРТ). На рис. 17.1
представлена матрица выигрышей для этой однопериодной игры.
Из таблицы видно, что вне зависимости от того, какую стратегию
избирает конкурирующая страна, каждое правительство получит вы-
игрыш, применяя стратегию ОРТ. Такая игра имеет доминирующую
стратегию (которая, конечно, является также равновесной по Нэшу).
Выбор условий свободной торговли является более эффективным для
обеих стран, но он не представляет собой равновесие в некооператив-
ных играх. Если бы перед началом игры между обоими игроками
было заключено соответствующее соглашение, каждый из них был
бы заинтересован в том, чтобы отказаться следовать ему и сделал бы
это в отсутствие наднационального института, обладающего правом
принуждения.
Таблица 17.1
FREE ОРТ
Страна 1 FREE (8,8) (2,10)
ОРТ (Ю, 2) (4,4)
Конечно, выбор стратегии не обязательно должен быть настолько
ограничен, как в этом крайнем случае. Мы можем рассматривать
расширенный набор стратегий S для страны 1, такой что S = ]-1, t] ,
т. е. тариф t принимает любые значения между -1 (свободный им-
порт) и t (запрет любого импорта). И соответственно для страны 2
S*= ]-1, Р].
Далее мы предполагаем, что страна 1 экспортирует товар 1 и
импортирует товар 2. Национальные внутренние цены этих двух то-
варов соотносятся следующим образом:
pi = pl(l + t), pl = р}(1 + Г),
где р1} — цена товара j в стране i. Мировая относительная цена
р = pl/р}. Пусть Mt(p, t), i = 1, 2 обозначает спрос на импорт стра-
Теория игр и стратегическое поведение
427
ны i как функцию, зависящую от условий торговли и уровня тари-
фов. Тогда торговый баланс будет определяться условием
рМ^р, t) = М2(р, Г). (17.1)
Выигрыши в игре представляют собой значения, принимаемые кол-
лективными функциями полезности U = U(p, t) п U* = U* (р, £*), ко-
торые на основе (17.1) могут быть переписаны в виде функций, зави-
сящих только от t и t*: W(t, t") t*) .
В пространстве t - t* функции W и W* представляют собой
наборы линий благосостояния, как это проиллюстрировано на рис. 17.1.
При более пристальном рассмотрении мы обнаружим, что для того,
чтобы получить подобные линии, нам необходимы более строгие пред-
посылки (см. McMillan, 1986; Dixit, 1987 для более детального изуче-
ния). Читатель, ближе знакомый с теорией отраслевых рынков, отме-
тит, что линии благосостояния являются прямыми аналогами изопро-
фитных линий в анализе олигополии. Благосостояние страны 1
увеличивается, если двигаться вниз, а благосостояние страны 2 увели-
чивается, если двигаться влево в данной системе координат. Линия
RR на рис. 17.1 проходит через точки максимума линий благососто-
яния для страны 1, т. е. эти точки отвечают условию dW/dt = 0.
Рис, 17.1.
428
Кристиан Монте
Эту линию называют графиком функции реакции страны 1 (как
написал Диксит (Dixit, 1987), термин «геометрическое место точек
равновесия» здесь более применим, так как в однопериодной игре,
строго говоря, отсутствует понятие реакции). Подобным местом то-
чек равновесия для страны 2 является R*R*. Предполагается, что эти
линии имеют отрицательный наклон и пересекаются только один раз
(конечно, эти свойства соответствуют очень строгим предпосылкам).
Точка N, находящаяся на их пересечении, представляет собой точку
равновесия по Нэшу в данной игре (на самом деле автаркия может
быть другим равновесием по Нэшу (см. Dixit, 1987)).
Так же как и в случае с дилеммой заключенного, данное равно-
весие не является Парето-эффективным. Эффективность требует оди-
наковых относительных цен в двух странах, т. е.
4 = 4> <17-2)
Р1 Ру
что требует
t + г + tt* = о.
Точки уровней t - t*, удовлетворяющие условиям (17.2), образу-
ют линию ЕЕ на рис. 17.1. Точки, находящиеся между С и С*, явля-
ются более предпочтительными для обеих стран, чем точки, опреде-
ляемые условием равновесия по Нэшу, и при свободной торговле
будет реализована именно одна из них. (Это справедливо не всегда;
другой пример содержится в работе Kennan, Reismann, 1988.) Пробле-
ма заключается в том, что страны не могут достичь точки F или
точки на отрезке СС* без принуждения со стороны внешней силы
(такого типа, как Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(ГАТТ)).
Однако главный недостаток предшествующих рассуждений за-
ключается в их статической природе. Из теории отраслевых рынков
известно, что две конкурирующие фирмы, постоянно сталкиваясь друг
с другом на одном рынке, могут пойти на молчаливый сговор с це-
лью сократить выпуск и поднять цену (Friedman, 1971). Нашим двум
странам, несомненно, суждено взаимодействовать долго; неужели они
не могут сговориться, чтобы сократить тарифы с целью максимизации
своего благосостояния?
Повторение данной игры в течение многих периодов позволяет
применять стратегические ходы в смысле, принятом в работе Шел-
линга. Выбор в каждом периоде будет зависеть от предыдущей исто-
рии игры и от знания предыдущих ходов.
Сначала рассмотрим случай, когда два правительства предпола-
гают бесконечное повторение игры. Игру, которая состоит из множе-
ства повторений, обычно называют суперигрой. Стратегия в супер-
Теория игр и стратегическое поведение
429
игре — это план действий для каждого периода, и вполне естествен-
но, данный план будет учитывать действия соперника в предыдущих
играх. Но предполагает ли такая игра с бесконечными повторениями
наличие равновесия по Нэшу? Существует очевидное решение: повто-
рение статического равновесия по Нэшу. Но есть и другие решения,
которые более соответствуют «сговору».
Мы снова вернемся к предпосылке о том, что существуют только
две стратегии в однопериодной игре: стратегия свободной торговли
(F) и статическое равновесие по Нэшу (N). Страна может обещать
придерживаться принципов свободной торговли до тех пор, пока дру-
гая страна не уклонится от эффективного решения, а в противном
случае — навсегда ввести тарифные ограничения, соответствующие
равновесию по Нэшу.
Такая угроза будет правдоподобной, поскольку после того, как
одна из стран зафиксирует нарушение со стороны страны-соперни-
цы, статическое решение по Нэшу окажется точкой равновесия по
Нэшу в данной субигре. Обещания сотрудничества также будут
правдоподобными, если потери в результате нарушений условий
сговора окажутся значительно больше выгод одностороннего нару-
шения. Взаимные угрозы и обещания, таким образом, будут способ-
ствовать формированию самоподдерживающегося кооперативного
поведения.
Опишем вкратце условия, при которых обещания будут правдо-
подобными. Предполагается, что каждая из стран максимизирует ве-
личину своего дисконтированного общего благосостояния. Пусть WF
обозначает величину общего благосостояния для одного периода в
случае свободной торговли, Wd — благосостояние, которое можно
получить в результате одностороннего нарушения, WN — благосостоя-
ние, которого можно достичь в точке статического равновесия по Нэшу.
Рассмотрим страну, делающую выбор, придерживаться ли принципов
свободной торговли или уклониться от соблюдения конвенции с целью
получения временных выгод.
Если две страны придерживаются принципов свободной торгов-
ли, общее благосостояние для бесконечного временного горизонта будет
WF[1/(1 - р)]> гДе Р — положительный коэффициент дисконтирова-
ния (0 < р < 1). Если одна из стран в одностороннем порядке будет
уклоняться от выполнения соглашения, то она получит уровень бла-
госостояния Wd > WF в течение первого периода, а затем будет по-
лучать сумму WN до бесконечности. Таким образом, ее общее благо-
состояние будет равно Wd + PWA'/(1 - р).
Очевидно, что страна останется сторонником принципов свобод-
ной торговли, если
Wd - WF
wd - WN
(17.3)
430
Кристиан Монте
- WF < ----------, (17.3’)
г
0 = (1 + г) \ т. е. если дисконтированные
больше немедленных выигрышей.
выполняться, если временные выгоды от
или
W? - WN
Wd
где г — норма дисконта, а
будущие потери окажутся
Условие (17.3) будет
уклонения ограничены (Dd < а>), если переход к статическому равно-
весию по Нэшу действительно будет наказанием (VKN < WF) и если
значение 0 достаточно высоко (достаточно близко к единице).
Анализ суперигр имеет много других интересных применений в
экономической теории. В частности, он может объяснить, почему дуо-
полия на рынке однородного продукта не устанавливает цену на уров-
не предельных издержек, как это обнаружил Бертран (Bertrand, 1883)
для конфронтации между двумя фирмами в течение одного периода.
Однако такой тип моделирования имеет и свои недостатки. Во-пер-
вых, роль, которую в данной игре играет история, описана не вполне
удовлетворительно. История значима только потому, что агенты угро-
жают сделать ее значимой. Более важные аспекты истории, такие как
возможность обучения на основе результатов предыдущих действий,
требуют использования иных теоретических рамок, включающих су-
ществование асимметричной информации между двумя игроками
(см. Kreps, Spence, 1985).
Вторым и более важным недостатком является множественность
состояний равновесия в суперигре. В нашем описании, сделанном
выше, мы ограничили выборы в каждом периоде двумя вариантами:
это статическое равновесие по Нэшу или Парето-эффективный ре-
зультат (свободная торговля). Но могут существовать и многие другие
варианты тарифной политики. Как следует из теоремы неизвестного
происхождения, называемой «народной теоремой» (folk theorem), если
коэффициент дисконтирования достаточно близок к единице, любой
результат, находящийся между точкой статического равновесия по
Нэшу и точкой свободной торговли, может поддерживаться в каче-
стве совершенного равновесия суперигры.8
Предположение о переговорах между игроками перед игрой с
целью достичь Парето-эффективного результата не решает проблему
множественности состояний равновесия, поскольку наводит на мысль
о том, что агенты могут провести повторные переговоры, когда обна-
ружено нарушение, с целью избежать «наказаний, сопряженных с
8 На самом деле можно утверждать, что любой индивидуально рацио-
нальный результат является равновесием по Нэшу в суперигре. Индивиду-
ально рациональный результат — это любой результат, дающий агенту
выигрыш не меньший, чем результат, который можно было бы получить
благодаря его собственным действиям (т. е. его максиминный выигрыш).
Теория игр и стратегическое поведение
431
издержками для обеих стран». Такая возможность повторных перего-
воров довольно серьезно подрывает тезис о правдоподобности угроз,
которые поддерживают взаимовыгодный сговор. В этом смысле пред-
ставляет интерес развитие анализа суперигр с целью найти условия
равновесия, защищенного от повторных переговоров (см. Shapiro, 1989,
где сообщается о следующих работах: Farrel, Maskin, 1987; Pearce,
1987). Однако в любом случае данный подход не полностью разреша-
ет проблему множественности состояний равновесия.
В-третьих, если однопериодная игра повторяется только ограни-
ченное число периодов, то представляется, что единственное совершен-
ное равновесие окажется простым повторением однопериодного равно-
весия по Нэшу. Этот результат легко выводится при рассмотрении рав-
новесия в каждом периоде, начиная с последнего и возвращаясь к
предыдущим периодам. В последнем периоде не существует другой
правдоподобной стратегии, кроме статической стратегии по Нэшу.
Но тогда угроза применить наказание в предпоследнем периоде явля-
ется бесполезной и неправдоподобной. Поэтому статическое равнове-
сие по Нэшу будет достигнуто и в этом периоде, и т. д., вплоть до
первого периода.
Такая критика анализа суперигр поднимает проблему взаимоот-
ношений между формальной теорией игр и экспериментальными
исследованиями человеческого поведения. Так, некоторые экспери-
менты, проведенные Аксельродом (см. Axelrod, 1983), показали, что
эффективные результаты в некооперативных играх с бесконечным
числом периодов могут быть достигнуты вследствие применения аген-
тами стратегии «добром на добро, злом на зло» (tit for tat).
Каждый агент просто-напросто воспроизводит то действие, кото-
рое его соперник сделал в предыдущем периоде: нарушает конвенцию,
если нарушил тот, и следует ей, если так поступил оппонент. Аксель-
род подчеркивает интересное свойство стратегии «добром на добро, злом
на зло» применительно к человеческим отношениям и коммуникаци-
ям: это простая, ясная и гуманная стратегия. К сожалению, формаль-
ная теория игр до сих пор не может моделировать эти свойства.
Принятие одного равновесия из множества возможных основыва-
ется на простых правилах поведения и коммуникации, таких как про-
стые практические правила, принятые между игроками, или на том,
что Шеллинг называет «фокусными точками». Экспериментальной
экономической теории предстоит открыть еще много нового в этой об-
ласти.
17.4. Обязательства в двухпериодных играх
Шеллинг отмечает, что самым тонким из стратегических ходов
является взятие на себя обязательств (commitment) и оно имеет широ-
кий спектр приложений в экономической теории: «сущность такой
432
Кристиан Монте
тактики заключается в добровольном и необратимом отказе от свобо-
ды выбора. Она основана на парадоксе: ваша способность ограничить
соперника может зависеть от того, насколько вы готовы к самоогра-
ничению...» (Schelling, 1960: 22).
В реальной жизни каждый встречался с тем, что угроза является
более правдоподобной, если не существует возможности уклониться
от ее исполнения в назначенное время. Следовательно, часто может
оказаться полезным строго следовать ранее объявленному плану дей-
ствий. Данный тезис находит множество приложений в экономиче-
ской теории.
Так, например, фирма, занимающая позицию монополиста, может
весьма правдоподобно удерживать от вступления на рынок потенци-
ального конкурента, нарастив излишние производственные мощно-
сти. Это создаст угрозу того, что в случае вступления нового конку-
рента на рынок последний окажется заполненным дешевыми то-
варами, что сделает такое вторжение невыгодным (см. работы: Spence,
1977; Dixit, 1980; Fudenberg, Tirole, 1984). Правительство может «по-
дыграть» национальной фирме на международном олигополистичес-
ком рынке, объявив о планируемых субсидиях. В этом случае прав-
доподобность угрозы — пусть и нерациональной в случае ее реализа-
ции — будет следовать из самой природы принятия политических
решений: требуемой ратификации посредством голосования в пред-
ставительном законодательном органе и медленного принятия реше-
ний о возможном пересмотре политики (Krugman, 1984; Brander,
Spencer, 1985).
Модели, построенные в этом духе, имеют одинаковую базисную
структуру. В целях упрощения и более легкой интерпретируемости
время обычно сокращается до двух периодов.9 В первом периоде агенты
принимают «стратегические» решения о переменных, влияние, кото-
рых будет сказываться во втором периоде: производственных мощно-
стях, расходах на НИОКР, расходах на рекламу и т. д.
Во втором периоде агенты соревнуются в «тактических» вопро-
сах, т. е. принимают краткосрочные решения типа решений о ценах
или объемах выпускаемой продукции. Понятие совершенства субиг-
ры используется таким образом, чтобы равновесие во втором периоде
было равновесием по Нэшу независимо от того, какие действия пред-
принимались до этого. Решение в игре находится с помощью обрат-
ной индукции: сначала находится решение для второго периода для
любого значения стратегической переменной, а затем решается зада-
ча для первого периода и определяется уровень этой переменной.
9 Описание более общих динамических моделей см., например, в рабо-
тах: Fudenberg, Tirole, 1986; Shapiro, 1989 — по поводу приложения к тео-
рии отраслевых рынков, и Blackburn, 1987 — по поводу приложения к мак-
роэкономической политике.
Теория игр и стратегическое поведение
433
Мы раскроем некоторые технические особенности игры такого типа
на примере стратегических инвестиций при дуополии (используя
схему, представленную в работе Диксита (Dixit, 1986)).
Рассмотрим дуополию, производящую два дифференцированных,
но похожих продукта в объемах хг и х2. Обратные функции спроса
pi(x1, х2), I = 1,2. Мы допускаем, что они удовлетворяют обычным
свойствам, выраженным следующими неравенствами: р‘ <0, р2 < 0,
р2 < 0. Предполагая, что функция полезности U(хр х2) вогнута в про-
странстве (Xj, х2) и что р' = dU/dxt, получаем также
Рг = Pi< PiPl ~ Pl2Pi * 0.
Издержки являются функциями значений выпусков и долго-
срочной стратегической переменной К, обозначающей капитал:
С‘(х , К^. Используя подстрочные индексы для обозначения частных
производных, запишем предельные издержки как С/(х;, Kt).
Фирмы конкурируют друг с другом в двухпериодной игре. В пер-
вом периоде они выбирают уровень расходов на капитал KL, измеря-
емый в денежных единицах в периоде 1. Рост величины К приводит
к сокращению предельных издержек, т. е. С‘хК < 0 .
Во втором периоде фирмы определяют объем продукции, кото-
рый нужно произвести (и продать). Мы смоделируем этот второй
период в виде равновесия предположительных вариаций (conjectural
variations). Понятие предположительных вариаций часто применяет-
ся для того, чтобы, не прибегая к динамическому анализу, моделиро-
вать способ, посредством которого агенты предвосхищают реакции
своих соперников. Многие комментаторы подчеркивают логический
изъян данной модели, которая остается статической по своей сути.
Однако она является пригодным инструментом для систематизации
различных видов равновесия (так, в теории олигополии точно подо-
бранные значения параметров предположительных вариаций дают
соответственно равновесие количеств Курно—Нэша и равновесие цен
Бертрана—Нэша).
Каждая фирма стремится максимизировать свою общую прибыль:
П; = р[р'(хР x2)Xi - С‘(хс, 7Q] - Kt, (17.4)
где р — снова положительный коэффициент дисконтирования. Мы
ищем совершенное равновесие по Нэшу для данной игры. Сперва
решаем субигру второго периода для данных значений Кх и К2 и
затем, зная, как Xj и х2 зависят от Кх и К2, находим решения для
первого периода.
Фирмы реально могут угрожать только увеличением уровня
выпуска. Но они также осведомлены о том, что необратимые инвести-
ции в первом периоде модифицируют начальные условия игры во
втором периоде. Поэтому они учитывают все последствия инвести-
29 Заказ № 356
434
Кристиан Монте
ций: сокращение издержек и модификацию игры второго периода.
Безвозвратность капиталовложений, безусловно, является критически
важным условием наличия стратегического влияния К.
Выбирая определенный уровень К, каждая фирма как бы берет
на себя нерушимое обязательство придерживаться определенного по-
ведения во втором периоде.
Условие первого порядка для равновесия второго периода, как
обычно, выглядит следующим образом:
х2, Kt) = Р‘(хр х2) +
+ [Р/(хр х2) + Р;(хр х2)и,.]х; - С'(хр = 0, (17.5)
где = (dXy/dxJ как раз и есть предположительная вариация. Диф-
ференцируя (17.5), получаем
X1
Hl Hl.
выражение в матричной
dXj
_dx2.
Нк d#!
Нгк dK2
(17.6)
Для получения точных результатов, необходимо сделать несколько
дополнительных предпосылок:
HI < 0, Hl < О,
Hl Hl - Hl2Hf > о,
Hl < 0, Hl < 0.
(17.7а)
(17.7b)
(17.7с)
Предпосылки (17.7а) и (17.7b) являются условиями единственности и
устойчивости статического равновесия (Dixit, 1986). Предпосылка
(17.7с) — необходимое и достаточное условие того, что «кривые реак-
ции» (или геометрическое место точек равновесия для фирм) имеют
отрицательный наклон.
Приравнивая правую часть уравнения (17.6) к нулю, получаем
следующие выражения для наклонов функций реакций фирм:
(17.8)
_ _ _н1
ri~ Hl’ Г2~ Hl
Теперь изучим в сравнительной статике последствия увеличения Kv
при постоянстве К2.
Выражая (17.6) через dXj и dx2 получаем:
, HlHj.dK,
dx, = —-—Ц
1 А
где Д > 0 — определитель матрицы в (17.6) и
J HlH}^
dx, =---1— ---L
2 A
Теория игр м стрйтегическое поведение
435
Таблица 17.2
г, -а, <0 rj - vt > 0
Нк > 0 Инвестиции ужесто- чают позицию уже существующей на рынке фирмы Избыточные инве- стиции: фирма хо- чет выступать «спозиции силы» Недостаточные инве- стиции: солидная фирма хочет вы- глядеть как «ще- нок»
Нк < 0 Инвестиции смягча- ют позицию уже существующей на рынке фирмы Недостаточные инве- стиции: фирма хо- чет выглядеть «то- щей и голодной» Избыточные инве- стиции: фирма хо- чет выглядеть как «жирный кот»
или, используя (17.8),
, г,Н?Н},АК.
dx, = ——-— L
2 А
(в действительности dx2 = rzdXp это означает, что точка равновесия
сдвигается вдоль кривой реакции фирмы 2). Знаки г2 и Н2 опреде-
ляются предпосылками (17.7а) и (17.7с), но H^dK" может быть поло-
жительным или отрицательным.
Рассмотрим случай, когда > 0, т. е. когда увеличение
приводит к увеличению предельной прибыли фирмы 1. Тогда знаки
dXj и dx2 могут быть определены однозначно: dXj > 0 и dx2 < 0.
В более общем плане в данном случае выпуск каждой фирмы —
возрастающая функция от величины ее капитала и убывающая функ-
ция от величины капитала конкурента. Затем вернемся к первому
периоду игры: каждая фирма выбирает уровень капитала, принимая
во внимание его прямое влияние на величину издержек и косвенное
влияние на исходные условия игры второго периода. Мы ищем рав-
новесие по Нэшу в данной игре.
Условия равновесия выглядят следующим образом:
Р[Р;(*и хг) + хг)х, - с‘(х,’ +
ОЛ:
dx, . <17-9)
+ рр/(х1( x2)x1^--(l + pc^) = o.
Используя условия равновесия во втором периоде (17.5) и выраже-
ния углов наклона функций реакции в (17.8), получаем:
Рх^Сх,, х2)(г, - v()^- - (1 + РС9 = 0. (17 10)
(< 0) (?) (?).
436
Кристиан Монте
Второй член уравнения (17.10) представляет прямое влияние К, а
первый член — косвенное или стратегическое. Знак стратегического
влияния зависит от знака - it) и знака <1г;/(1Кр который, в свою
очередь, зависит от знака Н\ (при наличии предпосылок (17.7а) и
(17.7b)). Если, как предполагалось нами до сих пор, > 0, фирма i
осуществит избыточные инвестиции в случае, когда г; - it отрица-
тельно (этот случай включает в себя нормальный случай по Курно
при Гу < 0 и it = 0), и недостаточные инвестиции в случае, когда
Гу - it положительно (это нормальный случай по Бертрану).10
Если Гу = it, то возникает случай, известный как «обоснованные
предположения» (consistent conjectures), и переменная К вообще не
имеет никакого стратегического влияния. В случае когда Н\ < 0, мы
просто получим обратные результаты.
Эти общие рамки анализа можно использовать для решения
множества экономических проблем. Хорошим примером является
случай со стратегической внешнеторговой политикой, предложен-
ный Брендером и Спенсером (Brander, Spencer, 1985): правитель-
ственные субсидии действуют как обязательства, подобно переменной
К в рассмотренном выше случае. Так как Брендер и Спенсер допус-
кают, что > 0 и что игра во втором периоде имеет вид модели
Курно, они обнаруживают, что субсидии имеют положительный стра-
тегический эффект (см. работу Eaton, Grossman, 1986, где обсуждает-
ся тезис Брендера и Спенсера в теоретических рамках, приведенных
выше).
Эту модель также легко приспособить к изучению поведения уже
существующей на рынке фирмы, сталкивающейся с угрозой вторжения
потенциального конкурента. Выбор между стратегией препятствования
и стратегией приспосабливания можно проанализировать формально
(см., например, Fudenberg, Tirole, 1984; Ware, 1984). Если препятство-
вать вторжению невозможно, уже существующая на рынке фирма
может выбрать различные стратегии, представленные в табл. 17.2
(используя «зоологическую классификацию», предложенную Фуден-
бергом и Тиролем (Fudenberg, Tirole, 1984)). Заметим, что мы по-
лучим результаты третьей колонки для случая, когда игра во втором
периоде развивается по модели Курно и функции реакции фирм имеют
отрицательный наклон. Это случай «стратегических заменителей»
(strategic substitutes), по терминологии Бьюлоу и др. (Bulow et al.,
1985). Результаты четвертой колонки были бы получены нами, если
бы игра развивалась по модели ценовой конкуренции Бертрана, где
функции реакции имеют положительный наклон (в пространстве цен),
это случай «стратегических дополнителей» (strategic complements).
10 Термины переинвестироватъ и недоинвестировать используются с
целью сравнить конкретные ситуации с такой, где инвестиции не имеют
стратегического воздействия.
Теория игр и стратегическое поведение
437
В предыдущем примере естественно было бы предположить, что
инвестиции «ужесточают» позиции существующей на рынке фирмы,
т. е. что увеличение К сделало бы ее поведение более конкурентным
в игре после входа соперника. Однако другие типы инвестиций, на-
пример расходы на рекламу, могли бы смягчить позицию уже суще-
ствующих на рынке фирм < 0), т. е. уменьшить их желание
конкурировать после входа соперника. В таком случае обязательство
осуществлять низкие расходы на рекламу может усилить правдопо-
добность угрозы начать борьбу после входа конкурента. Если вход
конкурента неизбежен и второй период игры представляет собой
ценовую конкуренцию по Бертрану, т. е. Гу - vj > 0, то существующая
фирма должна осуществлять избыточные инвестиции с целью выгля-
деть, как «жирный кот», для того чтобы избежать конкуренции, ко-
торая может оказаться слишком жесткой во втором периоде.
Могут быть разработаны и другие модели стратегических обяза-
тельств в двухпериодных играх (Fudenberg, Tirole, 1986; Jacquemin,
1987; Lyons, 1987). Но эмпирические исследования стратегических
ходов такого типа еще довольно редки. Фактические примеры страте-
гического препятствования входу конкурента упомянуты в работе
(Geroski, Jacquemin, 1985) и содержатся в результатах опроса, прове-
денного Смайли (Smiley, 1988).
17.5. Стратегическое использование информации
До сих пор мы предполагали, что все агенты обладают совершен-
ной (и, конечно, симметричной) информацией. Рассмотренные выше
обязательства, имеющие целью повысить степень правдоподобности
будущих угроз, должны действовать через материальные переменные
типа фактических параметров функций издержек или спроса. Одна-
ко в случае асимметричной информации нет необходимости опериро-
вать материальными переменными для того, чтобы модифицировать
ожидания других игроков.
В контексте несовершенной или неполной информации агенты
могут «учиться на прошлом опыте» в том смысле, что они делают
заключения о величинах определенных параметров исходя из про-
шлых действий конкурентов. Так, например, низкая цена может сиг-
нализировать о низких издержках. Тогда появляются возможности
использовать информацию для организации правдоподобных угроз для
конкурирующей фирмы. Аналогии с моделями, исследованными в
разделе 17.4, достаточно очевидны: попытки дезинформировать кон-
курента к собственной выгоде представляют собой связанную с из-
держками деятельность, похожую на инвестирование. В этом контек-
сте можно проанализировать часто наблюдаемое в экономической
жизни богатое разнообразие стратегического поведения: разоритель-
438
Кристиан Монте
I борется (-1,-1)
I ие борется (1,1)
I борется (0, 2)
I не борется (О, ЗД > ‘Щ
ное (predatory) установление сдерживающих цен на отраслевых рынках
(см. Kreps, Spence, 1985; Roberts, 1987) или создание у правительства
репутации жесткого борца с инфляцией (Blackburn, 1987; Blackburn,
Khristensen, 1989). В формальных играх с асимметричной информа-
цией используется понятие совершенного байесовского равновесия
или одна из его модификаций — понятие последовательного равно-
весия.
Иллюстрацией такого типа моделирования и того, как обычно
используется понятие равновесия, служит простой пример из работы
Крепса и Уилсона (Kreps, Wilson, 1982а). В теории отраслевых рын-
ков часто утверждается, что фирма может считать выгодным для
себя препятствовать любому проникновению «чужака» на рынок, даже
если это требует больших издержек, с целью создать репутацию жест-
кого конкурента и тем самым отбить всякую охоту у потенциальных
соперников проникать на этот рынок. Сначала представим эту ситу-
ацию в терминах знаменитого «парадокса сети магазинов» (chain-store
paradox) (Selten, 1978). Обозначим через I уже существующую фирму,
действующую на данном количестве рынков N. Для каждого рынка
существует способная проникнуть на него фирма Е(, i = 1, ..., N, кото-
рая должна решить, будет ли она входить на рынок или нет, а I
должна агрессивно или неагрессивно отреагировать на это решение.
Выплата Е( зависит от реакции фирмы I: +1, если I кооперирует, -1,
если она реагирует враждебно, и 0, если Е( воздержится от входа.
Соответствующие выплаты для I будут равны +1, -1 и +2. Общий
выигрыш будет равен сумме выплат, полученных на каждом рынке.
Решения о входе принимаются последовательно, начиная с i = 1 и
заканчивая i = N.
Когда информация совершенна, результат этой игры сильно за-
висит от количества рынков. Если существует только один рынок,
игра в развернутом виде может быть представлена так, как это сдела-
но на рис. 17.2, где выигрыши Ej и I записаны в круглых скобках.
Решение «Ej не входит, I борется» является равновесным по Нэшу
решением в данной игре. Но оно не является совершенным в субиг-
ре, так как угроза со стороны I неправдоподобна. Если Ет все-таки
вошла на рынок, то в интересах I будет приспосабливаться. Однако
Теория игр и стратегическое поведение
439
для большого числа N у уже существующей фирмы есть стратегиче-
ский стимул наброситься на вновь вошедшего на рынок конкурента,
чтобы заставить остальных воздержаться от входа. Это тем более
справедливо для бесконечного числа рынков. Доминирующая фирма
будет сопротивляться любому вторжению, а так как потенциальный
конкурент знает, что у нее впереди еще много периодов для того,
чтобы компенсировать потери, он в действительности воздержится от
входа, посчитав угрозу реальной.
С другой стороны, для любого конечного числа N существует
единственное совершенное равновесие, обеспечиваемое стратегией
приспосабливания в каждом периоде. Доводы полностью аналогич-
ны приведенным в разделе 17.3 для бесконечно повторяющихся
игр. В последнем периоде вход конкурента неотвратим, так же как
в однопериодной игре на рис. 17.2. Поэтому Ew войдет обязательно.
Ew-1 знает, что I не имеет возможности препятствовать входу EN и,
следовательно, нет стимулов бороться до последнего и в предпослед-
нем раунде. Тогда EW1 войдет на рынок и т. д., возвращаясь к началу
вплоть до Ег
В случае совершенной информации общеизвестно, что препят-
ствие вторжению является подчиненной стратегией для I в каждом
периоде. Поэтому случай разорительного ценообразования с целью
препятствовать входу новой фирмы кажется не имеющим рациональ-
ного обоснования. Однако новые модели теории игр с несовершенной
информацией показывают, что разорительная стратегия может быть
рациональной, если имеется некая степень ассимметричности инфор-
мации между уже существующей фирмой и ее потенциальным кон-
курентом. Фирма I может взять на себя вполне правдоподобное обя-
зательство атаковать каждого нового конкурента (см. работу Milgrom,
Roberts, 1982), а может быть, для I борьба будет выгоднее, чем коопе-
рация в определенных периодах (см. работу Kreps, Wilson, 1982а).
В любом случае, потенциальный конкурент уже существующей фир-
мы рискует оказаться лицом к лицу с фирмой, обязанной или любя-
щей бороться (даже если это поведение иррационально — случай
«бешеной фирмы»), и ему нужно будет уяснить из предыдущего опы-
та, с каким же типом фирмы он имеет дело.
Результаты, полученные в модели Крепса—Уилсона, можно сфор-
мулировать следующим образом: «Для любой (малой, но положи-
тельной) априорной вероятности того, что кооперирование не будет
лучшим ответом на вторжение в однопериодной игре, существует
такое значение п*, при котором, если N > п", любая фирма (как «бе-
шеная», так и нормальная) должна будет препятствовать входу чужа-
ков на рынки п*...N» (Roberts, 1987).
Приведем простой пример для иллюстрации этого положения.
Рассмотрим случай, когда N - 2. Уже существующая фирма может
быть бешеной Iе или нормальной IN. Вероятность того, что уже суще-
440
Кристиан Монте
ствующая фирма — «бешеная», равна л. «Бешеная» фирма будет пре-
пятствовать входу любого конкурента с вероятностью, равной 1;
ожидается, что нормальная уже существующая фирма будет препят-
ствовать входу Ej с вероятностью р.
Предположим, что Ej вошла на рынок. Если I не борется, Е2
поймет, что I — это нормальная фирма, и войдет. Если I борется, то
такое поведение может указать на то, что она «бешеная». Применяя
правило Байеса, получим апостериорную вероятность того, что I —
«бешеная» фирма, т. е. л* = л/[л + (1 - л)р], и что она будет атаковать
Е2. Ожидаемый выигрыш, таким образом, будет зависеть от значе-
ния л*. Очевидно следующее: нормальная уже существующая фирма
может посчитать выгодным для себя атаковать чужака, несмотря на
потери в первом периоде, для того чтобы дать понять потенциаль-
ным конкурентам, что они имеют дело с «бешеной» фирмой.
Очень простой пример двухпериодной игры, рассмотренный нами
выше, может привести к неправильному выводу о том, что Е2 воздержит-
ся от вторжения в отрасль после фактического входа Ег Скорее про-
изойдет обратное. Так как все вероятности являются общедоступным
знанием, а решение может быть найдено с помощью обратной индук-
ции, первый потенциальный конкурент оценит риск агрессивной ре-
акции фирмы-старожила и, следовательно, воздержится от входа. Если
вторжение и состоится, то оно произойдет в финальных периодах игры.
Множество приложений в экономической теории имеет игра
создания репутации. Особенно интересен пример создания слабым
правительством репутации борца с инфляцией с целью поэксплуати-
ровать инфляционный бум (см. Backus, Driffill, 1985; Barro, 1986;
Blackburn, Cristensen, 1989).
Игровые модели с асимметричной информацией до сих пор име-
ют ряд недостатков, связанных с предпосылками рациональности, обще-
доступного знания или с множественностью состояний равновесия
(см. самокритику в работе Milgrom, Roberts, 1987). Однако они, не-
сомненно, представляют собой значительный шаг вперед в анали-
зе стратегического поведения.
17.6. Заключительные замечания
В последние годы мы стали свидетелями огромного развития
аналитического аппарата теории игр в различных областях экономи-
ческой теории. В этой главе мы раскрыли лишь некоторые вопросы,
связанные с этим возрождением большого интереса к теории игр.
Для более полного представления всех сегодняшних достижений по-
требовался бы гораздо больший размер главы; особенно важной темой
является пропущенная здесь теория торга (bargaining) (см. Sutton,
1986; Binmore, Dasgupta, 1987; Rubinstein, 1987).
Пория игр и стратегическое поведение
441
Многие аспекты теории отраслевых рынков, международной тор-
говли, макроэкономической политики и теории общественного выбо-
ра, которые раньше не поддавались анализу, сегодня могут быть ис-
следованы с помощью формальных игровых моделей, включая дина-
мические модели с асимметричной информацией, обогащенные идеями
Шеллинга о стратегических ходах. Инструменты теории игр сегодня
лучше понимаются и более рассудительно используются экономиста-
ми. Поэтому теория игр сегодня считается более полезной и интерес-
ной, чем это было несколько десятилетий назад. И в то же время
сама экономическая теория стала более реалистичной и более при-
ближенной к проблемам реального мира. Не похоже, чтобы этот бла-
готворный процесс ослабевал, и, возможно, сегодняшний энтузиазм
по поводу теории игр останется в экономической теории навсегда.
Иными словами, нам не придется еще раз испытывать в течение дли-
тельного периода разочарование, как в 1950-х гг.
Конечно, остается еще много проблем, особенно проблемы мно-
жественности состояний равновесия и проблемы, возникающие в
результате предпосылки общедоступного знания. Однако можно ожи-
дать дальнейшего прогресса в развитии экспериментального анали-
за и родственных областей социологии и психологии. Например,
похоже, что последние достижения в области игровых моделей в
эволюционной биологии (Maynard Smith, 1982) могут открыть ин-
тересные перспективы для экономистов (Dasgupta, 1989).
.Э'л-
Литература
Aumann R. J. Subjectivity and correlation in randomized strategies // Journal
of Mathematical Economics. 1974. Vol. 1. P. 67-96.
Aumann R. J. Correlated equilibrium as an expression of Bayesian rationali-
ty // Economimetrica. 1987. Vol. 55. P. 1-18.
Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York : Basic Books, 1983.
Bacharach M. Economics and the Theory of Games. London : Macmillan, 1976.
Backus D., Drifflll E. J. Inflation and reputation //American Economic Review.
1985. Vol. 75. P. 530-538.
Barro R. J. Reputation in a model of monetary policy with incomplete infor-
mation //Journal of Monetary Economics. 1986. Vol. 12. P. 101-102.
Bellman R. Dynamic Programming. Princeton, NJ Princeton University Press,
1957.
Bertrand J. Theorie des richesses //Journal des Savants. 1983. P. 499-508.
Bewley T. F. (ed.). Advances in Economic Theory — Fifth World Congress.
Cambridge : Cambridge University Press, 1987.
Btnmore K., Dasgupta P. (eds). The Economics of Bargaining. Oxford : Basil
Blackwell, 1987.
442
Кристиан Монте
Blackburn. К. Macroeconomic policy evaluation and optimal control theory:
a critical review of some developments //Journal of Economic Surveys.
1987. Vol. 1 (2). P. 11-148.
Blackburn K., Christensen M. Monetary policy and policy credibility: theories
and evidence//Journal of Economic Literature. 1989. Vol. 27. P. 1-45.
Brander J., Spencer B. Export subsidies and international market share rivalry //
Journal of International Economics. 1985. Vol. 18. P. 83-100.
Bulow J., Geneakoplos J., Klemperer P. Multimarket oligopoly: strategic substitutes
and complements //Journal of Political Economy. 1985. Vol. 93. P. 488-
511.
Cournot A. A. Recherches sur les Principes Math6matiques de la Theorie des Ri-
chesses, Paris: Hachette. English translation, Researches into the Mathe-
matical Principles of the Theory of Wealth. London : Hafner, 1960. 1838.
Dasgupta P. Applying game theory: some theoretical considerations // European
Economic Review, Papers and Proceedings of the Third Annual Congress of
the EEA. 1989. Vol. 33. P. 619-624.
Dixit A. K. The role of investment in entry deterrence//Economic Journal.
1980. Vol. 90. P. 95-106.
Dixit A. K. Comparative statics for oligopoly // International Economic Review.
1986. Vol. 27. P. 107-122.
Dixit A. K. Strategic aspects of trade policy / In T. F. Bewley (ed.). Advances in
Economic Theory — Fifth World Congress. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 1987.
Eaton J., Grossman G. Optimal trade and industrial policy under oligopoly //
Quarterly Journal of Economics. 1986. Vol. 101. P. 383-406.
Farrell J., Maskin E. Notes on renegotiation in repeated games / Unpublished
manuscript. Harvard University, 1987.
Friedman J. W. A non-cooperative equilibrium for supergames//Review of
Economic Studies. 1971. Vol. 38. P. 1-12.
Friedman J. W. Game Theory with Applications to Economics. Oxford : Oxford
University Press, 1986.
Fudenberg D., Tirole J. The fat-cat effect, the puppy-dog ploy and the lean and
hungry look // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1984.
Vol. 74. P. 361-366.
Fudenberg D., Tirole J. Dynamic Models of Oligopoly. New York : Harwood, 1986.
Geroski P., Jacquemin A. Industrial change, barriers to mobility, and European
industrial policy//Economic Policy. 1985. Vol. 1. P. 170-218.
Harsanyi J. Games with incomplete information played by Bayesian players,
I-III//Management Science. 1967-1968. Vol. 14. P. 159-182, 320-334,
486-502.
Jacquemin A. The New Industrial Organization: Market Forces and Strategic
Behavior. Oxford : Clarendon Press, 1987.
Johansen L. On the status of the Nash equilibrium in economic theory //
Scandinavian Journal of Economics. 1982. Vol. 84. P. 421-441.
Kennan J., Rtezman R. Do big countries win tariff wars? // International Economic
Review. 1988. Vol. 29. P. 81-85.
Теория игр и стратегическое поведение
443
Kohlberg Е., Mertens J. F. On the strategic stability of equilibria // Econometrica.
1986. Vol. 54. P. 1003-1037.
Kreps D., Spence A. M. Modelling the role of history in industrial organization
and competition I In G. Feiwel (ed.). Issues in Contemporary Microecono-
mics and Welfare. London : Macmillan, 1985.
Kreps D„ Wilson R. Reputation and imperfect information // Journal of Economic
Theory. 1982a. Vol. 27. P. 253-279.
Kreps D., Wilson R. Sequential equilibria // Econometrica. 1982b. Vol. 50. P. 863-
894.
Krugman P. R. Import protection as export promotion: international competi-
tion in the presence of oligopoly and economies of scale / In H. Kierzkowski
(ed.). Monopolistic Competition and International Trade. New York : Oxford
University Press, 1984.
Laffont J. J., Maskin E. The theory of incentives: an overview / In W. Hil-
denbrand (ed.). Advances in Economic Theory. Cambridge : Cambridge
University Press, 1982.
Lyons B. Strategic behaviour by firms / In R. Clarke and T. McGuiness (eds).
The Economics of the Firm. Oxford : Basil Blackwell, 1987.
McMillan J. Game Theory in International Economics. London : Harwood, 1986.
Maynard Smith J. Evolution and the Theory of Games. Cambridge : Cambridge
University Press, 1982.
Milgrom P., Roberts J. Predation, reputation and entry deterrence // Journal of
Economic Theory. 1982. Vol. 27. P. 280-312.
Milgrom P., Roberts J. Information asymmetries, strategic behaviour and industrial
organization // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1987.
Vol. 77. P. 184-193.
Napoleonl C. Economic Thought of the Twentieth Century / English translation
A. Cigno. London : Martin Robertson, 1972. 1963.
Nash J. F. Non-cooperative games//Annals of Mathematics. 1951. Vol. 54.
P.286-295.
Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior.
Princeton, NJ : Princeton University Press, 1944.
Pearce D. Renegotiation-proof equilibria: collective rationality and intertemporal
cooperation / Unpublished manuscript. Yale University, 1987.
Roberts J. Battles for market share: incomplete information, aggressive strategic
pricing, and competitive dynamics / In T. F. Bewley (ed.). Advances in
Economic Theory — Fifth World Congress. Cambridge: Cambridge, Uni-
versity Press, 1987.
Rubinstein A. A sequential strategic theory of bargaining I In T. F. Bewley
(ed.). Advances in Economic Theory — Fifth World Congress. Cambridge :
Cambridge University Press, 1987.
Schelling T. The Strategy of Conflict. Cambridge, MA : Harvard University
Press, 1960.
Schelling T. Arms and Influence. New Haven, CT : Yale University Press, 1965.
Shapiro C. Theories of oligopoly behavior I In R. Schmalensee and R. Willig
(eds). Handbook of Industrial Organization. Amsterdam : North-Holland,
1989.
444
Кристиан Монте
Selten R. Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points
in extensive games // International Journal of Game Theory. 1975. Vol. 4.
P. 25-55.
Selten R. The chain-store paradox // Theory and Decision. 1978. Vol. 9. P. 127-
159.
Shubik M. Strategy and Market Structure. New York : Wiley, 1959.
Shubtk M. Game Theory in the Social Sciences. Cambridge, MA : MIT Press, 1982.
Smiley R. Empirical evidences on strategic entry deterrence // International
Journal of Industrial Organization. 1988. Vol. 6. P. 167-180.
Spence M. Entry, capacity, investment and oligopolistic pricing // Bell Journal
of Economics. 1977. Vol. 8. P. 534-544.
Sutton J. Non-cooperative bargaining theory: an introduction // Review of Eco-
nomic Studies. 1986. Vol. 53. P. 709-724.
Van Damme E. Refinements of the Nash Equilibrium Concept. Berlin : Springer-
Verlag, 1983.
Ware R. Sunk cost and strategic commitment: a proposed three-stage equilib-
rium // Economic Journal. 1984. Vol. 94. P. 370-378.
'<W'-r чЛ. W
sn*-
г.лй»
БАЛАСУБРАМАН И AM И Э. A. МАК БИН
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ
18.1. Введение
Большинство вопросов экономики развития вызывает напряжен-
ные споры, однако самыми неоднозначными являются международ-
ные аспекты. Широко известны давние дебаты о распределении вы-
год от торговли и инвестиций между развивающимися и развитыми
странами. Предназначенные для объяснения слаборазвитости неомарк-
систские теории и теории зависимости, столь модные в 1970-е гг.,
возродили и усилили эти споры. На 1980-е гг. пришелся новый подъем
неоклассической ортодоксии, выступающей за минимальное вмеша-
тельство государства в экономику и ориентированную вовне экономи-
ческую политику, примером чего послужила политика структурной
адаптации и стабилизации, проводимая Всемирным банком и Меж-
дународным валютным фондом (МВФ). Однако эти тенденции стали
причиной возрождения давних дебатов между ортодоксальными нео-
классическими или либеральными экономистами и «структуралиста-
ми», которые уже давно делали акцент на структурной негибкости и
несостоятельности рынка, вызываемых социальными, институциональ-
ными и политическими факторами, которые тормозят развитие. Как
известно, они защищали государственное вмешательство, а также ре-
гулирование внешней торговли и иностранных инвестиций, видя в
этом способ преодолеть эти тормозящие факторы. Дебаты между ор-
тодоксальными неоклассиками и структуралистами можно было бы
отнести к страницам истории, однако эта разница во взглядах про-
должает оказывать влияние на обсуждение важнейших политических
вопросов. Среди них — структурная и стабилизационная политика
Всемирного банка и МВФ, а также либерализация торговли услугами,
прямые иностранные инвестиции и проблема международной задол-
женности.
В настоящей главе мы рассмотрим недавнюю полемику по пово-
ду некоторых из этих тем. В разделе 18.2 мы кратко обсудим пози-
цию структуралистов и представим общие основы для анализа струк-
446
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
турной политики, содержащегося в разделе 18.3. Этот анализ предпо-
лагает, что необходимой предпосылкой успеха стабилизационных
программ является увеличение потоков финансовых и технических
ресурсов из развитых стран в развивающиеся. В разделе 18.4 будет
показана роль прямых иностранных инвестиций как важнейшего
источника и проводника финансовых средств и технологий как в
обрабатывающую промышленность, так и в сферу услуг; здесь же
будет рассмотрена полемика, касающаяся прямых иностранных ин-
вестиций и либерализации торговли услугами.
18.2. Позиция структуралистов
В общих чертах позиция структуралистов может быть сведена к
следующему. Различия между экономическими структурами менее
развитых стран (МРС, периферии) и более развитых стран (БРС, цен-
тра) и характер их торговых и финансовых связей систематически
тормозят развитие МРС. Во-первых, экономики МРС являются двух-
секторными: относительно развитый сектор, в основе которого лежат
такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и плантаци-
онное хозяйство, экспортирующие свою продукцию в БРС, и отста-
лый сектор, где доминируют неформальная рыночная деятельность и
сельское хозяйство, производящее самые необходимые продукты пи-
тания. Для отсталого сектора характерна скрытая безработица. Про-
блему занятости быстрорастущего населения, и особенно рабочей силы,
уходящей из традиционного сектора, вынужден решать прогрессив-
ный сектор. Его расширение определяется уровнем инвестиций, ко-
торый, в свою очередь, зависит от сбережений и чистого притока
иностранного капитала. Предполагаются негибкие соотношения фак-
торов и полная зависимость от импортируемых капитальных благ.
Трудности, связанные с быстрым расширением прогрессивного сек-
тора, создают тенденцию к структурной безработице.
Во-вторых, прогрессивный сектор имеет очень мало связей с
традиционным сектором по причине своей ориентированности на
внешнюю торговлю. Его рост слабо распространяется на остальную
экономику.
В-третьих, низкая эластичность спроса по доходу и другие ха-
рактеристики рынков продуктов и факторов производства, определя-
ющие товарный экспорт МРС, в отличие от продукции обрабатыва-
ющей промышленности, импортируемой из БРС, вызывают устой-
чивые тенденции к нарушению равновесия платежного баланса и
неблагоприятный тренд товарных (чистых бартерных) условий тор-
говли для МРС (Prebisch, 1950; Singer, 1950, 1989; Nurkse, 1959).
Существует всего несколько способов избежать неблагоприятных усло-
вий торговли и ограничений платежного баланса: развитие импорте-
Международные аспекты экономики развития
447
замещения, диверсификация хозяйственной деятельности за счет сти-
мулирования экспорта продукции обрабатывающей промышленности
или вечная зависимость от экономической помощи. Развитие экспор-
та считается слишком сложным из-за конкуренции с БРС и их про-
текционизма (см. Linder, 1967). Импортозамещение также весьма за-
труднено, если позволить мощным отраслям промышленности БРС
конкурировать на равных. Помощь была бы «кстати», и, возможно,
без нее не обойтись, но она всегда имеет количественные и временные
пределы. Следовательно, единственным решением оказывается поли-
тика импортозамещающей индустриализации (import-substituting
industrialisation) (ИЗИ) в сочетании с высокой степенью протекцио-
низма, выступающего в роли «прикрытия». Аргументацию в пользу
ИЗИ усиливают положительные внешние эффекты развития обраба-
тывающей промышленности, а также общий пессимизм в отноше-
нии экспортных возможностей МРС, основанный на неблагоприят-
ных тенденциях в условиях торговли, а также нестабильности товар-
ного экспорта и опасности роста, ведущего к обнищанию в том случае,
если бы МРС расширили свой товарный экспорт при неэластичном
спросе на мировом рынке (Bhagwati, 1958). Позднее эта аргумента-
ция была распространена и на экспорт продукции обрабатывающей
промышленности (Cline, 1982). По убеждению Клайна, то, что принес-
ло успех экономикам нескольких стран типа Кореи, Тайваня, Гон-
конга и Сингапура, не могло быть распространено на многие МРС.
Если бы они одновременно расширили объемы своего экспорта, БРС
ввели бы жесткие торговые барьеры.
Эта логика, равно как и эмпирическое обоснование, лежащее в
основе старого и нового пессимизма в отношении экспорта МРС, под-
держивает позицию тех, кто отрицает рынок и сравнительные пре-
имущества. Из нее следует, что в стремлении к росту и достойному
положению в мировом хозяйстве правительства МРС должны сокра-
щать свою зависимость от сырья и форсировать темпы индустриа-
лизации. А для этого необходимы протекционистские меры, оправды-
ваемые аргументами защиты молодых отраслей, неблагоприятных усло-
вий торговли и платежного баланса. В рамках обрабатывающей
промышленности основной акцент должен быть сделан на ИЗИ, а не
на экспорте.
Критика старого и нового пессимизма
в отношении экспорта МРС
Как аргументы в поддержку пессимистического отношения к
товарному экспорту МРС, так и выводы, следующие отсюда относи-
тельно экономической политики, подверглись критике. Ранние ис-
следования проводились на основе некачественных данных, которые
не вполне подходили для этой цели (например, индексов относитель-
448
В. Н. Баласубраманиам. и Э. А. Макбин
ных цен экспорта и импорта Великобритании). Однако в 1980-х гг.
были построены новые временные ряды, охватившие мировую торгов-
лю с 1900 г. по конец 1980-х гг. Результаты недавних исследований
показали, что тенденция к падению цен на сырьевой экспорт по срав-
нению с продукцией обрабатывающей промышленности существует,
но вопрос осложняется структурными сдвигами и циклическими ко-
лебаниями (Spraos, 1980; Sapsford, 1985; Thirlwall, Bergevin, 1985;
r. Grilli, Yang, 1988). Самые последние исследования, проведенные в
работе (Cuddington, Urzua, 1989), с использованием данных Всемир-
ного банка, опубликованных в (Grilli, Yang, 1988), привели к следу-
ющим выводам:
После 1920 г. цены на сырье испытали резкое падение относительно
цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Однако, кроме этого
единовременного сдвига, нет никаких доказательств существования постоян-
ной тенденции к падению относительных цен на сырье. Иначе говоря, дви-
жение реальных цен на сырье с начала века нельзя описывать как «вековое
ухудшение».
Однако даже если бы относительные цены на сырье в целом,
кроме нефти, действительно падали, это не было бы достаточным
основанием для выводов о целесообразности перемещения ресурсов
из добывающей в обрабатывающую промышленность. Изменения в
характере и качестве продукции, особенно продукции обрабатывающей
промышленности, делают индексные показатели весьма сомнитель-
ными. Более того, общие предписания подобного рода спорны ввиду
разнообразия МРС и различий между товарными рынками. Эластич-
ность спроса на сырье по доходу находится в диапазоне 0.3-0.5 (Bond,
1987). Вкусы меняются, и в моде оказываются то натуральные, то
синтетические волокна. Некоторые продукты питания становятся
популярными, в то время как рынки других находятся в застое. На-
ходится новое применение старым видам сырья. Отказ от сырьевого
экспорта по причине отмеченной общей тенденции означает риск
потери доходов, которые могут превысить выгоды от импортозамеще-
ния. Национальная экономическая политика должна основываться
на более или менее подробных оценках конкретных возможностей
для страны, а не на общих тенденциях. Оценка перспектив будущего
спроса должна быть одним из основных элементов в принятии реше-
ний об аллокации ресурсов наряду с оценками сравнительных издер-
жек и производительности в различных секторах и отраслях. Даже
там, где есть перспектива значительного падения реальных цен на
продукцию, создаваемую в результате того или иного проекта, он за
время своего осуществления может принести высокие частные и об-
щественные выгоды, если издержки падали быстрее или были на-
столько низкими, что позволили получить достаточную ренту в на-
чальные годы реализации проекта.
Международные аспекты экономики развития
449
Несмотря на изъяны, структурализм был и остается влиятель-
ной концепцией. Централизованное планирование, детальное регули-
рование, государственная собственность и контроль над экономиче-
ской деятельностью — все это опирается на структурализм. В резуль-
тате экономики многих МРС оказались изолированными от мировой
конкуренции. Их внутренние цены потеряли связь с мировыми цена-
ми, как это случилось с плановыми экономиками СССР и Восточной
Европы. Их экономики становились все более искаженными. Экспорт
и производство продовольствия для внутреннего потребления часто
приносились в жертву продвижению неэффективных отраслей про-
мышленности.
Либерализация торговли
Структурализм был и остается мощным противником тради-
ционной экономической теории, согласно которой страны (за не-
сколькими специфическими исключениями) оказываются в выиг-
рыше от свободной торговли с остальным миром. На протяжении
последних 30 лет было собрано немало эмпирических доказательств
того, что страны, которые в течение долгого времени проводят поли-
тику импортозамещающей индустриализации, как правило, добива-
ются меньших успехов по сравнению с теми государствами, которые
проводят более открытую экономическую политику (см. Little et al.,
1970; Bhagwati, 1978; Krueger, 1978; Word Bank, 1987 и все сноски,
приведенные в данных источниках). Общее возрождение анализа и
политики, ориентированных на рыночные силы, а также неспособ-
ность централизованных восточноевропейских экономик поставлять
обществу необходимые блага подкрепили критику чрезмерного го-
сударственного вмешательства в МРС и «внутренне ориентирован-
ной» политики промышленного развития. Эти факторы в сочетании
с ростом влияния монетаризма оказали воздействие на подход МВФ
и Всемирного банка к кризисам платежных балансов МРС, имев-
шим место в 1970-х и 1980-х гг. Обе эти организации активно
поддерживали либерализацию импорта в качестве важного элемен-
та структурной политики, необходимой для экономического ожив-
ления и роста.
Программы МВФ в основном сосредоточены на краткосрочной
перспективе. Их основной целью является приведение совокупных
расходов и совокупного продукта (дохода) страны во взаимное соот-
ветствие для того, чтобы сократить спрос на импорт и освободить
ресурсы для экспорта. МВФ принимает во внимание и внутренние
задачи страны, такие как экономический рост, увеличение занятости
населения и более равномерное распределение доходов. Мероприятия
в сфере предложения, направленные на повышение эффективности и
увеличение выпускаемой продукции, обычно являются частью его
30 Заказ № 356
450
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
рекомендаций. Однако закрепленная в уставе этой организации необ-
ходимость быстро возвращать займы, нехватка ресурсов, а также по-
требность в быстром обороте фондов означают, что МВФ вынужден
уделять этим задачам меньше внимания, чем быстрому возврату
платежного баланса к приемлемому состоянию (Khan, Knight, 1986;
Guitian, 1987).
Кризисы 1970-х гг. привели к признанию необходимости более
долгосрочного содействия, чем мог оказать МВФ, даже со своей
Программой расширенного фонда, превышающего размер квоты дан-
ной страны (Extended Fund Facilities). Для оказания такого содей-
ствия Всемирный банк ввел в 1980 г. займы для структурных кор-
ректировок (Structural Adjustment Loans — SALs). Их целью явля-
ется:
Поддерживать программу конкретных изменений экономической по-
литики и институциональных реформ, предназначенную для сокращения
дефицита по счету текущих операций до приемлемого уровня; содействовать
государству в покрытии «переходных издержек», связанных со структурны-
ми изменениями в промышленности и сельском хозяйстве, путем увеличе-
ния предложения доступной иностранной валюты; действовать как катали-
затор для притока другого зарубежного капитала и облегчать ситуацию с
платежным балансом.
(Stern, 1983)
Как становится очевидно из последующих заявлений других
официальных лиц Всемирного банка, к этому списку задач следует
добавить: «содействовать устойчивому росту стран — получателей
займов» (Cassen, 1986; Michalopoulos, 1987).
Основное различие между займами на подержку структурных
корректировок Всемирного банка и программами МВФ заключается
во временных рамках и спектре принимаемых мер. Программы МВФ
главным образом связаны с финансированием и корректировкой
дефицита платежного баланса в краткосрочной перспективе, в то время
как Всемирный банк стремится к устойчивости платежных балансов
в долгосрочной перспективе. Факторам, действующим со стороны
предложения, таким как мобилизация и изменение аллокации ресур-
сов, придается большее значение в рекомендациях Всемирного банка.
Однако различия стираются, когда МВФ проводит серию про-
грамм или использует «расширенное финансирование». Обычно по-
мощь государству предоставляют обе организации вместе и их дея-
тельность является взаимодополняющей. Но в некоторых случаях
между ними все же обнаруживаются различия, что показывает при-
мер Восточной Африки (Cassen, 1986 : 82-83). В основном они возни-
кают при решении вопроса о том, до какого уровня можно сокращать
совокупный спрос. Возможно, их причиной являются различия мне-
ний по экономическим и политическим проблемам, но определенное
Международные аспекты экономики развития
451
влияние на них оказывает и ресурсное ограничение МВФ. Оно не
позволяет МВФ тратить время на более «тонкие» реформы в сфере
предложения (Cassen, 1986).
18.3. Политика структурных корректировок
Контекст структурных корректировок
Признание необходимости структурных корректировок (structural
adjustment) неизменно наступает в тот момент, когда страна оказывает-
ся в состоянии тяжелого платежного кризиса. Часто в это время
становятся очевидными основные проблемы неправильной аллока-
ции ресурсов, низкой эффективности, нехватки продовольствия и сни-
жения объема экспорта. Государственные и коммерческие займы в
1970-х гг. оттягивали кризис до тех пор, пока многие страны, нахо-
дясь под тяжестью огромных долгов, не столкнулись с ухудшением
условий торговли, сверхвысокими процентными ставками, а также
внешними и внутренними шоками. Поэтому большинство стран прини-
мает стратегию корректировок, когда налицо кризис ликвидности в
сочетании с макроэкономическим дисбалансом и микроэкономически-
ми искажениями. Обычно большая часть валютных доходов этих стран
уходит на обслуживание их задолженности, а коммерческое финан-
сирование для них уже невозможно. Причиной макроэкономического
дисбаланса является избыток внутренних расходов над доходами.
Искажения аллокации ресурсов — либо результат того, что в прошлом
они были неверно размещены, либо следствие такой структуры сти-
мулов, которая способствовала «бегству» ресурсов в неприбыльные
сферы деятельности. Внутренние цены не отражают предельных аль-
тернативных издержек, и поэтому фермеры и предприниматели по-
лучают ложные сигналы. Применять необходимые меры было бы
проще в спокойных ситуациях. Например, снижение торговых барь-
еров легче осуществлять, когда страна располагает обильными резер-
вами, а безработица низкая. Однако, похоже, для того, чтобы возник-
ло желание к переменам, необходимы кризисы (World Bank, 1987 :
ch. 6). Только когда страна исчерпала свои ресурсы и свой кредит,
МВФ и Всемирный банк способны оказать значительное влияние.
Содержание программ структурных корректировок
Программы займов под структурные корректировки Всемирно-
го банка в общих чертах можно охарактеризовать как пакет мер,
воздействующих на спрос, предложение и международную конкурен-
тоспособность. Эти меры частично «перекрывают» друг друга, но
классификация основана на их первичных целях. Меры по воздей-
452
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
ствию на спрос нацелены на сокращение темпов его роста. К ним
относятся сокращение государственных расходов, увеличение налого-
обложения, жесткая денежная политика и высокие реальные процент-
ные ставки.
Меры по воздействию на предложение можно подразделить сле-
дующим образом: а) политика, направленная на перемещение ресур-
сов из сфер деятельности с низкой отдачей в более выгодные для
общества и, следовательно, на поощрение эффективного использова-
ния факторов производства и сокращение объемов непроизводитель-
ной растраты ресурсов; б) политика, направленная на увеличение ре-
сурсов путем стимулирования внутренних сбережений и инвестиций,
а также на привлечение иностранных инвестиций и технологий. Пер-
вые из перечисленных мер включают в себя устранение контроля над
ценами, борьбу с монополиями, сокращение торговых ограничений,
корректировку налогов и субсидий и дерегулирование финансового
сектора. Эти два типа мер взаимодействуют, поскольку более эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов повышает объем выпуска-
емой продукции и таким образом позволяет генерировать больше
сбережений, а растущая производительность привлекает инвестиции.
Международная конкурентоспособность страны измеряется соот-
ношением ее издержек на производство обмениваемых товаров и
ценами этих товаров на мировом рынке. Если инфляция в этой стра-
не опережает инфляцию в странах-конкурентах или странах-партне-
рах, то ее конкурентоспособность падает. Контроль за инфляцией
либо девальвация снижает реальный эффективный обменный курс,
т. е. курс с поправкой на инфляцию, взвешенный в зависимости от
долей каждого из основных торговых партнеров (см. Khan, Knight,
1986). В принципе, стимулирующего влияния девальвации можно
достичь путем налогообложения импорта и субсидирования экспор-
та. В некоторых случаях эти меры целесообразны, но их осуществле-
ние требует больших затрат и может повлечь за собой установление
защитных пошлин на некоторых рынках.
Критика программ структурных корректировок
Девальвация, освобождение импорта и упразднение налогов на
экспорт должны увеличивать экспорт. Для экспортеров товаров уве-
личение экспорта может привести к падению мировых цен, посколь-
ку сырьевые рынки растут медленно и мировой спрос не эластичен
по цене. В том случае, если это падение опередит увеличение объема
экспорта, валютные доходы будут уменьшаться. Когда такое государ-
ство, как Гана принимает пакет структурных мер, стимулирующих
экспорт какао, страна, возможно, добьется успеха на некоторое вре-
мя. Однако если увеличение объема экспорта приведет к падению цен
на какао, то пострадает и сама Гана, и другие экспортеры.
Международные аспекты экономики развития
453
Действительно ли политика структурных корректировок может
привести к росту экспорта, вызывающему обнищание? Многое зависит
от того, каким образом принимаются решения на национальном уров-
не, а также от доступа к точной информации. Доминирующие постав-
щики должны были бы знать, что доход от их товарного экспорта
оказывается в обратной зависимости от его объема. Проведя деваль-
вацию, они могли бы компенсировать неблагоприятные ценовые эф-
фекты путем налогообложения экспорта. Им нет нужды приносить в
жертву выигрыш, полученный в результате либерализации просто
потому, что это увеличило бы экспорт сверх оптимального уровня.
Такую динамику можно предотвратить за счет налога на экспорт.
Новые пессимисты в отношении экспорта МРС указывают еще
на один риск, который заключается в том, что увеличение экспорта
продукции обрабатывающей промышленности МРС может повлечь
за собой протекционистские меры со стороны БРС. Важным элемен-
том в этом случае является «ошибка перенесения свойств части на
целое». Пессимисты утверждают, что выигрыши, возможные для не-
скольких новых индустриальных стран (НИС), окажутся недоступны-
ми, если многие МРС увеличат свой экспорт (Cline, 1982). Широко
распространенный переход от ИЗИ к политике, ориентированной на
экспорт, станет, по их мнению, причиной страха потери рабочих мест
в промышленно развитых странах и спровоцирует их на возведение
барьеров на пути экспорта из МРС. Позиция Клайна грешит преуве-
личениями (см. Havrylyshyn, 1987), однако некоторые опасения воз-
можного усиления протекционизма являются справедливыми (World
Bank, 1987 : chs 8, 9).
Было бы оптимально, если бы преобразования могли осуще-
ствляться на фоне оживленного спроса. Но даже если в настоящее
время только несколько производимых страной товаров пользуются
таким спросом, это не составляет преграды для прибыльного экспор-
та. Что необходимо знать странам, так это спектр возможностей, ко-
торые перед ними открыты. Экспорт товаров по-прежнему может
приносить самые высокие доходы. Возможности для экспорта про-
дукции обрабатывающей промышленности продолжают расширять-
ся. Движение вверх по лестнице сравнительных преимуществ и рост
внутриотраслевой внешней торговли (intra-industry trade) дает про-
изводителям, функционирующим в обрабатывающей промышленно-
сти, дополнительные возможности.
Проблемы сферы предложения
Экономический рост последует за структурными корректировка-
ми, если выпуск среагирует на изменения в политике. Девальвация,
снижение степени протекционизма и отказ от ограничений импор-
та — эти меры часто принимаются с целью перемещения ресурсов из
454
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
отраслей, производящих необмениваемые на мировом рынке блага, и
из импортозамещающих отраслей в экспортные. Эта политика осво-
бождает цены на производимую продукцию и факторы производства,
чтобы ничто не мешало распространению сигналов об относительной
прибыльности различных видов экономической деятельности. Во
многих странах управление и контроль над ценами существовали все-
гда. Они оказали влияние на большую часть экономической деятель-
ности в этих странах. Ключевая цель политики структурных коррек-
тировок — устранение контроля и, следовательно, предоставление ры-
ночным силам свободы в аллокации как факторов производства, так
и конечных благ. Но срабатывает ли такая политика? Будут ли потре-
бители и производители реагировать на нее? Структуралисты подчер-
кивают сложности этого процесса. У экономистов неоклассической
школы надежд больше.
На протяжении длительного времени общепринятая теория гла-
сила, что фермеры в МРС слабо реагируют на ценовые стимулы. Сре-
ди выдвигавшихся причин значились культурные факторы, формы
собственности на землю, «абсентеистское землевладение», издольщи-
на и т. д. С недавнего времени акцент делается на том обстоятель-
стве, что для мелких фермеров перемены связаны с риском, но огра-
ничение их доступа к таким ресурсам, как кредитование, ирригация,
водоснабжение, удобрения, защита посевов, транспорт и рынки сбыта,
также может ограничить реакцию предложения.
Однако эмпирические исследования, проведенные в Индии и дру-
гих странах, показали, что фермеры все-таки реагируют на изменения
цен. Если цена на джут поднимается относительно цены на рис, фер-
меры в Бангладеш заменяют рис на джут. Эластичности оказываются
положительными и иногда превышают единицу (World Bank, 1986).
По крайней мере данные о годовых урожаях свидетельствуют о до-
вольно значительной реакции производства на цены в течение одно-
го-двух сезонов. Кажется, что фермеры в МРС на всех континентах
готовы применять новые технологии в том случае, если это прибыль-
но. Возможно, мелкие фермеры и отстают, но, по-видимому, примене-
ние технологий «зеленой революции» не зависит от масштаба произ-
водства, и мелкие фермеры не замедлили последовать за крупными в
использовании новых семян и технологий. Однако осуществить пере-
ход от одной посевной культуры к другой легче, чем увеличить
объем валовой продукции. Множество примеров реакции на измене-
ние цен зарегистрировано и приведено в публикации Всемирного бан-
ка (World Bank, 1986). Тем не менее усиление таких институтов, как
службы распространения сельскохозяйственных знаний, улучшение
распределения факторов производства и повышение доступности кре-
дитов, а также развитие более совершенных систем землевладения
являются важными поддерживающими мерами во многих странах
(Lipton, 1987).
Международные аспекты экономики развития
455
К сожалению, производство многих основных сельскохозяйствен-
ных продуктов, экспортируемых МРС (от посева до сбора урожая),
требует нескольких лет. Хорошим примером тому служат кофе, ка-
као, чай, кокос, каучук и пальмовое масло. Но даже в этих случаях
объемы производимой продукции могут быть увеличены до некото-
рых пределов путем дополнительного сбора плодов и латекса,* более
активного использования удобрений и охраны посевов. Однако для
большинства товаров краткосрочная эластичность производства низ-
ка. Экспорт минералов также медленно реагирует на стимулы. Если
рудники уже работают почти на пределе своих производственных
мощностей, то придется закладывать новые шахты, вскрывать новые
пласты и направлять инвестиции на исследования и разработки. Серь-
езные задержки могут иметь место, даже если речь идет об открытых
рудниках или карьерах.
Если подобные лаги являются типичными для наиболее тра-
диционных экспортных отраслей МРС, то это имеет серьезное зна-
чение для кредитования структурных корректировок. Большинство
стран, принимающихся за осуществление структурных корректировок,
уже глубоко завязли в долгах. Если в течение многих лет экспорт
будет увеличиваться слабо или не будет увеличиваться вовсе при про-
должении долговых выплат, то либо рост будет весьма незначитель-
ным, либо потребуется более щедрая и длительная помощь. Но даже
в странах, специализирующихся на плантационном хозяйстве и до-
быче полезных ископаемых, реакция экспортеров может быть быст-
рее, чем предполагается. Во время кризисов рудники и плантации
часто работают ниже границы производственных мощностей отчасти
из-за того, что ограничение импорта и другие факторы создают де-
фицит оборудования, комплектующих и материалов. Поэтому либе-
рализация экономики и получение помощи могут привести к увели-
чению производства и экспорта без использования дополнительных
мощностей.
В случае с выращиванием плодов, собираемых с деревьев, как
уже отмечалось, дополнительные усилия, прилагаемые в ходе тща-
тельного сбора плодов (иногда с диких деревьев и кустов) и восста-
новления плантаций, могут обеспечить быструю реакцию на повыше-
ние цены. В случае более передового сельского хозяйства увеличение
текущих затрат может увеличить объемы производства. А дальней-
шей реакцией на повышение цен производителя, вероятно, будет
снижение контрабанды. Даже если это и не увеличит реальный экс-
порт, официальные валютные доходы и налоговые сборы должны
повыситься. Поскольку контрабанда неизбежна в тех странах, где
сильно искажены цены, восстановление стимулов может направить
незаконный экспорт на официальный рынок (World Bank, 1987).
* Латекс — млечный сок каучуконосов. (Прим, ред.)
456
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
Эластичность предложения тех экспортных продуктов, которые
потребляются и внутри страны, будет намного выше эластичности
их производства. Из-за повышения цен появится тенденция к пони-
жению внутреннего потребления и высвобождения большего количе-
ства продукции для экспорта. Тем не менее медленная реакция экс-
порта может стать реальной проблемой для структурных коррек-
тировок.
•А* Ь'лДрч.;»* |.. 6
и ~ Ь
Социальные издержки программ
структурных корректировок
Критики займов на структурные корректировки часто заостряют
внимание на их распределительных эффектах. Предполагается, что
бедные будут в результате страдать еще больше. Критики утвержда-
ют, что политика снижения протекционистских барьеров, приватиза-
ции, уменьшения расходов и повышения процентных ставок сокра-
щает потребление и инвестиции, замедляя таким образом экономи-
ческий рост и уничтожая рабочие места. В результате неизбежны
безработица и уменьшение доходов городских рабочих. Из-за устране-
ния контроля над ценами и девальвации на внутреннем рынке повы-
шаются цены на продукты питания и другие потребительские това-
ры. Более того, сокращение расходов часто наносит сильный удар по
здравоохранению и образованию, от состояния которых зависят мало-
имущие и их дети. Продовольственные субсидии также могут быть
сокращены, а сельскохозяйственные культуры, предназначенные для
экспорта, могут занять место продовольственных культур. Попадая в
ситуацию падающих денежных доходов и растущих цен, малоиму-
щие, скорее всего, пострадают больше других. Но являются ли эти
последствия неизбежными? Есть ли у бедных какие-либо компенсиру-
ющие выгоды? Какова причина их нужды — политика структурных
корректировок, мировой застой или предыдущие годы непредусмот-
рительного хозяйствования? Являются ли эти трудности лишь вре-
менными?
Стратегия структурных корректировок нацелена на повышение
эффективности и роста. Если с ее помощью удается достичь этих це-
лей, то может подняться и уровень жизни малоимущих слоев населе-
ния: более быстрый рост означает увеличение налоговых сборов и
объемов финансирования социальных расходов.
Бблыпая часть малоимущих в МРС проживает в сельских райо-
нах и зависит от сельского хозяйства. Как фермерам им выгодна
такая политика, в результате которой повышаются цены на экспорт-
ные культуры и продовольствие. Для не имеющих собственной земли
работников или арендаторов размеры выгоды от такой политики за-
висят от того, насколько повышается спрос на труд, каким образом
она отражается на уровне заработной платы и какой объем доходов
Международные аспекты экономики развития
457
тратится на продовольствие. Потребительские товары могут стать более
дешевыми и доступными благодаря либерализации торговли. В боль-
шинстве развивающихся стран экспорт и производство продовольствия
являются более трудоемкими, чем импортозамещающие отрасли.
А поскольку большая часть структурных корректировок стимулиру-
ет экспорт и производство продовольствия, то они должны создавать
рабочие места.
Сокращения бюджетных расходов уменьшают количество ра-
бочих мест в государственном секторе. Это усугубляет городскую
безработицу до тех пор, пока возобновленный рост не создаст до-
полнительные рабочие места. Какие же существуют альтернативы?
У государства, находящегося в условиях жесткого дефицита и от-
сутствия кредитов, нет иного выхода, кроме сокращения спроса.
Если принятие условий займа на структурные корректировки обес-
печивает содействие МВФ и Всемирного банка, сокращение спроса
может быть меньшим, чем в любом альтернативном случае. При-
нятие условий МВФ и Всемирного банка может открыть пути для
возобновления двусторонней помощи и коммерческих займов. Это
позволило бы распространить преобразования на более длительный
период без слишком резких сокращений спроса. Но структурные
меры все-таки могут привести к некоторым социальным издерж-
кам, особенно если они недостаточно финансируются. Возможно,
пройдут годы, прежде чем будут достигнуты значительный рост
производства и сокращение безработицы. Могут ли структурные
корректировки быть разработаны таким образом, чтобы облегчить
участь малоимущих? В- принципе, да, если преобразования будут
своевременными и хорошо организованными, а не запоздалыми и
насильственными, т. е. как в Корее в начале 1980-х гг., а не как
в Танзании или Гане в середине 1980-х гг. Социальные расходы
могут быть перераспределены в пользу малоимущих, например на-
правлены на начальное образование и профилактическое здраво-
охранение. Компенсация бедным может осуществляться через целе-
направленные программы занятости населения, общественные рабо-
ты в сельской местности, продовольственные субсидии и программы.
Недавно Всемирный банк продемонстрировал, что он может поддер-
жать такие меры для того, чтобы сократить социальные издержки
реформ (см. описание роли Всемирного банка в работе: Huang,
Nicholas, 1987).
Политические риски структурных корректировок
Проблемы возникают, когда не совпадают задачи правительств и
международных организаций, оказывающих помощь. Основной це-
лью правящей партии может быть удержание власти. Ее приори-
тет — сохранение инструментов контроля и партийного единства. Ее
458
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
влияние возрастает от возможности раздавать такие привилегии, как
лицензии на импорт, доступ к льготному кредитованию, правитель-
ственным магазинам, субсидируемым образованию и медицинскому
обслуживанию. Правящая партия не пожелает утратить ни одного из
этих рычагов. Правительства как правого, так и левого толка, скорее
всего, не устоят перед искушением осуществлять власть путем непо-
средственного контроля над валютными резервами и другими клю-
чевыми ресурсами, что направит их действия в «меркантилистское
русло».
Важнейшие элементы программ структурных корректировок Все-
мирного банка связацы с либерализацией и отменой нормирования и
лицензирования, с попытками увеличить эффективность организаций
государственного сектора или провести их приватизацию. И то и дру-
гое подразумевает проверку эффективности рынком. Члены партии,
занимающие должности, являющиеся синекурой, должны быть уволе-
ны. Отрасли с избыточным персоналом должны освободиться от ча-
сти рабочей силы. Городские рабочие теряют социальную защиту и
гарантии получения минимальной заработной платы. Одновремен-
ное упразднение контроля над ценами и субсидий на основные про-
дукты питания повышает стоимость жизни. Нелояльность членов
партии и недовольство профсоюзов могут поставить под угрозу ста-
бильность правительства.
Либерализация вынуждает многие отрасли сталкиваться с кон-
куренцией импорта. Вследствие либерализации промышленники и
рабочие в этих отраслях проигрывают и становятся «очагами» оппо-
зиции. Противоречие между долгосрочными интересами экономики и
краткосрочными интересами правящей партии, стремящейся удер-
жать власть, создает трения между правительствами и организация-
ми, предоставляющими помощь, и может привести к невыполнению
структурных корректировок или отказу от них прежде, чем они смо-
гут достичь своих целей.
Тогда почему правительства принимают программы займов под
структурные корректировки, продиктованные Всемирным банком? Ос-
новная причина в том, что они не видят альтернативы. Если они не
согласятся, то экономика их стран окончательно развалится и они все
равно потеряют власть. Соглашаясь, они получают помощь от МВФ и
Всемирного банка, а также возможность восстановить доступ к ком-
мерческому кредитованию. В конце концов, если им удастся выиг-
рать время, то они смогут уклониться от осуществления мер, наиболее
неблагоприятных для своих сторонников. Иногда новое правитель-
ство, сформированное из членов оппозиции, может сначала добровольно
пойти на структурные корректировки, однако если их положитель-
ные результаты заставляют себя ждать, то оно тоже может польстить-
ся на рычаги влияния и другие «выгоды» более централизованной
экономики.
Международные аспекты экономики развития
459
Принятие правительством рекомендованной структурной по-
литики может поставить международные организации в весьма за-
труднительное положение. Они убеждены, что эти меры принесут при-
рост благосостояния, по крайней мере в долгосрочной перспективе.
Но политически сильные группы (управляющие и сотрудники пред-
приятий государственного сектора, владельцы и персонал предприя-
тий в защищенных государством отраслях, городское население во-
обще, политики и чиновники) могут потерять доходы или влияние.
Вероятно, выиграют те, кто имеет отношение к экспорту, традицион-
ному и нетрадиционному, эффективным конкурирующим с импор-
том отраслям и сельскому хозяйству. Было бы логично использовать
их в качестве противовеса оппозиции «проигравших». К сожалению,
выгоды, как правило, более размыты, а потери — более сконцентри-
рованы. Потеря работы более четко ассоциируется с потерей госу-
дарственной защиты, чем прирост доходов сельскохозяйственных
производителей — с девальвацией. Как всегда отмечали оппоненты
протекционизма, это является серьезным препятствием на пути к
созданию лобби в пользу снижения торговых барьеров. Более того,
международные организации проявляют осторожность, когда речь идет
о вмешательстве в национальную политику. Ясно, что помогать пра-
вительствам и уговаривать их принять и осуществить меры по либе-
рализации — нелегкая работа.
Эмпирические данные, касающиеся займов
под структурные корректировки
Недавние эмпирические исследования подтверждают, что все МРС
независимо от того, получают они займ на проведение структурных
корректировок или нет, стараются преодолеть задолженность и де-
прессию (Mosley, 1991). Меры по воздействию на предложение, вклю-
чая и те страны, которые получают займы на структурные корректи-
ровки, оказались весьма разнообразными. Их осуществление было
частичным: согласно исследованию выборки девяти МРС, которое вско-
ре будет опубликовано Мосли, Харриганом и Той, оно составило от 25
до 90%, а по собственным оценкам Всемирного банка, этот показа-
тель в среднем составляет 60% (Mosley, 1991). Эффективность самих
мер оценить трудно: некоторый прогресс в виде увеличения валового
внутреннего продукта (ВВП), роста экспорта и улучшения состояния
платежного баланса может быть отнесен на счет структурных коррек-
тировок, но ожидаемый приток инвестиций и иностранных финан-
сов так и не был достигнут (Mosley, 1991 : Table 5).
Несомненно, меры по стабилизации и структурные корректиров-
ки привели к лишениям во многих странах.
Признание этого факта привело к принятию сопутствующих мер,
предназначенных для смягчения нужды среди самых малоимущих
слоев общества (как это было, например, в Гане).
460
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
Программы структурных корректировок имели успех в развива-
ющихся странах Европы и Восточной Азии в 1970-х гг. Речь идет о
странах, в которых уже была обрабатывающая промышленность и
которые имели относительно высокий процент квалифицированных
и образованных рабочих. Их экономики оказались более гибкими,
чем у государств, занимающихся в основном экспортом сырья, что
характерно для Центральной и Южной Африки и таких латиноаме-
риканских стран, как Перу и Боливия. Особые черты, описанные выше,
отличают государства, зависящие от экспорта сырья, от тех, что в
значительных объемах вывозят продукцию обрабатывающей промыш-
ленности. Успешное проведение структурных корректировок в пер-
вой группе стран требует дополнительных ресурсов и времени.
Однако структурные корректировки — неизбежный факт реаль-
ной жизни. Государства могут на некоторое время оттянуть их осуще-
ствление, но в конце концов они неминуемо произойдут. Альтернати-
вой стихийному процессу, протекающему ad hoc, является принятие
согласованного пакета мер до наступления хаоса. Проще проводить
корректировки, если можно получить под них займы МВФ и Всемир-
ного банка. Если удается получить в распоряжение больше ресурсов,
то удлиняется отрезок времени, которое можно потратить для дости-
жения устойчивого равновесия платежного баланса. Это дополнитель-
ное время может облегчить нужду населения, но надежд на получение
в будущем помощи в увеличенных объемах практически нет. Необхо-
димо искать альтернативные источники ресурсов, такие как прямые
зарубежные инвестиции. Поэтому мы продолжим наш анализ обсуж-
дением вопросов, относящихся к этой теме.
18.4. Прямые зарубежные инвестиции
Среднегодовой объем прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ)
из БРС в МРС возрос с менее 2 млрд долл, в год в начале 1970-х гг.
до 10 млрд долл, в год в 1980-х гг. (табл. 18.1). Существенная часть
этих инвестиций — это вложения транснациональных корпораций
(ТНК) Великобритании и США в обрабатывающую промышленность
МРС. К середине 1980-х гг. общая сумма инвестиций в МРС состав-
ляла около 200 млрд долл., или 25% всей суммы прямых зарубеж-
ных инвестиций в мире (United Nations, 1988). Около 40% этого
объема вкладывалось приблизительно в двенадцать стран, большин-
ство из которых имеют сравнительно большое население, высокий
объем дохода на душу населения и располагают относительно деше-
вой и эффективной рабочей силой и (или) природными ресурсами
(табл. 18.2).
Увеличившийся поток прямых зарубежных инвестиций и за-
метное присутствие ТНК в группе «избранных» стран породили огром-
Международные аспекты экономики рОзвияит
461
Таблица 18.1
Прямые зарубежные инвестиции в развивающихся странах
1 2 3 4 5 6 7
Год Общий объем ПЗИ в мире (млн долл. США) Объем ПЗИ в МРС (млн долл. США) Объем ПЗИ в МРС в процентах к мировому объему (млн долл. США) Годовой поток ПЗИ: всего в мире (млн долл. США) Годовой поток ПЗИ в МРС (млн долл. США) Данные колонки 6 в процент- ном отно- шении к данным колонки 5 (%)
1971 146136 32242 22.1 12000 1942 16.2
1980 607453 149475 24.6 52207 10105 19.4
1981 664270 164490 24.8 56817 15015 26.4
1982 708 741 177943 25.1 44472 13454 30.3
1983 752835 188209 25.0 44094 10265 23.3
1984 801819 198209 24.8 48984 10500 21.4
1985 851130 210184 24.7 49312 11475 23.3
1980 -1985“ 731041 181502 24.8 49314 11802 22.9
Источник: United Nations 1978, 1985.
Примечани е: “ — среднее значение.
ное количество публикаций по различным аспектам таких предпри-
ятий и их деятельности в МРС. В рамках данной главы нельзя про-
вести сколько-нибудь полный обзор огромного количества проблем и
посвященных им публикаций. Мы сконцентрируем внимание на трех
главных темах: а) детерминанты прямых зарубежных инвестиций в
различных МРС; б) эмпирический анализ издержек и выгод прямых
зарубежных инвестиций в МРС; в) прямые зарубежные инвестиции и
международная торговля услугами.
Факторы, определяющие объем
! прямых зарубежных инвестиций
Несмотря на всю риторику о пагубном влиянии прямых зару-
бежных инвестиций на экономику, практически все МРС активно
привлекали зарубежные фирмы, предлагая им различные стимулы.
462
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
Таблица 18.2
Объем прямых зарубежных инвестиций в основных МРС
Накопленный объем 1973 г. (млрд долл. США) Процент от общего объема (%) Накопленный объем 1983 г. (млрд долл. США) Процент от общего объема (%)
Аргентина 2.5 5.3 5.8 4.1
Бразилия 7.5 16.0 24.6 17.5
Мексика 3.1 6.6 Г 13.6 ' ' 9.6
Колумбия 1.0 2.0 2.6 1.8
Чили 0.5 1.1 3.0 2.1
Перу 1.0 2.0 2.5 5.3
Венесуэла 3.6 7.7 4.3 3.0
Сингапур 0.6 1.3 7.9 5.6
Гонконг 0.9 1.9 4.2 2.9
Малайзия 1.2 2.5 6.2 4.4
Индонезия 1.7 3.6 6.8 4.8
Филиппины 0.9 1.9 2.7 1.9
Республика Корея 0.7 1.5 1.8 1.2
Тайланд 0.5 1.1 1.4 1.0
Нигерия 2.3 4.9 2.0 1.4
Египет 0.1 0.2 2.1 1.5
Всего 47.1 141.0
Источник: Расчеты на основе данных Международного валютного
фонда (International Monetary Fund, 1985).
Среди них — налоговые льготы, временное освобождение от уплаты
налогов, щедрые налоговые скидки на амортизацию, а также различ-
ные виды субсидий. К этому перечню можно добавить стимулирова-
ние инвестиций через предоставление защиты от конкурентного им-
порта посредством введения тарифов и количественных ограничений.
Глобальное распространение этих видов поощрений является доказа-
тельством важности для МРС прямых зарубежных инвестиций, а также
сопровождающих их технологий и ноу-хау. В последние годы долго-
вой кризис усилил роль прямых зарубежных инвестиций как глав-
ного источника внешнего финансирования развивающихся стран. В то
время как инвесторы предпочитают прямые зарубежные инвестиции
Международные аспекты экономики развития
463
другим формам инвестирования, главным образом потому, что это
позволяет им контролировать и осуществлять надзор за проектами,
заемщики, со своей стороны, могут поделить с инвесторами риск, со-
пряженный с осуществлением ПЗИ. По этим причинам детерми-
нанты прямых зарубежных инвестиций в МРС имеют приоритетное
значение для лиц, ответственных за проведение экономической поли-
тики, и для аналитиков.
Ранние исследования по этому вопросу были посвящены эффек-
тивности различных систем стимулирования, предлагаемых МРС для
привлечения прямых зарубежных инвестиций. Консенсус, по-видимо-
му, состоит в том, что в целом такие стимулы оказывают небольшое
влияние на приток ПЗИ и что, возможно, принимающие их страны,
конкурируя друг с другом, просто делятся своим доходом с ТНК.
Существенными детерминантами прямых зарубежных инвестиций
являются не стимулы, а размер рынка, потенциал роста, стабильность
валюты, политическая стабильность, а также отношение к прямым
зарубежным инвестициям и к капитализму со стороны принимающих
стран (Hughes, Seng, 1969; Frank, 1980; Lim, 1983; Balasubramanyam,
1986). Однако в исследовании, проведенном под эгидой Всемирного
банка, было сделано заключение, что в двух третях случаев из семи-
десяти четырех изученных инвестиционных проектов решения при-
нимались иностранными фирмами исходя из стимулов, предлагаемых
принимающими странами (Guissinger, 1986). Но, как отмечает Кис-
синджер, это доказательство эффективности системы стимулов осно-
вывается на предпосылке о том, что конкурирующие страны не изме-
нят свою политику в случае, если принимающая сторона отменила бы
эти стимулы. Общий вывод, который можно сделать на основе этих
исследований, состоит в том, что стимулы сами по себе могут не быть
главным детерминантом прямых зарубежных инвестиций, хотя при
равенстве других факторов, способствующих инвестициям, поощре-
ния могут изменить баланс в пользу стран, предлагающих стимулы.
Гиссинджер также предлагает дополнительные доказательства
эффективности системы стимулов. Они заключаются в том, что сти-
мулы, связанные с использованием определенных факторов про-
изводства (factor-based incentives), такие как выплачиваемые на-
личностью гранты, фактически равнозначны очень высоким протек-
ционистским барьерам. По оценке Гиссинджера, 30%-ный грант,
выплаченный наличными с учетом дисконтирования, эквивалентен
эффективному уровню протекционистского барьера в 18% , и посколь-
ку известно, что протекционистские тарифы способствуют привлече-
нию прямых зарубежных инвестиций, разумно заключить, что стиму-
лы, связанные с использованием определенных факторов производ-
ства, имеют схожие эффекты.
Однако традиционная точка зрения, в соответствии с которой
тарифные методы защиты способствуют привлечению инвестиций,
464
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
принимается не всеми экономистами. Например, Бхагвати (Bhagvati,
1978, 1985) подверг сомнению предпосылку о том, что протекцио-
низм неизбежно вызывает высокий уровень ПЗИ. Он доказывает,
что, если сделать поправки на различия между странами по размеру
экономики, политической стабильности и отношению к прямым за-
рубежным инвестициям, в долгосрочном плане размер ПЗИ, при-
влеченных странами, проводящими стратегию продвижения экспор-
та, будет выше, чем у стран, преследующих импортозамещающую
стратегию. Как хорошо известно, признаком импортозамещающей
стратегии является защита внутреннего рынка от импорта путем
установления тарифных и нетарифных барьеров. Аргументация, пред-
ложенная Бхагвати, исходит из того, что стимулы, создаваемые им-
портозамещающей стратегией, обусловлены политическими сообра-
жениями и являются искусственными и ограниченными. По выраже-
нию Бхагвати, «импортозамещающая стратегия как в отношении
внутренних инвестиций, так и в отношении прямых зарубежных
инвестиций, имеет одну и ту же природу: защищайте свой рынок и
привлекайте инвестиции внутрь страны, чтобы обслужить этот рынок
(Bhagwati, 1985). Наоборот, стратегия стимулирования экспорта пре-
доставляет благоприятные условия без каких-либо искажений, и пря-
мые зарубежные инвестиции привлекаются рыночными стимулами.
Главный стимул, который дает стратегия стимулирования экспор-
та, — это просто сочетание более низких издержек с экспортной ори-
ентацией. Бхагвати считает, что размер импортозамещающих пря-
мых зарубежных инвестиций в конечном итоге не будет таким же,
как размер прямых зарубежных инвестиций в экспортно-ориентиро-
ванные отрасли, по той простой причине, что он будет ограничен
размером рынка принимающей страны, который в первую очередь и
определяет объем привлекаемых инвестиций.
Эта гипотеза имеет далеко идущие последствия для МРС, боль-
шинство которых в настоящий момент ищут возможности для уве-
личения объема прямых зарубежных инвестиций как ради техно-
логий и ноу-хау, передаче которых они способствуют, так и ради их
вклада в инвестиционные ресурсы. Однако, эмпирическое подтверж-
дение этой гипотезы затруднено проблемами, главным образом отно-
сящимися к доступности данных, которые требуются для квантифи-
кации многих детерминант, выделяемых Бхагвати. Тип стратегий
развития, преследуемый различными развивающимися странами, —
главный фактор гипотезы Бхагвати, является самой сложной для
квантификации переменной. Этот утверждение особенно верно, по-
скольку Бхагвати определяет импортозамещающую стратегию и стра-
тегию стимулирования экспорта очень строго.
Стратегия стимулирования экспорта уравнивает средний эффек-
тивный валютный курс (effective exchange rate) при импорте (EERm)
со средним эффективным валютным курсом при экспорте (EERx).
Международные аспекты экономики развития
465
Эффективный обменный курс в этом контексте определяется как
количество единиц национальной валюты, фактически получаемых
или выплачиваемых за один доллар при внешнеторговых операциях.
Если, например, тарифы и импортные квоты не компенсируются экс-
портными субсидиями, то EERm будет больше чем EERx. В этом
случае за импорт ценностью в один доллар должно быть заплачено
относительно больше единиц национальной валюты, чем может быть
получено за экспорт ценностью в один доллар. В этом случае система
валютных курсов сдвигает производство в сторону внутреннего рын-
ка, и поэтому страна будет реализовывать импортозамещающую стра-
тегию. Наоборот, стратегия стимулирования экспорта уравнивает EERm
и EERx. Существенной чертой стратегии стимулирования экспорта,
по определению Бхагвати, является ее нейтральность. В конечном
счете определяемые политическими соображениями стимулы, кото-
рые она предоставляет, не благоприятствуют ни производству для
внутреннего рынка, ни производству для внешних рынков. Ориента-
ция производства на тот или иной рынок полностью определяется
рыночными силами, обеспеченностью страны факторами производ-
ства, а также управленческими и предпринимательскими навыками
ее населения.
Данные, необходимые для оценки EERx и EERm, включают уровни
тарифов, импортных квот, экспортных субсидий и номинальный курс
валюты. Большая часть этих данных, за исключением номинального
курса валюты, является недоступной. В случае отсутствия информа-
ции для оценки EERx и EERm эмпирическая проверка гипотезы
Бхагвати должна полагаться на различные аппроксимации, необхо-
димые для идентификации стратегий развития, которым следуют раз-
ные страны. Одна из таких попыток, полагающаяся на различные
аппроксимации для идентификации типа стратегий развития, вклю-
чая индекс искажения (distortion index) Всемирного банка, в значи-
тельной мере подтверждает гипотезу Бхагвати (Balasubramanyam,
Salisu, 1991). Тем не менее для проведения более точной проверки
необходимо получение адекватных данных.
Гипотеза имеет некоторые последствия для стабилизационной и
структурной политики, предлагаемой МВФ и Всемирным банком.
Она подчеркивает значение свободного от искажений инвестицион-
ного климата и ограниченную пользу политически обусловленных
стимулов в привлечении прямых зарубежных инвестиций. Здесь важно
отметить, что, согласно гипотезе Бхагвати, для привлечения прямых
зарубежных инвестиций МРС не обязательно должны прибегать к
политике стимулирования экспорта, основанной на экспортных суб-
сидиях. Стратегия стимулирования экспорта, как ее определяет Бхаг-
вати, просто требует от принимающих стран проводить нейтральную
политику, которая не искажает производственных решений в пользу
внутреннего или внешнего рынка. В этой схеме стимулам принадле-
31 Зака) № 356
466
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
жит определенная роль, состоящая в том, что они усиливают неотъем-
лемые сравнительные преимущества стран и не искажают инвестици-
онных решений. В целом существующие исследования детерминант
прямых зарубежных инвестиций позволяют сделать вывод, что в об-
щем случае МРС, желающие привлечь больший поток прямых зару-
бежных инвестиций, должны создать стабильную, без искажений,
экономическую среду, способствующую деятельности транснациональ-
ных корпораций, и не полагаться на политически обусловленные сти-
мулы.
Издержки и выгоды прямых зарубежных инвестиций
Вторая основная тема, рассматриваемая в литературе, — это из-
держки и выгоды ПЗИ для МРС. Здесь полемика изобилует догад-
ками и случайными фактами, часто с откровенной идеологической
подоплекой. В то время как ревностные защитники ТНК рассматри-
вают их как мощное орудие перемен, которое может передавать тех-
нологию и ноу-хау развивающимся странам, их оппоненты рассмат-
ривают их как инструмент неоколониализма. Хороший обзор этой
яркой дискуссии, дающей пищу для размышления, сделан в ряде
публикаций (Streeten, 1979; Jenkins, 1987). В этом исследовании мы
остановимся на обсуждении некоторых доступных эмпирических
данных об издержках и выгодах прямых зарубежных инвестиций
для МРС.
Несмотря на то что были предприняты амбициозные попытки
оценить влияние ПЗИ на принимающие страны на макроэкономиче-
ском уровне (Bos et al., 1974), большинство исследователей пыталось
оценить влияние ПЗИ на отдельные целевые макроэкономические
переменные стран-реципиентов: занятость, платежный баланс, объем
производства и экспорт. В одном из самых ранних таких исследова-
ний (Reuber et al., 1973), основанном на опубликованной информа-
ции и выборочных данных по восьмидесяти проектам прямых зару-
бежных инвестиций в различных МРС, был сделан вывод, что в це-
лом ПЗИ оказали положительное влияние на рост доходов, занятости,
торговли и передачу передовых технологий. Исследование также по-
зволило сделать вывод о том, что издержки приобретения техноло-
гий и ноу-хау, равно как и доступа на зарубежные рынки через ПЗИ,
могут быть не выше и даже, возможно, ниже издержек, вызванных
альтернативными методами достижения этих целей. Второе из этих
открытий также поддерживается другими исследованиями передачи
технологий (Balasubramanyam, 1973; Vernon, 1977). Последующие ис-
следования, однако, были менее оптимистичны, чем исследование
Рейбера и др. в вопросе о влиянии ПЗИ на платежный баланс, заня-
тость и валовой продукт развивающихся стран. Одно такое исследо-
вание, вызвавшее бурные споры и приведшее к методологическим
Международные аспекты экономики развития
467
инновациям в оценке издержек и выгод ПЗИ, доказывало, что до тех
пор, пока годовой приток зарубежного частного капитала меньше
оттока дивидендов и прибыли, вызванного ПЗИ, он имеет неблаго-
приятное влияние на платежные балансы стран-реципиентов (Streeten,
1971). В то время как данные показывают, что ежегодно отток ино-
странной валюты превышает ее приток за счет ПЗИ (Kidron, 1965;
United Nations, 1973), остается открытым вопрос, является ли сам
факт превышения оттока над притоком проблемой с точки зрения
платежного баланса. Идея Стритена была отвергнута несколькими
авторами на основании того, что платежный баланс представляет со-
бой феномен общего равновесия и подход к нему через сравнение
притока и оттока капитала представляется слишком узким и ограни-
ченным по своему масштабу (Kindleberger, 1969). Суть контраргумента
состоит в том, что, в той степени, в какой платежный баланс пред-
ставляет собой феномен общего равновесия, любые производственные
инвестиции, которые вносят вклад в создание национального продук-
та, должны улучшать его. Напротив, непроизводственные инвестиции
оказывают неблагоприятное воздействие на платежный баланс.
Пессимистическая оценка Стритеном воздействия ПЗИ на пла-
тежный баланс также вызвала попытки оценить издержки и выгоды
ПЗИ, используя известную в настоящее время методику анализа со-
циальных издержек и выгод инвестиционных проектов, начало кото-
рой положили Литтл и Мирлис (Little, Mirlees, 1974). Отличительной
чертой метода Литтла—Мирлиса является то, что он позволяет оце-
нить издержки и выгоды проекта помимо его влияния на платежный
баланс. В подходе Литтла—Мирлиса к оценке проекта его чистые
выгоды измеряются в «чистой валютной экономии», порожденной
проектом. Иными словами, все издержки по проекту, включая трудо-
вые и материальные, а также объем выпуска в рамках проекта оце-
ниваются в граничных ценах (border prices), т. е. в импортных ценах
СИФ или в экспортных ценах ФОБ. Поэтому окончательные оценки
как издержек, так и выгод измеряются в иностранной валюте. Вли-
яние проекта на платежный баланс представляет собой просто дис-
контированную величину созданной в рамках этого проекта до-
бавленной стоимости за вычетом трудовых издержек. Это, в свою
очередь, представляет собой экономию, порожденную проектом и вы-
раженную в иностранной валюте.
Метод Литтла—Мирлиса, более подробно описанный в других
работах (например, McBean, Balasubramanyam, 1976), часто приме-
нялся для оценки издержек и выгод от реализации ПЗИ в развива-
ющихся странах (Little, Tipping, 1972; Lal, 1975; Lail, Streeten, 1977).
В своем анализе четырех химических проектов в Индии, которые
представляли собой совместные предприятия индийских и зарубеж-
ных фирм, Лал сделал вывод о том, что хотя частная прибыльность
была выше, чем предполагавшиеся 6%-ные общественные альтерна-
468
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
тивные издержки привлечения капитала, с точки зрения общества
проекты оказывались неприбыльными. Их частная прибыльность
была высока только из-за высоких тарифов на конкурирующий
импорт, установленных правительством. Иными словами, стране было
бы выгоднее ввозить товары, чем производить их самой. Проведя
анализ проектов в Индии, на Ямайке, в Иране, Колумбии и Малай-
зии, Лолл и Стритен пришли к схожим заключениям. Они сделали
вывод о том, что влияние на общественный доход было негативным
приблизительно в 47% случаев из 147 проанализированных проек-
тов. Из этого следует, учитывая вышеизложенное, что влияние на
платежный баланс также было отрицательным. Это влияние не за-
висело от того, были ли эти проекты зарубежными или транснацио-
нальными. Однако, оценивая вклад одних лишь проектов ПЗИ, ис-
следователи пришли к заключению, что финансовый вклад зару-
бежного капитала был ничтожным: около трети зарубежных фирм
могли быть полностью заменены местными фирмами, а около поло-
вины могли быть замещены частично и только оставшаяся часть
фирм оказалась незаменимой. Но Лолл и Стритен признают, что эти
заключения должны рассматриваться с осторожностью, так как боль-
шинство из них основаны на впечатлениях, подвержены некоторым
хорошо известным недостаткам анализа общественных издержек и
выгод и неизбежно не могли учитывать многих важных факторов,
включая эффект от масштаба, управленческую эффективность и т. д.
Циники могут заметить, что исключение из анализа таких факто-
ров означает «вместе с водой выплеснуть и ребенка». Но несмотря
на это, исследование Лолла и Стритена было новаторским в приме-
нении метода анализа общественных издержек и выгод к оценке
проектов ПЗИ, и их заключения требуют, чтобы лица, ответствен-
ные за проведение экономической политики, исследовали способы
приобретения ресурсов и товаров, альтернативные использованию
ПЗИ.
Следует отметить, что, как признают Лолл и Стритен, негативное
общественное влияние ПЗИ было вызвано протекционистскими мера-
ми, защищавшими большинство проектов проанализированной вы-
борки. Действительно, один из частых выводов исследований того,
как иностранные фирмы выбирают производственные технологии и
соотношение факторов производства в развивающихся странах, состо-
ит в том, что недискриминационная протекционистская политика
также ответственна за относительно высокую капиталоемкость зару-
бежных фирм. Защищаемые от международной конкуренции, боль-
шинство зарубежных фирм выбрали применение тех методов произ-
водства, с которыми они были знакомы, вместо того чтобы тратить
время и капитал, необходимые для обнаружения и освоения экономя-
щих издержки трудоемких технологий (White, 1978; Balasubramanyam,
1983).
Международные аспекты экономики развития
469
Существуют некоторые факты, подтверждающие, что при нали-
чии конкурентной среды транснациональные предприятия, освобож-
денные от чрезмерного протекционизма и искажений на рынках фак-
торов и продуктов, оказали положительное влияние на рост занятос-
ти, доходов и экспорта. Многие из этих фактов взяты из опыта
осуществления ПЗИ в таких странах, как Сингапур, Гонконг, Южная
Корея и Тайвань, каждая из которых следовала стратегии стимулиро-
вания экспорта (Hood, Young, 1979; Hughes, Dorrance, 1986). Однако
нужно добавить, что, несмотря на тридцать лет интенсивных исследо-
ваний различных аспектов ПЗИ в развивающихся странах, не су-
ществует проверенных данных о связанных с ними издержках и вы-
годах. Частично это результат недоступности требуемых данных, а ча-
стично — следствие сложной природы исследуемой проблемы, которая
требует исследования издержек и выгод ПЗИ по сравнению с другими
методами получения ресурсов.
Однако имеющаяся литература позволяет сделать один общий
вывод о том, что транснациональные предприятия представляют со-
бой эффективный механизм передачи технологии и ноу-хау, а ПЗИ
могли бы стать мощной силой в процессе развития. Но ПЗИ могут
сыграть такую роль только при наличии благоприятного инвестици-
онного климата. При наличии высокого уровня протекционизма и
при различных искажениях на рынках факторов и продуктов обще-
ственная доходность ПЗИ может упасть ниже частной доходности и
даже оказаться отрицательной. Хотя протекционизм может привле-
кать ПЗИ, он также может порождать ненужный перевод доходов в
зарубежные фирмы. В любом случае, как упоминалось выше, в дол-
госрочной перспективе протекционистские меры могут даже не при-
вести к увеличению притока ПЗИ. По-видимому, при отсутствии про-
текционизма в краткосрочной перспективе МРС могут не суметь при-
влечь большую часть капиталоемких импортозамещающих типов
инвестиций. Однако фактически это может сыграть очень положи-
тельную роль, так как инвестиции с отрицательной общественной
доходностью едва ли стоят того, чтобы их привлекать. Короче говоря,
влияние ПЗИ на развивающиеся страны может быть настолько удач-
ным или неудачным, насколько удачна или неудачна проводимая этими
странами торговая и инвестиционная политика.
£- Прямые зарубежные инвестиции и услуги
О’Р
В своем обзоре дискуссии по поводу транснациональных пред-
приятии Стритен (1979) написал: «Несмотря на все разногласия, дис-
куссия немного „выдохлась". Больше нет резких различий между
теми, кто думает, что то, что хорошо для „Дженерал Моторе", хорошо
и для человечества, и теми, кто считает транснациональные корпора-
470
В. Н. Баласубраманиам. и Э. А. Макбин
ции воплощением дьявола». Видимо, начало Уругвайского раунда тор-
говых переговоров в рамках Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ) вновь вызвало дискуссию по поводу ПЗИ. В центре
этой дискуссии — вопрос о либерализации торговли услугами. Об-
щий ход дискуссии к настоящему моменту хорошо известен. Энтузи-
азм БРС, особенно США, по вопросу либерализации режима между-
народной торговли услугами, несогласие некоторых МРС с перегово-
рами по услугам, не говоря уже о либерализации, и следующий за
этим компромисс по вопросу о том, что переговоры будут продол-
жаться по так называемому «двухколейному» пути (double track
mode), — все это уже является достоянием истории и адекватно опи-
сано в нескольких исследованиях (Bhagwati, 1987; Feketekutty, 1988;
Hindley, 1988; Nicolaides, 1989).
Предметом спора между более и менее развитыми странами по
большинству вопросов дискуссии стала центральная роль многонаци-
ональных предприятий и ПЗИ в производстве и предложении услуг.
Большая часть услуг по своей природе неосязаема и не может накап-
ливаться, так что эффективные сделки с услугами требуют присут-
ствия производителей рядом с потребителями. Такая близость произ-
водителей к потребителям часто осуществляется путем ПЗИ, хотя
возможны и другие варианты поставки, такие как торговля, лицензи-
рование и франчайзинг. Например, так называемое оказание услуг
на расстоянии, такое как музыкальные концерты, могут передаваться
по проводам без передвижения факторов производства через геогра-
фические границы. Но возможности таких вариантов могут быть огра-
ничены, и даже в случае оказания услуг на расстоянии близость про-
изводителя к потребителю может увеличить эффективность и позво-
лить осуществить более широкий спектр сделок. В самом деле,
имеющиеся данные показывают, что ПЗИ являются более важным
средством поставки услуг через границы, чем торговля. Так, в 1982 г.
американский экспорт частных непроизводственных услуг составил
32 млрд долл, по сравнению с 183 млрд долл, продаж филиалов аме-
риканских компаний, функционирующих в сфере услуг за границей.
Аналогично американский импорт услуг составил 33 млрд долл, по
сравнению со 125 млрд долл, продаж зарубежных фирм в секторе
услуг США (Sauvant, Zimny, 1989).
Как упоминалось выше, нежелание развивающихся стран вести
переговоры по услугам во многом является результатом этой цен-
тральной роли ПЗИ. Недоверие к зарубежным фирмам независимо
от того, являются ли они поставщиками услуг или работают в обра-
батывающей промышленности, стало почти нормой в развивающих-
ся странах. Однако между их отношением к ПЗИ в обрабатывающей
промышленности и в сфере услуг, похоже, имеется любопытное раз-
личие. Во многих развивающихся странах накоплены значительные
Международные аспекты экономики развития
471
объемы ПЗИ в обрабатывающей промышленности, и они стремятся
еще больше увеличить их объем. Хотя ПЗИ в обрабатывающую про-
мышленность большинства развивающихся стран подвергаются раз-
личной регламентации и должны соответствовать всевозможным
требованиям, компаниям, их осуществляющим, также предлагается
ряд стимулов, включая защиту от конкурирующего импорта. Однако
в случае ПЗИ в сферу услуг ограничения преобладают, в то время как
стимулы встречаются редко. В большинстве случаев иностранные по-
ставщики услуг сталкиваются с целой серией нетарифных барьеров
от прямых запретов до ограничений на их сферу деятельности и мас-
штаб-операций. Так, в некоторых МРС зарубежные страховые компа-
нии не могут заниматься страхованием жизни, банковским фирмам
запрещено принимать вклады, но в то же время зарубежные компа-
нии подпадают под местные требования, касающиеся как акционер-
ного капитала, так и персонала. Другой часто наблюдаемый вид
регламентации касается репатриации дивидендов, прибыли и раялти
зарубежных фирм. Все эти регламентации являются по сути нета-
рифными ограничениями, ограничивающими объем операций зару-
бежных поставщиков услуг.
Почему недоверие и подозрение относительно зарубежных фирм
сильнее применительно к услугам, чем к обрабатывающей про-
мышленности? Одним из объяснений, которое принадлежит скорее
социологии, чем экономической науке, могло бы стать то, что услу-
ги и их поставщики в целом имеют меньший престиж в обществе,
и их влияние на процесс развития не получает должного призна-
ния. В этом контексте интересно наблюдение Лала (1989), что в
Индии брахманистская традиция долгое время обусловливала пре-
зрительное отношение к торговцам и сейчас побуждает с подозрени-
ем относиться к погоне за прибылью, которая характеризует их
действия на рынке. Когда торговцы являются иностранцами, на-
ционалистические чувства могут еще более усилить такое подозре-
ние и недоверие. Накапливающиеся доказательства огромной роли
услуг, таких как банковские и страховые, в процессе развития могут
постепенно вытеснить из массового сознания такой традиционный
подход к иностранным поставщикам услуг. В последние годы в
нескольких исследованиях было указано на существенные прямые
и обратные связи между обрабатывающей промышленностью и сфе-
рой услуг. Например, имеются данные, что в Канаде экспорт цен-
ностью в один доллар содержит в среднем ценность услуг в разме-
ре около 25 центов (Harris, Сох, 1988). Авторы недавнего исследо-
вания по Индии, основанного на таблицах «затрат—выпуска» и
регрессионном анализе, пришли к выводу о том, что если сельско-
хозяйственный выпуск возрастет на 1 рупию, то это потребует бан-
ковских и страховых услуг ценностью в 75 паисов, а увеличение
472
В. Н. Баласубраманиам. и Э. А. Макбин
на 1 рупию выпуска обрабатывающей промышленности порождает
спрос на банковские и страховые услуги ценностью в 73 пайса
(Saxena, 1989).
Конечно, и здесь можно возразить, что такие услуги, как банков-
ские, страховые и телекоммуникационные, составляют «командные
высоты» в экономике, которые должны находиться в государствен-
ной собственности или под государственным контролем. В самом
деле, бблыпая часть существующих в развивающихся странах ограни-
чений, относящихся к услугам, созданы для защиты отечественных
производителей и дискриминации иностранных поставщиков. Хотя
опасение развивающихся стран понятно, тридцатилетний опыт осу-
ществления прямых зарубежных инвестиций в обрабатывающую про-
мышленность должен был уменьшить их страх перед иностранным
экономическим доминированием. «Сценарий угрозы суверенитету»,
популярный в 1970-х гг., в контексте роста и распространения транс-
национальных корпораций в обрабатывающей промышленности не
стал реальностью. Большинство развивающихся стран доказало свое
умение заключать выгодные сделки с такими корпорациями. В лю-
бом случае, большинство зарубежных поставщиков услуг не хотят и
не могут доминировать в секторе услуг развивающихся стран. По
словам Бхагвати (1987):
Нужно быть сумасшедшим, чтобы представить себе, будто крупнейшие
американские банки смогли бы полностью вытеснить пять крупнейших бан-
ков Великобритании, если бы банковское дело было полностью либерализо-
вано. И все же такие страхи достаточно распространены в Дели и Дар-эс-
Саламе... Такие сценарии бессмысленны также и для Дели... для крупного
американского банка было бы безумием открывать филиалы в многочислен-
ных отдаленных районах Индии... его операции, скорее всего, обслуживали
бы международные финансовые сделки.
Другой аргумент в поддержку дискриминационных регламента-
ций, которые большинство развивающихся стран установили по отно-
шению к зарубежным поставщикам услуг, состоит в том, что они
защищают молодых отечественных поставщиков. Это старый аргу-
мент, часто повторяемый применительно к обрабатывающей промыш-
ленности. Все «за» и «против» такого рода аргументов хорошо извест-
ны. Но, применительно к сфере услуг этот аргумент более сложен,
поскольку большинство услуг — хотя и не все — по своей сути
являются ресурсами для обрабатывающей промышленности и самой
сферы услуг. Защита отечественных производителей таких услуг по-
средством субсидий местным фирмам и введения нетарифных барь-
еров по отношению к зарубежным производителям может, вероятно,
понизить фактический уровень защиты отечественных производите-
лей конечных благ и услуг и таким образом оказать неблагоприят-
ное воздействие на их конкурентоспособность. Следует в связи с этим
Международные аспекты экономики развития
473
отметить, что большинство развивающихся стран, которые попыта-
лись защитить свою обрабатывающую промышленность, устанавлива-
ют относительно низкий уровень тарифов на импортируемые матери-
альные ресурсы по сравнению с уровнем тарифов на готовую продук-
цию. Это делается потому, что высокий уровень защиты местных
производителей ресурсов понизит фактическую степень защиты мест-
ных производителей готовой продукции. Остается необъяснимым,
почему развивающиеся страны отказываются признать этот факт в
случае с услугами, которые также по сути являются ресурсами в про-
изводственном процессе. В самом деле, областями экономической
деятельности, которые характеризуются во многих развивающихся
странах крайней неэффективностью, являются банковское дело, стра-
хование и маркетинг. Лондонский «Economist», по всей вероятности,
не далек от действительности, когда отмечает, что «эффективные услуги
помогают смазывать колеса экономики; их отсутствие может сделать
развитие болезненно медленным процессом. Может быть, дефицит,
а не профицит в торговле услугами лучше способствует развитию?»
(Economist. 1988. 3 July). Защита отечественных поставщиков услуг
как молодой отрасли не может способствовать ни прогрессу таких
отраслей, ни производству и экспорту продукции обрабатывающей
промышленности. Находящиеся под защитой молодые отрасли в сфе-
ре услуг, как и в производстве товаров, могут так никогда и не «по-
взрослеть», и производители товаров лишатся эффективных и недоро-
гих ресурсов.
Наконец, что должно стать предметом переговоров с МРС по
вопросу услуг? Здесь существует большое количество исследований
(Bhagwati, 1987; Hindley, 1988; Balasubramanyam, 1991; Nicolaides,
1989). Достаточно отметить, что развивающиеся страны могут боль-
ше выиграть от ведения переговоров с развитыми странами с пози-
ции силы, как равные партнеры, нежели с позиции слабого участ-
ника переговоров. Они могут участвовать в переговорах с позиции
силы, потому что, вопреки распространенному мнению, обладают
сравнительным преимуществом в некоторых отраслях услуг. К ним
относятся не только туризм и трудоемкие услуги, такие как стро-
ительство, но также и требующие значительных затрат «человече-
ского капитала» услуги, такие как производство программного обес-
печения (как в случае Индии), а также экспорт квалифицирован-
ной рабочей силы. Использование сравнительного преимущества,
которым обладают развивающиеся страны, может требовать вре-
менного передвижения рабочей силы за границу. Развивающимся
странам можно посоветовать принять участие в переговорах по
широкому кругу вопросов, включая либерализацию торговли про-
дукцией трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности,
временную миграцию неквалифицированной рабочей силы и экс-
474
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
порт квалифицированной рабочей силы. Им также следует при-
знать тот факт, что различие между товарами и услугами может
до некоторой степени стираться по мере того, как услуги становят-
ся важнейшими ресурсами в производстве товаров, и наоборот.
По этой причине данным странам следует вести переговоры о либе-
рализации международных операций в целом, а не заниматься
«двухколейными» переговорами, которые неизбежно включат пере-
говоры о ПЗИ.
Для полноты картины следует отметить, что в переговорах по
услугам был достигнут определенный успех и, как было показано в
промежуточном отчете о переговорах на уровне министров, проводив-
шихся в Монреале в 1989 г., развитые страны признают некоторые
опасения развивающихся стран и желают сделать им значительные
уступки. Однако существует опасность, что чем большее количество
уступок смогут отстоять развивающиеся страны, тем жестче будет
позиция развитых стран в таких важных для развивающихся стран
областях деятельности, как временная миграция неквалифицирован-
ной рабочей силы и экспорт продукции трудоемких отраслей обра-
батывающей промышленности.
18.5. Заключение
В этой главе мы коротко коснулись некоторых главных тем
экономики развития за последние годы. Мы ни в коем случае не
претендовали на полное освещение всех вопросов, связанных с эко-
номической теорией развития открытой экономики или того огром-
ного количества публикаций, которое существует по этим вопро-
сам. В обсужденном списке тем отсутствуют такие темы, как зару-
бежная помощь, экономика утечки мозгов и проблема долга. Эти
темы не обсуждались не потому, что они неактуальны, а вследствие
ограниченного объема главы. Мы выделили главные вопросы со-
временной дискуссии по политике структурных корректировок и
макроэкономической стабилизации, отстаиваемой Всемирным бан-
ком и МВФ. Вслед за кратким обзором структуралистского подхо-
да к развитию мы проанализировали выгоды и издержки, связан-
ные с программами структурных корректировок и макроэкономи-
ческой стабилизации, которые в большой степени основываются на
либеральной экономической традиции. Мы также выделили пред-
посылки, необходимые для успеха таких программ, включая по-
требность увеличения потока ресурсов из развитых стран в разви-
вающиеся. ПЗИ являются одним из главных источников таких
ресурсов. На этой основе мы рассмотрели роль ПЗИ в процессе
развития, включая современную дискуссию об их роли в секторе
услуг.
Международные аспекты экономики развития
475
Литература » 'sui туУД,
Balasubramanyam V. N. International Transfer of Techridlbgy to India. New
York: Praeger, 1973.
Balasubramanyam V. N. Transnational corporations: choice of techniques and
employment in LDCs / In H. Hughes and B. Weisbrod (eds). Human Resour-
ces, Employment and Development. London: Macmillan, 1983.
Balasubramanyam V. N. Incentives and disincentives for foreign direct investment
in less developed countries / In B. Belassa and H. Giersch (eds). Economic
Incentives. London: Macmillan, 1986. P. 401-415.
Balasubramanyam V. N. International trade in services: the real issues / In
D. Greenaway and T. O’Brian (eds). Global Protectionism. London : Mac-
millan, 1991.
Balasubramanyam V. N., Salisu M. IS, EP and direct foreign investment in
LDCs I In A. Koekkoek and С. B. Merries (eds). International Trade and
Global Development. London: Routledge, 1991.
Bhagwati J. N. Immiserizing growth: a geometrical note // Review of Economic
Studies. 1968. Vol. 25: P. 201-205.
Bhagwati J. N. Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes. New
York : UN Bureau of Economic Research, 1978.
Bhagwati J. N. Investing abroad // Esmee Fairbairn Lecture, University of
Lancaster. 1985.
Bhagwati J. N. Trade in services and the multilateral trade negotiations // World
Bank Economic Review. 1987. Vol. 1. P. 549-570.
Bond M. E. An econometric study of primary product exports from developing
country regimes to the world // IMF Staff Papers. 1987. Vol. 34 (2). P. 191-
227.
Bos H. C., Saunders M., Secchi C. Private Foreign Investment in Developing
Countries: A Quantitative Study on the Evaluation of the Macro Economic
Effects. Boston, MA : Reidel, 1974.
Cassen R. H. Does Aid Work? Oxford : Clarendon Press, 1986.
Cline W. Can the East Asian model of development be generalised? // World
Development. 1982. Vol. 10. P. 81-90.
Cuddington J. T., Urzua С. M. Trends and cycles in the net barter terms of
trade//Economic Journal. 1989. Vol. 99. P. 426-442.
Feketekutty G. International Trade in Services: An Overview and Blue Print for
Negotiations. Cambridge, MA : Ballinger, 1988.
Frank I. Foreign Enterprise in Developing Countries. Baltimore, MD : Johns
Hopkins University Press, 1980.
Grilli E. R., Yang M. C. Primary commodity prices, manufactured goods prices,
and the terms of trade of developing countries: what the long run shows I/
World Bank Economic Review. 1988. Vol. 2. P. 1-49.
Guissinger S. Do performance requirements and investment incentives work? //
World Economy. 1986. Vol. 9 (1). P. 79-96.
Guttian M. The Fund’s role in agriculture//Finance and Development. 1987.
June. P. 3-6.
476
В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
Harris R., Сох D. The service content of Canadian industries // Fraser Institute
Service Sector Studies Project, Simon Fraser University, Vancouver. 1988.
Havrylyshyn O. The fallacy of composition / Unpublished background paper for
World Development Report. 1987.
Hindley B. Services sector protection: considerations for developing countries //
World Bank Economic Review. 1988. May. P. 205-224.
Hood N„ Young S. The Economics of Multinational Enterprise. London : Longman,
1979.
Huang Y., Nichols P. The social costs of adjustment // Finance and Development.
1987. Vol. 24 (2). P. 22-24.
Hughes H., Dorance G. S. Economic policies and direct foreign investment with
particular reference to the developing countries of East Asia // Paper
prepared for the Commonwealth Secretariat. 1986.
Hughes H., Seng Y. Foreign Investment and Industrialisation in Singapore,
Canberra : Australian National University Press, 1969.
International Monetary Fund. Foreign Private Investment in Developing Coun-
tries. Washington, DC: International Monetary Fund, January. 1985.
Jenkins R. Transnational Corporations and Uneven Development. London :
Methuen, 1987.
Khan M. S., Knight M. D. Do fund-supported adjustment programs retard
growth?//Finance and Development. 1986. March. P. 30-32.
Kidron M. Foreign Investments in India. Oxford : Oxford University Press,
1965.
Kindleberger С. P. American Business Abroad. New Haven, CT : Yale University
Press, 1969.
Krueger A. O. Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalisation
Attempts and Consequences. Cambridge, MA : Ballinger, 1978.
Lal D. Appraising Foreign Investment in Developing Countries. London :
Heinemann, 1975.
Lal D. The Hindu Equilibrium: Cultural Stability and Economic Stagnation,
India c. 1500 BC-AD 1980. Oxford : Oxford University Press, 1989.
Lail S., Streeten P. Foreign Investment, Transnationals and Developing Coun-
tries. London : Macmillan, 1977.
Lint D. Fiscal incentives and direct foreign investment in less developed count-
ries// Journal of Development Studies. 1983. Vol. 19. P. 207-212.
Linder S. B. Trade and Trade Policy for Development. New York : Praeger, 1967.
Lipton M. Limits of price policy for agriculture: which way for the World
Bank // Development Policy Review. 1987. Vol. 5 (2). P. 197-215.
Little I. M. D., Mirlees J. Project Appraisal and Planning for Developing
Countries. London : Heinemann, 1974.
Little I. M. D.,Tipping D. G. A Social Cost-Benefit Analysis of theKulai Oil Palm
Estate, Paris: OECD, 1972.
Little I. M. D., Scott M. F. G., Scitovisky T. Industry and Trade in Some Developing
Countries: A Comparative Study. Oxford : Oxford University Press, 1970.
MacBean A. I., Balasubramanyam V. N. Meeting the Third World Challenge.
London : Macmillan, 1976.
Международные аспекты экономики развития 477
Michalopoulos С. World Bank programs for adjustment and growth//Paper
prepared for the Symposium on Growth Oriented Adjustment Programs,
sponsored by the World Bank and International Monetary Fund. Washing-
ton, DC. 1987.
Mosley P. Structural adjustment: a general overview 1980-1989 / In S. Lail and
V. N. Balasubramanyam (eds). Current Issues in Development Economics.
London : Macmillan, 1991.
Nicolaides P. Liberalising Trade in Services: Strategies For Success. London :
Royal Institute of International Affairs, 1989.
Nurkse R. Patterns of trade and development //Wicksell Lectures, Stockholm.
1959.
Prebisch R. The Economic Development of Latin America and its Principal
Problems. New York : UN Economic Commission for Latin America, 1950.
Reuber G. L., Crockell H., Emerson M., Gallais-Hamonno G. Private Foreign
Investment in Development. Oxford : Clarendon Press, 1973.
Sapsford D. The statistical debate on the net barter terms of trade between
primary commodities and manufactures: a comment and some statistical
evidence//Economic Journal. 1985. Vol. 95. P. 781-788.
Sauvant K., Zimny Z. Foreign direct investment in services: the neglected
dimension in international service negotiations / In Services and Develop-
ment Potential: The Indian Context. New York : United Nations, 1989.
Saxena R. Role of producer services in the development process: A case study of
India / In Services and Development Potential: The Indian Context. New
York : United Nations, 1989.
Singer H. W The distribution of gains between borrowing and investing
countries //American Economic Review. 1950. May. P. 473-485.
Singer H. W. Terms of trade and economic development / In J. Eatwell, M. Milgate
and P. Newman (eds). The New Palgrave: A Dictionary of Economics.
London : Macmillan, 1989.
Spraos J. The statistical debate on the net barter terms of trade between primary
commodities and manufactures: a comment and some additional evidence //
Economic Journal. 1980. Vol. 90. P. 107-128.
Stern E. World Bank financing of structural adjustment / In J. Williamson
(ed.). IMF Conditionality. Washington, DC: Institute for International
Economics. 1983.
Streeten P. Costs and benefits of multinational enterprises in developing
countries / In J. H. Dunning (ed.). The Multinational Enterprise. London :
Allen & Unwin, 1971. P. 240-258.
Streeten P. Multinationals revisited // Finance and Development. 1979. Vol. 16.
P.39-42.
Thirlwall A. P., Bergevin J. Trends, cycles and asymmetries in the terms of trade
of primary commodities from developed and less developed countries //
World Development. 1985. Vol. 13. P. 805-817.
United Nations. Multinational Corporations in World Development. New York :
United Nations, 1973.
478 В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин
United Nations. Transnational Corporations in World Development. New York :
United Nations, 1978.
United Nations. Transnational Corporations in World Development. New York :
United Nations, 1985.
United Nations. Transnational Corporations in World Development. New York :
United Nations, 1988.
Vernon R. Storm over Multinationals: The Real Issues. London : Macmillan,
1977.
White L. J. The evidence on appropriate factor proportions for manufacturing in
less developed countries: a survey // Economic Development and Cultural
Change. 1978. Vol. 27. P. 27-59.
World Bank. World Development Report. Washington, DC : World Bank, 1986.
World Bank. World Development Report. Washington, DC : World Bank, 1987.
19
! bf'X ад
.•и<Лё
i «5М В f
' »t ojv ’vn:
H:
^РОБЕРТ M. СОЛОУ
г^атЕОРИЯ РОСТА
J) nr
19.1. Введение
В 1980 г., если взять круглую дату, неоклассическая модель
роста уже твердо закрепилась в качестве стандартной аналитиче-
ской схемы для агрегатной экономической теории длительного
периода. Расчеты темпов роста, исследования производительности
и человеческого капитала, а также другие эмпирические исследо-
вания полностью укладывались в рамки единого подхода. Конечно,
были и альтернативные направления, но по числу приверженцев
они находились в меньшинстве. Сторонники подхода Калдора—
Калецкого—Робинсон—Пазинетти только усложнили себе жизнь,
включившись в общую идейную борьбу против основного течения
экономической теории. При этом они не смогли провести какого-
либо серьезного исследования прикладного характера. Даже чрез-
вычайно интересная модель технологической диффузии, предло-
женная Нельсоном и Уинтером, так и не получила всеобщего при-
знания.
Исключая незначительные уточнения и дополнения, работа в
области теории роста, кажется, не представляла научного интереса.
В связи с этим мне бы хотелось привести небольшой отрывок из
моей работы, опубликованной в 1982, но написанной в 1979 г.:
Я замечаю все больше и больше признаков того, что теория роста про-
сто выдохлась, по меньшей мере в той ее форме, которая нам известна. Для
любого человека, занимающегося в настоящее время экономической теори-
ей, ясно как день, что теория роста в ее нынешнем состоянии представляет
собой одно из наиболее бесперспективных направлений для теоретика, же-
лающего сделать какой-либо вклад в науку. Я, естественно, не хочу сказать,
что такое положение дел будет и дальше продолжаться. Новая добротная
идея может изменить ситуацию в любой области; в действительности у меня
есть некоторые мысли по поводу того, какого типа идея необходима в дан-
ном случае.
(Solow, 1982)
480
Роберт М. Солоу
Я с удовольствием перечитал две последние фразы. Не успели
высохнуть чернила после написания этого абзаца, как в 1983 г. в
Чикагском университете была депонирована диссертация Пола Роме-
ра, что вызвало по крайней мере небольшой бум в теории роста, и в
частности неоклассической теории роста. Идеи Ромера были облече-
ны в форму препринта в 1985 г., а его первая статья «Возрастающая
отдача и долгосрочный рост» была опубликована в 1986 г. За ней
последовали другие работы. Прочитанные Робертом Лукасом в Кем-
бриджском университете в 1985 г. лекции, посвященные памяти
Маршалла, представляли еще одну вариацию на ту же самую тему.
Так же как и в предыдущем случае, текст стал широко известен еще
до его опубликования в 1988 г. под названием «О механике экономи-
ческого развития». В обоих случаях общей темой было эндогенное
определение долгосрочных темпов роста через возрастание совокуп-
ной отдачи от масштаба благодаря накоплению человеческого капи-
тала. Предпосылка совершенной конкуренции здесь сохранялась,
поскольку запас человеческого капитала становился «общественным
фактором производства», не зависящим в сколько-нибудь значитель-
ной степени от решений любого отдельного экономического агента,
но влияющим на общую производительность агентов. Таким обра-
зом, возрастающая отдача от масштаба на макроуровне совместима с
постоянной отдачей на микроуровне. Тогда использование аналити-
ческого инструментария неоклассической теории роста может дать
вполне оригинальные результаты.
Однако не на эту «новую идею» я возлагал надежды в 1982 г.
Я имел в виду соединение равновесной теории роста с теорией средне-
срочного неравновесия, что обеспечило бы единый подход к исследо-
ванию трендов и колебаний занятости и объемов выпуска. Такой
новой идеи до сих пор не возникло.
Следующий раздел этого обзора представляет собой очень крат-
кий пересказ односекторной неоклассической модели роста, где осо-
бое внимание уделяется ее характерным предпосылкам и выводам.
Цель данного пересказа — обеспечить некий трамплин для обсужде-
ния последующего развития модели; его краткость обусловлена тем,
что большинство экономистов знакомы с моделью, к тому же имеется
несколько превосходных и полных описаний модели.
В разделе 19.3 делается обзор идей Ромера, Лукаса и других
авторов, последовавших за ними. Данные работы представляют не-
сколько различных способов эндогенизации темпов роста, хотя все
они имеют общие черты. Различное понимание лежащего в основе
внешнего эффекта обусловливает и некоторые вариации в получа-
емых результатах. В данном случае моей целью является не со-
ставление полного каталога идей, а скорее иллюстрация аналити-
ческой силы данного подхода при помощи нескольких привлека-
тельных примеров. В разделе 19.4 я обращаюсь к обзору нескольких
Теория роста
481
работ, в которых та же совокупность идей перенесена в контекст
международной торговли. Очевидно, что торговля предоставляет
дальнейшие возможности для возрастающей отдачи от масштаба,
что определяет природу получаемых выгод от торговли. В разделе
19.5 описывается одна из изящных попыток формализовать идеи
Шумпетера в рамках «нового» подхода. В последнем разделе содер-
жатся некоторые рассуждения о природе и практической значимо-
сти теории роста.
19.2. Неоклассическая модель
Существует обширная литература по неоклассической модели.
Основа была заложена статьями Солоу (Solow, 1956) и Суона (Swan,
1956), далеким предтечей которых был Рамсей (Ramsey, 1928), а позд-
нее важный вклад был сделан Кэссом (Cass, 1965), Даймондом
(Diamond, 1965) и Коопмансом (Koopmans, 1965). Краткое элементар-
ное изложение модели было сделано Солоу (Solow, 1970), а на более
продвинутом уровне она изложена Дикситом (Dixit, 1976). Более
длинные трактаты, включающие широкий спектр обсуждаемых тем,
были написаны Бурмайстером и Добеллом (Burmeister, Dobell, 1970)
и Ваном (Wan, 1971). Обзор Хана и Мэтьюса (Hahn, Matthews, 1964),
хотя и более ранний, также интересен для чтения.
Я спокойно ограничусь рассмотрением полностью агрегирован-
ной модели с только одним производимым благом У, которое может
быть прямо потреблено (С) или использовано в качестве (не изна-
шивающегося) производительного капитала К. Тем самым мы аб-
страгируемся от нескольких возникающих в связи с этим проблем и
возможностей, рассмотрение которых, однако, не является необхо-
димым в свете недавних теоретических разработок, о которых мы
еще будем говорить. Предложение труда L предполагается неэлас-
тичным; это упрощение также кажется нам второстепенным. Темпы
роста предложения труда (и занятости) являются постоянной величи-
ной п: L = Loexp(nt).
Производство осуществляется некоторым количеством иден-
тичных фирм, использующих одну и ту же технологию, обеспечива-
ющую постоянную отдачу от масштаба У = F(K, L, t), где функ-
ция F — возрастающая, дифференцируемая, вогнутая и однородная
степени 1 по К и по L, at — экзогенный «неовегцествленный»
технический прогресс. При одинаковых для всех фирм ценах на
факторы производства все они выберут одинаковые соотношения
капитала и труда, минимизирующие производственные издержки.
Распределение общего выпуска по фирмам в таком случае не де-
терминировано, но не имеет значения, пока сохраняется конкурен-
ция. Как обычно, простейший вариант подразумевает рассмотрение
32 Заказ .\ь 356
482
Роберт М. Солоу
единой фирмы, являющейся «ценополучателем». В агрегирован-
ной форме мы получаем
Y = F[2C, Loexp(nZ), Z], (19.1а)
dtf/dZ = Y-C. (19.1b)
Г.. J
Главное, на что здесь следует обратить внимание, это допущение об
автоматической расчистке рынка труда. Занятость всегда равна (или
пропорциональна) заданной величине рабочей силы.
Определив объем потребления, мы получим полную модель.
В данном случае можно говорить о двух подходах. Нельзя сказать,
что они несовместимы друг с другом, но они вызывают различные
ассоциации и подчеркивают различные аспекты. В рамках первого
подхода, который мы обозначим как поведенческий, просто постули-
руется правдоподобная или эконометрически допустимая функция
потребления, например
С = (1 - s)Y, (19.1с)
где s может быть константой или функцией любых переменных,
составленных из К, L и Y.
Альтернативный подход, который можно обозначить как опти-
мизационный, предполагает выведение потребительской функции из
принципа максимизации полезности. Исходное положение имеет ме-
сто в нулевой момент времени при первоначальном запасе капита-
ла Ко. Допустимой считается любая траектория потребления в период
времени от начального момента до сколь угодно далекого будущего,
которая удовлетворяет условиям (19.1а) и (19.1b) при неотрицатель-
ном K(t). Представим себе экономику, населенную бессмертными
идентичными семьями, чьи предпочтения в отношении траектории
потребления можно полностью описать так:
00
V = Jcz
о
C(t)
exp(~pz)dZ или V =
0J LmoJ
L(Z) exp(-pz)dZ.
(19.2)
Затем в рамках данного подхода принимается в качестве аксиомы то,
что экономика следует по допустимой траектории потребления, кото-
рая максимизирует соответствующую величину V. При такой форму-
лировке U(.) — возрастающая, строго вогнутая и дифференцируемая
в данный момент функция полезности, а Р — норма временного пред-
почтения для каждой семьи.
Во многих случаях решение этой оптимизационной задачи мо-
жет быть выражено в форме замкнутой петли, т. е. существует такая
функция от К, L и Y, при которой оптимальное потребление в любой
момент времени t всегда равно C[F(Z), L(t), Y(Z)]. Но даже и в этом
случае имеет место тонкое различие в интерпретации поведенческого
Теория роста
483
и оптимизационного подходов к этой проблеме. Оптимизационный
подход выглядит как задача из области межвременной экономиче-
ской теории благосостояния, на что впервые указал Рамсей. При та-
кой интерпретации решение задачи не описывает действительного
поведения даже очень идеализированной децентрализованной эконо-
мики, оно скорее указывает, куда такая экономика должна быть «на-
правлена». Описательную интерпретацию такой задаче можно дать,
представив экономику полностью «прозрачной» для семей, из кото-
рых она состоит. Фирмы просто выполняют желания таких семей.
Это, так сказать, плановая экономика, но планируемая репрезента-
тивной семьей.
Здесь нет какой-либо ошибки. Существуют информационные и
институциональные условия, при которых оптимальной будет траек-
тория, характеризующаяся конкурентным равновесием при совер-
шенном предвидении. Такой подход, конечно, выглядит вполне оп-
тимистично. Поведенческая версия лишь слегка менее оптимистична.
Рынок труда всегда расчищается (или по крайней мере уровень без-
работицы всегда один и тот же). Если s интерпретируется как норма
сбережения домохозяйств, то модель предполагает, что в условиях
полной занятости фирмы всегда будут инвестировать ровно столько,
сколько домохозяйства пожелают сберегать. Тем не менее можно ска-
зать, что поведенческая версия располагает к тому, чтобы задуматься
над теми ситуациями, в которых промышленный сектор и домо-
хозяйства оказываются неспособными скоординировать свои действия.
В таком случае не все может быть к лучшему в этом лучшем из
миров.
Предположим теперь, что производственная функция имеет два
дополнительных свойства. Во-первых, она может быть записана в
особой «трудосберегающей» форме F[jC, A(t)L] при A(t) = exp(at).
Комплексную переменную AL обычно называют затратами труда в
единицах эффективности, а иногда — просто «эффективным трудом».
Второе свойство заключается в том, что для каждой заданной вели-
чины затрат эффективного труда предельный продукт капитала дол-
жен быть очень большим при очень незначительных его затратах и
очень небольшим при очень больших капитальных затратах. (Послед-
нее обычно обозначается как «условие Инады».) Отсюда вытекают
некоторые важные выводы относительно решений оптимизационной
модели; эти выводы также верны и для поведенческой модели при
условии, что колебания нормы сбережений не слишком велики.
Все получаемые при решении задачи траектории ведут к устой-
чивому состоянию, в котором соотношение капитала и эффективного
труда является постоянной величиной. Значение этой величины за-
висит от вкусовых параметров — функции полезности и нормы вре-
менных предпочтений в оптимизационной версии и функции сбере-
жений в поведенческой версии, а также от производственной функ-
484
Роберт М. Солоу
ции, но не зависит от первоначальных условий. Поэтому в устой-
чивом состоянии (или в его окрестностях) К, Y и С растут тем же
темпом, что и A(t)L, а именно темпом а + п. Отсюда вытекает, что
все связанные с этим величины, приходящиеся на душу населения —
запас капитала, выпуск, доход и потребление на одного работника,
растут темпом а. При этом стоит заметить, что соответствующее устой-
чивому состоянию соотношение сбережений (инвестиций) к общему
выпуску является постоянным в обеих версиях модели. (При экспо-
ненциальном росте ЛК’/dt пропорционален К.) В окрестностях устой-
чивого состояния обе интерпретации, по сути, не различимы.
Главное заключаются в том, что общие темпы асимптотического
роста доходов и потребления на душу населения и реальной заработ-
ной платы при допущении конкурентного рынка труда задаются тем-
пом трудосберегающего технического прогресса. Различия в сберега-
тельном поведении воздействуют на уровень доходов на душу населе-
ния, соответствующий устойчивому состоянию, но не на долгосрочные
темпы его роста. Могут возникнуть временные колебания в темпах
роста, вызываемые изменением вкуса и нормы сбережений инвести-
ций, но они исчезают, когда траектория роста приводит к устойчиво-
му состоянию. Соответствующие выводы можно сделать и относи-
тельно траекторий цен: арендной платы за пользование капиталом,
реальной ставки процента и реальной заработной платы. Они опре-
деляются на основе функционирования конкурентных рынков и меж-
временного арбитража.
Стоит на этом немного остановиться, чтобы понять, почему из-
менения технологии должны быть трудосберегающими, поскольку с
этим вопросом нам еще придется столкнуться в следующем разде-
ле. Предположим, например, что технические изменения являются
как капиталосберегающими (темпом Ь), так и трудосберегающими
(темпом а). Этот пример, конечно, не является общим, но будет впол-
не достаточным для уяснения сути дела. Если мы попытаемся найти
экспоненциальное устойчивое состояние, то dJC/dt будет расти тем же
темпом, что и сама величина К. Тогда в любом экспоненциальном
устойчивом состоянии
£#oexp(£t) = sF{K’^+i’)(, Loexp[(a + n)t]}.
При постоянной отдаче от масштаба
—-exp[(g + b - а - n)i], 1
А)
Существуют только две возможности того, что это уравнение будет вы-
полняться для всех t. Либо b = 0, a g = а + п, что в точности представляет
собой «трудосберегающий» случай, либо F{(A’0/L0)exp[(^ + &-a-n)t], 1}
сама должна расти экспоненциально. Это может произойти, только
Теория роста
485
если F(x, 1) = хЛ; таким образом, g должно быть равно п + а + bh/(l - h)
или g = п + а + bh./(y - h). Очевидно, это предполагает, что F(K, L) —
функция Кобба—Дугласа со значениями эластичности h и 1 - h
для К и L. Тогда [exp(&t)7C]1 [exp(at)L] является идентичной
7СЛ(ехр{[а + &А/(1 - A)]z}L) '. Следовательно, даже здесь можно ска-
зать, что технические изменения являются трудосберегающими при
темпе а + bh/{Y - Л). Чистое трудосбережение — весьма специфиче-
ский случай, но в точно такой же степени, как и экспоненциальные
устойчивые состояния, которыми все так увлекаются. В природе ни
то, ни другое не встречается в чистом виде, но существуют близкие
ситуации.
19.3. Возрастающая отдача и внешние эффекты
Из неоклассической модели вытекает, что долгосрочные темпы
роста объемов выпуска в расчете на одного работника задаются тем-
пом трудосберегающего технического прогресса, который рассматри-
вается как экзогенная величина. Казалось бы, отсюда следует, что все
национальные экономики, имеющие доступ к одним и тем же техно-
логиям, должны были бы иметь тенденцию к сближению темпов ро-
ста производительности. Конечно, могут существовать временные или
даже продолжительные различия в темпах роста. Это связано с тем,
что страны, которые все еще недалеко ушли от своих первоначаль-
ных условий и стартовали при более низком соотношении между
капиталом и эффективным трудом, чем то, которого они достигнут
при устойчивом состоянии, будут расти быстрее стран, ушедших даль-
ше в своем развитии. Будут иметь место и постоянные различия в
уровнях производительности либо потому, что в некоторых странах
наблюдается более высокий прирост населения или более низкая норма
сбережений по сравнению с другими странами (или в результате со-
ответствующих различий во вкусах), либо, возможно, по причине
климатических условий или каких-либо еще факторов, не включен-
ных в модель. Однако в очень долгосрочной перспективе имеет зна-
чение только ожидаемое сближение (конвергенция) темпов роста.
Некоторые признаки такой конвергенции можно обнаружить в не-
давно опубликованных данных о развитии промышленно развитых
стран. Однако почти невозможно заметить что-либо напоминающее
конвергенцию в темпах роста при сравнении развитых экономик с
экономиками Латинской Америки, Африки и многих стран Азии.
Именно это наблюдение побудило Ромера и Лукаса к теоретическим
исследованиям, которые легли в основу «новой теории роста». Если
не существует конвергенции, тогда сами темпы роста должны быть в
каком-то смысле эндогенными (что предполагает возможность меж-
страновых различий в темпах роста).
486
Роберт М. Солоу
Ромер и Лукас приняли в качестве аксиомы, что во всех эко-
номиках имеется равный доступ к одним и тем же технологиям.
В конце концов, учебники можно приобрести повсюду, так же как
можно получить и патенты. Они приходят к выводу, что недо-
стающим звеном являются инвестиции в человеческий капитал.
В национальных экономиках, которые по всем видимым признакам
не участвуют в техническом прогрессе, прежде не уделялось внима-
ния инвестициям в человеческий капитал, которые делают воз-
можным для жителей страны получить доступ к «общей копилке
знаний». Поэтому одним из способов понять, чем определяются
темпы роста национальной производительности, является модели-
рование запаса человеческого капитала как производимого ресурса.
Подобный подход ранее применялся в работах Эрроу (Arrow, 1962)
и Узавы (Uzawa, 1965).
Существуют и другие разумные способы рассмотрения этого
вопроса. На основании данных, свидетельствующих о расхождении
в темпах роста, мы могли бы сделать вывод о том, что не все страны
имеют равный доступ к эффективным технологиям. Политическая
нестабильность, например, могла бы привести к свертыванию или
замедлению процесса промышленной модернизации. Схожие пре-
пятствия могла бы породить частная и(или) государственная кор-
рупция. Очень простым способом объяснения могла бы стать ссыл-
ка на налоговые системы, общественные институты, религиозные
убеждения или структуры родственных связей, в той или иной
степени несовместимые с успешным освоением высоких техноло-
гий. Но такой путь, кажется, снова приводит нас к экзогенности
(по крайней мере экономической) и исторической случайности.
Исходя из новой теории роста можно было бы ответить, что все эти,
по-видимому, случайные экзогенные препятствия на самом деле в
основе своей отражают недостаточное формирование человеческого
капитала. Обществам приходится искать себе учителей или само-
стоятельно обучаться способам индустриального роста производства.
Может быть, это и так, но, тем не менее, возникает вопрос, будет ли
в таком обществе деятельность, привычно моделируемая как ин-
вестиции в человеческий капитал, порождать такого рода послед-
ствия, которые постулирует теория, основанная на исследованиях
стран, где модернизация уже завершена. Школа, готовящая, ска-
жем, комиссаров или мусульманских священнослужителей, никогда
не выпустит инженеров.
Тем не менее объяснения дивергенции на основе различий в
человеческом капитале более чем правдоподобны и, как показали на
некоторых примерах Лукас и Ромер, создают базу для перспективной
и интересной экономической теории. В качестве первого шага к тому,
чтобы увидеть, как работает эта идея, рассмотрим простое увеличение
отдачи от обычно трактуемого капитала и труда. Наиболее чистый
Теория роста
487
случай представляет собой ситуация, при которой влияние возрас-
тающей отдачи оказывается «трудосберегающим». Предположим, для
примера, У = (AL)Mj, где F(x, у) — однородная функция степе-
ни 1 по двум аргументам, а ц > 1. Имеет место возрастающая отдача
от масштаба относительно К и L: если оба вида затрат умножить
на z > 1,
F\zK, (AzL)m] = F\zK, zM(AL)Mj > f\zK, z(AL)m] = zF\k, (AL)g].
Если, как в разделе 19.2, L = exp(nt), a A = exp(af), то
У = F{ii, ехр[ц(а + n)t]},
а остальная часть рассуждения остается без изменения. Единственным
изменением является то, что темп асимптотического роста теперь
равен ц(а + п), а темп роста на душу населения равен ца + (ц - 1)п.
Единственным новым параметром является степень возрастающей
отдачи от масштаба.
Само допущение экономии на масштабах изменяется весьма сла-
бо. По-прежнему не существует какой-либо иной основы для посто-
янного расхождения в темпах роста на душу населения, кроме разли-
чий в применяемой технологии. Ромер (Romer, 1986) идет дальше,
выдвигая предположение о том, что капитал (человеческий в данном
случае) имеет возрастающую предельную производительность. Это
очень важно. Теоретически это означает, что рост может продолжать-
ся вечно, хотя его темпы и ограничены сверху. Само по себе это не
слишком важно. Здесь также возможна такая ловушка, как равнове-
сие при низком уровне занятости, но это имело бы место и в базовой
неоклассической модели. Самое важное последствие имеет более об-
щий характер. Как во всяком расходящемся процессе, даже неболь-
шие изменения в первоначальных условиях — незначительные сред-
несрочные коррективы — имеют тенденцию превращаться с течени-
ем времени в очень большие и даже все более возрастающие различия.
Здесь, наконец, возникает возможность серьезного и продолжитель-
ного влияния исторического события или политических мер. Именно
такое влияние, как нам представляется, мы наблюдаем, изучая эмпи-
рические данные.
В качестве оперативного механизма в данной истории выступа-
ет возрастающая предельная производительность капитала. Он рабо-
тал бы и при постоянной отдаче, но возрастающая отдача также имеет
значение. Фактически ее почти можно назвать сутью всего процесса:
при постоянной отдаче от масштаба невозможно, чтобы одновременно
соблюдалось равенство F(0, L) = 0, существовал положительный пре-
дельный продукт труда и возрастающий предельный продукт капи-
тала. Поэтому возрастающей отдачи на капитал легче достигнуть при
возрастающей отдаче от масштаба.
488
Роберт М. Солоу
Дальнейший ход рассуждений Ромера (Romer, 1986) совершен-
но понятен. Ради краткости и ясности изложения он игнорирует за-
висимые только от времени технологические изменения и принимает
предложение неквалифицированного труда и физического капитала
как константы. Первые две упрощающие предпосылки можно было
бы легко смягчить. Более серьезное рассмотрение физического капи-
тала породило бы дополнительные сложности, связанные с выбором
активов, которые хотя сами по себе и важны с теоретической точки
зрения, но значительно затруднили бы решение рассматриваемого во-
проса. Основной же акцент делается на человеческом капитале. По-
скольку идея заключается в том, чтобы использовать неоклассиче-
скую модель межвременного конкурентного равновесия в ее оптими-
зационной версии, то главная интеллектуальная проблема состоит в
том, чтобы примирить идею возрастающей предельной производи-
тельности (человеческого) капитала с конкуренцией. Данная пробле-
ма решается так, что возрастающая отдача вводится через внешние
эффекты.
Как обычно, в данном контексте репрезентативная производя-
щая фирма является лишь агентом репрезентативного домохозяй-
ства. Последнее заинтересовано в максимизации интеграла функции
дисконтированной полезности, как это представлено в (19.2). Техно-
логия фирмы представлена производственной функцией F(k, К, х),
которая теперь требует иной интерпретации: х представляет собой
основной капитал, неквалифицированный труд и прочие затраты,
которые являются неизменными, и поэтому их можно не обозначать,
k — текущий запас человеческого капитала фирмы, а К — агрегиро-
ванный запас, равный Sk, если экономика содержит S идентичных
фирм. Именно К порождает внешние эффекты. Отдельно взятая фир-
ма располагает информацией об этом К и о его влиянии на ее соб-
ственную производительность, но не может повлиять на него. F —
однородная функция степени 1 и вогнутая по переменным k и х,
которые определяются самой фирмой так, что фирма может дей-
ствовать как ценополучатель. С точки зрения экономиста, однако,
F(k, Sk, х) имеют возрастающую отдачу от масштаба по всем аргу-
ментам, вместе взятым и являются выпуклыми по k. Таким образом,
получается, что внешние эффекты, порождаемые совокупным запа-
сом человеческого капитала, имеют возрастающую предельную про-
изводительность.
Остается показать, как производится человеческий капитал.
Фирма-домохозяйство (скажем, крестьянская семья) в любой момент
может инвестировать темпом I единиц отложенного потребления в
единицу времени и производить новый человеческий капитал тем-
пом G(i, /?) единиц за период времени (если она уже располагает k
единиц человеческого капитала). Исходя из предпосылки о том, что
G(I, k) — однородная функция степени 1 по ее аргументам, это мож-
Теория роста
489
но записать как k/k = g(I/k). Исходя из технических соображений
предполагается, что #(0) = 0, и g ограничена сверху. Завершается
модель тождеством I = У - С.
Хотя мы здесь и пользуемся терминологией теории человеческо-
го капитала, должно быть ясно, что k здесь более соответствует запа-
су технических знаний, a G(i, /?) описывает то, как расходование I
единиц выпуска на исследования при условии, что запас знаний у
фирмы уже равен k, приводит к увеличению этого запаса за счет
соответствующих новых результатов. Главный довод в пользу того,
чтобы интерпретировать модель таким образом, заключается в том,
что отдельно взятые люди не являются бессмертными, а человече-
ский капитал per se имеет тенденцию умирать вместе со своими но-
сителями. Поэтому модель в действительности описывает эндоген-
ный технический прогресс. Любой человек, имеющий опыт прове-
дения исследований в любой области — даже в области экономики,
может заметить, насколько механической является эта модель иссле-
довательского процесса. Если технический прогресс должен быть пред-
ставлен как эндогенный, это следует сделать таким образом, чтобы в
нем присутствовали не только неравномерность и случайность, но и
различающаяся по областям трудность решения научных проблем.
Такой подход страдает и вследствие другого второстепенного недо-
статка. Если фирма улавливает какую-либо часть внешних эффектов,
создаваемых ее собственными инвестициями в исследования, то она
будет иметь возрастающую отдачу от масштаба собственного произ-
водства. Это отмечал и сам Ромер.
Главный результат, полученный в работе Ромера, требует при-
нятия трех «полутехнических» предпосылок: во-первых, g(.) ограни-
чена сверху константой а; во-вторых, F(k, Sk, х), рассматриваемая
как функция от k, ведет себя более или менее похоже на /г* для
больших k, где ф > 1; наконец, аф < 8, где 8 — норма дисконтирова-
ния полезности. Иными словами, существует абсолютное ограниче-
ние на темп роста человеческого капитала; порождаемая внешними
эффектами возрастающая отдача от k не может быть более чем поли-
номиальной; а потенциал роста, генерируемый такого типа техноло-
гией, не может быть слишком велик относительно нормы дисконта.
Я называю эти предпосылки «полутехническими», поскольку хотя их
функция заключается только в демонстрации того факта, что откла-
дывание потребления никогда не может быть выигрышной стратеги-
ей, тем не менее ограничение, накладываемое ими, не обязательно
будет тривиальным. Поскольку ф > 1, мы должны иметь 8 > а, хотя
не существует никакой особой причины для этого. Для бессмертного
потребителя 8 могло бы быть достаточно небольшим.
В любом случае, конечным результатом является существова-
ние равновесной траектории, на которой С и k (и К) стремятся к
бесконечности, при условии, что первоначальный запас человеческого
490
Роберт М. Солоу
капитала не слишком мал. Исходя из того что предложение неква-
лифицированного труда является константой, С и k можно интерпре-
тировать как удельные количества на одного работника. Конечно,
такое конкурентное равновесие не является эффективным. Это связа-
но с внешним эффектом: существует «недоинвестирование» в человече-
ский капитал. Однако эффективная траектория имеет те же самые
качественные черты. Выводы, относящиеся к теории благосостояния,
очевидны и в данном случае не нуждаются в обсуждении. Важно то,
что механизм человеческого капитала порождает равновесие, в кото-
ром потребление на душу населения растет безгранично даже при
отсутствии экзогенного технического прогресса. В отсутствие внешних
эффектов, связанных с человеческим капиталом и порождающих
возрастающую отдачу от масштаба, оптимизационная версия неоклас-
сической модели без технического прогресса привела бы к стацио-
нарному состоянию, в котором значения потребления и выпуска на
душу населения были бы конечны. Неограниченность сверху очень
многое меняет. Благодаря ей становится возможным увеличение
темпов роста с течением времени; более быстрый рост больших эко-
номик по сравнению с малыми, а также то, что срывы, скажем не-
удачные политические меры со стороны государства и частного биз-
неса, могут иметь последствия, не затухающие, а нарастающие с тече-
нием времени.
Поведенческая (behaviourist) версия неоклассической модели
иногда может приводить к тому же самому. Пусть, например, доля
сбережений-инвестиций является постоянной величиной; тогда бу-
дет происходить вечное накопление капитала, а потребление на душу
населения будет расти без всяких ограничений при предположении,
что не существует ни роста населения, ни технического прогресса.
(При убывающей отдаче, однако, темп роста выпуска и потребления
должен сокращаться, хотя и не обязательно до нуля.) Такое наблюде-
ние указывает как на слабые, так и на сильные стороны поведенче-
ской интерпретации. Слабой стороной является то, что постоянство
доли инвестиций здесь по существу является чисто произвольной
предпосылкой. Определение сбережений и инвестиций, а также ме-
ханизм, посредством которого они приводятся к равенству ex post,
занимают центральное место в этой концепции, что не позволяет
оставить их без обсуждения. Сила же этого подхода заключается в
том, что в отличие от оптимизационной версии, изображающей кар-
тину бессмертной изолированной крестьянской семьи, здесь имеется
по крайней мере возможность того, что желание сберегать ради буду-
щего потребления вообще и стремление инвестировать в специфиче-
ские элементы производственных мощностей могут не гармонировать
друг с другом вследствие игры рыночных сил (упоминающихся выше
«срывов»).
$Ш/рия роста
491
‘Г'- Лукас (Lucas, 1988) расширяет и углубляет этот анализ. Оптими-
зационная версия неоклассической модели сохраняется и рассматри-
вается как позитивная теория конкурентной экономики с совершен-
ным предвидением. Предполагается, что темп роста предложения
неквалифицированного труда является постоянным, и при этом в яв-
ном виде в модель включаются инвестиции в физический капитал.
Накопление человеческого капитала вводится способом, напомина-
ющим скорее приобретение навыков, чем исследования, хотя и здесь
также допускается, что человеческий капитал не разрушается в ре-
зультате смерти отдельных людей; здесь необходимо предположение
о том, что каждое поколение автоматически наследует уровень зна-
ний и умений, приобретенный родителями, и имеет возможность
приумножить это наследство. Согласно формулировке Лукаса, работ-
ник располагает единицей усилий в единицу времени. Пусть и —
объем усилий, направляемых на производство единственного блага, а
1 - и — накопление человеческого капитала работником, уже распо-
лагающим человеческим капиталом h. Тогда
Л/й = 8(1-и). (19.4)
Темп роста человеческого капитала, таким образом, пропорционален
времени, затрачиваемому на обучение. Предпосылка о том, что про-
центное увеличение Л связано с одинаковыми издержками при лю-
бом уровне Л, не столь уж безобидна; это тот пункт, где было бы
полезно самостоятельное исследование.
Человеческий капитал включен в производственную техноло-
гию выпуска благ теперь уже установленным образом: отчасти неяв-
но, а отчасти явно. Во всех своих рассуждениях Лукас не отходит от
функции Кобба—Дугласа. Это удобный для исследователя выбор, и я
думаю, что он был прав, совершив его; однако в менее умелых руках
подход Кобба—Дугласа может оказаться «слишком удобным». Про-
изводство- благ, таким образом, задается формулой
У = AK^uhN)1^Н'', (19.5)
где А — константа, К в данном случае — запас физического капита-
ла, N — предложение (в расчете на одну фирму) неквалифицирован-
ного труда, a. Н — средний для всей экономики уровень человеческо-
го капитала. Если все работники идентичны, то Н = Л; разграниче-
ние символов напоминает о том, что фирма рассматривает Н как
экзогенную величину. Поэтому репрезентативная фирма действует с
постоянной отдачей относительно капитала и эффективного труда,
однако деятельность всей совокупности фирм характеризуется воз-
растающей отдачей с эластичностью 1 + у. Уравнение (19.5) уже за-
ключает в себе предпосылку расчистки рынка труда; uN — это пред-
ложение неквалифицированного труда для производственных фирм,
492
Роберт М. Солоу
a uhN — предложение труда в единицах эффективности. Примени-
тельно к домохозяйству модель является точно такой же, как преж-
де, за исключением того, что Лукас здесь снова использует стандарт-
ную специфическую функциональную форму U'(C) = С~°.
В такой формулировке не используется предпосылка о возраста-
нии предельного продукта человеческого капитала. Эта предпосылка
была бы справедлива, если и только если р < у. Лукас получает до-
вольно схожие результаты из другого источника: отсутствия убыва-
ющей отдачи при создании человеческого капитала. Из уравнения
(19.4) вытекает, что устойчивый темп роста h равен 8(1 - и), и тогда
можно вычислить, что темп роста на единицу выпуска потребления и
инвестиций будет равен
1 - Р
что является близкой аналогией стандартной неоклассической мо-
дели. Безусловно, и является эндогенной, а ее значение в устойчивом
состоянии следует вывести из равновесных условий. Пусть р будет
нормой дисконтирования полезности, al — темпом роста населения.
Лукас показывает, что равновесный темп роста выпуска (и его ком-
понентов) на душу населения равен
1 - Р + у (1 - Р)[8 - (р - X)]
1 - Р а(1 - р + у) - у ’
при том что удовлетворяется техническое условие
п 1 (1 - Р)(р - X)
(1 - Р + у)8 ’
(Это условие играет ту же роль, что и соответствующее условие в
модели Ромера.)
Здесь имеет значение тот факт, что темп асимптотического роста
на душу населения задается не просто экзогенным темпом трудосбе-
регающего технического прогресса. Во-первых, в модели нет экзоген-
ного технического прогресса. Во-вторых, даже если рассматривать ме-
ханизм человеческого капитала h/h = 8(1 - и) как «человеческий» эк-
вивалент технического прогресса, в конечном счете темп роста на
душу населения зависит от всех параметров модели — как тех, кото-
рые описывают технологию, так и тех, что описывают вкусы (о и р).
Поскольку последние относятся к конечным детерминантам береж-
ливости в оптимизационной модели, Лукас может, не погрешив про-
тив правды, заявить, что он нашел связь между бережливостью и
ростом.
Эта модель определяет динамику двух, а не одной капиталь-
ных переменных (характеризующих запасы) К и h или hN и соот-
Теория роста
493
ветственно содержит два первоначальных условия. Поэтому в устой-
чивом состоянии она определяет два уровня запасов — скорректи-
рованные с учетом тренда значения К и h. содержит одно
уравнение, связывающее эти скорректированные с учетом тренда и
характеризующие устойчивое состояние уровни физического и че-
ловеческого капитала. График этой зависимости представляет со-
бой кривую, имеющую положительный наклон; К и h совместно
асимптотически растут или уменьшаются. Движение моделируемой
экономики вдоль этой кривой определяется первоначальными усло-
виями: «экономика, стартующая с низкого уровня физического и
человеческого капитала, будет перманентно отставать от экономи-
ки, имеющей лучшие начальные условия по обоим видам капита-
ла» (Lucas, 1988). Поэтому модель может быть использована для
объяснения значительных и постоянно сохраняющихся диспропор-
ций между богатыми и бедными странами. (Было бы интересно
узнать о том, какие выводы последовали бы из этой модели отно-
сительно траекторий развития двух стран, одна из которых начи-
нает с более высоким уровнем физического, но с меньшим уровнем
человеческого капитала.)
Это изложение дает почувствовать, в чем заключается новый
взгляд на теорию роста, но его эволюция на этом не заканчивается.
Я не хочу сейчас прослеживать все детали и пробелы этой модели, но
опишу несколько важнейших направлений ее развития.
С целью представить более подробную модель эндогенного техни-
ческого прогресса Ромер сам попытался формализовать известную,
хотя и туманную, идею Эллина Янга о возрастающей отдаче как
следствии непрерывной специализации производства (Young, 1928).
Модель слишком сложна для того, чтобы пытаться описать ее по-
дробно в данной главе. Ее важнейшим элементом является сочета-
ние мощного процесса генерации эндогенных технических измене-
ний с не менее мощным процессом приложения этих технических
изменений к производству благ. Это сочетание, возможно, обладает
излишней мощностью, и едва ли удивительно, что оно порождает
мощный механизм роста.
Согласно Ромеру (Romer, 1987), исследовательская активность
создает новые результаты совершенно так же, как это имеет место в
уравнении Лукаса (19.4). Если усилия и знания рассматривать как
два вида затрат на производство знаний, то исследовательский про-
цесс оказывается однородным степени 2. Удвоение имеющихся зна-
ний и текущих исследовательских усилий увеличивает результат в
четыре раза. Это, может быть, не имело бы такого серьезного значе-
ния, если бы компенсировалось убывающей отдачей от приложения
знаний к производству благ.
Я абстрагируюсь от некоторых деталей в моем представлении
ромеровской спецификации производства благ. Пусть R будет затра-
494
Роберт М. Солоу
тами ресурсов, отличных от «промежуточных благ», используемых
для производства объема продукции У. Тогда
А
Y = (19.6)
о
где x(i) — затраты i-ro промежуточного блага. Где-то «за сценой»
находится сложная производственная структура, в рамках которой
исследовательские фирмы изобретают новые промежуточные блага,
другой сектор фирм производит промежуточные блага на основе этих
изобретений, а изготовители конечной продукции используют их для
выпуска конечных благ. Единственной функцией исследования ока-
зывается расширение ассортимента, поэтому А выбирается в качестве
верхней границы интеграла. (Как выпуск исследовательского секто-
ра А заменяет h в уравнении (19.4).)
Предположим теперь, что x(i) = х = А-1 при 0 < i < А. Иными
словами, количество промежуточных благ равномерно распределено
на производстве всех конечных благ. Это совершенно естественно,
если учесть убывающую отдачу от каждой отдельной разновидности
промежуточных благ. Для удобства предположим, что R = 1. Тогда
У = А1-м. Иными словами, при заданном объеме затрат «прочих ре-
сурсов» и заданном количестве промежуточных благ совокупный
выпуск не ограничен, поскольку ассортимент промежуточных благ
движется к бесконечности. Мы можем несколько развить этот при-
мер. Пусть поток исследовательских усилий будет константой а. Тогда,
согласно (19.4), А — пропорционально exp(at), а У = ехр[а(1 - ц)(].
Таким образом, неограниченный экспоненциальный рост происхо-
дит при неизменных затратах первичных ресурсов. Это я и имел в
виду, говоря о том, что комбинированный механизм осуществления
исследований и приложения их результатов к производству благ
обладает «излишней мощностью». В данном случае нашей интуиции
особенно не за что зацепиться. Я не хочу сказать, что механизм Ро-
мера далек от реальности. Это остроумный способ решения трудной
проблемы, связанной с моделированием, и он может отразить некото-
рые черты реальности. Во всяком случае эта модель не является бес-
плодной. В чем-то она более плодотворна, чем предпосылка о том, что
технический прогресс является экзогенно заданным; в этой версии
однократное увеличение потока исследовательских усилий порожда-
ет перманентное увеличение темпов роста. Конечно, этот основной
результат просто «состряпан». Это не обязательно плохо, но и нельзя
сказать, что этот результат мгновенно убеждает.
Существует и другое важное направление в теоретической лите-
ратуре, в рамках которого делается акцент на совместном эндоген-
ном определении рождаемости и инвестиций в человеческий капи-
тал. Так, Беккер и др. (Becker et al., 1988) выдвигают гипотезу о
Теория роста
495
возрастающей отдаче от инвестиций в человеческий капитал и полу-
чают дихотомию между мальтузианской ловушкой низкого уровня
выпуска и равновесным ростом, определяемым накоплением челове-
ческого капитала. Тамура (Tamura, 1989а, Ь) также получает в каче-
стве результата пару локально устойчивых состояний, одно из кото-
рых предполагает высокий уровень рождаемости и низкий стабиль-
ный доход на душу населения, а другое — непрекращающийся рост
производительности. Между двумя этими состояниями существует не-
стабильное равновесие. В этих работах с человеческим капиталом не
связываются никакие внешние эффекты. Однако существует опреде-
ленная форма «овеществления» человеческого капитала: последний
не передается от поколения к поколению даром. Здесь я не стану
вдаваться в подробности. Экскурс в то, что Нерлав (Nerlove) однажды
назвал «новой экономической теорией домашнего хозяйства» (new
home economics), оказался бы слишком длинным. В уже названных
работах и в статье Бэрроу и Беккера (Barro, Becker, 1989) приводится
обширная библиография.
Завершая этот раздел, мне бы хотелось сделать небольшой обзор
другой интересной модели Азариадиса и Дрейзена (Azariadis, Drazen,
1988), которая одновременно находится и в рамках традиции, и вне
их. Традиционным элементом является то, что в качестве централь-
ного механизма принимается совокупный внешний эффект, порож-
даемый совокупными, мотивируемыми на уровне отдельных индиви-
дов, инвестициями в человеческий капитал или в качество труда.
Нетрадиционым является, во-первых, то, что Азариадис и Дрейзен
предпочитают работать в рамках модели перекрывающихся поколе-
ний с двухгодичной периодичностью в отличие от модели с бессмерт-
ной крестьянской семьей. Их предшественником был скорее Дай-
монд, чем Рамсей. Вторым отличием от традиционного подхода яв-
ляется предпосылка о том, что внешний эффект проявляется в момент
перехода одного из серии пороговых значений; между ними имеет
место нормальная вогнутость.
Через все эти модели красной нитью проходит предположение
(интуитивное или индуктивное?) о том, что в экономике в целом
индивидуальный доход на инвестиции в человеческий капитал тем
выше, чем больше запас человеческого капитала. Согласно формули-
ровке Азариадиса—Дрейзена, этого предположения, даже при отсут-
ствии какой-либо предпосылки о сильно возрастающей отдаче, доста-
точно для того, чтобы из него вывести существование двух отдельных
равновесий: ловушки при низких объемах выпуска и отсутствии
инвестиций в человеческий капитал и траектории роста, ведущей к
обыкновенному устойчивому состоянию. Само по себе это ничем осо-
бенно не примечательно. В общепринятых неоклассических моделях
существуют другие механизмы, которые ведут к такого же рода би-
фуркациям.
496
Роберт М. Солоу
Более интересные результаты дает специфический, но, в принци-
пе, правдоподобный вариант этой идеи. Предположим, что обуча-
ющие технологии имеют свои пороговые значения — уровни качества
совокупного труда, при которых выигрыш от обучения резко растет,
затем уступает место нормальной вогнутости и так до тех пор, пока
не будет достигнуто следующее пороговое значение. (Нетрудно сочи-
нить убедительно звучащие истории, в которых достижение всеоб-
щей грамотности, или распространение протестантской этики, или
создание рабочей силы для промышленности могли бы представлять
собой такие пороговые значения.) Тогда, как показывают Азариадис
и Дрейзен, модель обеспечивает множественность равновесных траек-
торий, каждая из которых предполагает положительную величину
инвестиций в человеческий капитал. Эти «внутренние» равновесия
могут отличаться друг от друга как по объему выпуска, так и по
темпам роста выпуска в зависимости от того, каковы технологии
создания человеческого капитала и связанные с ней внешние эффекты.
Это, вне всяких сомнений, наиболее интересный побочный продукт
моделей роста, основанных на схеме «внешние эффекты — возраста-
ющая отдача». Как только возникает более одной локально стабиль-
ной равновесной траектории, первоначальные условия с необходимо-
стью должны играть центральную роль в определении долгосрочной
судьбы экономики. История неизбежно имеет значение. Подробнее с
этой важной идеей можно ознакомиться в работах Диксита и Хана
(Dixit, 1990) и (Hahn, 1990).
19.4. Международная торговля
При постоянной отдаче и экзогенном техническом прогрессе
национальные границы не имеют особого значения для теории роста.
Как только наша картина дополняется возрастающей отдачей, между-
народная торговля становится важным фактором в двух отношени-
ях. С одной стороны, все, что расширяет рынок, может способство-
вать увеличению объема выпуска и темпа его роста. Соответственно
аллокация сравнительных преимуществ может определяться истори-
ческой случайностью: «кто пришел первым», либо через чистую от-
дачу от масштаба, либо через обучение на опыте (learning by doing).
Ранняя статья Этиера (Ethier, 1982) открыла для нас эту сферу еще до
нынешнего возрождения теории роста, но я собираюсь сделать крат-
кий обзор только недавней и направленной именно на изучение ро-
ста литературы.
Лукас, конечно же, видел отмеченную выше связь и создал спе-
циальную модель, иллюстрирующую эндогенную эволюцию срав-
нительных преимуществ. Он сосредоточил свое внимание на случае
обучения на опыте: товары отличаются друг от друга тем, в какой
Теория роста
497
степени опыт, накопленный в их производстве, ведет к снижению
издержек. Лукас назвал товары, являющиеся капиталоинтенсивными
по затратам человеческого капитала, «высокотехнологичными», и в
этом явно что-то есть. Однако чего-то и не достает: кривые обучения
могут быть вначале крутыми, а затем пологими, что изображает пере-
ход от высокотехнологичного товара к обыкновенному. Лукас пока-
зывает, как аллокация сравнительных преимуществ зависит от перво-
начального распределения человеческого капитала. Его специальная
модель предполагает (хотя это и не является жесткой предпосылкой),
что страны, специализирующиеся на высоких технологиях, будут ра-
сти быстрее остальных и, таким образом, усиливать свои сравнитель-
ные преимущества. Такой аспект, вне всякого сомнения, заслуживает
внимания. Это, возможно, могло бы привести к построению модели,
в которой одни страны оказываются способными переключаться с
производства одного высокотехнологичного товара на производство
другого, тогда как другие «наследуют» технологию производства то-
вара, ставшего рутинным.
Важное дополнение к этим моделям эндогенных инноваций
делает Кругмен (Krugman, 1990). Он конструирует трехпериодную
модель. В первом периоде предприниматели «инвестируют» ценные
ресурсы в инновации, снижающие издержки. Добившиеся в этом
успеха получают (временную) монополию на свою новую технологию
во втором периоде; они получают ренту за счет преимущества в из-
держках над предельным производетелем, который до сих пор пользу-
ется старой технологией. В третьем периоде эта инновация становит-
ся всеобщим достоянием и источник рентных доходов исчезает. Эти
последовательности, которые не совпадают по фазе, можно «свести
вместе», что дает картину непрекращающегося процесса.
Из этой простой конструкции вытекает несколько замечатель-
ных результатов. Во-первых, возможность многих равновесий. Чем
выше инновационная активность сейчас, тем выше будет реальный
доход в следующем периоде. Достигшие успеха в инновациях смогут
тогда получить более высокий рентный доход. Поэтому можно гово-
рить об особой силе, делающей прибыльными инвестиции в иннова-
ции в тех случаях, когда имеет место большой объем таких инвести-
ций. (Очевидно, что может действовать и противодействующая сила
конкуренции.) В экономике достаточно сырья как для существования
равновесий, в которых никто не делает инноваций ввиду того, что
никто другой этим не занимается, так и для равновесий, в которых
имеет место множество инноваций.
Второй результат является четкой демонстрацией шумпетеров-
ской идеи о том, что монополия, обеспеченная успешными инноваци-
ями, хотя и порождает убытки с точки зрения статической эффектив-
ности, с избытком компенсирует этот вред, осуществляя инвестиции
в инновации. Третий результат имеет значение в контексте междуна-
33 Зака) № 356
498
Роберт. М. Солоу
родной торговли. Изобрести снижающую издержки технологию сто-
ит примерно одинаково как в большой, так и в малой экономике.
(Вот почему международные сравнения расходов на научные исследо-
вания в расчете на единицу валового национального продукта всегда
кажутся не вполне уместными.) Однако каждая конкретная иннова-
ция имеет большую ценность в большой экономике, чем в малой,
потому что в первом случае существует больший потенциал для по-
лучения ренты. Поэтому международная интеграция может подстег-
нуть инновации и ускорить рост. Это даст более мощный положи-
тельный эффект по сравнению с любым возможным выигрышем от
статической эффективности.
Серия статей Гроссмена и Хелпмена (1988, 1989а, Ь) является,
вероятно, крупнейшим исследованием в этой области. В их главной
работе (Grossman, Helpman, 1989а) они принимают спецификацию тех-
нологии, предложенную Ромером (Romer, 1988) и описанную в разде-
ле 19.3. Существуют две страны, каждая из которых производит свое
собственное и единственное конечное благо, имеет сектор промежуточ-
ных благ и сектор исследований. Результаты исследований использу-
ются в секторе промежуточных благ каждой страны, однако имеет
место торговля промежуточными и конечными благами. Потребители
покупают только конечные продукты обоих видов; предпочтения в обе-
их странах одни и те же. Главное различие между двумя странами со-
стоит в том, что одна из них имеет сравнительное преимущество в сфе-
ре НИОКР, относящееся к производству промежуточных благ.
В свете работы Ромера едва ли удивительно, что эта модель гене-
рирует эндогенный темп роста для мира, состоящего из двух стран.
Если ни одна из стран не имеет сравнительного преимущества в сфе-
ре НИОКР, то нам больше нечего сказать. В противоположной ситу-
ации возникает целый новый класс выводов. Например, если проис-
ходит смещение потребительских предпочтений, которое приводит к
усилению относительного спроса на конечные блага, производимые
страной со сравнительным преимуществом в сфере НИОКР, то в новом
устойчивом состоянии произойдет падение мировых темпов роста.
Причина состоит в том, что ресурсы, необходимые для удовлетворе-
ния избыточного спроса, должны поставляться сферой НИОКР и «про-
межуточными секторами». Страна со сравнительным отставанием в
сфере НИОКР не может полностью компенсировать этот убыток. Или
другой пример. Низкий тариф на импорт конечных благ или неболь-
шие субсидии на их экспорт приводят в устойчивом состоянии к
уменьшению доли страны в производстве промежуточных благ и в
сфере НИОКР. Мировые темпы роста увеличатся, если и только если
в стране, о которой идет речь, будет сравнительное отставание (dis-
advantage) в сфере НИОКР.
В качестве последнего примера можно привести результаты
этой модели, которые не совпадают с некоторыми положениями
Теория роста
499
модели Кругмена. В последней международная интеграция всегда
увеличивает мировые темпы роста. Согласно же формулировке Гросс-
мена—Хелпмена, в отдельно взятой стране со сравнительным пре-
имуществом в сфере НИОКР вследствие интеграции с остальной
частью мира может произойти замедление темпов роста. Увеличе-
ние эффективности использования ресурсов в странах со сравни-
тельным отставанием в сфере НИОКР может привести к замедле-
нию темпов роста мировой экономики в результате реаллокации
ресурсов между секторами по всему миру. В таком несоответствии
между двумя моделями нет ничего необычного. В этом специфиче-
ском случае мы можем сделать два замечания: более узкое и более
широкое. Во-первых, можно задуматься, является ли понятие «срав-
нительное преимущество в сфере НИОКР» четко определенным в
мире, где «1ВМ» имеет лаборатории в Цюрихе и Нью-Йорке. Во-
вторых, существует реальная опасность «перемоделировать» некото-
рые виды деятельности, такие как производство новых технологий,
о которых так мало известно. Опасность состоит в том, что слиш-
ком многое может определяться второстепенными различиями в
формулировках. Это настолько широкая сфера, что весьма трудно
достигнуть какого-либо понимания относительно критерия устой-
чивости (robustness) соответствующих моделей. Тем не менее опи-
санный здесь способ рассуждения явно имеет большое значение для
теории международной торговли. Он открывает возможность вы-
нести теорию сравнительных преимуществ за пределы виноградни-
ков и льняных полей в мир высоких технологий.
В качестве последней иллюстрации я процитирую работу Кона и
Мэриона (Kohn, Marion, 1987). Предположения относительно техно-
логии здесь не выходят за рамки традиции Ромера—Лукаса, тогда
как общая структура модели совпадает с моделью перекрывающихся
поколений Даймонда. Новизна здесь состоит в том, что внешние эф-
фекты полученных знаний присваиваются несколькими поколения-
ми. Инвестиции в технологии, осуществляемые в данный период, при-
ведут к пополнению запаса знаний, доступного будущим поколениям,
но издержки придется нести только нынешнему поколению. Вопрос
состоит в том, настолько ли хорошо для маленькой страны интегри-
ровать свой рынок капитала в остальной мир при преобладающих в
мире процентных ставках.
Объем главы позволяет нам только дать общее представление о
результатах. Маленькая страна, открывающая свой рынок капитала,
испытывает эффект выгод от торговли, что является общепризнан-
ным. Однако существует и другой эффект, связанный с внешними
эффектами знания. Если процентная ставка в данной стране выше
мировой, то ее снижение после интеграции будет стимулировать увели-
чение выпуска и порождать положительные межвременные внешние
эффекты с последующей выгодой для будущих поколений. В такой
500
Роберт М. Солоу
ситуации интеграция оказывается безусловным благом. Предполо-
жим, однако, что процентные ставки в рассматриваемой стране ниже
мировых. В результате интеграции процентные ставки в стране повы-
сятся, что повлечет за собой падение национального производства.
При этом будет накоплено меньшее количество знаний. Кон и Мэри-
он (Kohn, Marion, 1987) показывают, что, тем не менее, ныне живу-
щие станут богаче по вполне стандартным причинам, связанным с
выгодами от торговли, поскольку они не потеряют от сократившегося
накопления знаний. Однако будущие поколения от этого станут бед-
нее, и это может свести на нет выгоды от торговли, особенно если
различия в процентных ставках до и после интеграции являются
небольшими, что приведет и к сокращению благосостояния в долго-
срочном периоде. В данном случае имеет место и другой парадокс:
представители нынешнего поколения, принимающие решения, будут
испытывать особенно сильное искушение проголосовать за «невер-
ный» путь.
19.5. Формализация Шумпетера
Шумпетер был своего рода «святым покровителем» теории рос-
та: многие люди поклоняются этой святыне, но никакого чуда не
происходит. Причина, скорее всего, заключается в том, что его важ-
нейшие идеи относительно динамики предпринимательства и иннова-
ций туманны, сложны или и то и другое. Было несколько попыток
представить идеи Шумпетера в виде формальной модели. Для неко-
торых «правоверных» такие попытки представляются первым шагом
к примитивизации этих идей. Однако, кроме формализации, не суще-
ствует иного способа точно идентифицировать выводы, вытекающие
из этих идей, и дать им оценку. Работу Нельсона и Уинтера (Nelson,
Winter, 1982) можно рассматривать как движение в шумпетеровском
направлении, а работа Кругмена (Krugman, 1988), которую мы обсуж-
дали в разделе 19.4, явно вписывается в эту традицию. В этом разде-
ле я хочу рассмотреть недавно возникшую и на многое претендую-
щую версию шумпетеровской модели роста, предложенную Агионом
и Хоуиттом (Aghion, Howitt, 1989).
Модель строится на базе технологической схемы, введенной в
теорию роста Ромером (Romer, 1988), в которой инновации принима-
ют форму расширения ассортимента промежуточных благ, доступных
для производства конечной продукции (см. уравнение (19.6)). Таким
образом, это в некотором смысле «брачный союз» между идеями Шум-
петера и Эллина Янга. Агион и Хоуитт модифицируют уравнение
(19.6), так что
Y = Г^-di. (19.7)
о с(0
Теория роста
501
Ассортимент промежуточных благ теперь фиксирован, и, таким об-
разом, янгианский аспект этого процесса приостановлен. Инновации
принимают форму спорадических сокращений издержек c(i). Если
быть точным, то инновации возникают как пуассоновский процесс
(в зависимости от ресурсов, направляемых на исследование), кото-
рый, возникнув, порождает единообразное сокращение издержек по
всем i в единичном интервале. Инновации не сосредоточиваются в
конкретном участке спектра промежуточных благ; каждая иннова-
ция приводит к сокращению всех издержек путем умножения их на
данную величину f, где f < 1. После j инноваций c(i) = cofi для каж-
дого i. Это, конечно, очень специфический случай, это первая из
многих таких «предпосылок Санта Клауса», которые необходимы для
того, чтобы представить данную совокупность идей в удобоваримой
форме. Но другого способа не существует; если модель кажется перс-
пективной в форме, приданной ей «предпосылками Санта Клауса»,
имитация по методу Монте-Карло будет эффективным средством ис-
следования альтернатив.
«Созидательное разрушение» возникает потому, что каждая успеш-
ная инновация делает предыдущую серию промежуточных благ уста-
ревшей. Новаторы получают ренту только до тех пор, пока не возник-
нет следующая инновация, и каждый потенциальный новатор при-
нимает это в расчет. Естественно, предполагается, что существует
хорошо разработанная организация отрасли. Успешные новаторы в
исследовательском секторе лицензируют свои инновации, передавая
их монополистам в секторе промежуточных благ, которые, в свою
очередь, конкурируют друг с другом в области продажи этих благ
представителям конкурентного сектора конечной продукции. Труд
используется только в исследовательском секторе и в производстве
промежуточных благ; в уравнении (19.7) R представляет собой фик-
сированное предложение «земли».
Понятие равновесия связано с совершенным предвидением в том
смысле, что эндогенные переменные (например, зарплата, объем вы-
пуска, издержки, прибыль) могут быть спрогнозированы как функ-
ции от накопленного числа инноваций. Но как личность каждого
успешного новатора, так и календарная дата, на которую приходится
инновация, случайны. Устойчивое состояние модели — это ситуация,
в которой аллокация (фиксированной) общей занятости между ис-
следованиями и производством промежуточных благ неизменна. Рост
возникает тогда и только тогда, когда часть труда переходит в сектор
исследований.
Агион и Хоуитт (Aghion, Howitt, 1989) показывают, что каждая
равновесная траектория в этой модели сводится к устойчивому со-
стоянию с положительным ростом, устойчивому состоянию с нуле-
вым ростом, к «двухцикличности» (two-cycle) или «ловушке отсут-
ствия роста». В любом случае, существует единственное устойчивое
502
Роберт М. Солоу
состояние. «Двухцикличность» — это равновесие, в котором заня-
тость в сфере исследований колеблется между высоким и низким
уровнями; высокая занятость в сфере обрабатывающей промышлен-
ности делает инновации столь прибыльными, что в следующем году
занятость исследователей расширяется, приводя к сокращению заня-
тости в обрабатывающей промышленности и снижению вознагражде-
ния за возникающие впоследствии инновации. Ловушка отсутствия
роста кажется во многом похожей на устойчивое состояние при ну-
левом росте, но механизм здесь заключается в том, что перспектива
низкой занятости в обрабатывающей промышленности в спокойные
периоды настолько подавляет стимулы к исследованиям в другие
периоды, что исследования вообще прекращаются. Ловушка отсут-
ствия роста может возникнуть даже в экономике, находящейся в устой-
чивом состоянии положительного роста.
Средний темп роста (средний для последовательности иннова-
ций) является эндогенным в этой модели. Он зависит от параметров
исследовательского процесса, увеличиваясь благодаря инновациям и
в соответствии с размером каждой инновации (рост тем больше, чем
меньше f). Средний темп роста также растет с увеличением «разме-
ров экономики» (измеряемых, скажем, общей занятостью), а также с
повышением степени монопольной власти в производстве промежу-
точных благ. Вообще говоря, средний темп роста и амплитуда его
колебаний возрастают и сокращаются в одном и том же направле-
нии. Наибольшее замешательство среди всех этих обобщений вызы-
вает положительная связь между размерами экономики и ее ростом.
Кажется, что мир функционирует иначе. Однако любая модель будет
работать подобным образом, если она включает в себя возрастающую
отдачу в производстве (как в уравнении (19.6)) и как результат воз-
растающую совокупную отдачу от исследований. Лекарством могла
бы быть малая доза убывающей отдачи в какой-либо части экономи-
ки. Но в какой?
19.6. Заключение
По-настоящему серьезную оценку «новой теории роста» нам еще
предстоит услышать. Следует отметить, что почти все работы, рас-
смотренные в данной главе, были написаны за последние пять лет.
Многие из них до сих пор существуют только в форме препринтов
(working paper). Этот взрыв активности свидетельствует об энергии
и сплоченности небольшой группы исследователей. Но при этом со-
храняется возможность того, что в следующие пять лет произойдет
дальнейшая эволюция теоретической модели и связанной с ней ин-
терпретации исторических данных, что будет означать наступление
второго периода по меньшей мере столь же интересного, как и пер-
Теория роста
503
вый. Поэтому здесь можно сделать только несколько общих заме-
чаний.
Для того чтобы судить о том, было ли это теоретическое пред-
приятие успешным, необходимо располагать четким представлением
о том, чего можно было ожидать. Если целью теории роста является
выработка полной модели, пригодной для формального экономет-
рического анализа на основе наблюдаемых временных рядов, как
невидимому, считают многие экономисты, тогда мало что можно ска-
зать об успехах новой теории роста. В ней поражает обилие специфи-
ческих предпосылок о характере технологии, о природе исследова-
тельской активности, о формировании и использовании человеческого
капитала, о рыночной структуре, о структуре семьи и о межвремен-
ных предпочтениях. Большая часть этих специфических предпосы-
лок была выбрана для удобства, поскольку они делают трудную ана-
литическую проблему более ясной. Нет никакого основания предпо-
лагать, что они дают убедительное описание действительности или
что они обладают особой устойчивостью при правдоподобных измене-
ниях предпосылок. Единственно возможный здесь тип эмпирической
проверки связан с межстрановым исследованием уровней и темпов
роста выпуска и производительности вместе со вспомогательными
данными. Вопрос заключается в том, можно ли на основе таким обра-
зом сформулированной модели воспроизвести широкий набор на-
блюдаемых явлений. Да — конечно, намного лучший ответ, чем нет.
Но польза таких проверок должна быть очень низкой относительно
возможных альтернатив. Вероятно, такой тип проверки способно
пройти и совершенно другое семейство моделей. (Например, Джонс и
Мануэлли (Jones, Manuelli, 1988) показывают, что многие из жела-
емых результатов — эндогенизация темпов роста и их чувствитель-
ность к постоянному влиянию со стороны государственной политики
или случайных возмущений — могут быть достигнуты без возраста-
ющей отдачи или внешних эффектов путем смягчения одного из
условий Инады и предположения о том, что предельный продукт
капитала всегда больше нуля при накоплении капитала до бесконеч-
ности.)
Однако существует и другая значительная роль, которую мо-
жет играть теория роста и всякая теория вообще, — это роль ори-
ентира для интуиции и, следовательно, для наблюдения и интерпре-
тации, а не просто основы для построения уравнений множествен-
ной регрессии. Одним из преимуществ такого взгляда является то,
что он позволяет или даже стимулирует попытки испробовать час-
тичные или не полностью специфицированные модели. С этой бо-
лее «мягкой» точки зрения, новая теория роста представляется
гораздо более успешной. Она «ведет» нашу интуицию в явно инте-
ресном направлении, которое ранние версии неоклассической тео-
рии обычно обходили вниманием. Выражаясь в духе Уолта Уитме-
504
Роберт М. Солоу
на, если иследована только часть предмета, значит, он исследован
лишь частично. Есть простор для дальнейших теоретических иссле-
дований и использования всех доступных данных, чтобы отделить
«зерно от плевел».
Наконец, я хочу вернуться к вопросу, поднятому в начале этого
обзора. В экономическом моделировании всегда существует вопрос о
том, какие переменные должны быть приняты как экзогенные. В те-
ории роста этот вопрос, может быть, более труден, чем где-либо еще,
поскольку набор возможных эндогенных переменных здесь гораздо
шире. Одним из главных импульсов к созданию новой теории роста
было как раз желание определить сами темпы роста в рамках теории.
Это вполне естественно. Исключение свободных параметров или по
меньшей мере их замена «более фундаментальными» является одной
из устойчивых целей фундаментальной науки, в особенности физики:
«В конечном счете... можно надеяться создать полную, последова-
тельную и единую теорию, которая включала бы все частные теории
как приближения и не нуждалась бы в задании некоторых произ-
вольных значений величин, чтобы соответствовать фактам» (Hawking,
1988 : 155). В конце концов, говорят, что теоретическая физика нахо-
дится в постоянном поиске «теории всего» и это «все», вероятно,
включает в себя и ВНП на душу населения.
Однако существует обратная сторона этой медали. Непосред-
ственно перед процитированной нами фразой Хокинг писал:
...было бы очень трудно построить полную единую теорию всего во
вселенной в один прием. Поэтому вместо этого мы продвигались вперед,
создавая частичные теории, которые описывают ограниченный круг явле-
ний, отвлекаясь от прочих явлений или давая им приблизительную оценку.
(Химия, например, позволяет нам рассчитать взаимодействия атомов без
знания внутренней структуры ядра атома.)
Экономисты смогли бы лучше удовлетворить свой интерес, если
бы они стремились сделать свою науку больше похожей на химию,
чем на теоретическую физику.
Но все подобного рода аналогии хороши лишь для общего разго-
вора. Проводить правильную линию раздела — задача экономической
науки, а не химии. Поэтому я заканчиваю следующим предостереже-
нием. Именно потому, что теория роста имеет дело с длительными
отрезками времени и со сравнениями между странами, находящимися
на различных уровнях развития, она уязвима к проблеме институци-
ональных изменений меняющихся оценок, стимулов и способов пове-
дения. Представляется опасным провинциализмом принимать пред-
посылку о том, что социальные институты являются либо оптимально
«выбранными» неким коллективным максимизатором, либо неизбежно
подобны институтам идеализированного промышленного капитализ-
ма XX (или XIX) в.
Теория роста
'*605
Литература .'лЧ К •
Aghlon Р., Howitt Р. A model of growth through creative destruction // Working
paper. Massachusetts Institute of Technology. 1989.
Arrow K. J. The economic implications of learning by doing // Review of Economic
Studies. 1962. Vol. 39. P. 155-173.
Azariadis C., Drazen A. Threshold externalities in economic development //
Working paper. University of Pennsylvania. 1988.
Barro R., Becker G. Fertility choice in a model of economic growth // Econometrics.
1989. Vol. 57. P. 481-501.
Becker G., Murphy K., Tamura R. Economic growth, human capital and population
growth // Working paper. University of Iowa, 1988.
Burmeister E., Dobell A. R. Mathematical Theories of Economic Growth. London :
Macmillan, 1970.
Cass D. Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation //
Review of Economic Studies. 1965. Vol. 32. P. 233-240.
Diamond P. A. National debt in a neo-classical growth model // American Economic
Review. 1965. Vol. 55. P. 1126-1150.
Dixit A. K. The Theory of Equilibrium Growth. Oxford : Oxford University Press,
1976.
Dixit A. K. Growth theory after thirty years / In P. Diamond (ed.). Growth,
Productivity, Unemployment. Boston, MA: MIT Press, 1990. P. 3-22.
Ethier W. National and international returns to scale in the modern theory of
international trade // American Economic Review. 1982. Vol. 72. P. 389-405.
Grossman G„ Helpman E. Product development and international trade // Working
paper 2540. National Bureau of Economic Research. 1988.
Grossman G., Helpman E. Comparative advantage and long-run growth // Working
paper 2809. National Bureau of Economic Research. 1989a.
Grossman G., Helpman E. Endogenous product cycles //Working paper 2913.
National Bureau of Economic Research. 1989b.
Hahn F. Solowian growth models /In P. Diamond (ed.). Growth, Productivity,
Unemployment. Boston, MA : MIT Press, 1990. P. 23-40.
Hahn F. H., Matthews R. С. O. The theory of economic growth: a survey //
Economic Journal. 1964. Vol. 74. P. 779-902.
Hawking S. W. A Brief History of Time. London: Bantam, 1988.
Jones L., Manuelli R. A model of optimal equilibrium growth // Working paper.
Northwestern University. 1988.
Kohn M., Marion N. The implications of knowledge-based growth for the optimality
of open capital markets //Working paper. Dartmouth College. 1987.
Koopmans T. C. On the concept of optimal economical growth I In The Econometric
Approach to Economic Planning. Amsterdam: North-Holland, 1965.
Krugman P. Endogenous innovation, international trade, and growth / In Re-
thinking International Trade. Boston, MA: MIT Press, 1990. Ch. 11. P. 165-
182.
Lucas R. E., Jr. On the mechanics of economic development // Journal of Monetary
Economics. 1988. Vol. 22. P. 3-42.
506
Роберт М. Солоу
Nelson R., Winter S. G. An Evolutionary Approach to Economic Change. Cambridge,
MA : Harvard University Press, 1982.
Ramsey F. P. A mathematical theory of saving // Economic Journal. 1928. Vol. 38.
P.543-559.
Romer P. M. Increasing returns and long-run growth//Journal of Political
Economy. 1986. Vol. 94. P. 1002-1037.
Romer P. M. Growth based on increasing returns due to specialization // American
Economic Review, Papers and Proceedings. 1987. Vol. 77. P. 56-62.
Romer P. M. Endogenous technical change // Working paper. 1988.
Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth // Quarterly Journal
of Economics. 1956. Vol. 70. P. 65-94.
Solow R. M. Growth Theory: An Exposition. Oxford : Oxford University Press,
1970 (reprinted 1988).
Solow R. M. Some lessons from growth theory / In W. F. Sharpe and С. M. Cootner
(eds). Financial Economics: Essays in Honor of Paul Cootner. Englewood
Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1982. P. 246-259.
Swan T. Economic growth and capital accumulation // Economic Record. 1956.
Vol. 32. P. 334-361.
Tamura R. Fertility, human capital and the wealth of nations // Working paper.
University of Iowa. 1989a.
Tamura R. Convergence in an endogenous growth model: from heterogeneity to
homogeneity//Working paper. University of Iowa. 1989b.
Uzawa H. Optimum technical change in an aggregative model of economic
growth//International Economic Review. 1965. Vol. 6. P. 18-31.
Wan H. Y., Jr. Economic Growth. New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1971.
Young A. A. Increasing returns and economic progress//Economic Journal.
1928. Vol. 38. P. 527-542.
< 1 z '
20
РОНАЛЬД ШОУН
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ*
н-... 20.1. Введение , i
Макроэкономическая теория открытой экономики (open-eco-
nomy macroeconomics, OEM) стала обособленной областью иссле-
дований лишь в конце 1960-х-начале 1970-х гг. До этого момента,
а по мнению некоторых экономистов, вплоть до сегодняшнего дня,
доминировала макроэкономическая теория закрытой экономики
(closed-economy macroeconomics, СЕМ). В настоящее время OEM до-
стигла такого уровня, что стала рассматриваться в общих чертах во
многих учебниках (например, Dornbusch, 1980; De Grauwe, 1983;
Rivera-Batiz, Rivera-Batiz, 1985; Morley, 1988; Shone, 1989a), значи-
тельно больше учебников посвящено международной денежной тео-
рии и международным финансам (например, Niehans, 1984; Cope-
land, 1989). Отсюда непосредственно вытекают следующие вопросы.
Каковы отличительные признаки OEM? Отличается ли OEM от СЕМ
по сути или просто использует иные методы исследований? Отлича-
ются ли модели, применяющиеся для анализа открытой экономи-
ки, от моделей, используемых для изучения закрытой экономики?
Отличаются ли политические выводы и рекомендации OEM от ана-
логичных рекомендаций СЕМ, или же вторые являются особым
случаем первых? Почему возвышение OEM произошло в 1970-х и
1980-х гг., а не 1930-х и 1940-х гг.? Наконец, будет ли в будущем
сохраняться жесткое разделение макроэкономической теории на эти
два направления: для закрытой экономики и для открытой эконо-
мики? Данная глава посвящена рассмотрению некоторых из этих
вопросов.
Для того чтобы сделать некий общий обзор развития рассма-
триваемой теории, в разделе 20.2 мы проведем различие между
* Я благодарен Томасу Мутосу и Шейле Дау с экономического факуль-
тета Стерлингского университета, а также редакторам данной книги за по-
лезные комментарии к раннему варианту этой главы.
508
Рональд Шоун
тремя типами хозяйств: закрытой экономикой, обособленной, или
«островной» (insular), экономикой1 и открытой экономикой. Мы
также попытаемся показать, что сегодняшний интерес к OEM в
значительной мере является следствием все большей интеграции
мирового хозяйства, которая требует объяснения. Обособленная эко-
номика анализируется в некоторых деталях в разделе 20.3, посколь-
ку она в значительной мере была положена в основу учебников по
международной денежной теории, а применявшиеся модели были
основой для политических рекомендаций вплоть до перехода к
системе плавающих валютных курсов. После этого перехода, кото-
рый произошел в марте 1973 г., OEM стала играть преобладающую
роль. В какой-то степени мировая практика опередила теорию. До
тех пор в макроэкономической теории экономика трактовалась как
закрытая; в крайнем случае вводились постоянные валютные кур-
сы. Такое допущение было разумным при Бреттон-Вудской систе-
ме, которая функционировала до 1971 г. Однако с переходом к
плавающим курсам это допущение нужно было заменить предпо-
сылкой о плавающих — свободно или «под управлением» — валют-
ных курсах. С продвижением к интеграции как рынков благ, так
и рынков активов, а также благодаря крупным шокам, сотрясав-
шим мировое хозяйство в 1970-х гг., была выявлена неадекватность
значительной части макроэкономической теории как инструмента
для анализа таких событий. Валютный курс следовало сделать
эндогенным наряду с другими макроэкономическими переменны-
ми. В разделе 20.4 мы рассмотрим работы, объяснявшие, как опре-
деляется валютный курс, являющийся центральной переменной в
OEM. Некоторые обзоры макроэкономической теории, которые фак-
тически представляли собой обзоры СЕМ,2 выделяли два аспекта,
доминировавших в большинстве макроэкономических исследований
за последние десять (или чуть больше) лет, и, по всей вероятности,
послужат основой для подобных исследований в будущем. Это
рациональные ожидания и более детальный анализ совокупного
предложения. Как одно, так и другое имеет важные последствия
для анализа открытой экономики, и мы рассмотрим эти аспекты в
разделе 20.5. Заключительный раздел будет посвящен разработкам
в области OEM, которые, вероятно, будут иметь место в ближайшие
несколько лет.
1 Понятие обособленной экономики использовалось Мак-Кинноном
(McKinnon, 1981) и позднее Кененом (Кепеп, 1985).
2 Наиболее очевидными примерами являются работы Бэрроу и Фишера
(Barro, Fischer, 1976) и Фишера (Fischer, 1988). В этих трудах макроэкономи-
ческая теория подразделяется на семь направлений, и ни одно из них не
связано с открытой экономикой. В частности, в обзоре Фишера (Fischer,
1988) вообще не упоминается валютный курс!
Макроэкономическая теория открытой экономики
509
20.2. Что такое макроэкономическая теория
открытой экономики и в чем ее важность?
В определенном смысле OEM объединяет два раздела экономи-
ческой теории: макроэкономику (имеется в виду СЕМ) и междуна-
родную экономику (понимаемую в смысле международной денеж-
ной теории). Эту точку зрения разделяют Де Грауэ (De Grauwe,
1983) и Дорнбуш (Dornbusch, 1980). Второй из этих авторов в пер-
вой фразе своей книги «Open Economy Macroeconomics» отмечает,
что «такая теория отражает попытку объединить макроэкономиче-
скую теорию закрытой экономики с темами и проблемами экономи-
ческой теории внешней торговли и платежей». Конечно, это имеет
смысл делать только в том случае, если экономики являются от-
крытыми.
На рис. 20.1 показана динамика открытости экономик шести
стран за период 1950-1988 гг., измеренной как сумма экспорта и
импорта в процентах от ВНП. Рисунок показывает, что многие стра-
ны стали более открытыми с 1950-х гг., и особенно с 1970-х гг. (хотя
заметно некоторое уменьшение открытости в конце 1980-х гг.). Осо-
бого внимания заслуживает увеличение открытости экономики США
(этот показатель возрос с 8% в 1950 г. до 19% в 1988 г.).3 Экономика
же Великобритании всегда была открытой, и СЕМ являлась непригод-
ным средством анализа ее проблем.4
Эти показатели открытости относятся только к товарам и услу-
гам, причем только к тем из них, которые фактически импортируют-
ся и экспортируются. Предпринимались некоторые попытки изме-
рить открытость долей благ, в принципе способных к международно-
му обмену, но это труднее осуществить. Однако на измеренной таким
образом открытости основаны некоторые теоретические разработки
(например, см. Aizenman, 1985; Aizenman, Frenkel, 1985).
Совершенно очевидно, что рынки капитала с 1950 г. стали более
интегрированными. Это означает необходимость совместного анализа
рынков благ и активов (а не просто счета текущих операций платеж-
ного баланса). Это, в свою очередь, потребовало разработки нового
3 В макроэкономике преобладали и до сих пор преобладают исследова-
ния американских ученых. Только в период, когда экономика США посте-
пенно становилась более открытой и предлагаемые макроэкономистами ре-
комендации (базировавшиеся на СЕМ) стали неадекватными, область OEM
стала популярным объектом исследований.
4 Поэтому весьма удивителен тот факт, что Кейнс в своей «Общей тео-
рии» решил анализировать закрытую экономику. Кейнсианская модель от-
крытой экономики, разработанная в 1950-е гг., была очень грубым описани-
ем такой экономики.
510
Рональд Шоун
В США —•— Великобритания 1 А Франция
—Италия -О-Япония -А- Швейцария
Рис. 20.1. Открытость экономики (экспорт плюс импорт в процентах
от ВНП).
Источник: International Financial Statistics, Yearbook, 1988, 1989.
класса моделей, пригодных для анализа проблем открытой экономи-
ки. Закрытую экономику можно представить себе как однопродукто-
вое хозяйство. Однако для изображения открытой экономики долж-
ны существовать по меньшей мере два блага: благо, производимое
внутри страны, и иностранное благо. Это приводит к появлению отно-
сительной цены («условий торговли») одного блага, выраженной в
другом, которой не существует в моделях закрытой экономики. Да-
лее, эта относительная цена должна включать номинальный валют-
ный курс, который «переводит» цену иностранного блага в нацио-
нальную валюту. С точки зрения моделирования открытой экономи-
ки более важно то обстоятельство, что условия торговли влияют как
на совокупный спрос, так и на совокупное предложение. Отсюда сле-
дует, что эта относительная цена может воздействовать на аллокацию
ресурсов в данной стране и, следовательно, на уровень занятости.
Кроме того, отсюда следует, что любые попытки правительства рас-
сматриваемой страны стабилизировать доходы могут быть расстро-
ены действиями «остального мира». Далее, степень эффективности
или неэффективности такой политики решающим образом зависит
от того, является ли валютный курс фиксированным или плавающим.
Иными словами, при рассмотрении самых значительных вопросов в
области экономической политики нельзя игнорировать факт откры-
тости экономики.
Однако, прежде чем продолжить наши рассуждения, важно от-
метить, что (как и при рассмотрении деиндустриализации) экономи-
Макроэкономическая теория открытой экономики
511
сты, возможно, приходили к неверным выводам, концентрируя свое
внимание на послевоенном периоде (см. Grassman, 1980; Krugman,
1989). Несомненно, что в течение этого периода степень открытости
возрастала и экономистов интересовали следствия данного процесса
(например, Stewart, 1983). Однако долгосрочный анализ, осуществ-
ленный Грассменом (Grassman, 1980), хотя и показал рост степени
открытости многих стран за период 1960-1980-х гг., но, тем не менее,
выявил понижательный тренд за период 1875-1975 гг. Рост в 1970-е
и 1980-е гг. в действительности получался за счет низких базисных
показателей протекционистского межвоенного периода. Это означает,
что необходимы более детальные исследования открытости экономи-
ки, исследования, которые содержали бы сопоставления по меньшей
мере трех исторических периодов: 1875-1914, 1918-1939 и 1945-
1990 гг. Для анализа хозяйств большинства стран модель закрытой
экономики нереалистична — вот какой вывод вытекает из исследова-
ния Грассмена.5
20.3. Обособленная экономика :яг.ч..
Пытаясь исследовать открытую экономику, аналитики рассма-
тривали хозяйство, которое торговало с внешним миром и таким
образом подвергалось влиянию с его стороны. Однако поскольку само
по себе оно было малым, то почти (или совсем) не оказывало воздей-
ствия на мировое хозяйство. Таков был подход к малой открытой
экономике. Но в рамках этого подхода не нашлось места всему ново-
му типу моделей, создававшихся в 1950-е и 1960-е гг. Хотя данные
модели относились к малой открытой экономике — в том смысле,
что объем торговли составлял лишь очень небольшую процентную
долю от ВНП, они имели дополнительные характеристики, которые
следовало учитывать. В частности, было необходимо принять во вни-
мание еще существовавший контроль за движением капитала. Кро-
ме того, требовалось учесть относительное обособление национальной
денежной системы от валютного рынка. Поэтому мы сейчас обра-
щаемся к анализу обособленной, или «островной» (insular), экономи-
ки. Это малая экономика, в рамках которой потоки капитала контро-
лируются, а денежная система обособлена от валютного рынка. Мы
будем называть анализ такого хозяйства макроэкономической теори-
ей обособленной экономики (insular-economy macroeconomics, IEM),
5 Хотя Бланшар и Фишер (Blanchard, Fischer, 1989 : 537) признают, что
«невозможно игнорировать международную торговлю товарами и активами
при анализе фактического поведения какой бы то ни было экономики», их
«Лекции по макроэкономике» (Lectures in Macroeconomics) содержат почти
исключительно анализ закрытой экономики!
512
Рональд Шоун
чтобы отличить его от макротеорий закрытой экономики и (пол-
ностью) открытой экономики.6 7 8
Обособленная экономика была довольно хорошо проанализирована
Мак-Кинноном (McKinnon, 1981) и Кененом (Кепеп, 1985), и здесь
мы будем кратки. Однако ее необходимо обсудить, поскольку эта кон-
цепция не только формировала контекст моделей 1950-х и 1960-х гг.,
но и заложила основы для моделей, разработанных для анализа от-
крытой экономики 1970-х гг. и более поздних.
Перед обсуждением IEM, полезно обратить внимание на тот
факт, что такой анализ «перпендикулярен» обычным методоло-
гическим дебатам между кейнсианцами и монетаристами, кото-
рые наложили отпечаток на значительную часть работ 1950-х и
1960-х гг. Как кейнсианцы, так и монетаристы этой эпохи (1940-
1965 гг.) в основном признавали желательность национальной ав-
тономии и неявно (а иногда и явно) принимали модель обособлен-
ной экономики.
Впервые обособленная экономика была проанализирована в рам-
ках маршаллианского анализа. Платежный баланс трактовался как
разность между ценностью экспорта и ценностью импорта. При этом
экспорт товаров7 приравнивался разности между внутренним про-
изводством и внутренним потреблением, и его цена устанавлива-
лась в национальной валюте (отсюда цена экспортных товаров за
рубежом менялась при изменениях валютного курса). В двухстра-
новом мире импорт приравнивался разности между производством,
оцененном в другой стране, и потреблением в ней же. В качестве
цены импорта выступало частное от деления зарубежной (экспорт-
ной) цены на валютный курс (измеренный как количество единиц
иностранной валюты, приходящееся на единицу национальной ва-
люты).8 Предполагалось постоянство валютного курса, что соответ-
ствовало реалиям Бреттон-Вудской системы, функционировавшей
с 1944 по 1971 г. Однако обращалось внимание на последствия
изменений паритетов валют. Это было популярным направлением
исследований, поскольку при фиксированных валютных курсах обо-
собленные экономики характеризовались кризисами платежного ба-
6 Термин «макроэкономическая теория открытой экономики» («open-
economy macroeconomics») обычно применяют как к ТЕМ, так и к OEM, кото-
рая является типичной областью исследований в настоящее время. «Малая
открытая экономика» — другой популярный термин, обозначающий эконо-
мику, о которой сейчас идет речь (например, см. Prachowny, 1975).
7 Хотя движение услуг является частью счета текущих операций, вни-
мание концентрировалось на торговом балансе, представляющем собой эк-
спорт товаров минус их импорт.
8 Поэтому в моделях предполагалось, что каждая страна специализиру-
ется на производстве только одного обмениваемого блага.
Макроэкономическая теория открытой экономики
513
ланса и любые попытки решения данной проблемы были связаны
с мероприятиями, влияющими на счет текущих операций платеж-
ного баланса, включая девальвацию.
Поскольку в маршаллианских рамках количества являлись функ-
циями относительных цен и изменения последних приводили к изме-
нениям этих количеств, зависевшим от эластичностей спроса и пред-
ложения, было очень быстро выяснено, при каких условиях девальва-
ция будет улучшать торговый баланс (измеренный в иностранной
валюте). Это было условие Маршалла—Лернера.9 Однако этот «под-
ход с точки зрения эластичностей», представлявший собой анализ
частичного равновесия, не очень хорошо вписывался в кейнсианскую
ортодоксию, сформировавшуюся вскоре после выхода в свет «Общей
теории» Кейнса.
Хотя в «Общей теории» Кейнс исходил из закрытости экономи-
ки, его модель была вскоре расширена за счет добавления торгового
сектора и выведения мультипликаторов открытой экономики. Пер-
вая модификация была связана с моделированием малой открытой
экономики, при анализе которой можно игнорировать влияние, ока-
зываемое ею на остальной мир; вторая модификация касалась моде-
лирования двух взаимосвязанных хозяйств, в рамках которого им-
порт одной страны оказывался экспортом другой. В этих моделях
любое экзогенное изменение внутри данной страны изменяет доход
в этой стране и через предельную склонность к импорту изменяет
экспорт зарубежной страны, что, в свою очередь, влияет на ее уров-
ни дохода и импорта. При соответствующих допущениях о предель-
ных склонностях к импорту можно было анализировать мультипли-
кационные последствия различных шоков. Эти типично кейнсиан-
ские модели открытой экономики имели одно сходство с прошлым
подходом с точки зрения эластичностей: в данных моделях предпо-
лагалось, что уровень цен в каждой из стран фиксирован. Послед-
ствие этой предпосылки состоит в том, что реальный и номиналь-
ный валютные курсы двигаются совместно. Это прямо следует из
определения реального валютного курса (точнее, его логарифма) р,
который равен:
р = s + р - р‘ , (20.1)
где s — номинальный валютный курс, выраженный в единицах
иностранной валюты, приходящихся на единицу национальной ва-
люты, р' — зарубежный уровень цен и р — уровень цен внутри
страны; все эти показатели представлены в виде натуральных лога-
9 Условие Маршалла—Лернера включено в большинство учебников по
международной денежной теории; но см. Кепеп, 1985; Rivera-Batiz, Rivera-
Batiz, 1985.
34 Заказ № 356
514
Рональд Шоун
рифмов. Поскольку предполагается, что в обеих странах уровни цен
постоянны (причем каждый из них выражен в валюте данной стра-
ны), то р и s двигаются совместно.
Более значительными разработками — по крайней мере с точки
зрения кейнсианского макромоделирования — являлись «подход с
точки зрения абсорбции» (absorption approach), предложенный Алек-
сандером (Alexander, 1952, 1959), анализ внутреннего и внешнего
равновесий, предложенный в работах Мида (Meade, 1951), Манделла
(Mundell, 1962) и Суона (Swan, 1963), и модель Манделла—Флеминга,
описанная в общих чертах Манделлом (Mundell, 1963) и Флемингом
(Fleming, 1962). Все эти разработки представляли собой расширение
кейнсианской модели определения дохода (типа СЕМ).
Важность подхода с точки зрения абсорбции состояла в подчер-
кивании того факта, что дефицит платежного баланса может возник-
нуть лишь тогда, когда внутренние совокупные расходы («внутренняя
абсорбция») превышают внутренний доход. Далее, из него следует,
что в экономике с полной занятостью девальвация (политика, пере-
ключающая расходы с зарубежных товаров на отечественные) только
в том случае приведет к сокращению дефицита торгового баланса,
если будет сопровождаться политикой, направленной на снижение
расходов. Значимость анализа, проведенного Александером, заключа-
лась в том, что платежный баланс был выражен в виде национальных
тождеств (с учетом открытости экономики), и были постулированы
некоторые поведенческие соотношения (см. Clement et al., 1967 : ch. 7).
Все это означало, что исследование осуществлялось в кейнсианских
рамках. Данная концепция имела прямое значение для экономиче-
ской политики. Однако, как и подход с точки зрения эластичностей,
она имела недостатки. Было осуществлено множество попыток синте-
зировать оба эти подхода; кульминацией этих попыток оказалась
статья Цзяна (Tsiang, 1961), который в большей степени, чем кто-
либо, выявил неявные допущения относительно денежной политики,
существовавшие в обоих подходах.
В то время как макроэкономическая теория расширяла кейнси-
анскую модель и более четко специфицировала рынок товаров и ры-
нок денег, опираясь на работу Хикса (Hicks, 1937), исследования в
области OEM стали гораздо более ориентированными на экономиче-
скую политику. Мид (Meade, 1951) положил начало важнейшему син-
тезу и ввел понятие внутреннего и внешнего равновесия. Внутреннее
равновесие (internal balance) понималось как полная занятость в соче-
тании со стабильностью цен, а внешнее равновесие (external balance) —
как сбалансированность счета текущих операций и счета движения
капитала в рамках платежного баланса (Shone, 1979). Тинберген (Tin-
bergen, 1956) изложил некоторые аспекты теории моделирования эко-
номической политики, сделав акценты на инструментах и целях. Эта
ранняя работа привела к появлению значительных моделей Суона
Макроэкономическая теория открытой экономики
515
(Swan, 1963) и Манделла (Mundell, 1962), каждая из которых содержа-
ла свою версию внутреннего и внешнего равновесия.10 Проблема внут-
реннего и внешнего равновесия трактовалась как связанная с вну-
тренней денежной и фискальной политикой, которая могла компен-
сировать внешние шоки, поддерживая сбалансированность внешних
платежей.11 В частности, Манделл занялся проблемой правильного
выбора инструментов для достижения двух целей — внутреннего и
внешнего равновесия. К этой теме вновь обратился Мид в своей Но-
белевской лекции (Meade, 1978). Один из выводов анализа, проведен-
ного Манделлом, заключался в том, что очень значительным элемен-
том платежного равновесия является счет движения капитала, на
который можно влиять посредством денежной политики через раз-
ницу между процентными ставками в стране и за рубежом. Действи-
тельно, в рамках этого анализа, денежной политике отводилась роль
обеспечения внешнего равновесия, тогда как фискальная политика
рассматривалась в качестве средства достижения внутреннего равно-
весия. Противоположное распределение ролей, согласно этой теории,
приводит к нестабильности. Хотя подход с точки зрения внутреннего
и внешнего равновесия остается популярным, в нем обнаруживается
значительный изъян, если рассмотреть три цели экономической
политики: полную занятость, равновесие платежного баланса и ста-
бильность цен. В частности, вопрос о выборе правильных политиче-
ских мероприятий, соответствующих каждой из целей, становится,
несомненно, запутанным (Shone, 1989а: ch. 8).
К концу 1960-х гг. модели IS-LM для анализа закрытой эконо-
мики и модели IS-LM-BP (balance of payment) для анализа открытой
экономики были достаточно хорошо разработаны. Фридмен (Fried-
man, 1953) выступил в качестве сторонника гибких валютных кур-
сов, и эта точка зрения была впоследствии поддержана Мидом
(Meade, 1955). Поэтому анализ денежной и фискальной политики
при двух режимах валютных курсов — фиксированных и плава-
ющих курсах — оказался своевременным. Такой анализ был осу-
10 Интересно отметить, что Манделл, будучи канадцем, рассматривал
открытую экономику Канады, а Суон, австралиец, аналогичным образом
анализировал проблемы открытой экономики Австралии. Манделл рассма-
тривал в качестве инструментов экономической политики процентную став-
ку и государственные расходы, тогда как Суон рассматривал внутреннее и
внешнее равновесие в терминах конкурентоспособности (реального валютно-
го курса) и расходов. Введение в анализ мобильности капитала сделало рабо-
ту Манделла более интересной.
11 Хотя внутреннее равновесие трактовалось как ситуация полной занято-
сти при стабильных ценах, предполагалось постоянство цен на товары вну-
три страны. Таким образом, исследования, посвященные внутреннему и внеш-
нему равновесию, гораздо менее пригодны для объяснения мира, в котором
существует инфляция.
516
Рональд Шоун
ществлен, в частности, Манделлой (Mundell, 1963) и Флемингом
(Fleming, 1962) и с тех пор называется моделью Манделла—Фле-
минга. В международной денежной теории значимость этой моде-
ли аналогична значимости модели Хекшера—Улина в рамках чи-
стой теории торговли. Поэтому модель Манделла—-Флеминга стоит
здесь вкратце описать. Более поздние разработки будут далее пред-
ставлены на основе этой модели.
Модель состоит из трех уравнений: кривой равновесия на рын-
ке товаров (IS)
у = а0 + агу - a2r + g + [ft0 - /Це + р - р‘) - Л21/], (20.2)
кривой равновесия на рынке денег (LM)
т - р = b0 + b{y - Ь2г (20.3)
и кривой платежного баланса (ВР)
h.o - h^s + р - р*) - h2y + Л3(г - г*) = F. (20.4)
Все переменные, кроме внутренней процентной ставки г, зарубежной
процентной ставки г* и сальдо платежного баланса F, представлены
в виде натуральных логарифмов. Все параметры положительны при
дополнительных ограничениях 0<а1<1, 0<&1<1и0<Л2<1.
Уравнение (20.2) обозначает равновесие на рынке товаров (кривую IS) и
показывает равенство дохода у общим расходам. Уравнение (20.3)
обозначает равновесие на рынке денег (кривую LM), при котором
реальные денежные остатки равны спросу на них. А уравнение (20.4)
представляет собой уравнение платежного баланса, включающее сальдо
счетов текущих операций и сальдо движения капитала. Для обеспе-
чения равновесия платежного баланса необходимо соблюсти усло-
вие F = 0.
В ранней формулировке модели предполагалась совершенная
мобильность капитала (Л3 = °о). При фиксированном валютном курсе
переменная s оказывается фиксированной, а при обыкновенных допу-
щениях закрытой экономики, уровни цен р и р* тоже фиксируются.
Таким образом, согласно уравнению (20.4), предпосылка совершен-
ной мобильности капитала требует, чтобы соблюдалось условие г = г*.
Тогда уравнение (20.2) определяет уровень дохода, а уравнение (20.3) —
номинальные денежные остатки. При несовершенной мобильности
капитала (0 < Л3 < оо) и допущении фиксированных валютных кур-
сов три уравнения определяют у, г и F. Эту модель можно также без
труда применить к анализу ситуации плавающих валютных курсов
(когда величина s изменчива), ситуации, означающей, что F = 0. При
предпосылке совершенной мобильности капитала соблюдается усло-
вие г = г* , а отсюда следует, что доход определяется из (20.3), а ва-
Макроэкономическая теория открытой экономики
517
лютный курс (точнее говоря, его логарифм) — из (20.2). Однако если
мобильность капитала несовершенна, три уравнения позволяют одно-
временно найти у, г и S. Далее, в рамках этой модели можно легко
сопоставить эффективность денежной и фискальной политики при
альтернативных режимах валютных курсов.12 Центральный тезис,
выведенный Манделлой и Флемингом, заключается в том, что в ус-
ловиях совершенной мобильности капитала и фиксированного уров-
ня цен фискальная политика не сможет вызвать изменения дохода, в
то время как денежная политика эффективна. Однако если валют-
ный курс фиксирован, верно обратное. Эта модель породила огромное
количество работ, в которых проблема эффективности макроэкономи-
ческой политики рассматривалась при менее жестких допущениях.
Например, были предложены модели, в которых делалось разли-
чие между ценами отечественных товаров и индексом розничных
цен. При принятии такого допущения результаты, получаемые в рам-
ках строгой модели Манделла—Флеминга, не остаются в силе, по-
скольку при системе плавающих валютных курсов теперь имеет ме-
сто эффект реальных кассовых остатков. В других моделях были
введены регрессивные ожидания, вследствие чего как денежная, так
и фискальная политика оказались эффективными даже при неизменно-
сти других строгих допущений Манделла—Флеминга. Наконец, появи-
лись модели, учитывающие индексацию заработной платы, которые
будут нами рассмотрены в разделе 20.5. С обобщением названных и
прочих разработок можно ознакомиться в работах Френкеля и Разина
(Frenkel, Razin, 1987), а также Шоуна (Shone, 1989b); в обоих трудах
описаны основные ограничения модели Манделла—Флеминга.
Хотя подход с точки зрения абсорбции появился в экономиче-
ской литературе в начале 1950-х гг., а «монетарный подход» — в на-
чале 1960-х гг. (причем в рамках обоих предполагалось, что валют-
ные курсы фиксированы), недавно возникли попытки синтеза этих
двух подходов (см., например, Frenkel, 1980; Frenkel et al., 1980).
Утверждалось, что оба подхода имеют ограничения: в подходе с точки
зрения абсорбции акцент делается на соотношении IS, а в монетар-
ном подходе — на соотношении LM. Если исходить из этой точки
зрения, то ясно, что ни один из этих подходов в отдельности не позво-
ляет определить процентные ставки и равновесный доход. Синтез
достигается посредством введения в анализ соотношения, которое
замыкает систему, а именно уравнения совокупного предложения.
Однако этот синтез не избежал критики (см. Taylor, 1990).
12 Количество трудов по этой теме очень обширно. Обзор основных
аспектов можно найти в статьях Френкеля и Муссы (Frenkel, Mussa, 1985) и
Кенена (Кепеп, 1985); оценка общей значимости проведенных исследований
по состоянию на настоящее время дана в работах Френкеля и Разина (Frenkel,
Razin, 1987) и Шоуна (Shone, 1989b).
518
Рональд Шоун
20.4. Определение валютных курсов
Модель Манделла—Флеминга, описанная в общих чертах в раз-
деле 20.3, стала основой для обсуждения большинства макроэконо-
мических проблем открытой экономики. Однако возрастающее дав-
ление на Бреттон-Вудскую систему совпало с подъемом монетариз-
ма.13 Его главным представителем был, конечно, Милтон Фридмен.
Однако Фридмен уже выступал за плавающие валютные курсы в сво-
ей известной статье 1953 г. Эта проблема позднее обсуждалась в
работах Мида (Meade, 1955), Зомена (Sohmen, 1961) и Джонсона
(Jonhson, 1970).14 Как отмечалось нами в предыдущем разделе, мо-
дель Манделла—Флеминга можно было применить для анализа ситу-
ации плавающих валютных курсов, но это делалось только в кейнси-
анских рамках. С монетаристской точки зрения в ней слабо отража-
лась роль денег.
Сторонники монетарного подхода к платежному балансу15 пыта-
лись подчеркнуть денежную природу дефицитов и профицитов пла-
тежного баланса при режиме фиксированных валютных курсов. Но в
то время не существовало четкой монетаристской позиции по вопро-
су определения валютного курса.
Монетарный подход к определению валютного курса начинается
с предпосылки о том, что национальные и зарубежные облигации
являются совершенными заменителями, в то время как облигации и
деньги не являются таковыми, поскольку деньги выполняют функ-
ции, которые не могут так же хорошо выполняться другими актива-
ми. Согласно закону Вальраса, можно абстрагироваться от одного из
рынков, так что монетаристы абстрагировались от облигаций и рас-
сматривали только спрос на деньги и их предложение. К определе-
нию валютного курса нет единого монетарного подхода (впрочем, это
можно наблюдать и в рамках других подходов). Основные различия
13 Правда, попытки применения монетаристских методов к анализу меж-
дународных проблем делались гораздо раньше (см. Polak, 1957).
14 Хотя часто утверждалось, что проблемы плавающих курсов обсужда-
лись в 1960-е гг. перед переходом к системе плавающих валютных курсов в
1973 г., таких обсуждений было немного. Конечно, были убежденные сто-
ронники данной системы, но появление четырех работ (Friedman, 1953; Meade,
1955; Sohmen, 1961; Johnson, 1970) едва ли можно трактовать как сильный
крен экономистов в указанную сторону. Решение перейти к плавающим
курсам было политическим, основанным на соображениях необходимости, а
не на обоснованных аргументах в его пользу.
15 Количество работ по монетарному подходу к платежному балансу
чрезвычайно велико. Из них можно порекомендовать — для ознакомления с
недавней дискуссией и ее встраивания в историческую перспективу — кни-
гу Тейлора (Taylor, 1990) и содержащиеся в ней ссылки на использованную
литературу.
Макроэкономическая теория открытой экономики
519
между моделями возникают в зависимости от предпосылки о ценах.
Те модели, в которых допускается непрерывное поддержание паритет
та покупательной способности, представляют собой модели с гибкич
ми ценами, тогда как другие модели, которые тоже являются по су-
ществу монетаристскими, допускают краткосрочную малоподвижность
цен, хотя в них также предполагается, что в длительном периоде
соблюдается паритет покупательной способности.
Монетарный подход к определению валютного курса — будь
то в форме гибких цен или их краткосрочной малоподвижности —
характеризуется тем, что паритет покупательной способности явля-
ется центральной концепцией наряду с количественной теорией
денег. Поскольку валютный курс является соотношением двух
уровней цен, его можно выразить (в логарифмической форме) сле-
дующим образом:
s = р‘ - р. (20.5)
Измерив количественное соотношение денежной массы с реальным
доходом в обеих странах и допуская, что величины, обратные ско-
рости обращения денег по доходу, в этих странах одинаковы, мы
получаем следующее равенство:
s = (m* - т) - (у* - у). (20.6)
Однако данное равенство рассматривается как долгосрочный резуль-
тат и, несомненно, не учитывает процентные ставки в уравнении спроса
на деньги. Используя уравнение (20.3) и предполагая, что коэффици-
енты Ь] и Ь2 одинаковы в обеих странах, мы можем выразить крат-
косрочный валютный курс следующим образом:
s = (т* - тп) - Ь} (у* - у) + Ь2(г* - г). (20.7)
Валютный курс зависит от спроса и предложения для нацио-
нальной денежной массы и от спроса и предложения для зарубеж-
ной денежной массы — вот что показывает уравнение (20.7). Отсюда
следует, что изменения валютного курса возникают вследствие изме-
нений национальных и зарубежных переменных. Но с точки зрения
экономической политики более важно то обстоятельство, что в дан-
ной модели реакция валютного курса на изменения дохода противо-
положна реакции, предсказываемой кейнсианской моделью откры-
той экономики. В последней рост дохода оборачивается ухудшением
состояния торгового баланса, что при плавающих валютных курсах
приводит к обесцениванию национальной валюты. В рамках же мо-
нетарного подхода уравнение (20.7) показывает, что рост националь-
ного дохода будет порождать удорожание национальной валюты.
Результат (20.7) можно исследовать далее, если ввести в ана-
лиз паритет процентных ставок и таким образом включить в рас-
520
Рональд Шоун
смотрение ожидания валютного курса.16 17 18 Поскольку ожидаемое зна-
чение валютного курса равно разности процентных ставок и, если
исходить из паритета покупательной способности, также равно раз-
ности в ожидаемых темпах инфляции, то разность процентных ста-
вок в уравнении (20.7) становится равна разности в ожидаемых
темпах инфляции. Таким образом, внимание непосредственно на-
правляется на ожидания и, в частности, на то, как на них, а значит
и на валютный курс, влияют «новости». Хотя новости непредска-
зуемы, они должны быть частью информационного множества, ко-
торым владеет рациональный экономический агент, и как таковые
должны влиять на его поведение. Именно тестирование подобных
гипотез привлекло наибольшее внимание (для обобщения см. Mac-
Donald, Taylor, 1989).
В ранних монетарных моделях определения валютного курса пред-
полагалось непрерывное поддержание паритета покупательной спо-
собности. В более поздних моделях, особенно в моделях Дорнбуша
(Dornbusch, 1976, 1980), а также Баутера и Миллера (Buiter, Miller,
1981, 1982), предполагается краткосрочная малоподвижность цен, но
допускается соблюдение паритета покупательной способности в долго-
срочном периоде. Характерной чертой этих моделей является нали-
чие в них «перелетов» при формировании валютного курса. Одно из
следствий предпосылки малоподвижности цен состоит в допущении
быстрой расчистки рынков активов. В результате различий в скоро-
сти корректировок в коротком периоде корректировка осуществляет-
ся за счет валютного курса, который «перелетает» свое целевое зна-
чение. По мере же корректировок цен на рынке товаров валютный
курс двигается к своему долгосрочному значению. Этой модели было
уделено значительное внимание не в последнюю очередь из-за того,
что с ее помощью пытались объяснить поведение валютных курсов в
1970-е и 1980-е гг.
Рассматриваемая модель имеет следующую форму (которая слег-
ка отличается от той, что первоначально была предложена Дорнбу-
шем):1’
е = а0 + aYy - a2r + g + [ft0 - йДв + р - р*) - Л2у]. (20.8)
т - р = b0 + Ьгу - Ь2г. (20.9)
Ло - й](s + р - р‘) + Л3(г - г* + = F. (20.10)
16 Для ознакомления с обзором работ по этой теме см. MacDonald, 1988;
MacDonald, Taylor, 1989.
17 Мы излагаем эту модель несколько по-другому: (а) чтобы показать,
как она соотносится с моделью Манделла—Флеминга, и (б) чтобы сделать
ясным, какие допущения были приняты.
М^исроэкономическая теория открытой экономики
521
se = 0(s - s), 0 < 0 < 1. | (20.11)
р = л(е - у), л > 0 • (20.12)
Первые три уравнения представляют собой уже знакомые нам усло-
вия равновесия соответственно рынка товаров, рынка денег и пла-
тежного баланса. Эта модель отличается от той, что была предложена
Дорнбушем, содержанием уравнений (20.11) и (20.12). Уравнение
(20.11) означает, что валютный курс изменяется в ответ на разрыв
между равновесным валютным курсом (который обозначается з и,
по предположению Дорнбуша, представляет собой ставку, соответ-
ствующую паритету покупательной способности) и фактическим
курсом. А уравнение (20.12) показывает, что цены изменяются в
ответ на избыточный спрос на рынке благ. При этом Дорнбуш допус-
кает совершенную мобильность капитала, в результате чего уравне-
ние (20.10) редуцируется к условию г = г* - se.
Предполагается, что рынок денег корректируется мгновенно, так
что спрос на деньги и их предложение всегда равны друг другу. Кри-
тически важным, но не очень реалистичным допущением в этой
модели является предпосылка постоянства дохода и его соответствия
уровню, обеспечивающему полную занятость. Поэтому в данной мо-
дели все корректировки осуществляются через цены и валютный курс
(а следовательно, через процентные ставки). Графически равновесные
валютный курс и уровень цен определяются пересечением двух фазо-
вых линий в системе координат (р, s), где одна линия изображает
равновесие на рынке товаров (линия р(-) = 0), а другая —• равновесие
на рынке активов (линия ММ);18 все это проиллюстрировано на
рис. 20.2. На этой модели можно рассмотреть последствия денежной
и фискальной политики. Дорнбуш (Dornbusch, 1976), в частности,
рассматривает влияние, оказываемое стимулирующей денежной по-
литикой, что проиллюстрировано на рисунке. Исходное положение
обозначено точкой А, в которой пересекаются обе исходные фазовые
линии. Следует отметить, что точка А лежит на линии, проходящей
под углом 45° (ds + dp =1). Расширение денежной массы сдвигает
линию ММ вправо (где > т0). В краткосрочном периоде цены не
меняются. Если добавить допущение мгновенной расчистки рынка
денег, то все корректировки в краткосрочном периоде будут осуще-
ствляться через процентные ставки и валютный курс. Таким обра-
зом, в этом периоде экономика передвигается из точки А в точку В.
В долгосрочном же периоде цены меняются, равновесие на рынке
благ сдвигается к р(/П]) = 0 и экономика возвращается к своему дол-
госрочному равновесию (точка С). Поэтому в случае денежной экс-
18 Наклон фазовой линии рынка товаров задан величиной -[fy + (a2//i2)],
а наклон фазовой линии рынка активов — величиной 1/Л20.
522
Рональд Шоун
Рис. 20.2. «Перелет* валютного курса как следствие
денежной экспансии.
пенсии в краткосрочном периоде происходит «перелет» валютным кур-
сом своего долгосрочного равновесного значения.
Модель Дорнбуша представляет собой тип более динамических
подходов, которые применяются для моделирования валютного кур-
са. Следует отметить, что уравнение (20.11) моделирует ожидаемые
изменения валютного курса и эти изменения принимают форму ре-
грессивных ожиданий. В альтернативных моделях определения ва-
лютного курса допускаются рациональные ожидания.19 Далее, дорн-
бушевская модель перелета не учитывает влияния изменений валют-
ного курса на сферу предложения. Баутер и Миллер (Buiter, Miller,
1981, 1982) не только рассматривают влияние таких изменений на
сферу предложения, но и учитывают ненулевые процентные ожида-
ния. Основная форма этой модели была также использована Бауте-
ром и Первисом (Buiter, Purvis, 1983), чтобы проанализировать вли-
яние открытия ресурсов внутри страны на другие сектора ее эко-
номики. Тем самым в этой работе делается попытка объяснить
удорожание фунта стерлингов после обнаружения нефти в Северном
19 Такие модели представляют собой расширение либо модели Дорнбу-
ша (Dornbusch, 1976), либо модели Баутера и Миллера (Buiter, Miller, 1981).
Макроэкономическая теория открытой экономики
523
море и последующих неблагоприятных последствий для обрабатыва-
ющей промышленности Великобритании.
Однако как бы ни развивался монетарный подход к определе-
нию валютного курса, он, кажется, не подтверждается эмпирически-
ми исследованиями. Это неудивительно, так как данный подход пред-
ставляет собой очень упрощенную точку зрения на открытую эконо-
мику. Однако он привлек непосредственное внимание к роли рынка
активов в определении валютного курса.
В рамках монетарного подхода рассматриваются только два
актива: деньги и облигации. Поскольку национальные и зарубежные
облигации являются совершенными заменителями, нет нужды про-
водить между ними различие. В рамках же «портфельного подхода»
к определению валютного курса допускается наличие трех активов:
денег, национальных облигаций и зарубежных облигаций, причем
последние два актива уже не являются совершенными заменителя-
ми. Следует также отметить, что в этой модели в явном виде учи-
тывается богатство W. Оно состоит из денег М, национальных обли-
гаций В и зарубежных облигаций F/S, выраженных в национальной
валюте (где S — валютный курс); все другие переменные представ-
лены в номинальном выражении. Каждый из активов, формиру-
ющих богатство, является функцией от национальной и зарубежной
процентных ставок. Таким образом, простейшую портфельную мо-
дель со статичными ожиданиями можно выразить следующим об-
разом:
W = М + В + F/S, (20.13)
М = М(г, г‘)1У , Мг < 0, М t < 0, (20.14)
В = в(г, r*)W , Вг > 0, В t < 0 , (20.15)
F/S = F[r, г*)1У Fr < 0, F , > 0 (20.16)
Определение валютного курса в этой модели происходит за счет
одновременного взаимодействия всех рынков. Данное обстоятельство
проиллюстрировано на рис. 20.3, при рассмотрении которого следует
обратить внимание на тот факт, что S является уровнем, а не лога-
рифмом валютного курса и выражается в количестве иностранной
валюты, приходящейся на единицу национальной валюты. Линия М
обозначает все комбинации виг, при которых спрос на деньги и их
предложение равны друг другу, линия В описывает комбинации этих
же двух переменных (S, г), при которых находится в равновесии ры-
нок национальных облигаций, а линия F обозначает все комбинации
виг, при которых имеет место равенство спроса и предложения на
рынке зарубежных облигаций. Согласно закону Вальраса, можно аб-
страгироваться от одного рынка, и обычно так поступают с рынком
524
Рональд Шоун
Рис. 20.3. Увеличение В, при котором национальные и
зарубежные активы характеризуются различными сте-
пенями заменяемости.
денег. Устойчивое равновесие имеет место, если линия В наклонена
круче, чем линия F. Исходное равновесие обозначается точкой Ео,
в которой пересекаются все три линии.
В отличие от монетарной модели в рамках модели портфельного
равновесия влияние фискальной политики неоднозначно ввиду воз-
можного замещения между национальными и зарубежными облига-
циями. Например, в случае увеличения объема продаж национальных
облигаций (отображаемого сдвигом вправо линии В из расположе-
ния Во в расположение будет происходить удорожание нацио-
нальной валюты, если национальные и зарубежные облигации явля-
ются близкими заменителями (линия F сдвигается вправо только на
небольшое расстояние, как показано линией Fr на рис. 20.3); однако
национальная валюта обесценится, если эти ценные бумаги не пред-
ставляют собой близкие заменители (и тогда линия F сдвигается вправо
на большое расстояние, что отражено линией F2 на рис. 20.3).
Прорабатывались различные версии этой модели,20 но обычно
они были сложными и громоздкими. Несомненно, эта модель —
20 Обобщение различных портфельных моделей см. в работе MacDonald,
1988.
Макроэкономическая теория открытой экономики
525
в различных формах — не могла быть подвергнута эмпирическому
тестированию.
Однако это не единственная форма модели определения валют-
ного курса. Равновесные модели и труды в русле новой классиче-
ской экономической теории с их акцентом на рациональных ожида-
ниях, расчистке рынков и адекватных микроосновах макроэкономи-
ческих поведенческих уравнений также содержали попытки описать,
как определяется валютный курс.21 В рамках равновесных моделей
последовательность требует непрерывной расчистки всех рынков:
труда, благ и иностранной валюты. С другой стороны, в новом клас-
сическом подходе уделяется особое внимание микроэкономическим
основаниям и поведенческие уравнения выводятся из соображений
максимизации. Однако такие модели также требуют принятия опре-
деленного допущения о том, как функционируют рынки. Новые клас-
сики допускают, что либо рынки расчищаются постоянно (таким об-
разом, их модели становятся похожими на модели равновесия), либо
заработная плата и цены в краткосрочном периоде малоподвижны
(что очень похоже на рассмотренную выше модель Дорнбуша) и в
этом случае их модели отличаются от моделей равновесия.
Все модели определения валютного курса обнаруживают некото-
рую общую неадекватность, особенно при проверке их соответствия
фактам. Некоторые из этих моделей приемлемы, когда изменения
валютного курса малы, но когда такие изменения велики, как в 1970-е
и 1980-е гг., указанные модели дают им весьма неубедительное объяс-
нение. Эндогенное определение валютного курса должно проверяться
в рамках всей модели, которую следует проверять целиком, а не толь-
ко ту ее часть, которая предназначена для спецификации валютного
курса.
20.5. Экономическая теория предложения
и открытая экономика
«Открывание» Кейнсианской модели закрытой экономики по-
казало, каким образом платежный баланс и валютный курс влияют
на совокупный спрос, и в частности, каким образом конкурентоспо-
собность (реальный валютный курс) входит в уравнения импорта и
экспорта. Даже поздние разработки в рамках модели IS-LM-BP и мо-
дели Манделла—Флеминга делали акцент на открытости экономики
только с точки зрения совокупного спроса. Но, конечно, товары и
услуги в открытой экономике должны производиться. Кроме того,
ресурсы, затрачиваемые в производственном процессе, часто импор-
тируются, и их стоимость меняется по мере изменения валютных
21 Сжатый анализ этих моделей дан Дорнбушем (Dornbusch, 1989).
526
Рональд Шоун
курсов. Даже в случае, когда товары и услуги производятся и потреб-
ляются внутри страны и импорт ресурсов не нужен, на цены этих
благ могут оказывать косвенное воздействие валютные курсы в той
мере, в какой требования увеличения заработной платы основаны на
идее поддержания реальной зарплаты — ведь ценовой дефлятор вклю-
чает цены и отечественных, и импортных благ. Поэтому в более но-
вых моделях открытой экономики уделяется много внимания более
точной спецификации совокупного предложения. Эти разработки
осуществлялись параллельно более подробному анализу совокупного
предложения теми исследователями, которые интересовались только
проблемами закрытой экономики.22 Конечно, такое исследование бу-
дет иметь значение и для моделей открытой экономики.
Функция совокупного предложения выводится из спроса на труд
и его предложения, а также агрегатной производственной функции.
В этих моделях обычно предполагается постоянная величина запаса
капитала, спрос на труд выводится из равенства предельного физи-
ческого продукта труда реальной зарплате, а предложение труда —
из выбора между доходом и досугом. Чтобы установить уровень за-
нятости, следует сделать допущение о том, как функционирует рынок
труда, в частности о том, пребывает ли он непрерывно в равновесии
или же имеют место некоторая степень малоподвижности заработ-
ной платы и неравновесие на этом рынке. Так или иначе, после того
как уровень занятости установлен, он определяет уровень реального
дохода через совокупную производственную функцию.
То, что было описано до сих пор, имело отношение К модели
закрытой экономики. В этих моделях определенное значение имеет
учет ценовых ожиданий. В частности, предполагается, что предложе-
ние труда связано с ожидаемой реальной заработной платой. Тогда
необходимо в явном виде моделировать ценовые ожидания, которые
будут влиять на кривую совокупного предложения. Но при рассмо-
трении модели открытой экономики важно провести различия не
только между этими свойствами, но и между разными типами цен.
В открытой экономике имеются два типа благ: выпускаемые внутри
страны и импортируемые. Общий индекс цен рс (в логарифмах) пред-
ставляет собой среднюю взвешенную из цен на выпущенные внутри
страны блага ph и цен на импортные блага, выраженных в националь-
ной валюте (р/ = рЛ* - sj, т. е.
Рс = ХрЛ + (1 - МРп. = + (1 - М(рА* - s), 0 < X < 1.(20.17)
В сфере спроса на труд предельный физический продукт уравнивает-
ся с реальной заработной платой, рассчитываемой с использованием
22 Некоторые из этих разработок можно найти в работе Sapsford, Tzan-
natos, 1990.
Макроэкономическая теория открытой экономики
527
ценового дефлятора для благ, выпускаемых внутри страны. Допуская,
что производственная функция имеет вид простой функции Кобба—
Дугласа, мы можем выразить спрос на труд в логарифмической фор-
ме следующим образом (см. Gray, 1976; Flood, Marion, 1982; Marston,
1982; Turnovsky, 1983):
lnv1 + vo + (U1 - 0^ = w - Ph > 0 < 1>1 <1- (20.18)
Однако в сфере предложения труда реальная заработная плата
формируется как номинальная заработная плата, дефлированная с
помощью ожидаемого индекса потребительских цен. Поэтому кривую
предложения можно выразить в логарифмах следующим образом:
Is = Yo + Yi^ - Pc) • Yi > °> (20.19)
где ожидаемый индекс потребительских цен р‘ определяется спосо-
бом, похожим на тот, что использовался в уравнении (20.17).
Дополнительные сложности возникают, когда в трудовых дого-
ворах заработная плата корректируется посредством индексации. Если
предполагается, что (логарифм) номинальной заработной платы w
равен обусловленной контрактом зарплате w, скорректированной с
учетом фактора индексации /, т. е. что
w = w + f, (20.20)
то можно создать множество моделей индексации в зависимости от
допущений относительно рынка труда и относительно различных
возможных схем индексации.23 Например, если
f = bi(Ph ~ Pl) + k2[(pl -s)-(p*h -s)e], ftp ft2 > 0 (20.21)
и мы допускаем, что обусловленная контрактом заработная плата
устанавливается на уровне, приравнивающем друг другу ожидаемые
величины спроса на труд и предложения труда, то мы получим сле-
дующую формулу зарплаты:
- = + Ьп, - у0(1 - uj + peh+ У1(1 - (20.22)
l + YiO-yJ
1 + Yi(l - Vi).
Затем предполагается, что фактический уровень занятости определя-
ется спросом на труд. После того как ее уровень установлен, его
можно подставить в производственную функцию для определения
23 Этот фактор индексации позаимствован из работы Turnovsky, 1983.
Несколько более простой показатель индексации использовался Айзенма-
ном и Френкелем (Aizenman, Frenkel, 1985).
528
Рональд Шоун
краткосрочной кривой совокупного предложения, которая задается
следующим выражением:24
у = d0 + dxph + d2phe + d3(p* - s)' + d4(pj - s), (20.23)
где d0 > 0, dj > О и d4 < 0, а знак d2 и d3 невозможно определить
заранее. Однако при разумных допущениях в уравнениях (20.17)-
(20.21), d2 окажется меньше нуля, a d3 — больше нуля (см. Shone,
1989b). Данные допущения означают положительный наклон крат-
косрочной кривой совокупного предложения в осях координат (у, рЛ).
А что можно сказать относительно наклона долгосрочной кривой
совокупного предложения? В длительном периоде, когда ценовые
ожидания полностью реализуются (таким образом, peh = ph), кривая
совокупного предложения, устанавливающая связь между реальным
доходом и ценами ph на блага, выпускаемые внутри страны, также
характеризуется положительным наклоном. Рост цен на такие блага
приведет к повышению индекса потребительских цен, и это сдвинет
вверх краткосрочную кривую совокупного предложения. Однако это
повышение не окажется столь же большим, как и возрастание цен на
блага, выпускаемые внутри страны, поскольку величина X располо-
жена в диапазоне от нуля до единицы. Следовательно, долгосрочная
кривая совокупного предложения должна иметь положительный на-
клон.25
Уравнение (20.23) также показывает, что если цена импортных
благ увеличится, то это тоже сдвинет краткосрочную кривую сово-
купного предложения вверх и влево. Это, в свою очередь, повысит
индекс потребительских цен и, следовательно, приведет к требовани-
ям увеличения заработной платы по мере того, как работники будут
пытаться компенсировать сокращение своих реальных доходов. Воз-
действие этих событий на рост зарплаты будут зависеть по меньшей
мере от трех аспектов:
1) от степени открытости экономики; 2) от типа индексации за-
работной платы; 3) от предпосылок относительно расчистки рынка
труда.
Однако проводя различие на рынке труда между ценами на бла-
га, выпускаемые внутри страны, и индексом потребительских цен,
также важно иметь ясное представление относительно ценового де-
флятора в уравнении спроса на деньги, поскольку этот аспект имеет
важное отношение к макроэкономическим корректировкам в откры-
24 Хотя коэффициенты здесь в деталях не описаны, их можно вывести
из всех предыдущих уравнений.
25 Единственная ситуация, при которой данный тезис окажется невер-
ным, будет иметь место тогда, когда цены на блага, выпускаемые внутри
страны, и цены импортных благ, выраженные в национальной валюте, будут
возрастать в одинаковой степени.
Макроэкономическая теория открытой экономики
529
той экономике. В частности, уравнение спроса на деньги теперь при-
нимает форму
т - Рс = ьо + ьЛу + Ph - Рс) - Ь2Г, (20.24)
показывающую, что реальные денежные остатки т - рс представляют
собой функцию номинального значения выпуска у + ph, дефлирован-
ного с помощью индекса потребительских цен рс, и номинальной
ставки процента г.
Заключение, которое можно сделать на основе этого анализа,
состоит в том, что изменения валютного курса будут влиять на сово-
купное предложение из-за их воздействия на цены импортных благ,
выраженные в национальной валюте, и, следовательно, на индекс
потребительских цен. На рынок денег будет также воздействовать
различное влияние изменений валютного курса на цены национальных
благ и на индекс потребительских цен. Это указывает на ряд труд-
ностей, которые исчезают в моделях закрытой экономики, но, тем не
менее, должны быть учтены при анализе типовых открытых эконо-
мик, широко распространенных в реальном мире.
В только что изложенной модели весьма детально отражено
функционирование рынка труда, но она вполне репрезентативна для
недавних исследований в этой области. Кроме того, рассмотренная
модель показывает, насколько более сложной может быть модель
открытой экономики. Ввиду данного обстоятельства ряд авторов
пытались изложить более простую версию этой модели, просто огово-
рив, что (краткосрочная) кривая совокупного предложения является
положительной функцией условий торговли, которые в логарифмах
описываются как [ph - рЛ* + sj (см. Moutos, 1989). Однако в рамках
этого подхода значительная часть корректировочного механизма на
рынке труда остается необъясненной.
Хотя представленная нами здесь модель является детермини-
стичной, необходимо отметить, что почти все модели индексации
строятся в стохастическом виде. В контексте закрытой экономики
оптимальная степень индексации заработной платы зависит от ха-
рактеристик стохастических возмущений. Модели же открытой эко-
номики подразделяются на три категории, что проиллюстрировано
рис. 20.4.
В моделях, относимых к первой категории, режим валютных
курсов трактуется как экзогенно заданный, и упор делается на опти-
мальную индексацию заработной платы (см., например, работы Flood,
Marion, 1982; Aizenman, 1985). В частности, Флад и Марион показа-
ли, что малая открытая экономика с фиксированным валютным кур-
сом должна принять политику полной индексации зарплаты, но в
экономике с гибкими валютными курсами следует осуществлять по-
литику частичной индексации зарплаты. С другой стороны, Айзен-
ман продемонстрировал, что при гибких валютных курсах оптималь-
35 Заказ № 356
530
Рональд Шоун
Рис. 20.4.
ная степень индексации зарплаты возрастает с повышением степени
открытости (измеренной в единицах относительного размера сектора
обмениваемых на международном рынке благ). В моделях, относи-
мых ко второй категории, именно индексация фактической зарпла-
ты рассматривается как экзогенно заданная, и упор делается на опти-
мальном режиме валютных курсов (фиксированных или плавающих)
(см., например, Sachs, 1980; Bhandari, 1982; Marston, 1982). В моделях
же, относимых к третьей категории, осуществляются попытки пред-
ставить оптимальные валютные интервенции и оптимальную индек-
сацию заработной платы как одновременные процессы (см., напри-
мер, Turnovsky, 1983; Aizerman, Frenkel, 1985).
Сочетание моделей малоподвижных цен в закрытой экономике
с анализом валютных интервенций — вот что мы видим в этих
работах. Позднее внимание было обращено на информационное со-
держание реальной заработной платы. Айзенман (Aizenman, 1986)
рассматривает два типа рынков труда: один из них расчищается, а на
другом заключаются трудовые договора. Затем он анализирует два
шока: денежный шок, не наблюдаемый фирмой, и шок, непосред-
ственно связанный с деятельностью фирмы, которая его наблюдает.
Его вывод заключается в том, что на рынке труда, функционирующем
по типу вальрасианского аукциона, реальная заработная плата дает
информацию о ненаблюдаемом шоке, связанном с изменением сово-
купной производительности. В случае с трудовыми договорами ин-
формационное содержание реальной зарплаты недостаточно для оценки
шока совокупной производительности. Поэтому Айзенман доказыва-
Макроэкономическая теория открытой экономики
531
ет, что номинальные контракты связаны с двумя типами издержек:
а) сокращением объема информации для лица, принимающего реше-
ние; б) снижением степени гибкости при адаптации заработной пла-
ты к неожиданным шокам.
До тех пор пока не будет достигнуто общего согласия относительно
того, какие модели использовать — гибких цен или малоподвижных
цен (или обе эти разновидности), исследования будут вестись по двум
направлениям, поскольку каждая из этих моделей может рассматри-
ваться в контексте открытой экономики.
20.6. Будущие исследования в рамках
макроэкономической теории открытой экономики
В сфере OEM осуществляется довольно много исследований. Пока
что модели, пытающиеся объяснить определение валютного курса,
неадекватны и усилия в данной области будут нарастать. Хотя упор
будет делаться на объяснении краткосрочного валютного курса, по-
скольку он характеризуется большой изменчивостью, среди экономи-
стов пока еще нет согласия относительно детерминант этого показате-
ля в долгосрочном периоде. Некоторые недавние идеи о том, что
реальный валютный курс можно объяснять микроэкономическими
соображениями, связанными с аллокацией ресурсов, будут вдохнов-
лять исследовательские усилия тех, кто пытается заложить микро-
основы макроэкономических соотношений.
Значительной тенденцией в рамках чистой теории торговли
является анализ торговли в условиях возрастающей отдачи от мас-
штаба, которая рассматривается как важнейшая независимая при-
чина торговли. Однако мир, характеризующийся возрастающей
отдачей от масштаба, характеризуется также несовершенной кон-
куренцией. Данное обстоятельство привело к интеграции между тео-
рией международной торговли и теорией отраслевых рынков. Ре-
зультаты такой интеграции обобщены Хелпменом и Кругменом
(Helpman, Krugman, 1985, 1989). Имеются также свидетельства того,
что некоторые экономисты хотят интегрировать несовершенную кон-
куренцию в модели OEM. Типовыми примерами подобных моделей
являются работы Диксита (Dixit, 1984) и Хелпмена (Helpman, 1988),
в то время как Свенссон и ван Вайнберген (Svensson, van Wijnbergen,
1989) явно предполагают наличие монополистической конкуренции
в своей модели малоподвижных цен, которая описывает междуна-
родный механизм, передающий воздействие денежной политики.
Традиции такого отрицания вальрасианского аукциониста и рыноч-
ной расчистки также следуют ван де Клундерт и Петерс (van de
Klundert, Peters, 1988), которые анализируют последствия монопо-
листической конкуренции и дорогостоящей ценовой адаптации в
532
Рональд Шоун
динамической макроэкономической модели. Они признают, что их
подход, как и многие другие, содержит моделирование рынка труда
ad hoc.
Уже был сделан ряд попыток более тщательного анализа шоков.
При осуществлении сопоставлений различных режимов валютных
курсов или возможных воздействий на экономику валютных интер-
венций первостепенная важность придается природе шоков на раз-
личных рынках. Однако причину шоков нельзя рассматривать неза-
висимо от других аспектов, таких как форма и размер индексации
заработной платы. Анализ шоков и связанной с ними проблемы ста-
билизации приведет (я уверен) к рассмотрению взаимного соответ-
ствия денежных правил, фискальных правил и валютных правил —
т. е. к рассмотрению проблемы координации политики, которая будет
обсуждаться в главе 23.
Большинство ранних моделей, направленных на объяснение ди-
намики валютного курса, были в основном предназначены для ана-
лиза малой открытой экономики. Однако Турновски (Turnovsky, 1986)
рассматривает последствия денежной и фискальной политики в сим-
метричной двухстрановой макроэкономической модели. Эта модель
по существу представляет собой модель индексации, изложенную нами
в разделе 20.5, но описывающую две экономики, тесно связанные
через индекс розничных цен. Динамика специфицирована в виде
простого уравнения ценовой адаптации, т. е. простой кривой Фил-
липса для каждой экономики. Используя метод, введенный Аоки
(Aoki, 1981), Турновски подразделяет динамику систем на средние
значения и отклонения от этих средних. По существу, средние значе-
ния описывают совокупные кривые IS и LM для мирового хозяйства.
Этот весьма новый аналитический метод может породить много но-
вых работ в области OEM. Хотя симметрия в модели Турновски суще-
ственна, в будущих моделях нужно будет ослабить данное допущение,
и если это удастся, с их помощью несомненно будут выдвинуты новые
идеи.
В той степени, в которой OEM развивается в контексте весьма
подробно разработанных моделей (обычно более подробно разрабо-
танных, чем модели СЕМ), трудность эмпирической проверки ставит
особые проблемы перед эконометристами. Здесь вопрос первостепен-
ной важности заключается в следующем: достаточны ли для анализа
и проверки экономических гипотез малые модели, с которыми легко
работать, или же прогресс невозможен без больших имитационных
моделей?
Хотя некоторые экономисты всегда полагали, что «институты
имеют значение», макроэкономисты только теперь начинают воспри-
нимать эту точку зрения более серьезно, особенно в области экономи-
ки труда и при осуществлении попыток эндогенизировать поведение
правительства.
Макроэкономическая теория открытой экономики
533
Литература .-л
Aizenman J. Wage flexibility and openness // Quarterly Journal of Economics»)
1985. Vol. 400 (2). P. 539-550.
Aizenman J. Stabilization policies and the information content of real wages//
Economica. 1986. Vol. 53 (210). P. 181-190.
Aizenman J., Frenkel J. A. Optimal wage indexation, foreign exchange intervention,
and monetary policy // American Economic Review. 1985. Vol. 75. P. 402-
423.
Alexander S. S. Effects of a devaluation on a trade balance // IMF Staff Papers.
1952. Vol. 2. P. 263-278.
Alexander S. S. Effects of a devaluation: a simplified synthesis of elasticities
and absorption approaches//American Economic Review. 1959. Vol. 49.
P.22-42.
Aoki M. Dynamic Analysis of Open Economies. New York : Academic Press,
1981.
Barro R. J., Fischer S. Recent developments in monetary theory // Journal of
Monetary Economics. 1976. Vol. 2 (2). P. 133-167.
Bhandari J. S. Exchange Rate Determination and Adjustment. New York : Praeger,
1982.
Blanchard O. J., Fischer S. Lectures in Macroeconomics. Cambridge, MA : MIT
Press, 1989.
Buiter W. H., Miller M. Monetary policy and international competitiveness: the
problems of adjustment // Oxford Economic Papers. 1981. Vol. 33. P. 143-
175.
Buiter W. H., Miller M. Real exchange rate overshooting and the output cost of
bringing down inflation // European Economic Review. 1982. Vol. 18.
P. 85-123.
Buiter W. H., Purvis D. D. Oil disinflation and export competitiveness: a model
of the «Dutch Disease* / In J. Bhandari and В. H. Putnam (eds). Economic
Interdependence and Flexible Exchange Rates. Cambridge : Cambridge
University Press, 1983. P. 221-247.
Clement M. O., Pfister R. L., Rothwell K. J. Theoretical Issues in International
Economics. London : Constable, 1967.
Copeland L. S. Exchange Rates and International Finance. Reading, MA : Addison-
Wesley, 1989.
De Grauwe P. Macroeconomic Theory for the Open Economy. London : Gower,
1983.
Dixit A. International trade policy for oligopolistic industries // Economic Journal
(Supplement). 1984. Vol. 94. P. 1-16.
Dornbusch R. Expectations and exchange rate dynamics // Journal of Political
Economy. 1976. Vol. 84. P. 1161-1176.
Dornbusch R. Open Economy Macroeconomics. New York : Basic Books, 1980.
Dornbusch R. Real exchange rates and macroeconomics: a selective survey//
Scandinavian Journal of Economics. 1989. Vol. 91 (2). P. 401-432.
Fischer S. Recent developments in macroeconomics // Economic Journal. 1988.
Vol. 98 (391). P. 294-339.
534
Рональд Шоун
Fleming J. М. Domestic financial policies under fixed and under floating exchange
rates//IMF Staff Papers. 1962. Vol. 3. P. 369-380.
Flood R. P., Marlon N. P. The transmission of disturbances under alternative
exchange-rate regimes with optimal indexing // Quarterly Journal of Eco-
nomics. 1982. Vol. 97. P. 43-66.
Frenkel J. A. Exchange rates, prices and money, lessons from the 1920s // American
Economic Review, Papers and Proceedings. 1980. Vol. 70. P. 235-242.
Frenkel J. A., Mussa M. L. Asset markets, exchange rates, and the balance of
payments / In R. W. Jones and P. B. Kenen (eds). Handbook of International
Economics. Amsterdam : North-Holland, 1985. Vol. 2.
Frenkel J. A., Razin A. The Mundell-Fleming model a quarter century later //
IMF Staff Papers. 1987. Vol. 34 (4). P. 567-620.
Frenkel J. A., Gylfason T., Helliwell J. F. A synthesis of monetary and Keynesian
approaches to short run balance of payments theory // Economic Journal.
1980. Vol. 90 (359). P. 582-592.
Friedman M. The case for flexible exchange rates / Essays in Positive Economics.
Chicago, IL : University of Chicago Press, 1953. P. 157-203.
Grassman S. Long-term trends in openness of national economies // Oxford
Economic Papers. 1980. Vol. 32 (I). P. 123-133.
Gray J. A. Wage indexation: a macroeconomic approach // Journal of Monetary
Economics. 1976. Vol. 2. P. 221-235.
Helpman E. Macroeconomic effects of price controls: the role of market structu-
re // Economic Journal. 1988. Vol. 98 (391). P. 340-354.
Helpman E., Krugman P. R. Market Structure and Foreign Trade. Cambridge,
MA : MIT Press, 1985.
Helpman E., Krugman P. R. Trade Policy and Market Structure. Cambridge,
MA : MIT Press, 1989.
Hicks J. R. Mr Keynes and the «Classics»: a suggested interpretation // Economet-
rica. 1937. Vol. 5. P. 147-159.
Johnson H. G. The case for flexible exchange rates, 1969//Federal Reserve
Bank of St Louis Quarterly Review. 1970. Vol. 52. P. 12-24.
Kenen P. B. Macroeconomic theory and policy: how the closed economy was
opened / In R. W. Jones and P. B. Kenen (eds). Handbook of International
Economics. Amsterdam : North-Holland, 1985. Vol. 2.
Klundert Th. van de, Peters P. Price inertia in a macroeconomic model of
monopolistic competition // Economics. 1988. Vol. 55 (218). P. 203-217.
Krugman P. Exchange Rate Instability. Cambridge, MA : MIT Press, 1989.
MacDonald R. Floating Exchange Rates. Theories and Evidence. London : Unwin
Hyman, 1988.
MacDonald R., Taylor M. P. (eds). Exchange Rates and Open Economy Macroecono-
mics. Oxford : Basil Blackwell, 1989.
Marston R. C. Wages, relative prices and the choice between fixed and flexible
exchange rates // Canadian Journal of Economics. 1982. Vol. 15 (I). P. 87-
118.
McKinnon R. I. The exchange rate and macroeconomic policy: changing postwar
perceptions//Journal of Economic Literature. 1981. Vol. 19 (2). P. 531-
557.
Meade J. E. The Balance of Payments. Oxford : Oxford University Press, 1951.
Vol. 1.
Макроэкономическая теория открытой экономики
535
Meade J. Е. The case for variable exchange rates // Three Bank Review. 1955.
Vol. 27. P. 3-28.
Meade J. E. The meaning of «internal» balance//Economic Journal. 1978.
Vol. 88. P. 423-435.
Morley R. The Macroeconomics of Open Economies. London : Edward Elgar, 1988.
Moutos T. Real wage rigidity, capital immobility and stabilisation policies //
Economic Notes. 1989. Vol. 3. P. 335-342.
Mundell R. A. The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and
external stability// IMF Staff Papers. 1962. Vol. 9. P. 70-79.
Mundell R. A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible
exchange rates // Canadian Journal of Economics. 1963. Vol. 29. P. 475-485.
Niehans J. International Monetary Economics. Oxford : Philip Allan, 1984.
Polak J. J. Monetary analysis of income formulation and payments problems//
IMF Staff Papers. 1957. Vol. 6. P. 1-50.
Prachowny M. F. J. Small Open Economies. Lexington, MA: Lexington Books,
1975.
Rivera-Batiz F. L., Rivera-Batiz L. International Finance and Open Economy
Macroeconomics. London : Macmillan, 1985.
Sachs J. D. Wages, flexible exchange rates, and macroeconomic policy // Quarterly
Journal of Economics. 1980. Vol. 94. P. 731-747.
Sapsford D., Tzannatos Z. (eds). Current Issues in Labour Economics. London :
Macmillan, 1990.
Shone R. Internal and external balance — problems of interpretation // Journal of
Economic Studies. 1979. Vol. 6 (2). P. 216-226.
Shone R. Open Economy Macroeconomics. Brighton : Harvester Wheatsheaf,
1989a.
Shone R. Is there anything left of the Mundell-Fleming model?//Discussion
paper 89/14, University of Stirling, 1989b.
Sohmen E. Flexible Exchange Rates. Chicago, IL : University of Chicago Press,
1961.
Stewart M. Controlling the Economic Future. Brighton : Harvester Wheatsheaf,
1983.
Svensson L. E. O., Wijnbergen S. van. Excess capacity, monopolistic competition
and international transmission of monetary disturbances // Economic
Journal. 1989. Vol. 99 (397). P. 785-805.
Swan T. W. Longer run problems of the balance of payments / In H. W. Arndt
and W. M. Corden (eds). The Australian Economy. Melbourne: F. W.
Cheshire, 1963.
Taylor M. P. The Balance of Payments. London : Edward Elgar, 1990.
Tinbergen J. Economic Policy: Principles and Design. Amsterdam : North-Holland,
1956.
Tslang S. C. The role of money in trade-balance stability: synthesis of the elasticity
and absorption approaches//American Economic Review. 1961. Vol. 51.
P.912-936.
Turnovsky S. J. Wage indexation and exchange market intervention in a small open
economy // Canadian Journal of Economics. 1983. Vol. 16 (4). P. 574-592.
Turnovsky S. J. Monetary and fiscal policy under perfect foresight: a symmetric
two-country analysis //Economica. 1986. Vol. 53 (210). P. 139-157.
21
ПОЛ ДЖ. ХЭАР
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА*
21.1. Введение
Страны с социалистической экономикой, в которых эта система
функционировала в течение большей части послевоенного периода, —
СССР, шесть стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ), а также Югославия, Албания, Китай и несколько менее круп-
ных развивающихся стран — сильно отличались от развитых запад-
ных стран по политической, институциональной и экономической
системе. Наиболее значительные отличия, очевидно, состояли в доми-
нирующем положении коммунистической партии в социалистичес-
кой политической системе, в преобладании государственной собствен-
ности на большую часть производственных активов и в использова-
нии плановых показателей, а не рыночного механизма в качестве
способа определения того, что производить, кто должен осуществлять
производство и как должна происходить аллокация произведенных
благ. Конечно, и между социалистическими странами были различия
в отдельных деталях, но по основным характеристикам экономичес-
кие системы социалистических стран обнаруживали несомненное
сходство. В данной главе я буду обсуждать по большей части то, что
могло рассматриваться в качестве типичной социалистической эко-
номики, какой она была до падения коммунизма в Восточной Европе
в 1989 г. (Hawkes, 1990; Rollo, 1990), не уделяя особого внимания
индивидуальным различиям.
Еще до 1989 г. многие социалистические экономики прошли
определенный процесс эволюции. В ранний период большинство из
них прошли через крайне централизованное и детализированное пла-
нирование почти всех аспектов экономической жизни. Эту версию
социалистической экономической модели обычно называют тради-
ционной социалистической экономикой или традиционной моде-
* Я благодарю редакторов за полезные замечания относительно перво-
начальной версии этой главы.
Экономическая теория социализма
537
лью, ее главные элементы и характеристики описаны в разделе 21.2.
По прошествии некоторого времени обнаружилось, что традиционная
модель подвержена некоторым серьезным недостаткам, в результате
чего возникло определенное стремление к экономическим реформам.
В одних странах это стремление привело к попыткам усовершенство-
вать систему централизованного управления, в то время как в других
странах раздавались призывы к децентрализации и рыночным рефор-
мам. Позднее произошло крушение коммунистических правительств
в Восточной Европе, не устоявших перед лицом возрастающих эко-
номических трудностей и сил, направленных на политическую либе-
рализацию: в некоторых странах это уже породило тенденцию к воз-
рождению экономической системы рыночного типа (Hare, 1990; Kaser,
1990). Раздел 21.3 посвящен обзору различных стадий и способов
проведения реформ.
Неудивительно, что социалистическая экономика привлекала
внимание экономистов с теоретическим складом мышления (как на
Востоке, так и на Западе), пытавшихся объяснить и истолковать modus
operand! (способ функционирования) системы. Соответственно после
вводных разделов 21.2 и 21.3 в разделе 21.4, составляющем ядро
настоящей главы, описываются некоторые наиболее интересные и
поучительные подходы, выработанные с целью моделирования соци-
алистической экономики. В связи с ограниченностью объема главы я
решил сконцентрировать внимание только на четырех темах: модели-
рование процесса децентрализации; поведение предприятий в усло-
виях рационирования факторов производства, дефицит и приоритеты;
поведение «плановиков». Рассмотрения этих тем достаточно для ил-
люстрации типов анализа, которые оказались наиболее полезными.
В завершение главы я коротко остановлюсь на оценке современного
уровня нашего понимания функционирования социалистической эко-
номики.
21.2. Традиционная социалистическая экономика
Типичный случай централизованно планируемой социалисти-
ческой экономики предполагает управление ею так, как если бы она
была большой единой корпорацией с тем серьезным отличием
(в сравнении с западными моделями крупной корпорации), что дан-
ная система функционирует в условиях отсутствия конкурентного
окружения. Кроме того, большинство сделок между предприятиями
не опосредованы рынком. В государственном секторе экономики
(на долю которого в большинстве случаев приходится подавляющая
часть производства) организационная структура принимает форму
административной иерархии, как это показано на рис. 21.1. На ри-
сунке представлено четыре уровня этой структуры. Это упрощение
538
Пол Дж. Хэар
Правительство
Рнс. 21.1. Организационная структура централизованно планируемой эко-
номики.
удобно для целей настоящего обсуждения, хотя на практике иногда
уровней бывает и больше (например, тресты или ассоциации являют-
ся промежуточными звеньями между предприятиями и министерства-
ми). Коммунистическая партия здесь не представлена, несмотря на то
что она пронизывает весь экономический аппарат и доминирует на
высших уровнях системы. С целью получить более полное представ-
ление о традиционной плановой системе и ознакомиться с анализом
ее проблем и альтернативных подходов к планированию см. Nove,
1977; Cave, Hare, 1981; Smith, 1983; Dyker, 1985; Ellman, 1989.
Совет министров формально утверждает планы и принимает меры
для их воплощения в жизнь, хотя функциональные органы осуще-
ствляют большую часть мониторинга, а также выработку планов те-
кущего производства, инвестиций и внешней торговли. Хотя планы
составляются на пятилетний и годичный периоды (а иногда в общих
чертах на более длительные периоды), именно последний образует
операционный план, который направляет экономическую активность
в любой данный период. После утверждения годового плана идет его
детализация, что выражается в разработке отраслевых планов, кото-
рые спускаются сверху отраслевым министерствам (третий уровень,
см. рис. 21.1), а они, в свою очередь, дробят их на индивидуальные
планы для отдельных предприятий.
9яономическая теория социализма
539
Как правило, производственные планы для отдельных пред-
приятий составлены очень подробно. Обычно они включают в себя
такие статьи, как объем выпуска в стоимостном выражении с раз-
бивкой на более узкие товарные группы для составления так назы-
ваемого плана по ассортименту, материальные затраты, оборотные
средства, инвестиции, фонд заработной платы, поставки крупным
заказчикам (иногда включая экспортные поставки, в частности при
наличии контрактов с другими социалистическими странами) и т. д.
Соответственно руководители предприятия прежде всего отвечают
за организацию производства внутри своего предприятия. Дополни-
тельные ограничения для них представляют фиксируемые сверху
цены на производимую продукцию (обычно они рассчитываются по
какой-нибудь формуле, основанной на средних издержках, но вре-
менные интервалы между пересмотрами цен обычно чрезвычайно
велики) и финансовый режим, при котором большая часть получа-
емых сверх плана прибылей отправляется в государственный бюд-
жет с весьма небольшими удержаниями на выплату премий и на
осуществление других расходов, определяемых по усмотрению ру-
ководителей предприятия. Сами премии обычно выплачиваются при
выполнении плана. Однако поскольку планы слишком подробны,
оказалось невозможным заставить руководителей и рабочих вы-
полнить каждый их элемент прежде, чем они получат премиальное
вознаграждение. Вместо этого два или три плановых показателя
(обычно валовой выпуск, рост прибыли или продаж) стали исполь-
зоваться в качестве индикаторов, определяющих размеры премий,
что приводит ко вполне очевидным последствиям в виде искаже-
ний (неэффективности, которой можно было бы избежать) в дея-
тельности предприятия.
Формирование планов происходит посредством итеративного
процесса, включающего в себя обмен информацией между верхними
и нижними звеньями плановой иерархии. На основе предваритель-
ных отчетов о развитии экономики за год центральный плановый
орган (консультируясь также и с другими функциональными орга-
нами) готовит «контрольные цифры» (guideline figures) на следу-
ющий год (плановый год). Эти цифры относятся к таким показа-
телям, как темпы роста совокупного выпуска и главные компонен-
ты спроса, а также могут касаться некоторых наиболее важных
инвестиционных проектов, планируемых в будущем году. После
одобрения контрольных цифр Советом министров — именно здесь
политическое давление на процесс планирования может быть осу-
ществлено с наибольшей легкостью — плановый орган разрабаты-
вает более детальный проект плана, который затем дробится на
планы для министерств и далее для отдельных предприятий. На
этой стадии предприятия имеют возможность либо предложить
пересмотренные плановые показатели по выпуску — более легко
540
Пол Дж. Хэар
достижимые цели увеличивают шансы выполнить план, либо потре-
бовать изменений в размещении ресурсов в их пользу, разумеется,
по той же самой причине, в сторону увеличения. Возникающие в
результате предложения предприятий посылаются наверх и сумми-
руются на каждой ступени иерархии.
Затем плановый орган разрабатывает набор материальных ба-
лансов для экономики, основываясь на своих первоначальных пред-
ложениях и на пересмотренных версиях, поступающих от предприя-
тий. Каждый материальный баланс состоит из списка источников
предложения какого-либо блага (например, стали), включая импорт,
и соответствующего ему списка направлений использования, вклю-
чая экспорт. Поэтому в сущности балансы можно рассматривать как
эквивалент для плановой экономики уравнений предложения и спроса,
которые имеют место в вальрасианской модели функционирования
рыночной экономики, с той только разницей, что цены в первом
случае, как правило, играют совершенно второстепенную роль среди
набора относящихся к делу переменных. Если первоначальные ба-
лансы были согласованными, то совершенно определенно их пере-
смотренные варианты не будут таковыми, поскольку предприятия в
целом стремятся производить меньше, а ресурсов затрачивать боль-
ше. Поэтому необходимы корректировки для восстановления согласо-
ванности в балансах.
Иногда корректировки могут осуществляться после дополнитель-
ных консультаций с руководителями предприятий или в результате
изменения некоторых цен. Но чаще бывает так, что временные огра-
ничения процесса планирования и присущая этой системе неэффек-
тивность ценовых сигналов приводят к тому, что осуществление
корректировок замыкается в пределах планового органа или других
центральных ведомств. Это может принимать несколько форм: умень-
шение норм расходования ресурсов, что фактически требует от пред-
приятия осуществления деятельности с меньшими затратами; сокраще-
ние объема использования продукции в низкоприоритетных сферах,
корректировка импорта или экспорта или в случае незначительности
расхождений отсутствие каких-либо корректировок в надежде на
внутренне присущую экономике гибкость. Конечный вариант плана,
который рассылается предприятиям, основывается на этих скоррек-
тированных материальных балансах. Поскольку все расчеты выпол-
няются на очень высоком уровне агрегирования, ко времени доведе-
ния конечного плана до предприятий он неизбежно будет содержать
множество разночтений и противоречий (хотя в основном не слиш-
ком значительных). Ввиду этого в процессе воплощения плана в жизнь
должно возникнуть множество пунктов, по которым будет происхо-
дить его приспособление к фактическим условиям и его дальнейшая
корректировка с тем, чтобы он реально работал. Это, конечно, одна из
серьезных причин, почему невозможно использовать все целевые по-
Экономическая теория социализма
541
казатели плана в качестве индикаторов, определяющих размеры
премий.1
Согласно этому подходу к планированию, внешняя торговля обыч-
но рассматривется как остаточный элемент в том смысле, что социа-
листические экономики импортируют блага, которые они не могут
или не считают нужным производить, а экспорт осуществляют глав-
ным образом для поддержания совокупного платежного баланса. От-
носительно небольшое внимание уделялось как сравнительным пре-
имуществам, так и эффективному международному экономическому
сотрудничеству с другими странами социалистического блока.2 По-
скольку валюты социалистических стран не являются свободно кон-
вертируемыми, эти страны используют два различных торговых ба-
ланса и разные методы ведения торговли. Торговля с западными стра-
нами ведется на многосторонней основе, и в этом случае происходит
формирование единого торгового баланса в «твердой валюте». Тор-
говля с социалистическим блоком в основном имеет двусторонний
характер, и хотя она осуществляется в так называемых переводных
рублях, избыток в торговле с одной страной обычно не может быть
использован для увеличения закупок в другой стране; таким обра-
зом, избыток финансовых средств не гарантирует доступа на рынок.
Более того, это оказывается верным и для отдельно взятой плановой
экономики; так, предприятия, имеющие избыток средств, не могут
покупать то, в чем они нуждаются, на отечественном рынке без санк-
ции вышестоящего ведомства. Таким образом, экономика далека от
того, чтобы быть полностью монетизированной. Неудивительно, что
это отражается и на методах ведения банковских операций, посред-
ством которых предприятия получают доступ к кредитным ресур-
сам или другим фондам (всегда только на основе утвержденного
плана или при наличии разрешения от вышестоящей инстанции).
Денежная политика просто «сопровождает» и обеспечивает выпол-
нение плана.
1 Хайек давно осознал невозможность построения совершенного плана
по причинам как вычислительного, так и информационного характера. В этом
отношении не произошло серьезных изменений, несмотря на огромный про-
гресс в развитии вычислительной техники. Однако аргументы Хайека и
последующие теоретические разработки в том же духе были слишком сла-
быми, чтобы служить доказательством несовершенства централизованного
планирования, о котором мы сейчас говорим.
2 Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) не оказался эффектив-
ным средством для инвестиционного сотрудничества, а сама торговля между
восточноевропейскими странами осуществлялась на основе двусторонних
соглашений между государствами. С января 1991 г. СЭВ был упразднен, и
теперь торговля в Восточной Европе осуществляется в твердой валюте и по
мировым ценам.
542
Пол Дж. Хэар
Областями традиционной социалистической экономики, где ры-
нок все-таки имеет какое-то значение, являются сферы экономики,
связанные с домохозяйствами, а именно рынок труда и рынок потре-
бительских товаров. С 1950-х гг. в социалистических странах (за ис-
ключением Китая) принудительное государственное направление ра-
бочей силы на определенные отрасли и регионы осуществлялось в
очень небольшой степени или вообще отсутствовало, а формальное
рационирование потребительских благ принимало сравнительно не-
большие масштабы. Однако в условиях централизованно фиксируе-
мых ставок заработной платы, цен на потребительские товары, а так-
же определяемых планом объемов спроса на труд и предложение
потребительских благ домохозяйства при осуществлении своего вы-
бора, конечно, сталкивались с ограничениями; отсюда возникновение
очередей за одними товарами, избыточное предложение других и
устойчивое неравновесие на рынке труда. На основе поступающей
информации об этих диспропорциях планы постепенно корректиру-
ются, но этот процесс идет довольно медленно и предложение может
все время отставать от спроса.
21.3. Реформирование социалистической экономики
Экономическая система, обрисованная в общих чертах в преды-
дущем разделе, оказалась эффективным механизмом мобилизации
ресурсов и стимулирования роста. В 1950-х, и особенно в 1960-х гг.,
доля инвестиций в национальном доходе стабильно поддерживалась
на уровне, превышающем 20%, значительное количество рабочих с
низкой производительностью труда перемещались из сельского хозяй-
ства в промышленность, где их производительность была гораздо выше,
и темпы роста национального дохода колебались в пределах 5-10% в
год. Потребление (и соответственно уровень жизни) росло более мед-
ленно и неравномерно, а состояние внешней торговли, особенно на
рынках, где использовалась твердая валюта, было не слишком благо-
приятным, однако в первые послевоенные десятилетия эти недостат-
ки были не так заметны.
Сочетание нескольких факторов в разных пропорциях в разных
странах способствовало созданию давления в сторону экономических
реформ в большинстве социалистических стран. К этим факторам
следует отнести следующие:
постепенное замедление темпов роста;
неспособность поддерживать высокие темпы роста используемых
факторов производства (как капитала, так и труда, возрастающего за
счет оттока рабочей силы из сельского хозяйства);
плохие и все более ухудшающиеся показатели внешней торгов-
ли, особенно на рынках, предполагающих расчеты в твердой валюте;
Экономическая теория социализма
543
устойчивая микроэкономическая неэффективность, включающая
широко распространенный дефицит;
низкое качество продукции и низкая инновационная активность.
Все эти факторы, вместе взятые, дают очевидные основания для
критики традиционной модели, хотя они в разной степени приложи-
мы к различным странам. Важно помнить, что экономика Восточной
Германии, видимо, функционировала довольно сносно при старой
системе, тогда как Венгрия еще до драматических событий в Восточ-
ной Европе в 1989 г. уже двигалась к всесторонней политической
реформе. Между этими полюсами находились другие социалистические
страны. Во всех случаях экономическое положение социалистических
стран было хуже в сравнении со средним уровнем стран-участниц
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и наи-
более серьезные примеры экономических кризисов (такие, как в
Польше) отражали фундаментальную несостоятельность централизо-
ванного планирования.
Поскольку доступной литературы по экономическим реформам
в социалистических странах достаточно много (Kornai, 1986; Магег,
1986; Hare, 1987; Richet, 1989), мы ограничимся коротким обсужде-
нием этой темы. Наиболее важное разграничение, на котором хоте-
лось бы остановиться, относится к видам реформ, осуществлявшихся
в разных странах. Реформы, как правило, можно классифицировать
следующим образом:
1) усовершенствование централизованной системы;
2) рыночные реформы, относящиеся к рынкам благ и факторов
производства, к сфере внешней торговли и к институциональному
устройству;
3) политические реформы.
Реформы, относящиеся к третьей группе, до 1989 г. серьезно
обсуждались только в Польше и в Венгрии, однако сейчас они быстро
проводятся даже в СССР; ограниченный объем этой главы не по-
зволяет мне осуществить подробный анализ этой наиболее поздней
тенденции. Реформы, относящиеся к первой категории, основаны
на точке зрения, согласно которой командно-административная мо-
дель по существу является «правильной», но может быть улучшена
посредством набора незначительных реформ. Такие реформы вклю-
чают в себя упрощение планов путем сокращения числа обязатель-
ных плановых показателей, ценовую реформу, объединение пред-
приятий в крупные фирмы (в результате плановики имеют дело с
меньшим количеством экономических единиц) и компьютериза-
цию определенных плановых расчетов. Переход от системы возна-
граждения, зависящей от выпуска, к системе, зависящей от прибы-
ли, можно рассматривать в том же ключе, поскольку он не связан
с каким-либо реальным изменением в способе функционирования
экономики.
544
Пол Дж. Хэар
Страны, которые использовали более радикальный подход и осу-
ществили рыночные реформы, пришли к признанию того факта, что
командо-административная модель больше не является для них под-
ходящей. Однако хотя и существует набор хорошо обоснованных идей
относительно этих реформ, выдвинутых в первую очередь экономис-
тами из Восточной Европы (Kornai, 1959; Brus, 1972; Sik, 1972), не-
которая часть их теорий относительно рынков при социализме была
весьма наивной в двух отношениях. Во-первых, их подход был ино-
гда совершенно некритичным и сводился к тотальной поддержке
рынка; во-вторых, зачастую имела место серьезная недооценка пре-
пятствий для эффективного функционирования экономики, вытека-
ющих из элементов традиционной модели, пока еще не подвергших-
ся реформированию.
На рынках благ (включая рынки промежуточных благ) ради-
кальные реформы предполагали упразднение традиционных годовых
планов, определяемых сверху, хотя и основанных на некоторых кон-
сультациях с предприятиями, и позволяли предприятиям определять
собственный выпуск и самим обеспечивать поставку необходимых
им факторов производства. Когда Венгрия в 1968 г. осуществила
такую реформу, это определенно рассматривалось как чрезвычайно
радикальный шаг, тем более что это сочеталось с ценовой реформой,
ослаблением централизованного контроля за ценами и кредитом,
введением разумной системы налогообложения прибыли и разными
другими мерами. Хотя эти реформы явно привели к серьезным поло-
жительным последствиям, они не были настолько впечатляющими и
устойчивыми, как надеялись сторонники этих изменений. Это было
главным образом связано с тем, что сохранение позиций отечествен-
ных монополий на многих рынках предотвращало какую-либо кон-
куренцию, а продолжающиеся ограничения на большую часть импор-
та защищали отечественных производителей. Более того, недостаток
институциональных изменений означал, что во многих отношениях
экономика функционировала так же, как прежде: тщательный фи-
нансовый контроль различного рода просто вытеснил прежние пла-
новые инструкции. В то же время продолжающийся дефицит озна-
чал, что товары все же должны быть рационированы; однако эта за-
дача вместо того, чтобы решаться центральными властями, решалась
самими предприятиями, которым спускались директивы сверху, только
когда это было необходимо, исходя из национальных приоритетов
(например, обеспечение выполнения контрактов по экспортным по-
ставкам партнерам по СЭВ).
Этот противоречивый опыт Венгрии в конечном счете привел к
осознанию необходимости перехода к следующей стадии осуществле-
ния реформ. Постепенный переход к этой стадии начался в 1980-х гг.
Так, реформы 1980-х гг. включали в себя введение кое-где рынка
капитала с тем, чтобы обеспечить взаимные перемещения капитала
Экономическая теория социализма
545
между секторами: облигации могли приобретаться как предприятия-
ми, так и частными лицами, все большее число предприятий начи-
нало выпускать акции для продажи другим предприятиям. Аналогично
старые правила, делавшие почти невозможным наем или увольнение
рабочих без разрешения вышестоящей инстанции, были ослаблены,
чтобы обеспечить более эффективное размещение рабочей силы. Эти
реформы рынка факторов производства, несомненно, имели большое
значение, но вплоть до конца десятилетия они осуществлялись до-
вольно медленно и осторожно.
В то же время происходили значительные организационные
изменения. Так, единый государственный банк был разделен на
эмиссионный банк и сеть коммерческих банков, отраслевые мини-
стерства были объединены в единое министерство промышленности,
а некоторые крупные предприятия были разбиты на более мелкие
единицы. В дополнение к этому, были ослаблены ограничения в
отношении формирования новых малых фирм (частных, коопера-
тивных и государственных) — в Венгрии теперь это наиболее дина-
мично развивающийся сектор, а крупные фирмы в настоящее время
теоретически руководствуются предписаниями, вытекающими из
недавно принятого закона о банкротстве. Эти изменения представ-
ляют собой огромный сдвиг в сторону от традиционной командно-
административной модели; однако, несмотря на свою радикальность,
такие реформы могут оказаться неэффективными с точки зрения
серьезного улучшения экономического положения. Коротко рассмот-
рим причины этого.
Во-первых, центральный аппарат, осуществлявший жесткий
контроль за экономикой вкупе с высшей бюрократией, остался на
своем месте и был намерен бороться за свое выживание. Среди про-
чих аспектов такие политические факторы устойчиво препятствовали
проведению процедуры банкротства с той эффективностью, которая
была возможна, поскольку руководители крупных предприятий от-
лично знали, что им не позволят обанкротиться. Во-вторых, сохраня-
ющаяся слабость отечественных производителей усиливала склон-
ность центра ограничивать импорт с целью их защиты; в результате
возник порочный круг, из которого трудно было выбраться. В-треть-
их, либерализация экономики по большей части касалась мелких
экономических единиц; как только их размеры выходили за пределы
вполне «умеренного» уровня, они становились подвержены всем кон-
тролирующим мероприятиям, которые ограничивали деятельность
крупных предприятий. Более того, появление новых экономических
единиц оставалось таким же проблематичным, как в любой ситуа-
ции преобладания крупномасштабных операций. Одним из наиболее
серьезных последствий протекционистской защиты отечественных
фирм, особенно в сочетании с дефицитом на определенных рынках,
был недостаток у этих фирм интереса к инновациям, особенно про-
36 Заказ № 356
546
Пол Дж. Хэар
дуктовым. Даже когда фирмы осуществляли инновации, в качестве
мотива зачастую выступало стремление к экономии определенных
ресурсов в условиях дефицита, что могло нисколько не соответство-
вать минимизации издержек на нормально функционирующих рын-
ках. Поэтому, в общем и целом, эффективная конкуренция среди
крупных фирм, производивших значительную часть выпуска, наблю-
далась крайне редко. Все больше людей приходили к мысли о необ-
ходимости осуществления определенных политических изменений,
которые привели бы к снятию ответственности за принятие решений
на микроуровне с представителей политической сферы, на которых
она традиционно лежала.
По крайней мере в Восточной Европе такое изменение в 1989 г.
стало казаться вполне вероятным. Начиная с избрания первого в ре-
гионе некомунистического правительства в Польше (возглавляемого
«Солидарностью») и соглашений о многопартийных выборах в Венг-
рии (последовавших за переименованием коммунистической партии
и ее дальнейшим расколом) стало ясно, что политические изменения
внезапно стали реально возможны. СССР при Горбачеве уже был не в
состоянии использовать силу для подавления такого инакомыслия в
странах — партнерах по СЭВ, да и советская политическая элита уже
была менее склонна решать такие проблемы силовыми методами по
сравнению с тем, как это было раньше (хотя к концу 1989 г. рассма-
тривался вопрос о применении силы в Восточной Германии и Чехо-
словакии, а падение режима Чаушеску в Румынии ознаменовалось
серьезным насилием). К середине 1990-х гг. выборы нового правитель-
ства были проведены во всех восточноевропейских странах (за ис-
ключением Албании), а некоторые страны провели серьезные ме-
роприятия в направлении либерализации и рыночных реформ.
В наибольшей степени это относится к Польше и Венгрии, однако не
слишком отставала и Чехословакия, а Восточная Германия воссоеди-
нилась с Западной Германией.
В результате в некоторых странах произошло полное изменение
экономического курса. На смену стремлению различными способами
усовершенствовать планирование пришли такие проблемы, как при-
ватизация и права собственности, налоговая реформа и рыночная
либерализация, а также макроэкономическая политика.
21.4. Моделирование социалистической экономики
В этом разделе мы перейдем от общих рассуждений о функ-
ционировании и трансформации социалистических экономик к рас-
смотрению некоторых моделей, разработанных с целью описания и
объяснения их поведения. Мы сделаем обзор четырех сфер анализа,
начиная с вопроса о децентрализации.
Экономическая теория социализма
547
Децентрализация
Основная идея децентрализации очень проста. Для ее иллюстра-
ции рассмотрим чрезвычайно простую экономику, в которой произ-
водство может быть описано функцией
F(x) = 0, (21.1)
где х = (хр .... хп) — вектор затрат и выпусков, а экономика стремит-
ся к максимизации функции общественного благосостояния U(x). Су-
ществуют два способа достижения оптимума. Централизованный метод
предполагает прямое решение проблемы
max[J(x) при F(x) = 0 и х е X, (21.2)
где множество X, введенное в (21.2), просто ограничивает некоторые
или все относящиеся к делу экономические переменные, так чтобы
они удовлетворяли определенным разумным условиям (например,
условию неотрицательности, хотя детали сейчас не важны). Факти-
чески это как раз то, что стремятся осуществить плановики при раз-
работке плана.
Децентрализованный метод требует того, чтобы ценовой вектор
р был фиксирован. Тогда если цены установлены правильно, фирмы
могут получить инструкцию максимизировать прибыль, т. е. выбрать
х е X для нахождения
тахрх при Е(х) = 0. (21.3)
Обозначим максимальную прибыль как п* и рассмотрим про-
блему
тах(7(х) при рх = л*. (21.4)
Если цены выбраны правильно (и удовлетворяется несколько тех-
нических условий, связанных главным образом с выпуклостью), то ре-
шения (21.3) и (21.4) будут идентичными; более того, оба решения бу-
дут идентичными и решению (21.2). Поэтому правильно выбранные
цены приводят к децентрализации плана; это показано на рис. 21.2,
представляющем случай с двумя секторами.
Почему этот результат представляет интерес? Вероятно, главной
причиной является то, что на практике проблема, решаемая центра-
лированным методом (21.2), слишком сложна, чтобы найти прямой
путь к ее решению. По этой причине центральные планы всегда со-
держат ошибки, противоречия и т. п., даже если они разрабатывают-
ся со всей тщательностью. Критика Хайеком централизованного пла-
нирования привлекла внимание к этой проблеме, в связи с которой
обычно ссылаются как на обычную распыленность имеющей отноше-
ние к делу экономической информации, так и на высокие издержки
сбора и обработки этой информации для выработки централизован-
548
Пол Дж. Хэар
Рис. 21.2. Децентрализация плана на основе использования цен.
Е — оптимальный план (решение (21.2)). Наклон АВ (касательная
к С7() и к F() в Е) определяет относительные цены, которые обеспе-
чивают децентрализацию. При ценах р Е является решением (21.3)
и (21.4).
ного плана. Отсюда утверждается, что децентрализация, предполага-
ющая использование цен, может обеспечить более эффективное дости-
жение главных экономических целей. Здесь стоит заметить, что фор-
мальное решение проблемы децентрализации, продемонстрированное
выше, на самом деле является просто иной формулировкой всем
знакомой второй фундаментальной теоремы экономической теории
благосостояния (Koopmans, 1957; Lavoie, 1985).
Первая процедура децентрализованного планирования — после-
довательность обменов информацией между центром и экономиче-
скими единицами более низкого уровня, что приводит к построению
плана для всей экономики, — была разработана Ланге (Lange, 1938).
В данном случае центр предлагает набор цен, фирмы должны отреа-
гировать, объявляя свои производственные планы, а центр тогда скор-
ректирует цены на основе ожидаемых значений избыточного спроса
и предложения. По прохождении нескольких итераций ожидалось,
что эта процедура приведет к равновесному набору цен, который обес-
печит желаемую децентрализацию.
Последующие авторы разработали другие процедуры, основан-
ные на различных информационных потоках (включая иногда и
Экономическая теория социализма
549
горизонтальные потоки). Маленво (Malinvaud, 1967) предложил набор
критериев желательной процедуры. Среди них можно найти требова-
ние того, чтобы предложения по промежуточному плану были выпол-
нимыми и чтобы каждое последующее предложение увеличивало об-
щественное благосостояние. Однако некоторые из более интересных
процедур, соответствующие институциональным системам реальных
социалистических экономик, не удовлетворяют этим условиям (см.,
например, Kornai, Liptak, 1965).
Гурвич (Hurwicz, 1973, 1986) попытался формализовать общий
подход, используемый этими авторами, представив его в виде общей
модели информационных потоков между агентами и связанного с ним
понятия информационной децентрализации. К сожалению, эти попыт-
ки не получили всеобщего признания по ряду следующих причин. Во-
первых, были и другие аспекты децентрализации, такие как децент-
рализация власти, и некоторые авторы придавали им большое значе-
ние (см., например, Heal, 1973). Во-вторых, подход Гурвича является
ограниченным в том плане, что он не допускает различий в степени
децентрализации и, по-видимому, не применим к сложным организа-
ционным структурам. (В работе Kornai, Martos, 1981 можно найти аль-
тернативную формулировку, которая выделяет несколько типов децен-
трализуемых структур и, таким образом, позволяет обойти эту труд-
ность.) В-третьих, фактические процедуры планирования позволяют
осуществить лишь две или три итерации, так что интерес представляет
не аллокация, к которой в конечном счете приводит процедура, а ее
[процедуры] ранние стадии. Только у Маршака (Marschak, 1972) мож-
но найти основательный анализ этого аспекта; большинство авторов
просто проигнорировали эту проблему. В-четвертых, Монтиас (Montias,
1976), в частности, указывал на то, что неполная децентрализация (на-
пример, дезагрегирование контроля при наличии неподходящих цен)
может привести к худшему размещению ресурсов по сравнению с цен-
трализованным, а это поднимает множество вопросов относительно на-
бора мер, которые следует трактовать как децентрализацию. Наконец,
имеет место вездесущая проблема стимулов, особенно на уровне пред-
приятий. Все эти проблемы достаточно важны для того, чтобы иссле-
довать их более полно.
В тех процедурах планирования, которые были сейчас нами рас-
смотрены, в целом предполагается, что все агенты, включая предпри-
ятия, будут соблюдать правила игры, к которым относится и требова-
ние предоставлять точную информацию на каждой итерации. Однако
нет никакой непреодолимой силы, которая побудила бы руководите-
лей предприятий это делать, и они будут стремиться предоставлять
такую информацию, которая, по их мнению, в конечном счете приве-
дет к более благоприятному для них плану. В этом смысле в проце-
дурах планирования обычно не учитываются подлинные стимулы,
и можно ожидать, что многие агенты в процессе формирования плана
550
Пол Дж. Хэар
вовлекаются в стратегическое поведение. Объем нашей главы не
позволяет нам рассмотреть игровые аспекты планирования (однако
см. главу 17, где разбирается подходящая для данного случая часть
теории игр). Очевидно, что они заставляют серьезно усомниться в
пригодности традиционного анализа децентрализации в плановых
экономиках.
4.4 ливань
Поведение предприятия
в условиях рационирования ресурсов
Социалистические предприятия превращают ресурсы в продук-
ты так же, как это делают любые другие фирмы. Однако их поведе-
ние, как правило, отличается от поведения их капиталистических
аналогов, поскольку преобладающая система стимулов может приве-
сти к максимизации не прибыли, а каких-то иных целевых величин.
Это объясняется тем, что они сталкиваются с другими ограничения-
ми, а также тем, что рынки, на которых они осуществляют торговлю,
функционируют совсем не так, как в знакомой всем из вводного
курса микроэкономики модели спроса и предложения. Поскольку эти
различия можно определить и объединить разными способами, то
очевидно, что можно разработать множество моделей поведения со-
циалистического предприятия. В соответствии с этим, а также с це-
лью показать тип моделей, которые оказались интересными для из-
учения, в этом подразделе я ограничусь только одной моделью, впер-
вые предложенной Портесом (Portes, 1969).
Фирма производит единственный продукт, используя вектор
ресурсов 2 = (г,, г2, ..., zm) при производственной функции (которая,
как это обычно предполагается, ведет себя подобающим образом),
У = f(z). (21.5)
План (ур, г7’), назначаемый фирме, выступает как результат обмена
информацией с ведомствами более высокого уровня. Целевой выпуск
— это требование обеспечить предложение по меньшей мере данно-
го количества продуктов для некоторой группы покупателей, при
этом любое количество продукции может быть продано по фиксиро-
ванной официальной цене р. Планируемая аллокация ресурсов г?
означает, что фирме разрешается купить вплоть до величины г?
ресурса i (i = 1,2.m) по официальной цене qt. Если фирма требу-
ет дополнительных ресурсов, она может приобрести их только по цене
выше qt, что отражает необходимость осуществления неофициальных,
неформальных и, возможно, незаконных сделок и связанные с ни-
ми издержки. Предполагается, что средняя цена, уплачиваемая за
планируемые и сверхплановые ресурсы <7, (г,), i = 1, 2, ..., т, где
х. = max(0, 2. - 2?), является возрастающей функцией покупаемого
количества, как показано на рис. 21.3. Конечно, если физически
Экономическая теория социализма
551
Рис. 21.3 Стоимость факторов для предприятия в модели Портеса.
невозможно получить конкретный ресурс, то для этого ресурса
является вертикальной линией; и наоборот, если отсутствует эф-
фективное рационирование, она горизонтальна.
Предположим теперь, что фирма стремится к максимизации сво-
ей прибыли, выраженной в ценах, с которыми она сталкивается, воз-
можно, потому, что премии управляющим зависят от прибыли. Тогда
фирма будет максимизировать прибыль
П = ру - q(z)z (21.6)
при производственной функции (21.5). В общем, вполне возможно
охарактеризовать решение этой проблемы в обычной форме набора
предельных условий (первого порядка) и затем продифференциро-
вать их с тем, чтобы исследовать влияние изменений в р, q и гр в
условиях сравнительной статики. (Согласно этой формулировке, це-
левой выпуск у? не имеет никакого воздействия, хотя было бы не-
трудно усовершенствовать модель, предусмотрев некоторое его влия-
ние на решение.)
Вместо того чтобы следовать по этому пути, мы сосредоточим
внимание на особом случае применения двух ресурсов, так чтобы
можно было использовать знакомую нам карту изоквант. Как пока-
зано на рис. 21.4, в то время как изокванты принимают свою обыч-
ную форму, линии изокост теперь являются кривыми и на границах
четырех пронумерованных квадрантов, где происходят смены режи-
мов рационирования, имеют изломы. Очевидно, что воздействие изме-
нений параметров зависит от расположения исходного решения (21.5)
552
Пол Дж. Хэар
Рис. 21.4. Выбор ресурсов в плановой экономике в условиях рациони-
рования.
и (21.6). Таким образом, если планирование является достаточно
вялым и оптимальное исходное положение располагается в квадран-
те 1, то здесь можно применить анализ, взятый из стандартного учеб-
ника, поскольку фирма не сталкивается с дополнительными ограни-
чениями. Однако если исходное решение располагается в точке Е в
квадранте 4, где фирма производит сверх плана (у* > ур), но исполь-
зует набор ресурсов, отличный от планируемого, то на изменения она
прореагирует, манипулируя р, qlt g2 и z$, но не zf. Эти реакции легко
вычислить. Как можно было ожидать, при наличии рационирования
реакция выпуска и затрат ресурсов обычно меньше, чем при его от-
сутствии; фирма начинает слабее реагировать на рыночные сигналы,
когда сталкивается с ограничениями на поставки ресурсов.
Дефицит и приоритеты
С начала 1950-х гг. в Восточной Европе и гораздо раньше в
СССР ситуация дефицита была широко распространенным и устой-
чивым явлением. Дефицит возникал как на рынках промежуточных,
Экономическая теория социализма
553
так и потребительских благ. Кроме того, он в явном виде имел место
на рынках труда, капитала (в виде избыточного спроса на инвестици-
онные ресурсы) и иностранной валюты. Это явление явно требует
какого-то объяснения, но до наступления настоящего десятилетия оно
выражалось только в виде ссылок на чрезмерные амбиции планови-
ков, на их ошибки или экзогенные шоки. В то время как первое из
этих объяснений вначале еще казалось в какой-то степени обоснован-
ным, остальные два никак нельзя назвать очень убедительными, по-
скольку они не позволяют понять причины того, почему в соответ-
ствующих условиях всегда должен возникать дефицит.
Корнай (Kornai, 1980) осуществил свой анализ дефицита в рам-
ках модели поведения предприятия при социализме, в которой мяг-
кие бюджетные ограничения в сочетании со стремлением предприя-
тий наращивать количество продукции воспроизводят дефицит во
всей экономике. Поведение домохозяйств моделировалось в значитель-
ной мере так же, как это делается в моделях из стандартных запад-
ных учебников с жесткими бюджетными ограничениями и фикси-
рованными ценами. Таким образом, домохозяйства реагируют на це-
новые сигналы обыкновенным образом, хотя предприятия обычно
реагируют иначе. Характер обеих реакций означает, что увеличение
цен, в общем, не будет «иметь успеха» в деле уменьшения дефицита,
поскольку предприятия выкупят любые излишки продукции, возни-
кающие вследствие корректировок, осуществляемых домохозяйства-
ми. В таких рамках анализа единственным эффективным средством
против дефицита оказывается экономическая реформа, причем доста-
точно радикальная для того, чтобы заставить предприятия реагиро-
вать на ценовые сигналы. Как было показано ранее, это и было целью
проведения реформы в Венгрии несколько лет назад, но она не имела
успеха до тех пор, пока не были осуществлены политические рефор-
мы в 1989-1990 гг.; предприятия все еще находились под защитой
плановой иерархии, и банкротство так и не превратилось в реаль-
ность.
Несколько иная расстановка акцентов была характерна для под-
хода Портеса и других, разработанного в то же самое время. Этот
альтернативный подход возник в результате стремления смоделировать
явление дефицита в социалистических странах как результат дей-
ствия режима подавленной инфляции в макроэкономической модели
с ограничениями на количества. С середины 1970-х гг. модели такого
рода разрабатывались различными макроэкономистами (см., например,
Barro, Grossman, 1976; Malinvaud, 1977; Muellbauer, Portes, 1978), и
по крайней мере в форме анализа агрегированных показателей они
допускали небольшое количество равновесных состояний. Они вклю-
чали в себя всем знакомое кейнсианское равновесие так же, как и
равновесие при подавленной инфляции, на которое мы уже ссыла-
лись. Последнее характеризовалось одновременным возникновением
554
Пол Дж. Хэар
избыточного спроса как на рынке товаров, так и на рынке труда.
Было вполне уместно предположить, что в социалистической эконо-
мике с централизованно фиксируемыми ставками заработной платы
и ценами инфляцию действительно будут подавлять и будет существо-
вать дефицит.
Подход Портеса, с точки зрения его сторонников, имел то пре-
имущество, что он не постулировал дефицит как принятую гипотезу,
а давал возможность проверить, имеет ли он место в действительно-
сти. В дополнение к этому он давал интересные результаты в области
политики, заключающиеся в том, что дефицит можно было бы устра-
нить посредством умелых корректировок ценовой структуры; не тре-
бовалось радикальной реформы. С другой стороны, критики типа
Корнай утверждали с определенным основанием, что этот подход ока-
зался непригодным в плане отражения институциональных свойств
социалистических стран, свойств, которые сделали дефицит внутрен-
не присущим явлением, особенно государственного патернализма,
выражавшегося в защите отечественных производителей (хотя инте-
ресно, что эта защита не охватывала в такой же степени потреби-
телей), что позволяло увеличивать выпуск даже убыточным пред-
приятиям. Ясно, что эту проблему решить будет нелегко. (Подроб-
ный обзор альтернативных подходов содержится в работе Davis,
Charemza, 1989.)
Какой бы подход ни принимался в отношении дефицита, ясно,
что до сих пор уделялось мало внимания влиянию системы приори-
тетов. Как подчеркнул Дэвис (Davis, 1989), все социалистические стра-
ны используют системы приоритетов, в которых одним отраслям
(или даже индивидуальным предприятиям) отдается большее пред-
почтение в аллокации ресурсов по сравнению с другими. Причины
могут быть связаны с обороной, экспортными обязательствами перед
партнерами из СЭВ или общей промышленной политикой. В некото-
рой степени мы можем рассматривать систему приоритетов, или
систему предпочтений, как это называется в Венгрии, как заменитель
ценовых сигналов в качестве ориентира для аллокации ресурсов. В со-
четании с общим дефицитом эта система приводит к тому, что одни
определенные отрасли оказываются в относительно привилегирован-
ном положении и не испытывают сильного дефицита каких-либо
благ, если вообще с ним сталкиваются, тогда как для других масш-
табы дефицита оказываются гораздо больше. В общем, в результате
действия системы приоритетов имеет место определенный дефицит,
который очень неравномерно распределяется среди отраслей и от-
дельных предприятий в экономике.
В долгосрочном периоде наиболее вредным последствием дефи-
цита является то, что фирмы не испытывают большой (или вообще
какой-либо) необходимости уделять внимание продвижению на ры-
Экономическая теория социализма
555
нок своей продукции или улучшению и разработке производимого
ими ассортимента товаров. Это приводит к тому, что инновации, даже
когда они стимулируются официальными кругами, являются относи-
тельно вялыми и не всегда концентрируются в тех сферах экономики,
в которых их введение способствует реальному улучшению продукта
или процесса производства. Вместо этого много внимания уделяется
исправлению ситуации в тех отраслях, где зафиксирован наиболь-
ший дефицит; при этом мало заботятся о снижении затрат.
Поведение плановиков и макроэкономическая политика
В течение значительной части послевоенного периода подход за-
падных макроэкономистов к формированию политики в своих стра-
нах был весьма грубым и примитивным. Фактически предполага-
лось, что лица, ответственные за проведение политики, осуществляют
выбор между инструментами — главным образом между фискальной
и денежной политикой, при этом от экономической системы ожида-
ли такой реакции, как будто выбранные политические меры будут
продолжаться вечно. Выраженный в таких терминах, этот подход,
очевидно, предполагает, что экономические агенты, такие как фирмы,
домохозяйства, финансовые институты или другие организации, до-
вольно-таки несообразительны. Однако поскольку экономические аген-
ты зачастую имеют доступ почти к той же информации о состоянии
экономики, что и правительство, и в принципе могут строить свои
модели экономики очень похожими методами, то можно ожидать, что
они смогут предвидеть изменения политики правительства и реагиро-
вать соответствующим образом. Аналогично правительство может
предугадывать такие реакции и учитывать их в процессе принятия
решений. Это является одним из главных уроков, которые можно
вынести из макроэкономической литературы по рациональным ожи-
даниям. Как в настоящее время хорошо известно, иногда данный
подход предполагает, что правительственная политика, скорее всего,
будет неэффективной (см. главу 10).
Мы могли бы ожидать, что в централизованно планируемой эко-
номике в условиях принятой системы годовых и пятилетних планов
макроэкономика играет незначительную или нулевую роль. Однако хо-
тя в качестве главного инструмента здесь в основном выступают пере-
смотры плана, а не западные рыночные инструменты кредитной по-
литики, налоговых ставок и структуры налогообложения, валютного
курса и государственных расходов макроэкономическая политика здесь
играет важную роль. Плановики реагируют на различные макроэконо-
мические показатели разумным, предсказуемым и систематическим
образом, и по меньшей мере в ограниченной степени предприятия и
домохозяйства могут предвидеть эти реакции. Следовательно, кое-ка-
556
Пол Дж. Хэар
кие уроки, вынесенные из теории рациональных ожиданий, также при-
менимы и к социалистическим экономикам.
Эмпирические исследования (Gacs, Lacko, 1973; Wolf, 1985а, b)
показали, как плановики реагировали на неожиданно благоприятные
или неблагоприятные результаты независимо от того, являлись ли
они следствием ошибок в первоначальной формулировке плана или
различного рода случайных шоков. Например, в небольших восточно-
европейских странах вполне обычной была реакция на сверхплано-
вое увеличение положительного сальдо торгового баланса в твердой
валюте в текущем году, которая выражалась в увеличении инвести-
ций в последующие один-два года. И не последнюю роль здесь играли
соображения плановиков о том, что страна может себе позволить уве-
личить импорт оборудования из стран с твердой валютой.
Многие из стран с плановой экономикой испытывали также
достаточно регулярные инвестиционные циклы (Bajt, 1971; Bauer,
1978). Конечно, они не были вызваны механизмами, которые анали-
зируются в западной теории экономического цикла. Ведется доста-
точно оживленная дискуссия относительно механизма, который мог
бы в данном случае работать (вначале само существование или воз-
можность таких циклов при социализме энергично отрицались).
Вероятно, наиболее многообещающий подход состоит в том, чтобы
связать эти циклы с дефицитом, который обсуждался нами ранее.
Такие факторы, как государственный патернализм и стремление
предприятий наращивать количество продукции, способствовавшие
возникновению и воспроизводству дефицита, также побуждали пред-
приятия увеличивать инвестиции, не заботясь особенно об издерж-
ках и не опасаясь обанкротиться в случае неудачи. Поэтому ми-
нистерствам приходилось сталкиваться с постоянным давлением,
направленным на то, чтобы добиться одобрения новых инвестици-
онных проектов. В то же время на высших уровнях системы суще-
ствовал постоянный недостаток информации, которая позволила бы
сразу же понять, являются ли обязательства по инвестициям адек-
ватными или же чрезмерными. На практике лучшим сигналом,
указывающим на чрезмерность инвестиций, было быстрое увеличе-
ние сроков завершения проекта и накопление незаконченных ин-
вестиционных программ свыше того уровня, который плановики
рассматривают как нормальный. В такие периоды плановики резко
жали на тормоза (что выражалось главным образом в форме вре-
менной приостановки новых проектов), и ресурсы направлялись в
первую очередь на завершение каких-то отдельных проектов, кото-
рое уже было отложено на долгий срок. В некоторых небольших
восточноевропейских странах (но не в СССР) результатом этого
процесса были циклы в совокупных инвестиционных расходах, свя-
занные со сменяющими друг друга то более быстрыми, то более
медленными темпами роста производственных мощностей; интерес-
Экономическая теория социализма
557
но, однако, что в противоположность западным циклам эти соци-
алистические циклы никогда не сопровождались безработицей или
заметными колебаниями в текущем объеме выпуска. По-видимому,
в экономике дефицита периодические сокращения инвестиций про-
сто приводили к колебаниям общей степени дефицита вокруг его
«нормального состояния» (normal state) (здесь я использую полез-
ную терминологию Корнай). С другой стороны, производство потре-
бительских товаров могло корректироваться с целью приспособле-
ния к инвестиционным колебаниям, что было необходимо для под-
держания в системе приблизительно постоянной степени дефицита.
Эти корректировки могли возникать либо в результате хорошего
планирования, либо, как, вероятно, стал бы утверждать Корнай, по
причине наличия элемента автономности в поведении предприятий
и домохозяйств.
'.Т
21.5. Заключение
Что мы узнали из этого обзора экономической теории социа-
лизма? Если брать практическую сторону проблемы, то очевидно,
что первоначальные надежды и ожидания (в том числе идеологи-
чески обусловленные) относительно присущего социализму эконо-
мического превосходства над капитализмом не оправдались. После
нескольких лет быстрого роста (которые во многих случаях можно
объяснить как период послевоенного восстановления или «догоня-
ния») централизованно планируемые экономики стали испытывать
спады производства, плохие результаты на мировых рынках и устой-
чивый дефицит на многих внутренних рынках. Как мы видели,
использовались различные типы экономических реформ и иногда
они приводили к временному успеху (как в Венгрии после 1968 г.).
Однако теперь мы можем видеть, что система централизованного
планирования и функционирующая социалистическая экономика не
могут превратиться в динамичную, технически и социально про-
грессивную систему на основе экономических реформ того типа,
что были проведены перед 1990 г., какими бы радикальными они
ни были. Слишком многое в старой системе осталось незатрону-
тым, а укоренившиеся политические структуры способствовали во-
зобновлению традиционных отношений.
В аналитическом плане мы рассмотрели некоторые модели, ко-
торые были или могли бы быть применены к традиционно управля-
емым социалистическим странам. Все они, по-видимому, представ-
ляют некоторый интерес и кое-что добавляют к нашему пониманию
этих экономических систем. Однако только анализ дефицита вплот-
ную приближается к тому, чтобы дать понимание фундаментальной
экономической проблемы, с которой сталкиваются социалистические
558
Пол Дж. Хэар
страны, но даже этот анализ слишком незначителен для того, чтобы
говорить о средствах ее решения. Поэтому основная часть доступных
нам методов анализа не подводит нас к разработке новых подходов к
решению экономических проблем этих стран.
Исходя из этого, особенно в свете событий 1989 г., на которые
мы уже ссылались, было бы слишком легко сделать вывод (может
быть, чрезмерно самодовольный для сторонников рыночной эконо-
мики) скорее отрицательного характера, предполагая, что единствен-
ным правильным путем развития для социалистических стран было
бы немедленное возвращение к капитализму. Помимо огромных поли-
тических трудностей — как внутренних, так и внешних, связанных с
этим решением, это поднимает множество вопросов.
1. Если мы будем понимать под капитализмом использование
рынков и развитие рыночной ориентации в плановых экономиках, то
какие практические меры могут быть предприняты в существующих
плановых экономиках для обеспечения этого перехода?
2. Какие изменения отношений собственности необходимо про-
вести в социалистических странах?
3. Если в конечном счете переход (назад) к капитализму при-
знается необходимым, как это уже очевидно во многих странах, то
к какого типа капитализму они должны стремиться? Какое сочета-
ние частной и государственной экономической деятельности было
бы уместно? Какие социальные цели могли бы быть достигнуты? Как
бы выглядела пригодная для данной ситуации система регулирования?
4. Как бы соотносился предлагаемый экономический переход
с политической структурой и как могли бы произойти соответству-
ющие политические изменения? В случае небольших социалистиче-
ских стран, чего можно было бы ожидать от роли СССР в этом про-
цессе?
5. Как должны были бы развиваться международные экономи-
ческие отношения, такие как сотрудничество и торговля между стра-
нами — участницами СЭВ, роль транснациональных корпораций, ва-
лютная политика и политика тарифов и квот?
6. Как новые экономические структуры должны приспосабли-
ваться к менее приятным аспектам рыночной экономики, таким
как безработица, банкротства и крупные структурные изменения?
Для читателей должно быть очевидно, что эти вопросы являют-
ся трудными и важными и требуют серьезного анализа. В Восточной
Европе большинство этих вопросов уже обсуждалось экономистами,
которые хорошо осознают, по каким большим ставкам играют их
страны. Мы также ожидаем, что и на Западе больше публикаций по
социалистической экономике будет посвящено этим проблемам (кое-
какой анализ переходных процессов в Восточной Европе можно най-
ти в журнале «European Economy», March 1990). Однако на сегодняш-
ний день нам еще предстоит пройти очень долгий путь.
В^ойомыЛ'ескМ теория социализма
559
’ Литература r..!4 ,(sbj) .R WhoNi ,Л-
Bajt A. Investment cycles in European socialist economies // Journal of Economic
Literature. 1971. Vol. 9 (I): P. 53-63.
Barro R., Grossman H. Money, Employment and Inflation. Cambridge : Cambridge
University Press, 1976.
Bauer T. Tervgazdasdg, Beruhdzds, Ciklusok (Planned Economy, Investment,
Cycles) Budapest: Kdzgazdasdgi ёе Jogi Konyvkiady, 1978.
Brus W. The Market in a Socialist Economy. London : Routledge & Kegan Paul,
1972.
Cave M., Hare P. G. Alternative Approaches to Economic Planning. London :
Macmillan, 1981.
Davis C. Priority and the shortage model: the medical system in the socialist
economy / In C. Davis and W. Charemza (eds). Models of Disequilibrium
1 ' and Shortage in Centrally Planned Economies. London : Chapman and Hall,
*’1989.
Davis C., Charemza W. (eds). Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally
Planned Economies. London : Chapman and Hall, 1989.
Dyker D. A. The Future of the Soviet Economic Planning System. Beckenham :
Croom Helm, 1985.
Ellman M. Socialist Planning / 2nd edn. Cambridge : Cambridge University Press,
1989.
Gacs J., Lacko M. A study of planning behaviour on the national economic
level //Economics of Planning. 1973. Vol. 13 (1-2). P. 91-119.
Hare P. G. Economic reform in Eastern Europe // Journal of Economic Surveys.
1987. Vol. 1 (I). P. 25-58.
Hare P. G. From central planning to market economy: some microeconomic
issues // Economic Journal. 1990. Vol. 100. P. 581-595.
Hawkes N. (ed.). Tearing Down the Curtain. London : Hodder & Stoughton, 1990.
Heal G. The Theory of Economic Planning. Amsterdam : North-Holland, 1973.
Hurwicz L. The design of resource allocation mechanisms // American Economic
Review. 1973. Vol. 48. P. 1-30.
Hurwicz L. Incentive aspects of decentralization / In K. J. Arrow and M. D. Intrili-
gator (eds). Handbook of Mathematical Economics. Amsterdam : North-
Holland, 1986. Vol. 3.
Kaser M. The technology of decontrol: some macroeconomic issues // Economic
Journal. 1990. Vol. 100. P. 596-615.
Koopmans T. C. Three Essays on the State of Economic Science. New York :
McGraw-Hill, 1957.
Kornai J. Overcentralisation in Economic Administration. Oxford Oxford
University Press, 1959.
Kornai J. Economics of Shortage. Amsterdam : North-Holland, 1980.
Kornai J. The Hungarian reform process // Journal of Economic Literature.
1986. Vol. 24 (4). P. 1687-1737.
Kornai J., Liptak T. Two-level planning // Econometrica. 1965. Vol. 33. P. 141-
169.
560
Пол Дж. Хэар
Kornai J., Martos В. (eds). Non-price Control. Budapest: Akademiai Kiady, 1981.
Lange O. On the economic theory of socialism / In B. Lippincott (ed.). On the
Economic Theory of Socialism. Minneapolis, MN University of Minnesota
Press, 1938.
Lavoie D. Rivalry and Central Planning. Cambridge : Cambridge University Press,
1985.
Malinvaud E. Decentralised procedures for planning / In E. Malinvaud and M.
Bacharach (eds). Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning.
London : Macmillan, 1967.
Malinvaud E. The Theory of Unemployment Reconsidered. Oxford : Basil Black-
well, 1977.
Marer P. Economic reform in Hungary: from central planning to regulated
market / In East European Economies: Slow Growth in the 1980s. Wa-
shington, DC: US Government Printing Office, 1986. Vol. 3.
Marschak T. Computation in organisations: the comparison of price mechanisms
and other adjustment processes / In С. B. McGuire and R. Radner (eds).
Decision and Organization. Amsterdam : North-Holland, 1972.
Montias J. The Structure of Economic Systems. New Haven, CT : Yale University
Press, 1976.
Muellbauer J., Portes R. Macroeconomic models with quantity rationing //
Economic Journal. 1978. Vol. 88. P. 788-821.
Nove A. The Soviet Economic System. London : Allen & Unwin, 1977.
Portes R. The enterprise under central planning // Review of Economic Studies.
1969. Vol. 36. P. 197-212.
Rlchet X. The Hungarian Model: Markets and Planning in a Socialist Economy.
Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
Rollo J. M. C. The New Eastern Europe: Western Responses. London : RIIA/
Pinter, 1990.
Sik O. The Bureaucratic Economy. New York : IASP, 1972.
Smith A. H. The Planned Economies of Eastern Europe. Beckenham : Croom
Helm, 1983.
Wolf T. A. Economic stabilization in planned economies // IMF Staff Papers.
1985a. Vol. 32 (1). P. 78-131.
Wolf T. A. Exchange rate systems and adjustment in planned economies // IMF
Staff Papers. 1985b. Vol. 32 (2). P. 211-247.
ДЭВИД СЭПСФОРД
^ ТЫНОК ТРУДА: БЕЗРАБОТИЦА
4 И ТЕОРИЯ ПОИСКА
ф
22.1. Введение
Проблемы безработицы и поиска представляют собой две обла-
сти экономической науки, которым посвящена огромная и продол-
жающая быстро расти литература, поэтому все, что мы можем сде-
лать в настоящей главе, — это познакомить читателя с наиболее важ-
ными вопросами и достижениями в соответствующих сферах. Мы
начнем с анализа дискуссии о природе и причинах безработицы, а в
разделе 22.3 кратко рассмотрим историю возникновения экономи-
ческой теории поиска и представим несколько простых моделей
поиска на рынке труда. В разделе 22.4 мы изучим следствия ослаб-
ления отдельных ограничений, на которые опираются простые моде-
ли из предыдущего раздела. Полученные результаты будут использо-
ваны в разделе 22.5 для рассмотрения вклада, внесенного теорией
поиска в анализ отдельных аспектов проблемы безработицы; здесь же
будет предложен краткий обзор результатов эмпирических исследо-
ваний. В разделе 22.6 представлены заключительные замечания.
22.2. Безработица
Безработным является тот, кто не может найти работу в суще-
ствующих экономических условиях. Хотя в состоянии незанятости
может находиться любой фактор производства, особенное внимание
экономисты традиционно уделяют безработице, главным образом по
причине психологических страданий и физических лишений, испы-
тываемых безработными и членами их семей.
Применительно к проблеме безработицы существует множество
альтернативных определений и классификаций. Например, в одном
из обзоров Хьюза и Перлмана (Hughes, Perlman, 1984 : 26) упоминает-
ся о том, что в публикациях, посвященных безработице, выделяется не
менее 70 ее различных типов! Тем не менее в соответствии с целями
37 Заказ № 356
562
Дэвид Сэпсфорд
данной главы, мы, по крайней мере вначале, сосредоточим наше вни-
мание на одной из классификаций типов безработицы, которой уде-
ляется наибольшее внимание в дискуссиях. Данная классификация
выделяет следующие 4 типа безработицы: фрикционная, сезонная, струк-
турная и циклическая (вызванная недостаточностью спроса).
В соответствии с данной классификацией работник находится в
состоянии фрикционной безработицы, если он временно не имеет
работы в период смены рабочих мест. Фрикционная безработица воз-
никает при переходе работников с одного места на другое; коль скоро
этот процесс занимает некоторое время, будет существовать опреде-
ленный положительный уровень фрикционной безработицы. Фрик-
ционную безработицу можно, следовательно, рассматривать как ре-
зультат краткосрочных сдвигов, которые постоянно возникают в ди-
намичной экономике в ответ на изменения спроса на товары и услуги
и их предложения. Короче говоря, фрикционная безработица возни-
кает из-за того, что предложение труда не приспосабливается к изме-
нениям в спросе на труд мгновенно, так что в одно и то же время
имеются и незанятые работники, и вакантные рабочие места. Струк-
турная безработица возникает, когда трудовые навыки работников
не находят применения либо из-за того, что они устарели с техноло-
гической точки зрения, либо из-за отсутствия спроса на них по месту
проживания работников. Существенной характеристикой структур-
ной безработицы является несоответствие между навыками (местом
проживания) безработных, с одной стороны, и требованиями, предъяв-
ляемыми к кандидатам на заполнение существующих вакансий, с дру-
гой стороны. Сезонной безработицей называется такая безработица,
которая возникает либо вследствие снижения уровня экономической
активности в отдельных секторах экономики в определенное время
года (например, в сельском хозяйстве, строительстве и туризме в зим-
ние месяцы), либо в силу тех или иных институциональных особен-
ностей рынка труда (наиболее яркий пример таковых — наличие
определенного момента или моментов окончания учебных заведений).
Последней в рассматриваемой классификации фигурирует цикли-
ческая безработица или безработица, вызванная недостаточностью
спроса, причиной которой считается недостаточность совокупного
спроса в определенные периоды делового цикла.
Одной из привлекательных черт вышеупомянутой классифика-
ции является недвусмысленное акцентирование того факта, что для
борьбы с различными видами безработицы требуется разная экономи-
ческая политика. Например, если политика, направленная на повы-
шение уровня совокупного спроса, — так называемый кейнсианский
рецепт — может быть предписана для борьбы с циклической безрабо-
тицей, вызванной недостаточностью спроса, она может оказать незна-
чительное воздействие на фрикционную и структурную безработицу.
Так как ключевой чертой структурной безработицы является рас-
Рынок труда: безработица и теория поиска
563
согласованность между характеристиками работника (характеристи-
ками предложения) и требованиями фирм (характеристиками спро-
са), ее преодоление предполагает использование различных программ
профессиональной подготовки и переобучения, разработанных таким
образом, чтобы повысить соответствие навыков работников требова-
ниям потенциальных работодателей. Как мы видели, фрикционная
безработица (или, как ее еще называют, безработица поиска) возника-
ет из-за того, что процесс заполнения незанятых вакансий безработ-
ными не является мгновенным. Вследствие этого часто утверждается,
что средством против фрикционной безработицы (или, точнее, сред-
ством снижения ее уровня) является политика, способствующая ин-
тенсификации информационных потоков между людьми, находящи-
мися в состоянии фрикционной безработицы, и работодателями, име-
ющими незанятые вакансии, при условии, что такая политика не
вызывает компенсирующего увеличения числа людей, покидающих
свою прежнюю работу в поисках новой. Как мы увидим в последую-
щих разделах, в моделях поиска рассматривается целый ряд вопро-
сов, включая факторы, определяющие время, которое уходит у без-
работного на поиск приемлемого рабочего места, а также факторы,
влияющие на время, которое затрачивает работодатель на поиск под-
ходящих работников для заполнения вакансий.
•и
22.3. Моделирование процесса поиска
В течение послевоенного периода экономисты уделяли большое
внимание анализу рынков, характеризующихся неполнотой инфор-
мации о возможностях заключения сделок. Утверждалось, что в по-
добных условиях рациональная стратегия поведения индивидуаль-
ных участников рынка будет заключаться в том, чтобы направить
определенные усилия на рыночный поиск с целью улучшения инфор-
мированности о доступных альтернативах. В частности, на рынке труда
отдельные работники, как правило, не имеют полной информации об
имеющихся рабочих местах, в то время как индивидуальные работо-
датели также не обладают полной информацией о наличии рабочей
силы. Сторонники теории поиска доказывают, что в условиях несо-
вершенной информированности рациональным поведением как для
работника, так и для работодателя будет сбор различного рода инфор-
мации или проведение поиска. Очевидно, что в процессе такого поис-
ка возникают как издержки, так и выгоды, и мы увидим, что в тео-
рии поиска рассматриваются методы, с помощью которых рациональ-
ный индивид добивается равновесия между ними при разработке
оптимальной стратегии поиска. Несмотря на то что в данной главе
мы сосредоточимся на поиске, имеющем место на рынке труда, необ-
ходимо отдавать себе отчет в том, что те же принципы могут быть
564
Дэвид Сэпсфорд
использованы при анализе поиска потребителем благ на рынке в
условиях неопределенности, касающейся как цен, так и качества.
Экономисты давно осознали, что проблема определения оптималь-
ной продолжительности (amount) поиска индивидуальным экономи-
ческим субъектом является по существу одним из аспектов теории
инвестиций (Pissarides, 1985). Однако формальные модели процесса
поиска начали появляться только после того, как достаточное разви-
тие получили теория человеческого капитала и теория выбора в усло-
виях неопределенности. Естественно, что интерес к проблематике
поиска возрос в начале 1960-х гг. с появлением экономической тео-
рии информации (Stigler, 1961, 1962). Количество публикаций по
теории поиска чрезвычайно велико (и непрерывно увеличивается),
и для того, чтобы рассмотреть основные полученные результаты, мы
в данном разделе сосредоточим наше внимание на весьма упрощенной
модели, постепенно ослабляя ее предпосылки в разделе 22.4.1 Мы
начнем обсуждение с изучения издержек и выгод процесса поиска.
Основные понятия
Рассмотрим ситуацию, когда работник ищет работу, но обладает
неполной информацией о множестве доступных возможностей ее по-
лучения. Для простоты предположим, что все работники на рассма-
триваемом рынке труда одинаковы и что работник сталкивается не с
одной рыночной ставкой заработной платы (как обычно предполага-
ется в простых моделях рынка труда, где неизменно принимается не-
реалистичное предположение о совершенной осведомленности покупа-
телей и продавцов труда),2 а с набором ставок заработной платы с не-
которой известной плотностью распределения. Точнее, считается, что
предлагаемый уровень заработной платы соответствует случайно вы-
бранному значению из некоторого распределения ставок заработной
платы с известной функцией плотности распределения, обозначаемой
f(.), и функцией кумулятивного распределения Е(.). Если мы обозна-
чим предлагаемую ставку заработной платы символом w, то мы по-
лучим
dF(w) f( 1
—= f(w).
aw
1 Более подробный обзор теории поиска содержится, в частности, в сле-
дующих работах: Lippman, McCall, 1976; McKenna, 1986, 1987 и Mortensen,
1986.
2 Стиглер (Stigler, 1962), например, ссылается на ставки заработной
платы, предложенные выпускникам Чикагской школы бизнеса, как на «до-
статочно точную оценку дисперсии ставок заработной платы среди идентич-
ных работников». Вариация этих ставок составляла 7.9%, что, согласно его
замечанию, примерно равно показателям, полученным в ходе национальных
исследований заработной платы выпускников высших учебных заведений.
Рынок труда: безработица и теория поиска
565
Примем для простоты, что все характеристики различных рабочих
мест, за исключением заработной платы, известны и одинаковы.
Неопределенность связана с тем, что, хотя работник знает как форму,
так и параметры функции F(.), он не знает, какую конкретную ставку
заработной платы предложит конкретный работодатель. Сталкива-
ясь с такой ситуацией, индивид может приступить к изучению вопро-
са о том, какую заработную плату предлагает каждая фирма, что и
интерпретируется как процесс поиска (Stigler, 1961 : 213). На практи-
ке существует большое количество методов поиска информации о
предлагаемых рабочих местах (включая посещение государственных
и частных агентств по трудоустройству, просмотр газет и коммерче-
ских публикаций, поиск через личные контакты и т. д.), каждый из
которых может использоваться как сам по себе, так и в сочетании с
другими методами. Однако исходя из целей нашего анализа мы при-
мем, что работник подает заявление о приеме на работу в случайно
выбранную фирму.3 Будем считать, что работник случайно выбирает
фирму (возможно, с помощью телефонного справочника) и затем
получает информацию о величине заработной платы в ее отделе
кадров.
Если бы поиск не требовал издержек, мы могли бы ожидать, что
работник продолжит опрос фирм до тех пор, пока не обнаружит фир-
му, предлагающую максимальную заработную плату, независимо от
того, сколько времени это займет. В этом случае фирмы с максималь-
ной заработной платой были бы завалены заявлениями, в то время
как в фирмы с низкой заработной платой не поступило бы ни одного
заявления; в результате начал бы действовать «закон единой цены»
и фирмы, предлагающие высокую заработную плату, понизили бы став-
ки, а фирмы с низкой заработной платой повысили бы их. В конце
концов, все фирмы стали бы предлагать одинаковую заработную пла-
ту. В таких условиях вариация ставок заработной платы постепенно
сокращается, так что проблема неопределенности ставки заработной
платы исчезает, равно как и проблема оптимального поиска. Для тео-
рии поиска решающим является предположение о том, что всякий раз,
когда работник обращается к потенциальному работодателю, он несет
издержки. Издержки поиска включают в себя не только такие прямые
издержки, как затраты на проезд, связанные с посещением фирмы (ска-
жем, для участия в интервью), но также различные альтернативные
издержки (включая досуг или заработок, потерянный из-за составле-
ния писем, заполнения бланков, посещения фирм и т. д.). В нашем
обсуждении мы примем традиционное предположение о том, что из-
держки поиска известны и принимают вид фиксированных расходов,
обозначаемых через с, которые приходится брать на себя всякий раз
3 Случай, когда не получено ни одного предложения о приеме на работу,
можно рассматривать как предложение нулевой заработной платы.
566
Дэвид Сэпсфорд
при выборе предлагаемой ставки заработной платы из данного распре-
деления (т. е. при каждом контакте с фирмой), независимо от того,
принято ли было предложение или отклонено.
Теперь обратимся к выгодам, обеспечиваемым поиском. Ясно,
что с ростом продолжительности поиска, предпринятого работником,
растет вероятность обнаружения фирмы, предлагающей высокую за-
работную плату. Однако каждый дополнительный шаг поиска озна-
чает для работника дополнительные издержки с, откуда следует, что
рациональный работник будет продолжать поиск до тех пор, пока его
предельные выгоды будут превышать предельные издержки. Опреде-
ление оптимальной продолжительности поиска просто предполагает
продолжение поиска до тех пор, пока предельная выгода от поиска не
станет равной предельным издержкам на его проведение. С учетом
неполноты информации предполагается, что работник оценивает вы-
году от поиска как среднюю (или ожидаемую величину) распределе-
ния ставок заработной платы f(w):
СО
E(w) = jwf(w)dw. (22.1)
о
Кратко обсудив природу выгод и издержек, связанных с процес-
сом поиска, рассмотрим вопрос о принципах, в соответствии с кото-
рыми работник ведет свой поиск. Чаще всего рассматриваются два
варианта, где перед началом процедуры поиска работник определяет
(а) количество фирм, в которые он собирается обратиться, либо (б) не-
кий минимально приемлемый уровень заработной платы (reservation
wage), смысл которого состоит в том, что предложение работодателя
будет принято только в том случае, если оно подразумевает заработ-
ную плату, превывшающую или равную минимально приемлемому
уровню, и будет отклонено в пользу продолжения поиска, если пред-
лагаемая работодателем заработная плата меньше минимально при-
емлемой. В соответствии с подходом (а) работник будет придержи-
ваться следующего правила поиска: опросить выборку фирм заранее
определенного размера, скажем п*, и принять наиболее выгодное из
полученных п* предложений, если оно обеспечивает улучшение поло-
жения работника по сравнению с текущим уровнем. Напротив, в со-
ответствии с подходом (б) работник использует правило последова-
тельного поиска, когда он предварительно определяет для себя мини-
мально приемлемый уровень заработной платы и продолжает поиск
до тех пор, пока не встречает равную этому уровню (или более высо-
кую) предлагаемую ставку.
Случай (а), впервые рассмотренный Стиглером (Stigler, 1962),
называют правилом фиксированного (или оптимального) размера
выборки, в то время как случай (б) имеет название правила последо-
вательного поиска (sequential decision rule).
Rkhok труда: безработица и теория поиска 567
Правило фиксированного размера выборки
Уравнение (22.1) определяет ожидаемую величину выгод от по-
иска, которую можно рассматривать как наибольшую заработную
плату, какая может быть предложена в результате посещения одной
фирмы (т. е. после осуществления одного шага поиска). Оно может
быть переписано следующим образом:
E(w) = E(max w | х = 1) (22.2)
с учетом того, что при размере выборки, равном 1, единственная
ставка заработной платы в выборке является максимальной. Опреде-
ляя оптимальное количество фирм, куда будет нанесен визит, работ-
ник должен сравнить ожидаемые выгоды для выборок различных
размеров. Так, например, устанавливая п = 2 и предполагая выборку
с заменой, работник может ожидать, что ему будут предложены раз-
личные пары ставок заработной платы. Вероятность каждого из этих
предложений с учетом предположения о замене является просто про-
изведением соответствующих индивидуальных вероятностей. Умно-
жая большую из двух ставок в каждой выборке на вероятность выпа-
дения данной выборки и интегрируя по всем выборкам, работник
определяет максимальную ожидаемую ставку при выборке размера 2,
которую обозначим E(max w | х - 2).4 Используя такую же процеду-
ру для выборок размера 3, 4 и т. д.,5 индивид может рассчитать
максимальные ожидаемые ставки заработной платы для выборок
любой возможной величины. Очевидно, что с ростом п E(maxzz»jn)
стремится к максимальной возможной ставке заработной платы.
Обычно принимается, что форма функции E(max w | п), где размер
выборки п является независимой переменной, соответствует изобра-
4 Примеры подобного рода вычислений с пояснениями к ним см. в
работе McKenna (1989).
5 Мы можем записать
£(maxtr | п = 2) = Е[тах(и>р trj | п = 2] =
= ||тах(шр u>^f(u>i)f{u>j^dwidwj ,
00
где тах(и>(, U’J означает максимальное значение из двух ставок wt и и>^ Ана-
логично
E(maxtr | п = 3) = E[max(tr(, wjt wk) | n = 3] =
®ФЖ
= JJJmax(wj, Wp u>^f(wi)f[w^f(wlt)dwidu>jdu>lt
ООО
и т. д. для более высоких значений п.
568
Дэвид Сэпсфорд
сп
Рис. 22.1. Правило фиксированного размера выборки
женной на рис. 22.1. Иными словами, хотя ожидаемая выгода от
поиска растет по мере роста числа опрошенных фирм, дополнитель-
ная ожидаемая отдача от увеличения числа фирм в выборке снижа-
ется с ростом п, т. е. имеет место убывающая предельная отдача от
поиска.
Для определения оптимального размера выборки работник при-
равнивает ожидаемую предельную выгоду от поиска к его предель-
ным издержкам. Так как мы приняли, что удельные издержки по-
иска постоянны (с для каждой фирмы из выборки), издержки на
обращение к п выбранных фирм равны просто сп, что отражено пря-
мой линией, имеющей наклон с и проходящей через начало коорди-
нат (см. рис. 22.1). Так как предельные издержки поиска равны с,
а ожидаемая предельная отдача представляет собой наклон функции
Е(т&хи> | п), оптимальный размер выборки равен п фирм, при кото-
ром наклон E(maxw | п) равен с. Очевидно, что при оптимальном
объеме выборки расстояние между кривой ожидаемой отдачи и кри-
вой издержек является максимальным.
Предшествующий анализ приводит к формулировке правила
фиксированного размера выборки (или правила Стиглера) при осуще-
ствлении поиска. Согласно данному правилу, до того как начать по-
иск, индивид определяет оптимальное количество фирм, в которые он
собирается обратиться, путем уравнивания ожидаемых предельных
выгод и издержек поиска. Обратившись или подав заявление в каж-
дую из п* фирм, работник принимает наибольшую из п* предложен-
ных ставок при условии, что она превышает его заработную плату
(скажем, w) на текущем месте работы, если он уже имеет занятость
и занимается поиском «во время работы». Если мы рассматриваем
безработного, то в качестве w можно принять величину пособия по
Рынок труда: безработица и теория поиска
569
безработице и прочих связанных с безработицей выплат с поправкой
на неденежные потери и выгоды, связанные с безработицей.
Несмотря на чрезвычайную простоту, модель поиска с фиксиро-
ванным размером выборки позволяет сделать ряд абсолютно реали-
стичных предсказаний относительно поведения индивида в ходе по-
иска. В частности, модель свидетельствует о том, что, при прочих
равных условиях, рост наклона кривой общих издержек на рис. 22.1
приведет к снижению оптимального размера выборки фирм, куда
работник намерен обратиться. Иными словами, модель обоснованно
предсказывает, что при росте (падении) издержек поиска продолжи-
тельность поиска будет снижаться (увеличиваться). Другое предска-
зание касается снижения предлагаемых работодателями ставок. Та-
кое сокращение приведет к падению оценки Е(шахш | п) для любого
значения п и, следовательно, вызовет сдвиг кривой E(maxu> | п) на
рис. 22.1 вниз, в результате чего, при прочих равных условиях, будет
снижена оптимальная продолжительность поиска.
Несмотря на правдоподобие предсказаний модели и их устойчи-
вость к изменению предпосылок, базовые поведенческие допущения,
лежащие в ее основе, подвергались активной критике. В частности,
хотя работник и может устанавливать для себя некое максимальное
количество фирм, куда ему имеет смысл обратиться, существуют рав-
ные основания полагать, что на практике большинство из нас прекра-
тит поиск задолго до рассылки всего намеченного количества заявле-
ний, если встретит достаточно выгодное предложение. Данная точка
зрения получила широкое распространение в литературе, и сейчас мы
перейдем к анализу моделей именно такого рода.
Минимально приемлемая заработная плата
и модели последовательного поиска
Основной идеей моделей поиска, основанных на правиле после-
довательного принятия решения или минимально приемлемой зара-
ботной платы, является то, что перед началом поиска индивид при-
нимает решение не о количестве шагов поиска, а о минимальной
величине ставки, которую он согласен принять. Соответственно в та-
ких моделях принимается, что индивид до начала поиска определяет
для себя оптимальное значение минимально приемлемой ставки за-
работной платы. Если оно превышает величину текущей заработной
платы w, начинается поиск, который длится (невзирая на его продол-
жительность) до тех пор, пока не будет предложена ставка, равная
минимально приемлемой заработной плате или превышающая ее.
Получив подобное предложение, работник немедленно его принимает.
В упрощенных вариантах таких моделей часто делается допущение,
что, согласившись с подобным предложением, индивид остается заня-
тым «навсегда». В таком случае удобно рассматривать предлагаемую
570
Дэвид Сэпсфорд
ставку заработной платы как приведенную к текущему моменту цен-
ность доходов, получаемых на соответствующем рабочем месте в те-
чение всей жизни.
Очевидно, что подобные модели можно описать в терминах сле-
дующего «правила остановки поиска», где w означает текущую зара-
ботную плату, а и>* — минимально приемлемую для индивида ставку
заработной платы: ,и-т
если и> < и>*, w отклоняется и продолжается поиск, ^2 gj
если и> > и>*, предлагаемая ставка w принимается.
В стандартных терминах любая стратегия поиска, удовлетворяющая
такому правилу, является стратегией, ориентированной на минимально
приемлемую ставку заработной платы.
Теперь рассмотрим процесс определения оптимальной величи-
ны минимально приемлемой ставки. Предположим, как и в предыду-
щем подразделе, что индивид знает распределение предлагаемых ста-
вок f(w) и что удельные издержки поиска с постоянны. Предположим
также, что индивид, занимающийся поиском, нейтрально относится к
риску и стремится максимизировать ожидаемую чистую выгоду от
поиска. Исходя из данных предположений можно показать, что опти-
мальной стратегией для лица, ищущего работу, является выполне-
ние «правила остановки поиска» типа (22.3) и что сама величина
минимально приемлемой ставки может быть определена путем урав-
нивания предельных издержек получения дополнительного пригла-
шения на работу с ожидаемой предельной отдачей от дополнитель-
ного шага поиска.
Чтобы проиллюстрировать простейшую версию модели последо-
вательного поиска, предположим, что индивид отправляется на поиск
работы ежедневно. Предположим также, что каждый день он полу-
чает ровно одно приглашение на работу, которое либо принимается,
либо отвергается в соответствии с правилом (22.3). Те дни, когда
индивид не получает приглашения на работу, расцениваются как
случаи получения приглашения с нулевой заработной платой. При
предположении, что работник соглашается на наивысшую из предло-
женных ставок,® отдача от поиска, прекращенного после п дней, зада-
ется следующим выражением
Yn = max (lPj, шг, ..., tz>„) - пс, (22.4)
* С учетом (22.3) совершенно не важно, будет ли приниматься наивыс-
шая или самая последняя из предложенных ставок, так как поиск продол-
жается до тех пор, пока минимально приемлемая ставка не будет превыше-
на. Однако в более сложных моделях указанные альтернативы дадут различ-
ные результаты (Lippman, McCall, 1976).
Рынок труда: безработица и теория поиска
571
где w обозначает ставку, предложенную в день t(= 1, п). Цель ин-
дивида — оценить минимально приемлемую ставку, которая макси-
мизирует величину E(Yn). Согласно (22.3), первая предложенная став-
ка ш1 будет принята только в том случае, если w, > w*. Ожидаемой
отдачей от оптимальной стратегии будет просто Emax(wj, u>*) - с.
С учетом того, что ш* по определению является ожидаемой отдачей
от выполнения оптимального правила остановки поиска, можно ви-
деть, что оптимальная ожидаемая отдача от выполнения оптимально-
го правила остановки поиска удовлетворяет условию
w* = Emax(Wj, w*) - с. (22.5)
Если мы запишем Emax(wj, и>*) как
со
Emax(wj, w*) = w* jdF(w) + jwdF(w) =
О Ц)*
= w* jdF(w) + w* jdf(w) + jwdF(w) - w* jdF(w) = 4
0 w* w* w*
= w* + J(u> - u>*)dF(u>), ,'’T
ш i
то из (22.5) следует, что
с = j(u> - w*)dF(u>) = H(u>‘), (22'.6)
w*
где
H(w) = j(u> - w)dF(to). —
w*
Выражение (22.6) представляет собой очень важный результат.
Построив график функции Н(й>), которая выпукла, неотрицательна и
является строго убывающей, отложив по осям координат издержки
поиска и предлагаемые ставки, мы можем определить оптимальное
значение минимально приемлемой ставки заработной платы (обозна-
чаемой через и/*) при заданном уровне удельных издержек поиска с.7
На рис. 22.2 хорошо видно, что чем ниже издержки поиска, тем
выше оптимальная величина минимально приемлемой ставки и, сле-
довательно, тем больше продолжительность поиска (см. ниже). Эко-
номический смысл условия (22.6) совершенно очевиден: критиче-
7 В контексте общего выражения Н(.), и> и w можно рассматривать как
обозначения соответственно для предлагаемой и минимально приемлемой
ставки, не забывая при этом, что оптимальное значение й> обозначено че-
рез и>*.
572
Дэвид Сэпсфорд
ское значение и>*, связанное с оптимальным правилом остановки по-
иска, выбирается таким, чтобы выполнялось равенство предельных
издержек получения дополнительного предложения с и ожидаемой
предельной отдачей Н(й>) от дополнительного шага поиска. Отметим
также, что процедура оценки оптимальной минимально приемлемой
ставки и>* предполагает «близорукое» поведение лица, осуществляю-
щего поиск, в том смысле, что от него требуется только сравнить
отдачу от принятия предложения с ожидаемой отдачей от ровно од-
ного дополнительного шага поиска.
Мы можем расширить простую модель последовательного поис-
ка, если учтем тот факт, что количество предложений о заработной
плате, которое нужно получить, чтобы w* было превышено, является
случайной переменной, имеющей геометрическое распределение. Если
мы обозначим данную случайную переменную через N, а вероятность
встретить предложение, превышающее минимально приемлемую став-
ку, через р = 1 - F(w*), то сразу получим, что pr(N = k) = р(1 - р)* 1
для k = 1, 2, ..., а ожидаемая продолжительность поиска задается
выражением
£(*) = - = t «V (22’7)
р 1 - F(w )
которое показывает, что чем больше и>*, тем больше ожидаемая про-
должительность поиска.
Используя данный результат, мы можем выразить ожидаемый
выигрыш от следования стратегии, описанной правилом (22.3), сле-
дующим выражением:
У = ч + f . (22.8)
Рынок труда: безработица и теория поиска
573
С учетом того, что ожидаемая продолжительность поиска равна
1/[1 _ Е(ш*)], первый член в выражении (22.8) представляет собой
издержки, связанные с поиском предложения не меньшего, чем ш*, в
то время как второй член является условной ожидаемой величиной
предлагаемой ставки, которая должна быть по крайней мере не мень-
ше и>*. Преобразование (22.8) дает
с = J(w - n)cLF(w),
Ul*
что в сравнении с выражением (22.6) дает v = w*, т. е. общий ожи-
даемый выигрыш (за вычетом издержек поиска) от следования
оптимальной стратегии в точности равен минимально приемлемой
ставке и>*.
Ъ,- v
22.4. Некоторые расширенные модели
Две модели, описанные в разделе 22.3, являются основой для
множества более сложных подходов, встречающихся в литературе.
Для того чтобы дать читателю некоторое представление о них, рас-
смотрим те последствия, к которым приводит ослабление ограничи-
тельных предпосылок, используемых в простых моделях.
Дисконтирование
Очевидно, что можно легко расширить модель последовательного
поиска с помощью введения процедуры дисконтирования. Хотя, как
уже упоминалось, предлагаемая ставка заработной платы обычно
рассматривается в литературе как дисконтированная ценность буду-
щих заработков, модель легко допускает учет дисконтирования в явном
виде. В простейшем случае предполагается, что несение издержек
поиска и получение предлагаемой ставки относятся к концу рассма-
триваемого периода, поэтому приведенная ценность предлагаемой за-
работной платы и> равна Рыл (где р = 1/(1 + г) — дисконтирующий
множитель, аг — «адекватная» норма дисконта), а дисконтированные
издержки первого периода поиска сходным образом равны рс. Запи-
сывая pfEmax^,, ш*) - с] по аналогии с (22.4) и повторяя анализ,
получаем
с = Н(ш*) - ги>* (22.9)
Выражение (22.9) аналогично условию (22.5) для случая, когда отсут-
ствует дисконтирование. Условие (22.9) показывает, что минимально
приемлемая ставка w* связана отрицательной зависимостью с нор-
мой дисконта г. Следовательно, мы получили еще одно достаточно
574
Дэвид Сэпсфорд
правдоподобное предсказание: чем выше норма дисконта, тем ниже
минимально приемлемая ставка заработной платы и, учитывая (22.7),
тем меньше продолжительность поиска.
Случайное предложение рабочих мест
До этого мы предполагали, что индивидуум получает ровно одно
приглашение на работу в течение каждого периода. Данное предполо-
жение можно ослабить различными способами. Два особых случая,
когда количество полученных за период приглашений на работу яв-
ляется случайной переменной, рассмотрены Липпменом и Мак-Кол-
лом (Lippman, McCall, 1976).
В первом случае предполагается, что работник в течение одно-
го периода времени получает не более одного приглашения. Прини-
мая, что q — это вероятность того, что в течение данного периода
приглашение не будет получено, а также предполагая, что издерж-
ки поиска возникают в начале рассматриваемого периода, мы полу-
чаем уравнение, аналогичное (22.4) для уже рассмотренного про-
стого случая:
ш* = -е| £Ср*-‘ + Е(рт)[Ешах(1Г1, ш*)]. (22.10)
\Л=0 J
Рассматривая т как случайную переменную, имеющую геометриче-
ское распределение с параметром q, и используя Е(Р’) = q/(q + г),
после преобразований получаем следующее выражение, являющееся
общим случаем для (22.6):
с = Н(ш*) - р— и>*. (22.11)
С учетом свойств функции Н(.) из выражения (22.11) следует, что
минимально приемлемая ставка снижается по мере уменьшения ве-
роятности получения приглашения на работу q. Иными словами, ко-
гда шансы быть приглашенным на работу снижаются, индивидуум
становится менее разборчивым.
Во втором из рассмотренных Липпменом и Мак-Коллом слу-
чаев принимается, что количество полученных приглашений в те-
чение данного периода времени является неотрицательной случай-
ной переменной, ожидаемое значение которой равно 1. Хотя мы
воздержимся от того, чтобы приводить здесь строгие доказатель-
ства, интересно отметить следующий аспект: в данном случае мо-
жет быть показано, что минимально приемлемая ставка будет ниже,
чем в ситуации, когда в течение одного периода времени поступает
ровно одно приглашение.
Рынок труда: безработица и теория поиска
575
Случай переменных минимально приемлемых ставок
заработной платы
Рассмотренные выше версии модели последовательного поиска
основывались на предположениях о том, что распределение предлага-
емых ставок f(w) известно, а временной горизонт индивида бесконе-
чен. При этом во всех случаях минимально приемлемая ставка не
изменялась с течением времени. Из подобных моделей следует, что
если некое предложение было отвергнуто один раз, то оно будет от-
клоняться всегда. Соответственно не важно, имеет или нет лицо, ищу-
щее работу, возможность возвращаться к предложениям, полученным
ранее. Однако результаты эмпирических исследований однозначно
свидетельствуют о том, что минимально приемлемые для индивидов
ставки заработной платы не являются независимыми от продолжи-
тельности безработицы вопреки предсказаниям рассмотренных нами
моделей (см., например, Kiefer, Neumann, 1979). В литературе можно
найти два основных объяснения того факта, что минимально прием-
лемые ставки изменяются во времени. Это, во-первых, ограниченность
временного горизонта индивида и, во-вторых, изменение информации
относительно распределения предлагаемых ставок. К обсуждению
данных вопросов мы сейчас обратимся; при этом должно быть оче-
видно, что, как только мы отбрасываем идею о постоянстве мини-
мально приемлемой ставки, проблема возвращения к предыдущим
предложениям приобретает большое значение.
Модели с ограниченным временным горизонтом
Рассмотрим случай ограниченного временнбго горизонта и пред-
положим, как прежде, что распределение предлагаемых ставок изве-
стно. Также предположим, что вернуться к предыдущим предложе-
ниям нельзя, так что любое предложение, не принятое немедленно,
теряется безвозвратно. Пусть Vn (ц>) — максимальная выгода (зарабо-
ток) за вычетом издержек поиска, которую можно получить в тече-
ние п периодов вплоть до крайней даты временнбго горизонта, в ка-
честве которой обычно рассматривается момент выхода на пенсию.
Без учета дисконтирования получаем:
Vn(w) = тах
ш,
<30
~с +
о
(22.12)
где х обозначает будущие предложения ставок заработной платы. Соот-
ветствующее выражение для случая отбора с возможностью возвращения
к ранее полученным предложениям выглядит следующим образом:
Vn(u>) = max w,
СО
~с+ jVn-dX)f(X)Ax
w
(22.12а)
576
Дэвид Сэпсфорд
Минимально приемлемая ставка за п периодов до крайней даты вре-
менного горизонта в случае невозможности возвращения к ранее по-
лученным предложениям, обозначаемая и>*, является такой величи-
ной w, которая обеспечивает равенство обоих членов правой части
выражения (22.12), т. е.:
СО \
< = -с + 1 (22-13)
о
Оптимальная стратегия индивидуального поиска, учитывая, что до
крайней даты временнбго горизонта осталось п периодов, выглядит
обычным образом, а именно поиск продолжается, если W < W*n, и пре-
кращается с принятием w, когда w > ш*п. Выражение (22.13) вы-
полняется для п > 1. В последнем периоде для индивида имеет смысл
согласиться с любой предложенной положительной ставкой, поэтому
Wq = 0. Таким образом, принимая, что У0(и>) = w, получаем:
ео
w* = -с jx/(x)dx > ц>0,
о
откуда непосредственно вытекает следующее положение (Неу, 1979 :
110):
w* > и?*_! для всех га. (22.14)
Выражение (22.14) является важным результатом, показываю-
щим, что в модели с ограниченным временным горизонтом без воз-
вращения к ранее полученным предложениям минимально приемле-
мая ставка переменна. Она, по всей видимости, понижается (или,
точнее, не повышается) по мере уменьшения количества периодов,
оставшихся до крайней даты временного горизонта. Иными словами,
мы видим, что введение ограниченного временнбго горизонта в мо-
дель позволяет сделать дополнительное предсказание о том, что ми-
нимально приемлемая для индивида ставка падает с течением време-
ни по мере приближения момента выхода на пенсию.
Однако анализ сильно усложняется, если мы допускаем возмож-
ность возвращения к ранее полученным предложениям. Хотя дан-
ный случай здесь не рассматривается, нужно отметить, что при со-
блюдении данного условия неясно, снижается или нет с течением
времени минимально приемлемая ставка. Фактически в некоторых
формулировках подобных моделей само существование минимально
приемлемой ставки ставится под сомнение (подробнее см. Lippman,
McCall, 1976 : 168-171).
Адаптивнь^й поиск
Во втором случае, для которого характерна зависимость мини-
мально приемлемой ставки от времени, несовершенство имеющейся
у индивида информации о распределении предлагаемых ставок /(.)
Рынок труда: безработица и теория поиска
577
приводит к феномену, получившему название адаптивного поиска.
Основная идея моделей адаптивного поиска заключается в том, что
каждая предлагаемая ставка предоставляет работнику, ведущему
поиск, определенную информацию, на основе которой он может
обновить свои оценки распределения заработной платы и на этом
основании пересмотреть значение минимально приемлемой ставки.
В таких моделях каждая предлагаемая ставка не только является
характеристикой конкретной возможности получения работы, но
также содержит определенную информацию, которая может быть
использована для обновления оценки распределения ставок. Во всех
рассмотренных до этого моделях предполагалось, что распределение
предлагаемых ставок известно, в результате чего оказывалось, что
минимально приемлемая ставка либо постоянна, либо понижается с
течением времени. Включение в модель адаптивных механизмов,
или механизмов обучения, представляет достаточную сложность,
хотя легко показать, что существование таких механизмов может
порождать возможность увеличения минимально приемлемой став-
ки в ходе поиска, например когда работник осознает, что его навы-
ки вознаграждаются более высоко, чем он считал первоначально.
Хотя в литературе рассматриваются различные механизмы пере-
смотра первоначальной оценки распределения, содержательные чер-
ты подобных моделей можно проиллюстрировать с помощью просто-
го случая, когда человек, ведущий поиск, обновляет свою прежнюю
оценку распределения ставок в байесовском смысле, пересматрива-
ет значение минимально приемлемой ставки и исходя из этого
решает принимать предлагаемую ставку или продолжать поиск.
В данной модели предполагается, что возвращение к рассмотрению
ранее полученных предложений отсутствует, и хотя форма распре-
деления предлагаемых ставок считается известной, для одного (или
более) ее параметров известны только априорные функции распре-
деления вероятности.
Пусть человек, ведущий поиск, имеет неполную информацию о
k параметрах у = (ур .... уА) распределения предлагаемых ставок ф(ш),
а также имеет оценку первоначального распределения й(у | 6) неизвест-
ных параметров, обобщающую всю информацию о специфике распре-
деления ставок заработной платы, которая находится в его распоря-
жении, где 6 — вектор исходных параметров. По мере поступления
приглашений на работу 0 пересматривается в байесовском смысле
и возникает новая оценка, например 6' = Т(6, ш2, ..., wn). Вслед за
каждым наблюдением первоначальное распределение й(у | 6) пере-
сматривается, после чего решается вопрос о принятии предложения
или продолжении поиска. Пусть Vn(w, 6) обозначает максимальную
ожидаемую выгоду в момент, когда ставка w только что предложена,
где 0 отражает всю информацию, содержащуюся в предлагаемой
38 Заказ № 356
678
Дэвид Сэпсфорд
ставке и>, а п представляет собой общее число ставок, которые будут
предложены в будущем. Пусть У0(ц>, 6) = w и
Уп(ш, 9) = max«w, -с + jjK.Jx, Т(9, х)]ф(х | у)й(у | 9)dxdy'. (22.15)
loo
Если мы обозначим второй член в правой части данного выражения
как Zn-1 (6), то мы снова обнаружим, что оптимальная стратегия поис-
ка ориентирована на минимально приемлемую ставку заработной
платы, так как она предусматривает следующий принцип принятия
решений: принять приглашение на работу, если w > Zn_l(Q), или про-
должить поиск, если w < Zn_j(9). Очевидно, что конкретная форма
зависимости величины минимально приемлемой ставки от времени
определяется тем, каким образом различные компоненты, входящие
в Zn_j(9) в уравнении (22.15), изменяются во времени.
Поиск, осуществляемый работодателем
Хотя до сих пор мы рассматривали поиск, осуществляемый
работниками, небезынтересно отметить, что те же самые основные
идеи были использованы для моделирования ситуации, когда работо-
датели осуществляют поиск работников, чтобы заполнить имеющие-
ся вакансии. Чтобы проиллюстрировать специфику данного направ-
ления исследований, обратимся к беглому рассмотрению, возможно,
простейшей модели последовательного поиска, осуществляемого ра-
ботодателем. Данная модель является точным аналогом просто-
го случая последовательного поиска, осуществляемого работником
(см. раздел 22.3). Разница заключается в том, что, если работники
имеют дело с распределением предлагаемых ставок заработной
платы, то работодатель, занимаясь поиском новых работников, имеет
дело с распределением их предельных продуктов. В публикациях,
посвященных рассматриваемой нами теме, обычно признается, что,
в то время как ставки заработной платы содержат достаточно чет-
кую информацию для ищущего работу, производительность труда
лиц, претендующих на заполнение вакансий, оценить значительно
труднее. На этом основании делается предположение, что работода-
тель будет стремиться собирать информацию о тех характеристиках
лица, претендующего на получение работы, которые положительно
коррелированы с его производительностью на рассматриваемом ра-
бочем месте. Наиболее вероятными методами при этом будет изу-
чение результатов тестов на проверку способностей, уровня образо-
вания и т. п. Издержки сбора информации, включая альтернатив-
ную стоимость затраченного времени, составляют издержки поиска
для работодателя, и приведенная ниже простая модель соответству-
ет простой модели поиска работы из раздела 22.3, за исключением
Рынок труда: безработица и теория поиска
679
того, что вместо заработной платы используются предельные про-
дукты.
Пусть при заданной предлагаемой ставке фиксированные издер-
жки работодателя, связанные с поиском, равны k, а предельный про-
дукт и распределение предельных продуктов — т и ф(.) соответствен-
но. Повторяя анализ, представленный уравнениями (22.4)-(22.6), мы
обнаруживаем, что оптимальная стратегия поиска для работодателя
предполагает наличие минимально приемлемого уровня производи-
тельности:
принять кандидатуру, если т > Т|*;
отклонить кандидатуру, если т < т|‘,
где минимально приемлемый уровень производительности т|* являет-
ся решением уравнения
СО
1 11 k = j(zn - n*)d<|>(zn) = G(ra*),
n*
которое аналогично выражению (22.6) для случая довдка занятости
работником.
22.5. Эмпирические исследования
Перед тем как обращаться к результатам эмпирических иссле-
дований, полезно обобщить выводы, полученные в рамках базовой
модели и ее расширенных вариантов, рассмотренных выше. Мы виде-
ли, что в случае модели с фиксированным размером выборки инди-
вид до начала поиска определяет оптимальное количество обращений
к фирмам, при котором ожидаемая предельная выгода от поиска рав-
на его предельным издержкам. Обратившись в каждую из фирм,
индивид принимает наилучшее из полученных предложений. Напро-
тив, основной чертой моделей последовательного поиска работы явля-
ется принятие предположения о существовании минимально прием-
лемой ставки заработной платы. Мы видели, что в исходной версии
модели последовательного поиска оптимальное значение минимально
приемлемой для индивида ставки и продолжительность его поиска
связаны обратной зависимостью с величиной издержек поиска. Сле-
довательно, модель предсказывает, что, при прочих равных условиях,
чем ниже издержки поиска, тем выше минимально приемлемая став-
ка и тем больше ожидаемая продолжительность поиска. Мы также
видели, что в подобных моделях минимально приемлемая ставка свя-
зана обратной зависимостью с нормой дисконтирования и прямой
зависимостью с вероятностью получения приглашения на работу в
данном периоде. Наконец, мы видели, что отказ от предположений о
580
Дэвид Сэпсфорд
неограниченном временном горизонте работника и о полноте инфор-
мации о распределении предлагаемых ставок приводит к тому, что
минимально приемлемые ставки заработной платы оказываются пе-
ременными во времени.8
Теория поиска чрезвычайно богата теоретическими предсказа-
ниями, вследствие чего она породила большое количество эмпириче-
ских исследований, связанных с их проверкой. В данной главе мы
рассмотрим только те эмпирические исследования, которые связаны
с проблемами поиска и безработицы.9 Заметный рост уровня безрабо-
тицы в Великобритании, Соединенных Штатах и других развитых
странах в течение 1970-1980-х гг. по сравнению с началом 1960-х гг.
заставил многих экономистов обратиться к теории поиска для того,
чтобы выяснить, в какой степени она может объяснить подобный
рост.
Численность безработных представляет собой показатель запаса,
размер которого в любой момент задается двумя факторами: величи-
ной потока (прироста численности безработных) и продолжительно-
стью периода, в течение которого индивиды являются безработными.
Анализ вклада этих двух факторов в объяснение безработицы в Велико-
британии (Sapsford, 1981; Metcalf, Richardson, 1986) показывает, что
величина потока с конца 1960-х гг. оставалась довольно стабильной
(на уровне 4 млн в год), что позволяет отнести рост безработицы на
протяжении 1970-1980-х гг. в решающей мере на счет увеличения
продолжительности периода безработицы. Вполне естественно, что,
столкнувшись с подобным ростом периода безработицы, экономисты
обратились за объяснением к теории поиска работы. Как следует из
(22.7), теория поиска работы предсказывает, что ожидаемая продол-
жительность периода безработицы, связанной с поиском, равна
откуда вытекает, что чем больше величина минимально приемлемой
ставки w*, тем больше ожидаемая продолжительность поиска. Следо-
вательно, выражение (22.7) предполагает, что объяснение роста беэра-
8 Мы можем иным образом объяснить снижение минимально прием-
лемой ставки с увеличением периода поиска, если допустим, что объем
ликвидных средств у лица, ищущего работу, ограничен, например, из-за не-
возможности получения займов на официальном кредитном рынке (Mortensen,
1986 : 859-861).
9 Однако те, кто интересуется проблемой увольнений по собственному
желанию, поиска новой работы без отказа от текущей занятости и т. п.
могут обратиться к обзорам, содержащимся в работах Mortensen (1986) и
McKenna (1987).
Рынок труда: безрабопица и пеория поиска
581
ботицы в Великобритании предполагает изучение движения мини-
мально приемлемых ставок заработной платы в течение изучаемого
периода. I
Рассмотрим безработного, занимающегося поиском работы, и пред-
положим, чТо вероятность q(n, й) того, что он получит п предложений
в течение периода продолжительностью й, имеет распределение Пуас-
сона:
q(n, й) = ехр(-Хй)(^~ .
га!
Тогда при постоянной минимально приемлемой ставке ш* вероят-
ность того, что он сможет найти работу, задается выражением
ф = Х[1 - Г(<г*)], (22.16)
представляющим собой просто частоту X, с которой появляются пред-
ложения работы, умноженную на вероятность того, что случайное
предложение является приемлемым.10 Вместо этого мы могли бы
использовать вероятностный подход. Если мы допустим, что такие
переменные, как вероятность для безработного найти работу ф, мини-
мально приемлемая ставка заработной платы и вероятность p(t) того,
что предложение работы будет получено в момент времени t, изменя-
ются с течением времени, то в результате получим выражение:
ф(0 = р(0[1 - г(ш(*)]. (22.17)
Это выражение предполагает, что вероятность выхода из состояния
безработицы в момент времени t является произведением вероятно-
сти получения предложения работы и вероятности того, что данное
предложение приемлемо.
Выражение (22.17) лежит в основе эмпирических работ, посвя-
щенных исследованию продолжительности безработицы поиска. Оно
показывает, что на вероятность выхода из состояния безработицы
влияют две группы факторов: во-первых, факторы, влияющие на вели-
чину минимально приемлемой ставки заработной платы, и, во-вторых,
10 В случае, когда минимально приемлемая ставка заработной платы
зависит от периода поиска (возможно, благодаря ограниченности временнбго
горизонта), распределение завершенных периодов поиска задается выраже-
нием:
<
Я(<) = 1 - ехр - |ф(т)<1т ,
. о
где ф(<) = Х[1 - F(u>*)]. Если минимально приемлемая ставка снижается с ро-
стом продолжительности поиска, то ф'(<) > 0, а вероятность для безработного
найти работу находится в положительной зависимости от времени.
582
Дэвид Сэпсфорд
факторы, определяющие вероятность p(t) нахождения вакансии. Де-
терминанты минимально приемлемой ставки уже были рассмотрены
нами, и теперь мы обратимся к детерминантам p(t). Часто утвержда-
ется (см., например, Bean et al., 1987), что величина p(t) задается
главным образом характеристиками спроса, так как достаточно обо-
снованным выглядит утверждение, согласно которому вероятность
обнаружения вакансии будет расти с ростом числа существующих
вакансий. Однако вероятность p(t) будет также зависеть от интенсив-
ности поиска, так как чем больше число фирм, в которые обратится
работник в любой период времени, тем более вероятно обнаружение
им вакансии. Отдельный вопрос, привлекший значительное внима-
ние в эмпирических исследованиях, связан с влиянием пособий по
безработице (и других связанных с ней выплат) на уровень безработи-
цы. Рост пособий по безработице трактуется как снижение издержек
поиска (в форме упущенного дохода), что, как следует из рис. 22.2,
проявляется в виде роста минимально приемлемой ставки заработ-
ной платы, а это в соответствии с (22.17), при прочих равных условиях,
дает понижение вероятности для безработного найти работу. Вопрос о
том, в какой степени рост уровня безработицы, наблюдавшийся в
течение 1970-1980-х гг., можно объяснить изменением государствен-
ных пособий или страхования по безработице, породил много споров,
иногда очень острых. Например, Маки и Спиндлер (Maki, Spindler,
1975) и Минфорд (Minford, 1983) пришли к заключению, что уровень
пособий по безработице оказывал большое и значимое влияние на
уровень безработицы в Великобритании в послевоенный период, а
Бенджамен и Кочин (Benjamin, Kochin, 1979) обнаружили, что рост
безработицы в Великобритании в межвоенный период во многом был
следствием существовавшей в те годы системы пособий.
Однако очевидно, что результаты таких исследований сильно
зависят от предпосылок, принятых в отношении формы и величины
реально полученных пособий (Nickell, 1984), и в целом ряде последу-
ющих исследований (Cubbin, Foley, 1977; Lancaster, 1979; Nickell,
1979a, 6; Sawyer, 1979; Junankar, 1981) было обнаружено, что влия-
ние пособий на уровень безработицы, хотя, как правило, и являлось
значимым, было куда менее заметным, чем было показано в упомяну-
тых выше работах. Обычно в таких исследованиях «норма замещения
(replacement ratio)», т. е. отношение величины пособий, получаемых
безработным, к доходу, получаемому в состоянии занятости, рассмат-
ривается как показатель степени субсидирования поиска. В одной из
наиболее авторитетных работ (Nickell, 1979а) делается вывод о том,
что этот показатель заметно влияет на продолжительность безработи-
цы, причем оценки коэффициентов эластичности на уровне домаш-
них хозяйств оказались в пределах от 0.6 до 1.0. За период с 1964 по
1973 г. фактическое число безработных в Великобритании возросло
на 92%, и анализ, проведенный Никеллом, показал, что лишь около
Рынок труда: безработица и теория поиска
583
одной седьмой от указанной величины может быть объяснена влия-
нием пособий. Аткинсон и др. (Atkinson et al., 1984) также обнару-
жили слабую положительную связь между пособиями и безработицей
и оценили эластичности для различных подгрупп в диапазоне при-
мерно от 0.1 почти до 1.0. Еще одним интересным результатом, по-
лученным в последних исследованиях, является вывод о том, что на
лиц, длительное время (в течение 26 недель или более) не имевших
работы, изменения нормы замещения трудового дохода оказывают куда
меньшее влияние, чем на недавно потерявших работу. Разбивка на
возрастные группы (Narendranathan et al., 1985) показывает, что сред-
няя продолжительность периода безработицы в значительно большей
степени зависит от нормы замещения в группе молодых работников,
чем в группе более пожилых работников.11
22.6. Заключительные замечания
В данной главе мы рассмотрели теорию поиска работы, сущность
которой состоит в том, что время, затраченное на поиск приемлемого
предложения рабочего места, рассматривается как производительная
деятельность, связанная с осуществлением работником инвестиций в
увеличение будущих заработков.
Как следствие, утверждается, что вместо проведения политики,
направленной на снижение безработицы, связанной с поиском (на-
пример, посредством уменьшения реальной величины пособия по без-
работице), правительству следует принять во внимание тот факт, что
более продолжительный поиск может привести к появлению поло-
жительных внешних эффектов благодаря большему соответствию ра-
ботников выполняемой работе. Если каждый работник согласится на
первую предложенную работу, использование трудовых ресурсов, ско-
рее всего, будет менее эффективным, чем в случае, когда работодате-
ли и работники более разборчивы в предложении работы и поступле-
нии на нее (Sinclair, 1987 : 187).
Хотя круг вопросов, затронутых в данной главе, безусловно огра-
ничен, мы показали, каким образом индивидуальный работник (или
работодатель), сталкиваясь с ограниченностью информации о множе-
стве доступных для него возможностей, может сформулировать опти-
11 Хотя мы рассмотрели только влияние пособий — через процедуру
поиска — на уровень безработицы, нужно отметить, что последние данные по
различным странам ОЭСР (Bean et al., 1987) показывают, по меньшей мере
применительно к Великобритании, что рост безработицы, наблюдавшийся на
протяжении 1970-1980-х гг., в большей степени объясняется влиянием спроса
через фактор p(t) в выражении (22.17), чем влиянием минимально прием-
лемой ставки через выражение 1 - F(w').
584
Дэвид Сэпсфорд
мальную стратегию поиска как в случае фиксированного размера
выборки, так и в случае последовательного поиска. В контексте моде-
лей последовательного поиска мы исследовали проблему изменения
оптимальной минимально приемлемой ставки заработной платы и
рассмотрели факторы, от которых она зависит. Теория поиска дает
экономистам обширный набор предсказаний, наиболее важные из
которых были обсуждены в данной главе.
Литература
Atkinson A., Gomulka J., Micklewright J., Rau N. Unemployment benefit, duration
and incentives in Britain: how robust is the evidence? // Journal of Public
Economics. 1984. Vol. 23 (I). P. 3-26.
Bean C„ Layard R., Nickell, S. The rise in unemployment: a multi-country study /
In C. Bean, R. Layard and S. Nickell (eds). The Rise in Unemployment.
Oxford : Basil Blackwell. P. 1-22. Also published in Economics (Supple-
ment). 1986. Vol. 53. S1-S22. 1987.
Benjamin D., Kochin L. Searching for an explanation of unemployment in inter-
war Britain//Journal of Political Economy. 1979. Vol. 89 (3). P. 441-
478.
Cubbin J., Foley K. The extent of benefit induced unemployment in Great Britain;
some new evidence // Oxford Economic Papers. 1977. Vol. 29 (I). P. 128-
140.
Hey J. Uncertainty in Microeconomics. Oxford : Martin Robertson, 1979.
Hughes J., Perlman R. The Economics of Unemployment. Brighton : Harvester
Wheatsheaf, 1984.
Junankar P. An econometric analysis of unemployment in Great Britain, 1952-
1975 //Oxford Economic Papers. 1981. Vol. 33 (3). P. 387-400.
Kiefer N., Neumann G. An empirical job search model with a test of the constant
reservation wage hypothesis // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 87 (I).
P.69-82.
Lancaster T. Econometric methods for the duration of unemployment // Eco-
nometrica. 1979. Vol. 47 (4). P. 939-956.
Lippman S.,McCall J. The economics of job search: a survey, Parts I and II //
Economic Inquiry. 1976. Vol. 14 (2). P. 155-189; Vol. 14 (3). P. 347-368.
McKenna C. Theories of individual search behaviour//Bulletin of Economic
Research. 1986. Vol. 38 (3). P. 189-207.
McKenna C. Models of search market equilibrium / In J. Hey and P. Lambert
(eds). Surveys in the Economics of Uncertainty. P. 110-123. Oxford : Basil
Blackwell, 1987.
McKenna C. The theory of search in labour markets / In D. Sapsford and Z. Tzan-
natos (eds). Current Issues in Labour Economics. P. 33-62. London :
Macmillan, 1989.
Maki D., Spindler Z. A. The effect of unemployment compensation on the rate of
unemployment in Great Britain // Oxford Economic Papers. 1975. Vol. 27 (3).
P.440-454.
Рынок труда: безработица и теория поиска
586
Metcalf D., Richardson R. Labour / In M. J. Arris (ed.). The UK Economy:
A Manual of Applied Economics. 11th edn. London : Weidenfeld & Nicolson,
1986. P. 266-332.
Minford P. Unemployment: Cause and Cure. Oxford : Martin Robertson, 1983.
Mortensen D. Job search and labor market analysis / In O. Ashenfelter and
R. Layard (eds). Handbook of Labor Economics. Vol. 2. P. 849-919, Amster-
dam : North-Holland, 1986.
Narendranathan W., Nickell S., Stern J. Unemployment benefit revisited //
Economic Journal. 1985. Vol. 95 (378). P. 307-329.
Nickell S. The effect of unemployment and related benefits on the duration of
unemployment//Economic Journal. 1979a. Vol. 89 (353). P. 34-49.
Nickell S. Estimating the probability of leaving unemployment // Econometrica.
1979b. Vol. 47 (5). P. 1249-1266.
Ntckell S. A review of Unemployment: Cause and Cure by P. Minford // Economic
Journal. 1984. 94 (376). P. 946-953.
Pissarldes C. Job search and the functioning of labour markets / In D. Carline,
C. Pissarides, W. Siebert and P. Sloane (eds). Labour Economics. London :
Longman. 1985. P. 159-185.
Sapsford D. Labour Market Economics. London : Alien & Unwin, 1981.
Sawyer M. The effects of unemployment compensation on the rate of unemploy-
ment in Great Britain: a comment//Oxford Economic Papers. 1979.
Vol. 31 (I). P. 135-146.
Sinclair P. Unemployment: Economic Theory and Evidence. Oxford : Basil
Blackwell, 1987.
Stigler G. The economics of information // Journal of Political Economy. 1961.
Vol. 69 (3). P. 213-225.
Stigler G. Information in the labor market // Journal of Political Economy. 1962.
Vol. 70 (5). P. 94-105.
23
Л1'’ ДЭВИД КАРРИ И ПОЛ ЛИВАЙН ГГ5йЬ
\ __ nvnbp.yuiV
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ*
23.1. Что такое международная координация
экономической политики?
Цель этой главы — дать обзор существующего положения дел в
сфере исследований международной координации макроэкономиче-
ской политики и рассмотреть направления, по которым механизмы
такой координации могут развиваться в будущем. Интерес ученых к
этой области с середины 1970-х гг. впечатляющим образом возрос по
целому ряду причин. Первая и наиважнейшая причина состоит в
признании растущей взаимозависимости национальных экономик, яв-
ляющейся следствием расширения торговых потоков, интернациона-
лизации финансового сектора и роста объемов транснационального
производства. Вторая причина связана с тем, что макроэкономисты
стали проявлять острый интерес к более систематическому подходу к
проблемам экономической политики как таковой. Наконец, внедре-
ние методов теории игр в макроэкономическую теорию открытой
экономики снабдило экономистов необходимыми инструментами ана-
лиза проблем международной координации экономической полити-
ки. В этой главе мы рассмотрим значительный и быстрорастущий
массив исследований в этой области, а также практические пробле-
мы координации экономической политики.
Что понимается под международной координацией экономиче-
ской политики? В отчете «Группы тридцати» (Group of Thirty, 1988),
посвященном этой проблеме, такая координация определена как про-
цесс, посредством которого «страны модифицируют свою экономиче-
скую политику таким образом, чтобы она носила взаимовыгодный
характер с учетом международных экономических связей». В инте-
ресующем нас контексте речь идет о способах, посредством которых
* Работа была написана по гранту Совета по экономическим и социаль-
ным исследованиям (Economic and Social Research Councel) № WB01250034.
Международная координация макроэкономической политики
587
правительства могут корректировать мероприятия в сфере денежной,
фискальной и валютной политики, учитывая влияние соответствую-
щих мероприятий на другие страны. Данное определение относится к
намерению, а не к результату; нет оснований для уверенности в том,
что координация на самом деле будет взаимовыгодной, она лишь за-
думывается таковой (иначе правительства не были бы в ней за-
интересованы). Границы этого определения очень широки, они охва-
тывают значительный диапазон форм координации, от амбициозных
до очень узких. Амбициозный характер, например, носили решения
Боннского саммита «Большой семерки» (1978 г.), где было подписано
всестороннее комплексное соглашение (см. Putnam, Bayne, 1987;
Holtham, 1989).1 Узкие границы координации можно проиллюстриро-
вать примером процесса многостороннего мониторинга, который осу-
ществлялся Международным валютным фондом в рамках Бреттон-
Вудской валютной системы, а впоследствии был восстановлен стра-
нами «Большой семерки» в соответствии с соглашением Плаза в
1985 г. Мониторинг подобного рода может выполнять функцию коор-
динации экономической политики (хотя и крайне узкой). Наконец,
такая дефиниция учитывает соглашения, выходящие за рамки про-
блем макроэкономической политики и предполагающие «обмен» кор-
ректировок макроэкономической политики на мероприятия в других
сферах экономической политики. Договоренность такого типа была
заключена по итогам Боннского саммита: Германия согласилась осу-
ществлять рефляционную политику* в обмен на согласие США под-
нять налоги на нефть для уменьшения потребления энергоносителей
и, как следствие, сокращения зависимости «Большой семерки» от
ОПЕК, тогда как Япония согласилась на либерализацию внешней
торговли и открытие своего внутреннего рынка (см. Putnam, Bayne,
1987).2 В настоящее время корректировки макроэкономической по-
литики могут быть увязаны с политикой в сфере охраны окружаю-
щей среды или национальной обороны.
В период после Боннского саммита первая половина 1980-х гг.
была временем, в течение которого правительства в первую очередь
1 В состав «Большой семерки» входят семь ведущих стран-членов ОЭСР:
США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. Пер-
вые три страны страны из этого перечня формируют «Большую тройку».
Восстановление прежнего уровня упавших цен. — Прим. ред.
2 Корректировки политики, предпринятые США и Японией, несомнен-
но, имели положительный эффект, но для проведения рефляционной поли-
тики в Германии было выбрано неудачное время (как раз перед вторым
нефтяным шоком), что привело к нарастанию инфляционных тенденций (но
см. Holtham, 1989). Нежелание правительства Германии участвовать в ини-
циативах по координации экономической политики в 1980-е гг. было отчасти
связано с этим негативным опытом.
588
Дэвид Карри и Пол Ливайн
занимались «приведением в порядок собственного дома», сражаясь с
инфляцией посредством жесткой денежной политики. В этот пери-
од, когда наблюдалось значительное и устойчивое подорожание дол-
лара, международная координация экономической политики не пользо-
валась популярностью. Но к 1985 г. озабоченность неблагоприятной
ситуацией с обменным курсом доллара обусловила возрождение ин-
тереса к макроэкономической координации, особенно со стороны Со-
единенных Штатов. Соглашение Плаза, подписанное в сентябре 1985 г.,
сделало возможной координацию мероприятий денежно-кредитной
политики для управления снижением валютного курса доллара после
февраля 1988 г., когда он достиг максимального уровня. Серия про-
водившихся с тех пор саммитов «Большой семерки» вновь под-
твердила решимость координировать действия в сфере денежно-кре-
дитной политики. Наиболее значительные результаты были зафикси-
рованы в Луврском соглашении, которое предусматривало «тесную
координацию для достижения стабилизации валютных курсов на уров-
не, близком к статус кво» (для обзора этого периода см. Funabashi,
1988). Это привело к возникновению неформальной системы «необъяв-
ленных» зон колебания валютных курсов, которые с тех пор оказыва-
ли влияние на проводимую политику, особенно в странах «Большой
тройки» (в США, Германии и Японии), несмотря на ряд эпизодов,
когда эти неформальные зоны подвергались угрозе из-за давления
валютного рынка. Данный опыт, возможно, обеспечил основу для
дальнейшего продвижения к более формализованной системе коорди-
нации денежно-кредитной политики, базирующейся на таргетирова-
нии валютных курсов (см. Group of Thirty, 1988), хотя многие пре-
пятствия могли затруднить это продвижение (Currie et al., 1989).
Описанные тенденции привели к возникновению ряда вопро-
сов, касающихся макроэкономической координации. Является ли
координация в принципе желательной? Могут ли координационные
соглашения быть устойчивыми или же они могут быть легко на-
рушены одной или большим числом стран-участниц? Насколько
велики выгоды, которые приносит координация на практике? Раз-
рушает ли доводы в пользу координации фактор неопределенности?
Каковы перспективы узких форм координации типа соглашений,
делающих акцент на валютных курсах, или простых правил, соглас-
но которым денежная и фискальная политика должны быть ори-
ентированы на стабилизацию целевых макроэкономических показа-
телей?
Ниже мы сделаем обзор работ по координации макроэкономи-
ческой политики и рассмотрим, какие ответы можно дать на постав-
ленные выше вопросы. В разделе 23.2 опишем базовую теоретиче-
скую структуру, опирающуюся на работы Хамады, и используем ее
для анализа потенциальной неэффективности нескоординированной
политики на базе иллюстративной модели, которая будет востребова-
Международная координация макроэкономической политики
589
на нами в последующих разделах. В разделе 23.3 мы расширим ана-
лиз, применяя модель, учитывающую аспекты репутации и устойчи-
вости; недавние работы продемонстрировали, что во взаимозависи-
мом мире выгоды от репутации и координации взаимосвязаны. В раз-
деле 23.4 рассмотрим эмпирические исследования, посвященные
измерению выгод от координации экономической политики. Затем,
в разделе 23.5, будет изучено различие между дискреционной коор-
динацией и координацией, основанной на правилах. В разделе 23.6
будут сделаны выводы, связанные с конкретными планами координа-
ции в контексте деятельности стран «Большой тройки» и «Большой
семерки».
В данной главе мы будем полностью игнорировать быстрорасту-
щую литературу, посвященную взаимодействию и координации эко-
номической политики между Севером и Югом (см. Currie, Vines, 1988).
Это важная область исследований, однако пока в ней не было получе-
но сколько-нибудь однозначных выводов, даже предварительных.
В рассматриваемой здесь сфере анализа наблюдается быстрый
прогресс, а многие проблемы до сих пор остаются объектом активных
исследований. Поэтому данный обзор неизбежно окажется всего лишь
«мгновенным снимком» развивающегося процесса. Учитывая это об-
стоятельство, мы попытаемся в заключение наметить исследователь-
ские вопросы, заслуживающие более пристального внимания в буду-
щих работах.
23.2. Неэффективность нескоординированной политики
Начнем с обзора аналитических работ, посвященных проблемам
международной макроэкономической политики. В целом доводы в
пользу координации экономической политики связаны с междуна-
родным переносом последствий экономической политики, т. е. с тем
фактом, что изменения в политике одной страны оказывают влияние
на другие страны. При отсутствии такого эффекта не существовало
бы потребности в координации: каждая страна могла бы формиро-
вать собственную политику без оглядки на политику стран остально-
го мира. Напротив, при его наличии нескоординированное принятие
решений национальными правительствами может легко приводить к
неэффективным результатам. Все страны могут улучшить свое поло-
жение, если их правительства договорятся между собой о взаимопри-
емлемой скоординированной политике, приняв во внимание взаи-
мозависимость между экономиками их стран. Однако, как будет по-
казано далее, координация не обязательно приводит к улучшению
экономических результатов: если к лицам, осуществляющим полити-
ку, отсутствует доверие, координация может ухудшить, а не улуч-
шить положение дел.
590
Дэвид Карри и Пол Ливайн
На практике влияние переноса последствий экономической по-
литики наблюдается едва ли не повсеместно и растет по мере того,
как прогрессирующая интеграция делает страны все более открыты-
ми влиянию со стороны остального мира. Как денежная, так и фис-
кальная политика в одной стране будет влиять на другие страны,
оказывая воздействие на торговые потоки, цены товаров и услуг, цены
активов (включая валютные курсы) и движение капитала. Эти взаи-
мозависимости особенно ощутимы в тесно интегрированных экономи-
ках типа экономик стран-членов Европейского Сообщества; но они
также важны, хотя и в меньшей степени, даже для крупных эконо-
мик стран «Большой тройки» (см. Bryant et al., 1989).
Важно отметить, что для осуществления координации не требу-
ется совпадения целей. Правительства могут иметь конфликтующие
цели, но, тем не менее, находить координацию выгодной. Данный
тезис верен в более общем контексте применительно к кооперации в
общественной жизни. Различия в целях не подрывают возможностей
для кооперации; если бы это было не так, случаи кооперации встре-
чались бы гораздо реже, чем это имеет место в реальности.
Эти утверждения (равно как и факт наличия выгод от координа-
ции) можно проиллюстрировать на основе анализа, предложенного в
пионерных работах Хамады, посвященных выгодам от полной коор-
динации и от частичной координации в форме согласованных на меж-
дународном уровне «правил игры» (Hamada, 1974, 1976, 1979, 1985).
В этом разделе мы рассмотрим вклад Хамады, применяя простую двух-
страновую модель, она будет также служить для оценки вклада более
поздних работ, о которых пойдет речь в последующих разделах.
Хамада использовал теоретико-игровую аналитическую структу-
ру, которая впоследствии стала широко применяться исследователя-
ми, работающими в данной области. Каждая страна или блок рас-
сматривается как отдельный участник «игры», связанной с опреде-
лением международной макроэкономической политики, причем у
каждого такого участника имеется ряд целей макроэкономической
политики типа желаемых показателей ВВП, инфляции и сальдо пла-
тежного баланса по текущим операциям. Для достижения этих це-
лей правительство каждой страны имеет ограниченный набор ин-
струментов, скажем один инструмент фискальной политики и один
инструмент денежной политики. Для оценки проводимой политики
каждый участник использует определенный индикатор благосостоя-
ния (или функцию потерь благосостояния), позволяющий отслежи-
вать негативные последствия отклонений целевых переменных и ин-
струментов экономической политики от желаемого уровня.
В модели мирового хозяйства, состоящего из двух стран, Хамада
рассматривает вопрос о том, насколько успешным оказалось бы ско-
ординированное преследование этими странами своих целей. Это тре-
бует от страны согласия на координацию экономической политики в
Международная координация макроэкономической политики
591
интересах минимизации совместной функции потерь благосостояния.
Такая функция является средневзвешенной двух функций потерь
благосостояния каждой из стран, причем веса определяются относи-
тельной переговорной позицией (bargaining power) каждой из стран
(следует отметить, что такая формулировка вовсе не требует, чтобы у
стран были одинаковые цели; фактически эти цели могут не иметь
между собой ничего общего).
Мы используем эти аналитические рамки для построения двух-
страновой модели. Эта модель представляет собой симметричную
модель естественного уровня выпуска. Со стороны спроса модель опре-
деляется следующими уравнениями:
yt=alet-a2rt+a3y*+aigl, (23.1)
У! =~axet~a2rt* +a3yt+aig*t, (23.2)
где yt обозначает выпуск в период t, gt — государственные расходы,
е( — реальный валютный курс, измеряемый таким образом, что его
рост означает реальную девальвацию валюты первой из стран, и,
наконец, г( представляет собой ожидаемую реальную процентную став-
ку. Спрос в стране 1 увеличивается вследствие реальной девальвации
ее валюты, падения реальной процентной ставки, увеличения госу-
дарственных расходов и увеличения спроса в стране 2. Переменные с
индексом «*» относятся ко второй стране. Все переменные, за исклю-
чением процентной ставки, представлены в виде логарифмов; кроме
того, все они измерены как отклонения от величин, соответствующих
равновесному состоянию, в котором фактический уровень выпуска
равен его естественному уровню.
Чтобы закончить описание данной модели со стороны спроса,
нам нужно ввести функции спроса на деньги вида
тг = Pt+ciyt-c2(rt+*t)> (23-3)
т* = Р*~С\У* ~С2(Г* + *?’)’ <23-4)
где mt — логарифм номинальной денежной массы, pt — логарифм
уровня цен и е, обозначает инфляционные ожидания л(, основанные
на информации, доступной в начале периода t. Таким образом, пред-
полагается, что реальный спрос на деньги зависит от реального дохо-
да и номинальной процентной ставки.
Со стороны предложения модель задана следующим образом:
yt =-l\et-b2rt + b3(itt-it’), (23.5)
У? = bxet -b2r* +53(л; -л;е). (23.6)
Уравнения (23.5) и (23.6) описывают кривые предложения Лукаса,
модифицированные с учетом эффектов реального валютного курса и
592
Дэвид Карри и Пол Ливайн
реальной процентной ставки. Первый из этих эффектов возникает в
открытой экономике ввиду того, что реальная ревальвация нацио-
нальной валюты создает разрыв между реальной заработной платой
производителей и потребителей (см., например, Artis and Currie, 1981).
В свою очередь, повышение ожидаемой реальной процентной ставки
снижает уровень выпуска, поскольку сокращает желаемый капиталь-
ный запас и, следовательно, уменьшает равновесный капитальный
запас и равновесное предложение.
Модель завершается условием непокрытого процентного парите-
та, которое выражается в терминах реального валютного курса и
ожидаемой реальной процентной ставки следующим образом:
= г*-г(+е(е+1 (, (23.7)
где е(е+1 ( обозначает ожидания е(+1, сформированные в период t.
Применительно к лицу, ответственному за осуществление поли-
тики в первой стране, мы предполагаем, что оно имеет для периода t
межвременную функцию потерь благосостояния, определенную в тер-
минах отклонений выпуска и темпа инфляции от их желаемых уров-
ней, вида
-у)2<23-8)
Z i=0
Функция потерь благосостояния для лица, ответственного за
проведение политики во второй стране, описывается аналогичным
выражением, переменные которого помечены индексом «*». X пред-
ставляет собой норму дисконта, которар полагается одинаковой в
обеих странах. Квадратичная форма функции учитывает эффект не-
нулевой инфляции и отклонений выпуска от целевого уровня у.
В рассмотренной модели влияние экономической политики мо-
жет быть связано с изменениями денежной массы или с использова-
нием фискальных инструментов. При анализе данной модели полез-
ным упрощением является концентрация внимания на темпе инфля-
ции как главном индикаторе изменений в денежной политике; это
позволяет нам абстрагироваться от функций спроса на деньги (23.3)
и (23.4). Поскольку определенный темп инфляции л связан с кон-
кретной динамикой денежной массы, данное упрощение не является
некорректным. Более того, эмпирические данные, свидетельствующие
о стабильности спроса на деньги, особенно в Соединенных Штатах и
Великобритании, показывают, что такой'подход, возможно, является
более адекватным методом анализа денежной политики.
В целях большей наглядности мы начнем анализ с рассмотре-
ния модели в условиях адаптивных инфляционных ожиданий, при
которых каждая страна сталкивается в краткосрочном периоде с аль-
тернативой между низкой инфляцией и высоким уровнем выпуска.
Международная координация макроэкономической политики 593
Экспансионистская денежная политика будет уменьшать реальную
процентную ставку и временно сдвигать экономику к более высокому
уровню выпуска, но при этом будет наблюдаться ускорение инфля-
ции. Снижение реальной процентной ставки приведет к падению
реального валютного курса из-за оттока капитала. Это, в свою оче-
редь, увеличит разрыв между ценами производителей и потребите-
лей и уменьшит величину прироста выпуска в краткосрочном пери-
оде. Таким образом, из-за своего влияния на валютный курс денежная
экспансия обеспечит меньший выигрыш в форме роста внутреннего
выпуска и будет иметь более выраженный инфляционный эффект.
Рассмотрим теперь результаты переноса последствий экономи-
ческой политики из одной страны в другую. Денежная экспансия в
стране 2 расширяет выпуск и тем самым увеличивает спрос на про-
дукцию страны 1. Кроме того, курс валюты страны 2 падает, в резуль-
тате чего страна 1 оказывается в выигрыше из-за улучшения условий
торговли. Повышение реального валютного курса страны 1 смягчает
альтернативу между низкой инфляцией и высоким уровнем выпу-
ска в этой стране за счет того же механизма, который ужесточает эту
альтернативу для страны 2. Поэтому страна 1 может получить выго-
ды в виде неинфляционного увеличения выпуска. Таким образом,
результаты международного переноса последствий экономической по-
литики являются в данном случае положительными.
Эти результаты схематично представлены в виде диаграммы
Хамады на рис. 23.1. Данный рисунок иллюстрирует рассматривае-
мый в нашей модели случай двух стран, однако аргументацию мож-
но легко обобщить для большого числа стран. На вертикальной оси
представлен инструмент политики страны 1, в данном случае обозна-
чаемый 71, а на горизонтальной оси — инструмент политики л* стра’
ны 2. Целевая функция страны 1 определяет систему кривых безраз-
личия, соединяющих точки равного благосостояния для этой страны.
При отсутствии переноса эти кривые безразличия были бы верти-
кальными прямыми; иными словами, уровень благосостояния опре-
делялся бы исключительно использованием инструмента экономи-
ческой политики в стране 1. Однако при наличии переноса послед-
ствий экономической политики использование инструмента я* в
стране 2 также оказывает влияние на благосостояние страны 1. Вслед-
ствие этого кривые безразличия принимают форму эллипсов вокруг
Вг — точки наивысшего уровня благосостояния страны 1. Аналогич-
ные эллиптические кривые безразличия соединяют точки равного бла-
госостояния вокруг точки максимального благосостояния В2 для стра-
ны 2.
Эффективная политика — это такая политика, при которой кар-
ты безразличия двух стран касаются друг друга. Такие точки каса-
ния представлены контрактной кривой, соединяющей Вг и В2. Эти
точки являются эффективными по Парето в том смысле, что благо-
39 Заказ № 356
594
Дэвид Карри и Пол Ливайн
Рис. 23.1. Диаграмма Хамады для случая денежной политики.
состояние одной страны можно увеличить лишь при уменьшении бла-
госостояния другой страны.
Вероятность того, что нескоординированное принятие решений
приведет к проведению политики, соответствующей точкам на эф-
фективной контрактной кривой, крайне мала. В этом легко убедить-
ся на основании рис. 23.1. При отсутствии координации страна 1
при принятии решения относительно собственной политики будет
рассматривать политику страны 2 как заданную. Поэтому при лю-
бом л* она выберет Rr для максимизации своего благосостояния. Та-
ким образом, выбор л обеспечивает касание кривой безразличия и
вертикальной прямой, проходящей через л*. Варьируя л*, можно на-
чертить график функции реакции R страны 1, соединяющий точки, в
которых ее кривые безразличия горизонтальны.
Аналогично функцию реакции R* страны 2 можно построить,
отображая оптимальный выбор л* при заданном л. R* соединяет точ-
ки, в которых кривые безразличия страны 1 вертикальны.
Международная координация макроэкономической политики
595
Результатом нескоординированного приятия решений является
точка равновесия по Нэшу N, задаваемая пересечением двух функ-
ций реакции. В этой точке каждая из стран достигает максимума
того, что она может достичь с учетом политики, проводимой в дру-
гой стране. Этот результат, однако, неэффективен. Точка равновесия
по Нэшу является неоптимальной по Парето по меньшей мере отно-
сительно подмножества CjC2 вариантов скоординированной полити-
ки, лежащего на контрактной кривой.
Приведенная диаграмма Хамады четко иллюстрирует потенци-
альную неэффективность нескоординированного принятия решений.
Рассматривая мероприятия экономической политики другой страны
(или стран) в качестве заданных, правительства проводят такую поли-
тику, которая в целом оказывается неоптимальной. Более эффектив-
ного результата можно добиться путем совместного соглашения о
координации экономической политики.
В нашей модели такая неэффективность возникает вследствие
наличия стимулов у правительства каждой из стран осуществлять
денежную политику, которая является более жесткой по сравнению с
оптимальной. Данное обстоятельство имеет место из-за того, что же-
сткая политика выглядит более привлекательной ввиду роста реаль-
ного валютного курса и смягчения альтернативы между низкой ин-
фляцией и высоким уровнем выпуска. В действительности описан-
ных выгод получить не удается, поскольку обе страны чрезмерно
ужесточают свою денежную политику, так что воздействия этой по-
литики на валютный курс взаимно компенсируются. Однако страна,
смягчающая денежную политику в одностороннем порядке, будет нести
потери из-за снижения реального валютного курса, поэтому при от-
сутствии координации стимулов к смягчению денежной политики не
будет.
До сих пор мы концентрировали внимание на денежной поли-
тике. Однако схожая игровая модель применима и для описания
фискальной политики. Фискальная экспансия в стране 1 будет рас-
ширять спрос и, следовательно, выпуск, но в то же время она при-
ведет к повышению реальных процентных ставок. Согласно выра-
жению (23.5), рост реальных процентных ставок ухудшит ситуацию
в сфере предложения, снижая стимулы к накоплению капитала.
Однако такой рост вызовет также ревальвацию национальной ва-
люты, которая будет сопровождаться компенсирующим благопри-
ятным влиянием в сфере предложения. Напротив, воздействие на
сферу предложения в стране 2 будет однозначно негативным: в ней
одновременно будут наблюдаться падение реального валютного кур-
са и рост реальных процентных ставок, сокращающие объем пред-
ложения в экономике. Таким образом, в случае фискальной поли-
тики эффект переноса будет отрицательным. Как следствие, страны
будут иметь стимулы к осуществлению чрезмерно экспансионист-
596
Дэвид Карри и Пол Ливайн
Рис. 23.2. Диаграмма Хамады для случая фискальной политики.
ской фискальной политики, и при отсутствии координации реаль-
ные процентные ставки будут превышать оптимум, негативно влияя
на сферу предложения. Этот случай проиллюстрирован на рис. 23.2.
Графики функций реакции фискальной политики в данном случае
имеют иной наклон, чем на рис. 23.1, поскольку эффект переноса
носит негативный характер.
Сочетание игровых моделей для денежной и фискальной поли-
тики приводит к заключению, что нескоординированное осуществле-
ние макроэкономической политики может порождать уклон в сторо-
ну чрезмерно экспансионистской фискальной политики и чрезмерно
д жесткой денежной политики, результатом чего является завышен-
ный уровень реальных процентных ставок.
Диаграмма Хамады иллюстрирует тезис, в соответствии с кото-
рым доводы в пользу координации экономической политики зависят
от характера эффекта переноса. При отсутствии переноса точка мак-
симального благосостояния трансформируется в прямую линию (вер-
тикальную для страны 1 и горизонтальную для страны 2), так что
Международная, координация макроэкономической политики
597
определение оптимальной политики в одной стране оказывается не-
зависимым от определения оптимальной политики в другой стране.
В таком случае обе страны могут самостоятельно достичь оптималь-
ного уровня благосостояния и нескоординированное принятие реше-
ний не характеризуется неэффективностью. Однако это особый и очень
редкий случай, поскольку феномен переноса последствий экономи-
ческой политики имеет повсеместное распространение. В частности,
в нашей модели ключевое влияние эффекта переноса возникает на
стороне предложения и связано с воздействием реального валютного
курса на характер альтернативы между низкой инфляцией и высо-
ким уровнем выпуска.
Диаграмма Хамады также показывает, что координация эконо-
мической политики не требует межстранового согласования целей.
Цели стран могут быть совершенно разными, и тем не менее коорди-
нация экономической политики оказывается желательной. Точки
максимального благосостояния двух стран не совпадают, так что в
сфере экономической политики существует имманентный конфликт.
Тем не менее оптимальный путь разрешения этого конфликта пре-
дусматривает координацию экономической политики, благодаря ко-
торой экономики перемещаются на эффективную контрактную кри-
вую СГС2. Выбор конкретной точки на СХС2 будет зависеть при этом
от результатов переговоров относительно конкретных характеристик
согласованной политики.
23.3. Ожидания частного сектора
и устойчивость координации
Важно отметить, что устойчивость результата координации зави-
сит от остроты «проблемы безбилетника» и возможностей отхода сто-
рон от условий соглашения. Если правительство страны 1 решит, что
страна 2 будет продолжать осуществлять политику в соответствии
с подписанным соглашением (оставаясь, например, в точке С на
рис. 23.2), то оно может нарушить это соглашение, перейдя в точку Rr
на графике своей функции реакции R. Вероятность такого поведения
тем выше, чем труднее отслеживать соблюдение соглашения, так как
при этом страна 1 может выступать с заверениями относительно сво-
ей приверженности соглашению, одновременно нарушая его. Более
того, стимулы к такому нарушению могут быть сильнее при коорди-
нации экономической политики между многими странами, посколь-
ку страны, не нарушающие соглашение, могут быть заинтересованы в
том, чтобы по-прежнему следовать ему, даже если одна из стран его
нарушила. Предотвратить такое нарушение можно путем использова-
ния ответных мер или достоверных угроз их осуществления. Так,
например, если в случае двух стран каждая из них специально огово-
598
Дэвид Карри и Пол Ливайн
рит, что она вернется к равновесной по Нэшу нескоординированной
политике, если другая страна нарушит условия соглашения, то этого
может быть достаточно для поддержания координации.
Этот последний тезис акцентирует внимание на проблеме устой-
чивости скоординированной политики. Однако этот вопрос имеет бо-
лее широкий контекст, связанный с проблемами непоследовательно-
сти политики во времени (time inconsistency) и репутации участников
соглашения. Эти проблемы возникают из-за способности частного сек-
тора строить рациональные долгосрочные прогнозы. Поэтому, чтобы
быть устойчивой, политика должна заслужить доверие частного сек-
тора. До сих пор мы игнорировали ожидания в нашей модели; теперь
мы введем их в рассмотрение.
Начнем анализ с признания того факта, что дальновидное по-
ведение частного сектора может расширить диапазон мероприятий
экономической политики, имеющихся в распоряжении правитель-
ства. Чтобы понять это, рассмотрим пример правительства, желаю-
щего сократить инфляцию посредством ужесточения денежной по-
литики (например, путем повышения краткосрочных процентных
ставок). При отсутствии дальновидных ожиданий частного сектора
такое ужесточение даст эффект только тогда, когда соответствую-
щая политика начнет реально проводиться в жизнь (вне зависимо-
сти от того, влияет ли она на инфляцию через совокупный спрос
или, в контексте открытой экономики, благодаря ревальвации на-
циональной валюты). Однако при наличии дальновидных ожиданий
само обещание будущего ужесточения денежной политики может
оказаться достаточным для сокращения инфляции, если частный
сектор верит этому обещанию (хотя снижение темпов инфляции
может в этом случае быть меньше, чем в случае фактической реали-
зации соответствующей политики). Ожидания ужесточения денеж-
ной политики в будущем немедленно приведут к повышению дол-
госрочных реальных процентных ставок, тем самым оказывая сдер-
живающее влияние на совокупный спрос. Рост процентных ставок
вызовет ревальвацию национальной валюты, что, в свою очередь,
окажет воздействие на динамику цен и заработной платы внутри
страны. Таким образом, обещание ужесточить денежную политику
в будущем, если ему доверяют, приведет к снижению инфляции в
настоящем. Один из примеров подобных «эффектов анонсирования»
можно найти в британской среднесрочной финансовой стратегии
(medium-term financial strategy, MTFS). Анонсируя поэтапное сни-
жение темпов роста денежной массы на протяжении пятилетнего
периода, авторы данной стратегии сочетали обещания будущего
ужесточения денежной политики с непосредственным претворени-
ем в жизнь соответствующих изменений в этой политике.
Значительное внимание в литературе уделялось вопросу о том,
пользуются ли в принципе доверием обещания проведения тех или
Международная координация макроэкономической политики
599
иных мероприятий экономической политики в будущем. Стандарт-
ный ответ на этот вопрос является отрицательным. Утверждается,
что к моменту, когда приходит время осуществлять анонсирован-
ную политику, у правительства возникают стимулы нарушить дан-
ные им обещания. В этом случае говорят о непоследовательности
политики во времени (Kydland, Prescott, 1977). В вышеприведен-
ном примере если обещание проводить жесткую денежную полити-
ку в будущем действительно снизит темп инфляции, то стимулов к
реальному ужесточению политики уже не будет. Если субъекты
частного сектора достаточно проницательны, они сами могут при-
держиваться подобного хода рассуждений и соответственно не по-'
верят сделанному обещанию. Как следствие, непоследовательная во
времени политика, ориентированная на использование эффекта анон-
сирования тех или иных мероприятий, не пользуется доверием.
В свою очередь, доверием будет пользоваться последовательная во
времени политика, которая не порождает в будущем стимулов на-
рушать данные обещания. Однако издержки обеспечения последо-
вательности могут быть весьма высоки, если измерять их в терми-
нах результативности стабилизационной политики. Поэтому неубе-
дительность обещаний связана с издержками.
Правительства могут принять на себя специальные обязатель-
ства относительно мероприятий экономической политики в будущем,
тем самым гарантируя последовательность политики во времени. Но
в общем случае существуют и другие возможные обстоятельства, при
которых обещания будущих изменений в политике будут, как прави-
ло, заслуживать доверия. Очень важно рассматривать проблемы эко-
номической политики в контексте модели повторяющейся игры, пред-
усматривающей реакцию политики на непрерывные стохастические
шоки в экономике, а не в контексте «одноразовой» игры, которая
неявно предполагается в вышеприведенной аргументации. Наличие
непрерывных стохастических шоков воздействует на стимулы прави-
тельства к нарушению своих обещаний в сфере экономической поли-
тики. Искушение нарушить обещания, сделанные в ответ на шоки,
имевшие место в прошлом, ослабляется опасением потери доверия и,
как следствие, уменьшения способности бороться с будущими шоками
(Currie, Levine, 1987). Если норма дисконта не слишком высока, то
повторяемость проблемы выбора политики может полностью исклю-
чить какие-либо стимулы к нарушению обещаний, в результате чего
последние окажутся и пользующимися доверием, и устойчивыми.
Применительно к представленному выше примеру можно сказать, что
правительства воздержатся от нарушения обещаний, если они ожида-
ют, что экономика будет подвержена непрерывным инфляционным
возмущениям, на которые необходимо реагировать с помощью эконо-
мической политики. Этот аргумент будет усилен, если репутация пра-
вительства рассматривается в более широком контексте, так что, на-
600
Дэвид Карри и Пол Ливайн
пример, нарушение обещаний правительства в сфере макроэкономи-
ческой политики отражается на доверии к его микроэкономической
политике.
Если при определенных обстоятельствах репутация оказывает
решающее влияние на устойчивость экономической политики, стано-
вится актуальным анализ режимов координации экономической по-
литики при наличии эффекта репутации и без него. Это умножает
количество возможных случаев, подлежащих рассмотрению. Данный
тезис тем более верен, поскольку нет причин рассчитывать на то, что
все правительства пользуются одинаковой репутацией (можно, на-
пример, анализировать функционирование европейской валютной
системы, используя идею репутационной асимметрии между Герма-
нией и другими странами). Однако в случае координации участвую-
щие в ней правительства либо пользуются положительной коллек-
тивной репутацией, либо нет. Таким образом, в двухстрановой моде-
ли существуют два асимметричных и четыре симметричных режима.
Симметричные режимы представлены в табл. 23.1.
Таблица 23.1
Четыре симметричных режима
Отношения между правительства- ми и частным сектором Отношения между правительствами
кооперация (К) отсутствие кооперации (Н)
Положительная репута- ция пранительств (Р) КР HP
Отсутствие положитель- ной репутации (0) КО но
Из четырех режимов, представленных в табл. 23.1, кооператив-
ный режим с положительной репутацией (КР) является оптималь-
ным, если он устойчив. Другим режимам присуща субоптимальность,
поскольку для них в той или иной мере характерны некооператив-
ные отношения между тремя игроками (правительствами двух стран
и частным сектором). Так, кооперативный режим при отсутствии
положительной репутации (КО) предполагает кооперацию между пра-
вительствами, но не между правительствами и частным сектором,
а некооперативный режим с положительной репутацией (HP) пред-
полагает кооперацию между каждым из правительств и частным сек-
тором, но при этом характеризуется отсутствием кооперации между
правительствами двух стран.
Теперь мы вернемся к нашей модели для рассмотрения некото-
рых последствий наличия дальновидных ожиданий. Формальное ре-
шение этой модели представлено в работе Карри и Ливайна (Currie,
Levine, 1990), здесь же мы опишем основные характеристики такого
решения. Применительно к анализу политики одной страны данная
Международная координация макроэкономической политики
601
Ряс. S8.3. Альтернатива между низкой инфляцией и высоким уровнем
выпуска для отдельно взятой страны.
модель близка модели Бэрроу и Гордона (Вагго, Gordon, 1983). Она
представляет собой модель естественного уровня выпуска, в которой
равновесный выпуск в стране 1 определяется из условий равновесия
спроса и предложения согласно (23.1) и (23.5). Однако инфляцион-
ные возмущения, порождаемые неожиданными изменениями денежной
политики или других переменных, могут привести к временным —
в течение одного периода — отклонениям выпуска от равновесного
уровня. Этот эффект иллюстрируется рис. 23.3. По горизонтальной
оси отложены отклонения (у) фактического выпуска от равновесного
уровня, так что равновесные значения соответствуют вертикальной
оси, где фактический выпуск равен естественному уровню. Равнове-
сие возможно при любом темпе инфляции. Предпочтения правитель-
ства в отношении экономической политики представлены кривыми
безразличия Ur, U2, U3 (в порядке убывания полезности), причем наи-
высший уровень полезности находится в недостижимой точке мак-
симального благосостояния при у, где выпуск соответствует желаемо-
602
Дэвид Карри и Пол Ливайн
му уровню. РСГ и РС2 обозначают два варианта компромиссного выбо-
ра между низкой инфляцией и высоким уровнем выпуска, соответ-
ствующие разным ожидаемым темпам инфляции: осуществляя не-
ожиданное для частного сектора изменение в денежной политике,
правительство может переместить экономику вдоль линии РСГ для
достижения более высокого уровня выпуска (которое, однако, будет
наблюдаться только в течение одного периода) за счет некоторого
повышения темпов инфляции.
Проблема политики для отдельно взятой страны относительно
проста, как показано Бэрроу и Гордоном (Barro, Gordon, 1983).
Правительство, которое может взять на себя жесткое обязательство
или же обладает положительной репутацией (по причинам, к кото-
рым мы вернемся позднее), выберет точку 0, где инфляция равна
нулю, а фактический уровень выпуска соответствует равновесному.
Однако если оно близоруко или не пользуется положительной ре-
путацией, то у него может возникнуть искушение осуществить не-
ожиданное для частного сектора изменение в денежной политике
для того, чтобы обеспечить увеличение выпуска на протяжении
одного периода, перемещая экономику вдоль РСХ в точку С, которая
обеспечивает правительству более высокий уровень полезности в
краткосрочном аспекте. Но если частный сектор предвидит это, то
ожидаемый им темп инфляции повышается, в результате чего
кривая альтернативного выбора между низкой инфляцией и высо-
ким уровнем выпуска для одного периода сдвигается в положение
РС2. В этом случае равновесие для правительства, не пользующего-
ся положительной репутацией, будет соответствовать точке D, где
отсутствуют стимулы для неожиданного осуществления инфляцион-
ной (или дефляционной) политики.
Теперь рассмотрим четыре режима, представленные в табл. 23.1.
Наилучшим режимом, несомненно, является режим КР: при нем
правительства осуществляют скоординированную денежную полити-
ку, не связанную с какими-либо неожиданными для частного сектора
изменениями. Результатом является нулевая инфляция в обеих стра-
нах. Фискальная политика также осуществляется скоординированно,
с полным учетом неблагоприятного влияния чрезмерной фискаль-
ной экспансии на сферу предложения.
При КО режиме ситуация во многом иная. Отсутствие положи-
тельной репутации означает, что частный сектор ожидает проведе-
ния чрезмерно экспансионистской денежной политики; следствием
этого является инфляционное равновесие в точке D на рис. 23.3. Та-
ким образом, ситуация с инфляцией значительно хуже, чем в опти-
мальном случае. Фискальная политика также является чрезмерно
экспансионистской: правительства игнорируют реальное влияние го-
сударственных расходов на долгосрочные реальные процентные став-
ки и, следовательно, на сферу предложения.
Международная координация макроэкономической политики
603
Рассмотрим теперь режимы, характеризующиеся отсутствием
координации. Режим НО приводит к более высокой инфляции, как
и режим КО. Однако интересно, что инфляция в случае НО будет
несколько ниже, чем в случае КО. Так обстоит дело потому, что если
правительства не действуют сообща, то при проведении денежной
политики, неожиданной для частного сектора, они сталкиваются с
более жесткой альтернативой между низкой инфляцией и высоким
уровнем выпуска ввиду негативного изменения реального валютного
курса. В результате кривые PC на рис. 23.3 являются более крутыми,
чем в случае КО, и итоговое инфляционное равновесие характеризу-
ется более низким темпом инфляции. Этот факт иллюстрирует вы-
вод Рогоффа (Rogoff, 1985) о том, что координация не обязательно
должна быть эффективной. При отсутствии положительной репута-
ции правительства, т. е. при отсутствии кооперации с частным секто-
ром, кооперация между правительствами может не принести положи-
тельного эффекта.
Однако применительно к фискальной политике наша модель
показывает, что «координация без репутации» может приносить поло-
жительный эффект. Это связано с тем, что при отсутствии координа-
ции правительства имеют стимулы к проведению экспансионистской
фискальной политики для обеспечения положительных последствий
ревальвации национальной валюты относительно валюты другой стра-
ны. Такая политика «разорения соседа» приводит к более экспансио-
нистской фискальной политике при отсутствии координации и, сле-
довательно, к более высоким реальным процентным ставкам и более
неблагоприятному влиянию на сферу предложения. Это показывает,
что вывод Рогоффа справедлив не всегда, и координация действитель-
но может оказаться полезной даже при отсутствии положительной
репутации.
Наконец, возможен случай отсутствия кооперации при наличии
положительной репутации. Последнее обстоятельство предполагает,
что денежная политика будет обеспечивать нулевую инфляцию в обе-
их странах; иными словами, для достижения антиинфляционных це-
лей координация не обязательна. Таким образом, с точки зрения
темпов инфляции режим HP так же хорош, как и режим КО. Но с
точки зрения фискальной политики режим HP хуже всех осталь-
ных. Из-за нескоординированности действий стратегия «разорения
соседа» обусловливает проведение чрезмерно экспансионистской фис-
кальной политики, как и при режиме НО. Однако наличие репута-
ции только усиливает этот эффект: правительство, не имеющее поло-
жительной репутации, пользуется доверием только в течение теку-
щего периода, тогда как правительство, имеющее положительную
репутацию, может взять на себя обязательство осуществления экспан-
сионистской фискальной политики на много лет вперед. Это будет
оказывать более значительное воздействие на ожидаемые реальные
604
Дэвид Карри и Пол Ливайн
процентные ставки и, как следствие, на текущий валютный курс.
Поэтому наличие положительной репутации позволяет правитель-
ству осуществлять фискальную политику «разорения соседа» с боль-
шей эффективностью. Результатом этого является еще более небла-
гоприятное воздействие на реальные процентные ставки и на сферу
предложения.
Этот случай иллюстрирует вывод Карри и Ливайна (Currie et al.,
1987; Levine, Currie 1987), согласно которому при отсутствии коорди-
нации положительная репутация может привести к получению неэф-
фективных результатов. Эта точка зрения — своего рода зеркальное
отражение уже упомянутого вывода Рогоффа (Rogoff, 1985) о том, что
при отсутствии положительной репутации кооперация может ока-
заться неэффективной.
Резюмируя, отметим, что из четырех режимов, описанных в
табл. 23.1, КР режим является оптимальным, но ранжирование трех
остальных режимов является неоднозначным. При ранжировании
по критерию темпов инфляции за КР следует HP, затем НО и
наконец КО. Однако если осуществлять ранжирование по критерию
реальных процентных ставок и состояния сферы предложения, то
ранжирование трех рассматриваемых режимов оказывается прямо
противоположным: за КР следует КО, а наихудший результат соот-
ветствует режиму HP. Если учитывать оба эффекта одновременно,
то итоговое ранжирование, очевидно, будет зависеть от характери-
стик реальной ситуации и предпочтений лиц, ответственных за
проведение экономической политики в отношении инфляции и
выпуска.
В заключение этого раздела вернемся к вопросу о том, можно ли
поддерживать режим КР за счет угрозы перехода к одному из альтер-
нативных режимов, т. е. к вопросу о возможности поддержания коо-
перативного равновесия посредством угрозы возвращения к точке
равновесия по Нэшу. Данный вопрос имеет два аспекта. Правитель-
ства могут поддерживать координацию, необходимую для режима КР,
угрожая перейти к некооперативному режиму (например, режиму HP),
и, если этот режим обеспечивает получение достаточно неблагоприят-
ных экономических результатов, такая угроза может оказаться доста-
точной для поддержания координации. В свою очередь, политика
правительства, пользующегося положительной репутацией, может под-
держиваться посредством механизмов, рассмотренных выше, т. е. по-
средством угрозы утраты доверия и перехода к режиму, характеризу-
ющемуся отсутствием положительной репутации (например, к режи-
му НО). Как теоретические, так и эмпирические исследования для
случая более чем двух стран в целом позволяют дать оптимистич-
ный ответ на вопрос об устойчивости режима КР в обоих рассмотрен-
ных смыслах и соответственно сделать вывод о жизнеспособности этого
режима (см. Levine, Currie, 1987; Levine et al., 1989).
Международная координация макроэкономической политики
605
23.4. Эмпирические оценки выигрыша
от координации "
В предыдущем разделе мы представили общие теоретические
доводы в пользу координации экономической политики. Но что гово-
рят по этому поводу эмпирические данные?
Прежде всего необходимо отметить тотальный характер между-
народной экономической взаимозависимости, на наличии которой
базируются традиционные доводы в пользу координации. По этой
причине правительства могут избегать проведения в одностороннем
порядке экспансионистской политики или борьбы с дефляционными
тенденциями ввиду угрозы возникновения дефицита платежного ба-
ланса и понижательного давления на валютный курс. Следствием
этого может быть нарастание дефляционных тенденций в мировой
экономике. Действительно, правительства могут бороться с инфляци-
онным давлением посредством жесткой денежной политики и ре-
вальвации национальной валюты в сочетании с экспансионистской
фискальной политикой, препятствующей падению выпуска и сниже-
нию конкурентоспособности. Результатом этого на международном
уровне могут быть чрезмерно высокие реальные процентные ставки и
неадекватный набор мероприятий денежной и фискальной полити-
ки (мы указывали на эту тенденцию при анализе формальной модели
в двух предыдущих разделах). Правительства могут обоснованно пред-
полагать, что товарные цены детерминируются условиями мировых
рынков, и игнорировать какое-либо воздействие собственной экспан-
сионистской фискальной политики на эти цены. Однако в целом
такое расширение спроса может оказаться чрезмерно инфляционным
из-за своего влияния на условия торговли. Правительства могут иметь
несовместимые цели, касающиеся желаемого состояния платежного
баланса по текущим операциям, и нескоординированные инициативы
в сфере экономической политики, направленные на их достижение,
могут негативно сказаться на состоянии международной экономики.
Эти и прочие взаимозависимости в сфере экономической поли-
тики оказывали важное влияние на функционирование системы пла-
вающих валютных курсов с середины 1970-х гг. Как показывает
наш анализ, перенос последствий определенных типов экономиче-
ской политики может по-разному воздействовать на макроэкономи-
ческую ситуацию. Но в каждом конкретном случае характер этих
воздействий, вероятно, будет особым, так что в меняющемся мире
нельзя надеяться на то, что они будут компенсировать друг друга
сколько-нибудь продуктивным образом. Поэтому существование эф-
фекта переноса на первый взгляд означает, что международная ко-
ординация макроэкономической политики может привести к ощу-
тимым выгодам, а именно к более стабильной и более эффективно
функционирующей экономике.
606
Дэвид Карри и Пол Ливайн
Несмотря на это, значительная часть работ, посвященных между-
народной координации экономической политики, содержит довольно
пессимистические выводы относительно ее ожидаемых выгод (см. обзор
в статье: Currie et al., 1989). В пионерном исследовании Оудиса и
Сакса (Oudiz, Sachs, 1984) сделано заключение о наличии очень мало-
го выигрыша — эквивалентного менее 0.5% ВВП — от полной и
совершенной координации денежной и фискальной политики среди
стран «Большой тройки» (США, Японии и Германии) для периода
1984-1986 гг. Такие расчеты задают верхнюю границу выигрыша от
реальных процессов координации экономической политики, которым
присущи несовершенства и задержки, так что эти результаты мало
чем могут обрадовать сторонников координации. Некоторые более
поздние исследования дают еще менее радужную картину. Рогофф
(Rogoff, 1985) отмечает, что международная координация эконо-
мической политики фактически может привести к уменьшению бла-
госостояния, если процесс координации смягчает ограничения на де-
ятельность правительств по осуществлению проинфляционной экс-
пансионистской денежной политики. В приводимом им примере
правительства, не пользующиеся положительной репутацией, могут в
известной мере воздерживаться от неожиданных для частного секто-
ра изменений в денежной политике, направленных на повышение
уровня выпуска, опасаясь последующей девальвации национальной
валюты. Координация, направленная на фиксацию валютных курсов,
увеличивает стимулы к неожиданным для частного сектора измене-
ниям в денежной политике, в результате чего равновесный темп
инфляции растет при общем падении выпуска. Хотя приведенный
пример носит специфический характер, точка зрения, согласно кото-
рой координация в условиях отсутствия положительной репутации
может оказаться контрпродуктивной, является общепринятой (см. Cur-
rie et al., 1987; Levine, Currie, 1987). Френкель и Рокетт (Frenkel,
Rockett, 1988) исследуют последствия принятия правдоподобного до-
пущения, согласно которому правительства по-разному оценивают
состояние экономики и механизмы ее функционирования. Используя
шесть моделей международных экономических связей, проанализи-
рованных в сравнительном исследовании, проведенном Брукингским
институтом, они изучили все 216 их возможных комбинаций для
случая двух стран (действия правительства США и «остального мира»
могут следовать любой из шести моделей; подлинное состояние эко-
номики может также описываться любой из шести моделей). Соглас-
но полученным результатам, координация оказалась выгодной в чуть
более чем 60% комбинаций, а в более чем одной трети комбинаций
координация ухудшила положение дел по меньшей мере для одного
из участников.
Однако эта весьма пессимистичная точка зрения на выгоды,
ожидаемые от международной координации экономической политики,
Международная координация макроэкономической политики
607
была подвергнута сомнению в более поздних работах. Результат Френ-
келя—Рокетта, согласно которому введение в модель неопределенности
значительно уменьшает выгоды международной координации, реша-
ющим образом зависит от предпосылки о том, что лица, осуществля-
ющие экономическую политику, при ее выработке упорно не прини-
мают во внимание различия во мнениях относительно состояния эко-
номики. Френкель (Frankel, 1987) показывает, что использование
компромиссной модели в случае разногласий относительно подлин-
ного состояния экономики ощутимо увеличивает вероятность получе-
ния выгод от координации. Холтэм и Хьюз Хэллет (Holtham, Hughes
Hallet, 1987) показывают, что исключение «слабых договоренностей»
(«weak» bargains), при которых одна из сторон ожидает, что положе-
ние другой стороны в результате заключения такой договоренности
ухудшится, значительно повышает вероятность успеха координации
при ее осуществлении. Они утверждают, что правительства будут стре-
миться исключить такие договоренности, поскольку вероятность их
нарушения очень велика, что может подорвать основы для координации
в будущем. Гхош и Мэссон (Ghosh, Masson, 1988) демонстрируют, что
наличие неопределенности в модели может ощутимо увеличить выго-
ды от координации при условии, что правительства разрабатывают
планы координации с учетом этой неопределенности. Можно возра-
зить, что лица, ответственные за осуществление экономической поли-
тики, в действительности упорно придерживаются единственной точ-
ки зрения относительно состояния экономики, но такое возражение
едва ли может быть совместимо с активным обменом информацией
на международных форумах; более того, если данное обстоятельство
имеет место на практике, оно указывает на потребность в информиро-
вании лиц, осуществляющих политику, об опасностях такого подхода,
а не на опасность самой международной координации.
Недавние исследования также пролили дополнительный свет на
вывод Рогоффа (Rogoff, 1985) о том, что при отсутствии положитель-
ной репутации координация может быть нежелательной. Ливайн и
Карри (Levine, Currie, 1987), а также Карри с соавторами (Currie et al.,
1987) получили схожий результат, согласно которому в отсутствие
координации проведение экономической политики пользующимся по-
ложительной репутацией правительством может вести к нежелатель-
ным последствиям. Данный результат является следствием того, что
провалы координации (особенно в валютной сфере), которые возника-
ют при проведении нескоординированной политики, усугубляются,
если правительства имеют положительную репутацию, что обеспечи-
вает им большее влияние на рыночные ожидания. Карри с соавтора-
ми (Currie et al., 1987), используя двух страновую редуцированную
версию модели Интерлинк (Interlink model) для стран ОЭСР, пришли
к выводу, что нескоординированная политика при положительной
репутации потенциально очень нестабильна, поскольку правительства
608
Дэвид Карри и Пол Ливайн
впадают в искушение осуществлять «наперегонки друг с другом»
ревальвацию своих валют для борьбы с инфляцией, одновременно
проводя фискальную экспансию для предотвращения спада выпуска
(мы отметили данное обстоятельство в нашей теоретической модели
в разделе 23.3). Возникающая при этом спираль роста процентных
ставок может легко оказаться нестабильной. Напротив, политика, осу-
ществляемая при отсутствии положительной репутации, с высокой
вероятностью будет вести к чрезмерной инфляции по причинам, ана-
логичным тем, что были описаны в модели Бэрроу и Гордона (Ватто,
Gordon, 1983).
Эти результаты означают, что выигрыши от положительной ре-
путации и выигрыши от координации могут быть обеспечены только
совместно, по крайней мере в международном контексте осуществле-
ния экономической политики. Карри с соавторами (Currie et al., 1987)
используют редуцированную версию модели Интерлинк для стран ОЭСР
в целях эмпирического измерения этих выигрышей. Выигрыш от
координации при наличии положительной репутации оказался до-
вольно незначительным в условиях, когда экономические возмуще-
ния, влияющие на сферы предложения или спроса, носили преходя-
щий характер, однако выигрыш этот резко увеличивается по мере
нарастания устойчивости возмущений. Более того, указанная величи-
на возрастает с течением времени, поскольку нескоординированная
политика при отсутствии положительной репутации с большей веро-
ятностью приведет к тому, что «непопулярные» корректировки эко-
номической политики будут отложены на будущее, так что долго-
срочные последствия такой политики окажутся печальными. В дол-
госрочном периоде выигрыши от координации в условиях устойчивых
шоков предложения или спроса оказываются очень значительными,
достигая примерно 15% ВВП при шоках глубиной 1% ВВП. Эта оценка
задает верхнюю границу выгод от координации, поскольку в каждой
исторической ситуации присутствует комбинация экономических
шоков разной степени устойчивости. Холтэм и Хьюз Хэллет (Holt-
ham, Hughes Hallett, 1987) использовали семь альтернативных мо-
делей международной экономики, задействованных в сравнительном
исследовании Брукингского института, и получили оценки выиг-
рышей от координации на уровне 4-6% ВВП. Интересно, что они
обнаружили более высокие выигрыши в моделях с рациональными
ожиданиями; это означает, что потенциальные выгоды от междуна-
родной координации экономической политики могут быть значитель-
ными при наличии положительной репутации, особенно если коор-
динация сфокусирована на вопросе о том, как политика должна реа-
гировать на устойчивые или перманентные шоки в международной
экономике.
Еще одна причина незначительности оцениваемого выигрыша от
координации в эмпирических моделях заключается в том, что в этих
Международная координация макроэкономической политики
609
моделях делается преимущественный акцент на переносе последствий
экономической политики в сфере спроса во многом из-за неадекват-
ной спецификации модели в части, касающейся сферы предложения.
Вместе с тем перенос в сфере предложения может играть более важ-
ную роль. Примером может служить перенос последствий несогласо-
ванности денежной и фискальной политики США в 1980-х гг., влия-
ние которого было связано с высоким уровнем реальных процентных
ставок. Высокие реальные процентные ставки оказывали серьезное
воздействие на накопление капитала в странах остального мира и,
следовательно, на состояние сферы предложения в этих странах. Однако
наши эмпирические модели довольно неудовлетворительно описыва-
ют сферу предложения, так что, вероятно, это воздействие учитывает-
ся ими далеко не в полной мере.
23.5. Выбор форм координации
В предыдущем разделе мы утверждали, что выигрыш от коорди-
нации макроэкономической политики среди стран «Большой семер-
ки» (и особенно «Большой тройки») может быть вполне реальным.
В этом разделе рассмотрим формы, которые такая координация мог-
ла бы принять.
Сначала будет полезно провести различие между формами коор-
динации, основанными на правилах, и дискреционными ее формами
(или формами координации ad hoc). Примерами основанных на пра-
вилах форм координации служат такие режимы, как золотой стан-
дарт, Бреттон-Вудская система и Европейская валютная система. В по-
добных режимах координация может принимать неявную форму; при
этом условие соблюдения правил заменяет потребность в непосред-
ственных консультациях и соглашениях по поводу координации эко-
номической политики. Напротив, дискреционные формы координа-
ции связаны с заключением разовых соглашений в результате пере-
говоров между заинтересованными сторонами. Практика координации
среди стран «Большой тройки» после развала Бреттон-Вудской сис-
темы относится именно к такой форме координации; она включала в
себя серию саммитов, среди которых особенно выделяются Боннский
саммит 1978 г., а также саммиты, по итогам которых были заключе-
ны соглашение Плаза и Луврское соглашение.
Хотя описанное различие на практике выглядит очевидным,
может показаться, что результаты недавних теоретических работ сво-
дят его на нет. Действительно, в пионерной статье Кидлэнда и Прескот-
та (Kydland, Prescott, 1977), посвященной непоследовательности по-
литики во времени, была проведена четкая грань между правилами и
дискреционными действиями. Однако в более поздних работах под-
черкивается тот факт, что последовательную во времени дискрецион-
40 Заказ № 356
610
Дэвид Карри и Пол Ливайн
ную политику можно выразить через правило инвариантной во вре-
мени обратной связи (см., например, Currie, Levine, 1987). Это озна-
чает, что реальным является различие не между правилами и дискреци-
онной политикой, а между правилами при наличии положительной
репутации и при ее отсутствии. Эта аргументация, однако, базирует-
ся на очень специфических допущениях. В частности, принимаются
допущения, согласно которым лица, осуществляющие политику, имеют
стабильные предпочтения, описываемые квадратичной функцией,
и опираются в своих действиях на неизменную линейную модель
экономики. Без этих допущений различие между дискреционной
координацией и формами координации, основанными на правилах,
становится очень весомым. «Свод правил» международной макро-
экономической политики вполне может ограничить возможность из-
менений, связанных со сдвигами в предпочтениях субъектов приня-
тия политических решений или в их представлениях о механизмах
функционирования экономики (если, конечно, эти сдвиги не настоль-
ко велики, чтобы побудить указанных субъектов отказаться от само-
го «свода правил»).
Какие еще преимущества можно получить за счет реализации
координации, основанной на правилах? Во-первых, четко сформули-
рованные правила могут оказаться лучшим средством обеспечения
выгод от положительной репутации, что, как было показано нами в
разделе 23.4, может играть существенную роль в обеспечении эффек-
тивной международной координации (см. Currie et al., 1987; Levine,
Currie, 1987). Данный тезис может оказаться верным, даже если пра-
вила являются простыми и жесткими, как, например, в случае с обя-
зательством участия в системе фиксированных валютных курсов с их
периодической корректировкой (adjustable peg), которая, как демон-
стрируют Гиавацци и Пагано (Giavazzi, Pagano, 1988), может быть
полезной для упрочения репутации в деле противодействия инфля-
ционному давлению.
Во-вторых, принятие правил координации может побудить сто-
роны учитывать факт повторяемости «игры» в сфере экономической
политики. При наличии в системе непрерывных стохастических шо-
ков возможностей для заключения выгодных координационных со-
глашений становится гораздо больше, в результате чего сама коорди-
нация становится более вероятной (ср. с так называемой «народной
теоремой» («folk theorem») в теории игр). Это связано с тем, что стра-
нам, экономики которых сталкиваются с разными проблемами, мо-
жет быть трудно выработать скоординированную политику из-за раз-
личий в «исходных условиях». Но подобные различия становятся
менее важными при наличии непрерывных стохастических шоков,
поскольку в условиях таких шоков возникает вероятность того, что в
некоторый будущий момент времени экономическая ситуация может
измениться на противоположную; данное обстоятельство повышает
Международная координация макроэкономической политики
611
степень готовности обеих сторон согласовать систему правил, предусма-
тривающую совместное участие в процессе корректировок. Произ-
вольно назначаемые саммиты, в рамках которых не вырабатывается
никаких общих ориентиров или правил осуществления политики,
могут слишком сильно ограничивать возможности для достижения
взаимовыгодных соглашений.
Наконец, существует точка зрения, согласно которой междуна-
родно согласованная система правил может выполнять роль эффек-
тивного «дисциплинирующего средства» в отношении поведения на-
циональных правительств. Ситуация обстояла именно таким обра-
зом в период действия Бреттон-Вудской системы, а позднее —
в Европейской валютной системе (можно вспомнить в этой связи
эксперимент Миттерана в 1982 г. и его последствия, когда пришед-
шее к власти правительство социалистов сначала стало проводить
экспансионистскую фискальную политику, но затем вынуждено
было изменить направленность этой политики на противополож-
ную, чтобы соблюсти требования, связанные с членством в Европей-
ской валютной системе). Это ограничение может выражаться дво-
яким образом, но результаты будут в основном эквивалентными.
Оно может сдерживать влияние непредсказуемых, обусловленных
изменениями предпочтений перемен в деятельности правительства
на макроэкономическую политику; тем самым обеспечивается бо-
лее высокая степень предсказуемости этой политики. Оно также
может повысить готовность правительств без проволочек проводить
в жизнь необходимые политические мероприятия, поскольку ссыл-
ки на обязательства, принятые в рамках подписанных ранее между-
народных соглашений, избавляют их от необходимости вести вну-
триполитические дискуссии относительно целесообразности таких
мероприятий.
Однако система координации, основанная на правилах, имеет и
ряд потенциальных недостатков. «Свод правил» должен преимуще-
ственно содержать симметричные обязательства каждой из сторон,
участвующих в соглашении. Это не исключает вероятности того, что
сами правила могут оказывать асимметричное воздействие на сторо-
ны соглашения (как в случае с Европейской валютной системой, об-
суждаемом ниже) или же содержать условия, ставящие в исключи-
тельное положение одну из сторон соглашения (например, США в
случае Бреттон-Вудской системы). Вместе с тем представляется не-
вероятным, что правила, действующие в отношении сторон соглаше-
ния, могут оказаться совершенно отличными друг от друга. Напро-
тив, соглашения ad hoc вполне могут содержать асимметричные обя-
зательства (и, почти несомненно, будут содержать их на практике),
поскольку шанс сформулировать симметричные обязательства в рам-
ках разовых договоренностей весьма незначителен.
612
Дэвид Карри и Пол Ливайн
С только что приведенными рассуждениями тесно связана точка
зрения, согласно которой подход, основанный на правилах, сильно
затрудняет подписание соглашений, охватывающих большой диапа-
зон вопросов. Примером такого соглашения является договоренность
Боннского саммита 1978 г., согласно которой США должны были
изменить свою энергетическую политику, Япония — согласиться на
либерализацию внешней торговли, тогда как Германия приняла на
себя обязательство проводить экспансионистскую макроэкономическую
политику. Макроэкономические аспекты соглашения впоследствии
были подвергнуты критике, возможно, несправедливой (см. Holtham,
1989), но реализация других его аспектов привела к позитивным
результатам. Трудно представить, чтобы такое соглашение могло быть
заключено в рамках подхода, основанного на правилах.
23.6. Альтернативные планы координации
для стран «Большой семерки»
Какие более конкретные ориентиры относительно возможных
форм международной координации могут дать нам научные исследо-
вания? Предлагались разнообразные планы, начиная от плана Тобина,
связанного с введением налога на международные финансовые опера-
ции, и кончая возвращением к золотому стандарту.
Однако наиболее детальным и разработанным планом междуна-
родной координации экономической политики являлся план «целе-
вой зоны» (the target zone), предложенный Уильямсоном (Williamson,
1985). В своей исходной форме этот план просто содержал идею,
согласно которой политика должна стремиться к ограничению коле-
баний реальных валютных курсов в рамках определенного, довольно
широкого диапазона вокруг равновесного уровня — уровня валютно-
го курса, совместимого с полной занятостью (full employment exchange
rate, FEER), — рассчитанного таким образом, чтобы обеспечить рав-
новесие платежного баланса по текущим операциям в среднесроч-
ном и долгосрочном периодах. Данная идея, разумеется, была откры-
та для возражений, поскольку она не содержит «якоря» для сдер-
живания внутренней инфляции, ведь заданное значение реального
валютного курса в принципе совместимо с любой динамикой номи-
нальных переменных. В пользу исходного плана можно было вы-
двинуть тот аргумент, что он представлял собой попытку интерна-
лизации ключевых внешних эффектов экономической политики
(а именно способности одних стран проводить политику в стиле рей-
ганомики в ущерб другим странам), а не всеобъемлющую систему
правил осуществления международной макроэкономической полити-
ки. Однако более серьезное возражение против этого плана заключа-
лось в том, что он не создавал для лиц, ответственных за проведение
Международная координация макроэкономической политики
613
политики, эффективных стимулов к учету связей между целевыми
значениями валютного курса и реакцией экономики на проводимую
фискальную и денежную политику. Поэтому более позднюю форму-
лировку плана расширенной целевой зоны Уильямсона—Миллера
(Williamson, Miller, 1987), описывающую всеобъемлющую систему
правил осуществления денежной и фискальной политики, направ-
ленную на достижение корректируемых целевых значений реального
валютного курса и национального дохода, следует признать гораздо
более реалистичной.
Данная формулировка предусматривает следующие элементы
плана. Во-первых, разрыв в уровне процентных ставок между страна-
ми должен изменяться таким образом, чтобы удерживать валютные
курсы в рамках заданного диапазона вокруг согласованного равно-
весного уровня, выбранного с таким расчетом, чтобы обеспечить рав-
новесие платежного баланса по текущим операциям в среднесроч-
ном и долгосрочном периодах. Во-вторых, внутренняя фискальная
политика должна использоваться для достижения целевых темпов
роста номинального спроса, причем эти целевые темпы должны быть
выбраны так, чтобы обеспечить нулевой темп инфляции, расширение
спроса при низкой степени использования производственных мощно-
стей и корректировку платежного баланса по текущим операциям
для поддержания его равновесия.
Сформулированный таким образом план придает корректи-
ровке денежной и фискальной политики (осуществляемой так, что-
бы быть совместимой с достижением целевых значений валютного
курса и других переменных) не меньший вес, чем собственно до-
стижению целевых значений валютного курса. Итак, данный план
«наводит мосты» между научными исследованиями по проблеме ко-
ординации экономической политики, сжатый обзор которых был
дан в разделе 23.5, и реальной практикой такой координации за
годы, прошедшие со времени подписания соглашения Плаза. Инте-
ресен и тот факт, что оценки данного плана с использованием эко-
номических моделей также делают акцент на правилах проведений
денежной и фискальной политики, а не на том его аспекте, кото-
рый связан с регулированием колебаний валютного курса (см.,
например, Edison et al., 1987; Currie, Wren-Lewis, 1989, 1990; для
ознакомления с теоретической оценкой плана см. Alogoskoufis,
1989). Такие оценки наводят на мысль о том, что план расширен-
ной целевой зоны мог бы быть эффективным и, вероятно, улучшил
бы показатели функционирования мирового хозяйства за десятиле-
тие 1980-х гг., если бы был в соответствующее время претворен в
жизнь. Карри и Рен-Льюис (Currie, Wren-Lewis, 1989) также обна-
ружили целесообразность ориентации денежной политики на до-
стижение равновесия во внешнем секторе, а фискальной полити-
ки — на достижение равновесия во внутреннем в противополоЖ-
614
Дэвид Карри и Пол Ливайн
ность альтернативной идее, предложенной Баутоном (Boughton,
1989) и неявно присутствовавший в исследовании МВФ (IMF, 1987),
согласной которой фискальная политика должна быть ориентиро-
вана на обеспечение равновесия во внешнем секторе, а денежная
политика — на достижение равновесия во внутреннем.
Здесь мы не пытаемся оценить технические преимущества плана
расширенной целевой зоны. Мы только хотели бы отметить, что в
правила Уильямсона—Миллера, по-видимому, можно внести допол-
нительные коррективы; например, Карри и Рен-Льюис (Currie, Wren-
Lewis, 1990) указывают на то, что правила могут оказаться чрезмерно
жесткими, препятствуя реальной ревальвации национальной валюты
в ответ на повышение темпов инфляции внутри страны относительно
остального мира. Существует также потребность в дальнейшей оцен-
ке предложенного плана, особенно проблемы устойчивости правил к
изменению структуры модели.
Мы завершим наше изложение, отметив определенные характе-
ристики плана, которые полезны при рассмотрении вопроса о том, как
процесс координации экономической политики может осуществляться
в будущем. Эти характеристики не являются специфичными исключи-
тельно для плана Уильямсона—Миллера и могут быть инкорпорирова-
ны в другие правила координации экономической политики.
Во-первых, правила можно рассматривать как конкретное средство
придания смысла дебатам по поводу «экономических индикаторов»,
инициированным на саммитах «Большой семерки». Сужая множество
значимых переменных до двух ключевых целевых показателей — ре-
ального валютного курса и темпов роста внутреннего спроса — и пред-
лагая простые правила, связывающие эти целевые значения с инстру-
ментами экономической политики, рассматриваемый план предоставля-
ет простую и рациональную структуру для дискуссий, приобретающих
в противном случае весьма запутанный характер. Если дебаты по по-
воду «экономических индикаторов» будут продолжаться, такая струк-
тура, несомненно, придаст им более продуктивное направление.
Во-вторых, план в своей пересмотренной форме имеет то важное
достоинство, что он делает акцент на необходимости корректировок
фискальной и денежной политики в том случае, если речь идет о
достижении целевых значений валютных курсов. Это полезное про-
тивоядие против принятия желаемого за действительное в некоторых
недавних инициативах в области экономической политики (дальней-
ший анализ этой проблемы см. в работе Currie et al., 1989).
В-третьих, этот план является достаточно гибким для того, что-
бы быть совместимым с вышеописанной постепенной эволюцией
процесса координации экономической политики от заключения со-
глашений ad hoc к составлению более полного «свода правил» про-
ведения экономической политики. Эта гибкость имеет целый ряд
аспектов. Предусмотренные планом зоны допустимых колебаний
Международная координация макроэкономической политики
615
валютных курсов широки, обеспечивая в этом отношении значитель-
ную гибкость. Вполне возможен вариант, при котором широкие гра-
ницы колебания валютных курсов первоначально устанавливаются в
рамках договоренности ad hoc, в дальнейшем такие границы могут
быть сужены. Кроме того, в рамках рассматриваемого плана страны
имеют возможность самостоятельно устанавливать целевые уровни
значения внутреннего номинального спроса, придавая больший или
меньший вес цели снижения инфляции по сравнению с целью повы-
шения загрузки производственных мощностей. Таким образом, план
не предусматривает наложения на страны ограничений в области
управления собственной экономикой, а направлен лишь на сокраще-
ние нежелательного переноса последствий экономической политики
между странами.
В-четвертых, план связан с гибкостью в отношении степени
приоритетности правил денежной и фискальной политики по срав-
нению со стабилизацией реальных валютных курсов. Конечно, основ-
ная задача правил состоит в ограничении колебаний валютного
курса, однако страны имеют выбор, какому из указанных приори-
тетов следовать в первую очередь. Практика последних лет наводит
на мысль, что преимущественная ориентация на достижение целе-
вых значений валютного курса «отодвигает» фискальную и денеж-
ную политику на задний план, что может отрицательно повлиять
на жизнеспособность плана координации. Напротив, координация
политики центральных банков стран «Большой семерки» представ-
ляет собой практический базис, на котором следует основывать
координацию (см. Group of Thirty, 1988). Усиление акцента на пра-
вилах осуществления денежной и фискальной политики в рамках
существующих договоренностей относительно управления валют-
ными курсами, вероятно, представляет собой наиболее эффектив-
ный путь к формированию «свода правил» международной макро-
экономической политики.
Литература
Alogoskoufis G. Stabilization policy, fixed exchange rates and target zones / In
M. Miller, B. Eichengreen and R. Portes (eds). Blueprints for Exchange
Rate Management. New York Academic Press, 1989.
Artis M., Currie D. A. Monetary targets and the exchange rate: a case for conditional
targets // Oxford Economic Papers (Supplement). 1981. Vol. 33. P. 176-200.
Barro R. J., Gordon D.A. Rules, discretion and reputation in a model of monetary
policy//Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 17. P. 101-122.
Boughton J. Policy assignment strategies with somewhat flexible exchange; rates /
In M. Miller, B. Eichengreen and R. Portes (eds). Blueprints for Exchange
Rate Management. New York : Academic Press, 1989.
616
Дэвид Карри и Пол Ливайн
Bryant R. С., Currie D. A, Frenkel J. A, Masson Р. R., Portes R. (eds). Macroeconomic
Polices in an Interdependent World. Washington, DC International
Monetary Fund, 1989.
Currie D.A., Levine P. Credibility and time consistency in a stochastic world //
Journal of Economics. 1987. Vol. 47 (3). P. 225-252.
Currie D. A., Levine P. The international coordination of monetary policy: a survey /
In C. Green and D. Llewellyn (eds.) Surveys in Monetary Economics. Oxford :
Basil Blackwell, 1990. Vol. I.
Currie D.A., Vines D. Macroeconomic Interactions between North and South.
Cambridge Cambridge University Press, 1988.
Currie D.A., Wren-Lewis S. Evaluating blueprints for the conduct of international
macropolicy // American Economic Review. Papers and Proceedings. 1989.
Vol. 79 (2). P. 264-269.
Currie D.A., Wren-Lewis S. Evaluating the extended target zone proposal for
the G3 //Economic Journal. 1990. Vol. 100. P. 105-123.
Currie D. A, Holtham G., Hughes Hallet A. The theory and practice of international
policy coordination: does coordination pay? / In R. Bryant, D. A. Currie,
J. A. Frenkel, P. Masson and R. Portes (eds). Macroeconomic Policies in an
Interdependent World, Washington, DC : International Monetary Fund, 1989.
Currie D. A, Levine P., Vidalis N. Cooperative and noncooperative rules for monetary
and fiscal policy in an empirical two-bloc model / In R. Bryant and R. Portes
(eds). Global Macroeconomics: Policy Conflict and Cooperation. London :
Macmillan, 1987.
Edison H. J., Miller M. H., Williamson J. On evaluating and extending the target
zone proposal // Journal of Policy Modelling. 1987. Vol. 9 (I). P. 199-224.
Frankel J.A. Obstacles to international macroeconomic policy coordination//
Working paper 87/28. International Monetary Fund. 1987.
Frankel J. A., Rockett К. E. International macroeconomic policy coordination when
policy makers do not agree on the true model // American Economic Review.
1988. Vol. 78. P. 318-340.
Funabashi Y. Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre. Washington,
DC Institute for International Economics, 1988.
Ghosh A., Masson P. Model uncertainty, learning and gains from policy coor-
dination//Working paper 88/414. International Monetary Fund, 1988.
Giavazzi F., Pagano M. The advantage of tying one’s hands: EMS discipline and
central bank credibility//European Economic Review. 1988. Vol. 32.
P.1055-1082.
Group of Thirty. International Macroeconomic Policy Coordination. London
Group of Thirty, 1988.
Hamada K. Alternative exchange rate systems and the interdependence of monetary
policies I In R. Z. Aliber (ed.). National Monetary Policies and the International
Financial System. Chicago, IL : University of Chicago Press, 1974.
Hamada K. A strategic analysis of monetary interdependence // Journal of
Political Economy. 1976. Vol. 84. P. 677-700.
Hamada K. Macroeconomic strategy and coordination under alternative exchange
rates I In R. Dornbusch and J. A. Frenkel (eds). International Economic
Policy. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press, 1979.
Международная координация макроэкономической политики
617
Hamada К. The Political Economy of International Monetary Interdependence.
Cambridge, MA MIT Press, 1985.
Holtham G. German macroeconomic policy and the 1978 Bonn Summit / In
R. Bryant and E. Hodgkinson (eds). Can Nations Agree? Washington, DC :
Brookings Institution, 1989.
Holtham G., Hughes Hallett A. International policy cooperation and model
uncertainty / In R. Bryant and R. Portes (eds). Global Macroeconomics:
Policy Conflict and Cooperation. London Macmillan, 1987. (An extended
version is available in Discussion paper 190, Centre for Economic Policy
Research, London.)
IMF (International Monetary Fund). World Economic Outlook, April, October.
1987.
Kydland F. E., Prescott E. C. Rules rather than discretion: the inconsistency of
optimal plans // Journal of Political Economy. 1977. Vol. 85. P. 473-492.
Levine P., Currie D.A. Does international policy coordination pay and is it
sustainable? A two country analysis // Oxford Economic Papers. 1987.
Vol. 39. P. 38-74.
Levine P., Currie D.A., Gaines J. The use of simple rules for international policy
agreements I In M. Miller, B. Eichengreen and R. Portes (eds). Blueprints
for Exchange Rate Management. New York Academic Press, 1989.
Oudiz G., Sachs J. Macroeconomic policy coordination among the industrial
economies //Brookings Papers on Economic Activity. 1984. Vol. 1. P. 1-64.
Putnam R., Bayne N. Hanging Together: Cooperation and Conflict in the Seven-
Power Summits / 2nd edn. London Sage, 1987.
Rogoff K. Can international monetary policy coordination be counter-produc-
tive? // Journal of International Economics. 1985. Vol. 18. P. 199—217.
Williamson J. The Exchange Rate System I 2nd edn. Wasington, DC Institute
for International Economics, 1985.
Williamson J., Miller M. H. Targets and Indicators: A Blueprint for the Inter-
national Coordination of Economic Policy. Washington, DC : Institute for
International Economics, 1987.
УИЛЬЯМ ДЖ. ВАУМОЛЬ *
ДЕТЕРМИНАНТЫ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
И ТЕОРИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ
24.1. Введение
В теории рынка общепризнано, что структура отрасли оказывает
глубокое воздействие на поведение цен и выпуска, а в теории фирмы
она выступает в качестве важнейшей детерминанты результатов дея-
тельности отдельного предприятия. Отраслевая структура оказывает
также большое влияние на нашу оценку равновесия в экономической
теории благосостояния и играет ключевую роль в анализе проблемы
адекватного государственного вмешательства в функционирование
фирм и отраслей. Конечно, эта структура определяется не случайны-
ми причинами, а, no-видимому, глубоким воздействием экономиче-
ских факторов. Однако фактически вплоть до самого недавнего вре-
мени основная часть экономической теории развивалась так, как буд-
то отраслевая структура определялась экзогенно — так сказать, под
влиянием воздействия на экономику неких неизвестных сил или субъ-
ектов.
По меньшей мере три направления исследований недавно на-
чали изменять это положение дел. Старейшее из них — работы по
теории игр, содержащие множество моделей определения структу-
ры олигополистических рынков в различных условиях (см. гл. 17).
Второе направление разрабатывалось в трудах, интерпретирующих
фирму как механизм снижения трансакционных издержек; с этим
подходом наиболее тесно ассоциируются исследования Уильямсона
(Williamson 1985). Работы в рамках этого направления также кон-
центрируют внимание преимущественно на случае олигополии, хотя,
несомненно, они имеют отношение к гораздо более широкому кругу
ситуаций. Третье направление исследований связано с теорией со-
стязательных рынков. Хотя эта теория одинаково (и одинаково узко)
* Автор чрезвычайно благодарен Центру прикладной экономики Стар-
ра (С. V. Starr Center for Applied Economics) Нью-Йоркского университета за
поддержку работы над этой главой.
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 619
применима к случаям совершенной конкуренции, олигополии, мо-
нополии и других рыночных форм, ее всеобщность отнюдь не так
велика, как может показаться, поскольку проводимый в ее рамках
анализ справедлив в полной мере лишь для случая совершенной
состязательности, которая представляет собой теоретическое поня-
тие, практическое воплощение которого, по-видимому, встречается
столь же редко, как и совершенная конкуренция.
Несмотря на указанные ограничения, кажется несомненным, что
разработки в рамках этих трех направлений представляют собой
значительный прогресс в важной сфере, которая прежде была почти
абсолютно неисследованной, и тот факт, что здесь предстоит сделать
еще много работы, должен только стимулировать интерес экономи-
стов к тому, что уже удалось достичь.
24.2. Что такое отраслевая структура?
Термин «отраслевая структура» вмещает в себя множество ас-
пектов, которое гораздо богаче, чем то, о чем обычно говорят учебни-
ки вводного уровня. Верно, что «совершенная конкуренция», «моно-
полистическая конкуренция», «олигополия» и «чистая монополия»
являются различными структурными формами. Однако в полное
описание структуры конкретной отрасли входят и другие важные
элементы. Например, одна отрасль может быть в большей степени
вертикально интегрированной по сравнению с другой, причем пер-
вая из них достигает необходимой степени координации на основе
централизованного планирования и прямого регулирования, тогда
как вторая функционирует на основе контрактов или же просто с
опорой на рыночные процессы, руководствуясь ценовым механиз-
мом. Вдобавок структура отрасли зависит от широты ассортимента
продукции, т. е. от выбора между узкой специализацией и значи-
тельной диверсификацией, а также от того, в какой степени НИОКР
и инновации институционализируются как рутинная часть деятель-
ности фирмы или же «предаются на волю случая». Стратегические
факторы (если таковые имеются), встроенные в нормальную дея-
тельность отрасли в виде, например, сознательно поддерживаемых
барьеров на вход в нее новых фирм, также могут трактоваться как
важные структурные характеристики отрасли как при анализе ре-
зультатов ее деятельности, так и при выработке адекватной эко-
номической политики.
Такое расширение рассматриваемого термина — не семантиче-
ское упражнение, но важная проблема, поскольку конечной целью
является составление перечня типов организационных характеристик,
в той или иной степени присущих многим отраслям (если не боль-
шинству из них), характеристик, которые существенным образом
620
Уильям Дж. Баумоль
влияют на поведение отрасли и не должны упускаться из внимания
при выработке экономической политики. Акцент на широком разно-
образии характеристик, формирующих структуру отрасли, важен для
данного анализа еще и потому, что помогает объяснить вклад трех
направлений исследований детерминант отраслевой структуры, о ко-
торых пойдет речь далее.
j’.O-’J
e-i t
24.3. О сферах анализа, к которым относятся
три направления исследований
Было бы ошибкой рассматривать трансакционный анализ, тео-
рию игр и теорию состязательных рынков как соперничающие на-
правления исследований. Напротив, они являются взаимодополняю-
щими, и каждая из них ориентирована на то, чтобы пролить свет на
те области анализа, к которым остальные теории неприменимы.
Эти различия помогают объяснить конкретный вклад соответству-
ющих теорий в понимание детерминант отраслевой структуры.
Область анализа, к которой относятся трансакционный анализ и
теория игр и к которой неприменима теория состязательных рын-
ков, связана с теми отраслями, чей производственный процесс тре-
бует осуществления значительных безвозвратных (sunk) инвести-
ций., непременно носящих специфический характер. Именно при
наличии таких безвозвратных издержек вход в отрасль может быть
рискованным и дорогостоящим. По определению при отсутствии
безвозвратных издержек вступившая в отрасль компания, столкнув-
шись с убытками, может беспрепятственно уйти из данной отрасли,
изъяв при этом все свои ранее сделанные («возвратные») инвести-
ции. Таким образом, «бесплатный выход» из отрасли эквивалентен
«бесплатному входу» в нее. Именно наличие барьеров входа, позво-
ляющих фирмам осуществлять сговор и формировать коалиции для
получения прибыли за счет конкурентов или потребителей, порожда-
ет зависимость производителя от деятельности ограниченного числа
поставщиков и создает возможность нанесения взаимозависимым
экономическим агентам очень значительного ущерба от сбоев в
деятельности тех агентов, от которых они зависят. Данные обстоя-
тельства, в свою очередь, побуждают использовать дорогостоящие
механизмы мониторинга и контроля за поведением таких субъек-
тов рыночных отношений.
Напротив, полное отсутствие безвозвратных издержек и, как
следствие, отсутствие барьеров входа представляют собой отличи-
тельный признак совершенной состязательности. При таких усло-
виях рыночный механизм функционирует (почти) совершенно, по
меньшей мере в теории, побуждая при наличии двух или большего
количества производителей принимать такие ценовые и произвол-
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 621
ственные решения, которые необходимы для максимизации экономи-
ческого благосостояния. Например, чрезмерно высокие цены и/или
прибыли или неэффективность производства предоставляют возмож-
ности получения прибыли для вновь входящих в отрасль компаний,
которые по сравнению со «старыми» компаниями в отрасли менее
склонны к хищническому (grasping) поведению или более эффек-
тивны. Если «старые» компании не изменят своего «нежелательно-
го» поведения, они могут потерять клиентов, которые уйдут к но-
вым фирмам. При этом «старым» компаниям нет смысла жертво-
вать своей прибылью или прибегать к другим стратегическим
шагам для вытеснения вошедших в отрасль компаний, поскольку
при полном отсутствии безвозвратных издержек «новички» могут
покинуть рынок без каких-либо потерь для себя, с тем чтобы вер-
нуться в отрасль, как только «старые» компании вернутся к преж-
ней поведенческой стратегии.
Если вновь обратиться к обсуждению проблемы безвозвратных
издержек, то очевидно, что здесь имеются две основные возможности.
Производители, оперирующие на рынке со значительными безвоз-
вратными издержками, могут начать борьбу с конкурентами или же
объединиться с неким потенциальным конкурентом, чтобы угрожать
борьбой другим (или начать против них такую борьбу). С другой
стороны, потенциальные «борцы» или «игроки», имеющие определен-
ные подозрения в отношении намерений или будущего поведения
друг друга, могут выработать правила, в некоторой степени гаранти-
рующие, что каждая сторона будет действовать приемлемым для
остальных сторон образом. Первый из этих двух типов действий,
порождающий активное соперничество, конечно, является сферой ис-
следований теории игр. Второй тип действий, при котором для обес-
печения некоторой степени координации поведения и защиты ин-
тересов сторон преднамеренно заключаются институциональные со-
глашения, является сферой исследований трансакционного анализа.
С рассмотрения этого последнего подхода мы и начнем обсуждение
достижений в области исследования детерминант отраслевой струк-
туры.
24.4. Трансакционный анализ: отраслевая структура
как средство снижения издержек координации
Хотя трансакционный анализ содержит глубокие идеи относи-
тельно поведения фирм и проливает новый свет на проблемы эконо-
мической политики, пока что он не имеет формально последователь-
ной аналитической структуры. Поэтому отсутствует возможность
описать общую модель этого подхода и продемонстрировать следую-
щие из нее выводы применительно к детерминантам отраслевой струн-
622
Уильям Дж. Баумоль
туры. Как следствие, нам придется придерживаться традиционного
подхода, принятого в литературе данного направления, описывая кон-
кретные тематические сферы и рассматривая конкретные примеры.
На основе данного подхода мы покажем, как потребность в специали-
зированных безвозвратных инвестициях может повлиять на степень
вертикальной интеграции.
Рассмотрим продукт, наиболее эффективный способ изготовле-
ния которого предусматривает использование ресурса, производимого
с помощью очень дорогой машины; в то же время данная машина
настолько специализирована, что для любых других экономических
агентов ее ценность не намного превышает ценность металлолома.
Поэтому интересам изготовителя конечного продукта будет причинен
ущерб в том случае, если поставщик указанного ресурса окажется не
в состоянии приобрести данную машину. Однако такие инвестиции
влекут за собой значительный риск для поставщика, поскольку если
в ближайшем будущем изготовитель конечного продукта обратится
к другому поставщику, начнет использовать другой производствен-
ный процесс или вообще уйдет из этой сферы бизнеса, то большая
часть средств, вложенных в специализированную машину, будет безвоз-
вратно потеряна. Опасность описанной ситуации для изготовителя
конечного продукта состоит в том, что если ввиду описанных сообра-
жений поставщик откажется от приобретения машины, такой отказ
приведет к потерям, большую часть которых понесет сам изготови-
тель конечного продукта.
Чтобы избежать такого опасного развития событий, производи-
тель конечной продукции должен найти какой-либо способ принять
на себя обязательство, т. е. ограничить свою собственную свободу дей-
ствий, тем самым убеждая поставщика ресурсов в том, что приобре-
тение машины будет вполне надежным вложением средств. Данное
обстоятельство, помимо прочего, иллюстрирует следующий принцип:
правила, предотвращающие принятие таких обязательств, приводят к
потерям ценных активов индивидов, чья свобода оказывается неогра-
ниченной, как это имело место в случае со средневековыми монарха-
ми, которые вынуждены были занимать деньги по более высоким
процентным ставкам, чем их подданные, ввиду отсутствия механиз-
мов, с помощью которых король мог бы обязать себя к выплате дол-
га. Наш изготовитель конечного продукта имеет обычно достаточно
значительную свободу выбора вариантов своего поведения, поэтому
для него открыты возможности двух основных типов. Он может за-
ключить долгосрочный контракт с поставщиком ресурса, обещая по-
купать хотя бы некоторое определенное количество ресурса в год в
течение фиксированного количества лет. Альтернативной возможно-
стью является слияние с фирмой-поставщиком, т. е. вертикальная
интеграция.
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 623
При подобных обстоятельствах заключение контрактов может
приносить удовлетворительные результаты, но с ним могут быть
сопряжены определенные сложности. В контракте трудно оговорить
все возможные обстоятельства. Например, предположим, что кон-
троль качества со стороны поставщика ресурсов ухудшается. До
какой степени должно снизиться качество поставляемого ресурса,
чтобы покупатель был освобожден от своего контрактного обяза-
тельства? Каким образом обеспечить мониторинг за соблюдением
сторонами условий договора? Какими правами располагает каждая
из сторон, если у нее возникают сомнения в соблюдении другой
стороной условий контракта? Что случится, если покупатель ре-
сурса обанкротится? Будут ли в такой ситуации средства банкрота
использованы для выплаты компенсации продавцу ресурса? Издерж-
ки, связанные с тем, чтобы оговорить все эти проблемы в контракте
и реализовать соответствующие меры в случае наступления ого-
воренных обстоятельств, очень высоки. К этому можно добавить,
что в принципе невозможно заключить контракт, учитывающий
абсолютно все аспекты деятельности и специфицирующий шаги,
которые должны быть предприняты при наступлении каждого из
возможных обстоятельств. С учетом всего этого становится ясно,
что контракт — очень несовершенное решение обсуждаемой про-
блемы.
Однако альтернативное решение — вертикальная интеграция —
порождает проблемы, сопоставимые по сложности с описанными
выше. В интегрированной фирме решения дочерней компании, вы-
пускающей рассматриваемый ресурс, могут контролироваться толь-
ко при несении издержек мониторинга. На большом предприятии
жесткий контроль со стороны высшего руководства будет порож-
дать бюрократическую неэффективность, чрезмерно строгий надзор
за деятельностью дочерней компании и т. п. Очень серьезной ока-
зывается проблема стимулов, нелегко координировать децентрали-
зованные решения внутри фирмы и т. д.
Нам нет нужды продолжать дальше. Суть в том, что обе возмож-
ности сопряжены с издержками и несовершенны, так что рациональ-
ный выбор между контрактом и интеграцией — выбор, определя-
ющий структуру фирмы и отрасли в данном аспекте, — будет пред-
усматривать сопоставление транксакционных издержек двух линий
поведения. Понятно также, почему стороны вынуждены делать такой
выбор в ситуации, когда для обеспечения эффективности требуются
крупные безвозвратные инвестиции: ведь при отказе и от заключе-
ния контракта, и от интеграции указанные инвестиции будут слиш-
ком рискованными для поставщика ресурсов и результат его отказа
от их осуществления приведет к наихудшим результатам из трех
описанных вариантов действий.
624
Уильям Дж. Баумаль
Данный пример показывает, каким образом трансакционный
анализ проливает свет на определение элементов отраслевой структу-
ры, которые другие подходы вынуждены игнорировать. Однако он,
как представляется, мало что говорит нам о наиболее актуальном
вопросе в сфере отраслевой организации: что определяет базовую
рыночную форму (олигополистическую, монополистическую и т. д.),
которая возникает в отрасли или которую отрасль оказывается вы-
нужденной принять.
чмь
24.5. Вклад теории игр
С самого своего возникновения теория игр обеспечила получение
результатов, важных для понимания детерминант отраслевой струк-
туры. Анализ, проведенный в основополагающей книге фон Нейман-
на и Моргенштерна (von Neumann, Morgenstern, 1944), содержит де-
тальное рассмотрение понятия коалиций, их формирования и выжи-
вания. Ясно, что количество и размер коалиций, на которые делится
рынок, оказывают критически важное влияние на его структуру.
Последующие работы — некоторые из них будут описаны ниже, —
вносят более непосредственный вклад в рассмотрение этой проблемы.
Однако мы не утверждаем, что данные работы содержат обобщенный
анализ детерминант отраслевой структуры. Достижение подобных обоб-
щений едва ли возможно вследствие богатства и разнообразия моде-
лей, предлагаемых теорией игр, которые, по-видимому, отражают
широкое разнообразие возможностей, возникающих, когда взаимоза-
висимость решений оперирующих на рынке фирм очевидна им са-
мим и когда стратегические соображения присутствуют на всех эта-
пах процесса принятия решений. Как следствие, можно лишь проил-
люстрировать конкретные модели теории игр, избегая каких-либо
попыток обобщения. Как бы там ни было, более всеобъемлющее ис-
следование стратегического поведения содержится в гл. 17.
Здесь мы рассмотрим некоторые публикации, посвященные
стратегическим элементам поведения, влияющим на решения в
области слияний и на размер возникающей в результате таких
слияний фирмы. В качестве отправной точки анализа мы должны
допустить, что существует определенный размер образуемой в ходе
слияния фирмы, который оптимален (эффективен) при абстрагиро-
вании от стратегических элементов поведения. Этот размер может
определяться возможностями экономии от масштаба и диверсифи-
кации (scale and scope), которые, в свою очередь, определяют размер
образуемой в ходе слияния фирмы, совместимый с минимизацией
стоимости ресурсов, используемых для выпуска вектора продукции
отрасли. Однако, как мы вскоре увидим, стратегические соображе-
ния могут приводить к тому, что размер фактически образуемой в
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 625
ходе слияния фирмы оказывается либо меньше, либо больше опти-
мального.1 *
Двухпериодные модели олигополии предназначены для анализа
стратегического поведения с использованием простого сценария. Уже
функционирующая в отрасли фирма (или множество таких фирм),
«фирма 1» (или «множество фирм 1»), осуществляет инвестиции или
слияние в течение первого периода. Мы можем обозначить стоимость
соответствующего проекта (измерение и определение которой будут,
очевидно, зависеть от природы самого проекта) через К. Предполага-
ется, что величина^ прямо не влияет на конкурентов, но воздейству-
ет на некоторый элемент поведения фирмы 1 во втором периоде,
например на значение переменной хр являющейся объектом реше-
ния этой фирмы. Значение данной переменной, в свою очередь, вли-
яет на ее конкурента (конкурентов) — фирму (фирмы) 2, который
реагирует посредством изменения значения переменной х2, явля-
ющейся объектом его решения. Определим эти две переменные так,
что увеличение xt причиняет ущерб интересам фирмы 2, и наоборот.
Тогда стратегическая задача фирмы 1 заключается в выборе такого
значения К, которое через воздействие на х* побуждает фирму 2 умень-
шить величину х2. Это означает, что при отборе максимизирующего
прибыль значения К фирма 1 будет учитывать не только выгоды,
непосредственно связанные с этим значением, но также и выгоды,
достигаемые косвенно за счет снижения величины х2.
Обозначим через К* значение К, максимизирующее непосред-
ственные выгоды фирмы 1 от реализуемого ею проекта, а через № —
максимизирующее прибыль значение К с учетом как прямых, так и
стратегических выгод. Тогда в зависимости от знака производных
dXj/dX и dx2/dK мы можем получить либо К3 > К*, либо обратное
соотношение этих величин. В частности, если dxt/dX < 0, то мы, оче-
видно, имеем К3 > К* при dx2/dxp поскольку «избыточный» рост К
обусловит снижение хр что, в свою очередь, приведет к падению х2.
Такая стратегия именуется в работе Фуденберга и Тироля (Fudenberg,
Tirole, 1984) «стратегией жирного кота» («fat-cat strategy»), в соот-
ветствии с которой фирма 1 реализует проект, масштаб которого пре-
вышает оптимальный, что побуждает ее сдерживать свою агрессив-
ность, порождая аналогичную реакцию со стороны фирмы 2. Такая
линия поведения меняется на противоположную, когда dx2/dxj < 0:
К3 < К*. По Фуденбергу и Тиролю, это «стратегия тощего и голодно-
го» («lean-and-hungry strategy»), согласно которой недостаточное вло-
жение в реализацию проекта фирмы 1 стимулирует ее агрессивность,
«устрашая» фирму 2 и побуждая ее к уступкам.
1 Последующий анализ в значительной мере опирается на превосход-
ный обзор применения методов теории игр к изучению олигополистического
поведения: Shapiro (1987).
•I I Заказ № 356
626
Уильям Дж. Баумоль
Данную линию рассуждений можно применить к анализу про-
блемы слияний следующим образом. Пусть К или, скорее, М обознача-
ет стоимость слияния согласно оценкам, к примеру, задействованных
в нем фирм. Рассмотрим два альтернативных сценария. В первом из
них фирмы конкурируют, изменяя объем выпуска q (конкуренция по
Курно), тогда как во втором сценарии инструментом конкуренции
выступает цена р (конкуренция по Бертрану). Тогда xt из вышеприве-
денного описания следует заменить на qt в случае конкуренции по
Курно и на pt — в случае конкуренции по Бертрану. Но обычно мы
ждем того, что рост рр скорее всего, приведет к росту р2 через сниже-
ние потерь при сбыте продукции фирмы 2, связанных с повышением
цены. Иными словами, мы ожидаем, что dp2/dpj > 0. Однако когда
инструментом конкуренции является количество, неравенство при-
нимает обратный знак, поскольку увеличение объема выпуска фир-
мы 1 насыщает рынок.
Салант с соавторами (Salant et al., 1983), а также Дэвидсон и
Денеккер (Davidson, Deneckere, 1985) используют эти наблюдения для
обоснования вывода о том, что поскольку слияния побуждают фирмы
быть менее агрессивными (dXj/dAf < 0), то при наличии конкуренции
по Курно такие слияния будут приводить к М3 < М*, в то время как
при конкуренции по Бертрану описанное неравенство примет обрат-
ный знак в точности по тем причинам, которые были обобщены в
предыдущих абзацах.
Таким образом, приведенный выше материал — яркая иллю-
страция способа, посредством которого использование методов тео-
рии игр проливает свет на факторы, влияющие на отраслевую струк-
туру при наличии олигополии и безвозвратных инвестиций.
24.6. Детерминанты отраслевой структуры на
совершенно состязательных рынках
Третье направление исследований детерминант отраслевой струк-
туры — теория состязательных рынков — имеет дело со случаем,
аналитически сильно отличающимся от тех, к которым применимы
трансакционный анализ и теория игр. Это случай, при котором ры-
ночные силы почти так же могущественны, а фирмы почти так же
бессильны, как и в условиях совершенной конкуренции. При совершен-
ной состязательности нет нужды связывать мощь рынка с большим
количеством уже действующих на нем фирм из-за возможности вхо-
да на рынок новых компаний, не сопряженного с осуществлением
безвозвратных издержек, причем численность таких потенциальных
«новичков» достаточна для того, чтобы «дисциплинировать» уже су-
ществующие фирмы. Это, помимо прочего, облегчает формальный
анализ ввиду того, что цены принимают форму параметров, не под-
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 627
контрольных фирмам, — в точности так же, как если бы имела место
совершенная конкуренция. Но применительно к целям нашего обзо-
ра наиболее примечательная черта совершенной состязательности
заключается в том что в отличие от совершенной конкуренции или
характеристик теоретико-игровых ситуаций она не является исклю-
чительно или даже в первую очередь свойством одной конкретной
рыночной формы. Любая отрасль независимо от ее рыночной формы
может (теоретически) быть совершенно состязательной при условии,
что предприятия не несут безвозвратных издержек. Именно данное
свойство, благодаря которому отрасль может быть совершенно состя-
зательной и при этом иметь любую рыночную форму, открывает воз-
можности применения теории состязательных рынков для изучения
отраслевой структуры.
Используемая для этой цели процедура впечатляюще проста.
Она базируется на теореме, согласно которой любой вектор выпуска
должен в долгосрочном периоде производиться при минимальных
издержках, так как в противном случае у эффективной новой фир-
мы, пожелавшей войти в отрасль, или у группы таких фирм появят-
ся возможности получения прибыли, поскольку эта фирма (группа
фирм) будет в состоянии захватить рынок вследствие своего превос-
ходства в эффективности и возможности назначить более низкие цены.
Но для того, чтобы производство осуществлялось при минимальных
издержках, необходимо принять минимизирующую издержки отрас-
левую структуру. Например, предположим, что ассортимент выпуска-
емой отраслью продукции может быть произведен при минимальных
издержках в том случае, если в отрасли функционирует сто фирм,
в то время как фактически в ней функционируют только две. При
отсутствии издержек входа это будет создавать стимулы для вторже-
ния на рынок меньших по размеру и, по-видимому, более эффектив-
ных предприятий, причем уже существующие фирмы будут бессиль-
ны его предотвратить. Процесс вхождения на рынок новых фирм
прекратится лишь после того, как количество компаний в отрасли
достигнет ста, поскольку тогда — и только тогда — будут исчерпаны
возможности для получения прибыли в результате такого входа. Та-
ким образом, в условиях состязательности рыночные силы не позво-
ляют отрасли «принять» дуопольную структуру, и их действие приво-
дит к тому, что ее итоговая структура окажется ближе к чистой
конкуренции, чем к олигополии.
Эта часть рассуждений подозрительно элементарна и лишь под-
водит к тонкостям и сложностям, которые обнаруживаются на следу-
ющем этале анализа, когда речь заходит о расчете числа предприя-
тий, обеспечивающего минимизацию издержек, их распределении по
размеру, характеристиках ассортимента выпускаемой продукции каж-
дой минимизирующей издержки фирмы и т. д. Очевидно, решения
этих вопросов зависят от особенностей фактических функций издер-
628
Уильям Дж. Баумоль
жек многопродуктовых фирм. При этом должны быть формализова-
ны и переведены в аналитически приемлемые формы такие понятия,
как экономия от масштаба, взаимодополняемость в производстве раз-
личных выпускаемых отраслью продуктов и эффективный масштаб
производства для каждого возможного множества пропорций выпу-
ска; должны быть также четко расписаны роли этих факторов в ис-
следуемом процессе. В действительности теория уже содержит реше-
ние соответствующих вопросов, что можно рассматривать как первый
Шаг в требуемом направлении. Используемые при этом методы вкрат-
це описываются в следующем разделе (более подробно см. Baumol
et al., 1988 : ch. 5, 6).
Соответствующий анализ связан с еще одной сложностью. Как
нам известно, предшествующие работы показали, что формирующие-
ся на рынке уровни выпуска и цен зависят от существующей рыноч-
ной формы. Например, общепризнано, что, при прочих равных усло-
виях, при монополии цены будут выше, а выпуск ниже, чем при
совершенной конкуренции. Однако теория состязательных рынков
показывает, что обратное также верно — отраслевая структура, в свою
очередь, подвергается воздействию со стороны цен и выпуска. Напри-
мер, представим себе отрасль, выпускающую один продукт, в которой
функционируют фирмы, имеющие U-образные кривые средних издер-
жек. Предположим также, что минимум средних издержек достига-
ется при объеме выпуска, равном 1 миллиону единиц в год. Тогда
если эффективный рыночный спрос равен 1 миллиону единиц, то
минимизирующая средние издержки отраслевая структура будет, оче-
видно, монополией. Однако если объем спроса удвоится, то наиболее
эффективной структурой станет дуополия. Из всего этого следует,
что логически неправильно осуществлять поэтапный анализ, в ходе
которого сперва делается попытка объяснить структуру отрасли, а за-
тем исследуются цены и объемы выпуска, являющиеся следствием
этой структуры, уровня издержек и условий спроса. Напротив, по
меньшей мере в теории, следует учитывать взаимозависимость отрас-
левой структуры и объемов выпуска и анализировать их одновремен-
но. Попытка такого учета также предпринята в теории состязатель-
ных рынков.
С точки зрения формальных критериев ей, по-видимому, удалось
достичь в этом успеха, и никто из критиков теории состязательных
рынков, кажется, не испытывает сомнений на сей счет. Основной
недостаток рассматриваемой теории состоит в том, что, как известно,
ее объяснение детерминант отраслевой структуры «работает» только
в теоретическом и абстрактном мире совершенной состязательности.
Имеются предположения относительно того, что аналогичная линия
рассуждений может с оговорками применяться и к другим ситуаци-
ям, но, к сожалению, пока нет веских доказательств справедливости
этих предположений. Данный недостаток имеет прямое отношение к
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 629
применимости теории для анализа реального мира, в котором ни
конкуренция, ни состязательность никогда не могут быть совершен-
ными. Тем не менее данная теория в некоторых вопросах продемон-
стрировала свою связь с реальностью. В частности, она инспирировала
небольшой поток эконометрических исследований на отраслевом
уровне, некоторые из них были ориентированы на изучение миними-
зирующих издержки структур конкретных отраслей и сравнение
эффективных и реально существующих структур (см. Baumol et al.,
1988 : ch. 17, Section E).
' 24.7. Методы теории состязательных рынков,
предназначенные для анализа отраслевой структуры
Среди новшеств, предложенных теорией состязательных рын-
ков, наибольшее внимание исследователей, вероятно, привлекли те,
которые были связаны с новыми или модифицированными аналити-
ческими методами. Соответственно в этом разделе мы попытаемся
описать характеристики методов, используемых этой теорией для
анализа детерминант рыночной структуры. В ходе обсуждения бу-
дут представлены некоторые базисные понятия, употребляемые для
данной цели: субаддитивность издержек, являющаяся как опреде-
лением естественной монополии (если субаддитивность характерна
для отрасли в целом), так и универсальным требованием для обес-
печения оптимального размера фирмы и широты ассортимента вы-
пускаемой продукции; убывающие по лучу средние издержки (decli-
ning ray average cost) как индикатор локальной экономии от мас-
штаба; кросс-лучевая вогнутость (trans-ray convexity) как критерий
комплементарности выпускаемых продуктов; и, наконец, геометри-
ческое место точек эффективных масштабов производства фирм
с меняющимися пропорциями выпускаемых продуктов. Будет опи-
сана ключевая роль субаддитивности в определении отраслевой
структуры, а затем будет показана и объяснена трудность проверки
ее наличия в эмпирических данных или теоретической модели.
Наконец, будут представлены две теоремы, занимающие централь-
ное место в рассматриваемом анализе.
Согласно общепринятой ранее теории, наличие экономии от мас-
штаба является необходимым и достаточным условием для того, чтобы
отрасль была естественной монополией. По-видимому, трудно оспо-
рить тот факт, что как на обыденном языке, так и на языке экономи-
стов термин «естественная монополия» ассоциируется со случаем, когда
выпуск отрасли может быть произведен с наименьшими издержками
в одной фирме, а не на нескольких предприятиях. Однако, как это
будет показано ниже, данное представление не идентично понятию
экономии от масштаба. Предложенное выше определение естествен-
630
Уильям Дж. Баумоль
ной монополии на самом деле соответствует тому, что подразумевает-
ся под термином «субаддитивность издержек».
Формально суб аддитивность можно определить следующим
образом. Пусть С (У) представляет собой общие издержки производ-
ства вектора выпуска У, а У1 — вектор выпуска, производимого
фирмой i. Теперь если мы отберем любое множество значений У1,
такое, что
= У.
т. е. такое, что выпуск У полностью распределяется среди всех рас-
сматриваемых фирм, то тогда функция издержек С(У) строго субадди-
тивна при векторе У, если и только если
С(у-) > С(У).
Иными словами, функция совокупных издержек строго суб-
аддитивна при У, если не существует множества фирм и распределе-
ния У среди данных фирм, которые позволяли бы производить У по
меньшей мере со столь же низкими издержками, как в случае, когда
он производится одним предприятием.
Должно быть ясно, что это определение представляет собой
перевод на формальный язык традиционного понятия естественной
монополии. Однако оно является чем-то большим, поскольку, как
можно без труда убедиться, любая минимизирующая издержки от-
раслевая структура независимо от того, характеризуется ли она на-
личием двух фирм или тысячи, должна удовлетворять этому нера-
венству. Если при эффективной отраслевой структуре фирме i
соответствует вектор выпуска У1, то функция издержек фирмы i
должна быть (нестрого) субаддитивной при У1. Более того, чтобы
эффективное решение было единственным, в этой точке издержки
должны быть строго субаддитивными. Это должно быть ясно, по-
скольку если бы функция не была субаддитивной, то издержки
можно было бы уменьшить, «перераспределив» выпуск У', произво-
димый фирмой i, в пользу двух или большего числа предприятий,
тем самым опровергнув условие, согласно которому исходное рас-
пределение выпуска минимизирует общие издержки. Таким обра-
зом, хотя понятие субаддитивности издержек имеет критически
важное значение для анализа естественной монополии, оно, по мень-
шей мере в скрытой форме, играет не меньшую роль в случае
«естественной олигополии», т. е. в случае, при котором структурой,
минимизирующей издержки, является олигополия, или же в случае
«естественной совершенной конкуренции» и т. д. В любом из этих
случаев необходимо, чтобы каждой фирме при принятии миними-
зирующего издержки решения соответствовал вектор выпуска, при
котором ее издержки оказываются субаддитивными.
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 631
Хотя субаддитивность и является понятием, которое легко уяс-
нить интуитивно, к сожалению, с ним трудно работать непосредствен-
но в ходе формального или статистического анализа. Например, хотя
оно и в самом деле связано с экономией от масштаба, но в случае
многопродуктовой фирмы такая экономия не является ни необходи-
мым, ни достаточным условием субаддитивности. Тот факт, что она
не представляет собой необходимое условие, легко доказать от про-
тивного (Faulhaber, 1975). Рассмотрим однопродуктовую отрасль, в
которой должны быть предложены три единицы выпуска. Если все
они производятся разными фирмами, то средние издержки производ-
ства составляют 14 долл. Единственная фирма может произвести две
единицы за 18 долл, и три единицы за 30 долл. Ясно, что самый
дешевый способ производства трех единиц имеет место тогда, когда
их выпускает одна фирма, так что функция строго субаддитивна при
выпуске У = 3. Тем не менее при увеличении выпуска сУ=2доУ=3
средние издержки, очевидно, возрастают с 9 до 10 долл.; предель-
ные издержки также непрерывно растут. Таким образом, экономия
от масштаба отсутствует, несмотря на наличие строгой субаддитив-
ности.
Далее можно показать достаточность условия экономии от масш-
таба для субаддитивности в случае однопродуктовой фирмы (хотя и
нельзя показать, что это условие является необходимым, как было
продемонстрировано в предыдущем абзаце), однако причина его недо-
статочности в многопродуктовом случае поучительна и легко пости-
жима. Когда имеет место экономия от масштаба, издержки нельзя
снизить, разделив фирму и распределив ее выпуск среди множества
более мелких предприятий. Однако наличие экономии от масштаба
не исключает возможности повышения эффективности посредством
дробления вектора выпуска, к примеру, шестнадцатипродуктовой
фирмы среди шестнадцати более мелких предприятий, каждое из
которых специализируется на производстве отдельного товара. Если
это возможно, то очевидно, что исходная организация производства
не удовлетворяет требованиям субаддитивности. Иными словами,
экономия от масштаба без одновременного наличия взаимодополняе-
мости в производстве различных продуктов фирмы не может гаранти-
ровать невозможности организации производства, предполагающей
существование большего числа фирм меньшего размера, что означает
нарушение условия субаддитивности. Таким образом, субаддитивность
как фундаментальное понятие не является аналитически простым
эквивалентом понятия экономии от масштаба, а также не может быть
аппроксимировано и каким-либо другим известным понятием, кото-
рое было бы доступно для непосредственного анализа.
Отсюда со всей очевидностью следует, что существование субад-
дитивности очень трудно проверить эконометрически. Чтобы дока-
зать ее наличие, необходимо показать, что не существует комбинации
632
Уильям Дж. Баумоль
предприятий меньшего размера — не важно, двух предприятий или
тысячи, — которые могут произвести данный вектор выпуска с более
низкими издержками, чем рассматриваемая фирма. Однако исследо-
вание этой проблемы связано не только со значительными проблема-
ми из сферы комбинаторики, возникающими при изучении всех воз-
можных распределений вектора выпуска, но также и с получением
данных об издержках всех возможных фирм с меньшими векторами
выпуска: ведь требуются статистические оценки издержек даже тех
фирм, которые гораздо меньше любой реально функционирующей
или действовавшей в недавнем прошлом компании. К сожалению,
как нам известно, данные такого типа могут быть просто недоступны,
поскольку исторических аналогов фирмы интересующего нас размера
может просто не оказаться. Итак, мы в состоянии оценить статисти-
чески форму функции издержек только «в окрестностях» вектора
текущего выпуска исследуемой фирмы. Однако для непосредствен-
ной проверки предположения о субаддитивности необходимо, по край-
ней мере в принципе, оценить форму и положение поверхности из-
держек для всех векторов выпуска, меньших, чем вектор выпуска
рассматриваемой фирмы. Эконометрические затруднения, возникаю-
щие при решении этой задачи, должны быть очевидны.
К этому следует добавить, что у нас отсутствует аналитический
критерий проверки субаддитивности, т. е. правило, аналогичное тре-
бованиям максимизации функции одной переменной, согласно кото-
рым в точке максимума первая производная функции должна быть
равна нулю, а вторая производная должна быть отрицательной. Та-
ким образом, очевидно, что понятие субаддитивности, несмотря на
его интуитивную простоту, отнюдь не делает жизнь исследователя
легче.
Поскольку непосредственные методы анализа проблемы отсут-
ствуют, вместо них используются косвенные методы. В центре внима-
ния исследователей оказался набор условий, достаточных для того,
чтобы гарантировать субаддитивность, — условий, которые были бы
доступны как для формального анализа, так и для эконометрической
оценки. Хотя (как и в случае любых достаточных условий) их нару-
шение не опровергает наличия субаддитивности, полезно иметь систему
условий, которые в случае их соблюдения гарантируют наличие суб-
аддитивности.
Чтобы описать достаточные условия, которые кажутся наиболее
полезными в свете имеющихся разработок, нам нужно в первую оче-
редь определить два важных понятия — убывающие по лучу средние
издержки и кросс-лучевую вогнутость, которые соответственно связа-
ны с экономией от масштаба и взаимодополняемостью в производстве
нескольких продуктов. Выше уже были высказаны интуитивные до-
воды в пользу того^здо обв понятия критически важны для анализа
субаддцтивностц. .ц, ...
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 633
Понятие убывающих по лучу средних издержек относится к дви-
жению издержек вдоль луча в пространстве выпуска. Оно описывает,
что происходит со средними издержками при пропорциональном уве-
личении объема каждого вида продукции в ассортименте выпуска
фирмой (или отрасли). Таким образом, для любого вектора выпуска
У любая другая комбинация выпуска, расположенная на том же луче,
что и У, задана выражением АУ, где k является скалярным парамет-
ром, а средние издержки по лучу равны C(kY)/kY. Если мы произ-
вольно примем У в качестве единичного вектора на данном луче, то
по определению убывающие по лучу средние издержки в точке kY на
луче, проходящем через У, будут иметь место тогда и только тогда,
когда
(1[С(АУ)/АУ] d[C(fey)/A] Q
dAY dA
Это неравенство можно также трактовать как определение ло-
кальной экономии от масштаба в точке АУ. В любом случае, данное
условие, безусловно, общеизвестно и не требует дальнейшего обсуж-
дения.
Напротив, индикатор взаимодополняемости в производстве не-
скольких продуктов — кросс-лучевая вогнутость — появляется толь-
ко в работах по теории состязательных рынков и требует некоторых
объяснений. В целях упрощения мы будем рассматривать фирму или
отрасль, производящую лишь два вида продукции, X и У, и пусть
(х, у) будет любой точкой в пространстве выпуска, а (х*, 0) и (0, у*)
будут любыми двумя точками на осях пространства выпуска, такими
что сегмент линии, соединяющей их, проходит через (х, у). Тогда
говорят, что функция издержек характеризуется кросс-лучевой вогну-
тостью в (х, у), если существует любой сегмент линии, подобный
вышеописанному, при котором сечение функции издержек выше сег-
мента линии (х‘, 0)(0, у*) является вогнутым, т. е. U-образным. Грубо
говоря, это означает, что при любых двух точках, отражающих отно-
сительную специализацию вдоль этой линии, из которых одна точ-
ка (Я) характеризуется доминированием производства продукта X,
а другая (S) — доминированием производства продукта У, любой
промежуточный, а соответственно менее специализированный, вари-
ант (точка Т) соответствует уровню издержек, меньшему, чем среднее
значение издержек в Я и издержек в S. Ясно, что это просто форма-
лизованный способ выражения условия, согласно которому специа-
лизированное производство связано с более высокими издержками,
чем производство промежуточных комбинаций рассматриваемых
продуктов. Таким образом, это разновидность предположения о взаимо-
дополняемости; название «кросс-лучевая вогнутость» связано с тем,
что U-образное сечение вогнуто, а сегмент линии (х*. 0)(0, у*) должен
634
Уильям Дж. Баумоль
пересекать все возможные лучи в неотрицательном квадранте про-
странства выпуска.
Нетрудно продемонстрировать (хотя мы не будем приводить здесь
строгого доказательства) справедливость следующего базисного утверж-
дения: система достаточных условий, гарантирующих строгую субад-
дитивность функции издержек при некотором векторе выпуска Y,
предусматривает, что функция издержек характеризуется строгим
убыванием средних издержек по лучу при всех У* < У и нестрогой
кросс-лучевой вогнутостью при У.
Интуитивно этот результат объясняется просто. Когда оба эти
условия удовлетворены, невозможно добиться экономии издержек
посредством дробления выпуска отдельно взятой фирмы, производя-
щей У, поскольку убывание средних издержек по лучу свидетель-
ствует о том, что меньшие по масштабу «копии» данной фирмы будут
нести непропорционально более высокие издержки, а кросс-лучевая
вогнутость гарантирует, что то же самое будет верно для меньших по
размеру специализированных фирм. Таким образом, любой из двух
вариантов дробления вектора выпуска У среди меньших по размеру
предприятий должен вести к росту издержек, а это означает, что
функция издержек субаддитивна при У.2
Важность данного тезиса состоит в том, что он обеспечивает кос-
венный метод проверки субаддитивности. Даже если мы не можем
проверить ее прямо — либо аналитически, либо эконометрически, —
то, если нам удается подтвердить соблюдение обеих частей условия
достаточности, мы сможем сделать вывод о наличии субаддитивно-
сти. Поскольку как убывание средних издержек по лучу, так и кросс-
лучевая вогнутость представляют собой понятия, вполне поддающиеся
содержательной интерпретации, они были заложены в основу многих
теоретических работ и еще большего числа эмпирических исследо-
ваний.
Теперь мы рассмотрим еще одну теорему, являющуюся централь-
ной для фактического процесса определения отраслевой структуры.
Она задает ограничение на количество фирм в многопродуктовой
отрасли при минимизирующей издержки структуре, опирающееся на
определенную информацию о структуре издержек в соответствующей
отрасли. Это число предприятий подскажет нам, будет ли в условиях
состязательного равновесия данная отрасль монополистической, оли-
гополистической или примет какую-либо иную стандартную рыноч-
ную форму. Особые трудности, связанные с этой теоремой, возникают
вследствие многопродуктового характера отрасли, означающего, что
фирмы могут отличаться друг от друга как по ассортименту выпуска-
емых продуктов, так и по объемам выпуска каждого из этих продук-
2 Доказательство см. в: Baumol, 1977.
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 635
тов. Таким образом, мы не можем просто трактовать каждую из этих
фирм в случае п фирм в отрасли как ответственную за производство
одной n-й части вектора выпуска отрасли.
Для изложения этой теоремы нам нужно определить послед-
нее понятие — геометрическое место точек эффективных масшта-
бов. Для каждой комбинации выпуска, т. е. для каждого луча в
пространстве выпуска, мы ожидаем, что при некотором уровне вы-
пуска k*Y средние по данному лучу издержки производства комби-
нации продуктов достигнут минимального значения. Это значение
А*У можно рассматривать как эффективный масштаб выпуска по
лучу, проходящему через точку У. Предположим далее, что для
каждого луча в пространстве выпуска k* является единственным.
Тогда мы можем определить геометрическое место точек эффек-
тивных масштабов (геометрическое место точек М) как множе-
ство всех точек k*Y для каждого луча в неотрицательном квадран-
те пространства выпуска.
Ограничим теперь это геометрическое место точек двумя ги-
перплоскостями. Первая из них, задающая нижнюю линейную грани-
цу L, располагается на указанном множестве точек или ниже этого
множества, но как можно дальше от начала координат.3 Аналогич-
ным образом верхняя линейная граница U задается гиперплоско-
стью, расположенной на указанном множестве точек или выше этого
множества, но как можно ближе к началу координат. Пусть У1 будет
вектором отраслевого выпуска, а I и и — двумя скалярными констан-
тами, такими, что IY1 располагается на L, а иУ1 располагается на U,
причем, что естественно, I < и. Теперь мы выдвигаем следующий
тезис:4 если п — количество фирм при минимизирующей издержки
отраслевой структуре, то
Грубо говоря, этот тезис является многопродуктовым аналогом
интуитивно очевидного результата для однопродуктового случая, со-
гласно которому если У — отраслевой выпуск, т — эффективный
масштаб производства и Y/т — целое число, то минимизирующее
издержки число фирм должно составлять Y/m. Разнообразие ассор-
тимента продукции, которую могут выпускать фирмы в многопродук-
товом случае, обусловливает наличие диапазона, в который попадает
минимизирующее издержки число фирм.
3 Здесь мы измеряем расстояние от начала координат вдоль луча, про-
ходящего через вектор отраслевого выпуска У1.
4 Такая формулировка данного тезиса верна лишь приблизительно, но
вполне подходит для наших целей. Более строгую формулировку и ее дока-
зательство см. в: Baumol et al., 1988: ch. 5, Section F и ch. 5, Appendix Ш.
636
Уильям Дж. Баумоль
Наше обсуждение продвинулось достаточно далеко, чтобы дать
представление об аналитическом инструментарии теории состязатель-
ных рынков, используемом для изучения детерминант отраслевой
структуры, поэтому здесь нет необходимости углубляться в дальней-
шие его детали.
24.8. Заключительные замечания
Нет сомнений, что в анализе эндогенных факторов, влияющих на
отраслевую структуру и, возможно, в значительной мере определяю-
щих ее на практике, был достигнут значительный прогресс. Разнооб-
разие используемых подходов, несомненно, расширяет перспективы
получения новых содержательных результатов в этой важной сфере
исследований. Ее значение для теории, чья цель состоит в понимании
экономических явлений, кажется самоочевидной. Ее значение для
выработки экономической политики также несомненно, поскольку
мы не можем надеяться на достижение «желаемых» изменений в
отраслевой структуре, если не поймем, какие факторы делают эту
структуру такой, какая она есть.
Один из выводов, вытекающих из предшествующего изложения,
заслуживает того, чтобы еще раз уделить ему внимание. Хотя, быть
может, рассмотрение по отдельности процесса определения цен и
выпуска, с одной стороны, и процесса определения отраслевой струк-
туры — с другой, является обоснованным в качестве аналитического
упрощения, теперь очевидно, что оно в принципе некорректно. Как
было многократно продемонстрировано в предыдущем разделе, отрас-
левая структура несомненно зависит от отраслевого выпуска, кото-
рый, в свою очередь, зависит от цен. Однако в господствующей тео-
рии общим местом является утверждение о том, что цены и выпуск
сами по себе зависят от структуры исследуемой отрасли. Короче го-
воря, перед нами — еще один случай, когда корректный анализ пред-
полагает признание взаимной связи между исследуемыми феноме-
нами.
Литература
Baumol W. J. On the proper cost tests for natural monopoly in a multiproduct
industry //American Economic Review. 1977. Vol. 67. P. 809-822.
Baumol W. J., Panzar J. C., Willtg R. D. Contestable Markets and the Theory of
Industry Structure I revised edn. San Diego, CA Harcourt Brace Jova-
novich, 1988.
Davidson C., Deneckere R. Incentives to form coalitions with Bertrand competi-
tion// Rand Journal of Economics. 1985. Vol. 17. P. 404-415.
Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков 637
Faulhaber G. R. Cross-subsidization: pricing in public enterprises // American
Economic Review. 1975. Vol. 65. P. 966-977.
Fudenberg D., Tirole J. The fat-cat effect, the puppy-dog ploy and the lean and
hungry look // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1984.
Vol. 74. P. 361-366.
Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior.
Princeton, NJ Princeton University Press, 1944.
Salant S., Switzer S., Reynolds R. Losses from horizontal merger: the effects of
an exogenous change in industry structure on Coumot-Nash equilibrium //
Quarterly Journal of Economics. 1983. Vol. 98. P. 185-199.
Shapiro C. Theories of oligopoly behavior // Discussion paper 126. Woodrow
Wilson School, Princeton University, 1987.
Williamson О. E. The Economic Institutions of Capitalism. New York : Free Press,
1985.
25
ДЖ. РИЧАРД АРОНСОН И ЭТТИАТ Ф. ОТТ
,п’ЙРОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
25.1. Введение
Что отличает государственный сектор экономики от частного
сектора? Деятельность в частном секторе может быть направлена
на получение прибыли или на иные цели, но при этом она всегда
осуществляется индивидами или их группами в рамках рыночного
механизма. Деятельность же в государственном секторе может осу-
щестляться в рамках рыночного механизма или вне его, но решения
о ней принимаются в рамках политического процесса. В этом случае
группа, принимающая решение, называется правительством и наше
участие в реализации такого решения не является добровольным в том
смысле, в каком оно было бы таковым в частном секторе. Два сек-
тора взаимодействуют друг с другом. Частный сектор создает богатство,
которое отчасти используется государственным сектором. В то же
время последний играет существенную роль в создании среды, в ко-
торой могут добиваться успеха частные хозяйствующие субъекты.
Рост частного сектора имеет фундаментальное значение для
экономического благосостояния страны. Увеличение объема произ-
водимых им ценностей, измеряемых показателями валового нацио-
нального продукта (ВНП), объема производства, продаж и т. д.,
являются признаками экономического здоровья нации. Хотя явля-
ется общепризнанным, что деятельность государственного сектора
также имеет большое значение для экономического благосостояния,
его рост не всегда приветствуется. Согласно одной из точек зрения,
большие размеры и быстрый рост государственного сектора нега-
тивно сказываются на состоянии экономики и ее эффективности.
Стало даже модным использовать для описания роста государствен-
ного сектора демоническую метафору Левиафана,1 призванную под-
1 ьЛевиафан» — название известного трактата Томаса Гоббса. Джеймс
Бьюкенен использовал имя этого библейского чудовища, олицетворяющего
силы зла, для характеристики правительства (см. Musgrave, 1981 : 78).
Рост государственного сектора
639
черкнуть, что расширение государственного вмешательства и кон-
троля представляет угрозу для свободы и подрывает экономические
стимулы. Противоположная крайность состоит в приписывании пра-
вительству решающей роли в процессе экономического развития.
В соответствии с этой точкой зрения большой размер государствен-
ного сектора способствует экономическому росту, уменьшая зависи-
мость от внешних факторов (особенно если речь идет о развиваю-
щихся странах).
Материал этой главы состоит из четырех разделов. В разделе
25.2 мы дадим определение государственного сектора и представим
некоторые общие данные, иллюстрирующие тенденцию его роста во
времени. Наше обсуждение будет включать анализ ряда проблем из-
мерения роста и размера государственного сектора. Некоторые из этих
проблем представляют известный интерес, но в целом вывод о том,
что государственный сектор в большинстве стран мира увеличился,
трудно назвать неожиданным. Более интересен вопрос о том, почему
это происходило.
В разделе 25.3 мы рассмотрим ряд теорий, призванных раскрыть
причины роста государственного сектора, ни одна из которых не мо-
жет считаться вполне удовлетворительной. Широкое разнообразие
гипотез по этому поводу наводит на мысль о сложности обсуждаемой
проблемы, но в то же время позволяет уяснить множество обстоя-
тельств, помогающих понять динамику размера государственного сек-
тора. Также следует рассмотреть нормативные аспекты деятельности
государственного сектора. Одни полагают, что он необходим для ком-
пенсации случаев несостоятельности рынка (market failures). Такие
исследователи, как Ричард Масгрейв используют понятие несостоя-
тельности рынка как в сфере аллокации ресурсов, так и в сфере их
распределения и трактуют правительство как институт, наилучшим
образом пригодный для устранения таких дефектов (Musgrave, 1951;
Musgrave, Musgrave, 1989). Для других государственный сектор —
это Левиафан, порождающий нестабильность и истощающий ресур-
сы хозяйствующих субъектов, создающих экономические ценности-
Исследователи типа Милтона Фридмена и Джеймса Бьюкенена опаса-
ются, что слишком быстрый рост правительства и слишком значи-
тельные масштабы регулирования уменьшают экономическую свобо-
ду людей, порождают ошибочное экономическое поведение и притуп-
ляют стимулы к созданию богатства.2 Современные эмпирические
исследования в этой области описываются и анализируются в разде-
ле 25.4. В последнем разделе содержатся некоторые заключительные
замечания.
2 Превосходный анализ гипотезы Левиафана содержится в работе Хиг-
гса (Higgs, 1987 : 3-76).
640
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
25.2. Рост государственного сектора
Определение государственного сектора
Деятельность государственного сектора — это деятельность орга-
нов власти различных уровней. Это означает, что при определении
данного сектора нам нужно учесть действия как национальных пра-
вительств, так и правительств штатов и местных властей. В настоя-
щее время в Соединенных Штатах насчитывается свыше 80 000 раз-
личных органов власти. Что делают все эти органы? По мнению боль-
шинства, функции, исполнение которых наилучшим образом может
осуществляться государством, включают в себя национальную оборо-
ну, обеспечение в стране законности, правопорядка и безопасности, а
также формирование деловой и социальной инфраструктур. Меньше
единодушия наблюдается в вопросе об участии государства в управле-
нии производственными предприятиями. Государственное управление
или контроль над предприятиями, предоставляющими коммунальные
услуги (например, в сфере электро-, газо- и водоснабжения, канализа-
ции и т. д.), является распространенной практикой, не вызывающей
больших споров. Однако некоторые правительства осуществляют так-
же управление металлургическими компаниями, авиалиниями, же-
лезными дорогами и торговлей спиртными напитками. Колебания от
«национализации* отраслей к их «приватизации* наводят на мысль
о том, что мнения людей по поводу того, как наилучшим образом
предоставлять некоторые важные государственные услуги, сильно
различаются.
Органы власти также занимаются перераспределением дохода.
Реализация программ социального обеспечения предусматривает транс-
ферт дохода от тех, кто работает, к тем, кто уже вышел на пенсию;
программы в сфере здравоохранения осуществляют трансферт ресур-
сов от тех, кто здоров, к тем, кто болен; механизм государственного
долга перераспределяет доход между налогоплательщиками и держа-
телями облигаций. В Соединенных Штатах суммы, расходуемые госу-
дарством на перераспределение, значительно превышают суммы, на-
правляемые на закупки товаров и услуг.
Очевидно, что размеры государственного сектора различают-
ся от страны к стране. Одни страны передают государству боль-
ше функций или придают больший вес его услугам, чем другие.
Более того, распределение ответственности между различными уров-
нями государственной власти также варьирует: одни страны боль-
ше полагаются на центральное правительство, чем другие. Указан-
ные различия существуют потому, что различные группы имеют
разные политические системы, в них по-разному проявляется дей-
ствие демографических тенденций, страны различаются по уровню
Рост государственного сектора
641
дохода и богатства, а люди отличаются друг от друга по своим
предпочтениям в отношении предлагаемых государством товаров и
услуг.
Измерение государственного сектора
Сопоставление традиционных бюджетных показателей и показа-
телей национального дохода показывает, что в течение последнего
столетия доля государственного сектора в национальном доходе уве-
личилась во всех странах Западной Европы и Северной Америки.
Однако измерение размера правительства через отношение государ-
ственных расходов к национальному доходу или к ВНП не является
вполне удовлетворительным. Регулирующие действия правительства
также оказывают важное влияние на решения частного сектора. Но
эти косвенные эффекты весьма сложно квантифицировать, так что
обычно используется традиционный, более «узкий* показатель мас-
штаба деятельности правительства.
Даже с этим «узким» показателем размера государственного
сектора мы должны обращаться с осторожностью, особенно при осу-
ществлении межстрановых сравнений размера и темпов роста этого
сектора. Необходимо принимать во внимание тот факт, что террито-
рии стран и численность их населения могут меняться, а цены пред-
лагаемых государством благ могут в разной мере отклоняться от
общего тренда ценовой динамики.
Таблица 25.1 содержит обобщенные данные о росте государствен-
ного сектора США за период 1929-1987 гг. В течение этого периода
совокупные расходы федерального правительства, правительств шта-
тов и местных властей возросли в текущих ценах с 10.3 млрд долл,
до 1574.4 млрд долл. Это соответствует среднему темпу прироста,
равному 9% в год. Мы также отделили расходы правительств штатов
и местных властей от расходов центрального правительства и обнару-
жили, что после Великой депрессии последние росли быстрее, чем
расходы остальных уровней власти. Могут ли эти очень приблизи-
тельные данные интерпретироваться как убедительное доказательство
роста государственного сектора США? Ответ на этот вопрос должен
быть отрицательным. Прежде всего следует отметить, что в течение
этого периода увеличивались как размеры страны, так и ее богатство:
возросли и число штатов, и численность населения, и доход на душу
населения.
Мы можем составить лучшее представление о расширении го-
сударственного сектора, сопоставив темп роста государственных рас-
ходов с темпом роста цен, доходов и численности населения. С 1929
по 1987 г. среднегодовой темп роста цен в Соединенных Штатах со-
ставлял примерно 3.7% (это темп инфляции, измеренный по дефлятору
ВНП). Таким образом, если мы скорректируем данные, измеренные
42 Заказ № 356
Таблица 25.1
Рост государственного сектора
Год Расходы государственного сектора (млрд долл.) ВНП Численность населения (млн чел.) Индекс цен (1982 г. = 100) Расходы государственного сектора (% ВНП) Общие государственные расходы на душу населения в постоянных ценах
сово- купные феде- ральные штатов и мест- ных властей сово- купные федераль- ные расходы
1929 10.3 2.7 7.8 103.9 121.8 14.6 9.9 2.6 585
1939 17.6 9.0 9.6 91.3 130.9 12.7 19.3 9.9 1059
1949 60.0 42.0 20.2 260.4 149.2 23.5 23.0 16.1 1711
1959 131.9 91.7 47.0 495.8 177.8 30.4 26.6 18.5 2440
1969 290.2 191.3 119.0 963.9 202.7 39.8 30.1 19.8 3599
1979 768.3 521.1 327.7 2508.2 225.1 78.6 30.6 20.8 4343
1987 1574.4 1074.2 602.8 4526.7 243.9 117.7 23.8 23.7 5475
Среднегодовые темпы роста (%)
1929-1987 9.0 10.8 7.7 6.7 1.2 3.7 3.9
1929-1939 5.5 12.7 2.1 -1.3 6.1
1939-1949 13.0 16.6 7.7 7.1 4.9
1949-1959 8.2 8.1 8.8 6.7 3.6
1959-1969 8.2 7.6 9.8 6.9 3.9
1969-1979 10.2 10.5 10.6 10.0 1.9
1979-1987 9.3 9.4 7.9 7.6 2.9
Источники: Economic Report of the President, 1989, p. 401; ACIR, Significant Features of Fiscal Federalism, 1988 edn,
volume 1, pp. 2-3.
642 Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
Рост государственного сектора
643
в текущих ценах, на темп инфляции, то все равно они будут свиде-
тельствовать о росте государственного сектора. Грубо говоря, государ-
ственный сектор в Соединенных Штатах расширялся на 5.3% еже-
годно.
С 1929 по 1987 г. численность населения Соединенных Штатов
возрастала средним темпом 1.2% в год. Таким образом, даже после
корректировки наших показателей государственных расходов с учетом
изменений цен и численности населения мы наблюдаем их значитель-
ный рост. Государственные расходы на душу населения в ценах 1982 г.
увеличивались с 1929 по 1987 г. в среднем на 4% в год.
Другой способ оценки размера государственного сектора заклю-
чается в его соотнесении с совокупным размером экономики. С 1929
по 1987 г. среднегодовые темпы роста ВНП (6.7%) были ниже средне-
годовых темпов увеличения государственных расходов (9%). В табл. 25.1
показано отношение общих государственных расходов к ВНП США:
с 10% в 1929 году оно увеличилось до 35% в 1987 г. Таким образом,
мы вновь можем сделать вывод об увеличении государственного сек-
тора.
Рост государственного сектора не был ни непрерывным, ни устой-
чивым. Существовали промежутки времени, на протяжении которых
темпы роста государственного сектора были примерно равны темпам
экономического роста (например, 1969-1979 гг.), и временные интер-
валы, когда темпы роста государственного сектора существенно пре-
вышали темпы роста ВНП (например, 1929-1939 и 1939-1949 гг.).
Более того, не всегда рост расходов центрального правительства опе-
режал рост расходов правительств штатов и местных властей. Как
показывают данные, представленные в нижней части табл. 25.1, тем-
пы роста расходов правительств штатов и местных властей превыша-
ли темпы роста расходов федерального правительства на протяжении
1950-х и 1960-х гг. Заслуживают внимания различия в траекториях
роста этих двух секторов на протяжении последних пятидесяти лет.
В то время как сектор правительств штатов и местных властей воз-
растал устойчивыми темпами, темпы роста федерального сектора ха-
рактеризовались максимальными значениями в 1930-е и 1940-е гг., за
которыми следовал период более низких темпов роста в последующие
десятилетия. Несмотря на эти «пики» и «плато», рост государствен-
ного сектора в целом — особенно относительно ВНП — придает до-
стоверность точке зрения, согласно которой правительство представ-
ляет собой «растущую отрасль».3
3 Против данной точки зрения, принятой всеми остальными экономи-
стами, выступил Моррис Бек, который разработал особые ценовые дефлято-
ры для государственных расходов, использование которых позволяет заклю-
чить, что государственные расходы в реальном выражении, возможно, росли
не столь быстро, как полагают многие исследователи (Beck, 1981).
644
Дж. Ричард Аронсон и Эппиат Ф. Отт
Таблица 25.2
Международные сравнения (расходы центрального правительства в %
к ВВП)
США Велико- британия Швеция ФРГ Индия Канада Австра- лия Брази- лия
1977 22.2 36.7 41.1 29.6 17.2 21.3 28.2 23.5
1978 22.2 38.4 44.8 29.5 18.7 21.5 24.0 23.8
1979 21.0 38.1 45.7 29.1 19.6 20.6 27.6 22.2
1980 27.8 40.6 46.5 30.6 18.7 21.3 26.8 23.5
1981 24.5 41.5 48.3 31.6 18.0 22.3 26.9 26.0
1982 25.4 43.7 49.0 32.0 18.9 24.8 27.2 28.8
1983 25.2 42.5 49.9 31.5 18.9 24.6 29.5 30.4
1984 24.6 41.5 47.9 31.7 20.8 25.2 30.4 28.3
1985 25.7 41.3 48.3 31.3 22.5 24.6 30.9 38.2
1986 25.0 39.9 49.0 30.5 23.9 23.2 30.4 34.4
1987 24.1 н. Д. 43.4 30.5 22.5 н. Д. 29.7 н. Д.
Источник: Government Finance Statistics Yearbook, Vol. XII, 1988, pp. 94, 95.
Примечание: в. д. — нет данных.
Таблица 25.2 содержит некоторые данные о размере государствен-
ного сектора в США и в ряде других стран. Из таблицы можно ви-
деть, что в сравнительном выражении государственный сектор США
не особенно велик. Это международное сопоставление сфокусировано
только на деятельности центральных правительств и оперирует пока-
зателем государственных расходов в процентном отношении к вало-
вому внутреннему продукту (ВВП). Во многих странах, особенно про-
мышленно развитых, государственные расходы в процентном отно-
шении к ВВП были выше, чем в Соединенных Штатах. Отметим
также, что, хотя таблица охватывает лишь короткий промежуток вре-
мени (1977-1987 гг.), можно с определенностью говорить о повыша-
тельной тенденции в динамике государственных расходов в рассмат-
риваемых странах.
До того как мы перейдем к обсуждению теорий роста государ-
ственного сектора, необходимо подчеркнуть тот факт, что бюджетные
расходы являются очень несовершенным методом измерения разме-
ра государственного сектора и воздействия правительства на эконо-
мику. Прежде всего значительный компонент государственных рас-
ходов приходится на приобретение ресурсов (inputs), а не на произ-
водство «выпуска» (outputs), что затрудняет интерпретацию их роста
в терминах повышения уровня благосостояния. Более того, расхо-
ды — не единственный показатель, который может быть использо-
ван для измерения масштабов деятельности государственного секто-
Рост государственного сектора
645
ра. Другой переменной является общий уровень занятости в этом
секторе. Кроме того, важно отметить, что возможности и размер пра-
вительства часто проявляют себя благодаря его роли в урегулирова-
нии противоречий между частными и социальными интересами. Кван-
тификация этих типов деятельности представляет собой задачу, кото-
рая пока не имеет удовлетворительного решения.
25.3. Теории роста государственного сектора
Существует много теорий и гипотез, нацеленных на объяснение
размера государственного сектора и его роста. Ни одна из них, взятая
в отдельности, не дает полного объяснения этих феноменов, но вместе
они позволяют сделать важные выводы, улучшающие наше понима-
ние проблемы. Мы начнем анализ с рассмотрения закона Вагнера,
согласно которому государственные расходы имеют тенденцию к ро-
s сту в процентном отношении к национальному доходу. Затем опи-
шем различные теории роста государственного сектора, сгруппиро-
ванные по следующим рубрикам: теории внутренних экономических
факторов, теории внутренних политических факторов и теории внеш-
них факторов.
Закон Вагнера /
По общему мнению, честь открытия тенденции роста государ-
ственных расходов относительно национального дохода принадлежит
немецкому экономисту Адольфу Вагнеру. Как следствие, эту тенден-
цию обычно называют законом Вагнера. Вагнер, писавший в середи-
не XIX в., интерпретировал это увеличение как результат естествен-
ного развития цивилизации. То, что государственные расходы долж-
ны расти с ростом национального дохода, неудивительно. Существует
мало причин сомневаться в том, что предлагаемые государством това-
ры и услуги являются «нормальными». Но почему размер государ-
ственного сектора должен увеличиваться по сравнению с частным
сектором экономики?
Вагнер не считал возможным теоретически определить оптималь-
ное соотношение между фискальными запросами государства и наци-
ональным доходом и в равной мере не полагал, что государственный
сектор в конечном счете поглотит всю экономическую деятельность.
Однако он утверждал, что, поскольку удовлетворение фискальных
потребностей государства представляет собой только одну из статей
расходов бюджета домашнего хозяйства, существует определенное
отношение государственных расходов к национальному доходу, кото-
рое не может быть превышено.
646
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
Для Вагнера расширение государственного сектора в долгосроч-
ной перспективе являлось продуктом экономического развития,
сопровождающегося ростом численности и плотности населения,
поскольку оба фактора могут увеличивать спрос на деятельность
правительства. Экономический рост также ведет к более совершен-
ному разделению труда, возникновению крупных экономических
организаций и более сложной системы экономических связей меж-
ду людьми; все эти факторы могут по понятным причинам приве-
сти к расширению масштабов деятельности правительства (Musgrave,
Peacock, 1967:1-15).
Более глубокое понимание причин роста государственного секто-
ра было связано с работами другого немецкого экономиста XIX в.,
Эрнста Энгеля. В центре его интересов находились различные модели
потребления. Он показал, что, чем беднее семья, тем большая часть
ее совокупных расходов направляется на приобретение продуктов пи-
тания. Именно из этого факта были выведены законы Энгеля, четвер-
тый из которых гласит, что по мере увеличения дохода процентная
доля расходов на все остальные блага повышается.4 Следует ли тогда
рассматривать общественные блага в качестве предметов роскоши? Несо-
мненно, трактовка общественных благ как однотипных является чрез-
мерно упрощенной. Расходы на оборону можно рассматривать как
расходы на предметы первой необходимости; в действительности их
доля в национальном доходе уменьшалась в полном соответствии с
законом Энгеля. А если в качестве расходов на предметы роскоши
трактовать социальные пособия, то можно найти дополнительное под-
тверждение корректности приложения подхода Энгеля к анализу ро-
ста государственного сектора.5
Работы Вагнера и Энгеля содержат описание, а не объяснение
роста государственного сектора. Далее мы обсудим ряд экономиче-
ских и политических теорий, которые вносят вклад в наше понима-
ние обсуждаемой проблемы.
Теории внутренних экономических факторов
В концепциях, которые именуются нами теориями внутренних
экономических факторов, уровень государственных расходов тракту-
ется как результат функционирования рынка предлагаемых государ-
ством товаров и услуг; таким образом, этот уровень определяется
характеристиками спроса и издержек, а также размером сообщества.
4 Более подробное обсуждение законов Энгеля см. в работе Стиглера
(Stigler, 1954).
5 Подробнее о трактовке государственных расходов как расходов на
предметы роскоши см. в работе Масгрейва (Musgrave, 1978).
Рост государственного сектора
647
В этом случае обсуждаемая проблема сводится к проблеме оценки
эластичностей предложения и спроса на общественные блага по це-
нам и доходам, а также эффекта распределения налогового бремени
(tax-sharing effect).
Чтобы увидеть, как может проявляться эффект распределе-
ния налогового бремени, рассмотрим понятие «общественного бла-
га». Общественные блага технически определяются как такие блага,
которыми мы все пользуемся вместе (т. е. имеет место совместное
предложение (joint supply)), причем исключить кого-либо из по-
требления очень трудно или дорого.® Для наших целей более важ-
ным является свойство совместного потребления. Оно предполага-
ет, что каждый человек потребляет одинаковое количество блага
(но, возможно, не извлекает из этого одинаковой полезности) и что
потребление одного лица не ведет к потере полезности для другого
(т. е. отсутствуют издержки, связанные с конкурентностью в потреб-
лении или чрезмерным потреблением блага). Каковы в этих усло-
виях будут последствия присоединения к рассматриваемой группе
еще одного человека при принятии допущения о постоянстве из-
держек предоставления общественных благ? По мере того как груп-
па становится больше, налоговая цена благ в расчете на одного
человека падает (из-за распределения налогового бремени на боль-
шее число людей), что может привести к увеличению спроса на
общественные блага. Поэтому расширение государственного сектора
можно трактовать как следствие роста численности членов сообще-
ства, приводящего к снижению относительной цены общественных
благ.
Вне зависимости от эффекта распределения налогового бремени,
который играет решающую роль в случае роста или падения числен-
ности населения, общественность может фактически недооценивать
относительную цену общественных благ. Стабблбайн (Stubblebine, 1963),
Бьюкенен (Buchanan, 1967) и Гетц (Goetz, 1977) доказывают, что по-
скольку налоговые системы обычно отличаются высокой сложностью,
налогоплательщики вряд ли знают, какого размера налоги фактиче-
ски ими выплачиваются. В случае же долгового финансирования люди
недооценивают будущие налоговые выплаты, необходимые для обслу-
живания долга. Последствия этой недооценки издержек состоят в
том, что спрос на общественные блага и размер бюджета будут боль-
ше, чем они были бы при корректном восприятии цен.
Рост дохода, как и увеличение численности населения, повы-
шает спрос на продукцию государственного сектора. Более быстрый
по сравнению с увеличением национального дохода рост государ-
8 Классическая трактовка и развитие концепции общественных благ
содержатся в трудах Самуэльсона (Samuelson, 1964, 1966).
648
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
ственных расходов означает, что эластичность спроса на обществен-
ные блага по доходу превышает единицу. Но в какой мере увели-
чение этих расходов можно объяснить ростом численности населе-
ния, цен и доходов? Часто цитируемый показатель, приводимый
Борчердингом (Borcherding, 1977а : ch. 2; 1985), говорит нам, что
эта величина составляет около 38%. При соотнесении государствен-
ных расходов с ВНП эти три фактора роста объясняют, поче-
му консолидированный бюджет США поглощал в 1978 г. 18% ВНП,
в то время как фактический показатель составлял 35% (Borcherding,
1985 : 368). Таким образом, значительную часть увеличения расхо-
дов в абсолютном выражении и в процентном отношении к ВНП
можно отнести на счет предпочтений граждан — президента, кон-
грессменов или, возможно, медианного избирателя. Однако очень
многое остается необъясненным.
Одна из наиболее интересных догадок по поводу причин роста
государственного сектора связана с теорией несбалансированного
роста, предложенной Баумолем (Baumol, 1967). Основная предпо-
сылка его теории состоит в том, что отрасли экономики можно
подразделить на стагнирующие (с малыми или нулевыми темпами
технического прогресса) и технологически прогрессивные. Одни пред-
приятия или секторы будут более производительными, чем другие
(если определять производительность как отношение объема выпу-
ска к затраченным человеко-часам). Этот кажущийся тривиаль-
ным тезис приводит к объяснению роста государственного сектора,
акцентируя внимание на роли труда в производстве товаров и услуг.
Баумоль отмечает, что хотя труд может быть не более чем произ-
водственным ресурсом, иногда он выступает и в качестве готового
«продукта», и именно там, где это имеет место (в секторе услуг),
рост производительности будет меньше.
Рассмотрим приложение этого утверждения к экономике, состо-
ящей из двух секторов: прогрессивного и стагнирующего. С течени-
ем времени производительность (т. е. объем выпуска в расчете на
человеко-час) в прогрессивном секторе увеличивается, тогда как в
стагнирующем секторе такого роста не наблюдается. В конкурентной
экономике труд получает вознаграждение, равное ценности его пре-
дельного продукта. Таким образом, в прогрессивном секторе реаль-
ная заработная плата будет расти темпом, равным темпу техническо-
го прогресса. Возросшая производительность в прогрессивном секто-
ре может поддерживать увеличение заработной платы при отсутствии
роста удельных издержек. Однако если рынки труда двух секторов не
изолированы друг от друга, конкурентное давление будет «переда-
вать» это увеличение зарплаты в стагнирующий сектор. Это означает,
что с течением времени удельные издержки предприятий последнего
будут монотонно и неограниченно возрастать относительно издержек
в прогрессивном секторе.
&9вт государственного сектора
649
Спрос на продукцию стагнирующего сектора зависит от относи-
тельной цены этой продукции и от дохода. Рост относительной
цены будет, конечно, вести к падению спроса, тогда как повышение
уровня дохода будет увеличивать его.7 Если ценовой эффект доми-
нирует, то непрерывный рост относительных издержек в менее про-
изводительном секторе может привести к вытеснению продукции
этого сектора с рынка. Однако если спрос на блага, предлагаемые
этим сектором, очень неэластичен благодаря действию рыночных
или политических факторов, то все большая часть рабочей силы
будет перемещаться в стагнирующий сектор. Более того, уровень
расходов на товары и услуги, предлагаемые этим сектором, будет
повышаться относительно расходов на блага, выпускаемые в про-
грессивном секторе.
Если предположить, что в государственном секторе наблюдает-
ся малый или нулевой рост производительности, то из модели
Баумоля следует, что рост государственных расходов будет более
быстрым в сферах деятельности, спрос на продукцию которых ха-
рактеризуется наибольшей эластичностью по доходу и наименьшей
эластичностью по цене. Это предсказание о росте размера государ-
ственных расходов трудно проверить эмпирически.8 Тестирование
этой теории в приложении к деятельности государственного секто-
ра зависит от нашей способности определить «выпуск» правитель-
ства.9 Во вводном разделе мы уже упоминали о данной проблеме.
Государственные расходы, о которых дает представление статисти-
ка, являются в основном «затратами», в то время как все попытки
измерить «выпуск» государственного сектора неизменно оказыва-
ются малорезультативными.
Несмотря на эту проблему, центральное утверждение теории Бау-
моля выглядит очень убедительно. Государственный сектор является
трудоемким, а его «выпуск» обычно имеет вид услуг, а не товаров.
Если ценовая эластичность спроса на услуги государственного секто-
ра низка, если производительность возрастает только в частном сек-
7 В своей оригинальной статье Ваумоль (Baumol, 1967) игнорировал
влияние роста дохода, связанного с повышением производительности, на спрос
на общественные блага. Критика данного аспекта его концепции была вы-
сказана Линчем и Редманом (Lynch, Redman, 1968), а также Кереном (Keren,
1972).
8 Существует множество эмпирических работ, основанных на данных
о частном секторе, которые подтверждают предсказания модели Баумоля
по поводу роста удельных издержек в стагнирующих отраслях. Подробнее
см.: Baumol et al. (1986 : 806-817).
8 В эмпирических исследованиях (Bradford et al., 1969; Spann, 1977)
♦ выпуск» государственного сектора определялся как расходы государствен-
ного сектора, деленные на цену его продукции.
660
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
торе и если давление рынка труда приводит к единообразному для
всей экономики увеличению заработной платы, то есть причины по-
лагать, что расходы государственного сектора будут расти относитель-
но расходов частного сектора.
Теории внутренних политических факторов
ZWHt-В концепциях, которые мы называем теориями внутренних
политических факторов, уровень государственных расходов тракту-
ется как результат политического процесса. Анализ в рамках тео-
рии общественного выбора позволяет выдвинуть ряд гипотез от-
носительно причин роста государственного сектора (см. гл. 12).
Теория общественного выбора исходит из предпосылки, согласно
которой преследование личного интереса является мотивирующей
силой, лежащей в основе действий людей как в государственном,
так и в частном секторе. Деятельность субъектов, занятых в го-
сударственном секторе, в не меньшей степени ориентирована на
соискание ренты, чем деятельность субъектов, занятых в частном
секторе. Рассуждения о том, что решения в государственном секто-
ре принимаются исключительно на основе «общественного интере-
са», не столько ошибочны, сколько наивны. Деятельность избран-
ных должностных лиц рассматривается в контексте максимизации
ими своего дохода и/или власти посредством увеличения расходов
на программы, которые повышают их шансы на переизбрание. Чи-
новники или «бюрократы» (исследователи, занимающиеся пробле-
матикой общественного выбора, предпочитают это слово терми-
ну «государственные служащие») также подходят к своей власти
с рыночными мерками, но в этом случае их цель заключается
в расширении своих полномочий, или, в упрощенной трактовке,
в максимизации контроля их учреждений над бюджетными ресур-
сами.10
Аналитики, работающие в рамках теории общественного выбо-
ра, уделяют пристальное внимание проблемам, возникающим вслед-
ствие асимметрии расходов и налогов и фискальных иллюзий, ко-
торые могут быть связаны с использованием долгового финансиро-
вания. Например, политикам может быть известно, что избиратели
положительно реагируют на программы государственных расходов,
но отрицательно — на увеличение налогов. Большинство программ
государственных расходов помогает приобрести сторонников. По-
скольку получатели соответствующих средств могут быть сосредо-
10 Обсуждение роста бюрократического аппарата содержится в работах
Паркинсона (Parkinson, 1955), Нисканена (Niskanen, 1971), Виккерса и Яр-
роу (Vickers, Yarrow, 1988).
Рост государственного сектора
651
точены в рамках одной или нескольких групп (например, получа-
телей пособий по социальному обеспечению), то эти люди, по всей
вероятности, будут поддерживать политиков, действующих в их
интересах. Но как насчет налоговой стороны бюджета? Налоги,
предназначенные для финансирования конкретных программ, обыч-
но распределяются среди группы людей, значительно превышаю-
щей по численности группу получателей пособий. Отсюда следует,
что увеличение налогового бремени, необходимое для финансирова-
ния пособий, может восприниматься неадекватно и оппозиция та-
кой программе не будет четко артикулирована. Другая проблема
связана с тем, что налогоплательщики могут не обнаружить связи
между выгодами и издержками государственных расходов и в ре-
зультате одобрить расходы, но выступить против роста налогов.
Поэтому неудивительно, что там, где фискальные ограничения яв-
ляются мягкими и кредитные ресурсы легко доступны, будет на-
блюдаться тенденция к возникновению дефицита государственного
бюджета и росту государственного сектора.
Кроме того, долговое финансирование правительственных про-
грамм может создать фискальную иллюзию. Замещение налогового
финансирования долговым может привести людей к недооценке
цены общественных благ и тем самым увеличить их спрос на до-
полнительные государственные расходы. Однако не все разделяют
идею о том, что рост государственного долга сможет ввести людей
в заблуждение. Информированные люди понимают, что обслужива-
ние задолженности требует повышения налоговых выплат в буду-
щем, причем сегодняшняя ценность этих выплат при определенных
условиях будет эквивалентна ценности налоговых выплат в насто-
ящий момент. Это «рикардианская теорема эквивалентности», и в
той степени, в которой она является верной, спрос людей на госу-
дарственные услуги не будет зависеть от методов финансирования,
используемых правительством.11
Насколько серьезно нам следует воспринимать эту теорему? Со-
мнительно, чтобы избиратели перманентно ошибались в оценках сво-
его налогового бремени; в то же время представляется, что рикарди-
анская теорема эквивалентности требует от избирателей слишком
многого. Маловероятно, что люди будут считать, что увеличение буду-
щих налогов, связанное с обслуживанием долга, уменьшит их чистое
благосостояние ровно на ту же величину, на которую оно уменьши-
лось бы, если бы данный проект финансировался за счет непосред-
ственного роста налогообложения в текущий момент. В действитель-
ности избиратели могут быть более склонны к одобрению расходов,
финансируемых посредством долга, а не посредством текущего нало-
11 См. Shoup, 1960; Barro, 1974; Rizzo, Peacock, 1987.
662
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
гообложения, даже если реальные издержки обоих вариантов финан-
сирования эквивалентны.
Существует группа теоретиков общественного выбора, отрицаю-
щих точку зрения, согласно которой избиратели страдают от фис-
кальной иллюзии или являются «близорукими» (Peltzman, 1980;
Meltzer, Richard, 1981). Согласно взглядам этих исследователей, из-
биратели знают, что правительство должно получать ресурсы для
предоставления своих услуг. Расходы государственного сектора уве-
личиваются не из-за какой-либо фискальной иллюзии, а из-за способ-
ности групп давления оказывать решающее влияние на процесс при-
нятия политических решений и обращать их в свою пользу, а также
использовать правительство для реализации целей перераспределе-
ния. Логика, лежащая в основе таких моделей, проста. Предполагая,
что решения по поводу объема расходов принимаются простым боль-
шинством голосов, а избиратели полностью информированы, Пелтц-
мен показывает, что стимулы к политическому перераспределению
богатства являются ключевыми детерминантами относительного раз-
мера и темпов роста государственного сектора (Peltzman, 1980 : 221).
К этому заключению он приходит в два этапа. Сперва Пелтцмен оп-
ределяет политически «доминирующую» стратегию перераспределе-
ния богатства, которая приносит максимальные выгоды для макси-
мального количества людей. Затем он демонстрирует, что после обна-
ружения такой стратегии конкуренция среди политиков за голоса
избирателей приведет к выбору этой стратегии и ее реализации пос-
ле выборов, поскольку политические предпочтения ориентированы на
преследование личного интереса. Вкупе с предположением о полной
информированности это означает, что доминирующей политикой пе-
рераспределения будет такая, которая максимизирует разность между
числом людей, воспринимающих ее в качестве наилучшей (т. е. чис-
лом «выигравших», или получателей субсидий), и числом людей,
воспринимающих ее в качестве худшей (т. е. числом «проигравших»,
или налогоплательщиков).
Так как между налогоплательщиками и получателями трансфер-
тов в экономике происходит взаимодействие, существует граница, за
рамки которой перераспределение зайти не может. Для иллюстрации
предположим, что А и В — альтернативные программы перераспреде-
ления дохода. Программа А связана с увеличением выплат пенсионе-
рам, финансируемых за счет увеличения налогового бремени получа-
телей заработной платы. Программа В представляет собой план по
изменению структуры налогообложения посредством уменьшения
налогов на личный доход при увеличении налогообложения дохода
от капитала (т. е. при повышении налоговых ставок на доходы кор-
пораций). Какая из этих двух программ имеет наибольшую вероят-
ность стать доминирующей стратегией? В рамках программы А коли-
Рост государственного сектора
663
чество получателей выгод — пенсионеров — меньше, чем количество
несущих потери — получателей заработной платы. В свою очередь,
программа В уменьшает налоговое бремя для большинства людей, но
увеличивает его для «небольшой» группы налогоплательщиков —
собственников капитала. Поскольку получатели дохода от капитала
обычно «сконцентрированы» в верхней части шкалы распределения
дохода и поскольку последствия введения налогов на доход от капи-
тала (например, налога на доходы корпораций) обычно не осознаются
или не воспринимаются во всей полноте, то программа В оказывается
доминирующей стратегией перераспределения: ведь в ходе ее реали-
зации количество получателей выгод превысит количество понесших
потери.
Аналитическая модель Мелтцера и Ричарда (Meltzer, Richard,
1981) хотя и отличается от модели Пелтцмена, приводит к схожим
заключениям. Отталкиваясь от допущений о полной информиро-
ванности, принятии решений простым большинством голосов и
преследовании личного интереса, авторы приходят к выводу, что
размер государственного сектора зависит от соотношения между
средним доходом на душу населения и доходом избирателя, игра-
ющего решающую роль при определении результатов голосования
(медианного избирателя). При изменениях в относительном дохо-
де — доходе медианного избирателя относительно среднего дохо-
да — размер государственного сектора также меняется. Мелтцер и
Ричард трактуют расширение избирательных прав в качестве зна-
чимого фактора, влияющего на размер правительства. Они отмеча-
ют: «Расширение избирательных прав, увеличивающее количество
избирателей, получающих выгоды от перераспределения дохода, при-
водит к увеличению числа голосов, подаваемых за перераспределе-
ние» (Peltzman, 1980 221). Влияние на налоговые ставки (при
том, что налоги собираются на цели перераспределения) будет зави-
сеть от относительной позиции медианного избирателя. Если эта
позиция смещается вниз по шкале распределения дохода, то сте-
пень распределения дохода, налоговые ставки и расходы возрастут;
если она смещается вверх, то уровень расходов и размер правитель-
ства сократятся. Если же относительная позиция медианного изби-
рателя остается неизменной, то размер государственного сектора
стабилизируется.
Теории внешних факторов — эффект смещения
Крупномасштабные социальные потрясения типа войн и де-
прессий изменяют представления людей о пределах налогообложе-
ния и желаемом уровне государственных расходов. В результате за
счет так называемого эффекта смещения (displacement effect) расхо-
654
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
ды и налоговые поступления смещаются к более высокому уровню.
Возросший уровень государственных расходов не снижается после
окончания периода потрясений; напротив, он создает новые пред-
ставления о «приемлемом» масштабе государственной деятельно-
сти. В соответствии с точкой зрения Пикока и Уайзмена существу-
ют две причины того, почему государственные расходы будут под-
держиваться на новом, более высоком уровне даже после завершения
кризиса. Во-первых, правительство теперь в состоянии финансиро-
вать проекты, которые оно всегда желало финансировать и прежде,
но не имело для этого возможности. Во-вторых социальные потря-
сения обнаруживают новые обязательства, которые должно взять
на себя правительство. Пикок и Уайзмен называют это «эффектом
ревизии» (inspection effect).
Кроме того, согласно их мнению, рост национального дохода или
национальный кризис типа войны приводит также к эффекту кон-
центрации, который выражается в том, что расходы центрального
правительства имеют тенденцию к росту относительно расходов мест-
ных властей. Экономическое развитие связано с улучшениями в сфе-
рах транспорта, коммуникаций и мобильности, что способствует же-
ланию обеспечить единообразие предоставляемых государством услуг.
Предполагается, что центральное правительство обладает лучшими
возможностями в обеспечении такого единообразия и, возможно, в
достижении большей экономии от масштаба при предоставлении услуг.
Более того, концентрация власти ослабляет ограничения на уровень
налогообложения, налагаемые конкуренцией среди местных властей.
Бреннан и Бьюкенен (Brennan, Buchanan, 1980) проводят аналогию
между централизованным правительством и действующим в част-
ном секторе монополистом, стремящимся максимизировать прибыль.
Централизованное правительство ищет возможности эксплуатировать
своих граждан, максимизируя налоговые поступления. Соответствен-
но они утверждают, что наиболее сильным ограничением размера
правительства является фискальная децентрализация. Фактор кон-
центрации (централизации) может отчасти помочь в объяснении ро-
ста государственного сектора.
Однако эмпирические доказательства в пользу существования
эффектов смещения и концентрации не вполне убедительны, по край-
ней мере применительно к периоду после окончания Второй миро-
вой войны. Если рассматривать только те расходы бюджетов про-
мышленно развитых стран, которые не связаны с обороной, может
даже оказаться, что имеет место тенденция к сокращению отношения
расходов центрального правительства к совокупным государственным
расходам (Oates, 1972 230; Aronson, 1985 : 115-116).
Итак, мы представили несколько теорий, объясняющих рост
государственного сектора. Но какая из них дает наилучшее объяс-
Рост государственного сектора
655.
нение? С целью ответить на данный вопрос было предпринято множе-
ство эмпирических исследований. Сделаем обзор некоторых из этих
работ.
25.4. Эмпирический анализ: общий обзор
Структура данного раздела главы во многом аналогична струк-
туре ее теоретической части. Эмпирические работы обсуждаются под
четырьмя рубриками: проверка закона Вагнера; проверка модели
Баумоля; эмпирические исследования, основанные на модели обще-
ственного выбора; эмпирические проверки гипотезы Левиафана и
эффекта смещения.
Проверка закона Вагнера: к
каузальная связь i л.чмл
между государственными расходмщ
и национальным доходом
Вплоть до недавнего времени эмпирическое тестирование закона
Вагнера заключалось в оценке регрессии совокупных расходов госу-
дарственного сектора (или расходов на душу населения) от дохода на
душу населения и нескольких других переменных. Типичной форму-
лировкой такого подхода является уравнение (в логарифмической
форме), подобное следующему:
м)
Е = А + bY + cP + dN, min
где Е — реальные государственные расходы на душу населения, У —
реальный доход на душу населения, N — численность населения, Р —
относительная цена единицы общественного блага, а А объединяет все
прочие факторы.
Чтобы закон Вагнера соблюдался, необходимо, чтобы эластич-
ность спроса на блага государственного сектора по доходу b превы-
шала единицу. Если b > 1, то увеличение дохода или экономическое
развитие приведет к росту доли государственного сектора в эконо-
мике. Если, однако, b < 1, то увеличение дохода вызовет снижение
этой доли. Если b = 1, относительный размер государственного сек-
тора остается постоянным во времени. Обзор эмпирических публи-
каций, проведенный Борчердингом (Borcherding, 1977b), указывает
на то, что Ь = 0.75, хотя Пелтцмен (Peltzman, 1980) обнаружил, что
эластичность по «перманентному доходу» (рассчитанному по методу
скользящей средней) равна единице. Оказывается, таким образом,
что упрощенная версия закона Вагнера не подтверждается эмпири-
чески.
656
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
Основной недостаток статистического тестирования подобного
типа состоит в том, что направление причинной связи между государ-
ственными расходами и национальным доходом не является одно-
значно ясным. Представители кейнсианской школы склонны тракто-
вать государственные расходы в качестве экзогенной переменной
экономической политики, не подверженной влиянию со стороны
уровня национального дохода. Действительно, дискреционные изме-
нения государственных расходов оказывают прямое воздействие на
уровень экономической активности. Однако мы также знаем, что по
меньшей мере часть — и при этом значительная часть — расходов
государственного сектора сама связана с уровнем экономической
активности. Трансфертные платежи, заработная плата работников
государственного сектора и многие другие виды расходов изменяются
в ответ на изменения национального дохода. Из-за наличия этой за-
висимости мы можем сделать вывод, что «каузальная связь» может
иметь место в обоих направлениях — как от национального дохода к
расходам, так и наоборот.
В последние годы эмпирическая проверка закона Вагнера стала
базироваться на более сложной эконометрической модели, чем про-
стое уравнение регрессии, приведенное выше. При этом используется
критерий причинности, разработанный Грэйнджером (Granger, 1969)
и усовершенствованный Симсом (Sims, 1972). Попросту говоря, пере-
менная X (национальный доход) порождает (является причиной) из-
менения переменной У (государственные расходы), если сегодняшнее
(или будущее) значение У можно предсказать с использованием про-
шлых значений X лучше, чем без такого использования. Проверка
причинной связи по Грэджеру осуществляется посредством оценки
уравнения типа:
logE, = b0 + fejt + fe2logy( + ut,
где Et — расходы государственного сектора на душу населения в
период t’, Yt — национальный доход на душу населения в период t;
b0, ftj, b2 — параметры, ut — ошибка. В соответствии с критерием
причинной связи Грэнджера закон Вагнера соблюдается, если b2 > 1.
При соблюдении этого условия экономический рост приведет к росту
государственных расходов по отношению к национальному доходу.
Если Ъ2 <1, то увеличение национального дохода вызовет падение
этого отношения, а если Ъ2 - 1, то изменения национального дохода
не приведут к модификации отношения государственных расходов к
национальному доходу.
Применяя данный метод, Вагнер и Вебер (Wagner, Weber, 1977)
эмпирически протестировали закон Вагнера для выборки из тридцати
четырех стран. Использовавшиеся данные охватывали период 1950—
Рост государственного сектора
657
1972 гг. В качестве показателя уровня государственной деятельно-
сти использовались реальные государственные расходы на душу на-
селения (или реальное государственное потребление на душу населе-
ния), а в качестве показателя дохода — реальный ВНП на душу на-
селения (или реальный национальный доход на душу населения).
Вагнер и Вебер отвергли закон Вагнера из-за высокой процентной
доли случаев, при которых он не соблюдался согласно критерию при-
чинности (Ь2 < 1). Это привело их к заключению, что «закон Вагнера
вряд ли можно вообще рассматривать как закон* (Wagner, Weber,
1977 : 65).
Результаты Вагнера и Вебера принимаются не всеми. В других
исследованиях, например в работах Сани, Сингха и др. (Sahni, Singh,
1984; Singh, Sahni, 1984; Singh et al., 1986), было обнаружено, что в
США, Индии и Канаде каузальная связь между государственными
расходами и валовым национальным доходом имеет место в обоих
направлениях. В работе Delorme et al. (1988), где использовались еже-
квартальные данные, были обнаружены причинная связь между дохо-
дом и государственными расходами для ФРГ, отсутствие значимой
причинной связи для Великобритании и причинная связь между ВНП
и государственными расходами в обоих направлениях для Соединен-
ных Штатов. При использовании годовых данных по Соединенным
Штатам причинная связь оказалась однонаправленной — от ВНП к
расходам. Данный результат соответствует результатам, полученным
в работе Рама (Ram, 1986), где также была обнаружена однонаправ-
ленная каузальная связь в случае Соединенных Штатов.
Результаты применения вышеописанного критерия причинности
различны. Заменяя переменную национального дохода на государ-
ственные доходы (и опираясь на допущение, что база получения этих
доходов эластична по национальному доходу), мы можем проверить
направление причинной связи между государственными расходами и
государственными доходами. Эта разновидность базовой модели пред-
назначена для оценки того, какую из переменных следует трактовать
в качестве более фундаментальной детерминанты размера государ-
ственного сектора — предполагаемые доходы или же планируемые
расходы.
Используя годовые данные по федеральному бюджету США, охва-
тывающие период 1929-1982 гг., Мэнедж и Марлоу (Manage, Marlow,
1986) исследовали причинную связь между бюджетными расходами
и поступлениями, применяя три альтернативных показателя. Онй
осуществляли свою проверку на основе данных, измеренных в номи-
нальном выражении, в реальном выражении, а также за вычетом
процентных платежей. Было обнаружено, что причинная связь на-
правлена в обоих направлениях в большинстве (58%) случаев; ос-
тальные случаи (42%) характеризовались однонаправленной связью
43 Заказ № 356
658
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
от поступлений к расходам. Последний результат был подтвержден
исследованиями Хольца-Икина с коллегами (Holtz-Eakin et al., 1987)
на данных по местным правительствам в США. Однако в работе
Андерсона и др. (Anderson et al., 1986) было обнаружено, что имеет
место обратная причинная связь — от федеральных расходов к доходам,
а фон Фюрстенберг с коллегами (von Furstenberg et al., 1986), рабо-
тая с квартальными данными по федеральному правительству за пе-
риод 1954-1982 гг., нашли подтверждение тезису о том, что причин-
ная связь направлена от государственных расходов к доходам — го-
сударство «тратит сейчас и облагает налогом позднее». Расширение
массива данных за счет включения в него еще нескольких стран ведет
к тому, что направление причинной связи становится менее четким.
Рам (Ram, 1988а) исследовал направление причинной связи между
доходами и расходами федерального правительства, правительств
штатов и местных властей, используя годовые данные за 1929-1983 гг.
и квартальные данные за послевоенный период (1947-1983 гг.). Он
обнаружил значительные различия между направлениями причин-
ной связи для федерального сектора, с одной стороны, и для сектора
правительств штатов и местных властей — с другой. Применительно
к послевоенному периоду Рам выявил наличие причинной связи от
доходов к расходам в федеральных данных и от расходов к доходам
в данных для правительств штатов и местных властей. Результаты
оценки модели на годовых данных показали те же направления при-
чинной связи, за тем исключением, что применительно к федераль-
ному сектору в некоторых случаях наблюдалась связь в обоих направ-
лениях.
Рам (Ram, 1988b), применяя критерий причинной связи Грэйн-
джера к выборке из двадцати двух стран, исследовал направление
причинной связи между государственными доходами и государствен-
ными расходами в межстрановом контексте. В большинстве случаев
он не обнаружил статистически значимой связи ни в одном из на-
правлений. Более того, для случаев, в которых результаты проверки
оказались значимыми, причинная связь в направлении от доходов к
расходам наблюдалась столь же часто, как и в противоположном
направлении. Однако применительно к федеральному правительству
США причинная связь была направлена от доходов к расходам, что
поддерживает тезис, согласно которому рост ВНП обусловливает рост
государственных расходов, а не наоборот.
Тестирование модели Баумоля
В какой мере рост издержек в стагнирующем секторе может
объяснить рост государственных расходов? В работе Брэдфорда (Brad-
ford, 1969) исследовалась применимость модели Баумоля к случаю
Рост государственного сектора
659
расходов местных правительств в Соединенных Штатах. Не забывая
о проблемах, связанных с измерением «выпуска» государственного
сектора, следует признать полученные результаты достаточно приме-
чательными. Сопоставив темпы роста различных показателей удель-
ных издержек выпуска «продукции» местного правительства с тем-
пом роста индекса оптовых цен (индексом, который является срав-
нительно низким для цен услуг), авторы исследования осуществили
непосредственную проверку утверждения Баумоля о том, что техно-
логии государственного сектора являются стагнирующими. Эмпи-
рические исследования подтверждают этот тезис. За период 1947-
1967 гг. издержки в расчете на одного ученика в день в государ-
ственных начальных и средних школах возрастали темпом 6.7% в
год, тогда как темп роста денежных издержек производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции (индекса оптовых
цен) составлял лишь 1.4% в год. Используя понятие альтернатив-
ных издержек, мы можем сказать, что за этот период количество
единиц продукции, входящей в корзину расчета индекса оптовых
цен, которым следует пожертвовать, чтобы оплатить обучение одно-
го ученика в течение одного дня в государственной школе, увели-
чивалось на 4-5% в год (Bradford et al., 1969 : 190). Те же выводы
были получены в отношении других видов государственных услуг —
здравоохранения, полиции и противопожарной безопасности, а так-
же социальной поддержки. Однако важно отметить, что масштабы
роста издержек варьируют в зависимости от типа местного прави-
тельства. Он был гораздо более выражен в случае правительств
крупных городов, чем в случае властей более мелких муниципаль-
ных единиц (Bradford et al., 1969 : 202). Более низкие темпы роста
производительности в государственном секторе являются только
одним из многих возможных объяснений увеличения государствен-
ных расходов.
Шпанн (Spann, 1977) предпринял еще одну проверку модели не-
сбалансированного роста Баумоля, сопоставив содержащиеся в ней
предсказания роста государственного сектора с фактической динами-
кой увеличения государственных расходов. Более конкретно, он про-
тестировал эмпирическую обоснованность двух гипотез: гипотезы о
росте реальных государственных расходов на душу населения и гипо-
тезы о более быстром расширении объемов государственной деятель-
ности по производству благ, характеризующихся наибольшей элас-
тичностью спроса по доходу и наименьшей эластичностью спроса по
цене.
Шпанн подразделяет экономику на частный прогрессивный сек-
тор и государственный стагнирующий сектор. Выпуск первого секто-
ра определяется факторами труда и технологии, тогда как во втором
секторе в качестве фактора производства выступает только труд. Спрос
660
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
на продукцию государственного сектора зависит от относительных
цен (на блага частного и государственного секторов), дохода и числен-
ности населения. Тогда спрос на душу населения зависит от темпа
технического прогресса в частном секторе (т. е. от роста дохода), а так-
же от эластичностей спроса по доходу и цене. Чтобы избежать про-
блемы измерения выпуска государственного сектора, Шпанн концен-
трирует внимание на стоимостных переменных, а не на физических
объемах. Государственные расходы измеряют продукцию государствен-
ного сектора, оцениваемую по ее собственной цене. Темп роста реаль-
ных расходов государственного сектора задается суммой двух слага-
емых: темпа роста цены продукции этого сектора относительно цены
продукции частного сектора и темпа роста объема продукции госу-
дарственного сектора. Поскольку труд является единственным фак-
тором производства, доля государственного сектора в ВНП представ-
ляет собой просто долю рабочей силы, задействованной в этом сек-
торе, в совокупном объеме рабочей силы. Такое упрощение позволило
Шпанну выразить темп роста доли государственного сектора в ВНП в
виде суммы эластичностей по доходу и цене, умноженной на темп
технического прогресса.
Используя данные по темпам роста производительности в част-
ном секторе США и по реальным государственным расходам на
душу населения (номинальным расходам, дефлированным по ин-
дексу потребительских цен) и опираясь на оценки эластичностей
спроса на продукцию государственного сектора по доходу и ценам,
найденные в имеющихся публикациях, Шпанн рассчитал темпы ро-
ста государственного сектора, предсказанные моделью Баумоля. Для
периода 1950-1960-х гг. предсказанные темпы роста государствен-
ных расходов на душу населения составляли 2.7-2.9%. Факти-
ческий же темп роста в этом периоде достигал 3.6%. Что касается
доли правительства в ВНП, предсказанные темпы ее роста оказа-
лись в диапазоне от 0.64 до 0.84%, тогда как фактический темп
роста был равен 2%. Поскольку оценки эластичностей спроса на
продукцию федерального сектора отсутствовали, для проверки вто-
рого утверждения Баумоля Шпанн использовал оценки, касавшие-
ся услуг, предоставленных правительствами штатов и местными
властями. Среднегодовые темпы роста их расходов продемонстриро-
вали свою положительную зависимость от суммы эластичностей.
Наименьшие темпы роста были зафиксированы применительно к
производству продукции, спрос на которую характеризовался отри-
цательной суммой эластичностей по цене и доходу (здравоохра-
нение), наибольшие же темпы роста отличали виды деятельности,
связанные с выпуском продукции, спрос иа которую характеризо-
вался положительной суммой указанных эластичностей (образо-
вание).
Веет государственного сектора
661
Тестирование теорий общественного выбора
Эмпирические свидетельства, касающиеся роста государственных
расходов, указывают на рост роли трансфертных платежей. Кто явля-
ется основным получателем трансфертов и почему этот инструмент
стал более популярным? Стиглер (Stigler, 1970, 1973) утверждает, что
государственные расходы приносят основные выгоды среднему клас-
су. Он также отмечает, что в течение XIX в. выгоды от государствен-
ных расходов не предназначались конкретной группе лиц, а налоги
не были «привязаны» к размеру личного дохода. Однако в XX в.
возникла связь как налогообложения, так и государственных расхо-
дов с уровнем личного дохода. При принятии решений простым боль-
шинством голосов члены этого большинства могут облегчить себе
фискальное бремя посредством одобрения перераспределительных
программ.
В посвященных теме перераспределения работах Пелтцмена (Peltz-
man, 1980), а также Мелтцера и Ричарда (Meltzer, Richard, 1981),
обсуждавшихся ранее, предлагается «современная» формулировка
тезиса Стиглера. Эмпирические публикации, касающиеся связи меж-
ду деятельностью групп давления и перераспределением, весьма убе-
дительны. Пелтцмен обнаружил, что большой объем перераспределе-
ния осуществляется в обоих направлениях — как от богатых к бед-
ным, так и от бедных к богатым. Он построил два индекса: один для
измерения «возможностей» групп давления влиять на политические
решения, а другой — для измерения неравенства в распределении
дохода. Проведенный Пелтцменом исчерпывающий статистический
анализ большой выборки развитых и развивающихся стран указыва-
ет на наличие тесной связи между ростом среднего класса и ростом
государственного сектора. Эффект выравнивания — уменьшение сте-
пени неравенства доходов, по Пелтцмену, — создает необходимые усло-
вия для роста правительства: расширение политической базы, кото-
рая «получала выгоду от перераспределения... [и] рост «возможно-
стей» [групп давления] политически катализировали распространение
экономической заинтересованности в перераспределении» (Peltzman,
1980 285). С этим фундаментальным выводом согласуются резуль-
таты работы Демсетца (Demsetz, 1982). В ней приводятся доказатель-
ства связи между ростом объемов государственного перераспределе-
ния и эффектом выравнивания доходов в 1950-1972 гг.
Поиски Левиафана и эффекта смещения
В статье, опубликованной в 1972 г. в популярном деловом
журнале, Милтон Фридмен задал вопрос: «Можем ли мы остановить
Левиафана?» Ссылаясь на статистические данные по США, Фридман
662
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
указал, что общие государственные расходы возросли с менее чем
15% национального дохода в 1930 г. до примерно 40% (точнее,
до 37.9%) в 1972 г. На основе этого эмпирического наблюдения он
заключил, что ни законодательно установленные «потолки» государ-
ственных расходов, ни любые другие административные механизмы
не остановят Левиафана (Friedman, 1972). За наблюдениями подоб-
ного рода последовали строгие эмпирические исследования, направ-
ленные на проверку гипотезы о росте государственного сектора. Тра-
диционные изыскания опирались на исторический анализ. Бек (Beck,
1976, 1980), Дубин (Dubin, 1977), Пелтцмен (Peltzman, 1980) и Отт
(Ott, 1980, 1983) установили наличие тенденции к росту государствен-
ных расходов в западных демократиях. Данное направление иссле-
дований привело к получению неоднозначных результатов. Доказа-
тельства роста правительства оказались чувствительны к методам
измерений, дефинициям и уровню дезагрегации органов власти. Один
из эмпирических результатов, в отношении которого наблюдается
относительный консенсус, состоит в том, что расчеты в текущих
ценах позволяют сделать вывод о быстром росте государственного
сектора в странах Запада. При этом наибольшими темпами роста
отличались государственные расходы на потребление и трансфертные
платежи.
Еще одним примером исторического анализа может служить
исследование роста масштабов государственного сектора в Великобри-
тании, проведенное Пикоком и Уайзменом (Peacock, Wiseman, 1981).
Их эмпирические изыскания фокусировали внимание на гипотезе
смещения и концентрации. Как было описано выше, в рамках дан-
ной гипотезы ожидается, что отношение государственных расходов к
национальному доходу будет в значительной мере постоянным до
тех пор, пока не окажется нарушенным экзогенным шоком. Данные
по Великобритании подтвердили утверждение Пикока—Уайзмена.
Пелтцмен (Peltzman, 1980) проанализировал исторические тренды ро-
ста государственного сектора в США и Великобритании. Эти данные
свидетельствуют о том, что отношение государственных расходов к
ВВП в Великобритании оставалось примерно постоянным (около 10%)
с 1860 г. до Первой мировой войны, когда оно возросло до 50%.
С 1920 г. до Второй мировой войны этот показатель стабилизировал-
ся на уровне 20-25%, пока снова не подскочил до уровня, превысив-
шего 50%. Затем он сократился до значений, находящихся в диапа-
зоне между 30 и 50% .
Историческая статистика ОПТ А позволяет также сделать вывод о
наличии эффекта смещения вверх применительно к федеральным
расходам. Наиболее очевидное влияние оказала война. Отношение рас-
ходов федерального правительства к ВНП возросло с 5% в 1869 г.
(и менее 2% в 1912-1913 гг.) до 25% в течение Первой мировой
Рост государственного сектора
663
войны и 45% в течение Второй мировой войны. После Второй миро-
вой войны этот показатель уменьшился, но с 1976 г. его значение
колебалось в пределах 20-24%.
Указания на «специфическое событие», связанное с эффектом
смещения вверх, можно также найти в предложенной Нисканеном
(Niskanen, 1971) модели бюрократии. Нисканен трактует концентра-
цию власти бюрократического аппарата как «экзогенное» событие типа
войны или национального кризиса. В основе его модели лежит пред-
посылка о централизации правительственных функций в небольшом
числе бюрократических учреждений. Эмпирические доказательства
справедливости этой модели должны указывать на связь между кон-
центрацией правительственных функций и ростом государственного
сектора. Определенное подтверждение модели Нисканена можно най-
ти в исторических данных по США. По Пелтцмену, «показатель кон-
центрации гораздо выше сегодня, чем в 1800 г. (около 0.60 по срав-
нению с 0.35)» (Peltzman, 1980 : 215). Однако Пелтцмен также отме-
чает, что рост отношения государственных расходов к ВНП в США
после 1950 г. сопровождался уменьшением показателя концентра-
ции примерно на 10 процентных пунктов. Сопоставляя отношение
государственных расходов к ВВП с показателями концентрации в шест-
надцати экономически развитых странах за период 1953-1973 гг.,
Пелтцмен обнаружил, что расширение государственного сектора по-
чти во всех странах происходило на фоне стабильности этих показа-
телей во времени.
Связь между степенью «децентрализации» и ростом государствен-
ного сектора изучалась также Оутсом (Oates, 1972, 1985). В своем
исследовании, озаглавленном «Фискальный федерализм» (Oates, 1972),
он использовал выборку правительств 57 округов США для того, что-
бы найти положительную связь между степенью фискальной центра-
лизации и размером правительства. В своем более позднем исследо-
вании (Oates, 1985) он попытался осуществить эмпирическое тестиро-
вание «гипотезы Левиафана», выдвинутой Бреннаном и Бьюкененом
(Brennan, Buchanan, 1977), с использованием международной выбор-
ки 43 стран, а также выборки, включавшей 48 континентальных шта-
тов США. Он протестировал также две альтернативы «гипотезы Ле-
виафана»: (а) гипотезу отсутствия систематической связи между
фискальной децентрализацией и размером правительства и б) гипо-
тезу, согласно которой более высокая степень децентрализации поло-
жительно связана с размером государственного сектора (данная гипо-
теза предполагает, что потери в экономии от масштаба увеличивают
издержки и, следовательно, уровень расходов; кроме того, граждане
малых сообществ могут наделять свои «местные» правительства боль-
шим количеством функций и большей ответственностью). Полученные
Оутсом результаты, приведенные в обеих публикациях, свидетель-
664
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
ствуют о том, что ему не удалось обнаружить доказательств наличия
связи между фискальной децентрализацией и размером государствен-
ного сектора.
Некоторые другие экономисты, тестировавшие «гипотезу Ле-
виафана», получили неоднозначные результаты. Исследования, фо-
кусировавшиеся на расходах местных правительств, по-видимому,
дают некоторое подтверждение гипотезы централизации. За исклю-
чением работы Форбса и Зампелли (Forbes, Zampelli, 1989), все
прочие эмпирические исследования обнаружили положительную
связь между показателем централизации и размером правитель-
ства (Eberts, Cronberg, 1988; Marlow, 1988; Wallis, Oates, 1988; Zax,
1989). Применительно к правительствам более высоких уровней —
правительствам штатов или национальным правительствам — эмпи-
рические доказательства этой связи отсутствуют или же они менее
однозначные.
25.5. Заключение
В нашем обзоре мы описали широкий диапазон микроэкономи-
ческих теорий и теорий общественного выбора, призванных объяс-
нить неуклонный рост государственного сектора в абсолютных мас-
штабах и относительно национального дохода. Все эти теории пред-
ставляют значительный интерес и позволяют выдвинуть важные
гипотезы. Рост государственного сектора может иметь место вслед-
ствие внешних шоков, порождающих эффект смещения, или же вслед-
ствие функционирования рыночного механизма или политической
системы на национальном уровне. Особенно интересна гипотеза, со-
гласно которой ключевая причина роста правительства состоит в том,
что его деятельность менее производительна, чем деятельность част-
ного сектора. Утверждения теории общественного выбора также игра-
ют критически важную роль для понимания проблемы. Проблемы
бюджетной асимметрии, фискальной иллюзии и стратегий голосова-
ния углубили наше понимание поведения людей и заслуживают даль-
нейшего изучения.
Имеющиеся к настоящему моменту эмпирические свидетельства
далеки от того, чтобы на их основе можно было сделать окончатель-
ный вывод о причинах роста государственного сектора. Будущие ис-
следования, возможно, прольют больше света на этот вопрос, хотя
маловероятно, что их авторы окажутся в состоянии осуществить пол-
ную оценку вклада каждой теории в понимание проблемы роста го-
сударственного сектора. Однако эмпирический анализ уже дал нам
оценки эластичностей по ценам и доходу и позволил заключить, что
закон Вагнера в своей простейшей формулировке плохо совместим
Рост государственного сектора
665
с фактами. Мы теперь понимаем, что рост правительства — нечто
более сложное, чем просто реакция на рост дохода. Эмпирические
исследования напоминают нам также, что даже направление причин-
ной связи в данном случае является неоднозначным. Ведет ли рост
дохода к росту правительства или направление причинности прямо
противоположное? Тем не менее мы можем быть уверены в том, что
рассмотренные выше теории являются чем-то большим, чем искус-
ственными логическими конструкциями. Они вносят значительный
вклад в наше экономическое знание.
Литература
Anderson W., Wallace М. S., Warner J. Т. Government spending and taxation:
what causes what? // Southern Economic Journal. 1986. ,VqJ. 52 (3). P. 630-
639.
Aronson J. Public Finance. New York : McGraw-Hill, 1985.
Barro R. Are government bonds net worth? // Journal of Political Economy.
1974. Vol. 82. P. 1095-1118.
Baumol W. J. Macroeconomics of unbalanced growth // American Economic
Review. 1967. Vol. 57. P. 415-426.
Baumol W. J., Batey-Blackman S., Wolff E. Unbalanced growth revisited: asymp-
totic stagnancy and new evidence // American Economic Review. 1985.
Vol. 75. P. 806-817.
Beck M. The expanding public sector: some contrary evidence // National Tax
Journal. 1976. Vol. 29. P. 15-21.
Beck M. Public sector growth: a real perspective//Public Finance. 1979.
Vol. 34(3). P. 313-356.
Beck M. Government Spending, Trends and Issues. New York Praeger, 1981.
Borcherding T. E. Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth.
Durham, NO : Duke University Press, 1977a.
Borcherding T. E. One hundred years of public expenditures, 1902—1970 I In
T. E. Borcherding (ed.). Budgets and Bureaucrats: The Sources of Govern'
ment Growth. Durham, NO : Duke University Press, 1977b.
Borcherding T. E. The causes of government growth: a survey of the U. S. evi'
dence // Journal of Public Economics. 1985. Vol. 28. P. 359-382.
Bradford D. F., Malt R. A., Oates W. E. The rising cost of local public services: some
evidence and reflections // National Tax Journal. 1969. Vol. 22. P. 185-202-
Brennan G., Buchanan J. M. Towards a tax constitution for Leviathan // Journal
of Public Economics. 1977. Vol. 2. P. 255-274.
Buchanan J. Fiscal Institutions and Individual Choice. Chapel Hill, NC :
University of North Carolina Press, 1967.
Delorme C. D„ Cartwright P.A., Kespohl E. The effect of temporal aggregation on
the test of Wagner law // Public Finance. 1988. Vol. 43. P. 373-387.
666
Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
Demsetz Н. The growth of government / In Economic, Legal and Political Dimen-
sions of Competition. Amsterdam : North Holland, de Vries Lectures, 1982.
N4.
Dubin E. The expanding public sector: some contrary evidence — a comment //
National Tax Journal. 1977. Vol. 30 (1). P. 95.
Eberts R. W., Cronberg T. J. Can competition among local governments constrain
government spending? // Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleve-
land. 1988. Vol. 1. P. 2-9.
Forbes K.F., Zampelli E. Is Leviathan a mythical beast? //American Economic
Review. 1989. Vol. 3. P. 68-77.
Friedman M. Can we halt Leviathan? // Newsweek 6 November: 98. 1972.
Goetz C. Fiscal illusion in state and local finance / In T. E. Borcherding (ed.).
Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth. Durham,
NC Duke University Press, 1977.
Granger C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-
spectral methods//Econometrica. 1969. Vol. 37. P. 409-468.
Higgs R. Crisis and Leviathan. Oxford Oxford University Press, 1987.
Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H. The revenue-expenditure nexus: evidence
from local government data // Working paper, National Bureau of Eco-
nomic Research. 1987.
Keren M. Macroeconomics of unbalanced growth: comment // American Economic
Review. 1972. Vol. 62. P. 149.
Lynch L., Redman E.L. Macroeconomics of unbalanced growth: comment//
American Economic Review. 1968. Vol. 58. P. 884-886.
Manage N., Marlow M. L. The causal relation between federal expenditures-
receipts//Southern Economic Journal. 1986. Vol. 3. P. 617-629.
Marlow M. L. Fiscal decentralization and government size // Public Choice. 1988.
Vol. 56. P. 259-286.
Meltzer A. H., Richard S.F. Tests of a rational theory of the size of govern-
ment // Journal of Political Economy. 1981. Vol. 89. P. 914-927.
Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. New York McGraw-Hill, 1951.
Musgrave R.A. The Future of Fiscal Policy: A Reassessment. Leuven Leuven
University Press, 1978.
Musgrave R.A. Leviathan cometh — or does he?/In Tax and Expenditure
Limitations. Washington, DC : Urban Press, 1981.
Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. New
York McGraw-Hill, 1989.
Musgrave R.A., Peacock A. T. Classics in the Theory of Public Finance. London :
Macmillan, 1967.
Niskanen W.A., Jr. Bureaucracy and Representative Government. Chicago, IL :
Aldine, 1971.
Nutter G. W. Growth of Government in the West. Washington, DC American
Enterprise Institute, 1978.
Oates W. E. Fiscal Federalism. New York Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
Oates W. E. Searching for Leviathan: an empirical study // American Economic
Reviw. 1985. Vol. 77. P. 748-757.
Рост государственного сектора 667“-
Ott A. F. Has the growth of government in the West been halted? / In W. J. Samuels
and L. L. Wade (eds). Taxing and Spending Policy. Lexington, MA: D. C
Heath, 1980.
Ott A. F. Controlling government spending / In C. Stubblebine and T. Willets
(eds). Reaganomics. Washington, DC: Institute for Contemporary Studies,
1983. P. 79-108.
Parkinson C. Parkinson’s law//Economist 19 November. 1955.
Peacock A. T., Wiseman J. The Growth of Expenditures in the United Kingdom.
New York : National Bureau of Economic Research, 1961.
Peacock A. T., Wiseman J. Approaches to the analysis of government expenditure
growth // Public Finance Quarterly. 1979. Vol. 7. P. 3-23.
Peltzman S. The growth of government // Journal of Law and Economics. 1980.
Vol. 23. P. 209-287.
Ram R. Government size and economic growth: a new framework and some
evidence from cross-section and time series data // American Economic
Review. 1986. Vol. 79. P. 183-204.
Ram R. Additional evidence on causality between government revenue and
government expenditures//Southern Economic Journal. 1988a. Vol. 3.
P.763-769.
Ram R. A multi country perspective on causality beween government reve-
nue and government expenditure // Public Finance. 1988b. Vol. 2. P. 261-
269.
Rizzo I., Peacock A. Debt and growth in public spending // Public Finance. 1987.
Vol. 42. P. 283-296.
Sahni B. S., Singh B. On the causal directions between national income and
government expenditure in Canada // Public Finance. 1984. Vol. 39. P. 359-
393.
Samuelson P.A. The pure theory of public expenditure // Review of Economics
and Statistics. 1954. Vol. 36. P. 387-389.
Samuelson P. A. Diagrammatic exposition of a theory of public expenditure /1
Review of Economics and Statistics. 1955. Vol. 37. P. 350-356.
Shoup K. Ricardo on Taxation. New York Columbia University Press, 1960.
Sims C.A. Money, income and causality//American Economic Review. 1972.
Vol. 62. P. 540-552.
Singh B., Sahni B. S. Causality between public expenditure and national income //
Review of Economics and Statistics. 1984. Vol. 66. P. 630-644.
Singh B., Sahni B. S. Patterns and directions of causality between government
expenditures and national income in the United States // Journal of Quan-
titative Economics. 1986. Vol. 2. P. 291-308.
Spann R. M. The macroeconomics of unbalanced growth and the expanding public
sector: some simple tests of a model of government growth // Journal of
Public Economics. 1977. Vol. 2. P. 397-404.
Stigler G. J. The early history of empirical studies of consumer behaviour //
Journal of Political Economy. 1954. Vol. 62. P. 95-113.
Stigler G. J. Director’s law of public income distribution // Journal of Law and
Economics. 1970. Vol. 13. P. 1-10.
668 Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт
Stigler G.J. General economic conditions and national elections//American
Economic Review. 1973. Vol. 63. P. 160-167.
Stubblebine C. The social imbalance hypothesis // Ph.D. Thesis, University of
Virginia. 1963.
Vickers J., Yarrow G. Privatization, Cambridge. MA : MIT Press, 1988.
Furstenberg G.H. von, Green R.J., Jln-Ho Jeong. Tax and spend, or spend and
tax? // Review of Economics and Statistics. 1986. Vol. 2. P. 179-188.
Wagner R. E., Weber W. E. Wagner’s law, fiscal institutions, and the growth of
government // National Tax Journal. 1977. Vol. 30. P. 59-68.
Wallis J. J., Oates W. E. Does economic sclerosis set in with age? An empirical
study of the Olson hypothesis // Kyklos. 1988. Vol. 3. P. 397-417.
Zax J. S. Is there a Leviathan in your neighborhood? // American Economic
Review. 1989. Vol. 3. P. 560-567.
ПАН 1в Панорама экономической мысли конца XX столетия / Под ред.
Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта : В 2-х т. / Пер. с англ, под ред.
В. С. Автономова и С. А. Афонцева. СПб. : Экономическая школа,
2002 г. Т. 1. XVI+ 668 с.
ISBN 5-900428-66-4 (т. 1)
Книга представляет собой сборник статей по различным аспектам
теоретической и прикладной экономической науки. Изданная в 1991 го-
ду, она отражает состояние основных направлений экономики на нача-
ло последнего десятилетия XX века.
В первом разделе обсуждаются методологические основы главных
парадигм экономического анализа — австрийской школы, позитивизма,
институционализма. Во втором разделе читатель может познакомиться
с такими актуальными направлениями микро- и макроэкономической
теории, как теория общественного выбора и теория игр, неоклассиче-
ская теория роста и посткейнсианская макроэкономика и т. д. Третий
раздел посвящен эконометрике. Последний раздел содержит публика-
ции по междисциплинарному взаимодействию экономики с «сопряжен-
ными науками» — политологией, правом, психологией и историей, а так-
же с общественными науками в целом.
Книга является отличным дополнением к изучению промежуточ-
ных и продвинутых курсов по микро- и макроэкономике, а также по
история экономической мысли.