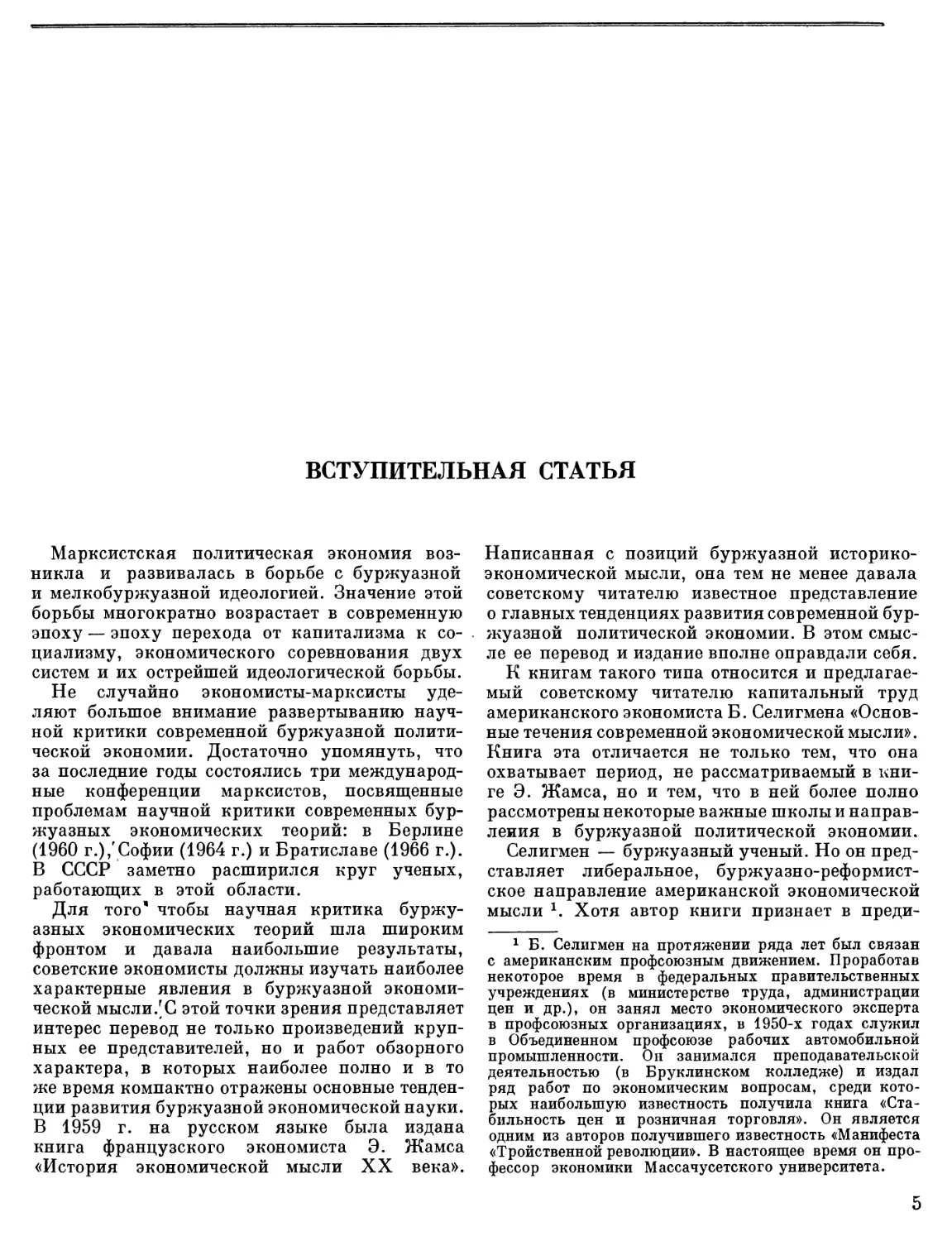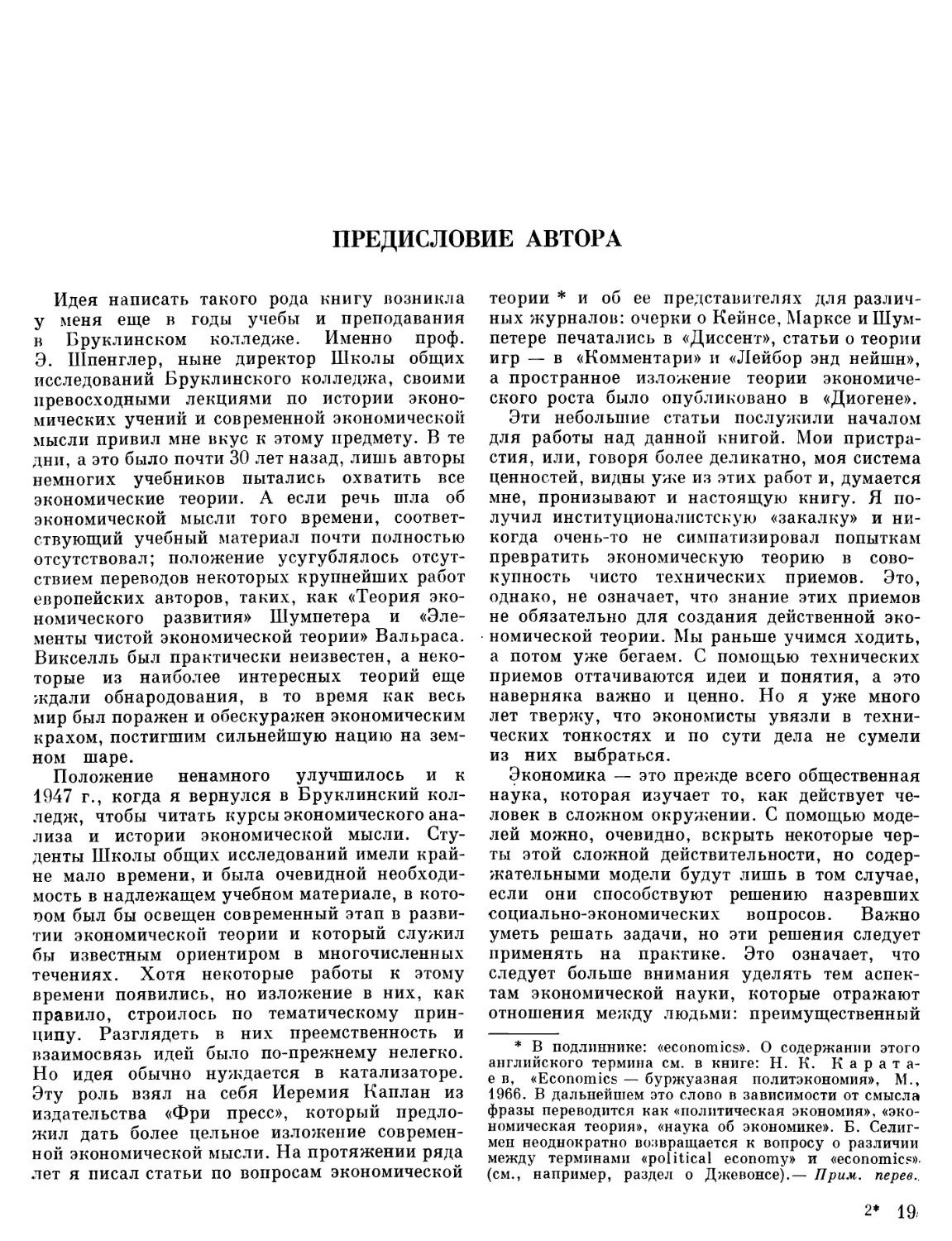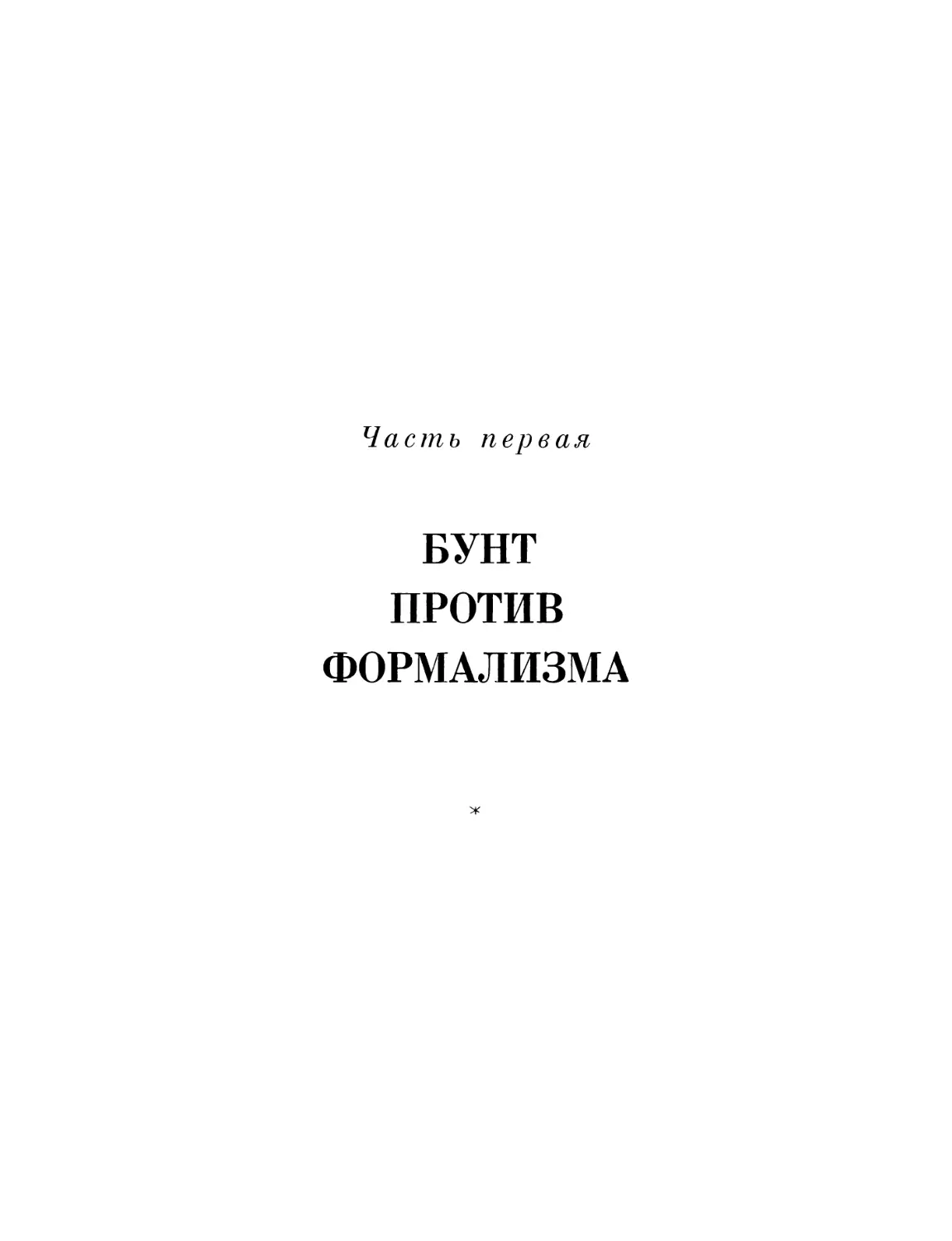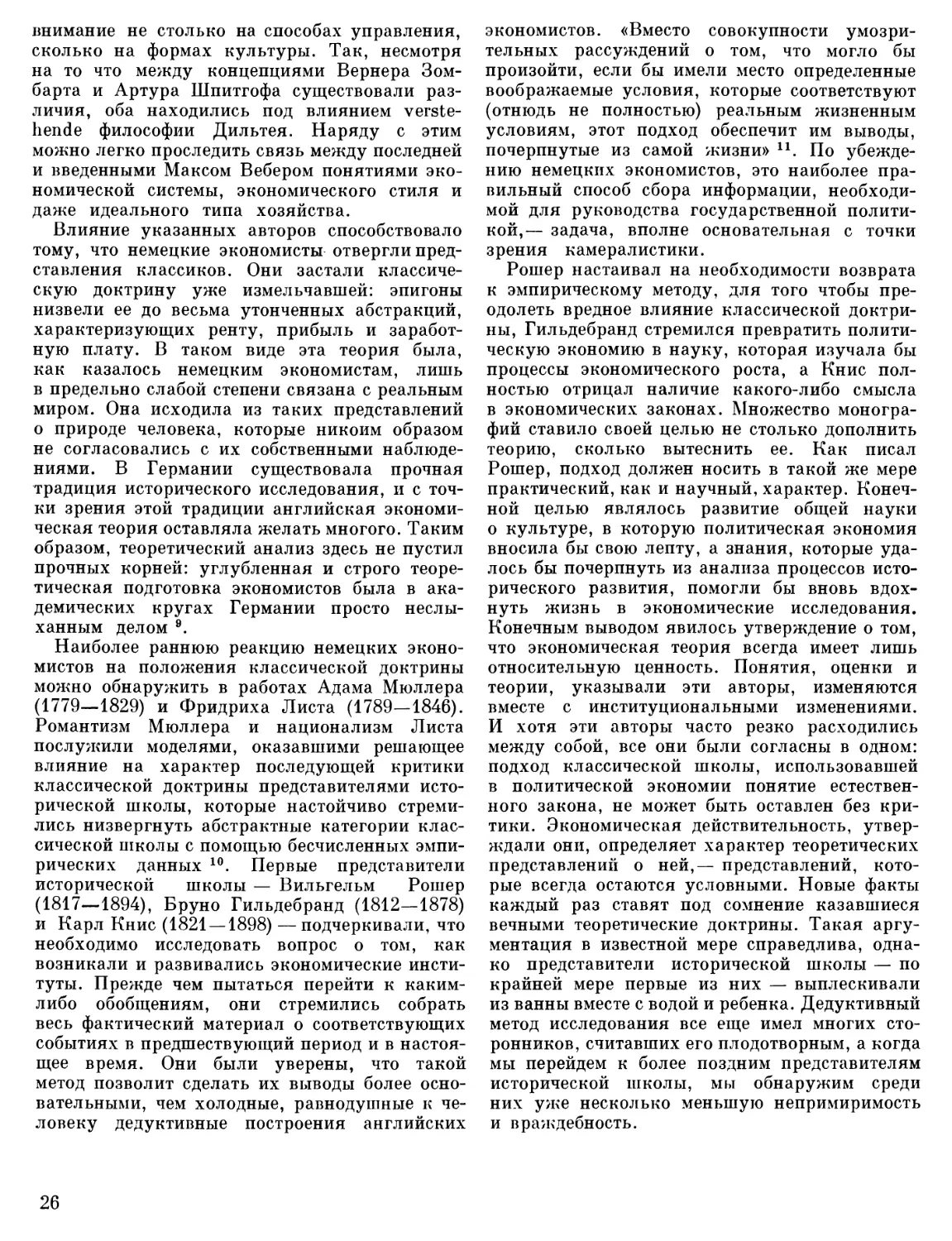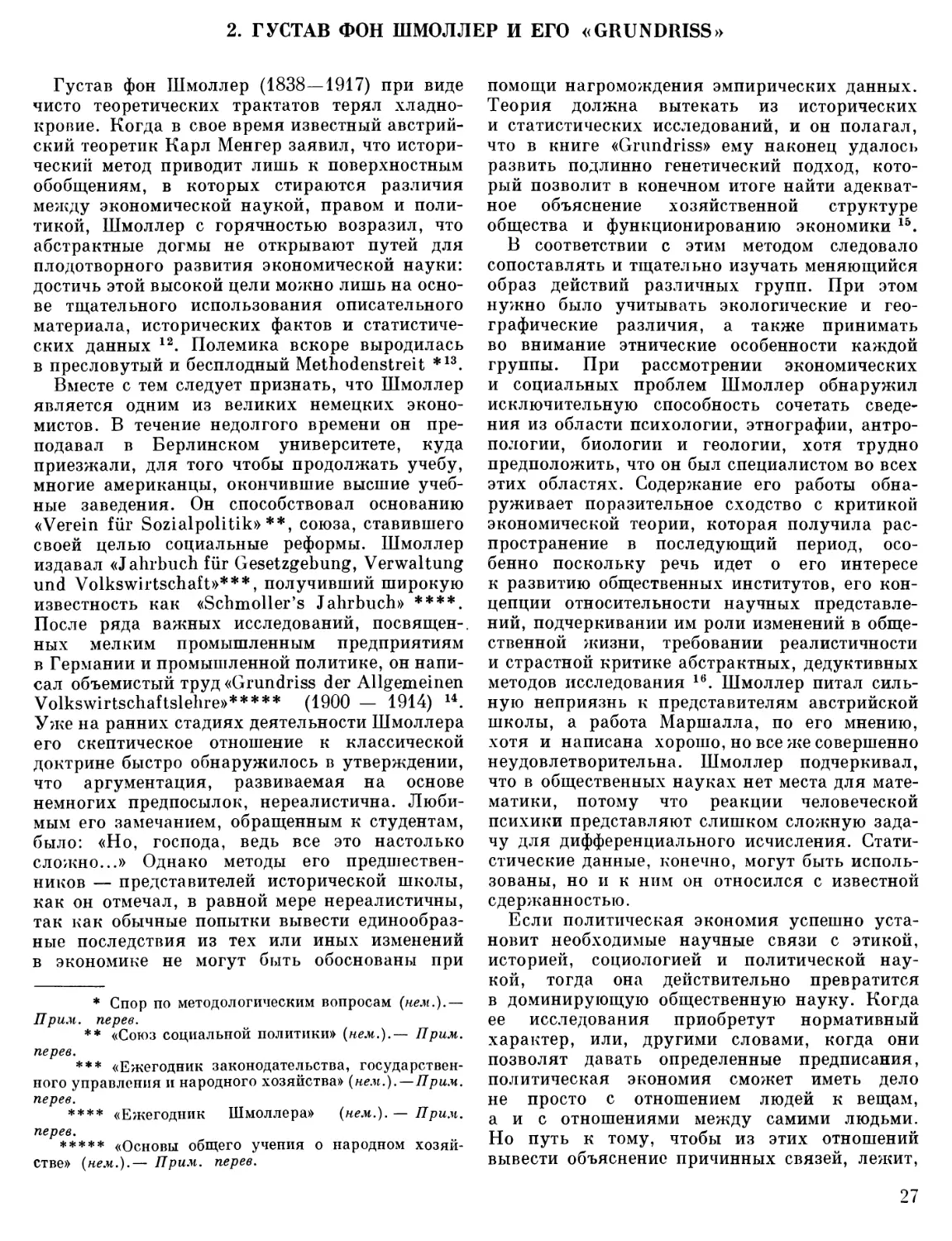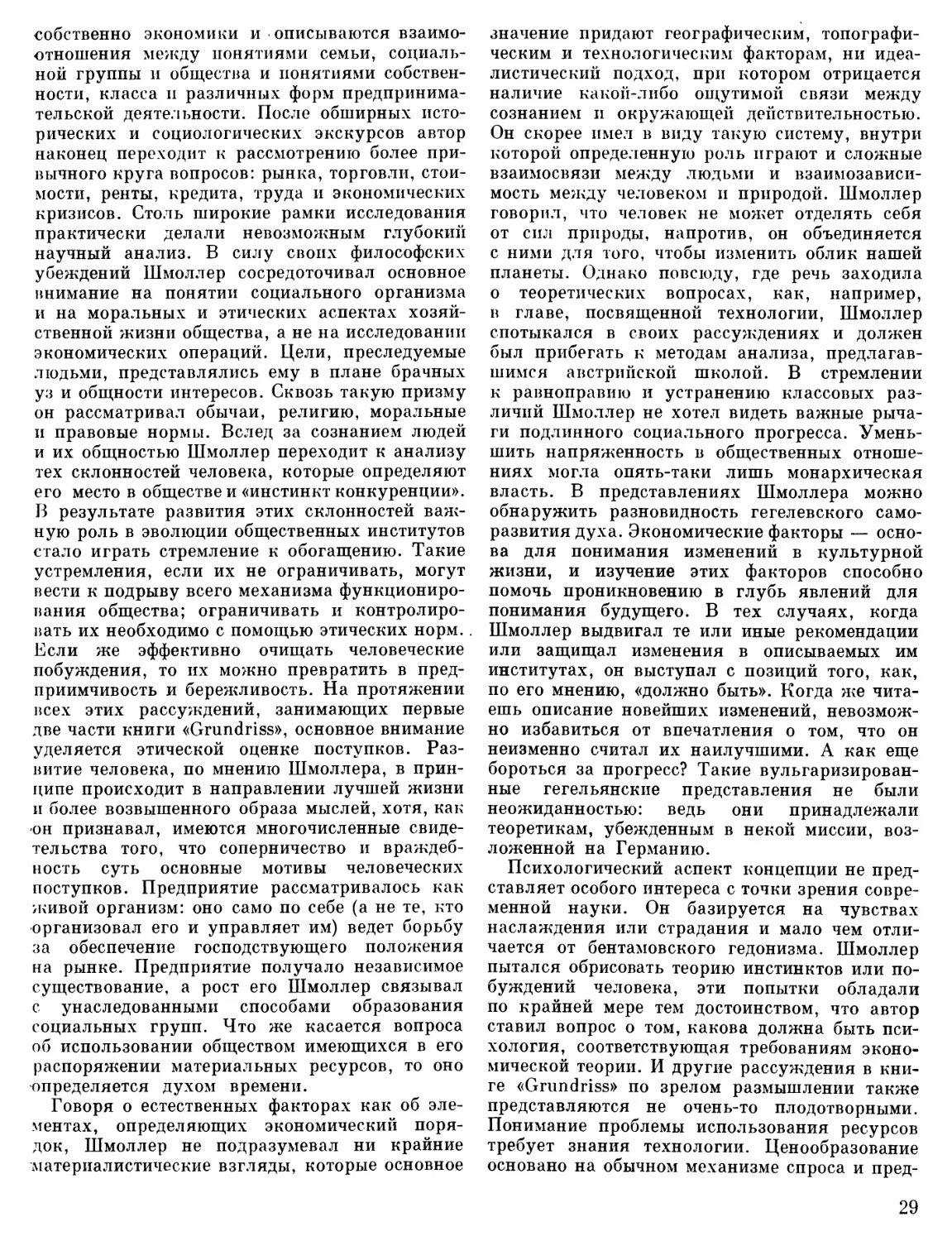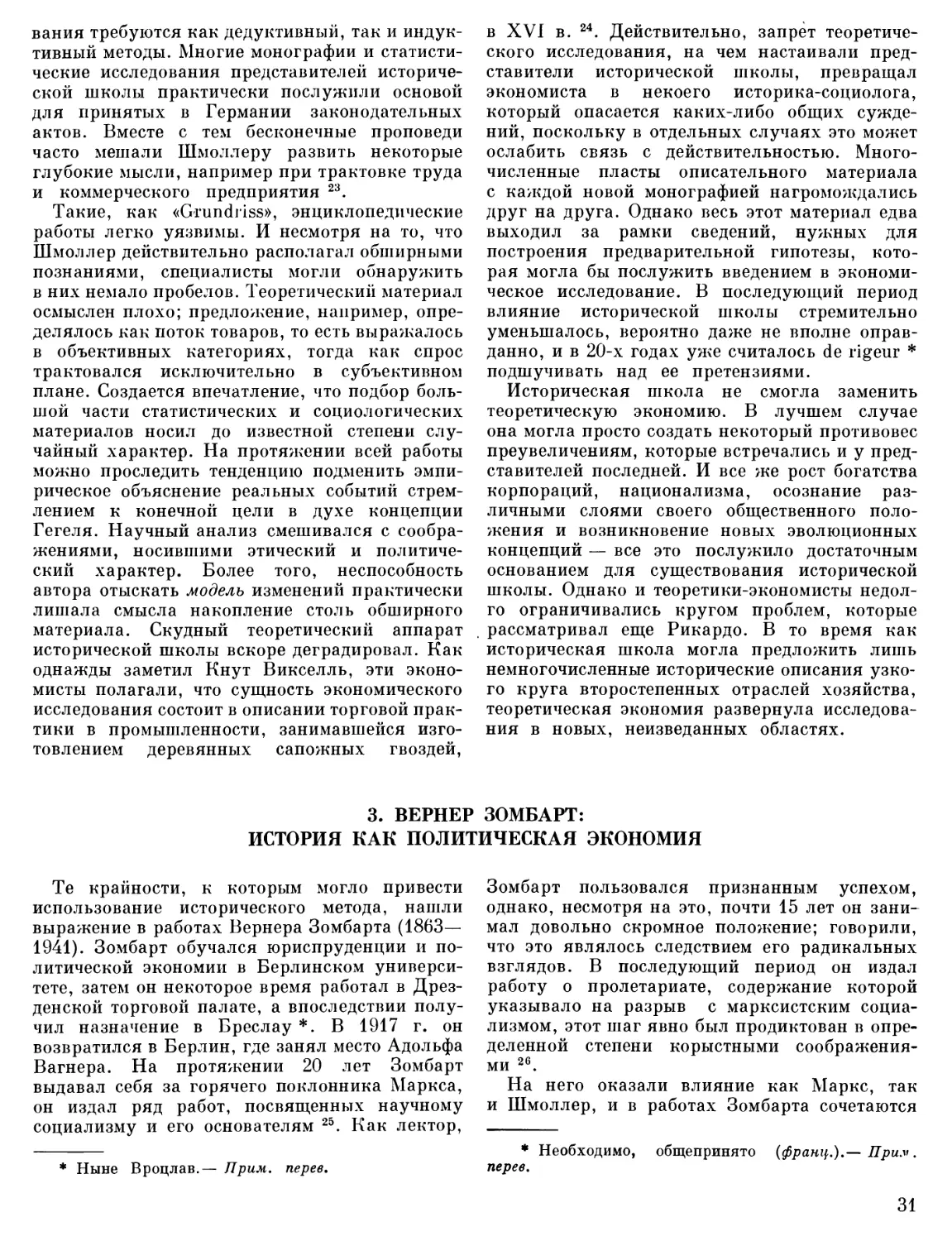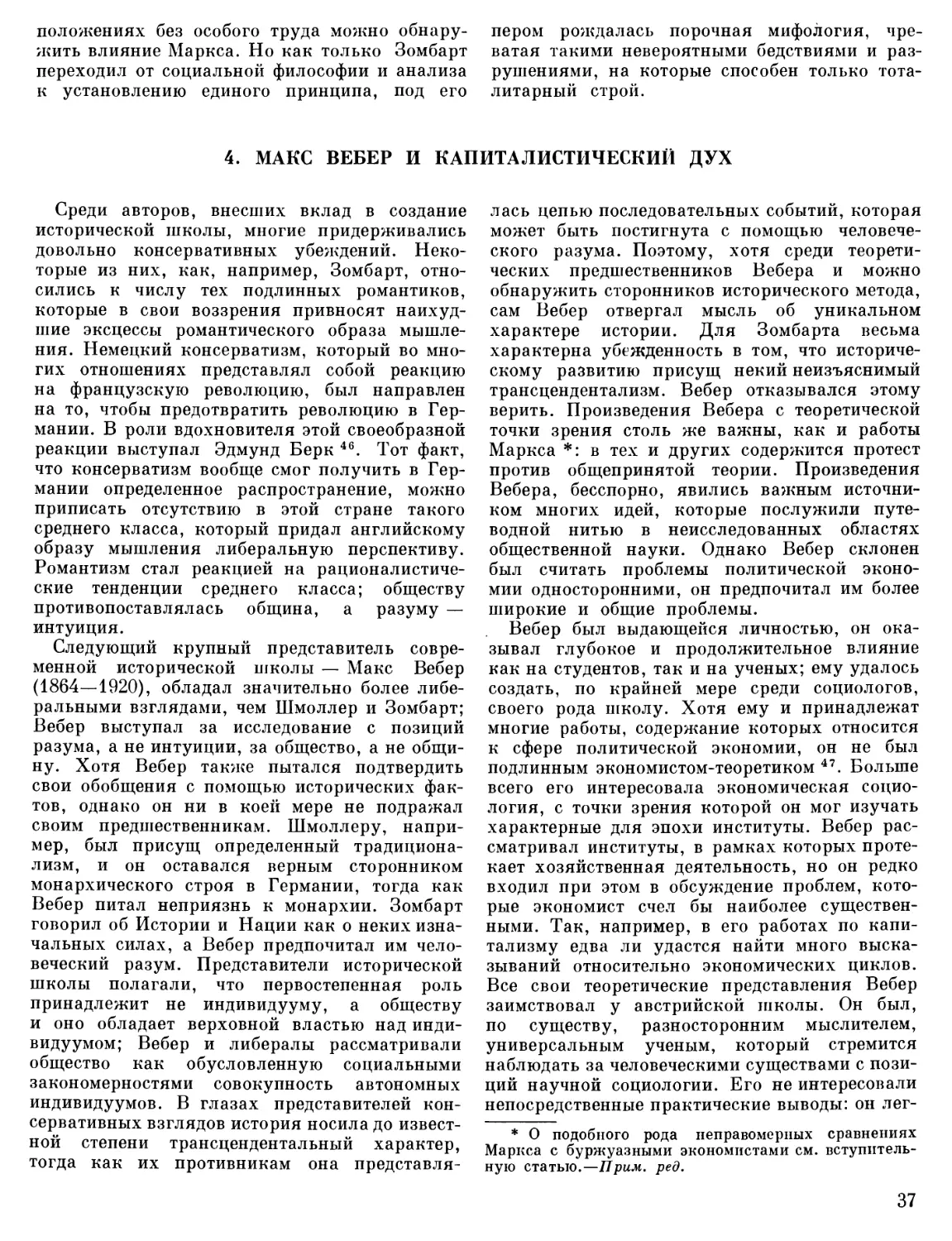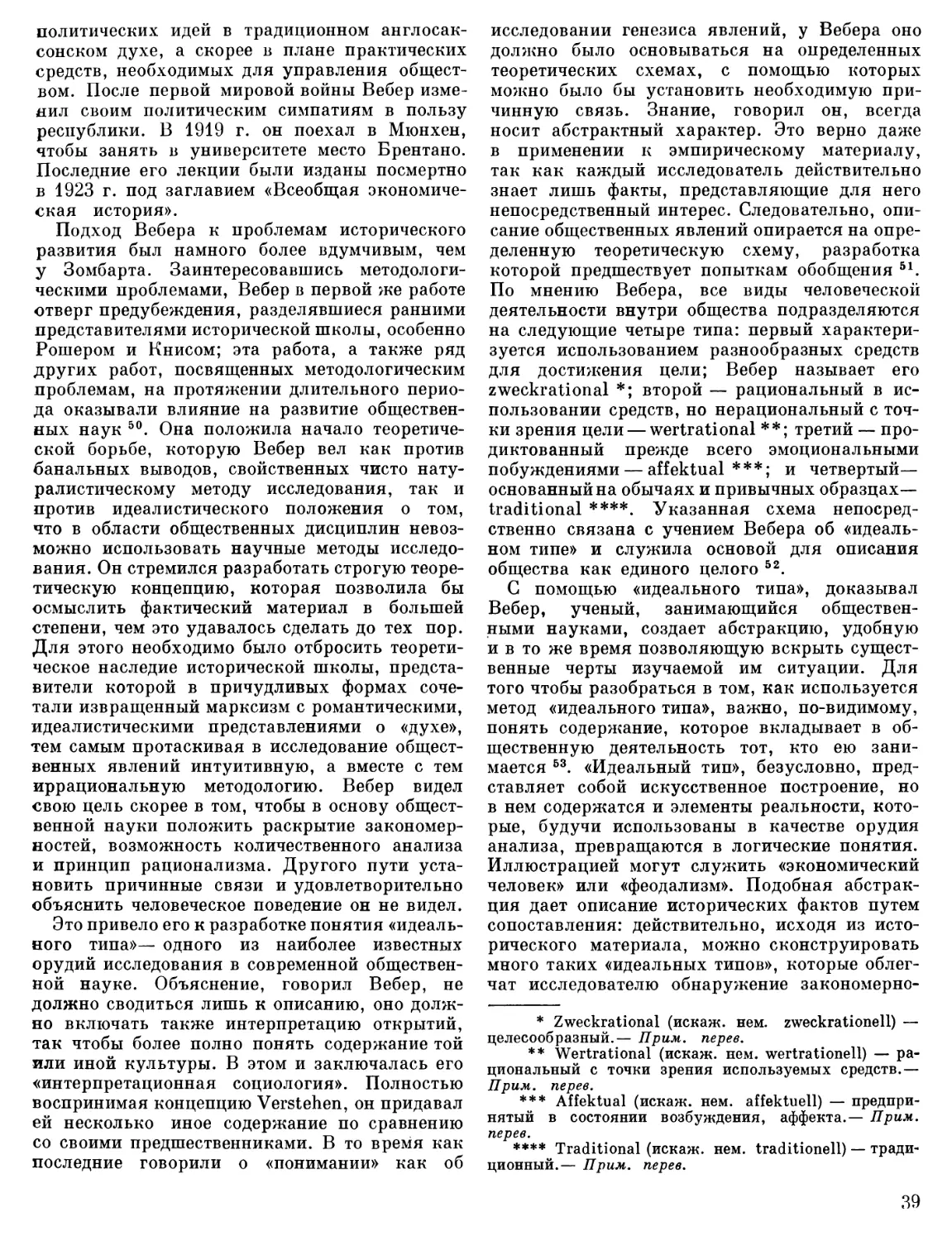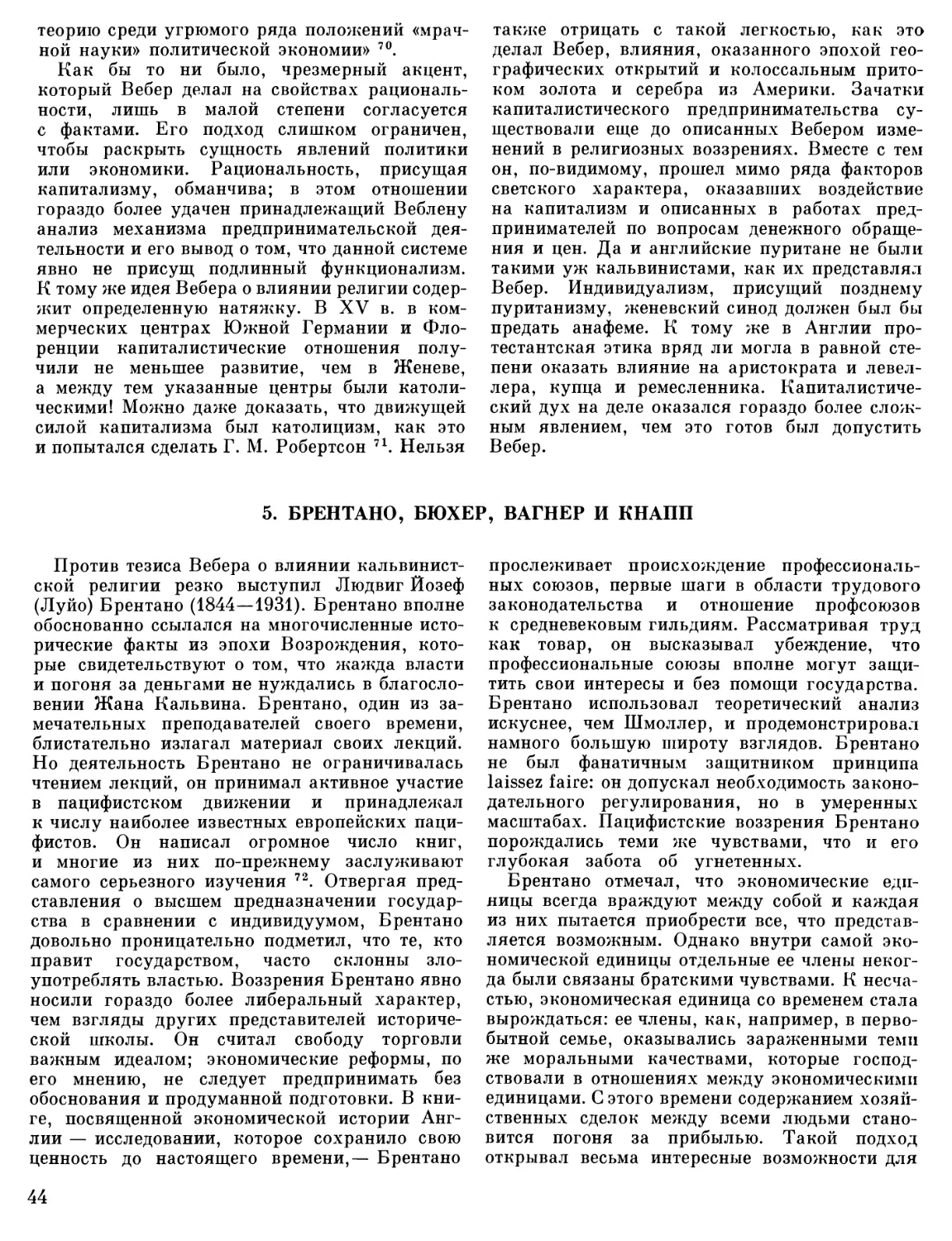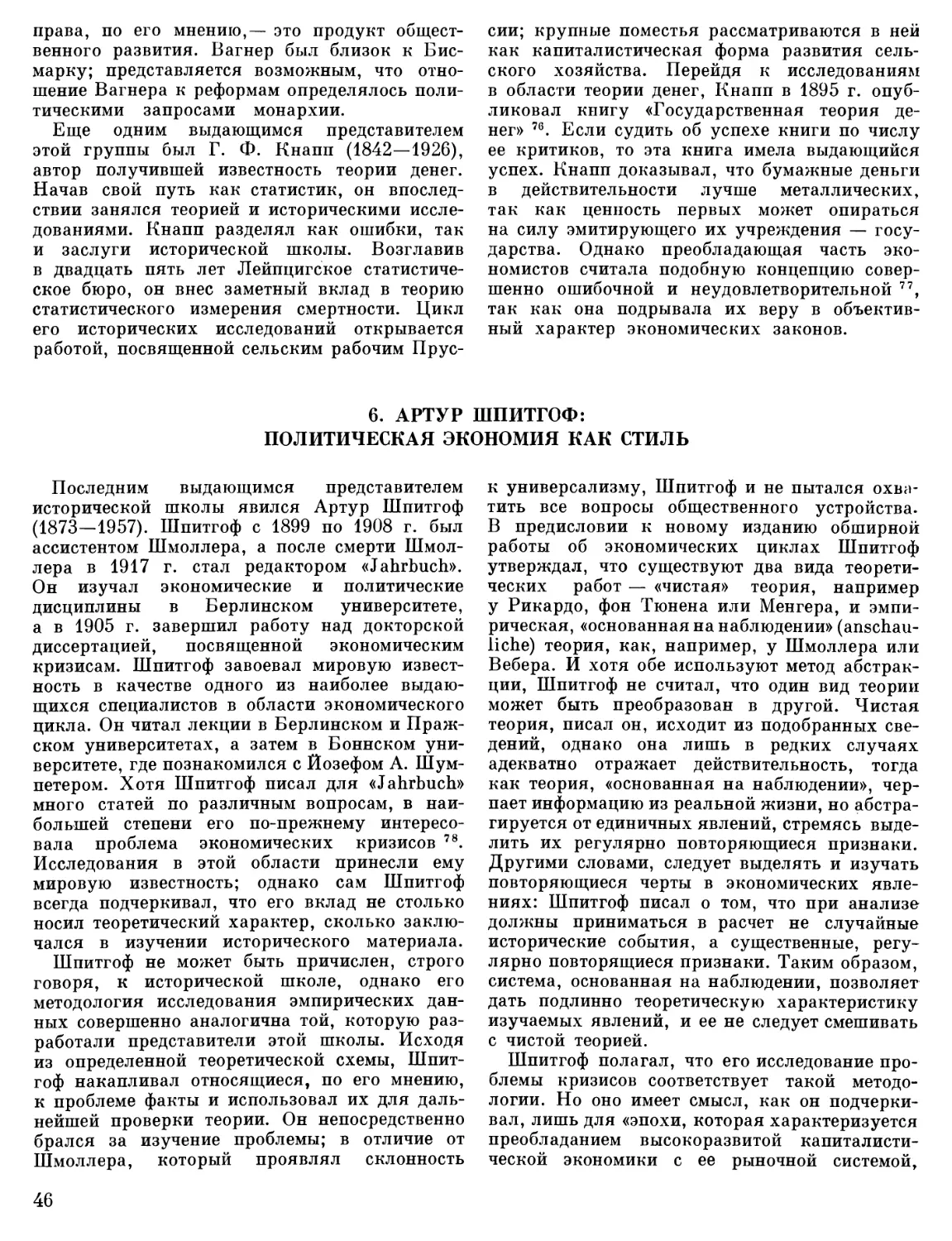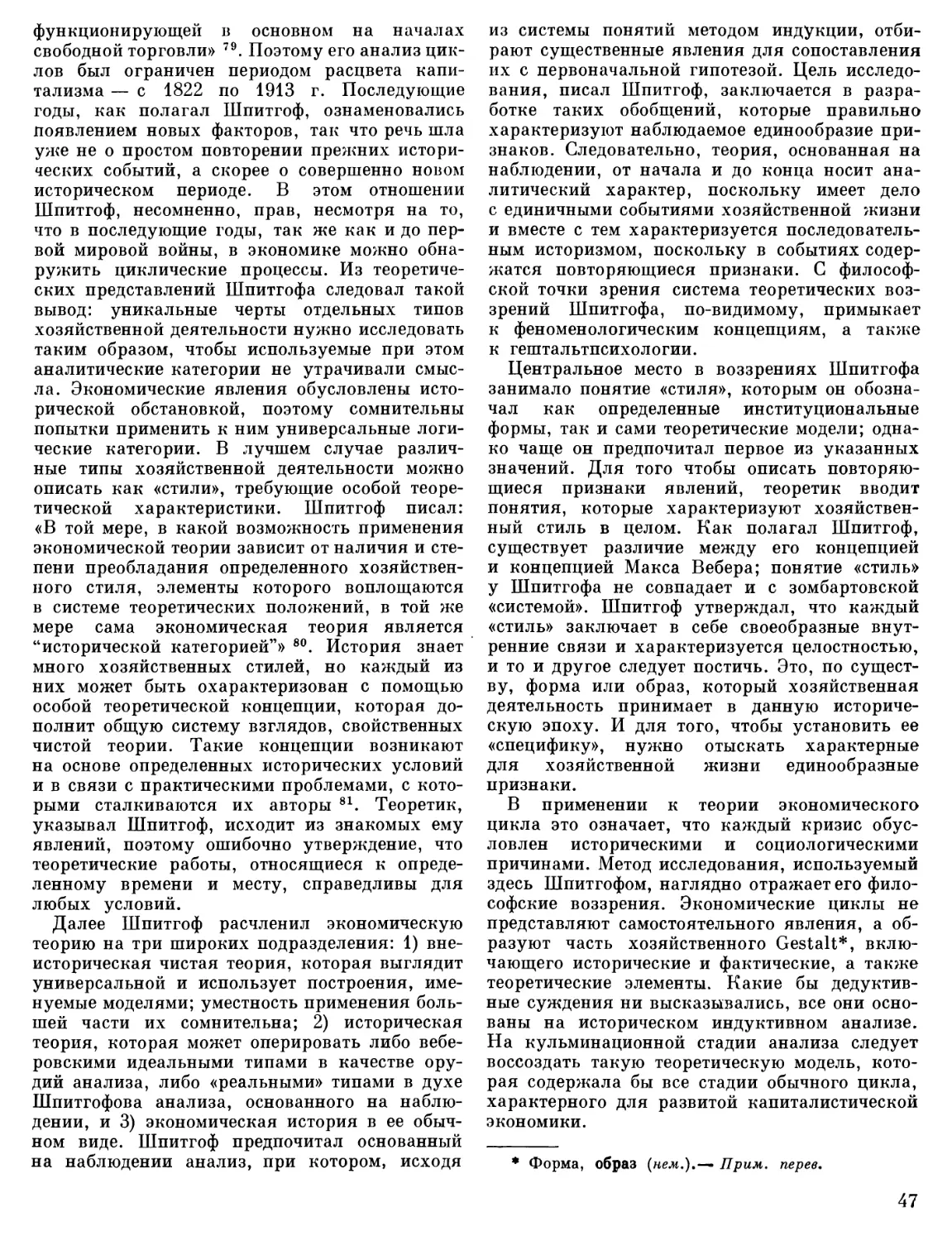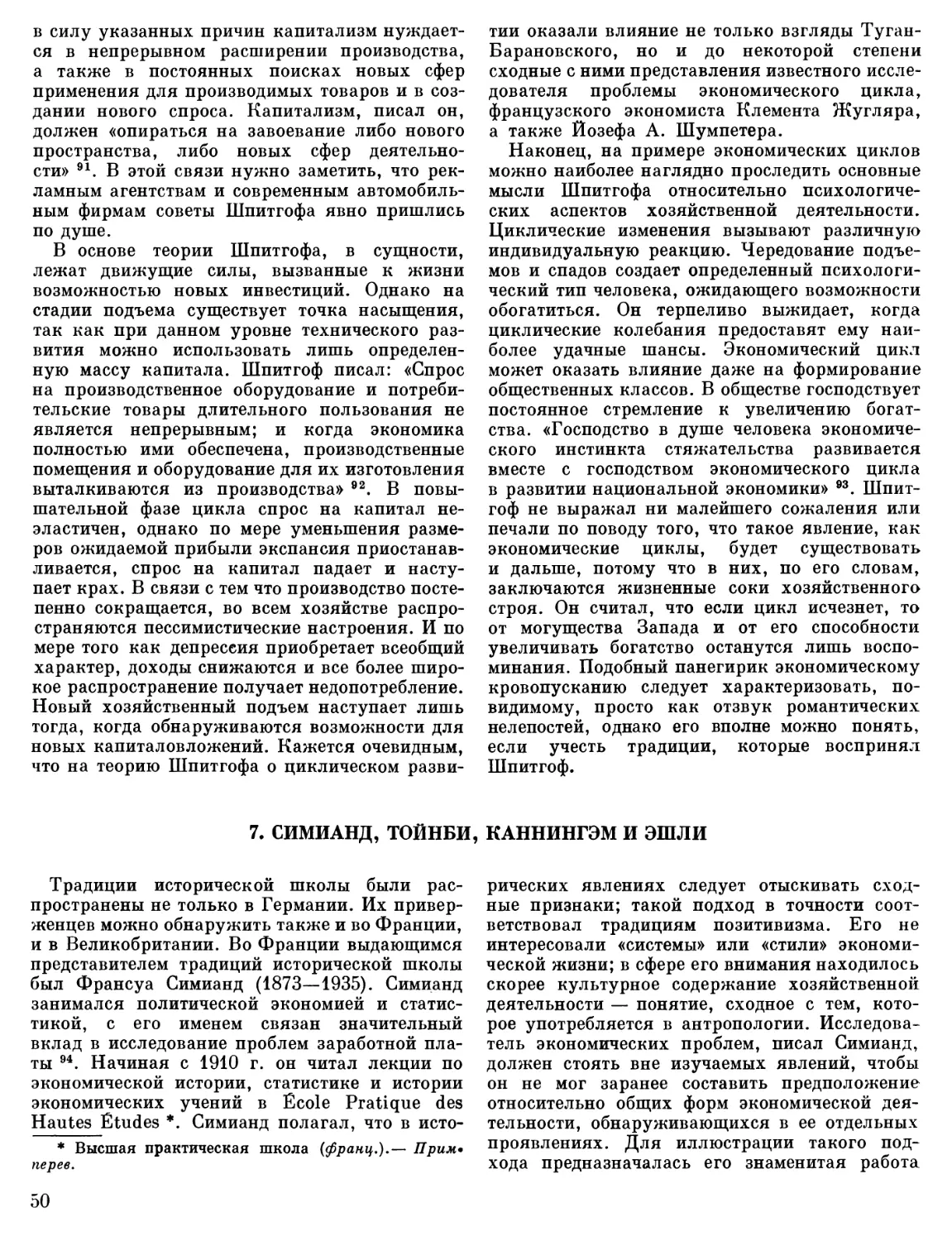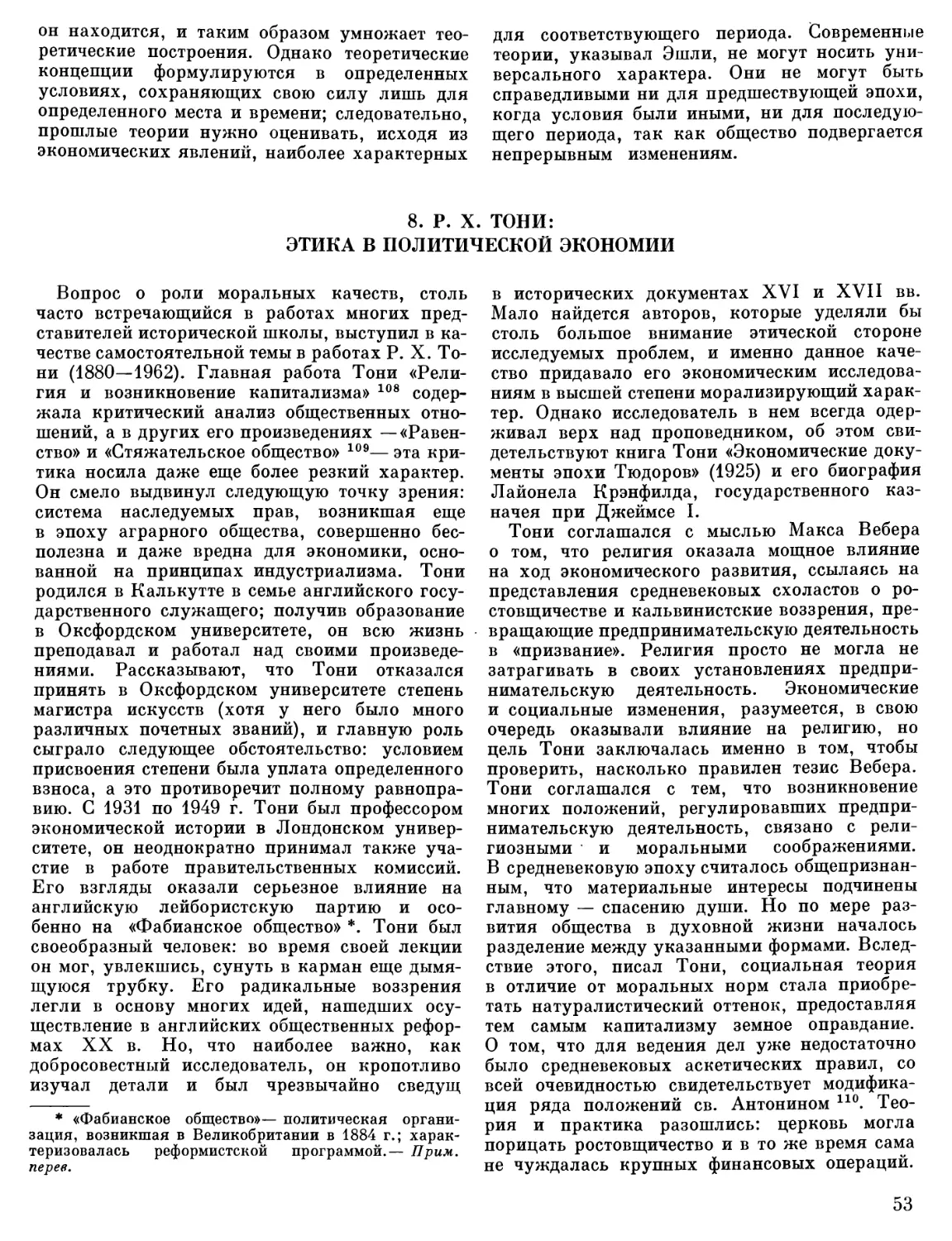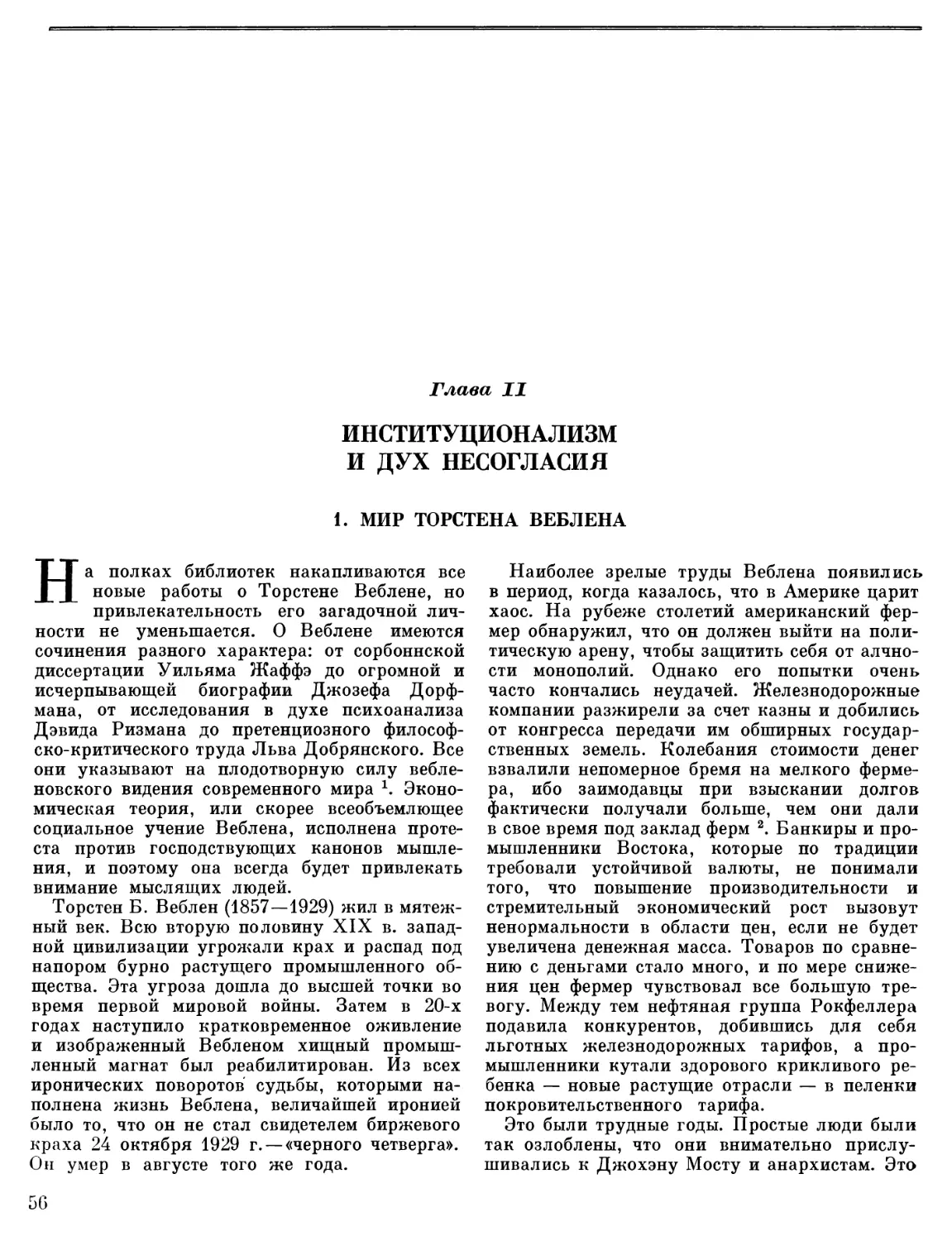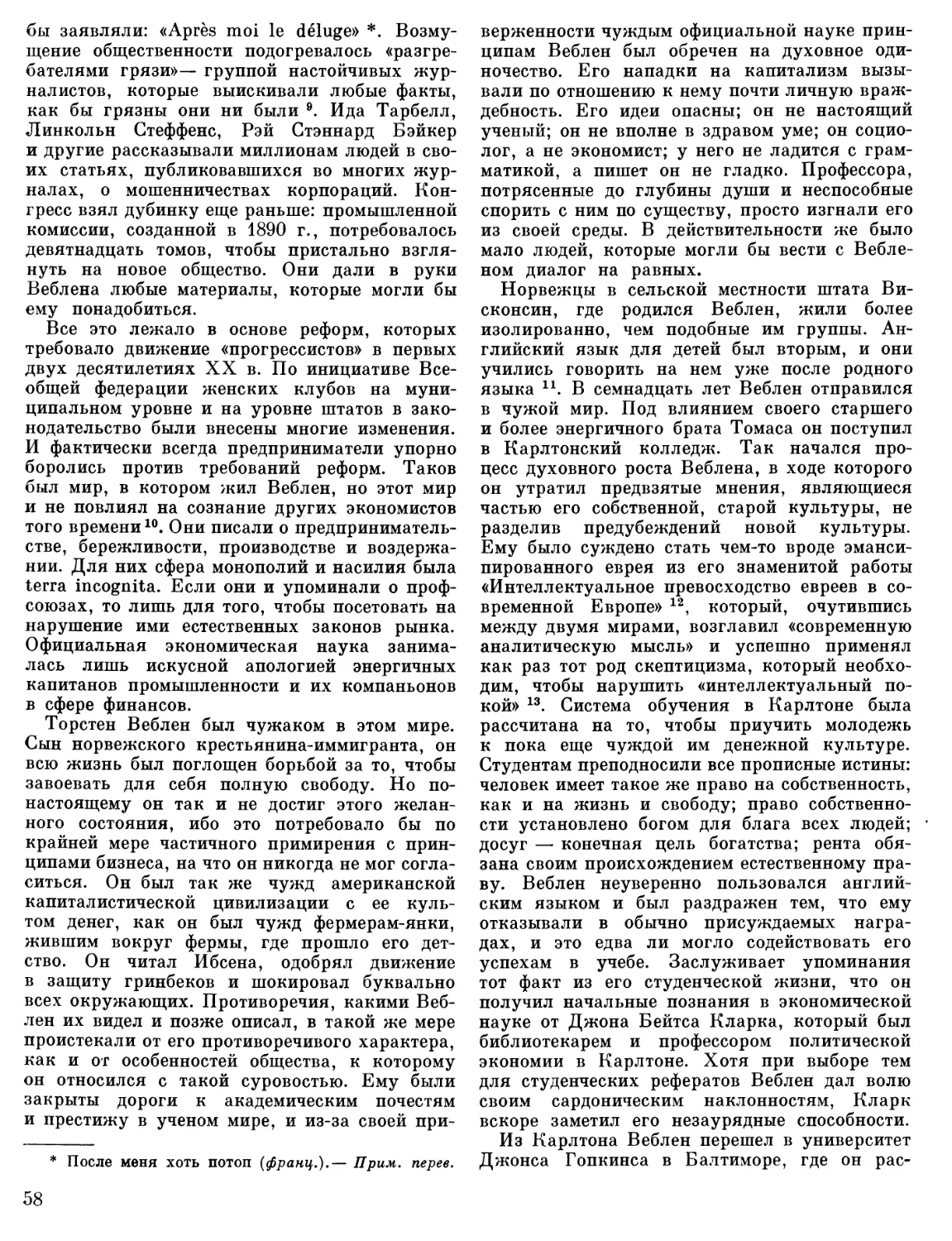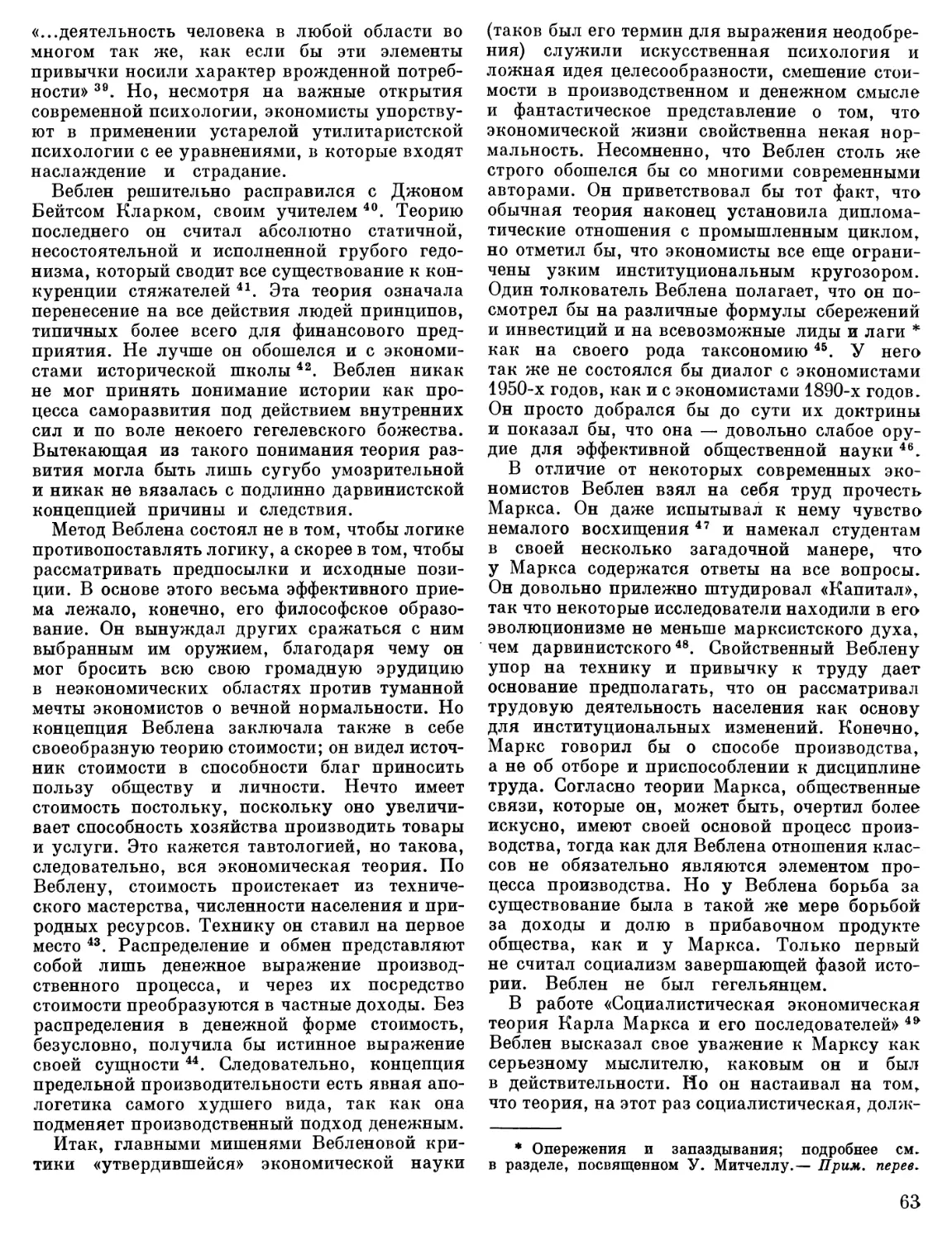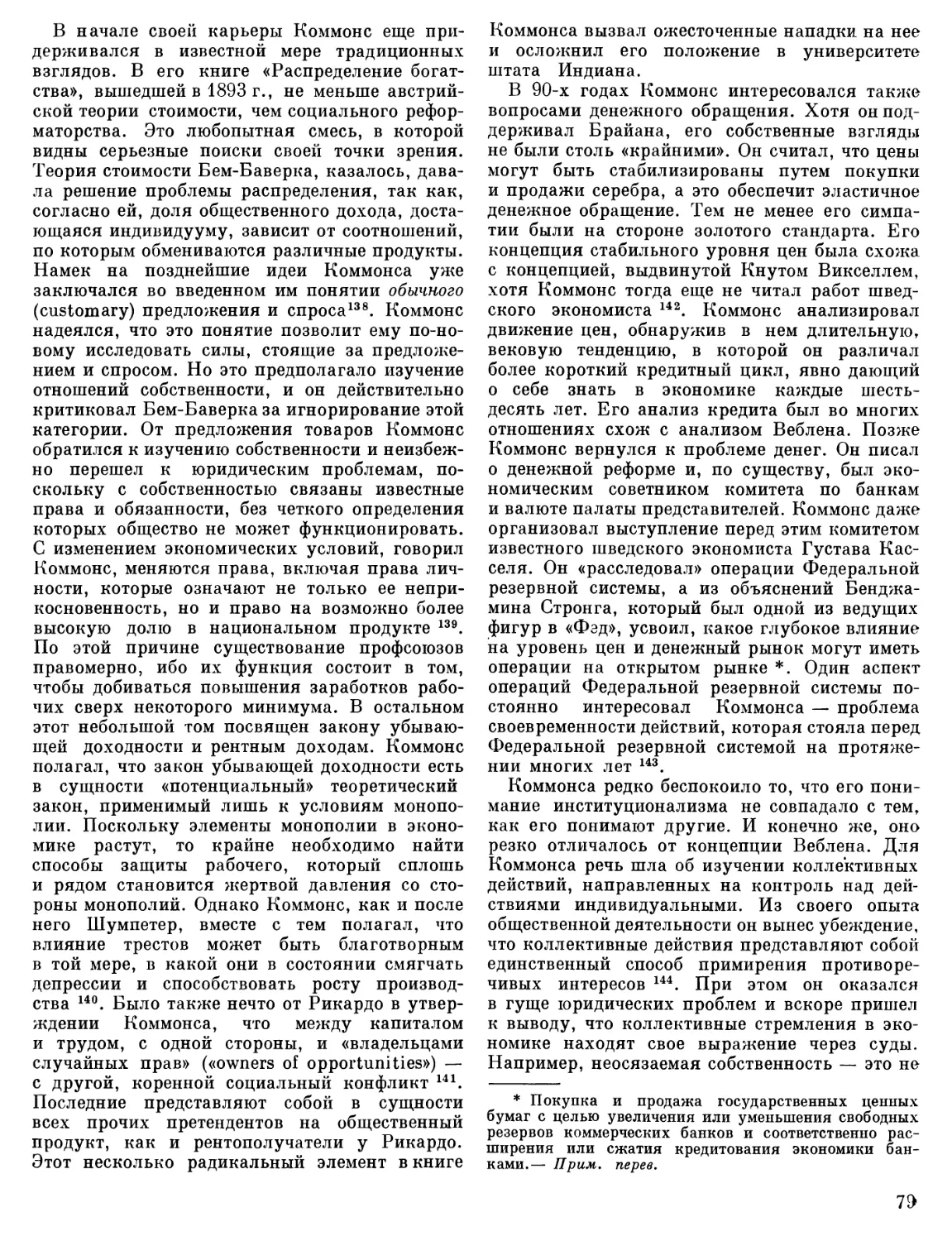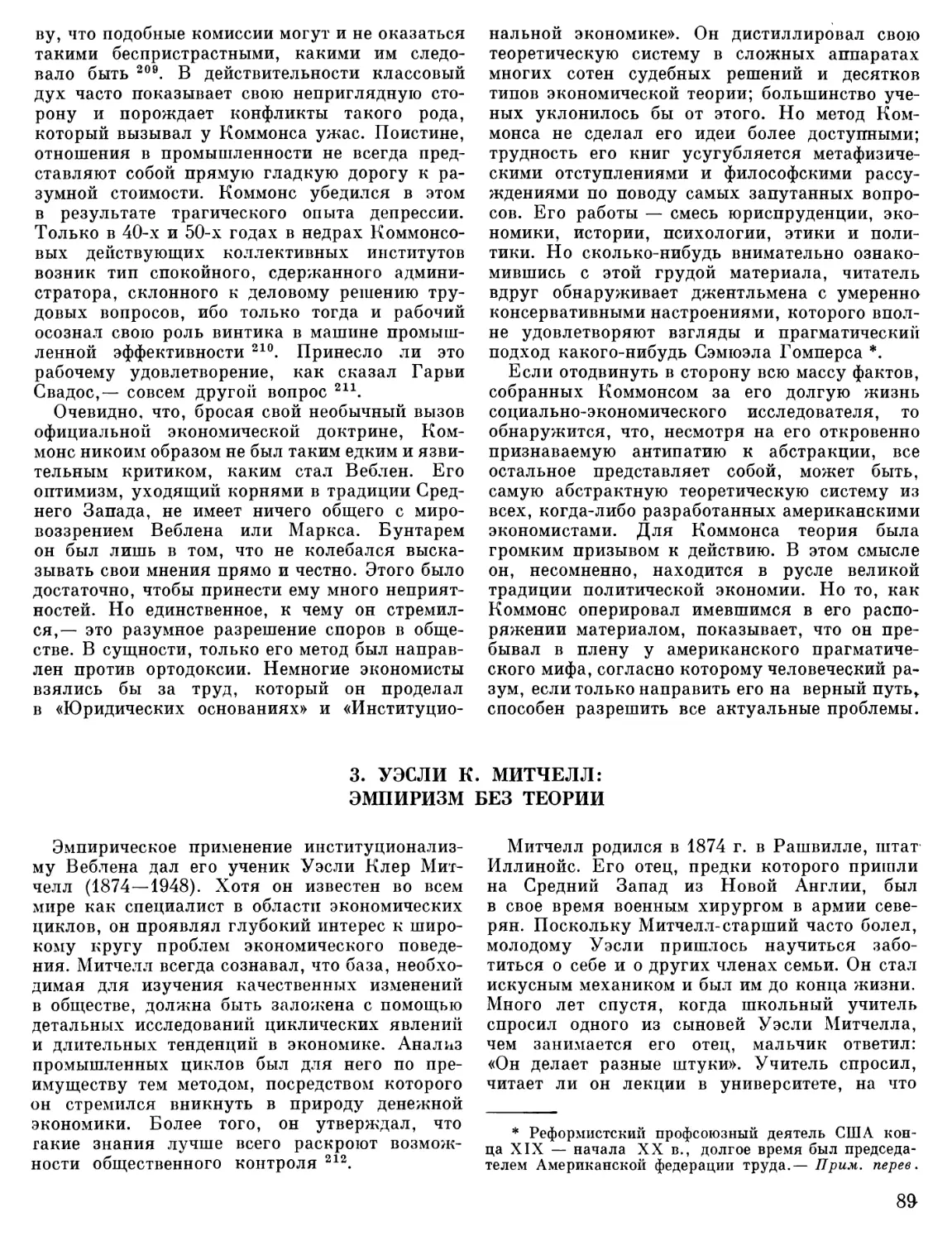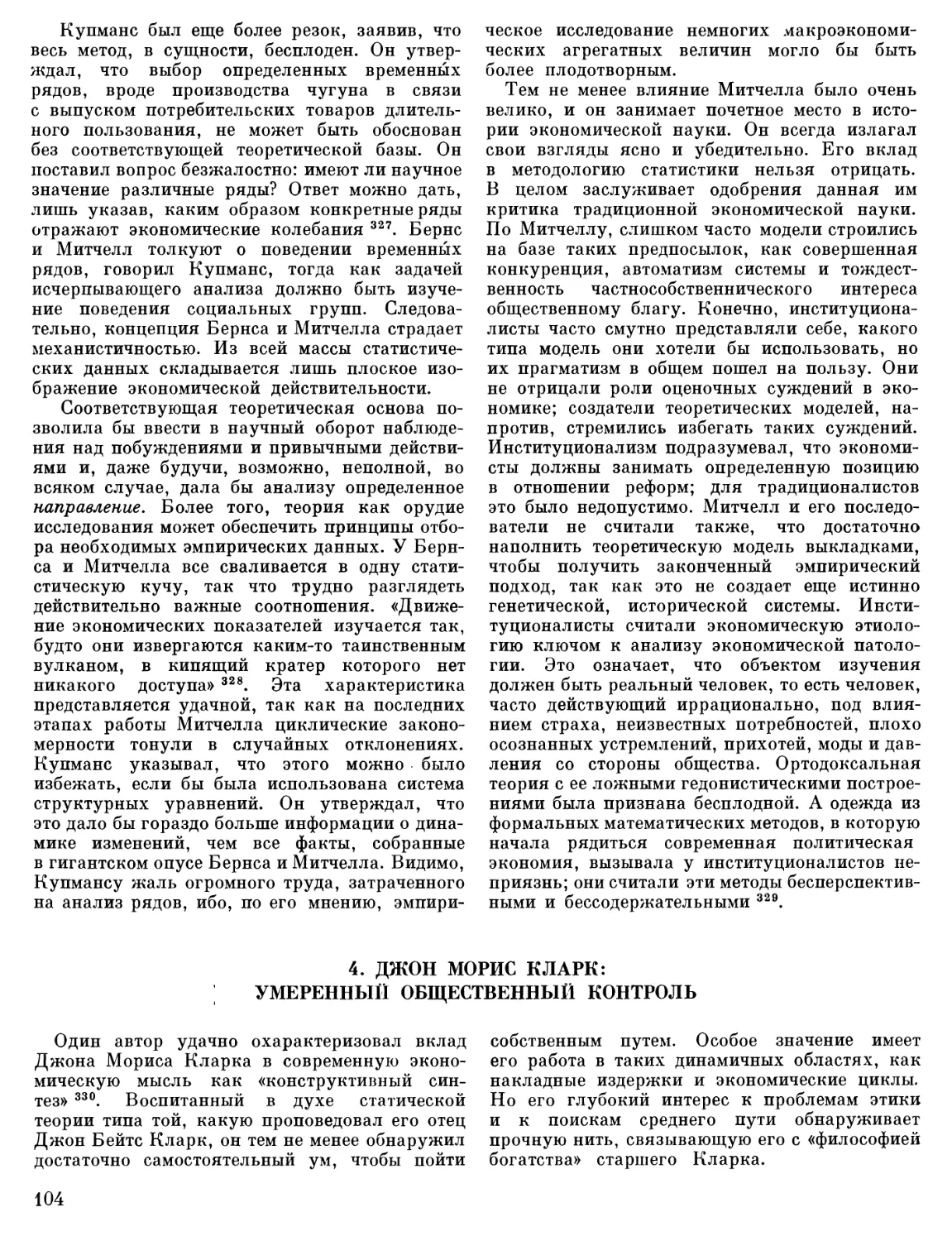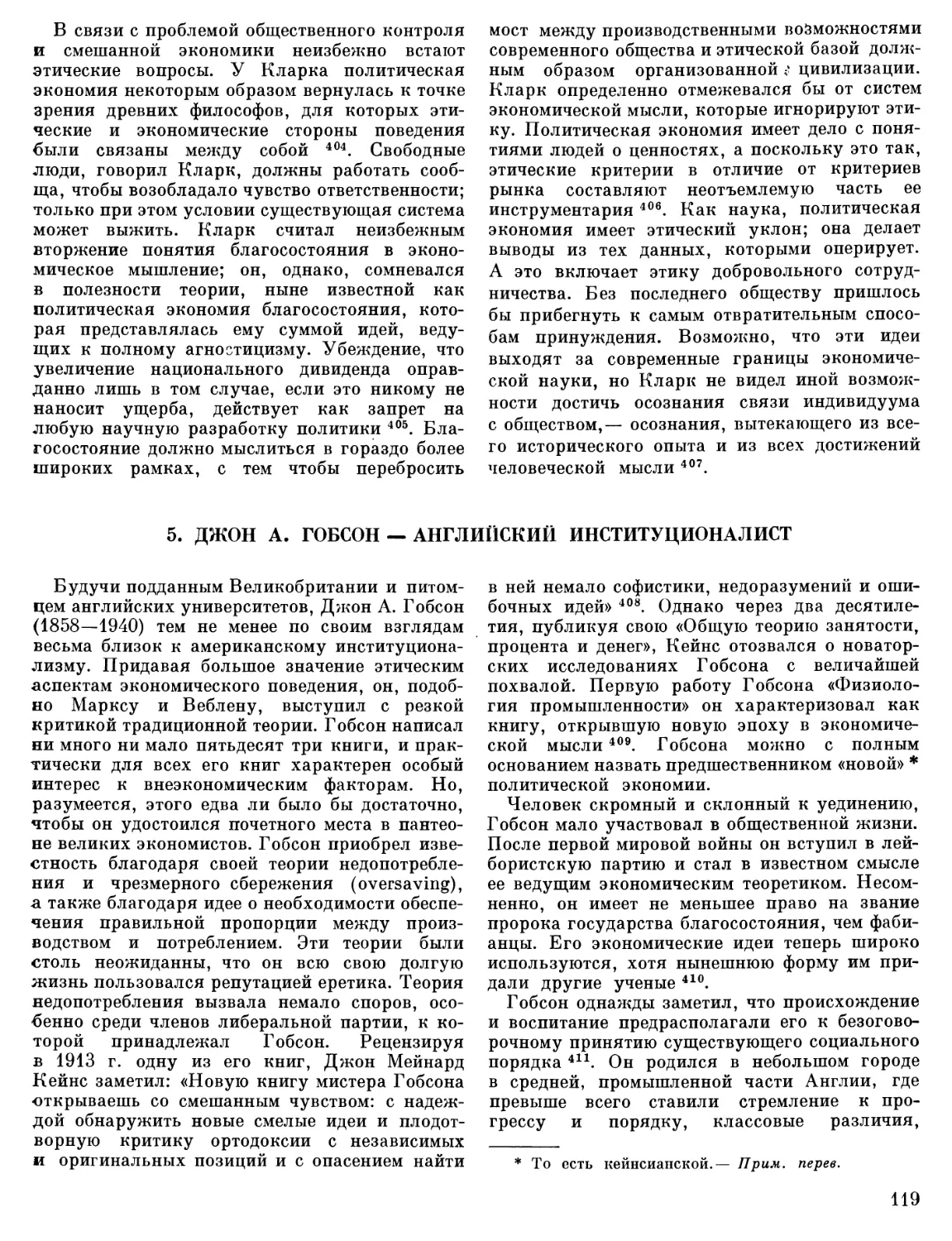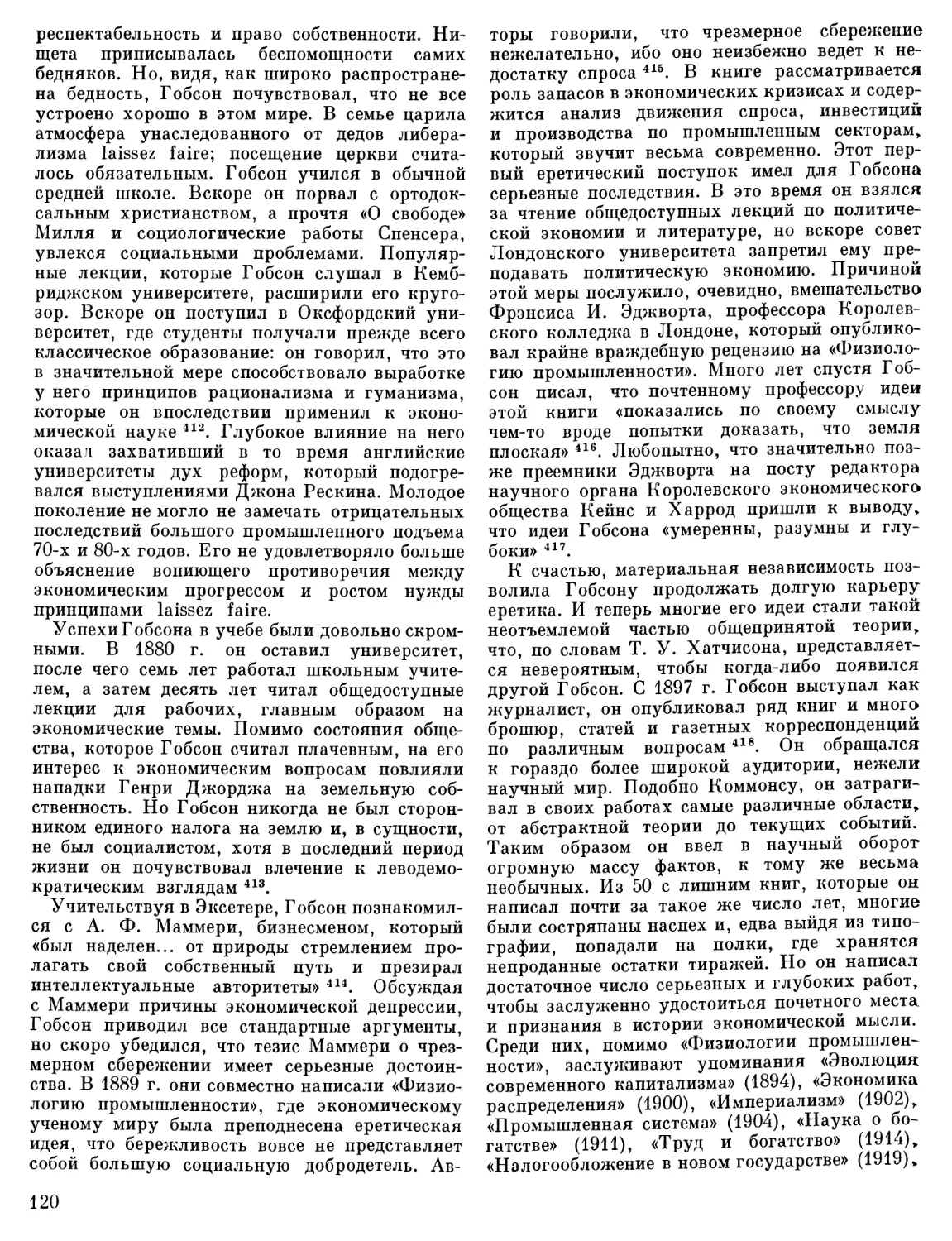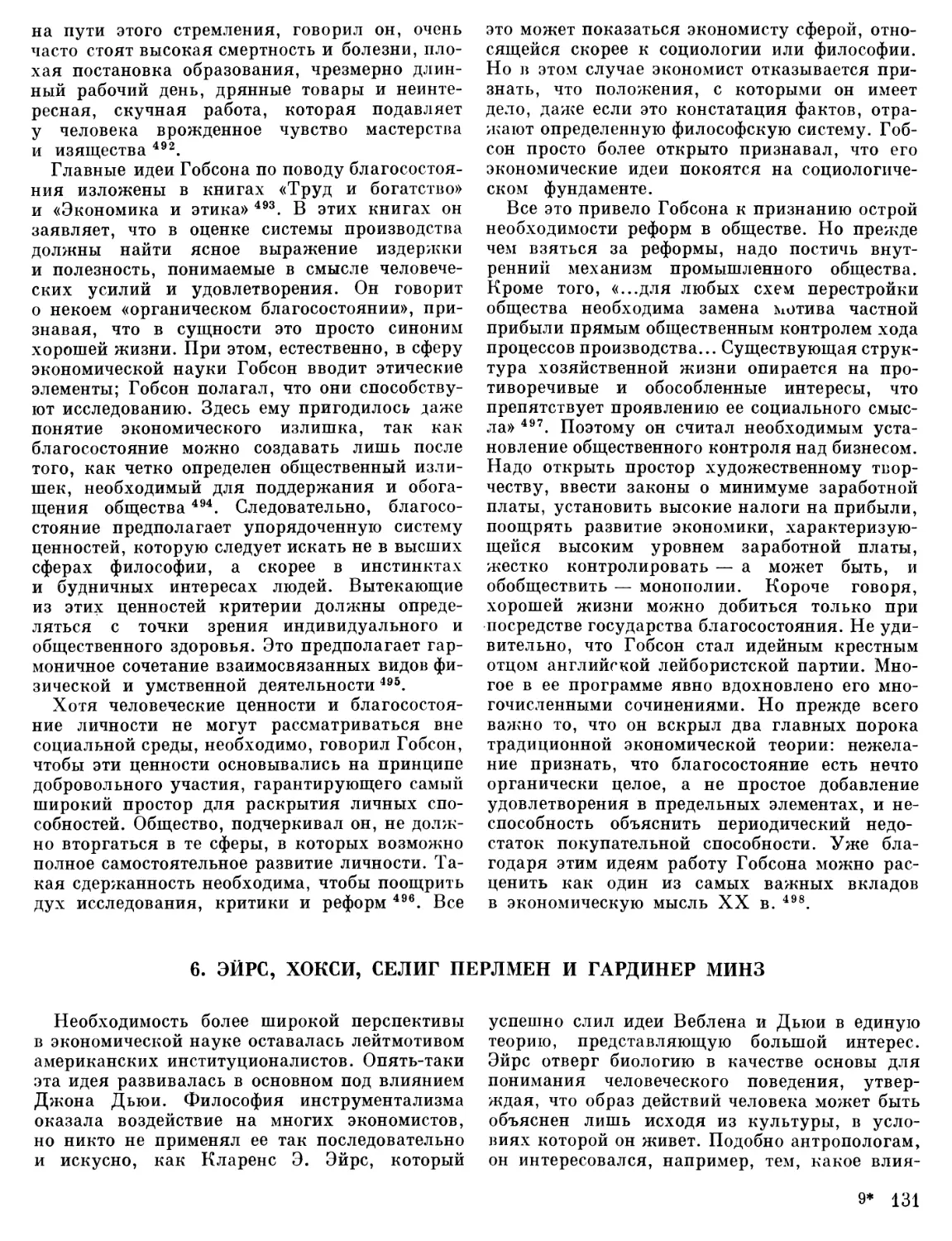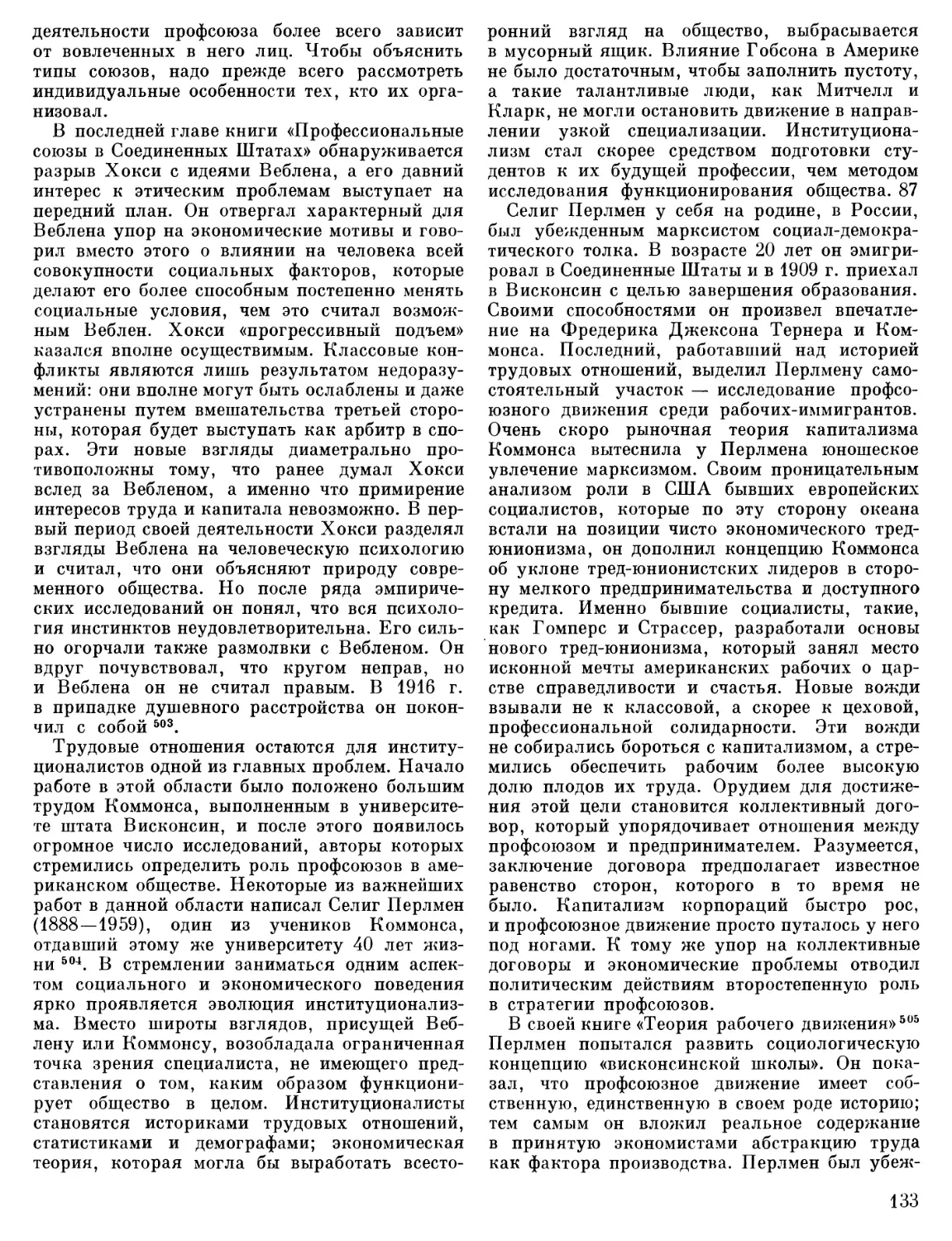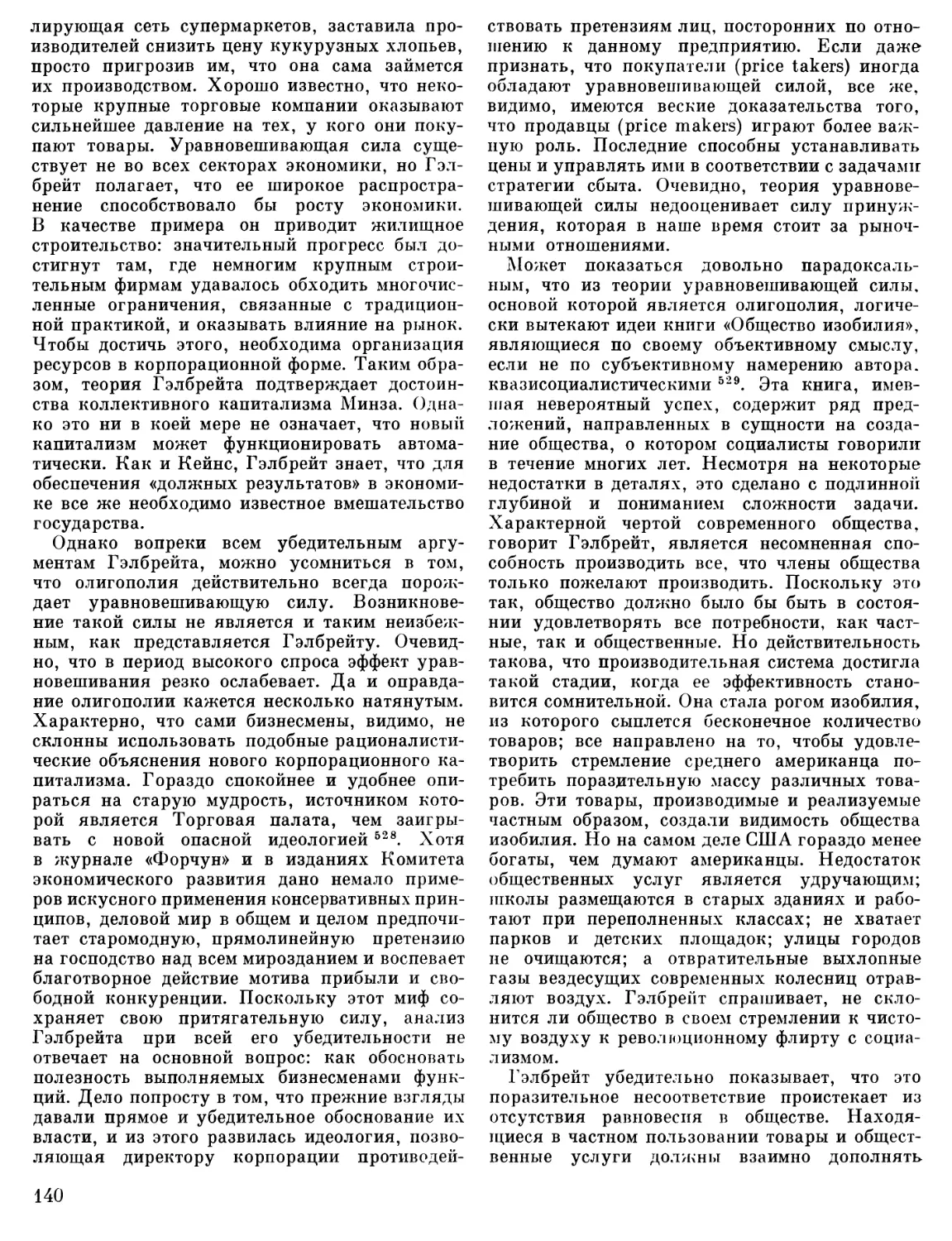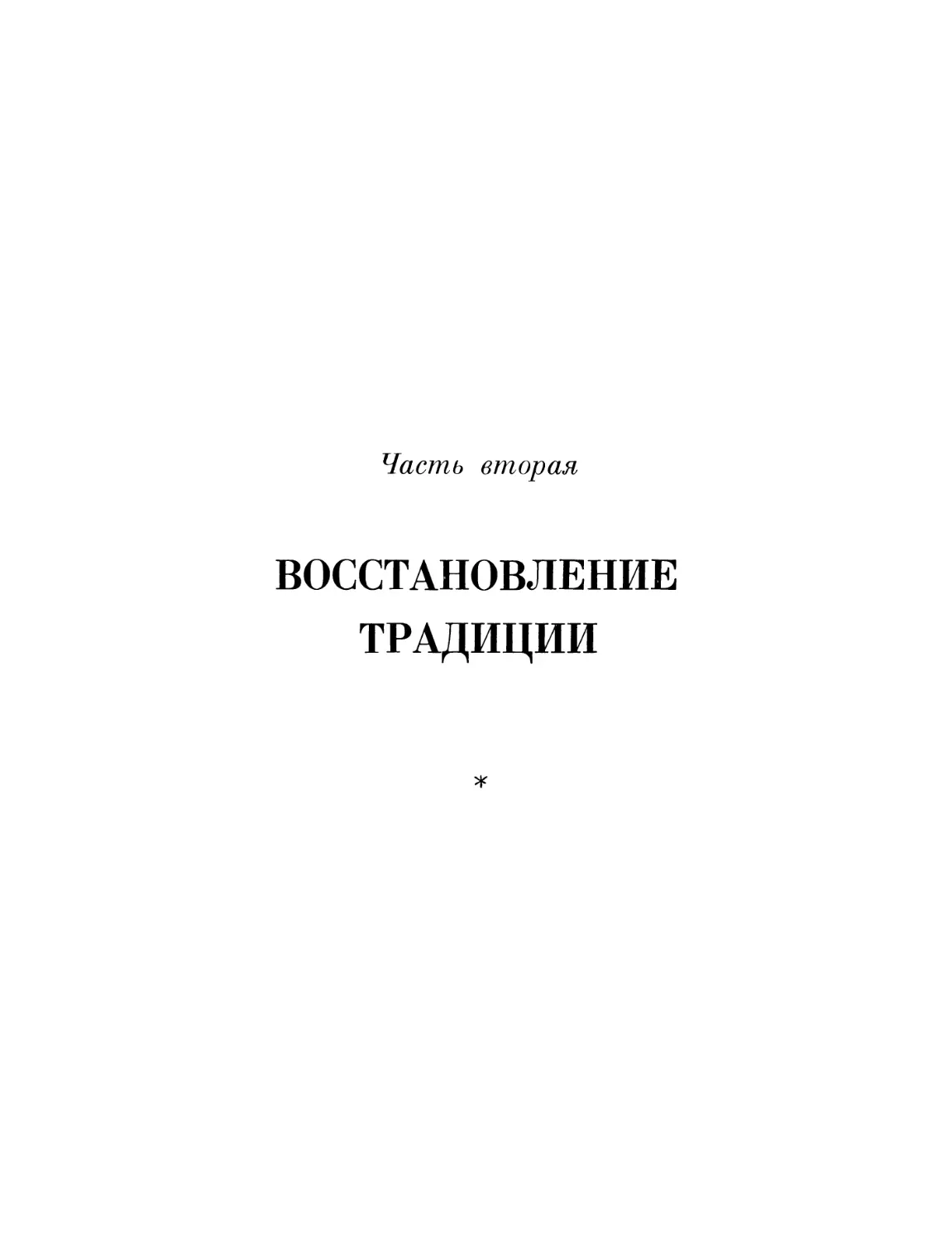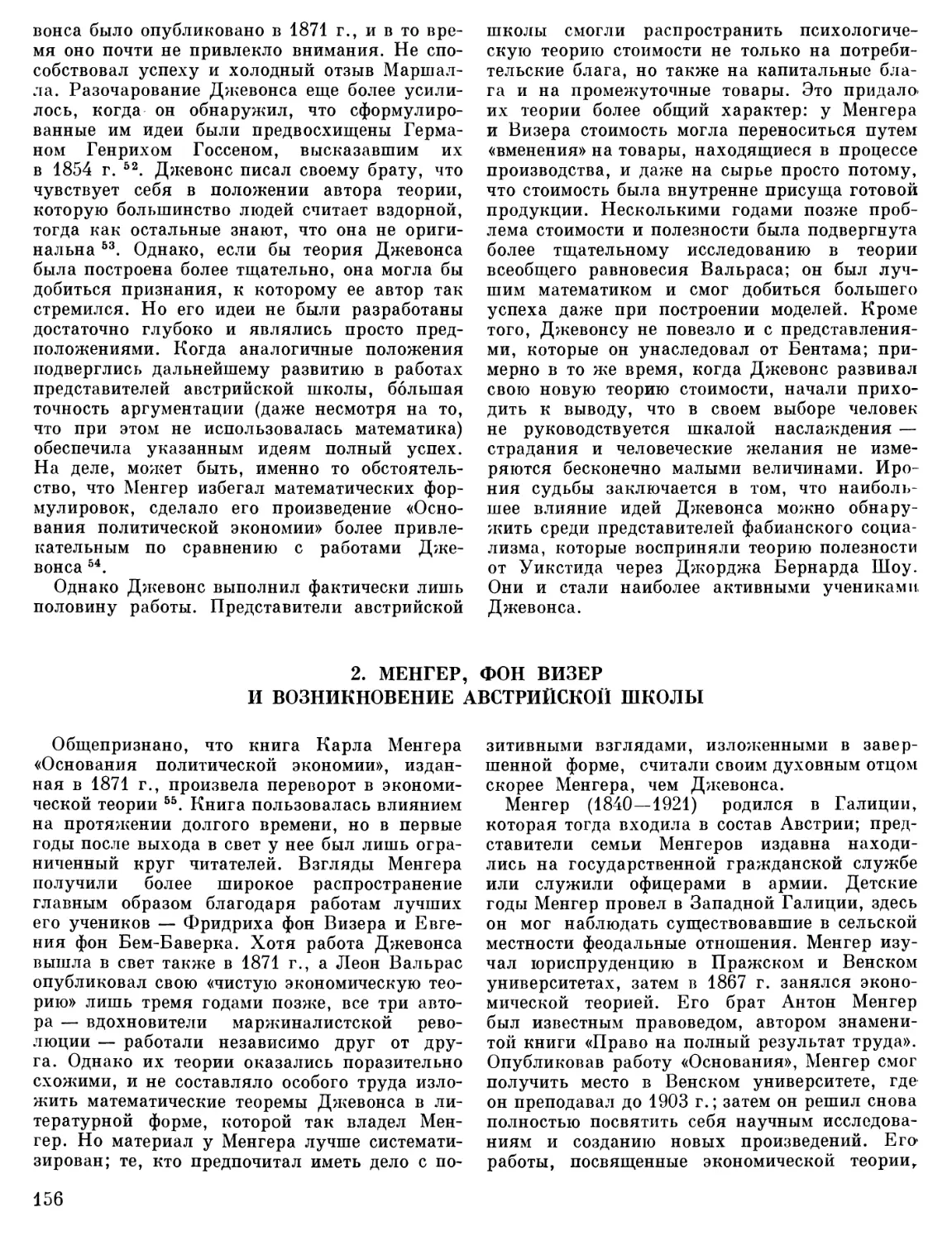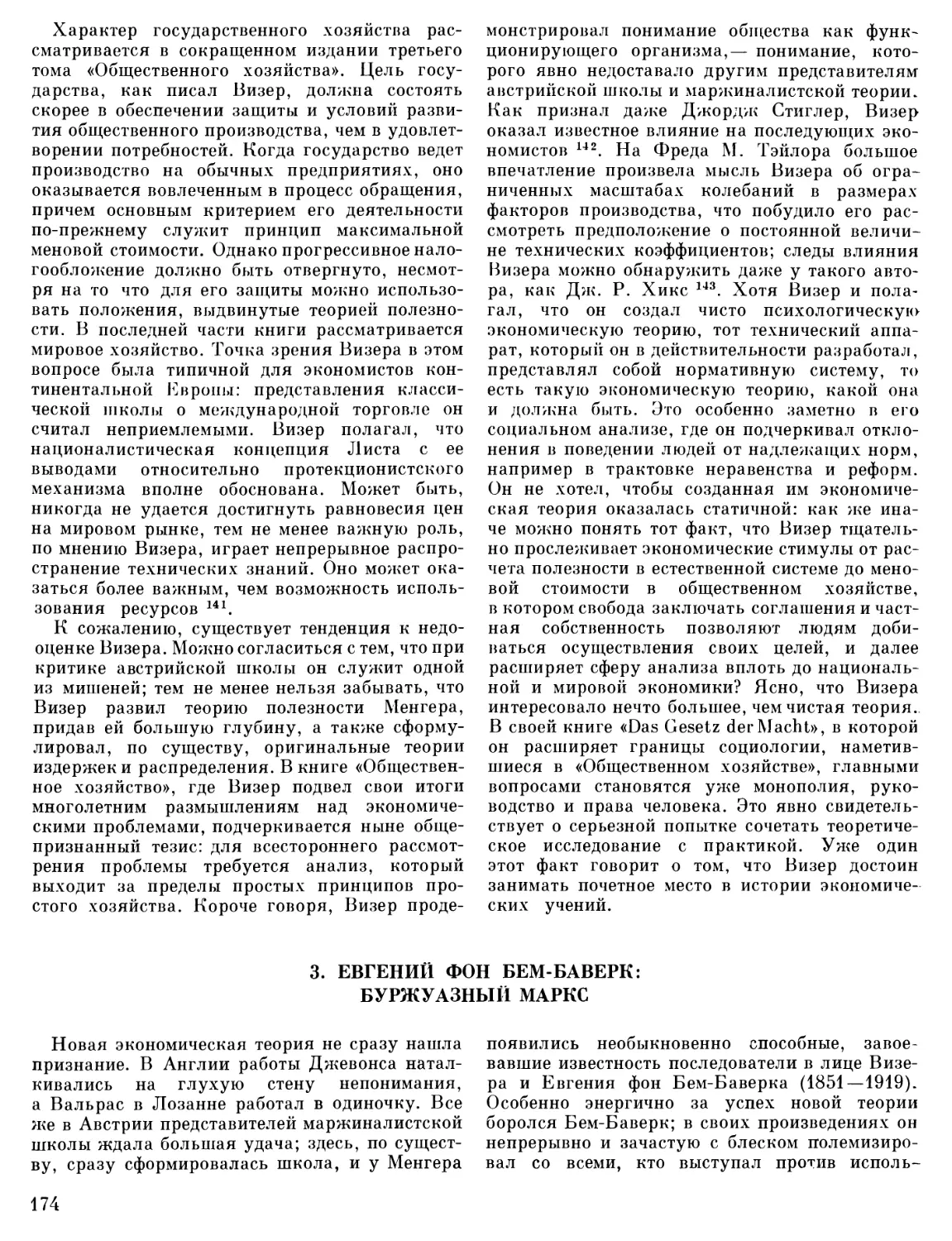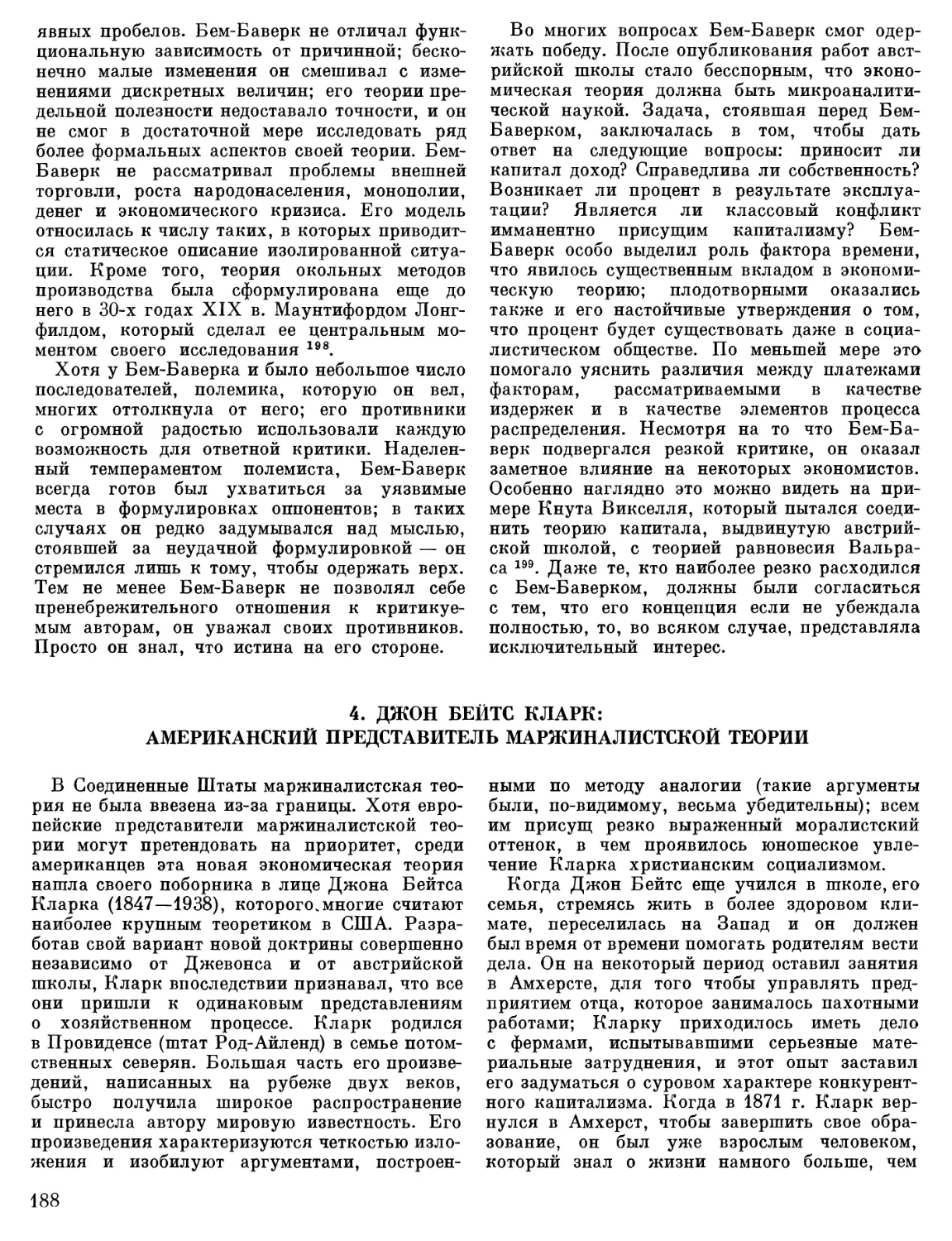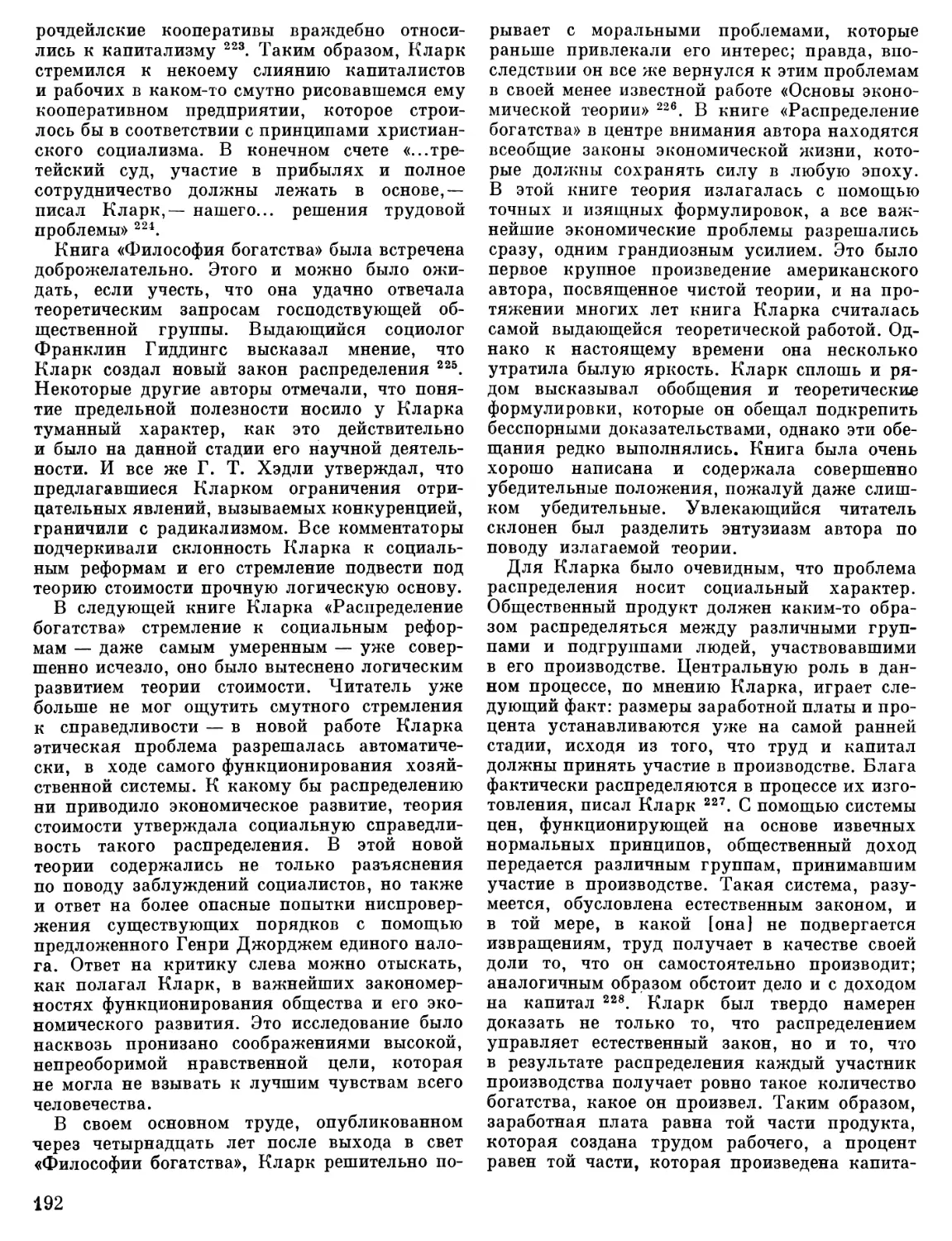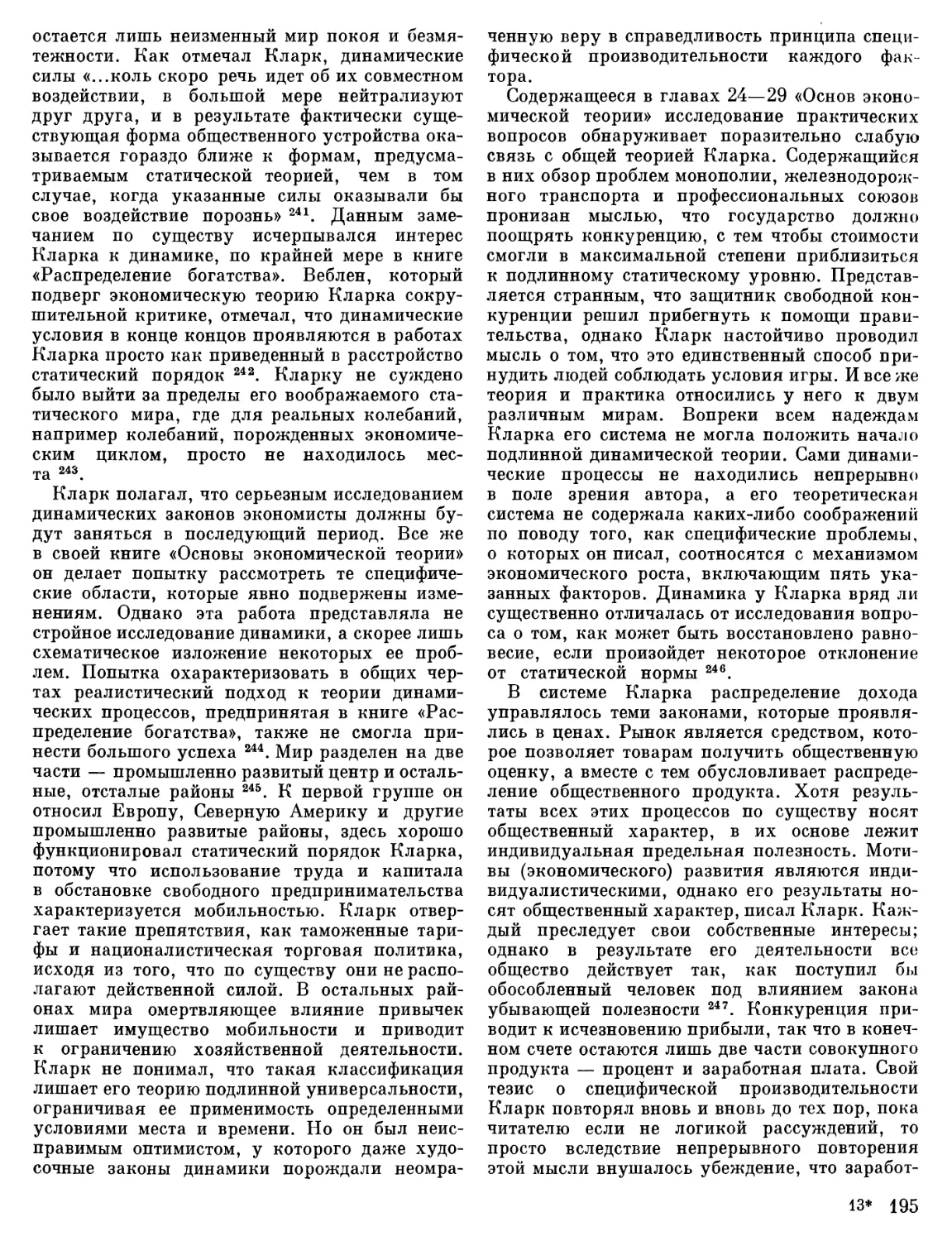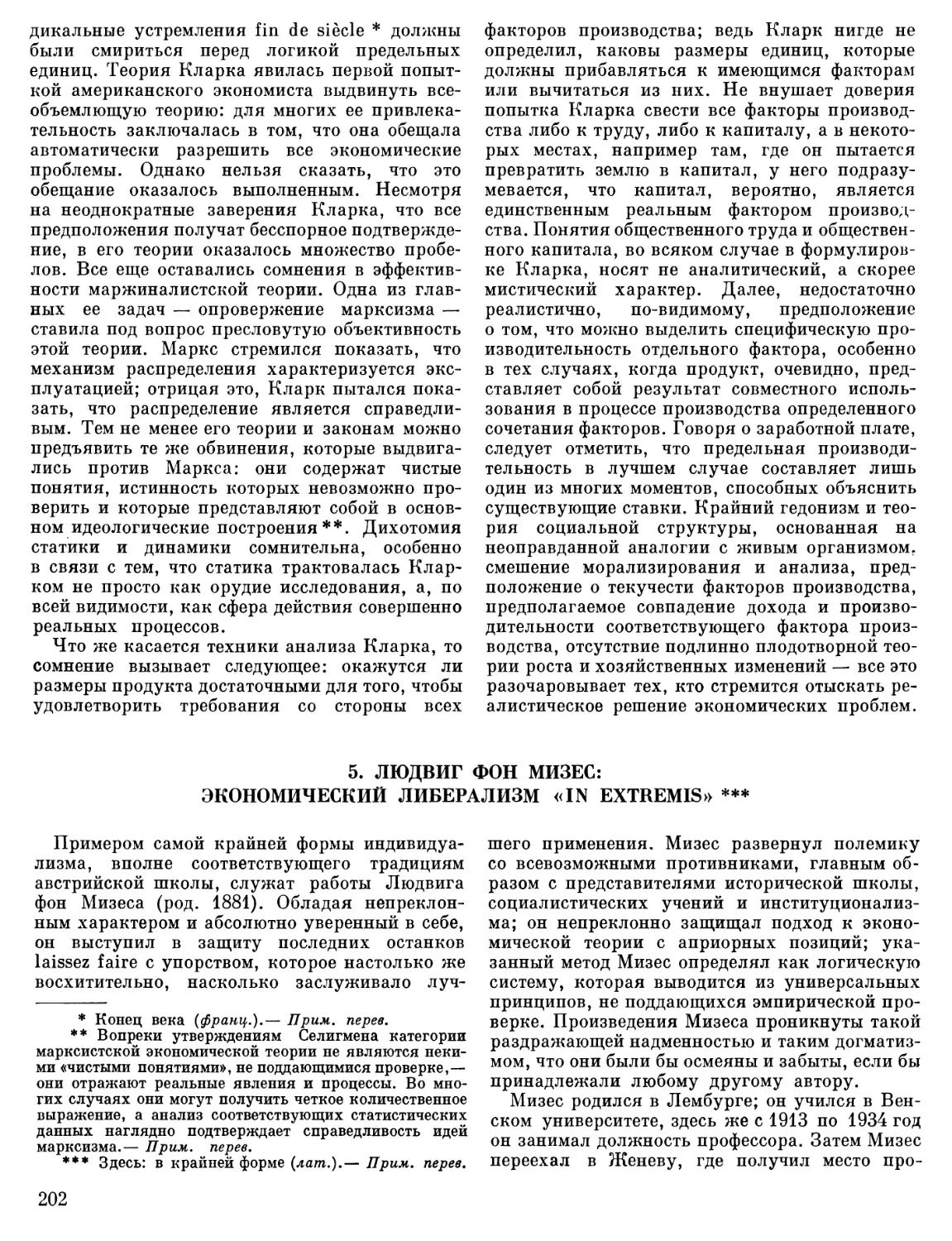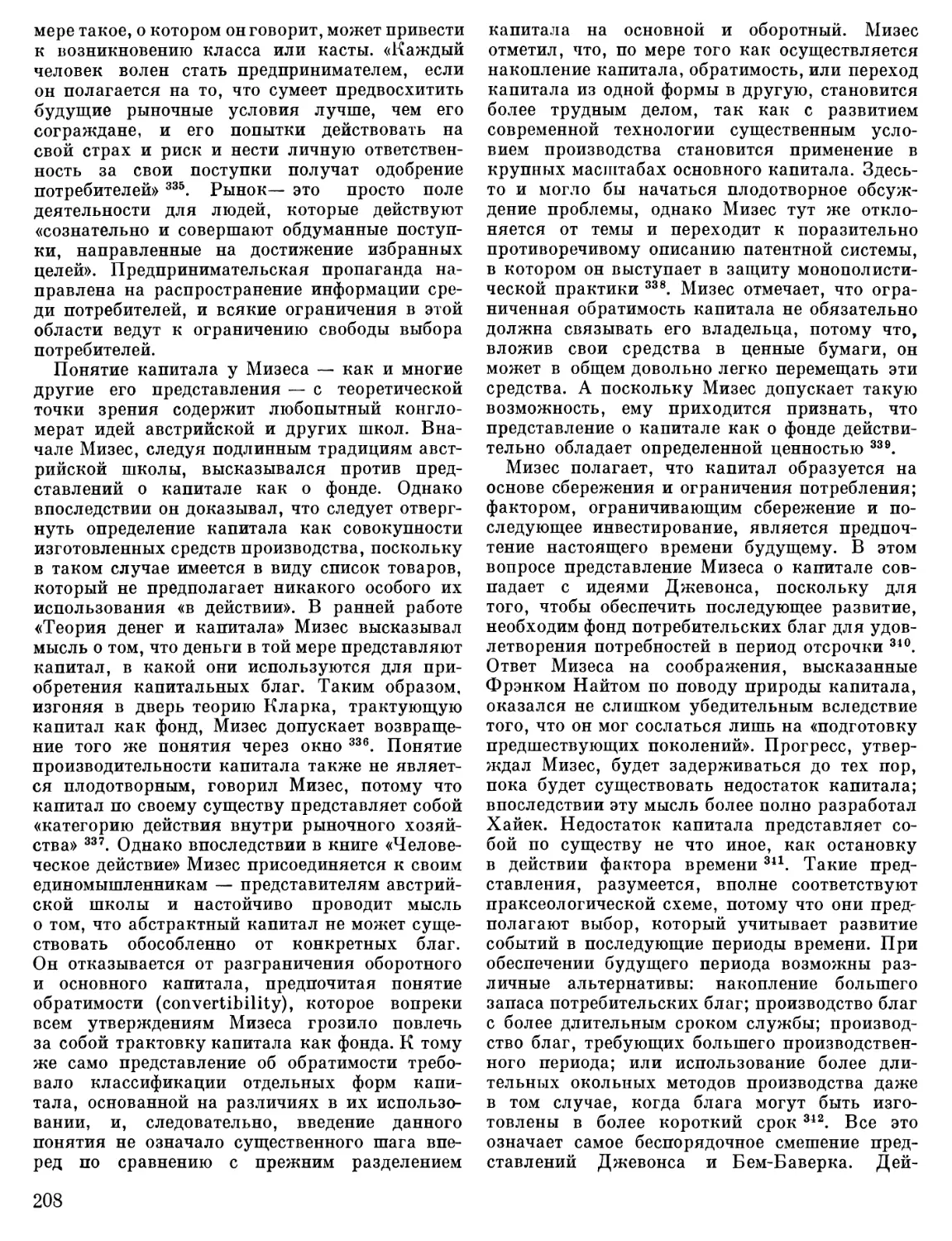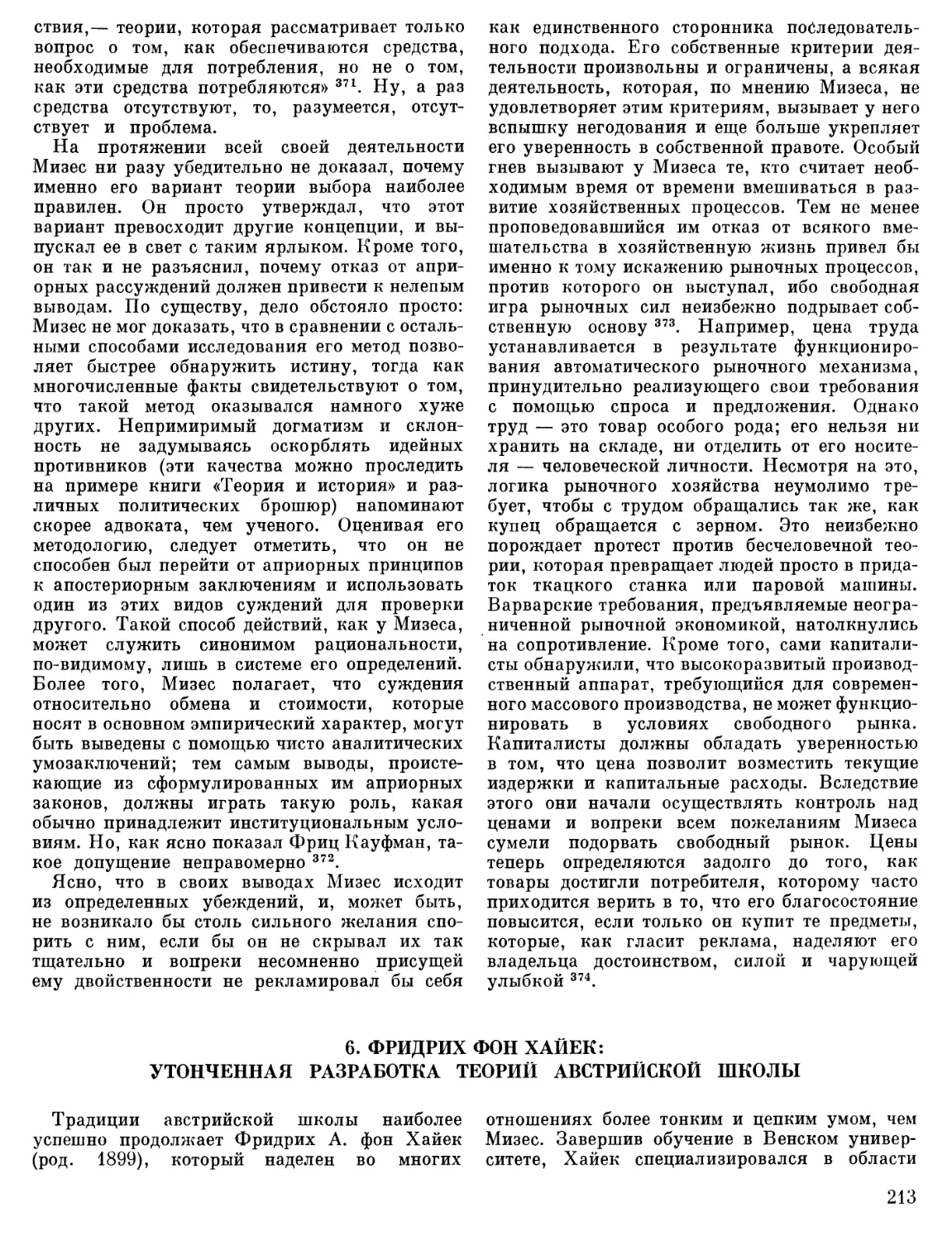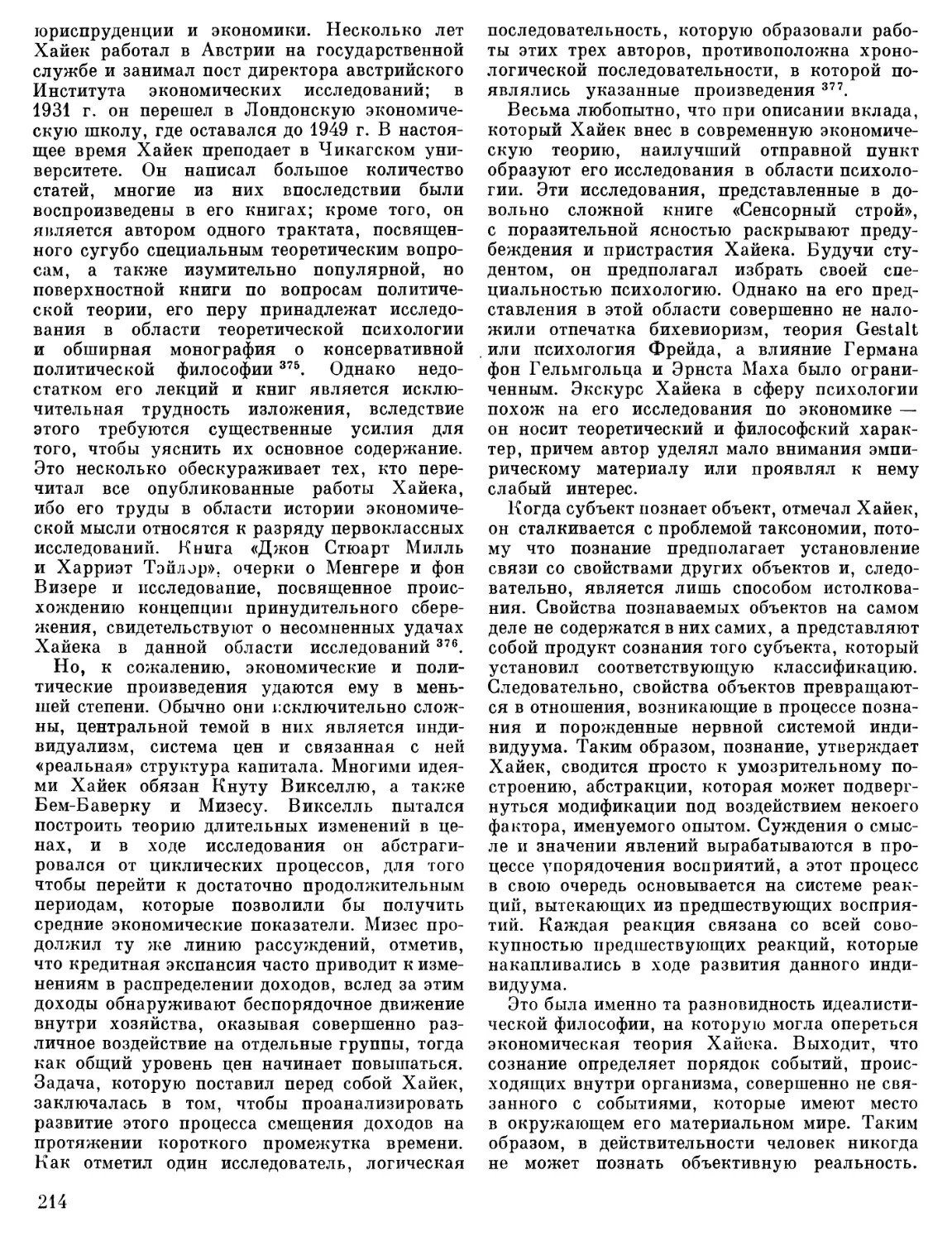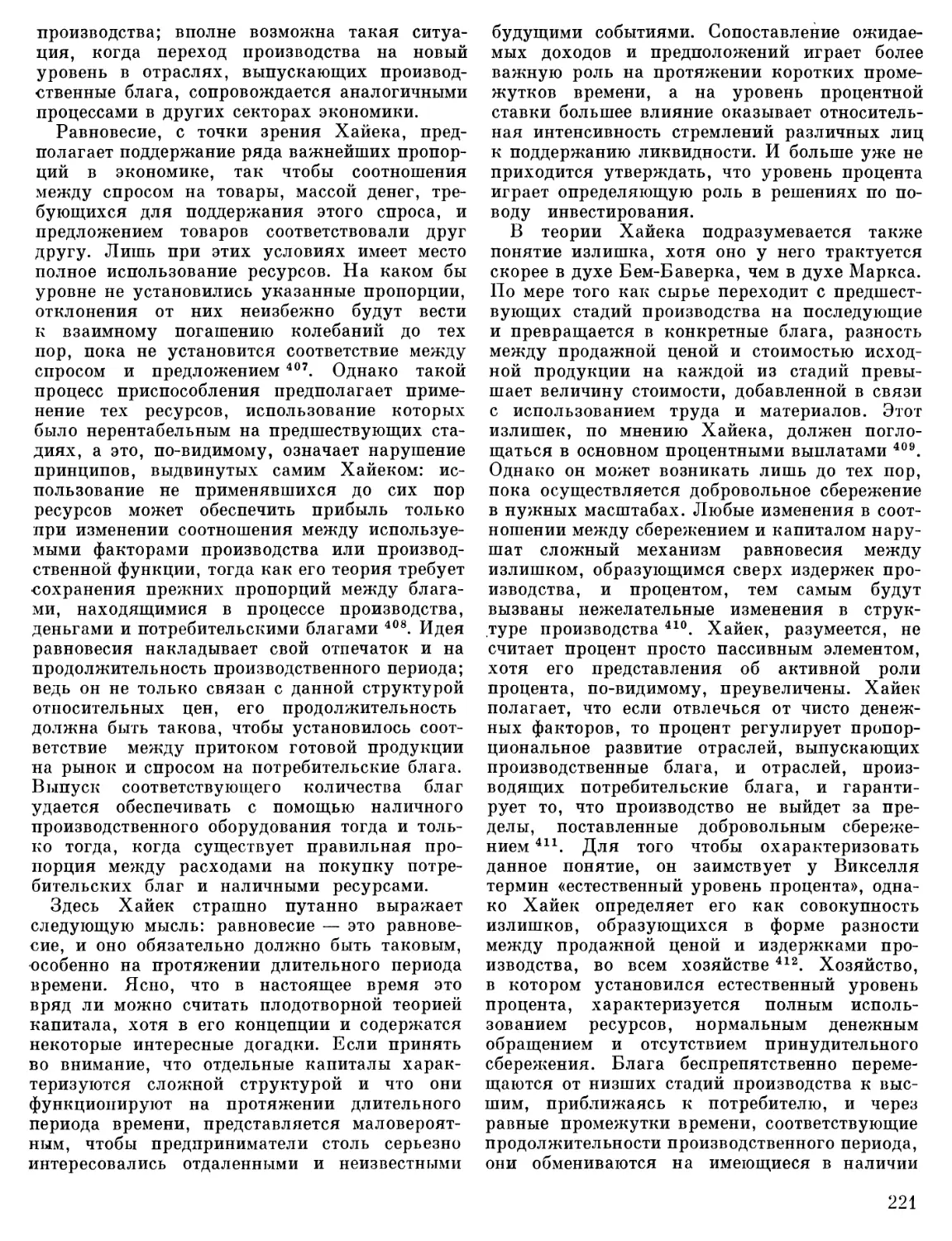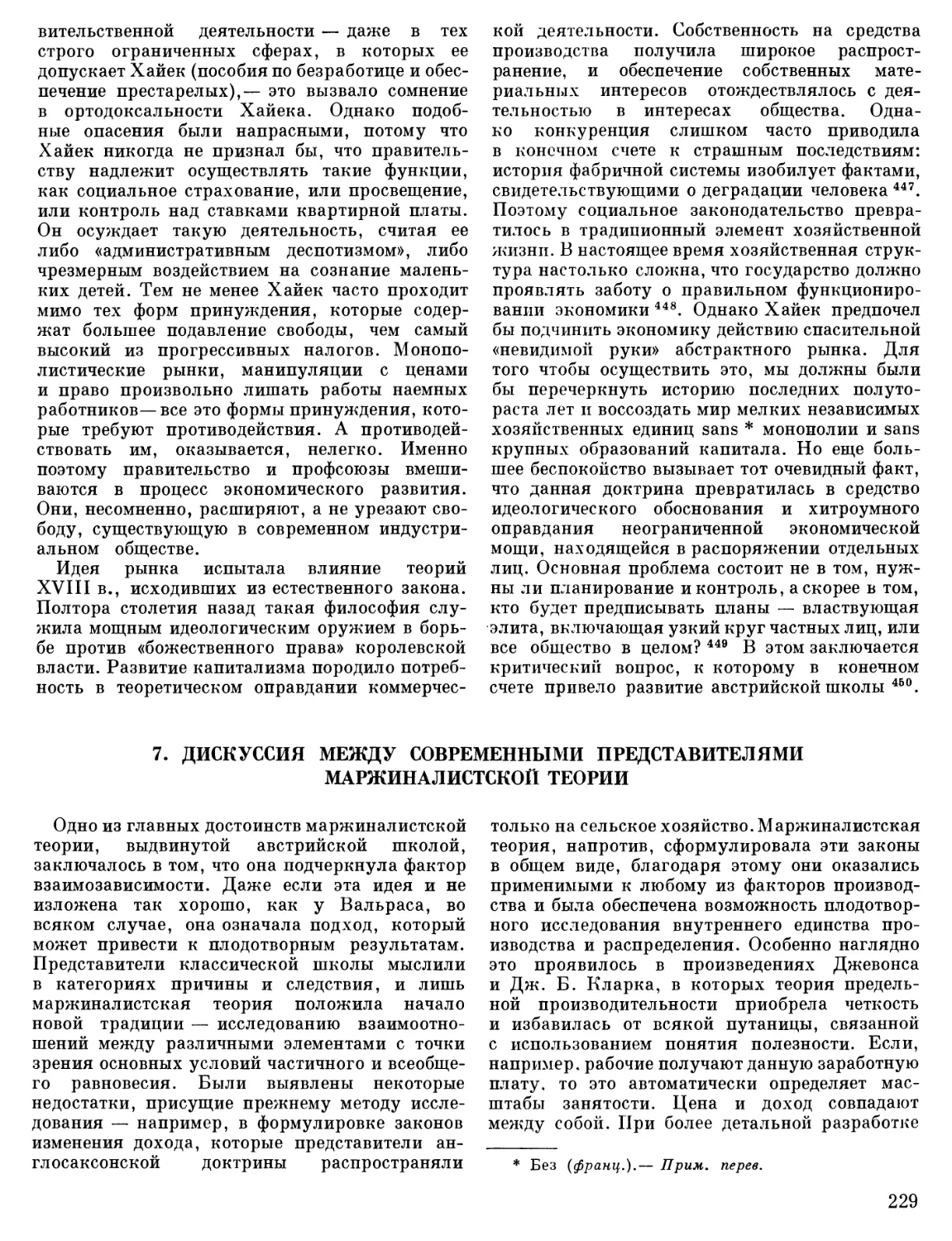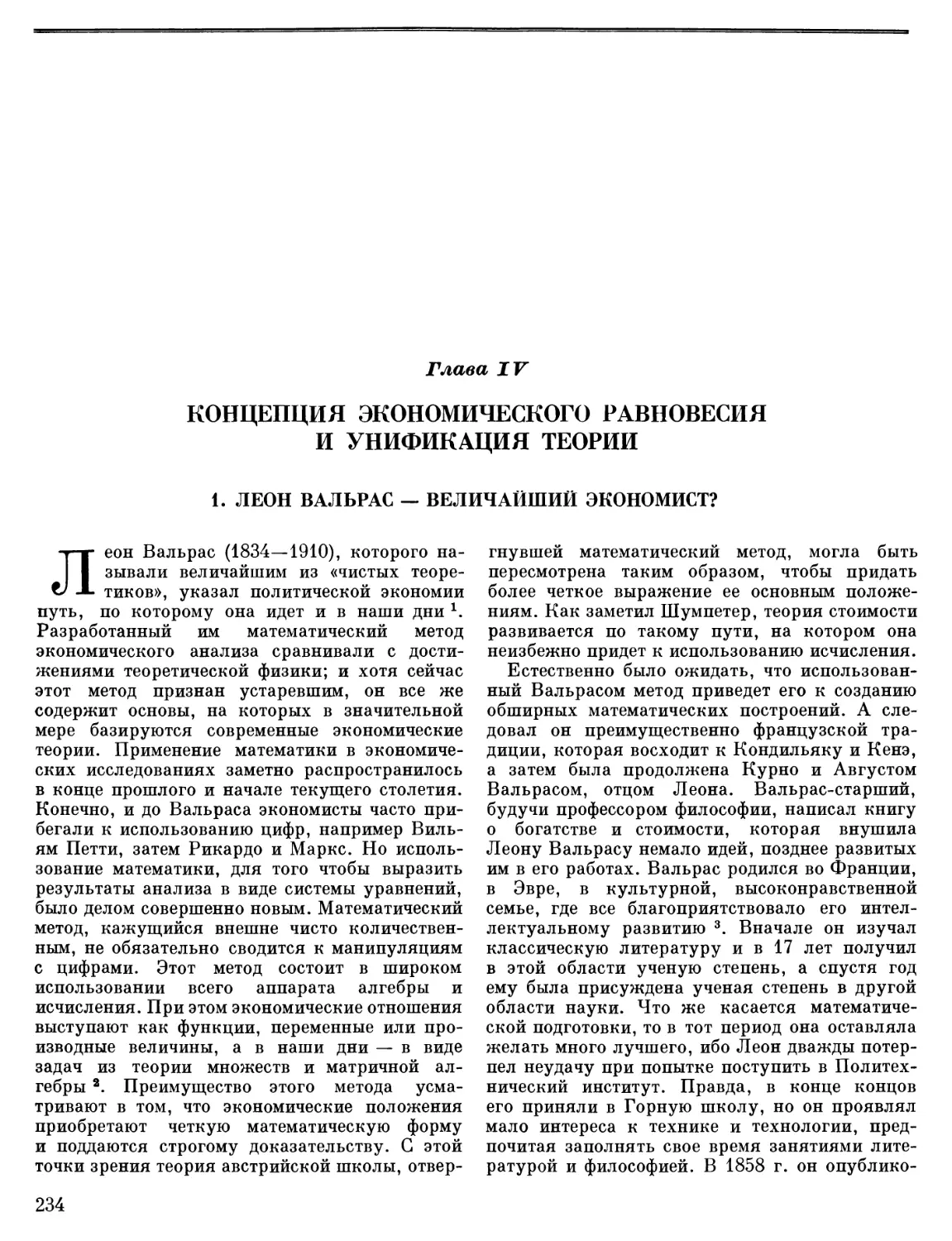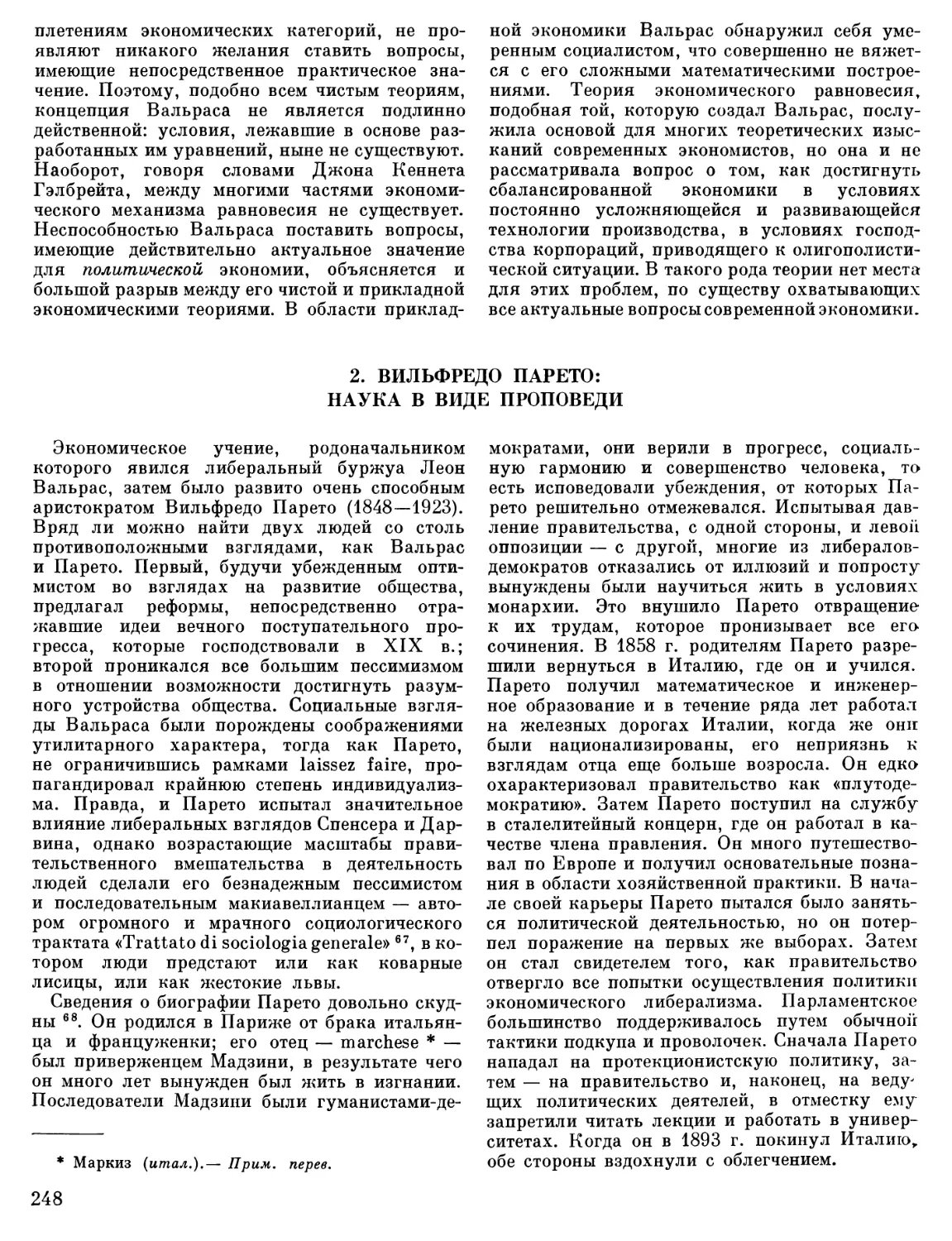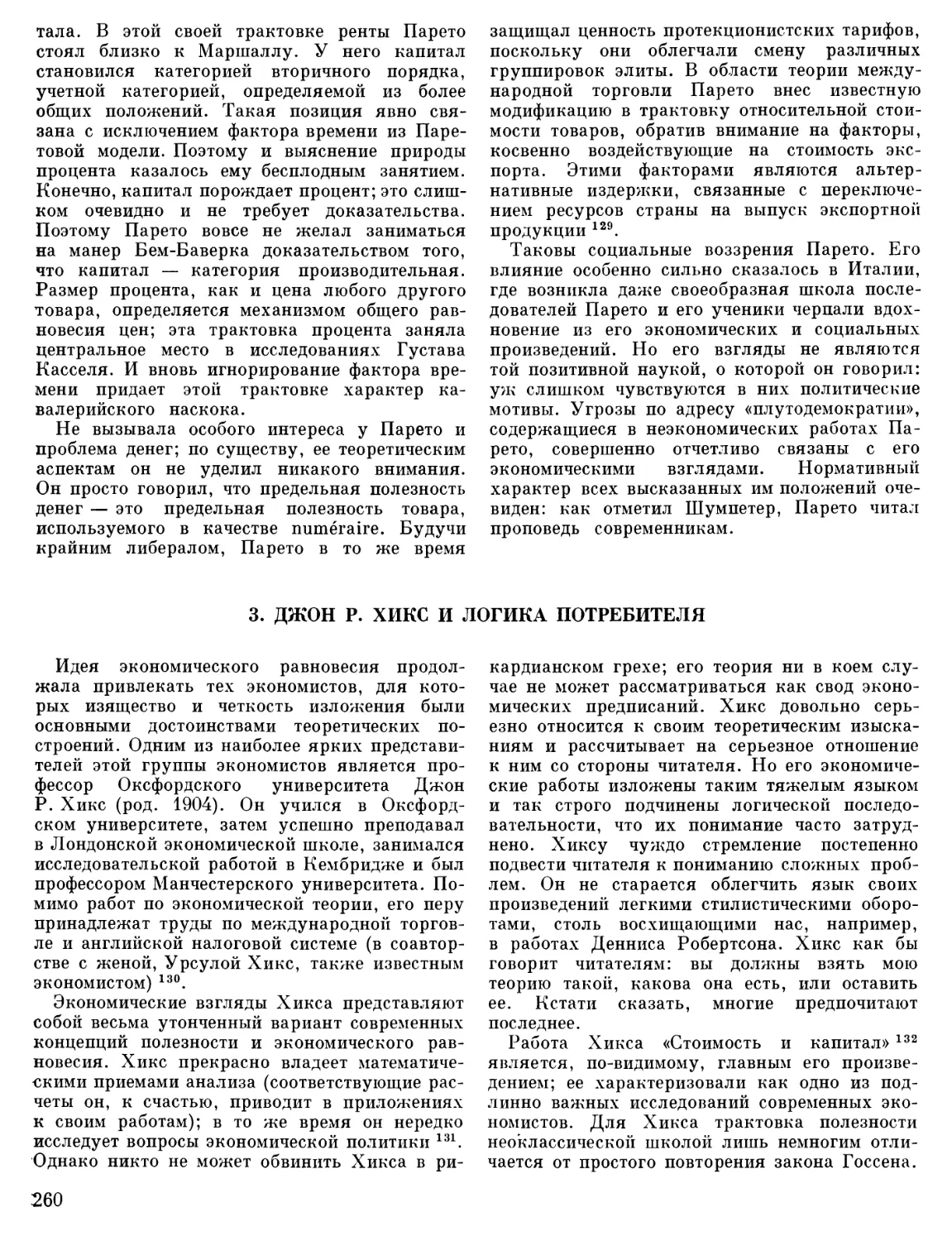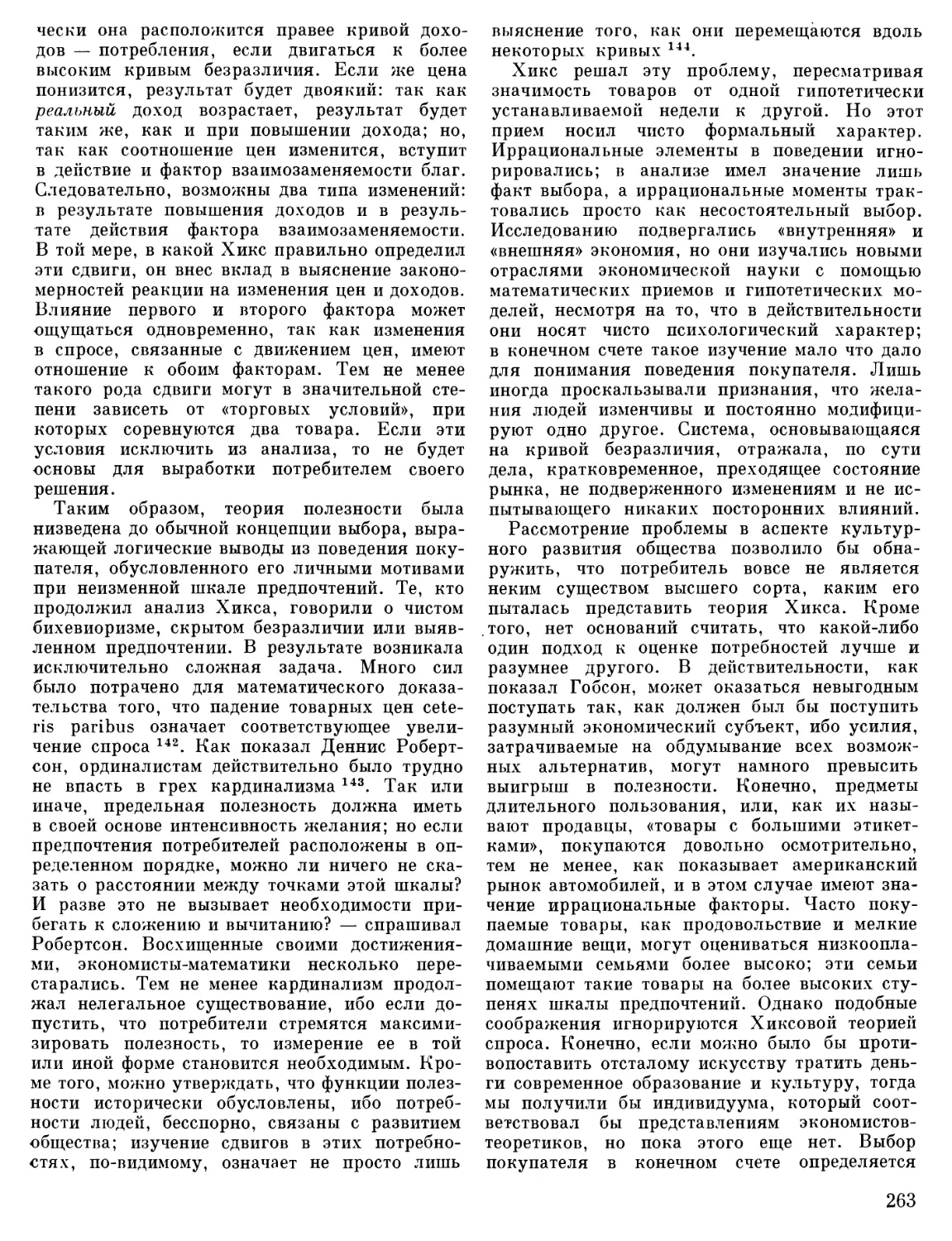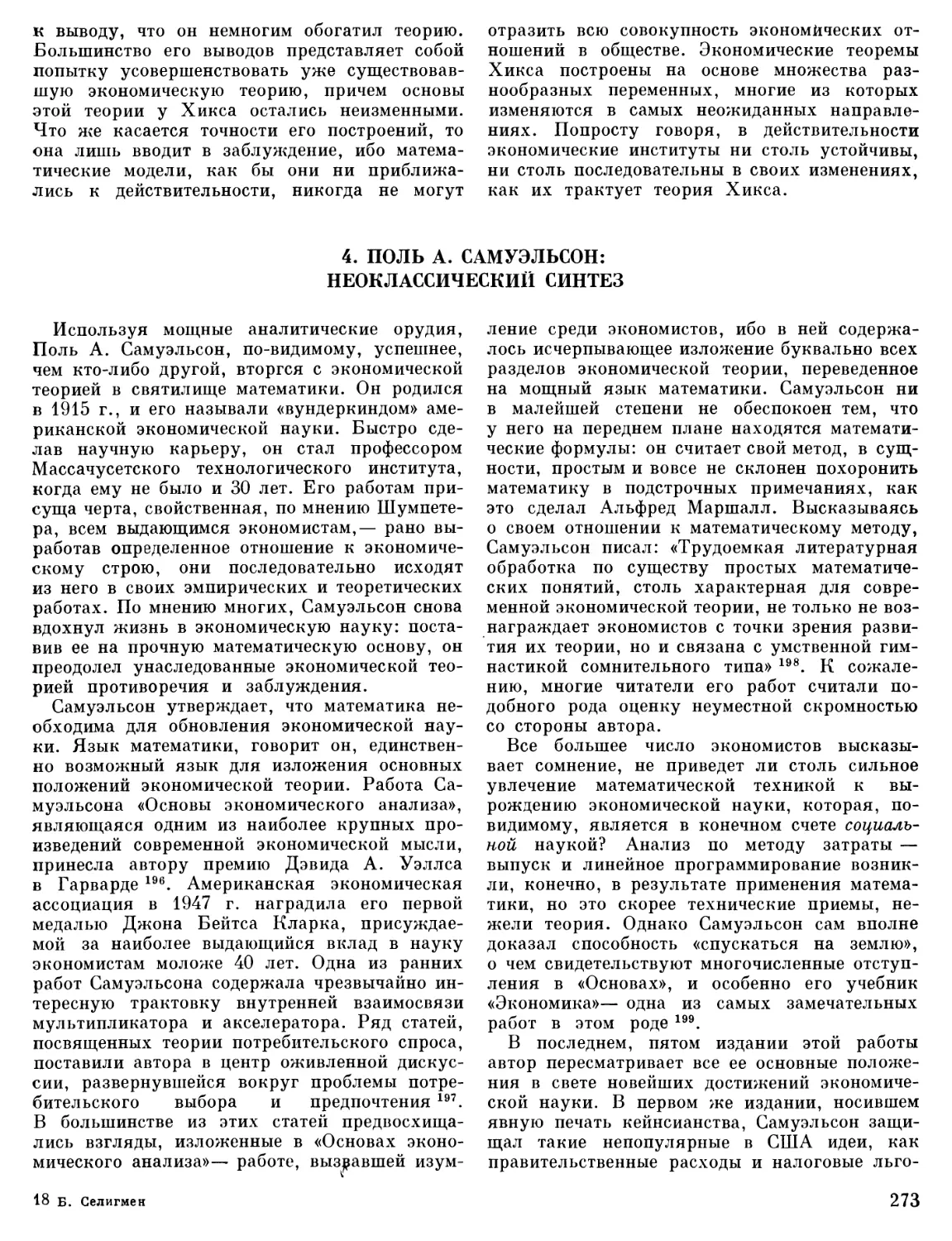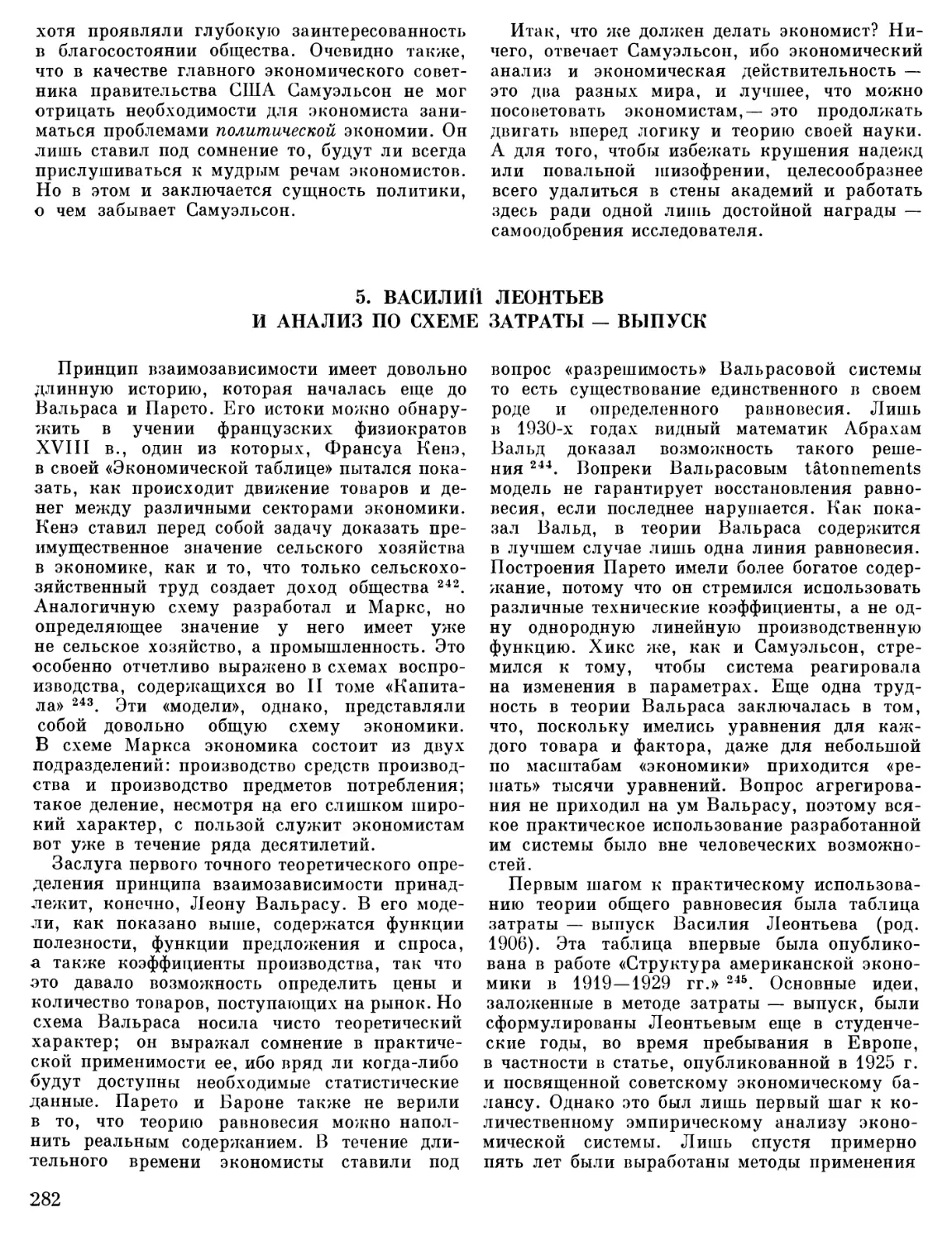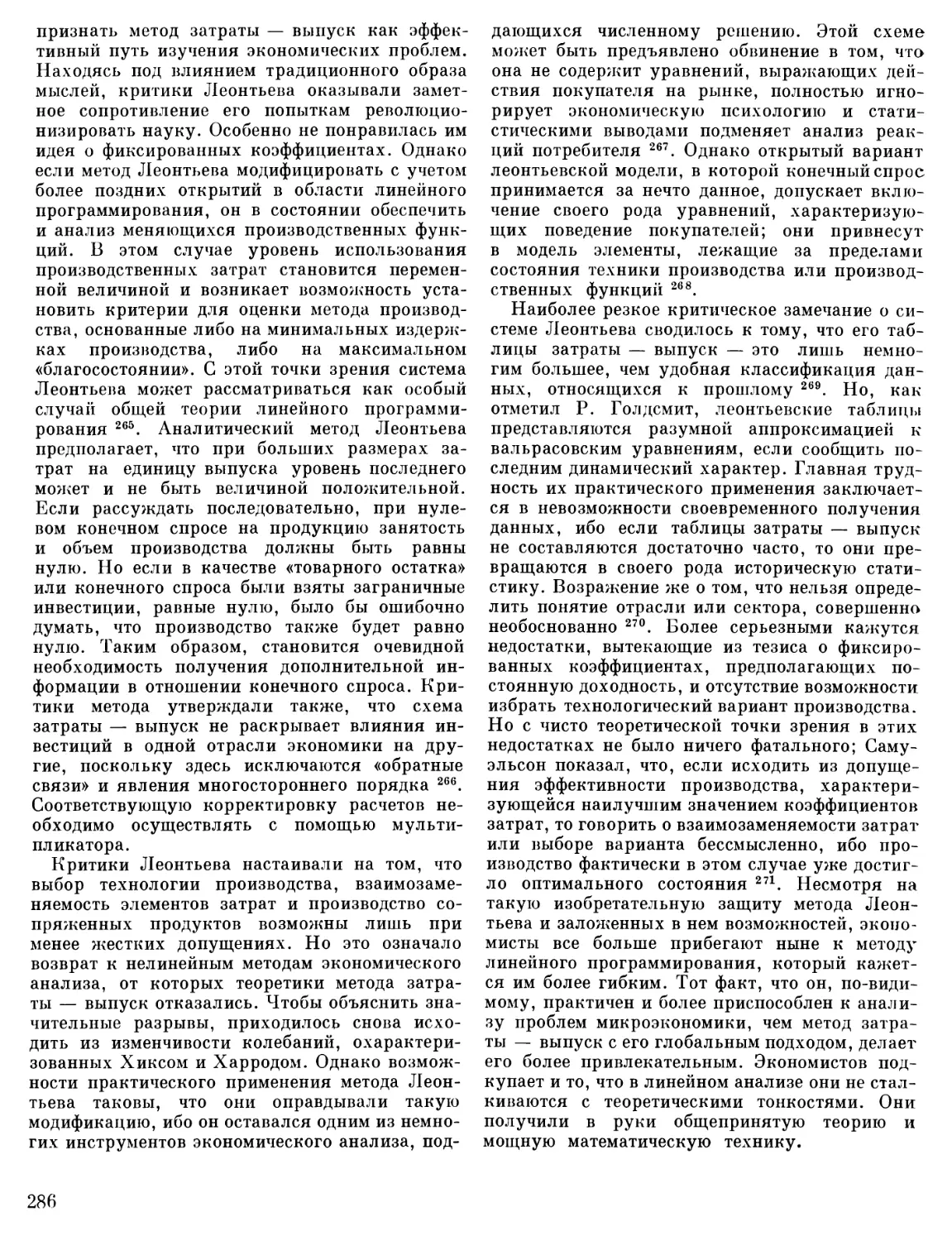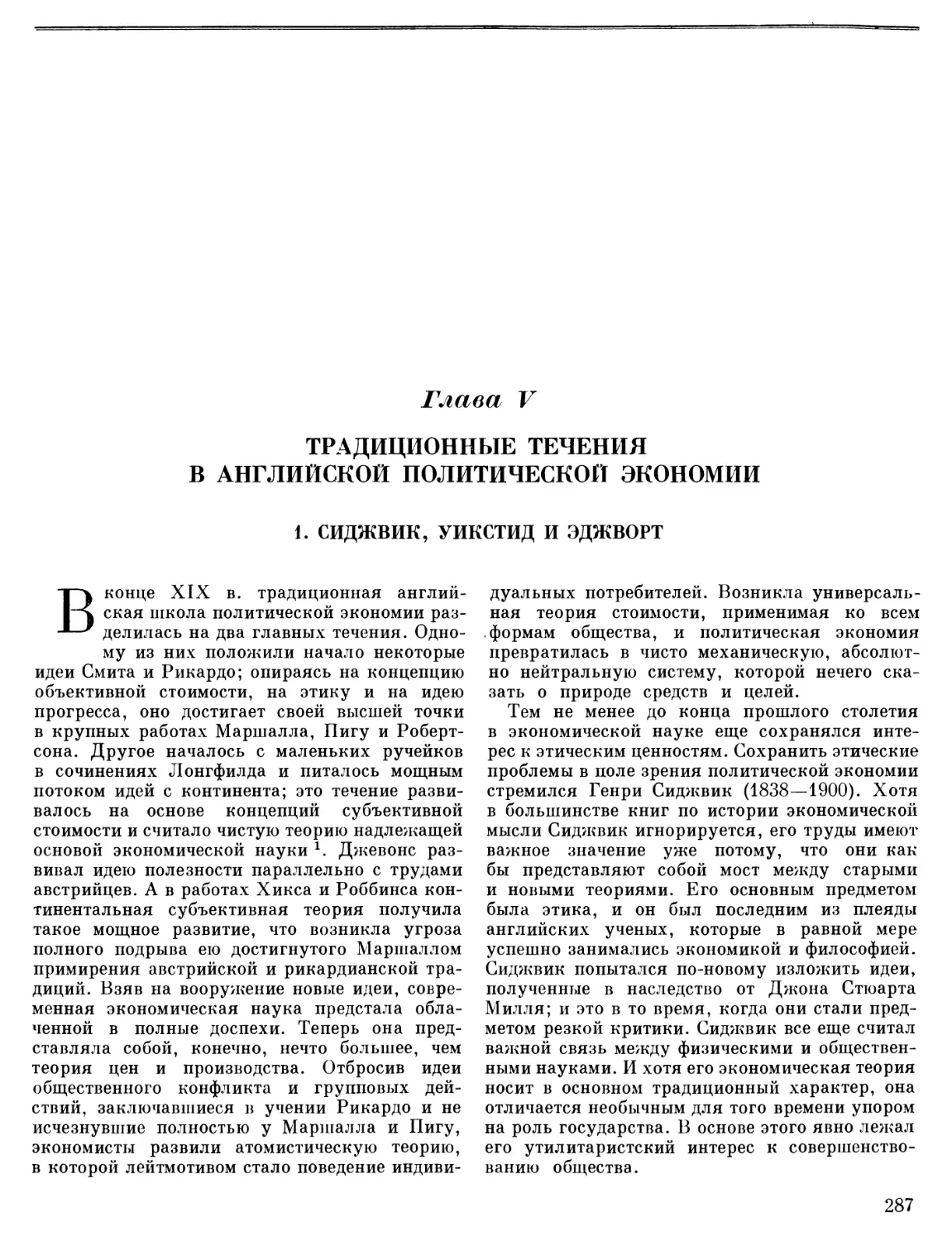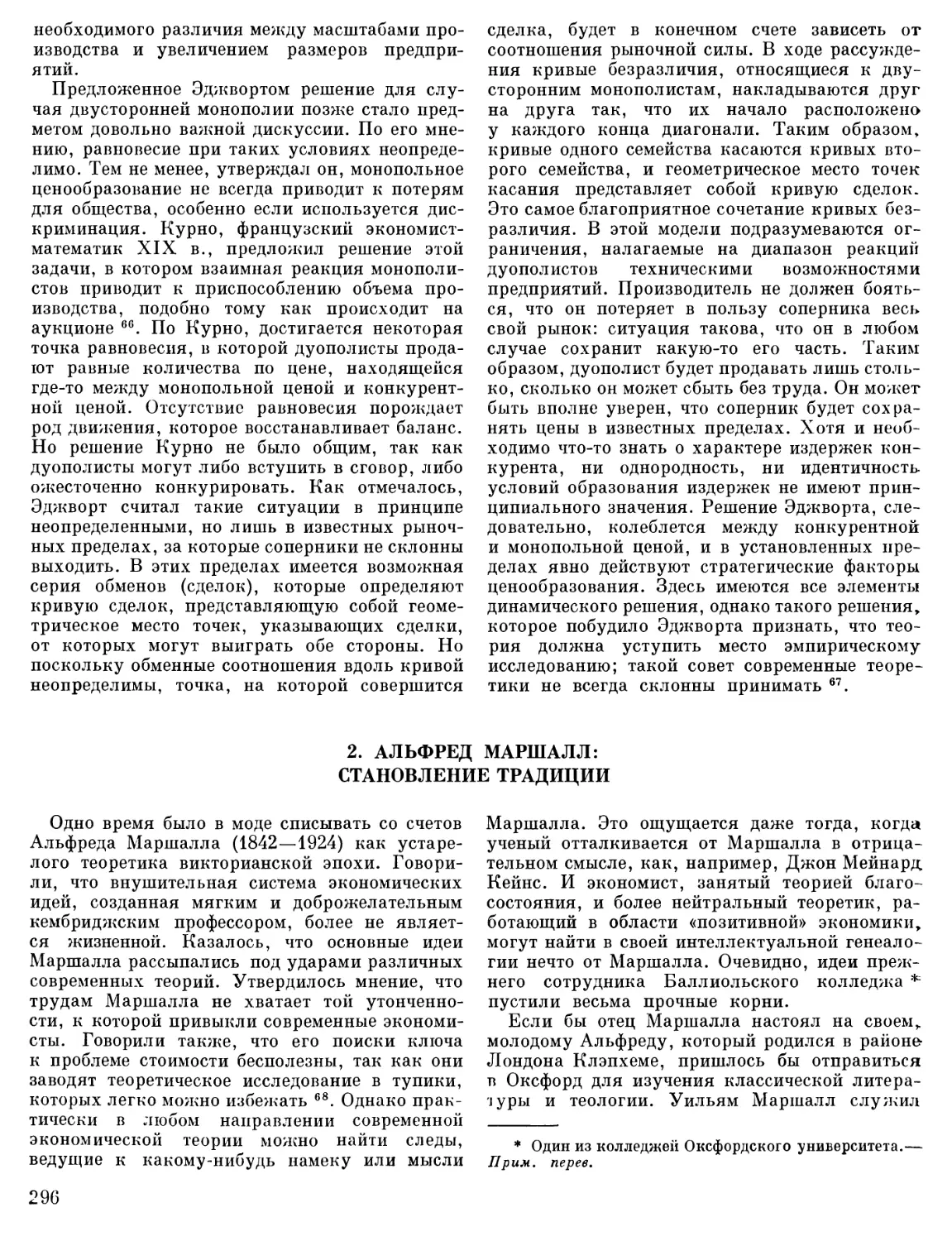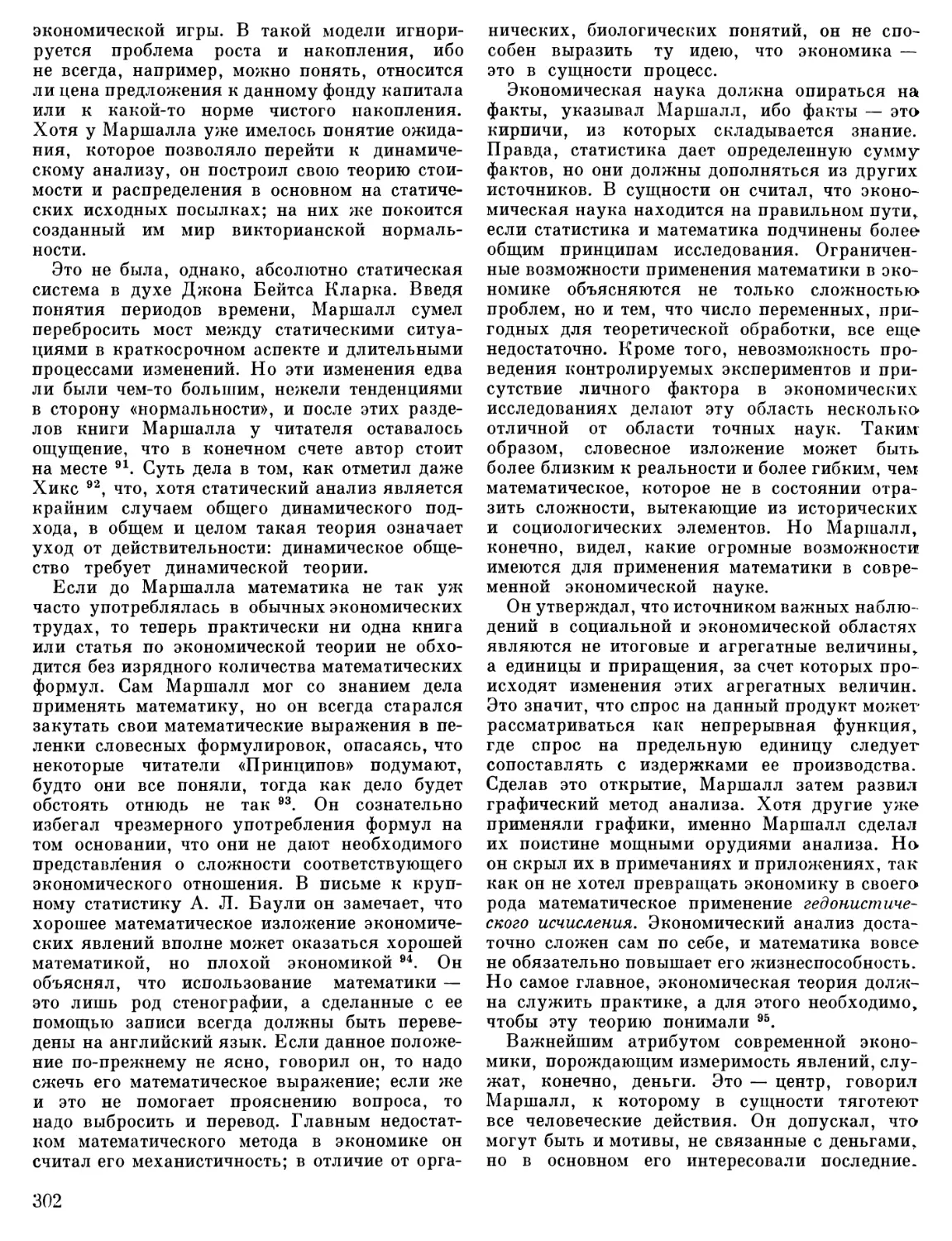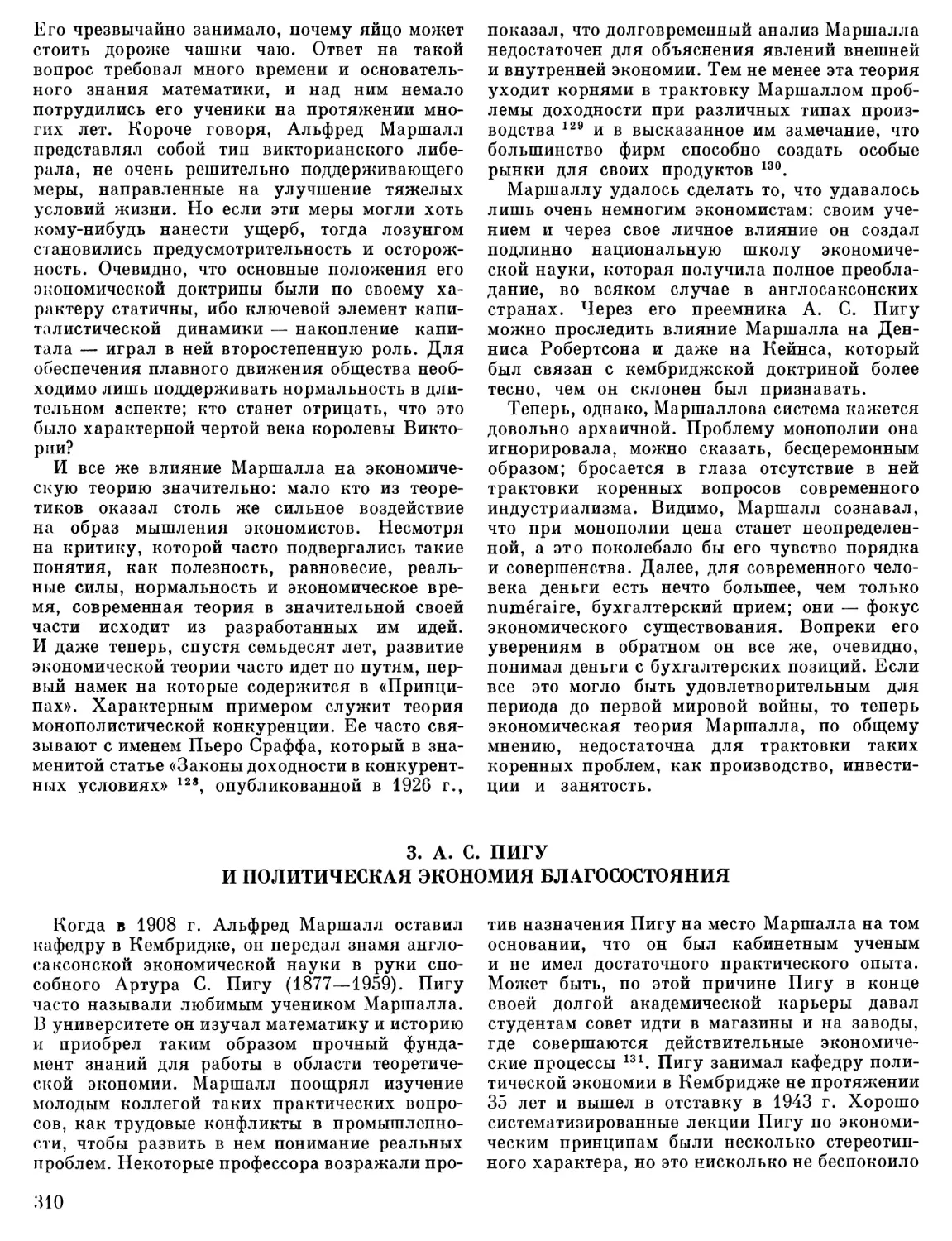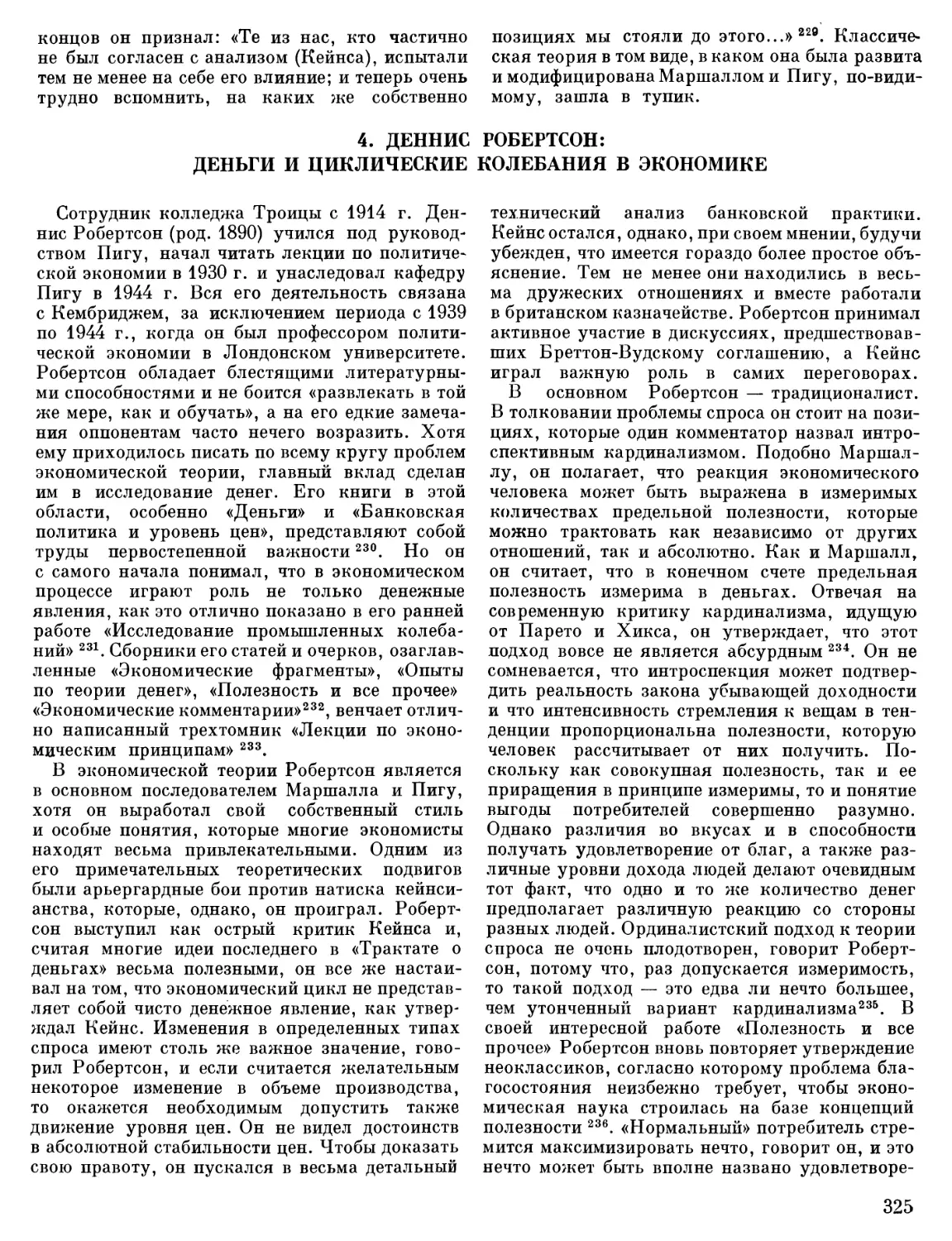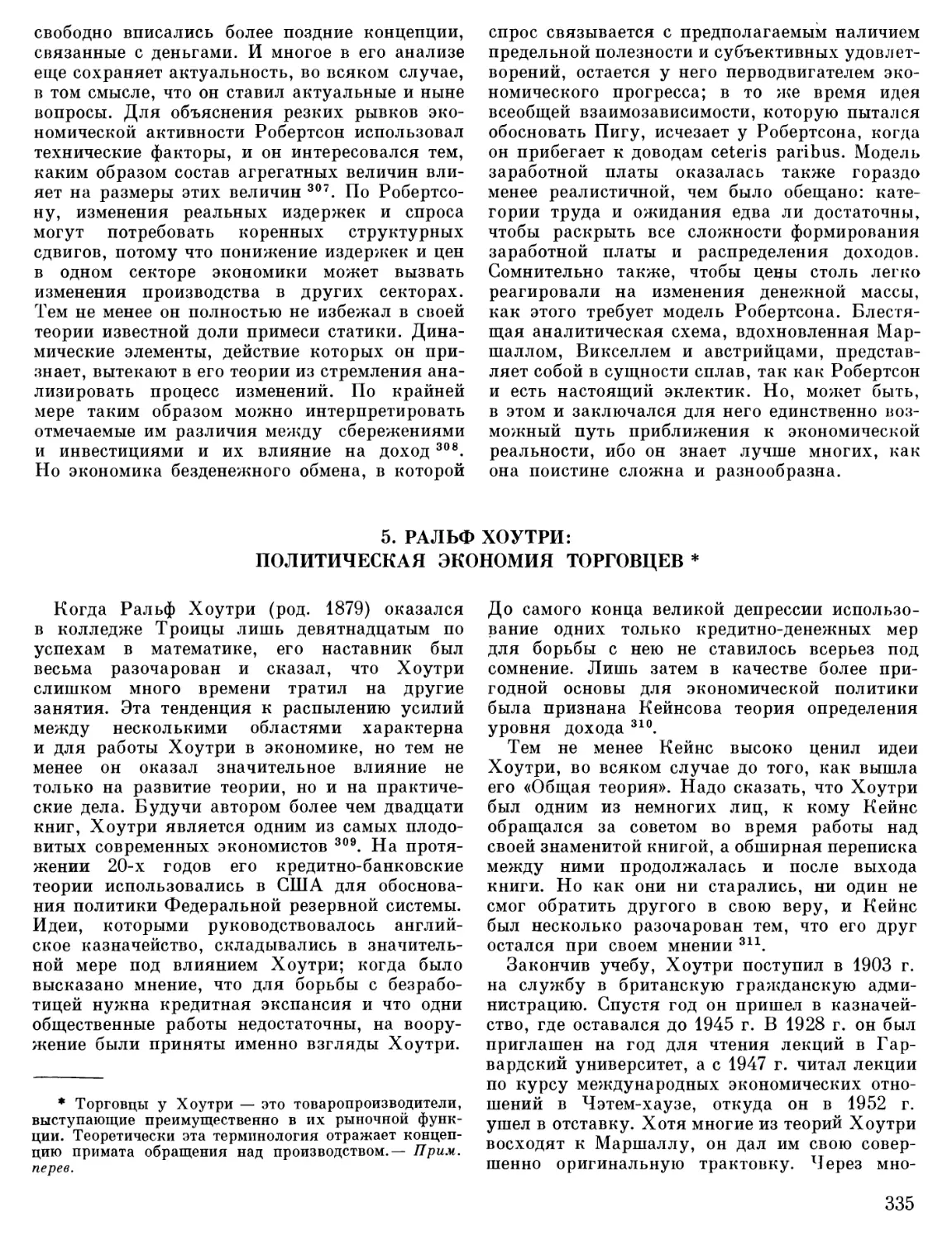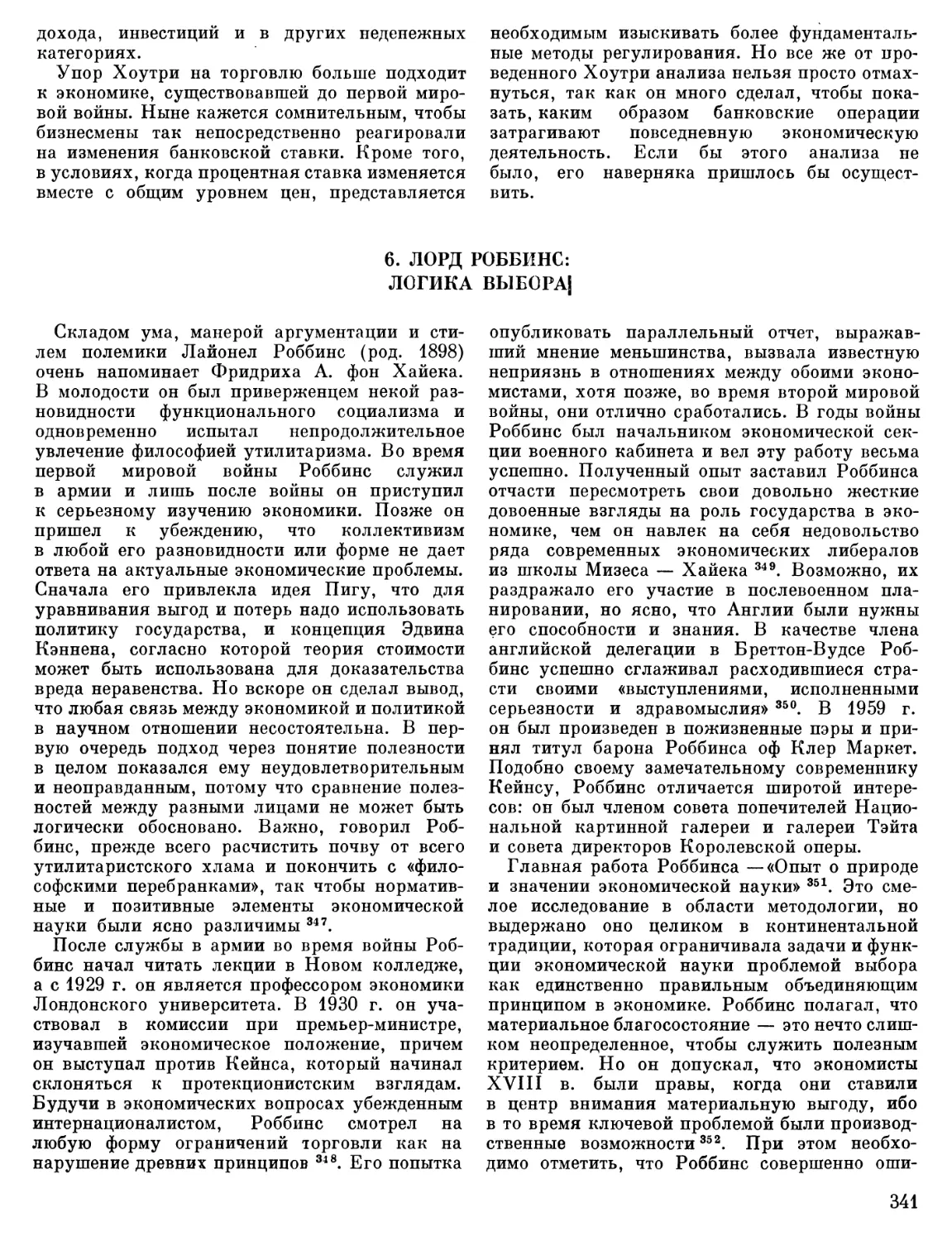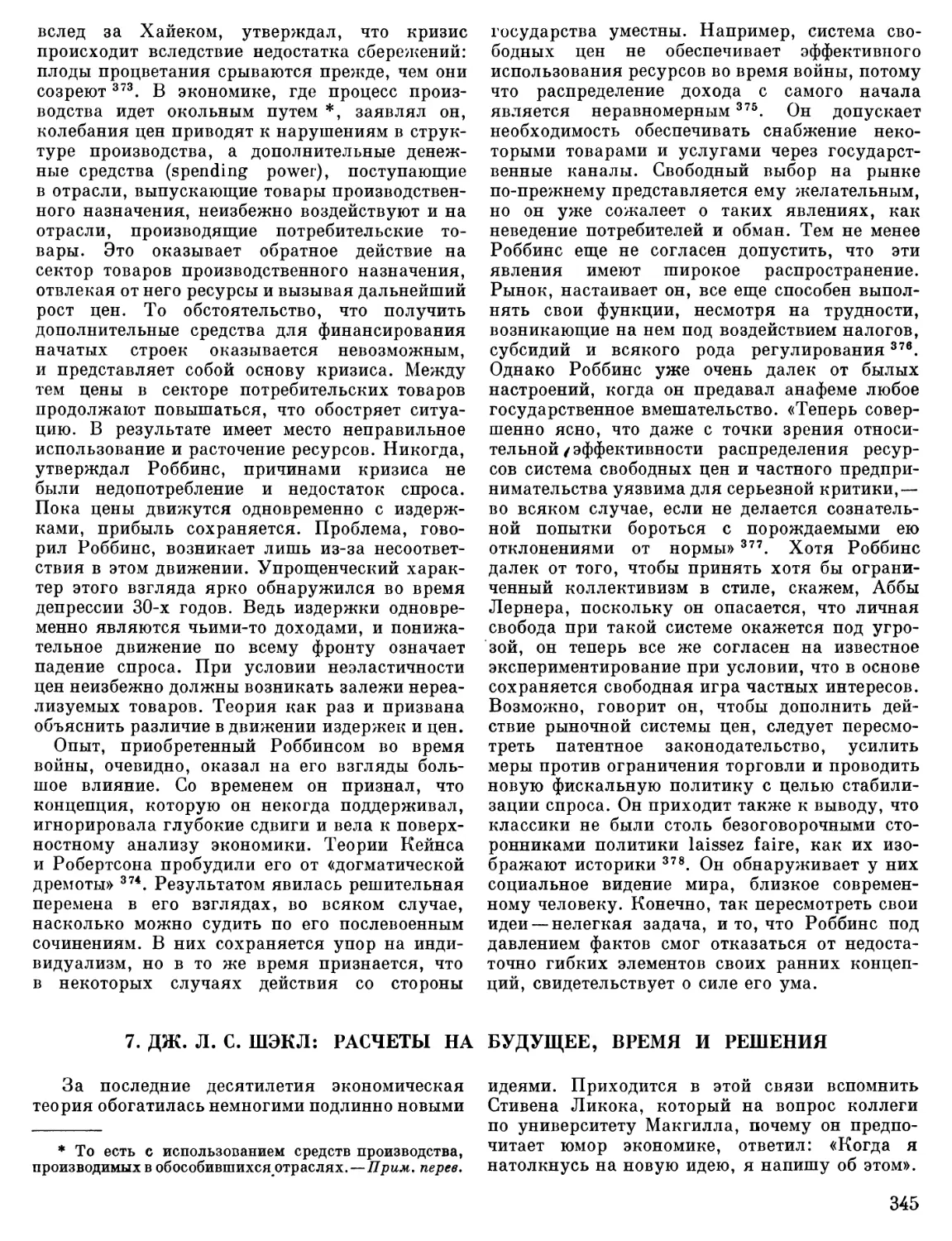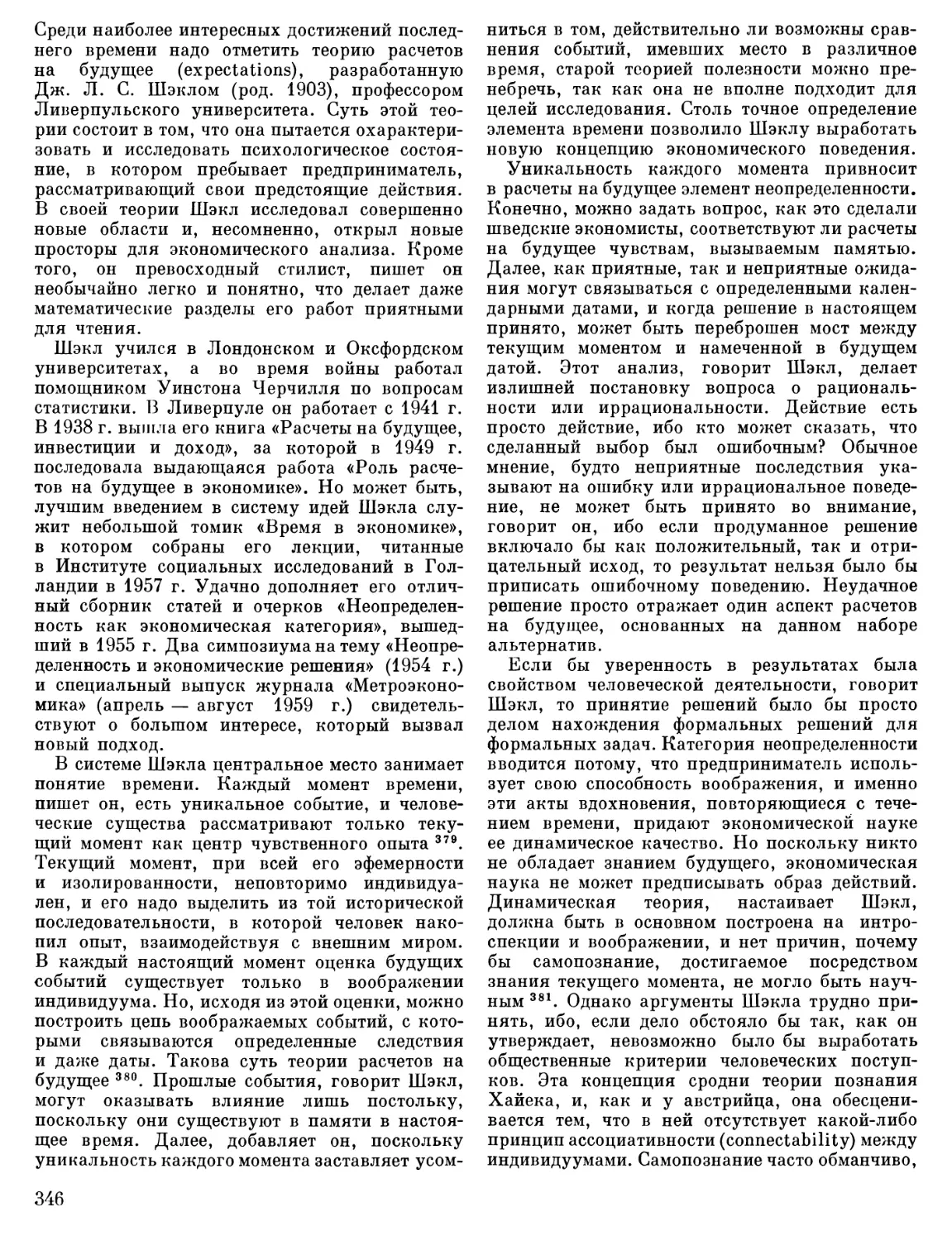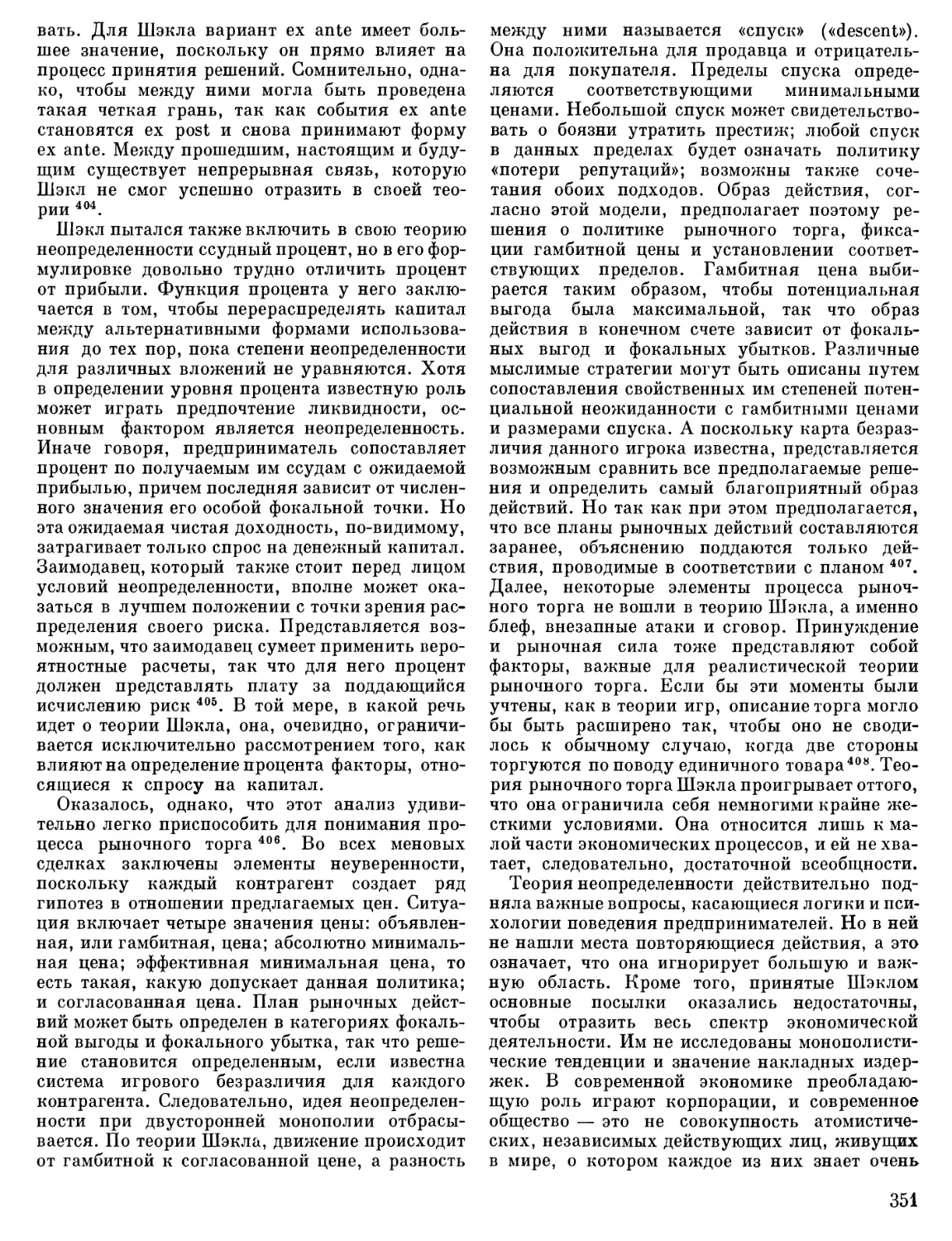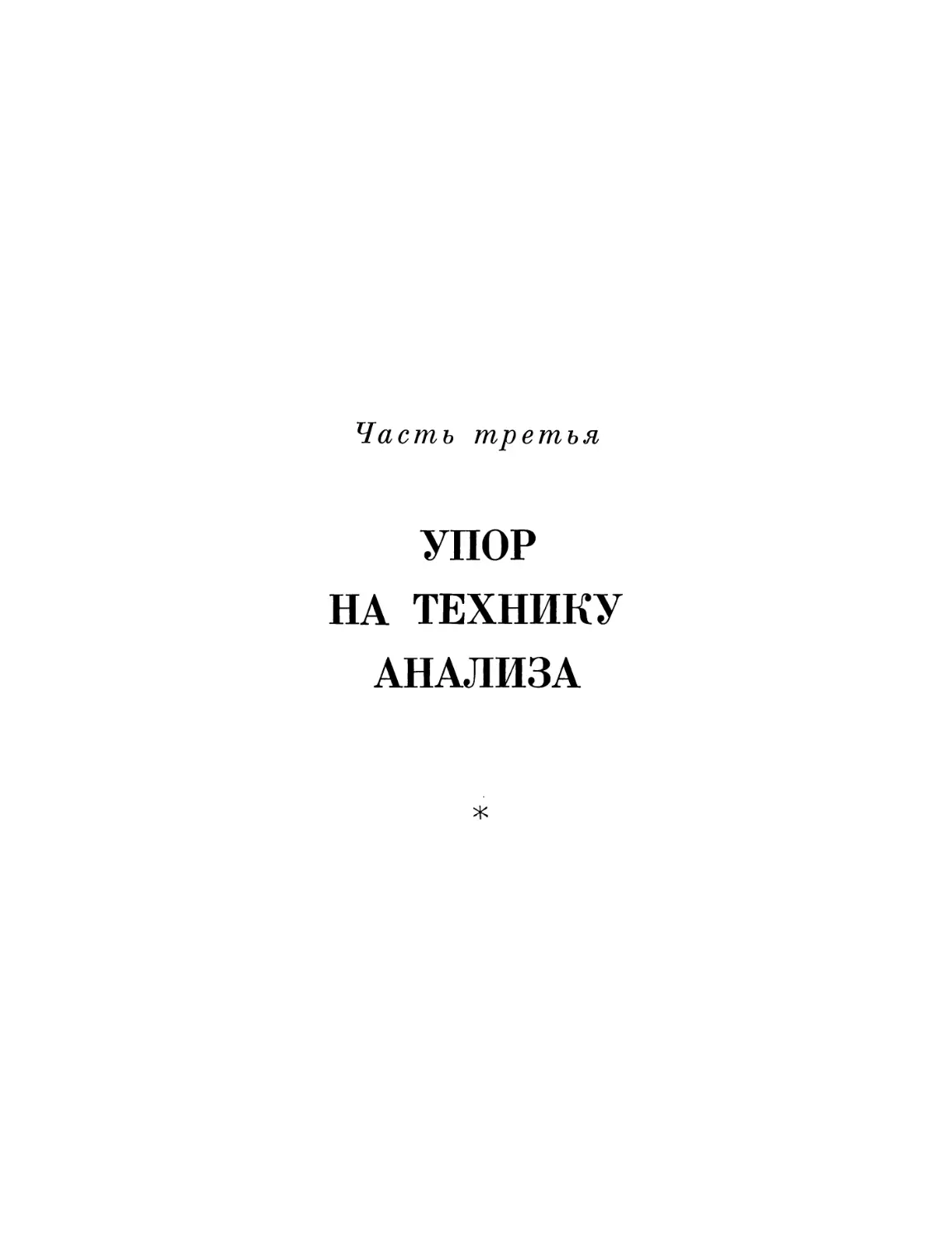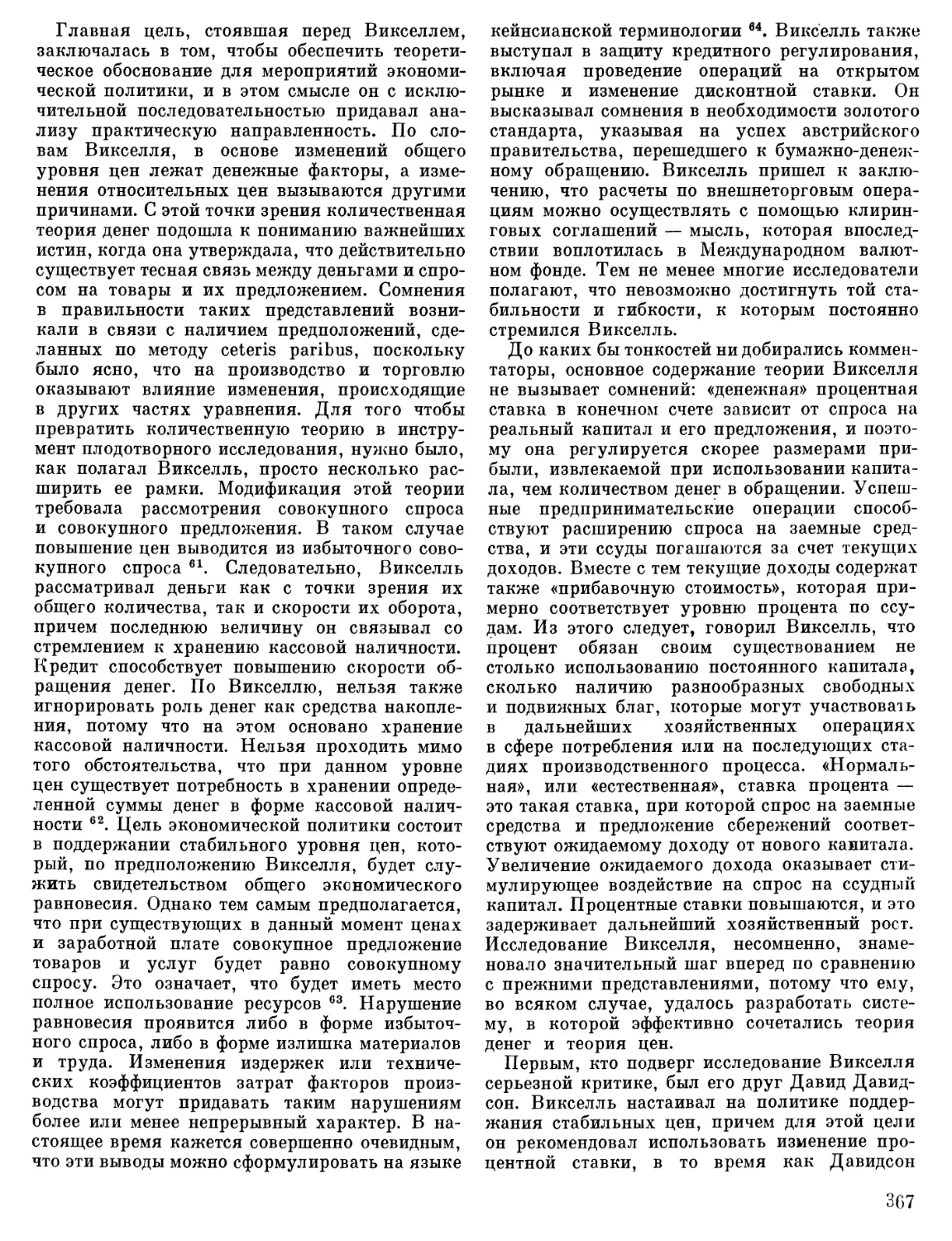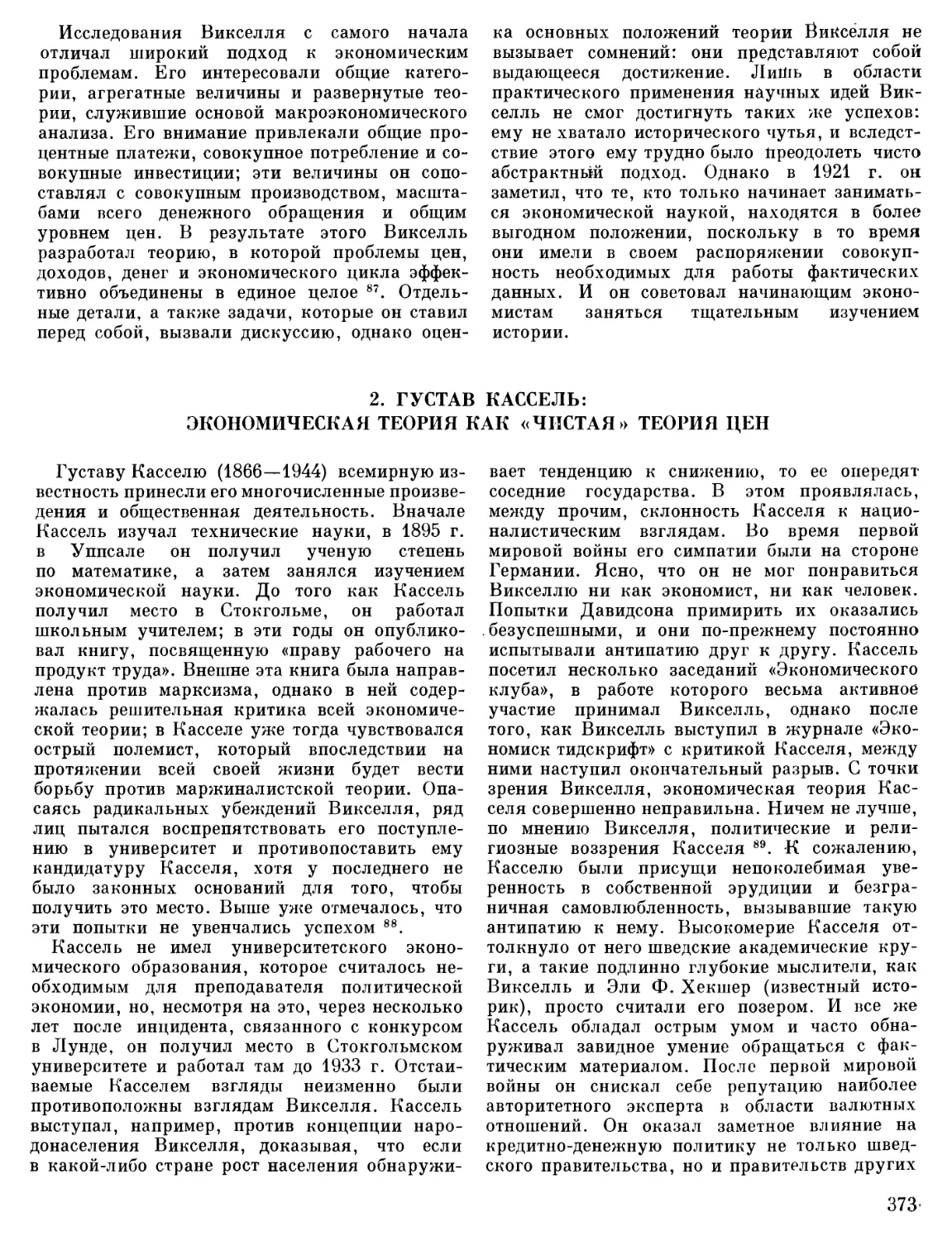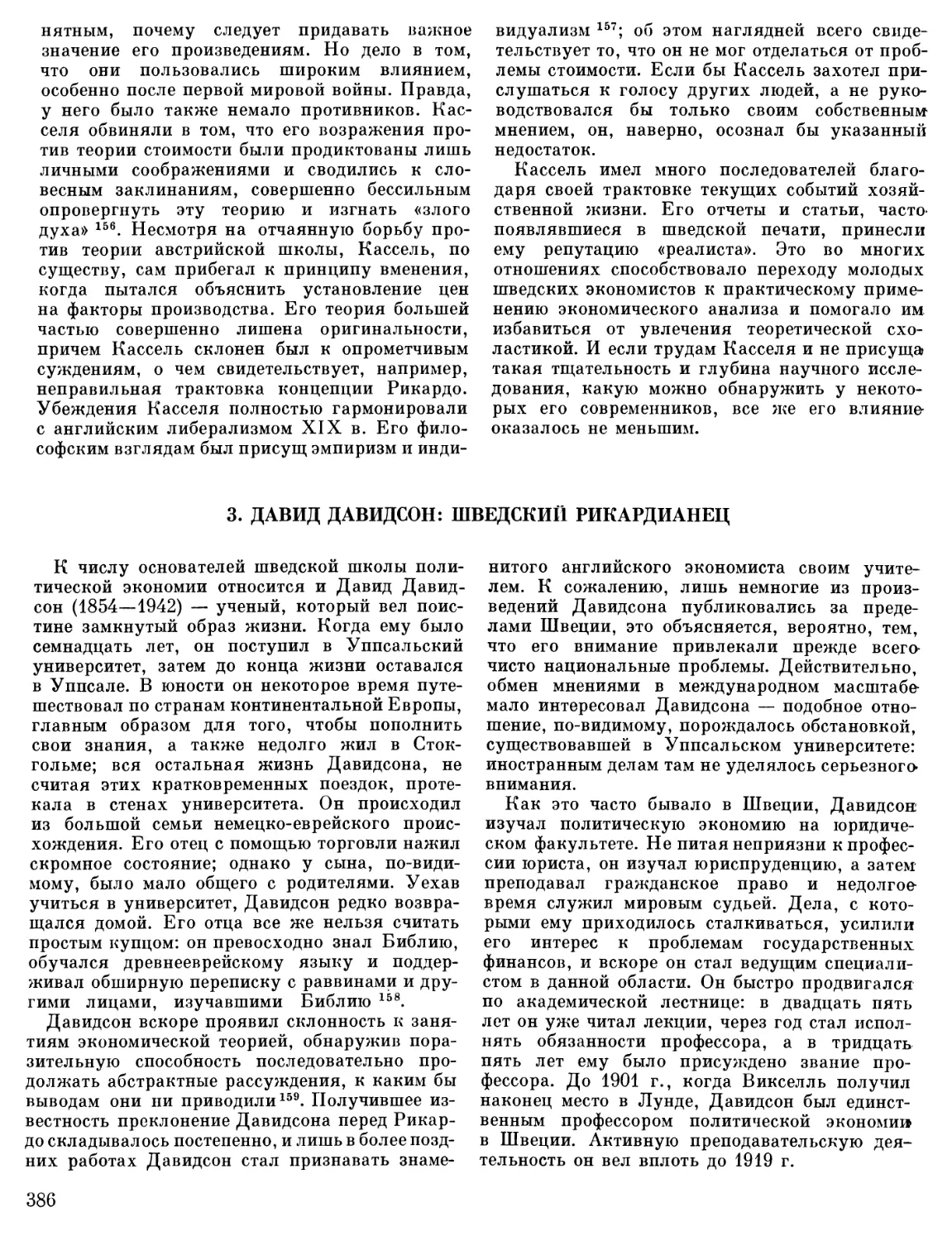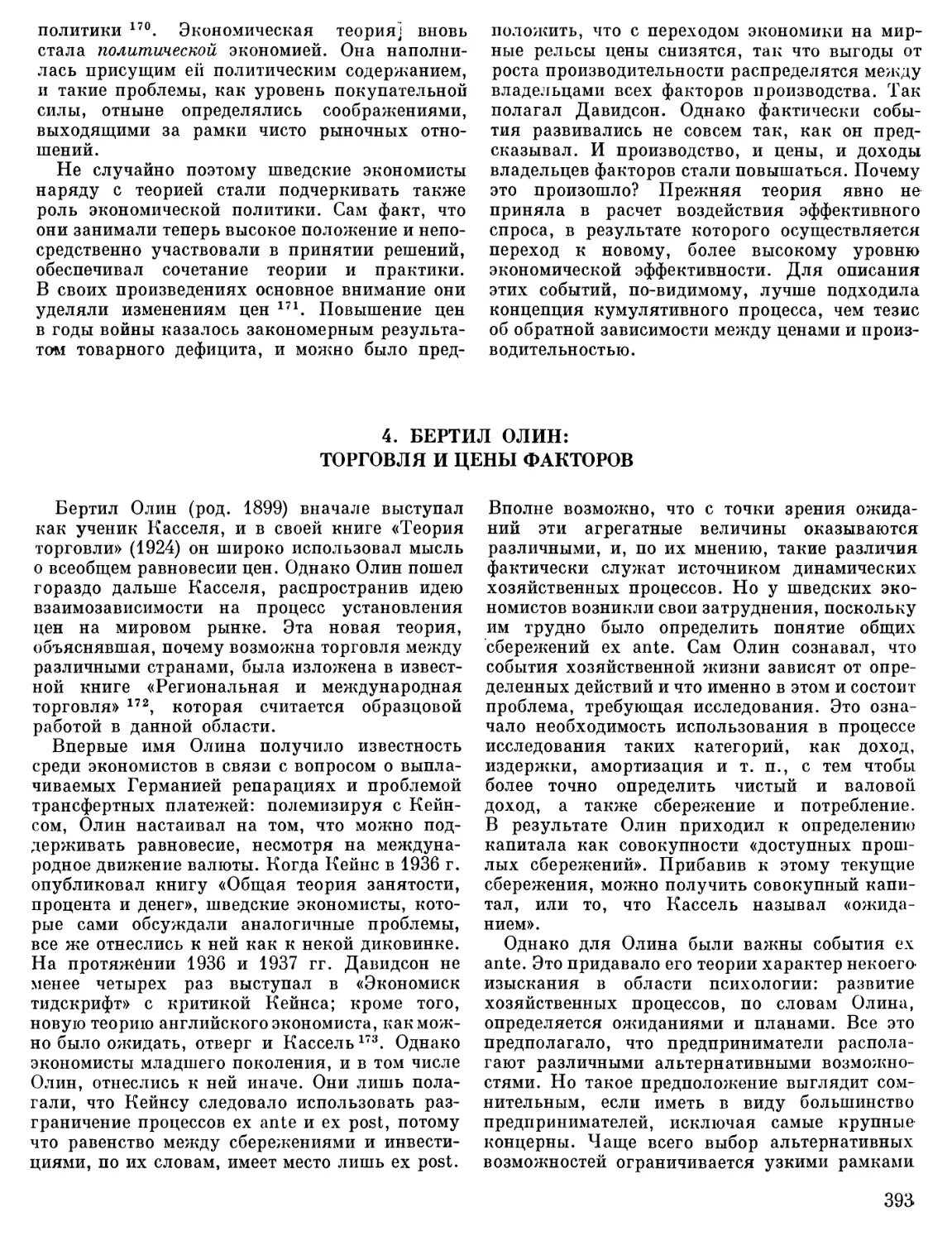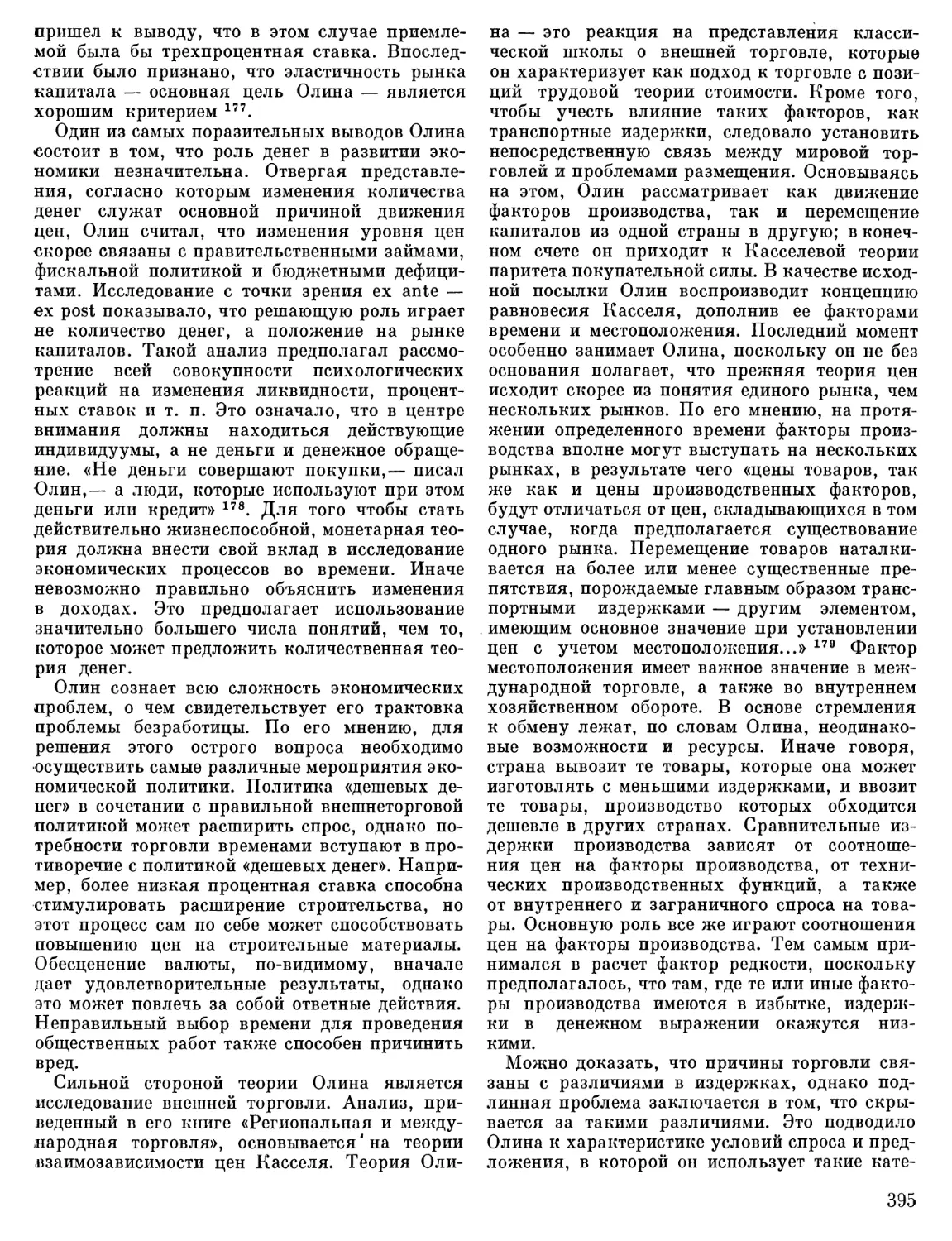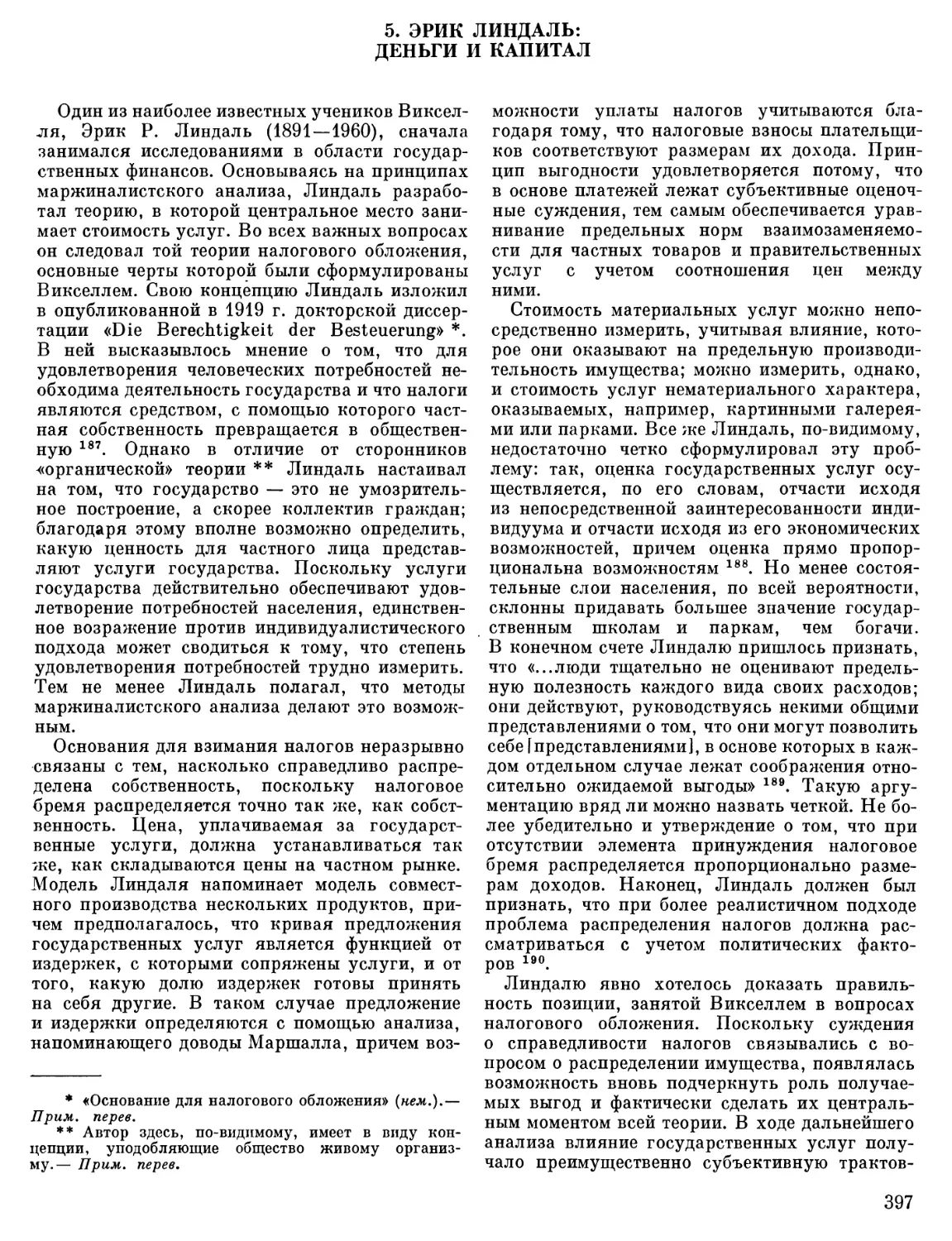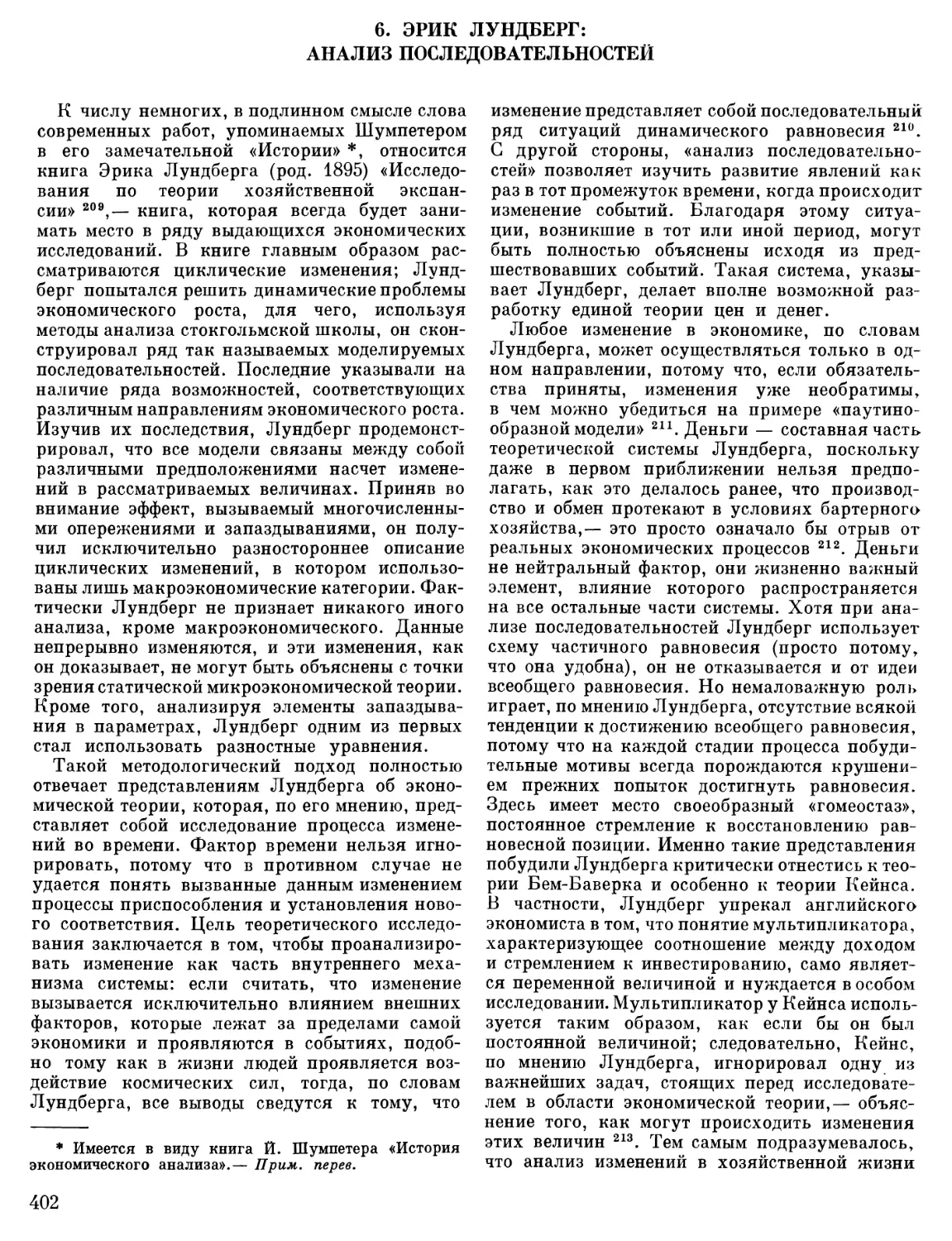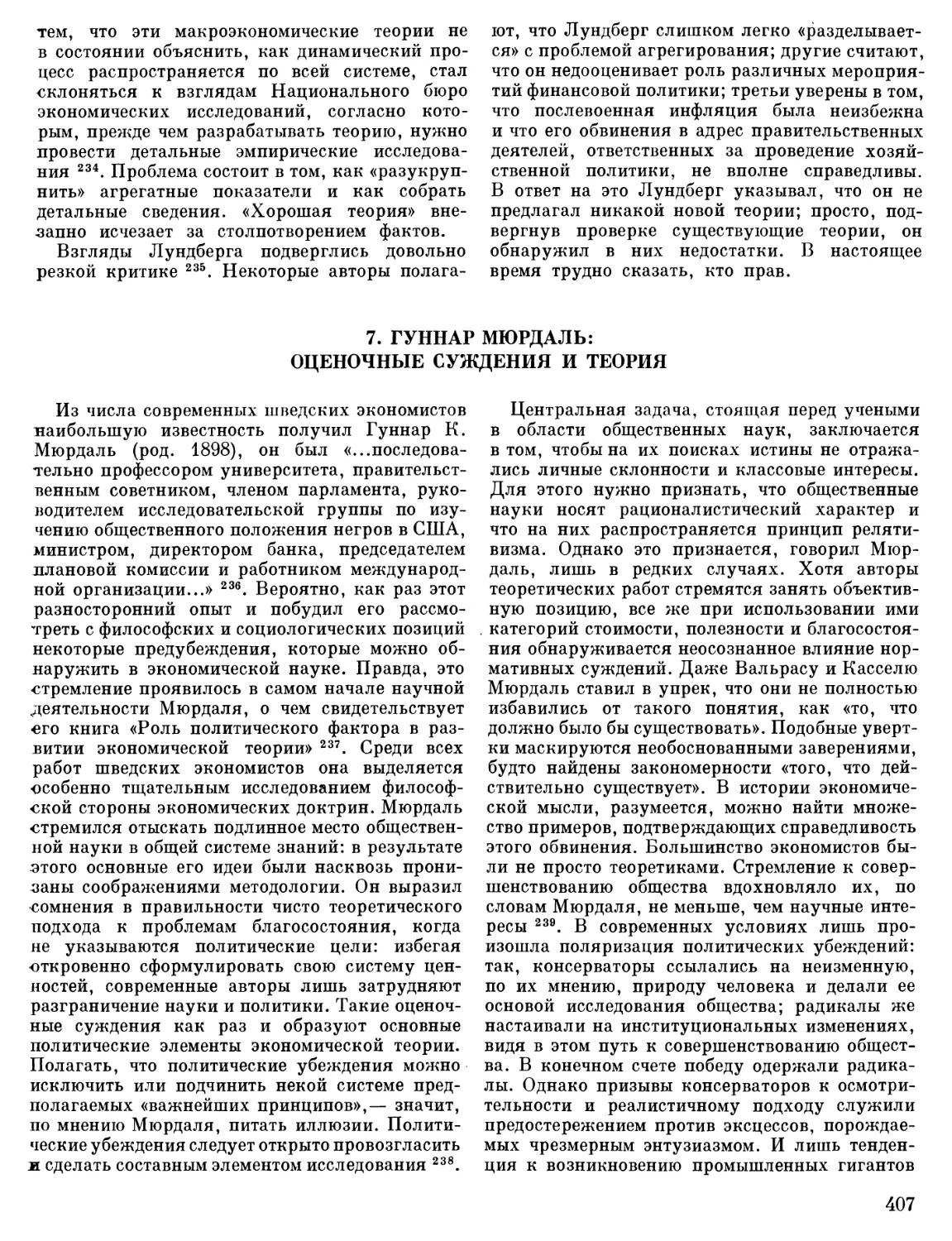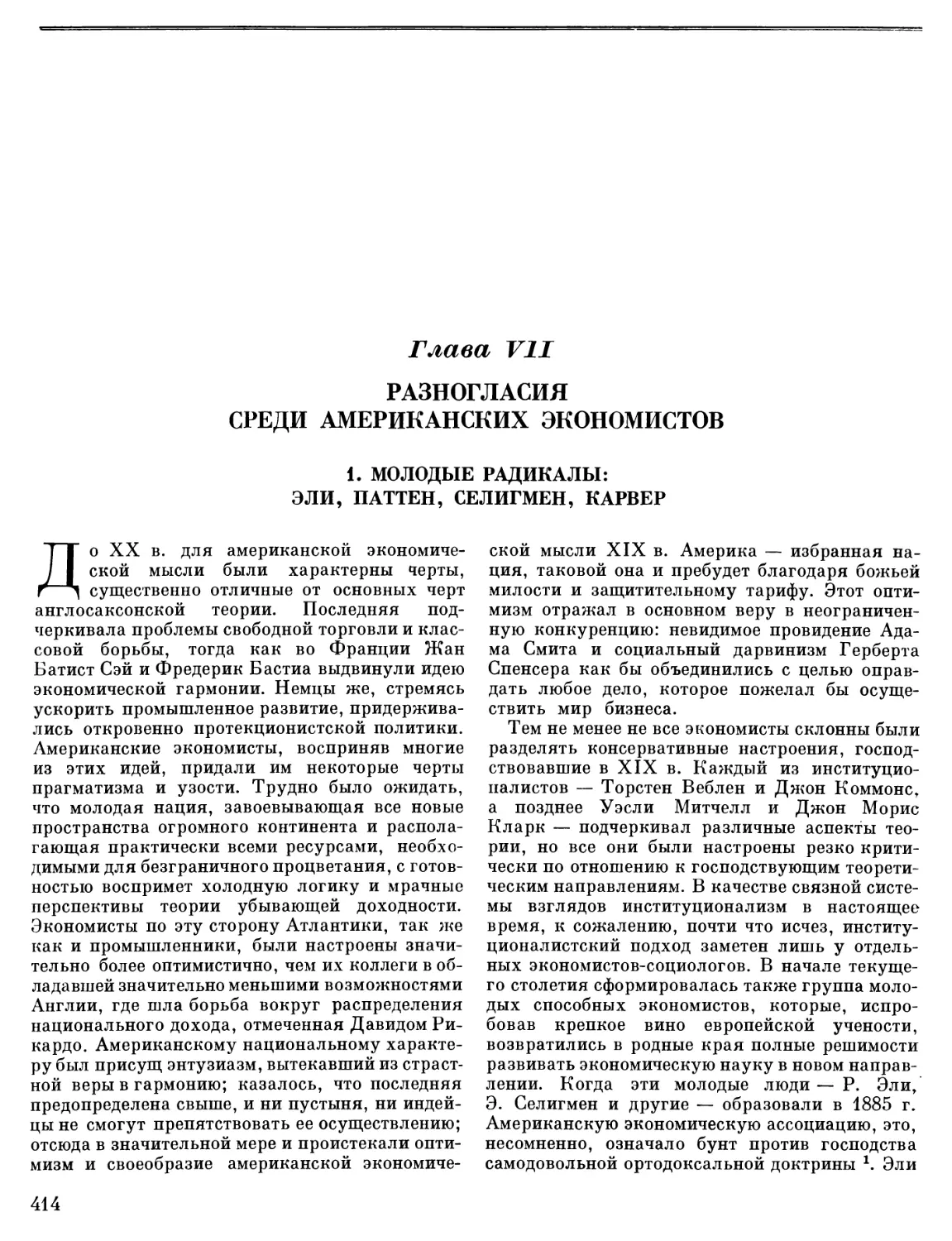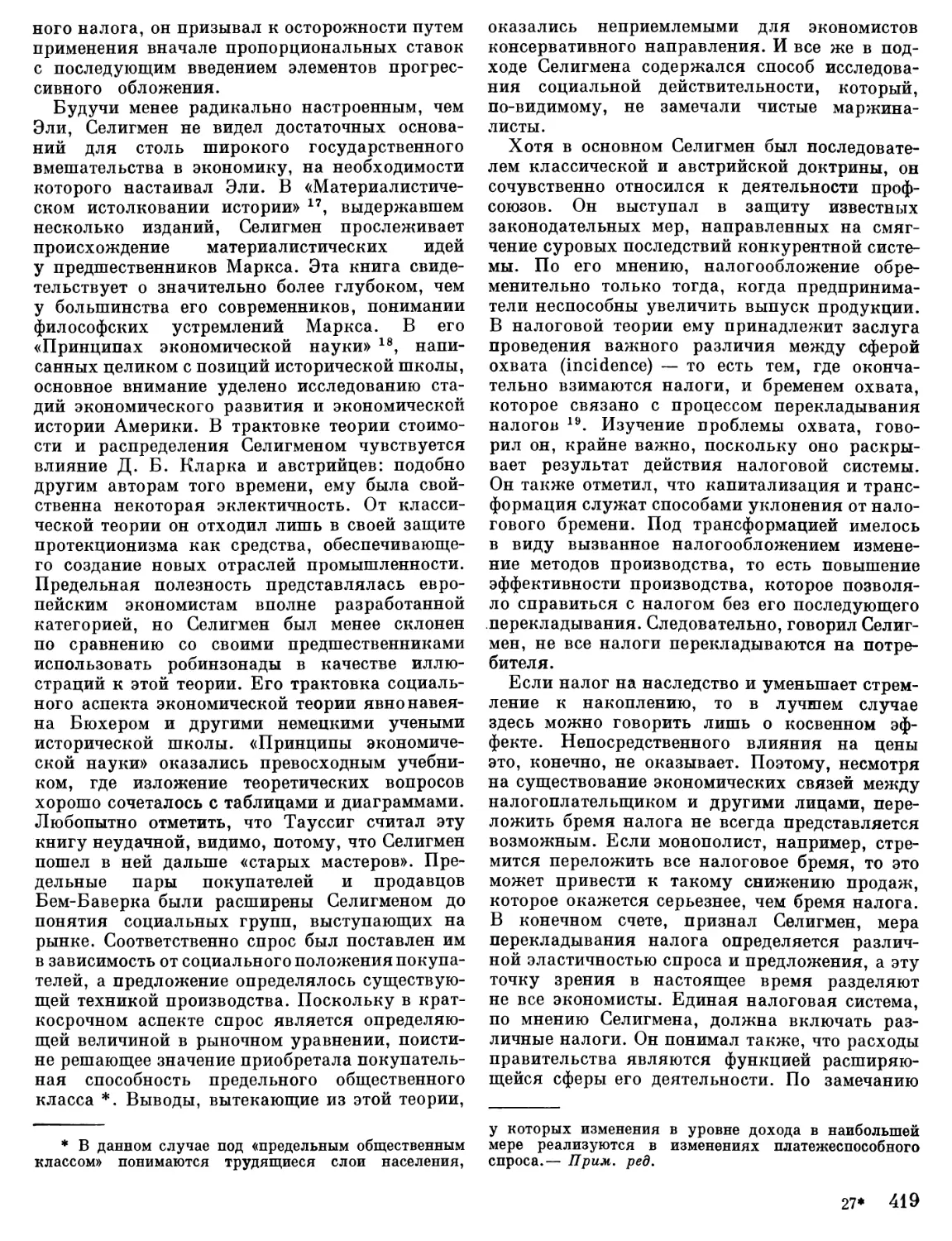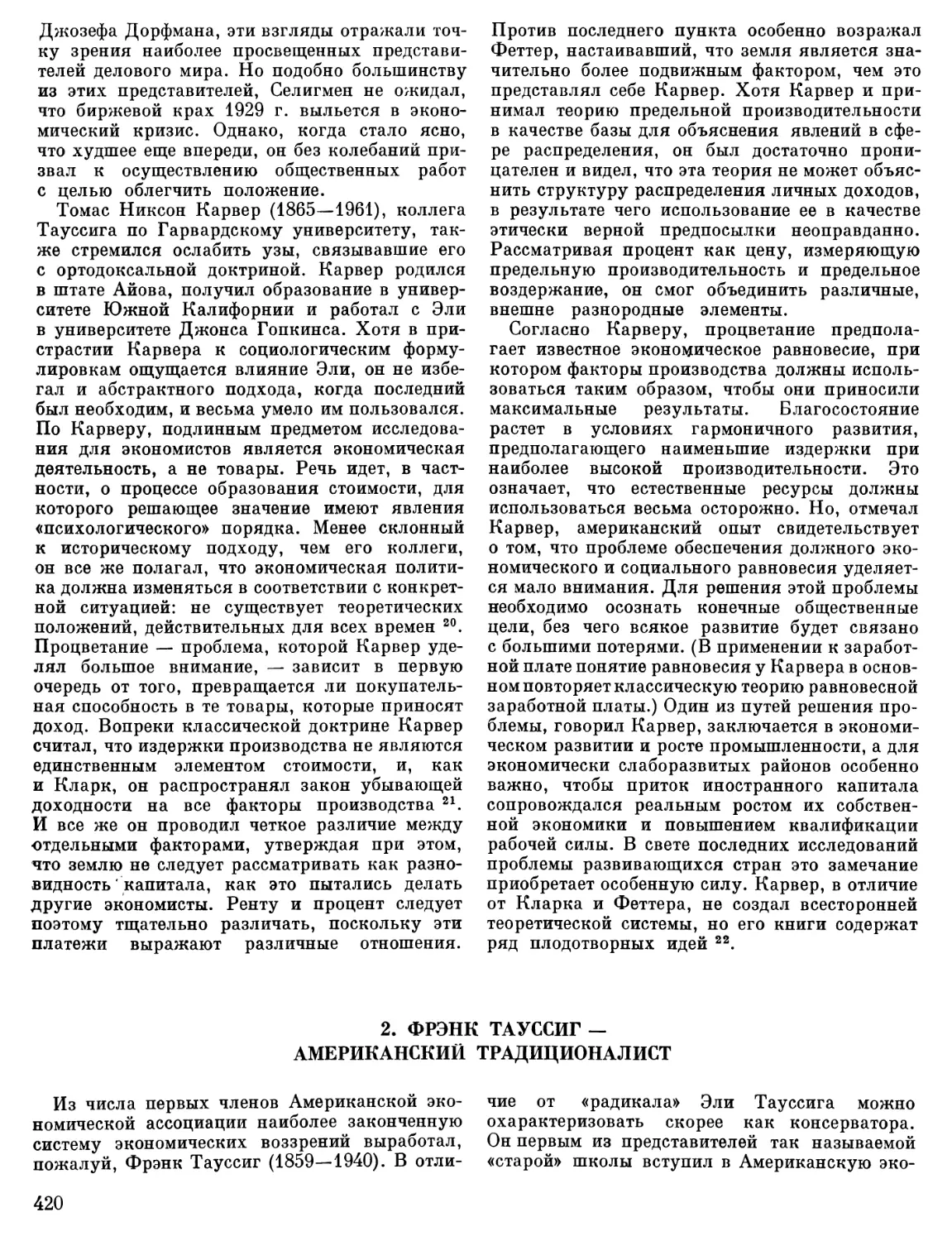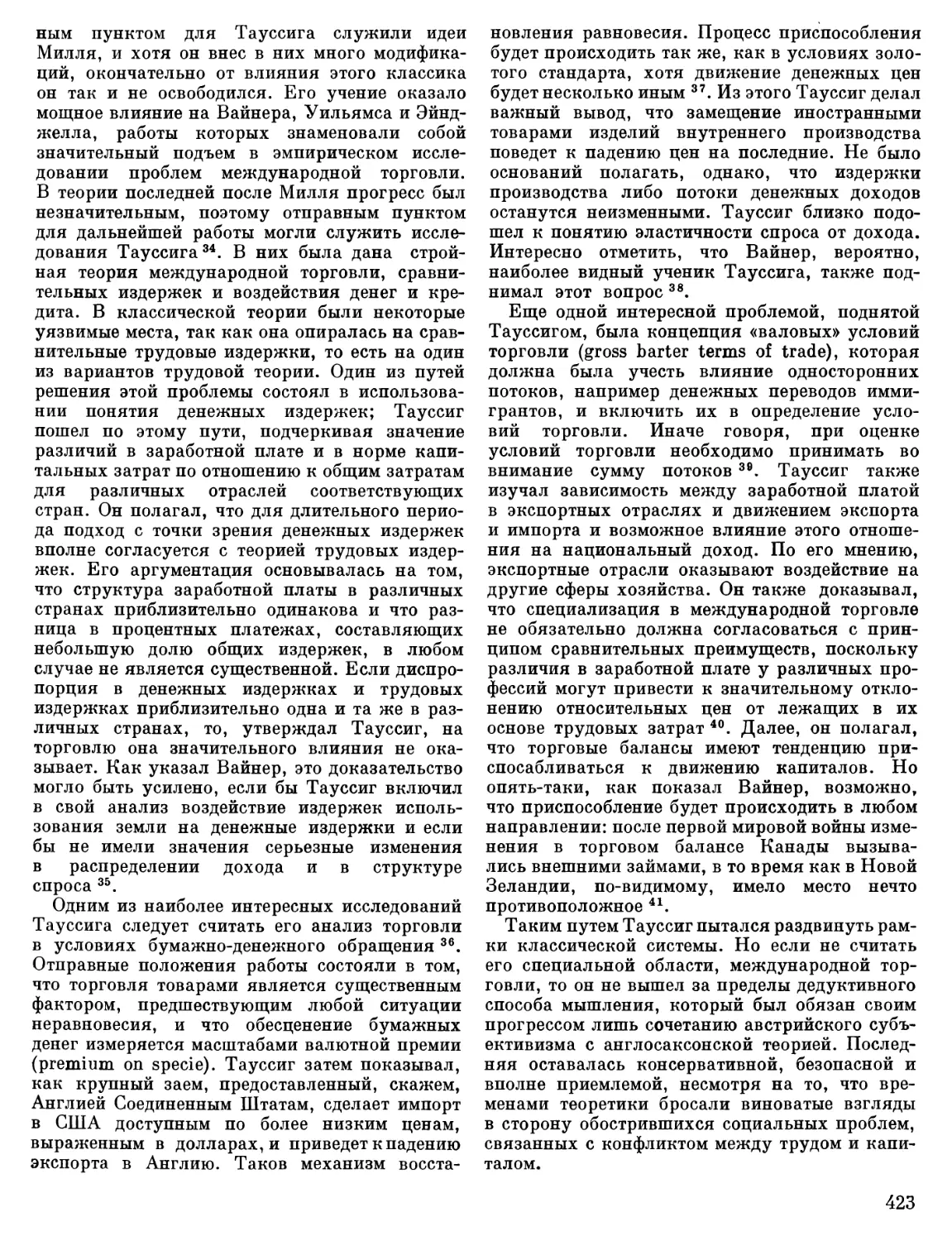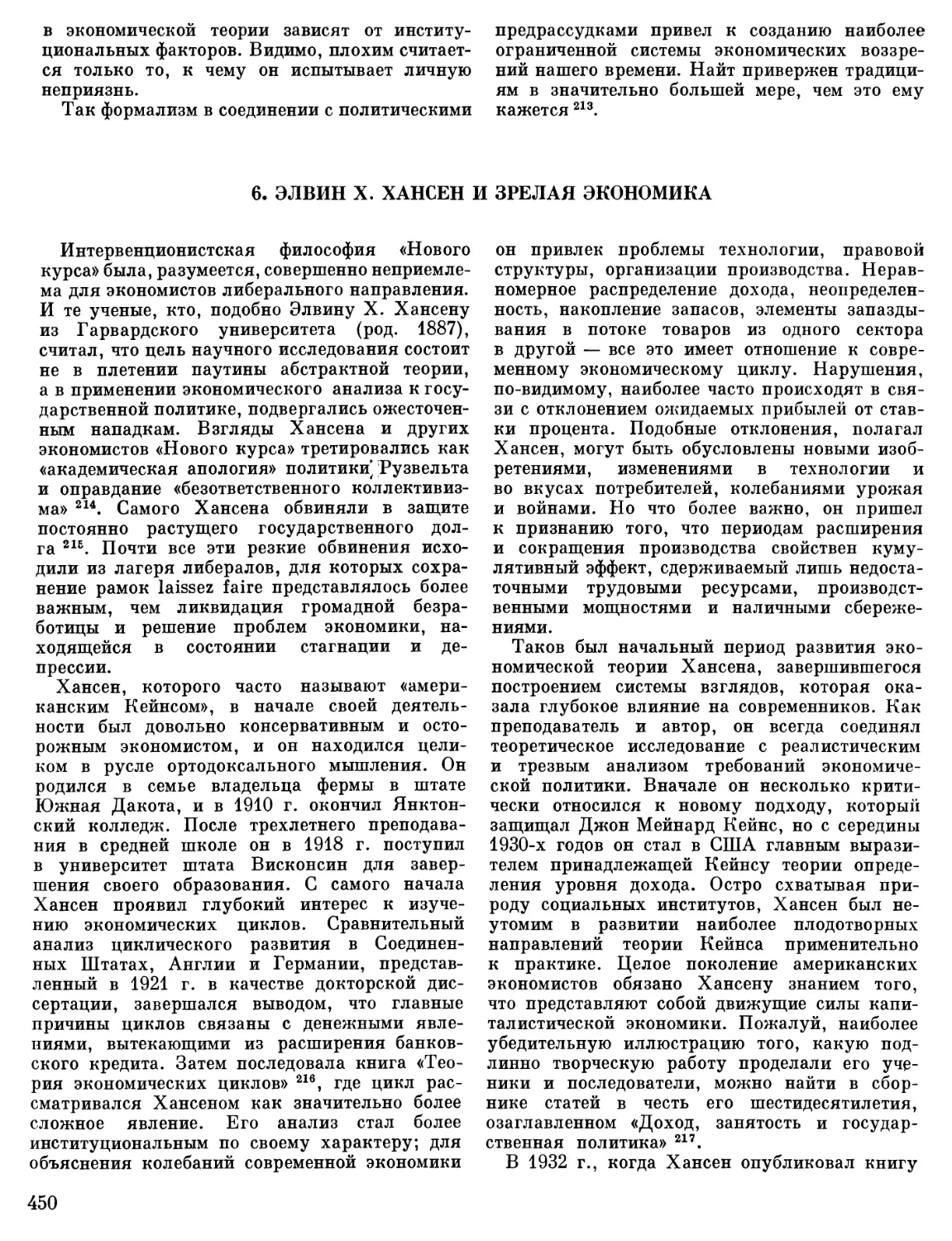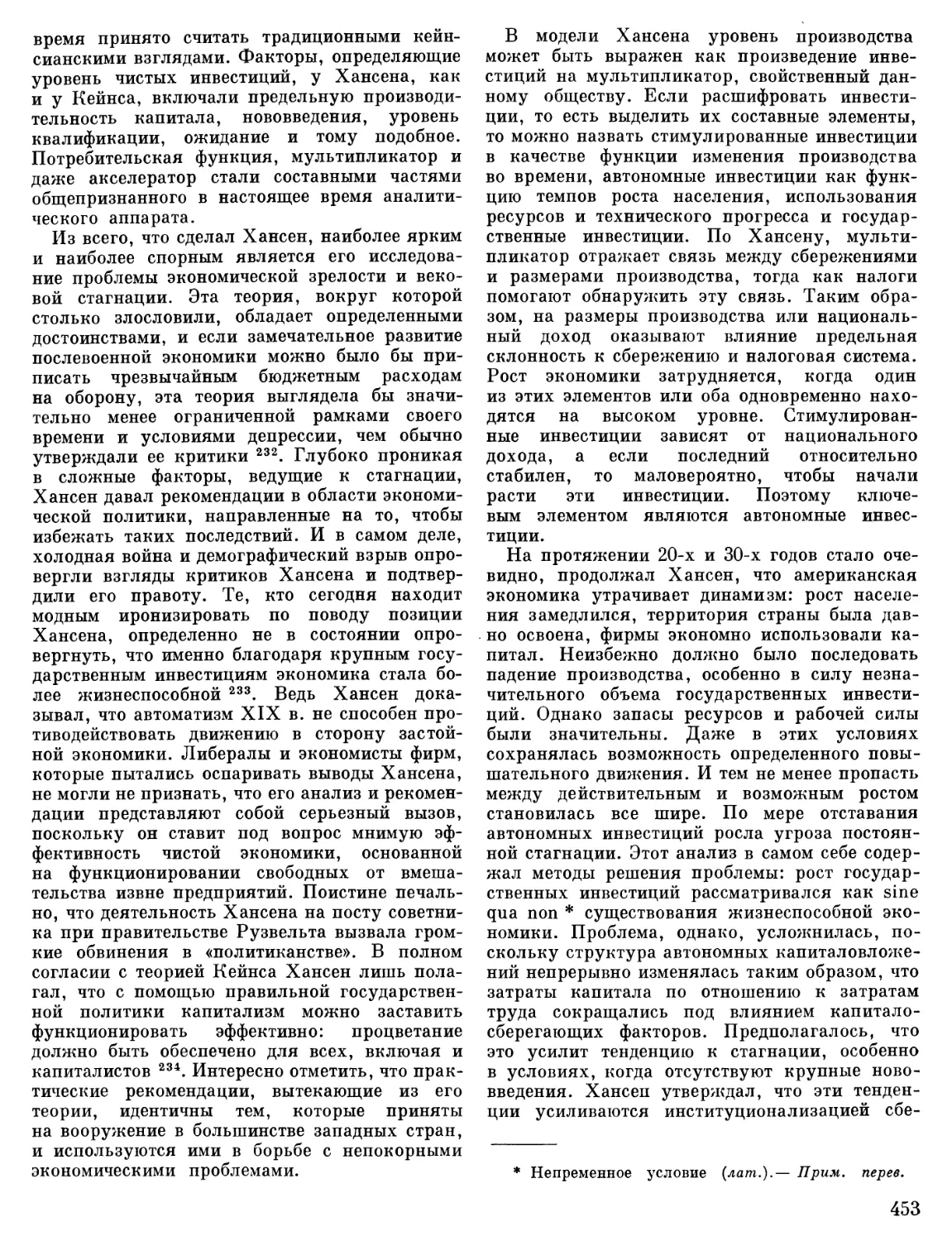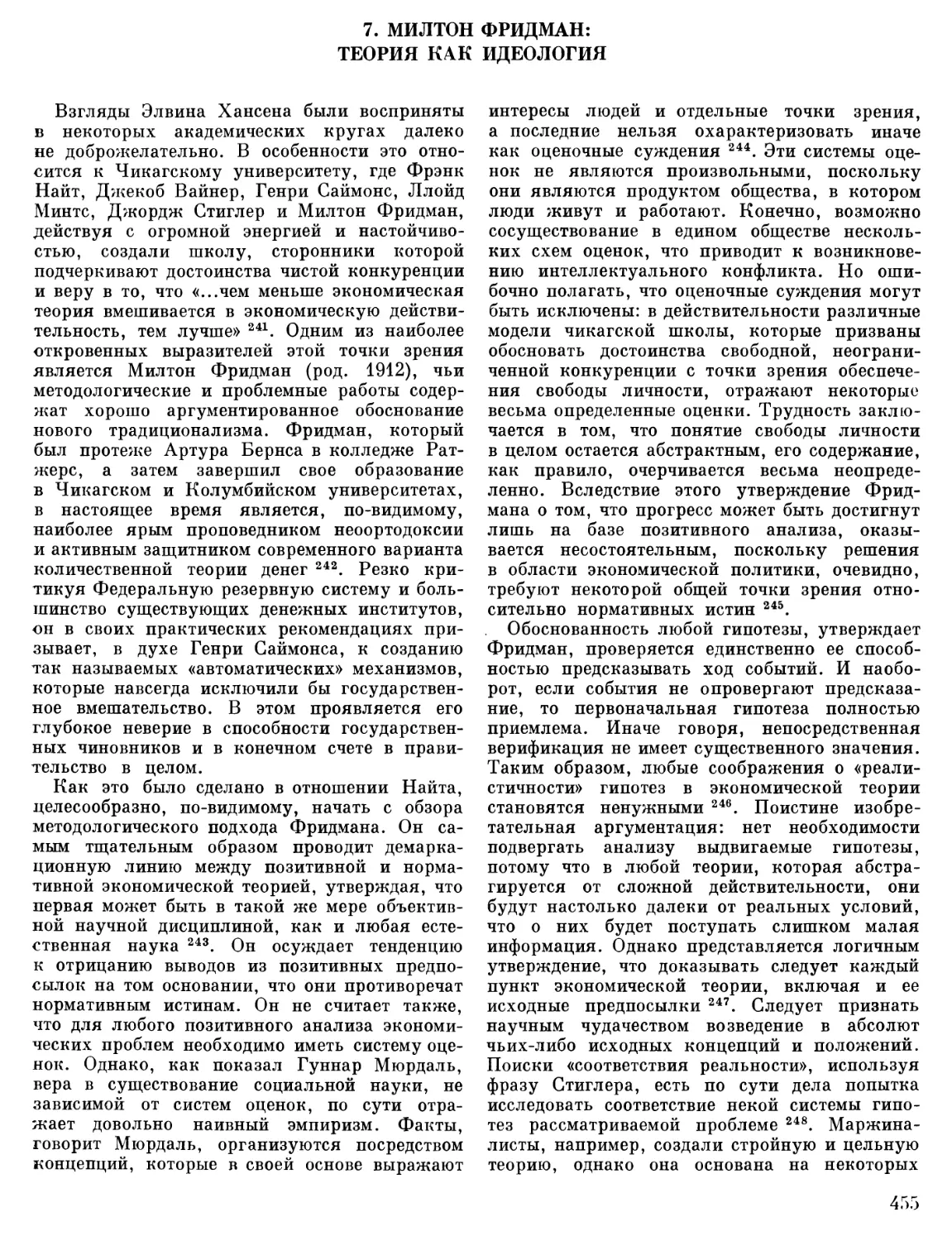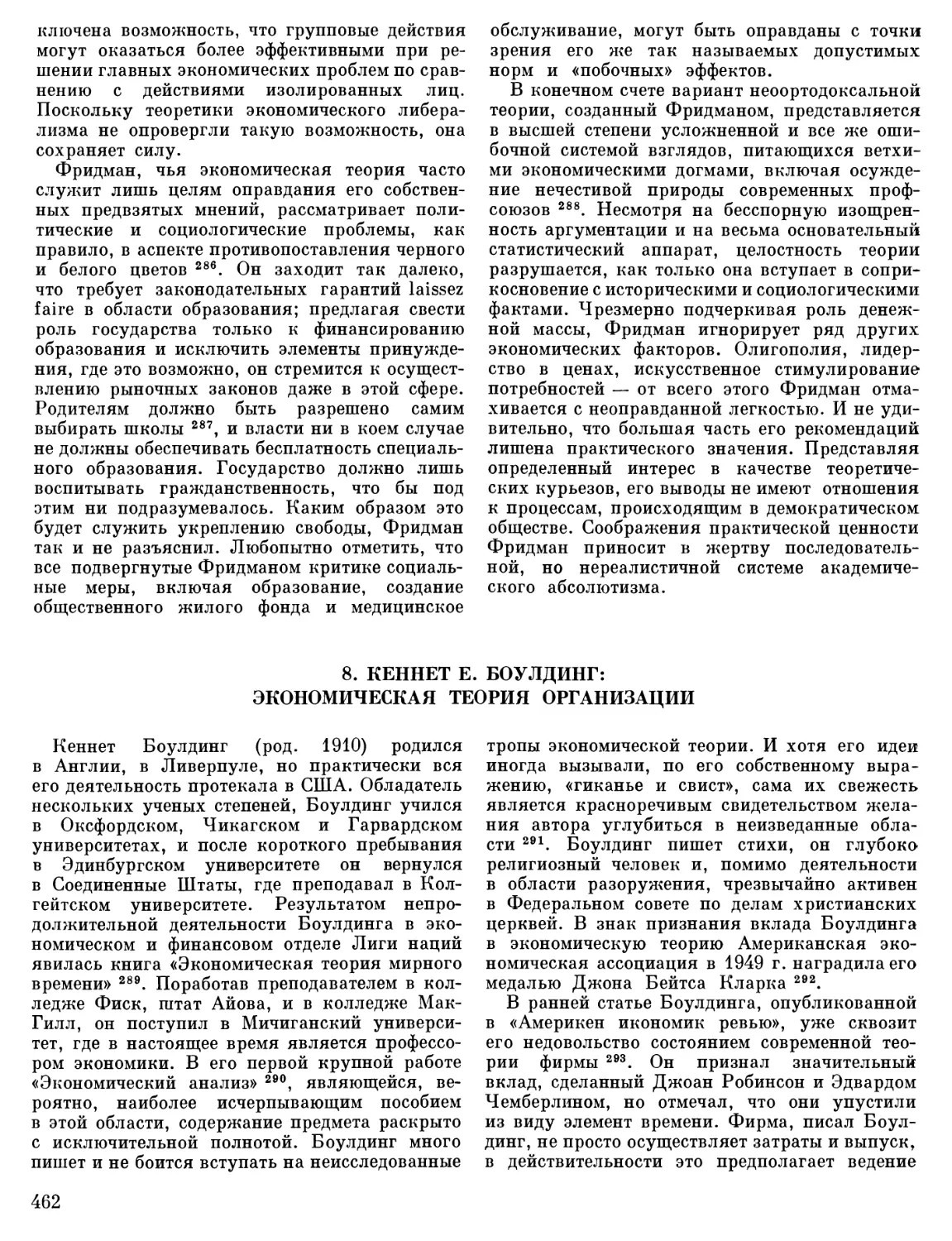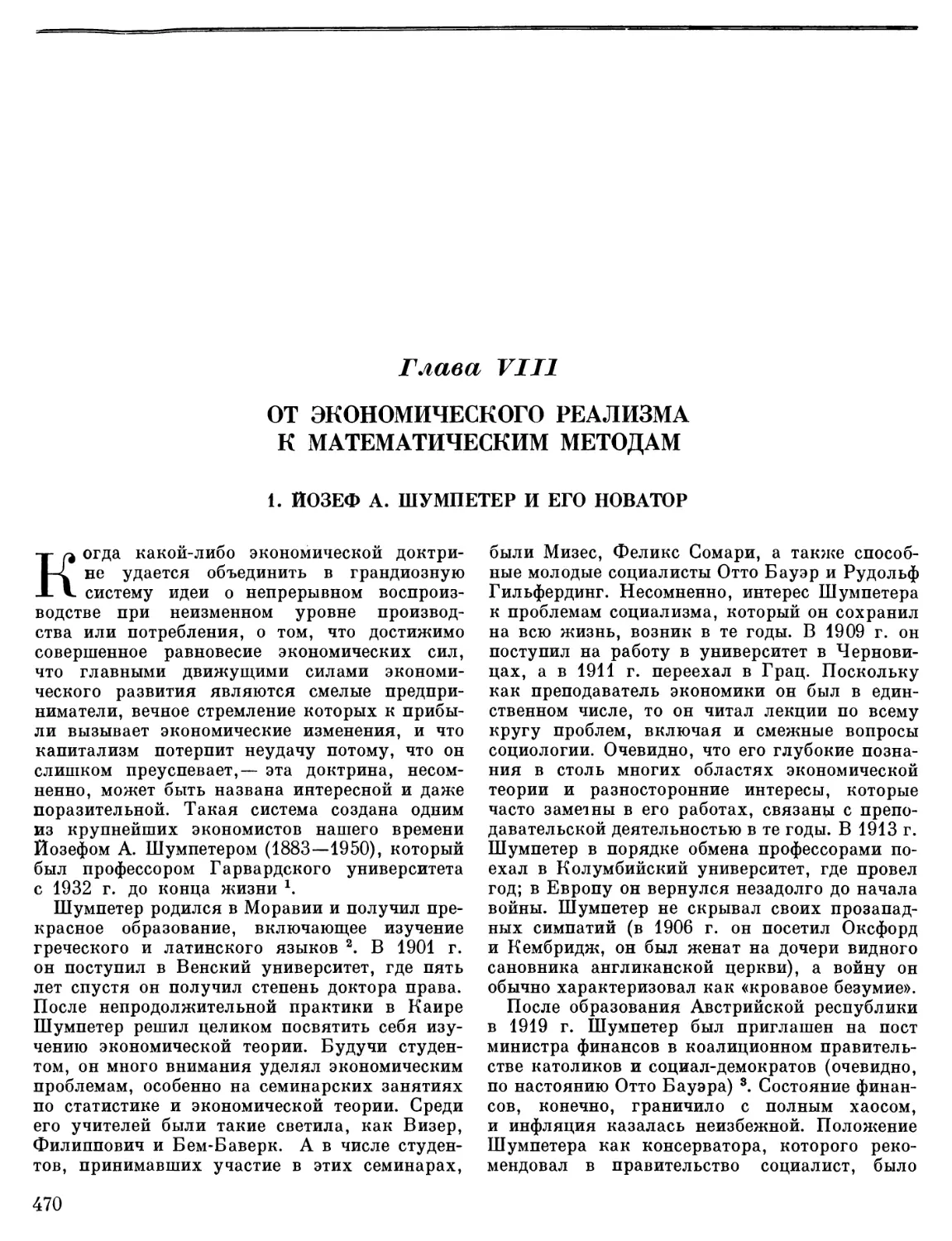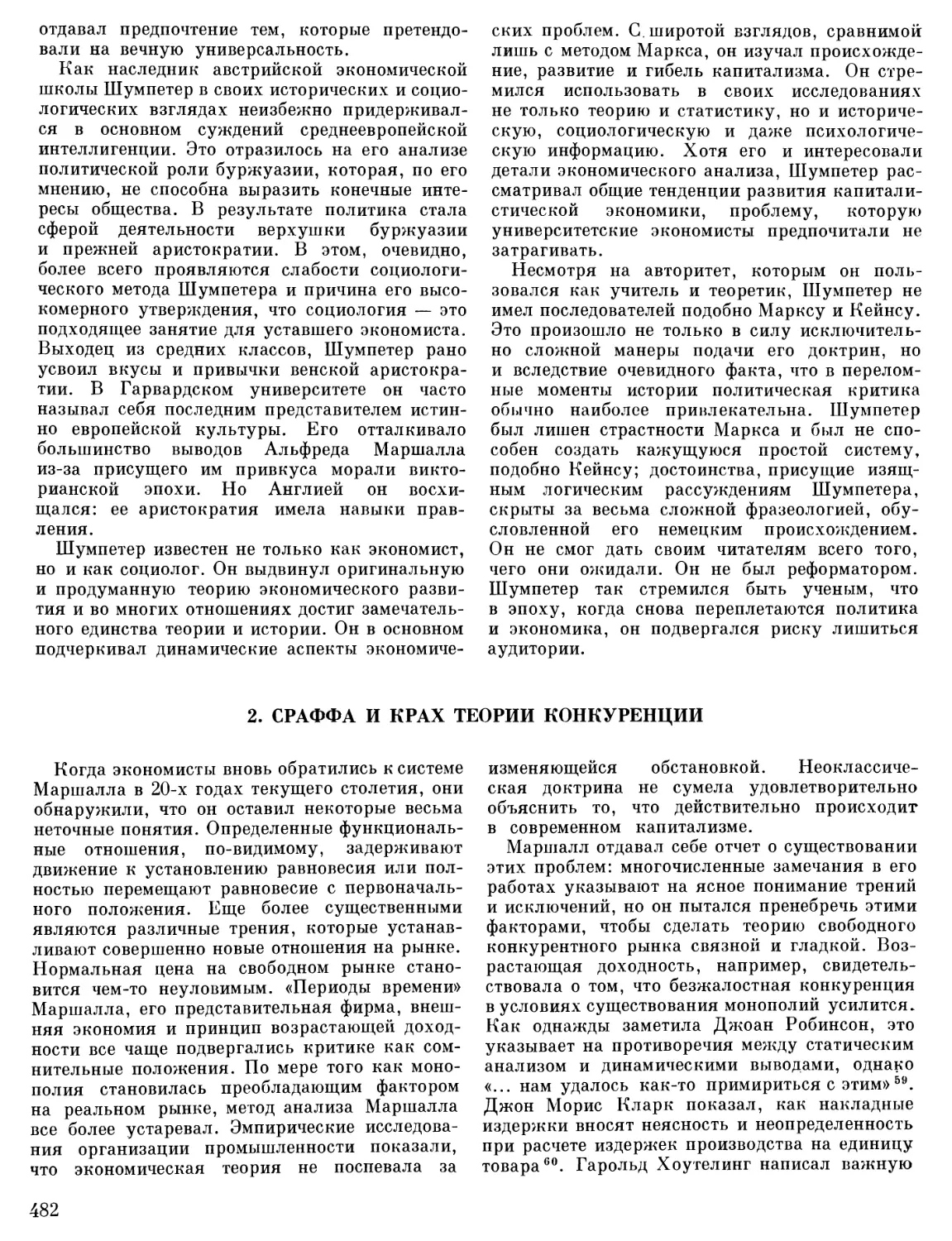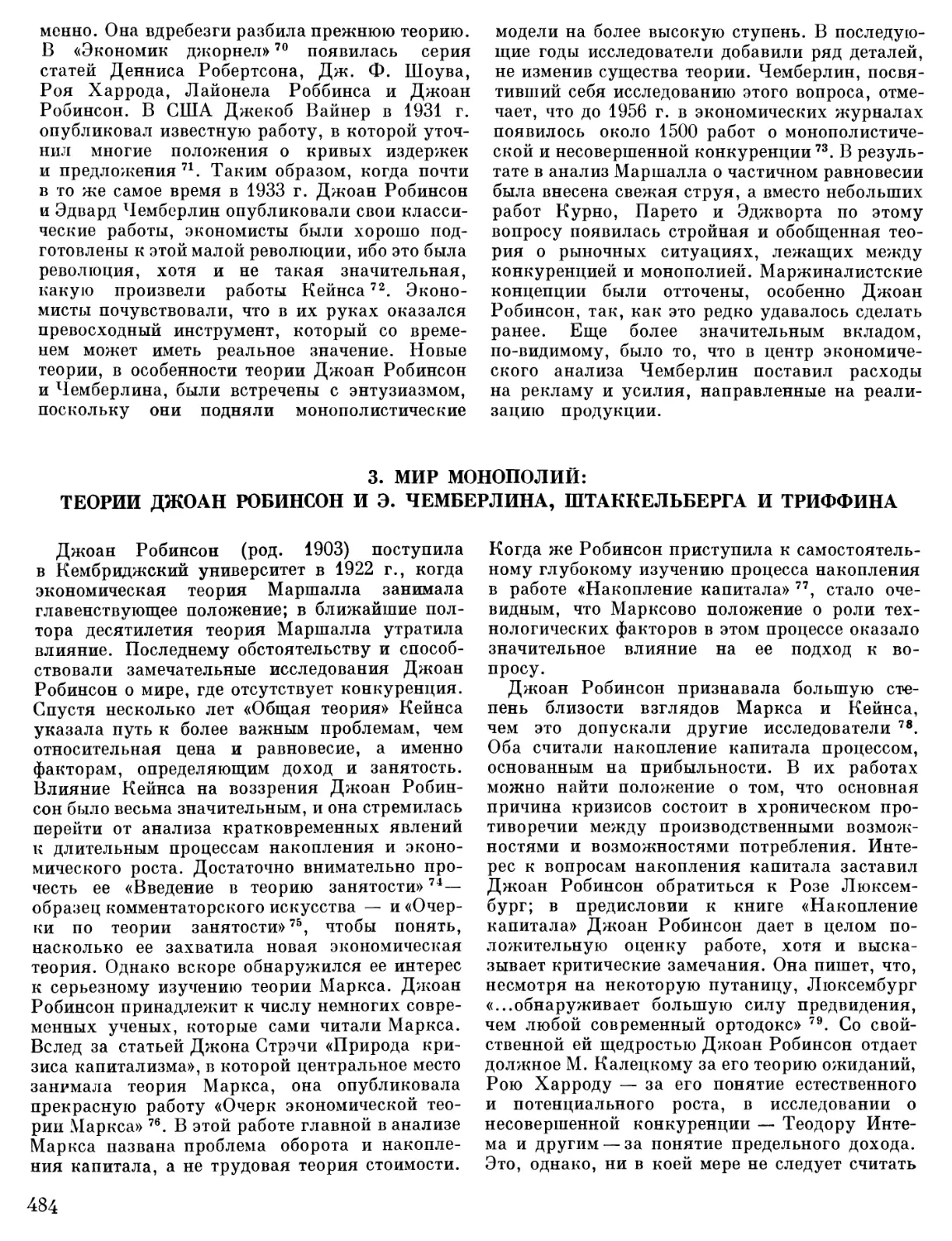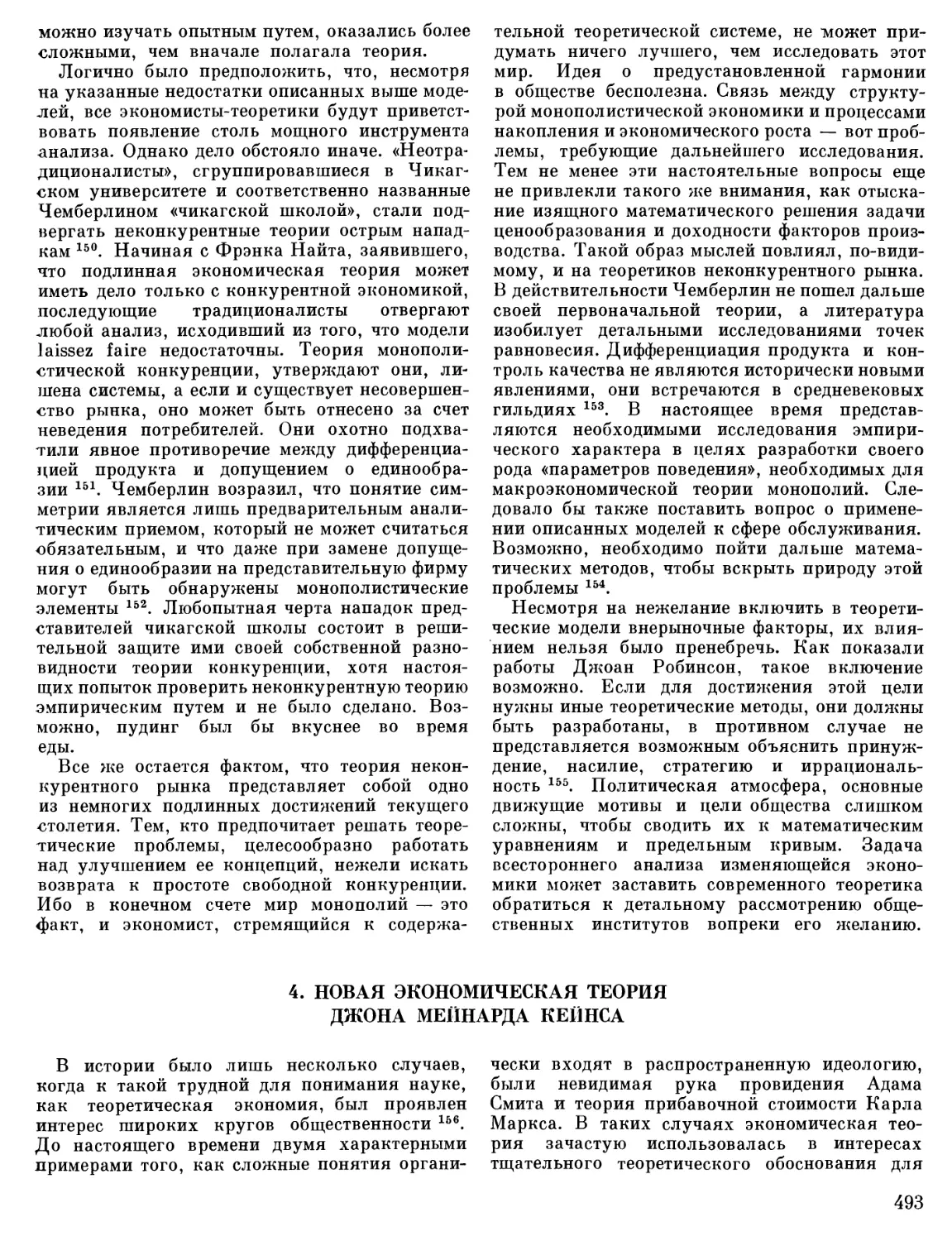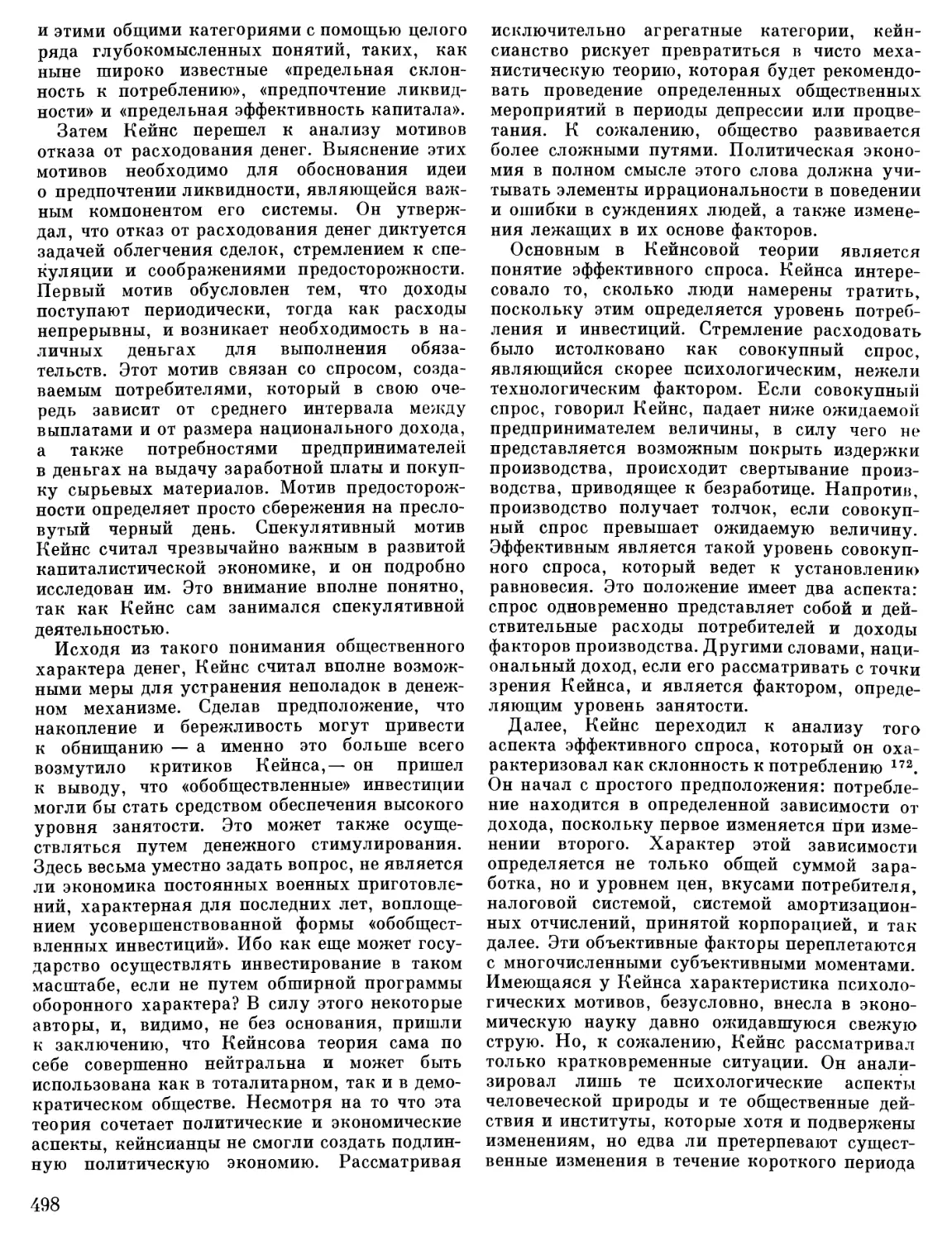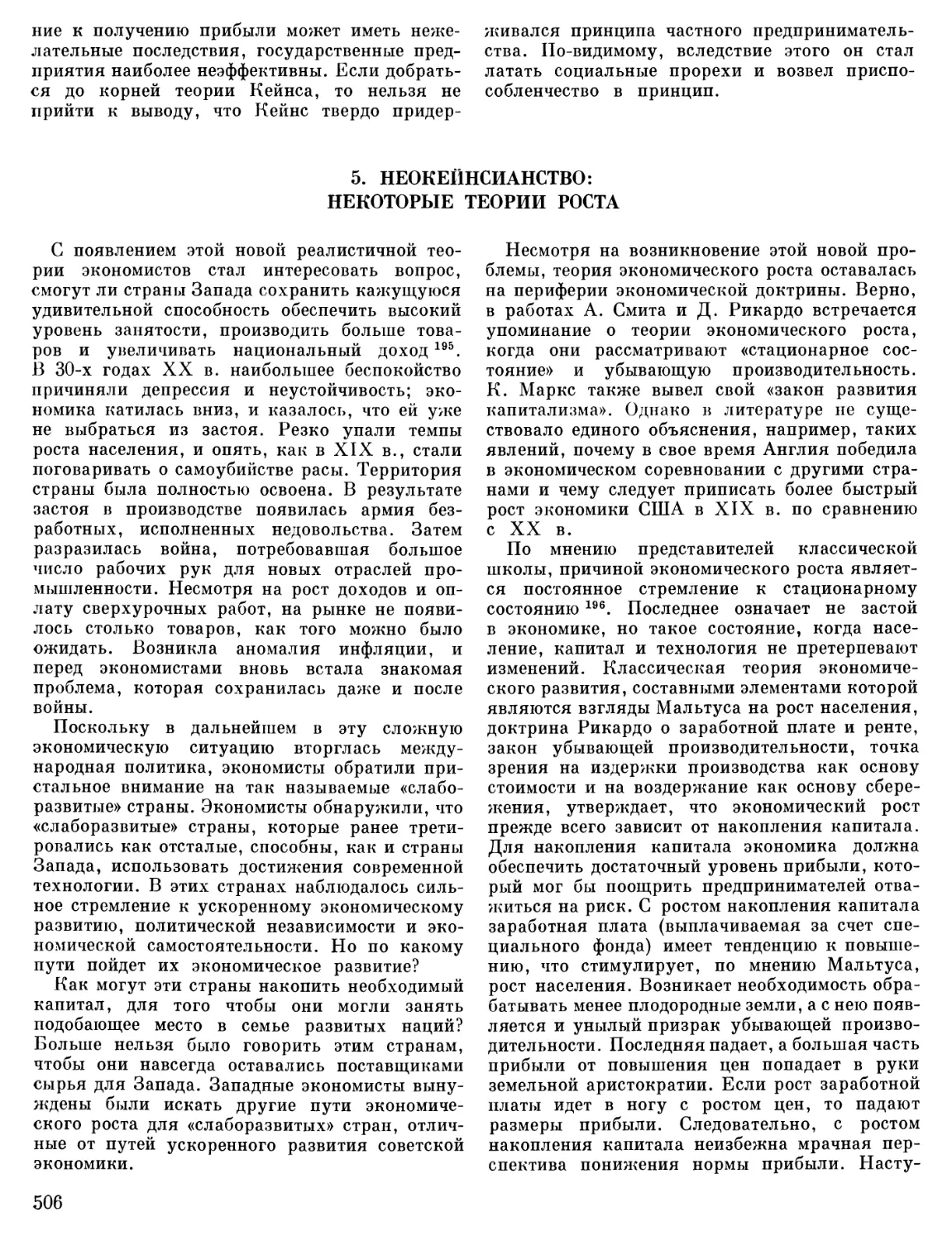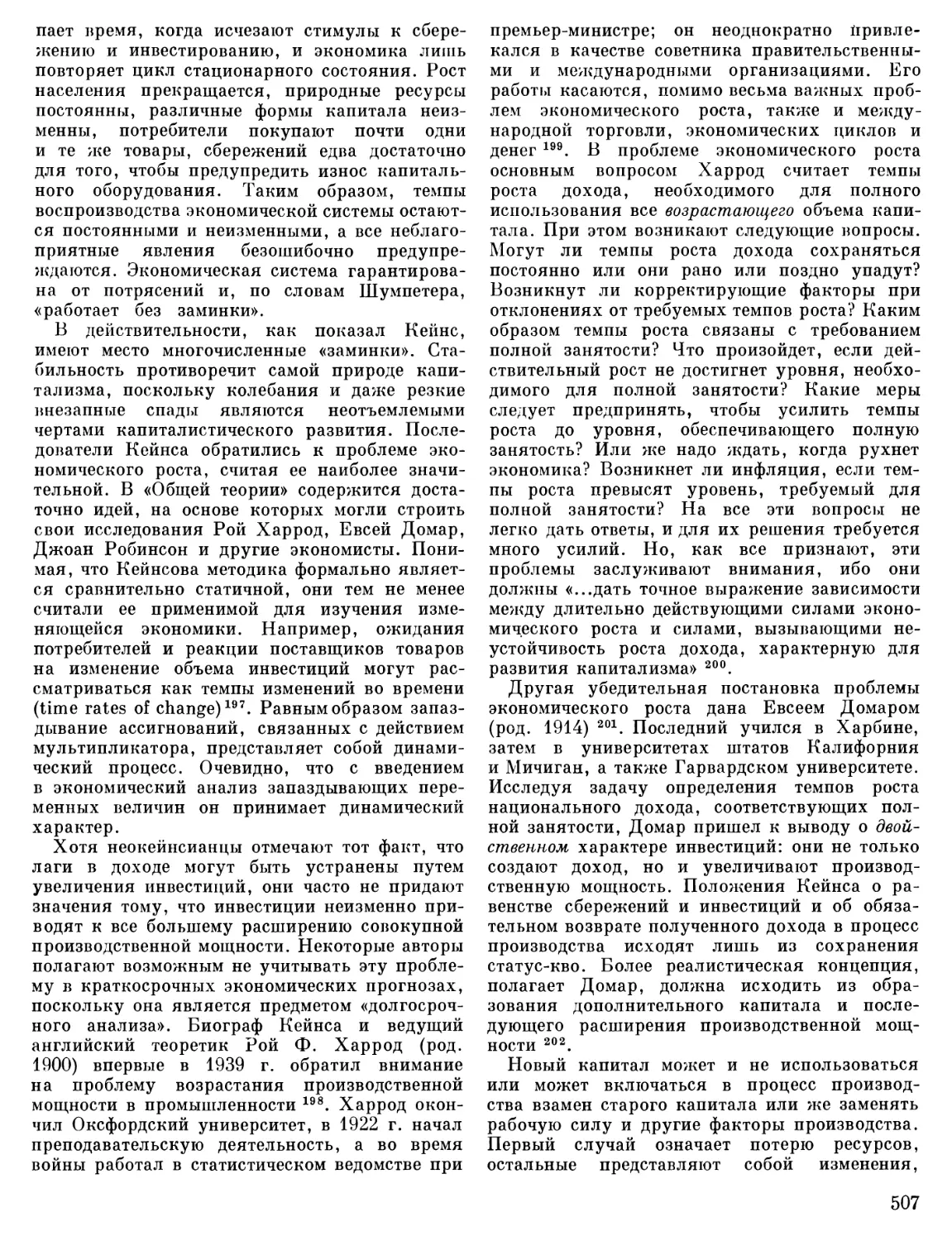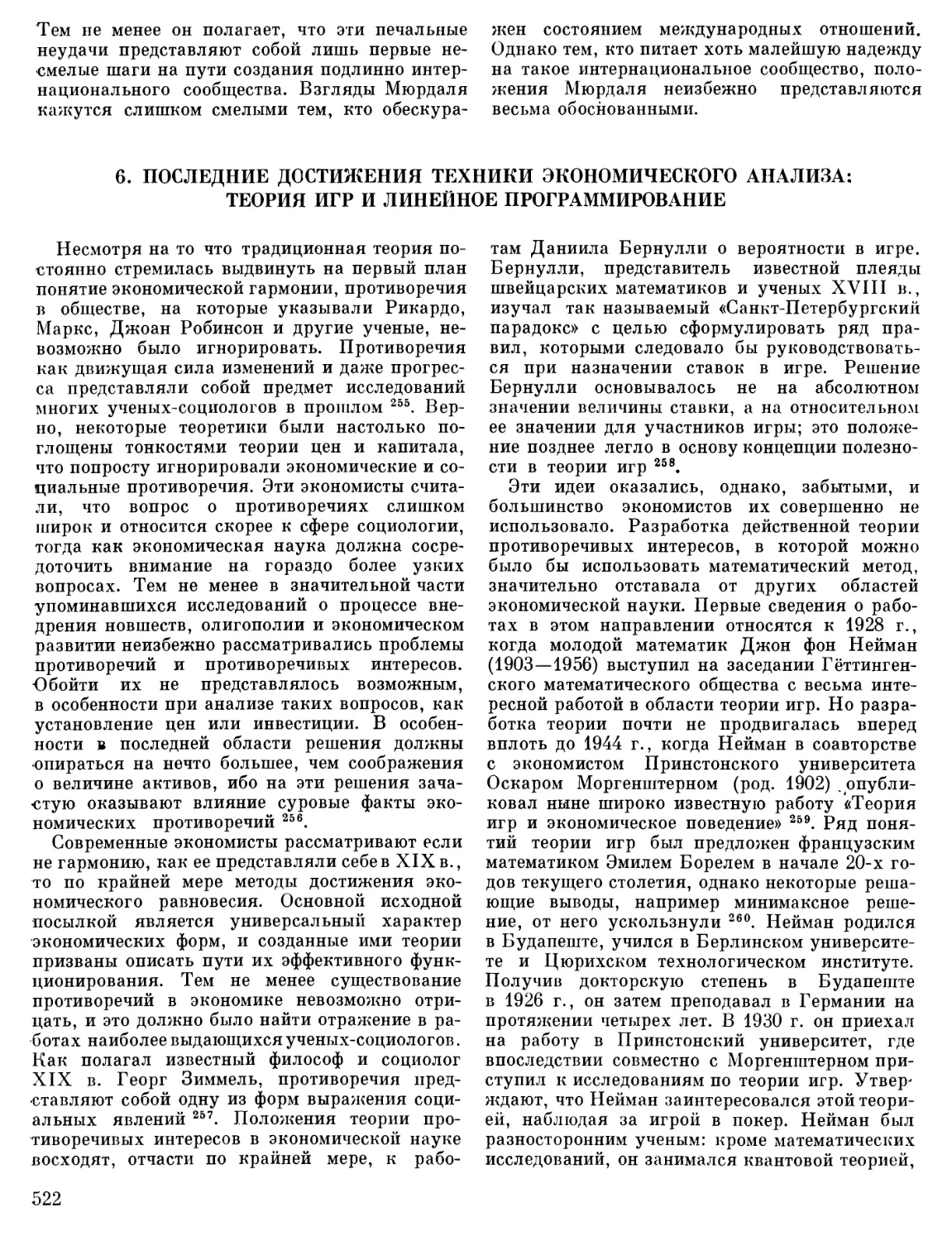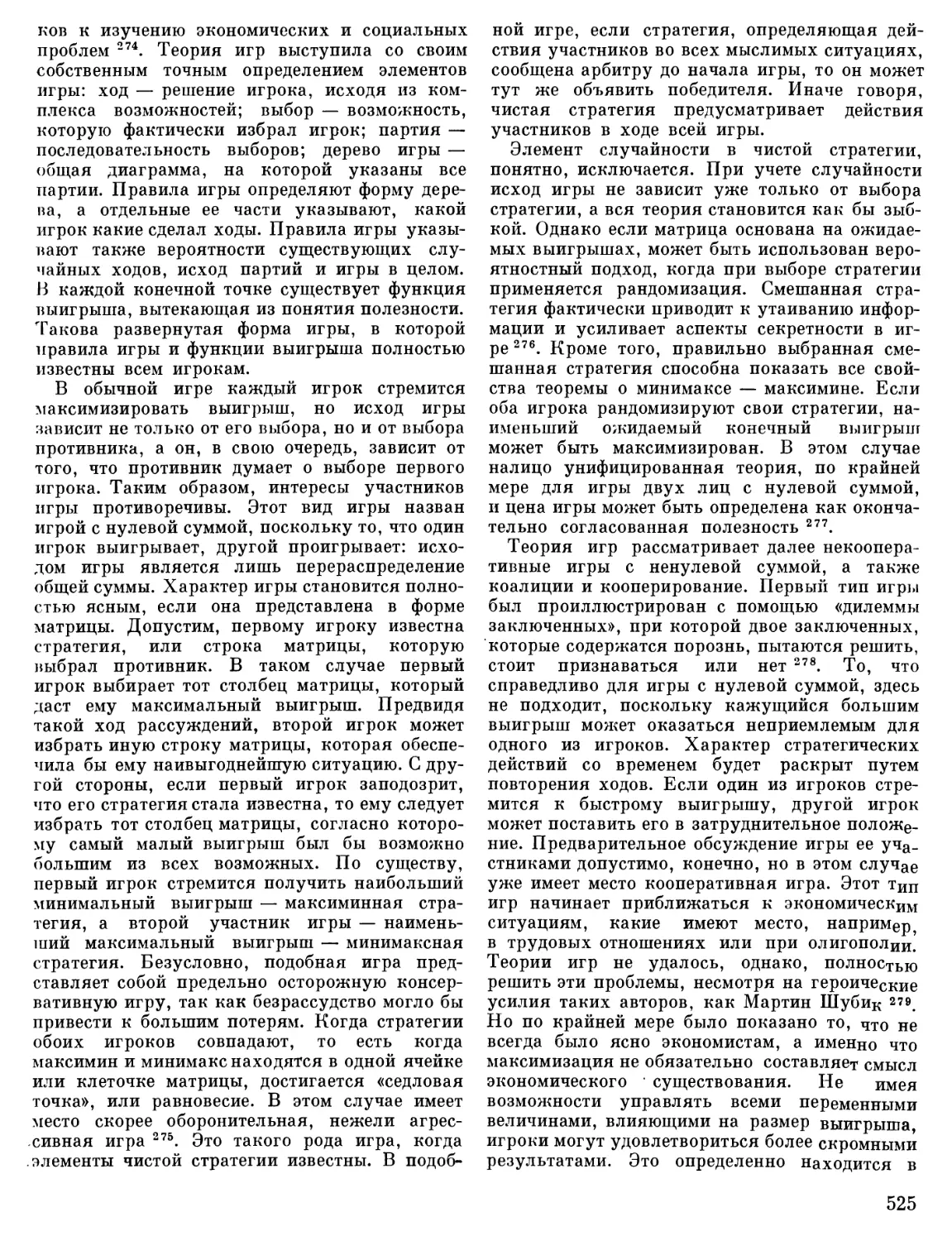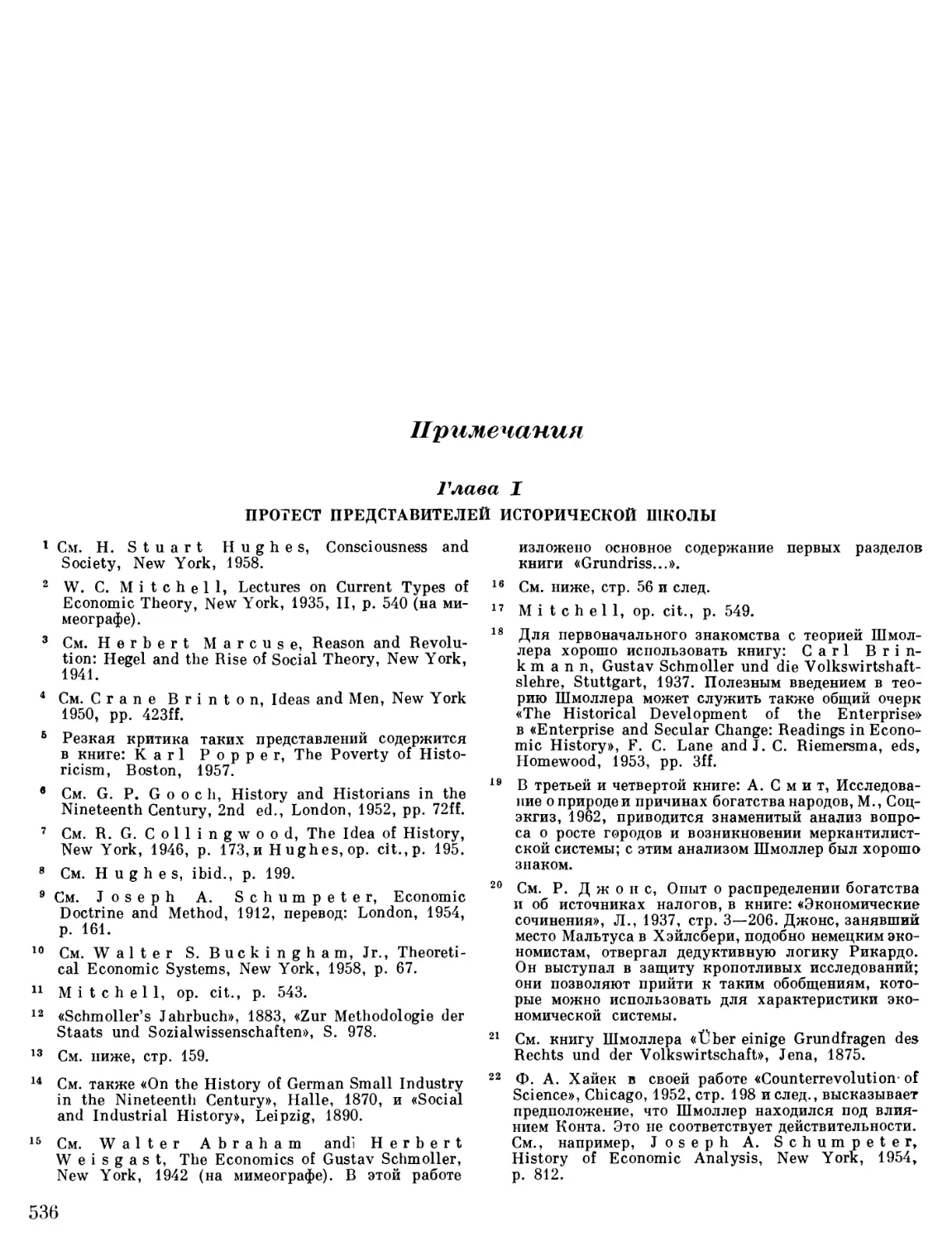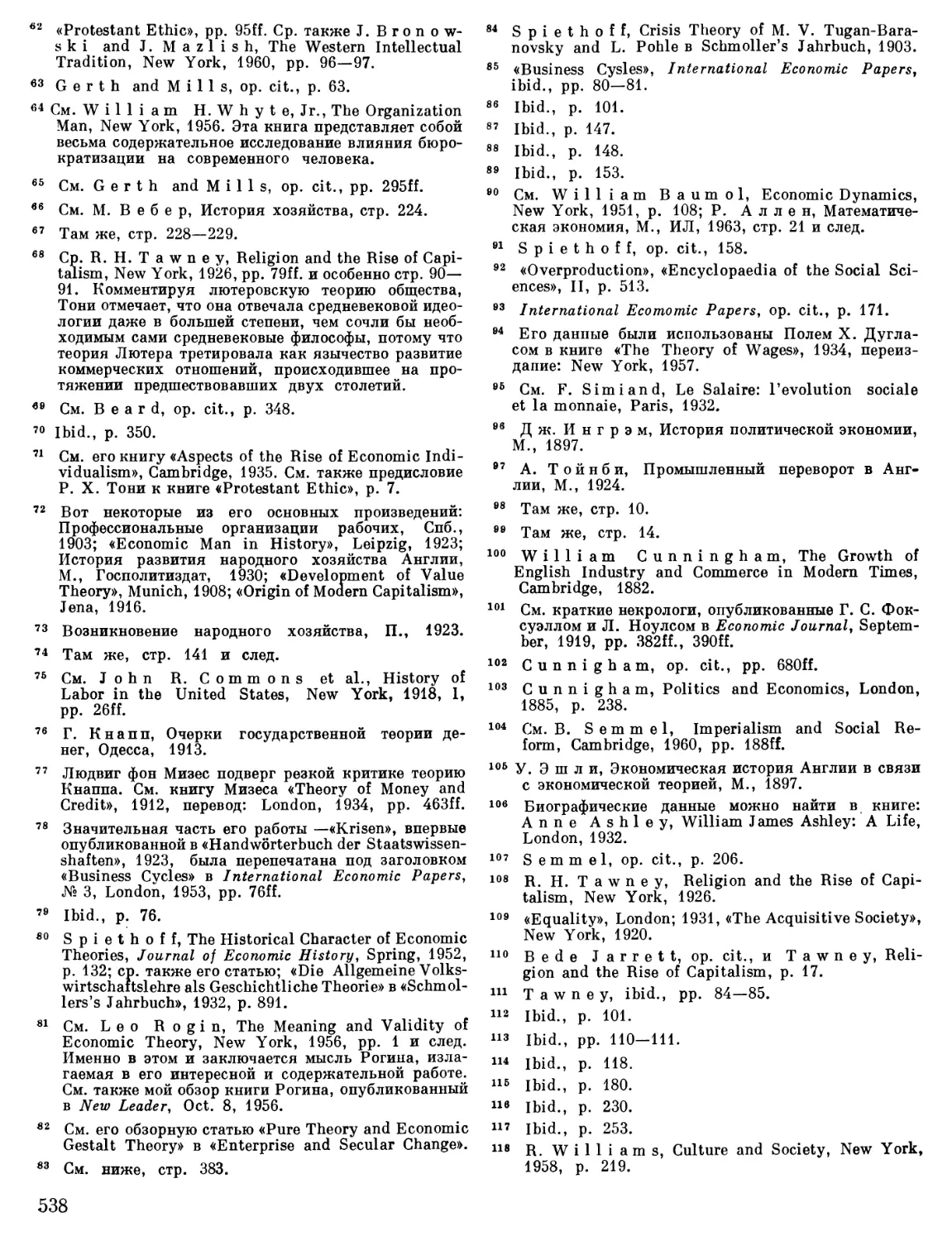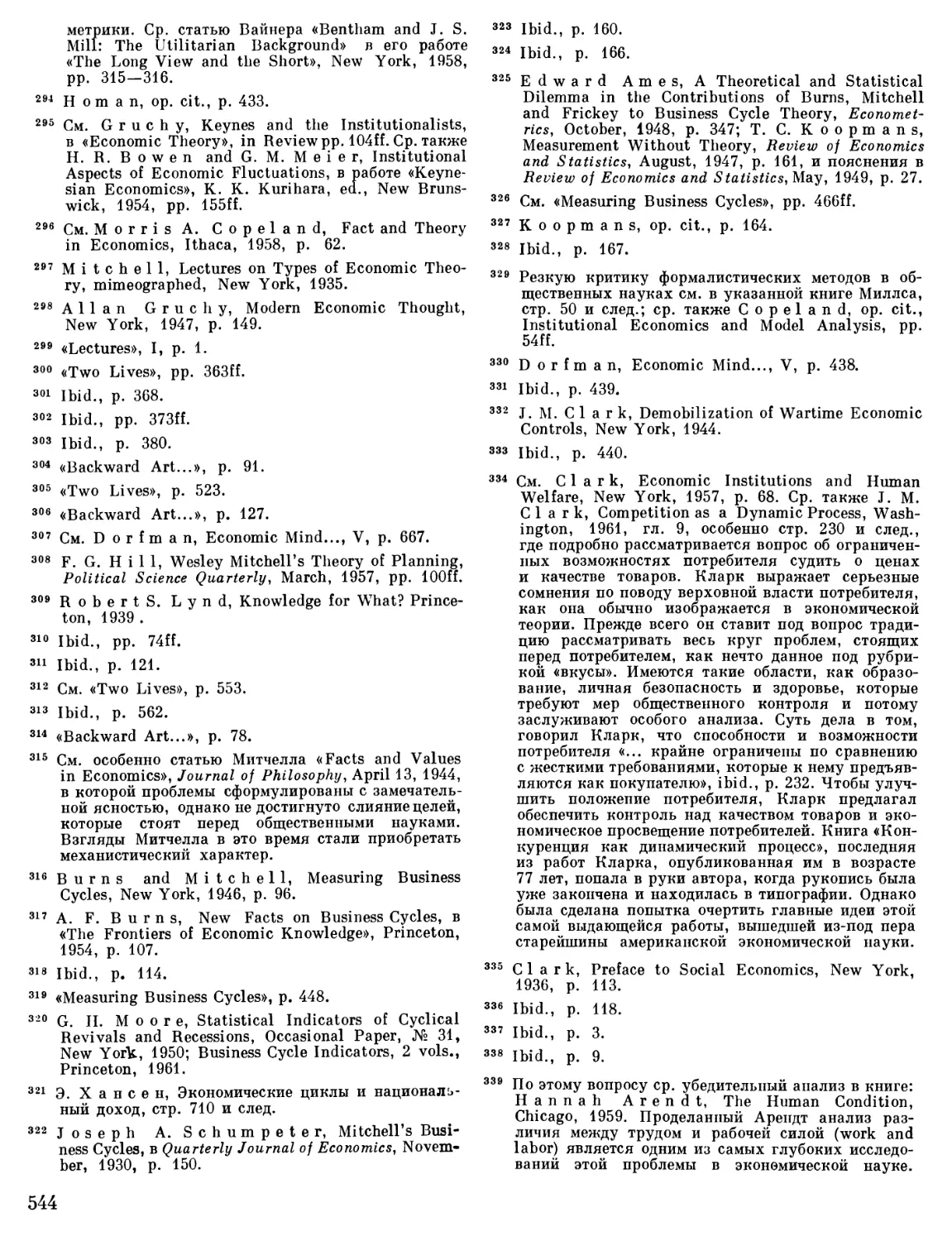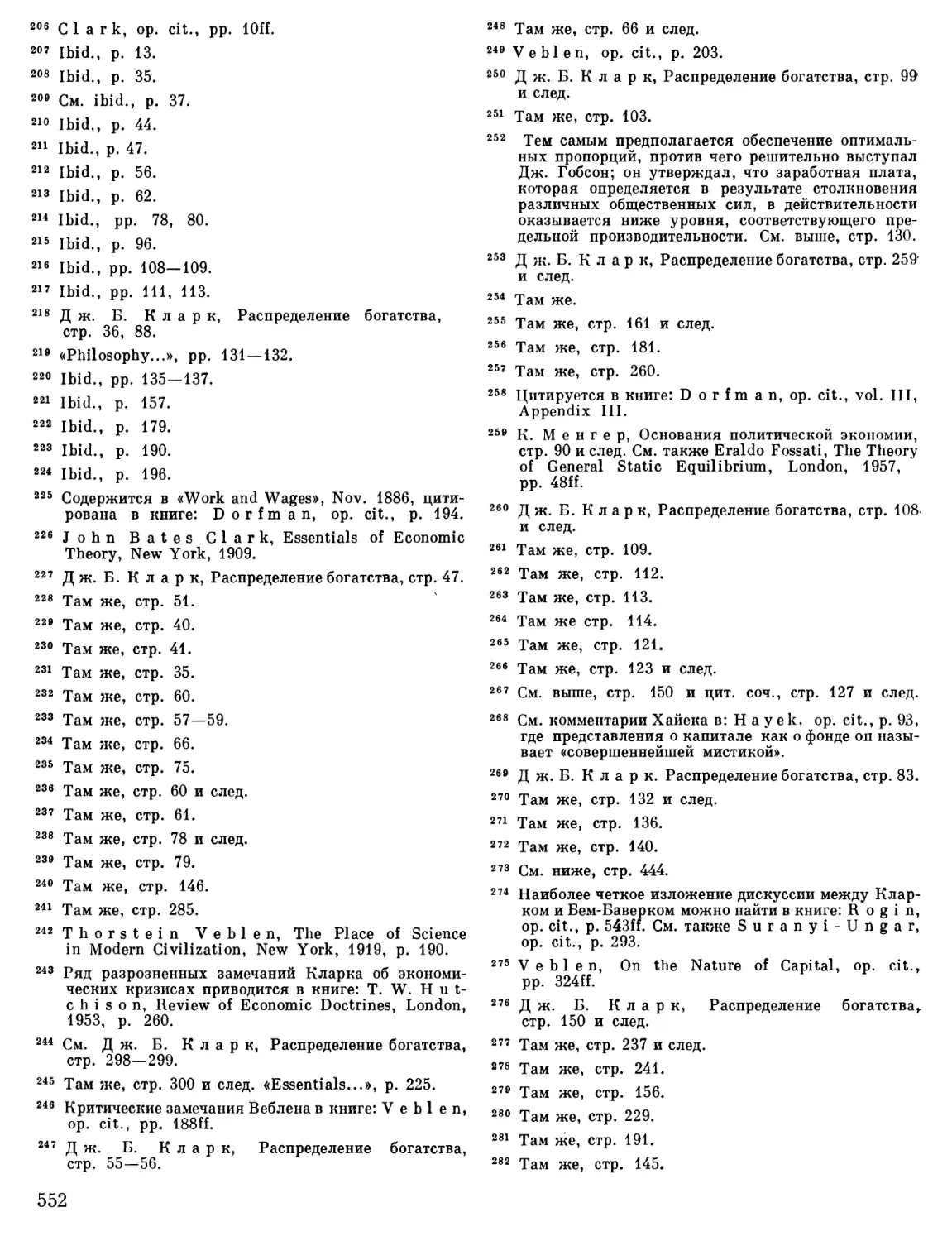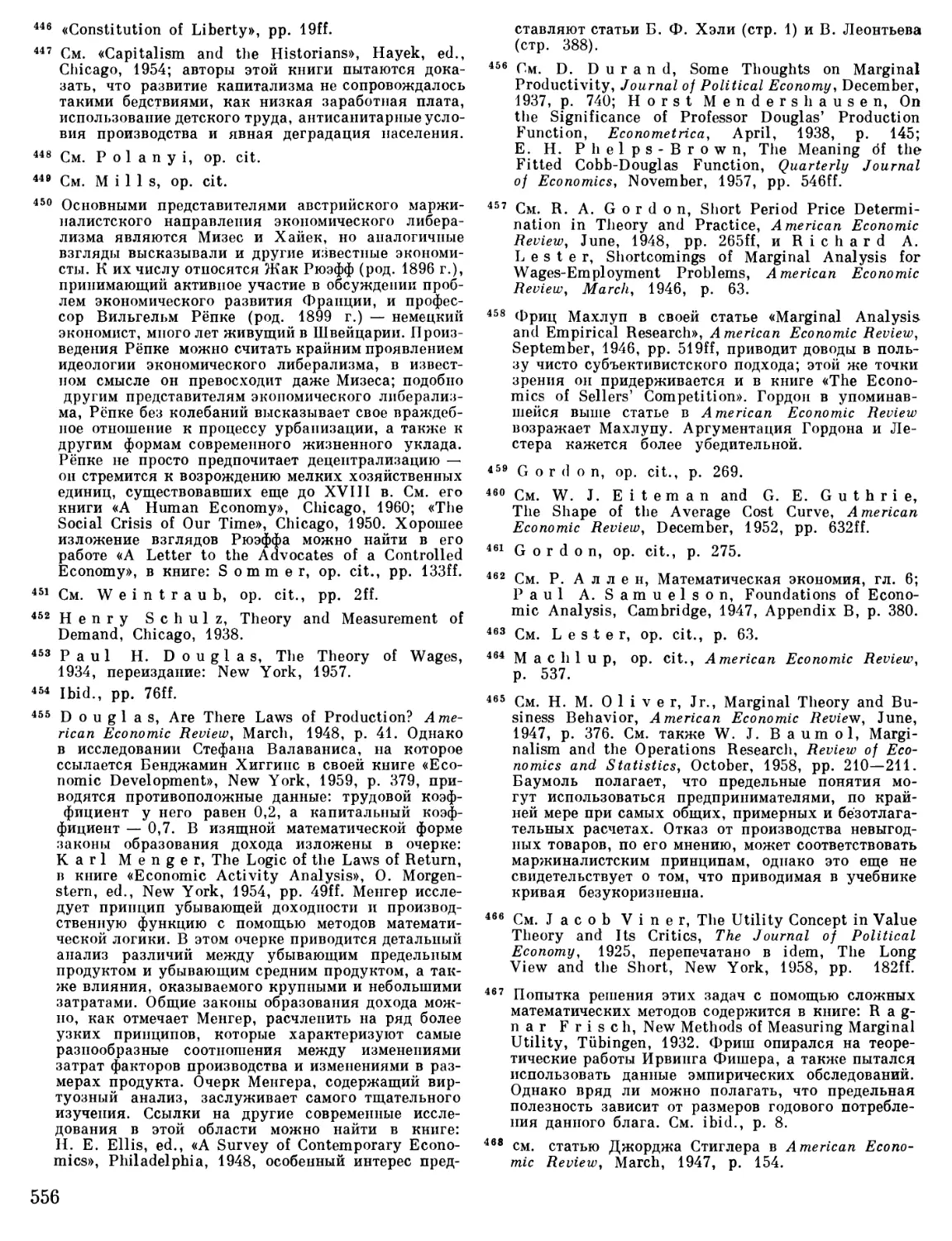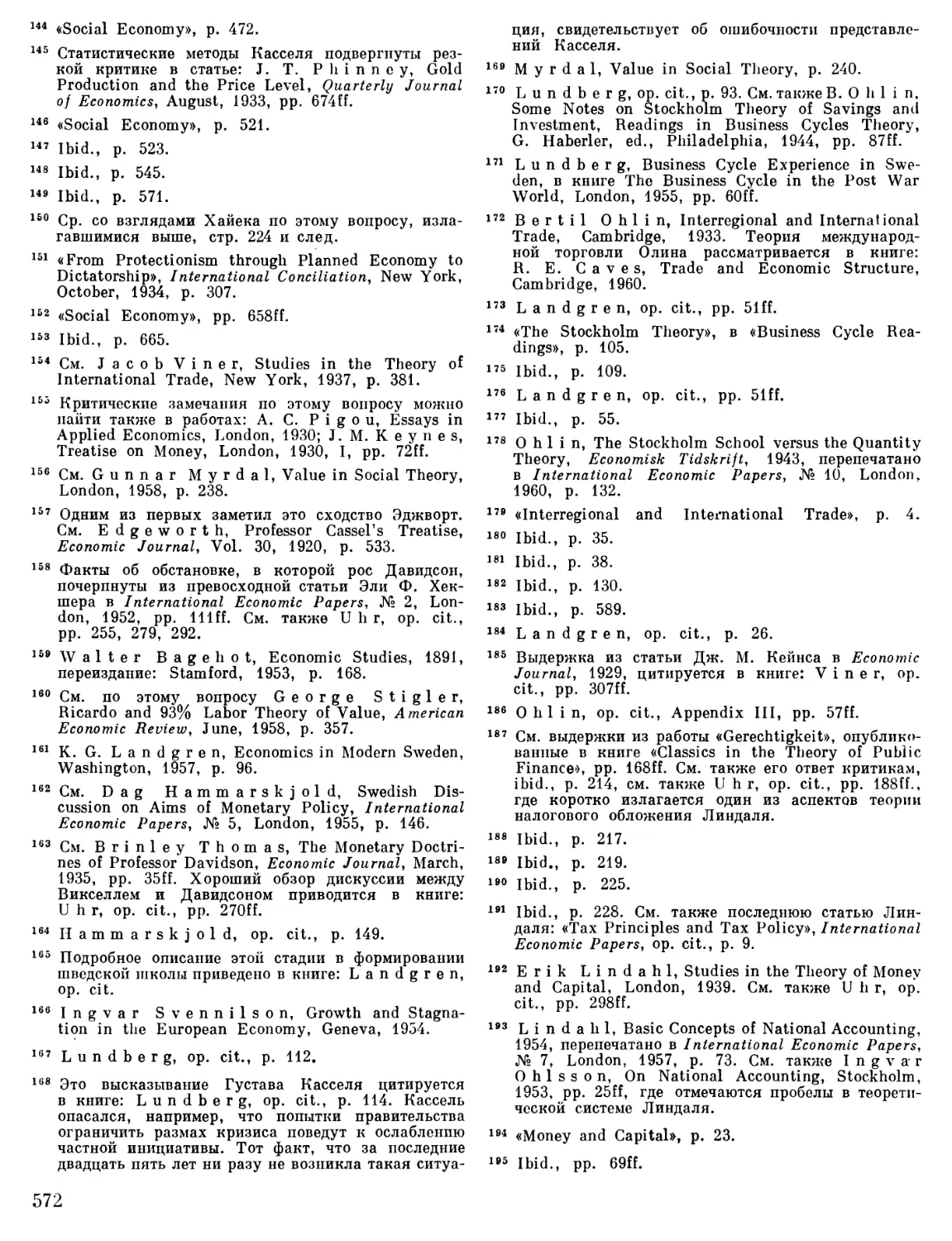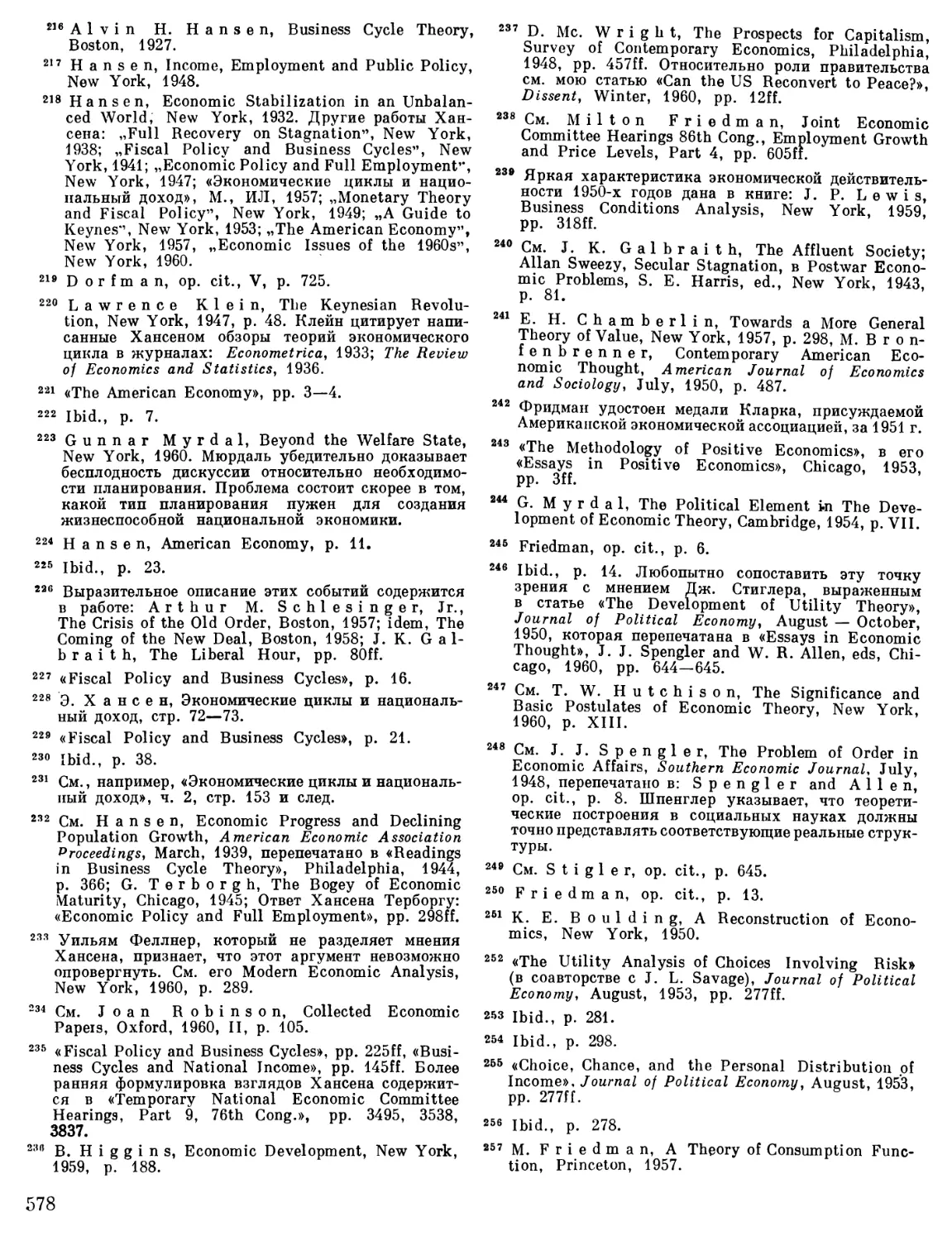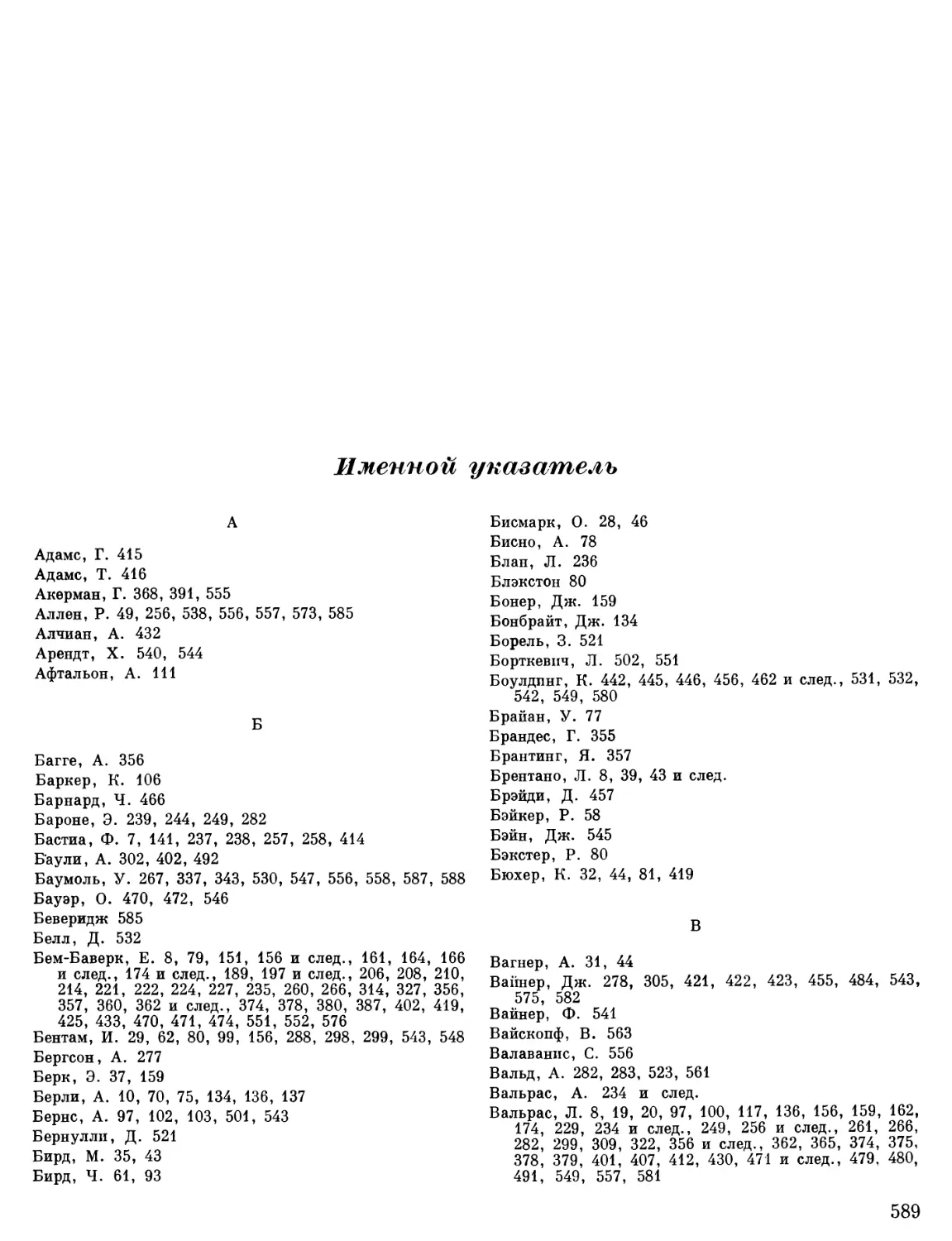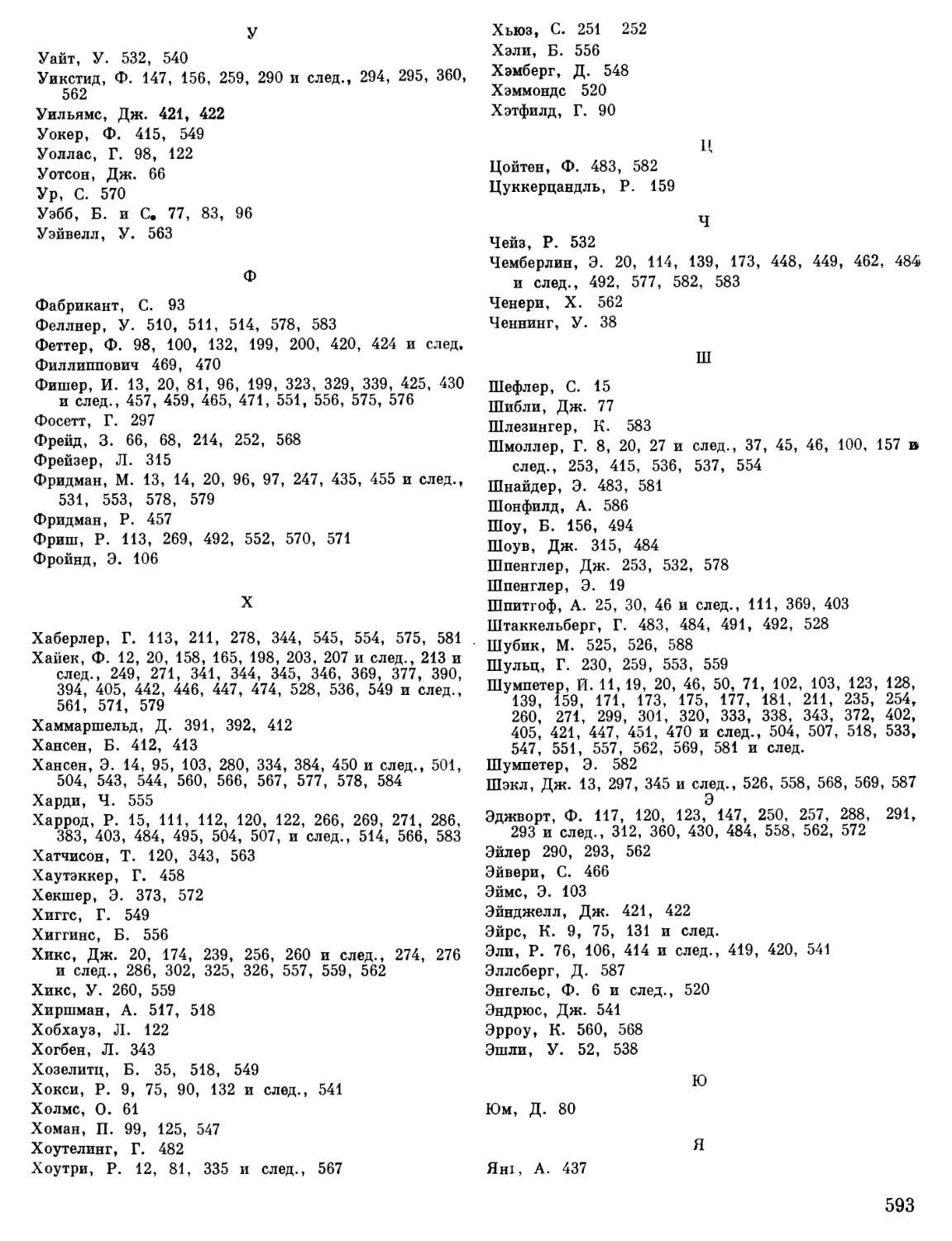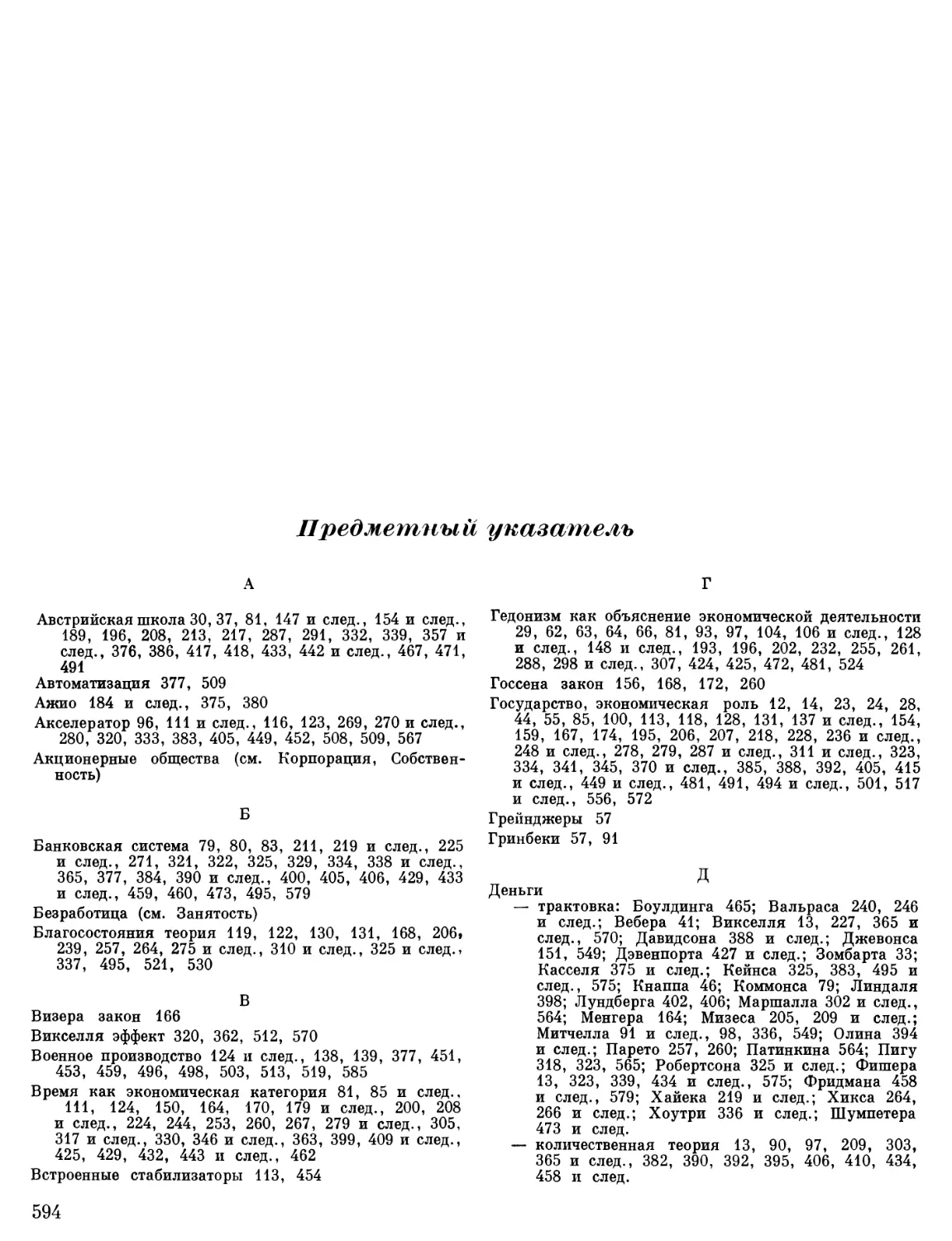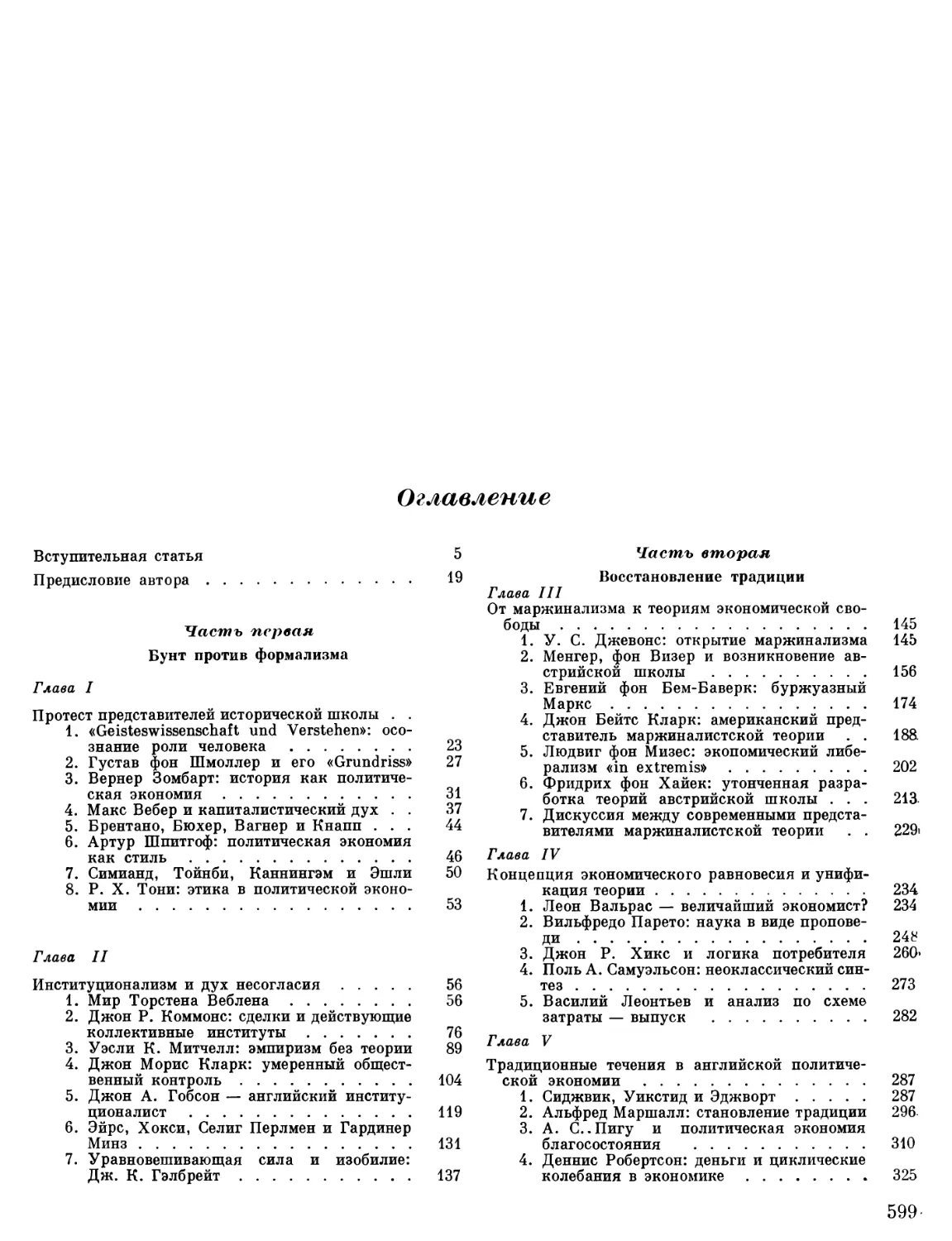Author: Селигмен Б.
Tags: экономика экономическая теория экономическая политика издательство прогресс современная экономическая мысль
Year: 1968
Text
Б. СЕЛИГМЕН ОСНОВНЫЕ
ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
BEN В. SELIGMAN
MAIN CURRENTS IN MODERN ECONOMICS
ECONOMIC THOUGHT
SINCE
1870
THE FREE PRESS OF GLENCOE 1963
Для научных библиотек
Б. СЕЛИГМЕН
ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Перевод с английского
Общая редакция и вступительная статья академика
А. М. РУМЯНЦЕВА
доктора экономических наук Л. Б. АЛЬТЕРА члена-корреспондента АН СССР А. Г. МИЛЕЙКОВСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1968
Переводчики:
А. В. Аникин, Л. А. Афанасьеву Ю, Б. Кочеврин, Р. М. Энтов
Автор освещает эволюцию буржуазной экономической мысли после 1870 г. до наших дней.
Изложение материала строится по принципу обзора развития основных школ и направлений в политической экономии. Значительное место уделено виднейшим представителям каждого направления, оказавшим наиболее заметное влияние на экономическую мысль.
В книге обстоятельно рассмотрены некоторые важные школы, а также анализируются работы ряда экономистов, мало известных советским читателям.
В ходе изложения взглядов отдельных авторов и в многочисленных примечаниях Б. Селигмен приводит исчерпывающие перечни трудов многих экономистов и других источников. Перевод дан с сокращениями.
Книга рассчитана на квалифицированных читателей: научных работников, преподавателей экономических дисциплин, -аспирантов.
Редакция литературы по экономике
23—68
1-7-2
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Марксистская политическая экономия возникла и развивалась в борьбе с буржуазной и мелкобуржуазной идеологией. Значение этой борьбы многократно возрастает в современную эпоху — эпоху перехода от капитализма к социализму, экономического соревнования двух систем и их острейшей идеологической борьбы.
Не случайно экономисты-марксисты уделяют большое внимание развертыванию научной критики современной буржуазной политической экономии. Достаточно упомянуть, что за последние годы состоялись три международные конференции марксистов, посвященные проблемам научной критики современных буржуазных экономических теорий: в Берлине (1960 г.),'Софии (1964 г.) и Братиславе (1966 г.). В СССР заметно расширился круг ученых, работающих в этой области.
Для того’ чтобы научная критика буржуазных экономических теорий шла широким фронтом и давала наибольшие результаты, советские экономисты должны изучать наиболее характерные явления в буржуазной экономической мысли.'С этой точки зрения представляет интерес перевод не только произведений крупных ее представителей, но и работ обзорного характера, в которых наиболее полно и в то же время компактно отражены основные тенденции развития буржуазной экономической науки. В 1959 г. на русском языке была издана книга французского экономиста Э. Жамса «История экономической мысли XX века». Написанная с позиций буржуазной историкоэкономической мысли, она тем не менее давала советскому читателю известное представление о главных тенденциях развития современной буржуазной политической экономии. В этом смысле ее перевод и издание вполне оправдали себя.
К книгам такого типа относится и предлагаемый советскому читателю капитальный труд американского экономиста Б. Селигмена «Основные течения современной экономической мысли». Книга эта отличается не только тем, что она охватывает период, не рассматриваемый в книге Э. Жамса, но и тем, что в ней более полно рассмотрены некоторые важные школы и направления в буржуазной политической экономии.
Селигмен — буржуазный ученый. Но он представляет либеральное, буржуазно-реформистское направление американской экономической мысли х. Хотя автор книги признает в преди-
1 Б. Селигмен на протяжении ряда лет был связан с американским профсоюзным движением. Проработав некоторое время в федеральных правительственных учреждениях (в министерстве труда, администрации цен и др.), он занял место экономического эксперта в профсоюзных организациях, в 1950-х годах служил в Объединенном профсоюзе рабочих автомобильной промышленности. Он занимался преподавательской деятельностью (в Бруклинском колледже) и издал ряд работ по экономическим вопросам, среди которых наибольшую известность получила книга «Стабильность цен и розничная торговля». Он является одним из авторов получившего известность «Манифеста «Тройственной революции». В настоящее время он профессор экономики Массачусетского университета. 5
словии, что он не свободен от некоторых идейных влияний, он не причисляет себя безоговорочно к какой-либо одной школе, а подчеркнуто стремится быть объективным и беспристрастным критиком всех рассматриваемых им направлений. Как и следовало ожидать, этого не получилось. Читатель-марксист, несомненно, сумеет отделить в книге полезную информацию и правильные наблюдения автора от буржуазной апологетики и неправильных оценок, которые в ней имеются в изобилии.
В буржуазной политической экономии за последние десятилетия получили отражение изменения в капиталистической экономике, особенно быстрый научно-технический прогресс, развитие государственно-монополистического капитализма и дальнейшее углубление противоречий капиталистического способа производства.
В экономической политике буржуазных государств все большее место занимают антициклические мероприятия, инвестиционные программы, стимулирование длительного экономического роста, преследующие цель смягчить противоречия капиталистической экономики и дать ей возможность выстоять в соревновании с социализмом. Такая политика правящего класса возлагает на буржуазную экономическую науку необходимость более серьезного изучения объективных процессов и связей капиталистической экономики, с тем чтобы найти реальные пути практического воздействия на ее развитие.
Это нашло отражение в соотношении двух функций современной буржуазной политической экономии — идеологической и практической. В настоящее время большинство буржуазных экономистов в той или иной мере выполняют задания государства и большого бизнеса, разрабатывая рекомендации по капиталистической рационализации производства, как в масштабах макроэкономики, так и на уровне отдельных концернов и предприятий.
Вместе с тем современная буржуазная политическая экономия ни в какой мере не утрачивает свой апологетический характер. В условиях монополистического капитализма, общего кризиса капитализма и развития новейших форм государственно-монополистического капитализма выдвигаются некоторые новые теоретические концепции, приспособленные к защите государственно-монополистического капитализма, к обоснованию практической деятельности империалистических государств и к задачам идеологической, политической и экономической борьбы против мировой социалистической системы, против марксизма.
Важнейшим среди изменений в буржуазной науке был ее отход от многих догм «неоклас6
сической» политической экономии с ее верой в автоматическое равновесие капиталистической экономической системы, в стихийный механизм использования производственных ресурсов и т. п. Обычно связываемое с именем Кейнса и появлением кейнсианства, это изменение в действительности шло на более широком фронте. Весьма интересен в этом смысле основательный анализ американского институционализма, который содержится в книге Б. Селигме- на. Признание и критика отдельных несовершенств и противоречий капитализма фактически не устраняют апологетики, ибо конечный вывод обычно состоит в возможности устранения этих противоречий в рамках капитализма, как правило, с помощью государства. Апологетика капитализма стала несравненно более тонкой и гибкой, она нередко опирается на тенденциозно подобранные факты и математический аппарат. Чтобы действенно бороться с такой апологетикой, необходимо самым детальным образом исследовать все направления современной буржуазной политической экономии, ее теоретические концепции и методологические приемы и уметь противопоставить ей не менее детальный и глубокий анализ экономических процессов, сущность которых она извращает изощренными методами. Вспомним, с какой глубиной и доскональностью знал и критиковал буржуазную политическую экономию своего времени Карл Маркс.
Важное значение имеет в настоящее время также изучение построений буржуазной политической экономии, отражающих ее практическую функцию. Буржуазные экономисты исследуют такие вопросы, как методы повышения эффективности производства, структурный анализ потребительского спроса, стимулирование длительного экономического роста. Значительный интерес представляет разрабатываемая в ряде стран техника долгосрочного прогнозирования развития хозяйства.
В книге Б. Селигмена в ряде глав определенное внимание уделяется как самим этим методам, так и технике исследования экономических процессов. Обширный материал, собранный в книге, позволяет проследить эволюцию основных функций современной буржуазной политической экономии, их связь, переплетение, а также противоречия между ними.
ческой стадии его развития. Вместе с тем достигло высокого уровня напряжение классовой борьбы в буржуазном обществе, наиболее ярким выражением которой явилась героическая Парижская коммуна 1871 г. Весь ход исторического развития показал, что пролетариат вырос в самостоятельную политическую силу и что классовая борьба между пролетариатом и буржуазией явится важнейшим содержанием всего предстоящего общественного развития.
Эти новые исторические условия, и особенно назревающие классовые конфликты, не могли не оказать решающего воздействия на эволюцию буржуазной политической экономии. Как известно, уже в 30-е годы XIX в. произошел глубокий перелом в ее развитии, выразившийся в разложении классической школы А. Смита и Д. Рикардо и переходе к вульгарной политической экономии, отказавшейся от объективных методов научного анализа, которые применялись классической школой, и целиком вставшей на позиции предвзятой апологетики. Известно также, что первой и господствующей в то время формой вульгарной экономии были построения эпигонов классической школы: Сэя. Мак-Кулоха и др. Они не отрицали, а вульгаризировали учение классиков, сохраняя таким образом видимость приверженности их взглядам. Это прежде всего относится к трудовой теории стоимости, которую они, по сути дела, заменили теорией факторов, а также к теории прибыли, которую они превратили в теорию вменения капиталу части совокупного продукта.
Но уже в скором времени обнаружилась несостоятельность и бесплодность политической экономии эпигонов. Ход развития капиталистической экономики в странах Западной Европы и Северной Америки опрокинул их теории о невозможности кризисов перепроизводства, о гармонии интересов буржуазии и пролетариата и т. п. Возникновение и быстрое распространение революционного учения К. Маркса и Ф. Энгельса, труды основоположников научного коммунизма, в которых были подвергнуты уничтожающей критике теоретические воззрения Сэя, Мак-Кулоха, Сениора, Бастиа, Мальтуса и др., окончательно подорвали позиции эпигонов классической школы. Именно поэтому в 70-е годы прошлого столетия, после выхода в свет основных экономических трудов К. Маркса —«К критике политической экономии» и первого тома «Капитала», буржуазная политическая экономия оказалась перед необходимостью найти новые формы и методы идеологической и теоретической защиты капитализма.
70-е годы XIX в. характеризуются переходом от вульгарной экономии эпигонов классической школы к этим новым формам вульгарной экономии, которые были представлены, с одной стороны, исторической школой и, с другой стороны,— субъективной психологической школой. Основные элементы этих новых направлений были сформулированы несколько раньше представителем «старой исторической школы» Роше- ром и автором «законов потребления» Госсе- ном, но ведущее место в буржуазной экономической мысли эти направления стали занимать в 70-е и последующие годы.
Этот процесс получил отражение в первой части книги Б. Селигмена — «Бунт против формализма». В этой части дается характеристика исторической школы и родственного ей институционализма, которые рассматриваются как реакция на «классическую» политическую экономию. Во второй части —«Восстановление традиции»— главное внимание уделяется формированию и развитию экономического маржи- нализма, который в буржуазной истории экономической мысли обычно именуется теорией предельной полезности и предельной производительности. Наконец, в третьей части книги содержится попытка привести в какую-то систему технические приемы исследования, применяемые в современной буржуазной политической экономии, причем связь с предыдущей эволюцией находит выражение в последней главе книги.
Характеризуя эволюцию буржуазной политической экономии, Б. Селигмен допускает по крайней мере три принципиальные ошибки, проистекающие из непонимания им социальных основ развития политической экономии и ее классовой природы.
Первый принципиальный порок анализа Б. Селигмена состоит в том, что он не видит существенных различий между представителями классической политической' экономии и эпигонами. Такое затушевывание различий между научной и вульгарной экономией позволяет ему в дальнейшем приписывать классикам некоторые взгляды эпигонов и современных экономистов. На деле же у современной буржуазной политической экономии неизмеримо больше общего с вульгарным методом эпигонов, нежели с действительно научным методом Смита и Рикардо.
Второй принципиальный порок модели эволюции буржуазной политической экономии, предложенной Б. Селигменом, состоит в том, что возникновение исторической школы и институционализма он сводит к «бунту против формализма», то есть против «классической» школы. Это верно лишь в том смысле, что 7
переход к «историко-генетическому» методу и маржинализму явился результатом несостоятельности защиты основ апологетики с помощью теории эпигонов. Но главное состояло не в этом «бунте против формализма», а в реакции буржуазной политической экономии на возникновение марксизма, на новое революционное учение, выражавшее историческую миссию пролетариата. «Историко-генетический метод» Г. Шмоллера стремился «опровергнуть» марксизм путем отрицания действия объективных законов в экономическом развитии общества и замены таким путем экономической теории описанием и систематизацией эмпирического материала. Такой метод борьбы с марксизмом очень скоро обнаружил свою несостоятельность. Начались поиски цельной и последовательной экономической теории, которую можно было бы противопоставить марксистскому учению и которая была бы основана на буржуазноапологетических принципах. Такой теорией и явилась субъективно-психологическая теория ценности, или теория предельной полезности, которую в разных формах разрабатывали Мен- гер, Визер и Бем-Баверк в Австрии, Джевонс и Маршалл в Англии, Дж. Б. Кларк в США, Вальрас и Парето в Швейцарии. Следует сказать, что Б. Селигмен отмечает направленность так называемого маржинализма против марксизма: «Карл Маркс придал классической доктрине такое направление, которое вызывало беспокойство. Казалось, что необходимо дать отпор этой тенденции, и маржиналистская доктрина, вероятно, преследовала указанную цель» (стр. 145). Нетрудно, однако, видеть, что Б. Селигмен рассматривает здесь Маркса лишь как одного из представителей «классической доктрины», придавшего ей «опасное направление». Эта тенденция затушевать принципиальное различие между революционным экономическим учением Маркса и теориями классиков буржуазной политической экономии сквозит во многих разделах книги Б. Селигмена. Объединяя эпигонов с классиками и затем присоединяя Маркса к «классической доктрине», он окончательно запутывает анализ направлений экономической науки. Исчезает главное — различие между научным и антинаучными направлениями в самой буржуазной политической экономии и, что еще важнее, коренная противоположность марксистской и буржуазной политической экономии.
С трактовкой маржинализма связан третий коренной порок модели Б. Селигмена. Он рассматривает маржинализм — теории предельной полезности и предельной производительности — как «восстановление традиции», то есть как возврат к основам классической школы. Конечно, нельзя не видеть того, что в отличие от исторической школы и институционализма, отклонивших метод теоретического исследования, маржинализм исходил из необходимости построения экономической теории, и в этом смысле можно говорить о «восстановлении традиции» теоретического подхода. Однако это слишком общее, а потому совершенно недостаточное положение. Речь должна идти о содержании экономических теорий. В этом отношении маржинализм в принципе разошелся с классической школой, ибо его основой является субъективная теория ценности, прямо противоположная трудовой теории стоимости А. Смита и Д. Рикардо. Никакого восстановления действительно научных традиций классической школы здесь нет. В какой-то степени «восстановлены» традиции вульгарных эпигонов классической школы: их отход от трудовой теории стоимости, от исследования внутренних закономерностей экономических процессов, — традиции, господствовавшие в буржуазной политической экономии после 30-х годов прошлого столетия. Таким образом, подкрепить маржинализм авторитетом классической школы не удается, как и остаются неправомерными часто встречающиеся в последнее время попытки приписать Рикардо чуть ли не роль основоположника так называемого маржинализма.
В соответствии с указанной выше моделью эволюции экономической мысли книга Б. Селигмена открывается описанием так называемой «новой» исторической школы в политической экономии. Он отмечает, что, выступая против формализма, против абстрактных теоретических построений классической буржуазной политической экономии, представители исторической школы выдвигали в центр внимания анализ всей совокупности конкретных фактов хозяйственного развития. Это требование диктовалось прежде всего политическими и практическими задачами, вставшими в те годы перед немецкими буржуазными экономистами: они стремились разработать основы хозяйственной политики быстро усиливавшегося буржуазноюнкерского государства.
Предложенный Г. Шмоллером, М. Вебером и другими немецкими экономистами «исторический метод», по существу, был направлен на отказ от теоретического анализа объективных экономических закономерностей и его замену нанизыванием бесконечного множества разрозненных исторических фактов. Ф. Энгельс в письме к Даниельсону проиллюстрировал антинаучность исторического метода на примере Л. Брентано: «Чтобы показать Вам, до каких глубин деградации пала экономическая наука, Луйо Брентано опубликовал лекцию 8
«Классическая политическая экономия» (Лейпциг, 1888), в которой он провозглашает: общая, или теоретическая, политическая экономия ничего не стоит; вся сила лежит в специальной, или практической, политической экономии. Как и в естествознании (!), мы должны ограничиваться описанием фактов; такие описания бесконечно выше и ценнее, чем все априорные выводы. «Как в естествознании!». Это неподражаемо\ И это в век Дарвина, Майера, Джоуля и Клаузиуса, в век эволюции и превращения энергии!» 1
Б. Селигмен дает довольно трезвую оценку исторической школы (хотя явно переоценивает при этом роль отдельных ее представителей, например М. Вебера). Особенно показательны его суждения, характеризующие эволюцию этого направления. Так, проследив постепенное изменение взглядов Зомбарта, Б. Селигмен отмечает, что после первой мировой войны он стал активно проповедовать самые реакционные, националистические догмы, которые легли в основу фашистской идеологии. «Мифология, содержащаяся в последней его (Зомбарта.— Ред.) книге, в сочетании с разрушительной силой «третьего рейха»,—пишет Селигмен,— принесла такие плоды, как крематории Треблинки и Майданека» (стр. 36).
Внимательный читатель заметит в книге Б. Селигмена следующее существенное отличие от книги Э. Жамса: первый уделяет большое внимание американскому (и английскому в лице Дж. Гобсона) институционализму, тогда как второй почти проходит мимо этого направления. Это не случайно. Б. Селигмен с симпатией относится к этому критическому направлению в буржуазной политической экономии и сам примыкает к нему. Объемистая глава книги Б. Селигмена названа «Институционализм и дух несогласия». Имеется в виду несогласие с традиционными течениями в буржуазной политической экономии, представители которых закрывают глаза на ее противоречия, укрываются от этих противоречий в рассмотрении узких проблем и т. д.
В центре указанной главы находится основательный и сочувственный анализ взглядов двух ученых — Торстена Веблена и Джона Гобсона, основоположников и крупнейших представителей либерально-буржуазной критики монополий и империализма соответственно в США и Англии. Влияние Веблена на автора книги ощущается и в других главах. Это предопределило довольно критический подход Б. Селигмена ко многим консервативным концепциям буржуазной политической экономии.
Как известно, В. И. Ленин признавал определенные заслуги либеральных ученых — представителей буржуазно-реформистского направления, вскрывавших некоторые противоречия капитализма. Он писал, в частности, что Гобсон «дал очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма» х.
В американской социологии и политической экономии имеется сильная буржуазно-реформистская традиция. Уже после Веблена она получила новый толчок в период мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. и в последующие годы, когда жизнь поставила вопрос об «общественном контроле» над экономикой, и прежде всего над крупными монополиями. Б. Селигмен в общем положительно относится к идеям экономистов, обосновавших известные реформы периода «нового курса», и к самим этим реформам. Ко многим вопросам он подходит с позиций, характерных для профсоюзных экономистов. При всем буржуазнодемократическом характере этих позиций они гораздо более радикальны, чем позиции большинства буржуазных экономистов. В связи с этим интересна и трактовка работ экономистов, разрабатывавших теорию рабочего движения и практически мало известных советскому читателю (Эйрс, Хокси, Перлмен).
Б. Селигмен, конечно, далек от понимания необходимости анализа социальных корней того направления, которое он столь подробно излагает и к которому сам в известной мере принадлежит. Либеральной интеллигенции, к которой он принадлежит, всегда кажется, что она стоит над классами и выступает за интересы общества. Но в целом позиция Б. Селигмена отражает идеологию немонополистических слоев буржуазии, а также тех представителей рабочего движения, которые считают возможным решение коренных проблем в рамках капиталистического строя.
Некоторые критические замечания Б. Селигмена направлены в адрес видных современных американских экономистов. В общем положительно относясь к Дж. Гэлбрейту с его либерализмом и критикой недостатков американского капитализма, автор вместе с тем довольна резко высказывается о его концепции благотворности так называемой олигополии. Так, он пишет: «Олигополии часто оттягивают сдачу на слом морально устаревшего, но еще годного к эксплуатации оборудования. Нередко они сдерживают внедрение технических новшеств 1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37,
стр. 92—93.
1 В. И. Л енин, Поли. собр. соч., т. 27, стр. 309-
9
или используют их для защиты ранее захваченных позиций. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из развития разных отраслей... Более того, кажущийся приоритет олигополий в техническом прогрессе в большой мере связан с выполнением военных заказов правительства» (стр. 139).
Критически относится он к эволюции Г. Минза, который был в 1930-х годах одним из крупных представителей антимонополистического направления в американской экономической науке; в 60-х годах вместе с А. Берли (последнего Б. Селигмен вообще не считает заслуживающим внимания экономистом) он стал утверждать, что крупные корпорации становятся на службу обществу. Б. Селигмен замечает по поводу этой концепции: «Но утверждение, что все хорошо постольку, поскольку корпорация, как кажется, теперь обретает «душу», едва ли дает ответ на принципиальные вопросы» (стр. 136).
Как уже отмечалось, от внимания Б. Селигмена не ускользнула направленность маржи- налистских концепций, разбору которых посвящены последующие главы книги. Он признает также, что представители субъективной школы политической экономии отказались от анализа глубинных процессов, протекающих в капиталистическом хозяйстве, и сосредоточили основное внимание на некоторых внешних аспектах рыночного механизма, отражающих в основном соотношение между спросом и предложением. Б. Селигмен правильно отмечает методологические слабости этой концепции: индивидуалистический подход, решающую роль субъективно-психологических факторов, подмену экономических отношений между людьми отношениями между человеком и вещами и др.; однако он, по существу, уклоняется от серьезного анализа работ основных представителей этого направления, ограничиваясь отдельными, нередко довольно поверхностными замечаниями. Он игнорирует тот факт, что «абстрагирование» от производства и выхолащивание социально-экономического содержания рыночных категорий придавало теоретическим построениям австрийской школы не только черты надуманной, формалистической модели, но и сугубо апологетический характер. Основным выводом, следовавшим из этой теории, был вывод о том, что при обеспечении условий для «совершенной» конкуренции действие рыночного механизма неизбежно приводит к полному удовлетворению насущных потребностей всех членов общества и к самому эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов. Сама практика капиталистического хозяйствования, неотделимого от разрушительных экономических кризисов перепроизводства, от громадного расточительства и роскоши на одном полюсе общества и нужды и лишений — на другом, может служить наиболее убедительным свидетельством безосновательности подобных апологетических построений.
Переход от свободной конкуренции к господству монополий и последующее развитие государственно-монополистического капитализма потребовали конкретного исследования рыночных условий, влияющих на размеры продаж и уровень товарных цен. Вместе с тем с развитием капитализма выявлялась вся примитивность прежних субъективистских концепций. Принципы теории предельной полезности и предельной производительности стали предметом длительной дискуссии, в ходе которой была обнаружена ошибочность ряда важнейших предпосылок маржиналистской теории. Однако в силу того, что большинство сторонников этой теории по-прежнему «абстрагируются» от реальных противоречий буржуазной экономики, результаты их исследований оказываются далекими от действительности. Эти экономисты опираются в основном на методы формальной логики, поэтому они предлагают лишь самые общие выводы, лишенные исторической определенности. Характерно, что условия хозяйственного «равновесия», разработанные в последние десятилетия на основе анализа макроэкономических моделей, фактически исходят из условий планомерно развивающегося народного хозяйства. Эти предпосылки находятся в явном противоречии с реальной обстановкой капиталистической экономики, где закон стоимости «прокладывает себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов частных работ лишь насильственно в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тяготения, когда на голову обрушивается дом» х.
Макроэкономические модели (на появление которых, как известно, оказала влияние практика народнохозяйственного планирования в СССР), исходящие из предпосылки планомерно развивающегося хозяйства, в большинстве своем представляют для условий капитализма лишь абстракцию. Практическое применение их весьма ограниченно. Но они, несомненно, представляют известный интерес для социалистической экономики, в которой обеспечены все возможности планомерного развития не только в рамках отдельных предприятий, но и в масштабах всего народного хозяйства.
Вместе с тем некоторые черты «маржинального анализа», столь подробно описываемого 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 85.
10
в книге Селигмена, и прежде всего анализ взаимосвязей между предельными приращениями экономических величин, безусловно, относятся к числу важных математических методов исследования в экономике.
Б. Селигмен, как и другие буржуазные авторы, допускает путаницу при определении маржинализма, а именно смешение математического метода с определенной экономической доктриной. А это совершенно недопустимо, ибо служит целям оправдания этой доктрины, ошибочной и порочной в своей основе. То обстоятельство, что субъективная теория ценности выводит категорию предельной полезности и вменяет факторам производства некие «предельные продукты», вовсе не должно означать, что предельный анализ экономических процессов предполагает именно эти буржуазноапологетические концепции. Предельный анализ вполне возможен и часто необходим на основе трудовой теории стоимости. Достаточно вспомнить примеры из «Капитала» Маркса: определение границ общественно необходимых затрат труда, теорию дифференциальной ренты и др.
В этой связи обращает на себя внимание следующий момент. В разных разделах книги, в частности в разделах, посвященных маржинализму, Б. Селигмен возвращается к так называемому «немарксистскому социализму»— одному из характерных явлений в буржуазной политической экономии. Известно, что в настоящее время буржуазные экономисты не просто выступают с прямой критикой социалистической системы хозяйства; некоторые авторы пытаются сконструировать буржуазные теории социализма, которые представляют собой более утонченную форму идеологической борьбы против социализма. Основой этих буржуазных теорий, как показывают работы Й. Шумпетера, Р. Кэмпбелла, А. Лернера и др., является теория предельной полезности и концепция маржинализма вообще.
Эти теоретики утверждают, что трудовая теория стоимости интересуется только затратами труда на производство товаров и не способна увязать эти затраты с потребностями общества и соответствующим данным потребностям рациональным использованием ресурсов. Поэтому они считают, что трудовая теория стоимости не отвечает требованиям оптимального планирования народного хозяйства, которое может быть якобы достигнуто лишь на основе теории предельной полезности и предельной производительности. В отождествлении буржуазной концепции экономического маржинализма с теорией экономического оптимума и состоит основной элемент указанной буржуазной теории социализма.
Вся эта система взглядов ложна в своей основе, так как она прежде всего исходит из искаженного представления о существе марксистской теории стоимости. В действительности именно эта теория раскрывает реальную внутреннюю связь между затратами общественного труда, его распределением и потребностями общества. Характеризуя более развитое выражение закона стоимости, Маркс писал: «Общественная потребность, то есть потребительная стоимость в общественном масштабе,— вот что определяет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая приходится на различные особые сферы производства» 1. Общественная потребность и общественная потребительная стоимость занимают чрезвычайно важное место во всей системе экономического учения марксизма, и вполне естественно, что роль этих категорий еще более возрастает в политической экономии социализма.
Как известно, в социалистической экономике, поскольку в ней существуют товарно- денежные отношения нового типа, действует закон стоимости. Но действует он в условиях, когда решающая роль в развитии народного хозяйства принадлежит основному экономическому закону социализма и экономическому закону планомерного развития народного хозяйства. Совместное действие этой системы экономических законов, включающей в себя и закон стоимости, создает условия для достижения экономического оптимума между затратами и постоянно растущими потребностями социалистического общества. Такой оптимум не может быть достигнут на основе теории предельной полезности, ибо она имеет дело только с субъективными оценками благ и не содержит в себе объективных критериев для сопоставления затрат общественного труда с реальными потребностями общества. Поэтому данная теория не может выполнить какой-либо полезной роли в создании научной теории социалистической экономики и методологии планирования народного хозяйства. Только трудовая концепция общественного хозяйства, в том числе и трудовая теория стоимости, и соответствующая ей теория социалистического воспроизводства, рассматривающие внутреннюю закономерную связь между затратами общественного труда и потребностями общества, между общественной стоимостью продукции и ее общественной полезностью, дают настоящую основу для определения экономического оптимума.
В этой связи приобретают также значение и предельные величины в экономическом ана1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25,
ч. II, стр. 185-186.
11
лизе. Марксистско-ленинская экономическая наука критикует теории предельной полезности и предельной производительности не за то, что они оперируют предельными категориями, а за то, что они трактуют эти категории в духе субъективной ценности, противопоставляемой трудовой стоимости, а также в духе вменения факторам производства неких «предельных продуктов». Решительно отклоняя эти вульгарные буржуазно-апологетические концепции, марксистско-ленинская политическая экономия признает необходимость наряду со средними и совокупными величинами, которым принадлежит главная роль в анализе таких сложных процессов, как экономические, применять также и предельные величины, особенно там, где речь идет о нахождении конкретных количественных границ оптимального использования ресурсов. Как неправильно оправдывать буржуазные теории предельной полезности и предельной производительности тем, что в них применяют математические методы, так и неверно полагать, что применение последних должно привести к признанию указанных буржуазных концепций, выступающих в виде так называемой теории экономического маржинализма.
Современная буржуазная апологетика находит особенно яркое выражение в работах тех буржуазных экономистов, которые пытаются последовательно защищать принципы субъективной школы, в частности в произведениях Л. Мизеса, Ф. Хайека и их последователей. Это вынужден признать и Б. Селигмен. Так, в разделе, посвященном описанию концепции Ф. Хайека, автор отмечает тот «очевидный факт, что данная доктрина превратилась в средство идеологического обоснования и хитроумного оправдания неограниченной экономической мощи, находящейся в распоряжении отдельных лиц» (стр. 229). Однако научная значимость подобных высказываний в значительной мере обесценивается в силу того обстоятельства, что здесь (как, впрочем, и на протяжении всей книги) автор тщательно избегает ясной характеристики классовых позиций сторонников описываемой теории и ограничивается самыми общими, расплывчатыми формулировками.
Весьма неполно и фрагментарно представлено в книге другое важнейшее направление современной буржуазной экономической теории — так называемый неолиберализм. Более или менее подробную характеристику получила лишь так называемая чикагская школа американской политической экономии. Представители неолиберализма стремятся ограничить масштабы государственного регулирования, сводя его к поддержанию условий нормального функционирования рыночного механизма. По их мнению, основная причина неустойчивости капиталистического хозяйства заключается в активной экономической политике правительства, и прежде всего в кредитно-денежной политике.
Ограничиваясь поверхностной критикой неолибералов, Б. Селигмен не вскрывает крайне реакционного характера их концепций. Представители неолиберализма, как правило, направляют свой основной удар против программы социально-культурных мероприятий, осуществляемых государством под давлением трудящихся, и в частности против законов, гарантирующих минимальный уровень заработной платы, против системы социального страхования, бюджетных ассигнований на просвещение, медицинское обслуживание и т. д.
В книге неоднократно отмечается «академичность» представителей этого направления, выступающих в роли жрецов «чистой науки». Между тем у значительной части неолибералов легко обнаружить связь экономической теории с идеологией и политикой, причем с политикой совершенно определенного толка: характерно, что программа неонацистских сил в ФРГ во многом опирается на теоретические работы наиболее реакционных представителей западногерманского неолиберализма, а Голдуотер, лидер «ультра» в США, заимствовал ряд аргументов из арсенала чикагской школы.
Обширная глава книги посвящена «традиционным» течениям в английской политической экономии, преимущественно кембриджской школе, связанной с именем Альфреда Маршалла. Отношение Б. Селигмена к самому Маршаллу двойственное. С одной стороны, его привлекает эклектизм Маршалла, для которого было характерно стремление соединить элементы рикардианской традиции (препарированной в апологетическом духе эпигонами классической школы) с «новыми» веяниями субъективной школы. Б. Селигмен правильно объясняет живучесть влияния Маршалла его эклектизмом и традиционализмом. С другой стороны, как он пишет, теперь система Маршалла кажется довольно архаичной, в частности, потому, что она игнорировала проблемы монополии. Однако в целом критика Маршалла у Б. Селигмена неглубока и формальна.
Работы таких последователей и продолжателей Маршалла, как Робертсон и Хоутри, интересны главным образом в двух отношениях: они одновременно с Кейнсом и отчасти иначе, чем он, разрабатывали современную буржуазную теорию циклов и кризисов, им в значительной мере принадлежит разработка методов современной кредитно-денежной политики, игра12
ющей столь важную роль в арсенале средств антициклического регулирования.
В итоговой оценке работы Робертсона, которую дает Б. Селигмен, очень ясно проявляется его пристрастие к ученым, не занимающим «крайних» позиций, осуществляющим «синтез» концепций. «Блестящая аналитическая схема, вдохновленная Маршаллом, Викселлем и автрийцами, представляет собой, в сущности, сплав, так как Робертсон и есть настоящий эклектик. Но, может быть, в этом и заключался для него единственно возможный путь приближения к экономической реальности, ибо он знает лучше многих, как она поистине сложна и разнообразна» (стр. 335).
Глава заключается этюдами о двух современных экономистах — Роббинсе и Шэкле, чистый психологизм и формализм которых, в сущности, не укладываются в рамки «классической» традиции, даже если увязывать ее не с Рикардо, а с Дж. Ст. Миллем и Маршаллом. Это не укрывается от Б. Селигмена, и он подвергает довольно резкой критике этих экономистов. Автор, несомненно, прав, когда пишет о Роббинсе: «Ограниченность благ — эта всеобщая характеристика человеческого существования— превращает экономику в науку об отношениях между людьми и вещами. К сожалению, сторонники этой точки зрения игнорируют важную область отношений между самими людьми, чем, может быть, и объясняется отсутствие гибкости в их позиции» (стр. 342).
Однако порок критики, которую дает Б. Селигмен здесь, как и в других случаях, заключается в том, что сам он не имеет твердой теоретической позиции. Отмечая слабые места отдельных концепций, он очень редко пытается вскрыть основы их апологетической сущности.
Поскольку расхождения между различными направлениями современной буржуазной политической экономии относительно задач и методов государственного регулирования экономики непосредственно затрагивают проблемы денежного обращения, в книге Селигмена этим вопросам уделяется немало внимания. Так, он возвращается к теории денег и денежного обращения в разделах о шведской экономической школе (К. Викселль), об Ирвинге Фишере, о Дж. М. Кейнсе, М. Фридмане и др. Это ведет к тому, что вопросы теории денег освещены крайне отрывочно и неполно. Тем не менее читатель получает некоторое общее представление об ее эволюции на протяжении более полувека.
Главное внимание в книге уделено количественной теории денег, основной постулат которой, как известно, гласит, что высота товарных цен определяется исключительно массой средств обращения, причем изменение последней ведет к пропорциональному изменению уровня цен. Маркс критиковал приверженцев количественной теории в лице Юма, Локка, Монтескье. Он указывал на нелепость гипотезы, согласно которой «товары вступают в процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в этом процессе известная часть товарной мешанины обменивается на соответственную часть металлической груды» х.
В разделе, посвященном И. Фишеру, Б. Селигмен правильно указывает на механистическое толкование им проблем денежного обращения в работе «Покупательная сила денег». Однако основную ошибку Фишера он видит только в игнорировании вопросов экономической стабильности и проблем цикла, а не в том, что Фишер подходил к деньгам с номиналистических позиций, отрицая наличие у денег внутренней стоимости, не зависящей от числа денежных единиц. Теоретические выкладки Фишера послужили базой для разработки ряда реформ в области денежного обращения (концепция «компенсированного доллара», идея «100%-ных денег» и т. п.). Селигмен весьма скептически относится к этим проектам. Так, по поводу «100%-ных денег» он говорит, что «осуществление этого плана вызвало бы слишком серьезные нарушения в сфере деловых связей, чтобы сделать его приемлемым» (стр. 436).
Виднейший представитель шведской экономической школы Кнут Викселль также отдал дань количественной теории денег. Он занялся денежными проблемами, когда количественная теория переживала кризис, и попытался вдохнуть в нее новую жизнь, наметив линию связи между нормой процента и уровнем цен.
Эта идея впоследствии интенсивно использовалась многими экономистами и, в частности, нашла отражение в теоретических построениях Кейнса. Селигмен высоко оценивает заслуги Викселля в развитии денежной теории. Однако идея введения процента в теорию денег базируется на смешении денег с ссудным капиталом — категорией, которую часто игнорируют буржуазные экономисты. Это смешение можно наблюдать в «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса, где уровень процента связывается непосредственно с обилием или нехваткой массы платежных средств.
Дискредитация идей количественной теории нашла отражение в эволюции позиций Кейнса. Так, начав свою научную карьеру как приверженец количественной теории, Кейнс впоследствии подверг критике фишеровское уравнение 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23,
стр. 134.
13
обмена, допуская применимость постулатов количественной теории лишь для условий полной занятости.
Попытку возродить былую славу количественной теории денег предпринял в послевоенные годы американский экономист Милтон Фридман. Но его концепция приводит к идее автоматического нагнетания денежной массы заранее обусловленным темпом. Б. Селигмен в разделе о Фридмане указывает на опасность претворения в жизнь такого рецепта при различных конъюнктурных ситуациях.
Содержание книги Б. Селигмена наглядно отражает происшедшее в последние годы изменение в оценках ряда работ буржуазных экономистов. Читатель помнит, что в книге Э. Жамса развитие экономической теории XX в. подразделялось на два этапа: первый этап — до выхода в свет книги Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» и второй — от этого события до 50-х годов XX в. Такая периодизация явно отражала типичное для западной литературы конца 40-х и начала 50-х годов непомерное превознесение роли, которую сыграла эта работа Кейнса.
В новых экономических условиях широкое распространение среди буржуазных экономистов получают более сдержанные оценки учения Кейнса. И Б. Селигмен в своей книге впадает в крайность другого рода: он даже не выделяет особо экономистов кейнсианского направления, а изложению концепции самого Кейнса отводит сравнительно небольшой раздел, помещая его на одно из последних мест в заключительной главе (после описания взглядов некоторых его сторонников и последователей).
Возникновение и распространение кейнсианства в 30—40-х годах XX в. было непосредственно связано с развитием государственно- монополистического капитализма под влиянием экономического кризиса 1929—1933 гг. и второй мировой войны. Кейнсианская теория была призвана посеять иллюзии относительно возможностей преодоления антагонистических противоречий и конфликтов в рамках капиталистического способа производства.
Но кейнсианство знаменовало собой определенный этап в эволюции буржуазной апологетики. В обстановке серьезных экономических и политических потрясений отчетливо проявился крах прежних примитивных концепций «гармонического развития». Одной из важнейших отличительных черт кейнсианства явилось признание того, что капиталистическая экономика не может автоматически обеспечивать наиболее полное и рациональное использование ресурсов. Кейнс должен был признать нереали- стичность буржуазных концепций, доказывавших вслед за тем невозможность общего перепроизводства. Однако, признавая наличие ряда противоречий в капиталистической экономике, сторонники кейнсианского учения всячески пытаются внушить веру во всемогущество экономической политики буржуазного государства. Вместе с тем в условиях усиливавшегося государственно-монополистического регулирования все большую роль приобретало теоретическое изучение методов экономической политики и ее реальных результатов.
На первый план кейнсианство выдвинуло проблему регулирования эффективного спроса. Один из наиболее известных последователей Кейнса — Э. Хансен, которого Б. Селигмен называет «американским Кейнсом», предложил стабилизировать эффективный спрос прежде всего за счет государственного бюджета. Стра- тегическим направлением экономической политики государства должно стать не только поддержание инвестиционной деятельности капиталистов, но и расширение правительственных капиталовложений и других государственных расходов.
Однако применение кейнсианских рецептов на практике принесло значительно меньшие результаты, чем те, которые были разрекламированы в ряде теоретических работ. Особенно уязвимым оказалось положение о благотворных экономических последствиях повышения цен, пропагандировавшееся многими представителями кейнсианства. Резкий рост военных расходов и расширение дефицитного финансирования, столь соответствовавшие кейнсианским предписаниям, действительно ускорили инфляционный рост цен, а это вызвало обесценение реальных доходов большинства населения. Явно несостоятельным оказалось предположение Кейнса о том, что снижение реальной заработной платы путем повышения цен явится средством ослабить классовую борьбу. В современных условиях уже невозможно игнорировать движение широких масс против роста дороговизны, которое в последние десятилетия стало внушительной общественной силой. Это нашло отражение в книге Б. Селигмена: оценивая практические результаты осуществления кейнсианских программ, он саркастически замечает, что Кейнс мог бы быть менее поспешным в своих предположениях, будто неуклонный рост цен обеспечит наступление «золотого века» (стр. 505).
В итоге своего анализа Б. Селигмен признает ограниченность и в конечном счете малую эффективность теории и методологии Кейнса. Он пишет о них, что это «была обманчивая простота схемы, в которой рассуждениями о «встроенных стабилизаторах», способных осво14
бодить всех от ответственности, подменяется необходимость понять и охватить сложные и нередко бурные явления экономической жизни. Дело попросту в том, что экономическая теория Кейнса не сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Как указывалось выше, она включает в себя слишком много технических, «инженерных» элементов и не исследует стоящие за ними социальные причины экономических трений. Вся система настолько «нейтральна», что может служить удобным теоретическим оправданием (в особенности в отношении общественного контроля над инвестициями) тоталитарной политики, имеющей целью сохранить статус-кво с помощью государственных мероприятий» (стр. 505).
Несмотря на наличие ряда метких замечаний, разделы книги Б. Селигмена, в которых рассматриваются основные положения кейнсианства и теории экономического роста, все же являются, пожалуй, самыми слабыми. И это, конечно, не случайно, потому что научный анализ этих направлений потребовал бы ответа на самые острые проблемы современности. Б. Селигмен не сумел выявить ни исторических корней этих новых направлений буржуазной политической экономии, ни тех социальных функций, которые они выполняют в условиях общего кризиса капитализма, развития государственно-монополистического капитализма и соревнования двух систем. В частности, Б. Селигмен прошел мимо одной из важных задач, которой было подчинено распространение кейнсианства,— апологии государственно-монополистического регулирования экономики.
Сравнительно небольшой параграф, посвященный «некоторым теориям экономического роста», может быть полезен больше всего в качестве справочно-информационного материала о положениях, высказанных отдельными авторами: Харродом, Домаром, Дж. Робинсон, Лернером и др. Однако серьезного анализа этих положений, не говоря уже об их критике, читатель здесь не найдет. Более того, автор допускает неправильную методологическую трактовку места теории экономического роста, причисляя всех ее представителей к неокейнсианству. Но как известно, наряду с нео- кейнсианскими теориями экономического роста (Харрод, Домар, Лернер и др.) существует и в последнее время приобрела значительное влияние неоклассическая теория экономического роста (Мид, Калдор, Абрамович и др.). Расхождения между этими двумя направлениями отражают как противоречия развития капитализма, так и кризисное состояние, в котором находится современная буржуазная политическая экономия.
В основном информационный характер носит также параграф, в котором изложены применения теории игр и линейного программирования. Рассуждения Б. Селигмена о связи теории игр с функцией полезности и о том, что эта теория обогатила систему экономических понятий, не могут быть признаны убедительными. Значение линейного программирования он рассматривает главным образом под углом зрения реабилитации теории экономического равновесия и приходит к выводу, что «при тщательном рассмотрении в линейном программировании трудно найти что-либо принципиально новое» (стр. 530).
Каковы же, по мнению Б. Селигмена, наиболее общие итоги развития буржуазной экономической теории на протяжении последнего столетия? В книге можно встретить немало пессимистических высказываний по этому поводу. Он неоднократно констатирует, что наиболее известные теоретические построения по-прежнему остаются далекими от современной действительности. Он сочувственно цитирует высказывание американского экономиста С. Шефле- ра: в настоящее время дела обстоят таким образом, что экономика (economics) не является наукой, пока она остается экономикой, а когда становится наукой,— перестает быть экономикой (стр. 534).
Но Б. Селигмен далек от понимания подлинных причин несостоятельности буржуазной экономической теории, от понимания того, что защита интересов исторически обреченного класса придает современной буржуазной политической экономии антинаучный характер. Апологетическая функция, внутренне присущая буржуазной политической экономии, препятствует подлинно реалистическому и плодотворному анализу острых социально-экономических проблем, стоящих сейчас перед человечеством.
В ряде случаев Б. Селигмен вынужден признать тенденциозный характер теоретических построений отдельных буржуазных экономистов. Однако при этом он тщательно уклоняется от каких-либо обобщений. В его книге не видна та реакционная роль, которую играют современные буржуазные экономические теории в условиях соревнования двух систем. Обходится молчанием использование ряда перечисленных в книге концепций в качестве идеологического оружия, направленного против сил мира и исторического прогресса. Однако и в труде Б. Селигмена можно отчетливо видеть, насколько сильно расслоение среди буржуазных экономистов. На одном полюсе буржуазной экономической теории находятся такие воинствующие реакционеры, как Хайек и Найт, на другом полюсе — ученые, которые хотят осмыслить 15
огромные перемены, происшедшие в мире, и осознают безнадежность попыток реставрировать то, что осуждено историей. Это является своеобразным отражением процесса размежевания в лагере буржуазии между оголтелыми сторонниками империалистической экспансии и теми ее благоразумными представителями, которые признают необходимость мирного сосуществования двух систем. Книга Б. Селигмена лишний раз подтверждает важность дифференцированного подхода к буржуазным экономистам.
Во многих случаях Б. Селигмен стремится уйти от критического анализа рассматриваемых теоретических концепций. Однако даже там, где присутствуют критические комментарии автора книги, они никак не раскрывают подлинного классового содержания анализируемых положений.
Ошибочная методология исследования неизбежно повлекла за собой серьезные искажения в периодизации основных этапов развития политической экономии и классификации ее ведущих направлений. Ряд направлений буржуазной экономической науки в книге охарактеризован весьма туманно. Так, большая часть американских экономистов нашего века отнесена к направлению, именуемому «американской дихотомией». Значительное число английских экономистов различных направлений объединено с помощью термина «традиционное течение». Столь же произвольны некоторые выделяемые в книге школы, например «экономический абстракционизм» Ф. Найта и т. п. Научная классификация основных направлений экономической теории должна быть неразрывно связана с реальными процессами, характеризующими развитие современной капиталистической экономики и присущих ей противоречий.
В этой связи следует также сказать об уровне теоретических обобщений. Работа Б. Селигмена распадается на ряд этюдов об отдельных экономистах, в ней редко можно встретить попытку проследить преемственность основных направлений современной экономической теории на протяжении более или менее длительного исторического периода. Серьезный научный анализ общих тенденций в развитии буржуазной политической экономии автор часто подменяет пересказом содержания основных работ ряда западных экономистов. Многие разделы книги напоминают не теоретический труд, а своего рода хрестоматию, содержащую тщательно подобранные выдержки из работ наиболее известных экономистов. Нельзя, однако, не отметить, что собранный в ней чрезвычайно обширный «первичный» материал представляет немалую ценность и является результатом большого и кропотливого труда.
Очевидно, что отмеченные пороки книги отражают не только особенности авторского стиля. Причина этих пороков лежит в сфере идейных воззрений Б. Селигмена. На этих идейных воззрениях лежит явный отпечаток неопозитивизма. Особенно отчетливо видна порочность идейных позиций автора при оценке им значения марксистско-ленинского этапа в развитии политической экономии. Ему посвящена специальная глава книги Б. Селигмена. Но поскольку при изложении сущности марксистского учения автор исходит из тривиальных, ненаучных представлений буржуазных экономистов, эта глава не представляет интереса для советского читателя и в настоящем переводе опущена.
Признавая заслуги Маркса в формулировке материалистических законов общественного развития, Б. Селигмен вместе с тем сбивается на возражения против исторического материализма, что делает всю его позицию неясной и половинчатой. Отказавшись признать научную правоту исторического материализма, Б. Селигмен тем самым закрыл себе путь к подлинно научной классификации и анализу различных «школ» и направлений экономической теории.
В открытой либо завуалированной форме полемика с Марксом ведется во всех главах книги Б. Селигмена и при рассмотрении им всех экономических течений. Это весьма характерно для современного буржуазного историка экономической мысли. Известно, что в течение длительного времени буржуазные экономисты и социологи делали попытки отбросить марксизм, «преодолеть» его, многие пытались создать вокруг него «заговор молчания», но марксизм снова и снова доказывал свою жизненную силу. В настоящее время, после более чем столетнего исторического опыта, подтверждающего правоту марксистского учения, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, победы социализма в СССР, создания мировой социалистической системы, уже невозможно ни «отбросить» марксизм, ни замолчать его.
Во всем мире наблюдается бурное возрастание интереса к марксизму у представителей всех идеологических направлений в общественных науках: у одних — с целью предпринять новые попытки «опровергнуть» марксизм, у других — с целью исказить его, затушевать его революционное содержание. Вместе с тем увеличивается и число сторонников марксизма. Преподавание марксизма, введенное в высших учебных заведениях капиталистических стран, чтобы повысить «квалификацию» специалистов по антикоммунизму, во многих случаях приводит 16
к обратным результатам. Все большее число представителей научной интеллигенции проникается пониманием логики марксизма и проявляет готовность отстаивать его высокие и благородные цели.
При этом некоторые буржуазные идеологи вынуждены отказаться от скомпрометировавших себя попыток целиком отбросить марксизм, объявить его попросту «ненаучным». Вместо этого они пытаются рассмотреть марксизм как некую систему воззрений в области философии, экономики и политики, сыгравшую в свое время определенную роль в развитии общественной науки, в частности политической экономии, но в настоящее время «преодоленную» «новыми» теориями, а поэтому представляющую в основном чисто исторический и методический интерес. Именно с таких позиций, согласно которым «марксизм устарел», трактует марксизм Б. Селигмен. Он с готовностью признает значение Маркса для своего времени. Более того, характеризуя Маркса как мыслителя и революционера, как создателя единого мировоззрения, Б. Селигмен соглашается, что Маркс был на голову выше наиболее выдающихся мыслителей своего времени и во многих отношениях опередил свой век.
Такую высокую оценку Маркса и его значения как ученого не часто встретишь в работе буржуазного автора. Этот факт по-своему знаменателен как свидетельство распространения и утверждения идей марксизма, как результат победы марксистской идеологии. Однако Б. Селигмен рассматривает марксизм как нечто застывшее, не понимая его природы как творческого, революционного, постоянно развивающегося учения. Он подчеркивает лишь роль В. И. Ленина как политика. Но Б. Селигмен совершенно не понимает вклада В. И. Ленина в развитие марксизма, он игнорирует разработанную В. И. Лениным теорию социалистической революции в условиях империализма и общего кризиса капитализма, теорию, которая получила глубокое обоснование в его экономических исследованиях. Вне поля зрения осталось творческое развитие марксистско-ленинской экономической теории в наши дни.
Изучение Маркса, возрождение интереса к нему буржуазной науки в значительной мере связано с осуществлением нового идеологического наступления на марксизм, нового, более тонкого и изощренного «опровержения» марксизма.
Следуя своему излюбленному методу поверхностных аналогий, Б. Селигмен стремится доказать «близость» и «поразительное сходство» экономических систем Маркса и Кейнса. В одних случаях, в частности в связи с отрицанием теории рынков Сэя, Б. Селигмен утверждает, что «Кейнс восходит к Марксу», в других случаях, когда речь идет об инвестициях и нереальности стихийного саморегулирования капиталистической экономики, он считает, что Маркс «был близок к точке зрения Кейнса». «Наиболее поразительное сходство в работах обоих авторов,— пишет Селигмен,— состоит в утверждении о том, что капитализм подрывают внутренние противоречия. Различие между Марксом и Кейнсом в этом вопросе сводится к использованию различных агрегатных величин» (стр. 503).
Попытки сблизить Кейнса с Марксом — излюбленный прием многих экономистов буржуазно-реформистского толка, а также некоторых теоретиков правой социал-демократии. Такими приемами, с одной стороны, Кейнсу приписывается некий «прогрессивный», даже «социалистический» облик, а Марксу — некоторые воззрения Кейнса. На деле же в трактовке природы противоречий капиталистической экономики и ее стихийного саморегулирования между Марксом и Кейнсом существует принципиальная и непримиримая противоположность. Маркс считал, что противоречия капитализма проистекают из его природы, имеют антагонистический характер, не могут быть преодолены в рамках капитализма и ведут к его неизбежной гибели. В противоположность этому Кейнс выводил противоречия капиталистической экономики, и прежде всего недостаток эффективного спроса, из «основного психологического закона» и считал, что эти противоречия могут быть преодолены посредством регулирования инвестиций и других мер государственной и банковской политики. Весь анализ процесса капиталистического воспроизводства основан у Маркса и Кейнса на принципиально различных концепциях: у Маркса — на трудовой теории стоимости и теории прибавочной стоимости, у Кейнса — на мар- жиналистских представлениях предельной полезности и предельной производительности. Поэтому бессодержательной является и проводимая Б. Селигменом аналогия между Марксовым законом тенденции нормы прибыли к понижению и Кейнсовой «убывающей предельной эффективностью капитала», поскольку Маркс исходит из объективного процесса роста органического состава капитала, а Кейнс — из пресловутого «закона убывающей доходности».
Конечно, сказанное не дает основания недооценивать тот важный факт, что экономическое учение К. Маркса оказало большое влияние на развитие буржуазной политической экономии как тем, что, опрокидывая все ее догмы, оно вынуждало и вынуждает искать новые 2 Б. Селигмен
17
формы буржуазной апологетики, так и тем, что оказывает влияние на некоторых буржуазных экономистов. На разных этапах они пытались приспособить для своих целей открытия марксизма. Классическим примером этого служит легальный марксизм Туган-Баранов- ского и Струве. Вырывая из марксизма отдельные положения, буржуазные экономисты неизменно старались опровергнуть его основные выводы. По этому пути следует и Б. Селигмен.
Особенно много возражений в различной форме выдвигается против трудовой теории стоимости. Все эти возражения, в том числе и исходящие из смешения стоимости с субъективными оценками полезности благ, а также из пресловутой теории факторов производства, давно опровергнуты марксистской критикой, и надо сказать, что Селигмен ничего не сумел добавить к избитым аргументам вульгарной экономии.
Однако не случайно, что буржуазная политическая экономия до сих пор не прекращает своих нападок на трудовую теорию стоимости. Это объясняется тем, что трудовая теория стоимости лежит в основе разоблачения капиталистической эксплуатации, процесса производства и присвоения прибавочной стоимости. Обнажая природу капиталистической эксплуатации, трудовая теория стоимости дает в руки революционных масс мощное оружие политической борьбы.
В отличие от буржуазной теории факторов производства, объясняющей процесс образования стоимости вкладом каждого из трех факторов — земли, капитала и труда — в производство товара, трудовая теория стоимости признает в качестве единственного источника стоимости затраты общественно необходимого труда. Сила Марксова метода абстракции состоит в том, что в ходе анализа последовательных превращений стоимости в рыночную цену не теряется из виду единственный источник стоимости — затраты абстрактного труда — и в то же время учитывается влияние на процесс ценообразования всех модифицирующих условий, что обеспечивает подлинно научный процесс восхождения от абстрактного к конкретному.
Книга Б. Селигмена дает возможность читателю-марксисту еще раз убедиться в том, какое непреходящее значение имеет последовательная борьба с буржуазной политической экономией, научная критика ее основных направлений и концепций. Эта критика необходима не только для разоблачения современной буржуазной идеологии, она в то же время необходимый инструмент творческого развития самой марксистско-ленинской экономической теории.
А. М. Румянцев Л. Б. Алыпер I
А, Г. Милейковский
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Идея написать такого рода книгу возникла у меня еще в годы учебы и преподавания в Бруклинском колледже. Именно проф. Э. Шпенглер, ныне директор Школы общих исследований Бруклинского колледжа, своими превосходными лекциями по истории экономических учений и современной экономической мысли привил мне вкус к этому предмету. В те дни, а это было почти 30 лет назад, лишь авторы немногих учебников пытались охватить все экономические теории. А если речь шла об экономической мысли того времени, соответствующий учебный материал почти полностью отсутствовал; положение усугублялось отсутствием переводов некоторых крупнейших работ европейских авторов, таких, как «Теория экономического развития» Шумпетера и «Элементы чистой экономической теории» Вальраса. Викселль был практически неизвестен, а некоторые из наиболее интересных теорий еще ждали обнародования, в то время как весь мир был поражен и обескуражен экономическим крахом, постигшим сильнейшую нацию на земном шаре.
Положение ненамного улучшилось и к 1947 г., когда я вернулся в Бруклинский колледж, чтобы читать курсы экономического анализа и истории экономической мысли. Студенты Школы общих исследований имели крайне мало времени, и была очевидной необходимость в надлежащем учебном материале, в кото- пом был бы освещен современный этап в развитии экономической теории и который служил бы известным ориентиром в многочисленных течениях. Хотя некоторые работы к этому времени появились, но изложение в них, как правило, строилось по тематическому принципу. Разглядеть в них преемственность и взаимосвязь идей было по-прежнему нелегко. Но идея обычно нуждается в катализаторе. Эту роль взял на себя Иеремия Каплан из издательства «Фри пресс», который предложил дать более цельное изложение современной экономической мысли. На протяжении ряда лет я писал статьи по вопросам экономической теории * и об ее представителях для различных журналов: очерки о Кейнсе, Марксе и Шумпетере печатались в «Диссент», статьи о теории игр — в «Комментари» и «Лейбор энд нейшн», а пространное изложение теории экономического роста было опубликовано в «Диогене».
Эти небольшие статьи послужили началом для работы над данной книгой. Мои пристрастия, или, говоря более деликатно, моя система ценностей, видны уже из этих работ и, думается мне, пронизывают и настоящую книгу. Я получил институционалистскую «закалку» и никогда очень-то не симпатизировал попыткам превратить экономическую теорию в совокупность чисто технических приемов. Это, однако, не означает, что знание этих приемов не обязательно для создания действенной экономической теории. Мы раньше учимся ходить, а потом уже бегаем. С помощью технических приемов оттачиваются идеи и понятия, а это наверняка важно и ценно. Но я уже много лет твержу, что экономисты увязли в технических тонкостях и по сути дела не сумели из них выбраться.
Экономика — это прежде всего общественная наука, которая изучает то, как действует человек в сложном окружении. С помощью моделей можно, очевидно, вскрыть некоторые черты этой сложной действительности, но содержательными модели будут лишь в том случае, если они способствуют решению назревших социально-экономических вопросов. Важно уметь решать задачи, но эти решения следует применять на практике. Это означает, что следует больше внимания уделять тем аспектам экономической науки, которые отражают отношения между людьми: преимущественный * В подлиннике: «economics». О содержании этого английского термина см. в книге: Н. К. Карата- е в, «Economics — буржуазная политэкономия», М.» 1966. В дальнейшем это слово в зависимости от смысла фразы переводится как «политическая экономия», «экономическая теория», «наука об экономике». Б. Селигмен неоднократно возвращается к вопросу о различии между терминами «political economy» и «economics»- (см., например, раздел о Джевонсе).— Прим, перев..
2* 19;
упор на отношения между человеком и вещами и между вещами послужил, очевидно, основой для разработки некоторых технических приемов анализа, но он не способен полностью раскрыть экономические проявления социального поведения. Некоторые экономисты, конечно, пытались соединить чистую теорию с вопросами экономической политики и почти во всех этих случаях они имели в виду явно практические цели. В качестве примера можно назвать работы, принадлежащие скандинавским и голландским экономистам. Что же касается экономистов США, то обычно трудно сказать, как извлечь практические рекомендации из тех теоретических формулировок, которые господствуют в их трудах. Представляется, однако, что слияние теории и экономической политики не является недостижимой целью. Такое слияние предполагает, что общество рассматривается как сложное целое, а теория используется в качестве некоего орудия, а не является самоцелью. Технические приемы сами по себе не подходят для решения тех серьезных проблем, которые волнуют всех нас.
Наше повествование начинается 70-ми годами XIX века, когда представители немецкой исторической школы подняли бунт против казавшейся им жесткой классической доктрины. Конечно, бунтовщики были и раньше, однако этот период представляется нам естественным отправным пунктом для истории современной экономической теории. В сущности, история современной экономической науки носит трехчленный характер: сначала имели место отказ от формализма и попытка построить теорию, основанную на понимании важности человеческого сознания как фактора в социальной науке; из этого явно исходили такие авторы, как Шмоллер, Зомбарт, Вебер и Тони. Бунтарские настроения, хотя и другого рода, присущи социалистам и институционалистам. Эти вопросы рассматриваются в первой части.
Во второй части показано, как происходило восстановление традиции в экономической науке. Это началось с открытия, или, вернее, повторного открытия маржиналистских идей Джевонсом, австрийцами и Дж. Б. Кларком. Верно, маржиналисты также отвергли классическую доктрину, но не столько для того, чтобы покончить с традицией, сколько для того, чтобы поставить ее на более прочную основу. Важным аспектом такого развития теории послужили взгляды экономического либерализма, содержащиеся в работах Людвига фон Мизеса и Фридриха фон Хайека. Философские взгляды последних в сочетании со своеобразным вариантом маржинализма привели к такому консервативному взгляду на общество, который заставляет вспомнить о вигах. Однако лозаннская школа в лице Леона Вальраса и Вильфредо Парето предложила более нейтральную теорию экономического действия. Это течение экономической мысли продолжают и развивают труды Джона Хикса, Поля Самуэльсона и Василия Леонтьева, каждый из которых стремился к созданию унифицированной экономической теории.
Основной чертой современной экономической теории является, однако, тенденция к разработке чисто технических приемов ради них самих. Корни этого отчасти можно проследить в трудах шведских экономистов, хотя, как указывалось, именно у них можно найти более отчетливое по сравнению со многими другими экономистами понимание глубокой связи между теорией и практикой. Чистое теоретизирование — это также любимое занятие некоторых ведущих американских экономистов, что особенно видно из трудов Ирвинга Фишера, Фрэнка Найта и Милтона Фридмана. Наконец, следовало рассмотреть труды тех теоретиков, которые стремились разрабатывать проблемы реальной жизни — Шумпетера, Кейнса, Робинсон и Чемберлина. На протяжении всей книги я пытался говорить как о людях, так и о идеях. Книга заканчивается сводкой последних достижений в области экономического анализа — теории игр и линейного программирования.
Читатель легко обнаружит, что мой подход носит, в сущности, исторический характер в том смысле, что я исследую не только внутренние элементы теории. Я сознательно пытаюсь рассмотреть эволюцию современной экономической мысли под углом зрения того, как она реагирует на постоянно изменяющуюся действительность. Однако рассматриваемые в книге теории должны быть оценены также сами по себе, так что оказались неизбежными замечания как критического, так и исторического характера. Как удачно выразился Джордж Лихтгейм, теорию следует рассматривать с функциональной точки зрения, иначе говоря, необходимо раскрыть, как та или иная совокупность идей отражает ту конкретную эпоху, к которой они относятся. Для этого необходимо лишь проследить происхождение теории и характер ее развития, а также оценить истинность или ложность теории с точки зрения ее соответствия сложной действительности. С развитием науки такой подход отчасти вышел из моды, однако, когда изменения в теории в конечном счете зависят от постоянно меняющегося экономического, политического и интеллектуального климата, такая попытка оценки теории, по-видимому, всегда оправдана.
Часть первая
БУНТ
ПРОТИВ
ФОРМАЛИЗМА
Ж
Глава I
ПРОТЕСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
1. «GEISTESWISSENSCHAFT UND VERSTEHEN»*: ОСОЗНАНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕКА
Историческая школа в политической экономии знаменовала собой бунт против классической политической экономии. Последняя на протяжении XIX в. смогла, по крайней мере в Англии, с поразительной быстротой одержать победу над другими течениями. После этой победы казалось, что общие для западных стран проблемы решены в такой теоретически завершенной форме, которая не допускает никаких опровержений. Однако не прошло и нескольких десятилетий со времени выхода в свет произведений Джона Стюарта Милля, как в адрес классической школы стали высказываться критические замечания и возражения если и не в самой Англии, то, во всяком случае, в странах континентальной Европы, и особенно в Германии. Как и следовало ожидать, тон возражений был националистическим, а по содержанию они носили теоретический характер. Среди критиков обнаружилось сходство взглядов, которое можно объяснить лишь общностью теоретического наследия и точек зрения. Экономисты континентальной Европы сознавали, что общество претерпевает важные изменения и это порождает потребность в общественной науке нового типа. Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, неко* Общественная наука и понимание (нем.).— Прим, перев.
торые авторы конструировали всеобъемлющие философские системы, другие же ограничивали исследование отдельными проблемами, однако они делали это таким образом, что вскоре выяснилась специфическая узость подхода.
Наиболее важное место в их представлениях занимало возросшее сознание роли, которую играет человеческий фактор, и это заставило указанных авторов усомниться в том, достаточна ли простая имитация физики для разработки практически полезной общественной науки Ч Сформировавшиеся в различных странах экономические институты отличаются друг от друга, отмечали они, и следует ожидать, что принципы и критерии, которые используются для того, чтобы объяснить развитие торговли и транспорта в этих странах, не совпадут с соответствующими принципами и критериями, относящимися к Англии. Во всяком случае, так, по-видимому, обстояло дело в Германии, где позднее развитие национального государства предполагало необходимость в мероприятиях неомеркантилистского характера. В Германии участие государства в экономической деятельности было по своим масштабам гораздо более широким, чем в странах, расположенных по обе стороны Ла-Манша. Как писал об этом периоде в истории Германии У. Митчелл: «Экономическая жизнь стабилизировалась, выкристалли23
зовалась в соответствии с определенными формами и порядками. Последние же в значительной мере определялись политическими институтами и обычаями, существовавшими на протяжении весьма длительного периода» 2.
Экономические вопросы в одинаковой мере являются и вопросами политическими, поэтому понятие «политическая экономия» или «национальная экономия», как ее обычно именовали немецкие авторы, в Германии сохраняло подлинный смысл, который в англосаксонских странах вскоре был утрачен. У немецких экономистов упор делался на то, что экономия является политической, и это предполагало рассмотрение в большей степени правил государственного управления, чем механизма рыночных цен. И взгляды немецких экономистов не только согласовывались с вмешательством государства в хозяйственные процессы, но даже поощряли такое вмешательство. Отношение немецких экономистов к проблеме свободной торговли, например, было обусловлено следующими соображениями: фритредерская политика уместна лишь для страны, которая в своем экономическом развитии смогла вырваться вперед, но непригодна для страны, которая всеми силами стремится преодолеть свою хозяйственную отсталость. В системе взаимосвязанных представлений, разработанных экономической наукой, государство было неотъемлемым составным элементом, поскольку его роль выходит за пределы простого объединения отдельных людей в коллектив.
Представления такого рода не были чужды немецким экономистам, потому что они воспитывались в традициях трансцендентализма, и это позволило им легко усвоить подобную философию. Их склад мышления был мало приспособлен для восприятия индивидуалистической философии английского утилитаризма. Интеллектуальной сферой, внутри которой распространялись их теории, служила главным образом давно утвердившаяся бюрократия; к тому же в стране ощущалось мощное влияние знаменитого философа Г. В. Ф. Гегеля3. По Гегелю, разум (в отличие от рассудка) служил неким способом связи с мировым духом. Стремясь к желаемой цели, Гегель исходил из следующего постулата: развитие духа осуществляется как диалектический процесс. Речь шла не о простом движении, а скорее о развитии комплекса понятий: тезис, антитезис и синтез, причем синтез всегда представляет собой уже совершенно новое явление. Этой концепции внутренне присущи понятия пространства и времени 4. Развитие человеческого общества, по существу, является не чем иным, как проявлением духа народа. Но в этом процессе развития государство, с этической точки зрения, всегда занимает главенствующее положение по сравнению с индивидуумом и семьей.
Такова была философская концепция, которая легла в основу методологии исторической школы. В работе «Феноменология духа» Гегель дал определение культуры как исследования истории человеческого духа. Он усиленно подчеркивал, что следует поставить под сомнение те реформы, которые обосновывались с помощью абстрактных рассуждений, потому что лишь познание духа в его историческом становлении может вскрыть подлинное направление развития общественных явлений. Мыслящие немцы находились под глубоким влиянием взглядов Гегеля, поскольку они содержали постановку вопроса о взаимоотношении между природой человека и общественными институтами. Хотя в последующем диалектика и была отвергнута как бесполезная концепция, она помогла разработать понятие стадии в историческом развитии и укрепить позиции генетического метода в общественных науках. (И все же Гегель выражал свое восхищение Адамом Смитом и Давидом Рикардо, чья экономическая теория служила классическим образцом абстрактного мышления, столь яростно отвергавшегося немецкими авторами!) Из этого следует, что на основе изучения прошлого можно осмыслить весь процесс развития культуры, а если проследить развертывание духовных сил, то это позволит, по существу, воссоздать пути дальнейшей ее эволюции. Последователи Гегеля видели основную задачу исторической науки в том, чхобы определить законы развития культуры. Лишь таким образом можно познать внутренние естественные законы, управляющие развитием общества 5.
Сильное влияние на представителей исторической школы также оказал знаменитый ученый-правовед Фридрих Карл фон Савиньи, который в первой половине XIX в. преподавал в Берлинском университете. Исследуя эволюцию юриспруденции, Савиньи подчеркнул, что развитие как правовых норм, так и языка и обычаев проистекает из опыта людей. Он стремился доказать, что право — часть всей культуры, и в том случае, когда в него не вмешиваются произвольным образом, оно развивается «естественным путем». Те судебные органы и юристы, которые на предшествующих исторических этапах способствовали этому «естественному» развитию права, действовали, по мнению Савиньи, как выразители народного духа. Это развитие представляло собой органический процесс, который следовало внимательно изучить. Влияние Савиньи было, несомненно, глубоким, хотя некоторые пред24
ставители историческом школы это и отрицали.
Ряд авторов отмечал сходство некоторых положений исторической школы со взглядами великого французского социолога Огюста Конта. О. Конт указывал, что подлинно научное понимание общественного развития может быть достигнуто лишь на основе сочетания данных, характеризующих экономическую жизнь, с другими социальными явлениями и исследованием их исторических предпосылок. Он предсказывал, что такой метод откроет возможность и для составления прогнозов. Для Конта не существовало каких-либо качественных различий между природой и обществом, поэтому как естественные законы, так и законы общественной жизни должны обязательно совпадать. Вследствие этого за границей идеи Конта пользовались меньшим влиянием, чем во Франции, и часто подвергались резкой критике. Ряд авторов, среди которых, в частности, следует отметить последователей Вильгельма Дильтея, пытался провести четкое различие между естественными и общественными науками, то есть рассмотреть вопрос, который в позитивистской трактовке Конта оказался затемненным. Они исходили из предпосылки, что развитие человеческого общества носит уникальный характер, который и следует постичь, а для этого необходимо упорядочить исторический материал с помощью организующих концепций. Это, как им казалось, позволяло более эффективно объединить теорию и историю. Сторонники такого подхода опирались не только на труды Дильтея, но и на положения, высказанные ранее историком Леопольдом фон Ранке (1795— 1886), взгляды которого были прямо противоположны взглядам Гегеля. Ранке не пытался отыскать трансцендентальные силы, стоящие за историческими событиями, а стремился проследить общие тенденции, проявившиеся на протяжении данной исторической эпохи. Он хотел понять исторические факты сами по себе, не прибегая при этом к каким-либо предвзятым объяснениям 6.
Вильгельм Дильтей (1833—1911) относится к числу тех философов, которые оказали наиболее сильное влияние на развитие исторической и экономической мысли в Германии. Дильтей подчеркивал, что истории приходится иметь дело с конкретными индивидуумами, а естественным наукам — с абстрактными понятиями. Естественные науки должны описывать те или иные явления и объяснять их, в то время как наиболее важная задача, стоящая перед общественными науками, заключается в том, чтобы понять — verstehen. Он отмечал, что объяснение предполагает поиски причинных связей, а понимание опирается на исследование мотивов человеческой деятельности, вызвавшей к жизни то или иное событие. Поэтому в исследуемый фактический материал историк привносит смысл, почерпнутый из собственного жизненного опыта. С помощью этого опыта он заставляет прошлое ожить, и в том, что он воссоздает, на самом деле проявляется его индивидуальность. В этом Дильтей видел защиту от угрозы всепроникающего позитивизма. У него не было никаких возражений против «научного метода», но исследование поступков человека требует, как он утверждал, науки, отличной от той, которая изучает неодушевленные предметы. Поскольку процесс познания истины в сфере человеческой культуры осуществляется на основе внутреннего постижения, трактовка содержания исторических событий с течением времени изменяется в зависимости от культурного уровня автора и его деятельности. Но такой подход, по существу, означал перенесение проблемы в область психологии и должен был привести к тому, что исторические события per se оказались бы почти непознаваемыми 7. История — это не прошлый опыт, а скорее рассмотрение событий прошлого с высоты накопленного в настоящее время опыта. В своей книге «Введение в науки о духе» Дильтей не смог эффективно сочетать представление о прошлом с процессом исторического развития. Это, несомненно, означало, что и сам он в известном смысле потерпел поражение.
Дильтей выделил три основные группы суждений: первая из них связана с непосредственным изучением реальных событий; вторая включает абстрактные понятия, почерпнутые из обычных исторических событий и составляющие основу общественной науки; третью группу образуют все те разнообразные оценки, которые обычно дают этим событиям люди. Наибольшее значение имеет второй тип суждений, иллюстрацией их служат положения политической экономии и психологии, которые могут углубить понимание исторических явлений. Однако достигнуть этого удавалось лишь в редких случаях, поскольку чаще всего историку приходилось зависеть от своего воображения. Главное, к чему стремился Дильтей,— это плодотворно сочетать представления, выведенные из опыта, с пониманием исторических событий, что позволило бы воссоздать историческую картину, основанную на осмыслении прошлых событий. В осуществлении этой задачи Дильтей не достиг полного успеха 8. Однако его идеи пользовались заметным влиянием, они вызвали движение за создание Geisteswissen- schaft, которая сосредоточивала основное 25
внимание не столько на способах управления, сколько на формах культуры. Так, несмотря на то что между концепциями Вернера Зомбарта и Артура Шпитгофа существовали различия, оба находились под влиянием verste- hende философии Дильтея. Наряду с этим можно легко проследить связь между последней и введенными Максом Вебером понятиями экономической системы, экономического стиля и даже идеального типа хозяйства.
Влияние указанных авторов способствовало тому, что немецкие экономисты отвергли представления классиков. Они застали классическую доктрину уже измельчавшей: эпигоны низвели ее до весьма утонченных абстракций, характеризующих ренту, прибыль и заработную плату. В таком виде эта теория была, как казалось немецким экономистам, лишь в предельно слабой степени связана с реальным миром. Она исходила из таких представлений о природе человека, которые никоим образом не согласовались с их собственными наблюдениями. В Германии существовала прочная традиция исторического исследования, и с точки зрения этой традиции английская экономическая теория оставляла желать многого. Таким образом, теоретический анализ здесь не пустил прочных корней: углубленная и строго теоретическая подготовка экономистов была в академических кругах Германии просто неслыханным делом 9.
Наиболее раннюю реакцию немецких экономистов на положения классической доктрины можно обнаружить в работах Адама Мюллера (1779—1829) и Фридриха Листа (1789—1846). Романтизм Мюллера и национализм Листа послужили моделями, оказавшими решающее влияние на характер последующей критики классической доктрины представителями исторической школы, которые настойчиво стремились низвергнуть абстрактные категории классической школы с помощью бесчисленных эмпирических данных 10. Первые представители исторической школы — Вильгельм Рошер (1817—1894), Бруно Гильдебранд (1812—1878) и Карл Книс (1821 —1898) —подчеркивали, что необходимо исследовать вопрос о том, как возникали и развивались экономические институты. Прежде чем пытаться перейти к каким- либо обобщениям, они стремились собрать весь фактический материал о соответствующих событиях в предшествующий период и в настоящее время. Они были уверены, что такой метод позволит сделать их выводы более основательными, чем холодные, равнодушные к человеку дедуктивные построения английских экономистов. «Вместо совокупности умозрительных рассуждений о том, что могло бы произойти, если бы имели место определенные воображаемые условия, которые соответствуют (отнюдь не полностью) реальным жизненным условиям, этот подход обеспечит им выводы, почерпнутые из самой жизни» 11. По убеждению немецких экономистов, это наиболее правильный способ сбора информации, необходимой для руководства государственной политикой,— задача, вполне основательная с точки зрения камералистики.
Рошер настаивал на необходимости возврата к эмпирическому методу, для того чтобы преодолеть вредное влияние классической доктрины, Гильдебранд стремился превратить политическую экономию в науку, которая изучала бы процессы экономического роста, а Книс полностью отрицал наличие какого-либо смысла в экономических законах. Множество монографий ставило своей целью не столько дополнить теорию, сколько вытеснить ее. Как писал Рошер, подход должен носить в такой же мере практический, как и научный, характер. Конечной целью являлось развитие общей науки о культуре, в которую политическая экономия вносила бы свою лепту, а знания, которые удалось бы почерпнуть из анализа процессов исторического развития, помогли бы вновь вдохнуть жизнь в экономические исследования. Конечным выводом явилось утверждение о том, что экономическая теория всегда имеет лишь относительную ценность. Понятия, оценки и теории, указывали эти авторы, изменяются вместе с институциональными изменениями. И хотя эти авторы часто резко расходились между собой, все они были согласны в одном: подход классической школы, использовавшей в политической экономии понятие естественного закона, не может быть оставлен без критики. Экономическая действительность, утверждали они, определяет характер теоретических представлений о ней,— представлений, которые всегда остаются условными. Новые факты каждый раз ставят под сомнение казавшиеся вечными теоретические доктрины. Такая аргументация в известной мере справедлива, однако представители исторической школы — по крайней мере первые из них — выплескивали из ванны вместе с водой и ребенка. Дедуктивный метод исследования все еще имел многих сторонников, считавших его плодотворным, а когда мы перейдем к более поздним представителям исторической школы, мы обнаружим среди них уже несколько меньшую непримиримость и враждебность.
26
2. ГУСТАВ ФОН ШМОЛЛЕР И ЕГО «GRUNDRISS»
Густав фон Шмоллер (1838—1917) при виде чисто теоретических трактатов терял хладнокровие. Когда в свое время известный австрийский теоретик Карл Менгер заявил, что исторический метод приводит лишь к поверхностным обобщениям, в которых стираются различия между экономической наукой, правом и политикой, Шмоллер с горячностью возразил, что абстрактные догмы не открывают путей для плодотворного развития экономической науки: достичь этой высокой цели можно лишь на основе тщательного использования описательного материала, исторических фактов и статистических данных 12. Полемика вскоре выродилась в пресловутый и бесплодный Methodenstreit *13.
Вместе с тем следует признать, что Шмоллер является одним из великих немецких экономистов. В течение недолгого времени он преподавал в Берлинском университете, куда приезжали, для того чтобы продолжать учебу, многие американцы, окончившие высшие учебные заведения. Он способствовал основанию «Verein fur Sozialpolitik» **, союза, ставившего своей целью социальные реформы. Шмоллер издавал «Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft»***, получивший широкую известность как «Schmoller’s Jahrbuch» **** *****. После ряда важных исследований, посвящен-, ных мелким промышленным предприятиям в Германии и промышленной политике, он написал объемистый труд «Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre****** (1900 — 1914) 14. Уже на ранних стадиях деятельности Шмоллера его скептическое отношение к классической доктрине быстро обнаружилось в утверждении, что аргументация, развиваемая на основе немногих предпосылок, нереалистична. Любимым его замечанием, обращенным к студентам, было: «Но, господа, ведь все это настолько сложно...» Однако методы его предшественников — представителей исторической школы, как он отмечал, в равной мере нереалистичны, так как обычные попытки вывести единообразные последствия из тех или иных изменений в экономике не могут быть обоснованы при * Спор по методологическим вопросам (нем.).— Прим, пере в.
** «Союз социальной политики» (нем.).— Прим, перев.
*** «Ежегодник законодательства, государственного управления и народного хозяйства» (нем.). — Прим, перев.
**** «Ежегодник Шмоллера» (нем.). — Прим, перев.
***** «Основы общего учения о народном хозяйстве» (нем.).— Прим, перев.
помощи нагромождения эмпирических данных. Теория должна вытекать из исторических и статистических исследований, и он полагал, что в книге «Grundriss» ему наконец удалось развить подлинно генетический подход, который позволит в конечном итоге найти адекватное объяснение хозяйственной структуре общества и функционированию экономики 15.
В соответствии с этим методом следовало сопоставлять и тщательно изучать меняющийся образ действий различных групп. При этом нужно было учитывать экологические и географические различия, а также принимать во внимание этнические особенности каждой группы. При рассмотрении экономических и социальных проблем Шмоллер обнаружил исключительную способность сочетать сведения из области психологии, этнографии, антропологии, биологии и геологии, хотя трудно предположить, что он был специалистом во всех этих областях. Содержание его работы обнаруживает поразительное сходство с критикой экономической теории, которая получила распространение в последующий период, особенно поскольку речь идет о его интересе к развитию общественных институтов, его концепции относительности научных представлений, подчеркивании им роли изменений в общественной жизни, требовании реалистичности и страстной критике абстрактных, дедуктивных методов исследования 16. Шмоллер питал сильную неприязнь к представителям австрийской школы, а работа Маршалла, по его мнению, хотя и написана хорошо, но все же совершенно неудовлетворительна. Шмоллер подчеркивал, что в общественных науках нет места для математики, потому что реакции человеческой психики представляют слишком сложную задачу для дифференциального исчисления. Статистические данные, конечно, могут быть использованы, но и к ним он относился с известной сдержанностью.
Если политическая экономия успешно установит необходимые научные связи с этикой, историей, социологией и политической наукой, тогда она действительно превратится в доминирующую общественную науку. Когда ее исследования приобретут нормативный характер, или, другими словами, когда они позволят давать определенные предписания, политическая экономия сможет иметь дело не просто с отношением людей к вещам, а и с отношениями между самими людьми. Но путь к тому, чтобы из этих отношений вывести объяснение причинных связей, лежит, 27
как говорил Шмоллер, через наблюдение, определение, классификацию и анализ. Казалось, что такой подход содержал определенные преимущества: по крайней мере стали собирать более обширный фактический материал относительно экономической политики, хозяйственной жизни средневековья, роста городов и распространения промышленности, хотя в результате этого экономист и превращался в историка. Однако, оглядываясь назад, следует отметить, что представители исторической школы, по-видимому, все же не были твердо уверены, что они вели исследования в нужном направлении. И после двух десятилетий усердных изысканий, реформы, обещанные ими экономической науке, едва были сформулированы. А основы экономической теории, которую представители исторической школы так презирали, необходимо было преподавать даже с университетских кафедр, так как на них лежала ответственность за подготовку студентов к экзаменам 17.
Шмоллер и другие представители исторической школы питали глубокий интерес к социальным проблемам. Они способствовали созданию в 1872 г. «Verein fiir Sozialpolitik» — ассоциации, члены которой лелеяли мысль об участии экономистов в подготовке программы реформ. Большинство членов «Verein» было настроено довольно консервативно, и все они сходились на том, что проекты решения текущих экономических проблем с либеральных или социалистических позиций содержали рационалистические упрощения и носили утопический характер. Члены «Verein» полагали, что их собственные проекты обладают несравненно большей ценностью. Представителей таких взглядов иронически стали называть «катедер-социалиста- ми»— сардонический намек на их принадлежность к академическим кругам. Они выступали в защиту практических реформ с целью укрепить монархию, ибо императорская власть всегда для них стояла выше мирских классовых интересов. Речь шла не о простом оправдании государственного вмешательства — они считали его единственным условием эффективного функционирования экономики.
И все же можно провести некоторую параллель между положениями Шмоллера и Маркса. Он допускал существование классового конфликта и признавал, что в определенных случаях государство в действительности поступает таким образом, как будто оно является защитником интересов правящего класса. Такие случаи Шмоллер осуждал, поскольку они неизбежно ведут к злоупотреблениям и, по существу, означают вырождение принципов использования суверенной власти. В действительности же, говорил он, интересам государства соответствует защита низших классов. Эту задачу может выполнить гражданское учреждение, осуществляющее бдительный контроль и проникнутое столь сильным чувством ответственности перед обществом, которое позволяет возвыситься над борьбой классов. Социальное законодательство и гарантирование коллективных договоров с предпринимателями в такой обстановке смогут отучить рабочих от революционных идей. На основе сказанного легко понять, почему Бисмарк воспользовался программой, разработанной «Verein fur Sozialpo- litik». Хотя Шмоллер и отвергал экономический диагноз капитализма, поставленный Марксом, он соглашался с выводом о неизбежности социализма. Однако социализм должен возникнуть, по Шмоллеру, не в результате пролетарской революции, а на основе совместных действий монархии и более образованных рабочих.
«Grundriss» явился кульминационным пунктом творчества Шмоллера. Писал он эту книгу с некоторой неохотой, так как чувствовал, что она содержала лишь предварительный синтез всей массы фактических, исторических данных, которую накопили Шмоллер и его коллеги. И хотя книга основывается на записях его лекций и ранее опубликованных статьях, во многих отношениях она продолжает служить изумительным памятником в честь искусства собирания фактов 18. Среди исследований в области всеобщей экономической истории у этой книги был ряд прославленных предшественников — исторические исследования Адама Смита и Томаса Мальтуса 19. Однако у последних теоретическая часть перевешивала исторический и эмпирический материал. Работа Ричарда Джонса фактически не произвела никакого впечатления 20. Шмоллер не был чрезмерно опечален указанным обстоятельством. Он был убежден в том, что политическая экономия может без труда пустить корни на благодатной почве исторического опыта. Но его представление о политической экономии было совершенно обыденным: по его словам, она является наукой, которая изучает деятельность человека, направленную на удовлетворение его потребностей. По Шмоллеру, существует различие между свободными благами и экономическими благами, и он сформулировал поразительно банальный тезис о предпочтительности изобилия экономических благ. При всех рассуждениях Шмоллера о целостности экономики, о ее интегрированном и взаимосвязанном характере в его работе весьма мало рассуждений, которые можно назвать анализом.
«Grundriss» открывается исследованием психологических, этических и правовых основ общности людей. Затем прослеживаются истоки 28
собственно экономики и описываются взаимоотношения между понятиями семьи, социальной группы и общества и понятиями собственности, класса и различных форм предпринимательской деятельности. После обширных исторических и социологических экскурсов автор наконец переходит к рассмотрению более привычного круга вопросов: рынка, торговли, стоимости, ренты, кредита, труда и экономических кризисов. Столь широкие рамки исследования практически делали невозможным глубокий научный анализ. В силу своих философских убеждений Шмоллер сосредоточивал основное внимание на понятии социального организма и на моральных и этических аспектах хозяйственной жизни общества, а не на исследовании экономических операций. Цели, преследуемые людьми, представлялись ему в плане брачных уз и общности интересов. Сквозь такую призму он рассматривал обычаи, религию, моральные и правовые нормы. Вслед за сознанием людей и их общностью Шмоллер переходит к анализу тех склонностей человека, которые определяют его место в обществе и «инстинкт конкуренции». В результате развития этих склонностей важную роль в эволюции общественных институтов стало играть стремление к обогащению. Такие устремления, если их не ограничивать, могут вести к подрыву всего механизма функционирования общества; ограничивать и контролировать их необходимо с помощью этических норм. Если же эффективно очищать человеческие побуждения, то их можно превратить в предприимчивость и бережливость. На протяжении всех этих рассуждений, занимающих первые две части книги «Grundriss», основное внимание уделяется этической оценке поступков. Развитие человека, по мнению Шмоллера, в принципе происходит в направлении лучшей жизни и более возвышенного образа мыслей, хотя, как он признавал, имеются многочисленные свидетельства того, что соперничество и враждебность суть основные мотивы человеческих поступков. Предприятие рассматривалось как живой организм: оно само по себе (а не те, кто организовал его и управляет им) ведет борьбу за обеспечение господствующего положения на рынке. Предприятие получало независимое существование, а рост его Шмоллер связывал с унаследованными способами образования социальных групп. Что же касается вопроса об использовании обществом имеющихся в его распоряжении материальных ресурсов, то оно определяется духом времени.
Говоря о естественных факторах как об элементах, определяющих экономический порядок, Шмоллер не подразумевал ни крайние материалистические взгляды, которые основное
значение придают географическим, топографическим и технологическим факторам, ни идеалистический подход, при котором отрицается наличие какой-либо ощутимой связи между сознанием и окружающей действительностью. Он скорее имел в виду такую систему, внутри которой определенную роль играют и сложные взаимосвязи между людьми и взаимозависимость между человеком и природой. Шмоллер говорил, что человек не может отделять себя от сил природы, напротив, он объединяется с ними для того, чтобы изменить облик нашей планеты. Однако повсюду, где речь заходила о теоретических вопросах, как, например, в главе, посвященной технологии, Шмоллер спотыкался в своих рассуждениях и должен был прибегать к методам анализа, предлагавшимся австрийской школой. В стремлении к равноправию и устранению классовых различий Шмоллер не хотел видеть важные рычаги подлинного социального прогресса. Уменьшить напряженность в общественных отношениях могла опять-таки лишь монархическая власть. В представлениях Шмоллера можно обнаружить разновидность гегелевского саморазвития духа. Экономические факторы — основа для понимания изменений в культурной жизни, и изучение этих факторов способно помочь проникновению в глубь явлений для понимания будущего. В тех случаях, когда Шмоллер выдвигал те или иные рекомендации или защищал изменения в описываемых им институтах, он выступал с позиций того, как, по его мнению, «должно быть». Когда же читаешь описание новейших изменений, невозможно избавиться от впечатления о том, что он неизменно считал их наилучшими. А как еще бороться за прогресс? Такие вульгаризированные гегельянские представления не были неожиданностью: ведь они принадлежали
теоретикам, убежденным в некой миссии, возложенной на Германию.
Психологический аспект концепции не представляет особого интереса с точки зрения современной науки. Он базируется на чувствах наслаждения или страдания и мало чем отличается от бентамовского гедонизма. Шмоллер пытался обрисовать теорию инстинктов или побуждений человека, эти попытки обладали по крайней мере тем достоинством, что автор ставил вопрос о том, какова должна быть психология, соответствующая требованиям экономической теории. И другие рассуждения в книге «Grundriss» по зрелом размышлении также представляются не очень-то плодотворными. Понимание проблемы использования ресурсов требует знания технологии. Ценообразование основано на обычном механизме спроса и пред29
ложения; исключением являются получаемое от правительства жалованье и прочие регулируемые выплаты, они должны основываться, как в период средневековья, на справедливой цене. Каждая проблема изучается генетически, статистически и теоретически, вместе с тем делается попытка рассмотреть ее с точки зрения экономической политики. Другими словами, он был заинтересован также и в извлечении практических рекомендаций. Шмоллер выступал в защиту программы социального законодательства германского рейха, считая ее существенным условием стабильности. К магнатам промышленности он мог проявлять столь же жесткое отношение, как и к профсоюзам: чтобы стать сильным, общество всегда нуждается главным образом в могущественном правительстве.
Книга «Grundriss» свидетельствует об энциклопедических познаниях автора. Шмоллер хотел видеть экономическое исследование во всей его полноте и завершенности, для этого он привлекал относящиеся к делу исторические и статистические материалы, а также сведения из области всех остальных общественных и естественных наук. Попытки объединения знаний из всех этих областей носят, к сожалению, довольно примитивный характер, но внимание к широте перспективы является сильной стороной его работы. То, что Шмоллер не оказал того влияния, которое мог бы оказать, объясняется, по-видимому, его непрестанной поддержкой монархии. После первой мировой войны подобные взгляды не могли снискать широкой популярности.
Индивидуалистический подход у Шмоллера был сведен к минимуму; например, он настаивал на том, что «проблема труда» может быть решена только в социально-этическом плане. Шмоллер утверждал, что традиционная доктрина в своих теоретических построениях вообще исключала этот вопрос, а между тем проблема не утратила своей остроты, и общество должно обратиться к ее решению. Для того чтобы общество не потерпело крушения, следует предоставить низшим классам большую долю в результатах прогресса. Он надеялся на то, что доходы удастся распределять лучше, чем это делалось в то время. Такие представления подверглись критике со стороны историка Генриха фон Трейчке *; в ходе этой получившей известность дискуссии Шмоллер вновь подчеркнул свой тезис о том, что психологические и этические факторы играют не меныттую роль, чем экономические 21. Теоретики, придерживав* Г. фон Трейчке (1834—1896) — немецкий историк и публицист, восхвалявший роль прусской юнкерской монархии.— Прим, перев.
шиеся чисто экономического подхода, не могли простить Шмоллеру его исторического метода и участия в движении за проведение общественных реформ. Но когда Шмоллер говорил о возможности создания всеобщей экономической теории на основе исторического исследования, он сам вторгался в сферу теоретической деятельности. Оба направления видели свою цель в том, чтобы вывести чисто экономические обобщения, и единственное различие между ними сводилось к вопросу о том, каким путем достигнуть этого 22. Следует отметить, однако, что представители исторической школы действительно утвердили широкий подход к изучению экономической и социальной жизни, тогда как экономисты, придерживавшиеся более теоретического образа мышления, часто упускали из виду такой подход.
Тезисом об отсутствии проверенных универсальных правил экономической политики подчеркивалось значение принципа относительности, выдвинутого представителями исторической школы. Поскольку мотивы человеческой деятельности, говорили они, обусловлены разнообразными причинами, чисто логический подход не может служить единственным орудием исследования. Теория не может совершенно отвлекаться от мотивов человеческих поступков. А если согласиться с такой предпосылкой, то сам процесс эволюции стимулов, характерных для каждой ступени общественного развития, может продемонстрировать внутреннее единство общественных наук. Общество представляет собой единое целое, поэтому изолированное явление может внушить лишь неполное представление о характере экономики. Понимание взаимоотношений между явлениями должно быть подкреплено генетическим анализом причинных связей.
Сам Шмоллер не был, однако, таким уж крайним поборником исторического метода, как некоторые другие представители этой школы. У него часто можно встретить ссылки не на «законы», а на «регулярно повторяющиеся процессы». Наиболее выдающийся вклад в исследование таких процессов внес его лучший ученик Артур Шпитгоф, автор известных работ, посвященных экономическому циклу. Политическая экономия, как полагал Шмоллер, еще не достигла уровня, когда можно сформулировать «законы». Хотя сам Шмоллер стремился кропотливо собирать все факты, которые требовались для экономической теории, он считался с ортодоксальными взглядами и даже с некоторыми более новыми концепциями австрийской школы. Он никогда не уставал повторять: точно так же, как для уверенной походки нужны две сильные ноги, для исследо30
вания требуются как дедуктивный, так и индуктивный методы. Многие монографии и статистические исследования представителей исторической школы практически послужили основой для принятых в Германии законодательных актов. Вместе с тем бесконечные проповеди часто мешали Шмоллеру развить некоторые глубокие мысли, например при трактовке труда и коммерческого предприятия 23.
Такие, как «Grundriss», энциклопедические работы легко уязвимы. И несмотря на то, что Шмоллер действительно располагал обширными познаниями, специалисты могли обнаружить в них немало пробелов. Теоретический материал осмыслен плохо; предложение, например, определялось как поток товаров, то есть выражалось в объективных категориях, тогда как спрос трактовался исключительно в субъективном плане. Создается впечатление, что подбор большой части статистических и социологических материалов носил до известной степени случайный характер. На протяжении всей работы можно проследить тенденцию подменить эмпирическое объяснение реальных событий стремлением к конечной цели в духе концепции Гегеля. Научный анализ смешивался с соображениями, носившими этический и политический характер. Более того, неспособность автора отыскать модель изменений практически лишала смысла накопление столь обширного материала. Скудный теоретический аппарат исторической школы вскоре деградировал. Как однажды заметил Кнут Викселль, эти экономисты полагали, что сущность экономического исследования состоит в описании торговой практики в промышленности, занимавшейся изготовлением деревянных сапожных гвоздей, в XVI в. 24. Действительно, запрет теоретического исследования, на чем настаивали представители исторической школы, превращал экономиста в некоего историка-социолога, который опасается каких-либо общих суждений, поскольку в отдельных случаях это может ослабить связь с действительностью. Многочисленные пласты описательного материала с каждой новой монографией нагромождались друг на друга. Однако весь этот материал едва выходил за рамки сведений, нужных для построения предварительной гипотезы, которая могла бы послужить введением в экономическое исследование. В последующий период влияние исторической школы стремительно уменьшалось, вероятно даже не вполне оправданно, и в 20-х годах уже считалось de rigeur * подшучивать над ее претензиями.
Историческая школа не смогла заменить теоретическую экономию. В лучшем случае она могла просто создать некоторый противовес преувеличениям, которые встречались и у представителей последней. И все же рост богатства корпораций, национализма, осознание различными слоями своего общественного положения и возникновение новых эволюционных концепций — все это послужило достаточным основанием для существования исторической школы. Однако и теоретики-экономисты недолго ограничивались кругом проблем, которые рассматривал еще Рикардо. В то время как историческая школа могла предложить лишь немногочисленные исторические описания узкого круга второстепенных отраслей хозяйства, теоретическая экономия развернула исследования в новых, неизведанных областях.
3. ВЕРНЕР ЗОМБАРТ: ИСТОРИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Те крайности, к которым могло привести использование исторического метода, нашли выражение в работах Вернера Зомбарта (1863— 1941). Зомбарт обучался юриспруденции и политической экономии в Берлинском университете, затем он некоторое время работал в Дрезденской торговой палате, а впоследствии получил назначение в Бреслау *. В 1917 г. он возвратился в Берлин, где занял место Адольфа Вагнера. На протяжении 20 лет Зомбарт выдавал себя за горячего поклонника Маркса, он издал ряд работ, посвященных научному социализму и его основателям 25. Как лектор, * Ныне Вроцлав.— Прим, перев.
Зомбарт пользовался признанным успехом, однако, несмотря на это, почти 15 лет он занимал довольно скромное положение; говорили, что это являлось следствием его радикальных взглядов. В последующий период он издал работу о пролетариате, содержание которой указывало на разрыв с марксистским социализмом, этот шаг явно был продиктован в определенной степени корыстными соображениями 26.
На него оказали влияние как Маркс, так и Шмоллер, и в работах Зомбарта сочетаются
♦ Необходимо, общепринято (франц.).— Прим . перев.
31
крайние точки зрения обоих авторов. Зомбарт отвергал представления об универсальных законах и настаивал на том, что характер экономических институтов обусловлен местом и временем их деятельности. Он страстно стремился к дедуктивным обобщениям, которые не в состоянии был вывести Шмоллер, однако попытка Зомбарта сочетать историю и теорию потерпела полную неудачу. И разумеется, он не мог приблизиться к уровню Маркса. В своем стремлении завоевать репутацию и добиться успеха в научных кругах Зомбарт до такой степени злоупотреблял самыми неправдоподобными умозрительными построениями, что немалую часть его трудов в конечном счете приходится отвергнуть как явно не имеющую научной ценности 27. Было в нем что-то от артиста, который, как писал один из комментаторов, «в исключительной степени сочетает разум с воображением», но его воображение едва ли можно назвать творческим и критическим 28. Для него «...часто было безразлично качество используемых источников. Он обладал способностью сплавлять мысли, почерпнутые из самых различных сфер общественной жизни, а затем выгодно преподносить их, но логика его суждений в ряде случаев оказывалась поверхностной, а аргументация основывалась скорее на интуиции, чем на строгих фактах» 29. Лучшее, что можно сказать о Зомбарте,— это то, что его работы будили мысль. Его книга о евреях как творческом факторе в современном капиталистическом обществе была задумана как объективный научный труд, но евреи критиковали ее как антисемитскую, а юдофобы — как недостаточно антисемитскую. Произведения Зомбарта часто перегружены преувеличениями, однако это не помешало им оказать определенное влияние; во всяком случае, они стимулировали значительное развитие исследований в области экономической истории. Один из известных специалистов в области экономической истории Фредерик Л. Нуссбаум решился даже на вполне компетентную трактовку поставленных Зомбартом проблем30.
По Зомбарту, всякая плодотворная теория капитализма должна исходить из жизни духа. Сущность истории заключается в воспроизведении фрагментарного опыта прошлых лет, а такое воспроизведение предполагает установление критериев для отбора и обобщения фактического материала. Историческое исследование представляет в этом смысле творческий акт. Воссоздать человека следует в его общественном, политическом и экономическом окружении. Для экономической истории требуется фактический материал, содержание которого проистекало бы из необходимости для человека добывать средства к существованию. Но это и социальные вопросы, так как в силу общественного характера производства и распределения между людьми неизбежно устанавливаются общественные отношения. А существование законов и права собственности требует привлечения фактов из области политики и юриспруденции. Различные представители общественных наук принимали одну из указанных точек зрения, тем самым порождалась история, в которой доминировали либо элементы юриспруденции, либо социологические элементы. Когда, например, Макс Вебер и Карл Бюхер исходили из социологических соображений, история человеческого опыта оказывалась основанной на таких выводах, в которых отразились общие для различных народов элементы.
Зомбарт считал подобный подход совершенно недостаточным, ибо, исходя из метода исследования «культуры», он хотел обнаружить стремления и цели, характерные для каждого общества. Для него не существовало абстрактной экономики, он говорил лишь об определенном экономическом строе. Задача, стоящая перед историком или экономистом, заключается, по Зомбарту, в том, чтобы определить характер каждой экономической системы во всем ее своеобразии 31. Это требовало «созидательной идеи, не почерпнутой из эмпирических наблюдений», тем самым создавалась возможность построения «систем», которые имел в виду Зомбарт. Развитие экономической науки по этому пути могло бы обеспечить теоретический аппарат, необходимый для того, чтобы классифицировать важнейшие факторы хозяйственной жизни того или иного периода. Однако теоретические суждения, используемые в таком исследовании, должны исходить из экономического «духа», из форм экономической жизни или ее организации и из уровня развития техники.
Хозяйственная деятельность, следовательно, обусловлена различными факторами, которые находят воплощение в определенных институтах, а благодаря последним можно выделить своеобразные черты экономического строя. В этом и состоит основной метод, используемый Зомбартом в его книге «Der Moderne Kapitalismus» *32. Важный элемент в этой работе составляют унаследованные от Дильтея представления о «понимании». Вслед за Марксом и Шмоллером Зомбарт отводил большое место организационным и технологическим факторам, но дополнял их понятием Wirt- * «Современный капитализм» (нем.).— Прим, перев.
32
schaftsgeist *, который, по его мнению, представлял собой реальную силу, воплощающую созидательные элементы культуры и духовно питающую все стороны жизни в данную историческую эпоху. То, что воссоздавалось таким способом, неизбежно представляло систему, в которой данный экономический строй раскрывался во всем его своеобразии. Хотя сам Зомбарт с готовностью соглашался с тем, что все такие построения умозрительны, все же часто он излагал их так, будто речь шла о совершенно реальных явлениях. Основная его мысль заключалась в следующем: капитализм (историю которого автор рассматривал лишь на примере Европы) развился из свойств человеческого мышления и поведения, облегчивших переход к характерным для современной жизни хозяйственным формам. Понять эти свойства можно только посредством Verstehen.
В связи с этим необходимо различать понятия: экономические стадии, экономические системы и хозяйственная деятельность. К сожалению, сам Зомбарт в своей работе относится к использованию этих понятий довольно беспечно. Его представления о характере взаимодействия внутри общества на различных ступенях экономического развития добавляли мало нового к прежним описаниям. Вклад Зомбарта сводится к указанию на особенности экономических отношений в условиях индивидуалистического, переходного и социального хозяйства. На первой стадии связь между экономическими единицами была слабой. На стадии переходного хозяйства, когда получило развитие товарное обращение, взаимоотношения между экономическими единицами несколько расширились. В условиях социального хозяйства разделение труда приобретает достаточно широкие масштабы, это требует такой взаимозависимости, которая характеризует окончательно сформировавшийся капиталистический строй. Конкретный материал для иллюстрации этой схемы Зомбарт черпал из разных исторических периодов, так что социальное хозяйство охватывало у него как рабовладение, так и капитализм, а натуральное крестьянское хозяйство и родоплеменной строй могли быть отнесены к индивидуалистической стадии. Указанная классификация носит в высшей степени сомнительный характер, ибо многие родоплеменные хозяйства, несомненно, имели разветвленные связи с другими племенами. Во всяком случае, антропологи отмечали наличие сложных и многообразных форм обмена между племенами, Зомбарт же игнорировал все эти факты.
В более глубоком смысле стадия экономического развития является для Зомбарта выражением определенной формы хозяйственной деятельности, или, как впоследствии писал Шпитгоф, специфического стиля ведения хозяйства. Поэтому хозяйственную деятельность следует рассматривать под углом зрения стимулов, наиболее характерных для данного общества. Так, например, развитие капитализма следует объяснять в плане тех скрытых устремлений, которые побудили буржуазию приступить к созданию нового мира. Этот дух, по-видимому, в равной мере включал неутомимость, безграничную предприимчивость, стремление к обогащению, конкуренцию и рациональность. Главная цель хозяйственной деятельности, говорил Зомбарт,— увеличение богатства, особенно в денежной форме. До того как получил развитие капитализм, блага производились как потребительные стоимости, но при строе, основывающемся на стремлении к обогащению, приобретает важность именно накопление товарного запаса. При капитализме цель состоит в накоплении меновой стоимости. Вплоть до этого пункта в рассуждениях Зомбарта наглядно проявляется влияние Маркса. Но тот акцент, который Зомбарт делал на природе капиталистического духа, предвещал отход от социалистической теории. Стремление к конкуренции превращается в чисто личное качество, с помощью которого экономические единицы пытаются добиться успеха, используя для этого любые законные средства. Конечная цель заключается в получении прибыли, и чем больше, тем лучше. Человеческая энергия превращается в рабочую силу, которая продается по определенной цене, а природа — в источник ресурсов, и все сущее регистрируется в соответствии с принципами двойной бухгалтерии. Стремление к обогащению вырождается в безжалостность, а все моральные принципы, унаследованные от былых времен, исчезают под влиянием непрерывного напряженного труда. Но, для того чтобы накапливать деньги в значительных масштабах, требуются еще благоразумие и коммерческий расчет. Капитализм должен был использовать сложные методы и передовую технику производства, а для этого потребовалось коммерческое планирование. Таким образом, духовное начало капитализма нашло выражение в рациональности, и вскоре уже вся культура была проникнута рациональностью. Однако, как это ни парадоксально, несмотря на все расчеты, осуществляемые отдельными лицами, капитализм как система продолжает носить иррациональный характер; отсюда напряжения, внутренне присущие капиталистическому хозяйственному строю.
* Хозяйственный дух (нем.).— Прим, перев.
3 Б. Селигмен
33
Капиталистическая организация, писал Зомбарт, основана на принципах индивидуализма и либерализма, эти принципы порождают необходимость в определенной системе прав, закрепленных в законах, и общепринятых моральных нормах. Зомбарт также отметил, что структура капитализма, по существу, авторитарна — он использовал при этом термин «аристократична». Число экономических единиц, указывал Зомбарт, невелико в сравнении с общим числом людей, охваченных данной системой, вследствие чего большинство контролируется и управляется меньшинством. В подобной ситуации требуется высокий уровень организаторских способностей и технических знаний. Наряду с этим он указывал, что координация достигается с помощью столь характерного для капитализма децентрализованного рынка.
Далее, высокие прибыли предполагают высокую производительность. Однако и в предусматриваемом классической доктриной случае, когда заработная плата находится на уровне, обеспечивающем лишь самые необходимые средства существования, производство в широких масштабах в кратковременном аспекте может обеспечивать большую массу прибыли. Зомбарт не видел того, что это может явиться следствием тех или иных форм интенсивной эксплуатации — например, в условиях системы Бедо или Тэйлора. Однако он отмечал, что развитие техники может обеспечить предпринимателю увеличение прибыли благодаря расширению рынков и накоплению капитала. Пытаясь отыскать новые средства, для того чтобы одолеть конкурентов, предприниматель не станет избегать и совершенствования техники; это позволяет понять, как технический прогресс согласуется с требованиями рационального ведения хозяйства и с капиталистическим духом.
Но для Зомбарта довольно характерно смешение юридических и экономических аспектов проблемы. Так, он отстаивал следующую мысль: функционирование капиталистического предприятия приобретает самостоятельный характер, не зависящий от тех людей, которые его основали. Рассматривая, например, вопрос о том, как регулируется законами система отношений на предприятии, он полагал, что предприятие само определяет свои задачи и выбирает средства для достижения поставленной цели. Предприятие «...является мысленным построением, которое, — писал он,— действует подобно материальному чудовищу»33. Однако с экономической точки зрения этим рассуждениям не хватает убедительности, ибо, помимо активной деятельности управленческого персонала, который устанавливает цели и выбирает средства для их достижения, существует, по Зомбарту, связь предприятия с тем, кто его основал. Короче говоря, процесс принятия решений осуществляют не некие аналитические, собирательные существа, а живые люди. Несмотря на все решения, которые были приняты в прошлом на основе таких законодательных документов, как четырнадцатая статья поправок и дополнений к конституции *, предприятие не может функционировать само по себе. Термин «предприятие» является полезным орудием экономического и социологического анализа, однако в работе Зомбарта оно приобретает странные мистические свойства.
Зомбарт соглашался с тем, что капитализм немыслим без предпринимателя. Предприниматель объединяет в своем лице изобретателя, ученого, организатора, купца и завоевателя. Он отыскивает новые способы организации, новые методы производства, новые пути сбыта товаров на рынке. Он открывает новые территории и объединяет деятельность различных людей в одном величайшем усилии вырвать «...у них ту наивысшую производительность труда, на которую они способны» 34. Описание Зомбартом деятельности предпринимателя выдержано в духе панегирика функциям капиталиста: предприниматель является организатором, обладающим недюжинной изобретательностью; среди людей он мудро отбирает самых способных; среди товаров проницательно отыскивает наилучшие; быстро оценивает свои шансы на успех; проявляет напористость в торговых отношениях с поставщиками; предприниматель видит так, как если бы он имел тысячу глаз, слышит так, как если бы у него была тысяча ушей, и осязает так, как если бы он располагал тысячью пальцев 35.
Однако в начале XX в. в формах осуществления указанной капиталистической функций можно было проследить изменения. По мере появления корпораций процесс управления стал отделяться от собственности. Различные функции предпринимательской деятельности переходили к специалистам по организации производства, сбыту, рекламе, финансам. Предприниматель больше уже не был удачливым искателем приключений. Теперь он должен был использовать труд инженера, единственной заботой которого было производство, торгового специалиста, который ведал сбытом, и финан* Четырнадцатая статья поправок и дополнений к конституции США была принята в 1868 г. в результате победы буржуазного Севера в Гражданской войне. В соответствии с этой статьей устанавливалось гражданское равенство всех жителей США, за исключением индейцев.— Прим, перев.
34
сового эксперта, который разбирался в сложной системе кредитных учреждений и мог раздобыть необходимые денежные средства. Так развивались события в период «позднего» капитализма, на той стадии, которая закончилась первой мировой войной 36.
По мере того как смелый капиталистический подход сменялся более рациональной точкой зрения, по-видимому, смягчались и те проявления капитализма, которые порождались противоречием между благоразумием и безрассудством, спекуляцией и трезвым расчетом, стремлением к риску и буржуазной осмотрительностью. По мере того как систематизированные познания одерживали победу над инстинктивными побуждениями и интуицией в сфере предпринимательской деятельности, производство стало опираться на расчеты, а продажа товаров тщательно планироваться. Предприятие начало утрачивать свой капиталистический дух и, по существу, становилось своего рода общественным институтом, деятельность которого основывается на упорядоченной информации. Предприниматель превращается в министра финансов: когда эксперты проделают всю подготовительную работу, он ассигнует необходимые средства. Прежняя гибкость капиталистической системы стала исчезать по мере того, как получали распространение ограничения, которые либо возникали изнутри вследствие образования картелей, либо вводились извне, в результате государственного регулирования. Периодические колебания, составлявшие в свое время характерную черту подлинного капитализма, больше уже не были заметны. Цены обнаруживали жесткость, внушавшую опасения. Однако вся эта стройная логическая концепция, столь тщательно разработанная Зомбартом, слишком упрощена, чтобы считаться правильной. Высказываемые им обобщения в поразительной степени безответственны и основаны чуть ли не на догадках. Не опираясь на прочную основу фактов, эти суждения рассыпались, подобно пресловутому карточному домику, равно как и утверждения Зомбарта, в которых он пытался приписать евреям ответственность за происхождение капитализма 37. Зомбарт не согласился с тезисом Макса Вебера относительно влияния протестантской религии на капитализм. Вопрос стоял следующим образом: почему в XVI в. центр капитализма переместился из района Средиземного моря в район Северного моря? Ответ, согласно которому известную роль сыграли открытия в Новом Свете, показался Зомбарту неудовлетворительным. Дело в том, патетически восклицал он, что евреи, изгнанные из Испании и Португалии, поселились в Антверпене и Амстердаме и принесли с собой дух капитализма. Таким путем Зомбарт пытался, конечно, связать воедино экономические, социальные и религиозные факторы, но эта попытка потерпела бесславный крах. Зомбарт выбрал евреев в качестве носителей капиталистического духа, поскольку они обладали капиталистическими качествами: умом, бережливостью, рассудительностью и стремлением к деньгам. Кроме того, как он считал, они обладали и опытом, так как средневековая торговля якобы находилась под их контролем. Как заметил Берт Хозелитц, Зомбарт допустил смешение причины и следствия, ибо не евреи «сделали» капитализм, а капитализм сделал евреев такими, какие они есть38.
Исследование Зомбарта изобилует догадками о том, что могло бы произойти. Бесспорно, что некоторые финансисты-евреи оказали услуги нескольким централизованным государствам в процессе их становления, но их роль не идет ни в какое сравнение, например, с ролью Фуг- геров,—возражая Зомбарту, Мириам Бирд убедительно показала, что с XIII по XVII в. основными фигурами в финансовом мире были христиане 39. Роль евреев в лучшем случае носила подчиненный характер. Предпочитая расовое толкование, Зомбарт доводил немецкий романтизм до пределов подлинного безумия. Впоследствии расистские теории сыграли ужасную роль, и Зомбарт своими трудами в немалой мере способствовал этому 40.
Описанные им религиозные черты Зомбарт считал неизменными, из них он выводил свою концепцию капиталистического духа. После того как его религиозные взгляды получили известность, разразилась настоящая буря критики в адрес Зомбарта, однако критика оказала на него ничтожное влияние. Среди компетентных ученых мало кто воспринял всерьез суждения Зомбарта в этой области. И все же приходится отметить печальный факт, что указанные взгляды получили распространение 41. В истории Реформации и Контрреформации можно найти многочисленные доказательства того, что религиозные убеждения отнюдь не так прочны, как это предполагал Зомбарт. Антверпенские капиталисты оказались так же восприимчивы к кальвинизму, как и зееландские крестьяне *. Запреты раннего христианства относительно ростовщичества через несколько веков оказались серьезно измененными святым Антонином **42. Иуда* Зееланд — сельская провинция Нидерландов.— Прим, перев.
** Святой Антонин — представитель католической церкви архиепископ Флоренции Антонио Пьероцци (1389—1459); написал ряд работ, содержавших толкование религиозных норм; главная его работа, «Summa Theologica», издана в 1477 г.— Прим, перев.
3* 35
изм, первоначально идеология примитивного аграрного общества, впоследствии, по мере того как его сторонники оказывались рассеянными среди различных народов, также претерпевал изменения. Однако либо Зомбарта вообще не интересовали изменения, происшедшие в образе мышления иудеев, либо он обнаруживал полнейшее невежество в этой области. Он питал к ним злобу.
Хотя Зомбарт и пытался отыскать неповторимые признаки каждой экономической системы, методы рассуждений часто приводили его к тому, что историческая граница капитализма оказывалась отодвинутой далеко в прошлое, так что наличие в средневековой экономике обмена, осуществлявшегося с помощью денег, могло квалифицироваться как характерная особенность «капитализма». Но если это так, то с не меньшим успехом можно обнаружить капитализм еще в античной истории Греции и Рима. Ряд авторов считал, что столь широкое толкование понятия «капитализм» не дает возможности установить отличительные особенности современных экономических институтов. Более того, отмечалось, что соединение таких понятий, как рациональность и предприятие, не заменяет анализа общественных отношений, которые складываются в связи с необходимостью добывать средства к существованию 43.
Теоретическая деятельность Зомбарта после 1914 г. проникнута крайним национализмом; наиболее скандальный пример — книга «Handler und Helden» * (1915), в которой Англия представлена в качестве бесчестного купца, а Германия — в роли героя. Однако это не явилось неожиданностью, так как при ситуации, сложившейся в Германии после первой мировой войны, свойственные Зомбарту предрассудки, как и его методология, почти неизбежно вели к полному и резкому разрыву с западной идеологией. Незрелые романтические взгляды Зомбарта проявились в том, что его симпатии были на стороне «героя». Нетрудно понять в данной связи и хвалу, которую Зомбарт воздавал предприимчивому капиталисту, и его през- зрение к нерешительному буржуа, и его сожаление при мысли об усиливающейся бюрократизации экономической жизни. В том, что в дни своей молодости он предпочитал социал- демократам профсоюзных деятелей, отражались все те же причудливые симпатии и антипатии. Как отмечал Лео Рогин, в последней работе Зомбарта содержалась «угроза фанатизма и нетерпимости» 44.
Скрытые симпатии, которые Зомбарт питал к тоталитаризму, особенно полно проявились
* «Торговцы и герои» (нем.).— Прим, перев. в его последней работе «Deutscher Sozialismus»*45 Новый социализм поразительно отличался от того пролетарского социализма, с которым он был связан в молодые годы. В качестве основополагающих принципов теперь фигурировали тоталитаризм, энергичность, героизм и национализм — свойства, присущие, как он утверждал, германскому национал-социализму. Впав в старческое слабоумие, Зомбарт писал, что германский социализм носит «исторически-реа- листический» характер, который превращает стремление Германии к величию в конечную цель всего человеческого существования. Организация такого социализма должна соответствовать германской душе. Совершенно понятно, что в качестве основного принципа выступало неравенство. В обществе каждому отводилось место, соответствующее положению и титулу, которые в новом корпоративном государстве ему пожалуют вышестоящие инстанции. Таким путем утвердится воля всего общества как единого целого. Внутри этой новой кастовой структуры верховное положение должно принадлежать государству и его военным руководителям. Всех людей следует объединить в различные «сословия», развитие общества должно планироваться, а экономика — подчиняться политическим требованиям. Ясно, что неотъемлемым элементом такого построения общества должно служить Fuhrerprinzip **. Развитие техники следует впрячь в колесницу государственных требований, а индивидуальные потребности подчинить последним. Направлять вкусы будет новая элита. Экономические институты, кредит, производственные мощности и транспорт должны быть поставлены на службу военным требованиям. Из производственной деятельности общества следует устранить принцип обеспечения прибыли, и деятельность промышленных предприятий приобретет стабильный характер. Наконец, все это поможет раскрыться подлинному германскому Volks- geist *** _ единственной эффективной альтернативе еврейскому капиталистическому духу. Хотя сам Зомбарт мог и не состоять членом национал-социалистской партии, он относился к числу последовательных нацистов. Мифология, содержащаяся в последней его книге, в сочетании с разрушительной силой «третьего рейха» принесла такие плоды, как крематории Треблинки и Майданека.
В ранних работах Зомбарта по экономической истории и социологии капитализма могли еще содержаться элементы истины, хотя в таких * «Немецкий социализм» (нем.).— Прим, перев.
** Принцип вождя (нем.).— Прим, перев.
*** Дух народа (нем.).— Прим, перев.
36
положениях без особого труда можно обнаружить влияние Маркса. Но как только Зомбарт переходил от социальной философии и анализа к установлению единого принципа, под его пером рождалась порочная мифология, чреватая такими невероятными бедствиями и разрушениями, на которые способен только тоталитарный строй.
4. МАКС ВЕБЕР И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ДУХ
Среди авторов, внесших вклад в создание исторической школы, многие придерживались довольно консервативных убеждений. Некоторые из них, как, например, Зомбарт, относились к числу тех подлинных романтиков, которые в свои воззрения привносят наихудшие эксцессы романтического образа мышления. Немецкий консерватизм, который во многих отношениях представлял собой реакцию на французскую революцию, был направлен на то, чтобы предотвратить революцию в Германии. В роли вдохновителя этой своеобразной реакции выступал Эдмунд Берк 46. Тот факт, что консерватизм вообще смог получить в Германии определенное распространение, можно приписать отсутствию в этой стране такого среднего класса, который придал английскому образу мышления либеральную перспективу. Романтизм стал реакцией на рационалистические тенденции среднего класса; обществу противопоставлялась община, а разуму — интуиция.
Следующий крупный представитель современной исторической школы — Макс Вебер (1864—1920), обладал значительно более либеральными взглядами, чем Шмоллер и Зомбарт; Вебер выступал за исследование с позиций разума, а не интуиции, за общество, а не общину. Хотя Вебер также пытался подтвердить свои обобщения с помощью исторических фактов, однако он ни в коей мере не подражал своим предшественникам. Шмоллеру, например, был присущ определенный традиционализм, и он оставался верным сторонником монархического строя в Германии, тогда как Вебер питал неприязнь к монархии. Зомбарт говорил об Истории и Нации как о неких изначальных силах, а Вебер предпочитал им человеческий разум. Представители исторической школы полагали, что первостепенная роль принадлежит не индивидууму, а обществу и оно обладает верховной властью над индивидуумом; Вебер и либералы рассматривали общество как обусловленную социальными закономерностями совокупность автономных индивидуумов. В глазах представителей консервативных взглядов история носила до известной степени трансцендентальный характер, тогда как их противникам она представлялась цепью последовательных событий, которая может быть постигнута с помощью человеческого разума. Поэтому, хотя среди теоретических предшественников Вебера и можно обнаружить сторонников исторического метода, сам Вебер отвергал мысль об уникальном характере истории. Для Зомбарта весьма характерна убежденность в том, что историческому развитию присущ некий неизъяснимый трансцендентализм. Вебер отказывался этому верить. Произведения Вебера с теоретической точки зрения столь же важны, как и работы Маркса *: в тех и других содержится протест против общепринятой теории. Произведения Вебера, бесспорно, явились важным источником многих идей, которые послужили путеводной нитью в неисследованных областях общественной науки. Однако Вебер склонен был считать проблемы политической экономии односторонними, он предпочитал им более широкие и общие проблемы.
Вебер был выдающейся личностью, он оказывал глубокое и продолжительное влияние как на студентов, так и на ученых; ему удалось создать, по крайней мере среди социологов, своего рода школу. Хотя ему и принадлежат многие работы, содержание которых относится к сфере политической экономии, он не был подлинным экономистом-теоретиком 47. Больше всего его интересовала экономическая социология, с точки зрения которой он мог изучать характерные для эпохи институты. Вебер рассматривал институты, в рамках которых протекает хозяйственная деятельность, но он редко входил при этом в обсуждение проблем, которые экономист счел бы наиболее существенными. Так, например, в его работах по капитализму едва ли удастся найти много высказываний относительно экономических циклов. Все свои теоретические представления Вебер заимствовал у австрийской школы. Он был, по существу, разносторонним мыслителем, универсальным ученым, который стремится наблюдать за человеческими существами с позиций научной социологии. Его не интересовали непосредственные практические выводы: он лег* О подобного рода неправомерных сравнениях Маркса с буржуазными экономистами см. вступительную статью.—Прим. ред.
37
ко мог увлечься идеей, весьма далекой от насущных проблем. Поэтому он без колебаний приступал к исследованию вопросов урбанизации, музыки, истории искусств, религии, мотивов экономической деятельности и других малоразработанных проблем.
Хотя Вебер был националист, а в отдельных случаях даже разделял представление о Неггеп- volk *, эти качества весьма причудливо сочетались с подчеркиванием важной роли индивидуальных свобод и отрицанием расизма как совершенно ложной идеологии. Рассказывают, что еще студентом Гейдельбергского университета он прослыл человеком независимых убеждений, строгих идеалов и даже скучным ипохондриком. В своих исследованиях, посвященных древним евреям, он отождествлял себя с пророком Иеремией и, как это ни забавно, Германию — парию среди наций — уподоблял евреям. Будучи теоретиком, он тем не менее не чуждался и политики. Теория и политика временами оказывались для него равноценными, часто он приходил к мысли о том, что ему следовало бы сделать политику своей профессией. Вебер питал презрение к кайзеру, так как он чувствовал, что политика императора вследствие ее неэффективности и неправильных методов управления неизбежно ведет к катастрофе. Действия кайзера, особенно в области внешней политики, Вебер считал гибельными, а позицию правящего класса — юнкерства — идиотской. И хотя в начале своей деятельности Вебер придерживался консервативных убеждений, он вскоре оказался в оппозиции к существующему режиму.
Вебер родился в Эрфурте в 1864 г. Члены его семьи принимали весьма активное участие в общественной жизни, а отец был довольно известным политическим деятелем. Однако с годами родители все больше отдалялись от сына, и это оставило глубокий след в душе молодого Вебера. Он рос чрезвычайно болезненным ребенком; его умственное развитие началось рано, книги, а не спорт составляли мир его увлечений. В Гейдельбергском университете Вебер стал изучать юриспруденцию, и здесь вскоре проявилась его склонность восставать против авторитета старших. Вместе с тем он не мог избегнуть обычаев студенческой жизни и вскоре внес свой вклад в традиционные дуэли. Некоторое влияние на него в этот период оказали произведения Уильяма Эллери Ченнинга, однако Вебер не выносил присущего ему пацифизма. Завершив изучение юриспруденции, Вебер занялся экономической историей и написал весьма квалифицированную диссертацию, посвященную средневековым торговым компаниям,— традиционное исследование, сочетавшее характерную для немецких ученых эрудицию с националистическими воззрениями. В этой работе еще мало что предвещало появление того исключительно независимого мыслителя, каким Вебер показал себя в последующие годы. В 1893 г. Вебер женился на своей дальней родственнице и занял должность профессора во Фрейбургском университете. В его первой лекции в качестве критериев политической мудрости фигурировали империализм, Realpolitik * и Гогенцоллерны. В 1896 г. он занял место Книса в Гейдельбергском университете, однако через два года Вебера постигло тяжелое душевное расстройство. С этого времени и до последних дней жизни состояние психики доставляло Веберу немало забот: периоды депрессии, на протяжении которых он едва мог смотреть на печатные тексты, сменялись периодами интенсивной умственной деятельности. Его выздоровление затянулось, и лишь в 1902 г. он смог вернуться к преподаванию в Гейдельбергском университете48. Вслед за этим Вебер занялся исследованиями в области экономической истории, политики и юриспруденции с такой интенсивностью, как будто пытался наверстать все упущенное время. Частые путешествия помогли преодолеть преследовавшее его ужасное ощущение постоянной тревоги. В 1904 г. он приехал в Соединенные Штаты с целью прочесть курс лекций в Сент- Луисе. В отличие от многих выдающихся людей, посетивших США, Вебер нашел эту страну очаровательной. С интересом наблюдал он Бруклинский мост, массовую перевозку грузов, Ниагарский водопад и странствующих юных чистильщиков сапог. Но с не меньшей силой поразило его и расточительство ресурсов в колоссальных масштабах. Труд, иммиграция, негритянская проблема и политические деятели — вот что привлекло его внимание. В Германию он вернулся со следующим убеждением: если современная демократия действительно нуждается в силе, которая уравновешивала бы бюрократический класс государственных служащих, то подобной силой может стать аппарат, состоящий из профессиональных политических деятелей 49. По возвращении в Гейдельберг он примкнул к кружку едва ли не самых просвещенных людей на континенте — частыми гостями были его брат Альфред, Вильгельм Виндельбанд, Георг Еллинек, Роберт Михельс, Зомбарт, Гуго Мюнстерберг и Георг Лукач. Постепенно он стал разделять демократические взгляды, но не как систему жизнеспособных
* Народ властителей (нем,).— Прим, перев.
* Реалистическая политика (нем.).— Прим, перев.
38
политических идей в традиционном англосаксонском духе, а скорее в плане практических средств, необходимых для управления обществом. После первой мировой войны Вебер изменил своим политическим симпатиям в пользу республики. В 1919 г. он поехал в Мюнхен, чтобы занять в университете место Брентано. Последние его лекции были изданы посмертно в 1923 г. под заглавием «Всеобщая экономическая история».
Подход Вебера к проблемам исторического развития был намного более вдумчивым, чем у Зомбарта. Заинтересовавшись методологическими проблемами, Вебер в первой же работе отверг предубеждения, разделявшиеся ранними представителями исторической школы, особенно Рошером и Книсом; эта работа, а также ряд других работ, посвященных методологическим проблемам, на протяжении длительного периода оказывали влияние на развитие общественных наук 50. Она положила начало теоретической борьбе, которую Вебер вел как против банальных выводов, свойственных чисто натуралистическому методу исследования, так и против идеалистического положения о том, что в области общественных дисциплин невозможно использовать научные методы исследования. Он стремился разработать строгую теоретическую концепцию, которая позволила бы осмыслить фактический материал в большей степени, чем это удавалось сделать до тех пор. Для этого необходимо было отбросить теоретическое наследие исторической школы, представители которой в причудливых формах сочетали извращенный марксизм с романтическими, идеалистическими представлениями о «духе», тем самым протаскивая в исследование общественных явлений интуитивную, а вместе с тем иррациональную методологию. Вебер видел свою цель скорее в том, чтобы в основу общественной науки положить раскрытие закономерностей, возможность количественного анализа и принцип рационализма. Другого пути установить причинные связи и удовлетворительно объяснить человеческое поведение он не видел.
Это привело его к разработке понятия «идеального типа»— одного из наиболее известных орудий исследования в современной общественной науке. Объяснение, говорил Вебер, не должно сводиться лишь к описанию, оно должно включать также интерпретацию открытий, так чтобы более полно понять содержание той или иной культуры. В этом и заключалась его «интерпретационная социология». Полностью воспринимая концепцию Verstehen, он придавал ей несколько иное содержание по сравнению со своими предшественниками. В то время как последние говорили о «понимании» как об исследовании генезиса явлений, у Вебера оно должно было основываться на определенных теоретических схемах, с помощью которых можно было бы установить необходимую причинную связь. Знание, говорил он, всегда носит абстрактный характер. Это верно даже в применении к эмпирическому материалу, так как каждый исследователь действительно знает лишь факты, представляющие для него непосредственный интерес. Следовательно, описание общественных явлений опирается на определенную теоретическую схему, разработка которой предшествует попыткам обобщения 51. По мнению Вебера, все виды человеческой деятельности внутри общества подразделяются на следующие четыре типа: первый характеризуется использованием разнообразных средств для достижения цели; Вебер называет его zweckrational *; второй — рациональный в использовании средств, но нерациональный с точки зрения цели — wertrational **; третий — продиктованный прежде всего эмоциональными побуждениями — aff ektual * * *; и четвертый— основанный на обычаях и привычных образцах- traditional ****. Указанная схема непосредственно связана с учением Вебера об «идеальном типе» и служила основой для описания общества как единого целого 52.
С помощью «идеального типа», доказывал Вебер, ученый, занимающийся общественными науками, создает абстракцию, удобную и в то же время позволяющую вскрыть существенные черты изучаемой им ситуации. Для того чтобы разобраться в том, как используется метод «идеального типа», важно, по-видимому, понять содержание, которое вкладывает в общественную деятельность тот, кто ею занимается б3. «Идеальный тип», безусловно, представляет собой искусственное построение, но в нем содержатся и элементы реальности, которые, будучи использованы в качестве орудия анализа, превращаются в логические понятия. Иллюстрацией могут служить «экономический человек» или «феодализм». Подобная абстракция дает описание исторических фактов путем сопоставления: действительно, исходя из исторического материала, можно сконструировать много таких «идеальных типов», которые облегчат исследователю обнаружение закономерно* Zweckrational (искаж. нем. zweckrationell) — целесообразный.— Прим, перев.
** Wertrational (искаж. нем. wertrationell) — рациональный с точки зрения используемых средств.— Прим, перев.
**♦ Affektual (искаж. нем. affektuell) — предпринятый в состоянии возбуждения, аффекта.— Прим, перев.
**** Traditional (искаж. нем. traditionell) — традиционный.— Прим, перев.
39
стей, содержащихся в общественных и экономических явлениях. Для того чтобы обнаружить в реальных фактах определенные важные черты, их, отмечал Вебер, сопоставляют с абстрактной теоретической моделью. Так, при изучении капитализма важно установить, почему он возник лишь в западных странах. Поэтому «идеальный тип» превращается в метод обнаружения уникальных аспектов, присущих конкретной исторической ситуации. В той мере, в какой это удается, «идеальный тип» оказывается сродни зомбартовскому понятию «системы». Хотя Вебер и не смог преодолеть влияние столь популярной в его время идеи «понимания», все же он придал ей рационалистическое содержание. Таким теоретическим категориям Вебера, как общество и государство, не присущ трансцендентализм, свойственный Зомбарту и большинству других представителей немецкой общественной мысли того времени. Данные категории используются скорее для того, чтобы объяснить поведение отдельного человека, и Вебер не позволяет возобладать в них ни материалистическим, ни идеалистическим элементам: те и другие рассматриваются как частные проявления общего процесса.
Хотя Вебер часто выступал против философии исторического материализма, многие приемы в его исследованиях свидетельствуют о влиянии марксистского метода. Однако для работ Вебера, как отмечают Герт и Миллс, в основном характерны попытки сгладить материализм Маркса, свести его к политическому и военному материализму 54. Маркс считал, что ключом к пониманию общественных явлений являются отношения, вытекающие из способа производства. Вебер же основное внимание сосредоточил на вопросах контроля над вооружением и политической администрацией, поскольку его интересовали главным образом разнообразные пути создания материальных орудий политической власти. Идея Маркса об отчуждении средств производства заменена у Вебера тезисом о бюрократизации политической и общественной жизни. В то время как у Маркса политическое и экономическое могущество неразрывно связаны между собой, Вебер рассматривал эти сферы совершенно обособленно. Он подчеркивал, что религиозные и политические идеи представляют силу сами по себе, а люди восприимчивы к этим идеям. Для Вебера идеи — не простая надстройка, они так же могут порождать напряженность и конфликты, как и стремление к материальной выгоде. Короче говоря, Вебер был согласен с Марксом в том, что государство представляет собой средоточие политической власти. Различие между ними заключалось лишь в неодинаковом подходе к этому вопросу. Стюарт Хьюз отмечал, что оба мыслителя, по существу, провели радикальный анализ общества б5.
Для Вебера капитализм означал рациональность в ее концентрированном выражении. Для Маркса такая концепция была неприемлема уже потому, что развитие производительных сил связано и ограничено существующими общественными отношениями. Вебер настаивал на том, что классовая борьба не занимает действительно центрального места в общественной жизни, ибо она вызывается лишь различиями в имущественном положении и переменным успехом, который выпадает на долю участников рыночных отношений. Социализм, как считал Вебер, лишь приведет к расширению бюрократизации экономической жизни — процессу, который внушал ему отвращение. Само по себе существование бюрократии представлялось Веберу рациональным. Однако развитие этого процесса, по его мнению, придает действиям его участников крайне рутинный характер и лишает их индивидуальности. Отчуждение становится всеобщим явлением, которое налагает отпечаток на каждого человека.
И хотя ни одно из этих положений не влечет за собой неизбежного отрицания аналитической экономической теории, произведения Вебера все же наводят на мысль о равнодушии к теоретическому анализу. Вебер в основном заимствовал результаты теоретических исследований у других авторов, а сам сосредоточивал внимание на вопросах, которые, по его мнению, носили более спорный характер. Одним из них он считал вопрос о взаимоотношениях между религиозными идеями и экономической организацией общества. Большая часть его исследований в данной области содержится в произведении «Экономика и общество», где Вебер пытается очертить институциональные рамки хозяйственной деятельности, а вместе с тем отыскать пути их изменения 56. Последняя задача, конечно, предполагает отказ от «естественного порядка», который проповедовали классики политической экономии. Наличие внутри общества глубоких трещин (tensions) порождает сомнение в том, может ли быть сохранена его стабильность. Однако Вебер был убежден, что экономика представляет собой такую систему, участники которой основывают свои решения на рациональном сопоставлении полезности и издержек. Этот процесс сопоставления, писал он,— неотъемлемый элемент капиталистического духа, развивающегося главным образом благодаря наличию соответствующей психологической почвы. К числу элементов капиталистической экономики отно40
сятся также рациональная государственная организация и система беспристрастного судопроизводства.
Когда Вебер переходил к экономическому анализу, его внимание всегда сосредоточивалось на проблеме денег и их использования. Его интерес привлекали также структура рынка и отношения между экономическими единицами и рынком. В этой связи становится понятным его внимание к проблеме денег: ведь они делают возможным распространение товарных отношений и способствуют развитию сложных форм обмена. Более того, деньги не только развивают присущую капиталисту склонность к наживе, но и позволяют осуществлять планирование, облегчая сопоставление сделок. Наличие ограниченного количества ресурсов порождает необходимость в особых формах их распределения; ввиду этого сложился такой уклад хозяйственной деятельности, при котором важнейшую роль играет выбор между имеющимися возможностями. И все же стремление к личной выгоде не обязательно приносит выгоды обществу, как это предполагала смитовская теория «невидимой руки Провидения». В действительности между личными и общественными интересами, как признавал Вебер, существует противоречие, которое он характеризовал несколько туманно как противоречие между формальной и содержательной (substantive) рациональностью. Последняя достигается, при таком функционировании экономики, когда удовлетворяются потребности общества в целом и вместе с тем не нарушаются некие общепризнанные этические нормы. Что же касается формальной рациональности, или того пути, по которому развитие экономики направляется индивидуальными актами обмена, то она зависит от методов списания капитала и от процесса непрерывного расширения рынка. Вебер не считал, что социализм эффективно разрешит эту проблему, в данном вопросе он стоял на тех же позициях, что и Мизес; все же он признавал, что рыночное равновесие недостаточно устойчиво и поэтому не может исключить возможность альтернативных решений 57. Однако ему представлялось, что единственно рациональное решение содержалось в теории рынка, разработанной ортодоксальной политической экономией,— решение, резко противоречившее признаваемому им принципу «санкционирования», в соответствии с которым частные предприниматели лишались свободного доступа в отдельные секторы хозяйства. Здесь возникала проблема монополии. И хотя Вебер пытался обойти затруднения, говоря не о присвоении вещей, а скорее о присвоении прав, все же совершенно очевидно, что его просто не интересовали абстрактные категории, которые мог предложить формальный экономический анализ.
Пространные рассуждения Вебера об отношениях между рабочими и предпринимателями содержат мало свежих идей 58. Он признавал> что в крупном производстве рабочий оказывается отделенным от средств производства и что важную роль в эффективном функционировании такого производства играет централизованное управление, основанное на праве частной собственности. Однако по мере укрупнения предприятий и расширения рынка, писал Вебер, хозяйство становится все менее гибким. Даже рабочие начинают относиться к своему месту работы с точки зрения «права собственности» на него, тем самым усиливая жесткость системы. По Веберу, «формальная рациональность», или индивидуальные рыночные операции, должна осуществляться в соответствии с принципом «laissez faire». Это предполагает частную собственность, отчуждение рабочих от орудий производства, максимизацию прибыли, возможность исчисления издержек производства, экономическую систему санкций и рациональную денежную систему59. Тем не менее трактовка Вебером экономических проблем носит фрагментарный характер, хотя и весьма интересна (например, в той части работы, которая посвящена экономическим стимулам) 60. Но экономист, особенно тот, кто знаком с произведениями Веблена и Маркса, обнаружит у Вебера мало оригинальных мыслей. Концентрируя внимание на рыночных отношениях и рассматривая проблему определения издержек с помощью механизма денежных отношений, автор получал возможность провести ряд полезных наблюдений, однако Вебер, по всей видимости, не проявлял серьезной заинтересованности в использовании такой возможности. Его внимание скорее привлекали вопросы, которые носят в основном социологический или неэкономический характер.
Основной вклад Вебера в теорию происхождения капитализма содержится в его книге «Протестантская этика и дух капитализма». В ней он подчеркивает, что самостоятельное функционирование идей является существенной основой для экономического роста. Эффективное функционирование капитализма, доказывал Вебер, предполагает, что для человека духовный и материальный аскетизм сами по себе обладают ценностью. Указанные качества Вебер находит у кальвиниста, который рассматривает успех предприятия как главную цель и тем самым стремится доказать свое право называться одним из избранников божьих. Кальвинистское учение требует непрестанного 41
упорного труда и не допускает жизни, исполненной удовольствий. Полученный доход может быть использован лишь для новых вложений в предприятие, а такое аскетическое поведение стимулирует накопление капитала. Благоразумие, непрерывный труд, бухгалтерские счета, которые точно ведутся с целью в любой момент выяснить, как обстоят дела, миролюбивая торговля — лишь это совместимо с требованиями кальвинизма. Кроме того, влияние религии на развитие экономики Вебер описал в своем очерке, посвященном протестантским сектам в Соединенных Штатах 61, где положение, занимаемое человеком в деловом мире, непосредственно зависело от того, входил ли он в число церковных прихожан. Принадлежность к секте, писал Вебер, служила сертификатом, удостоверяющим строгость моральных качеств и деловую честность. Исключение из состава секты за аморальный проступок часто означало и утрату прежнего места в хозяйственной жизни, тогда как приобщение к религии сулило успех в предпринимательской деятельности. Подчеркивая роль внешних факторов в данном случае, Вебер писал, что в экономике нельзя строить объяснение на одних внутренних элементах: в систему теоретических представлений необходимо вводить и существенные внешние силы. Вебер не хотел сказать тем самым, что протестантская религия вызвала к жизни капитализм; он просто пытался определить, в какой мере религиозные силы оказывали влияние на ход экономического развития. Получившая распространение на Западе рационалистическая форма капитализма не обнаружилась в экономическом развитии Индии или Китая, ибо, как полагал Вебер, только в Европе на некотором этапе ее исторического развития совпали определенные течения духовной жизни и материальная заинтересованность, в результате чего были вызваны к жизни известные нам экономические формы. Согласно его точке зрения, при развитии капитализма в западных странах религия помогла формированию эффективного орудия накопления богатства 62. Однако чем больше его раздражала политика германского государства, тем яснее он сознавал, насколько успех той или иной идеи зависит от материальных интересов63. Вопреки желанию он стал приближаться к марксистским взглядам * *.
* Здесь, как и в ряде других случаев, Селигмен пытается выдать за марксизм вульгарные концепции «экономического материализма». Вместе с тем нет никаких оснований характеризовать взгляды Вебера как материалистические. Излагаемая ниже классификация различных типов «капитализма» может наглядно свидетельствовать о том, насколько далек был Вебер от материалистического понимания истории.
Некоторые аспекты капиталистического развития, писал Вебер, можно проследить более отчетливо, если разграничить «типы» капитализма. При политическом капитализме прибыль возникает в результате войн и завоеваний. Его характерными проявлениями служат погоня за рискованными приключениями, стремление к колониальным захватам и грабеж. Капитализм парий воплощает действия определенных незначительных экономических групп, например евреи или парсы. Империалистический капитализм сопровождает политическую экспансию, об этом свидетельствует опыт Британской империи. Фискальный капитализм, типичный для предшествующих стадий исторического развития, основывался на налоговом обложении сельскохозяйственного производства, как, например, в Древнем Риме и при королевском строе во Франции. Однако в современных условиях важную форму образует промышленный капитализм, характерными чертами которого являются фабричное производство и использование наемных рабочих (уже отделенных от орудий производства); он базируется на значительных вложениях в основной капитал. При этой форме капитализма все элементы производства особенно тщательно сбалансированы с помощью системы двойной бухгалтерии.
Современный капитализм, говорил Вебер, действительно представляет собой весьма рациональную форму. Иррациональными представляются, пожалуй, религиозные элементы и непрестанная жажда деятельности. Однако сама высокая рациональность системы навязывает принудительные нормы деятельности, которые для многих людей часто означают утрату свободы. Свобода доступна только богатым, которые могут избежать повседневного труда, и, как предупреждал Вебер, человечеству угрожает усиливающееся обезличивание и торжество рутины. Подлинно культурных людей становится все меньше, их вытесняют специалисты и фанатики организации. Такое описание свидетельствует о том, что Вебер уловил связь между представлениями о данной человеку charisma * и усилением бюрократических черт в организации общества. Развитие процессов рационализации делает неизбежной бюрократическую структуру, а это, несомненно, Идеалистическая методология служила у Вебера апологетическим целям. С ее помощью он пытался доказать «вечность» капитализма; вся история экономического развития в такой интерпретации сводится к эволюции капитализма в направлении наиболее «рациональных» форм.— Прим, перев.
* В древнегреческой мифологии слово «харизма» обычно означало возможность творческой деятельности, которую боги даровали людям.— Прим, перев.
42
несет с собой угрозу подлинной личной свободе — как мы смогли убедиться на примере современного «человека, подчиненного организации» 64. Столь мрачной перспективы человек может избежать, писал Вебер, в том случае, когда наряду с charisma он обладает выдающимися способностями в области руководства и управления, в специфической для данного человека форме. При условии использования charisma мог бы возникнуть новый общественный институт, и это позволило бы предотвратить развитие бюрократизма, которое грозит поглотить человека промышленной эпохи 6б.
Исходя из таких теоретических представлений, Вебер не считал, что рост населения или приток благородных металлов из Нового Света обеспечил достаточные условия для развития капитализма. Согласно концепции Вебера, в основе развития капитализма лежали психологические факторы. Географические факторы, требования, предъявляемые войнами, и спрос на предметы роскоши способствовали развитию капитализма, однако главным фактором являлись, по мнению Вебера, описанные им особенные черты человеческого характера. Такие представления напоминали теорию Зомбарта, однако Вебер отвергал идею о том, что носителями капитализма были евреи. Вебер писал, что евреи не изобрели коммерческого векселя, паевого капитала или акционерной компании. Они были народом-«гостем», находившимся вне политической организации общества и лишенным какого бы то ни было влияния 66. Созидателем капитализма выступил христианин, который не боялся нововведений и стремился отбросить традиции. Необходимые для этого духовные качества, черты характера, как писал Вебер, можно обнаружить в кальвинизме — религиозном учении, которое говорит предпринимателю, что он является прежде всего руководителем, для чего бог и наделил его всеми необходимыми качествами. Капитализм превращается в «призвание», а рациональная деятельность предпринимателя — в осуществление божественных предначертаний. Следовательно, капиталист может стремиться к получению прибыли, не испытывая чувства страха или вины; совесть его чиста. Предприниматель- кальвинист «...платил рабочим за аскетическую верность призванию и за их усилия, которые он безжалостно эксплуатировал капиталистическим путем, перспективой вечного спасения...»67. Пройдет много десятилетий, прежде чем такие этические нормы сбросят своей религиозный наряд.
Насколько верна подобная концепция? Кальвин обладал довольно широкими познаниями в предпринимательской деятельности, почерпнутыми из коммерческого опыта городов Север- ной Италии. Он всегда был близок к предпринимательской деятельности и к предпринимателям; часто купцы, в чьи души закрадывались сомнения относительно своих торговых операций, шли к Кальвину за советом. В конце концов, и Лютер не изменил средневековых взглядов на торговлю 68. Но при этом все же остается нерешенным основной вопрос: оправдывала ли новая религия осуществлявшиеся независимо от нее действия предпринимателей и вела ли она людей новыми путями к небесному царству на земле или же средний класс предпринимателей просто обратился к новому религиозному учению для того, чтобы найти в нем оправдание любым своим действиям? Ответ, который давал на этот вопрос Вебер, явно навеян некоторыми пуританскими предшественниками: без особых сомнений в основу буржуазных добродетелей он положил кальвинистское религиозное учение. Однако на ранней стадии развития протестантской религии пуритане лишь в малой мере обнаруживали аскетические качества, которые у Вебера играют столь существенную роль. Голландские кальвинисты, английские пуритане и французские гугеноты не нуждались в религии как шпорах. Им вовсе не были чужды пиратство, выгодные монополии, попойки и карточные игры 69. Что действительно объединяло их взгляды — это отрицание абсолютизма, непреклонный индивидуализм и упорный протест против незаконного расширения власти со стороны молодого национального государства.
Ни Вебер, ни основной его оппонент Луйо Брентано, который подчеркивал роль политических идей как катализатора общественного развития, не дали полного объяснения успехам капитализма. Конечно, потребности государства в непрерывном расширении производства играли не меньшую, а скорее даже более важную роль, чем религиозное движение. Известное влияние могли оказать и расширение производства для увеличивавшейся армии, и ненасытная потребность королевской власти в предметах роскоши, которыми одаряли куртизанок (значение данного фактора отмечал Зомбарт). Капитализм мог представлять собой, по выражению Зомбарта, «незаконнорожденного ребенка». Мириам Бирд указывала, что идеи Вебера и Зомбарта можно развить таким образом, что кальвинисты того времени окажутся «идеальными поставщиками пушек для королевского флота и шелковых чулок для любовниц короля». Далее она пишет: «Возможно, это и так, во всяком случае, было бы жалко полностью отвергать эту единственную веселую 43
теорию среди угрюмого ряда положений «мрачной науки» политической экономии» 70.
Как бы то ни было, чрезмерный акцент, который Вебер делал на свойствах рациональности, лишь в малой степени согласуется с фактами. Его подход слишком ограничен, чтобы раскрыть сущность явлений политики или экономики. Рациональность, присущая капитализму, обманчива; в этом отношении гораздо более удачен принадлежащий Веблену анализ механизма предпринимательской деятельности и его вывод о том, что данной системе явно не присущ подлинный функционализм. К тому же идея Вебера о влиянии религии содержит определенную натяжку. В XV в. в коммерческих центрах Южной Германии и Флоренции капиталистические отношения получили не меньшее развитие, чем в Женеве, а между тем указанные центры были католическими! Можно даже доказать, что движущей силой капитализма был католицизм, как это и попытался сделать Г. М. Робертсон 71. Нельзя также отрицать с такой легкостью, как это делал Вебер, влияния, оказанного эпохой географических открытий и колоссальным притоком золота и серебра из Америки. Зачатки капиталистического предпринимательства существовали еще до описанных Вебером изменений в религиозных воззрениях. Вместе с тем он, по-видимому, прошел мимо ряда факторов светского характера, оказавших воздействие на капитализм и описанных в работах предпринимателей по вопросам денежного обращения и цен. Да и английские пуритане не были такими уж кальвинистами, как их представлял Вебер. Индивидуализм, присущий позднему пуританизму, женевский синод должен был бы предать анафеме. К тому же в Англии протестантская этика вряд ли могла в равной степени оказать влияние на аристократа и левеллера, купца и ремесленника. Капиталистический дух на деле оказался гораздо более сложным явлением, чем это готов был допустить Вебер.
5. БРЕНТАНО, БЮХЕР, ВАГНЕР И КНАПП
Против тезиса Вебера о влиянии кальвинистской религии резко выступил Людвиг Йозеф (Луйо) Брентано (1844—1931). Брентано вполне обоснованно ссылался на многочисленные исторические факты из эпохи Возрождения, которые свидетельствуют о том, что жажда власти и погоня за деньгами не нуждались в благословении Жана Кальвина. Брентано, один из замечательных преподавателей своего времени, блистательно излагал материал своих лекций. Но деятельность Брентано не ограничивалась чтением лекций, он принимал активное участие в пацифистском движении и принадлежал к числу наиболее известных европейских пацифистов. Он написал огромное число книг, и многие из них по-прежнему заслуживают самого серьезного изучения 72. Отвергая представления о высшем предназначении государства в сравнении с индивидуумом, Брентано довольно проницательно подметил, что те, кто правит государством, часто склонны злоупотреблять властью. Воззрения Брентано явно носили гораздо более либеральный характер, чем взгляды других представителей исторической школы. Он считал свободу торговли важным идеалом; экономические реформы, по его мнению, не следует предпринимать без обоснования и продуманной подготовки. В книге, посвященной экономической истории Англии — исследовании, которое сохранило свою ценность до настоящего времени,— Брентано прослеживает происхождение профессиональных союзов, первые шаги в области трудового законодательства и отношение профсоюзов к средневековым гильдиям. Рассматривая труд как товар, он высказывал убеждение, что профессиональные союзы вполне могут защитить свои интересы и без помощи государства. Брентано использовал теоретический анализ искуснее, чем Шмоллер, и продемонстрировал намного большую широту взглядов. Брентано не был фанатичным защитником принципа laissez faire: он допускал необходимость законодательного регулирования, но в умеренных масштабах. Пацифистские воззрения Брентано порождались теми же чувствами, что и его глубокая забота об угнетенных.
Брентано отмечал, что экономические единицы всегда враждуют между собой и каждая из них пытается приобрести все, что представляется возможным. Однако внутри самой экономической единицы отдельные ее члены некогда были связаны братскими чувствами. К несчастью, экономическая единица со временем стала вырождаться: ее члены, как, например, в первобытной семье, оказывались зараженными теми же моральными качествами, которые господствовали в отношениях между экономическими единицами. С этого времени содержанием хозяйственных сделок между всеми людьми становится погоня за прибылью. Такой подход открывал весьма интересные возможности для 44
исследований, и он использовал эти возможности (пожалуй, даже сверх меры). Брентано, несомненно, принадлежал к числу наиболее одаренных представителей немецкой исторической школы. Стремясь придать истории и политической экономии научный характер, он в то же время сознавал, что им свойственны черты искусства, так как лишь последние вдыхают жизнь в эти науки.
Карл Бюхер (1847—1930) получил широкую известность благодаря своей интересной, хотя и несколько механистической работе, посвященной национальной экономике 73. Анализ капитализма Бюхер начинал с изложения довольно обширных сведений из области этнографии и антропологии, после чего он переходил к описанию «стадий». Экономическое развитие, писал Бюхер, осуществлялось в пределах семьи, города и нации. Схематичность данной классификации не вызывает сомнений, однако Бюхеру удалось заложить в нее ряд плодотворных идей об использовании капитала и доходов. На ранней, семейной стадии развития хозяйства произведенные продукты предназначались для членов семьи. Городское хозяйство характеризовалось более широкими масштабами, продвижением товаров от производителя к потребителю. В условиях национального хозяйства товары проходят через руки множества людей. Такая концепция, по существу, содержала объяснение капитализма с точки зрения структуры рынка. В действительности, писал Бюхер, подлинного капитализма не существовало до тех пор, пока не была достигнута последняя стадия 74. Лишь на этой стадии полностью реализуются такие экономические категории, как капитал и процент.
Бюхер признавал, что указанные стадии охватывали длительные периоды исторического развития. Так, для последних этапов развития Римской империи и многих десятилетий эпохи средневековья характерно семейное хозяйство, которое в то время просто не подвергалось дальнейшим изменениям. На последних ступенях стадии семейного хозяйства начало развиваться городское хозяйство, внутри которого постепенно расширялся обмен, и это обеспечивало стимулы для эволюции новой экономической формы; ее носители — торговые классы — выделились из остальной массы населения, ориентировавшейся на феодальное поместье. Возникла такая общественная структура, которая благодаря своему эффективному хозяйственному функционированию создала основу для перехода к следующей стадии экономического развития. А когда наконец производство товаров стало выходить за пределы города, было положено начало процессу образования более широких рынков, требующихся для развития национального хозяйства. С этими экономическими процессами, отмечал Бюхер, переплетались широкие политические движения; и если в свое время город обеспечивал политическую и институциональную основу для экономической экспансии, то государство воздвигло защитительный барьер в интересах новых экономических групп в национальном масштабе. Книге Бюхера присуща, к сожалению, модификация гегелевской идеи эволюции в направлении более совершенных форм существования. Негибкий подход Бюхера вызвал резкую критику его концепции со стороны Зомбарта; последний считал, что механистический и нереалистический анализ Бюхера игнорирует многие стороны капитализма. Все же произведения Бюхера оказали определенное влияние, особенно на некоторых видных историков трудовых отношений, например Джона Р. Ком- монса 75. Во всяком случае, не вызывает сомнений, что склонность Коммонса к сопоставлению отношений на различных стадиях экономического развития восходит к Бюхеру.
Более широким влиянием пользовались произведения другого представителя исторической школы, специалиста в области государственных финансов Адольфа Вагнера (1835—1917). По своей методологии Вагнер занимал, по-видимому, промежуточное положение между Менге- ром, par excellence * экономистом-аналитиком, и Шмоллером. Вагнер воспитывался на произведениях классиков политической экономии, но, подобно другим представителям исторической школы, он сознавал, как бесконечно сложна реальная экономическая жизнь. В своей работе о государственных финансах ему удалось успешно избежать камерального и административного подхода; он достиг этого, превратив вопросы налогового обложения в составную часть проблем политической экономии. Вагнер считал, что государственные финансы могут стать эффективным орудием достижения социальной справедливости. Он полагал, что нетрудовой доход от повышения стоимости городских земельных участков должен направляться населению. Хотя политические взгляды Вагнера носили в основном консервативный характер, он понимал, что если общество хочет выжить, оно должно прибегнуть к социальным реформам. По сравнению с другими представителями исторической школы Вагнер более широко использовал в своей концепции экономического развития юридические понятия, однако он отвергал понятие «естественных прав», как их трактовала классическая школа, ибо * По преимуществу (франц.).— Прим, перев.
45
права, по его мнению,— это продукт общественного развития. Вагнер был близок к Бисмарку; представляется возможным, что отношение Вагнера к реформам определялось политическими запросами монархии.
Еще одним выдающимся представителем этой группы был Г. Ф. Кнапп (1842—1926), автор получившей известность теории денег. Начав свой путь как статистик, он впоследствии занялся теорией и историческими исследованиями. Кнапп разделял как ошибки, так и заслуги исторической школы. Возглавив в двадцать пять лет Лейпцигское статистическое бюро, он внес заметный вклад в теорию статистического измерения смертности. Цикл его исторических исследований открывается работой, посвященной сельским рабочим Пруссии; крупные поместья рассматриваются в ней как капиталистическая форма развития сельского хозяйства. Перейдя к исследованиям в области теории денег, Кнапп в 1895 г. опубликовал книгу «Государственная теория денег» 76. Если судить об успехе книги по числу ее критиков, то эта книга имела выдающийся успех. Кнапп доказывал, что бумажные деньги в действительности лучше металлических, так как ценность первых может опираться на силу эмитирующего их учреждения — государства. Однако преобладающая часть экономистов считала подобную концепцию совершенно ошибочной и неудовлетворительной 77, так как она подрывала их веру в объективный характер экономических законов.
6. АРТУР ШПИТГОФ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СТИЛЬ
Последним выдающимся представителем исторической школы явился Артур Шпитгоф (1873—1957). Шпитгоф с 1899 по 1908 г. был ассистентом Шмоллера, а после смерти Шмоллера в 1917 г. стал редактором «Jahrbuch». Он изучал экономические и политические дисциплины в Берлинском университете, а в 1905 г. завершил работу над докторской диссертацией, посвященной экономическим кризисам. Шпитгоф завоевал мировую известность в качестве одного из наиболее выдающихся специалистов в области экономического цикла. Он читал лекции в Берлинском и Пражском университетах, а затем в Боннском университете, где познакомился с Йозефом А. Шумпетером. Хотя Шпитгоф писал для «Jahrbuch» много статей по различным вопросам, в наибольшей степени его по-прежнему интересовала проблема экономических кризисов 78. Исследования в этой области принесли ему мировую известность; однако сам Шпитгоф всегда подчеркивал, что его вклад не столько носил теоретический характер, сколько заключался в изучении исторического материала.
Шпитгоф не может быть причислен, строго говоря, к исторической школе, однако его методология исследования эмпирических данных совершенно аналогична той, которую разработали представители этой школы. Исходя из определенной теоретической схемы, Шпитгоф накапливал относящиеся, по его мнению, к проблеме факты и использовал их для дальнейшей проверки теории. Он непосредственно брался за изучение проблемы; в отличие от Шмоллера, который проявлял склонность к универсализму, Шпитгоф и не пытался охватить все вопросы общественного устройства. В предисловии к новому изданию обширной работы об экономических циклах Шпитгоф утверждал, что существуют два вида теоретических работ — «чистая» теория, например у Рикардо, фон Тюнена или Менгера, и эмпирическая, «основанная на наблюдении» (anschau- liche) теория, как, например, у Шмоллера или Вебера. И хотя обе используют метод абстракции, Шпитгоф не считал, что один вид теории может быть преобразован в другой. Чистая теория, писал он, исходит из подобранных сведений, однако она лишь в редких случаях адекватно отражает действительность, тогда как теория, «основанная на наблюдении», черпает информацию из реальной жизни, но абстрагируется от единичных явлений, стремясь выделить их регулярно повторяющиеся признаки. Другими словами, следует выделять и изучать повторяющиеся черты в экономических явлениях: Шпитгоф писал о том, что при анализе должны приниматься в расчет не случайные исторические события, а существенные, регулярно повторящиеся признаки. Таким образом, система, основанная на наблюдении, позволяет дать подлинно теоретическую характеристику изучаемых явлений, и ее не следует смешивать с чистой теорией.
Шпитгоф полагал, что его исследование проблемы кризисов соответствует такой методологии. Но оно имеет смысл, как он подчеркивал, лишь для «эпохи, которая характеризуется преобладанием высокоразвитой капиталистической экономики с ее рыночной системой, 46
функционирующей в основном на началах свободной торговли» 79. Поэтому его анализ циклов был ограничен периодом расцвета капитализма — с 1822 по 1913 г. Последующие годы, как полагал Шпитгоф, ознаменовались появлением новых факторов, так что речь шла уже не о простом повторении прежних исторических событий, а скорее о совершенно новом историческом периоде. В этом отношении Шпитгоф, несомненно, прав, несмотря на то, что в последующие годы, так же как и до первой мировой войны, в экономике можно обнаружить циклические процессы. Из теоретических представлений Шпитгофа следовал такой вывод: уникальные черты отдельных типов хозяйственной деятельности нужно исследовать таким образом, чтобы используемые при этом аналитические категории не утрачивали смысла. Экономические явления обусловлены исторической обстановкой, поэтому сомнительны попытки применить к ним универсальные логические категории. В лучшем случае различные типы хозяйственной деятельности можно описать как «стили», требующие особой теоретической характеристики. Шпитгоф писал: «В той мере, в какой возможность применения экономической теории зависит от наличия и степени преобладания определенного хозяйственного стиля, элементы которого воплощаются в системе теоретических положений, в той же мере сама экономическая теория является “исторической категорией”» 80. История знает много хозяйственных стилей, но каждый из них может быть охарактеризован с помощью особой теоретической концепции, которая дополнит общую систему взглядов, свойственных чистой теории. Такие концепции возникают на основе определенных исторических условий и в связи с практическими проблемами, с которыми сталкиваются их авторы 81. Теоретик, указывал Шпитгоф, исходит из знакомых ему явлений, поэтому ошибочно утверждение, что теоретические работы, относящиеся к определенному времени и месту, справедливы для любых условий.
Далее Шпитгоф расчленил экономическую теорию на три широких подразделения: 1) вне- историческая чистая теория, которая выглядит универсальной и использует построения, именуемые моделями; уместность применения большей части их сомнительна; 2) историческая теория, которая может оперировать либо веберовскими идеальными типами в качестве орудий анализа, либо «реальными» типами в духе Шпитгофова анализа, основанного на наблюдении, и 3) экономическая история в ее обычном виде. Шпитгоф предпочитал основанный на наблюдении анализ, при котором, исходя из системы понятий методом индукции, отбирают существенные явления для сопоставления их с первоначальной гипотезой. Цель исследования, писал Шпитгоф, заключается в разработке таких обобщений, которые правильно характеризуют наблюдаемое единообразие признаков. Следовательно, теория, основанная на наблюдении, от начала и до конца носит аналитический характер, поскольку имеет дело с единичными событиями хозяйственной жизни и вместе с тем характеризуется последовательным историзмом, поскольку в событиях содержатся повторяющиеся признаки. С философской точки зрения система теоретических воззрений Шпитгофа, по-видимому, примыкает к феноменологическим концепциям, а также к гештальтпсихологии.
Центральное место в воззрениях Шпитгофа занимало понятие «стиля», которым он обозначал как определенные институциональные формы, так и сами теоретические модели; однако чаще он предпочитал первое из указанных значений. Для того чтобы описать повторяющиеся признаки явлений, теоретик вводит понятия, которые характеризуют хозяйственный стиль в целом. Как полагал Шпитгоф, существует различие между его концепцией и концепцией Макса Вебера; понятие «стиль» у Шпитгофа не совпадает и с зомбартовской «системой». Шпитгоф утверждал, что каждый «стиль» заключает в себе своеобразные внутренние связи и характеризуется целостностью, и то и другое следует постичь. Это, по существу, форма или образ, который хозяйственная деятельность принимает в данную историческую эпоху. И для того, чтобы установить ее «специфику», нужно отыскать характерные для хозяйственной жизни единообразные признаки.
В применении к теории экономического цикла это означает, что каждый кризис обусловлен историческими и социологическими причинами. Метод исследования, используемый здесь Шпитгофом, наглядно отражает его философские воззрения. Экономические циклы не представляют самостоятельного явления, а образуют часть хозяйственного Gestalt*, включающего исторические и фактические, а также теоретические элементы. Какие бы дедуктивные суждения ни высказывались, все они основаны на историческом индуктивном анализе. На кульминационной стадии анализа следует воссоздать такую теоретическую модель, которая содержала бы все стадии обычного цикла, характерного для развитой капиталистической экономики.
* Форма, образ (нем.).—» Прим, перев.
47
Шпитгоф выступал против применения одной лишь чистой теории, исходя из своих представлений о том, что она способна исследовать только единичные явления вне их взаимной связи. При отсутствии эмпирических критериев трудно установить контроль над дедуктивными суждениями. Шпитгоф писал, что практическая ценность любого метода в конечном счете зависит от того, как ставится проблема и насколько плодотворны исходные предположения. Если исходить только из этого, то метод, основанный на наблюдении, по-видимому, ближе к реальности. При использовании метода индукции можно сопоставить полученные выводы с соответствующими фактическими данными, а последние, разумеется, могут воплощать характерные черты изучаемой экономической ситуации. В этом смысле теория, основанная на наблюдении, исследует формы хозяйственной жизни, или скорее стили. Науку, изучающую стили, следует отличать от экономической истории как таковой, рассматривающей чередование уникальных исторических событий. Однако Шпитгоф допускал, что отличие часто вытекает не из содержания анализа, а скорее из подхода к нему 82. Он также не собирался доказывать, что достаточно использовать один индуктивный метод, ибо объективная причинная связь отличается от связи между поступками и их мотивами; в первом случае устанавливается связь между явлениями, тогда как во втором случае, более сложном, требуется интуитивный подход. В связи с этим Шпитгоф допускал также необходимость использования дедуктивных приемов.
В специальном анализе проблемы экономического цикла отправным пунктом служит период подъема, начало которого знаменуется резким расширением прибыльных инвестиций. Последние связаны либо с новыми открытиями, либо с тем, что в предшествующий период депрессии часть инвестиций была отложена. На второй стадии процесса развертывается строительство новых предприятий; предъявляя спрос на средства производства, оно не расширяет масштабов личного потребления. Когда же потребление начинает увеличиваться, цены уже находятся на более высоком уровне и катастрофа становится неизбежной. Неравномерное распределение доходов также способствует наступлению кризиса. Все это — проявления капиталистического процесса, существенным элементом которого является неспособность индивидуума предвидеть конъюнктуру и быстро приспосабливаться к ней. Но наиболее важная причина затруднений связана в конечном счете с нехваткой определенных товаров производственного назначения. На последней стадии подъема недостаток капитальных благ возникает в связи с неправильным расширением производства.
В такой трактовке экономический цикл — это уже не просто проблема перепроизводства, а скорее свойство экономики. Кризисы порождаются обновлением техники производства и громадным расширением рынков при капитализме. В действительности, писал Шпитгоф, перепроизведенными оказываются именно производственное оборудование, а также материалы, из которых оно изготовляется. Расширение производства в отраслях, производящих капитальные блага, влечет за собой развитие отраслей, поставляющих им необходимую продукцию, например уголь, станки, резину и стекло. Когда в этих отраслях возникает избыток производственных мощностей, уменьшаются прибыли и нарушается сложное равновесие между поступлением дохода от капитала и расширением отраслей, производящих капитальные блага.
На концепцию Шпитгофа, как легко заметить, оказали чрезвычайно сильное влияние взгляды известного русского экономиста Туган- Барановского, который видел решение загадки цикла в диспропорциях между выпуском средств производства и предметов потребления 83. Мысль Туган-Барановского о том, что главную причину депрессии составляют диспропорции в структуре капиталовложений, увлекла Шпитгофа возможностью эмпирического исследования; работу Туган-Барановского он считал первым серьезным современным исследованием проблемы экономического цикла 84. В статье «Перепроизводство», написанной для «Энциклопедии общественных наук», Шпитгоф пытается провести различие между чисто экономическими и социально-экономическими факторами перепроизводства. В первом случае оно означает недостаточность прибыли при обычных условиях производства, а во втором случае — превышение масштабов производства над потреблением. Шпитгоф допускал, что указанное деление носит формальный характер, потому что кризис перепроизводства является составной частью социально-экономической формы цикла. Поскольку предприниматели всячески избегают производства товаров без прибыли, трудно отыскать фактический материал, который иллюстрировал бы экономическое перепроизводство в чистом виде. Предприниматель скорее понизит цены или изменит график выпуска продукции, чем продолжит производство при нулевой прибыли. А это порождает множество других проблем, в основном социологического характера, и со всей очевидностью показывает, что цикл представляет собой исторически обусловленное явление.
48
Экономическая активность исчерпывается, и недостаток в капитале возникает, отмечал Шпитгоф, как раз на последней стадии хозяйственного подъема. Перепроизводство в самом широком смысле этого слова становится неизбежным и обнаруживается в форме избыточного производственного оборудования, безработицы, сокращения производства, демпинга, снижения издержек и т. п. Шпитгоф понимал, что перепроизводство — это не простое явление, оно включает сложный комплекс изменений, охватывающих всю экономику. Его не следует смешивать с такими ситуациями, когда внезапно товары устаревают или временно сокращается спрос в связи с чрезмерно высокими ценами или низкими доходами. Отличительную черту перепроизводства составляет производство избыточной продукции для отраслей, выпускающих капитальные блага, часто оно сопровождается кредитным крахом, а также финансовой паникой. Прекращается рекламная активность компаний и приостанавливается спекулятивная деятельность 85.
Шпитгоф подчеркивал, что важным фактором, определяющим размеры капиталовложений, служит не текущая прибыль, а скорее ожидаемые доходы — для того времени это весьма ценное наблюдение. Норма процента, писал он, указывает на стоимость заемного капитала и служит рынку капиталов в качестве примерного ориентира. Концепция Шпитгофа уже включала такие понятия, как чистый процент и премия за риск, хотя трактовка этих понятий у него не носила сугубо аналитического характера. Однако проблему движения процентной ставки он иллюстрировал множеством исторических примеров, показывающих изменение рыночных курсов консолей и других ценных бумаг. Но, несмотря на влияние изменений в условиях денежного обращения и нормы процента, важнейшей причиной хозяйственного подъема остается рост инвестиций. Именно закупки чугуна, угля и строительных материалов, используемых для строительства предприятий, оказывают наибольшее влияние на ход экономического цикла. А сам бум отмечен значительным движением средств между рынком капитала и денежным рынком,— движением, которое заслоняет важнейший факт перепроизводства товаров производственного назначения, или, как их называл Шпитгоф, «косвенных предметов потребления». Потребление этих товаров в колоссальных масштабах в фазе подъема непосредственно отражает, конечно, инвестиционный процесс, тем не менее ключом к пониманию кризисов служит выпуск товаров производственного потребления. Изменения и сдвиги могут быть нерегулярными, не исключена возможность некоторого влияния, оказываемого колебаниями в размерах урожая; однако наиболее важное значение принадлежит в конечном счете реальным факторам, связанным с диспропорциональностью инвестиций 86fc Производство инвестиционных товаров, по-видимому, не может точно следовать за накоплением капитала и расширением спроса.
Изложение этих теоретических представлений сопровождается историческим описанием экономических циклов за длительный период, представляющим интерес главным образом для специалистов. Однако приводимые в нем факты дают четкое представление об основном направлении анализа Шпитгофа. И то, что конечная причина циклического развития внезапно переносится с «реальных» факторов на «психологические», можно объяснить его стремлением охватить все существенные элементы цикла 87. В то время как расширение производственных мощностей и увеличение производства могут привести к накоплению непроданных товаров, возникающие в результате подъема расчеты на будущее порождают чувство возбужденности, а «все остальное довершает психология масс» 88. Главным побудительным мотивом служат высокие доходы на капитал. Если при этом процентная ставка намного ниже, чем прибыль, тогда в качестве дополнительных стимулов выступают расчеты на будущие доходы. Развитие новых отраслей, новых рынков, новой технологии укрепляет надежду на увеличение прибыли. К числу стимулов можно отнести даже понижение цен. Однако для такого развития требуется наличие достаточных трудовых ресурсов, в противном случае неизбежно станут прибегать к окольным методам производства, которые не дадут должного эффекта 89. Влияние указанных факторов усиливается благодаря доступности кредита. Единственный способ сохранить равновесие состоит, как полагал Шпитгоф, в точном соответствии между выпуском косвенных предметов потребления и спросом на них со стороны предприятий, производящих капитальные блага. Однако поскольку это разные отрасли, трудно избежать нарушений равновесия и диспропорций. Выпуск товаров производственного потребления, или косвенных предметов потребления, быстро реагирует на изменения спроса, поэтому он легко может превысить существующий спрос, как это происходит в знаменитой паутинообразной модели * 90. Шпитгоф полагал, что * Паутинообразная модель — одна из математических моделей цикла, наиболее подробно разработанная М. Езекиэлом и Р. Гудвином. Описание этой модели см. в книге: Р. Аллен, Математическая экономия, М., ИЛ, 1963, стр. 22—36.— Прим, перев.
4 Б. Селигмен
49
в силу указанных причин капитализм нуждается в непрерывном расширении производства, а также в постоянных поисках новых сфер применения для производимых товаров и в создании нового спроса. Капитализм, писал он, должен «опираться на завоевание либо нового пространства, либо новых сфер деятельности» 91. В этой связи нужно заметить, что рекламным агентствам и современным автомобильным фирмам советы Шпитгофа явно пришлись по душе.
В основе теории Шпитгофа, в сущности, лежат движущие силы, вызванные к жизни возможностью новых инвестиций. Однако на стадии подъема существует точка насыщения, так как при данном уровне технического развития можно использовать лишь определенную массу капитала. Шпитгоф писал: «Спрос на производственное оборудование и потребительские товары длительного пользования не является непрерывным; и когда экономика полностью ими обеспечена, производственные помещения и оборудование для их изготовления выталкиваются из производства» 92. В повышательной фазе цикла спрос на капитал неэластичен, однако по мере уменьшения размеров ожидаемой прибыли экспансия приостанавливается, спрос на капитал падает и наступает крах. В связи с тем что производство постепенно сокращается, во всем хозяйстве распространяются пессимистические настроения. И по мере того как депрессия приобретает всеобщий характер, доходы снижаются и все более широкое распространение получает недопотребление. Новый хозяйственный подъем наступает лишь тогда, когда обнаруживаются возможности для новых капиталовложений. Кажется очевидным, что на теорию Шпитгофа о циклическом развитии оказали влияние не только взгляды Туган- Барановского, но и до некоторой степени сходные с ними представления известного исследователя проблемы экономического цикла, французского экономиста Клемента Жугляра, а также Йозефа А. Шумпетера.
Наконец, на примере экономических циклов можно наиболее наглядно проследить основные мысли Шпитгофа относительно психологических аспектов хозяйственной деятельности. Циклические изменения вызывают различную индивидуальную реакцию. Чередование подъемов и спадов создает определенный психологический тип человека, ожидающего возможности обогатиться. Он терпеливо выжидает, когда циклические колебания предоставят ему наиболее удачные шансы. Экономический цикл может оказать влияние даже на формирование общественных классов. В обществе господствует постоянное стремление к увеличению богатства. «Господство в душе человека экономического инстинкта стяжательства развивается вместе с господством экономического цикла в развитии национальной экономики» 93. Шпитгоф не выражал ни малейшего сожаления или печали по поводу того, что такое явление, как экономические циклы, будет существовать и дальше, потому что в них, по его словам, заключаются жизненные соки хозяйственного строя. Он считал, что если цикл исчезнет, то от могущества Запада и от его способности увеличивать богатство останутся лишь воспоминания. Подобный панегирик экономическому кровопусканию следует характеризовать, по- видимому, просто как отзвук романтических нелепостей, однако его вполне можно понять, если учесть традиции, которые воспринял Шпитгоф.
7. СИМИАНД, ТОЙНБИ,
Традиции исторической школы были распространены не только в Германии. Их приверженцев можно обнаружить также и во Франции, и в Великобритании. Во Франции выдающимся представителем традиций исторической школы был Франсуа Симианд (1873—1935). Симианд занимался политической экономией и статистикой, с его именем связан значительный вклад в исследование проблем заработной платы 94. Начиная с 1910 г. он читал лекции по экономической истории, статистике и истории экономических учений в Ecole Pratique des Hautes Etudes *. Симианд полагал, что в исто-
* Высшая практическая школа (франц.).— Прим* перев.
50
КАННИНГЭМ И ЭШЛИ
о заработной плате, в которой тем не менее установлены количественно измеримые аспекты структуры заработной платы 96. Свойственная такому подходу осторожность напоминает о методе Уэсли К. Митчелла и его последователей. Симианд подверг анализу колебания заработной платы и исследовал различные экономические и социальные факторы, которые могли бы их объяснить. Для него это был убедительный экспериментальный метод, который означал, что, прежде чем прийти к выводам, необходимо накопить и классифицировать огромное множество эмпирических данных. Чтобы проверить правильность конечных выводов, можно предпринять еще анализ альтернативных вариантов; в любом случае эти выводы следует считать лишь предварительными. Предполагается, что таким путем статистические отношения могут быть приведены к виду, когда они обнаружат единственную причинную связь. Совершенно очевидно, что подобный монистический подход сталкивался с рядом трудностей. Столь же ограниченного успеха смог достичь Симианд и при изучении таких внешних факторов, как изменения в условиях денежного обращения.
Симианд пришел к выводу о том, что размеры денежного вознаграждения играют более важную роль, чем его реальная величина. Что действительно имеет значение для рабочих, писал он,— это установившийся уровень потребления. Однако он отказывался делать на основе обнаруженных закономерностей общие выводы, так как полагал, что проявляющиеся в них психологические черты связаны, по существу, лишь с исследовавшимся промежутком времени. Таким образом, можно утверждать, что представления Симианда вызваны теми же социологическими факторами, что и концепции представителей немецкой исторической школы, а их заблуждения еще более отчетливо проявились в произведениях Симианда.
Английская историческая школа не получила столь широкой известности, вероятно, потому, что она не принимала участия в острой полемике, однако ее представители нимало не уступали немецким экономистам. Работы английской исторической школы носили несколько более эмпирический характер, их авторы избегали философских отступлений, к которым были столь неравнодушны немецкие экономисты. Однако эрудиция английских авторов была столь же широкой. Так, например, Дж. К. Ингрэм (1823—1907) был человеком высокой культуры: увлекаясь политической экономией, он писал стихи и был профессором греческой филологии в Дублинском университете. В своей работе «История политической экономии» 96, написанной вначале как статья для «Британской энциклопедии» в 1888 г., Ингрэм следует методологии немецкой исторической школы. Историей и философией Ингрэм владел столь же хорошо, сколь недостаточно ориентировался в специальных экономических вопросах. Ингрэм выступал против отделения политической экономии от других общественных наук, опасаясь, что в этом случае усилится склонность к внеисторической трактовке ее проблем. Исследователь — во всяком случае, это относилось к английским авторам — должен уделять, как он полагал, больше внимания анализу фактических данных. Когда в 1878 г. Ингрэм изложил такие взгляды Ассоциации английских экономистов, представители немецкой исторической школы одобрительно отнеслись к этому выступлению. Однако его взгляды в основном отражали влияние Конта. Ингрэм проявлял чрезвычайную склонность к совершенствованию общества, о чем свидетельствует круг проблем, рассматривавшихся в его произведениях: религия, мораль и история рабовладения.
Блестящим представителем английской исторической школы является Арнольд Тойнби (1852—1883). Несмотря на то что жизненный путь Тойнби оборвался трагически рано, его влияние было довольно заметно. Его способность сочетать интерес к проблеме социальных реформ с замечательными исследованиями по экономической истории проявилась в посмертно опубликованных «Лекциях о промышленной революции в Англии» 97, где впервые введен в научный оборот термин «промышленная революция». Если бы он прожил дольше, то, несомненно, написал бы еще ряд значительных произведений в области экономической истории. Тойнби не только уважал факты, он обнаруживал вместе с тем подлинный дар при отборе наиболее важных из них. В своих «Лекциях о промышленной революции» он стремился показать, что взрыв энергии людей в XVIII в. представлял собой единственное в своем роде событие. Это лежало в основе всех дальнейших исследований Тойнби в данной области.
Сочетание истории и политической экономии, писал Тойнби, обогатит обе науки: события экономической жизни помогают осмыслить историю, а политическая экономия обогащается опытом исторического развития. При сочетании обеих наук «...абстрактные положения предстают в новом свете...» 98 и наряду с этим достигается лучшее понимание истории в связи с необходимостью отыскать соответствующие факты. Тойнби отвергал критику дедуктивного метода, полагая, что такой метод по праву может использоваться в исследованиях, тем не менее он считал, что относительность эконо4* 51
мических законов обнаружена благодаря историческому методу ".
К числу выдающихся представителей английской исторической школы относятся также Уильям Каннингэм (1849—1919), главная работа которого «Развитие английской промышленности и торговли несовременную эпоху» 100 явилась настоящей вехой в развитии экономической мысли, и Уильям Дж. Эшли (1860— 1927), англичанин, возглавивший кафедру экономической истории в Гарвардском университете. Среди большого числа выдающихся специалистов в области экономической истории Каннингэм первым сформулировал эволюционистские воззрения, и, вероятно, более эффективно, чем кто-либо другой. Однако концепция Каннингэма предполагала усиление позиций государства в духе Шмоллера и его последователей. Каннингэм родился в Эдинбурге; завершив учебу в местном университете, он в 1869 г. поступил в Кембриджский университет. Он примкнул к англиканской религии и в 1871 г. стал священником. Кратковременное пребывание в Тюбингене внушило Каннингэму стремление привести в систему явления экономической и общественной жизни. Когда в 1878 г. Каннингэм начал преподавать экономическую историю в Кембридже, он не нашел учебных пособий по данному курсу и ему пришлось самому написать такое пособие. Затем Каннингэм преподавал в ряде институтов, в частности в Королевском колледже и Гарвардском университете; в последний период своей жизни он перешел к религиозной деятельности 101.
Его работы в области политической экономии и экономической истории явно свидетельствуют о том, что для Каннингэма были неприемлемы принципы классической школы. Его воззрениям, как и представлениям немецкой исторической школы, присуще акцентирование националистических положений. О том, насколько далеко заходил в этом Каннингэм, свидетельствует его критика политики свободной торговли, противоречащей, как он полагал, коренным интересам Англии. Хотя Каннингэм и признавал, что отмена «хлебных законов» была исторической необходимостью, в последние годы жизни он открыто выступал с протекционистскими взглядами 102. Но в последние десятилетия XIX в. ситуация изменилась, Великобритания больше уже не могла удерживать свои рыночные позиции в условиях свободной торговли. Интересам государства, писал Каннингэм, противоречат также и требования социалистов, которые просто сеют вражду между классами, вместо того чтобы поощрять их сотрудничество 103. Подобные воззрения не уменьшали, однако, его интереса к социальным проблемам. Каннингэма серьезно волновали издержки индустриализации, выражавшиеся в ее неблагоприятном воздействии на человека, и последствия неограниченной конкуренции; однако совершенствования общественного устройства, по его мнению, следовало добиваться опять-таки на путях укрепления британского национального государства. Короче говоря, историзм у Каннингэма превращался в разновидность социального империализма 104.
Указанные идеи нашли отзвук и в произведениях Уильяма Эшли, в которых сказывается влияние Тойнби, а также немецкой исторической школы. Изучение экономической истории Эшли начал в Оксфордском университете в 1878 г., а после непродолжительного пребывания в Торонто и в Гарварде он в 1901 г. вернулся в Англию и занял место заведующего кафедрой в Бирмингемском университете. Он быстро превратился в ревностного сторонника протекционизма и много писал о заработной плате, таможенных тарифах и связанных с ними проблемах. Главная его работа —«Введение в хозяйственную историю Англии и экономическую теорию» 105. Эшли был очень близок к представителям немецкой исторической школы, он часто обменивался суждениями с Шмол- лером и Брентано 106 и никогда не упускал случая сослаться на исследования, проведенные в странах континентальной Европы. Подобно другим представителям исторической школы, Эшли расходился во взглядах с марксистами, предпочитая бесплодной и опасной революционной деятельности постепенные реформы. Тем не менее он считал, что анализ капитализма с социалистических позиций обладает определенной ценностью: концентрация и накопление капитала действительно оказывают неблагоприятное воздействие на мелких производителей, заметна тенденция к распространению обобществленных форм ведения хозяйства, которая проявляется в возникновении крупных фирм и принятии социального законодательства 107. К числу наиболее эффективных орудий осуществления реформ Эшли относил профессиональные союзы, которые обеспечивают здоровую основу для промышленного мира.
По Эшли, экономическая история представляет собой комплексную науку, охватывающую историко-критический и теоретический анализ. Его подход к проблемам не содержал никакой предубежденности: при решении всех проблем беспристрастно взвешивались положительные и отрицательные моменты. Экономическая теория — это не система абсолютных доктрин, а скорее совокупность полезных обобщений. Человек, писал Эшли, всегда размышляет относительно экономических условий в которых 52
он находится, и таким образом умножает теоретические построения. Однако теоретические концепции формулируются в определенных условиях, сохраняющих свою силу лишь для определенного места и времени; следовательно, прошлые теории нужно оценивать, исходя из экономических явлений, наиболее характерных для соответствующего периода. Современные теории, указывал Эшли, не могут носить универсального характера. Они не могут быть справедливыми ни для предшествующей эпохи, когда условия были иными, ни для последующего периода, так как общество подвергается непрерывным изменениям.
8. Р. X. ТОНИ:
ЭТИКА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Вопрос о роли моральных качеств, столь часто встречающийся в работах многих представителей исторической школы, выступил в качестве самостоятельной темы в работах Р. X. Тони (1880—1962). Главная работа Тони «Религия и возникновение капитализма» 108 содержала критический анализ общественных отношений, а в других его произведениях —«Равенство» и «Стяжательское общество» 109— эта критика носила даже еще более резкий характер. Он смело выдвинул следующую точку зрения: система наследуемых прав, возникшая еще в эпоху аграрного общества, совершенно бесполезна и даже вредна для экономики, основанной на принципах индустриализма. Тони родился в Калькутте в семье английского государственного служащего; получив образование в Оксфордском университете, он всю жизнь преподавал и работал над своими произведениями. Рассказывают, что Тони отказался принять в Оксфордском университете степень магистра искусств (хотя у него было много различных почетных званий), и главную роль сыграло следующее обстоятельство: условием присвоения степени была уплата определенного взноса, а это противоречит полному равноправию. С 1931 по 1949 г. Тони был профессором экономической истории в Лондонском университете, он неоднократно принимал также участие в работе правительственных комиссий. Его взгляды оказали серьезное влияние на английскую лейбористскую партию и особенно на «Фабианское общество» *. Тони был своеобразный человек: во время своей лекции он мог, увлекшись, сунуть в карман еще дымящуюся трубку. Его радикальные воззрения легли в основу многих идей, нашедших осуществление в английских общественных реформах XX в. Но, что наиболее важно, как добросовестный исследователь, он кропотливо изучал детали и был чрезвычайно сведущ * «Фабианское общество»— политическая организация, возникшая в Великобритании в 1884 г.; характеризовалась реформистской программой.— Прим, перев.
в исторических документах XVI и XVII вв. Мало найдется авторов, которые уделяли бы столь большое внимание этической стороне исследуемых проблем, и именно данное качество придавало его экономическим исследованиям в высшей степени морализирующий характер. Однако исследователь в нем всегда одерживал верх над проповедником, об этом свидетельствуют книга Тони «Экономические документы эпохи Тюдоров» (1925) и его биография Лайонела Крэнфилда, государственного казначея при Джеймсе I.
Тони соглашался с мыслью Макса Вебера о том, что религия оказала мощное влияние на ход экономического развития, ссылаясь на представления средневековых схоластов о ростовщичестве и кальвинистские воззрения, превращающие предпринимательскую деятельность в «призвание». Религия просто не могла не затрагивать в своих установлениях предпринимательскую деятельность. Экономические и социальные изменения, разумеется, в свою очередь оказывали влияние на религию, но цель Тони заключалась именно в том, чтобы проверить, насколько правилен тезис Вебера. Тони соглашался с тем, что возникновение многих положений, регулировавших предпринимательскую деятельность, связано с религиозными и моральными соображениями. В средневековую эпоху считалось общепризнанным, что материальные интересы подчинены главному — спасению души. Но по мере развития общества в духовной жизни началось разделение между указанными формами. Вследствие этого, писал Тони, социальная теория в отличие от моральных норм стала приобретать натуралистический оттенок, предоставляя тем самым капитализму земное оправдание. О том, что для ведения дел уже недостаточно было средневековых аскетических правил, со всей очевидностью свидетельствует модификация ряда положений св. Антонином 110. Теория и практика разошлись: церковь могла порицать ростовщичество и в то же время сама не чуждалась крупных финансовых операций.
53
Тони отмечал, что XV в. ознаменовался революцией в экономической и духовной жизни. Хозяйственная роль Венеции уменьшалась, по мере того как центр европейской торговли передвигался на север; главными сферами капиталистической деятельности стали добывающая и текстильная промышленность; торговые компании быстро росли благодаря использованию «собранного воедино» капитала для господства в отведенных им районах; в обстановке предсмертной агонии средневекового уклада, ознаменовавшейся крестьянскими войнами, государство превратилось в главную политическую силу. Символом новой эпохи был Антверпен. Однако на протяжении этого периода, писал Тони, религиозные принципы все еще считались выше экономических идей. Лютеранство не стремилось к ослаблению жестких религиозных установлений, и если изменения в мировоззрении и оказали воздействие на развитие капитализма, то это, во всяком случае, не входило в намерения протестантских реформаторов 11Х. В действительности, указывал Тони, жадность городов Северной Италии явилась главным фактором усиления строгих нравственных правил в Швейцарии и Германии.
Если бы социальные учения Реформации действительно строго применялись, то это затормозило бы развитие капитализма, к чему, быть может, Лютер и стремился, ибо он рассматривал торговлю как возвращение к язычеству. Однако из такого обличения торговли весьма неохотно делались практические выводы, поэтому и стремление к реформации, получившее впоследствии широкое распространение, «бросало в землю семена, из которых должны были вырасти новые вольности, вызывавшие ненависть Лютера» 112. С другой стороны, Кальвин стремился совершенно перестроить общество и полностью его урбанизировать. Кальвинизм открыто признавал новые явления в хозяйственной жизни. Коммерческая цивилизация больше уже не представлялась чуждой духовной жизни, все хозяйственные добродетели получали одобрение. Деятельность приносит человеку вечное спасение, ибо борьбой и трудом освящается мир. Бережливость, прилежание, трезвость и умеренность превратились в христианские добродетели. Успех хозяйственного предприятия расценивался как фактор, удовлетворяющий требованиям религиозной добродетели. Швейцарские кальвинисты, которые стремились не к социальным реформам, а к возрождению моральных устоев, ухватились за «...способности, развиваемые коммерческими операциями и предпринимательской деятельностью, давали им новое освящение и использовали их в качестве основы общества, где с помощью дисциплины, более крепкой, чем в Риме, удастся воспитать характер, полностью противоположный тому, который выработало подчинение власти Рима» 113. Поскольку речь шла не просто об удобствах, а о провозглашении новой воли божьей, это способствовало сплочению буржуазии в мощную общественную силу. Дисциплина и аскетизм составили ударную силу экономической революции. Кальвинизм приветствовал вступление делового мира в свое лоно, но не в качестве победителя, а скорее в качестве просителя 114.
Тем временем, писал Тони, в Голландии и Англии быстро развивались внешняя торговля и капиталистические формы предпринимательства. В дискуссии по экономическим вопросам, развернувшейся в этих странах, явно обнаруживалось стремление усовершенствовать сложившуюся хозяйственную практику. Со временем взгляды Локка на собственность легли в основу экономической свободы, а политическая экономия как объективная наука начала свой «путь разрушения иллюзий» 116. По мере того как все большая часть авторов приходила к мнению, что политическая экономия и этика должны характеризоваться собственной сферой исследований, доверие к социальной теории, основанной на религии, оказывалось подорванным. Церковь утратила свою функцию социального критицизма и уступила развивавшемуся индивидуализму (по крайней мере в коммерческих операциях). Для пуритан религия и торговля превратились в одно и то же: религия приветствовала триумф капиталистического духа. Оказалось, что в конечном счете решающую роль в жизни играют личная ответственность и репутация, а обстоятельства не имеют никакого значения; бедность — признак морального падения, и ее следует не оплакивать, а обличать 116. Пуританин-капиталист превратился в поклонника бога наживы, а идеализм сменился безудержной коммерческой деятельностью, приносившей то прибыли, то убытки. И вот вскоре социальные пороки превратились в нравственные достоинства; явления реальной жизни получили прочное оправдание в новой религии 117. У Тони были серьезные основания для того, чтобы заметить: мораль как фактор, регулирующий деятельность человека, была не столько заменена, сколько вытеснена усилившейся погоней за прибылью и жаждой наживы. И до настоящего времени религия должна либо оправдывать хозяйственную практику, либо находиться лишь на периферии человеческой деятельности. Следовательно, Вебер, Зомбарт и почти 54
все историки капитализма, о которых говорилось выше, при истолковании этих вопросов ставили их с ног на голову.
Авторы, которые приветствовали развитие капитализма, были в глазах Тони не вульгарными материалистами, а скорее защитниками новой свободы от тирании. С другой стороны, либерализм XIX в. представлял уже иную философию. Он был лишен критического духа и превратился просто в догму для оправдания абсолютизма права собственности. Именно эту догму беспощадно обнажает Тони в «Стяжательском обществе». Как подчеркивает Рэймонд Уильямс, у Тони было много общего с такими критиками социальных пороков, как Джон Рескин и Мэттью Арнольд * 118. Уве* Джон Рескин (1819—1900) — английский теоретик искусства и социолог; в его произведениях «капиталистический индустриализм» подвергался критике с позиций утопического романтизма. Мэттью Арнольд (1822—1888) — английский поэт и литературный критик; в своих литературных работах он высказывал отрицательное отношение к некоторым чертам духовной
личения покупательной способности, как писал Тони, недостаточно для того, чтобы обеспечить человечеству повышение жизненного уровня. Кроме этого, требуется еще и резкое расширение правительственной деятельности для обеспечения населения больницами, школами, дорогами, парками и множеством других услуг, которые не могут быть предоставлены частными предпринимателями. Попросту говоря, излишек частных доходов должен быть обращен в общественный доход. Эти мероприятия должны подкрепляться созданием промышленной демократии, внутри которой первостепенная роль принадлежит человеческим правам. Создание лучшего общества — не только политический или экономический вопрос, это, по мнению Тони, и моральная проблема. Необходимо сделать выбор между ложными и подлинными кумирами. В противном случае, доказывал Тони, мы осуждены на то, чтобы просто ковылять от одного кризиса к другому.
жизни в капиталистическом обществе, противопоставляя им «вечные» нравственные идеалы.— Прим, перев.
Глава 11
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ДУХ НЕСОГЛАСИЯ
1. МИР ТОРСТЕНА ВЕБЛЕНА
На полках библиотек накапливаются все новые работы о Торстене Веблене, но привлекательность его загадочной личности не уменьшается. О Веблене имеются сочинения разного характера: от сорбоннской диссертации Уильяма Жаффэ до огромной и исчерпывающей биографии Джозефа Дорфмана, от исследования в духе психоанализа Дэвида Ризмана до претенциозного философско-критического труда Льва Добрянского. Все они указывают на плодотворную силу вебле- новского видения современного мира х. Экономическая теория, или скорее всеобъемлющее социальное учение Веблена, исполнена протеста против господствующих канонов мышления, и поэтому она всегда будет привлекать внимание мыслящих людей.
Торстен Б. Веблен (1857—1929) жил в мятежный век. Всю вторую половину XIX в. западной цивилизации угрожали крах и распад под напором бурно растущего промышленного общества. Эта угроза дошла до высшей точки во время первой мировой войны. Затем в 20-х годах наступило кратковременное оживление и изображенный Вебленом хищный промышленный магнат был реабилитирован. Из всех иронических поворотов судьбы, которыми наполнена жизнь Веблена, величайшей иронией было то, что он не стал свидетелем биржевого краха 24 октября 1929 г. — «черного четверга». Он умер в августе того же года.
Наиболее зрелые труды Веблена появились в период, когда казалось, что в Америке царит хаос. На рубеже столетий американский фермер обнаружил, что он должен выйти на политическую арену, чтобы защитить себя от алчности монополий. Однако его попытки очень часто кончались неудачей. Железнодорожные компании разжирели за счет казны и добились от конгресса передачи им обширных государственных земель. Колебания стоимости денег взвалили непомерное бремя на мелкого фермера, ибо заимодавцы при взыскании долгов фактически получали больше, чем они дали в свое время под заклад ферм 2. Банкиры и промышленники Востока, которые по традиции требовали устойчивой валюты, не понимали того, что повышение производительности и стремительный экономический рост вызовут ненормальности в области цен, если не будет увеличена денежная масса. Товаров по сравнению с деньгами стало много, и по мере снижения цен фермер чувствовал все большую тревогу. Между тем нефтяная группа Рокфеллера подавила конкурентов, добившись для себя льготных железнодорожных тарифов, а промышленники кутали здорового крикливого ребенка — новые растущие отрасли — в пеленки покровительственного тарифа.
Это были трудные годы. Простые люди были так озлоблены, что они внимательно прислушивались к Джохэну Мосту и анархистам. Это 56
были годы, когда страх несговорчивых промышленников и гнев голодных рабочих, сталкиваясь, нередко порождали насилие. Несмотря на распад Национального союза труда, часто возникали стачки против снижения заработной платы и других несправедливостей. К 80-м годам Рыцари труда, этот любопытный союз, объединяющий в себе черты тайного братства, мелкобуржуазного реформизма и подлинного тред-юнионизма, заставил отступить мощного железнодорожного магната Джея Гульда. Но союз Рыцарей труда распался после хэймар- кетских событий, и объединением верхушки рабочего класса занялась новая Американская федерация труда 3. Федеральное правительство не поколебалось, однако, встать на сторону промышленников против профсоюзов. Это проявилось во время большой стачки на Пульмановских заводах в 1894 г. 4. Между тем фермеры присоединялись либо к движению в защиту гринбеков *, либо к движению популистов и, наблюдая дальнейшее падение цен и усиление недостатка денег, также начинали оказывать давление на правительство. Засуха и морозы на Среднем Западе усилили общее недовольство. Популистское движение начало принимать радикальный характер 5. И фермеры и рабочие требовали изменений в экономической и социальной структуре, осуществление которых существенно преобразило бы всю американскую общественную систему.
В 80-е и 90-е годы в мире бизнеса царили законы джунглей. Хотя железнодорожные компании жестоко боролись друг с другом, когда они выступали как конкуренты, они без стеснения компенсировали свои потери там, где пользовались монополией. Рост фиксированных издержек и инвестиций толкал промышленников к слияниям и поглощениям, а издержки промышленной концентрации перекладывались на потребителей, фермеров и рабочих. Фермер был вынужден продавать свою продукцию по низким мировым ценам, но система таможенных тарифов заставляла его дорого платить за покупаемые им товары. Движение Грейнджеров в 60-х годах**, фермерский союз в 80-х годах и другие политические выступления фермеров представляли собой организованное противодействие политике «естественного хода дел», которую проповедовали промышленные круги. Одно время казалось, что эти усилия дадут плоды: в 1887 г. была создана межштатная торговая комиссия, а в 1890 г. был принят антитрестовский закон Шермана. Но эти ре* Гринбеки — неразменные бумажные деньги, выпуск которых вел к повышению цен.— Прим, перев.
** Тайная организация фермеров, возникшая в 60-х годах XIX в.— Прим, перев.
формы не привели ни к чему: промышленники стали бороться против них тактикой проволочек и обструкции в судах. Любопытно, что профсоюзы не выступали против трестов до тех пор, пока их еще можно было регулировать 6.
В американском обществе происходили глубокие сдвиги. По мере того как промышленность раскидывала свои щупальца по всей стране, типичной становилась городская жизнь. В 1870 г. примерно 80% населения еще жили в сельской местности; на рубеже двух веков положение сильно изменилось, а к концу третьего десятилетия XX в. почти 60% населения скопилось в городах; этот период охватывает всю сознательную жизнь Веблена. Городская культура пришла на смену сельским привычкам и взглядам, а в административных кварталах больших городов возникли новые источники политической силы. Усиленный приток иммигрантов привел к изменениям в американском характере. Возникли противоречия между культурой «старой Америки» и массой новых бесприютных пришельцев, классическим образцом которых был Веблен. Общество становилось подвижным, зыбким и даже хаотическим; и вместе с этим процессом распространялся дух растерянности и разочарования 7. Становилось очевидным, что лишь научный анализ фактов поможет осмыслить происходящее. Некоторый оптимизм порождался тем, что в науку и технику проникли принципы естествознания. Идея развития стала неотъемлемой частью мировоззрения ученых, но когда эту идею применяли к анализу общественной жизни, то становилось ясно, что критическим ограничивающим фактором в обществе является принуждение. Поистине, свобода есть признание необходимости.
В промышленности были достигнуты поразительные успехи, и новая техника начала менять облик страны. В связи с потребностью в новом капитале для огромных инвестиций финансисты получили возможность осуществлять более жесткий контроль над американскими промышленниками. Дом Морганов превратился в мощную силу, по мере того как размещение акций, слияния и объединения привели к картелизации экономики. Рокфеллеры стали непобедимы, когда когорты их «Нэшнл сити бэнк» объединили силы с железнодорожным фалангами Гарримана. На Уоллстрите развертывались поистине титанические битвы 8. Тем временем общественное мнение обратилось против банкиров и промышленнофинансовых магнатов, которых интересовало только процветание их компаний и которые, подобно французским королям в старину, как 57
бы заявляли: «Apres moi le deluge» *. Возмущение общественности подогревалось «разгре- бателями грязи»— группой настойчивых журналистов, которые выискивали любые факты, как бы грязны они ни были 9. Ида Тарбелл, Линкольн Стеффенс, Рэй Стэннард Бэйкер и другие рассказывали миллионам людей в своих статьях, публиковавшихся во многих журналах, о мошенничествах корпораций. Конгресс взял дубинку еще раньше: промышленной комиссии, созданной в 1890 г., потребовалось девятнадцать томов, чтобы пристально взглянуть на новое общество. Они дали в руки Веблена любые материалы, которые могли бы ему понадобиться.
Все это лежало в основе реформ, которых требовало движение «прогрессистов» в первых двух десятилетиях XX в. По инициативе Всеобщей федерации женских клубов на муниципальном уровне и на уровне штатов в законодательство были внесены многие изменения. И фактически всегда предприниматели упорно боролись против требований реформ. Таков был мир, в котором жил Веблен, но этот мир и не повлиял на сознание других экономистов того времени10. Они писали о предпринимательстве, бережливости, производстве и воздержании. Для них сфера монополий и насилия была terra incognita. Если они и упоминали о профсоюзах, то лишь для того, чтобы посетовать на нарушение ими естественных законов рынка. Официальная экономическая наука занималась лишь искусной апологией энергичных капитанов промышленности и их компаньонов в сфере финансов.
Торстен Веблен был чужаком в этом мире. Сын норвежского крестьянина-иммигранта, он всю жизнь был поглощен борьбой за то, чтобы завоевать для себя полную свободу. Но по- настоящему он так и не достиг этого желанного состояния, ибо это потребовало бы по крайней мере частичного примирения с принципами бизнеса, на что он никогда не мог согласиться. Он был так же чужд американской капиталистической цивилизации с ее культом денег, как он был чужд фермерам-янки, жившим вокруг фермы, где прошло его детство. Он читал Ибсена, одобрял движение в защиту гринбеков и шокировал буквально всех окружающих. Противоречия, какими Веблен их видел и позже описал, в такой же мере проистекали от его противоречивого характера, как и от особенностей общества, к которому он относился с такой суровостью. Ему были закрыты дороги к академическим почестям и престижу в ученом мире, и из-за своей приверженности чуждым официальной науке принципам Веблен был обречен на духовное одиночество. Его нападки на капитализм вызывали по отношению к нему почти личную враждебность. Его идеи опасны; он не настоящий ученый; он не вполне в здравом уме; он социолог, а не экономист; у него не ладится с грамматикой, а пишет он не гладко. Профессора, потрясенные до глубины души и неспособные спорить с ним по существу, просто изгнали его из своей среды. В действительности же было мало людей, которые могли бы вести с Вебленом диалог на равных.
Норвежцы в сельской местности штата Висконсин, где родился Веблен, жили более изолированно, чем подобные им группы. Английский язык для детей был вторым, и они учились говорить на нем уже после родного языка Х1. В семнадцать лет Веблен отправился в чужой мир. Под влиянием своего старшего и более энергичного брата Томаса он поступил в Карлтонский колледж. Так начался процесс духовного роста Веблена, в ходе которого он утратил предвзятые мнения, являющиеся частью его собственной, старой культуры, не разделив предубеждений новой культуры. Ему было суждено стать чем-то вроде эмансипированного еврея из его знаменитой работы «Интеллектуальное превосходство евреев в современной Европе» 12, который, очутившись между двумя мирами, возглавил «современную аналитическую мысль» и успешно применял как раз тот род скептицизма, который необходим, чтобы нарушить «интеллектуальный покой» 13. Система обучения в Карлтоне была рассчитана на то, чтобы приучить молодежь к пока еще чуждой им денежной культуре. Студентам преподносили все прописные истины: человек имеет такое же право на собственность, как и на жизнь и свободу; право собственности установлено богом для блага всех людей; досуг — конечная цель богатства; рента обязана своим происхождением естественному праву. Веблен неуверенно пользовался английским языком и был раздражен тем, что ему отказывали в обычно присуждаемых наградах, и это едва ли могло содействовать его успехам в учебе. Заслуживает упоминания тот факт из его студенческой жизни, что он получил начальные познания в экономической науке от Джона Бейтса Кларка, который был библиотекарем и профессором политической экономии в Карлтоне. Хотя при выборе тем для студенческих рефератов Веблен дал волю своим сардоническим наклонностям, Кларк вскоре заметил его незаурядные способности.
Из Карлтона Веблен перешел в университет Джонса Гопкинса в Балтиморе, где он рас* После меня хоть потоп (франц.).— Прим, перев.
58
считывал изучать философию. Но атмосфера в этом восточном университете оказалась не лучше, чем в Карлтоне. Еще до конца семестра он перевелся в Йельский университет, чтобы работать под руководством Ноя Портера и Уильяма Грэма Самнера. Это было довольно странное сочетание, так как Портер ставил своей целью спасти университет от влияния философии Герберта Спенсера, а Самнер столь же твердо верил в ее достоинства. Будучи долгое время профессором политической экономии и антропологии, Самнер выступал за естественнонаучный и эволюционный подход в общественных науках. Он высоко ценил социальный дарвинизм, обязанный своим происхождением Мальтусовой теории народонаселения, полагая, что общественная борьба и «выживание самых приспособленных» приведут человечество к более высокой цивилизации 14. Ирония заключается в том, что его влияние на Веблена и других в конечном счете привело к падению социального дарвинизма. В первоначальном спенсеровском варианте эта концепция была поистине жестокой; бедность представлялась как неизбежное следствие борьбы за существование. Согласно этой логике, человек не должен вмешиваться в естественный процесс. Законодательство, направленное на улучшение жизни людей, в конечном счете принесет зло. В реальной действительности подобная философия не могла не стать орудием самой яростной защиты определенных привилегий. Преуспевающий промышленный магнат имел теперь готовое оправдание для концентрации в промышленности, для монополии и откровенной, неприкрытой жажды наживы 15.
Очевидно, что Веблен должен был поставить под сомнение эту теорию общественного развития. Он никак не мог видеть зачатки сотрудничества социальных групп в той обстановке экономической борьбы, которая раздирала Америку XIX в. Но столь же несомненно, что пессимизм Самнера оставил след на Веблене. Самнер отвергал рационалистическую психологию, лежащую в основе классической экономической теории, ибо считал, что для человеческих существ характерно иррациональное, даже фаталистическое поведение. Признавая, что процесс конкуренции может в известной мере оказывать благотворное влияние, способствуя повышению уровня жизни, Самнер опасался, что конкурентная борьба сокрушит средний класс, загнав его между Сциллой плутократии и Харибдой пролетариата.
Веблен получил докторскую степень в Йельском университете, представив диссертацию об этике Канта. Поскольку места преподавателя он получить не мог, он вернулся на отцовскую ферму и провел там следующие семь лет, бесцельно слоняясь, беседуя с отцом или вмешиваясь в дела своих братьев. Он читал Джона Стюарта Милля, Лассаля и Харриет Мартино, наблюдал, что происходит в мире, и стал подумывать о том, чтобы написать работу о современной промышленной системе и предложить в качестве ее альтернативы какой-то особый род социализма 16. Наконец в 1890 г. он отправился в Корнельский университет в надежде получить стипендию и начал работать не с кем иным, как с Дж. Лоренсом Лафлином, архиконсерватором, для которого Американская экономическая ассоциация была слишком радикальна, чтобы он мог вступить в нее. Лафлину Веблен понравился настолько, что он попросил для него специальную стипендию, а в 1892 г., переходя во вновь созданный Чикагский университет, взял Веблена с собой. Последнему было уже тридцать пять лет, но он все еще не имел постоянной преподавательской работы, а был лишь ассистентом. В дополнение к другим обязанностям ему поручили издавать «Журнал политической экономии». Когда он получил возможность преподавать, студенты стали бежать от него, ибо тонкость его мысли их не привлекала, а невнятность речи отталкивала.
Общение с такими светилами, как Жак Леб и Джон Дьюи, очевидно, больше дало Веблену, чем он сам был способен дать студентам. В 1899 г. он опубликовал свою первую и во многих отношениях самую интересную книгу «Теория праздного класса» 17, которая привлекла в основном внимание литературных кругов. Уильям Дин Хауэллс, апостол реализма в американской литературе, написал рецензию, которая помогла сделать книгу знаменитой. Под видом описания нравов обитателей тихоокеанских островов и других отдаленных мест Веблен на самом деле спокойно и безжалостно, в своей неповторимой манере разделывался с Йерксами, Рокфеллерами и Харперами *. Торжественный тон прикрывал безоговорочную неприязнь к капитализму, его нравам и культу денег. Чтобы ярче осветить явления, которые другие могли бы просмотреть, Веблен прибегал к искусным литературным приемам, а его стиль порой граничил с пародией на язык некоторых профессоров 18.
Основные факты биографии Веблена известны благодаря монументальной работе Дорфмана. К 1900 г. он стал младшим профессором, хотя президент университета Харпер полагал, что он не делает чести этому учебному заведению. Оставив Чикаго, он отправился в Леланд * Семьи американских миллионеров.— Прим, перев.
59
Стэнфорд, где работал три года. Склонность к связям, которые университетские власти не одобряли, вынудила его подать в отставку. Несмотря на небрежность в одежде и откровенное отвращение к семейному быту 19, он, очевидно, нравился женщинам. Однажды он жаловался коллеге: «Что делать, если женщина пристает к тебе?» В 1911 г. Веблен получил место в университете штата Миссури, главным образом благодаря усилиям Герберта Дж. Дэвенпорта, который когда-то был его студентом. Но и там он пробыл недолго и после короткой и бесплодной государственной службы стал в 1918 г. редактором журнала «Дайел». Когда кончилась война, он перешел в только что созданную Новую школу социальных исследований. Здесь он тоже не смог удержаться и после вялой попытки снова получить профессорское место вернулся в 1927 г. в Калифорнию, где и провел в крайней бедности два последних года своей жизни.
Веблен обычно писал, держа в уме не только цели своего анализа, но и реакцию неблагосклонного читателя. Как сказал Уэсли Митчелл, он занимался «вивисекцией на своих современниках», не облегчая их страданий анестезией, и, вместо того чтобы, «избегая излишне эмоционального подхода со стороны читателей, стараться облегчить восприятие его анализа, он искусно возбуждает их для своего собственного удовольствия» 20. Кто-то сказал, что он любил играть чувствами других людей не меньше, чем жонглировать идеями. Когда профессор права во время экзамена в Йельском университете спросил его, что он думает о природе государства, он ответил: «А на кой черт вы хотите это знать?» Ясно, что для Веблена это был важный вопрос 21. Он был мастер придумывать новые выражения, и лучшие из них были хлесткими, как удар бича: «демонстративное расточительство», «завистливое сравнение», «преднамеренное снижение производительности». Эти выражения настолько прочно вошли в язык, что мы готовы забыть, как они кусались пятьдесят лет назад. Но трудно не обратить внимание, когда профессорская кафедра называется «санкционированным клапаном для выделения бесполезного вещества из культурного организма». Его необычный юмор, облаченный в строгие академические одежды, был тем не менее по своей едкости и резкости чисто американским. В результате жертвы Веблена, подобно сказочному королю, совершенно не подозревали, что они выставлены напоказ в голом виде. Бернард Розенберг однажды сказал, что Веблен был художник, для которого слова имели как бы двойное содержание: их непосредственный смысл и связанный с ними целый мир образов, намеков, мифов и легенд. Обычно он бормотал себе в бороду нечто глубокомысленное и часто сознательно отбивал охоту студентов к своим лекциям. Это его не заботило, ибо он мог продолжать свои рассуждения, которые охватывали широчайшую область, даже если рядом никого не было. Но способному студенту он открывал увлекательные, хотя и пугающие просторы для мышления. Уэсли Митчелл, который был его студентом в Чикаго, говорил в 1945 г., что Веблен «...не опровергал классических доктрин... Вместо этого он объяснял, почему классики верили в то, что они делали, и почему наши современники думают именно так, а не иначе. Нас задевало то, что его объяснение ходячего образа мыслей относилось к нам лично. Не в том смысле, что Веблен говорил это нам открыто; для этого у него было слишком много такта. Но студент должен был быть уж слишком глуп, чтобы не видеть, что он одна из тех жалких респектабельных фигур, которые извивались под скальпелем Веблена... Для хорошо воспитанного отпрыска американской культуры слушать лекции Веблена означало подвергаться вивисекции без анестезии. Те, кто мог выдержать эту процедуру — а не все могли,— гораздо более критически относились к экономической теории и самим себе...»22
Из-под пера Веблена не вышло ни одного учебного курса. Он писал книги, которым скорее свойственны черты монографии. Но в каждой книге он выражал единую точку зрения, так что любая из книг может в равной мере ввести читателя в круг его идей. Важнейшие работы Веблена собраны в книгах «Место науки в современной цивилизации» и «Очерки современной меняющейся системы» 23. Хотя значительная часть тематики его работ скорее может быть отнесена к области социологии, Веблен всегда писал с точки зрения экономиста. Знаменитые статьи по вопросу о том, почему экономическая теория не является эволюционной наукой, содержатся в первом из названных томов. За «Теорией праздного класса» последовала «Теория предпринимательства» 24, в которой более подробно, чем в первой книге, рассматриваются чисто экономические вопросы. В работе «Трудовой инстинкт», опубликованной в 1914 г., проводится идея, что тяга человека к полезной трудовой деятельности заключена в самой его природе. В 1915 г. появилась «Кайзеровская Германия и промышленная революция», в которой анализируются гибельные последствия развития новой машинной техники в монархическом государстве. Опубликованный в 1917 г. «Характер мирного урегулирования» содержал столь же 60
острый анализ послевоенных проблем, как и книга Кейнса по этому вопросу. В работе «Высшее образование в Америке» он подверг резкой критике господство бизнеса в университетах. В 1919 г. вышла книга «Привилегированные группы и состояние промышленной техники», а двумя годами позже —«Инженеры и система цен». Последняя работа, очень небольшая по объему, изображалась технократами 30-х годов как пророческое произведение. Наконец, в 1924 г. появилась книга «Абсентеистская собственность», в которой содержится острая критика капитализма и которая как бы венчает творческий путь бунтаря.
В «Теории праздного класса» Веблен говорит: «Жизнь человека в обществе, точно так же как жизнь других видов, есть борьба за существование и, следовательно, представляет собой процесс отбора и приспособления. Эволюция общественной структуры есть процесс естественного отбора институтов. Прогресс в человеческих институтах и в человеческом характере в прошлом и настоящем может быть, вообще говоря, сведен к естественному отбору самых приспособленных образов мышления и к процессу вынужденного приспособления индивидуумов к внешним условиям, которые постоянно меняются с развитием общества и с изменением институтов, при которых живут люди. Сами институты — не только результат процесса отбора и приспособления, который формирует преобладающие или господствующие духовные качества и способности; они в то же время представляют собой особые формы жизни и человеческих отношений, а потому являются в свою очередь важнейшими факторами отбора» 25.
Из этой цитаты ясно виден метод Веблена. Он был эволюционным, но не в духе социального дарвинизма, так как Веблен не использовал эти концепции для оправдания статус-кво. Напротив, он относился к фактическому положению вещей резко критически. Для него институты, отношения и личности были образом существования и фактором новых перемен. С развитием и изменением общественной структуры на авансцену истории выходят новые личности, создаются новые институты. Когда определенные этнические группы достигают доминирующего положения, в общество наконец привносится известная стабильность. Но природа идет вперед вслепую, настаивал Веблен. Противоречие, присущее эволюционному процессу, не означает, что в конечном счете выиграют низшие слои населения, как это вытекает из марксистского учения; вполне возможно, что они будут и далее терпеть лишения, тогда как богатые классы будут беспрепятственно улучшать свое положение.
Лишь после того, как Веблен выработал свою концепцию эволюции, в экономическую мысль составной частью вошла законченная теория социальных процессов. Правда, Маркс выдвинул экономическую теорию, которая включала социальные сдвиги и их движущие силы, но эта теория, по существу, не была допущена в официальную академическую науку. Веблен дал новые формулировки, заменившие жестокую Спенсерову концепцию общественного развития, которая так хорошо подходила к идеям викторианского века. Были признаны пластичность человеческой личности и то, что человек — созидательный фактор как в физическом, так и в социальном смысле. В качестве основы эволюции стали рассматривать полное взаимопроникновение человека, общества и среды. В центр общественных наук были поставлены идея развития и деятельность человека. Конечно, многое здесь почерпнуто из инструменталистской философии Джона Дьюи, согласно которой идеи суть планы действий, а самым полезным инструментом является человеческий разум. В своей попытке экономического истолкования общества Веблен опирался также на предложенную Оливером Уэнделлом Холмсом концепцию закона как живого документа, творимого судьями в их судебных залах, и на теорию Чарлза Бирда о том, что позиции в политике определяются отношениями собственности 26.
Веблен начал свой анализ с критической оценки распространенных канонов экономической теории 27. Он утверждал, что экономисты как в прошлом, так и в настоящем полностью упускали из виду значение эволюционного подхода 28. К сожалению, они применяли понятия естественных, нормальных или контролируемых начал, а эти идеи совершенно чужды генетическому взгляду на общество. Классическая политическая экономия дала лишь удобный набор терминов для хозяйственных процессов и описала их в денежных категориях. В результате формула подменила реальную экономическую жизнь и не дала ничего, кроме набора логически совместимых положений. Но, говорил далее Веблен, логичность, во всяком случае как она проявляется в классической политической экономии, не представляет собой особого достоинства. Классики были хорошими логиками, но оценивать логическую систему надо с точки зрения того, как ее положения соотносятся с реальностью. Попросту говоря, отмечал Веблен, предпосылки логической системы должны иметь какие-то корни в реальной действительности 29. Он признавал, что Адам Смит, Давид Рикардо и Альфред Маршалл пытались истолковать основ61
ные экономические явления, но лишь с помощью сил, которые в их представлении неотвратимо вели экономику к нормальному состоянию равновесия. В этой экономической теории не было места для идеи развития 30. Скорее она стремилась спрятаться за невидимой рукой Провидения, категориями естественной заработной платы и нормальной стоимости.
Вебленова критика классической системы взглядов потребовала такого пересмотра коренных принципов экономической теории, какой до тех пор никогда не предпринимался. Экономисты, говорил Веблен, были очарованы идеей неизменности экономических явлений. Это вытекало из их понятия о естественных законах и из таксономических * методов, применяемых ортодоксальными экономистами. Их подход был статичен, они думали о постоянном возврате к тому, что представлялось им нормальным. И хотя экономическая наука далеко отставала от запросов промышленного общества, теория стоимости сохранялась в чисто формальном виде. Экономисты выдвинули фальшивый тезис о том, что потребление представляет собой конечную цель производства, но мало или совсем не уделяли внимания тому, как на деле ведут себя потребители или какое воздействие на них могут оказать те самые товары, которые их заставляют потреблять. Экономисты занимались не тем, чем нужно, утверждал Веблен. Они постоянно интересовались рыночной ценой, тогда как подлинная общественная наука должна заниматься проблемой причин и следствий, генетическим процессом 31. Классическая доктрина пыталась исследовать «статическое состояние», в то время как надо исследовать институциональный рост, ибо, говорил он, «...любая наука, которая, подобно экономической, имеет дело с поведением человека, становится генетическим исследованием образа его жизни; предметом экономической науки является изучение поведения человека в его отношении к материальным средствам существования, и такая наука по необходимости есть исследование живой истории материальной цивилизации...» 32
Идеи нормальности и упорядоченности требовали использования гипотетической картины, которая в конечном счете вела к концепции идеального государства33. Конечно, и самого Веблена можно обвинить в том, что он прибегал к гипотетическим примерам, так как его описания простоты первобытной жизни столь же искусственны, как «представительная фирма» Маршалла. Хотя он и допускал, что англий* Классификационных методов, связанных лишь с формальным упорядочением.— Прим, перев,
62
ская эмпирическая традиция породила известное стремление к постановке конкретных задач, англосаксонская экономическая наука в общем полностью не избежала «анимистических тенденций» и своего рода социальных суеверий 34. Веблен испытывал неприязнь к метафизическому понятию совершенствования, заключенному в классической системе. Идея нормальности не только содержала представление о наличии какой-то предустановленной цели человеческого существования, но и подразумевала, что все сущее — благо. Со временем нормальность рынка превратилась в нормальность естественного закона.
Веблен обнаружил, что божественное право капитала возникло тогда, когда вложение капитала и контроль над ним были соединены с гедонистической традицией. Одним из следствий этого соединения была утрата различия между капиталом как инвестицией и капиталом как «массой предметов»35. Экономика была сведена к оценке благ, хотя сам оценщик при этом игнорировался: теория стала «денежным взаимодействием подлежащих оценке фактов». Поскольку денежный интерес был признан равнозначным экономическому интересу, человеческая личность исчезла из экономического анализа 36. Коренным пороком экономической теории, говорил Веблен, был ее отказ признать своим подлинным предметом человеческие действия, нечто заведомо более сложное, чем пресловутые нормальные уравнения предложения и спроса. Концентрируя внимание на денежных вопросах, экономическая наука, в сущности, оставляла вне своего поля зрения проблемы, связанные с процессом машинного производства, а именно последний более всего затрагивает человека в обществе. Теория полезности игнорировала элементы престижа и общественного положения, а роль неосязаемых благ в обмене делает бесполезной идею специфической производительности, как она развита Джоном Бейтсом Кларком 37. В то время как производительность явно имеет материальную основу, классическая теория трактовала ее с рыночной, денежной точки зрения.
«...деятельность человека в любой области во многом так же, как если бы эти элементы привычки носили характер врожденной потребности» 39. Но, несмотря на важные открытия современной психологии, экономисты упорствуют в применении устарелой утилитаристской психологии с ее уравнениями, в которые входят наслаждение и страдание.
Веблен решительно расправился с Джоном Бейтсом Кларком, своим учителем 40. Теорию последнего он считал абсолютно статичной, несостоятельной и исполненной грубого гедонизма, который сводит все существование к конкуренции стяжателей 41. Эта теория означала перенесение на все действия людей принципов, типичных более всего для финансового предприятия. Не лучше он обошелся и с экономистами исторической школы42. Веблен никак не мог принять понимание истории как процесса саморазвития под действием внутренних сил и по воле некоего гегелевского божества. Вытекающая из такого понимания теория развития могла быть лишь сугубо умозрительной и никак не вязалась с подлинно дарвинистской концепцией причины и следствия.
Метод Веблена состоял не в том, чтобы логике противопоставлять логику, а скорее в том, чтобы рассматривать предпосылки и исходные позиции. В основе этого весьма эффективного приема лежало, конечно, его философское образование. Он вынуждал других сражаться с ним выбранным им оружием, благодаря чему он мог бросить всю свою громадную эрудицию в неэкономических областях против туманной мечты экономистов о вечной нормальности. Но концепция Веблена заключала также в себе своеобразную теорию стоимости; он видел источник стоимости в способности благ приносить пользу обществу и личности. Нечто имеет стоимость постольку, поскольку оно увеличивает способность хозяйства производить товары и услуги. Это кажется тавтологией, но такова, следовательно, вся экономическая теория. По Веблену, стоимость проистекает из технического мастерства, численности населения и природных ресурсов. Технику он ставил на первое место 43. Распределение и обмен представляют собой лишь денежное выражение производственного процесса, и через их посредство стоимости преобразуются в частные доходы. Без распределения в денежной форме стоимость, безусловно, получила бы истинное выражение своей сущности44. Следовательно, концепция предельной производительности есть явная апологетика самого худшего вида, так как она подменяет производственный подход денежным.
Итак, главными мишенями Вебленовой критики «утвердившейся» экономической науки (таков был его термин для выражения неодобрения) служили искусственная психология и ложная идея целесообразности, смешение стоимости в производственном и денежном смысле и фантастическое представление о том, что экономической жизни свойственна некая нормальность. Несомненно, что Веблен столь же строго обошелся бы со многими современными авторами. Он приветствовал бы тот факт, что обычная теория наконец установила дипломатические отношения с промышленным циклом, но отметил бы, что экономисты все еще ограничены узким институциональным кругозором. Один толкователь Веблена полагает, что он посмотрел бы на различные формулы сбережений и инвестиций и на всевозможные лиды и лаги * как на своего рода таксономию46. У него так же не состоялся бы диалог с экономистами 1950-х годов, как и с экономистами 1890-х годов. Он просто добрался бы до сути их доктрины и показал бы, что она — довольно слабое орудие для эффективной общественной науки 46.
В отличие от некоторых современных экономистов Веблен взял на себя труд прочесть Маркса. Он даже испытывал к нему чувство немалого восхищения 47 и намекал студентам в своей несколько загадочной манере, что у Маркса содержатся ответы на все вопросы. Он довольно прилежно штудировал «Капитал», так что некоторые исследователи находили в его эволюционизме не меньше марксистского духа, чем дарвинистского48. Свойственный Веблену упор на технику и привычку к труду дает основание предполагать, что он рассматривал трудовую деятельность населения как основу для институциональных изменений. Конечно, Маркс говорил бы о способе производства, а не об отборе и приспособлении к дисциплине труда. Согласно теории Маркса, общественные связи, которые он, может быть, очертил более искусно, имеют своей основой процесс производства, тогда как для Веблена отношения классов не обязательно являются элементом процесса производства. Но у Веблена борьба за существование была в такой же мере борьбой за доходы и долю в прибавочном продукте общества, как и у Маркса. Только первый не считал социализм завершающей фазой истории. Веблен не был гегельянцем.
В работе «Социалистическая экономическая теория Карла Маркса и его последователей» 4^ Веблен высказал свое уважение к Марксу как серьезному мыслителю, каковым он и был в действительности. Но он настаивал на том, что теория, на этот раз социалистическая, долж-
♦ Опережения и запаздывания; подробнее см. в разделе, посвященном У. Митчеллу.— Прим, перев.
63
на рассматриваться как целое и оцениваться в свете ее целей и постулатов. Маркс, отмечал он,— это в сущности представитель классической школы, который смело развил логику классической доктрины еще более последовательно, чем его предшественники. К сожалению, его система тоже содержит элемент телеологии, обещая как конечную цель новую социалистическую Аркадию. Трудовую теорию стоимости Веблен охарактеризовал как метафизическую мистику, а идею промышленной резервной армии объявлял слабой, поскольку она предполагает, что население растет независимо от ресурсов. Следовательно, и теория накопления не казалась Веблену особенно удачной, ибо она связана как с идеей резервной армии, так и с понятием прибавочной стоимости.
Теория эксплуатации у Веблена существенно отличается от социалистического варианта, поскольку в ней первое место отводится культурным и этическим факторам, а не чисто материальным факторам, определяемым применением капитала50. С другой стороны, Маркс не придавал такого значения понятию «экономический человек». Он, очевидно, не мог этого делать уже по той причине, что в его модели капитализма своекорыстие играет столь же важную роль, как в модели Рикардо, откуда оно, разумеется, и перешло к Марксу. Тот факт, что Веблен отверг гедонизм, заставил его рассматривать инстинкты и мотивы таким образом, который совершенно чужд Марксу. Социалистическая теория принимает во внимание психологические элементы лишь в той мере, в какой они могут понадобиться при анализе классов. Конечно, подход Маркса был институциональным в том смысле, что его абстракции привели к критическому рассмотрению таких проблем, как частная собственность, роль государства и отношения, вытекающие из процесса производства. Вебленовы же институты — в сущности психологические категории. Но описание нетрудового класса капиталистов было во многих отношениях более острым у Веблена. Если у Маркса психология включена в его систему как составной элемент, Веблену приходилось особо трактовать проблему мотивации и экономического поведения.
Для Веблена некоторые мелочи, вроде моды на прогулочные трости и дамские туфли на высоких каблуках, были столь же важны, как категории ренты и процента. Именно потому, что мотивы играют важную роль в экономическом процессе, он должен был знать об этих и многих других обычаях, сопутствующих хозяйственным процессам. Но если Маркс видел перед собой определенную моральную цель, то Веблен избегал много говорить о будущем человеческой цивилизации сверх того, что она подчинена объективному эволюционному процессу. Несомненны, однако, и черты сходства между ними. Оба считали процесс развития необходимым элементом для понимания институтов и общественных отношений. Оба с презрением относились к таксономическому образу мышления, свойственному ортодоксальным экономистам. Оба признавали наличие эксплуатации, вытекающей из стремления захватить возможно большую долю материального излишка, производимого обществом. И для обоих движущими силами процесса экономических и социальных изменений были материальные факторы (хотя Веблен был склонен придавать больше, по сравнению с Марксом, значения идеологическим и психологическим факторам).
Из Марксовой системы вытекало, что в процессе извлечения прибавочной стоимости может наступить такой момент, когда экономика будет не способна функционировать сколько-нибудь эффективно в силу резко выраженного отставания потребления от производства * 51. Это — основа классовой борьбы. На рубеже XIX и XX вв. это предвидение Маркса могло казаться в известной мере обоснованным. Но Веблен не мог принять гегельянские элементы, имеющиеся в Марксовой концепции классовой борьбы, хотя он был согласен, что борьба идет за собственность и доходы от нее. Из Вебленова анализа фактического положения дел можно сделать вывод, что он предвидел возможность мирного преобразования обще* Селигмен неправильно изображает учение Маркса в духе теории стагнации капитализма. Что же касается действительного учения Маркса о развитии противоречий капитализма и классовой борьбы, то оно полностью подтверждено всем ходом исторического развития, победой Великой Октябрьской социалистической революции, возникновением и углублением общего кризиса капитализма, образованием мировой социалистической системы и ее успехами в экономическом соревновании с капитализмом. Селигмен правильно отмечает роль Веблена как критика капитализма, однако в рассуждениях автора о чертах сходства и различия между Марксом и Вебленом остаются невыясненными главные, принципиальные различия, обусловленные прежде всего идеалистическим подходом Веблена к изучению экономического развития общества, непониманием им роли труда, сущности капиталистической эксплуатации и исторической миссии рабочего класса. Не случайно Веблен противопоставил материалистическому пониманию истории свой институционализм и социальный дарвинизм, а учению Маркса о пролетарской революции и социализме — буржуазно-реформистскую теорию технократии. Непоследовательность Веблена привела к тому, что буржуазные экономисты пытаются использовать некоторые элементы теории Веблена против марксизма. Вместе с тем прогрессивные экономисты, в частности американские марксисты, вполне правомерно подчеркивают положительное значение его критики капиталистических монополий.— Прим. ред.
64
ства; он считал это более желательным исходом, чем взрыв капиталистической оболочки, который предвещал Маркс. И хотя Веблен полностью соглашался с оценкой экономических движущих сил, заключенной в Марксовом понимании общества, он толковал их несколько иначе. Для него психологические и социологические элементы имели такой же смысл, а может быть, и более глубокий, чем экономические.
Таким образом, для Веблена процесс изменений — неотъемлемая составная часть экономической проблемы. Изучение экономики для него равнозначно исследованию роста и развития институтов, на которых прошлое оставило глубокий отпечаток. Конечно, такое понимание процесса изменений в значительной степени заимствовано из естественных наук 52. Но к счастью, в нем отсутствуют ритм и циклы исторической концепции Тойнби, поскольку Веблен отрицал, что в истории осуществляется некая предустановленная схема. Возможности для неожиданностей и случайностей слишком велики, и это не дает оснований считать, что исторический процесс развертывается только по своим внутренним законам53. Всегда имеются альтернативные причинные связи, а такая предполагаемая логика развития должна была бы их исключать. Конечно, необходимо установить связи и отношения в историческом процессе, но не следует забывать, сказал бы Веблен, что человек — единственная активная сила в истории. Он действует в социальной среде, и историческое движение должно совершаться в этих же рамках; экономическая активность всегда есть проявление деятельности индивидуумов. Историческая ситуация создает объективные условия для поведения индивидуумов, так что институты и способы мышления возникают в ходе индивидуальной адаптации ко всей совокупности общественных действий.
Итак, полностью признавая роль индивидуума в обществе, Веблен делал упор на функции, а не на структуру. Структурный подход вырождается в таксономию, в простую классификацию явлений, тогда как функциональный анализ, включающий принципы историзма и эволюционизма, является и более реалистичным и истинно динамичным. Лишь с его помощью можно понять такие факторы, как кумулятивный рост институтов и процесс накопления социального опыта 54. А как иначе объяснить способ, которым институты навязывают индивидуумам привычные нормы поведения в обществе? Здесь Веблен переходил на другой путь доказательства, позволяющий проследить, как развивались его интересы. Он говорил: культура определяется материальными факторами, которые принимают форму институтов и обычаев 55. Каковы эти материальные факторы? Ясно, что это не что иное, как орудия труда, суда, земля, здания, оборудование; это самый важный фактор, определяющий процесс изменений в обществе. Главную двигательную силу современного общества Веблен свел к технике 56.
К сожалению, Веблен не уделял политическим факторам такого внимания, какого они заслуживают. В результате упора на технические элементы роль политических форм и явлений преуменьшалась. В этом отношении Маркс выше Веблена: он считал политические действия важнейшим орудием общественного прогресса. А идеология, опирающаяся только на технический подход, не может создать хорошего общества, ибо человеку мало одной техники. Это упущение было слабым местом Веблена: оно особенно проявилось, когда он попытался представить инженеров как носителей революции.
Как и некоторые европейские авторы аналогичного образа мыслей, Веблен различал в истории ряд стадий. Человечество прошло стадии ранней и поздней дикости, хищного и полумир- ного варварства, а затем ремесленную и промышленную стадии. Две последние представляют собой современную культуру, пропитанную стяжательством. Стадия дикости кончилась где-то в средние века; сам по себе средневековый период — это стадия варварства. Главным фактором, определяющим жизнь современного человека, является машинное производство. Вебленов анализ стадий отличается глубокой эрудицией, но тон изложения дает основания думать, что вся предпринимательская деятельность представлялась ему гигантским надувательством со стороны промышленных магнатов.
Веблен полагал, что на ранних стадиях развития человечества люди жили в условиях сотрудничества. В те благословенные дни, как ему представлялось, не было собственности, обмена, механизма цен. Позже, когда был накоплен излишек материальных благ, военные вожди и жрецы нашли для себя выгодным править другими людьми 57. Так начался переход от простой дикости к варварству. По мере того как мирные занятия уступили место военным нападениям и грабежам, подавлялся свойственный человеку инстинкт мастерства. Если раньше человек противостоял природе, то теперь человек противостоял человеку. В центре нового образа жизни находилась частная собственность, в которой проявлялось положение человека в обществе и которая была средством увеличения влияния. Воинственные 5 Б. Селигмен
65
пастушеские племена поработили оседлых земледельцев. В позднейшие исторические эпохи глубоко укоренившиеся варварские навыки лишь скрывались под маской мирных форм поведения. Таким образом, у истоков собственности стояли насилие и обман, тогда как склонность человека к добрым поступкам была полностью подавлена 58. Развивалась общественная иерархия, с праздным классом на самой вершине пирамиды. G превращением иерархии в коренную черту человеческого рода внешними признаками отличия стало выставленное напоказ безделье и потребление, рассчитанное на демонстрацию богатства. Правда, прогресс техники продолжался, что поддерживало европейскую культуру на последующих этапах, но этот прогресс и инстинкт мастерства были отравлены бесстыдной тягой людей к показной роскоши. Товары стали цениться не по их полезным свойствам, а по тому, насколько владение ими отличает человека от его соседа: возник эффект «завистливого сравнения». Чем более расточительным было данное лицо, тем выше становился его престиж. Таким образом, высшие почести воздавались тем, кто благодаря контролю над собственностью извлекал из производственного процесса больше материальных благ, не занимаясь полезным трудом.
Элементы варварства сохранились до нашего времени. Согласно Веблену, современное «денежное общество» порождено случайным соединением таких факторов, как раса, развитие науки и техники, дух скептицизма и свободные институты. Ему предшествовала ремесленная стадия, когда еще существовало заметное уважение к труду 59. А развившееся стремление к улучшению своего положения двигало технический прогресс. Это не исключало случаев обмана и конкуренции, ибо должны же черты, свойственные современности, иметь корни в прошлом. Но для проявления склонности к труду все еще был большой простор; человек, как член общества, имел возможность проявить свои способности, а это и требуется человеку 60. Характерной фигурой той эпохи был мастер- ремесленник — воплощение инстинкта мастерства. Но по мере развития промышленной системы он все более отделялся от орудий труда; вместо инстинкта мастерства им теперь владели денежные стимулы к труду; началась эра предпринимателей. Материальные интересы общества были подчинены интересам извлечения прибыли в1. Так возникла дихотомия бизнеса и промышленности.
Идея исторических стадий, от варварства до современной машинной промышленной системы, характерна для антропологии того времени. Таков же ход мысли в классическом труде Льюиса Г. Моргана «Древнее общество», откуда Веблен заимствовал общую схему развития, ведущего к праздному классу и связанным с ним институтам. С этой теорией связана и психологическая концепция, которая исходит из наличия некоторых инстинктов, заложенных в биологической природе человека. Эти инстинкты явно действуют как созидательные силы, хотя они могут быть извращены плохими институтами. Веблена мало беспокоил тот факт, что объяснение истории в категориях инстинкта мастерства и праздного любопытства сталкивается со значительными трудностями. Он имел теперь теорию человека, которая, как он считал, несравненно выше концепции гедонистического расчета, выдвинутой ортодоксальными писателями, и этого было для него достаточно. Склонности и привычки важнее, чем соотношение наслаждения и страдания. Метафизика и телеология в особенности стали бесполезным грузом; чтобы объяснить, как человек обманывает человека, достаточно тропизмов *, рефлексов и глубоко укоренившихся привычек.
Веблен утверждал: хотя инстинкты имеют древнее происхождение, они непрерывно меняются в связи с изменением общественных институтов. Инстинкты могут быть разложены на различные социальные элементы; этот факт давно доказан экспериментальной психологией 62. Следовательно, они не наследуются, а носят характер психологических реакций, уходящих корнями в социальный опыт. Но чтобы служить орудиями анализа, они должны быть достаточно стабильными. Вебленовы инстинкты гораздо ближе к Treib** Фрейда, чем к «твердой программе» Мак-Дугалла или жесткому бихевиоризму Уотсона63. Вебленова психология инстинктов идет от физиологических исследований тропизмов, которые проводил Жак Леб. Но для Веблена инстинкт не есть нечто- стихийное, а целенаправленный активный фактор, который определяет известный образ действий индивидуума. Более того, инстинкт всегда находится под влиянием осознания индивидуумом ситуации, в которой инстинкт функционирует, и всегда обладает способностью приспособления к новым условиям 64. В нем содержится несомненный элемент разума, что особеннозаметно в его самой развитой форме — инстинкте мастерства. На этой биологической основе складывается «сумма производных норм и правил поведения» 65.
Главные инстинкты в системе Веблена — инстинкт мастерства, родительское чувство и * Биологический термин, означающий реакцию- и приспособление организма к внешним факторам.— Прим, перев.
♦* Влечение (нем.).— Прим, перев.
66
праздное любопытство. Имеются и другие — стремление к самоутверждению, себялюбию, а также многочисленные врожденные склонности, вроде стремления к созиданию или драчливости,— но они определены у Веблена недостаточно четко. Инстинкт мастерства и родительское чувство предопределяют стремление к улучшению материального благосостояния и продолжению рода. К счастью, говорил Веблен, они играют преобладающую роль, потому что без них общество поистине имело бы нелепый вид. Но они часто извращаются факторами, действующими в противоположном направлении, или мертвым грузом обычаев, и их должному функционированию мешают пережитки варварства. Учитывая все препятствия и институциональные ограничения, удивляешься тому, что они так хорошо функционируют. Но нельзя игнорировать их биологические корни. «У человека, как и у высших животных, существование вида определяется сочетанием инстинктивных наклонностей и тропиз- матических свойств, которыми типически наделен вид» 66.
Родительское чувство — это альтруистический инстинкт, в своем развитии он ведет к заботе об общественном благе. Это чувство начинается с заботы о собственной семье, а затем превращается в заботу о человечестве. Ему противостоит инстинкт себялюбия или стяжательства, который обычно ведет к самовозвеличению. Праздное любопытство, биологически связанное с инстинктом игры, является основой всякого исследования, ибо оно заставляет людей заниматься чисто научными проблемами, вопросами в основном прагматического характера и даже такими, которые, по-видимому, не имеют никакого значения67. Этот инстинкт ведет к открытиям и нововведениям. Но самым важным является инстинкт мастерства. Это не единый импульс, а скорее комплекс влечений, побуждающий человека обрабатывать природные материалы и ведущий к совершенствованию производства. В основном это инстинкт создания полезных благ 68. Он включает созидательную деятельность и рациональное использование экономических ресурсов, он увеличивает наш запас технических знаний и помогает человеку приспосабливать среду к его потребностям. Сдерживается он только верой в сверхъестественное и религиозными догматами.
В конфликте между родительским чувством и инстинктом стяжательства можно усматривать угрозу устойчивости человеческого общества. Но это по преимуществу конфликт психологического и культурного характера, а не конфликт, уходящий корнями в производственные отношения, как в системе марксизма. Если добавить к этому понятие сдвигов в культуре общества, очерченное Вебленом, то будет нетрудно увидеть, почему он не разделял телеологию Маркса *. Как считал Веблен, в процессе развития может случиться все что угодно. Процесс изменений кумулятивен по своей природе, и гегелевские тезис и антитезис представляют собой слишком жесткую формулу для такого процесса. Культура, говорит Веблен, вырастает как «кумулятивная последовательность приспособления» 69, вытекающая в конечном счете из биологических свойств индивидуума. При таком понимании развития ничего невозможного не существует, ибо все институты, которые вырастают из инстинктивных свойств человека, являются «естественными». Они образуют культуру, в которой субъект и среда находятся в постоянном взаимодействии 70. Теория такого процесса, в рамках которой должна исследоваться и хозяйственная деятельность, создает базу для подлинной экономической науки. Генетическое исследование экономики необходимо для понимания путей дальнейшего развития общества.
С известной точки зрения институт может быть определен как укоренившийся, широко распространенный обычай. Таков смысл выражения Веблена, что институт — это образ мыслей. Он уверял, что критическое изучение истории любого института не обнаружит ничего, кроме определенного образа мыслей, который определяет рамки и характер поведения людей. Конечно, люди, которые воспитаны под влиянием таких институтов, неизбежно будут стремиться к их увековечению. В ходе данного анализа Веблена всегда интересовали функции и процессы. Инстинкты и институты не являются неизменными. Они подвержены воздействию общественных сдвигов; они представляют собой унаследованные тенденции; они всегда подчиняются потребностям индивидуума; они сливаются и переплетаются; наконец, они всегда воздействуют друг на друга 71.
В своем анализе Веблен выходил далеко за пределы экономики. Он приводил доказательства из области антропологии, философии и истории культуры и потому мог использовать понятие инстинкта в самом широком смысле 72. Инстинкты стали у Веблена ведущими силами в процессе роста материального благосостояния. Хотя объективный характер эволюцион- * Под телеологией Маркса здесь и выше автор понимает учение о неизбежности смены капитализма социалистическим строем. Однако этот важнейший вывод носит не телеологический характер, а основан на всестороннем исследовании объективных закономерностей предшествующего развития общества.— Прим. ред.
5* 67
його процесса может навести на мысль, что один инстинкт столь же благотворен, как и другой, Веблен высказывал явное предпочтение созидательным инстинктам мастерства и праздного любопытства, а это содержало элемент этической оценки. Он был на стороне животворных сил 73. Некоторые критиковали его за это на том основании, что он отходит от своей биологической трактовки развития общества 74. Были и другие жалобы: инстинкты — понятие неточное, и вследствие их зыбкого характера они не могут определять те эволюционные изменения, которые им приписываются. Однако эта критика игнорирует весьма существенную социологическую природу инстинктов. При столь широком понимании инстинктов психология человека не может рассматриваться как нечто неизменное, ибо изменения и мутации — тоже элемент природы.
Интересный вопрос возникает, когда думаешь о том, как воспринял бы Веблен фрейдистскую психологию. По-видимому, он почти не был знаком с этим новейшим течением в науке, которое шло из Европы. Но он, несомненно, принял бы фрейдистскую концепцию особой психической сферы. Наверняка не составил бы большого труда переход от Вебленовых специфических инстинктов, особенно благотворных инстинктов мастерства и родительского чувства, к тем мощным эмоциональным движущим силам, которые лежат в основе Фрейдовой концепции человека. Едва ли вызвало бы спор утверждение, что Фрейдовы инстинкты тоже подвержены изменениям и что в стремлении проявить себя они порождают конфликты с осознанными нормами поведения. Подобно Дьюи, Веблен, возможно, предпочел бы подчеркнуть ответственность общественных институтов, но он, быть может, модифицировал бы утверждение Дьюи об аморфном, нейтральном характере индивидуальных реакций. Генетический анализ характера, заключенный в методе Фрейда, мог бы легко войти в систему Веблена. Такой анализ даже придал бы больше биологического обоснования различным типам характеров, столь резко обрисованным Вебленом. Конечно, изменение основных привычек под влиянием развития определенных господствующих групп, поощрение стяжательских навыков и показное потребление обусловливают затрату человеческой энергии таким образом, что это нарушает действие более здоровых инстинктов. Это представляется вполне аналогичным Фрейдовым процессам подавления и сублимации, хотя и на несколько ином уровне. Но важнейший пункт идей Фрейда имел бы большое значение для Веблена: само несовершенство общественных институтов ограничивает сферу, в которой могут действовать силы инстинктов, и этот конфликт создает постоянную угрозу взрыва в человеческом существе 75.
Эволюционный процесс, говорил Веблен, обнаруживает тенденцию к образованию определенных этнических типов, хорошо приспособленных к формирующимся институтам. Неспособный избежать квазирасистского образа мышления своего времени, он говорил о длинноголовом белокуром нордическом, круглоголовом альпийском и длинноголовом темноволосом средиземноморском типах. Он полагал, что нордическая раса является плодом самой последней мутации, а также наиболее гибкой и приспособленной расой. Современная культура и отражает ее превосходство. Но в каждой расе имеются чужеродные элементы, да и свойства отдельных индивидуумов далеко не одинаковы, поэтому сравнение рас в сущности теряет смысл. Каждая раса обнаруживает достаточные способности к росту и развитию. Вековой институциональный отбор способствовал выделению двух типов — миролюбивого и воинственного, причем последний преобладает. Поэтому современный человек в глубине души варвар, для которого институт частной собственности определяет коренной образ мыслей, а цель жизни — контроль над излишком материальных благ, произведенных обществом 76. Конечный вывод Веблена состоял в том, что человеческие существа в условиях современной цивилизации — в сущности дикари или обладают столь неустойчивым характером, что всегда имеется опасность атавистического возврата к варварству.
Согласно Веблену, институты определяют непосредственные цели, руководящие поведением людей, а когда институты совпадают с конечными целями, вытекающими из инстинктов, то обязательно складываются удовлетворительные социальные и экономические условия. Конечно, нелепые институты могут подрывать действие инстинктов. Главный фактор, лежащий в основе изменения институтов,— это техника, ибо образ мыслей людей определяется образом их жизни. Это явно напоминает точку зрения Маркса. Но Вебленова концепция роста и изменения институтов отнюдь не тождественна техницизму, она оставляет место для мутаций, праздного любопытства, смешанных рас и других нетехнических факторов. Однако в современном обществе экономические факторы, по-видимому, играют преобладающую роль 77, хотя часто наблюдается своего рода диалектическое взаимодействие технических и психологических элементов 78. Важно то, что институты подвержены изменениям; в отличие 68
от представлений ортодоксальной экономической теории Веблен не приписывал им постоянного характера. В современных условиях большое значение придается факторам престижа, общественного положения и соперничества. Но, с нескрываемым злорадством говорил Веблен, к этим понятиям применяются критерии, вытекающие из системы, для которой характерно расточительное потребление и стремление уклониться от полезного для общества труда. Нравы патрицианских домов Бостона и злачных мест Лонг-Айленда давали ему достаточно материала для обоснования этого тезиса.
Следовательно, капитализм вызвал к жизни два основных подхода, которые породили в обществе глубокую дихотомию,— точку зрения бизнеса и точку зрения производства. Вторая точка зрения вытекает из материального производства, тогда как бизнес заинтересован только в денежной выгоде. На этой основе возникает различие между машинным производством и капиталистическим предпринимательством, — различие, играющее роль по существу в любом общественном конфликте. Производство создает полезные для человека блага и потому связано с образом мышления, который отдает предпочтение полезности и общественной выгоде, а не индивидуальной прибыли. Это точка зрения, которая объективно помогает процессу жизни 79. В создании полезных благ находит свое полное проявление инстинкт мастерства. Напротив, стимул денежной выгоды проистекает из условий рынка. Здесь важна лишь меновая стоимость, которая по своей природе в основном субъективна. В основе меновой стоимости лежит возможность продать вещь, а продажа всегда может стимулироваться сознательным ограничением реального предложения товаров. Оборудование и капитал полезны лишь в той мере, в какой их собственники могут путем повышения цен присваивать материальный излишек, образующийся благодаря применению техники и инстинкту мастерства. Сам факт собственности позволяет предпринимательским классам присваивать лучшую часть продукции общественного производства.
В этом Веблен видел истоки будущей борьбы. Привилегированные классы всегда стремятся обратить на свои частные цели общественный излишек. Они приобретают атрибуты общественной группы, которую Веблен назвал праздным классом 80. С другой стороны, люди, занятые в машинном производстве, имеют возможность дать полное выражение своему инстинкту мастерства и в инстинктивном порядке, по- видимому, проникаются чувством классовой солидарности. Конечно, эта точка зрения меньше опиралась на понятие эконо шческого человека, чем теория Маркса. Веблен подчеркивал факторы культурного отставания и психологических реакций. И он в отличие от некоторых социалистов не был настолько оптимистичен, чтобы ожидать самопроизвольного крушения капиталистического общества. Он не видел также оснований надеяться, что рабочие будут оказывать сопротивление имущим классам во время кризиса 81.
В своей последней работе «Абсентеистская собственность и предпринимательство» Веблен суммировал эти взгляды в едкой и невообразимо злой манере. Это был его окончательный приговор обществу, к которому он питал крайнее презрение. Но он понимал, что устранить магнатов промышленности едва ли возможно. Ему представлялось вероятным, что «угнетенные массы» будут и далее мириться со своим положением, которое вряд ли улучшится, и довольствоваться одними обещаниями, хотя для их выполнения до сих пор делалось очень мало. Концепция кредита, развитая в его более ранней «Теории предпринимательства», с большим эффектом использована в книге «Абсентеистская собственность»; по мнению Веблена, этот институт в его современном виде мог развиться лишь на основе кредита корпораций 82. Право корпорации грабить национальное богатство возведено в ранг государственной политики. Об этом свидетельствуют поистине огромные масштабы корпоративной собственности. Историю с Типот Доум, знаменитый нефтяной скандал времен президентства Гардинга, он считал примером экономического саботажа. В сущности, современная сфера финансов корпораций представляет собой своего рода феодальный строй, при котором не участвующий в производстве магнат промышленности присваивает наибольшую долю его результатов. Обратившись к ловкому искусству торговаться, пускать пыль в глаза и навязывать товары покупателям, бизнесмен получил возможность наживаться за счет общества 83. И чем больше общественного богатства он присваивает, язвительно говорил Веблен, тем большим почетом и уважением он пользуется 84.
Суть дела в том, прямо говорил Веблен (у него уже не было необходимости скрывать свои мысли), что абсентеистская собственность препятствует полному использованию природных ресурсов и развитию техники 85. Эта собственность стала важнейшим капиталистическим институтом, с помощью которого бизнесмен может на основе небольшого собственного капитала использовать чужие средства. Акционерный капитал раздувается для того, чтобы увеличить денежную оценку предприятия, но в результате экономических кризисов 69
эти дутые бумажные величины, числящиеся в книгах корпораций, периодически урезаются по меньшей мере наполовину. Эта иллюзорная система захватила не только большие центры, но также фермы и маленькие города. В книге «Абсентеистская собственность» аспекты главного тезиса, выдвинутого Вебленом, повторяются вновь и вновь, но на этот раз в более прямой форме и более серьезным тоном по сравнению с его ранними работами. Он теперь слишком хорошо знал жизнь. Книга проникнута духом раздражения и нетерпимости, что делает ее одним из самых резких выступлений против капитализма. Высшей точки критического накала Веблен достиг в рассуждениях об искусстве сбыта. Он считал, что капиталисты бессовестно эксплуатируют чувства страха и стыда для увеличения своих прибылей. Своего совершенства это искусство достигает у продавцов веры, которые за деньги обещают людям все и не дают ничего 8в.
Веблена раздражало фантастическое расточительство и неэффективность, которые общество склонно одобрять в интересах культа бизнесмена. Он сомневался в том, сможет ли население изменить свои потребительские навыки в соответствии с материальными возможностями производства 87. Многое в этой концепции связано с его более ранней «Теорией предпринимательства», может быть важнейшей работой Веблена с чисто экономической точки зрения. На первый взгляд главы этой книги могут показаться ничем не связанными очерками о машинном производстве, кредите, структуре капитала корпораций, экономических кризисах и классовой структуре общества. Тон солидной авторитетности книге придают математические формулы, кое-где разбросанные по ее страницам. Но возможно, что за этим скрывалась шутка Веблена, ибо там, где отсутствует математическая таинственность, изложение отличается большей яркостью, силой и доступностью. Основное утверждение, которое ему предстояло повторить много раз в его трудах, заключается в несовместимости машинного производства и жажды прибыли. Капитаны промышленности, как Веблен называл предпринимателей, меньше заинтересованы в экономической эффективности, чем в извлечении прибыли путем купли- продажи на рынке бумажных титулов собственности. Это неизбежно нарушает работу промышленности; менеджеры стремятся увеличить бумажные прибыли и капиталы, а не производить реальные блага. Часто полезностью благ жертвуют ради прибыльности. Главный интерес бизнесмена сосредоточен на купле-продаже. Веблен так основательно изложил идею отделения в современной корпорации собственности от контроля, что Берли и^Минз смогли позже сравнительно легко дать эмпирическое доказательство этой идеи 88. Важным в его концепции было то, что перепроизводство и недопроизводство выступают как порождения системы бизнеса: в промышленном процессе как таковом вовсе не заключается необходимости периодических кризисов. Последние обусловлены лишь вмешательством факторов, связанных с погоней за прибылью.
Веблен утверждал, что жажда наживы препятствует производству полезных вещей. Поскольку современная культура пронизана властью денег, соперничество людей неизбежно принимает денежные формы. Чтобы утвердить свое влияние в обществе, люди приобретают дорогие, роскошные предметы, не являющиеся необходимыми для поддержания жизни. Богачами восхищаются потому, что они богаты, и даже произведения искусства несут на себе знак доллара 89. Дихотомия бизнеса и производства есть характерная черта машинной техники, так как в предыдущие эпохи извлечение прибыли было второстепенным явлением, инстинкт мастерства имел полную свободу действия, а между экономическим интересом личности и целью общества не было противоречия 90. Но, к сожалению, неуклонно развивается собственность, отделенная от производства и выступающая в виде претензии на нетрудовой доход. Земельная собственность, ссудный капитал и отделение работника от его орудий буквально навязывают обществу переход от солидарности к дихотомии. Это — Марксово отделение, но в других категориях*. Высшую форму проявления это находит в крупных корпорациях, где искусство махинаций подчинено исключительно целям неуклонного увеличения денежного богатства 91.
Конкуренция в классическом смысле невозможна в условиях преобладания корпораций. В эпоху, когда крупные фирмы заглатывают мелких бизнесменов, перестает действовать такая движущая сила, как постоянное стремление к успеху, заставлявшее одного предпринимателя превзойти других. Без новых факторов в экономике, обусловленных этими изменениями, классическая система конкуренции могла бы породить лишь войну из-за цен, депрессию и стагнацию, а экономическую активность пришлось бы поддерживать общественными работами и военными приготовлениями 92. Неко* Дело не только в «других категориях», а в том, что вместо раскрытого Марксом противоречия между производительными силами и производственными отношениями Веблен выдвинул туманную концепцию дихотомии бизнеса и производства, порождаемой якобы самой машинной техникой,— Прим. ред.
70
торым образом это, видимо, предвосхищает более позднюю идею Шумпетера о стабилизирующем влиянии корпораций, но Веблен был враждебен как раннему, так и позднему капитализму. Корпорации столь же склонны к «умиротворению непокорных варваров», как и конкистадоры, только в наше время «блага» умиротворения достаются другим бизнесменам. Навязывая такой мир, крупные корпорации стремятся лишь создать условия для извлечения прибылей путем ограничения производства. Излагая все это, Веблен отнюдь не прибегал к домыслам. Изучение огромных материалов, собранных промышленной комиссией 1898 г., дало ему представление о переплетающихся директоратах, холдинг-компаниях и разводнении акционерного капитала. Веблену казалось очевидным, что производство поставлено в зависимость от корыстных интересов финансистов. Их политика цен, столь отличная от политики мелких фирм времен Джефферсона, направлена на максимизацию прибыли путем создания искусственной нехватки товаров. В экономике, где бизнес в состоянии прибегать к «преднамеренному снижению производительности», спрос и предложение не могут быть фокусами анализа. Бремя же такого экономического развития неизбежно ложится на рабочих, мелких предпринимателей и фермеров, которые не могут действовать аналогичным образом.
Расширение кредита является существенным условием роста корпораций, так как при его посредстве стоимость реальных активов может быть раздута сверх всякой меры. Кредит стал необходимым орудием извлечения денежной прибыли. Путем капитализации можно увеличить денежную оценку различных привилегий, торговых марок и репутации фирмы 93. Для финансирования этих неосязаемых элементов нужен кредит, который можно получить либо от банковской системы, либо через рынок ценных бумаг и капитала. Кредит важен, говорил Веблен, как средство ускорения оборота капитала и увеличения ожидаемой прибыли. В итоге получается «синкопированный процесс расширения», в котором капитализация имеет, видимо, тенденцию обгонять рост реальной стоимости материальных активов 94. С помощью капитализации извлекается денежная прибыль. Таким образом, согласно Веблену, корпорационная революция вызвала глубокие сдвиги в экономике, в ходе которых место собственности на материальные блага в значительной мере заняла собственность на неосязаемые титулы. Суть этого процесса во всех его сложных разветвлениях была позже исследована Джоном Р. Коммонсом. Все это ведет, отметил Веблен, к возвышению немногих, насилию и контролю над промышленностью путем тайного сговора 95.
Кредит, говорил Веблен, сам по себе не является необходимым фактором производства благ, хотя его нормальное использование способствует повышению эффективности производственных процессов 96. Но его тревожило ненормальное использование кредита. Несомненно, получение ссуд дает некоторым фирмам конкурентные преимущества на рынке. Увеличение покупательной способности фирм побуж* дает их заниматься спекулятивной деятельностью, что ведет к повышению цен, а не к росту производства. Кроме того, образуется пирамида кредита, одна его форма нагромождается на другую, особенно благодаря капитализации будущей прибыли. Этот процесс питает сам себя, поскольку капитализация все более и более увеличивается за счет новых неосязаемых титулов. Будущая ожидаемая прибыль, капитализированная из текущей ставки процента, становится основной движущей силой промышленного цикла, поскольку экономика процветает лишь тогда, когда повышается норма прибыли на капитализированные стоимости. Процесс, говорил Веблен, настолько усложняется, что различие между кредитом и лежащими в его основе реальными благами затемняется. На определенной стадии возникает очевидное противоречие между денежной оценкой капитала и реальным капиталом, который он якобы представляет. Когда экономика вступает в фазу эйфории *, рост бумажных титулов вскоре обгоняет увеличение массы реальных благ 97. Наступает кредитная инфляция, которая неизбежно выливается в насильственную ликвидацию активов 98. Кредиторы опасаются, что разрыв между денежными оценками и реальным капиталом зашел слишком далеко и требование немедленного погашения ссуд кладет начало снижению экономической активности.
Основная причина кажется довольно очевидной: рыночная стоимость продукции не может поспеть за инфляцией капитала, поскольку доходы обычно не возрастают теми же темпами. Если бы дело обстояло иначе, то раздутые денежные оценки были бы поглощены повышением издержек, а сфера производства осталась бы единственным источником стоимости. Но Веблену было ясно, что капиталистический механизм распределения не обеспечивает этого. Поэтому промышленный цикл есть денежное явление, связанное в основном с институтами кредита и капитализации. Объяснение цикла, * Искусственно бодрое состояние (греч.).— Прим,
перев.
71
по Веблену, надо скорее искать в сфере прибылей и цен, чем в сфере производства. Главные причины могут быть в конечном счете сведены к коренной дихотомии общества — противоречию между бизнесом и производством. Итогом цикла является принудительное перераспределение капитала, при котором бремя дефляции возлагается на «нормальных собственников промышленного капитала», тогда как львиная доля выгоды идет «кредиторам и претендентам на доход вне производственного процесса» ". По-видимому, перераспределение собственности в итоге цикла всегда дает выигрыш классу кредиторов.
Однако Веблен считал цикличность нормальной чертой экономики. Подъемы и спады — части одного процесса 10°. Но ему представлялось, что депрессии по продолжительности и численности превосходят периоды экономического подъема. В этом он видел также объяснение усиливающегося процесса концентрации. Ибо после каждой серии банкротств и слияний те фирмы, которые сумели получить доступ к новейшей технике или смогли успешно реорганизоваться и перестроить структуру капитала в начале подъема, оказываются достаточно сильными, чтобы иметь возможность поглотить своих соперников 101.
Указанное явление внезапного падения ожидаемой нормы прибыли придает теории Веблена известное сходство с развитой впоследствии теорией Кейнса, в которой излишний оптимизм влечет за собой изменение соотношения между нормой денежной прибыли и предельной производительностью капитала 102. Однако у Кейнса ключевую роль играют ожидания, а у Веблена — чрезмерная капитализация. Этот подход придает анализу Веблена более сильную ноту пессимизма. Более того, он, вероятно, отверг бы утверждение Кейнса, что инвестиции идентичны приросту осязаемых ценностей, потому что он настаивал, что именно неосязаемые активы являются самыми значительными элементами в структуре капитала фирмы. Все эти права, патенты, торговые марки, привилегии и репутация фирмы, постепенно приобретенные ценой немалых затрат на сбыт и рекламу, обеспечивают лидеру отрасли преимущества перед соперниками. Они дают ему в руки рычаги, с помощью которых он может ограничивать предложение и контролировать цены. По словам Веблена, суть дела состоит в том, что во время депрессии физический объем капитала мало меняется, тогда как его денежная оценка меняется очень сильно. Поэтому продолжительность цикла тесно связана с тем, как много времени потребуется на переоценку капитализации фирм. Все это часть капиталистического процесса, в ходе которого крупные фирмы захватывают все большую долю рынка и поглощают конкурентов.
Монополия была основным элементом концепции Веблена. Развитие крупных корпораций, говорил он, ведет к ограничению производства, политике, которую даже профсоюзное движение, нарождавшееся в то время, находило приемлемой 103. Но такая политика не может проводиться неуклонно, ибо она несовместима с машинным производством, а в конечном счете и с потребностями государства. В книге «Кайзеровская Германия и промышленная революция» Веблен выдвинул оригинальное объяснение связи между внутренними экономическими трудностями капиталистического общества и империалистическим авантюризмом государства. Здесь очевидно влияние Джона А. Гобсона, но Веблен пошел дальше: он показал, что поощрялось проведение агрессивной внешней политики относительно отсталых стран, с тем чтобы поддерживать мировую экономику на военных рельсах. Это было поистине пророческое замечание. Далее он в сущности предсказал путь развития Германии в XX в. Ее экономический потенциал был создан с помощью заимствованной у Англии высокой техники производства; когда эта техника стала развиваться в условиях «династического государства», Германия начала стремиться к мировому господству. Результатом, как и предвидел Веблен, явился страшный тоталитаризм. Он не испытывал особого оптимизма и в отношении демократий, ибо очень хорошо знал, что национальный дух может быть использован привилегированными группами для увековечения своей власти. Патриотизм поставлен на службу корыстным интересам. Более того, постоянно проводя политику подготовки к войне, демократические государства сами способствуют усилению национализма, на который опирается империализм 104. В конечном счете даже интересы бизнеса не могут избежать общей судьбы: они тоже используются в династических целях 105. Конечным итогом войны является господство авторитарного государства.
«Кайзеровская Германия» обнаруживает больше, чем любая другая его работа, насколько близко затрагивает анализ Веблена современные проблемы. Как выразился Макс Лернер, Вебленов костюм носится хорошо и мало устарел. Веблен описал природу современного тоталитаризма за несколько десятилетий до того, как он появился. Веблен сознавал различия в развитии Германии и Англии, но, насколько он мог видеть, для обеих стран характерна грабительская сущность совре72
менной эпохи. Если говорить о благосостоянии народа, то особенно выбирать между ними не приходится: насилие и эксплуатация в равной мере определяют экономические и социальные условия в этих странах. В Германии, однако, магнаты промышленности не нуждаются в лицемерных уловках, чтобы прикрывать свои корыстные интересы. Германия смогла избежать дополнительных издержек индустриализации, которые выпадают на долю идущих впереди стран, поэтому ее экономический рост шел ускоренным темпом.
Возможность избежать «издержек первенства» очень пригодилась бы экономически слаборазвитым странам, которые в настоящее время ведут отчаянную борьбу за повышение уровня жизни. Однако Веблен подчеркнул бы, что до тех пор, пока культура таких районов, как Латинская Америка, тащит на себе мертвый груз традиций и корыстолюбия, маловероятно, чтобы они в полной мере воспользовались выгодами тех, кто впервые становится на путь промышленного развития.
В Вебленовом анализе бросается в глаза большая роль, отводимая насилию как доминирующему принципу экономической и общественной жизни. Поскольку труд есть процесс, в ходе которого один создает собственность для другого, то ясно, что распределение доходов происходит не без определенных трений. При современных общественных институтах, говорил Веблен, насилие есть прерогатива богатого. Решающую роль играет создание таких условий, при которых насилие может применяться с выгодой, а задача распределения материальных благ носит подчиненный характер. Поскольку внеэкономические методы существенно необходимы для создания условий, при которых можно присваивать прибыль, орудиями обеспечения прибыли стали давление на законодательные органы, правительственные учреждения и рекламные отделы газет. Акты агрессии и конфликты интересов случаются чаще, чем это согласны признать ортодоксальные авторы учебников.
Генетический подход Веблена к экономике не позволял ему давать рецепты нового общества, но он чувствовал, что государство будет играть все более и более важную роль. Очевидно, полагал Веблен, господство военной касты будет иметь тяжелые последствия 106. Но он всегда оставлял место надежде, что когда- нибудь «угнетенные массы» покончат со старыми навыками и попытаются —«к лучшему или худшему»— перестроить общественную систему 107. Но мощное препятствие к этому он видел в склонности пролетариата к сохранению обычного хода дел. Проблески той солидарности, которая необходима для создания новых форм поведения, Веблен, как ему казалось, различал скорее среди инженеров и интеллигентов. Они обладают практическим и теоретическим опытом, необходимым для того, чтобы руководить обществом по-новому 108. Веблен наивно думал, что переход власти к ним не представляет подлинной проблемы, так как всеобщая забастовка инженерно- технических работников поставит страну на колени и вынудит предпринимателей безоговорочно капитулировать 109. Тогда исчезнут всевозможные неосязаемые активы, титулы собственности и привилегированные группы; общество будет реформировано в соответствии с принципами, отдаленно напоминающими гильдейский социализм. Ресурсы будут распределяться эффективно и рационально (он, однако, не уточнял, каким способом), и экономика будет наконец функционировать для удовлетворения подлинных нужд потребителей. В соответствии с новым порядком вещей возникнут новая дисциплина и новые инстинкты. К сожалению, это была лишь утопическая схема, основанная на стремлении видеть общество именно таким; в свои молодые годы Веблен сам посмеялся бы над этими мечтами. Ход рассуждений Веблена таков, что при желании он мог лишь сделать вывод о приближающемся тупике в отношениях между бизнесом и производством. Революция инженеров была мечтой, которая, как он надеялся, каким-то образом осуществится. Но Веблен не очень-то верил в нее, так как он был пессимист и не видел подлинной альтернативы капитализму, как бы плох он ни был. И в этом была трагедия Веблена, ибо он ничего не мог предложить взамен нарисованной им мрачной картины. В непрерывной борьбе между человеком и институтами шансы всегда против личности. Веблен так и не нашел слов хотя бы для эпизодического восхищения капитализмом, какое мы находим, например, у Маркса *. Он был просто гость, наблюдающий странные порядки общества, в которое он попал. Вот его последние слова об этом обществе:
«Установившаяся система собственности и торгашества порождает стратегию сознательного сокращения производства, ослабления промышленности и капитализации накладных расходов. Можно определенно полагать, что законные власти во всех демократических госу* Конечно, о «восхищении» Маркса капитализмом не может быть и речи. Никто глубже Маркса не раскрыл противоречия и язвы капиталистического строя. Вместе с тем Маркс, как основоположник исторического материализма, выяснил прогрессивную роль капитализма по сравнению с предшествующими формациями.— Прим. ред.
73
дарствах будут неизменно поддерживать все маневры тех, кто выдвигает лозунг «обычного бизнеса», и будут пресекать всякое нарушение или отход от принципов бизнеса. Нет также никакой вероятности, что действенное общественное мнение на этот счет претерпит какое- либо заметное изменение... На ближайшее будущее перспектива, видимо, состоит в еще более полном утверждении безусловной веры в принципы бизнеса» 110.
Видимость научной беспристрастности у Веблена никого не обманула. Его тон и манера выражения были лишь хрупким фасадом, за которым скрывались яростные нападки на алчность и вульгарность общества того времени. В этом отношении, как писал Бернард Розенберг, он был одновременно художник и социальный критик. Он достаточно глубоко видел пороки людей и умел доставлять им овоей критикой неприятные ощущения. Праздный класс он считал не имеющей общественных функций группой людей, склонных к показной роскоши и соперничающих в ней самым постыдным образом. Свойственные им нравы — пережитки прошлого. В то же время эти люди представляют собой бремя для общественного производства. Они занимаются спортом, собаководством, азартной игрой и религией, ни в коей мере не способствуя росту материального благосостояния общества. Трагедия, говорил Веблен, состоит в том, что средний класс стремится подражать этим нравам, отказываясь тем самым от своих традиций бережливости и трудолюбия. Вместе с другими факторами культурного отставания это делает перспективу общества сомнительной. Не приходится ждать инициативы и от пролетариата, так как его энергия истощается борьбой за существование. Образ жизни праздного класса все более и более господствует над всем обществом, а его нелепые институты одерживают верх над разумом и культурой 1П. 157
В своем тонком исследовании Бернард Розенберг говорит, что Веблен был так близок к истине, что его книги скорее внушали страх, чем оскорбляли 112. Например, наблюдения Веблена по поводу низкого уровня университетского образования в Америке были безукоризненно верны. Главной заботой в колледжах была коммерческая выгодность; если подлинной наукой и не пренебрегали полностью, то создавали для нее, по существу, невыносимые условия. Администраторы университетов были больше заняты интригами и побочной деятельностью, чем наукой 113. Веблен считал главной причиной этого тот простой факт, что ведущие лица в университетах в сущности не были учеными. Занимаясь богословием или сбором пожертвований, они не могли не считаться с мнением промышленных магнатов, которые заседали в попечительских советах университетов. Университет должен «...оправдывать себя и как учебная корпорация и как фирма, торгующая стандартизированными знаниями» 114. Президент университета, продолжал Веблен, обычно занимался тем, что прикрывал малопочтенную сущность внешней солидностью, изображал из себя важную персону и таким путем стремился приобрести вес в обществе. Ему надлежало вести себя как подобает джентльмену и всегда сохранять личину добропорядочности и общительности. Это часто требовало немалой хитрости и навыка взаимоотношений с общественностью. Представьте себе, что Веблен дожил до наших дней, когда такой размах получили «паблик рилейшнс»— всяческие общественные функции! Он, несомненно, позабавил бы читателей язвительными описаниями сложных органов бюрократии, созданных для того, чтобы богатые профаны имели возможность приобретать почет путем «демонстрации расточительной платежеспособности» *. Пожертвования на университеты имеют характер инвестиций в создание доброго имени: они «исходят от джентльменов и леди и попадают в руки джентльменов, так что вся сделка начинается и завершается в пределах респектабельного круга денежных людей» 115. С течением времени об университете начинают судить по признакам, которые не имеют ничего общего с уровнем даваемых знаний. Наблюдения Веблена над жизнью в университетском мире, включенные им в книгу «Высшее образование в Америке», может быть, связаны с его личными трудностями, но всякий, кто с трудом удерживался на зыбком краю университетской территории, не откажет этим наблюдениям в точности 116.
Эти взгляды на постановку образования отражали убеждение Веблена, что экономическая наука не должна быть только наукой о ценах и рынках. Он говорил, что предметом политической экономии является человеческая деятельность во всех ее проявлениях, потому что общественные науки должны заниматься отношениями человека к человеку 117. Это включает не только структуру и организацию хозяйственной жизни, но всю сферу общественных отношений. По словам Аллана Груши, Веблен искал «холистический»** подход, при котором политическая экономия превратилась бы в подлинную науку об обществе. Убеждение институционалистов состояло в том, что рынок * Имеется в виду обширная система «частной благотворительности» в США.— Прим, перев,
** Целостный, всесторонний.— Прим, перев.
74
не является единственной ареной экономической деятельности. Более того, тип экономической науки, пригодный для одной эпохи, может быть и непригоден для другой. В этом подходе заключена известная доля релятивизма, но в то же время он проникнут духом прогресса и перемен. Хотя некоторые считают подход институционалистов недостаточно аналитическим, это была тем не менее блестящая попытка разобраться в механизме общественного развития.
В настоящее время редко встретишь экономиста, который сознательно причисляет себя к институционалистам, но немало экономистов могут проследить свое идейное происхождение от Торстена Веблена 118. Из более старых авторов Герберт Дж. Дэвенпорт, один из учеников, а позже благодетель Веблена, не только признавал присутствие корыстолюбия в классической доктрине, но и пытался очистить традиционную теорию от ее апологетического привкуса. Роберт Ф. Хокси, трагическая фигура в истории американской политической экономии, развил институционалистскую теорию тред-юнионизма, которая до сих пор пользуется влиянием. Е. X. Дауни использовал аргументы Веблена для защиты принципов оплаты труда рабочих. У. У. Стюарт использовал идею о дихотомии бизнеса и производства при изучении банковского дела. Карлтон Паркер развил психологическую теорию отношений в промышленности, оказавшую сильнейшее влияние ни на кого иного, как на Джона Р. Коммонса, многие идеи которого идут параллельно идеям Веблена. Джон Морис Кларк пытался найти средний путь между концепцией своего отца Джона Бейтса Кларка и концепцией Веблена. Берли и Минз в своей книге «Современная корпорация и частная собственность» целиком шли в русле Веблена. И наконец, Уэсли К. Митчелл, замечательный исследователь промышленного цикла, показал образцовый пример соединения эмпирического исследования с концепциями Веблена. Даже в настоящее время ощущается влияние Веблена: одно из его проявлений — огромная работа, проделанная Райтом Миллсом по исследованию фактов, и его проницательный, в духе Веблена анализ характера американской жизни. Другой пример — работа К. Е. Эйрса об экономическом прогрессе, которая стоит совершенно особняком как чисто теоретический трактат в институционалистской традиции 119.
Есть основания утверждать, что вебленовская школа в политической экономии хотя и сложилась, но была недолговечной. Вебленовцам было лет по тридцать с небольшим, когда умер их учитель. Их сразу захватили повседневные проблемы, особенно дела «Нового курса». Во время депрессии и войны им приходилось сочинять программы по примеру их великого крестного отца в политике — Франклина Делано Рузвельта. Каждый последователь Веблена, руководствуясь принципами институционалистского анализа, выбирал свой круг вопросов. Некоторые, подобно Уолтону Гамильтону, занялись правом, тогда как другие стали накапливать горы эмпирических данных и вскоре полностью пренебрегли теорией. В этом заключалась известная ирония, потому что сам Веблен показал, как мало можно достичь путем бесконечного нагромождения фактов без их теоретического осмысления. Но влияние Веблена прискорбно уменьшилось. Кейнсианская революция в экономической науке и стремительное развитие математических методов в 40-х и 50-х годах заслонили генетическую точку зрения. Важность проблем группы формально признается, как, например, в теории игр, но при этом редко находит отражение пластичность и изменчивость реального мира. Промышленное развитие часто рассматривается как вопрос статического сравнительного преимущества одного района перед другим без учета ряда внешних факторов, в частности политических. Экономический анализ в значительной мере сведен к теории цен. Общество признается чрезвычайно сложным комплексом, но, как считают, различные его элементы так тесно связаны между собой, что малейший вредный импульс может вызвать во всей системе либо нарастающие до взрыва, либо затухающие колебания. Напротив, институционалисты считали, что современная экономика не обладает большой жесткостью и допускает значительную игру различных сил. По их мнению, изменение в одной части системы не обязательно передается на другие части с такой непосредственностью и быстротой, как это вытекает из современных доктрин. Процесс роста и отбора институтов тоже достаточно гибок, чем и объясняется сохранение многих атавистических форм. Хотя точность математической формулы действительно изящна, она в то же время обманчива120. Институционалисту новая политическая экономия представляется чем-то вроде шахматной игры, и польза от нее — примерно такой же, как от шахмат. К сожалению, большинство экономистов ныне предпочитают эту игру в шахматы.
75
2. ДЖОН Р. КОММОНС:
СДЕЛКИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ коллективные институты
Джон Р. Коммонс (1862—1945) — выходец из Среднего Запада, род его восходит к периоду царствования английской королевы Марии (XVI в.). Это был человек, склонный, подобно своим предкам, к бунту и ереси. Родители его отца выехали из Северной Каролины, так как они не могли примириться с рабством, а его мать, родом из Вермонта, была страстной аболиционисткой. Коммонс-старший, поклонник Шекспира и Дарвина, как и его предки, был квакером, но в конце концов порвал с верой отцов. Он был предпринимателем и несколько раз продавал одно дело, чтобы купить другое; впоследствии он приобрел газету, где Коммонс- младший освоил профессию печатника, которой он некоторое время занимался 121. Но и издавая газету, отец Коммонса не мог обеспечить семью, и его жене пришлось взять на себя все финансовые заботы. Это была незаурядная женщина. Она уговорила Джона поступить в Оберлинский колледж, в надежде что он станет священником. Чтобы оплачивать учебу сына, она содержала небольшой пансион.
В Оберлине обнаружилось ярко выраженное стремление Коммонса к независимости. Он отказывался кому-либо подражать, особенно в интеллектуальных вопросах. Судя по оценкам и отзывам, он был плохим студентом, но зато стремился самостоятельно открывать факты и с большим трудолюбием выискивал их взаимосвязи. Поскольку Коммонс к тому же часто болел и пропускал занятия, университетский курс занял у него больше времени, чем положено, и он окончил его лишь в 1888 г. Увозя с собой безграничное преклонение перед Генри Джорджем, Коммонс покинул Оберлин и отправился в университет Джонса Гопкинса в Балтиморе. Это было признаком доверия, которое он внушал другим, ибо ему удалось получить в Оберлине от местного банкира ссуду в 1000 долл, на продолжение образования. В университете Гопкинса главной притягательной силой был Ричард Т. Эли, в котором Коммонс признал собрата по духу. Эли только вернулся из Германии, где он проникся идеями исторической школы, и очень скоро Коммонс стал его любимым учеником. В своих лекциях Эли подчеркивал необходимость исследования проблем в конкретной обстановке, и Коммонс скоро убедился, что экономическая наука содержит много такого, чего не найдешь в учебниках. Но учеба у него и здесь шла неважно, и он так никогда и не получил докторской степени.
В 1890 г. Коммонс получил место преподавателя в Уэслианском колледже, но через короткое время потерял его. Он оказался таким же плохим преподавателем, как и студентом. Тогда он вернулся в Оберлин, а потом стал профессором политической экономии в университете штата Индиана. В это время он начал задумываться над вопросом, не может ли религия стать подходящим орудием общественного прогресса. Эти мысли толкнули его на организацию «Американского института христианской социологии» и написание книги «Общественные реформы и церковь» 122, где речь шла об умеренности в политике, политических реформах и пропорциональном представительстве. Коммонс начал также писать о деньгах и по другим смежным вопросам, но высказывал такие мнения, что скоро заслужил репутацию социалиста. Но в действительности Коммонс не разделял радикальных идей, так как ему казалось, что в них игнорируется роль личности. Он лишь говорил, что в целях социального прогресса должна быть развязана энергия народа и что для этого необходимы меры со стороны правительства, которые гарантировали бы равенство возможностей. Но даже это вызвало недовольство университетских властей, хотя его способности как исследователя в области экономики были уже признаны. Откровенные высказывания Коммонса по разным вопросам не способствовали укреплению его положения. Своему учителю Эли Коммонс однажды писал, что, как он надеется, он начинает приучаться к большей осторожности в выражениях 123. Когда ему предложили место в Сиракузском университете, он попытался использовать его как средство давления на президента университета штата Индиана, но тот поздравил Коммонса и охотно его отпустил.
В это время Коммонс начал развивать некоторые идеи, которые позже легли в основу его первой большой работы «Распределение богатства» 124. Он погрузился в проблемы муниципальной реформы, местного самоуправления и пропорционального представительства и стал разрабатывать проекты, которые впоследствии вошли в его социальную теорию. Однако он остался верен своей удивительной способности ссориться с университетским начальством. С точки зрения этого начальства, достаточно плохо было уже то, что Коммонс занимался муниципальной реформой и пропорциональным представительством, а также применял необычные методы преподавания. Но когда он осме76
лился выступить за организацию для рабочих бейсбольных игр по воскресеньям, университет стал терять жертвователей. Власти без лишнего шума упразднили кафедру Коммонса 125, и ему ничего не оставалось, как с горечью заметить, что христианскими университетами управляет отнюдь не религия, а капитализм.
Коммонс сам больше никогда не претендовал на место в университете. Потеряв работу в Сиракузах, он нанялся к своему другу Джорджу 1Пибли, защитнику биметаллизма и рьяному стороннику Уильяма Дженнингса Брайана, знаменитого оратора демократической партии. Работа его состояла в исчислении индекса •оптовых цен; но, когда в июле 1900 г. индекс показал повышение цен, что было нежелательно для демократов, Шибли аннулировал договор и Коммонс опять остался без работы 126. Он поступил в штат промышленной комиссии, .а потом перешел на работу в Национальную гражданскую федерацию, общественную организацию, которая ставила своей целью улаживание конфликтов между трудом и капиталом. К этому времени взгляды Коммонса окончательно сложились: он выступал за принудительный арбитраж в трудовых конфликтах, требовал введения восьмичасового рабочего дня, считал, что повышение заработной платы увеличивает покупательную способность масс, а концентрация в промышленности благотворна постольку, поскольку она увеличивает эффективность экономики. Работая в профсоюзе швейников, он получил дополнительный практический опыт. Пять лет Коммонс был вне университетского мира, пока в 1904 г. Эли не привлек его на работу в университет штата Висконсин. Вернуть Коммонса в академическую науку было не простым делом. Слишком многих раздражала и отчуждала его пытливая манера, и к тому же ему уже было сорок два года. Университет согласился удовлетворить ходатайство Эли лишь при условии, что половина жалованья Коммонса будет выплачиваться из частного фонда. Но оказалось, что игра, которую вел Эли, стоила свеч. Как заметил Уэсли К. Митчелл, человек и случай здесь хорошо подошли друг к другу127. В Висконсине Коммонс принял участие в подготовке огромного труда по истории капитализма. Скоро он возглавил эту работу, которая была ему очень по вкусу. В 1911 г. в десяти томах вышла объемистая «Документированная история промышленного общества» 128. После этого группа Коммонса занялась историей условий труда и рабочего класса. Самым заметным итогом их работы явился классический труд «История рабочего класса в США» 129.
В Висконсине Коммонс имел большие возможности наблюдать политическую жизнь. Он стал советником Роберта Лафолетта, энергичного и дальновидного губернатора штата, который стремился к проведению широкого комплекса социальных реформ. Масса работы поглотила Коммонса. Он участвовал в подготовке законопроекта 1904 г. о гражданской службе; проталкивал в законодательных органах вопрос о регулировании предприятий коммунального обслуживания, действующих на муниципальных территориях; провел закон о мелких ссудах, который ограничивал ставку по ссудам 3,5% в месяц (и так как это дает годовую ставку в 42%, то он подвергался жестоким нападкам, хотя ростовщики получали ранее до 100% годовых); способствовал учреждению промышленной комиссии штата Висконсин; и, наконец, в 1932 г. подготовил один из первых в стране законов в штатах по страхованию от безработицы. Кроме того, Коммонс участвовал в изучении размеров и форм муниципальной собственности, в работе Питтсбургской комиссии 1906 г., в работе Федеральной комиссии по трудовым отношениям в промышленности 1913 г. и в знаменитом деле 1923 г. об установлении стальными компаниями цен по системе «Питтсбург-плюс». Из американцев он более всего напоминает неутомимых Уэббов.
Свой богатый практический опыт Коммонс использовал при разработке оригинальной системы идей, нашедшей выражение в известных книгах «Правовые основания капитализма» и «Институциональная экономика» 13°. Коммонс обладал удивительной способностью завоевывать доверие самых разных людей — от наиболее радикальных социалистов до степенных миллионеров, и это позволяло ему исследовать положение людей различных слоев и характеров. Самообладание Коммонса было тем более удивительным, что в личной жизни его преследовали несчастья: он потерял пятерых детей, а шестой страдал от психического заболевания; к тому же сам он обладал плохим здоровьем. Под конец жизни Коммонс написал книгу «Экономика коллективных действий», он полагал, что с ее помощью ему наконец удалось объяснить экономистам то, что он пытался втолковать им так много лет.
Работал Коммонс медленно. Он сам говорил, что ему приходится долго рыться в материале; ему потребовалось двадцать пять лет труда, чтобы разработать переход от понятия обмена к сделкам 13 х. Ненасытное любопытство неизменно уводило его на побочные линии исследования, но это всегда завершалось проницательными обобщениями. Одним из его главных достоинств было то, что он сочетал свой практи77
ческий опыт с теоретическими экономическими построениями. Еще работая печатником, он осознал коллективную природу профсоюза и то, каким образом профсоюз в качестве института направляет и контролирует поведение людей132. Психологические моменты, которые Коммонс выводил из понятия коллективных действий, были многим обязаны учению Чарлза Пирса, признанного основоположника прагматизма. Согласно Пирсу, для того чтобы составить ясное представление о явлении, необходимо рассмотреть практические следствия, которые оно предположительно может повлечь за собой. В концепции Пирса сделан упор на необходимость конкретного исследования, а к такому подходу Коммонс всегда испытывал инстинктивное влечение 133.
Бунтарство Коммонса выражалось в несколько странных формах, но оно ни в коей мере не способствовало укреплению его положения в академической среде. Если он не одобрял кандидатов, выдвинутых другими политическими группировками, он не колеблясь мог проголосовать за коммунистического кандидата. Иной раз он приводил в аудиторию живого социалиста лишь для того, чтобы продемонстрировать его как особый политический тип. Но он был убежденный противник марксизма 134. Два самых способных помощника Коммонса, Абрахэм Бисно и Селиг Перлмен, были евреи, эмигранты из России, бежавшие от гнета царизма. Оба были вначале своего рода марксистами, но изменили свои взгляды в американских условиях.
Будучи сам интеллигентом, Коммонс тем не менее полагал, что в рабочем движении интеллигенты не могут играть важной роли, так как от них обычно мало толку в практических делах, составляющих суть рабочего движения 135. Благодаря практической деятельности Коммонс и впоследствии постоянно интересовался природой рыночных сделок; ему казалось, что лучший путь к установлению того, что он называл разумной стоимостью (reasonable value), лежит через спокойные переговоры, терпеливое выяснение позиций участников сделки, а не через драматизм классовой борьбы 136. Это привело его к вопросу о юридических основаниях экономических решений, как они проявляются, в частности, в деятельности предприятий коммунального обслуживания. Затем последовали работы в области муниципальных финансов, организации городского хозяйства и учета, где Коммонс ставил своей задачей выявить принципы экономической эффективности. Но чтобы войти в его систему, все эти проблемы должны были подвергнуться рассмотрению под углом зрения прежних экономических теорий.
В настоящее время многие экономисты — как работающие в университетах, так и вне их — в большом идейном долгу перед Ком- монсом. Его идеи, сначала отвергавшиеся большинством коллег, постепенно проникли в сознание тех, кто был готов принять концепции, согласующиеся с историческими фактами. Такие понятия, как «действующий коллективный институт» («going concern»), «рыночная сила» («bargaining strength»), «сделки», были признаны в качестве достаточно точных характеристик экономического поведения людей в обществе. Было признано, что неосязаемые ценности представляют собой подлинные цели, которые преследуют предприниматели. Поведение на рынке является выражением способов экономической деятельности, а те ограничивающие и стратегические факторы, о которых говорил Коммонс, стали аналитическими понятиями с определенным содержанием. И наконец, утверждая, что развитие права отражает общественные обычаи, он сумел показать и обратное воздействие судебных решений 137.
Коммонс всячески поощрял самостоятельную работу студентов и всегда был готов оказать им помощь. Он стремился дать студентам возможность почувствовать, что они сами делают определенный вклад в экономическую науку. В лекциях Коммонса находила подлинное выражение его личность; они были совершенно лишены формальной системы, но всегда отражали смелое исследование важных и оригинальных проблем. Изучение деятельности компаний коммунального обслуживания натолкнуло его на мысль о важном различии между физическими активами и ценностями, которые они представляют *. В ходе размышлений о природе корпорации не только выявилась связь между налогами и неосязаемыми ценностями, но и то, что в центре всей экономической деятельности находится «действующий коллективный институт». Только толкуемая таким образом экономическая деятельность порождает, выражаясь языком Коммонса, разумную стоимость и оценку будущих благ (futurity). А все это прагматические вопросы, которые решаются добрыми услугами судов. Ожидания, конечно, важнее, чем фактические издержки (historical costs), ибо разумная стоимость должна быть определена лишь в будущем. Всю экономическую систему можно рассматривать через призму проблем труда. Таким образом, сквозь комплекс будничных проблем, которыми занимался Коммонс, проглядывала совершенно новая система взглядов.
♦ Очевидно, имеется в виду фиктивный капитал.— Прим, перев.
78
В начале своей карьеры Коммонс еще придерживался в известной мере традиционных взглядов. В его книге «Распределение богатства», вышедшей в 1893 г., не меньше австрийской теории стоимости, чем социального реформаторства. Это любопытная смесь, в которой видны серьезные поиски своей точки зрения. Теория стоимости Бем-Ваверка, казалось, давала решение проблемы распределения, так как, согласно ей, доля общественного дохода, достающаяся индивидууму, зависит от соотношений, по которым обмениваются различные продукты. Намек на позднейшие идеи Коммонса уже заключался во введенном им понятии обычного (customary) предложения и спроса138. Коммонс надеялся, что это понятие позволит ему по-новому исследовать силы, стоящие за предложением и спросом. Но это предполагало изучение отношений собственности, и он действительно критиковал Бем-Ваверка за игнорирование этой категории. От предложения товаров Коммонс обратился к изучению собственности и неизбежно перешел к юридическим проблемам, поскольку с собственностью связаны известные права и обязанности, без четкого определения которых общество не может функционировать. С изменением экономических условий, говорил Коммонс, меняются права, включая права личности, которые означают не только ее неприкосновенность, но и право на возможно более высокую долю в национальном продукте 139. По этой причине существование профсоюзов правомерно, ибо их функция состоит в том, чтобы добиваться повышения заработков рабочих сверх некоторого минимума. В остальном этот небольшой том посвящен закону убывающей доходности и рентным доходам. Коммонс полагал, что закон убывающей доходности есть в сущности «потенциальный» теоретический закон, применимый лишь к условиям монополии. Поскольку элементы монополии в экономике растут, то крайне необходимо найти способы защиты рабочего, который сплошь и рядом становится жертвой давления со стороны монополий. Однако Коммонс, как и после него Шумпетер, вместе с тем полагал, что влияние трестов может быть благотворным в той мере, в какой они в состоянии смягчать депрессии и способствовать росту производства 14°. Было также нечто от Рикардо в утверждении Коммонса, что между капиталом и трудом, с одной стороны, и «владельцами случайных прав» («owners of opportunities») — с другой, коренной социальный конфликт 141. Последние представляют собой в сущности всех прочих претендентов на общественный продукт, как и рентополучатели у Рикардо. Этот несколько радикальный элемент в книге Коммонса вызвал ожесточенные нападки на нее и осложнил его положение в университете штата Индиана.
В 90-х годах Коммонс интересовался также вопросами денежного обращения. Хотя он поддерживал Брайана, его собственные взгляды не были столь «крайними». Он считал, что цены могут быть стабилизированы путем покупки и продажи серебра, а это обеспечит эластичное денежное обращение. Тем не менее его симпатии были на стороне золотого стандарта. Его концепция стабильного уровня цен была схожа с концепцией, выдвинутой Кнутом Викселлем, хотя Коммонс тогда еще не читал работ шведского экономиста 142. Коммонс анализировал движение цен, обнаружив в нем длительную, вековую тенденцию, в которой он различал более короткий кредитный цикл, явно дающий о себе знать в экономике каждые шесть- десять лет. Его анализ кредита был во многих отношениях схож с анализом Веблена. Позже Коммонс вернулся к проблеме денег. Он писал о денежной реформе и, по существу, был экономическим советником комитета по банкам и валюте палаты представителей. Коммонс даже организовал выступление перед этим комитетом известного шведского экономиста Густава Касселя. Он «расследовал» операции Федеральной резервной системы, а из объяснений Бенджамина Стронга, который был одной из ведущих фигур в «Фзд», усвоил, какое глубокое влияние на уровень цен и денежный рынок могут иметь операции на открытом рынке *. Один аспект операций Федеральной резервной системы постоянно интересовал Коммонса — проблема своевременности действий, которая стояла перед Федеральной резервной системой на протяжении многих лет 143.
Коммонса редко беспокоило то, что его понимание институционализма не совпадало с тем, как его понимают другие. И конечно же, оно резко отличалось от концепции Веблена. Для Коммонса речь шла об изучении коллективных действий, направленных на контроль над действиями индивидуальными. Из своего опыта общественной деятельности он вынес убеждение, что коллективные действия представляют собой единственный способ примирения противоречивых интересов 144. При этом он оказался в гуще юридических проблем и вскоре пришел к выводу, что коллективные стремления в экономике находят свое выражение через суды. Например, неосязаемая собственность — это не * Покупка и продажа государственных ценных бумаг с целью увеличения или уменьшения свободных резервов коммерческих банков и соответственно расширения или сжатия кредитования экономики банками.— Прим, перев.
79
только право на доход, но и право устанавливать цены таким образом, что некоторые члены общества лишаются того, в чем они нуждаются. Коммонс охотно признавал сходство его взглядов со взглядами Веблена, но в отличие от пессимизма последнего он полагал, что претензии владельцев неосязаемой собственности могут быть урегулированы приемлемым для всех образом. Решение Коммонс видел в разумной стоимости. Иначе говоря, путь от столкновения интересов к приемлемому для всех решению лежит через юридическую процедуру.
Далее, говорил Коммонс, любой процесс должен быть рассмотрен с учетом его исторических корней. Идея коллективных действий имеет предшественников в лице Маркса, Прудона и Генри Маклеода, английского экономиста, который одним из первых заметил, что банки создают кредит. Это делает экономику эволюционной наукой и в первую очередь требует исследования судебных решений за несколько последних столетий, чтобы получить ясное представление о том, как именно коллективные действия ограничивали индивидуальные действия. Далее, говорил Коммонс, необходимо изучить труды экономистов, чтобы установить, в какой мере в их теории вошли понятия коллективных действий 145. Первая задача была выполнена в книге «Юридические основания капитализма», вторая — в книге «Институциональная экономика». Эта последняя превратилась в огромный (объемом свыше 900 страниц) хаотический труд. В ней охвачена вся история экономических учений, причем они рассматриваются под одним углом зрения: каким образом различные авторы, начиная от Юма и кончая Вебленом, вводят в свой анализ понятие «коллективных действий». В этой книге, пронизанной искрами подлинного прозрения, в основном исследуются методологические и философские предпосылки политической экономии. Но в конечном счете это помогло Коммонсу выработать собственное понятие коллективных действий. Таким образом, на протяжении всей книги подготавливается примирение институциональной экономики Коммонса с более индивидуалистическими взглядами его предшественников. Собственно говоря, Коммонс не считал, что он создает нечто новое: все эти идеи, говорил он, в сущности содержатся в работах выдающихся экономистов последних двух столетий 146.
В «Институциональной экономике» Коммонс начинает с Джона Локка и его «Опыта о человеческом разуме», поскольку Коммонс считает центральным вопрос о том, каким образом идеи формируются в уме человека. Исследуя некоторые странные пути, которыми идет философия, Коммонс хотел показать, как соотносятся идеи и внешний мир. Это необходимо для обоснования следующих далее понятий редкости благ и оценки будущих благ 147. Далее, такое философское исследование выявляет смысл понятия воли, которое лежит в основе всех вопросов принятия решений в экономике. В итоге этого исследования, столь характерного для Коммонса, он говорил, что его теория — это «теория совместной деятельности людей и их оценок во всех сделках, посредством которых участники побуждают друг друга к достижению единства мнений и действий» 148. Для того, кто любит следить, как развертываются идеи, в исследованиях Коммонса содержится масса интересного и поучительного. Перед его мысленным взором предстали Давид Юм, Ричард Бэкстер, Р. X. Тони, Чарлз Пирс, Кенэ, Блэкстон, Бентам и Маклеод, а также все великие представители экономической мысли. Его конечная цель состояла в том, чтобы проследить концепции взаимозависимости людей, столкновения интересов и общественного порядка и то, как они завершаются «разумной стоимостью», которая, как представлял себе Коммонс, в конечном счете устанавливается Верховным судом. Он говорил, что Верховный суд — первая кафедра политической экономии в Соединенных Штатах.
Понятие редкости благ, играющее у Коммонса важную роль, введено в политическую экономию, как он считает, Юмом и развито Мальтусом. Эти писатели сделали серьезный шаг вперед, когда они признали, что разумное поведение вовсе не характерно для большинства человеческого рода. Людьми очень часто управляют глупость и страсть, а распределение редких благ становится предметом острого конфликта. Если бы поведение людей действительно было разумным, то они признавали бы свою взаимозависимость и для установления разумных правил поведения не требовалось бы никакой третьей силы. Можно надеяться, что обычай способен исправить пагубные последствия неразумного поведения и привычные нормы поведения, вытекающие из обычая, могут стать средством приближения к разумности 149. Если обычаи меняются — а это и происходит на самом деле,— то выбор между старыми и новыми обычаями способен породить конфликт между разумом и своекорыстным интересом. Но поскольку обычай уходит корнями в инстинктивное поведение, он имеет тенденцию оставаться неизменным. Установлено, что многократное повторение определенных актов способствует сохранению вида, и это повторение из поколения в поколение делает обычай чем-то вроде наследственных норм поведения 15°. Однако обычай проявляется <80
через индивидуальные привычки, говорил Коммонс, стремясь к самому широкому представлению о человеке, какое только возможно. Он связывал обычай с понятием коллективных действий и с переходом от феодализма к предпринимательской экономике, но неизменно подчеркивал роль индивидуальной созидательной способности 15 *. Люди — не автоматы, говорил он; они обладают способностью изменять среду, ослабляя тем самым естественную косность обычая. Но поскольку эта способность часто приводит к конфликту, человеку надлежит искать пути к смягчению напряженности в отношениях, особенно если источником этой напряженности является собственность.
Затем Коммонс детально рассмотрел проблемы эффективности и редкости. Эти понятия наводят на мысль о конфликте между производственным (engineering) и предпринимательским (business) подходом. Если Веблен считал эти два подхода в корне непримиримыми, то Коммонс полагал, что капитализм способен обеспечить удовлетворительное равновесие между обеими силами. Редкость благ не понималась надлежащим образом, говорит Коммонс, пока его великий современник Веблен не показал, как экономическое развитие ведет к неосязаемой собственности. Понятие редкости является также центральным в судебных решениях. Конечно, экономисты-классики подробно говорили о редкости. Но они, по-видимому, принимали потребности за нечто само собой разумеющееся и рассматривали редкость как основу установления стоимости, целиком игнорируя установление стоимости путем переговоров. Редкость у них зависит от бремени труда или от трудовых усилий. Затем пришли экономисты австрийской школы и устранили трудовые усилия, приняв чисто гедонистическую систему 152.
Этот длинный и порой скучный анализ истории экономических учений должен был доказать, как развивался принцип коллективных действий в качестве средства контроля над индивидуальными действиями. В этих широких рамках люди связаны между собой в настоящем посредством сделок, хотя их интересуют также возможные последствия в будущем. Анализ осложняется, говорил Коммонс, двойственным характером самой стоимости, ибо она раскрывается одновременно и как физическое благо и как титул собственности. Возможность передачи права собственности без сопутствующей передачи самих предметов доказывает действительное наличие двух аспектов собственности. Это требует более действенной теории неосязаемой собственности и рыночных долговых свидетельств (negotiable debt), без чего нельзя объяснить подлинное значение оценки будущих благ 153. В прошлом, утверждал Коммонс, люди должны были жить с неотчужденным долгом; свобода была достигнута лишь тогда, когда долг стал «отчуждаемым» («releasable»). В этом, по существу, и заключается основание современного капитализма: политическая экономия занимается в действительности проблемами образования, рыночного оборота, передачи и редкости долгов *. Обещания заплатить деньги или выполнить какое-то действие стали товаром, предметом купли и продажи. Все это уже отражено в экономической теории: Маклеод видел тесную связь между рынками долговых свидетельств и товаров; Сиджвик ввел различие между денежными рынками и рынками капитала; Викселль говорил об обществе плательщиков долгов; Кассель подчеркивал факторы редкости и ожидания как основание ссудного процента; Кнапп анализировал передачу долгов; Хоутри писал о процессе создания долгов; наконец, Фишера занимал вопрос о чрезмерном разбухании задолженности. Все это, говорил Коммонс, аспекты одной проблемы.
Такова точка зрения Коммонса: в сущности, он выступает как прагматик, стремящийся избежать чисто абстрактных идей XIX в. Но хотя он и стремился создать впечатление, что не заинтересован в обобщениях, на самом деле введенные им понятия сделок и действующих коллективных институтов крайне абстрактны и теоретичны 154. В основном же у Коммонса ощущается несомненная тяга к принципам инструментализма, ибо для него экономическая наука — это практическое дело, имеющее своей задачей перестройку капитализма на «разумных» основаниях. Более того, он считает, что сам экономист есть «...частица предмета его науки, наделенная известными предубеждениями. Они могут не обнаруживаться до тех пор, пока в условиях кризиса он не будет вынужден выбирать между сталкивающимися интересами, и тогда в его чистой теории, вероятно, найдутся предпосылки, определившие его выбор» 155. Практический уклон их работ помогает экономистам находить важные вопросы и искать ответы на них с применением той методологии, которая соответствует характеру проблемы. Коммонс явно предпочитал «функциональный» подход к конкретным вопросам абстрактному подходу. Мир, в котором работает экономист, есть мир «...неопределенных изменений, в котором нет ни доброжелательной, ни недоброжелательной предопределенности и метафизики и где мы сами и все вокруг нас пре* Собственно говоря, ценных бумаг и других дол¬
говых свидетельств.— Прим, перев.
6 Б. Селигмен
81
бывают в постоянном столкновении интересов» 156. Поэтому подлинная сфера изучения для экономиста — поведение человеческих существ, которое он должен быть способен легко улавливать усилием воображения, поставив себя в схожие ситуации и таким образом поняв мотивы и цели действий людей 157.
Коммонс говорил, что принципы естественных наук и теория естественного отбора Дарвина мало применимы к явлениям общественной жизни, поскольку в области человеческого поведения отбор носит в основном сознательный характер. В этом отношении его институционализм тоже отличается от Вебленова. Он более активен, более оптимистичен и подчеркивает сознательную адаптацию. Подобно Веблену, Коммонс избегал трактовки общества как живого организма. Но поведение людей у него не является таким пассивным, как у Веблена; оно целеустремленно и обычно учитывает будущие результаты 158. Это важное положение лежит в основе настойчивых требований подчинить действующие коллективные институты приемлемым для всех правилам. При этом он видел в общественной жизни фактор человеческой воли и трактовал общественные действия как полностью волюнтаристские. Он не отрицал, что дедуктивный метод в известной мере полезен в экономической науке, но ему представлялось, что сложный характер капитализма эпохи банков и картелей заставляет экономиста использовать психологические категории, вроде власти и принуждения, без чего трудно понять действительный смысл происходящего.
Все это означает, что человеческий разум не орудие пассивного восприятия, не Локкова tabula rasa *. Для Коммонса разум — созидательная сила большой важности. Из целей общественных наук — привести человеческий опыт и знания о внешнем мире в некую систему для последующих полезных обобщений — вытекает, что развитие мышления есть не умозрительный, а активный процесс. На этой основе Коммонс разработал свою «волевую» психологию переговоров, в которой важную роль играет идея согласия. Переговоры ** ведут к сделке. Так впервые в истории политической экономии была создана система, которая опирается на социальную психологию. Психологический подход Коммонса определенно отражает идею Gestalt, это попытка рассмотреть социальные и экономические явления во всей их совокуп* Чистая доска (лат.).— Прим, перев.
** Это слово (negotiation) Коммонс понимает в самом широком смысле как процесс улаживания всякого рода экономических отношений между людьми.— Прим, перев.
ности. Действие, столкновение интересов, цель и достижение ее — все это сплавлено у него в понятиях сделок и ведущих к ним переговоров.
Экономика коллективных действий имеет длинную историю, которую Коммонс сумел проследить с эпохи торгового капитализма XVII и XVIII вв. Торговый капитализм у него превращается в предпринимательский капитализм, а последний достигает стадии зрелости в виде банкирского, или финансового, капитализма 159. На первой стадии главной двигательной силой служило расширение рынков, а в последующих важнейшую роль играли соответственно техника и кредит. В этой довольно наивной исторической схеме ощущается влияние известного немецкого историка Бюхе- ра. В качестве классической иллюстрации используется развитие обувной промышленности. Коммонс показывает, как сапожник ходил со своими простыми орудиями из села в село, получая плату главным образом в виде пищи и крова. Затем с появлением городов и развитием городской жизни возникли мастерские, где функции владельца, торговца, квалифицированного работника и предпринимателя соединялись в одном лице. Теперь заказчики приходили к сапожнику, а цена устанавливалась путем договоренности до выполнения заказа. Требования к качеству работы и цены, которые мог запрашивать мастер, часто устанавливались ассоциацией мастеров, например, в ремесленных цехах. За этим последовала стадия, на которой возникла лавка: когда спрос был низок, мастер-торговец накапливал известный запас обуви. Цена устанавливалась уже после выполнения работы, что в дальнейшем облегчило отделение функции торговца от функции мастера-производителя. Когда экономическая гегемония перешла к торговцу, появилась и спекуляция на рынке. Один торговец стал брать заказы от многих, и он начал превращаться в оптового торговца. Ремесленник находился теперь на пороге промышленной системы XIX в. и работал на три рынка: на мест- ный рынок (для розничной продажи), на заказ и на оптовый рынок. За счет экономии на транспортных расходах и других услугах цены на местном рынке могли быть ниже, чем на других рынках. Появились различия в заработной плате, и рабочие стали объединяться в союзы, чтобы защитить себя от холодных ветров конкуренции. В свою очередь хозяева тоже объединялись в ассоциации и преследовали рабочих по суду.; суды выносили обвинительные приговоры в соответствии с обычным правом, так как находили в действиях рабочих проявление преступного сговора 16°.
82
Когда появилась оптовая торговля, развился тип торгового капиталиста и стали функционировать коммерческие банки. Однако торговый капиталист возник не из мастера-хозяина. Это был самый настоящий торговец, который захватил в свои руки снабжение сырьем и мог заказывать ремесленникам товары, сбыт которых он хотел организовать. Это, по словам Коммонса, была потогонная стадия, ибо прибыли выжимались путем жестокой эксплуатации людей. Розничный торговец теперь лишился своего положения нанимателя. Начала развиваться промышленная система, для которой требовалось как банковское финансирование, так и производство оборудования. Европейские рабочие, попавшие в новые экономические тиски, попытались найти выход в кооперативном движении. Когда это движение было пересажено на почву Соединенных Штатов, оно потерпело неудачу, и у рабочих не осталось иного средства, кроме объединения в профессиональные союзы. Между тем промышленность колоссально выросла: железные дороги и телеграф расширили рынки, повсеместно применялось все более сложное оборудование. Мелкий подрядчик становился промышленником; рабочий был отделен от орудий своего труда; между фабрикой и магазином вторгся могущественный посредник. В этот момент, говорил Коммонс, и выступил Маркс со своими мощными средствами и методами анализа 161.
Промышленник стал стремиться к избавлению от власти посредника, организуя для этого комбинированное производство и добиваясь абсолютного контроля над своим продуктом с помощью патентов, холдинг-компаний и других орудий монополии. Как только начался этот процесс, в него в качестве союзника промышленника включился банкир. В периоды торгового и предпринимательского капитализма банковское дело ограничивалось в основном краткосрочным кредитом. Но в эпоху развитой промышленности потребовалось мобилизовать большие массы денежного капитала путем выпуска ценных бумаг, для этого стала необходима помощь инвестиционного банкира. Скоро, говорил Коммонс, банкиры стали играть преобладающую роль в советах директоров корпораций, они занялись реорганизацией предприятий и стали угождать инвесторам. Эта идиллическая картина резко отличается от нарисованных язвительным пером Веблена портретов финансиста и промышленного магната. По Коммонсу, миллионы мелких инвесторов с удовольствием передавали свои сбережения инвестиционным банкирам, а последние при наступлении трудностей всегда могли обратиться за помощью и поддержкой к правительству. «Тем временем возрастает значение центральных банков, контролируемых банкирами, и контроль над промышленностью и над нациями переходит к банкирскому капитализму» 162. Происходит отделение юридического контроля над товарами от физического: бизнесменов теперь интересуют лишь денежные величины; эра банкиров становится эрой «устойчивой редкости благ». На конечной стадии происходит самая настоящая картелизация, причем такие коллективные институты, как корпорации, профсоюзы и предпринимательские ассоциации, контролируют индивидуальное поведение сильнее, чем когда-либо.
И опять Коммонс возвращается к идее разумности. Проблема состояла в том, чтобы найти надлежащее место для инвестиционного банкира. Ссудные сделки, на базе которых создаются новые деньги, позволяют банкиру стать активным участником экономической деятельности 163. Банкирский капитализм организует эмиссию и размещение акций; в возникающей таким путем экономической системе корпорация становится разносторонним и гибким институтом 164. Корпорации оказывают влияние на законодательные органы, нанимают юристов, чтобы защищать их интересы в судах, и осуществляют широкие программы взаимоотношений с общественностью (public relations). А в центре находится банковская система. В этом кроется огромная опасность для общества, но Коммонс был уверен, что реформированные законодательные учреждения смогут соответствующим образом ограничить вредные тенденции банкирского капитализма 165. Вся система может быть спасена путем искренних и осторожных усилий со стороны правительства в целях защиты прав личности 166.
Созданный Коммонсом вариант оптимистического институционализма нашел самое полное выражение в его книге «Юридические основания капитализма». Стало ясно, что он стремился к генетическому исследованию, вроде работ Уэббов в Англии и Веблена в Соединенных Штатах. Но у него был и собственный строй мышления и своя манера изложения материала. Ему было не трудно стать институционалистом, так как он всегда стремился обнаружить культурные и исторические корни явлений, с которыми он имел дело. Но, как сказал Аллан Груши, Коммонсу пришлось использовать метод анализа конкретных случаев, чтобы доказать свои положения 167. У него отсутствовала столь свойственная Веблену склонность к грандиозным абстракциям. Каждое обобщение подтверждалось горами примеров и цитат. Исследование стоимости, сделок и правил экономмческой 6* 83
игры надо было прочно базировать на судебных решениях трех последних столетий. Тщательное изучение этих материалов привело Коммонса к выводу о том, что понятие собственности претерпело радикальное изменение: вместо телесной, материальной вещи теперь речь идет об ожидаемой меновой стоимости. Это означает также, что в экономических делах люди получают больше свободы и силы. В этой эволюции, говорил Коммонс, суды должны занимать прогрессивную позицию, потому что обычное право не в состоянии эффективно решать вопросы, связанные с неосязаемой собственностью. Однако этот довод натолкнулся на значительное сопротивление. Критики Коммонса утверждали, что обычное право удовлетворительно справляется с проблемами неосязаемой собственности и что оценка осязаемых благ столь же тесно связана с ожиданием будущего, как и оценка благ неосязаемых. Выдвигался также аргумент, что Коммонс приписал судебным решениям свои собственные идеи 168.
Но говорить так — значит не понимать намерений Коммонса, ибо цель институционального анализа состоит в том, чтобы обнаружить, каким образом юридические элементы проявляются в действующих коллективных институтах 169. Коллективные институты банкирского капитализма воодушевлены общей целью и руководствуются общими правилами. Они непрерывно осуществляют цепи сделок в соответствии со своими собственными правилами деятельности. Эти организации могут быть названы действующими коллективными институтами, так как они руководствуются своекорыстными интересами и сплачиваются на их основе. Своекорыстный интерес состоит в ожидании получения валового дохода, который затем распределяется среди их членов. Правила деятельности не появляются внезапно, а медленно вырабатываются с помощью статутного и обычного права, судебных решений и постановлений правительства. Значительную часть «Юридических оснований» составлял анализ этих правил и их действия.
Коммонс делал важное различие между производственными действующими предприятиями (going plants) и действующими фирмами (going businesses), объединяя те и другие понятием действующих коллективных институтов. Первые представляют собой технические организации, цель которых состоит в повышении эффективности и должном использовании факторов производства 17°. Напротив, фирма интересуется только денежными аспектами, она занята, в сущности, производством денежных стоимостей. Сделки, которые осуществляет действующая фирма, не создают новых стоимостей; эти сделки ведут лишь к их перераспределению. Опять-таки Коммонс видел, что это чревато столкновением интересов, но со свойственным ему оптимизмом он полагал, что эти сталкивающиеся интересы могут быть уравновешены. «Самое лучшее производственное предприятие — это такое, где технические факторы используются наиболее пропорционально благодаря усилиям менеджеров. Самая лучшая фирма — та, где правильно соразмеряются покупки и продажи путем рыночных сделок. Самый лучший действующий коллективный институт — тот, где в правильном соотношении находятся техника и бизнес» 171. Но Коммонс хорошо видел, что цель получения прибыли означает упор скорее на денежных аспектах, чем на производительности. Вследствие перепроизводства и безработицы его оптимизм в последние годы жизни оказался подорванным. Но все же он не хотел идти так далеко, как Веблен, и утверждать, что в конечном счете будет господствовать один бизнес.
Коммонс говорил: нет оснований сомневаться в том, что разумная стоимость на рынке может быть установлена путем добровольного сотрудничества обеих главных групп — капиталистов и рабочих 172. Таков основной смысл вышедшей посмертно книги Коммонса «Экономика коллективных действий». Эту последнюю его работу надо изучать первой, чтобы добраться до внутренней логики Коммонсовой экономической теории, потому что здесь он гораздо яснее излагает свои главные идеи, чем в «Юридических основаниях» и «Институциональной экономике». В «Коллективных действиях» ясно очерчена роль трех главных институтов, или коллективных организаций, — корпораций, профсоюзов и политических партий. Он вновь выдвигает свое положение, что большей свободы можно достичь только с помощью коллективных действий; это иллюстрируется интересным рассказом о том, как он сам, работая печатником, обнаружил больше свободы в типографии, где рабочие были охвачены профсоюзом, чем там, где союза не было 173. И это, несомненно, так, ибо для рабочих — членов профсоюза всегда имеется «...возможность взвесить, избрать стратегию и обдумать, с чем они столкнутся, если не согласятся на предлагаемые условия» 174. Коллективные организации, о которых идет речь, в сущности представляют собой «группы давления», но это не беспокоило Коммонса 175. Между альтернативными возможностями надо делать выбор, потому что участники любой рыночной ситуации всегда стоят перед лицом определенных ограничивающих или дополнительных условий, которые могут повести либо к обычным, рядовым, либо
•84
к стратегическим сделкам. С ограничивающими факторами связаны контроль над средой и воздействие на нее, а использование страте иче- ских элементов иллюстрируется правильным выбором времени и места. Таким образом, задача анализа коллективного поведения делает политическую экономию наукой о деятельности людей, а «действующий коллективный институт»— ее конечным объектом исследования. Как только действию дано определение, оно может быть описано с точки зрения его результатов, проявленной действующими субъектами преду- t смотрительности и возможности избежать этого действия 176.
Установив понятие действующего коллективного института, Коммонс занялся основным уравнением экономического поведения — сделкой. Он исходит из того, что в результате развития экономики стадия индивидуального обмена осталась далеко позади, ибо теперь в анализ сделок может быть введена неосязаемая собственность. Говоря на деловом языке, Коммонс имел дело с активами, а не с собственностью в ее физической форме 177. Понятие сделки проникает в право, политическую экономию и этику и, взятое в самом широком смысле, оно включает элементы конфликта, зависимости и порядка 178. Коммонс выделяет три типа сделок: рыночные (bargaining), административные (managerial) и распределительные (rationing). Рыночные сделки затрагивают по крайней мере пять участников: покупателя и продавца, потенциального покупателя и потенциального продавца, а также суд, всегда готовый примирить стороны и принудить их к соблюдению правил капиталистической игры. При этом групповая природа человеческих отношений раскрывается так, как она редко проявлялась ранее. Административные сделки выражают собой отношения руководителей и подчиненных, например менеджеров с рабочими и служащими. В сделках этого типа центральными являются вопросы управления и подчинения, а элементы будущего учитываются в виде планов использования ресурсов и выпуска продукции. Примерами распределительных сделок могут служить решения правлений корпораций, налогообложение, бюджеты и регулирование цен. Исторически самыми старыми являются административные сделки, самыми новыми — рыночные, но в современном обществе последние явно имеют большее значение. Они включают соглашения, достигаемые путем переговоров, передачу собственности, а также влекут за собой массу юридических вопросов. Но важнейшее значение имеют изменения активов и пассивов действующих коллективных'институтов, причем эти изменения создают также мотивы для будущих действий 179.
Отсюда вытекает, что цена, по Коммонсу, имеет два аспекта: деньги выплачиваются не только за материальные блага, но также за титулы собственности. Для современной экономики, следовательно, характерны не только производство и стяжательство, но постоянное отчуждение собственности 18°. Поэтому, оценивая природу сделки, суды должны учитывать четыре экономических фактора: передачу собственности, денежную цену, обязательство,, подлежащее выполнению, и платеж. Сделка включает все эти четыре элемента. С точки зрения последовательности во времени процесс содержит три этапа: переговоры, принятие обязательства, его выполнение. По продолжительности выполнения сделки делятся на немедленные, или наличные, краткосрочные и долгосрочные. Наконец, Коммонс объединил в едином аналитическом понятии сделки многие разрозненные элементы; способность убеждать, обязательство выполнить какое-то действие в будущем, оценка будущих благ, а также традиционные факторы цены и количества. 87
Допустив, что суды принимают участие в сделках, Коммонс неизбежно должен был ввести в анализ и воздействие государственной власти. Он изобразил его как некую материальную силу, которая обеспечивает выполнение людьми ранее принятых на себя обязательств 181. Это — фактор, который либо санкционирует, либо запрещает использование силы в человеческих делах. Конечно, к выполнению обязательств можно побудить также путем убеждения или другими средствами морального воздействия. Коммонс говорил, что наличие этих сил, которые воздействуют на волю человека, отличает экономическую и политическую науку от других наук. Этим объясняется также, почему понятие собственности так тесно переплетено со всеми другими волокнами ткани общества 182. Затем Коммонс разлагает понятие государственной власти на три главных элемента: исполнительный, законодательный и судебный. Естественно, последнему он придает наибольшее значение, полагая, что именно суды представляют собой арену завершающих битв, в итоге которых определяется стоимость.
Согласно Коммонсу, государственная сила принуждения замещает собой силу, к которой прибегали частные лица. К счастью, напоминал Коммонс, государственная власть в западном мире исторически развивалась в направлении демократического идеала, так что она все более способствовала общественному благу. Правда, он не отрицал, что частные группы 85
нередко пытаются захватить контроль над государством, чтобы обеспечить за собой приобретенные привилегии. Борьба за контроль над государством носит серьезный характер, но это не Марксова классовая борьба, говорил Коммонс. Скорее эту борьбу ведут многочисленные группы, состав и характер которых постоянно меняется. «Противоречия существуют... это противоречия между трудом и капиталом, покупателями и продавцами, фермерами и оптовыми покупателями их продукции, заемщиками и заимодавцами, наконец, между различными группами налогоплательщиков» 183. Каждая группа оказывает возможно более сильное давление на государство, стремясь обеспечить свои интересы. Коммонс думал, что система пропорционального представительства способна смягчить эту борьбу, но он, и это вполне очевидно, не принимал в расчет тот факт, что политическая и экономическая сила с самого начала распределена неравномерно. Полностью осознавая, что наличие конфликтов и борющихся групп противоречит его теории экономической гармонии, он тем не менее не хотел отказаться от надежды, что в конце концов восторжествует разумная стоимость и мирные отношения между людьми.
Государственная власть была для Коммонса одним из пяти основных принципов экономического поведения. Остальные были таковы: производительность (efficiency), редкость, оценка будущих благ и правила деятельности 184. Производительность для него связана с потребительной стоимостью благ: это, в сущности, техническое понятие 185. Ей соответствует административный тип сделок, поскольку в данном случае речь идет о производстве товаров. Рост выработки и увеличение богатства играют здесь ключевую роль. В «Институциональной экономике» Коммонс посвятил производительности длинную главу, в которой исследуются всевозможные связи между его идеями и старыми концепциями. Однако политическая экономия не может рассматривать проблему стоимости без учета редкости. Бизнесмен, говорил Коммонс, «...видит, что... чем больше производительность, тем больше объем производства благ. Но он также видит, что с частной точки зрения собственности, дохода, спроса и предложения... тем меньше собственническая стоимость (proprietary value) благ...» 186. Рассматривая категории дохода и продукции (output) с этих позиций, Коммонс установил, что доход есть не что иное, как цена, которую получает собственник на основе его законного права воздержаться от предоставления другим услуги, являющейся функцией его собственности; продукция не может трактоваться как услуга, оказываемая другим независимо от цены. Следовательно, необходимо проводить различие между потребительной стоимостью и стоимостью, определяемой редкостью (scarcity value). Ясно, что современный бизнес заинтересован преимущественно во второй 187. Но потребительная стоимость и стоимость, определяемая редкостью, неразделимы, ибо и та и другая обусловлены одними и теми же производственными и рыночными факторами, порождаются одними и теми же действующими коллективными институтами. Но они лежат в основе двух различных, диаметрально проти- » воположных взглядов на общество: один представляет собой «...собственническую экономику прав и привилегий; другой — техническую экономику затрат и продукции» 188.
Что касается оценки будущих благ (futurity), то цель состоит в том, чтобы иметь такой юридический и экономический порядок, который обеспечивал бы прочную основу для ожиданий. Контракты должны выполняться потому, что иначе под угрозой оказываются прибыли и инвестиции. «Без этой гарантии ожиданий не может быть стоимости, предпринимательства, сделок и занятости в настоящем или всего этого будет гораздо меньше. Стоимость есть современная оценка будущего чистого дохода» 189. Таким образом, в понятии оценки будущих благ заключается вся структура долгов и кредита. Теперь стало возможно интерпретировать все экономическое поведение при капитализме как движение долгов и обмен рыночными долговыми документами 19°. В сделки привносится фактор времени таким образом, что допускается влияние будущего на настоящее. Таким путем объясняется весь процесс оценки: если ожидания не оправдались, то ясно, что стоимости будут исчезать. Поскольку каждая сделка содержит элемент расчетов на будущее, это означает, что в сделке отражаются динамические экономические факторы и вся система права, государства, кредита, банков и денежного рынка — в сущности, вся экономика 191.
Критики Коммонса заявляли, что понятие разумной стоимости невозможно интерпретировать как нечто объективное. Он же мыслил себе разумность как наилучшие условия функционирования, допустимые в данной отрасли хозяйства 192. Это, полагал Коммонс, означает применение практических принципов к внешне идеалистическому понятию, так как позволяет исследовать конкретные ситуации. «Коллективистская теория стоимости,— писал он, — выведенная из наилучших условий функционирования обычая, обычного права и судебных решений, могла бы сделать разумность «объективной» и потому подлежащей исследованию 86
ип роверке, что повело бы к выработке правил коллективных действий для контроля над индивидуальными действиями» 193. Тщательно рассматривая каждый конфликт в свете его последствий, суды сыграют стабилизирующую роль. Юридический подход, говорил Коммонс, прагматичен и неизбежно ведет к разумности. Если до такого решения вопроса можно добраться лишь через ошибки и путаницу, то ничего не поделаешь. Он не отрицал, что разумная стоимость включает немалую долю «...глупости, пристрастности и заблуждения...», но такова уж природа поведения людей 194. Это делает разумную стоимость институциональным понятием: не «...рациональное состояние общества определяет действия людей, а участники сделок оказываются перед лицом изумительно иррациональной и сложной конфигурации ожиданий. И положение меняется изо дня в день и из столетия в столетие... Из этих сложностей и неопределенностей постепенно возникают понятия разумных обычаев и разумных стоимостей, под влиянием которых меняются сами институты человеческого общества» 195.
Прежние определения стоимости основывались либо на прошлых издержках, либо на удовлетворении от благ в настоящем, так обстояло дело у классиков и у австрийской школы. Но лишь с развитием банкирского капитализма на передний план выступило понятие стоимости, возникающей из согласия о выполнении в будущем определенного контракта 196. Эта теория выводит стоимость из переговоров и объясняет, почему установление стоимости так часто завершается в судах. В процессе оценки полезность блага учитывается, но значение имеет, настаивал Коммонс, именно оценка будущей полезности. Установление стоимости стало у него как общественным, так и индивидуальным делом, в котором возможности и альтернативы, имеющиеся в распоряжении индивидуумов, определяются коллективными рамками 197. Он говорил: «На величину стоимости влияет деятельность банкиров, политиков и судов, а также поведение миллионов людей с их психологией надежды или страха, то есть все то, что влияет на уровень цен, объем покупательной способности и общее состояние процветания или депрессии в экономике» 198. Стоимость должна, конечно, учитывать и издержки, но последним дается такое определение: это противодействие * стимулам к действию (resistance to inducements to * Психологическое, внутреннее противодействие, свойственное природе человека. Чем большее приходится преодолевать противодействие, тем больше издержки. Это один из вариантов субъективно-психологической теории стоимости.— Прим, перев.
perform). Можно также использовать понятия страдания или жертвы, но это в основном этические категории 199. Если же трактовать издержки с точки зрения стремления собственника противодействовать риску или сдавать собственность в наем на удовлетворительных условиях, то раскрывается, говорил Коммонс, подлинная психологическая основа, причем в итоге этого противодействия и возникает разумная стоимость. Если связать эти понятия с понятием «оценки будущих благ», то обнаруживается, что стоимость есть антиципированное право на будущие блага и услуги — попытка побудить людей включить в экономический процесс ресурсы, которыми они располагают. Таким образом, издержки и стоимость становятся основными понятиями, которые тесно связаны с навыками, обычаями и убеждениями людей. В конце концов Коммонс заключает, что политическая экономия — это наука о процессах, ведущих к установлению разумной стоимости, а ее основная задача состоит в том, чтобы соразмерять стимулы к использованию ресурсов, осуществляемому с помощью определенных правил деятельности и через определенные действующие коллективные институты. Как нет перегородок между полезностью, общностью интересов и обязанностями, так нет перегородок между политической экономией, этикой и правом. Политическая экономия — наука о человеческой культуре; ее основное понятие есть понятие сделок, в которых общественные оценки стоимости благ являются средством обеспечения стабильности общества.
Имя Коммонса известно, может быть, более всего благодаря его вкладу в изучение рабочего движения. Он защищал Национальную гражданскую федерацию против нападок социалистов, указывая на несколько случаев урегулирования трудовых конфликтов, при которых в выигрыше оставался прежде всего профсоюз 20°. Его опыт во время стачки в сталелитейной промышленности в 1901 г. породил у него недоверие к интеллигентам в рабочем движении, которые, как он полагал, должны довольствоваться ролью советников 201. В университете штата Висконсин он вместе с Джоном Эндрюсом и Еленой Самнер взялся за сбор, систематизацию и обработку всех имевшихся материалов о трудовых отношениях и условиях труда. Эта работа была плодотворной, доказательством чего является «Документированная история промышленного общества». Он опубликовал также несколько статей в связи с этой работой, из которых особо надо отметить статьи о профсоюзе обувщиков, идеализме в истории американского общества и влиянии экономических циклов на рост профсоюзного 87
движения. Все это создало основу, на которой сложилась так называемая «висконсинская школа» в изучении трудовых отношений 202. Его подход к профсоюзному движению ни в коей мере не отличался от его подхода к другим областям; исследовался каждый аспект проблемы, раскапывался каждый факт. Он не хотел выносить никаких суждений, потому что — по крайней мере в этой области — он просто описывал факты общественной жизни. Несомненно, в области трудовых отношений в промышленности столкновение интересов неизбежно, но опять-таки важнейшая задача состоит в том, чтобы выработать удовлетворительные регламентирующие правила.
Коммонс говорил, что классовая борьба, как ее понимал Маркс, не играет большой роли в профсоюзном движении. Разве профсоюзы, спрашивал он, не предшествовали фабричной системе, когда, согласно представлениям марксистов, только и появилось классовое сознание рабочих? В действительности рабочее движение началось как реакция на алчность торгового капиталиста. Напротив, профсоюзы были практически неизвестны в текстильной промышленности, где ранее всего сложилась фабричная система. У подмастерьев и ремесленников сложилось чувство «общей зависимости» от расширявших рынок торговцев-скупщиков * 203. Основной конфликт в обществе развертывается не между рабочим и собственником, а между бедным и богатым, между тем, кто производит, и тем, кто не производит. В сущности, точка зрения рабочего — это точка зрения собственника, что является фактором первостепенной важности в росте тред-юнионизма. Право на рабочее место — вот главный мотив объединения, а не общность классовых интересов. Проблемы, с которыми сталкиваются рабочие, вытекают не из классовой борьбы, а порождаются такими безличными факторами, как рыночная конкуренция и монополия. Конфликт обычно выражается в антагонизме между рыночной ценой товаров и заработной платой 204. В результате имеют место попытки профсоюзов защитить интересы рабочих путем выступлений за такие меры, как высокие таможенные тарифы и преимущественные права членов профсоюзов. Поскольку интересы профсоюзов направлены на защиту «собственности на рабочее место», они становятся в обществе лишь еще одной из групп, оказывающих давление с целью обеспечить свои права 205. Но, с точки зрения * Эти положения основаны на смешении профсоюзов в капиталистическом обществе с объединениями ремесленников в предшествующий исторический период.— Прим, перев.
Коммонса, это вполне разумный подход. Его моральное обоснование заключается в праве людей на свободное объединение и проявление своих способностей. Отсюда вытекает подход к вопросам трудовых отношений, который можно было бы назвать принципом «общественной полезности». Классики смотрели на труд просто как на один из товаров. Инженеры и управляющий персонал ценят труд лишь с точки зрения развития производства. Напротив, принцип «общественной полезности» предоставляет труду определенные права, которые должны уважаться в рыночных отношениях, ибо иначе, вероятнее всего, возникнет серьезный конфликт. Добрая воля и esprit de corps * рассматриваются как важнейшие факторы установления гармонии интересов в промышленности.
Коммонс указывал на следующие факторы, важные для понимания характера американского рабочего движения: наличие свободных земель, расширение рынка, избранное народом правительство и приток иммигрантов. Он полагал, что реакция рабочих на последний фактор в особенности раскрывает свойственный им дух исключительности и своекорыстия 206. Таким образом, наблюдения Коммонса над рабочим движением подкрепляли его концепцию сталкивающихся интересов, а его практический опыт поддерживал веру в возможность примирения этих интересов. Он выступал за тактику «постепенности» в рабочем движении и одобрял «деловой юнионизм» старых гильдейских объединений рабочих, где первое место уделялось практическим вопросам заработной платы и продолжительности рабочего дня. Социальные проблемы должны решаться постепенно 207. Он не только отвергал классовую борьбу, но с известным сомнением смотрел и на участие в политической деятельности. Заключение коллективных договоров—вот важнейший путь к поддержанию общественного равновесия 208.
Несмотря на то что в молодости Коммонс имел репутацию радикала, он вовсе не стремился к изменению капиталистических общественных отношений. В глубине души он был консерватор и всегда искал подход к трудовым отношениям в промышленности, основанный на согласии. Ему казалось вполне разумным, что это требует создания профсоюзов, соответствующих по своим размерам большим корпорациям. Он полагал также, что любой спор, какой может возникнуть, будет улажен правительственной комиссией. Ему, однако, не приходило в голо-
♦ Дух принадлежности к определенному сословию> группе и т. п. (франц.).— Прим, перев. 88
ву, что подобные комиссии могут и не оказаться такими беспристрастными, какими им следовало быть 209. В действительности классовый дух часто показывает свою неприглядную сторону и порождает конфликты такого рода, который вызывал у Коммонса ужас. Поистине, отношения в промышленности не всегда представляют собой прямую гладкую дорогу к разумной стоимости. Коммонс убедился в этом в результате трагического опыта депрессии. Только в 40-х и 50-х годах в недрах Коммонсо- вых действующих коллективных институтов возник тип спокойного, сдержанного администратора, склонного к деловому решению трудовых вопросов, ибо только тогда и рабочий осознал свою роль винтика в машине промышленной эффективности 21°. Принесло ли это рабочему удовлетворение, как сказал Гарви Свадос,— совсем другой вопрос 211.
Очевидно, что, бросая свой необычный вызов официальной экономической доктрине, Коммонс никоим образом не был таким едким и язвительным критиком, каким стал Веблен. Его оптимизм, уходящий корнями в традиции Среднего Запада, не имеет ничего общего с мировоззрением Веблена или Маркса. Бунтарем он был лишь в том, что не колебался высказывать свои мнения прямо и честно. Этого было достаточно, чтобы принести ему много неприятностей. Но единственное, к чему он стремился,— это разумное разрешение споров в обществе. В сущности, только его метод был направлен против ортодоксии. Немногие экономисты взялись бы за труд, который он проделал в «Юридических основаниях» и «Институциональной экономике». Он дистиллировал свою теоретическую систему в сложных аппаратах многих сотен судебных решений и десятков типов экономической теории; большинство ученых уклонилось бы от этого. Но метод Коммонса не сделал его идеи более доступными; трудность его книг усугубляется метафизическими отступлениями и философскими рассуждениями по поводу самых запутанных вопросов. Его работы — смесь юриспруденции, экономики, истории, психологии, этики и политики. Но сколько-нибудь внимательно ознакомившись с этой грудой материала, читатель вдруг обнаруживает джентльмена с умеренно консервативными настроениями, которого вполне удовлетворяют взгляды и прагматический подход какого-нибудь Сэмюэла Гомперса *.
Если отодвинуть в сторону всю массу фактов, собранных Коммонсом за его долгую жизнь социально-экономического исследователя, то обнаружится, что, несмотря на его откровенно признаваемую антипатию к абстракции, все остальное представляет собой, может быть, самую абстрактную теоретическую систему из всех, когда-либо разработанных американскими экономистами. Для Коммонса теория была громким призывом к действию. В этом смысле он, несомненно, находится в русле великой традиции политической экономии. Но то, как Коммонс оперировал имевшимся в его распоряжении материалом, показывает, что он пребывал в плену у американского прагматического мифа, согласно которому человеческий разум, если только направить его на верный путь,, способен разрешить все актуальные проблемы.
3. УЭСЛИ к ЭМПИРИЗМ
Эмпирическое применение институционализму Веблена дал его ученик Уэсли Клер Митчелл (1874—1948). Хотя он известен во всем мире как специалист в области экономических циклов, он проявлял глубокий интерес к широкому кругу проблем экономического поведения. Митчелл всегда сознавал, что база, необходимая для изучения качественных изменений в обществе, должна быть заложена с помощью детальных исследований циклических явлений и длительных тенденций в экономике. Анализ промышленных циклов был для него по преимуществу тем методом, посредством которого он стремился вникнуть в природу денежной экономики. Более того, он утверждал, что такие знания лучше всего раскроют возможности общественного контроля 212.
. МИТЧЕЛЛ:
БЕЗ ТЕОРИИ
Митчелл родился в 1874 г. в Рашвилле, штат Иллинойс. Его отец, предки которого пришли на Средний Запад из Новой Англии, был в свое время военным хирургом в армии северян. Поскольку Митчелл-старший часто болел, молодому Уэсли пришлось научиться заботиться о себе и о других членах семьи. Он стал искусным механиком и был им до конца жизни. Много лет спустя, когда школьный учитель спросил одного из сыновей Уэсли Митчелла, чем занимается его отец, мальчик ответил: «Он делает разные штуки». Учитель спросил, читает ли он лекции в университете, на что * Реформистский профсоюзный деятель США конца XIX — начала XX в., долгое время был председателем Американской федерации труда.— Прим, перев.
8£
шестилетний малыш заявил: «О, туда он только ходит говорить, но по-настоящему он делает разные штуки» 213.
Детство Митчелла прошло в спокойной и счастливой обстановке, что, несомненно, способствовало выработке его невозмутимого характера 214. Хотя семья никогда не была бедна, финансовые трудности постоянно преследовали ее по причине частых и сомнительных экспериментов д-ра Митчелла. Уэсли хорошо учился в средней школе, а когда в 1892 г. он узнал об открытии Чикагского университета, то решил поступить туда, пройдя годичный курс специальной подготовки в расположенном неподалеку колледже Морган-парк. Он был хорошим студентом, и семья всячески старалась дать ему возможность окончить университет. В Чикаго он обнаружил подлинный мир идей. Спорт и студенческие братства Митчелла не интересовали. Президент университета Харпер, который стремился создать крупный центр знания и располагал изрядными средствами из пожертвований Рокфеллеров, сумел привлечь в Чикаго лучших ученых со всех концов страны. Против щедрого жалованья невозможно было устоять, и Харпер переманивал из других учреждений профессоров, которые могли «создать рекламу» университету.
Здесь Митчелл встретил таких людей, как Генри Хэтфилд, Жак Леб, Роберт Ф. Хокси, Джон Каммингс и прежде всего Торстен Веблен и Джон Дьюи. Двое последних оказали на него самое сильное и длительное влияние 215. Хотя раньше Митчелл собирался специализироваться на классической филологии, он быстро изменил свое намерение, открыв для себя политическую экономию и философию. Эти науки казались ему родственными по духу. Методология их показалась ему легкой, и он скоро овладел искусством тянуть бесконечную нить рассуждений из единого клубка посылок 216. Это было для него возбуждающей умственной игрой.
Веблен и Дьюи концентрировали внимание на поведении людей в обществе, и это толкнуло Митчелла на изучение этнологии, антропологии и психологии как вспомогательных наук по отношению к политической экономии и философии. Веблен для него был гением, который легко поколебал благодушные настроения тех немногих студентов, которых он смог сохранить. Митчелл говорил, что по сравнению с другими экономистами в Чикаго Веблен был гигант 217. Проницательный анализ Веблена дополнялся инструменталистской теорией Дьюи, которую Митчелл усвоил и талантливо применил к экономике. От Веблена он унаследовал идею, что возникновение и распространение традиций и обычаев представляет собой истинное поле экономического исследования и что различные теории, которые пытаются объяснить экономическое поведение, сами превращаются в традиции, которые нуждаются в объяснении. Этот в своей основе генетический подход привлек Митчелла, но он вовсе не был слепым последователем Веблена. Много лет спустя он высказывал сожаление, что Веблен не использовал статистику для доказательства своих идей. Но мысль о противоречии между бизнесом и производством (а в этом суть Веб- леновой критики капитализма) произвела на Митчелла очень сильное впечатление; она вошла важной составной частью в его анализ разрыва между движением производства и движением цен. Он использовал также эту идею, излагая противоречие между стремлением к частной прибыли и свойственной обществу заботой о всеобщем благе. Веблен нанес сильнейший удар по ортодоксальной теории, а Митчелл позже довершил его огромной массой количественных данных. Классическая доктрина перестала быть последним словом экономической науки 218.
В это же время Дьюи проповедовал свое евангелие прагматизма, неодобрительно отзываясь о тех философских системах, которые могли похвастать лишь внутренней логической последовательностью. Он интересовался социальными корнями философии и стремился дать более основательное, чем у английских утилитаристов, объяснение экономической деятельности. Дьюи отверг мнение, что мотивом действий людей является исключительно жажда прибыли или мысленное сопоставление наслаждения и страдания. Приемлемое равновесие между действиями человека и его физическим окружением, говорил он, достижимо. Но это требует вмешательства коллективного разума. Отсюда вытекал самый широкий подход к общественным проблемам, а классическая политическая экономия с ее постоянной заботой об индивидуальном предпринимателе рассматривалась как слишком ограниченная и потому бесполезная доктрина. Подлинное знание природы человека предполагает скорее исследование всей сложной системы общественных институтов. Дыои отверг понятие инстинктов и предпочитал говорить о человеческих потенциях или импульсах, которые осуществляются, будучи активизированы общественной средой 219. Импульсы, говорил он, поглощаются общественной жизнью посредством процесса интеграции, после чего они контролируются силой привычки. Это лежало в основе веры Дыои в то, что общественные конфликты могут разрешаться конструктивным путем. Все дело в эффективной организации общества, что позво90
лит лучше удовлетворять нужды людей. Когда под влиянием привычек возникает угроза создания консервативных институтов, человеческие импульсы должны воспрепятствовать этому. Идея о том, что все трудности заключаются в окружающей человеческой среде, отлично подходила к американскому либеральному образу мышления. Под воздействием этой идеи сложилось представление, что для прогресса необходимо лишь функционирование коллективного разума высшего порядка. Таковы были интеллектуальные веяния, под влиянием которых сформировалось мировоззрение Митчелла.
В Чикаго он учился также у Дж. Лоренса Лафлина, известного специалиста по проблемам денег. Лафлин был хороший преподаватель, который требовал, чтобы студенты обосновывали свое несогласие с общепринятой доктриной Джона Стюарта Милля 220. Формулируя свою точку зрения как «долой нелепости», Лафлин •обходился без социальной философии Милля на том основании, что это одна лишь социология 221. Он отвергал также количественную теорию, поскольку она преувеличивает роль денег в ценообразовании. Под руководством Лафлина Митчелл занялся проблемой денег, которая оказалась в то время в центре экономических дискуссий. Широко обсуждались такие вопросы, как свобода чеканки, использование серебра и уменьшение золотых резервов. Митчелл выбрал темой своей докторской диссертации проблему бумажных денег времен гражданской войны — гринбеков. Он обнаружил, в частности, что ценность денег изменялась скорее в зависимости от хода военных действий и политики правительства, чем от количества денег в обращении. Позже диссертация вошла в исчерпывающее исследование проблемы гринбеков 222.
В 1893 г. Митчелл посетил Европу, где слушал лекции Конрада и Менгера, которые, однако, не произвели на него впечатления. После этого он вернулся в Соединенные Штаты и закончил работу над своей докторской диссертацией, получив степень summa cum laude *. Хотя он до этого специально не изучал статистику, количественный анализ с самого начала присутствовал в его исследованиях. Как писала его жена, он был «...ученым по характеру и убеждению, экономистом по профессии и ...статистиком по необходимости» 223. Год он прослужил в бюро цензов, но ушел оттуда из-за отвращения к угодничеству вашингтонских чиновников и вернулся в Чикаго, чтобы заняться преподаванием и завершением своего исследо* С отличпем (лат.).— Прим, перев.
вания проблемы гринбеков. Его книга «История гринбеков» написана отлично и до сих пор является авторитетным источником по этому вопросу. Автор с таким искусством оперирует в ней как описательным, так и статистическим материалом, что читатель усваивает последний почти без труда. В первой части содержится история актов о законных средствах платежа и анализ финансового положения в 1861 г., прекращения платежей наличными и предпочтения, которое оказывал казначейским билетам Салмон Чейз. За этим следует новаторское исследование движения цен, которое показало, как беспорядочно и нерегулярно они менялись, что позволяло спекулянтам извлекать прибыль за счет общества. Обнаружив неудовлетворительность существующих статистических методов, Митчелл разработал новые методы. Когда оказалось, что отсутствует индекс розничных цен, он построил свой собственный индекс. Он установил, что лица с твердыми или мало меняющимися доходами сопротивляются изменениям цен, которые могли бы увеличить сумму их расходов. Это плюс разрыв между растущими ценами на продовольствие и отстающей заработной платой является источником институциональных трений, заключенных в такой на первый взгляд сухой материи, как движение цен. Митчелл пришел к выводу, что зависимость между ценами и деньгами гораздо менее очевидна, чем полагала ортодоксальная теория 224.
В 1903 г. Митчелл перешел в университет штата Калифорния в Беркли, где он встретил свою будущую жену — привлекательную и умную Люси Спрэйг, декана женского колледжа. Ему было тогда 28 лет, а когда десятью годами позже Митчелл покидал Калифорнию, он уже занимал выдающееся место в американской экономической науке. Работая с большим напряжением, он за три года подготовил объемистую книгу «Экономические циклы», опубликованную в 1913 г. Задуманная как введение в исследование денежного хозяйства, эта работа открыла новые пути статистического анализа. Митчелл показал, как можно подойти по-новому к экономическим проблемам, и утверждал, что «...цифры могут часто использоваться для уяснения проблем, раскрытия причинных связей, установления соотношения между различными элементами нашего знания, а также дать материал для анализа» 225. Индексы, говорил он, позволяют понять природу колебаний цен на различных рынках, а также движение цен на одном и том же рынке. Оптовые и розничные цены, цены на сырье и готовые изделия получили новое значение в экономическом анализе. Работа Митчелла об индек91
сах сыграла такую важную роль, что даже после второй мировой войны он содействовал урегулированию спора между профсоюзами и предпринимателями по поводу индекса цен на потребительские товары.
В университете штата Калифорния Митчелл читал курсы по экономическим институтам, промышленным циклам и истории экономической мысли 226. Он постепенно осознал, что «...самое важное, что надо понять в деньгах, это — механизм денежного хозяйства, то есть общественную роль высокоорганизованной группы денежных институтов и то, как они развивались со времен средневековья, стали квази- независимыми и оказывали обратное влияние на деятельность и умы их создателей» 227. Митчеллу представлялось, что работы чистых теоретиков мало помогают уяснению этого, ибо они, по-видимому, не поняли действительную природу денежного хозяйства 228. Хотя система цен и отражает потребность бизнеса, обусловленную стремлением получить прибыль и возместить издержки, но за этим фасадом торговых сделок скрывается социальная привычка к получению и расходованию денег. Эта привычка имеет глубокие корни в человеческой культуре и породила тип личности, противоположный «исконной человеческой природе». Митчелл не отрицал, что денежное хозяйство немало способствует экономическому прогрессу, поскольку в сочетании с машинным производством оно содействует росту материального благосостояния общества. В сущности, денежное хозяйство совершенно необходимо, так как оно обеспечивает механизм учета и является орудием для установления взаимозависимости и сотрудничества в обществе.
В 1908 г. Митчелл выпустил вторую книгу об экономическом опыте гражданской войны — «Золото, цены и заработная плата». Хотя Митчелл высказывался об обеих книгах довольно сдержанно (он всегда отличался скромностью в оценке результатов своей работы), они были расценены коллегами-экономистами как важный вклад в науку. Чтобы проследить движение временных рядов, ему опять-таки пришлось вводить новые статистические методы. Он с интересом отмечал различный характер движения цен на отдельные товары и отказывался рассматривать эти колебания как отклонения от какой-то нормальной тенденции 229. В это время Митчелл много читал по экономической истории. У него начало складываться убеждение, что экономические теории — это своего рода отклик на социальные проблемы 23°. Это, конечно, было связано с учением Веблена, но Митчелла беспокоило, что Вебленова критика оказала так мало влияния на других экономистов 231. Он полагал, что одно из объяснений этого состоит в недостатке эмпирических данных у Веблена, и в известном смысле работа Митчелла по экономическим циклам может рассматриваться как попытка подтвердить идеи Веблена. Мышление Митчелла стало также приобретать телеологический привкус. В интересном письме к жене от октября 1911 г. он писал:
«...во всех вопросах социальной организации мы по-прежнему отстаем: мы не знаем, как переделать унаследованные способы общения людей, и не можем добиться в этой области успеха, который хотя бы отдаленно напоминал наши успехи в преобразовании старых способов обращения с [физическими и химическими] материалами. Прогрессу мешает не наша воля, а недостаток знания. Мы заигрываем с филантропией и кокетничаем с реформами, тогда как нам очень хотелось бы найти определенный способ осуществления требования социальной справедливости,— требования, в столь сильной степени присущего человеческой природе» 232.
Но Митчелл так и не выработал конкретной программы борьбы с общественным злом: скорее он выступал за изучение конкретных проблем, которое могло бы дать знания, необходимые людям для разумного планирования своих действий. Он думал, что единственными эффективными орудиями для преобразования общества являются наука и просвещение в областях, касающихся поведения человека 233.
В 1913 г. Митчелл перешел в Колумбийский университет, где и оставался до конца дней. На него претендовали несколько восточных университетов, но он предпочел им Нью-Йорк, где он мог работать и жить в самом центре денежного хозяйства. Будучи ненасытным читателем, он собрал внушительную библиотеку, чем походил на многих более ранних экономистов, в частности на Стэнли Джевонса, X. С. Фоксвелла и Эдвина Р. А. Селигмена. Когда жена однажды спросила его в отчаянии, действительно ли ему нужны «все эти книги», он ответил: «Возможно, они понадобятся» 23}. Митчелл обладал четким и ярким литературным стилем — качеством, редким среди экономистов. Часто он вносил поправки только для улучшения стиля и имел обычай читать свою рукопись вслух, словно для того, чтобы уловить ритм фраз 235. Примерно в это время Митчелл начал писать книгу по истории экономической мысли, но так ее и не завершил. Некоторые главы, опубликованные в виде отдельных статей, свидетельствуют о глубоком проникновении в социальные истоки экономических идей 236. Но он отдавал слишком много времени пристальному изучению деталей 92
экономической жизни, что и оказалось непреодолимым препятствием для работы над этой книгой. Оставленные Митчеллом фрагменты показывают, что он намеревался рассмотреть экономическую теорию в ее связи с развитием культуры и экономическими потребностями эпохи. Митчелла интересовало, каким образом люди в прошлом уверовали в действенность принципов гедонизма, естественных законов и принципов нормальности. Он хотел рассмотреть взгляды классиков со своей собственной точки зрения, и, чтобы сделать это с подлинным ощущением исторического духа, ему потребовалось бы уловить коренные экономические и социальные проблемы Англии XVIII и XIX вв.
Митчелл полагал, что классики стали жертвой своей неспособности понять внутренние движущие силы в человеке и иррациональный характер его поведения 237. Поэтому они неизбежно должны были проглядеть важнейшую черту современного общества — глубокую дихотомию между нейтральной логикой механизма цен и реальными мотивами действий людей. Они игнорировали глубокое влияние денег на поведение людей. Гедонистическая концепция, говорил Митчелл, которая якобы выражает своего рода денежную логику, на самом деле обходит основные проблемы, ибо ей совершенно не удалось проникнуть в логику денежного хозяйства. Классическая теория занималась лишь механическими законами спроса и предложения и не могла объяснить природу поведения людей при использовании денег.
Когда началась первая мировая война, Митчелл отправился в Вашингтон, чтобы занять в Управлении военной промышленности место начальника отдела цен. Серьезные трудности в его работе были вызваны недостатком надежных статистических данных, и Митчелл сделал все, что было в его силах, чтобы выправить положение дел. После окончания войны он остался на некоторое время в Вашингтоне, чтобы завершить работу над историей движения цен во время войны. Приобретенный опыт укрепил в нем веру в свое дело, так как он еще раз увидел, насколько ценной может быть статистическая информация, если она поступает хотя бы с известным подобием регулярности 238. Вернувшись в 1918 г. в Нью-Йорк, он вместе с Джемсом Харви Робинсоном, Чарлзом Бирдом и Элвином Джонсоном занялся созданием Новой школы социальных исследований. Бирд незадолго до этого оставил Колумбийский университет в знак протеста против линии, которую проводил президент университета Николас Меррей Батлер. Эти четверо вместе с Торстеном Вебленом образовали ядро учреждения, которому суждено было стать единственным в своем роде в американской науке. Через три года Митчелл вернулся в Колумбийский университет, так как чувствовал, что выпускники последнего будут иметь больше влияния, чем питомцы Новой школы 239.
В последующие десятилетия в жизни Митчелла большую роль сыграла работа в Национальном бюро экономических исследований. Идею создания бюро выдвинул еще в 1917 г. руководитель отдела статистики телефонной компании Малколм Рорти; он предложил создать организацию, которая на независимой основе вела бы исследования статистико-экономического характера. Но подлинным создателем бюро был Митчелл, который возглавлял в нем исследовательскую работу на протяжении четверти века. Совет директоров бюро был весьма представительным: там заседали лица из самых разных организаций, начиная от Американской ассоциации банкиров и кончая Лигой промышленной демократии, близкой к социалистам. В основу программы исследований бюро легла работа самого Митчелла об экономических циклах. Совершенствовались статистические методы, проводился анализ временных рядов, отражавших цены, стоимость жизни, процентные ставки, производство, урожай сельскохозяйственных культур и другие показатели. Работы бюро содержали невиданную массу статистических материалов; некоторые из них были настолько сложны, что лишь самые квалифицированные статистики могли уловить в них тонкую нить анализа. Работа бюро строилась в соответствии с взглядами самого Митчелла: оно не давало рекомендаций, не давало оценок проводимой политики, а просто констатировало факты, как они есть. Для Митчелла бюро было учреждением, где эмпирическая работа могла проводиться в гораздо более широких масштабах, чем это ему ранее удавалось делать самому. На протяжении ряда лет были проведены многочисленные исследования в таких областях, как национальный доход, капиталообразование, банковское дело, транспорт, жилищное строительство и финансовое положение потребителей. Как работы эмпирического характера, все они доказали свою несомненную ценность. Выдающимся достижением в работе бюро явился мощный толчок, который был дан исследованиям в области национального продукта и дохода таких ученых, как Саймон Кузнец, Уилфорд Кинг и Соломон Фабрикант 24°. Сам Митчелл был одним из авторов ряда работ бюро, а также подготовил много отчетов и записок по различным вопросам. Бюро опубликовало его работу 93
«Экономические циклы: проблема и ее постановка», написанную в 1927 г., а также выпустило посмертно (в 1951 г.) книгу «Что происходит во время экономических циклов».
Влияние Митчелла, было поистине велико. Он создал новое, эмпирическое направление в институционализме. Его лекционные курсы по промышленным циклам и экономической теории были чрезвычайно популярны, и, хотя он обычно концентрировал внимание на социальных и политических основах экономических доктрин, студенты скоро обнаружили, что он был вполне компетентен в изложении достаточно сложных специальных проблем 241. Он был первоклассный лектор и обычно мало пользовался своими записями. Известно, что Митчелл в течение большей части жизни страдал от сердечной болезни, но это редко ограничивало его разностороннюю деятельность. В возрасте 73 лет он перенес первый сердечный приступ, за которым последовали другие, и 29 октября 1948 г. его не стало 242. Жизнь Митчелла была насыщенной и поистине плодотворной; он героически пытался осуществить свой любимый девиз «Многие в одном, один во многих».
Вышедшая в 1913 г. книга Митчелла «Экономические циклы»— это огромный том более чем в 600 страниц. В- ней рассматриваются прежние теории циклов и экономическая организация общества, анализируются ход экономической активности, а также статистические данные о ценах, заработной плате, процентных ставках, денежном обращении и банковских операциях. Часть III, в которой содержится его знаменитое описание явлений, происходящих во время циклических подъемов и спадов, была позже переиздана отдельно 243. Прежние теории циклических колебаний, говорил Митчелл, правильно отражают некоторые их стороны, но эти теории необходимо критически проверить путем «сбора и анализа подробных количественных данных об экономической активности» 244. Как правило, прежние авторы, не имея детальных данных, выбирали какой- нибудь стратегический фактор в качестве ведущей причины цикла. В теориях, говорил Митчелл, недостатка нет: практически для каждой предполагаемой причины имеется своя теория. Он же хотел, чтобы его работа была «проверенным объяснением фактов, а не логическим упражнением» 245. Он сконцентрировал свое внимание на стремлении к прибыли, с которым неразрывно связаны подъемы и спады экономической активности. Важнейшие факторы, которые действуют во время кризиса, проистекают из стремления сохранить платежеспособность и свести к минимуму потери. Поскольку циклические колебания носят постоянный характер, разумно предположить, что они внутренне присущи экономической и социальной системе, где преобладает бизнес. По мере того как накапливаются изменения, каждая фаза цикла переходит в следующую. Таким образом, зародыш спада всегда надо искать в предшествующей фазе процветания.
Но поскольку каждый новый цикл имеет неповторимые особенности, то необходимы все новые и новые факты. «Экономическая история повторяется,— писал Митчелл,— но всегда содержит новые элементы». Следовательно, невозможно сконструировать теорию, общую для всех циклов. Иногда оживление не переходило в фазу процветания, а просто обрывалось, как в 1895 и 1910 гг. Иногда в разгар процветания возникали периоды напряжения, как в 1896 г. «Каждый экономический цикл представляет собой, строго говоря, уникальный ряд событий и нуждается в действительном лишь для данного цикла объяснении, поскольку он вырастает из предшествующего ряда событий, тоже уникальных» 246. В центре проблемы для Митчелла стояла, разумеется, денежная экономика, в которой соединение акционерной формы предприятий и машинного производства влечет за собой регулярные колебания экономической активности. Ему казалось, что стремление к прибыли с его неизбежным влиянием на цены является тем главным звеном, вокруг которого надо организовать эмпирический материал. В этих рамках можно исследовать во всей их сложности оптовые и розничные цены, транспорт, промышленность, банковское дело и финансы. Такое многообразие данных не должно приводить в уныние; Митчелл был уверен, что, выбрав из всей массы рядов хотя бы несколько однородных рядов, можно сделать определенные выводы для экономической политики. Такая процедура обеспечит прочную* базу для «описательного анализа» экономического цикла, а все логические построения смогут быть подвергнуты эмпирической проверке.
Хотя анализ можно начать в любой точке цикла, Митчелл начинает с оживления. В фазе депрессии предпринимателей может расшевелить какое-нибудь важное событие, например- хороший урожай, открытие новых внешних рынков или резкий скачок в инвестициях. В любом случае силой, сообщающей толчок деловой активности, является расширение возможностей получения прибыли. Следовательно, важнейшие количественные факторы — это доходы и расходы предприятий, объем продаж, денежная масса и объем банковского кредита. Прибыльность зависит от того, каким образом^ 94
взаимодействуют эти факторы. Повышательная тенденция в фазе оживления начинается тогда, когда прекращается дезинвестирование, возобновляются товарно-материальные запасы, для предпринимателей открываются новые возможности, а потребители начинают удовлетворять отложенный спрос. Совместное действие этих сил увеличивает спрос и заставляет цены и объем продаж обгонять издержки, что повышает прибыльность 247. Здесь закладывались основы знаменитой мптчелловской концепции «опережения и запаздывания», в которой все факторы трактуются как внутренние, или эндогенные.
Оживление, раз оно уже началось, быстро распространяется, отмечал Митчелл. Отрасли, получившие первый толчок, передают импульсы сырьевым отраслям и смежным производствам. Повышение спроса благоприятно отражается на розничной торговле. По мере того как силы оживления приобретают кумулятивное действие, оптимистическое настроение становится характерным для бизнесменов. «Волна оптимизма, распространяясь, создает условия, которые его и оправдывают и усиливают» 248. Однако в этот период могут появиться элементы отставания, как, например, в сельском хозяйстве. Тем не менее для цен характерна общая повышательная тенденция. Повышение спроса продолжает оказывать кумулятивное действие. Обнаруживающиеся запаздывания могут быть приписаны жесткости розничных цен по отношению к оптовым ценам, жесткости оптовых цен по сравнению с ценами на полуфабрикаты и отставанию последних от цен на сырье. Оптовые цены на потребительские товары повышаются быстрее, но «менее значительно», чем цены на промышленные товары производственного назначения, а цены на минеральное сырье — быстрее, чем на сельскохозяйственную продукцию 249.
Затем Митчелл анализирует причины жесткости цен и тенденции их движения. При этом очень ярко обнаруживается его способность воспринять самые разные факторы. Рассматривая движение заработной платы, Митчелл установил, что оно отличается от движения цен: здесь важную роль играет сила профсоюзов250. Но заработная плата часто имеет тенденцию отставать от повышения продажных цен, что дает предпринимателям выгоду во время подъема. Это стимулирует инвестиции, хотя Митчелл находил, что «...рост вложений в промышленное оборудование... весьма неравномерен» 251. Когда промышленные инвестиции достигают внушительного объема, деловая активность получает еще более мощный стимул и интенсивность экспансии экономики соответственно возрастает. «Важнейшая черта всего процесса,— писал Митчелл,— состоит в том, что каждое* очередное следствие воздействует обратно на, причину и усиливает ее, так что движение к процветанию получает дополнительные толчки» 252. Может показаться, что этот процесс способен продолжаться бесконечно, но в действительности необходимое равновесие не может быть удержано. Диспропорции приводят к резкой смене тенденции развития, и процветание переходит в кризис. Трудности усиливаются из-за повышения издержек и роста постоянных затрат. На рынках капиталов нарастает напряжение, и конкурентная борьба за ограниченные ресурсы капитала осложняет положение. Бизнесмены обнаруживают, что они не могут больше получить ссуды по прежним ставкам процента. Главный результат всех этих явлений заключается в понижении ожидаемой прибыли. Опять-таки и в высшей точке процветания различные процессы протекают неравномерно 253.
Некоторые экономисты, особенно Элвин Хансен, утверждают, что именно в этом месте* данный Митчеллом анализ движения цен недостаточно убедителен. Он не объясняет, заявляет Хансен, причин циклических колебаний 254. Хансен отмечает, что очень часто высший уровень прибылей достигается в начале подъема и в течение всей повышательной фазы прибыли остаются высокими. Следовательно, продолжает он, нельзя сказать, что момент поворота наступает вместе с падением ожидаемой прибыли, ибо оно само является не причиной, а следствием развития цикла 255. Далее, говорил Хансен, объем новых инвестиций не является функцией текущей средней нормы прибыли, а скорее связан с ожидаемым доходом от дополнительного прироста инвестиций. Но ведь и Митчелл говорит об ожидаемой прибыли, так что возражение Хансена просто сводится к тому, что у Митчелла преуменьшается роль инвестиций капитала и что теория колебаний не могла всего объяснить.
Во многом анализ Митчелла шел параллельно* анализу Веблена, особенно напоминая описание пирамиды кредита в «Теории предпринимательства» 256. У Митчелла ударение делается на изменениях прибыльности, вызываемых принудительной ликвидацией накопленных долгов. Сам кризис может начаться с краха крупной компании, неурожая или политического потрясения. Это иллюстрируется очень подробным описанием финансового кризиса 1907 г. Кризис был преодолен после того, как прекратился нажим на рынки со стороны тех, кто готов был продавать товары и ценные бумаги по любой цене, чтобы выплатить долги, и когда
95
бизнесмены ощутили, что худшее уже позади 257. Но возникшее оживление часто оказывается мертворожденным, а надежды на возобновление процветания рушатся, если выясняется, что отнюдь не происходит массового поступления новых заказов. При обычном ходе дел вступление экономики в фазу депрессии становится неизбежным. Начинается падение цен, но опять-таки оно происходит неравномерно. Оптовые цены понижаются быстрее, чем розничные, а цены на сырье реагируют еще более остро 258. Но в процессе спада развиваются явления, которые подготавливают восстановление. Себестоимость понижается, на постоянных издержках достигается экономия, безнадежные долги ликвидируются, и через два-три года спрос на товары начинает повышаться 259. Поскольку наименее экономичные предприятия исчезают, предприниматели вновь демонстрируют готовность принимать на себя риск и инвестировать капитал. Эти действия усиливаются под влиянием падения процентных ставок, что вновь способствует появлению благоприятных видов на прибыль 26°.
Хотя модель Митчелла носила колебательный характер, он подчеркивал, что не может быть двух циклов с одинаковой комбинацией элементов 261. В нарастании и убывании деловой активности, несомненно, наблюдается регулярность, но лежащие в основе каждого цикла факторы различны. Это коренится глубоко в природе предпринимательской системы: каждое новое явление порождает другие явления, и неотвратимо складывается цепь событий 262. Экономические циклы в современном смысле появились лишь в эпоху индустриального общества, в более ранние периоды экономические потрясения вызывались только спекулятивными горячками или войнами. Явление цикличности развилось лишь тогда, когда возникли фабричная система, современные средства транспорта и новые методы предпринимательства. «Экономические циклы появляются на той стадии экономического развития, когда процесс производства и распределения товаров начинает осуществляться главным образом в виде предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли» 263.
Регулярность, с которой протекают циклы, говорил Митчелл, наводит на мысль о возможности воздействия на них с помощью таких орудий, как реформа банковской системы, или путем использования как бы в качестве балансира государственных расходов 264. Здесь чувствуется влияние Беатрисы и Сиднея Уэбб, свой долг по отношению к которым он признавал с характерной для него щедростью. Их идеи привлекали Митчелла тем, что они успешно показали возможность использования экономического процесса в качестве аналитического понятия, как, например, в исследовании тред-юнионизма. Они имели дело с реальными мотивами, а не с гипотетическим экономическим человеком 2li5. Даже разработанный Ирвингом Фишером план «стабилизированного доллара» Митчелл рассматривал как полезное орудие.
Явление цикличности, тесно связанное с предпринимательской системой «делания денег», не представляет собой обязательного свойства самого процесса изготовления товаров. В сущности, расширение и сжатие производства товаров редко бывает столь резким, как колебания «сопутствующих денежных величин». Но денежное хозяйство настолько пронизывает все общество, что оно способно сдерживать развитие его производительных сил и накладывать свою печать на деятельность людей 266. Деньги создали также специфическую основу для различий в общественном положении людей, что породило классы общества. Но главным образом Митчелл стремился исследовать, как «технические свойства и нужды» денежного хозяйства подчиняют экономическую активность постоянным циклическим колебаниям. Очевидно, экономическая теория не может более рассматривать деньги только как отражение некоторых глубинных процессов, ибо «делание денег» стало целью человеческих усилий. А это и составляет сущность капитализма.
Хотя взгляды Митчелла были в общем положительно восприняты экономистами, некоторые критиковали его за то, что он не создал законченный теоретический инструментарий. По их мнению, его анализ скользит по поверхности экономических явлений; он носит преимущественно описательный характер, говорили они, и не затрагивает важнейшие проблемы, вытекающие, например, из особенностей инвестиционного процесса 267. Другие же утверждали, что систему Митчелла можно, например, перевести на кейнсианский язык мультипликаторов, склонностей и акселераторов 268. Интересная и в целом успешная попытка такого рода была сделана Милтоном Фридманом из Чикагского университета 269. Хотя сам Митчелл серьезно сомневался в полезности чисто теоретического анализа, Фридман показал, как из «Экономических циклов» может быть извлечена теория относительных изменений цен. Различные опережения и запаздывания, которым Митчелл придавал такое большое значение, предвосхищают развитые позднее эконометрические методы, в частности применение разностных урав96
нений. Теоретический подход обнаруживается в его идеях о рациональной природе денежного хозяйства, в том, как он применял количественную теорию денег, и в признании Митчеллом существенных различий между циклами. Некоторые его описания как бы предваряют теоретические положения, обычные для современных экономистов: отставание расходов от доходов; различия в реакции цен; то явление, что решения об инвестировании опережают принятие фактических обязательств. Вполне возможно, что органическая неспособность Митчелла соединить свой описательный анализ с более изящными математическими приемами теоретиков является причиной этого кажущегося несовершенства его построений. Однако, как заметил Фридман, в «Экономических циклах» Митчелла можно найти в зародыше практически любой элемент современной теории циклов 27°.
Митчелл считал, что теория должна объяснять действительную экономическую практику, а не состоять из логических фокусов. В его анализе экономических циклов содержится описание некоторых основных чередующихся процессов, которые при всех многочисленных опережениях и запаздываниях характеризуются рядом регулярных колебаний от процветания к депрессии. Эта цепь событий не может быть объяснена какой-то одной причиной, говорил он: единственной характерной чертой является сам факт колебаний. Именно этот тезис подвергся значительной критике, так как можно было думать, что с помощью своего плюрализма Митчелл уходит от поисков самых важных факторов 271. Из его взглядов вытекала крайняя осторожность в практических рекомендациях. Занимаясь такой массой деталей, невозможно добиться каких-либо реальных результатов. Особенно в руках прямых духовных наследников Митчелла плюралистический подход стал таким же малоплодотворным, как и те теории, которые выдвигали в качестве объяснения экономических колебаний какую- либо одну причину 272.
Из-под пера Митчелла вышло еще несколько работ об экономических циклах. Работа 1913 г. была обновлена в 1927 г. В 1946 г. совместно с Артуром Ф. Бернсом была издана книга «Измерение экономических циклов», а в 1951 г. посмертно вышла работа «Что происходит во время экономических циклов». Митчелл задумал еще одну книгу, в которой он намеревался наконец сформулировать экономическую теорию, опирающуюся на всю массу статистических данных, собранных за много лет. Но эта книга так и не была написана. Ирония научной карьеры Митчелла заключалась в его неспособности создать такую работу: она должна была представлять собой тщательное «обобщение уже подвергнутых анализу фактов, дающее широкую картину функционирования денежного хозяйства в рамках современной цивилизации» 273. Главной, несомненно, была бы тема, которая проходит через все работы Митчелла: экономический цикл как комплекс колебательных движений, которые распространяются по всей экономической системе. В книге 1927 г., которая в основном представляет собой расширенные и переработанные первые три главы предыдущего исследования, использован дополнительный материал, но основная концепция нисколько не изменялась. И здесь он рассматривал различные теории, выдвигаемые другими экономистами, как попытки с негодными средствами. А данное Митчеллом описание экономических колебаний по-прежнему мало что могло сказать об уровнях, на которых колеблется экономическая активность. По-видимому, Митчелловы фазы цикла требуют для своего понимания более широкого подхода, чем тот, на который он был способен. В настоящее время приобрели важность проблемы, относящиеся к абсолютному объему инвестиций и занятости. Тем не менее вторая глава в издании 1927 г. поистине замечательна. В ней Митчелл обнаруживает столь глубокое понимание исторических корней капиталистического предпринимательства, что ему в этом отношении трудно найти равных. Он вновь подчеркнул денежную основу капиталистической экономики и показал, опираясь на глубокое изучение истории предпринимательства и бизнеса, что циклы — это специфическое явление, свойственное только сфере институтов предпринимательства 274. Здесь же можно найти основные идеи исчисления национального продукта. И наконец, как заметил Йозеф Шумпетер, в представлении Митчелла о взаимозависимости явлений в экономике было что-то от Вальраса.
Этот тщательно разработанный аппарат подкреплялся у Митчелла совершенно новой трактовкой природы человека, во всяком случае, новой для экономической науки. Он с самого начала поставил под сомнение плодотворность гедонистической психологии, а к 1914 г. он задумался над тем, нельзя ли заимствовать новый подход из области других общественных наук. В глубокой статье по этому вопросу, написанной для журнала «Квортерли джорнэл оф экономике», он писал: «Человеческая природа есть в значительной мере продукт развития общества, и среди различных видов общественной деятельности, формирующих ее, самыми главными являются именно те, с которыми имеют дело экономисты» 275. Основываясь на 7 Б. Селигмен
97
этом почти марксистском положении, он затем рассматривал новейшие достижения психологии и других общественных наук. В основном это теперь представляет лишь исторический интерес, но характерно постоянное внимание Митчелла к этим вопросам. Например, он полагал, что многочисленные склонности, описанные Торндайком, хотя их и нельзя принять безоговорочно, могут, по-видимому, служить полезными пластическими рамками для понимания места человека в экономике 276. Кроме того, он считал полезной идею Грэма Уолласа о том, что природа человека формируется деятельностью предшествующего поколения. Внимательное изучение новейшей психологии убедило Митчелла, что он был прав, отвергнув утилитаризм. Подобно Веблену, он пришел к выводу, что инстинкты, если их понимать как устремления к определенным конечным целям, могут быть полезны как категории анализа. Для всестороннего объяснения человеческого поведения необходимо инстинкты истолковать с позиций разума и целесообразности. В сущности, многие инструменты, используемые в процессе познания, тоже могут считаться по своей природе инстинктивными. Митчеллу представлялось, что эта психология лучше согласуется с генетическим подходом к общественным институтам, чем психология гедонизма 277. Она дает также более надежную базу для общественных реформ, так как можно утверждать, что изменение средств воздействия делает человеческую природу действительно пластичной. Митчелл сделал ударение на изменениях, ибо это позволяет политической экономии стать наукой о поведении людей, как оно проявляется в рамках развивающихся институтов.
Это вело Митчелла к понятию институтов, которые обеспечивают образцы и нормы поведения, коренящиеся в привычных способах действия и мышления. Однако так определяются лишь общие закономерности поведения, потому что индивидуум, участвуя в общественной деятельности, должен руководствоваться разумом. Это в известной мере соответствует понятию волевых актов человека у Коммонса. Митчелл признавал, что Маркс был, может быть, первым институционалистом, так как он действительно серьезно пытался исследовать проблему внутреннего развития общества. Но Маркс так и не смог порвать с образом мышления, свойственным классикам, а его приверженность гегелевской философии навязывала общественным формам механистическую схему. Митчелл полагал, что Веблен превосходил Маркса, ибо в его понятии общественного процесса отсутствует ненужная метафизика *. Зомбарт тоже, видимо, повлиял на Митчелла, но в отличие от названных писателей он ограничил институционалистское мировоззрение пределами идеи стремления к прибыли. Деньги, говорил Митчелл,— это не только покров, не простое средство обмена, а двигатель экономической жизни, определяющей чертой которой стали приобретение и трата денег. При существующей системе производство товаров зависит главным образом от перспективы получения денежной прибыли 278. В этом заключается логика современной жизни, а не в «реальных факторах», которые будто бы раскрывает политическая экономия нормальности и равновесия. Согласно последней, деньги служат лишь в качестве numeraire ** или как средство облегчения обмена и не имеют самостоятельного значения. Но в современном обществе, говорил Митчелл, спрос на деньги играет первенствующую роль, и этот факт определяет характер современных институтов. Прежние экономисты грубо ошибались, считая деньги лишь поверхностным явлением 279. Так называемая психологическая школа Феттера и Дэвенпорта совершенно права, когда она пытается вернуть политическую экономию на рельсы денежной логики, поскольку из всеобщего использования денег вытекают не только полезные теоретические представления, но и вся бухгалтерская психология, пронизывающая современное общество 28°. Деньги, возможно, и не корень всех зол, заметил Митчелл, но они, во всяком случае, корень экономической науки281.
Особенности институционализма Митчелла проявились, может быть, ярче всего в его знаменитом сочинении «Отсталость в искусстве тратить деньги» 282. В нем он сравнивает искусство делать деньги и тратить их. Современная денежная цивилизация придает большое значение первому, но искусство тратить деньги явно отстает в своем развитии. Это обстоятельство, говорил Митчелл, не обязательно надо приписывать склонности к расточительству. В его основе лежат факторы, находящиеся вне контроля индивидуума. Некогда семья была главной производящей и потребляющей единицей, но теперь у нее осталась только последняя функция, да и к ней она плохо приспособлена. Трата денег через семейный бюджет неэкономична и неэффективна, и нет возможности исчислить истинные издержки семейного хозяйства. Вторя Веблену, Митчелл заявляет, что
♦ Здесь проявляется характерное для буржуазных экономистов непонимание сущности революционного переворота, совершенного Марксом в науке.— Прим, ред.
♦* Счетная единица (франц.).— Прим, перев. 98
характер расходования денег очень часто определяется стремлением перещеголять, сделать сравнение невыгодным для других 283. Изощренные способы траты денег становятся одним из важнейших путей для укрепления положения в обществе.
Процесс производства товаров тоже не направлен на удовлетворение потребностей в отличие от того, что думали классики. Скорее это самый главный способ делать деньги. Прибыль цорой можно увеличить и путем сокращения производства. Между тем удовлетворение потребностей, или благосостояние, должно измеряться увеличением объема производимых товаров и услуг 284. Однако в отличие от своего учителя Веблена Митчелл не бранил бизнесменов за стремление к прибыли, поскольку оно обусловлено «системой, частью которой мы все являемся» 285. Без прибыли предприниматель не может производить товары, и не следует возлагать на кого-либо вину за то, что эта система «изобилует экономическими противоречиями». В этом отношении Митчелл гораздо ближе к Коммонсу, чем к Веблену: он говорил, что денежная экономика, несмотря на свои весьма серьезные недостатки, все же оказалась лучшей формой экономической организации общества из всех когда-либо созданных человеком.
Точка зрения Митчелла на экономическую теорию могла, следовательно, быть только инструменталистской. Теория должна охарактеризовать взаимосвязь между институтами денежного хозяйства и поведением людей. Нет сомнения, что система денежного хозяйства оказывает глубокое влияние на то, каким образом человек познает себя и окружающую среду. Это значит, что надо обратить внимание на институты, выражающие денежный характер современной цивилизации 286. Традиционная теория неспособна завершить исследование таких проблем, ибо ей не хватает исторического воображения. Особенно четко высказал Митчелл эту мысль в своей статье о Визере. Ученому, стоящему на точке зрения институционализма, открываются «...манящие просторы будущих исследований, а не замкнутая система знания. При этом он избегает заблуждения, будто личный опыт — это достаточная основа для теоретизирования на тему о том, как ведут себя люди вообще: скорее он готов воспользоваться успехами других областей знания, проливающими хотя бы малейший свет на его проблему,— истории, статистики, этнологии, психологии» 287.
Если экономист осознает это, то для него ясно также, что денежные обращения дают более перспективный аналитический подход, нежели расчет полезности. «Деньги — самый эффективный практический инструмент систематизации экономического контроля... потому что их использование навязывает зыбкой и беззаботной человеческой природе строжайшую дисциплину» 288. Это не значит, что обычная теория цены, какую можно найти у Маршалла и его эпигонов, должна быть полностью отвергнута; ее просто не следует больше ставить, говорил Митчелл, в центр экономической теории 289. Лишь в этом случае политическая экономия станет полнокровной наукой со своими количественными методами, а также полезным орудием общественного контроля 290. Классическая система не есть последнее слово теоретического анализа, ибо она превратилась в своего рода логику денежного хозяйства, которая выдает себя за теорию, объясняющую поведение людей; в то же время она игнорирует то, что деньги стандартизируют потребности и окрашивают видение мира людьми 291. Митчелл, вероятно, согласился бы с Ч. Райтом Миллсом, который писал, что общественные науки превратились «в набор бюрократических технических приемов, которые затрудняют своими «методологическими» претензиями исследование социальных проблем и обременяют такую работу обскурантистскими концепциями либо обесценивают ее тем, что внимание уделяется второстепенным вопросам, не связанным с общественно значительными проблемами» 292. При всем этом надо иметь в виду, что Митчелл не был таким уж крупным теоретиком.
Цель количественного метода Митчелла состояла в том, чтобы измерить экономическую активность, а не полезность. В его работе о Бентаме подчеркивается бесплодность попыток исчислить степени удовлетворения потребностей, а это, говорил он, было источником большинства трудностей, с которыми сталкивались экономисты. Измерение полезности не дает само по себе никакого точного индекса экономической активности, что делает расчет соотношения наслаждения и страдания просто бесполезным 293. В этой связи Митчелла критиковали за то, что он слишком усердствовал в этом отношении. Как однажды заметил Пол Хоман, его нельзя полностью считать представителем институционализма. «Он сторонится всего философского, неосязаемого, неизмеримого. Если такая позиция простительна для экономиста, которого интересуют только вопросы торговли, то она мало подобает ученому, который рассматривает экономическую науку как изучение человеческого поведения и человеческих институтов...» 294
Это, конечно, неверно. Как отмечал целый ряд авторов, вполне возможно увязать эле7* 99
менты концепции Митчелла с построениями, для которых теоретический подход более характерен. Аллан Груши показал, что можно идти от чистой теории к институционалистской экономике и одновременно от эмпирического исследования к теоретическим положениям 295. Например, в кейнсианской политической экономии обнаруживается сколько угодно моментов, которые можно было извлечь из «Экономических циклов» Митчелла. Но кейнсианцы абстрагируются от политического и социального фона и не увязывают свои выводы в должной мере с выводами других общественных наук. Как отметил Моррис Коплэнд, можно назвать лишь два момента, относительно которых создатели теоретических моделей и институционалисты согласны между собой: во-первых, гипотезы должны отвечать имеющимся данным и, во- вторых, теоретические модели должны строиться так. чтобы их можно было наполнить эмпирическим содержанием, ибо в противном случае они будут лишены объективности 296.
Наиболее ясно Митчелл изложил свои взгляды на экономическую теорию в «Лекциях о типах экономической теории» 297, которые представляют собой не редактированные лектором записи одного из его студентов. В них он трактует теоретический экономический анализ как продукт соответствующей культуры и изложение социальных воззрений. Эти лекции показывают также, что, если бы Митчелл написал свою книгу о теориях, о которой он думал всю жизнь, она, несомненно, была бы выдающимся произведением, сравнимым с «Историей экономического анализа» Шумпетера. В своих лекциях Митчелл излагал теории классиков до Маршалла включительно и далее говорил о Джевонсе, Вальрасе, Зомбарте, Шмоллере, Феттере, Дэвенпорте и, конечно, Торстене Веблене. Он рассматривал социальный фон и политическую обстановку, а также индивидуальные склонности каждого автора. Таким образом, он оказался в состоянии выработать подлинно генетический подход к истории экономической мысли. У него были некоторые довольно ясные руководящие принципы: необходимость удовлетворительного психологического толкования человеческих действий; отрицание чисто дедуктивных теорий равновесия; необходимость достоверных данных; понимание политической экономии как учения об институтах; необходимость сотрудничества различных общественных наук; принятие экономического планирования как орудия роста благосостояния. В «Лекциях...», в которых плодотворно слились экономическая мысль с историей политических и социальных теорий, эти принципы выражены, быть может, полнее, чем во всех остальных работах Митчелла. Как заметил Груши, он объяснял скорее экономических теоретиков, чем теории 298. Подход Митчелла виден из следующего замечания: «Экономические теоретики, занимающие видное место в истории науки, были людьми, которых глубоко затрагивали проблемы, волновавшие их современников. Их теории были попытками подойти к этим проблемам с позиций науки и указать плодотворные пути практических действий» 2".
В периоды депрессии 30-х годов и «Нового курса» Митчелла попросили принять участие в борьбе против кризиса 30°. Приобретенный им в этот период опыт укрепил его веру в необходимость планирования. Это было самой важной и самой трудной проблемой для страны. Во всяком случае, настаивал Митчелл, планирование не противоречит традициям американизма. Он напоминал читателям, что элементы планирования можно найти в Акте конфедерации, в Гамильтоновом проекте новой экономической системы и в мобилизационных программах военного времени301. Выступая в экономическом клубе Колумбийского университета в 1941 г., он вновь подчеркивал, как важно для планирования знание фактов 302. Не отвергая роль теории, он все же отдавал предпочтение экономисту, оперирующему фактами, перед экономистом, оперирующим словами. «При выработке экономической политики, соответствующей трудным задачам сегодняшнего дня,— говорил Митчелл,— мы обнаружим, что накопленные нашей наукой эмпирические знания имеют большую ценность». Однако, продолжал он, «чтобы извлечь максимум пользы из этих знаний, мы должны применять их аналитически. Это значит, что мы должны работать как теоретики, имея в своем распоряжении фактические данные» 303.
Митчелл всегда сознавал, что человеческая цивилизация может прочно базироваться только на сотрудничестве между людьми. Хотя западные культурные традиции придавали особое значение развитию индивидуума, он понимал, что эволюция общества будет означать преобразование институтов путем совместных усилий людей. Корни этого процесса лежат во взаимозависимости людей в обществе и в коллективном характере знания. Если цели прогресса требуют государственного вмешательства в экономику, Митчелла это не беспокоило. Факты показывают, говорил он, что планирование, осуществляемое одним бизнесом, успеха не имело 304. Его не волновало также то, что такой подход может подчинить экономическую науку целям обеспечения благосостояния. Следовательно, его концепция экономической нау100
ки исходила из требований морали. Возможно, она лишена пылкого духа возмущения, свойственного, например, Марксу, но, во всяком случае, она включала высокие социальные цели. Тем не менее ко всей проблеме планирования Митчелл подходил с характерными колебаниями. Принимая присужденную ему в 1947 г. Американской экономической ассоциацией первую медаль имени Фрэнсиса А. Уокера, он в своем выступлении подчеркивал необходимость осторожности в рекомендациях. Рекомендации в области экономической политики крайне ответственны, и они должны опираться на фундамент фактического знания 305. Его интерес к проблеме планирования, несомненно, проявился в книге о промышленных циклах. В 1923 г. он полагал, что накопленной информации достаточно, чтобы смягчить экономические кризисы. Он выступил за создание системы страхования от безработицы, что было для того времени довольно радикальным предложением. В период «Нового курса» он участвовал в учреждении Совета национальных ресурсов, который мыслился как своего рода центральный плановый орган. Он понимал, что такой ход событий приведет к созданию смешанной экономики 306. В работе «Новейшие экономические сдвиги», написанной для созданного президентом Гувером Комитета по социальным проблемам, он отмечал, что в идее о необходимости высокой оплаты высших служащих корпораций проявляются своего рода неомальту- зианские экономические взгляды *. Согласно Митчеллу, массовый сбыт потребительских товаров может быть обеспечен только в том случае, если заработная плата идет в ногу с ростом выработки. Он считал, что мера, обычно принимаемая в период депрессии — снижение заработной платы,— несомненно, препятствует восстановлению экономики; этот вывод многократно подтвердился во время депрессии 30-х годов 307. Он видел серьезную проблему в технологической безработице **, поскольку возможность значительного роста числа новых рабочих мест в то время представлялась сомнительной. По всем этим причинам Митчелл считал экономическое планирование рациональным методом разрешения серьезных проблем, с которыми столкнулось общество. Эти взгляды он излагал в многочисленных лекциях и беседах, стремясь убедить общественность в необходи* Имеется в виду утверждение Мальтуса и его последователей о благотворной роли высоких доходов и потребления непроизводительных классов и слоев.— Прим, перев.
** Безработица, вызываемая прогрессом техники и вытеснением рабочих новыми машинами, особенно автоматическими.— Прим, перев.
мости программы планирования, которое он считал существенной особенностью упорядоченной экономики 308. Ничто не могло поколебать веру Митчелла в разум и прогресс. Он не забыл уроки своего учителя Джона Дьюи.
Метод Митчелла подвергся острой критике со стороны тех, кто в целом, вероятно, относился к нему с симпатией. Его коллега по Колумбийскому университету видный социолог Роберт С. Линд в своей работе «Для чего эти знания?» поставил под серьезное сомнение идеи и претензии Митчелла 30э. Он утверждал, что Митчелл вращается в замкнутом круге собирания данных, исчисления индексов, банковых оборотов и временных рядов. Митчелл, говорил Линд, по-настоящему не стремился изучать реальное поведение людей. Например, наблюдая движение цен, он не исследует вопросы ценообразования. Хотя о сбережениях собрана обширная информация, мотивы людей, делающих сбережения, не изучаются. Придавая решающее значение прибыли, Митчелл упускает из виду тот очевидный факт, что могут действовать также неденежные стимулы. Но самым важным недостатком Митчелла как экономиста, писал Линд, является то, что он отвергает проблему экономической власти как не заслуживающую серьезного исследования 310. В результате собиратель фактов впадает в плоский эмпиризм, лишенный каких-либо принципов оценки. Потенции добра или зла, заключенные в определенных институтах, игнорируются, а факты собираются только ради фактов. Такой подход не только исходит из того, что факты представляют собой самоцель, но и по существу означает отрицание ключевой роли в науке гипотез. По Линду, метод Митчелла исключает оценку целесообразности данного института, он просто принимает вещи как они есть и потому представляет консервативное направление в общественных науках. Линд требовал, чтобы наука давала оценку функций любого института 311.
Митчелл ответил на эту резкую критику в своей обычно мягкой манере 312. Он выразил согласие с сформулированными Линдом целями общественных наук и подтвердил свое мнение, что их существование оправдано лишь тогда, когда они способствуют благосостоянию людей. Он признавал, что современная цивилизация ограничивает развитие человеческой личности. Но на грозные обвинения своего коллеги Митчелл мог лишь ответить замечанием, что «... достигнутым прогрессом человеческий род обязан таким знаниям, которые практически применимы для достижения его целей» 313. Однако просто повторять в новой форме кредо эмпириков, по-видимому, недостаточно. В прин101
ципе Митчелл не имел удовлетворительного ответа на хорошо аргументированную критику Линда. В дальнейшем становилось все яснее, что, если исключить некоторые обобщения, работа Митчелла в ее основной части страдала от крайней фактологической ограниченности.
Но от Митчелла не были укрыты и более широкие горизонты общественных наук. Дело, видимо, просто в том, что он не сумел сплавить институциональную и эмпирическую трактовку проблем. Он понимал, что, раз экономисты начали заниматься реальными проблемами, они должны скрестить шпаги с физиологами, психологами, антропологами, правоведами, этнологами, лингвистами и историками. Они должны знать, что человек имеет как биологическую структуру, так и эмоции и обычаи, функционирующие в рамках данной культуры. Человек представляет собой единое целое и должен рассматриваться в целом. Экономические принципы оценки имеют социальное содержание, экономические факты суть также и факты социальные. Конечно, Митчелл знал все это. Он знал также, что такое цельное мировоззрение покончит с увлечением полезностями, удовлетворением потребностей и логикой выбора. Он не расставался с инструменталистской философией, которую он воспринял от Дьюи 314. Но он так и не объяснил, как с помощью одного количественного анализа можно решить совокупные задачи всех общественных наук 315.
Крайний эмпиризм метода Митчелла в позднейшее время проявлялся в работе Национального бюро экономических исследований, на которую он наложил свою неизгладимую печать. Работа бюро по экономическим циклам началась с установления так называемых базисных точек, или дат (reference dates), на основе изучения анналов бизнеса и ряда других приемов 316. При изучении составленных временных рядов прежде всего исключались сезонные колебания, после чего ряд мог быть разбит на различные отрезки таким образом, что можно было проверить соответствие с ранее установленными базисными точками. Из этого следовало определение опережающих и запаздывающих элементов. Так можно было установить характер колебаний, повторяющихся в каждом цикле. На этой основе исследовались высшие и низшие точки циклов. Было установлено, что средняя продолжительность цикла за период с 1854 по 1949 г. составляла 49 месяцев, причем фаза расширения занимала в среднем 29 месяцев, или 59% времени цикла, а фаза сжатия — 20 месяцев, или 41%. Сегментация цикла позволяла относительно просто сравнивать различные ряды.
Следующий шаг состоял в выработке трех мер соответствия показателей ходу цикла: фазе расширения деловой активности, фазе сжатия и всему циклу. Исчисленные индексы должны были, по мнению авторов, показать направление и темп изменения различных показателей. В дополнение к этому имелись меры амплитуды синхронности и длительности; предполагалось, что они показывают, в какой степени различные циклы демонстрируют общие черты. Как писал Артур Ф. Бернс, этот метод направлен на то, чтобы изобразить «экономический цикл» как обобщение конкретных циклов 317. Для Бернса это означало, что за суммой изменений во многих рядах, используемых в расчетах, стоит «...постоянная трансформация экономической системы... протекающая под поверхностью явлений общего расширения и сжатия. Фаза расширения в экономическом цикле не означает, что почти все в экономике движется вверх, как и фаза сжатия не означает, что почти все сжимается и идет вниз» 318. Следовательно, обобщенный «экономический цикл» выступал как искусственная конструкция, в которой сумма разрозненных данных просто объединялась в различные схемы, в надежде что в процессе обобщения будут получены какие-то полезные знания. Интересно, что бюро не нашло подтверждения теории Китчина, Жуглара и Кондратьева, которую поддерживал также Шумпетер, а именно теории коротких, средних и длинных циклов 319. Получалось, что более характерен, во всяком случае для США, 40-месячный цикл, а в остальном колебания распределяются беспорядочно. В этом видели подтверждение эмпирического метода бюро.
Методика бюро была приспособлена также для целей краткосрочных прогнозов; здесь особое место занимает разработанный Джеффри X. Муром метод опережающих и отстающих рядов 32°. Мур выбрал 21 ряд, поведение которых по отношению к стандартному базисному циклу (reference cycle) в смысле опережения или отставания наиболее постоянно. Среди опережающих рядов он выделил регистрацию новых акционерных обществ, банкротства фирм, жилищное строительство, курсы обыкновенных акций, средненедельное число отработанных часов и поступление новых заказов на товары длительного пользования. Лаги были обнаружены в таких рядах, как личные доходы, розничные продажи, товаро-материальные запасы и процентные ставки банков. Были также совпадающие ряды, в частности прибыли корпораций, занятость, промышленное производство, оптовые цены и погрузка товарных вагонов. Но этот метод имеет серьезные недостатки. Он 102
пригоден только для коротких периодов, так как Мур мог зафиксировать опережение не более чем примерно на шесть месяцев. Кроме того, этот метод мог указать только поворотные точки, но не амплитуду. Да и эти точки, как показал Элвин Хансен, он устанавливал не совсем точно 321.
Метод Митчелла подвергся критике и по другим причинам. Йозеф А. Шумпетер в своей рецензии на книгу 1927 г. заявлял, что Митчелл серьезно недооценивает важность теоретического подхода 322. Теория, писал Шумпетер, заключается не в том, чтобы выдвигать предположения, а затем проверять их набором статистических данных. Вескость теоретических аргументов может быть проверена и аналитическим путем. Если для Митчелла теория была суммой рациональных гипотез и обобщений, которые можно вывести из упорядоченных фактов, то Шумпетер считал, что «...наука, после того как она достигла известной стадии развития, не может идти дальше, не создавая орудий анализа, отличных от форм повседневной жизни; это делается путем целенаправленных усилий. Иначе говоря, она не может развиваться без теории, которая имеет... мало общего с метафизическими спекуляциями или политическими доктринами... и которая не является ненаучным и временным суррогатом фактов, а служит орудием... необходимым для познания фактов».
Значит, теория, по сути дела, должна указывать направление исследованию. Конечно, она всегда должна конструироваться таким образом, который допускает применение количественных методов и возможность модификации в случае получения новых фактов. Шумпетер ясно возражал против того, что он считал у Митчелла полным и необоснованным отказом от теории.
Шумпетер не считал также плодотворным различение денежного и неденежного хозяйства. Конечно, говорил он, влияние денег очень важно, но этот вопрос он считал чисто социологическим. Понятие предпринимательского хозяйства лучше основывать на разделении труда 323. Более того, говорил Шумпетер, точно нанося coup de grace *, Митчеллова система цен представляет собой не что иное, как словесное изложение схемы общего равновесия, предложенной Вальрасом; трансформация, очевидно, объясняется внутренней антипатией Митчелла к теоретическим конструкциям. Шумпетер одобрял стремление к накоплению статистической информации, но он выражал сомнение в ценности исчисления средних, индексов, * Удар, которым добивают смертельно раненного противника (франц.).— Прим, перев.
коэффициентов корреляции, трендов и отклонений от трендов. Позже Ч. Райт Миллс назвал все это «отвлеченным эмпиризмом», который дает мало оснований для суждения о действительности. Например, анализ трендов имеет смысл лишь тогда, когда он основан на «... предшествующих теоретических соображениях, которыми надо руководствоваться не только при толковании выводов, но и при выборе метода. В противном случае тренд остается лишь суммирующим прошлые события описанием, с которым, в сущности, нечего делать. Он лишается экономического содержания. Он просто констатирует факты» 324. Беда анализа тренда, продолжал Шумпетер, состоит в том, что он может быть разложен на составные части различными способами, не обязательно связанными друг с другом. А корень этой беды, говорил австриец, в том, что Митчелл отказывался использовать теорию не как гипотезу, а как орудие анализа.
Далее, критика метода Митчелла содержится у Эдварда Эймса и Т. Ч. Купманса 325. Эймс писал, что Митчеллу и Бернсу не удалось построить настоящую модель экономического цикла, несмотря на то что они составили 1200 с лишним временных рядов. Нечто похожее на модель заключается лишь в тезисе, что цикл представляет собой «род колебаний», но это довольно бесплодное положение. Между тем сравнение конкретных циклов с базисным дает основание полагать, что какая-то общая закономерность может быть выявлена с помощью средних. Но метод Митчелла явно непоследователен, говорил Эймс, так как случайные элементы, по-видимому, подавляют закономерности, обнаруженные во временных рядах. Следовательно, в методе бюро отсутствует подлинная периодичность изменений и достоверная гипотеза о природе циклов как самостоятельного фактора капиталистической экономики 326. Поскольку длинные циклы исключаются из анализа, а базисные циклы используются только как орудие выявления черт сходства в развитии, то интерес концентрируется целиком на краткосрочном аспекте. Единственным крите- терием в Митчелловом исследовании циклов является произвольная средняя, которая не может раскрыть истинно динамические экономические силы. Как, например, следует интерпретировать факт опережения или отставания? Что является причиной и что следствием? Что сказать о циклах, которые соответствуют базисным циклам? Получают ли они свои импульсы от независимых факторов или также от базисных циклов? На эти вопросы не дается ответа, ибо подход является целиком эмпирическим, а не аналитическим.
103
Купманс был еще более резок, заявив, что весь метод, в сущности, бесплоден. Он утверждал, что выбор определенных временных рядов, вроде производства чугуна в связи с выпуском потребительских товаров длительного пользования, не может быть обоснован без соответствующей теоретической базы. Он поставил вопрос безжалостно: имеют ли научное значение различные ряды? Ответ можно дать, лишь указав, каким образом конкретные ряды отражают экономические колебания 327. Бернс и Митчелл толкуют о поведении временных рядов, говорил Купманс, тогда как задачей исчерпывающего анализа должно быть изучение поведения социальных групп. Следовательно, концепция Бернса и Митчелла страдает механистичностью. Из всей массы статистических данных складывается лишь плоское изображение экономической действительности.
Соответствующая теоретическая основа позволила бы ввести в научный оборот наблюдения над побуждениями и привычными действиями и, даже будучи, возможно, неполной, во всяком случае, дала бы анализу определенное направление. Более того, теория как орудие исследования может обеспечить принципы отбора необходимых эмпирических данных. У Бернса и Митчелла все сваливается в одну статистическую кучу, так что трудно разглядеть действительно важные соотношения. «Движение экономических показателей изучается так, будто они извергаются каким-то таинственным вулканом, в кипящий кратер которого нет никакого доступа» 328. Эта характеристика представляется удачной, так как на последних этапах работы Митчелла циклические закономерности тонули в случайных отклонениях. Купманс указывал, что этого можно было избежать, если бы была использована система структурных уравнений. Он утверждал, что это дало бы гораздо больше информации о динамике изменений, чем все факты, собранные в гигантском опусе Бернса и Митчелла. Видимо, Купмансу жаль огромного труда, затраченного на анализ рядов, ибо, по его мнению, эмпирическое исследование немногих макроэкономических агрегатных величин могло бы быть более плодотворным.
Тем не менее влияние Митчелла было очень велико, и он занимает почетное место в истории экономической науки. Он всегда излагал свои взгляды ясно и убедительно. Его вклад в методологию статистики нельзя отрицать. В целом заслуживает одобрения данная им критика традиционной экономической науки. По Митчеллу, слишком часто модели строились на базе таких предпосылок, как совершенная конкуренция, автоматизм системы и тождественность частнособственнического интереса общественному благу. Конечно, институционалисты часто смутно представляли себе, какого типа модель они хотели бы использовать, но их прагматизм в общем пошел на пользу. Они не отрицали роли оценочных суждений в экономике; создатели теоретических моделей, напротив, стремились избегать таких суждений. Институционализм подразумевал, что экономисты должны занимать определенную позицию в отношении реформ; для традиционалистов это было недопустимо. Митчелл и его последователи не считали также, что достаточно наполнить теоретическую модель выкладками, чтобы получить законченный эмпирический подход, так как это не создает еще истинно генетической, исторической системы. Институционалисты считали экономическую этиологию ключом к анализу экономической патологии. Это означает, что объектом изучения должен быть реальный человек, то есть человек, часто действующий иррационально, под влиянием страха, неизвестных потребностей, плохо осознанных устремлений, прихотей, моды и давления со стороны общества. Ортодоксальная теория с ее ложными гедонистическими построениями была признана бесплодной. А одежда из формальных математических методов, в которую начала рядиться современная политическая экономия, вызывала у институционалистов неприязнь; они считали эти методы бесперспективными и бессодержательными 329.
4. ДЖОН МОРИС КЛАРК: УМЕРЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Один автор удачно охарактеризовал вклад Джона Мориса Кларка в современную экономическую мысль как «конструктивный синтез» 33°. Воспитанный в духе статической теории типа той, какую проповедовал его отец Джон Бейтс Кларк, он тем не менее обнаружил достаточно самостоятельный ум, чтобы пойти собственным путем. Особое значение имеет его работа в таких динамичных областях, как накладные издержки и экономические циклы. Но его глубокий интерес к проблемам этики и к поискам среднего пути обнаруживает прочную нить, связывающую его с «философией богатства» старшего Кларка.
104
Дж. М. Кларк родился в Нортхэмптоне, штат Массачусетс, в 1884 г. и окончил Амхерстский колледж. Для продолжения учебы он отправился в Колумбийский университет, где специализировался в области экономики, в меньшей мере занимаясь социологией, историей и правом. Погрузившись в изучение экономических «законов», над установлением которых немало потрудился его отец, он узнал в университете, что в реальной действительности имеется много исключений из этих законов, действия которых характеризуются крайней изменчивостью. Он понял, что с изменениями в экономике меняется сама теория и что задача экономиста состоит в том, чтобы объяснить природу этого процесса взаимодействия. Кларк обнаружил, что ему близки многие идеи, которые энергично выдвигали Веблен и Митчелл.
Он понял, что экономические явления столь сложны, что многие положения, выдвинутые с целью объяснения действий людей, применимы лишь к узким сферам деятельности. Но он полагал, что делу не поможет также простое накопление большой массы данных. Кларк осознал, что содержательная экономическая наука должна находиться где-то между этими двумя крайностями и исходить только из практических проблем сегодняшнего дня. Следовательно, она должна заниматься социальными проблемами и вопросами развития экономической системы. Кларка тревожила безмятежная удовлетворенность, царившая в традиционной экономической теории. Особенно сомнительными казались ему предпосылки равенства предложения и спроса, полного использования ресурсов, продолжения производства до точки равновесия между предельными издержками и предельным доходом. Присмотревшись к действительному положению вещей, Кларк обнаружил людей без работы и бездействующие машины, колебания спроса и отсутствие равенства между спросом и предложением, что проявляется в избытке производственных мощностей. Кларк верил, однако, что можно примирить старую теорию с новыми фактами. Но это означало, что надо признать ограниченность классической доктрины, а к этому были готовы далеко не все экономисты. Чтобы осуществить это примирение, Кларк допускал, что теория спроса может быть принята как предварительное описание поведения потребителей, но в экономическую теорию должна быть введена затем и подлинно полезная теория психологического поведения.
Далее Кларк обнаружил, что традиционная теория выдвигала на передний план принцип максимизации прибыли без достаточного обоснования, так как на практике в распоряжении фирмы нет верного пути для достижения своих целей в отношении прибыли. Стремление к прибыли осуществляется методом проб и ошибок, и в этом процессе имеются этапы, характеризующиеся тем, что аналитики называют опережениями и запаздываниями. Кларк установил, что конкуренция идет непрерывно и в ходе волнообразного движения накапливаются изменения, агрессивные действия одних наталкиваются на оборонительные действия других. Следовательно, традиционная теория конкуренции не отражает современной действительности: быть может, она и годилась для экономики мелких производственных единиц, но последняя давно уже уступила место экономике крупных фирм. Вместе с усилением роли правительства это привело к возникновению новой, в сущности смешанной экономики. Категорический характер утверждений старой теории вводит в заблуждение; она искажает даже действительную картину прошлого. Эмпирические данные указывают на многообразие форм, рыночных структур и реакций, но все это попросту игнорируется теоретиками, которые, по словам Кларка, стали пленниками своих собственных абстрактных моделей. Идентичные кривые спроса и издержек обнаружить невозможно; динамические аспекты конкуренции игнорируются при использовании вневременных математических функций; коэффициенты эластичности меняются в зависимости от того, какого характера действия предпринимает фирма: агрессивные или оборонительные; реакции объема производства не могут быть мгновенными, ибо продолжают играть роль избыточные мощности; не следует сожалеть о дифференциации продукта *, ибо это расширяет выбор; наконец, процесс приспособления в его длительном аспекте имеет большее значение, чем в кратковременном.
Получив ученую степень в 1908 г., Кларк поступил на работу в Колорадский колледж, но, предпочитая восточные штаты, через два года вернулся в Амхерст. В 1915 г. он перешел в Чикагский университет, а в 1926 г. занял в Колумбийском университете кафедру, освободившуюся после ухода его отца. В Чикаго он получил возможность близко наблюдать действия и проблемы большого бизнеса. Вскоре после прибытия в столицу штата Иллинойс он стал свидетелем большой стачки швейников, которая положила начало Объединенному проф* Дифференциация продукта, то есть расширение номенклатуры производимых товаров, по мнению ряда буржуазных экономистов, ограничивает и подрывает свободную конкуренцию и представляет собой основу развития монополии.— Прим, перев.
105
союзу рабочих швейной промышленности. Эта вспышка борьбы в промышленности укрепила его веру в необходимость более эффективного социального сотрудничества 331. Карьера Кларка была долгой и плодотворной не только в качестве педагога и автора, но и консультанта многих правительственных учреждений, включая Национальный совет планирования в 30-х годах и Управление регулирования цен во время второй мировой войны.
В докторской диссертации Кларка на тему о практикуемой на местах дискриминации в области транспортных тарифов заложены семена его самых важных идей — о накладных издержках и об общественном контроле. Во время обеих мировых войн из-под его пера вышли важные исследования военной экономики, особенно «Методы ликвидации экономического контроля военного времени» 332, в которой очень глубоко рассматриваются проблемы перехода хозяйства с военных на мирные рельсы. Кларк всегда подчеркивал свой духовный долг отцу: между ними всегда были теплые отношения, а в 1912 г. они совместно опубликовали переработанное издание книги «Контроль над трестами». Нет сомнения, что этический элемент в работах Джона Мориса Кларка завещан ему Джоном Бейтсом Кларком. Последний создал систему статического анализа, которая претендовала на определенную полноту, за которой читатель мог угадать, однако, стремление к углублению и расширению границ экономического исследования. Бейтс Кларк неоднократно указывал, что задача развития динамической экономической теории ляжет на будущие поколения. Безусловно, его сын сделал важный вклад в решение этой задачи.
Дж. М. Кларк в интересном письме к Джозефу Дорфману следующим образом кратко охарактеризовал полученное им духовное наследие:
«Прежде всего в 1905—1923 гг. я занимался проблемой накладных издержек. Затем я выразил свое отношение к критике, которой Веблен и Дэвенпорт подвергли Джона Бейтса Кларка, выдвигая главным образом проблему противоречия между общественной производительностью (productivity) и частным присвоением (acquisition). Это привело меня к анализу коренных посылок (premises)... Все это было в амхерстский период. Меня все время привлекала критика психологических предпосылок теории полезности, в результате в 1918 г. появились две статьи по вопросам психологии. Наиболее важным источником для меня послужила «Психология» Уильяма Джеймса, а второе место, пожалуй, занимала «Человеческая природа и общественная организация» Кули.
Далее, я думаю, для моего развития имел значение Карлтон Баркер и «Общественный прогресс» Кули. Ключевым понятием для меня стали «предметы, не подлежащие присвоению» («inappropriables»), и оно наполнилось содержанием благодаря книге Эли «Собственность и договор» (1914 г.), за которой последовали Роско Паунд и Эрнст Фройнд. Тем временем работы Пигу «Богатство и благосостояние» (1912 г.) и Гобсона «Труд и богатство» (1914 г.) выдвинули на передний план «экономику благосостояния», оттеснив проблему противоречия между общественной производительностью и частным присвоением. «Экономические циклы» Митчелла (1913 г.) побудили меня написать статью об акселерации...»333
Говоря более конкретно, Кларк усвоил у Уильяма Джеймса, что идея рациональных действий человека является ложной и что человеческая психология слишком гибка, чтобы уложиться в такое статическое понятие. Например, маржинализм может объяснить действия людей лишь в том случае, если принять, что они всегда диктуются привычкой, но ведь и это едва ли свидетельствует о сознательном сопоставлении выгод и потерь, характерном для экономического человека у классиков. Не менее сильным было влияние на Кларка со стороны Чарлза X. Кули, видного социолога. Кули начинал как экономист, но скоро переключился на социологию, что позволило ему свежим глазом взглянуть на традиционную экономическую теорию. Он всегда скептически относился к догмам классической школы, считая, что она дала лишь поверхностную, бесперспективную экономическую теорию, неспособную по-настоящему проникнуть в сложный механизм общественного поведения людей. Он настаивал на том, что общество надо рассматривать как целое, а это заставляет социолога применять генетический подход. Люди действуют не как изолированные индивидуумы, говорил он, а как члены общества, идеи и действия которых взаимно связаны. Живя в обществе, индивидуум тем самым в ходе непрерывного процесса видоизменяет и поведение других людей. Следовательно, способность делать правильный выбор в действиях не возрастет, если мы всю ответственность возложим на индивидуума; это больше того, что можно с достаточным основанием ожидать. Действительно важный вопрос, который следует задать, состоит в том, несет ли индивидуум ответ- ственность, находящуюся в пределах его правоспособности 334.
С этой точки зрения экономика представляет собой систему взаимосвязей, которая дает обширный простор для программ обществен106
ных реформ. Коллективные действия, говорил Кули, должны использоваться для того, чтобы оказывать влияние на индивидуальные действия и контролировать их. Он считал, что теории экономистов ограничены узкими рамками; хотя они искусно разработаны, в них отсутствует способность проникновения в подлинный мир человека. Он сравнивал экономистов с людьми, которые смотрят только на секундную стрелку часов и, разумеется, не могут сказать, который час. Беда в том, что экономисты начинают со спроса и предполагают, что любой спрос в равной мере оправдан; этим самым они оправдывают систему, порождающую этот спрос. При этом забывается, что спрос есть проявление экономической силы и в качестве такового представляет собой как результат, так и причину экономических действий. Все пороки экономики заключены в характере спроса, которому она дает ход, указывал Кули. В доказательство этого положения он указывал на наличие проституции, детского труда и коррупции. Экономисты говорят о конкуренции, не учитывая существования монополии и промышленных объединений. Но именно эти проблемы делают общественный контроль составным элементом экономического порядка, а отсюда вытекает, что этика должна стать неотъемлемой частью экономической теории. В конечном счете единственной областью, •о которой экономисты могут судить квалифицированно, является механизм рыночного ценообразования. Но Кули был осторожен, и эту черту унаследовал Кларк. Кули отводил государству ограниченную роль лишь потому, что оно представляет собой весьма неуклюжий механизм, и скорее возлагал надежды на рост коллективного сознания и добровольное применение принципов сотрудничества. Как и впоследствии Кларк, он стоял на полпути между чисто теоретической и институционалистской позицией и был настроен далеко не так пессимистически в отношении перспектив •общественных наук, как Веблен.
Кларк отразил в своих работах эту критическую позицию. Например, рассматривая предельную полезность, он отметил, что эта теория просто-напросто говорит: каждый покупает то, что он покупает 335. Он говорил, что потребности людей неустойчивы и не свободны от воздействия производителей товаров. Бизнес, продолжал он, сильно влияет на стремления людей и направляет их «общие инстинкты» в определенное русло на определенные товары. Традиционная теория не учитывает эти явления и потому ничего не может сказать о том, к чему они ведут — к повышению или понижению эффективности производства. Делая упор на теорию производства,^экономическая наука проявляет интерес исключительно к увеличению количества товаров, не оставляя места для изменений в потребностях, вернее, рассматривая их только как пассивные факторы. Кларк указывал, что экономическая теория не способна истолковать ошибочные действия; решения рынка всегда считаются правильными и окончательными. Поэтому теория превращается в набор абстракций; она неизменно отрицает роль воздействия на экономическое поведение людей, поскольку это угрожало бы нарушением ее чистоты 336. Кларк явно стремился придать экономической науке этический элемент, так как нельзя говорить о руководстве экономическим поведением, не поднимая вопрос о том, что есть благо для общества и индивидуума. Далее он показывал, что экономический человек классиков не был даже хорошим гедонистом, поскольку предполагаемый расчет наслаждения приводит к тому, что оценка последствий каждого действия обходится ему дороже приносимых этим действием плодов. Хороший гедонист, очевидно, взвесил бы две возможности: получить максимум пользы от своих расходов либо обеспечить повышение дохода. Именно на такого рода резкую критику другие теоретики пытались ответить введением кривых безразличия и основанного на них анализа.
Чтобы быть наукой, говорил Кларк, политическая экономия должна заниматься проблемой общественной эффективности (social efficiency). Для Кларка это означало процесс «социо- логизации» науки *, который отнюдь не может остановиться по эту сторону морали и этики 337. Этот процесс никак не означает подмены теоретического анализа, ибо некоторые гипотезы необходимы, чтобы суммировать и обобщать то, что получено путем индуктивного исследования. Однако эти положения должны допускать эмпирическую проверку — качество, едва ли характерное для теории предельной полезности, так как вытекающие из нее утверждения в основном тавтологичны. Очевидно, что экономический человек, некогда столь самоуверенный, теперь уходит в себя и в ответ на вопрос экономиста отвечает, что способ, которым он делает свой выбор, — его личное дело 338. И в результате он превращается чуть ли не в символ.
Трудность заключается в том, что ортодоксальная политическая экономия оказалась неспособной трактовать такие вопросы, как права и обязанности, да и, в сущности, уровень * То есть выхода политической экономии из круга чисто экономических проблем в более широкую сферу социальных проблем.— Прим, перев.
107
технических знаний. Личное потребление не является единственной целью экономических действий: вполне возможно, что цели общества тоже представляют собой существенный фактор. Далее, спрашивал Кларк, каким образом интенсивность и качество труда влияют на рост богатства? 339 Не следует ли ввести этические нормы в оценку экономических услуг? Можно ли принять свойства человека за нечто данное и все внимание сосредоточить на производстве? Не должно ли быть предметом внимания экономиста качественное влияние производственной системы на людей? Не переплетены ли личные интересы с общественными проблемами? Эти вопросы были поистине затруднительны для экономической науки того времени.
В качестве иллюстрации того, какого рода проблемы он имел в виду, Кларк указал на теорию конкуренции. Конкуренция не есть простой и саморегулирующийся механизм — никакой тенденции к равновесию не существует, поскольку то, что можно наблюдать на различных рынках, представляет собой бесконечное и сложное сцепление сил. Нельзя утверждать, что благотворен лишь рынок, на котором действуют мелкие экономические единицы, ибо так называемые монополистические элементы современной экономики часто обнаруживают немаловажные достоинства. Малочисленность конкурентов не означает стагнацию или отсутствие стимулов к росту эффективности производства. Порок теоретических моделей, включая и модель Робинсон — Чемберлина, заключается в предположении, что отклонения от совершенной эластичности спроса означают несовершенство конкуренции. На деле, утверждал Кларк, для конкурентной активности наиболее благоприятна эластичность спроса, которая несколько меньше совершенной, поскольку этим достигается большее разнообразие товаров. Самое главное, чтобы конкуренция была поставлена на службу обществу, это способствовало бы распространению благ, которые несет прогресс, обеспечивало бы высокую и стабильную занятость и максимальную свободу, возможную в установленных институциональных и юридических границах.
Одной из важнейших практических проблем, которой занимался Кларк, была проблема накладных издержек (overhead costs). Он неоднократно подчеркивал, что статья издержек, которая может казаться частному предпринимателю переменной, с общественной точки зрения может рассматриваться как постоянный элемент издержек. В качестве самой яркой иллюстрации Кларк приводил издержки на рабочую силу, и это была одна из самых смелых его идей. Некоторые издержки на рабочую силу перекладываются частными производителями на общество, хотя для этого нет справедливых оснований. Рассмотрение этой и подобных ей проблем заставило Кларка отвергнуть идеи предусмотрительности и рациональности, провозглашенные традиционной теорией. Но более всего его волновала проблема жесткой и гнетущей дисциплины, навязанной современному человеку машинной техникой. С помощью машин достигается изобилие товаров, но они обрекают человека на вечное рабство. Утешение можно искать лишь в том, едко замечает Кларк, что «машины навязали нам свою цивилизацию не путем вооруженного насилия» 340. Однако человек вынужден был подчиниться жесткому контролю со стороны машин, а резкие колебания деловой активности приняли форму экономических циклов.
Как можно построить социализированную экономическую науку, используя коллективный разум? Кларк легко нашел материал у Сиджвика, Дж. Ст. Милля, в работе Адама Смита о налогообложении, в книге Дж. Б. Кларка «Философия богатства», а также у Томаса Н. Карвера, Торстена Веблена и Джона А. Гобсона. Таковы были источники, опираясь на которые можно было создать теорию общественной стоимости (social value) и неоплаченных издержек (unpaid costs). В сущности, это* предполагало исследование экономики благосостояния, подобно тому как это делал в Англии А. С. Пигу. Например, Кларк спрашивал, каким образом можно сравнивать общественные издержки двух фабрик, из которых одна построена красиво, а другая заведомо уродливо? Каковы в данном случае общественные и индивидуальные издержки? 341 Опять-таки разреженная атмосфера абстрактных теорий стоимости и распределения совершенно исключает анализ такой проблемы. Общественная стоимость и общественные издержки могут быть удовлетворительно объяснены лишь с учетом всех сил, вытекающих из индивидуальных решений. Единичная обменная сделка, следовательно, есть в действительности лишь элемент «большого общественного совокупного, продукта» 342. Кларка нисколько не смущало’ возражение, что такой подход ведет за пределы экономической науки в ее обычном понимании. Он даже приветствовал это, так как тем самым экономические проблемы могли рассматриваться в связи с психологией, социологией и этикой. Экономическая наука, настаивал он, не вправе изолировать себя от других областей знания.
Кларк осуществлял на практике то, что проповедовал, так как, подобно другим институционалистам, он глубоко интересовался психологическими основами экономической теории. 108
Почти не делая попыток выйти за пределы своих статических посылок, в которых все определяется ценами, ортодоксальная теория могла выработать только механистическую концепцию поведения 343. В результате ее метод исследования был чрезвычайно ограниченным, и, в сущности, она исследовала не те вопросы, какие нужно было исследовать. Анализируя реакции гедонистического порядка, теория полезности игнорировала многие другие формы поведения, несомненно, относящиеся к компетенции экономиста. Принимая выбор, который может сделать человек, за нечто данное, политическая экономия обходила стороной психологические вопросы. Это грубая ошибка, ибо политическая экономия как наука о человеке предполагает интерес как раз к этим проблемам. Формирование потребностей, говорил Кларк,— это, в сущности, часть деятельности человека, обеспечивающей ему средства к существованию 344. Производство имеет дело с людьми, а не с приятными и неприятными ощущениями. С этим у него увязана идея общественных издержек, изучение которых «может дать гораздо больше для руководства политикой общества, чем априорная доктрина уравнивания предельной тягости (marginal disutility) * и предельного вознаграждения» 345. Из этого положения явно вытекает, что экономист должен учитывать достижения психологии, так как это позволит заменить статическую гедонистическую концепцию человеческого поведения динамической интерпретацией сознания. Гедонизм утверждает, что человек стремится к приобретению благ ради наслаждения, которое они могут доставить, но вполне возможно, что он получает наслаждение от благ именно потому, что домогается их. Придуманное экономистами рациональное поведение есть лишь элемент в поведении человека, говорил Кларк. В гедонистическом мире выбор, вероятно, стал бы настолько совершенным, что исчезло бы и само наслаждение.
Человек «не может сделать со средой ничего такого, чего среда сначала не делает с ним» 346. Человека формирует жизнь в трущобах или на ферме, школа, церковь, газеты, реклама и весь комплекс общественных контактов. Разумеется, в таком мире распоряжение доходом согласно принципам предельной полезности едва ли будет всегда самым эффективным. В действительности, говорил Кларк, эффективности, на которой настаивают маржиналисты, вовсе не * Термин субъективной школы в буржуазной политической экономии, означающий «антиполезность», или бремя, которое несет рабочий, отдавая свой труд, капиталист, принимая на себя риск применения капитала и т. д.— Прим, перев.
существует, потому что часто люди первым делом удовлетворяют не самые важные потребности и покупают не самые важные товары. Следовательно, маржинализм надо рассматривать как образ мышления, учитывая всю совокупность стимулов, действию которых подвержен человек. Теория предельной полезности, заключает Кларк, как меры общественной эффективности лишена убедительности 347.
Сознание человека подчинено на деле динамическим факторам: в реальной общественной среде спрос редко может рассматриваться как нечто данное; скорее он складывается под влиянием многообразных сил, каждая из которых преследует цель создать маленькую монополию. Тем самым конкуренция превращается в систему, где имеет место взаимозаменяемость различных по своим свойствам товаров и каждый стремится урвать возможно большую долю дохода потребителя. Таким образом, в 1918 г. Кларк рассматривал вопросы, которые позже вылились в теорию монополистической, или несовершенной, конкуренции. Он призывал экономистов «создать теорию, которая считала бы нормальным соперничество слегка отличных друг от друга товаров на рынке, где цены даже на один и тот же товар могут различаться по причине удаленности мест сбыта, неведения потребителей или воздействия на их склонности» 348. Это замечание имело громадные последствия для экономической теории, ибо оно вскрыло ограниченную пригодность конкурентной теории цен. На реальных рынках цены не оказывают решающего влияния друг на друга, а как бы остаются на различных уровнях в течение довольно длительных периодов времени. Рыночная теория цен игнорирует слишком многое; она ничего не говорит о структуре бюджетов потребителей или об отношении расходов к потребностям. Этот пробел, говорил Кларк,— следствие применения ошибочных психологических концепций.
Истинная психология должна, конечно, признавать огромную роль привычки: это — естественный механизм для передачи в низшие отделы мозга заданий, исходным пунктом которых является высшая нервная система. Привычка играет ту важную роль, что она привязывает людей к определенным товарам и таким образом создает своего рода статический элемент в экономическом поведении 349. Однако общественное производство не только создает блага, обладающие «полезностями», но также направляет человеческие импульсы. Оно устанавливает способы поддержания порядка, так чтобы пользование благами было защищено от помех. Спрос, следовательно, надо изучать так, как он формируется. Это означает, далее, 109
изучение права собственности и вытекающих из него отношений. Если такие факторы, как реклама и образование, ранее считались периферией экономического анализа, да и то в виде исключения, то теперь они выдвигаются на передний план. Предельная полезность не может более рассматриваться как лучший способ организации потребления; вполне мыслимо, что использование благ часто может быть лучше организовано на основе «коллективной воли общества» 350.
Социальная психология у Кларка нашла, может быть, самое яркое выражение в большом очерке, составившем приложение к его работе «Экономическая наука и современная психология» 351. Здесь он указывает, что в основе сознательного выбора лежит возможность использовать альтернативные способы действий, вытекающие из «возбуждаемых из центра стимулов». Естественно, на механизм стимула и реакции воздействуют и прошлый опыт и настоящие условия. Таким путем идеи участвуют в выборе и обеспечивают базу для сознательных действий 352. Эти действия могут принять форму расчета при условии, что имеется достаточное количество информации, времени и ресурсов. Но всегда приходится принимать во внимание также привычки, обычаи, элементы подражания и прочно укоренившиеся традиции. Надо также учесть различия между людьми в степени их предусмотрительности и осознания чувства ответственности, в умственных способностях, а также в социальном и экономическом положении.
Экономист должен постоянно держать в поле зрения тот факт, что общественные интересы не всегда учитываются в индивидуальных расчетах. Затем Кларк проанализировал то, каким образом эти посылки влияют на выбор, который делает предприниматель, и экономическую эффективность. В этот комплекс входят как человеческие мотивы, так и расчет цены, причем все это лежит в основе таких более ясных проблем, как накладные издержки, практика учета и новаторство в промышленности. Аналогичным образом рассмотрена роль специалистов, инвесторов, рабочих и потребителей. Кларк показал, например, невыгодные стороны положения рабочего, значение классовых предубеждений у рабочих, возможности укрепления их позиций во взаимоотношениях с предпринимателями путем организации союзов. Его основной вывод поистине значителен: принцип максимального удовлетворения потребностей теряет свой смысл как ключ к экономической политике и общественной эффективности. Согласно Кларку, более полезная совокупность критериев включает удовлетворение природных склонностей, свободу и индивидуальное и общественное здоровье. При этом главным фактом, который надо иметь в виду, являются противоречия, заложенные в природе человека.
Анализ психологических и биологических основ экономического поведения Кларк продолжил в подготовленных в 1947 г. для Фонда Кука лекциях «Альтернативы рабству»353. Он признает, что о человеческом материале, из которого построено общество, известно немногое 354. Человек рассматривается здесь Кларком не как совокупность инстинктов и условных рефлексов; он «... своего рода божество, весьма неумелое и в настоящее время к тому же сильно напуганное, созидающее и разрушающее миры, не ведая того, что делает. Человек вынужден жить в тех мирах, которые он созидает и которые в свою очередь сами создают его» 355. Хотя можно по-прежнему говорить об инстинктах и склонностях, эти понятия не должны употребляться в старом смысле слова. Согласно Кларку, человек — клубок врожденных импульсов и способностей весьма общего характера, принимающих различные виды и формы. Важна именно их гибкость, ведущая к сознательному выбору образа действий. Человек использует разум, язык и подражание как средства усиления своей способности к оценке будущих результатов; далее он может взвешивать результаты данного образа действий, и это увеличивает его способность добиваться своих целей. Эти соображения делают выбор центральным фактом экономической жизни, причем в проблему выбора вносятся элементы рациональности и расчета 35в.
Но это ни в коем случае нельзя толковать как возврат Кларка к образу мыслей старых экономистов. Его психологические концепции вполне современны. Хотя привычка и обычай, безусловно, являющиеся важными компонентами мотивации экономических действий, придают формам поведения консервативный уклон, его общественный человек нигде не приближается к изолированному индивидууму классической экономической теории. Люди являются членами общественных групп, и их действия преломляются через эти группы. Даже Вебленово понятие инстинкта мастерства может оказаться приемлемым, ибо деятельность часто является самоцелью. Приспособленность и гибкость человеческой природы делают экономическую науку, основанную лишь на рыночных отношениях, весьма сомнительной конструкцией, так как законы рынка неспособны объяснить все действия людей. Никогда нельзя игнорировать социальный компонент. Таким образом, Кларк считал обязательным применение общественного критерия к делу создания 110
«социальной этики свободы и прогресса» 357. В известном смысле многие из описанных идей являются попытками дополнить статический анализ, развитый Кларком-старшим в его «Философии богатства» и «Распределении богатства». Бейтс Кларк выработал законченную теорию, которая, как казалось, объясняла все проблемы производства и распределения. Он сознавал, что динамические факторы, вероятно, играют решающую роль, но так и не смог успешно совершить переход от статики к динамике. Имеющиеся у него элементы последней всегда в конечном счете можно свести к статическим ситуациям 358. Морис Кларк рассмотрел проблему более успешно. Но хотя он знал, что динамическая экономическая теория требует новой системы исходных посылок, он не был склонен полностью отказываться от подхода, выработанного его отцом, ибо ему казалось, что, видоизменив старые формулы, можно найти пути анализа динамических процессов 359. Временами факты меняются так быстро, что экономистам нелегко угнаться за ними. По этой причине динамическая картина редко может считаться полной, так что статика еще может быть полезной в вопросах анализа цен и распределения и в интерпретации обширного количества данных, накопленных сторонниками индуктивного метода.
Возвращаясь к трудам Адама Смита, Кларк выделил шесть ключевых проблем для экономистов: теория национальной экономической эффективности; извечно продолжающиеся поиски естественного уровня цен; характер отклонения цен от нормы; соотношение экономиче- ких показателей и благосостояния; исходные моменты экономического поведения; объяснение основных институтов. Три последних вопроса, говорил Кларк, носят подлинно динамический характер и должны рассматриваться на основе генетического метода. Не будучи сколько-нибудь прямо связаны с проблемой равновесия, они исчерпывают всю гамму вопросов от экономических циклов до коллективных договоров и мотивов экономических действий. Здесь нет места для классического экономического человека 36°. У Кларка можно заметить интерес к сделкам и юридическим основаниям экономического поведения, что напоминает Джона Р. Коммонса. Это неизбежно: поскольку право определяет рамки действий, экономистам по необходимости приходится уделять внимание и этой области. А поскольку в экономическом анализе рассматриваются коллективные аспекты поведения, то из него трудно исключить и этические понятия. Чем ближе исследователь подходит к конкретным проблемам конкуренции, экономических циклов и накладных издержек, тем более бессильной представляется классическая экономическая теория. Удовлетворительное решение насущных проблем возможно лишь с помощью динамического подхода. Дискретный, неоднородный характер капитала, продолжал Кларк, фактор времени, различные уровни издержек, введение новой техники, неспособность как капитала, так и труда легко перемещаться из отрасли в отрасль и, наконец, практика конкурентной борьбы путем снижения цен и дискриминации в ценах — все это проблемы, требующие для своего анализа чего- то большего, чем статический метод.
Одну из важнейших динамических проблем в сфере интересов Кларка составляли экономические циклы. Принцип акселерации, выдвинутый Кларком с целью объяснения внутреннего механизма циклических колебаний, оказал глубокое влияние на экономическую мысль. Материал он в основном взял из новаторского исследования Уэсли К. Митчелла. Конечно, эта идея встречается в работах ряда других экономистов, в особенности у Альбера Афтальона, Артура Шпитгофа, А. С. Пигу и Роя Харрода; но именно Кларк поставил ее в центр анализа циклов как ключевой элемент процесса саморазвития. Кларк отмечал, что колебания цен и объема производства более значительны для сырья и товаров производственного назначения, чем для потребительских товаров. Особенно велики по сравнению с другими товарами колебания в производстве оборудования. Анализ соответствующих данных подсказывает объяснение, которое исходит из факта колебаний в производстве капитальных благ. Отрасли, производящие товары производственного» назначения, не только удовлетворяют потребности других предприятий, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, но также поставляют новое оборудование и обеспечивают прирост материальных запасов. Затраты на ремонт и замену оборудования, по- видимому, колеблются в соответствии со спросом на готовые изделия, а увеличение сбыта последних выступает как конечный фактор, определяющий спрос на новое строительство. Когда спрос на готовые изделия возрастает, производный спрос на новое оборудование также увеличивается; как только спрос первого рода выравнивается и перестает расти, спрос второго рода резко падает. Это — стимулированные инвестиции (induced investment), которые отличаются от автономных инвестиций, в основе которых обычно лежит рост населения, расширение территории или технический прогресс361. Анализ стимулированных инвестиций требует учета таких факторов, как долговечность товаров и уровень накладных 111
издержек, то есть элементов по преимуществу технического характера. Кларк отмечал, что в строительстве имеет место большая амплитуда колебаний, чем в производстве готовых изделий, оно, видимо, является опережающим элементом цикла 362. Акселерация затрагивает как полуфабрикаты, так и потребительские товары и капитальное оборудование, но колебания особенно резки на тех стадиях производства, которые далее всего отстоят от потребления 363. Самое главное, говорил Кларк, заключается в том, что увеличение производства капитальных благ колеблется не столько в соответствии с объемом спроса на потребительские продукты, сколько в соответствии с темпами изменения спроса 364. Чтобы производство в отраслях, выпускающих капитальные блага, не колебалось, надо, чтобы акселерация, или темпы изменения спроса, была постоянна *.
Эта аргументация полностью развита в книге Кларка «Стратегические факторы в экономических циклах», в которой обобщен опыт работы Комитета по новейшим экономическим изменениям, созданного президентом Гербертом Гувером. Кларк широко использовал данные Митчелла и материалы Национального бюро экономических исследований. Кларк видел свою задачу в том, чтобы выделить ключевые элементы циклического развития, особенно те, которые выступают как факторы причинного характера и могут стать объектом общественного контроля. Верный своей исходной позиции, Кларк прокладывал среднюю дорогу между теоретическим и эмпирическим подходом. Его привлекал теоретический характер* принципа акселерации, ибо он, как казалось Кларку, позволяет понять цикл на основе внутренних его закономерностей. Подобно Пигу, он различал первоначальные внешние факторы и реакцию хозяйства. Примерами факторов первого порядка могут служить войны и волны технического прогресса: они вызывают циклы, давая системе толчки извне. Но более важными представлялись ему явления второго порядка, выражающие реакцию хозяйства на внутренние факторы 365, которые подготовляют условия для оживления и процветания после депрессии. Здесь очевидно сходство с концепцией циклов у Митчелла. В отличие от Пигу оптимизм и пессимизм делового мира у Кларка не играют особенно важной роли, хотя его рассуждения о самопроизвольном осуществлении пророчеств весьма близки взглядам англичанина 366.
* Объяснение принципа акселерации см. в книге: П. Самуэльсон, Экономика. М., ИЛ, 1964, стр. 298—301.— Прим, перев.
Произведенный Кларком анализ позднейших данных Митчелла подтвердил высказанное им в 1917 г. мнение, что строительство играет в цикле роль опережающего элемента. В отношении автомобилей он обнаружил, например, что их производство зависит в основном от изменений дохода 367. Очевидно, это верно и в отношении жилищного строительства. Он сделал весьма важный, хотя в свое время оставшийся почти незамеченным вывод, что депрессии в большой мере объясняются неспособностью общества распределять совокупный доход в соответствии с ростом производства потребительских товаров 368. Но он полагал, что изменения в распределении дохода окажут благоприятное воздействие лишь в сочетании с политикой промышленной стабилизации 369. Еще одним замечательным достижением Кларка следует назвать то, что он приблизился к понятию мультипликатора. Он писал: «Если сокращение производства и дохода сопровождается меньшим сокращением расходов, то возникает серия производных эффектов в виде убывающего ряда цифр, сумма которых есть конечная, а не бесконечная величина» 37°.
Как нейтрализовать эти эффекты? Здесь Кларк обращается к понятию равновесия (balance), так как циклы представляют собой, в сущности, отклонения от уравновешенных экономических связей. Изменение в одном из секторов экономики должно вызывать соответствующее приспособление в других. Излагая свои взгляды во время депрессии, Кларк заметил, что если стремиться просто уравнять спрос и предложение, то результатом будет недопустимо большая безработица. Эта идея, вполне в духе Кейнса, свидетельствует о том, что Кларк был близок к такого рода теории роста, какую позже развили Рой Харрод и Евсей Домар. Равновесие, говорил Кларк, предполагает «...появление новых стандартов на капитальное оборудование, учитывающих изменившееся соотношение между капиталом и трудом, и направление дополнительных производительных ресурсов в производство тех товаров, на которые может возникнуть спрос со стороны населения с повысившимися доходами» 371. Это явно указывает на необходимость должного равновесия между нормой сбережения и инвестициями в более производительные формы капитала, равновесия, сопровождаемого повышением производительности оборудования и ростом заработков. Кларк, однако, хорошо понимал, что рост в этом смысле ограничивается техническими методами производи ства и наличным оборудованием. Необходимы новые каналы для инвестиций, которые могли бы поглотить сбережения без расточительного 112
дублирования производственных мощностей. К сожалению, достижению этого идеала мешает тенденция бизнесменов осуществлять свои собственные прогнозы и пророчества. Предчувствуя депрессию, говорил Кларк, они действуют так, что способствуют быстрому концу процветания. Чтобы исправить это положение, Кларк рекомендует регулирование производства, программирование инвестиций и подготовку проектов общественных работ, которые при необходимости могли бы быть пущены в ход. Решающая роль принадлежит, однако, стабилизации уровня расходов потребителей с помощью метода, который стал известен под названием «встроенного стабилизатора». Судя по недавним событиям, некоторые авторы полагают, что эта цель наконец достигнута 372.
Ряд экономистов указывал, однако, что принцип акселерации имеет ограниченное значение. Рагнар Фриш утверждал, что исчезновение спроса на новое оборудование будет уравновешено приростом спроса, связанного с заменой оборудования 373. Другие писали, что в его простой форме принцип акселерации необоснованно принимает соотношение между потребительскими товарами и капитальными благами за постоянную величину 374. Например, спрос на оборудование для замены может быть обусловлен факторами, не связанными с изменением потребительского спроса, и он, несомненно, находится под воздействием долговечности и устаревания. Далее, технический прогресс может вызвать резкие рывки в сфере инвестиций, непосредственно не связанные с потребительским спросом. Это в особенности относится к долговременным процессам, когда изношенное оборудование заменяется новым, имеющим совершенно иные характеристики. Во всяком случае, тот, кто предполагает наличие постоянного соотношения между изменениями в уровнях спроса и инвестиций, не уделяет должной роли недогрузке мощностей: так, при росте спроса после депрессии непосредственная реакция производителей, поскольку речь идет об инвестициях, вероятнее всего, будет замедленной. Принцип акселерации не оставляет также места для сверхурочных работ, двойных смен и т. п. Наличие этих элементов ослабляет эффективность теории Кларка о производном спросе. Хаберлер в своем капитальном труде об экономических циклах доказывает возможность того, что акселерация в одной отрасли будет сведена на нет падением спроса в других секторах экономики. Это, конечно, определяется относительной долговечностью оборудования, размерами недогрузки мощностей и степенью, в какой основной капитал в одной отрасли может быть использован для производства товаров, изготовляемых другими отраслями 375е Как отмечалось, чтобы акселерация имела длительный эффект, необходимо, чтобы спрос повышался непрерывно; предприниматели снова не начнут наращивать производственные мощности, если будут считать акселерацию временной.
Надо признать, что некоторые формулировки принципа акселерации довольно механистичны, поскольку недооценивается влияние недогрузки мощностей и колебаний в темпах замены капитального оборудования. Тем не менее трактовка проблемы Кларком хотя и лишена математического изящества, свойственного изложению Рагнара Фриша, вполне реалистична. Она исходит из того, что бизнесмен не всеведущ. В отраслях, производящих товары производственного назначения, можно, по-видимому, найти достаточно признаков непостоянства, так что тезис Кларка в известной мере обоснован 376. Некоторые из его критиков считают также, что он недооценил значение доступности кредита, но с этим нельзя согласиться. Кларк отмечал, что «...эластичность кредита, несомненно, облегчает и ускоряет процесс накопления капитала, позволяя предприятиям в любое время находить и расходовать суммы капитала, значительно превышающие предшествующие сбережения... Если бы не было возможности расширения кредита, то рост покупок автомобилей и жилищ ограничивался бы той долей текущего дохода, какую потребитель захотел бы переключить из средств, предназначавшихся на удовлетворение других потребностей. Увеличение затрат на капитальное оборудование было бы ограничено той долей текущего дохода, от расходования которой воздержался потребитель или от распределения которой между акционерами и совладельцами воздержалось предприятие» 377.
Интерес Кларка к проблеме воздействия современной техники на общество проявился на раннем этапе его деятельности в книге «Исследование экономики накладных издержек» 378. Это, несомненно, самый важный его вклад в науку и одно из самых глубоких исследований, когда-либо написанных на эту тему. Книга полна мыслей и наблюдений, сохраняющих актуальность, и заслуживает внимательного чтения. К основательному исследованию этой проблемы Кларка побудил Артур Т. Хэдли, который касается ее в своем учебнике экономики. Хэдли учился с Самнером в Йельском университете и в 1899 г. после успешной преподавательской деятельности стал президентом колледжа. Как экономист он стоял в основном на традиционных позициях и даже склонялся к слабо выраженной разновидности социального 8 Б. Селигмен
ИЗ
дарвинизма. Но изучение экономики железнодорожного транспорта подтвердило сложившееся у него убеждение, что отрасли с большими вложениями в основной капитал должны сохранять уровень производства независимо от цен на их продукцию. Основной капитал становится в промышленности настолько важным фактором, что определение издержек усложняется; постоянные издержки распределяются между всеми продуктами, создавая серьезные проблемы учета и измерения затрат. Фирмы продолжают производство, пока цены позволяют возместить затраты на рабочую силу и на сырье. Хэдли рассматривал это явление в связи с такими проблемами, как беспощадная конкуренция, монополия, недогрузка мощностей, дискриминация в ценах. Кларк решил исследовать эти проблемы более основательно. Он считал, что в динамической экономической теории должно найтись место для вопроса о накладных издержках.
Вообще говоря, накладные издержки * — это такие издержки, которые не могут быть отнесены к конкретным подразделениям предприятия: увеличение или уменьшение выпуска продукции не оказывает на них большого влияния. Такие издержки вытекают исключительно из характера современного производства, которое требует больших вложений в основной капитал. Этого не было в докапиталистические времена, когда основными факторами производства были сырье и рабочая сила. Издержки тогда легко распределялись между отдельными видами продукции. Однако позже вложения в основной капитал стали бременем, которого капиталист не может избежать, если он хочет вести дело. Машина всегда делает одно и то же: производит совершенно одинаковые товары, и ее обязанность состоит в том, чтобы действовать непрерывно 379. Стоимость машин ложится на промышленность в качестве постоянных издержек в отличие от переменных издержек, которые могут быть отнесены на конкретные услуги. Такие издержки, говорил Кларк, имеют место и на железных дорогах и в различных отраслях промышленности. Вложив большие капиталы в здания и оборудование, капиталист не может легко переходить из одной отрасли в другую, так что он вынужден довольствоваться тем, что дает ему рынок: вопреки традиционной экономической теории «нормальная» прибыль более не является гарантированной. Каковы же результаты? Недогрузка мощностей, экономи-
* Иногда говорят также: постоянные, фиксированные издержки. Ср. Э. Ж а м с, История экономической мысли XX века, М., 1959, стр. 121 —129.— Прим, перев. ческие циклы и ожесточенная конкуренция, которая в конечном счете ведет к пулам, картелям и «джентльменским соглашениям» во избежание «подрыва рынка» 38°.
Другого рода важные проблемы возникают в связи с различиями между накладными издержками отдельной фирмы и экономики в целом. В некоторых случаях обычные накладные издержки можно превратить в переменные издержки. Кларк приводил пример обувной промышленности, где фирмы использовали оборудование, арендуемое у «Юнайтед Стейтс мэшинери компани». (В качестве более свежего примера можно указать на супермаркет *, где прямые затраты на рабочую силу, в данном случае фиксированная статья, превращаются в переменные издержки путем найма работников, занятых неполный рабочий день.) Когда цены падают, такие фирмы легко могут сократить производство, создавая дополнительные трудности для общества. Это противоречит интересам общества, которые требуют продолжения производства в известном размере при любых ценах, лишь бы продукция возмещала добавочные затраты труда. Но эти же самые интересы, требуя продолжения производства, порождают самую жестокую форму конкуренции и тем самым толкают частного предпринимателя на то, чтобы подумать о прекращении дела 381. Здесь, говоря языком Маркса, заключено явное противоречие.
Кларк рассмотрел различные типы издержек: абсолютные, дополнительные (или предельные), финансовые, производственные, долгосрочные и краткосрочные. Он детально проанализировал характер операционных расходов, переменные и постоянные, прямые и косвенные издержки, совокупные и сбытовые издержки. Он рассмотрел явление с точки зрения инженера, бухгалтера, статистика и экономиста. В итоге глубокого и тонкого исследования, свидетельствующего о редком даре воображения, он сделал вывод, что термин «накладные издержки» не имеет универсального значения. Из его анализа сбытовых издержек вытекают многие понятия, позже использованные Эдвардом X. Чемберлином. Большинство экономистов того времени игнорировали эту форму издержек. Кларк считал, что сбытовые издержки должны добавляться к производственным и в долговременном аспекте те и другие должны покрываться ценами 382. Как же они должны распределяться? Сбытовые или рекламные расходы иногда дают плоды, а иногда нет, так как фирма обращается к неизвестной клиентуре. Кроме того, у фирмы с большой номен* Универсальный магазин.— Прим, перев.
114
клатурой товаров сбытовые издержки имеют слишком общий характер, чтобы их можно было распределить между отдельными видами продукции. Они приобретают черты невозместимых издержек (sunk costs), поскольку они не обязательно приносят непосредственные результаты. Сама их изменчивость затрудняет определение того, окупились ли те или иные затраты.
Важное обстоятельство, вытекающее из анализа накладных издержек, состоит в том очевидном факте, что известная экономия может быть получена за счет более интенсивной эксплуатации производственного оборудования, которое в противном случае оставалось бы незагруженным. Экономию может дать даже дополнительная продукция при полной загрузке. Может быть установлено более совершенное оборудование, которое позволит снизить издержки на единицу продукции, а если сбыт будет по-прежнему хорошим, то дополнительные инвестиции легко окупятся. Таким образом, влияние накладных издержек в долгосрочном и краткосрочном плане может быть весьма различно.
Это подводило Кларка к законам доходности, вопросу неопределенности в реакции цен и производства и всей проблеме недоиспользования мощностей. Кларк считал, что эти проблемы игнорировались в классической теории, хотя заслуживают серьезного исследования. Кларку представлялось, что закон убывающей доходности в его обычной трактовке вводит в заблуждение, потому что изменилась техника производства, из которой исходили те, кто его формулировал. В некоторых случаях применение дополнительного оборудования при неизменных прочих факторах производства может вызвать быстрый рост продукции. Далее, приходится допустить возможность постоянной доходности, что часто имеет место в обрабатывающей промышленности 383. В действительности, говорил Кларк, экономическая эффективность требует равновесия между факторами производства. При этом необходимо учитывать такие элементы, как мощности, максимальная загрузка, стандартизация и степень комбинирования внутри фирмы. Сам процесс производства в промышленности связан с целым рядом неделимых факторов, в отличие от сельского хозяйства, где легко осуществить их дробление. Изменения спроса приводят к неравномерной работе предприятий, и последние не всегда могут приспособиться к новым условиям, как это предписано экономической теорией. «В отличие от математика бизнесмен редко имеет дело с бесконечно малыми величинами — в сущности, никогда, кроме случайных следствий политики, которую он считает важной. И экономист вполне может следовать примеру бизнесмена» 384. Это, отмечал Кларк, ставит известный предел размерам предприятия, которые капиталист должен включить в свои расчеты, каковы бы они ни были.
Кривые издержек, о которых говорят экономисты, предназначены для того, чтобы выделить влияние изменений объема продукции. Но Кларк установил, что краткосрочная кривая издержек обычно отображает работу предприятия при различной степени загрузки мощностей, так что речь идет скорее не о линии, а о зоне издержек. Время, в течение которого предприятие выпускает определенный объем продукции, меняется в зависимости от того, сколь долго предприятие сохраняет данный уровень использования мощностей. Иначе говоря, переход на новый уровень производства требует издержек, которые теория не объяснила. Надо также учесть износ капитала, особенно при изменении цен к моменту фактической замены оборудования. Далее, использование «стандартных» формул издержек связано с вопросом о ценообразовании на базе полных издержек, при котором цены должны покрывать все издержки. Это, по существу, означает использование в качестве главного фактора средних, а не предельных издержек; такой подход, видимо, весьма характерен для образа мышления предпринимателя. Именно в этом проявляются различия между фирмами, поскольку накладные издержки в различных ситуациях распределяются различным образом. Как следствие этого, цена, максимизирующая прибыль, не может быть определена с какой-либо степенью точности. В некоторых отраслях, указывал Кларк, продукт реализуется на основе ранее выбранной системы цен; такое положение имеет место в швейной промышленности. Здесь, вероятно, стремлению фирмы к максимальной прибыли отвечает цена, основанная на полных издержках. Вообще ценообразование на базе полных издержек довольно распространено, особенно в тех случаях, когда фирма стремится к известной «плановой прибыли» («target return») на вложенный капитал или хочет стабилизировать цены либо улучшить свое положение на рынке. Даже дифференциация продукта может по своему значению превосходить цену. Такова практика, которую можно встретить повсеместно, как у крупных, так и у мелких фирм.
При крупном производстве эффективность не обязательно увеличивается пропорционально увеличению количества используемого оборудования. Нет такого «закона», который гарантировал бы крупным производственным единицам более высокую эффективность по сравнению 8* 115
с мелкими. Крупные размеры предприятий в промышленности могут давать преимущества при оптовой закупке сырья и материалов и в области финансирования, но эти преимущества могут перевешиваться ущербом от сложности организации, отсутствия необходимых личных контактов, уменьшения индивидуальной ответственности и утраты инициативы. Все это отражает глубокое беспокойство Кларка по поводу экономического гигантизма. Как и его отец, он был обеспокоен ростом трестов и монополий. Объединения, говорил он, обусловлены не экономией от масштабов производства, а «естественным стремлением прекратить конкуренцию» 385. Такова почва, на которой расцветают монополии и объединения. В ряде отраслей производители вынуждены объединяться, чтобы предотвратить бурные вспышки конкуренции. Вдобавок неизбежность больших инвестиций представляет собой препятствие для новых фирм и ограничивает их доступ в отрасль, что позволяет еще легче сдерживать потенциальную конкуренцию 386. Таким образом, по Кларку, проблемы накладных издержек, крупного производства, монополизации и ожесточенной конкуренции неразрывно связаны друг с другом.
Накладные издержки играют также важную роль в экономических циклах, говорил Кларк. Он отметил, что крупные предприятия, у которых доля постоянных издержек является самой высокой, как раз подвержены самым сильным колебаниям 387. Кларк связал это явление с принципом акселерации. Тот факт, что спрос на средства производства колеблется так резко по сравнению со спросом на потребительские товары, очевидно, подчеркивает первостепенную важность накладных издержек. Кларк допускал здесь также наличие своего рода психологического элемента: направление движения спроса усиливает расчеты на продолжение этого движения. Акселерация усиливается желанием купить по возможности дешевле: когда спрос растет, возникает волна покупок нового оборудования, поскольку все стремятся купить, до того как повысятся цены. Процветание приходит к концу просто потому, что объем сбыта стабилизируется, хотя бы и на высоком уровне. Иногда падение темпа роста спроса вызывает дезинвестирование, так как фирмы стремятся освободиться от избыточного оборудования. Таким образом, накладные издержки играют роль начального фактора, а колебания цен приводят к такому распределению производства и потребления по фазам цикла, которое исключает эффективное регулирование объема промышленного производства. «Когда депрэссия парализует промышленность и деформирует спрос, стоимость материалов для переработки или продажи в настоящее время выше, чем показывает рынок, тогда как стоимость сохранения их для использования в будущем ниже, чем показывает рынок» 388. С общественной точки зрения дефицитные товары должны иметь высокую цену, что является средством резервирования их для будущего использования, депрессия же, напротив, вызывает понижение цен при сокращении количества товаров, усиливая тем самым болезнь.
Когда издержки превращаются в переменные элементы расходов, говорил Кларк, действительное соотношение между фиксированными и переменными элементами искажается. В сущности, большинство издержек должно рассматриваться как фиксированные и постоянные по своей природе 389. Если бы это делалось, то бизнесмены были бы вынуждены искать средства стабилизации. Просто установление цены на постоянном уровне не дало бы желаемого результата. Каковы же в таком случае способы лечения? Кларк предложил комплексный метод, включающий расширение образования; соответствующее планирование, в частности увеличение производства с целью заполнения циклических «ям» и сокращение его с целью сглаживания «пиков»; наличие резерва общественных работ, которые легко могут быть начаты при необходимости; страхование от безработицы; биржи труда; совершенствование статистики. Сегодня этими мерами нельзя никого удивить, но для того времени они были весьма смелыми. Кларк не ставил, однако, вопрос об эффективном спросе. Сделать это предстояло через полтора десятилетия Кейнсу и его последователям.
Кларку представлялось, что ответ на проблему накладных издержек заключен в дискриминации в ценах. В этом нет, конечно, ничего неожиданного: в сущности, искусственной казалась ему именно система единых цен. Дискриминация в ценах есть совершенно естественная форма конкуренции и весьма удовлетворительный способ разрешения проблем, вызванных ростом накладных издержек. Идея состоит в том, что бремя возлагается на те элементы отрасли, которые способны нести его, тогда как другие элементы реализуют продукцию по тем ценам, которые им удается получить независимо от издержек. Это разумный подход, и он практикуется в мясной промышленности, на предприятиях связи, на железных дорогах, в электроснабжении и в ряде других отраслей. Дискриминация в ценах, говорил Кларк, может быть оправдана в двояком смысле. Во-первых, она должна вызывать спрос, который в противном случае не возник бы; во-вторых — вовле116
кать в хозяйственный оборот ресурсы, которые иначе остались бы неиспользованными. Следовательно, дискриминация не обязательно признак монополии, как раньше полагали, а скорее явление, обусловленное накладными издержками. Ее нельзя также рассматривать как отклонение рынка от нормы, что делала старая теория. Однако, утверждал Кларк, в связи с дискриминацией в ценах возникают проблемы, выходящие за пределы теории поведения отдельной фирмы, поскольку она нередко становится средством урвать необоснованно большую долю из доллара потребителя. Во всяком случае, на это жалуются американские фермеры в течение более чем десяти лет.
Проблемы, связанные с дискриминацией в ценах, не могут быть истолкованы чисто экономически. Она может быть орудием фаворитизма, но также и средством для обеспечения «...высшей социальной справедливости» 390. Различия в качестве товаров и местоположении предприятий часто ограничивают масштабы рынка определенного производителя. Поэтому легче поддерживать высокие цены на собственном рынке, чем на общих рынках. Ценовая конкуренция возникает лишь с развитием соперничества на едином рынке. Результатом может быть беспощадная конкуренция, если только она не сдерживается сильными настроениями против «подрыва рынка». С другой стороны, дискриминация на местных рынках может быть способом удушения потенциальных соперников. Сделанный Кларком обзор дискриминационных действий носит в основном описательный характер. Речь идет о предполагаемых различиях в качестве и обслуживании, о разном подходе к случайным и постоянным клиентам и о разнице цен при продаже за наличные и в кредит. Хотя эта часть работы Кларка не отличается аналитической глубиной, свойственной, скажем, Вальрасу или Эджворту, она тем не менее представляет собой серьезное рассмотрение проблемы 391. Дать современный анализ проблемы дискриминации в ценах предстояло таким авторам, как Джоан Робинсон и А. С. Пигу...392
Как замечает Джозеф Дорфман, мысль о том, что заработную плату можно рассматривать как накладные издержки, является поистине смелой 393. Как фактор производства, рабочая сила во многих отношениях подобна неодушевленному оборудованию, применяемому в процессе производства. Она требует поддержания в работоспособном состоянии, подвержена износу, стоит определенной суммы денег и приносит известную прибыль на инвестиции 394. В основе всего этого лежит коренная проблема минимального уровня жизни, который представляет собой постоянный элемент издержек на рабочую силу. С точки зрения общества бремя содержания рабочей силы сохраняется независимо от того, производит ли она продукцию. Но инвестиции общества в рабочую силу в значительной мере пропадают даром, если ее состояние ухудшается, вследствие того что рабочие вынуждены содержать себя в условиях низкой заработной платы. В длительном аспекте было бы значительно дешевле обеспечивать рабочей силе необходимое содержание, чем допускать ухудшение ее состояния. Но при существующей общественной системе рабочая сила рассматривается как элемент переменных издержек. Бремя накладных издержек возлагается на самого рабочего, который, говорил Кларк, должен содержать себя и свою семью в периоды спадов. Таким образом, инвестиции общества в квалификацию рабочих безвозвратно пропадают. Поскольку лишь немногие элементы совокупных издержек на рабочую силу меняются пропорционально количеству выполненного труда, рабочая сила представляет собой, в сущности, вид накладных издержек. Делая вывод из этого, Кларк отвергал безработицу как необходимую черту индустриальной системы. Он пришел к заключению, что «...накладные издержки на рабочую силу — это коллективное бремя, ложащееся на промышленность в целом, но рынок не выделяет каждому предпринимателю долю, за которую ответственно его предприятие» 395.
Как средство исправления этого положения Кларк предлагал нечто приближающееся к более поздней идее гарантированного годового минимума заработной платы. Он допускал возможность неблагоприятного влияния этих мер на стимулы к труду, но, во всяком случае, он не одобрял понижения заработной платы во время спада. Он полагал, что заработная плата могла бы состоять из двух частей: из гибкой доли, обеспечивающей необходимые стимулы в период роста производства, и гарантированного минимума, покрывающего расходы по содержанию рабочей силы и накладные издержки 396. Какое бы решение ни было выработано, в основе его должно быть правильное распределение издержек. Распределение накладных издержек на рабочую силу не может быть предоставлено обычным трудовым договорам. Такие издержки, говорил Кларк, должны распределяться «...в духе справедливости и в соответствии с тем принципом, что тяготы и стимулы должны создаваться там, где они могут принести максимум пользы и вызвать к жизни действия, которых требует эффективное функционирование общества» 397.
Очевидно, это предполагает определенные действия и контроль со стороны общества. 117
Следствия, вытекающие из накладных издержек, Кларк рассматривал в книге «Общественный контроль над экономикой», аргументация которой логически вытекает из его более ранней работы 398. Это — классический образец институционалистского видения общества, в котором идеи из сферы права и социологии сочетаются с экономическими концепциями. Кларк утверждал, что для решения проблем, обусловленных большими инвестициями общества в оборудование, необходимы меры конкретного и сознательного контроля, направленные на всеобщее благо. Фактически уже сложилась смешанная экономика. Но многие ведут себя и рассуждают так, словно индивидуальные права в чистом виде все еще являются основными формами жизни, а частные права никак не связаны с общественными интересами. Под совершенным обществом подразумевается нечто гораздо большее, чем права индивидуума; оно не может быть основано лишь на сделках свободного обмена 3". Это — основной тезис Кларка, выдвинутый в обоснование общественного контроля, который заставлял бы индивидуумов действовать в интересах всего общества. К тому времени уже произошло много перемен, и скорее в сторону усиления, а не ослабления общественного контроля. Кларк фактически одобрил все эти меры. Начав с железных дорог и перейдя затем к системам электроснабжения, телефонной связи и ирригации, а также приняв законы против монополий, общество постепенно распространило свою регулирующую и контролирующую власть на важные секторы экономики. Все это вытекает из природы крупного производства, ибо без такого контроля мы оказались бы во власти тех, кто охотно использовал бы индустриальный механизм в собственных целях. Контроль необходим, говорил Кларк, потому что индивидуализм не смог обеспечить защиту интересов общества. Конечно, многие формы контроля уже существуют в результате воздействия на индивидуума со стороны обычая или групповой воли. Порой этот контроль не носит формальный характер, а часто дополняется судебными и законодательными мерами.
Значительная часть книги «Общественный контроль над экономикой» посвящена детальному анализу различных методов контроля. Кларк вновь показал, что традиционная теория рыночной цены и индивидуализма не пригодна для разрешения острых проблем современного общества. Например, механизм рынка оказался совершенно неспособным удовлетворить нужды трудящихся, не обеспечив их ни тем родом работы, которым они хотели бы заниматься, ни достаточным количеством рабочих мест. Далее, теория рынка мало применима к обществу, страдающему от недогрузки мощностей, где цены устанавливаются задолго до того, как товары доходят до покупателя, где под влиянием колебаний конъюнктуры меняется объем производства, а не цены, и где, наконец, имеет место не нехватка товаров, а недостаток совокупного спроса. Для разрешения этих проблем Кларк охотно соглашался на определенное вмешательство государства. Он выступал за контроль над монополиями с целью предотвратить столкновение между крупными организациями, ослабить экономические катастрофы и, самое главное, поддержать равенство возможностей 40°. Но, оставаясь верным самому себе, он предпочитал принцип добровольности в подходе к этим проблемам, заявляя, что контроль должен осуществляться осторожно, с правильным учетом потребностей конкретной ситуации. Контроль ради контроля, напоминает он своим читателям, очень легко может привести к извращениям и жульничеству.
Очевидно, что целью для Кларка являлось «сбалансированное общество», в котором частная деятельность в сочетании с правительственным контролем могли бы обеспечить равновесие между свободой личности и вмешательством общества, между эгоистическим интересом и общественными интересами 401. Он надеялся, что этого можно достичь без насилия. Но при отсутствии необходимого равновесия избежать принуждения будет трудно. Это — проблема, которую традиционная экономическая наука, возлагающая надежды на рыночный механизм, всегда игнорировала. В своем существе позиция Кларка есть позиция умеренности и среднего пути. Личные экономические свободы не должны рассматриваться как нечто неприкосновенное, если они угрожают всеобщему благосостоянию. Эти проблемы должны, однако, решаться терпеливо, так, чтобы «...найти разумный компромисс между свободой и контролем и свести худшие пороки нашего общества до терпимых пределов путем процесса постепенных изменений и полного использования всех возможностей добровольных методов. Все это должно быть предметом свободной дискуссии, не должно допускаться произвольное декретирование и подавление оппозиции» 402. Чрезмерный нажим со стороны одной группы может нанести ущерб общественному устройству, говорил Кларк. Лишь разумное равновесие противоположных интересов может способствовать достижению желанных целей: максимальной занятости, обеспеченности, мира и чувства общности людей. Все это требует сознательных усилий и всей энергии общества; сам по себе рынок едва ли способен это обеспечить 403.
118
В связи с проблемой общественного контроля и смешанной экономики неизбежно встают этические вопросы. У Кларка политическая экономия некоторым образом вернулась к точке зрения древних философов, для которых этические и экономические стороны поведения были связаны между собой 404. Свободные люди, говорил Кларк, должны работать сообща, чтобы возобладало чувство ответственности; только при этом условии существующая система может выжить. Кларк считал неизбежным вторжение понятия благосостояния в экономическое мышление; он, однако, сомневался в полезности теории, ныне известной как политическая экономия благосостояния, которая представлялась ему суммой идей, ведущих к полному агностицизму. Убеждение, что увеличение национального дивиденда оправданно лишь в том случае, если это никому не наносит ущерба, действует как запрет на любую научную разработку политики 405. Благосостояние должно мыслиться в гораздо более широких рамках, с тем чтобы перебросить мост между производственными возможностями современного общества и этической базой должным образом организованной г цивилизации. Кларк определенно отмежевался бы от систем экономической мысли, которые игнорируют этику. Политическая экономия имеет дело с понятиями людей о ценностях, а поскольку это так, этические критерии в отличие от критериев рынка составляют неотъемлемую часть ее инструментария 406. Как наука, политическая экономия имеет этический уклон; она делает выводы из тех данных, которыми оперирует. А это включает этику добровольного сотрудничества. Без последнего обществу пришлось бы прибегнуть к самым отвратительным способам принуждения. Возможно, что эти идеи выходят за современные границы экономической науки, но Кларк не видел иной возможности достичь осознания связи индивидуума с обществом,— осознания, вытекающего из всего исторического опыта и из всех достижений человеческой мысли 407.
5. ДЖОН А. ГОБСОН — АНГЛИЙСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИСТ
Будучи подданным Великобритании и питомцем английских университетов, Джон А. Гобсон (1858—1940) тем не менее по своим взглядам весьма близок к американскому институционализму. Придавая большое значение этическим аспектам экономического поведения, он, подобно Марксу и Веблену, выступил с резкой критикой традиционной теории. Гобсон написал ни много ни мало пятьдесят три книги, и практически для всех его книг характерен особый интерес к внеэкономическим факторам. Но, разумеется, этого едва ли было бы достаточно, чтобы он удостоился почетного места в пантеоне великих экономистов. Гобсон приобрел известность благодаря своей теории недопотребления и чрезмерного сбережения (oversaving), а также благодаря идее о необходимости обеспечения правильной пропорции между производством и потреблением. Эти теории были столь неожиданны, что он всю свою долгую жизнь пользовался репутацией еретика. Теория недопотребления вызвала немало споров, особенно среди членов либеральной партии, к которой принадлежал Гобсон. Рецензируя в 1913 г. одну из его книг, Джон Мейнард Кейнс заметил: «Новую книгу мистера Гобсона открываешь со смешанным чувством: с надеждой обнаружить новые смелые идеи и плодотворную критику ортодоксии с независимых и оригинальных позиций и с опасением найти в ней немало софистики, недоразумений и ошибочных идей» 408. Однако через два десятилетия, публикуя свою «Общую теорию занятости, процента и денег», Кейнс отозвался о новаторских исследованиях Г обсона с величайшей похвалой. Первую работу Гобсона «Физиология промышленности» он характеризовал как книгу, открывшую новую эпоху в экономической мысли 409. Гобсона можно с полным основанием назвать предшественником «новой» * политической экономии.
Человек скромный и склонный к уединению, Гобсон мало участвовал в общественной жизни. После первой мировой войны он вступил в лейбористскую партию и стал в известном смысле ее ведущим экономическим теоретиком. Несомненно, он имеет не меньшее право на звание пророка государства благосостояния, чем фабианцы. Его экономические идеи теперь широко используются, хотя нынешнюю форму им придали другие ученые 410.
Гобсон однажды заметил, что происхождение и воспитание предрасполагали его к безоговорочному принятию существующего социального порядка 411. Он родился в небольшом городе в средней, промышленной части Англии, где превыше всего ставили стремление к прогрессу и порядку, классовые различия, * То есть кейнсианской.— Прим, перев.
119
респектабельность и право собственности. Нищета приписывалась беспомощности самих бедняков. Но, видя, как широко распространена бедность, Гобсон почувствовал, что не все устроено хорошо в этом мире. В семье царила атмосфера унаследованного от дедов либерализма laissez faire; посещение церкви считалось обязательным. Гобсон учился в обычной средней школе. Вскоре он порвал с ортодоксальным христианством, а прочтя «О свободе» Милля и социологические работы Спенсера, увлекся социальными проблемами. Популярные лекции, которые Гобсон слушал в Кембриджском университете, расширили его кругозор. Вскоре он поступил в Оксфордский университет, где студенты получали прежде всего классическое образование: он говорил, что это в значительной мере способствовало выработке у него принципов рационализма и гуманизма, которые он впоследствии применил к экономической науке 412. Глубокое влияние на него оказал захвативший в то время английские университеты дух реформ, который подогревался выступлениями Джона Рескина. Молодое поколение не могло не замечать отрицательных последствий большого промышленного подъема 70-х и 80-х годов. Его не удовлетворяло больше объяснение вопиющего противоречия между экономическим прогрессом и ростом нужды принципами laissez faire.
Успехи Гобсона в учебе были довольно скромными. В 1880 г. он оставил университет, после чего семь лет работал школьным учителем, а затем десять лет читал общедоступные лекции для рабочих, главным образом на экономические темы. Помимо состояния общества, которое Гобсон считал плачевным, на его интерес к экономическим вопросам повлияли нападки Генри Джорджа на земельную собственность. Но Гобсон никогда не был сторонником единого налога на землю и, в сущности, не был социалистом, хотя в последний период жизни он почувствовал влечение к леводемократическим взглядам 413.
Учительствуя в Эксетере, Гобсон познакомился с А. Ф. Маммери, бизнесменом, который «был наделен... от природы стремлением про- лагать свой собственный путь и презирал интеллектуальные авторитеты» 414. Обсуждая с Маммери причины экономической депрессии, Гобсон приводил все стандартные аргументы, но скоро убедился, что тезис Маммери о чрезмерном сбережении имеет серьезные достоинства. В 1889 г. они совместно написали «Физиологию промышленности», где экономическому ученому миру была преподнесена еретическая идея, что бережливость вовсе не представляет собой большую социальную добродетель. Авторы говорили, что чрезмерное сбережение нежелательно, ибо оно неизбежно ведет к недостатку спроса 415. В книге рассматривается роль запасов в экономических кризисах и содержится анализ движения спроса, инвестиций и производства по промышленным секторам, который звучит весьма современно. Этот первый еретический поступок имел для Гобсона серьезные последствия. В это время он взялся за чтение общедоступных лекций по политической экономии и литературе, но вскоре совет Лондонского университета запретил ему преподавать политическую экономию. Причиной этой меры послужило, очевидно, вмешательство Фрэнсиса И. Эджворта, профессора Королевского колледжа в Лондоне, который опубликовал крайне враждебную рецензию на «Физиологию промышленности». Много лет спустя Гобсон писал, что почтенному профессору идеи этой книги «показались по своему смыслу чем-то вроде попытки доказать, что земля плоская» 416. Любопытно, что значительно позже преемники Эджворта на посту редактора научного органа Королевского экономического общества Кейнс и Харрод пришли к выводу, что идеи Гобсона «умеренны, разумны и глубоки» 417.
К счастью, материальная независимость позволила Гобсону продолжать долгую карьеру еретика. И теперь многие его идеи стали такой неотъемлемой частью общепринятой теории, что, по словам Т. У. Хатчисона, представляется невероятным, чтобы когда-либо появился другой Гобсон. С 1897 г. Гобсон выступал как журналист, он опубликовал ряд книг и много брошюр, статей и газетных корреспонденций по различным вопросам 418. Он обращался к гораздо более широкой аудитории, нежели научный мир. Подобно Коммонсу, он затрагивал в своих работах самые различные области, от абстрактной теории до текущих событий. Таким образом он ввел в научный оборот огромную массу фактов, к тому же весьма необычных. Из 50 с лишним книг, которые он написал почти за такое же число лет, многие были состряпаны наспех и, едва выйдя из типографии, попадали на полки, где хранятся непроданные остатки тиражей. Но он написал достаточное число серьезных и глубоких работ, чтобы заслуженно удостоиться почетного места и признания в истории экономической мысли. Среди них, помимо «Физиологии промышленности», заслуживают упоминания «Эволюция современного капитализма» (1894), «Экономика распределения» (1900), «Империализм» (1902), «Промышленная система» (1904), «Наука о богатстве» (1911), «Труд и богатство» (1914), «Налогообложение в новом государстве» (1919),
120
«Экономика безработицы» (1922), «Свободная мысль в общественных науках» (1926), «Экономика и этица» (1929) и его интереснейшая автобиография «Исповедь еретика от экономической науки» (1938). Идеи Гобсона вдохновляли фабианцев, социалистов, деятелей «Нового курса» и кейнсианцев. Его мало заботило то, что профессорам он порой казался недостаточно академичным: он обращался не к ним. Во всяком случае, Гобсон был достаточно смел, чтобы бросить вызов идеям, настолько освященным временем, что они казались неоспоримыми.
Еретическая идея Гобсона о чрезмерном сбережении угрожала основам концепции lais- sez faire, так как она подрывала единственный постулат, позволявший ортодоксий претендовать на почетное место в науке. Таким оправданием эгоцентрической концепции экономического человека было утверждение, что он способствует прогрессу общего благосостояния. Именно эту основополагающую идею Гобсон поставил под вопрос. Затем последовала книга «Эволюция современного капитализма», в которой содержится суровый анализ капитализма; чтение ее считали для себя обязательным все исследователи экономической истории419. Ее основная тема — роль современной техники в росте производительности и в расширении функций капиталиста. По Гобсону, общество уделяет слишком мало внимания тому, что происходит с рабочим, хотя оно примирилось с отделением его от орудий производства.
В 1899 г. Гобсон отправился в Южную Африку, чтобы писать об англо-бурской войне. Здесь возник замысел одного из его лучших произведений, книги «Империализм» 420, широко использованной Лениным. И здесь у него центральную роль играет недопотребление, поскольку именно потребность метрополий в рынках сбыта излишних товаров порождает империалистическую экспансию. Англо-бурская война стала поворотным пунктом в духовном развитии Гобсона. Она была для него самым ярким примером взаимодействия политических и экономических сил империализма. Он интервьюировал всех видных деятелей — Крюгера, Смэтса, Герцога, Хофмайера и Сесиля Родса — и понял, что «...особенно грубая форма капитализма [действует] в смешанной политической области» 421. Постепенно он стал применять к проблемам экономики и политики собственные этические взгляды и все более убеждался в глубокой аморальности экономического строя, когда сделки заключаются между сторонами, позиции которых на рынке столь неравны.
По возвращении в Англию Гобсон продолжал заниматься журналистикой и лекционной деятельностью. Он много писал для журнала «Нейшн», причем для всех его выступлений характерно стремление осветить этическую сторону политических и экономических проблем 422. Во время неоднократных посещений Канады и Соединенных Штатов он вплотную столкнулся с новой картиной переплетения безжалостной конкуренции с безжалостной монополией. Он познакомился с Линкольном Стеффенсом и Генри Демарестом Ллойдом, знаменитыми «разгребателями грязи», а также с Э. А. Россом, известным социологом. Он читал труды Веблена, едкие и горькие слова которого о демонстративном расточительстве и завистливом сравнении явно пришлись по душе Гобсону. Но самое сильное влияние на него оказал Джон Рескин (1819—1900), известный критик,, чья защита английского художника начала XIX в. Уильяма Тернера стала вехой в истории искусства. Затем Рескин обратился к экономической теории и в течение более чем двух десятилетий вел страстную полемику против классической доктрины. Хотя профессора отвергали Рескина как явного дилетанта, его работы оказали значительное влияние благодаря содержавшемуся в них требованию достоинства и простоты в организации общественной и экономической жизни. Сам Рескин испытал влияние Томаса Карлейля и Уильяма Морриса,, романтизм которых был хорошей основой для критики несправедливости и бедности, порождаемых современным промышленным обществом. В 90-х годах Гобсон тщательно изучал труды Рескина и в 1898 г. опубликовал о нем книгу. Кредо Рескина —«нет другого богатства, кроме жизни»—нашло отклик в душе молодого еретика от экономической науки. Это привело Гобсона к мысли, что любое богатство и любой доход «...должны оцениваться в связи с человеческими (vital) издержками их производства и с полезностью их потребления». Это представлялось ему единственной удовлетворительной основой для оценки производства с точки зрения интересов человека 423. Религиозное красноречие Рескина мало трогало Гобсона; для него было лишь важно следующее: Рескин показал, что современная экономическая мысль исказила истинное значение таких понятий, как богатство, стоимость и прибыль424. Это, очевидно, означает, что этический элемент заключен во всех экономических категориях. Экономист не может ограничиться описанием того, «что есть», его функция состоит также в том, чтобы указать, «что должно быть». Гобсон хотел развить идею Рескина о понятии ценности с точки зрения целей жизни. Он думал, что можно поднять уровень потребления, повысив способность потребителя 121
рационально использовать товары. Самая высшая «действительная» («effectual») ценность состоит в способности оценивать красоту мира — Гобсон неоднократно возвращался к этой мысли. Рескин внушил ему потребность выйти «...за пределы обычных денежных оценок богатства, издержек и полезности, проникнуть в сферу подлинной человеческй выгоды и удовлетворения, что только и может сообщить этим оценкам действительный смысл» 425. Для Гобсона все это не было метафизикой: хотя такие проблемы выходят за пределы экономической науки, они были важны для него как отправные точки идей благосостояния вообще.
На Гобсона оказал также влияние известный английский социолог Л. Т. Хобхауз. У Хобхауза центральное место занимает идея изучения общества как развивающейся единой системы. Это требует научного исследования религии, мифологии, права и морали общества. Лишь на этой основе можно понять человека в обществе. Социология Хобхауза охватывает этические нормы и содержит мысль, что индивидуальные и социальные мотивы представляют собой ключ к гармоничному развитию личности. Этот упор на развитие личности произвел на Гобсона глубокое впечатление 426. Отсюда его положение, что ученый в области общественных наук сам испытывает влияние со стороны условий развития его собственной личности; эту идею Гобсон позже развил в работе «Свободная мысль в общественных науках» 427.
Третьим человеком, оказавшим заметное влияние на мировоззрение Гобсона, был Грэм Уоллас, который занимался в основном психологией политики. Последнего особенно интересовало сложное соотношение рациональных и иррациональных элементов в политических решениях. Уоллас вышел из Фабианского общества, потому что оно отказалось выступить против британского империализма во время войны с бурами. Работая в Лондонской школе экономики, он стремился сохранить широкую перспективу для ученых в области общественных наук, которым угрожала тенденция к узкой специализации. Как у Хобхауза, так и у Уолласа Гобсона привлек именно упор на человеческие ценности 428.
Первая книга, написанная Гобсоном совместно с Маммери,— поистине выдающееся произведение. Вполне возможно, что в лице последнего экономическая наука потеряла светило: Маммери погиб в 1895 г. во время несчастного случая при альпинистском восхождении. Он был старшим из авторов «Физиологии промышленности», и ему, вероятно, принадлежали ключевые идеи 429. Предмет исследования ясно виден из предисловия: «Наша цель состоит в том, чтобы показать, что возможно чрезмерное развитие навыка к сбережению и что такое чрезмерное развитие подрывает богатство общества, лишает трудящихся работы, ведет к понижению заработной платы и распространяет в деловом мире то уныние и отчаяние, которые известны как торговая депрессия; показать, короче, что действенная любовь к деньгам есть корень всех экономических зол» 43°. Сбережение, говорят авторы, увеличивает совокупный капитал, но одновременно оно сокращает количество потребительских товаров, что ведет к избыточному предложению капитальных благ или общему перепроизводству. Конечно, подобные идеи выдвигались и ранее. Сисмонди, Лодердель, Мальтус, Род- бертус и Маркс — все они высказывали мнение, что недостаток покупательной способности у потребителей приводит к тому, что капитализм периодически спотыкается * 431. Но мало у кого эта мысль столь органически вошла в экономическую теорию, как у Гобсона. В этой теории отсутствовал лишь свойственный современным экономистам упор на инвестиции, поскольку у Гобсона имелось невысказанное допущение, отождествлявшее сбережения и инвестиции без обычных лагов. Как заметил позже Кейнс, изложена была лишь половина проблемы 432. Не хватало не только понятия кумулятивного действия, но также идеи о том, что слабая склонность к потреблению может быть основной причиной отставания прироста инвестиций. В остальном теория была очень убедительна.
Производство рассматривается в этой работе как поток, движущийся из одного сектора экономики в другой; через него осуществляют свое действие законы распределения. Этот механизм очень точно уравновешен, поскольку количество капитала, необходимое на каждой стадии, находится в точном и фиксированном соотношении с количеством потребительских товаров: избыток или недостаток способны расстроить всю деловую жизнь 433. Хотя идея «правильного соотношения» время от времени вновь появлялась в сочинениях Гобсона, он уделил ей, к сожалению, мало внимания. Между тем она поразительно схожа с идеями, которые в недавнее время наметились в работах Харрода и Домара 434. Эта концепция далее развита в «Промышленной системе», безусловно, лучшей аналитической работе Гобсона 436. * В отличие от названных авторов Маркс рассматривал противоречие между производством и потреблением как одно из проявлений основного противоречия капитализма — между общественным характером производства и капиталистическим присвоением. — Прим. ред.
122
В ней он утверждает, то если темп поступления сырья в промышленный поток замедляется, то возникает серьезный риск соответствующего сокращения производства и занятости. Падение потребления может тоже затормозить производство; эта мысль напоминает принцип акселерации. Падение розничных цен передается по всей промышленной цепи; падение продаж ведет к уменьшению поступления заказов и сокращению производства 43в. В этих рассуждениях сквозит забота о долговременном приспособлении экономики к постоянно растущему фонду капитала и беспокойство по поводу того факта, что совокупные производственные мощности могут обгонять совокупное потребление. Это означает, что речь идет о динамической экономике, в которой важными элементами являются накопление капитала и рост 437. Хотя понятие мультипликатора не было развито в модели Гобсона, он вполне уяснил себе на основе анализа фондов возмещения и резервов природу того, что теперь называется автономными инвестициями 438.
Все это изложено, быть может, не так уж изящно и таким языком, который не одобрили бы теперешние авторы, но в этих взглядах заключался такой глубокий подход к экономическим проблемам, который во времена Гобсона лишь очень немногие способны были понять. Гобсон даже затрагивал проблему избыточных производственных мощностей, когда он проводил различие между реальным и номинальным капиталом, причем под последним понималось неиспользуемое оборудование. В книге отмечено, что накопление капитала имеет смысл лишь до тех пор, пока оно обеспечивает поток потребительских товаров, которые поглощаются имеющейся в обществе покупательной способностью. Таково ограничение, накладываемое на рост производства. Если увеличивается сбережение, то впоследствии должно возрасти и потребление. Если этого не происходит, то все накопление, следовательно, свелось к созданию номинального капитала, или избыточных мощностей. Такое чрезмерное сбережение может охватить всю экономику. Вывод очевиден: «Только увеличив предварительно спрос на товары, можно увеличить количество реального капитала в обществе» 439.
Этот анализ означает полный разрыв с традиционной теорией, включая закон Сэя 44°. Не удивительно, что Эджворт был крайне раздражен. Сбережение, говорил Гобсон, может рассматриваться как фактор спроса лишь в той мере, в какой оно ведет к новым формам капитала. Это побуждает к анализу межсекторного движения, наподобие кругового потока Шумпетера. Основа теории капитала была заложена; капитальные блага, писал Гобсон, не только специфичны по своей природе, но и постоянны в силу непрерывного возобновления 441. Идея циркулярных потоков использовалась для критики теории фонда заработной платы. Гобсон утверждал, что оплата рабочих отнюдь не авансируется из капитала, а рабочая сила скорее покупается в основном таким же способом, как земля или оборудование. Рабочие, следовательно, оплачиваются за счет совокупного продукта промышленной системы, а не из какого-то особого фонда.
Степень использования средств производства в конечном счете зависит от потребления 442. Совокупный спрос есть совокупный доход, так что падение цен означает уменьшение спроса по отношению к количеству товаров, предлагаемых для продажи, и вероятным исходом является депрессия. Корень зла лежит в осуществлении чрезмерных сбережений 443. Эта мысль Гобсона относится к поведению всего общества, а не к поведению личности. Классики, допуская ошибку перенесения свойств частного на целое, не делали этого важного различия, и у них выходило, что если что-либо хорошо для отдельной личности, то ipso facto это хорошо для общества. Гобсон решительно отверг этот тезис 444. Причиной сбережения, избыточного с точки зрения общества, может быть прогресс техники, который уменьшает массу капитала, необходимого для прежнего объема производства. Оно может быть обусловлено конкуренцией между индивидуумами, поскольку навыки к сбережению укоренились в психологии людей 445.
Гобсон отверг довод, что снижение цен стимулирует реальный спрос. Нет основания ожидать такого воздействия, так как совокупный доход уменьшается при снижении цен. Подобная реакция со стороны спроса, известная под названием эффекта Пигу *, мало относится к экономике, в которой равновесие восстанавливается скорее путем изменений в объеме производства, чем в ценах. Иначе говоря, Гобсон учитывал значительную степень монопольной силы, которую классики игнорировали. Далее, само потребление неэластично, ибо в результате снижения цен лишь понижается расход денег на данный набор товаров и тем самым усиливается склонность к сбережению446. Поэтому падение цен лишь усиливает перенасыщение рынка, а уменьшение сбережений может быть тогда лишь результатом уменьшения национального дохода. Равновесие восстанавливается лишь в процессе экономического * Об эффекте Пигу см. П. Самуэльсон, Экономика, М., 1964, стр. 375—377.—Прим, перев.
123
кровопускания: ликвидация запасов и дезинвестирование сопровождаются большими лишениями для людей. Как ни груб этот анализ, надо помнить, что он был сделан до первой мировой войны, за многие годы до того, как другие экономисты признали его в принципе правильным.
Ссудный процент не оказывает большого влияния на ход событий, утверждал Гобсон, поскольку он не связан со сбережениями. Его воздействие довольно медленно, и оно затрагивает лишь часть предложения капитала 447. Суть дела в том, говорил Гобсон, что процесс сбережения идет в основном автоматически и не связан с уровнем процента. А где такая связь есть, там падение процентных ставок может даже стимулировать сбережение: например, если цель сбережения состоит в обеспечении определенного твердого дохода в будущем. Кроме того, изменения процента рассматриваются у Гобсона скорее как результат, чем как причина экономических действий.
В качестве иллюстрации своей концепции Гобсон дал мастерский анализ влияния франкопрусской войны. Он показал, что рост потребления на военные нужды форсировал сбережение, а послевоенный дефицит капитальных благ обеспечил спрос, необходимый для расширения производства. Это не значит, что Маммери и Гобсон одобряли войну как путь к процветанию; но в век ракетной техники любопытно отметить, что они думали по этому вопросу: «...когда имеется тенденция к излишнему умножению форм капитала благодаря чрезмерному желанию сберегать... война выполняет полезную функцию для экономики, давая временное занятие некоторым формам капитала, которые в противном случае оказались бы бесполезными и излишними» 448.
Как уже говорилось, эта ранняя формулировка теории недопотребления страдает очевидными недостатками. В ней не уделяется внимания воздействию, которое могут оказать на инвестиционный процесс изменения процентных ставок. Необоснованным выглядит также предположение о том, что сбережения почти немедленно претворяются в капитальные блага. В этом анализе нет места расчетам на будущее. В «Физиологии промышленности» нет упоминания о несправедливости в распределении дохода, тогда как позже это стало существенным элементом в системе взглядов Гобсона. Проблема распределения дохода вошла важной частью в его концепцию экономического излишка; впервые она намечена в работе «Проблема безработицы» 449, а позже более полно развита в «Промышленной системе». В последней Гобсон добавил понятие отставания заработной платы, что объясняет рост доли дохода, которая идет капиталисту. Это отставание все более затрудняет для рабочих покупку такого количества товаров, какое необходимо для поддержания экономики в равновесии. Склонность к потреблению (если использовать термин Кейнса) должна понижаться: покупатели рабочей силы обладают большей рыночной силой и имеют возможность снижать цену труда до самого низкого уровня в шкале заработной платы, применимой к каждой категории рабочей силы 45°.
Гобсон использовал также тезис о недопотреблении для объяснения империалистической политики, проводимой современными национальными государствами. Идея, что избыток товаров вызывает экспансию капитализма за пределы метрополий, выдвигалась также марксистами. По существу, Ленин приспособил доводы Гобсона для своих собственных задач, лишь слегка изменив их 451 *. Однако «Империализм» Гобсона остается классическим произведением по этому вопросу 452. В нем он осуждает капиталистическую экспансию за национальные границы как извращение духа национализма. Колониализм, говорил он,— совсем другое дело: здесь по крайней мере действительная миграция в незаселенные районы сопровождается трансплантацией сложной культуры 453. Это в лучшем смысле слова естественный перелив нации за пределы своих границ. Но при империализме метрополии создают островки поселенцев, занимающих положение правящих групп среди народов с совершенно отличными культурой и обычаями. В последние десятилетия XIX в. развивалась, особенно в Азии и Африке, именно экспансия такого рода — хищническая форма экспансии, при которой экономически мощные группы метрополии объединяются с привилегированной частью местного населения в целях извлечения дополнительных прибылей. В борьбе за сферы влияния используются гонка вооружений и военные угрозы. Далее, сама агрессивность империализма порождает среди угнетенных народов дух национализма.
Этот тезис Гобсон развивал в нескольких других книгах, особенно в работах «Международная торговля: приложение экономической теории» и «Экономическая интерпретация инвестиций» 454. Однако основные аргументы изло* Критику империализма, содержащуюся в книге Гобсона, В. И. Ленин высоко оценил; вместе с тем он указывал, что Гобсон не вышел за пределы буржуазного либерализма. Великое научное открытие Ленина состоит в том, что он впервые выяснил сущность империализма как монополистического капитализма, а также высшей и последней стадии капитализма. Ленинская теория империализма явилась экономическим обоснованием социалистической революции. —Прим. ред.
124
жены в более ранней работе. Суть позиции Гобсона заключается в том, что избыток товаров на внутреннем рынке создает стимул к внешней экспансии 455. Все дело в недопотреблении внутри страны. Оно требует «...поиска заграничных рынков и сфер для прибыльного инвестирования капитала» 456. Отсталые районы важны также как источники сырья и продовольствия, которые оплачиваются за счет экспорта готовых изделий или доходов от заграничных инвестиций. Но главным побудительным мотивом является постоянная тенденция к внутреннему перепроизводству, которое заставляет искать новые рынки. Самое это явление, говорил Гобсон, обусловлено несправедливым распределением дохода, при котором рабочий класс получает недостаточную долю. В этой обстановке возникли тарифные барьеры, системы квот, субсидий и прочих средств ограничения торговли; все они направлены на то, чтобы обеспечить метрополии закрытый колониальный рынок.
Гобсон был поистине силен в своей критике. Он говорил, что выгоды из этой сомнительной политики извлекают лишь некоторые группы капиталистов, особенно те, кто производит орудия войны. Но строй политической демократии, утверждал он «...при котором превыше всего стоят интересы и воля народа, будет активно противодействовать всей системе империализма. Демократические силы еще не усвоили ту истину, что для функционирования этого строя необходимо значительное экономическое равенство в доходах и владении собственностью» 457. Следовательно, существует постоянная угроза, что капиталисты будут стремиться воспрепятствовать развитию демократии, чтобы защитить свои интересы. В обстановке 30-х годов это утверждение, взятое из предисловия Гобсона к новому изданию «Империализма», звучало отнюдь не дико. Мнение, что капитализм стремится к укреплению своих позиций прежде всего на путях больших военных расходов, представляется вполне обоснованным; уже это важно, если даже признать, что остальная часть аргументации устарела 458.
Английский социалист Джон Стрэчи недавно утверждал, что Гобсон и особенно Ленин недооценили способность современного капитализма использовать излишние ресурсы для экономического роста самих метрополий * 459. Если уровень жизни их населения повышается и внутренний рынок расширяется, то, очевидно, нет никаких причин, почему бы инвестиции * Критика взглядов Стрэчи по этому вопросу содержится в книге «Распад Британской империи», М., «Наука», 1964.— Прим. ред.
не могли направляться на благо собственного народа. Следовательно, говорит Стрэчи, империализм можно рассматривать как преходящую историческую фазу развития капитализма, когда сочетание избытка товаров и капиталов, несправедливое распределение доходов в метрополиях и большой объем заграничных инвестиций заставляли считать неизбежными внешнеполитические авантюры. Но теперь, говорит Стрэчи, хватка империалистов ослабевает. Почему? Причины этого он видит в росте национализма в зависимых странах и в их стремлении к самостоятельному развитию, а также в том очевидном факте, что империалистическая политика вытесняется более прибыльными и безопасными способами ведения дел в самих метрополиях. Следовательно, эти новейшие явления требуют пересмотра взглядов, высказанных в свое время Гобсоном.
Надо сказать, что, несмотря на многие пробелы и изменение ракурсов, Гобсонова теория недопотребления отличается значительной последовательностью. Как признает Пол Хоман, она весьма логична. Но Гобсон стремился сделать нечто большее, чем создать теорию: он был реформатором-практиком, который хотел раскрыть причины неравенства и эксплуатации, а затем разработать программу реформ. Он был твердо убежден, что существующая экономическая система не привела к всеобщему благосостоянию и что коренную причину этого надо искать в сфере распределения дохода. Первая попытка разработать эту проблему содержится в «Экономике распределения» (1900), но эта книга ничем не примечательна, так как Гобсон стоял в ней на традиционных позициях и исходил в основном из теории Маршалла. Гораздо глубже его работа «Промышленная система» (1910). Основной тезис Гобсон выдвигает уже в самом ее начале. Он отвергает утверждение классиков о том, что весь продукт автоматически поглощается оплатой факторов производства. Довод о том, что распределение происходит на основе минимальной оплаты, потребной для вовлечения необходимых количеств капитала и труда (причем остаток идет на оплату ренты), он считал уходом от проблемы.
В основе подхода самого Гобсона лежит различение издержек и излишка (surplus). Издержки — это выплаты, необходимые для создания и поддержания существующих производственных возможностей, а также для «постоянной гармонии между капиталом, трудом и талантом». Если производится продукт сверх этих издержек, то излишек распределяется между факторами производства в соответствии с рыночной силой каждого фактора, или, как 125
говорил Гобсон, в соответствии с экономическим преимуществом (pull), которым он способен воспользоваться 46°. При монополии возможно присвоение всего излишка одним фактором производства. Когда излишек делится на несколько частей в соответствии с относительной рыночной силой, никакого остатка не образуется. Часть экономического излишка используется для развития хозяйства, то есть для расширения и улучшения капитала и повышения квалификации рабочих. Эту часть Гобсон называл «производительным излишком». При его использовании нет расточения общественного продукта. Но излишек, остающийся после удовлетворения этих двух потребностей, является «непроизводительным». В последнюю категорию входит вся рента, а также излишний доход от процента, прибыли и заработной платы. Непроизводительный излишек, говорил Гобсон, поглощает часть общественного фонда, которая могла бы быть использована на общественно полезные цели. И в той мере, в какой он представляет собой незаработанный доход (unearned income), это подлинно разумная основа налогового обложения для развития сферы общественных услуг.
Хотя этим категориям не хватает количественной определенности, они лежат в основе всего учения Гобсона. Начинает он с анализа сложной структуры хозяйства и показывает, как отрасли соединяются в полностью взаимозависимую систему. Поток товаров от стадии сырья к стадии готовых изделий опосредствуется денежным потоком, идущим в обратном направлении. На каждом этапе этого процесса происходит распределение доходов между его участниками. В центре находится капиталист, который организует производство и сбыт продукции и производит оплату остальных факторов, участвующих в процессе 461. Потоки товаров и денег идут как в горизонтальном, так и вертикальном направлении; например, сталелитейная промышленность работает на многие другие отрасли и в то же время использует продукцию и услуги ряда отраслей. Для современного читателя, знакомого с леонтьевской таблицей затраты — выпуск, ощутимо разительное сходство ее с построениями Гобсона 462. В систему поступают как конкурирующие, так и взаимодополняемые товары, и в ней действует принцип взаимозаменяемости товаров 463. «Атмосфера современной промышленности непрерывно вибрирует от волн, которые идут непосредственно от одной отрасли к другой весьма отдаленной отрасли или распространяются от какого-то центра по всей промышленно-торговой сфере, постепенно ослабевая и в конечном счете исчезая» 464.
В статическом состоянии потоки шли бы автоматически и в сбережениях не было бы необходимости 465. Но в действительности экономика динамична, так как необходимо обеспечивать ее расширение и рост. Здесь-то и вступают в действие сбережения и излишек. Гобсон снова отождествляет сбережения и инвестиции, считая, что они осуществляются одновременно, а источником тех и других является экономический излишек. Доходы в виде процента, прибыли и заработной платы включают необходимые выплаты на поддержание факторов производства, «производительный» излишек, идущий на расширение и совершенствование производства, а также «непроизводительный» излишек 466. Обычный способ измерения долей, приходящихся при распределении на каждый фактор производства, неудовлетворителен, говорил Гобсон, так как при этом не принимается во внимание тот факт, что капиталисты стремятся получать «единицы производительной силы» 467. Они покупают землю и оборудование не как таковые, а ради их способности производить. Конечно, это в высшей степени абстрактное понятие, в некоторых отношениях схожее с понятием, которое употребляет Фрэнк Найт, но Гобсону представлялось, что общее свойство производительной способности оправдывает использование такого «метода единиц» (unitary method), на основе которого можно более удовлетворительно объяснить дифференциальную ренту и процент. С его помощью можно показать, писал Гобсон, почему один вид земли или труда следует предпочесть другому. Гобсон считал, что понятие минимальной заработной платы (subsistence wage) все же существует 468; это тот уровень, который необходим для сохранения работоспособности рабочего и содержания его семьи. Конечно, этот уровень меняется с изменением общественных условий. Но растущая экономика должна давать рабочему нечто большее 469. Надлежащая заработная плата должна поэтому включать по крайней мере два элемента: часть, гарантирующую существование и сохранение рабочей силы, и часть, которую Гобсон называл заработной платой «прогрессирующей производительности» (wage of «progressive efficiency») и которая должна обеспечивать рост предложения на рынке более производительной рабочей силы. Подобный анализ он применил и к капиталу: его доля тоже состоит по меньшей мере из двух частей.
Хотя этот анализ отчасти напоминает классическую концепцию дифференциальной ренты, у Гобсона он приобрел совершенно иные черты 47°. Если рассматривать группу рабочих, то наименее производительный рабочий в каждой категории должен получать минимальную 126
заработную плату; но, по Гобсону, этим отнюдь не определяется уровень заработной платы всей группы. Хотя слабость рыночных позиций рабочих иногда может довести заработную плату до уровня, достаточного для удовлетворения лишь минимальных потребностей, остается тот факт, что часто наниматели вынуждены вследствие различий в производительности покупать рабочую силу «оптом» по более высокой цене. Источником таких выплат является, разумеется, производительный излишек. Для ренты возникают другие осложнения, поскольку доходы от мелиорации представляют форму дохода на капитал. Но вопреки классическим представлениям у Гобсона и предельные * участки земли приносят ренту в силу ограниченности общих ее ресурсов 471. Наихудшие из обрабатываемых участков не определяют размеры ренты, потому что она представляет собой просто плату за использование известных производительных сил 472. Это — единственная особенность ренты, аналогичная оплате других факторов производства. В сущности, говорил Гобсон, предел использования данного фактора определяется ценой единицы производительной силы, так что движение этой цены влияет на то, до какого предела фактор вовлекается в производство. Таким образом, Гобсон перевернул классическую доктрину вверх ногами, объявив, что не предельные единицы фактора определяют его цену, а наоборот.
Характеризуя природу производительности, Гобсон утверждал, что нельзя разделять участвующие в производстве факторы; все они необходимы для производства товаров, и ни одному из факторов нельзя приписывать специфической производительности. Следовательно, он отверг теорию предельной производительности. Более важным для него было понятие средней производительности группы единиц данного фактора.
«При определении заработной платы бесполезен тот метод, при котором добавляются порции труда и отмечается прирост совокупного продукта. Так называемая предельная порция с ее особым продуктом имеет смысл лишь в том случае, если рассматривать ее как среднюю порцию, прилагаемую на полностью оборудованной ферме, фабрике, в магазине или другом предприятии: никакая особая доза не производит свой особый продукт, и, чтобы увязать ее с какой-то частью продукта, надо разделить последний поровну между факторами, то есть так, словно он представляет собой итог простого сложения индивидуальной производительности каждого фактора, а не результат их совместной
* То есть наихудшие.— Прим, перев. производительности» 473. Гораздо важнее сред- няя производительность, которая зависит от эффективности соответствующей группы единиц фактора и должна быть в одинаковой пропорции отнесена к каждой единице. В применении к рабочей силе такой метод позволяет установить максимальную оплату, а альтернативные возможности получения работы — минимальную плату.
Гобсон пошел дальше и атаковал сами исходные позиции предельной полезности — ее допущения о мобильности капитала и труда, полном знании рынка и так далее. Применительно к обществу, где господствует несовершенная конкуренция, говорил он, маржинализм представляет собой ложную теорию. Цены меняются в результате изменений средних издержек на весь комплекс факторов. Именно средние издержки определяют цены предложения 474. Гобсон продолжил критику маржиналистских концепций в книге «Свободная мысль в общественных науках» 475. Метод «порций», писал он, исходит из того, что предельные порции капитала вообще не приносят прибыли и что, следовательно, прибыль не оказывает влияния на цену. Такая ошибка, говорил Гобсон, проистекает из того, что без всякого основания один фактор рассматривается как постоянный, а остальные — как переменные; это означает ошибочное толкование закона убывающей доходности *. Последний просто устанавливает соотношение между факторами, технологически оправданное с точки зрения максимальной эффективности и производительности. Если удалить из производственного процесса одну единицу данного фактора, это ничего не скажет нам о ее производительности, поскольку производительность есть результат работы всей группы. Так и представляешь себе, что Гобсон задает вопрос: а что случится, если убрать основного рабочего с современного заводского конвейера? Ясно, работа конвейера приостановится, а следовательно, производство основано на совместных усилиях группы.
Маржинализм исходит из изолированной трактовки затрат отдельных факторов, игнорирующей целостный характер современного производства. Гобсон резко отверг как «грандиозное надувательство» тезис маржиналистов о том, что изменения в экономике надо рассматривать как бесконечно малые и непрерывные 476. В действительности экономика состоит скорее из дискретных производственных единиц; этот аргумент довольно трудно опровергнуть. Далее,
* Толкование закона убывающей доходности и затрат факторов производства дается в книге: П. Самуэльсон, Экономика. Вводный курс, М., 1964,
стр. 41—43.— Прим, перев.
127
говорил Гобсон, изменения рыночных цен отражаются на спросе лишь тогда, когда они достигают «существенных размеров», поскольку для потребления в общем характерны инерция и медленные изменения. Настаивая на плавных изменениях, экономисты попросту обнаруживают свои недостаточные познания в области навыков потребителей. Изменения происходят вовсе не в предельных элементах, а в самом центре сфер производства и потребления и затрагивают эти сферы целиком 477. Возможно, маржинализм и полезен в какой-то мере для анализа проблем аграрного общества, и действительно, из такого анализа проистекают многие из его идей. Но для понимания промышленной системы, заявил Гобсон, он едва ли может дать что-нибудь полезное.
От чего же в таком случае зависят доли продукта, достающиеся факторам производства? В основном — от процесса рыночного торга в пределах, которые ставят, с одной стороны, минимальный размер выплат, а с другой — весь объем доходов. Прибыль предпринимателя определяется в ходе заключения сделок с другими факторами, а также под влиянием конкуренции с другими предпринимателями. Подлинная сила предпринимателя связана с тем, что Гобсон называл «сферой прогрессирующей промышленности» («area of progressive industry»), то есть с его способностью изыскивать новые рынки, производить новые товары и открывать новые способы изготовления товаров 478. Иными словами, такой предприниматель Гобсона — это Новатор Шумпетера, фигура, которой Гобсон приписывал важные социальные функции. Но большое разнообразие и бюрократизация предпринимательских функций требуют, чтобы прибыль включала выплаты финансистам, отчисления держателям патентов, оклады служащих и дивиденды акционеров. Поэтому из совокупного дохода общества должна извлекаться более высокая прибыль, намного превышающая производственные затраты.
Это представляет собой рыночную (bargaining) теорию распределения, в которой доля каждого определяется его силой экономического «притяжения» (pull). Гобсон отметил, что значительная часть излишнего продукта общества (surplus product) * уходит на ненужные переплаты, что затрудняет рост эффективности производства и общественный прогресс. Подобно ♦ «Surplus product» означает в марксистской политической экономии «прибавочный продукт». Однако Гобсон и Селигмен вкладывают в этот термин иной смысл. Несомненно, однако, что Марксова теория прибавочной стоимости оказала на Гобсона какое-то влияние, и близость терминологии здесь не совсем случайна.— Прим, перев.
Веблену, он думал, что собственники извлекают необоснованно высокий доход и поэтому могут предаваться бесполезным занятиям вроде спорта и праздности 479. Этот непроизводительный излишек и способ его присвоения имеют тенденцию нарушать необходимое равновесие между расходами и сбережением и в конечном счете порождают депрессии. Сбережения из непроизводительного излишка редко используются для удовлетворения основных потребностей людей; а для указанных целей они используются лишь в той мере, утверждал Гобсон, в какой богатые не могут потребить столько, сколько намереваются. Самый верный способ стимулировать промышленное развитие заключается в изменении распределения дохода 48°. Попросту говоря, в основе как неравенства, так и экономических циклов лежит система распределения, порождаемая современной промышленной системой. Никакие средства не будут эффективны, если сначала не будет устранена тенденция производства опережать потребление. Общественный излишек должен быть превращен в потребительский доход либо путем повышения заработной платы, либо путем изъятия его государством с целью повышения уровня общественных услуг481.
Несмотря на проповеднический тон и оттенок догматизма, которые часто встречаются в работах Гобсона, последние содержат, несомненно, и позитивные элементы. Идея, что между расходами и сбережением должна поддерживаться строгая пропорция, предвосхищает некоторые современные теории роста; хотя она не была сформулирована достаточно определенно, эта мысль близка к истине. Гобсон подчеркивал необходимость пропорциональности между расходами и сбережением, а не настаивал на каких-либо абсолютных размерах, и в этом он тоже приближался к идее функции. Можно привести немало примеров того, как Гобсон с редкой для его времени проницательностью подходил к проблемам экономической динамики капитализма. Как и Веблен, он был наделен даром предвидения, и их мысли заслуживали гораздо большего внимания, чем им вначале уделялось.
Очевидно, что Гобсон не верил в «вечные» истины экономической науки. Он отлично знал, что экономическая теория, даже в ее самой нейтральной форме, исполнена пристрастности и апологетики. Официальная доктрина казалась ему набором слабо связанных между собой идей и пристрастных мнений, взывающих к распространенным предрассудкам. Согласно Гобсону, ее выводы зыбки и на них влияют представления самого наблюдателя 482. Если в ней и можно обнаружить какую-то логику, 128
говорил он, то хорошо известно, насколько эта последняя подвержена ложным методам мышления и вторжению мотивов, имеющих мало общего с целями науки. Экономисты и другие представители общественных наук, к сожалению, склонны давать ложное направление интеллектуальным процессам, прикрывая глубокомысленной фразеологией свои подчас неосознанные личные интересы и стремясь навязать общественности удобную им науку.
Экономическая теория и практика редко подвергались столь резкой критике. Но если принять во внимание то, что происходило в экономической науке, многие из обвинений Гобсона были обоснованы. Собственность была настолько освящена законом и моралью, что требования обложить ее налогом считались в высшей степени злонамеренными. Ученые защищали существующие институты и стремились прежде всего сохранить хорошую репутацию в глазах представителей делового мира483. Гобсон признавал, что такой образ мыслей встречался во всех ученых кругах: у реформ были свои защитники, часто выступавшие столь же рьяно, как и консерваторы. Вторжение идеологии в экономику неизбежно, говорил Гобсон, и ярко иллюстрировал это положение путем проницательного анализа классической школы 484. Сторонники классической школы утверждали, что их теория научна. Это неверно, заявлял Гобсон, ибо политическая экономия,— если она вообще что-то представляет собой,— это искусство направлять материальные интересы людей к достижению максимального благосостояния. Экономическое богатство надо рассматривать в категориях «человеческой полезности» («vital utility»), а это обрекает на крах веру в точное измерение. Само понятие точности представляет собой идеологическое оружие классической школы, представители которой, развивая свою «науку», просто давали в распоряжение капиталистов внешне авторитетную доктрину, которая оправдывала бы действия последних 485. Кривые предложения и спроса, идентичные единицы капитала и труда, бесконечно малые приращения, требующие приспособления в предельных элементах,— все это тоже несет определенную идеологическую нагрузку, потому что присущий этой теории «...внутренний консерватизм позволяет приспособить ее не только для робких академических умов, но и для собственнических классов в целом...» 486 Логическая система, построенная на том, что все совершается по воле провидения, дает удобные теоретические рамки для финансовой и промышленной политики. А точность «фелицифи- ческого исчисления» («felicific calculus») * служит оправданием дешевизны труда и капитала и эксплуатации других стран. Когда читаешь высказывания Гобсона по этим вопросам, то вспоминаешь стиль библейских пороков: «Теория, согласно которой капитал приводит в движение производство и содержит рабочих, была интеллектуальной средой, питавшей самолюбование новых промышленных магнатов. Вместе со своими суровыми пуританскими традициями они усвоили веру в возможность примирения — нет, партнерства — Бога и Маммоны, веру, в которой британский капитализм почерпнул столько духовной энергии для успешного делания денег» 487.
В то время как политическая экономия много говорит о производстве, по проблемам распределения и потребления она может предложить мало такого, что имело бы смысл с точки зрения интересов человека. В этом главное обвинение, выдвинутое Гобсоном против традиционной доктрины. По Гобсону, она не смогла найти метода, который позволил бы дать с указанной точки зрения выражение конкретным товарам и экономическим процессам. Он признавал, что сравнение удовлетворения, получаемого разными людьми, невозможно, но тем не менее считал важным сравнивать полезность товаров с тягостью (disutilities) их изготовления. Неспособность производить такое сравнение объясняет, говорил Гобсон, почему экономисты избегают в своих расчетах вопросов здравоохранения, образования, искусства и развлечений. Его упорная и язвительная критика сыграла немалую роль в том, что позже этим областям стало уделяться больше внимания.
Исследование этих проблем требует, чтобы человеческие издержки (human cost) измерялись качеством и характером трудовых усилий, способностями лиц, делающих эти усилия, и с точки зрения распределения труда в обществе. С другой стороны, полезность должна измеряться качеством и характером удовлетворения, способностью потребителя испытывать это удовлетворение и распределением полезности среди людей. Производительный труд, следовательно, подлежит определенной градации. Согласно Гобсону, высшую форму трудовых усилий представляет творческая деятельность художника, который делает работу ради нее самой и не несет поэтому никаких человеческих издержек. Труд обогащает, а не * То есть мысленного сравнения возможных потерь и выгод, страдания и наслаждения от каждого поступка. Так объясняет поведение людей философия утилитаризма и тесно с ней связанная буржуазная политическая экономия XIX в., которая здесь называется «классической».— Прим, перев.
9 Б. Селигмен
129
обедняет его жизнь. На следующей ступеньке лестницы, которая изображает виды деятельности, создающей полезности, находится труд ученого и изобретателя, дающий высокую человеческую полезность, почти на уровне художественного творчества. Необходимыми условиями для этих занятий являются образование и досуг. Немного ниже расположен квалифицированный умственный труд инженеров, руководителей производства и т. п. Предполагается, что эта работа тоже приносит удовольствие, и это обеспечивает ее высокую чистую человеческую полезность (net human utility). У руководителей предприятий, однако, уже появляются несколько более высокие издержки * за счет однообразной работы и непомерной роли погони за прибылью в их деятельности. Но все эти виды труда высоко оплачиваются потому, что в общем они дают высокую полезность, говорил Гобсон. Но если взять наемных рабочих, то в их труде все эти качества отсутствуют. Высокие человеческие издержки проявляются в однообразии и непривлекательности труда, физическом и нервном напряжении и подверженности производственным травмам и профессиональным заболеваниям. К этому надо еще добавить ложащееся на общество бремя детского и женского труда 488.
Как можно уменьшить это бремя, спрашивал Гобсон? Ответ заключается в развитии личности людей как потребителей и в открытии для рабочего возможности проявить себя в труде, производящем блага. Гораздо большая доля спроса должна быть направлена в сферу интеллектуальных и эстетических ценностей и личных услуг. Люди должны научиться лучше понимать истинные ценности и смысл труда и на этой основе развивать в себе понимание той пользы, которую человек приносит обществу, что поможет облегчить бремя утомления и скуки, налагаемое на человека современным индустриализмом. Издержки несут и те, кто предоставляет капитал: они сберегают и принимают на себя риск; но издержки, связанные со сбережением, мало что значат, если речь идет о богатых. Человеческие издержки возрастают по мере того, как мы переходим к группам с более низкими доходами. Доход от процентов едва ли компенсирует человеческие издержки, порождаемые снижением потребления предметов первой необходимости. Когда Гобсон переходит к человеческим издержкам, связанным с характером потребления, его стиль становится достойным Веблена. Умение разумно потреблять не развивается, а навыки потребителей определяются существующим способом производства и распределения. Производители, стремясь контролировать способы, какими потребители используют их товары, нередко навязывают вредные, а не полезные товары 489 *. Фальсифицированные товары и трущобы становятся источником прибыли. Потребление диктуется подражанием и модой. Характер потребления определяется не рациональностью, а престижем, традицией и мнимыми нормами респектабельности 49°. Занятиям праздного класса придается первостепенное значение. Фатовство и дилетантство становятся «...характерными продуктами порочного распределения, при котором излишек дохода, являющийся экономической пищей для социального прогресса, обращается на создание условий для пустых развлечений запутавшегося в жизни праздного класса. Эти люди своим нездоровым примером подрывают нравственные устои трудящихся слоев общества, в котором они господствуют» 491. В итоге в общественном производстве увеличивается доля бесполезных товаров, а для общества в целом теряется полезность. Это явно означает неправильное применение производительной энергии, а в конечном счете потерю реального дохода для общества.
Таким образом, Гобсон стремился к созданию гуманистической политической экономии. Он говорил, что справедлива та экономическая система, в которой продукты воплощают самые низкие совокупные издержки и наивысшую совокупную полезность. Такая система обеспечила бы всем участникам равную выгоду от рыночных сделок. Но это невозможно при чистом капитализме, потому что на рынке силы торгующихся сторон неравны. Он не был против планирования, но, несмотря на резкую критику в адрес коллег экономистов, он был в политике достаточно умеренным человеком, чтобы признавать личность тем мерилом, с помощью которого надо судить обо всех действиях.
Так Гобсон представлял себе основы экономического благосостояния. Но у него нелегко найти четкое определение благосостояния. Он часто характеризовал его как условия, обеспечивающие самое полное выражение созидательных склонностей человека. Но это понятие слишком зыбко для академической науки. Иногда он говорил так: благосостояние — это коллективные усилия, направленные на максимальное удовлетворение и исполнение желаний при данной экономической системе. Но * В субъективно психологическом смысле.— Прим. * В подлиннике непереводимая игра слов: articles
перев. of «illth» rather than wealth.—» Прим, перев.
130
на пути этого стремления, говорил он, очень часто стоят высокая смертность и болезни, плохая постановка образования, чрезмерно длинный рабочий день, дрянные товары и неинтересная, скучная работа, которая подавляет у человека врожденное чувство мастерства и изящества 492.
Главные идеи Гобсона по поводу благосостояния изложены в книгах «Труд и богатство» и «Экономика и этика» 493. В этих книгах он заявляет, что в оценке системы производства должны найти ясное выражение издержки и полезность, понимаемые в смысле человеческих усилий и удовлетворения. Он говорит о некоем «органическом благосостоянии», признавая, что в сущности это просто синоним хорошей жизни. При этом, естественно, в сферу экономической науки Гобсон вводит этические элементы; Гобсон полагал, что они способствуют исследованию. Здесь ему пригодилось даже понятие экономического излишка, так как благосостояние можно создавать лишь после того, как четко определен общественный излишек, необходимый для поддержания и обогащения общества 494. Следовательно, благосостояние предполагает упорядоченную систему ценностей, которую следует искать не в высших сферах философии, а скорее в инстинктах и будничных интересах людей. Вытекающие из этих ценностей критерии должны определяться с точки зрения индивидуального и общественного здоровья. Это предполагает гармоничное сочетание взаимосвязанных видов физической и умственной деятельности 495.
Хотя человеческие ценности и благосостояние личности не могут рассматриваться вне социальной среды, необходимо, говорил Гобсон, чтобы эти ценности основывались на принципе добровольного участия, гарантирующего самый широкий простор для раскрытия личных способностей. Общество, подчеркивал он, не должно вторгаться в те сферы, в которых возможно полное самостоятельное развитие личности. Такая сдержанность необходима, чтобы поощрить дух исследования, критики и реформ 496. Все это может показаться экономисту сферой, относящейся скорее к социологии или философии. Но в этом случае экономист отказывается признать, что положения, с которыми он имеет дело, даже если это констатация фактов, отражают определенную философскую систему. Гобсон просто более открыто признавал, что его экономические идеи покоятся на социологическом фундаменте.
Все это привело Гобсона к признанию острой необходимости реформ в обществе. Но прежде чем взяться за реформы, надо постичь внутренний механизм промышленного общества. Кроме того, «...для любых схем перестройки общества необходима замена мотива частной прибыли прямым общественным контролем хода процессов производства... Существующая структура хозяйственной жизни опирается на противоречивые и обособленные интересы, что препятствует проявлению ее социального смысла» 497. Поэтому он считал необходимым установление общественного контроля над бизнесом. Надо открыть простор художественному творчеству, ввести законы о минимуме заработной платы, установить высокие налоги на прибыли, поощрять развитие экономики, характеризующейся высоким уровнем заработной платы, жестко контролировать — а может быть, и обобществить — монополии. Короче говоря, хорошей жизни можно добиться только при посредстве государства благосостояния. Не удивительно, что Гобсон стал идейным крестным отцом английской лейбористской партии. Многое в ее программе явно вдохновлено его многочисленными сочинениями. Но прежде всего важно то, что он вскрыл два главных порока традиционной экономической теории: нежелание признать, что благосостояние есть нечто органически целое, а не простое добавление удовлетворения в предельных элементах, и неспособность объяснить периодический недостаток покупательной способности. Уже благодаря этим идеям работу Гобсона можно расценить как один из самых важных вкладов в экономическую мысль XX в. 498.
6. ЭЙРС, ХОКСИ, СЕЛИГ ПЕРЛМЕН И ГАРДИНЕР МИНЗ
Необходимость более широкой перспективы в экономической науке оставалась лейтмотивом американских институционалистов. Опять-таки эта идея развивалась в основном под влиянием Джона Дьюи. Философия инструментализма оказала воздействие на многих экономистов, но никто не применял ее так последовательно и искусно, как Кларенс Э. Эйрс, который успешно слил идеи Веблена и Дьюи в единую теорию, представляющую большой интерес. Эйрс отверг биологию в качестве основы для понимания человеческого поведения, утверждая, что образ действий человека может быть объяснен лишь исходя из культуры, в условиях которой он живет. Подобно антропологам, он интересовался, например, тем, какое влия9* 131
ние на экономическое поведение могут иметь такие общественные явления, как табу. Науку как таковую он не рассматривал в качестве решающего фактора, потому что, по его мнению, важнейшим фактором, определяющим поведение людей и общественную структуру, является материальная техника производства. В этом отношении Эйрс находился в конфликте с теми учеными, которые пытались представить себя судьями цивилизации в последней инстанции. Эти взгляды, развитые Эйрсом в 20-х годах, легли в основу его «Теории экономического прогресса» 4". В этой книге он утверждал, что любая перестройка экономической теории должна начаться с разрушения фасада здания ортодоксальной теории цен и ценообразования. Когда Адам Смит писал свою великую книгу, рынок был подлинной реальностью, и проблемы цен имели значение, которое невозможно отрицать. Но с 1776 г. мир сильно изменился. Заботы торговца о цене теперь в значительной мере уступили место другим проблемам — индустриализму, орудиям и технологии производства, что требует свежего подхода к вечным проблемам общественных наук. Теория цен и ценообразования не пригодна для серьезного анализа зол современного общества, а неумеренное увлечение математическими тонкостями мало что может дать для понимания природы капиталистического предпринимательства. Превратившись в науку о ценах, экономика отбросила в сторону всю проблему ценности (value).
Но экономист, говорил Эйрс, как исследователь общества, не может уйти от свойственного человеку интереса к ценностям и тем самым от этических проблем 500. Человек обеспечивает себе средства существования, не подражая действиям биржевого маклера, а управляя орудиями и машинами, используя свои знания и навыки. К сожалению, говорил Эйрс, использование современной сложной техники затрудняется различными ограничениями и принуждениями, которые проистекают из множества тяготеющих над человечеством условностей. Обычай и закон временно скрывают то, что прогресс тормозится этими условностями, но рано или поздно ограничения должны вызвать социальные и политические взрывы. По Эйрсу, история человечества представляет собой историю конфликта между техникой и социальными условностями. Хотя это слегка напоминает Марксову дихотомию *, Эйрс был прежде всего эволюционистом по своему мировоззрению и инструменталистом в философии. Он не испытывал нужды в мистической диалектике 501.
* См. примечания на стр. 64 и 70.
Пример Роберта Ф. Хокси показывает, какое печальное раздвоение личности может возникнуть, когда экономист, воспитанный в традиционном духе, серьезно усваивает кредо институционализма. Близкий друг Веблена, Хокси пытался применить институционализм как теорию к экономике труда, в которую он ввел понятие психологических типов. Будучи студентом Корнельского и Чикагского университетов, он сначала испытал влияние Лафлина и Феттера, но решающим фактором в формировании его мышления стали труды Веблена. Некоторое время Хокси преподавал в университетах Среднего Запада, в 1903 г. он вернулся в Корнельский университет, а в 1906 г. переехал в Чикаго, где читал лекции о тред-юнионизме и социализме. В это время Веблен внушил ему интерес к исследованию окружающей человека среды, которая формирует условия жизни человека. В отличие от Веблена он стремился быть хорошим преподавателем, что подчеркивается в его посмертно изданной книге «Профессиональные союзы в Соединенных Штатах» б02. Его всегда волновала проблема связи между психологией и тред-юнионизмом; в нем было нечто от христианского социализма: в его работах ощущается сильный моральный элемент. Хокси инстинктивно отвергал идею неизбежного конфликта, пронизывающую систему Веблена. В отличие от Веблена он не считал также, что машинное производство неизбежно окажет гибельное воздействие на общество.
Но Хокси соглашался с тем, что предсказать ход экономического развития весьма трудно. В области, которая его особенно увлекала — тред-юнионизме,— противоречивые цели и переплетающиеся интересы исключают возможность предвидения будущих форм развития. Он сожалел об отсутствии демократии в профсоюзах и о характерных для их лидеров консервативных взглядах. Упор на «материальные блага» превратил профсоюзы в орудия оппортунизма. Хокси явно симпатизировал тем профсоюзным деятелям, которым не чужды и идеальные мотивы. В этом отношении он расходился во взглядах с Коммонсом и Перлменом, которые в своих теориях подчеркивали чисто материальные интересы. Анализ профсоюзов у Хокси базируется на различении этих полярных типов. Он дал новую классификацию профсоюзов по профессиям и функциональным формам и в конце концов получил сложную таксономию. Но из этого он вывел и теорию: союзы, говорил Хокси, представляют собой проявление личных реакций на внешние рыночные факторы, а не выражение стремления к контролю над средствами производства, как у Маркса. При данных условиях рынка, говорил он, характер 132
деятельности профсоюза более всего зависит от вовлеченных в него лиц. Чтобы объяснить типы союзов, надо прежде всего рассмотреть индивидуальные особенности тех, кто их организовал.
В последней главе книги «Профессиональные союзы в Соединенных Штатах» обнаруживается разрыв Хокси с идеями Веблена, а его давний интерес к этическим проблемам выступает на передний план. Он отвергал характерный для Веблена упор на экономические мотивы и говорил вместо этого о влиянии на человека всей совокупности социальных факторов, которые делают его более способным постепенно менять социальные условия, чем это считал возможным Веблен. Хокси «прогрессивный подъем» казался вполне осуществимым. Классовые конфликты являются лишь результатом недоразумений: они вполне могут быть ослаблены и даже устранены путем вмешательства третьей стороны, которая будет выступать как арбитр в спорах. Эти новые взгляды диаметрально противоположны тому, что ранее думал Хокси вслед за Вебленом, а именно что примирение интересов труда и капитала невозможно. В первый период своей деятельности Хокси разделял взгляды Веблена на человеческую психологию и считал, что они объясняют природу современного общества. Но после ряда эмпирических исследований он понял, что вся психология инстинктов неудовлетворительна. Его сильно огорчали также размолвки с Вебленом. Он вдруг почувствовал, что кругом неправ, но и Веблена он не считал правым. В 1916 г. в припадке душевного расстройства он покончил с собой 503.
Трудовые отношения остаются для институционалистов одной из главных проблем. Начало работе в этой области было положено большим трудом Коммонса, выполненным в университете штата Висконсин, и после этого появилось огромное число исследований, авторы которых стремились определить роль профсоюзов в американском обществе. Некоторые из важнейших работ в данной области написал Селиг Перлмен (1888 — 1959), один из учеников Коммонса, отдавший этому же университету 40 лет жизни 504. В стремлении заниматься одним аспектом социального и экономического поведения ярко проявляется эволюция институционализма. Вместо широты взглядов, присущей Веблену или Коммонсу, возобладала ограниченная точка зрения специалиста, не имеющего представления о том, каким образом функционирует общество в целом. Институционалисты становятся историками трудовых отношений, статистиками и демографами; экономическая теория, которая могла бы выработать всесторонний взгляд на общество, выбрасывается в мусорный ящик. Влияние Гобсона в Америке не было достаточным, чтобы заполнить пустоту, а такие талантливые люди, как Митчелл и Кларк, не могли остановить движение в направлении узкой специализации. Институционализм стал скорее средством подготовки студентов к их будущей профессии, чем методом исследования функционирования общества. 87
Селиг Перлмен у себя на родине, в России, был убежденным марксистом социал-демократического толка. В возрасте 20 лет он эмигрировал в Соединенные Штаты и в 1909 г. приехал в Висконсин с целью завершения образования. Своими способностями он произвел впечатление на Фредерика Джексона Тернера и Коммонса. Последний, работавший над историей трудовых отношений, выделил Перлмену самостоятельный участок — исследование профсоюзного движения среди рабочих-иммигрантов. Очень скоро рыночная теория капитализма Коммонса вытеснила у Перлмена юношеское увлечение марксизмом. Своим проницательным анализом роли в США бывших европейских социалистов, которые по эту сторону океана встали на позиции чисто экономического тред- юнионизма, он дополнил концепцию Коммонса об уклоне тред-юнионистских лидеров в сторону мелкого предпринимательства и доступного кредита. Именно бывшие социалисты, такие, как Гомперс и Страссер, разработали основы нового тред-юнионизма, который занял место исконной мечты американских рабочих о царстве справедливости и счастья. Новые вожди взывали не к классовой, а скорее к цеховой, профессиональной солидарности. Эти вожди не собирались бороться с капитализмом, а стремились обеспечить рабочим более высокую долю плодов их труда. Орудием для достижения этой цели становится коллективный договор, который упорядочивает отношения между профсоюзом и предпринимателем. Разумеется, заключение договора предполагает известное равенство сторон, которого в то время не было. Капитализм корпораций быстро рос, и профсоюзное движение просто путалось у него под ногами. К тому же упор на коллективные договоры и экономические проблемы отводил политическим действиям второстепенную роль в стратегии профсоюзов.
В своей книге «Теория рабочего движения»505 Перлмен попытался развить социологическую концепцию «висконсинской школы». Он показал, что профсоюзное движение имеет собственную, единственную в своем роде историю; тем самым он вложил реальное содержание в принятую экономистами абстракцию труда как фактора производства. Перлмен был убеж133
ден, что профсоюзы становятся более реалистичными и менее склонными к радикальным реформам; по мере того как распределение богатства в обществе становится более справедливым, растет экономика и развивается демократия. Он стремился доказать это положение пространными цитатами из уставов, протоколов и резолюций; он обнаружил, что все экономические и социальные потрясения не страшны именно тем профсоюзам, которые сосредоточивают свое внимание на трудовых проблемах. Профсоюзы должны были выработать понятие права собственности на рабочее место; необходимо было установить это право и регулировать условия труда посредством коллективного договора. Это, говорил Перлмен, новый подход. Он означал отказ от революционных целей и приспособление рабочего движения к прагматическому духу американского общества. Его успех объясняется тем, что он учитывает исконный консерватизм этого общества. Поскольку право собственности пользуется в США таким уважением, профсоюзы и смогли выдвинуть теорию, что к праву рабочего на его место тоже надо подходить с этих позиций. Перлмен признает, однако, что такая позиция чревата самоуспокоенностью; это весьма наглядно подтвердилось в последующие годы. Во время кризиса 30-х годов, когда рабочие отраслей массового производства стремились к организованности, лидеры официального рабочего движения оказались не на высоте 506.
Затем Перлмен задает вопрос, чем объясняется приверженность рабочего к своей организации. Он считал, что решающую роль играют ограниченность возможностей рабочего и страх перед нуждой. Профсоюз помогает рабочему преодолеть эту ограниченность, обрести чувство собственного достоинства, а также добиться определенного положения в обществе. Тот идеализм, который присущ тред-юнионизму, может найти себе наилучшее выражение в достижении практических целей. Абстрактный идеализм интеллигента с его неопределенными целями не может удовлетворить рабочего, говорил Перлмен. Такова же была и точка зрения Коммонса, а Перлмен был, несомненно, хорошим учеником. Как систематизированное изложение философских принципов, лежащих в основе американского тред-юнионизма, «Теория рабочего движения» является выдающейся книгой. Может быть, более полно, чем любая другая работа такого рода, она отразила идею, что американские профсоюзы таковы, какими их хочет видеть американское общество.
Важнейшей чертой американской экономики было, однако, не развитие рабочего движения, а скорее рост крупных корпораций. Эта тема не была для экономистов новой, поскольку уже со времен Джона Бейтса Кларка их занимал вопрос о глубочайшем влиянии корпораций на американское общество. Но только Гардинер С. Минз (род. 1896) поставил эту проблему в самый центр экономической науки. Минз не чисто академический экономист. Он и служил в органах правительства, и занимался предпринимательской деятельностью, так что его нельзя обвинить в том, что он никогда в жизни не видел ведомости на выдачу заработной платы; а такое обвинение нередко можно услышать в адрес чистых теоретиков. В университете Минз изучал химию, но после окончания университета он занялся исследовательской работой в области экономики. В юридической школе Колумбийского университета * он работал вместе с Джеймсом С. Бонбрайтом, специалистом по предприятиям коммунального обслуживания, и Адольфом А. Берли. Его государственная служба включает временную работу в Комитете национальных ресурсов и в Бюджетном бюро. Теперь это степенный бизнесмен, фирма которого поставляет жителям пригородов машины для стрижки газонов 507.
Более всего Минза интересовала корпорационная революция в американской экономике, что было темой его докторской диссертации. В соавторстве с Берли Минз написал поистине новаторскую книгу «Современная корпорация и частная собственность» 508, а совместно с Бонбрайтом — книгу о холдинг-компаниях. Помимо этого, идеи Минза, оказавшие большое влияние на современные взгляды, приходится извлекать из различных публикаций и правительственных документов. Самой известной из таких работ является «Структура американской промышленности», подготовленная в 1939 г. для Комитета национальных ресурсов. Центральным у Минза является тезис, что современная корпорация подрывает основы классической теорииб09. Необходимо, говорит он, перестроить экономическую науку так, чтобы она соответствовала реальной действительности современной эпохи. Корпорации представляют собой совершенно новую форму предприятий, которая отличается от типа предприятий, характерного для XVIII и XIX вв. Поэтому необходимы новые исходные принципы и посылки. Более того, изменились и юридические институты, так что в пересмотре нуждается и само понятие собственности. Структура совре* Американские и английские университеты состоят обычно не из факультетов, а из отдельных колледжей, школ, институтов, выделяемых по признаку специальности или уровня подготовки (студенты или аспиранты).— Прим, перев.
134
менных корпораций порождает отделение собственности от контроля. Это требует новой точки зрения на природу частной собственности, поскольку в экономике, где преобладают корпорации, изменились самые главные характеристики хозяйственного строя. В экономике, говорит Минз, господствуют ныне организации, сконцентрировавшие большие капиталы, и в управлении ими решающая роль не принадлежит ни номинальным собственникам-акционерам, ни рабочим. Возможно, этим объясняется и развитие новых мощных коллективных организаций, таких, как профсоюзы и фермерские объединения. Может быть, полагает Минз, такого рода равновесие необходимо, чтобы предотвратить конфликты, часто порождаемые неравномерным распределением силы. Если экономическая теория хочет остаться жизнеспособной, она должна включить в анализ эти новые явления. Теории, имеющие хождение в настоящее время, оказались не в состоянии обнять эти факты действительности, а основанная на этих теориях политика неизбежно ведет к обострению социальных противоречий.
Минз считает, что каждая экономическая система имеет собственную теорию. В условиях колониальной плантации, едва обеспечивающей средства существования, каждая экономическая единица производит для собственного потребления, и не происходит никакой купли- продажи. Рынок играет в такой экономике ничтожную роль, и контроль находится, в сущности, в руках потребителя, который принимает практически все решения по поводу того, что производить. Можно, конечно, преобразовать эту модель, введя в нее рынок, но производитель и потребитель все же останутся одной единицей, как обстоит дело с небольшой товарной фермой. Но как только появляется рынок, влияние потребителей уменьшается. Фабричная система представляет собой третью модель. Здесь производство управляется из одного центра, рабочий лишен контроля над орудиями своего труда, а потребитель не может более оказывать влияние на производство. Это — мир частно-предпринимательского капитализма, который исследовал Маркс. Четвертая модель, которой и занимается Минз,— это современная система, где производство ведется корпорациями, сконцентрировавшими большие суммы капитала, собственность на который рассеяна благодаря широкому распространению владения акциями, так что даже акционеры не осуществляют никакого контроля над средствами производства. Современные крупные корпорации имеют тысячи рабочих и служащих, используют миллиарды долларов капитала и продают товары миллионам потребителей. Отделение собственности от контроля позволяет узким группам управляющих контролировать такие корпорации и часто увековечивать свою власть с помощью олигархических методов. Эту систему Минз называет «коллективный капитализм» б1°.
Классическая экономическая теория, от Адама Смита до Альфреда Маршалла, была приспособлена к атомистической экономике самостоятельных предпринимателей. Ключевой проблемой в этой системе была цена, причем это относилось как к труду, так и к другим факторам производства. Маркс признавал, что с развитием фабричной системы в экономическую теорию должны быть введены новые принципы. В этом, говорит Минз, Маркс был совершенно прав, но его теория не была ни последовательной, ни адекватной. «Коллективный капитализм» еще не имеет своей теории, которая удовлетворительно объясняла бы то, что при нем происходит *. Корпорационная экономика — это не просто отклонение от классической нормальности: она представляет собой совершенно новую систему отношений. Корпорация собирает большие богатства, но нет никакой гарантии, что она будет служить общественным интересам. Ясно, что онауне служит интересам акционеров: для ослабления их позиций используются всевозможные средства, вроде системы голосования по доверенности, акций, лишенных права голоса, и т. д. Что это, спрашивает Минз, частное предприятие, каким оно известно давно, или новая коллективная организация, контролируемая олигархией управляющих? Достаточен ли мотив прибыли для объяснения)действий управляющих? Действительно ли они заинтересованы в максимизации прибыли? 611 Более того, учитывают ли корпорации рыночные факторы, когда они сбывают свою продукцию? Подчиняются ли они закону спроса и предложения; влияют ли предлагаемые и запрашиваемые цены на процессы принятия ими решений? На все вопросы, кроме первого, он дает отрицательный ответ.
В атомистической экономике анализ рыночных сил объяснял также, каким образом координируются ресурсы. Но теперь, говорит Минз, эта функция выполняется без помощи рынка, потому что координация осуществляется теперь в большой мере «в рамках предприятий, а также между предприятиями» 512. Это значит, что * Маркс, Энгельс и Ленин подвергли всестороннему анализу природу и функции акционерной формы капитала. Ленин выяснил их роль и место в системе монополистического капитализма. Современная марксистская наука также уделяет большое внимание исследованию новейших тенденций в развитии капиталистических корпораций.— Прим. ред.
135
административное руководство исходит от группы, контролирующей корпорацию. Это уже не та ситуация, когда производство и инвестиции подчинялись диктату рыночных цен. Для современного положения характерно наличие немногих производителей, отсутствие ценовой конкуренции, тенденция к жесткости цен. Это экономика администрируемых цен (administered prises) и контролируемых рынков. Поэтому конкуренция должна находить иные способы проявления, помимо цен. Минз утверждает, что такие черты теперь характерны для большой части американской экономики, и задает вопрос, может ли такая экономика сама по себе обеспечить полное использование ресурсов. Он не осуждает происходящее, ибо эти черты, по его мнению, неотъемлемо присущи современному экономическому строю. Но он опасается, что при системе администрируемых цен в распределении и координации ресурсов могут обнаружиться серьезные недостатки, особенно учитывая, что приспособление к изменившимся экономическим условиям, по-видимому, происходит через колебания объема производства, а не цен. Следовательно, во время депрессий особенно тяжелое бремя ложится на рабочих и фермеров.
Административными методами можно уравнять предложение и спрос только случайно; в действительности же, если избыток предложения образуется по причине слишком высоких цен, то последние пересматриваются в редких случаях. Минз отмечает, что, хотя в розничной торговле, а также в значительной части предприятий обрабатывающей промышленности применяются административные методы ценообразования, экономическая теория до сих пор не принимала во внимание эти новые явления. По мнению Минза, необходима теория, которая учитывала бы последствия, обусловленные администрируемыми ценами, а также размеры пересмотра цен, если такой пересмотр все же производится. По Минзу, необходимо разработать теорию «...краткосрочного равновесия (short-run equilibrium), которая исходила бы из той посылки, что некоторые цены сохраняют классические черты, а некоторые являются администрируемыми. Имеется формула Вальраса для экономики абсолютно гибких цен. Имеется формула Кейнса, хотя и двусмысленная, поскольку речь идет о ценах, но способная констатировать равновесие при фиксированных ценах. Необходима формула, схожая с Вальра- совой, но которая констатировала бы условия равновесия для положения, когда некоторые цены являются администрируемыми, а некоторые — гибкими, и указывала бы, каким образом факторы, определяющие равновесие, будут влиять на результат равновесия» 513.
Однако основное внимание, говорит Минз, должно быть уделено сектору администрируемых цен *. В сферу экономической теории должно быть также включено изучение мотивов деятельности управляющих, так как очевидно, что максимизация прибыли не может служить ключом к пониманию действий корпораций. В сущности, теории предприятия придется иметь дело с проблемами того же рода, какие встречаются при изучении государственного аппарата; анализируя структуру корпораций, специалист в области государственной политики и экономист должны объединить усилия. Сосредоточив внимание на административных методах использования и распределения ресурсов, экономическая наука, по словам Минза, сможет «...создать новую теорию распределения ресурсов, в которой место невидимой руки Адама Смита займет невидимая рука корпорационной бюрократии» 514.
Когда Минз заявляет, что корпорации принимают на себя социальную ответственность нового типа, то он это явно делает под влиянием Адольфа Берли. Последний утверждает в своей книге «Капиталистическая революция XX в.» б15, что корпорации постепенно приобрели квазиполитический статус, а это заставляет их действовать в интересах общества, особенно поскольку они находятся под неослабным контролем общественного мнения и под угрозой вмешательства государства. Частная и государственная собственность в наше время все более переплетаются, так что постепенно образуется запутанный клубок прав и привилегий, угрожающих правам личности. Однако, заявляет Берли (и Минз, очевидно, согласен с ним), для ограждения личных свобод будет достаточно обращения в суд справедливости, действующий в рамках корпорационной структуры **. Управляющие просто должны будут осознать тот факт, что надо считаться с интересами людей, и выработать своего рода кодекс чести корпорации. Несомненно, Берли и Минз указали на некоторые важные политические и социологические аспекты эпохи корпораций; иначе было бы трудно объяснить, каким образом олигополия укрепила и законсервировала конкурентный капитализм. Но утверждение, что все хорошо постольку, поскольку корпорация, как кажется, теперь обретает «душу», едва ли дает ответ на принципиальные вопросы.
* То есть действиям крупных корпораций.— Прим, перев.
** Согласно Берли, идея «суда справедливости» (court of equity) восходит к феодальной эпохе, когда еще не сложилось ни нормативное, ни обычное право- и феодал судил своих подданных «по справедливости». Разумеется, эта аналогия не имеет научной ценности.— Прим, перев.
136
В прежние годы Минз отнюдь не был в таком восторге от корпораций. Понимая, что политика цен и производства, которую проводили большие корпорации, явилась важным фактором в углублении депрессии 30-х годов, он попытался разработать программу, которая нейтрализовала бы вредную практику в области цен, прежде чем она скажется на всей экономике. Его административная политическая экономия (по удачному выражению Аллана Груши) была направлена прежде всего на обоснование такого планирования, которое обеспечило бы более эффективное использование ресурсов, чем то, которое могут достигнуть корпорации. Он не предлагал менять жесткие цены в приказном порядке, а скорее хотел, чтобы гибкие цены использовались более целенаправленно и оказывали влияние на всю экономику 516. Чтобы преодолеть разрыв между традиционной экономической теорией и современной действительностью, Минз считал необходимым восстанавливать равновесие путем сознательных действий. Это, конечно, означало, что от государства может потребоваться выполнение новых функций. Иначе и нельзя выполнить задачу: в то время, то есть в конце 30-х годов, представлялось невероятным, что корпорация обретет «душу».
Ясно, однако, что Минз изменил свои взгляды с тех пор, как он выступил как соавтор книги «Современная корпорация и частная собственность». Теперь он выражает энтузиазм по поводу коллективного капитализма и корпорационного образа жизни 517, хотя все еще считает необходимым модифицирующее воздействие государства и профсоюзов. Такова та новая обстановка, в которой может быть обеспечено эффективное распределение ресурсов, более справедливое распределение дохода и право личности развивать свои способности. Конечно, новая политическая экономия, которая подведет теоретическую базу под эти изменения, должна включать администрируемые цены и уравновешивающую силу.
7. УРАВНОВЕШИВАЮЩАЯ СИЛА И ИЗОБИЛИЕ: ДЖ. К. ГЭЛБРЕЙТ
Влияние институционализма, как одного из решающих направлений экономической мысли, заметно уменьшилось в 40-х и 50-х годах. Его расцвет приходится на десятилетия, предшествовавшие второй мировой войне. Великая депрессия, обрушившаяся на растерянную Америку, дала институционалистам случай применить их идеи на практике, но неискушенность в политике предопределила их неудачу. К этому времени капитализм создал, казалось, величайшую цивилизацию из всех, какие видело человечество: общество стало достаточно богатым, чтобы позволить себе некоторые реформы, в частности социальное обеспечение в ограниченных размерах и изменения в банковом деле. Но даже эти реформы были проведены с известной неохотой. В то же время усилилась склонность к флирту с новыми направлениями социологии и психологии: ощущалась потребность в некотором расширении горизонтов экономической науки. Между тем все больше и больше ученых институционалистского направления превращалось в узких специалистов. Таким образом, попытки перекрестного оплодотворения идей в общественных науках оказались тщетными; ученый не хотел разбрасываться и цеплялся за то, что он знал лучше всего 518. В период рузвельтовского «Нового курса» многие ведущие институционалисты, включая Минза, Берли и Рексфорда Тагвелла, приняли участие в осуществлении мероприятий правительства. Занявшись более увлекательным делом переустройства общества, они испытывали меньше потребности излагать институционалистское кредо. Как раз когда депрессия шла к концу, началась война, принесшая с собой новые проблемы. К концу войны задор институционалистов совсем исчез. Они теперь не могли добавить что-либо новое, а перед лицом новейших математических теорий в экономике они оказались совершенно безоружными. Проблемы, которые они в свое время считали важными, отошли во владения социологов.
Имеется, однако, несколько экономистов, которые, не принадлежа, строго говоря, к лагерю институционалистов, сохранили достаточно духа, чтобы продолжить борьбу за гуманистическую политическую экономию. Одним из таких авторов является Джон К. Гэлбрейт, родившийся в 1909 г. в Канаде. Ему присуждались ученые степени в Торонтском, Калифорнийском и Гарвардском университетах. В своих работах Гэлбрейт обращается не только к своим коллегам из мира академической науки (которые, кажется, взирают на его литературную деятельность не совсем одобрительно), но также и к широкой публике. Во время войны он занимал пост начальника управления по контролю над ценами в правительстве СШАГ 137
и полученный опыт он затем использовал в своих работах по политической экономии. Долгое время Гэлбрейт был редактором журнала «Форчун», что расширило его запас практических знаний. Когда в 1960 г. демократы пришли к власти, он был назначен послом в Индию *, и это временно прервало его литературную работу. Замечательная ясность и блестящий стиль изложения сделали книги Гэлбрейта бестселлерами, что для экономиста очень редко.
Гэлбрейт был в числе первых современных экономистов, анализировавших проблемы отсутствия равновесия в условиях военной экономики б19. Он указывает, что современный рынок, олигополистический по своей природе, лучше поддается регулированию цен, чем так называемый свободный рынок 52°. Рынок как абстрактная категория исчезает, как только число покупателей и продавцов становится малым. Нельзя уже считать, что они не известны друг другу, и это дает продавцам возможность навязывать неформальным образом покупателям волевой порядок распределения (allocation). В периоды нехватки товаров некоторые покупатели получают привилегии, а введение контроля над ценами прямо толкает частные концерны на применение системы волевого распределения. Тенденция этого рынка к жесткости цен также помогает органам регулирования цен. Поскольку в экономике уже укоренилась система согласованных цен и наценок, военный контроль над ценами означает просто продолжение игры по правилам бизнеса. Вдобавок к этому, говорит Гэлбрейт, политика правительства, направленная на рост производства при снижении издержек, помогает осуществлению контроля над ценами, особенно в тех отраслях, где излишние мощности все еще представляют важный фактор 521.
Таковы основные черты «неуравновешенной системы»— экономики, в которой стимулы и мотивы, характерные для бесплановой системы, дополнены контролем над ценами и прямым распределением ресурсов. Эта экономика характеризуется также превышением денежного спроса над товарной массой. Цель неуравновешенной системы заключается в мобилизации хозяйства для военных нужд. Контроль над ресурсами необходим, поскольку олигополисты не обнаружили большой заинтересованности в переходе на военное производство, опасаясь ослабления своих4позиций на рынках мирного времени. Избыток спроса становится в этих условиях орудием создания стимулов
* Гэлбрейт находился на этом посту до 1963 г.— Прим, перев.
для труда и капитала к передвижению в новые районы и производству необходимых видов продукции. Достоинства неуравновешенной системы кончаются лишь тогда, когда исчезает желание сберегать или когда кривая предложения рабочей силы начинает перемещаться назад *. Но все же система позволила современному олигополистическому капитализму справиться с требованиями военной экономики. В этой экономике имелся, конечно, известный резерв, измеряемый тем объемом спроса сверх текущего предложения товаров, который был совместим с приростом совокупной продукции. В отличие от Германии в США этот резерв не был исчерпан.
Таким образом, в своем анализе военной экономики Гэлбрейт центральное место уделил олигополистическому характеру рынков при современном капитализме. Этот вопрос исследуется также в его книге «Американский капитализм: концепция уравновешивающей силы» б22. Он начинает с утверждения, что экономика обладает гораздо большей эластичностью, чем предполагалось. Как и Минз, он считает, что это в значительной мере проистекает из корпорационной структуры бизнеса. Но каждый боится, что посягательства тех, кто ему не нравится, подорвут основы экономики. Консерваторы не любят правительство, а либералам ненавистен мир бизнеса. Чтобы оправдать свои антипатии, говорит Гэлбрейт, каждый создает свою собственную экономическую концепцию. Одному нужен свободный рынок, другому — экономическое планирование. Один тоскует по старому доброму закону Сэя, другой ищет выхода в социализме, кооперации, а в последнее время — в учении Кейнса. Но ни одна система взглядов, утверждает Гэлбрейт, неспособна дать истинное объяснение того, как в действительности функционирует современная экономика. Как либералы, так и консерваторы остаются пленниками идей, которые заставляют их глядеть на мир с тревогой.
Прежде всего, говорит Гэлбрейт, и не без основания, экономическая теория до сих пор не установила делового контакта с политической наукой. Это серьезный недостаток, потому что в экономической науке, очевидно, решающую роль играет проблема власти. Поскольку олигополистическая структура стала важней* То есть завершается вовлечение в производство резервов рабочей силы. США только в условиях войны смогли избавиться от массовой безработицы. Тот факт, что даже в разгар войны ощущался лишь умеренный недостаток рабочей силы, помогал сдерживать повышение денежной заработной платы.— Прим, перев.
138
шей чертой хозяйства, представляется совершенно ясным, что эта проблема должна быть поставлена в центр интересов экономической науки. К сожалению, традиционная теория конкурентной экономики игнорировала все вопросы, связанные с категорией власти, рассматривая их как якобы внеэкономические по своей природе. Но большая концентрация экономической власти не может быть объяснена кознями дьявола, ибо причины концентрации коренятся в самой экономике. Когда отрасль уже сложилась, новым фирмам трудно получить доступ в нее. Лишь в результате создавших эпоху в науке исследований Джоан Робинсон и Э. X. Чемберлина экономическая теория стала ближе к хозяйственной жизни 523. Во всяком случае, теория олигополии уводит исследователя из мира конкуренции в мир монополии. В сущности, ценовая конкуренция, как показал Дж. М. Кларк, может иметь гибельные последствия. Что же касается воздействия олигополии на рынок, то она, видимо, удовлетворительно решает экономические задачи в этом худшем из возможных миров б24, несмотря на высокие издержки и дифференциацию продукта. Корпорации получили власть устанавливать цены, и эту власть не смогли ликвидировать никакие антитрестовские законы и размахивание большой дубинкой. В обстановке современной Америки надежды либералов на государственное регулирование олигополии не оправдались.
Тем не менее, говорит Гэлбрейт, экономика функционирует удовлетворительно; одна из причин этого состоит в непревзойденно высоком уровне техники, на которую она опирается. Олигополия, видимо, обладает способностью наиболее успешно неограниченным образом использовать технические новшества б25. Олигополист, полагает Гэлбрейт, может пожать плоды от новой техники, прежде чем какой- нибудь «нарушитель» попытается урвать свою долю. Поэтому исчезновение свободного рынка не составляет большой трагедии. Более того, изобилие, созданное современной экономикой, допускает известную меру терпимости по отношению к неэффективным предприятиям. Надо сказать, что эти утверждения Гэлбрейта, во всяком случае в применении к изобретательству и новаторству, представляются не обоснованными перед лицом многочисленных фактов. Утверждая, что новаторство в технике целиком находится под контролем олигополий, он игнорирует факт существования многих независимых изобретателей 526. Представляется весьма вероятным, что мелкие и средние предприятия, не несущие бремени накладных издержек и устаревшего оборудования, могут внедрять технические новшества не менее успешно, чем гиганты промышленности. Олигополии часто оттягивают сдачу на слом морально устаревшего, но еще годного к эксплуатации оборудования. Нередко они сдерживают внедрение технических новшеств или используют их лишь для защиты ранее захваченных позиций. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из развития разных отраслей — от сталелитейной промышленности, где большинство технических усовершенствований было внедрено мелкими фирмами, до производства новых пластиковых губок. Более того, кажущийся приоритет олигополий в техническом прогрессе в большой мере связан с выполнением военных заказов правительства. Таким образом, как свидетельствуют факты, большие размеры предприятия не являются гарантией того, что оно будет стимулировать технический поиск и внедрять его результаты.
Внешне аргументация Гэлбрейта схожа со знаменитой концепцией Шумпетера, который доказывал жизнеспособность крупных концернов. Однако Гэлбрейт игнорирует именно те социологические элементы, которые придают идеям Шумпетера такую убедительность. Шумпетер уделял особое внимание ослаблению духа предприимчивости в условиях современного корпорационного капитализма. Служащий корпорации, действующий в новой бюрократической среде, склонен осмотрительно подходить к внедрению смелых технических новшеств.
Как бы то ни было, центральной идеей Гэлбрейта является развитие в условиях олигополии новых сдерживающих факторов не в лице соперников, а на противоположной стороне рынка, где находятся покупатели и поставщики. Это — концепция уравновешивающей силы; этим удачным термином заменяется трудное специальное выражение «олигополия» 527. Экономическая мощь порождает противодействия; сильным продавцам теперь противостоят сильные покупатели. Конкуренция на олигополистическом рынке носит, как правило, пассивный характер, но совсем иначе обстоит дело с сильными покупателями. Уравновешивание сил отнюдь не то же самое, что рассматриваемая в обычной академической теории двусторонняя монополия, ибо последняя представляла собой необычную, почти случайную ситуацию; идея же Гэлбрейта состоит в том, что олигополии внутренне присуща тенденция к уравновешиванию сил. Гэлбрейт иллюстрирует свою концепцию многими убедительными примерами, в особенности указывая на роль профсоюзов и крупных компаний в сфере розничной торговли. В одном из таких случаев фирма, контро139
лирующая сеть супермаркетов, заставила производителей снизить цену кукурузных хлопьев, просто пригрозив им, что она сама займется их производством. Хорошо известно, что некоторые крупные торговые компании оказывают сильнейшее давление на тех, у кого они покупают товары. Уравновешивающая сила существует не во всех секторах экономики, но Гэлбрейт полагает, что ее широкое распространение способствовало бы росту экономики. В качестве примера он приводит жилищное строительство: значительный прогресс был достигнут там, где немногим крупным строительным фирмам удавалось обходить многочисленные ограничения, связанные с традиционной практикой, и оказывать влияние на рынок. Чтобы достичь этого, необходима организация ресурсов в корпорационной форме. Таким образом, теория Гэлбрейта подтверждает достоинства коллективного капитализма Минза. Однако это ни в коей мере не означает, что новый капитализм может функционировать автоматически. Как и Кейнс, Гэлбрейт знает, что для обеспечения «должных результатов» в экономике все же необходимо известное вмешательство государства.
Однако вопреки всем убедительным аргументам Гэлбрейта, можно усомниться в том, что олигополия действительно всегда порождает уравновешивающую силу. Возникновение такой силы не является и таким неизбежным, как представляется Гэлбрейту. Очевидно, что в период высокого спроса эффект уравновешивания резко ослабевает. Да и оправдание олигополии кажется несколько натянутым. Характерно, что сами бизнесмены, видимо, не склонны использовать подобные рационалистические объяснения нового корпорационного капитализма. Гораздо спокойнее и удобнее опираться на старую мудрость, источником которой является Торговая палата, чем заигрывать с новой опасной идеологией б28. Хотя в журнале «Форчун» и в изданиях Комитета экономического развития дано немало примеров искусного применения консервативных принципов, деловой мир в общем и целом предпочитает старомодную, прямолинейную претензию на господство над всем мирозданием и воспевает благотворное действие мотива прибыли и свободной конкуренции. Поскольку этот миф сохраняет свою притягательную силу, анализ Гэлбрейта при всей его убедительности не отвечает на основной вопрос: как обосновать полезность выполняемых бизнесменами функций. Дело попросту в том, что прежние взгляды давали прямое и убедительное обоснование их власти, и из этого развилась идеология, позволяющая директору корпорации противодействовать претензиям лиц, посторонних по отношению к данному предприятию. Если даже признать, что покупатели (price takers) иногда обладают уравновешивающей силой, все же, видимо, имеются веские доказательства того, что продавцы (price makers) играют более важную роль. Последние способны устанавливать цены и управлять ими в соответствии с задачами стратегии сбыта. Очевидно, теория уравновешивающей силы недооценивает силу принуждения, которая в наше время стоит за рыночными отношениями.
Может показаться довольно парадоксальным, что из теории уравновешивающей силы, основой которой является олигополия, логически вытекают идеи книги «Общество изобилия», являющиеся по своему объективному смыслу, если не по субъективному намерению автора, квазисоциалистическими 529. Эта книга, имевшая невероятный успех, содержит ряд предложений, направленных в сущности на создание общества, о котором социалисты говорили в течение многих лет. Несмотря на некоторые недостатки в деталях, это сделано с подлинной глубиной и пониманием сложности задачи. Характерной чертой современного общества, говорит Гэлбрейт, является несомненная способность производить все, что члены общества только пожелают производить. Поскольку это так, общество должно было бы быть в состоянии удовлетворять все потребности, как частные, так и общественные. Но действительность такова, что производительная система достигла такой стадии, когда ее эффективность становится сомнительной. Она стала рогом изобилия, из которого сыплется бесконечное количество товаров; все направлено на то, чтобы удовлетворить стремление среднего американца потребить поразительную массу различных товаров. Эти товары, производимые и реализуемые частным образом, создали видимость общества изобилия. Но на самом деле США гораздо менее богаты, чем думают американцы. Недостаток общественных услуг является удручающим; школы размещаются в старых зданиях и работают при переполненных классах; не хватает парков и детских площадок; улицы городов не очищаются; а отвратительные выхлопные газы вездесущих современных колесниц отравляют воздух. Гэлбрейт спрашивает, не склонится ли общество в своем стремлении к чистому воздуху к революционному флирту с социализмом.
Гэлбрейт убедительно показывает, что это поразительное несоответствие проистекает из отсутствия равновесия в обществе. Находящиеся в частном пользовании товары и общественные услуги должны взаимно дополнять 140
друг друга: чем больше автомобилей, тем больше требуется места для их размещения и дорог для езды на них. В старину городские власти часто брали на себя устройство привязей для лошадей, запряженных в телеги. Теперь технические возможности совсем иные, но и проблемы несравненно сложнее. Частная форма потребления товаров, очевидно, требует, чтобы государство создавало какие-то средства обслуживания и принимало необходимые меры в интересах всего общества. Иначе Америка может задохнуться под бременем бесконтрольного частного потребления. Необходимо обеспечить равновесие между потребляемыми частным образом товарами и общественными услугами. Последние должны включать и инвестиции в человека путем расширения системы образования.
Несоответствие между частной и общественной сферами Гэлбрейт прослеживает вплоть до экономистов-классиков с их идеями неуклонного роста производства. Из их теории, которую Гэлбрейт окрестил «обыденной мудростью», вытекало, что бедность и неравенство навечно останутся жребием рода человеческого. Во времена классиков национальный доход по своим размерам был ограничен, и они были свидетелями борьбы классов из-за его распределения. Маркс тоже видел в этом главную проблему, но в отличие от классиков он полагал, что капиталистическая система окажется нежизнеспособной. Тем не менее она выжила *, и, как полагает Гэлбрейт, это можно отчасти объяснить техническим прогрессом и изобилием производимых товаров. Критикуя старых экономистов, Гэлбрейт не учитывает, однако, оптимистическую струю, заметную и у Адама Смита и у Ж. Б. Сэя. «Обыденная мудрость» могла претендовать на известное согласие с фактами лишь благодаря присущему ей духу надежды и гармонии, который каждому внушал «смутную уверенность» в том, что в конце концов все будет хорошо. Пока богатства росли, теории экономической гармонии Сэя и Бастиа успокаивали нас тем, что мы живем в лучшем из всех возможных миров. Это мировоззрение заключало в себе, однако, фатальный порок, который использовали против классиков экономисты-бунтари от Веблена до Гобсона. Суть дела в том, что доход, порождаемый экономической системой, не всегда движется таким * Капиталистическая система, как известно, не «выжила». Великая Октябрьская социалистическая революция открыла эпоху революционного перехода от капитализма к социализму, и в настоящее время социалистические страны занимают около 26% территории земпого шара и в них проживает свыше 30% населения мира.—Прим. ред.
образом, чтобы поглотить весь продукт. Гэлбрейт в своей последней работе недооценивает это обстоятельство. Это та самая слабость, которую увидели в законе Сэя и Маркс, и Кейнс. Гэлбрейт же рассматривает экономику только в условиях, когда она производит частным образом потребляемые товары в избытке, так что единственное беспокойство причиняет некоторая безработица. Нельзя также согласиться с его утверждением, что действительного неравенства более не существует 530.
Тем не менее Гэлбрейт отвергает мнение, что для прогресса необходима экономическая необеспеченность. Обеспеченность, говорит он, достижима при нашем уровне изобилия. Огромный объем производства, достигнутый США, сделал бесполезным созданный «обыденной мудростью» образ ленивого работника. Мы должны культивировать искусство получать больше за меньший труд: экономика легко может обеспечить это. В сущности, говорит Гэлбрейт, такая тенденция уже налицо, поскольку, помимо университетов «...где праздная жизнь приобрела статус ученой традиции, искусство утонченного и тщательно скрываемого безделья» процветает в высших кругах администрации компаний 531. Главное состоит в том, что производство достигло такого высокого уровня, при котором общество может легко позволить себе известную расслабленность. Между тем «обыденная мудрость» настаивала на том, что производство необходимо наращивать неуклонно, ибо предполагается, что потребности безграничны, и нет ничего такого, чего нельзя было бы продать потребителю, если только заставить его желать этого. Гэлбрейт дает не менее резкую критику теории потребительского спроса 532. Он ставит под сомнение теорию предельной полезности на том основании, что она полностью обходит проблему понижающейся настоятельности потребления (diminishing urgency of consumption). Традиционная экономическая наука уклоняется от этой проблемы путем перехода от кардинальной к ординальной полезности; при этом желания потребителей сводятся просто к предпочтению одного блага по сравнению с другим, и тем самым исключается возможность, что потребности, которые имеются в настоящее время независимо от существующего положения, могут быть полностью удовлетворены в обозримом будущем б33.
Итак, по Гэлбрейту, проблема производства решена, тогда как распределение оставляет желать лучшего. Это та самая проблема, которую подчеркивали все несогласные с традиционным направлением в экономической науке. Гэлбрейт выступает за такую реформу распре141
деления, которая означала бы расширение общественных услуг и рост благосостояния: он предлагает улучшить систему образования и использовать имеющиеся ресурсы для борьбы с голодом и бедностью. Он стремится разорвать связь между производством и доходом, так чтобы в случае роста безработицы эффективный спрос поддерживался с помощью пособий, уровень которых был бы близок к полной заработной плате. Когда рассматриваешь идеи Гэлбрейта таким образом, приходишь к несомненному выводу, что традиция несогласия и протеста в американской экономической науке все еще жива 534.
Часть вторая
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРАДИЦИИ
Глава III
ОТ МАРЖИНАЛИЗМА
К ТЕОРИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
1. У. С. ДЖЕВОНС:
ОТКРЫТИЕ МАРЖИНАЛИЗМА
В третьей четверти XIX в. в английской экономической науке господствовали взгляды Джона Стюарта Милля и его учеников. Прочие экономисты, пытавшиеся отыскать иной подход к исследованию вечных проблем хозяйственного строя, не могли найти аудиторию, которая бы воспринимала их идеи. Однако в 70-х годах возникло движение, направленное против свойственного классической школе объективизма; казалось, что этому движению суждено было вскоре преодолеть все преграды х. Стало проявляться стремление положить в основу экономической теории субъективные понятия, а при анализе обмена практически полностью абстрагироваться от окружающих социальных условий.
Чем это было вызвано? Критика капитализма, как мы видели, становилась все сильней, и теперь казалось уже невозможным выражать представления о социальном строе в действительно нейтральных категориях. Карл Маркс придал классической доктрине такое направление, которое вызывало беспокойство 2. Казалось, что необходимо дать отпор этой тенденции, и маржиналистская доктрина, вероятно, преследовала указанную цель. Принадлежащий представителям классической школы анализ реальных затрат был отвергнут, и предпочтение было отдано психологической трактовке издержек. Такая трактовка предполагала определенную систему понятий, характеризующую поведение человека; впоследствии она смогла превратиться в отправной пункт новой теории стоимости. Если психологическое обоснование оказалось бы недостаточным, это в сущности не вызывало бы беспокойства, потому что форму теории удалось бы сохранить даже и при отсутствии соответствующего психологического содержания. Одну из своих главных задач — защиту статус-кво — маржи- налисты, возможно, и выполняли бессознательно, но все же кажется очевидным, что они, как заметил однажды Гарви Пек, «по крайней мере усилили имевшиеся в классической теории слабые звенья и тем самым вновь утвердили теоретическую систему, опираясь на которую предприниматели и праздные капиталисты могли подыскать социальное оправдание для личного честолюбия или для деятельности в защиту своих привилегий» 3. Если же дело обстояло так, то маржинализм, стало быть, являлся своеобразной формой скрытой апологии тех, кого, используя термин Райта Миллса, можно назвать властвующей элитой4. Если же политическая экономия должна быть определена как наука, изучающая скорей богатство, чем благосостояние, тогда, разумеется, такой подход не должен вызывать каких-либо возражений.
Первым экономистом, поднявшим успешный бунт против господствовавших в то время теорий, явился Уильям Стэнли Джевонс (1835— 1882). У его родителей было одиннадцать 10 Б. Селигмен
145
детей, но из них выжило только трое, Уильям Стэнли был девятым ребенком. Он рос в семье диссентеров, постоянные финансовые затруднения которой вынудили его отказаться от попытки поступить в Оксфордский или Кембриджский университет. Вместо этого Дже- вонс поступил в Лондонский университет, где весьма успешно овладевал теоретическими знаниями. Когда в Австралии в 50-х годах XIX в. было найдено золото, местная администрация, комплектуя кадры для нового монетного двора, попыталась в Англии найти кандидата на должность пробирщика. На эту работу рекомендовали Джевонса; в девятнадцатилетнем возрасте он прервал учебу в университете и объехал полсвета, направляясь на новое место работы. Он нуждался в работе, приносившей 630 ф. ст. в год (в то время это было превосходное жалованье), потому что в таком случае он получал возможность оказать материальную поддержку брату и сестре и помочь им завершить образование.
Джевонс прожил в Австралии пять лет, экономно расходуя средства и продолжая самостоятельные занятия. Здесь обнаружился его страстный интерес к метеорологии; весьма характерно, что, накопив значительное количество данных, характеризующих температуру и условия погоды на Австралийском континенте, Джевонс опубликовал свою первую работу «Климат Австралии и Новой Зеландии». В 1857 г., когда ему было двадцать два года, он занялся политической экономией; Джевонсом владела мысль о том, что ему, может быть, удастся плодотворно использовать в этой области математические методы. Джевонс изучал некоторые вопросы экономики железнодорожного транспорта и проблему установления тарифов. В этой области хозяйственная деятельность носила монополистический характер, фиксированные издержки были велики, а текущие — малы, так что человек, знакомившийся с такой практикой, получал первоначальные сведения в области маржиналистской теории.
Безгранично веря в силу своего разума и обладая некоторой самонадеянностью, присущей юности, Джевонс полагал, что его собственное исследование оснований науки позволит глубже понять социальные принципы; так он принялся за создание новой экономической теории 5. В Австралии у Джевонса сформировались важнейшие идеи — особое место среди них занимали концепция экономического цикла и экономическая теория. Завершив свое пребывание в Австралии, Джевонс возвратился в Англию. В соответствии с ранее намеченными планами перед этим он побывал в Перу, Панаме, Вест-Индии и США, знакомился с экономикой этих стран и особенно с их золотыми приисками. В 1859 г. он возвратился в Англию и там возобновил свои исследования.
Вскоре идеи Джевонса относительно математической экономии начали принимать определенную форму. В 1860 г. он сформулировал понятие убывающей предельной полезности, а двумя годами позже направил Британской ассоциации научного развития свой доклад, который назывался «Краткое сообщение об общей математической теории политической экономии» 6. Доклад был принят без единого слова признательности, не говоря уже о поддержке автора. Джевонс направил ассоциации также второй доклад —«К вопросу об изучении периодических колебаний коммерческой деятельности (с приложением пяти диаграмм)», который представлял собой первую попытку измерения сезонных колебаний и свидетельствовал о серьезном интересе автора к статистическим методам исследования. В последующий период своей деятельности Джевонс внес существенный вклад в методику исчисления индексов и теорию вероятностей.
Получив ученую степень, он попытался набить руку на сочинении журнальных статей и пробовал даже писать статьи, выходящие затем под фамилиями других авторов. Ни одна из этих попыток не была вполне успешной. Наконец в 1863 г. он согласился занять место преподавателя в небольшом колледже в Манчестере, где он читал лекции по логике, философским проблемам морали и — что особенно интересно — курс политической экономии, который он излагал в соответствии с теорией Джона Стюарта Милля. Джевонс чрезвычайно серьезно относился к своим обязанностям, много работал и в результате этого подорвал здоровье. В связи с тем, что ему приходилось читать курс логики, он обнаружил интерес к системе символов Джорджа Буля. В 1863 г. Джевонс опубликовал небольшую работу «Чистая логика», посвященную этому вопросу, и провозгласил, что он открыл универсальный принцип аргументации, названный им «замещением аналогичных элементов». Вслед за этим в 1870 г. вышли из печати «Курс элементарной логики», а в 1874 г.— его знаменитые «Принципы науки».
Постепенно Джевонс завоевывал признание среди читателей и в профессиональных кругах, хотя его ранние произведения игнорировались, а выдвинутая им в 1871 г. новая экономическая теория упорно отвергалась. Большим авторитетом он пользовался как специалист в области логики; действительно, неприязнь, которую Джевонс питал к Миллю, в большой мере проистекала, по-видимому, из фундаментальных 146
различий, относившихся скорее к логике, чем к политической экономии 7. Более половины всех опубликованных научных работ Джевонса посвящены научному методу, и почти пятьдесят лет английские студенты учились по его курсу логики. В 1872 г. он был принят в члены Королевского общества (после Уильяма Петти Джевонс был первым экономистом, который удостоился такой чести), а в 1874 г. он стал членом Политико-экономического клуба. В 1880 г. Джевонс, ссылаясь на слабое здоровье, сложил с себя обязанности профессора Лондонского университета, в последующий период он занялся независимыми исследованиями, разрабатывая оригинальную теорию экономического цикла. Когда астрономы сообщили, что появление пятен на Солнце также представляет собой циклический процесс, Джевонса заинтересовал вопрос, не могут ли изменения климата и погоды, вызываемые пятнами на Солнце, оказывать циклическое воздействие на сельскохозяйственное производство, а через него — и на чередование фаз в предпринимательской деятельности. Пытаясь иллюстрировать свое утверждение, он отыскивал определенные соотношения между средней продолжительностью периода, между кризисами и средней длительностью цикла смены солнечных пятен. Эта затея ничего не дала.
Джевонс, бесспорно, был человек большой честности; это проявлялось даже в том, что, помещая средства в ценные бумаги, он руководствовался своей теорией экономического цикла 8. Его мировоззрение в целом носило консервативный характер, но в ряде случаев он тем не менее высказывал доброжелательное отношение к либеральным взглядам. В своем образовании он делал упор на изучении математики и естественных наук, что оказало заметное влияние на его методы экономического исследования. Однако Джевонс, по-видимому, оказывал небольшое влияние на тех, кто окружал его; сохраняя убежденность в исключительной силе собственного интеллекта, он предпочитал работать в одиночку. По своему темпераменту Джевонс был несколько склонен к меланхолии, и единственным его развлечением являлась музыка. А его лекции, как ни странно, состояли лишь из основных положений теории Стюарта Милля, которые излагались в сухой и унылой манере; студенты плохо посещали эти лекции. И все же ряд фактов свидетельствует о том, что Джевонсу удалось оказать влияние на воззрения таких крупных экономистов, как Уикстид и Эджворт 9.
Ненависть Джевонса к Миллю носила почти патологический характер. Он сознавал, что господство взглядов классической школы серьезно мешает дальнейшему развитию политической экономии. В одном из своих писем он указывал: «Я боюсь, что невозможно критиковать произведения господина Милля, не подвергаясь при этом опасности вызвать резко враждебное отношение к себе...» 10 Он обвинял Милля в том, что отдельные положения у него противоречили друг другу, и настойчиво утверждал, что может отыскать доказательства этого буквально на каждой странице работ Милля. Эти работы настолько слабы, писал Джевонс, что в них не содержалось даже представления о капитале п. Действительный шаг вперед в политической экономии был сделан, как утверждал Джевонс, не с переходом от Рикардо к Миллю, а от Смита к Мальтусу и к Сениору. Однако Джевонс не смог оказать влияние на последователей Стюарта Милля, которые просто продолжали преподавать классическую теорию издержек производства так, как если бы предельной полезности вообще не существовало. Весьма любопытно, что и сам Джевонс поступал точно таким же образом. Влияние классической школы не удавалось искоренить до тех пор, пока критика Джевонса не получила поддержку со стороны представителей австрийской субъективной школы. В возрасте сорока семи лет, в расцвете своих творческих способностей Джевонс утонул; его смерть означала существенную потерю для экономической науки.
Важнейшей работой Джевонса в области политической экономии явилась «Теория политической экономии», опубликованная в 1871 г.
«Моя теория,— писал он,— по своему характеру является чисто математической. Более того, полагая, что изменения всех количественных показателей, с которыми мы имеем дело, должны носить непрерывный характер, я без колебаний решаюсь на использование соответствующего раздела математики, вплоть до безбоязненного использования бесконечно малых величин. Теория заключается в применении дифференциального исчисления к исследованию знакомых понятий богатства, полезности, стоимости, спроса, предложения, капитала, процента, труда и всех количественно определимых понятий, относящихся к повседневной работе промышленности» 12.
Джевонс был твердо уверен в том, что политическая экономия может превратиться в точную науку, для этого нужны только соответствующие статистические данные. Если удастся получить эти данные, писал он, то можно будет обеспечить необходимые расчеты и возможности для предсказания. Производство продукции и цены являются количественно определенными понятиями, поэтому необходимо лишь разра10* 147;
ботать лучшие способы сбора сведений. Но хотя разработка важнейших определений, лежащих в основе такого статистического исследования, требует огромных усилий и предполагает отточенность и мастерство умозаключений, все же с помощью таких методов нельзя решить все экономические проблемы. Общество включает самые разнородные элементы, многие из которых не могут быть количественно измерены: так, важную роль играют взаимоотношения между группами людей и отдельными лицами, которые можно понять с помощью других орудий исследования; без учета этих отношений представление о реальной экономической жизни вполне может оказаться неполным.
Как бы то ни было, Джевонс попытался теоретически исследовать способ, с помощью которого, по его мнению, измерялась полезность. Вначале им излагалась теория потребительских благ, которая основывалась на их предельной полезности; затем он расширил сферу этой теории, включив в нее метод установления цен на факторы производства, близкий к идеям предельной производительности. Теория Дже- вонса напоминает в основных чертах теорию Леона Вальраса, но последняя была намного элегантнее и эффектнее. В связи с этим теория Джевонса не внушает ощущения подлинной всесторонности. Математическим построениям Джевонса не хватает литературных достоинств, присущих формулировкам Карла Менгера и Фридриха фон Визера. Однако заслуга Джевонса состоит в том, что он сумел привлечь внимание к субъективной предельной полезности, которая играет в его моделях центральную роль.
Свой анализ Джевонс начинает с того случая, когда во взаимоотношения вступают два «торговых партнера» или два индивидуума, а запас благ является неизменным; раз обмен между ними начался, они будут вести торг до тех пор, пока не достигнуто равновесие. Исходя из этого, Джевонс заключил, что сложившееся в процессе обмена соотношение между товарами равно обратному отношению конечных полезностей соответствующих товаров 13. Рамки этой модели можно расширить, включив в нее большее число участников обмена и большее число товаров. Но само понятие торговых партнеров содержало определенные теоретические проблемы. Уравнения Джевонса, как заметил Викселль, по-видимому, подразумевают для группы лиц, участвующих в обмене, некую коллективную предельную полезность — понятие, явно невразумительное 14. Далее, отношения партнеров предполагают ситуацию бесконечного двухстороннего торга, при этом совершенно не учитывается существующая в действительности всеобщая конкуренция, которая выступает в качестве краеугольного камня теории, когда она распространяется на всех участников обмена. При этом модели Джевонса предполагают, разумеется, что товары могут делиться на любое число частей и изменения их предельной полезности носят непрерывный характер. Доказывалось, правда, что данная теория предназначалась также и для ситуации, когда речь идет о больших величинах, а раз так, то понятие непрерывности может получить отчетливый смысл. В этом случае понятие торгового партнера применимо, по-видимому, также и к торговым отношениям между нациями, участвующими в международной торговле.
Основной постулат теории Джевонса гласит, что стоимость порождается предельной полезностью. Другими словами, главным фактором, определяющим меновую стоимость, является спрос, а не издержки производства, как утверждали представители классической школы. Но, добавлял Джевонс, стоимость воплощает в себе конечную степень полезности, на которую влияют и масштабы предложения, а они в свою очередь зависят от издержек производства 15. Это определенно означает, что субъективные соображения играют определяющую роль лишь в том случае, когда предложение представляет собой определенную фиксированную величину. В результате этого теория, конечно, была применима лишь к кратковременным периодам и оказывалась статичной. Можно утверждать, что на протяжении длительного периода, когда предложение изменяется, издержки производства превращаются в самостоятельный элемент стоимости 16. Очерчивая основные контуры системы обмена и распределения, Джевонс отвлекается от изменений в численности населения, политических институтах, вкусах потребителей и накоплении капитала.
Теория стоимости, как подразумевалось у Джевонса, может быть поставлена в нейтральные рамки, не зависящие от исторической эпохи и от человеческих поступков. Таким образом, в проблемах стоимости, использования ресурсов и распределения могут содержаться всеобщие черты, присущие любому экономическому строю. Например, проблема использования ресурсов должна решаться следующим образом: соотношение между предельной полезностью различных видов продукции и предельной тягостью труда, затраченного на их производство, должно быть одинаковым во всех случаях использования ресурсов 17. Нельзя сказать, чго Джевонс не понимал сущности экономической динамики; просто ему казалось, что его метод исследования более гибок в сравнении с «естественными сложно143
стями», встречающимися в реальной действительности 18.
Однако основным фактором, определяющим стоимость, является полезность, а представление о полезности в свою очередь основывается на бентамовской * психологической теории наслаждения и страдания. Наслаждение, писал Джевонс, имеет два измерения: интенсивность и продолжительность. Можно даже различать валовое и чистое наслаждение; для того чтобы определить чистое наслаждение, нужно из валового наслаждения вычесть валовое страдание 19. С течением времени наслаждение уменьшается, его величина зависит, понятно, от наличного предложения товара, который приносит соответствующий вид наслаждения. Джевонс максимально использовал бентамовскую концепцию измерения наслаждения, ему представлялось, что понять мотивы человеческой деятельности фактически можно только исходя из понятий наслаждения и страдания 20. Но Бентам полагал, что он может на практике измерить комплекс испытываемых наслаждений и страданий, тогда как Джевонс признавал, что это фактически невозможно, поскольку не существует единицы измерения наслаждения или страдания. И на самом деле, идея их измерения бессмысленна. Экономисту надлежит лишь знать, является ли в одном случае наслаждение большим, чем в другом, или же между ними существует равновесие и когда наслаждение превосходит страдание. Такой подход предполагает, что непосредственно сопоставляются порядковые величины и выносится общее суждение о соотношении между наслаждением и страданием. При определении конечной или предельной степени полезности покупатель сравнивает различные способы, с помощью которых он может израсходовать свои деньги. Это не требует сопоставления полезностей с точки зрения различных покупателей.
Все это, конечно, означало крайнее упрощение идей Бентама и могло внушить мысль о том, что в конце концов человек — это не машина, которая с молниеносной скоростью подсчитывает наслаждения и страдания. Джевонса интересовали ощущения «самого низшего порядка»; исчисление полезности затрагивало обычные человеческие желания 21. Ему нужна была полезность как таковая, которая служила бы основанием меновой стоимости, а сама * И. Бептам (1748—1832) — английский буржуазный социолог и моралист, сторонник неограниченного использования принципа утилитаризма, автор работы «Деонтология, или Наука о морали». К. Маркс дал резкую критику этой теории, назвав Бентама трезвопедантичным, тоскливо-болтливым оракулом пошлого буржуазного рассудка XIX в. (см. К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 623).— Прим, перев.
определялась бы предельной степенью полезности, то есть самой низшей точкой по шкале убывающей удовлетворенности. Такое понятие в действительности означало то же самое, что и предельная полезность. И все же остается впечатление, что Джевонс стремился использовать понятие полезности для количественных расчетов. Такое использование понятий наслаждения и полезности, как показал К. Рейнольд Нойес, лишено всякого смысла 22. Наслаждение в лучшем случае можно обнаружить интроспективным путем, его следует учитывать как один из элементов человеческого поведения, однако оно непригодно для экономических расчетов. Более того, реальный экономический человек не является рациональным существом, его поведение характеризуется скорее случайными рассуждениями, основанными на предчувствиях и неизвестных факторах.
Тем не менее, по Джевонсу, порядковое сопоставление наслаждения и страдания представляет достаточно простой способ определения стоимости. Полезность, определяемая как отношение потребителя к потребляемому товару, уменьшается подобно наслаждению, по мере того как количество товара увеличивается. Однако с указанным положением можно согласиться лишь как с некой моментальной/фотографией потребления; оно, разумеется, не распространяется на случай повторного использования товара в течение данного промежутка времени. В последнем случае проблема насыщения, по-видимому, может не иметь места, и при повторном потреблении полезность последующих единиц не уменьшается. Представители маржиналистской теории стремились опровергнуть такую интерпретацию; например, Мен- гер настойчиво указывал, что даже в таких случаях все же должно происходить насыщение. Проявляя осторожность, Джевонс подчеркивал, что существует различие между общей полезностью и конечной степенью полезности, и определял последнюю как соотношение между приростом полезности, обеспечиваемым последней единицей блага, и приростом общего запаса благ. Мысль Джевонса об отношении двух величин позволяла использовать более гибкий математический аппарат для сравнения результатов потребления при наличии различного запаса благ; но, несмотря на это, такое количественное определение все же не означало какого-либо прогресса в сравнении с более простым понятием предельной полезности у Менгера и Визера.
Исходя из сказанного, нетрудно прийти к следующему заключению: максимум полезности достигается в том случае, когда потребитель расходует свои средства так, что во всех 149
случаях обеспечивается одна и та же конечная степень полезности. Допуская вероятность насыщения в последующий период, этот принцип можно применять также и к потреблению благ в будущем, хотя такой процесс обычно представляется далеким и неопределенным. Джевонс полагал, что максимальное удовлетворение человек получит при потреблении запаса товаров в настоящее время, тем самым сравнительно большая полезность связывается с немедленным их использованием. Эту особенность Джевонс считал универсальным свойством, которое он приписывал человеческому нетерпению. Однако теория полезности в трактовке Джевонса содержала так много двусмысленностей, а ее исходные посылки носили столь очевидный гедонистический характер, что впоследствии экономисты стремились избегать расчетов наслаждения и страдания, они использовали технику Джевонса, но отсекали при этом ее психологическую основу.
Хотя Джевонс использовал понятия полезности и редкости для того, чтобы показать, что стоимость определяется различными факторами, все же он по-прежнему как-то выделял труд в качестве «первой цены, первоначальной покупки», с помощью которой расплачиваются за все предметы; труд образует начало всех процессов, которыми, по-видимому, должны заниматься экономисты 23. Но Джевонс быстро терял из виду «труд», и вскоре снова брало верх первоначальное стремление автора рассматривать психологические факторы в качестве определяющей экономической силы. Создавалось впечатление, что, по Джевонсу, индивидуум действует в одиночку и на него не оказывают влияния общественные отношения, существующие в связи с наличием рынка. Реакции индивидуума, конечно, оказывают существенное влияние на его поведение, но, как отмечал Морис Добб, всякая попытка вывести общие понятия на основе такой теории предполагает разрешение серьезных логических затруднений, потому что индивидуум, рассматриваемый как атомистическая единица, не тождествен индивидууму, рассматриваемому во взаимосвязи с социальными условиями 24. Общественное влияние, которому подвергается человек, многообразно и сложно, оно обусловливает такое явление, как потребительский выбор. Последний не носит нейтрального характера, как это предполагается в теории Джевонса, ибо потребительский выбор в значительной мере зависит от одной из важнейших социально-экономических сил — существующей структуры распределения доходов. Стало быть, проблема мотивации хозяйственной деятельности должна корениться в институциональных условиях. В противном случае теория попросту формальна и лишена своего содержания.
Важным компонентом системы Джевонса, как и у представителей австрийской школы, была теория капитала. Понятие капитала в самом общем виде основывалось на представлении о запасе богатства, которое можно измерить, хотя временами у автора можно проследить и трактовку капитала как фонда ценностей. Более полное развитие эта мысль о фонде получила в последующий период, но все же Джевонс сумел предвосхитить ее. Он пытался начать анализ с трактовки капитала в духе классической школы, но вскоре пришел к выводу о существовании важного различия между производственным оборудованием и благами, на которые расходуется заработная плата. Функция капитала, писал Джевонс, состоит в том, чтобы поддерживать существование данного количества наемных рабочих на протяжении такого периода, который отводится им для завершения работы 25. Существенными условиями дальнейшего совершенствования производственного процесса являются капитал, позволяющий «авансом» осуществлять затраты на покупку труда, и достаточное предложение благ, на которые расходуется заработная плата. Такие представления вполне можно истолковать как элиминирование всех операций, совершаемых капиталом, за исключением обмена денег на труд. Если перейти на более высокую ступень абстракции и при дальнейшем анализе отвлечься от самих денег, это отношение превратится просто в отношение между благами, на которые расходуется заработная плата, и услугами, оказываемыми трудом. В таком случае можно сказать, что норма процента служит лишь элементом накопления благ, на которые расходуется заработная плата. Доходы от основного капитала или оборудования, которые, как следовало из представлений Джевонса, на самом деле не яляются капиталом, образуют, собственно говоря, определенную форму ренты; это напоминает мысль Маршалла о квазиренте.
При ограниченном предложении благ, на которые расходуется заработная плата (главным образом в связи с недостаточностью финансовых ресурсов), выбор альтернативных производственных процессов может быть серьезно ограничен, а в конечном счете это может повлиять и на характер готовой продукции. Важную роль здесь играет, как полагал Джевонс, фактор времени, потому что между началом осуществления проекта и моментом реализации произведенных товаров или услуг проходит некоторое время. Другими словами, речь идет о периоде строительства, на протя150
жении которого требуется финансировать соответствующие расходы. Настоящее должно быть как-то связано с будущим: и вот здесь-то капиталист и занимает подобающее ему место; благодаря его деятельности не только устанавливается связь между производством и потреблением, но текущее производство тщательно увязывается с расчетами и предположениями на будущее 26. Часть всех благ, произведенных капиталистами и проданных рабочим в обмен на их заработную плату, должна, понятно, использоваться для того, чтобы способствовать производству товаров в будущем, то есть для того, чтобы обеспечить труд, необходимый для возмещения и расширения производственного оборудования. В таком случае главную выгоду от процесса расширения производства извлекает не капиталист, а трудящийся: в его распоряжении оказывается непрерывно расширяющийся запас оборудования, с помощью которого можно увеличивать капиталовложения !
В эту довольно сложную картину вписывалась теория процента. Джевонс отверг концепцию, согласно которой воздержание образует элемент процента, и ограничил свой анализ свободным капиталом, то есть частью капитала, обеспечивающей производство тех благ, на которые расходуется заработная плата 27. Он связывал процент с тем, что от начального момента производства до получения результатов проходит определенное время; и взгляды Джевонса довольно сильно походили на теорию предельной производительности. Поскольку с увеличением производственного периода возрастает и выпуск продукции, процент можно исчислять как отношение прироста продукции к приросту свободного капитала. Это в лучшем случае приблизительные представления о предельной производительности, дополнявшие классические представления о производственном периоде указанием на роль времени. Тем не менее выдвинутая Джевонсом теория процента была хорошо принята. Дальнейшее свое развитие в нематематической форме эта теория получила у Бем-Баверка, для которого понятие капитала означало замещение прямых производственных методов окольными и тем самым — увеличение масштабов и эффективности производства.
Трактовка капитала у Джевонса знаменовала дальнейшее развитие теории фонда, но она почти не двигала вперед теорию денег. Действительно, Джевонс в своем экономическом анализе отводил проблеме денег самое последнее место 28. Как указывал Уэсли Митчелл, гедонистический принцип предполагает такую теорию обмена, в которой деньги не играют никакой роли. Всеобщим принципом экономической теории служат не денежные стимулы для предпринимателей, их место у Джевонса занимает стремление к наслаждению. Это не значит, что он вообще не сознавал роли денежных факторов: его книга «Исследования в области денежного обращения и финансов» содержит многочисленные доказательства того, что эти проблемы привлекали его интерес 29. Но его представления никак нельзя считать законченной общей теорией стоимости, которая содержит также и положения относительно стоимости денег. С подобным утверждением, высказанным Артуром У. Маргетом, нельзя согласиться; его полемическая попытка воссоздать теорию денег Джевонса основывается лишь на отрывочных высказываниях последнего. Приходится заключить, что Джевонс вообще не относится к числу теоретиков, посвятивших себя изучению проблемы денег 30.
Если Джевонсу потребовалось столько усилий для того, чтобы втиснуть проблему денег в рамки своей теории, то с проблемой труда у него таких сложностей не возникало. Увеличение общей полезности просто предполагает большее количество товаров, а это требует дополнительных затрат труда. Это была просто оборотная сторона медали, лицевая сторона которой воплощала наслаждение. Труд представляет «страдание», испытываемое при создании полезности 31. Действительно, труд выступает в качестве отрицательной полезности — речь идет о тягости (disutility) работы,— и как таковой он образует на деле единственный важный элемент производственных издержек. С увеличением продолжительности работы тягость накапливается; исходя из этого факта, имеющего фундаментальное значение, можно построить возрастающую кривую, отображающую рост издержек. Именно это и лежит в основе ограниченности предложения, указывал Джевонс. Труд затрачивается до тех пор, пока полезность последней единицы благ в точности уравновешивается возрастающими жертвами. При дальнейшей разработке указанной теории были использованы графики, где на кривую убывающих размеров производства накладывалась кривая приятности труда, значения которой отсчитывались на той же оси. В той мере, в какой последняя кривая отклоняется вверх от горизонтальной оси, получаемое от работы удовольствие возрастает. При увеличении выпуска продукции, откладываемого по горизонтальной оси, кривая приятности труда продолжает повышаться, но затем поворачивает вниз и в конце концов, снижаясь, пересекает ось абсцисс, что указывает на увеличивающуюся неприятность труда. Тягость труда превра151
щается в возрастающую функцию от количества работы 32.
Такой анализ, конечно, охватывает самый короткий промежуток времени и относится лишь к единичному периоду; здесь не учитываются ни многочисленные осложняющие обстоятельства, связанные с ситуацией на рынке труда, ни тот факт, что работа представляет непрерывный процесс, в ходе которого кривая тягости изо дня в день воспроизводится, не достигая точки равновесия, как его трактовал Джевонс. Дневная работа может быть примерно изображена с помощью той или иной кривой полезности, но общее бремя труда бесконечно накапливается в связи с необходимостью поддерживать существование и требованиями процесса производства. Более того, теория Джевонса предполагает, что рабочий может тщательно определить и взвесить величину тягости, а такая предпосылка носит довольно фантастический характер. К тому же рабочий не располагает такой свободой передвижения, которая подразумевается в теории: современный капитализм просто не функционирует так, как имел в виду Джевонс. С точки зрения современных условий его алгебра стимулов экономического поведения нереальна, а бентамовская методика гедонистических расчетов представляется совершенно бесполезной. Люди обычно не прибегают к оценке полезных результатов работы и их сопоставлению с энергией, которую придется затратить на нее: предлагая такие расчеты, их авторы уклоняются от задачи исследования экономических отношений в обществе, где лишенным собственности рабочим противостоят владельцы частной собственности, особенно когда она выступает в форме собственности корпораций. Более того, вполне можно утверждать (как это сделал впоследствии Гобсон), что существуют определенные виды труда, тягость которых вообще не удается обнаружить.
Рабочий, писал Джевонс, должен выплачивать капиталисту процент, потому что сам рабочий был не в состоянии накопить сбережения из своих доходов, и, следовательно, он не может обеспечить себя собственными средствами производства 33. Высокая заработная плата не является решением вопроса, продолжал он с некоторым самодовольством, потому что рабочий склонен к излишествам и плохо осведомлен о существующих возможностях. Профессиональные союзы в действительности оказываются бесполезными; если рабочий может выплачивать профсоюзные взносы, так почему бы ему не откладывать сбережения? Фактически же Джевонс не выступал против профсоюзов, так как признавал, что они являются важным средством, с помощью которого достигается равновесие при заключении трудового договора. Но, как доказывал Джевонс, лидеры профсоюзов, по-видимому, не понимают, что конфликт в промышленности означает выступление трудящихся против самих же трудящихся, так как интересы рабочего совпадают с интересами предпринимателя. В соответствии со своими философскими взглядами и с теорией распределения Джевонс выступал в защиту проектов участия в прибылях, потому что с их помощью рабочий превращается в мелкого капиталиста 34. Он проходил мимо того неоспоримого исторического факта, что отчуждение рабочих от средств производства — это постоянная черта хозяйственного строя. Предположим, рабочие откладывают сбережения (что они в действительности и делают), какое же производственное оборудование могут они в таком случае приобрести? Ответ на этот вопрос, вероятно, ярче всего демонстрирует бесплодность характерного для Джевонса нейтралистского подхода. Его строгая критика в адрес рабочих оказывается столь же полезной, как и основная психологическая концепция.
Концепция заработной платы, выдвинутая Джевонсом, представляет собой один из вариантов теории остаточного дохода 35. Это можно ясно видеть из следующих его слов: заработная плата совпадает с тем «...что [рабочий] производит, после вычета из продукта труда ренты, налогов и процента на капитал» 36. С другой точки зрения выплату доходов остальным факторам производства должен осуществлять труд, тем самым предполагается, что центральным элементом в теории распределения является рабочий. Создается впечатление, что по- крайней мере в этой области Джевонс не смог избавиться от тяготевшего над ним груза традиций классической школы. Более того, теорию ренты Рикардо он воспринял в сущности in toto *; прибыль он разлагал на заработную плату за управление, страховую премию за риск и процент на капитал. Рента проистекает из различий в плодородии земельных участков, и из существования убывающей доходности. Премия за риск означает дифференциальный доход, требующийся, чтобы побудить капитал к таким вложениям, результаты которых неясны. С помощью конкуренции в длительной тенденции должно достигаться выравнивание- этих доходов для всех видов деятельности. 87
Экономическая теория Джевонса содержала также ряд других необычных, но интересных аспектов. Широкую известность его имя получило, разумеется, в связи с теорией, объяс* Целиком (лат,).— Прим, перев.
152
няющей экономический цикл пятнами на Солнце; эта теория часто вызывала насмешки. Уже в 1875 г. Джевонс высказал мысль о возможном существовании известной корреляционной зависимости между погодой и условиями экономического развития. В 1878 г. он повторил этот тезис, использовав в своей аргументации дополнительный фактический материал, который якобы мог свидетельствовать о наличии тесной связи между периодичностью смены пятен на Солнце и экономическими кризисами 37. Однако, когда выяснилось, что данные о периодичности урожаев в европейских странах, по- видимому, не подходят для его целей, Джевонс использовал материал, относящийся к Индии, исходя из предположения о том, что более тесная зависимость существует между английской торговлей и условиями погоды в Индии. «Факты», которые он приводил, свидетельствовали о том, что смена пятен на Солнце происходит через 10~ лет, примерно такова же и периодичность экономического цикла, налицо, как он полагал, великолепная корреляция. Однако фактический материал был неудовлетворителен и аргументация не всегда убедительна. Кейнс отмечал, что Джевонс мог бы связать свою теорию с земными и более солидными фактами, если бы он подверг анализу колебания инвестиций, помещаемых в запасы сельскохозяйственных товаров. Его аргументация была бы намного более основательной, если бы он показал, как в связи с поддержанием на протяжении урожайных и неурожайных лет известных запасов сельскохозяйственных товаров происходит чередование дефицитов и инвестиций. Короче говоря, Джевонсова теория цикла оказывается интересным вымыслом.
И тем не менее Джевонс был не только крупным экономистом-теоретиком, но и выдающимся статистиком. Хотя своей ранней работой «Колебания коммерческой деятельности» 38 он и не внес много нового в проблему использования статистических данных для графического анализа, все же из этой работы явствовало, что необходима более строгая математическая трактовка рассматриваемых явлений. Джевонс стремился обнаружить закономерности и тенденции развития. Вот что писал по этому поводу Кейнс:
«Часами он приводил в порядок данные, наносил их на графики, исключал ненужные точки и, подобно тому, как анатом подкрашивает срезы, тщательно подцвечивал кривые искусно подобранными блеклыми красками; все время он был погружен в эти графики и размышлял над ними, стремясь разгадать их секрет. Возвращаясь мыслями к прошлому, отметим характерное явление: на протяжении пятидесяти лет после 1862 г. у него оказалось так мало последователей и подражателей, которые также посвятили бы себя черной магии индуктивного экономического анализа. Однако в настоящее время он, безусловно, указал бы на бесчисленное количество своих учеников, хотя научная интуиция, которая позволяет ориентироваться в зыбучих песках экономической статистики, и теперь встречается не чаще, чем раньше» 39.
Джевонс обычно рассматривал сезонные колебания учетного процента, банкротств и курса консолей *. Он установил длительную тенденцию к повышению уровня цен; предполагая, что это может быть связано с уменьшением стоимости денег, он перешел далее к изучению проблемы золота. Занимаясь этими исследованиями, Джевонс разработал ряд вопросов теории индексов: так, он рассмотрел различные аспекты проблемы взвешивания и исчисления средних г а также вопрос о том, какое количество товаров должно быть включено в набор при составлении индекса. Он решал в сущности все важнейшие методологические вопросы исчисления индексов. Вклад Джевонса в развитие статистической науки нашел признание у столь крупного специалиста в этой области, как Уэсли К. Митчелл, который в своей книге «Экономические циклы» писал, что на долю У. Стэнли Джевонса выпало дать первый мощный толчок развитию статистического анализа в сфере экономической теории 40.
Джевонс полагал, что устойчивая вековая тенденция к повышению цен играет благотворную роль; это проявляется в том, что она стимулирует здоровое развитие экономики. В этом вопросе заодно с ним был Джон Мейнард Кейнс, который широко использовал также и подразумевавшуюся Джевонсом мысль о том, что можно проследить связь циклов с диспропорциональными вложениями в основной капитал. Однако даже здесь доминирующую роль играл психологический аспект. В своей книге «Исследования в области денежного обращения и финансов» Джевонс писал о том, что экономический кризис может носить «...психологический характер и зависит от последовательной смены уныния, надежды, возбужденности, разочарования и паники» 41.
Первой работой, которая принесла Джевон- су широкую известность, явилась книга «Проблема угля», опубликованная в 1865 г. Ее заметил не кто иной, как Уильям Гладстон, * Консоли — сокращенное название консолидированной ренты, в данном случае бессрочные облигации английского правительства.— Прим, перев.
153
которому издатель направил копию книги; Милль упомянул о ней в парламенте; высказанные в ней положения использовались в качестве аргумента в пользу сокращения государственного долга. Если Англия действительно преуспевала благодаря своему хозяйственному капиталу, как это подразумевалось в книге «Проблема угля», в таком случае разве уменьшение государственного долга не облегчило бы экономическое бремя? Джевонс рассуждал просто: для того чтобы в последующий период сохранить промышленное лидерство, Англии потребуется громадное расширение энергетических ресурсов. Спрос на уголь будет возрастать в геометрической прогрессии, подобно тому как увеличивается население по «закону» Мальтуса. В то же время добыча угля, как и производство предметов питания в мальту- совской схеме, характеризуется убывающей производительностью. По мере того как возможности строительства новых шахт окажутся исчерпанными, а условия добычи в старых шахтах ухудшатся, издержки возрастут и промышленная система страны окажется под угрозой. Джевонс, разумеется, не имел в виду, что угольные шахты полностью истощатся, скорее он опасался того, что Англия не сможет далее сохранять свое былое превосходство, так как более молодые промышленные страны континентальной Европы и Северной Америки получат возможность догнать ее. Хотя Джевонс и недооценил потенциальные возможности, заложенные в новых источниках энергии, все же, подчеркивая временный характер промышленного превосходства Англии, он обнаружил незаурядную прозорливость.
Вопросы государственной политики в лучшем случае расположены на периферии интересов Джевонса. Агитация в пользу избирательной реформы для него не имела большого значения, а в письме своему брату Джевонс признавался, что он вообще ничего не понимает в политике 42. Его интересовала, как он писал, только чистая экономическая теория, а решение вопросов относительно ее использования он предпочитал оставить другим. Весь интерес Джевонса к истории по существу был интересом к фактам, имеющим антикварный характер: он мог исследовать труды предшественников той или иной теории, заново открыть Ричарда Кантильона * и исчислить значения индексов для прошлых * Ричард Кантильон (1680—1734) — английский экономист и купец, предшественник физиократов; его идеи, как отмечал К. Маркс, «обильно заимствовали Кенэ, сэр Джемс Стюарт и А. Смит» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 566). Он выдвинул тезис о том, что в основе богатства лежит производство продуктов земледелия.— Прим, перев.
лет вплоть до XVIII в.; однако все это отнюдь не означало, что Джевонс раскрывал живой смысл воспроизводимых им фактических данных. Весь его интерес к изучению истории выливался в полезную манию коллекционирования книг и неизвестных отрывков, посвященных экономической теории. Джевонс собрал огромную библиотеку, насчитывавшую свыше трех тысяч томов по экономике и смежным проблемам, после его смерти эта библиотека была перевезена в Японию 43.
В отличие от Джевонса, интересовавшегося чистой экономической теорией, представители традиционной экономической науки в Англии поступали в духе Рикардо, неизменно проявляя глубокий интерес к текущим событиям. Экономисты действительно являлись специалистами по политической экономии, стремившимися использовать свои научные знания в качестве непосредственного орудия прогресса. Круг таких экономистов чрезвычайно широк, среди представителей данного направления можно найти всех корифеев классической традиции — Смита, Рикардо, Милля, а во времена Джевонса к их числу относился Альфред Маршалл. Новый подход, разработанный Джевонсом и австрийской школой, превращал экономическую теорию в науку совершенно иного типа. И не случайно незавершенный труд, который остался после смерти Джевонса, носит заглавие «Принципы экономической теории» («Principles of Economics»), а не «Политическая экономия» 44. Перед ним стояли уже иные вопросы. В трудах Рикардо и Милля рассматривались проблемы производства, распределения, стоимости, налогового обложения и народонаселения. У Джевонса сфера исследования была гораздо уже и в основном сводилась к проблемам стоимости и обмена. Однако он не отвергал полностью и другие вопросы: Джевонс просто исходил из принципа разделения труда, полагая, что он сумеет внести большой вклад в развитие экономической науки в том случае, если будет заниматься статической теорией обмена.
Впоследствии Морис Добб довольно убедительно показал, что предмет экономической теории (economics) не полностью совпадает с предметом политической экономии 45. Последняя рассматривает, как он писал, отношения между классами и социальными группами, о чем свидетельствуют работы Смита, Рикардо и Маркса. А в центре исследования экономической теории находится равновесие, которое достигается в атомистическом обществе в ходе конкуренции. Основной упор с издержек производства был перенесен на полезность. Вместе с тем было введено понятие предельных изменений, что облегчило применение матема154
тических методов, с помощью которых можно изучать бесконечно малые изменения в рыночных соотношениях. Дело не ограничивалось тем, что была устранена категория объективных издержек, бесполезным объявлялось само понятие излишка. Наиболее важную роль в экономической теории стали играть проблемы рыночной стоимости и равновесия между субъективными устремлениями. Основа стоимости больше не считалась столь простой, потому что она выводилась из взаимоотношений между участниками рыночного обмена. Теперь она стала полностью зависеть от непрерывно меняющейся функции полезности.
Следовательно, маржиналистская теория означала не просто другой способ рассмотрения проблемы стоимости, она знаменовала собой иной подход к экономическому анализу. В качестве условий, определяющих хозяйственные решения, прочно утвердились психологические факторы. Экономический закон, описывающий поведение индивидуума, суммируется, благодаря чему можно охарактеризовать поведение группы людей и в конечном счете — функционирование всего общества 46. Теперь стали придавать значение отношениям между человеком и товаром, а не отношениям между людьми, которые играли столь важную роль и у представителей классической школы, и у марксистов. Представления марксистов могли, конечно, положить начало развитию фанатичной идеологии, такой путь развития являлся нежелательным с точки зрения ученого-экономиста, стремящегося создать позитивную науку и разработать достаточно нейтральные рекомендации, которые охватывали бы решение проблемы распределения ресурсов как внутри сложного индустриального общества, так и для Робинзона Крузо. Теория полезности удовлетворяла всем этим требованиям, и вдобавок ко всем своим преимуществам она подтачивала основу теорий, выводивших стоимость из затрат труда или издержек производства 47. Как отмечал Карл Бринкман, «маржиналистскую экономическую теорию можно интерпретировать как реакцию на то, что классическая теория, объясняющая стоимость издержками производства, была заведена в тупик Карлом Марксом, выдвинувшим яркую концепцию трудовой стоимости и создаваемого в результате эксплуатации излишка» 48*.
* В действительности разложение классической школы произошло в результате неспособности ее представителей разрешить противоречия ее теории, и прежде всего внутреннее противоречие ее категории «стоимость труда». Маркс, используя все положительное, что дала трудовая теория стоимости классиков, коренным образом переработал ее, создал действительно научную теорию трудовой стоимости и объяснил тайну происхож-
В наше время в некоторых кругах полагают, что взгляды Джевонса были до известной степени «реакционными». Его подход к вопросам морали и к социальным реформам прочно основывался на индивидуализме викторианской эпохи. В юности он посещал расположенные по соседству рабочие кварталы и был тронут бедствиями и нищетой, которые он там наблюдал. Однако ответственность за эти беды Джевонс возлагал на самих рабочих; он подчеркивал, что неравенство в богатстве и доходах всецело проистекает из различия в индивидуальных способностях. Финансовая политика ни в коем случае не должна использоваться в качестве средства переустройства общества; прямые налоги, по его мнению, должны быть пропорциональны облагаемым доходам, а косвенными налогами товары следует облагать в таких размерах, чтобы налоговое бремя, приходящееся на более состоятельные классы, не оказалось чрезмерным 49. Бесплатное обслуживание в больницах и бесплатная медицинская помощь бедным только деморализуют их и лишь усугубляют иждивенческие настроения среди низших классов. Вместе с тем систему государственного обучения он считал полезной, потому что с ее помощью можно сделать неимущих более благоразумными.
В отличие от теорий Смита и Рикардо теория Джевонса не была порождена крупным социальным конфликтом. Джевонс стремился создать оригинальную экономическую теорию — науку такого же типа, как физика. Экономическая теория для него означала «своего рода математический аппарат, используемый для количественной оценки причин и следствий в деятельности человека». Однако большая часть его аналитического аппарата свидетельствует о том, что Джевонс оставался представителем классической школы. Это, безусловно, относится к его теории распределения, в которой Джевонс, по существу, полностью воспринял прежние представления о ренте и об изменениях в народонаселении. Оригинальный характер носит только его теория стоимости 50. Тем не менее он надеялся, что его теория позволит смягчить конфликт между трудом и капиталом и что наступит день, когда члены профсоюзов прекратят свою непрерывную борьбу против предпринимателя, который в действительности является их союзником 51. Основное теоретическое произведение Дже-
дения прибавочной стоимости, которую не сумели раскрыть Смит и Рикардо. Таким образом, в тупике оказалась не трудовая теория стоимости, а всевозможные меновые и психологические концепции, которые развивали представители вульгарной политической экономии.— Прим. ред. 155
вонса было опубликовано в 1871 г., и в то время оно почти не привлекло внимания. Не способствовал успеху и холодный отзыв Маршалла. Разочарование Джевонса еще более усилилось, когда он обнаружил, что сформулированные им идеи были предвосхищены Германом Генрихом Госсеном, высказавшим их в 1854 г. 52. Джевонс писал своему брату, что чувствует себя в положении автора теории, которую большинство людей считает вздорной, тогда как остальные знают, что она не оригинальна 63. Однако, если бы теория Джевонса была построена более тщательно, она могла бы добиться признания, к которому ее автор так стремился. Но его идеи не были разработаны достаточно глубоко и являлись просто предположениями. Когда аналогичные положения подверглись дальнейшему развитию в работах представителей австрийской школы, большая точность аргументации (даже несмотря на то, что при этом не использовалась математика) обеспечила указанным идеям полный успех. На деле, может быть, именно то обстоятельство, что Менгер избегал математических формулировок, сделало его произведение «Основания политической экономии» более привлекательным по сравнению с работами Джевонса 54.
Однако Джевонс выполнил фактически лишь половину работы. Представители австрийской школы смогли распространить психологическую теорию стоимости не только на потребительские блага, но также на капитальные блага и на промежуточные товары. Это придало их теории более общий характер: у Менгера и Визера стоимость могла переноситься путем «вменения» на товары, находящиеся в процессе производства, и даже на сырье просто потому, что стоимость была внутренне присуща готовой продукции. Несколькими годами позже проблема стоимости и полезности была подвергнута более тщательному исследованию в теории всеобщего равновесия Вальраса; он был лучшим математиком и смог добиться большего успеха даже при построении моделей. Кроме того, Джевонсу не повезло и с представлениями, которые он унаследовал от Бентама; примерно в то же время, когда Джевонс развивал свою новую теорию стоимости, начали приходить к выводу, что в своем выборе человек не руководствуется шкалой наслаждения — страдания и человеческие желания не измеряются бесконечно малыми величинами. Ирония судьбы заключается в том, что наибольшее влияние идей Джевонса можно обнаружить среди представителей фабианского социализма, которые восприняли теорию полезности от Уикстида через Джорджа Бернарда Шоу. Они и стали наиболее активными учениками Джевонса.
2. МЕНГЕР, ФОН ВИЗЕР
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВСТРИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Общепризнано, что книга Карла Менгера «Основания политической экономии», изданная в 1871 г., произвела переворот в экономической теории 55. Книга пользовалась влиянием на протяжении долгого времени, но в первые годы после выхода в свет у нее был лишь ограниченный круг читателей. Взгляды Менгера получили более широкое распространение главным образом благодаря работам лучших его учеников — Фридриха фон Визера и Евгения фон Бем-Баверка. Хотя работа Джевонса вышла в свет также в 1871 г., а Леон Вальрас опубликовал свою «чистую экономическую теорию» лишь тремя годами позже, все три автора — вдохновители маржиналистской революции — работали независимо друг от друга. Однако их теории оказались поразительно схожими, и не составляло особого труда изложить математические теоремы Джевонса в литературной форме, которой так владел Менгер. Но материал у Менгера лучше систематизирован; те, кто предпочитал иметь дело с позитивными взглядами, изложенными в завершенной форме, считали своим духовным отцом скорее Менгера, чем Джевонса.
Менгер (1840—1921) родился в Галиции, которая тогда входила в состав Австрии; представители семьи Менгеров издавна находились на государственной гражданской службе или служили офицерами в армии. Детские годы Менгер провел в Западной Галиции, здесь он мог наблюдать существовавшие в сельской местности феодальные отношения. Менгер изучал юриспруденцию в Пражском и Венском университетах, затем в 1867 г. занялся экономической теорией. Его брат Антон Менгер был известным правоведом, автором знаменитой книги «Право на полный результат труда». Опубликовав работу «Основания», Менгер смог получить место в Венском университете, где он преподавал до 1903 г.; затем он решил снова полностью посвятить себя научным исследованиям и созданию новых произведений. Его’ работы, посвященные экономической теории, 156
не очень многочисленны: кроме книги «Основания» и нескольких менее значительных произведений, можно назвать знаменитую статью, в которой он развивает мысль о том, что в системе товарного обмена деньги являются просто товаром, пользующимся наибольшим опросом 56, и книгу, посвященную методологии — «Исследования о методе общественных наук и особенно политической экономии»,— которая была издана в 1883 г. С 1876 по 1878 г. Менгер являлся наставником кронпринца Рудольфа, в этот период он много путешествовал по странам континентальной Европы. В 1879 г. он вернулся к преподавательской работе; его взгляды с энтузиазмом пропагандировали Вивер и Бем-Ваверк, и авторитет Менгера быстро рос. Так начала оформляться австрийская школа в политической экономии (economics).
В немецких университетах новая теория встретила упорное сопротивление, которое было вызвано не столько ее содержанием, сколько методологическими принципами. В то время в академических кругах господствовали представления исторической школы, возглавлявшейся Шмоллером; основное внимание немецких экономистов по существу было приковано к практическим проблемам, в центре их внимания находились вопросы реформ и управления. Любая теория разрабатывалась тогда на основе экономической истории и пыталась разрешить такие проблемы, как определение «стадий» экономического развития. В таких условиях экономист, занимающийся чистой теорией, не мог рассчитывать на признание. Преобладающее большинство экономистов фактически не признавали достоинств, присущих абстрактному мышлению. Это не значит, что они враждебно относились ко всяким теоретическим рассуждениям, скорее они просто неспособны были оценить преимущества такого метода или сколько-нибудь разумно использовать его. Для экономиста-теоретика не было соответствующей аудитории, и даже тех, кто стремился постигнуть теорию, следовало вести за собой с большой осторожностью, остерегаясь, как бы они не оказались далеко позади. В такой обстановке требовалась немалая смелость для того, чтобы выступить в защиту абстрактных принципов теории предельной полезности.
В силу этого концепция, разработанная Мен- гером, носила в известном смысле экстраординарный характер. Хотя у него был ряд предшественников 57, все же именно представления Менгера придали особый колорит новой экономической теории, точно так же как произведения Рикардо оставили свой отпечаток на англосаксонской политической экономии XIX в. б8. Но в отличие от Рикардо Менгер не искал путей решения практических проблем. Он просто был теоретиком, ищущим нового подхода к исследуемым проблемам. Когда он и его ученики завершили свою работу, перед всеми предстала экономическая теория нового типа. Эта теория предполагает, что, какое бы общество мы ни рассматривали, сама полезность товара, или его пригодность к использованию, рассматриваемая в качестве психологической основы, достаточна для того, чтобы объяснить экономический закон данного общества. Напомним, что, когда «Основания» вышли из печати, Менгеру было всего тридцать один год.
После того как Менгер опубликовал свою теорию и покончил с методологическими проблемами, он предпочел заняться исследованиями в области философии и этнографии. Даже после 1903 г., когда Менгер вышел в отставку, для того чтобы посвятить все свое время работе над книгами, он опубликовал мало новых произведений. Второе издание книги «Основания» вышло в свет в 1923 г., через два года после смерти Менгера; новое издание содержало обширные примечания, написанные им в последние годы жизни, и особенно его мысли относительно теории «потребностей». Он был, как свидетельствуют воспоминания, вдохновенным преподавателем: среди студентов Венского университета, стремившихся стать экономистами, вошло в традицию совершать паломничество домой к Менгеру 59. Лекции его, очевидно, были чрезвычайно четкими, и на протяжении последующих двадцати лет все стремились раздобыть их конспекты, которые считались лучшим пособием при подготовке к экзаменам (примерно так же, как в Америке последующие поколения гонялись за конспектами лекций Уэсли К. Митчелла). Однако Менгер так и не завершил экономической системы, которую он начал создавать; как полагает Лео Рогин, это было связано в конечном счете, вероятно, с тем, что Менгер уклонялся от непосредственного теоретического анализа некоторых острых социальных проблем 60. Социальные аспекты экономических проблем играли, с точки зрения Менгера, второстепенную роль в сравнении с чисто логическими построениями.
Когда критика классической школы была доведена до конца, и особенно после того, как Дж. С. Милль отрекся от ряда важнейших положений классической теории, последняя оказалась в весьма незавидном положении. После того как представители немецкой исторической школы и их единомышленники в Англии завершили критику теоретической системы, казалось, вряд ли имело смысл отстаивать прежние взгляды. Тем не менее тра157
диционные представления, ведущие свое начало от Кондильяка *, Германна ** и итальянских экономистов, сохранялись; приверженцы этих традиционных взглядов настаивали на том, что стоимость и полезность — это понятия, которые в значительной степени связаны между собой 61. Менгер в основном был знаком с содержанием предшествовавшей дискуссии по данному вопросу, возможно, он не знал лишь о взглядах Курно *** и фон Тю- нена **** 62. Однако, взрыхляя почву под экономическую теорию полезности, Менгер не стал использовать математический аппарат, разработанный его предшественниками. Возможно, что Менгер очень хорошо владел математическими методами (его сын Карл был математиком), хотя скорее он сомневался в целесообразности их использования в сфере экономической теории. Его интересовала главным образом зависимость между различными величинами, а не математические манипуляции, производимые на их основе; для этой цели в большей мере подходил логический анализ. Менгер заметил однажды, что основное содержание теории открылось ему при изучении отчетов об операциях на рынке — ему была предоставлена такая возможность, когда он работал журналистом. В это время Менгер убедился в том, что существует поразительное противоречие между традиционной теорией цены и рыночной практикой ценообразования 63.
Менгер развернул полемику с противниками теории в опубликованной в 1883 г. книге «Untersuchungen uber die Methode der Sozial- wissenschften» *****, В ней содержалась энергичная критика в адрес главы исторической школы Шмоллера. Менгер стремился доказать, что его метод исследования обладал не меньшими достоинствами, чем метод Шмол- * Кондильяк Этьен Бонно (1715—1780) — французский экономист и философ. Полагал, что стоимость товара определяется его полезными свойствами. К. Маркс отмечал, что «аргумент Кондильяка часто повторяется современными экономистами»... (К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 23, стр. 170).— Прим, перев.
** Фон Германн Фридрих Бенедикт (1795— 1868) — немецкий экономист; сторонник объяснения стоимости товара его пригодностью к потреблению.— Прим, перев.
*** Курно Антуан Огюстен (1801 — 1847) — французский экономист-математик, один из предшественников субъективного направления в политической экономии.— Прим, перев.
**** фон Тюнен Иоганн Генрих (1783—1850) — немецкий экономист, в своих работах рассматривал проблему стоимости сельскохозяйственных продуктов и теорию ренты.— Прим, перев.
***** «Исследования о методе общественных паук».— Прим, перев.
лера. Некоторые из сторонников Менгера были несколько разочарованы и даже выражали сомнения: действительно ли игра стоит свеч? Тем не менее работа Менгера ясно (по крайней мере с точки зрения австрийской школы) показала особый характер исследования в области общественных наук. Точка зрения Менгера пользовалась определенным влиянием на протяжении длительного периода, это влияние можно обнаружить в произведениях таких экономистов, как Мизес и Хайек 64. Менгер подчеркивал, что в исследовании экономических проблем он придерживался чисто атомистического метода. Такой методологический подход позволил ему отобразить определяющую роль субъективных факторов. Теоретические суждения в экономике должны основываться на стремлении к личной выгоде, на совершенном знании рынка и полной мобильности факторов производства. Агрегатные понятия, как он полагал, не имеют смысла до тех пор, пока они не сведены к их индивидуальным компонентам. Это утверждение можно истолковать скорее как бессознательную политическую декларацию, чем как чисто научное положение, поскольку хорошо известны крайне консервативные взгляды Менгера. Здесь опять-таки очевидно влияние Менгера на «дуэт» Мизес — Хайек.
По мнению Менгера, экономические явления можно исследовать с различных точек зрения — исторической, теоретической и практической. В то время как при историческом и практическом подходах рассматриваются вопросы экономической политики, предметом теоретического исследования, важным орудием которого служит абстракция, является общее содержание экономических проблем. Менгер говорил о точном методе исследования, с помощью которого экономическая теория может быть расчленена на свои простейшие элементы, причем истории и социологии отводится роль вспомогательных дисциплин — Hilfswissen- schaften. Теория, следовательно, является важнейшим условием, необходимым для того, чтобы понять развитие общественных сил. Менгер не отрицал значения эмпирического материала, он просто отводил ему второстепенные роли в экономическом исследовании. В той мере, в какой у Менгера рассматривается исторический метод исследования, последний характеризуется как чисто описательный.
Такой неспровоцированный удар, нанесенный группе Шмоллера, немедленно вызвал ответную реакцию, которая, по-видимому, имела определенные основания. Дело в том, что исторический материал и эмпирические данные не могут так беспечно сбрасываться со счетов, 158
как это хотелось бы представителям австрийской школы и их последователям. Однако, как заметил Шумпетер, в настоящее время спор этот выглядит беспредметным, потому что в науке, которая пытается рассмотреть человеческое общество в его развитии, должно найтись достаточно места для обоих методов исследования 65. Но Менгер обычно предпочитал формулировку Берка относительно неплани- руемого развития общества. Менгер отвергал мнение о том, что экономическое развитие может направляться с помощью законодательства. Общественные отношения изменяются и совершенствуются наилучшим образом лишь тогда, когда этот процесс осуществляется непреднамеренно. Однако в ряде случаев представители австрийской школы признавали, что промышленный переворот заставил людей подняться на более высокую ступень самосознания. Когда же их отчуждение от производительных сил развилось в такой мере, что грозило человеку гибелью во имя умножения товаров, тогда настоятельной необходимостью стало, по- видимому, осуществление противодействующих мероприятий 66. Однако этот аспект экономической политики представители австрийской школы предавали анафеме.
Отвечая на обвинения Менгера, Густав Шмоллер перешел в решительную контратаку, и развернулся Methodenstreit*. Менгер в свою очередь выпусил памфлет «Irrthumer des His- torismus in der deutschen Nationalokonomie» («Ошибки исторической школы в немецкой политической экономии»), в котором к повторявшейся аргументации «Исследований» добавлялось несколько резких обвинений. Обстановка стала накаляться, и вскоре дискуссия выродилась в личные нападки. Шмоллер заявил, что последователи «абстрактной» австрийской школы не соответствуют требованиям, предъявляемым к преподавателям в немецких университетах; Шмоллер был достаточно влиятелен и мог навязать такой запрет. Однако начиная с 1884 г. стали приобретать известность публикации последователей Менгера — фон Визера, Бем-Баверка, Эмиля Сакса, Роберта Цуккеркандля и др. Чистая теория дополнялась исследованиями с маржиналист- ских позиций проблем налогового обложения, прибыли и доходов. Влияние австрийской школы распространилось на Италию; благодаря усилиям Уильяма Смарта и Джеймса Бонера, пропагандировавших маржиналистскую теорию, она стала пользоваться влиянием в Англии 67. В 1888 г. Менгер опубликовал небольшую работу о капитале —«Zur Theorie des Ка- pitals» *. Тогда же прекратилась и его полемика со Шмоллером.
Свою книгу «Основания» Менгер не публиковал до тех пор, пока полностью не завершил самую тщательную ее подготовку; с предельной четкостью он выделил центральную идею, так чтобы никто уже не мог в ней ошибиться. Все проблемы излагались последовательно и завершались в конечном счете тем, что, по мнению автора, являлось их решением. Поскольку предполагалось, что «Основания» явятся лишь первой частью более широкого исследования, Менгер считал целесообразным детально исследовать идеи, которые столь сильно отличались от общепринятых представлений. С исключительной тщательностью он исследовал содержание таких понятий, как стоимость, цена и деньги; вслед за первым томом он явно предполагал выпустить следующие тома, посвященные кредиту, распределению, производству, торговле и экономической реформе. К сожалению, этому не суждено было осуществиться. Поэтому книга «Основания» демонстрирует довольно высокую ступень абстракции, в ней содержится лишь самое минимальное количество фактических данных. Довольно парадоксально, что книга была посвящена Вильгельму Рошеру, основателю исторической школы в немецкой политической экономии. Хотя словесные формулировки Менгера и обладали рядом достоинств, все же из них не вытекал с такой же четкостью, с какой это можно было бы представить в математической форме, тот вывод, что новая теория по существу носила гипотетический характер. Б связи с этим Менгер в отличие от Вальраса не использует всех возможностей для количественного анализа.
Основную роль в книге Менгера играл принцип предельной полезности — понятие, которому предстояло сыграть выдающуюся роль в истории современной экономической мысли. У Менгера это понятие используется весьма продуманно. Шумпетер писал о Менгере: «Он был вдумчивым ученым, который если и ошибался, то лишь в редких случаях. То обстоятельство, что Менгер не владел соответствующим математическим аппаратом, лишь подчеркивает его исключительную одаренность 68. Менгер утверждал, что истинным исходным пунктом исследования являются человеческие потребности. Они возникают как результат приспособления человеческого организма к окружающей материальной среде. Если условия для такого приспособления, необходимые для равновесия между человеком и средой, огсут-
* См. примечание па стр. 27.— Прим, перев.
* «К теории капитала» (нем.).— Прим, перев.
159
*ствуют, возникают неудовлетворенность и беспокойство. Это чувство беспокойства, которое может достигать различной интенсивности, играет существенную роль, так как оно порождает определенные потребности, проявляющиеся в попытках восстановить равновесие. Здесь, по-видимому, напрашивается аналогия с физиологическим процессом гомеостаза, благодаря которому поддерживается равновесие между организмом и окружающей средой б9.
В связи с этим Менгер определял потребности как разновидность неудовлетворенных желаний или неприятных ощущений, проистекающих из своеобразного нарушения физиологического равновесия. Далее он доказывал, что с помощью определенного товара можно удовлетворить данную потребность в большей или меньшей степени, причем в известной части эта потребность продолжает оставаться неудовлетворенной. Потребности, которая остается менее удовлетворенной, свойственна большая «конечная интенсивность», тогда как полностью удовлетворяемая потребность имеет «конечную интенсивность», равную нулю. Следовательно, когда ресурсы ограничены, перед индивидуумом возникает проблема: как распределить свои средства таким образом, чтобы «конечная интенсивность» всех потребностей была как можно меньше. Потребности предполагают наличие сознания и способность к рассуждениям; хотя отдельные потребности порождаются привычкой или индивидуальными чертами характера, тем не менее они, как доказывал Менгер, не являются произвольными. Индивидуалистическая экономика не должна охватывать потребности сравнительно больших групп, например потребности государства 70. Наличие индивидуалистической экономики образует одно из условий превращения «вещи» в «благо». Существуют также три других условия: наличие у потенциального блага свойств или особенностей, благодаря которым оно может удовлетворять определенные потребности; знание человеком этих свойств или особенностей; владение вещью, которое позволяет человеку использовать ее в целях удовлетворения своих потребностей 71. Другими словами, в то время как по своим физическим свойствам полезные вещи могут быть пригодны для удовлетворения потребностей, лишь знание этих свойств и власть над вещью, позволяющая распоряжаться ею, превращают эту вещь в хозяйственное благо. Такой анализ полностью абстрагируется от оценочных суждений по поводу тех или иных потребностей и желаний. Последние не обязательно должны быть рациональными, потому что даже тогда, когда благо не может удовлетворять человеческую потребность и покупатель просто заблуждается, предполагая наличие таких свойств (как это бывает с недоброкачественными товарами), все же данный предмет по своему характеру является благом. Очевидно, что эти понятия полностью исходят из своеобразной индивидуалистической психологии. Речь идет просто о взаимоотношениях между причиной и следствием: благо — это причина, а удовлетворение потребности — следствие. И лишь еще немного расширив логически понятие блага, можно избегнуть свойственного классической школе деления труда на производительный и непроизводительный, так как удовлетворение потребностей может быть достигнуто как с помощью материальных предметов, так и с помощью невещественных услуг.
Но как же быть с теми производительными ресурсами, которые непосредственно не используются для личного потребления? Ответ, который давали на этот вопрос представители австрийской школы, стал классическим: факторы производства носят характер блага, потому что способность удовлетворять потребности они заимствуют у потребительских благ, производимых с помощью этих факторов производства. Потребительские блага — это блага «первого порядка», или «низшего порядка», тогда как ресурсы относятся к числу благ второго, третьего или более высокого порядка в зависимости от числа производственных стадий или процессов, стоящих между ними и потребительскими благами. Менгер проявил осмотрительность, различая также комплементарные блага, используемые лишь в сочетании с другими благами, и блага, которые функционируют самостоятельно 72. Однако такой подход был сопряжен, понятно, с рядом трудностей вследствие того, что отдельные блага могут в одном случае выступать как блага низшего порядка, а в другом — как блага более высокого порядка, как, например, молоко, предназначенное для непосредственного потребления и переработки на сыроваренном заводе. Ответом на это возражение может послужить цель, которую Менгер ставил перед своей теорией,— рассмотреть отношения между благами и людьми, а не сами блага как таковые. Важную роль играет вопрос о том, какое место внутри общей иерархии занимает данная вещь по своей способности удовлетворять желания человека. Именно эта способность, а не какие-либо внутренне присущие свойства, сообщает благам их специфические качества.
Наделение благ высшего порядка свойством удовлетворять потребности явилось исходным пунктом знаменитой теории вменения, согласно которой потребительские блага наделяют 160
стоимостью те производственные блага, которые участвуют в их изготовлении 73. Подчеркивая данную мысль, Менгер задавал вопрос: что случилось бы со стоимостью запасов табака и папиросных фабрик, если бы люди внезапно бросили курить? Ясно, отвечал он, что эти предметы утратили бы свой характер благ 74. Для того чтобы превратить блага высшего порядка в блага более низкого порядка, продолжал Менгер, требуется время. В связи с этим в рассмотрение вводится понятие производственного периода,— понятие, которое впоследствии сыграло большую роль в теоретической системе Бем-Баверка. По мере того как увеличивается число производственных стадий, лежащих между благами самого высшего и самого низшего порядка, возрастает и время производства. Так как невозможно наперед знать качество и характер благ, которые появятся в будущем, данный процесс включает ошибки и неопределенность перспектив. Решающим фактором, следовательно, становится предвосхищение потребности.
Далее Менгер пытался разработать количественную характеристику вещей, принадлежащих к числу благ 75. Проблема состояла в установлении соответствия между требующимся количеством благ (Bedarf) и тем, которое имеется в наличии. Хотя потребности и могут безгранично расширяться, отметил он, но в каждый данный момент они составляют определенную величину (то есть попросту заданную величину). Поэтому трудно определить количество требующихся благ, так как степень интенсивности потребностей и размеры, в которых они требуют удовлетворения, лишь предвосхищаются и не могут быть установлены заранее. Из этого явствует, что важную роль в хозяйственных операциях играют именно наличное предложение благ низшего порядка и современная техника производства. Вопрос осложняется, если принять во внимание фактор взаимодополняемости, то есть условие, которое подразумевает, что процесс производства основывается на сочетании в определенных пропорциях факторов производства. Стало быть, под хозяйством в подлинном смысле этого слова (Wirtschaft) понимается такое использование ресурсов, при котором достигается полное удовлетворение потребностей. Тем самым предполагается четкое различение объективных и субъективных элементов в экономике. Далее, если требуемое количество благ превышает их предложение (ситуация, которая имеет место для преобладающего большинства благ), тогда основное внимание должно быть уделено самым важным потребностям. Такие блага являются «экономическими» 7С. К числу неэкономических относятся те блага, предложение которых превышает потребность в них. Соотношение между экономическими и неэкономическими благами, разумеется, может меняться, в результате чего отдельные блага будут переходить из одной категории в другую. Указанные изменения, вообще говоря, объясняются такими динамическими факторами, как рост народонаселения, изменение вкусов потребителей, истощение ресурсов или появление у отдельных товаров новых свойств, позволяющих удовлетворять потребности. Но в каждом случае вопрос об отнесении к числу экономических благ решается исходя из соотношения между наличным предложением данных благ и количеством, достаточным для удовлетворения потребностей. Это положение лежит в основе субъективной стоимости 77.
Основываясь на таких рассуждениях, Менгер легко пришел к следующему выводу: стоимость определяется размерами предложения; при увеличении или уменьшении количества благ изменяется степень удовлетворения потребностей, a ipso facto * и стоимость, приписываемая этим благам. По мере того как увеличивается количество блага, его дополнительные единицы обладают все меньшей способностью удовлетворять потребности. В этом и состоял основной теоретический вклад Менгера; данное положение есть не что иное, как принцип убывающей предельной полезности, по которому стоимость однородного запаса того или иного блага определяется стоимостью последней, или наименее важной, его единицы. Однако суждения Менгера по этому важному вопросу временами носили туманный характер и, по-видимому, вступали в противоречие с принципом взаимодополняемости 78. В примере, иллюстрировавшем ход его рассуждений, Менгер пытался уравнять между собой удовлетворение, полученное от двух благ, избегая при этом какого бы то ни было сопоставления данных благ по затратам труда или в денежной оценке. В результате он, наверно, излагал содержание существующих альтернативных вариантов 79. Менгер не смог выяснить и того, как индивидуум станет распоряжаться принадлежащими ему благами, для того чтобы достигнуть максимального удовлетворения своих потребностей.
На протяжении всей работы Менгер развивает мысль о том, что вменение стоимости отдельным благам происходит в соответствии с субъективными оценками. В том случае, когда блага различны по качеству, наиболее высокой оценкой наделяются лучшие блага.
* Тем самым (лат.).— Прим, перев.
И Б. Селигмен
161
В основе стоимости комплементарных благ и благ высшего порядка лежит стоимость благ низшего порядка, а задача, стоящая перед теоретиком, заключается в том, чтобы, исходя из соотношения между различными благами, проследить движение стоимости внутри экономики. Для того чтобы определить степень взаимодополняемости благ, можно исчислить, как отразится на общей стоимости набора устранение одного блага. Данное положение играет важную роль — оно породило некоторые расхождения между Менгером и его учеником Визером 80. По мнению противников данной концепции, понятие предельной полезности нельзя распространять на производство, ибо устранение одного из факторов способно парализовать весь процесс изготовления благ. Теория австрийской школы, говорили они, не дает возможности понять роль земли, труда и капитала. Однако Менгер настаивал на том, что можно установить стоимость вклада, вносимого каждым из факторов производства. Для этого нужно представить тот случай, когда устраняется небольшое количество данного фактора производства, тогда как остальные факторы сохраняются в прежних размерах, и выяснить, какой ущерб в таких условиях наносится удовлетворению желаний потребителя. Такой подход черезвычайно близок понятию предельной производительности.
Теория предельной полезности позволяет также разрешить знаменитый парадокс полезности: бриллианты могут не обладать большой полезностью или не соответствовать самым насущным потребностям, и все же именно ничтожные (в сравнении со спросом) размеры предложения обусловливают высокую их стоимость. Здесь, разумеется, используется понятие предела; однако Менгер, по-видимому, мыслил скорее в категориях дискретных изменений — хотя и весьма малых,— чем непрерывных бесконечно малых изменений. С такой точки зрения теория Менгера явно отступала от понятий, введенных Джевонсом и Вальрасом. Прочно утвердив эти основные идеи, Менгер далее устанавливал равенство между меновой стоимостью и субъективной оценкой. Экономическая роль данного блага для индивидуума измеряется путем сопоставления ее с тем, что можно получить при его обмене на другие блага. Как доказывал Кнут Вик- селль, меновая стоимость в действительности становится своеобразной косвенной формой потребительной стоимости 81. Это положение имело фундаментальное значение для всей теории Менгера, поскольку оно позволяло автору установить общую основу в сущности для всех хозяйственных явлений.
Для Менгера не существовало трех факторов производства, а были только блага высшего порядка. Он отвергал характерное для классической школы деление факторов производства на землю, труд и капитал, а вместо этого четко формулировал мысль о том, что все ресурсы играют по существу одинаковую роль 82. Короче говоря, характер распределения обусловлен основным принципом вменения, согласно которому совокупный продукт распределяется между всеми участвующими в производстве факторами в таких пропорциях, которые устанавливаются в процессе вменения. Более поздний вариант этой теоремы распределения гласит, что в условиях, когда доходы пропорциональны размерам производимой продукции и оплата каждого из факторов равна производимому с его помощью предельному продукту, общая сумма таких выплат равна совокупному продукту. При этом, однако, предполагается совершенная конкуренция как на рынке готового продукта, так и на рынках факторов производства. Как же в этом несовершенном мире может оказаться реальной такая логика? Подобное утверждение могло еще иметь некоторый смысл восемьдесят или девяносто лет назад, но в современных условиях оно должно вызывать серьезные сомнения. Представляется совершенно очевидным, что, исключая из рассмотрения проблему социального излишка (social surplus), такая теория самым простым путем конструирует лучший из миров. К тому же среди всех апологетических теорий она носит наиболее научный характер, потому что предприниматель, а также владельцы всех остальных факторов производства получают лишь то, что им досталось бы, если бы последние использовались в соответствии с наилучшим из остальных альтернативных вариантов 83.
Кроме того, маржинализм превратил издержки в психологическое явление, поскольку сумма, уплачиваемая фирмой за факторы производства, должна основываться на определяемой в процессе обмена предельной полезности, которой эти факторы обладают с точки зрения продавца. Следовательно, предложение также обусловлено психологией хозяйствующего субъекта. И так как распределение продукта происходит на базе платежей фирмы за использование факторов производства, размеры этих платежей определяются тем же всепроникающим принципом стоимости — принцип предельной полезности управляет всей экономикой. Итак, хозяйственная система превращается в колоссальный конгломерат комплементарных благ; стоимость каждого из них зависит от остальных благ, используемых как на пред162
шествующих, так и на последующих производственных стадиях. Таким образом, и прошлое и будущее становятся сопоставимыми с настоящим.
Понятие обмена у Менгера оказывалось чрезвычайно близким к простой меновой торговле, потому что сделка может состояться только в том случае, когда кто-либо владеет благами, которые представляют для него меньшую ценность, чем для другого человека, и стремление к обмену является обоюдным. При этом, понятно, обе стороны могут извлечь выгоду 84. Цель теории цен заключается не только в том, чтобы объяснить условия торговли, но прежде всего эта теория должна показать, что купля и продажа не означают просто эквивалентный обмен, как это предполагалось трудовой теорией стоимости. Именно потому, что не существует такой эквивалентности, может иметь место обмен, писал Менгер. С другой стороны, условия торговли зависят от количества людей и благ, выступающих на рынке, и от характера рыночной конкуренции. Это ведет к сопоставлению случаев изолированного обмена и монополии 85, когда товары меняют своих владельцев благодаря тому, что определенные блага обладают способностью к обмену. Подобные рассуждения, однако, несколько напоминали представления тех химиков, которые некогда объясняли состав сложных соединений с помощью «сродства». Теоретические рассуждения такого рода, по-видимому, не слишком плодотворны.
И все же основной тезис Менгера состоял в том, что конечной причиной обмена является предельная полезность; в соответствии с этим фактором устанавливаются пропорции, в которых обмениваются блага. Таким путем Менгер пришел к тому, что Маркс и представители классической школы считали невозможным: обмен основывался на понятии потребительной стоимости. Исследуя случай изолированного обмена двух благ, Менгер доказывал, что в такой ситуации рыночная сделка может осуществиться в определенных пределах. Если же одному продавцу противостоит множество покупателей, пределы обмена настолько суживаются, что в случае, когда фиксированы размеры предложения, однозначно определяется цена, а неизменной цене соответствуют однозначно определенные размеры предложения, вместе с тем четко устанавливаются соотношения, в которых благо распределяется между покупателями 86. Любопытно отметить, что Викселль довольно резко критиковал Менгера за то, что последний остановился на данной стадии исследования и не распространял анализ на случай, когда в обмене участвует много покупателей и много продавцов. Если бы Менгер поступил таким образом, отмечал Викселль, он, несомненно, приблизился бы к вальрасовскому методу исследования 87. Шведский экономист, который явился достойным последователем австрийской школы, отмечал, что, предполагая неизменные масштабы предложения, Менгер тем самым практически превращал продавца в получателя квазиренты. По сути дела, Менгер не смог полностью разрешить проблему установления цен, исходя из потребительной стоимости.
Теорию распределения ресурсов разработал Визер, тем не менее содержательные указания по данному вопросу можно найти и в работе Менгера. Менгер отмечал, что эта проблема возникает, когда люди пытаются удовлетворить все свои потребности, несмотря на то, что предложение благ недостаточно. Он высказал предположение, что в таком случае прежде всего будут приняты во внимание важные потребности. Если же с помощью данного блага можно удовлетворять различные потребности, процесс использования экономических благ протекает таким образом, что «...наиболее важные формы удовлетворения потребностей из числа тех, которые невозможно удовлетворить, имеют одинаковое значение независимо от характера потребностей, и поэтому достигается равная степень удовлетворения всех потребностей...» 88. Здесь несколько витиевато выражена мысль о том, что при наличии различных форм использования благо должно распределяться таким образом, чтобы в каждом случае в пределе достигалась равная степень удовлетворения потребностей.
Хотя подобный ход рассуждения составил основу теории, которая, по-видимому, являлась альтернативой теории издержек, тем не менее Менгер не продвинулся в исследовании данной проблемы. Вместо этого он настойчиво проводил мысль о том, что издержки обусловлены ожидаемой стоимостью благ низшего порядка, в производстве которых используются различные факторы производства. Фактические издержки он вообще не рассматривал89. Менгер просто отвергал утверждение о том, что объективные издержки могут играть существенную роль в процессе производства; важнейшими элементами, определяющими хозяйственные решения, он считал субъективную оценку и предположения относительно будущих событий. Неоклассическая теория показала, что издержки могут иметь ограниченное значение, когда речь идет о небольшом промежутке времени, на протяжении которого предложение не может быть быстро увеличено. Если же долустигь возможность приспособле11* 163
ния предложения к спросу — либо путем увеличения размеров производства, либо путем создания новых производственных мощностей,— в этом случае уже никак нельзя игнорировать влияние объективных издержек. В конце концов, оказывается, что теория Менгера подразумевает кратковременный аспект проблемы.
В этой теории содержится также понятие взаимозаменяемости — мысль о том, что можно изменять пропорции между факторами производства, получая при этом одинаковые результаты 90; данная проблема получила особенно большую известность в современной теории линейного программирования. Но если вспомнить о том, что* понятие взаимозаменяемости факторов подразумевалось также и в сформулированных представителями классической школы законах доходности, то теоретический вклад Менгера не покажется таким поразительным. Важную роль играет то обстоятельство, что теория изменяющегося состава факторов производства положила начало теории предельной производительности. Однако сам Менгер не исследовал возможности снижения доходности, а без этой предпосылки категория предельной производительности представляется по меньшей мере сомнительной.
В «Основаниях» Менгера имеется также ряд отрывочных замечаний, посвященных проблеме капитала. Производство ведется для того, чтобы удовлетворить будущие потребности. Но для этого необходимо время, на протяжении которого требуется иметь не только средства производства, но и право использовать их в соответствующий момент. Такое владение ими само по себе равносильно благу и требует выплаты процента. Однако в этих рассуждениях полностью отсутствовал какой бы то ни было элемент ожидания, в связи с чем они вызвали серьезные возражения со стороны Бем-Баверка, которому принадлежит наиболее известная теория капитала, исходящая из принципов австрийской школы. В 1888 г. Менгер написал статью «О теории капитала»; поводом для этого послужила концепция Бем-Баверка, которую Менгер явно не разделял. Хотя Менгер и не вступал в прямую полемику со своим прославленным учеником, все же он стремился отмежеваться от использования категории времени, которая играла столь важную роль в теоретической системе Бем-Баверка. Капитал, по мнению Менгера, представляет собой подвижной фонд, олицетворением которого служит стоимость имущества, выраженная в денежной форме. Более того, чтобы внести ясность в эту дискуссию, важно провести четкое различие между рентой и процентом. Однако Менгер полагал, что блага, предоставляемые природой, также могут выступать в качестве капитала в той мере, в какой они удовлетворяют решающему критерию — редкости, обнаруживающейся при использовании этих благ в процессе производства. И тем не менее у Менгера отсутствует упоминание о том случае, когда ресурсы находятся под монополистическим контролем 91. Представление о капитале как о фонде резко отличалось от обычного определения капитала как совокупности реальных предметов. Однако Менгер еще не различал в достаточной степени сами блага и услуги, которые они оказывают. Его вывод сводится к тому, что капитал состоит из благ высшего порядка, которыми распоряжаются в течение данного производственного периода, хотя в ряде случаев Менгер допускал мысль о том, что должна иметь место оплата услуг, оказываемых капиталом. Но нигде у него нет и намека на процесс сбережение инвестирование.
Менгер всегда проявлял интерес к теории денег 92. В 1873 г. он написал довольно подробные комментарии к работе Джона Э. Кернса о влиянии открытий новых месторождений золота на денежное обращение. В основу теории Менгера легло понятие способности товаров к продаже (saleability of commodities),— понятие, которое впоследствии было более подробно исследовано Людвигом фон Мизесом. Такая трактовка по существу носила субъективный характер, тем самым она не вступала в противоречие с основной теорией Менгера — теорией стоимости. Эти представления резко отличались от традиционной количественной теории денег, которая использует такие агрегатные показатели, как цена, размеры производства и товарооборота. Интерес Менгера к деньгам как к стандартной мере стоимости согласовался с маржиналистским методом, который он использовал в общей теории, но в результате такого исследования он смог выяснить лишь то, что каждой стадии экономического развития соответствуют определенные формы денежного обращения. Данная мысль, как это ни парадоксально, отражала влияние немецкой исторической школы. Короче говоря, Менгер выступал против государственной теории денег; он различал внешние и внутренние факторы, воздействующие на денежное обращение; он проводил различие между осуществлением торговых операций и мотивами предосторожности, стремлением поддерживать ликвидное состояние; он доказывал, что металлы больше, чем все остальные товары, пригодны для того, чтобы служить средством сохранения стоимости; наконец, он полагал, что покупательную способность денег можно 164
стабилизировать путем регулирования производства золота и количества обращающихся банкнот.
Таково содержание теоретического вклада Менгера. Ему принадлежит идея, которая привела к решительной перестройке основ экономической теории. Маржиналистская теория открывала широкие возможности для исследования самых разнообразных вопросов, выходящих за рамки определения величины стоимости. Прежде всего она предлагала решение проблемы распределения доходов и использования ресурсов. Как только маржиналистский метод, выдвинутый австрийской школой, был сформулирован на языке математики, то стало ясно, что содержание хозяйственной деятельности можно охарактеризовать как проблему максимизации — для максимизации полезности, цены, прибыли, размеров производства, дохода и для минимизации издержек можно использовать методы дифференциального исчисления.
И все же эта изобретательная теоретическая система содержала некоторые сомнительные положения; не последнее место среди них занимает наделение производительных услуг стоимостью. Из системы, например, вытекает, что оценки потребителей каким-то образом переносятся в сферу производства, где также приходится сталкиваться с субъективными ощущениями удовлетворения потребностей. Предлагая решение этой проблемы, австрийская школа ссылается на функционирование рыночного механизма, благодаря которому достигается оптимальное использование ресурсов и оптимальное распределение доходов, Однако Менгер ни разу не продемонстрировал с достаточной ясностью, как именно осуществляется такая координация 93; правда, в отличие от своего ученика Фридриха фон Хайека он все же допускал мысль о том, что предприниматели стремятся получить все сведения о рыночной ситуации 94. Напрашивается важный вопрос: если покупатели и продавцы реагируют только на рыночную цену, для чего же тогда нужен весь этот сложный психологический механизм? По-видимому, все, что требуется в таком случае,— это информация о структуре производства и потребностях населения, а также предпосылка о стремлении к наибольшей прибыли и минимальным издержкам.
Критики теории Менгера вполне справедливо указывали на то, что описанные им психологические факторы не имеют никакого отношения к объективным экономическим процессам. Хотя современная теория признает роль антиципирования и намерений ex ante, но, что не менее важно, она отвергла психологические изыскания в области экономической науки. При этом исходят из следующих соображений: экономический анализ должен иметь дело лишь с фактами хозяйственной жизни, а не с психологической схемой деятельности. Правда, и при экономическом анализе должны быть приняты во внимание пределы действий человека, связанные с существованием более широкой общественной структуры. Универсальная теория, которую пытались создать Менгер и его ученики, в гораздо большей степени применима к хозяйству Робинзона Крузо, чем к смешанной системе частного, монополистического и общественного предпринимательства, существующей в настоящее время. Однако исследование такой хозяйственной системы выходило за пределы теории австрийской школы, да и представители последней, по существу, не проявляли интереса к данной проблеме. Создается впечатление, что вся их теория воплощала точку зрения абстрактного схематичного экономического человека, рассматриваемого вне связи с окружающей средой, под воздействием которой он, вероятно, и сформировался. И нигде это не поражает читателя так сильно, как в ранних работах представителей австрийской школы, рассматривавших основы теории благ 95.
Менгер не рассматривал социальные проблемы. Дело не только в том, что его теория статична,— она холодна и совершенно не подвержена влиянию человеческих побуждений, которые владели Адамом Смитом или Карлом Марксом. Именно такой подход задавал тон в экономической науке на протяжении последующего периода примерно в семьдесят пять лет. К тому же Менгер по-настоящему не интересовался ценами и соотношениями, складывающимися в процессе обмена: они, как ему представлялось, имеют второстепенное значение и гораздо менее интересны, чем проблемы, рассматриваемые в начальных разделах книги «Основания». Центральное место занимают потребности и удовлетворение желаний. Теории издержек производства и трудовой стоимости просто ошибочны, они не признают того , что стоимость проистекает из свойств, делающих возможным удовлетворение потребности 96. Индивидуалистическая точка зрения получила чрезвычайно рельефное выражение. Понятие национального богатства, например, объявлялось мифическим, поскольку оно основано на ложном предположении, будто имущество может использоваться для всеобщего благосостояния 97. Национальная экономика, как писал Менгер, на самом деле представляет собой совокупность отдельных экономических единиц, каждая из которых преследует свои соб165
ственные цели. Тем самым оставлялась в стороне проблема социальной ответственности; такой подход затушевывал дихотомию между индивидуальными и групповыми интересами и основывал все рассуждения на довольно сомнительном предположении, согласно которому цели отдельного человека находятся в соответствии с требованиями общественного прогресса. Это явно тот же тезис Адама Смита о «невидимой руке».
Фридрих фон Визер (1851—1926) был единственным из представителей австрийской школы, написавшим настоящий трактат. Таким трактатом явилось его «Общественное хозяйство»— книга, которую высоко ценил Уэсли К. Митчелл 98. Сменив Менгера, Визер с 1903 г. занимал его место в Венском университете; он разработал довольно гибкий вариант теории австрийской школы. Визер происходил из старинной семьи австрийского государственного служащего, и после окончания гимназии он, как это было принято в таких случаях, стал изучать юриспруденцию. Визер был плодовитым автором, его книги и статьи постоянно печатались на протяжении полувека — с 1876 г. до самой его кончины в 1926 г.
Сначала Визера сильно занимала история, но глубокий интерес к политическим и социальным событиям того времени вскоре привел его к изучению других наук. Книгами, пробудившими в нем пытливость ума, явились «Начальные принципы» Герберта Спенсера и «Война и мир» Толстого. Визер стал изучать законы общественной деятельности, и вскоре он пришел к убеждению, что для указанной цели из всех наук в наибольшей степени подходит экономическая теория, поскольку «общественными отношениями, которые прежде всего бросаются в глаза», являются экономические отношения. Именно их, как полагал Визер, следует объяснить в первую очередь. Однако ни одна из теорий, которые он изучал, не могла его удовлетворить: взгляды классической школы были противоречивыми, а марксизм просто логически доводил теорию Рикардо до самых крайних выводов *. В 1874 г. Визер открыл для себя книгу Менгера «Основания» и почувствовал, что это и есть по существу предисловие к той своеобразной истории, которая еще должна быть написана,— истории движения безымянной массы.
Вместе с Бем-Баверком, с которым они с детства дружили, а впоследствии и породнились, Визер приступил к разработке экономической теории в духе учения Карла Менгера. Несколько лет друзья путешествовали по Гер-
* См. примечание на стр. 155. мании, изучая экономическую науку под руководством Книса, Роптера и Гильдебранда. Участвуя в семинаре Книса, Визер подготовил доклад об издержках и стоимости, содержание которого предвосхищало его последующие взгляды. В этом докладе он впервые стал трактовать издержки как косвенную или приносимую в жертву полезность — понятие, которое современными экономистами именуется издержками альтернативных возможностей. Впоследствии это положение получило известность как «закон Визера», что само по себе красноречиво свидетельствует о том, насколько высоко сподвижники ценили силу и оригинальность его мысли. Визера никогда не могло полностью удовлетворить простое распространение Менге- рова понятия стоимости на производственные блага. Уже в этом произведении он переходит от оценки единичного блага к сопоставлению общей потребности в производственных благах с общим количеством благ. Даже в столь ранней работе содержится попытка выдвинуть более широкую социальную концепцию, чем та, которую можно обнаружить у Менгера. Однако к новой экономической теории Визер относился лояльно, поскольку он полагал, что стоимость производственных благ определяется стоимостью последней единицы продукта, которую можно изготовить с помощью всего комплекса факторов производства ". Здесь идее Менгера дано поистине поразительное применение, но, как это ни парадоксально, сам учитель не проявил большого интереса к тому варианту субъективной теории стоимости, который разрабатывали его ученики. И все же Визер с огромным усердием продолжал работать над новой экономической теорией полезности. И хотя он был обременен обязанностями на государственной службе, к 1884 г. он смог опубликовать свою книгу «Ursprung und Hauptgesetze der wirtschaftlichen Wertes» *; благодаря этому он получил место преподавателя в Немецком университете в Праге. Книга Визера поистине знаменует собой веху в дальнейшем развитии теории предельной полезности, и действительно, употребляемый в ней термин «Grenznutzen» ** дал имя маржина- листской теории. Метод Визера, так же как и его предшественника Менгера, не был связан с использованием математики. Но, будучи первой попыткой представителей австрийской школы эффективно исследовать проблемы использования ресурсов и хозяйственной организации, теория Визера отличается таким проник* «Происхождение и основные законы хозяйственной стоимости» (нем.).— Прим, перев.
** Предельная полезность (нем.).— Прим, перев.
166
новением в социальную структуру, которое является совершенно уникальным событием в развитии данной школы. В 1903 г. Визер возвратился в Вену, где он продолжал работать над применением маржиналистских идей в области денежного обращения и налогового обложения. Основные свои произведения он писал обычно в связи с какими-либо событиями; так было, например, с книгой «Общественное хозяйство», она была написана по заказу Макса Вебера, который приступил тогда к изданию новой серии книг, посвященных общественным наукам, — «Grundriss der Sozialokono- mik» *. Последняя работа Визера «Das Gesetz der Macht» **, содержащая социологическое исследование проблемы власти, была издана в 1926 г. В 1917 г. Визер был назначен в верхнюю палату австро-венгерского парламента, в последних двух кабинетах «двойственной монархии» он занимал пост министра торговли.
Визер использовал тот же метод абстракции, что и Менгер; в своей аргументации он также прибегал к рассуждениям по методу «в случае, если», и, определяя теоретические проблемы, он точно так же оперировал категориями, которые выражали скорее сущность стоимости, чем реальное поведение человека. И тем не менее в работе Визера имеются такие действительно привлекательные черты, которых нет ни у Менгера, ни у Бем-Баверка. Визер высказывал серьезные сомнения по поводу методологических споров Менгера с представителями исторической школы, такие споры он считал не слишком плодотворными. В его произведениях вскоре обнаружилась более широкая социальная перспектива. Поэтому не явилось неожиданностью заявление Визера о том, что его экономическая теория подготовила его к историческим и социологическим исследованиям. Работа «Общественное хозяйство» представляет собой обширное экономическое и социологическое исследование, посвященное развитию современного капитализма, а в книге «Das Gesetz der Macht» Визер полностью подчиняет экономическую теорию политическому анализу. Мысль о том, что основу общественной науки образуют действия безымянной массы, побудила его искать для этих проблем свой метод исследования, не похожий на те, которые используются в естественных науках. Визер признавал, что его концепция не является совершенно точной, однако, как он утверждал, этого и следовало ожидать. Более того, такое ее свойство даже может оказаться * «Основы социальной экономии» (нем.).— Прим, перев.
** «Закон власти» (нем.).— Прим, перев.
преимуществом, так как благодаря этому исследователь (который, по словам Визера, сам является составной частью рассматриваемой ситуации) получает возможность проникнуть во внутреннее содержание общественных явлений. Дело в том, писал Визер, что экономическая теория следует эмпирическому методу, хотя на первый взгляд она представляется исключительно дедуктивной наукой. Это эмпирическая наука, исследующая типичные явления. В соответствии с этим должны быть выделены самые обычные, наиболее часто повторяющиеся аспекты поведения, с тем чтобы воссоздать с их помощью своеобразный «идеальный» тип. Визер без колебаний использовал этот метод, по крайней мере в более специальных разделах теории. Его экономический человек — это практически автомат, который без устали преследует лишь одну цель, благодаря чему он совершенно избавлен от ошибок. Но Визер понимал, что речь идет просто об абстракции, пригодной лишь для аналитических целей.
У Визера такой метод мог быть эффективным, и все же его использование было сопряжено с известным риском; ибо если интуиция ученого, занимающегося общественными науками, не сочетается с проверкой гипотез и контролем над эмпирическими данными, то она может оказаться не вполне точной. Однако Визер избегал специальных исследований в области методологии. Он не верил ни в то, что такие исследования могут предприниматься в отрыве от конкретных вопросов, ни в то, что с помощью методологических исследований можно достигнуть значительного прогресса общественной науки. Визер полагал, что метод может сложиться липгь в процессе научного исследования, и выражал глубокое сожаление по поводу того, что Менгер посвятил ему так много усилий.
Центральной идеей в экономической теории является полезность, которая пронизывает все явления, в том числе деньги и, разумеется, частную собственность. В своей работе «Общественное хозяйство» Визер показал, наконец, как в результате установления равновесия между силами конкуренции и государственным регулированием потребовалась модификация классических понятий частной собственности. Таким путем он устанавливал связь между теорией и политикой; использованные им методы анализа должны были привести от абстракции к практической хозяйственной деятельности. Однако Визер не достиг полного успеха, и как он ни старался применить понятие предельной полезности к процессам, происходящим в масштабах всего общества, он все 167
же не смог произвести такой эффект, на который, по-видимому, рассчитывал.
Книга «Ursprung», которая была подготовлена на основе ранней работы, представляет собой как бы предварительное изложение основных идей Визера. Менгер по существу не смог сколько-нибудь эффективно распространить теорию полезности на сферу производства и распределения. Поэтому проблемой использования этой теории, и в частности разработкой идей об издержках альтернативных возможностей и о вменении стоимости, предстояло заняться Визеру. Хотя мысли Визера по этим вопросам содержались уже в работе «Ursprung», в завершенном виде они были опубликованы в книге «Естественная стоимость», изданной в 1889 г.100 На протяжении последующих двадцати пяти лет эта книга служила изложением теоретических взглядов Визера в наиболее определенной форме. В самой книге «Ursprung» содержится теория использования ресурсов, исходящая из неизменного количества ресурсов и заданных потребностей. В ней отмечено, что наилучшее распределение ресурсов достигается в том случае, когда при всех возможных способах использования факторов производства каждая их единица приносит одинаковый доход. Крупный запас ресурсов может быть использован для удовлетворения более широкого круга потребностей, включая и менее важные из них 101. Если же способность к извлечению дохода ослабляется, это может быть связано, следовательно, с уменьшающейся предельной полезностью всего запаса благ. Стоимость запаса благ определяется именно участием всех факторов в процессе производства. Полезность обусловливает стоимость последней единицы запаса; однако стоимость — это издержки производства товара, в основе которых лежит заранее предполагаемая полезность. Выдвинув эту мысль в книге «Ursprung», Визер тем самым приблизился к идее издержек альтернативных возможностей. Исходя из этого, он смог уже без большого труда развить теорию родственных благ — тех продуктов, при изготовлении которых использовался по крайней мере один общий фактор производства. Родственные блага, писал Визер, обмениваются друг на друга в таких пропорциях, «в которых соотносятся между собой затраты общего фактора производства, требующиеся для их изготовления» 102.
В книге «Естественная стоимость» Визер снова отметил, что в основе хозяйственной деятельности лежит полезность; вместе с тем он подчеркнул существенную роль, которую играет фактор редкости, утверждая, что имеющиеся в избытке блага не обладают стоимостью. Потребности, удовлетворяемые с помощью благ, должны быть расположены в определенном порядке в соответствии с законом убывающей полезности Госсена. В этом месте Визер все же замечает, что возможны как дискретная, так и непрерывная шкалы полезности 103. Это соображение имело важное значение; помимо того, что оно подчеркивало различия между Визером и Менгером в вопросе об определении величин вмененной стоимости, оно являлось гораздо более реалистичным в сравнении с предположением о непрерывных бесконечно малых изменениях, которое подразумевалось как у Джевонса, так и у Менгера. В книге I понятие благосостояния определялось в примечании следующим образом: «Принцип хозяйственного использования тех благ, которые могут найти различное применение, состоит, таким образом, не в том, что мы должны в каждом случае обеспечить одинаковую и возможно более низкую предельную полезность, а в том, что при всяком использовании данного блага достигается возможно более низкая предельная полезность, и каким-либо- другим способам использования при этом не наносится ущерб, связанный с утратой более высокой полезности» 104. Однако в отличие от книги «Ursprung» в этой работе Визер доказывал, что блага должны распределяться между различными формами их использования таким образом, чтобы прежде всего удовлетворить, важные потребности, следовательно, тем самым, по-видимому, нарушается принцип равной предельной полезности.
Проявляя гораздо более глубокое понимание вопроса по сравнению с другими представителями маржиналистской теории, Визер ясне показал, что понятие предельной полезности может относиться лишь к единичному акту использования блага. Предметы питания потребляются в совершенно одинаковом количестве изо дня в день, и тем не менее по результатам последней еды можно судить о роли, которую играет удовлетворение этой потребности, писал он,— каждый день, в любой момент. К сожалению, Визер не стал далее развивать эту мысль, хотя она могла бы подсказать ему альтернативные варианты маржиналистской теории. Производство в конце концов приспосабливается к периодическому удовлетворению потребностей, причем нужды, которые предстоит удовлетворить в недалеком будущем, оказывают серьезное воздействие на текущие потребности. Такие- рассуждения по существу закладывали основы теории Бем-Ваверка. Теория предельной полезности может дать ответ на вопрос об установлении цен, но если не использовать тезис- Визера о периодически повторяющихся про168
цессах потребления, то трудно создать теорию производства.
Цена является не только выражением полезности, она к тому же выступает в качестве средства установления равновесия между потребительной стоимостью и меновой стоимостью денег. Хотя у Визера встречается упоминание о ценах, с помощью которых можно резервировать товар, равновесие устанавливается тогда, когда в рыночном торге могут принять участие предельные покупатели 105. Визер признавал, однако, что на местоположение такой точки равновесия могут оказать влияние различия в доходах — наблюдение, мимо которого впоследствии часто проходили представители маржиналистской теории. Меновая стоимость превращалась в такое свойство, которое придается благу антиципируемым актом обмена, тем самым сохранялась психологическая основа теории 10G. Когда Визер рассматривал «объективную» стоимость, он говорил о двух понятиях стоимости, различающихся по сфере охвата. Субъективная стоимость представляет собой атомистическое понятие, которое позволяет установить определенную шкалу внутри «индивидуального хозяйства». Но содержание этого понятия изменяется, когда субъективная стоимость оказывается вовлеченной в процесс взаимодействия цен. В таком случае она становится объективной стоимостью — определенной ценой, и хотя эта стоимость не обязательно отражает оценку благ с точки зрения общества, она представляет собой, как писал Визер, общественное явление 107. Цена в таком смысле слова легла в основу общественной экономики, описанной в последующей работе Визера «Общественное хозяйство», — экономики, в которой индивидуумы оказываются связанными между собой механизмом обмена.
В этом месте Визер едва касается понятия общественных отношений, которое с такой исключительной целеустремленностью использовал Маркс. В первое время казалось, что интерес Визера к социальным вопросам выведет его на путь исследования экономических проблем в более широком плане. Однако в действительности дело обстояло не так, потому что в своей исследовательской работе он неоднократно возвращался к субъективистскому методу исследования. Визер допускал, что экономика, построенная на принципах индивидуализма, оставляет желать лучшего и что можно увеличивать стоимость товаров, делая их более редкими. Тем не менее он отвергал всякие утверждения о том, что в связи с этим общество нуждается в реорганизации; Визер полагал, что правительство, находящееся у власти, может осуществить необходимые корректирующие мероприятия 108. И все же такие рассуждения свидетельствуют о том, что в поле зрения Визера находился широкий круг социальных вопросов, а его интерес к экономическим проблемам выходил за пределы теории полезности — этот аспект его мышления старательно обходит большинство комментаторов 109. Визер со всей определенностью писал о том, что производства может вестись лишь с целью увеличения богатства. «Вместо того чтобы производить предметы, которые обладают наибольшей полезностью,— указывал он,— изготовляются такие предметы, за которые станут платить больше денег» 110. Далее Визер отмечал, чта при покупке обычных благ, таких, как хлеб, богач и бедняк оказывают одинаковое влияние на цену; однако чем больше избыточные средства, находящиеся в распоряжении богатых, тем шире они прибегают к покупке предметов роскоши и тем сильней искажается структура производства 1П. В рациональном и органическом обществе естественная стоимость легко различима. Но к сожалению, она слишком легко искажается в результате обмана, насилия и случайных обстоятельств.
В третьем томе книги «Естественной стоимости» Визер развивает свою знаменитую идею о том, что вмененная стоимость служит основой при установлении стоимости производственных благ. Совокупность факторов производства он пытался рассматривать как действующий коллективный институт (going concern), в сравнении с формулировкой Менгера это знаменовало определенный прогресс. Представление о том, что производственные блага получают свою стоимость от стоимости товаров, изготавливаемых с помощью этих благ, является удовлетворительным до тех пор, пока речь, идет об оценке всей совокупности факторов, производства; но такой подход не дает ответа на вопрос о том, как оценить каждый из факторов производства в отдельности. Данная проблема предполагает, конечно, использование понятия альтернативных издержек. Это не проста вопрос дефиниций, а скорее фундаментальный вопрос максимизации. Вполне естественно, чта для его решения нужно предположить наличие неизменного запаса благ и ресурсов. Любопытно в этом отношении следующее побочное замечание Визера: отношение между стоимостью продуктов и стоимостью средств их производства может нарушаться вследствие того, что изменяется степень важности личных потребностей, удовлетворяемых с помощью готового продукта 112; здесь убедительно показаны различия между персональным и функциональным распределением доходов. Функциональное 169
распределение заключает теоретический аспект проблемы распределения, оно может быть искажено и представлено в ложном виде вследствие действия таких факторов, как отношения собственности, наследование имущества и тому подобное.
Теория вменения, или Zurechnung *, в действительности являлась теорией распределения, потому что она пыталась объяснить, как различные факторы производства участвуют в распределении конечного продукта. Визер отказался от Менгерова принципа исключения, при котором стоимость единицы фактора производства измерялась потерей продукции в том случае, когда эта единица изымается из процесса производства; вместо него использовалось понятие участия в производстве 113. Пытаясь сделать свой подход более реалистичным, Визер рассматривал дискретные изменения. Он доказывал, что если следовать формулировке Менгера, то в результате сумма, подлежащая распределению, окажется больше, чем весь продукт. Ошибка здесь проистекала из того, указывал Визер, что Менгер не понимал следующей зависимости: исключение единицы одного из факторов производства может оказать неблагоприятное- влияние на производительность остальных факторов. Здесь предполагается, что изменения в размерах используемых факторов производства не могут быть непрерывными — подобные представления Визера впоследствии подверглись резкой критике 1И. И все же многие из этих критиков не смогли понять, что описанные взгляды Визера отражали его искреннее стремление сделать свою теорию реалистичной.
Однако с математической точки зрения, как отметил Кнут Викселль, различия между представлениями Менгера и Визера, по-видимому, невелики. В условиях свободной конкуренции доля в доходах, приходящихся на любую совокупность средств производства, должна быть, как писал Визер, примерно одинакова при всех возможных формах их хозяйственного использования 115. «Участие в производстве», о котором писал Визер, в таком случае можно трактовать просто как обычные доходы, выплачиваемые различным факторам производства. Тем не менее содержание одного из положений, следовавших из теории Визера, по-видимому, все же осталось неотмеченным; речь идет о том, что каждое благо или каждый фактор, которые используются в качестве элемента действующего коллективного института, явно оказывают большее влияние, чем в случае, когда они используются изолированно от других * Вменение, наделение (нем.).— Прим, перев.
факторов. И наоборот, исключение единицы благ из данного сочетания факторов производства влечет за собой некоторое уменьшение роли остальных факторов 116. На данный аспект теории Визера, подразумевающий понятие действующего коллективного института, долгое время не обращали внимания. Между тем это ярко свидетельствует о понимании Визером того, что индивидуальная хозяйственная деятельность не является чем-то изолированным, не связанным со всей совокупностью взаимозависимых общественных отношений.
Проблема вменения неизбежно вела к вопросу о капитале и проценте. Капитал является тем фактором производства, который непрерывно потребляется, и, следовательно, доходы на капитал должны быть достаточными для возмещения первоначальной суммы, а также для обеспечения сверх того чистой прибыли или избыточной стоимости. Эту сумму Визер считал валовым доходом на капитал, с ней, несомненно, связана физическая производительность капитала — нечто такое, что невозможно непосредственно продемонстрировать. В отличие от трактовки Джевонса понятие капитала у Визера не включало товары, на которые расходуется заработная плата 117. Правомерность дохода на капитал проистекает из того, что капитал функционирует в качестве одного из составных элементов процесса производства. Визеру казалось очевидным, что заимодавцы требуют не только возвращения авансированной суммы, но и некоторой избыточной стоимости. Такая избыточная стоимость, определяемая как чистый доход, представляет собой процент. Все это вряд ли можно признать достаточным объяснением столь сложного явления. Во всяком случае, Визер с почтением относился к концепции дисконтирования. Он полагал, что текущая стоимость капитала устанавливается путем суммирования дисконтированных стоимостей продуктов, которые можно впоследствии произвести при помощи данного капитального блага. Решающее значение в таком случае принадлежало фактору времени. Визер считал, что капиталовложения осуществляются мгновенно, без каких-либо лагов во времени. Однако он не смог удовлетворительным образом превратить фактор времени в составной элемент своей теоретической системы. Чистый доход, приносимый землей, должен быть капитализирован, особенно в том случае, когда при оценке земельного участка приходится учитывать работы по его улучшению. Однако все это не означало ни принятие теории Бем- Баверка, различающей настоящие и будущие блага, ни согласие с теорией воздержания 118. Визер настаивал на том, что как настоящие, 170
так и будущие блага должны оцениваться в равнозначных категориях.
Совершенно очевидным представляется стремление Визера опровергнуть теорию эксплуатации Маркса. В произведениях Визера трудовая теория стоимости часто подвергалась критике, в них он подчеркивал вновь и вновь роль капитала в процессе производства. Визер отвергал также попытки свести капитал к затратам труда путем использования широко известного метода «учета прошлых событий». Тем не менее возражения Визера, по-видимому, не произвели должного эффекта 119.
Долю каждого из факторов производства можно установить также с помощью капитализации. Труд, разумеется, не может быть капитализирован, поскольку он представляет собой свободный элемент (по крайней мере в теоретической модели). Однако этот метод расчета можно использовать применительно к индивидуальным процессам труда и его результатам. Таким путем можно определить часть продукта, которая направляется на оплату специфической услуги, оказанной трудом. С точки зрения общей теории стоимость каждого вида таких услуг зависит в конечном счете от соотношения между предложением и спросом на них, от того, в какой мере использование их полезных свойств должно опираться на содействие других благ, и от уровня развития техники на данный момент 12°. Однако решающую роль при установлении цен на услуги, оказываемые трудом, а вместе с тем и при определении его доли в продукте играет использование предельной единицы труда. Визер исходил из предположения о неизменных производственных коэффициентах, вследствие этого решение проблемы распределения, которое он приводил, предполагало бесконечную эластичность спроса на услуги. Это был рынок, характеризующийся совершенной конкуренцией. Однако такой подход наталкивается на ряд трудностей 121, в связи с чем возникают сомнения, действительно ли Визеру удалось дать достаточно общее изложение проблемы. Наконец, хотя Визер чрезвычайно критически относился к теории Рикардо, все же он полагал, что можно использовать выдвинутую классической школой теорию дифференциальной ренты, для того чтобы объяснить доходы, выплачиваемые владельцам других факторов производства, кроме земли.
Как только речь заходила о проблеме издержек, Визер пытался найти решение, открыто обращаясь к полезности. В своих доказательствах он исходил из стоимости фактора производства, обусловленной его предельной полезностью. Когда тот или иной фактор начинает использоваться в производстве, он сообщает этому процессу и свою стоимость; вследствие трансформации, которая происходит в процессе производства, данная стоимость входит в цену предложения (asking price). Следовательно, в конечном счете издержки производства обусловлены предельной полезностью. Без производства не может быть и издержек 122. Еще одно доказательство правильности такой трактовки издержек можно видеть, по его мнению, в том, что всякие изменения в калькуляции благ, входящих в процесс производства, ведут к изменению цены продукта. Все эти сложные построения сводятся, однако, к утверждению о том, что издержки ведут свое происхождение от благ, входящих в процесс производства, и, поскольку данные блага используются по назначению, они переносят свою стоимость. Но прежде всего издержки должны воплощать соответствующие стоимости. Они получают стоимость благодаря процессу вменения, в ходе которого предельный продукт наделяет стоимостью производственные блага; в результате оказывается, что издержки порождаются своеобразным общественным фондом полезности. Если этот фонд используется разумно, он может увеличить богатство общества, в противном случае может иметь место нежелательный исход — обеднение общества. Вывод из этого довольно сложного анализа состоит в том, что стоимость и издержки всегда определяются предельной полезностью.
Когда Макс Вебер пригласил Визера наряду с другими ведущими учеными того времени принять участие в издании энциклопедической серии работ по общественным наукам, Визер подготовил свой основной труд «Общественное хозяйство». Это была та же серия, для которой Шумпетер написал свою книгу «Экономическая доктрина и метод» 123. Из всех произведений, принадлежащих австрийским представителям маржиналистской теории, только книга Визера содержала действительно всестороннюю экономическую систему; к сожалению, издание этой работы совпало с началом первой мировой войны, в связи с чем книга оказалась незамеченной, и впервые на нее обратили внимание по существу лишь в 1924 г. По своему основному подходу она мало отличается от предшествующей работы «Естественная стоимость», и особенно это относится к обширной первой части, в которой Визер характеризовал теорию простой экономики. Основной проблемой вновь была проблема определения стоимости в своеобразных условиях экономики Робинзона Крузо. Речь опять шла об экономическом человеке, все поступки которого характеризовались полным и просто-таки пугающим автоматизмом решений. Визер вновь высказывал убеждение 171
в том, что это — теоретическим метод исследования, который, как он полагал, носит психологический характер и наиболее пригоден для исследования хозяйства, ведущегося одним человеком 124> «Индивидуалистическая точка зрения, подразумеваемая современными экономическими принципами,— писал он,— представляет собой теоретическую идеализацию... она удачно приспособлена... для дедуктивного анализа экономических элементов. Для того чтобы понять конкретные жизненные явления, следует перейти к другой ступени абстракции и затем — к рассмотрению общественных отношений, которые действительно существуют в настоящее время» 125. Простая экономика Визера начинает обнаруживать черты, присущие хозяйственной деятельности в масштабах национальной экономики: дело представляется таким образом, как если бы все национальное хозяйство направлялось одним человеком, благодаря этому появляется возможность более эффективно исследовать законы общественной экономики. Следуя такой схеме, нужно, как утверждал Визер, проследить лишь за единственным потоком ресурсов — движением из сферы производства к конечному потребителю. Структура первой части «Общественного хозяйства» существенно не отличается от структуры предшествующей работы. Излагался гос- сеновский * закон убывающей полезности; по существу, так же, как и раньше, ставилась проблема потребностей и желаний; издержки и теперь трактовались просто как скрытая форма предельных стоимостей; в основе теории распределения по-прежнему лежало участие в производственном процессе; принцип вменения вновь излагался с помощью тех же аналогий, которые уже были использованы в книге «Естественная стоимость» 126.
Однако в последней части работы «Общественное хозяйство» обнаруживались свежие мысли. В отличие от других представителей австрийской школы Визер предпринял смелую попытку сочетания разработанной им чистой экономической теории с теорией общества. Он стремился показать, как общественное хозяйство складывается благодаря процессу обмена, то есть благодаря основному механизму, с помощью которого отдельные лица выражают свои хозяйственные интересы 127. Тем не менее Визер признавал, что отношения между людьми в масштабах всего общества складываются не для того, чтобы эти люди могли вести между собой беседу: он понимал, что фактически в сфере общественной деятельности людей бы* Госсен Герман Генрих (1810—1858) — немецкий буржуазный экономист, один из предшественников теории предельной полезности.— Прим, перев.
вают столкновения, которые часто достигают большой силы128. Если рассматривать проблему в таком плане, уже невозможно утверждать, что погоня за собственной выгодой всегда способствует всеобщему благосостоянию. Социальные конфликты часто ведут к установлению господства одного класса над другим. Например, буржуазия сыграла важную роль в процессе исторического развития, сокрушив власть феодальных магнатов; однако со временем утвердился ее собственный экономический и политический деспотизм, основанный на финансовом контроле и на отчуждении средств производства от рабочих. Хотя такие социологические наблюдения были неприятны из-за своего сходства с утверждениями социалистов, все же Визер признавал их обоснованность.
В произведениях Визера можно проследить заметное влияние идей Толстого, полагавшего, что историю творят безымянные массы; в то же время взгляды Визера в области социологии носили самостоятельный характер129. Люди — существа общественные, писал Визер, в общество их объединяет сильное стремление к свободе, и тем не менее они подвергаются действию мощных сил принуждения. Именно эти силы и творят историю. Что касается сферы экономики, то принципы полезности и издержек, которые так великолепно функционируют в условиях простого хозяйства, в реальной жизни действуют лишь как тенденция. Вопреки прежним теоретическим представлениям результаты рыночной деятельности не всегда оказываются благоприятными для всех вследствие того, что сильные часто господствуют над слабыми и контролируют их 13°. Кроме того, в общественном хозяйстве цены часто стратифицируются. Стратификация цен отражает появление различных категорий благ, которые оказываются связанными со спросом со стороны различных классов общества. Совершенно очевидно, что развитие такого процесса характеризуется иррациональностью и оказывает неблагоприятное воздействие на экономику 131. Рассматривая этот вопрос, Визер, подобно Торстену Веблену, отмечал, что деятельность, направленная лишь на обеспечение внешнего эффекта, пагубно отражается на функционировании рынка. Цена у него превращается в общественную категорию, так как с ее помощью складываются взаимоотношения между различными людьми. Теперь дело не ограничивалось уже чисто аналитическими методами, как это было в книге «Естественная стоимость». Стратифицированная предельная полезность легко подвергается искажениям 132. В условиях общественного хозяйства экономические ценности деформируются, и вскоре оказывается, что они уже не могут удовлетво172
рять требованиям подлинной рациональности. Все блага подразделяются на три группы: товары массового потребления, которые используются всеми — как богатыми, так и бедными, предметы роскоши и промежуточные товары. Стоимость товаров первой группы определяется их предельной полезностью для бедняка, товаров второй группы — предельной полезностью для богача и товаров третьей группы — оценками среднего класса. В ходе этого процесса и происходит нежелательная стратификация спроса.
Может возникнуть чрезмерная конкуренция, которая стимулируется перепроизводством, и в этом заключается одна из причин экономического кризиса 133. Визер отвергал мнение представителей классической школы о том, что конкуренция образует идеальное состояние экономики, вместе с тем он довольно критически относился к обвинениям, выдвигавшимся против монополий. Вслед за изложением вопроса о функционировании монополий Визер, предвосхищая мысли Шумпетера, писал: «Доктрина классической школы, которая безоговорочно одобряла конкуренцию, считая, что она соответствует интересам общества, и совершенно отрицательно относилась к монополии как к антиобщественному явлению, больше уже не может считаться справедливой в применении к современным институтам» 134. Теперь, отмечал Визер, невозможно также по-прежнему говорить только о чистой конкуренции и чистой монополии, поскольку сейчас существует множество неизвестных ранее промежуточных, «монополоидных» форм. Коль скоро речь идет о рыночной позиции, нужно отметить, что монополия означает превосходящие позиции па рынке, однако не всякая благоприятная рыночная позиция представляет подлинную монополию. Хотя в промежуточных формах можно обнаружить черты монополии, тем не менее на них оказывают давление силы конкуренции. Эти рассуждения получили более полное развитие впоследствии в концепциях Эдварда X. Чемберлина и Джоан Робинсон 135. Однако Визер не знал еще таких понятий, как дифференциация продукта или влияние, которое могут оказать на цены и спрос различия в местоположении производителя.
Экономическая социология, которую Визер разработал в книге «Общественное хозяйство», в то время была событием незаурядным. Он указывал на то, что быстрая урбанизация грозит социальным вырождением; он подчеркивал отрицательные последствия неравномерного распределения богатства, гнетущую, опустошающую человека обстановку, порождаемую индустриализмом, и самые крайние формы отчуждения. Визер полагал, что если профессиональные союзы будут заниматься исключительно борьбой за улучшение условий, фиксируемых коллективными договорами, то они, вероятно, смогут добиться успеха 136; он был совершенно убежден в том, что в условиях современного капитализма рабочий может обрести подлинную свободу лишь благодаря тред-юнионизму 137. Это знаменовало поистине новый подход, если принять во внимание, что Джевонс и Менгер выступали в защиту бескомпромиссного индивидуализма, доведенного почти до самых крайних своих проявлений. Как полезно было бы некоторым авторам современных теорий перечитать высказывания Визера по данному вопросу! 138 И здесь он стремился сочетать теоретические принципы с вопросами политики: Визер настаивал на том, что деятельность профсоюзов может обеспечить трудящимся лишь такую заработную плату, которая соответствует полной предельной производительности труда. Вследствие этого он рекомендовал профессиональным союзам избегать конфликтов с предпринимателями и стараться достигнуть «полюбовного соглашения» об экономически обоснованном уровне заработной платы. Как бы ни была ограничена такая формулировка, как бы она ни была привязана к маржиналист- ской теоретической системе, даже она может свидетельствовать о том, что Визер превосходил своих современников.
Симпатии Визера, по-видимому, были на стороне такого хозяйственного строя, который теперь назвали бы «смешанной экономикой». Однако он утверждал, что централизованное управление не в состоянии столь же эффективно достигнуть удовлетворительных результатов, как это обеспечивается с помощью бесчисленных операций, осуществляемых множеством индивидуумов 139. В экономических и социальных вопросах Визер, разумеется, никогда не придерживался социалистических взглядов. Он настаивал на том, что экономический расчет осуществляется наилучшим образом при капиталистическом строе, тем не менее Визер допускал, что рост обобществленного сектора неизбежен. Проблемы экономического расчета означают по существу проблемы максимизации полезности, но эти задачи могут не совпадать с целями, стоящими перед общественным хозяйством. Поскольку Визер утверждал, что методы и формы, в которых развертываются эти процессы максимизации, в основном сходны между собой, законы экономического расчета фактически оказываются, по Визеру, одними и теми же при капитализме и при социализме 14°*.
* Следует напомнить, что социализм у Визера получал буржуазно-реформистскую трактовку, искажавшую его сущность.— Прим, перев.
173
Характер государственного хозяйства рассматривается в сокращенном издании третьего тома «Общественного хозяйства». Цель государства, как писал Визер, должна состоять скорее в обеспечении защиты и условий развития общественного производства, чем в удовлетворении потребностей. Когда государство ведет производство на обычных предприятиях, оно оказывается вовлеченным в процесс обращения, причем основным критерием его деятельности по-прежнему служит принцип максимальной меновой стоимости. Однако прогрессивное налогообложение должно быть отвергнуто, несмотря на то что для его защиты можно использовать положения, выдвинутые теорией полезности. В последней части книги рассматривается мировое хозяйство. Точка зрения Визера в этом вопросе была типичной для экономистов континентальной Европы: представления классической школы о международной торговле он считал неприемлемыми. Визер полагал, что националистическая концепция Листа с ее выводами относительно протекционистского механизма вполне обоснована. Может быть, никогда не удается достигнуть равновесия цен на мировом рынке, тем не менее важную роль, по мнению Визера, играет непрерывное распространение технических знаний. Оно может оказаться более важным, чем возможность использования ресурсов 141.
К сожалению, существует тенденция к недооценке Визера. Можно согласиться с тем, что при критике австрийской школы он служит одной из мишеней; тем не менее нельзя забывать, что Визер развил теорию полезности Менгера, придав ей большую глубину, а также сформулировал, по существу, оригинальные теории издержек и распределения. В книге «Общественное хозяйство», где Визер подвел свои итоги многолетним размышлениям над экономическими проблемами, подчеркивается ныне общепризнанный тезис: для всестороннего рассмотрения проблемы требуется анализ, который выходит за пределы простых принципов простого хозяйства. Короче говоря, Визер продемонстрировал понимание общества как функционирующего организма,— понимание, которого явно недоставало другим представителям австрийской школы и маржиналистской теории. Как признал даже Джордж Стиглер, Визер оказал известное влияние на последующих экономистов 142. На Фреда М. Тэйлора большое впечатление произвела мысль Визера об ограниченных масштабах колебаний в размерах факторов производства, что побудило его рассмотреть предположение о постоянной величине технических коэффициентов; следы влияния Визера можно обнаружить даже у такого автора, как Дж. Р. Хикс 143. Хотя Визер и полагал, что он создал чисто психологическую экономическую теорию, тот технический аппарат, который он в действительности разработал, представлял собой нормативную систему, то есть такую экономическую теорию, какой она и должна быть. Эго особенно заметно в его социальном анализе, где он подчеркивал отклонения в поведении людей от надлежащих норм, например в трактовке неравенства и реформ. Он не хотел, чтобы созданная им экономическая теория оказалась статичной: как же иначе можно понять тот факт, что Визер тщательно прослеживает экономические стимулы от расчета полезности в естественной системе до меновой стоимости в общественном хозяйстве, в котором свобода заключать соглашения и частная собственность позволяют людям добиваться осуществления своих целей, и далее расширяет сферу анализа вплоть до национальной и мировой экономики? Ясно, что Визера интересовало нечто большее, чем чистая теория. В своей книге «Das Gesetz derMacht», в которой он расширяет границы социологии, наметившиеся в «Общественном хозяйстве», главными вопросами становятся уже монополия, руководство и права человека. Это явно свидетельствует о серьезной попытке сочетать теоретическое исследование с практикой. Уже один этот факт говорит о том, что Визер достоин занимать почетное место в истории экономических учений.
3. ЕВГЕНИЙ ФОН БЕМ-БАВЕРК: БУРЖУАЗНЫЙ МАРКС
Новая экономическая теория не сразу нашла признание. В Англии работы Джевонса наталкивались на глухую стену непонимания, а Вальрас в Лозанне работал в одиночку. Все же в Австрии представителей маржиналистской школы ждала большая удача; здесь, по существу, сразу сформировалась школа, и у Менгера появились необыкновенно способные, завоевавшие известность последователи в лице Визера и Евгения фон Бем-Баверка (1851—1919). Особенно энергично за успех новой теории боролся Бем-Баверк; в своих произведениях он непрерывно и зачастую с блеском полемизировал со всеми, кто выступал против исполь174
зования субъективизма в экономической теории.
Бем-Баверк родился в Брунне в семье политического деятеля. Его отец был вице-губернатором Моравии, и, несмотря на то, что Бем- Баверк испытывал интерес к естественным наукам, в соответствии с семейной традицией ему пришлось посвятить себя изучению юриспруденции. После окончания Венского университета он получил место государственного служащего в Нижней Австрии, а впоследствии поступил на службу в Министерство финансов, его где способности вскоре произвели глубокое впечатление. Оригинальные взгляды Менгера пробудили у Бем-Баверка интерес к экономической теории. Вслед за этим он на протяжении двух лет путешествовал по Германии вместе с Визером, который впоследствии стал его шурином; в эго время они изучали теоретический курс в Гейдельбергском, Йенском и Лейпцигском университетах. Основное время Бем-Баверк посвящал государственной службе, вследствие этого многие его работы носят несколько незавершенный характер. Не вызывает сомнения, что если бы у Бем- Баверка было столько свободного времени, как у других теоретиков, он пересмотрел и отшлифовал бы большую часть своих работ. Однако у Бем-Баверка большая часть энергии уходила на непрестанную защиту новой экономической теории Менгера. Некоторое время он преподавал в Инсбрукском университете, а в 1889 г. его вновь пригласили в Министерство финансов, с тем чтобы он разработал проект финансовой реформы. Бем-Баверк стремился поскорей заняться вновь служебными делами, вследствие чего его работа над «Позитивной теорией капитала»— второй частью «Kapital und Kapitalzins» *, носит явные следы поспешности. Многие мысли высказаны в ней лишь в общей форме, и вряд ли можно сомневаться в том, что если бы Бем-Баверк смог вернуться к этой книге, он, по-видимому, существенно переработал бы ее.
Высокий государственный пост, который Бем-Баверк занимал с 1889 по 1904 г., оставлял мало времени для работы над подготовкой книг. Тем не менее Бем-Баверк сумел читать лекции и смог даже опубликовать свою знаменитую работу, посвященную критике Маркса 144. В 1905 г. он покинул государственную службу и приступил к выполнению обязанностей профессора Венского университета; семинар, который он здесь вел, получил широкую известность. Бем-Баверк был одним из лучших полемистов своего времени; он сразу же соглашался
* <<Капитал и процент» (нем.).— Прим, перев. с правильными доводами противников, однако всегда готов был обрушиться на их ошибочные построения, демонстрируя при этом блистательную и неопровержимую логику. Без такого полемического искусства, конечно, невозможно было бы прочно утвердить позиции австрийской школы, поскольку ее теория носила противоречивый характер 145.
Будучи министром финансов австрийской монархии, Бем-Баверк выступал за соблюдение принципов «здоровых финансов». Он был осмотрителен и консервативен. Исключительный дар полемиста оказывался весьма кстати в тех случаях, когда приходилось противостоять давлению общественного мнения. Шумпетер, который характеризовал жизнь Бем-Баверка в некрологе как «произведение искусства» 146, отмечал, что Бем-Баверк обнаружил «...безраздельную преданность своему делу, совершенное бескорыстие, широкие интеллектуальные интересы, широкий кругозор и подлинную простоту — и при всем этом он был полностью свободен от ханжества или какой-либо склонности к проповедям» 147.
Исходным пунктом для Бем-Баверка служила теория Менгера, и Бем-Баверк стремился ни в чем не изменять своему учителю. Ему были чужды напрасные усилия или погоня за мимолетным успехом: цель Бем-Баверка состояла в том, чтобы развить теорию полезности и продвинуться в этой области дальше^ Менгера.
В системе Менгера отсутствовал такой элемент, как теория процента или чистого дохода на капитал. Для Бем-Баверка процент служил ключом к пониманию капитализма, точна так же как для Маркса центральной проблемой являлась прибавочная стоимость. Бем- Баверк полагал, что наиболее важную роль играет мнение о роли процента и прибыли, потому что от него зависит и отношение к капитализму. Это, несомненно, был единственный вопрос, в котором Бем-Баверк мог бы опереться на поддержку Маркса *. Однако в отличие от Маркса Бем-Баверк подходил к вопросу с позиций чистой теории. Он не пытался отыскать объяснение общественным проблемам, а также не выступал в защиту мер, направленных на совершенствование общества, как это * Коренное отличие теорий процента и прибыли Бем-Баверка и Маркса состоит в том, что Бем-Баверк считал источником процента и прибыли субъективную ценность благ будущего и настоящего, а Маркс рассматривал их как формы, в которых выступает прибавочная стоимость, созданная в результате эксплуатации наемного труда. Поэтому лишены какого-либо реального смысла рассуждения Селигмена о том, что Бем-Баверк «мог бы опереться на поддержку Маркса».— Прим, перев.
175
делал Маршалл. Он просто хотел показать, что капитализм — это такое хозяйство, которое не только хорошо функционирует, но и обнаруживает внутренний raison d’etre *, полностью согласующийся с его целями.
Наиболее сильное воздействие на Бем-Ба- верка явно оказал Менгер, однако в работах Бем-Баверка можно проследить также влияние Джевонса и Джона Рэ 148. Рэ — американский экономист начала XIX в., рассматривал роль изобретений в хозяйственном развитии и то, какое влияние оказывает на экономику недооценка будущих потребностей. И все же в теории стоимости и цены, а также в использовании таких понятий, как производственный период и дисконтирование будущих благ, Бем- Баверк следовал за Менгером; Бем-Баверк впоследствии мастерски развил эти мысли. А на основе таких представлений он смог воздвигнуть вполне самостоятельную идеологическую систему, хотя это и противоречило его стремлению к чисто «научному» подходу. Первая часть главного произведения Бем-Баверка «Капитал и процент» содержала подробный исторический обзор и критику предшествующих теорий капитала и процента 149. При этом Бем-Баверк, разумеется, не упускал случая высказать по этим вопросам свои собственные взгляды.
Основные идеи Бем-Баверка были изложены в его ранней работе «Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkte der volkwirtschaftlichen Giiterlehre» 150 **. Именно благодаря этой работе он смог получить место предподавателя в Венском университете. В ней уже можно различить в зародыше последующий анализ капиталистического процесса. В книге «Rechte und Verhaltnisse» проводилось различие между хозяйственными правами и благами, тем самым обосновывался переход к теоретической системе, в которой капитал мог быть определен как совокупность всех благ и товаров. В то время как в притязаниях на присвоение благ проявляется капитализированная стоимость, исходным моментом для Бем-Баверка служила все же полезность и способность благ удовлетворять потребности, вследствие чего он не заметил, что непосредственное отношение к этому вопросу имеет капитализированная стоимость прав. Такие стоимости, как показал впоследствии Веблен, образуют при капитализме основную часть хозяйственных ценностей. Бем-Баверк же в своих выводах конструировал своеобразный бартерный обмен во времени, и в каче-
* Разумный смысл (франц.).— Прим, перев.
** «Права и отношения, рассматриваемые с точки зрения народнохозяйственного учения о благах» («е.и.).— Прим, перев. стве главных объектов такого обмена выступали настоящие и будущие блага.
В 1886 г. Бем-Баверк издал свою работу «Grundzuge der Theorie des wirtschaftlichen Guterwertes» *, после опубликования этой книги за ним прочно утвердилась репутация главы австрийской школы. На протяжении многих лет Бем-Баверк выступал в роли главного защитника новой теории, отстаивал и излагал ее достоинства и обрушивался с критикой на всех, кто выражал сомнения по поводу ее правильности. После выхода в свет книги «Капитал и процент» авторитет Бем-Баверка еще более упрочился. Однако в этой книге автор и не пытался проанализировать содержание рассмотренных им предшествующих теорий в связи с историческими условиями, в которых они возникли, или выделить философское содержание этих теорий. Каждая из теорий исследовалась исключительно с точки зрения ее внутренней логики. Каждая из них была признана неудовлетворительной, и гильотина Бем-Баверка вершила над ней приговор. Такой подход к проблеме лишь подчеркивал его стремление к тому, чтобы открыть всеобщие экономические законы, применимые в любой системе независимо от места и времени. Он полагал, что такие законы логически и объективно следуют из самого содержания хозяйственной деятельности. Экономические проблемы, с его точки зрения, носили в основном аналитический характер. Он был «чистым» теоретиком sans ** истории и социологии.
Бем-Баверк указывал, что основной вопрос для экономиста состоит не в том, чтобы собрать больше фактов, а в том, как подойти к изучению, осмысливанию и анализу уже известных фактов и как логически развить до конца те выводы, которые можно сделать на основе их изучения. Чтобы достигнуть этого, нужно обобщить всю совокупность накопленных опытом фактов, применяемый здесь метод абстракции в известном смысле должен напоминать методы теоретической физики. Однако Бем- Баверка не слишком интересовало обсуждение методологических вопросов, он полагал, что споры по этому поводу бесплодны и могут служить лишь препятствием для серьезного научного исследования. Его не волновал также вопрос о практическом использовании теории, потому что это неизбежно должно повлечь за собой дебаты, в ходе которых, как он полагал, исчезнет сама теория. Несмотря на то что Бем-Баверк долго и с увлечением зани* «Основы теории ценности хозяйственных благ» (нем.).— Прим, перев.
** Без, лишенный (франц.).— Прим, перев.
176
мался практической деятельностью, подход к теории с точки зрения ее практического использования был ему не по душе. Как говорил Шумпетер, Бем-Баверк писал для будущих поколений 151.
Он ясно представлял себе место, которое среди социальных проблем занимают капитал и процент. Это со всей очевидностью вытекает из книги «Капитал и процент», в которой различные доктрины классифицируются в зависимости от их отношения к проценту как экономической категории — сочувственно или враждебно. Предшествующие теории, писал Бем-Баверк, рассматривали простое отношение между заемщиком и кредитором, а более поздние теории принимали во внимание дихотомию труда и капитала. Изменившаяся точка зрения означала уже новый подход к капиталу: капитал теперь следовало определить скорей как запас благ, которые можно использовать в процессе производства, а не как текущий фонд. Тем не менее это не означает, что капитал следует рассматривать в связи с реальными историческими условиями, в которых он функционирует; капитал по-прежнему должен интерпретироваться как теоретическое понятие, несмотря на то что внешне он выступает воплощенным в конкретных благах. Если считать, что капитал является исторической категорией, то это должно означать конфликт между общественными классами, но именно этого вывода Бем-Баверк стремился избежать любой ценой. Однако его попытки создать чистую теорию, для того чтобы уйти от исторического подхода, были обречены на поражение. Он просто не мог не занять ту или иную идеологическую позицию. Как ни отрицал этот факт Бем-Баверк, его экономическая теория также носила классовый характер; дело в том, что, стремясь доказать постоянное и вечное значение этой теории, он использовал самые изощренные доказательства для того, чтобы оправдать определенные формы хозяйственной деятельности. Тот аргумент, что капитал является скорее теоретическим, чем историческим понятием, представлял собой не очень удачную попытку ликвидировать классовый конфликт. Ответ Бем-Баверка, несомненно, должен был состоять в том, что он просто исследует причины существования процента, его этиологию. С другой стороны, социологический анализ предполагал выяснение вопроса о том, какое влияние процент оказывает на отношения между людьми, а также рассмотрение функций процента и средств их осуществления. Это была та область, которую Бем-Баверк стремился не затрагивать. Он видел свою задачу лишь в том, чтобы рассматривать причины и следствия. Довольно любопытно, что 12 в. Селигмен
Бем-Баверк отвергал мысль о взаимозависимости и равновесии; вероятно, это объясняется тем, что он считал применение математических понятий неуместным, Бем-Баверк полагал, что при использовании математического метода возникнет порочный круг в рассуждениях 1б2.
Эти взгляды наиболее полно выражены в работе «Позитивная теория капитала», в которой, правда, вопросы излагаются довольно хаотично. Вторая часть книги была написана в то время, когда первая ее часть находилась в типографии, и некоторые неясности в теоретическом отношении так никогда и не были полностью преодолены. Как отмечают и Викселль, и Стиглер, у читателя часто возникает ощущение, что на протяжении всей книги ход рассуждений неоднократно меняется, а в некоторых случаях высказанные мысли, по-видимому, противоречат друг другу. Бесчисленные «экскурсы» и многословные критические замечания, каждое из которых само по себе представляет монографию, усиливают и без того явную неразбериху. В связи с тем, что «Позитивная теория капитала» совершенно лишена целостности, эта книга лишь, видимо, немногим отличается от сборника очерков, каждый из которых не согласуется с остальными.
Однако значение этой работы трудно переоценить, поскольку в ней излагалась маржи- налистская теория в ее развитой форме. Описанный в ней хозяйственный строй предполагает только наличие капиталистов, рабочих и землевладельцев, каждый из которых должен осуществлять свои функции. Как и Рикардо, Бем- Баверка скорее интересовала проблема функционального, чем персонального, распределения. Проблема персонального распределения, с его точки зрения, не имела смысла; в отличие от Визера он не признавал, что политический и социальный климат, оказывающий влияние на персональное распределение, может изменить порядок распределения доходов, соответствующий функциональной теории.
Теория стоимости Бем-Баверка, излагаемая в третьей и четвертой книгах «Позитивной теории капитала», как и теория Визера, восходила к представлениям Менгера; однако последний употреблял понятие полезности преимущественно к тем благам, которые непосредственно используются для удовлетворения потребностей. Хотя у Менгера уже имелись начальные представления о вменении стоимости, они представляли собой просто предположения, и критики быстро обнаружили этот пробел. С ответом критикам выступил Визер, а Бем- Баверк развил положения Визера, особенно в своем раннем очерке «Grundziige». Однако 177
даже у обоих учеников Менгера взгляды не совпадали, различия касались вопроса об оценке запасов благ. Визер полагал, что каждая единица запаса должна оцениваться на основе предельной полезности, так что общая стоимость запаса будет равна предельной полезности, помноженной на общее количество единиц. Бем-Баверк полагал, что, поскольку предельная полезность внутри данного запаса снижается, общая стоимость равна сумме частичных стоимостей всех единиц. Среди приверженцев маржиналистской теории развернулась дискуссия. Некоторые из них считали более точной формулировку Визера, поскольку в действительности удовлетворение потребностей осуществляется на протяжении определенного времени, и поэтому отдельные части запаса могут быть использованы, когда они потребуются, невзирая на их частичные стоимости. В этом случае, разумеется, исходят из предположения о том, что различные единицы запаса совершенно одинаковы. Все же большинство маржиналистов приняли сторону Бем-Баверка 1б3.
Разногласия между Визером и Бем-Бавер- ком касались также вопроса о вменении. Визер настаивал на том, что сумма всех долей дохода, вмененных данному сочетанию факторов производства, должна быть не больше и не меньше стоимости самого продукта. Другими словами, осуществляется совершенно пропорциональное распределение. Бем-Баверк со своей стороны доказывал, что преимущества современного производства проистекают из возможности управлять затратами каждого фактора производства; следовательно, стоимости, которые вменяются факторам производства, превышают стоимость, входящую в процесс производства. Иначе говоря, общая стоимость совместно используемых факторов производства меньше, чем сумма стоимостей, выплачиваемых этим факторам. В этом нет противоречия, так как многие процессы созидания приводят к тому, что целое больше, чем сумма его частей, такое рассуждение могло бы иметь существенное значение, если бы Бем-Баверк решил выдвинуть свое собственное понятие прибавочной стоимости.
Полезность блага явно была связана с его потребительной стоимостью. Если бы потребительной стоимости не существовало, потребности невозможно было бы удовлетворить. Однако стоимость (в смысле способности к обмену) не возникает, доказывал Бем-Баверк, до тех пор, пока потребительная стоимость не сочетается с условием редкости. Продолжая эту мысль, он проводил различие между потребностями как таковыми и их относительной интенсивностью, что позволило ему разработать «закон убывающей предельной полезности». Следовательно, стоимость блага определяется его наименьшей предельной полезностью. Эту мысль можно изложить более изящно: блага наделяются стоимостью в тех пропорциях, в каких при отсутствии данных благ уменьшается удовлетворение потребностей. При этом, однако, предполагается доказанной теорема о взаимозаменяемости, поскольку допускается утверждение о том, что стоимость блага определяется полезностью товара, от которого потребитель в предельном случае отказался; такой принцип определения стоимости Бем-Баверк использовал по отношению к свободно воспроизводимым благам или к тем благам, которые могут найти различное применение. Вслед за этим рассматривается случай, когда используются комплементарные блага, при этом задача состоит в том, чтобы выделить из общей стоимости совокупности комплементарных благ стоимость каждого из них. Для этого используется следующий метод: заменяемым элементам приписывается та стоимость, которой они располагали до использования в процессе производства, и предполагается, что остальная стоимость принадлежит тем элементам, которые не могут быть заменены. Однако подобный метод не только совершенно произволен, но предполагает также неизменное количество факторов производства 154. И все же подход Бем-Баверка в основном напоминал метод Визера: Бем-Баверк разделял мысль о том, что вменение стоимости факторам производства обусловлено их производительным вкладом, и, подобно Визеру, отрицал, что «тягость» труда оказывает какое-либо влияние на стоимость или на распределение ресурсов. Существенную роль в теории Бем-Баверка играло отрицание роли издержек, потому что в связи с этим полностью исчезали всякие объективные элементы; именно это вызвало особенное раздражение у противников Бем-Баверка из числа английских экономистов. Они не могли также согласиться со следующей иллюстрацией, приводившейся Бем-Баверком: поскольку квалифицированный труд оплачивается по более высокой цене, это исключает возможность определения предельного приращения стоимости трудом.
Цена, которая служит рыночным выражением стоимости, определяется и вместе с тем ограничивается, с одной стороны, субъективными оценками последнего покупателя, который согласен купить товар, и первого продавца среди тех, которые могут принять участие в процессе обмена, и, с другой стороны, оценками наиболее слабого продавца и первого покупателя из числа тех, кто в данной рыночной 178
ситуации исключается из обмена. Такая мысль о предельных парах превращала уравнения спроса и предложения в составную часть теории предельной полезности 156. Бем-Баверк предпочитал такой подход к проблеме, поскольку понятия спроса и предложения он находил несколько расплывчатыми. Основными факторами, как он полагал, служат интенсивность спроса и полезность благ, тем самым теория цен строилась на основе субъективных оценок, а издержки должны были рассматриваться просто в качестве цен 15в. Все колебания цен, издержек и стоимостей восходят к предельной полезности. Бем-Баверк писал о том, что каузальная зависимость ведет от стоимости и цены к стоимости и издержкам — от скобяных изделий к железной руде. В этом «просто проявлялось действие великого закона предельной полезности...» Бем-Баверк все же допускал, что на протяжении короткого промежутка времени предложение характеризуется некоторой неэластичностью и вследствие этого в большой мере зависит от цены; цена должна быть достаточно высокой, она должна превышать минимально выгодный уровень для тех продавцов, которые при данных условиях принимают участие в процессе обмена. Это с очевидностью следовало из иллюстрации, которую он приводил,—«предельной пары» участников обмена на конном рынке 1б7; в данном примере на предложение явно оказывала влияние цена — она должна была достигнуть такого уровня, при котором исключаются альтернативные возможности применения товара, а также возможность использования его самим продавцом. Он не ипользовал непрерывные кривые спроса и предложения, которые в наше время знакомы экономистам; при объяснении рыночных явлений он исходил из отсутствия непрерывности и делимости на дискретные единицы.
Теория стоимости служила основой для понимания заработной платы, ренты и прибыли. Все блага можно свести к земле и труду, которые в конечном счете являются единственными факторами производства 1б8. Стоимость продукта должна проложить себе обратный путь вплоть до тех факторов, услугам которых вменяются стоимости и цены, известные под названием заработной платы и ренты. В связи с тем, что труд, по Бем-Баверку, должен оплачиваться в соответствии с его предельным вкладом, за всем этим обнаруживается теория предельной производительности в ее первозданном виде. Однако прибыль и процент порождаются посторонними факторами, обычно это связано с трением, вследствие которого цены отклоняются от нормального уровня, определяемого издержками. Прибыль образуется в результате несовершенства рынка, тогда как существование процента можно объяснить ролью фактора времени. Здесь мы наконец подошли к вопросу, с которым связан уникальный вклад Бем-Баверка в историю экономической мысли 169 и который смог придать характерный оттенок всей его теоретической концепции.
Стоимость оплаты рабочего должна исчисляться как дисконтированная стоимость производимого им продукта. Аналогичным образом исчисляется доход от услуг земли. Заработная плата (или рента) является ценностным выражением произведенного с помощью труда (или земли) предельного продукта, помноженного на количество продукции, которое дисконтируется по отношению к настоящему времени *. Такую же методику Бем-Баверк использовал для определения стоимости товаров длительного пользования; при использовании такого понятия стоимости обнаружилось, что процент пронизывает собой всю хозяйственную структуру. Это образовало основу теории распределения Бем-Баверка. Ему было совершенно чуждо представление о том, что изменения в затратах факторов производства могут составлять элемент производства и распределения. Каждый из факторов, сочетаемых в процессе производства, играет существенную роль; действительно, такое совместное использование выступает по существу как единое условие производства, и последний фактор, требующийся для того, чтобы все сочетание смогло функционировать, представляет полную стоимость всех совместно используемых элементов.
Такие представления, по-видимому, были сродни идее Визера о «действующем коллективном институте», однако в целом они носили довольно путаный характер. Альтернативный подход предполагает, что существует некая минимальная резервирующая цена на факторы производства, которая должна создавать заинтересованность в их применении; ее уровень зависит от того, сколько можно получить за данный фактор при других формах его использования. В случае с заменимыми товарами проблема решается легко, потому что размеры стоимости можно соотнести с теми суммами, которые предположительно удалось бы получить при альтернативных формах использования 16°. Однако при таком подходе с точки зрения «издержек альтернативной воз♦ Более подробно аналогичная методика рассмат¬
ривается в книге: П. Самуэльсон, Экономика,
М., 1964, стр. 633—637.— Прим, перев.
12* 179
можности» возникает затруднение, связанное с тем, что Бем-Баверк отвергал мысль об экономической взаимозависимости; вследствие этого он фактически не мог найти сколько-нибудь удовлетворительного решения данной проблемы.
Рассматривая вопрос о потреблении и сбережении, Бем-Баверк отметил, что должно иметь место накопление средств существования, с тем чтобы в последующий период обеспечить предложение благ для землевладельцев и рабочих. Тем самым предполагается, что потребление должно опираться на производство предшествующего периода; указанное положение представляет как бы другую сторону мысли Бем-Баверка о производственном периоде. Обязанности капиталиста состоят в том, чтобы поддерживать предложение потребительских благ и обеспечивать ими землевладельцев и рабочих. Однако подлинное сбережение имеет место скорее в том случае, когда производство ведется исходя из задач, намечаемых на отдаленное будущее, а не ориентируется на текущие потребности. Все же создание капитала не может быть полностью сведено к такому процессу, поскольку капитал опирается также и на производство предшествовавшего периода 161. Бем-Баверк указывал, что в действительности происходит сбережение не самого капитала, а его производительной способности. Кроме того, необходимость в опосредствующих благах возникает в связи с тем, что при использовании окольных методов производства * производительная способность капитала переносится из настоящего времени в будущее. Реальной созидающей силой в конечном счете являются не производственное оборудование, а скорее окольные методы производства. Именно благодаря этой характерной особенности капитализма создается, воспроизводится и увеличивается капитал 162; она служит той косвенной силой, которая приводит в движение производительные силы. Капитал по существу представляет собой промежуточный продукт, созданный природой и трудом. Однако вопрос о том, в каком направлении в действительности будет развиваться производство, решает потребитель, потому что, осуществляя расходы или воздерживаясь от них, он тем самым использует эффективный спрос как средство, позволяющее навязать обществу свои желания и свой выбор.
Это служило исходным пунктом для теории капитала — центральной части экономической * Характеристика «окольных», или косвенных, методов производства приводится в книге: П. Самуэльсон, Экономика, 1964, стр. 631—633, а также несколько ниже в данной работе.— Прим, перев.
теории Бем-Баверка. Вместе с тем он явно чувствовал необходимость сначала расчистить почву. Только этим можно объяснить .подробную, детально изложенную историю вопроса, приведенную в книге «Капитал и процент». Нужно было определить, в чем состоит сущность хозяйственного блага; эта задача была выполнена в книге «Rechte und Verhaltnisse», где в основу экономической теории легли субъективная теория стоимости и понятие полезности. Затем можно было переходить к исследованию прибыли и процента. Но для этого требовалось четкое определение капитала; капиталом Бем-Баверк считал одни лишь материальные блага и, по-видимому, не включал в состав этого понятия права и невещественные ценности. Он пытался провести различие между капиталом как средствами производства и капиталом как чистым доходом. Представление о капитале как о чистом доходе Бем-Баверк считал несколько наивным, в связи с этим он сосредоточил свое внимание на таком понятии капитала, под которым подразумевалась совокупность орудий производства. Он указывал, что в этом случае необходимо начинать с представления о производстве как о процессе изменения исходного материала с целью изготовления вещей, необходимых для удовлетворения потребностей. Такая цель может быть достигнута, если труд сначала затрачивается на изготовление определенных средств производства, которые затем могут быть использованы для того, чтобы произвести большее количество потребительских товаров 163. В этом и заключался пресловутый окольный процесс производства. Хотя эта идея и не была особенно новой, у Бем- Баверка она превратилась в составной элемент всеобщей экономической теории. Следовательно, капиталистическое производство представляет собой окольный процесс, и чем более окольным он становится, тем лучше. В состав капитала входят все промежуточные блага, созданные на различных стадиях окольного процесса. Из этого явно вытекает: во всем том, что другие авторы считали существенными элементами капитализма — рыночное хозяйство, частная собственность и система заработной платы,— заключено меньше смысла, чем в окольном процессе производства. Всякий хозяйственный строй, при котором используются такие окольные методы производства благ, является «капиталистическим», и чистый доход на капитал будет существовать даже при таком хозяйственном строе, который описывается под названием социалистического. Частный капитал Бем-Баверк определял как фонд средств существования, предоставляе180
мых рабочим; такое суждение чрезвычайно напоминало определение капитала, данное Джевонсом 164. Далее он показывал отличия такого фонда от общественного капитала — производственного оборудования и сырья, принадлежащего предпринимателям. Однако подобное разделение было не очень плодотворным, на деле оно не способствовало пониманию вопроса, а скорее затрудняло его; эти представления подверглись довольно резкой критике, особенно со стороны Викселля и Веблена166.
В отличие от экономистов, уделявших больше внимания социологическим проблемам, Бем- Баверк не исследовал отношений, складывающихся между капиталистами, землевладельцами и рабочими. В этих отношениях он видел лишь фактор времени, то есть категорию, которая не играла особенно важной роли ни у представителей классической школы, ни у Маркса. Они нигде не упоминали о значении времени, за исключением того, что оно является одним из элементов понятия кругооборота. Вплоть до Маршалла фактор времени не был открыто введен в экономические модели *. А в теоретической системе Бем-Баверка время играло центральную роль, в связи с этим проблема распределения утратила господствующее положение, которое она столь явно занимала, например, в произведениях Рикардо. В возникновении чистого дохода на капитал основную роль играет фактор времени по двум причинам: во-первых, окольные методы производства оказывают важнейшее влияние на рост производительности, и, во-вторых, имеет место элемент отсрочки (Бем-Баверк не хотел употреблять термин «воздержание»). Дисконтирование будущих благ по отношению к настоящему времени фактически превращало фактор времени в стержень экономической теории. Однако невозможно чрезмерно распространять окольные методы производства на слишком отдаленное будущее; другими словами, существует граница во времени, определяемая главным образом начинающимся убыванием доходов. Следовательно, Бем-Баверк фактически имел в виду две теории капитала; он так и не решил твердо, какая же из них предпочтительнее. Тот факт, что Бем-Баверк уделял большое внимание теории окольных методов производ* Здесь автор допускает искажения в трактовке марксистской экономической теории. Достаточно напомнить в этой связи, например, детальный анализ К. Марксом рабочего периода, роли времени производства и времени обращения. К. Маркс впервые в экономической науке ввел фактор времени в анализ теоретических моделей, рассмотрев влияние срока авансирования капиталов в отдельных отраслях на условия воспроизводства общественного капитала и др.— Прим, перев.
ства и ее ответвлению — идее «среднего производственного периода», свидетельствует о том, что его симпатии были на стороне этой теории 166.
С точки зрения «производственного периода» капитал не являлся фактором производства; это объяснялось, как мы видели, тем, что все факторы сводились к услугам земли и труда, и в эту модель как-то тайком вводилось прошедшее время; если проследить предшествующую историю капитала, то он на самом деле оказывается не чем иным, как продуктом природы и труда. Однако этот довод, который был подробно разработан Бем-Баверком, по существу не относился к делу, он потребовался лишь как полемический аргумент в спорах с другими теоретиками 167. Использование окольных методов, писал он, увеличит объем продукции, изготовляемой с помощью данного сочетания факторов производства. Расширение масштабов капитала может быть использовано только для того, чтобы увеличить средний производственный период 168. Бем-Баверк настойчиво проводил мысль о том, что абсолютная правильность такого рассуждения доказана самой практикой. Однако все эти аргументы в сущности образовали порочный круг. Подразумевалось, что при увеличении размеров капитала может произойти лишь удлинение производственного периода; но именно это положение данная теория намеревалась доказать. Совершенно новые виды благ исключались из рассмотрения, точно так же как исключалась возможность поддерживать прежние масштабы производства или даже расширить их при сокращении производственного периода. Однако в действительности в развитии техники не существует закономерностей, которые исключали бы все эти возможности. На самом деле в динамической системе имеют место как кратковременные, так и более продолжительные процессы. Накопление капитала побуждает вводить в действие оборудование всех видов. Попытки Бем-Баверка доказать, что продолжительность производственного периода в любом случае должна увеличиваться, просто не убедительны. Настойчивое повторение тезиса об окольных методах капиталистического производства придавало представлениям Бем-Баверка статический характер, что порождало сомнения, может ли он вообще решить проблему процента. Пытаясь объяснить неудовлетворительную трактовку этого важного аспекта вопроса Бем-Баверком, Шумпетер выдвинул следующее предположение: сокращение производственного периода вызывается лишь новыми изобретениями 169. Если бы этот момент действительно имелся в виду, тогда 181
довод Бем-Баверка приобрел быЯ^йределенный смысл, поскольку в таком случае изобретения, не выходящие за пределы современных технологических знаний, которыми располагают производители, могут рассматриваться в соответствии с теорией производственного периода. Все же и в этом случае производственный период оставался обособленным от теории процента, а это порождало серьезные сомнения 17°.
Единственное достоинство теории производственного периода заключалось в том, что она положила начало разработке концепции динамического капитализма 171. Правда, предположение, будто развитие экономики началось с того времени, когда первобытные люди, действуя голыми руками, создали первые орудия труда, разумеется, совершенно непригодно для аналитических целей. Периоды производства классифицировались следующим образом: 1) промежуток времени (в абсолютном выражении) между началом использования первых опосредствующих благ и созданием хозяйственных благ настоящего и 2) производственный период (в абсолютном выражении), или промежуток времени, требующийся для изготовления благ настоящего. Первое из этих понятий носило скорее исторический, а не экономический характер; при определении процента речь идет о времени производства во втором смысле, потому что уровень процента зависит от средней продолжительности периода производства благ настоящего. С другой стороны, время производства Бем-Баверк определял как продолжительность функционирования опосредствующих капитальных благ, которые имеют наибольший срок службы. Хотя процент и является результатом взаимоотношений между капиталистами и рабочими, он зависит не от времени, затраченного отдельным рабочим на воспроизводство капитала с наибольшим сроком службы, а скорее от среднего времени, затрачиваемого всеми занятыми в производстве рабочими. Таким образом, Бем-Баверк в конце концов подошел к мысли о среднем производственном периоде — к понятию, которое несколько напоминало Джевонсов период капитализации 172. Однако пригодность товара для длительного использования является лишь одним из ряда факторов, которые оказывают влияние на уровень процента и размеры производства. Весь этот процесс довольно сложен: следует исчислить «средний» показатель, причем так же, как и при построении индексов, факторы производства должны быть взвешены в соответствии с относительным значением каждого из них. Средняя величина, по мнению Бем-Баверка, характеризует среднюю скорость оборота в масштабах всей экономики, поэтому отдельное предприятие выпадает из поля зрения — такой подход находился в явном противоречии с основной методологией австрийской школы. Средний производственный период здесь по существу основывался на средней из периодов производства, исчисленных по всем видам продукции. Можно возразить, что понятие оборота, рассматриваемое в масштабах всей экономики, должно иметь известный смысл и в применении к отдельным фирмам. Однако основной вопрос заключается именно в том, как все это увязывается с теорией процента, поскольку Бем-Баверк особо отмечал, что процент возникает из отношения обмена между рабочим и капиталистом. Все, что можно сказать, ознакомившись со столь долгим и малопонятным исследованием, — это то, что производственный период образует просто общую структуру, внутри которой происходит установление процента 173.
В теории Бем-Баверка процент играл столь же важную, а может быть, даже более важную роль, чем капитал. Бем-Баверк разработал в высшей степени формальную модель, в которой предполагалось, что средства производства всегда полностью используются, всегда воспроизводятся и непрерывно накапливаются. Если можно утверждать, что Бем-Баверк исходил из определенных социологических предпосылок, то речь идет о капиталистическом обществе, состоящем из владельцев всех средств производства и неимущих рабочих. Основная теоретическая проблема, которую он должен был разрешить, совпадала с вопросом, на который искал ответ Маркс: почему капиталисты все время получают излишек благ просто как владельцы имущества? Задача состояла не только в том, чтобы объяснить природу процента с точки зрения прибавочной стоимости, но и в том, чтобы показать сам механизм, с помощью которого такой излишек присваивается. При этом отнюдь не имелся в виду тот тип исследования, который использовал Маркс, отыскивая свой путь в лабиринте экономических явлений. Установление процента Бем-Баверк рассматривал как вопрос вменения стоимости в процессе ценообразования. Подход социалистов к этому вопросу, по его мнению, ошибочен, потому что они создали теорию эксплуатации; она не соответствует действительности, поскольку процент является стоимостной категорией, чисто позитивным понятием, к которому неприменимы нормативные суждения. Все сказанное явно понадобилось ему для того, чтобы избегнуть исследования процента как одного из аспектов теории распределения; ведь такое исследование заставило бы Бем-Ба- 182
верка вплотную заняться проблемой, стоявшей и перед Марксом, и перед Вебленом,— как оценить характер самого капитализма и его функционирование.
Доход, который приносит процент, образует экономическую основу существования господствующего общественного класса. Какое бы объяснение процента ни предлагалось, любое из них, конечно, отражает отношение теоретика к хозяйственному строю. Опять-таки Бем-Баверк должен был сначала расчистить почву для своей теории: десятки существовавших в то время теорий сплошь оказывались неудовлетворительными. Поэтому он приступил к «...невероятно тщательному и тонкому анализу буквально всех теорий процента, которые были выдвинуты в предшествующий период» 174. О теориях процента следует судить, утверждал Бем-Баверк, исходя из критериев, которые определяют происхождение процента и его движение. Пользуясь этими критериями, он подразделял различные теории процента на несколько категорий: «производительности», «использования», «воздержания», «трудовую» и «эксплуатацию». Теории производительности (Ж. Б. Сэй, Лодердель, Кэри, фон Тюнен) расчленяли доход на несколько потоков, в соответствии с участием факторов производства 175.
Как отмечал Бем-Баверк, эти теории оказывались неверными, потому что в них стоимостный подход смешивался с натуральным. Капитал может быть производительным, однако то, что он создает, не является процентом. Что капитал действительно создает — так это определенные формы и очертания материалов. Процент, будучи стоимостной категорией, может возникнуть только в процессе обращения. Дело обстояло чрезвычайно просто: сторонники теории производительности забыли о том, что капитал — это не фактор производства в прямом смысле слова. Теория использования, начало которой положили главным образом работы Менгера, потерпела крушение в вопросе о различиях между применением (use) капитала и его потреблением (using-up). Другими словами, ошибка заключалась в предположении, будто существует различие между стоимостью, которая присуща применению блага, и стоимостью самого этого блага. Сторонники теории использования считали, что процент есть плата за капитал. Но владение капиталом, писал Бем-Баверк, обеспечивает только право распоряжаться доходом или управлять им, однако оно не служит источником стоимости. Право распоряжения опосредствующими благами не создает стоимости. В данном вопросе аргументация Бем-Баверка была не только неубедительной, она носила настолько вызывающий характер, что побудила Менгера выступить с ответом, в котором он излагал собственные взгляды 17в. Сам Бем-Баверк в этом вопросе просто возвращался к основному принципу маржиналистской теории: стоимость может быть получена только от потребительских благ, которые затем в процессе вменения наделяют стоимостью промежуточные блага.
Процент также не может быть объяснен воздержанием, ибо эта теория недостаточно учитывает увеличение первоначальной суммы займа за счет процента. И все же эта теория была полезной, поскольку она оправдывала процент как экономическую категорию 177. Однако Бем-Баверк не слишком строго критиковал Нассау Сениора, потому что в противном случае он сам мог бы оказаться в одном лагере с социалистами. Процент, по мнению Бем-Баверка, не является платежом, который необходим для того, чтобы обеспечить воздержание, поскольку процент скорее напоминает ренту, чем издержки. Бем-Баверк признавал, что у богачей могут накапливаться крупные суммы процентных платежей, хотя они явно не испытывают серьезных лишений, тогда как бедняки, которые действительно вынуждены отказаться от достаточно большого числа благ, получают небольшой процентный доход или же вообще его не получают. Тем не менее Бем-Баверк полагал, что в концепции Сениора все же имеется рациональное зерно, она справедлива в той мере, в какой накопление капитала требует отсрочки в удовлетворении потребностей 178. Но, утверждал Бем-Баверк, Сениор повинен в ряде технических ошибок; например, при определении стоимости наряду с тягостью труда Сениор также принимал во внимание отказ от текущих благ во имя будущих, тем самым по существу допускался двойной счет. Представитель австрийской школы полагал, что ошибка проистекала из неправильной теории стоимости.
Трудовые теории процента вскоре уступили место теориям эксплуатации, выдвинутым Род- бертусом и Марксом. Представление Родбертуса о том, что все блага являются продуктами труда, Бем-Баверк отвергал, считая бесполезным, а Маркса он упрекал в игнорировании фактора времени *. Основные трудности теорий Родбертуса и Маркса, по его мнению, были вызваны тем, что они попались в капкан социологии— большая часть их суждений лежала за пределами экономического анализа. Результатом этого явились путаница и проблемы в теоретическом исследовании.
* См. примечание на стр. 181.—Прим, перев.
183
Правильный подход к проблеме, как полагал Бем-Баверк, должен принимать во внимание два основных фактора производства, сочетание которых в процессе хозяйственной деятельности порождает единый поток дохода. Процесс оценки, который основывается на полезности и редкости благ, обеспечивает эффективное распределение недифференцированного потока доходов на соответствующие компоненты. Трудности, возникавшие у авторов большинства других теорий процента, проистекали из того, что они не воспринимали установление цен как составной элемент всего хозяйственного процесса. Теории, в которых фактор времени игнорировался, также неправильны, потому что они совершенно не способны объяснить, как ажио* — так Бем-Баверк называл процент — присваивается капиталистом; ведь такое ажио порождалось именно фактором времени. Критика Бем-Баверка всех остальных теорий представляла в известном смысле выдающееся явление. Книга «Капитал и процент» представляет интерес также и сама по себе как труд по истории экономических учений, и, хотя эту книгу автор предназначал для совершенно иной цели, все же она может по праву занять место рядом с произведением Маркса «Теории прибавочной стоимости **.
В теории процента Бем-Баверка, изложенной в книге «Капитал и процент», имеются ссылки на то, что он называл обменом, или ажио 179. Его теория в основном базировалась на утверждении, что текущие блага ценятся несколько выше, чем будущие блага, и поэтому отказ от текущих благ требует определенного вознаграждения. Совершенно естественно, что пункт, в котором настоящее и будущее обычно соприкасаются между собой,— это предельная полезность. Сам процент просто служит мерой различия между настоящим и будущим. Этим подчеркивался тот факт, что для Бем- Баверка процент являлся стоимостной категорией, которая включена в сферу анализа самой стоимости. Хотя настоящее ценится более высоко, человек производит для будущего, так как он знает, что еще не раз наступит время, когда у него возникнут неудовлетворенные потребности. Определение размеров премии, или ажио, за отказ от текущих благ осложняется тем, что окольные методы производства * Ажио (итал. aggio) — добавочная стоимость, образующаяся при реализации денежного знака, ценных бумаг или других активов выше их нарицательной цены.— Прим, перев.
** Это не соответствует действительности, так как в книге Бем-Баверка дано тенденциозное и искаженное изложение экономических учений. — Прим. ред.
в будущем увеличивают объем выпускаемой продукции и ее стоимость 18°. Тот факт, что заимодавцы могут ждать продукцию, которая появится в последующий период, Бем-Баверк объяснил наличием фонда средств существования, накопленного на основе производства в предшествующий период. Это общественный фонд, который направляется в те сферы, где, по всей видимости, существует наиболее высокий уровень предельной полезности. Ажио, обеспечиваемое за счет этого фонда, само по себе представляет обмен текущих благ на будущие 181. Если кто-либо полагает, что будущее стоит меньше, чем за него предлагает ажио, он может внести свои собственные коррективы. Само ажио функционирует в основном так же, как любая цена, а его уровень изменяется пропорционально изменениям в продолжительности производственного периода.
В случае с денежными займами все это представляется довольно очевидным, поскольку здесь явно имеет место обмен текущих денежных требований на будущее. Вся система теоретических рассуждений действительно кажется идеально приспособленной для того, чтобы объяснить процент по денежным ссудам. Однако эта система должна быть приспособлена также для объяснения роли земли и труда, потому что, источники этих факторов производства могут быть куплены по текущей стоимости, а продукция, произведенная с их помощью в последующий период, продается по ценам, которые будут существовать в этот период. Прирост стоимости даст о себе знать, как только текущие средства производства воплотятся в будущих стоимостях. Это лежало в основе Бем-Баверковой теории чистого дохода. Ажио появляется в форме дисконта со стоимости будущего предельного продукта, производимого с помощью существующих средств производства, использованных для изготовления этого продукта. Рабочие и землевладельцы будут предлагать свои услуги на рынке, который обычно управляет движением средств существования лишь в том случае, разумеется, если цены превысят определенный уровень резервирующей цены. Однако капиталисты будут готовы заняться предпринимательской деятельностью даже при небольшом ажио. Рабочие также охотно уплатят небольшую дополнительную сумму за текущие блага, вследствие того что они, вероятно, не захотят ждать, пока пройдет некоторый срок и созреют плоды их усилий. Поскольку же они не могут воздержаться от текущего потребления, они должны будут обменять будущие блага на текущие, а текущими благами распоряжаются те, кто владеет фондом средств существования.
184
Ажио будет существовать даже в социалистическом обществе, и тогда оно также будет связано с временем производства: процентная ставка должна быть элементом плана, составляемого любым центральным органом власти *. Все же Бем-Баверк прибег к deux ex machina **, поскольку он использовал редкость — фактор, внешний по отношению к самому ажио. Фактор редкости порождался ограниченными размерами фонда средств существования, что не только устанавливало предел для ажио, но, как мы уже отмечали, ограничивало также продолжительность производственного периода.
Бем-Баверк выдвигал несколько причин существования процента. Это были его знаменитые drei Grunde ***: различия в субъективном отношении к настоящему и будущему, а также фактические различия между ними; общепризнанная склонность к недооценке будущих благ, которая объясняется главным образом недостаточным воображением; технические преимущества текущих благ, обеспечиваемые окольными методами капиталистического производства, вследствие которых несколько отдаляется получение будущих благ 182. Мысль о влиянии фактора времени пронизывает все три «основания», но лишь благодаря третьему «основанию» практически возникает добавочная стоимость, известная под названием процента. В первом из положений подразумевается фактор редкости: постоянно существующее предпочтение текущих благ будущим в свою очередь ведет к расширению спроса и возникновению ажио. Недооценка будущих благ, о которой идет речь во втором положении, коренится, как полагал Бем-Баверк, в несовершенстве сознания и в «краткости жизни и неопределенности будущих событий». В результате рыночная цена текущих благ оказывается выше, чем она была бы при отсутствии указанных факторов 183.Третье основание предполагает, что благодаря фактору времени связь устанавливается не только между настоящим и будущим, но также и между объективными и субъектив* Б. Селигмен превратно трактует категорию процента в социалистической экономике, придавая ей субъективистский смысл. В социалистическом хозяйстве экономической основой процента служит использование высвобождающихся денежных средств через систему кредитных отношений. В условиях действия закона стоимости и хозяйственного расчета процент представляет необходимую плату за пользование средствами, полученными в ссуду, его источником служит чистый доход социалистических предприятий.— Прим, перев.
** Бог из машины. В данном случае — решение проблемы с помощью вмешательства непредвиденных внешних сил (лат.).— Прим, перев.
*** Три основания, три причины (нем.).— Прим, перев.
ными моментами. Сочетание субъективного ажио, отмеченного в первом положении, с техническими преимуществами, о которых говорится в третьем, и порождает процент.
Зачем же все-таки Бем-Баверку потребовалась такая сложная теоретическая система? Общая цель, стоявшая перед ним, заключалась в том, чтобы оправдать процент, доказав, что он связан с использованием капитальных благ. Капиталисты, по его мнению, извлекают свой доход из операций обмена. Если рассматривать с макроэкономической точки зрения доходы всего класса капиталистов, реализуемые в форме процента, то окажется, что они возникают на основе «торговли» капиталистов с рабочими. Тем не менее процент не следует смешивать с предпринимательской прибылью или непредвиденным доходом: процент является таким доходом, который обеспечивается скорее собственностью на капитальные блага. Когда труд прилагается к фонду ранее накопленных средств существования, создается излишек, главным образом благодаря окольным методам производства. Однако, поскольку рабочие не могут ждать результатов предстоящего производства, они обменивают продукт своего последующего труда на текущие блага, находящиеся в распоряжении капиталистов. В таком случае имеет место обмен настоящего на будущее, и капиталист, стремящийся обеспечить доход на всю сумму своих затрат, в результате получает процент. Бем-Баверк полагал, что ему удалось успешно опровергнуть теорию Карла Маркса: ведь он не только использовал концепцию «прибавочной стоимости», но и продемонстрировал, что функционирование всей системы на самом деле не содержит в себе ничего плохого. Действительно, как отмечает Уильям Смарт, который переводил произведения Бем- Баверка на английский язык, весь этот уникальный механизм в целом полностью отвечает этическим требованиям: в центр экономического исследования выдвинуто богатство, именно оно обеспечивает возможность более свободной и более изобильной жизни. Ясно, что это могло служить достаточным основанием для передачи капиталисту избыточного дохода.
Однако основания, которые приводил Бем- Баверк, мало чем отличались от предположений. По-видимому, будущие блага могут цениться выше, чем текущие: как иначе можно объяснить, например, советскую программу индустриализации? * Несовершенное вообра-
* Автор справедливо возражает против якобы универсального положения Бем-Баверка о предпочтении настоящих благ будущим, однако в своей полемике он не выходит за пределы субъективистской трактовки экономических категорий. В этом смысле совершенно 185
жение, на которое Бем-Баверк ссылается во втором основании, предполагает, что некоторые люди поступают иррационально, предъявляя спрос на текущие, а не на будущие блага. А если бы спрос развивался в противоположном направлении, разве его нельзя было бы также назвать иррациональным? К тому же невозможно разделить уверенность Бем-Баверка насчет того, что технические преимущества, свойственные окольным методам производства, непосредственно влияют на полезность и стоимость. Как указывал Кнут Викселль в своей книге «Стоимость, капитал и рента», если с помощью окольных методов производства действительно изготовляется большое количество благ, то несомненно, что третье и первое основания по существу совпадают 184. Невозможно предсказать предложение благ в последующий период, да и период потребления никак не является более определенным; принимая во внимание эти обстоятельства, можно спросить: как же в таком случае может происходить операция обмена настоящего на будущее, в ходе которой должно иметь место сопоставление предельных полезностей? 185 Если же удовлетворительный теоретический ответ на этот вопрос отсутствует, тогда оказывается под угрозой все сооружение, над возведением которого Бем-Баверк столь долго трудился. В третьем основании, которое, по-видимому, является самым убедительным и носит наиболее объективный характер, также обнаружены проблемы. При удлинении производственного периода коммерческая деятельность будет иметь смысл лишь при условии, что доходы возрастают в геометрической прогрессии или еще более быстрыми темпами. Иллюстрируя эту зависимость, Викселль показал, что если производственный период продолжительностью в год обеспечивает изготовление 100 единиц, а период в два года — 150 единиц, то предпочтение явно будет отдано более короткому периоду в связи с более высокими темпами расширения производства 186.
Описанная концепция образует теоретическую основу для определения рыночного уровня процента. Изложение данного вопроса начинается со случая, когда единственным фактором является спрос, предъявляемый рабочими на текущие средства существования. От спроса, предъявляемого другими классами, безосновательна ссылка Селигмена на опыт социалистической индустриализации. Форсированное развитие важнейших отраслей промышленности в действительности диктовалось объективными условиями, требованиями объективных экономических законов социализма.— Прим, перев.
Бем-Баверк абстрагируется. Он обнаруживает, что в отличие от других благ труд не имеет субъективной стоимости; скорее труд оценивается в соответствии с его предполагаемой производительностью, а последняя несколько изменяется в зависимости от продолжительности производственного периода 187. Количество продукции, которое капиталист сможет получить при использовании труда, определяется формами этого использования. Наиболее вероятно, что равновесие установится при длительном производственном периоде, поскольку в таком случае фонд средств существования окажется достаточно большим для того, чтобы оплатить весь продукт труда, а предложения труда и текущих благ «вступят во взаимный обмен »188. При коротком производственном периоде может возникнуть безработица, и рабочие, чтобы получить работу, вынуждены будут согласиться на понижение заработной платы 189. Таким образом, длительный производственный период оказывается наиболее эффективным средством вовлечения всех рабочих в производство и использования фонда средств существования 19°. Капиталист выберет, разумеется, такую комбинацию времени производства и количества рабочих, которая обеспечит ему наибольший чистый доход. Бем-Баверк был совершенно уверен в том, что необходимое равновесие будет достигнуто с помощью конкуренции.
Уровень процента определяется дополнительным доходом, который приносит последняя возможность увеличения производственного периода 191. В этом процессе принимают участие три основных элемента, которые и определяют уровень процента: размеры фонда средств существования, имеющийся в наличии контингент рабочих и достигнутый к данному времени уровень производительности 192. Чем больше фонд средств существования, тем ниже уровень процента; чем больше величина двух других факторов, тем выше уровень процента. Однако, несмотря на наличие всех этих аналитических рассуждений, Бем-Баверк не приводит никаких конкретных способов, позволяющих предсказать уровень процента, который установится в последующий период. На этот процесс оказывают влияние также многочисленные психологические и социальные факторы, элементы неопределенности и привычки. Но все они в конечном счете оказываются подчиненными принципу предельной полезности, на который Бем-Баверк возлагал основные надежды 193. Его гигантская работа, изобиловавшая многочисленными деталями и утомительными аналитическими рассуждениями, по существу, представляла собой героическую попытку построить теорию предельной произво186
дительности применительно ко всему хозяйству. И эта попытка просто потерпела неудачу.
Бем-Баверк считал процент излишком в том смысле, что стоимость продукции превышает затраты на ее производство, а это знаменовало отход от индивидуалистического подхода его учителя, Менгера. Действительно, если рассматривать процент как один из компонентов, входящих в состав издержек индивидуального капиталиста, тогда, по-видимому, не должно возникать никакого излишка, потому что цена равна издержкам. Однако, если все хозяйство рассматривать как единое целое, то, как полагал Бем-Баверк, становится ясным, что класс капиталистов создает чистый доход. И все же, по-видимому, различия между его теорией процента и теориями его противников по существу •сводились лишь к употреблению различных терминов. Например, ажио Бем-Баверка, очевидно, мало отличается от воздержания, о котором писал Нассау Сениор. В условиях конкурентного хозяйства оба превращают процент в одну из форм оплаты факторов производства наряду с рентой и заработной платой. Далее, Бем-Баверкова теория фонда средств существования, хотя и была облачена в новые одежды, вряд ли сильно отличалась от теории заработной платы. Но Бем-Баверк отказывался это признать, так как из его теории следовало, как он полагал, что фонд образует переменную часть общего запаса благ, накопленного обществом 194. Фонд нельзя считать заранее предопределенным запасом богатства, как это делали представители классической школы; Бем-Баверк настойчиво подчеркивал, что функции этого фонда совершенно иные. Тем не менее вопреки все заверениям Бем-Баверка все же трудно увидеть в этой совокупности средств существования что-либо иное, кроме фонда заработной платы.
Бем-Баверк так стремился к созданию совершенно нейтральной теории, что готов был абстрагироваться даже от условий функционирования частного капитала. Однако он не мог полностью избавиться от институциональных элементов, потому что его исследование процента явно предполагало наличие частной собственности. Если рабочий не может дожидаться результатов последующего труда и оказывается в зависимости от фонда потребительских благ, находящихся в распоряжении капиталиста вследствие существования частной собственности и неравномерного распределения дохода, то на экономику определенно влияют важнейшие социально-экономические факторы, которым Бем-Баверк не уделил никакого внимания. Рикардо и Маркс рассматривали процент как платеж факторам, который создается в сфере производства; Бем-Баверк настаивал на том, что процент возникает в процессе обмена. Если с помощью процесса дисконтирования исчислить стоимость излишка в момент первоначального обмена, то она окажется равной стоимости средств существования, полученных рабочим. Поскольку буржуа являются обладателями фонда средств существования, они располагают счастливой возможностью устанавливать процент — своего рода ростовщическую дань, взимаемую в конечном счете со всех потребителей 195. Процент превращается в подать, а вместо средневекового ростовщика выступает капиталист. Это неоспоримо подтверждается всем опытом исторического развития, однако Бем-Баверк совершенно игнорировал исторические факты. Процент представляет собой излишек, который образуется на базе концентрации средств производства в руках капиталистов. Ажио возникает из основных взаимоотношений между классами, которые выражают эксплуатацию рабочих капиталистами. Характерно, что, когда установление стоимости происходит в соответствии с принципами, описанными самим Бем-Баверком, излишек направляется в сейфы капиталистов. В конечном счете оказывается, что речь идет о системе, которая порождает эксплуатацию!
Характеризуя Бем-Баверка, Шумпетер назвал его буржуазным Марксом 196. Эта удачная характеристика, поскольку и Маркс, и Бем- Баверк стремились разработать такие методы экономического исследования, в которых воплотилось бы их отношение к обществу; оба они уделяли особое внимание излишку, порождаемому капитализмом, и произведения обоих авторов опирались на работы их знаменитых предшественников *. «Оба они создали произведения, о величии которых можно судить на основе того факта, что ни один критический аргумент, как бы он ни был справедлив применительно к оспариваемому конкретному вопросу, не может уменьшить значение всей теоретической системы» 197. Тем не менее в теории Бем- Баверка, как и в теории Маркса, имеется ряд * На протяжении всей главы Селигмен настойчиво пытается провести аналогию между Бем-Баверком и Марксом и, пользуясь термином Шумпетера, называет Бем-Баверка «буржуазным Марксом». В предисловии уже отмечалась вся неуместность подобных аналогий. Соображения же Селигмена о том, что «оба они уделяли особое внимание излишку, порождаемому капитализмом», представляют собой поверхностные сопоставления, лишенные научного смысла: по Марксу, этот «излишек» образуется как прибавочная стоимость, создаваемая в процессе производства, в противоположность Бем-Баверку, который рассматривал его как результат субъективных оценок и считал, что он создается в процессе обращения.— Прим. ред.
187
явных пробелов. Бем-Баверк не отличал функциональную зависимость от причинной; бесконечно малые изменения он смешивал с изменениями дискретных величин; его теории предельной полезности недоставало точности, и он не смог в достаточной мере исследовать ряд более формальных аспектов своей теории. Бем- Баверк не рассматривал проблемы внешней торговли, роста народонаселения, монополии, денег и экономического кризиса. Его модель относилась к числу таких, в которых приводится статическое описание изолированной ситуации. Кроме того, теория окольных методов производства была сформулирована еще до него в 30-х годах XIX в. Маунтифордом Лонг- филдом, который сделал ее центральным моментом своего исследования 198.
Хотя у Бем-Баверка и было небольшое число последователей, полемика, которую он вел, многих оттолкнула от него; его противники с огромной радостью использовали каждую возможность для ответной критики. Наделенный темпераментом полемиста, Бем-Баверк всегда готов был ухватиться за уязвимые места в формулировках оппонентов; в таких случаях он редко задумывался над мыслью, стоявшей за неудачной формулировкой — он стремился лишь к тому, чтобы одержать верх. Тем не менее Бем-Баверк не позволял себе пренебрежительного отношения к критикуемым авторам, он уважал своих противников. Просто он знал, что истина на его стороне.
Во многих вопросах Бем-Баверк смог одержать победу. После опубликования работ австрийской школы стало бесспорным, что экономическая теория должна быть микроаналитической наукой. Задача, стоявшая перед Бем- Баверком, заключалась в том, чтобы дать ответ на следующие вопросы: приносит ли капитал доход? Справедлива ли собственность? Возникает ли процент в результате эксплуатации? Является ли классовый конфликт имманентно присущим капитализму? Бем- Баверк особо выделил роль фактора времени, что явилось существенным вкладом в экономическую теорию; плодотворными оказались также и его настойчивые утверждения о том, что процент будет существовать даже в социалистическом обществе. По меньшей мере это помогало уяснить различия между платежами факторам, рассматриваемыми в качестве издержек и в качестве элементов процесса распределения. Несмотря на то что Бем-Баверк подвергался резкой критике, он оказал заметное влияние на некоторых экономистов. Особенно наглядно это можно видеть на примере Кнута Викселля, который пытался соединить теорию капитала, выдвинутую австрийской школой, с теорией равновесия Вальраса 199. Даже те, кто наиболее резко расходился с Бем-Баверком, должны были согласиться с тем, что его концепция если не убеждала полностью, то, во всяком случае, представляла исключительный интерес.
4. ДЖОН БЕЙТС КЛАРК:
АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАРЖИНАЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ
В Соединенные Штаты маржиналистская теория не была ввезена из-за границы. Хотя европейские представители маржиналистской теории могут претендовать на приоритет, среди американцев эта новая экономическая теория нашла своего поборника в лице Джона Бейтса Кларка (1847—1938), которого, многие считают наиболее крупным теоретиком в США. Разработав свой вариант новой доктрины совершенно независимо от Джевонса и от австрийской школы, Кларк впоследствии признавал, что все они пришли к одинаковым представлениям о хозяйственном процессе. Кларк родился в Провиденсе (штат Род-Айленд) в семье потомственных северян. Большая часть его произведений, написанных на рубеже двух веков, быстро получила широкое распространение и принесла автору мировую известность. Его произведения характеризуются четкостью изложения и изобилуют аргументами, построенными по методу аналогии (такие аргументы были, по-видимому, весьма убедительны); всем им присущ резко выраженный моралистский оттенок, в чем проявилось юношеское увлечение Кларка христианским социализмом.
Когда Джон Бейтс еще учился в школе, его семья, стремясь жить в более здоровом климате, переселилась на Запад и он должен был время от времени помогать родителям вести дела. Он на некоторый период оставил занятия в Амхерсте, для того чтобы управлять предприятием отца, которое занималось пахотными работами; Кларку приходилось иметь дело с фермами, испытывавшими серьезные материальные затруднения, и этот опыт заставил его задуматься о суровом характере конкурентного капитализма. Когда в 1871 г. Кларк вернулся в Амхерст, чтобы завершить свое образование, он был уже взрослым человеком, который знал о жизни намного больше, чем 188
его товарищи по учебе. Присущая Кларку независимость взглядов нашла выражение в том, что он отказался участвовать в дискуссии, в которой ему пришлось бы защищать определенную точку зрения; Кларк просто сказал, что он и сам в состоянии думать.
Хотя Кларк и проявлял особенно большой интерес к философии, все же, по совету ректора Силаи, он решил заняться экономикой. Стандартной духовной пищей всех студентов был учебник Эмасы Уокера, однако Кларк понял, что он не сможет ограничиться этим. Поэтому Кларк занялся самостоятельным исследованием проблем, причем с самого начала он стремился связать экономическую теорию с соответствующей этической основой. После окончания колледжа Кларк отправился в Германию для продолжения учебы под руководством Карла Книса. Однако историческая школа не оказала влияния на Кларка; единственная черта, которую он заимствовал у немецких ученых,— это их постоянные попытки в любом случае отыскивать аналогию между обществом и живым организмом. В 1875 г. он вернулся в Соединенные Штаты и начал работать в Карл- тонском колледже в Миннесоте; хотя официально Кларк числился библиотекарем и профессором политической экономии, фактически он являлся, по его собственному выражению, профессором «всякой всячины» 200. Здесь у Кларка стали выкристаллизовываться идеи, которые впоследствии были изложены в его первой книге «Философия богатства». Одним из его студентов в Карлтоне был молодой, наделенный живым умом паренек, которого звали Торстен Веблен. Присущее Кларку благородство сказалось в том, что он с гордостью воспринимал последующие успехи Веблена, хотя произведения Веблена были направлены в основном против того типа экономического мышления, который был представлен важнейшими теоретическими работами Кларка —«Философия богатства» и «Распределение богатства» 201. Современники единодушно свидетельствуют, что Кларк легко завладевал симпатиями окружающих. Он редко оказывался втянутым в полемику, а споры, в которых он участвовал, например, с Бем-Баверком, сопровождались заверениями в уважении к своему оппоненту.
С 1881 г. Кларк работал в колледже Смита, где и проникся идеями христианского социализма. В колледже Смита Кларк оставался недолго, вслед за этим он направился в Амхерст, однако и там задержался лишь на короткий период. Затем его пригласили в Колумбийский университет, и с 1895 г. до конца своей академической деятельности Кларк преподавал в этом университете. К концу первого десятилетия XX в. он завершил свои исследования в области экономической теории. С тех пор его занимали другие вопросы, и среди них особенно движение за мир; с 1911 г. Кларк был директором отдела экономики и истории Фонда Карнеги.
Экономическая теория Кларка по существу характеризовалась самостоятельным открытием предельной полезности и распространением этого принципа на сферу распределения, а также на сферу производства. Однако аргументация Кларка не была ни столь глубокой, ни столь изящной, как у Джевонса или даже как у представителей австрийской школы. Наиболее любопытный аспект деятельности Кларка заключается в следующем: период, когда он жил и работал, явно был одним из самых бурных в истории Америки; это была эпоха «магнатов-грабителей», когда быстро развивалась промышленность, которая буквально разметала в клочья старые формы общественного устройства, создавая новое общество, однако на теоретических взглядах Кларка эти бурные события отразились в весьма малой степени. Бедствия, испытываемые обществом, носили, с точки зрения Кларка, лишь преходящий характер, поскольку «основа оставалась здоровой» 202.
В качестве автора Кларк впервые выступил в 1877 г., опубликовав ряд очерков в журнале «Нью энглендер»; впоследствии эти очерки вошли в его книгу «Философия богатства». Он был уверен в том, что сумеет ни мало ни много проследить многочисленные ошибки, допущенные в экономической теории, и в частности опровергнуть представление о том, что некоторые виды труда не являются производительными. Все виды труда носят производительный характер, утверждал Кларк, тем самым нанося ощутимый удар по выдвинутой классической школой дихотомии производительного и непроизводительного труда 203. «Всякий труд косвенным образом оплачивается; компенсация за труд воплощена в рыночной стоимости продукта, и в той мере, в какой в промышленной продукции воплощены моральные усилия, они оплачиваются точно так же, как и вся остальная деятельность рабочего» 204. В этих ранних очерках уже можно ясно различить тот особенный угол зрения, под которым Кларк рассматривал общество: в более поздних его работах лишь перенесен акцент, используя выражение Джозефа Дорфмана, с моральных соображений на логические 205. Подобно представителям австрийской школы, Кларк начинает теоретический анализ с полезности, к этому он добавляет еще понятие 189
возможности присвоения, то есть свойства блага, делающего возможным установление собственности на него 20в. Это понятие довольно трудно выразить в точных категориях, по зрелом размышлении формулировка Кларка представляется не слишком глубокой. Он писал: «Условие присвоения есть отношение между товарами, с одной стороны, и людьми — с другой, и поэтому оно предполагает, что как сам товар, так и общество, в котором он существует, должны допускать возможность установления этого отношения». Это немногим отличается от общей характеристики условий для установления прав собственности. Но Кларк стремился прочно утвердить это условие в качестве основы, на которую опирается производство богатства 207. Поэтому полезность и возможность присвоения стали у него необходимыми предпосылками определения богатства.
Однако «Философия богатства» не является цельной работой. Она составлена на основе серии ранее опубликованных статей, которые просто не связаны между собой, а в отдельных случаях в ней можно обнаружить даже положения, противоречащие друг другу. Все же эта книга интересна тем, что в ней содержалась заявка на совершенно новый тип исследования в экономической науке. Тем не менее оставался открытым вопрос о том, будет ли эта заявка реализована. Сомнения по этому поводу были вполне оправданы. Кларк начал свое изложение с утверждения о необходимости нового взгляда на природу человека; классическая школа исходила, как он писал, просто из механистического и ограниченного понимания психологии, в результате этого не могло возникнуть ничего, кроме неправильной теории стоимости 208. Кларк пытался определить связи между человеком и обществом, подчеркивая элемент взаимозависимости. Однако его романтическое представление об обществе как о социальном организме затрудняло четкий анализ этой проблемы 209. Разделение труда приводит к социальной дифференциации, но стоимость в самом широком понимании этого слова порождается обществом, уподобляемым функционирующему организму. Общество образует основу человеческих желаний, «которые обладают способностью к бесконечному расширению» 21°. Кларк признавал, что, какой бы аспект хозяйственной деятельности ни рассматривался, следует учитывать влияние таких факторов, как общественные идеалы, элементы престижа и моды (как ни парадоксально, это суждение Кларка могло оказать влияние на воззрения Веблена) 211. В этом наиболее очевидным образом проявился этический подтекст «экономического закона» Кларка. Он твердо верил в то, что человеку присущ альтруизм; эгоистический образ действия скорее порожден обществом. Как бы то ни было, «усилия одного человека приносят вознаграждение другому в форме какого-то определенного продукта; усилия общества обеспечивают вознаграждение всем его членам в форме всей произведенной продукции» 212. В этом заключались его философские убеждения.
Именно такой подход в конечном счете позволил Кларку охватить различные сферы экономики, так что производство, потребление и распределение по существу образовали единое целое. С этой точки зрения рыночная цена становилась выражением общественной стоимости и главным средством, с помощью которого устанавливалась доля каждого участника производства в промышленном продукте. Кроме того, оказывалось, что этот процесс обусловливает и распределение самого продукта 213. В соответствии с такой концепцией обмен всегда является справедливым и эквивалентным: неэквивалентный обмен означает просто мошенничество. Движущей силой всего этого процесса является конкуренция. Под конкуренцией Кларк подразумевал не смертельную борьбу, а здоровое соперничество, которое обеспечивает подлинно прогрессивный характер экономического развития и которое в конечном счете приведет к солидарности капиталистов и рабочих. Все это, как полагал Кларк, означало развитие к лучшему.
При этом он не упускал, разумеется, и более конкретного анализа. Кларк настаивал на том, что в состав продукта входят как вещественные, так и невещественные услуги и богатство образуется благодаря не просто труду, а благодаря свойству благ удовлетворять потребности; он утверждал, что различные формы полезности вытекают из специфических услуг, которые оказывают факторы производства. Конкретные формы полезности обладают обычными качествами — это элементарные свойства, форма, место и время, причем фактор времени особенно важен, потому что его можно использовать лишь благодаря наличию капитала.
Отделить стоимость от полезности, разумеется, невозможно; полезность должна измеряться при помощи стоимости, и цена должна служить ее рыночным выражением. Существенное значение все же имеет «эффективная полезность», которую можно измерить следующим образом: нужно предположить, что предельная, или последняя, единица блага устранена, и затем определить вызванный этим эффект214. Кларк не забыл учесть также влияние, которое в данном случае оказывает фактор редкости. Однако теория стоимости в его изложении осно190
вывались, по крайней мере частично, на доктрине, выдвинутой представителями классической школы. Много раз Кларку казалось, что он освободился от теоретических уз классической школы, но в каждом случае обнаруживалось, что практически он использует те же самые идеи и построения. Кларк отвергал выдвинутую классической школой теорию экономического человека, и тем не менее сам он вынужден был прибегать к аналогичным гедонистическим понятиям. Процесс конкуренции, доказывал Кларк, может подорвать условия своего дальнейшего осуществления, вследствие того что он способствует появлению монополии. И тем не менее в нормально функционирующем хозяйстве конкуренция является основной объединяющей силой.
Беспочвенность критики в адрес классической школы кажется особенно очевидной, если принять во внимание суждения Кларка о роли спроса и предложения. Здесь проводилась все та же старая мысль о существовании на рынке тенденции к установлению нормальной цены. Нормальная^ цена — это, по Кларку, такая цена, которая позволяет выплачивать рабочим обычную заработную плату, владельцу капитала — обычный процент, а предпринимателю — среднюю прибыль 215. В таких рассуждениях нет ничего необычного; они выглядят как довольно приблизительное и неточное описание фактически существующей тенденции. Они не поражают особенной глубиной. Кларк отмечал, что на процесс установления цен оказывает влияние убывающая доходность, а теорию ренты Рикардо он воспринял фактически без всяких изменений. Одно из положений Кларка может навести на мысль, что он даже возродил мрачные представления Рикардо о трениях внутри общества: претензии каждой из сторон на свою долю в продукте, по мнению Кларка, порождают конфликт! 216 Однако тревога оказывается ложной, поскольку система, как многократно утверждал Кларк, характеризуется уравновешенностью и гармонией; она предполагает, что в ходе производства элементы общественного продукта сочетаются и синтезируются, тогда как распределение приводит к их разъединению и разделу между общественными классами и группами 217.
В этом и состоит центральная мысль теории Кларка — защита существовавшего экономического строя от яростной критики Генри Джорджа. В самом деле, Кларк выражал признательность Джорджу за то, что работы последнего побудили Кларка к разработке его собственной теоретической модели 218. Генри Джордж утверждал, что предельный продукт труда можно выделить лишь при наличии экстенсивных различий между продуктами труда (at the extensive), когда устанавливается определенный уровень заработной платы. Исходя из этого, Кларк разработал самостоятельный вариант этой концепции и, использовав его для собственных целей, ввел понятие интенсивного различия между продуктами труда (the intensive margin), а также высказал мысль о существовании зоны безразличия. Кларк настаивал на том, что заработная плата представляет долю рабочих в общественном продукте и рабочие должны получать ровно столько, сколько они произвели. Он допускал, что одно время реальная заработная плата находилась на удручающе низком уровне и что это проистекало из неравенства сил, которыми располагают капитал и труд. Кларк понимал, что коллективные действия служат средством повышения заработной платы 219. Тем не менее он доказывал, что промышленное развитие в общем приносило выгоды трудящемуся; теперь, когда рабочий добился положения, соответствующего его социальной и экономической значимости, он должен улаживать свои разногласия с капиталом при помощи третейского суда 22°. К забастовкам и бойкотам, разумеется, следует относиться с отвращением.
Среди капиталистов также царит прочный дух солидарности, проявляющийся в монополии,— явлении, к которому Кларк питал крайнюю неприязнь. Здесь сказалось его страстное стремление к высшей нравственности: неограниченная конкуренция опасна, хотя она и сулит дальнейший прогресс, осуществляемый в ходе «национального развития». Предпринимательской деятельности явно присущ трагический дуализм: она предполагает, с одной стороны, сознательность, а с другой — стремление к бесчестным поступкам; и это достойно, как неоднократно подчеркивал Кларк, глубокого сожаления 221. К счастью, благодаря наличию в стране свободных земель и противодействию со стороны профсоюзного движения трудящиеся в Соединенных Штатах смогли избегнуть некоторых тягот, которые возлагает на них экономика, основанная на частном предпринимательстве. Все же единственный здоровый способ обеспечить рост всеобщего благосостояния — это более тесная кооперация 222. Что бы Кларк ни подразумевал под этим, он во всяком случае, не имел в виду Рочдейлской системы *, при которой наемный рабочий не рассматривался в качестве подлинного участника предприятия. Кроме того,
* Рочдейлская система — рабочее кооперативное потребительское общество, основанное в Англии, в г. Рочдейл, в 1844 г.— Прим, перев.
191
рочдейлские кооперативы враждебно относились к капитализму 223. Таким образом, Кларк стремился к некоему слиянию капиталистов и рабочих в каком-то смутно рисовавшемся ему кооперативном предприятии, которое строилось бы в соответствии с принципами христианского социализма. В конечном счете «...третейский суд, участие в прибылях и полное сотрудничество должны лежать в основе,— писал Кларк,— нашего... решения трудовой проблемы» 224.
Книга «Философия богатства» была встречена доброжелательно. Этого и можно было ожидать, если учесть, что она удачно отвечала теоретическим запросам господствующей общественной группы. Выдающийся социолог Франклин Гиддингс высказал мнение, что Кларк создал новый закон распределения 225. Некоторые другие авторы отмечали, что понятие предельной полезности носило у Кларка туманный характер, как это действительно и было на данной стадии его научной деятельности. И все же Г. Т. Хэдли утверждал, что предлагавшиеся Кларком ограничения отрицательных явлений, вызываемых конкуренцией, граничили с радикализмом. Все комментаторы подчеркивали склонность Кларка к социальным реформам и его стремление подвести под теорию стоимости прочную логическую основу.
В следующей книге Кларка «Распределение богатства» стремление к социальным реформам — даже самым умеренным — уже совершенно исчезло, оно было вытеснено логическим развитием теории стоимости. Читатель уже больше не мог ощутить смутного стремления к справедливости — в новой работе Кларка этическая проблема разрешалась автоматически, в ходе самого функционирования хозяйственной системы. К какому бы распределению ни приводило экономическое развитие, теория стоимости утверждала социальную справедливость такого распределения. В этой новой теории содержались не только разъяснения по поводу заблуждений социалистов, но также и ответ на более опасные попытки ниспровержения существующих порядков с помощью предложенного Генри Джорджем единого налога. Ответ на критику слева можно отыскать, как полагал Кларк, в важнейших закономерностях функционирования общества и его экономического развития. Это исследование было насквозь пронизано соображениями высокой, непреоборимой нравственной цели, которая не могла не взывать к лучшим чувствам всего человечества.
В своем основном труде, опубликованном через четырнадцать лет после выхода в свет «Философии богатства», Кларк решительно порывает с моральными проблемами, которые раньше привлекали его интерес; правда, впоследствии он все же вернулся к этим проблемам в своей менее известной работе «Основы экономической теории» 226. В книге «Распределение богатства» в центре внимания автора находятся всеобщие законы экономической жизни, которые должны сохранять силу в любую эпоху. В этой книге теория излагалась с помощью точных и изящных формулировок, а все важнейшие экономические проблемы разрешались сразу, одним грандиозным усилием. Это было первое крупное произведение американского автора, посвященное чистой теории, и на протяжении многих лет книга Кларка считалась самой выдающейся теоретической работой. Однако к настоящему времени она несколько утратила былую яркость. Кларк сплошь и рядом высказывал обобщения и теоретические формулировки, которые он обещал подкрепить бесспорными доказательствами, однако эти обещания редко выполнялись. Книга была очень хорошо написана и содержала совершенно убедительные положения, пожалуй даже слишком убедительные. Увлекающийся читатель склонен был разделить энтузиазм автора по поводу излагаемой теории.
Для Кларка было очевидным, что проблема распределения носит социальный характер. Общественный продукт должен каким-то образом распределяться между различными группами и подгруппами людей, участвовавшими в его производстве. Центральную роль в данном процессе, по мнению Кларка, играет следующий факт: размеры заработной платы и процента устанавливаются уже на самой ранней стадии, исходя из того, что труд и капитал должны принять участие в производстве. Блага фактически распределяются в процессе их изготовления, писал Кларк 227. С помощью системы цен, функционирующей на основе извечных нормальных принципов, общественный доход передается различным группам, принимавшим участие в производстве. Такая система, разумеется, обусловлена естественным законом, и в той мере, в какой [она} не подвергается извращениям, труд получает в качестве своей доли то, что он самостоятельно производит; аналогичным образом обстоит дело и с доходом на капитал 228. Кларк был твердо намерен доказать не только то, что распределением управляет естественный закон, но и то, что в результате распределения каждый участник производства получает ровно такое количество богатства, какое он произвел. Таким образом, заработная плата равна той части продукта, которая создана трудом рабочего, а процент равен той части, которая произведена капита192
лом. Закон распределения отводит каждому ровно столько, сколько он произвел. В этом и заключается закон специфической производительности,— закон, который гласит, что доля дохода, направляемого на оплату любой производственной функции, измеряется величиной действительно произведенного с ее помощью продукта 229. Невозможно отрицать, что такие представления несли в себе элемент оправдания, и действительно, их характеризовали как одну из форм апологетики.
В конце концов Маркс превратил теорию распределения, выдвинутую классической школой, в теорию эксплуатации. И теперь ставилось под сомнение наличие raison d’etre существующего экономического строя. Идея полезности также содержалась еще у Адама Смита и Давида Рикардо, и готовность большинства экономистов к признанию теории, исходившей из этого туманного психологического понятия, явно диктовалась неприязнью, которую они питали к критическому духу марксистского учения. Смысл указанной проблемы для Кларка был совершенно ясен. Он писал, что на карту поставлено само право на существование общества в его нынешней форме и вероятность того, что это общество сможет существовать в будущем 23°. Следовательно, его теория играла важную роль, поскольку она содержала моральное и политическое оправдание тех результатов, к которым приводит рыночный механизм установления цен.
Основные положения Кларка просты: хозяйственная система покоится на частной собственности и индивидуальной свободе; стоимость проистекает из полезности; участие государства должно ограничиваться исключительно принуждением отдельных участников к соблюдению условий игры; предполагается, что капитал и труд состоят из мобильных единиц, которые легко могут перемещаться. Указанные положения служили институциональной основой теории Кларка. Однако при сопоставлении их с основным направлением развития экономической теории в XIX в. обнаруживаются весьма несущественные различия. Даже если принять во внимание отличительные особенности теории Кларка — уподобление общества живому организму и оригинальное определение статики и динамики,— и в этом случае останется привкус некоторой старомодности. Конкурентную борьбу Кларк считал важнейшей движущей силой развития общества; хотя внешне Кларк и стремился к более реалистичной психологии, такое утверждение по существу свидетельствовало о возврате к представлениям классической школы об экономическом человеке. Логика рассуждений Кларка основана на принципах гедонизма. Общество есть совокупность людей, которые стремятся к материальной выгоде и умеют быстро проделывать необходимые расчеты; каждый человек функционирует как электронная вычислительная машина, сопоставляющая между собой единицы удовлетворения различных потребностей. По мнению Кларка, нет надобности доказывать, что такая система реальна; хозяйственные результаты, которые могли бы быть достигнуты, становятся совершенно очевидными благодаря функционированию рыночных процессов. Все это представляло переделку Адама Смита cum * Герберта Спенсера: ведь Кларк выводил общественную стоимость из рыночных цен, и это заставляет относиться с недоверием к его теории, поскольку все, что он фактически сделал, заключалось в суммировании индивидуальных реакций и в провозглашении такого подхода социальной теорией.
Внутренняя слабость, присущая системе экономических воззрений Кларка, наиболее наглядно проявилась в его теории статики и динамики. Статический анализ следовал знакомому образцу: действие экономических законов рассматривалось в условиях, когда количество труда и капитала остается неизменным, не происходит никаких изменений в технологии и организации производства, о накоплении капитала ничего не известно и вкусы потребителей не меняются 231. Кларк понимал, что такие условия не реальны; все же он полагал, что, несмотря на все отклонения, имеющие место в действительности, заработная плата и процент на протяжении длительного периода должны устанавливаться в соответствии с «естественным» уровнем, который определяется статическими условиями. На этом основании Кларк не ограничивал значение статических условий лишь логическими построениями. Они казались ему основным элементом общества, потому что за всеми помехами и осложнениями, которые присущи динамичной действительности, скрывается, как подчеркивал Кларк, их остов — совокупность норм, образующих статические условия. Такие силы действительно существуют; их просто не удается заметить в суматохе обыденной жизни, и экономист, по мнению Кларка, должен разобраться в том, как указанные закономерности осуществляются, и особенно в том, как они управляют процессами, протекающими в сфере распределения. Эта задача не является невыполнимой, выполнить ее по существу намного легче, чем отыскать закономерности, присущие динамичной дея* В данном случае — под, применительно к (лат,.),—
Прим, перев.
13 Б. Селигмен
193
тельности. Основная мысль Кларка заключалась в том, что понятия «естественный», «нормальный» и «статический» являются синонимами 232. Здесь Кларк вновь обещал научно доказать, что в обществе все складывается наилучшим образом и что распределение не имеет ничего общего с «институциональным грабежом». И опять-таки возникают сомнения, удалось ли ему успешно выполнить эти обещания.
Вопреки обычному разграничению в курсе экономической теории сфер производства, потребления, обмена и распределения Кларк расчленил этот курс на исследование универсальных законов, статический анализ общественного хозяйства и сферу динамических процессов. Содержание первой из этих категорий — универсальных законов — можно проиллюстрировать на примере убывающей доходности, убывающей полезности, развития производства в соответствии с принципом предельной полезности и накопления капитала. Такая классификация, по-видимому, могла бы сыграть плодотворную роль, однако у Кларка все свелось к «науке» о функциональном распределении 233. Основная проблема заключается в отборе из альтернативных вариантов такого, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей, подобно тому, как охотник в его примере сопоставляет лодку и лопату 234. Закон убывающей доходности в статических условиях сводится просто к проблеме пропорциональности, вследствие того что, по определению, размеры затрат и выпуска продукции остаются неизменными. Однако Кларк использовал этот закон применительно ко всем факторам производства, а не только к земле. Установление соответствия между капиталом и новыми затратами труда, писал он, зависит от подвижности капитала. Убывающая доходность объясняется понижением уровня производительности, исчисляемой в натуральном выражении. Тем не менее в отдельных случаях Кларк, по-видимому, отрицал возможность понимания доходности в статических условиях, утверждая, что подобные изменения связаны с действием динамических сил и на данной стадии исследования их необходимо исключить.
В чем же заключались динамические изменения, о которых писал Кларк? Он полагал, что существует пять важных динамических процессов: рост народонаселения, новая техника производства, изменение организационных форм предприятия, накопление капитала и изменение вкусов потребителей 235. Все же ни одно из этих изменений не устраняет какой-либо из действующих статических сил, они просто дополняют функционирование обычных процессов. Стандарты устанавливаются обычными силами, а динамические факторы вызывают отклонения от этих стандартов 236. Это основано на предположении, например, что рыночные цены колеблются вокруг какого-то нормального статического уровня. Вполне возможно, полагал Кларк, что на протяжении длительного периода такой нормальный уровень цен будет расти, а стандарты изменятся 237. В определенном смысле всякая отрасль хозяйства динамична, потому что она непрерывно испытывает изменения; тем не менее, для того чтобы проникнуть в содержание фактических событий, необходимо мысленно представить статические условия 238. Поскольку же силы, которые функционируют в статическом обществе, продолжают действовать и в фазе его динамического развития, писал Кларк, изучение статики превращается просто в смелую абстракцию, а следовательно, оно может быть использовано лишь в качестве орудия исследования 239. Однако при ознакомлении с тем, как Кларк использовал это теоретическое орудие, невозможно избавиться от впечатления, что его воображаемый мир занял место реального и что в той мере, в какой у Кларка речь шла о реальной экономической жизни, содержание ее сводилось к статическому обществу. Часто встречающиеся у него аналогии с неподвижными водоемами и другими образами из области гидравлики подчеркивают использование почти исключительно элементов статики. Эти элементы явно представлялись ему более существенными и более важными. Статическое состояние характеризует конечный результат развития реальных процессов.
Переходя к анализу заработной платы, Кларк подчеркивал, что какие бы динамические силы ни оказывали на нее влияние, все же в конечном счете результаты определяются статическими условиями 24°. Он настойчиво повторял, что динамические изменения не могут ни в одной детали, ни на йоту уменьшить эффективность функционирования статических сил. Даже при несовершенной конкуренции по-прежнему будет существовать тенденция к установлению таких норм, которые близки к статическим. Статический мир не является безжизненной абстракцией, это просто способ, пользуясь которым можно наиболее отчетливо разглядеть основные экономические силы. Тезис о естественном характере стоимости по существу принадлежал еще Рикардо, но Кларк придал ему новое направление, утверждая, что каждый получает ровно столько, сколько производит. По мере того как Кларк развивал свою аргументацию, он в конечном счете пришел к выводу о том, что в любом случае пять динамических сил нейтрализуют друг друга, и в результате 194
остается лишь неизменный мир покоя и безмятежности. Как отмечал Кларк, динамические силы «...коль скоро речь идет об их совместном воздействии, в большой мере нейтрализуют друг друга, и в результате фактически существующая форма общественного устройства оказывается гораздо ближе к формам, предусматриваемым статической теорией, чем в том случае, когда указанные силы оказывали бы свое воздействие порознь» 241. Данным замечанием по существу исчерпывался интерес Кларка к динамике, по крайней мере в книге «Распределение богатства». Веблен, который подверг экономическую теорию Кларка сокрушительной критике, отмечал, что динамические условия в конце концов проявляются в работах Кларка просто как приведенный в расстройство статический порядок 24 2. Кларку не суждено было выйти за пределы его воображаемого статического мира, где для реальных колебаний, например колебаний, порожденных экономическим циклом, просто не находилось места 243.
Кларк полагал, что серьезным исследованием динамических законов экономисты должны будут заняться в последующий период. Все же в своей книге «Основы экономической теории» он делает попытку рассмотреть те специфические области, которые явно подвержены изменениям. Однако эта работа представляла не стройное исследование динамики, а скорее лишь схематическое изложение некоторых ее проблем. Попытка охарактеризовать в общих чертах реалистический подход к теории динамических процессов, предпринятая в книге «Распределение богатства», также не смогла принести большого успеха 244. Мир разделен на две части — промышленно развитый центр и остальные, отсталые районы 245. К первой группе он относил Европу, Северную Америку и другие промышленно развитые районы, здесь хорошо функционировал статический порядок Кларка, потому что использование труда и капитала в обстановке свободного предпринимательства характеризуется мобильностью. Кларк отвергает такие препятствия, как таможенные тарифы и националистическая торговая политика, исходя из того, что по существу они не располагают действенной силой. В остальных районах мира омертвляющее влияние привычек лишает имущество мобильности и приводит к ограничению хозяйственной деятельности. Кларк не понимал, что такая классификация лишает его теорию подлинной универсальности, ограничивая ее применимость определенными условиями места и времени. Но он был неисправимым оптимистом, у которого даже худосочные законы динамики порождали неомраченную веру в справедливость принципа специфической производительности каждого фактора.
Содержащееся в главах 24—29 «Основ экономической теории» исследование практических вопросов обнаруживает поразительно слабую связь с общей теорией Кларка. Содержащийся в них обзор проблем монополии, железнодорожного транспорта и профессиональных союзов пронизан мыслью, что государство должно поощрять конкуренцию, с тем чтобы стоимости смогли в максимальной степени приблизиться к подлинному статическому уровню. Представляется странным, что защитник свободной конкуренции решил прибегнуть к помощи правительства, однако Кларк настойчиво проводил мысль о том, что это единственный способ принудить людей соблюдать условия игры. И все же теория и практика относились у него к двум различным мирам. Вопреки всем надеждам Кларка его система не могла положить начало подлинной динамической теории. Сами динамические процессы не находились непрерывно в поле зрения автора, а его теоретическая система не содержала каких-либо соображений по поводу того, как специфические проблемы, о которых он писал, соотносятся с механизмом экономического роста, включающим пять указанных факторов. Динамика у Кларка вряд ли существенно отличалась от исследования вопроса о том, как может быть восстановлено равновесие, если произойдет некоторое отклонение от статической нормы 246.
В системе Кларка распределение дохода управлялось теми законами, которые проявлялись в ценах. Рынок является средством, которое позволяет товарам получить общественную оценку, а вместе с тем обусловливает распределение общественного продукта. Хотя результаты всех этих процессов по существу носят общественный характер, в их основе лежит индивидуальная предельная полезность. Мотивы (экономического) развития являются индивидуалистическими, однако его результаты носят общественный характер, писал Кларк. Каждый преследует свои собственные интересы; однако в результате его деятельности все общество действует так, как поступил бы обособленный человек под влиянием закона убывающей полезности 247. Конкуренция приводит к исчезновению прибыли, так что в конечном счете остаются лишь две части совокупного продукта — процент и заработная плата. Свой тезис о специфической производительности Кларк повторял вновь и вновь до тех пор, пока читателю если не логикой рассуждений, то просто вследствие непрерывного повторения этой мысли внушалось убеждение, что заработ13* 195
ная плата представляет собой эквивалент предельной производительности труда 248. К концу чтения книги «Распределение богатства» невозможно избавиться от впечатления, что всей хозяйственной жизнью управляет единый унифицирующий принцип. В этой роли выступает закон экономической причинной связи, или, выражаясь современным языком, закон предельной производительности, который можно сформулировать как в стоимостных, так и в натуральных категориях. Однако использование указанного закона в качестве принципа распределения означает явную тавтологию. Когда говорят, что заработная плата является заслуженной и справедливой, поскольку она представляет все, что было выплачено, от этого данное рассуждение, как отмечал Веблен, не становится более вразумительным 249. Принцип гармонии, присущий теоретической системе Кларка, не способствует подлинно исследовательскому подходу к экономическим проблемам.
Как функционирует система гармонии, можно видеть на примере разработанной Кларком теории заработной платы. Единицу труда Кларк определил как то количество работы, которое может выполнить наемный рабочий средних способностей. Различия в заработной плате следует объяснить в основном неодинаковой эффективностью труда. В статических условиях заработная плата совпадает со специфическим продуктом, произведенным рабочим; этот продукт можно опознать и выделить исходя из последнего увеличения затрат труда. Поскольку единицы труда одинаковы и взаимозаменяемы, то в результате устранения последней единицы труда можно определить ее влияние на размеры всего продукта; полученная таким образом разность и будет представлять специфический продукт, произведенный рабочим. С этого момента предприниматель вступает в своеобразную зону безразличия; другими сговами, для него совершенно безразлично, уменьшить или расширить использование труда на одну единицу 25°. Внутри такого предела надежности конкуренция обеспечит равенство между размерами заработной платы и предельного продукта. Обратите внимание, однако, насколько важную роль играет у Кларка зона безразличия, ведь без этой категории его теория, безусловно, столкнулась бы с трудностями! Кларк настаивал на том, что в любой отрасли хозяйства ... то, что произведено внутри зоны безразличия одной группой производительных рабочих, равно продукту труда соответствующей группы рабочих на других предприятиях...251 По существу, Кларк здесь ставит свою теорию в безопасные границы, внутри которых она может сохранять силу без всяких затруднений 252.
Но обратимся к некоторым своеобразным мыслям, высказанным в работе Кларка. Как и у представителей австрийской школы, основную роль у него играло понятие полезности. Блага характеризуются одним коренным свойством — способностью удовлетворять потребности. Вместе с тем блага обнаруживают также присущую им «эффективную» полезность, которая проявляется при потреблении последней их единицы. Это позволяет измерить степень удовлетворения потребности, а издержки становятся как бы обратной стороной этого процесса, или субъективными тяготами, требующимися для получения блага. Такие представления в основном носили гедонистический характер 253. В одном месте Кларк высказывает мысль о том, что понятие издержек производства все же является полезным 254. Каков бы ни был вклад Кларка в совершенствование теории полезности, он в большей степени сводился к терминологии, чем к разработке проблемы по существу. Рыночная стоимость в теории Кларка также определялась полезностью не всего запаса благ, а последних приращений этого блага 2б5. Однако, утверждая это, Кларк проходил мимо того факта, что многие товары носят дискретный характер. Стоимость становилась у Кларка общественным явлением также благодаря конечной полезности блага, которую определяет общество 256. Стоимость является основным принципом, который регулирует распределение между отдельными группами, точно так же как производительность определяет характер функционального распределения. Здесь можно довольно отчетливо проследить представление о групповом разуме, проявляющемся в процессе оценки, покупки и потребления. Описание всего механизма явно насквозь проникнуто гедонизмом XIX в.: в роли настоящего универсального закона выступает положение о том, что удовольствие всегда должно превосходить тяготы 25 7.
Такой подход лишь немногим отличался от подхода Джевонса, когда стоимость измерялась удовлетворением, которое обеспечивает последняя единица из группы единиц данного блага. В письме одному японскому профессору Кларк отмечал, что в отличие от Джевонса он «полагал, что потребитель учитывает, насколько важны для него различные предметы, которыми он уже владеет, и регулирует свои покупки таким образом, чтобы предметы, требующие равных затрат, приносили ему одинаковую „эффективную полезность../1» 268 Здесь точка зрения Кларка оказывалась ближе к принципу равной предельной полезности, чем взгляды 196
Джевонса, однако в основном она совпадала со взглядами Менгера, высказанными в его книге «Основания политической экономии» 259. Поскольку многие покупатели заняты тщательным уравновешиванием удовольствий и тягот, возникает теоретическая возможность рассчитать графики рыночного спроса. Производство приспосабливается к этому спросу, утверждал Кларк, поистине чудесным путем, и в результате блага продаются по цене, соответствующей издержкам, а производство тяготеет к такому уровню, который обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей.
Значительная часть теоретического анализа Кларка посвящена тщательному выяснению различий между капиталом и капитальными благами 26°. Капитал он представлял себе как постоянный фонд, тогда как капитальные блага — это недолговечные материальные предметы, которые должны прийти в негодность, чтобы отрасль, в который они используются, могла успешно развиваться, а капитал мог далее существовать 261. Капитал, отмечал Кларк, характеризуется подвижностью, а капитальные блага не обладают этим свойством. Капитал может быть выражен в денежной форме, что позволяет ему продолжать свое существование, перевоплощаясь из одной формы в другую. Капитал в действительности представляет собой совокупность активных и производительных элементов богатства, в которых отражается последовательное обновление орудий производства 262. В категориях распределения это проявляется следующим образом: доходом на капитал является процент, тогда как капитальные блага приносят ренту263. Тем не менее процент зависит от ренты, поскольку в конечном счете он представляет просто всю сумму выплаченной ренты. Между процентом и рентой существует чуть ли не диалектическая взаимосвязь: ведь, с другой стороны, и сама рента зависит от процента, потому что доход, который приносит единица капитальных благ, определяется общим количеством таких капитальных благ, используемых в данное время 264. Поскольку капитал — это по сути самовоспроизводящийся фонд, излишне прибегать к понятию воздержания, чтобы объяснить накопление капитала. Фактически воздержание имело значение лишь в тот момент, когда фонд начал формироваться, а также, вероятно, при увеличении чистой стоимости капитала. Однако во всех остальных случаях, когда элементы капитала изнашиваются, они требуют замещения, и, раз такие элементы однажды появились, дальнейшее их воспроизведение не требует какого-либо содействия извне. В этом вопросе Кларк, по-видимому, отошел от знаменитой концепции Нассау Сениора. Кларк отрицательно относйлся также к понятию производственного периода, на котором основывалась теория Бем-Баверка; Кларк доказывал, что в действительности в движении фонда капитала не удается обнаружить отчетливо выраженной периодичности. Поскольку капитал воплощает непрерывное движение, продолжительность жизни отдельных капитальных благ не имеет значения.
Здесь Кларк, по-видимому, приближался к макроэкономической точке зрения. Веским аргументом в пользу этого служит использованный им пример с выращиванием лесов и использованием лесных ресурсов, и все же Кларк так по-настоящему и не выработал сколько-нибудь широкого подхода. Самое большее, на что он был способен,— это отвергнуть Бем- Баверково понятие производственного периода 265 и высказать довольно мягкие критические замечания в адрес Сениора. Но мысль о воздержании все же могла сыграть плодотворную роль в статическом анализе, потому что если не прибегать к понятию воздержания, то процент появляется только в тех случаях, когда создается новый капитал. Следовательно, без теории Сениора, в сущности, нельзя было обойтись, и Кларку действительно приходилось трактовать процент, так же как и ренту, в классическом духе. Дело обстояло таким образом, как если бы Кларк в полном соответствии с истиной внезапно осознал абсолютную несостоятельность прежнего утверждения о том, что процент возникает благодаря производительной способности капитала. Тем не менее Кларк, следуя своей первоначальной точке зрения, превратил также процент в предельную категорию: в конечном счете он определял процент как доход, исчисляемый в отношении к той части капитала, которая принимала участие в его создании. Это представляло собой такую же тавтологию, как и вся остальная теория распределения Кларка. Убывающая доходность рассматривалась им в качестве общего правила, поскольку дополнительные единицы капитала обеспечивали, как он полагал, меньший прирост продукции по сравнению с предшествующими единицами, а уровень дохода, как и в случае с продуктом труда, определялся производительностью последней единицы.
Кларк пытался провести различие между отдельными формами капитала, исходя из характера оказываемых услуг, тем самым он стремился избегнуть деления капитала на постоянный и переменный 2в6. Но его трактовка данного вопроса довольно туманна и перегружена излишними аналогиями с живым организмом; в исследовании этой проблемы Кларк, 197
по существу, потерпел крах. Он пытался показать, что эти формы капитала на самом деле образуют различные аспекты его теории фонда, однако эта попытка не увенчалась успехом. Кларк счел неприемлемой даже мысль Джевонса о том, что капитал обеспечивает средства существования; капитал просто должен представлять чисто стоимостный фонд, который обладает исключительной подвижностью и перемещается в поисках поприщ прибыльного приложения 267. Хотя капитал всегда стремится к получению максимального дохода, однако в обществе, где господствует конкуренция, доходы, обеспечиваемые всеми видами хозяйственной деятельности, в конце концов уравниваются, и, следовательно, в конечном итоге общество оказывается без прибыли.
Неясно, хотел ли Кларк определить свой фонд как источник средств для инвестирования или просто как своеобразное движение протоплазмы между отраслями хозяйства. Если он имел в виду первое из этих толкований — а это вполне возможно,— то он упускал из виду возникающую при этом сложную систему кредитно-денежных институтов и каналы, по которым само движение капитала оказывает влияние на экономику. Все это могло бы послужить основой для реалистической теории экономической динамики. Однако Кларк предпочитал мистические представления 268. Даже труд он трактовал как фонд энергии, который обновляется в результате роста народонаселения. В поисках более высокого заработка отдельные единицы труда легко перемещаются, предпочитая тот род занятий, который приносит большее вознаграждение; поэтому с точки зрения длительного периода труд также представляет собой фонд 269. Хотя каждый человек, как отмечал Кларк, обладает постоянной профессией, тем не менее из поколения в поколение происходят изменения в профессиональной структуре населения, благодаря чему труд превращается в подвижную силу 27°. Упрек в адрес теории Кларка относительно ее мистического характера представляется обоснованным. Когда речь заходила о капитале, Кларк не принимал во внимание того, что капитал, рассматриваемый как фонд, тесно связан со специфическими капитальными благами. Если предприниматель терпит банкротство, то, как и в случае принудительной ликвидации предприятия, под угрозой оказывается сам фонд. Капитал не обладает некими постоянными, внутренне присущими ему свойствами даже в том смысле, какой вкладывал в это утверждение Кларк; капитал — это денежная категория, на него влияют условия товарно-денежного хозяйства.
Кларк утверждал, что с изменениями в использовании труда меняется и форма капитала. Это означает, что каждое сочетание капитала и труда носит уникальный характер; тем самым, следовательно, обеспечиваются средства, необходимые для определения специфической производительности единицы труда. Однако используемый здесь метод не так уж сильно отличается от метода Менгера. Понятие однородных единиц превращает труд в бескровную абстракцию, лишенную традиций или квалификации и пригодную для использования лишь в воображаемом мире экономического анализа. Утверждение о том, что производственная функция состоит из элементов, которые могут перемещаться столь легко и быстро, как хотел бы Кларк, просто не соответствует действительности. Он не смог доказать, что предприниматель, стремясь обеспечить более высокую производительность труда, всегда будет сокращать масштабы используемого труда. Кларк мог лишь утверждать, что это многократно подтверждалось опытом, выводится путем дедуктивных умозаключений и является одной из неоспоримых истин экономической науки 27Ч Он упорно доказывал, что капитал в действительности приобретает нужную форму, и все это автоматически осуществляется благодаря чудесным свойствам конкурентной системы. Каждая отрасль получает причитающуюся ей часть всего общественного капитала 272.
В различной трактовке капитала — как фонда, с одной стороны, и как производственного оборудования — с другой,— проявилось резкое расхождение во взглядах между американскими и европейскими представителями маржиналистской теории. Эта дискуссия продолжалась вплоть до 30-х годов XX в. 273. С точки зрения Кларка, толкование капитала как совокупности благ закрывало путь к пониманию проблемы функционального распределения. Кроме того, понятие производственного периода относилось к области технологии. С теоретической точки зрения производственный период, говорил Кларк, не играет важной роли в развитии общества вследствие того, что капитал образует постоянный фонд, благодаря которому возможна синхронизация производства и потребления. Эти аргументы пригодились американским теоретикам для критики теории Бем-Баверка, и особенно его «третьего основания» 274. Несмотря на это, Бем-Баверк упорно придерживался своих взглядов, а его духовный преемник — Фридрих Хайек — смог с их помощью заложить основы одной из самых последних теорий экономического цикла. Ограниченность Бем-Баверка заключалась в его неспособности понять, что право на получение дохода пред198
полагает некое понятие фонда, по крайней мере в смысле источника инвестиций. Ограниченность Кларка вытекала из того, что он проводил неоправданно резкое разграничение между фондом и капитальными благами. В той мере, в какой активы могут перемещаться от одного действующего коллективного института к другому, капитал сохраняет свою ликвидность и мобильность; ясно, однако, что этот процесс предполагает известные границы. Более того, для отдельных благ можно определить продолжительность их использования и срок износа, установив тем самым связь между капиталом как вещью и капиталом как фондом. Обе стороны чрезвычайно искусно аргументировали свои взгляды. Среди экономистов, принимавших участие в полемике, были Ирвинг Фишер и Фрэнк Феттер. Точка зрения Феттера заключалась в том, что можно извлечь полезные выводы из утверждений обеих сторон, участвовавших в дискуссии: конкретное благо в той мере является капиталом, в какой оно может быть выражено в категориях всеобщей меры стоимости. К сожалению, ни один из участников полемики не уделил серьезного внимания высказанному Вебленом положению о том, что капитал выражает отношение между человеческим интеллектом и материальными благами 275.
Земля и капитал, как отмечалось выше, в теоретической системе Кларка по существу неразличимы. С точки зрения американца, такой подход казался вполне разумным; действительно, при наличии огромных массивов необрабатываемой и доступной земли довольно трудно было спокойно согласиться с тезисом классической школы об ограниченности земли и ее редкости. Больше того, покупка земли представляла собой важнейшую форму инвестиций и накопления капитала и приносила немалые доходы. В своем раннем очерке «Капитал и доход на капитал» (1888) Кларк утверждал, что земля во всех отношениях является свободным благом. Различия в местоположении участков, понятно, могут породить ренту, однако если отвлечься от этого фактора, то земля обнаруживает все качества, присущие другим капитальным благам. Таким образом, теория ренты Рикардо может быть пригодна лишь для объяснения дифференциального дохода, получаемого на протяжении короткого промежутка времени 276. Следовательно, рыночная арендная плата в теоретическом отношении есть не что иное, как распространение рикардианской теории ренты на все орудия производства, являющиеся капиталом, или, иначе говоря, рента равна разности между стоимостью совокупного продукта, с одной стороны, и заработной платой плюс процент на предпоследнюю единицу капитала (последняя единица является «безрентной») — с другой, тем самым получает определенность понятие предельной производительности. Однако размеры нормальной ренты, существующей на протяжении длительного периода, регулируются издержками производства.
Понятие мобильных факторов относилось к земле в той же мере, как и к капиталу и труду 277. Кларк допускал, что, когда капиталисты хотят использовать свой капитал, вложенный в земельные участки, для других целей, они сталкиваются со сравнительно большими препятствиями. Несмотря на это, он полагал, что в пределе такие вложения все же достаточно мобильны, благодаря чему возможны точные сопоставления их с вложениями в промышленное оборудование; отсюда следует, что в конечном счете норма прибыли на капитал, помещенный в земельные участки, будет равна доходу на капитал при любой другой форме его использования. Могут, как допускал Кларк, существовать и некоторые исключения, приводящие к тому, что теперь назвали бы «замороженными активами». Он не замечал того, что это подрывало основной аргумент. Данное направление в исследовании указывало на важнейшую цель Кларка: свести все материальные блага к формам капитала, с тем чтобы можно было установить зону безразличия или достаточно широкие пределы перемещения факторов производства, которые позволили бы придать этой теории универсальный характер 278. И все же его теория ренты носила в основном рикардианский характер. Кларк писал: «Предположив, что в обществе все люди работают, мы измерили количество продукта, созданного последней дополнительной единицей труда, и размеры излишка, который каждая предшествующая единица труда производит сверх этой величины. В каждом случае излишек есть подлинный дифференциальный продукт; дело в том, что он не является просто остатком, сохраняющимся после выдачи заработной платы,— он образует разность между различными продуктами труда. Он представляет собой разность между продуктом оснащенного труда и продуктом такого труда, который по существу лишен содействия, а сумма всех этих разностей составляет ренту на общественный фонд капитала» 279.
Доход, получаемый от тех или иных капитальных благ, есть та же рента, а когда рассматривается вся совокупность таких благ, чистый доход по существу совпадает с процентом. Хотя обе формы дохода могут не совпадать в точности друг с другом, все же при совершенном приспособлении к статическим условиям 199
их^размеры оказываются одинаковыми. Здесь Кларк попытался использовать идею предельной производительности в теории ренты, так же как он применил ее в теории процента; однако это придавало расплывчатость понятию ренты, и все время приходится сомневаться в том, какой аспект вопроса имеется в виду — стоимостный или натуральный. Что же касается перехода к проценту, то он не представляет трудностей. Процент выступает как часть процентного дохода, приносимого капиталом; он образует часть постоянного фонда капитала 280, а его уровень определяется доходом, который приносит последнее приращение общественного капитала. Конкуренция между предпринимателями за капитал просто порождает необходимость уплаты процента 281. «Последнее приращение капитала», на которое ссылался Кларк, означало не саму последнюю единицу оборудования, а скорее внутренне присущие капиталу свойства, его способность оказывать услуги. Однако, когда Кларк описывал процесс конкуренции, понятия «свойств» и «оборудования» оказывались сплавленными воедино. Фактор времени в том смысле, какой ему придавал Бем-Баверк, у Кларка не играл роли; хотя специфические капитальные блага могут требовать отсрочки потребления и ожидание, тем не менее это не относится к капиталу как таковому. Наличие фонда капитала фактически предполагает подчинение времени, потому что благодаря ему удается координировать труд и выпуск продукции.
Подводя итоги, надо отметить, что у Кларка все факторы производства подчинены принципу предельной оценки. Труд и капитал — это подвижные фонды, состоящие из взаимозаменяемых единиц; доходы, которые они обеспечивают, определяются производительностью последних затрат соответствующего фактора производства 282. Но коль скоро оплата всех единиц производится лишь по таким ставкам, которые определяются последней единицей, не означает ли это эксплуатацию? Ни в коем случае, отвечал Кларк, потому что утрата любой единицы труда практически означает утрату предельной его единицы, а поскольку факторы производства мобильны, произойдут такие изменения в распределении капитала, при которых на каждую единицу труда будет приходиться то же количество капитала, что и раньше. В любом случае размеры специфического продукта окажутся одинаковыми для всех единиц труда. Изменения предельного продукта могут вызываться лишь различиями в величине капитала, приходящегося на одного рабочего. Таким образом, эксплуатация фактически невозможна 283. Все это изложено весьма подробно и с великолепной логикой, однако читателя все время не покидает ощущение’ что книга представляет собой апологию существующего экономического строя. И действительно, вся теория Кларка мало чем отличалась от защиты статус-кво; указанное обстоятельство очевидно настолько, что некоторые искушенные последователи Кларка, например Тауссиг и Феттер, чувствовали себя в связи с этим несколько неловко. Вопреки настойчивым уверениям Стиглера такое обвинение не является поверхностным, так как вполне очевидно, что апологетика является лейтмотивом всей работы Кларка 284. Кларк, вероятно, стремился дать ответ на вопрос о справедливости распределения. И его вывод о том, что все, фактически происходящее в экономике, превосходно, в свете известных эмпирических данных может расцениваться лишь как изощренная теоретическая защита капитализма.
В книге «Основы экономической теории» в основном речь идет о тех вопросах, что и в «Распределении богатства». Здесь вновь приводится трактовка труда и капитала как фондов, состоящих из подвижных единиц; вновь говорится о том, что в основе стоимости лежит полезность; и в еще большей мере, чем раньше, проводится мысль о том, что центральным унифицирующим принципом хозяйственной жизни является предельная производительность 285. Однако главной целью этой книги является исследование природы динамических изменений. Кларк не намеревался построить динамическую модель; он хотел просто «... пункт за пунктом рассмотреть влияние, которое оказывают различные изменения, оценить, насколько вероятно дальнейшее развитие этих процессов, и определить равнодействующую, вызванную их совместным влиянием» 286. Он по-прежнему полагал, что динамичное общество в своем функционировании мало отклоняется от норм, определяемых законами статичной экономики, а движущими силами динамичного общества он, как и раньше, считал рост народонаселения, накопление капитала, развитие техники и организации и склонности потребителей 287. Однако в целом новая работа оказалась слабее «Распределения богатства». В ней не только отсутствовала прелесть новизны; во многих отношениях она явно написана на более низком уровне в сравнении с предшествующей работой. В книге содержатся конкретные формулировки, свидетельствующие об умеренном интересе автора к перспективам экономического развития, однако в ней совершенно не чувствуется пафоса хозяйственного роста и экспансии, который можно было бы ожидать от исследования, посвященного экономической динамике. Книга 200
содержит главы о монополиях, железнодорожном транспорте и труде. К сожалению, большая часть этого материала в настоящее время уже не представляет особого интереса. Однако содержание этих глав доказывает, что Кларк способен был в соответствии с лучшими американскими традициями обрушиться на беззаконие, чинимое большим бизнесом 288. Хотя в нормальной обстановке достаточной этической основой хозяйственной деятельности может служить, как полагал Кларк, стремление к собственной выгоде, монополия, по его мнению, агрессивна, причем агрессивна именно потому, что она подавляет указанное стремление. Тресты играют полезную роль лишь в той мере, в какой они способствуют повышению эффективности, однако, разрастаясь сверх допустимых пределов, они вырождаются в монополию. Большой бизнес неизбежно порождает угрозу конфликтов в промышленности, а в предотвращении этих конфликтов существенную роль, следовательно, будет играть регулирование, основанное на своеобразном статуте «наиболее благоприятствуемой нации». Холдинг-компания, по мнению Кларка, также таит в себе угрозу. С течением времени центральной практической проблемой для него становилась проблема монополии; в таком контексте обращение к моральной стороне вопроса оказывалось совершенно неуместным 289.
Это был один из тех немногочисленных вопросов, которые способны были возбудить Кларка, привести его в состояние раздражения и гнева. Монополия, восклицал он, пагубна, ибо она препятствует конкуренции. Как только монополия станет господствовать в экономике, приостановится прогресс 29°. Тем не менее оставалось неясным, как Кларк определял монополию. Правда, он писал об абсолютном контроле над производимым продуктом, однако такое определение являлось нереалистичным даже в те дни, когда была в расцвете деятельность «магнатов-грабителей». Спустя некоторое время читателю становится ясно, что Кларк выступал против чрезмерно крупных размеров фирмы; именно возникновение хозяйственных гигантов вызывало у него сильную антипатию. Наряду с регулированием практики установления цен Кларк поддерживал мероприятия, которые гарантировали бы широкие возможности для возникновения новых компаний в отдельных отраслях. Все же и здесь можно обнаружить противоречивые суждения 291.
Кларк признавал, что профсоюзы необходимы для того, чтобы обеспечить равные позиции для капиталистов и рабочих. Он допускал, что при отсутствии профсоюзов заработная плата вскоре снизилась бы до уровня доходов самых низкооплачиваемых слоев рабочих. При системе коллективных договоров заработная плата ближе подходит к норме, соответствующей принципу предельной производительности. Такая система предпочтительнее той, которая могла бы иметь место, если бы рабочий в одиночку вел торг с предпринимателем 292. Из этого следовало, что профсоюзы представляют собой естественное явление, а к ним следует относиться благожелательно. Все же эти рассуждения допускали возможность эксплуатации, потому что там, где профсоюзы отсутствуют, заработная плата должна находиться намного ниже «естественного» уровня. Однако Кларк не хотел признать данный факт, потому что в противном случае тень сомнения была бы брошена на центральный тезис его концепции. Почти в духе теории фонда заработной платы он полагал, что профсоюзы не могут вызвать повышение ставок заработной платы сверх границ, определяемых специфической производительностью труда, иначе же предприниматели сократят число предоставляемых ими рабочих мест.
К забастовкам, бойкотам и насилию Кларк относился неодобрительно. Контроль над наймом рабочей силы, под которым он, очевидно, имел в виду закрытые предприятия *, представляет собой форму монополии и поэтому весьма нежелателен, причем одним из недостатков, вызываемых организацией рабочих в профсоюзы, Кларк считал утрату трудом своей мобильности. Единственное решение трудовой проблемы заключается, как он полагал, в организации третейского суда, с помощью которого можно будет установить надлежащий уровень заработной платы. Кларк был совершенно уверен в том, что, руководствуясь «... инстинктивным суждением [третейский] суд отыщет такой уровень заработной платы, который скорее всего будет находиться в пределах того, что может выплачивать монополия, и превысит заработную плату, которую получает предельная единица общественного труда» 293. В этом выразилось, по-видимому, довольно сомнительное убеждение Кларка; вершить справедливость, как он полагал, станут люди, политические и экономические интересы которых предопределяют их неприязнь к профсоюзам.
Влияние Кларка, несомненно, было значительным. Его суждения превратились в излюбленный аргумент приверженцев статус-кво. Ра-
♦ Закрытое предприятие (closed shop) — предприятие, где профсоюз заключает соглашение с предпринимателем о приеме на работу только членов профсоюза.— Прим, перев. 201
дикальные устремления fin de siecle * должны были смириться перед логикой предельных единиц. Теория Кларка явилась первой попыткой американского экономиста выдвинуть всеобъемлющую теорию: для многих ее привлекательность заключалась в том, что она обещала автоматически разрешить все экономические проблемы. Однако нельзя сказать, что это обещание оказалось выполненным. Несмотря на неоднократные заверения Кларка, что все предположения получат бесспорное подтверждение, в его теории оказалось множество пробелов. Все еще оставались сомнения в эффективности маржиналистской теории. Одна из главных ее задач — опровержение марксизма — ставила под вопрос пресловутую объективность этой теории. Маркс стремился показать, что механизм распределения характеризуется эксплуатацией; отрицая это, Кларк пытался показать, что распределение является справедливым. Тем не менее его теории и законам можно предъявить те же обвинения, которые выдвигались против Маркса: они содержат чистые понятия, истинность которых невозможно проверить и которые представляют собой в основном идеологические построения**. Дихотомия статики и динамики сомнительна, особенно в связи с тем, что статика трактовалась Кларком не просто как орудие исследования, а, по всей видимости, как сфера действия совершенно реальных процессов.
Что же касается техники анализа Кларка, то сомнение вызывает следующее: окажутся ли размеры продукта достаточными для того, чтобы удовлетворить требования со стороны всех факторов производства; ведь Кларк нигде не определил, каковы размеры единиц, которые должны прибавляться к имеющимся факторам или вычитаться из них. Не внушает доверия попытка Кларка свести все факторы производства либо к труду, либо к капиталу, а в некоторых местах, например там, где он пытается превратить землю в капитал, у него подразумевается, что капитал, вероятно, является единственным реальным фактором производства. Понятия общественного труда и общественного капитала, во всяком случае в формулировке Кларка, носят не аналитический, а скорее мистический характер. Далее, недостаточно реалистично, по-видимому, предположение о том, что можно выделить специфическую производительность отдельного фактора, особенно в тех случаях, когда продукт, очевидно, представляет собой результат совместного использования в процессе производства определенного сочетания факторов. Говоря о заработной плате, следует отметить, что предельная производительность в лучшем случае составляет лишь один из многих моментов, способных объяснить существующие ставки. Крайний гедонизм и теория социальной структуры, основанная на неоправданной аналогии с живым организмом, смешение морализирования и анализа, предположение о текучести факторов производства, предполагаемое совпадение дохода и производительности соответствующего фактора производства, отсутствие подлинно плодотворной теории роста и хозяйственных изменений — все это разочаровывает тех, кто стремится отыскать реалистическое решение экономических проблем.
5. ЛЮДВИГ ФОН МИЗЕС: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ «IN EXTREMIS» ***
Примером самой крайней формы индивидуализма, вполне соответствующего традициям австрийской школы, служат работы Людвига фон Мизеса (род. 1881). Обладая непреклонным характером и абсолютно уверенный в себе, он выступил в защиту последних останков laissez faire с упорством, которое настолько же восхитительно, насколько заслуживало луч* Конец века (франц.).— Прим, перев.
** Вопреки утверждениям Селигмена категории марксистской экономической теории не являются некими «чистыми понятиями», не поддающимися проверке,— они отражают реальные явления и процессы. Во многих случаях они могут получить четкое количественное выражение, а анализ соответствующих статистических данных наглядно подтверждает справедливость идей марксизма.— Прим, перев.
Здесь: в крайней форме (лат.).— Прим, перев.
шего применения. Мизес развернул полемику со всевозможными противниками, главным образом с представителями исторической школы, социалистических учений и институционализма; он непреклонно защищал подход к экономической теории с априорных позиций; указанный метод Мизес определял как логическую систему, которая выводится из универсальных принципов, не поддающихся эмпирической проверке. Произведения Мизеса проникнуты такой раздражающей надменностью и таким догматизмом, что они были бы осмеяны и забыты, если бы принадлежали любому другому автору.
Мизес родился в Лембурге; он учился в Венском университете, здесь же с 1913 по 1934 год он занимал должность профессора. Затем Мизес переехал в Женеву, где получил место про202
фессора на кафедре международных экономических отношений; с 1940 г. он живет в Соединенных Штатах, читая лекции, главным образом в Нью-йоркском университете. Солидаризуясь обычно с представителями крайнего консерватизма, Мизес опубликовал ряд работ, которые выделяются беспрецедентными в истории экономической мысли оскорблениями в адрес тех авторов, с которыми он не был согласен 294. Хотя экономические труды Мизеса не столь трудны для понимания, как произведения Ф. А. фон Хайека, все же в них часто можно столкнуться со столь же сложными вопросами. Каково бы ни было содержание излагавшейся теории, оно растворялось в безудержном потоке политических и мнимых философских рассуждений; для того чтобы различить и выделить внутри растворенные в этой странной социологии основные экономические идеи, требуется много усилий и утомительной работы. Чем больше вчитываешься в произведения Мизеса, тем меньше в них находишь экономической теории; наконец, в более поздних работах, таких как «Всемогущее государство» или «Теория и история», уже вообще не содержится почти ничего, кроме странной философской аргументации в защиту старинных принципов laissez faire в духе XVIII в.
Наиболее отчетливо теоретическая система Мизеса изложена лишь в одном произведении — «Человеческое действие» (1949),— расширенном издании опубликованной примерно за десять лет до этого работы «Nationaloekono- mie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens» *. Основную роль в этой книге играет понятие «праксеологии»— науки о человеческом поведении. К сожалению, Мизес нигде не уточняет содержания этой основополагающей идеи, ограничиваясь лишь самыми общими определениями; читателю самому предоставляется решить, исходя из всего контекста, что автор имеет в виду. Речь идет, по-видимому, о науке, предметом исследования которой является человеческое поведение, хотя временами складывается смутное впечатление, что сфера исследования охватывает лишь логические принципы выбора. Методология проистекает из некоторых априорных предпосылок, при этом используются рассуждения, которые Мизес в своей книге «Теория и история» характеризует как логически последовательные 295. Он подразумевает под этим умение делать выводы из предшествующих предпосылок. Мизес утверждает, что основные принципы, как они изложены у него,— это вечные истины, однако
* «Политическая экономия: теория торговли и хозяйства» (нем.).— Прим, перев.
он и не пытается выяснить, почему именно такой метод, скорее чем любой другой, позволит создать научную экономическую теорию или научную теорию человеческого выбора. С другой стороны, суждения, исходившие из исторического опыта, лишь отчасти можно считать априорными, поэтому они не являются всецело «праксеологическими». Такие суждения не поднимаются над окружающими условиями или над индивидуальными обстоятельствами и, следовательно, по своему характеру не являются в достаточной степени всеобщими и формализованными 296. Праксеологические категории независимы, неизменны и однозначно определены в соответствии со структурой человеческого мышления. Выйти за пределы этих принципов невозможно, может иметь место либо действие, либо его отсутствие 297. Такая теория в конечном счете превращала экономику в область праксеологии, в которой можно применять вычисления.
Прибегая к такому толкованию «праксеологии», Мизес полагал, что это позволяет ему выяснить принципы, скрывающиеся за простым актом выбора, и создать универсальную экономическую теорию, способную противостоять неистовым атакам со стороны иррационализма, полилогизма, бихевиоризма и историзма. От праксеологии он переходит к каталлактике, или науке об экономических изменениях; теперь предполагается, что человек действует для того, чтобы в какой-то мере избавиться от возникающего у него ощущения беспокойства 298. Такие действия всегда носят рациональный характер и предполагают способность выбирать между имеющимися альтернативными возможностями. Проистекающие из этого акты обмена могут осуществляться между различными людьми или быть «аутистичными», то есть принадлежать к числу тех операций, которые осуществлял Робинзон Крузо. Подходя с этих позиций к вопросу о происхождении обмена, Мизес недвусмысленно и энергично настаивает на том, что экономическая теория носит субъективный характер. Самоуверенность Мизеса безгранична: эти принципы, по его мнению, применимы ко всем формам человеческих действий. Однако, если попытаться свести все соответствующие формы деятельности к описанным им видам, это, по существу, почти не расширит наших представлений, подобно утверждению о том, что дыхание является важным условием функционирования человеческого организма 2". Простая эпистемологическая * истина заключается в том, что * Эпистемология — учение о познании, предполагающее анализ самих логических категорий, используемых при решении научных проблем (греч.).—Прим, перев.
203
вопреки настойчивым уверениям Мизеса проблемы не могут быть решены столь несложным априорным путем 300. Методология не может ограничиваться чисто дедуктивным анализом, и среди современных экономистов лишь немногие сочувственно отнеслись бы к критике Мизеса в адрес эмпирического метода. Мизес энергично обрушивается на исследование экономических явлений с точки зрения их исторического развития; такие исследования, по его мнению, не выходят за рамки экономической истории и не открывают особых возможностей для беспристрастного искусства логически последовательных рассуждений. Мизес настаивает на том, что подход с таких позиций отражает лишь индивидуальные черты и личные склонности автора; следовательно, он не может обеспечить единодушного согласия301. Свои собственные предубеждения он, разумеется, никогда не признавал.
Истина же заключается, по-видимому, в том, что использование исторического метода экономистами, как и представителями других общественных наук, приносит положительные результаты. Во всяком случае, в этом можно в значительной степени убедиться, обратившись к таким авторам, как Вебер и Маркс; кстати сказать, Мизес с презрением относится к ним обоим. Предполагается, что праксеоло- гия занимается исследованием человеческих действий, однако из изложения Мизеса так и нельзя понять, идет ли речь о проблеме соотношения между целью и средствами, о психологии человека или же, возможно, об этике. И хотя он много писал об эпистемологических проблемах экономической науки, работа Мизеса содержит мало сведений, непосредственно относящихся к теории познания, вследствие того что его универсальные принципы не имеют ничего общего с пониманием природы суждений. Цель его работы скорее заключалась в том, чтобы исследовать некую область человеческой деятельности, ограниченную в основном рынком laissez faire. Самым поразительным в этой странной системе является презрительное игнорирование автором влияния истории на человека. Изменения в социальной структуре, в развитии экономики и культуры — все это отправлено в мусорный ящик теории. Мизес героически борется за то, чтобы оградить экономическую теорию от влияния времени и исторических условий, однако, подобно благородному Дон-Кихоту Сервантеса, он обречен на поражение.
Не может быть никакой дискуссии по вопросу о конечных целях, доказывает Мизес, поскольку цель человеческих действий состоит в том, чтобы найти спасение от «ощущаемого беспокойства». Далее, праксеология имеет дело с позитивными истинами: она может не высказывать какого-либо мнения по поводу сибаритства или аскетизма. Однако стоимость может быть связана с какими-либо целями, продолжает Мизес, вступая в противоречие с только что высказанными утверждениями; здесь он по существу не делает ни шагу вперед. Раз стоимость играет важную роль, то как же можно составить суждение об этой проблеме, если невозможны какие-либо дискуссии по поводу целей? Но совершенно очевидно, что автор явно предпочитает подменять подлинную логику словами, когда, например, он утверждает, что праксеология может предсказывать результаты различных действий с «аподиктической» * достоверностью. Поскольку само слово «аподиктический» буквально означает логическую достоверность, то очевидно, что Мизес не внес полной ясности в вопрос о характере праксеологии.
Основой процесса оценки, по Мизесу, по- прежнему является предельная полезность. Однако поступки человека означают просто выбор между альтернативными возможностями и не предполагают необходимости их сопоставления, с тем чтобы с помощью выбора обеспечить более высокую полезность 302. Понятие предельной полезности относится, говорит Мизес, исключительно к запасу избранных благ и в этом смысле оно характеризует только субъективную потребительную стоимость. Однако, несмотря на длинное изложение этого вопроса и многочисленные отступления, Мизес мало прибавляет к тому, что уже было известно раньше, и маржиналистское исследование по существу перемежается у автора с произвольными и несущественными obiter dicta **. Вновь пространно излагается закон убывающей доходности и отвергается различие между материальными благами и невещественными услугами. Это кладет начало первому из многочисленных отступлений в область идеалистической метафизики: только человеческое сознание носит производительный характер, вследствие того что производительные силы являются духовными силами. Ощущение беспокойства человек устраняет с помощью логического умозаключения 303. Интерпретацию этих вопросов с более широких позиций, ближе примыкающих к социологии, Мизес отвергает как совершеннейшую бессмыслицу. Более того, такие воззрения * Аподиктический—неопровержимый, вытекающий из необходимой связи между явлениями или процессами (греч.).— Прим, перев.
** Рассуждения, высказанные мимоходом (лат.}.— Прим, перев.
204
опасны, потому что они ведут к коллективизму! Все же он допускает, что человек — это существо общественное: с точки зрения индивидуума, общество представляет собой средство для достижения определенных целей, и сохранение общества является важным условием осуществления любых планов человека 304. Именно благодаря существованию общества проявляется разделение труда, или, как его именует Мизес, «закон ассоциации». Следовательно, общество управляется идеями, поскольку тот или иной исход событий всегда обусловлен влиянием идеологии, а существующее положение дел есть результат воззрений, сложившихся в предшествующий период 305.
Мировоззрение самого Мизеса по существу не вызывает никаких сомнений. Гуманисты и философы допускали вопиющую ошибку, когда полагали, что с помощью демократии можно достигнуть лучшего общественного устройства. Демократия не может предохранить большинство населения от того, чтобы оно не стало жертвой ошибочных идей или неправильной политики. «Прогресс цивилизации будет происходить только в случае, если люди достигнут такого уровня, когда они наконец станут поддерживать разумную политику, которая направлена на достижение неких конечных целей...» 306 Однако, по мнению Мизеса, демократия не может осуществить этого, поскольку фактически она представляет собой правительство с его вооруженными людьми, жандармерией, солдатами и палачами. Рассматривая влияние просвещения в странах Восточной Европы, он отмечает: «Английские филантропы и педагоги, которые выступали в защиту народного просвещения, не предвидели, какую бурю ненависти и возмущения вызовет к жизни этот общественный институт» 307. Просвещение может приносить некоторую пользу, если его ограничить обучением чтению, письму и арифметике. Всякое обучение сверх этого является навязыванием идеологии правящей партией. Характеризуя роль интеллигенции, Мизес указывает: «Возникновение многочисленного класса... свободомыслящих интеллектуалов — это одно из наименее приятных явлений в эпоху современного капитализма. Их назойливая возня отталкивает разумных людей. Эти интеллектуалы лишь вредят» 308. Но нельзя забывать, что всегда была известна некоторая склонность самого профессора Мизеса к крайним суждениям.
Мизес редко прибегает к использованию математики в экономике и отрицает возможность с помощью математики предсказать будущие события даже в вероятностных категориях. При объяснении событий нельзя использовать количественные понятия, потому что в смысл этих событий можно проникнуть только с помощью «понимания» 309. «Математический метод должен быть отвергнут,— пишет Мизес,— не только потому, что он бесплоден. Это совершенно неправильный метод, исходящий из неверных предпосылок и ведущий к ошибочным выводам. Строящиеся в соответствии с этим методом силлогизмы не только лишены практической ценности, они отвлекают от изучения реальных проблем и искажают соотношения между различными явлениями» 310. Эмпирические исследования в такой области, как теория спроса, невозможно сравнивать с «априорным познанием, дающим нам возможность предвидеть поведение предпринимателя, который может не руководствоваться экономическим расчетом»311. Статистики настолько глупы, что пытаются измерить долгосрочные экономические циклы 312. Мизес пренебрежительно отзывается даже об исчислении экономических индексов. В настоящее время среди экспертов существуют определенные разногласия по поводу специфических вопросов исчисления индексов, тем не менее почти никто не станет отрицать их ценности при определении изменений в ценах или объема производства 313. Мизес считает, что изменение не поддается количественной оценке: индексы, настаивает он, не расширяют существенно наших знаний вследствие того, что изменяется состав самого «товарного набора»; различными оказываются методы оценки, а при взвешивании используются произвольные удельные веса. Конечно, все это вполне соответствует действительности, однако выдвигаемая им проблема затрагивает лишь техническую сторону вопроса. Следует отвергнуть утверждения Мизеса о том, что построение индексных рядов и количественная характеристика изменений в стоимости жизни являются «претенциозным важничаньем» 314. Он утверждает, что такого явления, как общий уровень цен, на самом деле не существует: на рынке выступают лишь цены каждого отдельного товара. Это явно противоречит ранее высказанному им утверждению о том, что не существует локальных различий в покупательной силе денег или в стоимости жизни 316. Последнее утверждение означает просто, что один и тот же человек не может получить одинаковое удовлетворение от одних и тех же благ, если эти блага находятся в различных местах. А если речь идет о покупательной силе денег, то она также всегда одинакова — различаются между собой только товары! К счастью, лишь немногие из статистиков или экономистов- математиков всерьез поддержали эти едва ли не смехотворные утверждения.
205
Однако в этой кажущейся нелепости есть своя система. Когда задача заключается в том, чтобы опровергнуть социалистическую теорию всеобщего благосостояния, да и любую другую разновидность социализма, преследующую ту же цель, то при этом существенную роль играет отрицание математических расчетов 316. И хотя математики, говорит Мизес, могут оказать некоторую помощь монополисту в связи с тем, что использование математических методов способствует установлению оптимальной цены, все же и эти усилия бесполезны, потому что неизвестной остается форма кривой спроса 317. Ни один из элементов, которые обусловливают монополию — издержки, спрос, производство,— по мнению профессора Мизеса, не имеет отношения к проблеме. Основная проблема по-прежнему заключается в том, что монопольная цена по существу порождается ограниченным предложением.
Центральную теоретическую модель в концепции Мизеса представляет своеобразная модель кругового потока, которую он назвал «экономикой бесперебойного кругооборота» 318. Эта модель проистекала из «умозрительного представления о последовательности событий, которые логически следуют из элементов человеческих действий, используемых при построении модели» 319. Однако в этом по существу не содержится ничего нового: такая модель мало чем отличается от теоретических построений самого заурядного типа, когда в качестве основных признаков рассматриваются разделение труда и частная собственность. Функции правительства следует ограничить установлением условий игры. При этих условиях экономика будет стремиться к состоянию покоя. Такое состояние, указывает Мизес, предполагается в связи с тем, что «ощущаемое беспокойство» элиминируется; это достигается тогда, когда не существует больше стремления к обмену и когда исчерпаны все заказы на покупку и продажу, все запросы и средства их удовлетворения. В таком случае розничная цена станет стабильной и, как бы упорно Мизес ни отрицал это, он лишь приходит к статической цене, как ее понимали сторонники теории экономического равновесия. Тем не менее Мизес настаивает на том, что условия стабильности ни в коем случае не означают описанного Шумпетером кругооборота; Мизес предполагает условия, при которых рыночные цены совпадают с ценами, устанавливающимися в конечном счете, когда экономика придет в состояние покоя. «Система все время находится в движении, и все же она всегда находится на том же месте. Она бесперебойно вращается вокруг неподвижного центра. Обычное состояние покоя вновь и вновь нарушается, но вслед за этим оно немедленно восстанавливается на том же уровне» 32°. Такая абстрактная модель, как обещал Мизес, раскроет подлинное содержание экономических процессов. Однако этому обещанию не суждено было сбыться.
В «экономике бесперебойного кругооборота» центральную роль играет рынок, на котором каждый человек, преследуя собственные цели, в то же время действует в интересах всех. Благодаря системе цен производители получают сведения о том, что и как производить и в каких количествах 321. В этом необычном мире, где выдумка становится реальностью, не существует ни явных, ни скрытых форм рекламы 322. Потребитель правит, как король, обладающий суверенной властью; спрос, который он предъявляет на рынке, подобно избирательному бюллетеню, опускаемому в урну, вынуждает предпринимателя считаться с его желаниями. Трудность, однако, состоит в том, что при голосовании у различных людей часто оказываются неодинаковые права, вследствие чего картина искажается. Попросту говоря, одни люди обладают большим количеством голосов по сравнению с другими — Мизес явно пренебрег этим очевидным фактом.
Единственной сферой, где используется экономический расчет, разумеется, служит рынок; определяя рынок, Мизес исходит не из расчетов рыночных агентов, а скорее из эвристического принципа. Его метод опирается на теорию Бем-Баверка; Мизес пытается показать, как при обмене между людьми индивидуальный выбор приводит к установлению рыночной цены. Обмен может осуществляться лишь тогда, когда обмениваемые товары располагают неодинаковыми стоимостями 323. Этот вывод проистекал из основной трактовки стоимости как внешнего по отношению к товару психологического свойства, которое, безусловно, не может быть заключено внутри самих предметов, кроме того, содержание стоимости «мышление не может постигнуть, если при этом используются количественные категории» 324. Однако такой вывод создает угрозу развала всей его науки, именуемой каталлактикой, потому что теперь перед нами случай, когда, в конце концов, невозможно определить точку, в которой устанавливается цена. Лица, выступающие на рынке, не могут располагать одинаковыми сведениями, вследствие того что они в различной степени информированы об изменениях в ситуации и по-разному реагируют на полученные сведения 325. Тот, кто наиболее проницателен и наиболее удачно использует отдельные крохи информации, предоставляемой рынком, извлечет наибольшую выгоду.
206
Кстати сказать, это образовало первоначальную основу разработанной впоследствии Хайеком теории экономического познания 326. В действительности сколько-нибудь точные расчеты не могут иметь места, и Мизес вынужден признать, что он занимается лишь «анализом процессов мышления, сопровождающего деятельность человека, который, планируя свои поступки, использует количественные категории»327. По существу, речь идет об оценке антиципируемого исхода последующих событий. Однако Мизес все же должен использовать для измерений какой-нибудь масштаб, а какой же масштаб может быть лучше, чем обмен различных товаров на деньги? Вследствие этого рыночные цены в конечном счете превращаются в основу экономических исчислений. Мизес, по-видимому, совершенно не заметил того, что все эти рассуждения у него постепенно превращались в грандиозную тавтологию. Более того, так как Мизес ограничивал сферу применения расчетов рыночными явлениями, он не мог сказать чего-либо существенного относительно поведения в нерыночных ситуациях. А поскольку каталлактика у него превратилась в единственную науку, Мизес должен был прийти к отрицанию политики и социологии как наук, не заслуживающих особого внимания. Проще говоря, отказавшись от применения расчетов за пределами рынка, Мизес тем самым полностью лишил себя возможности высказывать суждения по более широким проблемам, стоящим перед общественными науками.
Различия между процессом установления цены и оценкой у Мизеса совершенно незначительны. Он использует понятие вменения, однако обосновывает это понятие слабее, чем его предшественники. В конце концов Мизес приходит к совершенно бессодержательному выводу о том, что процесс установления цен носит общественный характер. Но ни при каких обстоятельствах он не может согласиться с мыслью, что установление цен влияет также на распределение 328. Такие представления Мизеса не согласуются с последующим утверждением о том, что «благодаря взимодействию рыночных сил цены потребительских благ пропорционально распределяются между различными комплементарными факторами, которые совместно используются при производстве этих благ» 329. Противоречия и отсутствие ясности не является необычным делом для Мизеса. И хотя настойчивое подчеркивание тезиса о том, что общий уровень цен — это просто абстракция, не лишено известного смысла, трудно согласиться с его аргументацией, согласно которой формирование доходов не имеет почти ничего общего с ценами, а скорее определяется рациональным использованием ресурсов. Он настойчиво проводит мысль о том, что доход — это не текущий поток, а такая категория человеческого действия, которая проистекает из надлежащего и экономического использования земли и рабочей силы. В самой рыночной экономике не содержится ничего такого, к чему могла бы иметь отношение идея распределения 33°. Единственная функция, которую выполняют цены,— направлять производство таким образом, чтобы оно обслуживало желания^потребителей. Широкий взгляд, объединяющий различные явления в единую экономическую модель, полностью или почти полностью чужд Мизесу.
Он отмечает, что цивилизация и частная собственность неразрывно связаны между собой; тем самым Мизес догматически сбрасывает со счетов все те формы общественного строя, при которых не была известна частная собственность (в том смысле, который вкладывается в это понятие в странах Запада). Такое общество, по его мнению, еще не означало цивилизации. Этого определения заслуживает лишь рыночное капиталистическое хозяйство, хотя и его развитие «подрывается вмешательством правительства и профсоюзных организаций» 331. На этом примере можно видеть приемы, которыми Мизес пользуется при построении истории, основанной на частной собственности; такая история должна дополнить его экономическую теорию, основанную исключительно на частной собственности. О характере изысканий Мизеса в области истории можно наглядно судить по следующему его утверждению: Западная Европа располагала возможностями более быстрого накопления капитала по сравнению с остальным миром благодаря тому, что она обладала не только преимуществами в логическом мышлении, но и способностью сдерживать развитие захватнического милитаризма 332.
Такая аномалия, как неравномерное распределение дохода и богатства, с точки зрения Мизеса, в высшей степени желательна 333. Существуют, как он деликатно выражается, определенные обязанности, которые индивидуумы должны принимать на себя в системе «общих производительных усилий», и неравенство должно служить средством, побуждающим к выполнению этих обязанностей. Или, выражаясь более грубо, низкая заработная плата служит хорошим способом заставить людей работать. Совершенно очевидно, что подобные взгляды, высказанные профессором, могут оказаться исключительно полезными для определенных пропагандистских целей 334. Он отрицает, что рыночное хозяйство, по крайней 207
мере такое, о котором он говорит, может привести к возникновению класса или касты. «Каждый человек волен стать предпринимателем, если он полагается на то, что сумеет предвосхитить будущие рыночные условия лучше, чем его сограждане, и его попытки действовать на свой страх и риск и нести личную ответственность за свои поступки получат одобрение потребителей» 335. Рынок— это просто поле деятельности для людей, которые действуют «сознательно и совершают обдуманные поступки, направленные на достижение избранных целей». Предпринимательская пропаганда направлена на распространение информации среди потребителей, и всякие ограничения в этой области ведут к ограничению свободы выбора потребителей.
Понятие капитала у Мизеса — как и многие другие его представления — с теоретической точки зрения содержит любопытный конгломерат идей австрийской и других школ. Вначале Мизес, следуя подлинным традициям австрийской школы, высказывался против представлений о капитале как о фонде. Однако впоследствии он доказывал, что следует отвергнуть определение капитала как совокупности изготовленных средств производства, поскольку в таком случае имеется в виду список товаров, который не предполагает никакого особого их использования «в действии». В ранней работе «Теория денег и капитала» Мизес высказывал мысль о том, что деньги в той мере представляют капитал, в какой они используются для приобретения капитальных благ. Таким образом, изгоняя в дверь теорию Кларка, трактующую капитал как фонд, Мизес допускает возвращение того же понятия через окно 336. Понятие производительности капитала также не является плодотворным, говорил Мизес, потому что капитал по своему существу представляет собой «категорию действия внутри рыночного хозяйства» 337. Однако впоследствии в книге «Человеческое действие» Мизес присоединяется к своим единомышленникам — представителям австрийской школы и настойчиво проводит мысль о том, что абстрактный капитал не может существовать обособленно от конкретных благ. Он отказывается от разграничения оборотного и основного капитала, предпочитая понятие обратимости (convertibility), которое вопреки всем утверждениям Мизеса грозило повлечь за собой трактовку капитала как фонда. К тому же само представление об обратимости требовало классификации отдельных форм капитала, основанной на различиях в их использовании, и, следовательно, введение данного понятия не означало существенного шага вперед по сравнению с прежним разделением капитала на основной и оборотный. Мизес отметил, что, по мере того как осуществляется накопление капитала, обратимость, или переход капитала из одной формы в другую, становится более трудным делом, так как с развитием современной технологии существенным условием производства становится применение в крупных масштабах основного капитала. Здесь- то и могло бы начаться плодотворное обсуждение проблемы, однако Мизес тут же отклоняется от темы и переходит к поразительно противоречивому описанию патентной системы, в котором он выступает в защиту монополистической практики 338. Мизес отмечает, что ограниченная обратимость капитала не обязательно должна связывать его владельца, потому что, вложив свои средства в ценные бумаги, он может в общем довольно легко перемещать эти средства. А поскольку Мизес допускает такую возможность, ему приходится признать, что представление о капитале как о фонде действительно обладает определенной ценностью 339.
Мизес полагает, что капитал образуется на основе сбережения и ограничения потребления; фактором, ограничивающим сбережение и последующее инвестирование, является предпочтение настоящего времени будущему. В этом вопросе представление Мизеса о капитале совпадает с идеями Джевонса, поскольку для того, чтобы обеспечить последующее развитие, необходим фонд потребительских благ для удовлетворения потребностей в период отсрочки 34°. Ответ Мизеса на соображения, высказанные Фрэнком Найтом по поводу природы капитала, оказался не слишком убедительным вследствие того, что он мог сослаться лишь на «подготовку предшествующих поколений». Прогресс, утверждал Мизес, будет задерживаться до тех пор, пока будет существовать недостаток капитала; впоследствии эту мысль более полно разработал Хайек. Недостаток капитала представляет собой по существу не что иное, как остановку в действии фактора времени311. Такие представления, разумеется, вполне соответствуют праксеологической схеме, потому что они предполагают выбор, который учитывает развитие событий в последующие периоды времени. При обеспечении будущего периода возможны различные альтернативы: накопление большего запаса потребительских благ; производство благ с более длительным сроком службы; производство благ, требующих большего производственного периода; или использование более длительных окольных методов производства даже в том случае, когда блага могут быть изготовлены в более короткий срок 342. Все это означает самое беспорядочное смешение представлений Джевонса и Бем-Баверка. Дей208
ствующий человек, который должен был выполнять все эти операции, обладает более чем поразительным сходством с экономическим человеком, описанным представителями классической школы. Очевидно, что стремление избавиться от ощущаемого беспокойства — это лишь обратная сторона максимизации удовольствия. Все, что Мизес внес в теорию,— это понятия производственного периода и продолжительности функционирования и пригодности товара; но и эти мысли не вполне оригинальны 343. Сомнительно, может ли проблема предпочтения во времени исчерпываться понятиями «раньше или позже», потому что они мало что говорят о стремлении обеспечить тот или иной приток доходов. Именно эти стремления играют центральную роль в теоретической системе Хайека; что же касается теории Мизеса, то в ней данный вопрос оказывается затерянным во всем винегрете из пресных экономических истин и еще более безвкусных политических суждений.
В центре теоретической системы Мизеса находится понятие обмена. Он отвергает мысль о том, что деньги могут играть нейтральную роль. Напротив, изменения в количестве обращающихся денег, отмечает Мизес, на деле оказывают различное влияние на цены различных товаров. Следовательно, количественная теория денег (в той форме, в какой она обычно формулируется) оказывается непригодной, поскольку она предполагает, что изменения цен пропорциональны изменению количества денег, тогда как фактический опыт не подтверждает этого 344. Тем не менее деньги должны служить исключительно средством обращения: все остальные функции, такие, как стандарт покупательной силы при отсроченных платежах или мера стоимости, Мизес сводит к единственной основной функции денег как средства обращения. Утечка денег в процессе оборота, например при накоплении сокровищ, не оказывает какого-либо реального влияния, поскольку она вызвана спросом на деньги, который требует именно такого развития процессов. Другими словами, оценка денег, предназначаемых для этой цели, основывается на услугах, на которые человек рассчитывает, храня наличные деньги 345. Однако Мизес мог лишь немногое сказать о мотивах хранения наличных денег в том смысле, в каком об этом писал Кейнс 346. И действительно, несмотря на критику Мизеса в адрес количественной теории денег, сам он не смог сообщить что- нибудь значительное, а лишь провозгласил, что «... соотношение между спросом на деньги и их предложением однозначно определяет структуру цен в той мере, в какой этим характеризуется отношение взаимного обмена между деньгами и предназначенными для продажи товарами и услугами» 347.
Для того чтобы ознакомиться с полным изложением теории денег Мизеса, следует обратиться к первой из его основных работ — «Теории денег и кредита». В этой книге, значительно менее резкой и тенденциозной в сравнении с другими его произведениями, его аргументы более обоснованны, и во многих случаях их можно признать почти убедительными. Неувязки в теории Мизеса возникли, очевидно, на протяжении периода между двумя мировыми войнами: достаточно взглянуть на приложение к последнему английскому изданию книги «Теория денег и кредита», для того чтобы убедиться, насколько изменилась его точка зрения, приблизившись к крайне правым взглядам.
Довольно любопытно, что Мизес вполне успешно смог сочетать теорию денег со своей общей экономической теорией. Центральное место у него занимают «вынужденные сбережения», несоответствие между условиями равновесия и нормой процента и вызываемые неустойчивостью кредита изменения в отношении между ценами на производственные и потребительские блага 348. Основная функция денег заключается в том, что они должны использоваться в качестве средства обращения, это вытекает из способов, которые люди применяют в процессе косвенного обмена, стремясь избавиться от благ, менее пригодных для продажи, а взамен получить более пригодные для продажи. В результате оказывается, что из всех товаров легче всего в обмен принимают деньги. Далее Мизес указывает, что деньги не могут служить мерой стоимости, так как субъективные оценки стоимости можно располагать только по степени важности или они могут иметь лишь порядковое значение. Но и здесь налицо известное противоречие: если для ориентировки в многочисленных меновых пропорциях, существующих на рынке, людям приходится использовать деньги, которые «в наибольшей степени пригодны для этой цели», то из этого, по-видимому, следует, что деньги должны выполнять задачу измерения стоимостей. Мизес предпочел бы говорить, что деньги служат мерой цен 349.
За этим следует обширное и довольно содержательное изложение проблемы возникновения денежных субститутов. Однако Мизес совершенно непреклонен в своем суждении о том, что государство не может создавать денег как таковых. Государство с помощью своих законодательных и судебных решений в лучшем случае может оказать влияние на форму, которую принимают деньги, но оно не может предопреде14 Б. Селигмен
209
лить их стоимости. Стоимость денег должна устанавливаться тем же способом, что и стоимость остальных товаров,— на рынке. Государство не отличается от других участников хозяйственных операций, оно должно подчиняться требованиям спроса и предложения. Именно субъективная потребительная стоимость нужных людям предметов лежит в основе стоимости денег 350— такое представление возвращало теорию к временам Менгера и Бем-Баверка.
Деньги, дополнительно «впрыскиваемые» в обращение, чаще всего распределяются неравномерно, говорит Мизес, предвосхищая тем самым суть концепции Хайека. Рыночное положение тех, кто обеспечил себе преобладающую часть вновь эмитированных денег, усилится, и цены товаров, на которые предъявляют спрос эти лица, вероятно, повысятся. Те, кто получил вновь эмитированные деньги в последнюю очередь, и те, кто их вообще не получил, обнаружат, что в результате неравномерного изменения цен их реальный доход уменьшился. В этом и состоит «принудительное сбережение» 35х. Если новые деньги «впрыскиваются» в хозяйство лишь один раз, не будет оснований для длительных искажений в соотношениях между ценами, и через некоторый период может произойти восстановление их прежней структуры. Изменения в объективной меновой стоимости денег в результате оказываются непропорциональны изменениям в количестве обращающихся денег. В принципе вновь выпускаемые деньги, утверждает Мизес, приносят хозяйству мало пользы; тем самым он исключает из рассмотрения возможность неполного использования ресурсов и неполной занятости рабочей силы.
Больше всего Мизес опасается инфляции, которая, как он настойчиво утверждал, приводит к проеданию капитала вследствие возникающих ложных надежд и неправильных экономических расчетов. Вызываемый дополнительной денежной массой рост цен иллюзорен, поскольку в хозяйство не поступает никакого дополнительного реального капитала, в действительности капитал исчерпывается вследствие выплаты дивидендов и более высокой заработной платы 352. Если обратиться к опыту развития американской экономики в 50-х годах XX в., когда повышение цен и заработной платы сопровождалось ростом реального физического объема капитала, складывается отчетливое впечатление, что экономическая теория Мизеса не может объяснить происходивших событий.
Из теории Мизеса так или иначе следует, что как только процентные ставки опустятся ниже предельной нормы прибыли от реальных капиталовложений, предприниматель тотчас же изменит структуру производства. Однако можно представить себе и такие случаи, когда будет сохраняться прежняя структура производства, а разность между процентными ставками по ссудам и нормой прибыли от реальных капиталовложений будет представлять неожиданный доход (windfall gain). Предприниматели лишь в последующий период прибегнут к расширению своих капиталовложений. Отрасли, изготовляющие производственные блага, станут приносить больший доход в сравнении с отраслями, выпускающими потребительские блага, и в конечном счете предприниматели окажутся заинтересованными в изменении структуры производства. В условиях полной занятости это вызовет увеличение выплат владельцам факторов производства, что обусловит повышение реальной заработной платы и арендной платы. Однако здесь предполагается неизменный уровень цен, тогда как в действительности цены, разумеется, повысятся, и тем самым, несмотря на более острую конкурентную борьбу за ресурсы, повышение реальной заработной платы будет предотвращено. При этом опять-таки не будет существовать побудительных мотивов к изменению структуры производства. Ясно, что все эти процессы на самом деле значительно сложнее, чем полагает Мизес.
Категория «первичного» процента появляется вместе с упоминанием о предпочтении во времени. В полном соответствии с традициями австрийской школы Мизес трактует процент как проявление процесса дисконтирования будущих благ при сравнении их с текущими благами. В связи с тем, что текущие блага оцениваются выше, чем будущие блага того же вида и качества, сумма средств, которую рынок отводит на удовлетворение будущих потребностей, оказывается ниже суммы цен текущих благ. Указанную разность Мизес называет «первичным процентом» 353. Этот доход отличается от предпринимательской прибыли, которая проистекает скорее из изменений в рыночных условиях, тем самым Мизес превращает прибыль в некий случайный доход. Процент играет важную роль в поддержании «текущего повторяющегося дохода»— термин, сходный с выдвинутым впоследствии Хайеком понятием постоянного дохода. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что Мизес смог избежать идеи производительности сколько-нибудь успешнее, чем Бем-Баверк. Разность между суммой цен на факторы производства и продукты явно порождается более высокой оценкой текущих благ. Такая более высокая оценка, очевидно, относится не просто к последующим услугам факторов, но также к самому процессу 210
производства: речь не идет лишь об истечении какого-то срока, а скорее о важнейших элементах творческой деятельности и производительности.
Мизес вносит еще большую путаницу, настаивая на том, что «первичный» процент сам по себе — это не цена, а отношение между товарными ценами, и более того, он утверждал, что существует тенденция к уравнению этого отношения для всех товаров. В «экономике беспрепятственного кругооборота» возможно лишь такое развитие событий. Будучи категорией действия, «первичный» процент определяет спрос на капитал и его предложение и устанавливает равновесие между удовлетворением потребностей в ближайшее время и в отдаленном будущем. (Как доказывает Мизес, Шумпетер был совершенно неправ, утверждая, что в условиях кругового потока процент исчезает.) Все же Мизес уклоняется от рассмотрения вопроса о соотношении между процентом и сбережением. Он считает невозможным доказательство сколько-нибудь полезных «праксеологических теорем», посвященных этому вопросу, потому что в соответствии с его предположениями удовлетворение потребностей в последующие периоды определяется оценочными суждениями, не поддающимися измерению. Но если процент обусловлен выбором между текущими и будущими благами, то такой выбор должен быть связан с размерами наличного капитала. Если дело действительно обстоит таким образом, тогда Мизес совершенно явно уклоняется от своих обязательств перед праксеологией, отказываясь исследовать роль сбережений и предложения капитала в той мере, в какой они оказывают воздействие на процент. Он может лишь утверждать, что изменения размеров собственности влияют на сбережение, и таким образом — на соотношение между стоимостью текущих и будущих благ 354.
Тем не менее эмиссия новых денег влияет на процентную ставку 355. Расширение кредита ведет к падению процентной ставки по денежным ссудам ниже уровня, который должен был бы установиться, если бы могли быть учтены все экономические факторы. Этот уровень процента может означать описанную Викселлем естественную процентную ставку, которая основывается на производительности предельного производственного периода. Мизес определяет его как последний производственный период из числа тех, которые могут быть оправданы с экономической точки зрения. Продолжительность этого периода определяется следующим требованием: фонд средств существования должен соответствовать фонду заработной платы. Если рыночная ставка процента ниже естественной ставки, то вследствие этого возможности извлечения чистого дохода расширяются, что может привести к удлинению производственных периодов. Однако вскоре наступит такой момент, когда фонд средств существования будет исчерпан, тогда как претворяемые в жизнь проекты использования капитальных благ еще не обеспечат полной отдачи в форме новых потребительских благ. В результате этого наступит экономический кризис. Причиной такого кризиса являются ложные экономические расчеты, которые опираются на иллюзорные доходы, порождаемые расширением денежного обращения. В действительности проекты не могут быть осуществлены, потому что для этого не хватает наличного реального капитала. Здесь перед нами уже теория экономического краха, которая впоследствии получила развитие в работах Хайека 356.
В соответствии с классификацией Хаберлера эта теория может быть отнесена к монетарным теориям перенакопления 357. По мнению Мизеса, банковская система порождает кредитную экспансию в опасных размерах, такая экспансия поощряет оптимистические расчеты предпринимателей. Центральные банки, как и следует ожидать, поддерживают эту экспансию, поскольку их политика отражает оптимистические настроения деловых кругов. Без такой поддержки индивидуальные банки не могли бы обеспечить себе необходимую кассовую наличность, потому что кредитная экспансия вскоре привела бы к ухудшению их резервных позиций. Однако, когда вся система функционирует согласованно, никаких проблем не возникает. Тем не менее если бы центральным банкам было отказано в праве выпуска банкнот и если бы это право было возвращено частным банкам таким образом, чтобы между ними вновь могла развернуться подлинная конкуренция, то в результате, говорит Мизес, экономически слабые банкиры оказались бы вытесненными и кредитная экспансия характеризовалась бы большей осмотрительностью. Забывая о широко известном опыте развития банков в американских штатах, Мизес настойчиво утверждает, что его предложения сводятся к «свободному банковскому предпринимательству» 358. Те, кто высказывает сомнения в целесообразности и эффективности таких форм функционирования национальной банковской системы,— это просто «фанатические сторонники государственного вмешательства» 359. Естественной основой системы денежного обращения и кредита является золотой стандарт, и «каждый, кто был склонен тайно препятствовать эволюции в направлении благосостояния, мира, свободы и демократии, [должен был] с отвращением относиться к золотому стандарту...» 360.
14* 211
Пытаясь вернуться к теории экономического краха, Мизес высказывает мысль о том, что подъем не создает реального капитала; если исходить из современного опыта экономического развития, такое суждение представляется не вполне правдоподобным. Вообще Мизес питает чрезвычайно странную склонность к дефляции, в этом отношении он превосходит даже самых консервативных защитников регламентированной денежной эмиссии. Он писал:
«Цены факторов производства... должны понизиться, прежде чем производство вновь окажется прибыльным. Размеры кассовой наличности у предпринимателей увеличиваются вследствие того, что предприниматели воздерживаются от покупки товаров и найма рабочих до тех пор, пока структура цен и заработной платы не будет соответствовать реальным рыночным условиям... Следовательно, всякая попытка правительства или профсоюзных организаций предотвратить или замедлить этот процесс приспособления лишь продлит застой» 361. Такую теорию можно характеризовать также как уподобление экономических циклов кровопусканию. Действительно, его экономическая теория приобретает явное сходство с миром «Алисы в стране чудес» *: подъем, по мнению Мизеса, означает движение вспять, а депрессия — прогресс, потому что в фазе депрессии улучшается качество товаров и устанавливаются надлежащие масштабы их производства 36 2. В то время как ’в фазе подъема капиталовложения характеризуются расточительством ресурсов, депрессия «...означает обратный путь к такому положению дел, при котором все факторы производства используются для возможно более полного удовлетворения самых насущных нужд потребителей» 363. Более того, процветание порождает подавленное настроение и уныние, тогда как депрессия поощряет новое сбережение, используемое для накопления дополнительных капитальных благ. Мизес забывает только сказать, откуда берутся доходы, необходимые для того, чтобы обеспечить такое «новое сбережение» в период депрессии.
Как и следовало ожидать, Мизес предвзято относится к трудовой проблеме; можно было предвидеть и то, что для доказательства своей точки зрения он прибегнет к извращению исторических фактов 361. Мизес пишет, например, о том, что в эпоху раннего капитализма на фабрики хлынули массы людей, ищущих работу, и таким образом эти люди смогли включиться в борьбу за распределение продуктов. * Имеется в виду книга Л. Кэррола «Алиса в стране чудес».— Прим, перев.
(Разве появление продуктов предшествует процессу труда? А не наоборот?) «Выгоды, которые массы извлекли благодаря существованию капиталистической системы, были,— утверждает Мизес,— настолько очевидны, что ни один предприниматель не видел необходимости в пропагандистских разглагольствованиях, убеждающих рабочих в пользе капитализма» 365. Это находится в противоречии с выводами авторов многочисленных работ об опустошительном влиянии фабричной системы 366. Как отмечали Коул и Постгэйт, «...более чем вероятно то, что после 1815 г. действительно имело место ухудшение жизненных условий в быстро развивающихся фабричных городах, где подрядчики строили сразу большое количество жилых домов, будучи заинтересованными главным образом в их дешевизне...» 367
Мизес обрекает рабочего на жизнь, сводящуюся к непрерывному изнурительному труду; удел рабочего состоит в том, чтобы все время вести борьбу с тягостью труда 368. Если же рабочий связывает свои надежды с такими пагубными идеями, как профсоюзное движение или марксизм, то его положение становится неустойчивым. Заработная плата, определяемая спросом и предложением, отражает вклад рабочего в создание национального богатства. С одной стороны, заработная плата есть вознаграждение за специфический труд определенной квалификации, но, с другой стороны, все трудящиеся конкурируют между собой. На рынке труда предприниматель не может установить монополистическую практику, поскольку это предполагало бы монополию спроса — явление, которому Мизес вопреки всему тому, что в учебниках пишется о монопсонии, не придает существенного значения 369. Мизес настаивает также на том, что предприниматели лишены возможности оказывать давление на рынок труда; к счастью, подавляющее большинство предпринимателей на практике обнаруживает гораздо большую проницательность, чем их лукавый апологет. Еще более абсурдно его утверждение о том, что рабочие не находятся в сколько-нибудь неблагоприятном положении, потому что в сравнении с предпринимателями у них больше возможностей для выжидания. Это подтверждается самим фактом существования безработицы, потому что в противном случае безработные согласились бы работать за более низкую плату! 370 Другими словами, безработица всегда носит добровольный характер и, следовательно, представляет собой каталлактическую иллюзию. Бедность, однако, не является праксеологической проблемой вследствие того, что такие явления находятся «за пределами теории человеческого дей212
ствия,— теории, которая рассматривает только вопрос о том, как обеспечиваются средства, необходимые для потребления, но не о том, как эти средства потребляются» 371. Ну, а раз средства отсутствуют, то, разумеется, отсутствует и проблема.
На протяжении всей своей деятельности Мизес ни разу убедительно не доказал, почему именно его вариант теории выбора наиболее правилен. Он просто утверждал, что этот вариант превосходит другие концепции, и выпускал ее в свет с таким ярлыком. Кроме того, он так и не разъяснил, почему отказ от априорных рассуждений должен привести к нелепым выводам. По существу, дело обстояло просто: Мизес не мог доказать, что в сравнении с остальными способами исследования его метод позволяет быстрее обнаружить истину, тогда как многочисленные факты свидетельствуют о том, что такой метод оказывался намного хуже других. Непримиримый догматизм и склонность не задумываясь оскорблять идейных противников (эти качества можно проследить на примере книги «Теория и история» и различных политических брошюр) напоминают скорее адвоката, чем ученого. Оценивая его методологию, следует отметить, что он не способен был перейти от априорных принципов к апостериорным заключениям и использовать один из этих видов суждений для проверки другого. Такой способ действий, как у Мизеса, может служить синонимом рациональности, по-видимому, лишь в системе его определений. Более того, Мизес полагает, что суждения относительно обмена и стоимости, которые носят в основном эмпирический характер, могут быть выведены с помощью чисто аналитических умозаключений; тем самым выводы, проистекающие из сформулированных им априорных законов, должны играть такую роль, какая обычно принадлежит институциональным условиям. Но, как ясно показал Фриц Кауфман, такое допущение неправомерно 372.
Ясно, что в своих выводах Мизес исходит из определенных убеждений, и, может быть, не возникало бы столь сильного желания спорить с ним, если бы он не скрывал их так тщательно и вопреки несомненно присущей ему двойственности не рекламировал бы себя как единственного сторонника последовательного подхода. Его собственные критерии деятельности произвольны и ограничены, а всякая деятельность, которая, по мнению Мизеса, не удовлетворяет этим критериям, вызывает у него вспышку негодования и еще больше укрепляет его уверенность в собственной правоте. Особый гнев вызывают у Мизеса те, кто считает необходимым время от времени вмешиваться в развитие хозяйственных процессов. Тем не менее проповедовавшийся им отказ от всякого вмешательства в хозяйственную жизнь привел бы именно к тому искажению рыночных процессов, против которого он выступал, ибо свободная игра рыночных сил неизбежно подрывает собственную основу 373. Например, цена труда устанавливается в результате функционирования автоматического рыночного механизма, принудительно реализующего свои требования с помощью спроса и предложения. Однако труд — это товар особого рода; его нельзя ни хранить на складе, ни отделить от его носителя — человеческой личности. Несмотря на это, логика рыночного хозяйства неумолимо требует, чтобы с трудом обращались так же, как купец обращается с зерном. Это неизбежно порождает протест против бесчеловечной теории, которая превращает людей просто в придаток ткацкого станка или паровой машины. Варварские требования, предъявляемые неограниченной рыночной экономикой, натолкнулись на сопротивление. Кроме того, сами капиталисты обнаружили, что высокоразвитый производственный аппарат, требующийся для современного массового производства, не может функционировать в условиях свободного рынка. Капиталисты должны обладать уверенностью в том, что цена позволит возместить текущие издержки и капитальные расходы. Вследствие этого они начали осуществлять контроль над ценами и вопреки всем пожеланиям Мизеса сумели подорвать свободный рынок. Цены теперь определяются задолго до того, как товары достигли потребителя, которому часто приходится верить в то, что его благосостояние повысится, если только он купит те предметы, которые, как гласит реклама, наделяют его владельца достоинством, силой и чарующей улыбкой 374.
6. ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК: УТОНЧЕННАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРИЙ АВСТРИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Традиции австрийской школы наиболее успешно продолжает Фридрих А. фон Хайек (род. 1899), который наделен во многих отношениях более тонким и цепким умом, чем Мизес. Завершив обучение в Венском университете, Хайек специализировался в области 213
юриспруденции и экономики. Несколько лет Хайек работал в Австрии на государственной службе и занимал пост директора австрийского Института экономических исследований; в 1931 г. он перешел в Лондонскую экономическую школу, где оставался до 1949 г. В настоящее время Хайек преподает в Чикагском университете. Он написал большое количество статей, многие из них впоследствии были воспроизведены в его книгах; кроме того, он является автором одного трактата, посвященного сугубо специальным теоретическим вопросам, а также изумительно популярной, но поверхностной книги по вопросам политической теории, его перу принадлежат исследования в области теоретической психологии и обширная монография о консервативной политической философии 376. Однако недостатком его лекций и книг является исключительная трудность изложения, вследствие этого требуются существенные усилия для того, чтобы уяснить их основное содержание. Это несколько обескураживает тех, кто перечитал все опубликованные работы Хайека, ибо его труды в области истории экономической мысли относятся к разряду первоклассных исследований. Книга «Джон Стюарт Милль и Харриэт Тэйлор», очерки о Менгере и фон Визере и исследование, посвященное происхождению концепции принудительного сбережения, свидетельствуют о несомненных удачах Хайека в данной области исследований 376.
Но, к сожалению, экономические и политические произведения удаются ему в меньшей степени. Обычно они исключительно сложны, центральной темой в них является индивидуализм, система цен и связанная с ней «реальная» структура капитала. Многими идеями Хайек обязан Кнуту Викселлю, а также Бем-Ваверку и Мизесу. Викселль пытался построить теорию длительных изменений в ценах, и в ходе исследования он абстрагировался от циклических процессов, для того чтобы перейти к достаточно продолжительным периодам, которые позволили бы получить средние экономические показатели. Мизес продолжил ту же линию рассуждений, отметив, что кредитная экспансия часто приводит к изменениям в распределении доходов, вслед за этим доходы обнаруживают беспорядочное движение внутри хозяйства, оказывая совершенно различное воздействие на отдельные группы, тогда как общий уровень цен начинает повышаться. Задача, которую поставил перед собой Хайек, заключалась в том, чтобы проанализировать развитие этого процесса смещения доходов на протяжении короткого промежутка времени. Как отметил один исследователь, логическая последовательность, которую образовали работы этих трех авторов, противоположна хронологической последовательности, в которой появлялись указанные произведения 377.
Весьма любопытно, что при описании вклада, который Хайек внес в современную экономическую теорию, наилучший отправной пункт образуют его исследования в области психологии. Эти исследования, представленные в довольно сложной книге «Сенсорный строй», с поразительной ясностью раскрывают предубеждения и пристрастия Хайека. Будучи студентом, он предполагал избрать своей специальностью психологию. Однако на его представления в этой области совершенно не наложили отпечатка бихевиоризм, теория Gestalt или психология Фрейда, а влияние Германа фон Гельмгольца и Эрнста Маха было ограниченным. Экскурс Хайека в сферу психологии похож на его исследования по экономике — он носит теоретический и философский характер, причем автор уделял мало внимания эмпирическому материалу или проявлял к нему слабый интерес.
Когда субъект познает объект, отмечал Хайек, он сталкивается с проблемой таксономии, потому что познание предполагает установление связи со свойствами других объектов и, следовательно, является лишь способом истолкования. Свойства познаваемых объектов на самом деле не содержатся в них самих, а представляют собой продукт сознания того субъекта, который установил соответствующую классификацию. Следовательно, свойства объектов превращаются в отношения, возникающие в процессе познания и порожденные нервной системой индивидуума. Таким образом, познание, утверждает Хайек, сводится просто к умозрительному построению, абстракции, которая может подвергнуться модификации под воздействием некоего фактора, именуемого опытом. Суждения о смысле и значении явлений вырабатываются в процессе упорядочения восприятий, а этот процесс в свою очередь основывается на системе реакций, вытекающих из предшествующих восприятий. Каждая реакция связана со всей совокупностью предшествующих реакций, которые накапливались в ходе развития данного индивидуума.
Это была именно та разновидность идеалистической философии, на которую могла опереться экономическая теория Хайека. Выходит, что сознание определяет порядок событий, происходящих внутри организма, совершенно не связанного с событиями, которые имеют место в окружающем его материальном мире. Таким образом, в действительности человек никогда не может познать объективную реальность. 214
Тем не менее Хайек нигде не разъясняет, как же должно осуществляться упорядочение событий. Описание этих вопросов носит у него настолько мистический характер, что превращается в проявление некой суперфеноменологии. Под существованием объективной реальности подразумевается лишь то, что факторы, определяющие порядок событий, могут лежать в иной плоскости, не совпадающей с тем, что говорят нам об обстановке наши чувства 378. Однако в этом случае получается, что познанный объект сам по себе не имеет значения и объективная реальность в сфере общественных наук оказывается сведенной к бессмыслице. Из анализа Хайека вытекает, что на самом деле невозможно получить полное представление о реальной общественной жизни, так как все, что человек может сделать,— это попытаться найти новые соотношения между умозрительными построениями. Он настойчиво утверждает, что ошибочным является само стремление к созданию социологии познания — науки, которая пыталась бы объяснить, как в отдельные исторические периоды складываются соотношения между взглядами людей и внешними обстоятельствами. Причина заключается в том, что упорядочение событий осуществляется с помощью разума, а сам разум непостижим. Его можно познать только благодаря опыту 379.
Такая философия, разумеется, наилучшим образом приспособлена к тому, чтобы оправдать своеобразное атомистическое общество, в защиту которого выступает Хайек. Он, по-видимому, хочет сказать, что мы можем понять связь между событиями, но в то же время мы не можем управлять ими. Но что Хайек совершенно явно выпускает из виду в своей философской концепции,— это основные элементы, которые связывают внешний мир с миром чувственных восприятий 38°. Такие элементы играют первичную роль в применении к любой совокупности связных, вразумительных суждений, описывающих тот тип отношений, о котором говорит Хайек. В его философской системе нарушается принцип взаимосвязи, и определение предмета отрывается от тех чувственных восприятий, к которым оно должно было бы -относиться. Это не позволяет Хайеку дать подлинно реальное описание хозяйственного строя, который, по его мнению, мало чем отличается от совокупности разнородных, не связанных между собой экономических агентов.
Хайек смог рассматривать мир вещей и мир людей изолированно друг от друга, вследствие того что он отрицает возможность применения научных методов и законов науки к исследованию общества. Научные принципы исследования представляются ему пагубной философией, которая использует материалистические принципы, для того чтобы определить характер человеческих действий. Он гневно осуждает всех тех, кто в своем исследовании пытается идти таким путем 381. Хайек настойчиво проводит мысль о том, что научные принципы исследования предполагают реальные или физические явления, тогда как факты из этой области представляют собой по существу субъективные восприятия. Отношение между физическими явлениями есть объективный факт, чего нельзя сказать об отношениях между людьми. Исходя из этого, мы должны, утверждает Хайек, отвергнуть такие понятия, как «общество» и «капитализм», потому что они непригодны для исследования; подлинный объект анализа, единственно доступный для нас, следует искать в совокупности отношений между людьми. Для того чтобы отобразить эти отношения, можно, как это делается в естественных науках, создавать модели. Однако подобные попытки обречены на неудачу, так как нельзя надеяться, что с помощью той или иной модели удастся когда-нибудь отобразить всю сложность существующих отношений.
По мнению Хайека, природе общественных наук соответствуют лишь умозрительные построения, потому что они основываются на чувственных восприятиях. Тем не менее нигде не разъясняется, как умозрительные построения и наука об обществе должны соотноситься между собой. Ведь для того, чтобы подтвердить правильность самой теории, следует доказать бесспорную связь умозрительных построений с общественной жизнью — это имеет, по-видимому, существенное значение. Однако Хайек отказывается предпринять этот шаг, так как в противном случае оказалось бы, что может быть поставлено под сомнение выдвинутое им впоследствии понятие атомистического хозяйства. Он возвращается к проблеме вновь и вновь лишь для того, чтобы уклониться от принципа взаимосвязи. В лучшем случае Хайек готов допустить, что люди поступают одинаковым образом, поскольку они научились одинаковым образом классифицировать предметы. Тем не менее он не предпринимает никаких попыток исследовать генезис одинакового образа действий у различных людей. Духовное начало, настойчиво подчеркивает Хайек, не является предметом научного исследования, потому что сознание имеет дело «...не с отношениями между предметами, а с отношениями между человеком и предметами или с отношениями между людьми. [Этические науки] рассматривают действия человека, и цель их заключается в том, чтобы объяснить непред- полагавшиеся и неумышленные результаты дея215
тельности большого числа людей» 382. В этом, по-видимому, заключается отправной пункт исследования в области общественных наук. Однако фактически это не вызывает интереса у Хайека вследствие того, что центральной проблемой его исследования является совокупность действий отдельного индивидуума. Факты, с которыми приходится иметь дело, представляют собой просто мнения. Они и составляют объект исследования для социальных и этических дисциплин. Таким образом, у Хайека даже в еще более резких формах, чем у Менгера, наука об обществе сводится к исследованию, ведущемуся на уровне индивидуума. Знание не может служить соответствующим руководством к действию, ибо оно существует лишь в форме разрозненных и неполных сведений в умах многих людей, следовательно, знание не может быть ни последовательным, ни полным. Здесь царит и правит солипсизм 383.
Единственная связь, которая, по мнению Хайека, существует между индивидуумом и окружающими его людьми, проявляется в убеждении человека, что остальные люди будут действовать так же, как действовал бы он сам при аналогичных обстоятельствах. Соответственно, преступление и наказание нельзя рассматривать как объективные факты 384. Согласно таким взглядам, выходит, что знак, который Гитлер заставил носить евреев, не является «объективным» фактом, хотя последствия едва ли можно считать субъективными. Не вызывает сомнений, что убеждения людей играют существенную роль и служат мотивом действий, но почему же эти действия не могут быть объективными фактами общественной жизни? Допустим, мы согласимся с аргументацией Хайека, из которой следует, что и цены, и преступления, и устроенный в двадцатом веке ад Треблинка — все это проистекает из убеждений. Но как мы объясним действие, которое проистекает из этих убеждений? В этом месте Хайек отказывается последовательно довести свою философию сенсуализма до той ступени, когда устанавливаются взаимосвязи между чувственными восприятиями различных людей. Общественная действительность ему представляется как нечто такое, что лежит исключительно в сфере мышления 385. «Отдельные люди образуют просто foci * в системе отношений, и именно вследствие различного отношения индивидуумов друг к другу... складываются периодически повторяющиеся, могущие быть опознанными и ставшие привычными элементы [социальной] структуры» 386. Однако их общественный характер * Здесь — центры.— Прим, перев.
проявляется только в сознании отдельного человека. Следовательно, «общество», «коллектив», «экономическая система», «капитализм» становятся терминами, лишенными реального содержания; с точки зрения Хайека, они не являются фактами общественной действительности 387. Может ли быть более эффективный путь для того, чтобы вновь провозгласить мысль Адама Смита о божественной «невидимой руке»? Ведь благодаря индивидуальным действиям помимо воли людей создается такой порядок, который отсутствует в действиях каждого из них 388.
Взаимопонимание возникает, как предполагает Хайек, просто вследствие того, что наряду с нашим собственным мышлением существует мышление других людей, и это, по его мнению, может составить основу для выработки социальных категорий. Хайеку и в голову не приходило, что, поскольку реальность содержится только в нашем сознании, мы, вероятно, не можем знать реальности, содержащейся в умах других людей, до тех пор, пока не установлена взаимосвязь между нашими представлениями и внешним миром. Таким образом, с его точки зрения, нужно отвергнуть такие «объективные» категории, как издержки и понятие производства. Исходя из подобных соображений, следует поставить под сомнение всю экономическую теорию Хайека, поскольку он обычно использует в своем анализе «реальные» категории. Такой подход предполагает, что отношение между затратами и выпуском продукции, а также охарактеризованная самим Хайеком предпосылка постоянного потока доходов — это лишь воображаемые проблемы.
Заблуждения Хайека порождены его нежеланием признать, что идеи различным образом зависят от окружающей общественной жизни, а эта зависимость проистекает из принципа взаимосвязи. Лишь с таких позиций можно исследовать связь между идеей и условиями, в которых она проявляется. Эти условия во многих случаях представлены именно теми коллективами, на которые часто обрушивал свою критику Хайек. Однако такие коллективы не являются искусственными построениями, они представляют собой скорее окружающую среду, в которой может происходить обмен мыслями и идеи одних людей могут выражать определенный смысл для других 389. И эта может быть достигнуто не потому, что мы просто рассчитываем на существование у других людей разума, подобного нашему; мы можем сообщать другим о своих идеях, устремлениях и опасениях благодаря тому, что наша деятельность протекает в определенных общественных условиях. Разумеется, такие коллек216
тивы, как «нация» или «рынок», невозможно непосредственно воспринять с помощью органов чувств, но мы можем понять их благодаря тому, что люди связаны между собой социальными и психологическими узами. Это отнюдь не означает, что коллективы обладают реальностью, простирающейся за пределы тех отношений, которые определяют их содержание. Все, что мы здесь утверждаем, сводится к достаточно простой истине: человек является существом политическим и общественным, и наука об обществе должна исследовать сами отношения, которые превращают человека в такое сложное существо. Попросту говоря, в процессах мышления, безусловно, заключено общественное содержание, и плодотворное научное исследование общества должно пытаться раскрыть это содержание. Тем не менее Хайек открыто отказывается от решения этой задачи. С его точки зрения, экономическая теория состоит из ряда положений, которые тавтологическим путем выведены из априорных понятий; монополия, макроэкономика и даже выводы, сделанные на основании статистического материала,— все это следует считать утверждениями сомнительной ценности 390. Те, кто утверждает, что существенное место в исследовании занимают категории, предполагающие анализ в масштабах всего общества, хуже чем просто глупцы, заявляет Хайек; такие люди опасны, поскольку они неизменно переходят от рассуждений относительно природы коллектива к утверждению о том, что для сохранения его целостности индивидуальное мышление нужно подчинить сознательному контролю. Следовательно, только сторонник индивидуализма может ударить в набат, потому что только он один видит устрашающие перспективы, которые сулит новый путь к рабству 391.
Тем не менее Хайек изредка признает, что коллективы, вызывающие его отвращение, относятся к числу тех проявлений, которые на протяжении столетий эволюционируют вместе с изменениями всей политической и социальной структуры. Проблема, которая в настоящее время стоит перед нами, заключается в том, как поставить под контроль существующие коллективы, чтобы защитить ту «рациональность», которую он ценит так высоко 392. Задача состоит уже не в том, чтобы создавать новые коллективы, как того опасался Хайек, а в том, чтобы понять существующие коллективы. Содержание понятий — это общественная категория, и оно не может быть вырвано из всего контекста взаимосвязи, которая в свою очередь складывается одновременно с формированием общества. Если же исследование не учитывает принципа взаимосвязи — а Хайек поступает именно так,— то оно превращается просто в «продвижение ощупью внутри призрачного солипсистского мира». Двойственная природа содержания понятий — индивидуалистическая и общественная — превращает в подлинную реальность такие абстрактные понятия, как институты, капитализм и государство. Идеи взаимозависимости, разделения труда и дохода можно понять, а также использовать для дальнейшего анализа, не прибегая к рассмотрению психологии отдельных рабочих или предпринимателей. Можно строить модели, не выясняя при этом роли каждого человека в отдельности, каждого участника рассматриваемых процессов. Капитализм превращается в общую систему, внутри которой люди осуществляют определенную деятельность социологического и экономического характера; ссылки на капитализм предполагают наличие структурной системы, которая объясняет и обусловливает поведение отдельных людей и управляет ими 393.
Исходя из сказанного, вполне можно понять утверждение Хайека о том, что экономические проблемы должны рассматриваться только как накопление знаний. Экономический анализ, с его точки зрения, имеет смысл лишь в той мере, в какой речь идет о поведении отдельного человека; функция индивидуума заключается в том, чтобы накапливать информацию, в том числе информацию обо всем круге явлений, предполагающих неопределенность перспектив и предвидение будущих событий 394. Основываясь на этих предпосылках, подробнее рассматривать которые нет необходимости, Хайек переходит к понятию равновесия, которое опять-таки имеет смысл, по его мнению, исключительно в индивидуалистическом аспекте. Планы действий оцениваются на основе чистой логики выбора. Состояние равновесия для индивидуума предполагает совершенное предвидение будущего. Нельзя утверждать, что подобное равновесие может существовать для группы людей, так как оно фактически предполагало бы маловероятное стечение обстоятельств — одинаковые планы и одинаковые окружающие условия для всех участников группы 395.
Вслед за этим Хайек приступает к определению рынка. Он отвергает определение, которое принято в учебниках; существует только Чистая Логика Выбора (понятие, не получившее определения; по-видимому, в его основе лежит не что иное, как полезность, трактуемая в духе австрийской школы), функционирующая в условиях, когда события развиваются регулярно и могут быть предсказаны. В сочетании с идеей относительно общих качеств, присущих мышле217
нию различных людей, эта логика образует основу соответствующих познаний, требующихся для выработки решения о рыночной ситуации. Несмотря на то что такие познания являются частичными и неполными, экономическая теория, говорит Хайек, ближе, чем какая-либо другая из общественных дисциплин, подошла к пониманию того, как осуществляется данный процесс 396. Однако указанный анализ у Хайека носит поразительно туманный характер, и для того, чтобы объяснить, как происходит распространение знаний, он вынужден прибегнуть к аналогии с мышлением других людей, так как суждения в области экономики не могут быть удовлетворительно проверены путем сопоставления этих суждений с фактами окружающей действительности. Поскольку такие факты во всякой общественной науке связаны с наличием группы людей, какая-либо эмпирическая проверка оказывается невозможной. Следовательно, общественная наука сводится к своеобразной методологии, которая рассматривает взаимосвязь мыслей, возникающих в человеческом сознании.
Среди основных положений общепринятой экономической теории лишь немногие, по мнению Хайека, имеют реальный смысл. Например, он отвергает традиционные толкования совершенной конкуренции на том основании, что если бы она существовала, то в результате абсолютной эластичности спроса конкуренция была бы подорвана 397. Понятие совершенной конкуренции лишено какой-либо определенности во времени, тогда как в действительности поступки отдельных лиц следуют друг за другом на протяжении определенного времени. Основная проблема состоит в том, чтобы обнаружить, как планы, которые существуют в умах отдельных людей, оказываются приспособленными к объективным фактам окружающей действительности 398. Хайек утверждает, что теория конкуренции должна дать объяснение процессу приспособления новых явлений к старым условиям. Конкуренция — это динамический процесс, и при ее объяснении нужно учитывать эту особенность. По мнению Хайека, нельзя воспринимать всерьез критерий точного знания рынка, всегда являвшийся краеугольным камнем теории конкуренции, ибо каждый рыночный агент, действующий на основе абсолютного точного предвидения, способен предпринять такие поступки, которые послужат эффективным средством подрыва конкуренции. Следовательно, постановка проблемы конкуренции в классической политической экономии не может быть признана правильной; поскольку знания распределены неравномерно, подлинная проблема сводится к тому, как создать такие институциональные условия, при которых люди, обладающие наиболее точными представлениями о будущем, должны были бы выполнять необходимые экономические функции. В этом, утверждает Хайек, и состоит подлинная задача рынка. Функция рынка заключается именно в таком распространении информации, которое, вызывая реакцию покупателей и продавцов, делает возможным установление цены. Цена является не отправной точкой анализа, как это предполагалось в классической теории, а конечной целью исследования 3".
Поскольку понятие совершенной конкуренции исключает динамические процессы, фактически с его помощью невозможно правильно описать рыночные события. При реалистическом подходе к вопросу теория конкуренции должна сказать, кто может нас обслуживать; однако при этом исключаются личные взаимоотношения и добрая воля у покупателей и продавцов, которые компенсируют недостаточность знаний о будущем 40°. В действительности убеждения отдельных людей различны, именно это и служит причиной конкуренции. Теория, выдвигаемая Хайеком, является не чем иным, как теорией монополистической конкуренции, потому что каждый продукт, как он полагает, по определению отличается от любого другого продукта. Хайек указывает, что на деле мы сталкиваемся с непрерывной последовательностью близких по своим качествам субститутов или с ситуацией, при которой не существует даже двух товаропроизводителей, изготавливающих совершенно одинаковую продукцию. Он допускает, что, хотя в идеальном случае между ценой и предельными издержками должно существовать соответствие, оно имеет место лишь при неограниченной эластичности спроса. Однако с практической точки зрения не имеет смысла сопоставлять этот случай с реально существующей формой конкуренции. Правомерно, говорит Хайек, сопоставлять лишь конкуренцию (в той форме, как он ее понимает) с ситуацией, в которой условия рынка диктуются центральными органами власти; такое сопоставление, как и следовало ожидать, служит у него поводом для нападок на «этатизм». Когда условия рынка диктуются центральными органами, лица, знающие, как вести производство, не смогут поступать так, как они находят нужным, и между ценами и издержками образуется значительный разрыв.
В конечном счете основную роль играет характер ответных действий человека: что действительно важно — так это постоянная борьба за обеспечение преимущества в ходе конкуренции 401. В действительности рынок, характеризующийся несовершенной конкуренцией, го218
ворит Хайек,— это арена еще более ожесточенной конкуренции по сравнению с другими рынками; он вновь подчеркивает, что следует мыслить в реально существующих категориях. Конкуренция в конце концов выступает в качестве средства, с помощью которого формируется мнение: распространяя информацию, она ведет к согласованности и единству. Конкуренция служит способом сообщить людям, какие варианты являются наилучшими и наиболее дешевыми, и в этом смысле она представляет собой процесс изменения условий. О чем нам следует беспокоиться, настаивает Хайек,— это о том, чтобы такая информация распространялась беспрепятственно 402.
Указанные положения образуют философскую и институциональную основу экономической теории Хайека. Отдельные теоретические проблемы излагаются в его главном труде «Чистая теория капитала» и в ряде опубликованных лекций и статей, основная часть которых воспроизведена в книгах «Цены и производство», «Денежная теория и торговые циклы» и «Прибыль, процент и инвестиции». В последующие годы вокруг главных его идей развернулась острая дискуссия. Часто раздавались жалобы на то, что многое в них непонятно. Сами теоретические положения достаточно трудны для понимания, а манера изложения, тяжеловесная и несколько напыщенная, делала их еще более трудными для восприятия. Когда Хайек приехал в Англию, его ждал настоящий удар. Пьеро Сраффа подверг довольно ядовитой критике книгу «Цены и производство», а Кейнс назвал ее ужасно путаной; по словам Кейнса, она представляет интерес в качестве исключительно яркого примера того, как можно, начав с ошибки, в конце прийти к настоящему бедламу.
Центральное место в экономической теории Хайека занимает понятие «нейтральных денег». Предполагается, что это такие деньги, которые не оказывают влияния на относительные цены, производство или процент. При внимательном рассмотрении этой концепции представляется очевидным, что деньги совершенно отсутствуют в той аналитической модели, которую стремится построить Хайек. Можно было бы ожидать, что он прибегнет к каким-то сопоставлениям с реальным денежным обращением, однако Хайека интересует только схематическое изображение системы, в которой существует постоянное предложение денег; такое предложение, как он полагает, позволяет осуществлять «добровольное» сбережение, Хайек настаивает на том, что всякая иная политика приведет к искажению структуры производства или нарушит пропорциональное распределение доходов между отраслями, выпускающими производственные блага, и отраслями, производящими потребительские блага. «Добровольное» сбережение не только служит целью проводимой политики, по сути оно является единственно естественным. При этом Хайек, разумеется, не принимает во внимание тот очевидный факт, что такое добровольное сбережение может и не привести к желательным результатам, а вызывать уменьшение спроса, способствовать сокращению продаж и фактически обусловить падение инвестиций. Склонность к инвестированию в большей мере зависит от снижения процентной ставки, которую можно представить, как это сделал Кейнс, скорее в качестве функции от количества денег и предпочтения ликвидности, чем от сбережений. Таким образом, пытаясь постулировать понятие нейтральных денег, Хайек пренебрег их важнейшей особенностью — использованием денег как в качестве средства обращения, так и в качестве средства накопления стоимости. Поскольку в теории Хайека эта особенность не играет никакой или почти никакой роли, у него, по-видимому, совершенно выпали из поля зрения те отношения, которые затрагиваются изменениями в относительном уровне цен: вопрос о контрактных ценах и долгах фактически не затрагивается. Нейтральные деньги — это, по существу, отсутствие денег.
Его представления о сбережении действительно необычны. Он определяет сбережение как общий поток ресурсов, направляемых не в отрасли, производящие потребительские блага, а в отрасли, выпускающие производственные блага. Такое определение, разумеется, опирается скорее на валовой, а не на чистый доход; валовой доход чаще всего является отправным моментом при исследовании накопления капитала. С его точки зрения, потребители передают свои сбережения предпринимателям, которые затем используют эти ресурсы для того, чтобы удлинить продолжительность производственного периода. Таким образом происходит накопление капитала. Оно прекращается, когда потребители прекращают откладывать сбережения. При том же количестве труда теперь используется капитал больших размеров, вследствие чего увеличивается выпуск продукции и достигается новая ступень в развитии производства. Аналогичные результаты, по крайней мере на мгновение, могут быть достигнуты с помощью «принудительного» сбережения — процесса, который развертывается, когда банковская система накачивает в хозяйство новые кредиты. Вызываемый этим эффект поначалу идентичен с процессами, порождаемыми добровольным сбереже219
нием; все же важное различие состоит в том, что в дополнение к повышательной конъюнктуре происходит инфляционное давление на цены. Хайек настойчиво утверждает, что в конечном счете это приносит вред; дело в том, что, как только принудительное сбережение прекращается, потребители, стремясь восстановить прежний уровень потребления, предпринимают каннибальские действия в отношении нового капитала и восстанавливают status quo ante *: они проедают весь дополнительный капитал! Но почему события должны развертываться именно таким образом — этого Хайек не уточняет. Подобный процесс предполагает, что потребители каким-то образом получают доступ к капиталу, с которым в свое время они уже расстались, и это позволяет им потребить капитал, как только свобода их действий окажется восстановленной. Далее, это предполагает, что капитал обычно находится в некой текучей форме, которая дает возможность непосредственно потреблять его, что прямо противоречит основному представлению Хайека о капитале как совокупности конкретных благ. А главное, тем самым предполагается возможность столкновения различных общественных классов на почве экономических интересов — полумарксистское утверждение, странно звучащее в устах такого открытого противника социалистической теории. И все же кажется очевидным основное противоречие: если деньги нейтральны, почему кредитная экспансия, осуществляемая банковской системой, должна оказывать такое пагубное влияние?
Чрезвычайно существенную роль в теории Хайека играет вопрос о структуре производства. Структура производства у него определена крайне невразумительно — как соотношение между спросом на производственные блага и спросом на потребительские блага. Другими словами, различные стадии производства так организованы и между ними сложились такие пропорции, которые позволяют обеспечивать определенные масштабы производства. Любые структурные сдвиги, которые могут иметь место, связаны с изменениями спроса, что предполагает сложный процесс приспособления производства к потребительским расходам. Изменения в основных соотношениях влекут за собой изменения, охватывающие широкий круг отраслей, ибо многие отрасли по существу являются комплементарными**. Равновесие сохраняется, когда деньги распределяют* Положение, существовавшее до определенного момента (лат.),— Прим, перев.
** То есть продукция этих отраслей является необходимой для функционирования основных производств.— Прим, перев.
ся таким образом, чтобы не нарушить сложившегося соответствия, то есть деньги остаются нейтральными. (Совершенно очевидно также, что определение данного понятия вращается в порочном круге.) Тем не менее структура производства не является постоянной, так как с изменениями в относительных ценах непременно возникают новые условия с точки зрения прибыльности 403. Далее, при добровольном сбережении непрерывно происходят изменения, поскольку при таких обстоятельствах расходы на потребительские блага сокращаются раз и навсегда и уменьшается денежный доход владельцев первичных факторов производства— земли и труда. Цены потребительских благ будут снижаться быстрее, чем доходы трудящихся, и в результате произойдут необратимые изменения в распределении благ и ресурсов 401. Однако в случае кредитной экспансии давление на потребительские расходы ослабляется; именно данный фактор влечет за собой затруднения, потому что бремя, связанное с финансированием расширяющегося выпуска производственных благ, с помощью инфляции перекладывается на потребителей 405.
Потребители несут тяготы «принудительного- сбережения» вследствие того, что теперь они уже не могут покупать такое же количество благ: товары продаются по более высоким ценам, тогда как доход остается на прежнем уровне. Если потребителям удается обеспечить себе более высокий денежный доход, они будут пытаться увеличить свои расходы до прежнего уровня. Фактически это будет означать возврат к ранее существовавшим пропорциям между отраслями, выпускающими производственные блага, и отраслями, производящими потребительские блага, что приведет к нежелательным последствиям: начатое строительство неизбежно придется приостановить вследствие нехватки соответствующих ресурсов. В результате, утверждает Хайек, наступит кризис 406. При ознакомлении с этими рассуждениями уместно задать вопрос: почему потребительский доход не может увеличиваться вместе с расширением производства в отраслях, выпускающих производственные блага? Ведь опыт последних двадцати лет с достаточной определенностью свидетельствует о том, что такая возможность не исключена. Можно- говорить о лаге между расширением выпуска производственных благ и последующим увеличением потребительских доходов, но это не исключает возможностей некоторого роста экономики. По-видимому, не существует каких- либо особых причин, вследствие которых отрасли, выпускающие потребительские блага, обязательно должны сохранять неизменный объем 220
производства; вполне возможна такая ситуация, когда переход производства на новый уровень в отраслях, выпускающих производственные блага, сопровождается аналогичными процессами в других секторах экономики.
Равновесие, с точки зрения Хайека, предполагает поддержание ряда важнейших пропорций в экономике, так чтобы соотношения между спросом на товары, массой денег, требующихся для поддержания этого спроса, и предложением товаров соответствовали друг другу. Лишь при этих условиях имеет место полное использование ресурсов. На каком бы уровне не установились указанные пропорции, отклонения от них неизбежно будут вести к взаимному погашению колебаний до тех пор, пока не установится соответствие между спросом и предложением 407. Однако такой процесс приспособления предполагает применение тех ресурсов, использование которых было нерентабельным на предшествующих стадиях, а это, по-видимому, означает нарушение принципов, выдвинутых самим Хайеком: использование не применявшихся до сих пор ресурсов может обеспечить прибыль только при изменении соотношения между используемыми факторами производства или производственной функции, тогда как его теория требует сохранения прежних пропорций между благами, находящимися в процессе производства, деньгами и потребительскими благами 408. Идея равновесия накладывает свой отпечаток и на продолжительность производственного периода; ведь он не только связан с данной структурой относительных цен, его продолжительность должна быть такова, чтобы установилось соответствие между притоком готовой продукции на рынок и спросом на потребительские блага. Выпуск соответствующего количества благ удается обеспечивать с помощью наличного производственного оборудования тогда и только тогда, когда существует правильная пропорция между расходами на покупку потребительских благ и наличными ресурсами.
Здесь Хайек страшно путанно выражает следующую мысль: равновесие — это равновесие, и оно обязательно должно быть таковым, особенно на протяжении длительного периода времени. Ясно, что в настоящее время это вряд ли можно считать плодотворной теорией капитала, хотя в его концепции и содержатся некоторые интересные догадки. Если принять во внимание, что отдельные капиталы характеризуются сложной структурой и что они функционируют на протяжении длительного периода времени, представляется маловероятным, чтобы предприниматели столь серьезно интересовались отдаленными и неизвестными будущими событиями. Сопоставление ожидаемых доходов и предположений играет более важную роль на протяжении коротких промежутков времени, а на уровень процентной ставки большее влияние оказывает относительная интенсивность стремлений различных лиц к поддержанию ликвидности. И больше уже не приходится утверждать, что уровень процента играет определяющую роль в решениях по поводу инвестирования.
В теории Хайека подразумевается также понятие излишка, хотя оно у него трактуется скорее в духе Бем-Баверка, чем в духе Маркса. По мере того как сырье переходит с предшествующих стадий производства на последующие и превращается в конкретные блага, разность между продажной ценой и стоимостью исходной продукции на каждой из стадий превышает величину стоимости, добавленной в связи с использованием труда и материалов. Этот излишек, по мнению Хайека, должен поглощаться в основном процентными выплатами 409. Однако он может возникать лишь до тех пор, пока осуществляется добровольное сбережение в нужных масштабах. Любые изменения в соотношении между сбережением и капиталом нарушат сложный механизм равновесия между излишком, образующимся сверх издержек производства, и процентом, тем самым будут вызваны нежелательные изменения в структуре производства 41°. Хайек, разумеется, не считает процент просто пассивным элементом, хотя его представления об активной роли процента, по-видимому, преувеличены. Хайек полагает, что если отвлечься от чисто денежных факторов, то процент регулирует пропорциональное развитие отраслей, выпускающих производственные блага, и отраслей, производящих потребительские блага, и гарантирует то, что производство не выйдет за пределы, поставленные добровольным сбережением 411. Для того чтобы охарактеризовать данное понятие, он заимствует у Викселля термин «естественный уровень процента», однако Хайек определяет его как совокупность излишков, образующихся в форме разности между продажной ценой и издержками производства, во всем хозяйстве412. Хозяйство, в котором установился естественный уровень процента, характеризуется полным использованием ресурсов, нормальным денежным обращением и отсутствием принудительного сбережения. Блага беспрепятственно перемещаются от низших стадий производства к высшим, приближаясь к потребителю, и через равные промежутки времени, соответствующие продолжительности производственного периода, они обмениваются на имеющиеся в наличии 221
нейтральные деньги. Изменения в структуре производства должны осуществляться, лишь исходя из потребностей последующего периода. С этой точки зрения процентная ставка является тем средством, с помощью которого обеспечивается равенство между текущей стоимостью блага, находящегося на той или иной стадии производства, и стоимостью готовой продукции, которая будет выпущена через некоторое время. Однако, как указал Кейнс в своей «Общей теории занятости, процента и денег», тем самым предполагается, что процентная ставка эквивалентна предельной эффективности капитала или ожидаемой норме дохода на капитал; в результате этого прибыль и процент превращаются по существу в идентичные понятия 413. Если отношение цен на потребительские блага к ценам производственных благ понижается, то, с точки зрения Хайека (как и с точки зрения Мизеса), это равносильно падению уровня процента и, следовательно, благоприятствует инвестированию. Когда требуется ускорить экономический рост, для этого нужно прежде всего увеличить масштабы добровольного сбережения и тем самым вызвать снижение цен на потребительские блага. Однако, поскольку это означает также снижение предельной эффективности капитала, на деле это окажет неблагоприятное влияние на инвестиции. В результате имеет место совершеннейшая теоретическая неразбериха.
Хайек утверждает, что отклонения фактического уровня процента от естественного вызываются неоправданными действиями банковской системы414. Однако экономисты, не разделяющие убеждений Хайека, указывают на то, что отклонения рыночных процентных ставок от теоретически предполагаемого равновесного уровня вполне могут иметь место даже при отсутствии банков. Хайек утверждает также, что попытки поддерживать на неизменном уровне существующую процентную ставку на деньги в периоды расширения производства вызовут снижение цен, а для поддержания стабильного уровня цен требуется низкая процентная ставка. Внезапно появившийся у Хайека интерес к общему уровню цен оказывается в противоречии с его прежними высказываниями о том, что важнейшую роль играет относительная величина цены; к тому же представления Хайека характеризуются значительной путаницей и в других отношениях. Рыночная процентная ставка отождествляется с процентной ставкой на деньги, и естественным он считает равновесный уровень процента. Но если существует столько же процентных ставок, сколько рынков капитала, то естественных уровней процента насчитывается столько же, сколько различных благ. Последний вывод, несомненно, подкрепляется принятым у Хайека основным определением капитала как совокупности определенных товаров. Результаты изменения спроса на потребительские блага и их предложения должны быть одинаковыми независимо от того, носят ли деньги нейтральный характер или они оказывают влияние на развитие экономики; в обоих случаях будут иметь место изменения в ценах, и может произойти перестройка структуры производства.
Главный вклад Хайека в современную экономическую теорию представляет его исследование природы капитала, которое содержится в труднодоступной для понимания книге «Чистая теория капитала». Это важный шаг вперед по сравнению с предшествующими работами, написанными в традициях австрийской школы; и в этой книге действительно в ряде случаев используется новая аргументация. Здесь, как и в его предшествующих работах, основные теоретические представления восходят к Дже- вонсу, Бем-Баверку и Викселлю. Хайек стремился обеспечить прочную теоретическую основу для своего исследования экономических циклов, он сознавал, что при глубоком исследовании этой проблемы потребуются правильные представления о капитале и проценте. И он подготовил объемистый том, в котором многие разделы написаны скучно, так что при чтении этой книги оказываешься лишенным даже того удовлетворения, какое можно находить в решении математических уравнений.
Следует напомнить, что австрийская школа сводила капитальные блага к затратам земли и труда, тем самым предполагалось, что для определения подлинной природы капитала необходимо обратиться к предшествующим событиям. Далее, по мнению ее представителей, в функционировании капитала существенную роль играет ожидаемый доход, так что период, когда фактически осуществляются капиталовложения, непосредственно связан с расчетами на будущее. Эти положения Хайек использует в качестве исходного пункта для развития своей теории. Его не удовлетворяют теоретические представления о капитале, разработанные в Англии и в Соединенных Штатах. Английские и американские авторы были склонны подчеркивать роль основного капитала и трактовали его как совокупность товаров длительного пользования. Хайек же, напротив, стремится выделить роль оборотного капитала, который «образуется вследствие того, что процесс производства обладает определенной продолжительностью». Он полагает, что капитал имеет в основном преходящий характер, поэто222
му основное внимание следует уделить необходимости его непрерывного воспроизводства. С точки зрения американских авторов, обновление капитала не является непрерывным процессом, оно развертывается лишь после того, как износится старое оборудование. У Хайека решающим элементом становится время, которое потребуется для того, чтобы успели «созреть» конечные услуги, обеспечиваемые с помощью капитала. Таким образом, важное значение имеет место капитала во «временной структуре» производства. Далее, в отличие от английских и американских экономистов, предполагавших более или менее постоянный характер производственной функции, Хайек настойчиво подчеркивает, что выбор той или иной технологии определяется масштабами предложения капитала. Другими словами, предполагается, что появление дополнительных единиц капитала скорее приведет к изменению в технике производства, чем к использованию этих единиц в качестве простого дополнения к существующему запасу капитала. Наконец, поскольку это повлечет за собой сдвиги в относительных размерах спроса на производственные и потребительские блага, соответствующие изменения произойдут и в наличном капитале. Как и в предшествующих утверждениях, Хайек здесь исходит из того, что изменения спроса на капитал находятся в обратной зависимости от спроса на потребительские блага415.
Хайек решительно отверг представление о капитале как о фонде. С его точки зрения, капитал — это запас определенных товаров, который должен быть воспроизведен: то, что представляет собой как бы накладные расходы для общества, например тоннели и доки, Хайек не считает капиталом в связи с тем, что они не нуждаются в возобновлении416. Следует признать, что аргументы, которые Хайек выдвигает против трактовки капитала как фонда, вполне убедительны. Представление о капитале как о фонде предполагает, что производство и потребление осуществляются в известном смысле слова одновременно, а это может иметь смысл, вероятно, лишь в условиях длительного статического состояния хозяйства, а не в условиях динамической экономики. Другими словами, мысль о том, что капитал обновляется автоматически, следует признать крайне сомнительной. И все же ряд аспектов, присущих взглядам самого Хайека, носит столь же мистический характер, как и теория фонда. Так, Хайек утверждает, что увеличение производственного периода не имеет отношения к специфической форме, в которой выступают отдельные блага, оно скорее повлечет за собой расширение общих размеров производства; это звучит весьма странно, если принять во внимание основное определение капитала у Хайека. Настойчиво проводимая им мысль о том, что опосредствующие блага не обязательно должны выступать в специфической форме,— это почти роковая уступка теории фонда. Когда Хайек приводит определение капитала, лишенное гибкости и вообще исключающее всякое движение, это лишь подчеркивает противоречия в ходе его рассуждений. Новый капитал, настойчиво утверждает Хайек, никогда не совпадает со старым капиталом; однако ясно, что подобное утверждение справедливо лишь отчасти417. По-видимому, существует много случаев, когда новый оборотный капитал по своему типу и по форме совпадает со старым капиталом.
Вокруг этих утверждений на протяжении ряда лет шла ожесточенная дискуссия, толчок которой дали статьи Фрэнка Найта, опубликованные в начале 30-х годов XX в. 418. Найт поставил под вопрос обоснованность такого понятия, как инвестиционный период; Хайек и Фриц Махлуп выступили с ответом на критику Найта 419. Литература, посвященная разработке сугубо специальных теоретических вопросов, разрослась до таких размеров, что ее можно было бы опубликовать многотомным изданием; работы часто носили схоластический характер, несколько напоминая средневековые споры. Ни один участник дискуссии, разумеется, не смог убедить остальных. Хайек довольствовался повторением наиболее рельефных положений своей теории капитала, тогда как Найт, некогда изучавший специальные философские дисциплины, пытался обосновать свои возражения, прибегая к такому количеству философских отступлений, что основная его цель оказывалась почти полностью забытой. Свои представления о производстве как о процессе создания обобщенных ценностей Найт противопоставил «материальному» подходу Хайека, согласно которому некоторые факторы производства объединяются для того, чтобы обеспечить выпуск определенной продукции. Прежде чем оценить продукцию, ее необходимо произвести, следовательно, должно быть установлено ее место в рамках «временной структуры». При стоимостном подходе синхронизация становится теоретически возможной в том смысле, в каком об этом писал Дж. Б. Кларк; если придерживаться «материального» подхода, то такой же смысл заключен в средней продолжительности производственного периода, которая исчислена на основе той или иной методики отсчета. Понятие производственного периода, конечно, может порождать новые проблемы. Следует разобраться с достаточной тщательностью в используемых технических приемах,
223
потому что в противном случае понятие окольных методов производства по-прежнему будет весьма расплывчатым. В самом крайнем случае в результате можно получить показатель, который характеризует соотношение между капиталом и трудом, используемыми в процессе производства. Однако данный показатель, вероятно, можно исчислить и другим способом, не обращаясь к понятию производственного периода. При исчислении производственного периода проблема, конечно, состоит не только в подсчете затрат производства, кроме того, приходится рассматривать вопрос о подборе весов и методы приведения различных показателей к единому измерителю. Последняя задача может быть решена, понятно, лишь на основе процесса установления цен. Таким образом, если стремиться к тому, чтобы получить всестороннее представление об экономической действительности, то можно, по-видимому, обнаружить достоинства в обоих методах исследования.
Многое из того, что Хайек писал по этим вопросам, он впоследствии обобщил в книге «Чистая теория капитала», в которой можно найти наиболее систематичное изложение теории капитала, выдвигаемой современными представителями австрийской школы. Хотя Хайек уделяет много внимания своеобразному динамическому равновесию, центральное место в его теории по-прежнему занимает производственный период. Хайек связывает процент как с предельной производительностью, так и с предпочтением текущих благ будущим; он также проводит различие между реальными факторами и факторами, лежащими на стороне денег. Важнейшая проблема теории капитала заключается в следующем: как использование недолговечных ресурсов позволяет поддерживать такой высокий уровень производства, который все время обеспечивает постоянный поток дохода? 420 Определение капитала подразумевается уже самой постановкой проблемы: нас должно интересовать общее предложение недолговечных ресурсов, используемых при окольных методах производства. Поскольку такие ресурсы являются «утрачиваемыми активами» (wasting assets), понятие капитала следует ограничить только оборотным капиталом421. «Утрачиваемые активы» обеспечивают доход на протяжении ограниченного периода времени; благодаря этому создается возможность осуществить капиталовложения, связанные с использованием постоянных ресурсов в более длительных процессах, и тем самым обеспечить повышение производительности. Хайек настаивает на том, что он не повторяет высказывания Бем-Баверка, однако с этим трудно согласиться 422. Вслед за тем анализ распространяется на простое хозяйство, управляемое в централизованном порядке в отличие от экономики, в которой цены устанавливаются в процессе конкуренции. Хотя он и не разработал какой-либо системы уравнений, характеризующих равновесие, как это сделал Вальрас, все же Хайек упорно утверждает, что его теоретическая система является ничуть не менее определенной. Он пишет: «Члены общества должны распределять все свои ресурсы между использованием для текущего потребления и использованием с целью потребления в будущем таким образом, чтобы относительные стоимости различных ресурсов оказались в точности пропорциональны относительным издержкам их производства...» 423 У Хайека, очевидно, нет никаких сомнений в том, что экономика функционирует именно таким образом.
Отличительной чертой книги является стремление автора исследовать зависимость между организацией производства и размерами выпускаемой продукции. Хайек различными способами определяет отношение между затратами и выпуском продукции, причем на одном полюсе у него рассматривается случай «непрерывные затраты — мгновенный выпуск», а на другом — «мгновенные затраты — непрерывный выпуск». Вслед за этим он в мельчайших деталях исследует с формальных позиций характер разнообразных возможных вариантов 424. Все это служит введением к исследованию конкретной структуры инвестиций. Исходная предпосылка Хайека заключается в том, что всякий запас капитала представляет «вклады», внесенные с целью получения некоторого дохода в будущем. Наличие элемента времени предполагает, что продукция, которую обеспечивает каждое из сочетаний факторов производства, будет распределена на протяжении всего последующего периода таким образом, что в конечном счете доход постепенно иссякает. Это, понятно, не что иное, как принцип убывающей доходности, распространенный на последующий период, хотя Хайек избегает именно такой формулировки. Далее приводится тщательное исследование кривых затрат и выпуска продукции 425. В результате анализа Хайек приходит к следующему выводу: по мере того как «время проходит, скорость завершения результатов, получаемых с помощью данных единиц затрат, будет уменьшаться быстрее, чем скорость завершения данных единиц выпускаемой продук- ции» 426. Вряд ли можно придумать более выспренний способ выразить мысль о том, что ресурсы потребляются в процессе производства. Предполагается, что в структуре производства происходят изменения, так как обнов-
224
ление предметов длительного пользования не происходит непрерывно 427. Здесь предметам длительного пользования придается уже иное значение, хотя ранее Хайек указывал, что эти предметы не играют существенной роли в проблеме капитала. Другое противоречие возникло в связи с тем, что он ограничил распространение спроса из отраслей, производящих потребительские блага, в отрасли, которые выпускают производственные блага, тем самым, по-видимому, между ними воздвигался барьер. Однако в тех случаях, когда уровень цен оказывает влияние на издержки, между обоими секторами существуют самые тесные связи.
Хайек указывает, что вопрос о том, как учитывать срок использования оборудования и связь этой проблемы с существованием различных стадий производства, еще больше затрудняет исследование капитала. Он так усиленно подчеркивал трудности решения этой проблемы, что читатель задумывается, не проявились ли в этом философские убеждения Хайека. По-видимому, он стремится внушить читателям мысль о том, что действительность не поддается такому упорядочению, которое удовлетворяло бы всем требованиям экономического анализа. Трудно отделаться от ощущения, будто Хайек пытается, пользуясь несовершенными орудиями анализа, перевести инженерную проблему на язык экономической науки. И действительно, многие проблемы, выдвинутые Хайеком, должны были ожидать своего решения до тех пор, пока не были разработаны такие эффективные методы исследования, как линейное программирование 428. Многие из трудностей, с которыми сталкивается Хайек, вызваны часто встречающимся у него смешением стоимостного и «материального» подхода, которое порождает крайнюю путаницу в суждениях, а также его склонностью к использованию таких курьезных понятий, как постоянное инвестирование процента. Ему просто никогда не приходило в голову, что процент можно обратить на потребление 429. Хайек так и не доказал, что существует стремление к притоку постоянного дохода, это остается лишь предположением, потому что довольно трудно обнаружить экономического человека, который поступал бы именно таким образом.
Единственный способ, обеспечивающий приток постоянного дохода, состоит в такой организации производства, при которой каждая единица факторов производства на протяжении данного промежутка времени будет обеспечивать одинаковые темпы прироста продукции 43°. Это своеобразный принцип равенства предельного прироста применительно к определенному промежутку времени. Хайек утверждает, что когда произведенная продукция сопоставляется с теми или иными затратами, «...отношение между их стоимостями должно выражать рост в соответствии с правилом сложного процента, сохраняющего один и тот же уровень на любом участке системы» 431. Там, где положение осложняется из-за невозможности установить связь между данной продукцией и затратами на ее производство — а для современной промышленности это, по-видимому, наиболее вероятная ситуация,— Хайек пытается найти решение проблемы, прибегая к испытанному приему австрийской школы — вменению стоимости на основе предельного продукта 432.
В условиях индивидуалистической экономики важнейшие проблемы возникают вследствие непредвиденных изменений. Основную роль при этом играют разнообразие потребностей и порядок распределения ресурсов, которые, как признает Хайек, преимущественно находятся под контролем небольшой части населения 433. Хотя это по существу равносильно признанию, что вся концепция приспособлена к теоретическим требованиям определенного класса, фактически об этом говорится лишь en passant *. Центральную роль по-прежнему играет следующий аргумент: для того чтобы поднять структуру производства на более высокий уровень, потребители должны осуществлять добровольное сбережение. Здесь в основном приводятся, причем в еще более тщательной формулировке, выводы прежних работ. Поистине невозможно избавиться от понятия производственного периода — им пронизаны все произведения Хайека. В книге «Денежная теория и торговый цикл», посвященной исследованию экономического цикла, Хайек вновь использует это понятие, превращая его в центральный момент всей аргументации.
Выдвинутая Хайеком теория экономических циклов носит, как можно было ожидать, монетарный характер, особое внимание в ней уделяется избыточному инвестированию; его теория оказала существенное влияние на таких авторов, как Фриц Махлуп, Вильгельм Рёпке и Лайонел Роббинс. Решающей причиной хозяйственного потрясения, по мнению Хайека, служит кредитно-денежная экспансия, осуществляемая банковской системой. Стремясь доказать это положение, он вкладывает в понятие денег предельно широкое содержание, относя к ним такие субституты, как обращающиеся долговые свидетельства. Нет нужды повторно излагать здесь анализ влияния наплы-
15 б. Сел игмен
225
* Мимоходом, между прочим {франц.).— Прим,
перев.
ва денег на структуру производства; главную роль по-прежнему играет довод о «принудительном сбережении», которое влечет за собой нездоровую экспансию и в конечном счете приводит к срыву начатых работ. Почему бум кончается крахом? Непосредственной причиной служит отказ банков от дальнейшего расширения кредитов. Поскольку завершение работ на более новых объектах требует непрерывного притока капитала на протяжении всего периода строительства, все предприниматели оказываются в затруднительном положении. Недостаток средств для инвестирования невозможно устранить путем впрыскивания дополнительных денежных сумм, ибо это лишь отсрочит час расплаты. Более того, пропорциональное распределение ресурсов между отраслями, выпускающими производственные блага, и отраслями, производящими потребительские блага, больше уже не соответствует потоку добровольных сбережений. Можно впрыснуть деньги, однако проблема не будет решена, так как она вызвана тем, что власти не могут осуществлять контроль над расходами, не прибегая при этом к строгим и жестким формам регулирования. Наилучшее решение вопроса заключается в снижении уровня потребления и в стимулировании добровольного сбережения, с тем чтобы способствовать удлинению производственного периода и завершению начатых работ, которые по необходимости были приостановлены.
Новейшими исследованиями установлено, однако, что кредитно-денежные ограничения в ничтожной степени влияют на претворение в жизнь ранее намеченных инвестиционных планов. Наличие свободных средств, уровень процентной ставки и тому подобные факторы, по-видимому, оказывают небольшое влияние на фактический объем расходов, связанных с покупкой оборудования и осуществляемых, как правило, через некоторое время после того, какприняты инвестиционные планы. Изменения на денежном рынке скорее воздействуют на решение предпринимателя относительно инвестирования. Но коль скоро принято решение осуществить тот или иной проект, то лишь существенные изменения в условиях финансирования могут привести к изменениям в инвестиционных планах. Через некоторое время, когда расходы уже произведены, предприниматель, несмотря на возросшие расходы по оплате процентов, вряд ли откажется от осуществления проекта; скорее он сочтет целесообразным продолжать работы. Если же дело обстоит таким образом, то оказывается пошатнувшимся краеугольный камень теоретической системы Хайека 434. Если бы он подразумевал при этом, что избыточное инвестирование
отрицательно сказывается на планах расширения производства, его утверждение приобрело бы большую убедительность. Хотя рост цен может неблагоприятно повлиять на предположения относительно будущего, это отнюдь не означает, что текущие обязательства окажутся аннулированными.
Окончательное «сведение счетов» наступает, по мнению Хайека, вследствие того, что при увеличении продолжительности процветания уменьшаются размеры капитала, необходимого для производства потребительских благ 435. Такие противоречивые представления проистекают из своеобразной трактовки Хайеком эффекта Рикардо. Когда этот раздел теории получил известность, Николас Калдор иронически назвал его «эффектом концертино», ввиду того что Хайек теперь пытался объяснить циклическое развитие, ссылаясь не только на избыточное инвестирование, но и на недостаточное инвестирование 436. Однако на самом деле это не означает изменения его позиций: Хайек просто рассматривает то, что он считает экономической реальностью, глядя то с одной, то с другой стороны телескопа. Рикардо утверждал, что соотношение между капиталом и трудом изменяется прямо пропорционально реальной заработной плате. Хайек разделяет эту мысль: вслед за снижением реальной заработной платы происходит, как он полагает, замещение капитала трудом, что ведет к уменьшению производственного периода или к использованию менее окольных методов производства. Это, вероятно, уменьшает привлекательность новых капиталовложений, так как более выгодно замещать машинную технику трудом. Что действительно имеет место, по мнению Хайека, так это снижение относительного уровня реальной заработной платы в сравнении с затратами на покупку оборудования, такое снижение происходит вследствие того, что цены на потребительские товары растут быстрее, чем уровень заработной платы. Здесь Хайек просто пренебрегает известными фактами, которые свидетельствуют о том, что на последних стадиях подъема существует тенденция к быстрому повышению реальной заработной платы 437. Подобная трактовка эффекта Рикардо, по-видимому, является совершенно неправильной, потому что, как показал недавно Сеймур Мелман, замещение трудом капитала или капиталом труда определяется соотношением между заработной платой в де- нежном выражении и затратами на покупку оборудования 438.
В теории Хайека предполагаются исключительные возможности перемещения ресурсов на протяжении короткого промежутка вре226
мени. Он совершенно явно стремится дополнить исследования Бем-Баверка детально разработанной теорией кратковременных процессов. С точки зрения Хайека, кризис означает нарушение производства в отраслях, выпускающих производственные блага, вследствие чрезмерного расширения спроса со стороны отраслей, производящих потребительские блага. Вину за это несут банковская система, профсоюзы и налоговые обложения 439. Тем не менее вся аргументация Хайека оказывается неубедительной из-за некоторых скрытых предположений; ведь Хайек утверждает, что производственные функции — технические соотношения между затратами производства и выпуском продукции — фактически могут изменяться на протяжении короткого промежутка времени. Однако очевидные факты свидетельствуют о том, что предприниматели не могут перемещать свои ресурсы столь легко, как полагает Хайек. Как отметил Калдор, эффекта концертино, в соответствии с которым производственные периоды становятся более или менее продолжительными в зависимости от изменений производственной функции, просто не существует. Хайек настойчиво проводит мысль о том, что дела обстояли бы намного лучше, если бы сохранялось неизменное предложение денег, и, следовательно, рост производительности сопровождался бы снижением цен 440. Основной причиной цикла, по его утверждению, является «эластичность массы средств обращения»: механизм цикла состоит в том, что изменения в относительных ценах обусловливают сдвиги в составе выпускаемой продукции и в накоплении капитала441. Но если кредитно-денежная экспансия зависит от надежд на получение большей прибыли, то вполне основательны сомнения в правильности теоретической системы Хайека: он не мог удовлетворительно разъяснить, как воздействует на людей обстановка возбуждения, которая может возникать в условиях недостаточного использования ресурсов. Далее, довольно трудно понять, как снижение цен на потребительские блага вызывает увеличение прибыльности в отраслях, выпускающих производственные блага. Разрешение проблемы кризиса выглядит у него почти так же странно, как и сама теория, и может быть кратко сформулировано следующим образом: сокращение потребления, дефляция и снижение заработной платы. Не так уж неправы те экономисты, которые называют представителей школы Хайека «сторонниками садистской дефляции».
Теоретическая система Хайека, предполагающая, что добровольное сбережение может быть восстановлено лишь на основе уменьшившегося потребления, встретила доброжелательный прием в деловых кругах, потому что эта теория давала объяснение, которое казалось убедительным, некоторым весьма странным мероприятиям экономической политики, проводившимся в странах Запада на протяжении 30-х годов. В сокращении заработной платы и увеличении сбережений видели единственный путь к разрешению проблемы депрессии.
Ясно, утверждает Хайек, что инвестирование может быть оправдано лишь при условии добровольного сбережения. Далее, основная часть сбережений осуществляется теми слоями населения, которые получают более высокие доходы. И не будет слишком большой ошибки, если предположить, что схема Хайека предусматривает перераспределение доходов в пользу владельцев сбережений, осуществляемое даже в еще больших масштабах, чем это имеет место в настоящее время. Такой процесс действительно стимулировал бы добровольное сбережение. Для того чтобы усилить эту тенденцию, можно было бы также видоизменить структуру налогового обложения. Но наибольшие стимулы обеспечило бы восстановление прежних размеров прибыли 442.
В то время как в теории Хайека предполагается полное прекращение инвестирования, в действительности даже в условиях самых глубоких депрессий осуществляются в определенных размерах чистые инвестиции. Недостаток капитала, безусловно, не играл существенной роли во всех трех послевоенных рецессиях; основным фактором, по-видимому, было отставание эффективного спроса от роста капиталовложений. Впрыскивание дополнительного платежеспособного спроса, очевидно, скорее стимулировало, чем затормозило бы инвестирование, потому что если цены на потребительские блага возрастают по сравнению с ценами на производственные блага, то это, вероятно, означает, что предельная эффективность капитала должна повыситься. В условиях, когда ресурсы используются неполностью, понятие нехватки капитала представляется весьма сомнительными.
Утверждение Хайека о том, что прекращение денежного стимулирования поведет просто к восстановлению прежних пропорций, внешне напоминает соответствующие положения Вик- селля, который совершенно ясно доказал, что деньги — это вторичный фактор и что важнейшую роль играют изменения реальных факторов 443. Хайек просто переоценивает влияние денежных факторов, поскольку пагубное развитие событий, которое он описывал, представляется невозможным как с теоретической, так и с практической точек зрения. Это вполне доказано опытом первых лет «Нового курса», 15* 227
когда никакие манипуляции в сфере денежного обращения не могли привести в тех условиях к оживлению экономики. Когда же увеличение производства соответствует расширению денежного обращения, по-видимому, трудно подыскать оправдание для таких представлений Хайека. Его мысль о том, что все зависит от различия в темпах развития отдельных секторов экономики, слишком расплывчата, и это препятствовало созданию подлинно плодотворной теории. Тем не менее если допустить, что предпосылка Хайека относительно полного использования ресурсов правильна, тогда сделанный им упор на диспропорцию в структуре производства приобретает определенный смысл. Не лишен смысла и довод о том, что в условиях максимального использования ресурсов усилившаяся конкурентная борьба за факторы производства может вызвать повышение цен. Однако остается неясным, почему это должно сказаться только на отраслях, производящих потребительские блага. Он также не уточняет, имеет ли он в виду нарушение структуры производства в горизонтальном смысле, когда оно связано с изменениями в составе потребительского спроса, как, например, в случае развития автомобильной промышленности, или нарушение структуры производства в вертикальном смысле, которое означает просто чрезмерное инвестирование в отдельных отраслях.
Для экономической теории такого рода характерна не только защита индивидуализма, но и борьба против предполагаемой тенденции развития в направлении коллективизма и социализма. Хайек настаивает на том, что расширение государственной власти приведет к подавлению интеллектуальной свободы и свободного развития культуры. Он утверждает: «Всеобъемлющее планирование, которое, как считают, необходимо для того, чтобы организовать хозяйственную деятельность на более рациональных и эффективных началах, предполагает значительно более полное совпадение мнений по поводу относительного значения различных социальных задач, чем то, которое существует в действительности; следовательно, чтобы иметь возможность планировать, планирующий орган должен навязать народу детально разработанный кодекс моральных ценностей, которого не существует» 444.
Борьба Хайека против этатистских тенденций достигает апогея в книгах «Путь к рабству» и «Конституция свободы», где содержится предупреждение о том, что если не будут восстановлены хозяйственные обычаи XVIII в., западный мир пойдет по ужасающему пути тоталитаризма. Хайек обращается к либерализму полуторавековой давности и без существенных оговорок или изменений переносит его прямо в центр современной хозяйственной жизни. Лишь беспрепятственное функционирование свободного рыночного хозяйства может, как он утверждает, обеспечить основные свободы человека. До тех пор пока государство будет произвольно вмешиваться в действие спонтанных хозяйственных сил, придется сталкиваться с непрерывными покушениями на свободу. «Хорошее» планирование возможно лишь в обстановке laissez faire, тогда как используемое теперь планирование ведет к разрушению личности.
Эта аргументация не нова, однако Хайек придает ей невиданную последовательность. Хотя внешне его утверждения обладают истинностью аксиом и изяществом строгих логических построений, при сопоставлении с историческими фактами выясняется, что они лишь отражают политические предрассудки 446. Хайек характеризует планирование как выражение потребности освободиться от жесткого принуждения, связанного с ограниченностью ресурсов в окружающей действительности. Это хорошая обобщенная формулировка, потому что подобное принуждение действительно наносит ущерб индивидуальности, а рациональное планирование, по-видимому, является важным противодействующим фактором. Однако Хайек отвергает действия группы людей или общества: все, что он может предложить,— это подчиниться действию рыночных сил, что в конечном счете приведет к разрешению всех проблем, поскольку, по его мнению, лишь свободная конкуренция может обеспечить эффективную координацию решений в сфере экономической деятельности *.
В книге «Конституция свободы» Хайек определяет свободу как отсутствие принуждения 446. Разумеется, он вполне свободен в выборе определения, но смысл его трудно понять, если не уточнить содержание понятия, противоположного свободе,— принуждения. Сознавая это, Хайек предлагает определить принуждение как право произвольного управления, он настаивает на том, что оно должно быть монополизировано правительством и затем сведено к минимуму, что можно допустить лишь налоговое обложение и определенные ограниченные формы правительственной деятельности, осуществляемой в интересах общества. У ряда других сторонников экономического либерализма, не приемлющих ни при каких обстоятельствах пра* Хайек — злобный враг социализма и демократии. Его измышления о планировании не имеют никаких научных оснований и носят грубо клеветнический характер. Возражения автора Хайеку имеют положительное значение, хотя они не раскрывают реакционной сущности его взглядов. —Прим. ред.
228
вительственной деятельности — даже в тех строго ограниченных сферах, в которых ее допускает Хайек (пособия по безработице и обеспечение престарелых),— это вызвало сомнение в ортодоксальности Хайека. Однако подобные опасения были напрасными, потому что Хайек никогда не признал бы, что правительству надлежит осуществлять такие функции, как социальное страхование, или просвещение, или контроль над ставками квартирной платы. Он осуждает такую деятельность, считая ее либо «административным деспотизмом», либо чрезмерным воздействием на сознание маленьких детей. Тем не менее Хайек часто проходит мимо тех форм принуждения, которые содержат большее подавление свободы, чем самый высокий из прогрессивных налогов. Монополистические рынки, манипуляции с ценами и право произвольно лишать работы наемных работников—все это формы принуждения, которые требуют противодействия. А противодействовать им, оказывается, нелегко. Именно поэтому правительство и профсоюзы вмешиваются в процесс экономического развития. Они, несомненно, расширяют, а не урезают свободу, существующую в современном индустриальном обществе.
Идея рынка испытала влияние теорий XVIII в., исходивших из естественного закона. Полтора столетия назад такая философия служила мощным идеологическим оружием в борьбе против «божественного права» королевской власти. Развитие капитализма породило потребность в теоретическом оправдании коммерческой деятельности. Собственность на средства производства получила широкое распространение, и обеспечение собственных материальных интересов отождествлялось с деятельностью в интересах общества. Однако конкуренция слишком часто приводила в конечном счете к страшным последствиям: история фабричной системы изобилует фактами, свидетельствующими о деградации человека 447. Поэтому социальное законодательство превратилось в традиционный элемент хозяйственной жизни. В настоящее время хозяйственная структура настолько сложна, что государство должно проявлять заботу о правильном функционировании экономики 448. Однако Хайек предпочел бы подчинить экономику действию спасительной «невидимой руки» абстрактного рынка. Для того чтобы осуществить это, мы должны были бы перечеркнуть историю последних полутораста лет и воссоздать мир мелких независимых хозяйственных единиц sans * монополии и sans крупных образований капитала. Но еще большее беспокойство вызывает тот очевидный факт, что данная доктрина превратилась в средство идеологического обоснования и хитроумного оправдания неограниченной экономической мощи, находящейся в распоряжении отдельных лиц. Основная проблема состоит не в том, нужны ли планирование и контроль, аскорее в том, кто будет предписывать планы — властвующая элита, включающая узкий круг частных лиц, или все общество в целом? 449 В этом заключается критический вопрос, к которому в конечном счете привело развитие австрийской школы 460.
7. ДИСКУССИЯ МЕЖДУ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАРЖИНАЛИСТСКОП ТЕОРИИ
Одно из главных достоинств маржиналистской теории, выдвинутой австрийской школой, заключалось в том, что она подчеркнула фактор взаимозависимости. Даже если эта идея и не изложена так хорошо, как у Вальраса, во всяком случае, она означала подход, который может привести к плодотворным результатам. Представители классической школы мыслили в категориях причины и следствия, и лишь маржиналистская теория положила начало новой традиции — исследованию взаимоотношений между различными элементами с точки зрения основных условий частичного и всеобщего равновесия. Были выявлены некоторые недостатки, присущие прежнему методу исследования — например, в формулировке законов изменения дохода, которые представители англосаксонской доктрины распространяли только на сельское хозяйство. Маржиналистская теория, напротив, сформулировала эти законы в общем виде, благодаря этому они оказались применимыми к любому из факторов производства и была обеспечена возможность плодотворного исследования внутреннего единства производства и распределения. Особенно наглядно это проявилось в произведениях Джевонса и Дж. Б. Кларка, в которых теория предельной производительности приобрела четкость и избавилась от всякой путаницы, связанной с использованием понятия полезности. Если, например, рабочие получают данную заработную плату, то это автоматически определяет масштабы занятости. Цена и доход совпадают между собой. При более детальной разработке * Без (франц.).— Прим, перев.
229
маржиналистской теории проблемы несколько усложняются. Исследование дохода, приходящегося на данный фактор производства, предполагает условия чистой конкуренции и рассуждения по типу ceteris paribus *. Все факторы производства, за исключением одного, используются в неизменных количествах, в связи с этим можно тщательно изучить последствия, вызванные изменением количества указанного фактора. Это позволяет определить кривые отраслевого и рыночного спроса и исследовать данный вопрос во всех тонкостях451.
Используя эти методы, маржиналистская теория разработала довольно четкое описание предпринимательской деятельности. Поскольку технологические элементы суммируются в единой формуле, характеризующей производственную функцию, можно было даже отложить рассмотрение проблемы соотношения между размерами производства и уровнем дохода. Однако тем самым молчаливо подразумевалось, что маржиналистское исследование охватывает лишь кратковременные процессы. К тому же современные производственные процессы характеризуются одновременным выпуском различных видов продукции, а это порождает сомнения в том, применима ли вообще маржиналистская теория в данном случае. Все же предпринимаются непрерывные попытки проверить правильность положений маржиналистской теории с помощью эмпирических исследований. Одна из наиболее известных попыток такого рода содержится в работе Генри Шульца «Теория и измерение спроса», где автор не только старается оценить уже разработанные статистические методы, но и действительно исследует спрос на дюжину с лишним сельскохозяйственных товаров, особенно с точки зрения их комплементарности и перекрестной эластичности спроса462. Другим примером может служить работа Поля Г. Дугласа «Теория заработной платы», в которой автор пытается ответить на вопрос: существуют ли законы развития производства463? Хотя Дуглас ясно сознавал тесную связь между производством и теорией стоимости, все же он полагал, что вполне возможно исследовать производство независимо от теории стоимости. Маржиналистская теория исходит из следующих допущений: предприниматели могут измерить прирост производительности; свободная конкуренция имеет место, и рабочие знают предельные результаты труда; между рабочими происходит ожесточенная конкурентная борьба за место работы; существует полная занятость; труд и капитал могут легко ♦ При прочих равных условиях (лат.).— Прим, перев.
230
перемещаться; и, наконец, на рынке рабочие располагают столь же сильными позициями, как и предприниматели. Дуглас признавал ограниченность таких допущений, но все же считал их по крайней мере достаточными для того, чтобы сделать возможным статистическое исследование 454. Наименее плодотворными являются допущения, приписывающие рабочим большую экономическую силу, чем та, которой они в действительности располагают. Однако Дуглас считал в основном правильными допущения о том, что производительность труда известна, а труд и капитал — мобильны. С целью проверки правильности производственной функции, разработанной Дугласом и его коллегой — математиком из Амхерста Чарлзом Э. Коббом, был использован фактический материал, характеризующий экономическое развитие Соединенных Штатов Америки, Австралии и Южно-Африканской Республики. Значения функции, а также другие исследования указывали на то, что доля, созданная трудом, составляет примерно три четверти всего объема продукции. Дуглас сделал вывод о том, что «в целом существует почти полное соответствие между долей продукта, действительно присваиваемой трудом, и той долей, которую труд должен был бы получать согласно теории предельной производительности» 465. И все же, несмотря на изобретательные статистические приемы и на огромную работу, проделанную Дугласом, остается впечатление, что маржиналистский аспект проблемы искусственно притянут. Вклад Дугласа оставался бы значительным даже в том случае, если бы эмпирический материал был совершенно отделен от теоретического аспекта.
проблему можно решить с помощью других способов. Критики утверждали, что результаты исследования выражают не предельную производительность, а в лучшем случае лишь сложившиеся соотношения между изменениями объема продукции и факторов производства456.
Короче говоря, с помощью теории предельной производительности не удается объяснить, как складывается распределение продукта; она лишь позволяет показать, в каких размерах фирма может использовать факторы производства, если известны их цены. По существу, это теория спроса на факторы производства, причем спроса, предъявляемого отдельной фирмой, поэтому она не может сказать ничего существенного с макроэкономической точки зрения. Проблема заключается уже не в том, как изменяются размеры земли, труда и капитала, а в том, как протекает чрезвычайно сложный процесс распределения, обусловленный довольно жесткой структурой организации, внутри которой изменения почти всегда осуществляются нерегулярно. Здесь можно возразить, что на протяжении длительных промежутков времени все подвержено изменениям, однако вряд ли это может считаться удовлетворительным ответом, потому что попытки исследования длительных процессов с помощью маржиналистской теории терпят провал. Короче говоря, растут опасения, что такой подход на деле не может принести нам много сведений о процессе принятия решений в сфере хозяйственной деятельности.
Не все, например, соглашаются с тем, что цель предпринимателя состоит в максимизации прибыли 467. Наблюдения за повседневной практикой свидетельствуют о том, что непосредственная цель, к которой стремятся предприниматели, состоит в обеспечении максимального объема продаж, а не максимума прибыли. Естественно, фактор прибыльности принимается во внимание, однако предприниматели с величайшей неохотой идут на сокращение продаж. Используемая обычно техника установления цен заключается в том, что к полной величине средних издержек прибавляется умеренная или традиционная накидка. Правильно ли это или нет, но, во всяком случае, предприниматель поступает именно так. Подобное поведение предпринимателя, несомненно, приводит в отчаяние экономистов-теоретиков. Предприниматель откровенно признает, что он ничего не знает о своих предельных издержках и не в состоянии оценить эластичность спроса на его продукцию. Пытается ли он мыслить маржи- налистскими понятиями? Возможна ли предполагаемая в теории всесторонняя, тщательная оценка предпринимателем альтернативных вариантов поведения в условиях, когда столь быстро меняются данные, служащие основой решений? На самом деле маржиналистская теория затемняет смысл изменений в хозяйственной жизни, вследствие того что каждое из них в соответствии с теорией должно рассматриваться изолированно. Лишь с большим трудом удается правильно очертить элементы взаимозависимости. Поскольку предполагается, что издержки и доход являются функциями, зависящими от масштаба производства, изменения в затратах на факторы производства в качестве продукции и технологии выражаются просто в смещении соответствующих кривых. Изменения могут выразиться лишь в перемещении вдоль кривой. На практике предприниматели, по-видимому, полагаются на метод проб и ошибок: они могут изменять размеры накидки или могут перейти к другим формам установления цен, с тем чтобы обеспечить более благоприятные условия реализации тех или иных товаров; такие изменения будут продолжаться до тех пор пока удается поддерживать развитие производства.
Не лишена оснований также постановка вопроса о том, каковы объективные формы проявления кривых, описываемых маржиналистской теорией 468. При проверке того, соответствуют ли они действительности, выяснение этого вопроса, понятно, должно играть существенную роль 459. Всякие соображения относительно объективного аспекта маржиналистской теории должны допускать существование нематериальных стимулов. Дело обстоит чрезвычайно просто: вполне возможно, что конечная цель может заключаться не в обеспечении максимальной прибыли; предприниматель может считать достаточной, как выражается Роберт Э. Гордон, «удовлетворительную» прибыль. Если же дело обстоит таким образом, тогда может оказаться уместным метод, который оперирует скорее средними, а не предельными величинами. Однако и в этом случае общепринятая теория может быть неправильной; ибо, как показало по крайней мере одно из исследований, преобладающая часть кривых, характеризующих средние издержки в том виде, в каком они определяются предпринимателями, по-видимому, вообще не совпадает с графиками, изображенными в учебниках, то есть с кривыми, которые снижаются вплоть до точки наименьших издержек, а затем быстро повышаются. Точка наименьших издержек, очевидно, расположена где-то недалеко от точки, соответствующей полному использованию производственных мощностей! 460 Более того, на тех предприятиях, где применяются разнообразные технологические процессы, маржиналистские подсчеты если и 231
возможны, то, во всяком случае, сопряжены с затруднениями; так что может оказаться более разумным при установлении цен исходить из средней величины полных издержек при неком нормальном или обычно встречающемся уровне производства 461. На таких предприятиях во многих случаях процесс производства временно прерывается; поэтому и допущение о непрерывности изменений, которое предполагается вмар- жиналистских вычислениях, по-видимому, нереалистично, если только не использовать вместо дифференциальных уравнений разностные 462.
Одна из основных слабостей маржиналист- ской теории заключается в том, что эта теория не способна оперировать такими макроэкономическими категориями, как занятость или доход 463. Опрос предпринимателей, выяснивший мотивы их решений, показал, что отношение затрат на выплату заработной платы к общей сумме издержек не оказывает серьезного влияния на снижение издержек в расчете на единицу продукции; в случаях, когда прямая заработная плата составляет лишь небольшую часть общей суммы издержек, такое предположение отнюдь не кажется нелогичным. Для того чтобы приспособиться к рыночным условиям, предприниматель, очевидно, станет менять не цену, а скорее масштабы производимой продукции или просто методы производства. Предприниматели, по-видимому, не представляют себе форму кривых спроса на свою продукцию; более того, часто они не могут быстро осуществить даже те изменения в ценах, которые следуют из обычной кривой спроса. Предметом заботы предпринимателей является элемент неопределенности, именно он играет определяющую роль в принятии решений. В связи с этим в экономический анализ нужно ввести фактор времени; различные авторы, пытавшиеся решить эту задачу, достигали большего или меньшего успеха, но не могли полностью разрешить ее. Во всяком случае, образ мыслей предпринимателей, очевидно, имеет мало общего с утверждениями маржинали- стской экономической теории.
Некоторые экономисты, и в частности Фриц Махлуп, доказывали, что теоретическая наука не должна заниматься описанием образа мыслей, свойственного предпринимателям, потому что последние не применяют тех методов анализа, которые используются экономистами 464. Махлуп утверждает, что эмпирические исследования, в которых рассматривается процесс принятия решений, никоим образом не опровергают маржиналистских теорий, потому что предприниматели часто поступают в соответствии с маржиналистскими принципами, хотя и не отдают себе в этом отчета. Такие поступки носят интуитивный и бессознательный характер, и, следовательно, действия предпринимателей в конечном счете подчиняются экономическим «законам». Однако подобная аргументация означает не что иное, как широкую трактовку маржиналистской теории: она по-прежнему остается недоказанной, и в силу этого есть просто выражение веры, что очень напоминает некоторые онтологические доказательства, используемые в теологии. Подлинные сторонники маржиналистской теории удовлетворяются такими доказательствами, но при изучении человеческого поведения такие утверждения не более плодотворны, чем понятия сродства и флогистона при объяснении химических изменений. В лучшем случае маржиналистская теория превратилась в довольно сложный способ выразить мысль о том, что предприниматели стремятся к получению возможно большего дохода 466.
Хотя предприниматель и не обучен маржи- налистскому ритуалу, в ряде случаев он довольно близок к максимизации прибыли. И все же если представитель маржиналистской теории стремится разработать концепцию, полагаясь на свои собственные предчувствия, а не на психологию предпринимателя, он не может ничего сказать о побудительных мотивах, лежащих в основе хозяйственной деятельности. Столь же ошибочна попытка положить в основу маржиналистской теории психологические факторы — это относится по крайней мере к факторам, проявляющимся в сфере потребления. Используя понятие полезности, эта теория предполагает, что степень притягательности товара отражает его свойства удовлетворять человеческие потребности. Тем самым осуществляется незаконная подмена полезности желаниями человека, означающая переход на позиции обычного гедонизма. Совершенно недостаточное признание получил тот факт, что люди не сопоставляют между собой выраженное в определенных единицах удовольствие, которое они получают от последовательного потребления единиц одного и того же блага или от потребления различных благ. Покупка — это сложный процесс, в котором играют роль бессознательные стремления, иррациональные импульсы, мода, привычки, традиции и поступки, внушенные умелой рекламой. И когда сторонники маржиналистско- го направления проходят мимо психологических факторов и пытаются утверждать, будто их теоретический арсенал содержит ряд кривых, которые соответствуют действительности, такие утверждения лишаются всякой убедительности466. На практике, по-видимому, существует достаточно широкий круг явлений, не согласующихся с маржиналистской теорией, и это 232
порождает серьезные сомнения в правильности результатов, получаемых в тех случаях, когда она используется в качестве всеобщей теории человеческого поведения 467.
Короче говоря, маржиналистская теория возникла просто на основе формальной разработки суждений, вытекающих из определенных предположений относительно человеческой деятельности, причем сами исходные предположения обладают лишь ограниченной достоверностью. С этой точки зрения маржиналистская теория представляет собой чистую систему, мало пригодную для практических целей. Как указывал Горан Олин, признание маржиналистской теории в академических и прочих кругах основывается главным образом на вере, на желании иметь такую теорию, которая предоставила бы неоспоримые критерии для оценки экономической эффективности. Сторонник маржиналистской теории стремится выяснить, производятся ли различные изделия в таких количествах, которые могут считаться правильными, исходя из его особых представлений о рациональном устройстве мироздания. Однако если теория призвана служить остовом для изысканий и научных исследований, то она должна быть готова воспринять накопленный практический опыт, даже если это потребует некоторых изменений в самой теории. Тем не менее существуют опасения, что некоторые представители маржиналистской теории будут все сильнее прижимать ее к своей груди, хотя в их объятиях будет оставаться один лишь плод воображения468.
Глава IV
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И УНИФИКАЦИЯ ТЕОРИИ
1. ЛЕОН ВАЛЬРАС — ВЕЛИЧАЙШИЙ ЭКОНОМИСТ?
Леон Вальрас (1834—1910), которого называли величайшим из «чистых теоретиков», указал политической экономии путь, по которому она идет и в наши дни х. Разработанный им математический метод экономического анализа сравнивали с достижениями теоретической физики; и хотя сейчас этот метод признан устаревшим, он все же содержит основы, на которых в значительной мере базируются современные экономические теории. Применение математики в экономических исследованиях заметно распространилось в конце прошлого и начале текущего столетия. Конечно, и до Вальраса экономисты часто прибегали к использованию цифр, например Вильям Петти, затем Рикардо и Маркс. Но использование математики, для того чтобы выразить результаты анализа в виде системы уравнений, было делом совершенно новым. Математический метод, кажущийся внешне чисто количественным, не обязательно сводится к манипуляциям с цифрами. Этот метод состоит в широком использовании всего аппарата алгебры и исчисления. При этом экономические отношения выступают как функции, переменные или производные величины, а в наши дни — в виде задач из теории множеств и матричной алгебры 2. Преимущество этого метода усматривают в том, что экономические положения приобретают четкую математическую форму и поддаются строгому доказательству. С этой точки зрения теория австрийской школы, отвергнувшей математический метод, могла быть пересмотрена таким образом, чтобы придать более четкое выражение ее основным положениям. Как заметил Шумпетер, теория стоимости развивается по такому пути, на котором она неизбежно придет к использованию исчисления.
Естественно было ожидать, что использованный Вальрасом метод приведет его к созданию обширных математических построений. А следовал он преимущественно французской традиции, которая восходит к Кондильяку и Кенэ, а затем была продолжена Курно и Августом Вальрасом, отцом Леона. Вальрас-старший, будучи профессором философии, написал книгу о богатстве и стоимости, которая внушила Леону Вальрасу немало идей, позднее развитых им в его работах. Вальрас родился во Франции, в Эвре, в культурной, высоконравственной семье, где все благоприятствовало его интеллектуальному развитию 3. Вначале он изучал классическую литературу и в 17 лет получил в этой области ученую степень, а спустя год ему была присуждена ученая степень в другой области науки. Что же касается математической подготовки, то в тот период она оставляла желать много лучшего, ибо Леон дважды потерпел неудачу при попытке поступить в Политехнический институт. Правда, в конце концов его приняли в Горную школу, но он проявлял мало интереса к технике и технологии, предпочитая заполнять свое время занятиями литературой и философией. В 1858 г. он опублико234
вал роман, однако последний не имел успеха; Леон вновь оказался на перепутье жизненных дорог, пока не увлекся политической экономией.
Вальрас обратился к экономическим исследованиям по настоянию своего отца. В 1860 г. он выступил с полемическим произведением против Прудона и в том же году принял участие в конкурсе, организованном властями кантона Во в Швейцарии, и одновременно участвовал в Международном конгрессе по вопросам налогообложения, состоявшемся в административном центре этого кантона — Лозанне. Но его выступление принесло плоды только через десять лет. Бесспорно, доклад Вальраса, в подготовке которого ему помогал отец, был очень сильным, особенно если учесть молодость и неопытность автора. Смелость, с которой Вальрас защищал идею справедливости в налогообложении, видимо, также произвела сильное впечатление на слушателей. По иронии судьбы первый приз достался Прудону 4. Вальрас попытался опубликовать свои научные работы, но все они были отвергнуты. Затем он работал по заданию управления железных дорог, принимал участие в кооперативном движении (которым он интересовался всю жизнь), занимался журналистикой, работал в кооперативном банке, и, наконец, когда была организована кафедра политической экономии в Лозаннском университете, Вальрас получил постоянное место работы. Этому содействовали несколько лиц, которые слушали его выступление десятью годами раньше. Один из них, Луи Рюшонэ, ведавший народным образованием в департаменте Во, стал близким другом Вальраса и оказал на последнего значительное влияние. Очевидно, против назначения Вальраса возражали несколько человек, которые считали его взгляды слишком либеральными и были против его нескрываемого намерения ввести в курс политической экономии математические методы. Однако их сопротивление было преодолено 5.
В Лозанне, где Вальрас оставался до 1892 г., •он развил в деталях свою теорию общего равновесия, охватив ею сферу обмена, производства, капитала и денег. В результате этой работы Вальрас, не привлекавший вначале внимания ученых, постепенно приобрел всемирную известность. Оставив службу (его заменил Виль- фредо Парето), Вальрас целиком обратился к изучению практических проблем; его работы в этой области позже были изданы двумя сборниками: «Etudes d’economie sociale»
(1896) * и «fitudes d’economie politique appli- quee» (1898) *. К сожалению, оба сборника у большинства экономистов не вызвали никакого интереса 6. Тем не менее эти работы имеют немаловажное значение, так как наиболее полно выражают социальное мировоззрение их автора. Вальрас был довольно плодовитым автором; в частности, он писал очень много писем, причем сохранял не только корреспонденцию, которую сам получал, но и копии своих писем Джевонсу, Бем-Ваверку, Маршаллу, Кларку, Викселлю и Шумпетеру; во многих из этих писем он уделял большое внимание разъяснению наиболее сложных вопросов своей чистой теории. Но в собственной стране Вальрасу не воздавали почестей. Несмотря на старания его многочисленных друзей, французские школы не собирались внедрять математические методы при преподавании экономических дисциплин, что сильно огорчало Вальраса 7.
Август Вальрас, заслуженно пользовавшийся известностью как экономист, имел большое влияние на Леона. Последний неоднократно отмечал, что развитые им идеи содержались уже в трудах отца 8. И действительно, истоки теорий стоимости, производства, собственности и богатства Леона Вальраса могут быть прослежены в трудах его отца Августа Вальраса. Поэтому ссылки на Вальраса-старшего не были у Леона просто данью сыновним чувствам. Между отцом и сыном в самом деле была непосредственная идейная связь. Но Леон Вальрас испытал также и влияние Курно, работа которого «Математические принципы теории богатства» (1838) впервые познакомила его с применением математического метода. Вальрас, воспитанный на философских идеях взаимосвязи явлений, считал, что все социальные явления — религия, политика, экономика и духовная жизнь — тесно связаны между собой.
Мировоззрение Вальраса, как это видно из его менее специальных работ, в целом отражало дух 1848 г. Он считал общество ассоциацией людей, а не просто механизмом, облегчающим эксплуатацию одних другими. Но он знал также и о глубоком неравенстве между людьми, сопровождающем экономическое развитие. В тот период заработная плата во Франции была столь же низкой, как и во время промышленного переворота в Англии; бедственное положение рабочего класса бросалось в глаза; жилищные условия, как и условия труда, были ужасными, и социалисты имели все основания выражать недовольство. Обострение обстановки неизбежно должно было привести к взрыву, который и последовал в 1848 г.9. И хотя неодолимое ♦ «Исследование прикладной политической экономии» (франц.).— Прим, перев.
* «Исследование социальной экономии» (франц.).—
Прим, перев.
235
движение, которое смело Луи Филиппа, казалось Вальрасу вполне естественным, он питал отвращение к революции. Он считал, что изменения в обществе должны быть постепенными и научно обоснованными. Люди должны вести тщательные поиски социальных идеалов, а когда последние найдены — стремиться к ним последовательно и без колебаний. Вальрас считал, что наука всегда должна быть руководством к действию.
Таким образом, «социальный вопрос» представлялся Вальрасу исключительно серьезным делом. Он был преисполнен решимости проложить свой собственный путь к решению этого вопроса, преодолевая трясину традиционных взглядов. Но своей благородной цели — примирить научные законы политической экономии с основными принципами социальной справедливости и этики — Вальрас так и не достиг. Его первой попыткой такого рода была полемическая работа «L’Economie politique et la justice»*, направленная против Прудона. В ней Вальрас защищал тезис об абсолютном равенстве возможностей для всех людей как средстве против несправедливости. Вальрас говорил, что социальное развитие носит прогрессивный характер, ибо общество развивается в соответствии с законами логики, хотя и не по законам гегелевской диалектики. Следовательно, экономическая наука должна беспристрастно исходить из этого процесса общественных изменений. А наилучшим образом этого можно достигнуть, изучая социальные проблемы с помощью количественного, математического анализа. По мнению Вальраса, этот метод гарантирует научный подход к решению проблемы бедности.
Концепциям Вальраса внутренне присущи идеи естественного порядка и прогресса. А вращаются эти концепции, как и теории классиков, вокруг экономического человека, который наиболее полно выражал либерализм XIX в. и служил оправданием принципа непрерывного производства. Его частные интересы естественным путем и уже сами по себе отвечали интересам всеобщего благосостояния, поэтому правительственное вмешательство в экономическую деятельность этого индивидуума считалось нецелесообразным и даже вредным. Если не вмешиваться в действия индивидуума, то они сами по себе приведут к правильным пропорциям между различными составными частями экономики. Поэтому, говорил Вальрас, то, что кажется анархией, на самом деле является порядком10.
На деле и в трактовке Вальраса содержится противоречие, а именно: политика laissez faire, которая, видимо, отвечает возлагаемым на нее надеждам в области производства, в сфере распределения приводит к явно нежелательным результатам. Иными словами, если в производстве экономические законы находят практическое применение, то в распределении принцип полезности должен уступить место принципу справедливости как основной организующей силе11. Отстаивая это положение, Вальрас полагал, что следует указаниям Джона Стюарта Милля и в автобиографии он называет себя социальным экономистом в духе этого великого английского исследователя. Чистую экономическую науку и социальную экономику он рассматривал изолированно друг от друга, хотя и лелеял честолюбивые мечты о создании подлинно всеобщей теории. Взгляды социалистов Вальрас, однако, отверг: он считал, что Луи Блан и Прудон не знают основных принципов экономики, хотят все перевернуть вверх ногами, в то время как задача сводится к применению науки и тщательным поискам правильных решений.
В эпоху Вальраса во Франции большим влиянием пользовалась философия позитивизма Конта, который выдвинул идею о том, что развитие общества подчинено определенному порядку. В его «Cours de philosophie positive» * сформулированы некоторые законы человеческого мышления. Согласно Конту, история проходит через три последовательных этапа — теологический, метафизический и позитивный. Для первых двух стадий характерны поиски абсолютных критериев истины, тогда как на позитивной стадии абсолютные категории отвергаются и раскрываются относительные черты связей, существующих в обществе. Многих современников Конта отталкивала склонность его к утопическим построениям, однако нельзя отрицать и его заслуг в разработке анализа действий людей с позиций цельной социальной науки. Конечно, Вальрас не находился под непосредственным влиянием философии Конта, но на него не могла не произвести впечатление вера Конта в прогресс и могущество идей как фактора, управляющего человеческой деятельностью. Вальрас сочувственно воспринял также тезис Конта о центральной роли человека в истории. Однако Вальрас не мог согласиться с положением Конта о том, что существует лишь одна наука об обществе. Он настаивал на трактовке экономики как области, требующей самостоятельной науки.
* «Курс позитивной философии» (франц.).— Прим, перев.
* «Политическая экономия и право» (франц.).—
Прим, перев.
236
Хотя политические взгляды Вальраса были довольно неопределенными, он часто был ближе к социалистам, чем другие теоретики того времени. Так, для установления равенства возможностей всех членов общества Вальрас считал важной национализацию земли, ибо она, как полагал Вальрас, даст государству необходимые средства в виде земельной ренты. Этот тезис, бесспорно, был радикальным. Вальрас понимал, какие чувства обуревают социалистов, однако предлагавшиеся последними меры по ликвидации социальных пороков он считал насилием над экономическими законами. Экономическая наука, говорил он, должна выступать против социализма по той же причине, по какой она выступает против невежества. Особенно серьезно, по мнению Вальраса, заблуждается марксизм, ибо он исходит из несостоятельной предпосылки, что труд является единственным источником стоимости, что эта последняя представляет овеществленный труд и что труд различной квалификации может быть сведен к чему-то общему. Эти идеи, уходящие своими корнями к Адаму Смиту, получили затем логическое завершение в теории Карла Маркса. Однако, говорил Вальрас, они не перестали быть ошибочными. Ведь новейшие экономисты-теоретики установили, что стоимость определяется полезностью вещей и их редкостью и что она пропорциональна «интенсивности предельной потребности в них», то есть их предельной полезности. Этот принцип может быть применен также к земле, капиталу и труду. Ни один из этих факторов не может быть сведен к другому, ибо стоимость каждого из них определяется в соответствии с экономическими законами редкости и полезности12.
Вальрас исходил из концепции экономического равновесия, при котором весь общественный продукт состоит из совокупности товаров, предлагаемых по определенным ценам. Совокупности товаров соответствует совокупный спрос потребителей, которые руководствуются принципом полезности. Он допускал возможность несовпадения спроса и предложения, в результате чего равновесие будет нарушено. Марксизм, говорил Вальрас, не смог показать, как достигается равновесие, а ведь именно в ходе этого процесса и устанавливается стоимость. Этот внешне убедительный аргумент не принимал, однако, в расчет того, что Маркс искал ответ на совершенно другие вопросы. Он не ставил перед собой цель выяснить, как в условиях свободной конкуренции устанавливается цена того или иного товара; задачей Маркса было показать движение прибавочной стоимости при капитализме. Короче, Маркса интересовали законы движения капитализма*.
Вальрас не мог примириться и с пошлой «экономической гармонией» Бастиа, приносившего науку в жертву сентиментальности. Даже классическая теория не была в состоянии доказать вечную гармонию, ибо она не могла пренебречь противоречиями реальной жизни. Вальрас считал, что все рассуждения Бастиа — сплошная тавтология, поэтому они не могут дать серьезный ответ на экономические проблемы. Вальрас имел и практические основания возражать против положений Бастиа, так как он знал, что чистая политика laissez faire — это иллюзия. Государство, доказывал он, имеет определенные обязанности: оно должно гарантировать стабильность денег, обеспечить безопасность, давать возможность получить образование, сдерживать спекуляцию, усиливать позиции рабочих с помощью социального законодательства, обеспечивать условия, необходимые для эффективной конкуренции в обществе. Очевидно, что, выступая с этой программой, Вальрас проявил себя как сторонник реформ, а иногда он склонен был даже выдавать себя за социалиста умеренного толка. Его чистая теория должна была стать первым шагом к осуществлению реформ, направленных на улучшение общества.
Исходя из полученного им некогда опыта, Вальрас положительно оценивал кооперативное движение. Он полагал, что это движение является прекрасной школой по изучению основных принципов политической экономии, что оно способно придать высокие моральные и демократические качества капиталистическим методам деятельности. В той мере, в какой социализм выражал глубоко укоренившееся желание укрепить положение личности в обществе, Вальрас считал себя социалистом, несмотря на то, что отвергал официальную партийную доктрину социалистов 13. Одна из основных предложенных им реформ состояла в проведении единого принципа налогообложения для всех земельных владений. Предполагалось, что такого рода мероприятия будут отвечать интересам как отдельных лиц, так и всего общества 14.
В реальной обстановке, говорил Вальрас, человек никогда абсолютно не изолирован от других людей. Поэтому государство должно * Это правильно, что Маркс открыл закон движения капитализма. На этой основе он выяснил и законы ценообразования при капиталистической конкуренции, а также условия простого и расширенного воспроизводства, анализ которых противостоит механистическим представлениям буржуазных экономистов о так называемом «равновесии».— Прим, перев.
237
создавать условия для того, чтобы каждый индивидуум смог удовлетворять свои потребности. Так как потребности граждан удовлетворяются за счет ресурсов, создаваемых капиталом и трудом, потребности государства могут быть обеспечены за счет земельной ренты. Эта основная реформа, по мнению Вальраса, могла бы быть начата со скупки земли государством, а средством оплаты могли бы стать государственные облигации. Рентные поступления государству с приобретенных земель использовались бы для постепенного погашения облигаций и уплаты процентов. В конечном счете государство станет собственником всех земель. При сохранении специфики земельных цен как капитализированной ренты прирост стоимости земли автоматически включался бы в рыночный оборот, устраняя таким образом возможность спекулятивной деятельности. На деле, указывал Вальрас, государство выиграло бы от владения землей, так как прогресс агротехники привел бы к более быстрому росту избыточных стоимостей в земледелии, чем считали собственники земли — современники Вальраса.
В своей социальной философии Вальрас пытался определить роль личности и роль государства в обществе. Главная задача, по Вальрасу, заключается в создании такого общественного порядка, при котором утвердились бы свобода и равенство. Это означает наряду с гарантией прав личности сосредоточение в руках государства определенной власти для сохранения существующего социального равновесия. Между отдельными лицами может существовать неравенство, но по отношению к государству все должны быть равны. Говоря словами Вальраса, в обществе должен господствовать принцип: равенство возможностей при неравенстве фактического положения15. Так он решал проблему справедливости и общественного порядка. Примирение противостоящих интересов и прав отдельных людей как индивидуумов и членов общества представлялось Вальрасу в виде математической формулы. Волюнтаризм допустим лишь в такой мере, в какой каждый индивидуум в обществе может сам воздействовать на свою судьбу. Обязанностью государства при этом остается обеспечение общественной безопасности и законности, только в этих условиях каждый может следовать избранному им образу жизни и виду деятельности. Опираясь на это положение, Вальрас отвергал вариант политики laissez faire, предлагавшийся Бастиа и Сэем. Он указывал, что государство должно обеспечить эффективное функционирование механизма конкуренции, а не просто стоять в стороне, ничего не делая.
Оно призвано поощрять потребление и производство полезных вещей и, следовательно, должно иметь право в определенных случаях вмешиваться в экономический процесс. Вальрас категорически отвергал теорию свободного предпринимательства манчестерской школы, так как сильно опасался склонности к монополии, свойственной предпринимателям. Поэтому законными функциями государства он считал также регулирование деятельности железных дорог, контроль за продолжительностью рабочего дня, вмешательство в функционирование денежного рынка и т. д. Перед лицом непреклонной позиции, занятой новейшими сторонниками свободы предпринимательства, эти взгляды не следует предавать забвению.
В Лозанне Вальрас всю свою энергию направил на создание теоретической системы, которая и прославила его. Чистая экономическая теория Вальраса вскоре отодвинула на второй план все другие его высказывания. Он считал, что, так как экономический закон не может быть достаточно точно выражен обычным языком, применение математики становится условием sine qua non* экономической науки. Например, в нематематической форме нельзя выразить возрастание стоимости как функцию полезности вещи и уменьшение стоимости как функцию количества данных вещей. Конечно, такой подход не был новым во времена Вальраса, и последний неоднократно ссылался на своих предшественников. Вальрас, например, признал приоритет Джевонса в решении задачи, связанной с максимумом полезности при обмене товаров, над которой работал и он16. Большое внимание до Вальраса уделялось и положению о центральном значении полезности, на которое он опирался. Идея о всеобщем равновесии была за сто лет до него, по существу, высказана в работе Кенэ. Характеристика роли предпринимателя была дана Ж. Б. Сэем в 1803 г. В экономических воззрениях времен Вальраса центральным стало положение о томг что стоимость определяется редкостью вещи, а не издержками ее производства. Постепенно сложилась субъективная школа в политэкономии, исполненная энтузиазма в отношении научной ценности своих взглядов17. Конечно, не было недостатка и в критиках. Многие, в частности, считали математический метод Вальраса препятствием на пути экономических исследований. Несмотря на это, Вальрас утверждал, что с помощью его метода можно осуществить экономический анализ значительно быстрее, точнее и полнее, чем с помощью обычных методов. Он полагал, что его метод — * Непременным (лат.).— Прим, перев.
238
единственный, дающий человеку возможность овладеть природой. Но вначале за Вальрасом пошли только итальянцы, в частности Энрико Бароне и Маффео Панталеони, да и в США Ирвинг Фишер и Г. Л. Мур признали математический метод достойным внимания. Ныне же для всех очевидно, что Вальрас оказался прав, ибо, по существу, каждый экономист должен уметь решать уравнения и быть знаком с высшей алгеброй.
Замысел Вальраса опубликовать три самостоятельных экономических исследования — в области чистой теории, прикладной экономики и социальной экономики — так и не был осуществлен. Книги, относящиеся к последним двум темам, представляют собой лишь сборники разрозненных статей. Тем не менее они довольно ясно показывают, что он не ограничил себя чисто теоретическими вопросами, а его статьи не лишены известного интереса, хотя Джон Р. Хикс и полагает иначе18. Однако работы Вальраса в области политической экономии стоят как-то особняком. Так, нельзя сказать с полной уверенностью, что его теоретические исследования в этой области соответствуют его довольно умеренным социальным взглядам. Вальрас так и не смог преодолеть отчасти условных различий между чистой и прикладной наукой. Объектом изучения чистой теории он считал раскрытие основных законов: как и в кантовском учении об априорной истине, чистая теория должна исходить из фактов, полученных из опыта; только путем изучения этих фактов и пренебрегая моральными и утилитарными соображениями, можно раскрыть их внутреннее содержание. А это и есть проявление чистых, рациональных, эмпирических законов. Что же касается прикладной экономики, то ее следует рассматривать как выражение человеческой воли19; эту науку можно подразделить на две части — этику, объектом изучения которой являются отношения между людьми, и технологию, в задачу которой входит изучение отношений между человеком и природой 20.
По Вальрасу, логически обоснованно доказать правильность теории можно лишь с помощью математического метода 21. Система доказательств, характерная для чистой политической экономии, имела своим источником сферу обмена и предполагала двоякого рода условия, необходимые для экономического равновесия: каждый участник сделки должен получать максимальную полезность, а совокупный спрос на каждый товар должен быть равен его совокупному предложению. Предельная полезность, бесспорно, выступала здесь как понятие математическое. Вальраса поистине можно считать одним из первооткрывателей этого важнейшего понятия. Он дал ему название rarete* и выразил его следующим образом: предельная полезность есть убывающая функция потребленного количества, и она пропорциональна уплаченной цене. Предельная полезность достигается в том случае, когда последние из расходуемых потребителем средств, с учетом его предпочтения к тому или иному продукту (а также при данном доходе), принесут ему одинаковое удовлетворение; это и есть точка экономического равновесия. Если вышеуказанные условия преобладают, то имеет место максимизация полезности. Математически это будет производная от совокупной полезности, выражающая не только связь между количеством данного блага и его полезностью, но и темпы изменения полезности каждой единицы блага.
В концепции Вальраса содержится также намек на сравнительные оценки полезности разными лицами. Однако известный переводчик Вальраса Уильям Жаффэ сомневается в правильности толкования этого места22. Жаффэ указывает, что Вальрас скорее предвосхитил одно из положений теории благосостояния, согласно которому возрастание полезности, извлекаемой на рынке одним лицом, происходит за счет уменьшения полезности, достающейся другому лицу. Как бы то ни было, это может служить примером того, какие неясные места встречаются в работе Вальраса «Элементы». Предельная полезность в концепции Вальраса предполагает равенство всех покупателей на рынке. Но способ распределения дохода заставляет усомниться в правильности этого положения, так как различия в размерах доходов разных лиц ведут к различиям в степени удовлетворения их предельных потребностей. Согласно теории благосостояния, максимизация совокупной социальной полезности имела бы место лишь в случае перераспределения доходов таким путем, при котором предельная полезность дохода была бы равна для всех лиц. Несомненно, подобная теория была бы более подходящей для общества, где царит равноправие, чем для общества, в котором жил Вальрас. По Вальрасу, rarete также является источником стоимости, так как она превращает покупателя в окончательную инстанцию в процессе принятия решений,— процессе, который и является в конечном счете двигателем экономики. Эта мысль Вальраса представляется несколько запоздалой, ибо к анализу полезности он приступил после того, как исследовал процесс обмена. Однако без rarete все исследование оказалось бы лишенным более или менее удовлетворительной психологической основы 23.
♦ Редкость (франц.),— Прим, перев.
239
Достоинства Вальрасова метода особенно хорошо видны на примере трактовки им производства и капитала. На основе предложенных Вальрасом уравнений для процесса обмена появились математические построения, охватывающие всю экономику и характеризующие систему всеобщего равновесия. Количество уравнений равно числу неизвестных величин, однако они не поддаются одновременному решению. Путь к равновесию скорее лежит через группировку уравнений, то есть через процесс, обозначенный у Вальраса термином tatonne- ment *. Таким образом, Вальрас по существу отождествлял экономическую теорию с математическим методом. «Чистая экономическая наука,— говорил Вальрас,— есть также итеория общественного богатства» 24. Это заявление явно расходится с более общими высказываниями Вальраса о значении прикладных наук. В результате чрезмерного увлечения математикой у него произошло смешение формы и содержания. Бесспорно, математика может явиться полезным инструментом в арсенале экономиста. Но вряд ли правильно было бы думать, что она исчерпывает все содержание экономической науки. Очевидно, это было известно и самому Вальрасу. Тем не менее последний не мог излагать сущность экономических явлений, не прибегая к многочисленным уравнениям. В результате изложение приобретало столь абстрактную форму, что даже переводчик Вальраса Жаффэ вынужден был в значительной мере видоизменить некоторые из его формул 25.
Как и следовало ожидать, Вальрас исходил из существования свободной конкуренции. Однако последняя не представлялась ему в виде спокойного и гладкого процесса, ибо экономическое равновесие скорее напоминает зеркальную гладь озера в тихий день. Но внезапно набегает ветер и все приходит в движение. Так, говорил Вальрас, возможно, что цены в течение длительного времени будут выше стоимости, а это приведет к нарушению равновесия 26. Несмотря на это, в целях теоретического исследования целесообразно все же допустить, что в обществе имеет место свободная конкуренция, устойчивость экономических условий и непрерывность процесса производства. На первой стадии разработки экономической теории должны приниматься во внимание лишь самые важные элементы, даже если такого рода анализ будет очень далек от реальной экономической действительности. Другим ключевым понятием, по Вальрасу, является понятие меновой стоимости, которую он определяет как свойство вещи «быть купленной и проданной» так что в каждом акте обмена имеет место двойная покупка и двойная продажа27. Парето довольно энергично возражал против такого определения стоимости, указывая, что в этом случае неизвестная величина — стоимость, определяется с помощью другой неизвестной величины — свойства вещи. Во всяком случае, представляется, что Вальрасово меновое отношение действительно определено недостаточно четко.
Экономическая система Вальраса носит замкнутый характер и никак не связана с внешним миром. Конечные потребители продуктов продают свои услуги и покупают товары различных фирм; последние, в свою очередь, покупают услуги факторов и сырье, необходимые для производства товаров, которые реализуются затем конечным потребителям или другим фирмам. Исходя из этой общей схемы, Вальрас поставил перед собой задачу выяснить условия для осуществления равновесия во всей экономике, ибо только после этого могли быть установлены цены на товары и услуги, уровень выпуска продукции и издержек ее производства. Именно эти проблемы являются центральными. Факторы производства, с которыми предприниматель обычно имеет дело,— это земля, труд и капитал. Но предпринимателя интересуют услуги, оказываемые различными факторами производства. Поэтому Вальрас счел необходимым провести различие между основным капиталом, оказывающим предпринимателю ряд услуг, и оборотным капиталом, который может быть использован лишь для какой-то одной цели 28. В известном смысле земля также капитал, но особый капитал, способный служить вечно. Предприниматель покупает услуги на одном рынке и продает свою продукцию на другом. Все блага обмениваются на рынке с помощью расчетной единицы, названной Вальрасом numeraire. Она служит мерилом для всех других товаров, но имеет и свою собственную предельную полезность. Торговые сделки должны осуществляться в форме «выкрикивания цен» покупателями и продавцами, как на огромном аукционе, так что в конце концов на рынках товаров и услуг будет достигнуто равновесие. Эти рынки представляют собой, по существу, счетные машины, решающие уравнения экономического равновесия. Допустим, что, когда цены назначаются покупателями и продавцами впервые, спрос превышает предложение. В этом случае цены растут и товары предлагаются все большим числом продавцов, пока в конце концов не установится равновесие спроса и предложения. Конечно, рисуя такую картину рынка, Вальрас имел в виду закон ♦ Поиск ощупью (франц.).— Прим, перев.
240
больших чисел, действующий на рынке в сторону установления стабильного состояния. Практически же состояние достигается через систему свободной конкуренции29. Однако Вальрас не дал ясного ответа на вопрос о том, как процесс уравновешивания предложения и спроса на одном рынке воздействует на состояние равновесия на других рынках 30.
Хотя Вальрас признавал, что его экономическая система есть лишь идеальное хозяйство в духе Вебера, он полагал, что именно к такого рода нормальному экономическому устройству стихийно идет общество в условиях свободной конкуренции31. При росте прибылей в той или иной отрасли производства туда автоматически направляется поток капитала. Сокращение прибылей ведет к отливу капитала. А этот механизм означает, что в условиях равновесия все получают лишь нормальную прибыль. В свете его общей теории эта концепция Вальраса представляется достаточно обоснованной, хотя она в свое время и подвергалась известной критике 32. Она поражает своей замечательной простотой. Но хотя концепция Вальраса полностью удовлетворяет требованиям теории конкурирующих цен, она отводит предпринимателям лишь пассивную роль покупателей услуг и продавцов товаров. В ней отсутствует такой момент, как стимул к нововведениям, описанным Шумпетером.
- Цены — явление, характерное для всех секторов экономики: сфер потребительских благ, услуг факторов, эксплуатации земли, капитальных благ. Но основное внимание Вальраса привлекали поток услуг или доход, порождаемый активами. У Вальраса перечислены по крайней мере двенадцать различных видов активов 33: земельный капитал, личный капитал и капитальные блага, которые создают услуги потребительского назначения; три аналогичные категории активов, создающие услуги производственного характера; новые капитальные блага, временно не приносящие дохода; запасы товаров у потребителей, обмененные на доход; сырьевые материалы; вновь созданные товары, приносящие доход; наличные деньги; сбережения 34. Все эти элементы составляют в совокупности замкнутую экономическую систему, внутри которой циркулирует поток доходов. Процесс же «выкрикивания цен» отражает только попытки покупателей и продавцов, так что производители и потребители при желании могут уйти с рынка.
Если все вышесказанное рассматривать как описание экономического процесса, то нельзя не признать, что работа Вальраса представляет собой довольно смелую абстракцию, отличающуюся чрезвычайно сложным математическим построением. При этом встают четыре проблемы: проблемы оценки с помощью Вальрасова numeraire услуг, продуктов и капитальных благ, а также проблема самого этого numeraire. Экономическое равновесие у Вальраса не только устойчиво, оно может быть нарушено лишь какой-то внешней силой. Предоставленная самой себе, его экономическая система неодолимо движется к ценам, обеспечивающим равенство спроса и предложения. Эта экономическая система описана в нескольких системах уравнений. Имеются, например, уравнения спроса, выражающие последний не только в виде функции цены соответствующих товаров, но и в виде функции цен потребительских благ в целом. Затем идут уравнения издержек производства, и если исходить из допущения, что цены изменяются в прямой зависимости от издержек производства, то можно получить ряд уравнений, выражающих равенство цен затратам на элементы производства. Кроме того, имеются уравнения, выражающие количественные соотношения между общей величиной доступных производст- ственных услуг и количествами, используемыми для каждого вида товаров. Цены производственных услуг позволяют установить технические коэффициенты, или производственные функции, так что фирма стремится выпускать продукцию при минимальном уровне издержек. Далее, использование производственных услуг, по Вальрасу, зависит от цен на товары и от цен на услуги. Например, имеется х товаров их — 1 цен на эти товары (не считая numeraire), у производственных услуг и у цен на них, ху технических коэффициентов, х — 1 уравнений спроса, х уравнений издержек производства, у уравнений количества производственных услуг и еще у уравнений предложения. На этой основе строится экономическая модель, для которой характерна тесная взаимосвязь спроса, издержек производства, производственных услуг и производственных функций. Количествам созданных товаров противостоят уравнения спроса, ценам — уравнения издержек производства, а производственным услугам — соответствующие уравнения количеств. Все построение, охватывающее также и промежуточные товары, составляет основу для последующего анализа условий всеобщего экономического равновесия.
Пригодна ли схема Вальраса для разрешения проблем современной промышленности? Это — особый вопрос, требующий специального рассмотрения. Что же касается ее логики, то она определяется основной посылкой, выраженной в виде системы уравнений и означающей, что сумма данных условий неизбежно предопределяет сумму данных последствий. 16 в. Селигмен
241
Все построение сконструировано по принципу «если бы было так, то следствием было бы то-то»; предполагается, что потребители, вступая на рынок, уже знают не только свою функцию спроса, но и функцию предложения, технические коэффициенты и другие необходимые им данные. Задача решается по существу автоматически на оживленном аукционе, где изолированные экономические контрагенты действуют в условиях свободной конкуренции. Уже из того метода, с помощью которого Вальрас создавал свои теоретические построения, было очевидно, что все факторы производства у него обладают бесконечной делимостью и неограниченной свободой передвижения. «Чистота» модели предполагает абстрагирование от институциональных моментов, однако Вальрас не исключал необходимости учета связанной с ними информации. Например, общее количество какого-либо товара воздействует на размеры его рыночного предложения, распределение богатства и доходов явно может повлиять на количество производственных услуг, предлагаемых на рынке, предпочтение отдыха влияет на количество услуг, предлагаемых на рынке труда. Все эти положения, однако, не находятся в прямой логической связи с вальрасовскими уравнениями. Они стоят особняком, ибо представляют собой элемент чужеродный по отношению к чистой экономической теории.
В действительности же можно привести много доказательств того, что элементы, из которых состоят уравнения экономического равновесия, не независимы по отношению к вышеуказанным институциональным факторам. Поэтому абстрактные свойства системы особенно ярко бросаются в глаза, когда чистая теория Вальраса сравнивается с его прикладной экономикой и социальной экономикой. Вальрас считал, что его чистая теория должна представлять собой ряд положений, отражающих основные процессы в экономике; но, к сожалению, она приобрела характер свода рецептов, ибо она действительно внушала мысль о том, что изложенные в ней методы ценообразования ведут к максимальному удовлетворению и максимальному благосостоянию. Используемый Вальрасом аппарат исследования может быть охарактеризован как универсальный, пригодный к описанию ценообразования в любой экономике. Как это ни курьезно, но, несмотря на все недостатки этого аппарата, немарксистская социалистическая теория широко использовала именно экономическую теорию, созданную Вальрасом.
Теория обмена, представленная первоначально для случая с двумя товарами 35, послужила основой для Вальрасова теоретического построения. Она исходила из допущения о том, что потребитель всегда ищет максимальную полезность. Можно утверждать, что Вальрас дал более точное определение предельной полезности, чем Джевонс; хотя это определение было им сформулировано после рассмотрения сферы обмена, оно в действительности легло в основу всей теории экономического равновесия. Предельная полезность, по Вальрасу, явление не только самоочевидное, но и поддающееся измерению. Экономистов-теоретиков, исследовавших эту проблему после Вальраса, ссылки на сравнимость и измеримость полезности повергали в смущение, и они просто обходили этот вопрос под тем предлогом, что для теоретического анализа он существенного значения не имеет, но последние годы измеримость предельной полезности вновь стала дискутироваться теоретиками, особенно сторонниками теории игр 36. Вальраса не беспокоили трудности оправдания кардиналистской трактовки полезности. Он модифицировал анализ, расположив данный ряд полезностей в соответствии со шкалой предпочтений потребителя, не измеряя каждую из них 37.
В уроке 9 книги «Элементы» даются условия равновесия рынка с двумя товарами, а в уроках 11—14 разрабатывается проблема равновесия рынка с несколькими товарами. Имеются уравнения, относящиеся к поведению индивидуума, а также уравнения, охватывающие рынок в целом; в этих последних должно соблюдаться условие равенства обмениваемых количеств. Поскольку последнее рыночное уравнение не является независимым, оно должно быть исключено из системы. А так как число уравнений совпадает теперь с числом неизвестных, то они могут быть решены совместно. Следует отметить, что шведский экономист Густав Кассель предложил аналогичный аналитический аппарат 38. Но в отличие от Вальраса, выводившего рыночные уравнения из функции полезности, Кассель принимал эти уравнения как данные. Он обосновывал это тем, что полезность — явление неизмеримое: по его мнению, измерению поддаются только цены и количество товаров.
Так как рыночный механизм предполагает существование резервных цен, возможно такое положение, при котором решение системы рыночных уравнений вообще недостижимо 39. Поэтому лучше говорить лишь о тенденции к установлению рыночного равновесия, и на рынке производственных услуг эта тенденция осуществляется в форме tatonnement. Здесь он вводит новое средство обмена — bons, или боны, которые предприниматели используют для заклю242
чения предварительного контракта при покупке и продаже товаров или услуг. Если цены на рынке находятся в равновесии, расчеты по этим бонам окончательны. Если же этого нет — счет на тот или иной товар не будет оплачен и произойдет пересмотр условий сделки 40. Надо сказать, что введенная Вальрасом форма предварительного контракта довольно хитроумна, ибо она позволяет избегать длительной процедуры поиска путей уравновешивания цен 41. Боны вместе с Вальрасовой tatonnement оказываются просто техническим средством для осуществления практики ценообразования методом проб и ошибок. Невольно возникает мысль, что Вальрас был на грани введения динамических элементов в свой статический анализ. Однако в целом его система по-прежнему несла на себе печать фантазии и отсутствия связи с реальной действительностью. Даже боны представляли собой лишь плод воображения и мало что добавляли к абстрактному аппарату, использовавшемуся Вальрасом. Высказывались даже мнения, что Вальрас не сумел доказать существования единственного решения его системы уравнений. Математически эти уравнения допускают возможность различных решений, а в некоторых случаях вообще исключают возможность решения. В частности, если возникает экономическая неустойчивость., то она ведь не обязательно будет устранена просто возвратом к первоначальному состоянию экономики 42. Попытки проследить движение равновесия через последовательные этапы статичного состояния были предприняты уже другими авторами, в частности Вильфредо Парето.
Несмотря на указанные выше недостатки Вальрасовой системы, ее автор предвосхитил многие из современных теоретических положений в отношении капитала и капиталообразования. Его интересовало, как определяется стоимость капитала в зависимости от потока доходов, что, конечно, связано с нормой капиталообразования. Норма капиталообразования является также основой для определения уровня процента. Она обусловлена ценами на средства производства. Вальрас говорил: «Стоимость товаров производственного назначения прямо пропорциональна создаваемому ими чистому доходу». Теория капитала Вальраса должна была принимать в расчет амортизацию и страховые платежи 43. Конечно, и те и другие платежи устанавливаются на основе определенных технических расчетов. Цены на капитальные блага также являются объектом калькуляции и капитальные блага имеют свой собственный рынок. Для анализа факторов производства Вальрас обычно использовал три стандартные категории. Но при анализе капитала он применял другие категории: земельный капитал, используемый как предмет личного потребления (например, земля под жилищами); личный капитал, используемый на потребительские цели (например, наем слуг); капитал как таковой (жилые дома); земля, используемая для производительных целей; личный капитал, используемый в производстве, то есть труд; капитал как таковой, используемый в производстве, то есть предприятия и оборудование 44. В теории Вальраса чистые сбережения равны инвестициям, так как они есть не что иное, как спрос на капитальные блага. Но это равенство еще не есть условие экономического равновесия: последнее скорее зависит от равенства сбережений и издержек производства капитальных благ. Если в тот или иной период обе эти величины не равны, имеет место расширение или сокращение производства.
Поскольку у Вальраса стоимость капитальных благ пропорциональна доставляемому ими чистому доходу, то они по существу однородны, и это позволило Вальрасу свести весь комплекс цен на них к единой величине, которая гарантирует постоянный чистый доход 45. На практике это означает такое распределение спроса на новые капитальные блага между различными отраслями промышленности, при котором чистая стоимость их продукции будет равна издержкам ее производства. Эта теория, применимая к товарам длительного пользования как потребительского, так и производственного назначения, основывается на стремлении к максимальному удовлетворению потребности со стороны владельцев денежных средств и всех тех, кто нуждается в услугах новых капитальных благ. Конечно, не следовало забывать и границы этого стремления, определяемые амортизационными отчислениями и платежами по страхованию 46. Следовательно, Вальрас разработал теорию ценообразования на капитальные блага, охватывавшую все виды капитала. Эта теория включала и процент, хотя движение последнего определяется лишь случайными обстоятельствами: процент реагирует на изменения в стоимости капитальных благ, так что поведение предпринимателей опять-таки зависит от механизма ценообразования. Поэтому норма процента есть нечто пассивное, а иногда она почти исчезает из анализа.
В некоторых очень важных вопросах теория капитала Вальраса явно слаба. Так, Викселль указывал, что сырье и полуфабрикаты являются формой капитала в такой же мере, как и оборудование. Средства, уплачиваемые предпринимателями рабочим или земельным собственникам, также должны рассматриваться 16* 243
как формы капитала. Следовательно, теория Вальраса, ограничивавшаяся только рассмотрением основного капитала 47, представляется незавершенной. В то же время равновесие требует равенства норм чистого дохода у всех видов капитала, так как цены товаров во всех случаях должны совпадать с издержками их производства. Кроме того, как указывал Вальрасу Энрико Бароне, процент имеет большое значение в связи с тем, что предприниматель всегда нуждается в определенном количестве numeraire 48.
Услуги земли, труда и капитала в процессе производства должны быть распределены, и решить эту задачу можно лишь с помощью теории производства 49. Но так как эти факторы производства приводятся в действие лишь с помощью механизма цен, анализ сводится, по существу, к анализу процесса ценообразования. И вновь Вальрас прибег к созданной им модели экономического равновесия и «выкрикиванию цен» покупателями и продавцами, используя в качестве дополнения tatonnement и bons. При выработке принципов своего экономического равновесия Вальрас вначале абстрагировался от фактора времени50. Это породило весьма серьезную опасность отождествления капитальных благ и осуществляемых ими функций. Во всяком случае, при наличии спроса потребителей предприниматели, очевидно, стремятся получить определенные услуги, чтобы удовлетворить этот спрос. Если ресурсы предпринимателей ограничены, последние сами могут использовать свою нереализованную продукцию, что гарантирует их от потерь 51. Это упрощает проблему соотношения уравнений производства и спроса. Математический аппарат в данном случае такой же, как и в теории обмена, а именно: предприниматель выступает в качестве покупателя производственных услуг и продавца созданных товаров и все, что от него требуется, — это придерживаться определенных технических коэффициентов. В производстве не будет никаких перебоев или узких мест. Необходимо лишь найти решение новой системы совместных уравнений. В условиях равновесия потребители, продавшие свои услуги, удовлетворены своими доходами, ибо цены на производственные услуги устанавливаются одновременно с ценами на товары. Точно так же, как спрос у Вальраса является функцией цен, цены на производственные услуги представляют собой функцию цен на все товары и другие услуги. Это давало возможность вывести функции совокупного спроса и совокупного предложения 52.
Технические коэффициенты, то есть производственные функции, оказывают влияние на уравнения цен и издержек производства. Но если они влияют на цены, они тем самым влияют и на все другие уравнения. Или, как говорил Вальрас, они линейны и однородны, то есть представляют собой уравнения первой степени, поэтому и пропорциональное увеличение производственных услуг обеспечит соответствующее увеличение выпускаемой продукции. Это есть не что иное, как экономика, характеризующаяся постоянной доходностью затрат, так как равновесие исчезает, как только один из предпринимателей попытается опередить других. Если последнее произойдет, продолжал Вальрас, совершенная конкуренция будет уничтожена, ибо более агрессивные фирмы получат преимущества перед другими фирмами и обеспечат себе монопольное положение. Теория фиксированных технических коэффициентов не способна, однако, объяснить такие случаи, когда производственные услуги ограничены, что часто имеет место, или когда предприниматели могут заменять один производственный фактор другим, в результате чего производительность экономики изменяется. В отличие от Вальраса Парето рассматривал разные возможности; он допускал изменение коэффициентов в зависимости от размеров производимой продукции или изменений других коэффициентов, а также считал возможным использование фиксированных коэффициентов. По Вальрасу же, такие отклонения от норм, устанавливаемых фиксированными коэффициентами, были бы довольно быстро устранены. Иными словами, возросший спрос должен привести к расширению производства, а возросшие издержки — к сокращению спроса. Экономика не может на длительное время выйти из состояния равновесия.
Все вышеизложенные положения у Вальраса облачены в математическую форму, но эта форма, очевидно, уже не удовлетворяет современных экономистов, работающих в области применения математики в экономических исследованиях. В математических формулах Вальраса довольно много логических изъянов. Возникает вопрос: действительно ли производство реагирует столь чутко, как это подразумевается в его теории? В реальной действительности не только нет его bons или «выкрикиваний», но часто люди руководствуются обычными догадками, основывающимися на тех или иных предположениях. Не будучи удовлетворен понятием фиксированных коэффициентов, Вальрас позже попытался, правда не очень успешно, превратить их в переменные коэффициенты. Однако условия экономического равновесия по-прежнему оставались условиями экономической статики.
244
Но эти попытки перейти к переменным коэффициентам послужили основой для выработки Вальрасом своего понимания предельной производительности. Можно сказать, что он является одним из создателей теоремы по этому разделу теории. Первоначально размеры спроса и предложения приводились в соответствие друг с другом путем уменьшения или увеличения числа фирм, причем последние теоретически имели одинаковые размеры и легко перемещались из одной отрасли производства в другую. Но по мере накопления капитала и экономического прогресса такое допущение вряд ли могло быть признано теоретически обоснованным; потребовалось выработать новую производственную функцию, допускавшую возможность замены фирмами одного производственного фактора другим. Предельная производительность в связи с этим стала критерием определения величины переменных коэффициентов. Предельная производительность предполагает наличие следующих двух предпосылок: а) издержки производства в условиях свободной конкуренции минимальны, б) цены на производственные услуги пропорциональны их предельной производительности в условиях экономического равновесия, причем предельная производительность математически выражается в виде частной производной от производственной функции 53. Это означало значительный шаг вперед в постановке проблемы равновесия, так как цены теперь превратились, по существу, в параметры для каждой из фирм.
Вальрас не вносил ничего нового в теорию предельной производительности вплоть до четвертого издания работы «Элементы» и до того, как он обсудил свои идеи по этому вопросу с Бароне и даже вступил в полемику с Уик- стидом. Однако и эта теория Вальраса не отразила подлинной динамики экономических процессов, а опять-таки исходила из ряда статичных состояний. По мнению Вальраса, коэффициенты изменяются и новое равновесие складывается лишь в том случае, когда увеличиваются капитал и население. Трактовка этого вопроса весьма туманна, и комментаторы Вальраса терялись в догадках вплоть до настоящего времени 54. Как обнаружил в конце концов Жаффэ, согласно теореме предельной производительности, общая величина издержек производства данной продукции будет минимальной, если производственная функция определена таким образом, что предельная производительность пропорциональна ценам на производственные услуги 55. Если это означает, что цены на услуги факторов определяются их предельной производительностью, а именно таково общепринятое мнение, то Вальрас, по существу, создал теорию распределения. Вальрас неоднократно подчеркивал, что распределение доходов в конечном счете зависит от распределения богатства; с этой точки зрения, по крайней мере теоретически, совокупный продукт должен распределяться между факторами в соответствии с их ценами. Это положение выражалось в теореме распределения продукта. Пропорциональность предельной производительности и цен имеет место при любом выпуске продукции и не зависит от стремления производителей максимизировать прибыль. Минимальных же издержек производства предприниматели добиваются обычным путем, ощупью, то есть с помощью tatonnement. Таким образом, прогресс превращался в процесс снижения предельной полезности потребительских товаров, происходящий одновременно с ростом численности населения. Иными словами, количество средств производства растет, причем темпами более высокими, чем прирост населения. Конечно, эта теория развития явно неудовлетворительна, ибо она не в состоянии дать ответ на вопрос о том, какие соотношения размеров накопляемого капитала и совокупного продукта необходимы для расширения производства; она также не объясняет влияния на этот процесс такого фактора, как неуверенность в будущем. В лучшем случае эта теория просто поверхностна.
Перейдя к теории ренты, Вальрас довольно энергично выступил против взглядов Рикардо, утверждая, что концепция последнего действительна, лишь если исходить из тезиса о постоянных и «предопределенных» размерах заработной платы и процента 56. Вальрас говорил, что классическая школа не сумела дать сравнительного анализа ренты в различные периоды времени и объяснить изменения ренты,обусловливаемые изменениями экономики в целом. По мнению Вальраса, анализ классиков в лучшем случае объясняет дифференциальную ренту в данный момент, исходя из возможностей вложения капитала в других отраслях. Но даже худшие земли имеют цену в связи с фактом существования собственности на землю. Поэтому эти земли также участвуют в образовании цен на производственные услуги. Рента, следовательно, выступает не просто как дифференцированный платеж за землю, а как результат качественных различий в производственных ресурсах, затрагивающих как цены, так и заработную плату. Единственной проблемой здесь является, по мнению Вальраса, проблема ограниченности этих ресурсов. В этом вопросе Вальрас в известной мере оставался на позициях старой теории абсолютной ренты; его 245
подход не произвел большого впечатления, и теория Рикардо продолжала доминировать 57.
Теория процента у Вальраса также не была разработана достаточно тщательно. По Вальрасу, эта форма дохода возникает в связи с процессом накопления капитала, поскольку предприниматели в условиях расширяющегося производства должны брать деньги в кредит, чтобы финансировать свои предприятия. Таким образом, возникает необходимость ввести в модель экономического равновесия рынок ссудного капитала и сферу кредита в целом, а также процент, который Вальрас определил как плату за сбережения. Так как цены и издержки производства должны быть уравнены, процент, как и амортизация, должен входить в цену товаров производственного и потребительского назначения. Вполне понятно, что прообразом для модели могла служить прогрессивная экономика, в которой происходит непрерывный рост накопления капитала 58. Этот механизм предполагает обмен новых капитальных благ на чистые сбережения. Поэтому условие, предусматривающее равенство размеров чистого накопления капитала и чистых сбережений, позволит составить уравнение, определяющее темпы роста производства и цены на промышленное оборудование. Аналогичным путем могут быть получены также уравнения, описывающие количества. Возможность дезинвестирования при этом исключалась 59. Одним из первых оппонентов этой трактовки процента был Викселль, который указал, что даже в статичном хозяйстве процент будет иметь место, в частности, в связи с кредитованием оборотного капитала. В схеме Вальраса размеры капитала пропорциональны величине чистого дохода при данной норме процента, которая определялась как отношение постоянного чистого дохода к стоимости капитала. Таким образом, сделки, осуществляемые на рынке капиталов, представляют собой обмен противостоящими друг другу постоянными чистыми доходами. В этом смысле процент становился источником инвестиций. При наличии свободы выбора для потребителей именно уравнением спроса в конечном счете определяется, какой тип промышленного оборудования будет произведен. Следовательно, процент пропорционален спросу на предметы потребления в такой же мере, в какой он пропорционален спросу на производственные услуги. Поэтому процент, с одной стороны, стимулирует сбережение, а с другой — является фактором рационирования затрат капитала.
В первом издании работы Вальраса «Элементы», вышедшей в 1877 г., содержалось несколько глав, посвященных теории денег. В 1886 г. вышла работа Вальраса «Теория денег», которая позже, в 1898 г., в пересмотренном виде вошла в его труд «Исследование прикладной политической экономии». В четвертом издании работы «Элементы» Вальрас еще раз пересмотрел свои взгляды в области теории денег. В уроках 29 и 30 этой работы он дал окончательное изложение своей теории денег. В наиболее ранних высказываниях Вальраса по этому вопросу исходным моментом была функция денег, в которой подчеркивалась заинтересованность покупателя в товарах, отыскиваемых им на рынке. Предельная полезность денег определялась их использованием в качестве товара, обладающего покупательной способностью. Более поздняя трактовка этого вопроса основывалась уже на другой точке зрения, напоминавшей теорию денежных остатков, имевшую распространение в Англии. Эта теория рассматривала деньги просто как деньги, в связи с чем анализ их предельной полезности оказывался ненужным. С помощью уравнений, определявших «цену» денег, Вальрас вводил в модель процент, а затем он использовал обычный метод постепенного приближения к равновесию. В четвертом издании предельная полезность денег появилась вновь, но в более явной форме, так что теория денег еще раз вошла в общую теорию равновесия. Уравнение денег на этот раз было «...обоснованно выведено из уравнения обмена и максимального удовлетворения потребностей, а также из уравнений, описывающих равенство между спросом и предложением оборотного капитала. Таким образом, в теории денежного обращения и денег, подобно теориям обмена, производства, капиталообразования и кредита, не только заданы, но и решены соответствующие системы уравнений» 60.
Потребность в теории денежных остатков возникла после того, как экономисты отказались от тезиса о необходимости для потребителей ожидать появления на рынке соответствующих товаров; когда запасы товаров оказались достаточными, проблема свелась лишь к наличию у покупателей денежных средств. Но если поставка и оплата товаров происходят в сроки, согласованные с покупателем, то непонятно, откуда возникает проблема денежных остатков. Уверенность в нормальном течении сделок, по-видимому, уменьшает стремление держать наличные деньги. Высказывания Вальраса о денежных остатках, по мнению некоторых экономистов, представляются не совсем правильными. Во всяком случае, замена его numeraire подлинными деньгами не нарушает, очевидно, устойчивости всей экономиче246
ской системы. Обладание наличными деньгами может быть соотнесено с величиной их предельной полезности, оно становится важным элементом процесса денежного обращения. Деньги движутся в направлении, обратном движению товаров. При наличии кредита, оборотного капитала и взаимного погашения платежей модель экономического равновесия становится еще более сложной. Но теперь по крайней мере все элементы экономики увязаны между собой. Спрос на деньги порождает денежный рынок. Это спрос на определенного рода производственную услугу, на которую также должна быть установлена цена, соответствующая равновесию. Так как «цена» денег оказывает влияние на все уравнения, а следовательно, и на все количественные связи, деньги становятся активными элементами экономики, ибо стремление обладать наличными деньгами зависит от общей суммы заключаемых сделок 61. Теория Вальраса определенно не исходила из меновой торговли, а была неразрывной составной частью его общей экономической концепции 62. В его конечных выводах цены выступают как результат потока денег, поэтому все поступления и платежи могут быть выражены в денежной форме. Выручка от продажи товаров, попав в руки предпринимателя, затем поступает к владельцам факторов производства и превращается в доход, который вновь расходуется на приобретение товаров. Таким образом, возникла чрезвычайно сложная экономическая таблица, в которой все элементы экономики тесно и тонко связаны друг с другом 63.
Теория Вальраса, бесспорно, является замечательным творческим достижением. В ней подчеркнута идея взаимозависимости, а также показано, как эта взаимозависимость складывается и проявляется. Но в этой теории не показано, как развивается экономика, как изменяются основные социально-экономические отношения. В системе Вальраса отсутствуют живые люди, функционирующие в сложной социальной среде. Факторы производства в системе Вальраса, как и во всех системах подобного рода, суть абстрактные категории, на которые как будто и не действуют силы, сообщающие экономике характерное для нее движение.
Таких понятий, как время, неуверенность, рост, нововведения, предпочтение ликвидности, увеличение инвестиций, вкусы, реклама, наконец, экономический цикл, схема Вальраса не знала 64. Вальрасова экономическая теория — это наука о товарообмене, подкрепленная некоторыми механическими приемами максимизации удовлетворения. Как сказал Милтон Фридман, Вальрасова модель представляет собой форму экономического анализа без предмета этого анализа. И действительно, в эту голую схему вряд ли можно вдохнуть научное содержание, и в этой связи следует сказать несколько слов об описываемых Вальрасом экономических отношениях 65. В схеме Вальраса, например, каждый товар и каждый вид производственных услуг имеют свое собственное уравнение; следовательно, если имеется 10 тыс. товаров и 1 тыс. факторов производства, то должно быть 21 999 уравнений. А для всей экономики число уравнений поистине необъятно; следовательно, путем эмпирических исследований нужно как-то сгруппировать имеющиеся данные, с тем чтобы сделать возможным экономический анализ. Точно так же мало реального в Вальрасовой трактовке предельной полезности, так что переход к орди- налистской трактовке представляется неизбежным. Но еще более важно указать на следующий коренной порок Вальрасова анализа: в нем почти ничего не сказано о сопряженных или комбинированных продуктах 66. И может быть, институционалисты действительно правы, когда говорят, что надо привлекать больше психологического, исторического и социологического материала, если мы хотим полностью раскрыть истинную природу человека. Королева наук — математика, очевидно, нуждается в дополнительных слугах.
Кроме того, любая теория свободной конкуренции, будучи пересаженной на современную почву, приобретает привкус нормативности, хотя ее авторы, возможно, и добросовестно пытаются дать позитивное решение экономических проблем. Теория свободной конкуренции становится разновидностью утопии, ибо она по-прежнему представляет экономику в виде совокупности бесчисленных мелких производителей, каковой экономика уже давно не является. Хотя сторонники теории экономического равновесия и неохотно признают это, тем не менее накладные издержки, крупное производство, администрируемые цены и господство корпораций — это непреложные факты действительности, и чтобы экономическая теория могла принести пользу, она должна признать все то новое, что зачастую ставит исследователя в тупик. Теория равновесия на базе свободной конкуренции вряд ли отвечает требованиям путеводителя для практики. Хотя институционалисты, возможно, напоминают ликоковского всадника, скачущего одновременно во всех направлениях, они по крайней мере обеспокоены тем, что где-то свирепствует пожар. Теоретики же равновесия, ослепленные своей любовью к хитроумным пере247
плетениям экономических категорий, не проявляют никакого желания ставить вопросы, имеющие непосредственное практическое значение. Поэтому, подобно всем чистым теориям, концепция Вальраса не является подлинно действенной: условия, лежавшие в основе разработанных им уравнений, ныне не существуют. Наоборот, говоря словами Джона Кеннета Гэлбрейта, между многими частями экономического механизма равновесия не существует. Неспособностью Вальраса поставить вопросы, имеющие действительно актуальное значение для политической экономии, объясняется и большой разрыв между его чистой и прикладной экономическими теориями. В области прикладной экономики Вальрас обнаружил себя умеренным социалистом, что совершенно не вяжется с его сложными математическими построениями. Теория экономического равновесия, подобная той, которую создал Вальрас, послужила основой для многих теоретических изысканий современных экономистов, но она и не рассматривала вопрос о том, как достигнуть сбалансированной экономики в условиях постоянно усложняющейся и развивающейся технологии производства, в условиях господства корпораций, приводящего к олигополистической ситуации. В такого рода теории нет места для этих проблем, по существу охватывающих все актуальные вопросы современной экономики.
2. ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО: НАУКА В ВИДЕ ПРОПОВЕДИ
Экономическое учение, родоначальником которого явился либеральный буржуа Леон Вальрас, затем было развито очень способным аристократом Вильфредо Парето (1848—1923). Вряд ли можно найти двух людей со столь противоположными взглядами, как Вальрас и Парето. Первый, будучи убежденным оптимистом во взглядах на развитие общества, предлагал реформы, непосредственно отражавшие идеи вечного поступательного прогресса, которые господствовали в XIX в.; второй проникался все большим пессимизмом в отношении возможности достигнуть разумного устройства общества. Социальные взгляды Вальраса были порождены соображениями утилитарного характера, тогда как Парето, не ограничившись рамками laissez faire, пропагандировал крайнюю степень индивидуализма. Правда, и Парето испытал значительное влияние либеральных взглядов Спенсера и Дарвина, однако возрастающие масштабы правительственного вмешательства в деятельность людей сделали его безнадежным пессимистом и последовательным макиавеллианцем — автором огромного и мрачного социологического трактата «Trattato di sociologia generale» 67, в котором люди предстают или как коварные лисицы, или как жестокие львы.
Сведения о биографии Парето довольно скудны 68. Он родился в Париже от брака итальянца и француженки; его отец — marchese * — был приверженцем Мадзини, в результате чего он много лет вынужден был жить в изгнании. Последователи Мадзини были гуманистами-де-
♦ Маркиз (ипгал.).— Прим, перев. мократами, они верили в прогресс, социальную гармонию и совершенство человека, то есть исповедовали убеждения, от которых Парето решительно отмежевался. Испытывая давление правительства, с одной стороны, и левой оппозиции — с другой, многие из либералов- демократов отказались от иллюзий и попросту вынуждены были научиться жить в условиях монархии. Это внушило Парето отвращение- к их трудам, которое пронизывает все era сочинения. В 1858 г. родителям Парето разрешили вернуться в Италию, где он и учился. Парето получил математическое и инженерное образование и в течение ряда лет работал на железных дорогах Италии, когда же они были национализированы, его неприязнь к взглядам отца еще больше возросла. Он едко охарактеризовал правительство как «плутоде- мократию». Затем Парето поступил на службу в сталелитейный концерн, где он работал в качестве члена правления. Он много путешествовал по Европе и получил основательные познания в области хозяйственной практики. В начале своей карьеры Парето пытался было заняться политической деятельностью, но он потерпел поражение на первых же выборах. Затем он стал свидетелем того, как правительство отвергло все попытки осуществления политики экономического либерализма. Парламентское большинство поддерживалось путем обычной тактики подкупа и проволочек. Сначала Парето нападал на протекционистскую политику, затем — на правительство и, наконец, на веду' щих политических деятелей, в отместку ему запретили читать лекции и работать в университетах. Когда он в 1893 г. покинул Италию,, обе стороны вздохнули с облегчением.
248
Интересы Парето были весьма разносторонними, он занимался древней историей, философией, социологией, языками и религией, равно как и математикой и экономикой. Его эрудиция ощущается практически во всех работах, в них чувствуется также страстная приверженность к тому типу экономического либерализма, который впоследствии стал столь характерен для Мизеса и Хайека. Доктрина экономического либерализма была популярна в Италии в 70-х и 80-х годах XIX в. Но заметно было также и влияние немецкой исторической школы, особенно в трудах Маффео Панталеони, который вдохновил на изучение экономической теории как Парето, так и Энрико Бароне. Фактически именно Панталеони рекомендовал Парето Вальрасу, когда последний искал себе преемника. В 1890 г. Парето получил значительное наследство и оставил службу, чтобы заняться любимыми делами. Когда в 1893 г. Вальрас пригласил его занять место на кафедре политической экономии Лозаннского университета, Парето был счастлив уже потому, что он мог расстаться со столь ненавистной ему парламентарной системой 69. Борьба за объединение страны, которая происходила в 60-х годах XIX в., истощила страну в духовном отношении, и Италия казалась Парето интеллектуальной пустыней. Кроме того, он так и не смог найти места в итальянских университетах, а от политических событий, которые потрясали Италию после 1893 г., он предпочел уклониться70.
Вальрас и Парето, однако, никогда не были дружны между собой. Вальрас по темпераменту был буржуазным реформистом, тогда как Парето был озлобленным аристократом, для которого демократия и коррупция были синонимами. Столь страстное неприятие демократических аспектов движения, возглавлявшегося Мадзини, явно проистекало из его бунта против отцовского авторитета. Проповедников гуманности Парето называл «паразитами», но особенно от него доставалось демагогам и другим, кто извлекал выгоду из демократической формы правления. Он начал интересоваться политической экономией в 1877 г., будучи лектором по курсу экономической логики. Свои взгляды на экономическую политику Парето высказывал в довольно откровенной и резкой форме. Аристократическое прошлое Парето не позволяло ему понять идеалы средних классов. Парето оставался в духовной изоляции и тем не менее, подобно Веблену и Марксу, он был продуктом своего времени, которое он презирал, хотя и относился к своей эпохе совсем иначе 71. Назначение на должность в Лозанне означало для Парето начало карьеры экономиста-теоретика. Как и Вальрас, Парето один семестр читал курс чистой политической экономии, другой семестр — курс прикладной экономики. Сердечное заболевание вынудило его в 1906 г. выйти в отставку; поселившись в своем имении близ Селиньи на берегу Женевского озера, Парето в течение семнадцати лет был занят разработкой своей социологической системы. Хотя на его социологических и экономических взглядах отразилось то обстоятельство, что он некогда работал инженером, его эмпирические исследования нельзя признать очень удачными. Он так никогда и не освободился от влияния Спенсера, а большая часть фактического материала, имеющегося в его работах, была почерпнута из обширной и разнообразной домашней библиотеки. Сбор и анализ фактов были чужды Парето, поэтому его концепции общественного устройства носят по существу умозрительный характер 72. Он превратился в «одинокого мыслителя из Селиньи», издали взиравшего на презираемый им мир и высказывавшего об этом мире довольно резкие суждения, скрытые за наукообразной формой. Парето был убежден, что цивилизация находится на последней ступени упадка. Как и Кассандру, никто его не хотел слушать, в конце концов он возомнил себя посторонним свидетелем, способным в равной степени бесстрастно выражать свои суждения о людях и обществе.
Престарелый Парето, отрастивший большую бороду и облаченный в ниспадающую мантию, проводил свои дни на вилле в Селиньи, в окружении не менее двух десятков кошек. Подобно своим подопечным, он был «независим, по-кошачьи злобен и горд», любил строгость и умел «показывать зубы», если ему что-то не нравилось. Прирожденный бунтарь, он приветствовал всех, кто конфликтовал со своими правительствами. Его воображаемые враги были повсюду: это и демократы, и пангерманцы, и женщины, воюющие против алкоголя, и жеманницы, и те из его сограждан, которые пытались замалчивать его сочинения. Так и жил Парето в окружении кошек, разрабатывая свою теорию общественного устройства и пытаясь внедрить в это устройство элементы кошачьего поведения. Жил, как аристократ, полный презрения к тому обществу, которое его породило.
Муссолини сделал Парето сенатором, и хотя итальянские фашисты восприняли некоторые идеи из его теории «общественной элиты», вряд ли Парето был ярым приверженцем их доктрины. Он вообще не любил никаких идеологий. Однако его социологические и экономические исследования, как и все аналогичные- 249>
работы, несут идеологическую нагрузку. Экономические взгляды Парето имели немалое влияние, особенно в Италии. А его социальные воззрения временно были в моде в США в 20-х и 30-х годах XX в. Некоторые из технических приемов экономического анализа, разработанные Парето, вошли даже в стабильные учебники, в частности, анализ кривой безразличия, которую Парето воспринял у английского математика-экономиста Фрэнсиса Эджворта. Уже за одно это Парето заслуживает внимания; но, помимо этого, ему принадлежит заслуга создания значительно более совершенного варианта теории общего равновесия, ставшего одной из главных отправных точек для современной экономической мысли. Именно это и сделало его крупной фигурой в истории экономической науки.
На торжестве по случаю двадцатипятилетия его профессорской деятельности в Лозанне Парето сказал: его попытка выйти за пределы чистой политической экономии объясняется тем, что, по его мнению, теория внутренней взаимосвязи явлений недооценивает необходимости четкой классификации этих последних. Парето считал, что экономическая наука оказалась в тупике, так как ее теоретические выводы не могут быть проверены с помощью эксперимента. Именно отсутствие связи экономической теории с практикой заставило Парето расширить рамки своих исследований и перейти из области чистой политической экономии в область социологии 73. Недовольство таким положением экономической науки усугублялось также крахом теории экономического либерализма, которую так страстно защищал Парето. Этот крах особенно стал ощутим после того, как не оправдались мрачные предсказания либералов-фритредеров о тяжелых последствиях политики итальянских протекционистов для экономики этой страны. В логическом плане чистая политическая экономия и обосновывавшиеся ею экономические программы казались неопровержимыми. Но, говорил Парето, где-то была допущена ошибка. Он решил, что разрыв между экономической теорией и практикой может быть заполнен только социологией, ибо, по его мнению, действия, противоречащие теории либерализма, противоречат и логике; такие действия — пережитки прошлого в человеческом сознании, проявления страха, суеверия и т. д. После того как Парето классифицировал в своей чистой теории все логические категории человеческих действий, ему оставалось лишь раскрыть природу нелогических действий 74.
Многие положения своих социологических концепций Парето выработал в процессе критики социализма и марксизма в ранние годы. Его работа «Les systemes socialistes» * по существу представляла собой связующее звено между его чистой политической экономией и социологией 75. Опровержение экономической и социальной теорий марксизма было модным интеллектуальным увлечением конца XIX в., которому Парето отдался с большой страстью и делал это более искусно, чем многие другие. Он обстреливал социалистическую теорию из тяжелых орудий позитивизма Спенсера и Конта, и его блестящие полемические выпады были довольно острыми и вполне могли причинить беспокойство марксистам. И все же критика Парето так и не смогла подняться до рассмотрения всей совокупности взглядов, составлявших учение марксизма. Кроме того, из экономических работ Парето можно сделать вывод о том, что логически социализм осуществим, так как он в состоянии обеспечить максимальную полезность, по существу так же, как и любая конкурентная система. Более того, социализм способен с помощью всеобщего налогообложения покрыть общественные издержки, следовательно, его можно считать даже более эффективной общественной системой, чем капитализм 76. Однако Парето продолжал доказывать, что социалистов надо считать утопистами, ибо они не сумели решить проблему распределения ресурсов. Распределение экономических ресурсов, указывал Парето, требует действия механизма рынка и ценообразования, без которого социалисты неизбежно должны будут осуществлять централизованное управление этим процессом.
Парето не раз вторгался в область социалистических воззрений. Еще в 1893 г., когда он впервые прибыл в Лозанну, Парето написал критическое введение к сокращенному изданию «Капитала», осуществленному зятем Маркса Полем Лафаргом. Двухтомная атака на это произведение была предпринята им восемь лет спустя. Он отвергал любое заявление о научной обоснованности марксизма. Парето говорил, что логика марксизма не представляет интереса, но сам марксизм важен как порождение весьма значительных социальных обстоятельств. По сути дела, здесь уже содержался зародыш социологии Парето, в которой общество представлено как хаос мифов, предрассудков и верований, зачастую ложных и иррациональных представлений. Однако Парето не мог не признать наличия «зерна истины» в учении Маркса, особенно в теории классовой борьбы, являвшейся вдохновляющим руководством к прак* «Социалистические теории» (франц.).— Прим, перев.
250
тической деятельности 77. Эти положения он считал основой для создания жизнеспособной социальной теории, хотя и объявлял их несколько расплывчатыми. Парето заявлял, что марксизм ввел в заблуждение неграмотные массы благодаря той страстности, которая для него характерна, а грамотных людей привлек своей кажущейся логической стройностью. Лишь страстность, присущая Марксу, сделала его учение столь привлекательным. Однако Парето вынужден был признать, что материалистический взгляд на историю обнаруживает черты подлинно научной теории 78. Но в то же время Парето утверждал, что материалистический взгляд на историю —лишь рассчитанный на эмоции придаток к социалистической теории. Классовая борьба — это объективный исторический факт, какую бы специфическую окраску ни придавали ей социалисты. Марксистская идеология, говорил Парето, видимо, так же необходима социалисту, как религия крестьянину, но она едва ли правильно отразила социальные противоречия и конфликты 79.
Борьба в обществе, как ее видел Парето, происходила не между «пролетариатом и буржуазией», а между новой социальной элитой, то есть людьми с более выдающимися способностями, решившими захватить власть в свои руки, и старой господствующей верхушкой. Что касается народных масс, то это, согласно Парето, нечто вроде ручных зверей, вступающих в борьбу по воле своих хозяев. Конечно, лозунги справедливости и гуманности полезны для руководства действиями масс, и массы действительно глубоко верят в осуществимость этих лозунгов. Но подлинная борьба происходит, по мнению Парето, между группировками «элиты» за обладание властью 80. Парето считал, что социальная борьба будет иметь место даже в коллективистском обществе и что марксистское представление о бесклассовом обществе есть иллюзия 81. Парето не считал также социализм неизбежным историческим преемником капитализма, ибо, как и Веблен, он полагал, что исторические альтернативы пеограничены. По Хьюзу, Парето перевернул учение Маркса*82, а исторический материализм был истолкован в консервативном духе в угоду идеологическим апологетам Муссолини.
Парето был убежденным последователем Макиавелли 83. Черты макиавеллизма выступают в непоколебимой вере Парето в необходимость разделения общества на массы и правителей, в его признании насилия и обмана * Селигмен фактически проходит мимо антимарксистской демагогии Парето и лишь в небольшой степени характеризует реакционную сущность его взглядов. —Прим. ред.
неотъемлемыми качествами всех правительств, в его высказываниях о неизбежной деградации политических институтов общества. Во многих отношениях взгляды Парето превратились в несколько более общий вариант сорелевской теории социального мифа. Предрассудки и верования людей рассматривались в качестве основных движущих мотивов человеческих поступков. Так как представители элиты, борющиеся между собой за главенствующее положение, по своим природным данным выше остальной массы населения, то можно ожидать, что они захотят захватить власть. Таким образом, политическая активность ограничивается небольшими группировками представителей элиты, в то время как основная масса населения остается инертной даже при демократической форме правления.
Эта теория приобретала всеобщий характер, охватывая по сути дела все поступки людей. Неосознанные, по существу инстинктивные поступки и попытки дать им какое-то рациональное истолкование — вот что лежит в основе всей человеческой деятельности, включая такие явления, как войны, религия, искусство государственного управления. Хотя рациональная сторона человеческих поступков казалась Парето более важной и более интересной, он считал инстинкты людей явлениями более устойчивыми и поэтому основными. Свои взгляды Парето пытался подкрепить огромным количеством иллюстраций, которые он почерпнул из книг, прочитанных в долгие часы бессоницы.
В то время как инстинкты устойчивы, их рациональное истолкование быстро меняется и неодинаково в различных странах и в различные исторические эпохи. Поэтому первые являются всеобщей основой человеческой практики. Но они представляют собой не психологические и не биологические, а социальные категории. Однако, уделяя такое внимание настроениям и инстинктам людей как основе их поступков, Парето фактически подчеркивал значение психологических мотивов предпринимательской деятельности. Он установил шесть основных групп человеческих инстинктов: совокупность инстинктов или настроений производительного характера; инстинкты, выражающие устойчивый характер отношений между людьми или между людьми и вещами; инстинкты самовыражения, например религия; общественные инстинкты, пример которых дает самопожертвование; инстинкты и настроения, связанные со стремлением к самосохранению; половые инстинкты. Итак, все это иррациональные основы человеческих действий. Рациональная сторона поступков людей отражает их стремление думать и объяснять инстинк251
ты. Иногда вполне логично, но чаще ненаучно, человек связывает один инстинкт с другими, с тем чтобы как-то объяснить свои поступки. Рациональные мотивы человеческих действий группировались в четыре вида: простое утверждение; обращение к авторитету; возведение настроений в принципы; словесные доказательства, часто основывающиеся на эмоциях и двусмысленностях. Но эти мотивы не являются инструментами социальных сдвигов, ибо последние — функция инстинктов.
Несмотря на то что социология Парето имела известное влияние после первой мировой войны, а отдельные ее положения настолько самоочевидны, что и сейчас являются общепризнанными, в наши дни вряд ли кто-либо серьезно воспримет ее как законченную теорию. Тем не менее нельзя не удивляться тому, что в возрасте, когда у людей обычно едва хватает сил, чтобы копаться в своем саду, Парето приступил к исследованию новой системы идей. Он говорил: «Основной целью моих исследований всегда было одно — обогатить социальную науку, частью которой является экономика, экспериментальным методом, позволившим естественным наукам достигнуть таких блестящих результатов... Человеческая деятельность охватывает две основные области — область человеческих чувств и область эмпирических исследований. Невозможно преувеличить важность первой из них. Именно чувства дают толчок к действию, диктуют правила морали, определяют всевозможные формы увлечений человека, его религию. Человеческое общество существует и развивается, вдохновляемое идеалами. Но важной для него является и вторая область, которая дает для первой рабочий материал. Вторая область человеческой деятельности обогащает людей знаниями производительного характера их действий и пользы чувств, которые сами по себе довольно медленно приспосабливаются к окружающей среде» 84.
Парето не удалось исследовать внутреннее содержание инстинктов и чувств людей; такого рода исследование, которое осуществил Фрейд, было ему чуждо 85. Точно так же не была известна ему и концепция «понимания», лежавшая в основе немецкой социологии. Возможно, что Парето отверг бы эту концепцию, ибо она предполагала признание соответствующей системы моральных ценностей. В результате его инстинкты оказались «ни рыба, ни мясо». Иногда они выступают как инстинкты, коренящиеся в биологической природе человека, а в некоторых случаях мало чем отличаются от форм человеческой деятельности. Деление их на шесть категорий носит искусственный характер, а подбор иллюстративного материала произволен. Это деление не основано на обширном историческом материале, которым располагал Парето, а скорее навязано материалу как некая схема. Не удивительно, что вся социальная теория Парето приобрела формальный характер 86. Утверждение Парето, что его социальная теория основана на сравнительном анализе, никого не убеждает, так как Парето нигде не дал настоящего анализа природы инстинктов, как того требует генетический метод. Как заметил Стюарт Хьюз, подбор фактов у Парето обнаруживает лишь его собственные предрассудки.
Утверждение, что следование традиции в поведении играет полезную роль, свидетельствовало о признании важности системы моральных ценностей. Кроме того, инстинкты и попытки их рационального истолкования становятся по-настоящему понятны лишь тогда, когда они вводятся в определенные политические рамки. Парето считал, что в области политики он сохраняет нейтральные позиции; на деле же его социальная и экономическая концепции свидетельствуют не только об отсутствии этого нейтралитета, а о политической направленности его взглядов. Как попытка объективного социологического исследования теория Парето не достигла цели. Конечно, она содержит некоторые полезные элементы: она привлекла внимание к человеческим инстинктам и иррациональной стороне поступков, а также подчеркнула большое значение идеологического фактора в человеческом мышлении. Но все это уже было известно ранее. Пожалуй,, лишь в области критики социальных форм Парето выделялся довольно заметно. По существу, его теоретические высказывания представляли «политический манифест, облаченный в научную форму», который представлял бесспорный интерес для авторитарных группировок. Итальянские фашисты не были столь невнимательными, чтобы не понять этого 87.
Когда инстинкты в конце концов были сгруппированы в две основные категории, налицо оказались и макиавеллевские символические обозначения этих категорий — лисица и лев. Лисица символизировала комплекс инстинктов, порожденных хитростью. Лев воплощал настойчивость и непримиримость — качества, присущие идеалистам, революционерам и фанатикам; он правит с помощью силы. Из этого раздвоения вырастала циклическая теория общественного развития 88. А именно, когда власть принадлежит лисицам, все поступки диктуются их непосредственными целями. Но если управляющие ими инстинкты притупляются, возникают условия социальной неустойчивости. Представители новой элиты, наделенные 252
качествами львов, начинают борьбу за власть. В экономической области это означает борьбу между рантье и предпринимателями. Социальный конфликт затрагивает и интеллектуальную надстройку, причем среди лис преобладают настроения скептицизма, а львами движет вера. По мнению Парето, это время благоприятствует появлению на исторической арене новой группы львов, свергающих плутократию лисиц.
Итак, исторические перемены отражаются в смене элит 89. Новые группировки элиты всегда предпочтительнее старых, так как они более энергичны и сильны и быстро избавляются от софистики старых правителей. Но трагедия истории состоит в том, что новая элита в конечном счете также будет править, как хитрая лиса. Таким образом, основными двигателями истории являются сила, борьба и революции 90. По существу, теория чередования группировок элиты выступила в роли теории общественных сдвигов, теории развития и упадка общества, подобно теориям Шпенглера и Тойнби, и это был миф как раз такого рода, который мог быть использован в интересах Муссолини 91. Будучи применена к обществу в целом, концепция Парето становилась теорией социальной полезности или общественного благосостояния. Индивидуумам предлагалось поступать в соответствии с определенными нормами, продиктованными разумом. Мораль превращалась в совокупность разумно обоснованных норм, обеспечивающих устойчивость общества. Как только что-либо начинало угрожать последней, в действие вступали силы, способные восстановить равновесие 92. Парето упустил из виду, что равновесие постоянно нарушается вследствие смены группировок элиты. Точно так же он не достиг успеха в применении математики для обоснования своих социальных концепций. Что же касается его надежд на хорошие результаты применения методов физики в исследованиях социальных проблем, то они не оправдались.
Предложенная Парето схема экономического равновесия представляла собой лишь аспект более общей теории равновесия, предположительно обусловленного политическими и социальными факторами. Такая законченная общественная наука нуждалась поэтому в исходных предпосылках и иллюстрациях исторического и статистического характера. Но так как чувства дают о себе знать повсюду, тот, кто стремится к подлинной истине, не может положиться только на чисто экономические исследования. Основная идея концепции Парето ясна: только всестороннее исследование общественных явлений позволяет удовлетворительно решить проблемы, связанные с существованием монополий, профсоюзов и других средоточий власти. Это явно напоминает позитивистскую концепцию общественного устройства, развивавшуюся Контом. Изучение чувств людей может способствовать освобождению экономической науки от влияния теологии и метафизики и познанию природы экономических законов. Густав Шмоллер как-то возразил Парето, что никаких экономических законов нет. В ответ на это последний вежливо осведомился, можно ли бесплатно пообедать в ресторане. Шмоллер пренебрежительно сказал, что это, конечно, невозможно. Но это, отпарировал Парето, и есть естественный экономический закон 93.
Если изучить экономические взгляды Парето, легко убедиться, что в своем первоначальном виде они представляли собой не что иное, как повторение положений Вальраса, несмотря на полную противоположность их мировоззрений и философских взглядов. Сходство экономических позиций обоих авторов особенно бросается в глаза, когда читаешь работы «Cours d’econo- mie politique» * 94 и «Manuale d'economia po- litica» ** 93. В основе этого сходства лежали, конечно, теория общего равновесия и приверженность математическому методу. Техника расчета кривой безразличия означала введение Парето новых элементов экономического анализа, однако его концепция исходила из статического равновесия в экономике и предлагала одновременное решение всех экономических задач. Решение достигалось путем сопоставления потребностей или склонностей людей с «препятствиями» или ресурсами соответствующих благ. Такого рода баланс приобретал характер застывшего изображения и фактически игнорировал изменения во времени. Парето, по-видимому, умышленно отвлекался от фактора времени, так как считал изучение статического равновесия необходимым предварительным условием для изучения всех экономических процессов. Математические функции, связывавшие потребности людей с ресурсами, были действительны лишь в условиях равновесия. Модель этого равновесия, как надеялся Парето, сможет отразить и динамические процессы, если в нее будет введен фактор времени. Однако в представлении Парето динамические изменения есть лишь последовательный ряд статических состояний; в основном они выступают у него как придаток к модели в виде исторического и социального материала. Фактически Парето отказывался от вся* «Курс политической экономии» (франц.). — Прим, перев.
** «Учебник политической экономии» (итал.).— Прим, перев.
253
кого рассмотрения экономических отношений общества в динамике, определяя отрезки времени в модели как весьма краткосрочные. Логика анализа вынуждала прибегать к эмпирическим положениям, почерпнутым вне чистой экономической доктрины, но в руках Парето они превращались в абстракции, основанные на неких средних данных 96. Понятие же подвижного равновесия и непрерывных экономических сдвигов очень близко к теории замкнутого цикла, основанной на обратной связи, теории, развитой позже А. Тустином 97. Взаимосвязи элементов паретовской схемы представляют собой скорее результат действий индивидуумов, а не результат тех или иных объективных факторов. Они достаточно сложны и требуют математической трактовки, но в центре этих связей у Парето всегда стоит индивидуум. Если, например, трактовать субъективно кривые выручки и доходов, то между их содержанием в категориях ex ante и ex post исчезнет всякая разница.
В отличие от вальрасовских «Элементов» Парето в своем «Курсе» выносит математические расчеты в примечания, не прибегая в тексте к помощи математических символов и уравнений. Математический аппарат у Парето служит для того, чтобы показать определенность экономических задач и возможность их решения. Вальрас не сумел с помощью tatonnement доказать наличие одной-единственной точки равновесия, поэтому Парето отверг это понятие. Структура «Курса» несколько хаотична. Начинается он с подробных методологических рассуждений, затем идет изложение теории равновесия, а после этого следуют несколько самостоятельных глав, посвященных прикладной экономике. В работе имеется много отступлений, затрагивающих социальные и политические вопросы, отступлений, которые совершенно не вяжутся со стремлением автора создать политически нейтральную теорию. Они носят отчетливо выраженный нормативный характер и представляют собой зародыш будущих социологических концепций автора. По утверждению Парето, в обществе царствуют две силы: сила принуждения и сила инерции; прогресс состоит в том, чтобы подавить первую и дать простор для второй. Парето охотно отождествлял принудительные элементы с действиями парламентарных правительств.
Парето не был удовлетворен термином «полезность» и поэтому ввел другой термин, по его мнению, более нейтральный,— ophelimite, что означает просто «желаемость вещи». Так предельная полезность превратилась у него в ophelimite elementaire. Чем новый термин лучше старого, не ясно. По-видимому, Парето исходил из того, что предельная полезность определяется не только количеством данного блага, а в соответствии с принципом всеобщей взаимозависимости связана с общими ресурсами всех других благ. Совокупная полезность всех благ есть функция совокупного предложения всех благ, а предельная полезность связана с полезностью добавочной единицы соответствующего блага. Таким образом, Парето стремился разработать всеохватывающую систему экономического равновесия. Но, как указывал Шумпетер, паретовская концепция предельной полезности лишь с большим трудом могла быть переведена на язык математических формул, ибо это потребовало бы вычисления частных производных и, следовательно, вызвало бы ненужное усложнение всего анализа 98. Парето, однако, был убежден, что, исходя из факта существования выбора и применяя математическую логику, можно создать подлинно всеохватывающую экономическую теорию. На основе этой общей теории можно затем разработать... «экономические теории, которые были бы применимы к обществу свободной конкуренции, к обществу, где господствуют монополии, к обществу, в котором установлена коллективная собственность, и т. д. Короче говоря, представьте себе тот или иной тип экономического устройства общества. Сразу же возникают определенные проблемы, связанные с решением вопроса о практической возможности осуществления этого экономического устройства общества, о его юридическом, моральном и других аспектах. Затем возникает другая проблема — проблема экономической эффективности рассматриваемого общественного порядка. По первой группе проблем наша общая экономическая теория ничего сказать не может, так как она не рассматривает явления, порождающие эти проблемы, но она дает нам все необходимое для решения проблем второго рода» ".
Положение о том, что максимальная полезность может быть реализована лишь в условиях свободной конкуренции, встретило резкую критику со стороны Викселля 10°. Шведский экономист указывал на необходимость учитывать не только преобладающие цены, но и то, что свободная конкуренция не мешает, например, рабочим добиваться улучшения своего положения путем согласованных действий вопреки такому факту, как ограничение механизмом свободной конкуренции максимального размера заработной платы величиной, совместимой с данными размерами процента. Иначе говоря, рабочие в состоянии преодолеть те ограничения, которые налагает на их требования механизм свободной 254
конкуренции. Парето же считал, что рабочие могут улучшить свое положение, отказываясь работать на том или ином оборудовании и изменяя таким образом производственный коэффициент 101.
Трактовку полезности критиковал также Бенедетто Кроче, хотя он не был экономистом102. Для Кроче было самоочевидным, что экономические действия и экономические теории не являются нейтральными, так как и те и другие уже заключают в себе элементы оценки и одобрения. Поэтому Кроче считал очень важным иметь полную ясность в отношении этических элементов экономической теории. Далее, по мнению Кроче, само понятие выбора не является «чистым» или «бесцветным», как его трактовал Парето, ибо в любом случае выбор определенной точки на шкале предпочтений как бы лишает ценности все остальные точки. Если выбор сделан, все остальные комбинации могут больше не приниматься во внимание; концепция альтернативного выбора просто не имеет смысла. Каждый выбор создает новую ситуацию, каждому поступку человека предшествуют другие поступки. Иными словами, для объяснения экономических процессов может быть использовано знание причинной связи между явлениями. Ответ Парето на эту критику был по меньшей мере слабым. Он утверждал, что ставил своей целью исследовать лишь ограниченную сферу человеческой деятельности и что лучшим методом решения проблем в этой сфере служит чистая теория. Парето настаивал на том, что его понятие выбора является наиболее удачным. Подобно Оккамовой бритве *, он делает свое дело, обходясь без посторонних вещей, каковыми являются гедонистические оценки. Для Парето важным было лишь одно — соответствуют ли выводы из его теории реальным фактам? Правда, как и в социологии, Парето в конечном счете факты произвольно подбирались к теоретическим построениям. Кроче пошел еще дальше в своей критике, утверждая, что вся социальная теория Парето — свидетельство абсурдности позитивистской философии 103. Логика теории не выдерживает критики, заявлял Кроче, а трактовать духовные явления как внешние по отношению к человеку, совершенно недопустимо. У Парето также отсутствует ясность в употреблении так называемых логических категорий: последние то относятся к экономическим или утилитарным действиям, то просто трактуются * Сформулированный английским средневековым философом У. Оккамом закон, согласно которому при отсутствии геобходимости сущности не находят проявления.— Прим, перев.
как логические связи между поступками людей. Социальное учение Парето, утверждал Кроче, представляет собой просто изложение общеизвестных истин математическим языком, подкрепленное историями из античной эпохи или современных газет и преподнесенное в виде морализирования разгневанного пессимиста, который воспылал ненавистью ко всем философам от Платона до Канта и обрушивает свой гнев на каждого, кто пытается укрепить моральные устои общества. Единственное, что понял Парето,— это то, что в историческом процессе господствует сила.
Конечно, математический метод в экономике был необходим для научной разработки проблемы равновесия. Речь шла о том, чтобы разработать соответствующую теорию, а затем, когда налицо окажутся необходимые данные, произвести фактический расчет экономического баланса. Правда, Парето вынужден был позже отказаться от этих надежд. Но он продолжал настаивать на том, что взаимозависимость явлений может быть выражена только посредством математической логики. Парето считал, что многочисленные взаимосвязи могут быть исследованы только с помощью могучего орудия исчисления. А это предполагает, что соотношения между различными переменными обратимы, что переменные величины по своему характеру непрерывны и отражают очень подвижные и быстро меняющиеся экономические факторы. В то же время Парето признавал, что, поскольку речь идет об отдельном индивидууме, допущение о непрерывном варьировании переменных неверно, а экономические элементы сами по себе прерывны. Связать теорию и реальную действительность мог лишь закон больших чисел, который сводит до минимума возможные отклонения в ту или иную сторону. К сожалению, эта система была далека от совершенства и крайне уязвима, ибо закон больших чисел не позволяет преодолеть дискретную природу отдельного элемента статистической совокупности. Средние, выражающие основные тенденции и полученные в результате манипулирования соответствующими данными, относящимися к большим группам фактов, не всегда применимы к действиям отдельных лиц, особенно на полюсах совокупности. А если Паретова экономическая система ничего не говорила об индивидууме, то она вообще лишена смысла.
Хотя концепция равновесия унаследована Парето от Вальраса, она обнаружила некоторые своеобразные черты, заслуживающие внимания. В частности, Парето рассматривал экономическую область как Декартову системуг в которой координаты отображают количества
255
различных благ, а точки отображают позиции потребителей, желания которых стимулируются одними факторами и ограничиваются другими. Стимулирующими факторами являются потребности, ограничивающими — размеры ресурсов и факторов их производства. Так, потребности и вкусы людей, с одной стороны, и ограниченные возможности их удовлетворения — с другой, стали уравновешивающими факторами, которые в конечном счете ведут к равновесию. Установление последнего означает, что изменения одного типа обстоятельств вызывают уравновешивающее изменение обстоятельств другого рода. Предполагается, что теория равновесия должна дать анализ того, как одновременно осуществляется такое равновесие. Однако в отличие от Вальраса Парето не етал исследовать этот вопрос. Он рассматривал проблему более широко, охватывая процесс свободной конкуренции при постоянных и изменяющихся ценах, а также различные типы монополизированных рынков. Он даже полагал, что эта теория может быть применима и к коллективистскому обществу с учетом изменяющихся цен и коэффициентов производства. Фактически его высказывания по вопросам коллективистской экономики заложили основу для рациональной социалистической экономической теории * 104.
В то время как Вальрас надеялся, что рано или поздно уравнения экономического равновесия поддадутся решению, Парето, ознакомившись с этим вопросом, капитулировал перед трудностями. Он заявил, что, для того чтобы выразить отношения между 100 индивидуумами, обменивающими 700 товаров, необходимо решить 70 699 уравнений105. Парето считал, что уровень знаний в то время был недостаточен, чтобы справиться с этим делом. Более того, утверждал Парето, миллионы уравнений, которые необходимы для всей экономики, потребовали бы такого округления цифр, которое совершенно обесценит конечные результаты подсчетов. Но как это ни странно, Парето в то же время полагал, что индивидуумы, выступая на рынке, действительно прибегают к расчетам, которые подразумеваются его теорией. Однако решение имеется: путем объединения переменных величин в однородные группы становится возможным построение всеохватывающей системы, поддающейся вычислительной процедуре. Именно такой технический прием лежит в основе современного анализа по методу затраты — выпуск. Но такого рода решение не пришло Парето на ум 106.
* Здесь повторяются положения о так называемом «немарксистском социализме», см. вступительную статью. — Прим ред.
Тезис о независимости экономического равновесия от предельной полезности Парето сформулировал еще в 1900 г. в своем «Учебнике»107. Понятие полезности предполагает такое сопоставление полезности для разных лиц, кото- торое следует отбросить, с тем чтобы теория была полностью нейтральной. Для Парето полезность была категорией этической и психологической, то есть несовместимой с научным подходом к экономике. Его эволюция от кардинальной полезности к порядковой в значительной мере предвосхитила современную трактовку этого вопроса Р. Дж. Д. Алленом и Джоном Р. Хиксом 108. Кардинальная полезность предполагает, конечно, существование действительной функции количества наличных благ. Порядковая полезность связана со шкалой предпочтений данного ийдивидуума, имеющего перед собой определенные комбинации благ. Причем предполагается, что этот индивидуальный потребитель знает характер удовлетворения, или ophelimite, даваемого тем или иным набором благ 109. Но величины полезности не могут быть сравнимы: речь может идти лишь о порядковом показателе в шкале предпочтений. Иными словами, потребителю важнее то удовлетворение, которое он получит от приобретенных благ, чем возможные изменения в степени удовлетворения. Таким образом, концепция предельной полезности становилась непригодной, а центр тяжести был перенесен скорее на проблему совокупной полезности, извлекаемой в результате потребления данного количества благ.
Целям сравнения порядковой полезности служила у Парето ныне знаменитая кривая безразличия. На осях координат он откладывал количества двух товаров, а третья линия показывала общие размеры полезности, соответствующей различным сочетаниям рассматриваемых товаров. Она представляла собой фигуру, напоминавшую куполообразный свод. Кривые безразличия — это линии одинаковой высоты над поверхностью чертежа, полученные путем сечения графика плоскостями, параллельными осям координат. Каждая точка на той или иной кривой безразличия отображала одинаковую полезность, хотя комбинации благ всякий раз были иными. Каждая комбинация на одной кривой отражала одну и ту же степень удовлетворения, тогда как кривая безразличия, расположенная выше, представляла более высокую степень удовлетворения потребностей. В целом фигура на графике представляла «гору удовольствий». Если рассматривать график с кривыми безразличия как карту, то окажется, что кривые имеют выпуклую форму по отношению к началу координат. Раз256
рабатывая свою теорию, Парето вначале заменил полезность индексными функциями, выражавшими в математической форме предпочтения, но в кривых безразличия он усмотрел более «чистую» теорию выбора 110. В этом случае отпадала необходимость рассматривать вопрос о том, измерима ли полезность. Предпочтение принималось просто как факт, данный в опыте.
Парето, следовательно, подошел к проблеме с противоположного конца. Взяв в качестве отправной точки выбор потребителя, он стал сравнивать различные комбинации товаров, к которым потребитель относился явно одинаково, а изменяя различные комбинации, он оказался в состоянии проследить динамику полезности, отражавшую равновесие для данного индивидуума. Так как кривые безразличия определялись «эмпирически», политическая экономия превращалась в позитивную науку. Ее принципы устанавливались простым наблюдением за отбором товаров, преследующим цели удовлетворения потребности. Этот анализ был весьма тонко использован для рассмотрения противоречия между потребностями и «препятствиями». «Горе удовольствий» противостояла «гора доходов». Кривые товарообмена соединяли точки равновесия на каждой из кривых безразличия. В целом получался довольно изящный, но бесплодный анализ.
Теперь появилась возможность ввести понятие непрерывных изменений вдоль самих кривых безразличия. Степень изменения в ophelimite можно было измерять по наклону кривой безразличия в той или иной точке. Анализ, однако, не давал ответа на вопрос о конечном выборе покупателя, так как этот выбор зависит от соотношения цен. И поскольку выбор покупателя зависит от цен на товары, вся проблема сводится в значительной степени к рыночному торгу, а не к поведению покупателя 111. Хотя анализ Парето основывался, по-видимому, лишь на чистом выборе, вряд ли он мог избежать и вопроса о полезности. Парето, по существу, продолжал использовать некоторые термины Эджворта, от которых сильно попахивало старыми идеями. Но он, помимо того, внес в анализ значительный элемент формализма в сочетании с известной строгостью, что способно было ввести в заблуждение. Так, кривые безразличия, казалось, могли отображать процесс определения ценности, но в действительности они были столь нейтральными, что всецело абстрагировались от индивидуума, игнорируя как размеры доходов, так и степень насыщения. Эти факты имели бы немаловажное значение, если была бы известна природа выбора потребителем благ. Но если принять их во внимание, придется вновь ввести в анализ сравнительную оценку благ различными индивидуумами, ибо шкала предпочтений имеет смысл, если она основана на степени психологической удовлетворенности. Но что это, если не гедонизм? Выбор, объясняемый без оценки удовлетворения,— это бессодержательное понятие. Эта теория не учитывает такого внеэкономического фактора, как реклама. А между тем спрос на товары и выбор их потребителем неразрывно связаны с нею. Все это показывает, какой любопытный тип нового экономического человека обрисовал Парето в своей социальной науке.
С точки зрения общества в целом максимальная ophelimite имеет место тогда, когда лицо, совершающее те или иные действия, не уменьшает полезности, извлекаемой другими лицами. Этот тезис был основным принципом так называемой новой теории всеобщего благосостояния, основателем которой по праву можно назвать Парето. Указанный максимум наиболее полно реализуется в условиях свободной конкуренции112. В этом Парето был полностью согласен с Вальрасом. Как и последний, Парето отрицал точку зрения Бастиа на политику laissez faire как обветшалую догму. Проблема благосостояния общества, по его мнению, требует столь же научной трактовки, как и индивидуальный товарный обмен. Если общество таково, что увеличение ophelimite для одного уменьшает ее для других, максимальные ее размеры не могут быть достигнуты. Но благосостояние общества требует прежде всего установления определенного типа распределения продукта. А поскольку эта область граничит уже со сферой социологии, ясно, что для Парето экономическими проблемами были прежде всего проблемы производства. Благосостояние возрастает, если все члены сообщества что-то выигрывают. Если же изменения в обществе приносят выигрыш одним и ничего другим, благосостояние в целом будет уменьшаться. Правда, теоретически возможно перераспределить часть доходов в пользу потерпевших ущерб, особенно если сумма доходов превышает сумму ущерба. Это положение, сформулированное позже Н. Кал- дором, во всяком случае, показывает возможность что-то сделать. Но в целом это не исправит положения, ибо основная трудность не будет разрешена. Она состоит в том, что предельная полезность денег предполагается равной для всех и в скрытом виде сохраняется предпосылка сравнения полезности для разных лиц 113. Кроме того, Парето не пришло на ум, что с общественной точки зрения эконо17 б. Селигмен
257
мическое равновесие в условиях свободной конкуренции может оказаться не самым приемлемым 114. Если же индивидуум изменяет свое предпочтение в то время, когда он рассматривает возможность изменения своей позиции, тогда, конечно, положение меняется. Ограничивающие условия, содержащиеся в Паретовой оптимальной схеме, очень трудно преодолеть. Короче говоря, благосостояние становится, по существу, связанным с оценочными суждениями, а Парето, несмотря на свое стремление удержаться на нейтральных позициях, вторгается в область этики. Исследование этой проблемы в его работе «Разум и общество» не продвигает вперед решения, хотя автор и признает возможность иметь несколько точек, в которых реализуется максимальная ophelimite 11Б.
Парето проводил различие между максимальной полезностью для общества при неравных доходах его членов и максимальной полезностью при равенстве доходов членов общества. Последнее состояние, говорил он, может вести к меньшим размерам общественного богатства, чем первое; следовательно, во втором случае делается упор на интересы общества, в то время как в первом случае отдается предпочтение интересам отдельных лиц. Аргументация Парето в этом вопросе, конечно, оставляла желать лучшего. Но для него было ясно то, что условия и критерии благосостояния в обоих случаях будут различны и будут определяться господствующими в обществе чувствами и инстинктами 116.
Наиболее значительный вклад Парето внес в проблему распределения доходов. Опираясь на обширный статистический материал, относящийся к Пруссии, Саксонии и Англии XIX в., к Флоренции эпохи Ренессанса, Перу XVIII в., Аугсбургу XVI в. и т. д., Парето пришел к заключению, что способ распределения доходов, по существу, является одним и тем же в разных странах и в различные исторические эпохи 117. Исчислив кумулятивную плотность распределения для каждого случая и основываясь на их структурной общности, Парето смог выразить соотношение между доходами единой формулой, для чего следовало лишь придать различное значение постоянным величинам. Это отношение, которое часто именуется «законом Парето», выводится путем сопоставления диаграмм, отражающих размеры доходов и численность получающих их лиц. Получается прямолинейный график, свидетельствующий об устойчивом характере распределения доходов. Политические выводы напрашиваются сами: всякие попытки социалистов осуществить перераспределение доходов неизбежно обречены на провал. Существует естественный экономический закон, управляющий распределением доходов. Общий характер распределения доходов таков, что изменение графика в какой-либо одной части ведет к изменениям во всех его частях; следовательно, общество постоянно возвращается к характерному для него типу распределения доходов, «совершенно так же, как раствор данной соли всегда выделяет данного типа кристаллы» 118.
Неравенство в распределении доходов может быть уменьшено лишь в том случае, если доход и производство возрастают быстрее численности населения. Парето полагал, что постоянный характер действия его закона доказывает повсеместное неравенство способностей людей — вывод, не удивительный в устах мизантропа. Очевидна также связь этого тезиса с паретов- ской концепцией чередования элиты. Но Парето не сумел доказать характер взаимосвязи между способностями человека и его доходами. Более того, исследователи указывали, и не без основания, что характер распределения доходов в обществе тесно связан с рядом глубинных институциональных факторов, которые сами подвержены изменениям 119.
Паретов «закон» неоднократно подвергался критике. И это понятно, ибо он основывался лишь на весьма разрозненных и недоброкачественных статистических данных о подоходном налоге. Кроме того, Парето, по-видимому, смешивал понятия дохода и потребления. Ныне почти все статистики признают, что выразить всю совокупность отношений распределения единой формулой невозможно, так как форма кривой дохода с течением времени изменяется 12°. Возможность таких изменений ставит под сомнение паретовский тезис, что характер распределения дохода может измениться лишь при увеличении производства.
Значительную дискуссию породила и паретов- ская концепция предельной производительности. Парето выступил против общепринятого воззрения по этому вопросу, считая его непригодным для случаев, когда по техническим причинам невозможно полностью распределить продукт между соответствующими факторами производства. Если удвоить факторы производства, говорил он, продукция не обязательно возрастет вдвое. Более того, некоторые факторы находятся в определенной технической взаимосвязи, иначе говоря, некоторые производственные коэффициенты постоянны, а другие переменны, так что увеличение одного фактора может и не быть компенсировано уменьшением других. Идея переменных коэффициентов не была новой у Парето; ее высказал еще Вальрас в своей последней работе, 258
а затем использовал Уикстид. Но оговорки, сделанные Парето, были почти равносильны полному отказу от традиционной теории предельной производительности, что вызвало недовольство многих экономистов после Парето. Так, Джордж Стиглер заявил, что Парето поступил бы более правильно, если бы рассматривал технически взаимосвязанные факторы производства в единстве и с этим единым производственным организмом соотносил бы получаемые от него доходы 121. Однако эта критика обходила молчанием довольно сложный вопрос, поднятый Парето. Гораздо более правильным представляется высказывание Генри Шульца о том, что Парето попытался приблизить теорию к действительности 122. Кроме того, так называемой научной теории едва ли может сослужить хорошую службу утверждение Стиглера, что положения о колебаниях продукции, зависящих от воздействия определенного, фиксированного фактора, были бы правильными, если бы они объясняли хотя бы треть всех фактов. По-видимому, Парето затронул наиболее чувствительное место теории предельной производительности, и на его критику еще до сих пор не дано удовлетворительного ответа.
Универсальный характер экономического учения Парето виден из того факта, что оно было распространено на трактовку монополистического рынка. При свободной конкуренции фирмы имеют дело с уже сложившимися рыночными ценами и приспосабливаются к данным рыночным условиям, монополии же, как частные, так и государственные, сами устанавливают цены123. Частная монополия определяет цену на свой товар, исходя из ожидаемого спроса на него. Анализ Парето показывает движение таких фирм вдоль линии максимальной прибыли, накладываемой на семейство кривых выручки, которые имеют такой же наклон, как и кривая совокупных издержек. Кривая предельных издержек в различных точках пересекает все возможные кривые предельной выручки124. Это делает возможным, согласно Парето, решение проблемы монополии с помощью кривой безразличия, а именно, кривая валовой выручки должна касаться расположенной выше других кривой безразличия для прибыли. Анализ Парето, однако, громоздок и отягчен тем, что он трактует массу продавцов и покупателей как одно лицо125.
До Парето экономисты затрагивали проблему монополий, но заслуга Парето состоит в том, что он подчеркнул ее важность и тем самым дал толчок детальным исследованиям этой проблемы в последующие годы. Парето определил роль дифференциации продукта и особенностей услуг, оказываемых продавцом, и, по-видимому, одним из первых в наше время попытался ввести этот элемент в общее учение о равновесии. Тем не менее Парето не нашел места в своей экономической модели для олигополии — господства на рынке небольшой группы продавцов, на том основании, что решение этой задачи неопределенно 126. Парето считал, что дифференциация продукта устраняет элементы олигополии, ибо при столь большом числе вариантов реакции конкурентов олигополист не сможет завладеть рынком. Число возможных сочетаний тех или иных обстоятельств на рынке столь велико и они столь сложны, что одним лишь экономическим анализом их исчерпать нельзя. Поэтому проблема олигополии предполагает не какое-то одно решение, а скорее бесконечный ряд решений. Но в случае, если два олигополиста имеют дело каждый с несколько отличным видом товаров, их следует рассматривать как двух самостоятельных монополистов. Хотя такое решение проблемы олигополии едва ли может считаться вполне удовлетворительным, ее включение в теорию равновесия Парето сделало последнюю более полной по сравнению с теорией Вальраса. У Парето монополист выступал не как чужеродное тело в механизме экономического равновесия, а как его составная часть 127.
Парето уделил внимание и таким проблемам, как экономические кризисы, процент, рента и деньги, но его высказывания по этим вопросам оставляют желать много лучшего. Так, кризис, по его мнению, порождается психическими сдвигами, внутренне присущими экономике128. Так как значительная часть продукции находится в стадии обработки, в экономике складывается внутренний фактор, ограничивающий дальнейший рост. Следовательно, кризис — это не случайное явление. Однако анализ у Парето носит характер предварительных выводов и содержит много невыясненных вопросов.
Рента у Парето — излишек, порождаемый многочисленными препятствиями к оптимальному размещению ресурсов. Такое определение, строго говоря, применимо к любому фактору производства. Но для Парето это явление было следствием изменений, происходящих в экономике при переходе от одного типа статического равновесия к другому. Так как для превращения сбережений в капитал требуется какое-то время, старый, уже функционирующий капитал приобретает ряд преимуществ, которые и порождают ренту. Это вполне очевидно, если речь идет о земле, но это положение применимо и ко всем другим видам капи17* 259
тала. В этой своей трактовке ренты Парето стоял близко к Маршаллу. У него капитал становился категорией вторичного порядка, учетной категорией, определяемой из более общих положений. Такая позиция явно связана с исключением фактора времени из Паре- товой модели. Поэтому и выяснение природы процента казалось ему бесплодным занятием. Конечно, капитал порождает процент; это слишком очевидно и не требует доказательства. Поэтому Парето вовсе не желал заниматься на манер Бем-Баверка доказательством того, что капитал — категория производительная. Размер процента, как и цена любого другого товара, определяется механизмом общего равновесия цен; эта трактовка процента заняла центральное место в исследованиях Густава Касселя. И вновь игнорирование фактора времени придает этой трактовке характер кавалерийского наскока.
Не вызывала особого интереса у Парето и проблема денег; по существу, ее теоретическим аспектам он не уделил никакого внимания. Он просто говорил, что предельная полезность денег — это предельная полезность товара, используемого в качестве numeraire. Будучи крайним либералом, Парето в то же время защищал ценность протекционистских тарифов, поскольку они облегчали смену различных группировок элиты. В области теории международной торговли Парето внес известную модификацию в трактовку относительной стоимости товаров, обратив внимание на факторы, косвенно воздействующие на стоимость экспорта. Этими факторами являются альтернативные издержки, связанные с переключением ресурсов страны на выпуск экспортной продукции 129.
Таковы социальные воззрения Парето. Его влияние особенно сильно сказалось в Италии, где возникла даже своеобразная школа последователей Парето и его ученики черпали вдохновение из его экономических и социальных произведений. Но его взгляды не являются той позитивной наукой, о которой он говорил: уж слишком чувствуются в них политические мотивы. Угрозы по адресу «плутодемократии», содержащиеся в неэкономических работах Парето, совершенно отчетливо связаны с его экономическими взглядами. Нормативный характер всех высказанных им положений очевиден: как отметил Шумпетер, Парето читал проповедь современникам.
3. ДЖОН Р. ХИКС И ЛОГИКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Идея экономического равновесия продолжала привлекать тех экономистов, для которых изящество и четкость изложения были основными достоинствами теоретических построений. Одним из наиболее ярких представителей этой группы экономистов является профессор Оксфордского университета Джон Р. Хикс (род. 1904). Он учился в Оксфордском университете, затем успешно преподавал в Лондонской экономической школе, занимался исследовательской работой в Кембридже и был профессором Манчестерского университета. Помимо работ по экономической теории, его перу принадлежат труды по международной торговле и английской налоговой системе (в соавторстве с женой, Урсулой Хикс, также известным экономистом) 13°.
Экономические взгляды Хикса представляют собой весьма утонченный вариант современных концепций полезности и экономического равновесия. Хикс прекрасно владеет математическими приемами анализа (соответствующие расчеты он, к счастью, приводит в приложениях к своим работам); в то же время он нередко исследует вопросы экономической политики 131. Однако никто не может обвинить Хикса в рикардианском грехе; его теория ни в коем случае не может рассматриваться как свод экономических предписаний. Хикс довольно серьезно относится к своим теоретическим изысканиям и рассчитывает на серьезное отношение к ним со стороны читателя. Но его экономические работы изложены таким тяжелым языком и так строго подчинены логической последовательности, что их понимание часто затруднено. Хиксу чуждо стремление постепенно подвести читателя к пониманию сложных проблем. Он не старается облегчить язык своих произведений легкими стилистическими оборотами, столь восхищающими нас, например, в работах Денниса Робертсона. Хикс как бы говорит читателям: вы должны взять мою теорию такой, какова она есть, или оставить ее. Кстати сказать, многие предпочитают последнее.
Работа Хикса «Стоимость и капитал» 132 является, по-видимому, главным его произведением; ее характеризовали как одно из подлинно важных исследований современных экономистов. Для Хикса трактовка полезности неоклассической школой лишь немногим отличается от простого повторения закона Госсена. 260
Ранее считалось, что при данных размерах потребительского спроса и уровней доходов потребителя предельная полезность вещи пропорциональна ее цене. Эта трактовка подразумевала, конечно, измеримость предельной полезности, иначе говоря, это был тот же подход с позиций кардинальной полезности. Для Хикса он был неприемлем. Хикс считал, что с помощью паретовской кривой безразличия можно существенно улучшить эту концепцию, освободив ее от понятия измеримости полезности. После этого можно будет говорить лишь о предпочтении того или иного блага. Такое нововведение, однако, не казалось многим чем-то революционно новым: ведь по-прежнему краеугольным камнем теории оставалось положение о субъективной природе полезности. Категории Маршалла лишь появлялись в новой одежде: предельная норма взаимозаменяемости заняла место предельной полезности; кривая цен и точки ее касания заменили отношение предельной полезности к ценам; убывающая предельная норма взаимозаменяемости заняла место понижающейся предельной полезности. Но существенных изменений действительно было немного.
Эрик Лундберг в довольно резкой форме выразил отношение многих экономистов к работе Хикса «Стоимость* и капитал»: «Бесплодные проблемы и унылая логика этой работы довели до слез десять поколений студентов и одно поколение преподавателей» 133. Однако от этой важной работы и вообще от вклада Хикса в экономическую теорию нельзя так просто отмахнуться, ибо Хикс поставил под серьезное сомнение Маршаллов анализ частичного равновесия, а по некоторым важным вопросам его взгляды полностью вытеснили соответствующие идеи Маршалла. «Стоимость и капитал» в известном смысле является прямым продолжением Вальрасовой работы «Элементы» и паретовского «Курса», и в этой работе Хикс пытается развить теорию общего равновесия Вальраса и Парето, распространив ее на область капитала и процента. У Хикса встречаются также попытки ввести элементы динамики в эту теорию. Но вопреки надеждам Хикса их нельзя признать вполне удачными, ибо в основном теория осталась у Хикса статической. Подлинно динамичные элементы были к этому времени уже охарактеризованы лордом Кейнсом. Поэтому Хикс, подойдя к проблеме цикла, полностью воспринял идеи последнего, отказавшись от концепции Вальраса 134.
Хикс взял отправным пунктом своей теории идею о субъективной природе стоимости и потребностей. Первоначальная цель — разработка теоретической основы статистического изучения спроса — вскоре оказалась им забытой, и все исследование приобрело чисто теоретический характер. Так появилась Хиксова теория общего равновесия; ее отличительной чертой являлось стремление избегать расчета уравнений. Возникшая несколько позже теория экономической динамики была насквозь пронизана идеей совершенной конкуренции, проблема же несовершенной конкуренции просто игнорировалась; точно так же, по существу, не были приняты во внимание при разработке теории стоимости и все факторы институционального характера 135. Короче говоря, Хикс создал логическую схему экономики, уходившую своими корнями в свободную конкуренцию XVIII в. Две трети его работы посвящены анализу статического состояния, в оставшейся же части работы исследование носило мнимо динамический характер, ибо рассматривало экономическую динамику как последовательный ряд состояний статического равновесия. На деле фактор времени отсутствовал в анализе Хикса, и поэтому экономическая динамика оставалась фикцией.
Согласно взглядам Хикса, статическая теория имеет дело только с однородными благами, но это противоречит очевидным фактам, ибо потребителей интересуют, как правило, уникальные свойства благ. Уже одного этого обстоятельства достаточно, чтобы поставить под серьезное сомнение столь искусно применяемые им категории безразличия. Кроме того, Хикс исходил в своем анализе из возможности для потребителя сделать выбор из длинного списка благ в разных сочетаниях. Допущение такого рода необходимо для определения порядковой ценности блага, но результатом этого является такое построение кривой безразличия, которое исходит из имеющейся якобы возможности для потребителя сделать выбор между различными количествами блага, а это допущение в лучшем случае довольно сомнительно. В самом деле, сомнительно, можно ли построить кривую безразличия, не отражающую реальных мотивов потребителя. Теория Хикса покоилась на выводах, сделанных автором скорее на основе самонаблюдения и предполагаемых, выведенных умозрительно действий потребителей. Что же касается фактического материала, который подкрепил бы тезисы, то его у Хикса чрезвычайно мало.
Вслед за Парето Хикс полагал, что полезность неизмерима и максимум того, что можно сделать,— это расположить предпочтения в определенном порядке. Но это вряд ли дает что-либо большее, чем старый гедонизм. В лучшем случае ординализм кажется менее гедонистическим, чем кардинализм 136. Это поло261
жение породило значительную дискуссию, во многом ужасно бесплодную, не имевшую значения для экономической теории137. Но Хикс был преисполнен решимости не прибегать к кардиналистскому методу, ибо, по мнению Хикса, этот метод совершенно не нужен при разработке теории стоимости и теории спроса 138. Хикс начал анализ, вычертив поверхность полезности, затем нанес на нее кривые, отражающие реакцию потребителя на два различных блага и их суммарную полезность. Когда поверхность начинала напоминать контурную карту, на графике оказывалась изображенной система кривых безразличия, отражавших совокупную полезность различных сочетаний двух благ. Каждая кривая понижалась при движении вправо и была выпуклой по отношению к началу координат. Движение вдоль кривой показывало взаимокомпенсирую- щие изменения комбинаций благ. В то же время оно отражало и динамику предельной полезности благ: большему количеству блага соответствовала меньшая предельная полезность; по мере приближения к осям наклон кривых уменьшается. Такое построение кривых предполагает устойчивый характер предпочтений, оказываемых потребителем, а также то, что потребность в них не удовлетворяется. Первое означает, что порядковое место каждого блага в шкале предпочтений не изменяется (свойство транзитивности), а второе свидетельствует о постоянном товарном голоде. Возможны различные сочетания обстоятельств, поскольку возрастающее предложение какого-либо блага затрагивает не только его предельную полезность, но и предельную полезность других благ.
Накладывая на график линию цены, Хикс получил точку ее касания с кривой безразличия, отражающую максимальную при данных условиях полезность; движение от этой точки вдоль линии цены приведет потребителя к более низкой кривой безразличия. Таким образом, количество приобретаемых благ и их наилучшее сочетание могут быть определены без измерения суммарной полезности благ для потребителя. Высота поверхности полезности отныне перестала иметь значение. Точка касания отразила положение, которое более ранние теории определяли как пропорциональность предельной полезности ценам. Поэтому от ряда допущений стало возможным отказаться. Так был ниспровергнут кардинализм, павший жертвой идеи о предельной норме взаимозаменяемости благ. Отныне важное место заняло положение о том, что возрастающее количество данного блага компенсирует потерю потребителя в связи с уменьшением количества другого блага, причем предельная норма взаимозаменяемости двух благ должна быть равна отношению их цен, если имеется в виду установление равновесия с точки зрения потребителя.
Хикс полагал, что он заложил основы подлинно научной теории спроса. Он думал, что вскрыл закономерности реакции потребителей на изменения рыночной конъюнктуры, показав, как эти потребители, способные производить молниеносные расчеты, перебирают один вариант равновесия за другим. Между точками равновесия изгибов не было — можно было довольно легко переходить от одного варианта к другому, руководствуясь одними желаниями. Очевидно, однако, что не все потребительские расходы укладываются в жесткую Хиксову схему. Бесспорно, что варианты потребительских расходов обширны, но есть определенные категории последних, размер которых фиксирован, хотя бы и в краткосрочном аспекте. Например, расходы на жилье, топливо, освещение, холодильник, страховые платежи, налоги, транспорт с трудом поддаются замене, если последняя вообще возможна. А между тем эти расходы поглощают от 40 до 50% бюджета семьи. Есть серьезные основания сомневаться в том, совместимы ли эти расходы потребителей с теорией поиска наилучшего сочетания полезностей 139. Кроме того, есть расходы, производимые квазиавтоматически, то есть обусловленные привычками индивидуума. Что же остается после этого для анализа с помощью кривых безразличия? Значительно правдоподобнее считать, что потребитель, сравнивающий полезность различных сочетаний благ,— явление редкое: такие моменты, как привычки покупателей, их нежелание или неспособность оценить место товара на шкале предпочтений просто не укладываются в схему Хикса, а ведь они, по всей видимости, определяют поведение потребителей 14°. Правда, исключив эти факторы, можно выработать более обобщенное представление о покупателе, но как только эти факторы будут исключены, теория лишится подлинного смысла.
Но пойдем дальше. Кривая, соединяющая точки касания и связывающая различные варианты равновесия, отражает связь между размерами дохода и структурой потребления. Эта кривая доходов — потребления соответствует всем возможным соотношениям цен 141. То, что эта кривая повышается вправо и лишь один раз пересекает кривую безразличия, отражает положительную корреляцию между доходом и потреблением. Если цена какого-либо из товаров повысится, может быть построена новая кривая, проходящая через точки касания. Это будет кривая, отражающая связь между потреблением и ценами; геометри262
чески она расположится правее кривой доходов — потребления, если двигаться к более высоким кривым безразличия. Если же цена понизится, результат будет двоякий: так как реальный доход возрастает, результат будет таким же, как и при повышении дохода; но, так как соотношение цен изменится, вступит в действие и фактор взаимозаменяемости благ. Следовательно, возможны два типа изменений: в результате повышения доходов и в результате действия фактора взаимозаменяемости. В той мере, в какой Хикс правильно определил эти сдвиги, он внес вклад в выяснение закономерностей реакции на изменения цен и доходов. Влияние первого и второго фактора может ощущаться одновременно, так как изменения в спросе, связанные с движением цен, имеют отношение к обоим факторам. Тем не менее такого рода сдвиги могут в значительной степени зависеть от «торговых условий», при которых соревнуются два товара. Если эти условия исключить из анализа, то не будет основы для выработки потребителем своего решения.
Таким образом, теория полезности была низведена до обычной концепции выбора, выражающей логические выводы из поведения покупателя, обусловленного его личными мотивами при неизменной шкале предпочтений. Те, кто продолжил анализ Хикса, говорили о чистом бихевиоризме, скрытом безразличии или выявленном предпочтении. В результате возникала исключительно сложная задача. Много сил было потрачено для математического доказательства того, что падение товарных цен ceteris paribus означает соответствующее увеличение спроса 142. Как показал Деннис Робертсон, ординалистам действительно было трудно не впасть в грех кардинализма 143. Так или иначе, предельная полезность должна иметь в своей основе интенсивность желания; но если предпочтения потребителей расположены в определенном порядке, можно ли ничего не сказать о расстоянии между точками этой шкалы? И разве это не вызывает необходимости прибегать к сложению и вычитанию? — спрашивал Робертсон. Восхищенные своими достижениями, экономисты-математики несколько перестарались. Тем не менее кардинализм продолжал нелегальное существование, ибо если допустить, что потребители стремятся максимизировать полезность, то измерение ее в той или иной форме становится необходимым. Кроме того, можно утверждать, что функции полезности исторически обусловлены, ибо потребности людей, бесспорно, связаны с развитием общества; изучение сдвигов в этих потребностях, по-видимому, означает не просто лишь выяснение того, как они перемещаются вдоль некоторых кривых 144.
Хикс решал эту проблему, пересматривая значимость товаров от одной гипотетически устанавливаемой недели к другой. Но этот прием носил чисто формальный характер. Иррациональные элементы в поведении игнорировались; в анализе имел значение лишь факт выбора, а иррациональные моменты трактовались просто как несостоятельный выбор. Исследованию подвергались «внутренняя» и «внешняя» экономия, но они изучались новыми отраслями экономической науки с помощью математических приемов и гипотетических моделей, несмотря на то, что в действительности они носят чисто психологический характер; в конечном счете такое изучение мало что дало для понимания поведения покупателя. Лишь иногда проскальзывали признания, что желания людей изменчивы и постоянно модифицируют одно другое. Система, основывающаяся на кривой безразличия, отражала, по сути дела, кратковременное, преходящее состояние рынка, не подверженного изменениям и не испытывающего никаких посторонних влияний.
Рассмотрение проблемы в аспекте культурного развития общества позволило бы обнаружить, что потребитель вовсе не является неким существом высшего сорта, каким его пыталась представить теория Хикса. Кроме того, нет оснований считать, что какой-либо один подход к оценке потребностей лучше и разумнее другого. В действительности, как показал Гобсон, может оказаться невыгодным поступать так, как должен был бы поступить разумный экономический субъект, ибо усилия, затрачиваемые на обдумывание всех возможных альтернатив, могут намного превысить выигрыш в полезности. Конечно, предметы длительного пользования, или, как их называют продавцы, «товары с большими этикетками», покупаются довольно осмотрительно, тем не менее, как показывает американский рынок автомобилей, и в этом случае имеют значение иррациональные факторы. Часто покупаемые товары, как продовольствие и мелкие домашние вещи, могут оцениваться низкооплачиваемыми семьями более высоко; эти семьи помещают такие товары на более высоких ступенях шкалы предпочтений. Однако подобные соображения игнорируются Хиксовой теорией спроса. Конечно, если можно было бы противопоставить отсталому искусству тратить деньги современное образование и культуру, тогда мы получили бы индивидуума, который соответствовал бы представлениям экономистов- теоретиков, но пока этого еще нет. Выбор покупателя в конечном счете определяется 263
обстоятельствами, а вовсе не расчетами146. Более того, как показал Руби Т. Норрис, сами потребности людей не есть нечто простое, они группируются вокруг родственных товаров и отражают комплекс желаний, вызываемых различными благами146. Представление о том, что потребитель движется в направлении гармонии желания и удовлетворения, в лучшем случае имеет сомнительную ценность.
Маршаллова трактовка выгоды потребителей (consumers’surplus) как превышения ожидавшегося платежа над фактической ценой подвергалась в прошлом сильным нападкам. Идея экономии потребителя была отвергнута и объявлена ошибкой утилитаристов 147. Но подход с позиций безразличия обнаружил, что это понятие можно использовать в экономическом анализе, ибо новые методы этого анализа полностью освобождали исследование от предвзятых концепции утилитаристов 148. Критики Маршалла возражали против его тезиса о том, что эта экономия может быть выражена в абсолютных величинах. Поэтому Хикс объявил ее субъективной и относительной, таким образом отдав дань своему времени. Кривая спроса приобрела в связи с этим субъективное содержание; она оказалась подверженной влиянию фактора взаимозаменяемости и величины доходов покупателя. Что же касается понятия предельной полезности денег, то оно было истолковано так: поскольку покупатель расходует на какой-либо товар лишь часть дохода, то изменения цен оказывают незначительное влияние на совокупный доход.
Хикс считал, что безразличие и предпочтение являются реальными формами поведения покупателя, а не продуктом его внутреннего психологического анализа; отсюда термин «бихевиористский ординализм» 14е. Тем не менее в теории выбор есть выбор, так что нельзя установить степень безразличия (если оно вообще существует). Сомнительным кажется и отсутствие связи безразличия с психологическими факторами, ибо хотя понятие измеримости полезности было отвергнуто, оставалось в силе утверждение, что размеры предпочтения должны быть как-то выражены 150. Метод Хикса, который свелся к упражнению в математической логике и чистой теории, исходил из такой разновидности бихевиоризма, который давно отвергнут большинством психологов. Как сказал Робертсон, Хикс пытался выразить в непсихологических категориях поступки людей, в основе которых лежат психические факторы. Но так как человеческие существа в действительности не поступают таким образом, как пытался представить Хикс, все его рассуждения оказывались пустыми. Все споры о полезности можно выразить в идеологических категориях. Теория полезности ординалистов выражает, например, идеологию крайнего индивидуализма, что особенно видно при трактовке ею проблемы благосостояния. Теоретики кар- динализма, в частности позднейшей его разновидности, по-видимому, были склонны больше подчеркивать необходимость социального и экономического равенства. Глубокий интерес, который питали Робертсон и Пигу к более общим социальным проблемам, служит непосредственным отражением их гибкой и более гуманной экономической концепции. Ординалистов можно обвинить в стремлении сохранить статус-кво, ибо, по их мнению, невозможно изменить положение данного потребителя, не нарушив экономического равновесия в целом.
Понятия взаимодополняемости и взаимозаменяемости также имели очень важное значение в теории Хикса. В известной мере с ними имели дело еще Эджворт и Парето, но Хикс дал им более четкое определение. Разумеется, не исключено, что среди огромного разнообразия товаров два или более из них обнаруживают положительную корреляцию. Хикс утверждал, что понятия взаимодополняемости и взаимозаменяемости становятся четкими, когда вводится понятие предельной нормы обмени- ваемости их на деньги. Товар становится субститутом, если предельная норма обмениваемо- сти его на деньги уменьшается, в то время как другой товар обменивается на деньги в такой пропорции, что в целом положение потребителя остается без изменений. Точно так Яле товар становится комплементарным, если предельная норма обмениваемости его на деньги увеличивается вместе с обменивае- мостью на деньги другого товара. Полная взаимозаменяемость товаров выражается графиком безразличия в виде прямой линии, характеризующей неизменное соотношение двух благ. Абсолютная взаимодополняемость описывается графиком безразличия из двух линий, расположенных под прямым углом; ограниченность ресурсов одного блага лимитирует выгоды, которые можно получить от увеличения количества другого блага. Это крайние точки возможных соотношений: между ними располагается множество других случаев, характеризующихся понижающейся предельной нормой взаимозаменяемости, так что благо, имеющееся в относительно меньших количествах, становится более желаемым. Проще говоря, рост потребления одного товара может явиться причиной использования другого товара или отказа от потребления другого товара. Эти обстоятельства имеют значение и для оценки 264
влияния размера дохода на потребление, поскольку высокая степень взаимодополняемости товаров может свести на нет влияние дохода. В случае же ограниченной взаимозаменяемости результаты колебаний доходов и взаимозаменяемости могут взаимно погашать друг друга.
Изложение всех этих вопросов у Хикса носит формальный характер. Хикс исходил из того, что потребитель знает свою шкалу предпочтений и неуклонно следует ей при покупке товаров. Индивидуум превращался, таким образом, в быстродействующую счетную машину, которая никогда не руководствуется эмоциональными мотивами. Вряд ли можно сконструировать более нереальную и бесполезную теорию! Все обстоятельства, определяющие поступки покупателя, о которых говорил еще Веблен и которые оказывают такое сильное действие в обществе, Хикс считал просто пустяками. Как выразился Лайонел Роббинс, эта теория не имеет никакого отношения к действительности. «Ни один политик не внесет изменений в свою политическую линию и ни один бизнесмен не изменит своих экономических расчетов по гой причине, что произошли улучшения в трактовке системы предпочтений или в определении понятия безразличия в выборе» 151.
Хикс, однако, оставался верен себе. В работе «Переоценка теории спроса» 152 он изложил еще более абстрактный вариант учения о поведении потребителя. В течение двух предшествующих десятилетий велась ожесточенная полемика, особенно по вопросам применимости этой теории к решению проблемы экономического благосостояния. В этой борьбе произошло размежевание не только кардиналистов и орди- налистов, но и течений внутри этих направлений, причем спор шел вокруг вопроса о том, какой подход считать правильным — бихевиористский или интроспективный 153. Бихевирио- сты полагали, что формулируют свои выводы путем наблюдения; сторонники интроспекции заглядывали в собственную душу. В этой борьбе Хикс выступил в качестве интроспективного ординал иста: он исходил из того, что его теория не может быть доказана путем непосредственного наблюдения, однако выводы из нее должны быть доказуемы. Хикс почувствовал необходимость определенной модификации теории спроса. Примерно в это же время выступил со своей теорией «выявленного предпочтения» и Поль Самуэльсон154. В этой теории делался упор только на «наблюдаемые явления». Тем временем экономисты открыли для себя математическую теорию множеств с ее понятиями вполне упорядоченного и слабо упорядоченного множества точек 155. После этого наступил период, характеризовавшийся решительным устранением из экономической науки малейшего намека на психологию.
В своей новой работе Хикс вновь отвергает кардинализм, указывая, что полезности вещей независимы друг от друга и поэтому несравнимы. По Хиксу, анализ следует начинать с «гипотезы предпочтения», с тем чтобы отделить влияние текущих изменений цен от влияния комплекса сил, определяющих поведение потребителя. Цель этой процедуры — определить реакцию покупателя только на изменения цен и дохода. Другие проблемы реального значения не имеют; не обязательно также доказывать обоснованность «гипотезы предпочтения», ибо она имеет значение лишь как рабочий инструмент анализа: для исследователя она представляет интерес благодаря вытекающим из нее выводам 156. Следовательно, теория спроса становится не чем иным, как «приложением к экономике логической теории упорядочения». Потребитель оказывается более изощренным математиком, чем когда-либо. Хикс проводит различие между «вполне упорядоченным» и «слабо упорядоченным» множествами. В первом случае каждый товар занимает определенное место в общей последовательности событий; во втором происходит столкновение желаний, порождаемых группой товаров, каждый из которых не имеет преимуществ перед другими 157. Этот последний случай, говорил Хикс, описывается кривой безразличия, все точки которой отражают равную степень привлекательности товара. Теория спроса становится иллюстрацией «слабого упорядочения», при котором не подразумевается какое-либо одно сформировавшееся предпочтение. Из этих упрощенных допущений Хикс дедуцировал затем все свои выводы.
Природа спроса у него вновь выражена в категориях динамики доходов и взаимозаменяемости товаров. Но появились и новые моменты: бегло очерчены четыре различные формы экономии потребителя и описаны несколько возможных вариантов распределения доходов. Эта модификация потребовалась в связи с тем, что к теории спроса можно подойти двояким путем; она должна показать, какое количество товара поглотит рынок при данном уровне цен, либо ответить на вопрос, какова будет максимальная цена при определенном количестве товаров данного вида. Первый подход характерен в условиях свободного рынка, второй предполагает наличие ограничений, например, при нормировании продуктов 158. В итоге понятие выгоды потребителей было освобождено от кардиналистского содержания и перестало основываться на допущении 265
неизменности предельной полезности денег. Отныне полемика экономистов могла развертываться вокруг концепции эквивалентности потерь и выигрыша в денежных доходах. Идея равновесия потерь и выгрыша в денежных доходах вытеснила Маршаллову концепцию экономии потребителя как разницы между максимальной ценой, которую рассчитывал уплатить покупатель, и фактической ценой. Техника определения экономии потребителя свелась к подсчету части дохода, без которой возможно потребление той же товарной массы, причем положение потребителя не изменится и он не будет нуждаться в дотации.
Но вся эта полемика тонула в бесчисленном количестве новых кривых и понятий, которые вряд ли были лучше предыдущих. Хотя Хикс подметил множество довольно тонких деталей, их реальное значение для экономической науки сомнительно. Столь же проблематична и возможность использования при проведении экономической политики тех бесспорных достижений, которых Хикс добился в области математической логики. Теория у него стала напоминать упражнения в дедукции тех же положений, которые выдвинули, но с меньшим числом допущений, кардиналисты.
Применив кривые безразличия к товарному миру в целом, Хикс оказался в состоянии разработать вариант теории общего равновесия; тем самым он превратил теорию спроса в теорию обмена. Однако, как и Вальрас, Хикс не смог добиться того, чтобы его теоремы отражали реальную экономическую динамику. Главное внимание он уделял экономической устойчивости как внутренне присущему системе свойству возвращаться к состоянию равновесия. Хикс исходил из того, что изучение статического равновесия есть отправная точка для исследования нарушений равновесия, порождаемых факторами экономической динамики. Однако неустойчивые системы, не сохраняющие равновесия при определенном уровне цен, Хикса не интересовали, хотя эта проблема является наиболее сложной в экономической науке. Харрод и Домар в своих работах подчеркивают указанное обстоятельство. Хикс же в основном интересовался изучением условий устойчивого равновесия. Неустойчивость экономики, по Хиксу, проистекает главным образом из нарушений в распределении дохода и крайней взаимодополняемости товаров. Напротив, взаимодополняемость и неполная взаимозаменяемость ведут к жесткости системы 159.
Высказываясь по вопросам деятельности фирм, Хикс делал заключение об известной достоверности экономических прогнозов, однако отметил наличие и элементов неопределенности, которые необходимо учитывать. В условиях свободной конкуренции цены должны рассматриваться как параметры. Располагая соответствующими данными о производственной функции и ценах факторов производства, фирма в состоянии рассчитать свои прибыли. Главное здесь — понятие трансформации группы товаров в «единый» товар, поскольку их цены меняются в той же пропорции. Такой прием позволяет свести несколько переменных к одной переменной, то есть достигнуть значительно более высокой ступени обобщения. На одной из осей графика безразличия Хикс откладывал товары, на другой — деньги. Хикс вводил также понятие периода производства, который определялся как эластичность дисконтируемых ценностей по отношению к изменениям нормы процента. Иначе говоря, снижение нормы процента, порождаемое обычно более быстрым ростом капитала по сравнению с прочими факторами, побуждает предпринимателей выпускать товары более длительного производственного цикла. В этом случае возникает недооценка настоящего по сравнению с будущим. Хикс невольно делал реверанс Бем- Баверку, излагая его идеи в несколько усложненном виде, но, как показал позже Самуэльсон, формула Хикса по существу превращала период производства в бесконечную величину 16°.
Любопытно отметить признание Хикса, что введение монополистических элементов в его теорию имело бы катастрофические последствия для нее; это свидетельствовало о том, что автор был больше заинтересован в создании изящной и согласующейся в деталях математической модели экономики, чем в учете реального положения на современном рынке 161. Хикс вновь и вновь исходил из допущения совершенной конкуренции, чтобы спасти свой вариант теории общего равновесия. Он утверждал, что игнорирование монополии, несовершенной конкуренции, деятельности государства и влияния процента существенно не повредило его теории. Но изображение экономической действительности явно пострадало. Хикс сам вынужден был признать это позже, хотя и в косвенной форме.
Хиксова теория производства охватывала четыре рынка: продуктов, факторов производства, услуг и полуфабрикатов. Автор рассматривал влияние доходов и взаимозаменяемости товаров в основном с точки зрения условий экономической стабильности. Рынок считается стабильным, заявлял он, если снижение цены приводит к превышению спроса над предложением, даже если цены всех других товаров приспосабливаются к этой новой цене; ста266
бильность рынка будет несовершенной, если превышение спроса на данный товар обнаруживается лишь после того, как изменятся цены всех других товаров. Иными словами, стабильность рынка предполагает изоляцию цены от всех действующих на рынке сил. Несовершенная стабильность означает такое положение, при котором цена товара стабилизируется лишь после завершения необходимых изменений в экономике в целом. Единственной причиной нарушения стабильности выступает динамика доходов 162. Рынок услуг ведет себя совершенно так же, как и рынок продуктов, тогда как рынок полуфабрикатов остается стабильным, ибо на нем не сказывается влияние изменения доходов. Что же касается рынка факторов, то он может оказаться крайне нестабильным, ибо на нем сказывается действие факторов дохода и взаимозаменяемости товаров. Все эти рассуждения Хикса отличались большой натянутостью и отрывом от жизни, так как нарушение равновесия на одном рынке вряд ли не окажет влияния на стабильность других рынков 163.
Идея взаимозаменяемости была распространена Хиксом и на область производства 164. По крайней мере в простом хозяйстве идея •сопоставимости полезностей казалась обоснованной. Поэтому было возможно ставить вопрос о целесообразности увеличения того или иного производства путем переключения на не- то ресурсов с других производств. Равновесие, означающее наиболее целесообразное использование ресурсов, становится условием оптимального выпуска продукции. Кривая взаимозаменяемости отражала возможные сочетания при производстве двух товаров,так что можно было определить предельную норму взаимозаменяемости этих благ. В условиях равновесия эта норма должна быть одинаковой для всех благ.
Для придания этой системе динамического характера в нее следовало ввести фактор времени. При статическом состоянии размеры капитала не изменялись, действительные цены были равны ценам ожидаемым, номинальные и реальные проценты также совпадали. В динамической же экономике между этими переменными величинами возникал значительный разрыв, который необходимо было отнести к определенному отрезку времени; Хикс пытался решить эту задачу, введя в анализ понятие «недели». Но такой прием представляется чисто механическим, он по-прежнему оставлял всю систему оторванной от жизни и не придавал ей подлинно динамических свойств. Как выразился Баумоль, «система статична, хотя и включает время» 165. «Неделя» — это период, в течение которого изменениями цен можно пренебрегать, то есть это скорее функциональное, нежели календарное понятие. Поэтому этот прием Хикса мало что дал по сравнению с подходом Маршалла. В течение текущей недели следует определить планы на последующую неделю, но коль скоро хозяйственные обязательства зафиксированы, они изменению не подлежат. Хикс должен был сознавать, что такая «динамика» представляет в действительности серию статических состояний, но он утверждал, что эта система дает возможность осуществлять динамический анализ экономики. Хикс писал: «Вводя понятие недельного периода, мы оказываемся в состоянии рассматривать процесс изменений в экономике как серию кратковременных равновесий; это дает нам возможность применить анализ равновесия к динамическим процессам. Используя понятие плана, мы в состоянии выявить связи между действиями, направленными на достижение непосредственных целей, и действиями, нацеленными на будущее» 166. По Хиксу, экономика движется от одного равновесия к другому, а вместе с этим развертываются и планы предпринимателей. Отклонения от равновесия нежелательны, ибо они могут нарушить стройность экономической модели. Однако если под ожиданиями понимать распределение вероятностей, то «нарушение равновесия» не должно причинять беспокойства, ибо эти ожидания будут ограничиваться определенными рамками. Хикс говорил, что нарушение равновесия возникает лишь в том случае, если расчеты ожидаемых цен непоследовательны, планы негибки или в подсчетах допущены ошибки. Конечно, все это как раз такие явления, которых следует ждать в динамичном хозяйстве. Но в рассуждениях Хикса для них не нашлось места.
Состояние равновесия следует поддерживать практикой продаж «с поставкой в будущем» 167. Хикс проводил различие между экономикой «настоящего» и экономикой «будущего», так что в конечном счете стабилизатором экономики у него оказывалась спекуляция. Единственным фактором, ограничивающим торговлю «с поставкой в будущем», была неопределенность этого будущего. Такая торговля порождала процент. Признавая наличие различных норм процента, Хикс утверждал, что их можно свести к «стандартной» норме процента по кратковременным ссудам, после чего становится теоретически возможен анализ факторов, воздействующих на процент. По существу, процент у Хикса выступал лишь как одна из разновидностей цены, и, подобно всем другим ценам, он определяется взаимоотношениями 267
внутри системы. Деньги превратились у Хикса в разновидность ценных бумаг: это лишь более совершенная форма ценных бумаг, достоинство которых определяется относительной степенью присущего им «денежного» свойства. Очевидно, что при такой трактовке ликвидность превращалась в отправную точку кредитно-денежной теории. В краткосрочном аспекте процент становился своеобразным выражением трудностей инвестирования средств предельного заимодавца, а в долгосрочном аспекте он включал и вознаграждение за риск. Итак, ценные бумаги могут приносить процент, поскольку они выступают как несовершенные деньги. У Хикса процент являлся, по существу, премией за ожидание и вознаграждением за риск. Кроме того, ценные бумаги, по-видимому, приспосабливались к доходу с денежного капитала. Однако это не исключало того, что ценные бумаги могут обращаться наравне с деньгами, создавая тем самым ситуацию, когда деньги будут приспосабливаться к доходу с ценных бумаг 168. Некоторые авторы высказывали мнение, что Хикс впадал в крайность, подчеркивая значение ликвидности и характеризуя соотношение денег и ценных бумаг, и предпочитали подчеркивать скорее такие глубинные факторы, как производительность и экономия 169. Они говорили, что сделанное Хиксом в этой области показывает, как могут сосуществовать ценные бумаги и деньги, но Хикс не смог объяснить, почему уплачивается процент.
Возвращаясь к анализу сферы производства, можно обнаружить, что технология допускает взаимозаменяемость затрат или взаимозаменяемость продуктов. Предприниматель может осуществлять эти замены во времени. Целью замен является достижение равновесия. Как только определены необходимые факторы производства, можно разработать производственный план. Отрезок времени, охватываемый этим планом, очерчивает «экономический горизонт» предпринимателя, за пределы которого выходить нецелесообразно. При оценке общей прибыли, ожидаемой за планируемый период производства, предприниматель, по-видимому, примет во внимание дисконтированную будущую прибыль. Он остановит свой выбор на таком производственном плане, который дает наибольшую дисконтированную прибыль 17°. Таким образом можно определить капитализированную стоимость фирмы в целом.
В свете вышесказанного определяются условия равновесия. По Хиксу, они включают в себя равенство между предельной нормой взаимозаменяемости при производстве двух товаров и соотношением их цен. Аналогичным образом Хикс сформулировал и условия равновесия с точки зрения производственных затрат. Что же касается равновесия при соответствующих сдвигах в затратах и выпуске, то его условием является равенство предельной технической нормы взаимозаменяемости и отношения цен соответственно затрат и выпуска. Во всех этих случаях имеются в виду текущие цены 171. В то время как ожидаемый рост цен на продукцию ведет к увеличению выпуска, рост цен на затраты будет иметь своим последствием сокращение производства. Поскольку повышение ставки процента ведет к понижению цен в будущем, его непосредственное влияние заключается в том, что оно стимулирует текущее производство и ограничивает расширение его в будущем 172. Говоря словами Хикса, изменения процента могут интерпретироваться как вариант ожидаемых уровней прибыли. Этот чрезвычайно формальный анализ Хикс дополнил понятием эластичности ожиданий, которое должно было связать ожидаемые цены с текущими. Это понятие он определил как отношение между пропорциональным ростом будущих цен и пропорциональным ростом текущих цен. Прогнозы характеризуются гибкостью, когда ожидаемое изменение цен в будущем превышает их текущие колебания. Таким путем Хикс связал ожидания с производственными планами.
Несколько позже Хикс пытался создать модель растущей экономики; в основу этой модели были положены концепции, очерченные в работе «Стоимость и капитал» 173. Хикс представил эту модель как «первый опыт»; он намеревался заменить ею ту динамическую часть ранее излагавшейся им теории, в которой система цен рассматривалась как нечто применимое лишь к данному моменту времени. Ожидания предпринимателей, признавал Хикс, являются лишь одной из групп данных, так что изменения во времени не были отражены достаточно полно. Наибольшие затруднения в ранних произведениях Хикса создавала предпосылка о максимальной эффективности — разновидность паретовского условия оптимальности. Однако идея «оптимальности» по-прежнему привлекала Хикса, считавшего, что созданная им модель должна послужить «...образцом, по которому смогут оцениваться другие (несомненно, более реалистичные) модели» 174. Но наивысшая эффективность возможна лишь при абсолютно точном предвидении, а это само по себе маловероятно; тем не менее Хикс полагал, что его позиции правильны. В модели Хикса подразумевалось лишь, что если сложатся ожидаемые цены, то это породит динамические изменения. Таким образом, хотя процесс 268
«становится динамическим, метод изучения может остаться статическим. Так Хикс сконструировал наилучший из всех возможных миров.
В новую модель Хикса вошло допущение об однородном товаре и однородном труде. Он не проводил различия между основным и оборотным капиталом, что упростило понятие фирмы и свело все фирмы к единому виду экономической деятельности. Так как деньги в модели Хикса отсутствовали, заработная плата и процент должны были рассматриваться в их отношении к этому единому товару. Модель исходила из того, что процесса сбережения не происходит, тем не менее процент и здесь следовало определить путем простого процесса вменения, связав его с заемными и ссудными операциями. Объем потребительского спроса владельцев сбережений, которые внезапно появлялись неизвестно откуда, определялся текущими размерами их активов плюс текущие и ожидаемые ставки заработной платы и процента. Фирма избирает такой план действия, который максимизирует ее активы. Далее модель показывала, что при условии точного предвидения будущего сбережения обязательно будут равны увеличению капитала. Весь этот анализ изложен Хиксом скорее в категориях движения товаров, а не рабочих единиц на том основании, что именно так представляется весь процесс капиталисту. Довольно интересный момент в модели Хикса — это отказ от производственной функции, которая в свете последних достижений линейного программирования казалась ему уже не имеющей существенного значения. Поскольку предложить непрерывную производственную функцию явно трудно, то было необходимо противопоставить ей ряд альтернативных положений. Но при этом неизбежно возникает вопрос: что же происходит с маржинализмом?
Вопреки изобретательности Хикса анализ деятельности фирм по максимизации активов остался статическим как по содержанию, так и по методам. Производственные возможности в графике Хикса были представлены точками, находившимися внутри граничной (frontier) кривой (аналогичной границе выпуклого множества); искомая точка находилась с помощью кривой безразличия, отражавшей выбор потребителя при данной цене. Когда выбор потребителя менялся, происходил сдвиг в системе цен, а это в свою очередь изменяло и границу производства. В конечном счете рост производства, или увеличение активов, определялся движением нормы процента. Таким образом, и в этих сложных построениях Хикса трудно было найти что-либо новое.
В большей своей части теория Хикса носила характер классификационной системы. Поскольку ожидания довольно неустойчивы и неопределенны, точность, приписываемая им теорией Хикса, представляется явно сомнительной. Кроме того, его нежелание признавать монополию и другие отклонения от свободной конкуренции имело почти катастрофические последствия для всей теории, созданной с таким трудом. Хикс сознавал это, когда говорил, что признание монополии означало бы гибель для его теории 175. По существу, многочисленные оговорки низвели теорию Хикса до «...повторения избитых положений, относящихся к крайне абстрактным случаям, практическая ценность которых весьма сомнительна»176. Все, что Хиксу удалось сделать, — это перелить старое вино в новые сосуды причудливой формы.
Экономисты обычно согласны в том, что наиболее важной частью учения об экономической динамике является теория циклов. Хикс посвятил проблеме циклов ряд статей, а также краткую главу работы «Стоимость и капитал». Однако полное изложение взглядов Хикса по этому вопросу содержится в работе «К теории экономического цикла» 177. Основная идея о том, что капиталистическая экономика порождает характерные колебания, была кратко очерчена Хиксом в рецензии на работу Роя Харрода «К теории экономической динамики» 178. Основным источником идей для Хик- совой теории цикла явилась работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», плодотворное влияние которой на современную экономическую мысль сказывается на протяжении многих лет. Теорию, раскрывающую связь между потреблением и инвестициями через мультипликатор, Хикс дополнил принципом акселерации, почерпнутым у Дж. М. Кларка, и ярким анализом движения экономики под углом зрения физической теории волновых импульсов Рагнара Фриша. Еще в 1933 г. Фриш высказал предположение, что экономические колебания имеют тенденцию к угасанию, или демпфированию. Однако имеют место и длительные экономические расстройства, причинами которых являются внешние факторы — нововведения, политические перевороты и войны. Эти внешние силы не позволяют экономике достичь устойчивого равновесия. Каждый внешний толчок, воздействуя на экономику, порождает своеобразное движение в ней, отражающееся на ходе экономического цикла. Хотя это движение происходит внутри экономической сферы, его побудительные причины лежат вне ее. Это довольно интересное положение давало возможность по269
строить модели экономики на нелинейных основах, характерных для электротехники. Эта методика уходит корнями в работу лорда Рейли, относящуюся к 1883 г. и посвященную нелинейным вибрациям, но экономисты не прибегали к подобного рода подходу вплоть до 1930-х годов 179. Впоследствии Поль Самуэльсон выступил с теорией «бильярдного стола», согласно которой поворотные моменты цикла наступают тогда, когда все лузы заполнены и экономика в связи с этим откатывается назад 18°. В этой же области работа была проделана в Англии М. Калецким.
Хиксова теория экономических циклов представляет собой яркий пример новейшей точки зрения по этому вопросу, она весьма удачно объединила идеи акселератора, мультипликатора, автономных инвестиций и запаздывающих (lagged) линейных функций, ведущих к затухающим или взрывным колебаниям; эти факторы действуют в экономике, развитие которой осуществляется в соответствии со своего рода показательной функцией. Различные экономические модели, построенные на нелинейных функциях, обычно обнаруживали признаки так называемой «релаксации»: то есть они включали самовозбуждающиеся колебания квази- прерывистого характера181. Такого рода явления наблюдаются в некоторых телевизионных цепях, и экономисты заинтересовались возможностью использования их для описания общественных явлений. Имелись два типа нелинейных моделей: в одном случае, например у Хикса, ограничивающий фактор находился вне цикла; в другом «релаксация», или затухание колебаний, приписывалась внутренним факторам. Нелинейная модель Хикса содержала возможность внезапных остановок, резких спадов, а также неожиданных подъемов. По Хиксу, оказывалось даже возможным описывать движение вокруг потребительской функции и кривой сбережений в виде замкнутого контура 182.
Анализ Хикса строился в реальных категориях, поэтому потребительская функция у него выражала отношение реального потребления к реальному доходу. Влияние денег исследуется им только в конце работы. Основные уравнения навеяны кейнсианскими идеями, общая сумма предметов потребления и средств производства в них была равна национальному доходу. Но в этой связи Хикса интересовала лишь линия, вдоль которой осуществляется переход от одного состояния равновесия к другому 183. Это, безусловно, было шагом вперед в уточнении понятий по сравнению с более ранними взглядами Хикса. Введя понятие запаздывания во времени, он оказался в состоянии определить потребление как фиксированную долю в доходе за предыдущий период; инвестиции же колеблются в ходе цикла. Таким образом, в зависимости от периода времени можно утверждать, что потребление вызовет, с учетом обусловленного запаздывания во времени, соответствующее увеличение инвестиций. Деление капитала на основную и оборотную части сделало более точным понятие акселератора. Анализ Хикса выделял три стадии в движении экономики: 1) исчерпание оборотного капитала для покрытия повышенного спроса, но без новых капитальных вложений; 2) инвестирование капитала с целью расширения производства до размеров, достаточных для удовлетворения нового спроса; 3) вытекающая отсюда серия колебаний, которые можно разбить по меньшей мере на четыре группы: конвергенция, затухающие колебания, устойчивые колебания и взрывные колебания. Излишек капитала образуется при движении экономики вниз; это объясняется тем, что для каждого уровня экономической активности существует определенное соотношение между общими размерами капитала и объемом инвестиций. При движении экономики вниз новые инвестиции сокращаются, так как обновления запасов и оборудования не происходит. Но если общие размеры капитала не избыточны, новые инвестиции необходимы для того, чтобы сохранить должные пропорции между капиталом и доходом. Таким было существо трактовки акселератора Хиксом. Когда стимулированные инвестиции присоединяются к автономным инвестициям, колебания можно демпфировать. Запаздывание потребления также ведет к выравниванию колебаний.
Высшей точкой подъема экономики является такое ее состояние, при котором ресурсы используются полностью. Так, при полной занятости рабочей силы пределы увеличению дохода поставлены максимально возможной производительностью труда; в результате происходит резкое сокращение инвестиций, хотя в течение некоторого времени производство может сохраняться на прежнем уровне и лишь затем начать катиться вниз 184. Как только сокращаются доходы, вновь обнаруживается избыток капитала; сокращение дохода продолжается до того момента, когда исчезнет весь избыточный капитал. В определенный момент соотношение между этими двумя величинами вновь достигнет оптимума. В трактовке Хикса циклы отличаются друг от друга числом и длительностью запаздываний во времени, а также значениями различных функций и коэффициентов. Центральной идеей у него остается идея высшей точки развития — «потолка» и связанных с ним ограничений. В движении цикла 270
имеется и низшая точка, определяющаяся тем, что дезинвестирование не может превысить амортизацию. Несомненно, что критика, высказанная по адресу акселератора Кларка, может быть с полным основанием отнесена и к Хиксу 185: неспособность Хикса объяснить избыток производственных мощностей в начале подъема, неудовлетворительное истолкование процесса инвестирования с целью замены оборудования, допущение о фиксированном соотношении между изменениями производства и капитала — все это делало акселератор значительно более слабым инструментом экономического анализа, чем он мог показаться на первый взгляд.
У Хикса действие акселератора не объясняло реакцию на различные темпы изменений. Нет оснований предполагать, что размеры капитала будут изменяться пропорционально объему продукции, приспосабливающемуся к сдвигам в потреблении. Иными словами, акселератор отражал лишь технические сдвиги в производстве, причем главным Хикс считал фиксированное отношение капитал — продукт; однако с эмпирической точки зрения последний коэффициент обманчив. Хикс попытался обойти эти трудности ссылкой на то, что изменения в размерах выпуска воздействуют на инвестиции «за пределами» настоящего момента. Эта попытка, однако, не имела успеха, ибо говорить об увеличении инвестиций на основании запросов, предъявлявшихся к рынку в прошлом, равносильно отказу от считающегося фиксированным отношения капитал — продукт. Попросту говоря, наличие узких мест материального и финансового характера может помешать пропорциональному изменению объема производства и инвестиций.
Хикс признавал, конечно, что «потолок» экономики сам неуклонно поднимается. Это одна из характерных черт «прогрессивной экономики». Однако оставалось неясным, должна ли экономика при движении вверх обязательно упереться в потолок: из экономической модели Хикса это не вытекало 186. Говорить о том, что поворотный пункт в движении экономики наступает тогда, когда последняя достигает потолка,— значит склоняться к точке зрения Хайека, который связывал этот поворот с недостатком капитала. Но у каждого может возникнуть вопрос — действительно ли повороты экономики вниз можно приписать такого рода обстоятельствам? 187 Не правильнее ли предположить, что полная занятость рабочей силы будет стимулировать инвестиции, направленные на экономию затрат труда, и что эти инвестиции приподнимут «потолок» экономики и деловая активность будет сохраняться на высоком уровне в течение длительного времени? Заказы в этом случае будут возрастать и производственное оборудование будет использоваться полностью. Автономные инвестиции начнут действовать как храповик, поднимая экономику на все более высокий уровень ]88, но что, по-видимому, еще более важно, Хикс упустил из виду некоторые институциональные факторы, в частности характерные для последних лет рост населения и высокую норму вступления в брак. Очевидно, имеется ряд других проблем, которые связаны с объяснением поворотных точек экономической кривой и которые Хикс не сумел обнаружить 189.
Особенно существенной представляется недооценка Хиксом денежных факторов. Хотя он вполне сознавал тесную взаимосвязь денежных и реальных экономических показателей (о чем свидетельствуют очерки Хикса по этому вопросу), его концепция мало чем отличалась от взглядов кембриджской школы. Экономические просчеты, порождаемые так называемой «денежной иллюзией», наверняка нуждаются в объяснении. Счет прибылей и убытков, как и состояние балансов, конечно, влияют на ход цикла. Верно, Хикс рассматривал вопрос о запаздывании кредита и слабых местах банковской системы, но его высказывания по этим вопросам опять-таки явно отражали влияние Хайека. И хотя это важные соображения, вполне возможно, что проблема прибыли и ожидания прибыли имеет еще большее значение.
В теории циклов Хикса нет чего-либо особенно нового. Идея о необходимости исследовать цикл как составную часть общей проблемы роста экономики содержалась еще в работах Шумпетера и Харрода. Точно так же до Хикса в экономической литературе уже были исчерпывающим образом исследованы такие явления, как мультипликатор, акселератор и автономные инвестиции. Короче говоря, теория Хикса — это лишь искусный синтез. В действительности его высказывания — не подлинная теория, а лишь иная трактовка отдельных моментов циклического движения, которая нуждалась по меньшей мере в эмпирической проверке. Но, по-видимому, еще более серьезный недостаток этих взглядов Хикса — механистичность их исходных позиций. Поворотные пункты экономической кривой в модели Хикса не результат деятельности людей, а являются таковыми просто потому, что этого требует модель; колебания инвестиций происходят всякий раз, когда это вызывается действием акселератора или мультипликатора. Это теория циклов без главного фактора — самого человека.
271
В заключение следует кратко рассмотреть взгляды Хикса в области теории заработной платы. Его работа «Теория заработной платы» представляет собой тщательно аргументированную попытку обосновать и теорию предельной производительности, ибо для Хикса было очевидно, что заработная плата устанавливается в соответствии с общим законом стоимости 190. Кроме того, к анализу проблемы он привлек и специфическую теорию торговых сделок как смягченный вариант концепции свободной конкуренции, из которой исходят теоретики предельной производительности. До Хикса по теории торговых сделок высказывались различные авторы, начиная с Эджворта, выступившего в 1881 г. с моделью двусторонней монополии, в которой была заложена идея неопределенности. Хикс же провозгласил, что решение существует, для чего он изобразил две кривые — кривую «уступок предпринимателя» и кривую «требований профсоюза». Точка пересечения кривых, как полагал Хикс, определяет максимальную заработную плату, которой может добиться профсоюз при искусном ведении переговоров. Кривые Хикса напоминают «ножницы» Маршалла, с той, однако, разницей, что носят чисто» формальный характер. Хикс ошибочно полагал, что требование высокой заработной платы обязательно приводит к забастовке 191. И поскольку он не сумел показать, каким путем оба участника сделки достигают точки пересечения, он, по существу, ничего не сказал и о методах достижения соглашения. Его утверждение о том, что чем длиннее кривая «требований профсоюзов», тем большей заработной платы он добивается, просто не отвечает фактическому положению дел. В рассуждениях Хикса содержался явный намек на то, что предприниматели и профсоюзы осведомлены о желаниях противоположной стороны. Но в таком случае вряд ли можно было бы говорить о процессе заключения торговой сделки. Ибо торговаться можно лишь тогда, когда не знаешь, чего хочет добиться противная сторона 192.
Хикс считал, что результат сделки между торгующими сторонами в любом случае будет, по-видимому, сведен на нет, ибо в конечном счете восторжествует принцип предельной производительности. Оплата труда выше нормального уровня приведет к безработице: по Хиксу, это единственная причина потери работы частью рабочих; к сожалению, лишь немногие склонны признавать эту истину. Тем самым вина возлагалась на попытки нарушить закон предельной производительности. Распределение дохода, заключал Хикс, всецело зависит от сложного взаимодействия объективных рыночных сил.
Для того чтобы показать влияние технологических изменений на заработную плату, Хикс предпринял скрупулезный анализ роли изобретений 193. Он доказывал, что экономия в труде за счет новой техники повышает предельную производительность капитала, а технические новинки, экономящие капитал, повышают предельную производительность труда по отношению к капиталу. Таким образом, возможность взаимозаменяемости капитала и труда занимает центральное положение в анализе Хикса 194. «Нейтральные», по выражению Хикса, изобретения не изменяют доли труда и капитала. Изобретения, экономящие труд, снижают долю рабочих в доходах, хотя абсолютно эти доходы могут возрасти. Изобретения, которые позволяют особенно резко сократить затраты труда — то есть прибыльные сами по себе, а не только потому, что падает норма процента,— могут иметь пагубное влияние, так как произойдет как относительное, так и абсолютное сокращение доли рабочих. В этой связи Хикса интересовало прежде всего влияние относительного изменения размеров вознаграждения каждого из факторов производства на количественные соотношения между этими факторами в производстве. Если количественные соотношения между рабочей силой и техникой остаются неизменными, коэффициент взаимозаменяемости этих факторов равен нулю; с другой стороны, взаимозаменяемость их становится значительной, как только небольшое падение заработной платы приводит к более широкому использованию рабочей силы по сравнению с капиталом. В этом случае доля рабочего класса в национальном доходе увеличивается. При этом у Хикса подразумевались, конечно, условия свободной конкуренции и достаточно быстрая реакция на изменение обстановки как со стороны труда, так и капитала. Однако, если допустить полную занятость, столь легкая взаимозаменяемость факторов производства вряд ли возможна даже в теоретическом плане. Главное же возражение против точки зрения Хикса состоит в том, что он слишком легко переносит все выводы, относящиеся к отдельной фирме, на экономику в целом. Это явно ошибочный прием, ибо предельная производительность на деле имеет весьма отдаленное отношение к общему уровню заработной платы. В масштабах всей экономики факторы, управляющие распределением доходов, обусловлены не техническими обстоятельствами, а отношениями между людьми195.
Оценивая внешне внушительное теоретическое построение Хикса, нельзя не прийти 272
к выводу, что он немногим обогатил теорию. Большинство его выводов представляет собой попытку усовершенствовать уже существовавшую экономическую теорию, причем основы этой теории у Хикса остались неизменными. Что же касается точности его построений, то она лишь вводит в заблуждение, ибо математические модели, как бы они ни приближались к действительности, никогда не могут отразить всю совокупность экономических отношений в обществе. Экономические теоремы Хикса построены на основе множества разнообразных переменных, многие из которых изменяются в самых неожиданных направлениях. Попросту говоря, в действительности экономические институты ни столь устойчивы, ни столь последовательны в своих изменениях, как их трактует теория Хикса.
4. ПОЛЬ А. САМУЭЛЬСОН: НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Используя мощные аналитические орудия, Поль А. Самуэльсон, по-видимому, успешнее, чем кто-либо другой, вторгся с экономической теорией в святилище математики. Он родился в 1915 г., и его называли «вундеркиндом» американской экономической науки. Быстро сделав научную карьеру, он стал профессором Массачусетского технологического института, когда ему не было и 30 лет. Его работам присуща черта, свойственная, по мнению Шумпетера, всем выдающимся экономистам,— рано выработав определенное отношение к экономическому строю, они последовательно исходят из него в своих эмпирических и теоретических работах. По мнению многих, Самуэльсон снова вдохнул жизнь в экономическую науку: поставив ее на прочную математическую основу, он преодолел унаследованные экономической теорией противоречия и заблуждения.
Самуэльсон утверждает, что математика необходима для обновления экономической науки. Язык математики, говорит он, единственно возможный язык для изложения основных положений экономической теории. Работа Самуэльсона «Основы экономического анализа», являющаяся одним из наиболее крупных произведений современной экономической мысли, принесла автору премию Дэвида А. Уэллса в Гарварде 196. Американская экономическая ассоциация в 1947 г. наградила его первой медалью Джона Бейтса Кларка, присуждаемой за наиболее выдающийся вклад в науку экономистам моложе 40 лет. Одна из ранних работ Самуэльсона содержала чрезвычайно интересную трактовку внутренней взаимосвязи мультипликатора и акселератора. Ряд статей, посвященных теории потребительского спроса, поставили автора в центр оживленной дискуссии, развернувшейся вокруг проблемы потребительского выбора и предпочтения 197. В большинстве из этих статей предвосхищались взгляды, изложенные в «Основах экономического анализа»— работе, вызвавшей изумление среди экономистов, ибо в ней содержалось исчерпывающее изложение буквально всех разделов экономической теории, переведенное на мощный язык математики. Самуэльсон ни в малейшей степени не обеспокоен тем, что у него на переднем плане находятся математические формулы: он считает свой метод, в сущности, простым и вовсе не склонен похоронить математику в подстрочных примечаниях, как это сделал Альфред Маршалл. Высказываясь о своем отношении к математическому методу, Самуэльсон писал: «Трудоемкая литературная обработка по существу простых математических понятий, столь характерная для современной экономической теории, не только не вознаграждает экономистов с точки зрения развития их теории, но и связана с умственной гимнастикой сомнительного типа» 198. К сожалению, многие читатели его работ считали подобного рода оценку неуместной скромностью со стороны автора.
Все большее число экономистов высказывает сомнение, не приведет ли столь сильное увлечение математической техникой к вырождению экономической науки, которая, по- видимому, является в конечном счете социальной наукой? Анализ по методу затраты — выпуск и линейное программирование возникли, конечно, в результате применения математики, но это скорее технические приемы, нежели теория. Однако Самуэльсон сам вполне доказал способность «спускаться на землю», о чем свидетельствуют многочисленные отступления в «Основах», и особенно его учебник «Экономика»— одна из самых замечательных работ в этом роде 199.
В последнем, пятом издании этой работы автор пересматривает все ее основные положения в свете новейших достижений экономической науки. В первом же издании, носившем явную печать кейнсианства, Самуэльсон защищал такие непопулярные в США идеи, как правительственные расходы и налоговые льго18 Б. Селигмен
273
ты в качестве'; антикризисных мер. В течение многих лет Самуэльсон перерабатывал свой учебник, постепенно приближаясь к поставленной цели, которую он объявил «великим неоклассическим синтезом», объединяющим современные методы анализа национального дохода с освященными временем принципами отцов политической экономии Смита, Рикардо и других. Такого рода «синтез» должен был включать в себя, конечно, и учение о полной занятости при нормальном состоянии экономики, ибо только в этих условиях приобретало какой-то смысл использование классической доктрины. В основе теории Самуэльсона лежала кейнсианская концепция определения уровня дохода, которая давала ключ к полной занятости. С учетом этого можно было сохранить место и для таких классических взглядов, как роль фактора бережливости, а все традиционные парадоксы теории утрачивали силу 2()0. Таким образом, микро- и макроэкономика наконец-то оказались в состоянии установить дипломатические отношения. Учебник Самуэльсона, разошедшийся тиражом свыше 750 тыс. экземпляров и переведенный на различные языки, является до сих пор лучшим пособием для изучающих экономическую науку, и это подтверждали многие преподаватели в течение последних десяти лет 201.
Не явилось неожиданным и более позднее исследование, предпринятое Самуэльсоном в области теории игр и линейного программирования. Большая часть этой работы вошла затем в подготовленную для «Рэнд корпорейшн» «Справку», которая переросла в книгу (написанную в соавторстве с Робертом Дорфманом и Р. М. Солоу) «Линейное программирование и экономический анализ» 202. Здесь исследование вращается вокруг вопроса об идентичности условий равновесия и теории поведения, направленного на максимизацию некой функции; этот же тезис пронизывает и «Основы». В «Справке» для «Рэнд корпорейшн» Самуэльсон связал установление экономического равновесия с проблемой нахождения максимума специфическими методами теории игр. Седловые точки — минимум и максимум в теории игр — могут быть установлены с помощью последовательного ряда разностных уравнений, располагающихся вначале по восходящей, а затем по нисходящей линии. Но хотя теория игр может иметь отношение к максимизации, Самуэльсон не видел особых преимуществ теории игр по сравнению с исчислением.
В работе, представленной в 1952 г. в Американскую экономическую ассоциацию, Самуэльсон в известной мере развенчивает достоинства математического метода, еднако для него самого не оставалось сомнений, что эффективная экономическая наука невозможна без математики 203. Математика может, конечно, быть заменена обычным языком, что доказали работы Джона Бейтса Кларка,^ но, говорит Самуэльсон, необходимые соотношения легче выразить, используя символы. Самуэльсон, однако, не заметил специфической трудности, возникающей при чисто математическом подходе, а именно то, что используемые при этом понятия часто не удается связать с фактическими экономическими данными. Это оставляло открытым вопрос интерпретации. Для Самуэльсона же любые положения теории, независимо от того, как они формулируются, должны поддаваться верификации; в противном случае они в аналитическом отношении бессмысленны. Конечно, математика сама по себе не гарантирует от ошибочных предпосылок. Поэтому важны методы строгого доказательства положений, говорит Самуэльсон; а это свидетельствует, что математический метод мышления, базирующийся на общепринятых, умело применяемых символах, позволяет наилучшим образом установить истинность экономических положений. Но хотя математика полезный инструмент экономического исследования, говорит Самуэльсон, полезная экономическая работа возможна и без нее. Иными словами, он находится в завидном положении человека, который ест пирог, оставляя его в то же время в неприкосновенности, и Самуэльсон с этой задачей справляется весьма успешно. Достаточно сравнить его глубокомысленные научные статьи и общедоступные заметки, в изобилии появляющиеся на страницах «Файненшл тайме» и других изданий. Можно указать также на его блестящий очерк теории заработной платы, помещенный в довольно неинтересном в целом сборнике «Роль профсоюзов в обществе» 204.
«Основы экономического анализа» были встречены читателями как наиболее значительная работа после книги Хикса «Стоимость и капитал». Основная тема книги сформулирована в первом параграфе: сходные взгляды по основным проблемам политической экономии, присущие различным теориям, позволяют создать более общую концепцию, которая свяжет воедино на первый взгляд противоположные сферы экономического анализа. Каждая из специфических областей экономики, указывал Самуэльсон, например налогообложение, цены, международная торговля и т. д., является лишь конкретным выражением этой общей экономической концепции 205. Следовательно, задача экономиста сводится к тому, чтобы доказать существование «в каждой из этих областей формально идентичных со- 274
держателъных теорем, полученных по существу аналогичным методом» 206. Основным в этом положении Самуэльсона было определение «содержательные»; ибо его интересовали как опровержимые, так и доказуемые положения независимо от степени их важности или тривиальности. Однако содержательность, несомненно, предполагала дальнейший анализ, целью которого было наполнить теоретическую категорию эмпирическими данными 207. Определив таким образом конечную цель научного исследования, Самуэльсон стремился показать, что в основе всей экономической теории лежат две главные экономические гипотезы: понятие экономического максимума и определение условий экономического равновесия.
Экономическое равновесие прежде всего предполагало существование задачи на максимум или минимум. Следовательно, установив вторичные условия максимума, то есть те условия, которые указывают на изменение в направлении максимальной точки или от нее, можно было охарактеризовать основные черты экономической модели. Иначе говоря, ограничиться определением признаков максимума недостаточно, модель должна одновременно показывать направление движения относительно критической точки. Этому вопросу посвящена значительная часть «Основ»; решение его предполагало изучение поведения, преследующего цель максимизации, рассмотрение теории издержек и производства, действий потребителей и учения о благосостоянии. Но поскольку экономические проблемы ставятся в таком аспекте, неизбежно речь пойдет о динамических изменениях в экономике. Таково было понятие экономического равновесия в трактовке Самуэльсона. Это последнее означает такое устойчивое состояние экономики, при котором имеет место тенденция к саморегулированию отклонений. Как и Кейнс, Самуэльсон освободил понятие равновесия от нормативных постулатов, поскольку они исходили из возможности существования стабильной экономики при больших размерах безработицы 208.
Условия экономического равновесия наилучшим образом могут быть выявлены с помощью метода сравнительной статики. Этот метод состоит, строго говоря, в изучении того, как реагируют переменные равновесной системы на изменения ее параметров; именно эти изменения в параметрах и обусловливают колебания в системе, характеризующейся равновесием. Далее Самуэльсон изложил теорию потребительского спроса и производства в категориях предпочтений, как их толкуют орди- налисты. Однако, хотя Самуэльсон утверждал, что рациональный элемент поведения в нормативном смысле при этом не подразумевается, его доводы не были убедительными. По мнению Самуэльсона, потребитель ищет максимума пользы и в состоянии делать сравнения или «выявлять» свое предпочтение. Спрос в длительном аспекте характеризуется большей эластичностью, нежели в краткосрочном аспекте. Далее Самуэльсон непосредственно вводит проблему трактовки конечных изменений в экономике. Самуэльсон показывает, что можно отказаться от допущения о бесконечных изменениях и что задачи с конечными изменениями могут быть решены без труда. Этим Самуэльсон сделал важный вклад в теорию, ибо он показал, как следует трактовать внезапные сдвиги или резкие повороты соответствующих кривых. Так анализ дискретных величин стал составной частью анализа цен и факторов производства 209. По сути дела, утверждал Самуэльсон, явление дискретности значительно облегчает анализ, ибо в этом случае оптимальные точки производства более четко различимы и они меньше реагируют на колебания цен на факторы производства. Кроме того, такого рода равновесие очень прочно, ибо для его нарушения требуется значительное изменение цены.
Обосновав свой метод, Самуэльсон перешел затем к теории издержек и производства. Здесь перед ним встала задача показать, как могут быть получены минимальные издержки для каждого уровня производства. Хотя тот или иной объем продукции может быть получен различными путями, требование о минимальных издержках делает задачу определенной. Основной вопрос сводился к соотношению между производственной функцией и кривыми издержек. Самуэльсон дал довольно глубокое освещение этого вопроса, хотя его трактовка таких проблем, как взаимодополняемость факторов, была менее полной, чем можно было ожидать. По мнению Самуэльсона, большие усилия, некогда прилагавшиеся к выяснению проблемы взаимодополняемости, вряд ли оправданы, ибо эта проблема фактически не столь важна 21°. Минимальный уровень издержек производства имеет место при равенстве предельной производительности последнего доллара затрат при любом его использовании. Это положение было сформулировано таким образом, что оно совершенно не зависело от соображений прибыльности.
Метод, применявшийся Самуэльсоном при анализе издержек производства, аналогичен методу построения кривой безразличия при изучении предпочтения потребителя. Этот метод исходил из стремления предпринимателей к такой комбинации факторов производства, которая дает наименьшие издержки производ18* 275
ства. Такая комбинация факторов достигалась сравнением предельной производительности каждого из них с предельной производительностью других факторов и изменением пропорций между факторами до такого момента, когда отношение стоимости каждого фактора к его производительности оказывалось одинаковым при любом использовании. Такая техника анализа приводила к системе изоколичеств, то есть кривых, каждая точка которых отражает равный объем выпуска при различных комбинациях затрат; на сетку изоколичеств накладывалась сетка кривых изозатрат, так что точка касания кривой желаемого объема выпуска и самой низкой кривой изозатрат отображает минимальные издержки при данном уровне производства. Затем Самуэльсон вывел ряд теорем, показывающих взаимосвязь изменений различных переменных 211. Так, рост цен на данный фактор, при прочих неизменных ценах, приводит к уменьшению его использования предпринимателем: минимальные совокупные издержки для данного уровня производства имеют место тогда, когда цена каждого фактора равна его предельной физической производительности, помноженной на предельные издержки; при увеличении выпуска продукции изменение элемента затрат обязательно равно изменению предельных издержек, обусловленному изменением цены данного фактора. Исходя из этих положений становится почти самоочевидной обоснованность теоремы Эйлера о распределении продукта между различными факторами производства — о том, что в процесс распределения включается весь продукт.
В теории спроса Самуэльсон отверг как точку зрения кардиналистов, так и интроспективный подход. «Поведение на потребительском рынке следует объяснять в категориях предпочтения, которое в свою очередь определяется лишь поведением покупателя»,— заявил Самуэльсон 212. Признавая, что такое заявление граничит с бессмысленностью, Самуэльсон в то же время утверждал, что по крайней мере в техническом смысле содержательные теоремы могут быть выведены из бихевиористской, ординалистской точки зрения. Налагая определенные ограничения на различные использованные им функции, он утверждал, что эти теоремы могут быть доказаны или опровергнуты «при идеальных условиях экономического наблюдения». Тот факт, что эти «идеальные условия» встречаются очень редко, не умаляет достоинств теории как таковой. Подход Самуэльсона по существу тот же, что и у Хикса, причем для разграничения последствий изменения доходов и взаимозаменяемости товаров используется концепция безразличия. Предполагается, что при данном уровне дохода и существующей структуре цен индивидуальный потребитель должен выбрать самую высокую точку на шкале предпочтений. Несмотря на решительное отрицание Самуэльсоном того, что это означает оценку чувств потребителя, его позиция грозила вновь привести к проблеме полезности. Анализ Самуэльсона исходил из «строгого» упорядочения предпочтений. Иначе говоря, прежде чем станет возможным анализ поступков покупателя, он должен таковые совершить 213. Поэтому все, что надо знать о покупателе, может быть постигнуто лишь путем наблюдения за его поведением на рынке. Если выбор устойчив несмотря на повышение цены на товар или на более высокую цену на этот товар по сравнению с другими, ясно, что предпочтение «выявлено». Эти предпочтения должны обладать свойством транзитивности, и основанные на них кривые безразличия должны поддаваться обработке с помощью интегрирования. В отличие от Самуэльсона анализ безразличия у Хикса строился на «слабом» упорядочении предпочтений, что, по мнению Самуэльсона, не обеспечивало достаточной основы для исследования. В его представлении предпочтение потребителя полностью обнаруживает его рыночный выбор и исключает какие-либо соображения стратегического характера. Поэтому условия общего благосостояния, вытекавшие из такого анализа, следовало связать с точными и определенными действиями потребителей.
Наиболее ценным в работе Самуэльсона было исследование условий перехода от одного экономического равновесия к другому. Он установил, что соответствующие функции спроса однозначны. Каждой данной совокупности цен и доходов соответствует определенная совокупность благ; если цены товаров и доходы изменяются строго пропорционально, количественные соотношения не изменяются. Что же касается анализа безразличия как такового, Самуэльсон не был убежден, что он столь же ценен, как «выявленное предпочтение». В действительности, говорил он, из теории полезности можно вывести лишь несколько заслуживающих внимания теорем, но даже они, как представляется, не очень-то важны для экономической теории. Наука вряд ли претерпит большие изменения, если будет доказана ложность положений, основанных на теории полезности. Так несколькими простыми ходами Самуэльсон подорвал весь аналитический аппарат современной теории потребительского спроса.
Это, естественно, вызвало возражения ряда авторов. Полемизируя с Самуэльсоном, эконо276
мисты утверждали, что при наличии статистических данных график безразличия можно превратить в аналитическое орудие 214. При Са- муэльсоновом «строгом» упорядочении предпочтений, которое позволяло выводить теоремы благосостояния из единичных актов выбора, по-видимому, статистические данные не используются и даже допускается, что это вполне возможно. Кроме того, оппоненты Самуэльсона указывали, что он пытается свести к минимуму эффект взаимозаменяемости и в большей мере полагается на влияние доходов, тем самым воздвигая преграду на пути создания законченной теории спроса 215. Необходимо, однако, отметить, что если при повышении уровня цен соотношение между ними не меняется, эти возражения в адрес Самуэльсона, по-видимому, теряют силу 216. Не многого достиг Самуэльсон и в вопросе об экономии потребителя, несмотря на героическую попытку Хикса восстановить в правах эту проблему. Объясняется это тем, что при ординалистской трактовке измерению выигрыша, получаемого при изменении цен товаров, вообще придается мало значения 217. Кроме того, понятие экономии потребителя представляется обманчиво простым: выигрыш потребителя в современной высокоразвитой экономике складывается в результате целого комплекса услуг, и это явно обесценивает понятие специфической экономии 218.
Теоремы общего благосостояния Самуэльсона основаны на работе Абрама Бергсона, который в 1938 г. опубликовал статью по этому вопросу; в ней он разработал функцию всеобщего благосостояния, синтезировав многое из того, что было сделано ранее. Но в отличие от своих предшественников Бергсон явно придерживался оценочных суждений. Эти последние, говорил он, могут формулироваться неким высшим авторитетным органом. По его мнению, кривые безразличия можно усовершенствовать таким образом, чтобы получилась функция всеобщего благосостояния, с помощью которой можно было бы оценивать предложения об экономической политике. Конечно, трудность при этом заключается в выяснении вопроса о том, в какой политике общество действительно нуждается. Общество, по-видимому, не располагает готовым законодательным органом, который бы справился с задачей оценки его потребностей. Кроме того, представляется сомнительным, можно ли очистить общественное мнение от влияния, которое оказывает на него такое высшее законодательное учреждение, как, например, конгресс США или законодательные органы штатов. Как отмечал Кеннет Эрроу, принятие решения от лица общества требует постоянства системы предпочтений, согласованности, свободной от принуждения, своеобразного господства большинства, а также предполагает выбор только между известными обществу альтернативами. По мнению Эрроу, одно из перечисленных условий обязательно будет нарушено; в частности, при решении вопросов голосованием постоянство системы предпочтений не всегда соблюдается. Таким образом, строго придерживаться понятия выбора от лица общества, по-видимому, трудно 219.
Во всяком случае, ординалистская концепция общественного благосостояния Бергсона представляется значительно более глубокой и плодотворной, чем работы Маршалла, Пигу или Парето. Хотя некоторые авторы и утверждали, что в политической экономии нет места для оценочных суждений, Самуэльсон придерживается другого мнения: «Экономист,— писал он,— вправе рассматривать последствия тех или иных оценочных суждений независимо от того, разделяет он их или нет» 22°. Очевидно, однако, что многие теоремы, полученные таким путем, не представляют практической ценности, ибо они основываются на допущениях, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты. Например, тезис Маршалла о постоянной предельной полезности дохода, по-видимому, значительно упрощает дело. Но Самуэльсон вообще поставил под сомнение возможность выработать такое мерило. Прежде всего, что означает это понятие? Оно может относиться к общей величине показателя, характеризующего отношение предельной полезности различных товаров к их ценам (при условии, что изменения в ценах и доходах устойчивы). Теоретически такая ситуация описывается любым количеством функций полезности. В этом случае задача сводится лишь к отысканию такой функции, которая остается постоянной при любых изменениях в ценах или доходах. Но можно доказать, что такую функцию отыскать невозможно. Другое дело, если речь идет о постоянной предельной полезности при изменениях цен, а не доходов; в этом случае можно было бы получить некоторую функцию. Но и здесь возникают сомнения в возможности вывести постоянную функцию полезности, ибо она основывалась бы на маловероятной предпосылке одинаковой эластичности спроса от дохода. Вот почему, если следовать рассуждениям Самуэльсона, любая попытка вывести из функции полезности такой статистический показатель, как индекс цен на потребительские товары, обречена на неудачу.
Функция благосостояния определялась с ординал истских позиций; иначе говоря, речь могла идти лишь об улучшении или ухудшении 277
положения общества или о неизменном благосостоянии. Функция благосостояния не обязательно должна была указывать обществу, какое из двух возможных состояний ему следует избрать. Но предполагается, что она могла бы показать, какая ситуация из нескольких предпочтительнее (при условии, что для общества выбор вообще возможен). Изучая содержание соответствующих теорем, Самуэльсон обнаружил, что при анализе условий благосостояния цены обычно не принимались во внимание; что соответствующие переменные могут быть применены к индивидууму или группе лиц (например, семье); что было сделано допущение однородности спроса; что предполагалась подвижность факторов производства; что предпочтение имело в своей основе рациональные предпосылки; что предпочтения носят индивидуальный характер, исключающий, следовательно, Вебленово понятие показного потребления; что допущение симметрии в анализе предполагает существование условий равенства; что, наконец, благосостояние часто трактовалось как максимизация полезности в кардиналистском смысле. Рассматривая благосостояние как максимизацию соотношений затраты — выпуск, Самуэльсон пришел к выводу, что при этом методе анализа могут быть получены лишь незначительные результаты. Вывод о желательности увеличения продукции или снижения издержек производства при неизменном объеме выпуска никого не способен удивить. Тезис о равенстве в распределении дохода, обычно выдвигающийся в качестве условия оптимального благосостояния, предполагает и одинаковые вкусы людей. Кроме того, функция благосостояния наводит на мысль о возможности сравнения полезности благ для разных потребителей 221. Разработанная Самуэльсоном функция «возможностей», по-видимому, противоречила мнению других теоретиков, считающих, что необходимо лишь выработать критерий увеличения или уменьшения благосостояния. Представляется очевидным, что даже при современной узкой трактовке благосостояния невозможно избежать сравнений. Самуэльсон сделал вывод, что новые теоремы благосостояния повторяли лишь то, что содержалось в прежних формулах 222. Действительно, у Хикса и Парето в трактовке этой проблемы так же много этических элементов, как у Маршалла и Пигу. Самуэльсон высказал даже мнение о том, что может быть открыта третья область исследования, а именно область сравнений между индивидуумами 223. Это позволило бы расширить сферу применения и без того абстрактной функции благосостояния за пределы той области, которой она сейчас ограничивается.
Проблемы государственных расходов, а также международной торговли могут служить примерами приложения теории благосостояния Самуэльсона. Теория международной торговли явно переживает застой. Если представители неоклассической школы по-прежнему придерживаются варианта концепции трудовой стоимости, то другие экономисты пытаются обосновать субъективные взгляды, используя с этой целью кривые безразличия, как, например, Хаберлер и Леонтьев. Джекоб Вайнер по- прежнему настаивает на необходимости выяснить понятие реальной стоимости. Высказывалось мнение, что на свойства кривых безразличия влияет распределение доходов, а оно в свою очередь зависит от колебаний международных товарных потоков. Следовательно, проблема сводилась к тому, как измерить выигрыш от внешней торговли. Самуэльсон высказал мысль, что допущения, разделяемые обеими спорящими сторонами, не предполагают измерения этого выигрыша 224. Попросту говоря, развитие внешней торговли означает, что страна в состоянии получить большее количество товаров при сокращении собственного производства. Это, конечно, выигрыш для данной страны, хотя он не поддается измерению. Таким образом, независимо от того, в какие бы ограничительные условия не была поставлена внешняя торговля, она всегда выгоднее, чем ее отсутствие. Более того, с помощью определенной тарифной политики можно улучшить условия торговли и таким путем повысить благосостояние нации 225. Вопреки общепринятому мнению о том, что протекционистская политика в отношении факторов производства не приводит к абсолютному увеличению их доходности, ибо тарифы в лучшем случае относительно укрепляют торговые позиции данной страны, не давая ей абсолютного выигрыша, Самуэльсон считает, что при отсутствии ответных мер контрагента тарифы могут увеличить доходность как относительно, так и абсолютно 226. Ибо, как вытекает из модели для двух факторов, сдвиг в ресурсах, связанный с протекционистской политикой, приводит к относительной нехватке одного из факторов в некоторых отраслях, а следовательно, к увеличению его доходности.
Теория предпочтения была использована также для выяснения сущности правительственных расходов 227 . Самуэльсон начал с крайнего случая, когда существует функция общего благосостояния, отсутствует технологический прогресс, вкусы потребителей неизменны, а уровень доходности при увеличении масштабов производства постоянен, и поставил вопрос: какова должна быть в этих условиях 278
правительственная политика? В сущности, необходима лишь такая политика, в результате которой происходило бы перераспределение доходов. Финансирование самых минимальных правительственных расходов, как и в условиях господства невидимой руки Провидения, зависело бы от перераспределения, то есть от трансферта доходов. В обществе, где распределение доходов не является «оптимальным», налогообложение имеет важное значение, ибо оно приводит к дальнейшему перераспределению доходов. Однако, если допустить технический прогресс и возрастающую или убывающую доходность, положение будет иным, и «...обычные рыночные расчеты, действительные для частного рынка, не должны быть оптимальными» 228. Если к этим элементам добавить спрос на товары общественного пользования, которые «входят в кривые безразличия многих лиц», модель экономики, основанной на свободной конкуренции, рухнет. Тем не менее, продолжал Самуэльсон, теоретически можно выявить социально желательную конфигурацию точек графика безразличия, которая отражала бы определенную функцию благосостояния. Такая модель экономики должна отразить равенство общественных предельных норм взаимозаменяемости товаров индивидуального и общественного пользования и исходить из такого перераспределения частных товаров, результатом которого будет их «равное предельное общественное значение». Самуэльсон считал создание такого рода экономического механизма делом нелегким, ибо всегда найдется такой «разумный индивидуум», который с помощью ловких шагов попытается отдать меньше частных товаров в обмен на блага, которые предоставляет общество. Таким образом, центральной идеей у Самуэльсона было положение о необходимости предусматривать в правительственных бюджетах субсидий для осуществления «трансферта», если это позволит повысить общественное благосостояние. Разумеется, если доходность не характеризуется постоянной величиной и имеется множество товаров и услуг, задача усложняется; но в этом случае решение возможно, по крайней мере в теоретическом плане.
Наиболее существенным вкладом Самуэльсона в экономическую науку является разработанная им концепция экономической динамики. Равновесие, говорил он, предполагает, такое условие, при котором все переменные, претерпев изменения, стремятся к первоначальной величине. Следовательно, для сравнения статичных состояний необходимо, чтобы глубинные динамические силы сохраняли стабильность. Самуэльсон поставил традиционное представление с ног на голову: если Джон Бейтс Кларк объявил динамику зависимой от статики, то Самуэльсон провозгласил статику лишь особым случаем динамики. Динамическая система функционирует во времени; вневременная статическая модель представляет собой лишь вырожденный особый случай, когда все функциональные отношения модели выражаются в относительно простой форме, а время принимается за величину постоянную. В отличие от статической динамическая система всегда содержит функциональную связь между переменными и темпами их изменений. Кроме того, динамическая система представляет собой нечто саморазвивающееся 229. Динамический анализ бывает двух видов: а) анализ применительно к определенным периодам времени, при котором используются разностные уравнения; б) анализ непрерывных изменений с использованием дифференциальных уравнений.
Статика показывает, как достигается равновесие при данных определенных функциональных связях и параметрах. Зависимость между статической моделью и условиями стабильности, необходимой для динамики, Самуэльсон называет «принципом соответствия». Применение этого, центрального у Самуэльсона, принципа требует встречного двухстороннего анализа. «Исследование динамической стабильности системы позволяет вывести много полезных теорем для понимания статики,— писал он,— но и известные свойства (сравнительной) статической системы могут быть с пользой применены для выяснения динамических свойств системы» 23°. В статической системе темпы изменения переменных равны нулю; в динамической структуре возникает сложная проблема определения темпов изменения переменных во времени, для чего необходимо полностью использовать возможности математического метода, в частности дифференциальных и разностных уравнений. Только в условиях динамики могут быть выявлены закономерности поддержания данного равновесия. Так, введение запаздываний во времени в анализ взаимоотношения цен и предложения привело к созданию знаменитой паутинообразной модели. Самуэльсон вступил в спор с Хиксовой концепцией динамики, выразив свое сомнение в пользе понятия полной стабильности 231. Это понятие, говорил он, скорее применимо к статической модели, применение же его к динамическим ситуациям является ошибочным. Напомним, что Хикс свел все разнообразие товаров к одному виду, а затем отметил, что экономическая динамика возникает тогда, когда предложение превышает спрос. Но, как представляется, этот вывод имеет ограниченное значение и по существу носит искусственный характер. Теория же 279
Самуэльсона, по-видимому, значительно ближе к жизни, ибо охватывает более широкую группу случаев.
Разработав принципы линейного анализа, Самуэльсон пришел к более сложным, нелинейным проблемам. В линейных системах амплитуда экономических колебаний принимается равной нулю и анализ в значительной мере утрачивает связь с действительностью. Преодолеть этот недостаток можно, лишь введя в модель элемент запаздывания во времени и используя разностные уравнения для анализа нелинейных процессов. Самуэльсон провел четкое различие между тремя типами экономических систем: стационарной, каузальной и исторической; эта классификация оказала немалую помощь в деле выяснения наиболее характерных черт различных экономических моделей 232. В стационарной экономике переменные не меняют своего значения с течением времени. В каузальной экономической системе поведение зависит от первоначальных, заранее определенных условий и от истекшего периода времени. Однако самой существенной чертой является тот факт, что в этой системе переменные внутренне обусловлены. Историческая модель экономики также описывает изменения, но причины их лежат вне системы и имеют внеэкономический характер; в этом случае переменные «решающим» образом це входят в модель на различных отрезках времени. Итак, возможны следующие экономические системы: статически-стационарная, статически- историческая, динамически-каузальная и ди- намически-историческая; к ним можно еще добавить стохастические, или случайные, системы либо каузального, либо исторического происхождения. Вся эта классификация могла стать столь же бесплодной, как и основанные на ней математические модели, однако Самуэльсон сумел спасти свое построение тем, что признал необходимость во многих случаях считаться и с внеэкономическими факторами. «Реальность редко укладывается в рамки классификации из учебников»,— признавал он 233. Такое признание осмеливались делать лишь немногие из экономистов-математиков.
Динамический анализ охватывал такие проблемы, как прирост сложного процента на определенный момент времени, соотношение между ростом капитала и потоком дохода, взаимодействие мультипликатора и акселератора, паутинообразная модель и другие нелинейные процессы. Самуэльсон совершенно справедливо настаивал на необходимости использования динамического анализа при изучении циклов и экономического роста. Но в то время, как число экономических моделей практически бесконечно, метод их изучения должен быть определен совершенно четко. При таком подходе предполагается вероятность существования са- мозарождающихся экономических циклов; это означает, что при любом нарушении в экономике возникают собственные движущие силы. Поэтому теория может не заниматься специальным объяснением поворотных пунктов цикла, таких, как Хиксов экономический потолок 234.
Одним из наиболее удачных примеров использования Самуэльсоном динамического анализа является статья о взаимодействии мультипликатора и акселератора 235. Эта статья примыкает к работе Элвина Хансена, где он пытается объяснить причины спада 1938 г. с помощью модели, предусматривавшей непрестанные колебания 236. Но Самуэльсон показал, что при различной величине предельной склонности к потреблению и коэффициента, или акселератора, возможны различные циклы. Построенная им модель исходила из того, что доход распадается на три части: 1) правительственное дефицитное финансирование 2) расходы на частное потребление, вызванные к жизни предшествующими правительственными расходами (здесь действует мультипликатор), и 3) частные расходы, порожденные действием акселератора. Далее становилось возможным выделить различные типы экономических колебаний, для чего следовало придать определенные значения мультипликатору и акселератору. Если действует только мультипликатор, то- есть акселератор равен нулю, постоянное впрыскивание инвестиций приведет к увеличению доходов, равному сумме инвестиций, помноженной на мультипликатор. Если величина предельной склонности к потреблению равна 0,5 (мультипликатор составляет 2), а акселератор равен единице, колебания будут затухать и происходить вокруг дохода, вытекающего из действия одного мультипликатора. Если же числовые значения предельной склонности к потреблению и акселератора больше, колебания будут происходить вокруг среднего дохода, равного тому доходу, который сложился бы при действии одного лишь мультипликатора. При дальнейшем росте этих значений в экономике возникает «взрыв», когда доходы растут как норма сложного процента. Анализ Самуэльсона показал, что акселератор не является решающим фактором динамики национального дохода, а скорее дополняет и усиливает действие мультипликатора. По-настоящему ощутить действие акселератора можно тогда, когда его величина довольно значительна. Однако акселератор способен играть важную роль в циклических колебаниях; при280
давая ему различные значения на отдельные моменты времени, можно провести подлинно глубокий анализ нелинейных экономических моделей. Важно и то, что эта теория ищет основные причины колебаний в самой экономике.
Но несмотря на всю эту мощную технику, имеется реальная угроза того, что математический метод заведет экономическую теорию в тупик. В руках менее искусного исследователя, чем Самуэльсон, создание математических моделей может превратиться в самоцель; слишком часто модели не могут быть использованы для экономических исследований, то есть не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к теории. Алгебраические построения нередко настолько усложняются, что не поддаются решению. Например, введение в нелинейные модели экономических циклов эмпирических данных представляется необходимым условием дальнейшего развития исследований. Как сказал Ллойд Метцлер, вполне возможно, что статистические данные необходимо с самого начала привнести в модели, а это значит, по существу, идти в обход теории, разработанной Самуэльсоном 237.
Нет ничего удивительного в том, что эта динамическая теория привела к использованию новейшего аналитического аппарата линейного программирования. В концепции Самуэльсона рассматривалось движение экономики от точек максимума и обратно, и внимание в ней было сосредоточено на «предельных неравенствах». Традиционная маржиналистская теория интересуется этими максимальными точками как таковыми, поэтому она исходит из равенства предельной выручки и предельных издержек, а не акцентирует внимание на неравенствах, порождаемых отклонением от равновесия. Самуэльсон утверждал, что теория, занимающаяся изучением этих отклонений, должна обладать большей степенью всеобщности 238. «Теория», занимающаяся такого рода проблемами, и представляет собой метод линейного программирования, разработанный в США в годы второй мировой войны в целях управления запасами военных материалов. Ниже техника линейного программирования будет рассмотрена более подробно; здесь же необходимо заметить, что вопрос о распределении ограниченных ресурсов между различными видами использования, имеющий чисто экономическую природу, может быть сформулирован как задача линейного программирования. Такие задачи имеют линейный характер, но подчинены они определенным нелинейным неравенствам. Искушение заняться этими задачами у Самуэльсона было очень велико, ибо в них приходилось сталкиваться, но в более широком плане, с теми же проблемами, которые решались в «Основах». Многие экономические отношения, арбитраж, спекуляция и нормирование товаров, в частности, обнаруживают свойства неравенств, однако не всегда они могут быть объяснены с позиций максимума 239.
В качестве одного из новейших направлений науки линейное программирование имеет довольно интересную историю. Среди экономистов росло убеждение, что нельзя ограничиваться исчислением неизвестных и составлением уравнений модели общего равновесия. Проблема распределения ресурсов, вытекающая из теории благосостояния, порождала ряд дополнительных задач. Затем появилась теория игр Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна, в которой центральное место занимало понятие минимакса. Понятия распределения ресурсов и равновесия вошли также в схему затраты — выпуск Леонтьева. Далее, заметил Самуэльсон, развитие статистической теории принятия решений и теории множеств создали хорошую основу для применения линейного программирования 24°. При использовании всех этих достижений математики цель, по- видимому, заключается в решении экстремальной задачи таким образом, чтобы принимались в расчет не только равенства, а скорее неравенства, столь характерные для экономического развития. Имея в виду цели теоретического исследования, Самуэльсон успешно истолковал практически все то новое, что появилось в экономической науке. Идея же о том, что экономическая наука должна существовать как единая теория, осталась в силе 241.
Отмечая присущее Самуэльсону чувство реальности, следует все же признать, что он остался преимущественно сторонником чистой теории. В своем президентском обращении к Американской экономической ассоциации в 1961 г. он пространно рассуждал о достоинствах аналитической экономии, противопоставив ее политической экономии. Он утверждал что имеется расхождение между внутренней логикой экономической науки и ее выводами, с точки зрения простого человека; это расхождение Самуэльсон, по-видимому, приветствует. По мнению Самуэльсона, хороший политэконом может быть посредственным аналитиком, в то время как хороший аналитик на деле не обязан интересоваться состоянием мировой экономики. Эти рассуждения подкреплены весьма пристрастным разбором взглядов Смита, Рикардо, Милля, Маркса и Маршалла, призванным показать, что они были слабыми аналитиками, 281
хотя проявляли глубокую заинтересованность в благосостоянии общества. Очевидно также, что в качестве главного экономического советника правительства США Самуэльсон не мог отрицать необходимости для экономиста заниматься проблемами политической экономии. Он лишь ставил под сомнение то, будут ли всегда прислушиваться к мудрым речам экономистов. Но в этом и заключается сущность политики, о чем забывает Самуэльсон.
Итак, что же должен делать экономист? Ничего, отвечает Самуэльсон, ибо экономический анализ и экономическая действительность — это два разных мира, и лучшее, что можно посоветовать экономистам,— это продолжать двигать вперед логику и теорию своей науки. А для того, чтобы избежать крушения надежд или повальной шизофрении, целесообразнее всего удалиться в стены академий и работать здесь ради одной лишь достойной награды — самоодобрения исследователя.
5. ВАСИЛИИ ЛЕОНТЬЕВ
И АНАЛИЗ ПО СХЕМЕ ЗАТРАТЫ — ВЫПУСК
Принцип взаимозависимости имеет довольно длинную историю, которая началась еще до Вальраса и Парето. Его истоки можно обнаружить в учении французских физиократов XVIII в., один из которых, Франсуа Кенэ, в своей «Экономической таблице» пытался показать, как происходит движение товаров и денег между различными секторами экономики. Кенэ ставил перед собой задачу доказать преимущественное значение сельского хозяйства в экономике, как и то, что только сельскохозяйственный труд создает доход общества 242. Аналогичную схему разработал и Маркс, но определяющее значение у него имеет уже не сельское хозяйство, а промышленность. Это особенно отчетливо выражено в схемах воспроизводства, содержащихся во II томе «Капитала» 243. Эти «модели», однако, представляли собой довольно общую схему экономики. В схеме Маркса экономика состоит из двух подразделений: производство средств производства и производство предметов потребления; такое деление, несмотря нд его слишком широкий характер, с пользой служит экономистам вот уже в течение ряда десятилетий.
Заслуга первого точного теоретического определения принципа взаимозависимости принадлежит, конечно, Леону Вальрасу. В его модели, как показано выше, содержатся функции полезности, функции предложения и спроса, а также коэффициенты производства, так что ото давало возможность определить цены и количество товаров, поступающих на рынок. Но схема Вальраса носила чисто теоретический характер; он выражал сомнение в практической применимости ее, ибо вряд ли когда-либо будут доступны необходимые статистические данные. Парето и Бароне также не верили в то, что теорию равновесия можно наполнить реальным содержанием. В течение длительного времени экономисты ставили под вопрос «разрешимость» Вальрасовой системы то есть существование единственного в своем роде и определенного равновесия. Лишь в 1930-х годах видный математик Абрахам Вальд доказал возможность такого решения 244. Вопреки Вальрасовым tatonnements модель не гарантирует восстановления равновесия, если последнее нарушается. Как показал Вальд, в теории Вальраса содержится в лучшем случае лишь одна линия равновесия. Построения Парето имели более богатое содержание, потому что он стремился использовать различные технические коэффициенты, а не одну однородную линейную производственную функцию. Хикс же, как и Самуэльсон, стремился к тому, чтобы система реагировала на изменения в параметрах. Еще одна трудность в теории Вальраса заключалась в том, что, поскольку имелись уравнения для каждого товара и фактора, даже для небольшой по масштабам «экономики» приходится «решать» тысячи уравнений. Вопрос агрегирования не приходил на ум Вальрасу, поэтому всякое практическое использование разработанной им системы было вне человеческих возможностей .
Первым шагом к практическому использованию теории общего равновесия была таблица затраты — выпуск Василия Леонтьева (род. 1906). Эта таблица впервые была опубликована в работе «Структура американской экономики в 1919—1929 гг.» 245. Основные идеи, заложенные в методе затраты — выпуск, были сформулированы Леонтьевым еще в студенческие годы, во время пребывания в Европе, в частности в статье, опубликованной в 1925 г. и посвященной советскому экономическому балансу. Однако это был лишь первый шаг к количественному эмпирическому анализу экономической системы. Лишь спустя примерно пять лет были выработаны методы применения 282
эмпирических данных к теории общего равновесия.
Леонтьев родился в Петербурге, где посещал университет; затем он уехал в Берлин для завершения работы над диссертацией. В США юн прибыл в 1931 г. в качестве сотрудника Национального бюро экономических исследований, где он продолжил работу над анализом по схеме затраты — выпуск 246. В 1931 г. он поступил на работу в Гарвардский университет, профессором которого он является с 1946 г. Когда Бюро статистики труда Министерства труда США в связи с потребностями, обусловленными войной, приступило к построению большой таблицы затраты — выпуск, Леонтьев участвовал в этой работе в качестве специального консультанта. (К сожалению, в 1953 г. эта работа правительством была приостановлена. В 1961 г. правительство возобновило исследование по схеме затраты — выпуск. Разрабатывается матрица 80 х 80 для 1958 г.) Леонтьев возглавил также программу экономических исследований, начатых Гарвардским университетом в 1948 г., в основном по проблеме затраты — выпуск.
Метод затраты — выпуск определенно отвечал шумпетеровскому критерию подлинно научной теории: он знаменовал собой программу эмпирических исследований, преследовавших цель наполнить теоретические построения реальным содержанием. Упреки Клэпхема утрачивали силу. По мере того как накапливались статистические данные и создавались теоретические построения, пригодные для числовой обработки, экономическая наука начала покидать сферу чистого мышления и все чаще соединяла теорию с фактами. Казался близким день, когда об экономистах уже никто не мог бы сказать, что они стремятся, «...разделив одну экономическую фикцию на другую, получить реальный факт» 247. С появлением метода затраты — выпуск возникло убеждение, что теория общего равновесия, выступавшая до сих пор в исключительно абстрактной форме, какую ей придал Вальрас, сможет быть наполнена практическим содержанием. Этому способствовало и появление быстродействующих электронно-вычислительных машин. Складывалось мнение, что экономисты в конце концов выйдут за пределы статистического изучения временных рядов и анализа по методу регрессии, с помощью которых исследовались лишь отдельные стороны экономической действительности. Хотя Парето и даже Викселль сомневались в возможности численного решения модели экономического равновесия, Вальд и Джон фон Нейман доказали необоснованность этих сомнений 248.
Дискуссия вокруг этого аспекта теории равновесия началась с замечания, сделанного в 1932 г. Гансом Нейссером; последний заявил, что требуется нечто большее, чем просто установить цены и показатели производства в неотрицательных величинах. Несколькими годами позже Карл Менгер отметил, что одна из функций экономической модели состоит в том, чтобы установить различие между свободными и редкими благами. Этой же проблеме уделял внимание и Вальд в статьях, относящихся к 1935 и 1936 гг. Нейман же в своей модели пошел дальше статической системы Вальда, ибо он ввел несколько вариантов производства, хотя и с фиксированными коэффициентами. И что важно, товары рассматривались одновременно и как затраты, и как продукты, а это подводило к понятию обращения товаров между отраслями экономики. В анализ входил и потребительский спрос, причем труд рассматривался как продукт домашнего хозяйства, а средства существования — как издержки этого «выпуска». Вся система была замкнутой, лишенной каких-либо излишков, необходимых для инвестирования. Вопрос заключался в том, может ли быть сохранено равновесие экономики, если последняя растет и расширяется? Нейман показал, что при условии пропорционального роста во всех секторах экономики по крайней мере в одном из них темп определяется нормой процента. Если же одна из отраслей растет быстрее, чем процентные платежи, то образуется неоплаченный излишек. Таким образом, в модели Неймана присутствует известный элемент динамики. Эти чрезвычайно абстрактные построения, перегруженные математическими расчетами, дали тем не менее толчок развитию не только метода затраты — выпуск, но и линейного программирования 249.
Но самый ценный вклад в методику численного решения экономических моделей был сделан в 1940-х годах Леонтьевым, создавшим метод затраты — выпуск. Отныне стало возможным численное решение больших систем уравнений. Современная электронно-вычислительная машина способна с феноменальной скоростью решить систему из тридцати уравнений с таким же числом неизвестных. А когда Бюро статистики труда попыталось решить систему из нескольких сот уравнений, то никто в исходе не усомнился. Метод затраты — выпуск вполне себя оправдывает, по крайней мере в теоретическом плане. Как заметил Леонтьев, имеется определенная связь между, скажем, продажей автомобилей в Нью-Йорке и спросом на хлеб в Детройте 25°. По сути дела, всю страну можно рассматривать как 283
единую систему учета, где каждый сектор имеет собственный «бюджет» экономической активности. Из структуры системы вытекала схема, или матрица, которая показывала потоки продукта из одного сектора в другие, а также затраты в различных секторах. Выпуски располагались в матрице по горизонтали, а затраты — по вертикали. Таким образом, каждый сектор фигурировал в матрице дважды — как производитель соответствующего выпуска и как потребитель затрат. Эти экономические связи могут быть выражены как в стоимостной форме, так и в натуральных показателях; в первом случае итоги могут быть подведены как по вертикали, так и по горизонтали, давая уравнения для совокупного выпуска и совокупных затрат. Измерение же в абсолютных показателях делает невозможным подведение итогов по вертикали, ибо тонны нельзя сложить с ярдами. В связи с необходимостью получения агрегированных величин, поддающихся более легкой машинной обработке, возникла проблема трактовки понятия отрасли и группы отраслей, и при этом пришлось поступиться некоторыми деталями. Во многих проведенных исследованиях это затруднение обходят путем использования определений Бюро цензов.
Теперь появилась теоретическая возможность вывести для каждой отрасли уравнение, определяющее ту часть ее продукции, которая идет в другие отрасли. Предполагается, что излишек сверх этой суммы поступает в распоряжение конечных потребителей; Леонтьев назвал его «товарным остатком». Этот последний потребляется в домашнем хозяйстве и правительственными учреждениями, поступает на внешний рынок или в отрасли национальной экономики, обслуживающие внешнюю торговлю. Эти уравнения называются «балансовыми уравнениями». Разрабатывая свою экономическую модель, Леонтьев делал ряд допущений ограничительного характера в качестве своего рода первого приближения (хотя он дает более или менее подробное логическое обоснование этих предпосылок): каждый товар производится в одном секторе, производства сопряженных продуктов не существует, а затраты потребляющей отрасли определяются ее собственным выпуском. Последнее допущение лежит в основе леонтьевских фиксированных коэффициентов производства. По Леонтьеву, издержки производства прямо пропорциональны объему продукции: следовательно, можно оперировать однородными линейными уравнениями, отказавшись от теории предельной производительности. Прирост продукции означает увеличение всех элементов затрат. Очевидно также, что Леонтьев отказался от использования понятия тех нической взаимозаменяемости факторов производства 261.
Если, далее, заданы общий объем выпуска и коэффициенты производства (определенные* как отношение продукции данной отрасли* поступающей в потребление другой отрасли* к выпускаемой этой отраслью продукции), та можно определить объем спроса конечных потребителей на данную продукцию. Анализ позволяет раскрыть «типичные производственные и распределительные отношения в экономике* определяющие структуру экономики страны» 252. Решив уравнение коэффициента относительно вида затрат, можно получить структурное уравнение. Такой подход представлял собой удачное сочетание сложных проблем общего экономического равновесия с упрощенными допущениями статического анализа 253. Если правительство и совокупность индивидуальных потребителей рассматривать как «отрасли» или секторы, возникает «замкнутая» экономическая модель. В первоначальной замкнутой модели Леонтьева было 45 отраслей* а анализ проводился для 1919 и 1929 гг. Так как затраты, обеспечивающие удовлетворение конечного спроса, могли быть установлены, то возникла возможность определить и объем продукции каждой отрасли, необходимый для того* чтобы удовлетворить прямой и косвенный спрос.
Если построить «открытый» вариант системы* обнаружится сходство ряда ее элементов с анализом Кейнса. Этот «открытый» вариант имеет место, если пренебречь одним из основных соотношений замкнутой системы,так что к единственному решению уже прийти нельзя 254. Иначе говоря, при этом предполагается, что ряд переменных системы определяется внешними по отношению к ней обстоятельствами. В этих случаях сумма коэффициентов затрат по крайней мере в одной отрасли производства будет меньше единицы. В таком положении может оказаться любая отрасль, но наиболее вероятным кандидатом является домашнее хозяйство. Объясняется это тем, что здесь главное внимание уделяется количеству поставляемого труда, и могут быть высчитаны различные варианты этого «выпуска», обеспечивающие полную занятость рабочей силы. Открытый вариант предполагает обратную последовательность анализа: конечный спрос здесь определен заранее, и поэтому могут быть исчислены величины, удовлетворяющие «товарному остатку». Если изменяется объем конечного спроса, должны претерпеть изменения и масштабы занятости или выпуска. Аналогия с положениями Кейнса здесь представляется очевидной. Такого рода анализ стал типичным для метода затраты — выпуск, ибо он, по-ви284
димому, в большей мере удовлетворяет задаче осуществления экономической политики 255.
Метод затраты — выпуск, или метод межотраслевых связей, как некоторые предпочитают его называть, открывает возможности и для решения задач о размещении 256. Распределение экономической деятельности в пространстве без особого труда вписывается в леонтьевскую систему отраслевой взаимозависимости; для этого необходимо лишь расчленить каждую отрасль по географическим районам и получить балансовые и структурные уравнения для каждого из них. Производство любого товара в отдельном районе будет рассматриваться в этом случае как самостоятельный сектор. Далее становится возможным рассмотреть последствия колебаний конечного спроса по районам, а также различия применяемых в них производственных методов. Последующая ступень анализа позволяет обнаружить, что совокупный доход, создаваемый в стране, в значительной мере зависит от географического размещения производства.
Этой системе можно придать динамический характер, вводя в нее элементы, увеличивающие доход, альтернативные производственные методы или инвестиции. Предполагается, что путем наблюдения за структурными сдвигами, обусловленными изменением в доходах и инвестициями, можно получить эмпирический «закон изменений» 257. В динамической модели Леонтьева основным фактором является та часть выпускаемой продукции, которая превращается в капитал или в запасы. Балансовые уравнения должны теперь охватывать увеличение товарных запасов, а структурные уравнения, полученные на основе капитальных коэффициентов, превращаются в уравнения товарных потоков 258. Таким образом, утверждал Леонтьев, если известно первоначальное положение экономики, можно предсказать динамику ее на определенный период. При этом, конечно, следует принять во внимание избыток производственных мощностей, особенно если ранее функционировавшие мощности не пригодны для выпуска текущей продукции. Следовательно, в зависимости от направления, характерного для развития производства в данный момент, могут возникать избыточные мощности по отраслям.
Следует отметить, что на практике динамическая модель не получилась такой, какой ее хотели бы видеть. Вопреки введению фактора времени была предпринята попытка сохранить фиксированные коэффициенты. Например, нелинейные изменения в экономике можно было не принимать во внимание, по крайней мере в аналитическом плане, если интервалы между моментами, к которым относятся матрицы, достаточно малы. Следовало также допустить возможность альтернативных решений. Однако до настоящего времени подлинно динамическая модель еще не создана. Отсюда неизбежно возникали вопросы о том, насколько точны и надежны использовавшиеся данные 259. Кроме того, чрезвычайно большое значение приобрело влияние на экономику технического прогресса. Да и проверка точности экономических прогнозов по методу затраты — выпуск мало что дала 2в0. В некоторых случаях потребность в инвестициях оказывалась завышенной по сравнению с их действительным уровнем 261. Был выработан ряд методов по проверке прогнозов. Один из них состоял в сравнении оценок по схеме затраты — выпуск с данными, получаемыми при допущении, что общий выпуск в каждом секторе есть величина постоянная, кратная конечному спросу. Этот прием назывался проверкой «взрывом конечного спроса». В основе другого приема лежало допущение о постоянном соотношении между продукцией отрасли и валовым национальным продуктом. Третий метод проверки основывался на «предсказании» объема продукции каждого сектора исходя из доли в валовом национальном продукте за определенный период времени, исчисленной по правилу множественной регрессии. Последний метод оказался наиболее точным, так как при нем принимались во внимание фактор времени, а следовательно, постепенные изменения в технике производства и вкусах потребителей 2в2. Следует заметить, что счета валового национального продукта легко укладываются в схему затраты — выпуск, ибо в последней просто используются данные, полученные при «очистке» валового национального продукта. Все эти расчеты позволяют обнаружить скрытые водовороты экономического потока. Эмпирическими исследованиями по методу затраты — выпуск занимались в ряде стран 263. Вопросы межотраслевых связей изучались в Норвегии, Дании, Голландии, Италии, Англии, Японии, Канаде, Австралии и ряде латиноамериканских стран. Даже в Советском Союзе и примыкающих к нему странах пробудился интерес к этим вопросам, в основном благодаря усилиям Оскара Ланге* 2б4.
Однако не все экономисты склонны были * Селигмену, видимо, не известно, что в СССР еще в 1925 г. был разработан первый в истории межотраслевой баланс. См. «Труды ЦСУ СССР, т. 19, Баланс народного хозяйства Союза ССР, 1923—1924 гг.», М., 1926. В настоящее время в СССР и других социалистических странах широко ведутся работы по построению межотраслевых балансов, теоретическое обоснование которых дано в ряде работ выдающихся ученых, к числу которых принадлежал Оскар Ланге. —Прим. ред.
285
признать метод затраты — выпуск как эффективный путь изучения экономических проблем. Находясь под влиянием традиционного образа мыслей, критики Леонтьева оказывали заметное сопротивление его попыткам революционизировать науку. Особенно не понравилась им идея о фиксированных коэффициентах. Однако если метод Леонтьева модифицировать с учетом более поздних открытий в области линейного программирования, он в состоянии обеспечить и анализ меняющихся производственных функций. В этом случае уровень использования производственных затрат становится переменной величиной и возникает возможность установить критерии для оценки метода производства, основанные либо на минимальных издержках производства, либо на максимальном «благосостоянии». С этой точки зрения система Леонтьева может рассматриваться как особый случай общей теории линейного программирования 265. Аналитический метод Леонтьева предполагает, что при больших размерах затрат на единицу выпуска уровень последнего может и не быть величиной положительной. Если рассуждать последовательно, при нулевом конечном спросе на продукцию занятость и объем производства должны быть равны нулю. Но если в качестве «товарного остатка» или конечного спроса были взяты заграничные инвестиции, равные нулю, было бы ошибочно думать, что производство также будет равно нулю. Таким образом, становится очевидной необходимость получения дополнительной информации в отношении конечного спроса. Критики метода утверждали также, что схема затраты — выпуск не раскрывает влияния инвестиций в одной отрасли экономики на другие, поскольку здесь исключаются «обратные связи» и явления многостороннего порядка 266. Соответствующую корректировку расчетов необходимо осуществлять с помощью мультипликатора.
Критики Леонтьева настаивали на том, что выбор технологии производства, взаимозаменяемость элементов затрат и производство сопряженных продуктов возможны лишь при менее жестких допущениях. Но это означало возврат к нелинейным методам экономического анализа, от которых теоретики метода затраты — выпуск отказались. Чтобы объяснить значительные разрывы, приходилось снова исходить из изменчивости колебаний, охарактеризованных Хиксом и Харродом. Однако возможности практического применения метода Леонтьева таковы, что они оправдывали такую модификацию, ибо он оставался одним из немногих инструментов экономического анализа, поддающихся численному решению. Этой схеме может быть предъявлено обвинение в том, что она не содержит уравнений, выражающих действия покупателя на рынке, полностью игнорирует экономическую психологию и статистическими выводами подменяет анализ реакций потребителя 267. Однако открытый вариант леонтьевской модели, в которой конечный спрос принимается за нечто данное, допускает включение своего рода уравнений, характеризующих поведение покупателей; они привнесут в модель элементы, лежащие за пределами состояния техники производства или производственных функций 268.
Наиболее резкое критическое замечание о системе Леонтьева сводилось к тому, что его таблицы затраты — выпуск — это лишь немногим большее, чем удобная классификация данных, относящихся к прошлому 269. Но, как отметил Р. Голдсмит, леонтьевские таблицы представляются разумной аппроксимацией к вальрасовским уравнениям, если сообщить последним динамический характер. Главная трудность их практического применения заключается в невозможности своевременного получения данных, ибо если таблицы затраты — выпуск не составляются достаточно часто, то они превращаются в своего рода историческую статистику. Возражение же о том, что нельзя определить понятие отрасли или сектора, совершенно необоснованно 27°. Более серьезными кажутся недостатки, вытекающие из тезиса о фиксированных коэффициентах, предполагающих постоянную доходность, и отсутствие возможности избрать технологический вариант производства. Но с чисто теоретической точки зрения в этих недостатках не было ничего фатального; Самуэльсон показал, что, если исходить из допущения эффективности производства, характеризующейся наилучшим значением коэффициентов затрат, то говорить о взаимозаменяемости затрат или выборе варианта бессмысленно, ибо производство фактически в этом случае уже достигло оптимального состояния 271. Несмотря на такую изобретательную защиту метода Леонтьева и заложенных в нем возможностей, экономисты все больше прибегают ныне к методу линейного программирования, который кажется им более гибким. Тот факт, что он, по-видимому, практичен и более приспособлен к анализу проблем микроэкономики, чем метод затраты — выпуск с его глобальным подходом, делает его более привлекательным. Экономистов подкупает и то, что в линейном анализе они не сталкиваются с теоретическими тонкостями. Они получили в руки общепринятую теорию и мощную математическую технику.
286
Глава V
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
1. СИДЖВИК, УИКСТИД И ЭДЖВОРТ
В конце XIX в. традиционная английская школа политической экономии разделилась на два главных течения. Одному из них положили начало некоторые идеи Смита и Рикардо; опираясь на концепцию объективной стоимости, на этику и на идею прогресса, оно достигает своей высшей точки в крупных работах Маршалла, Пигу и Робертсона. Другое началось с маленьких ручейков в сочинениях Лонгфилда и питалось мощным потоком идей с континента; это течение развивалось на основе концепций субъективной стоимости и считало чистую теорию надлежащей основой экономической науки х. Джевонс развивал идею полезности параллельно с трудами австрийцев. А в работах Хикса и Роббинса континентальная субъективная теория получила такое мощное развитие, что возникла угроза полного подрыва ею достигнутого Маршаллом примирения австрийской и рикардианской традиций. Взяв на вооружение новые идеи, современная экономическая наука предстала облаченной в полные доспехи. Теперь она представляла собой, конечно, нечто большее, чем теория цен и производства. Отбросив идеи общественного конфликта и групповых действий, заключавшиеся в учении Рикардо и не исчезнувшие полностью у Маршалла и Пигу, экономисты развили атомистическую теорию, в которой лейтмотивом стало поведение индивидуальных потребителей. Возникла универсальная теория стоимости, применимая ко всем формам общества, и политическая экономия превратилась в чисто механическую, абсолютно нейтральную систему, которой нечего сказать о природе средств и целей.
Тем не менее до конца прошлого столетия в экономической науке еще сохранялся интерес к этическим ценностям. Сохранить этические проблемы в поле зрения политической экономии стремился Генри Сиджвик (1838—1900). Хотя в большинстве книг по истории экономической мысли Сиджвик игнорируется, его труды имеют важное значение уже потому, что они как бы представляют собой мост между старыми и новыми теориями. Его основным предметом была этика, и он был последним из плеяды английских ученых, которые в равной мере успешно занимались экономикой и философией. Сиджвик попытался по-новому изложить идеи, полученные в наследство от Джона Стюарта Милля; и это в то время, когда они стали предметом резкой критики. Сиджвик все еще считал важной связь между физическими и общественными науками. И хотя его экономическая теория носит в основном традиционный характер, она отличается необычным для того времени упором на роль государства. В основе этого явно лежал его утилитаристский интерес к совершенствованию общества.
287
Сиджвик родился в Йоркшире, он учился сначала в Регби, а с 1855 г. до конца дней учился и преподавал в Кембридже 2. Он был отличным студентом и получил обычное классическое образование. Для него были характерны широкие умственные интересы, он изучал психологию, что было в то время модно. Это привело его к Конту и Спенсеру; наряду с этим он занимался арабским и древнееврейским языками. В возрасте 21 года он получил место в университете и начал читать лекции по этике, предмет которой был столь же широк, как во времена Адама Смита *. В 1874 г. он опубликовал книгу «Методы этики», за которой последовало еще несколько философских сочинений. Как раз в это время отдельные общественные науки стали утверждаться как самостоятельные области знания. История отделилась от права, а политическая экономия становилась на собственные ноги.
В 1883 г. Сиджвик был назначен профессором этики, и в том же году он опубликовал свою единственную книгу по экономике —«Принципы политической экономии» 3. В своих лекциях Сиджвик чрезмерно много внимания уделял административным деталям, в результате чего студенты плохо посещали их. Однако среди его студентов были такие известные личности, как Бертран Рассел и лорд Бальфур. К социально-этическим аспектам политической экономии он подходил с позиций здравого смысла английского утилитаризма, а в политической науке Сиджвик добавлял к Бентаму дух реализма и использовал логику Рикардо. Но, может быть, самое сильное влияние на людей Сиджвик оказывал в сфере личных отношений. Альфред Маршалл однажды заметил, что Сиджвик был для него «...в духовном смысле и отцом и матерью: я шел к нему за помощью, когда был в затруднении, и за утешением, когда был огорчен; и никогда я не уходил от него разочарованным...» 4
Сиджвик пытался развить утилитаристскую традицию, с тем чтобы она оценивала проблемы этики и морали более разумным образом, чем это делали предшествующие авторы. В некоторых важных отношениях психологическая концепция гедонизма была им видоизменена, в особенности путем применения эволюционных понятий к проблеме выработки моральных суждений. Последние, говорил Сиджвик, надо выводить из эмпирического познания, а не из интуиции и каких-либо априорных представлений. Универсальное нравственное чувство чуждо человеческому опыту, говорил он; если таковое * Адам Смит был профессором этики в университете в Глазго (1752—1764 гг.).— Прим, перев.
вообще имеется, то оно возникает просто из инстинктивной потребности приспособления к внешнему миру. Эти идеи лежат также в основе его экономических взглядов.
Книга Сиджвика «Принципы политической экономии» хорошо показывает, каким образом он старался перекинуть мост между старыми классическими доктринами и новыми идеями, которые выдвигал Маршалл. Вопросы производства, распределения и обмена трактуются в основном по Миллю с внесением ряда уточнений и пояснений: Сиджвик не был склонен слишком резко рвать с традицией. Что касается понятия предельной полезности, которое проповедовали Джевонс и Эджворт, то бросается в глаза именно его отсутствие. Последняя же треть книги включает основательное рассмотрение тех областей, в которых возможно и желательно государственное вмешательство. Это, говорил он, сфера «искусства» (art) в политической экономии. Между «искусством» и «наукой» можно провести грань, так как существует четкое различие между «тем, что есть», и «тем, что должно быть». Последняя сфера включает оценочные суждения, которые следует отличать от объективных связей, описываемых абстрактной теорией, хотя они и могут иметь определенное значение для экономической науки. Таким образом, чтобы правильно понять роль экономической науки, с одной стороны, и политических и этических вопросов — с другой, они должны быть разделены; между тем ранее они часто рассматривались вместе б. Однако установить связь между наукой и искусством гораздо легче в сфере производства, чем в сфере распределения, поскольку в последней этические вопросы приобретают особенно большое значение. В конечном счете оценочные суждения в отношении проблем распределения зависят от того, какие принципы используют люди при определении понятия «наибольшего блага для наибольшего числа людей» 6.
В вопросах методологии Сиджвик отличался такой же широтой взглядов. Он видел мало смысла в противопоставлении индуктивного и дедуктивного методов. Он писал, что в анализе сферы производства, возможно, лучшие результаты дает индуктивный метод, но политическая экономия как «искусство» в основном должна прибегать к дедуктивному методу 7. При надлежащем использовании качественный анализ может оказаться плодотворным. Трактовку стоимости, производства и распределения — этих вечных вопросов экономической теории — он заимствовал у Милля. Поскольку Рикардова трактовка «истинной стоимости» (real value) представлялась Сиджвику вполне приемлемой, причины, вызывающие изменения меновой сто- 288
ммости, у него сводятся к причинам, определяющим предложение8. Таким образом, он не отвергал прежние взгляды на издержки производства как фактор стоимости. Далее следует рассмотрение вопросов богатства и капитала, где можно обнаружить известное заигрывание с идеей полезности. Изменения в объеме производства увязываются с институциональными факторами таким способом, который напоминает поздние работы Пигу. Сиджвик полагал, что трудно отделить технические аспекты производства от чисто экономических, хотя он отмечал, что возможное в техническом отношении изобретение способно оказаться экономически неосуществимым 9. Опираясь на классические концепции, в которых факторы производства соотносились один с другим, Сиджвик отмечал, что при данной структуре ресурсов имеется определенная степень плотности населения, далее которой производство на душу населения может начать падать 10. Тем самым было четко сформулировано понятие оптимума населения.
Бытовавшее в литературе определение капитала как товаров, предназначенных для потребления наемных рабочих (wage goods), сырья и орудий производства, Сиджвик уточнил, введя различие между капиталом, как он представляется индивидууму, и капиталом с точки зрения общества. В последнем смысле, утверждал Сиджвик, капитал состоит только из тех благ, которые произведены человеческим трудом. Он, однако, не был склонен включать в это понятие товары, предназначенные для потребления рабочими в форме аванса со стороны капиталиста 11. Здесь, несомненно, заключалась интересная мысль, ибо таким образом Сиджвик подходил к идее, что заработная плата есть выплата из дохода, а не часть какого-то капитального фонда. В его понимании капитал — это не просто масса товаров; понятие капитала, говорил он, включает свойство, которое обнаруживает любое богатство вплоть до момента его потребления 12. Это явилось важным шагом вперед в разработке некоторых центральных идей старых представителей классической школы.
В теории распределения Сиджвик подчеркивал роль национального продукта (national output), некоторым образом предвосхищая Пигу. Теория распределения, полагал он, представляет собой в сущности теорию обмена услуг, оказываемых факторами производства. Прежде всего он исследовал область рыночных цен, поскольку здесь тоже совершается обмен. Его поразила неудовлетворительность трактовки Миллем предложения товаров в рыночном уравнении, и он пришел к выводу, что разнообразие возможных сдвигов в предложении и есть, вероятно, важнейший элемент в ценообразовании. Но он не был склонен полностью отказываться от классической доктрины: «Рикардианская теория, согласно которой стоимость определяется издержками производства, кажется мне неопровержимой, по крайней мере в применении к современному цивилизованному обществу... если она понимается только в том смысле, что промышленная конкуренция есть сила, постоянно действующая в направлении выравнивания вознаграждения производителей одного и того же класса в различных отраслях промышленности...» 13 Итак, по Сиджвику, издержки производства можно считать действительной основой стоимости, если только толковать их в самом широком смысле. Может быть, он был менее склонен следовать Миллю в его резком разграничении производства и распределения. Он не сомневался, что более равное распределение богатства будет способствовать всеобщему «счастью».
Сиджвик отошел от взглядов прежних экономистов в том отношении, что отводил государству более значительную роль в экономике. Подобно Пигу, он считал различия между частным чистым продуктом и общественным чистым продуктом слишком важными, чтобы их можно было игнорировать. Присоединяя к классической теории свои собственные понятия справедливого распределения, Сиджвик тем самым указывал экономистам новые пути исследования. При наличии соответствующих условий, говорил он, может быть, правильно позволить промышленности функционировать без вмешательства государства. Но с ходом экономического развития основные положения laissez laire нуждаются в пересмотре. Многочисленные исключения проистекают из несоответствия между полезностью, достающейся индивидууму, и полезностью для общества. В сущности, невозможно доказать, что стихийные усилия индивидуумов, в основе которых лежит своекорыстный интерес, непременно должны максимизировать общественное материальное благосостояние 14. Нередко частное предприятие вызывает общественные издержки, которые оно перекладывает на других. Общественная полезность не всегда порождается частными усилиями 15, и рост общественных издержек часто усиливается в связи с такими явлениями, как монополия. Таким образом, laissez faire не следует считать абсолютным идеалом: эта система содержит пороки, которые должны быть приняты в расчет. Правда, в государственном вмешательстве заключается определенный риск, который связан с самим фактом увеличения власти и с возможностью использования ее в интересах отдельных групп 16. Несмотря на эту опасность,
19 Б. Селигмен
289
имеются многочисленные примеры, когда коллективные действия общества необходимы в целях руководства экономической деятельностью. Это представляется почти самоочевидным в тех случаях, когда существует противоречие между использованием ресурсов в настоящий момент и их сохранением для удовлетворения будущих потребностей. Трудность здесь, конечно, заключается в оценке ресурсов, которые резервируются для использования будущими поколениями 17. Однако известная оценка такого рода делается, ибо инвестиции общества в такие объекты социального назначения, как больницы, школы, порты и дороги, представляют собой нынешнюю оценку будущих потребностей.
Сиджвик не одобрял защиту частной собственности как священного института, поскольку, согласно его замечанию, стоит несправедливости утвердиться, как она затем просто увековечивается 18. Необходимо, писал он, изучать, как частная собственность функционирует в обществе. Он не считал также защиту свободы приемлемым аргументом в пользу частной собственности, так как для большинства людей свобода имеет мало отношения к собственности. Частная собственность и свобода заключать договоры часто не гарантируют работнику заработной платы, которой он заслуживает. А поскольку система laissez faire не в состоянии обеспечить равенство возможностей, постольку оправданно вмешательство государства. Единственное условие, которое выдвигал Сиджвик, заключается в том, что это вмешательство не должно приводить к сокращению производства. Короче говоря, он был готов одобрить постепенное продвижение к государству благосостояния. Если он сомневался в социализме, то не по мотивам справедливости распределения, а в связи с его производственной эффективностью. Как он выражался, необходимо заменить «...суд абстрактной справедливости таким судом, где утилитарные... или ,.экономические” соображения считаются решающими» 19. Но каждый вопрос по мере его развития должен решаться на эмпирической основе. Общие априорные принципы неприемлемы. Решения в области экономической политики должны основываться на конкретных эмпирических фактах. Поэтому Сиджвик с большим сомнением относился к абстрактным критериям в оценке экономических явлений.
В отличие от Сиджвика Филипп Уикстид (1844—1927) был одним из главных защитников нового субъективного подхода к экономическим категориям. Будучи видным богословом унитарной церкви, проповеди которого носили весьма необычный характер, он пришел в экономическую науку ревностным приверженцем У. Стэнли Джевонса. Подобно Сиджвику, Уикстид тоже перебросил мост между старым и новым, но у последнего более заметна склонность к новым идеям, которые развивал Джевонс. Влияние Огюста Конта на Уикстида проявляется в том, что он подчеркивал важность единого психологического принципа и единую природу общественной жизни. Уверенность Уикстида в том, что наука о богатстве подчинена некоторым общим принципам общественной науки, явно проистекает из позитивистского мировоззрения 20. Хотя Уикстид никогда не изменял своему глубокому интересу к социальным проблемам, он по ознакомлении с трудами Джевонса стал развивать более индивидуалистическую концепцию экономических действий. Критикуя фабианцев за их заигрывание с марксистской теорией, Уикстид сумел добиться их отхода от нее, но вполне симпатизировал целям фабианцев 21. Хотя он был в основном последователем Джевонса, Уикстид в ряде вопросов внес в теорию самостоятельный вклад. Особенно интересна его попытка разработать общую теорию распределения на основе теоремы Эйлера и его концепция предложения как одной из сторон спроса.
Как личность, Уикстид крайне примечателен. Он был специалистом по средневековой истории и священником, блестяще знал Данте и Аристотеля. Как писал Лайонел Роббинс, который издал его главные труды, Уикстид, интересуясь широким кругом интеллектуальных вопросов, обладал глубокими познаниями в каждой области 22. Едва ли в Англии в то время нашелся бы другой человек, способный отстаивать свои позиции в беседе со специалистами в столь различных областях знания 23. Уикстид родился в Лидсе, там же окончил университетский колледж и после этого принял духовный сан. Следуя по стопам своего отца, он в возрасте 30 лет начал выступать с проповедями и в течение последующих двадцати лет был активным деятелем унитарной церкви. Занятия философией привели его к изучению средневековой культуры, а интерес к социологии побудил его заняться политической экономией. С исключительным успехом читал он публичные лекции. В 1897 г. его неугодные ортодоксам взгляды в области теологии вынудили Уикстида отказаться от кафедры проповедника, после чего он целиком посвятил себя науке и литературной деятельности.
Интерес к экономике в нем разбудила книга Генри Джорджа «Прогресс и бедность»; изучив его сочинение, Уикстид перешел к Джевонсу. Хотя Уикстид неизменно сочувствовал идее национализации земли, он ограничился выступ290
лением за отчуждение государством определенных видов земельной собственности. Его внимание больше привлекали идеи субъективной экономической теории, которые развивали Джевонс и австрийцы. Несмотря на холодность, которую выказал Маршалл к подходу с позиций полезности, Уикстид начал ориентироваться на этот подход и в 1888 г. опубликовал «Азбуку экономической науки», своего рода введение в новую политическую экономию 24. Эта книга содержала детальную разработку понятия полезности. В ней Уикстид ввел известный теперь термин «предельная полезность», заменив им термин Джевонса «конечная степень полезности». Книга была очень хорошо встречена в кругах ученых-экономистов; даже Парето, обычно скупой на похвалы, поздравил автора. В 1894 г. появилась его работа «Согласование законов распределения», в которой он трактует проблему распределения продукта между различными взаимодействующими факторами производства. В свое время Рикардо, фон Тюнен и австрийцы пытались разрешить эту проблему, но добились незначительных успехов, и Дж. Б. Кларк и Викселль дали свои собственные решения. Подобно двум последним авторам, Уикстид основывает свое решение на предельной производительности: продукт будет полностью распределен, если каждый фактор будет оплачиваться в соответствии с его предельным вкладом. Однако, после того как Эджворт и Парето подвергли трактовку Уикстида резкой критике, он отказался от нее в книге «Здравый смысл в политической экономии» 25. Этой работой, опубликованной в 1910 г., Уикстид сделал свой самый серьезный вклад в экономическую науку 2б.
Как позже указал Роббинс, «Здравый смысл» не является, собственно говоря, исследованием по политической экономии, а скорее представляет собой словесное изложение специальных выводов из чистой маржиналистской теории. Уикстид настаивал на том, что его рассуждения не претендуют на оригинальность: они вытекают из совокупности предшествующих экономических учений. Хотя в книге «Здравый смысл» много тонкой и подчас весьма убедительной аргументации, чтение ее может оказаться нелегким делом. Каждое положение и мысль подвергаются исчерпывающей разработке и более чем обильно иллюстрируются десятками примеров. Каждый вопрос разбирается до конца с такой безжалостной основательностью, что читатель поневоле начинает представлять себе Уикстида ужасно болтливым человеком.
Что значит «здравый смысл» в экономической науке? Речь идет попросту о наличии в современном обществе единого экономического принципа, определяющего распределение ресурсов вообще, как домашней хозяйкой так и на промышленном предприятии. Равенство цены и издержек в пределе (at the margin) обеспечивает наилучшее возможное использование ресурсов, причем издержки выравниваются выплатами факторам производства. Это делает политическую экономию скорее позитивной, нежели нормативной наукой, то есть наукой, которой следует иметь дело со средствами удовлетворения потребностей, а не с вопросом об их законности 27. Уикстид сосредоточил внимание на относительной шкале предпочтений, обнаруживаемых предельными единицами различных товаров, а не на менее сложной идее изменений совокупной полезности. Иначе говоря, он интересовался изменениями темпа движения совокупной полезности. Поскольку последняя определяется в относительных категориях, понятие измеримости начинает уступать место понятию порядка предпочтений. Предельная полезность не есть характеристика последней единицы, а понятие, лишь связанное с идеей приращения (incremental concept), в котором подчеркивается значение последней единицы однородного запаса благ. Уикстид начал также подчеркивать одновременность процесса установления стоимостей, по крайней мере в теории, тем самым он отдал дань выдвинутой экономистами на континенте идее взаимозависимости.
В «Азбуке» Уикстида, небольшой работе, преимущественно математической по содержанию, почти треть объема уделена исчислению спроса. Здесь он изложил основные постулаты Джевонса, показывая, что стоимость есть функция количества данного блага, находящегося в распоряжении либо индивидуума, либо общества. Степень удовлетворения от потребления возрастает или убывает в соответствии с тем, какое количество блага находится в распоряжении потребителя 28. Если согласиться с этим, то становится возможным построить кривые функциональных зависимостей. Хотя измеримость может быть поставлена под сомнение, тот факт, что предпочтения можно расположить в порядке убывания или возрастания, оправдывает использование кривых 29. Концентрируя внимание на маржинальных изменениях, исследователь может также применить идею пределов (limits). Эта техника, говорил Уикстид, позволяет сравнивать степени удовлетворения от различных благ; таким образом, возникает общий способ измерения 30, который заключается просто в сравнении степени желания различных индивидуумов в отношении различных благ. Равновесие в экономике, построенной на обмене, требует равенства этих степеней: функция обмена заключается в том, чтобы создавать равновесие путем устранения различий 19* 291
в относительных желаниях. Следовательно, меновая стоимость становится психическим явлением, которое в условиях равновесия выражает эквивалентность предельной полезности блага, исчисленную по отношению к предельной полезности некой numeraire 31. Это придает принципу предельной эквивалентности полную всеобщность. Уикстид писал: «Производительные силы общества... имеют тенденцию распределяться таким образом, что данная сумма производительных сил будет производить полезности в пределе...» 32
Издержки производства представляют собой категорию, по сути дела отражающую прошлые процессы, и потому не оказывают никакого влияния на стоимость 33. Формулировка Уикстида звучит как категорический императив: предельная полезность выдвигается как универсальный принцип, в соответствии с которым «...коренная суть наших жизненных проблем... повинуется одному всеобщему закону» 34. Невидимая рука Провидения, о которой писал Адам Смит, функционирует и здесь, поскольку считается, что те, кто преследует собственную выгоду, удовлетворяют и нужды других. Но идея альтернативных издержек в применении к рабочей силе представляется несколько сомнительной, ибо лишь немногие работники действительно имеют выбор между различными видами деятельности. По этому вопросу Уикстид высказывался весьма неопределенно. Кроме того, эта теория исходит из почти полной взаимозаменяемости факторов производства. Эта концепция доведена до такой крайности, что различия между факторами практически исчезли. Конечно, Уикстид признавал, что машина — это одно дело, а здание — другое, но он утверждал, что «в известных границах» различные факторы могут заменять друг друга «в пределе», в результате чего устанавливается какая- то единая мера предельной полезности (serviceability) 35. Поистине, совершенная рациональность в такой мере пронизывает эту систему, что в ней и домашняя хозяйка и предприниматель взвешивают альтернативы вплоть до самой мелкой статьи расходов. Очевидно, конечно, что это идеализированное изображение общества, ибо такой рациональный подход в действительности возможен лишь в отношении небольшой части бюджета потребителя. К тому же сама по себе рациональность вовсе не достигает той степени, какую предполагал Уикстид 36. На деле имеется достаточно доказательств того, что в наше время потребителя буквально дрессируют в искусстве потребления, подобно тому как в цирке дрессируют тюленя; следовательно, сознательный выбор перестает быть элементом экономического поведения. К сожалению, экономическая теория еще не осмыслила до конца этот удивительный аспект современной цивилизации, и поэтому ее представление о реакции потребителей остается неполным и искаженным 37. Составной частью модели Уикстида являются также элементы предвосхищения, так как у него в расчет берутся лишь те предельные изменения, на которые заранее может рассчитывать индивидуум 38.
Хотя Уикстид был последователем Джевонса, он отвергал его теорию процента на том основании, что капитал обеспечивает непрерывный поток услуг 39. Но его собственная теория была далеко не удовлетворительна: непомерно большое место в ней уделялось потребительским ссудам 40. В общем, по его мнению, процент проистекает из сравнительной оценки удовлетворения в будущем и в настоящем, причем и здесь ключевую роль играет идея приспособления в пределе 41. Однако теорию процента Уикстида не может спасти даже обилие иллюстраций: она просто совершенно неубедительна. Процент и рента выступают у него, по существу, как идентичные категории, и он не обратил внимания на то, что между ними обычно проводится различие, так как в их основе лежат различные экономические отношения. Традиционная классическая теория различала эти категории; это отражало, конечно, признание важных социальных проблем, которые к концу XIX в. были лишь отодвинуты в сторону42*. Но у Уикстида критические элементы анализа ослаблены; в сущности, процент как цена, определяемая в пределе, вообще отсутствует в его модели, во всяком случае для статического состояния 43. Равным образом Уикстид оказался не в состоянии логично и точно изложить законы доходности. Если бы Уикстид сделал это, то он, вероятно, не отрекся бы так легко от своей формулировки закона распределения. Суть дела, видимо, заключается в том, что он не проводил четкого различия между отдельной фирмой и отраслью, а это привело его к отрицанию того, что явление убывающей доходности может относиться к определенным факторам производства. Он утверждал, что имеется достаточный запас земли, и отрицал идею ее ограниченности 44. Очевидно, его смущала близость понятий убывающей доходности и фактических прошлых издержек (historical real costs) 45.
Одной из своеобразных идей Уикстида была его трактовка кривой предложения как аспекта спроса; в этой связи он необычайно резко критиковал идею кривой предложения 46. У не* Имеется, очевидно, в виду проблема земельной собственности в Англии.— Прим, перев.
292
го кривая предложения фактически выводилась из резервных цен (reservation prices), установленных теми, кто имеет запасы товаров, так что в конечном счете предложение определяется спросом продавцов на свои собственные товары. И Уикстид, по-видимому, исходил из того, что продавцы готовы потреблять товары сами, если цены их не удовлетворяют. В действительности же резервные цены означают лишь прекращение предложения товаров с целью выждать более благоприятный момент для выхода на рынок. Несмотря на ее резкую критику Уик- стидом, кривая предложения осталась полезным орудием анализа.
В книге «Согласование законов распределения»47 Уикстид впервые выдвинул свое решение проблемы распределения. Он стремился рассматривать доли продукта с точки зрения единого принципа. Легче всего это было сделать путем трактовки проблемы под углом зрения потока услуг, так чтобы стоимость каждого фактора определялась предельной эффективностью или производительностью. Совокупный продукт, по Уикстиду,— это сумма количеств каждого фактора, помноженных на его предельный продукт. Отсюда вытекает, что сумма долей должна исчерпать весь продукт. Это решение, связанное с теоремой, доказанной в XVIII в. знаменитым математиком Эйлером, означает, что производственная функция является линейной и однородной, то есть что продукт увеличивается пропорционально приросту использования факторов и что предельный продукт двух факторов равен предельному продукту обоих факторов, если их добавлять по отдельности. Хотя данная Уикстидом математическая трактовка проблемы подверглась некоторой критике 48, эта концепция позволила ему интерпретировать классическую теорию ренты как случай предельной производительности и показать, идя в обратном порядке, какова должна быть предельная производительность капитала и труда. Но вследствие критики со стороны Эджворта и Парето Уикстид, как уже говорилось, отказался от своей концепции. Парето подумывал о других возможностях, помимо постоянной доходности, и допущение Уикстида о почти безграничной взаимозаменяемости факторов его не удовлетворяло. Частично причиной затруднений Уикстида было его нечеткое представление об издержках производства. При уменьшении издержек выплаты факторам производства могут, видимо, превысить совокупный продукт; при увеличении издержек возникнет дефицит. Наличие избытка, или чрезмерной прибыли, будет поощрять приход в данную отрасль новых фирм, и в конечном счете равновесие восстановится. Конечно, трактовка Уикстида могла бы стать приемлемой, если предположить, что средние издержки на единицу продукции и фирм соответствуют самой низкой точке на кривой издержек. Даже функционирования «вблизи минимума» было бы достаточно, как представляется, для обоснования этого взгляда 49.
Книга «Здравый смысл» также вызывает известную неудовлетворенность. Затратив примерно шестьсот страниц на подробные иллюстрации к основным понятиям, автор быстро разделывается с такими острыми проблемами, как безработица, экономические циклы, жилищный вопрос и профессиональные союзы. Трактовка этих вопросов, опирающаяся на основные принципы, способна ошеломить современного читателя. По Уикстиду, минимальные нормы обеспечения жилищами увеличат число «лишенных крова», минимальный уровень заработной платы приведет к увеличению безработицы; наконец, маловероятно, чтобы общественные работы приносили пользу в периоды депрессий. Очевидно, Уикстид потратил столько сил на составление коллекции примеров, что у него не осталось энергии на то, чтобы применить свой теоретический анализ к исследованию общества. Теория осталась лишь голой абстракцией, никоим образом не способной объяснить события, происходящие в мире.
Дальнейшее развитие чистой теории в Англии связано с именем Фрэнсиса Эджворта (1845— 1926), который происходил из старинного английского рода, обосновавшегося в Ирландии в царствование Елизаветы I. Эджворт обучался дома у частных учителей, а затем получил основательное классическое образование в Оксфорде. В Кингс-колледже он получил профессуру имени Тука по политической экономии; с 1891 г. Эджворт унаследовал от Торольда Роджерса кафедру имени Драммонда в Оксфорде, где он и оставался до конца жизни. Эджворт в течение многих лет редактировал «Экономик джорнэл», но не оставил после себя больших трудов, и его влияние в основном покоилось на личном общении. Однако его работа «Математическая психика» 50 сыграла важную роль в развитии математического направления в политической экономии, ибо в ней было впервые высказано утверждение, что задача о двусторонней монополии неразрешима. Отсутствие у Эджворта какого-либо крупного сочинения компенсируется тем, что в 1925 г. было издано собрание его избранных работ 51.
Идея Эджворта заключалась в том, чтобы применить математику к общественным, или, как он сам выразился бы, моральным, наукам. Осуществляя эту идею, он рассмотрел широкий круг вопросов, включая налогообложение, же293
лезнодорожные тарифы и международную торговлю. В последней области он отмечал сходство с теорией распределения, особенно если рассматривать спрос в международной торговле как спрос на факторы производства, а не на товары как таковые. Поскольку, полагал он, факторы мало мобильны в смысле перемещения между районами, ситуация родственна проблеме распределения в замкнутой экономике 52. Работы Эджворта затрагивают пять главных областей: измерение полезности, математическое определение равновесия, вероятность, статистика и индексы. Особенно заметным является его вклад в последнюю из этих областей. Эджворт рассматривал математику как орудие, пригодное для строгого определения экономических взаимосвязей, и он обладал выдающимися способностями математического мышления. Правда, некоторые комментаторы жалуются на то, что смысл его формул очень часто неясен и что они содержат неточности и ошибки.
Впервые интерес Эджворта к экономике пробудил Джоветт, видный специалист по античной филологии. Позже он встретился с Маршаллом, который считал «Математическую психику» многообещающей работой. Подобно Маршаллу, Эджворт рассматривал экономику через призму этики и математики, но, увлеченный поисками логически строгих теорем, он в отличие от старшего коллеги как бы упускал из виду в своем анализе человека. Этика у Эджворта шла от Милля и Сиджвика, а математика— от Курно и Джевонса. Но идеи Эджворта развивались целиком в русле английского утилитаризма, хотя он сам не всегда это сознавал. Его стиль ярче, чем у Маршалла, но он увлекался несколько туманными отступлениями, которые уводили читателя в сторону, тогда как хорошо отшлифованный язык Маршалла остается образцом ясности. Ранние работы Эджворта по этике давали основание думать, что ему удастся применить к утилитаризму математические принципы, а в «Математической психике» эти идеи развиты далее и намечены способы исчисления наслаждения и страдания. Цифровые выкладки казались при таком подходе ненужными. В теории вероятностей Эджворт вначале выступал за применение принципа частоты, подчеркивая его физические основания. Но позже он признал обоснованность возражений против принципа частоты и начал исследовать логические и философские основания вероятности. Вероятностные ситуации всегда содержат элемент неизвестного, говорил он, но он может быть сведен до достаточно малых размеров, так что суждения будут вполне обоснованными. В области статистики он опасался, что отклонение частотной теории способно повлиять на применимость статистических данных; однако тот факт, что большая часть этих данных может удовлетворять требованиям обоснованности, казался ему вполне достаточным 53. Как позже заметил Кейнс, в этом сквозит нежелание пересмотреть прежние предвзятые мнения: так, если утилитаризм и ставился под большой вопрос, маржинализм, из которого он вытекал, мог быть все же признан правильным.
Если допустить, что максимизация удовлетворения является истинной пружиной человеческих действий, поскольку речь идет об индивидууме, то это должно быть справедливо и для общества в целом. Но это требует совершенной конкуренции, а Эджворт знал, что экономика все более удаляется от этого идеала. Главные факторы, которые усиливают тенденции к жесткости экономики,— это профсоюзы и кооперативы, и они-то представлялись ему тревожным знамением времени. При системе свободной конкуренции максимальное удовлетворение для общества может быть повышено путем направления средств такого удовлетворения к тем, кто наиболее способен испытывать его,— к богатым людям, аристократии и к мужчине в противовес женщине. Но монополия, проистекающая из организации профсоюзов, мешает этому процессу, что заслуживает сожаления.
В 1887 г. Эджворт, вслед за «Математической психикой», выпустил «Метрэтику», малозначительную работу о проблемах вероятности и полезности. Когда Кейнс однажды спросил Эджворта, почему он не написал большой книги, тот ответил, что его не интересовали крупные начинания, вроде большой книги или женитьбы 54. Но вследствие того, что он ограничивался небольшими статьями и рецензиями, влияние Эджворта не было столь широким, каким оно могло бы быть. Этому, возможно, мешало и то, что он был довольно плохим лектором и оратором. Кроме того, он писал не для широкой публики, а для своих коллег- экономистов, в результате чего многие его самые глубокие мысли остались недоступными для непрофессионалов.
Эджворт, который не хотел принимать формулу Уикстида для предельного распределения, однажды едко заметил, имея в виду принцип однородности: «Справедливость есть совершенный куб, говорил древний мудрец; современный ученый заявляет, что рациональное поведение есть однородная функция» 55. Эджворт, напротив, подчеркивал явление неделимости факторов производства, и отсюда ясно, что он дол- жен был отрицать применимость теоремы Эйлера к теории распределения. По его мнению, предельная производительность также удовлетво294
рительно не объясняет природу чистой прибыли, так как это по необходимости остаточная (residual) категория. Решение состоит, как он полагал, в уравновешивании полезности и тягости (utilities and disutilities). Статическое состояние экономики без прибыли немыслимо, потому что даже в такой экономике будет иметь место усиление активности капиталистического предпринимателя. Использование теории предельной производительности возможно в том случае, если долю предпринимателя трактовать как особого рода «заработную плату» 56. Далее, нет уверенности, что теория совершенной конкуренции применима к реальным условиям: наличие монополии и профсоюзов требует от экономиста осторожности в использовании теорий 57.
Утилитаристская этика неизбежно ведет к рассмотрению вопроса об измерении полезности. Утилитаристское исчисление наслаждения и страдания предполагает обязательные сравнения между полезностями б8, особенно во времени, по количеству и интенсивности, однако Эджворт не смог указать конкретных методов такого сравнения. Хотя его высказывания по этому вопросу, пожалуй, столь же неопределенны и общи, как у Гобсона, он все же отмечал,, что экономические проблемы связаны с достижением определенных максимумов. Большее значение имеет развитие им идеи кривой безразличия; этот технический прием впоследствии применил Парето, а теперь его можно найти практически в любом вводном курсе. С помощью карт безразличия Эджворт сделал попытку включить принцип полезности в теорию обмена. Он утверждал, однако, что полезность есть функция не одного блага, а всех статей, входящих в бюджет данного лица. Идея механизма безразличия была, видимо, подсказана работой Маршалла «Чистая теория внешней торговли и национальной стоимости »59, а кривые проводились тогда не так, как теперь, а наоборот. Поскольку линии цен шли от начала координат, получавшиеся в результате кривые показывали, от какого количества данного блага готов отказаться потребитель, чтобы получить большее количество другого блага, принимая неизменной совокупную полезность.
Эджворта занимала также проблема налогообложения и критериев справедливой налоговой системы 60. В полном соответствии со своим утилитаристским мировоззрением он утверждал, что самым подходящим является принцип наименьшей совокупной жертвы; этот принцип позже развил Пигу. Это была особая трактовка принципа наибольшего счастья, который неизбежно должен здесь действовать, так как отсутствие рыночных отношений торга в области налогообложения делает невозможным применение понятия предельной полезности. Когда вводятся новые формы налогообложения, никто ни в коем случае не должен терпеть урон. «Условие, согласно которому совокупная чистая полезность, получаемая при взимании налогов, должна быть максимальной, сводится тогда к условию, что совокупная тягость должна быть минимальной» 61. Поскольку все это сильно отдавало социализмом, следовать утилитаристской философии было, по-видимому, несколько рискованно. Поэтому Эджворт в конечном счете взывал к здравому смыслу, которому, во всяком случае, отвечало условие, что никто не должен терпеть ущерба.
Эджворт питал безграничное уважение к Маршаллу и следовал ему во многих вопросах теории. Издержки трактовались в «реальном» смысле, а введенная Джевонсом концепция труда излагалась под углом зрения уравнивания предельной тягости и предельной полезности продукта труда. Подобно Уикстиду, он признавал ограниченные возможности перемещения рабочей силы, но полагал, что со временем положение может измениться благодаря получению образования и повышению квалификации. Но рассмотрение этого вопроса Эджвортом было неудовлетворительно для теоретических целей 62. Тягость в пределе оказывалась не более сравнима, чем полезность: издержки труда, определяемые как мера тягости в предельном случае (pain at the margin), не были плодотворным понятием. Не более успешной была его попытка применить это же понятие и такой же анализ к другим факторам. Однако он сделал заметный вклад в развитие различных понятий доходности 63. Он выяснил различие между предельными изменениями и пропорциональными приращениями доходности, а также между расчетами на базе средних и предельных величин. Так стало возможным теоретически определить точку, до которой может продолжаться рост производства: это хорошо известное теперь пересечение кривых предельной выручки и предельных издержек. Предельный подход представлялся ему наиболее полезным потому, что он мог облегчить точное определение максимума 64; вместе с тем Эджворт полагал, что в случае монополии уместен подход на базе средних величин. Но поскольку ценообразование на основе полных издержек объяснить легче, Эджворт, по-видимому, не склонен был упорно отстаивать маржиналистские идеи. Убывание доходности он считал общим принципом, применимым ко всем отраслям, хотя в связи с неделимостью факторов возможны известные отклонения 6б. Однако Эджворт не проводил 295
необходимого различия между масштабами производства и увеличением размеров предприятий.
Предложенное Эджвортом решение для случая двусторонней монополии позже стало предметом довольно важной дискуссии. По его мнению, равновесие при таких условиях неопределимо. Тем не менее, утверждал он, монопольное ценообразование не всегда приводит к потерям для общества, особенно если используется дискриминация. Курно, французский экономист- математик XIX в., предложил решение этой задачи, в котором взаимная реакция монополистов приводит к приспособлению объема производства, подобно тому как происходит на аукционе 66. По Курно, достигается некоторая точка равновесия, в которой дуополисты продают равные количества по цене, находящейся где-то между монопольной ценой и конкурентной ценой. Отсутствие равновесия порождает род движения, которое восстанавливает баланс. Но решение Курно не было общим, так как дуополисты могут либо вступить в сговор, либо ожесточенно конкурировать. Как отмечалось, Эджворт считал такие ситуации в принципе неопределенными, но лишь в известных рыночных пределах, за которые соперники не склонны выходить. В этих пределах имеется возможная серия обменов (сделок), которые определяют кривую сделок, представляющую собой геометрическое место точек, указывающих сделки, от которых могут выиграть обе стороны. Но поскольку обменные соотношения вдоль кривой неопределимы, точка, на которой совершится сделка, будет в конечном счете зависеть от соотношения рыночной силы. В ходе рассуждения кривые безразличия, относящиеся к двусторонним монополистам, накладываются друг на друга так, что их начало расположено у каждого конца диагонали. Таким образом, кривые одного семейства касаются кривых второго семейства, и геометрическое место точек касания представляет собой кривую сделок. Это самое благоприятное сочетание кривых безразличия. В этой модели подразумеваются ограничения, налагаемые на диапазон реакций дуополистов техническими возможностями предприятий. Производитель не должен бояться, что он потеряет в пользу соперника весь свой рынок: ситуация такова, что он в любом случае сохранит какую-то его часть. Таким образом, дуополист будет продавать лишь столько, сколько он может сбыть без труда. Он может быть вполне уверен, что соперник будет сохранять цены в известных пределах. Хотя и необходимо что-то знать о характере издержек конкурента, ни однородность, ни идентичность условий образования издержек не имеют принципиального значения. Решение Эджворта, следовательно, колеблется между конкурентной и монопольной ценой, и в установленных пределах явно действуют стратегические факторы ценообразования. Здесь имеются все элементы динамического решения, однако такого решения, которое побудило Эджворта признать, что теория должна уступить место эмпирическому исследованию; такой совет современные теоретики не всегда склонны принимать 67.
2. АЛЬФРЕД МАРШАЛЛ: СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Одно время было в моде списывать со счетов Альфреда Маршалла (1842—1924) как устарелого теоретика викторианской эпохи. Говорили, что внушительная система экономических идей, созданная мягким и доброжелательным кембриджским профессором, более не является жизненной. Казалось, что основные идеи Маршалла рассыпались под ударами различных современных теорий. Утвердилось мнение, что трудам Маршалла не хватает той утонченности, к которой привыкли современные экономисты. Говорили также, что его поиски ключа к проблеме стоимости бесполезны, так как они заводят теоретическое исследование в тупики, которых легко можно избежать 68. Однако практически в любом направлении современной экономической теории можно найти следы, ведущие к какому-нибудь намеку или мысли Маршалла. Это ощущается даже тогда, когда ученый отталкивается от Маршалла в отрицательном смысле, как, например, Джон Мейнард. Кейнс. И экономист, занятый теорией благосостояния, и более нейтральный теоретик, работающий в области «позитивной» экономики, могут найти в своей интеллектуальной генеалогии нечто от Маршалла. Очевидно, идеи прежнего сотрудника Баллиольского колледжа * пустили весьма прочные корни.
Если бы отец Маршалла настоял на своем, молодому Альфреду, который родился в районе Лондона Клэпхеме, пришлось бы отправиться в Оксфорд для изучения классической литературы и теологии. Уильям Маршалл служил * Один из колледжей Оксфордского университета.— Прим, перев.
296
кассиром в Банке Англии и в семье был чем-то вроде тирана, который заставлял сына изучать древнееврейский язык и запрещал ему заниматься математикой, сильно привлекавшей юношу. К счастью, дядя помог ему сбежать в Кембридж, где он мог заняться тем, к чему его влекли природные склонности. В 1865 г. Маршалл занял на студенческом конкурсе по математике второе место, а первое досталось лорду Рейли; это было немалое достижение. Если в юности Маршалл и испытывал какие-либо религиозные чувства, то они скоро рассеялись под действием идей дарвинизма, получивших в то время широкое распространение, и он был легко обращен в агностицизм. Философский спор между Джоном Стюартом Миллем и Уильямом Гамильтоном привлек внимание Маршалла к философии, а затем и к политической экономии. Последняя скоро стала областью, в которой, по выражению Кейнса, «могут в полной мере проявиться высшие умственные способности человека». Читая «Политическую экономию» Милля, Маршалл одновременно обследовал городские трущобы и скоро пришел к выводу, что устранение этих ужасных явлений должно стать первоочередной задачей общества. Затем в 1868 г. он поехал в Германию и изучал там немецкий язык, стремясь читать Канта в оригинале. За два года, проведенных за границей, он близко познакомился как с гегельянцами, так и с представителями исторической школы в политической экономии. Эта всесторонняя подготовка сделала из Маршалла прототип такого экономиста, о каком писал Дж. Л. С. Шэкл; последний однажды заметил, что настоящий экономист должен быть «...математиком, философом, психологом, антропологом, историком, географом, специалистом в области политики, мастером литературного стиля, и притом еще человеком, знающим реальную жизнь, имеющим практический опыт в сфере бизнеса и финансов; он должен разбираться в проблемах государственного управления и хорошо знать четыре или пять языков» 69.
Как преподаватель университета, Маршалл видел свою задачу в том, чтобы изъять экономическую науку из рук популяризаторов и дилетантов, которые свели ее к набору удобных догм, и развить подлинно научный метод 70. В 70-х годах XIX в. он в тесном сотрудничество с Генри Сиджвиком и Генри Фосеттом работал над тем, чтобы ввести политическую экономию как особый предмет, заслуживающий специального изучения. В 1879 г. он и его жена Мэри Пэйли, на которой он женился двумя годами раньше, выпустили небольшую книжку «Экономика промышленности». Позже он изрядно недолюбливал эту работу, но в ней уже наметилось направление, в котором позже развивались идеи Маршалла.
Нуждаясь теперь в более основательном заработке, Маршалл начал подыскивать себе подходящее место и вскоре занял пост принципала * университетского колледжа в Бристоле. Маршалл всегда в какой-то мере страдал от ипохондрии, а в эти годы здоровье особенно стало беспокоить его. В результате в 1881 г. он отказался от своей должности и, чтобы поправить, здоровье, на год отправился на континент. Маршалл страдал от плохого здоровья до конца своей долгой жизни. Кейнс, написавший о нем блестящий биографический очерк 71, отмечаетv что Маршалла легко выводили из равновесия утомление, возбуждение или спор и что постоянная сосредоточенность во время работы давалась ему нелегко. В 1885 г., после короткого пребывания в Оксфорде, он переехал в Кембридж, где занял кафедру Фосетта, умершего годом ранее. Эту должность он занимал вплоть до своей отставки в 1908 г.
Болезненная чувствительность, которая мучила Маршалла, часто становилась серьезным препятствием для опубликования его идей. Критика легко выводила его из себя, и ему было трудно воздавать должное теоретическим противникам. Вместе с тем у него были филантропические склонности, заставлявшие его делать добрые дела. Он мог даже выслушивать доводы социалистов, но у них его привлекал только гуманистический элемент: он мог сочувствовать мотивам их действий, но их теория для него была неприемлема.
В Кембридже возник подлинный центр высшего экономического образования, и Маршалл притягивал к себе большинство самых лучших студентов. В результате здесь сложилась единственная в анналах экономической науки практика устного воздействия на умы. Кроме того, Маршалл так часто выступал в качестве эксперта перед правительственными комиссиями, что многие его идеи пронизывают различные официальные документы 72. Все это отражало его глубокое убеждение, что пристальное изучение экономической теории будет способствовать разрешению проблемы бедности и облегчит проникновение благородных чувств в мир чистогана. Маршалл надеялся, что Кембридж будет готовить людей, которые смогут повести мир к жизни, достойной лучших черт человеческого рода. В этих взглядах чувствуется явный интерес к прагматическим проблемам, ибо Маршалл рассчитывал на то, что настанет * Основной административный пост в английских университетах. Ректор, или президент, университета часто является лишь номинальной фигурой, и его пост рассматривается как почетная синекура.— Прим, перев.
297
время, когда развитие экономического «рыцарства» приведет к улучшению общества 73. Он выступал против таких мер, как законодательство о минимальной заработной плате, но вместе с тем призывал бизнесменов быть скрупулезно честными в отношениях со своими рабочими и служащими, так как иначе неизбежно будут расти профсоюзы. В этом он, конечно, резко отличался от своего учителя Милля, который высказывал взгляд, что социальные проблемы смогут быть решены только благодаря рабочему классу.
Маршалл начал работу в области экономики уже в 1867 г., в возрасте 25 лет, а полностью его главные идеи сложились к 1883 г. Но они увидели свет только в 1890 г., когда была опубликована книга «Принципы политической экономии». Свои концепции в области денег и кредита он сделал достоянием общественности только в 1923 г. В результате, когда экономическая теория Маршалла получила свое полное выражение в печатном виде, она уже казалась архаической. Он явно сам виноват в том, что его оригинальность не была признана немедленно. Основные элементы его теории, по крайней мере в черновом виде, были разработаны к 1870 г., но вместо того, чтобы сразу опубликовать свои идеи, как это сделал Джевонс, он предпочел их дорабатывать, переделывать и переписывать заново. Стремясь быть понятым всеми, Маршалл отправлял все новое и трудное для понимания в приложения и примечания. Ему казалось, что это обеспечит свободное течение мысли. Но континентальные авторы, не зная, что Маршалл развил понятие предельной полезности за двадцать лет до выхода «Принципов», удивлялись тому, что в Англии эта книга была расценена как крупнейшее научное событие своего времени.
Согласно евангелию от Джона Стюарта Милля, Маршалл предлагает начинать экономическую теорию с Давида Рикардо. В этой удобной схеме за основу стоимости принимается зависимость между конкуренцией и издержками производства. Заработная плата, рента и прибыль определяются не одними и теми же факторами, а находятся под влиянием соответственно роста населения, дифференциального плодородия почвы и туманного психологического понятия, называемого «воздержанием». Таким •образом, распределение осуществляется через процесс остаточного деления (residual sharing). Гедонизм и утилитаризм представляют собой главные двигательные силы. Рабочих ожидает мрачное мальтузианское будущее, а землевладельцы неизбежно окажутся победителями в борьбе за львиную долю национального дивиденда. Такова суть общепринятой в то время политической экономии, а попытка Маршалла перевести все эти словесные утверждения на математический язык вытекала из его глубокого убеждения, что этой концепции не хватает научной точности.
Все же Рикардо и Милль оставались для Маршалла непревзойденными образцами экономического анализа. Хотя I том «Капитала» Маркса был опубликован в 1867 г., а экономикоматематический труд Курно — в 1838 г., ни тот, ни другой не произвели особого впечатления на экономистов-профессионалов. Маршалл отвергал учение Маркса, так как, по его мнению, оно недооценивает исключительную трудность изменения экономических и социальных институтов. Кроме того, бедность может быть устранена в рамках прогрессивного капитализма. Любопытно, однако, признание Маршалла о том, что социалисты часто лучше понимают основные движущие силы человеческого знания, чем большинство специалистов академического направления. Он знал, что строго логическая трактовка экономических проблем может увести в сторону от трудностей экономического анализа, и потому рассматривал гуманистическую тенденцию социалистов как своего рода полезное противоядие.
Однако рикардианская доктрина вступала в это время в полосу упадка. Маркс использовал ее для революционных целей; Милль отверг понятие рабочего фонда (wages fund), в теорию стоимости вводились субъективные факторы, а немецкие экономисты исторической школы с нескрываемым ликованием подрывали самые основы рикардианской системы. Дарвин указал заманчиво новый путь эволюционного подхода в общественных науках. Профсоюзы смело игнорировали взгляд, будто они мало что могут сделать для повышения заработной платы, поскольку все давно предписано Адамом Смитом. Под влиянием суровых фактов действительности вера в экономистов серьезно поколебалась. Тем не менее представители «мрачной науки» продолжали утверждать, что человечество вечно обречено жить так, как оно жило раньше.
Однако Маршалла нельзя обвинять в жестокосердии, характерном для традиционалистов. Если от утилитаристов можно было ожидать утверждения, что правильные принципы важнее, чем благотворительность, то Маршалл наверняка попытался бы смягчить такую бесчувственность и подчеркнул бы важность доброжелательности 74. Так, бедность в старости простительна, если она является результатом затраты доходов на воспитание и образование детей. Маршалл, конечно, не был в полной мере последователем Бентама, так как он полу298
чил свой утилитаризм уже разбавленным от Милля. Однако, хотя он допускал, что привычка и иррациональное поведение лежат в основе многих человеческих действий 75, Маршалл оставался верен Бентамовой традиции в том отношении, что его построения исходят из природы человека как расчетливого и осмотрительного животного. Следовательно, осторожность должна быть важным фактором в экономическом потреблении, а это, в свою очередь, означает, что максимальная эффективность и повышение жизненного уровня могут быть обеспечены лишь в том случае, если рабочий будет строго следовать предписанным ему моральным принципам 76.
Аппарат кривых предложения и спроса Маршалл, видимо, заимствовал у Курно и Флимин- га Дженкинса, а его маржиналистский анализ, ■очевидно, имеет своим источником фон Тюнена. Вероятно, Джевонс и Вальрас не были ему известны достаточно хорошо. Заслуживает внимания интересное утверждение Шумпетера, что между Маршаллом, Джевонсом и Вальрасом существует более тесное родство, чем Маршалл ■был склонен признавать 77. Шумпетер говорил, что беда профессора из Кембриджа заключалась лишь в том, что его теория была чрезмерно перегружена рикардианскими понятиями. Шумпетер, разумеется, стремился доказать приоритет своего кумира Вальраса в развитии определенных экономических доктрин. Но он признавал, что Маршалл не был только эклектиком, так как он очертил контуры своей теории сам, з не просто заимствовал их 78.
Маршалл был также в известной мере знаком с немецкой исторической школой, особенно с Вильгельмом Рошером. Но экономические взгляды последнего не удовлетворяли его полностью. Он допускал, что постоянно меняющийся характер предмета экономической науки требует к себе больше внимания, чем он может уделить. Но его главной заботой было развитие теории, и он довольно резко отвергал нападки исторической школы на теорию 79. Теоретический анализ — это ближайшая аналогия научным методам, которые применяют ученые-естественники, говорил он; ибо из фактов можно извлечь какие-то выводы лишь в том случае, если «они рассматриваются и интерпретируются с помощью разума» 80.
Тем не менее Маршалл был одним из первых современных традиционалистов, полностью и сознательно считавшим, что политическая экономия есть в известном смысле эволюционная наука; об этом свидетельствует его частое обращение к биологическим понятиям роста и распада 81. Экономическое развитие он хотел объяснить в категориях «органического» роста. Он полагал, что кривые, отображающие предложение и спрос в длительном аспекте, пригодны для предварительного анализа; но они не могут сколько-нибудь разумным образом использоваться для предсказания развития стоимости и производства в будущих динамических ситуациях. Вкусы, техника производства и склонности потребителей неизбежно подвержены изменению, а старые фирмы всегда находятся под угрозой вытеснения новыми. В этих условиях взгляды и психология людей должны постоянно меняться. Это требует от исследователя чувства истории, и Маршалл был великолепным историком. Нередко он проясняет смысл какого-либо теоретического положения эмпирическими деталями, почерпнутыми из исторических источников. Как однажды заметил Шумпетер, искусство Маршалла как историка не могло быть оценено людьми, воспитанными на разбавленном неоклассицизме. Но он не стремился полностью вторгаться в область историков и дискутировать с ними, что, возможно, связано с довольно резкими нападками на «Принципы», с которыми выступил известный историк экономической жизни Уильям Каннингэм.
Более специальные аспекты идей Маршалла глубоко уходят корнями в рикардианство 82. Рассматривая доктрину своих предшественников, Маршалл отмечал, что, поскольку предельные издержки колеблются под воздействием изменений в объеме производства, как цена, так и объем производства становятся элементами, определяющими стоимость. Между тем рикардианская система содержит только одно уравнение, что означает пробел в теории стоимости. Далее, о рикардианской доктрине можно сказать, что она рассматривает соотношения факторов производства в принципе как неизменные. Но в реальной жизни дело едва ли обстоит так, поскольку еще одно уравнение должно быть добавлено, чтобы отразить зависимость между комбинацией факторов, с одной стороны, и ценой и объемом производства — с другой. Это неизбежно ведет к проблеме распределения. Если Рикардо считал, что в длительном аспекте заработная плата будет складываться согласно некоему нормальному «железному закону», Маршалл понимал, что необходимо учесть довольно ощутимое повышение реальной заработной платы. Это означало, что в конечном счете в анализ придется ввести фактор совокупного спроса, что много лет спустя и сделал Кейнс.
«Принципы политической экономии» сразу же получили признание. Многих читателей привлек в книге упор на проблему благосостояния в экономической теории, что выгодно 299
отличало ее от сурового индивидуализма предшествующих концепций. Далее казалось, что в «Принципах» дается решение острого и спорного вопроса об относительной роли спроса и издержек в определении стоимости. У Маршалла стоимость объявлялась продуктом обоих факторов, а введением понятия предельной взаимозаменяемости, казалось, была заложена основа строго научной теории распределения. Тем самым проблема национального дохода была выдвинута в центр экономической теории: распределение становилось лишь одним из аспектов теории стоимости и потому объявлялось подверженным идентичным влияниям предложения и спроса. Через понятия длительных и коротких периодов в экономику был введен фактор времени, а это открывало возможность анализа нормальной стоимости, различения внешней и внутренней экономии и четкого разграничения первичных и дополнительных (мы бы сказали — накладных) издержек. Далее через понятие квазиренты и фикцию представительной фирмы вводилась идея нормальной прибыли.
В «Принципах» проявилась характерная для англичан склонность к сдержанности. Благодаря исключительной плавности изложения даже у непосвященного появляется ощущение, что он без труда получил близкое знакомство с предметом. Именно на это и рассчитывал Маршалл. Живость изложению придает, по-видимому, хорошее распределение материала между этикой и экономикой, и, как однажды заметил Кейнс, читатель может перейти теорию вброд, даже не замочив ног. Не удивительно, что «Принципы» стали одной из самых популярных книг по политической экономии в истории этой науки. За пятьдесят лет, прошедших со времени опубликования книги, она разошлась в количестве 60 000 экземпляров, из них больше половины было продано после первой мировой войны 83.
Следующую большую работу Маршалл опубликовал лишь в 1919 г. Эта книга, озаглавленная «Промышленность и торговля», носит совсем иной характер и представляет собой описательный и исторический труд о подъеме западного индустриализма. В ней, к сожалению, отсутствуют компактность и ясность, характерные для «Принципов». Опять-таки здесь много интересных мыслей и намеков, полезных для будущих претендентов на ученую степень, а изысканность изложения и блеск стиля по- прежнему обманчивы. Может быть, лучшая характеристика трудов Маршалла содержится в следующей фразе: «Читатель, который сумеет проникнуть за тщательно отполированную поверхность, где все мысли выглядят как общие места, будет прежде всего поражен, увидев невероятно искусного наставника, которому, видимо, никогда не приходило в голову, что ничто не может сделать книгу более трудной, чем стремление сделать ее легкой» 84.
В течение долгого времени изучение экономической теории в Англии и США состояло главным образом в том, чтобы научиться отрыгивать хорошо переваренным Маршаллом. Его толковали, обсуждали, разъясняли, анатомировали и опровергали. «Принципы» стали для студентов своего рода библией, к которой надлежало составлять комментарии и примечания, да и сам Маршалл занимался тем же, выпуская все новые и новые издания, из которых каждое немного отличалось от предыдущих и было еще более совершенным. К. Гийебо писал, что при тщательном сравнении различных изданий «Принципов» невозможно обнаружить какие- либо серьезные изменения в идеях Маршалла 85. Как отмечал Гийебо, многие годы, затраченные на шлифовку и исправления, могли бы более разумно быть использованы для работы над другими книгами, которые так и остались ненаписанными.
Маршалл определял политическую экономию как науку о деятельности людей, связанной с их повседневными хозяйственными делами, но говорил, что в сферу ее исследования входят лишь такие действия, которые имеют отношение к «материальным предпосылкам благосостояния». Таким путем он определял содержание предмета и ставил ему границы. Признавая, что на поведение людей влияют не только экономические, но и религиозные факторы, он все же считал, что первые играют решающую роль в формировании характера существующих институтов. Но поскольку общественные институты, с которыми имеет дело экономическая наука, непрерывно претерпевают изменения, трудно делать какие-либо специфические обобщения относительно поведения человека в обществе. Маршалл не питал иллюзий насчет всеобщей, вневременной истинности положений экономической науки и преследовал возвышенную, хотя и практическую цель: выработать способы решения социальных проблем 86. Он поставил такие вопросы: какими факторами определяется производство, распределение и потребление богатства? Как организована промышленность? Какова роль внешней торговли и денежного рынка? Как рост богатства способствует улучшению жизни людей? Насколько реальна и широка экономическая свобода? Как изменения в экономике влияют на положение трудящихся? Все это были не только практические вопросы, но и вопросы благосостояния. А от того, какой ответ на них 300
дает теоретик, зависит характер выдвигаемой им экономической теории.
Основным институтом у Маршалла была объявлена не конкуренция, а свобода предпринимательства. По Маршаллу, последнее понятие -заслуживает предпочтения, потому что оно скорее подразумевает независимость и свободу выбора, а не соперничество, скрывающееся в понятии конкуренции. Примечательно, что Маршалл полностью сознавал неосуществимость экономической гармонии. В книге «Промышленность и торговля» он писал: «Нет такого ■общего экономического принципа, который служил бы доказательством положения о том, что промышленность будет непременно лучше всего процветать или что жизнь будет самой счастливой и здоровой в том случае, если каждому человеку будет позволено заниматься своими делами так, как он считает лучшим» 87. Тем не менее система свободного предпринимательства у Маршалла прочно опирается на конкуренцию, поскольку в основе ее лежит рынок, где действует много мелких предпринимательских единиц, каждая из которых сама по себе не способна оказывать влияние на общий спрос или на рыночную цену. В этом смысле свободное предпринимательство отличается от монополии лишь по степени, а не в принципе, так как оно представляет собой лишь один край в спектре рыночных форм. Иначе говоря, элемент монополии неизбежно имеется в любой конкурентной системе, тем самым у Маршалла закладывалась основа развитой позже теории монополистической конкуренции 88. Но сам Маршалл либо не был склонен, либо не сумел сделать переход к такой теории. Хотя все орудия для этого были, он оставил невозделанным все поле р1ыночных структур, лежащее между чистой конкуренцией и монополией. Вполне возможно, что определение стоимости в условиях несовершенной конкуренции представлялось ему слишком неточным, чтобы сделать его предметом серьезного теоретического анализа.
Аналитический метод Маршалла лучше всего назвать методом частичного равновесия. В каждой данной ситуации он принимает за постоянные все элементы, кроме одного, и тщательно исследует последствия изменений этого одного элемента. Другие авторы указывали, что этот подход подвержен ограничениям, вытекающим из анализа общего равновесия, в том смысле, что первое является по существу частным случаем второго. Очевидно, Маршалл видел эту методологическую проблему, когда признавал, что изменения факторов, которые надо считать постоянными, неизбежно окажут влияние и на переменный фактор. Это ясно видно из его анализа сопряженных продуктов, комбинированного (composite) спроса и явления взаимодополняемости 89. Но он не смог построить логичную схему общей взаимозависимости. Нетрудно составить простую систему уравнений, описывающих спрос и предложение для одного товара, взятого в отдельности, если считать все остальные цены неизменными. Ведь при наличии соответствующих графиков предложения и спроса стоимость определяется как точка равновесия этих двух сил. Но при этом игнорируются влияния на цену со сторон изменений в потреблении, вытекающих из изменений дохода. Эти факторы отодвигаются в сторону как изменения «второго порядка». Проблема еще более усложняется, когда этот метод применяется к распределению, потому что в этом случае необходимо сделать допущение, что предложение факторов производства относительно фиксировано и непосредственно не реагирует на рыночные изменения.
Несмотря на это, Маршалл добился успеха в той мере, в какой метод частичного равновесия вообще применим. Он удовлетворительно сформулировал практические проблемы отдельной отрасли и фирмы, а такие категории, как первичные издержки и квазирента, стали полезными орудиями анализа, так как они могут быть использованы для выяснения общих соотношений в экономике, которая характеризуется взаимозависимостью элементов. Как отметил Шумпетер, с точки зрения здравого смысла метод частичного равновесия удобен, поскольку для ограниченных целей незачем исследовать все разветвления экономических сдвигов. Но значение этого метода ограничено, и он не пригоден для достаточно широкого круга исследований.
Если взглянуть на подход Маршалла с другой стороны, то его можно назвать статическим. Дело не в том, что он игнорировал процесс исторического развития: он стремился раскрыть повторяющиеся черты экономической жизни, а для этого он должен был прибегнуть к методу ceteris paribus 90 *. Поскольку представительные фирмы надо было наблюдать в действии, приходилось исключать возможность существенных изменений в технике производства, населении или склонностях потребителей. Все это, конечно, требовало определенных допущений: свободное предпринимательство, устойчивость прав собственности, постепенность изменений населения и капитала, прибыль как единственный мотив экономических действий и полная осведомленность всех участников * При прочих равных условиях (лат.).— Прим, перев.
301
экономической игры. В такой модели игнорируется проблема роста и накопления, ибо не всегда, например, можно понять, относится ли цена предложения к данному фонду капитала или к какой-то норме чистого накопления. Хотя у Маршалла уже имелось понятие ожидания, которое позволяло перейти к динамическому анализу, он построил свою теорию стоимости и распределения в основном на статических исходных посылках; на них же покоится созданный им мир викторианской нормальности.
Это не была, однако, абсолютно статическая система в духе Джона Бейтса Кларка. Введя понятия периодов времени, Маршалл сумел перебросить мост между статическими ситуациями в краткосрочном аспекте и длительными процессами изменений. Но эти изменения едва ли были чем-то большим, нежели тенденциями в сторону «нормальности», и после этих разделов книги Маршалла у читателя оставалось ощущение, что в конечном счете автор стоит на месте 91. Суть дела в том, как отметил даже Хикс 92, что, хотя статический анализ является крайним случаем общего динамического подхода, в общем и целом такая теория означает уход от действительности: динамическое общество требует динамической теории.
Если до Маршалла математика не так уж часто употреблялась в обычных экономических трудах, то теперь практически ни одна книга или статья по экономической теории не обходится без изрядного количества математических формул. Сам Маршалл мог со знанием дела применять математику, но он всегда старался закутать свои математические выражения в пеленки словесных формулировок, опасаясь, что некоторые читатели «Принципов» подумают, будто они все поняли, тогда как дело будет обстоять отнюдь не так 93. Он сознательно избегал чрезмерного употребления формул на том основании, что они не дают необходимого представления о сложности соответствующего экономического отношения. В письме к крупному статистику А. Л. Баули он замечает, что хорошее математическое изложение экономических явлений вполне может оказаться хорошей математикой, но плохой экономикой 94. Он объяснял, что использование математики — это лишь род стенографии, а сделанные с ее помощью записи всегда должны быть переведены на английский язык. Если данное положение по-прежнему не ясно, говорил он, то надо сжечь его математическое выражение; если же и это не помогает прояснению вопроса, то надо выбросить и перевод. Главным недостатком математического метода в экономике он считал его механистичность; в отличие от органических, биологических понятий, он не способен выразить ту идею, что экономика — это в сущности процесс.
Экономическая наука должна опираться на факты, указывал Маршалл, ибо факты — это кирпичи, из которых складывается знание. Правда, статистика дает определенную сумму фактов, но они должны дополняться из других источников. В сущности он считал, что экономическая наука находится на правильном пути, если статистика и математика подчинены более- общим принципам исследования. Ограниченные возможности применения математики в экономике объясняются не только сложностью проблем, но и тем, что число переменных, пригодных для теоретической обработки, все еще- недостаточно. Кроме того, невозможность проведения контролируемых экспериментов и присутствие личного фактора в экономических исследованиях делают эту область несколько» отличной от области точных наук. Таким образом, словесное изложение может быть, более близким к реальности и более гибким, чем математическое, которое не в состоянии отразить сложности, вытекающие из исторических и социологических элементов. Но Маршалл, конечно, видел, какие огромные возможности имеются для применения математики в современной экономической науке.
Он утверждал, что источником важных наблюдений в социальной и экономической областях являются не итоговые и агрегатные величины,, а единицы и приращения, за счет которых происходят изменения этих агрегатных величин. Это значит, что спрос на данный продукт может рассматриваться как непрерывная функция, где спрос на предельную единицу следует сопоставлять с издержками ее производства. Сделав это открытие, Маршалл затем развил графический метод анализа. Хотя другие уже применяли графики, именно Маршалл сделал их поистине мощными орудиями анализа. Но он скрыл их в примечаниях и приложениях, так как он не хотел превращать экономику в своего рода математическое применение гедонистического исчисления. Экономический анализ достаточно сложен сам по себе, и математика вовсе не обязательно повышает его жизнеспособность. Но самое главное, экономическая теория должна служить практике, а для этого необходимо, чтобы эту теорию понимали 95.
Важнейшим атрибутом современной экономики, порождающим измеримость явлений, служат, конечно, деньги. Это — центр, говорил Маршалл, к которому в сущности тяготеют все человеческие действия. Он допускал, что могут быть и мотивы, не связанные с деньгами, но в основном его интересовали последние. 302
Прежде всего измеримость мотивов, связанных с деньгами, позволяет охарактеризовать политическую экономию как научную дисциплину. По крайней мере в этом отношении она идет впереди других общественных наук.
Экономисты подробно обсуждали вопрос, что именно подразумевал Маршалл, излагая эти взгляды. Имел ли он в виду, что с помощью денег прямо измеряются мотивы к действию, или же он полагал, что они позволяют измерять лишь силу мотива? 96 Если он имел в виду последнее, то денежные явления, очевидно, коренятся в каких-то более глубоких, «реальных» факторах, на которые деньги лишь набрасывают покров, и, чтобы открыть истину, этот покров необходимо снять. С другой стороны, если считать деньги прямым мерилом, то получается, что они сами являются целью, к которой стремятся люди, и что степени удовлетворения и желания могут быть прямо увязаны с денежным доходом и расходом 97. Тогда при распределении ресурсов основным принципом, которому надо следовать, будет равенство предельных полезностей расходов по всем линиям. В этом смысле деньги являются центром комплекса элементов и исходной точкой экономических действий. Тем не менее «Принципы» часто оставляют впечатление, что экономикой управляют скорее «реальные» силы, а не денежные элементы. При этом Маршалл, конечно, хорошо понимал центральную роль денег. Система цен не только тесно связана с деньгами, но, поскольку она стала определяющим фактором, дело уже не сводится просто к вопросу соотношений между различными товарами 98.
Хотя идеи Маршалла по вопросу о деньгах были опубликованы довольно поздно, их плодотворная роль начала сказываться раньше. Ибо надо учитывать кембриджскую традицию устного воздействия. Его выступления перед королевскими комиссиями и статьи по этим вопросам показывают, что он предвосхитил многие современные понятия ". Маршалл стремился сделать количественную теорию денег частью общей теории стоимости, и своей трактовкой он заложил основу метода наличных остатков (cash balance approach). Он успешно сформулировал различие между «реальной» и денежной ставкой процента. Хотя теория паритета покупательной силы в международном обмене обычно связывается с именем Г устава Касселя, в действительности именно Маршалл заложил основу этой концепции еще в 1888 г. Он интересовался также выработкой предложений о стабилизации долгосрочных контрактных обязательств посредством такого орудия, как «Табулярный стандарт» (Tabular Standard) 10°.
Из этого видно, какую важную роль придавал Маршалл системе цен. В это понятие он включал все отношения и взаимодействия, определяющие, какие товары должны производиться и какое вознаграждение должны получать те, кто участвует в их производстве. В результате у него получалась унифицированная экономическая теория, поскольку с помощью системы цен он развивал единый метод анализа как стоимости, так и распределения. Маршалл находился под влиянием характерных для XIX в. поисков порядка и регулярности и полагал, что, разрабатывая свою общую теорию, он в то же время открывает некую нормальность в экономике. Эту нормальность он, правда, определял не как что-то неизменное, а как состояние, которого можно ожидать при данных обстоятельствах. Ио он, очевидно, совершенно игнорировал тот факт, что вследствие различий в уровне дохода система цен для разных людей означает разные вещи. Выражаясь его собственным языком, предельная полезность денег различна для богатого и бедного; люди приходят на рынок с разным количеством долларов, и поэтому рынок представляет собой нечто отличное от того общего места встречи, которое изображают, скажем, Хайек или Мизес 101.
Когда Маршалл подходил к анализу полезности, который лежал в основе теории денег и цен, лед под ним становился опасно тонок, так как он молчаливо предполагал, что желание и удовлетворение могут быть измерены. Пигу высказал предположение, будто Маршалл лишь намекал, что когда-нибудь наука, может быть, найдет способ делать это 102. Во всяком случае, он стремился глубже заглянуть в рыночный механизм и исследовать, каким образом уравновешиваются удовлетворение и неудовлетворение. Он полагал, что путем измерения коренных мотивов поведения экономическая теория может достичь самой широкой степени всеобщности. Например, если бы сравнение степени экономического удовлетворения отдельных лиц давало возможность обнаруживать, выигрывают или проигрывают потребители от вмешательства государства, то можно было бы судить о намерениях правительства. Для Маршалла в этом подходе не было ничего гедонистического, но можно сказать, что он так и не смог полностью освободиться от гедонистического образа мыслей. Пока он трудился над этими довольно абстрактными идеями, Джевонс опубликовал свою «Теорию политической экономии», в которой он ввел понятие предельной полезности, или, как он называл ее, конечной полезности. Поспешность, с которой Джевонс обнародовал свои мысли, вызвала у Маршалла раздражение, так как он считал их не совсем зрелыми. Рецен303
зируя книгу Джевонса, Маршалл высказался о ней довольно холодно, причем указал на несколько якобы обнаруженных им ошибок 103. Эти новые труды с применением маржиналист- ского метода мало что могли дать Маршаллу. Он разрабатывал свою собственную теорию предельной полезности, вдохновляясь прежде всего Курно, фон Тюненом и Рикардо.
Идея выгоды потребителей (consumers’ surplus), которой Маршалл придавал большое значение, в основном представляла собой способ измерения полезности. Маршалл считал, что если совокупная полезность равна площади под индивидуальной кривой спроса (от нуля до купленного количества), то выгода потребителя, очевидно, представляет собой разность между всей площадью и площадью под линией цены. Индивидуум получает выгоду, поскольку он способен воспользоваться возможностями, представляемыми обстановкой. Неясно, однако, полагал ли Маршалл, что эта рента представляет собой некое абсолютное количество или что она проистекает лишь из относительных изменений цен 104. Фактически в его анализе смешаны обе идеи, причем рядом с выгодой потребителя существует выгода «работника» и «сберегателя». С аналитической точки зрения эта проблема может создать крайние осложнения, ибо, несмотря на то, что продукт полностью поглощается суммой выплат факторам производства в пределе, каждый фактор получает еще какую- то выгоду. Один выход из этой дилеммы состоит в том, чтобы свести выгоды к психологической категории, но это означает отказ от абсолютной интерпретации и трактовку выгоды лишь в относительном смысле. Эта идея Маршалла была принята плохо, потому что возможности ее применения для экономического анализа представлялись довольно ограниченными. Фрэнк Найт обрушился на эту идею с такой критикой, что ее не могли спасти даже героические усилия Джона Р. Хикса 105. Более полезной оказалась мысль, что равновесие предложения и спроса обеспечивает максимум удовлетворения 106.
В центре «Принципов» стоит теория стоимости. Все что предшествует пятой книге этого труда — лишь прелюдия к основной теме. Рассмотрение вопросов богатства, потребностей и факторов производства подводит к проблеме формирования стоимости. Распределение представляет собой лишь применение теории стоимости к различным классам общества, причем их доходы подвержены также действию законов предложения и спроса. Стоимость выражает отношения, в которых обмениваются товары. Денежная система превращает эти стоимости в цены, которые в своей основе представляют собой отражение сил предложения и спроса. Последние толкают цены в сторону равновесия, которое в конечном счете совпадает с издержками производства. Любое отклонение от этой нормы приводит в действие корректирующие силы. Таким образом, стоимость вообще может быть объяснена лишь в свете длительных процессов. В основе закона спроса у Маршалла лежит идея убывающей полезности, согласно которой увеличение количества данного блага понижает полезность его предельной, или конечной, единицы. Это позволяет экономисту составить график спроса, который затем сопоставляется с графиком предложения. Таким образом, получается подобие ножниц, которые режут, потому что у них два лезвия. Полезность является важнейшим фактором в кратковременном аспекте, а реальные издержки производства играют преобладающую роль в долгосрочном аспекте. Если производитель не возмещает свои издержки, это вызовет сокращение предложения, пока не установится новое равновесие; чрезмерная прибыль, наоборот, вызовет приток новых производителей в данную отрасль. Интересно, что Маршалл отказался расширить понятие предельной полезности до общественной предельной полезности. Ведь в руках Джона Бейтса Кларка подобный подход превратился в важное орудие оправдания статус-кво. Но в этом вопросе Маршалл проявил больше чувства реализма, чем его американский собрат.
Анализируя категории спроса, Маршалл сделал большой вклад в развитие экономического анализа — он в явном виде ввел понятие эластичности спроса107. Правда, следы идеи эластичности можно найти уже у Курно. Маршалл попытался представить зависимость между малыми изменениями цены и обусловленными ими малыми изменениями в объеме спроса на товар. Говоря более специальным языком, его интересовало частное от деления относительного изменения объема на относительное изменение цены 10S. Эту проблему, писал он, можно проиллюстрировать путем сравнения потребностей лиц среднего класса и богачей. Потребности последних в общем не эластичны; иначе говоря, спрос не имеет тенденции реагировать на изменения цен. Напротив, спрос лиц среднего класса определенно реагирует на изменения цен на товары, которые они рассматривают как предметы роскоши. Рабочий класс, полагал он, потребляет лишь необходимые товары, и его спрос на них не эластичен. Однако Маршаллова трактовка эластичности была ограничена лишь малыми изменениями, так что трудно было говорить о дискретных величинах, характеризующих движение вдоль кривой спроса. Но хотя это было лишь понятие точечной (point) эластичности, в нем были уже заклю304
чены другие типы: дуговая (аге), перекрестная (cross) и все виды эластичности функций издержек и взаимозаменяемости товаров. Маршалл не был склонен распространять идею эластичности на другую сторону уравнения — предложение, так как изменения в его объеме требуют времени, а возможно, и дополнительных инвестиций. Более поздние авторы были менее сдержанными в этом отношении.
Значительную часть своего исследования экономических явлений Маршалл посвятил предложению товаров. Это позволило ему уйти от скользкого вопроса о потребностях, желаниях и степенях удовлетворения и встать на более твердую почву издержек производства. Ему представлялось, что проблема вполне может быть решена. В «рыночной» ситуации предло- ложение есть просто данный запас товаров, а спрос есть активный фактор; изменяя цену, можно создать спрос, достаточный для того, чтобы поглотить все имеющиеся на рынке товары. Но при введении элемента времени предложение как запас превращается в предложение как поток. Это создает некоторые новые трудности, которые Маршалл пытался разрешить с помощью своего хитроумного приема — введения понятия периодов времени. Он различал три периода: короткий, в течение которого производственные мощности не меняю- ются; длительный, в течение которого мыслится возможным изменение объема продукции путем вовлечения новых производственных факторов; весьма длительный, когда могут произойти изменения в населении, капитале, склонностях потребителей, технике производства и т. д.*. Конечно, время здесь понимается в экономическом смысле, то есть под углом зрения функционального приспособления факторов производства. В «Принципах» Маршалл основное внимание уделил второму случаю, ибо это тот период, когда устанавливается нормальная цена, определяемая издержками производства. В длительном аспекте цена имеет тенденцию колебаться вокруг издержек, по мере того как до конца развертывается игра спроса и предложения. В кратковременном аспекте цены не должны упасть ниже первичных издержек; в длительном аспекте цены должны возмещать как первичные, так и дополнительные (накладные) издержки. Таким образом, в кратковременном аспекте важным элементом издержек являются переменные издержки, тогда как накладные * Ср. в книге: П. Самуэльсон, Экономика, стр. 410—411, где эти три периода называются мгновенный, кратковременный и длительный. Приведенный у Самуэльсона пример и графики дают более ясное представление об этом методе.— Прим, перев.
статьи, проистекающие из фиксированных факторов производства, по своей сущности связаны с явлением квазиренты. Последнее понятие, говорил Маршалл, применимо к любому фактору производства. Это краткосрочный, определяемый уровнем цен доход, обусловленный фиксированным характером данного фактора, он может проявляться в виде излишка сверх нормальной ставки процента или в виде чрезвычайно больших заработков отдельных лиц. Однако при таком подходе квазирента оказывается, собственно, вне сферы обычного распределения. Она становится чем-то совершенно случайным, зависящим от определенной ситуации на рынке, которая допускает получение некоторыми факторами дохода выше нормального уровня. Вероятно, именно в связи с таким случайным характером этого явления лишь немногие теоретики после Маршалла использовали его идею.
Немало экономистов на собственном горьком опыте убедилось, что издержки — это коварная штука. Маршалл довольно хитро подошел к этой проблеме, постулировав «представительную фирму» нормальной эффективности; издержки такой фирмы в длительном аспекте играют роль в определении нормальной цены. Как заметил Джекоб Вайнер 109, это те самые издержки, которые считаются определяющими для развития всей отрасли. Но Маршалл не указал, каким образом можно обнаружить «представительную фирму», ограничившись замечанием, что это такая фирма, у которой издержки, включая нормальную прибыль, равны цене. Это дает основание обвинить его в том, что он оставался в порочном кругу, ибо цена анализируется на основе издержек фирмы, которые можно обнаружить путем уравнивания издержек и цены! Более того, возникает такой вопрос: если различия в производительности земли и труда выравниваются посредством конкуренции, то почему дело так не обстоит в отношении предпринимателя? По выражению Лайонела Роббинса, почему для разных факторов должны быть разные теории? 110
Равновесие, которое Маршалл выводил на основе предшествующего анализа, является, конечно, устойчивым. Если цена повышается, спрос уменьшается, и все возвращается в нормальное состояние. Он стремился разработать идею взаимного влияния цены, спроса и предложения. Конечно, теперь все это выглядит крайне нереалистично, но следует спросить себя, так ли уж фантастично в условиях викторианской Англии было предположение, что медленное взаимное приспособление этих факторов и есть тот нормальный путь, по которому развивается экономика.
20 Б. Селигмен
305
В связи с проблемой предложения возникает ряд побочных вопросов, относящихся к совместному предложению, первичным издержкам и внутренней экономии. Ведь в реальном мире спрос на многие товары тесно связан со спросом на дополняющие их товары. То же самое относится к предложению. Все эти вопросы Маршалл считал настолько важными, что уделил им специальные главы в «Принципах» 1П, где признается, что ценообразование для совместных продуктов может определяться требованиями рынка. Но это краткосрочная проблема: что же произойдет с предложением в длительном аспекте? Некоторые комментаторы полагали, что такой аспект у Маршалла просто исчез и превратился в серию малых краткосрочных аспектов. Если признать эту критику основательной, то вполне можно утверждать, что весь временной анализ Маршалла рухнул окончательно.
Основой снижения средних издержек по мере увеличения размеров предприятий у Маршалла является внутренняя и внешняя экономия. Эти изменения связаны или с прогрессом техники, или со сдвигами в соотношении затрат и продукции, что известно под названием производственной функции. Такие изменения являются источником внутренней экономии, то есть понижения издержек, обусловленного усовершенствованиями внутри фирмы. Если же выигрыш имеет место в результате улучшения транспортных условий или, может быть, большей доступности одного из факторов производства, например рабочей силы, то это называется внешней экономией. Маршалл полагал, что значение внутренней экономии меньше, чем внешней 112, ибо по мере роста фирмы она хотя и добивается экономии, но одновременно начинает страдать от различных проявлений внутренней «неэкономичности» («diseconomies»). Поэтому маловероятно, чтобы промышленный гигантизм развился просто вследствие процесса роста или накопления капитала: экономия будет всегда уравновешиваться проявлениями неэкономичности. Конечно, Маршалл просто уходил от проблемы; последовательное развитие идеи внутренней экономии в конце концов наверняка привело бы к реалистической теории монополии.
Не удивительно, что трактовка Маршаллом явления внешней экономии позже подверглась резкой критике 113. У него эта экономия связывается с выгодным местоположением, что включает развитие вспомогательных отраслей и наличие резервов квалифицированной рабочей силы. Однако, когда понятие внешней экономии применяется к статическому состоянию, возникают концептуальные затруднения; дело
в том, что надо тогда распространять выгоды на все отрасли, а не только на немногие. Как указывали критики, это ограничивает анализ Маршалла такими ситуациями, при которых экономия является внешней для фирмы, но внутренней для отрасли. Но если это конкретное понятие, введенное Маршаллом, и не удовлетворяло требованиям чистой теории, оно, несомненно, бросало свет на процесс экономического роста. Пожалуй, оно носило слишком динамический характер, чтобы его могла с готовностью использовать статическая теория.
Связанные с этими идеями явления в области издержек имеют определенное отношение и к законам доходности. На протяжении XIX в. экономисты придерживались того взгляда, что сельское хозяйство подчиняется закону убывающей доходности, тогда как в промышленности действует тенденция возрастающей доходности. Несмотря на тот факт, что индустриализация продолжалась быстрыми темпами, Маршалл разделял эти несколько странные взгляды 114. Но в отличие от своего современника Дж. Б. Кларка он не пояснил, что «доходность»— это в своей основе вопрос пропорциональности. Поскольку Маршалл лишь едва затронул вопрос об избыточных производственных мощностях, он проглядел тот факт, что при таких условиях рост продукции может вполне сопровождаться тенденцией к сохранению постоянных издержек. С другой стороны, если исходить из наличия внешней экономии и повышающейся доходности, то вполне логично перейти к вопросу об избыточных мощностях и ожесточенной конкуренции (обычное явление до второй мировой войны) и утверждать, что действительно наблюдается тенденция к замене конкуренции монополией, поскольку фирмы делают все возможное, чтобы в длительном аспекте возместить неокупаемые издержки (sunk costs).
Чтобы иметь возможно более низкие издержки, разумный производитель будет стремиться к самому эффективному сочетанию факторов производства. Взаимозаменяемость факторов будет иметь место в пределе, пока не станет безразлично, приращение какого именно фактора использовать. Поэтому факторы должны оцениваться в соответствии с тем, какой эффект для производства дает последняя, или предельная, единица. Тем самым Маршалл очень близка подошел к теории предельной производительности, согласно которой доля каждого фактора при распределении продукта стремится к стоимости продукта предельной единицы. Но производительность в пределе не создает стоимость, так как это лишь точка, в которой могут изучаться силы, определяющие стоимость 115.
306
Трудно отделаться от впечатления, что в конечном итоге Маршалл предпочитал оставаться рикардианцем.
Но если цена в длительном аспекте определяется издержками производства, а последние представляют собой определенную сумму цен, то получается, что экономический анализ не выходит из замкнутого круга. Маршалл вынужден был обратиться к своим «реальным силам»— к факторам желания благ и тягости труда, необходимого для их получения. Так читатель опять возвращается к основным пружинам человеческих действий и к тому самому гедонистическому расчету, которого Маршалл стремился избежать. Хотя он сомневался в возможности непосредственного соотнесения денежных издержек с реальными, он полагал, что в конечном счете последние влияют на предложение факторов производства. Предложение и спрос в свою очередь влияют на выплаты факторам. Если говорить, например, о таком факторе, как «труд», работник будет работать до тех пор, пока предельная тягость труда не сравняется с предельной полезностью заработка; таким образом, предельная тягость труда есть важный фактор при установлении заработной платы. Сомнительно, однако, чтобы введение этих «реальных сил» позволило Маршаллу избежать обвинения, что он оставался в порочном кругу: его аргументация недостаточно убедительна. Далее, попытка использовать в анализе неуловимые психологические элементы требовала введения такого понятия, как ожидание. Тогда как для Рикардо труд есть созидательный фактор и издержки производства данного блага коренятся в акте созидательного труда, у Маршалла все это превратилось в субъективные жертвы. Но это уже совершенно иное исследование, где объектом становится микрокосмическое состояние духа индивидуумов и где предполагается возможным выразить математические связи между малыми приращениями данного блага и малыми приращениями цены. Насколько реалистичен такой подход и какова его практическая ценность — это совсем другой вопрос.
Теория распределения Маршалла — это своего рода приложение теории стоимости. Говоря в общей форме, в ней рассмотрены условия предложения и спроса, которыми определяется нормальная цена каждого из факторов производства. Земля, труд и капитал получают то, что они могут получить на рынке. К этой знаменитой троице Маршалл добавил фактор организации, в результате доходы соответствующих факторов получили у него форму ренты, заработной платы, процента и прибыли. В сумме эти доходы составляют национальный дивиденд. Поэтому задача теории распределения заключается в том, чтобы обнаружить силы, которые определяют предложение каждого фактора и спрос на него. Предприниматель предъявляет спрос на факторы в соответствии с теми услугами, которые они способны оказать в процессе производства. Если предложение фиксировано, как это имеет место в кратковременном аспекте, то цена определяется спросом; в длительном аспекте она определяется издержками включения в производство дополнительных факторов. Таким образом, мы вновь приходим к условиям нормальности, где действительные цены факторов несколько беспорядочно колеблются вокруг центра долгосрочного равновесия.
Маршалл особенно настаивал на непригодности предельной производительности как основы для теории заработной платы 116. Он не был согласен с мнением, что можно измерить чистый продукт предельной единицы; еще менее вероятной он считал возможность использования предельной производительности в качестве орудия для анализа проблемы общего уровня заработной платы. Однако вопреки его возражениям не может быть сомнения, что он оказался очень близко к позиции предельной производительности. Но он был бы немало смущен общепринятым в настоящее время различением макроэкономических и микроэкономических проблем: очевидно, что идея предельной производительности не может быть использована для того, чтобы дать ответ на главные, всеохватывающие вопросы, поставленные Рикардо и Марксом. По-видимому, Маршалл вновь попадал в своего рода логический тупик, из которого он пытался выбраться с помощью знаменитой аналогии с ножницами и путем утверждения, что заработная плата подвержена действию закона предложения и спроса 117. Следовательно, с его точки зрения было вполне разумно полагать, что такого понятия, как общий уровень заработной платы, вообще не существует: скорее имеется ряд категорий труда, для каждой из которых действует свое сочетание сил предложения и спроса. Опять-таки спрос играет решающую роль в кратковременном аспекте, и заработная плата приобретает характер «квазиренты». Маршалл, однако, допускал, что в проблеме заработной платы имет ются другие элементы: рост населения, квалификация, мобильность, предвидение и т. п. Маршалл не уклонялся также от проблемы бедности: он признавал, что с доходом от труда связаны необычайно сложные экономические отношения. В этом, может быть, более, чем в чем-либо другом, проявилась его подлинно гуманная заинтересованность в благополучии человеческого рода.
20* 307
Но Маршалл не мог уйти от логики его собственной теории, потому что в длительном аспекте заработная плата каждой категории рабочих устанавливается, по Маршаллу, на каком-то нормальном уровне. Таким образом, если предположить возможность приспособления предложения, теория заработной платы может очень легко быть сведена к пресловутому «железному закону», и в результате получается доктрина заработной платы, вполне соответствующая статическому состоянию. В ней признается известная связь между высокой заработной платой и производительностью, а в качестве эффективного средства повышения заработной платы намечается растущий дефицит низших категорий труда на рынке. Призывая к проявлению экономического рыцарства, Маршалл, однако, не делал никаких конкретных предложений в отношении таких позитивных мер, как социальное страхование или пенсионное обеспечение в старости. Возможно, говорил он, что участие правительства в жилищном строительстве было бы полезно, но всегда будет существовать угроза бюрократизации 118. Поэтому остается впечатление, что Маршалл смотрел на эти вопросы в основном с благотворительной точки зрения.
Земля, однако, явно представляет собой фактор производства, предложение которого фиксировано. Рента определяется у Маршалла как доход от земли, включая произведенные в ней улучшения. Форма использования земли диктуется возможностями получения прибыли на рынке, где спрос является активным элементом. На этом этапе, однако, в анализ включаются дифференциальные соображения, некоторым образом в духе Рикардо. Поскольку стоимость продукции с лучших земель превышает стоимость продукции с худших участков, то разность между доходами остальных факторов и стоимостью продукции образует излишек, обусловленный качеством самой земли. Более того, этот излишек в длительном аспекте не исчезает, так как предложение земли фиксировано. Земля, таким образом,— это единственный фактор производства, стоимость которого базируется не на издержках производства, а на капитализации стоимостей годовых излишков.
Конечно, с точки зрения собственника, земля настолько похожа на обычный капитал, что рента представляется родом издержек. Но с общественной точки зрения рента не может рассматриваться в качестве издержек, ибо в своей основе она представляет собой излишек, вытекающий из общественного процесса оценки. Очевидно, что такая теория не могла удовлетворить собственника — земледельца. Но путем различения общественных и частнопредпринимательских аспектов Маршалл смог что-то противопоставить враждебной критике теории ренты Рикардо, которая началась с Т. Э. Клиффа Лесли. Такая трактовка подкрепила позицию Маршалла в отношении земли как особого экономического фактора, отличного от капитала.
Маршаллов анализ капитала начинается с исторического обзора 119. На более примитивных стадиях экономического развития было меньше необходимости вооружать рабочего капитальным оборудованием, но с накоплением богатства потребности расширялись и вместе с тем увеличивалась необходимость применения орудий производства. Это была история, какой ее видел англичанин XIX в.: по мере роста населения увеличивалась способность сберегать, а обеспечение безопасности инвестиций еще более способствовало сбережению. Если бы процентная ставка понизилась, то это отрицательно повлияло бы на сбережение и задержало бы необходимое накопление капитала.
Процент в системе Маршалла представляет собой просто плату за капитал, которая обусловлена тем, что использование капитала дает прибыль. Эта несколько примитивная доктрина включает также элемент редкости: человеку, несомненно, свойственно предпочтение настоящих благ по сравнению с будущими, откуда вытекает, что владелец капитала должен быть вознагражен за его готовность отказаться от благ в настоящем. Следовательно, спрос на капитал вытекает из его производительности, а предложение определяется сбережением. Однако в короткие периоды времени возможна полная независимость уровня процента от прибыли на капитал, между ставками процента и реальной прибылью образуется разрыв. В сущности, доход данного фактора здесь опять принимает характер «квазиренты», так как на протяжении этого короткого периода количество капитала фиксировано, вследствие чего цена капитала в основном определяется спросом. В долгосрочном аспекте, однако, денежная ставка процента и реальная норма имеют тенденцию к сближению 12°. С этим связано утверждение Маршалла, что ставка процента по краткосрочным ссудам колеблется вокруг нормы прибыли на инвестиции в основной капитал 121.
Ставка процента выполняет также функцию уравновешивания предложения и спроса на инвестиции. Однако эта идея не очень плодотворна, так как новые инвестиции в значительной мере зависят от реального дохода, который в свою очередь определяется уровнем использования людских и материальных ресурсов. Таким образом, утверждение, что анализ Мар308
шалла приемлем в качестве характеристики длительной тенденции, неубедительно, так как очевидно, что, по его мнению, процентная ставка является центром равновесия также и в кратковременном аспекте 122.
По Маршаллу, прибыль распадается на заработную плату управления, процент на капитал и плату за риск. Чтобы объяснить последний компонент и включить его в свою теорию распределения, Маршалл изобрел новый фактор производства — организацию, за которым стоит институциональная надстройка общества. С ростом корпораций и последующим рассеиванием владения акциями функция управления попадает в руки профессиональных управляющих. В этих условиях вознаграждение бизнесмена оказывается подчиненным тем же законам, которые управляют оплатой труда, то есть оно должно быть достаточным, чтобы побуждать человека к предложению необходимых услуг. Любая величина сверх этого принимает характер квазиренты. Здесь присутствует элемент «случайной стоимости» («opportunity value») 123, которая в конкурентной ситуации легко может исчезнуть. Следовательно, при совершенной конкуренции прибыль может опуститься до нуля, а организация, как фактор производства, может быть низведена до положения особого рода труда. «Квазирента» может существовать лишь на протяжении коротких периодов, а в долговременном аспекте доход предприятия должен распределиться между нормальными выплатами, достаточными для того, чтобы вызвать предложение факторов производства, и рентой, возникающей в связи с фиксированным предложением. Для прибыли в строгом смысле слова в этой модели нет места.
Хотя Маршалл полагал, что в экономической системе преобладают конкурентные силы, он не игнорировал полностью давление монополии. С помощью своего графического анализа он показывал, каким образом монополист может ограничивать предложение и устанавливать цену товара. Но он задавался вопросом, не сочтут ли некоторые монополисты увеличение выгоды для потребителя столь же желательным, как монопольную прибыль! 124 Это означает, что могут быть случаи, когда монополистам выгодно продавать по ценам более низким, чем они могли бы диктовать, опираясь на свое положение на рынке. Так, для железнодорожной компании может оказаться разумным субсидировать строительство какого-либо населенного пункта, имея в виду будущую клиентуру. Это не вопрос альтруизма; скорее это дальновидный расчет. Далее, жадность может вызвать враждебность общественности и судебные иски. Но в общем Маршалл был склонен преуменьшать роль монополии. Признавая, что возрастающая доходность способна ускорить промышленную концентрацию, он вместе с тем полагал, что это может дать определенные организационные преимущества 125. Во всяком случае, монополистические факторы не казались ему особенно сильными. Рассматривая вопрос о соотношении накладных и первичных издержек в некоторых отраслях, Маршалл приблизился к идее монополистической конкуренции, но он так и не ввел это понятие; теоретически развить эту идею предстояло его наследникам 126.
Не удивительно поэтому, что проблема эко- номичесих кризисов, которая занимала столь многих экономистов в течение десятилетий после опубликования «Принципов», не играла особенно большой роли в системе Маршалла. Он считал, что факторы, нарушающие ровный ход механизма конкурентной экономики, коренятся в сфере коммерческих и психологических явлений. Он говорил, что пирамидирование кредита и увеличение издержек могут вызвать напряженные условия и понижение нормы прибыли. Но как только доверие восстанавливается, кризис отступает. Маршалл не рассматривал проблему в категориях сбережений и инвестиций; это было тогда еще делом будущего. Но он признавал, что экономические колебания могут стать проблемой для отраслей с большим основным капиталом. Если не считать этих безапелляционных замечаний, Маршалл не обнаруживает в «Принципах» глубокого интереса к вопросам депрессий и экономических кризисов. Большая часть его мыслей по этим вопросам содержится в ответах королевской комиссии по вопросам депрессии в торговле и промышленности (1886 г.), в статье о средствах борьбы с экономическими колебаниями, в основном посвященной вопросу о постоянной покупательной способности, и в заявлениях перед Комиссией по золоту и серебру в 1887—1888 гг.
Теория Маршалла — это в основном теория цен в конкурентных условиях. Но проблемы, вытекающие из всеобщей взаимозависимости, не были у него разработаны столь основательно и детально, как у Вальраса. Как писал сам Маршалл 127, он пытался в «Принципах» развить концепцию условий равновесия для различных периодов экономического времени таким образом, чтобы установить коренное единство материальных и человеческих факторов производства. В известном смысле это была та же проблема, которой занимались Рикардо и Маркс, так как они тоже интересовались распределением стоимости между классами общества. Но, как сказала Джоан Робинсон, этот большой вопрос Маршалл превратил в маленький. 309
Его чрезвычайно занимало, почему яйцо может стоить дороже чашки чаю. Ответ на такой вопрос требовал много времени и основательного знания математики, и над ним немало потрудились его ученики на протяжении многих лет. Короче говоря, Альфред Маршалл представлял собой тип викторианского либерала, не очень решительно поддерживающего меры, направленные на улучшение тяжелых условий жизни. Но если эти меры могли хоть кому-нибудь нанести ущерб, тогда лозунгом становились предусмотрительность и осторожность. Очевидно, что основные положения его экономической доктрины были по своему характеру статичны, ибо ключевой элемент капиталистической динамики — накопление капитала — играл в ней второстепенную роль. Для обеспечения плавного движения общества необходимо лишь поддерживать нормальность в длительном аспекте; кто станет отрицать, что это было характерной чертой века королевы Виктории?
И все же влияние Маршалла на экономическую теорию значительно: мало кто из теоретиков оказал столь же сильное воздействие на образ мышления экономистов. Несмотря на критику, которой часто подвергались такие понятия, как полезность, равновесие, реальные силы, нормальность и экономическое время, современная теория в значительной своей части исходит из разработанных им идей. И даже теперь, спустя семьдесят лет, развитие экономической теории часто идет по путям, первый намек на которые содержится в «Принципах». Характерным примером служит теория монополистической конкуренции. Ее часто связывают с именем Пьеро Сраффа, который в знаменитой статье «Законы доходности в конкурентных условиях» 128, опубликованной в 1926 г., показал, что долговременный анализ Маршалла недостаточен для объяснения явлений внешней и внутренней экономии. Тем не менее эта теория уходит корнями в трактовку Маршаллом проблемы доходности при различных типах производства 129 и в высказанное им замечание, что большинство фирм способно создать особые рынки для своих продуктов 13°.
Маршаллу удалось сделать то, что удавалось лишь очень немногим экономистам: своим учением и через свое личное влияние он создал подлинно национальную школу экономической науки, которая получила полное преобладание, во всяком случае в англосаксонских странах. Через его преемника А. С. Пигу можно проследить влияние Маршалла на Денниса Робертсона и даже на Кейнса, который был связан с кембриджской доктриной более тесно, чем он склонен был признавать.
Теперь, однако, Маршаллова система кажется довольно архаичной. Проблему монополии она игнорировала, можно сказать, бесцеремонным образом; бросается в глаза отсутствие в ней трактовки коренных вопросов современного индустриализма. Видимо, Маршалл сознавал, что при монополии цена станет неопределенной, а это поколебало бы его чувство порядка и совершенства. Далее, для современного человека деньги есть нечто большее, чем только numeraire, бухгалтерский прием; они — фокус экономического существования. Вопреки его уверениям в обратном он все же, очевидно, понимал деньги с бухгалтерских позиций. Если все это могло быть удовлетворительным для периода до первой мировой войны, то теперь экономическая теория Маршалла, по общему мнению, недостаточна для трактовки таких коренных проблем, как производство, инвестиции и занятость.
3. А. С. ПИГУ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Когда в 1908 г. Альфред Маршалл оставил кафедру в Кембридже, он передал знамя англосаксонской экономической науки в руки способного Артура С. Пигу (1877—1959). Пигу часто называли любимым учеником Маршалла. В университете он изучал математику и историю и приобрел таким образом прочный фундамент знаний для работы в области теоретической экономии. Маршалл поощрял изучение молодым коллегой таких практических вопросов, как трудовые конфликты в промышленности, чтобы развить в нем понимание реальных проблем. Некоторые профессора возражали против назначения Пигу на место Маршалла на том основании, что он был кабинетным ученым и не имел достаточного практического опыта. Может быть, по этой причине Пигу в конце своей долгой академической карьеры давал студентам совет идти в магазины и на заводы, где совершаются действительные экономические процессы 131. Пигу занимал кафедру политической экономии в Кембридже не протяжении 35 лет и вышел в отставку в 1943 г. Хорошо систематизированные лекции Пигу по экономическим принципам были несколько стереотипного характера, но это нисколько не беспокоило 310
его, так как он предпочитал концентрировать свои силы на основательном исследовании одной важной области экономики за другой. В 1912 г., в возрасте 35 лет, он выпустил свою книгу «Богатство и благосостояние», которая открыла экономистам некоторые новые сферы анализа. Позже он переработал и расширил эту книгу, выпустив ее под заглавием «Политическая экономия благосостояния». Она не только выдержала несколько изданий, но и породила многочисленные другие тома, посвященные различным областям экономической науки.
Пигу был вскоре признан законным наследником Маршалла, и несомненно, что именно благодаря его усилиям кембриджская школа укрепилась так прочно. У него былй разносторонние интересы: он участвовал во многих дискуссиях по вопросам философии, искусства и общественного благосостояния, которые велись как в университетских кругах, так и среди широких кругов общественности, и написал работы на такие темы, как теизм и поэзия Браунинга 132. Он был хороший оратор, причем его типично британская внешность производила на аудиторию отличное впечатление и внушала ей доверие, несмотря на то, что часто он был одет не очень аккуратно. Пигу неохотно общался с коллегами — экономистами и редко поялялся на их собраниях, ведя довольно уединенную жизнь. Но вместе с тем он бывал духовно очень щедрым, особенно по отношению к людям намного моложе его. Далее, он часто выступал в газетах с письмами по поводу актуальных проблем и принимал участие в общественных делах: он был членом валютного комитета Канлиффа в 1918 г., королевской комиссии по подоходным налогам в 1919 г. и комитета Чемберлена по вопросам денежного обращения в 1924 г. Отчет этого последнего комитета повел к восстановлению золотого стандарта, что позже подвергалось резкой критике. Как преподаватель, Пигу давал мало такого, что выходило бы за пределы теории Маршалла, но в научном отношении юн пошел дальше учителя в поисках новых путей применения абстрактных принципов к экономическим действиям. Он блестяще исследовал вопрос об оправданных способах вмешательства государства в экономическую жизнь, что указывает на его неизменное влечение к практическим проблемам. По крайней мере в этом отношении Пигу далеко отошел от сторонников традиционной доктрины 133.
Многие книги Пигу — это в сущности детальное исследование отдельных аспектов его политической экономии благосостояния. В последние годы жизни он выпустил несколько небольших работ, которые, как правило, основывались на его публичных лекциях; там он пытался объяснить элементы своей теории более детально. Таковы его работы «Доход», «Дополнительные соображения о доходе» и «Неполная занятость», представляющие собой отличное введение к основам его экономического учения, изложенным в книгах «Политическая экономия благосостояния», «Экономика стационарных состояний», «Занятость и равновесие», «Колебания промышленной активности» и «Исследование государственных финансов». Время от времени Пигу подвергался резкой критике, в частности, за то, что он не смог удовлетворительным образом увязать реальные явления с теоретическими категориями. Понятие национального дохода играет в его теории центральную роль, но его определение вызвало много сомнений 134. Однако, несмотря на то что система Пигу содержит ряд слабых мест и в ней царит атмосфера чрезмерного викторианского спокойствия, она остается важной вехой в истории экономической мысли.
Сочинения Пигу пронизаны духом утилитаризма и духовного подъема, а его основной философский принцип, по примеру Генри Сидж- вика, гласил: наибольшее благо для наибольшего числа людей. Степень благосостояния определяется у него соотношением удовлетворения и неудовлетворения (dissatisfaction); хотя эти психические состояния по-настоящему не поддаются измерению, они по крайней мере «сравнимы». В своем очерке об экономическом рыцарстве Пигу высказался в пользу патерналистских мер, проводимых некоторыми предпринимателями. Но роль патрона здесь не слишком подходит, говорил Пигу, так как «лучше привлечь рабочих к производимым улучшениям в качестве активных участников, а не только пассивных получателей выгод. Насколько это возможно, контроль над социальными институтами, учреждаемыми на предприятиях, должен быть передан рабочим. Ибо хорошая жизнь вырастает на почве товарищества, а не самовластия» 135.
Влияние Маршалла на Пигу очевидно. Он выразил свое уважение к старшему коллеге в работе «Альфред Маршалл и современная мысль» 136, поставив вопрос о том, как рассматривал бы Маршалл современные проблемы. Ему представлялось совершенно правильным указание учителя о том, что, несмотря на математический характер многих экономических построений, математику надо прятать в примечаниях. Чрезмерное использование математики, писал Пигу, ведет к тому, что ударение переносится на механические, а не биологические аналогии 137. Он усвоил также присущий неоклассической школе упор на роль процентных 311
ставок, хотя многие экономисты уже начинали сознавать, что в условиях промышленной концентрации и роста корпораций ссудный процент теряет свою силу. В одном отношении, однако, Пигу отошел от Маршалла. Это касалось использования понятия выгоды потребителей. Он предпочитал скорее исследовать, каким образом частные и общественные выгоды затрагивают экономическое благосостояние и как могут влиять на него изменения производства. Это позволило ему включить в свою теорию все те элементы трения в экономике, которые ранее рассматривались в качестве исключений. В центре внимания оказывались расхождения между тем, что он называл предельным частным чистым продуктом, и предельным общественным чистым продуктом. Он полагал, что, устранив особые случаи, можно построить общую теорию благосостояния, согласно которой максимум производства достигается тогда, когда уравниваются оба типа продукта. Хотя модели Пигу обычно базируются на предпосылке свободной конкуренции, при которой предельная полезность денег считается постоянной, Пигу не игнорировал элементы монополии или несовершенной конкуренции и усиленно стремился включить их в свою теорию. Его меньше, чем Маршалла, занимало развитие теории стоимости: ему представлялись гораздо более важными социальные проблемы, связанные с объемом и распределением национального дивиденда. Таким образом, Пигу выдвигал на передний план цели экономической науки, связанные с улучшением жизни людей.
В сочинениях Пигу можно обнаружить также влияние континентальных авторов, занимавшихся разработкой концепций общего равновесия 138. Англосаксонские экономисты предпочитали разработанный Маршаллом подход с позиций частичного равновесия. Однако Вальрас, построив свою теорию максимального удовлетворения на базе субъективных понятий, почерпнутых у австрийских и французских экономистов математической школы, не отказался полностью от понятия реальных издержек, особенно в связи с вопросом об отношении предложения факторов производства к ценам на эти факторы. Это должно было привлечь Пигу, поскольку он по-прежнему опирался на рикардианское наследие реальных элементов. Данное Пигу определение национального дивиденда можно легко привести к рикардианскому понятию физического чистого дохода. Таким же образом предельная полезность у Эджворта есть просто заимствованный у Рикардо излишек (surplus), переведенный в психологическую сферу. В итоге оказывается, что концепция Пигу об идеальном состоянии производства содержит элементы не только объективного анализа в духе английской традиции, но и субъективного подхода, свойственного континентальным экономистам. В принципе благосостояние как «реальная» категория есть объективное выражение максимальных степеней удовлетворения, как оно проявляется в содержании национального дивиденда, который сам определяется как поток товаров и услуг с учетом расходов на поддержание основного капитала 139.
Книга Пигу «Политическая экономия благосостояния» во многих отношениях замечательна. Она достойным образом продолжает «Принципы» Маршалла: как и последний, Пигу попытался в ней охватить весь круг экономических проблем. В ней отразилась также твердая вера Пигу в то, что изучение экономики может повести к улучшению условий жизни людей. Он писал: «...социальный энтузиазм, который восстает против убожества грязных улиц и безрадостного существования обездоленных людей... есть начало экономической науки» 14°. Правда, к 1939 г. Пигу в известной мере утратил свой оптимизм в отношении перспектив улучшения жизни. Он теперь задавался вопросом, действительно ли государственные деятели во всем мире интересуются тем, что говорят экономисты 141.Тем не менее подход Пигу резко отличался от характерного для большинства других авторов интереса к одной лишь проблеме распределения ресурсов. Для Пигу это была второстепенная цель, так как политическая экономия, говорил он, есть наука о том, что существует в действительности и в каком направлении идет развитие, а не о том, чему следовало бы быть 142. Короче, он гораздо больше интересовался реальным миром. Поэтому Пигу неизбежно сконцентрировал свое внимание на вопросе о размере реального дохода и его распределении. Это было задолго до того, как в 30-х годах XX в. был развит метод анализа национального дохода.
Согласно Пигу, реальный доход зависит от ресурсов, капитала, знаний, особенностей народа, характера правительства и — для такой страны, как Англия,— от внешней торговли. С другой стороны, распределение охватывает заработную плату, системы оплаты труда рабочих и весь комплекс проблем, создаваемых безработицей. Пигу выражал убеждение, что более равномерное распределение дохода будет способствовать благосостоянию. А поскольку в связи с экономическим циклом вставал вопрос о распределении во времени, из этой проблемы логически вытекала проблема государственного вмешательства, а следовательно, налогообложения и фискальной политики. Таким 312
образом, в политической экономии Пигу можно обнаружить единую нить, которая тянется от проблем национального дивиденда к любой сфере современной экономики 143.
Но Пигу не был чистым эмпириком: из огромной груды сырого фактического материала он извлек теоретические обобщения, с помощью которых можно было наметить правильные линии анализа. Для исследования экономических отношений существенны количественные категории, причем они особенно необходимы потому, что повторные эксперименты в области социального поведения людей невозможны. Таким образом, в отличие от представителей исторической школы в Германии он не считал чистую теорию бесполезной. Между тем некоторые английские историки были склонны поддерживать последних. Так, Джон Клэпхем, известный историк народного хозяйства, начал яростную атаку против экономической теории, особенно против теории Пигу, в статье «О пустых ящиках экономической науки» 144. Клэпхем заявлял, что теоретики не в состоянии увязать эмпирические данные со своими законами убывающей или возрастающей доходности. Он не видел также большой пользы от абстрактного понятия отрасли производства. «Великая система теоретического анализа», писал Клэпхем, есть лишь набор пустых ящиков. Пигу сердито возражал, что важнейшая функция теории заключается в исследовании того, что вытекает из данной системы исходных положений 145. Это неизбежно требует абстрагирования от массы вещей, так чтобы, например, общие характеристики разных товаров могли бы быть воплощены в едином понятии, применимом ко всем разновидностям благ. Так называемые пустые ящики, писал Пигу, представляют собой на самом деле важные элементы теоретического инструментария современной экономической науки. Цель, продолжал он, состоит в том, чтобы делать лучшие ящики и стремиться заполнить их. Клэпхем, конечно, ничего не мог предложить взамен; создание лучшего теоретического инструментария выпало на долю таких ученых, как Пьеро Сраффа, Джоан Робинсон и других.
Благосостояние, писал Пигу, означает то, насколько хорошо чувствует себя человек или какова степень его удовлетворенности 146. Поэтому в основе благосостояния неизбежно лежит степень удовлетворения желаний человека. Хотя степень желания, как признавал Пигу, прямо измерить невозможно, однако косвенный метод измерения имеется, поскольку в качестве показателя можно использовать количество денег, которое готов заплатить человек за данное благо. Степени удовлетворения сравнимы как между различными людьми, так и в отношении одного и того же человека 147. Любой другой подход означал бы конец политической экономии благосостояния, как Пигу определял ее. Очевидно, эта система исходных посылок лежала в основе его положения о том, что перераспределение дохода в обществе могло бы увеличить совокупное удовлетворение 148. Поэтому не без основания указывали, что экономическая теория Пигу имеет по существу морально-этический характер 149. В конечном счете она стала чем-то вроде науки об этике поведения, которая сделала популярным слово «благосостояние» и приобрела как раз такие черты, какие Пигу хотел видеть в политической экономии.
Итак, благосостояние есть определенное состояние человеческих чувств, которое может быть количественно измерено 15°. Но политическая экономия призвана изучать только те элементы благосостояния, которые могут быть измерены с помощью денежного эталона. Экономическое благосостояние, говорил Пигу, ни в коей мере не равнозначно общему благосостоянию, ибо первое не включает многие элементы, присущие второму: характер работы, окружающая среда, взаимоотношения между людьми, положение в обществе, жилищные условия и общественный порядок. Тем не менее, утверждал он, по крайней мере в развитых странах сложилось представление, что между экономическим и общим благосостоянием существует тесная связь. Этот тезис весьма ярко отражает как материальную основу экономической теории Пигу, так и его этические воззрения.
В системе Пигу экономическое благосостояние и национальный дивиденд представляют собой по существу категории «одного порядка» («coordinate») 151. Конечно, при измерении национального дивиденда возникают свои проблемы. В этой связи Пигу поднял многие вопросы, которые теперь рассматриваются при исчислении национального дохода, вроде проблемы уменьшения национального дохода, вызываемого женитьбой человека на своей экономке *. В более серьезном смысле его беспокоило то, чтобы вторжение горнодобывающей промышленности в сельскую местность не затронуло национальный дивиденд. В конце концов он выработал весьма широкое определение нацио* Эта «проблема» обусловлена спецификой буржуазной методологии исчисления национального дохода, согласно которой любой депежный доход есть элемент национального дохода. Пока человек выплачивает своей экономке жалованье, последнее входит в состав национального дохода. Жепившись на ней, он перестает платить ей жалованье, в результате чего национальный доход «уменьшается».— Прим, перев.
313
нального дивиденда, включавшее все покупаемое на деньги плюс услуги, обеспечиваемые домовладением 152. Он сознавал проблемы, вытекающие из трансфертных платежей, амортизации и двойного счета. Ключевой вопрос для него заключался в том, чтобы «капитал оставался нетронутым». Обратившись к этому вопросу, Пигу развил концепцию капитала, в которой содержались элементы, заимствованные как у Бем-Баверка, так и у Джона Бейтса Кларка. Он считал капитал специфической экономической категорией, но рассматривал его также как фонд, который может то истощаться, то возобновляться. Однако, делая характерный для него упор на «реальные» элементы, он меньше интересовался постоянством денежной стоимости капитала 153. Как он полагал, чтобы не допустить сокращения капитального фонда, достаточно обеспечивать реальные амортизационные отчисления.
Поскольку благосостояние так тесно связано с размерами национального дивиденда, перед Пигу встал важный вопрос о том, как делать сравнения за различные периоды. Это было более трудным делом, чем могло казаться, так как надо было оценивать изменения реальных компонентов национального дивиденда. Пигу предложил такое решение: считая неизменными вкусы потребителей и распределение дохода, увеличение национального дивиденда представляет собой подлинное изменение в том случае, если для сохранения добавленных элементов предлагается большая сумма денег, чем та сумма, которая была бы предложена за потребленные элементы 154. Из этих условий вытекает также, что сумма удовлетворения и денежный спрос будут больше. Конечно, при этом возникает трудный и острый вопрос об индексах, который Пигу рассматривал весьма подробно. Его подход исключал такое увеличение национального дивиденда, которое обусловлено только повышением цен под влиянием недостатка товаров. Гораздо более важным представлялось ему сопоставление прироста реального национального дивиденда с тягостью труда 1б5. Пигу утверждал, что в большинстве случаев национальный дивиденд будет расти даже при условии одновременного увеличения тягости труда. Таким образом, с полным основанием можно сказать, что национальный дивиденд является как мерой физического объема продукции, так и мерой благосостояния.
Поскольку трансферт дохода в обществе предположительно может затронуть размеры производства благ, Пигу считал распределение национального дивиденда немаловажной проблемой. Вообще говоря, трансферт дохода от богатых к бедным увеличил бы благосостояние при условии, что не сократился бы сам национальный дивиденд. Такой трансферт, говорил Пигу, значил бы для богатых гораздо меньше, чем для бедных, чье экономическое положение было бы таким путем улучшено 156. Голословное утверждение мальтузианцев о том, что повышение заработной платы будет способствовать размножению людей и приведет к перенаселенности, Пигу опровергал с помощью умело подобранных эмпирических данных. Подобно большинству утилитаристов, он отвергал аргумент, что бедность возникает по вине бедняков: скорее она связана с «плохой средой». Пигу не останавливался и перед использованием социологического материала: его обращение с фактическими данными представляет собой образец, подражание которому было бы полезно для многих экономистов.
В то время проблема равенства привлекала внимание всех экономистов. Демократизация общества предполагает, что всем предоставлены равные возможности наслаждаться жизнью, поэтому считалось, что более равномерное распределение богатства увеличит такие возможности. Однако утверждение Пигу, что экономическое равенство обеспечивает максимум благосостояния, в последние годы решительно отвергается, особенно теми, кто стремится создать из экономики научную, ненормативную дисциплину. Пигу утвержал, что поскольку доход подвержен действию убывающей предельной полезности, трансферт дохода от богатых к бедным увеличит совокупное благосостояние, так как сумма удовлетворения последних возрастает больше, чем уменьшится сумма удовлетворения первых. Однако применимость понятия убывающей предельной полезности к совокупному доходу была поставлена под вопрос. Далее, Пигу явно исходил из сравнения полезности между лицами, а эта идея предана анафеме современными теоретиками полезности. Однако эта критика игнорировала тот очевидный факт, что прирост дохода приносит больше удовлетворения или полезности группам населения с низким доходом, чем людям, которые уже пресыщены благами. Наконец, Пигу неизменно интересовала проблема власти, которую его критики, как правило, отказываются рассматривать под тем благовидным предлогом, что это не экономический вопрос.
Таков тот фон, на котором, согласно Пигу, надо оценивать распределение ресурсов. Центральный вопрос — это соотношение экономических интересов индивидуума и интересов общества. Говоря словами Пигу, связь, которую можно установить между стоимостью предельного частного чистого продукта и стоимостью предельного общественного чистого продукта, 314
показывает, в каком направлении должно идти экономическое исследование. Несколько громоздкая формулировка Пигу гласит, что совокупный чистый продукт создается предельным приращением ресурсов в любой сфере, причем в расчет должны быть приняты частные и общественные выгоды, а также общественные издержки. Так, хотя дым от частной фабрики означает ущерб для общества, но внешняя экономия, проистекающая из деятельности данного предприятия, может привести к сокращению общественных издержек. Предельный частный чистый продукт представляет собой ту часть совокупного продукта, которая достается лицу, осуществляющему инвестиции. Стоимость предельного чистого продукта есть просто его рыночная цена. Согласно Пигу, национальный дивиденд достигнет максимума тогда, когда стоимость общественного чистого продукта будет одинакова при любом возможном использовании ресурсов; ибо если ресурсы при данной форме их использования дают меньше, чем они могли бы дать в другом месте, то очевидно, что национальный дивиденд может быть увеличен путем перемещения ресурсов в более производительные сферы. Пигу не настаивал на абсолютном максимуме, а скорее говорил об относительно более выгодных ситуациях, так как ситуация, близкая к абсолютному максимуму, предпочтительнее остальных вариантов 157.
Как же можно достигнуть этих желанных целей? С помощью своекорыстного интереса, отвечал Пигу, действующего в условиях, когда ему не препятствуют невежество и проявления жесткости; это столбовая дорога к тому равновесию, при котором уравниваются частный и общественный предельный чистый продукт 15 8. Пигу, конечно, понимал, что определенные формы экономической деятельности имеют тенденцию усиливать проявления жесткости и что единицы капитала и труда обнаруживают как раз то самое свойство неделимости, которое делает эту теорию несколько сомнительной. Но он считал, что эти факторы лишь вызывают расхождение между обоими типами предельного чистого продукта, расхождение, которое может возрасти в связи с колебаниями спроса, изменениями вкусов, циклическими колебаниями, ростом новых отраслей и иод воздействием войны. Таковы были проблемы, привлекавшие внимание Пигу, ибо для достижения идеального состояния производства, которое характеризуется равенством между частным и общественным чистым продуктом, необходимо было их как-то решить: Пигу было ясно, что один своекорыстный интерес не может выполнить эту задачу. Поэтому представлялось оправданным внешнее вмешательство в экономический процесс 159.
Расхождения, считал Пигу, возникают потому, что ресурсы и продукты движутся в различных направлениях и через разных лиц. Например, в сельском хозяйстве ряд расхождений возникает по причине разделения функций между арендатором и землевладельцем. Расхождения иного рода образуются, когда при проведении дорог растут цены на соседние земельные участки или когда завод выбрасывает на город копоть и дым. В первом случае предельный общественный чистый продукт увеличивается, в последнем частная выгода превышает общественный продукт. Это было одно из самых тонких наблюдений Пигу, и его заслуга состоит в том, что он попытался ввести такие явления в сферу экономического анализа, хотя его понятия не отличались особой точностью. Из этого подхода вытекало, что некоторые нововведения могут повлечь за собой определенные общественные издержки в результате вытеснения старых форм производства. Новая совершенная техника может создать трудные проблемы приспособления для тех, кто оказывается ее жертвами. Как и можно было ожидать, Пигу полагал, что для противодействия росту общественных издержек, вызванных нововведениями, целесообразно использовать субсидии и другие меры общественного контроля; таким путем может быть ликвидирован разрыв между частным и общественным предельным чистым продуктом.
Идея использования налогов и дотаций исходила от Маршалла 16°, и Пигу просто применил ее к задаче устранения расхождений. Впоследствии такие экономисты, как Деннис Робертсон, Линдли Фрейзер, Дж. Ф. Шоув и Р. Ф. Кан, возражали против предложения о субсидиях и налогах 161. Робертсон опасался, что это приведет к полному субсидированию предприятий в условиях понижения издержек. Шоув отмечал, что расширение производства в таких отраслях может снизить ренту настолько, что это перевесит увеличение выгоды потребителей. Фрейзер утверждал, что перекладывание налога и конечное распределение его бремени сделает маловероятным рост благосостояния. А Кан полагал, что, прежде чем осуществить предложение Пигу о налогах, пришлось бы классифицировать отрасли в соответствии с показателями их конкурентоспособности.
Вопрос о дотациях неизбежно вел к проблеме социализма 162. В анализе Пигу, как и у Маршалла, в скрытом виде заключался своего рода социалистический императив, ибо предполагалось, что максимум благосостояния может быть достигнут путем более равномерного распреде315
ления доходов *. Главные оговорки, которые делал Пигу, заключались в том, что этот процесс может отрицательно повлиять на накопление капитала и производственную энергию 163. Тем не менее он с известной симпатией относился по крайней мере к смягченной форме социализма, при которой удовлетворялись бы самые неотложные нужды общества 164. Социалистическое общество, говорил Пигу, могло бы более успешно бороться с безработицей, а также успешнее развивало бы технику 165. Во всяком случае, он был убежден, что капитализм нуждается в определенной перестройке, но он хотел, чтобы она осуществлялась постепенно, путем реформирования и трансформации общества, а не путем резких потрясений.
Пигу считал, что расхождения усиливаются и еще более усложняются монополистической конкуренцией. Собственно говоря, он весьма сомневался в том, можно ли ожидать положительных значений общественного чистого продукта в условиях, когда соперничество приводит к союзам и настоящей монополии. Не даст, по его мнению, положительных результатов и двусторонняя монополия 166. Значительные расхождения возникают в зависимости от того, каково положение с издержками — увеличиваются они, уменьшаются или остаются постоянными (Пигу, однако, предпочитал трактовать эти понятия в категориях понижающейся, повышающейся и постоянной цены предложения) (supply price). В условиях конкуренции цена предложения равна как предельным, так и средним издержкам в длительном аспекте. Этот факт можно рассматривать либо с точки зрения данной отрасли, либо с точки зрения общества, но Пигу интересовала именно вторая точка зрения. Очевидно, что в основе понятия понижающейся цены предложения лежит введенная Маршаллом категория внешней экономии. Внешняя неэкономичность ведет к повышающейся цене предложения для общества 167. Эта ситуация может обусловливаться повышением цен на элементы затрат, и такое повышение издержек может в известном смыле интерпретироваться как трансферт дохода, особенно если действительный поток товаров нисколько не увеличивается. С точки зрения отрасли может казаться, что такая ситуация проистекает из повышения издержек, связанных с получением удовлетворения. В конечном счете это тяжело отразится на потребителе.
* Как и в ряде других мест, такое понимание социализма не имеет ничего общего с научным его пониманием. В действительности всеобщее благосостояние может быть достигнуто только на основе общественной собственности на средства производства и неосуществимо в условиях капитализма.—Прим. ред.
Предельный частный чистый продукт больше общественного продукта, равен ему или меньше, чем он, в зависимости от того, имеют ли место условия повышающейся, постоянной или понижающейся цены предложения. Так, при понижающейся цене предложения предельный общественный чистый продукт больше; при повышающейся цене предложения он меньше 16н. Из этого вытекало, что для выравнивания чистых продуктов в отношении производителей могут быть применены дотации или налоги. В тех случаях, когда цены слишком высоки, «...расходы на прямую дотацию, достаточные для того, чтобы вызвать резкий рост предложения по гораздо более низкой цене, будут значительно меньше, чем обусловленное этим увеличение выгоды потребителей» 169. Таковы пределы внешнего вмешательства, которые Пигу считал оправданными: цель этого вмешательства заключается в том, чтобы устранять расхождения между чистыми продуктами. Очевидно, однако, что при олигополии или несовершенной конкуренции расхождения могут быть еще больше. В таких случаях необходимым орудием ему представлялась национализация или по крайней мере регулирование. Как полагал Пигу, отрасли с понижающейся ценой предложения более подвержены угрозе монополизации, поскольку в них предельные издержки могут быть ниже средних издержек по достаточно широкому кругу изделий, что подкрепляет его доводы в пользу ограниченного вмешательства. Он соглашался с тем, что известное приближение к идеальному уровню производства было бы возможно, если бы монополисту разрешили осуществлять дискриминацию в ценах, но это тоже потребует общественного контроля.
На этой теоретической основе Пигу исследовал целый ряд конкретных проблем, прежде всего проблему железнодорожных тарифов. Длинный раздел, во многих отношениях образцовый, представляет собой приложение теории Пигу к проблеме влияния труда на национальный дивиденд. Во всех этих случаях он увязывал анализ с коренным вопросом уравнивания предельного частного чистого продукта и предельного общественного чистого продукта, причем руководящим принципом для него оставалось увеличение реального национального дивиденда. Все это выполнено поистине мастерски: логика изложения тщательно отработана, а орудия маржинального анализа применены с большим искусством; весь анализ был направлен на исследование противоречий между частными действиями и общественными результатами. Расхождения, говорил Пигу, обычно обусловливаются различными элементами экономиче316
ской жесткости, а также явлениями монополии, и ему представлялось очевидным (хотя для других это было отнюдь не так ясно), что эффективным средством для устранения противоречия между частными действиями и общественными целями являются субсидии и налоги. Таким образом, теория Пигу послужила удобным мостом между концепцией Маршалла и более реалистическим анализом монополистической и несовершенной конкуренций, в результате которого позже появились еще более точные теоретические формулировки.
Способности Пигу к построению абстрактной теории еще раз проявились в его работе «Экономика стационарных состояний» 170. В этом труде, где изложение неторопливо и порой тяжеловесно, он охарактеризовал исходные экономические факторы, какими они могли бы быть в экономике Робинзона Крузо, а затем последовательно развивал условия равновесия для рынка одного товара и рынка, на котором реализуется ряд товаров. Это была попытка исследовать основные силы, действующие как в статичной, так и в динамичной экономике. Мотивами действий у него в основном являлись состояния духа или «схемы предпочтения и безразличия» 171. Поскольку абсолютные степени желания нельзя измерить, а удовлетворение нельзя максимизировать без использования понятия порядков предпочтения, представлялось, что Пигу вступал в сферу позитивной экономической теории. В этом исследовании использованы методы сравнительной статики в долгосрочном аспекте 172. Стационарное состояние Пигу определял обычным образом, то есть как состояние, при котором изменения происходят постоянным темпом. Он различал по меньшей мере три степени стационарности: стационарная система, отрасли которой находятся в движении; стационарная отрасль, предпрятия которой находятся в движении; и положение, при котором и отрасль и фирмы находятся в стационарных условиях. Более всего Пигу интересовал третий тип, который он характеризовал как последовательно стационарное состояние. При таком состоянии норма прибыли равна цене предложения за ожидание (supply price of waiting).
В этой модели постоянно расширяющаяся экономическая система невозможна, так как запас земли ограничен, что приводит в действие закон убывания доходности. Последний в конечном счете затрагивает все другие факторы, так что в конце концов достигается равновесие. Ключевая проблема состояла в том, чтобы определить, будут ли иметь место постоянные колебания вокруг равновесия и может ли равновесие в действительности быть достигнуто. У Пигу не было сомнений на этот счет, потому что при большом запасе капитала и постоянстве спроса приспособление может происходить посредством уменьшающихся приращений. Если увеличение капитала ведет к сокращению прибыли и снижению запасов, то его уменьшение оказывает обратное действие. Практически, однако, период приспособления может быть весьма долгим, так что равновесие, в сущности, может и не восстановиться. Стационарное состояние означает, что население воспроизводится в каждой группе постоянным темпом и что годовая норма потребления каждого вида капитала постоянна. Таким путем автор модели избегал проблемы обновления капитала, поскольку предполагалось, что капитал возмещается в тех же формах, как и в прошлом 173. Это позволяло игнорировать проблему морального износа и обязывало учитывать только физический износ и истощение недр.
В основной модели экономики Робинзона Крузо в качестве мотива поведения человека выдвигается принцип максимального удовлетворения. В этой модели нет элементов трения; основной капитал имеется в изобилии; оборотный капитал не нужен, так как блага появляются, как только в них возникает потребность, проблемы хранения не существует, потому что все потребляется немедленно. В этой абстрактной системе труд продолжается до той точки, в которой его тягость становится равной стремлению к чистому предельному продукту. Все это соотносится с функцией производительности, которая сама подчиняется закону убывания доходности. Если возникает проблема выбора между несколькими продуктами, то применяется принцип уравнивания в пределе (equi-mar- ginal principle). Анализируя возможные реакции «Робинзона», Пигу применял метод ceteris paribus, последовательно меняя значения различных элементов в уравнениях и изучая последствия этих изменений. Модель принимала завершенный вид благодаря введению эластичности 174. Если желания и производство возрастают, а тягость труда падает, то производителю достается больше благ, особенно если имеет место высокая эластичность желаний и условий труда. С другой стороны, если тягость труда эластична, а желание неэластично, он получит меньше. Очевидно, те же принципы применимы и к экономике, в которой производится много продуктов, экономике, где степени эластичности желания различны, а в результате улучшения производства имеет место тенденция к переключению усилий на выпуск предметов роскоши.
Затем Пигу вводил в модель время, оборотный капитал и дисконтирование будущего удовлет317
ворения. Если определены продолжительность и природа периода производства, известны вкусы потребителя и дана норма дисконтирования, то тем самым устанавливается количество оборотного капитала. Подобные условия могут быть определены для основного капитала и готовых товаров, хранимых в качестве «ликвидного» капитала. Процентная ставка равна норме, по которой дисконтируется будущее удовлетворение; это та ставка, при которой запас капитала может поддерживаться на неизменном уровне175. Таким образом, Пигу отверг тезис Шумпетера, что стационарное состояние характеризуется нулевой ставкой процента. Низкая ставка просто означает, что велики запас капитала и реальный доход. Совершенствование техники производства, ведущее к повышению производительности существующего запаса капитала, может способствовать понижению процента.
Все детали этой модели тщательно разработаны. Но Пигу был не в состоянии удовлетворительно решить проблему неделимых единиц, и его трактовка этого вопроса неубедительна. От этой модели он переходил к колонии Робинзонов и к сфере обмена и трудовой кооперации. Экономическое взаимодействие, говорил он, может обеспечиваться правительством, силой или путем добровольных усилий. Для того чтобы такая система функционировала удовлетворительно, в ней должны существовать деньги. Но в стационарном состоянии денежные сделки — это лишь тени реальных сделок176. Здесь нет сделок с капиталом, а имеют место лишь сделки с доходом; поскольку запас денег, как и темп их движения, суть постоянные величины, численные соотношения тоже постоянны. Следовательно, денежный доход есть кратное денежного запаса. И если интервалы между поступлениями и платежами одинаковы, то денежные доходы в каждом периоде будут одни и те же. Но Пигу знал, что деньги — не пассивный элемент177. Они оказывают влияние на расчеты на будущее и тем самым глубоко затрагивают экономические процессы, но в основном это «столбовая дорога торговли», благодаря которой разделение труда и рынки развиваются до чрезвычайно высокой степени.
Затем Пигу переходил к определению понятий рынков и обмена. Эти понятия он в основном заимствовал у Джевонса, и они описывали условия однородности товаров при нулевых транспортных издержках. Один товар может в одно и то же время появляться на многих рынках, и при отсутствии транспортных издержек, тарифов и т. п. будет преобладать единообразие цен. При отсутствии идеальных условий результатом будет, по всей вероятности, монополия178. В связи с этим вставал знаменитый вопрос о цене в условиях дуополии, которая (цена) для Пигу явно была определенной постольку, поскольку как часть проблемы даны мнения (beliefs) обеих сторон. Если полагать, что изменения объема производства не влияют на «условия торговли», то нет причин, почему проблема цены не могла бы быть разрешимой. Пигу допускал, однако, что, когда обе стороны ведут себя как монополисты, определенность решения должна исчезнуть, поскольку продавцы часто руководствуются лишь своими предчувствиями и интуицией. Определенность, конечно, возрастает, если число участников увеличивается.
Если различно качество одного из факторов, что имеет место для земли, указывал Пигу, то пропорции других факторов, по всей вероятности, тоже должны быть различны 179. Поскольку предприниматель получает в качестве своей доли остаток продукта, вполне возможно, что весь продукт не будет распределяться согласно теореме Эйлера180. Однако производство и распределение представляют собой в сущности один экономический процесс, так что весь продукт может быть полностью распределен при условии, что факторы оплачиваются в соответствии с их частной предельной производительностью. Напомним, что в теореме Эйлера предполагается отсутствие как экономии, так и потерь, вытекающих из масштабов производства181. Поскольку это мало вероятно, Пигу, по-видимому, оказывался в тупике. И вот, чтобы избежать его, Пигу призвал на помощь «расхождения». Потери явно имеют место, говорил он, когда частный продукт превышает коллективные результаты.
Спрос на факторы взаимозависим и связан с функцией «поддержания», которая характеризует цену, при которой данный фактор будет поддерживаться в рабочем состоянии. По отношению к фактору «труд» эта функция приобретает особенную сложность, так как она зависит от продолжительности рабочего дня, способности к труду и численности имеющихся в наличии рабочих. Теоретически возможна, но маловероятна кривая предложения труда с обратным склоном182. Принцип взаимного соответствия означает, что для достижения равновесия в стационарном состоянии кривые спроса и предложения должны «подходить друг к другу». Оплата каждого фактора должна быть равна цене поддержания, то есть цене, при которой он будет вовлекаться в производство. При введении в условия «поддержания» явлений монополии и уловок (shifts) модель все более усложняется, так что вознаграждение, получаемое факторами, начинает весьма колебаться.
318
После введения в модель многих товаров становится очевидным, что с ней уже почти невозможно справиться. Цены поддержания теперь зависят от вкусов и от покупательной способности лиц, контролирующих факторы. На данном этапе можно использовать только Маршаллов частичный анализ. В условиях множественности продуктов вводятся новые переменные, и в анализ должны в явном виде включаться явления внутренней и внешней экономии. Более вероятным становится поведение монополистического типа, так как производители должны принимать во внимание воздействие их собственного поведения на цену. Теперь уже нельзя исходить из равных пропорциональных изменений спроса. Наличие транспортных издержек позволяет нескольким монополистам-продавцам сосуществовать в ситуации, характеризующейся определенностью. При монополии объем производства будет меньше, чем при конкурентных условиях, и предприниматель окажется в состоянии эксплуатировать другие факторы183. Более того, возникает тенденция к меньшей гибкости в движении факторов. С другой стороны, если монополистом является государство, то оно способно на более широкий взгляд на вещи и может устанавливать цену на уровне «предельной общественной цены предложения», проводя таким образом более гибкую политику в отношении объема производства, чем частные монополисты.
Все это было ужасно статично. Однако Пигу был достаточно реалистичен, чтобы заявить: «Всегда господствуют переходные состояния и никогда — стационарные; длительный аспект никогда не наступает»184. Он знал, что реальный мир есть мир постоянного неравновесия, в котором коренные проблемы, вскрытые статической моделью, обостряются и частота приспособления увеличивается. Пигу признавал, что вопросы, вытекающие из процесса приспособления между точками равновесия, являются заведомо самыми важными. Но рассмотрение этих проблем он отложил до следующих своих работ. К сожалению, изложение в «Экономике стационарных состояний» в значительной мере носит характер словесного пересказа математических уравнений. Но последние так запутаны при пересказе, что это крайне раздражает читателя.
Колебания национального дивиденда выдвинули в центр внимания проблему экономического цикла. Ранее Пигу рассматривал циклические колебания в первом издании «Политической экономии благосостояния», но он не был удовлетворен своим анализом и исключил его из последующих изданий. Он занялся более глубоким исследованием этой проблемы и опубликовал его результаты в книге «Колебания промышленной активности»185. Причины экономического цикла он характеризует здесь как импульсы, возбуждающие известные изменения, которые сами обусловлены характером реакции со стороны экономики186. Пигу давал, однако, лишь анализ в краткосрочном аспекте, поскольку его больше интересовали колебания в способности извлекать доход той частью общества, которая фактически занята трудом187. Из-за недостатка данных он анализировал лишь сферу занятости, рассматривая ее как основное мерило колебаний. Но, несмотря на недостаток эмпирических данных, представлялось очевидным, что отрасли, производящие капитальные блага, испытывают гораздо более резкие колебания, чем отрасли, производящие потребительские блага188. Опять-таки Пигу пытался перевести анализ в реальные категории: в качестве непосредственных причин циклических колебаний он выдвинул изменения графика реального спроса на труд. Сконструировав своего рода общую единицу товаров рабочего потребления (general wage goods unit), он получил возможность объединить графики, так что можно было изучать сдвиги в совокупности. По мнению Пигу, главными факторами, лежащими в основе графиков, являются расчеты на будущие доходы. Колебания происходят потому, что меняются либо настроения, либо размеры потока доходов 189. Таким образом, резко выпячивались психологические моменты: фактор, связанный с движением инвестиций, на который, например, делал упор Туган-Барановский, отвергался Пигу. Но Пигу явно неправильно понял мысль русского экономиста, так как совершенно неверно, будто в условиях недостаточной занятости оживление может начаться благодаря понижению цен. Именно последнее утверждение побудило Кейнса к критическому выступлению против Пигу, потому что при этом явно игнорируется важная роль эффективного спроса.
Согласно Пигу, изменения в расчетах на будущее происходят под влиянием изменений промышленной конъюнктуры, психологических явлений и кредитно-денежных факторов. А поскольку важность первых заключается в их воздействии на настроения предпринимателей, теория экономических циклов Пигу в конечном счете может быть охарактеризована как чисто психологическая. Правда, он признавал важность таких реальных факторов, как колебания урожая, технический прогресс, открытие новых залежей полезных ископаемых, трудовые конфликты в промышленности и изменения вкусов потребителей, но, по его мнению, их влияние передается на хозяйство исключительно через поведение предпринимателей. В некоторых отно-
319
шениях это напоминало теорию нововведений Шумпетера, но теория Пигу резко отличается большим упором на «оптимизм» и «пессимизм». Он отказывался признавать, что возможна прямая связь экономических процессов через механизм, который известен теперь под названием мультипликатора, в результате он и не приблизился к такому слиянию психологичес- ских и «реальных» элементов экономических колебаний, какое достигается в теории Кейнса и в концепциях его последователей. В качестве основных причин цикличности у Пигу выступают лишь психологические моменты и ошибки в оценках. Ошибки имеют место потому, что явления хозяйственной жизни изменчивы, или просто потому, что отсутствует достаточная информация для правильных прогнозов. Едва ли не самым важным фактором у него выступает разновременность производства и сбыта. Разрывы в этих процессах могут легко породить переоценку или недооценку возможностей и тем самым повлиять на экономические отношения. Но, признавая явление самоосуществляющихся пророчеств, Пигу тем не менее не был склонен включать его в свой арсенал психологических факторов190. В лучшем случае он признавал наличие своего рода взаимозависимости в процессе принятия решений, которая неотвратимо толкает экономику от крайне оптимистических к мрачным деловым настроениям. По мере того как учащаются случаи обманутых надежд, развитие хозяйства приостанавливается. Ликвидация предприятий приобретает такие темпы, что возникают новые ошибки — на этот раз ошибки пессимизма. «На свет появляется новая ошибка и это не младенец, а гигант»191. Когда волна пессимизма иссякает, предприниматели обычно открывают новые возможности, вновь волна движется вверх, и весь обескураживающий цикл повторяется192.
В концепции Пигу главными исходными пунктами циклических колебаний в экономике являются отрасли, производящие потребительские блага. Иными словами, он подчеркивал роль акселератора в противовес мультипликатору. Он отверг утверждение, что инвестиции, особенно автономного типа, играют подлинно важную роль в экономическом цикле. Определенно, такая точка зрения выражена в первом издании «Политической экономии благосостояния», однако ко времени публикации «Колебаний промышленной активности» он в какой-то мере перешел по этому вопросу в оборону, намекая, что порой циклы могут брать начало и в «отраслях, производящих средства производства»193. Он признавал, что в последних колебания могут быть гораздо сильнее и что поворотные моменты в этих отраслях наступают раньше, чем в отраслях, производящих потребительские блага. Но это, настаивал он, объясняется более медленным темпом изменений спроса на потребительские блага194.
В довольно сложной для понимания главе книги «Колебания промышленной активности» Пигу попытался проследить связь между реальной заработной платой и новым капиталом195. Ему представлялось, что реальная заработная плата обычно растет быстрее, чем новые инвестиции. Этот эффект, аналогичный отмеченному Викселлем, следовало связать с экономическим оживлением и его влиянием на спрос на труд. Все это соотносилось затем с эластичностью предложения нового капитала, так чтобы спрос на труд возрастал более интенсивно, чем надежды предпринимателей на будущее196. Согласно Пигу, новый капитал может быть получен за счет одного из трех источников: за счет увеличения потока потребительских благ; за за счет сокращения потребления либо рабочими, либо предпринимателями; или за счет использования существующих запасов. Увеличение потока потребительских благ маловероятно, когда новый капитал воплощается в оборудование. Конечно, банковский кредит может сделать предложение капитала более эластичным. С помощью этого анализа Пигу пытался показать, каким образом новый капитал вовлекается в отрасли, производящие товары производственного назначения, усиливая тем самым оптимизм предпринимателей 197. Этот процесс может стать кумулятивным, но его главной чертой является периодичность. Дело не только в том, что волнообразные движения усиливаются под влиянием обновления оборудования, но и сами начальные импульсы могут быть ритмичными. Тем не менее главная движущая сила носит психологический характер: «... все, что улучшает дела предпринимателей, порождает ошибки, проистекающие из оптимизма, и точно так же все, что ухудшает их дела, порождает ошибки, проистекающие из пессимизма»198. К примеру, случайные большие прибыли могут породить радужные настроения, и, доверяя им, предприниматели склонны впадать в состояние экономического возбуждения.
Предвосхищая свою теорию заработной платы и занятости, Пигу утверждал, что эластичное предложение труда, обусловленное решимостью рабочих не допускать понижения ставок заработной платы, может усиливать экономические колебания199. Одним из ключей к разрешению проблемы циклов, говорил он, является гибкость ставок заработной платы, тогда как отказ от этого принципа просто дает выгоды одной группе рабочих за счет других. Это решение, конечно, идет целиком в русле классичес320
кой традиции, но тот факт, что оно обходит проблему эффективного спроса, позже побудил Кейнса обрушиться на такого рода теорию с крайне резкой критикой. Пигу, однако, признавал, что понижение заработной платы лишь в отдельных секторах экономики не удовлетворяет требованиям его модели200. Таким образом, отсутствие гибкости ставок заработной платы, а также кредитно-денежная политика и политика цен в промышленности выступают в качестве важных дополнительных факторов наряду с основными психологическими мотивами предпринимателей. Взятые вместе, эти элементы могут существенно повлиять на амплитуду циклических колебаний. Однако, говорил Пигу, банковская политика или политика в области цен не могут изменить коренной фактор — подверженность людей ошибкам — и вытекающие отсюда следствия, поскольку подъем « ...несет в себе семена будущих перемен, а как только произошел поворот к спаду, это само по себе имеет тенденцию создавать перелом в умах в сторону пессимистических настроений и таким образом порождать кумулятивный процесс, ведущий к экономической депрессии»201.
Каковы же в таком случае средства борьбы с кризисами? Пигу признавал, что циклические колебания представляют собой серьезную проблему для общества, поскольку они вызывают сокращение реального дохода по сравнению с тем, что могло бы быть произведено в условиях стабильности. Должно ли государство принимать корректирующие меры? Пигу не давал на этот вопрос такого простого ответа, какой дается теперь, так как для него проблема заключалась в поддержании хрупкого равновесия между общественным и частным благосостоянием. Он сомневался, например, в целесообразности общественного контроля над техническими нововведениями и изобретениями. Кредитно- денежная политика, полагал он, может быть полезна, если она ставит перед собой задачу привести движение цен в соответствие с изменением дохода на душу населения, а не стремится достичь стабилизации цен в абсолютном смысле. Гибкость ставок заработной платы тоже может быть полезна при условии, что они не опускаются слишком низко с точки зрения человеческого благосостояния. Пигу далее полагал, что усилия правительства, направленные на поддержание эффективного спроса, могут дать благоприятный результат, поскольку предельный частный чистый продукт, обусловленный попытками поднять спрос, был бы меньше, чем предельный общественный чистый продукт. Иначе говоря, своекорыстный интерес не может выполнить эту функцию202. Представляется очевидным, что предложенная Пигу политика в отношении цикла носила двойственный характер: стремясь сохранить верность классической доктрине, он тем не менее сознавал, что для облегчения тягот промышленного цикла требуется нечто большее, чем традиционные меры.
В своей теории занятости Пигу сочетал концепцию предельной производительности с некоторыми аспектами теории рабочего фонда. Согласно мнению Пигу, занятость зависит от реальной заработной платы и реального спроса на труд, а товары рабочего потребления представляют собой основу для сравнения заработной платы с другими переменными. При данных ставках реальной заработной платы количество труда, на которое предъявляется спрос, определяется на базе равенства между стоимостью предельного чистого продукта и реальной заработной платой плюс дополнительные взносы предпринимателей на такие цели, как страхование от безработицы. Совокупный спрос на труд в конечном счете меняется в соответствии с количеством товаров рабочего потребления, предназначаемых для действительной выплаты заработной платы. По духу это типично классическая трактовка проблемы, и она навлекла на Пигу обвинение, что он хотел бы бороться с депрессиями путем понижения заработной платы. И несмотря на его возражения, у читателя неизбежно складывается впечатление, что в этом, может быть, действительно состояла его рекомендация и что он начал колебаться лишь после того, как разразилась кейнсианская революция203.
В работе «Занятость и равновесие», которая носит узко специальный характер, Пигу сделал попытку спасти остатки классической теории занятости. Эта попытка оказалась, однако, не вполне успешной 204. В этой книге Пигу использовал для собственных целей некоторые кейнсианские понятия, в частности сбережения и инвестиции, и много писал о явлении, которое стало известно под названием, «эффекта Пигу». Этот последний представляет собой просто прирост потребления за счет данного реального дохода, обусловленный снижением цен и происходящим по этой причине увеличением реальной ценности остатков наличных денег 205. Дело, однако, в том, что понижение цен, необходимое для того, чтобы создать стимул для дополнительного потребления и вызвать поворот экономики к подъему, явно не под силу обществу. Для уяснения анализа надлежало бы, очевидно, привести какие-то соображения институционального характера. Однако главная проблема для Пигу заключалась здесь в том, чтобы обнаружить, каким образом можно достичь равновесия на протяжении периода, достаточно продолжительного, чтобы обеспечить постоянные 21 Б. Селигмен
321
величины для дохода, сбережений, инвестиций и занятости. В сущности, эффект Пигу призван доказать возможность поддержания спроса с помощью автоматического приспособления цен, заработной платы и денежной массы. Пигу занимало в основном равновесие «в движении», которое позволило бы ему изучать движение соответствующих переменных. Проблему теперь представляло уже не рыночное равновесие, а скорее движение и темпы изменений. Эта новая модель содержала шесть основных величин: рабочая сила, занятая в отраслях, производящих потребительские товары; рабочая сила, занятая в отраслях, производящих товары производственного назначения; ставка ссудного процента; ставка денежной заработной платы; запас денег; скорость обращения денег по доходам (income velocity of money). Денежный доход представлял собой просто произведение двух последних показателей. Затем вводилось семь функциональных отношений: отношение занятости к продукции в отраслях, производящих потребительские товары; отношение занятости к продукции в отраслях, производящих товары производственного назначения; эластичность реального спроса в отраслях, производящих потребительские товары; эластичность спроса в отраслях, производящих товары производственного назначения; отношение спроса на труд в отраслях, производящих товары производственного назначения, к ставке ссудного процента; отношение предложения труда к процентной ставке; отношение денежного дохода к процентной ставке. Введение денежной заработной платы вносило в модель процесс дисконтирования и связывало количество труда, на которое предъявляется спрос, с процентной ставкой 206. При этом предполагалось, что с понижением процентной ставки, выраженной в потребительских товарах, спрос на труд в отраслях, производящих товары производственного назначения, должен увеличиваться.
Развивая анализ, Пигу получал на основе этих величин и функциональных отношений три уравнения, которые постулировали равенство сбережений и инвестиций, сбережений и объема продукции товаров производственного назначения, а также совокупной продукции и денежного дохода. В этой системе в скрытом виде заключалось функциональное соотношение между объемом продукции и денежной заработной платой, которое в свою очередь зависело от эластичности издержек и спроса. Но число неизвестных составляло четыре: занятость в отраслях, производящих потребительские товары; занятость в отраслях, производящих товары производственного назначения; ставка ссудного процента; ставка денежной заработной платы. Таким образом, чтобы сделать систему определимой, требовалось одно дополнительное уравнение. С этой проблемой можно легко справиться, говорил Пигу, если считать денежную заработную плату независимой переменной или полагать постоянным уровень занятости. В последнем случае денежная заработная плата может, по-видимому, не приниматься во внимание, но в том случае, если занятость рассматривается как главная переменная, положение несколько усложняется, потому что тогда соотношения между сбережениями, инвестициями и занятостью должны объяснить взаимное влияние процентной ставки и ставок денежной заработной платы. Иначе говоря, колебания занятости, обусловленные изменениями ставок заработной платы, могли бы быть должным образом увязаны с изменениями процентных ставок, которые сами испытывают влияние изменений денежной заработной платы.
Пигу придавал гораздо большее значение процентной ставке, чем это обычно делается теперь. Процент у него превращался в орудие стимулирования сбережений и инвестиций, тогда как в современном анализе в качестве действительно важного фактора движения системы скорее рассматриваются инвестиционные возможности как таковые. Неоклассическая теория, как она отразилась в работах Пигу, утверждала, что в конечном счете на денежный доход влияет банковская политика. Таким путем обходилась стороной кейнсианская концепция определения уровня дохода, и предполагалось, что уровень производства определяется в первую очередь денежным доходом и заработной платой. Из этого вытекало, что снижение денежной заработной платы может увеличить занятость, поскольку в этом случае в хозяйстве будет изобилие денег, процентные ставки понизятся, а это окажет стимулирующее действие на инвестиции. Пигу пытался обосновать эту точку зрения, указывая на устойчивость занятости до первой мировой войны, но эта попытка неубедительна. Ведь с таким же основанием можно полагать, что в качестве стабилизирующего механизма действовала вовсе не кредитно-денежная политика, а заграничные инвестиции или развитие новых отраслей 207.
Модель занятости, сконструированную Пигу, можно охарактеризовать как более общий вариант Маршалловой модели рынка в сочетании с некоторыми элементами теории Вальраса. Хотя в результате этого структурные свойства модели приобрели известную двусмысленность, тем не менее очевидно, что в ней важнейшую роль играли несколько разновидностей уверенности предпринимателей в будущем, так что психологическая основа экономических 322
процессов оставалась нетронутой 208. Другую интересную черту проделанного Пигу исследования занятости представляло использование им понятия мультипликатора, который трактовался как в денежных категориях, так и с точки зрения занятости 209. Очевидно, влияние Кейнса стало сказываться даже на тех, кто сначала выступал против него 21°. Все же книга «Занятость и равновесие» подверглась резкой критике, особенно в связи с трактовкой условий стабильности. Но Пигу остался на своей первоначальной позиции: занятость, утверждал он, есть функция реального спроса на труд, а этот спрос в конечном счете связан с процентной ставкой.
Пигу сделал заметный вклад еще в две области экономической теории, а именно в исследование проблемы денег и налогообложения. Хотя в первую очередь он известен своим «реальным» анализом экономических процессов, нельзя сказать, что, согласно его взглядам, деньги представляют собой только «покров». Пигу полностью понимал их самостоятельное значение 211. Правда, он представлял себе доход как набор товаров, и в изображенном им стационарном состоянии в основе всего лежит движение благ. Поскольку источником удовлетворений являются блага, Пигу представлялось, что деньги не играют существенной роли. Однако он признавал, что денежные институты способствуют благосостоянию и что многие сделки не могли бы быть завершены без использования денег. Для него деньги были своего рода смазочным материалом, который имеет лишь второстепенное значение, поскольку число денежных единиц в сущности не меняет реального дохода.
В своем анализе денег, корни которого уходят в разработанный Маршаллом подход по методу наличных остатков, Пигу показывал, что в действительности нет противоречия между точкой зрения английских экономистов и уравнением сделок Ирвинга Фишера 212. В последнем тезаврация денег понижает скорость обращения и, следовательно, вызывает падение цен. Согласно методу наличных остатков, упор делается на повышение спроса на деньги по сравнению со спросом на блага, так что цены опять-таки падают. Пигу считал свою концепцию более предпочтительной, поскольку в ней внимание концентрируется на доле ресурсов, которую люди желают держать в форме денег213. Это позволяет исследователю сосредоточиться на связи между ценностью денег и субъективными представлениями индивидуумов. Ценность денег упадет, то есть цены повысятся, если предложение денег возрастет или если спрос на них уменьшится. В таких случаях можно утверждать, что блага предпочитаются деньгам. Таким образом, спрос на деньги проявляется в той доле покупательной способности, которую склонен хранить индивидуум. Важными факторами являются объем товарооборота и продолжительность периода сделок. По мнению Пигу, таким способом можно увязать метод наличных остатков с Фишеровой скоростью обращения, поскольку продолжительность периода сделок есть просто обратная ей величина. Если в среднем люди держат деньги в продолжение одного месяца, то ясно, что остатки оборачиваются двенадцать раз в год. Период сделок мал, отмечал Пигу, если финансовые учреждения хорошо развиты, поступления и платежи близки по времени, а доходы поступают регулярно.
Поскольку Пигу признавал, что вмешательство государства с целью повышения благосостояния является правомерным, возникла необходимость рассмотрения проблем налогообложения и государственных финансов. С этим связаны определенные принципы компенсации, в которых важную роль должна была играть идея справедливости. Здесь следовало провести различие между чисто трансфертными операциями, с помощью которых только перераспределяется доход, и теми правительственными расходами, благодаря которым действительно вовлекаются ресурсы в производство. Поэтому весьма важное значение приобретают источники налоговых средств, подлежащих использованию правительством для созидательных целей. В принципе, говорил Пигу, ресурсы, которые забирает государство у лиц, живущих в одинаковых условиях, должны быть равны214. Это обеспечит соблюдение принципа эквимаржинальности (равенства в пределе).
Пигу определил свой основной принцип налогообложения как принцип наименьшей совокупной жертвы, которая должна подлежать измерению таким же образом, каким измеряется удовлетворение. Пигу опять выдвинул здесь идею сравнимости, и принцип наименьшей совокупной жертвы стал у него теоретическим обоснованием прогрессивной системы налогообложения 215. Он отверг идею равной жертвы из-за ее неясности: кроме того, поскольку принцип равной жертвы может быть выведен из более общего принципа наименьшей совокупной жертвы, он представляет собой лишь дополнительный и ненужный балласт 216. Наименьшую жертву, согласно Пигу, надо понимать в относительном смысле, поскольку она зависит от конкретных условий и форм налогообложения, разработанных правительством217. Значение, кото рое придают предельным приращениям группы населения с более высокими доходами, HanpiF- мер, зависит не только от абсолютного размера их дохода, но и от того, как поступают с други21* 323
ми членами их группы. Иначе говоря, жертву надо рассматривать под углом зрения положения соответствующих индивидуумов в обществе. Эта концепция Пигу была, однако, уязвима, так как индивидуум рассматривался в ней в отрыве от общей шкалы доходов, что не позволяло вскрыть его место в обществе. Между тем именно последнее играет важную роль в прогрессивном налогообложении.
Главный принцип, лежавший в основе подхода Пигу, заключался в равенстве предельных жертв для всех членов общества. Поэтому ему представлялись важными как относительное положение, так и место индивидуума в общей шкале доходов. Он опасался, как бы та или иная налоговая схема, оказывая давление на настоящие, а не на будущие жертвы, не ограничила тем самым сбережения и накопление капитала. Следовательно, он полагал, что ни богатые, ни бедные не являются хорошими объектами для налогообложения 218. Его аргументы, очевидно, основывались на допущении равенства предельной полезности денег, допущении, которое представляется сомнительным в условиях неравномерного распределения дохода. Те, кто выступает с подобной критикой, конечно, рассматривают доход как доход, без учета его источника, тогда как Пигу считал, что необходимо различать отдельные виды дохода 219. По этой причине он настаивал, что налог должен способствовать расширению сферы трудовой деятельности или по крайней мере препятствовать ее сокращению. Если в обществе, где доходы равны, наиболее эффективным был бы подушный налог, то очевидно, что в современном обществе вполне обоснованным является прогрессивный налог. Но принцип наименьшей жертвы требует, чтобы были учтены размер семьи и тип дохода 22°.
Атакуя в своей «Общей теории» классическую традицию, Джон Мейнард Кейнс выбрал своего бывшего учителя Пигу в качестве ее ведущего представителя 221. Именно Кейнсова теория определения уровня дохода, в которой сделан упор на функцию потребления и роль инвестиций, перечеркнула экономическую теорию Пигу. Безработица, заявил Кейнс, не обусловлена отсутствием гибкости ставок заработной платы, а объясняется скорее недостатком эффективного -спроса. Кейнс соглашался с тем, что реальная заработная плата связана с предельным продуктом, но уровень занятости, говорил он, который определяет предельный продукт, вытекает из уровня спроса. Ключевую проблему представляет денежная, а не реальная заработная плата. Рабочие, указывал Кейнс, нанимаются на работу за данную плату, даже если это означает понижение реальной заработной платы, а если понижается денежная заработная плата, это должно серьезно затронуть уровень эффективного спроса. По его мнению, политика гибкой заработной платы является бесполезной и может просто вызвать неустойчивость цен и социальные беспорядки 222. Кейнс игнорировал утверждение Пигу, что понижение цен может стимулировать потребление, поскольку оно повышает реальную ценность денежных активов: он не видел смысла в так называемом эффекте Пигу. Потребление меняется под влиянием изменения доходов, а не цен. Теорема Пигу, может быть, и окажется действительной в длительном аспекте, говорил Кейнс, но немногие доживут до этого. Дело в том, что общее снижение заработной платы сократит спрос во всем хозяйстве и не поможет преодолению депрессии.
Пигу ответил Кейнсу в резкой рецензии на «Общую теорию» 223, где заявил, что его позиция была неверно истолкована. Тем не менее он повторил свои доводы в пользу гибкой заработной платы и по существу отверг теорию определения уровня дохода на том основании, что сбережения и инвестиции практически равнозначны. Несмотря на наличие в выступлении Пигу некоторых других критических элементов, было очевидно, что он уже перешел в оборону. Между тем в экономической науке разворачивалась кейнсианская революция. Даже противники начали говорить языком Кейнса, и те, кто пытался его опровергнуть, должны были пользоваться его категориями. Когда Пигу в 1949 г. выступил в Кембридже с циклом лекций о Кейнсе, он тоже вынужден был, хотя и против желания, присоединиться к большинству 224. Но он по-прежнему утверждал, что аргументы Кейнса действительны лишь при рассмотрении проблемы в кратковременном аспекте: выяснение условий конечного равновесия потребует других орудий анализа. Пигу отказывался также трактовать экономические категории с денежной точки зрения: привычка всей жизни побуждала его переводить кейнсианские категории в «реальные» понятия 22Б. Уравнения Кейнса Пигу принимал с неохотой, добавляя к ним свое собственное функциональное соотношение между количеством труда и выплатами заработной платы 22в. Но Пигу уже не мог отрицать силу аргументов Кейнса, и в конце концов он признал, что уменьшение занятости может быть связано со снижением ставок заработной платы 227. Бережливость уже не представлялась ему такой большой добродетелью, какой она была в классической теории 228. Хотя Пигу усиленно старался держаться за свою собственную доктрину, он должен был признать, что именно его талантливый ученик показал путь к правильному анализу экономики. В конце 324
концов он признал: «Те из нас, кто частично не был согласен с анализом (Кейнса), испытали тем не менее на себе его влияние; и теперь очень трудно вспомнить, на каких же собственно
4. ДЕННИС ДЕНЬГИ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ
Сотрудник колледжа Троицы с 1914 г. Деннис Робертсон (род. 1890) учился под руководством Пигу, начал читать лекции по политической экономии в 1930 г. и унаследовал кафедру Пигу в 1944 г. Вся его деятельность связана с Кембриджем, за исключением периода с 1939 по 1944 г., когда он был профессором политической экономии в Лондонском университете. Робертсон обладает блестящими литературными способностями и не боится «развлекать в той же мере, как и обучать», а на его едкие замечания оппонентам часто нечего возразить. Хотя ему приходилось писать по всему кругу проблем экономической теории, главный вклад сделан им в исследование денег. Его книги в этой области, особенно «Деньги» и «Банковская политика и уровень цен», представляют собой труды первостепенной важности 230. Но он с самого начала понимал, что в экономическом процессе играют роль не только денежные явления, как это отлично показано в его ранней работе «Исследование промышленных колебаний» 231. Сборники его статей и очерков, озаглавленные «Экономические фрагменты», «Опыты по теории денег», «Полезность и все прочее» «Экономические комментарии»232, венчает отлично написанный трехтомник «Лекции по экономическим принципам» 233.
В экономической теории Робертсон является в основном последователем Маршалла и Пигу, хотя он выработал свой собственный стиль и особые понятия, которые многие экономисты находят весьма привлекательными. Одним из его примечательных теоретических подвигов были арьергардные бои против натиска кейнсианства, которые, однако, он проиграл. Робертсон выступил как острый критик Кейнса и, считая многие идеи последнего в «Трактате о деньгах» весьма полезными, он все же настаивал на том, что экономический цикл не представляет собой чисто денежное явление, как утверждал Кейнс. Изменения в определенных типах спроса имеют столь же важное значение, говорил Робертсон, и если считается желательным некоторое изменение в объеме производства, то окажется необходимым допустить также движение уровня цен. Он не видел достоинств в абсолютной стабильности цен. Чтобы доказать свою правоту, он пускался в весьма детальный позициях мы стояли до этого...» 220. Классическая теория в том виде, в каком она была развита и модифицирована Маршаллом и Пигу, по-види- мому, зашла в тупик.
РОБЕРТСОН: КОЛЕБАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
технический анализ банковской практики. Кейнс остался, однако, при своем мнении, будучи убежден, что имеется гораздо более простое объяснение. Тем не менее они находились в весьма дружеских отношениях и вместе работали в британском казначействе. Робертсон принимал активное участие в дискуссиях, предшествовавших Бреттон-Вудскому соглашению, а Кейнс играл важную роль в самих переговорах.
В основном Робертсон — традиционалист.
В толковании проблемы спроса он стоит на позициях, которые один комментатор назвал интроспективным кардинализмом. Подобно Маршаллу, он полагает, что реакция экономического человека может быть выражена в измеримых количествах предельной полезности, которые можно трактовать как независимо от других отношений, так и абсолютно. Как и Маршалл, он считает, что в конечном счете предельная полезность измерима в деньгах. Отвечая на современную критику кардинализма, идущую от Парето и Хикса, он утверждает, что этот подход вовсе не является абсурдным 234. Он не сомневается, что интроспекция может подтвердить реальность закона убывающей доходности и что интенсивность стремления к вещам в тенденции пропорциональна полезности, которую человек рассчитывает от них получить. Поскольку как совокупная полезность, так и ее приращения в принципе измеримы, то и понятие выгоды потребителей совершенно разумно. Однако различия во вкусах и в способности получать удовлетворение от благ, а также различные уровни дохода людей делают очевидным тот факт, что одно и то же количество денег предполагает различную реакцию со стороны разных людей. Ординалистский подход к теории спроса не очень плодотворен, говорит Робертсон, потому что, раз допускается измеримость, то такой подход — это едва ли нечто большее, чем утонченный вариант кардинализма235. В своей интересной работе «Полезность и все прочее» Робертсон вновь повторяет утверждение неоклассиков, согласно которому проблема благосостояния неизбежно требует, чтобы экономическая наука строилась на базе концепций полезности 236. «Нормальный» потребитель стремится максимизировать нечто, говорит он, и это нечто может быть вполне названо удовлетворе325
нием, благосостоянием или полезностью. Поэтому предложенное Хиксом понятие предельной нормы взаимозаменяемости не представляет собой полезной замены понятию убывающей предельной полезности; не лучше и введенное Самуэльсоном «выявленное предпочтение». Суть дела заключается в том, утверждает Робертсон, что ординалистский подход допускает лишь сравнение абсолютных уровней, тогда как кар- динализм позволяет сравнивать изменения в положении потребителей 237.
Таким образом, вопреки всем утверждениям об обратном измерение является необходимым элементом в ординалистских концепциях спроса, так же как полезность присутствует в «бихевиористском» аппарате. Робертсон отмечает, что некоторые ординалисты не только располагают предпочтения в определенном порядке, но также пытаются измерять интервалы между последовательными альтернативами. Оказывается, радостно восклицает Робертсон, интервалы между парами значений полезности могут быть подвергнуты операции, называемой соотносительным сложением (relational addition), и посредством какой-то черной магии эта измеримость может быть перенесена обратно на спрос 238. В свете этих наблюдений Робертсону представляется очевидным, что Хикс, Найт, Самуэльсон и их последователи отнюдь не совершили переворота в экономической науке. В сущности, отмечает он, они были так заняты перепалкой, что основная цель науки была упущена из виду. Попросту говоря, главная проблема заключается в том, чтобы определить, существует ли какое-либо подлинное соотношение между экономическим благосостоянием и изменениями реального дохода 239. Это по крайней мере позволило бы экономистам сказать что-то по поводу того, как данное изменение в экономике повлияет на человеческое счастье240. Вполне возможно, утверждает он, решать эту проблему старыми методами, какими бы грубыми и приблизительными они ни были. Отрицать кардинальную полезность — значит отказаться от довода, что потребитель может сравнивать различия между разными положениями, в которых он находится 241. А эго значит слишком много требовать от традиционалиста. Робертсон пишет: «... все же мне представляется, что с нашими знаниями о себе и о других людях более согласуется предположение, что потребитель руководствуется скорее законом убывающей абсолютной предельной полезности отдельных товаров и реального дохода вообще, чем готовой сеткой бесчисленных предельных норм взаимозаменяемости» 242. Ординалистские гипотезы, может быть, более сложны в психологическом смысле и более логичны, но это не дает уверенности, что они ближе к истине. Конечный вывод Робертсона состоит в обоснованности концепции выгоды потребителей по тем причинам, что она позволяет полнее познать цели и смысл экономической деятельности и ставит известные границы вмешательству в сферу вкусов и устремлений людей 243.
Все это восходит еще к Джевонсу, который успешно освободил политическую экономию от слова «политическая» и превратил экономику в науку, изучающую поведение атомистических индивидуумов, а не поведение общества в целом. Однако Робертсон, как и Пигу, не может избежать более широких проблем, так как он знает, что индивидуальные суждения оказывают глубокое влияние на человеческое благосостояние и что многие из действий человека совершаются в политической сфере 244. Предложенное Лайонелом Роббинсом определение экономической науки, согласно которому экономист должен изучать только распределение ограниченных ресурсов между альтернативными вариантами использования, отвергалось им как слишком узкое. Ибо вне такого определения остаются многие проблемы, являющиеся важным предметом исследования, как, например, организация промышленного производства. Переходя к характеру законов в общественных науках, Робертсон отмечает, что законы представляют собой не приказы, а констатацию общих тенденций: экономический закон, говорит он, имеет дело с образом поведения, в рамках которого движущие силы человеческих поступков могут быть измерены с помощью выраженных в деньгах цен 245.
В сферу анализа Робертсона входят все обычные понятия: убывающая полезность, убывающая доходность, повышающиеся издержки, выгода потребителей, равнопредельная доходность и Джевонсово понятие свободного капитала, и все это введено у него в рамки частной собственности, разделения труда и денежного хозяйства. В анализе предложения, спроса и конкурентной цены он полностью следует за Маршаллом и Пигу, позволяя себе лишь небольшие отклонения. В 1924 г. Робертсон вмешался в спор между Клэпхемом и Пигу и поставил под сомнение применение последним долгосрочной цены предложения, поскольку это понятие удовлетворительно не объясняет явлений прерывности и единовременного характера (lumpiness) инвестиций246. Дополнительные доходы, полагал Робертсон, не всегда проистекают от внешней экономии; многие из них могут быть отнесены на счет внутренних элементов, так что увеличение производства на протяжении определенного времени может быть более просто объяснено понижением издержек на еди326
ницу продукции. Когда цена предложения повышается, один тот факт, что ресурсы дают уменьшающуюся отдачу, есть достаточное объяснение, которое делает все рассуждения Пигу о социальных аспектах этого явления до некоторой степени излишними. Позже Робертсон признал необходимость известного уточнения этих взглядов, отмечая, что поскольку кривая долгосрочных издержек требует времени для своего проявления, то представляется вероятным, что соображения, не связанные с внутренней экономией, помешают фирме добиться монопольного преимущества. Это подкрепляло его веру в конкуренцию как в силу, которая то сшибает с ног, то опять ставит на ноги.
Как и для большинства экономистов, предельная производительность является для Робертсона основой теории распределения, хотя присущие этой теории противоречия заставили его дать ей довольно свободную интерпретацию. Резкой критике предельной производительности Касселем он противопоставляет тот аргумент, что это лишь общая тенденция, которая вынуждена прокладывать себе дорогу в течение длительного периода времени. Лишь при широкой перспективе можно утверждать, что пропорции, в которых используются факторы, «неопределенно изменчивы» и что предельная производительность и величина каждого фактора определенны 247. Робертсон признает, что в краткосрочном аспекте на предельную производительность приходится смотреть «с известным подозрением». Но если предположить, что длительный аспект есть просто серия краткосрочных аспектов, всю теорию можно поставить под вопрос. Робертсон не делает такой решительный вывод. Он стремится знать, какое влияние на распределение реального национального дохода окажет расширение использования данного фактора, а для этой цели предельная производительность представляется ему необходимой категорией анализа. Он отмечает, что более высокая способность данного фактора к замещению других факторов увеличивает его долю в реальном доходе. Важное значение имеет также свойственная данному фактору эластичность замещения, определяемая как отношение пропорционального изменения данного фактора, деленного на пропорциональное изменение других факторов, к результирующему изменению отношения его предельной производительности к предельной производительности других факторов. Если такая эластичность высока, то есть выше единицы, то будет налицо тенденция к увеличению доли данного фактора в доходе. Но если иметь в виду, что факторы сами в действительности представляют собой комплексные явления, то «практическая полезность» этой теории оказывается существенно поколебленной 248.
Трактовка Робертсоном различных категорий дохода опять-таки традиционна, за исключением того, что он представляет ренту как род издержек, а это необычно 249. Он ставит под вопрос необходимость экономической ренты в чистом виде, утверждая, что нет экономической необходимости отдавать индивидуумам эту часть реального национального дохода. Имеются «... существенные доводы в пользу того, чтобы направлять на общественные цели тот будущий прирост ренты, который можно ожидать в результате общего или местного увеличения предложения других факторов производства» 25°. Это, конечно, вызывает в памяти аргументы Гобсона: ясно, что Робертсон тоже смотрит на ренту как на элемент прироста общественного продукта, который вполне может быть зарезервирован для общественных нужд. Другие понятия в его теории распределения довольно прямолинейны. Его знализ процента весьма детален и обширен, чего можно было ожидать от специалиста по денежным проблемам. Существование процента принимается за данное; в отличие от Бем-Баверка он не чувствует необходимости развивать теорию, которая оправдывала бы его уплату, а сразу переходит к рассмотрению того, как он функционирует.
Спрос на труд связан у Робертсона с его предельной производительностью, но он осмотрительно определяет предельного рабочего не как наименее производительного, а скорее как работающего с наименьшим фондом других факторов. Это позволяет ему устанавливать зависимость заработной платы от производительности и приблизительно приравнивать заработную плату к предельному продукту занятого труда. Однако эта связь представляется ему весьма общей и далекой от точности математического уравнения. Поскольку существует эластичность замещения, возникает ощутимая тенденция к замене труда нетрудовыми факторами производства, как только заработная плата становится «чрезмерной». В этом анализе предполагается, конечно, совершенная конкуренция. В реальных ситуациях возможны комбинации покупателей и продавцов, так что по необходимости действуют правила рыночного торга. Поскольку предприниматель имеет шансы занимать более сильную позицию на рынке, функция профсоюзов заключается, понятно, в том, чтобы обеспечивать рабочему полную стоимость предельного продукта 251. Иначе говоря, союзы делают кривую предложения труда более эластичной и таким образом «искусственно» создают условия конкуренции и повышают занятость. Общественная эффективность про327
изводства повышается путем давления на неэффективных производителей: функционирование хозяйства улучшается в результате деятельности профсоюзов. Робертсон отмечает также, что неравенство сил союзов в различных отраслях может препятствовать рациональному распределению рабочей силы между ними, а это требует определенного вмешательства в неорганизованных секторах. Относительный уровень заработной платы «белых воротничков» в США свидетельствует о том, что этот довод имеет под собой веские основания.
Однако самой сильной стороной Робертсона является денежная теория, и в этой области он занимает положение современного классика. Его основные идеи тесно переплетены с проблемами циклических колебаний в экономике; это характерно для него, пожалуй, больше, чем для других экономистов. В теории цикла, как таковой, анализ Робертсона строится в «реальных» категориях в том смысле, что циклические колебания, по Робертсону, в принципе проистекают из изменений суммы усилий, которые люди готовы приложить, чтобы получить данное удовлетворение 2б2. Таким образом, в модели Робертсона важную роль играют как психологические, так и институциональные факторы253. Поскольку экономические процессы носят прерывный характер, доказывает он, и обусловливаются главным образом колебаниями спроса и издержек, представляется неизбежным, что общий уровень цен должен быть неустойчив. Он называет экономические процессы «нормальными» («appropriate») в тех случаях, когда они представляют собой адекватную реакцию на лежащие в их основе причины, тогда как «ненормальные» изменения отражают преувеличенную реакцию. Снижение реальных издержек может привести к увеличению производства, но это само по себе необходимо связать с условиями спроса и с предпочтением, отдаваемым производителями дополнительному доходу по сравнению с дополнительным досугом 254. Вторичные эффекты тоже весьма важны, так как сдвиги в характере спроса могут потребовать изменений в масштабе производства товаров производственного назначения 255. Робертсон отмечает также, что предприниматели более остро реагируют на изменившиеся условия, чем рабочие, хотя бы потому, что реакция со стороны дохода у первых более эластична. Отсюда вытекает неравная рыночная позиция сторон в торге, что характерно для свободной конкурентной системы. Это допущение подвергалось критике на том основании, что рыночные позиции в настоящее время более равны, чем полагает Робертсон, и что принятие решений носит более сложный характер 256. Во всяком случае, Робертсон вводит в свою модель элемент гибкости скорее через посредство реакций производителей, чем через заработную плату. Это позволяет ему провести прямую линию связи к кредитно-денежной политике, ибо деятельность банковской системы приобретает весьма важное значение, если допустить, что экономические решения очень часто базируются на «денежной иллюзии». Фактически самым подходящим способом достижения «равновесия» было бы допустить повышение цен 257. Наименее разумно было бы настаивать на сохранении постоянной денежной массы. Важность этих аргументов для современных дискуссий должна быть очевидна.
Кредитно-денежная политика, пишет Робертсон, должна преследовать цель контроля над своего рода чрезмерным экономическим оживлением, которое вызывается «ненормальными» реакциями. Последние имеют место просто потому, что инвестиции по своей природе носят характер единовременных крупных вложений, и в результате этого всегда имеется опасность чрезмерного инвестирования 258. Эта теория, безусловно, выглядит многообещающе, но в основе ее, очевидно, лежит экономика мелких предприятий. Правда, в ответ можно было бы выдвинуть довод, что крупные корпорации тоже часто выходят за рамки таким же образом, как описано в теории Робертсона. Но остается фактом, что в настоящее время такая кредитно- денежная политика, которая вытекает из его модели, в основном представляется неэффективной, потому что многие крупные корпорации способны функционировать целиком вне банковской системы 259.
Анализ циклических колебаний ведет к проблемам сбережений и капиталообразования. Здесь Робертсон концентрирует внимание на процессе создания капитала. Этот процесс он именует «воздержанием» («lacking»). Когда потребление индивидуума меньше, чем стоимость его текущей продукции, это лицо осуществляет воздержание, в результате чего создается капитал 26°. Поскольку сбережение осуществляется тогда, когда потребление меньше располагаемого дохода, необходимо проводить четкое различие между сбережением и воздержанием. Рассматривая этот вопрос, Робертсон начал использовать понятие «дня», которое вводит в его анализ лаги и позволяет условно принимать, что располагаемый доход есть доход, обусловленный производством предыдущего дня. «День»— это просто однородная единица времени, чисто аналитическое понятие. Это важный прием, и критики, указывающие на его нереалистичность, неизбежно не попадают в цель, раз допускается, что расходы могут отли328
чаться от доходов 261. Этим подчеркивается, что воздержание и сбережение суть независимые процессы: один может иметь место без другого.
Например, какое-либо лицо может решить израсходовать весь свой доход. Но поскольку оно при этом будет конкурировать с другими из-за данного количества товаров, цены повысятся, что сделает для него невозможным получить все, что он хотел. Поэтому в соответствующей мере он осуществляет «воздержание». Напротив, падение цен, обусловленное уменьшением покупок другими лицами, приводит к сбережению, но не к воздержанию. С другой стороны, накопление денег отражает стремление повысить отношение денежной наличности к располагаемому доходу. Полезность этого аппарата, каким бы непривычным и сложным он ни был, покоится на его пригодности для анализа различий между процессами сбережения и инвестирования. Когда наблюдается чрезмерная бережливость, банковские власти могут преодолеть ее путем впрыскивания в хозяйство новых денег. Робертсон утверждал, что его определения лучше отражают действительный образ поведения людей, и избегал введенного Кейнсом в его ранних работах понятия сбережения, считая, что оно связано с явлением сокращения потребления под влиянием сокращения дохода 262. Для Робертсона не обязательно равенство сбережений и инвестиций: именно от разницы между ними зависят цены. Это было написано в 1933 г. и, видимо, оказало сильное влияние на более поздние формулировки Кейнса.
У Робертсона капитал имеет характер как фонда, так и массы благ 263. Оборотный (circulating) капитал уже не представляет, как у Джевонса, имеющийся запас благ для поддержания рабочих, а лишь массу движущихся благ, которые в любой момент находятся «... на своем пути через процесс производства» 264. Оборотный капитал обеспечивается благодаря процессу воздержания, но это «краткосрочное» воздержание 265. Однако это понятие близко к концепции Джевонса, поскольку краткосрочное воздержание обеспечивает, по крайней мере отчасти, потребительские товары для лиц, занятых в отраслях с длительным производственным циклом. Долгосрочное воздержание обеспечивает основной капитал. Как уже отмечалось, воздержание может быть либо добровольным, либо вынужденным. Ограничения, обусловленные повышением цен, вызывают вынужденное воздержание. Рост цен понижает реальную ценность денежных накоплений, в результате чего имеет место «искусственное» воздержание. Но последнее имеет место только в том случае, если реальная ценность денежных накоплений затем восстанавливается путем их увеличения. Если сбережения не ведут к капиталообразованию, то они могут быть растрачены по причине понижения цен. Через этот сложный механизм происходит перераспределение продукта, создаваемого в хозяйстве, и передача ресурсов в руки тех, кто имеет возможность прямо иметь дело с банками 266. Итак, Робертсону удалось плодотворно установить взаимозависимости капиталообразования, денежных требований в хозяйстве и изменений цен.
Анализ денег — неотъемлемый элемент этой модели. Робертсон устанавливает соотношение между запасом денег и их потоками, и вместо предложенного Фишером понятия скорости обращения денег в сделках вводит понятие скорости обращения денег по доходам. Робертсон определяет скорость обращения как количество покупок товаров и услуг, являющихся частью реального дохода, на которые денежная единица расходуется на протяжении данного отрезка времени 267. Ценность денег, которую можно рассматривать с точки зрения потребления, сделок или дохода, выражает власть над товарами. Все это сводится, конечно, к проблеме индексов: Робертсон приходит к заключению, и, может быть, справедливо, что точно измерить ценность денег ни в теории, ни на практике невозможно 268. По существу он предпочитает сосредоточивать свое внимание на деньгах «в движении», а не на деньгах «в покое». Ему представляется, что, рассматривая деньги в движении, можно ближе подойти к действительным процессам изменения цен. Вместе с тем он признает, что анализ причин, по которым люди стремятся держать наличные денежные средства, может успешно раскрыть психологические мотивы, лежащие в основе экономического поведения. Последним элементом в этом аналитическом аппарате является средний период производства — скорость, с какой товары производятся для потребления 269. Этот период, конечно, различен для разных товаров. Обращение денег и средний период производства влияют не только на оборотный капитал, но также на сбережения и колебания цен. Сбережения передаются банками тем, кто нуждается в оборотном капитале, так что с некоторыми оговорками можно утверждать, что оборотный капитал равен общей сумме банковских депозитов 27°. Если часть сбережений превращается в основной капитал, то чрезмерный спрос на оборотный капитал может вызвать повышение цен. При длительном периоде производства напряжение может оказаться весьма сильным: стремясь полностью удовлетворить потребности предпринимателей, банки могут создать серьез329
ную угрозу равновесию 271. Этим Робертсон явно подчеркивает, что цены реагируют на ежегодный поток денег, исходящий из банковской системы, а не на изменения в величине запаса денег. Следовательно, когда производительность растет, вполне резонно требовать от банков предоставления дополнительного оборотного капитала, причем его размеры должны быть пропорциональны росту производительности. Таким же образом, говорит Робертсон, в связи с увеличением населения может потребоваться пропорциональный рост денежных потоков.
Со сбережением неизбежно связана проблема процента, ибо отказ от удовлетворения нынешних потребностей вводит в анализ элементы времени и риска. Этим ограничивается дань Робертсона традиции, оправдывающей процент. Отнесение удовлетворения на будущее, или ожидание, само связано с категорией времени и в известном смысле отражает тот факт, что сберегаемая часть дохода оказывается связанной (locked up) в товарах, находящихся в процессе производства. Робертсон хотел определить размеры этой части, связанной в таких товарах 272. Один канал спроса на ожидание, очевидно, исходит из спроса на оборотный капитал, размер которого определяется продукцией одного «дня», помноженной на средний период производства. Спрос на основной капитал определяется процессом «расширения», который обусловлен ростом населения, и процессом «углубления» как результатом прогресса техники. Однако в понятии ожидания в скрытом виде заключается старое понятие воздержания (abstinence), о котором так много писали в XIX в. Это в лучшем случае сомнительная идея, ни в коей мере не отражающая реальные процессы сбережения и накопления 273. Кроме того, попытка Робертсона обосновать двойственность природы капитала — и как фонда и как специфического явления,— видимо, натолкнулась на некоторые трудности. Для этого необходимо представить себе капитал как с точки зрения бесконечной во времени доходности, так и в качестве конечного ряда отдач его воплощенной материальной формы. Он пытался разрешить эту проблему, вводя график предельной эффективности инвестируемых фондов, которая находится в определенном отношении с предельной производительностью данного запаса благ, представляющих собой основной капитал. Иначе говоря, анализ идет от сбережения к производительности и к спросу на капитал 274. По мере роста капитала норма процента должна опуститься ниже предельной производительности или, как предпочитает говорить Робертсон, ниже уровня доходности на восстановительную стоимость, необходимой для сохранения капитала в первоначальной сумме.
Предложение капитала проистекает из ожидания, или накопления капитала. Далее Робертсон проводит различие между уже собранным капиталом, который именуется «ожидание, имеющееся на рынке в любое время», и потоком нового ожидания, причем второму из двух видов придается большее значение. Если рассматривать ожидание со стороны его предложения, то оно зависит от способности сберегать и от наличия возможностей для надежного инвестирования. Важное значение имеют также расчеты на будущее, так как желание улучшить условия жизни в настоящем или обеспечить старость могут влиять на поведение «ожидающих». Робертсон признает, что ситуация может осложняться целым рядом психологических факторов, не связанных с расчетами на будущее вознаграждение. Тем не менее скрытое допущение, что в современной экономике каждый в какой-то степени осуществляет сбережения, представляется сомнительным. Конечно, капиталообразование требует той или иной формы воздержания, но это социальный процесс, осуществляемый правительством или классом, для которого нет и речи о воздержании. Исторически таков и был обычный метод накопления, что отлично показал Маркс. Накопление влечет за собой весьма незначительные индивидуальные психологические издержки, а связанные с накоплением налоги, нормирование, инфляция или прямая экспроприация всей тяжестью ложатся на широкие массы. Поэтому можно с полным основанием поставить под вопрос роль таких факторов, как будущее вознаграждение или предпочтение нынешних благ. В современном обществе основная часть сбережений приходится на долю групп населения с высокими доходами и корпораций, а в какой мере страдают они от ожидания? 275 Правда, Робертсон отмечает, что корпорации делают большие сбережения. Но полагать, что такие общности действуют под влиянием тех же мотивов, как индивидуумы,— это почти равносильно ошибке перенесения свойств частного на целое. Сбережения класса, реально управляющего предприятиями, определяются другими факторами, которые не всегда могут быть соотнесены с нормой процента.
Но Робертсон, верный кембриджскому наследию, должен был связать предложение сбережений с нормой процента. Вообще говоря, кривая предложения сбережений поднимается вперед и вверх, хотя иногда она может склоняться назад 276. Это основано на «реальных» факторах, а именно, на уравновешивании пре330
дельных полезностей потребления и сбережения, причем должна быть принята в расчет предельная полезность получаемого процента, который сам подлежит дисконтированию во времени. Равновесие устанавливается обычным путем, в точке пересечения кривых предложения и спроса. Можно предполагать, что в развивающейся экономике кривая спроса переместится влево, тогда как рост сбережений вызовет сдвиг кривой предложения вправо для любой данной нормы процента. Робертсон утверждает, что кривая предложения будет перемещаться медленнее, чем кривая спроса, потому что богатые будут сберегать пропорционально меньше по мере повышения дохода 277. Во всяком случае, тенденция должна состоять в понижении процента, хотя он не может упасть ниже известного уровня, ибо тогда начнется потребление капитала. В основе этого утверждения лежат положения Касселя относительно влияния продолжительности жизни на процентные ставки 278. Поскольку спрос на сбережения вытекает из роста населения и развития производства, а предложение определяется склонностью к сбережению, история нормы процента, говорит Робертсон, сводится «...к борьбе между плодовитостью и развитием техники, с одной стороны, и богатством и бережливостью — с другой» 279.
Это как раз та точка зрения, которую подверг критике Кейнс в своей «Общей теории». У Кейнса норма процента зависит от предпочтения ликвидности или, во всяком случае, от той его части, которая связана со спекулятивными мотивами 28°. Эта зависимость, обладающая высокой степенью эластичности, есть функция не только предпочтения ликвидности, но также и денежной массы. Таким образом, процентная ставка есть денежное явление 281. Кейнс дал понять, что в ортодоксальной кембриджской позиции имеется элемент неопределенности, поскольку предложение сбережений меняется с изменением реального дохода. Ставка процента неизвестна, пока неизвестен доход, но процент сам является одним из факторов, определяющих доход; действует он через инвестиции и мультипликатор. Конечно, у Кейнса можно обнаружить подобную же неопределенность, особенно если устанавливать зависимость предпочтения ликвидности от дохода. То же самое обвинение можно предъявить и выдвигаемой Робертсоном зависимости сбережений от располагаемого дохода. Но стоило включить в анализ инвестиции и потребительскую функцию, как оказалось возможным развить стройную теорию процента 282.
С другой стороны, Робертсон утверждает, что теория Кейнса порождена требованиями момента, так как она создавалась в условиях, когда необходимо было воздействовать на предложение пригодных для инвестиций фондов в краткосрочном аспекте и ничего не предпринималось, чтобы воздействовать на сам спрос на такие фонды 283. Ему представляется предпочтительным добиваться повышения спроса на ссуды путем улучшения инвестиционных возможностей. Однако в действительности Кейнс именно это и подчеркивал. (Не странно ли, что такие благоприятные условия сложились лишь в начале 40-х годов, когда все народы начали стрелять друг в друга?) Робертсон утверждает также, что его анализ, использующий понятие периодоанализа (period analysis), превосходит Кейнсову идею определения нормы процента в данный момент времени, так как он является частью предложения заемных фондов (loanable funds) 284. Более того, продолжает Робертсон, краткосрочный характер теории Кейнса приводит к недооценке роли факторов производительности и бережливости. Но и этот пробел давно уже восполнен неокейнсианцами 285. Признавая, что Кейнс затронул действительно важные факторы, когда он прямо подчеркнул в своей теории процента роль психологических элементов, Робертсон вместе с тем заявляет, что эта теория должна быть сопоставлена с явлениями, имеющими место на самом рынке капиталов, и оценена с этой точки зрения 286. Еще одно обвинение состоит в том, что Кейнс игнорировал связь между ставками процента по краткосрочным и долгосрочным ссудам 287. Разрыв между ними, очевидно, объясняется дополнительными неудобствами, связанными с возобновлением краткосрочных ссуд и с присущей им большей маневренностью. Но это делает краткосрочные ставки крайне изменчивыми и, как признает Робертсон, совершенно аналогичными ставкам, которые Кейнс называл спекулятивными. По существу, для Робертсона процентная ставка есть цена, такая же, как и прочие цены на других рынках: теория процента поэтому должна быть лишь частным случаем общей теории цены.
Спор между Робертсоном и Кейнсом не есть лишь игра в термины и дефиниции. На первый взгляд представляется, что правильно объясняет действительные явления лишь один из них — либо тот, либо другой. Робертсон с его понятием заемного фонда подходит к делу с точки зрения денежных потоков, движущихся во времени, тогда как теория Кейнса подчеркивает важность наличных денежных остатков или запасов. В отличие от последней у Робертсона предложение и спрос на ценные бумаги представляются более важными факторами, и, 331
следовательно, сбережение, инвестирование, денежная масса и тезаврация имеют большее значение, чем предпочтение ликвидности. Но если сделать Робертсонов «день» достаточно коротким, то обе теории не кажутся полностью непримиримыми. Во всяком случае, в краткосрочном аспекте различие между ними не столь велико, как казалось ранее, ибо «потоки» в рамках действительно короткого «дня» могут рассматриваться иначе, то есть как своего рода Кейнсовы запасы 288.
И все же представляется, что в модели Робертсона деньги полностью не включаются в экономический анализ. Робкие взгляды в сторону «реальных» факторов и возня с полезностями и степенями удовлетворения заставляют подозревать, что за фасадом аналитического аппарата скрывается призрак хозяйства, характеризующегося меновой торговлей. Абба Лернер замечает, что модель, полностью включающая в себя деньги, должна рассматривать ликвидность в том же свете, как и всякое другое благо, а денежная наличность в ней должна занимать такое же положение, как и всякий другой элемент активов. Такая экономика была бы денежной экономикой, а богатство включало бы как активы, так и доход 289.
Созданная Робертсоном концепция экономического цикла также скорее отражает его интерес к реальным факторам, чем к влиянию денег. Его анализ, впервые представленный в книге «Исследование промышленных колебаний», вдохновлен Пигу в том отношении, что в этом анализе как первоочередной объект исследования выступают изменения реального национального дохода. Центральное место в концепции экономического цикла Робертсона занимает воздействие на экономическую активность со стороны таких факторов, как урожай сельскохозяйственных культур и технический прогресс. Денежные факторы вводятся в анализ лишь на более позднем этапе. Эти поиски реальных причин сделали Робертсона восприимчивым к концепциям, которые рассматривают поворотные точки, связанные с дефицитностью потребительских товаров и избытком основного капитала. Такой подход напоминает неоавст- рийскую теорию дефицита сбережений, но у Робертсона основной упор делается на временный избыток капитала или средств производства. Таким образом, он подчеркивает роль недостаточного производства потребительских товаров и тем самым соединяет элементы теорий недостаточного сбережения и недопотребления 29°. Избыточное сбережение во время депрессии отождествляется с накоплением товарноматериальных запасов, так что при наступлении поворота к оживлению в экономике обнаруживается известная база для расширения. Концепция Робертсона, во всяком случае в этом ее раннем варианте, бросает тень известного сомнения на полезность общественных работ как стимулятора экономической активности, а поскольку проблема запасов тесно связана с кредитной политикой банков, то представляется возможным включить фактор денег в теорию цикла. Но товарно-материальным запасам не обязательно соответствуют излишние остатки денежной наличности, и потому возможно, что накопление запасов сойдет на нет. Ясно, говорит Робертсон, что экономический цикл — это сложное явление, объяснить которое нельзя ссылкой на какой-то один фактор 291. Но каждая фаза цикла несет в себе семена своего собственного распада, поскольку с развитием конъюнктуры меняются соотношения цен и издержек, а также прибыль и норма прибыли на инвестированный капитал..
В проделанном Робертсоном исследовании колебаний, удивительно тонком и сложном для молодого человека 25 лет от роду, теоретические положения поясняются и иллюстрируются массой статистических данных, собранных из разных источников. В первой части книги «Промышленные колебания» анализируются явления предложения и спроса в отдельных отраслях, что дает соответствующую основу для анализа колебаний общей конъюнктуры. На предложение сильное влияние оказывают колебания издержек и тенденции к чрезмерному инвестированию. Одной из причин последнего является длительный период производства и строительства, необходимый для создания орудий производства 292. Следовательно, чем больше количество основного капитала, тем сильнее могут быть колебания; вместе с тем в некоторых отраслях, вроде хлопкопрядения, оборотный капитал в силу его особых свойств может быть источником довольно резких колебаний. Но все же в большинстве отраслей современной промышленности основной капитал выступает как более важный фактор. Робертсон указывает, что несовершенная делимость оборудования часто толкает на более значительное расширение, чем того требует конкретная ситуация. Далее, имеется проблема соотношения переменных и постоянных издержек; если доля переменных издержек высока, то может оказаться целесообразным закрыть предприятие и попытаться переждать экономическую бурю 293. С другой стороны, высокая доля основного капитала может оказаться серьезным препятствием для прекращения работы предприятия.
На стороне спроса важными факторами являются мода и вкусы, войны и торговые 332
барьеры. Но, может быть, самым важным Робертсону представлялось, во всяком случае в то время, прямое влияние колебаний урожая сельскохозяйственных культур. Хотя теперь урожаям отводится гораздо меньшая роль, в 1915 г. было очевидно, что «...влияние урожая в Аргентине на строительную активность в Англии через посредство психологии британского инвестора является важным, так же как важно влияние этого фактора через посредство покупательной способности аргентинского фермера...» Это подтверждалось торговой практикой 294. .В анализе Робертсона важную роль играют различия в эластичности спроса на различные культуры и их последующие влияния на доходы и спрос, особенно на строительные материалы 29&. Изменение в любом направлении может сообщить толчок всей системе 296, потому что цикл представляет собой кумулятивный процесс. Некоторым предпринимателям могут достаться случайные высокие прибыли, если период строительства и оснащения предприятий удлиняется, а цены растут. Повышенный спрос на продукцию отраслей, производящих потребительские товары, начинает ощущаться в отраслях, выпускающих товары производственного назначения. Этот ход мыслей, по-видимо- му, близок к принципу акселерации, так как предполагается возможность относительно большего увеличения спроса на товары производственного назначения. Но Робертсон не считает акселерацию движущей силой: он отмечает, что изменения в сфере товаров производственного назначения могут быть вызваны иными факторами, помимо потребительского спроса. Далее, рассуждает он, если некая отрасль, производящая товары производственного назначения, сбывает продукцию ряду отраслей, выпускающих потребительские товары, то повышенный спрос в каком-нибудь одном секторе будет недостаточен, чтобы вызвать общее движение. Эффект акселерации, утверждает Робертсон, оказался бы действенным только в том случае, если бы все отрасли, выпускающие потребительские товары, были так взаимосвязаны, что повышение активности в одной из них почти сразу вызывало бы движение в других. Но это маловероятно, ибо опять-таки единовременный характер и нерегулярность инвестиций неизбежно должны препятствовать непосредственной и быстрой передаче импульсов от одного сектора экономики к другому. К тому же воздействие акселерации будет обязательно модифицироваться наличием избыточных производственных мощностей 297.
Таким образом, оживление должно начаться просто благодаря тому, что более заманчивыми • становятся возможности для инвестирования. Как полагает Робертсон, усиливается надежда на то, что склонность к удовлетворению потребностей в определенных товарах должна возрасти: по-видимому, делаются оценки предельной полезности товаров производственного назначения, основанные на ожидаемой будущей предельной производительности. Поскольку такие оценки варьируют, само производство подвержено колебаниям, а в этом можно видеть ключ к колебаниям деловой активности 298. Здесь-то Робертсон и добирается до своих основных реальных факторов. Экономическое возбуждение, которым характеризуется бум, означает просто «реальный» избыток инвестиций. Причиной этого может быть исключительно большой урожай, большие инвестиции, обусловленные внезапным проявлением морального износа оборудования, а также новое изобретение. (Под последним Робертсон, видимо, понимает нечто вроде нововведения на манер Шумпетера. На правильность такого толкования указывает приводимый им пример бума в электроэнергетике в 90-х годах XIX в., когда стали плодотворно внедряться новые экономичные методы производства.) Кризис наступает в связи с недостатком наличного реального капитала, необходимого для инвестиций; такая трактовка весьма напоминает взгляды, которые развивал Хайек. Данные, которые приводит Робертсон в связи со своей теорией, подчеркивают истощение оборотного (working) капитала и чрезмерное поглощение реального капитала, так что в результате возникает настоящий дефицит капитала 2". Развивающееся в результате этого неправильное использование ресурсов облегчается доступностью и дешевизной кредита, предоставляемого банками. Спустя много лет Робертсон, однако, внес поправки в свою теорию, признав, что недостаток капитала не всегда является причиной кризиса 30°.
Как же можно исправить это опасное состояние дел? Рекомендации Робертсона не слишком радикальны: улучшение информации с целью ослабления стимулов, ведущих к чрезмерному инвестированию; несколько большая централизация инвестиционной политики; совершенствование банковской практики; и, может быть, какие-то меры по сглаживанию экономического эффекта изобретений. Но для мира, в котором только начали рассеиваться безмятежные сумерки викторианской эры, даже эти предложения казались достаточно смелыми. В своих лекциях, опубликованных в 50-х годах, Робертсон дополнил эти ранние рекомендации: он одобрил кредитно-денежную экспансию как средство снижения процентных ставок, так как это может вовлечь в производство неисполь333
зуемые ресурсы без повышения цен. В новый арсенал экономических мер контроля над циклом он включает также общественные работы, накопление государственных запасов сырья, налоговые скидки и гибкую фискальную политику 301. Интересно, что в этих предложениях обнаруживаются опасения Робертсона по поводу возможности стагнации. Ведь главное разногласие между Робертсоном и кейнсианцами как раз и состояло в том, что он был твердо уверен, что в длительном аспекте инвестиционные возможности сами породят повышенный спрос на ссуды.
Хотя все эти предложения отражают свойственное ему обостренное чувство реальности, в вопросах политики заработной платы во время депрессии Робертсон занял позицию, близкую к Пигу. Сохранение неизменной заработной платы, говорил он, должно вызвать рост безработицы. Любое падение денежных доходов, продолжал он, будет рано или поздно приостановлено ростом реальной ценности имеющихся денежных остатков (эффект Пигу), что будет стимулировать денежные затраты. А понижение денежной заработной платы будет поощрять предпринимателей на новые инвестиции. Дело, однако, в том, что во время серьезного спада, как в 1930-х годах, денежные доходы сокращаются слишком резко, чтобы эффект Пигу мог побудить потребителей к повышенным расходам: падение эффективного спроса было слишком катастрофическим. Поэтому доводы Робертсона столь же уязвимы, как и идеи Пигу.
Эту антикейнсианскую позицию Робертсон занимает также в теории циклов, где он возражает против тезиса о стагнации, развитого на базе «Общей теории» Кейнса. Однако здесь Робертсон по существу лишь вновь излагает свои возражения против Кейнсовой теории процента и отнюдь не опровергает тезис о стагнации 302. Робертсон пытается вместо этого изложить концепцию Кейнса — Хансена в денежных категориях таким образом, чтобы подкрепить свои возражения против новой теории процента. Тезис о стагнации, развитый в основном Элвином Хансеном, неизбежно должен был навлечь на себя гнев традиционалистов, поскольку он поставил под вопрос, можно ли так легко выправить экономические колебания мерами в кредитно-денежной области. И хотя взгляды Робертсона включают не одни лишь денежные меры, он все же не может согласиться с чем-либо слишком сильно отклоняющимся от традиционной доктрины. Стагнационалисты * * То есть кейнсианцы, экономисты, считающие серьезную экономическую стагнацию возможной.— Прим, перев.
настаивали на том, что экономика сможет выбраться из глубокой ямы лишь при активной государственной политике. Это было поистине пророчество, если вспомнить, что потребовалась горячая и холодная война, чтобы пустить в ход экономическую систему 303.
Согласно взглядам Робертсона, стабильность требует условия, известного под названием денежного равновесия. Когда экономика обнаруживает равномерный и устойчивый рост, при котором не происходит изменений во вкусах потребителей и в технике, а все факторы растут пропорционально, обязанность банковских властей состоит в том, чтобы обеспечивать соответствующий рост денежной массы 304. Это должно обеспечить нейтральность денег, сохранить «нормальную» ставку прибыли и поддержать равновесие на рынке сбережений. С другой стороны, излишний приток денег в обращение вызовет через механизм «вынужденного сбережения» тенденцию к сдвигу производства в сторону основного капитала. Денежное равновесие трудно поддерживать, говорит Робертсон, когда капитал растет быстрее, чем население, потому что при этом может меняться относительная предельная производительность труда и капитала. Если доли продукта, идущие участвующим в производстве факторам, не меняются — то есть если эластичность взаимозаменяемости труда и сбережений равна единице,— тогда в поток денег вмешиваться не следует. Если вследствие роста капитала его доля в совокупном продукте увеличивается, тогда приток денег должен немного возрасти, в результате чего цены снизятся меньше, чем возрастет производство 305. Вообще говоря, советует Робертсон, цены должны меняться в обратном отношении к производительности: проблема, говорит он, заключается не в стабилизации цен, а в «цене на производительную силу» 306. Таким образом, банковская система должна выполнять двойную функцию: обеспечивать необходимое количество оборотного (circulating) капитала и в то же время достаточную массу денег для населения, если ставится задача приспосабливать цены к изменениям производства.
Окидывая взглядом все проделанное Деннисом Робертсоном, видишь, что ему удалось осуществить оригинальный синтез денежных элементов как с реальными, так и с психологическими факторами, используемыми в экономическом анализе. Его теория развивалась последовательно: в ранний эмпирический и исторический анализ, подкрепленный теоретическим рассмотрением влияния изобретений, урожаев и периодов «созревания» инвестиций, 334
свободно вписались более поздние концепции, связанные с деньгами. И многое в его анализе еще сохраняет актуальность, во всяком случае, в том смысле, что он ставил актуальные и ныне вопросы. Для объяснения резких рывков экономической активности Робертсон использовал технические факторы, и он интересовался тем, каким образом состав агрегатных величин влияет на размеры этих величин 307. По Робертсону, изменения реальных издержек и спроса могут потребовать коренных структурных сдвигов, потому что понижение издержек и цен в одном секторе экономики может вызвать изменения производства в других секторах. Тем не менее он полностью не избежал в своей теории известной доли примеси статики. Динамические элементы, действие которых он признает, вытекают в его теории из стремления анализировать процесс изменений. По крайней мере таким образом можно интерпретировать отмечаемые им различия между сбережениями и инвестициями и их влияние на доход 308. Но экономика безденежного обмена, в которой спрос связывается с предполагаемым наличием предельной полезности и субъективных удовлетворений, остается у него перводвигателем экономического прогресса; в то же время идея всеобщей взаимозависимости, которую пытался обосновать Пигу, исчезает у Робертсона, когда он прибегает к доводам ceteris paribus. Модель заработной платы оказалась также гораздо менее реалистичной, чем было обещано: категории труда и ожидания едва ли достаточны, чтобы раскрыть все сложности формирования заработной платы и распределения доходов. Сомнительно также, чтобы цены столь легко реагировали на изменения денежной массы, как этого требует модель Робертсона. Блестящая аналитическая схема, вдохновленная Маршаллом, Викселлем и австрийцами, представляет собой в сущности сплав, так как Робертсон и есть настоящий эклектик. Но, может быть, в этом и заключался для него единственно возможный путь приближения к экономической реальности, ибо он знает лучше многих, как она поистине сложна и разнообразна.
5. РАЛЬФ ХОУТРИ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ТОРГОВЦЕВ *
Когда Ральф Хоутри (род. 1879) оказался в колледже Троицы лишь девятнадцатым по успехам в математике, его наставник был весьма разочарован и сказал, что Хоутри слишком много времени тратил на другие занятия. Эта тенденция к распылению усилий между несколькими областями характерна и для работы Хоутри в экономике, но тем не менее он оказал значительное влияние не только на развитие теории, но и на практические дела. Будучи автором более чем двадцати книг, Хоутри является одним из самых плодовитых современных экономистов 309. На протяжении 20-х годов его кредитно-банковские теории использовались в США для обоснования политики Федеральной резервной системы. Идеи, которыми руководствовалось английское казначейство, складывались в значительной мере под влиянием Хоутри; когда было высказано мнение, что для борьбы с безработицей нужна кредитная экспансия и что одни общественные работы недостаточны, на вооружение были приняты именно взгляды Хоутри.
♦ Торговцы у Хоутри — это товаропроизводители, выступающие преимущественно в их рыночной функции. Теоретически эта терминология отражает концепцию примата обращения над производством.— Прим, перев.
До самого конца великой депрессии использование одних только кредитно-денежных мер для борьбы с нею не ставилось всерьез под сомнение. Лишь затем в качестве более пригодной основы для экономической политики была признана Кейнсова теория определения уровня дохода 31°.
Тем не менее Кейнс высоко ценил идеи Хоутри, во всяком случае до того, как вышла его «Общая теория». Надо сказать, что Хоутри был одним из немногих лиц, к кому Кейнс обращался за советом во время работы над своей знаменитой книгой, а обширная переписка между ними продолжалась и после выхода книги. Но как они ни старались, ни один не смог обратить другого в свою веру, и Кейнс был несколько разочарован тем, что его друг остался при своем мнении 311.
Закончив учебу, Хоутри поступил в 1903 г. на службу в британскую гражданскую администрацию. Спустя год он пришел в казначейство, где оставался до 1945 г. В 1928 г. он был приглашен на год для чтения лекций в Гарвардский университет, а с 1947 г. читал лекции по курсу международных экономических отношений в Чэтем-хаузе, откуда он в 1952 г. ушел в отставку. Хотя многие из теорий Хоутри восходят к Маршаллу, он дал им свою совершенно оригинальную трактовку. Через мно335
гие его книги проходят в сущности одни и те же идеи, но с течением времени они часто модифицировались. Для его работ одновременно характерны стремительный ход мыслей и изрядная запутанность фраз. Стиль Хоутри не отличается ни изяществом Робертсона, ни гладкостью Маршалла. Хоутри чуждо и свойственное Кейнсу искусное построение фраз. Поистине, читать Хоутри — нелегкая работа. Но его сочинения достаточно важны и стоят этих усилий. Одна из характерных черт Хоутри состоит в его готовности изменять свою позицию под влиянием, хода реальных событий. Так, спокойная уверенность, которая исходит от книги «Хорошая и плохая торговля», опубликованной в 1913 г., была явно поколеблена к тому времени, когда в 1937 г. он выпустил книгу «Капитал и занятость». Хоутри много и убедительно писал по вопросам налогообложения, трудовых отношений, коллективизма, тарифов, международной торговли и экономической власти, но почти всегда его главной темой оставались деньги. И хотя он понимает всю сложность экономических процессов, по преимуществу он остается денежным экономистом.
Несмотря на тот упор, который он делает на роль денег и который многие считали чрезмерным, Хоутри достаточно проницателен, чтобы увязывать экономическую науку с политической средой, в которой она развивается. Экономическая жизнь общества, пишет он, направляется институтами, которые возникли и сформировались под воздействием политического процесса 312. В отличие от Лайонела Роббинса он полагает, что экономическая деятельность не может ограничиваться только вопросами чистого выбора, ибо такая деятельность включает более широкую сферу усилий, предпринимаемых в основном, но не целиком ради материального вознаграждения. Ясно, что на ход мыслей Хоутри известное влияние оказала точка зрения Гобсона. Согласно последней, рынок и цена должны занимать центральное место в экономическом анализе, откуда неизбежно вытекало представление, что богатство есть нечто измеримое. Но это ни в коей мере не низводит экономику до уровня чисто позитивной науки, неспособной давать какие- либо рекомендации для политики. Экономика не может также быть изолирована от этики. Например, индивидуалист утверждает, что абсолютная свобода выбора и предпочтения обеспечивает максимум благосостояния. Хоутри решительно не оспаривает эту точку зрения, но тем не менее он указывает, что богатство и доходы распределены между людьми крайне неравномерно, а это есть достаточное основание, чтобы поставить под вопрос прагматическую ценность индивидуалистского мировоззрения. Рассматриваемая как единое целое, говорит Хоутри, традиционная теоретическая система имеет ряд изъянов. В ней отсутствует удовлетворительная теория прибыли; денежные явления не включены органически в общую теорию; в ней недостаточно разработана проблема накопления; наконец, она не принимает во внимание феномен власти как постоянной цели экономической политики. Несомненно, это сильная критика, и притом она исходит от весьма крупной фигуры в науке; попросту говоря, Хоутри проявил больший интерес к политической экономии, чем это было принято на протяжении многих лет в кругу английских экономистов.
Экономическая проблема, говорит Хоутри, заключается в том, чтобы организовать общество таким образом, который побуждал бы каждого индивидуума способствовать достижению «подлинных целей» общества, хотя бы он этого и не сознавал 313. В работе «Экономическая проблема» после подробного анализа организации первобытного общества, отражающего широту интересов Хоутри, он приходит к выводу, что идеальной является такая экономическая система, которая использует способность человека к коллективной деятельности. Конечно, для достижения этой цели имеется несколько путей, что весьма наглядно проявилось в последнее время. Но интерес Хоутри концентрируется на том пути, которым шел западный капитализм; в таком обществе каждый делает то, что считает нужным для себя, а результат предположительно должен быть наилучшим для общества. Экономическая деятельность, говорит он, есть сознательная деятельность. Человек выходит на рынок с определенной целью — делать деньги, к которым он стремится ради них самих. Как в анализе Уэсли Митчелла, деньги оказываются центром экономического поведения. Они гарантируют свободу выбора при покупке, олицетворяют собой обеспеченность в противовес риску и являются источником власти над производительными ресурсами. В этой погоне за денежным богатством нет ничего иррационального, и деньги вовсе не являются простым покровом над так называемыми реальными сделками 314. Нет никакого эффективного способа, говорит Хоутри, которым этот мнимый покров мог бы быть сорван. Экономическая деятельность протекает в денежном хозяйстве, которое устанавливает ограничительные условия или сдерживающие факторы 315. Хоутри недвусмысленно заявляет, однако, что он не преуменьшает значения благ, так как пригодные для реализации блага составляют часть экономической среды 336
и потому представляют богатство. Но тем не менее в фокусе исследования должны прежде всего находиться деньги. В качестве основы для анализа богатства как содержательной экономической категории Хоутри принимает понятие полезности в толковании Джевонса. Можно предполагать, что максимизации подлежит именно полезность, но сравнение полезностей с точки зрения различных индивидуумов, соглашается Хоутри,— вещь сомнительная 316. Остается лишь психологический факт выбора, так что благосостояние — безусловно, важный этический компонент в экономическом анализе — не является по-настоящему измеримым, как это понимал Пигу 317. Однако, утверждает Хоутри, это не значит, что экономист не может рассуждать о целях экономического поведения.
Хоутри делит потребительские блага на два класса: оборонительные (defensive) блага, назначение которых — возмещать психологический ущерб или предупреждать страдания, и созидательные (creative) блага, которые дают удовлетворение. Они не обязательно исключают друг друга. Для людей с высокими доходами характерен повышенный интерес к благам второго класса, что отражает важный аспект существования цивилизованного человека. Разумеется, экономист должен включать эти блага в свои расчеты, утверждает Хоутри 318. И здесь ощущается влияние Гобсона: пространные рассуждения по проблемам художественных и интеллектуальных факторов и их влияния на потребителя не просто повторяют резкие замечания последнего в адрес современной экономической науки. Хоутри неизбежно приходит к выводу, что предпочтение того или иного товара потребителем имеет лишь весьма отдаленное отношение к подлинной ценности выбираемых благ и что рыночная стоимость «...настолько далека от истинной меры этической ценности, что не является даже первым приближением к такой мере»319. Представление, что благосостояние можно измерять рыночной ценностью, надо просто отвергнуть. В результате неведения человека и его неспособности находить действительное удовлетворение рыночные оценки являются весьма сомнительным мерилом 32°.
Основное понятие в системе Хоутри — это стремление к прибыли. Прибыль проистекает из торговых способностей (selling power), то есть способности реализовать товары. Именно способности более умелого торговца позволяют ему захватывать большую долю рынка, что ведет к неравенству. Торговые способности определяют также размеры данного предприятия. Хотя понятие торговых способностей, отражающее в основном качественный аспект экономического анализа, представляется довольно неопределенным и не вполне пригодным для использования в модели, Хоутри, подобно Гобсону, не поколебался применить его. Конечно, оно не лишено смысла, так как воплощает некоторые ключевые понятия в процессе принятия решений, в частности, помогает объяснить стремление фирм к захвату возможно большей доли рынка. Действительно, в современном анализе эта идея успешно используется, как недавно показал Уильям Дж. Баумоль 321. Представляется, что в конечном счете главным мотивом для предпринимателя является «...максимизация продаж с ограничением в виде минимальной прибыли» 322. Уровень производства, обеспечивающий максимизацию продаж, говорит Баумоль, устанавливается в точке, где предельный доход (marginal revenue) равен нулю. Поэтому уровень производства, максимизирующий прибыль, по необходимости ниже уровня производства, обеспечивающего максимизацию продаж. Таким образом, поскольку последняя есть главный стимул, завоевание большей доли рынка становится важнейшей целью. Далее, ограничение в виде минимальной прибыли дает фирмам достаточно простора для маневрирования при повышении издержек. Раз максимальная прибыль не достигается, изменение уровней производства становится сравнительно простой процедурой, при помощи которой на других перекладывается, например, такое бремя, как подоходный налог. В сущности, граница минимальной прибыли и есть регулятор сбыта и производства. Если согласиться с этой точкой зрения, тотчас обнаруживаются пороки традиционной теории, поскольку получается, что в основе прибыли лежат иные принципы, нежели те, которые предположительно определяют выплаты факторам производства. Прибыль становится остаточным доходом, а в той мере, в какой это справедливо, фактор, который она вознаграждает, становится явно отличным от остальных.
Дилеры, или торговцы (хозяйственные единицы, которые имел в виду Хоутри в своем анализе), измеряют свой доход как функцию нормы прибыли и объема операций. Увеличение массы прибыли достигается путем роста оборота. Это, следовательно, порождает потребность в оборотном (working) капитале, который становится важнейшим условием рыночных операций, а отсюда возникает необходимость и в рынке капиталов как важном орудии. Поскольку важнейшая функция рынка капиталов состоит в уравнивании спроса и предложения пригодных для инвестирования фондов, деньги оказываются в самом центре экономической деятельности. А так как прибыль 22 б. Селигмен
337
трактуется в рикардианских категориях ренты, то есть как результат преимуществ в местоположении, ресурсах и т. д., то очевидно, что различия в размерах экономической ренты должны вызывать различия в уровне прибыли 323. Иначе говоря, рента и прибыль противопоставляются друг другу в строго классической манере. Хоутри допускает, что известная доля прибыли иногда может быть названа «рентой по способностям», но она, по-видимому, существует лишь там, где прибыль выше нормальной 324. И подобно Шумпетеру, Хоутри отмечает, что прибыль главным образом достается «...узкому кругу исключительно способных делателей прибыли, которые постоянно ищут возможности сбыта, могут использовать эти возможности и изыскивать необходимые финансовые ресурсы» 325. Процент должен быть тщательно отграничен от прибыли, так как он представляет собой вознаграждение за пользование капиталом. Итак, в отличие от Фрэнка Найта Хоутри предпочитает весьма четко различать факторы производства и полученные ими доходы 326. Доход на капитал, говорит Хоутри, включает премию за риск в дополнение к «обычному проценту» 327. В его теории ренты, очень близкой к взглядам Робертсона, подчеркнута роль экономических и социальных условий, к которым землевладелец не имеет отношения.
Но вся эта система понятий пронизана идеей кредитно-денежной политики. Например, трактуя проблему заработной платы, Хоутри утверждает, что денежная политика и отношение общества к стремлению получать прибыль являются основными факторами, определяющими как занятость, так и цены. Для него очевидно, что ценность денежной единицы в категориях богатства («wealth-value») затрагивает не только экономическую активность вообще, но и то, как устанавливается заработная плата в особенности 328. Он полагает, что в условиях свободного рынка механизм определения заработной платы работает плохо, поскольку обычаи и косность неизбежно удерживают заработную плату в весьма жестких пределах. Готовность предпринимателей идти на^ уступки в области заработной платы зависит от перспективы получения прибыли, а последняя, в свою очередь, зависит от кредитно-денежной политики. Ограничительная кредитная политика вполне может нанести ущерб наемным рабочим и вызвать безработицу 329. По мнению Хоутри, кредитно-денежная политика не должна быть ни ограничительной, ни чрезмерно экспансионистской: политика высокой заработной платы должна вести к пропорционально большему притоку денег и к пропорционально более высоким прибылям и ценам. Политика в области заработной платы и кредитно-денежная политика должны быть тесно увязаны между собой, ибо только таким образом можно обеспечить денежное равновесие и стабильность заработной платы и цен. Но, продолжает он, если предоставить рынок труда самому себе, то заработная плата будет отставать от цен и прибылей и трудящиеся будут всегда нести ущерб 33°. Для Хоутри очевидно, что необходимо большее равенство сил выступающих на рынке труда сторон, но он опасается, как бы профсоюзы не закрепили иерархию рабочих. Возможно, что эти опасения не обоснованы, но, во всяком случае, соображения Хоутри обнаруживают у него более глубокий интерес к институциональным сложностям, чем это наблюдается среди других известных экономистов.
Если не считать того, что Хоутри сосредоточил внимание скорее на «торговце», а не на производителе, данное им описание рынка не отличается от стандартного анализа. Рынок не только уравнивает спрос и предложение, но и является местом, где торговцы, оптовые и розничные, выполняют торговые функции и осуществляют товародвижение. Сам потребитель крайне пассивен. Он редко дает начало чему-либо и обычно берет все, что предлагает рынок. Состояние рынка скорее определяется активностью торговцев: они изыскивают новые товары, оценивают спрос покупателей, транспортируют и складируют товары и в конечном счете «очищают рынок» от товаров. Все это требует кредита, так как без него торговцам пришлось бы вступать друг с другом в отношения коммерческого кредитования. Здесь в анализ включается банковская система. Хоутри — один из ведущих специалистов в этой области, и данный им анализ банковских и кредитных операций, особенно в книге «Деньги и кредит», безусловно, имеет большое значение 331. В его подробном описании процессов создания кредита банками важнейшая роль отводится изменению банковских процентных ставок, которые рассматриваются как главное орудие кредитно-денежной политики, потому что при избытке или недостатке товарно-материальных запасов процентные ставки могут использоваться в качестве уравновешивающего средства.
Связав кредит с потребительским спросом, Хоутри добился слияния подхода с точки зрения денежной наличности и с точки зрения дохода. Поскольку общий спрос всегда определяется в денежном выражении, такой путь облегчил анализ производных явлений в области производства и цен. Отсюда вытекало некоторое видоизменение количественной тео338
рии денег 332. Индивидуальные потребности в денежной наличности, отмечает Хоутри, опираются на поток денежных поступлений и расходов. Это представляет собой спрос на деньги, на который обязательно влияет текущий уровень рыночных цен. Наличные денежные фонды должны быть равны «неизрасходованным остаткам», ибо лишь тогда поступление денег в хозяйство будет равно спросу на них. Если дано общее количество денежных единиц, то существует какой-то уровень цен, при котором будет удовлетворен спрос на деньги и останется сумма, достаточная, чтобы уравнять неизрасходованные остатки с запасами наличности. Значит, масса денег, предназначенная для неизрасходованных остатков, не зависит от общего количества. В этом и состоит сделанное Хоутри уточнение количественной теории; у него ценность денежной единицы в категориях богатства обратно пропорциональна неизрасходованному остатку. Его критика формулы Ирвинга Фишера представляется вполне убедительной, особенно когда он отмечает упрощенное понимание сделок 333. Традиционная количественная теория, доказывает Хоутри, представляет собой лишь трюизм и не отражает причинные связи. Если же, с другой стороны, теория интерпретируется в смысле склонности держать наличность и если эта наличность через функции спроса связывается с неким гипотетическим уровнем цен, то количественному уравнению можно приписать определенный смысл. Тогда можно сказать, что для любых будущих движений цен надлежащая величина налично-денежных остатков будет находиться в определенном отношении к этим ценам, так что «ценность в категориях богатства» самих запасов наличности не изменится *.
Хоутри склонен был использовать в своем анализе и понятие периода производства 334. Как и следовало ожидать, оно связывается у него с оборотным капиталом и товарно-материальными запасами. Часть периода производства составляет время, необходимое для процессов переработки материалов. Важное значение при этом имеет продолжительность времени пребывания элементов оборотного капитала в форме запаса. Если теперь добавить дополнительные отрезки времени, с учетом использования капитального оборудования, то мы получим полный период производства. Хоутри отверг тезис Найта, что средней длительности пользования товарами не существует * Представляется, что смысл денежной теории Хоутри лучше изложен в книге: Э. Ж а мс, История экономической мысли XX века, М., 1959, стр. 207—208.— Прим, перев.
и что процесс производства имеет неопределенную длительность 335. Хоутри использовал некоторые методологические идеи австрийцев, но существенно развил их, так что стало возможным выработать понятие нормального периода производства при данных его методах. По каждому виду текущей продукции, говорит он, можно определить свой особый период производства. Взвешенная средняя этих индивидуальных периодов и составит нормальный период производства 336. Поэтому издержки должны определяться не по фактической, а скорее по восстановительной стоимости. Для каждой структуры производства имеется свой нормальный период, ибо если соотношение капитала и труда меняется, то очевидно, что изменится и время производства.
Теории, увязывающие потребительские доходы и расходы с экономическим циклом, в настоящее время получили широкое распространение, но приоритет в этой области среди экономистов XX в. принадлежит Хоутри. Кредитная система является составной частью его модели, потому что именно приток денег из банков для удовлетворения нужд торговцев ведет к повышению доходов, при условии наличия достаточного времени для того, чтобы этот процесс охватил все хозяйство. А отсюда проистекают доходы и расходы потребителей, включая чистые инвестиции 337. Торговцы получают свой доход от сделок, а конечным его источником является прибыль. Но главный фактор, стимулирующий кругооборот дохода, говорит он, надо искать в росте потребительских расходов 338. Это кумулятивный процесс, отражающийся в росте уровня цен. С другой стороны, понижательная фаза может быть объяснена просто как обратная последовательность явлений. Однако если верхняя поворотная точка цикла может быть довольно легко объяснена на основе теории Хоутри, то процесс выхода из рецессии эта теория описывает, по- видимому, недостаточно удовлетворительно. Во времена золотого стандарта для объяснения можно было прибегнуть к международному движению золота. Когда приток золота вызывал расширение внутреннего кредита, страна, идущая впереди других, должна была в конечном счете обнаружить, что условия торговли становятся неблагоприятными для нее. Страны- конкуренты начинали теснить ее на рынках. Утечка наличности из банков во время экспансии должна была приносить потери и вызывать ограничение кредита, усиливая давление, обусловленное внешней торговлей. Когда равновесие восстанавливалось, в экономике, как полагали, должны были сложиться условия для новой волны активности. Но как все это 22* 339
должно было происходить, Хоутри так полностью и не объяснил.
Все же, учитывая важность денежных факторов, теория Хоутри достаточно убедительна. По крайней мере ей присуще то достоинство, что она действительно эффективным образом связала его количественную теорию с движением уровня цен. Несмотря на это, описанный им цикл является краткосрочным циклом движения запасов, который в лучшем случае лишь слабо связан с факторами, лежащими в основе процесса инвестирования. Инвестиции принимаются во внимание лишь путем деления потребительских расходов на прямые расходы и рыночные инвестиции в оборудование (instrumental goods) 339. Продажи (disposals), или товары, уходящие с рынка, представляют собой сумму прямых расходов и капитальных затрат торговцев. И хотя спрос может иметь своим результатом продажу, в действительности он предшествует и не равнозначен последней, так как часть спроса переключается на оборотный капитал, представляющий собой товары, которые еще остаются на рынке. Этот интересный комплекс зависимостей у Хоутри представлен как ряд денежных потоков, так что вся теория превратилась в денежный анализ существенных черт современной экономики 34°.
Неденежные факторы Хоутри рассматривает лишь в той мере, в какой могут иметь место изменения в структуре капитала. Накопление богатства равняется сбережению за соответствующий период. Недостаточное сбережение означает чрезмерное потребление и в конечном счете сокращение оборотного капитала. Избыточное сбережение вызывает замедление продаж и накопление товарно-материальных запасов у торговцев. Сам инвестиционный процесс, который рассматривался прямо-таки в виде скромного примечания к этому сложному анализу, может происходить* путем увеличения мощностей без какого-либо изменения соотношения между капиталом и трудом, и в этом случае он называется расширением капитала. С другой стороны, насыщение (deepening) капитала означает изменение отношения капитал — труд. Некоторые отрасли, следовательно, могут становиться «насыщеннее» в том смысле, что в них осуществляются большие инвестиции в оборудование. Расширение капитала проистекает из расчетов на получение нормальной прибыли и представляет собой, в сущности, тот процесс, с помощью которого конкуренция уравнивает прибыли в разных отраслях, насыщение же связано с техническими нововведениями, которые меняют структуру промышленности. Однако, если для многих других экономистов все эти явления составляют самую суть экономического прогресса и роста, у Хоутри они играют по существу вспомогательную роль по отношению к главной линии анализа, ибо лишь часть продаж идет в этом направлении 341.
Даже с чисто денежной точки зрения представляется законным вопрос, каким образом общий спрос может поддерживать экономическую систему, если не анализировать дальнейшее направление потребительских расходов 342. Далее, в настоящее время, по-видимому, общепризнано, что неденежные факторы играют более значительную роль, чем допускал Хоутри. Нарисованная им картина действий торговцев и потребителей скорее соответствует чисто торговой экономике, а не экономике, в которой большие промышленные корпорации имеют достаточно собственных сбережений, чтобы не обращаться каждый раз в банки, когда они осуществляют то или иное вложение капитала.
Экономические потрясения в концепции Хоутри вызываются скорее изменениями в денежных потоках, чем нарушениями хода производства. По Хоутри, они должны быть приписаны воздействию кумулятивных изменений, стимулируемых кредитной системой. Таким образом, свободное предоставление кредита банковской системой становится главным фактором, ответственным за экономические циклы. Решающие факторы Хоутри ищет не в отраслях, производящих товары производственного назначения, а в том, каким образом банковские процентные ставки затрагивают запасы торговцев, особенно занятых оптовыми и розничными операциями. В результате роста денежных доходов повышается спрос на деньги, а это заставляет банки поднимать процентные ставки и тем самым прерывать бум. Для Хоутри это было безусловным доказательством того, что с помощью одних денежных манипуляций можно поставить экономический цикл под контроль 343. Может быть, для цикла того рода, какой он имел в виду, деньги были действительно центральным элементом 344, но это совсем не тот цикл, который поразил капитализм в 30-х годах XX в. В этот период главной проблемой были структурные пороки. Но для Хоутри избыток капитальных благ представлялся маловероятным, потому что «...инвестиционный рынок сумеет найти сферу капитального приложения для всех ресурсов, которые на него поступают...» 345 Этот оптимизм подкреплялся тезисом, что депрессии не могут иметь места до тех пор, пока поддерживается общий спрос. Но в этом-то и все дело, что мало кто примет теперь денежное расстройство в качестве объяснения явлений, происходящих во время депрессии 34в. В наши дни теоретические конструкции строятся с учетом определения уровня 340
дохода, инвестиций и в других неденежных категориях.
Упор Хоутри на торговлю больше подходит к экономике, существовавшей до первой мировой войны. Ныне кажется сомнительным, чтобы бизнесмены так непосредственно реагировали на изменения банковской ставки. Кроме того, в условиях, когда процентная ставка изменяется вместе с общим уровнем цен, представляется необходимым изыскивать более фундаментальные методы регулирования. Но все же от проведенного Хоутри анализа нельзя просто отмахнуться, так как он много сделал, чтобы показать, каким образом банковские операции затрагивают повседневную экономическую деятельность. Если бы этого анализа не было, его наверняка пришлось бы осуществить.
6. ЛОРД РОББИНС: ЛОГИКА ВЫБОРА)
Складом ума, манерой аргументации и стилем полемики Лайонел Роббинс (род. 1898) очень напоминает Фридриха А. фон Хайека. В молодости он был приверженцем некой разновидности функционального социализма и одновременно испытал непродолжительное увлечение философией утилитаризма. Во время первой мировой войны Роббинс служил в армии и лишь после войны он приступил к серьезному изучению экономики. Позже он пришел к убеждению, что коллективизм в любой его разновидности или форме не дает ответа на актуальные экономические проблемы. Сначала его привлекла идея Пигу, что для уравнивания выгод и потерь надо использовать политику государства, и концепция Эдвина Кэннена, согласно которой теория стоимости может быть использована для доказательства вреда неравенства. Но вскоре он сделал вывод, что любая связь между экономикой и политикой в научном отношении несостоятельна. В первую очередь подход через понятие полезности в целом показался ему неудовлетворительным и неоправданным, потому что сравнение полезностей между разными лицами не может быть логически обосновано. Важно, говорил Роббинс, прежде всего расчистить почву от всего утилитаристского хлама и покончить с «философскими перебранками», так чтобы нормативные и позитивные элементы экономической науки были ясно различимы 347.
После службы в армии во время войны Роббинс начал читать лекции в Новом колледже, а с 1929 г. он является профессором экономики Лондонского университета. В 1930 г. он участвовал в комиссии при премьер-министре, изучавшей экономическое положение, причем он выступал против Кейнса, который начинал склоняться к протекционистским взглядам. Будучи в экономических вопросах убежденным интернационалистом, Роббинс смотрел на любую форму ограничений торговли как на нарушение древних принципов 34 8. Его попытка опубликовать параллельный отчет, выражавший мнение меньшинства, вызвала известную неприязнь в отношениях между обоими экономистами, хотя позже, во время второй мировой войны, они отлично сработались. В годы войны Роббинс был начальником экономической секции военного кабинета и вел эту работу весьма успешно. Полученный опыт заставил Роббинса отчасти пересмотреть свои довольно жесткие довоенные взгляды на роль государства в экономике, чем он навлек на себя недовольство ряда современных экономических либералов из школы Мизеса — Хайека 349. Возможно, их раздражало его участие в послевоенном планировании, но ясно, что Англии были нужны его способности и знания. В качестве члена английской делегации в Бреттон-Вудсе Роббинс успешно сглаживал расходившиеся страсти своими «выступлениями, исполненными серьезности и здравомыслия» 35°. В 1959 г. он был произведен в пожизненные пэры и принял титул барона Роббинса оф Клер Маркет. Подобно своему замечательному современнику Кейнсу, Роббинс отличается широтой интересов: он был членом совета попечителей Национальной картинной галереи и галереи Тэйта и совета директоров Королевской оперы.
Главная работа Роббинса —«Опыт о природе и значении экономической науки» 351. Это смелое исследование в области методологии, но выдержано оно целиком в континентальной традиции, которая ограничивала задачи и функции экономической науки проблемой выбора как единственно правильным объединяющим принципом в экономике. Роббинс полагал, что материальное благосостояние — это нечто слишком неопределенное, чтобы служить полезным критерием. Но он допускал, что экономисты XVIII в. были правы, когда они ставили в центр внимания материальную выгоду, ибо в то время ключевой проблемой были производственные возможности 352. При этом необходимо отметить, что Роббинс совершенно оши341
бочно излагал материалистическое толкование истории, поскольку он сводил его к истории техники или орудий, то есть делал как раз то, что Маркс отверг бы как искажение 353.
Центральной проблемой экономической науки, утверждал Роббинс, является распределение ограниченных ресурсов между альтернативными целями. Ограниченность благ — эта всеобщая характеристика человеческого существования — превращает экономику в науку об отношениях между людьми и вещами. К сожалению, сторонники этой точки зрения игнорируют важную область отношений между самими людьми, чем, может быть, и объясняется отсутствие гибкости в их позиции. Предмет экономической науки, конечно, включает человеческие проблемы, возникающие из отношений между людьми как нанимателем и работающим по найму, покупателем и продавцом, но концепция Роббинса требовала, чтобы эти отношения рассматривались сначала с точки зрения товаров, а потом уже с точки зрения людей. А ведь Рикардо, Маркс и Маршалл отчетливо сознавали, что редкость не есть только вопрос выбора и распределения ресурсов; понимание этого явления глубоко проникло в психологию человека, что не может не интересовать экономиста. Недостаточно предоставить социологу заниматься областью человеческих взаимоотношений. Но экономическая наука, основанная на понятии редкости, никогда не поднимала вопросы такого характера: этого не допускала ее внутренняя логика 354. Роббинс, видимо, понимал, что рынок точно отражает стоимости, но его теория не способна пролить свет на образование стоимостей под влиянием экономического принуждения, так как она исходит из факта редкости в условиях существования многих мелких покупателей и продавцов. Распределение ресурсов, опирающееся на силу, исключено из этого индивидуалистского анализа. Нельзя не задаться вопросом, рассматриваются ли в этой теории в первую очередь действительно актуальные проблемы.
Итак, для Роббинса экономическая наука совершенно нейтральна в отношении целей; она может исследовать только средства. Следовательно, любое рассмотрение вопроса об экономическом удовлетворении незаконно, и у экономиста как такового моральные суждения не должны влиять на анализ. Это — область философа, на границах которой экономист должен поставить для себя самого знак «хода нет». Этот взгляд в большой мере объясняет, почему деньги представляют собой покров: раз экономические отношения — это отношения между людьми и вещами, для того, чтобы добраться до реальных сделок, надо сорвать денежный покров. Он объясняет также, почему экономистам надлежит принимать технические условия производства просто как нечто данное; все, что находится за пределами этого, составляет сферу компетенции инженера. Теперь, конечно, эту концепцию было бы трудно защищать, ибо такие прогрессивные методы, как линейное программирование, основаны как раз на идее выбора между альтернативными техническими решениями. Очевидно, технические факторы не могут быть просто сведены к заданным условиям, так как если задана цель, то на выбор средств серьезно влияют как существующая техника, так и общественная среда 355. Но теоретическое исследование, по Роббинсу, направлено лишь на изучение формальных свойств уравнения человек — товары. Предложение, спрос и оборот товаров важны потому, что они влияют на структуру цен и доходов; в анализ, однако, нигде не включается распределение экономической силы. Более того, формальные положения, развиваемые этой экономической наукой, предмет которой так тщательно ограничен, не обязательно должны иметь какое-либо эмпирическое содержание. Фактическая реальность — это дело экономического историка, а не теоретика. Таким образом, все острые проблемы, порождаемые массовым производством, экономией от масштабов производства и экономическими кризисами, заслонены бескровной теоретической фикцией, согласно которой определение стоимости есть дело чистого разума. Тем не менее и психологии закрыт доступ в садик экономиста. Экономическое поведение должно изучаться безотносительно к психологии и движущим мотивам человека. Отсюда нетрудно понять ничем не спровоцированные нападки Роббинса на Уэсли Митчелла и институционалистов 356. Однако на данном этапе Роббинс мог сказать по поводу актуальных коренных проблем экономической науки мало такого, что выходило бы за пределы концепции Мизеса — Хайека.
Для Роббинса экономические количества имеют столь относительную ценность, что, например, такую проблему, как индексы, можно рассматривать по примеру Мизеса, то есть по существу полностью выбросить ее. Эта крайняя относительность количественных характеристик позволяет экономисту уходить от таких вопросов, как распределение дохода, и делать утверждения вроде того, что высокие доходы имеются благодаря существованию богатых людей 35?. Однако, в то время как экономические количественные оценки пронизывает относительность, обобщения, которые делаются на 342
их основе, могут претендовать на универсальный характер. Самое большее, что можно сказать по поводу методологических изысканий Роббинса,— это назвать их опытом в области экономического формализма; но этот формализм неизбежно мешает экономисту рассматривать действительно важные проблемы. Выбор становится абстрактным актом поведения: подлинное суждение невозможно, потому что исключается рассмотрение факторов, определяющих выбор. Как однажды заметил Лонселот Хог- бен, рациональное суждение о выборе потребовало бы гораздо больших знаний, чем те, которые экономисты согласны усвоить. Может быть, поэтому они и определяют выбор как выбор 358. Результатом явилось настолько общее представление об экономической науке, что равновесие выступало просто как баланс сил 359. Экономическая теория становится самой худшей разновидностью схоластики, «сухой диалектикой редкости», совершенно лишенной реального содержания. Короче, Роббинс хотел создать экономическую теорию, настолько точную в определениях, настолько формалистическую, что поставил под угрозу даже ее претензии на статус науки.
Чтобы экономический тезис имел реальное значение, он должен поддаваться проверке. Не обязательно, чтобы в любое время можно было поставить эмпирические опыты, но по меньшей мере должны быть указаны условия, при которых может быть установлена его истинность или ошибочность 36°. Однако в экономической науке того сорта, какой проповедует Роббинс, истинность отделена от эмпирического содержания. Формальная констатация взаимосвязей мыслится независимой от констатации фактов. Так, теоретические положения по поводу издержек выражают лишь определенные отношения без всякого указания на то, ведут ли себя издержки в действительности таким образом или нет. Подобным же образом, допущение о стремлении фирм к максимизации прибыли есть просто дело удобства. Другие допущения, например о максимизации продаж, дадут иную теорию, что и было весьма убедительно показано Уильямом Баумолем 361. Теория становится игрой, в которой категориями можно манипулировать в соответстии с правилами, зафиксированными в исходных условиях; эти категории не становятся, как требовал Шумпетер, программой исследования. Самое большее, что могла сделать теория Роббинса,— это выразить следствия, вытекающие из какого-нибудь основанного на опыте тезиса. Путаница усугубляется еще тем, что многие теоретики очень часто стараются создать впечатление, будто их чистые построения суть основанные на опыте положения, ведущие к строгим экономическим законам, которые не допускают исключений или отклонений от нормы. Как показал Теренс Хатчисон, нежелание теоретиков рассматривать вопрос о том, как политическая сила может влиять на распределение, подрывает значение экономического закона в обычном смысле 362. В конечном счете такой закон не пригоден для установления подлинных причинных связей и уж наверняка не может быть использован для предсказания будущего. Принять, что рациональное поведение означает максимизацию, значит заранее постулировать определение. Человек, стремящийся к максимизации, не может быть уверен, что достиг своей цели, а если он наделен даром абсолютного предвидения, то экономическая проблема, как она ставилась Роббинсом, выплескивается за окно вместе с водой и ребенком. В условиях абсолютного знания и предвидения выбор и процесс принятия решений не имеют смысла, и весь аппарат равновесия должен быть поставлен под вопрос.
Как и следовало ожидать, Роббинс придерживался ординалистского взгляда на полезность. Хотя измерить удовлетворение невозможно, говорил он, все же о предпочтениях можно судить просто на основании порядка, в каком они располагаются. Однако, как это случалось со всеми ординалистскими теориями, Роббинс как бы протаскивал измерение через заднюю дверь. Идея Пигу о том, что перераспределение дохода может увеличить общую сумму полезности, была для него неприемлема, так как она подразумевает сравнение удовлетворения, получаемого разными людьми. И по той же причине он считал недопустимым употреблять такие понятия, как выгода потребителей. Следовательно, любое обоснование политики благосостояния может быть скорее этическим, чем экономическим, потому что аргументы, основанные на экономических соображениях, потребовали бы единогласного принятия программы перераспределения. Тем не менее, допускал Роббинс, прагматический характер любого плана перераспределения позволил бы действовать так, как будто сравнения между разными лицами возможны 363.
Роббинс хотел ввести в анализ полезности элементы антиципации, и, возможно, он прав в этом. Следовательно, он отверг бихевиористскую интерпретацию так же, как и отверг кардинализм. Выводы экономической теории не обязательно должны основываться на наблюдениях за поведением человека, а могут опираться также на предположения относительно оценок и расчетов, которые делают люди 364. Но эти оценки и расчетй должны быть упоря343
дочены в рамках определенной системы предпочтений. Картины Гольбейна или Рембрандта могут быть оценены с помощью простой процедуры упорядочения, и этого достаточно, чтобы выразить суждение человека о различной ценности сравнимых предметов. Теория стоимости, настаивал он, требует лишь таких решений по поводу различных типов товаров: необходимости в измерении нет. Кроме того, в отличие от Робертсона, который стремился проводить различие между экономическим благосостоянием и общим благосостоянием, Роббинс рассматривал лишь состояния духа, определяемые экономическими элементами. Это была та граница, переступить за которую он не смел. Изучение же потребностей и того, каким образом меняется их природа и характер,— не дело экономиста. В сущности, по мнению Роббинса, между экономикой и психологией нет тесной связи, и экономические построения не могут опираться на такую связь 365. В результате сфера экономического анализа ограничивается чисто техническими вопросами, такими, как издержки, стоимость и рента.
Роббинсу не приходило в голову, что психологические исходные принципы в скрытом виде все равно имеются в его формалистической концепции: волей-неволей она внушает определенное представление о природе человека. Но это представление о чем-то навечно застывшем, и уже по этой причине оно должно быть отвергнуто теми, кто сознает, что вечна лишь пластичность человека. Вопреки настойчивым утверждениям Роббинса экономическая наука не может существовать без понятия о человеке, без психологии. До сих пор это остается одной из самых острых проблем экономической науки. Человек не всегда действует на рынке сознательно или рационально: даже если он знает, что он делает, им могут руководить привычки или импульсы. Теперь уже достаточно известно о природе поведения, чтобы считать, что если уж что-нибудь иррационально, так это вера в рациональность человека 366. Теория Роббинса потерпела неудачу, ибо она допускала, что непоследовательное и потому иррациональное поведение не обязательно должно вступать в конфликт с общепризнанными предпочтениями. Есть все основания сомневаться в том, может ли жизнеспособная теория существовать без психологии.
Эти исходные принципы увели Роббинса от главного течения англосаксонской экономической науки. Он явно отдавал предпочтение взглядам, преобладавшим среди экономистов континентальной Европы, в частности Австрии. С «представительной фирмой» Маршалла он обращался довольно небрежно, так как использование этой категории подразумевает, что к «предприятию» применяются иные принципы, нежели к земле и труду 367. В динамической ситуации, говорил Роббинс, когда равновесие непрерывно колеблется, возможно, что представительная фирма перестает быть таковой 368. Его главное возражение основывалось на гетерогенной природе управления — специфической черте, которую Маршаллу следовало бы принять во внимание. В своей теории издержек Роббинс еще больше приближался к представлениям, господствовавшим на континенте. Издержки у него превращались в замещенную альтернативу (displaced alternative), выраженную в стоимостях замещенных товаров зв9. И речь здесь шла о чем-то большем, нежели о техническом замещении, как полагали Найт и Хаберлер. В этой теории усиленно подчеркивались элементы «сопротивления», которые необходимо преодолевать в процессе производства. Эти элементы сопротивления заключаются в природе психических явлений, в которых важную роль играет антиципация. Такую задачу, говорил Роббинс, можно разрешить лишь на основе анализа общего равновесия: понятия Маршалла о периодах времени неудовлетворительны, так как они представляют собой лишь различные этапы одного и того же процесса.
Роббинс в основном принимал теорию экономических циклов, разработанную Хайеком 37°. Если депрессии коротки, говорил он, то сокращение издержек и закрытие значительного числа предприятий оправданы, потому что такие меры быстро восстановят благоприятные перспективы для предпринимателей 371. Не удивительно, что приверженцев этой теории обвиняли в том, что их дефляционистские призывы отдают «садизмом». Они исходили из допущения гибкости экономики, но это допущение совершенно нереально: оно игнорирует рост элементов косности и роль накладных издержек, которые все вместе создают в экономике своего рода эффект храповика 372 *. Серьезного внимания Роббинса и подобных ему авторов не привлекло и такое явление, как резкое падение общего спроса в 30-х годах. Надо также отметить, что процесс ликвидации предприятий не всегда приводит к закрытию маржинальных ** фирм, поскольку часто правительство не может допустить, чтобы кровопускание продолжалось беспрепятственно. Роббинс, * То есть допускают движение цикла лишь в одном направлении, исключая — вплоть до момента острого кризиса —«обратный ход», ослабление напряжения в экономике.— Прим, перев.
♦♦То есть фирмы с самыми высокими издержками и низкой нормой прибыли.— Прим, перев.
344
вслед за Хайеком, утверждал, что кризис происходит вследствие недостатка сбережений: плоды процветания срываются прежде, чем они созреют 373. В экономике, где процесс производства идет окольным путем *, заявлял он, колебания цен приводят к нарушениям в структуре производства, а дополнительные денежные средства (spending power), поступающие в отрасли, выпускающие товары производственного назначения, неизбежно воздействуют и на отрасли, производящие потребительские товары. Это оказывает обратное действие на сектор товаров производственного назначения, отвлекая от него ресурсы и вызывая дальнейший рост цен. То обстоятельство, что получить дополнительные средства для финансирования начатых строек оказывается невозможным, и представляет собой основу кризиса. Между тем цены в секторе потребительских товаров продолжают повышаться, что обостряет ситуацию. В результате имеет место неправильное использование и расточение ресурсов. Никогда, утверждал Роббинс, причинами кризиса не были недопотребление и недостаток спроса. Пока цены движутся одновременно с издержками, прибыль сохраняется. Проблема, говорил Роббинс, возникает лишь из-за несоответствия в этом движении. Упрощенческий характер этого взгляда ярко обнаружился во время депрессии 30-х годов. Ведь издержки одновременно являются чьими-то доходами, и понижательное движение по всему фронту означает падение спроса. При условии неэластичности цен неизбежно должны возникать залежи нереализуемых товаров. Теория как раз и призвана объяснить различие в движении издержек и цен.
Опыт, приобретенный Роббинсом во время войны, очевидно, оказал на его взгляды большое влияние. Со временем он признал, что концепция, которую он некогда поддерживал, игнорировала глубокие сдвиги и вела к поверхностному анализу экономики. Теории Кейнса и Робертсона пробудили его от «догматической дремоты» 374. Результатом явилась решительная перемена в его взглядах, во всяком случае, насколько можно судить по его послевоенным сочинениям. В них сохраняется упор на индивидуализм, но в то же время признается, что в некоторых случаях действия со стороны
7. ДЖ. Л. С. ШЭКЛ: РАСЧЕТЫ НА
За последние десятилетия экономическая теория обогатилась немногими подлинно новыми * То есть с использованием средств производства, производимых в обособившихсяотраслях.—Прим, перев.
государства уместны. Например, система свободных цен не обеспечивает эффективного использования ресурсов во время войны, потому что распределение дохода с самого начала является неравномерным 375. Он допускает необходимость обеспечивать снабжение некоторыми товарами и услугами через государственные каналы. Свободный выбор на рынке по-прежнему представляется ему желательным, но он уже сожалеет о таких явлениях, как неведение потребителей и обман. Тем не менее Роббинс еще не согласен допустить, что эти явления имеют широкое распространение. Рынок, настаивает он, все еще способен выполнять свои функции, несмотря на трудности, возникающие на нем под воздействием налогов, субсидий и всякого рода регулирования37в. Однако Роббинс уже очень далек от былых настроений, когда он предавал анафеме любое государственное вмешательство. «Теперь совершенно ясно, что даже с точки зрения относительной/эффективности распределения ресурсов система свободных цен и частного предпринимательства уязвима для серьезной критики,— во всяком случае, если не делается сознательной попытки бороться с порождаемыми ею отклонениями от нормы» 377. Хотя Роббинс далек от того, чтобы принять хотя бы ограниченный коллективизм в стиле, скажем, Аббы Лернера, поскольку он опасается, что личная свобода при такой системе окажется под угрозой, он теперь все же согласен на известное экспериментирование при условии, что в основе сохраняется свободная игра частных интересов. Возможно, говорит он, чтобы дополнить действие рыночной системы цен, следует пересмотреть патентное законодательство, усилить меры против ограничения торговли и проводить новую фискальную политику с целью стабилизации спроса. Он приходит также к выводу, что классики не были столь безоговорочными сторонниками политики laissez faire, как их изображают историки 378. Он обнаруживает у них социальное видение мира, близкое современному человеку. Конечно, так пересмотреть свои идеи —нелегкая задача, и то, что Роббинс под давлением фактов смог отказаться от недостаточно гибких элементов своих ранних концепций, свидетельствует о силе его ума.
БУДУЩЕЕ, ВРЕМЯ И РЕШЕНИЯ
идеями. Приходится в этой связи вспомнить Стивена Ликока, который на вопрос коллеги по университету Макгилла, почему он предпочитает юмор экономике, ответил: «Когда я натолкнусь на новую идею, я напишу об этом». 345
Среди наиболее интересных достижений последнего времени надо отметить теорию расчетов на будущее (expectations), разработанную Дж. Л. С. Шэклом (род. 1903), профессором Ливерпульского университета. Суть этой теории состоит в том, что она пытается охарактеризовать и исследовать психологическое состояние, в котором пребывает предприниматель, рассматривающий свои предстоящие действия. В своей теории Шэкл исследовал совершенно новые области и, несомненно, открыл новые просторы для экономического анализа. Кроме того, он превосходный стилист, пишет он необычайно легко и понятно, что делает даже математические разделы его работ приятными для чтения.
Шэкл учился в Лондонском и Оксфордском университетах, а во время войны работал помощником Уинстона Черчилля по вопросам статистики. В Ливерпуле он работает с 1941 г. В 1938 г. вышла его книга «Расчеты на будущее, инвестиции и доход», за которой в 1949 г. последовала выдающаяся работа «Роль расчетов на будущее в экономике». Но может быть, лучшим введением в систему идей Шэкла служит небольшой томик «Время в экономике», в котором собраны его лекции, читанные в Институте социальных исследований в Голландии в 1957 г. Удачно дополняет его отличный сборник статей и очерков «Неопределенность как экономическая категория», вышедший в 1955 г. Два симпозиума на тему «Неопределенность и экономические решения» (1954 г.) и специальный выпуск журнала «Метроэконо- мика» (апрель — август 1959 г.) свидетельствуют о большом интересе, который вызвал новый подход.
В системе Шэкла центральное место занимает понятие времени. Каждый момент времени, пишет он, есть уникальное событие, и человеческие существа рассматривают только текущий момент как центр чувственного опыта 379. Текущий момент, при всей его эфемерности и изолированности, неповторимо индивидуален, и его надо выделить из той исторической последовательности, в которой человек накопил опыт, взаимодействуя с внешним миром. В каждый настоящий момент оценка будущих событий существует только в воображении индивидуума. Но, исходя из этой оценки, можно построить цепь воображаемых событий, с которыми связываются определенные следствия и даже даты. Такова суть теории расчетов на будущее 38°. Прошлые события, говорит Шэкл, могут оказывать влияние лишь постольку, поскольку они существуют в памяти в настоящее время. Далее, добавляет он, поскольку уникальность каждого момента заставляет усомниться в том, действительно ли возможны сравнения событий, имевших место в различное время, старой теорией полезности можно пренебречь, так как она не вполне подходит для целей исследования. Столь точное определение элемента времени позволило Шэклу выработать новую концепцию экономического поведения.
Уникальность каждого момента привносит в расчеты на будущее элемент неопределенности. Конечно, можно задать вопрос, как это сделали шведские экономисты, соответствуют ли расчеты на будущее чувствам, вызываемым памятью. Далее, как приятные, так и неприятные ожидания могут связываться с определенными календарными датами, и когда решение в настоящем принято, может быть переброшен мост между текущим моментом и намеченной в будущем датой. Этот анализ, говорит Шэкл, делает излишней постановку вопроса о рациональности или иррациональности. Действие есть просто действие, ибо кто может сказать, что сделанный выбор был ошибочным? Обычное мнение, будто неприятные последствия указывают на ошибку или иррациональное поведение, не может быть принято во внимание, говорит он, ибо если продуманное решение включало бы как положительный, так и отрицательный исход, то результат нельзя было бы приписать ошибочному поведению. Неудачное решение просто отражает один аспект расчетов на будущее, основанных на данном наборе альтернатив.
Если бы уверенность в результатах была свойством человеческой деятельности, говорит Шэкл, то принятие решений было бы просто делом нахождения формальных решений для формальных задач. Категория неопределенности вводится потому, что предприниматель использует свою способность воображения, и именно эти акты вдохновения, повторяющиеся с течением времени, придают экономической науке ее динамическое качество. Но поскольку никто не обладает знанием будущего, экономическая наука не может предписывать образ действий. Динамическая теория, настаивает Шэкл, должна быть в основном построена на интроспекции и воображении, и нет причин, почему бы самопознание, достигаемое посредством знания текущего момента, не могло быть научным 381. Однако аргументы Шэкла трудно принять, ибо, если дело обстояло бы так, как он утверждает, невозможно было бы выработать общественные критерии человеческих поступков. Эта концепция сродни теории познания Хайека, и, как и у австрийца, она обесценивается тем, что в ней отсутствует какой-либо принцип ассоциативности (connectability) между индивидуумами. Самопознание часто обманчиво, 346
и это в сильнейшей мере способствует неуверенности. Шэкл отрицает общественную динамику * по механическим мотивам, согласно которым чувство времени приобретается посредством внешнего наблюдения событий, а этот довод представляется не слишком веским. На самом деле общественная динамика может основываться на коллективном опыте и обмене знанием, без чего трудно себе представить упорядоченную социальную и экономическую систему. Конечно, этот последний взгляд исходит из идеи взаимосвязи между человеческими существами, чего как раз недостает подходу Шэкла. В сущности, по поводу его теории, как бы внешне привлекательна она ни была, можно сказать, что она раскрывает лишь формальные свойства процесса принятия решений, абстрагируясь от всех тех факторов общественного характера, которые на него влияют.
Чувство времени, приобретаемое посредством внешнего наблюдения событий, едва ли может быть охарактеризовано как механическое. Более того, именно способность делать такие наблюдения позволяет человеку устанавливать отношения причины и следствия, особенно если представить весь процесс развития как процесс генетических изменений и роста. В сущности, Шэкла можно упрекнуть в том, что он спутал два уровня анализа: можно принять для аналитических целей атомистическое самопознание, имеющее место в текущий момент времени, не обязательно отвергая при этом важность и полезность общественной, наблюдаемой извне реальности. Как заметил Кеннет Боулдинг, мы можем функционировать в условиях объективной реальности потому, что имеем определенный образ, отражающий эту реальность, и от этого зависит наше поведение 382. Образы или представления имеют своим источником внешнюю реальность; именно эту центральную идею, лежащую на совсем ином уровне анализа, просмотрел Шэкл. Информация постоянно поступает к индивидууму, воздействуя и на его представления и на его расчеты на будущее, и не будет преувеличением сказать, что объективная реальность познаваема. Если выразиться проще, именно к этому стремятся предприниматели посредством изучения отчетов о состоянии посевов, конъюнктуры рынков и склонностей потребителей. Предпринимателю незачем быть электронно-вычислительной машиной, но даже теперь эти пугающие своей сложностью приборы могут немало сообщить ему о той среде, в которой он действует.
* То есть, очевидно, способность людей делать расчеты на будущее на базе коллективного опыта и оценок.— Прим, перев.
Многое в аргументации Шэкла’ связано с проблемой свободы воли в том смысле, что предприниматель свободен принимать любое решение, какое он пожелает. Нет смысла здесь вступать в эту дискуссию, имеющую почтенный возраст, но не лишне заметить, что свободная воля обычно функционирует в определенной среде, а полная свобода, как однажды сказал Маркс, есть признание ее границ. Антиципация может играть роль искры при принятии решения, но нельзя отрицать, что существует важная связь между средой и формированием самих антиципаций. Следствия последних всегда подтверждаются или отвергаются средой; но в системе Шэкла такие формы взаимодействия выступают просто как данные (as mere data). Текущий момент может быть лишь исходным пунктом теории расчетов на будущее, но анализ в действительности оказывается еще более сложным, чем у Шэкла 383. Например, время, несомненно, имеет свойство протяженности (texture of duration); но определение его как накопленной интенсивности (accumulated intensity) не только расплывчато, но и совершенно не придает текущему моменту того ощущения насыщенности (density), которое предполагает протяженность времени. Шэкл также отказывается принять то положение, что антиципации отдаленных событий необходимо должны быть менее интенсивны, чем антиципации близких событий. Согласно его утверждению, возможно представить себе, что отдаленные события возбуждают в условиях текущего момента более интенсивные ощущения. Кумуляция во времени полезна лишь постольку, поскольку она влияет на ощущения данного момента 384.
Чтобы полностью расчистить путь для своей собственной теории, Шэкл должен был разделаться с идеей количественного измерения вероятности, которая, как он заявляет, в применении к расчетам на будущее заключает в себе серьезные логические трудности. При ортодоксальном подходе каждой возможности из данного набора придается числовое значение в виде дроби, так что сумма значений равна единице. Это предполагает единообразные условия в серии опытов, которые следует произвести для определения вероятности, а также, разумеется, возможность повторить эксперименты. Но многие эксперименты, говорит Шэкл, уникальны. Какова, спрашивает он, вероятность при одном бросании игральной кости? Вложения капитала, производимые раз и навсегда, представляют собой единственное в своем роде событие, результату которого не может быть дана количественная вероятностная характеристика 385. Правильнее, очевидно, было бы выразить результат в категориях возможности того 347
или иного исхода. После того как действие осуществлено, говорит Шэкл, результатами могут быть либо успех, либо неудача, которые поддаются измерению с помощью приема, названного им «потенциальной неожиданностью» («potential surprise»). Иначе говоря, он ищет меру, выражающую убеждение или веру человека, с тем чтобы дать равные права каждому из двух возможных противоположных исходов 386. Но поскольку такие меры будут независимы друг от друга, вероятность их нельзя считать равной 0,5 и сумма вероятностей не обязательно должна быть равна 1. Сделать так было бы ошибкой, аргументирует далее Шэкл, поскольку и после того, как стали известны результаты, нельзя сказать, правильным ли было распределение вероятностей. Неопределенность необходимо предполагает существование «... непреодолимого элемента неведения относительно исхода по сути дела изолированной акции» 387. С последним утверждением Шэкла снова возникают трудности. Изолированы ли акции предпринимателей? Есть ли социальное поведение простая сумма изолированных акций? Является ли числовая характеристика единственным подходом к вопросам статистической вероятности? Не предполагает ли вероятность известную меру степеней уверенности? Ведь числовая вероятность предполагает, по-видимому, лишь то, что такие степени веры должны быть совместимы. Можно с полным основанием усомниться, доказал ли Шэкл свой тезис.
Распределение вероятностей в случае ex ante * рассматривается Шэклом как фикция. Все, что может сделать теоретик, говорит он,— это описать состояние духа индивидуума в связи с возможным исходом единичной изолированной попытки. Следовательно, любые усилия сравнить достоверность распределения вероятностей для разных попыток бессмысленны 388. Численные значения вероятностей в данном расчете на будущее могут быть сведены к паре чисел, одно из которых представляет благоприятный исход, другое — неблагоприятный. Такие числа отображают подлинные психологические состояния, поскольку они измеряют шансы, вызывающие в настоящее время интенсивные ощущения. С ними нельзя производить какие-либо действия, в частности сложение; они выражают индивидуальные особенности жизненного опыта, на который человек опирается в своих расчетах на будущее. Предприниматели в действительности реагируют на единичные ситуации или в крайнем случае на небольшое число ситуаций. Неуверенность не элиминируется, так как именно она «...позволяет ♦ Заранее, до события (лат.),— Прим, перев.
[предпринимателю] (и только неопределенность может позволить ему) представлять себе в качестве возможностей высшие степени воображаемого успеха» 389.
Следовательно, Шэкл стремится создать теорию, которая объясняла бы акты разума, порождающие определенные экономические действия и включающие в себя известные степени веры и сомнения. Такая теория явно должна сочетать в себе элементы логики, философии, психологии и экономики. Необходимость этого вытекает из данного им определения понятия расчетов на будущее. Теория исходит из того, что должны формулироваться гипотезы, которые могли бы быть определенным образом измерены, так что можно было бы установить степени веры в успех. Согласно этой теории человек в известном смысле видит вещи так, как ему хотелось бы, а затем воображает последствия своих будущих действий; эти последствия могут казаться ему либо крайне благоприятными, либо катастрофическими 39°. Это гораздо интереснее для предпринимателя, чем действовать в условиях, когда исход ему известен. Конечно, не все результаты данного ряда инвестиционных возможностей будут для него в одинаковой мере неожиданными. Многие возможности будут таить в себе мало неожиданностей, и в этом случае можно полагать, что выгоды или потери будут невелики. Логично предположить, что предприниматель должен сосредоточить свое внимание на перспективных вариантах, обладающих высокой потенциальной неожиданностью; иначе говоря, его интерес привлекут в первую очередь лучшая и худшая гипотезы. В некоторой точке потенциальная неожиданность превысит соответствующее увеличение выгоды, и именно эта точка, говорит Шэкл, привлечет внимание предпринимателя.
Далее, в этой теории возникает необходимость описать скорее самостоятельные колебания переменных, чем их чистый эффект. Конечно, точка зрения предпринимателя будет меняться по мере приближения следующей календарной даты и для каждой даты будет складываться новая сумма условий. Решения будут основываться на максимальном удовлетворении, даваемом оценкой шансов. Каждая сумма условий уникальна, поскольку она может не возникнуть вновь с течением времени. Но при рассмотрении этой концепции немедленно встает вопрос относительно повторяющихся решений, которые часто имеют место в производстве. Эти решения не всегда носят привычный характер, но тем не менее требуют принятия обязательств, связывающих предпринимателя на короткое время. Возникает подозрение, что анализ Шэкла с его «раз и навсегда» не учитывает регулярно 348
повторяющихся действий, которые в гораздо большей мере опираются на факторы прошлого, чем он допускает. Уникальность грозит превратиться в хаос и, очевидно, не допускает возникновения тенденций 391. С исчезновением из анализа социальных и политических мотивов индивидуум вновь становится автоматической счетной машиной классиков. Только теперь измеримой величиной становится не полезность, а неожиданность. Сомнительно, однако, что предприниматели действительно мыслят в категориях потенциальной неожиданности и что они всегда стремятся к удовольствию, связанному с наибольшей возможной выгодой. Теория игр, например, дает основание полагать, что они скорее стремятся к удовлетворительным результатам 392.
В теории Шэкла достоверность (certainty) означает высокую степень веры. Отсюда вытекает, что если ожидаемый результат не осуществляется, имеет место большая неожиданность. Значит, потенциальная неожиданность может рассматриваться как мера степени веры. Если принять тезис, что могут быть различные уровни потенциальной неожиданности, то можно сконструировать непрерывную переменную, пригодную для математической обработки. Непрерывная функция потенциальной неожиданности может быть записана как У = У (X), где У — степень потенциальной неожиданности. Итак, предприниматель, который превратился теперь в опытного математика, в состоянии измерять возможные удовлетворения. Опять-таки отрицание вероятности кажется преждевременным, поскольку функция Шэкла описывает только атомистическое поведение. Она ничего не может сказать о групповом или социальном поведении. Гибель какого-то одного самолета может быть абсолютной неизбежностью, но тем не менее самолет остается одним из самых безопасных видов общественного транспорта.
Итак, в центр теории поставлена идея о том, что внимание предпринимателя сосредоточено на гипотезе в отношении исхода рискованного предприятия. Тогда мыслимые исходы можно расположить в порядке возрастающей или убывающей желательности. Центральная часть ряда возможностей будет выражать, по-видимому, достоверность; следовательно, они покажутся неинтересными. Предприниматель предпочтет скорее сосредоточить внимание на наиболее желательном исходе и на степени убыточного исхода 393. На основе этих рассуждений Шэкл получил график, который выглядит как поперечное сечение корыта, где дно изображает средние, менее интересные возможности, а стороны расходятся к точкам, соответствующим высокой потенциальной неожиданности. Далее Шэкл строил поверхность, образующие линии которой отображают «степени привлечения внимания», а спроектировав кривую потенциальной неожиданности на эту поверхность, он получил «стандартизированные» фокальные значения (focus values), необходимые для сравнения различных ситуаций. Аргументация Шэкла весьма искусна и при данной системе посылок почти убедительна. Принимается, что совершенное знание невозможно и что предприниматели редко знают, достигнут ли они намеченных целей. В особенности это представляется верным для инвестиций 394. Согласно этой технике анализа, на поверхности выбирается точка, из которой может быть проведена кривая безразличия, соединяющая равные комбинации неожиданности и выгоды. Можно построить целое семейство таких кривых, каждая из которых будет представлять равные комбинации неожиданности и выгоды или неожиданности и убытка. Кривые безразличия и кривая потенциальной неожиданности затем накладываются друг на друга, чтобы получить точки «фокального исхода». Предполагается, что это упрощает анализ неопределенности. Решение будет принято, говорит Шэкл, в точке касания кривой потенциальной неожиданности и одной из образующих линий «привлечения внимания». Здесь будет наблюдаться максимальная склонность предпринимателей браться за данный проект 395. Это — фокальные точки, в которых ситуация неуверенности сведена к своего рода пари, при котором возможны лишь два исхода. Идея фокальных исходов ведет к понятию карты безразличия для степеней неопределенности. Если даны стандартизированные фокальные выгоды и фокальные убытки для двух возможностей, каждая из которых является уникальной, то карта безразличия покажет предпочтение со стороны предпринимателя. Оно выводится из карты безразличия «игрока», линии которой отображают отношение между фокальными выигрышами и проигрышами. Выбор падет на такой инвестиционный вариант, для которого стандартизированный фокальный исход находится на самой высокой кривой безразличия. Линии должны подниматься круче влево, потому что с увеличением фокального убытка требуется более высокая фокальная выгода, чтобы компенсировать рост первого 39в. В зависимости от темперамента данного индивидуума можно построить различные системы безразличия 397.
Согласно Шэклу, его теория может быть применена во многих областях, одной из которых является сфера инвестиций 398'. Поскольку ценность предприятия определяется его способностью приносить доход в будущем, то очевид349
но, что последний должен превышать предвидимые расходы на строительство. Если бы предприятие пришлось продавать, то его ценность с точки зрения предпринимателя зависела бы от того, сколько он рассчитывает получить от оптимистически настроенного покупателя. Целесообразность данного инвестиционного проекта может затем анализироваться с точки зрения пар фокальных значений, придаваемых различным альтернативам. Поскольку расходы включают как проектирование и стоимость участка, так и величины, подлежащие определению в будущем, в расчет должны быть включены как объективные, так и субъективные элементы. С течением времени суждения будут меняться под влиянием новой информации и изменений соответствующих данных. В ходе непрерывного сопоставления потенциальных выгод и убытков в анализ будут также включены факторы ликвидности 3". Таким образом, решения о том, вкладывать или не вкладывать деньги, и даже о том, взять ли ссуду, будут всегда подвержены изменениям. В любое время, однако, решающим фактором является субъективная привлекательность инвестиций. Йсихологическая антиципация удовлетворения каждый раз налицо, когда предприниматель предвидит приятные ощущения и переживания. Замедление инвестиционного процесса может произойти вследствие задержки принятия решений, или, напротив, дух оживления может вызвать целую серию решений об инвестициях. В первом случае предпочтение ликвидности одерживает верх над принятием конкретных обязательств. Но Шэкл отмечает известную неравномерность в этой области, поскольку и уменьшение выгод, и увеличение убытков может иметь одинаковый эффект. Учитывая характер предпринимательских реакций, представляется вероятным, что приостановка процесса инвестирования будет более резкой, чем его усиление.
Из сказанного выше вытекает и определенный подход к теории экономических циклов. Ведь, оставаясь в рамках чисто психологической концепции Шэкла, необходимо было бы абстрагироваться от периодов производства, неравномерного распределения доходов, денег и кредита, лагов в движении издержек и цен, обмена между отраслями, производящими товары производственного назначения, и отраслями, производящими потребительские товары, и самое главное, от воздействия государства на экономику. Можно утверждать, как это делал Пигу, что психология предпринимателя играет самую важную роль в циклических колебаниях, но в свете многих сложных элементов, необходимых для понимания экономических циклов, одни лишь расчеты на будущее и мотивы неуверенности представляются явно недостаточными. Еще один недостаток подхода Шэкла к инвестиционным решениям состоит в ограниченной применимости теории: в ней считаются возможными лишь два вида активов или два варианта инвестиций. Ясно, однако, что инвесторы часто имеют дело с портфелем активов. Попытаться распространить теорию Шэкла на такие случаи предстояло другим авторам 40°.
До сих пор анализ исключал налогообложение. Очевидно, что данное вложение капитала не будет произведено, если соответствующая кривая безразличия для игрока не будет достаточно высока также и после уплаты налогов 401. Предприниматель по необходимости рассматривает налог как элемент издержек, поскольку он явно уменьшает его фокальную выгоду. Поэтому конечный результат налогообложения, говорит Шэкл, состоит в сокращении инвестиций. Какую же налоговую систему следует тогда ввести? По его мнению, любой доход, обусловленный просто удачей, надо облагать, а доходы, связанные с творческой фантазией и знанием, облагать не следует. Но не говоря уже о том, что тем самым в теорию явно вводятся противоречивые элементы, как же власти должны отличать удачу от предусмотрительности? Не будут ли предприниматели в любом случае утверждать, что все дело в их предусмотрительности и искусстве? Единственный выход из этой дилеммы может состоять в том, чтобы облагать по высоким ставкам доходы, далеко превосходящие ожидаемые, и по низким ставкам — доходы, близкие к тем, которые предусматривались заранее. От предпринимателей, предлагает Шэкл, надо требовать, чтобы они заранее объявляли, какова «первичная фокальная величина прибылей до обложения налогами». Иначе говоря, предприниматель должен сообщать правительству, какую норму прибыли он рассчитывает получить, и отклонения от нее будут подлежать обложению 402.
Прибыль становится у Шэкла не вознаграждением за услуги, оказываемые предпринимателем, а чистым доходом, проистекающим из невозможности предсказать ход человеческих дел 403. Прибыль возникает потому, что люди могут и желают изменять окружающую среду, и в этом смысле она представляет собой награду за успех и компенсацию за несение бремени неуверенности. Прибыль как понятие ex ante связана с предвкушением прибыли. Как понятие ex ante она явно" затрагивает будущий ход действий. Итак, слово «прибыль» имеет два значения, которые следует четко разграничи350
вать. Для Шэкла вариант ex ante имеет большее значение, поскольку он прямо влияет на процесс принятия решений. Сомнительно, однако, чтобы между ними могла быть проведена такая четкая грань, так как события ex ante становятся ex post и снова принимают форму ex ante. Между прошедшим, настоящим и будущим существует непрерывная связь, которую Шэкл не смог успешно отразить в своей теории 404.
Шэкл пытался также включить в свою теорию неопределенности ссудный процент, но в его формулировке довольно трудно отличить процент от прибыли. Функция процента у него заключается в том, чтобы перераспределять капитал между альтернативными формами использования до тех пор, пока степени неопределенности для различных вложений не уравняются. Хотя в определении уровня процента известную роль может играть предпочтение ликвидности, основным фактором является неопределенность. Иначе говоря, предприниматель сопоставляет процент по получаемым им ссудам с ожидаемой прибылью, причем последняя зависит от численного значения его особой фокальной точки. Но эта ожидаемая чистая доходность, по-видимому, затрагивает только спрос на денежный капитал. Заимодавец, который также стоит перед лицом условий неопределенности, вполне может оказаться в лучшем положении с точки зрения распределения своего риска. Представляется возможным, что заимодавец сумеет применить вероятностные расчеты, так что для него процент должен представлять плату за поддающийся исчислению риск 406. В той мере, в какой речь идет о теории Шэкла, она, очевидно, ограничивается исключительно рассмотрением того, как влияют на определение процента факторы, относящиеся к спросу на капитал.
Оказалось, однако, что этот анализ удивительно легко приспособить для понимания процесса рыночного торга 406. Во всех меновых сделках заключены элементы неуверенности, поскольку каждый контрагент создает ряд гипотез в отношении предлагаемых цен. Ситуация включает четыре значения цены: объявленная, или гамбитная, цена; абсолютно минимальная цена; эффективная минимальная цена, то есть такая, какую допускает данная политика; и согласованная цена. План рыночных действий может быть определен в категориях фокальной выгоды и фокального убытка, так что решение становится определенным, если известна система игрового безразличия для каждого контрагента. Следовательно, идея неопределенности при двусторонней монополии отбрасывается. По теории Шэкла, движение происходит от гамбитной к согласованной цене, а разность между ними называется «спуск» («descent»). Она положительна для продавца и отрицательна для покупателя. Пределы спуска определяются соответствующими минимальными ценами. Небольшой спуск может свидетельствовать о боязни утратить престиж; любой спуск в данных пределах будет означать политику «потери репутаций»; возможны также сочетания обоих подходов. Образ действия, согласно этой модели, предполагает поэтому решения о политике рыночного торга, фиксации гамбитной цены и установлении соответствующих пределов. Гамбитная цена выбирается таким образом, чтобы потенциальная выгода была максимальной, так что образ действия в конечном счете зависит от фокальных выгод и фокальных убытков. Различные мыслимые стратегии могут быть описаны путем сопоставления свойственных им степеней потенциальной неожиданности с гамбитными ценами и размерами спуска. А поскольку карта безразличия данного игрока известна, представляется возможным сравнить все предполагаемые решения и определить самый благоприятный образ действий. Но так как при этом предполагается, что все планы рыночных действий составляются заранее, объяснению поддаются только действия, проводимые в соответствии с планом 407. Далее, некоторые элементы процесса рыночного торга не вошли в теорию Шэкла, а именно блеф, внезапные атаки и сговор. Принуждение и рыночная сила тоже представляют собой факторы, важные для реалистической теории рыночного торга. Если бы эти моменты были учтены, как в теории игр, описание торга могло бы быть расширено так, чтобы оно не сводилось к обычному случаю, когда две стороны торгуются по поводу единичного товара408. Теория рыночного торга Шэкла проигрывает оттого, что она ограничила себя немногими крайне жесткими условиями. Она относится лишь к малой части экономических процессов, и ей не хватает, следовательно, достаточной всеобщности.
Теория неопределенности действительно подняла важные вопросы, касающиеся логики и психологии поведения предпринимателей. Но в ней не нашли места повторяющиеся действия, а это означает, что она игнорирует большую и важную область. Кроме того, принятые Шэклом основные посылки оказались недостаточны, чтобы отразить весь спектр экономической деятельности. Им не исследованы монополистические тенденции и значение накладных издержек. В современной экономике преобладающую роль играют корпорации, и современное общество — это не совокупность атомистических, независимых действующих лиц, живущих в мире, о котором каждое из них знает очень
351
мало. Корпорации, которые знают немало об окружающей среде и всегда стремятся узнать больше, редко действуют в условиях полного неведения. Поэтому напрашивается вывод, что теория Шэкла — это просто еще одно звено в длинной цепи формалистических экономических упражнений. В условиях, когда столь большая часть экономических действий постоянно повторяется, представляется очевидным, что вероятность не может быть заменена потенциальной неожиданностью 409. Как отмечали другие критики, потенциальная неожиданность выступает просто как более хитроумный вариант обычного утилитаризма, особенно учитывая постоянное обращение этой теории к мотивам антиципированного удовольствия и огорчения 41°. Может быть также поставлено под сомнение использование непрерывных функций для описания поведения предпринимателей 41 Вполне разумно предположить, что последние ведут себя не как уравнения высшей математики и что описание их действий может потребовать математики дискретных величин. И что главнее всего, Шэкл полностью пренебрег в своей теории политическими факторами и понятием целей бизнеса412. Может быть, самая острая критика в адрес этой теории была высказана Л. М. Лэчманном, который обвинил ее в полнейшей статичности. «Она ничего не говорит нам о рыночных процессах и опять- таки ничего — об обмене и передаче знаний»,— писал он 413. Анализ изменений и поправок, вносимых в расчеты на будущее, носит чисто формальный характер.
В лучшем случае эта теория применима в тех редких ситуациях, когда приходится принимать решения «раз и навсегда». Хотя Шэкл допускает, что прошлое как-то охватывается текущим моментом, он предпочитает подчеркивать фактор воображения и предвидения будущего. Но решения, особенно в корпорациях, часто предопределяются тем, что случилось в самом недавнем прошлом. Советы директоров часто проводят собрания, на которых устанавливаются периоды времени различной длительности, и руководствуются ими в процессе принятия решений 414. Ключевая проблема поэтому состоит, видимо, в том, чтобы связать расчеты на будущее с конкретной политикой фирмы (например, с максимизацией продаж, а не прибыли), установить более широкий круг возможностей, чем у Шэкла, и рассматривать их в реалистических рамках экономической деятельности 415.
Часть третья
УПОР
НА ТЕХНИКУ
АНАЛИЗА
*
Глава VI
ВКЛАД ШВЕДСКОЙ ШКОЛЫ
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КНУТА ВИКСЕЛЛЯ
На протяжении ряда лет традиции шведской школы оставались незамеченными из-за «языкового барьера». Однако, по мере того как произведения, принадлежащие представителям этого немногочисленного, но талантливого народа, делались все более доступными для американского читателя, становилось очевидным, что на арену выступила группа выдающихся экономистов, которые не побоялись сочетать теоретический анализ с практическими рекомендациями. Исходя из опубликованных ранее произведений Кнута Викселля, Густава Касселя и Давида Давидсона, они ставили диагноз недугам существующего строя, который охватывал широкий круг проблем производства, цен, денежного обращения и фискальной политики. Даже самый строгий критик не может не отнести работы представителей шведской школы к числу наиболее замечательных теоретических достижений общественных наук за последние десятилетия.
У экономистов шведской школы были, разумеется, выдающиеся предшественники, среди которых самая большая роль принадлежала Кнуту Викселлю (1851 — 1926). Это был действительно необыкновенный человек, чей жизненный путь мог бы послужить сюжетом драмы Ибсена. К изучению экономической науки Викселль приступил позже, чем большинство знаменитых экономистов-теоретиков. Будучи современником Менгера, Бем-Баверка, Маршалла и Вальраса, по своим взглядам Викселль принадлежал уже к следующему поколению. Сначала он на протяжении десяти лет занимался математикой и физикой, а «отдушиной» для его радикальных устремлений в этот период явилось изучение таких социальных проблем, как народонаселение, целибат * и проституция. Впоследствии, в 1870-х годах, он пережил духовный кризис, довольно похожий на тот, который описал в своей «Автобиографии» 1 Джон Стюарт Милль; это заставило Викселля порвать с христианской религией, и ее место занял утилитаризм, который, по его мнению, в большей степени соответствует условиям индустриальной эпохи. В конце XIX в. сторонники утилитаризма, который превратился в либерализм нового типа, утверждали, что мелкая буржуазия и растущий пролетариат по праву должны участвовать в выработке решений, влияющих на их судьбу: в соответствии с такими взглядами «всеобщее благосостояние» распространяется на эти классы так же, как и на другие. Носителями таких радикальных идей в скандинавских странах были в Дании — Георг Брандес, в Норвегии — Генрик Ибсен, в Швеции — Август Стриндберг. Распространению радикализма способствовали революционные изменения в экономике скандинавских стран: усиление неравенства и другие отрица* Обет безбрачия.— Прим, перев.
23* 355
тельные явления, сопровождавшие этот процесс, вызывали растущее недовольство бунтарски настроенных представителей среднего класса. Благодаря непрерывно расширявшемуся спросу на железо и лес экономика Швеции к 1870-м годам стала утрачивать аграрный характер. Обнаружились пагубные явления, неизменно сопровождающие развитие фабричной системы: использование детского труда, длительный рабочий день и антисанитарные условия, то есть воспроизводились последствия промышленной революции в Англии. Несмотря на это, шведское общество по-прежнему было авторитарным и антирационалистическим. Такова была обстановка, в которой Викселль обретал духовную зрелость 2.
Кнут Викселль родился в Стокгольме, он был самым младшим ребенком в семье мелкого торговца бакалейными товарами. Впоследствии его отец стал довольно удачливым предпринимателем, однако в детстве Кнута Викселля окружала атмосфера мелочной торговли. Расчетливое помещение средств в недвижимое имущество и чрезвычайно успешная предпринимательская деятельность обеспечивали семье достаточный доход, но, несмотря на это, Вик- селли общались преимущественно с людьми труда. Их бакалейная лавка находилась в рабочем районе, а принадлежавшие им комнаты они сдавали в аренду главным образом клеркам и ремесленникам. Нет ничего удивительного в том, что впоследствии Викселль предпочитал выступать в рабочих аудиториях Стокгольма, а не разъезжать со своими лекциями по учебным заведениям других городов. В пятнадцать лет Кнут Викселль лишился отца и матери; однако, опираясь на помощь брата и сестер, он мог продолжить учебу ив 1869г. поступил в Уппсальский университет. Учился Викселль блестяще; он получил ученую степень по математике, затратив на это вдвое меньше времени, чем предусматривалось программой. Однако с каждым годом Викселля все больше поглощали моральные проблемы и религиозные сомнения, чрезмерно большое внимание он уделял и студенческой деятельности. В 1885 г. Викселль получил еще одну ученую степень, на этот раз по физике. После этого он решил, что может стать «свободным художником», и начал писать стихи, в которых звучала извечная скорбь человека, страдающего от столкновения с жизненной реальностью и неразделенной любви 3.
В 1880 г. Викселль выступил с лекцией об алкоголизме, в которой он утверждал, что неумеренное потребление спиртных напитков является социальным злом; эта довольно безобидная лекция завершилась робким призывом к ограничению размеров семьи с помощью контроля над рождаемостью. Лекция послужила поводом для первого из знаменитых скандалов, в которых фигурировал Викселль и которые в наши дни выглядят как несколько комичные злоключения мелкобуржуазного радикала. Но в то время люди искренне считали такое поведение оскорбительным. Лекция сразу же снискала популярность, была переиздана и разошлась в нескольких тысячах экземпляров 4. Так Викселль оказался в центре дискуссии. Однако критические доводы его противников, особенно Давида Давидсона, убедили Викселля в том, что он еще мало знает об экономических и социальных проблемах. Завершив в 1884 г. свою необычайно длительную учебу, он покидает Уппсальский университет, чтобы заняться изучением общественных наук. В конце концов Викселль остановил свой выбор на экономической науке, которая позволила ему сочетать первое увлечение — математику — и постоянный глубокий интерес к социальным проблемам.
На протяжении последующих пяти лет Викселль путешествовал по Англии, Германии, Австрии и Франции, в эти годы он тщательно изучал произведения всех наиболее выдающихся экономистов прошлого. Познакомившись с Карлом Каутским и посетив «Фабианские собрания» в Лондоне, Викселль изменил свои взгляды: теперь он считал, что теория, предполагающая существование свободного рынка труда, абсурдна, поскольку рабочие совершенно лишены возможности влиять на рыночные процессы 5. Вместе с тем Викселль был уверен в том, что солидную основу экономической теории можно обеспечить лишь с помощью математических методов. Стремясь к осуществлению этой задачи, он наряду с произведениями представителей классической школы изучал работы Вальраса, Сиджвика и Джевонса, однако Викселль не проявлял особого интереса к идеям исторической школы, которые в то время пользовались популярностью в Германии. Наибольшее влияние на него оказал Бем-Баверк; впоследствии Викселль расширил и довольно существенным образом видоизменил представления, изложенные в книге Бем-Баверка «Позитивная теория капитала».
Когда его занятия на континенте близились к концу, Викселль встретил школьную учительницу из Норвегии Анну Багге. Они очень хотели вступить в брак, но поскольку Викселль не желал иметь ничего общего с церковным ритуалом, а гражданские обряды в то время были еще не известны, молодые вольнодумцы просто стали считать себя супругами, подписав брачный контракт. Вероятно, из-за таких 356
несколько необычных отношений, а также из-за своих радикальных убеждений он долгое время не мог получить соответствующую академическую должность. Сограждане Викселля считали его «опасным» человеком, оскорблявшим их религиозные чувства. Он был знаком с одним из наиболее стойких шведских социал- демократов — Яльмаром Брантингом, но сам Викселль не был социалистом. Викселль предпочитал утилитаристскую философию, которую он поистине выстрадал, и это несколько отдаляло его от социалистов. Викселль придерживался мальтузианских взглядов, полагая, что даже в социалистическом обществе потребуется установить пределы росту населения. Постоянно существующая социальная несправедливость вызывается, по его мнению, главным образом избыточной численностью населения в сравнении с имеющимися ресурсами; социалисты ошибаются, считая виновными те или иные институты, тогда как на самом деле повинны природа человека и его чувственность, которые должны быть поставлены под контроль 6. При обсуждении вопроса о продолжительности рабочего дня произошел полный разрыв между Викселлем и социал-демократами. Викселль придерживался того мнения, что более короткий рабочий день не всегда означает улучшение положения трудящихся: сокращение рабочего времени, по его мнению, может привести к увеличению предельной производительности, однако это будет способствовать также и повышению ставок заработной платы, а тем самым — и росту издержек; косвенным следствием явится увеличение безработицы. И хотя Викселль, вероятно, ранее пользовался некоторой популярностью среди социал-демократов, такой подход, строго в духе классической школы, окончательно подорвал его репутацию в их глазах 7.
Первыми его серьезными работами в области экономической теории явились статья о проценте и заработной плате, помещенная в издаваемых Конрадом «Jahrbucher fur Nationalo- konomie» за 1892 г., и опубликованная в следующем году книга Викселля «Стоимость, капитал и рента» 8. Тремя годами позже вышла знаменитая работа Викселля по теории налогового обложения «Finanztheoretische Untersuchun- gen nebst Darstellung und Kritik der Steuersys- tems Schwedens» *, в которой содержались материалы его докторской диссертации 9. Но поскольку курс политической экономии читался на юридических факультетах, Викселлю, чтобы * «Исследования в области финансовой теории с приложением описания и критики шведской налоговой системы» (нем.),— Прим, перев.
стать преподавателем университета, нужно было получить еще одну ученую степень — на сей раз по юриспруденции. Этот академический ритуал никак нельзя было обойти, и Викселлю не помогла даже его растущая известность. Бем-Баверк отозвался о книге «Стоимость, капитал и рента» как о первоклассном исследовании, а Вальрас заявил, что после опубликования книги Викселля следует признать ведущим специалистом в области математической экономии. В то время Викселль работал над новой книгой «Процент и цены» 10. Когда в 1896 г. Викселль нанес визит Иоганнесу Конраду в Галле, он был приятно удивлен, услышав, как Конрад пригласил своих студентов стоя приветствовать гостя 1Х. И все же университетской администрации требовался диплом, свидетельствующий о наличии ученой степени по юриспруденции. В 1899 г. Викселль получил степень и в 1900 г., в пятидесятилетием возрасте, он наконец получил место доцента кафедры политической экономии и права в Лундском университете. Если принять во внимание присущую Викселлю независимость мышления, его склонность отстаивать суждения в том виде, в каком он их считал правильными, и его репутацию «вольнодумца», остается лишь удивляться тому, что он вообще смог получить эту должность.
Единственным серьезным соперником, претендовавшим на то же место, являлся Густав Кассель, который был на пятнадцать лет моложе Викселля. Кассель лишь несколько лет занимался исследованиями в области экономической теории, однако его поддерживали консервативные элементы, которые не хотели, чтобы эта должность досталась Викселлю. Сам Кассель стремился к тому, чтобы решение данного вопроса носило объективный характер, выпады против Викселля произвели на Касселя тягостное впечатление, и он снял свою кандидатуру. Но это отнюдь не означало, что разногласия между ними были ликвидированы. Кассель развернул длительную кампанию, направленную против австрийской школы и других вариантов маржиналистской теории, в то время как Викселль считал, что его (Прежний соперник некомпетентен в этих вопросах. Они были уже близки к примирению, когда Викселль подверг критике работу Касселя, назвав ее «винегретом», после чего Кассель окончательно порвал с ним отношения 12. На протяжении последующих шестнадцати лет Викселль преподавал различные дисциплины, постоянно подчеркивая, что теоретическая подготовка квалифицированного экономиста должна включать тщательное изучение произведений Мальтуса. Но Викселль по-прежнему 357
оставался enfant terrible *. Он выступил в защиту России **, что было в высшей степени непопулярным делом; и когда он обращался к начальству, то не хотел придерживаться подобающего в таких случаях почтительного тона. В 1908 г. Викселль читал лекцию руководящим кадрам специалистов и в ходе лекции отпустил ряд иронических замечаний по поводу «непорочного зачатия»; за такое богохульство он был осужден на два месяца тюремного заключения, и, хотя Викселлю в то время было почти шестьдесят лет, он с исключительной стойкостью перенес наказание. Уйдя с преподавательской работы в Лундском университете, Викселль переехал в Стокгольм, где он участвовал в заседаниях «Экономического общества» и спокойно работал дома. Хотя симпатии Викселля были на стороне рабочего движения, он критически относился к теории, на которую оно официально опиралось. Тем не менее он поддерживал социал-демократов, когда они пришли к власти в 1921 г. В 1926 г. в возрасте семидесяти четырех лет Викселль скоропостижно скончался; так оборвалась эта яркая жизнь, которую вряд ли можно назвать отшельничеством 13.
Сжатость изложения, несколько суховатый, но четкий стиль Викселля в большой мере объясняются его серьезной математической подготовкой. Викселль полагал, что эмпиризм немецкой исторической школы не может принести сколько-нибудь плодотворных результатов, не верил он и в то, что правильный ответ дан марксистской экономической теорией или «гармоничной системой» классической школы. Свои методологические взгляды Викселль четко изложил в лекции «Проблема цели и средств в экономической науке»14. Он отмечал, что политическая экономия — это такая наука, в которой та или иная концепция всегда вызывает противоположные взгляды. Полемика оказывается настолько длительной, что у человека, пытающегося отыскать непреходящие истины, часто складывается впечатление, будто таких истин вообще не существует. Викселль понимал также, что это отражает различия в критериях суждений: он признавал, что различное понимание целей экономического и социального развития накладывает отпечаток и на трактовку теоретических проблем; тем самым Викселль, по-видимому, солидаризовался с утверждением представителей исторической школы о том, что экономические теории * «Ужасный ребенок» (франц.)} здесь — человек, который своей непосредственностью осложняет жизнь окружающим людям.— Прим, перев.
** Имеется в виду победа Великой Октябрьской социалистической революции.— Прим, перев.
имеют смысл лишь в рамках определенного места и времени. Такое утверждение, вероятно, до известной степени справедливо, однако, как подчеркивал Викселль, представители исторической школы делали отсюда неправильный вывод о том, будто вообще нельзя полагаться на дедуктивный метод. Хотя Викселль при оценке заслуг исторической школы не скупился на похвалы, все же он полагал, что ее односторонний подход к исследованию на деле препятствовал развитию экономической мысли в Германии 15.
Викселль писал, что метод абстракции является лишь одним из способов познания действительности, особенно в той области, где не может быть использовано непосредственное наблюдение. Задача дедуктивного метода, основывающегося на опыте, заключается в сопоставлении выводов с действительностью, или, другими словами, в верификации 16. В известных пределах можно прибегать даже к экспериментированию, например, в области денежного обращения: в роли экспериментатора в данном случае выступают законодательные органы. Успех австрийского правительства в деле контроля над обращением бумажных денег служил, по мнению Викселля, великолепным подтверждением справедливости его взглядов. Задача теоретического исследования, продолжал Викселль, состоит в правильной формулировке вопросов: конечно, история и статистика являются полезными помощниками, однако когда исследование ограничивается только историей или статистикой, это порождает лишь бесплодные монографии. Викселль открыто задавал вопрос: не является ли политический климат Германской империи той причиной, которая заставляет немецких ученых отказываться от теоретического исследования и от постановки вопросов? 17 С другой стороны, Бастиа и другие авторы, проповедовавшие «гармонию», были просто дилетантами, единственная цель которых состояла в том, чтобы отмести в сторону все трудности, объявив их несуществующими или несущественными. Как отмечал Викселль, эти авторы «превзошли» Рикардо, утверждая, что капиталист заслуженно получает по наследству результаты труда своих предков. Пытаясь доказать так много, они не доказали ничего 18.
Викселль использовал метод аппроксимации, который столь успешно применял Вальрас. В соответствии с этим строится теоретическая модель, в которой находят отражение лишь существенные и заслуживающие внимания явления. Далее представляется возможность сформулировать плодотворные заключения, которые затем можно сопоставить с эмпириче358
скими данными и использовать в качестве ориентиров при выборе политики. Однако, хотя Викселль и затрагивал в своих работах такие практические проблемы, как налоговое обложение и исчисление индексов, все же основное внимание он уделял чистой теории 19. Мастерское владение методами теоретического исследования Викселль продемонстрировал в книге «Стоимость, капитал и рента», где он сумел так объединить явно разнородные элементы из теоретических систем Вальраса и Бем- Баверка, что результаты могут вызвать лишь искреннее восхищение.
К тому времени, когда Викселль приступил к изучению экономической теории, различия между классической и австрийской школами выявились вполне отчетливо. Джевонс и Менгер уже опубликовали свои произведения, в которых доказывалось, что издержки не могут лежать в основе стоимости; как утверждали Джевонс и Менгер, стоимость обусловлена полезностью последней единицы соответствующего блага. Новая теория давала объяснение старинному парадоксу, который заключался в том, что малополезные блага обладают большой стоимостью, а блага, характеризующиеся высокой полезностью, — малой стоимостью. Более того, благодаря так называемому процессу вменения новая теория смогла установить связь между стоимостью выпускаемой продукции и стоимостью используемых при этом средств производства. И хотя Викселль довольно поздно включился в обсуждение указанных проблем, квазиматематическое изложение новой доктрины, приводимое в его книге «Стоимость, капитал и рента», вызвало необычайный интерес 20. В основе концепции Викселля лежит следующее утверждение: стоимость не является постоянной объективной величиной, она изменяется по мере того, как изменяются представления каждого из участников обмена о рыночной ситуации 21. Викселль допускал, что редкость имеет существенное значение, но все же решающим фактором, по его мнению, является предельная полезность. Теперь уже не нужно было прибегать к утверждению, будто то, что в процессе обмена выигрывает одна сторона, другая теряет: выигрывают обе стороны. Викселль допускал, что стоимость и издержки действительно как-то связаны между собой, но это по существу отдаленная связь. По Вик- •селлю, полезность в строгом смысле слова — это математическая функция количества соответствующего блага, а предельная полезность описывается с помощью первой производной от функции, характеризующей общую полезность. Следовательно, предельная полезность служит показателем, характеризующим степень изменения общей полезности. Такие измерения теоретически мыслимы, конечно, лишь до тех пор, пока полезность блага удается сопоставлять с полезностью его субститутов при различных условиях. Затем Викселль перешел к исследованию различных форм применения одного и того же блага и вывел отсюда «теорему использования». Проблема обмена также изложена в математической форме, причем Викселлю удалось избегнуть понятия «участник торговли», которое использовалось у Джевонса; в результате все изложение у Викселля приобрело большее изящество. Обмен у него становился проблемой максимизации, поскольку предполагалось, что каждая сторона, принимающая участие в непосредственном обмене, стремится при данном уровне цены обеспечить себе наибольший выигрыш в полезности 22. Все же Викселль допускал, что более реалистично было бы рассматривать непрямой обмен, при котором используются деньги и кредит, и что это усложнило бы проблему. Можно показать, однако, что даже в этом случае обмен подчинен следующему принципу: соотношение между предельными полезностями благ, участвующих в обмене, соответствует соотношению между их ценами.
Столь же глубоким у Викселля было исследование спроса и предложения, благодаря чему он смог перейти к теории производства, поскольку потенциальное предложение — иначе говоря, та часть запаса, которая в данное время еще не предназначается для продажи,— становилась столь же важным элементом, как и сами рыночные условия. Таким путем Викселль сумел распространить исследование и на факторы производства. Викселль допускал, что связь между товарами и факторами производства устанавливается благодаря процессу вменения, а цены на землю, труд и капитал определяются в соответствии с одними и теми же принципами. Однако он показал, что такие представления являются слишком упрощенными, поскольку в них не учитывается элемент времени. Производство представляет собой серию процессов обмена, которые осуществляются в различное время; тем не менее они охватывают весь период, на протяжении которого ведется производство. Не прибегая к такой трактовке производства, довольно трудно дать объяснение проценту и производительности 23. Более того, при обычном анализе предельной полезности следует учитывать наличие неделимых благ, в связи с этим возникают сомнения, знают ли на самом деле участники обмена о предельной полезности что-либо, кроме того, что они просто предпочитают одни блага другим. Викселль понимал также, что проблема 359
еще более осложняется ввиду взаимодополняемости и взаимозаменяемости благ.
И все же главную роль в его исследовании играло признание того, что конкуренция является несовершенной. Викселль отмечал, что конкуренция и монополия — это не обособленные, изолированные рыночные явления, а скорее, два полюса рыночного спектра 24. Очевидно, однако, что в связи с существованием фирм, которые могут с помощью манипуляций в области производства или спроса устанавливать свои собственные цены, маловероятно, чтобы цены были пропорциональны предельным полезностям. Тем самым Викселль признавал, что предположение насчет конкурентного рынка имеет смысл лишь тогда, когда снижение издержек при расширении производства незначительно и когда преобладает постоянная доходность. Он внес вклад в разработку проблемы дуополий, выступив в защиту того решения проблемы, которое предложил Курно, а именно, что на рынках, характеризующихся дуополией, может быть достигнуто определенное равновесие. В качестве примера несовершенной конкуренции Викселль приводил розничную торговлю. В этой сфере вследствие совместного предложения цены, по-видимому, отклоняются от уровня, предусматриваемого обычной теорией издержек. Кроме того, розничная торговля характеризуется дифференциацией по местоположению; этот фактор во многих случаях неблагоприятно отражается на потребителях, которые слишком часто ничего не понимают в свойствах продукта или полностью зависят от розничного торговца. Викселль рассматривал также проблему двусторонней монополии. Исследование этого случая в книге «Стоимость, капитал и рента» представляется схожим с анализом Эджворта, поскольку в пределах, ограниченных кривой сделок, данная проблема не имеет определенного решения. Впоследствии в очерке, посвященном математической экономии, Викселль занял несколько иную позицию, утверждая, что равновесие может установиться в том случае, когда монополиста интересуют размеры производства 2б. Хотя Викселль и соглашался с новой теорией, все же он был слишком проницателен для того, чтобы принять следовавшие из нее этические выводы. Викселль ни на минуту не допускал, что при совершенной конкуренции может быть достигнуто максимальное удовлетворение потребностей, поскольку он понимал, что для этого потребовалось бы более справедливое, чем существовавшее в то время, распределение богатства и дохода. Лишь в том случае, когда распределение доходов является «оптимальным», будет оптимальным и обмен26.
В начале текущего столетия теория предельной производительности развивалась сразу в нескольких направлениях; в связи с этим требовалось консолидировать и по-новому изложить данную теорию. Неожиданно обнаружилось, что в произведениях Джевонса, Бем-Баверка и Уикстида встречаются противоречивые положения. Следовательно, задача Викселля заключалась в таком изложении этого раздела маржиналистской теории, чтобы он по крайней мере не содержал взаимоисключающих положений. Хотя теоретические представления австрийских и английских экономистов в основном совпадали, все же между ними имелись существенные различия в трактовке капитала и проблемы распределения. Викселль взял у Джевонса понятие предельной полезности, слил его с теорией капитала Бем-Баверка и все это поместил в «оправу» из условий равновесия Вальраса, тем самым поселив всех под одной теоретической крышей. И здесь он использовал математический метод. Если результаты производства можно представить в виде функций от используемых факторов производства, то, как указывал Викселль, в соответствии с требованиями хозяйственного принципа «...каждый фактор будет использоваться в таких масштабах, при которых сокращение производства, вызываемое изъятием небольшой части одного из факторов, будет соответствовать доле доходов, направляемой на оплату этого фактора производства» 27. Тем самым предполагалось, что весь продукт расходуется на оплату факторов, используемых в процессе производства. Функциональное распределение, по существу, обусловлено вменением факторам производства тех долей продукта, которые соответствуют предельной производительности этих факторов. Викселль поднял теорию предельной производительности на новую высоту; при этом он воздавал должное заслугам Уикстида, которому впервые удалось доказать теорему об исчерпании продукта при оплате факторов производства 28.
Когда эту проблему рассматривали австрийские экономисты и Парето, у них весь процесс исследования оказывался пронизанным соображениями этического порядка. Что же касается американского экономиста Джона Бейтса Кларка, у него этические соображения мало отличались от откровенной апологетики. В представлении этих авторов распределение в соответствии с предельной производительностью свидетельствует о самой лучшей организации общества, существующей в условиях всеобщего равновесия. Потребителям достается максимальная полезность, а в сфере производства организующим принципом оказывается равен360
ство между ценой и наименьшими средними, а также и предельными издержками. В отличие от этих экономистов Викселль отвергал всякий подход с нормативных позиций; в данном вопросе он заходил настолько далеко, что обвинял сторонников манчестерской школы * во вмешательстве, не обоснованном с научной точки зрения, и даже критиковал Парето за подобные представления 29. Основное возражение Викселля против этической интерпретации исходило из того, что сопоставление полезности, которой обладает благо с точки зрения различных людей, психологически неправильно 30. Более того, при таком подходе упускается из виду неравномерное распределение дохода и богатства. Далее Викселль доказывал, что можно построить единую систему цен, позволяющую обеспечить более высокую полезность, чем та, которая с теоретической точки зрения достигается благодаря конкурентным ценам; тем самым предполагалось, что плановая экономика может обладать преимуществами в сравнении с бесплановой 31. Все же Викселль относил себя к числу либералов — сторонников конкурентной системы. Однако в отличие от своих предшественников, у которых нормативный подход столь часто отождествлялся с позитивным, Викселль никогда не смешивал их.
Раздел, в котором приводится специальное теоретическое исследование производительности, начинается с рассмотрения производства в условиях, когда капитал отсутствует; другими словами, сначала изучаются ситуации, когда в производстве участвуют только труд и земля32. Если рассматривать собственника земли в качестве предпринимателя, тогда заработная плата рабочего должна определяться его предельной производительностью в чисто теоретическом смысле, в то время как ренту следует рассматривать как остаточную часть продукта. С другой стороны, если рабочий выступает в качестве своего собственного нанимателя, тогда заработная плата представляет собой остаточный продукт. В своем исследовании Викселль предполагал также, что существует тенденция к росту издержек или убывающей доходности, так как в противном случае крупные фирмы всегда поглощали бы мелкие 33. В этом вопросе он придерживался той точки зрения, что средние размеры продукта зависят от масштабов функционирующего предприя-
♦ Манчестерская школа — одно из направлений в буржуазной экономической политике, получившее наибольшее развитие в Англии в первой половине XIX в. Сторонники этой школы выступали за отмену покровительственных пошлин и выдвигали лозунг свободы торговли.— Прим, перев.
тия. В связи с этим концепция Викселля необходимо предполагает изменение пропорций; правда, смысл использования понятий предельных и средних величин в ряде случаев недостаточно ясен. Для объяснения ренты при таком подходе не требовалось специальной теории 34.
Открытия и технические усовершенствования могут вызывать изменения пропорций, в которых используются земля и труд, однако Викселль настойчиво подчеркивал, что более широкое применение машинной техники не может неблагоприятно отразиться на положении трудящихся. Исследование должно выяснить предельные условия равновесия, а не общие условия производства. Следуя современной терминологии, это можно было бы выразить следующим образом: распределение продукта между капиталом и трудом определяется предельными нормами их взаимозаменяемости. Все же в эти рассуждения, по-видимому, где-то вкрался «порочный круг»; дело в том, что такие предельные нормы взаимозаменяемости, обусловливающие пропорции, в которых должно происходить распределение продукта, нельзя определить, если не известны заранее размеры заработной платы и прибыли. Во всяком случае, рабочие не могут добиться повышения заработной платы исключительно вследствие своей многочисленности, говорил Викселль, вновь обнаруживая верность мальтузианским идеям 35. По его мнению, этот фактор, более чем какой- либо другой, мешает рабочим участвовать в присвоении результатов расширившегося производства. С сожалением он отмечает также, что в результате некоторых изменений в технике производства доля рабочих в совокупном продукте понижается, а следовательно, «...те, кто видит в свободной конкуренции достаточное условие, позволяющее обеспечить максимальное удовлетворение потребностей или желаний всех членов общества, допускают серьезную ошибку» 36. Викселль критикует Касселя за то, что последний, исходя из моральных соображений, воспринял представления классической школы о механизме свободного установления цен 37. Никакого хозяйственного провидения, которое гарантировало бы каждому человеку причитающуюся ему справедливую долю в продукте, не существует. Викселль напоминал своему оппоненту, что бедняки в действительности и не обладают подлинной свободой выбора в потреблении, потому что для них предназначены лишь самые дешевые сорта и товары наихудшего качества. Достаточно хорошая система нормирования товаров, безусловно, позволила бы улучшить их жизненные условия!
Хотя Викселль вполне отчетливо представлял себе значение динамических процессов — 361
вероятно, более отчетливо, чем некоторые его последователи,— все же его исследование укладывалось в рамки статичной системы. Рассматривая влияние технических усовершенствований, он интересовался пропорциями между используемыми факторами производства. По мере того как с течением времени осуществляется накопление капитала, предельная производительность последнего обнаруживает, по мнению Викселля, тенденцию к понижению, и, хотя та часть продукта, которая достается капиталу, в абсолютном выражении может увеличиваться, его относительная доля в совокупном продукте уменьшается по сравнению с тем, что владельцы земли и рабочие могут обеспечить себе в форме ренты и заработной платы. (Кажется совершенно очевидным, что такие представления имеют ряд сходных моментов с концепцией предельной эффективности капитала у Кейнса.) Тем не менее долгосрочные инвестиции могут вызывать повышение нормы прибыли, и, следовательно, до тех пор, пока продолжается накопление капитала, в длительном аспекте удается преодолевать предполагаемые неблагоприятные последствия технических изобретений — если, конечно, численность рабочих не будет по-прежнему возрастать так же стремительно 38.
В условиях полной занятости, доказывал Викселль, накопление капитала теоретически может осуществляться лишь в том случае, когда сбережения увеличиваются быстрей, чем численность рабочих. Однако неизбежная конкурентная борьба за ресурсы порождает тенденцию к увеличению ставок заработной платы и платежей владельцам других факторов производства, в результате чего некоторая часть сбережений поглощается повысившейся заработной платой (в «реальном» выражении). Описанный процесс впоследствии получил известность под названием «эффекта Викселля» 39. Викселль предполагал, что предприниматели, наделенные даром совершенного предвидения, могут заранее учесть этот эффект и соответствующим образом приспособиться к нему. Но вряд ли можно сомневаться, что там, где господствует неопределенность перспектив, будет иметь место «частичное поглощение реальных сбережений». Эти положения, по мнению Викселля, имеют серьезное значение для теории капитала и процента, поскольку с их помощью можно доказать, что предельная производительность капитала не является, как полагали другие авторы, важным фактором, влияющим на уровень процента. Впоследствии Хайек попытался отвести это возражение, предположив, что в ожидании подобного развития событий предприниматели, вероятно, станут заблаговременно накапливать товары, на которые обменивается заработная плата 40. Однако это уже означает своего рода планирование и предвидение, на которые вряд ли можно рассчитывать в условиях динамической экономики. «Эффект Викселля», по-видимому, носит достаточно реалистичный характер, особенно если трактовать его как долговременную тенденцию 41, которая осуществляется на протяжении такого периода времени, когда структурные изменения могут приспособиться к постепенному повышению реальной заработной платы. Викселль приводил следующий аргумент: прирост реального капитала эквивалентен предельной производительности капитала в масштабах общества в целом. Частное от деления этого прироста на сумму сбережений характеризует степень производительности реального капитала. В соответствии с прежними представлениями такой показатель должен был бы совпадать с нормой процента, однако в действительности он оказывается меньше настолько, насколько заработная плата становится элементом реального капитала. Формулируя вопрос таким образом, Викселль смог рельефно выделить проблемы, возникающие в связи с изменениями в накоплении капитала, и подчеркнуть влияние, которое эти изменения могут оказать на масштабы производства, распределение доходов, сбережения и личное потребление.
Знакомясь с тем, как он использует понятие предельной производительности, читатель поражается не только искусному сочетанию порой разнородных элементов, встречавшихся у Вальраса, Джевонса и Бем-Баверка, но и той легкости, с которой Викселль применяет математические и литературные приемы изложения. Хотя Викселль разделял некоторые сомнения по поводу маржиналистской теории, все же вначале он отвергал критические замечания, основывавшиеся на том, что события хозяйственной жизни не являются непрерывными. Однако его аргументация не совсем убедительна. Развитие хозяйственных процессов на деле характеризуется значительно большим «трением», чем это допускал Викселль. В конце концов ему пришлось признать, что некоторые внеэкономические мотивы — такие, как альтруизм,— могут одержать верх над чисто экономическими факторами. А когда речь заходила об одновременном производстве разных продуктов — случай, не редкий в хозяйственной практике,— маржиналистская теория, по- видимому, запутывалась в лабиринте осложнений.
Предельная производительность, естественно, вела к теории капитала. Идеи Викселля отно362
сительно капитала представляют важный вклад в экономическую теорию. Хотя его основные представления полностью основывались на теории Бем-Баверка, Викселль настолько развил и улучшил ее, что по существу создал новую теорию 42. В центре внимания у него находились накопление капитала и его влияние на распределение. Метод Викселля сводился к следующему: включив в число факторов землю, он рассматривал изменение пропорций между факторами производства, а затем распространял свои выводы на хозяйственную структуру, охватывающую ряд различных товаров. Он отвергал «первое основание» Бем-Баверка, согласно которому выплата процента обусловлена тем, что возможности производства благ изменяются в зависимости от продолжительности периода; Викселль считал, что этот фактор, по существу, не играет важной роли. Все же тезис о том, что существует тенденция к недооценке будущих благ, по его мнению, имеет определенный смысл. «Третье основание» Бем-Баверка, гласившее, что с технической точки зрения текущие блага обладают преимуществами, обеспечивая более высокую предельную полезность, чем будущие блага, Викселль связал с идеей производительности теснее, чем это, вероятно, имел в виду сам Бем-Баверк 43. Более эффективно, чем его предшественники, Викселль исследовал также стоимостные аспекты производительности капитала. По его словам, связь между стоимостными и техническими аспектами устанавливается благодаря понятию времени. Как только такая связь установлена, капитал можно рассматривать как «...единую цельную массу сбереженного труда и сэкономленной земли,— массу, которая накапливалась на протяжении ряда лет»44. Следовательно, Викселлю, по-видимому, удалось сформулировать единое понятие капитала, которое обладает преимуществами по сравнению с аналогичным понятием, использовавшимся Бем-Баверком, ибо у Викселля капитал включал и все средства существования рабочих, тогда как Бем-Баверк ограничивал это понятие частным капиталом.
Следующим шагом в ходе теоретического анализа явилось исследование капитала с точки зрения его «стратификации по времени»; в результате Викселль пришел к выводу о том, что у накопленного труда и сэкономленной земли предельная производительность выше, чем у текущих ресурсов. Благодаря этому, по мнению Викселля, обеспечивается возмещение потребленного капитала и «еще некоторая величина сверх этого», которая является не чем иным, как процентом46. Время стало у него центральным понятием и вместе с тем самым гибким измерением капитала, тогда как процент превратился в предельную производительность ожидания46. Впоследствии, излагая теорию капитала в своих «Лекциях», Викселль неожиданно внес в нее ряд изменений по сравнению с книгой «Стоимость, капитал и рента»; по-видимому, следует отдать предпочтение концепции, содержащейся в «Лекциях», поскольку с ее помощью можно показать влияние накопления капитала на размеры годового производства и на распределение. С теоретической точки зрения капитал в любом обществе представляет собой совокупность всех единиц сбереженного труда и сэкономленной земли, помноженных на периоды времени, на протяжении которых эти единицы выступали в качестве инвестиций. Такой формулировкой подчеркивалось, что капитал обладает как «высотой», так и «шириной» и что он может измеряться средней продолжительностью производственного периода, требующегося для того, чтобы мог быть накоплен весь используемый капитал. Однако впоследствии Викселль, отказавшись от такого подхода, использовал понятие среднего инвестиционного периода, который исчисляется от начала использования факторов производства до момента реализации готовой продукции. Поскольку на различных стадиях производства может потребоваться неоднократное использование факторов производства, Викселль полагал, что в качестве удельных весов при инвестициях должны выступать соответствующие процентные ставки. Благодаря этому можно установить более непосредственную связь между инвестиционным процессом и изменениями размеров капитала. Однако неясным остается следующий момент: в своей прежней работе Викселль относил товары длительного пользования к категории недвижимого имущества, и, следовательно, железные дороги, здания и дороги оказывались лишь вторичным явлением, а чистый доход от них выступал в форме своеобразной ренты, котора'я обусловлена просто стоимостью их полезных услуг47. Другими словами, эти формы капитала по существу представляют собой накладные издержки всего общества, которые лишь косвенным путем принимают участие в производстве. Если интерпретировать определение Викселля таким образом, тогда, несмотря на некоторые содержащиеся в нем неясности, оно все же имеет определенный смысл 48.
Доход от долгосрочных инвестиций должен быть больше суммы доходов, получаемых от краткосрочных инвестиций. В противном случае использование капитала ограничивалось бы краткосрочными, но зато более надежными вложениями 49. Иначе говоря, по-видимому, стало 363
бы возможным появление менее окольных методов производства. Вследствие этого меновые пропорции между настоящим и будущим временем зависят от разности между стоимостью совокупного продукта и суммой, которая выплачивается владельцам факторов производства за определенный промежуток времени, скажем за год. Тем самым предполагалось, что капитал не является просто еще одним фактором производства, у него появляются своеобразные черты, а его владелец получает доход, который может принадлежать только ему. Весь продукт можно было свести к сумме заработной платы и процентов на взятый взаймы капитал. Точка зрения о том, что за счет капитала, находящегося в свободной форме, авансируются другие факторы производства, оказывалась чрезвычайно сходной с теорией фонда заработной платы. А распределяются эти авансы, разумеется, в соответствии с предельной производительностью используемых факторов производства 50.
Такие измерения, как «высота» и «ширина» капитала, более наглядно выступают в динамичных условиях. Только в этом случае появляется возможность увидеть «стратификацию капитала» по времени. «Высота» характеризует продолжительность времени, которое требуется для того, чтобы различные элементы капитала стали пригодными для использования, а «ширина»— удельный вес тех услуг факторов производства, которые необходимы для возмещения потребленных капитальных благ. Поэтому возросшая «ширина» означает пропорциональное увеличение капитала в уже существующих формах, тогда как изменение «высоты» предполагает переход к иным формам капитала. Викселль полагал, что вначале развитие происходит чаще всего в форме «расширения» капитала, а это влечет за собой понижение предельной производительности капитала и процентной ставки. Однако, поскольку отдельные капитальные блага фактически обнаруживают различные тенденции, причем предельная производительность капитальных благ с коротким периодом «созревания» снижается быстрее, чем доходы от капитальных благ, требующих более продолжительного срока «созревания», можно полагать, что возросшую роль теперь играет «более высокое» строение капитала51.
Викселль сознавал, какую роль играет накопление капитала, и в этом вновь проявлялась его тяга к динамическому анализу. Вряд ли можно полагать, что размеры капитала ограничены, поскольку, как указывал Викселль, они могут быть увеличены посредством сбережения. Следовательно, для того чтобы получить полное представление о том, как функционирует экономика, нужна теория сбережения. Это побудило Викселля заняться исследованием мотивов сбережения; здесь он между прочим отметил* что сбережение, осуществляемое мультимиллионерами, еще не означает роста всеобщего благосостояния. В общем Викселль исходил из предположения о том, что изменения в процентных ставках оказывают какое-то воздействие на накопление капитала, хотя и допускал, что в этом вопросе нет полной ясности. Викселль отметил также, что в «коллективистском обществе необходимое накопление капитала, вероятно, может осуществляться более эффективно, чем в условиях индивидуалистической экономики 52.
Функционирование современного хозяйства, по мнению Викселля, основывается на кредитных операциях, причем структура кредитной системы приспособлена к тому, чтобы облегчать закупку товаров для продажи. В связи с этим хозяйственные операции получают денежное выражение, хотя цель состоит в том, чтобы получить в свое распоряжение товары 53. Для того чтобы приобрести оборотный (mobile) капитал, а затем с прибылью продать этот капитал или его продукт, предприниматели получают кредиты. Цель получения ссуды может заключаться в том, чтобы превратить оборотный (fluid) капитал в основной, однако это не противоречит задаче обеспечения большей прибыли. Но деньги и капитал — это не идентичные понятия, потому что ссуде денег соответствует «денежная», а ссуде капитала —«реальная» процентная ставка. Процент проявляется в форме прибавочной стоимости, возникающей в рамках денежных отношений, благодаря же «созреванию» или «выдерживанию» ресурсов, как видно на примере с вином, становится возможным увеличение предельной производительности и получение большего дохода б4. Именно различие во времени — понятие, введенное Бем-Баверком,— служит связующим звеном между техническими и стоимостными аспектами капитала и в конечном счете образует основу процента как одной из форм дохода. Сам уровень процентной ставки явно регулируется спросом на реальный капитал и его предложением, причем в результате технического прогресса спрос на капитал расширяется. Предложение капитала увеличивается благодаря сбережению, процветанию и дальновидности; причину его сокращения Викселль — в соответствии со своими мальтузианскими представлениями — видел в увеличении народонаселения. В таком случае весь процентный доход распределяется в соответствии с предельной производительностью, характеризующей различные сочетания элементов. «Реальная» процентная ставка порождена функционированием 364
реального капитала. Однако, поскольку в условиях денежного хозяйства накопленные ресурсы оцениваются в денежном выражении и обмениваются на деньги, возникает «денежная» процентная ставка, которая, как полагал Викселль, может отклоняться от «реальной» ставки процента.
С тех пор было опубликовано значительное число комментаторских произведений, посвященных вопросу о том, что Викселль подразумевал под своей «реальной» процентной ставкой. В некоторых из этих произведений ее называют «естественной» процентной ставкой, или такой ставкой, которая существовала бы, если бы экономика могла функционировать, не прибегая к использованию денег. Высказывалось предположение, что, когда «денежная» процентная ставка соответствует «естественной», заимодавец получает «нормальную» процентную ставку. Поэтому существенное значение имеют различия между «нормальной» и «денежной» процентными ставками56. Как бы ни складывалось соотношение между этими двумя ставками, процент возникает как доход, проистекающий из различий между производительностью труда и земли, используемых в настоящее время, и производительностью накопленных ресурсов, причем последние характеризуются более высокой предельной производительностью, поскольку предполагается, что такие ресурсы встречаются более редко. Однако для того, чтобы обеспечить постоянный поток сбережений, процентная ставка на протяжении любого промежутка времени должна быть одинаковой для всех предприятий и при всех формах использования капитала, а отношение между уровнями производительности земли в последующий период и в настоящее время должно быть равно отношению между уровнями производительности труда за те же периоды. Всякое изменение в этих пропорциях меняет стоимость капитала и соотношение между отраслями, изготовляющими капитальные блага, и отраслями, производящими предметы потребления.
Рассматривая двухтоварную модель экономики, Викселль установил, что на протяжении периода производства обоих товаров заработная плата, рента и процент должны быть одинаковыми; максимальная величина процента совпадает с достигнутым уровнем ренты и заработной платы; имеющийся в наличии капитал соответствует численности рабочих и количеству единиц земли, и оба товара распределяются таким образом, что отношение между предельными полезностями потребляемых благ равно отношению, в которых обмениваются соответствующие товары 56. Это был обобщенный случай Вальрасовой равновесной системы. Однако здесь добрую услугу Викселлю оказывало его исключительное чувство реальности. Он признавал, что проблема усложняется вследствие существования сотен товаров; и земля и труд неоднородны; следует учитывать различия в формах используемого капитала, и к тому же на самом деле такой капитал нельзя рассматривать как часть земельных ресурсов; производство товаров — это сложный процесс, в котором принимают участие многие фирмы; и, наконец, не является неизменным и предложение труда — оно колеблется под влиянием некоторых экономических и демографических факторов.
Для того чтобы лучше понять теорию денег Викселля, необходимо вспомнить о проходившей в 1890-х годах в странах Европы и в других странах широкой дискуссии о проблемах денежного обращения,— дискуссии, которая предвосхитила развитие событий в этой области вплоть до 1930-х годов. В конце концов представления шведской школы получили известность за пределами Швеции и нашли отражение (хотя и косвенным путем) даже в произведениях Кейнса. Однако тогда, в начале века, в центре дискуссии стояла проблема золотого стандарта. После того как он был повсюду признан наилучшей формой денежного обращения, падение оптовых цен обусловило требования перехода к биметаллизму, к золотому и серебряному стандарту. Этот вопрос находился в центре внимания как политических деятелей, так и теоретиков-экономистов. К тому времени позиции количественной теории денег оказались подорванными, а сторонники использования банковских операций с целью регулирования кредита одержали победу над своими оппонентами, представителями так называемой денежной школы (currency school). Все же это не могло удовлетворить Викселля. Представители денежной школы подчеркивали, что чрезмерный выпуск банкнот влечет за собой развитие инфляции, и Викселлю эта точка зрения представлялась обоснованной. Он стремился к обеспечению стабильного уровня цен и полагал, что для достижения этой цели может быть использована политика регулирования процентных ставок. Приводя свое знаменитое описание «кумулятивного процесса», Викселль прослеживал воздействие процента на хозяйственную деятельность и таким путем — на цены. «Кумулятивный процесс» характеризовал влияние банковских операций на уровень цен, он выступал в качестве своеобразного дополнительного варианта количественной теории денег, потому что в нем решающая роль отводилась расширению банковского кредита 57. 365
Раныце считали, что изменения цен на отдельные товары не имеют прямого отношения к общему уровню цен, и в результате связь между теорией денег и теорией цен казалась довольно слабой. Исходные предпосылки Викселля позволяли вывести уравнения, характеризующие предложение средств производства и предметов потребления, а также накопление и потребление. Именно так и поступили последователи Викселля, например Эрик Линдаль; такой подход позволил проникнуть в содержание изучаемых явлений глубже, чем это делала количественная теория денег. Таким образом, теоретическая система Викселля начала переходить от статики к динамическому анализу.
Однако после первой мировой войны во взглядах Викселля наметились известные изменения б8. Теперь он полагал, что понижение «денежной» процентной ставки может оказать неблагоприятное влияние на «реальную» ставку, и, следовательно, не произойдет предполагаемого стимулирующего эффекта. Викселль стал сомневаться также и в том, что поддержание равновесия между «денежной» и «реальной» ставками процента неизбежно обусловит стабилизацию цен. Во время войны был выдвинут следующий аргумент: прибыли слишком велики для того, чтобы процентная ставка могла служить эффективным орудием регулирования; это означало, что начала оседать одна из опорных колонн теоретической системы Викселля. В ходе развернувшейся дискуссии многократно повторялся тезис о том, что при таких обстоятельствах изменения в «денежной» процентной ставке не могут оказать непосредственного влияния на прибыль; при этом, однако, упускался из виду следовавший отсюда вывод: в условиях, когда вне банковской системы существует изобилие денежных средств, повышение процентной ставки окажет столь же малый эффект. Последнее обстоятельство оставалось невыясненным (по крайней мере в Соединенных Штатах) до конца 1930-х годов.
Постепенно у Викселля сложилось убеждение, что повышение цен приводит к увеличению покупательной силы и это позволяет покупателям приспособиться к такому повышению цен. Становилась очевидной для него и тесная связь между издержками и доходом. Если такое изменение начнет приобретать кумулятивный характер, любое повышение процентной ставки может оказаться недостаточно эффективным средством для того, чтобы поставить под контроль хозяйственную экспансию. Расширившийся спрос на деньги и ожидание еще более высоких цен явно представляют собой инфляционные факторы. Изменения в размерах производства не влияют на основные движущие силы экспансии, вероятно, это относится и к введению налогов на расходы *. Современная действительность подтвердила справедливость анализа Викселля. Причину кумулятивного изменения цен — идет ли речь об их повышении или о понижении — можно обнаружить в несовпадении «реальной» и «денежной» процентных ставок. Экспансия развертывается вследствие того, что «реальная» процентная ставка больше «денежной». С теоретической точки зрения, для того чтобы поставить под контроль кумулятивный процесс, требуется лишь повысить «денежную» процентную ставку до уровня «реальной». Хотя за этим может и не последовать восстановления первоначального уровня цен, но все же установится новое равновесие; тем самым предполагается, что в этой точке могут быть достигнуты также устойчивый спрос на сбережения и устойчивое их предложение. Эти идеи представляются весьма схожими с введенным впоследствии Кейнсом понятием равновесия на различных уровнях хозяйственной активности.
Выдвинутая Викселлем теория денег, как следовало ожидать, включает подход под углом зрения остатков кассовой наличности, причем известный упор в ней сделан на проблеме скорости обращения денег. Представления Викселля тесно примыкали к исследованию Рикардо по вопросу взаимосвязи между процентной ставкой и доходностью кредитных операций 59. Викселль сумел совершенно отчетливо показать, как повышение товарных цен при неизменных масштабах денежного обращения вызывает либо сокращение спроса на товары, либо расширившееся их предложение, то есть процессы, с помощью которых осуществляется приспособление остатков кассовой наличности. Викселля в конечном счете интересовали количество денег и их меновая стоимость в условиях равновесия. Другими словами, деньги не отличаются от других товаров, потому что расширение их предложения находится в обратном отношении к их стоимости; более того, здесь существует обратная пропорциональность 60. Подобно представителям австрийской школы, Викселль видел в деньгах главным образом средство обращения, хотя у него встречаются также намеки на то, что с аналитической точки зрения трактовка денег как средства накопления также имеет определенные достоинства. Ясно, что это подразумевается уже самим подходом к деньгам как к остаткам кассовой наличности.
♦ Налоги на расходы (sumptuary taxes) — термин, под которым в западной литературе обычно подразумеваются косвенные налоги, чаще всего акцизы, на предметы потребления.— Прим, персе.
366
Главная цель, стоявшая перед Викселлем, заключалась в том, чтобы обеспечить теоретическое обоснование для мероприятий экономической политики, и в этом смысле он с исключительной последовательностью придавал анализу практическую направленность. По словам Викселля, в основе изменений общего уровня цен лежат денежные факторы, а изменения относительных цен вызываются другими причинами. С этой точки зрения количественная теория денег подошла к пониманию важнейших истин, когда она утверждала, что действительно существует тесная связь между деньгами и спросом на товары и их предложением. Сомнения в правильности таких представлений возникали в связи с наличием предположений, сделанных по методу ceteris paribus, поскольку было ясно, что на производство и торговлю оказывают влияние изменения, происходящие в других частях уравнения. Для того чтобы превратить количественную теорию в инструмент плодотворного исследования, нужно было, как полагал Викселль, просто несколько расширить ее рамки. Модификация этой теории требовала рассмотрения совокупного спроса и совокупного предложения. В таком случае повышение цен выводится из избыточного совокупного спроса 61. Следовательно, Викселль рассматривал деньги как с точки зрения их общего количества, так и скорости их оборота, причем последнюю величину он связывал со стремлением к хранению кассовой наличности. Кредит способствует повышению скорости обращения денег. По Викселлю, нельзя также игнорировать роль денег как средства накопления, потому что на этом основано хранение кассовой наличности. Нельзя проходить мимо того обстоятельства, что при данном уровне цен существует потребность в хранении определенной суммы денег в форме кассовой наличности 62. Цель экономической политики состоит в поддержании стабильного уровня цен, который, по предположению Викселля, будет служить свидетельством общего экономического равновесия. Однако тем самым предполагается, что при существующих в данный момент ценах и заработной плате совокупное предложение товаров и услуг будет равно совокупному спросу. Это означает, что будет иметь место полное использование ресурсов 63. Нарушение равновесия проявится либо в форме избыточного спроса, либо в форме излишка материалов и труда. Изменения издержек или технических коэффициентов затрат факторов производства могут придавать таким нарушениям более или менее непрерывный характер. В настоящее время кажется совершенно очевидным, что эти выводы можно сформулировать на языке кейнсианской терминологии в4. Викселль также выступал в защиту кредитного регулирования, включая проведение операций на открытом рынке и изменение дисконтной ставки. Он высказывал сомнения в необходимости золотого стандарта, указывая на успех австрийского правительства, перешедшего к бумажно-денежному обращению. Викселль пришел к заключению, что расчеты по внешнеторговым операциям можно осуществлять с помощью клиринговых соглашений — мысль, которая впоследствии воплотилась в Международном валютном фонде. Тем не менее многие исследователи полагают, что невозможно достигнуть той стабильности и гибкости, к которым постоянно стремился Викселль.
До каких бы тонкостей ни добирались комментаторы, основное содержание теории Викселля не вызывает сомнений: «денежная» процентная ставка в конечном счете зависит от спроса на реальный капитал и его предложения, и поэтому она регулируется скорее размерами прибыли, извлекаемой при использовании капитала, чем количеством денег в обращении. Успешные предпринимательские операции способствуют расширению спроса на заемные средства, и эти ссуды погашаются за счет текущих доходов. Вместе с тем текущие доходы содержат также «прибавочную стоимость», которая примерно соответствует уровню процента по ссудам. Из этого следует, говорил Викселль, что процент обязан своим существованием не столько использованию постоянного капитала, сколько наличию разнообразных свободных и подвижных благ, которые могут участвовать в дальнейших хозяйственных операциях в сфере потребления или на последующих стадиях производственного процесса. «Нормальная», или «естественная», ставка процента — это такая ставка, при которой спрос на заемные средства и предложение сбережений соответствуют ожидаемому доходу от нового капитала. Увеличение ожидаемого дохода оказывает стимулирующее воздействие на спрос на ссудный капитал. Процентные ставки повышаются, и это задерживает дальнейший хозяйственный рост. Исследование Викселля, несомненно, знаменовало значительный шаг вперед по сравнению с прежними представлениями, потому что ему, во всяком случае, удалось разработать систему, в которой эффективно сочетались теория денег и теория цен.
Первым, кто подверг исследование Викселля серьезной критике, был его друг Давид Давидсон. Викселль настаивал на политике поддержания стабильных цен, причем для этой цели он рекомендовал использовать изменение процентной ставки, в то время как Давидсон 367
полагал, что стабильность может быть достигнута тогда, когда цены снижаются в той же пропорции, в какой под воздействием технических усовершенствований расширяются масштабы производства. Если бы такое развитие было нормальным, отмечал Давидсон, то могли бы сохраняться прежние соотношения между «денежной» и «реальной» процентными ставками. Снижение «денежной» процентной ставки, по мнению Давидсона, вероятно, положит начало инфляционному циклу. Викселль же утверждал, что реакции предпринимателей основываются на текущих ценах. Как указывал Викселль, предприниматели, по-видимому, полагают, что существующий уровень цен сохранится в ближайшем будущем; если же в условиях, когда происходят изменения в технике производства и оживление хозяйственной активности, не прибегнуть к регулированию с помощью процентной ставки, то предприниматели в действительности могут обнаружить, что цены повысились. Всякие иные взгляды, как, например, представления Давидсона, исходят из того, что с расширением производства увеличивается предложение капитала. Хотя полемика между ними приобрела несколько беспорядочный характер, все же она внесла некоторую ясность в вопрос о роли ожиданий, поскольку в ходе ее было показано, что операции предпринимателей часто действительно зависят от того, как, по их мнению, изменится уровень цен. Викселль вновь изложил свои мысли о «естественной» процентной ставке, причем на этот раз они напоминали теорию предельной производительности в условиях натурального хозяйства. Он настаивал на том, что снижение цен на товары, изготовляемые с помощью более совершенных методов производства, будет компенсировано расширением спроса на остальные товары. С помощью технических усовершенствований невозможно обеспечить непрерывное снижение уровня цен, вследствие того что такое понижение цен носит неустойчивый характер.
В 1921 г. ученик Викселля Густав Акерман возобновил дискуссию по вопросу об инфляции — а это, собственно, сердцевина проблемы. Расширяя рамки теории капитала, Акерман распространял ее на предметы длительного пользования, а также и на оборотные средства 65. Если рыночная и «реальная» ставки процента совпадают, то инфляция, по его утверждению, невозможна. Акерман указывал, что вследствие накопления капитала сбережение, вероятно, может привести к снижению «реальной» ставки; однако если правительство сможет получить сберегаемые средства и использовать их для непроизводительных целей, как это имеет место, например, при эмиссии бумажных денег, тогда сбережения будут «обезврежены» и изолированы от частного сектора экономики. Тем не менее накопление кассовой наличности в банках может ускорить снижение «денежной» процентной ставки, в то время как «реальная» ставка остается без изменений, тем самым вызывается к жизни процесс «принудительной инфляции», которая отличается от «добровольной» инфляции, порождаемой сокращением банковских резервов. В отличие от Акермана Викселль не уделял серьезного внимания понятиям «принудительная инфляция» и «субъективная инфляция», а Давидсон полагал, что варианты, которые рассматривает Акерман, представляют собой частный случай; ведь при этом предполагается, что свои займы у центрального банка правительство станет погашать с помощью новой эмиссии. Ясно, что Акерман в своих предположениях несколько сгущал краски: потребности государства не могут выйти за пределы совокупных сбережений; вновь выпущенные деньги не поступают в сферу производства, а дополнительная эмиссия не компенсируется изъятием из обращения старых денег. Анализ Викселля все же кажется более удачным, поскольку он более четко, чем другие авторы, формулировал тезис о том, что с помощью кредитно-денежной политики можно целенаправленно осуществлять программы регулирования, которые принесут выгоду каждому, и что хозяйство нельзя представлять себе как некий механизм, который автоматически реагирует на неосознанные потребности лишь одного класса, а именно — на потребности предпринимателя 66.
Тем не менее теория Викселля не избежала строгой критики. С требовательной, хотя и дружеской по тону критикой отдельных специальных моментов выступил Давидсон; кроме того, другие авторы утверждали, что понятие «реальной» ставки является туманным и что его можно использовать лишь в ограниченных пределах, поскольку оно было разработано применительно к натуральному хозяйству. Более того, отмечалось, что исходные предпосылки у Викселля носят в основном статический характер. На эти упреки последовал ответ, что Викселль пытался в первом приближении описать денежное хозяйство. Тем не менее оппоненты Викселля настаивали на том, что, используя понятия «реальной» ставки и для денежного хозяйства, Викселль так и не смог выйти за пределы «натурального» содержания процессов. Наличие единой ставки кажется нереалистичным даже для натурального хозяйства, потому что существует большое число товаров и каждому из них 368
следует приписать свою собственную процентную ставку. Однако в логическом плане это не должно порождать непреодолимых затруднений вследствие того, что один из товаров может функционировать в качестве средства обращения. Таким образом, натуральное хозяйство превращается в денежное.
Денежная система, как уже отмечалось, служила у Викселля основой описываемого им «кумулятивного процесса». Снижение «денежной» процентной ставки ведет к уменьшению издержек и тем самым делает хозяйственные операции более прибыльными. Возникают надежды на получение дополнительного дохода и расширяются инвестиционные планы, что способствует увеличению спроса на факторы производства. Это вызывает рост заработной платы и рентных платежей, порождая дополнительный спрос на предметы потребления и компенсируя любые потери, вызываемые повышением цен на факторы производства. Весь этот процесс начинается, по мнению Викселля, главным образом, на рынках капитальных благ 67. Отсюда его влияние распространяется на рынки предметов потребления. Поскольку одна операция сразу же влечет за собой другую, повышательная волна, как полагал Викселль, может продолжаться бесконечно. И хотя он, безусловно, сознавал, что на практике хозяйственная экспансия не может продолжаться вечно, тем не менее он фактически ни разу не упоминает о существовании поворотной точки. Непрерывно повышающиеся цены требуют непрерывного расширения кредита, это порождает в конечном счете сильное давление на банковские резервы и заставляет банки повысить процентные ставки 68. Более того, сама ограниченность наличных ресурсов ставит предел хозяйственной экспансии. Развитие системы никоим образом не грозит опасностью взрыва, потому что равновесие будет восстановлено, хотя и на другом уровне. Однако более детальным исследованием последствий этого процесса предстояло заняться другим представителям шведской школы; здесь можно указать, например, на хорошо известный теоретический вклад Эрика Линдаля в9. Но именно Викселль выдвинул в центр экономического исследования проблему нарушения равновесия, и какой бы незавершенной она ни выглядела в ряде пунктов, его теорию, безусловно, следует предпочесть прежним, совершенно статичным представлениям.
Выдвинутую Викселлем теорию экономического цикла все же нельзя отнести к чисто монетарным концепциям. Он, по существу, предвосхищал идеи Шпитгофа, когда утверждал, что конечную причину экономического 24 б. Селигмен
кризиса образуют «реальные» факторы 70. Технический прогресс, говорил Викселль, происходит таким образом, что материальное производство не может расти столь же плавно, как потребности. И хотя Викселль должен был признать, что процентная ставка, вероятно, может сыграть решающую роль, все же он отверг бы утверждения Мизеса и Хайека о том, что единственной причиной процветания и депрессии является нелепая кредитная политика. Кредитно-денежные факторы оказывают влияние на развитие цикла лишь постольку, поскольку издержки воспроизводства капитала при существующей «денежной» процентной ставке оказываются ниже стоимости наличного капитала 71. Однако на практике «реальная» ставка в большей степени подвержена изменениям, чем «денежная», вследствие того что банкиры редко меняют курс своей политики, если только их не принуждают к этому серьезные внешние обстоятельства. Технические изменения и рост народонаселения порождают более быстрые изменения в «реальной» ставке, что вскоре сказывается на развитии таких отраслей тяжелой индустрии, как сталелитейная промышленность, железнодорожное строительство и т. п. 72. Здесь перед нами опять- таки, в сущности, кейнсианская постановка проблемы.
Свои представления об экономических кризисах Викселль особенно хорошо изложил в лекции, прочитанной в 1907 г. в «Клубе политической экономии» в Осло 73. В этой лекции он отмечал, что причины кризиса можно отыскать не только в определенных внешних факторах, но и во внутренних процессах, возникающих в связи с тем, что эти изменения лишь через некоторое время оказывают влияние на ожидания предпринимателей. Перепроизводство (в том смысле, что эффективный спрос оказывается недостаточным) — это, как утверждал Викселль, проявление ухудшившейся конъюнктуры, но не причина ее. Он высказывал сомнения по поводу того, может ли в действительности производство опережать возможности потребления, потому что вместе с расширением производства увеличива- чиваются также потребление и доходы. Тем не менее он вынужден был признать, что эти важные процессы осуществляются, по-видимому, с некоторыми лагами, которые 'и могут вызывать потрясение. Спад характеризуется перепроизводством, но он подготавливает экономику к последующему восстановлению, поскольку он порождает у владельцев свободного подвижного капитала готовность превратить его в те формы постоянного капитала, которые необходимы для хозяйственной экспансии. Осо369
бый интерес в этих замечаниях Викселля представляет его убеждение в том, что правильность теории должна проверяться исследованием статистического материала. Все же он сознавал, что основную роль играет противоречие между ростом народонаселения, в результате которого постепенно и регулярно расширяется потребительский спрос, и техническим прогрессом, в развитии которого можно обнаружить периоды явного ускорения и замедления 74. Даже в том случае, если в сфере производства не действует принцип уменьшающейся доходности, следует, как полагал Викселль, принять во внимание спорадическое влияние, оказываемое новыми изобретениями и открытиями. Выступая на конференции в 1924 г., он говорил: «По моему мнению, экономике присуще одно особое свойство, которое непременно должно вызывать в ней нарушения. Производство не может плавно расширяться из года в год все время, пока происходит рост численности населения. В связи с постоянным ростом народонаселения недостаточно, чтобы подрастающее поколение было так же обеспечено работой, как и старшее поколение; недостаточно также, чтобы накопление капитала осуществлялось теми же темпами, что и увеличение численности населения; поскольку столь важный фактор, как природа, остается неизменным, рост народонаселения требует также, чтобы все время вводились новые методы производства, или, другими словами, чтобы имел место технический прогресс. Итак, проблема заключается в следующем: может ли кривая технического прогресса повышаться столь же плавно, как и кривая, характеризующая рост населения. Трудно избавиться от впечатления, что здесь должно иметь место известное нарушение гармонии... Разрыв между техническим прогрессом и человеческими желаниями сообщает социальному организму внезапный резкий толчок, который в силу особенностей самого человеческого общества преобразуется в колебания, характеризующиеся определенным ритмом» 75.
При недостаточных сбережениях в условиях подъема фаза процветания будет слабой, если только не окажется в наличии капитала, привлеченного извне. Как это ни странно, но Викселль утверждал, что поток изобретений истощается при повышательной конъюнктуре и усиливается во время спада, а это противоречит хозяйственной практике. Однако такие представления проистекали из его убеждения в том, что наличные, или подвижные, формы капитала накапливаются на протяжении периодов «затишья», а затем в периоды более активной хозяйственной деятельности они принимают форму постоянного капитала. Понятие поворотных точек здесь определено опять-таки довольно туманно 76. Наилучшее объяснение этого важнейшего явления, которое мог предложить Викселль, заключалось в том, что недостаточность кредита приводит к приостановке незавершенных проектов. Вслед за этим, по- видимому, возникает атмосфера недоверия на денежном рынке и наступает серьезное нарушение. Для выхода из депрессии нужно, чтобы капитал оказался в распоряжении тех, кто занят приготовлениями к превращению его- подвижных форм в соответствующие элементы постоянного капитала.
Несмотря на курьезный характер отдельных замечаний, Викселль все же внес значительный вклад в теорию экономического цикла; его заслуга заключается в том, что он пытался связать инвестиции с экономическими функциями денег. Все, что требовалось Виксел- лю,— это мультипликатор и потребительская функция, и с помощью этих понятий он смог бы дать самое плодотворное объяснение того, как происходит процесс хозяйственного развития. Будучи одной из первых современных теорий, пытавшихся объяснить, как на самом деле функционирует экономическая система, теория Викселля отличается замечательной глубиной анализа. Однако где-то в глубине его таились неомальтузианские представления, согласно которым рост народонаселения чрезвычайно легко может опередить увеличение ресурсов. Это был, конечно, серьезный недостаток, так как отсюда следовало, что вряд ли может иметь место более широкое или более интенсивное использование ресурсов. И тем не менее Викселль сознавал, что и при постоянном населении для обеспечения более эффективного функционирования частного сектора потребуется расширение рамок государственного сектора — идея, которая совсем недавно была выдвинута в книге Джона Кеннета Гэлбрейта «Общество изобилия» 77.
Деятельность монополий — и особенно «естественных»— должна, по мнению Викселля, направляться в интересах общества. Этого можно добиться, говорил он, с помощью соответствующей программы налогового обложения в сочетании с такой политикой цеп, при которой цены устанавливаются на основе предельных затрат на единицу продукции. Цены могут корректироваться по методу проб и ошибок, и, каковы бы ни были условия эластичности, масштабы производства будут соответственно расширяться до тех пор, пока предельный доход не окажется равным предельным издержкам. Дефициты могут быть покрыты за счет всеобщего налогового обложения. Такие пред370
ставления (которые в точности совпадают с принципами, сформулированными для социалистической экономики Лернером, Ланге, Тэйлором и другими авторами) свидетельствуют о том, что, с точки зрения Викселля, функционирование государственных предприятий с целью извлечения прибыли бессмысленно 78. К существующей в настоящее время тенденции вводить местные сборы — например, дорожные сборы или плату за проезд через мост, за счет которых покрываются все издержки по осуществлению определенных общественных программ,— Викселль отнесся бы с презрением. Общественные предприятия, по его мнению, должны служить средством, которое обеспечивает лучшее использование ресурсов, а не причиной введения косвенных налогов. Установление цен, при которых предельная выручка равна предельным издержкам, настолько расширит использование услуг, что благодаря этому удастся покрыть большую часть основных издержек; ясно, что это служит веским аргументом в пользу установления государственной собственности в таких отраслях, как железнодорожный транспорт и предприятия общественного пользования.
Почему следует расширить общественный сектор? Кроме необходимости дополнить производство, ведущееся на частных началах, требуется также обеспечить услуги для тех, кто не в состоянии оплатить их непосредственно из своего дохода. Ситуация, при которой совокупное производство достигло достаточно больших масштабов, а предельная производительность труда находится на низком уровне, не вызывает, по мнению Викселля, никаких затруднений. В такой ситуации следует разработать тот или иной способ, который позволит передать в распоряжение других лиц дополнительные доходы, образующиеся в форме ренты и процента 79. Практически это означало более удовлетворительную систему образования и выплаты стипендий, а также подлинно широкую программу социального обеспечения 80.
Гневный протест Викселля вызвала существовавшая в Швеции регрессивная система налогового обложения. Требуя введения прогрессивных налоговых ставок на личные доходы, доходы от недвижимого имущества и предпринимательской деятельности, он выступал против налогов на расходы, которые на самом деле являются орудием нормирования потребления. Однако Викселль понимал, что лучшая система налогового обложения должна развиться на основе демократизации политических институтов, поэтому он был сторонником всеобщего избирательного права; не будучи социалистом, Викселль высказывался в поддержку сильного рабочего движения, считая его существенным условием дальнейшей демократизации общества 81. Викселля не пугало то, что его идеи предполагали использование такой налоговой политики, которая приведет к некоторым изменениям в существующих отношениях собственности. Он не видел никаких причин, в силу которых нельзя было бы обойтись без монополии, незаслуженно присваиваемых доходов и права наследования имущества. С особой настойчивостью Викселль доказывал, что увеличение стоимости земельных участков, представляющее собой незаслуженный доход, должно облагаться специальным налогом 82. По мнению Викселля, косвенные налоги используются владельцами имущества для того, чтобы уклониться от налогового бремени, которое по справедливости они сами должны были бы нести; Викселль подверг резкой критике совокупность порочных хозяйственных операций, которые позволяют рантье и предпринимателям воспользоваться инфляционной обстановкой для увеличения собственного богатства. Маржиналистский анализ дает возможность выработать принципы, отвечающие требованиям разумной налоговой программы, — сопоставление полезности услуг, обеспечиваемых предлагаемыми общественными мероприятиями, с тяжестью налогов, которые при этом потребуется ввести, позволяет составить здравое суждение об их целесообразности. Сама тяжесть налогового бремени связывалась с предельной полезностью дохода 83. Если новые виды услуг приносят выгоду всему обществу, как это имеет место при строительстве дорог, гаваней и осуществлении других «накладных издержек общества», то, по мнению Викселля, они должны финансироваться за счет налогов, изымаемых у тех, кто обладает наибольшими «возможностями платить». Если же выгоды достаются только узкой группе населения, определяющую роль должен играть принцип «выгодности». Все же в большинстве случаев он предпочитал принцип «выгодности» и отводил ему главную роль. Викселль сознавал, что такой «философии налогового обложения» в большей мере присущ принцип quid pro quo * и что она позволяет избегнуть возникновения социальных конфликтов. Кроме того, он считал необходимым планировать государственные расходы одновременно с источниками их финансирования. Викселль стремился к тому, чтобы в вопросах налогового обложения было обеспечено максимальное еди* Услуга за услугу; букв.: «одно вместо другого» (лат.).— Прим, перев.
24* 371
нодушие; он понимал, что достигнуть согласия легче в том случае, когда существует непосредственная связь между планируемыми расходами и намеченными источниками их финансирования. По существу, эта проблема носит, конечно, политический характер, так как для ее решения необходимо, чтобы законодательные органы в максимально возможной степени учитывали интересы различных налогоплательщиков. Речь идет о том, что должно установиться справедливое распределение налогового бремени, поскольку вряд ли можно представить себе некую «справедливую долю в несправедливом целом». Больше всего Викселль заботился о защите интересов меньшинства, и поэтому законодательные решения он предлагал принимать в соответствии с принципом «правомочного большинства». Такая аргументация делала Викселля защитником смешанной экономики, которая обеспечивала бы развитие, направленное на лучшее использование ресурсов, более равномерное распределение дохода и более высокий жизненный уровень, а вместе с тем по-прежнему гарантировала бы личные права.
Викселля можно справедливо упрекнуть в том, что он слишком сильно полагался на эффективность денежного механизма, но все же его имя, несомненно, должно занять заслуженное место среди бессмертных имен действительно выдающихся, наделенных творческой мыслью экономистов нашего времени. Его теоретические произведения, отмеченные печатью гениальности, до настоящего времени оказывают глубокое влияние на английских, немецких, итальянских, японских и американских экономистов. Например, его теория процента и инвестиций послужила важным источником теоретической системы Кейнса. В своей теории цен Викселль сумел придать исключительное изящество идеям, вырабатывающимся в академических кругах на протяжении десятилетий. Обогатив теорию предельной производительности, Викселль привел ее в соответствие с теориями капитала и цен 84. С точки зрения профессионального экономиста, его «Лекции» представляют глубокое научное исследование, студенту они, вероятно, покажутся несколько сложными, а для преподавателя это настоящий кладезь новых мыслей. В теории денег он предвосхитил идеи целого поколения специалистов 85. Викселль всегда охотно отмечал заслуги своих предшественников, даже в тех случаях, когда его собственное исследование представляло заметный шаг вперед по сравнению с их работами; в этом отношении он резко отличался от Касселя. Произведениям Викселля присуща смелость и оригинальность, а в настоящее время они играют в экономическом исследовании столь же важную роль, как и работы Альфреда Маршалла. Викселль воспитывался в традициях либерализма, однако он не колеблясь предлагал далеко идущие правительственные мероприятия, если они позволяли достигнуть значительного повышения жизненного уровня. Большая часть исследований Викселля была облечена в математическую форму, однако он хорошо владел литературным стилем и вполне ясно излагал свои идеи, так что читатель, не знакомый с математикой, мог понять, что Викселль имеет в виду. Умением писать легко Викселль, безусловно, был обязан своим юношеским попыткам сочинять стихи и драмы. Ему всегда было чуждо доктринерство, он внимательно следил за новыми идеями и изучал их самым придирчивым образом, страстно стремясь к дальнейшему развитию экономической науки. И вероятно, поэтому Викселль никогда не считал, что его суждения дают окончательное решение проблемы: за год до своей смерти он выступил с признанием того, что колебания цен в послевоенный период носят совершенно загадочный характер, и выразил надежду, что кто-либо другой сможет дать научное объяснение этого вопроса. Слава пришла к нему наконец, когда в издаваемом Давидсоном журнале «Экономией тидскрифт» был опубликован ряд экономических исследований, посвященных семидесятилетию со дня рождения Викселля. Кроме того, университет в Осло присвоил Викселлю почетную ученую степень, он был избран также почетным членом Американской экономической ассоциации.
Теория Викселля, как и следовало ожидать, оказала огромное влияние на скандинавских экономистов. В 30-х годах было прямо признано, что Викселль предвосхитил многие положения современной теории денег, процента и стоимости и что его мысли, которые смогли вдохновить столь противоположных по своим взглядам авторов, как Кейнс и Мизес, обнаружили редкое качество — они оказались плодотворными. Шумпетер отмечал, что в те времена в экономической науке не было человека, который по своему интеллекту превосходил бы Викселля: «...Он всегда был поглощен лишь наукой и никогда не думал о себе и о том, что могло бы послужить его собственным интересам... Мы в состоянии проследить живой огонек творческого воображения, оригинальные выводы; трудности и сомнения предстают перед нами в той форме, в какой они возникали перед ним... Он не только приводит итог исследования; он учит нас самому исследованию и указывает на каждый вопрос, который ему самому был непонятен» 8в.
372
Исследования Викселля с самого начала отличал широкий подход к экономическим проблемам. Его интересовали общие категории, агрегатные величины и развернутые теории, служившие основой макроэкономического анализа. Его внимание привлекали общие процентные платежи, совокупное потребление и совокупные инвестиции; эти величины он сопоставлял с совокупным производством, масштабами всего денежного обращения и общим уровнем цен. В результате этого Викселль разработал теорию, в которой проблемы цен, доходов, денег и экономического цикла эффективно объединены в единое целое 87. Отдельные детали, а также задачи, которые он ставил перед собой, вызвали дискуссию, однако оценка основных положений теории Викселля не вызывает сомнений: они представляют собой выдающееся достижение. Лишь в области практического применения научных идей Викселль не смог достигнуть таких же успехов: ему не хватало исторического чутья, и вследст- ствие этого ему трудно было Преодолеть чисто абстрактный подход. Однако в 1921 г. он заметил, что те, кто только начинает заниматься экономической наукой, находятся в более выгодном положении, поскольку в то время они имели в своем распоряжении совокупность необходимых для работы фактических данных. И он советовал начинающим экономистам заняться тщательным изучением истории.
2. ГУСТАВ КАССЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК «ЧИСТАЯ» ТЕОРИЯ ЦЕН
Густаву Касселю (1866—1944) всемирную известность принесли его многочисленные произведения и общественная деятельность. Вначале Кассель изучал технические науки, в 1895 г. в Уппсале он получил ученую степень по математике, а затем занялся изучением экономической науки. До того как Кассель получил место в Стокгольме, он работал школьным учителем; в эти годы он опубликовал книгу, посвященную «праву рабочего на продукт труда». Внешне эта книга была направлена против марксизма, однако в ней содержалась решительная критика всей экономической теории; в Касселе уже тогда чувствовался острый полемист, который впоследствии на протяжении всей своей жизни будет вести борьбу против маржиналистской теории. Опасаясь радикальных убеждений Викселля, ряд лиц пытался воспрепятствовать его поступлению в университет и противопоставить ему кандидатуру Касселя, хотя у последнего не было законных оснований для того, чтобы получить это место. Выше уже отмечалось, что эти попытки не увенчались успехом 88.
Кассель не имел университетского экономического образования, которое считалось необходимым для преподавателя политической экономии, но, несмотря на это, через несколько лет после инцидента, связанного с конкурсом в Лунде, он получил место в Стокгольмском университете и работал там до 1933 г. Отстаиваемые Касселем взгляды неизменно были противоположны взглядам Викселля. Кассель выступал, например, против концепции народонаселения Викселля, доказывая, что если в какой-либо стране рост населения обнаруживает тенденцию к снижению, то ее опередят соседние государства. В этом проявлялась, между прочим, склонность Касселя к националистическим взглядам. Во время первой мировой войны его симпатии были на стороне Германии. Ясно, что он не мог понравиться Викселлю ни как экономист, ни как человек. Попытки Давидсона примирить их оказались безуспешными, и они по-прежнему постоянно испытывали антипатию друг к другу. Кассель посетил несколько заседаний «Экономического клуба», в работе которого весьма активное участие принимал Викселль, однако после того, как Викселль выступил в журнале «Экономией тидскрифт» с критикой Касселя, между ними наступил окончательный разрыв. С точки зрения Викселля, экономическая теория Касселя совершенно неправильна. Ничем не лучше, по мнению Викселля, политические и религиозные воззрения Касселя 89. К сожалению, Касселю были присущи непоколебимая уверенность в собственной эрудиции и безграничная самовлюбленность, вызывавшие такую антипатию к нему. Высокомерие Касселя оттолкнуло от него шведские академические круги, а такие подлинно глубокие мыслители, как Викселль и Эли Ф. Хекшер (известный историк), просто считали его позером. И все же Кассель обладал острым умом и часто обнаруживал завидное умение обращаться с фактическим материалом. После первой мировой войны он снискал себе репутацию наиболее авторитетного эксперта в области валютных отношений. Он оказал заметное влияние на кредитно-денежную политику не только шведского правительства, но и правительств других 373'
стран. Из-под пера Касселя непрерывным потоком следовали статьи, обзоры, речи, брошюры и комментарии, причем преобладающая часть этих произведений публиковалась в шведской газете «Свенска дагеблат». Он писал отчеты для Лиги Наций, разъезжал по Соединенным Штатам, читая лекции по теории денег, и излагал свои взгляды комиссии по вопросам банковской деятельности при палате представителей. На протяжении многих лет он боролся за восстановление золотого стандарта. Затем, однако, наступила депрессия *, стало расти влияние «новой экономической теории» **, и вскоре слава Касселя померкла. Он умер в 1944 г., и к этому времени его теория, по существу, уже не пользовалась влиянием. Экономическая теория Касселя с ее догматизмом и чрезмерными претензиями просто не отвечала требованиям времени.
Основное внимание Кассель уделял теоретическому анализу стоимости, денег, экономического цикла и критике социалистической доктрины, причем последнее занятие доставляло ему особое удовольствие. Философские представления Касселя, по-видимому, восходили к неокантианской концепции Германа Когена и Эрнста Кассирера; задача философии, по мнению этих авторов, заключается в том, чтобы исследовать соотношение между логическими построениями и опытом. Таким образом, решающее значение в процессе исследования приобретает логика связей между научными положениями, и поэтому в экономической науке можно обойтись без дискуссий по поводу полезности и сконцентрировать все внимание на проблеме цен; Кассель именно так и поступил. Первая из его основных работ —«Сущность процента и причины его существования» 90—представляет собой имитацию в миниатюре работ Бем-Баверка; основные теоретические идеи Кассель позаимствовал у Вальраса, о котором Кассель упоминал сквозь зубы, да и то лишь в ранних своих произведениях, главным образом в книге «Элементарная теория цен» (1899). Главной работой Касселя, получившей широкое распространение, является «Теория общественного хозяйства» 91; основные идеи этой работы он впоследствии воспроизвел в двух небольших книгах —«Основные идеи теоретической экономии» и «О количественном анализе в экономической науке», обе книги читались легко, но мало способство* Здесь автор явно имеет в виду экономический кризис 1929—1933 гг.— Прим, перев.
** «Новой экономической теорией» в западной литературе обычно называют теорию антикризисного регулирования, выдвинутую Дж. М. Кейнсом в 30-х годах.— Прим, перев.
вали укреплению его научного авторитета 92. Кассель страстно стремился к тому, чтобы прослыть оригинальным мыслителем, и он действительно смог оказать влияние на многих, хотя это в большей мере объясняется его искусством лектора и мастерством журналиста, пишущего статьи по экономическим вопросам, чем качествами теоретика.
Кассель полагал, что ему удалось основать экономическую теорию, исходящую из совершенно новых принципов. Наука, по его мнению, должна иметь дело только с величинами, поддающимися измерению. Однако глупо было бы просто ограничиться использованием математики: важно сначала четко определить содержание основных понятий 93. Для того чтобы достигнуть этого, нужно соблюдать определенные правила: прежде чем определять какие- либо понятия, следует подвергнуть их научному анализу; переход от первичных и простых к более сложным понятиям должен быть постепенным; заключения должны обладать всеобщей, а не ограниченной применимостью; основной упор следует делать на экономические, а не технические проблемы; должно исследоваться «общественное», а не частное хозяйство; необходимо установить твердое мерило хозяйственной деятельности, то есть устойчивую денежную единицу. Под «общественным» хозяйством Кассель подразумевал всю хозяйственную систему, в рамках которой производство может рассматриваться как непрерывный процесс. Он полагал, что экономист может многому научиться у предпринимателя-практика (хотя, по мнению современных авторов, более важен обратный процесс) 94. Все же Кассель допускал, что среди экономистов чаще можно встретить попытки составить общее представление об экономике в целом, тогда как средний предприниматель не располагает ни временем, ни склонностями для такого занятия. Лишь знание общей картины позволяет проникнуть за внешнюю форму, которой часто ограничиваются представления деловых людей, поглощенных практической деятельностью.
Временами Кассель, по-видимому, сознавал, что хозяйственные операции представляют особую сферу деятельности, отличную от тех организаций и институтов, в рамках которых они протекают. Это ясно видно из его утверждения, что задача экономической науки состоит в том, чтобы выяснить, в какой степени можно отделить ее положения от неэкономических суждений, служащих их предпосылками. Кассель был уверен в том, что это позволит ему прийти к универсальным заключениям, пригодным для всякого «общественного хозяй374
ства», какой бы «внешней» структурой оно ни обладало 95. К сожалению, формулировки Касселя были настолько неопределенны, что метод, который он собирался использовать в своем исследовании, не мог оказаться сколько-нибудь точным, а мог проявиться скорее в разговорах по поводу уравнений. Кассель считал неприемлемым использование политической власти в качестве орудия изменения общественной жизни. Он полагал, вероятно, что экономическое развитие осуществляется в результате постепенной эволюции. Такие obiter dicta явно нереалистичны в условиях, когда только с помощью политической власти удается достигнуть важнейших социальных и экономических перемен.
Как бы ни обольщался Кассель, его подход не отличался от традиционных методов. Он начинал со статического анализа, а затем переходил к понятию «однородно-прогрессивной» (uniformly progressive) системы, которая уже в силу присущего ей движения превращается в динамическую систему. Дедукция используется в статических и «однородно-прогрессивных» ситуациях, тогда как основывающаяся на эмпирическом материале индукция требуется для выяснения тенденций, отклонений и лагов. Одно из преимуществ такого совершенно избитого подхода, по мнению Касселя, заключалось в том, что процент уже не трактовался как ажио, возникающее при обмене между настоящими и будущими благами, а становился «регулятором непрерывно существующего общественного хозяйства,— регулятором, который самым тесным образом связан с темпами прогресса этого хозяйства и обеспечивает как поддержание определенного уровня сбережений, так и ограничение спроса на имеющиеся сбережения» 96.
Кассель полностью отвергал понятия стоимости и полезности. Он иронически относился даже к маржиналистскому анализу, полагая, что такой анализ вводит в заблуждение,— довольно странное заявление в устах человека, получившего математическую подготовку. С точки зрения Касселя, единственным подлинным мерилом стоимости являются деньги, а поскольку понятие полезности исключает такую роль денег, следует отбросить понятие полезности. Деньги, писал Кассель, находятся в центре хозяйственной деятельности, и любая теория человеческой деятельности должна всецело исходить из этого факта. Не требуется никакой особой теории стоимости. Все, что действительно необходимо,— это цена; преимущество такого подхода, во всяком случае, состоит в том, что он упрощает исследование 97. Существенную роль, по словам Касселя, играет отношение одного товара к другому, или относительная цена, которая и подлежит исследованию 98. Поэтому в основе экономической науки на самом деле лежит всеобщая теория цены, а не теория стоимости. Предельные изменения полезности, продолжал Кассель, носят самый загадочный характер, и в конечном счете они просто иллюзорны, потому что невозможно сопоставлять ощущения и субъективные чувства удовлетворения. Невозможно также определить полезность. Хотя это возражение Викселль считал вполне справедливым, другие замечания Касселя по поводу маржиналистской теории лишь приводили старика в ярость. «Принцип редкости», который Кассель считал плодотворной идеей, означает, как показал еще Вальрас, что спрос определяется тогда, когда появляется возможность установить общую систему цен ". Для такой теоретической системы, подчеркивал Кассель, не требуется полезности или стоимости, и причем особенно потому, что предельная полезность блага не обязательно равна цене. С другой стороны, сама степень полезности зависит от характера спроса и его интенсивности. Однако наибольшее впечатление производило выдвинутое Касселем обвинение, что рассуждения его противников вращаются в порочном кругу: ведь для них цены служат средством измерения предельной полезности, в то время как задача теории, по его мнению, состоит именно в том, чтобы обнаружить, каким путем образуется цена 10°.
У самого Касселя, правда, встречаются элементы теории вменения, все же эта идея не выражена в его произведениях сколько-нибудь отчетливо. Как и следовало полагать, понятие предельной производительности Кассель отвергал столь же решительно, как и понятие полезности, опять-таки ссылаясь на наличие тавтологии в рассуждениях 101. По его словам, предельную производительность нельзя считать фактором, который оказывает влияние на установление цен или на распределение, поскольку пропорции, в которых используются факторы в данном производственном процессе, можно трактовать, если глубоко вникнуть в суть вопроса, как функцию от структуры цен. При правильной постановке проблемы как цены, так и размеры производства суть неизвестные величины, которые требуется определить в ходе исследования, а отсюда предельная производительность есть также неизвестная величина. Более того, понятие предельной производительности имеет смысл лишь в том случае, когда факторы производства используются непрерывно, то есть когда отсутствует какое-либо нарушение непрерывности. Кассель 375
отмечал: «...Предельная производительность мыслима лишь в тех случаях, когда размеры фактора производства могут непрерывно изменяться и когда сам продукт можно рассматривать как непрерывную функцию от этого переменного фактора» 102. Кассель не без основания указывал на то, что возникновение такой ситуации весьма маловероятно. Кроме того, как применять понятие предельной производительности, когда речь идет об одновременном производстве нескольких товаров? Ведь это понятие имеет смысл лишь при производстве одного товара 103. Само собой разумеется, что в сфере распределения маржиналистский анализ, по мнению Касселя, столь же мало применим, как и в теории цен. Распределение продукта между владельцами факторов производства происходит в соответствии с «принципом редкости»: оно определяется пропорцией между относительной редкостью факторов производства и косвенным спросом на них — довольно громоздкая формулировка, которая должна была выразить мысль о том, что редкость факторов производства определяет их цены. Этот тезис Кассель повторил при рассмотрении проблемы заработной платы, а впоследствии он отстаивал его с еще большей убежденностью в книге «О количественном анализе в экономической науке» 104.
На примере концепции фонда заработной платы, продолжал Кассель, можно видеть, в чем заключалась ошибка традиционной экономической теории. Эта концепция основывалась на индивидуальном опыте предпринимателя (а предприниматель легко может предположить, что его капитал действительно доставляет средства существования рабочим, которых он нанимает) и не могла объяснить главные социально-экономические аспекты проблемы. Дело в том, отмечал Кассель, что совокупное производство обеспечивает средствами существования каждого члена общества. Следовательно, такое понятие, как производственный период, лишено смысла, потому что удовлетворение потребности предполагает целую серию производственных усилий, относящихся к различным периодам. Другими словами, производство — это непрерывный процесс, который не имеет ни начала, ни конца. Оно существует неизменно, хотя масштабы производства могут меняться 1о6. Только такая абстракция в экономическом исследовании является правильной. Поэтому при изучении процессов хозяйственного развития вряд ли целесообразно выделять какой-нибудь особый период. В понятии издержек производства, с точки зрения Касселя, столь же мало смысла, как и в идее среднего производственного периода,— идее, опираясь на которую, как он доказывал, пытаются сопоставлять между собой различные моменты; но Кассель проходил мимо того факта, что его собственная теория цен должна была указать основу для приведения различных явлений к общему знаменателю. Некоторые из его представлений, по существу, граничили с мистикой; так, например, Кассель настаивал на том, что с общественной точки зрения реальный капитал — это «внешнее» явление: если он раз вложен, то он связан навсегда. Кассель настойчиво утверждал, что для правильного исследования капитала требуется исчислить коэффициент капитал — доход 10В, и почти наверняка он окажется неизменным.
Хотя идея Касселя о непрерывности производства, по-видимому, предполагала, что фактор времени имеет существенное значение, однако, отчасти признав его роль на словах, он этим и ограничился. В результате оказывалось, что не существует связи между фактором времени и капиталом и процентом, в отличие от того, что пытались доказать представители австрийской школы, а характерные черты экономики, связанные с обменом, вводились de nuovo * без особой связи с процессом производства. Путем превращения одного товара в средство обращения вся система легко наделялась признаками денежных отношений 107. Внезапно весь анализ капитала переносился на понятие денежной суммы, которая в данное время оказывается воплощенной в конкретных элементах капитала, но при продаже на рынке может принять другую форму. Вслед за этим Кассель подробно анализировал капитал, в результате чего появилось разграничение между «формальным» и «абстрактным» капиталом. Он явно стремился разграничить два понятия капитала — как подвижного фонда и как совокупности благ, в которых он воплощен. В этом вопросе он занял промежуточное положение между австрийской школой и американскими экономистами и мог использовать наиболее убедительные аргументы каждой из сторон.
Что же касается дохода, писал Кассель, то различия между ним и капиталом не столь уж велики. Такую точку зрения, конечно, вполне можно понять, если учесть, что производство представлялось Касселю непрерывным процессом; ведь потребность в понятии дохода возникает только тогда, когда человеку приходится искусственно расчленять этот процесс на отдельные периоды. Но даже Кассель не мог отрицать того, что эта идея плодотворна. Он предполагал, что в обычных условиях * Здесь: сами по себе.— Прим, перев.
376
производство приспосабливается к распределению дохода между сбережением и потреблением. Но Кассель возражал против использования слова «инвестирование», считая, что операция, описываемая этим термином, подразумевается уже самим понятием дохода и деятельностью банков, которые аккумулируют сбережения, принадлежащие многим лицам, и направляют их для хозяйственного использования 108. Он признавал, однако, что пропорции, в которых доход распределяется между сбережением и потреблением, имеет важное значение, поскольку изменения в этих пропорциях оказывают серьезное воздействие на структуру производства. В этом месте могло сложиться впечатление, что Кассель намерен продолжать анализ реальных факторов, однако в действительности дело обстояло по-иному. Вместо этого он вновь прибегал к объяснению с помощью денежных факторов; ло существу, все изменения удельного веса сбережений Кассель объяснял изменениями процентной ставки и реакцией, которую новая обстановка может вызвать у центральных банков.
«Монетарное» определение дохода у Касселя по меньшей мере громоздко. В состав дохода, по его мнению, входит полная стоимость благ, направленных на личное потребление, плюс всякий чистый прирост капитала. Из этого следовал вывод о том, что совокупный доход как раз достаточен для полного финансирования совокупного реального потребления и выплаты «прибавочной стоимости», приходящейся на землю и капитал. Доход проистекает из оплаты услуг, оказываемых факторами производства, и поэтому размеры дохода равны общей сумме платежей владельцам факторов. Эта сумма должна быть достаточна для того, чтобы выкупить совокупный продукт, последний, по существу, должен этими платежами исчерпываться 109. Такая система характеризуется бесперебойным кругооборотом, и вследствие этого сбережение в действительности не может служить препятствием для экономического развития. В справедливости такого вывода, по мнению Касселя, можно убедиться, если потребление и сбережение — так же как и производство — считать непрерывными постоянными процессами. Если рассматривать действительно длительные периоды, то стабильности способствует такой рост дохода, который пропорционален увеличению капитала. В связи с этими рассуждениями Кассель и сделал свой знаменитый вывод о том, что капитал увеличивается на 3% в год по. Впоследствии он использовал свою теорию капитала и дохода для того, чтобы противопоставить ее кейнсианскому учению, которое, с точки зрения Касселя, разумеется, совершенно неправильно. Процесс сбережения не означает, что какая-то часть покупательных средств оказывается парализованной, восклицает Кассель; это объясняется тем, что внутри хозяйственной структуры не существует никаких факторов, которые могли бы уменьшить покупательную способность в сравнении с общими размерами производства. (Хотя этот вывод был сделан до того, как получила распространение автоматизация, все же Кассель имел известные представления о последствиях рационализации, однако в то время он был убежден, что технические усовершенствования всегда должны приводить к увеличению численности рабочих мест.) Кейнсианская теория, по мнению Касселя, допускает смешение средства платежа и реального платежеспособного спроса; депрессия объясняется просто денежными факторами, и, следовательно, английский экономист допускает ошибку, когда апеллирует к эффективному спросу! 111 (Этот тезис, кстати сказать, связан с концепцией Хайека — Мизеса.) Однако все манипуляции, предпринимавшиеся в Соединенных Штатах на ранней стадии «Нового курса», должны были показать Касселю, что денежные факторы недостаточно эффективны. После 1940 г. в действие вступили реальные факторы, вызванные к жизни военным производством, и развитие событий показало, что в конечном счете прав был именно Кейнс.
Еще в начале своей научной деятельности Кассель решил, что важное значение имеет лишь цена; он изложил эти представления в своей первой серьезной работе, а впоследствии отстаивал их, по существу, в каждом произведении112. Решимость Касселя разделаться с теорией стоимости и отыскать для экономической теории новые формы граничила с ожесточенностью. Кассель подчеркивал, что понятие стоимости связывается с неопределенными психологическими процессами, исследование которых не сулит большого успеха ученому, стремящемуся к точному анализу. Экономическая теория вполне может обойтись и без этого понятия 113. Столь решительная ампутация, по мнению Касселя, фактически может принести некоторую пользу, поскольку появляется возможность объединить теорию денег с теорией цен. Во всяком случае, стоимость является не чем иным, как гипотетической ценой. Тем самым политическая экономия превращается в науку «...имеющую дело с величинами и их соотношениями, а также с условиями равновесия между силами, которым следует дать количественное выражение» 114. Кассель в известном смысле прибегает к использованию своего рода «бритвы Оккама». Сама 377
теория стоимости не ясна. Чем же является стоимость — полезностью, способностью к обмену или возможностью распоряжаться благами? Если в основе стоимости лежит полезность, то неопределенна единица ее измерения. По мнению Касселя, из этого со всей очевидностью явствует, что при рассмотрении экономических проблем следует ограничиваться ценой и не отрываться от этого точного показателя, поскольку он как бы коренится в недрах хозяйства, основанного на обмене. Авторы, начинавшие исследование с теории стоимости, просто следовали неосознанному желанию вернуться к некоему первоначальному моменту существования натурального хозяйства, не знавшего денег. Кассель настаивал на том, что деньги существовали всегда: на всех ступенях развития общества существовали те или иные средства обмена. Кассель был уверен в том, что «в истории человечества не существовало такого общества, которое, испытывая, как правило, зависимость от товарного обмена, не использовало бы при этом денег» 115. Отправным моментом исследования должна поэтому служить фиксированная и не подверженная изменениям единичная операция обмена, а логика анализа неизбежно приведет к теории цены — иначе невозможно получить количественно определенные результаты. Однако Кассель был достаточно осторожен и не предлагал в качестве панацеи чисто математические методы; по существу в его словах слышался намек: если-де математические методы используются не так искусно, как в его работах, они, вероятно, служат лишь помехой. Кассель прежде всего стремился четко формулировать свои мысли, и он предпочитал обходиться без таких понятий, как рикардианские издержки производства, Марксова прибавочная стоимость или Бем-Баверково ажио.
В чем, по мнению Касселя, заключается принцип установления цен? Кассель отмечал, что «...процесс установления цен определяется соответствующими условиями, при этом устанавливаются все цены, и устанавливаются одновременно. Социально-экономическая функция этого всеобщего процесса установления цен состоит в ...осуществлении всеобщего экономического принципа, присущего рыночному хозяйству» 116. Основываясь на том, что характер индивидуальных покупок есть функция цены, Кассель выдвинул теоретическую концепцию, согласно которой спрос остается неопределенным до тех пор, пока не установились цены на все товары. По сути дела, это был дословный пересказ мыслей Вальраса, однако в своей книге «Общественное хозяйство» Кассель ни разу не упоминает своего прославленного предшественника. В книге «Количественный анализ» Кассель фактически приписывает себе лично честь «открытия» идеи о всеобщем равновесии117. Викселль, конечно, не мог равнодушно пройти мимо такого искажения фактов и отчитал за это своего оппонента.
К числу излюбленных идей Касселя относился «принцип редкости», служивший составным элементом его теории цен; этот принцип должен был показать, что при недостаточном предложении благ и наличии неудовлетворенной потребности важно каким-то образом ограничить спрос. Центральную роль здесь играет цена, поскольку ее основная функция состоит в таком ограничении спроса, при котором будет достигнуто равновесие между спросом и предложением. Когда речь идет о капитале, такую ограничительную функцию выполняет процентная ставка, которая устанавливает равенство между спросом на капитал и его ограниченным предложением. По мнению Касселя, когда люди действуют в соответствии с требованиями «принципа редкости», направление хозяйственной деятельности оказывается правильным, и не приходится прибегать к каким- либо этическим наставлениям. В этом и заключается важнейший принцип хозяйственной деятельности 118. Метод Касселя состоял в том, что он шел от цены к спросу и предложению. В цене он видел скорее организующий принцип, а не результат действия рыночных сил. Действительно, цена, по Касселю, сама по себе является активной силой: «...Функция цен состоит [в таком] ограничении спроса на каждый отдельный товар, при котором предложение будет соответствовать спросу» 119.
Теоретическая система Касселя содержит также мысль об эластичности спроса, но его представлениям недостает точности, с которой этот вопрос излагается в настоящее время в большинстве хороших учебников. Однако он понимал, что эластичность спроса, то есть реакция спроса на изменения цен, играет важную роль, особенно при установлении тарифов на услуги предприятий общественного пользования. Однако более важным он считал «принцип редкости», открытие которого, по мнению Касселя, представляло собой выдающийся вклад в экономическую науку. С помощью этого принципа удавалось подчеркнуть, что центральную роль в общественном хозяйстве играет сама хозяйственная деятельность: редкость и наличие обмена — вот все, что требуется знать экономисту. От всех остальных серьезных проблем — например, от теории стоимости и распределения — Кассель не только уклонялся, он просто стремился покончить с ними.
378
Однако принцип редкости, по-видимому, распространяется не на все ситуации. Даже Кассель признавал, что, поскольку этот принцип не является подлинно универсальным, возникает необходимость в разработке дополнительных принципов. Первый из них — принцип дифференциального дохода — объясняет колебания цен в условиях, когда в изготовлении одного и того же товара участвует несколько фирм с различными издержками производства; в результате этого некоторые из них, вероятно, получают «дифференциальную» прибыль. Формулировка данного принципа напоминала рикардианскую теорию дифференциальной ренты. Вопреки заявлениям Касселя о стремлении быть оригинальным ему все же приходилось использовать идеи классической школы. Второй дополнительный принцип касался вопроса о снижении средних издержек; из него следовало, что при расширении производства, вызывающем снижение средних издержек, цена должна последовать за издержками производства. Третий принцип — принцип замещения — гласил, что при наличии нескольких альтернативных методов производства должен применяться тот метод, который обеспечивает самые низкие издержки. Следовательно, все эти сложные построения сводились в основном к попытке установить связь между издержками производства и механизмом установления цен. Кассель не представлял себе, насколько излагаемые им принципы совпадали со взглядами английских представителей классической школы, которых он перед этим с таким презрением третировал. Знакомясь с этими представлениями Касселя, нельзя не прийти к выводу, что критика Викселля в его адрес совершенно обоснованна 120. Идея замещения, по-видимому, имеет смысл лишь в том случае, если можно предположить, что факторы производства обладают определенной взаимозаменяемостью. Эта предпосылка лежит в основе теории линейного программирования — современного математического метода, с помощью которого можно решить как раз задачу о том, в каких пропорциях следует использовать факторы для того, чтобы на данном участке производства обеспечить наибольший выпуск продукции при наименьших затратах 121.
Анализ Касселя не только громоздок, но часто и неточен. Однако несмотря на то что его анализ издержек производства изобиловал противоречиями, все же издержкам производства Кассель отводил существенную роль. Он отмечал, что фирма может продолжать функционирование даже в том случае, если выручка возмещает лишь основные издержки122. Однако теоретическая система Касселя, как уже отмечалось, по существу, совпадает с представлениями Вальраса. Постулировав необходимость одновременного рассмотрения системы уравнений, Кассель переходил к изменяющимся условиям предложения. Производственные функции, или «технические коэффициенты», предполагаются неизменными. В таком случае принцип редкости требует, чтобы на каждое готовое изделие, а также на каждый фактор производства была установлена цена. Уравнения вытекают из определений: спрос на каждый товар есть функция от его цены и от цен на все остальные товары. С другой стороны, предложение есть функция не только от цены, но также и от количества товаров. Если в производственной функции задать известные сведения о средствах производства, то можно однозначно определить соотношение между предложением и ценами самих факторов производства. Таким образом, соотношения между различными системами уравнений позволяют не только решить задачи установления цен, но и определить, что плата за факторы производства — это и доходы, и издержки, а также источник спроса на товары 123. Другими словами, цена каждого товара равна сумме цен факторов, применявшихся в процессе его производства, а совокупное предложение факторов равно их общему количеству, использованному в процессе производства. Существует связь между ценами готовых товаров и ценами факторов производства. Каждой цене соответствует определенное предложение факторов производства и определенный спрос на товары, а также на факторы производства. При определенном сочетании цен устанавливается равновесие. Иначе говоря, таким путем одновременно конструировалась теория производства и распределения, поскольку когда цены устанавливаются на данном уровне, тем самым определяется также и характер распределения. Центральную роль в этой системе играет предприниматель, который покупает факторы производства, продает готовую продукцию и координирует все операции.
Викселль подверг критике концепцию Касселя за то, что в ней не рассматривается проблема сбережений — инвестиций и поэтому все теоретические построения статичны. Кассель никак не связал инвестиции с потоком дохода, а также не принял во внимание различные формы «утечки» («leakages») доходов. Кроме того, он не считал капитал особым фактором производства, в связи с чем спрос на капитал не стал у него частью исследуемой системы и он не уделил внимания зависимости между ожидаемым доходом и текущими издержками. В результате Кассель должен был трактовать 379
процент просто как цену наличного капитала 124. Критические замечания высказывались также по поводу того, что Кассель смешивал расчетные (accounting) цены с денежными ценами. Следовательно, товарные уравнения, приведенные в первых параграфах начальных разделов книги «Общественное хозяйство», не могут быть полностью применимы к конкретным условиям того хозяйственного строя, на который Кассель впоследствии ссылался 125.
Интерес Касселя к проблеме процента и капитала обнаружился еще в начале его научной деятельности, когда он опубликовал книгу «Сущность процента и причины его существования». Книга открывается обширным вступлением, в котором — в полном соответствии с традициями экономистов Центральной Европы — приведен обзор прежних теорий; Кассель упрекает своих предшественников в том, что они шли по ложному пути, причем особенно достается Бем-Баверку. Кассель отвергал понятие ажио, считая, что оно, по существу, лишено четкости и что акцент на идее обмена между настоящим и будущим не особенно удачен 126. Кассель был убежден в том, что процент представляет собой просто цену, уплачиваемую за определенный предмет или за услугу. По его мнению, только такой подход вообще позволяет понять те аспекты процента, которые связаны со спросом и предложением и которые невозможно объяснить с помощью «трех оснований» Бем-Баверка. Однако и сам Кассель не добился больших успехов: процент ему представлялся ценой, уплачиваемой за «ожидание» или за использование капитала, а капитал он определял как «независимый и первичный» фактор производства 127 — взгляды, которые следует признать довольно примитивными. Более того, когда Кассель говорил, что процент лишь выражает реальные экономические условия и поэтому не обязательно знать, на каком уровне он должен находиться, тем самым вся проблема сводилась к спросу на заемные средства и их предложению. Кассель связывал этот вопрос с проблемой ожидания услуг, которые могут быть предоставлены товарами длительного пользования 128. Ожидание, по словам Касселя,— это неотъемлемый элемент экономики, потому что с теоретической точки зрения производство включает и затрату времени. Такая затрата фактически является синонимом капитала, и поэтому она образует фактор производства. Для того чтобы измерить ожидание, требуется лишь умножить определенную сумму денег на продолжительность периода. Однако все это в основном производит впечатление словесных ухищрений, поскольку Кассель здесь скользил по поверхности реальных экономических явлений. Совершенно очевидно, что его анализу не свойственны теоретическая глубина и подлинное проникновение в сущность событий. При всем своем многословии Бем-Баверк как теоретик был явно выше Касселя.
С увеличением численности населения спрос на «ожидание» удовлетворяется благодаря обычному накоплению капитала 129. Изменения техники, ведущие к сбережению капитала, сокращают спрос на «ожидание». Однако, по словам Касселя, как правило, спрос на капитал непрерывно расширяется, и эта тенденция может еще более усиливаться низкой процентной ставкой 13°. Он полагал, что существует важное различие между сбережением капитала, когда процентная ставка превышает 3%, и сбережением капитала при более низкой процентной ставке. Кассель доказывал, что реакцией на изменения процентной ставки при низком исходном уровне могут явиться резкие колебания в размерах сберегаемого капитала. При высоких процентных ставках сбережение, по всей видимости, обусловлено наличием ресурсов, однако, когда процентная ставка понижается, капиталисты сберегают меньше, а средние слои населения — больше 131. Капиталист заинтересован в равномерном поступлении дохода, в связи с этим более низкая процентная ставка способствует потреблению капитала. Однако утверждение о том, что уменьшившееся сбережение капиталистов компенсируется расширившимся сбережением средних слоев, представляется лишенным реальных оснований.
Здесь Кассель ставит интересную и малоизученную проблему соотношения между сбережениями и продолжительностью жизни. Он полагал, что кратковременность человеческой жизни ставит понижению процентной ставки предел, так как исчезают стимулы к слишком продолжительному сбережению, преследующему цель: обеспечение постоянного притока доходов 132. В связи с этим маловероятным представляется такое понижение процентной ставки, при котором она окажется намного меньше 3%, вследствие того что столь низкая ставка лишь побудила бы к потреблению капитала. Тем самым предполагается, что, когда ставка ниже 3%, реакция сбережений на ее колебания эластична, а при ставке, превышающей 3%, эта реакция обычно утрачивает эластичность. Падение процентной ставки ниже уровня в 3% позволяет владельцам ценных бумаг, превратив свои вложения в аннуитеты *, уве* Аннуитет — тип срочного государственного займа в капиталистических странах.— Прим, перев.
380
личить денежные доходы. Этим Кассель хотел сказать, что поддержание денежных расходов на прежнем уровне в условиях снижения процентных ставок приводит к потреблению капитала, а это, в свою очередь, может уменьшить предложение капитала 133. Эти тенденции устанавливаются в периоды, когда большая часть капитала оказывается в распоряжении старшего поколения. Фактором, противодействующим влиянию этой тенденции и расширяющим размеры наличного капитала, является увеличение продолжительности жизни. Однако там, где преобладающая часть капитала принадлежит учреждениям и корпорациям, для которых невозможно определить продолжительность жизни, аргументация Касселя, по-видимому, лишается смысла. Кроме того, основной стимул к сбережению, вероятно, заключается не в стремлении индивидуума равномерно получать доход, а в желании обеспечить своих детей в начале их жизненного пути. Такие мотивы, по-видимому, не связаны с размерами процентной ставки.
Тем не менее сбережение, с точки зрения Касселя, образует источник капитала или «ожидания». В свое время среди экономистов было распространено мнение о том, что сбережение образует вычет из дохода, в том числе и из заработной платы; это создавало впечатление, будто бы существует авансируемый капиталистом фонд заработной платы. Но в действительности, продолжал Кассель, в условиях бесперебойно функционирующей экономики дело обстоит не так. В этих условиях существует скорее непрерывный поток товаров, среди которых одни представляют незавершенное производство, а другие — готовую продукцию. Владельцы сбережений претендуют на часть этого потока: это и есть процент. Рабочие также предъявляют свои притязания в форме заработной платы. Обе части потока совместно образуют потребление. Складывается впечатление, что Кассель приближался здесь к «исследованию потоков», но в конечном счете он увязал в довольно громоздких формулировках. Внезапно существенным фактором у Касселя становился не сам реальный капитал, а скорее возможность распоряжаться капиталом. Однако, несмотря на использование новых определений и терминов, весь анализ Касселя почти не отличается от обычного описания механизма спроса и предложения.
Подробное исследование ренты у Касселя мало способствовало дальнейшему развитию этого аспекта теории распределения. Он выступил против теории ренты Рикардо, утверждая, что в действительности рента представляет собой элемент издержек производства 134. Однако нечеткая трактовка Касселем различий между рентой, как договорным платежом, и теоретическим понятием ренты порождала немалую путаницу. Центральный принцип всей теоретической системы — редкость — определяет ренту, которая, с его точки зрения, является не чем иным, как ценой услуг земли. По существу, такое заключение не может вызвать возражений, с ним соглашался и Викселль 135; но утверждение Касселя о том, что Рикардо не принимал во внимание различий в капитале и труде, используемых на отдельных земельных участках, попросту неверно. Кроме того, предположение Касселя насчет того, что можно увеличить стоимость продукта, уменьшив количество используемой земли, обнаруживает компромисс между принципами возрастающей и убывающей доходности.
Теории заработной платы Кассель подразделял на пессимистические и оптимистические, в качестве примера пессимистической теории, которую, как и можно было ожидать, Кассель отвергал, он ссылался главным образом на концепцию Рикардо. Пессимистические теории являются ошибочными в своей основе, о чем свидетельствует, по его мнению, непрерывное повышение как заработной платы, так и жизненного уровня 136. Как уже отмечалось, Кассель подверг критике теорию фонда заработной платы вследствие того, что наряду с прочими ошибочными положениями она предполагала наличие периодичности в хозяйственной жизни, тогда как в действительности такой периодичности не существует. Теория предельной производительности, которая, по мнению Касселя, относится к числу «оптимистических», также ошибочна вследствие того, что используемый в уравнении цены маржиналистский принцип не носит объективного характера 137. Как и по другим факторам производства, заработная плата представляет просто цену, определяемую относительной редкостью. Последнюю же следует рассматривать с точки зрения спроса на данный фактор производства, а спрос в свою очередь зависит от работы, которую требуется проделать. В таком случае основным фактором производства оказывается труд (другим фактором является ожидание), причем существует много различных видов труда. Это существенно осложнило проблему, и, рассматривая труд в качестве фактора производства, приходилось подразумевать под ним возможность на протяжении данного промежутка времени приводить в действие определенные способности 138. Ценой, уплачиваемой за такое право или возможность распоряжаться трудом, и является, как утверждал Кассель, заработная плата. Подобные представления опять-таки мало отличались от 381
обычной теории спроса и предложения, причем в описание механизма спроса и предложения вносилась крайняя путаница, поскольку доход рабочего, говорил Кассель, включает некую сумму сверх «заработной платы». Он не уточнял, что же представляет собой такой излишек, но считал, что размеры заработной платы и дохода не совпадают 139. Такое утверждение, разумеется, правильно, если рабочий владеет акциями и другими ценными бумагами, однако Кассель, вероятно, имел в виду не это.
Низкий уровень заработной платы в таком случае можно объяснить наличием излишней рабочей силы. Во втором издании книги «Общественное хозяйство» Кассель высказался в поддержку рационализации промышленности и с сожалением говорил о том, что профсоюзные монополии, тарифы и правительственная помощь безработным ставят препятствия на пути повышения эффективности 140. О консервативных взглядах Касселя свидетельствует также и его утверждение, будто лучше способствовать тому, чтобы каждый рабочий смог заботиться о себе сам, чем устанавливать доплаты рабочим в случае низкого заработка 141. Кассель полагал, что свобода передвижения из одной страны в другую превратит труд в более подвижный фактор производства. Впоследствии Гуннар Мюрдаль подчеркнул, что в этом вопросе взгляды Касселя, по крайней мере в их общем виде, совершенно правильны 142. Однако основные упреки он, как и можно было предположить, адресовал профсоюзам, которые, по его мнению, пытаются установить «монополии» в сфере своей деятельности. В этом, по Касселю, и состоит основная причина безработицы, поскольку выдвигаемое профсоюзами требование высокой заработной платы приводит к тому, что спрос оказывается меньше предложения, а это по сути дела автоматически влечет за собой безработицу. Предложенное Касселем решение заключается в том, чтобы использовать большее количество рабочих в сельском хозяйстве и снизить уровень заработной платы промышленных рабочих. Он, по-видимому, не понимал, что последняя задача должна быть осуществлена законодательным путем, потому что в условиях рыночного хозяйства обе указанные задачи находятся в явном противоречии. Единственную разумную причину ограничения миграции он видел в «...естественном желании сберечь лучшие свойства расы, сохранить ее чистоту, предотвратить смешение с такими элементами, которые, сами по себе обладая достоинствами, оказывают пагубное влияние на будущность данной расы»143.
Стоимость денег также определяется принципом редкости, что проявляется в относительной дефицитности средств, обладающих реальной покупательной силой. Но теория денег носит столь же статичный характер, как и вся остальная система Касселя. Основная денежная единица фиксирована и неизменна, в известном смысле о ней просто достаточно сказать, что она существует, так что цены можно определить из системы уравнений, характеризующих общее равновесие. Кассель полагал, что в этом проявляется единство теории денег и теории цен; однако, если такое единство и существует, оно чисто формально. Рассматривая проблему денег, он, по существу, воспроизводил количественную теорию, согласно которой общий уровень цен зависит от количества денег в обращении. Но Кассель нигде не уточнил, что он при этом имел в виду: зависит ли стоимость денег от политики банков или она основывается на соотношении между общей суммой обращающихся денежных знаков и единицей золотых денег, служащих их обеспечением, а также на возможности обменять денежные знаки на золото.
Довольно широкую известность принесло Касселю его исследование количественного соотношения между размерами золотого запаса и уровнем цен. Сопоставив оптовые цены в 1850 и 1910 гг. с размерами золотого запаса, он пришел к выводу о том, что цены в эти годы находились примерно на одном уровне. По его словам, это объясняется неуклонным и постепенным увеличением золотого запаса в среднем на 2,8% в год. Периоды повышения цен (например, рост цен с 1896 по 1914 г.) были вызваны чрезмерным увеличением золотого запаса, а причиной понижения цен с 1873 по 1896 г. явился недостаток золота. Поэтому стабильность цен, по-видимому, обеспечивается при поддержании надлежащей пропорции между золотым запасом и темпами хозяйственного роста. Если это условие не соблюдается, тогда, как утверждал Кассель, трудно сохранять цены на одном и том же уровне 144. В случае когда изменение золотого запаса не соответствует темпам хозяйственного роста, возникает необходимость в использовании резервов центральных банков. Однако Кассель проходил мимо известного факта, что в XIX в. долгое время серебро играло более важную роль, чем золото. К тому же периоды, которые он выбрал для обоснования своей концепции, по-видимому, нехарактерны, поскольку это были именно те годы, когда расширялось использование золота. Аргументация Касселя становится еще более уязвимой, если принять во внимание, что розничные цены в тот период были гораздо менее стабильны, чем оптовые. С таким же успехом можно доказывать, что- 382
уровень цен был скорее причиной, а не следствием изменений в масштабах добычи золота145
Кассель также пытался увязать регулирование золотых запасов и денежного обращения с процентом и сбережением. В связи с существованием принципа редкости, то есть механизма, благодаря которому устанавливается соответствие между спросом и ценой, становится нелогичной мысль о том, что недостаточные размеры дохода исключают возможность сбережения. Исчерпание средств для инвестирования Кассель считал немыслимым вследствие того, что лица, осуществляющие сбережения, просто могут предоставить необходимый капитал. Если должно произойти тезаврирование денег в каких-либо формах, то в качестве противодействующего средства можно использовать кредитно-денежную политику, включая выпуск дополнительных денежных единиц. Явная противоречивость таких представлений не смущала Касселя, согласно которому все хозяйственные недуги излечиваются с помощью манипуляций в сфере денежного обращения и изменения ставок банковского процента. Даже неограниченная бумажно-денежная эмиссия может обеспечивать благотворные результаты, однако наилучшей политикой после первой мировой войны явилось бы возвращение к золотому стандарту. Подобные представления восходили к викторианской эпохе, и в 20-х годах Кейнс убедительно доказал, что такая политика приводит к гибельным последствиям. Кассель мог лишь утверждать, что восстановление свободного размена на золото оказалось невозможным, так как валютные курсы не соответствовали внутренней покупательной способности денег в различных странах — ведь эта проблема еще более острая, чем вялое движение капитала в сфере международной торговли.
И если многие из идей Касселя сомнительны, все же его исследование экономического цикла представляется в основном довольно удачным. Еще в самых ранних работах Кассель отмечал периодичность торговых кризисов и задавал вопрос: как можно охарактеризовать такие кризисы в свете политических потрясений, нарушений в сфере денежного обращения, изменений тарифов, правительственного вмешательства и роста монополий? Если бы не такие чрезвычайные факторы, хозяйственная система, по его мнению, не знала бы никаких потрясений. Однако Кассель признавал, что кризисы могут вызываться изменениями в технике, а также процессами, развертывающимися при переходе от примитивного или феодального хозяйства к более сложному хозяйственному строю. Когда Кассель говорил о том, что важными показателями цикла являются выплавка чугуна и добыча угля, кажется очевидным, что на его представления оказали влияние Шпитгоф и Туган-Барановский. Кассель писал: «В период подъема особенно быстро увеличивается производство основного капитала; в период спада, или депрессии, производство этих товаров падает ниже ранее достигнутого уровня» 146. Чуть дальше он добавлял: «...изменения, происходящие от периода'подъема до периода спада, по самой своей сущности представляют изменения в размерах производства постоянного капитала, однако они не связаны непосредственно с темпами развития производства» 147. Дополнительный спрос на рабочую силу, вызываемый расширением производства, удовлетворяется благодаря существованию безработных, ряды которых часто пополняются за счет избыточных работников сельского хозяйства. Такое движение рабочей силы отражает меняющуюся структуру экономики 148. В фазе подъема в условиях хозяйственного роста усиливается процесс перехода рабочих из сельского хозяйства в промышленность, а также ускоряется развитие отраслей, выпускающих капитальные блага. В такие периоды темпы роста часто оказываются выше «нормальных» — мысль, которую в послекейнсианской политической экономии развивали Рой Харрод и Евсей Домар. В концепции Касселя подразумевалось также понятие акселератора; особенно наглядно это проявилось в утверждении о том, что сокращение потребительского спроса вызывает уменьшение выпуска потребительских товаров и в конечном счете — приостановку развития в зависящих от них отраслях, выпускающих производственные блага. Например, анализируя развитие судостроительной промышленности Англии, Кассель отмечал, что «...достаточно небольших отклонений от устойчивого пропорционального роста, чтобы вызвать серьезные потрясения в судостроительной промышленности. Поэтому маловероятной кажется перспектива такого развития отраслей, производящих капитальные блага, при котором эти отрасли будут функционировать совершенно равномерно, не подвергаясь никакому влиянию [циклических колебаний]» 149.
Конец бума наступает в условиях возросшей редкости капитала, которая отражается на процентной ставке. При данном уровне доходов низкая процентная ставка означает высокую стоимость капитала. По мере того как спрос на капитал расширяется, он оказывает давление на процентные ставки, вызывая их повышение, а это, в свою очередь, приводит к падению стоимости капитала. Когда прибыль оказывается ниже уровня процента, исчезают стимулы к производству основного капитала.
383
Бум сменяется депрессией. Однако Кассель не указывал точно, что же является первопричиной депрессии — изменение процентной ставки или изменение стоимости постоянного капитала. Он настойчиво утверждал, что в высшей точке подъема не существует «насыщения» хозяйства капиталом. По его мнению, всегда имеется достаточно возможностей для вложения капитала, и поэтому* нельзя полагать, что основную роль играет снижение ожидаемого дохода на капитал. Сомнения и колебания, возникающие в такой момонт, вызываются скорее повышением процентных ставок. Это означает не перепроизводство, а недостаток капитала и, разумеется, недостаток сбережений; все это проявляется в том, что предприниматели не могут завершить начатые объекты 160. Такая нехватка капитала обычно маскируется тем, что во время процветания банковская система расширяет предложение денег. Другими словами, происходит разрыв между денежными потоками и производством.
Кассель утверждал, что предпосылки возобновления экономического цикла не исчезают; непрерывно повторяясь, он воплощает ту цену, которую приходится платить за прогресс. Только таким образом можно обеспечить переход к новой технологии, возникновение новых отраслей и использование новых ресурсов, то есть все то, что характеризует прогрессивное хозяйство. Такие процессы играют роль внешних толчков, без которых постепенно исчезли бы циклические колебания. Следовательно, в самом внутреннем механизме капиталистической экономики не содержится никаких причин, порождающих подъем и процветание,— они всегда вызываются внешними толчками. В связи с этим теория Касселя приобретала, как отмечал Элвин Хансен, почти эконометрический характер. Изобретения, быстрое хозяйственное развитие новых районов и рост населения ведут к «вспышкам» новых инвестиций, вызывая такой рост цен на капитальные блага, при котором эти цены оказываются выше существовавших вначале издержек. Впоследствии процентные ставки повышаются, и процесс капитализации влечет за собой снижение стоимости постоянного капитала. Параллельно, вероятно, происходит увеличение издержек, с которыми сопряжено производство постоянного капитала, вследствие чего сокращается доход, образующийся как разность между стоимостью оборудования и издержками его производства. Все эти процессы, а также различные лаги, которыми характеризуются ответные реакции предпринимателей, и образуют основную причину, порождающую периодическое развертывание подъемов и спадов. К сожалению, анализ Касселя в большинстве случаев был недостаточно четким: если всегда существуют возможности для новых инвестиций, почему же в таком случае не происходит систематического роста? Несколько легковесно решался также вопрос о том, почему исчезают стимулы к инвестированию. Действительно ли процентная ставка играет столь важную роль? Являются ли внешние толчки единственным источником экономического развития? Несмотря на обширные статистические материалы и отдельные глубокие замечания, вся теоретическая концепция рухнула под тяжестью вопросов, оставшихся без ответа.
Идеи Касселя оказали существенное влияние и на развитие другой области экономической теории — теории международной торговли. В этой области он также в основном придерживался принципов экономической науки XIX в. Хотя Кассель настойчиво утверждал, что он не относится к числу догматических приверженцев принципа свободной торговли, однако в своей лекции, прочитанной в 1934 г., он высказал убеждение в том, что все существующие в мире беды порождены протекционистской политикой 151. Основным фактором, способствовавшим появлению этих зол, было, по его мнению, нарушение равновесия в сфере денежного обращения, так как из-за этого не могли полностью проявиться естественные процессы хозяйственного восстановления. «Дефляция», которая развернулась в Соединенных Штатах с 1928 г., парализовала вывоз капитала
и вызвала кредитные ограничения во внутренней торговле. Это привело к падению цен и повлекло за собой широкую волну банкротств среди заемщиков. Правительство прибегло к протекционистской политике, пытаясь возвести оборонительную «китайскую стену», однако, по мере того как хозяйственный недуг распространялся из одной страны в другую, подобные мероприятия теряли смысл. Квоты, мероприятия по осуществлению контроля и рестрикции на практике приводили лишь к углублению депрессии. Усиление автаркии подрывало международное разделение труда и вызывало сокращение мирового производства. Потерпел крушение золотой стандарт, который ранее так эффективно функционировал, опираясь на принцип паритета покупательной силы. Ставки заработной платы больше уже не могли приспосабливаться к притоку и отливу валютных резервов из одной страны в другую. Мероприятия по осуществлению протекционистской политики вовлекли правительство в сферу деятельности частных предпринимателей и неминуемо вели к плановой экономике. А это влекло за собой еще более 384
серьезные проблемы, потому что в условиях плановой экономики распределение дохода между сбережением и потреблением не может быть сколько-нибудь эффективным. По мере того как получают распространение социалистические идеи, раз и навсегда исчезает вера в автоматическое функционирование экономики *.
Решение этой острой проблемы заключалось, по мнению Касселя, в обеспечении «нормальных» валютных курсов, когда цены, заработная плата и издержки могут приспосабливаться к этим курсам; тем самым установился бы подлинный паритет покупательной силы различных валют. Только таким путем могла бы быть обеспечена надежная гарантия равновесия в международных экономических отношениях. Хотя понятие паритета покупательной силы не было новым, активные выступления Касселя в печати в поддержку этого принципа создавали впечатление, что он его автор. Однако эта теория была выдвинута Джоном Уитли, который еще в 1803 г. довольно четко изложил основные ее положения. А Кассель только в 1916 г. выступил в защиту теории международных экономических отношений, основанных на определенных соотношениях между средними уровнями цен в отдельных странах. Он доказывал, что в условиях нормальной торговли устанавливается такой валютный курс, который отражает соотношения между покупательной силой соответствующих валют. Когда в одной из стран цены повышаются, валютные курсы должны измениться таким образом, чтобы новый курс был равен старому, помноженному на коэффициент, который характеризует соотношение между «степенью развития инфляции» в соответствующих странах. Иначе говоря, новый валютный курс устанавливается исходя из соотношения между покупательной силой денег в различных странах. Теория Касселя в основном ориентировалась на условия бумажно-денежного обращения и предполагала, что постоянные валютные курсы могут поддерживаться с помощью кредитно-денежной политики, оказывающей влияние на уровень цен на внутреннем рынке. При существовании паритета покупательной силы ни одна страна не будет иметь преимуществ перед другими. Существует определенный валютный курс, который позволяет стране торговать даже в том
* Приведенные рассуждения о «плановой» экономике и «социалистических» идеях представляют собой обычную для буржуазной политической экономии интерпретацию вмешательства государства в капиталистическое хозяйство, которое действительно не способно обеспечить эффективное распределение дохода между накоплением и потреблением.— Прим. ред. случае, если она располагает недостаточными ресурсами 152. Эти различия могут быть достаточно велики для того, чтобы сделать выгодной перевозку товаров, несмотря на транспортные издержки, ибо побудительным мотивом международной торговли, по словам Касселя, являются именно такие особенности, основывающиеся на различиях в первичных факторах производства, производственных функциях и спросе. Задача торговли состоит в выравнивании этих различий 153. Паритет покупательной силы, по существу, превращается в характеристику определенных отношений и вместе с тем становится объяснением причинной связи. Валютные курсы определяются относительными уровнями цен и в конечном счете, разумеется, вездесущим принципом редкости.
Однако теория должна отвечать не только условиям бумажно-денежного обращения, но и условиям золотого стандарта. Даже если предположить, что движение валютных курсов ограничено «золотыми точками», * все же должно оставаться достаточно возможностей для того, чтобы относительный спрос, предъявляемый одной из стран на товары другой, вызывал изменения в уровне цен 154. Однако это критическое замечание, вскрывавшее ограниченность теории Касселя, не смущало его: пытаясь отвести возражения, Кассель утверждал, что он имеет в виду общий уровень цен и что при рассмотрении товаров, участвующих в международной торговле, он отвлекается от транспортных издержек и тарифов. Такая трактовка, понятно, сводила всю проблему к бесплодным трюизмам. Единственное соотношение, которое оказывается существенным для международной торговли,— это отношение между ценами различных товаров, которые фактически поступают в каналы торговли. Мы стремимся приобрести другую валюту не в качестве всеобщего платежного средства, а как средство, которое позволяет купить определенные товары. Общий уровень цен не имеет отношения к этой проблеме. Кроме того, следует принять во внимание не только транспортные издержки и тарифы, но также и возможность конвертирования данной валюты в валюту других стран. Суть проблемы достаточно проста: внутренняя покупательная способность национальной валюты не обязательно должна совпадать с ее внешней покупательной силой155.
Поскольку многие положения, высказанные Касселем, быстро устаревали, кажется непо* «Золотые точки»— пределы отклонений валютного курса от монетного паритета в условиях золотой валюты; их величина определяется издержками по пересылке золота из одной страны в другую.— Прим, перев.
25 Б. Селигмен
385
нятным, почему следует придавать важное значение его произведениям. Но дело в том, что они пользовались широким влиянием, особенно после первой мировой войны. Правда, у него было также немало противников. Касселя обвиняли в том, что его возражения против теории стоимости были продиктованы лишь личными соображениями и сводились к словесным заклинаниям, совершенно бессильным опровергнуть эту теорию и изгнать «злого духа» 156. Несмотря на отчаянную борьбу против теории австрийской школы, Кассель, по существу, сам прибегал к принципу вменения, когда пытался объяснить установление цен на факторы производства. Его теория большей частью совершенно лишена оригинальности, причем Кассель склонен был к опрометчивым суждениям, о чем свидетельствует, например, неправильная трактовка концепции Рикардо. Убеждения Касселя полностью гармонировали с английским либерализмом XIX в. Его философским взглядам был присущ эмпиризм и индивидуализм 157; об этом наглядней всего свидетельствует то, что он не мог отделаться от проблемы стоимости. Если бы Кассель захотел прислушаться к голосу других людей, а не руководствовался бы только своим собственным мнением, он, наверно, осознал бы указанный недостаток.
Кассель имел много последователей благодаря своей трактовке текущих событий хозяйственной жизни. Его отчеты и статьи, часто- появлявшиеся в шведской печати, принесли ему репутацию «реалиста». Это во многих отношениях способствовало переходу молодых шведских экономистов к практическому применению экономического анализа и помогало им; избавиться от увлечения теоретической схоластикой. И если трудам Касселя и не присуща такая тщательность и глубина научного исследования, какую можно обнаружить у некоторых его современников, все же его влияние- оказалось не меньшим.
3. ДАВИД ДАВИДСОН: ШВЕДСКИЙ РИКАРДИАНЕЦ
К числу основателей шведской школы политической экономии относится и Давид Давидсон (1854—1942) — ученый, который вел поистине замкнутый образ жизни. Когда ему было семнадцать лет, он поступил в Уппсальский университет, затем до конца жизни оставался в Уппсале. В юности он некоторое время путешествовал по странам континентальной Европы, главным образом для того, чтобы пополнить свои знания, а также недолго жил в Стокгольме; вся остальная жизнь Давидсона, не считая этих кратковременных поездок, протекала в стенах университета. Он происходил из большой семьи немецко-еврейского происхождения. Его отец с помощью торговли нажил скромное состояние; однако у сына, по-видимому, было мало общего с родителями. Уехав учиться в университет, Давидсон редко возвращался домой. Его отца все же нельзя считать простым купцом: он превосходно знал Библию, обучался древнееврейскому языку и поддерживал обширную переписку с раввинами и другими лицами, изучавшими Библию 158.
Давидсон вскоре проявил склонность к занятиям экономической теорией, обнаружив поразительную способность последовательно продолжать абстрактные рассуждения, к каким бы выводам они ни приводили159. Получившее известность преклонение Давидсона перед Рикардо складывалось постепенно, и лишь в более поздних работах Давидсон стал признавать знаменитого английского экономиста своим учителем. К сожалению, лишь немногие из произведений Давидсона публиковались за пределами Швеции, это объясняется, вероятно, тем, что его внимание привлекали прежде всега чисто национальные проблемы. Действительно, обмен мнениями в международном масштабе мало интересовал Давидсона — подобное отношение, по-видимому, порождалось обстановкой, существовавшей в Уппсальском университете: иностранным делам там не уделялось серьезного» внимания.
Как это часто бывало в Швеции, Давидсон изучал политическую экономию на юридическом факультете. Не питая неприязни к профессии юриста, он изучал юриспруденцию, а затем преподавал гражданское право и недолгое- время служил мировым судьей. Дела, с которыми ему приходилось сталкиваться, усилили его интерес к проблемам государственных финансов, и вскоре он стал ведущим специалистом в данной области. Он быстро продвигался по академической лестнице: в двадцать пять лет он уже читал лекции, через год стал исполнять обязанности профессора, а в тридцать пять лет ему было присуждено звание профессора. До 1901 г., когда Викселль получил наконец место в Лунде, Давидсон был единственным профессором политической экономии в Швеции. Активную преподавательскую деятельность он вел вплоть до 1919 г.
386
Первая книга Давидсона, посвященная накоплению капитала — «Законы накопления капитала» (1878),— была небольшого объема; она привлекла к себе немалое внимание за границей, и, строго говоря, уже она выдвинула Давидсона в число основателей шведской школы в политической экономии. В этом небольшом произведении были предвосхищены некоторые идеи Бем-Баверка относительно капитала и процента. Подобно столь многим экономистам XIX в., Давидсон должен был продемонстрировать свое знание предшествующих теорий, поэтому его подход носил в основном исторический характер. И хотя Давидсон не исключал из рассмотрения английских авторов, все же основное внимание он уделял немецким экономистам — Менгеру, Кнису, Мангольдту и даже Марксу,— доказывая тем самым, насколько ближе шведам были экономисты континентальной Европы, чем представители английской классической школы. Тем не менее в общих теоретических представлениях Давидсона, как и в работах Викселля, не чувствовалось сколько-нибудь существенного влияния маржиналистской теории. Из представителей теории предельной полезности он рассматривал лишь Менгера, причем идеи последнего излагались коротко, речь шла главным образом о периоде капиталовложений. Джевонс и Вальрасо- ва идея равновесия вообще не упоминались.
В начале своей деятельности Давидсон высказывал сомнения по поводу того, можно ли считать политическую экономию особой сферой исследования. Когда Давидсон в 1879 г. посетил Германию, он пришел к выводу, что основные положения политической экономии неопределенны, даже неточны, и что с точки зрения научного познания, вероятно, лучше было бы включать их в состав социологии. Такие взгляды нашли отражение в его книге «К вопросу об истории учений о ренте» (1880), в которой социологическим проблемам уделено намного больше внимания, чем в других произведениях Давидсона. В ней можно обнаружить влияние не только Джона К. Ингрэма, но также и Карла Родбертуса — авторов, которые, по мнению Давидсона, внесли особенно ценный вклад в теорию ренты. Теорию перепроизводства Родбертуса Давидсон считал весьма плодотворной, вместе с тем ему импонировало явно безразличное отношение Родбертуса к социал-демократии и рабочему движению. Тщательнее, чем раньше, Давидсон стал изучать Рикардо, однако он все еще не разделял общего убеждения, что Рикардо был основоположником трудовой теории стоимости 16°.
Вслед за этим Давидсон стал оттачивать свои способности полемиста. В 1880-х годах он опубликовал ряд статей о налоговом обложении; в этих статьях Давидсон довольно одобрительно отзывался о взглядах, согласно которым не доход, а скорее расходы должны служить базой налогового обложения. Все его произведения, относящиеся к последующему периоду,— это статьи, которые публиковались главным образом в «Экономиск тидскрифт»— журнале, который Давидсон основал и редактировал с 1899 по 1938 г. По существу, он один выполнял всю работу по редактированию этого журнала. И дело не в том, что Давидсон не мог найти себе помощников,— просто ему не хотелось, чтобы другие принимали участие в издании журнала. Давидсон был не только единственным редактором, он сам написал для журнала свыше 250 статей. В журнале публиковались самые разнообразные материалы, в том числе сообщения статистиков, предпринимателей, а также сведения, относящиеся к смежным областям. На его страницах можно было найти статьи по теоретическим и практическим вопросам. Однако после первой мировой войны журнал стал проявлять больший интерес к теоретической проблематике, особенно проблемам валютных курсов и нарушения равновесия в сфере денежного обращения 161. Викселль часто помогал Давидсону в издании журнала, и вслед за ним для журнала стал писать ряд лучших шведских экономистов. В конце концов и сам Давидсон пришел к мысли о том, что теоретический анализ может способствовать разработке правильной экономической политики.
Хотя Давидсон отрицательно относился к неомальтузианским взглядам Викселля, все же они были близкими друзьями. Понимая, что нашумевшая лекция о контроле над рождаемостью не опиралась на достаточно убедительную теоретическую аргументацию, Давидсон упрекал своего знаменитого друга в неделикатности, выразившейся в том, что Викселль поднял этот вопрос перед столь разношерстной аудиторией. Давидсон убеждал Викселля в необходимости получить ученую степень по юридическим наукам, без чего он не имел права преподавать. Но все это не помешало их дружбе с Викселлем, причем их еще больше объединила та антипатия, которую оба они питали к Густаву Касселю. Многие положения, разработанные Викселлем, безусловно, были вдохновлены Давидсоном, большую пользу Викселлю принесли также критические соображения Давидсона. Давидсон подверг безжалостному разбору и резкой — даже еще более резкой, чем Викселль,— критике теорию Касселя, неумолимо вскрывая ее противоречия и слабые звенья в цепи рассуждений. Искус25* 387
ство популяризации и упрощения, которым блистательно владел Кассель, по мнению Давидсона, достигалось в ущерб истине. Давидсон считал, что любой вопрос содержит трудности, и высказываемые положения должны опираться на совершенно убедительные доказательства. Решение всех проблем оказывается сложным и трудным делом. Поэтому Давидсон терпеть не мог самонадеянного и практичного Касселя и со всей ясностью высказывал свое мнение о нем. Со своей стороны, Кассель платил Вик- селлю и Давидсону полным презрением и непрестанно предлагал вниманию читателей свои собственные произведения, которые, как он полагал, в теоретическом отношении несравненно выше.
С течением времени Давидсон стал чаще обращаться к идеям представителей классической школы, особенно к учению Рикардо: сказалось пристрастие, которое он обнаружил еще в одной из своих ранних работ, посвященных теории ренты. Теперь при изучении экономических проблем главным для Давидсона фактически стал вопрос о том, что на самом деле имел в виду в данном случае Рикардо. Взгляды Давидсона не были связно изложены ни в одной из его работ: замечания по теоретическим и практическим вопросам рассеяны среди множества статей, публиковавшихся «Экономией тидскрифт» на протяжении более чем сорока лет; многие из них посвящены проблемам налогового обложения и кредитно-денежной политики, а также цен, экономического цикла, валютных расчетов и т. п. В отличие от Викселля Давидсон не создал цельной системы экономических воззрений; ему недоставало систематичности, общих представлений о том, как функционирует хозяйственный строй. Даже интерпретируя Рикардо, Давидсон скорее высказывал мысли относительно тех или иных конкретных вопросов, чем по поводу представлений английского экономиста о потоке доходов и связанных с этим проблемах. Попросту говоря, Давидсон не любил синтеза: его гораздо больше привлекал ряд частных аналитических задач. Все же он изучил произведения Рикардо настолько досконально, что мог поправлять в этом вопросе даже таких светил, как Кейнс и Мюрдаль, а также сумел показать, что теория паритета покупательной силы ведет свое начало вовсе не от английской классической школы. Фактически Давидсон был совершенно независим от различных направлений экономической мысли. Он критиковал как доктринеров, придерживавшихся принципа laissez faire, так и тех, кто видел панацею от всех социальных зол во вмешательстве государства.
Все же его метод исследования частных вопросов не всегда оказывался плодотворным. История деятельности шведского центрального банка в произведениях Давидсона сводится к различным техническим проблемам, сколько- нибудь заметно не связанным с окружающими условиями. Давидсон допускал, что в некоторых ситуациях социальное законодательство необходимо, и у него не было возражений против правительственных мероприятий в случае существования монополии. Он ясно понимал, однако, что организация крупного производства и даже монополистический контроль могут служить эффективным средством предотвращения перепроизводства и экономических кризисов. Излюбленной темой теоретических рассуждений для Давидсона стал вопрос о том, может ли сбережение при определенных условиях приводить к повышению заработной платы, если при этом не происходит накопления капитала, и наоборот, может ли снижение заработной платы вызвать увеличение реального капитала так, чтобы при этом не требовались новые сбережения. Первый случай, по-видимому, возможен в условиях депрессии, когда обнаруживается тенденция к повышению реальной заработной платы, а второй случай может иметь место в условиях бума, когда рост заработной платы отстает от повышения цен. Эти процессы могут быть связаны с изменениями стоимости денег. Рассматривая эти проблемы, Давидсон подчеркивал необходимость четкого разграничения фонда заработной платы и реального капитала.
Наибольшее значение, однако, имела выдвинутая Давидсоном теория денег. Здесь также можно обнаружить влияние Рикардо. Некоторые черты хозяйственного развития в годы первой мировой войны поразительно напоминали события посленаполеоновской эпохи. В обоих случаях бедствия порождались инфляцией и избыточным выпуском бумажных денег, и дискуссия между Рикардо, Хорнером, Бозан- кетом и другими авторами, казалось, имела самое непосредственное отношение к событиям, развернувшимся в первые десятилетия XX в. Давидсон считал в принципе приемлемым проводимое Викселлем разграничение «реальной» и «денежной» процентных ставок. Уровень «денежной» процентной ставки относительно «реальной», по мнению Давидсона, лежит в основе всех изменений стоимости денег. Этим объясняется также переход к новому уровню цен, потому что изменение важнейших хозяйственных пропорций неизбежно вызывает изменение количества денег в обращении и таким путем оказывает влияние на цены. Давидсон рассматривал также возможность использова388
ния процентной ставки в качестве средства антиинфляционной политики.
И все же в воззрениях обоих ведущих шведских экономистов не было подлинной и полной согласованности. Давидсон, явно под влиянием Рикардо, пытался отыскать «объективную» основу стоимости. Поэтому он не был согласен с той точкой зрения, что стоимость денег и стоимость товаров изменяются в противоположных направлениях, и написал об этом в опубликованной в 1899 г. рецензии на книгу Викселля «Процент и цены». Давидсон, очевидно, имел в виду, что стоимость товаров и стоимость денег должны определяться исходя не только из их отношения друг к другу, но также из степени редкости каждого из этих компонентов. Иначе говоря, стоимость товара изменяется с изменением производственных затрат и производительности. В связи с этим Давидсон не считал разумным стремление Викселля к постоянному среднему уровню цен, потому что в таком случае не учитываются изменения в производительности. Давидсон полагал, что вследствие увеличения производства, сопровождающегося соответствующим понижением цен, сами по себе будут поддерживаться уровень реальной заработной платы и обеспечиваться устойчивое поступление реальных доходов. Но если производство должно расширяться при неизменных ценах, за этим последует увеличение заработной платы и прибыли, а стоимость капитала уменьшится. Давидсон высказывался в пользу такой политики, которая обеспечивает изменения среднего уровня цен в направлении, обратном изменениям производительности, и вместе с тем поддерживает стабильность платежей владельцам факторов производства. Денежные доходы рабочих и предпринимателей останутся прежними, но эти доходы будут располагать большей покупательной силой — представления, которые, по-видимому, оказали определенное влияние на проводившуюся в Швеции кредитно- денежную политику 162. В этом Давидсон видел также и этическую цель; он явно хотел сказать, что результаты повысившейся производительности должны справедливо распределяться, и он показывал, как этого можно было бы достигнуть.
В ответ на это Викселль заметил, что изменения в производительности слишком малы и не могут существенно изменить картину, однако Давидсон возразил, что при регулировании денежного обращения следует принимать во внимание предстоящие изменения производительности 163. Давидсон имел в виду прогресс в сельском хозяйстве; к тому же, как он доказывал, повышение производительности при неизменном уровне цен приведет к тому, что «естественная» ставка процента окажется намного выше, чем «денежная» ставка. Равновесие может быть достигнуто либо вследствие повышения «денежной» ставки, либо в результате снижения уровня цен. Но, если будет повышена «денежная» ставка, это приведет к снижению цен; отсюда Давидсон заключал: равновесие требует, чтобы между указанными величинами существовала обратная зависимость.
Аргументация Давидсона основывалась на утверждении, что объективная стоимость товара увеличивается по мере того, как возрастает его редкость; изменения стоимости, связанные с воздействием этого фактора на всю массу товаров, совершенно не похожи на изменения стоимости, вызванные новым соотношением между товарами и деньгами. Все дело, по мнению Давидсона, заключается в том, что соотношение между частью товарного запаса и всем запасом отличается от аналогичного соотношения для денег. Каждый из товаров, образующих запас, обладает стоимостью, которая проистекает из индивидуальных качеств как товара, а денежная единица располагает стоимостью лишь потому, что она представляет часть всего денежного запаса. Увеличьте общее предложение денег, и каждая денежная единица утратит часть своей стоимости. Если стоимость всего запаса денег зависит от объема товарооборота, стоимость отдельной денежной единицы зависит от общего количества самих денег. Невозможно регулировать стоимость товаров и скорость обращения, но к деньгам это не относится — они могут служить объектом регулирования. Следовательно, можно так управлять денежным обращением, чтобы обеспечить соответствие между ценами на товары и их изменяющимися, но объективными стоимостями. Изменения уровня цен в период первой мировой войны объясняются, по мнению Давидсона, четырьмя причинами: увеличением количества денег, сокращением товарной массы, налоговой политикой и монополистической деятельностью. Путем регулирования денежного обращения можно оказать влияние лишь на первый из этих факторов. Строго говоря, указывал Давидсон, только этот фактор и является инфляционным. Следовательно, об изменениях, вызванных действием остальных факторов, нужно судить с точки зрения справедливости. Если в результате повышения производительности труда и расширения производства цены не снизятся, то отношения между кредитором и заемщиком, несомненно, изменятся, точно так же как в условиях денежной инфляции, потому что, несмотря на увеличившиеся произ389
водственные возможности экономики, кредиторы не получат никаких выгод, все выгоды достанутся только заемщикам. С другой стороны, снижение производительности при сохранении прежних цен наносит ущерб заемщикам. Таким образом, наилучшая политика состоит в том, чтобы создать условия для движения цен в направлении, противоположном изменению производительности. Из этого явно следовало, что поддержание твердых цен на самом деле не может служить эффективным средством антициклического регулирования, поскольку предполагается, что в таком случае увеличение реального дохода или повышение производительности создаст трудности в экономике и, возможно, вызовет спекулятивные операции, за которыми последует крах.
Влияние Давидсона почти полностью ограничивалось пределами Швеции. К Рикардо он относился с исключительным благоговением, и его комментарии сводились к воспроизведению классической теории стоимости. Хотя данная часть исследований Давидсона несколько напоминает деятельность антиквара, все же это не может умалить достоинств его теории денег. Давидсон справедливо придавал значение вопросу о том, какое влияние оказывает изменение уровня цен на перераспределение дохода, он стал размышлять над тем, что это может способствовать развитию других процессов. Из современных экономистов указанными соображениями воспользовались прежде всего Хайек и Мизес. Однако особенно велика и благотворна была роль Давидсона в формировании теоретических представлений младшего поколения шведских экономистов — Гуннара Мюрдаля, Эрика Линдаля и др.
Давидсон указывал, что для Швеции — страны, которая испытывает столь сильную зависимость от состояния импорта и экспорта,— исключительно важной является проблема повышения импортных цен и ухудшения условий торговли, вследствие чего происходит увеличение удельных издержек производства и снижение эффективности. Все это было достаточно известно по опыту военных лет, однако указанная проблема продолжала существовать и в мирные годы. Для того чтобы общий уровень цен на внутреннем рынке оставался неизменным, большие затраты на приобретение импортных товаров должны компенсироваться более низкими ценами других товаров. В противном случае общий уровень цен не будет стабильным. Однако снижение издержек производства отечественных товаров может вызвать развитие дефляционных процессов. При неэластичной заработной плате такое снижение, по-видимому, окажет неблагоприятное влияние на прибыль и в результате приведет к уменьшению спроса на труд. Если же цены будут повышаться пропорционально сокращению производства, то равновесие можно сохранить, потому что в таком случае удастся возместить повысившиеся издержки, не вызывая потрясений на рынках труда и других факторов производства. С другой стороны, сохранение неизменных цен в условиях повысившейся производительности будет означать увеличение прибыли, а это, как полагал Давидсон, послужит стимулом для дальнейшего инвестирования и расширения производства. Происходящее при этом расширение спроса на услуги факторов производства может означать инфляцию. Новый спрос опирается на дополнительные банковские ссуды, которые влекут за собой дальнейшее повышение заработной платы и рост цен. Эта аргументация поразительно напоминает современные представления, причем такие представления, которые соответствуют более консервативным взглядам.
Когда Давидсон пришел к таким выводам, его перестали занимать этические аспекты распределения и он попытался обосновать тезис об обратной зависимости между ценами и производительностью, исходя из чисто теоретических соображений. Теперь он стремился решить проблему стабилизации стоимости денег. И здесь Давидсон предпринял попытку применить учение Рикардо к современным условиям. В статьях Давидсона содержались и практические предложения, однако основной акцент делался на производительности, которая, с его точки зрения, имеет первостепенное значение; это свидетельствует о том, что Давидсон пытался связать данную проблему с некими элементами присущей товарам объективной стоимости. Такой акцент придавал его концепции сходство с рикардианской теорией, в связи с чем Давидсон оказался втянутым в сложную и путаную дискуссию с Викселлем. Викселль подчеркивал, что непредвиденные изменения действительно оказывают серьезное влияние на стабильность цен. Другими словами, существование элемента неопределенности делало позицию Давидсона довольно уязвимой, тем не менее Давидсон продолжал отстаивать свою точку зрения вплоть до 1934 г. Он настойчиво указывал, что необходимо различать изменения цен, причины которых коренятся в самом «товарном секторе», и такие изменения цен, которые вызваны чисто денежными факторами. Правда, Давидсон соглашался с некоторыми выводами количественной теории денег. В годы первой мировой войны он полагал, что манипуляции с процентной ставкой могут оказаться 390
полезными, но после 1919 г. Давидсон вернулся к своим первоначальным взглядам. Стоимость денег, по его словам, определяется стоимостью товарного запаса, а последняя, как он полагал, в свою очередь обусловлена уровнем производительности. Давидсон настойчиво утверждал, что цена товаров должна изменяться в том же направлении и в той же пропорции, в какой изменяется абсолютная величина их «объективной стоимости» 164.
Другие работы Давидсона посвящены большей частью проблемам денежного обращения. Он исследовал проблемы, связанные с предложением золота, подверг критике Фишерову идею регулирования валюты и много писал о денежном обращении Швеции. Фиксированная высокая цена на золото, по словам Давидсона, служила причиной дороговизны в Швеции, ибо центральный банк должен был покупать все предлагаемое ему золото; эта концепция оказала серьезное влияние на операции шведских банков и впоследствии вызвала к жизни политику «блокирования». После первой мировой войны Давидсон выступил с критикой представлений Касселя о золотом стандарте, выражая некоторый скептицизм относительно возможности его восстановления. Давидсон надеялся, что опыт деятельности центральных банков в США сможет раз и навсегда продемонстрировать, как следует осуществлять контроль над уровнем цен и над движением золота. Однако разразившаяся в 1929 г. катастрофа опрокинула эти надежды.
Но семена, брошенные Викселлем и Давидсоном, дали всходы — в Швеции сформировалась одна из самых замечательных школ во всей истории экономической мысли. В 30-х годах стало ясно, что шведские экономисты заняты глубоким исследованием наиболее острых и фундаментальных проблем. Бертил Олин, Гуннар Мюрдаль, Эрик Линдаль, Акерман, Даг Хаммаршельд и Эрик Лундберг, составлявшие ядро этой группы, проявили исключительное мастерство в исследовании практически важных проблем, причем такой анализ не игнорировал и важнейших теоретических положений. Подобные исследования, понятно, были в духе времени: «Великая депрессия» требовала немедленных практических мероприятий, но, для того чтобы вскрыть подлинные причины углублявшейся социальной катастрофы, нужен был также и теоретический анализ. Некоторые из этих экономистов встречались в Стокгольме для рассмотрения определенных проблем и обсуждения возможностей борьбы с кризисом; такие заседания и положили начало «стокгольмской школы». Работа этой группы экономистов практически началась в 1927 г. обсуждением диссертации Мюрдаля об установлении цен, в которой в сферу исследования включены такие факторы, как риск и ожидание; делая упор на роль элемента случайности, Мюрдаль смог дать новую трактовку динамических процессов, которая и стала предметом обсуждения экономистов. В книге был провозглашен полный отказ от прежних методов статического исследования; новый подход более точно отражал реальное положение дел, в нем автор видел единственно разумный выход из тупика, в котором оказалась экономическая наука.
Субсидия, выданная шведским ученым фондом Рокфеллера, помогла им разработать методику статистического исследования. Они тесно сотрудничали также в некоторых правительственных комиссиях, которые были учреждены в период с 1927 по 1935 г. с целью изучения безработицы и связанных с ней проблем. Широкая и плодотворная дискуссия развернулась вокруг таких вопросов, как кредитно-денежная политика, экономические циклы, общественные работы, финансовые программы и т. п.; все это приносило благотворные результаты, потому что участники дискуссии все время стремились сочетать теорию с практикой. Учрежденная в 1931 г. комиссия по вопросам безработицы выпустила несколько монографий, получивших известность; исследуя основную проблему,— проблему неполного использования ресурсов, их авторы пытались установить правильные критерии для мероприятий по исправлению такого положения. Наибольшую известность получили книги Хаммаршельда «Масштабы экономических циклов» и Иоганссона «Изменения заработной платы и безработица» 165. Теоретическая основа этих исследований была одинакова — описанный Викселлем кумулятивный процесс и непримиримая вражда Касселя к ортодоксальной теории цен. В годы войны дискуссия продолжалась с неослабевающей силой, сосредоточившись вокруг новой проблемы,— проблемы инфляции; по этому вопросу развернулись особенно оживленные и чрезвычайно сложные с теоретической точки зрения споры. Но как только война окончилась, большинство из этих экономистов занялось практической деятельностью. Мюрдаль стал министром торговли в социал-демократическом правительстве, пришедшем к власти в 1945 г., а впоследствии занял пост исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН. Олин, которого не пугала мысль о вмешательстве государства в хозяйственную деятельность, выдвинулся в число руководящих деятелей либеральной партии. В 1944 г. он возглавил либеральную партию 391
и на протяжении некоторого времени был членом правительственного кабинета. Блистательный молодой теоретик Сюн Карлсон был зачислен в аппарат ООН. Даг Хаммаршельд стал генеральным секретарем ООН, а Ингвар Свен- нильсон, автор известной книги об экономическом развитии Европы 166, занял место руководителя важного исследовательского бюро.
Хотя эти авторы не во всем соглашались друг с другом, у них было немало общего, что позволяет объединить их в одну группу. Все они интересовались развитием экономики в целом и взаимозависимостью, существующей между общими размерами производства и совокупным спросом; теория денег представлялась им — даже в еще большей степени, чем Кейнсу,— составной частью общей экономической теории. Центральную роль в их рассуждениях играло разграничение предполагаемых и осуществленных действий — понятия ex ante и ex post. При этом ими часто использовалась теоретическая система, основанная на периодоанализе или анализе последовательностей; логику этой системы должны были отражать упрощенные, но строгие модели хозяйственного процесса. Особенно большое влияние на развитие этого направления исследований оказал Мюрдаль. Используя свои идеи ex ante и ex post, он смог выдвинуть в центр внимания расчеты на будущее и ожидания как предпринимателей, которые осуществляют затраты, так и владельцев факторов производства, для которых плата за факторы служит доходом. Центральную роль в рассуждениях шведских экономистов стала играть кредитно-денежная политика. Им было ясно, однако, что банковская дисконтная ставка в условиях депрессии не может играть серьезной роли; почти очевидным было то, что процентная ставка не является эффективным орудием регулирования в тот момент, когда цикл достиг высшей или низшей поворотной точки. Все же представлялось важным поддержание доверия к денежной системе 167. Аргументы, выдвигавшиеся представителями этой школы в начале 30-х годов, были чрезвычайно убедительными, и они немало способствовали преодолению довольно распространенных, но неправильных представлений, будто развитие всей экономики должно подчиняться тем же принципам финансового благоразумия, что и частное хозяйство, и будто бюджеты должны быть бездефицитными. В то время стало распространяться мнение о том, что спад вызывается прежде всего недостаточностью сбережения. Некоторые утверждали, что кризис порождается чрезмерным инвестированием или, возможно, ошибочными инвестициями и следует просто избавить систему от этих ошибок. Отсюда следовало, что депрессии неизбежны и что не следует вмешиваться в развитие этого процесса 168. Тем не менее представители стокгольмской школы выступали в защиту общественных работ, считая их средством, с помощью которого удается вывести экономику из состояния депрессии. Доказывалось это просто: в условиях, когда ресурсы не используются, осуществление таких работ по существу не требует никаких затрат (в реальном выражении). К борьбе против депрессии шведские экономисты были подготовлены так же, как и к принятию кейнсианского учения. Основатели этой школы выполнили свою миссию настолько хорошо, что шведские экономисты в отличие от экономистов других стран не питали страха перед вмешательством государства 16 9. Традиции теоретического исследования, учитывающего практические требования, в условиях Швеции действительно приносили чрезвычайно интересные результаты.
В Швеции идеи, выдвинутые экономистами, вероятно, играли более важную роль в выработке правительственной политики, чем в других странах. Приспосабливая свои теоретические исследования к задачам, стоящим перед правительственной политикой, шведские экономисты отвергли наивные, по их мнению, представления, свойственные количественной теории денег, и теорию всеобщего равновесия цен, выдвинув на их место систему неравновесия. Они излагали свою теорию в категориях периодизации и анализа последовательностей и видели ее задачу в решении проблемы покупательной силы. Некоторые из этих экономистов доказывали, что производство и объем продаж можно стабилизировать в том случае, если устранить неопределенность перспектив и обеспечить постоянное соотношение между ценами и доходом. Практические выводы, однако, чаще относились к доходам владельцев факторов производства, чем к элементам денежного обращения. Идеи классической школы использовались лишь в учебной литературе: ведь кривые спроса и предложения сами по себе не представляли интереса для политических деятелей. Они знали, что на систему цен можно воздействовать и что можно вызвать такие изменения цен, которые кажутся немыслимыми «чистым теоретикам»: на протяжении многих лет частные предприниматели фактически именно так и поступали. Все зависит от того, в каком направлении пытаются изменить систему цен. Свободная конкуренция и автоматизм стали легендой. Встречающиеся в хозяйственной системе несоответствия и ошибки поддаются исправлению с помощью правительственной 392
политики 17°. Экономическая теория] вновь стала политической экономией. Она наполнилась присущим ей политическим содержанием, и такие проблемы, как уровень покупательной силы, отныне определялись соображениями, выходящими за рамки чисто рыночных отношений.
Не случайно поэтому шведские экономисты наряду с теорией стали подчеркивать также роль экономической политики. Сам факт, что они занимали теперь высокое положение и непосредственно участвовали в принятии решений, обеспечивал сочетание теории и практики. В своих произведениях основное внимание они уделяли изменениям цен 17х. Повышение цен в годы войны казалось закономерным результатом товарного дефицита, и можно было предположить, что с переходом экономики на мирные рельсы цены снизятся, так что выгоды от роста производительности распределятся между владельцами всех факторов производства. Так полагал Давидсон. Однако фактически события развивались не совсем так, как он предсказывал. И производство, и цены, и доходы владельцев факторов стали повышаться. Почему это произошло? Прежняя теория явно не приняла в расчет воздействия эффективного спроса, в результате которого осуществляется переход к новому, более высокому уровню экономической эффективности. Для описания этих событий, по-видимому, лучше подходила концепция кумулятивного процесса, чем тезис об обратной зависимости между ценами и производительностью.
4. БЕРТИЛ ОЛИН: ТОРГОВЛЯ И ЦЕНЫ ФАКТОРОВ
Бертил Олин (род. 1899) вначале выступал как ученик Касселя, и в своей книге «Теория торговли» (1924) он широко использовал мысль о всеобщем равновесии цен. Однако Олин пошел гораздо дальше Касселя, распространив идею взаимозависимости на процесс установления цен на мировом рынке. Эта новая теория, объяснявшая, почему возможна торговля между различными странами, была изложена в известной книге «Региональная и международная торговля» 172, которая считается образцовой работой в данной области.
Впервые имя Олина получило известность среди экономистов в связи с вопросом о выплачиваемых Германией репарациях и проблемой трансфертных платежей: полемизируя с Кейнсом, Олин настаивал на том, что можно поддерживать равновесие, несмотря на международное движение валюты. Когда Кейнс в 1936 г. опубликовал книгу «Общая теория занятости, процента и денег», шведские экономисты, которые сами обсуждали аналогичные проблемы, все же отнеслись к ней как к некой диковинке. На протяжении 1936 и 1937 гг. Давидсон не менее четырех раз выступал в «Экономией тидскрифт» с критикой Кейнса; кроме того, новую теорию английского экономиста, как можно было ожидать, отверг и Кассель173. Однако экономисты младшего поколения, и в том числе Олин, отнеслись к ней иначе. Они лишь полагали, что Кейнсу следовало использовать разграничение процессов ex ante и ex post, потому что равенство между сбережениями и инвестициями, по их словам, имеет место лишь ex post.
Вполне возможно, что с точки зрения ожиданий эти агрегатные величины оказываются различными, и, по их мнению, такие различия фактически служат источником динамических хозяйственных процессов. Но у шведских экономистов возникли свои затруднения, поскольку им трудно было определить понятие общих сбережений ex ante. Сам Олин сознавал, что события хозяйственной жизни зависят от определенных действий и что именно в этом и состоит проблема, требующая исследования. Это означало необходимость использования в процессе исследования таких категорий, как доход, издержки, амортизация и т. п., с тем чтобы более точно определить чистый и валовой доход, а также сбережение и потребление. В результате Олин приходил к определению капитала как совокупности «доступных прошлых сбережений». Прибавив к этому текущие сбережения, можно получить совокупный капитал, или то, что Кассель называл «ожиданием».
Однако для Олина были важны события ех ante. Это придавало его теории характер некоего* изыскания в области психологии: развитие хозяйственных процессов, по словам Олина, определяется ожиданиями и планами. Все это предполагало, что предприниматели располагают различными альтернативными возможностями. Но такое предположение выглядит сомнительным, если иметь в виду большинство предпринимателей, исключая самые крупные концерны. Чаще всего выбор альтернативных возможностей ограничивается узкими рамками 393
непосредственного опыта ex post. Сомнительным кажется также утверждение, будто потребитель четко различает альтернативные возможности, поскольку потребители лишь в редких случаях исходят из их наличия. Правда, упор, который Олин делал на ожидание определенной нормы прибыли, представляется вполне оправданным, поскольку известно, что такие предположения действительно влияют на решения о расширении хозяйственной деятельности и т. п. Однако он давал понять, что на хозяйственные операции могут оказывать влияние предположения по поводу событий не только ближайшего, но и отдаленного будущего. Это уже было довольно шаткое построение. По существу, Олин утверждал, что ожидания, связанные с реализацией планов в ближайший период, могут определяться предположениями насчет отдаленного будущего. Но при этом, по-видимому, не предусматривалась возможность крушения планов в ближайшем будущем.
Подчеркивая значение запаздываний во времени, Олин указывал, что изменения в психологических реакциях могут оказаться более важными, чем регулирование денежного обращения или банковского процента. Особенно большой интерес представляла для Олина скорость реакции покупателей и продавцов, которая, как он подчеркивал, играет наиболее важную роль во всех уравнениях, описывающих хозяйственные процессы 174. Он отвергал утверждение Хайека и Мизеса о том, что хозяйственная экспансия всегда финансируется за счет эмиссии новых денег. Более того, в связи с применением подхода, основанного на понятиях ex ante и ex post, исключается возможность использования процентной ставки в качестве средства, обеспечивающего равновесие, потому что, какова бы ни была процентная ставка, сбережения и инвестиции так или иначе окажутся тождественными величинами. Дело в том, что процент представляет собой просто цену кредита, и в связи с этим он может оказывать ограниченное влияние на инвестирование. И поскольку изменения процентной ставки могут давать новое направление развитию хозяйственных процессов, понятие «нормальной» процентной ставки кажется не очень удачным. Если уж говорить о нормальной ставке, то ею скорее могла бы считаться такая ставка, которая, по всей видимости, согласуется с данными темпами экономического развития 175. Однако Олина можно упрекнуть в том, что в данном случае он уклонился от решения проблемы, которую ставили и Викселль, и Кейнс. Там, где существенную роль играют заемные операции, поистине важное значение приобретает соотношение между ожидаемыми прибылями и стоимостью заемных средств.
Олин возражал против этого, утверждая, что в действительности предприниматели имеют дело с системой процентных ставок. Процентные доходы по облигациям, например, не имеют отношения к банковским ставкам, и тем не менее их следует считать составной частью системы процентных ставок. Рассматривая проблему занятости, Олин соглашался с тем, что призыв неоклассической школы к снижению ставок заработной платы принесет больше вреда, чем пользы; он отвергал также тезис о том, что «технологическая» безработица представляет собой просто временное явление. Технические средства, экономящие труд, действительно расширяют наличные производственные возможности, однако нет никаких гарантий, что для вытесненных из производства рабочих будут автоматически обеспечены новые рабочие места. Напротив, писал Олин, повышение заработной платы может вызвать расширение производства и увеличение занятости.
Дальнейшие исследования Олина по теории процента подытожены в книге «Рынок капитала и регулирование процентных ставок» (1941). Отзываясь весьма критически о правительственных операциях по регулированию процентных ставок, он излагал в этой книге свои теоретические представления по данному вопросу. Концепция Олина была встречена положительно и получила признание 176. Однако свою главную цель Олин видел в разработке теории рынка капиталов. В книге подробно рассматриваются процентные ставки по ссудам, доходы от ценных бумаг и монетарные эффекты, но в ней не содержится положений, которые имели бы принципиальное значение для теории так называемой стокгольмской школы. В ней отсутствует психологическая трактовка и изменены некоторые высказывавшиеся ранее положения. Цель политики регулирования процентных ставок Олин по-прежнему видел в стабилизации цен и в таком развитии экономики, которое власти считают желательным. Процент Олин считал, как и раньше, ценой, которая определяется спросом и предложением. Действия банковской системы подвергались критике: Олин указывал, что в годы войны банки не смогли наладить выпуск краткосрочных обязательств, хотя это было необходимо для того, чтобы обеспечить минимальную эластичность кредита. На рынке, характеризующемся большей ликвидностью, удалось бы разместить долгосрочные ценные бумаги по более низким процентным ставкам. В конце концов Олин 394
пришел к выводу, что в этом случае приемлемой была бы трехпроцентная ставка. Впоследствии было признано, что эластичность рынка капитала — основная цель Олина — является хорошим критерием 177.
Один из самых поразительных выводов Олина состоит в том, что роль денег в развитии экономики незначительна. Отвергая представления, согласно которым изменения количества денег служат основной причиной движения цен, Олин считал, что изменения уровня цен скорее связаны с правительственными займами, фискальной политикой и бюджетными дефицитами. Исследование с точки зрения ex ante — ex post показывало, что решающую роль играет не количество денег, а положение на рынке капиталов. Такой анализ предполагал рассмотрение всей совокупности психологических реакций на изменения ликвидности, процентных ставок и т. п. Это означало, что в центре внимания должны находиться действующие индивидуумы, а не деньги и денежное обращение. «Не деньги совершают покупки,— писал Олин,— а люди, которые используют при этом деньги или кредит» 178. Для того чтобы стать действительно жизнеспособной, монетарная теория должна внести свой вклад в исследование экономических процессов во времени. Иначе невозможно правильно объяснить изменения в доходах. Это предполагает использование значительно большего числа понятий, чем то, которое может предложить количественная теория денег.
Олин сознает всю сложность экономических проблем, о чем свидетельствует его трактовка проблемы безработицы. По его мнению, для решения этого острого вопроса необходимо осуществить самые различные мероприятия экономической политики. Политика «дешевых денег» в сочетании с правильной внешнеторговой политикой может расширить спрос, однако потребности торговли временами вступают в противоречие с политикой «дешевых денег». Например, более низкая процентная ставка способна стимулировать расширение строительства, но этот процесс сам по себе может способствовать повышению цен на строительные материалы. Обесценение валюты, по-видимому, вначале дает удовлетворительные результаты, однако это может повлечь за собой ответные действия. Неправильный выбор времени для проведения общественных работ также способен причинить вред.
Сильной стороной теории Олина является исследование внешней торговли. Анализ, приведенный в его книге «Региональная и международная торговля», основывается4 на теории взаимозависимости цен Касселя. Теория Олина — это реакция на представления классической школы о внешней торговле, которые он характеризует как подход к торговле с позиций трудовой теории стоимости. Кроме того, чтобы учесть влияние таких факторов, как транспортные издержки, следовало установить непосредственную связь между мировой торговлей и проблемами размещения. Основываясь на этом, Олин рассматривает как движение факторов производства, так и перемещение капиталов из одной страны в другую; в конечном счете он приходит к Касселевой теории паритета покупательной силы. В качестве исходной посылки Олин воспроизводит концепцию равновесия Касселя, дополнив ее факторами времени и местоположения. Последний момент особенно занимает Олина, поскольку он не без основания полагает, что прежняя теория цен исходит скорее из понятия единого рынка, чем нескольких рынков. По его мнению, на протяжении определенного времени факторы производства вполне могут выступать на нескольких рынках, в результате чего «цены товаров, так же как и цены производственных факторов, будут отличаться от цен, складывающихся в том случае, когда предполагается существование одного рынка. Перемещение товаров наталкивается на более или менее существенные препятствия, порождаемые главным образом транспортными издержками — другим элементом, имеющим основное значение при установлении цен с учетом местоположения...» 179 Фактор местоположения имеет важное значение в международной торговле, а также во внутреннем хозяйственном обороте. В основе стремления к обмену лежат, по словам Олина, неодинаковые возможности и ресурсы. Иначе говоря, страна вывозит те товары, которые она может изготовлять с меньшими издержками, и ввозит те товары, производство которых обходится дешевле в других странах. Сравнительные издержки производства зависят от соотношения цен на факторы производства, от технических производственных функций, а также от внутреннего и заграничного спроса на товары. Основную роль все же играют соотношения цен на факторы производства. Тем самым принимался в расчет фактор редкости, поскольку предполагалось, что там, где те или иные факторы производства имеются в избытке, издержки в денежном выражении окажутся низкими.
Можно доказать, что причины торговли связаны с различиями в издержках, однако подлинная проблема заключается в том, что скрывается за такими различиями. Это подводило Олина к характеристике условий спроса и предложения, в которой он использует такие кате395
гории, как потребности населения, владение факторами производства, наличное предложение факторов и технические условия производства. Цены товаров в обеих странах, так же как и цены факторов производства, оказывают влияние, разумеется, именно на соотношения между внутренним и заграничным спросом. Следовательно, цены и торговля в каждом районе определяются, по мнению Олина, ценами во всех остальных районах. Условия международной торговли регулируются не только предложением, но и спросом, В этом заключается описанная Олиным система взаимозависимости. Он доказывает, что непосредственным результатом торговли является «устанавливающееся повсеместно соответствие в товарных ценах» 180. Это означает, что, если отвлечься от транспортных издержек и других препятствий, каждый товар будет продаваться по одной и той же цене в любом районе. Такое положение существует в силу того, что торговля позволяет предпринимателям приспособить свою деятельность к условиям того района, где находится данный фактор производства. Отрасли, нуждающиеся в определенных факторах производства, обычно перемещаются в те районы, где можно легко найти эти факторы. Олин соглашается с тем, что если бы такого рода соотвествие было абсолютным, то это привело бы к исчезновению торговли; следовательно, приспособление осуществляется лишь приблизительно и обычно остается незавершенным в основном из-за совместного спроса на несколько факторов 181. Однако недостаточная подвижность факторов производства компенсируется мобильностью товаров. Существуют также и другие затруднения: цены могут отклоняться от лежащих в их основе издержек; последующие колебания могут не компенсировать друг друга, а вызывать изменения цен в том или ином направлении; может иметь место серьезная недогрузка производственных мощностей; наконец, капитал не только воплощен в определенных вещественных формах, но и не обладает делимостью. В своем исследовании Олин в общем успешно учел указанные моменты. Пытаясь объяснить качественные различия между производственными факторами, а также между технологическими процессами, он должен был принять во внимание, что крупное производство в своем развитии прошло несколько стадий. И все же ему не оставалось ничего иного, как вернуться к тому, что, по его мнению, играет основную роль,— спросу и предложению. Хотя Олин знает о наличии осложняющих моментов, он убежден в том, что в конечном счете сущность торговли можно объяснить, только исходя из реальных условий функционирования соответствующих рынков,— функционирования, в основе которого лежит механизм взаимозависимости. Для того чтобы выяснить результаты, к которым приводит развитие хозяйственных процессов, в конечном итоге требуется знание того, как условия ex post влияют на современные и на последующие общественные традиции, на психологические реакции и на институциональную структуру 182.
Сам Олин допускает, что его теория международной торговли есть вариант теории размещения, своего рода internationale standortsleh- ге *183, получившее особую рельефность благодаря стремлению автора связать размещение- ресурсов и вопросы массового производства с проблемами транспортировки и региональной торговли. Он полагает, например, что крупное производство концентрируется в тех пунктах, которые обеспечивают наименьшие транспортные издержки; подобные представления подверглись резкой критике как слишком статичные. Недостаточное внимание Олин уделил исследованию вопроса о перемещении факторов производства, в результате которого он смог бы показать условия их мобильности и скорость приспособления 184. Рассматривая механизм осуществления трансфертных платежей, Олин подчеркивает, что изменения денежных доходов способствуют равновесию торговых балансов, и вследствие этого меньшую роль играют изменения относительных цен. Когда речь идет, например, о репарационных платежах, Олин считает, что транспортные платежи не оказывают столь сильного влияния на относительные цены, как полагало большинство авторов. Кейнс подверг резкой критике мысль Олина о том, что трансферт денег влечет за собой тенденцию к установлению равновесия; однако, несмотря на возражения Кейнса, Олин продолжает отстаивать этот тезис 185. Его доводы явно основываются на теории паритета покупательной силы: в соответствии с этой теорией трансферт платежных средств может вызвать изменения спроса, приводящие к восстановлению равновесия. Олин доказывает также, что в силу возникновения избыточных ресурсов условия торговли могут оказаться неблагоприятными для страны, получившей заем. Он решительно отвергает концепцию сравнительных издержек, лежавшую в основе представлений классической школы о внешней торговле 186. Олин поистине пытается почти любой ценой сохранить верность теоретическому наследию Касселя.
* Учение о размещении производства в международном масштабе (нем.).— Прим, перев.
396
5. ЭРИК ЛИНДАЛЬ: ДЕНЬГИ И КАПИТАЛ
Один из наиболее известных учеников Викселля, Эрик Р. Линдаль (1891—1960), сначала занимался исследованиями в области государственных финансов. Основываясь на принципах маржиналистского анализа, Линдаль разработал теорию, в которой центральное место занимает стоимость услуг. Во всех важных вопросах он следовал той теории налогового обложения, основные черты которой были сформулированы Викселлем. Свою концепцию Линдаль изложил в опубликованной в 1919 г. докторской диссертации «Die Berechtigkeit der Besteuerung» *. В ней высказывлось мнение о том, что для удовлетворения человеческих потребностей необходима деятельность государства и что налоги являются средством, с помощью которого частная собственность превращается в общественную 187. Однако в отличие от сторонников «органической» теории * ** Линдаль настаивал на том, что государство — это не умозрительное построение, а скорее коллектив граждан; благодаря этому вполне возможно определить, какую ценность для частного лица представляют услуги государства. Поскольку услуги государства действительно обеспечивают удовлетворение потребностей населения, единственное возражение против индивидуалистического подхода может сводиться к тому, что степень удовлетворения потребностей трудно измерить. Тем не менее Линдаль полагал, что методы маржиналистского анализа делают это возможным.
Основания для взимания налогов неразрывно связаны с тем, насколько справедливо распределена собственность, поскольку налоговое бремя распределяется точно так же, как собственность. Цена, уплачиваемая за государственные услуги, должна устанавливаться так же, как складываются цены на частном рынке. Модель Линдаля напоминает модель совместного производства нескольких продуктов, причем предполагалось, что кривая предложения государственных услуг является функцией от издержек, с которыми сопряжены услуги, и от того, какую долю издержек готовы принять на себя другие. В таком случае предложение и издержки определяются с помощью анализа, напоминающего доводы Маршалла, причем воз♦ «Основание для налогового обложения» (нем.).— Прим, перев.
** Автор здесь, по-видимому, имеет в виду концепции, уподобляющие общество живому организму.— Прим, перев.
можности уплаты налогов учитываются благодаря тому, что налоговые взносы плательщиков соответствуют размерам их дохода. Принцип выгодности удовлетворяется потому, что в основе платежей лежат субъективные оценочные суждения, тем самым обеспечивается уравнивание предельных норм взаимозаменяемости для частных товаров и правительственных услуг с учетом соотношения цен между ними.
Стоимость материальных услуг можно непосредственно измерить, учитывая влияние, которое они оказывают на предельную производительность имущества; можно измерить, однако, и стоимость услуг нематериального характера, оказываемых, например, картинными галереями или парками. Все же Линдаль, по-видимому, недостаточно четко сформулировал эту проблему: так, оценка государственных услуг осуществляется, по его словам, отчасти исходя из непосредственной заинтересованности индивидуума и отчасти исходя из его экономических возможностей, причем оценка прямо пропорциональна возможностям 188. Но менее состоятельные слои населения, по всей вероятности, склонны придавать большее значение государственным школам и паркам, чем богачи. В конечном счете Линдалю пришлось признать, что «...люди тщательно не оценивают предельную полезность каждого вида своих расходов; они действуют, руководствуясь некими общими представлениями о том, что они могут позволить себе [представлениями], в основе которых в каждом отдельном случае лежат соображения относительно ожидаемой выгоды» 189. Такую аргументацию вряд ли можно назвать четкой. Не более убедительно и утверждение о том, что при отсутствии элемента принуждения налоговое бремя распределяется пропорционально размерам доходов. Наконец, Линдаль должен был признать, что при более реалистичном подходе проблема распределения налогов должна рассматриваться с учетом политических факторов 19°.
Линдалю явно хотелось доказать правильность позиции, занятой Викселлем в вопросах налогового обложения. Поскольку суждения о справедливости налогов связывались с вопросом о распределении имущества, появлялась возможность вновь подчеркнуть роль получаемых выгод и фактически сделать их центральным моментом всей теории. В ходе дальнейшего анализа влияние государственных услуг получало преимущественно субъективную трактов397
ку, и теория, предусматривающая взимание налогов в соответствии с экономическими возможностями, превращалась в разновидность теории, исходящей из выгодности услуг 191. Линдаль считал, что последняя позволит объединить теорию налогового обложения с теорией стоимости. Теория «выгодности» выглядела даже более демократично, поскольку она предполагала, что никому не придется оплачивать те правительственные услуги, в которых он не заинтересован или которые, по его мнению, к нему не относятся. Подобным утверждениям явно не хватало реалистичности, поскольку они предполагали некий волюнтаристский порядок, при котором отдельные лица смогут вообще не вносить никаких средств для финансирования правительственных услуг.
Однако наибольший интерес у Линдаля вызывала теория денег и кредитно-денежная политика. Он стремился внести изменения в соответствующие теоретические представления Викселля и Давидсона; в своей книге «Цель и средства кредитно-денежной политики» (1929) Линдаль высказал следующую точку зрения: цель всякой программы должна состоять в уменьшении риска и в ограничении потрясений, порождаемых непредвиденными обстоятельствами. Все же влияние Викселля заметно, особенно в очерках Линдаля, собранных в книге «Исследования по теории денег и капитала» 192. Существенным вкладом в современную экономическую теорию явилась также разработка Линдалем понятия дохода — понятия, которому предстояло сыграть важную роль в современных исследованиях валового национального продукта, особенно в Швеции. К определению дохода Линдаль подходил с теоретических позиций: рассматривая альтернативные возможности, он оценивал величину отдельных компонентов. Многие из этих идей нашли отражение в первой части работы «Деньги и капитал»— очерка экономической динамики, в котором содержались поразительно глубокие соображения об «алгебре» национального дохода. В этом очерке, представлявшем существенный вклад в теорию, тщательно исследовались микроэкономические и макроэкономические величины, которые используются в статистике национального дохода. Линдаль сознавал, что наличие повторного счета серьезно осложняет проблему. Впоследствии он признал, что его система в некоторых отношениях недостаточно разработана, причем в особенно большой мере это относилось к его трактовке правительственной деятельности 193. Косвенные налоги, например, исключались из рассмотрения, так как можно было считать, что они уже вошли в состав расходов частного сектора на производство и потребление и доходов государственного сектора от «продаж».
Линдаль обращался также и к методологическим проблемам. Первый очерк в работе «Деньги и капитал», посвященный сущности экономической динамики, можно в известном смысле охарактеризовать как исследование возможностей предсказания, которые открывает экономический анализ. Здесь Линдаль стремился объяснить как текущие, так и предстоящие события. Нужно вскрыть элементы причинной зависимости, а для этого, по его мнению, требовался своеобразный «имманентный» анализ. Он исходил из условий, существовавших в предшествующей ситуации, а затем рассматривал последствия любых возможных изменений в этих условиях. Цель экономической теории, по словам Линдаля, состоит в том, чтобы «...выработать систему теоретических представлений, показывающих, как определенные начальные условия вызывают появление определенных событий» 194. Это может иметь чрезвычайно важное практическое значение, поскольку становится возможным выработать таким путем важные суждения, позволяющие решать конкретные хозяйственные проблемы. Следовательно, чистая теория должна полностью основываться на конкретных данных и на информации о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться. А для этого необходима такая теория, которая носила бы достаточно общий характер: она должна быть применима к открытой и закрытой системам, к капиталистическому и социалистическому хозяйствам. И хотя Линдаль просто прибегал к освященному временем методу последовательного приближения к реальным экономическим условиям, все же он сумел по-новому подойти к его использованию. Например, в краткой заметке, касающейся проблем социалистического хозяйства, Линдаль дал чрезвычайно интересную трактовку модели Лернера — Ланге 195. В условиях, когда производство и потребление должны определяться единым центральным органом, требуется только один план. Однако при децентрализованном социализме, когда потребители, как правило, пользуются свободой выбора, центральный орган должен, по словам Линдаля, лишь установить цены, которые обеспечат равновесие между спросом и предложением, и вслед за этим удостовериться, что при установленных ценах какое-либо иное использование факторов производства не может привести к увеличению стоимости совокупного продукта. При выполнении этих условий можно достигнуть максимального удовлетворения потребностей всего^ общества. Появление излишка или дефицита послужит основанием для изменения произ398
водственных планов. Важно отметить, что анализ, основанный на таких рассуждениях, по существу совпадает с анализом динамичного капиталистического общества. Линдаль признавал все же, что характер и особенности экономического анализа в каждом случае обусловлены присущими данной эпохе институтами.
Основной теоретической идеей, пронизывающей весь этот анализ, является роль фактора времени. Если учитывается фактор времени, статичная ситуация может представлять лишь частный случай более общего динамического анализа. Действительно, лишь понимание этого обстоятельства способно придать смысл статическому анализу: во всяком случае, ясно, что в центре теоретического исследования должны находиться процессы 196, и основная проблема заключается в выяснении того, как отдельные лица добиваются осуществления своих планов. В связи с этим, разумеется, встает во весь рост проблема предположений на будущее. Справедливо подчеркивая их роль, Линдаль отнюдь не игнорировал влияния прошлых событий. Он допускал, что индивидуумы не всегда предельно четко представляют себе предполагаемый образ действий. Мотивы коммерческого расчета могут вытесняться привычками и укоренившимися предрассудками, кроме того, следует принимать во внимание возможность изменения планов. Такие изменения, вероятно, являются частым делом, и они совершенно лишены какой-либо логической последовательности. Линдаль по-новому подошел к проблеме, признав ее сложность; он, видимо, понимал, что экономические проблемы нельзя всегда сводить к обычной психологии. Может возникнуть необходимость в использовании некоторых упрощенных предположений о рыночном поведении индивидуума, однако не мешает помнить и о том, что это лишь первоначальные гипотезы.
В некоторых случаях фактором, определяющим характер поведения в последующий период, являются контрактные обязательства и необходимость фиксированных выплат. Однако, когда Линдаль настаивал на том, будто можно найти общее решение, предположив, что данным ожиданиям соответствует некая совокупность вероятностных оценок, которые поддаются математической обработке, это уже, по-видимому, не соответствовало действительности. Но как бы то ни было, Линдаль настойчиво пытался втиснуть вероятностные оценки в систему, основанную на анализе последовательностей, с помощью которого можно было бы объединить прошлые события с планами на будущее. Линдаль выделял различные категории планов, которые обычно составляют участники хозяйственной жизни, и классифицировал их следующим образом: неэкономическим событиям он противопоставлял хозяйственные явления, а ближайшим и непосредственным следствиям — изменения, относящиеся к отдаленному будущему. Основываясь на такой классификации, Линдаль приходил к выводу о том, что хозяйственная деятельность, которая направлена на достижение непосредственных результатов, влечет за собой изменения в ожиданиях или смену их другими. Сами планы составляются на различном уровне — частными лицами, коммерческими фирмами или правительственными организациями. Однако подлинно всеобщую экономическую теорию можно разработать, лишь исходя из исследования этих планов и выяснения той роли, которую они играют в последующий период.
Некоторые разногласия между шведскими экономистами вызвал вопрос об определении периодов времени 197. Довольно оживленный спор развернулся также по вопросу о том, что правильнее выделять — весь период или момент, отделяющий один период от другого. При этом приводились следующие соображения: решения принимаются в промежутках между периодами, а деятельность на протяжении периода основывается на принятых обязательствах. Однако обсуждение этих методологических вопросов приняло несколько отвлеченный характер и, по-видимому, увязло в трясине терминологических споров. Что же касается позиции самого Линдаля, его основная мысль заключалась в том, что экономическое развитие можно охарактеризовать как последовательный ряд неравновесных ситуаций. В вопросе о цене, например, Линдаль не считал правильными ни представления о равенстве спроса и предложения, ни идею о непрерывно изменяющейся цене 198. Решения по поводу цен принимаются, как отмечал Линдаль, в определенный момент;, отсюда следует, что изменения сами по себе не могут осуществляться на протяжении периода как такового, поскольку предполагается, чте существующие отношения обусловлены предшествующими обязательствами. В силу этого Линдаль должен был подразделять хозяйственный процесс на очень короткие периоды: в таком случае решения могут быть приняты в промежутках между периодами или в «точках перехода». На протяжении периода хозяйственные операции осуществляются на основе данных цен; предполагается, что процессы производства и потребления непрерывны. Но тем самым динамический процесс превращается в ряд статичных или промежуточных равновесных ситуаций, а в оправдание такого подхода, можно сослаться, как это делал Линдаль, лишь 399/
на соображения удобства и четкости теоретического исследования.
Иллюстрируя такой метод, Линдаль проявлял изобретательность в трактовке различных алгебраических соотношений, заключенных в уравнениях, которые характеризуют инвестиции, сбережения и потребление. Линдаль формулировал ряд положений микроэкономического характера, которые, как он полагал, сохраняли свою силу как для значений ex ante, так и для значений ex post. В начальном уравнении сумма продаж и доходы от финансовых активов приравнивались сумме купленных факторов производства или производственных закупок, потребления, налогов, чистых кредитов и прироста кассовой наличности. Затем из этой формулы выводилось уравнение доходов (доход ют факторов производства равен сумме продаж за вычетом расходов на покупку факторов и реальных инвестиций). По мере того как принимались во внимание ожидания, изменения производительности и субъективные факторы, анализ все более усложнялся. Вслед за этим Линдаль использовал те же методы при исследовании макроэкономических явлений; в результате он выяснил различные способы исчисления национального дохода, причем выбор того или иного способа зависел от имеющихся статистических данных. Хотя в последние полтора десятка лет в западных странах была проделана огромная исследовательская работа в этой области и многое в теории Линдаля сейчас уже устарело, все же его имя, безусловно, должно стоять в ряду имен крупнейших ученых, положивших начало анализу национального дохода 199.
Сопоставление различных уравнений показывает, что планы и ожидания могут отличаться друг от друга: именно в этих случаях возникают неравновесные ситуации, потому что всякое расхождение между планами и ожиданиями должно воплощаться в аналогичных различиях между величинами, относящимися к последующему периоду, и соответствующими величинами в прошлом. Такой метод использовался также при анализе государственных бюджетов и национальных счетов 20°. Сначала определялись размеры производства и потребления, а на основе этого решался вопрос о том, какое влияние должна оказывать правильная бюджетная политика. Но что важнее всего, в отсутствии равновесия Линдаль явно видел неотъемлемую черту экономического развития.
Линдаль выдвинул интересный вопрос: что служит первичным фактором в уравнении доходов — сбережения или инвестиции. С его точки зрения, ответ на этот вопрос зависит от влияния различных условий: на протяжении длительного периода сбережения, вероятно, должны приспосабливаться к размерам требующихся инвестиций, и последние выступают в качестве первичного фактора 201. В течение отдельных непродолжительных периодов важную роль обычно играют сбережения, поскольку планируемые инвестиции, по словам Линдаля, зависят от процентных ставок, и банковская система может прибегать к изменению этих ставок, с тем чтобы привести инвестиции в соответствие с данным уровнем сбережения.
Линдалю, как и большинству других шведских экономистов, была присуща непоколебимая вера в могущество процентной ставки 202. В его системе уравнений процентная ставка определялась как чистый прирост кепитальной стоимости хозяйственных ресурсов, вызванный действием фактора времени. Линдаль учитывал политику руководства банковской системы: цель их операций, по его мнению, заключается в таком регулировании процентной ставки, которое позволяет осуществлять определенное воздействие на уровень цен. В условиях совершенного предвидения невозможно оказать серьезное влияние на цены, потому что все события предвосхищаются правильно и во всей полноте. Предполагается, что индивидуум при составлении своих планов производства и потребления принимает во внимание все случайные обстоятельства. Кредитно-денежную политику, осуществляемую в таких условиях, Линдаль считал пассивной. Однако там, где предвидение не является совершенным и где на принятие решений влияют вероятностные суждения по поводу предстоящих событий,— там руководство банковской системы действительно оказывает существенное влияние на уровень цен.
Серьезное внимание Линдаль уделял следующей проблеме: на ожидания предпринимателей могут заметно повлиять сообщения руководства банковской системы о том, какие шаги оно собирается предпринять. Если обнаруживается, например, тенденция к повышению цен, благоприятное воздействие может оказать заявление центрального банка о намерении изменить процентную ставку, благодаря этому можно предотвратить дефицит потребительских товаров и отлив ресурсов из отраслей, производящих предметы потребления, в отрасли, выпускающие средства производства. Такое заявление могло бы быть подкреплено повышением процентной ставки по краткосрочным, а не по долгосрочным ссудам. Линдаль полагал, что изменения процентной ставки влияют на сберегаемую долю дохода; он вполне сознавал, однако, что более серьезное влияние на норму сбережения могут оказать размеры национального дохода и характер его распределения, а также 400
положение отдельных классов в обществе. Анализ изменений процентной ставки, по сути дела, представлял собой попытку детально проследить описанный Викселлем кумулятивный процесс. Линдаль считал, что Викселль недостаточно полно исследовал проблему «поворотных пунктов» экономического цикла. Если бы ресурсы переместились из отраслей, производящих предметы потребления, в отрасли, выпускающие средства производства, наступивший вследствие этого дефицит предметов потребления неизбежно вызвал бы повышение цен, что в свою очередь явилось бы стимулом к дальнейшему расширению производства в отраслях, выпускающих средства производства. При отсутствии сдерживающих сил хозяйственная экспансия могла бы продолжаться бесконечно. Вследствие перераспределения доходов сбережения приспосабливаются к инвестициям, потому что с увеличением прибыли предприниматели склонны дальше расширять производство, используя свои сбережения в целях инвестирования. Линдаль отмечал, что роль причины в данном процессе играет перераспределение дохода 203. Даже при наличии неиспользованных ресурсов хозяйственная экспансия порождает тенденцию к повышению цен. Переломный момент наступает тогда, когда «...предложение капитала настолько увеличилось, что оно соответствует новой процентной ставке» 204.
Линдаль полагал, что причиной всего этого процесса служит более низкая процентная ставка. Повышение процентной ставки оказывает аналогичное воздействие, но в противоположном направлении: в отраслях тяжелой промышленности в результате этого происходит понижение стоимости капитала; положение кредиторов улучшается; чтобы сохранилась полная занятость, заработная плата должна понизиться; наступает возврат к менее продолжительным инвестиционным периодам; имеет место снижение цен на предметы потребления. Обнаруживаются все признаки заметного экономического спада. Линдаль видел, что быстрее сказывается влияние изменений в процентных ставках по краткосрочным ссудам (хотя это влияние и менее продолжительно), но он не учитывал институциональных изменений, которые позволяют корпорациям полагаться на накопление собственных резервов или обращаться за ссудами к небанковским финансовым институтам. Ясно, что в таких случаях непосредственное влияние процентной ставки значительно ослаблено. Линдаль считал, что процентная ставка по краткосрочным ссудам все же играет определенную роль: если она оказывается выше, чем ставка по долгосрочным ссудам, это способствует расширению производства в отраслях, выпускающих капитальные блага; тем самым обеспечивается увеличение производственных возможностей, в то время как экономика движется навстречу новым условиям. Говоря об этом, Линдаль вслед за Давидсоном много внимания уделил вопросу о соотношении между производительностью и изменениями цен; Линдаль фактически молчаливо соглашался с критериями экономической политики, выдвинутыми Давидсоном 205. Линдаль отвергал Виксел- леву идею «реальной», или «нормальной», ставки процента, считая, что в действительности существует система ставок, соответствующих различным товарам; его теория капитала следовала традиционной концепции всеобщего равновесия Касселя — Вальраса, хотя Линдаль предпочел использовать систему обозначений А. О. Баули 206. Важным элементом этой теории является фактор времени, поскольку без него понятие капитала не может получить правильной трактовки. И даже в условиях, когда капиталистическое производство не является господствующей формой, процент, по словам Линдаля, играет важную роль 207. Отклонения от всеобщего равновесия, по его мнению, вызываются внешними толчками, и уменьшить их влияние можно опять-таки с помощью предвидения 208. Таким образом, главная цель теории Линдаля состояла в том, чтобы изучить способы, с помощью которых можно свести к минимуму риск и вероятность столкнуться с неожиданными событиями. Он полагал, что, как только удалось проследить ту или иную тенденцию, можно без особого труда разработать соответствующие мероприятия кредитно-денежной политики, которые противодействуют ее развитию.
Хотя в теории Линдаля встречаются отдельные неясности, все же она отвечает лучшим традициям экономической науки и, безусловно, заслуживает серьезного внимания. Линдаль призывал осмыслить основные понятия, полагая, что это имеет важное значение для анализа планов хозяйственной деятельности; его теория, по существу, служит своеобразным руководством для дальнейшего исследования, конечным результатом которого явится экономическая политика, обеспечивающая уверенность и закономерное чередование событий. Линдаль подчеркивал, что это может быть достигнуто в том случае, если удастся свести к минимуму различия между планами и итогами их осуществления. Соглашаясь в принципе с критериями Давидсона, Линдаль более прямо подчеркивал необходимость обеспечения постоянных доходов. Тем самым теория удовлетворяла как критериям справедливости, так и научным требованиям.
26 Б. Селигмен
401
6. ЭРИК ЛУНДБЕРГ: АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
К числу немногих, в подлинном смысле слова современных работ, упоминаемых Шумпетером в его замечательной «Истории» *, относится книга Эрика Лундберга (род. 1895) «Исследования по теории хозяйственной экспансии» 209,— книга, которая всегда будет занимать место в ряду выдающихся экономических исследований. В книге главным образом рассматриваются циклические изменения; Лундберг попытался решить динамические проблемы экономического роста, для чего, используя методы анализа стокгольмской школы, он сконструировал ряд так называемых моделируемых последовательностей. Последние указывали на наличие ряда возможностей, соответствующих различным направлениям экономического роста. Изучив их последствия, Лундберг продемонстрировал, что все модели связаны между собой различными предположениями насчет изменений в рассматриваемых величинах. Приняв во внимание эффект, вызываемый многочисленными опережениями и запаздываниями, он получил исключительно разностороннее описание циклических изменений, в котором использованы лишь макроэкономические категории. Фактически Лундберг не признает никакого иного анализа, кроме макроэкономического. Данные непрерывно изменяются, и эти изменения, как он доказывает, не могут быть объяснены с точки зрения статической микроэкономической теории. Кроме того, анализируя элементы запаздывания в параметрах, Лундберг одним из первых стал использовать разностные уравнения.
Такой методологический подход полностью отвечает представлениям Лундберга об экономической теории, которая, по его мнению, представляет собой исследование процесса изменений во времени. Фактор времени нельзя игнорировать, потому что в противном случае не удается понять вызванные данным изменением процессы приспособления и установления нового соответствия. Цель теоретического исследования заключается в том, чтобы проанализировать изменение как часть внутреннего механизма системы: если считать, что изменение вызывается исключительно влиянием внешних факторов, которые лежат за пределами самой экономики и проявляются в событиях, подобно тому как в жизни людей проявляется воздействие космических сил, тогда, по словам Лундберга, все выводы сведутся к тому, что * Имеется в виду книга Й. Шумпетера «История экономического анализа».— Прим, перев.
изменение представляет собой последовательный ряд ситуаций динамического равновесия 210. С другой стороны, «анализ последовательностей» позволяет изучить развитие явлений как раз в тот промежуток времени, когда происходит изменение событий. Благодаря этому ситуации, возникшие в тот или иной период, могут быть полностью объяснены исходя из предшествовавших событий. Такая система, указывает Лундберг, делает вполне возможной разработку единой теории цен и денег.
Любое изменение в экономике, по словам Лундберга, может осуществляться только в одном направлении, потому что, если обязательства приняты, изменения уже необратимы, в чем можно убедиться на примере «паутинообразной модели» 211. Деньги — составная часть теоретической системы Лундберга, поскольку даже в первом приближении нельзя предполагать, как это делалось ранее, что производство и обмен протекают в условиях бартерного хозяйства,— это просто означало бы отрыв от реальных экономических процессов 212. Деньги не нейтральный фактор, они жизненно важный элемент, влияние которого распространяется на все остальные части системы. Хотя при анализе последовательностей Лундберг использует схему частичного равновесия (просто потому, что она удобна), он не отказывается и от идеи всеобщего равновесия. Но немаловажную роль играет, по мнению Лундберга, отсутствие всякой тенденции к достижению всеобщего равновесия, потому что на каждой стадии процесса побудительные мотивы всегда порождаются крушением прежних попыток достигнуть равновесия. Здесь имеет место своеобразный «гомеостаз», постоянное стремление к восстановлению равновесной позиции. Именно такие представления побудили Лундберга критически отнестись к теории Бем-Баверка и особенно к теории Кейнса. Б частности, Лундберг упрекал английского экономиста в том, что понятие мультипликатора, характеризующее соотношение между доходом и стремлением к инвестированию, само является переменной величиной и нуждается в особом исследовании. Мультипликатор у Кейнса используется таким образом, как если бы он был постоянной величиной; следовательно, Кейнс, по мнению Лундберга, игнорировал одну из важнейших задач, стоящих перед исследователем в области экономической теории,— объяснение того, как могут происходить изменения этих величин 213. Тем самым подразумевалось, что анализ изменений в хозяйственной жизни 402
и экономического роста оказывается подлинно глубоким и наиболее успешным, когда он принимает форму анализа последовательностей.
Основные проблемы, которые встают при моделировании последовательных фаз,— это отбор переменных, определение реакции участников процесса и выбор времени. Анализ последовательностей Лундберга исключает одновременное осуществление приспособлений. Изменения каждого из факторов происходят различным образом, в различных местах и в различное время: внутри системы имеют место многочисленные опережения и запаздывания; тщательного изучения заслуживает вопрос о выборе стандартного периода, хотя можно утверждать, что такие периоды должны быть довольно короткими, поскольку развитие хозяйственных процессов протекает более или менее непрерывно. Однако стандартный период должен быть достаточно продолжительным, для того чтобы исследование могло учесть влияние, оказываемое планами различных участников рассматриваемого процесса. В результате стандартный период оказывался аналитическим понятием, совершенно не связанным с каким-либо календарным периодом.
Уточнив содержание этих основных понятий, Лундберг переходит к обзору произведений Викселля, Кейнса, Робертсона и других авторов 214,— обзору, содержащему ряд оригинальных и глубоких замечаний. Лундберг отмечает, что большинство теорий, если их трактовать как формы анализа последовательностей, не учитывали изменений в сбережениях и вложениях в основной капитал. Поскольку использование оборотного капитала, представляющего собой более подвижный элемент инвестиций, обычно связано с изменением его размеров, невольно выработалась привычка распространять на основной капитал выводы, относящиеся к оборотному капиталу. В связи с этим центральной проблемой становится проблема неустойчивости, основным источником которой является несовпадение по времени платежей, если их рассматривать в качестве издержек и как проявление платежеспособного спроса. В результате издержки производства товаров, потребляемых в данный период, не совпадают с доходами, используемыми для покупки этих товаров. Эти различия, по-видимому, и играют решающую роль в возникновении циклических колебаний 215. Действительно, если в качестве стандартного принять сравнительно короткий период, тогда такие платежи могут оказаться совершенно независимыми друг от друга.
Далее Лундберг изобретательно использует в своем исследовании ряд оригинальных геометрических методов, призванных показать, почему стабильность экономики зависит от того, какая часть платежеспособного спроса на протяжении любого данного периода проистекает из издержек производства товаров, потребляемых за тот же период. Однако показатель, который Лундберг использует для характеристики неустойчивости экономики — а именно то, что развитие циклических процессов вызывается отношением чистой прибыли к издержкам,— по-видимому, несущественно отличается от описанной Кейнсом предельной эффективности капитала. Вопреки утверждениям Лундберга о том, что выдвинутый им показатель не совпадает с предельной эффективностью капитала у Кейнса, с теоретической точки зрения оба показателя, несомненно, сходны, и, подобно Кейнсовой предельной эффективности капитала, показатель, используемый Лундбергом, обладает важным достоинством: он представляет собой неотъемлемый элемент самой модели. Этот показатель служит также известной характеристикой того, в какой мере система может самостоятельно восстанавливать утраченное равновесие.
Теоретическая система, конечно, должна была включать деньги, но Лундберг не признает таких понятий, как период хозяйственной операции или период образования дохода. Он указывает, что попытка связать скорость обращения денег с фактором времени не может оказаться успешной. Время, к которому фирма приурочивает платежи, определяется лишь соображениями удобства, в нем не заключено какого-то особого экономического смысла. Вслед за этим Лундберг настойчиво проводит мысль о том, что изменения в потоке денежных выплат не обязательно оказывают влияние на моделируемую последовательность. С другой стороны, сбережение не является просто пассивным элементом, ведь как только в уравнения вводится фактор времени, может оказаться, что сбережение играет активную роль. Рост доходов, например, может приводить к временному увеличению сбережений, по крайней мере до тех пор, пока в связи с повышением уровня потребления не будет поглощен весь дополнительный доход 216. Этот пример показывает, как Лундберг в своих моделируемых последовательностях подчеркивает значение каждого элемента. Свою конечную цель он видит в исследовании того, как частное хозяйство может развиваться в направлении равновесия. Сбережение и инвестирование, по его словам, зависят не только от общей суммы доходов, но также и от их распределения.
Лундберг полагает, что некоторые издержки служат источником дохода. Выплата заработной платы, процента, дивидендов и расходы 26* 403
на покупку означают создание доходов, тогда как амортизационные отчисления, процент и и дивиденды на новый капитал не создают доходов, по крайней мере в данный период времени. Исходя из этого, можно построить систему уравнений, но легко показать, что такая система может оказаться несовместимой. Текущие инвестиции служат источником дохода, который заполняет бреши, создаваемые сбережением и издержками, не образующими дохода 217. В конечном счете Лундберг получает систему моделируемых последовательностей, которая позволяет учесть самые разнообразные факторы — Шпитгофовы материалы, используемые для производства капитальных благ, Виксел- леву «реальную» процентную ставку, мультипликатор Кейнса и т. д. Может показаться, что такая теория эклектична, однако это впечатление ложно, поскольку у Лундберга все эти разнородные факторы оказываются действительно важными элементами общей системы. Просто циклические колебания зависят от множества условий. Можно увидеть также сходство моделируемых последовательностей с появившимися впоследствии моделями Харрода — Домара 218; дело в том, что Лундберг как раз пытался выяснить, может ли рост производства, потребления, доходов, инвестиций и сбережений происходить непрерывно и равномерно или же существует внутренний «встроенный» хозяйственный механизм, функционирование которого способно вызывать перебои в ходе общего развития 219л Таким образом, он провел подлинно фундаментальное исследование общих соотношений, установленных в моделях Викселля и Кейнса. Экспансия непрерывно требует новых инвестиций даже в том случае, если не происходит никаких изменений ни в ценах, ни в издержках, ни в соотношении капитальных благ: сбережения должны быть равны инвестициям или увеличиваться более высокими темпами. Для того чтобы соотношение между этими двумя элементами обеспечивало динамическое равновесие, доходы, сбережения, капитал и тому подобные величины, как полагает Лундберг, должны изменяться в соответствии с экспоненциальной функцией. «Размеры новых инвестиций,— писал Лундберг,— должны быть достаточно велики для того, чтобы уравновесить предстоящие сбережения, соответствующие такому уровню занятости и дохода, при котором обеспечивается полное использование нового капитала при достаточно выгодных (в данном случае — при неизменных) ценах» 220.
Производство потребительских благ также не является пассивным фактором, как это часто предполагалось в произведениях последователей Кейнса. Лундберг указывает, что увеличение потреоительских расходов может существенно отразиться на развитии экономики, и в одной из моделируемых последовательностей он непосредственно исходил из этого допущения 221. Когда не происходит изменений в отраслях, выпускающих средства производства, увеличение продукции отраслей, производящих предметы потребления, может вызвать увеличение дохода точно так же, как это происходит в случае роста других секторов экономики. Учитывая сдерживающее влияние, оказываемое наличным запасом капитальных благ, Лундберг признает, что в условиях депрессии существование незагруженного производственного аппарата вызывает совсем не такие последствия, как в условиях полной занятости. Рассмотрев этот пример, Лундберг переходит к анализу «последовательности», в которой преобладающая часть инвестиций направляется на пополнение оборотного капитала. Этой модели, безусловно, присущи внутренние противоречия, но основной ее вывод заключается в том, что влияние всех элементов, обеспечивающих восстановление равновесия, оказывается ослабленным. Лундберг изучил также динамику отдельных компонентов национального продукта в том случае, когда определяющую роль играют вложения в жилищное строительство и другие строительные работы. Его анализ предусматривает возможность изменений процентной ставки и масштабов сбережения, а также процесс «рационализации». И хотя все модели последовательностей чрезвычайно сложны, все же во многих случаях они лучше других теоретических моделей показывают изменения различных факторов. В модели жилищного строительства, например, источником дохода служат не только затраты на наем рабочих и на покупку строительных материалов, но и приобретение ресурсов рабочими и предпринимателями, изготовляющими строительные материалы. Однако всегда существует угроза того, что возможности дальнейшего расширения строительства окажутся исчерпанными, так как из-за роста новых инвестиций не могут постоянно сохраняться условия для столь значительного увеличения доходов и расширения спроса на жилые дома, при котором будет иметь смысл вкладывать капитал 222.
Лундберг показал, что изменения, служащие причиной кризисов, появляются задолго до того, как наступают потрясения, поскольку в модели уже на начальной стадии возникает несоответствие между сбережением и инвестированием. Прирост платежеспособного спроса постепенно сокращается и наступает момент, когда совокупные инвестиции оказываются меньше совокупных сбережений. Особый интерес представляет разработанная Лундбергом модель 404
«рационализации», в которой предполагается использование технических средств, сберегающих труд. Хотя в этом случае необходимые затраты не являются источником доходов, все же увеличение дополнительных доходов может оказаться столь стремительным, что это обеспечит дальнейший экономический рост. С другой стороны, для поддержания равновесия нужно, чтобы сохранялись темпы роста экономики: производственные мощности будут полностью использоваться в том случае, если инвестиции будут увеличиваться быстрыми темпами. Система напоминала человека, вращающего тяжелый маховик.
Всю эту систему моделируемых последовательностей Лундберг оценивает весьма скромно; он допускает, что существует ряд исключений и что в моделях содержатся упущения и даже ошибки. Лундберг соглашается с тем, что реакции потребителей и предпринимателей не должны обязательно быть такими, как это предполагается в моделях, вследствие чего соотношения могут оказаться совершенно иными. Но это лишь говорит о том, насколько сложны экономические процессы. Наилучшим ориентиром, направляющим исследование, является сама теория: когда теория наполняется эмпирическим содержанием, это облегчает выбор новых переменных и позволяет даже видоизменить методы исследования. Никакая простая теория, никакой единственный фактор не позволяют объяснить, почему и как происходят изменения; все же ясно, что процесс хозяйственной экспансии таит в себе предпосылки своего крушения. В моделях Лундберга рассматриваются два вида кризисов: в одном случае сокращение потребительских расходов может объясняться чрезмерным сбережением и недостаточным платежеспособным спросом, а в другом случае для осуществления новых инвестиций не хватает сбережений. Тем самым была наконец создана общая теория, объединившая концепции Кейнса и Хайека 223.
В первой книге Лундберга рассматриваются сложные теоретические вопросы, и она рассчитана главным образом на специалистов, зато следующая крупная работа — книга «Экономические циклы и хозяйственная политика»— привлекла более широкий круг читателей 224. Вторая книга была издана в Швеции в 1953 г. как часть более широко задуманного исследования; ее содержание в большой мере определялось скептическим отношением Лундберга к точности данных, обеспечиваемых статистикой национального дохода. Проблемы экономической политики рассматриваются лишь на примере Швеции, но тем не менее книга представляет интерес для экономиста любой страны.
Она открывается эмпирическим исследованием поведения предпринимателя, используемые при этом первичные данные получены с помощью анкетных обследований. В английском переводе эта часть исследования опущена, хотя она содержит немало интересных и полезных сведений 225. В книге можно найти целый ряд глубоких замечаний по поводу антициклической политики, в ней Лундберг смог высказать свои собственные взгляды независимо от точки зрения, содержавшейся в официальных отчетах Института экономических исследований.
Содержание книги несколько напоминает работы Шумпетера, который на протяжении всей своей жизни стремился к тому, чтобы слить анализ теоретических проблем с исследованием статистического и исторического материала; кроме того, Лундберг использует в ней некоторые кейнсианские категории, такие, как мультипликатор, линия потребления, проходящая под углом 45°, а также мысль об акселерации. Свои политические убеждения Лундберг формулирует совершенно четко: он неизменно выступает против того, чтобы государство в мирное время прибегало к регулированию хозяйственной деятельности 226. Такие взгляды он пытается связать с более широким философским анализом вопроса о целях экономической политики, однако философская концепция, к сожалению, излагается не совсем отчетливо 227. Лундберг, по-видимому, ищет какое-то оправдание участию экономиста в общественной жизни. Оказавшись в самой гуще событий, он задумался над тем, следует ли экономисту заниматься какой-либо общественной деятельностью. Лундберг признает, что экономическая наука может дать оценку мероприятиям экономической политики, приняв во внимание самые различные альтернативные возможности; вместе с тем он понимает, что такие мероприятия приходится втискивать в рамки законодательных программ и существующей системы институтов.
Рассматривая задачи государственной политики и формы ее осуществления, Лундберг высказывает два соображения. Для решения хозяйственных проблем можно использовать либо фискальную, либо кредитно-денежную политику. Симпатии самого Лундберга на стороне последней: он не верит в то, что изменения дисконтных ставок могут оказаться неэффективными, и доказывает, что они могли бы достигнуть нужного эффекта, если бы осуществлялись в «переломных точках» цикла 228. Соглашаясь с Линдалем, Лундберг также полагает, что в сложных ситуациях стабилизации конъюнктуры будет способствовать заявление центрального банка о предполагаемых действиях. Однако 405
Лундберга смущает, что в случае осуществления решительной и разносторонней антициклической политики могут возникнуть некоторые затруднения при разграничении последствий перехода к новым процентным ставкам и изменений, вызванных чисто денежной политикой. Учитывая сложность процессов, имеющих место в реальной действительности, можно полагать, что попытка столь тонкого разграничения в любых условиях скорее всего обречена на неудачу. Если процентные ставки используются в качестве ограничительного средства, тогда повышение процента, вероятно, будет означать уменьшившееся предложение денег. Повышение ставок, доказывает Лундберг, уменьшает и стремление брать деньги взаймы, и готовность отдавать их в ссуду. Условия выдачи кредитов могут оказаться более жесткими, хотя психологические реакции и вызываемые этими изменениями поступки чрезвычайно сложны и чаще всего не учитываются полностью ни количественной теорией денег, ни теорией процента 229.
Из анализа этого вопроса у Лундберга следует, что при осуществлении кредитно-денежной политики большую роль играет элемент неопределенности. Но по-видимому, такие неточные методы кому-то нужны — ведь цели кредитно- денежной политики должны быть точно сформулированы и все люди должны знать, что политика, осуществляемая банковской системой, направлена на поддержание стабильного уровня цен, и несмотря на все это, средства, с помощью которых указанные цели могут быть достигнуты, обычно окружены «...атмосферой неопределенности и, вероятно, даже таинственности...» 23°. Благодаря этому, по- видимому, удается превратить малопонятные символические атрибуты национальной валюты в некую тайну и тем самым обеспечить условия, в которых руководство банковской системы легко может навязывать тот образ действий, какой оно сочтет нужным. Подобные проделки порождают у Лундберга некоторые сомнения. Действительно ли пригоден такой подход для экономики полной занятости, при которой процессы изменения и развития должны основываться на определенном понимании событий? Если же кредитно-денежная политика будет строиться на психологическом шоке или на преклонении перед символическими атрибутами, не придется ли поступиться надежными критериями? Все исследование проникнуто характерным для Лундберга неверием в возможность действий, основанных на точном расчете, ибо он настойчиво проводит следующую мысль: знание последствий финансовой и кредитно- денежной политики недостаточно, чтобы обеспечить нечто большее, чем ориентировочная программа (program of groping). Опыт современного развития США подтверждает, что шведский экономист имел основания для таких выводов.
Лундберг также сомневается в том, правильно ли использовать национальные бюджеты в качестве средства, позволяющего объяснить нарушение равновесия избыточным инфляционным спросом (inflationary gap), а также в качестве метода восстановления экономического равновесия 231. Одно из важнейших возражений Лундберга заключается в том, что используемые в национальных бюджетах статистические данные неточны. Он полагает, что обычный анализ избыточного инфляционного спроса,— анализ, который можно так часто встретить у последователей Кейнса, в действительности может оказаться более плодотворным в применении к регулируемой экономике, чем к экономике, в которой централизованное регулирование отсутствует. Лундберг считает, что этот аналитический прием, как и многие другие методы теоретического исследования, более уместно применять в педагогических целях: реальная действительность настолько сложна, что это порождает сомнения в целесообразности использования их при выработке общих решений. Теоретически «...можно представить себе совершенно рациональную фискальную политику, при которой министр финансов руководит чрезвычайно сложным аппаратом хозяйственного регулирования; управляя соответствующими рычагами, он обеспечивает осуществление требующихся предельных изменений дохода, спроса, цен; достигнув абсолютного экономического равновесия, он поддерживает его. С формальной точки зрения можно, несомненно, построить математические модели, описывающие подобную ситуацию, однако это принесет удовлетворение и пользу, конечно, в основном лишь самому руководителю» 232. Математические формулы представляются бесполезными в условиях, когда фактически невозможно предвидеть, как люди будут реагировать на изменения в хозяйственной жизни. Вследствие этого Лундберг высказывается за осторожное использование инструментов кредитно-денежной политики.
Задачей экономической политики, как справедливо указывает Лундберг, в действительности является не обеспечение равновесия, а достижение конкретной цели. Именно из-за этого политика оказывается столь неэффективной; поэтому сейчас более остро, чем когда-либо, ощущается потребность в «хорошей экономической теории» 233. Существующие теории с их мультипликатором, акселератором, избыточным инфляционным спросом и т. п. исследуют вопрос о том, как передаются экономические импульсы. Но Лундберг, по-видимому, неудовлетворенный 406
тем, что эти макроэкономические теории не в состоянии объяснить, как динамический процесс распространяется по всей системе, стал склоняться к взглядам Национального бюро экономических исследований, согласно которым, прежде чем разрабатывать теорию, нужно провести детальные эмпирические исследования 234. Проблема состоит в том, как «разукрупнить» агрегатные показатели и как собрать детальные сведения. «Хорошая теория» внезапно исчезает за столпотворением фактов.
Взгляды Лундберга подверглись довольно резкой критике 235. Некоторые авторы полагают, что Лундберг слишком легко «разделывается» с проблемой агрегирования; другие считают, что он недооценивает роль различных мероприятий финансовой политики; третьи уверены в том, что послевоенная инфляция была неизбежна и что его обвинения в адрес правительственных деятелей, ответственных за проведение хозяйственной политики, не вполне справедливы. В ответ на это Лундберг указывал, что он не предлагал никакой новой теории; просто, подвергнув проверке существующие теории, он обнаружил в них недостатки. В настоящее время трудно сказать, кто прав.
7. ГУННАР МЮРДАЛЬ: ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ТЕОРИЯ
Из числа современных шведских экономистов наибольшую известность получил Гуннар К. Мюрдаль (род. 1898), он был «...последовательно профессором университета, правительственным советником, членом парламента, руководителем исследовательской группы по изучению общественного положения негров в США, министром, директором банка, председателем плановой комиссии и работником международной организации...» 236. Вероятно, как раз этот разносторонний опыт и побудил его рассмотреть с философских и социологических позиций некоторые предубеждения, которые можно обнаружить в экономической науке. Правда, это -стремление проявилось в самом начале научной деятельности Мюрдаля, о чем свидетельствует «го книга «Роль политического фактора в развитии экономической теории» 237. Среди всех работ шведских экономистов она выделяется •особенно тщательным исследованием философской стороны экономических доктрин. Мюрдаль •стремился отыскать подлинное место общественной науки в общей системе знаний: в результате этого основные его идеи были насквозь пронизаны соображениями методологии. Он выразил сомнения в правильности чисто теоретического подхода к проблемам благосостояния, когда не указываются политические цели: избегая откровенно сформулировать свою систему ценностей, современные авторы лишь затрудняют разграничение науки и политики. Такие оценочные суждения как раз и образуют основные политические элементы экономической теории. Полагать, что политические убеждения можно исключить или подчинить некой системе предполагаемых «важнейших принципов»,— значит, по мнению Мюрдаля, питать иллюзии. Политические убеждения следует открыто провозгласить и сделать составным элементом исследования 238.
Центральная задача, стоящая перед учеными в области общественных наук, заключается в том, чтобы на их поисках истины не отражались личные склонности и классовые интересы. Для этого нужно признать, что общественные науки носят рационалистический характер и что на них распространяется принцип релятивизма. Однако это признается, говорил Мюрдаль, лишь в редких случаях. Хотя авторы теоретических работ стремятся занять объективную позицию, все же при использовании ими категорий стоимости, полезности и благосостояния обнаруживается неосознанное влияние нормативных суждений. Даже Вальрасу и Касселю Мюрдаль ставил в упрек, что они не полностью избавились от такого понятия, как «то, что должно было бы существовать». Подобные увертки маскируются необоснованными заверениями, будто найдены закономерности «того, что действительно существует». В истории экономической мысли, разумеется, можно найти множество примеров, подтверждающих справедливость этого обвинения. Большинство экономистов были не просто теоретиками. Стремление к совершенствованию общества вдохновляло их, по словам Мюрдаля, не меньше, чем научные интересы 239. В современных условиях лишь произошла поляризация политических убеждений: так, консерваторы ссылались на неизменную, по их мнению, природу человека и делали ее основой исследования общества; радикалы же настаивали на институциональных изменениях, видя в этом путь к совершенствованию общества. В конечном счете победу одержали радикалы. Однако призывы консерваторов к осмотрительности и реалистичному подходу служили предостережением против эксцессов, порождаемых чрезмерным энтузиазмом. И лишь тенденция к возникновению промышленных гигантов 407
и расширению сферы деятельности государства, а также откровенно предпринимаемые попытки планирования наглядно продемонстрировали всю ограниченность традиционных представлений. До тех пор пока теория будет оставаться «чисто экономической», по мнению Мюрдаля, нельзя рассчитывать на то, что она поможет выработать какие-либо суждения непреходящей ценности. Великие экономисты всегда предлагали свои рекомендации в области политики, о чем свидетельствует пример Мальтуса, Рикардо, Маркса и Кейнса.
Таким образом, представления о системе ценностей нужно считать составной частью всей экономической теории. Мюрдаль писал по этому поводу: «Исходные суждения о ценностях должны вводиться открыто. Не следует скрывать эти суждения, молчаливо подразумевая их; о своих взглядах нужно высказываться откровенно. Они должны служить не только предпосылкой наших выводов в области политики, но и определять направление нашего позитивного исследования... Только так можно оградить исследование от предвзятости, поскольку последняя предполагает, что мы руководствуемся неосознанными критериями. Исходные суждения о ценностях нужно формулировать по возможности точнее и конкретнее. Они не могут быть ни apriori самоочевидными, ни универсальными. Их нужно отобрать, однако такой выбор не должен быть произвольным: следует исходить из того, насколько применимы избранные критерии к условиям современного общества и какова их роль» 240. Влияние Макса Вебера и Карла Маннгейма здесь выступает довольно отчетливо.
Когда Мюрдаль познакомился с современными представителями институционализма в Соединенных Штатах, он еще больше укрепился в своем убеждении, что проблема ценностей имеет важное значение. Он осудил то, что американские экономисты интересуются одними лишь фактами — Мюрдалю показалась бессмысленной их уверенность в том, что решающее значение для экономической науки может иметь эмпиризм и только эмпиризм. В начале своей деятельности Мюрдаль питал надежду, что, как только удастся изгнать из экономической науки скрытые в ней метафизические построения, можно будет чрезвычайно легко решить общественные проблемы; для этого понадобится лишь сочетать знание фактов с известными сведениями о системе ценностей. Однако впоследствии у него не было уже прежней уверенности в том, что такой механический подход сможет оказаться плодотворным. Вряд ли можно ограничиться простым наблюдением — все же нужно обладать системой теоретических взглядов, что всегда предполагает наличие суждений о системе ценностей 241. Такой подход можно обнаружить практически во всех последующих его произведениях. В книге «Американская дилемма» Мюрдаль с предельной резкостью противопоставляет общеизвестные факты системе взглядов, обычно именуемой «американским кредо». В двух книгах об экономически слаборазвитых странах —«Мировая экономика» 242 и «Экономическая теория и слаборазвитые районы» 243 — он показывает, что исходными суждениями о ценностях, определяющими подход к проблеме, являются обеспечение равных возможностей и развитие демократии. Мюрдаль отмечает, что исходные критерии важны в любой исследовательской работе и без них не может обойтись ни одно исследование 244. Но такие критерии нужно всегда откровенно излагать как составную часть всей аргументации.
В одной из лучших работ Мюрдаля, посвященных методологическим вопросам,—очерке «Проблема целей и средств в политической экономии», написанном в 1933 г. 245, указывается, что при любых формах экономического планирования неизбежно приходится сталкиваться с проблемой цели и средств. В развитом обществе планирование образует центральный принцип, с помощью которого знания воплощаются в действиях. Однако было бы совершенно неверно полагать, будто цели могут быть определены объективно, потому что они всегда содержат оценочные суждения и в конечном счете зависят от принятой системы ценностей. Точно так же нельзя утверждать, что средства достижения цели нейтральны с этической точки зрения. Таким образом, «...суждение о политических ценностях оказывает влияние не только на цели, но и на каждый компонент любых возможных альтернативных вариантов, которые приходится сопоставлять друг с другом» 246. Следовательно, в области общественных наук принцип релятивизма, по существу, распространяется на методы исследования, что исключает возможность упорядочения ценностей путем установления логической иерархии. Важную роль в экономическом исследовании играют достижения других наук, и в частности психологии. С их помощью можно правильно определить причинно-следственные связи; действительно, исходные суждения о ценностях устанавливаются, по словам Мюрдаля, на основе анализа психологических реакций — это обстоятельство придает экономисту некоторое сходство с художником и требует от него «поэтического вчувствования». Как только будет разработана система совместных суждений — а многие из них, вероятно, являются политическими суждениями,— можно будет упорядочить све408
дения об общественных явлениях гораздо более эффективно, чем это делается сейчас, а теоретическому исследованию удастся придать такое направление, которое отвечает важным практическим задачам текущего момента 247.
С этой проблемой связаны также вопросы о «программе» и «предвидении». Под «программой» Мюрдаль подразумевает предполагаемый или намечаемый план действий, а под «предвидением»— предсказание будущих событий. «Программа», по его словам, представляет собой решение об образе действий, и поскольку ее пытаются осуществить, постольку программе как бы внутренне присуще «предвидение», которое фактически само обеспечивает ее претворение в жизнь 248. Однако суждения о ценностях могут вызывать нарушения этого процесса, потому что система ценностей оказывает существенное влияние на содержание «программы» и предполагает решение таких проблем, как рационализация и нарушение хозяйственных процессов. Оценочные суждения подразумевают выбор определенного круга проблем, а тем самым социальные и экономические исследования ставятся в такие рамки, внутри которых удается воспользоваться лишь ограниченным опытом. Можно утверждать, что с этой точки зрения теории Маркса и Кейнса представляют собой лишь действительный для определенного времени протест против условий, существовавших в соответствующий период. Все же в своих представлениях о хозяйственной жизни общества человек исходит из оценочных суждений, в которых, по существу, выражается его индивидуальность. Эти суждения невозможно вывести из абстрактных принципов, вместе с тем их нельзя считать заданными раз и навсегда, потому что они подвержены постоянным изменениям. Между системой ценностей, «программами» и «предвидением» происходит непрерывное взаимодействие. Поэтому Мюрдаль считает неправильным высказываемое иногда мнение, будто цели и средства можно рассматривать в отрыве друг от друга. Но как же у человека вырабатывается данная система ценностей? Эта проблема относится прежде всего к области психологии, потому что экономические или, как часто говорил Мюрдаль, «уместные» критерии здесь, вероятно, оказываются недостаточными.
Другим ключевым понятием в теоретической системе Мюрдаля служит идея кумулятивного развития. В противоположность теории равновесия, которая предполагает, что соответствующие силы неизменно возвращают систему к состоянию покоя, принцип кумулятивного развития выдвигает на передний план такие процессы, которые, раз начавшись, создают условия для последующего развития. Конечный результат, говорит Мюрдаль, может неизмеримо превосходить первоначальный импульс. Кроме того, действие всех этих сил развертывается в одном и том же направлении. Переменные у Мюрдаля «...сцеплены в такой механизм причинных связей, что изменение любого из факторов вызывает изменение другого фактора в том же направлении, а это в свою очередь оказывает вторичное воздействие на первую из переменных и т. д.» 249. О взаимном компенсировании или равновесии не может быть и речи. Что, по убеждению Мюрдаля, нуждается в исследовании,— это развитие в том или ином направлении процессов, которые все время подвергаются воздействию импульсов, возникающих то в одном, то в другом месте. Для того чтобы с помощью данного метода определить интенсивность действия различных факторов общественного развития, нужно прибегнуть к сочетанию своеобразной таксономии с теми или иными приемами количественной оценки; примеры такого анализа можно найти в книге «Американская дилемма». Основная идея принципа кумуляции заключается в том, что существует целый ряд факторов, каждый из которых зависит от остальных 250.
Как отметил Поль Стритэн, Мюрдаль по существу является, так сказать, «бодрым пессимистом». Стремясь к установлению свободы во всем мире и к обеспечению одинаковых возможностей, Мюрдаль без колебаний указал на то, что политика индустриальных держав затрудняет достижение развивающимися странами удовлетворительных темпов развития. Истоки идей Мюрдаля восходят к либерализму XIX в. и социалистической теории, однако он не разделяет веру своих предшественников в постоянный, неуклонный прогресс. Мюрдаль подчеркивает «...необходимость научного анализа общества, как и то, что конфликты между различными ценностями существуют и играют положительную роль, а это напоминает взгляды Маркса; в то же время Мюрдаль верит в лучший общественный строй, основные черты которого могут быть разработаны творческой мыслью свободных людей,— и это воскрешает в памяти представления социалистов-утопистов» 251.
Перейдем теперь к специальным разделам теории Мюрдаля, которые излагаются главным образом в работе «Денежное равновесие». Книга, опубликованная в Швеции в 1932 г. 252, посвящена «имманентной» критике идей Викселля. Некоторые коллеги Мюрдаля выдвинули резкие возражения против этой работы; их возмущало то, что в английском издании этой книги, вышедшем семью годами позже, автор так явно изменил свои взгляды по сравнению 409
с шведским изданием 1932 г. 253. Были высказаны критические замечания по поводу того, что Мюрдаль неточно определял хозяйственные периоды — понятие, которому шведские экономисты придают чрезвычайно большое значение. Действительно, Мюрдаль предпочитает своеобразный «мгновенный» анализ, доказывая, что для упрощения проблемы нужно рассматривать события на какой-то момент. С другой стороны, его критики, склонные сводить все исследование к анализу «потоков», забывали о том, что у каждого из этих подходов есть свои преимущества.
Чтобы превратить идею равновесия в инструмент экономического исследования, нужно, как подчеркивает Мюрдаль, рассчитать коэффициент, с помощью которого можно перевести относительные значения цен в абсолютные. Эту мысль Мюрдаль воспринял, конечно, у своего учителя — Касселя 254. Обычно такие соотношения предполагались количественной теорией денег, но причинная зависимость при этом так и оставалась невыясненной, потому что стоимость денег, согласно этой теории, всегда определяется уровнем цен, то есть теми условиями, которые она пыталась объяснить. Неясно, однако, что следует понимать под уровнем цен: это понятие вообще невозможно точно определить, к тому же возникают осложнения, связанные с осуществлением кредитных операций, которые сами по себе предполагают влияние фактора времени. Однако при истолковании процесса установления цен влияние кредита неизбежно оказывалось исключенным, поскольку цена трактовалась как событие, имевшее место в данный момент. В результате общепринятая теория не могла объяснить такую проблему, как экономический цикл. Эта. проблема была выделена в особый раздел экономической теории, и авторы теоретических исследований, стремившиеся упорядочить свои наблюдения, могли руководствоваться «...более или менее полным набором таких гипотез, которые открыто признавались неудовлетворительными» 255. Произведения Уэсли К. Митчелла могут служить, по утверждению Мюрдаля, превосходным примером подобных бесплодных усилий.
В начале книги Мюрдаль рассматривает возможность нарушения равновесия между спросом и предложением. Тот факт, что эта возможность существует, заставляет рассмотреть понятия недопотребления или перепроизводства. Согласно теории Викселля, процентная ставка образует точку опоры, вокруг которой при нарушении равновесия могут происходить колебания, дающие первоначальный толчок знаменитому кумулятивному процессу. Мюрдаль хотел лишь дополнить указанную теорию понятием антиципирования, без чего, говорит он, невозможно дать правильное определение инвестиций, сбережений и потребления, так как будущие поступки обусловлены непосредственно предшествовавшими им событиями. Таким путем Мюрдаль вводит в теорию понятия ех ante и ex post, которые сыграли столь важную роль в развитии экономической науки в Швеции. Денежное равновесие на товарных рынках, по его словам, совершенно не совпадает с равновесием в сфере производительности и функционирования капитала.
Значительную часть книги Мюрдаль посвятил методологическим вопросам, и в частности понятию периодоанализа. Он настаивает на том, что время в экономической теории должно быть сведено к «моменту», то есть к понятию, которое исходит просто из дробления периода на очень короткие промежутки. Некоторые «потоки», например сбережения и доходы, предполагают рассмотрение более длительных периодов; когда становятся очевидными итоги прошлых событий, не составляет труда установить для них продолжительность периодов. Здесь речь идет об анализе ex post. Если же в центре внимания находятся «предвидение» и планы, тогда, по мнению Мюрдаля, может иметь место увеличение сбережений без соответствующего изменения инвестиций 256. Вик- селлево равновесие в сфере производства заменено у Мюрдаля понятием «производительности меновой стоимости», благодаря которому кредит и процентная ставка по денежным ссудам могут быть включены в определение «естественной» ставки процента. Мюрдаль приходит к выводу о том, что пропорции в сфере производства определяются предположениями, относящимися скорее к абсолютному уровню цен, выраженных в деньгах, чем к относительным ценам 257. На самом деле оказывается, что существенную роль играет доход ex ante или ожидаемый доход на капитал; хотя и можно примерно учесть распределение вероятностей, но даже они основаны на ожидаемом соотношении между чистым доходом и стоимостью капитала. Все это включает сложный комплекс реакций предпринимателя, однако решение этого вопроса не отличается ни точностью, ни изяществом. В уравнении дохода (доход равен валовой выручке минус издержки производства) каждый компонент должен быть помножен на соответствующие значения вероятностей. Расплывчатость подобных формулировок, можно сказать, самоочевидна. Сам Мюрдаль признает, что единая процентная ставка по денежным ссудам существует только в теории, потому что в реальной действительности имеется ряд процентных ставок. Точно так же невозможно предста410
вить себе конкретно такое понятие, как доход, ибо на практике существуют самые различные формы капитала. В итоге Мюрдалю удалось сформулировать мысль о «естественной» процентной ставке таким образом, что она приобрела большое сходство с понятием предельной эффективности капитала, выдвинутым впоследствии Кейнсом. По-иному — с точки зрения воспроизводства реального капитала — излагаются у Мюрдаля условия равновесия в сфере производства. Полагая, что реальный капитал представляет собой сумму ожидаемых доходов, дисконтируемых по отношению к данному моменту, он тем самым связывает понятия ех ante и ex post 2б8.
Мюрдаль доказывает, что равновесие на рынке капитала служит предпосылкой равновесия в сфере производства — такие представления, по-видимому, справедливы применительно к условиям денежного хозяйства. Как это происходит? Чтобы показать, что деньги и кредит образуют составную часть теоретической системы, нужно по-новому определить «естественную» ставку процента. А именно, «естественную» ставку процента необходимо трактовать как норму прибыли. Ясно, что здесь речь идет о понятии ex ante — о доходе от планируемых инвестиций. Практически этот показатель, вероятно, удобнее рассчитывать как соотношение между фактической стоимостью капитала и воспроизводственной стоимостью капитальных благ. Модифицировав таким образом анализ, Мюрдаль далее рассматривает различия в относительных размерах прибыли между отдельными секторами экономики. Для экономики в целом эти величины можно взвешивать по соответствующим коэффициентам эластичности инвестиций. Денежное равновесие достигается тогда, когда равновесие на рынке капитала ведет к инвестированию в сфере производства. Валовые реальные инвестиции в конечном счете должны оказаться равными сумме сбережений и ожидаемых изменений стоимости капитала 259.
Однако внутренние силы, по словам Мюрдаля, постоянно порождают тенденцию к нарушению равновесия между реальными инвестициями и наличием свободного капитала. Этот процесс получает уже знакомую нам трактовку: увеличение относительной величины прибыли вызывает рост реальных инвестиций, в то же время обнаруживается тенденция к уменьшению относительной величины сбережений. Другими словами, рост сбережений может отставать от увеличения дохода. Однако это, как полагает Мюрдаль, составляет лишь одну из нескольких причин хозяйственного потрясения. Вслед за этим Мюрдаль анализирует влияние изменений процентной ставки и движение инвестиций, рассматриваемое в плане ex ante 26°. Он пытается проследить, как оправдавшиеся или не оправдавшиеся ожидания вызывают кумулятивное развитие хозяйственных процессов. В условиях подъема, например, неожиданное появление крупных сбережений может ликвидировать несоответствие между инвестициями и имеющимся в наличии свободным капиталом. Могут возникнуть, конечно, чрезвычайно сложные ситуации. Ожидания различных участников, относящиеся к одному и тому же хозяйственному процессу, могут отличаться друг от друга; предварительная оценка результатов производства или дохода от факторов производства может оказаться неверной, что вызовет серьезные диспропорции. Может выясниться, что ликвидировать эти диспропорции на деле не удастся. И чем дальше развертывается исследование, тем отчетливее складывается впечатление, что Мюрдаль уводит свой анализ на путь решения многочисленных частных вопросов, каждый из которых, по-видимому, совершенно не похож на все остальные.
Затем Мюрдаль включается в теоретический спор между Викселлем и Давидсоном; ссылаясь на значение «жестких» цен на некоторые товары и их влияние на инвестиции, Мюрдаль приходит к выводу о том, что денежное равновесие требует стабильного уровня цен. Он допускает, что это не обязательно должно означать неизменность общего уровня цен 261. Мюрдаль проявляет известный реализм, признавая, что к поддержанию «жестких» цен может быть причастна монополия. И все же в деле ограничения последствий экономического цикла важная роль принадлежит денежному равновесию. Здесь в экономическое исследование вводятся нормативные элементы и оценочные суждения. Выяснив, какие результаты могут обеспечить альтернативные методы решения вопроса, Мюрдаль делает вывод о том, что основное действительно существующее противоречие — это противоречие между стабилизацией цен и денежным равновесием. Он писал: «Сохранение денежного равновесия в условиях, когда изменяются первичные факторы, определяющие цены, не означает еще такого хозяйственного развития, при котором капиталисты в наибольшей степени избавлены от риска. Денежное равновесие предполагает сопоставление прибылей и убытков лишь для фактически осуществляемых текущих инвестиций. Это отнюдь не совпадает с сопоставлением прибылей и убытков от функционирования существующего реального капитала» 262.
Заслуживают внимания работы многих шведских экономистов. Кроме авторов уже рассматривавшихся произведений, упомянем Дага 411
Хаммаршельда, бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Бента Хансена из Шведского института экономических исследований, Сюна Карлсона, Ингвара Свен- нильсона и многих других. Все их труды свидетельствуют об исключительно высоком теоретическом уровне исследований шведских экономистов 263.
Не имея возможности рассмотреть все эти великолепные исследования, обратимся в качестве иллюстрации к произведениям Бента Хансена, автора весьма специальной и сложной книги «Теория инфляции» 264, явившейся важной вехой в развитии современной экономической науки. В Швеции проблема инфляции всегда стояла весьма остро, а особенно — в первые послевоенные годы; вокруг нее развернулась широкая дискуссия, причем некоторые ее участники, например Хансен, выдвигали сложные теоретические концепции. В своем исследовании Хансен различал два типа инфляционных процессов — подавленную (repressed) и явную (open) инфляции. В первом случае цены и заработная плата могут находиться под контролем государства, но характерные черты инфляционного разрыва все же могут обнаружиться на товарном рынке либо на рынке факторов производства или скорее всего на обоих рынках. Те, кто знаком с положением на рынке США во время второй мировой войны, подтвердят полезность такого разграничения 265. При построении своих моделей, и особенно модели явной инфляции, Хансен эффективно использовал выдвинутую Вальрасом идею всеобщего равновесия 266. Он применил также разработанные Линдалем уравнения ex ante и ex post, подставив в них функции совокупного спроса и совокупного предложения. С помощью этих приемов Хансен пытался перебросить мост между традиционной теорией равновесия и его моделями инфляции. В своем исследовании Хансен исходил из наличия избыточного спроса либо на рынке факторов производства, либо на товарном рынке. Установление равновесия предполагает ликвидацию такого разрыва. По мнению Хансена, сферу анализа нельзя ограничивать одними лишь сбережениями и инвестициями, потому что при изучении инфляции требуется более гибкий подход. Сам Хансен в своей концепции по существу предполагал неравновесную ситуацию, для чего следовало выяснить, каким образом можно преодолеть разрыв между совокупным спросом и совокупным предложением на различных рынках.
Вторая книга Хансена —«Экономическая теория фискальной политики»— служит новым подтверждением высокого уровня теоретических исследований шведской школы 267 . Эта работа, которая первоначально готовилась как один из правительственных отчетов по вопросу о поддержании стабильной покупательной способности денег при полной занятости, свидетельствует о том, насколько может быть плодотворен тщательный теоретический анализ. Вначале Хансен несколько абстрактно излагает проблему цели и средств,— проблему, которая возникает в том случае, когда приходится выбирать между альтернативными вариантами, ведущими к осуществлению различных хозяйственных целей. В контексте того доклада, который готовил Хансен, рассмотрение такой проблемы было вполне уместным, поскольку задача обеспечения полной занятости может противоречить цели поддержания стабильной покупательной способности денег. В таких условиях возникает необходимость в разработке соответствующих мероприятий, к которым могли бы прибегнуть центральный банк и правительство. Использовавшиеся Хансеном методы исследования во многом напоминают методы, разработанные известным голландским экономистом Яном Тинбергеном 268.
В первой части книги Хансена изучается влияние налогов на микроэкономические единицы. Рассматривается поведение потребителей и фирм, которые, предположительно, стремятся максимизировать прибыль. На частное хозяйство могут оказывать влияние правительственные бюджеты; анализируя это влияние, Хансен использовал понятия стокгольмской школы — ex ante и ex post. При этом предусматривалась возможность изменений в бюджете, в силу чего фактические результаты, могут отличаться от ожидаемых. Однако правительству в меньшей степени приходится иметь дело с ожиданиями, потому что оно контролирует значительно большее — в сравнении с индивидуумом — число факторов. Если не удается добиться желаемых результатов с помощью одного из методов, можно прибегнуть к другим.
Чрезвычайно интересная и глубокая глава, посвященная «организации и фискальной политике», к сожалению, слишком кратка и не содержит существенных результатов, тем не менее важно отметить заключенную в этой главе постановку проблемы 269. Хансен отмечает, что решения, принимавшиеся раньше потребителями, фирмами и отдельными лицами, теперь перешли к компетенции организаций. Пользуясь терминологией самого Хансена, па^ раметры действий, предпринимаемых организациями, отличаются от соответствующих параметров для микроэкономических единиц: классическими примерами этого, по его мнению, могут служить поддержание «администрируе412
мых» цен и влияние профсоюзов на определение размеров заработной платы. Ясно, что принципы, определяющие поведение таких организаций, не похожи на принципы, описанные классической экономической теорией. По мнению Хансена, вероятно, можно разработать экономические модели и для организаций, но на самом деле действия организаций уже не ограничиваются чисто экономической сферой. Нет оснований полагать, что эти социальные единицы ведут себя точно так же, как индивидуумы. У организаций имеются политические цели и политические обязательства, и мотивы их действий изменяются в зависимости от соотношения сил внутри самой организации. Они обладают своей собственной логикой, которая совершенно отлична от логики свободного рынка. Вполне возможно, что, столкнувшись с миром таких организаций, экономическая наука, ранее занимавшая центральное место в исследовании общественных явлений, должна будет полностью уступить его политике и социологии.
Глава VII
РАЗНОГЛАСИЯ
СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ ЭКОНОМИСТОВ
1. МОЛОДЫЕ РАДИКАЛЫ: ЭЛИ, ПАТТЕН, СЕЛИГМЕН, КАРВЕР
До XX в. для американской экономической мысли были характерны черты, существенно отличные от основных черт англосаксонской теории. Последняя подчеркивала проблемы свободной торговли и классовой борьбы, тогда как во Франции Жан Батист Сэй и Фредерик Бастиа выдвинули идею экономической гармонии. Немцы же, стремясь ускорить промышленное развитие, придерживались откровенно протекционистской политики. Американские экономисты, восприняв многие из этих идей, придали им некоторые черты прагматизма и узости. Трудно было ожидать, что молодая нация, завоевывающая все новые пространства огромного континента и располагающая практически всеми ресурсами, необходимыми для безграничного процветания, с готовностью воспримет холодную логику и мрачные перспективы теории убывающей доходности. Экономисты по эту сторону Атлантики, так же как и промышленники, были настроены значительно более оптимистично, чем их коллеги в обладавшей значительно меньшими возможностями Англии, где шла борьба вокруг распределения национального дохода, отмеченная Давидом Рикардо. Американскому национальному характеру был присущ энтузиазм, вытекавший из страстной веры в гармонию; казалось, что последняя предопределена свыше, и ни пустыня, ни индейцы не смогут препятствовать ее осуществлению; отсюда в значительной мере и проистекали оптимизм и своеобразие американской экономической мысли XIX в. Америка — избранная нация, таковой она и пребудет благодаря божьей милости и защитительному тарифу. Этот оптимизм отражал в основном веру в неограниченную конкуренцию: невидимое провидение Адама Смита и социальный дарвинизм Герберта Спенсера как бы объединились с целью оправдать любое дело, которое пожелал бы осуществить мир бизнеса.
Тем не менее не все экономисты склонны были разделять консервативные настроения, господствовавшие в XIX в. Каждый из институционалистов — Торстен Веблен и Джон Коммонс, а позднее Уэсли Митчелл и Джон Морис Кларк — подчеркивал различные аспекты теории, но все они были настроены резко критически по отношению к господствующим теоретическим направлениям. В качестве связной системы взглядов институционализм в настоящее время, к сожалению, почти что исчез, институционалистский подход заметен лишь у отдельных экономистов-социологов. В начале текущего столетия сформировалась также группа молодых способных экономистов, которые, испробовав крепкое вино европейской учености, возвратились в родные края полные решимости развивать экономическую науку в новом направлении. Когда эти молодые люди — Р. Эли, Э. Селигмен и другие — образовали в 1885 г. Американскую экономическую ассоциацию, это, несомненно, означало бунт против господства самодовольной ортодоксальной доктрины Ч Эли 414
и Селигмен считали, что им следует брать пример с экономистов немецкой исторической школы, образовавших Verein fiir Sozialpolitik для обсуждения и пропаганды новых взглядов. И действительно, большую часть своих аргументов против ортодоксии американские бунтари заимствовали у экономистов немецкой исторической школы. В это время в Америке были популярны также работы Клиффа Лесли и Джона Ингрэма. В 1880-х годах более 2000 американских студентов побывали в университетах Европы. Опрос 116 экономистов в 1908 г. показал, что 59 из них завершили курс обучения в Германии 2. В их числе были Г. Адамс, С. Паттен, Р. Эли, Ф. Тауссиг, А. Хэдли и Э. Селигмен, которых привлекли в Европу такие ученые, как Книс, Рошер и Шмоллер.
По возвращении в Америку многие из этих молодых экономистов испытывали потребность в трибуне, с которой они могли бы объявить своим коллегам и общественности о том, что коллективные действия — это наиболее эффективный путь использования национальных ресурсов и развития индивидуальных способностей 3. Особую тревогу им внушал рабочий вопрос, и они призывали капиталистов и профсоюзы к мирному разрешению споров. Следует выделять штатам, говорили они, специальные фонды для целей образования; общественное регулирование необходимо для улучшения транспортной системы, и лишь федеральное правительство, продолжали они, может по- настоящему способствовать экономическому развитию. Безусловно, эти идеи были крайне еретическими. Особенно резко выступал против ортодоксальной точки зрения Эли. Он утверждал, что принцип laissez faire не оправдывает себя ни в экономике, ни в политике, ни в морали. Дедуктивный метод препятствует собиранию фактов на научной основе. Настало время подойти по-новому к разработке проблем экономической и других общественных наук.
Первоначальный манифест Американской экономической ассоциации был составлен в столь резких выражениях, что многие более умеренно настроенные экономисты были шокированы, не говоря уже о реакции со стороны экономистов консервативного крыла. После того как более осторожные экономисты убедили Эли видоизменить первоначальный текст, критика laissez faire уступила место довольно безобидному перечислению общих принципов, удовлетворявших также индивидуалистов. Когда же Фрэнсис Уокер — старейшина американских экономистов — стал первым президентом ассоциации, она превратилась во вполне респектабельную организацию. Но и тогда ее члены, причислявшие себя к «новой школе» в американской экономической науке, не избежали нападок. Саймон Ньюком называл их «бандой социалистов», и особенно доставалось Эли. Разгоревшийся спор напоминал европейский Methodenstreit 4. Консерваторам не нравилась позиция Селигмена в отношении подоходного налога, равно как и то, что Эли проявил интерес к европейскому социализму, а Адамс выступил за контроль над железнодорожными тарифами. Даже Тауссиг, придерживавшийся вполне консервативных позиций, также заодно подвергся критике. Но заинтересованная в привлечении возможно большего числа новых членов из консервативной группы, Американская экономическая ассоциация в 1887 г. еще в большей мере смягчила свои принципы и через несколько лет стала настолько добропорядочной организацией, что устраивала уже всех.
Интерес к исторической школе оказался недолговечным. В стране преобладали настроения в пользу laissez faire, и вскоре большинство экономистов, в том числе и «младотурки» *, начали возвращаться к классическим принципам и дедуктивному методу. По мере написания своих известных трудов, Эли и Селигмен вполне определенно двигались в направлении англосаксонской и австрийской экономических теорий. Хотя эти книги начинались с исторического очерка и в них ставилась задача определить стадии экономического развития, основное их содержание составляла смесь из теорий предельной полезности и издержек производства. С течением времени лишь немногие экономисты продолжали делать упор, по примеру немецкой исторической школы, на эмпирическом подходе. Более того, традиционализм получил значительную поддержку со стороны маржиналистских доктрин, развитых Джоном Бейтсом Кларком. Вскоре не осталось пророков, вопиющих в пустыне. Лишь Торстен Веблен своими иеремиадами нарушал покой, царивший в общепринятой экономической теории.
Наиболее известным и самым деятельным среди молодых бунтарей был, по-видимому, Ричард Эли (1854—1943). Он родился в Рипли (штат Нью-Йорк), получил образование в Колумбийском университете, а затем провел три года в Германии, подвергнув себя тяготам постижения философии Канта и Гегеля. Для его дальнейшего развития, однако, более важным оказался контакт с немецкими экономистами исторической школы, влияние которых на Эли чувствовалось продолжительное время. В 1881 г.
* «Младотурки»— партия, возглавившая буржуазно-демократическую национальную революцию в Турции в 20-х годах. В данном случае автор с иронией относит это определение к группе «молодых радикалов».— Прим, перев.
415
он начал преподавать в университете Джонса Гопкинса, занимаясь одновременно журналистикой и работая сборщиком налогов. Он много писал для газет и журналов, не уставая призывать ко всяческим реформам. В области экономической теории он настаивал на необходимости проводить более тщательные исследования и привлекать больше фактического материала по конкретным проблемам. Будучи христианским социалистом, он верил в то, что церковь должна участвовать в решении всех крупных социальных проблем, и не удивительно, что он сочувственно относился к трудящимся и потребительским кооперативам. Он считал, что предприниматели слишком часто бывают несправедливы к рабочим, поэтому, если признать права трудящихся, это поведет к существенному ослаблению классовой борьбы. Работы Эли отличаются определенностью высказываний и ясностью изложения. Эта прямота во многом способствовала усилению интереса к тому, над чем работала «новая школа» экономистов.
«Введение в политическую экономию» Эли (1889) — один из первых учебников, написанных представителями нового направления. Его более поздние «Очерки экономической теории» б, в последующих изданиях которых в качестве соавторов выступили Э. Янг, Т. С. Адамс и М. Лоренц, стали бестселлером. Для этой книги характерно особое внимание к действию исторических факторов и явный упор на этические проблемы, что вполне объяснимо, имея в виду христанско-социалистические воззрения Эли. Резко критикуя представление Джона Стюарта Милля о человеке как слишком, по его мнению, ограниченное, Эли в то же время восхищался трактовкой проблемы распределения у Милля. Эли считал, например, классическую теорию ренты вполне обоснованной. Он, однако, не понял, что Милль заимствовал у классиков концепцию экономического человека лишь для того, чтобы подчеркнуть стремление к благосостоянию как одну из сторон существования человека, и что для него экономические законы были исторически обусловлены.
Из университета Джонса Гопкинса, где он познакомился с Коммонсом, Эли перешел в 1892 г. в университет штата Висконсин в качестве профессора и директора школы экономических, политических и исторических наук. Не ограничиваясь университетской деятельностью, он значительное время уделял общественным обязанностям, работая в различных федеральных и штатных комиссиях. С годами Эли становился все более и более консервативным. Его эволюция типична с точки зрения того, как «молодые» экономисты вовлекались в основное течение ортодоксальной идеологии. По мере того как получало признание осуществленное Маршаллом соединение теорий предельной полезности и издержек производства, многие социальные проблемы, которые Эли и другие в свое время считали сферой исследования экономистов, были отданы на милость социологов. В последние издания своих «Очерков» Эли ввел маржиналистский анализ. Придерживаясь вначале рикардианских взглядов на теорию ренты, Эли впоследствии отказался от точки зрения, что экономическая рента должна подвергаться налогообложению, и в конечном счете воспринял теорию Д. Б. Кларка, ставящую знак равенства между землей и капиталом. Он решительным образом отрицал свою принадлежность к социалистам, по крайней мере марксистского направления. Все же его «Очерки» оставались эклектическим соединением идей исторической и австрийской школ, а также взглядов Маршалла. В трактовке экономической эволюции, проблемы стоимости, распределения и производства Эли опирался на теории, которые обычно считали весьма далекими друг от друга. Естественные законы — это лишь выражение общих экономических тенденций; объективная стоимость есть соотношение полезностей, а нормальная стоимость — это механизм, посредством которого в длительном аспекте достигается соответствие между предельной полезностью и издержками.
Эли специализировался на экономике земельных отношений, и для освещения этого вопроса он основал научный журнал 6. Это дало ему возможность развернуть широкое обсуждение проблем охраны природы, в ходе которого Эли постоянно призывал к проведению определенных мер общественного контроля в отношении использования естественных ресурсов. Собственность характеризовалась им как система правовых отношений, подверженных, однако, модификациям 7. Интересным было его предложение бороться с депрессиями при помощи промышленной армии мирного времени, хотя впервые эта идея была высказана Уильямом Джеймсом в книге «Моральный эквивалент войны». Такая армия могла бы быть занята, по мнению Эли, в проведении лесонасаждений и в землеустройстве. В разгар жестокой депрессии 30-х годов предложение Эли было реализовано — в 1933 г. была создана Гражданская армия охраны природы, которая насчитывала 2 500 000 молодых людей, занятых посадкой лесов, строительством рыбных запруд, копкой траншей, борьбой с болезнями зеленых насаждений, благоустройством мест отдыха 8.
Не все экономисты молодого поколения разделяли интернациональные взгляды, свойст416
венные классической теории. Саймон Нелсон Паттен (1852—1922) в своем варианте «новой» экономической теории предпочитал подчеркивать националистические чувства. Он родился в штате Иллинойс и получил образование в Северо-Западном университете. Паттену был свойствен романтизм, и ему казалось, что экономические законы, действующие в Соединенных Штатах с их огромным богатством и ресурсами, должны отличаться от законов, вытекающих из особенностей экономики европейских стран. В 1878 г. он получил степень доктора в Галле, где близко познакомился с работами экономистов исторической школы, не оставаясь в то же время в неведении относительно работ австрийской школы. По его мнению, немецкая историческая школа предложила новый подход к изучению экономической системы. Интерес исследователей сосредоточился не на индивидууме, а на обществе и обусловленной общественной организацией производительной силе.
Не сумев получить назначения в колледж по возвращении в Америку, Паттен в течение десяти лет занимался сельским хозяйством и преподавал в государственных школах. Наконец в 1889 г. он получил назначение в Уор- тонскую школу. Влияние австрийской доктрины ощущалось в его теории в значительно большей мере, чем у многих его современников. В то же время он был убежденным протекционистом. Свободная торговля, утверждал он, ведет скорее к повышению товарности, чем к разнообразию в сельском хозяйстве, а это в свою очередь способствует росту монополий. Он отвергал и мальтузианский пессимизм, считая, что экономическая теория классиков больше подходит для объяснения экономики дефицита, а не экономики избытка, которая существует в США. Страна обладает богатыми ресурсами, позволяющими создать избыток для общественных нужд; природа не только не скудна, а щедра настолько, что словно предлагает воспользоваться ее дарами. Теория убывающей доходности в этих условиях лишалась смысла; казалось, что по мере роста производства новому обществу будет скорее свойственно сотрудничество, а не конкуренция. Разнообразие производств в сельском хозяйстве и промышленности, поощряемое защитительными тарифами, будет способствовать росту культуры, в котором так нуждалась нация.
Хотя идеи Паттена явно уходили корнями в теории австрийской школы, его выводы и заключения были существенно иными. По его мнению, центральное место в экономической теории занимает проблема потребления 9. С целью поднять уровень потребления он призывал богатых сделать их собрания произведений искусства доступными для всеобщего обозрения, поскольку это повысит удовлетворение, получаемое обществом в целом, не потребовав дополнительных издержек. Для поддержания системы образования и общественных парков необходимы более высокие налоги, писал он, а в целях достижения подлинной свободы следует предоставить рабочим и вообще всем гражданам такие права, которыми раньше пользовались лишь землевладельцы 10. Осуществление этого предполагает увеличение части дохода, идущей на общественные потребности, и улучшение условий жизни рабочих. Рабочий имеет право на отдых, удобства и здоровое окружение. Урбанизация, отмечал Паттен, фактически препятствует росту производительности и мешает всестороннему развитию хозяйства. Обществу следует вмешиваться во всех случаях, когда индивидуум не в состоянии добыть средства существования. Безусловно, для своего времени это были новые и даже радикальные взгляды, но о том, как осуществить эти благородные идеалы, Паттен говорил крайне неясно. Законодательные действия, за исключением политики в области тарифов, представлялись ему довольно сомнительными 1Х.
Противоречие между денежными интересами и процессом производства и влияние его на развитие экономики представляли для Паттена, так же как и для Веблена, большой интерес. Столкновение между сферой денежных и производственных интересов происходит, по его мнению, из-за неумения своевременно психологически приспосабливаться к новой ситуации. В самом деле, привилегированные группы часто противятся переменам, но можно надеяться, что со временем они извлекут уроки из своих бесплодных усилий. Паттен был настроен значительно более оптимистично в отношении будущего, чем Веблен: по его мнению, конфликт имел скорее многосторонний, чем двусторонний характер. Со временем различные соперничающие группы оценят преимущества сотрудничества. Окончательное разрешение экономической проблемы будет достигнуто через принятие, а не отрицание современных индустриальных методов.
Временами следить за нитью рассуждений Паттена довольно трудно. Он допустил смешение фактов производства с услугами, проистекающими из их использования, а затем еще более затемнил суть дела, используя свою собственную терминологию. В использовании терминов из других областей он был довольно неразборчив, к тому же он вкладывал в них новое содержание. Однако свои идеи Паттен формировал с такой страстностью, что многие его ученики под их влиянием занялись обще27 БФ Селигмен
417
ственной и реформаторской деятельностью. По- видимому, он был в значительно большей мере исследователем американской культуры, чем теоретиком в строгом смысле слова. Находясь под влиянием новых философских направлений, что отразилось в его концепции экономического плюрализма, Паттен стремился к всестороннему исследованию общества. Социальные проблемы — это не просто сумма интересов индивидуумов, ибо общество — это нечто большее, нежели сумма его частей. И конечно, изучение истории является важным средством постижения и осознания этой основополагающей идеи 12. Экономической теории следует быть прагматичной и функциональной, настаивал он, поскольку было бы неправильно утверждать, что любым обществом управляют одни и те же принципы. Поэтому экономисты должны с осторожностью прибегать к абстракциям и больше исследовать экономическую реальность. Предпочитая индуктивный метод и статистический анализ дедуктивным обобщениям 13, он находил схоластику общепринятой теории отвратительной, характеризуя ее как «гибрид, полученный от скрещивания книжного червя и педанта» 14. И все же созданная им своеобразная и крепкая смесь социологии и утопизма содержала в себе большую дозу классической доктрины. От классического наследия Паттен так и не смог окончательно освободиться.
Экономические законы, говорил Паттен, управляющие формированием ренты, прибыли и заработной платы, не обязаны своим происхождением каким-либо естественным силам. Эти законы исторически обусловлены, и их обоснованность проверяется тем, как они отражают конкретную историческую ситуацию. Экономистам поэтому необходимо исследовать происхождение институтов, а также культуру своего времени. Экономическое поведение носит конкретно-временной, исторически обусловленный характер 1б. Некоторые общественные институты имеют в своей основе хищнический инстинкт, другие — полезные навыки труда. Хотя биологические устремления играют важную роль в создании институтов, культурные условия все же более важны. Например, говорил Паттен, значительная доля труда не входит в состав издержек из-за связанного с ним удовольствия. Если бы вся работа была удовольствием, издержки исчезли бы всецело. Но поскольку обмен продолжал бы существовать, стоимость товаров не уменьшилась бы. По сути дела, обмен основывается на постоянном воспроизводстве капитала, и именно это придает ему ясно выраженный общественный характер. (Это определение, очевидно, заимствовано у Д. Б. Кларка.) Любопытная смесь идей у Паттена отражает мировоззрение сторонника теории благосостояния, историка, теоретика-субъективиста и неисправимого оптимиста. Как мыслитель он больше чем просто эклектик, он стремился к созданию сплава идей, который, к сожалению, оказался слишком хрупким, чтобы просуществовать долго.
Более основательными, хотя и менее эффектными, были труды Эдвина Р. А. Селигмена (1861—1936), отпрыска знаменитого американского банкирского дома. Селигмен родился в Нью-Йорке и получил образование в Колумбийском университете; работе в фирме родителей он предпочел научную деятельность; подобно своим сверстникам, он совершил «большое турне» по европейским университетам, побывав в Германии, Швейцарии и Франции. Заслуги Селигмена бесспорны, причем особенно большой вклад он внес в исследование проблемы государственных финансов, которую он поднял до уровня ведущей экономической дисциплины; его исследования подоходного налога, а также проблемы переложения налогов и поныне не утратили значения. Его интересы распространялись также на историю экономической мысли, в исследование которой он сделал важный вклад. Он собрал огромную библиотеку экономической литературы, которая в настоящее время находится в Колумбийском университете; научную карьеру Селигмена венчает работа в качестве главного редактора «Энциклопедии социальных наук», монументального пятнадцатитомного издания, которому до сих пор нет равных.
Селигмен был, по-видимому, лучше, чем большинство экономистов того времени, знаком с литературой по другим общественным наукам, и со свойственной католику широтой взглядов он умел извлекать ценное у всех авторов. Превосходный лектор, он неизменно излагал учебный материал в упорядоченном и систематизированном виде. Его литературный стиль отличается ясностью, и он пользовался репутацией одного из лучших преподавателей. Уже в начале своей деятельности Селигмен проявил интерес к нуждам рабочего класса и выступил с утверждением, что понятие прожиточного минимума заработной платы будет способствовать более высокому уровню конкуренции. Но основной сферой его интересов были налоги. В своих основных работах «Прогрессивное налогообложение в теории и на практике» и «Проблемы переложения налогов»16 он ратовал за использование критерия платежеспособности. Рассмотрение вопроса о налогах в связи с проблемами производства и распределения позволило ему расширить область теории налогообложения. Хотя он разработал убедительное теоретическое обоснование прогрессивного подоход418
ного налога, он призывал к осторожности путем применения вначале пропорциональных ставок с последующим введением элементов прогрессивного обложения.
Будучи менее радикально настроенным, чем Эли, Селигмен не видел достаточных оснований для столь широкого государственного вмешательства в экономику, на необходимости которого настаивал Эли. В «Материалистическом истолковании истории» 17, выдержавшем несколько изданий, Селигмен прослеживает происхождение материалистических идей у предшественников Маркса. Эта книга свидетельствует о значительно более глубоком, чем у большинства его современников, понимании философских устремлений Маркса. В его «Принципах экономической науки» 18, написанных целиком с позиций исторической школы, основное внимание уделено исследованию стадий экономического развития и экономической истории Америки. В трактовке теории стоимости и распределения Селигменом чувствуется влияние Д. Б. Кларка и австрийцев: подобно другим авторам того времени, ему была свойственна некоторая эклектичность. От классической теории он отходил лишь в своей защите протекционизма как средства, обеспечивающего создание новых отраслей промышленности. Предельная полезность представлялась европейским экономистам вполне разработанной категорией, но Селигмен был менее склонен по сравнению со своими предшественниками использовать робинзонады в качестве иллюстраций к этой теории. Его трактовка социального аспекта экономической теории явно навеяна Бюхером и другими немецкими учеными исторической школы. «Принципы экономической науки» оказались превосходным учебником, где изложение теоретических вопросов хорошо сочеталось с таблицами и диаграммами. Любопытно отметить, что Тауссиг считал эту книгу неудачной, видимо, потому, что Селигмен пошел в ней дальше «старых мастеров». Предельные пары покупателей и продавцов Бем-Баверка были расширены Селигменом до понятия социальных групп, выступающих на рынке. Соответственно спрос был поставлен им в зависимость от социального положения покупателей, а предложение определялось существующей техникой производства. Поскольку в краткосрочном аспекте спрос является определяющей величиной в рыночном уравнении, поистине решающее значение приобретала покупательная способность предельного общественного класса *. Выводы, вытекающие из этой теории, оказались неприемлемыми для экономистов консервативного направления. И все же в подходе Селигмена содержался способ исследования социальной действительности, который, по-видимому, не замечали чистые маржина- листы.
Хотя в основном Селигмен был последователем классической и австрийской доктрины, он сочувственно относился к деятельности профсоюзов. Он выступал в защиту известных законодательных мер, направленных на смягчение суровых последствий конкурентной системы. По его мнению, налогообложение обременительно только тогда, когда предприниматели неспособны увеличить выпуск продукции. В налоговой теории ему принадлежит заслуга проведения важного различия между сферой охвата (incidence) — то есть тем, где окончательно взимаются налоги, и бременем охвата, которое связано с процессом перекладывания налогов 19. Изучение проблемы охвата, говорил он, крайне важно, поскольку оно раскрывает результат действия налоговой системы. Он также отметил, что капитализация и трансформация служат способами уклонения от налогового бремени. Под трансформацией имелось в виду вызванное налогообложением изменение методов производства, то есть повышение эффективности производства, которое позволяло справиться с налогом без его последующего перекладывания. Следовательно, говорил Селигмен, не все налоги перекладываются на потребителя.
Если налог на наследство и уменьшает стремление к накоплению, то в лучшем случае здесь можно говорить лишь о косвенном эффекте. Непосредственного влияния на цены это, конечно, не оказывает. Поэтому, несмотря на существование экономических связей между налогоплательщиком и другими лицами, переложить бремя налога не всегда представляется возможным. Если монополист, например, стремится переложить все налоговое бремя, то это может привести к такому снижению продаж, которое окажется серьезнее, чем бремя налога. В конечном счете, признал Селигмен, мера перекладывания налога определяется различной эластичностью спроса и предложения, а эту точку зрения в настоящее время разделяют не все экономисты. Единая налоговая система, по мнению Селигмена, должна включать различные налоги. Он понимал также, что расходы правительства являются функцией расширяющейся сферы его деятельности. По замечанию у которых изменения в уровне дохода в наибольшей мере реализуются в изменениях платежеспособного спроса.— Прим. ред.
♦ В данном случае под «предельным общественным
классом» понимаются трудящиеся слои населения,
27* 419
Джозефа Дорфмана, эти взгляды отражали точку зрения наиболее просвещенных представителей делового мира. Но подобно большинству из этих представителей, Селигмен не ожидал, что биржевой крах 1929 г. выльется в экономический кризис. Однако, когда стало ясно, что худшее еще впереди, он без колебаний призвал к осуществлению общественных работ с целью облегчить положение.
Томас Никсон Карвер (1865—1961), коллега Тауссига по Гарвардскому университету, также стремился ослабить узы, связывавшие его с ортодоксальной доктриной. Карвер родился в штате Айова, получил образование в университете Южной Калифорнии и работал с Эли в университете Джонса Гопкинса. Хотя в пристрастии Карвера к социологическим формулировкам ощущается влияние Эли, он не избегал и абстрактного подхода, когда последний был необходим, и весьма умело им пользовался. По Карверу, подлинным предметом исследования для экономистов является экономическая деятельность, а не товары. Речь идет, в частности, о процессе образования стоимости, для которого решающее значение имеют явления «психологического» порядка. Менее склонный к историческому подходу, чем его коллеги, он все же полагал, что экономическая политика должна изменяться в соответствии с конкретной ситуацией: не существует теоретических положений, действительных для всех времен 20. Процветание — проблема, которой Карвер уделял большое внимание, — зависит в первую очередь от того, превращается ли покупательная способность в те товары, которые приносят доход. Вопреки классической доктрине Карвер считал, что издержки производства не являются единственным элементом стоимости, и, как и Кларк, он распространял закон убывающей доходности на все факторы производства 21. И все же он проводил четкое различие между •отдельными факторами, утверждая при этом, что землю не следует рассматривать как разновидность капитала, как это пытались делать другие экономисты. Ренту и процент следует поэтому тщательно различать, поскольку эти платежи выражают различные отношения.
Против последнего пункта особенно возражал Феттер, настаивавший, что земля является значительно более подвижным фактором, чем это представлял себе Карвер. Хотя Карвер и принимал теорию предельной производительности в качестве базы для объяснения явлений в сфере распределения, он был достаточно проницателен и видел, что эта теория не может объяснить структуру распределения личных доходов, в результате чего использование ее в качестве этически верной предпосылки неоправданно. Рассматривая процент как цену, измеряющую предельную производительность и предельное воздержание, он смог объединить различные, внешне разнородные элементы.
Согласно Карверу, процветание предполагает известное экономическое равновесие, при котором факторы производства должны использоваться таким образом, чтобы они приносили максимальные результаты. Благосостояние растет в условиях гармоничного развития, предполагающего наименьшие издержки при наиболее высокой производительности. Это означает, что естественные ресурсы должны использоваться весьма осторожно. Но, отмечал Карвер, американский опыт свидетельствует о том, что проблеме обеспечения должного экономического и социального равновесия уделяется мало внимания. Для решения этой проблемы необходимо осознать конечные общественные цели, без чего всякое развитие будет связано с большими потерями. (В применении к заработной плате понятие равновесия у Карвера в основном повторяет классическую теорию равновесной заработной платы.) Один из путей решения проблемы, говорил Карвер, заключается в экономическом развитии и росте промышленности, а для экономически слаборазвитых районов особенно важно, чтобы приток иностранного капитала сопровождался реальным ростом их собственной экономики и повышением квалификации рабочей силы. В свете последних исследований проблемы развивающихся стран это замечание приобретает особенную силу. Карвер, в отличие от Кларка и Феттера, не создал всесторонней теоретической системы, но его книги содержат ряд плодотворных идей 22.
2. ФРЭНК ТАУССИГ — АМЕРИКАНСКИЙ ТРАДИЦИОНАЛИСТ
Из числа первых членов Американской экономической ассоциации наиболее законченную систему экономических воззрений выработал, пожалуй, Фрэнк Тауссиг (1859—1940). В отличие от «радикала» Эли Тауссига можно охарактеризовать скорее как консерватора. Он первым из представителей так называемой «старой» школы вступил в Американскую эко420
номическую ассоциацию, что придало ей респектабельность, столь необходимую для успеха. Отец Тауссига, энергичный выходец из Чехословакии, иммигрировал в США в 1840-х годах и преуспел в жизни, работая врачом, судьей и занимаясь банкирской и предпринимательской деятельностью. Тауссиг воспитывался в культурной семье и получил превосходное образование, включавшее игру на скрипке, любовь к которой он сохранил в течение всей своей продолжительной и деятельной жизни. Он занимался в Гарварде экономикой и историей, а затем совершил традиционное европейское турне. Подобно другим студентам, посещавшим Германию, он ознакомился с трудами экономистов исторической школы и с их реформаторской идеологией. По возвращении в Соединенные Штаты он получил должность секретаря президента Гарвардского университета Элиота. Несмотря на большую занятость, он сумел найти время для работы над докторской диссертацией. Избрав своей темой проблему тарифов, он оригинальным образом сочетал институционалистский подход с теоретическим анализом. Конкретные проблемы рассматривались Тауссигом в их социологическом контексте, и, хотя традиционная политика свободной торговли представлялась ему выражением логики и здравого смысла, Тауссиг смог оценить и некоторые достоинства аргументации в защиту молодой промышленности.
Тауссиг активно участвовал в общественной деятельности и работал в различных государственных учреждениях, а когда в 1916 г. была образована Комиссия по тарифам, он стал ее первым председателем, обеспечив необходимое для ее успешной работы руководство. После первой мировой войны он работал в Комитете советников по заключению Версальского мирного договора. Занимая в течение многих лет пост редактора «Куотерли джорнел оф иконо- микс», он проявил достаточно широкий подход, чтобы печатать статьи, которые лично не одобрял, например исследования Генри Мура в области математической экономии и даже резкие выпады Торстена Веблена против господствующих теорий и обычаев. По мнению Тауссига, экономическая теория является, в первую очередь, орудием исследования реальных проблем. Как превосходный преподаватель, он оказал немалое влияние на последующее поколение экономистов, среди которых были такие выдающиеся фигуры, как Джекоб Вайнер, Джон Уильямс, Джеймс Эйнджелл, Фрэнк Грэхем. А его книга по основам экономической теории, одна из лучших среди учебников этого рода, выдержала много изданий 23. Как и большинство учебников, она составлена в традиционном духе, всесторонне охватывая проблемы производства, распределения и стоимости. Читатель последовательно переходит от простейших положений к наиболее сложным формулировкам. Тауссиг без колебаний использовал математику, когда он находил это нужным. Теорию стоимости он рассматривал с ортодоксальных позиций. Однако наиболее важными являются книги, написанные Тауссигом по его специальности — тарифам и международной торговле: «История тарифов в Соединенных Штатах Америки» и «Международная торговля» 24. После ухода в отставку в 1935 г. Тауссиг последние годы жизни провел, перерабатывая свои «Основы». По замечанию Йозефа Шумпетера, Тауссиг был подлинным американским Маршаллом 2б.
Тауссиг никогда не ставил под сомнение истинность классической теории. Его экономические воззрения покоились на положениях Рикардо и Милля, хотя иногда он использовал также идеи Бем-Баверка и Маршалла. Например, его главная теоретическая работа «Заработная плата и капитал» в основном была направлена на защиту понятия фонда заработной платы, от которого сам Милль отказался в 1869 г. 26. Тауссиг утверждал, что заработная плата в конечном счете является доходом, проистекающим из фонда потребительских товаров, который не может быть увеличен за короткий период. Услуги, оказываемые трудом, приносят плоды в будущем, а не в настоящем, в то время как в оплату этих услуг идут имеющиеся в наличии блага. То, что может быть предоставлено в качестве благ в оплату за труд, зависит от производительности в прошлом. Общий уровень заработной платы находится в связи с той частью предпринимательского фонда, которая предназначена для повышения прибыльности, то есть заработная плата есть результат воздействия оборотного капитала на предложение труда. Тауссиг признавал, что у классиков эта доктрина получила чрезмерно строгую трактовку, однако в своей основе, говорил он, она является правильной 27. Даже если определить заработную плату как поток, ее источник имеет характер фонда из-за недостаточных возможностей его расширения. Именно эти обстоятельства препятствуют общему росту заработной платы 28. Он полагал, что уровень заработной платы может быть повышен лишь в том случае, если улучшились условия спроса. Но спрос определяется совокупностью «сложных проблем стоимости, производства и распределения» 29. Тем самым Тауссиг стремился подчеркнуть значение переменных производственных функций и зависи421
мость между потоком товаров и возрастной структурой капитального оборудования. Таким образом, наличие благ, обмениваемых на заработную плату, более не рассматривалось как простая функция от оборотного капитала. Основная мысль, однако, сводилась к тому, что труд оплачивается не за счет созданного им продукта и что критика теории фонда заработной платы не вполне оправдана. В условиях конкуренции заработная плата регулируется «дисконтированным предельным продуктом труда»; этот тезис напоминал доводы Д. Б. Кларка. Однако Тауссиг не шел так далеко, как Кларк, утверждавший, что предельная производительность дает рабочему ровно столько, сколько он заслуживает. Подобные суждения, говорил Тауссиг, находятся за пределами компетенции экономиста. И все же не сумев удовлетворительно ответить критикам, доказывавшим, что оплата труда обеспечивается из непосредственно перед этим произведенного продукта, он постепенно, под Влиянием неоднократных критических выступлений, отказался от термина «фонд заработной платы» 30. Все это свидетельствует о том, что позиция Тауссига была в своей основе консервативна. Он не верил, например, что социальное законодательство может принести большую пользу, хотя и был достаточно умен и возлагал вину за многие трудовые конфликты на капиталистов; так, во время] истории с гомстедами он подверг резкой критике Генри Клея Фрика.
Во время первой мировой войны Тауссиг в качестве члена Комиссии по регулированию цен при Совете военной промышленности участвовал в разработке идеи ценообразования по методу «размеров запаса». Размеры запаса определялись как количество товаров определенного типа, потребное для военных нужд. Издержки на уровне размеров запаса зависели от издержек на единицу изделия у предельной фирмы, чья продукция имела существенное значение. Таким образом, цена устанавливалась на таком уровне, чтобы покрывать издержки всех тех производителей, чья продукция должна была поставляться государству. Недостаточно эффективные предприятия, а также те, чья продукция не имела существенного значения, тем самым исключались. Это была явная, хотя и несколько грубая попытка применить маржи- налистские концепции. Предполагалось, что с помощью налогообложения будут улавливаться сверхприбыли наиболее эффективных фирм. Этот метод ценообразования в условиях войны оказался безуспешным и лишь породил сильную критику 31.
Все же опыт, полученный Тауссигом в то бурное время, заставил его несколько пересмотреть свои чисто классические воззрения. По-прежнему оставаясь осторожным и консервативным, он отныне более смело выражал владевшие им гуманные чувства, настаивая на лучшем распределении плодов экономического прогресса. Стремление к накоплению капитала Тауссиг все еще рассматривал как мощный побудительный стимул, но его отрицательные последствия могли быть ослаблены, по его мнению, посредством прогрессивного налогообложения. Помимо чисто теоретических моделей, у него пробудился интерес к изучению конкретных ситуаций, поскольку во многих случаях рыночные цены отклонялись от положения равновесия. Существует, говорил Тауссиг, область неопределенности, своеобразная «полутень», которая заслуживает изучения. Он даже согласился с мнением английского историка Клэпхема, что многие все еще пустующие экономические «ящики» должны быть наполнены 32. Отношение Тауссига к профсоюзам оставалось неопределенным, ибо он по- прежнему считал конкуренцию на рынке труда эффективной.
Объяснение экономических кризисов у Тауссига не было разработано до конца. Он проводил различие между промышленной депрессией и чисто финансовым кризисом33. Большие колебания во время депрессии он приписывал структуре капиталистического производства, то есть разделению труда, и частично психологическим причинам. Поскольку производство включает различные стадии, ошибки в пропорциях становятся вполне вероятны — в этом и состоит непосредственная причина депрессии, особенно в период быстрых изменений. Поскольку крупные вложения в основной капитал неизбежно обостряют положение, диспропорциональность в одном секторе имеет тенденцию перекинуться на другие секторы, порождая настроения пессимизма и неуверенности. Наконец, на интенсивности колебаний может, безусловно, сказаться и влияние кредитной системы.
Хотя Тауссиг никогда не ставил под сомнение действенность чисто дедуктивных методов, ему пришлось при анализе проблем торговли и тарифов заняться собиранием фактического материала. Это понадобилось ему не просто для того, чтобы проиллюстрировать общие принципы статистическими данными и историческими примерами, но скорее в целях подлинной интеграции теоретических и эмпирических данных. По сути дела, его книга «История тарифов в Соединенных Штатах Америки» уже содержала фактическую основу для последующего труда «Международная торговля». Отправ422
ным пунктом для Тауссига служили идеи Милля, и хотя он внес в них много модификаций, окончательно от влияния этого классика он так и не освободился. Его учение оказало мощное влияние на Вайнера, Уильямса и Эйнд- желла, работы которых знаменовали собой значительный подъем в эмпирическом исследовании проблем международной торговли. В теории последней после Милля прогресс был незначительным, поэтому отправным пунктом для дальнейшей работы могли служить исследования Тауссига34. В них была дана стройная теория международной торговли, сравнительных издержек и воздействия денег и кредита. В классической теории были некоторые уязвимые места, так как она опиралась на сравнительные трудовые издержки, то есть на один из вариантов трудовой теории. Один из путей решения этой проблемы состоял в использовании понятия денежных издержек; Тауссиг пошел по этому пути, подчеркивая значение различий в заработной плате и в норме капитальных затрат по отношению к общим затратам для различных отраслей соответствующих стран. Он полагал, что для длительного периода подход с точки зрения денежных издержек вполне согласуется с теорией трудовых издержек. Его аргументация основывалась на том, что структура заработной платы в различных странах приблизительно одинакова и что разница в процентных платежах, составляющих небольшую долю общих издержек, в любом случае не является существенной. Если диспропорция в денежных издержках и трудовых издержках приблизительно одна и та же в различных странах, то, утверждал Тауссиг, на торговлю она значительного влияния не оказывает. Как указал Вайнер, это доказательство могло быть усилено, если бы Тауссиг включил в свой анализ воздействие издержек использования земли на денежные издержки и если бы не имели значения серьезные изменения в распределении дохода и в структуре спроса 35.
Одним из наиболее интересных исследований Тауссига следует считать его анализ торговли в условиях бумажно-денежного обращения 36. Отправные положения работы состояли в том, что торговля товарами является существенным фактором, предшествующим любой ситуации неравновесия, и что обесценение бумажных денег измеряется масштабами валютной премии (premium on specie). Тауссиг затем показывал, как крупный заем, предоставленный, скажем, Англией Соединенным Штатам, сделает импорт в США доступным по более низким ценам, выраженным в долларах, и приведет к падению экспорта в Англию. Таков механизм восстановления равновесия. Процесс приспособления будет происходить так же, как в условиях золотого стандарта, хотя движение денежных цен будет несколько иным 37. Из этого Тауссиг делал важный вывод, что замещение иностранными товарами изделий внутреннего производства поведет к падению цен на последние. Не было оснований полагать, однако, что издержки производства либо потоки денежных доходов останутся неизменными. Тауссиг близко подошел к понятию эластичности спроса от дохода. Интересно отметить, что Вайнер, вероятно, наиболее видный ученик Тауссига, также поднимал этот вопрос 38.
Еще одной интересной проблемой, поднятой Тауссигом, была концепция «валовых» условий торговли (gross barter terms of trade), которая должна была учесть влияние односторонних потоков, например денежных переводов иммигрантов, и включить их в определение условий торговли. Иначе говоря, при оценке условий торговли необходимо принимать во внимание сумму потоковзе. Тауссиг также изучал зависимость между заработной платой в экспортных отраслях и движением экспорта и импорта и возможное влияние этого отношения на национальный доход. По его мнению, экспортные отрасли оказывают воздействие на другие сферы хозяйства. Он также доказывал, что специализация в международной торговле не обязательно должна согласоваться с принципом сравнительных преимуществ, поскольку различия в заработной плате у различных профессий могут привести к значительному отклонению относительных цен от лежащих в их основе трудовых затрат 40. Далее, он полагал, что торговые балансы имеют тенденцию приспосабливаться к движению капиталов. Но опять-таки, как показал Вайнер, возможно, что приспособление будет происходить в любом направлении: после первой мировой войны изменения в торговом балансе Канады вызывались внешними займами, в то время как в Новой Зеландии, по-видимому, имело место нечто противоположное 41.
Таким путем Тауссиг пытался раздвинуть рамки классической системы. Но если не считать его специальной области, международной торговли, то он не вышел за пределы дедуктивного способа мышления, который был обязан своим прогрессом лишь сочетанию австрийского субъективизма с англосаксонской теорией. Последняя оставалась консервативной, безопасной и вполне приемлемой, несмотря на то, что временами теоретики бросали виноватые взгляды в сторону обострившихся социальных проблем, связанных с конфликтом между трудом и капиталом.
423
3. ДЕНЕЖНЫЕ ТЕОРИИ: ФЕТТЕР И ДЭВЕНПОРТ
К тому времени почти все крупные американские экономисты стали специалистами в той или иной области. Эли занимался экономикой земельных отношений, Селигмен — налоговой теорией, Тауссиг — тарифами. Однако ряд исследователей, и в их числе Фрэнк Феттер и Герберт Дэвенпорт, продолжали заниматься в основном чистой теорией. Фрэнк Феттер (1863—1949), подобно своим сверстникам, получил немецкую академическую закалку, и, оставаясь чистым теоретиком, он дал более основательно разработанную доктрину, чем, например, Паттен. Его основной вклад в науку состоит в разработке «логики денежных отношений» в свете нового психологического подхода к австрийской теории. Путем пересмотра как концепций, так и терминологии Феттер стремился применить маржиналистские положения к американской деловой жизни.
Феттер, который родился в г. Перу (штат Индиана), посещал университет в Блумингтоне, где получил превосходную подготовку в области философских основ экономической мысли. Не имея возможности окончить последний курс Феттер занялся предпринимательской деятельностью в качестве владельца книжного магазина, что позволило ему много читать после работы. Прошло восемь лет, прежде чем он смог вернуться к учебе. Иеремия Дженкс посоветовал ему совершить ставшее обычным путешествие в Европу, и по возвращении в Соединенные Штаты Феттер преподавал в Корнелльском, Стэнфордском и Принстонском университетах, а также в университете штата Индиана. Его лекции пользовались успехом, особенно у студентов, изучавших общественные и технические дисциплины 42.
Хотя в лице Паттена и Кларка он видел самых лучших защитников нового маржиналистского подхода, Феттер считал, что многое еще остается сделать, поскольку за новейшими теориями как бы скрывался абсолютный трудовой стандарт и его следовало изгнать. В начале Феттер считал достаточным гедонистический подход. Целью экономической деятельности является достижение максимального удовлетворения при наименьших издержках, а поскольку стоимость зависит от удовлетворения, приносимого благом, то, отталкиваясь от этого, следует без всяких оговорок переходить к маржиналистско- му анализу. Но во втором издании книги «Экономические принципы» 43 Феттер изменил позицию. Сознавая, что прямолинейный утилитаризм неспособен дать логически удовлетворительную основу для экономической теории, он теперь апеллировал к «волевой» психологии, согласно которой простой акт выбора представлялся достаточным для объяснения категории стоимости. Подобно Парето и другим европейским экономистам, он предлагал отбросить старую точку зрения как неудовлетворительную и по сути дела ошибочную. Многие теоретики приходили к выводу, что в свете новых биологических и психологических открытий они не могут далее использовать принципы гедонизма. Торстен Веблен окончательно разрушил утилитарные предпосылки, и его едкая критика была продолжена Генри Стюартом, бывшим учеником Веблена, который еще более убедительно показал несостоятельность гедонистических посылок в экономической теории 44.
В связи с резким изменением интеллектуального климата Феттер был полон решимости перестроить экономическую теорию, а не просто осовременить Д. С. Милля. Первые пять разделов книги «Экономические принципы» посвящены частным меновым аспектам стоимости: ценам на потребительские товары повседневного спроса, ценам на промежуточные товары, оценке услуг, оказываемых людьми, проценту и предпочтению времени, предпринимательской прибыли. Затем рассматриваются проблемы населения, территории, технологии и сбережений. Роль сквозного организующего принципа в книге принадлежит теории стоимости, определенной как производная от человеческого желания, тогда как цены всех факторов производства определены как обратное отражение цен на их продукты. В стремлении избежать простой модернизации Милля Феттер не избегал употребления новых терминов и использования старых в новом значении. Но как бы это стремление к новшествам ни было похвально, все же желание внести ясность в экономические концепции при помощи семантических ухищрений порождало немалые трудности.
Психологический доход определялся как желаемые ощущения, производимые благами. Следовательно, движущей силой экономической деятельности стал ожидаемый психологический доход. Феттер, однако, еще не был готов вторгнуться в теорию цен, как это сделал Кассель. Его интерес все еще был сосредоточен на теории стоимости как таковой, поскольку выбор, первичный волевой акт в экономике, предполагал необходимость стоимости в качестве основы избирательности 45. Вместо того чтобы говорить о полезности, можно было просто сослаться 424
на удовлетворение и предельную оценку. Стоимость — это степень важности, которой обладают вещи, когда они являются объектами выбора46. Однако Феттер понимал, что при сравнении товаров сказываются многочисленные влияния, исходящие от человека и природы и воздействующие на выбор. Поэтому стоимость не является внутренне присущим товару качеством, а скорее таким свойством, которое изменяется по мере того, как интенсивность желания меняется под воздействием более настоятельных нужд. Логическая последовательность, утверждал Феттер, такова: выбор — акт оценки — стоимость. Это позволило ему ввести понятие импульсивного действия и не ставить выбор в зависимость от предварительного расчета наслаждения — страдания. Таким образом, волевая психология описывала поведение лишь в категориях выбора, не отталкиваясь от ощущений наслаждения. Не нужно было прибегать и к акту размышления в качестве объяснения экономического поведения. Опасность такого подхода заключалась в сведении экономической теории к изучению потребностей и рыночных решений. Феттер, конечно, не желал идти так далеко. Однако он действительно считал, что его подход проливает новый свет на теорию стоимости.
Но если ближе присмотреться к считавшемуся новым подходу Феттера, то окажется, что ему не удалось поколебать основы обширной системы теоретических положений, выдвинутых предшествовавшими исследователями. Это — лишь одна из многих попыток истолковать разнообразные действия, под влиянием которых устанавливаются предложение и спрос. Будет ли психологический аспект проблемы назван полезностью или выбором, от этого суть теории не изменится. Можно пользоваться любым из этих терминов и прийти к одинаковым результатам 47. Напрашивается неприятный вывод о том, что психология вовсе не нужна экономисту: достаточно взять за основу факт существования спроса и предложения и идти от него дальше, как поступили Лайонел Роббинс и Густав Кассель. Но это значило уходить от основного вопроса — какова природа экономического человека и почему он ведет себя так, а не иначе? Давая старый ответ в новой форме, Феттер, подобно многим экономистам после него, доказал, что он по-настоящему не заинтересован в решении данной проблемы. Для него было достаточно того, что человек совершает действия и что последние могут рассматриваться как экономические действия.
Это не означает, что Феттер и в отдельных частях своей теории пришел к тем же положениям, что и другие экономисты. Например, хотя он и признавал фактор предпочтения времени, его определение процента отличается в некоторых отношениях от определений Фишера. Феттер признавал, что удовлетворение, ожидаемое в будущем, значит меньше, чем удовлетворение, получаемое в настоящем, и что с этим связан процесс дисконтирования. В варианте Феттера, названном им «капитализацией», в такой степени подчеркнут психологический аспект, что это вызвало возражение даже со стороны Бем-Баверка 48. Понятие времени занимало центральное место у Феттера, а капитализация психологического дохода рассматривалась им как способ установления стоимости товара. Он допускал, что процесс дисконтирования происходит по-разному для разных лиц, но в целом, по Феттеру, люди отдают предпочтение настоящему времени. Дисконтирование во времени предшествует проценту: именно тот очевидный факт, что блага настоящего времени обладают способностью требовать в будущем надбавки, и делает возможным существование процента. Контрактная норма процента, продолжал Феттер, есть рыночное отражение нормы капитализации, учтенной в ценах товаров4в. Цена, которая зависит от процесса капитализации, связанного с дисконтированием будущих благ, первична по отношению к контрактной ставке процента. Сначала имеет место выбор, выраженный во времени, затем стоимость и цена, выраженные в капитализации, и, наконец, процент. Эта модель использована Феттером для психологического объяснения того, как возникает надбавка, по мере того как блага как бы «созревают». Время является связующим звеном между возникающей надбавкой и благами настоящего времени и, по существу, объединяет производство и потребление. Поскольку именно средняя из предпочтений времени определяет процент, то последний не может быть объяснен лишь ожиданием или нетерпением. Однако Феттер мог бы выбрать более удачную иллюстрацию, чем пример с рабочими, для которых возможность больше зарабатывать в будущем недостаточна, чтобы побудить их вложить средства в образование и получение специальности. Фактически он упустил из виду, по крайней мере в данном примере, возможность «вложить средства», тем самым продемонстрировав беспредметность теории, которая не опирается на прочную институциональную основу.
Представляется, что Феттеру не удалось целиком избежать и производительной теории процента, хотя он отвергал такой подход. Если блага обладают способностью обеспечить в будущем надбавку, достаточную для вознаграждения предпринимателя за риск и для выплаты обус425
ловленного договором процента, то это, по- видимому, связано с ростом производительности. Но Феттер рассматривал производительность лишь как одну из сторон общего процесса, в котором главным было предпочтение времени. Более того, он утверждал, что рост физического объема производства может привести к снижению ставки процента, поскольку это снизит норму, по которой происходит дисконтирование будущих благ. Далее, в условиях изобилия потребности настоящего времени становятся менее острыми, дисконтирование во времени уменьшается, равно как и ценность услуг, ожидаемых от благ в будущем. В каком-то смысле блага настоящего времени будут стоить больше, и норма прибыльности от их использования уменьшится, что поведет к понижению нормы процента. Ключевым фактором является норма дисконтирования, складывающаяся в настоящем в результате взаимодействия индивидуальных планов спроса и предложения на будущие блага. Поэтому ставка процента есть показатель отношения, выражающего равновесие психологических факторов, как они проявляются в предпочтении времени. Хотя предприниматель может и не осознавать наличие этих факторов, писал Феттер, но именно тот, кто лучше всех предвосхитит будущее, добьется наибольшего успеха.
Эти концепции говорят о желании Феттера отказаться от традиционного трехчленного деления факторов производства. Богатство, настаивал он, должно классифицироваться под углом зрения редкости, длительности существования и воспроизводимости. Совместно с теорией капитализации эти идеи давали прочную основу для создания общей экономической теории 50. Рента, заработная плата и прибыль были определены Феттером по-новому — как аспекты психологического дохода. Рента есть цена за услуги, оказываемые товарами длительного пользования в определенный промежуток времени; заработная плата в качестве платы за услугу зависит от эффективности рабочего, риска и психологического дохода самого рабочего, а прибыль как остаток после выплаты всех сумм не является объектом договорных отношений и может быть приписана вкладу предпринимателя в руководство делом.
Экономическое развитие и прогресс требуют от предпринимателей умения предвидеть будущее и разбираться в том сложном механизме, который представляет собой современная промышленность. Сами по себе корпорации не смогли бы с этим справиться, и по-прежнему необходим искусный управленческий аппарат 51. Лучшие условия для экономического роста обеспечиваются конкурентной системой, при которой цены и заработная плата регулируются рыночными силами. Феттер осуждал нарушение условий конкуренции, в частности, чуждые системе и продиктованные лишь соображениями гуманности понятия вроде минимальной заработной платы и удовлетворительного уровня жизни. Очевидно, этой глубокой озабоченностью за сохранение конкурентной системы и объясняется его интерес к неомальту- зианским мерам регулирования роста населения и к программам евгеников. Улучшение уровня жизни может быть достигнуто лишь при должном соотношении роста населения и ресурсов.
Феттер также много писал по проблемам монополии, и в своих работах «Современные экономические проблемы» и «Маскарад монополий» 52 он дал волю достаточно сильным антимонополистическим настроениям. В 1923 г. на заседаниях Федеральной торговой комиссии, рассматривавшей методы ценообразования в сталелитейной промышленности, он доказывал, что метод базисных точек, согласно которому использовались цены фоб Питсбург для покупателей в любом пункте, является несправедливым и препятствует конкуренции. Его анализ рыночных сфер и границ рынков примечателен в том отношении, что подчеркивает невозможность существования условий чистой конкуренции на всех рынках. Иначе говоря, по Феттеру, концепции конкуренции и монополии следует сблизить, поскольку рынкам в разной степени присущи черты и того и другого. Для уничтожения дискриминации в ценах, ликвидации встречных перевозок и переплат за фрахт, говорил он, требуется установление цен непосредственно фоб покупатель. Конкуренция будет происходить только между предприятиями, которые поделили рынок, или на границах двух рынков б3. Излагая те же самые положения на заседаниях Временной национальной экономической комиссии в 1939 г., Феттер отмечал, что главное зло, приносимое монополией, заключается в «длительном и устойчивом ограничении производства и повышении цен». Он не считал, что монополистическое влияние приводит к развязыванию экономических кризисов, но полагал, что оно играет важную роль, «осложняя и затягивая промышленную депрессию» б4. В этих взглядах сказалось индивидуалистическое философское кредо Феттера, которое он выразил еще в студенческие годы, утверждая, что личность и только личность является «аксиомой эволюции, постулатом политической экономии» бб.
Герберт Дэвенпорт (1861—1931) придал «логике денежного хозяйства» законченный вид. Дэвенпорт был одним из самых замечательных 426
преподавателей экономической теории в США. Во время занятий он имел обыкновение, выбрав двух студентов, подвергать их всестороннему «перекрестному допросу». Он требовал от студентов самостоятельного решения проблем и выработки навыков логического мышления. Он был строг и, подобно всем хорошим преподавателям, не боялся выражать свои мысли в откровенной и зачастую резкой форме. Дэвенпорт родился в Вермонте, его семья принадлежала к старинному пуританскому роду. В возрасте двадцати двух лет он поступил в Гарвардскую школу права, но, будучи заочным студентом, не получил диплома. Затем он занялся операциями с недвижимостью в штате Южная Дакота. Однако интерес к научной работе побудил его отправиться в 1890 г. в Лейпциг и Париж для продолжения учебы. В 1898 г. он получил докторскую степень в Чикагском университете и стал преподавать в нем после непродолжительной работы школьным учителем. В 1908 г. он перешел в универсистет штата Миссури, а в 1916 г.— в Корнелльский университет, где и оставался до конца жизни.
В Чикаго Дэвенпорт был учеником Веблена, и позже они стали близкими друзьями. Он считал, что Веблен не имеет себе равных в тех областях экономической теории, которые граничат с философией и социологией б6. Многие из ядовитых замечаний Веблена об американском капитализме нашли отражение в последующих работах Дэвенпорта по индивидуалистической экономике. Принимая последнюю как факт, он был полон решимости описать ее возможно более точно, и зачастую его выпады были даже более резкими, чем самые сардонические высказывания Веблена. Дэвенпорт написал значительное число статей и книг, включая «Очерки экономической теории» (сугубо теоретическое учебное пособие для университетов), «Стоимость и распределение» (критическая история экономической теории), «Экономическая теория предприятия» (выражение его собственных взглядов) и посмертно изданную работу «Экономическая теория Альфреда Маршалла» (критика классической доктрины) 57. Хотя в некоторых вопросах Дэвенпорт и придерживался образа мыслей классиков, что особенно сказывается в его трактовке стоимости как отношения и в оценке роли предпринимателя, он зачастую остро критиковал общепринятую доктрину. Многим классическим идеям, утверждал он, нет места в подлинно научной экономической теории денежного хозяйства. В особенности Дэвенпорт относил это к таким понятиям, как рабочее время, реальные издержки, предельное ценообразование, трехчленная классификация факторов и вера в социальный организм. По поводу маржинализма, например, он утверждал, что эта идея — основополагающая в ортодоксальной теории — по существу имеет отношение к индивидууму, поэтому приписывание маржинального характера орудию производства может привести лишь к крайней путанице б8. Ни предельная полезность, ни общая полезность не могут быть измерены рыночной ценой, поскольку последняя попросту уравнивает совокупный спрос и совокупное предложение б9. С точки зрения теории денежного хозяйства земля ничем не отличается от капитала, а издержки есть результат простой экономической калькуляции.
Несомненно, это были оригинальные и смелые мысли. Подобно Касселю, Дэвенпорт не видел необходимости рассматривать категорию стоимости. Поскольку экономическая наука занимается промышленной и торговой деятельностью людей, в центре ее внимания должна быть цена. В логической конструкции Дэвенпорта не было места для этического аспекта экономической деятельности. Набор отмычек — это капитал взломщика, и не дело экономиста задаваться вопросом о злонамеренности или глупости людей. Его задача сводится лишь к анализу того, как функционирует экономический человек. Факт должен быть отделен от его оценки. Все же чтение работ Дэвенпорта, особенно последних глав его «Экономической теории предприятия», оставляет невольное впечатление неискренности 60. «Все доходные занятия являются производительными,— писал он,— в единственном смысле этого слова, совместимом с экономическими законами конкуренции, и... все объективные источники получения постоянного дохода являются для их владельцев капиталом независимо от того, каково их социальное значение» el. Слова Дэвенпорта относятся, безусловно, только к хозяйству, основанному на цене, конкуренции и деньгах. Для других обществ с другими институтами потребовались бы и другие определения. Внутренняя логика капитализма обнажена у Дэвенпорта более беспощадно, чем у большинства его коллег, которые не одобряли его выводы. Суть дела сводится к тому, писал Дэвенпорт, что люди в современном обществе руководствуются соображениями эгоистической выгоды — это основная отправная точка экономической теории денежного хозяйства. Следовательно, производительным трудом является все, что приносит доход. Патенты, гонорар, право взимать дань и принимать специальные законы в чьих-либо интересах, например устанавливать тарифы,— все это формы капитала, являющегося источником дохода 62.
427
Все это предполагало создание экономической теории, в которой утилитарные и этические соображения не имели бы места. Поскольку предельная полезность трактовалась как явление относительное, этическая оценка лишалась какого-либо смысла вз. «Крепкие напитки, порнографическая литература, непристойная живопись, вычурные шляпы и корсеты — все это богатство, независимо от этических оценок и традиционных вкусов, которым они могут не соответствовать. Все, что продается и имеет цену, является богатством» в4. Стрижка газонов, работорговля, карманное воровство, фальсификация лекарств и продуктов — все это производительные занятия. Любые виды орудий следует рассматривать под углом зрения производительности, а критерием производительности является только цена. Эти формулировки выдержаны в тоне научной беспристрастности и выглядят как объективное описание денежной экономики; в них, по справедливому замечанию Дорфмана, безусловно, чувствуется влияние Веблена 6б. Но разве можно всерьез принимать это нагромождение машин, воровских отмычек, яда, орудий убийства, патентов, монополий, мошенничества, обмана, заводов — всего того, что, по Дэвенпорту, обладает производительностью с точки зрения высшего критерия частной выгоды? Дэвенпорт понимал, конечно, что институты подвержены изменениям, но его интересовало настоящее. Хотя он считал себя в некотором роде продолжателем научных традиций, который пытается лишь усовершенствовать старую теорию, на деле ересь Веблена оказала на него большее влияние, чем он полагал66. Реакция на анализ Дэвенпорта не могла быть положительной. Его обвиняли в крайностях, в необоснованных нападках на существующую систему, называли радикалом 67.
Дэвенпорт признавал, что экономист-теоретик может начинать анализ с полезности как основы для потребительской оценки товаров. На этой основе устанавливается рыночный спрос на товары. У продавцов же есть свои соображения относительно того, что они хотят получить за свой товар. Эти суждения лежат в основе графиков спроса и предложения, в результате взаимодействия которых и складывается цена. Но экономисту не обязательно анализировать полезность, более того, он может о ней почти ничего не знать. Определение цены зависит целиком от индивидуальных действий и не заключает в себе ничего «социального». Следовательно, понятия социальной полезности и социального дисконтирования во времени лишены смысла. Если полезность и обладает ценностью как орудие анализа, то лишь поскольку речь идет об определенном индивидууме, сопоставление же полезностей между разными индивидуумами не представляется логически возможным 68. Следовательно, и цена есть лишь выражение относительной предельной полезности.
Понятие «социального организма» Дэвенпорт решительно отвергал, поскольку оно никоим образом не соответствует действительности конкурентной экономики. Каким образом частные сделки могут отражать коллективные действия либо органическое единство, вопрошал Дэвенпорт, если тренер футбольной команды получает 1000 долл, в месяц, а преподаватель экономической теории — 1000 долл, в год или если грабитель «зарабатывает» 200 долл, за десять минут риска, тогда как землекоп получает 2 долл, за 600 минут тяжелого труда? Такого рода социальный организм, замечал он ядовито, следует поместить в общественную психиатрическую лечебницу.
Возвращаясь к рыночному анализу, проделанному Дэвенпортом, отметим его мнение, что этот анализ требует большего, чем сопоставление графиков полезности отдельных благ. Следует также принять во внимание полезность покупательной способности, которая может быть выражена через полезность всех других наличных товаров. Так же обстоит дело и с предложением, поскольку приемлемая цена зависит от цен на все другие товары. Отсюда вытекала концепция альтернативных издержек, которая получила у Дэвенпорта дальнейшее развитие. По его мнению, механизм спроса и предложения связан с выбором варианта, с «... отказом от другого предмета в процессе получения данного* предмета» 6в. Заложенная в этих рассуждениях идея взаимозависимости может и не осознаваться 'предпринимателем, ибо он не видит возможности выразить денежные издержки в других измерителях. Очевидно, однако, что издержки производства не являются конечной основой цены, поскольку необходимо принять в расчет альтернативные издержки 70. Экономист должен распространить анализ за пределы денежных издержек, на те силы, которые определяют предпринимательскую деятельность. Но нет ли здесь у Дэвенпорта противоречия с тем, что он ранее писал о предмете и границах экономической теории? Конечными силами, определяющими цену, все-таки являются человеческие потребности: ими обусловлено существование обмена и производства 71. Но, признавая, что исследование этих факторов может явиться задачей, достойной экономиста, сам Дэвенпорт не хотел выходить за пределы анализа цен. Проблема как бы повисала в воздухе, так и не получив «логически удовлетворительной трактовки» 72.
428
Так как за предпринимателем признавалась центральная роль в процессе производства и распределения, то оправданность деления продукта на основе теории специфической производительности представлялась очевидной для большинства экономистов. При свободной конкуренции распределение продукции, по-видимому, точно отражает вклад каждого фактора. Но, говорил Дэвенпорт, дело не обязательно обстоит именно так, поскольку в действительности не существует метода измерения специфической производительности факторов. Теоретик может принять подобную формулировку лишь в ее самом широком смысле, и то лишь постольку, поскольку продукты и выручка идентичны 73. Логика специфической производительности предполагает совершенную этику, но в действительном мире ее нет. Если продукт принять равным выручке, то в условиях денежной экономики возникает дифференциальный доход, или предпринимательская прибыль, подобно квазиренте у Маршалла. В этом, конечно, есть смысл, если отказаться от трехчленного деления производительных факторов.
Дэвенпорт считал процент чисто денежной категорией, то есть платой за заем фондов 74. В толковании Дэвенпорта процент дает право распоряжаться будущей покупательной способностью и тесно связан с функцией банковской системы. Воздержание имеет весьма отдаленное отношение к проценту: в свете серьезного анализа кредитной и банковской систем подобная теория выглядит, по мнению Дэвенпорта, почти гротескно. В качестве категории этики воздержание ничего не объясняет, да и воздерживаться — вовсе не значит приносить какую-то жертву 75. Попросту говоря, процент есть премия за деньги в настоящем по сравнению с деньгами в будущем, и определение его уровня относится к сфере ценообразования. Заемный фонд, имея своей основой денежную систему, не зависит от предложения товаров производственного назначения либо другого реального богатства. Дело банковской системы создавать этот фонд и давать взаймы 7в.
Если к потоку услуг отнести норму дисконта, то окажется, что капитал возникает в процессе капитализации. Сопоставляя стоимость блага с размерами услуг, которые от него можно ждать, мы тем самым связываем его цену в настоящее время с размером услуг в будущем. Израсходовав деньги в единовременном порядке, покупатель блага может стать обладателем права на последовательный ряд вознаграждений. Но это находилось в очевидном противоречии с теорией издержек, поскольку издержки оказывают воздействие на цену через посредство ренты. Дэвенпорт стремился примирить эти две концепции, рассматривая их как по существу дополняющие одна другую. Издержки воздействуют на предложение, которое влияет на размер ренты, а рента — через процесс капитализации — определяет цену спроса 77. Таким образом, цены спроса определялись как результат будущего дохода, а затем преобразовывались путем капитализации в непосредственную «склонность к покупкам». Более важным для Дэвенпорта было, по-видимому, утверждение, что капитализация также влияет на резервируемые цены (reservation prices). На самом деле капитализация не имеет никакого отношения к установлению цен и к определению процента на ссудные фонды. Процесс капитализации — это метод привнесения психологического будущего в психологическое настоящее, поэтому этот метод не имеет универсального значения и применим лишь, когда ожидается поток товаров и услуг в будущем. Поэтому процент выражает собой обмен между настоящим и будущим, при котором некая сумма в настоящем есть лишь дисконтированная цена этой суммы по прошествии ряда месяцев или лет 78. Вследствие этого везде, где имеет место отсрочка платежа, возникают капитализация, процент и капитал.
У Дэвенпорта имеются также краткие замечания об экономических кризисах. Последние он приписывал, в первую очередь, причинам финансового характера, тенденции опережающего роста количества денег в обращении по сравнению с ростом деловой активности 79. Основа затруднений лежит в кредитной системе; последняя имеет большие преимущества, но ее существование сопряжено со значительным риском. В высшей точке цикла, например, деловые операции неспособны далее легко поглощать кредит. Проблема может быть решена не только на путях усовершенствования банковской системы, но и созданием гибкого денежного обращения, с тем чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие кредита. В период кризиса трудности усиливаются. Возникают различные диспропорции: цены движутся скачкообразно, долги становятся обременительными, неэластичность заработной платы препятствует ее своевременному приспособлению 80. Дэвенпорт признавал, что падение цен не стимулирует потребление, в этом содержался намек на роль эффективного спроса в кейнсианском смысле 81. Хотя он отчасти и был консерватором, поскольку речь идет о взглядах на экономическую политику, Дэвенпорт считал основательными соображения в пользу общественных работ в период кризиса.
429
Обобщая сказанное, можно охарактеризовать Дэвенпорта как одного из наиболее интересных экономистов последних десятилетий. Его беспощадный анализ индивидуалистической экономики и денежного хозяйства — это нечто большее, чем чисто научные упражнения. Во многих отношениях он был безжалостным исследователем нравов делового мира, исследователем, которого могли вдохновлять лишь самые благородные побуждения.
4. ИРВИНГ ФИШЕР: КАПИТАЛ, ПРОЦЕНТ И ДОХОД
Логика денежного хозяйства, если пользоваться выражением Дорфмана, была развита в других направлениях Ирвингом Фишером (1867—1947). Математик, статистик, бизнесмен, реформатор и преподаватель, Фишер был поистине человеком разносторонних интересов. Он составил себе небольшое состояние изобретением картотеки особой системы. Однако его страстное увлечение проблемами евгеники, гигиены и воздержания создало ему в глазах общественного мнения репутацию чудака, а возня Фишера с компенсированным долларом и 100%-ными деньгами грозила затмить в глазах экономистов его действительно важные теоретические исследования. И лишь в последующие годы его взгляды на капитал, процент и деньги начали привлекать к себе заслуженное внимание. Особенно значительным был вклад Фишера в статистику, главным образом в теорию индексов. Применяя математические методы в экономической теории, он стремился объединить теорию с методами количественного анализа. Фишер был плодовитым автором, он опубликовал двадцать восемь книг, из них восемнадцать по проблемам экономической теории, а также многочисленные статьи в специальных и популярных изданиях 82. Однако, хотя в работе Фишера прослеживается единая связующая нить, его теория не отличается той цельностью, какая есть у Маршалла или Вальраса. Слишком увлеченный различными проектами общественных реформ, он в конце своей академической карьеры почти полностью забросил преподавательскую деятельность.
Фишер родился в Саугертисе (штат Нью- Йорк) в семье священника-конгрегационалиста. По природе слабый, он в тридцать лет перенес заболевание туберкулезом, что на всю жизнь сделало его мнительным человеком. Пребывание на свежем воздухе стало для него символом веры; не обошел он своим вниманием и всякого рода знахарей и шарлатанов. В 1884 г., когда Фишер поступил в Йельский университет, умер отец и Фишер должен был поддерживать семью. Тем не менее он достиг выдающихся успехов в учебе и получил ряд премий, особенно за успехи в математике. Глубокое влияние на Фишера оказал Уиллард Гиббс, известный физик, преподававший математику, и в особенности Уильям Грэм Самнер, преподаватель экономики, который навел Фишера на мысль соединить эти две науки. В университете Фишер прочел Курно, Аушпица и Либена, Вальраса, Джевонса, Эджворта и экономистов австрийской школы. Результатом явилась его докторская диссертация о математических аспектах стоимости и цены, работа, до сих пор сохранившая свое значение. В 1893 г. он отправился в Европу изучать высшую математику у Фробениуса и Пуанкаре. По возвращении он преподавал математику в Йельском университете, а затем в 1895 г. перешел на экономическое отделение. В 1898 г., ровно через 10 лет после написания дипломной работы, он стал профессором.
Особенно значителен вклад Фишера в области статистики. Он отметил, например, особый характер воздействия какого-либо сдвига в экономике на экономическую переменную, поскольку такое воздействие обычно выходит за пределы самой переменной. Этот вывод доказывает, что он рассматривал статистику не просто как удобный инструмент, но как составную часть экономического анализа. В книге «Составление индексов» 83 он разработал и классифицировал сотни формул, подвергнув их разнообразным проверкам. Практически все современные исследования в области индексов опираются на его поистине монументальный анализ. Фишер сравнивал различные формулы, составляя разные графики для одного и того же набора данных за 1913—1918 гг. Эмпирически изучив весы, отклонения и т. п.г он путем элиминирования вывел 47 формул, которые согласовались друг с другом, затем он сократил их число до 13, затем до 8 и в конечном счете пришел к «идеальной» формуле. Фишер не считал, что это единственная формула, которую можно использовать, проста ему казалось, что она дает меньшее расхождение и искажение, чем другие.
В своей докторской диссертации, которую хорошо приняли Эджворт и Парето (а это немалая честь), Фишер разработал интересный 430
и сжатый вариант схемы Вальраса, иллюстрировав его моделями из области механики. Он пытался уйти от определений полезности как поддающегося измерению количества: стремясь связать полезность с объективными товарными отношениями, он в конечном счете пришел к чистой логике выбора. На этой стадии у него еще были некоторые колебания, поскольку, хотя теория выбора и представлялась ему центральной, Фишер считал, что определенное место должна найти себе и проблема измерения. Эти идеи, получившие развитие в лекционном курсе, были опубликованы лишь в 1927 г.84. Предположение об измерении полезности основывалось на ставшем к тому времени традиционном подходе с точки зрения кривых безразличия, однако Фишер вскоре понял, что поскольку поверхность полезности превращается в карту безразличия, то остается только, логика выбора. Более того, из этого следовало, что утверждение, согласно которому полезность блага зависит исключительно от количества данного блага, должно быть отвергнуто: полезность связывалась теперь с количеством всех благ. Иначе говоря, до тех пор, пока полезности рассматривались независимо, проблемы не возникало, так как легко можно было составить график полезности. Но с появлением обобщенной функции полезности, в которой многие блага влияли друг на друга, ранее независимая кривая полезности приобретала совершенно другую форму.
Поэтому, хотя и можно попытаться измерить полезность, лучше, по мнению Фишера, избегать вторжения в область этики, психологии и метафизики, неизбежно связанного с такими попытками. Поскольку целью экономиста является изучение «механических взаимодействий», свойственных процессу обмена, то для него достаточно начать с объективного факта существования цен. Нет нужды исследовать теорию психологии. Но тем самым явно предполагалось, что рынок должен быть достаточно велик, чтобы воспрепятствовать любому отдельному лицу оказывать влияние на цену; что уровни производства и потребления идентичны; что полное знание условий рынка доступно всем заинтересованным лицам; что факторы производства и продукты бесконечно делимы и что закон понижающейся предельной полезности имеет универсальное значение. Короче говоря, повсеместно должна преобладать классическая совершенная конкуренция. Если ограничить анализ заданными периодами времени, писал Фишер, то отклонениями от равновесия можно пренебречь. По крайней мере предполагалось, что колебания взаимно компенсируются; следовательно, в состоянии равновесия предельная полезность каждого израсходованного доллара одинакова, независимо от того,, на что он израсходован. Предельная полезность всех благ пропорциональна предельной полезности тех же благ для других потребителей. Хотя таким путем Фишер подошел к идее взаимозависимости, он считал, что анализ частных вопросов более полезен, особенно с педагогической точки зрения. Он утверждал, что его определение «полезности» не несет на себе гедонистического отпечатка, оно лишь указывает на «желательность»— категорию, лишенную этического либо вкусового оттенка. Очевидно, что Фишер заложил] фундамент для всего современного экономического анализа, с его понятиями взаимодополняемости, взаимозаменяемости, линий цен и эффекта дохода. Если бы Фишер не перегрузил свой анализ таким большим количеством замысловатых механических схем, то его приоритет во многих вопросах получил бы большее признание.
Фишер определял капитал как запас богатства в данный момент, включая в это понятие как натуральный, так и стоимостный аспекты, но в большей степени подчеркивая первый аспект. С большим мастерством используя методы бухгалтерского учета, Фишер с их помощью пояснял существо экономических идей. В некоторых отношениях мысли Фишера о различии между капиталом и доходом напоминали идеи, выдвинутые французским экономистом Адольфом Ландри в 1904 г. В книге «Математические исследования» отношению капитал — доход было уделено еще мало внимания. Но по мере дальнейшего изучения вопроса в ходе работы над книгой «Природа капитала и дохода» на Фишера произвело большое впечатление то, каким образом подходят к данной проблеме в бухгалтерской практике. Простое разграничение видов богатства уже не представлялось Фишеру достаточным, поскольку теперь он осознал, насколько важно четко определить различие между запасами и потоками. Дальнейшее развитие эти идеи получили в работе «Норма процента», где процентные ставки были поставлены в зависимость от размера, структуры и распределения во времени потока доходов. В работе «Капитал и доход» также содержится попытка выяснить природу богатства, собственности, притязаний на собственность, услуг и полезности. Это особенно важно сделать, писал Фишер, чтобы избежать двойного счета при исчислении совокупного богатства 85. Агрегирование богатства может быть произведено двумя способами: методом «балансов» или методом «пар». При первом методе учитывается вся сумма индивидуальных стоимостей и находит отражение капитал инди431
видуумов; при втором суммируются капитальные стоимости отдельных товаров. Один отражает факт наличия собственности, другой — объект собственности; оба метода носят взаимоисключающий характер, будучи по существу способами суммирования общественного богатства 8в. Подобные же методы были использованы для суммирования потоков доходов, и, говоря -современным языком, один из них является разновидностью «добавленной стоимости», а другой лег в основу концепции конечного продукта 87. Чтобы его позиция была яснее, Фишер •отказался от термина производительные услуги и вместо него применил слово «взаимодействия», считая, что оно лучше характеризует изменения в богатстве, обусловленные производством, транспортировкой и торговлей. Эти «взаимодействия» вытекают из того факта, что многие услуги, связанные с процессом производства, лишь подготавливают другие услуги. Но в конечном счете все они находят завершение в психологическом доходе индивидуума 88.
Смысл капитала состоит в том, что он приносит доход. Связь между реальным капиталом и стоимостью капитала Фишер устанавливал при посредстве размера дохода и нормы процента. Капитализируя доход по текущей норме процента, он связал его с капиталом как фондом: стоимость, по Фишеру, определяется в процессе дисконтирования в настоящее. При этом •оставалось соотнести реальную и стоимостную концепции, не упуская из виду понятия запаса и потока. В результате Фишер получил четыре основных отношения: реальная производительность, или отношение количества услуг к количеству капитала; стоимостная производительность, или отношение стоимости услуг к количеству капитала; реальная отдача, или отношение количества услуг к стоимости капитала; и — самое важное из всех — стоимостная отдача, или отношение стоимости услуг к стоимости капитала 89. А это есть оценка в настоящем дохода, который будет получен в будущем в результате применения определенной единицы капитала 90, и в этом, утверждал Фишер, находит проявление тот факт, что подлинного различия между процентом, рентой или другими категориями потока не существует.
Последнее положение пронизывает раннюю работу Фишера «Оценка и процент» 91, в которой рассмотрены идеи дисконтирования во времени, или нетерпения, и инвестиционных возможностей, или предельной нормы выручки сверх издержек,— понятия, которые Фишер развил более подробно в последующих работах. Здесь Фишер трактовал процент не как отдельный поток, но скорее как аспект всех доходов, •будь то заработная плата, рента или прибыль. Вся эта концепция основывалась на идее выбора между альтернативными потоками дохода. Процент рассматривался Фишером как связующее звено между капиталом и доходом, и его следовало выводить как долю в премии, уплаченной за деньги на определенную дату, в пересчете на деньги, доступные на какую- либо последующую дату. Поскольку весь процесс связан с проблемой времени, дисконтирование становилось методом перевода условий будущего в настоящее 92. По Фишеру, процент проникает во все экономические связи и учитывается во всех ценах. Влияния, которым он подвергается, неустойчивы и исходят из разнообразных источников, и некоторые из них по своей природе являются внеэкономическими.
В книге «Теория процента» Фишер более четко очертил изложенные концепции, сделав «инвестиционные возможности» в сочетании с категорией нетерпения краеугольным камнем своей модели. Доходы от капитальной собственности являются лишь капитализацией будущих доходов, и поэтому Фишер не рассматривал их в качестве доходов текущего периода 93. Факторы, определяющие процент, он выводил путем серии приближений, первой стадией которых было нетерпение, или предпочтение благ в настоящем, второй — производительность и третьей — элементы риска и неопределенности. Для установления нормы процента необходимо равенство норм предельного предпочтения времени, или нетерпения, и «предельной выручки сверх издержек», или производительности 94. Анализ проводился на трех уровнях: описательном, геометрическом и алгебраическом. Графики Фишера, соотносившие настоящий и будущий доходы, можно интерпретировать как кривые предпочтения, в которых линии процента накладываются таким образом, что движение в сторону точки касания представляет собой приближение к максимальной величине потока доходов. Равновесие означает равенство предельной нормы выручки сверх издержек, нормы процента и предельной нормы предпочтения времени 95. Понятие производительности у Фишера обладает большим сходством с кейнсианским понятием предельной эффективности капитала. Более того, Кейнс, хорошо знакомый с работами Фишера, считал, что эти понятия совпадают 9в. Однако, как показал А. Алчиан, они на самом деле не идентичны 97, поскольку определение Фишера исходит из сопоставления альтернативных возможностей, а не просто из дисконтирования одной инвестиционной возможности. Норма выручки сверх издержек зависит от размеров, в которых может изменяться поток дохода вслед432
ствие изменений в характере использования капитала 98. Кроме того, Фишер, по крайней мере на этом этапе, еще не вводил элемент неопределенности, имеющий центральное значение в теории Кейнса.
«Нетерпение» у Фишера, по-видимому, имеет более близкое сходство со «вторым основанием» у Бем-Баверка, или недооценкой будущих потребностей, в то время как идея инвестиционных возможностей напоминает концепцию последнего о технических преимуществах в данный момент времени. В системе Фишера, однако, ударение сделано на предпочтении благ в настоящем, поэтому процент следует прежде всего объяснять нежеланием ждать. Это не обязательно свидетельствует о недальновидности человека, а скорее говорит о его настойчивом стремлении немедленно удовлетворять свои желания. Вопреки точке зрения австрийской школы, Фишер утверждал, что без предпочтения времени перспективы роста производства представляются безграничными, что делает стоимость в настоящее время неопределенной вели- личиной. Следовательно, одно техническое превосходство не может объяснить разницу между стоимостью настоящих и будущих благ. Лишь предпочтение времени может объяснить процент, заявлял Фишер, потому что там, где существует безразличие в отношении настоящего по сравнению с будущим, процент не может возникнуть. Австрийцы, с другой стороны, полагали, что в техническом превосходстве, или окольных методах производства, также можно найти объяснение процента. Конечно, Фишер не игнорировал фактор производительности, поскольку он, несомненно, оказывает важное влияние на предложение товаров. Но основным элементом у него было предпочтение времени: техническое преимущество ставилось им в зависимость от нетерпения ".
Вместе с тем утверждение Фишера, что процент — это не просто вознаграждение фактора, подобно ренте или заработной плате, а основа всех доходов, фактически заимствовано у австрийской школы. Суть дела в том, говорил он, что процент основывается на дисконтировании во времени, когда оно распространяется на все производительные услуги. Процент дает способ изучения всех потоков дохода, и если капитализировать эти потоки, исходя из данной ставки, будут получены капитальные стоимости 10°. Это напоминает концепцию капитала у Фрэнка Найта 101. У Найта, однако, идея капитала как совокупности реальных благ играет даже меньшую роль, чем в анализе Фишера. В то время как последний по крайней мере начинал анализ с реальных благ, Найт самым решительным образом подчеркивает определение капитала как фонда. Недостаток категории фонда заключается в том, что в ней стираются лежащие в основе капитала социальные отношения, и хотя она удобна для математической обработки, социологический аспект проблемы при таком определении исчезает совершенно. Представляется, что в этом смысле Марксово определение капитала как отношения между людьми обладает большими достоинствами. Да и у Рикардо потоки доходов являются отражением существующей социальной и классовой структуры. Но в теориях Фишера и Найта, независимо от различий в деталях между ними, все это безвозвратно утеряно. Поэтому нельзя освободиться от впечатления об их апологетическом характере. Более того, Фишер отказывался отвечать на вопрос, почему существует процент. Он уходил от него, утверждая, что достаточно проанализировать, как устанавливается процент 102. Однако установить размер или скорость данного потока — это еще не значит объяснить его происхождение. Представляется, что функциональная и этиологическая проблемы у Фишера безнадежно перепутаны.
Фишер полагал, что процент в качестве цены, уплачиваемой за деньги, вполне может быть истолкован через покупательную способность. Поскольку ставки процента обратно пропорциональны банковским резервам, они, по-види- мому, имеют тенденцию изменяться в прямой зависимости от предложения денег. Небольшие резервы и высокие ставки процента указывают на растущий доход и процветание, а банковские ставки в этих условиях отражают ускорение потока доходов. Это привело к возникновению идеи о реальной ставке процента, которая может без труда быть установлена с помощью индексов 103. Если ожидается снижение цен, то это приведет к понижению ставки процента в денежном выражении. Эти доводы Фишер подкреплял большим количеством фактических данных 104. Но для него были очевидны трудности, связанные с реальной ставкой, поскольку она по существу превращалась в множественность ставок: «Существует столько же ставок процента, выраженных посредством благ, сколько имеется благ, различающихся друг от друга по стоимости» 105.
Несмотря на кажущуюся неуязвимость его теории, она вызвала острую критику. Критики указывали, что анализ носит слишком общий характер и достаточно убедительно не показывает, как банковская система влияет на ставки процента. Концепция нетерпения уводит от сути дела, так как она почти целиком относится к потребительскому сектору. Надежда на получение высоких доходов в будущем вполне может 28 в. Селигмен
433
стимулировать инвестиции, даже при растущих ставках процента. Другие утверждали, что путем капитализации не всегда можно прийти к правильному определению стоимостей; если рентные платежи за худшие близлежащие земельные участки, например, могут давать основания для одного уровня оценки по ставкам капитализации, то в действительности открытый рынок может предложить значительно более низкую цену. Иначе говоря, во многих случаях существуют расхождения между рынком недвижимостей и товарными рынками. Кроме того, Фишер, по-видимому, так и не смог выйти за пределы круга капитализации. Фишер выводил стоимость из дохода путем капитализации последнего из преобладавшей процентной ставки. Но стоимость, помноженная на процентную ставку, равна первоначальному доходу, который лежал в основе определения процента. По-видимому, необходимо было исследовать более глубокие причины.
В ответ на резкую критику со стороны Веблена Фишер ответил, что его неправильно поняли и что его анализ на самом деле ближе по духу «Теории предпринимательства», чем это представляет себе Веблен 106. Один из основных доводов Веблена состоял в том, что Фишер полностью не освободился от элемента гедонизма. Поэтому его теория не носит чисто денежного характера. Отказ Фишера отделить неосязаемые активы от их вещественной основы и дать им самостоятельное объяснение был истолкован Вебленом как свидетельство нежелания признать чисто денежную природу современного капитализма. Далее, отмечал Веблен, теория капитализации процента с ее категориями нетерпения и инвестиционных возможностей не является универсальной, а имеет исторически преходящий характер. Неосязаемые активы, продолжал Веблен, приобретают в современном обществе совершенно независимое от благ значение — в этом ключ к этиологии процента, которого не заметил Фишер, поскольку процент «...мог возникнуть лишь на основе зрелого института собственности» 107.
Интерес Фишера к проблемам стабильности побудил его предпринять детальное исследование денег и их покупательной способности. Его работа вернула старой количественной теории ее былое значение, а его широко известная формула MV + M'V' =РТ была включена во все учебники. Утверждение Фишера, что это уравнение действительно в известных условиях, в конечном счете придало ему характер экономического закона, подкрепленного большим количеством исторического и фактического материала, что затрудняло его критику. Но в своей книге «Покупательная способность денег» автор пытался создать впечатление (что, видимо, достойно сожаления), будто вся эта проблема по существу является простой. Усложняющие факторы Фишер толковал настолько поверхностно, что его позиция стала довольно уязвимой. Вполне возможно, как заметил Шумпетер, что в данном случае острота анализа изменила Фишеру. Установление условий экономической стабильности представлялось ему настолько важным и настоятельным, что он отмахивался от всех случаев исключений.
Тем не менее расширение понятия денежного запаса и включение в него инструментов кредита, в особенности банковских депозитов, явилось важным вкладом в теорию. Уровень цен Фишер поставил в прямую зависимость от общего количества денег, включая банковские депозиты. При прочих равных условиях удвоение количества денег приводит к удвоению цены; то же происходит при сокращении в два раза Т. Иначе говоря, цены пропорциональны общим расходам, а последние в свою очередь пропорциональны денежным запасам. Важной проблемой, так до конца и не решенной Фишером, было то, каким образом устанавливаются денежные запасы. Отсутствие пропорциональности между ценами и деньгами признавалось только для так называемых «переходных» периодов, когда экономика движется от одного уровня равновесия к другому. Но именно такого рода отклонения имеют значительно более общее значение, чем это желал признать Фишер. И именно в такой ситуации условия количественного равенства становятся скорее взаимосвязанными, чем независимыми. Быстрое расширение количества денег может способствовать более чем пропорциональному росту цен, как это происходит в условиях «галопирующей» инфляции; либо же вследствие контроля над ценами скорость оборота денег может довольно резко уменьшиться, либо же в условиях депрессии впрыскивание денег способно привести к увеличению торговли и выпуска продукции задолго до того, как это скажется на ценах. Формула Фишера не принимает во внимание эти отклонения и запаздывания во времени, а потому неспособна объяснить изменения в денежных остатках. Да и фактически скорость оборота банковских депозитов не только ниже, чем считал Фишер, но и подвержена значительно большим сезонным колебаниям 108.
Таким образом, система Фишера представляется недостаточно гибкой, несмотря на его героические усилия проследить разнообразные линии причинных отношений. Первые главы книги «Покупательная способность денег», безусловно, страдают механистичностью. Однако, хотя количественное уравнение подверглось 434
критике как простое тождество, в его защиту можно сказать то, что оно выражает условия равновесия, в соответствии с которыми цены складываются в результате взаимодействия денег, скорости их оборота и производства. По крайней мере Фишер признавал нарушения во взаимосвязи четырех основных элементов в «переходные» периоды. Он констатировал наличие определенной взаимосвязи между наличными деньгами и депозитами и между банковскими резервами и депозитами. А поскольку депозиты зависят от количества первичных денег, сокращение или увеличение последних может быть, по-видимому, использовано в качестве средства эффективного контроля. Но толкование Фишером воздействия условий «перехода» представляется слишком поверхностным, поскольку в динамических ситуациях именно эти косвенные воздействия играют значительную роль. Причинные взаимосвязи с наибольшей яркостью обнаруживают себя именно в «переходные» периоды: концепция скорости оборота денег, например, может быть с большой пользой переосмыслена в отношении периода времени, когда экономика двигается от одного уровня к другому.
Источники косвенных воздействий Фишер подразделил на ресурсы, разделение труда, технику производства, накопление капитала, потребности, банковскую систему, то есть фактически он исчерпал все движущие силы капиталистической экономики. Конечным результатом экономического взаимодействия является данный уровень покупательной способности 109. Эти категории создали полезную основу для эмпирических исследований, например, для работ, проведенных позднее Милтоном Фридманом и его сотрудниками 110. Однако признание того, что количественные отношения недействительны для переходных периодов, оказалось роковым для этой теории 1П. Ее ограниченность вновь проявилась в утверждении Фишера о том, что скорость оборота денег способна воздействовать на цены в большей мере, чем деньги или производство.Тем не менее представляется, что изменения в скорости оборота денег могут влиять на запасы денег. В общем, смелая попытка Фишера выработать теорию стоимости, не обращаясь к общепринятому анализу спроса и предложения, не увенчалась успехом. Утверждение, что цены являются пассивным конечным результатом, заключало экономический анализ в слишком жесткие рамки.
Как и многие другие книги Фишера, его «Покупательная способность денег» послужила основой для разработки реформы. Его любимое изобретение — компенсированный доллар — должно было основываться на золотом стандарте таким образом, чтобы золотое содержание доллара изменялось в соответствии с официальным индексом цен, в результате чего доллар обладал бы неизменной покупательной силой. Денежный индивидуализм, говорил Фишер, наносит экономике ущерб, а изменения запасов денег ведут к потерям. Компенсированный доллар сможет корректировать воздействие колебаний покупательной способности, если будут заключены соответствующие соглашения о международном обмене. Затем Фишер организовал ряд кампаний в поддержку своих денежных реформ и во многих отношениях способствовал созданию общественного климата, благоприятствующего переменам 112. И хотя к идее компенсированного доллара был проявлен живой интерес, большинство профессиональных экономистов полагало, что на практике эта идея окажется неприменимой. Более того, некоторые указывали, что дальнейшее использование кредита приведет к резкому снижению способности компенсированного доллара влиять на уровень цен.
Фишер проявлял больший интерес к стабилизации взаимоотношений должников и кредиторов, чем к стабилизации производства и занятости; это нашло отражение и в его последующих работах: «Стабилизация доллара» (1920) и «100%-ные деньги» 113, где он поддержал проект, предложенный Генри Саймонсом из Чикагского университета. Этот проект предусматривал наличие в банках 100%-ного резерва по отношению к депозитам и по сути дела ограничивал чековое обращение рамками, поставленными кассовыми резервами. Согласно проекту, наличные деньги частично замещались бы ценными бумагами банков. Но поскольку эта новая наличность оставалась бы в резерве, запасы денег не увеличивались бы. Далее, чековые депозиты были бы ограничены размерами кассовой наличности в банках. Любое понижение дохода в результате сокращения активных операций компенсировалось бы повышенными платежами с клиентуры. Предполагалось, что осуществление плана позволит исключить возможность банкротств банков и обеспечить более жесткий контроль над количеством денег в хозяйстве. При медленных темпах роста денежного запаса рамки расширения кредита были бы значительно сужены, поскольку банковские ссуды должны были полностью обеспечиваться наличным запасом денег. Кредит мог бы быть расширен в сколько-нибудь значительных масштабах только в результате вмешательства центрального банка. Но у банков сохранялась бы возможность потребовать погашения выданных ссуд, поэтому возможность 28* 435
дефляционных действий не была бы исключена. Более того, не существовало бы способа ограничить быстрый оборот денег в обращении. Иначе говоря, изменения в скорости оборота денег по-прежнему происходили бы независимо от осуществления плана полных резервов. Другого рода затруднение было связано с тем, что начало осуществления такой программы, связанное с введением 100%-ного резервного обеспечения, безусловно, привело бы к жестокой дефляции. Осуществление этого плана вызвало бы слишком серьезные нарушения в сфере деловых связей, чтобы сделать его приемлемым 114.
Причиной кризиса и депрессии, говорил Фишер, является более быстрое изменение кредита в сравнении с запасом денег. Этим объясняется характерное поведение ставки процента в переходные периоды 115. В этом заключается суть теории экономических циклов Фишера. Ему не приходило в голову, что в то время, когда ресурсы бездействуют, изменения цен могут явиться важным стимулом для выбитой из равновесия экономики. Он считал, что кризисы — это всего лишь «танцы доллара». Концепция цикла как самозарождающегося явления представлялась ему выдумкой. Единственно необходимым корректирующим средством он считал небольшую «рефляцию». Хотя причины неравновесия многообразны, главные из них связаны с задолженностью и ликвидацией долгов. Иначе говоря, в цикле попросту проявляются взаимоотношения должников и кредиторов. Верхняя поворотная точка отражает всеобщее стремление к ликвидации обязательств; этот процесс может происходить с такой скоростью, что покупательная способность остающихся долгов повысится — иначе говоря, цены будут быстро падать. Все, что необходимо для приостановки падения, по мнению Фишера,— это быстрое вмешательство центральных банков.
В начале своей деятельности Фишер осуждал расширение государственного регулирования, поскольку он считал, что контроль над корпорациями и такие меры, как пособия по безработице, грозят направить страну по дороге к социализму. Один класс получит возможность господствовать над другим, возникнут злоупотребления властью и коррупция. Исправление существующих зол требует скорее создания добровольных обществ, которые учили бы низшие классы, как им отстаивать свои интересы. Однако в последующие годы Фишер признал необходимость более равномерного распределения дохода и возражал против проведения в чистом виде принципов laissez faire в государственной политике. Налог на наследство, говорил он, не является инструментом угнетения, напротив, это — путь к расширению экономической демократии. То же самое относится к растущей дисперсии акционерной собственности. Хотя проблема собственности и контроля им не ставилась, он находился на пути к пониманию идеи смешанной экономики.
Несмотря на забавное желание Фишера скакать, по выражению Ликока *, на одной лошади сразу во все стороны, его важная заслуга состоит в том, что он привлек внимание общественного мнения к обостряющимся проблемам цен и инфляции. Очевидно, что те, кто сейчас значительно более тонко трактует эти вопросы, твердо опираются на его труды.
5. ФРЭНК НАЙТ И
В руках Фрэнка Найта (род. 1885) экономическая теория превратилась в грандиозное упражнение в чистой абстракции. Обладая значительными познаниями в области философии, теологии и социальных наук, Найт сумел высказать ряд интересных мыслей относительно вечных проблем экономической теории. Однако его работам неизменно свойственна своеобразная раздвоенность: с одной стороны, экономическая теория рассматривалась им в качестве чистой науки, имеющей дело с заключениями, выведенными из определенной системы априорных положений, и потому считалась внеисто- ричной и лишенной нормативного значения, тогда как, с другой стороны, Найт утверждал, что экономическое поведение обусловлено
АБСТРАКЦИОНИЗМ
обычаями, институтами и правовыми нормами. Эти две точки зрения он так и не примирил, а фактически именно первая из них господствует во всей системе воззрений Найта.
Найт родился в округе Маклин (штат Иллинойс) и поступил в колледж лишь в возрасте двадцати лет. Сначала он учился в двух институтах с теологическим уклоном в штате Теннеси: Американском университете и колледже Миллиган, где в дополнение к обычным курсам он изучал Библию и смежные предметы. Средства на учебу он добывал преподаванием естественных дисциплин, языков, бухгалтерии и сте* Известный канадский писатель-юморист.— Прим, перев.
436
нографии. В 1913 г. после получения степеней бакалавра в области естественных наук и магистра искусств в области немецкой лингвистики он перешел в Корнелльский университет для написания докторской диссертации по философии, с одновременным прохождением курса экономической теории под руководством Элвина Джонсона. Будучи человеком, «...страдавшим несварением желудка, с застывшим выражением крайнего пессимизма на лице» Найт вскоре столкнулся с трудностями. Преподаватели философии, считая, что он слишком большой скептик, чтобы доверить ему молодежь, с радостью избавились от него, передав Найта Джонсону на кафедру экономической теории 116. После того как Джонсон покинул Корнелльский университет в 1914 г., Найт продолжал работать под руководством Аллина Янга. После короткого пребывания в Корнелль- ском университете, где он познакомился с Гербертом Дэвенпортом, Найт направился в Чикаго в качестве преподавателя. Там он завершил свою докторскую диссертацию о предпринимательской прибыли, и эта работа завоевала первое место на конкурсе издателей Харта, Шаффнера и Маркса. Будучи опубликована в 1921 г. под названием «Риск, неопределенность и прибыль» 117, она принесла ему репутацию одного из самых видных американских экономистов. За девятилетним пребыванием Найта в университете штата Айова последовало его назначение в 1928 г. в Чикагский университет в качестве преемника Джона Мориса Кларка. Обладатель присуждаемой Американской экономической ассоциацией медали Уокера за 1957 г., Найт в настоящее время является заслуженным профессором в отставке в области социальных наук и философии Чикагского университета.
Наиболее полное отражение экономического метода Найта можно найти в дискуссии 1949 г. между ним и известным антропологом Мелвиллом Герсковицем 118. В своем педантичном обзоре книги последнего «Экономическая жизнь примитивных народов» (1940) Найт отвергает любое определение экономической теории, которое включает технологию и другие эмпирические элементы. Экономическая наука, настаивает он, не носит описательного характера и поэтому ей нет дела до подобных вещей. В ней используются некоторые в высшей степени обобщенные понятия для объяснения того, как функционирует хозяйство и в чем проявляется своеобразная универсальность его черт, никоим образом не связанная со сравнительными концепциями человеческих культур. В качестве общего принципа такого рода Найт имел в виду идею максимизации результатов: единственный нормативный вывод из этой идеи сводился к тому, что должно существовать желание действовать эффективно и что общественная политика должна исходить из этого же правила. В этом пункте Найт едва ли не впал в противоречия, ибо суждение о том, как в действительности функционирует экономика, предполагает сравнение различных систем, к чему Найт совершенно не готов. Осторожность постоянно возвращает его к исходным принципам, так что в конце он оказывается там же, где начинал. Ошибочность его подхода проявилась в утверждении, что в то время как «стоимость жизни» может быть полезной экономической категорией, понятие «уровень жизни» нельзя допускать в экономическую теорию, потому что это по своей сути «эстетическая» оценка.
Экономическая теория, по утверждению Найта, должна по необходимости быть абстрактной, поскольку она использует заключения из определенных посылок и постоянно вынуждена прибегать к помощи интуитивного знания. Однако каким образом экономическая истина может быть получена с помощью интуиции, Найт не разъяснил 119. В то время как получение индуктивных выводов на основе наблюдения фактов является общепризнанным научным методом, трудно предположить, чтобы любую посылку в экономической теории можно было охарактеризовать как априорную. Такого рода утверждения обеспечивали именно ту свободу парения мысли, к которой Найт стремился и которая сделала его одним из самых трудных для понимания теоретиков. Обеспечив себе возможность выступать с любых позиций, он мог выдвигать любые философские возражения против своих менее подготовленных оппонентов. Так рациональность поведения, согласно его собственному определению, является априорной предпосылкой чистой теории. Однако Найт достаточно хорошо понимает, что невозможно распространять планы рационального поведения на неопределенное будущее. Он понимает, что априорные положения нельзя принимать буквально. Но находясь одновременно по обе стороны методологического забора, он мог выдавать себя за правоверного институционалиста и последовательного ортодоксального теоретика, решительного защитника общепринятой доктрины и сторонника Веблена 12°.
Интуитивно постигаемые экономические принципы несут на себе отпечаток чистых концепций, то есть они не поддаются проверке и не могут быть применены на практике. Когда Найт утверждал, что факты, которые необходимы для объяснения основных принципов, 437
не обязаны быть фактами в смысле их реального существования, а лишь «реалистически иллюстративными» фактами,— он подчеркивал именно эту мысль 121 . Вряд ли у него были основания жаловаться на критику своей теории со стороны других ученых, которые обнаружили у него лишь надуманную философскую систему, основанную на принципе «если бы...». Как заметил в своем ответе Герско- виц, подобные теории могут сослужить плохую службу науке и еще худшую педагогике 122. При столь решительном противопоставлении умозаключений их эмпирической проверке, свойственном Найту, трудно понять, каким образом вообще возможен прогресс в области общественных наук. Единственно, что остается делать,— это совершенствовать и дальше различные тонкости теоретического исследования 123. Вся экономическая теория представляется Найту абстрактной, формальной и лишенной содержания. Денежная теория — это подлинная робинзонада, которая выводит универсальные законы, обоснованные лишь по форме, но лишенные реального содержания 124.
Но как это ни удивительно, Найт считает возможным делать на основе этих принципов практические выводы: они предназначаются для «...объяснения того, как функционирует наша современная экономическая система, для ее критики и разработки предложений о необходимых переменах» 125. Таким образом, остается загадкой, стремится ли Найт к позитивной или нормативной экономической науке, приемлема ли для него лишь чистая теория либо возможно создание на основе его принципов политической экономии. Последнее подразумевалось, по-видимому, во многих его заявлениях, поскольку он часто писал о важности институциональных аспектов социальной и экономической реальности. Он понимает, что человек зачастую иррационален, агрессивен, подвержен самоанализу, однако всему этому не должно быть места в основных принципах. Соотносить нормы человеческой культуры с экономическим поведением — значит лишь обнаруживать политические симпатии! (Однако многие авторы именно в утверждении об изначальной нейтральности экономической теории усматривали замаскированный политический смысл.) Предполагать же возможность существования альтернатив системе свободного предпринимательства,— значит, согласно Найту, проявлять политический романтизм. В рамках таких предубеждений для него было трудно, например, трезво оценить экономическое планирование: он неизменно утверждает, что плановое хозяйство — это хорошо организованная тюрьма 126. Хотя он при случае и отвергал крайние взгляды Мизеса — Хайека, его собственная философия тем не менее близка к позиции последних.
Корни такого чрезмерного формализма уходят отчасти в Wissenschaftslehre Макса Вебера, который в своем очерке об объективности в общественной науке подчеркивал связь между интеллектуальными проблемами в противоположность материальным отношениям вещей 127. Целью Вебера было повысить значение формальной стороны теоретического исследования. Но в руках таких экономистов, как Найт и Лайонел Роббинс, эта цель обернулась законченным формализмом. Выдвигать концепции и идеи, позволяющие лучше организовать интеллектуальный материал, безусловно, полезно. Но даже Вебер не зашел так далеко, как Найт. Вебер, большая часть трудов которого посвящена именно исследованию влияния внеэкономических элементов на экономическую жизнь, не считал экономическую теорию совершенно нейтральной в этическом отношении 128. В системе Вебера общие концепции значительно теснее связаны с непосредственной реальностью, чем в системе Найта.
Хотя Найт иногда и причисляет себя к своего рода институционалистам, он находит значительно больше достоинств в чистой теории на том основании, что люди стремятся к экономичности и эффективности 129. По Найту, отрицать универсальность экономических принципов — это значит лишь обнаруживать пристрастность. Однако он понимает, что та система удовлетворения человеческих потребностей, которая преобладает на Западе, не является всеобщей и не охватывает большую часть человеческих отношений 130. Он признает, что иногда необходимо отрешиться от основных идей, выраженных в исходных принципах: проблемы специализации, исторического наследия и исторических перемен одинаково важны, однако не они являются подлинной сферой исследования для экономиста-теоретика. Как только экономическая наука начинает обсуждать идеалы, она становится политической, предполагает статистический анализ, изучение побуждений, анализ символов, социальных целей, использование экономической силы 131. Но все это, утверждает он, не ведет к созданию удовлетворительной теории организации общества. С теоретической точки зрения анализ организации общества в экономической теории означает изучение свободного предпринимательства, точно так же как политическая наука есть изучение демократических институтов 132. Экономическая наука, говорит Найт, выводит законы, объясняющие последствия разумных, рациональных действий 133. По сути 438
дела он ни в коей мере не является институционалистом: использование время от времени социологического и исторического материала не убедило его в том, что экономическая наука может плодотворно изучать взаимоотношения между людьми 134.
Не приемлет Найт и принципов английской классической школы. Близкий по духу к Джону Бейтсу Кларку, он находит субъективный подход значительно более плодотворным, чем доктрину реальных издержек Рикардо 135. Стоимость, утверждает он,— это дело выбора, основанного на сравнении, в то время как проблема экономичности состоит в обеспечении максимальной эффективности в процессе сопоставления приращений эффективности с приращениями ресурсов. Классики ошибались также, определяя производство как процесс создания богатства, а не услуг. Согласно Найту, эти две ошибочные теории — реальных издержек и богатства — привели к взгляду на труд как основу богатства и помешали старым авторам понять, что социально-экономическая жизнь основывается на обмене услугами. Классики также не смогли понять, что причинность не есть последовательность, а отношение между переменными. Поэтому теория распределения, основанная на концепции вменения, должна была дожидаться своего исследователя. А без этих идей не могло быть понимания проблемы максимизации экономических величин. Наконец, Найт упрекал классиков в том, что они ввели различные категории для ренты, заработной платы, процента и прибыли, которые для него по своей сути едины. Ведь без единого потока услуг невозможно правильно измерить стоимость производственного предприятия по ожидаемому с него доходу.
Найт провел важное различие между статикой и динамикой 136. Основные идеи статики, по мнению Найта, заимствованы из теоретической механики, и в теоретической экономии им соответствуют те силы, которые определяют стремление к равновесию. Но рассмотрение этих сил в движении и развитии переносит нас в область динамики. Такой подход к развитию позволяет превратить теоретическую экономию в историческую аналитику, что и делают некоторые современные эконометрики. Найт подчеркивал, что его также интересует изучение равновесия не как состояния покоя, но как процесса 137. Но начинать следует со статичного состояния, в котором имеются определенные потребности и ресурсы для их удовлетворения, а также определенная структура распределения в рамках данного государственного устройства. В статичной экономике и потребители и производители используют все производимые товары, так же как и доступные источники их производства. Основные динамические импульсы исходят, по-видимому, от процесса сбережения и инвестирования, позволяющего увеличить объем производственных услуг. Все это Найт формулирует в рамках довольно бесцельного и туманного поиска экономических концепций, аналогичных силе, энергии, инерции, пространству и другим понятиям механики. Найт ввел в анализ однозначное определение капитала как однородного фонда, а отсюда возникли проблемы ставки процента и спроса на капитал. Последнее играет во многих отношениях центральную роль в системе Найта, и он не устает вновь и вновь повторять свой вариант теории капитала. В итоге он пришел к выводу, что всеобщей тенденции к экономическому равновесию не существует: идея прогресса как «единого» процесса имеет лишь ограниченное применение. Поверхностное понимание Найтом точки зрения институционализма проявилось в следующем: поведение бизнеса, говорит он, не согласуется с теорией поведения экономического человека, поскольку «...имела место эволюция природы капитализма» 138. Теория равновесия цен, по-видимому, неприменима к экономической действительности!
В экономической системе Найта отношения обмена составляют стержень организации общества. И здесь он приблизился к широкому институциональному пониманию, напоминающему теорию сделок Коммонса. Обмен создает рынки, которые регулируют развитие хозяйства. Но все это объективные отношения, и Найт, по-видимому, вступает в противоречие с другими своими определениями обмена как игры, стимулы которой связаны со стремлением к риску как таковому 139. Интересно отметить, что современная теория также признает элементы игры, но именно в силу этой причины она отмечает значительно большую осторожность в поведении предпринимателя, чем это предполагал Найт 140. Ему не удалось подняться до уровня анализа, необходимого для того, чтобы охарактеризовать человеческие отношения в их экономическом контексте: труд и заработная плата, например, никогда не рассматривались Найтом в плане конфликта между предпринимателем и рабочим, а договор об оплате труда, по Найту,— это лишь безличное выражение абстрактного потока услуг. Наиболее близко он подошел к пониманию экономической теории как науки о существенных связях между людьми и общественными группами в своем функциональном анализе роли предпринимателей и менеджеров. Поэтому организацию общества Найт трактовал лишь как 439
рыночную структуру и механизм для обеспечения роста 141. Безусловно, это крайне узкий подход к сложным взаимосвязям современного хозяйства. В основе его лежит искусственное отождествление экономики с одними лишь ее рыночными формами.
В лучшем случае Найт соглашался признать, что американская система представляет собой предпринимательскую экономику, где производство осуществляется абстрактными предприятиями, отличными от тех людей, которые в них входят 142. Отдельные лица, говорит он, не обмениваются товарами, но продают свои услуги предприятиям, результатом чего является покупка товаров. Некогда обмен был связан со сложным процессом специализации *. Но в условиях денежной экономики и свободного предпринимательства стремление отдельных лиц к определенным товарам и услугам обеспечивает автоматический контроль над производством и распределением. Это, конечно, мало чем отличается от ортодоксальной теории механизма обмена, согласно которой достижение общего блага совместимо со стремлением к индивидуальной выгоде. Конкуренция же служит смазочным материалом для всего процесса. В этом воображаемом обществе, явно приспособленном для аналитических целей, люди действуют рационально и полностью осознают последствия своих действий. Каждый человек выносит последнее и окончательное суждение относительно своего благосостояния; предполагается также абсолютная подвижность ресурсов и планов и полное знание условий рынка. Организация общества носит атомистический характер; оно состоит из небольших хозяйственных единиц, и никто не занимается обманом и жульничеством 143 — поистине наиболее совершенная из совершенных экономических моделей.
Найт все же колебался сделать окончательные выводы из своего анализа. Он признавал его ограниченность, недостаточную гибкость и абстрактный характер, а также то, что, решая задачу максимального удовлетворения, этот анализ исходит из сомнительных условий и не
учитывает распределения экономической силы. Полная рациональность поведения представляется сомнительной, поскольку, замечал он, если облачить эти абстракции в одежду фактов, то результат будет далеким от идеала 144. Однако эти вынужденные признания не остановили его: он снова и снова возвращался к системе свобод* Под термином «специализация» автор, очевидно, имеет в виду формы ограничения конкуренции в докапиталистических формациях, например систему гильдий при феодализме.— Прим, перев.
ного предпринимательства как высшему выражению экономической мудрости.
Теория спроса Найта исходит из того, что целью экономической деятельности является удовлетворение потребностей. Но, говорит Найт, глубинные явления, связанные со спросом, не поддаются анализу в рамках экономической науки, имеющей дело с количественно определенными величинами. Категория экономичности постигается интуитивно и предполагает убывающую полезность. Но если дополнительные единицы блага могут быть оценены, Найт не видит такой же возможности для оценки дополнительных единиц удовлетворения. И все же закон убывающей полезности, будучи должным образом сформулирован, оказывается полезным для психологически обоснованной интерпретации потребительского выбора 145. Если же не сделать этого, то останется только прибегнуть к объективным положениям теории бихевиоризма. Таким образом, объяснить поведение человека невозможно — предпосылка, которая, очевидно, подрывает всякую психологическую основу экономической теории. Найт, по-видимому, с удовлетворением и облегчением прибег к этой «бритве Оккама». Ординалистский подход, утверждает Найт, является компромиссом, во всяком случае, он не позволяет уклониться от суждения о степени различия между единицами на общей шкале полезности. Метод кривых безразличия также не помогает лучшему количественному определению. В действительности это лишь гипотетический эксперимент, и с таким же успехом можно вернуться к обычной кривой спроса 146. Здесь Найт снова уточнял свою чистую теорию, признавая изменения в стоимости денег, ошибки поведения и все сложности мотивов человеческих поступков.
Точнее говоря, Найт предпочел ограничить термин «спрос» предполагаемым количеством покупок, а не их действительным количеством на том основании, что подобное определение подчеркивает зависимость спроса от цен 147. Хотя полезность и другие мотивы являются элементами спроса, анализ может быть развит на основе потребительских оценок, денежного дохода и его распределения, цен на доступные заменители и взаимодополняемые блага. Так, высокие цены на взаимодополняемые блага ведут к снижению спроса. Такого рода анализ может быть распространен на различные производственные услуги, поскольку они также относятся друг к другу как заменители либо как взаимодополняемые факторы. Спрос связан в основном с ценой, то есть с эластичностью, хотя Найт предпочитал использовать выражение «реакция потребления». Это, по его мысли, 440
должно было подчеркнуть направленность причинной связи от цены к проданному количеству, что наблюдается при продаже товаров с фирменным знаком. Он также отмечал, что реклама может использоваться для изменения спроса, даже если цена и количество фиксированы, как это происходит в условиях монополистической конкуренции. Эластичность, информация о которой так же нужна, играет важную роль в налогообложении, равно как и факт монополии.
В то время как в анализе Найта спрос является функцией цены, предложение означает лишь то количество продукции, которое поступает на рынок. Поскольку цена не является одним из детерминантов предложения, то вполне возможно появление лагов между ценой и предложением. Поэтому можно представить себе и случаи нарушения равновесия, особенно в пределах короткого периода, поскольку предложение не всегда равно потреблению товара или услуги. Разница покрывается за счет наличных запасов и избыточных мощностей. Так, конечно, обстоит дело лишь с точки зрения короткого периода, поскольку, утверждает Найт, в длительном аспекте производство и потребление — это процессы, которые происходят фактически одновременно. С этой точки зрения предложение определяется темпами роста продукции, если предположить, что все ресурсы полностью используются. В этих условиях господствует правило предельной производительности, а ресурсы используются в соответствии с освященным временем принципом равнопредельной эффективности. Хотя дифференциальные нормы использования ресурсов усложняют проблему, Найт утверждает, что перераспределение ресурсов может легко совершаться под воздействием меняющегося спроса. Видимо, возможность перелива капитала как реакция на норму прибыли Найтом сильно переоценена. В этом и состояла концепция капитала как чистого фонда, которую Найт защищал с большим красноречием. Более того, сомнительно, чтобы использование бездействующих мощностей могло служить иллюстрацией того, насколько подвижен капитал. В некотором смысле перелив капитала зависит от предвидения, которое всегда несовершенно, что первым признал сам Найт.
Даже для длительного периода Найт отверг определение предложения как функции цены, поскольку при неизменных издержках цена может легко приспособиться к изменениям спроса148. При понижающихся издержках возникает тенденция к усилению монополистического регулирования, и производство также оказывается независимым от цены. Не является предложение и обратной стороной спроса, как предполагается в теории резервированных цен, поскольку производство осуществляется для продажи; даже когда товары не могут храниться или быть перевезены на другой рынок, производители не в состоянии потребить свою собственную продукцию 149. Кривая предложения есть по сути дела кривая издержек производства, выражающая издержки как функцию размеров выпуска. Такого рода анализ длительной перспективы, говорил Найт, подводит производителей к выводу, что в условиях понижения издержек сокращение производства будет происходить при высоких, а не при низких ценах 15°. Этот парадокс привел Найта к заключению, что понижение издержек в качестве долговременной тенденции невозможно в условиях конкуренции, так как эти условия быстро приводят к приспособлению уровня издержек у всех производителей 151. Найт, разумеется, исходил при этом из существования большого числа производственных единиц, каждая из которых обладает наиболее эффективными размерами. Следовательно, изменения производства означают изменение числа единиц, а не изменение их масштабов. Повышение эффективности от увеличения масштабов предприятия может быть достигнуто лишь путем сокращения числа предприятий и увеличения их размеров: роста промышленной продукции при этом не произойдет 152. А развитие крупного производства означает неизбежную монополию. Предельные издержки в длите ль- ной перспективе также не имеют значения, поскольку в условиях конкуренции все издержки должны быть одинаковы для всех предприятий. Главным выводом из этой сложной аргументации явилось то, что различия между краткосрочными и долгосрочными изменениями в производстве были сведены на нет 153. Маршалл и его последователи попросту ошибались, когда они проводили различие между условиями производства и предложения для различных периодов времени. Избыточные мощности не составляют серьезной проблемы, утверждал Найт, поскольку наличие их свидетельствует лишь о том, что можно без труда довести производство до таких масштабов, для которых предприятие предназначалось, и в любом случае избыточные мощности носят лишь временный характер! Написанные в 1921 г., эти слова в настоящее время звучат несколько странно. От проблемы избыточных мощностей никак нельзя отделаться с такой легкостью. Более того, утверждение, что капитал и труд проявляют достаточную физическую подвижность, позволяющую приспособить производство к спросу, крайне нереалистично 154.
441
Единственной целью Найта было показать, что значение крупного производства сильно переоценено. Обоснованность этого утверждения не нуждается в комментариях 155.
В упорном стремлении упростить теорию распределения, так же как и теорию цен, Найт неоднократно призывал к отказу от традиционного трехчленного деления факторов производства. Считая противопоставление земли, труда и капитала как различных категорий бесполезным и надуманным, он отстаивал свою точку зрения с упорством, достойным, лучшего применения 156. Найт говорил, что нет существенной разницы между постоянными и непостоянными ресурсами 157. Первые, то есть земля и другие природные богатства, требуют в целях постоянного получения потока услуг от них поддержания в такой же мере, как и непостоянные ресурсы. Потребность в каком-либо «факторе производства» есть потребность в капитале, поскольку последний, настаивал Найт, по крайней мере в теоретическом плане, имеет всеобъемлющий характер. Иначе говоря, капитал — это не собрание вещей, а родовое понятие для всех производительных услуг. Следовательно, любое различие между естественными и искусственными либо постоянными и непостоянными ресурсами бесполезно 158. В условиях современной товарно-денежной социально-экономической организации, последовательно развивал свои доводы Найт, можно говорить лишь о производительных услугах и о распределении продукта в условиях конкурентной оценки. Любая классификация не имеет никакого отношения к делу, поскольку каждый так называемый фактор легко может быть замещен другим.
Боясь, что он зашел слишком далеко, Найт признал, что, возможно, необходимо допустить наличие большого числа факторов. Однако и в этом случае едва ли можно утверждать, что один фактор является просто заменителем другого. Очевидно, Найт допустил смешение физических и стоимостных понятий. Совершенно ясно, что степень взаимозаменяемости производственных агентов ограничена и она зависит от различных производственных, ценностных и технологических элементов, если, конечно, не принимать на веру утверждение Найта о том, что все экономические факторы — это «один огромный однородный фонд» 1б9. Если бы это было так, то все производственные ресурсы должны были бы оплачиваться одинаковым способом. Но если предложение имело бы более непосредственное отношение к процессу ценообразования, то между факторами возникло бы различие. По-видимому, все факторы одинаковы лишь с точки зрения спроса; поскольку речь идет о предложении, между ними есть существенное различие. По сути дела смешение одного фактора с другим затемняет характер и основные свойства экономических законов. Как-никак, а утверждение об относительном постоянстве исходных ресурсов не лишено смысла, а труд есть все-таки нечто отличное от взаимоотношений, охватываемых термином «капитал». Превращение всех трех факторов в единый поток неизбежно должно было завести в тупик 16°.
Исходные установки Найта заставили его подвергнуть критике некоторые стороны теории австрийской школы, что привело к горячим спорам, продолжавшимся около пяти лет 161. Спор шел в основном с Хайеком и Фрицем Махлупом, хотя время от времени в нем участвовали и другие экономисты, в частности Николас Калдор и Кеннет Боулдинг. Нельзя сказать, что в этом споре Найт одержал верх. Хотя к его взглядам, которые он высказывал с большой страстностью, отнеслись с должным вниманием, окончательный итог был не в его пользу. Трехчленное деление факторов по- прежнему широко используется в экономической литературе в целях анализа, а многие исследователи соглашаются с кейнсианской точкой зрения на процент как преимущественно денежное явление. Возможно, что именно та замечательная ловкость, с которой Найт пользовался орудием экономической логики, и привела его к поражению. Несомненно, что усложненность аргументации и обилие4выводов, которые он делал, приводили к тому, что терялось из виду главное в его позиции, а его пристрастие к парадоксам создавало впечатление, что его теорию можно понимать как угодно.
Концепция предельной производительности, писал Найт, означает, что традиционное деление факторов является излишним, поскольку предприниматель заинтересован лишь в производительных агентах, каждый из которых стремится к оплате в соответствии со своим специфическим вкладом в выпуск продукции. Соответственно все производительные услуги суть лишь различные формы капитала или производительной способности которая выражена абстрактно-количественным, способом и которая поддается самому разнообразному использованию благодаря изменениям формы 162. Измерение такой производительной способности есть просто вопрос оценки. Однако подлинное значение капитала связано не с его оценкой, так же как и не с тем, что он служит для займов и ссуд; оно вытекает из процесса инвестирования. Конечно, при этом Найт признавал определенные ограничения: люди не могут рассматриваться как капитал; неосязаемые активы 442
следует иногда отличать от материальной собственности; некоторые услуги используются «единовременно, тогда как другие используются длительное время; товары длительного пользования могут использоваться самим владельцем или быть сданы в аренду другим. Долговечность фактора также имеет значение, так как это влияет на подвижность и использование капитала для альтернативных нужд.
Но в основном производительные агенты, по Найту, однородны: для повышения и поддержания плодородия земли требуются определенные затраты и ее стоимость по необходимости должна сравниваться со стоимостью других форм капитала. Следовательно, продолжал Найт, не существует подлинного различия между процентом и рентой. Все различия между ними носят правовой и договорный характер. Утверждение о том, что эти платежи отражают различные экономические отношения между людьми, выполняющими различные функции, Найт отверг как абсолютно несостоятельное. Даже когда речь идет о рабочих, и то нельзя говорить о настоящем различии между факторами, поскольку заработная плата есть лишь возмещение оказанных услуг, а тот факт, что системы рабского труда более не существует, просто означает, что изменилась институциональная основа. Оплата рабочего по существу не отличается от оплаты капитала — на деле труд есть форма капитала! В теоретическом плане содержание капитала и приносимого им дохода одно и то же, независимо от конкретной общественной формы, говорил Найт. Такая степень абстракции, такая погоня за обобщением не могла быть плодотворной. Выводы, которые следуют из различных взаимоотношений, определяющих конкретные способы вознаграждения факторов, имеют подлинно важное значение для анализа экономической системы. И оттого, что Найт переложил ответственность за их исследование на другие общественные науки, эти проблемы не перестают быть в своей основе экономическими. Без них экономическая теория превращается в абстрактно-логическую дисциплину, в пустой формалистический анализ, не имеющий отношения к условиям человеческого существования.
Найт обвинил австрийскую школу в том, что она восприняла в своей теории капитала концепцию классического сельскохозяйственного цикла, предположив фиксированные пропорции между капиталом и трудом и превратив капитал в линейную функцию переменного производственного периода. Это придало отношениям между капиталом и трудом ложный характер взаимодействия, тогда как по существу правильно говорить лишь о параллельном и совместном существовании 163. Поэтому не существует и производственного периода: услуги потребляются, по мере того как они производятся, в ходе непрерывного процесса. Потребление и оказываемые услуги действительно поддаются измерению во времени, но, как только они становятся объектом сделки, они «воплощаются» и приобретают стоимости через механизм рынка, хотя они и являются потоками, обладающими временной характеристикой. Именно это теоретическое отношение привело к концепции богатства: если трактовать богатство как конечные единицы в потоке, то оно действительно становится продуктом дохода и времени. Оно является своего рода сжатым доходом, хотя и имеет вид запаса. Вся путаница вокруг этих понятий связана, по мнению Найта, с тем, что деятельность по созданию богатства и по извлечению из него выгод осуществляется различными лицами. Прежние взгляды теряют силу, как только капитал начинает рассматриваться как процесс и как фонд, который растет. Мысль о возможности разрыва во времени между производством и потреблением Найт считал «туманной»: во всяком случае, если лаги имеют место, то причиной их является «воздержание». Совпадение во времени производства и потребления придает богатству такой же постоянный характер, как и самому капитализму. Любые замещения элементов капитала являются лишь техническими деталями в процессе его содержания, в то время как доход от инвестиций есть поток постоянный.
Однако Найт не мог отрицать того, что иногда имеет место обратное движение, особенно во время кризисов. И несмотря на интерес, проявленный Найтом к вопросам стоимости, ему не удалось до конца разъяснить, как он понимает денежную природу капитала. Если бы он разъяснил это, то он не стал бы утверждать, что проблема долговечности безразлична для инвесторов 164. Возможно, такова точка зрения спекулянтов, но существуют другие категории инвесторов, чье поведение нуждается в совершенно ином объяснении. На рынке ценных бумаг может наблюдаться текучесть, но не все предприниматели пользуются рынком акций для размещения капитала, и в этих пределах вопрос долговечности приобретает определенное значение. Более того, утверждение, что ликвидация действующего предприятия означает просто возвращение активов в общий поток капитала, не имеет смысла, если не проанализировать воздействие этого перехода на денежные оценки. Найт писал так, как будто никогда не слыхал о банкротстве и внезапной дефляции активов. Он как бы за лесом не видел деревьев.
443
Если исходить из того, что производственный период не имеет начала и конца и что поток капитала является «бесконечным по природе», писал Найт, понятие средней долговечности капитала лишается подлинного смысла 165. Поскольку богатство вечно участвует в производстве, можно говорить лишь о приращении постоянного дохода. Между временем и потоком капитала не существует связи. С этой удобной позиции Найт обрушился на австрийскую теорию окольного производства 166. Хайек, например, доказывал, что большие количества капитала предполагают удлинение производственного цикла. Но, по мнению Найта, не существует «... производственного процесса определенной длительности, если не считать ноля или „всей истории”» 167. Все зависит от того, что прибавляется: если новые единицы представляют собой те же разновидности товаров и оборудования, которые существовали ранее, то это не окажет никакого воздействия; если же они иные, то результат невозможно предсказать. Понятие производственного периода, энергично продолжал Найт, основано на ложном предположении, что капитал потребляется фиксированными темпами и что существует точное соот- ветствие между количеством капитала и периодом производства. Ошибочно определять средний период строительства путем усреднения продолжительности жизни отдельных единиц капитала. Капитал, настаивал он,— это единая органическая концепция, в которой нельзя выделить отдельные единицы. Если не считать ремонта и содержания, длительность существования капитала неограниченна. Проблемы вынужденной продажи, ликвидаций, устаревания, потерь, депрессий толковались Найтом весьма поверхностно, как не имеющие большого значения 168. Можно установить сроки действия отдельных единиц оборудования, но это имеет значение лишь для определения скорости оборота. Проблема ликвидности относится в действительности к теории денег, а в периоды депрессии только кратковременная диспропорция отрицательно сказывается на обычной для капитала способности к переливу. Необходима лишь уверенность в том, что «реальная» норма прибыли на инвестиции обеспечивает уравнение нормы амортизации с доходом.
Однако при заданном периоде инвестиций производственный период можно ограничить определенными конечными пределами. И совершенно ясно, что это соответствует обычной хозяйственной практике. Точка зрения Найта на этот вопрос граничит с метафизикой, он не смог ответить на вопрос, как происходит уравнение различных норм дохода на различные инвестиции. Эти недостатки его анализа, отмеченные рядом экономистов, свидетельствуют о том, что его теория лишена практического значения 169. Как позже заметил Махлуп, она лишь доказывала, что общество, осуществляющее воспроизводство своего капитала, воспроизводит свой капитал. Если не вводить в анализ период производства, то трудно сохранить и понятие чистых положительных инвестиций или дезинвестирования, продолжал Махлуп. Совпадение во времени производства и потребления имеет смысл, если ограничиться определенным отрезком времени. И что важнее всего, очевидно, что за пределами теоретически стационарного состояния эти процессы не совпадают, и различия в темпе их движения во времени составляют предмет экономического анализа. Замещение капитала, выпуск продукции и способ использования капитала представляют собой различные потоки, и интервал между производством затрат и выпуском продукции может оказаться решающим при изучении некоторых проблем, связанных с изменениями в экономике. Более того, добавлял Махлуп, оценка капитала как непрерывного потока нереалистична и к ней едва ли прибегают. Решая этот вопрос, теория должна исходить из практики, поскольку при капитализации всегда учитывается эффективность за определенный отрезок времени 17°. Интерес представляют именно инвестиции настоящего времени, а не исторический процесс, простирающийся в прошлое и в будущее неопределенной длительности.
Возможно ли определить инвестиционный или производственный период? Николас Калдор полагает, что степень окольности может быть измерена как отношение первоначальных инвестиционных затрат к ежегодным расходам на поддержание 171. Колебания в норме расходов на поддержание и колебания в первоначальных расходах на строительство являются показателями окольности, поскольку это не что иное, как отношение запаса капитала к другим факторам. Основная трудность связана с установлением среднего периода, поскольку состав капитала существенно разнороден. Далее, писал Калдор, капитал может быть противопоставлен другим производительным агентам вследствие его «способности к возрастанию» 172. Ставка процента должна поэтому корениться в природе производственных функций, поскольку некоторые факторы не могут быть значительно увеличены. Падение ставки процента может повести к падению дохода на капитал и к росту некапи- • тальных доходов: следовательно, писал Калдор, есть основания для проведения различий между рентой и процентом. В значительной мере слабость теории Найта связана с его отказом признать разницу между постоянными и повы444
шающимися издержками. А ведь в этом находят отражение различные условия предложения ресурсов. Если существуют только постоянные издержки, то чем можно объяснить стремление изменить направление усилий?
Другой слабостью анализа капитала и производства у Найта является его нежелание признать за производством характер физического процесса, предшествующего определению стоимости. Найт, предпочитая измерять производство только в денежном выражении, забыл, что это также поток материальных благ, который может получить обобщенное выражение и затем быть преобразован в стоимости посредством механизма ценообразования. Как заметил Кеннет Боулдинг, Найт допустил смешение стоимости и предметов, имеющих стоимость 173. Капитал, убедительно продолжал Боулдинг,— это мост между затратами и выпуском, поэтому общая потребность в капитале зависит от дохода и периода производства 174. Трактовать капитал как вечный фонд — значит слишком абстрагироваться от реальности, стирать различия между запасами, потоками и периодами оборота и придавать всей теории метафизический характер, лишая ее конкретности, в результате чего стоимость превращается в производную от капитального фонда.
Одновременно с концепцией вечного капитала Найт ввел понятие постоянного единого дохода, достигаемого путем получения займов в настоящее время для инвестирования в будущем 175. В этом случае, чтобы определить норму процента, необходимо найти отношение увеличенного дохода к инвестициям. Норма дисконтирования приравнивалась норме накопления. Однако представляется более обоснованным связывать процесс дисконтирования с каким-либо определенным отрезком времени, поскольку расчеты, относящиеся к неопределенному будущему, по-видимому, крайне зыбки и они едва ли лежат в основе поведения большинства людей. Но по Найту, ставка процента равняется ренте на капитальное оборудование за вычетом постоянных расходов на его поддержание. Соответствующие элементы издержек Найт связывал с воздержанием, поскольку имел место отказ от других альтернатив, суливших такую же ставку процента. Предложение капитала предполагалось равным спросу на сбережения и эластичным, потому что капитальное оборудование может производиться в неограниченном количестве при постоянных издержках. Спрос на капитал Найт приравнял к размерам сбережений, которые он считает неэластичными в силу некоторых институциональных причин, которые им не были охарактеризованы. Это, по-видимому, ставите ног на голову общепринятую теорию; однако в динамическом контексте представляется очевидным, что предложение сбережений не может считаться совершенно неэластичным.
Процент как плата за использование капитала возникает в силу специализации и главным образом обособления предпринимательской функции. Поскольку находятся люди, которые располагают капиталом, но не желают утруждать себя его производительным применением, то необходимо придать этому капиталу такую обобщенную форму, которая облегчила бы представление ссуд. Иначе говоря, капитал есть стоимость, и доход от его использования в этой форме идентичен рентному доходу от капитала в его конкретных воплощениях. Различия, возникающие между рентой и процентом, могут быть объяснены существованием тех частей потока доходов, которые поступают к предпринимателю в форме прибыли. Поэтому процент есть просто форма дохода, и предпочтение времени не играет роли в его определении, поскольку, по мнению Найта, потребители распределяют свои желания равномерно во времени. Забота о сохранении доброго имени после смерти, желание обеспечить наследников или «идеальные чувства» могут иметь отношение к накоплениям и сбережениям, но все это факторы институционального порядка. Люди берут взаймы из-за того, что они могут поместить капитал в дело, а его способность произвести услуги, то есть его производительность, становится основой процента, норма которого определяется как «ожидаемая специфическая степень производительности» 176. Иначе говоря, норма процента есть ожидаемая производительность чистой единицы капиталовложений за определенное время. И все же утверждение о равномерном распределении желаний во времени совершенно ложно. На деле горизонты времени отличны для разных людей, и с этим действительно связаны неодинаковые предпочтения. Молодые люди отдают предпочтение настоящему, тогда как люди средних лет начинают думать о будущем. Семейное положение, равно как и возраст и способность обеспечить свое будущее, оказывают существенное, хотя подчас и скрытое влияние на предпочтение времени. Это влияние проявляется даже в процессе производства. Все это Найт игнорировал.
Основными элементами теории процента Найта являются производительность и издержки 177. Поскольку теория отрицает предпочтение времени, в ней нет места и для психологических элементов. Издержки включаются в анализ из-за того, что средства, необходимые для производства новых активов, определяют норму доходности, исходя из которой устанавливаются будущие доходы на все другие активы 178. 445
Введение издержек позволяло также вырваться из порочного круга, связанного с предпочтением времени, поскольку количество капитала могло быть определено независимо от дохода на текущий капитал. Однако количество капитала и не имеет столь существенного значения, заявлял Найт, поскольку норма процента является лишь выражением зависимости между нормой инвестиций и темпом потенциального роста. Если определять процент через посредство темпов изменения, то нет нужды обращаться к натуральным элементам: процент рассматривается исключительно под углом зрения предельной производительности — крайне абстрактное утверждение, означающее, что в условиях полностью стационарного состояния процент и рента идентичны. Инвестор вкладывает не определенное количество капитала, но скорее поток потребительского дохода определенной интенсивности и продолжительности. А цель — получение равномерного дохода во времени — может быть достигнута достаточно просто, путем инвестирования и дезинвестирования в соответствии с конъюнктурой 179. Это означало применение равнопредельного принципа во времени для соизмерения выгодности текущего потребления и будущих инвестиций. Люди берут взаймы до тех пор, пока связанные с займом издержки не уравняются с доходом, ожидаемым от новых инвестиций. Это можно истолковать таким образом, что предельная производительность капитала определяет норму дохода и норму процента. Если ввести исторические факторы и накопление, то концепция Найта близка тому, что Кейнс впоследствии назвал предельной эффективностью капитала.
Однако Найт, безусловно, отверг бы такую характеристику его теории, поскольку он не считал возможным, чтобы капитал достиг точки насыщения 18°. И действительно, писал он, нет причин пытаться вывести кривую предложения для капитала. Ставка процента никак не связана с общим предложением капитала, и нет основания для установления ставки равновесия, отличной от рыночной ставки. Обычная теория равновесия не применима к рынку капитала, поскольку она касается лишь того случая, когда имеет место равномерный приток благ на рынок 181. Но и здесь допущена немалая путаница. С одной стороны, по Найту, издержки влияют на будущие доходы, так что количество капитала действительно имеет некоторое отношение к ставке процента; с другой стороны, процент как таковой не связан с предложением капитала. Это противоречие возникло из сопоставления ценообразования в неизменных условиях с изменениями на рынке капитала во времени. Периоды времени, которые рассматривал Найт, были весьма длительными, по существу неограниченными, что означало возможность абсолютной приспособляемости производительных услуг. Но в другом смысле^ его концепция предполагала существование как бы мгновенной нормы дохода, не имеющей отношения к инвестициям или предпочтению времени. Теория Найта потерпела крах из-за того, что ему не удалось определить границы между этими двумя ситуациями.
Найт считал, что концепция воздержания достаточна для объяснения природы процента 182. Преимущества теории воздержания, утверждал он, состоят в том, что она становится теорией предложения 183. Это справедливо главным образом, когда спрос абсолютно эластичен. Воздержание есть жертва, постоянно приносимая владельцем капитала в виде отказа от потребления предельной единицы сбережений. Найт, проведя тщательный анализ мотивов, лежащих в основе воздержания, не пожалел усилий, чтобы доказать его отличие от жертвы, связанной с созданием добавочного капитала. Однако для современного читателя все это> выглядит крайне нереалистично, поскольку в условиях акционерной собственности воздержание вряд ли имеет какое-либо значение 184. Не помогло Найту и обращение время от времени к институциональным факторам: он по-прежнему рассматривал теорию процента лишь как ответвление формально-экономического анализа. Если бы он провел всесторонний институциональный анализ, это выявило бы ошибочность его собственных взглядов. Воздержание, настаивал Найт, необходимо привлечь в качестве объяснения уже потому, что без него надо будет принимать в расчет слишком много других неизвестных величин. Все эти сложности Найт обходил, ограничиваясь призывом к анализу спроса и предложения на потребительские блага, с последующим анализом спроса и предложения на производственные блага и в конечном счете к рассмотрению спроса и предложения на капитал. Таким образом, все проблемы вновь сводились к проблеме капитала. Все остальное не имело для Найта значения.
Результат ожесточенного спора между Найтом и сторонниками теории реального капитала оказался в основном в пользу последних. Как бы то ни было, стала очевидной необходимость всесторонне учитывать в анализе элемент времени, что и пытались сделать Хайек, Махлуп, Калдор, Боулдинг и другие, хотя нередко у них возникали разногласия по частным вопросам. Было признано также, что существование какого-то производства в непосредственно предшествующий период не может не влиять на направление и темпы развития хозяйства в- 446
будущем. Более того, изучение капитала с точки зрения составляющих его конкретных благ делало возможным структурный анализ, который практически исключался в рамках концепции Найта. В то же время стало очевидным, что взаимоотношения различных частей капитала имеют важное значение для понимания характера экономического развития. Интерес к этой проблеме проявляли такие в корне различные теоретики, как Маркс и Хайек. Эта проблема имеет длительную историю, и от нее нельзя отмахнуться философскими рассуждениями, поскольку с ней связаны причины многих экономических потрясений.
Первоначально известность Найту принесла его теория неопределенности и прибыли, в основном развивавшая концепцию риска Д. С. Милля 186. Подобную же теорию предпринимательской функции разработал английский экономист Морис Добб в 1920-х годах 186. Оба они подчеркивали то, каким образом в деятельности предпринимателя проявляется процесс принятия решений 187. Однако подобные теории, и в особенности это относится к Найту, часто обременены грузом апологетики и, по замечанию Йозефа Шумпетера, неизбежно наталкиваются на враждебное отношение 188. В чисто логическом плане теории Найта присущи недостатки любого «функционального» анализа, а именно это свойство характерно практически для всех работ Найта. По его мнению, уникальная природа прибыли означает, что доходам на капитал нет места в общей картине. В его теории, которой свойствен глобальный подход, прибыли уравновешиваются убытками, так что они совершенно исчезают из хозяйственной деятельности. Утверждение Найта о том, что прибыли и убытки в рассматриваемой им. системе взаимосвязаны, могло иметь некоторый смысл лишь с макроэкономической точки зрания. Но многие другие экономисты предпочитают рассматривать прибыль в позитивном смысле, оставаясь на одном и том же уровне экономического анализа и не переходя, когда это им удобно, с микроэкономических на макроэкономические позиции.
Настоящая прибыль, писал Найт, связана с элементом неопределенности. Его действие проявляется в фактах неожиданного обогащения и получении спекулятивных доходов. Если бы будущее было заранее известно, рынок мог бы предвосхитить появление любого дефицита, так что прибыль стала бы невозможной. Высокие доходы от рискованных предприятий —- это просто премия за неподдающийся измерению риск либо за неопределенность. Если потери превышают доходы, то те, кто взял на себя бремя риска, вынуждены заплатить владельцам производительных услуг сумму, превышающую их вклад. Следовательно, те, кто брал на себя риск, оказались чрезмерными оптимистами. Когда же доходы больше убытков, владельцы производительных услуг получают меньше, чем они получили бы в случае более точной оценки будущих возможностей. Таким образом, в общем виде часть прибыли — это плата за услуги тех, кто берет на себя риск. Соответственно прибыль есть вычет из всех других платежей и в действительности есть часть того, что поступает владельцам производительных услуг 189. Она не является доходом фактора сама по себе и обязана своим существованием лишь неопределенности в отношении будущего 19°.
Любой доход содержит, следовательно, элемент прибыли, который не всегда может быть выделен из-за трудности установления равновесной цены в оплате фактора. В аналитическом плане прибыль является результатом отклонений действительных от теоретических условий. В определенном смысле в прибыли отражается несовершенство рынка, а также попытка учесть ту уникальную предпринимательскую услугу, которая не включается в нормальную «плату за управление». Смысл этой услуги — бремя риска. Здесь Найт подразумевал не те виды риска, которые поддаются страхованию, но скорее риск, не поддающийся учету, связанный с неопределенностью перспективы. Таким образом, его теория превращается в характеристику предпринимательской оценки и процесса принятия решений, в котором прибыль выступает в роли важного элемента динамических перемен. Найт считал, что такой подход существенно дополняет общепринятую теорию цен, поскольку в нем подчеркивается большая роль убытков в экономике свободного предпринимательства. То обстоятельство, что размеры предпринимательской прибыли на протяжении длительного периода весьма значительны, его нисколько не смущало 191.
Одна из задач, связанных с неопределенностью, заключается в том, что человек приспосабливается к определенному роду деятельности, а это обеспечивает специализацию внутри предпринимательской группы 192. Предполагается, что в результате усиливаются ответственность и контроль в деловом мире, и здесь описание Найта приобретает характер панегирика предпринимателям, чья функция настолько жизненно важна, по его словам, что обеспечивает «...громадные сбережения для общества, резко повышая эффективность хозяйственной деятельности» 193. Однако его утверждение о том, что деятельность корпораций представляет собой образец экономической демократии, совершенно неприемлемо в свете того, что действительно
447
происходит в этих организациях, где профессиональные менеджеры назначают советы директоров, которые с готовностью избираются держателями акций, для того чтобы эти советы могли назначить «с соблюдением в равной мере торжественного ритуала» тех менеджеров, которые назначили их 194. Включив в свою концепцию прибыли категорию убытков, Найт оказался вынужден прибегнуть к таким внеэкономическим мотивам поведения, как психология игры и азарта, для того чтобы придать смысл предпринимательской деятельности. Эти мотивы были для него по меньшей мере настолько же важны, как соображения эффективности. Однако погоню за прибылью нельзя было исключить целиком, поскольку без этого эффективность и психология игры теряли смысл. Найт отчетливо осознает существование конфликта между моральными нормами и определением эффективности, по, поскольку это различные области исследования, он не дал ответа на все связанные с ними проблемы 195.
Хотя Найт никогда не считал монополию серьезной проблемой, он признавал угрозу, связанную с ее развитием. Монополия есть лишь вмешательство в действие сил свободной конкуренции 196. Короче говоря, монополия есть монополия, что едва ли можно признать глубоким определением. Однако Найт считал, что монополия может быть эффективной в качестве хозяйственного механизма, особенно когда она прокладывает новые пути в области организации производства, что иногда и происходит в действительности. Но по существу, говорил Найт, монополия не имеет большого значения, поскольку остается значительная способность к взаимозаменяемости различных услуг. Эта точка зрения, которая выглядела весьма странно даже в 1921 г., в еще меньшей мере плодотворна для понимания экономической реальности настоящего времени. Контроль крупных организаций над ресурсами и услугами Найт считал «неэффективным и несовершенным»; более того, чтобы подобный контроль стал эффективным, он должен быть, по Найту, почти полным. Однако лидерство в ценах и сговор были распространены уже в период до первой мировой войны, и стоило Найту в большей степени, чем он это делал обычно, учесть факты, как его взгляды на монополию, возможно, приняли бы иную форму. Он утверждал, что монопольная сила частных производителей в значительной мере преувеличена и что общественность «... весьма заблуждается относительно природы тех зол, которые исходят от монополий» 197. Фактически критика монополии рассматривалась им как проявление предрассудка. Усилия общественности, направленные на ограничение частной экономической силы, есть лишь попытки изгнать зло за счет «козла отпущения».
Подобно этому, несовершенную или монополистическую конкуренцию Найт расссматривал как результат несовершенного поведения 198. А именно, ограниченность информации дает возможность производителям противопоставлять свою продукцию подобным изделиям, продаваемым другими производителями, и поэтому реклама является такой крупной отраслью деятельности. На деле Найт преуменьшал значение нового комплекса теоретического анализа, разработанного Джоан Робинсон и Эдвардом Чемберлином 199. Не удивительно, что Чемберлин был так нетерпим по отношению к Найту и его последователям 20°. По мнению последнего, экономическая теория должна исходить из существования рынка свободного предпринимательства и рассматривать реальные ситуации как отражение механических несовершенств 201.
Теория экономических циклов Найта выглядит столь же ограниченной 202. Причины цикла Найт приписывает главным образом неравновесию, возникающему на одном из спекулятивных рынков. Хотя деньги не являются частью фундамента теории Найта, тем не менее они привлекаются им для объяснения циклов. Найт постоянно возражал против кейнсианской точки зрения, что деньги являются главной чертой современного капитализма, и особенно он был против того, чтобы им приписывалось значение независимой силы, стоимость которой отчасти связана с предпочтением ликвидности. Это положение явно противоречило чистой теории Найта, и поэтому он не мог с ним согласиться. Теорию, согласно которой ставка процента может быть платежом за отказ от денежных запасов, он предавал анафеме. Предпочтение ликвидности может играть роль, писал Найт, лишь в поворотных точках цикла 203. Пока деньги выполняют свою основную роль средства обмена и платежи производятся за оказанные услуги, скорость оборота денег довольно устойчива. Колебания возникают, когда деньги используются в качестве накопленной стоимости, поскольку в этом случае скорость оборота подвергается изменениям, что ведет к колебаниям цен. Действительно важную роль в циклах играют психологические элементы, утверждал Найт в духе Пигу. Избыточные сбережения невозможны, ибо с помощью правильной денежной политики можно эффективно использовать добавочные фонды. Найт отмечал существование нескольких типов колебаний, в том числе кумулятивные движения цен на спекулятивном рынке с фиксированным предложением и колебания, вытекающие из реакции пред448
ложения на цену. Найт отвергал принцип акселерации Д. М. Кларка на том основании, что он вводит в заблуждение, но его критика оказалась слишком неубедительной 204. В общем, экономический цикл, согласно Найту,— это явление, связанное с созданием спекулятивных запасов денег. Если денежная политика и может влиять на изменение процентных ставок, то влияние это в лучшем случае номинальное, затрагивающее разницу в единице измерения, а не в реальной ставке дохода на ссуды. Более важны ожидаемые изменения цен в самом инвестиционном процессе. Но как только Найт переходит к описанию цикла, становятся заметны значительные заимствования из Кейнса и Хайека 205. Эта теория лишена связности и разработана Найтом как бы в отрыве от предыдущих исследований.
Не удивительно, что Найт враждебно относится к рабочему классу, выдвигая против профсоюзов обвинения в монополизации и других грехах. Уже в период написания книги о риске и прибылях он объяснял низкую заработную плату склонностью рабочих беспечно относиться к жизни так же, как и к доходу. Найт полагал, что этим объясняется их бедственное положение в условиях свободного предпринимательства 206. Поэтому общество должно использовать все виды социального законодательства, чтобы восполнить те потери, которые рабочий несет из-за своей беспечности. Как это случалось со многими другими чистыми теоретиками, анализ рабочего вопроса у Найта оставляет желать лучшего. Не далее как в 1959 г. он все еще рассматривал сложные проблемы рабочего класса в современном обществе лишь в рамках мнимого свободного рынка 207. Ненормальность такого подхода бросается в глаза. Еще более странным выглядит его утверждение, что реальные рынки в большей мере соответствуют теоретической модели, чем полагают хулители свободного предпринимательства. Поэтому дело стоит лишь за тем, чтобы хорошенько наказать профсоюзы за нарушение ими рыночных принципов. Подобно Эдварду Чемберлину и ряду других авторов со сходными идейными позициями, Найт возражал против коллективного договора, выходящего за пределы фирмы или завода. Но он пошел еще дальше, утверждая, что трудовые договоры в любом случае означают монопольное установление цен. Способность же крупных предприятий навязывать цены на свою продукцию Найт при этом не упоминал. Думать, что такие компании продолжают действовать в условиях открытой конкуренции — значит выдавать миф за факт. Те, кто знаком с историей трудовых отношений в промышленности, вряд ли поверят в то, что предприниматель испытывает затруднения в силу «...отсутствия свободы действий в отношениях с наемным рабочим; об этом знают другие рабочие, а эффективность производства требует поддержания здоровых настроений среди рабочих» 208. Совершенно очевидно, что профессор Найт либо плохо знает факты промышленной истории, либо не придает им значения. Чтобы понять роль профсоюзов в настоящее время, необходимо покинуть область общей теории с ее абстрактными построениями и изучить работы историков трудовых отношений и специалистов по экономике труда 209.
Очевидно, что политические взгляды Найта, насколько о них можно составить суждение, носят скорее консервативный характер 21°. Осуждая стремление к переменам и к преобразованию традиционных экономических институтов, он резко критиковал «Новый курс» Рузвельта, называя его программой плановой скудости, и у него нашлись лишь резкие слова в адрес социального законодательства о заработной плате и продолжительности рабочего дня. Свободный рынок, утверждал Найт, возможно, и не является совершенным во всех отношениях, но все же он лучше чего-либо другого, потому что он позволяет людям сотрудничать без всякого предварительного согласования целей. Смешанная экономика, которая в то время проверялась на опыте, по Найту, во многом достойна сожаления 211. Странно то, что, хотя Найт призывал экономистов не делать предсказаний и не выносить суждений, его собственная чистая теория содержит наиболее абсурдное из всех возможных суждений, а именно, что мир, в котором мы живем,— наилучший из миров.
В предисловии к новому изданию книги «Риск, неопределенность и прибыль», написанном в 1933 г., Найт расценил как признак дурного вкуса стремление экономистов опускаться до «уровня мышления публики» с целью оказать некоторое влияние на политику. Это замечание определенно отдает снобизмом, поскольку оно содержит очевидный намек на тех экономистов, которые оставили университетские городки ради работы в Вашингтоне. Им следовало остаться дома, указывал Найт, и посвятить себя решению проблем. Однако нельзя не признать, что поиск выхода из великой депрессии был немаловажной проблемой. По Найту же, те экономисты, которые верили, что административная деятельность государства не лишена интересных интеллектуальных аспектов, попросту угождали вкусам толпы 212. А это плохо, говорил он, поскольку мышление масс романтично и они неспособны на бесстрастный анализ. И тут же, практически не переводя дыхания, он мог с полным спокойствием заявить, что выводы 29 б. Селигмен
449
в экономической теории зависят от институциональных факторов. Видимо, плохим считается только то, к чему он испытывает личную неприязнь.
Так формализм в соединении с политическими предрассудками привел к созданию наиболее ограниченной системы экономических воззрений нашего времени. Найт привержен традициям в значительно большей мере, чем это ему кажется213.
6. ЭЛВИН X. ХАНСЕН И ЗРЕЛАЯ ЭКОНОМИКА
Интервенционистская философия «Нового курса» была, разумеется, совершенно неприемлема для экономистов либерального направления. И те ученые, кто, подобно Элвину X. Хансену из Гарвардского университета (род. 1887), считал, что цель научного исследования состоит не в плетении паутины абстрактной теории, а в применении экономического анализа к государственной политике, подвергались ожесточенным нападкам. Взгляды Хансена и других экономистов «Нового курса» третировались как «академическая апология» политики Рузвельта и оправдание «безответственного коллективизма» 214. Самого Хансена обвиняли в защите постоянно растущего государственного долга 21Б. Почти все эти резкие обвинения исходили из лагеря либералов, для которых сохранение рамок laissez faire представлялось более важным, чем ликвидация громадной безработицы и решение проблем экономики, находящейся в состоянии стагнации и депрессии.
Хансен, которого часто называют «американским Кейнсом», в начале своей деятельности был довольно консервативным и осторожным экономистом, и он находился целиком в русле ортодоксального мышления. Он родился в семье владельца фермы в штате Южная Дакота, и в 1910 г. окончил Янктон- ский колледж. После трехлетнего преподавания в средней школе он в 1918 г. поступил в университет штата Висконсин для завершения своего образования. С самого начала Хансен проявил глубокий интерес к изучению экономических циклов. Сравнительный анализ циклического развития в Соединенных Штатах, Англии и Германии, представленный в 1921 г. в качестве докторской диссертации, завершался выводом, что главные причины циклов связаны с денежными явлениями, вытекающими из расширения банковского кредита. Затем последовала книга «Теория экономических циклов» 216, где цикл рассматривался Хансеном как значительно более сложное явление. Его анализ стал более институциональным по своему характеру; для объяснения колебаний современной экономики он привлек проблемы технологии, правовой структуры, организации производства. Неравномерное распределение дохода, неопределенность, накопление запасов, элементы запаздывания в потоке товаров из одного сектора в другой — все это имеет отношение к современному экономическому циклу. Нарушения, по-видимому, наиболее часто происходят в связи с отклонением ожидаемых прибылей от ставки процента. Подобные отклонения, полагал Хансен, могут быть обусловлены новыми изобретениями, изменениями в технологии и во вкусах потребителей, колебаниями урожая и войнами. Но что более важно, он пришел к признанию того, что периодам расширения и сокращения производства свойствен кумулятивный эффект, сдерживаемый лишь недостаточными трудовыми ресурсами, производственными мощностями и наличными сбережениями.
Таков был начальный период развития экономической теории Хансена, завершившегося построением системы взглядов, которая оказала глубокое влияние на современников. Как преподаватель и автор, он всегда соединял теоретическое исследование с реалистическим и трезвым анализом требований экономической политики. Вначале он несколько критически относился к новому подходу, который защищал Джон Мейнард Кейнс, но с середины 1930-х годов он стал в США главным выразителем принадлежащей Кейнсу теории определения уровня дохода. Остро схватывая природу социальных институтов, Хансен был неутомим в развитии наиболее плодотворных направлений теории Кейнса применительно к практике. Целое поколение американских экономистов обязано Хансену знанием того, что представляют собой движущие силы капиталистической экономики. Пожалуй, наиболее убедительную иллюстрацию того, какую подлинно творческую работу проделали его ученики и последователи, можно найти в сборнике статей в честь его шестидесятилетия, озаглавленном «Доход, занятость и государственная политика» 217.
В 1932 г., когда Хансен опубликовал книгу 450
«Экономическая стабилизация в неустойчивом мире» 218, он еще не был готов признать правомерность государственного вмешательства в экономику. Он лишь признавал, что существование высоких процентных ставок на долгосрочные ссуды при отсутствии перспективы получения достаточных прибылей препятствует восстановлению экономики. Он боялся, что если не снизить ставки процента на долгосрочные ссуды, то результатом будет стагнация. Это были первые ростки его теории стагнации. Казалось, что возможности дальнейшего совершенствования промышленности весьма ограничены, а посещение Европы в 1928 г. навело Хансена на мысль о том, что снижение темпов роста населения отрицательно скажется на экономике. Однако в этих тенденциях были, по-видимому, и свои плюсы, поскольку при замедлении темпов роста населения меньший упор будет делаться на развитие отраслей, производящих средства производства, и больше внимания будет уделено расширению производства потребительских товаров. Подобно Шумпетеру, он считал, что депрессия может заложить основу для дальнейших усовершенствований и более высокого уровня развития через процесс «созидательного разрушения» 219.
Но в основном первоначальные взгляды Хансена были диаметрально противоположны тем, которые он позднее проповедовал с такой энергией. В 1933 г. он был того мнения, что дефицит государственного бюджета и общественные работы будут препятствовать образованию сбережений, необходимых для частных инвестиций. Государственные расходы, говорил он, могут подорвать уверенность делового мира, и, подобно Хайеку, он считал, что федеральные программы борьбы с депрессией могут лишь причинить вред рынку капиталов. Общественные работы, по его мнению,— это паллиатив 22°. Но к концу 1930-х годов, когда «общая теория» Кейнса начала оказывать исключительное влияние как на экономистов, так и в целом на общественность, Хансен пересмотрел свои взгляды. Он признал, что подходить к определению дохода под углом зрения отношения сбережения — инвестиции с использованием понятия совокупного производства и занятости — значит существенно отойти от прежней теории. Более того, последняя становится теперь лишь частным случаем «общей теории» Кейнса. Главные причины процветания и депрессии следует искать в таких факторах, как инвестиции и ожидания потребителей, а последние, в свою очередь, коренятся в общественных институтах.
Нельзя сказать, что Хансен не заметил поразительных достижений западной экономики после второй мировой войны 221. Однако его основная идея, которую он продолжал убедительно отстаивать, заключалась в том, что в период между двумя мировыми войнами действовали устойчивые факторы, ведущие к стагнации. Более того, политика, проводимая властями, не разрешила проблем, поставленных тенденциями к стагнации: пессимистические взгляды, преобладавшие в этот период, имели не только психологическое объяснениег но коренились в таких глубоких факторах, действие которых было ослаблено, по-видимому, лишь в результате осуществления оборонной программы. Хотя перед войной высокий уровень накопления капитала имел явно положительное значение, такие силы, как падающие темпы роста населения и растущая рационализация в промышленности, действовали в направлении понижения коэффициента капитал — продукт. А это, равно как и относительно низкая склонность к потреблению, привело к установлению равновесия на уровне неполной занятости. Вековая тенденция к усилению безработицы совпала с циклическим ростом безработицы 222. Но, замечал Хансен, преобладали старые экономические взгляды, которые оправдывали политику дефляции скорее во имя отношения издержки — цена, и без учета совокупного спроса, занятости и экономического роста. В результате в развитых странах по мере развития экономики в условиях «низкого давления» безработица резко возрастала.
По мнению Хансена, старый «либерализм» отошел в прошлое. В годы между двумя войнами западные страны начали развиваться в сторону создания государства благосостояния, основанного на соединении общественного и частного секторов. И хотя старое рыночное хозяйство еще не было полностью преодолено, оно серьезным образом видоизменялось благодаря применению ряда мер общественного контроля, направленных на устранение тех искажений в условиях спроса и предложения, которые были унаследованы от первой мировой войны 223. Государственное вмешательство имело существенное значение для ускорения перехода к такой системе, которая могла бы более эффективно достичь стабильности, обеспечив при этом прогресс 224. К этому результату вели перераспределение дохода и различные формы сбережений общества, которые никоим образом не препятствовали накоплению капитала. Экономика западных стран превратилась в экономику высокой занятости, действующую в условиях «высокого давления». Хансен при29* 45^
знавал, что все это вполне могло быть и случайным результатом исторического развития, связанным с холодной войной, однако это как нельзя лучше продемонстрировало необходимость государственного вмешательства в экономику «высокого давления». Послевоенный опыт Западной Европы особенно наглядно доказал правоту его аргументации, утверждал Хансен. «Проблема стагнации может быть решена не с помощью догмы об автоматическом приспособлении экономики. Решение состоит в громадном усилении роли демократических правительств, берущих на себя ответственность за поддержание полной занятости» 225.
Про теорию Хансена говорят, что она уходит корнями в депрессию,— и это действительно так. Великая депрессия 1930-х годов была поистине уникальной в истории американского хозяйства. По-видимому, никакое другое событие в американской истории, за исключением гражданской войны, не оказало такого глубокого влияния на сознание американцев. Безработица свирепствовала в стране, подобно урагану, обрушившемуся на побережье, и те, у кого еще была работа, жили в страхе, что завтра они ее лишатся. Безотчетный ужас охватил всю нацию, и именно в состоянии полного отчаяния Америка обратилась к «Новому курсу», чтобы предпринять хоть что-нибудь с целью противостоять наиболее суровому из всех экономических кризисов, когда-либо потрясавших страну 226. В этой ситуации Хансен проникся решимостью установить причины происходящего. Какого рода экономический цикл имеет место в действительности? Главными факторами, связанными с колебаниями, были, по мысли Хансена, изменения в реальных инвестициях, иначе говоря, изменения в производстве средств производства, запасах и объеме жилищного строительства. Именно эти элементы сыграли решающую роль 227. Анализ циклов, предпринятый Хансеном, был весьма компетентным; в нем проводится различие между большими и малыми колебаниями, причем последние часто характеризуются изменением уровня запасов 228. Вдобавок к этому важное воздействие оказывают строительные циклы, чье длительное волнообразное движение часто накладывается на большие циклические колебания. Большая длительность строительных циклов объясняется, по-видимому, лагами как на рынке факторов, так и на рынке продукции этой отрасли 229. Когда же понижательное движение большого цикла совпадает со строительным кризисом, как это и произошло в начале 1930-х годов, наступает состояние длительной депрессии. Насыщение в области жилищного строительства в конце 1920-х годов в значительной мере способствовало возникновению затруднений в последующий период. Хансен пришел к выводу, что денежные факторы имеют второстепенное значение; главные причины длительных циклических движений следует искать в техническом прогрессе и нововведениях, которые влияют на реальные инвестиции 23°.
По Хансену, статическая круговая модель потока явно неудовлетворительно объясняла то, что происходит в действительности. На деле, утверждал Хансен, в такой динамической системе, где движущей силой прогресса являются нововведения и открытия, а также освоение новых территорий, инвестиции никоим образом не могут рассматриваться как функция потребления. Обычно в условиях полной занятости распределение продукции имеет тенденцию складываться в пользу прибыли, что порождает состояние неравновесия. Чтобы экономика продолжала двигаться вперед, нужна непрерывность инвестирования, так что высокий уровень потребления оказывается в зависимости от высокого уровня чистых инвестиций. При отсутствии частных инвестиций существенно важно компенсировать их государственными расходами, которые в сочетании с комплексом фискальных и налоговых мероприятий могут быть направлены на создание достаточной потребительской базы. Хансен соглашался с тем, что гибкость цен полезна в деле стимулирования полного использования ресурсов. Но при этом сохраняется проблема администрируемых цен и связанная с ней тенденция ликвидировать несоответствия путем регулирования объема производства. Насильственное снижение цен в этих условиях, предупреждал Хансен, может усугубить последствия понижательного движения. Более того, он видел мало оснований надеяться, что «эффект Пигу», то есть стимулирование экономики путем изменений реального дохода, окажет влияние в условиях дефляционного движения, если они не приобрели достаточно внушительных масштабов. Значительно более важна, говорил Хансен, «структурная» гибкость цен, то есть способность цен реагировать на изменения в издержках на единицу продукции.
С каждым новым выступлением Хансена кейнсианский характер его анализа становился все более очевидным. Он дополнил и обосновал многие выводы английского ученого 231. Начав с тщательного изучения национального дохода, Хансен развил концепции сбережений и инвестиций в соответствии с тем, что в настоящее 452
время принято считать традиционными кейнсианскими взглядами. Факторы, определяющие уровень чистых инвестиций, у Хансена, как и у Кейнса, включали предельную производительность капитала, нововведения, уровень квалификации, ожидание и тому подобное. Потребительская функция, мультипликатор и даже акселератор стали составными частями общепризнанного в настоящее время аналитического аппарата.
Из всего, что сделал Хансен, наиболее ярким и наиболее спорным является его исследование проблемы экономической зрелости и вековой стагнации. Эта теория, вокруг которой столько злословили, обладает определенными достоинствами, и если замечательное развитие послевоенной экономики можно было бы приписать чрезвычайным бюджетным расходам на оборону, эта теория выглядела бы значительно менее ограниченной рамками своего времени и условиями депрессии, чем обычно утверждали ее критики 232. Глубоко проникая в сложные факторы, ведущие к стагнации, Хансен давал рекомендации в области экономической политики, направленные на то, чтобы избежать таких последствий. И в самом деле, холодная война и демографический взрыв опровергли взгляды критиков Хансена и подтвердили его правоту. Те, кто сегодня находит модным иронизировать по поводу позиции Хансена, определенно не в состоянии опровергнуть, что именно благодаря крупным государственным инвестициям экономика стала более жизнеспособной 233. Ведь Хансен доказывал, что автоматизм XIX в. не способен противодействовать движению в сторону застойной экономики. Либералы и экономисты фирм, которые пытались оспаривать выводы Хансена, не могли не признать, что его анализ и рекомендации представляют собой серьезный вызов, поскольку он ставит под вопрос мнимую эффективность чистой экономики, основанной на функционировании свободных от вмешательства извне предприятий. Поистине печально, что деятельность Хансена на посту советника при правительстве Рузвельта вызвала громкие обвинения в «политиканстве». В полном согласии с теорией Кейнса Хансен лишь полагал, что с помощью правильной государственной политики капитализм можно заставить функционировать эффективно: процветание должно быть обеспечено для всех, включая и капиталистов 234. Интересно отметить, что практические рекомендации, вытекающие из его теории, идентичны тем, которые приняты на вооружение в большинстве западных стран, и используются ими в борьбе с непокорными экономическими проблемами.
В модели Хансена уровень производства может быть выражен как произведение инвестиций на мультипликатор, свойственный данному обществу. Если расшифровать инвестиции, то есть выделить их составные элементы, то можно назвать стимулированные инвестиции в качестве функции изменения производства во времени, автономные инвестиции как функцию темпов роста населения, использования ресурсов и технического прогресса и государственные инвестиции. По Хансену, мультипликатор отражает связь между сбережениями и размерами производства, тогда как налоги помогают обнаружить эту связь. Таким образом, на размеры производства или национальный доход оказывают влияние предельная склонность к сбережению и налоговая система. Рост экономики затрудняется, когда один из этих элементов или оба одновременно находятся на высоком уровне. Стимулированные инвестиции зависят от национального дохода, а если последний относительно стабилен, то маловероятно, чтобы начали расти эти инвестиции. Поэтому ключевым элементом являются автономные инвестиции.
На протяжении 20-х и 30-х годов стало очевидно, продолжал Хансен, что американская экономика утрачивает динамизм: рост населения замедлился, территория страны была давно освоена, фирмы экономно использовали капитал. Неизбежно должно было последовать падение производства, особенно в силу незначительного объема государственных инвестиций. Однако запасы ресурсов и рабочей силы были значительны. Даже в этих условиях сохранялась возможность определенного повышательного движения. И тем не менее пропасть между действительным и возможным ростом становилась все шире. По мере отставания автономных инвестиций росла угроза постоянной стагнации. Этот анализ в самом себе содержал методы решения проблемы: рост государственных инвестиций рассматривался как sine qua non * существования жизнеспособной экономики. Проблема, однако, усложнилась, поскольку структура автономных капиталовложений непрерывно изменялась таким образом, что затраты капитала по отношению к затратам труда сокращались под влиянием капиталосберегающих факторов. Предполагалось, что это усилит тенденцию к стагнации, особенно в условиях, когда отсутствуют крупные нововведения. Хансен утверждал, что эти тенденции усиливаются институционализацией сбе* Непременное условие (лат.).— Прим, перев.
453
режений, то есть тем, что крупные корпорации находят возможным накапливать достаточные собственные резервы и обходиться без нормальных источников финансирования. Более того, в связи с ростом страховых и пенсионных фондов настолько увеличился объем сбережений, что для поддержания экономического роста нужны были все возрастающие инвестиции. Росту инвестиций сопутствовал рост потребления, поскольку при более высоком уровне доходов для семей становились привычными более высокие расходы. В результате внеин- ституциональная, не обусловленная договорами часть общих сбережений постоянно сокращалась. Вот что происходило, согласно Хансену, до 1935 г. 235.
С учетом этих взаимосвязей становится вполне возможной неполная занятость, в особенности когда идут на убыль автономные инвестиции. По сути дела, Хансен показывал, как возникает разрыв между возможностью и действительностью. Демографический взрыв, имевший место в последние годы, и необходимость осуществления программы в области обороны в сильнейшей степени затормозили развитие этих тенденций. А в результате мер, предпринятых всеми правительствами западных стран, исследованный Хансеном разрыв сократился. Но все это не опровергало его теорию, поскольку последняя лишь подчеркивала, что может произойти при отсутствии должных противодействующих мероприятий. Понятно, что между ростом населения и инвестициями действительно существует важная зависимость, но не менее важна зависимость между рабочей силой и накоплением капитала, особенно потому, что она влияет на производительность. На протяжении XIX в. не менее половины нового капитала приходилось на жилищное строительство, транспорт и другие формы инвестиций, связанных с ростом населения. Далее, как известно каждому исследователю рынка, темпы формирования новых семей и возрастная структура населения оказывают серьезное влияние на потребительский спрос. Ясно, что в любом динамическом анализе экономического развития нельзя упускать из виду фактор роста населения. В прошлом замедление темпов роста населения компенсировалось повышением уровня использования ресурсов, иммиграцией, техническим прогрессом, так что внутренний рынок расширялся. И по мере того, как происходило освоение западных земель, капитал и труд перемещались в новые районы, что ни в коей мере не уменьшало объема инвестиций в старых районах 236. Но было очевидно также, что одного лишь расширения потребления недостаточно для стимулирования роста, поскольку инвестиции для замены выбывающего капитала, связанные с растущей склонностью к потреблению, обеспечивали лишь прежний уровень производства средств существования. А в современных условиях спонтанно возникающие инвестиции неспособны, по-видимому, сообщать достаточный стимул, необходимый развивающейся экономике 237.
Таким образом, Хансен в каком-то смысле перевернул классическую проблему: в то время как Рикардо и Мальтус выражали беспокойство в связи с возможностью опережающего роста населения по сравнению с наличными ресурсами, он считал, что для создания развитой экономики необходим более быстрый рост населения. Именно это и произошло. То, как Хансен использовал кейнсианский аналитический аппарат, чтобы показать, каким образом быстрый рост может опираться на факторы населения и ресурсов, явилось примером умелого творческого применения новой экономической теории. И хотя позднейшие исследователи создали более тонкие разработки, они касались в основном деталей. Хансен высказывался за необходимость изменения экономической политики задолго до того, как экономисты его поколения признали существование этой необходимости. Лишь когда экономика некоторое время функционировала на довольно высоком уровне, как это имело место в 50-х годах, появилось на свет утверждение, что и Хансен, и Кейнс устарели и что древние истины классической системы реабилитировали себя 238. Однако представляется очевидным, что определенные успехи в развитии американской экономики в послевоенный период были достигнуты вследствие высокого уровня государственных инвестиций и существования «встроенных стабилизаторов», вследствие того что социальное законодательство было значительно более развито, чем в благословенные 20-е годы, а «прогрессивная» налоговая система в США действовала в какой-то мере удовлетворительно 239. Едва ли можно утверждать, что теории Хансена выросли на почве пессимизма,— на деле выводы из них вполне оптимистичны, поскольку они означают, что американская экономика способна выделять больше ресурсов для развития жилищного строительства, образования, медицинского обслуживания, строительства дорог и удовлетворения других общественных потребностей, которым столь долгое время не уделялось внимания. Этого не могли понять лишь те, кто исповедует «обыденную мудрость» 24°.
454
7. МИЛТОН ФРИДМАН: ТЕОРИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ
Взгляды Элвина Хансена были восприняты в некоторых академических кругах далеко не доброжелательно. В особенности это относится к Чикагскому университету, где Фрэнк Найт, Джекоб Вайнер, Генри Саймонс, Ллойд Минтс, Джордж Стиглер и Милтон Фридман, действуя с огромной энергией и настойчивостью, создали школу, сторонники которой подчеркивают достоинства чистой конкуренции и веру в то, что «...чем меньше экономическая теория вмешивается в экономическую действительность, тем лучше» 241. Одним из наиболее откровенных выразителей этой точки зрения является Милтон Фридман (род. 1912), чьи методологические и проблемные работы содержат хорошо аргументированное обоснование нового традиционализма. Фридман, который был протеже Артура Бернса в колледже Рат- жерс, а затем завершил свое образование в Чикагском и Колумбийском университетах, в настоящее время является, по-видимому, наиболее ярым проповедником неоортодоксии и активным защитником современного варианта количественной теории денег 242. Резко критикуя Федеральную резервную систему и большинство существующих денежных институтов, он в своих практических рекомендациях призывает, в духе Генри Саймонса, к созданию так называемых «автоматических» механизмов, которые навсегда исключили бы государственное вмешательство. В этом проявляется его глубокое неверие в способности государственных чиновников и в конечном счете в правительство в целом.
Как это было сделано в отношении Найта, целесообразно, по-видимому, начать с обзора методологического подхода Фридмана. Он самым тщательным образом проводит демаркационную линию между позитивной и нормативной экономической теорией, утверждая, что первая может быть в такой же мере объективной научной дисциплиной, как и любая естественная наука 243. Он осуждает тенденцию к отрицанию выводов из позитивных предпосылок на том основании, что они противоречат нормативным истинам. Он не считает также, что для любого позитивного анализа экономических проблем необходимо иметь систему оценок. Однако, как показал Гуннар Мюрдаль, вера в существование социальной науки, не зависимой от систем оценок, по сути отражает довольно наивный эмпиризм. Факты, говорит Мюрдаль, организуются посредством концепций, которые в своей основе выражают интересы людей и отдельные точки зрения, а последние нельзя охарактеризовать иначе как оценочные суждения 244. Эти системы оценок не являются произвольными, поскольку они являются продуктом общества, в котором люди живут и работают. Конечно, возможно сосуществование в едином обществе нескольких схем оценок, что приводит к возникновению интеллектуального конфликта. Но ошибочно полагать, что оценочные суждения могут быть исключены: в действительности различные модели чикагской школы, которые призваны обосновать достоинства свободной, неограниченной конкуренции с точки зрения обеспечения свободы личности, отражают некоторые весьма определенные оценки. Трудность заключается в том, что понятие свободы личности в целом остается абстрактным, его содержание, как правило, очерчивается весьма неопределенно. Вследствие этого утверждение Фридмана о том, что прогресс может быть достигнут лишь на базе позитивного анализа, оказывается несостоятельным, поскольку решения в области экономической политики, очевидно, требуют некоторой общей точки зрения относительно нормативных истин 245.
Обоснованность любой гипотезы, утверждает Фридман, проверяется единственно ее способностью предсказывать ход событий. И наоборот, если события не опровергают предсказание, то первоначальная гипотеза полностью приемлема. Иначе говоря, непосредственная верификация не имеет существенного значения. Таким образом, любые соображения о «реалистичности» гипотез в экономической теории становятся ненужными 246. Поистине изобретательная аргументация: нет необходимости подвергать анализу выдвигаемые гипотезы, потому что в любой теории, которая абстрагируется от сложной действительности, они будут настолько далеки от реальных условий, что о них будет поступать слишком малая информация. Однако представляется логичным утверждение, что доказывать следует каждый пункт экономической теории, включая и ее исходные предпосылки 247. Следует признать научным чудачеством возведение в абсолют чьих-либо исходных концепций и положений. Поиски «соответствия реальности», используя фразу Стиглера, есть по сути дела попытка исследовать соответствие некой системы гипотез рассматриваемой проблеме 248. Маржина- листы, например, создали стройную и цельную теорию, однако она основана на некоторых 455
самодовлеющих предпосылках, которые вследствие их слабой связи с реальностью могут быть поставлены под вопрос. Маржиналисты, конечно, предвидели возможные исключения: в случае с растущей предельной полезностью некоторых благ они просто предположили изменение всей функции полезности 249. Подход же Фридмана означает лишь то, что теория есть теория. Правда, ему не чуждо желание проверить свои гипотезы, поскольку они, замечает Фридман, должны соответствовать доступным фактам 25°. Бесспорно, что, пока не исключается хотя бы косвенная проверка теории, остается возможность судить о реальном значении исходных положений.
Фридман, далее, пытается обосновать свои доводы с помощью аналогии с естественными науками, в которых «законы» выводятся из некоторых данных условий. Но в экономической науке такие условия по своей сути есть продукт мысли и существуют лишь в воображаемых ситуациях, в результате чего способность гипотез предсказывать ход событий довольно ограничена. Хотелось бы поставить в заслугу неоортодоксии расширение и пересмотр принципов экономической науки, однако трудно обнаружить что-либо значительное в том, что они сделали. Например, уместно спросить, является ли та переменная величина, к максимизации которой стремятся предприниматели, прибылью или продажами? Далее, каким образом общепринятая практика исчисления издержек и стремление к определенной норме прибыли сказываются на теоретических положениях? И правильно ли, что отношение активов к другим балансовым статьям, как это предположил Кеннет Боулдинг, определяет поведение предпринимателей? 251 Именно эти проблемы оправдывают постановку вопроса о реалистичности гипотез и их соответствии действительности.
Некоторые из проблем, которыми занимается неоортодоксальное направление, в частности такие, как полезность и выбор, относятся к числу вечных. Фридман принял участие в их рассмотрении своим анализом полезности в условиях риска 252. Он отметил, что в условиях убывающей предельной полезности и риска обычные принципы максимизации неприменимы, поскольку требуется известная дополнительная плата в виде компенсации за добавочный фактор риска. Это было вполне в духе Альфреда Маршалла, который также отвергал полезность в качестве объяснения ситуаций, соединяющих в себе выбор плюс риск. Хотя в таких ситуациях можно прибегнуть к методу кривых безразличия и ординальному анализу, но это также означает отказ от принципа убывающей предельной полезности, говорил Фридман, поскольку сравнения полезностей не являются частью данного аналитического аппарата 253. Однако с помощью теории игр Моргенштерна — Неймана, по-видимому, можно измерить полезность в условиях риска; в той мере, в какой доступны числовые свойства, они могут быть использованы для объяснения выбора, связанного с риском. Решения, связанные с риском, Фридман классифицировал следующим образом: небольшой риск, связанный с заранее известным результатом; умеренный риск без больших доходов или убытков; крупный риск, связанный с большими доходами или убытками. Затем необходимо было предположить, что экономическая единица обладает определенной системой предпочтений, которая может быть описана некоторой функцией, дающей численные значения различным альтернативам.
Целью анализа была, конечно, максимизация полезности. В результате тщательного рассмотрения логики выбора Фридман и его сотрудник Дж. Л. Сэведж выработали формулу, которая позволяла ввести численные значения. Таким образом, полезность, связанная с любым набором решений, поддалась вычислительной процедуре. Как и следовало ожидать, совокупная полезность растет по мере роста размеров денежного дохода. Внешне противоречивые, но одновременные реакции поведения, включающие игровую оценку всех возможностей и альтернатив, стали у Фридмана частью обобщенной функции полезности. И хотя он признает, что люди сознательно не следуют предписанным формулой нормам поведения и не руководствуются сложными выводами математической логики, он отметает эти соображения как несущественные, поскольку, как он утверждает, необходимо лишь предположить, что такие действия, а именно сопоставления полезности и шансов, существуют на самом деле 254. Один из любопытных, хотя и не главных выводов из этой словесной эквилибристики заключается в следующем: рост дохода, который улучшает положение данной экономической единицы, но не выводит ее за пределы своего класса, отражает убывающую предельную полезность, в то время как рост дохода, в результате которого данная единица переходит в 'новый класс, отражает возрастающую предельную полезность. Так, стремление получить новую работу, доход от которой может обеспечить более высокое положение в обществе, отражает более высокую полезность. Но Фридман затем меняет ход рас- суждений, утверждая, что люди с низкими доходами будут избегать добавочного риска .г 456
поскольку при убывающей предельной полезности, чтобы побудить к действиям, необходимо выплачивать премию. С другой стороны, группы со средними доходами, по Фридману, весьма склонны к рискованным действиям. Все это показывает, как форма кривой полезности способна отражать изменение экономического положения. Но это равносильно утверждению, что выживают наиболее приспособленные.
Смысл концепции полезности у Фридмана выявился более отчетливо, когда он попытался связать ее с проблемой распределения дохода 255. Он предпринял попытку перекинуть мост между функциональным и персональным распределением дохода. Первое, безусловно, следует выводить из действия рыночного механизма и оценки факторов затрат, в то время как персональное распределение находится в зависимости от удачливости, случая, природных способностей, наследства, то есть фактически от всего, кроме неравномерного распределения богатства. Последнее обстоятельство Фридман старается не замечать. Главным фактором его модели является риск и реакция на него у различных людей. Общество (или часть его), которое неодобрительно относится к психологии риска, предпочтет страхование лотерее и прогрессивное налогообложение регрессивным налогам. Оно будет склонно в большей мере прибегать к механизму перераспределения, так что доход будет распределяться более равномерно 2б6. Эти рассуждения Фридмана покоятся на категории полезности: каждый индивидуум в его обществе, состоящем из Робинзонов, стремится выбрать свою особую кривую полезности, которой он руководствуется в своих решениях о распределении средств. Вывод сводится к тому, что в основе неравенства богатства или дохода лежит выбор, то есть неравенство носит как бы всецело добровольный характер. Конечно, Фридман признает возможность перераспределения дохода между Робинзонами. Если предельная полезность богатства падает, то есть если общество предпочитает не рисковать, усиливается тенденция к уравнительности. Поэтому неравенство более всего развивается там, где преобладает психология риска; оно связано главным образом со вкусами и предпочтениями, а не с такими простыми и грубыми факторами, как недостаточные возможности или первоначальное распределение богатства. Но несмотря на всю изобретательность подобной аргументации, она оставалась для читателя крайне неубедительной. Вывод о том, что бедность есть просто результат выбора, сделанного самими бедными, в свете современного социологического знания звучит настолько нелепог что его следует начисто отвергнуть.
Исследования Фридмана в области потребительской функции заслуживают большего внимания 257. Потребительская функция — центральная идея современной экономической теории, использованная Кейнсом, означает такую связь между доходом и потреблением, когда последнее хотя и растет по мере роста дохода, но более медленными темпами 258. Это положение Кейнса послужило основой для громадного количества эмпирических и теоретических исследований 259. Некоторые исследования действительно позволяют сделать вывод, что Кейнс прав, тогда как работы Саймона Кузнеца, Реймонда Голдсмита и других указывают на наличие более постоянного отношения между потреблением и доходом, чем предполагал Кейнс. Затем всплыло противоречие между выборочными бюджетными обследованиями, на которых основывалась первоначальная концепция, и анализом временных рядов, предпринятым Кузнецом. В результате дальнейшей работы, проделанной Джеймсом Тобином, Дороти Брэйди, Роз Фридман, Джеймсом Дьюзенберри и Франко Модильяни, концепция абсолютного дохода, опирающаяся на взгляды Кейнса, была модифицирована таким образом, чтобы можно было учитывать, помимо текущего дохода, еще и другие элементы. Было высказано предположение, что потребление в значительной мере зависит от места потребителя на шкале распределения доходов, иначе говоря, относительное имущественное положение потребителя представляется более важным, чем абсолютный уровень его дохода. Так, в интересной работе Дьюзенберри введенное Вебленом понятие показного потребления стало частью формализованного экономического анализа 26°.
В эту довольно интересную дискуссию Фридман включился со своей новой концепцией — гипотезой постоянного дохода, истоки которой можно проследить у Фишера и в особенности у Найта. Неудовлетворенный традиционным кейнсианским подходом, Фридман утверждает, что возможность предвидеть ход потребления, используя основанную на доходе потребительскую функцию, ограничена, поскольку, по его мнению, реальные инвестиции не оказывают мультипликационного воздействия на реальное потребление. Последнее определяется своей собственной долговременной тенденцией 26Ч. Существует тенденция, говорит Фридман, согласно которой экономическая единица стремится к определенному уровню потребления в течение некоторого времени, для чего она регулирует свой текущий доход посредством предо457
ставления или получения ссуд. В некотором смысле доход какой-либо экономической единицы связан с размерами капитала.
Как потребление, так и доход состоят из двух частей, одной — постоянной, а другой — переменной 262. Постоянный доход, получать который индивидуум надеется в течение длительного времени, в значительной мере зависит от его дальновидности 263; на его величину влияют окружение, род деятельности и размеры капитальной собственности. Переменные элементы дохода состоят из неожиданных прибавок и вычетов. Фридман признает, что установить размеры постоянного компонента путем непосредственного наблюдения довольно трудно, но он тем не менее считает, что можно сформулировать некоторые выводы, если сделать определенные допущения, касающиеся соотношения постоянной и переменной частей. Это соотношение должно зависеть от ставки процента, отношения дохода к богатству и потребительских вкусов. Но поскольку никакой связи между переменными частями потребления и дохода не существует, общее потребление зависит исключительно от постоянного дохода. Это означает, что потребитель остается верен своим планам расходования денег в течение определенного времени, независимо от того, отклоняется ли доход от запланированных расходов.
Такая довольно жесткая схема не является достаточно убедительной 264. Исследования, предпринятые Советом управляющих Федеральной резервной системы и Бюро обследований при Мичиганском университете, указывают на значительно большую гибкость потребительских расходов, чем это допускает Фридман 265. Более того, его подход подчеркивает известную соразмерность покупательских расходов в течение определенного времени, что может быть оправдано, лишь если исходить из предположения о полной определенности перспективы, а это маловероятно, поскольку речь идет о среднем потребителе. Как и в системе Фрэнка Найта, предпочтение во времени практически исключается, и деятельность экономической единицы, по Фридману, происходит вне рамок определенного периода. Но если бы даже существовало стремление к постоянному доходу, невозможность получить ссуду или дать взаймы способна спутать любые намерения. Такого рода затруднения, по-видимому, весьма характерны для лиц с низкими и средними доходами. Однако главный недостаток теории Фридмана связан с тем, что абсолютно невозможно статистически определить постоянную часть «измеренного» или совокупного дохода. Доступные данные, очевидно, отражают этот показатель лишь в целом, поэтому решающие взаимосвязи потребительской функции могут быть выражены только в виде совокупного дохода и общего потребления. Тем не менее в модели Фридмана общее потребление изменяется в зависимости от совокупного дохода только в той степени, в какой изменения совокупного дохода обусловлены его постоянной частью. Для доказательства этой теории Фридман привлек весьма значительный и сложный эмпирический материал, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обосновать категорию «постоянного дохода». По мнению Фридмана, естественно, его теория никоим образом не была опровергнута. Но как показал X. С. Хаутэккер, большая часть использованных Фридманом данных носила отрывочный характер, а статистические коэффициенты практически ничего не доказывали 266. Более того, используя данные Бюро статистики труда, Хаутэккер проделал параллельный анализ, результаты которого были явно не в пользу гипотезы Фридмана. Логично предположить также, что переменный доход способен оказывать гораздо большее воздействие на потребление, чем предполагает Фридман, и что ликвидные активы на самом деле влияют на возможности осуществлять расходы 26 7. Специфическая природа теории Фридмана проявилась особенно наглядно, когда ее положение о жестких рамках потребления было использовано в другом контексте для нападок на законодательство о минимальной заработной плате. При этом был выдвинут довод, что увеличение минимальных ставок не отразится на расходах, а скорее приведет к росту сбережений. Иначе говоря, повышение минимальных ставок не обеспечит «высокой скорости обращения» доллара, а фактически окажет дефляционное воздействие, поскольку уровни потребления уже установились. Обоснованность такого вывода в отношении лиц, зарабатывающих менее чем доллар в час, как это имеет место на многих предприятиях розничной торговли, крайне сомнительна. Во всяком случае, ценность гипотезы Фридмана о потреблении заключается в том, что она указывает на необходимость дальнейшего исследования данной проблемы, а это вряд ли кто-либо будет отрицать.
Одна из проблем, которую экономисты чикагской школы считают по-прежнему важной,— это количественная теория денег. Генри Саймонс, Ллойд Минтс, а также и Фридман стремились более эффектно, чем это было в прог шлом, увязать ее с общей теорией цен. Конечно, следует всячески подчеркивать значение денег в современной экономике, но ведь как раз это и делают кейнсианцы. Со своей стороны, Фридман доказывает необходимость стабильной 458
экономики в короткой перспективе и стабильного уровня цен в длительной перспективе в качестве условий сохранения свободного предпринимательства 268. Сторонники количественной теории денег в настоящее время возглавляют контрреволюцию против Кейнса, заявил однажды Фридман перед комиссией конгресса, не указав при этом, что положения неоклассической теории оказываются в какой-то степени верными лишь в условиях относительно полной занятости. Тот факт, что положения классической теории подтверждаются опытом последних лет, лучше, чем что-либо другое, доказывает, что они суть лишь частные случаи в рамках более общих кейнсианских построений. Но Фридман всего этого как будто не замечает. Депрессию он рассматривает как чисто денежное явление, доказывая это падением денежной массы на протяжении 30-х годов. Более того, заявляет Фридман, Кейнс был совершенно неправ в своем подходе к эффективному спросу, поскольку он не учел роста реального дохода, проистекающего из падения цен. Возникает законный вопрос — когда и где этот «эффект Пигу» оказал воздействие в период великой депрессии: исторический опыт довольно наглядно продемонстрировал, что пробудить американскую экономику смогли лишь огромные расходы на оборону.
Для экономистов неоортодоксальной школы безработица не представляет особого изъяна в экономической системе: ее недостатками они считают скорее недостаточную гибкость и изменения в денежной системе. Поэтому ключ к объяснению того, как функционирует современная экономика, они видят в количественной теории, по крайней мере в той новой форме, которую ей придал Фридман. Этот вариант выражен формулой MV = Ру, где М — денежная масса, V — скорость обращения дохода, у — норма или поток реального дохода. Основное внимание эта формула уделяет спросу на деньги 269. Для потребителей деньги представляют одну из форм богатства; для производителей они являются формой капитала. Таким образом, спрос на деньги может быть включен либо в теорию выбора, либо в теорию капитала. Денежные запасы (money holdings), следовательно, могут быть объяснены под углом зрения общей теории распределения богатства между альтернативными вариантами использования, когда преследуется цель максимизации полезности. Для предприятий размеры денежных запасов зависят от доходности применения альтернативных производительных услуг в сравнении с издержками, связанными с хранением денег. Чтобы решить этот вопрос, необходима производственная функция, так как именно с ее помощью можно определить доходность. Объем сделок не включен в конструкцию Фридмана270, поскольку технические условия и проблемы издержек представляются ему более важными. Точно так же подчиненным фактором стала и скорость обращения. Эмпирически важными элементами, по Фридману, являются ставка процента, ожидаемые изменения цен, отношение богатства к доходу, вкусы и предпочтения потребителей и соответствующая производственная функция.
По сути дела такая процедура означает модификацию количественного уравнения в духе Ирвинга Фишера. Концепцию «активных» и «пассивных» остатков, так же как и различные кейнсианские «мотивы» для хранения наличных денег, Фридман отвергает. Изменения в остатках наличности на протяжении короткого периода он считает менее значительными, чем в объеме сделок 271. Фридман не согласен с тем, что вековая тенденция роста отношения объема сделок к доходу достаточна для объяснения роста соотношения между денежными остатками и доходом. Если и существуют соображения предосторожности, как это предполагается в модели Кейнса, то они могут быть объяснены только как отражение гипотезы постоянного дохода. Следовательно, в условиях устойчивого спроса совокупный доход будет довольно чутко реагировать на изменения денежной массы. Иначе говоря, только увеличение денежной массы может поддержать растущий денежный доход. Это означает, что при данных размерах денежной массы и скорости ее обращения в отношении дохода (income velocity), уровень денежного дохода является величиной определенной. Необходимо было, конечно, выяснить, как устанавливается скорость обращения в отношении дохода и какие переменные влияют на уровень дохода. Фридман пришел к выводу, что спрос на деньги устойчив, хотя величина его неодинакова в течение определенного времени. Существуют, конечно, известные факторы, влияющие на предложение денег и не связанные непосредственно со спросом на них, такие, как политическая обстановка, банковская система и государственная денежная политика.
Фридман признает, что базисное уравнение мало говорит о последствиях изменения денежной массы. Можно предположить различные варианты: увеличение денег может быть уравновешено медленной оборачиваемостью денег при неизменных ценах и уровне производства либо, наоборот, цены могут сыграть роль губки. Но что бы ни произошло, говорит Фридман, причинные связи носят денежный характер. Однако рассмотренные эффекты поглощения, 459
как признает Фридман, обесценивают данную теорию. Основным моментом является то, что контроль за размерами денежной массы не под силу отдельным лицам, и этой важнейшей прерогативой уже давно наделена Федеральная резервная система. Индивидуальные усилия, направленные на сокращение денежных запасов, лишь повышают скорость обращения денег, ведут к росту дохода, понижают отношение денежной наличности к доходу и реальную стоимость денежных запасов. Если общество хочет поддерживать прежние реальные остатки, то должны быть предприняты меры регулирования. На реальные остатки влияют главным образом издержки, связанные с денежными запасами, и уровень жизни. Издержки, связанные с денежными запасами, зависят от ставки процента на альтернативные активы и от «ожидаемого темпа изменения цен». При более высоких ценах издержки, связанные с запасами наличности, будут расти, что потребует сокращения этих запасов. Хотя Фридман признает, что действие этих факторов может привести лишь к длительной инфляции и что влияние ставки процента «незначительно», он все же настаивает, что всеми этими причинами и объясняется понижение отношения денежной массы к доходу 272. При проведении денежной политики, утверждает Фридман, необходимо пристально следить за отношением денежной массы к ценам и размерам производства. Но он признает, что трудно достичь правильного соотношения на протяжении короткого периода времени. Единственно правильной политикой в этих условиях будет допущение роста денежной массы примерно теми же темпами, какими растет выпуск продукции. Это, конечно, чисто механический подход, ибо если следовать ему, денежная масса будет расти независимо от всех других процессов, которые могут происходить в экономике. В дополнение к этой рекомендации, равносильной полному отказу от государственного вмешательства, в качестве основных требований выдвигаются бережливость, инициатива, конкуренция и свободная торговля. Экономический анализ внезапно подменяется у Фридмана увещеваниями.
Сенатор Поль Дуглас как-то поставил под сомнение теоретическую систему Фридмана, указав на то, что депозитные вклады с 1954 по 1957 г. возросли на 3%, тогда как валовой национальный продукт за этот период увеличился примерно на 12%. Это, согласно Фридману, должно было бы вызвать рост цен на 8%, однако в действительности цены выросли лишь примерно на 4%. Фридман ответил, что необходимо учитывать возросшую скорость обращения денег в отношении дохода. Однако основное дестабилизирующее воздействие, утверждал он, исходит от Федеральной резервной системы, которая увеличивает денежную массу в периоды бумов и сокращает ее в периоды спадов. Это происходит главным образом из-за разрыва во времени между принятием решений и их эффективным применением, поскольку для проведения операций на открытом рынке, изменения учетной ставки процента и резервных требований необходимо определенное время. Кредитный контроль Фридман, конечна же, предает анафеме. Он утверждает, чта денежная масса была значительно более устойчивой до 1914 г. и что великая депрессия могла бы окончиться в 1931 г., если бы Федеральная резервная система не сократила денежную массу.
Фридман относится с большим подозрением к вмешательству государства в денежную сферу. С его точки зрения, то есть с точки зрения либерала XIX в. 273, вся экономическая деятельность протекает более нормально в условиях свободного рынка. Очевидно, что некоторый государственный надзор необходим для подкрепления договорных отношений, однака природа денежной системы, а именно то, чта она основана на общественном доверии, предполагает существование элементов монополии, и есть опасность сосредоточения этих элементов в руках государства. По-видимому, следует предпочесть хаотичную банковскую систему XIX в. как явное олицетворение свободной рыночной экономики 274. Возлагая на государство вину за экономическую неустойчивость, которую он рассматривает как в своей основе денежную неустойчивость, Фридман считает, что исторический опыт доказывает правоту его анализа 275. Однако непредвзятое изучение исторических материалов убеждает в том, что причины денежных потрясений определить не так-то просто. Различным историческим периодам были свойственны различные разновидности денег, а институциональные элементы были настолько сложными, что поиски причин потрясения способны увести далеко за пределы денежного фактора. Полный и всесторонний обзор денежных циклов прошлого дает мало оснований доверять при интерпретации истории количественной теории Фридмана 276.
В настоящее время, утверждает Фридман, не требуется никакого иного контроля, кроме операций на открытом рынке, и все остальные меры, включая и кредитное регулирование, следует отменить либо децентрализовать 277. На деле все, что предпринимает государство, предосудительно, даже если конкретная мера и заслуживает известного одобрения. К примеру, страхование вкладов хорошо тем, что оно содей460
ствует экономической стабильности, однако его ценность сомнительна, ибо выгоды от него достаются лишь определенным группам населения 278. Единственная крупная реформа, которую Фридман одобрил бы,— это создание 100%-ной резервной системы и уничтожение частных резервных требований. Фактически он склонен вновь передать банковскую систему целиком в частные руки. Только такая реформа, настаивает он, отвечала бы его идеалу экономической политики, способной обеспечить соответствие между денежной массой и ростом продукции 279.
Неоортодоксальный критерий конкурентного рынка занимает господствующее положение в экономических воззрениях Фридмана. Вновь и вновь он пытается убедить читателей, что только в условиях свободного предпринимательства можно достичь политической свободы, экономической эффективности и равенства в распределении экономической силы 28°. Позитивная программа Фридмана включает: 100%-ную резервную систему, имеющую целью ограничить возможности контроля над денежной массой; ограничение государственных расходов уровнем, соответствующим «желанию, потребности и готовности общества платить за общественные услуги»; фиксированную систему трансфертных платежей, не подверженных циклическим колебаниям; налоговую систему, основанную на неизменной структуре ставок прогрессивных налогов. Предполагается, что эта невероятно жесткая система будет каким-то образом «оказывать антициклическое действие». В период спада бюджетные дефициты смогут покрываться за счет особой (fiat) наличности, которая затем будет служить постоянным добавлением к денежной массе. По идее Фридмана, эти твердые правила обеспечат автоматическое регулирование государственных расходов в случаях недостаточного совокупного спроса. Это мыслится таким образом, что в периоды, когда национальный доход и налоговые поступления достигают высокого уровня, избыток будет служить целям отлива денег из потока доходов и тем самым корректировать избыточный уровень совокупного спроса. И наоборот, когда уровень дохода низок, относительно высокие трансфертные платежи будут обеспечивать необходимые стимулы роста. Предполагается, что цены и ставки заработной платы будут при этом подвижными. Но помимо того очевидного факта, что модель оказывается эффективной лишь при чрезвычайно большой амплитуде изменений, Фридман явно проглядел элементы неэластичности в ценах и ставках заработной платы. Потребовались бы слишком большие институциональные изменения, чтобы сделать действенной эту новую модель laissez faire даже в условиях экономики «низкого давления». Поэтому эти предложения в лучшем случае можно охарактеризовать как интересные, но сомнительные упражнения в области экономической логики. Весьма сомнительно, чтобы любое государство отказалось от свободы действий, что предлагается в программе Фридмана. При наличии таких жестких стабилизаторов фискальная и денежная политика окажется бесполезной в деле воздействия на инвестиционные решения. И если даже стимулирование потребления будет признано желательным, оно окажется невозможным. Очевидно, что Фридман попросту не доверяет способности государственных органов следовать предписанным правилам экономической политики 281.
Возражения Фридмана против государственного вмешательства продиктованы похвальной заботой о свободе личности 282. В качестве оценочного критерия свобода понимается им в абсолютном смысле и ей отдается предпочтение перед критериями равенства, морали и справедливости. Фактически все, что ограничивает свободу личности, заслуживает осуждения. Но в рамках такой абстрактной постановки вопроса вообще трудно вести дискуссию, поскольку при этом игнорируются многочисленные ограничения свободы, неизбежные в любой функционирующей системе. Эти ограничения, которые вытекают из природы общества и из организации производства, следует рассматривать значительно более конкретно 283. Как, к примеру, надо относиться с позиций Фридмана к контролю против загрязнения воздуха и других нежелательных последствий производственной деятельности? Далее, сторонники невмешательства государства избегают обсуждения проблемы концентрации экономической силы: примером служит их отказ от серьезного рассмотрения теории монополистической конкуренции 284. Государственное вмешательство они допускают лишь в случаях естественной монополии, несовершенства рынка, наличия «побочных» эффектов или же когда вопрос касается детей и других недееспособных лиц 285. Но при таких критериях философия свободного рыночного хозяйства может полностью обнаружить себя лишь в очень ограниченных областях. «Побочные» эффекты пронизывают всю экономическую деятельность, а монополию и несовершенство конкуренции можно обнаружить повсюду. Индивидуум не действует в безвоздушном пространстве: Робинзонов в действительности не существует, как бы эта пресловутая личность не была полезна для формальных экономических моделей. И не ис461
ключена возможность, что групповые действия могут оказаться более эффективными при решении главных экономических проблем по сравнению с действиями изолированных лиц. Поскольку теоретики экономического либерализма не опровергли такую возможность, она сохраняет силу.
Фридман, чья экономическая теория часто служит лишь целям оправдания его собственных предвзятых мнений, рассматривает политические и социологические проблемы, как правило, в аспекте противопоставления черного и белого цветов 286. Он заходит так далеко, что требует законодательных гарантий laissez faire в области образования; предлагая свести роль государства только к финансированию образования и исключить элементы принуждения, где это возможно, он стремится к осуществлению рыночных законов даже в этой сфере. Родителям должно быть разрешено самим выбирать школы 287, и власти ни в коем случае не должны обеспечивать бесплатность специального образования. Государство должно лишь воспитывать гражданственность, что бы под этим ни подразумевалось. Каким образом это будет служить укреплению свободы, Фридман так и не разъяснил. Любопытно отметить, что все подвергнутые Фридманом критике социальные меры, включая образование, создание общественного жилого фонда и медицинское обслуживание, могут быть оправданы с точки зрения его же так называемых допустимых норм и «побочных» эффектов.
В конечном счете вариант неоортодоксальной теории, созданный Фридманом, представляется в высшей степени усложненной и все же ошибочной системой взглядов, питающихся ветхими экономическими догмами, включая осуждение нечестивой природы современных профсоюзов 288. Несмотря на бесспорную изощренность аргументации и на весьма основательный статистический аппарат, целостность теории разрушается, как только она вступает в соприкосновение с историческими и социологическими фактами. Чрезмерно подчеркивая роль денежной массы, Фридман игнорирует ряд других экономических факторов. Олигополия, лидерство в ценах, искусственное стимулирование потребностей — от всего этого Фридман отмахивается с неоправданной легкостью. И не удивительно, что большая часть его рекомендаций лишена практического значения. Представляя определенный интерес в качестве теоретических курьезов, его выводы не имеют отношения к процессам, происходящим в демократическом обществе. Соображения практической ценности Фридман приносит в жертву последовательной, но нереалистичной системе академического абсолютизма.
8. КЕННЕТ Е. БОУЛДИНГ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Кеннет Боулдинг (род. 1910) родился в Англии, в Ливерпуле, но практически вся его деятельность протекала в США. Обладатель нескольких ученых степеней, Боулдинг учился в Оксфордском, Чикагском и Гарвардском университетах, и после короткого пребывания в Эдинбургском университете он вернулся в Соединенные Штаты, где преподавал в Кол- гейтском университете. Результатом непродолжительной деятельности Боулдинга в экономическом и финансовом отделе Лиги наций явилась книга «Экономическая теория мирного времени» 289. Поработав преподавателем в колледже Фиск, штат Айова, и в колледже МакГилл, он поступил в Мичиганский университет, где в настоящее время является профессором экономики. В его первой крупной работе «Экономический анализ» 29°, являющейся, вероятно, наиболее исчерпывающим пособием в этой области, содержание предмета раскрыто с исключительной полнотой. Боулдинг много пишет и не боится вступать на неисследованные тропы экономической теории. И хотя его идеи иногда вызывали, по его собственному выражению, «гиканье и свист», сама их свежесть является красноречивым свидетельством желания автора углубиться в неизведанные области 291. Боулдинг пишет стихи, он глубоко религиозный человек и, помимо деятельности в области разоружения, чрезвычайно активен в Федеральном совете по делам христианских церквей. В знак признания вклада Боулдинга в экономическую теорию Американская экономическая ассоциация в 1949 г. наградила его медалью Джона Бейтса Кларка 292.
В ранней статье Боулдинга, опубликованной в «Америкен икономик ревью», уже сквозит его недовольство состоянием современной теории фирмы 293. Он признал значительный вклад, сделанный Джоан Робинсон и Эдвардом Чемберлином, но отмечал, что они упустили из виду элемент времени. Фирма, писал Боулдинг, не просто осуществляет затраты и выпуск, в действительности это предполагает ведение 462
счетов, когда каждая запись помечена определенной датой. Фирмы могут стремиться максимизировать не чистый доход, а иную переменную величину, что зависит от ряда вероятностных оценок. Но традиционная теория фирмы говорит лишь о кривых доходов и издержек определенной формы, которые либо максимизируются, либо минимизируются, хотя не всегда для этого имеются в наличии необходимые данные. Боулдинг призывал связать теорию с действительным процессом принятия решений и с «обстановкой, в которой эти решения принимаются» 294. На деле, говорил он, фирма — это налаженная система, с балансовой отчетностью, проблемами ликвидности, бюджетом и инвестиционной программой. Она производит затраты, которые могут быть весьма слабо связаны с задачей максимизации чистого дохода. Эта последняя в качестве универсальной характеристики поведения фирмы обладает довольно сомнительной ценностью, поскольку в действительности фирмы мало что знают как о своих предельных издержках, так и о предельных доходах. «Система информации [фирмы] содержит данные о средних издержках, продажах, продукции, запасах, задолженности и другие цифры в балансе и отчете о доходах. Но она, как правило, не показывает предельных издержек, и в еще меньшей мере отражает она предельные доходы. Если фирма не может знать, когда прибыль не максимизируется, то нет оснований полагать, что она вообще максимизирует ее» 295. Концепция маржинализма не учитывает возможности существования более чем одного «максимума» и такого рода перерыва постепенности, когда кривую продаж можно уподобить лестнице. Очевидно, что существует очень много примеров того, когда прибыль не является той переменной, которая должна быть максимизирована 296.
Традиционная теория распределения в равной мере неудовлетворительна, заявил Боулдинг. Теория предельной производительности не служит убедительной альтернативой ни классической, ни марксистской теории. Последние обнаружили свою неспособность предсказывать ход событий, несмотря на свойственный им «грандиозный динамизм» ♦, но современная экономическая теория не предложила взамен ничего значительного 297. Теория предельной произ-
* Б. Селигмен, и это весьма для него характерно, не возражает против утверждений Боулдинга относительно марксистской теории. В действительности только марксистская теория оказалась способной к подлинно научным прогнозам общественного развития, которые полностью подтвердились победой социализма в СССР и образованием мировой социалистической системы. — Прим. ред. водительности неспособна объяснить перерывы постепенности, а ее предположения о максимизации нереалистичны 298. Главное возражение Боулдинга относилось, однако, к тому, что данная теория уделяет внимание лишь переменным дохода и потока, что превращает фирму в удивительно «бесплотный организм» — без активов, долгов, проблем ликвидности — и безразличный к любой комбинации ресурсов, оборудования и требований. Банковская теория, довольно правильно подметил он, основана на существовании активов и пассивов, но, что довольно странно, всего этого нельзя обнаружить в теории фирмы. Потоки доходов, утверждал Боулдинг, по сути дела вытекают из функции поддержания фондов, а потребление в свою очередь является производным от фондов.
В общепринятой теории связь между функциональным и персональным распределением устанавливалась через посредство размеров собственности, причем распределение ставилось в зависимость от факторов ценообразования. Но при попытке объяснить спрос на факторы производства не учитывалось влияние системы цен на этот спрос. Это предполагало проведение анализа на уровне, который не был достигнут теорией предельной производительности. Удовлетворительная теория распределения, по Боул- дингу, должна была представлять собой некую равновесную систему, в которой соответствующие агрегатные величины получили бы отражение в тождествах совместно с уравнениями, которые характеризуют поведение человека и число которых равно числу неизвестных. Эти уравнения должны описывать взаимоотношения, отражающие определенные стороны человеческой деятельности таким образом, что если этим взаимоотношениям не удовлетворяют переменные величины системы, то в последней возникает движение, в результате которого значения соответствующих переменных становятся иными. По сути дела, это означало, что переменные должны быть однородными, а уравнения, описывающие поведение, должны указывать на то, что социальное действие подчинено определенным правилам.
Заявка на создание подлинной макроэкономической теории была сделана лордом Кейнсом, хотя некоторые из введенных им агрегатных величин недостаточно однородны, а что касается потребительской функции, то она нестабильна. Но еще хуже обстоит дело с теорией предельной производительности, утверждал Боулдинг: помимо постоянно совершаемой в угоду ей ошибки перенесения свойств частного на целое, что имеет место при переходе от рассмотрения отдельной фирмы ко всему 463
•обществу, выводимые из этой теории уравнения поведения полностью ошибочны. К примеру, падение реальной заработной платы не ведет к росту занятости, а решения индивидуумов относительно денег на деле оказывают совершенно иное воздействие, чем решения, исходящие от правительства. Фактически сокращение занятости обычно сопровождается падением цен, так же как и падением заработной платы 2". Следовательно, микроэкономический анализ не подходит для решения более широких проблем, связанных с распределением.
Следовало, видимо, ожидать, что в поисках ответа на свой вопрос Боулдинг обратится к кейнсианской доктрине. Он, однако, считал, что сначала необходимо устранить некоторые элементы путаницы, которые он обнаружил в теории Кейнса, и в особенности это касалось процесса денежных платежей и теории накопления. Например, Кейнс часто отождествлял расходы с потреблением, отмечал он, что вело к противоречию между понятиями дохода и поступлений и к отождествлению валового национального продукта в его реальном и денежном аспектах. Боулдинг предпочел определять потребление как «расходование» запаса благ 300. В результате процесса производства происходит пополнение запаса, тогда как накопление есть разность между пополнением и расходованием. Все это, конечно, может быть выражено в виде темпов изменения. Преимущества такого способа изложения основных экономических теорем Боулдинг видел в том, что он проливает дополнительный свет на основную проблему капитализма: накопление основного капитала может происходить до той точки, когда его выгоды начинают исчезать, поскольку по мере роста запаса благ норма накопления снижается. Поправить положение можно, лишь повысив потребление либо сократив производство. При наличии большого запаса норма потребления должна быть довольно значительной для предотвращения стагнации 301. Кейнсианцы, писал Боулдинг, были склонны игнорировать эти реальные изменения и проглядели тот факт, что «расход» есть лишь перемещение активов. Проведение четкого различия между реальным и стоимостным подходом облегчает, например, изучение последствий изменения скорости обращения денег 302. К тому же это облегчает понимание того, как созидается потребительский капитал, и позволяет двигаться дальше более прямым путем от предпочтений потребителя в отношении активов к запасам и к производству, вместо того чтобы идти более сложным путем по цепочке доход — расходы — прибыли — ставка процента — ожидания — цена. При рассмотрении мультипликатора, отмечал Боулдинг, следует ясно указывать, имеется ли в виду реальный или денежный мультипликатор, ибо если первый оказывается полезным при описании реальных процессов и изменений в занятости, то он значительно менее полезен при истолковании денежного обращения.
Однако Боулдинг не избежал влияния кейнсианского образа мыслей. Его практические рекомендации, содержащиеся в книге «Экономическая теория мирного времени», будучи вполне кейнсианскими по характеру, включают и такие идеи, как применение различных налоговых ставок для достижения тех же самых целей, что и посредством бюджетного дефицита, только, вероятно, в более сжатые сроки. Подобно этому, и его теория распределения, охарактеризованная ниже, несет на себе печать кейнсианской доктрины. Можно также отметить острую и действенную, однако вполне в кейнсианском духе критику «компенсационной» («hang-over») теории кризисов, согласно которой кризисы выполняют полезную функцию, ликвидируя диспропорции, возникшие во время предшествующего бума 303.
Свойственная католикам исключительная готовность к исследованию иных идейных течений присуща Боулдингу, который интересовался и такими теориями, как институционализм. В своих активных поисках доктрины, которая была бы свободна от формальной бесплодности общепринятых систем, он не мог не обратить внимания на еретические идеи: ведь концепция недопотребления сотни лет ютилась на задворках экономической науки, прежде чем Кейнс поставил ее в центр внимания экономической мысли. Однако основательное знакомство Боулдинга с общепринятой теорией сделало его весьма осторожным, хотя он и признает обоснованность некоторых возражений, высказанных Вебленом, Митчеллом и Коммонсом. Призыв последнего к созданию динамической теории, в которой важную роль играли бы психологический и социологический элементы, нашел в нем сочувственный отклик. Он понимает, что положения сравнительной статики находятся «примерно на уровне сознания домохозяйки» 304.
Из великих еретиков Боулдинг менее всего ценит Веблена и, по-видимому, более всего — Коммонса. Веблен наметил путь к созданию единой социальной науки, но, по мнению Боулдинга, это был не более чем «карточный домик». Коммонс привлек его своими обобщениями: категории сделок, действующих коллективных институтов и рабочих правил могут быть приравнены к категориям обмена, фирм и типов поведения. Все сделанное Коммонсом • 464
даже более важно, чем могло показаться на первый взгляд, поскольку оно пролагало путь к теории организации, то есть именно к тому, что Боулдингу предстояло развить до высокой степени совершенства. Стремление институционалистов иметь более доказательный фактический материал, безусловно, заслуживает похвалы. К сожалению, в отношении Боулдинга к Веблену проявилась определенная предвзятость; он обращает больше внимания на причуды характера, чем на свойства идей. Однако этот интерес к «еретическим» течениям показателен, поскольку во многих отношениях сам Боулдинг порвал с общепринятой экономической теорией.
Не существует действенного способа отделить экономику от политики, писал Боулдинг, особенно когда речь идет об исследовании общества в целом. Нельзя также рассматривать государство в качестве deus ex machina, поскольку оно, несомненно, является частью целого 305. В действительности, существенно важно, чтобы социальное исследование исходило из экологической точки зрения, поскольку различные элементы, составляющие экономическую систему, находятся в состоянии равновесия. В этой связи Боулдинг проводит ряд в высшей степени поучительных биологических аналогий. Он начинает с «экосистем», включающих ряд популяций, каждая из которых состоит из более или менее однородных особей. Равновесная численность каждой популяции в экосистеме определяется как функция размеров других популяций. Сдвиги в равновесии экосистемы объясняются степенью развития конкуренции или сотрудничества. Таким образом, понятие популяции стало важным орудием анализа, поскольку его можно было применить к изучению изменений запасов таких товаров, как автомобили, и сделать важным элементом теории капитала. В этих теоретических представлениях отразилась, по крайней мере частично, философия институционализма; они также явно продиктованы пониманием того, что чистая экономическая теория интересуется скорее товарами, чем людьми 306. Тот факт, что Боулдинг упорно продолжает развивать теорию организации, свидетельствует о полном осознании им ограниченности общепринятой экономической теории 307. Будучи в большей мере институционалистом, чем он сам склонен признавать, Боулдинг в одном месте писал: «Экономист не может позволить себе быть полностью безразличным к поведению людей и организаций, даже если его в основном интересует сфера товаров» 308.
Работе Боулдинга «Перестройка экономической теории», в которой содержатся наиболее специальные разделы его теории, к сожалению, не было уделено то внимание, какого она заслуживает. А неспособность других экономистов подхватить многие его плодотворные выводы попросту свидетельствует о прискорбном нежелании развивать новые направления теоретического анализа. Основной вывод Боулдинга заключается в том, что экономические связи могут быть выражены более наглядно в виде изменений статей баланса и что потоки становятся более содержательными понятиями, если их интерпретировать как изменения в запасах. Эта точка зрения представляется действительно обоснованной, если вспомнить, что в бухгалтерии «номинальные» счета прибылей и убытков просто выражают изменения «в реальных» статьях балансовой отчетности. Потребители, да и фирмы, утверждает Боулдинг, стремятся не к максимизации удовлетворения, которое приносит поток благ в течение определенного времени, а к обеспечению предпочтительной позиции в смысле соотношения активов и обязательств. Иначе говоря, предпочтения относятся к некоторой системе соотношений, характеризующих активы. Такой подход позволяет иметь дело с вполне зримыми явлениями — количествами активов, ценами и взаимоотношениями между ними. Так, цены влияют на размеры активов непосредственно через обмен и потребление; наряду с количествами активов Боулдинг вводит их в сферу экономического анализа. Отсюда становится возможным назвать специфические причины изменений во вкусах и более полно исследовать силы, определяющие спрос и предложение, в категориях предпочтения активов, ресурсов, обмена и технических сдвигов 309.
Путем сопоставления относительных предпочтений товаров и денег можно из общей системы индивидуальных уравнений получить уравнения рыночного спроса, с тем чтобы показать, что цены будут расти, когда возрастет количество денег, либо уменьшится количество товаров, либо упадет предпочитаемая норма ликвидности. Если последняя равна нулю, то цены будут расти неограниченно, как в случае «галопирующей» инфляции. Поэтому когда норма ликвидности высока, цены в большей степени определяются изменениями в товарной массе, чем изменениями в предложении денег. Боулдинг признает, что здесь содержится нечто большее, чем формальное сходство с уравнением Фишера 31°. Однако он настаивает, что его подход подчеркивает скорее колебания запасов, чем потоков, и что он способен охарактеризовать соответствующие элементы в историческом разрезе. Кроме того, его теория обеспечивает более общие рамки для анализа цен: его 30 Б. Селигмен
465
трактовка процента, например, становится специальным случаем, исходящим из воздействия предпочтения активов на курсы ценных бумаг.
На основе этих положений Боулдинг развил свою концепцию фирмы как часть общей теории организации, начатки которой он обнаружил в работах У. Б. Кэннона, Честера Барнарда и Норберта Винера. Действительно, теория организации в настоящее время обещает стать важной областью для исследования природы фирмы, особенно если фирма рассматривается в качестве поля деятельности 311. Основным понятием концепции Боулдинга является понятие гомеостаза, то есть механизма саморегулирования, посредством которого происходит стабилизация переменных величин в определенных пределах 312. Это понятие, обязанное своим происхождением физиологии, характеризует то, как функционирует и обновляется организм за счет материалов, привносимых извне. Равновесие, или постоянство условий, поддерживается компенсационными процессами внутри организма или во внешней среде. В организации, как представляется Боул- дингу, существуют механизмы управления, действующие через посредство обратной связи для поддержания относительного равновесия: в условиях фирмы балансовая отчетность обеспечивает данные, необходимые для удовлетворительного первого приближения к гомеостазу. По мере того как в результате продаж уменьшаются запасы, фирма вынуждена за счет закупок или производства восстанавливать искомое равновесие. Теория должна раскрыть природу идеальной балансовой отчетности, и только тогда, замечал Боулдинг, приобретет смысл рассмотрение принципа максимизации прибыли. Но и в этом случае возможно положение, при котором предпочтение будет отдаваться ликвидности, а именно когда имеет место крайняя неопределенность перспективы или вера в такую неопределенность: классическим примером этого служит фирма «Монтгомери Уорд» * при Сьюэле Эйвери. Рамки, в которых фирмы принимают решения, в значительной мере ограничены в результате недостаточной гибкости некоторых активов313. Предпочтение активов часто является особенностью, вытекающей из самой природы фирмы. Изменения в действительном или потенциальном поведении с необходимостью обусловливаются такими неконтролируемыми элементами, как несовершенство рынка или инвариантность
♦ Крупная американская фирма, объединяющая универсальные магазины и посылочные конторы.— Прим, перев.
функции преобразования или производственной функции 314.
Соответственно фирмы в большей мере руководствуются определенными нормами предпочтения в отношении активов, чем освященным временем, но в некотором смысле нереалистичным принципом максимизации прибыли. Для того чтобы исследовать, как такого рода предпочтения реализуются в процессе принятия решений, Боулдинг использует кривые безразличия. Денежные и товарные массы связываются на графике безразличия таким образом, что выпуклая кривая, соединяющая соответствующие оси, отражает различные комбинации денег и товаров, достижимые в ходе производственного процесса. Это — линия производства; ее наклон характеризует предельные издержки выпуска. На нее накладывается линия обмена, которая в условиях совершенного рынка была бы прямой, так как общая выручка возрастала бы постоянными темпами. Обмен товара на деньги будет осуществляться до точки касания линии обмена с наиболее высоко расположенной линией производства, что укажет на оптимальные размеры выпуска, продаж и запасов 316. Тем самым Боулдинг предложил довольно эффективный способ объединения систем предпочтений с планами в отношении производства, продаж и запасов. В случае несовершенства рынка, то есть когда сама цена является переменной величиной, размеры производства также становятся переменными. По сути дела, получение прибыли есть процесс, «...в ходе которого чистая стоимость * данной организации повышается посредством последовательных актов преобразования и переоценки активов» 31в.
Боулдинг утверждает, и не без основания, что его теория более реалистична, чем обычный маржинализм, и дает больший простор для эмпирических исследований 317. Маржиналистская доктрина служит дополнением к стандартному анализу спроса и предложения, и в случае необходимости можно обойтись и без нее. А теории предпочтения, говорит Боулдинг, станут более содержательными, если вместо максимизации прибыли они будут рассматривать максимизацию «полезности». Концентрируя внимание на предпочтениях в отношении норм активов в рамках трактовки фирмы как разновидности организации, можно прийти к более динамичной теории фирмы 318. Очевидно, что система предпочтений серьезным образом сказывается на спросе на элементы затрат и что учет этого дает возможность полу-
♦ Чистая стоимость — net worth (англ.) — статья балансовой отчетности акционерной компании.— Прим, перев.
466
чить мгновенную фотографию фирмы, а также механизм, необходимый для анализа происходящих в ней процессов. Кроме того, при изучении движения спроса и предложения нетрудно будет провести различие между прошлым и будущим путем соотнесения имеющихся в наличии денег и товаров с предпочитаемыми нормами активов.
Все это привело Боулдинга к такому взгляду на потребление, который находится в полном противоречии с общепринятой теорией. Потребление, пишет он, не является целью экономической деятельности, поскольку, чтобы поддерживать определенный уровень реальных активов, необходимо экономить,— основным принципом является скорее минимальное, а не максимальное потребление 310. Удовлетворение проистекает из эффективного использования благ, а не из их разрушения. Это, безусловно, смелая концепция, требовавшая решительного изменения точки зрения. Сбережение трактуется при этом как чистая добавка к запасу благ, тогда как накопление запасов рассматривается лишь как денежное явление. Правда, часть активов постоянно потребляется, но самый важный вид деятельности состоит в их преумножении посредством обмена или производства. Такова теоретическая основа системы равновесия, выраженной в категориях введенной Боулдингом разновидности функции предпочтения 32°. Эта модель, безусловно, весьма сложна; необходимо учитывать изменения цен так же, как накопление или «износ» запаса. В анализ также введены элементы взаимодополняемости и соперничества между товарами. Если попытаться учесть все разнородные факторы, то становится трудно провести различие между теорией фирмы и общей теорией потребления321.
Интерес Боулдинга к реальным и денежным аспектам экономических запасов позволил ему создать одну из наиболее реалистичных и действительно удачных теорий капитала в литературе последнего времени. Капитал рассматривается как своего рода популяция с определенной возрастной структурой, что позволяет отчетливо выявить ее наиболее существенные черты. Идея возрастной структуры важна не только для анализа производства и потребления, но и для теории экономических циклов. При наличии возрастных групп, показателей продолжительности жизни, чистой «рождаемости», или приращений, становится возможным предсказать историю, количественное и возрастное распределение запаса капитальных благ. В зависимости от предположения о характере функциональных связей можно получить различные структуры экономического роста.
Боулдинг признает, что существует весьма тесная связь между его концепциями и австрийской теорией капитала, поскольку в последней возрастная структура капитала является важным фактором при установлении соответствующего отношения капитал — доход.
Капитал, пишет Боулдинг,— это разнородная совокупность физических единиц, которые непрерывно подвергаются процессу оценки 322. Это совершенно не тот мифический однородный фонд, который описан Фрэнком Найтом. Процесс оценки сам по себе неизбежно связан с возрастной структурой капитала, что часто упускали из виду другие экономисты. Следовательно, идея периода производства совсем уж не такая искусственная, поскольку возможно установить соотношения между запасом благ и объемом производства и потребления за год, а также средней продолжительностью жизни капитала. Далее, нарушения в возрастной структуре, по-видимому, могут повести к нарушению равновесия. Плодовитые и бесплодные возрастные группы могут существовать в популяции физических единиц, так же как и в человеческой популяции. Достаточно вспомнить, например, нехватку автомобилей в военное время и влияние этого фактора на послевоенное производство либо высокий уровень выпуска автомобилей в 1955 г. и как он отразился на современном возрастном распределении автомобильного парка.
К проблеме функционального распределения, как и ко многим другим спорным экономическим проблемам, Боулдинг подходит под углом зрения концепции балансовой отчетности. Боулдинг стремится показать, что распределение национального продукта определяется, в конечном счете, решениями, которые отражаются на накоплении реальных активов и на всем комплексе действий, связанных с предпочтением ликвидности 323. Ни соглашения о заработной плате, ни эффективность управления не являются столь важными, как эти факторы. Если исходить из «фундаментального» тождества балансовой отчетности, при котором доход означает чистую добавку к активам или прирост чистой стоимости, то вопрос сводится к тому, каким образом этот прирост распределяется между прибылью и заработной платой. Именно это представляет собой центральную проблему теории распределения, а не деление «прибыли» на процент, ренту и некую остаточную часть. Последнее исторически обусловлено договорными обязательствами 324. Но в сущности именно так проблема была в свое время поставлена Марксом!
Боулдинг постулирует длинный ряд равенств, в которых основные экономические единицы 30* 467
характеризуются либо как предприятие, либо как домашнее хозяйство. Имеется возможность ввести государство в качестве еще одной экономической ячейки, но это не играет существенной роли. В процессе агрегирования и элиминации «противоположных» требований домашних хозяйств и предприятий становится возможным получить чистую стоимость всего предпринимательского сектора, равную денежным запасам (money holdings), стоимости наличных благ и чистой задолженности домашних хозяйств. Если к этому добавить процент и дивиденды, то получится распределяемая доля чистой стоимости, за исключением заработной платы. Важная особенность, которую стремится подчеркнуть Боулдинг, является независимость компонентов в конечном равенстве. В этом нашли отражение поиски содержательных уравнений поведения, которые реалистично характеризовали бы решения, принимаемые предприятиями и домашними хозяйствами. Чистые изменения в денежных запасах, реальных активах и чистой задолженности, утверждает Боулдинг, происходят независимо друг от друга. Нераспределенные прибыли, то есть сбережения предпринимательского сектора, обычно зависят не от соответствующих решений предпринимателей, а от многочисленных других факторов. Следовательно, когда предприятие определяет посредством своей дивидендной политики размеры своих сбережений, то, в сущности, оно определяет уровень своей прибыли 325. Поскольку чистая стоимость определяется независимо, распределение дивидендов становится своего рода «неиссякаемым источником», поскольку рост распределяемой таким образом доли у одной фирмы приводит к увеличению прибыли у других фирм, а «...рост распределяемой доли у всех фирм увеличивает прибыли всех предпринимателей» 326. Для домашних хозяйств чистая стоимость равна общему количеству денег плюс общая стоимость реальных активов. Следовательно, сбережения домашних хозяйств равняются чистому приросту этих статей и, в конечном счете,— совокупным сбережениям общества. Но сбережения домашних хозяйств также равняются доходу минус потребление, причем доход включает в себя заработную плату, дивиденды и сбережения предприятий. Заработная плата состоит из потребления и чистого прироста потребительских запасов минус любые изменения в запасах наличности, чистой задолженности и дивидендах. Тогда прибыли равняются приросту стоимости активов предприятий плюс чистое изменение запасов наличности, чистой задолженности и дивидендов. Так происходит распределение продукции общества между прибылью и заработной платой.
Но все это, выраженное в виде алгебраических равенств, было явно недостаточным. Польза от подобных «трюизмов» определяется тем, насколько их компоненты способны варьироваться в зависимости от изменений в поведении людей. Данная модель должна была показать, как влияют на общество кумулятивные процессы роста населения, капитала и знаний. Выводы, вытекающие из его теории распределения, более ясно сформулированы в работе Боулдинга, предшествовавшей книге «Перестройка экономической теории» 327. Если рост населения действительно стимулирует инвен- стирование и потребление, то постоянное расширение капитала может ограничить возможности получения прибыли, если только вновь добытые знания не откроют нетронутые сферы приложения капитала. При росте потребления существует, по-видимому, долговременная тенденция роста заработной платы, обратного движению прибыли. Поэтому сохраняется некоторая вероятность того, что наступит «судный день», «...когда накопления увеличатся настолько, что инвестирование прекратится, прибыли упадут до нуля и потребление будет недостаточным, чтобы поглотить продукцию, соответствующую уровню полной занятости, и поэтому система низвергнется в пучину безработицы и бесприбыльности» 328. Но этот мрачный вывод, замечает Боулдинг, вытекает из таких предположений о тенденциях поведения, которые никоим образом не являются безусловными. Изменения в относительных долях распределения обусловлены человеческими действиями, а не какими-то предопределенными железными законами. Если существует связь между тенденцией в распределении дохода и экономическим ростом, то решение проблемы, по сути дела, состоит в достижении более высокого уровня производства. Человек не беспомощен, пишет Боулдинг, поскольку его поведение может быть проанализировано, расчленено и в конечном счете на него можно оказать влияние.
Этой твердой верой в способности людей к совершенствованию и проникнута теория организации Боулдинга. Товары, цены и активы не изменяются сами по себе, за ними стоят действия людей. Таким способом он стремится избежать своеобразного товарного фетишизма, свойственного современной экономической теории. Именно эта предпосылка превращает экономическую теорию в бихевиористскую науку, наиболее реалистические модели которой являются моделями организации 329. Исходным пунктом такого рода теории является 468
реальный баланс, «отчет о состоянии дел», который позволяет организации продолжать функционирование в условиях гомеостаза. Все организации, пишет Боулдинг, проходят определенные характерные состояния, включающие периоды роста, зрелости и упадка в их неумолимой последовательности 330. Однако систематическое осуществление функций, присущих организации, предполагает наличие механизма, позволяющего различать действительные и мнимые значения переменных величин: коммуникаторы данных, работники для истолкования отчетов и информации, передатчики распоряжений и указаний, средства приема распоряжений, средства доставки их на места — все это необходимо организации. Подобная система способна функционировать до тех пор, пока с некоторой степенью точности выносится суждение о направлении и размерах изменений. Запаздывание информации ведет лишь к колебаниям системы, как в случае с паутинообразной моделью. Тогда как сердцевиной системы является поток информации, экономическая наука, замечает Боулдинг, по-прежнему весьма отстает в развитии своей теории информации331.
Передача знаний и информации в рамках организации требует своего рода Gestalt, посредством которого прошлое и настоящее используются для оценки будущего. И здесь «балансовая отчетность» является связующим звеном, поскольку опыт прошлого может быть соотнесен с ожидаемыми или желательными отношениями между различными статьями этой отчетности. Экономическая теория организации, какое бы применение она ни нашла, с необходимостью должна будет пересечь границы других общественных наук, потому что «...большая часть основных проявлений реального мира, а именно — поведение, взаимодействие, рост и упадок — исследуется всеми науками» 332. Боулдинг также признает, что исследовать социальные проблемы значительно более трудно, чем естественнонаучные проблемы, и не только из-за ограниченной применимости контролируемого 'эксперимента, но и потому, что ученый в области общественных наук самим актом исследования может изменить проблему, так же как и себя самого. Слишком уж часто в самом предсказании заложены силы, способствующие его осуществлению. Очевидно, что необходимо дальнейшее сближение между экономикой, психологией и социологией, и Боулдинг без колебаний призывает к этому своих коллег-экономистов. Конечно, экономист может охарактеризовать поведение олигополии при помощи кривых, но в подобных ситуациях всегда присутствует элемент конфликта, который должен быть исследован под углом зрения социологии и политической науки 333. Такой подход привел Боулдинга в конечном счете если не к формальному, то к духовному сближению с теми самыми институционалистами, которых он считал не заслуживающими серьезного внимания.
Глава VIII
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ
1. ЙОЗЕФ А. ШУМПЕТЕР И ЕГО НОВАТОР
Когда какой-либо экономической доктрине удается объединить в грандиозную систему идеи о непрерывном воспроизводстве при неизменном уровне производства или потребления, о том, что достижимо совершенное равновесие экономических сил, что главными движущими силами экономического развития являются смелые предприниматели, вечное стремление которых к прибыли вызывает экономические изменения, и что капитализм потерпит неудачу потому, что он слишком преуспевает,— эта доктрина, несомненно, может быть названа интересной и даже поразительной. Такая система создана одним из крупнейших экономистов нашего времени Йозефом А. Шумпетером (1883—1950), который был профессором Гарвардского университета с 1932 г. до конца жизни х.
Шумпетер родился в Моравии и получил прекрасное образование, включающее изучение греческого и латинского языков 2. В 1901 г. он поступил в Венский университет, где пять лет спустя он получил степень доктора права. После непродолжительной практики в Каире Шумпетер решил целиком посвятить себя изучению экономической теории. Будучи студентом, он много внимания уделял экономическим проблемам, особенно на семинарских занятиях по статистике и экономической теории. Среди его учителей были такие светила, как Визер, Филиппович и Бем-Баверк. А в числе студентов, принимавших участие в этих семинарах, были Мизес, Феликс Сомари, а также способные молодые социалисты Отто Бауэр и Рудольф Гильфердинг. Несомненно, интерес Шумпетера к проблемам социализма, который он сохранил на всю жизнь, возник в те годы. В 1909 г. он поступил на работу в университет в Чернови- цах, а в 1911 г. переехал в Грац. Поскольку как преподаватель экономики он был в единственном числе, то он читал лекции по всему кругу проблем, включая и смежные вопросы социологии. Очевидно, что его глубокие познания в столь многих областях экономической теории и разносторонние интересы, которые часто заметны в его работах, связаны с преподавательской деятельностью в те годы. В 1913 г. Шумпетер в порядке обмена профессорами поехал в Колумбийский университет, где провел год; в Европу он вернулся незадолго до начала войны. Шумпетер не скрывал своих прозападных симпатий (в 1906 г. он посетил Оксфорд и Кембридж, он был женат на дочери видного сановника англиканской церкви), а войну он обычно характеризовал как «кровавое безумие».
После образования Австрийской республики в 1919 г. Шумпетер был приглашен на пост министра финансов в коалиционном правительстве католиков и социал-демократов (очевидно, по настоянию Отто Бауэра) 3. Состояние финансов, конечно, граничило с полным хаосом, и инфляция казалась неизбежной. Положение Шумпетера как консерватора, которого рекомендовал в правительство социалист, было 470
не очень-то завидным. Спустя семь месяцев он вынужден был уйти в отставку, так и не успев доказать правоту своих идей о контроле над инфляцией4. Его идеалом было сильное и единое в мнениях правительство, которое смогло бы ввести налог на капитал для обеспечения иностранных займов, столь необходимых для перестройки экономики, он стремился также к сбалансированному бюджету. Кроме того, его вполне разумное утверждение, что «крона — это крона», пришлось не по душе тысячам австрийских бюргеров, которые видели, что их сбережения исчезают. Спустя два года, после того как Шумпетер вышел из правительства, он возглавил небольшой банк, который потерпел крах в 1924 г. Вкусив от политики и предпринимательской деятельности, Шумпетер решил вернуться в относительно тихую гавань Академии. Он преподавал в Японии, затем возглавил кафедру государственных финансов в Боннском университете; здесь он много сделал для того, чтобы поколебать влияние исторической школы, которое по-прежнему было весьма сильным в экономической науке Германии. В 1932 г. Шумпетер принял приглашение занять пост в Гарвардском университете (он читал здесь лекции в 1927 и 1930 гг.), где и оставался до конца жизни.
Литературное наследие Шумпетера огромно. Даже его ранние статьи по-прежнему заслуживают внимательного изучения 5. Во многих отношениях Шумпетер был потомком по прямой линии австрийской школы, однако большое влияние на него оказал Вальрас, которого Шумпетер считал величайшим из современных экономистов. Он утверждал, что тот, кто не изучал и не понимает Вальрасову теорию общего равновесия, не может стать хорошим теоретиком 6. На взглядах Шумпетера на капиталистический способ производства в ранний период его творчества сказалось также влияние Ирвинга Фишера и Джона Бейтса Кларка. Он считал весьма полезной попытку Фишера использовать в экономических анализах понятия, заимствованные из систем учета, но отвергал концепцию капитала Фишера в пользу понятия фонда Кларка. Эта идея является центральной в его собственной «Теории экономического развития» 7. Отдельные замечания Кларка о динамической теории послужили необходимым толчком для Шумпетера в изучении проблем экономического развития. Неизбежным было и влияние Бем-Баверка, которого Шумпетер весьма высоко ценил. В работе, относящейся к 1909 г., о социальной природе стоимости 8 можно найти понятия, выдвинутые Визером. У представителей венской школы были заимствованы понятия о порядке благ, вменении альтернативной стоимости и предельной производительности 9. Отличие теории Шумпетера от австрийской школы состоит в его утверждении, что круговой поток (circular flow) характерен для экономики, в которой отсутствуют прибыль или процент. Прибыль является временным фактором, возникающим в процессе развития, а выплачиваемые предпринимателем проценты капиталисту через денежный рынок — это, следовательно, не что иное, как «налог на прибыль» 10. Шумпетер не признавал также идею равномерного и непрерывного накопления капитала, поскольку развитие происходит неравномерно и скачкообразно 1Х. Несколько ограниченным моделям Бем-Баверка он предпочитал широту охвата и склонность к социологическим выводам, которые он нашел у Маркса.
Система Шумпетера не есть, однако, эклектическое собрание понятий. На основе его последовательной теории происхождения, функционирования и заката капитализма построен внушительный ряд гипотез о производственном цикле, деньгах, проценте и ценах. Многие идеи Шумпетера возникли у него еще в молодые годы. В 1908 г. он опубликовал работу по теоретической экономии, в которой затронул практически все ее проблемы и даже указал на пути их решения, к которому он пришел позднее. К тридцати годам он написал краткую историю экономической науки, которая несколько десятилетий спустя была расширена в фантастически огромный посмертный труд «История экономического анализа» 12. Что касается отношения к более поздним исследованиям в области монополистической конкуренции и кейнсианской доктрине, он остался в основном старомодным экономистом 13. Несмотря на признание важности рекламы и дифференциации продукта, его собственная доктрина преимущественно основана на «чистой» конкуренции. Его отрицание кейнсианских положений, более решительное, зиждется на непризнании вывода о том, что экономика может функционировать только при вмешательстве извне. Его собственные идеи базировались на понятии о так называемой первопричине: коль скоро капитализм возник, он должен развиваться только за счет внутренних сил. Согласно чистой теории, следует отрицать все политические, философские и моральные аспекты.
Первоначальная модель Шумпетера имела отношение к поведению обособленных экономических единиц в окружающей обстановке, на которую каждая из них практически не оказывает влияния. Эту модель, в основном традиционную, Шумпетер пытался заново сформулировать в условиях одновременности и взаи471
мозависимости. В структуре модели неизменно присутствует понятие предельной полезности, сторонники которого так и не сумели отвести упрек в том, что они заставляют экономического человека быть эквилибристом, балансирующим между удовольствиями и страданиями.
В своей ранней работе «Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokono- mie»* 14. Шумпетер утверждал, что экономический анализ может быть свободен от гедонизма, а теория не должна использоваться для усовершенствования существующего способа распределения дохода. Это в особенности следует подчеркнуть, так как в конце XIX и начале XX вв. экономисты сознательно или невольно все больше и больше использовали теорию предельной полезности и производительности для доказательства того, что такая экономическая система является наилучшей из возможных. На этом этапе модель Шумпетера все еще была статической. Между переменными величинами устанавливается равновесие; представляется возможным определить реакцию всех элементов системы при изменении одной переменной величины. Зависимости между величинами четко сформулированы и определяются, согласно концепциям австрийской школы, предельной полезностью. Однако эта модель не соответствовала действительности, ибо экономическая жизнь, как понимал Шумпетер, представляет собой динамический и постоянно изменяющийся процесс, природа которого была им позже исследована в теории развития.
Шумпетер был необычайно щедр на похвалы. Несмотря на то что он придерживался консервативных убеждений, Шумпетер не колеблясь признавал Маркса выдающимся экономистом. Для него имело значение лишь качество исследований и, как выражался Шумпетер, «проницательность» человека. Под ней он подразумевал «преданалитический познавательный акт», дающий исходные данные для научных исследований15. Это означает такое восприятие экономических проблем, которое позволяет ставить действительно значительные вопросы. Следовательно, идеологические предубеждения не должны быть причиной осуждения теоретических работ только потому, что с их положениями нельзя согласиться. Всегда готовый выслушать своего противника, Шумпетер никогда не успокаивался до тех пор, пока ему не удавалось взглянуть на проблему с точки зрения оппонента. Это — удивительная черта, если учесть специфику экономической науки, где самый * «Сущность и основное содержание теоретической политэкономии» (нем.).— Прим, перев.
невинный вопрос может заставить человека излагать свои взгляды в течение часа.
Шумпетер считал математику важным инструментом в экономической науке16, но полагал, что она никогда не заменит интуитивного проникновения. Такая интуиция порождает искусство полезного абстрагирования, в котором Рикардо, Маркс и Вальрас были непревзойденными. Это, по мнению Шумпетера, является ядром метода экономического анализа. Несомненно, все эти идеи он впитал в себя в студенческие годы в Венском университете, где в спорах с Бауэром и Гильфердингом наверняка проявился его отточенный ум. Несмотря на склонность к точным методам, среди экономистов Шумпетер слыл до некоторой степени романтиком. Он утверждал, что капитализм является волнующим и романтическим. Защита использования математики в экономике не помешала ему обращаться за доказательствами к историческому опыту. В 1950 г. он признал, что математические модели в изучении производственных циклов не были столь плодотворны, как он надеялся, и что из теоретического, статистического и исторического методов наиболее важным является последний. Однако в своих обширных исследованиях он нередко использовал все три метода; эта способность коренилась в его мастерском владении научным методом. Чтобы рассеять сомнения в этом, достаточно прочесть введение к его «Истории экономического анализа», где Шумпетер продемонстрировал редкое умение охватить философские и социологические аспекты экономической теории17.
Шумпетер утверждал, что ни один из методов не является столь универсальным, чтобы преобладать над другим. Каждый метод имеет свою сферу применения: если исторический метод применим для изучения организации экономики, то для теории цен необходимо абстрагирование и построение моделей. Однако оба эти метода «часто сближаются и становятся неразличимы». Из всех общественных наук только экономическая, говорил Шумпетер, стоит близко к естественным наукам, и лишь потому, что она имеет дело с явлениями, которым можно дать количественное выражение. Измерение многих экономических данных не есть нечто привнесенное извне, как это имеет место в физике, поскольку они предстают перед исследователем как величины, которые сама жизнь сделала числовыми. Если согласиться с этим положением, то нет необходимости прибегать к изучению мотивов и главных движущих сил человеческого поведения. Именно неспособность понять это и ввела в заблуждение классиков, так как ассоциативная психология, 472
гедонизм и сравнения полезностей не поддавались основной методике количественных измерений в экономике. Однако измерения и статистики недостаточно для понимания связи между экономическими явлениями. Для этого необходима теоретическая экономия. Надо либо довериться смелым и, возможно, ненадежным теоретическим построениям, либо отказаться от всяких надежд18.
Шумпетер признавал, что такие построения могут не иметь ничего общего с действительностью, но, будучи произвольными, они основаны на реальных фактах. Это придает экономической теории строгость и последовательность в рамках тех явлений, которые она призвана рассматривать. В соответствии с этим методологическим принципом теория равновесия для Шумпетера была статической системой, в которой рассматривается длительное влияние небольших и непрерывных изменений основных параметров. Хотя такой подход может оказаться безуспешным, Шумпетер тем не менее полагал, что путем варьирования статических состояний можно получить важные решения некоторых экономических проблем, например, построения системы тарифов и налогов. Там, где происходят значительные и дискретные изменения, необходимы динамические методы. Впервые выдвинув динамическую модель в работе «Теория экономического развития», Шумпетер тщательно разработал ее в книге «Экономиче ские циклы». Начав со статического анализа согласно своей доктрине кругового потока, он показал, как нарушения потока, вызываемые появлением новых товаров, новых методов производства и организации промышленности, придают экономике динамический характер. Именно эти силы обеспечивают «развитие»19.
Теперь необходимо вкратце рассмотреть исходные позиции Шумпетера 20. На историка сильное впечатление производит их удивительное постоянство. Однажды Шумпетер высказал замечание, что мировоззрение человека достач- точно полно формируется к тридцати годам, в остальную часть жизни лишь происходит развитие ранее возникших идей. Это замечание по существу автобиографично.
Коренная проблема всякой экономической системы, заявил Шумпетер, заключается в достижении и поддержании равновесия. Он отверг частичный подход Маршалла, и, верны”! своим привязанностям, в качестве основного метода анализа использовал более общую концепцию, выдвинутую Вальрасом. В первоначальной модели Шумпетера экономическая деятельность просто повторялась, и теория описывала ее как кругооборот. В рамках этой модели все фирмы находятся в состоянии устойчивого равновесия, а доходы равны затратам. Прибыль и процент равны нулю, цены образуются на основе средней стоимости, экономические ресурсы полностью используются. В эту модель вводится новая производственная функция, соответствующая новому соотношению между затратами и выпуском продукции. Введение новой функции осуществляется Новатором, стремящимся получить большую прибыль, чем могут дать обычные способы. Он обладает замечательной, возможной только в капиталистическом обществе способностью видеть новые возможности и извлекать из них выгоду. Для достижения своей цели ему необходимы дополнительные кредиты, в результате чего банкир становится в конечном счете тем лицом, которое обеспечивает Новатору возможность действовать 21.
Получив от банка дополнительные деньги, Новатор выходит на рынок, чтобы купить новые факторы производства по более высокой цене, чем та, которую может предложить менее активный предприниматель. Поток средств производства возрастает, а поток предметов потребления уменьшается. Первый из таких Новаторов прокладывает дорогу остальным, однако вскоре возможности для инвестирования иссякают. Ссуды сокращаются, банковские займы погашаются, и в результате конкуренции новых и старых фирм возникает дефляция. Стоимости меняются, а некоторые фирмы полностью исчезают. Устанавливается новый кругооборот. При этом экономика не возвращается к прежнему состоянию равновесия. Производство находится на новом уровне, изменяется состав продуктов, производимых обществом. В этом первом приближении к экономической действительности не учитывались ошибки и спекуляция. Продолжительность процесса расширения и сокращения производства была неопределенной и зависела от особенностей новшеств, вторгавшихся в пределы замкнутого цикла. В модели четко охарактеризованы институциональные факторы. Таким образом, та разновидность капитализма, которую иллюстрирует модель Шумпетера, оказывалась исторически обусловленной.
рой деньги становятся полезным орудием для изучения экономических процессов. Они стали связующим звеном между экономическими явлениями и являются «квитанцией о сдаче и распиской в получении», связывающими также производство и доход, который поступает к взаимодействующим факторам22. Однако деньги не обладают собственной экономической силой, так как их движение обусловлено в конце концов решениями предпринимателей23. Введение в модель денег является чисто техническим приемом, поскольку круговой поток возможен и при их отсутствии. Шумпетер прекрасно понимал, что следует отличать роль денег как numeraire от их использования как материальных предметов. Все возникающие при анализе проблемы излагаются Шумпетером с замечательной ясностью, включая и такие вопросы, как предельная полезность денег, их стоимость, скорость обращения и правовые аспекты. Его работа в этой области, относящаяся к 1917 г., до настоящего времени остается одной из наиболее глубоких в соответствующей области 24.
Понятие потока у Шумпетера доминирует также и в концепции капитала. Он считал, что капитал не следует отождествлять с конкретными товарами; он является независимой категорией, имеющей характер фонда покупательной способности. Это положение напоминает теорию капитала Дж. Б. Кларка и Ф. Найта. Здесь Шумпетер отошел от австрийской школы, в особенности от работ Бем-Баверка и Хайека 25. Он считал, что капитал используется для покупки товаров и пополняется через продажу. Стремясь выразить таким путем важные экономические взаимоотношения, Шумпетер в своей системе рассматривал как поступки людей, так и место вещей. Капитал приобретает значение лишь тогда, утверждал Шумпетер, когда имеет место развитие: в круговом потоке капиталу ничто не соответствует 26. В силу этого он является категорией динамического анализа, который объясняет, почему процент как поток дохода появляется только при росте и развитии экономики. В статическом состоянии, или при круговом потоке, весь продукт идет на заработную плату и ренту и процент не возникает. Процент — это цена, уплаченная за приобретение новых производительных сил, он возникает из прибыли, появляющейся при введении новшеств. Итак, с точки зрения Шумпетера, процент связан с «ссудными фондами». Процент возникает только на денежном рынке, который сам по себе есть продукт развития 27.
Существует мнение, что описанная выше модель недействительна даже для кругового потока, поскольку без какой бы то ни было прибыли на капитал не может возникнуть побуждения поддерживать его на уровне, необходимом для статической экономики28. Круговой поток предполагает полную определенность перспектив и отсутствие какого-либо «горизонта времени». При нулевом проценте и данном равномерном потоке доходов и полезности, выраженной как функция дохода, замена удовлетворения потребностей в настоящем удовлетворением в будущем не сулит особых преимуществ. Таким образом, модель без процента действительно кажется логически возможной29.
Как правило, в аналитической экономии чистая модель может быть модифицирована в более близкую к реальности за счет менее строгих допущений и введения более сложных элементов. В экономической теории Шумпетера это достигается введением влияния волны нововведений со всеми вызванными ею колебаниями и несовершенством. Ввод в эксплуатацию нового завода или оборудования сопровождается увеличением расходов потребителей. Некоторые предприниматели расширяют производственные мощности, в надежде что обстановка останется благоприятной, что привносит в экономику спекулятивные факторы. В этом случае следует учитывать ошибки и неправильные представления. Общая картина усложняется, среди процветания и бума начинают обнаруживаться слабости. При наступлении перелома возможно наступление настоящей депрессии, а не нового равновесия, как это предусмотрено в предыдущей модели. Превосходная экономическая ситуация ухудшается по мере ликвидации ранее накопленных ценностей. Оживление возможно лишь тогда, когда предпринимаются усилия для достижения нового состояния равновесия.
В своем варианте циклических изменений Шумпетер описал хорошо известные фазы процветания, спада, депрессии и оживления, однако он отказался дать унифицированные характеристики различным циклам в истории капитализма. Он считал, что каждый из них был уникальным явлением со своими специфическими чертами. Разграничение циклов от пика до пика или от впадины до впадины является искусственной процедурой, которая затушевывает специфический характер капиталистического развития. Если и можно изучать циклические изменения, не принимая во внимание их влияние на экономический рост -- как это имеет место при сравнении циклов по амплитуде и длительности,— то обратный процесс, как утверждал Шумпетер, невозможен. Экономический рост имеет глубокие корни в неравномерном циклическом движении: доста474
точно изучить проблему инвестиций и накоплений, чтобы представить себе важность этого положения. Простой иллюстрацией его может служить природа стимулированных инвестиций, которые связаны с первоначальным увеличением дохода, вызванным нововведением. Таким образом, рост выпуска продукции в одной отрасли экономики может вызвать повышение активности во всех ее отраслях: по сути дела, это основной признак оживления 30.
Когда Шумпетер приступил к подробному истолкованию экономических изменений, он предложил схематическую картину сложной циклической модели. Он полагал, что толчок развитию дают нововведения. Для полного освоения разных нововведений требуются различные сроки, хотя в некоторых случаях они совпадают, как это имело место в железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности. Картина еще более усложняется, если нововведения рассматривать в их взаимозависимости, как части некоего более крупного экономического подъема.
Итак, анализ Шумпетера скорее предполагает возможность нескольких синхронных движений, нежели множества колебаний, которые следуют одно за другим 31. Вытекающая отсюда теория мультицикличности основана на положении о том, что экономическая система должна рассматриваться в условиях общего равновесия. После определенных экспериментов Шумпетер остановился на трехцикличной схеме как наиболее подходящей для описания всех явлений, происходящих при капитализме. Циклы названы по имени экономистов Н. Д. Кондратьева, Клемента Жуглара и Джозефа Кит- чина, причем каждый цикл определяется соответственно периодом в пятьдесят пять лет, десять лет и два года четыре месяца. Эти циклы не являются независимыми, но находятся в определенных взаимоотношениях. Если рассматривать фазу оживления в цикле Кондратьева, говорил Шумпетер, можно видеть, что она достаточно близка к общему равновесию, поскольку в этой фазе существует связь между тремя движениями. В других случаях периоды, являющиеся фазами процветания или депрессии, по Жуглару, могут быть частью кругового движения, которое изменяет природу самого цикла Жуглара. Таким образом, каждый цикл Кондратьева содержит несколько циклов Жуглара, а каждый цикл Жуглара — несколько циклов Китчина, так что «... размах каждой .более длинной волны создает близость равновесия для волны следующего порядка» 32. С помощью такой внушительной конструкции Шумпетер пытался создать концептуальную основу, используя которую можно было истолковать соответствующие эмпирические данные и придать реальную ценность теории экономических изменений.
Экономическая теория Шумпетера рассматривает внутренние движущие силы исторического процесса, не имеющие ничего общего ни с деятельностью великих личностей, ни с кознями дьявола. Согласно теории Шумпетера, экономические изменения вызываются «нововведениями». Под этим термином понимаются все причины изменений в круговом потоке. В широком общественном процессе внедрения нововведений принимает участие большое число людей, в результате чего изменяются решающие факторы экономики. Учитывая, что на экономическую систему оказывают влияние войны, революции, колебания в урожаях и налоги, Шумпетер назвал эти факторы «внешними». Он не отрицал их важности и, так же как и Маркс, стремился раскрыть «внутренние» законы капитализма. Он пытался выяснить, какие элементы экономики вызывают изменения активности. Такими важными элементами он считал изменения во вкусах людей, в методах производства и доставки товаров. Очевидно, последние элементы являются важнейшими, ибо ни на каких других элементах экономики нововведения не сказываются в более сильной степени.
Ясно, что нововведение не тождественно изобретению. Последнее является технологическим фактором, тогда как нововведение представляет собой экономическое и социальное явление33. Нововведение, утверждал Шумпетер, есть категория предпринимательской деятельности в том смысле, что существующие производительные силы используются для решения новых задач. С технической точки зрения рационализация приводит к возникновению новой «производственной функции», всегда связанной с появлением передовых предприятий. Новая технология не может иметь места в рамках старых предприятий. Так называемые старые фирмы в состоянии выжить после суровых экономических потрясений лишь благодаря тому, что они коренным образом преобразуются под влиянием внедрения нововведений,— они должны отрешиться от консерватизма34.
Процесс внедрения нововведений не протекает равномерно, он характеризуется скачками и и рывками. Как только один передовой предприниматель преодолевает технологические и финансовые затруднения и открывает новые пути получения прибыли, другие поспешно следуют за ним. К концу такого периода процветания вся экономика приходит в расстройство и получение прибыли в дальнейшем становится сомнительным. Ошибки и просчеты приводят некоторые фирмы к банкротству. Процесс при475
способления сопровождается разрушением ценностей. В силу того что действительные результаты больше не соответствуют ожидаемым, возникает депрессия, когда каждый ждет новых открытий, прежде чем экономические расчеты вновь могут быть сбалансированы. Этот процесс Шумпетер назвал «созидательным разрушением», являющимся существенной чертой капитализма 35.
Тем не менее капитализм способен производить возрастающее количество благ. По утверждению Шумпетера, главным критерием успеха экономики является способность к расширению производства. Капитализм, заявлял Шумпетер, отвечает требованиям этого критерия36. Хотя нововведения и могут вызвать серьезные нарушения в прежних экономических отношениях, но в конечном счете они приводят к выгоде для общества. В этом отношении крупная промышленность, которую часто подвергают критике как монополистическую, играет особую роль. В действительности жесткие цены, ограничение выпуска продукции и патентный контроль удерживают капитализм в устойчивом состоянии, играя роль противовеса по отношению к нововведениям 37.
Однако если до настоящего времени капитализм функционировал успешно, то в будущем, утверждал Шумпетер, это уже невозможно. Причины гибели капитализма кроются не в экономике, а в образе мыслей людей, определяющих его культурную надстройку. Первоначально капиталистический образ мыслей был рационалистичен и логичен, поскольку сама природа экономических расчетов заставляла предпринимателя мыслить четко и ясно. Будучи по сути дела пацифистами, идеологи капитализма пытались распространить нормы личного общения на международные отношения. Капитализм вызвал к жизни новую буржуазию, которая, движимая сильным чувством пуританского индивидуализма, создала «... не только современные механизированные предприятия, производящие поток товаров, не только современную технологию и организацию экономики, но и все характерные черты и достижения современной цивилизации»38. С чисто технологической точки зрения капитализм, утверждал Шумпетер, определенно может функционировать на должном уровне. По его мнению, навеянное депрессией представление о сужении возможностей капитализма несостоятельно. Шумпетер не был также убежден в том, что нововведения являются средством сбережения капитала, а таможенный барьер может иметь постоянное влияние 39.
Все же, заявлял Шумпетер, великолепный механизм, именуемый капитализмом, перестанет функционировать40. На ранних стадиях развития, когда капитализм давал простор предприимчивости, отдельный предприниматель мог рисковать во имя ожидаемого дохода. Предприниматель также стремился проявить свои организаторские и коммерческие способности. Однако сегодня, говорил Шумпетер, в результате технического прогресса функции предпринимателя по внедрению новшеств значительно сузились и сводятся к простой рутине. Прежняя романтика экономических приключений исчезает, бюро и комитеты заменили теперь индивидуальные действия. Все это неизбежный результат капиталистического процесса развития, оно ведет к тому, что буржуазия превратится в ненужный класс. Таким образом, успехи капиталистической экономики парадоксальным образом подрывают положение класса, который первоначально отождествлялся с капитализмом.
Эти изменения приводят к вытеснению мелких предпринимателей; частная собственность и свобода заключения контрактов становятся архаичными правовыми категориями. Миллионы не участвующих в процессе капиталистического производства держателей акций заменяют активных его участников. Экономическая система в конце концов оказывается неспособной внушить лояльность или эмоциональную реакцию, необходимые для ее поддержки. Люди начинают отворачиваться от капитализма, говорил Шумпетер, несмотря на эффективность его производственной машины. Поскольку большинство людей не может выразить утрату своей веры, их разочарование и неудовлетворение должно быть четко высказано той частью интеллигенции, интересам которой соответствует распространение недовольства. Рано или поздно эта интеллигенция становится чуждой существующему строю. При возникновении такой многочисленной интеллигенции, которая считает себя обделенной при капитализме, она поощряет, выражает и организует недовольство системой, которая лишает ее подобающей ей роли в обществе. По мере того как общественная атмосфера становится все более напряженной, люди из принципа отказываются подчиняться требованиям капиталистического способа производства и таким путем серьезно препятствуют его эффективному функционированию. Поскольку капитализм в состоянии функционировать успешно, объяснение его гибели следует искать в разрушительных действиях людей, лишенных экономического кругозора 41. Шумпетер писал:
предпосылками, мотивами и общественными институтами. И хотя это не вызывается экономической необходимостью и, возможно, даже противоречит интересам экономического благосостояния, он превратится в систему, которую можно назвать социализмом или еще как-нибудь в зависимости от вкусов или принятой терминологии» 42.
Может показаться, что Шумпетер согласен с Марксом: капитализм в конце концов споткнется на своих внутренних противоречиях. Возможно, именно это сходство во взглядах и влекло Шумпетера к Марксу. Нельзя сказать, что он относился к Марксу некритически — так, мало что осталось от технических аспектов Марксовой теории после анализа, сделанного Шумпетером, в особенности в «Истории»43. Шумпетер не придавал значения политическим выводам из теории Маркса, его гегельянской метафизике и материалистической социологии. Несмотря на признание замечательной точности, присущей экономическому истолкованию истории у Маркса, Шумпетер полагал, что это препятствует разработке более обобщенной теории. В своей работе «Экономическая доктрина и метод» Шумпетер писал, что Маркс целиком находился в русле классической традиции, а основные идеи марксизма можно проследить до Рикардо и его предшественников44. Но прежде всего Маркс был высокообразованным и исключительно способным экономистом. Шумпетер также характеризовал Маркса как пророка, социолога и учителя 45. Дело в том, писал Шумпетер, что, несмотря на свои политические убеждения, Маркс был заинтересован в решении экономических проблем как таковых. Первостепенное значение для Маркса имело «оттачивание инструмента анализа, разработанного современной наукой, устранение логических трудностей и построение... теории, которая в сущности своей является действительно научной, каковы бы ни были ее недостатки»46. Маркс не мог преодолеть интеллектуальной ограниченности своего времени, писал Шумпетер, лишь потому, что базировался на теории стоимости Рикардо. Как Рикардо, так и Маркс утверждали, что стоимость товара пропорциональна количеству овеществленного в нем труда (общественно необходимого труда, как говорил Маркс), и оба измеряли количество труда с помощью времени. Оба они встретились с такими трудностями в разработке теории, которые побудили Шумпетера считать эту теорию не просто ошибочной, но мертвой и похороненной. Однако то, что Маркс сумел вскрыть различие между количеством труда и рабочей силой и определить овеществленную стоимость, представляет собой явный и весьма значительный прогресс в анализе по сравнению с Рикардо. Признание отклонения цен от стоимости усложнило для Маркса проблему. Задача Маркса состояла в том, чтобы показать, почему абсолютная стоимость изменяется таким образом, что товары, сохраняя свою стоимость, тем не менее продаются по относительным ценам, не пропорциональным стоимости. Другими словами, отклонения цен не изменяют стоимости, но лишь перераспределяют ее 47.
Величие Маркса как экономиста, признавал Шумпетер, состоит в его понимании того факта, что сокрушить капитализм нельзя лишь с помощью нравственных лозунгов. Маркс стремился доказать, что эксплуатация внутренне присуща логике капитализма и что ни один предприниматель не может быть персонально ответствен за результаты действия системы. Эти положения рассматриваются в теории прибавочной стоимости, одном из наиболее вдохновенных и по этой причине наиболее значительных открытий в экономической науке. Тем не менее, опровергая теорию стоимости Маркса с ее собственных позиций, Шумпетер не прочь при случае прибегнуть к своего рода ad hominem * аргументации. В одном месте он отметил, что теория эксплуатации представляет собой рационалистическое истолкование древнего лозунга, выражающего негодование низших классов против высших слоев общества, живущих на результаты их труда. По словам Шумпетера, это в конце концов стало синонимом эксплуатации.
Однако именно тот особый интерес, который Маркс проявлял к изменениям, происходящим в ходе развития капитализма, и привлек внимание Шумпетера. Утверждения Маркса о том, что капитализм не есть и не может быть неизменным, что он постоянно изменяется в результате действия внутренних сил, весьма близки, как полагал Шумпетер, к его собственным представлениям 48. Следует иметь в виду, что, по Шумпетеру, причина динамических изменений вытекает из нарушений кругового потока, вызванных действиями Новатора. В статической фазе кругового потока для нормальной циркуляции существуют все необходимые факторы производства и все возможности потребления. Новатор, получив кредиты от банковской системы, способен отвлечь факторы производства от существующих каналов и тем самым положить начало динамической фазе. Другими словами, для достижения существенных изменений экономике необходим deus ex machina * Доказательство, основанное не на объективных данных, а рассчитанное на чувства человека (лат.).— Прим. ред.
477
в виде вторжения Новатора. Таким образом, Шумпетеру не удалось показать полную зависимость экономического развития от элементов, внутренне присущих экономике. В этом отношении теория Маркса выглядит предпочтительнее. Ибо, рассматривая проблемы накопления капитала, поток экономических ресурсов в ходе простого и расширенного воспроизводства, вопросы производительности, а также тенденцию нормы прибыли к понижению, Маркс стремился показать, что движущие силы развития капитализма возникают в нем самом. Что бы ни говорили о ее деталях, сам замысел системы Маркса поразителен.
Первые модели, разработанные Марксом и Шумпетером — простое воспроизводство и круговой поток,— весьма сходны. Обе носят статический характер: в одной отсутствует накопление, в другой нет Новатора; излишки не возникают, пока в процессе роста развитие экономики не выходит за первоначальные рамки. Нет ничего невероятного в том, что динамические силы одной модели стимулируют развитие другой. Маркс и Шумпетер признавали, что предприниматель отживает свой век. Маркс в главе о кредите указывает, что вследствие распространения акционерных обществ действующий капиталист превращается в администратора, распоряжающегося деньгами других людей, а собственник — в простого заимодавца капитала. Более того, говорил Маркс, централизация капитала, облегчающаяся ростом корпораций, усиливает рационализацию производственного процесса. В этом смысле рост корпораций может рассматриваться как стабилизирующий фактор — понятие, схожее с доводами Шумпетера в пользу крупных предприятий. Сходство здесь слишком близкое, чтобы его не заметить. Однако оно касается только деталей, ибо Шумпетер не признавал изменений во всей системе организационного и политического управления, вытекающих из теории Маркса.
Главное различие между теориями Маркса и Шумпетера, по-видимому, состоит в следующем: Маркс всегда анализировал экономические факторы в последовательной цепи причинности, выяснял количественные зависимости между ними путем арифметических действий и получал таким образом информацию относительно интересовавших его неизвестных величин; Шумпетер же стремился определить, как одновременно влияют друг на друга различные элементы в экономической ситуации, вследствие чего оказались необходимыми более мощные аналитические средства высшей алгебры. Маркс также прекрасно понимал взаимозависимость экономических факторов; достаточно вспомнить его анализ зависимости органического состава капитала от нормы прибавочной стоимости. Тем не менее в основном он придерживается метода причинной связи, что обусловило определенные недостатки анализа, поскольку таким путем трудно четко выразить взаимозависимость экономических явлений *.
В своей «Истории» Шумпетер защищает Марксову систему на том основании, что она является логичной, носит аналитический характер и подчеркивает связь между общественными факторами. Экономическая теория Маркса по-прежнему представляет несомненный методологический интерес, несмотря на то, что на ней сказались классовая идеология, оценочные суждения и спорные социологические моменты**. И хотя Маркс выясняет любой встречающийся на пути исследования факт и довод, зачастую в ущерб главной его линии, он был, по словам Шумпетера, «.. .прирожденным аналитиком, человеком, обреченным анализировать независимо от своего желания» 49.
Теория империализма является важным аспектом марксистского анализа, поэтому не удивительно, что и Шумпетер рассматривал данный вопрос. Свою работу «Социология империализма» 50 он считал одной из самых важных. Ее содержание серьезно расходится с марксистскими положениями. Марксизм использует теорию классов и теорию накопления для объяснения сложных международных экономических отношений и вытекающей из них политики. Займы, пошлины и агрессивные войны, по мнению марксистов, вытекают из самой логики капиталистического развития. ♦ Автор совершенно неправильно изображает соотношение между анализом причинно-следственных зависимостей, действительно составлявших главное содержание метода Маркса, и анализом внешних функциональных связей, которыми обычно ограничивается буржуазная политическая экономия (в том числе и Шумпетер), оставаясь тем самым на поверхности изучаемых явлений. Это означает также, что существует принципиальное различие и в анализе самих функциональных связей, так как марксистская экономическая наука всегда вскрывает лежащие в их основе внутренние, причинно-следственные закономерности. Математические методы экономического анализа являются необходимым инструментом исследования как причинно-следственных, так и функциональных связей; применение же этих методов только для анализа внешних проявлений экономических процессов и к тому жо на основе ошибочных теоретических концепций (субъективной ценности, теории факторов и других), как это имеет место в буржуазной политэкономии, обесценивает и «более мощные аналитические средства», о которых пишет Селигмен. — Прим. ред.
** Селигмен не может понять, что именно позиция Маркса как идеолога самого передового класса — пролетариата и явилась главной предпосылкой подлинно- научной методологии. — Прим. ред.
478
Несмотря на то что история дает достаточно доказательств правильности марксистской доктрины, Шумпетер утверждал, что исторические факты по существу еще нуждаются в истолковании. Более того, говорил он, марксисты не сумели должным образом связать свою теорию империализма с общей доктриной: расцвет империалистической политики приходится на ранний период капитализма, классовые противоречия при империализме смягчаются, предприниматели содействуют, а не препятствуют этому. Капиталисты, утверждал Шумпетер, имеют антиимпериалистические наклонности и реалистически оценивают экономические проблемы, тогда как империализм облачен в националистические одеяния *. Однако теория империализма у Шумпетера в целом остается смутной, а его опровержения не вполне убедительными51.
В паши дни, когда некоторые экономисты считают Маркса недостойным внимания ученых, интересно отметить, что Шумпетер писал: «Нет смысла рассматривать отдельные части трудов Маркса или даже только I том «Капитала». Любой экономист, который хочет изучить Маркса, должен внимательно прочесть все три тома и «Теории прибавочной стоимости»52. Шумпетер также предупреждал о том, что к изучению Маркса следует тщательно готовиться. Для понимания учения Маркса необходимо знание экономических учений того времени, в особенности теории Рикардо.
Однако Шумпетер отвергал подход Рикардо. Он был такого же невысокого мнения о теории Рикардо, как и о его практических предложениях. Шумпетер даже упрекал Рикардо в недостаточном проникновении «... в движущие силы социальных процессов и в недостатке исторического чутья» бз. Достаточно лишь взглянуть на знаменитое описание Шумпетером метода Рикардо, чтобы почувствовать всю его антипатию к последнему. Он утверждал, что Рикардо не рассматривал экономическую систему в широком смысле, а лишь переписывал Адама Смита, так как работа Рикардо «Принципы политической экономии» появилась в результате критики книги Смита «Богатство народов». Пороком теории Рикардо Шумпетер считал ее главную цель — получить результаты, имеющие практическое значение. Эта цель достига♦ Все эти рассуждения основаны на подмене научного понимания империализма как высшей и последней стадии капитализма представлением о нем как о «политике»; несостоятельны и полностью противоречат реальной действительности огульные утверждения о смягчении классовых противоречий в ходе развития капитализма. — Прим. ред.
лась за счет фиксирования всех переменных величин, кроме одной, с тем чтобы экономические отношения могли быть дедуцированы путем достаточно простых логических рассуждений. Этот метод, настаивал Шумпетер, вел к ошибкам, таким, как утверждение, будто прибыль зависит от цен на зерно, ибо все остальные факторы Рикардо принимал за данные. А из таких спорных теоретических построений, по словам Шумпетера, вытекали неоправданно оптимистические решения практических проблем.
Однако важнее то, что Шумпетер считал анализ Рикардо чем-то большим, нежели просто зигзаг в истории экономической мысли. И действительно, аналитический инструментарий Рикардо содержит много такого, чем можно восхищаться. Он включает в себя ряд положений методики общих исследований, что одно уже обеспечивает Рикардо место в истории экономических учений. Очевидно, что Шумпетер не очень-то щедр на похвалы в адрес Рикардо* Шумпетер не обращает внимания и на функциональное распределение — основную проблему, стоявшую перед Рикардо. Главный вопрос политической экономии, утверждал Рикардо, состоит в раскрытии способа распределения дохода общества между классами. В этом процессе, говорил он, существует непримиримый антагонизм между землевладельцами, с одной стороны, и промышленниками и рабочими — с другой. Совершенно очевидно, что симпатии Рикардо на стороне последних. Он выдвинул идеи социальных взаимоотношений и взаимозависимостей в обществе. Значительный вклад в развитие науки представляют также его идеи о причинах и следствиях в экономическом поведении. Шумпетер возражал прежде всего против стремления Рикардо сделать экономическую науку не только вопросом теории, но и практики. Однако это больше говорит о Шумпетере, чем о Рикардо54.
Интеллектуальным кумиром Шумпетера был Леон Вальрас. В «Истории» он пишет:
«Что касается чистой теории, Вальрас, по моему мнению, является величайшим из всех экономистов. Его система экономического равновесия сочетает в себе достоинства революционного творчества и классического синтеза и является единственной работой экономиста, которая выдерживает сравнение с достижениями теоретической физики... Она является видной вехой на пути превращения политической экономии в точную науку, и, хотя теперь она вышла из моды, она все еще находится у истоков лучших теоретических работ нашего времени» 55.
Шумпетер считал Вальраса крупным ученым потому, что он нашел точные формы для выра-
479
женмя явлений, взаимозависимость которых подтверждается действительностью. Он вывел эти формы одну из другой и сделал это в новой области при отсутствии опыта, накопленного в итоге предшествующих работ, достигнув хороших результатов, несмотря на большие трудности.
Теория Вальраса представляет собой, однако, лишь изящное и точное изложение того, как предложение и спрос определяют цену. По словам Шумпетера, Вальрас пытался показать, что, в то время как продавцы товара на рынке не в состоянии производить нужные расчеты с быстротой молнии, теория предполагает, что они опытным путем приходят приближенно к тем же результатам. Продавцы, выходящие на конкурентный рынок с разумными и приближенными представлениями о том, что они хотят получить за свой товар, встречают на рынке покупателей товара, предлагающих свою цену. В некоторой точке этих взаимоотношений наступает равновесие. Эту мысль Вальрас выразил с большой точностью56.
Подход Вальраса не затрагивал основ цены. Постановка вопроса о связи между ценой и стоимостью выглядела неуместной. Экономисты могли больше не искать источники стоимости: они получили формальную теорию взаимозависимости, согласно которой экономические отношения выражались нейтральным языком функциональных уравнений. В этих условиях математика оказалась бесценным инструментом. Система уравнений была разрешима, так как число уравнений равнялось числу неизвестных величин. Построение в целом имело все же сомнительное отношение к практике, поскольку оно основывалось на идеальных случаях. Одно несомненно: возрастающая нейтральность и формальная строгость отдаляли такую экономическую теорию от сферы ее практического применения. Некоторые экономисты смогли сделать эту теорию настолько нейтральной, что она, по их утверждению, применима как в социалистическом, так и в капиталистическом обществе. Вальрасова экономическая теория, говорил Шумпетер, напоминает громадную исследовательскую программу, которая еще не дала ответ на все вопросы. Но она позволила четко сформулировать все посылки и включить в анализ все важные элементы экономики. А если это так, она оказалась полезнбй.
Интересно отметить, что Шумпетер в своем пространном и детальном разборе опустил Валь- расову теорию прикладной и социальной экономии. Это, несомненно, произошло потому, что он считал свою «Историю» скорее историей аналитической, нежели экономической мысли в широком понимании слова. Другими словами, Шумпетера интересовали попытки описать и объяснить экономические явления и создать для этих целей логический аппарат. Вопросы политики, являющиеся сферой интересов законодательных органов, он в основном исключил из рассмотрения. Шумпетер исследовал только так называемые научные аспекты экономической мысли. Правильность такого подхода сомнительна, ибо можно утверждать, что мировоззрение теоретика в области общественных наук должно придать специфическую окраску даже наиболее абстрактной части системы. Непризнание этого означает уход от задачи оценки. Шумпетер признавал, что идеи часто оправдывают интересы того класса, который в состоянии навязать их обществу. Это может привести к появлению ложной теории; однако, не отрицая влияния идеологических моментов, Шумпетер полагал, что возвышенные умы могут «пользоваться привилегией свободы»57. Следовательно, некоторые доктрины могут приобрести характер универсальности и быть справедливыми при изменениях общественной структуры. Это произошло с Вальрасовой системой, автора которой в известном смысле можно назвать социалистом.
Насколько Шумпетер восхищался Вальрасом, настолько же он питал неприязнь к Кейнсу58. Покойный английский экономист, несомненно, пользовался фантастическим успехом: замечательная работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» почти на два десятилетия определила тон дискуссий по экономическим вопросам и, что еще более важно, отразила настроение времени, чего Шумпетер никогда не смог бы сделать, даже если бы захотел. Именно поэтому Шумпетер отвергал Кейнса. Прикладную экономию Кейнса невозможно отделить от теоретических положений, чего также не мог принять Шумпетер. Он утверждал, что Кейнс лишь дал теоретическое обоснование идеологии, согласно которой причина гибели капитализма заключена в нем самом. Капитализм попросту спотыкается о свои собственные ноги; не играют роли ни отчуждение интеллектуалов, ни то, что один из классов становится ненужным. Неэкономические факторы в кейнсианской доктрине не имеют значения.
Подобно большинству англичан, Кейнс рассматривал теорию как программу действия. Шумпетер, напротив, подходил к этому осторожно. Кейнс был утилитаристом и считал, что принципы экономической политики должно устанавливать государство, в особенности в периоды трудностей. Шумпетер, не понимая «просвещенного консерватизма» Кейнса, полагал, что законодатели, чтобы угодить массам, будут осуществлять главным образом антика480
питал истические мероприятия, тогда как разрешение трудностей капитализма лежит в сохранении достигнутых ранее темпов роста общего выпуска продукции. Поскольку Кейнсова система избегает длительных аспектов и рассматривает только кратковременные проблемы, Шумпетер считал ее доктриной, порожденной депрессией и лишенной той черты всеобщности, которая свойственна всякой настоящей теории. Однако и собственная теория Шумпетера имеет слабые места, которые могли быть исправлены с помощью кейнсианства. К примеру, теория процента Шумпетера исходила из того, что он возникает лишь в динамичном обществе и связан с возможностью получения прибыли в новых условиях. Процент, таким образом, отражает денежные процессы, связанные с нововведениями, и в этом смысле теория несколько схожа с Кейнсовой доктриной. Но Шумпетер подчеркивал только факторы, связанные со спросом, и мало говорил о предложении ссудных фондов. Кейнс связывал фонды предложения не только с условиями на денежном рынке, но и с уровнем сбережений, а Шумпетер неизменно отрицал функциональную связь сбережений и дохода. Он утверждал даже, что лица с высокими доходами делают меньше сбережений в относительном, а часто и абсолютном значении, чем лица с более низкими доходами, и что большая часть сбережений осуществляется с целью того или иного инвестирования. В этом отношении теория Шумпетера не достигает глубины анализа Кейнса.
Шумпетер отказался принять положение о том, что чрезмерное сбережение и чрезмерное инвестирование могут принять хронический характер. Он считал, что Вальрасово равновесие наступает в конце каждого цикла. Кейнс же ясно показал, что такое равновесие может сопровождаться нежелательной устойчивой дефляцией. Это положение имеет существенное значение для всякой теории экономического развития. По-видимому, Шумпетеру не следовало так решительно отвергать Кейнсову систему, так как, использовав некоторые положения последней, он мог бы улучшить собственную теорию. В анализе Шумпетера резкий рост инвестиций обусловливается внезапным стремлением подражать Новаторам, которые доказали прибыльность новых технологических процессов. В освещении же процесса внедрения новшеств могли оказаться полезными положения Кейнса о мультипликаторе и отношении между инвестициями и выпуском продукции.
Утверждение Шумпетера о том, что доктрина Кейнса ведет к радикализму, ничем не оправдывается. Кейнс пытался лишь вооружить традиционный английский либерализм новой политической экономией. Будучи по существу консерватором и отвергая лейбористскую партию как классовую, он сам предпочел остаться в лагере буржуазии. Несмотря на свои предложения о вмешательстве государства в экономическую жизнь, он был против коллективизма в любой форме. Кейнс считал марксизм ошибочной теорией, и он был удивлен тем, то марксизм смог оказать столь длительное влияние на человеческие умы. В этом отношении Кейнс отличался от Шумпетера, который, как уже выше было сказано, считал Маркса великим мыслителем, каким он и был на самом деле.
Шумпетер, напротив, отрицательно относился к любой доктрине, которая предполагала возможность участия экономистов в политике. В «Истории» он постоянно отдает предпочтение чистой теории и «позитивным» чертам истории доктрин, а не так называемым «нормативным» предложениям. В этом подходе подразумевается мысль о том, что в общественных науках можно разработать научную теорию, каковы бы ни были оценочные суждения ее автора. Это положение, конечно, ошибочно, поскольку без соответствующих концепций не представляется возможным упорядочить экономические явления, а сами концепции, будучи отражением интереса человека к окружающему миру, и представляют собой в сущности оценочные суждения. Стало быть, в самом начале исследования общественных явлений, когда накапливаются факты в целях выработки обобщений, уже неизбежно всплывают «нормативные» предложения. Важно четко выявить оценочные суждения, заложенные в тех или иных доктринах. Было бы полезно, например, сразу договориться о том, что гедонистические предпосылки лежат в основе некоторых современных теорий, в особенности теории «благосостояния». От оценочных суждений нельзя отмахнуться, ибо они имеют важное значение для общества. Эти суждения должны быть соотнесены с классовыми интересами и поняты с учетом происходящих социальных и экономических изменений.
Склонность Шумпетера к обобщениям и абстрагированию сама по себе является отражением перемены его взглядов. В последние несколько лет своей жизни он отвернулся от политических событий. Он считал оправданными попытки Германии исправить несправедливости Версальского договора. Это вызвало острую реакцию, что наряду с его точкой зрения о чрезмерно возрастающем вмешательстве правительств в экономику заставило Шумпетера обратиться к чисто «научным» интересам. Хотя он в совершенстве познал методы, взгляды и недостатки практически всех теорий, он 31 Б Селигмен
481
отдавал предпочтение тем, которые претендовали на вечную универсальность.
Как наследник австрийской экономической школы Шумпетер в своих исторических и социологических взглядах неизбежно придерживался в основном суждений среднеевропейской интеллигенции. Это отразилось на его анализе политической роли буржуазии, которая, по его мнению, не способна выразить конечные интересы общества. В результате политика стала сферой деятельности верхушки буржуазии и прежней аристократии. В этом, очевидно, более всего проявляются слабости социологического метода Шумпетера и причина его высокомерного утверждения, что социология — это подходящее занятие для уставшего экономиста. Выходец из средних классов, Шумпетер рано усвоил вкусы и привычки венской аристократии. В Гарвардском университете он часто называл себя последним представителем истинно европейской культуры. Его отталкивало большинство выводов Альфреда Маршалла из-за присущего им привкуса морали викторианской эпохи. Но Англией он восхищался: ее аристократия имела навыки правления.
Шумпетер известен не только как экономист, но и как социолог. Он выдвинул оригинальную и продуманную теорию экономического развития и во многих отношениях достиг замечательного единства теории и истории. Он в основном подчеркивал динамические аспекты экономических проблем. С широтой взглядов, сравнимой лишь с методом Маркса, он изучал происхождение, развитие и гибель капитализма. Он стремился использовать в своих исследованиях не только теорию и статистику, но и историческую, социологическую и даже психологическую информацию. Хотя его и интересовали детали экономического анализа, Шумпетер рассматривал общие тенденции развития капиталистической экономики, проблему, которую университетские экономисты предпочитали не затрагивать.
Несмотря на авторитет, которым он пользовался как учитель и теоретик, Шумпетер не имел последователей подобно Марксу и Кейнсу. Это произошло не только в силу исключительно сложной манеры подачи его доктрин, но и вследствие очевидного факта, что в переломные моменты истории политическая критика обычно наиболее привлекательна. Шумпетер был лишен страстности Маркса и был не способен создать кажущуюся простой систему, подобно Кейнсу; достоинства, присущие изящным логическим рассуждениям Шумпетера, скрыты за весьма сложной фразеологией, обусловленной его немецким происхождением. Он не смог дать своим читателям всего того, чего они ожидали. Он не был реформатором. Шумпетер так стремился быть ученым, что в эпоху, когда снова переплетаются политика и экономика, он подвергался риску лишиться аудитории.
2. СРАФФА И КРАХ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ
Когда экономисты вновь обратились к системе Маршалла в 20-х годах текущего столетия, они обнаружили, что он оставил некоторые весьма неточные понятия. Определенные функциональные отношения, по-видимому, задерживают движение к установлению равновесия или полностью перемещают равновесие с первоначального положения. Еще более существенными являются различные трения, которые устанавливают совершенно новые отношения на рынке. Нормальная цена на свободном рынке становится чем-то неуловимым. «Периоды времени» Маршалла, его представительная фирма, внешняя экономия и принцип возрастающей доходности все чаще подвергались критике как сомнительные положения. По мере того как монополия становилась преобладающим фактором на реальном рынке, метод анализа Маршалла все более устаревал. Эмпирические исследования организации промышленности показали, что экономическая теория не поспевала за изменяющейся обстановкой. Неоклассическая доктрина не сумела удовлетворительно объяснить то, что действительно происходит в современном капитализме.
Маршалл отдавал себе отчет о существовании этих проблем: многочисленные замечания в его работах указывают на ясное понимание трений и исключений, но он пытался пренебречь этими факторами, чтобы сделать теорию свободного конкурентного рынка связной и гладкой. Возрастающая доходность, например, свидетельствовала о том, что безжалостная конкуренция в условиях существования монополий усилится. Как однажды заметила Джоан Робинсон, это указывает на противоречия между статическим анализом и динамическими выводами, однако «... нам удалось как-то примириться с этим» 59. Джон Морис Кларк показал, как накладные издержки вносят неясность и неопределенность при расчете издержек производства на единицу товара60. Гарольд Хоутелинг написал важную 482
статью по теории размещения, устанавливающую связь между стратегией цен и пространственным равновесием61. В Дании Ф. Цойтен (1888—1959) в своей работе «Проблемы монополии и экономическая война»62 утверждал, что обычная теория стоимости не подходит для рынка без конкуренции. Экономическая теория должна исследовать олигополию, двустороннюю монополию и отношения между экономическими группами. Все рыночные ситуации, лежащие между абсолютной монополией и неограниченной конкуренцией, должны быть описаны теорией нового типа63. Цойтен доказывал, что в изменившихся условиях цены наиболее типичным образом устанавливаются на сложном рынке, где имеются как пространственные отношения, так и отношения, в основе которых лежат цены. Используя «пространственный» метод Маршалла, Цойтен предложил ряд довольно интересных положений. Некоторые положения теории несовершенной конкуренции могут быть обнаружены даже у Парето, чьи отдельные ссылки на неполную или ограниченную конкуренцию обычно оставались незамеченными64. Таким образом, во многих странах широкий размах получили теоретические исследования, которые по-новому подходили к экономическим явлениям. Даже в Германии, где все еще чувствовалось влияние исторической школы, Эрих Шнайдер и Генрих фон Штаккель- берг смогли сделать важный вклад в новую теорию.
Задача ликвидации остатков старых взглядов была выполнена Пьеро Сраффа, молодым итальянским экономистом, работавшим в Кембриджском университете. В 1925 г. он опубликовал ряд критических статей в итальянском журнале «Аннали ди экономна», в которых он утверждал, что каждый производитель стремится создать свой собственный рынок, и это положение является наиболее существенным для теории прибыли. В новаторском очерке «Законы доходности в условиях конкуренции», напечатанном в следующем году в «Экономик джорнел»65, он доказывает, что в условиях конкуренции, предусмотренных классической теорией, отрасль не может находиться в состоянии равновесия, если выпуск ее продукции зависит от внешней экономии. При наличии таких факторов допущения прежней теории оказывались «неправомерными», так как на данную отрасль, равно как и другие отрасли, оказывает влияние возрастающая доходность66. Равновесие представляется возможным только в относительно небольшом числе случаев, когда факторы полностью используются отраслью или когда экономия, будучи внешней по отношению к отдельной фирме, является внутренней для отрасли в целом. Единственный путь решения проблемы, утверждал Сраффа, состоит в отказе от предпосылки о свободной конкуренции и переходе к анализу монополии67.
Можно показать, что многие отрасли промышленности функционируют в рыночных условиях г находящихся между конкуренцией и монополией. Факторы, разрушающие конкурентный рынок, представляют собой нечто большее, чем простые «трения». Они являются «... активными силами, вызывающими постоянные и даже кумулятивные изменения»68. В экономическом анализе следует уделять внимание скорее случаям уменьшения, нежели возрастания издержек производства. В пределах этой сферы исследований главный вопрос касается не самого производства, но кривой спроса или продаж, которая имеет такую форму, когда большее количество товаров не может быть продано без снижения цен или без потерь на «издержках обращения». Это положение подразумевает, что покупателям далеко не безразлично, у кого они покупают товары. Личное знакомство, привычка, возможность покупки в кредит, местонахождение продавца, традиции, особенности товаров и их упаковки — все это сводит на нет безразличие покупателя. Следовательно, больше нельзя говорить о каком-то одном рынке: в действительности существует ряд специфических рынков, каждый из которых является закрытым и поддерживается особым предпочтением покупателей. Для теории не имеет значения, разумны эти предпочтения или нет; она просто считается с фактом их существования. Проникновение на другой рынок связано для фирмы с большими расходами на рекламу и инвестициями в создание репутации и клиентуры; на собственном же рынке фирма пользуется гарантированными преимуществами. Очевидно, в такой экономике равновесие может быть только монополистическим, в котором изменения определяются эластичностью спроса на закрытый продукт. Имея дело менее чем с совершенно эластичным спросом, кривая которого геометрически не бесконечна, продавец товаров неизбежно должен иметь в виду, что при повышении цен он может потерять некоторых покупателей. Это, естественно, обусловлено степенью доступности приемлемой замены товаров для покупателей69. Если несколько фирм выпускают схожую продукцию, то может быть установлена монопольная цена. При недостаточно высокой «монопольной» прибыли размеры затрат, связанных со вступлением новых фирм в данную отрасль, могут оказаться непреодолимым барьером для этих фирм.
Статья Сраффы появилась весьма своевре31* 483
менно. Она вдребезги разбила прежнюю теорию. В «Экономик джорнел»70 появилась серия статей Денниса Робертсона, Дж. Ф. Шоува, Роя Харрода, Лайонела Роббинса и Джоан Робинсон. В США Джекоб Вайнер в 1931 г. опубликовал известную работу, в которой уточнил многие положения о кривых издержек и предложения 71. Таким образом, когда почти в то же самое время в 1933 г. Джоан Робинсон и Эдвард Чемберлин опубликовали свои классические работы, экономисты были хорошо подготовлены к этой малой революции, ибо это была революция, хотя и не такая значительная, какую произвели работы Кейнса72. Экономисты почувствовали, что в их руках оказался превосходный инструмент, который со временем может иметь реальное значение. Новые теории, в особенности теории Джоан Робинсон и Чемберлина, были встречены с энтузиазмом, поскольку они подняли монополистические модели на более высокую ступень. В последующие годы исследователи добавили ряд деталей, не изменив существа теории. Чемберлин, посвятивший себя исследованию этого вопроса, отмечает, что до 1956 г. в экономических журналах появилось около 1500 работ о монополистической и несовершенной конкуренции73. В результате в анализ Маршалла о частичном равновесии была внесена свежая струя, а вместо небольших работ Курно, Парето и Эджворта по этому вопросу появилась стройная и обобщенная теория о рыночных ситуациях, лежащих между конкуренцией и монополией. Маржиналистские концепции были отточены, особенно Джоан Робинсон, так, как это редко удавалось сделать ранее. Еще более значительным вкладом, по-видимому, было то, что в центр экономического анализа Чемберлин поставил расходы на рекламу и усилия, направленные на реализацию продукции.
3. МИР МОНОПОЛИЙ:
ТЕОРИИ ДЖОАН РОБИНСОН И Э. ЧЕМБЕРЛИНА, ШТАККЕЛЬБЕРГА И ТРИФФИНА
Джоан Робинсон (род. 1903) поступила в Кембриджский университет в 1922 г., когда экономическая теория Маршалла занимала главенствующее положение; в ближайшие полтора десятилетия теория Маршалла утратила влияние. Последнему обстоятельству и способствовали замечательные исследования Джоан Робинсон о мире, где отсутствует конкуренция. Спустя несколько лет «Общая теория» Кейнса указала путь к более важным проблемам, чем относительная цена и равновесие, а именно факторам, определяющим доход и занятость. Влияние Кейнса на воззрения Джоан Робинсон было весьма значительным, и она стремилась перейти от анализа кратковременных явлений к длительным процессам накопления и экономического роста. Достаточно внимательно прочесть ее «Введение в теорию занятости»74— образец комментаторского искусства — и «Очерки по теории занятости»75, чтобы понять, насколько ее захватила новая экономическая теория. Однако вскоре обнаружился ее интерес к серьезному изучению теории Маркса. Джоан Робинсон принадлежит к числу немногих современных ученых, которые сами читали Маркса. Вслед за статьей Джона Стрэчи «Природа кризиса капитализма», в которой центральное место занимала теория Маркса, она опубликовала прекрасную работу «Очерк экономической теории Маркса» 76. В этой работе главной в анализе Маркса названа проблема оборота и накопления капитала, а не трудовая теория стоимости.
Когда же Робинсон приступила к самостоятельному глубокому изучению процесса накопления в работе «Накопление капитала» 77, стало очевидным, что Марксово положение о роли технологических факторов в этом процессе оказало значительное влияние на ее подход к вопросу.
Джоан Робинсон признавала большую степень близости взглядов Маркса и Кейнса, чем это допускали другие исследователи 78. Оба считали накопление капитала процессом, основанным на прибыльности. В их работах можно найти положение о том, что основная причина кризисов состоит в хроническом противоречии между производственными возможностями и возможностями потребления. Интерес к вопросам накопления капитала заставил Джоан Робинсон обратиться к Розе Люксембург; в предисловии к книге «Накопление капитала» Джоан Робинсон дает в целом положительную оценку работе, хотя и высказывает критические замечания. Она пишет, что, несмотря на некоторую путаницу, Люксембург «...обнаруживает большую силу предвидения, чем любой современный ортодокс» 79. Со свойственной ей щедростью Джоан Робинсон отдает должное М. Калецкому за его теорию ожиданий, Рою Харроду — за его понятие естественного и потенциального роста, в исследовании о несовершенной конкуренции — Теодору Инте- ма и другим —за понятие предельного дохода. Это, однако, ни в коей мере не следует считать 484
эклектизмом: работы Джоан Робинсон носят на себе печать оригинальности и являются тщательно обобщенным анализом некоторых действительно фундаментальных проблем современного капитализма.
Внимание Джоан Робинсон привлек не только анализ частичного равновесия Маршалла, но и те разрозненные элементы его теоретической системы, которые подводили к более динамическим концепциям развития и экономического роста. Однако прежде всего следовало подняться на новую ступень статического анализа. Это было сделано в работе «Экономика несовершенной конкуренции», в которой рассматриваются вопросы, относительно новые для экономической теории. Совпадение по времени публикации этой работы Джоан Робинсон и книги Чемберлина весьма характерно; оно показало, что общественное мнение было подготовлено к появлению новой теории определения стоимости. Однако Джоан Робинсон исходила из факта существования монополии. Она пишет, что «...как только Сраффа выпустил на волю анализ монополии, последний немедленно без малейшего усилия поглотил анализ конкуренции» 80. Это замечание весьма существенно, ибо по прочтении ее «Несовершенной конкуренции» складывается отчетливое мнение, что именно это случилось и с экономической теорией Джоан Робинсон. В ней бросается в глаза отсутствие трудной и доставляющей неприятности проблемы влияния поведения конкурентов и реакции продавца товара на его мысли об этом поведении, то есть проблемы олигополии. В ее работе отсутствует также анализ разнообразных рыночных структур, предпринятый Чемберлином, однако оба они пришли фактически к одному результату. Джоан Робинсон утверждает, что, если конкуренты-производители изготавливают различные товары и каждый имеет монополию на свой товар, теория конкуренции должна быть отброшена 81. В теории свободного рынка возникают также вопросы доступа на рынок, мобильности и отсутствия неопределенности. По терминологии, предложенной Чемберлином, эти факторы наряду с однородностью продукта и большим числом продавцов создают совершенную конкуренцию в отличие от чистой конкуренции 82. Но допущение о том, что условия, существующие на рынке, достаточно хорошо знают как производители, так и потребители, представляется по меньшей мере сомнительным; если же под этим подразумевается всеобщее знание цен и издержек, то такое допущение явно нереалистично. Спорным является даже и то, когда предполагают, что фирма может знать функции своих собственных издержек и спроса. Основным выводом является то, что кривая спроса для отдельной фирмы на несовершенном рынке понижается 83. Она резко отличается от абсолютно эластичной кривой спроса в условиях конкуренции 84. Хотя исследователям и была известна понижающаяся кривая спроса, Джоан Робинсон считает, что она встречается чаще, чем полагали.
Метод анализа Джоан Робинсон основывался на частичном равновесии. Предполагалось, что все фирмы отрасли, за исключением одной, находятся в равновесии, и исследованию подвергалась ее динамика. В соответствии с маржиналистской концепцией производство будет продолжаться до уровня, когда предельные издержки равны предельной выручке. В условиях совершенной конкуренции производитель, на которого внешние экономические факторы не оказывают влияния (так как отдельный производитель не может повлиять на цену товара), расширяет масштабы производства до тех пор, пока предельные издержки и цена не станут равны 85. Но цена есть также средняя выручка. С другой стороны, при несовершенной конкуренции каждый производитель является своего рода монополистом, которому грозит лишь то, что покупатели могут предпочесть продукцию конкурирующей фирмы его собственной. В подобных ситуациях характер кривой спроса зависит от степени его эластичности, ибо, если она меньше единицы в рассматриваемой точке выпуска продукции, предельный доход будет равен нулю или меньше нуля 86. В этом случае оказывается выгодным сократить объем производства. Вследствие этого деятельность на рынке предполагает степень эластичности спроса, равную или большую единицы. С изменением спроса происходит изменение степени эластичности, что также оказывает влияние и на соответствующие предельные издержки. При данном изменении предельных издержек направление изменения цен зависит от степени эластичности новой кривой спроса. В основе этих изменений лежат такие факторы, как рост числа покупателей, рост доходов, ликвидация конкурентов и большая стоимость возможных заменителей. Все эти факторы влияют на общий спрос, и оказываемое ими воздействие на разных производителей различно 87. Следующим шагом является анализ издержек. В течение короткого периода времени оказывают влияние лишь переменные издержки, поскольку кривая постоянных издержек на единицу товара описывается гиперболой второй степени и не может оказать влияние на предельные издержки. Это подводит к анализу издержек за длительный период и характера их влияния на объем производства.
485
Каковы бы ни были особенности формального анализа, очевидно, что экономическая теория должна признать тот явный факт, что покупателей интересуют не только цены. Качество товара, транспортные издержки, местонахождение продавца, качество обслуживания, продажа в кредит и даже инертность и неведение — все это заставляет покупателя делать различие между продавцами товара. Джоан Робинсон включает в свой анализ «дифференциацию продукта», хотя и не рассматривает этот вопрос по существу 88. Вытекающий из этой рыночной ситуации вид конкуренции делает совершенный рынок фикцией, поскольку интенсивность соперничества ведет к дроблению рынка, так что побудить к отказу от услуг определенного поставщика способно лишь нечто более значительное, чем небольшое преимущество в ценах 89. В условиях совершенной конкуренции фирма будет расширять производство до тех пор, пока ее средние издержки будут минимальными. При меньших затратах производство обеспечивает высокую прибыль: конкуренция вызывает понижение кривой средней выручки (совпадающей с кривой предельной выручки) до точки касания с кривой средних издержек. Таким образом, легкий доступ новых фирм в отрасль связан с уровнем прибыли. В условиях несовершенной конкуренции равновесие для фирмы и отрасли предполагает, что кривая средней выручки имеет точку касания с кривой средних издержек и что последняя в этой точке понижается. Следовательно, для обеспечения нормальной прибыли при несовершенной конкуренции необходимо, чтобы размеры фирм были меньше оптимальных.
Джоан Робинсон включила в анализ также и факторы затрат. При совершенно эластичном характере предложения и отсутствии экономии, связанной с масштабами производства, возрастание спроса ведет к повышению цены до уровня предельных издержек. Расширение производства в условиях ограниченного предложения влечет за собой повышение цены на факторы производства. Если возможен выбор между относительно редко и часто встречающимися факторами производства, возрастание издержек создает предпосылки для замены одних факторов другими, если такая замена технически допустима. Однако экономия, возникающая в связи с крупными масштабами производства, способна уравновесить любое увеличение издержек, связанное с использованием редких факторов 90. Более того, несовершенная конкуренция характеризуется тенденцией к принятию защитных мер и стимулирует специализацию, которая еще более содействует подобной экономии. Сравнение затрат в условиях совершенной и несовершенной конкуренции показывает, что во втором случае выпуск продукции, как правило, ниже 91. Разность уровней выпуска зависит от формы кривых предложения и спроса. Вогнутая кривая спроса заставляет монополию снижать выпуск продукции, тогда как вогнутая кривая предложения заставляет увеличивать выпуск. Вследствие снижения выпуска продукции существует явная тенденция повышения цен 92. Если доступ в отрасль потенциальных конкурентов не составляет трудностей, то против роста цен могут быть приняты соответствующие меры. По существу, это зависит не только от потребностей в капитале, но и от степени дифференциации; эту проблему Джоан Робинсон сколько-нибудь подробно не исследовала 93.
Если рассматривать ситуацию монопсонии, утверждение о том, что стоимость факторов производства стремится к стоимости предельного чистого продукта, не совсем ясно, поскольку оно может относиться или к стоимости предельного физического продукта, или к предельной общей стоимости, которую можно приписать дополнительным производственным затратам. Эту проблему признают и Робинсон и Чемберлин, но приходят они к разным выводам. При совершенной конкуренции эти две предельные величины равны; когда же характерно отсутствие конкуренции, вторая величина меньше стоимости предельного физического продукта, и доходность фактора основана именно на этом. Так, по мнению Робинсон, можно объяснить существо эксплуатации. При повышении цены предложения фирма может построить кривую предельных затрат на фактор производства: количество, которое следует приобрести, при этом определится точкой пересечения кривых предельных затрат и предельной общей стоимости. Но в указанной точке предельный физический продукт больше предельной общей стоимости. Фактор производства оплачивается по своей предельной общей стоимости, а разницу между нею и предельным физическим продуктом получает монопсо- нист 94. Когда таким фактором производства является труд, говорит Робинсон, то совершенно очевидно, что законодательство о минимальной заработной плате и политика профсоюзов, устанавливая равенство упомянутых двух предельных величин, создают таким путем условия для совершенной конкуренции и лучшего использования экономических ресурсов 95. По утверждению Джоан Робинсон, корни эксплуатации лежат в отсутствии абсолютной эластичности в предложении рабочей силы, которой, в сущности, могут добиться профсоюзы 96. Мыслящий монопсонист, пишет Робинсон, яв486
ляется, по-видимому, «...лучшим кормчим, прокладывающим путь между Сциллой конкурентной неэффективности и Харибдой монополистической эксплуатации» 97. При снижении издержек в определенных пределах «монополии», по-видимому, выполняют полезные функции. В очерке, относящемся к 1953 г., Джоан Робинсон коснулась причин возникновения монополий, подчеркнув, что сама конкуренция и неблагоприятные изменения спроса заставляют фирмы подкреплять политику цен мероприятиями внерыночного характера 98. Уместно задать вопрос: почему возникает такая реакция? В этом отношении представляется, что важную роль играет повсеместное увеличение накладных расходов.
Несмотря на некоторые пробелы, как, например, в рассмотрении политики олигополий и их взаимозависимости, и несмотря на менее чем полное исследование проблемы дифференциации продукта, книга Джоан Робинсон остается крупным событием в истории экономического анализа. Ее книга «Несовершенная конкуренция» и работа Чемберлина «Монополистическая конкуренция» вывели экономистов из состояния летаргического сна. Новая теория была хорошо принята отчасти и потому, что она была изложена языком, лучше всего понятным специалистам, языком маржинализма. В книге Джоан Робинсон упор был сделан на монополию; совершенная конкуренция рассматривалась как особый случай, полезный в качестве мерила для сравнения, например, при анализе монопсонистической эксплуатации. Очевидно, что в мире монополий распределение дохода может радикально измениться. Чем больше производственная единица, тем сильнее, по-видимому, должны эксплуатироваться факторы производства 10°. Если мир laissez faire и может быть оправдан, то лишь исходя из весьма странных этических соображений. Позитивная экономическая теория доказала, что этот мир ушел в прошлое и что условия его могут быть приближенно воссозданы лишь путем сознательного вмешательства. К примеру, теоретически оправдано регулирование цен, ибо оно является единственным путем, обеспечивающим эластичность кривой предложения. Свободный рынок может поддерживаться только благодаря экономическому планированию! Это, конечно, вполне соответствует духу и методу теории Маршалла, ибо стремление доказать прогрессивную роль экономи- теории слишком глубоко укоре- в английских традициях, чтобы не влияние на анализ Джоан Робин-
Профессор Чемберлин всегда утверждал, что ческой нилось оказать
101
его теория отлична от теории Робинсон 102. Он задался целью достичь сочетания монополии и конкуренции в единой всеобъемлющей теории. Если Робинсон считает, что регулирование предложения осуществляется через отрасль, Чемберлин уверен, что достиг искомого сочетания, подчеркивая значение дифференциации продукта и издержек обращения. Следовательно, в то время когда Чемберлин делает упор на продукте и влиянии процесса принятия решений фирмами на поведение конкурентов, Робинсон рассматривает преимущественно точки равновесия и максимизацию прибыли. Она исключает издержки обращения, просто вычитая их из кривой спроса. Тем не менее Роберт Триффин параллельным цитированием продемонстрировал, что обе эти теории рассматривают совершенно идентичные проблемы 103. И если Чемберлин предпочитает анализировать монополистические ситуации через посредство больших и малых групп, то Робинсон сосредоточивает внимание на отрасли в силу того, что она является сферой деятельности фирм 104. Все же Чемберлин продолжает настойчиво подчеркивать отличие своей теории от теории Джоан Робинсон, а экономисты считают их схожими. Заявляя, что не существует связи между его идеями и работами английских экономистов, приведшими к появлению новой теории, Чемберлин утверждает, что его идеи возникли еще в 1921 г. и окончательно были разработаны к 1927 г. Из полемики чувствуется, что Чемберлин чрезмерно стремится установить свой приоритет. Но как бы то ни было, непреложным историческим фактом является то, что обе теории появились в атмосфере чрезвычайной неудовлетворенности доктриной конкурентного рынка.
Эдвард Чемберлин (род. 1899) учился в университетах штатов Айова и Мичиган, в 1927 г. получил докторскую степень в Гарвардском университете, где с тех пор и преподает. Он поставил перед собой задачу разработать экономическую теорию, которая послужила бы основой для исследования широкого круга проблем 105. Он неизменно подчеркивает, что конкуренция и монополия не являются замкнутыми категориями, но «... элементами общей ситуации, влияющими друг на друга» 106. Область исследований лежит между монополией и конкуренцией и включает в себя разнородность продукта и олигополию. Экономика получает новую характеристику, отличную от той, которую ей давала традиционная теория. По мнению Чемберлина, переплетение рыночных форм нельзя объяснять лишь невежеством потребителей, как это делали некоторые экономисты 107. Теория, отвечающая поставленной 487
Чемберлином задаче, должна иметь дело не только со смешанными рыночными ситуациями и разнородностью продукта, но и быть способна объяснить функционирование рынков с малым и большим числом продавцов товаров, расходами на рекламу и издержками обращения, многообразием товарной массы и ее территориального размещения, а также применение принципа установления цены на базе полных издержек.
Если принципы ценообразования в условиях конкуренции в трактовке Чемберлина не отличаются от теории Джоан Робинсон, то поведение отдельного продавца теорией Чемберлина описывается более четко. При переходе в анализе от всеобщего рынка, где равновесие устанавливается в точке пересечения кривых спроса и предложения, к рынку единичного продавца спрос приобретает абсолютно эластичный характер и связан с издержками. Оптимальный выпуск продукции фирмы достигается при равенстве предельных издержек и предельной выручки (в условиях конкуренции он равен средней выручке). При более широкой трактовке монополистической конкуренции на равновесие оказывают влияние не только оптимальный выпуск продукции, но также дифференциация продукта и издержки обращения 108. Включение в анализ последних факторов является явным преимуществом перед теорией Джоан Робинсон, ибо оно означает большую степень приближения к реальным ситуациям на рынке. Так, эластичность спроса может быть применена к продукту в качестве переменной величины, образуя понятие «эластичность продукта» 109. Интенсивная конкуренция между продавцами товаров способна привести к изменениям и улучшениям свойств товаров, которые в свою очередь влияют на издержки. Очевидно, что конкуренция в области качества товаров представляет собой дополнительную движущую силу рынка, которая может сдерживать конкуренцию в области цен. По мнению Чемберлина, преобразование упомянутых факторов в измеряемые величины не связано с серьезными трудностями 110. Главные проблемы, как ему представлялось, заключаются в обычаях и общепринятых критериях — факторах, институциональных в своей основе. Изменения продукта неизбежно вызывают изменения в соответствующих кривых издержек, поскольку требуется изменение производственной функции. Аналитически использование единственного графика представляется чрезвычайно трудным, однако суть понятия равновесия не изменяется, ибо по- прежнему предполагается, что прибыль может быть увеличена путем изменения элементов, контролируемых фирмой 1П.
Важной составной частью теории Чемберлина является подробное рассмотрение олигополии 112. Робинсон, напротив, встретилась с трудностями при включении в свою систему олигополии вследствие «нечеткой трактовки» кривой спроса 113. Чемберлин полагает, что политика олигополии имеет немаловажное значение. Существует четко различимая модель взаимодействия между олигополиями. Он утверждаетг что при олигопольной ситуации наблюдается тенденция не только к установлению цен, но и к их стабильности, так как никто не снизит монопольную цену, поскольку это заставит других сделать то же самое и может привести к собственной гибели 114. Стабильность цен ослабляется в случае увеличения числа предпринимателей в отрасли. Это подводит к вопросу о «свободном доступе» в отрасль — предпосылке, введенной Чемберлином. Она используется для объяснения неэффективности рынка и роста числа мелких предприятий, как это имело место в розничной торговле и в игольном производстве. Однако существование дифференциации продукта ставит некоторые препятствия на пути доступа в отрасль, в особенности когда менее чем бесконечно эластичная кривая спроса зависит от варьирования продукта и издержек обращения. Допущение о свободном доступе в отрасль неизбежно утрачивает силу, когда анализу подвергаются те отрасли, где требуются значительные инвестиции. Изменяющийся характер современной розничной торговли с ее сетью многолавочных фирм, супермаркетов и усиливающейся тенденцией к универсализации ассортимента магазинов более чем когда бы то ни было делает сомнительной предпосылку о свободном доступе в отрасль. Представляется, что Чемберлин верит в свободный доступ фирм в отрасль больше, чем это оправдано.
Однако эта вера позволила ему построить модель рынка со значительным числом продавцов, каждый из которых независим и продает тот товар, которому некоторые покупатели отдают особое предпочтение благодаря исключительному качеству товара, марке фирмы, характеру упаковки, особому обслуживанию, репутации, местонахождению и тому подобное. При этом аналогичные товары не являются совершенными заменителями 115. Таким путем товар в большей или меньшей степени «монополизируется» и в модель вводится также конкуренция в той мере, в какой играет роль степень взаимозаменяемости соперничающих товаров. Это обстоятельство дает Чемберлину основание утверждать, что ему удалось успешно соединить конкуренцию и монополию. Равновесие затрагивает как отдельную фирму, что аналогично чистой монополии, так и группу фирм, 488
в которой конкурирующие «монополисты» должны приспосабливаться друг к другу. Возможность замены одного товара другим делает спрос на один из них чувствительным к изменениям цен на другие; снижением цен невозможно отвлечь всех покупателей от конкурентов просто вследствие связей, созданных дифференциацией продукта. Согласно выводам Джоан Робинсон, кривая спроса при увеличении выпуска продукции понижается. На объем продажи оказывают влияние варьирование свойств продукта и меры по его реализации. При установлении выпуска продукции на уровне, соответствующем точке пересечения кривых предельных издержек и предельной выручки, прибыль определяется как разность между средней выручкой и средними общими издержками, умноженная на количество проданных единиц товара. Если прибыль не должна опускаться ниже некоторого минимума, необходимого для того, чтобы стимулировать предпринимателя продолжать оказывать услуги, то кривая средней выручки будет касаться кривой средних издержек 116. Допущение о свободном доступе в отрасль подкрепляет этот «вывод о касании», поскольку сверхприбыли привлекут новых конкурентов. Равновесие через касание допускает также применение принципа определения цен на базе полных издержек 117. Во всяком случае, в результате монополистической конкуренции цены выше, а выпуск ниже, чем в условиях простой конкуренции.
Понятие равновесия в отрасли создало ряд теоретических трудностей. Чемберлин признавал, что различные производственные функции, кривые спроса и коэффициенты эластичности для отдельных фирм обусловливают значительные различия кривых спроса и затрат, но он ввел «смелое допущение» об их единообразии. Предполагается, что предпочтения также равномерно распределяются в пределах комплекса дифференцированных товаров, а резких расхождений в издержках не существует. Такие допущения являются спорными, поскольку сомнительно, чтобы процесс приспособления происходил одинаково у всех конкурентов на рынке 118. Более вероятно, что индивидуальные коэффициенты эластичности и спрос подвергаются различному влиянию; позже Чемберлин согласился с этим, когда он цитировал Яна Тинбергена в подтверждение мысли о том, что для анализа отрасли необходимо большее число «параметров поведения» 119. Простое утверждение, что единообразие кривых никоим образом не подразумевает чистую конкуренцию, было неудовлетворительным ответом на высказанные возражения 12°. Понятие Чемберлина о «большой группе» грозило превратиться в обычную отрасль по Маршаллу. В качестве выхода было выдвинуто положение о существовании в рамках большой группы подгрупп со своими неделимыми факторами и экономией, обусловленной масштабом, к которым фирмы относят себя с известной степенью точности. Во всяком случае, допущения о единообразии форм кривых и свободном доступе в отрасль ослабили анализ.
В результате того, что утверждается система диктуемых промышленником цен, в отрасли наблюдается явная тенденция к образованию избыточных производственных мощностей; это привело Чемберлина к понятию о расточительстве монополий 121. Он утверждает, что практика поддержания цен не обязательно должна осуществляться путем тайных соглашений между конкурентами, поскольку она возникает как естественное следствие политики максимизации прибыли в условиях отсутствия конкуренции. Его положение о том, что влияние избыточных производственных мощностей может быть преодолено путем производства большего количества товаров, не очень-то убедительно, так как попытки организовать такое производство предпринимаются только тогда, когда оно технически и экономически возможно. Да и избыточные производственные мощности часто образуются в связи с легким доступом в отрасль, как, например, в игольном производстве. К тому же предприятия не распределяются равномерно по рынку вопреки мнению Чемберлина, преуспевающие супермаркеты привлекают конкурентов в свой район 122. Более того, избыточные производственные мощности едва ли могут быть объяснены стремлением потребителей к разнообразию. В действительности потребителям едва ли принадлежит слово в этих делах, ибо они просто реагируют на то или иное мероприятие ex post facto *. Инициатива потребителей лишь вводит конкурентный рынок с черного хода 123.
Вопрос о реакции потребителей с большим основанием можно связать с понятием об издержках сбыта, поскольку цель авансирования этих расходов состоит в том, чтобы внушить особую приверженность к конкретному товару. В этом отношении Чемберлин сделал наиболее важный вклад в современную теорию, представив издержки сбыта в виде кривых затрат, которые накладываются на кривые издержек производства. Ссылки на роль издержек сбыта имеются в работах и других экономистов — в частности Торстена Веблена,— но в исследованиях Чемберлина им придана большая аналитическая * Как на совершившийся факт (лат.) — Прим, перев.
489
точность. Традиционная теория не могла использовать концепцию издержек сбыта, ибо она исходила из того, что вся продукция фирмы может быть продана в условиях неограниченного спроса на рынке. С другой стороны, цель авансирования указанных расходов состоит в изменении формы и положения кривой спроса. Анализ Чемберлина, однако, затрагивал лишь издержки: влияние таких расходов на кривые спроса следует, по его мнению, охарактеризовать в институциональном плане. Предполагается, что ликвидация конкурентов в результате рекламы и подобных мероприятий увеличит объем продаж у оставшихся производителей. Однако влияние издержек сбыта на форму и наклон кривых объема продаж следует охарактеризовать скорее описательными, нежели аналитическими приемами 124. Содействуя увеличению спроса, реклама может сдвинуть кривую продажи вправо, однако трудно установить степень соответствия этого смещения росту сбытовых издержек. Можно лишь утверждать, что реклама действительно выгодна 125, поскольку так называемые «институциональные» факторы заметно увеличивают степень эластичности. С другой стороны, упор на фабричную марку ведет к уменьшению эластичности спроса 126. Следовательно, за счет издержек сбыта осуществляется приспособление спроса к продукту.
В исследование издержек сбыта Чемберлин ввел идеи убывающей и возрастающей доходности, сделав акцент на реакции выпуска продукции на изменения совокупных издержек сбыта и производства. Он получил различные выводы в зависимости от того, остаются ли издержки сбыта постоянными или же они возрастают с каждой единицей товара. В обоих случаях целью является получение наибольшего чистого дохода. Постоянные или фиксированные издержки сбыта единицы товара изменяют форму кривой общих затрат; при этом точка минимума перемещается вправо, указывая на возможность увеличения выпуска, если будут предприняты дополнительные меры по увеличению продажи 127. Очевидно также, что при усилении дифференциации продукта, обусловленной мероприятиями по обеспечению продажи, включая рекламу, скидки торговцам, демонстрацию товара, а также заработную плату продавцов, конкуренция и соперничество приводят к повышению, а не к понижению цен. Такил^образом, значительная доля экономических ресурсов используется для того, чтобы склонить потребителей к приобретению якобы единственного в своем роде товара, и эту сомнительную привилегию потребитель оплачивает за счет своего бюджета.
Теория монополистической конкуренции изобилует неприятными положениями. У Чемберлина проблема структурной жесткости решена путем предположения о свободе доступа в отрасль; рост цен и падение производства не предполагают наличия регулирующих факторов (в противовес анализу Джоан Робинсон); реклама в конечном итоге благотворна; условия монопсонии никоим образом не означают эксплуатацию факторов производства. В последнем случае Чемберлин указывает на различие между стоимостью предельного продукта и предельного дохода продукта, как и на то, что при любой степени монопсонии выплаты факторам будут ниже стоимости их предельного продукта. Очевидно, что монопсонист заинтересован только в предельном доходе продукта 128. Но если Джоан Робинсон рассматривает подобные ситуации как эксплуатацию, Чемберлин не согласен с этим, поскольку в случае равновесия необходима лишь минимальная прибыль, чтобы побудить предпринимателя к оказанию услуг. Фактор производит больше, чем получает, но в соответствии с законом предельной производительности продукт полностью исчерпывается. Чемберлин утверждает далее, что там, где возникают преимущества монополии, регулирование цен должно осуществляться в пользу потребителя, но не в интересах факторов производства и в особенности рабочей силы 129. Это положение явно основано на недоразумении. Более того, впоследствии Чемберлин выдвинул миф о могущественном труде, согласно которому налицо ужасная перспектива засилья профсоюзов. Он высказал ничем не обоснованную мысль, что труд оплачивается слишком высоко по сравнению с другими факторами. Без малейшего колебания Чемберлин сделал obiter dicta * бессодержательное замечание в адрес рабочих, но, как это нй удивительно, в своей общей теории обошел монополистическое влияние. По Чемберлину, на рынке товаров монополия является лишь одним из правил капиталистической игры, тогда как на рынке факторов производства, например на рынке рабочей силы, она прямо-таки отвратительна. Такая двойная мерка в оценке монополии едва ли способствует изучению столь сложной и специфической проблемы, как трудовые отношения и профсоюзное движение.
Как говорит Овертон Тэйлор, Чемберлин считает, что в его теории содержится лишь более детальная и реалистичная трактовка рыночного поведения 13°. Не нужны никакие реформы или улучшения. Но, как однажды заметила Джоан Робинсон, «каждая значительная экономиче* Высказанное мимоходом (лат.).— Прим, перев.
490
ская доктрина содержит политические оценки» 131, а монополистическая и несовершенная конкуренция,— безусловно, серьезные проблемы. Однако Чемберлин настолько стремится сделать свою теорию научной, что избегает делать даже самые очевидные политические выводы. В то время как Джоан Робинсон явно пытается сформулировать выводы, вытекающие из существования монополий, Чемберлин в своей чистой теории неизменно обходит острые социальные вопросы 132. Его никоим образом нельзя обвинить в рикардианском грехе.
Прежде чем перейти к последним откликам на теории неконкурентных рынков, целесообразно вкратце рассмотреть труды Генриха фон Штаккельберга (1905—1946), важный вклад которого в эту теорию общепризнан. Штаккельберг преподавал в Берлинском университете, темой его докторской диссертации была чистая теория издержек, а в 1934 г. он опубликовал свой основной труд «Marktform und Gleichgewicht» *, в котором исследуется проблема олигополии и дуополии 133. В 1943 г. Штаккельберг переехал в Мадрид, где написал работу «Grundlagen der theorelischen Volkswirt- schaftslehre» **, переведенную в 1952 г. на английский язык под названием «Теория рыночной экономики» 134. Основные интересы Штаккельберга были сосредоточены на формах рынка, однако он писал также о таких вопросах, как теория международной торговли 135. Его мировоззрение сложилось под влиянием Вальраса, Парето и неоавстрийской школы, хотя истинность этих теорий в 20-х годах текущего столетия в Германии все еще бралась под сомнение. Штаккельберг смело выступил в защиту математических методов, утверждая, что они делают экономические идеи более точными и обязывают теоретиков к самодисциплине 136.
Методика Штаккельберга совершенно аналогична описанной выше: в условиях чистой конкуренции равновесие устанавливается в точке пересечения кривых предложения и спроса; запаздывание объясняется паутинообразными колебаниями вокруг точки равновесия. Для монополии предпосылка о независимости цен была им отвергнута, поскольку для того, чтобы найти точку, соответствующую максимальному чистому доходу, следовало использовать «параметры действия». Отличие предельной выручки от средней выручки определяется путем деления цены на эластичность * «Формы рынка и равновесие» (нем.).— Прим, перев.
** «Основы теоретического исследования народного хозяйства» (нем.).— Прим, перев.
спроса; это отношение характеризует монопольную цену 137. Такие условия указывают на то, что при монополии цены выше, а выпуск меньше, чем на конкурентном рынке. При монопсонии факторам производства не выплачивается полная стоимость их предельного продукта, и в экономике с крупными рыночными единицами могут возникнуть серьезные противоречия. Из указанного положения Штаккельберг вывел заключение, что на монопольных рынках социальное равновесие и общественное спокойствие недостижимы. В силу этого, по его мнению, необходимо вмешательство государства. Такая доктрина была весьма удобна для нацистского режима, с которым солидаризировался Штаккельберг 138.
Олигополию он считал неустойчивой формой рынка, где определенные функции реакции отображают политику максимизации прибыли в виде переменных величин, зависящих от поведения конкурентов на рынке. В своем анализе Штаккельберг использует кривые безразличия, связывающие переменные, которые характеризуют поведение данной фирмы и ее конкурентов и ведут скорее к кривым прибыли, а не к кривым выручки и издержек. Штаккельберг разработал различные схемы реакции, которые заставляют предполагать возможность существенных нарушений равновесия. Например, при существовании двух или нескольких больших фирм наблюдается стремление к ведущему положению на рынке. Некоторые же фирмы предпочитают оставаться в положении ведомых, как это имеет место, когда продавец товара приспосабливает свою цену и политику максимизации прибыли к поведению конкурента. Предположив характер реакции конкурента, та или иная фирма может затем следовать выработанной ею политике, как если бы она занимала ведущее положение. Если оба «ведущих» конкурента ошибутся, положение на рынке может привести к равновесию «ведомых». Если же оба конкурента захотят остаться лидерами, равновесие нарушится и борьба будет продолжаться длительное время 139. Таким образом, борьба за лидерство может привести к любому из большого числа возможных результатов.
Задача Штаккельберга состояла в определении природы форм рынка при отсутствии сговора. Однако исключение открытых соглашений между продавцами товаров носит скорее механический характер и не учитывает некоторые важные возможности 140. Да и элемент лидерства, центральный в анализе Штаккельберга, не исключает в обязательном порядке сговор. Напротив, в целях осуществления совместной политики максимизации прибыли могут иметь 491
место все виды квазисоглашений. Подобное положение способно обеспечить устойчивость рынка даже при отсутствии явления лидерства. Достоинство формулировки Штаккельберга тем не менее состоит в том, что она подчеркивает элементы стратегии в поведении фирм и содержит некоторые черты теории игр. Эти соображения, на которые обратил внимание Баули 141, позднее были более тщательно исследованы Рагнаром Фришем 142, который писал: «Всякое исследование полиполистических ситуаций прежде всего должно учитывать значительное многообразие могущих быть использованными видов стратегии». Виды рынков, описываемые Фришем в категориях параметрического действия, адаптации и переговоров, достаточно легко сравнить со структурой рынка типа лидер — последователь у Штаккельберга. В силу этого нельзя согласиться с критическими замечаниями Триффина, поскольку обман и стратегический нажим могут лежать в основе проводимой фирмой политики 143.
Сходные концепции используются Штаккель- бергом при рассмотрении несовершенной конкуренции 144 с присущей ей рекламой, организацией торговли и тому подобными явлениями, означающими новые параметры действия. По мнению Штаккельберга, несовершенный рынок просто содержит большое число индивидуальных рынков, что напоминает олигополию. Он не находится в равновесии, так как индивидуальные частные рынки, из которых он состоит, сами неустойчивы 145. Таким образом, Штак- кельберг сделал больший акцент на взаимозависимости фирм, чем Робинсон и Чемберлин. В центре его системы оставались свойства олигополии, в силу чего анализ отошел от дуополии к олигополии и неполной конкуренции с взаимозависимостью, что привело к довольно неопределенным окончательным выводам. Равновесие в трактовке Робинсон и Чемберлина было отвергнуто.
Несмотря на то что описанные выше модели неконкурентных рынков несколько приблизили экономическую теорию к реальным ситуациям, они все еще оставались статическими. Поскольку в них отсутствовал подлинно динамический анализ, все они зачастую игнорировали сдвиги в предложении. Не учитывались изменения в активах, например запасах, наряду с такими факторами, как тайные соглашения между фирмами, внешне выступавшими в качестве конкурентов. Описанные в моделях институты предполагались неизменными, а их члены — действующими абсолютно рационально. Правда, рыночные условия характеризовались большим разнообразием, а дифференциация продукта, изменения эластичности и внецено- вая конкуренция обеспечивали более жизнеспособную и многообещающую теоретическую структуру. Тем не менее в ней были обнаружены пробелы, когда выяснилось, что для завершения анализа, как в случае реакции спроса на издержки сбыта, необходимо учитывать институциональные факторы. Не случайно поэтому были предприняты меры для ликвидации этих пробелов. Однако указанные меры оказались неубедительными, по крайней мере с точки зрения самих этих теорий 146. Далее, не всегда было ясно, отражает ли кривая спроса ожидаемые или реальные ситуации на рынке: это отличие немаловажно, поскольку разный подход может привести к различным результатам 147. Высказываемое иногда предположение о том, что рынок сам может устранить любые противоречия между ожидаемыми и действительными результатами, не вписывалось в теорию. Условия симметрии для групп привели Чемберлина весьма близко к модели отрасли у Маршалла: лишь концепции о цепной связи и степени взаимозаменяемости позволили ему избежать обвинения в том, что он внес слишком мало нового в теорию. Решение дилеммы, предложенное Робертом Триффином, состояло в попытке рассмотреть только фирмы и товары, полностью исключая анализ групп. Тем не менее даже он пришел к необходимости классификации определенных рыночных ситуаций 148. Основной вклад Триффина в решение проблемы заключается в попытке выработать общие условия равновесия путем использования показателей перекрестной эластичности, с помощью которых предположительно выражается изменение объема продаж фирмы, вызываемое изменением цен на товары конкурента. Однако это довольно сложное понятие, ибо в системе общего равновесия величина показателя перекрестной эластичности зависит не только от действий конкурента, но и от других фирм. Даже если были бы определены показатели перекрестной эластичности для всех фирм, модель Триффина оказалась бы немногим больше, чем формальным описанием структуры рынка; она не содержит информации, необходимой для достаточно точной характеристики поведения на рынке. Тем не менее экономисты положительно встретили основной вывод Триффина о том, что в реальных условиях имеется большее число рыночных форм, чем это предполагала теория. Отныне можно было говорить об умеренной концентрации олигополий со свободным доступом на рынок или без него, с дифференциацией продукта или без нее, а также о высокой степени концентрации олигополий при подобных же перекрестных классификациях 149. Типы рынков, которые 492
можно изучать опытным путем, оказались более сложными, чем вначале полагала теория.
Логично было предположить, что, несмотря на указанные недостатки описанных выше моделей, все экономисты-теоретики будут приветствовать появление столь мощного инструмента анализа. Однако дело обстояло иначе. «Неотрадиционалисты», сгруппировавшиеся в Чикагском университете и соответственно названные Чемберлином «чикагской школой», стали подвергать неконкурентные теории острым нападкам 150. Начиная с Фрэнка Найта, заявившего, что подлинная экономическая теория может иметь дело только с конкурентной экономикой, последующие традиционалисты отвергают любой анализ, исходивший из того, что модели laissez faire недостаточны. Теория монополистической конкуренции, утверждают они, лишена системы, а если и существует несовершенство рынка, оно может быть отнесено за счет неведения потребителей. Они охотно подхватили явное противоречие между дифференциацией продукта и допущением о единообразии 151. Чемберлин возразил, что понятие симметрии является лишь предварительным аналитическим приемом, который не может считаться обязательным, и что даже при замене допущения о единообразии на представительную фирму могут быть обнаружены монополистические элементы 152. Любопытная черта нападок представителей чикагской школы состоит в решительной защите ими своей собственной разновидности теории конкуренции, хотя настоящих попыток проверить неконкурентную теорию эмпирическим путем и не было сделано. Возможно, пудинг был бы вкуснее во время еды.
Все же остается фактом, что теория неконкурентного рынка представляет собой одно из немногих подлинных достижений текущего столетия. Тем, кто предпочитает решать теоретические проблемы, целесообразно работать над улучшением ее концепций, нежели искать возврата к простоте свободной конкуренции. Ибо в конечном счете мир монополий — это факт, и экономист, стремящийся к содержательной теоретической системе, не тиожет придумать ничего лучшего, чем исследовать этот мир. Идея о предустановленной гармонии в обществе бесполезна. Связь между структурой монополистической экономики и процессами накопления и экономического роста — вот проблемы, требующие дальнейшего исследования. Тем не менее эти настоятельные вопросы еще не привлекли такого же внимания, как отыскание изящного математического решения задачи ценообразования и доходности факторов производства. Такой образ мыслей повлиял, по-видимому, и на теоретиков неконкурентного рынка. В действительности Чемберлин не пошел дальше своей первоначальной теории, а литература изобилует детальными исследованиями точек равновесия. Дифференциация продукта и контроль качества не являются исторически новыми явлениями, они встречаются в средневековых гильдиях 153. В настоящее время представляются необходимыми исследования эмпирического характера в целях разработки своего рода «параметров поведения», необходимых для макроэкономической теории монополий. Следовало бы также поставить вопрос о применении описанных моделей к сфере обслуживания. Возможно, необходимо пойти дальше математических методов, чтобы вскрыть природу этой проблемы 154.
Несмотря на нежелание включить в теоретические модели внерыночные факторы, их влиянием нельзя было пренебречь. Как показали работы Джоан Робинсон, такое включение возможно. Если для достижения этой цели нужны иные теоретические методы, они должны быть разработаны, в противном случае не представляется возможным объяснить принуждение, насилие, стратегию и иррациональность 155. Политическая атмосфера, основные движущие мотивы и цели общества слишком сложны, чтобы сводить их к математическим уравнениям и предельным кривым. Задача всестороннего анализа изменяющейся экономики может заставить современного теоретика обратиться к детальному рассмотрению общественных институтов вопреки его желанию.
4. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЖОНА МЕЙНАРДА КЕЙНСА
В истории было лишь несколько случаев, когда к такой трудной для понимания науке, как теоретическая экономия, был проявлен интерес широких кругов общественности 1б6. До настоящего времени двумя характерными примерами того, как сложные понятия органически входят в распространенную идеологию, были невидимая рука провидения Адама Смита и теория прибавочной стоимости Карла Маркса. В таких случаях экономическая теория зачастую использовалась в интересах тщательного теоретического обоснования для 493
считавшихся желательными социальных мероприятий. Это особенно характерно для критических моментов в жизни общества, когда раздаются настойчивые требования к действию. Теоретик, способный дать ответы на животрепещущие вопросы, часто провозглашается героем.
Такова была счастливая доля Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946), чье влияние на общественное мнение оказалось самым сильным после Смита, Рикардо и Маркса. Сторонники «Нового курса» ухватились за теорию Кейнса в целях оправдания своих действий. Сам Кейнс обладал весьма счастливой способностью видеть направление исторического развития и не прочь был намекнуть, что история по существу развивается по Кейнсу. В 1935 г. он писал Джорджу Бернарду Шоу: «Я полагаю, что книга по экономической теории, которую я пишу, в значительной степени революционизирует... отношение в мире к экономическим проблемам...» И он, конечно, был прав.
Основная работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», влияние которой можно сравнить лишь с влиянием «Капитала» Маркса и «Богатства народов» Смита*, показала, что для удовлетворения современных культурных и экономических потребностей общества необходимы правительственные меры 157. Экономическая теория Кейнса была так положительно встречена потому, что он сумел выразить общепризнанные идеи блестящим языком принципов.
Дж. М. Кейнс родился в Кембридже, его отец Дж. Н. Кейнс был известным в свое время специалистом в области логики и экономики. Научная атмосфера того времени складывалась под влиянием степенного викторианского утилитаризма, согласно которому реформа является средством прогресса, а разумная дискуссия — главной основой достижения конечной цели социального развития. Кейнс никогда не отказывался от идеи прогресса; когда мировая война и депрессия подорвали его первоначальные концепции, он стал искать новые, которые помогли бы поддерживать его веру в то, что человеческое общество может быть улучшено.
С 1906 г. Кейнс работал в Кембриджском университете, где господствовали взгляды Маршалла. Сначала Кейнс безоговорочно придерживался принципов теории Маршалла, полагая, что осталось лишь найти методы практического их применения. Подобный образ мыс- * Книга Кейнса не может быть поставлена в один ряд не только с таким величайшим произведением экономической науки, как «Капитал» К. Маркса, но и с трудом А. Смита, действительно сыгравшим выдающуюся роль в истории политэкономии. —Прим. ред.
леи придавал экономическим исследованиям столь безмятежный характер, которого она лишилась навсегда. В то время Кейнс отвергал большинство современных ему теоретических исследований, что можно считать преимуществом Кейнса, так как впоследствии он смог разработать свою собственную систему, не заботясь о том, как она соотносится с другими доктринами 158. В Кембриджском университете Кейнса высоко ценили за его эрудицию и деловые способности 159. Руководя финансовой деятельностью Королевского колледжа, он сумел путем разумного инвестирования значительно увеличить его доход. Не забывал Кейнс и личной выгоды: ловкие спекуляции на иностранной валюте позволили ему получить значительную прибыль и приобрести большое личное имение. Когда первая мировая война окончательно подорвала спокойствие капиталистического общества, Кейнс перешел в Министерство финансов. Во время версальских переговоров он был советником английской делегации, но, возмущенный махинациями вершителей судеб мира, он покинул Париж до подписания Версальского договора, заявив, что он возмутителен. Эти горестные мысли отразились в его работе «Экономические последствия мира»; она носит откровенно полемический характер и исполнена резких замечаний о «безумии, ведущем к трагедии» 16°.
Деятельность Кейнса была весьма бурной и разносторонней. Он был близким другом участников знаменитого «Блумберского кружка», куда входили такие деятели литературы, как Вирджиния и Леонард Вулф и Литтон Стрэчи. Он был банкиром, математиком, университетским казначеем, автором увлекательных полемических брошюр и глубоких статей по теории вероятностей, а также покровителем искусств. Он обладал острым умом и не избегал сложных проблем. Хотя Кейнсу был чужд дух национализма, он буквально отдал свою жизнь за родную страну. Несмотря на болезнь, он принимал самое активное участие в переговорах в Бреттон-Вудсе и других послевоенных переговорах по валютным вопросам. Надломленный непосильной работой, Кейнс скончался в 1946 г.
В ранние годы творчества Кейнс придерживался взгляда, что интересы различных слоев общества находятся в гармоничном равновесии. Все высказывания Рикардо о жестоких социальных противоречиях классики игнорировали, замечая такие мысли лишь на страницах «Капитала» Маркса. Английские утилитаристы, допускавшие некоторые формы правительственного вмешательства, считали теорию гармонии совместимой с их утверждениями, поскольку 494
представлялось возможным оправдать по крайней мере минимальные правительственные меры как средство поддержания состояния равновесия. Поэтому теория Кейнса даже в более позднем ее варианте может быть использована для защиты утилитаризма; например, если причиной отсутствия экономического равновесия признано неправильное распределение дохода, то мероприятия по обеспечению более справедливого распределения могут поднять социальное благополучие (или, как предпочитают говорить экономисты, экономическое благосостояние). Позже Кейнс пришел к мысли о том, что первопричиной в достижении равновесия является «эффективный спрос». Если для должного функционирования экономики необходимы действия правительства, то он был за эти меры. Кейнс прежде всего стремился заставить функционировать капитализм. В этом он не отличался от Маршалла, Милля и Сэя.
Традиционной теории длительного равновесия Кейнс противопоставил, однако, анализ кратковременных явлений, что непосредственно привело его к теории занятости. Несмотря на кажущуюся статичность, теория Кейнса легко применима для изучения экономической динамики. С введением в теорию таких элементов, как периоды времени, запаздывания и ожидания, не трудно перейти к динамическому анализу 161. При таком подходе вопросами первостепенной важности становятся экономический рост и накопление капитала. Классическая теория поставила в центр внимания распределение дохода, в результате чего, заявил Кейнс, она чрезмерное внимание уделяла способам распределения национального дохода и не рассматривала проблемы величины дохода. Она исходила из предпосылки, что уровень экономической активности, определяющий объем национального дохода, есть нечто заданное, и, более того, что он устанавливается на уровне полной занятости. Это предположение Кейнс считал необоснованным. Он осудил основной капиталистический призыв к постоянной экономии, продемонстрировав, что такое поведение во времена депрессии пагубно. Утверждение Кейнса о невозможности ликвидировать экономическую неустойчивость путем снижения номинальной заработной платы противоречило традиционным взглядам, хотя он и заявлял, что решить проблему можно путем снижения реальной заработной платы. Однако главным образом он рассматривал движение дохода, в результате чего он пришел к мысли о том, что деньги служат не просто вуалью над сделками, а источником энергии, заставляющим работать капиталистическую экономику. Вооруженный этим новым подходом, Кейнс полагал, что он превзошел классическую теорию.
В своей ранней работе «Денежное обращение и финансы Индии» 162 Кейнс проявил себя как экономист с классической ориентацией, несмотря на высказанное в ней предложение о регулировании денежного обращения. Он настаивал на установлении золотого стандарта, причем центральный банк хранил бы золотые резервы, что дало бы возможность предотвратить чрезмерную утечку индийского золота. Но, как пишет его биограф Рой Харрод, уже в те годы Кейнс проявил себя как человек дела 163. Иначе говоря, он неизменно защищал практический образ действия. По мере дальнейшего изучения экономики он все больше склонялся к мысли, что удовлетворительный уровень цен и полная занятость должны устанавливаться путем регулирования, путем обдуманной политики. Во всех ранних работах Кейнса подчеркивалась практическая сторона вопроса. Но ко времени написания «Трактата о деньгах» 164 стали проявляться признаки его стремления к теоретическим обобщениям, позднее разработанным в «Общей теории». Сразу же после опубликования «Трактата о деньгах» Кейнс высказал неудовлетворенность содержавшейся в книге аргументацией и стал искать совершенно отличный аналитический подход.
В годы после первой мировой войны Кейнс занимался проблемой «стабильности» цен. Это была его главная задача, и его ни в малейшей степени не волновало, что ее решение может означать отказ от золотого стандарта. Его оппоненты спрашивали, не вызовет ли это постоянное повышение цен или даже рискованную инфляцию. Кейнс невозмутимо отвечал, что рост цен следует приветствовать, ибо он будет стимулировать инвестиции и экономическую активность. Более того, такие условия ослабляют позиции экономически пассивного класса рантье, стремление которых к высокой норме процента Кейнс считал серьезным препятствием к достижению цели. Таким образом, денежные манипуляции представлялись ему наиболее эффективным средством преодоления экономических бед. Выдвигая эти взгляды в «Трактате о денежной реформе» 165, Кейнс предлагал заменить золотой стандарт регулируемым обращением бумажных денег. Стабильность цен может обеспечиваться лишь путем механизма установления центральным банком учетной ставки и сознательного регулирования денежных запасов. Ключевым инструментом должен стать официальный индекс, основанный на стандартном комбинированном товаре, цена которого будет поддерживаться в определенных пределах. Для поддержания 495
стабильности обменного курса цена золота также должна регулироваться. К этим положениям экономисты отнеслись с опаской и колебаниями. В работе «Конец Laissez Faire» 166 Кейнс вновь возвратился к этой проблеме и объявил, что чистый индивидуализм ушел в прошлое. Неравенство доходов, безработица и всеобщая неуверенность как следствие индивидуализма могут быть устранены только путем сознательного управления денежным обращением и кредитами, утверждал Кейнс. Таким путем общество сможет выразить свой коллективный разум с целью противодействовать влиянию капризов индивидуума на общее экономическое развитие. За такие взгляды некоторые называли Кейнса прирожденным инфляционистом.
Однако в понимании Кейнса инфляция не означает простое увеличение денег в обращении 167. К примеру, в 30-х годах текущего столетия количество денег в обращении возросло, но никто не считает, что в то время существовала инфляция. Нельзя также трактовать инфляцию лишь как рост доходов и расходов. Возросший спрос на деньги по сравнению с имеющейся товарной массой действительно ведет к повышению цен. Но если такая ситуация не явилась неожиданностью, то представляется возможным принять меры, которые предупредят «инфляционные» последствия. Важное значение имеют как раз неожиданные и непредвиденные явления. Если в случае непредвиденного повышения цен спрос превысит предложение, то возникает действительная инфляция с тревожными социальными последствиями; реальные доходы падают, в результате чего ухудшаются взаимоотношения между кредиторами и должниками, а неправильное использование ресурсов нарушает привычное экономическое равновесие.
Такое определение инфляции свидетельствует, однако, об односторонности кейнсианского подхода. Неокейнсианцы признают, что они стремятся достичь «стабильности» с помощью системы постоянно растущих цен 168. Полагая, что инфляция в обычном понимании больше не представляет собой страшного явления, каким ее считают консервативно настроенные ученые, они доказывают допустимость и желательность непрерывного повышения цен. Если главная цель экономической политики состоит в обеспечении полной занятости с помощью «сбалансированных» правительственных расходов, то предполагается, что сопутствующее повышение цен не должно внушать беспокойства. Все это достигается проведением определенных экономических мероприятий, например, с помощью низких налогов, низкой ставки процента и дефицита государственного бюджета. Когда же экономика выходит из-под контроля, следует просто изменить направление политики.
Когда цены начинают возрастать, некоторым товарам отдается предпочтение. Чтобы застраховать себя от случайностей, покупатели начинают приобретать товары длительного пользования, земельные участки и даже старые почтовые марки. Вскоре у владельцев подобных ценностей появляется заинтересованность в инфляции. На первый план выступает спекулятивная психология, и люди проявляют больший интерес к повышению стоимости ценностей, чем к основной производственной деятельности. Преобладающей в общественном поведении становится мысль о получении дохода путем изменения цен, это проявляется в более быстром повышении курса акций по сравнению с другими показателями. Инфляция становится приемлемой, так как она способствует сохранению покупательной способности. Она уменьшает напряженность в отношениях между слоями общества и сглаживает социальные противоречия. В конечном счете мысль о необходимости инфляции проникает в экономическую идеологию общества.
Это, по-видимому, противоречит основным кейнсианским положениям, выдвинутым в 30-х годах текущего столетия и образовавшим теорию стагнации капитализма. Согласно этой концепции, капитализм будет по-прежнему страдать от депрессии в экономике вследствие снижения темпов роста населения, отсутствия неосвоенных территорий, истощения природных ресурсов и падения нормы прибыли. В настоящее время все эти доводы выглядят старомодными, ибо, как утверждают некоторые, индексы промышленного производства и экономической активности свели на нет их значение. В действительности же произошло лишь то, что широкое правительственное вмешательство привело к изменению ситуации, но ни в коей мере не поколебало значимости прежних концепций. Стагнация капитализма сменилась военной экономикой. Благотворный рост цен достигнут главным образом за счет нужд растущего военного аппарата. На деле, упрямо твердят кейнсианцы, не существует противоречия между стагнацией капитализма и теорией умеренного повышения цен: одно лечит другое. Упрекать в непоследовательности кейнсианцев так же неуместно, как и упрекать в непоследовательности человека лишь потому, что он зимой носит пальто, а летом — шорты.
Чтобы отвести Кейнсовой теории подобающее ей место в развитии экономической мысли, необходимо рассмотреть отличие так называемого «реального» от монетарного анализа. 496
В первом случае экономические проблемы возникают исключительно из решений, основанных на отношениях между людьми и благами. Деньги в системе экономических уравнений являются лишь средством учета и облегчения сделок. Обычно деньги не оказывают влияния на экономические ситуации, поскольку современная экономика есть не что иное, как расширенная система меновой торговли. Таким образом, деньги являются темной вуалью, которую следует снять, чтобы обнаружить действительные меновые отношения, скрывающиеся за денежным выражением цен. Доход определяется как поток благ и услуг, обмениваемых на труд, тогда как сбережение представляет собой фактическое накопление производительных сил и их превращение в физическое оборудование. «Реальный» анализ подчеркивает немонетарные аспекты экономического поведения.
Такой подход нашел отражение в знаменитом законе рынка Сэя, согласно которому каждое предложение создает свой собственный спрос, делая общее перепроизводство логически невозможным 169. Сэй допускал возможность перепроизводства отдельных товаров, но общее перенасыщение, то есть общую депрессию, он считал немыслимой, так как сам процесс производства создает эффективный спрос, необходимый для того, чтобы поглотить всю выпущенную продукцию. В основе приведенных высказываний лежало убеждение в том, что общий объем национального дохода всегда находится на уровне, соответствующем полной занятости. Это свидетельствует о непонимании сущности спроса как потока доходов, который может прерваться или иметь утечку, так что некоторая часть выпущенной продукции может оказаться нереализованной. Закон Сэя подразумевает наличие такой гибкости, которой в реальной жизни не существует. Нет уверенности в том, что падение цен приведет к правильным меновым отношениям, а следовательно, будет достаточным для восстановления равновесия. Кейнс подверг особенно резкой критике трактовку Пигу закона Сэя. Он утверждал, что в любой реалистической теории движения денег следует учитывать косность общественных институтов. Денежный доход, заявлял Кейнс, имеет отношение к спросу, а рабочие оказывают сильное сопротивление снижению ставок заработной платы 17°. Понимание этих условий требует такого метода анализа, в котором деньги являются существенным фактором в экономической системе.
Монетарный подход отрицает то, что деньги — это иллюзия. Сторонники такого подхода рассматривают их в качестве главной черты экономического поведения. Рабочий работает ради заработной платы в виде денег; капиталист стремится получить денежную прибыль; в обществе возникли финансовые институты, основной целью которых является получение как можно большего денежного дохода. Экономическая система породила специфический бухгалтерский подход, который превратился в важный элемент, определяющий мотивы поведения современного человека. Деньги не только средство измерения экономической деятельности, но также и движущая сила тех явлений, которые они призваны измерить. Как утверждали Уэсли Митчелл и Йозеф Шумпетер, деньги есть средство рационализации, которое определяет черты поведения особым и исторически обусловленным образом.
В монетарной трактовке деньги — это компас, которым должен руководствоваться индивидуум. Они являются, по выражению экономистов-математиков, параметром матрицы, описывающей специфические экономические явления. Попросту говоря, это означает, что сущность экономической жизни в условиях капитализма состоит в получении и расходовании денег и что из этого положения вытекают все выводы о путях и средствах роста национального благосостояния. Поскольку, однако, деньги являются единственными верительными грамотами, необходимыми для получения предметов потребления, то нет никакой гарантии в том, что народ получит вознаграждение в соответствии с освященной временем теорией предельной производительности. Использование денег приобретает сложный и иррациональный характер: они могут оказаться даже средством принуждения. Более того, деньги никогда не были нейтральной категорией, как утверждают сторонники так называемого «реального» анализа. Отношения между людьми и товарами, выражаемые в монетарной форме, приобретают самостоятельное существование и значение, которое невозможно игнорировать, рассматривая деньги только как вуаль, как это делали экономисты-классики 171.
Одним из значительных достижений монетарного подхода является развитие так называемых макроэкономических методов исследования. Положение о том, что деньги имеют существенное значение, позволило экономистам свести сложные представления об экономической системе к нескольким социальным агрегатным категориям: доходу, сбережениям, инвестициям и потреблению. Последние в свою очередь превратились в однородные понятия, которые легко поддавались анализу, как об этом свидетельствует разработанная Кейнсом доктрина. Он попытался установить связь между поведением индивидуумов и фирм 32 Б. Селигмен
497
и этими общими категориями с помощью целого ряда глубокомысленных понятий, таких, как ныне широко известные «предельная склонность к потреблению», «предпочтение ликвидности» и «предельная эффективность капитала».
Затем Кейнс перешел к анализу мотивов отказа от расходования денег. Выяснение этих мотивов необходимо для обоснования идеи о предпочтении ликвидности, являющейся важным компонентом его системы. Он утверждал, что отказ от расходования денег диктуется задачей облегчения сделок, стремлением к спекуляции и соображениями предосторожности. Первый мотив обусловлен тем, что доходы поступают периодически, тогда как расходы непрерывны, и возникает необходимость в наличных деньгах для выполнения обязательств. Этот мотив связан со спросом, создаваемым потребителями, который в свою очередь зависит от среднего интервала между выплатами и от размера национального дохода, а также потребностями предпринимателей в деньгах на выдачу заработной платы и покупку сырьевых материалов. Мотив предосторожности определяет просто сбережения на пресловутый черный день. Спекулятивный мотив Кейнс считал чрезвычайно важным в развитой капиталистической экономике, и он подробно исследован им. Это внимание вполне понятно, так как Кейнс сам занимался спекулятивной деятельностью.
Исходя из такого понимания общественного характера денег, Кейнс считал вполне возможными меры для устранения неполадок в денежном механизме. Сделав предположение, что накопление и бережливость могут привести к обнищанию — а именно это больше всего возмутило критиков Кейнса,— он пришел к выводу, что «обобществленные» инвестиции могли бы стать средством обеспечения высокого уровня занятости. Это может также осуществляться путем денежного стимулирования. Здесь весьма уместно задать вопрос, не является ли экономика постоянных военных приготовлений, характерная для последних лет, воплощением усовершенствованной формы «обобществленных инвестиций». Ибо как еще может государство осуществлять инвестирование в таком масштабе, если не путем обширной программы оборонного характера? В силу этого некоторые авторы, и, видимо, не без основания, пришли к заключению, что Кейнсова теория сама по себе совершенно нейтральна и может быть использована как в тоталитарном, так и в демократическом обществе. Несмотря на то что эта теория сочетает политические и экономические аспекты, кейнсианцы не смогли создать подлинную политическую экономию. Рассматривая исключительно агрегатные категории, кейнсианство рискует превратиться в чисто механистическую теорию, которая будет рекомендовать проведение определенных общественных мероприятий в периоды депрессии или процветания. К сожалению, общество развивается более сложными путями. Политическая экономия в полном смысле этого слова должна учитывать элементы иррациональности в поведении и ошибки в суждениях людей, а также изменения лежащих в их основе факторов.
Основным в Кейнсовой теории является понятие эффективного спроса. Кейнса интересовало то, сколько люди намерены тратить, поскольку этим определяется уровень потребления и инвестиций. Стремление расходовать было истолковано как совокупный спрос, являющийся скорее психологическим, нежели технологическим фактором. Если совокупный спрос, говорил Кейнс, падает ниже ожидаемой предпринимателем величины, в силу чего не представляется возможным покрыть издержки производства, происходит свертывание производства, приводящее к безработице. Напротив, производство получает толчок, если совокупный спрос превышает ожидаемую величину. Эффективным является такой уровень совокупного спроса, который ведет к установлению равновесия. Это положение имеет два аспекта: спрос одновременно представляет собой и действительные расходы потребителей и доходы факторов производства. Другими словами, национальный доход, если его рассматривать с точки зрения Кейнса, и является фактором, определяющим уровень занятости.
Далее, Кейнс переходил к анализу того аспекта эффективного спроса, который он охарактеризовал как склонность к потреблению 172. Он начал с простого предположения: потребление находится в определенной зависимости от дохода, поскольку первое изменяется при изменении второго. Характер этой зависимости определяется не только общей суммой заработка, но и уровнем цен, вкусами потребителя, налоговой системой, системой амортизационных отчислений, принятой корпорацией, и так далее. Эти объективные факторы переплетаются с многочисленными субъективными моментами. Имеющаяся у Кейнса характеристика психологических мотивов, безусловно, внесла в экономическую науку давно ожидавшуюся свежую струю. Но, к сожалению, Кейнс рассматривал только кратковременные ситуации. Он анализировал лишь те психологические аспекты человеческой природы и те общественные действия и институты, которые хотя и подвержены изменениям, но едва ли претерпевают существенные изменения в течение короткого периода 498
времени 173. Изменения долгосрочного характера его не интересовали.
Зависимость потребления от дохода описана следующим образом: потребление возрастает с ростом дохода, но более медленными темпами. Это, кроме всего прочего, означает, что привычки в расходовании довольно устойчивы, и разумно предположить, что сбережения делают высокооплачиваемые слои населения. Отсюда был получен основанный на отвлеченных умозаключениях график склонности к потреблению, показывающий объем товаров, которые приобретают потребители при определенном уровне цен. Такой график должен быть, разумеется, построен в многомерном пространстве, поскольку привычки потребления определяются не только уровнем дохода. Для Кейнса же поведение потребителей в течение короткого промежутка времени остается неизменным, а сдвиги в статьях расходов зависят от изменений национального дохода. Таким образом, потребители лишь пассивно реагируют на влияние внешних экономических факторов. Согласно графику склонности к потреблению, выбор товара сводится к проблеме сопоставимости, которую большинство психологов берет под сомнение. Некоторые экономисты оспаривают также положение о том, что с ростом дохода доля потребления уменьшается; они утверждают, что доля потребления на всех уровнях дохода постоянна, а также то, что потребление сопротивляется снижению дохода. Другие авторы считают, что привычки к сбережению не зависят от дохода. Подобные утверждения представляли собой довольно серьезные препятствия для распространения Кейнсовой теории, однако ей удалось преодолеть их 174. Интересно отметить, что в целях определения зависимости потребления от уровня дохода было проделано фантастическое число эмпирических обследований 175. Для выявления наиболее существенных характеристик дохода в исследования вводились факторы времени и места. Однако большинство этих исследований вскрывало извечную проблему неравномерного распределения 176.
Связь между доходом и занятостью неизбежна. Классическая теория рассматривала заработную плату как цену труда; как и всякая цена, она подвержена влиянию рыночных факторов. Если эта цена не изменяется свободно, по воле «невидимой руки» А. Смита, то это происходит в результате трений, инертности или даже по вине профсоюзов. Быстрое приспособление к изменениям на рынке — вот к чему следует стремиться, поскольку лишь таким путем можно ликвидировать безработицу. То, что это означает снижение заработной платы и дохода, теоретики упускали из виду. Кейнс полностью отверг этот подход. Он утверждал, что это своего рода древний культ, а не экономический анализ.
Для уяснения ситуации, говорил Кейнс, следует начинать с рассмотрения экономики в целом. Полная занятость определяется ожидаемым полным доходом от будущего производства. Это и есть совокупный спрос. Издержки производства всей продукции были названы Кейнсом совокупным предложением. Следовательно, для производства товаров необходимо, чтобы ожидаемый доход возмещал издержки. Поскольку занятость зависит от выпуска продукции, каждой цене предложения соответствует определенный уровень занятости. Это означает, что равновесие возможно даже при массовой безработице. Когда занятость растет, издержки могут предположительно соответствовать доходам при таких уровнях производства, которые не обеспечивают полной занятости. Это имеет место, когда ожидаемые доходы недостаточны для того, чтобы стимулировать высокий уровень выпуска продукции. Кейнс затем сосредоточил внимание на роли спроса в этих взаимоотношениях, считая ее более важной. Предложение есть в основном технический фактор, зависящий от имеющихся ресурсов, машин и квалификации рабочей силы. Предложение приобретает значение лишь в условиях инфляции, например во время войны, поскольку поддерживать равновесие в этом случае можно только путем преодоления узких мест в экономике.
К охарактеризованной методике анализа Кейнс добавил понятие мультипликатора, заимствованное у Р. Ф. Кана, который исследовал влияние роста инвестиций на занятость 177. Кейнс преобразовал эту идею в мультипликатор дохода, показывающий зависимость изменения дохода от небольшого изменения инвестиций. Общий рост дохода, возникающий в связи с первоначальными затратами, говорил он, будет больше, чем обычно предполагают, вследствие эффекта снежного кома 178. Идея мультипликатора означает, что крупные затраты, осуществляемые правительством, фирмами или потребителями, оказывают благотворное влияние на национальный доход.
Однако объем национального дохода имеет объективный предел, обусловленный рядом утечек в системе, такими, как погашение долгов, образование резервов, налоги и импорт (поскольку последний не обеспечивает занятости внутри страны). Существует также связь между мультипликатором и потреблением, или, точнее, «предельной склонностью к потреблению» (определяемой как та часть дополни32* 499
тельного дохода, которая потребляется, а не сберегается), а она предполагает определенное постоянство в поведении потребителей, против которого возражали некоторые экономисты. Последние доказывали, что если сопротивление сокращению потребления часто и наблюдается во время экономического спада, то восходящая фаза производственного цикла обычно характеризуется пропорциональными изменениями дохода и потребления. Отсюда следовал вывод, что экономика не обязательно спотыкается о свои собственные ноги и что объяснения циклических колебаний следует искать вне системы. Однако допущение об идентичности структуры расходов для всех слоев населения независимо от уровня дохода должно быть отвергнуто. Более убедительной оказалась критика установленной Кейнсом зависимости между потреблением и доходом, поскольку последняя не учитывает доходы корпораций, прибыли и расходы которых не имеют видимой связи с психологическими привычками потребителей. Более того, возможно, сам мультипликатор является величиной переменной, значение которой изменяется в зависимости от фазы цикла. В таком случае его нельзя считать причинным фактором.
Несмотря на критику, понятие мультипликатора привлекло внимание к инвестициям как основному динамическому элементу в экономике. Оно не только указало пути обеспечения занятости, но и раскрыло то, что образование дохода в системе подобно расходящимся по воде кругам от брошенного камня. В этом смысле инвестиции могут означать только вновь созданное физическое имущество, но не приобретенные ценные бумаги. При капитализме такие инвестиции осуществляются лишь тогда, когда они приносят прибыль, по крайней мере равную наилучшей ближайшей альтернативе. Если капиталист должен выйти на денежный рынок для получения фондов, то очевидно, что прибыль на новый капитал должна быть не ниже процента на ссудный капитал 179. Ожидаемая чистая прибыль, возникающая из указанной зависимости, названа Кейнсом предельной эффективностью капитала. В более точном смысле она является нормой дисконтирования, которая возможную в настоящем оценку будущей прибыльности приравнивает к восстановительной стоимости капитала 18°.
Основной вывод Кейнса о том, что ожидаемая прибыль есть решающий фактор, влияющий на инвестиции, вызывает широкий круг вопросов, выдвигаемых теорией ожиданий и предвидений. Оценка прибыльности может быть, однако, связана не с действительной овеществленной стоимостью оборудования, но со стоимостью его замещения; последнее понятие носит весьма неопределенный характер. Это означает, что понятие предельной эффективности капитала выдвигает на первый план в экономической теории психологию 181. Решающим фактором становится степень уверенности предпринимателей в будущем. Кейнс считал, что в прошлом эти реакции были весьма не устойчивыми, вызывая довольно сильные колебания в спросе на инвестиционные товары. Изменения в производстве возникали также вследствие того, что наибольшая часть инвестиций осуществлялась незначительной группой людей, которые не в состоянии были использовать основную массу предметов потребления. Чтобы наиболее правильно ответить на вопрос о том, как в прошлом функционировал капитализм, необходимо, по-видимому, учитывать это несоответствие.
Кейнс придавал большое значение положению о тенденции к снижению прибыльности по мере насыщения рынка определенным капитальным благом. Это явление, названное им «снижением предельной эффективности капитала», есть не что иное, как известное утверждение о понижении нормы прибыли, важность которого признавали экономисты от Адама Смита до Карла Маркса *. Упомянутую тенденцию Кейнс связывал с избыточным предложением капитала, и его трактовка во многих отношениях близка к положениям Маркса. По Кейнсу, рост инвестиций приводит к созданию новых капитальных благ, конкурирующих со старым оборудованием, а расширение выпуска продукции вызывает снижение цен, уменьшая тем самым ожидаемую прибыль. Это может продолжаться до тех пор, пока норма процента остается ниже предельной эффективности капитала. Если же норма процента упадет до нуля, может сложиться такое положение, когда капитал будет непрерывно воспроизводиться, пока в нем не будет больше ощущаться «недостатка». Однако рост населения, освоение новых земель и совершенствование технологии способны исключить такие мрачные перспективы.
* Совершенно неправомерная попытка сблизить теорию Кейнса о снижении «предельной эффективности капитала» с обоснованным Марксом законом тенденции нормы прибыли к понижению. Названный закон Маркса вытекает из роста органического состава капитала и в различных формах проявляется в ходе развития капиталистической экономики. Что же касается «снижения предельной эффективности капитала» в модели Кейнса, то эта формула является лишь другим выражением пресловутого закона убывающей доходности факторов производства, составляющего одну из догм современной буржуазной политической экономии. —Прим. ред.
500
В течение первых пяти десятилетий XX в. географическая экспансия и рост народонаселения замедлились, а развитие технологии шло в направлении, обеспечивающем сбережение капитала. В результате возник ряд коротких внезапных периодов усиленного капиталообразования, не соответствовавшего длительным социальным нуждам. Кейнс и его главный последователь в США Элвин Хансен пришли к выводу, что общество не может позволить себе, чтобы необходимый уровень инвестиций зависел от ожиданий индивидуумов. В 1938 г. Кейнс считал необходимым создание Управления государственных капиталовложений, которое своими решениями оказывало бы влияние на течение экономических циклов. Но он отнюдь не имел в виду господства правительства. Управление должно лишь определять общий объем инвестиций, не осуществляя прямого распределения ресурсов, тем самым Кейнс оставлял в такой структуре место для действия частного капитала в неизведанных областях. Эти положения Кейнса несколько неопределенны. Позволительно спросить, как такого рода политика «обобществленных» инвестиций может проводиться в жизнь без определенного регулирования со стороны центрального органа 182.
В первоначальной концепции Кейнса о динамике капиталистического развития важная роль отведена норме процента. На это указывает зависимость между предельной эффективностью капитала и процентом. Если процент является «ценой», то она определяется, как и любая цена, спросом и предложением. Значительная дискуссия развернулась вокруг Кейнсовой трактовки процента под углом теории ликвидности, выдвинутой в противовес обычной трактовке ссудных фондов 183. Тогда как традиционная теория говорит о равновесии между производительностью капитала и его предложением, Кейнс связывает фактор спроса с желанием иметь наличные деньги (предпочтение ликвидности), а предложение — с денежной массой. Итак, теория кажется завершенной, поскольку все необходимые уравнения налицо. Инвестиции — это функция предельной эффективности капитала и нормы процента; занятость зависит от дохода и инвестиций; предельная эффективность капитала связана с ожиданиями и стоимостью капитала; норма процента определяется предпочтением ликвидности и денежной массой. Следовательно, при уменьшении предпочтения ликвидности норма процента падает, поощряя предпринимателей на инвестирование, а доход возрастает благодаря действию мультипликатора. Последний в свою очередь может быть выведен из функции потребления. Такая гладкая система не могла не привлечь приверженцев 184.
Кейнсова теория процента не в состоянии, однако, объяснить инвестиции, осуществляемые корпорациями из накопленных резервов, когда норма процента есть лишь в лучшем случае фиктивный критерий. Аргументация в этом месте выглядит сомнительной, так как, связав норму процента с предпочтением ликвидности, Кейнс не учел того, что последнее само в значительной степени зависит от дохода. Получается заколдованный круг: процент влияет на инвестиции, которые в свою очередь определяют доход. Любопытно, однако, что, если исключить норму процента в качестве существенного фактора, логика Кейнсовой системы не нарушается. По-прежнему представляется возможным изучать капиталистическую экономику методом Кейнса, не обращая большого внимания на норму процента, точно так же как можно рассматривать кругооборот капитала методом Маркса, не прибегая к трудовой теории стоимости 186 *.
Система Кейнса, конечно, подверглась и критике. Артур Ф. Бернс во время одного из редких припадков теоретического вдохновения резко выступил против теории Кейнса 186. Он поставил под сомнение, достаточна ли эта теория для того, чтобы правительства могли с ее помощью противодействовать цикличности. Это мнение Бернса можно приписать его чрезмерному увлечению фактами и категорическому отрицанию теории вообще. Бернс возражал также и против общего подхода на том основании, что не все фирмы действуют одинаково. Он утверждал, что неожиданная прибыль способна нарушить равновесие по Кейнсу; функция потребления не имеет формы, которая ей приписана в «Общей теории»; нет гарантии в том, что расходы всегда вдохнут жизнь в дремлющую экономику; порок теории Кейнса заключается, по мнению Бернса, в ее механистическом методе, вследствие которого она совершенно не в состоянии понять подлинную динамику делового мира. Однако эти возражения раскрывают полное непонимание Берн* Трудовая теория стоимости составляет исходный пункт и основу всего экономического учения Маркса, в том числе и теории кругооборота капитала. Без трудовой теории стоимости не может быть понято движение различных форм капитала — денежного, производительного и товарного,— как и обращение, возмещение и расширенное воспроизводство его различных частей — постоянной и переменной,— а также, что особенно важно,— обращение прибавочной стоимости. II том «Капитала», в ’ котором изложен процесс кругооборота, оборота и воспроизводства капитала, представляет собой прямое продолжение I тома, главное содержание которого составляет процесс производства прибавочной стоимости. —Прим. ред.
501
сом цели теоретических исследований; он одинаково горячо спорил бы с Рикардо и Маршаллом, как и с Кейнсом.
Более серьезный критический довод состоит в том, что Кейнс не так уж далеко ушел от классической теории. Нарисованная последней картина устойчивого экономического равновесия соответствует лишь периодам полной занятости, и, как только более или менее достигается подобная ситуация, классический метод анализа становится таким же полезным, как и другие методы. Теория Кейнса, продолжают критики, есть частный случай более общей теории Маршалла, не имеющий особого отношения к нынешним условиям процветания. Как заметил один исследователь, Кейнс просто установил дипломатические отношения между общепринятой теорией и экономическим циклом.
Кейнса обвинили также в произвольном выборе переменных и постоянных величин, что поистине является самым важным элементом в любой теории. Если бы он, к примеру, в основу анализа положил склонность к сбережению, а не к потреблению, у него не было бы стольких последователей. То, как он сформулировал «Общую теорию», позволило Кейнсу приспособить свои положения к современным политическим и социальным изменениям. Его теория позволила экономистам, не отказываясь от своих собственных взглядов, по-новому взглянуть на то, как функционирует капитализм. Это представляло собой удобную процедуру, и многие сторонники Кейнса были благодарны ему за это. Однако они не признали, что особенности капиталистического общества привели к противоречию между полной занятостью мирного времени и системой свободного предпринимательства. Полная занятость возможна лишь там, где правительственные расходы достигают астрономической величины. В определенных кругах сомневаются в том, сможет ли система свободного предпринимательства сама по себе без стимулирующего воздействия холодной войны создать необходимые условия для максимального использования экономических ресурсов.
Маркс утверждал, как известно, что капитализм не может функционировать без периодических остановок его механизма. Пропасть между традиционной теорией и учением Маркса всегда казалась непреодолимой. Маркс, который считал капитализм преходящим историческим этапом, стремился показать его слабости; классическая доктрина утверждала, что капитализм устойчив и вечен. Маркс называл процент и прибыль просто формами добычи эксплуататоров; классическая теория считала их вознаграждением за проницательность и трезвость. Однако внесенные Кейнсом в общепринятую экономическую теорию модификации вскрыли общие корни обеих доктрин. Кейнс утверждал, что можно анализировать экономические проблемы, если считать труд главным или даже единственным фактором производства. Он полагал, что капитализм, если в него не вдохнуть жизнь, потерпит крах; поэтому, когда неокейнсианец считает трагической стороной инвестиций то, что они ведут к кризисам, которые сами по себе полезны, он опасно приближается к концепции Маркса. Отрицание теории рынков Сэя и упор на отсутствие автоматизма в экономике, характерные для Кейнса, также восходят к Марксу. По сути дела, несколько видоизменив определения и внеся некоторые поправки в переменные величины, представляется возможным значительно приблизить теорию Маркса к взглядам Кейнса. Например, концепцию о тенденции нормы прибыли к понижению можно рассматривать как объективное проявление падения предельной эффективности капитала. Более того, если теорию цен, данную в III томе «Капитала» Маркса, модифицировать по Борткевичу 187, то для включения ее в экономическую теорию Кейнса не потребуется больших исправлений. Трудности возникают тогда, когда Маркс анализирует общее предложение капитала и его норму прибыли. Объективная трактовка капитала у Маркса расходится с монетарной мотивировкой Кейнса. Кейнс подчеркивал, что накопление капитала зависит не только от сбережений, но является активным процессом, порой созидательным, порой разрушительным и пронизывающим все стороны экономики.
Наибольшая близость этих двух систем обнаруживается, пожалуй, в теории капиталистического кругооборота, который так глубоко исследовал Маркс во II томе «Капитала». Кейнс считал причиной расстройства капиталистической экономики изменения в побуждениях к инвестированию. Поскольку последние зависят от прибыли, то в конечном счете предел инвестициям ставит отношение сбережение — потребление. По Марксу же, объем инвестиций определяется долей сберегаемой прибавочной стоимости, а их темп — стремлением устранить конкурентов. Поскольку Маркс не считал эффективный спрос фактором, влияющим на инвестиции, то кризисы и безработицу он объяснял недостаточностью накоплений. Согласно Марксу, для преодоления депрессии и возобновления экономической активности необходимо дальнейшее накопление капитала. В настоящее время экономисты называют такое 502
состояние структурной безработицей, отличной от той, которая возникает при недостаточном спросе. Последнее имело место в 30-х годах текущего столетия, и это было наиболее характерным видом безработицы современного капитализма. Однако высокий уровень экономической активности, сопровождаемый сильной безработицей, свидетельствует о структурных недостатках.
Наиболее поразительное сходство в работах обоих авторов состоит в утверждении о том, что капитализм подрывают внутренние противоречия 188. Различие между Марксом и Кейнсом в этом вопросе сводится к использованию различных агрегатных величин. Маркс использует категории средств производства и предметов потребления с делением продукции по стоимости на постоянный и переменный капитал и прибавочную стоимость в обоих подразделениях. Это позволило разработать схемы распределения продукции в стоимостном выражении между отраслями, производящими средства производства и предметы потребления. Каждый элемент схемы представляет, таким образом, не только определенный вид товара, но также элемент издержек и спроса. На основе этих схем можно было получить представление о кругообороте капитала, которое без большого труда поддавалось преобразованию в Кейнсовы категории 189.
Могут возразить, что такая процедура обнаружит лишь формальное сходство. В то время как марксисты утверждают, что переменные величины, используемые ими в анализе, являются неотъемлемой частью самой экономической системы, основные элементы анализа Кейнса проистекают из неэкономических психологических факторов. Тем не менее удивительно, что, несмотря на это, Кейнс сумел развить систему представлений о действии капиталистического механизма, столь близкую к Марксовой системе. Когда Маркс говорил о том, что излишек прибавочной стоимости над потреблением капиталиста ограничен расходами на новые средства производства и заграничные инвестиции, он был близок к точке зрения Кейнса, ибо в данном случае инвестирование трактовалось как покупка без продажи, а сбережение — как продажа без покупки. Иначе говоря, оба считали автоматическое регулирование капитализма нереальным. Хотя Маркс игнорировал «монетарный» анализ, он признавал, что количество денег в обращении зависит как от хозяйственной практики, так и от цен. Что касается нормы процента, Маркс придавал ей меньшее значение, чем Кейнс. Маркс утверждал, что процент есть не что иное, как та часть прибавочной стоимости, величина которой определяется в результате сделки между капиталистами. В системе Кейнса процент считается важным фактором, когда имеют место займы. В других случаях он может быть опущен. Оба придавали большое значение технологическим моментам: по мнению Кейнса, решения об инвестировании, принимаемые на длительный период, зависят от предполагаемой эффективности капиталовложений, такое представление не было совершенно чуждо и Марксу. Оба также признавали, что в основе экономических кризисов лежит противоречие, говоря словами Маркса, между производством и потреблением. Потребление ограничено характером распределения дохода, сложившимся в обществе. Это ставит пределы прибыльности и инвестированию. Уравновешивающими факторами являются рост новых отраслей и внешняя экспансия. Оба автора признали бы также в качестве дополнительного уравновешивающего фактора постоянную военную экономику 19°.
Но Маркс стремился проникнуть за экономические величины чисто технического характера, чтобы увидеть лежащие в их основе общественные отношения. Стремясь вскрыть силы, создающие стоимость, он должен был прийти к выводу, что решающие отношения получают количественное выражение в процессе обмена товарами. В ходе этого анализа, одного из наиболее смелых в истории экономической мысли, Маркс проглядел тот очевидный факт, что такие товарные сделки получают независимое существование. Неспособность признать это превратила Марксову модель по сути дела в разновидность классической модели с неожиданным привкусом морализирования, что было отвергнуто последующими экономистами. Кроме того, Маркс придал своей схеме столь сложный и абстрактный характер, что в ней зачастую терялись его самые глубокие мысли.
Анализу Кейнса, основанному на использовании агрегатных категорий, благодаря его нейтральности удалось избежать обвинения в морализировании. Его метод анализа основной категории — национального дохода — в основных чертах применим к любым экономическим системам. Когда Кейнс указывал, что инвестирование подразумевает выплаты факторам производства без необходимости обязательного выпуска товаров на рынок, он формулировал как теоретическое, так и эмпирическое понятие. Отрицательной чертой первоначального варианта, содержащегося в «Общей теории», является неспособность принять во внимание вторичные последствия, так что Кейнс в полушутливой форме высказал мысль о строительстве пирамид как методе борьбы с депрессией.
503
Несмотря на кажущийся статический характер, система Кейнса может быть модифицирована в весьма сложную динамическую систему без нарушения ее внутренней логики. Марксовы же совокупные величины не поддаются легкой эмпирической проверке. В каком-то смысле это чистые понятия, и, подобно категориям Рикардо, откуда заимствована их форма во многих случаях, они не поддаются измерению.
Возражения были высказаны и против использования Кейнсом чистого дохода в качестве основной категории в экономическом анализе. Утверждали, и не без оснований, что понятие чистого дохода не дает полной картины потока всего дохода, поскольку оно указывает лишь на окончательный результат, не объясняя всех предшествующих явлений. Следовательно, Кейнса можно обвинить во взгляде на экономический процесс только как на процесс, и ничего больше. Его последователи, уязвленные этой критикой, предприняли героические усилия, чтобы достичь более детального подхода 191. Исследования Маркса о зависимости между постоянным капиталом, переменным капиталом и прибавочной стоимостью призваны были дать ответ именно на этот вопрос; Маркс стремился выяснить, как распределяется между классами валовой, а не чистый доход; в этом отношении Маркс как аналитик превосходит Кейнса *.
* Селигмен, как и многие буржуазные экономисты и идеологи реформизма, стремится сблизить теории Маркса и Кейнса. Это приводит, с одной стороны, к затушевыванию революционного содержания экономического учения марксизма и вместе с тем к приукрашиванию теории Кейнса, которой иногда приписывается «социалистический» характер. Между тем попытка сближения закона тенденции нормы прибыли к понижению и Кейнсова положения о падении предельной эффективности капитала, теории кругооборота капитала и так называемого мультипликатора, а также Марксовой теории кризисов и положения Кейнса о недостаточности эффективного спроса основаны на самых поверхностных аналогиях. В этих аналогиях игнорируется, что Марксов анализ указанных проблем основан на глубоком исследовании внутренних закономерностей экономических процессов и вскрывает их действительные противоречия, а Кейнс всегда остается на поверхности внешних функциональных связей и проходит мимо присущих капитализму классовых противоречий. (Подробнее по этому вопросу см. параграф «Кейнсианство и марксизм» книги: Л. Б. Альтер, Буржуазная политическая экономия США, М., Соцэкгиз, 1961, стр. 645—662.) Селигмен пытается бросить тень на теорию воспроизводства Маркса, утверждая, что Марксовы схемы «не поддаются эмпирической проверке». Между тем имеются убедительные доказательства практического значения схем воспроизводства Маркса, которые лежат в основе балансового метода, применяемого в планировании хозяйства в социалистических странах. Правильность схем подтверждается и новейшими методами экономико-математического анализа. —Прим. ред.
Несмотря на отрицание Кейнсом неоклассицизма, его система имеет в нем глубокие корни. Совокупный спрос у Кейнса — это агрегированный индивидуальный спрос у Маршалла, а совокупное предложение—развитие понятия оптимального выпуска продукции фирмы. Как у Маршалла, так и у Кейнса преобладают кратковременные периоды, в которых равновесие составляет центральную проблему экономического анализа. Однако, в то время как у Маршалла инвестиции автоматически вытекают из сбережений, Кейнс не считал зависимость между ними обязательной поскольку эти два процесса относятся к разным группам людей. Основной предпосылкой у Маршалла, как и практически у всех теоретиков до него, является полная занятость, и с этого они начинали анализ экономики. Именно против такой предпосылки и возражал Кейнс: в его системе занятость — величина переменная, а цель экономической науки состоит в определении различных путей ее изменения. По Маршаллу, капитализм развивается в обстановке мира и процветания, а Кейнс считал, что такая обстановка может быть создана путем сознательного вмешательства 192.
Невозможно отрицать громадное влияние «Общей теории». Оно отразилось на всех современных экономических исследованиях, в том числе и принадлежащих критикам Кейнса. Самые непримиримые оппоненты Кейнса стали впоследствии на его сторону. Так, Э. Хансен и А. Пигу, учитель Кейнса, встретили «Общую теорию» с раздражением и пренебрежением. Однако Хансен вскоре стал самым ярым поборником Кейнса, а Пигу позже признал, что его лучший ученик в конце концов прав. Так образовалась экономическая школа в подлинном социологическом смысле: вокруг ядра искусных толкователей возникла группа популяризаторов. Толкователи — Харрод, Лернер, Хансен, Робинсон — стремились заполнить пробелы и сделать систему «динамичной», подобно инженерам, ремонтирующим новый незнакомый двигатель 193. Кроме того, сложилась большая группа экономистов, симпатизировавших Кейнсу и удивительно бойко говоривших на языке учителя. Как однажды заметил Шумпетер, ранее нечто подобное случилось лишь с физиократами и Марксом.
Вполне понятно, что идеи Кейнса не могли не оказать исключительное влияние на взгляды относительно тенденций, присущих развитию капитализма. Особенно заметным это влияние было в США в начале 30-х годов текущего столетия. Если в Англии знание источников идей Кейнса несколько ослабило их притяга504
тельную силу, то в США невиданная безработица при поразительных природных ресурсах заставила почти каждого принять теорию Кейнса за последнее слово в экономической науке, поскольку движущей силой экономического процесса эта теория считала поведение людей. Она словно говорила: действия людей, а не слепые и объективные рыночные силы — вот что лежит в основе «запасов и потоков», рассматриваемых в экономическом анализе. Возникновение и движение дохода также может быть связано с поведением людей, а при этом подходе даже оказывался возможным такой контроль, который способствовал бы устранению порождаемых капитализмом циклических колебаний. Если эти положения правильны, то экономические отношения можно определить как результат взаимоотношений между людьми и группами; для того чтобы изменить поведение важных в экономическом отношении групп — некоторых предпринимателей, профсоюзов и даже потребителей — или же оказать на него влияние, может успешно использоваться правительственная политика. Иными словами, социальные группы могут рассматриваться как движущие силы всех Кейнсовых «склонностей».
Теория Кейнса, следовательно, представляет собой попытку создать приемлемую политическую экономию в исторический момент, когда людям нужны были и действия и методика анализа. Это сделало «Общую теорию» неотразимо привлекательной. Во времена депрессии необходимость действовать подводила к вопросам политики; идя в этом направлении, Кейнс смог дать научное выражение отчаянию и надежде, а в результате использования агрегатных величин и глобальных чисел все выглядело подкупающе просто. Однако это была обманчивая простота схемы, в которой рассуждениями о «встроенных стабилизаторах», способных освободить всех от ответственности, подменяется необходимость понять и охватить сложные и нередко бурные явления экономической жизни. Дело попросту в том, что экономическая теория Кейнса не сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Как указывалось выше, она включает в себя слишком много технических, «инженерных» элементов и не исследует стоящие за ними социальные причины экономических трений (tension). Вся система настолько «нейтральна», что может служить удобным теоретическим оправданием (в особенности в отношении общественного контроля за инвестициями) тоталитарной политики, имеющей целью сохранить статус-кво с помощью государственных мероприятий.
Такое применение экономической теории Кейнса можно дать лишь потому, что в ней не учитывается человеческое поведение и политические факторы. При всем его интересе к остаткам наличных денег, предпочтению ликвидности, влиянию мультипликатора и потребительским функциям не всегда создается впечатление, что эти понятия суть категории человеческого поведения. Социальные группы, существование которых подразумевается теорией Кейнса, часто представляют собой лишь совокупности индивидуумов, действующих, руководствуясь ожиданиями, характер которых недостаточно точно определен, либо спекулятивными намерениями, либо же подчиняясь некоторым действиям центрального банка. Более того, ни одна из этих групп ни разу не проявляет своих, только ей присущих социальных интересов вне рамок поведения, предписанных для них теорией. Подобно агрегатным категориям, они имеют значение только как целое. А главную задачу Кейнс, подобно представителям классической школы, видел в достижении экономического равновесия. Это привело к тому, что внимание сосредоточилось на количественной стороне экономических ценностей и их движении, а не на их происхождении, а следовательно, к чрезмерному интересу к механизму функционирования экономики. Не удивительно, что бездумное применение Кейнсовых концепций составителями прогнозов в послевоенные годы привело к плачевным результатам. Поведение людей оказалось менее постоянным, чем ожидалось. Если бы Кейнс признал значение политических и социальных факторов, он столь поспешно не утверждал бы, что постоянное повышение цен приведет к «золотому веку», и не выдвинул бы идею о том, что достаточно разобраться в механике общества, чтобы отпала необходимость в действительно последовательной переоценке капиталистического общества.
В этом по существу проявляется консерватизм Кейнса 194. Его социальная философия основана на вере в возможность непрерывного экономического развития, а руководство он считал функцией немногих избранных. Но он и не отвергал реформ, поскольку считал существование социальных пороков в его Англии явлением недопустимым. Самый верный путь к изменениям лежит через тщательное изучение проблем и постепенное осуществление преобразований. Каждый англичанин должен бороться за улучшение положения бедных, потому что они англичане. Национальный доход должен распределяться так, чтобы обеспечивались интересы обездоленных, но абсолютное равенство совершенно нежелательно. Хотя стремле505
ние к получению прибыли может иметь нежелательные последствия, государственные предприятия наиболее неэффективны. Если добраться до корней теории Кейнса, то нельзя не прийти к выводу, что Кейнс твердо придерживался принципа частного предпринимательства. По-видимому, вследствие этого он стал латать социальные прорехи и возвел приспособленчество в принцип.
5. НЕОКЕЙНСИАНСТВО: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ РОСТА
С появлением этой новой реалистичной теории экономистов стал интересовать вопрос, смогут ли страны Запада сохранить кажущуюся удивительной способность обеспечить высокий уровень занятости, производить больше товаров и увеличивать национальный доход 195. В 30-х годах XX в. наибольшее беспокойство причиняли депрессия и неустойчивость; экономика катилась вниз, и казалось, что ей уже не выбраться из застоя. Резко упали темпы роста населения, и опять, как в XIX в., стали поговаривать о самоубийстве расы. Территория страны была полностью освоена. В результате застоя в производстве появилась армия безработных, исполненных недовольства. Затем разразилась война, потребовавшая большое число рабочих рук для новых отраслей промышленности. Несмотря на рост доходов и оплату сверхурочных работ, на рынке не появилось столько товаров, как того можно было ожидать. Возникла аномалия инфляции, и перед экономистами вновь встала знакомая проблема, которая сохранилась даже и после войны.
Поскольку в дальнейшем в эту сложную экономическую ситуацию вторглась международная политика, экономисты обратили пристальное внимание на так называемые «слаборазвитые» страны. Экономисты обнаружили, что «слаборазвитые» страны, которые ранее третировались как отсталые, способны, как и страны Запада, использовать достижения современной технологии. В этих странах наблюдалось сильное стремление к ускоренному экономическому развитию, политической независимости и экономической самостоятельности. Но по какому пути пойдет их экономическое развитие?
Как могут эти страны накопить необходимый капитал, для того чтобы они могли занять подобающее место в семье развитых наций? Больше нельзя было говорить этим странам, чтобы они навсегда оставались поставщиками сырья для Запада. Западные экономисты вынуждены были искать другие пути экономического роста для «слаборазвитых» стран, отличные от путей ускоренного развития советской экономики.
Несмотря на возникновение этой новой проблемы, теория экономического роста оставалась на периферии экономической доктрины. Верно, в работах А. Смита и Д. Рикардо встречается упоминание о теории экономического роста, когда они рассматривают «стационарное состояние» и убывающую производительность. К. Маркс также вывел свой «закон развития капитализма». Однако в литературе не существовало единого объяснения, например, таких явлений, почему в свое время Англия победила в экономическом соревновании с другими странами и чему следует приписать более быстрый рост экономики США в XIX в. по сравнению с XX в.
По мнению представителей классической школы, причиной экономического роста является постоянное стремление к стационарному состоянию 196. Последнее означает не застой в экономике, но такое состояние, когда население, капитал и технология не претерпевают изменений. Классическая теория экономического развития, составными элементами которой являются взгляды Мальтуса на рост населения, доктрина Рикардо о заработной плате и ренте, закон убывающей производительности, точка зрения на издержки производства как основу стоимости и на воздержание как основу сбережения, утверждает, что экономический рост прежде всего зависит от накопления капитала. Для накопления капитала экономика должна обеспечить достаточный уровень прибыли, который мог бы поощрить предпринимателей отважиться на риск. С ростом накопления капитала заработная плата (выплачиваемая за счет специального фонда) имеет тенденцию к повышению, что стимулирует, по мнению Мальтуса, рост населения. Возникает необходимость обрабатывать менее плодородные земли, а с нею появляется и унылый призрак убывающей производительности. Последняя падает, а большая часть прибыли от повышения цен попадает в руки земельной аристократии. Если рост заработной платы идет в ногу с ростом цен, то падают размеры прибыли. Следовательно, с ростом накопления капитала неизбежна мрачная перспектива понижения нормы прибыли. Насту506
пает время, когда исчезают стимулы к сбережению и инвестированию, и экономика лишь повторяет цикл стационарного состояния. Рост населения прекращается, природные ресурсы постоянны, различные формы капитала неизменны, потребители покупают почти одни и те же товары, сбережений едва достаточно для того, чтобы предупредить износ капитального оборудования. Таким образом, темпы воспроизводства экономической системы остаются постоянными и неизменными, а все неблагоприятные явления безошибочно предупреждаются. Экономическая система гарантирована от потрясений и, по словам Шумпетера, «работает без заминки».
В действительности, как показал Кейнс, имеют место многочисленные «заминки». Стабильность противоречит самой природе капитализма, поскольку колебания и даже резкие внезапные спады являются неотъемлемыми чертами капиталистического развития. Последователи Кейнса обратились к проблеме экономического роста, считая ее наиболее значительной. В «Общей теории» содержится достаточно идей, на основе которых могли строить свои исследования Рой Харрод, Евсей Домар, Джоан Робинсон и другие экономисты. Понимая, что Кейнсова методика формально является сравнительно статичной, они тем не менее считали ее применимой для изучения изменяющейся экономики. Например, ожидания потребителей и реакции поставщиков товаров на изменение объема инвестиций могут рассматриваться как темпы изменений во времени (time rates of change)197. Равным образом запаздывание ассигнований, связанных с действием мультипликатора, представляет собой динамический процесс. Очевидно, что с введением в экономический анализ запаздывающих переменных величин он принимает динамический характер.
Хотя неокейнсианцы отмечают тот факт, что лаги в доходе могут быть устранены путем увеличения инвестиций, они часто не придают значения тому, что инвестиции неизменно приводят к все большему расширению совокупной производственной мощности. Некоторые авторы полагают возможным не учитывать эту проблему в краткосрочных экономических прогнозах, поскольку она является предметом «долгосрочного анализа». Биограф Кейнса и ведущий английский теоретик Рой Ф. Харрод (род. 1900) впервые в 1939 г. обратил внимание на проблему возрастания производственной мощности в промышленности 198. Харрод окончил Оксфордский университет, в 1922 г. начал преподавательскую деятельность, а во время войны работал в статистическом ведомстве при премьер-министре; он неоднократно Привлекался в качестве советника правительственными и международными организациями. Его работы касаются, помимо весьма важных проблем экономического роста, также и международной торговли, экономических циклов и денег 199. В проблеме экономического роста основным вопросом Харрод считает темпы роста дохода, необходимого для полного использования все возрастающего объема капитала. При этом возникают следующие вопросы. Могут ли темпы роста дохода сохраняться постоянно или они рано или поздно упадут? Возникнут ли корректирующие факторы при отклонениях от требуемых темпов роста? Каким образом темпы роста связаны с требованием полной занятости? Что произойдет, если действительный рост не достигнет уровня, необходимого для полной занятости? Какие меры следует предпринять, чтобы усилить темпы роста до уровня, обеспечивающего полную занятость? Или же надо ждать, когда рухнет экономика? Возникнет ли инфляция, если темпы роста превысят уровень, требуемый для полной занятости? На все эти вопросы не легко дать ответы, и для их решения требуется много усилий. Но, как все признают, эти проблемы заслуживают внимания, ибо они должны «...дать точное выражение зависимости между длительно действующими силами экономического роста и силами, вызывающими неустойчивость роста дохода, характерную для развития капитализма» 20°.
Другая убедительная постановка проблемы экономического роста дана Евсеем Домаром (род. 1914) 201. Последний учился в Харбине, затем в университетах штатов Калифорния и Мичиган, а также Гарвардском университете. Исследуя задачу определения темпов роста национального дохода, соответствующих полной занятости, Домар пришел к выводу о двойственном характере инвестиций: они не только создают доход, но и увеличивают производственную мощность. Положения Кейнса о равенстве сбережений и инвестиций и об обязательном возврате полученного дохода в процесс производства исходят лишь из сохранения статус-кво. Более реалистическая концепция, полагает Домар, должна исходить из образования дополнительного капитала и последующего расширения производственной мощности 202.
Новый капитал может и не использоваться или может включаться в процесс производства взамен старого капитала или же заменять рабочую силу и другие факторы производства. Первый случай означает потерю ресурсов, остальные представляют собой изменения, 507
постоянно происходящие в динамической экономике. Домар утверждает, что в общепринятой доктрине Кейнса эти проблемы не рассматриваются, поскольку занятость является в ней относительно несложной функцией дохода. Методологический смысл проблемы состоит в определении объема инвестиций, необходимого для обеспечения роста дохода, который равен повышению производственной мощности. При этом занятость является функцией отношения дохода к производственной мощности. Трудность, естественно, заключается в определении самой производственной мощности. Однако ее можно принять равной объему выпуска продукции при полной занятости. Таким образом, проблема была сведена Домаром к уравнению, в котором необходимые темпы экономического роста определяются при установлении равенства темпов увеличения мощности и дохода. Аналитически это означает, что постоянная полная занятость может быть достигнута лишь тогда, когда инвестиции и доход растут из года в год одинаковыми темпами, равными произведению предельной склонности к сбережению и средней склонности к инвестированию 203. Попросту говоря, лишь уравновешивать сбережения недостаточно для поддержания полной занятости; последнее предполагает, что инвестиции всегда превышают сбережения и что обеспечивается непрерывный рост дохода для создания дополнительных сбережений. Увеличение производственной мощности зависит от инвестиций, но повышение совокупного спроса связано с темпами роста инвестиций. Стало быть, стабильность возможна, если и доход и инвестиции увеличиваются при возрастающем ускорении, подобно модели вселенной Эйнштейна.
Вероятность непрерывного роста объема инвестиций, разумеется, в лучшем случае сомнительна. Тем не менее если объем инвестиций не отвечает условиям требуемого роста, устанавливаемым указанными выше соотношениями, возникает избыточная мощность, которая сдерживает дальнейшее инвестирование 204. В ситуациях, порождаемых монополистической экономикой, такая избыточная мощность создает угрозу непрерывному росту и расширению экономики. Домар утверждает, что капиталистическому обществу свойственны тенденции к дефляции, которые могут быть нейтрализованы (но не обязательно ликвидированы) развитием техники 205.
Харрод, напротив, доказывает, что экономика может обеспечить темпы роста, соответствующие полному использованию производственной мощности 20в. Харрод применяет довольно высокую степень абстрагирования, но его модель динамична в том отношении, что он исходит из факта совершенствования техники производства. «Оправданными» темпами роста он считает такие, которые гарантируют непрерывность инвестирования на уровне, обеспечивающем предпринимателям ожидаемую ими прибыль. Неожиданные и непредвиденные колебания в выпуске продукции имеют место только вследствие изменений планов инвестирования. Наличие рабочей силы и состояние технологии налагают ограничения на «оправданный» рост. «Оправданный» рост — это, следовательно, максимальный темп роста при существующих экономических условиях. В каком- то смысле это понятие есть не что иное, как «потенциальный» рост. Если он выше действительного, то результатом этого может быть застой экономики. Иными словами, экономическая система не отвечает возлагаемым на нее надеждам. В противоположном случае, то есть когда темпы фактического роста превышают возможности, заложенные в сложившейся экономической ситуации, возникает состояние непрерывного оживления, при котором расширяются производственные возможности и накапливаются инфляционные факторы.
Другим краеугольным камнем модели Харрода является фактор акселерации, устанавливающий точное отношение между количественными характеристиками потока и размерами запасов, из которых он проистекает. В качестве иллюстрации можно упомянуть об определенном соотношении между закупками, запасами и продажами. Изменения в темпах продажи могут привести к более быстрому изменению темпов закупки, следовательно, конечный эффект может усилиться. Когда объем продаж падает, возникает тенденция к уменьшению инвестиций. Если это произойдет в сфере производства предметов потребления, то чистые инвестиции могут оказаться величиной отрицательной с вытекающими отсюда пагубными последствиями в виде избыточной мощности. Равным образом увеличение объема продаж может быть предвестником экономического оживления. Если на ранних стадиях циклического оживления акселерация оказывает незначительное влияние вследствие существования избыточной мощности, то на последних стадиях цикла оно может оказать сдерживающий эффект. В этом случае начинают давать о себе знать обычные узкие места, имеющиеся в экономике. Однако предпринимателя в общем удовлетворяет такое положение, когда рост дохода достаточен, чтобы оправдать вложения нового капитала. Следовательно, чем выше доход, тем больше инвестиции, в результате чего доход вновь возрастает; этот процесс 508
происходит непрерывно и скачкообразно. Экономика развивается все быстрее, подобно вращению гигантского мельничного колеса.
Для дальнейшего анализа экономического роста необходимо было выяснить отличие между видами инвестиций. Харрод различает «автономные» и «стимулированные» инвестиции. Первый вид инвестиций обусловливается внедрением новшеств и потому не зависит от текущего объема продаж и выпуска продукции и не нуждается в стимулировании в виде увеличения доходов; для осуществления таких инвестиций необходимы только дух предприимчивости и непрестанный поиск источников прибыли. Второй вид инвестиций непосредственно связан с выпуском продукции и, следовательно, зависит от акселерации. Если продажа в предшествующем периоде была оживленной, а перспективы достаточно хороши, чтобы внушить чувство уверенности, стимулированные инвестиции получают значительный толчок. Если же состояние процветания продолжается, прибыли могут достигнуть необычайных размеров. На деле условия могут оказаться настолько благоприятными, что будет трудно провести грань между автономными и стимулированными инвестициями. Однако в этом случае рост дохода должен быть более быстрым, чем когда-либо, поскольку объем инвестиций должен поглощать все сбережения, обусловленные обоими видами инвестиций. Результатом подобной ситуации вполне может явиться чередование длительных периодов экономического оживления и застоя.
Тем не менее непрерывный экономический рост представляется невероятным. В реальной жизни одни предприятия расширяются, а другие исчезают. Равномерный характер роста экономики не может быть и результатом внедрения новшеств, так как этот процесс происходит скачкообразно, обусловливая всевозможные отклонения. Далее, существующие фирмы едва ли могут быть источниками нововведений. Эти фирмы обычно противятся новшествам, в силу чего для развития новых методов производства и новой технологии необходима «предприимчивость». Монополия, картели, страх перед избыточной мощностью, усиление роли профессионалов-управляющих — все это способно тормозить любую тенденцию в направлении непрерывного развития.
В связи с ежегодным приростом рабочей силы требуются такие темпы роста экономики, которые позволили бы дать работу новым рабочим. Если такие условия не соблюдены, возросшее предложение рабочей силы наряду с увеличившейся производительностью труда может привести к образованию «резервной армии», что было, как известно, предсказано еще Марксом. Для преодоления подобного положения представляется необходимым, чтобы вместе с приростом рабочей силы и производительности труда увеличивался и доход. Однако зачастую экономический рост рассматривается только как возрастание капитала. Вполне вероятно, что полное использование капитального оборудования не приведет к полной занятости рабочей силы, в особенности когда капитал используется для экономии труда, например для создания средств автоматизации. Возможна и такая ситуация, когда темпы роста капитала превысят рост «полной занятости»; в этом случае усилится тенденция к избыточному накоплению капитала, что в конечном счете приведет к явлениям депрессии. Напротив, в слаборазвитых странах тенденция превышения темпов роста «полной занятости» над темпами роста капитала приводит к так называемой «вынужденной безработице». По- видимому, эти явления можно преодолеть путем таких инвестиций, которые обусловлены нововведениями, а не факторами, внутренне присущими самой экономической системе. Однако нововведения не оказывают сильного влияния на экономику, если имеются значительные неиспользуемые производственные мощности. Следовательно, взаимодействие упомянутых выше факторов способствует вековому застою, а влияние нововведений ограничивается тем, что они нейтрализуют действие в экономике фактора неиспользуемой производственной мощности.
Однако вот уже на протяжении ряда лет положение едва ли походило на описанное выше. В основном происходил постоянный рост экономики, вызванный, по-видимому, обилием автономных инвестиций новаторского характера. В такой ситуации инвестициям свойственна самогенерация, поскольку чрезвычайно благоприятные условия получения прибыли стимулируют введение новых технических средств; в то же время атмосфера восприимчивости к изменениям способствует относительно высокому уровню дохода. Помимо этого, при высокой экономической активности люди склонны больше к потреблению, нежели к сбережению. Это ослабляет роль стимулированных инвестиций, обусловливающих внутренние причины экономического роста. В результате в периоды процветания стимулированные инвестиции замещаются автономными. Если прибыльность автономных инвестиций начинает уменьшаться, атмосфера оживления быстро исчезает и экономический рост сменяется болезненным застоем. Согласно теории Харрода идея о непре рывном экономическом росте вообще является спорной 207. На ход экономического развития 509
способны оказать влияние отклонения, которые могут возникнуть в физической структуре производительных сил. Различия в темпах роста отдельных отраслей могут потребовать перераспределения выпуска продукции, например, перехода от производства средств производства к производству предметов потребления. В таких случаях в некоторых отраслях экономики возникают неиспользуемые мощности, что приводит к нарушениям кругооборота дохода. Как однажды заметил Адольф Лёве, значительное влияние на экономический рост оказывают структура и взаимосвязь отдельных отраслей экономики 208. В большинстве случаев процесс роста осуществляется в нескольких основных отраслях экономики. Это может явиться результатом внедрения новой техники, что имело место, например, в английской текстильной промышленности в XVIII в. или на транспорте США в XIX в., либо следствием влияния политических факторов. Подобные изменения могут сказаться на многих других отраслях экономики, как это случилось с автомобильной промышленностью. Исторический опыт свидетельствует, однако, что экономический рост не охватывает одновременно всю экономическую систему в целом. Следовательно, когда исчезают стимулы роста в основных отраслях экономики, есть все основания для довольно пессимистических выводов.
Совершенно очевидно, что экономический рост представляет собой чрезвычайно сложное явление. Удовлетворительная теория экономического роста должна принимать в расчет природные ресурсы, политические институты, законодательство, а также множество психологических и социальных факторов. Разработка всеохватывающей теории представляется почти невыполнимой задачей. В силу этого теоретикам приходится выделять для исследования факторы, которые кажутся им наиболее значительными. Заслугой Домара является то, что он выдвинул на первый план производственные мощности как существенный элемент теории экономического роста. Тогда проблему можно было сформулировать следующим образом: каковы должны быть темпы роста выпуска продукции и мощностей, если они находились в состоянии равновесия, чтобы избежать как инфляции, так и безработицы? 209 На этот вопрос Поль Самуэльсон и Роберт Солоу недавно дали ответ, проникнутый пессимизмом. Они утверждают, что расширение производства неизбежно вызовет рост цен, в то время как «вялая» экономика скорее всего породит безработицу 21°. Поистине мрачные выводы.
Уильям Феллнер, преемник профессора Йельского университета Ирвинга Фишера, отвергает такие безрадостные перспективы 21 г. Используя в основном ту же методику анализа, что и Харрод и Домар, Феллнер приходит к совершенно иным выводам. Он признает, что в условиях развивающейся экономики инвестиции должны соответствовать общему объему сбережений, однако, говорит он, если имеет место рост экономики, то объем сбережений обязательно будет достаточным для обеспечения инвестиций. Хотя проблема «соответствия» является основной, она не может приобрести серьезного характера, пока существуют достаточные возможности совершенствования техники, дающие простор для инвестирования.
Подход Феллнера, подчеркивающий зависимость между развитием техники и наличием ресурсов, представляет собой по сути дела попытку раскрыть «структурную» проблему. Он доказывает, что для стимулирования инвестиций существенным условием является рост производительности. Таким путем экономика может избежать недостатков «планируемых инвестиций», которые в прошлом замедляли экономический рост. Это привело Феллнера к довольно необычным выводам: экономический рост превратился у него в чисто «психологическое» явление, а неиспользуемая мощность не имеет значения, покуда предприниматели не считают избыточным общий объем капитала. Он утверждает, что безработица и экономический рост — явления совместимые. Неясно, однако, могут ли планы развития реализовываться длительное время перед лицом падения покупательной способности.
Придавая большое значение тому, что он считал должной последовательностью явлений во времени, Феллнер выражает опасение, что слишком большие отклонения от условий равномерного экономического роста вызовут или необузданную инфляцию, или застой. Пределы допустимых отклонений весьма малы: неуклонный рост требует в конечном счете равенства чистого капитала и чистых сбережений при устойчивом общем уровне цен. Это весьма строгое ограничение. Именно трудности достижения такой стабильности подчеркивал Харрод. Феллнер же полагает реальным обеспечение непрерывного экономического роста с помощью эффективного контроля денежного обращения. При этом предложение капитала должно превышать предложение рабочей силы, так чтобы изгнать знакомый дух убывающей прибыли, а структурные изменения должны носить постепенный характер, с тем чтобы избежать узких мест и нарушений, вызываемых неправильным использованием ресурсов.
Однако взгляды Феллнера не вполне ясны: иногда он высказывает опасения в связи с от510
клонениями от равномерного экономического роста, а временами утверждает, что вероятность неустойчивости преувеличена. Обычно инвестиции планируются в определенном интервале, и если действительный объем их не выходит за ожидаемые пределы, то серьезные нарушения не произойдут. Во всяком случае, отклонения от необходимого для экономического роста уровня обычно носят временный характер, а если экономическое положение ухудшается, то неизбежно наступит такая ситуация, когда спрос на некоторые товары и инвестиции опять даст толчок экономическому развитию. Однако все эти рассуждения в действительности являются повторением того, что было предложено двадцать пять лет тому назад в качестве методики анализа экономических изменений, и польза от них, очевидно, такая же, как и в то время. Точка зрения Феллнера сводится к тому, что экономический рост зависит от совместимости ожиданий и проистекающих из них планов. Поскольку ожидания и результаты не всегда совпадают, Феллнер предлагает постоянно вносить небольшие коррективы с целью предупредить неправильное инвестирование, а наиболее отзывчивым на такие многочисленные корректировки Феллнер считает свободный рынок!
В методологическом отношении подобные теории экономического роста уходят корнями в статический анализ. Тогда как последний рассматривает экономические силы в условиях равновесия и стабильности, современные теории экономического развития характеризуют процессы в категориях постоянных темпов роста и подвижного равновесия. Цель их состоит в том, чтобы обнаружить такие точки равновесия во времени, которые были бы совместны с различными динамическими воздействиями, вторгающимися в экономику. Любопытно отметить допущение, что такое развитие может быть далеко не устойчивым и даже неожиданно бурным, а амплитуда отклонений от средних темпов — весьма значительной. Таким образом, устранение структурных диспропорций в экономике не обязательно приведет к легкому решению задач, связанных с резкими экономическими изменениями. Да и меры регулирования не могут последовать достаточно быстро, чтобы преодолеть трудности экономического роста: сырье и рабочая сила не могут перемещаться с легкостью, с какой передвигаются шахматные фигуры, а быстрая перестройка предприятий с выпуска одной продукции на выпуск другой невозможна. Экономические колебания также не могут быть сглажены или устранены путем исправления структурных диспропорций, поскольку сущест- ственные зависимости между сбережениями, инвестициями и доходом останутся прежними, даже если воздействие на все отрасли экономики будет одинаковым.
Проблема экономического роста усложняется тем, что темпы изменений инвестиций и потребления в разных отраслях экономики всегда различны. При этом производственные функции претерпевают такие изменения, которые требуют разной смеси экономических ингредиентов — капитал и труд. Это определяет пределы темпов и уровня экономического роста. Существуют также и другие лимитирующие факторы: наличие финансовых ресурсов, существующие мощности в промышленности, а для стран со значительным объемом внешней торговли — также и состояние платежного баланса. Джоан Робинсон утверждает, что экономический рост возможен только при наличии «...излишка сверх необходимых средств существования», а в рамках этого условия — если «...излишек превышает приемлемый для рабочих уровень реальной заработной платы», и опять-таки только тогда, когда предприниматели активно осуществляют накопление капитала 212. Следовательно, рост зависит в конечном счете от общего объема сбережений, которые может позволить себе экономика.
В последние годы Джоан Робинсон уделяла большое внимание проблемам экономического роста, пытаясь разработать вариант теории Кейнса применительно к продолжительным периодам времени 213. Задача эта аналогична поставленной Домаром и состоит в определении зависимости между темпами роста выпуска продукции и роста запаса капитала. Она утверждает, что при определенных условиях капитализм может, вообще говоря, успешно развиваться 214. Такими условиями являются: одинаковые темпы увеличения эффективного спроса и выпуска продукции; способность капитала в отраслях, производящих как средства производства, так и предметы потребления, приспособиться к новой технике при постоянной доле капитала, инвестируемого с целью замещения оборудования; постоянное инвестирование амортизационных отчислений. Очевидно, все эти условия не могут быть обеспечены одновременно: зачастую амортизационные отчисления гораздо больше стоимости замещения капитала, вследствие чего могут возникнуть избыточные сбережения215. Вывод самоочевиден: сбережения имеют существенное значение, но, если они не используются, это может оказать опасное влияние на экономику. Во всяком случае, Джоан Робинсон считает, что может быть построена модель, вполне пригодная для того, чтобы показать, каким образом окажется жизнеспособным капитализм. Такая модель,
511
включающая в себя гармоничное сочетание всех целей общества, действительные возможности и первоначальные условия экономического роста, может показать, что произойдет при нарушении состояния равновесия. Однако реалистичное описание роста капиталистической экономики свидетельствует о неустойчивой структуре: история существующего капитала изобилует случаями, когда его трудно было привести в соответствие со спросом, а уровень прибыли не отвечал требованию поддержания необходимого уровня инвестиций. Накопление капитала, заявляет Джоан Робинсон, должно осуществляться с учетом циклических изменений.
Проблему экономического роста Джоан Робинсон рассматривает в своей наиболее интересной теоретической работе «Накопление капитала». Хотя описанные в этой работе модели и приведенные аргументы являются в высшей степени абстрактными, они весьма полезны, позволяя проникнуть в природу развития капитализма. Иначе говоря, этим моделям не свойственны характеристики равновесия 21в.
В модели Джоан Робинсон рассматриваются три экономических класса: рабочие, которые расходуют весь свой доход на предметы потребления; предприниматели, которые получают заработную плату как управляющие, а также долю прибыли вместе с характерным для рантье доходом в виде процента и дивидендов; рантье, живущие на ренту, процент и дивиденды. Общая сумма доходов распределяется между заработной платой, прибылью, расходами рантье и сбережениями рантье. Последние три категории могут быть названы квазирентой. Каждая из категорий распределена между сектором потребления и сектором производства таким образом, что совокупная стоимость в секторе потребления превышает фонд заработной платы, поскольку предметы потребления предназначаются также для остальных рабочих и других классов. Квазирента (или, другими словами, валовая прибыль) в секторе потребления покрывает потребление класса рантье и заработную плату в секторе инвестиций. Главными вопросами в такой модели являются: отношение фонда заработной платы к прибыли и объема капитала к рабочей силе, а также влияние соответствующей технической или производственной функции. Чем больше инвестиции и расходы рантье, тем меньше фонд заработной платы в секторе потребления. На определенной стадии возросшая доля инвестиций и расходов рантье вызовет требования о повышении заработной платы. Так может возникнуть противоречие между стремлением инвестировать и уровнем заработной платы, который должен соответствовать таким^инве- стициям217. Накопление капитала является необходимой основой прибыли, и наоборот, без прибыли невозможно накопление капитала. Совокупная прибыль равна расходам рантье плюс фонд заработной платы в секторе инвестиций или в секторе средств производства. Таким образом, излишек прибыли сверх инвестиций обусловливается расходами рантье, а излишек инвестиций над ссудами (согласно модели, получаемыми от рантье) равен удерживаемой прибыли. Теперь можно показать, что равенство совокупных сбережений и инвестиций достигается через поток прибыли. Если выпуск продукции лишь равен фонду заработной платы, никакой прибыли не будет, а если количество занятой рабочей силы достаточно лишь для сохранения капитала на неизменном уровне, не возникает излишка над квазирентой и, следовательно, накопление капитала невозможно. Отсюда следует вывод, что перенасыщение в смысле излишних инвестиций или технической отсталости способно привести к состоянию застоя. Существенным положением в модели является то, что рабочие должны производить прибавочный продукт, иначе нельзя извлечь прибыль.
Предположив существование единственного технологического способа и отсутствие потребления предпринимателями, можно прийти к заключению, что накопление капитала ограничивается имеющимся излишком над объемом необходимых средств существования. В пределах этого ограничения на размеры накопления капитала оказывают влияние уровень реальной заработной платы, энергичность и активность предпринимателей и рост рабочей силы. Если накопление капитала не соответствует росту рабочей силы, неизбежна безработица. Указанная проблема аналогична той, которую поставил Викселль в его исследованиях отношения объема капитала к уровню реальной заработной платы 218. Викселля интересовал вопрос, в какой степени рост капитала может быть поглощен возрастающей реальной заработной платой, или зависимость, известная теперь как «эффект Викселля». Этот вопрос имеет, несомненно, важное значение, поскольку с ростом реальной заработной платы норма прибыли имеет тенденцию к понижению. Вопрос о том, как это влияет на общий объем капитала и на принятие решений об инвестициях, Джоан Робинсон считает основным. Когда рабочая сила растет медленнее, чем накопление капитала, то возможен рост заработной платы в денежном выражении, пока не будет достигнут верхний предел инфляционного барьера. Занятость может быть устойчивой при условии одинаковых темпов 512
роста производственной мощности и выпуска продукции в расчете на одного человека, одновременно с постоянным повышением реальной заработной платы и прибыли 219. Положение, однако, значительно усложняется, если принять во внимание изменения производительности, поскольку при этом изменяются соотношения между деньгами, трудом, выпуском продукции и капиталом. Равномерный экономический рост в этом случае предполагает, что увеличение капитала соответствует выпуску продукции в расчете на одного человека. Спрос может сохраняться на неизменном уровне только при условии сокращения тех же темпов повышения реальной заработной платы. Предложение капитала также должно будет соответствовать росту рабочей силы.
Это довольно зыбкое равновесие: прогресс и экономический рост становятся неравномерными, если темпы технического прогресса изменяются, а накопление капитала не соответствует повышению производительности. Подобная ситуация представляет собой неустойчивое равновесие. Обычно можно ожидать, что с увеличением выпуска продукции в расчете на человека реальная заработная плата повысится, однако при преимущественном развитии производства средств производства необходимые темпы повышения заработной платы не могут поддерживаться. Следовательно, при неравномерном техническом прогрессе, когда возникает бум в одних отраслях экономики и резкий спад в других 22°, прогресс замедляется и уменьшается реальный спрос. Недопотребление компенсируется только расходами на вооружение 22Ч В подобных ситуациях единственным выходом из положения служит борьба профсоюзов за повышение заработной платы, поскольку для экономики, характеризующейся жесткими ценами и монополистической практикой, эти действия способствуют повышению реальной заработной платы. Таким образом, профсоюзы помогают выйти из создавшегося положения, требуя таких темпов повышения реальной заработной платы, которые соответствовали бы темпам роста выработки на одного человека.
Выбор предпринимателем технологического процесса зависит от темпов роста выпуска продукции, степени механизации и издержек на рабочую силу. Его целью является не просто наибольший выпуск продукции, но такой выпуск, который обеспечивает наивысшую норму прибыли при преобладающих ставках заработной платы. Предпочтение, следовательно, будет отдано такому технологическому процессу, который связан со сравнительно меньшими затратами человеческого труда, при условии что его прибыльность выше. Механизация осуществляется не ради самой механизации. С другой стороны, решающим фактором является уровень заработной платы, поскольку при выборе технологического процесса предприниматель исходит из сопоставления заработной платы и предельного продукта затраченного труда. На выбор технических средств процесса может повлиять недостаток финансирования, заставляющий довольствоваться тем техническим уровнем, который обеспечивает меньшую норму прибыли. Следовательно, если накопление капитала недостаточно для достижения наивысших темпов технического прогресса, то может возникнуть безработица. При капитализме наилучшим является такое положение, когда растет предложение капитала и ограничено количество рабочей силы, ибо это ведет к повышению реальной заработной платы.
В своей модели Джоан Робинсон стремится показать, что расширение выпуска продукции при постоянной норме прибыли зависит от темпов технического прогресса и роста рабочей силы. Потенциально ежегодные темпы роста выпуска продукции равны индексу занятости плюс индекс производительности в расчете на одного рабочего. В идеальном случае — при «золотом веке» Джоан Робинсон — имеют место постоянные темпы экономического роста, умеренный технический прогресс, постоянная норма прибыли, а также постоянное отношение капитал — число рабочих. Если это отношение уменьшается, возникает тенденция к демеханизации. Джоан Робинсон утверждает, что быстрый рост производственной мощности может сопровождаться тенденцией к демеханизации. Следовательно, «золотой век» представляет собой стационарное общество, состояние блаженства, в котором ежегодно замещаемая часть капитала остается постоянной. Темпы экономического роста определяются Робинсон как наивысшие темпы накопления капитала, соответствующие постоянной норме прибыли. Большие темпы накопления приведут к росту механизации, а в дальнейшем и к падению нормы прибыли. Стало быть, изменения темпов роста делают достижение «золотого века» практически невозможным222.
Итак, несмотря на то что капитализм может развиваться, он в самом себе несет семена разрушения. Капиталистическая система может существовать, если реальная заработная плата изменяется соответственно изменению выпуска продукции в расчете на одного человека, при условии что технические изменения не нарушают равновесия между этими ключевыми факторами распределения. Более того, накопление должно обеспечить увеличение капитала, соответствующее росту выпуска продукции на од33 б. Селигмен
513
ного человека. Джоан Робинсон предупреждает, что дух предпринимательства не должен ослабевать, поскольку опасность заключается не в бережливости, но в ослаблении капиталистической энергии. Накопление капитала базируется на прибыли, но реальная заработная плата также должна поддерживаться на соответствующем уровне. Обеспечение сложного равновесия, необходимого для успешного функционирования капиталистической экономики, представляется затруднительным, ибо различные соотношения претерпевают изменения, в результате чего возникают всевозможные проблемы — падение реальной заработной платы, безработица, непостоянство прибыли и инфляция. Возникают всяческие неожиданности, и правила капиталистической игры становятся неприменимыми.
В известном смысле эти «правила» могут быть использованы и в социалистическом обществе и также могут оказаться неприемлемыми для него. Существует определенная зависимость между ростом населения, объемом капитала и уровнем технического развития, которая должна проявиться в любой индустриально развитой стране, независимо от политического сгроя. Как для капиталистического, так и для социалистического общества весьма важное значение имеет соотношение между национальным доходом и общественным прибавочным продуктом, а темпы накопления капитала в планируемой экономике могут игнорироваться только с риском для ее существования. Таким образом, анализ Джоан Робинсон является до известной степени универсальным и базируется на некоторых основных положениях Маркса. Отношение квазиренты к заработной плате у Робинсон напоминает отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу у Маркса, а процесс накопления капитала — схему воспроизводства капитала, приведенную в «Капитале». Характеристика движущих сил капитализма и продиктованного конкуренцией стремления к накоплению капитала, данная Джоан Робинсон, во всяком случае, по духу, если не в деталях, является марксистской. Джоан Робинсон еще раз показала, как можно успешно использовать категории марксизма *.
* Джоан Робинсон — представительница левого кейнсиапства — остается в рамках концепций буржуазной политической экономии, пытаясь эклектически соединить кейнсианство с марксизмом. Отсюда идет и ее понимание якобы универсальности «правил» игры как для капитализма, так и для социализма. В современных условиях, когда социализм одержал такие выдающиеся победы в экономическом соревновании с капитализмом, среди буржуазных экономистов все больше усиливается дифференциация. Робинсон в противовес откровенному антикоммунизму выступает как сторонник мирного сосуществования с социализмом и реформ в самом капитализме. — Прим. ред.
Однако описанные выше теории экономического роста в основном вдохновлены, однаког кейнсианской доктриной. Очевидно, что застой в 30-х годах XX в. и боязнь повторения кризиса после второй мировой войны побудили Харрода, Домара, Робинсон, Феллнера и других экономистов тщательно исследовать характер развития экономики во времени. В системе Домара упор делается на роль новых производственных мощностей, в силу чего инвестиции необходимо соотносить с приростом дохода таким образом, чтобы поглощались дополнительные производственные мощности. В формулировке Харрода подчеркиваются изменения спроса, в особенности их влияние на текущий выпуск продукции и чистые инвестиции. Это позволило ему провести различие между автономными и стимулированными инвестициями, а также, соотнеся последние с уровнем дохода, исследовать их влияние на экономический рост при полном использовании производственных мощностей. В еще большей степени базируется на технологических факторах модель Джоан Робинсон, в которой внутренне связаны механизация, реальная заработная плата и норма прибыли. Несмотря на их несколько формальный характер, во все упомянутые модели легко- ввести такие факторы, как рост населения, накопление человеческих знаний, приспособляемость к технологическим возможностям, политические и социальные отношения между национальными государствами. К последним факторам относятся следующие проблемы: должны ли небольшие государства всегда принимать решительные меры самопомощи в целях создания сбережений, необходимых для экономического роста? Должны ли они искать такую помощь, которая лишь делает их жертвами более сильных государств? Если это так, захотят ли развивающиеся страны пойти таким же путем? Достаточно поставить эти вопросы, как становится очевидной полезность теоретических моделей. Следует также выяснить, является ли экономический рост действительно желаемой социальной целью, в особенности в определенных «слаборазвитых» районах. Английский экономист У. А. Люис, глава Вест-Индского университетского колледжа, начинает свою работу «Теория экономического роста» 223 именно с этого основного вопроса.
Люис утверждает, что трудный процесс роста связан с некоторыми издержками и не все верят в то, что быстрые экономические изменения являются удовлетворительным путем к достижению социальных целей. Некоторые люди предпочитают традиции стабильного общества. Однако, говорит Люис, по мере того как человек в ходе развития общества овладевает окру514
жающим миром, его возможности действительно расширяются. В результате экономического роста изгоняется голод, снижается детская смертность, ликвидируются болезни. Он приводит к тому, что создается больше товаров, улучшается обслуживание и освобождается время для занятий умственным трудом, а если человеческие запросы превышают имеющиеся ресурсы, он содействует уменьшению социальных трений.
Но, говорит Люис, следует учитывать и издержки прогресса. Стоит воцариться духу стяжательства и торгашества, как в обществе и в душе индивидуума возникает разлад; личным интересам может быть отдано предпочтение, а общественные могут отодвигаться на второй план. Люди начинают приобретать вещи ради самих вещей. За экономический рост приходится расплачиваться возникновением корпораций- монополий. Ко всему этому следует добавить способную свести с ума дисциплину времени и эксцессы ускоренной урбанизации. Позволительно, однако, спросить, не является ли все это просто расплатой за поспешную индустриализацию, а не издержками экономического роста. Если бы городская жизнь была тщательно спланирована и организована, проявились бы присущие ей в настоящее время признаки упадка? Более оптимистическая точка зрения сводится к тому, что человечество способно обуздать материалистические тенденции экономического роста с помощью разумных и целенаправленных усилий.
Экономический рост, продолжает Люис, обусловливается тремя главными причинами: во- первых, стремлением к экономии и выпуску большего количества товаров; во-вторых, накоплением знаний и применением их для целей технического прогресса; в-третьих, увеличением объема капитала на душу населения. Однако анализ только этих трех причин полностью не раскрывает путей экономического роста. Как, например, на этот процесс влияет система ценностей, господствующая в обществе? Мешает ли накоплению товаров социальный строй с ярко выраженными религиозными и кастовыми элементами? Облегчается ли экономический рост социальным равенством как одним из таких ценностей? Постоянно ли благотворное воздействие традиций, ускоряющих экономический рост, или же наступает момент, когда они начинают тормозить развитие?
Люис далее ставит следующий вопрос: в какой мере капитал участвует в процессе экономического роста? Исследования Саймона Кузнеца и известного австралийского статистика Колина Кларка показывают, что в высокоразвитых странах чистые инвестиции в размере 10% от годового выпуска продукций приносят 3% прироста дохода 224. Развивающиеся страны явно не могут достичь подобных результатов. В высокоразвитых странах более высокое отношение капитал — доход означает большие возможности для производства высокопроизводительного оборудования и, следовательно, большего объема товаров. Корни трудностей, испытываемых развивающимися странами, лежат в недостатке квалифицированной рабочей силы и знаний, в силу чего производство одинакового объема товаров требует больших инвестиций, чем в более развитых странах. Стало быть, если Индия будет поддерживать норму чистых инвестиций на уровне 4—5%, разрыв между ней и США будет увеличиваться.
В связи с этим при анализе экономического роста возникает важный вопрос: как быстро может идти накопление капитала, чтобы при этом на плечи народа не ложилось чрезмерное бремя? Если судить по опыту предвоенных Японии и Германии, оно может осуществляться весьма быстро. Пределы, тем не менее, существуют, поскольку здания нельзя возводить без необходимого числа каменщиков, плотников и каменотесов. Более того, устойчивые темпы роста могут иметь место только при условии авансирования некоторых «социальных накладных расходов», а именно расходов на коммунальные услуги, больницы, водопровод и средства сообщения. Несмотря на то что эти отрасли экономики непосредственно не производят товаров, однако они играют существенную роль в росте производства. Даже в странах с ограниченными природными ресурсами, как Дания и Швейцария, сложившийся уровень расходов на социальные нужды обеспечивает относительно высокий уровень производства. Некоторые же страны с богатыми природными ресурсами (примером может служить Бразилия) вследствие недостаточных расходов на социальные мероприятия не могут сравниться по производительности с Данией и Швейцарией.
Сказанное выше дает основание полагать, что эффективный экономический рост зависит от чувствительного равновесия многочисленных элементов, определяющих экономическое развитие. Один из основных приверженцев такой точки зрения Рагнар Нурске разрабатывает этот вопрос в работе «Проблемы образования капитала в развивающихся странах» 225. Призывая к осуществлению инвестиций одновременно в нескольких отраслях промышленности, он утверждает, что низкий доход обусловливается в основном нехваткой капитала, проистекающей из недостатка сбережений. Кроме этого, любое побуждение к инвестированию подавляется ограниченностью рынка, являю- 33* 515
щеися следствием низкого уровня производительности. Таким образом, один порочный круг накладывается на другой. Отдельные попытки инвестирования не позволяют вырваться из этого круга, поскольку необходим крупный скачок в темпах роста выпуска продукции, который, как утверждает Нурске, может произойти только в случае одновременного инвестирования в большое число отраслей промышленности. Различные отрасли промышленности могут поддерживать друг друга «... в том смысле, что люди, занятые на новостройках с более высоким реальным капиталом в расчете на одного работника и более эффективных в смысле выпуска продукции за один человеко-час, способствуют расширению рынка для товаров новых предприятий в других отраслях промышленности» 226. Такая теория выдвинута в противовес политике постепенности в экономическом развитии, в особенности для стран, попавших в условия «равновесия на низком уровне» 227. Разрывы в процессе экономического роста требуют «сильных толчков» для преодоления вековой врожденной инертности. Нурске полагает, что массированные усилия обеспечивают рост «внешней экономии», отчего выигрывает экономика в целом. Таким путем могут обеспечиваться необходимые расходы на социальные мероприятия и развитие вспомогательных отраслей, без которых невозможен продолжительный рост большинства фирм 228.
В основе этих положений лежит убеждение, что для постоянного экономического роста необходимы некоторые минимальные усилия или «взлет». Эта идея нашла отражение в работе У. У. Ростоу «Стадии экономического роста» 229. Ростоу назвал три условия, необходимые для «взлета»: 1) увеличение инвестиций до уровня, превышающего 10% национального дохода; 2) быстрое развитие одной или нескольких отраслей обрабатывающей промышленности; 3) наличие такой политической, социальной и институциональной структуры, которая позволяет использовать побуждения к экономическому росту 230. Приведенные условия, разумеется, весьма сложны, утверждает Ростоу, но, обеспечив их, страна способна достичь экономической зрелости в пределах шестидесяти лет. Процесс экономического роста у Ростоу выглядит настолько механистически, что, как можно заключить из его слов, любая экономическая система достигнет одинакового уровня развития независимо от ее политического строя. Следовательно, необходимость в усиленном воздействии тоталитарных методов отпадает. Однако вопрос, смогут ли развивающиеся страны достичь зрелости в течение такого отрезка времени и в то же время избежать человеческих лишений, характерных для раннего развития капитализма, или ужасов тоталитаризма, по меньшей мере является спорным 231.
Проблема минимальных усилий более тщательно исследована Гарви Лейбенштейном, в частности в его превосходной работе «Экономическая отсталость и экономический рост» 232. Отсталая экономика, по мнению Лейбенштейна, характеризуется состоянием равновесия или квазиравновесия. Он рассмотрел различные состояния равновесия на низком уровне, используя в качестве критерия выпуск продукции на одного человека 233. В некоторых из этих экономических систем, находящихся на низком уровне развития, может даже иметь место рост таких переменных величин, как капитал и труд; однако взаимодействие этих характеристик системы с другими может быть таковым, что доход на душу населения окажется близким к уровню, обеспечивающему лишь необходимые средства существования. Иными словами, могут существовать такие мощные подавляющие факторы, влияние которых нельзя преодолеть обычным инвестированием. Доход на душу населения может оставаться в состоянии равновесия на низком уровне, хотя в движении некоторых переменных подобные тенденции и не наблюдаются 234. Растущая экономика не может находиться в состоянии равновесия. Она характеризуется постоянным ростом капитала, населения, рабочей силы, развитием техники и увеличением выпуска продукции на одного человека. Отсталая экономика, напротив, характеризуется состоянием «квазиста- бильного равновесия, при котором обеспечиваются лишь минимальные средства существования»: без сильного импульса или некоторого критического минимального усилия она всегда имеет тенденцию возвращаться именно к такому равновесию, несмотря на все благие намерения. Следовательно, небольшие усилия обычно означают равновесие, а большие нарушают равновесие и вызывают рост. Под этим подразумевается, что в большинстве развивающихся стран существует некоторый критический уровень дохода на душу населения и экономического роста, при превышении которого нарушение равновесия сообщает необходимый толчок росту и развитию. При отсутствии такого критического минимального усилия факторы, подавляющие рост дохода, сведут на нет все результаты произведенных инвестиций.
Минимальное усилие предполагает наличие ситуации, при которой темпы возрастания сил, названных Лейбенштейном «агентами роста», достаточно высоки, чтобы противодействовать факторам, подавляющим рост дохода. Такими агентами роста являются предприимчивость 516
и новаторство, наличие рабочих достаточной квалификации и знаний, сбережения и т. п. 235. Лейбенштейн рассмотрел важный вопрос о позиции предпринимателей в отсталой экономике. В развивающихся странах предпринимателей достаточно, однако их позиции и условия, в которые они поставлены, вынуждают предпринимателей на действия, не создающие дохода для общества. Чисто коммерческая деятельность или землевладение прибыльны для отдельных личностей, но они не обязательно означают экономический рост. Другими словами, это усилия с «нулевой суммой» 236. Деятельность с положительным суммарным итогом, напротив, вносит вклад в экономический рост, поэтому должны быть созданы условия, которые делали бы возможным получение ожидаемой прибыли. В этом случае тормозящее действие таких сил, как предпринимательская активность с «нулевой суммой», сопротивление изменениям и новым идеям, непроизводительное потребление и относительно высокий прирост населения, может быть уравновешено соответствующими побудительными мотивами к экономическому росту, вытекающими из успеха прежних начинаний, непрерывного роста дохода на душу населения, усиления соответствующих факторов роста, лучшего понимания общей необходимости преодолеть традиционные взгляды, а также повышения мобильности и специализации труда.
Некоторые выводы из введенного в описанные выше теории понятия «балансированного экономического роста» оспаривались неоднократно, а наиболее резко — профессором Йельского университета и бывшим экономическим советником в Колумбии Альбертом О. Хиршманом. В книге «Стратегия экономического развития»237 он утверждает, что в этом понятии пораженческие настроения в отношении возможностей развивающихся стран сочетаются с нереалистической оценкой их созидательных способностей 238. Имеются серьезные доказательства того, заявляет Хиршман, что отсталая экономика может развиваться по частям. Нет необходимости полагать, что экономический рост возможен только в результате одновременных массированных инвестиций во всех отраслях экономики и что в отсталой экономике должны проявиться в полном блеске все способности и возможности индустриальных стран. Одновременное многостороннее развитие со свойственными ему настроениями пессимизма и максимальной зависимостью от правительственного вмешательства не является необходимым, говорит Хиршман, если признать, что возможно неравномерное развитие, но тем не менее развитие, в различных отраслях экономики и что оно порождает стремление к инвестициям за счет внутренних ресурсов. Суть дела в том, что каждая страна имеет свою историю экономического роста, который мог привести к известным целесообразным инвестициям. Поэтому даже при отсутствии общего состояния равновесия отдельные программы могут послужить хорошим началом. Иначе говоря, именно отсутствие равновесия способно явиться стимулом быстрого развития 239. Это вытекает из таких факторов, как взаимодополняемость и необходимость ликвидации пробелов в предшествующем экономическом развитии. В действительности экономика никогда не отвечает требованиям взаимодополняемости; признание этого факта позволило Хиршману разработать теорию преднамеренного неравновесия и стратегию экономического развития. Согласно этой теории, для «сильного толчка» следует выбирать определенные отрасли экономики, с тем чтобы импульс от ведущих отраслей передался на остальные и от одной фирмы на другую 24°. Смысл этого положения совершенно очевиден: стратегический выбор пунктов роста способен уменьшить необходимость вмешательства правительства в экономику и значительных инвестиций в социальные мероприятия.
При выборе правильной стратегии экономического роста цель состоит в стимулировании самого процесса принятия решений. Помимо этого, выбор объектов должен поощрять инвестиции «до и после», то есть такие инвестиции, которые наиболее целесообразным образом связаны как с последующими, так и с предыдущими этапами производства. Для выяснения наибольшего числа таких связей Хиршман предлагает производить эмпирические исследования по схеме затраты — выпуск241. Характеризуя идею экономической связи, он указывает, что в развивающихся странах взаимозависимость подобного рода крайне слаба. Например, настоящее сельского хозяйства не связано с его прошлым, а связь с будущим слаба и незначительна. Точно так же предприятия с преобладанием иностранного капитала имеют связи, выходящие за пределы страны, и оказывают небольшое влияние на ее экономическое развитие. Импорт, напротив, оказывает полезное влияние на развитие страны в том смысле, что возникает необходимость оказания помощи той отрасли промышленности, которая сделала бы лишним импорт. Следовательно, экономике может быть сообщен соответствующий импульс, если импортируемым товарам будут созданы относительные преимущества 242.
Хотя Хиршман и допускает возможность быстрого экономического роста в случае необходимости, однако выдвинутая им теория в сущ517
ности подвергает сомнению то, хорошо ли перенесет народ режим быстрого накопления капитала и роста экономики. Если при инвестировании в мероприятия по осушению и ирригации экономический рост быстро скажется на увеличении выпуска сельскохозяйственной продукции, то при инвестировании в школы и другие «социальные накладные расходы» экономический рост в первые годы проявится в меньшей степени. В силу этого скоро может возникнуть противодействие, если диктаторский режим силой не навяжет такую политику. Однако некоторые авторы утверждают, что быстрое развитие в развивающихся странах может привести к устойчивым темпам роста экономики и что в этих странах будут нарушены традиционные границы и уничтожены установившиеся привычки. Болезни, скудная пища, плохое медицинское обслуживание и неудовлетворительные жилищные условия — для устранения всего этого требуются настолько большие капитальные затраты, что государственное вмешательство зачастую необходимо. Приверженцы этой точки зрения вновь обрели трибуну в основном в публикациях ООН; они выражают недоверие к таким понятиям, как суверенитет потребителя, и не считают жизненной систему свободных цен. Отвергая методы, применявшиеся в Советском Союзе,сторонники такихвзглядовтем не менее полагают, что «большой скачок» к современной индустриализации может быть совершен при условии оказания помощи со стороны более развитых стран. В работе «Мировая экономика» Гуннар Мюрдаль указывает, что в развивающихся странах наблюдаются сильные эмоциональные импульсы, подчеркивающие настоятельность быстрого экономического роста 243.
Альтернативой быстрому экономическому развитию является более постепенный подход, позволяющий обществу воспринять новое в экономике без волнений и беспорядков. «Постепеновцы» утверждают, что при отсутствии достаточно прочной внутренней базы прекращение внешней помощи вызовет застой в экономике. Они считают, что коренная природа общества не может измениться в результате воздействия извне, а должна развиваться в соответствии с нуждами общества. Например, не имеет большого смысла улучшать здравоохранение, не создав также экономику, отвечающую условиям неизбежного роста населения. Поэтому более правильным решением является, по словам «постепеновцев», медленное и непрерывное накопление капитала, которое обеспечит развивающимся странам развитие в направлении постоянных изменений. Экономический рост должен опираться, утверждает, например, Рагнар Нурске, в конечном счете на внутренние сбережения 244. Хотя иностранные инвестиции и могут оказать определенную помощь, главной силой, говорит он, является упорный труд самого народа.
Постепенный подход позволяет действительно эффективным образом ввести в модель культурные и социологические элементы. К сожалению, большинство усилий в этом направлении были разрозненными 245. Наиболее глубокий анализ этих важных элементов принадлежит Берту Ф. Хозелитцу (род. 1913). Его работа в исследовательском центре по экономическому развитию и культурным изменениям при Чикагском университете представляет собой большой вклад в понимание вопроса 246. Попытка создать общую теорию культурных и экономических изменений, разумеется, сопряжена со многими трудностями. Однако важно, чтобы любой анализ экономических изменений учитывал пути изменения социальных отношений 247. Для выполнения задачи Хозелитц удачно использовал «переменные характеристики» Тал котта Парсонса, с помощью которых экономические мероприятия могли быть соотнесены с основными типологическими нормами поведения людей 248. Так, социальная система может придавать большее значение традиционным или родственным отношениям, нежели индивидуальным достижениям, а установившийся порядок может быть достаточно прочным, чтобы предотвращать мобильность рабочей силы и развитие специализации и тем самым ограничивать возможности добиться более высокой производительности. Верно, и в примитивных обществах наблюдалась специализация функций отдельных личностей, однако последние неизменно стремились сохранить традиционный образ поведения 249. Этими моментами можно объяснить, почему в отдельных случаях не были претворены в жизнь программы развития, когда не учитывались те особенности культуры, которые оказывают сдерживающее влияние на рост дохода. Экономические изменения, доказывает Хозелитц, обязательно должны быть связаны как с преобразованием форм общественного поведения, так и с ростом дохода на душу населения. Развитие общества предполагает оценку человека не по его положению, а по его достижениям, а также переход от ритуального обмена к сделкам на основе экономических факторов, от кастовой структуры — к истинной мобильности, от нерасчле- ненных экономических функций — к разделен- нию труда.
Как же должны осуществляться эти изменения? Для решения вопроса Хозелитц использует свою теорию социальной девиации, родственную теории внедрения новшеств Шумпе518
тера 250. Первые предприниматели и финансисты рассматриваются как носители социальной девиации, чья деятельность внесла немалый вклад в разрушение устоев феодального общества. Они стали двигателями экономического роста, осуществляли накопление капитала и вводили новшества с помощью комплекса факторов, в том числе личных конфликтов, развития культуры и техники, использования имеющихся ресурсов. Основная роль предпринимателей заключалась в мобилизации сбережений и в использовании накопленного денежного капитала для повышения производительности 251. В колониальной Америке, например, предприниматели обнаружили чрезвычайно низкую плотность населения и невероятные возможности увеличения прибыли на капиталовложения. В результате всячески поощрялось создание технических средств, экономящих труд. Почти полное отсутствие условностей, присущих Старому свету, также содействовало предпринимательской активности. На смелого предпринимателя перестали смотреть как на социальную аномалию, каковой он был с точки зрения аристократии. Предприниматель стал обычным явлением и занял руководящее положение в новом обществе по эту сторону Атлантического океана. В XVIII в. и начале XIX в., как указывает Уильям Кохран, во многих небольших городках универмаг стал центром деловой активности и общественной жизни, а его владелец — фигурой общественной власти. Накопление капитала шло в ногу с расширением производства. Банки стали неотъемлемой частью экономической деятельности, правительство оказывало помощь предпринимателям путем введения законов о патентах, обеспечения права проезда и бесплатного предоставления земельных участков; американская культура стала культурой предпринимательской. Безусловно, имело место большое число просчетов и банкротств: искусство управления предприятием «...познавалось за счет разоренных кредиторов».
В XX в. функции предпринимателя были, однако, бюрократизированы. Предприниматель изжил себя вследствие появления профессионалов-управляющих, растущей роли финансистов и регулирования со стороны правительства. Даже сфера его деятельности стала более узкой: в средства сообщения, строительство мостов и энергетику вкладываются правительственные деньги; с возникновением военной экономики поле деятельности частного предпринимателя еще больше сократилось. Таким образом, предприниматель сам себя лишил работы: его роль в образовании капитала и в экономическом росте в настоящее время сомнительна. В этом анализе заключена важная мысль о том, что в современных условиях бюрократизирован даже «экономический рост». Эту точку зрения, несомненно, поддержат те, кто указывал на фантастические возможности современных корпораций по осуществлению инвестиций за счет собственных ресурсов. Двигателем прогресса является теперь не риск, а рассчитанные и тщательно взвешенные планы действия, разрабатываемые в конференцзале корпорации.
В этих условиях экономический рост становится неустойчивым. Процесс сбережения и инвестирования может быть нарушен по многим причинам, к которым относятся: изменения технологии в промышленности, рост числа монополистических ситуаций, повышение производительности без соответствующего изменения в инвестициях. Проблема может быть усугублена отсутствием достаточного объема капитала, что видно при сравнении экономического роста США и других стран. В последних низкий уровень дохода и производительности обусловлен недостаточным объемом и неудовлетворительным использованием капитала. Рекомендации о расширении закупок оборудования этими странами просто подчеркивают стоящую перед ним дилемму, поскольку накопление капитала предполагает достаточно высокий уровень дохода и производительности для получения необходимых средств.
Тем временем развитые страны, составляющие небольшую часть населения земного шара, не только становятся богаче, но и рассчитывают в будущем обеспечить большие экономические возможности для своих граждан и еще более высокие нормы потребления. И это несмотря на многочисленные бедствия на международной арене за последние сорок лет, которые должны были сдерживать экономический рост. Частые кризисы и войны лишь привлекли большее внимание к состоянию национальной экономики, в то время как международные экономические отношения, столь важные для благополучия менее развитых стран, продолжали ухудшаться. Экономический рост, указывает Гуннар Мюрдаль, является делом всех народов, а не только стран Запада 252. Но, к сожалению, продолжается политика возврата к экономическому национализму, вследствие чего наносится ущерб международному экономическому развитию. Доказательство этому Мюрдаль видит в том, что резко уменьшился перелив капитала и труда: фактически все страны закрыли свои границы для пришельцев из других рынков рабочей силы, а поток иностранного капитала, который мог бы стимулировать экономический рост в Латинской Америке и Южной Азии, практически прекратился, за исключением ре519
инвестиций прибыли или некоторых новых инвестиций в колонии, чья экономика может контролироваться из метрополии. Во многих странах воздвигнуты импортные барьеры и сосредоточено внимание на внутренней экономике. Наряду с валютными и платежными ограничениями эти мероприятия из симптомов экономических неурядиц превратились в их коренные причины.
Проблема экономического роста обострилась, когда в полной мере проявились несоответствия в ресурсах капитала, производительности, квалификации рабочих и, следовательно, в уровне жизни в высокоразвитых и развивающихся странах. Последние стремятся покончить со своим положением «неимущих» и порывают со старыми традициями. Не случайно, что в некоторых странах это принимает форму ярого национализма, а в других — заигрывания с коммунизмом. Стремление к экономическому росту зачастую превращается в широковещательные программы по освоению современной промышленной техники. Развивающиеся страны действительно хотят перескочить через стадию накопления капитала, однако им недостает международного рынка капитала, который облегчил трудности роста на Западе. Идея экономического роста и связанного с ним высокого уровня жизни, основанного на десятилетиях накопления капитала, пришла из стран Запада в развивающиеся страны, которые в настоящее время не испытывают недостатка в советах, но лишены капитала.
Развивающиеся страны, утверждает Мюрдаль, должны проводить осторожную политику в отношении роста населения и привести его в соответствие с ростом ресурсов. Правительства этих стран, настаивает он, должны играть более существенную роль, чем та, которую играли правительства стран Запада в периоды экономического роста. Должны быть осуществлены определенные преобразования. Однако основным подходом является программа самопомощи, призванная стимулировать весьма значительные сбережения при низком уровне потребления, когда капитал почти или совершенно не ввозится, а цены на экспортируемые товары варьируют в широких пределах. Развивающиеся страны должны стремиться к большему разнообразию выпускаемой продукции, а все валютные ресурсы они должны использовать для закупки средств производства. Мюрдаль не настроен оптимистично в отношении перспектив: он полагает, что «...если не случится чуда, то лишь немногие развивающиеся страны достигнут своих основных целей». Однако все потенциальные возможности экономического роста будут использованы лишь тогда, когда развивающиеся страны с их громадным населением, принадлежащим к различным расам, религиям и культурам, достигнут равенства возможностей. От этой мысли, центральной у Мюрдаля, едва ли можно отмахнуться. Проблема экономического роста является не просто экономической или политической, но по существу моральной проблемой. Могут ли, спрашивает Мюрдаль, страны Запада, у которых перспективы непрерывного экономического роста не ухудшились, обращать внимание только на собственное развитие и строить националистический местный рай, в то время как множество людей в Азии, Африке и Латинской Америке борется лишь за то, чтобы иметь хоть немного больше средств существования?
С этой точки зрения планирование явно считается чем-то само собой разумеющимся. В работе «По ту сторону государства благосостояния»253 Мюрдаль утверждает, что наиболее консервативные авторы отказываются признать существование планирования, несмотря на то, что группировки, интересы которых эти авторы часто отстаивают, не очень-то отказываются от выгодных тарифов, бесплатно предоставленных земельных участков и других правительственных субсидий. Регулирование, да и буквально планирование национальной экономики, осуществляются во все большей степени, немыслимой сто лет тому назад. Следовательно, жаркие споры вокруг планирования не имеют смысла, поскольку для жизнеспособности экономики активность правительства в настоящее время имеет решающее значение, и так будет впредь. Мюрдаль вновь затронул больное место американской действительности, где пропасть между словом и делом в экономике так же глубока, как и в расовой проблеме.
Парадоксально то, что планирование возникло стихийно под давлением объективной необходимости. В условиях чистой рыночной экономики человек — или, вернее, рабочая сила — считался товаром, но при этом не смогли отделить человека от его способности выполнять работу. Ужасные условия, порожденные этим обстоятельством во времена промышленного переворота, полностью нашли отражение в работах Энгельса, Маркса, Тойнби и Хэммондса. Однако начало государственного вмешательства в экономику ознаменовалось некоторыми благотворными мерами. Верно, вначале они имели ограниченный характер и сводились лишь к охране женского труда, но идея государственного вмешательства в целях обеспечения необходимых мероприятий, игнорируемых частной промышленностью, неизбежно получала признание. Войны и депрессии ускорили этот процесс; золотой стандарт — этот миф об издрев520
ле присущем хозяйству автоматизме — был развенчан; предприниматели, обремененные постоянно растущими накладными издержками и инвестициями в основной капитал, поняли, что они не могут больше доверять судьбу своих предприятий капризам свободного рынка. Контроль и планирование на предприятии, в отрасли промышленности в государственном масштабе — вот что стало преобладать в рецептах решения экономических проблем.
Наиболее интересным аспектом в этом отношении являются, по словам Мюрдаля, изменения во взглядах людей. Старые нормы теряют власть над людьми, и все больше проявляется стремление применять рациональные методы решения текущих проблем. Уже никто не сомневается в необходимости руководствоваться при заключении частных контрактов правилами, установленными обществом, а сделки между группами становятся организующими принципами общественного поведения. В результате изменений экономических сил появились новые типы характеров. Изменилась и психология людей, и существенным является то, утверждает Мюрдаль, что этот процесс необратим.
Происходящий процесс может быть назван движением к государству благосостояния через «кумулятивную причинность», через постоянное усиление государственного вмешательства, обусловленное кризисом в международных отношениях, более рациональным истолкованием явлений, возросшей политической активностью и ростом крупных организаций во всех областях политической и экономической деятельности. Учитывая широкую историческую перспективу (Америка «все еще так молода»), Мюрдаль выражает надежду, что от обычного вмешательства, направленного на достижение ограниченных целей, американцы перейдут к всестороннему планированию. Необходимые предпосылки и средства для этого известны: финансовые рычаги, возможности максимизации соответствующих показателей, улучшение образования, прогрессивная система налогов и полная занятость, и как венец всего —«сотворенная гармония».
Основываясь на рассмотрении знакомого ему государства благосостояния шведского типа, Мюрдаль утверждает, что оно представляет собой именно тот тип государства, которое нужно людям. Они чувствуют себя более свободными в подобной среде. Высокий уровень народного образования, развитое чувство ответственности, участие во всех сторонах политической жизни — все это позволяет шведам во всеоружии встречать возникающие перед ними проблемы. Американцы охотно выискивают недостатки этого развивающегося общества, однако, говорит Мюрдаль, в нем больше достоинств, чем в политико-экономической структуре США. И как только утвердятся новые нормы «культуры благосостояния», децентрализация, возникающая в результате сбалансированного развития основных групп общества, сможет привести к уменьшению государственного вмешательства.
Мюрдаль признает, что все это утопия. И как все утописты, Мюрдаль умышленно нарисовал картину общества широкими смелыми мазками, с тем чтобы показать его истинные возможности. Однако капиталистическое общество разъедается бюрократизмом, обилием законодательных норм и сепаратистскими стремлениями. Нигде это не проявляется с большей очевидностью, чем в США, где правительство только начинает вмешиваться в экономику, поскольку имеющиеся зачатки планирования еще не отвечают «требованиям координации и упрощения». Вероятно, главным недостатком осуществляемого в настоящее время планирования является то, что оно скорее усилило, нежели ослабило местнические националистические настроения — этот бич всех стран, больших и малых.
Современное планирование, утверждает Мюрдаль, ведет к углублению пропасти между странами Запада и «слаборазвитыми» странами. Процесс международной экономической дезинтеграции не приостановился, несмотря на героические усилия, предпринятые после второй мировой войны, а с крушением колониализма и наступлением холодной войны представляется маловероятным, заявляет Мюрдаль, чтобы страны Азии и Африки в скором времени достигли высокого уровня развития. По его словам, глобальное планирование предполагает мир без границ и дискриминации, противопоставляющей одну страну другой. Не желая признавать такого рода интернационализм безнадежным делом, Мюрдаль утверждает, что единственной реальной перспективой для человечества является интернационализация тех самых мероприятий, которые проводятся в интересах построения национального государства благосостояния. Другого пути построения мира благосостояния он не видит.
Возможно ли это? Мюрдаль считает, что возможно, несмотря на печальный опыт ООН и подчиненных ей организаций 254. Не без сарказма он пишет, что Международная организация торговли является мертворожденной, Экономический и Социальный совет отражает лишь склонность делегатов Генеральной Ассамблеи к дебатам, ФАО составляет остающиеся на бумаге планы, а Международная организация труда стала старомодной еще сорок лет назад.
521
Тем не менее он полагает, что эти печальные неудачи представляют собой лишь первые несмелые шаги на пути создания подлинно интернационального сообщества. Взгляды Мюрдаля кажутся слишком смелыми тем, кто обескуражен состоянием международных отношений. Однако тем, кто питает хоть малейшую надежду на такое интернациональное сообщество, положения Мюрдаля неизбежно представляются весьма обоснованными.
6. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ТЕОРИЯ ИГР И ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Несмотря на то что традиционная теория постоянно стремилась выдвинуть на первый план понятие экономической гармонии, противоречия в обществе, на которые указывали Рикардо, Маркс, Джоан Робинсон и другие ученые, невозможно было игнорировать. Противоречия как движущая сила изменений и даже прогресса представляли собой предмет исследований многих ученых-социологов в прошлом 255. Верно, некоторые теоретики были настолько поглощены тонкостями теории цен и капитала, что попросту игнорировали экономические и социальные противоречия. Эти экономисты считали, что вопрос о противоречиях слишком широк и относится скорее к сфере социологии, тогда как экономическая наука должна сосредоточить внимание на гораздо более узких вопросах. Тем не менее в значительной части упоминавшихся исследований о процессе внедрения новшеств, олигополии и экономическом развитии неизбежно рассматривались проблемы противоречий и противоречивых интересов. Обойти их не представлялось возможным, в особенности при анализе таких вопросов, как установление цен или инвестиции. В особенности в последней области решения должны опираться на нечто большее, чем соображения о величине активов, ибо на эти решения зачастую оказывают влияние суровые факты экономических противоречий 256.
Современные экономисты рассматривают если не гармонию, как ее представляли себе в XIX в., то по крайней мере методы достижения экономического равновесия. Основной исходной посылкой является универсальный характер экономических форм, и созданные ими теории призваны описать пути их эффективного функционирования. Тем не менее существование противоречий в экономике невозможно отрицать, и это должно было найти отражение в работах наиболее выдающихся ученых-социологов. Как полагал известный философ и социолог XIX в. Георг Зиммель, противоречия представляют собой одну из форм выражения социальных явлений 257. Положения теории противоречивых интересов в экономической науке восходят, отчасти по крайней мере, к работам Даниила Бернулли о вероятности в игре. Бернулли, представитель известной плеяды швейцарских математиков и ученых XVIII в., изучал так называемый «Санкт-Петербургский парадокс» с целью сформулировать ряд правил, которыми следовало бы руководствоваться при назначении ставок в игре. Решение Бернулли основывалось не на абсолютном значении величины ставки, а на относительном ее значении для участников игры; это положение позднее легло в основу концепции полезности в теории игр 258.
Эти идеи оказались, однако, забытыми, и большинство экономистов их совершенно не использовало. Разработка действенной теории противоречивых интересов, в которой можно было бы использовать математический метод, значительно отставала от других областей экономической науки. Первые сведения о работах в этом направлении относятся к 1928 г., когда молодой математик Джон фон Нейман (1903—1956) выступил на заседании Гёттингенского математического общества с весьма интересной работой в области теории игр. Но разработка теории почти не продвигалась вперед вплоть до 1944 г., когда Нейман в соавторстве с экономистом Принстонского университета Оскаром Моргенштерном (род. 1902) . опубликовал ныне широко известную работу «Теория игр и экономическое поведение» 259. Ряд понятий теории игр был предложен французским математиком Эмилем Борелем в начале 20-х годов текущего столетия, однако некоторые решающие выводы, например минимаксное решение, от него ускользнули 26°. Нейман родился в Будапеште, учился в Берлинском университете и Цюрихском технологическом институте. Получив докторскую степень в Будапеште в 1926 г., он затем преподавал в Германии на протяжении четырех лет. В 1930 г. он приехал на работу в Принстонский университет, где впоследствии совместно с Моргенштерном приступил к исследованиям по теории игр. Утвер^ ждают, что Нейман заинтересовался этой теорией, наблюдая за игрой в покер. Нейман был разносторонним ученым: кроме математических исследований, он занимался квантовой теорией, 522
на которой основаны многие современные достижения атомной энергетики, и принимал активное участие в создании быстродействующих вычислительных машин. Он состоял членом комиссии по атомной энергии и был удостоен многих научных наград. Его кончина в возрасте 53 лет явилась тяжелой утратой для естественных и общественных наук. Оскар Моргенштерн, уроженец Германии, впервые посетил США в 1925 г., а тринадцать лет спустя началась его деятельность в Принстонском университете. Оскар Моргенштерн в своей ранней работе «Пределы экономики» стремился определить действительную роль теории в экономической политике, полагая, что экономический анализ должен быть независим от идеологии 261. Его последняя работа «О точности экономических исследований» 262 содержит блестящую критику некоторых статистических показателей, используемых в экономических исследованиях.
Книга Неймана и Моргенштерна по теории игр внушила экономистам большие надежды, ибо отныне казалось возможным найти ответы на все проблемы, возникшие в связи с существованием монополий, экономических коалиций и других явлений, которые не укладывались в рамки традиционной доктрины свободного рынка, то есть проблемы, которые не могли быть удовлетворительным образом объяснены господствовавшей экономической теорией. Новый подход был чисто математическим. Безусловно, математика для экономистов не является чем-то новым, но до сих пор основной упор делался на исчислении бесконечно малых величин. Неоднократно высказывались сомнения в возможности применить исчисление бесконечно малых для истолкования экономического поведения. Использование же системы уравнений для определения условий равновесия в экономике, никогда реально не находившейся в состоянии равновесия, вообще казалось сомнительным занятием. Более того, существовавшие методы анализа не подходили для исследования проблем, вытекающих из соперничества между антагонистическими группами общества.
В попытке осветить экономические проблемы и соединить теорию с практикой теория игр проникла в относительно новую область математики. Теория игр — это раздел математики, который редко используется в экономике. Ее понятия заимствованы из теории множеств, теории групп и математической логики. Все они имели существенное значение для построения строгой теории. Целью последней было определение стратегии в игре, где образ действия определяется противоречивыми или схожими интересами, доступностью информации и существованием разумного выбора или, возможно, случая. И здесь напрашивается параллель с экономическими и социологическими проблемами. В самом деле, как в игре, так и в экономике люди сталкиваются с аналогичными проблемами. В отличие от теоретических робинзонад казалось, что игра представляет собой единственно подходящую основу для разработки социально-экономической теории. Этот весьма неожиданный подход оказался столь же плодотворным в политике и в военном деле, как и в экономике, так что именно в этих областях применение теории игр было наиболее полезным 263.
Несмотря на мощный математический аппарат, читатель без математической подготовки мог «...понять цели, ход рассуждения и выводы теории» 264. Книга Неймана и Моргенштерна была расценена многими математиками и некоторыми учеными в области общественных наук как поистине новаторское исследование. Джекоб Маршак писал: «Еще десяток таких книг — и прогресс экономической теории гарантирован» 265. Французский экономист Ж. Т. Гильбо назвал ее монументальным достижением 266, а Леонид Гурвич сказал, что «...возможности теории игр представляются исключительными... она способна значительно приблизить экономическую науку к реальности» 267. Одной из областей, в которой была использована теория игр, является статистическая теория принятия решений, в особенности благодаря работе А. Вальда. По мере того как быстро накапливалась литература в области математических и экономических исследований, список которой включает все больше книг и статей 26 8, казалось, что теперь могут быть решены все основные проблемы. Однако дело обстояло не так: большинство исследований по теории игр носило сугубо теоретический характер и нашло лишь ограниченное практическое применение. Все же остается надежда, что этот разрыв в будущем будет преодолен. Но это никоим образом не умаляет достижений Неймана и Моргенштерна: несмотря на абстрактность, их модель во многом нагляднее созданных впоследствии моделей, и хотя по теории игр появилось много исследований, их авторы в большинстве случаев копировали фундаментальную работу Неймана и Моргенштерна, используя практически все предложенные последними понятия в качестве основы своих вариантов.
По существу, теория игр сделала попытку с математической точностью описать некоторые нерешенные проблемы экономического поведения. Основной посылкой теории является идея о том, что индивидуум стремится максимизиро523
вать выигрыш и минимизировать проигрыш, как при игре в шахматы или покер. Однако теория игр заключает в себе нечто большее, чем обычную идею максимизации, ибо без этого нового элемента она мало чем отличалась бы от старого гедонистического подхода. В теории игр индивидуум не Робинзон Крузо, он существует в «социальном» окружении. Согласно новой теории, исход сделки зависит не только от того, чего хочет достичь один игрок, но и от намерений других игроков. По выражению Неймана и Моргенштерна, каждый игрок стремится максимизировать функцию, когда не все переменные величины ему подконтрольны. Это не задача на максимум из прежней теории, но комплекс нескольких задач на максимум, в которых руководящие принципы или стратегии игроков неодинаковы.
Теория игр утверждает, что исход игры, или «выигрыш», может быть определен заранее. Таким образом, решающими факторами становятся различные, но тем не менее совместимые действия, которые предпочтет каждый игрок. Это, в свою очередь, предполагает, что все игроки должны обладать достаточными знаниями и благоразумием. Безусловно, можно играть и неразумно, но это ни в коей мере не способствовало бы развитию теории. Предположение о разумности имеет существенное значение, хотя разумное поведение и оценка вероятности, на которых основаны определенные аспекты теории игр, достаточно трудно найти в реальных условиях. С введением некоторой степени неопределенности для нахождения функции полезности используется понятие последовательности предпочтений 269. Хотя такая функция полезности отлична от использовавшейся ранее в теории, она по-прежнему предусматривает психологические критерии удовлетворения. Утверждают, однако, что кардинальные аспекты (cardinality) функции имеют мало общего с абсолютной шкалой классиков. Она имеет больше сходства с предельными нормами взаимозаменяемости полезностей в их ординали- стской трактовке, поскольку функция описывает реакцию на возрастание вероятности. Здесь отсутствует и критерий интенсивности желания, так как назначение полезности состоит в том, чтобы дать возможность выбрать одну из нескольких стратегий. Как только становится известным, ведут ли предпочтения к достижению максимума или минимума, применение к ним вероятностных характеристик позволяет сделать окончательный выбор. Идея полезности в теории игр вытекает частично из понятия об ожидаемом выигрыше при наличии риска. В последнем случае следует определить вероятность и дать решению о последующих действиях соответствующее математическое выражение.
Следовательно, теория игр предполагает, что удовлетворение действительно существует и что его степень количественно измерима. Однако если функцию полезности математически выразить как отношение объективного результата или выигрыша к удовлетворению, то оказывается, что экономическая теория возвращается на старые позиции кардинальной полезности. Если полезности были бы несравнимы, как полагало большинство экономистов, то теория игр с самого начала оказывалась ошибочной, поскольку в своей основной форме — игре двух лиц с нулевой суммой — она исходит из того, что проигрыш полностью покрывает выигрыш 27°. Однако если рассматривать только степени различия в парах полезностей, вытекающего из некоторого процесса упорядочения, то можно получить шкалу интервалов, как при измерении температуры 271. Начальная точка и размер интервала при этом значения не имеют. Шкалы по Фаренгейту и Цельсию совершенно различны, однако обе они успешно справляются с «измерением» теплоты. Важно то, что соотношение между шкалами постоянно и что они могут быть сравнены с помощью линейных преобразований. Точно так же обстоит дело с полезностями, ибо до тех пор, пока полезности для участников игры определяются как нечто пропорциональное выигрышам, проблемы не возникает. Функции полезности могут быть определены при условии строгой упорядоченности предпочтений; важной концепцией теории игр является понятие об ожидаемой величине в условиях неопределенности 272. Полезность вытекает из предпочтения и объективно не зависит от выигрыша. Вокруг этого понятия велись пространные дискуссии, но приверженцы теории игр в общем нашли его приемлемым, несмотря на подразумеваемую транзитивность, или на упорядоченные последовательные предпочтения, которые в действительности могут и не существовать 273.
Нейман и Моргенштерн начинают с игры при одном участнике, которая может считаться аналогией четко организованному коммунистическому обществу, в котором принципы распределения остаются незыблемыми. Предполагается, что в этом случае интересы общества совпадают с интересами каждого его члена. Вследствие этого принципы распределения неизменны. Игра двух лиц гораздо более интет ресна: она стала основой для всего последующего развития не только теории игр, но и таких областей, как функции статистических решений и линейное программирование. Она, по мнению Лыоса и Райфа, привлекла внимание математи524
ков к изучению экономических и социальных проблем 274. Теория игр выступила со своим собственным точным определением элементов игры: ход — решение игрока, исходя из комплекса возможностей; выбор — возможность, которую фактически избрал игрок; партия — последовательность выборов; дерево игры — общая диаграмма, на которой указаны все партии. Правила игры определяют форму дерева, а отдельные ее части указывают, какой игрок какие сделал ходы. Правила игры указывают также вероятности существующих случайных ходов, исход партий и игры в целом. В каждой конечной точке существует функция выигрыша, вытекающая из понятия полезности. Такова развернутая форма игры, в которой правила игры и функции выигрыша полностью известны всем игрокам.
В обычной игре каждый игрок стремится максимизировать выигрыш, но исход игры зависит не только от его выбора, но и от выбора противника, а он, в свою очередь, зависит от того, что противник думает о выборе первого игрока. Таким образом, интересы участников игры противоречивы. Этот вид игры назван игрой с нулевой суммой, поскольку то, что один игрок выигрывает, другой проигрывает: исходом игры является лишь перераспределение общей суммы. Характер игры становится полностью ясным, если она представлена в форме матрицы. Допустим, первому игроку известна стратегия, или строка матрицы, которую выбрал противник. В таком случае первый игрок выбирает тот столбец матрицы, который даст ему максимальный выигрыш. Предвидя такой ход рассуждений, второй игрок может избрать иную строку матрицы, которая обеспечила бы ему наивыгоднейшую ситуацию. С другой стороны, если первый игрок заподозрит, что его стратегия стала известна, то ему следует избрать тот столбец матрицы, согласно которому самый малый выигрыш был бы возможно большим из всех возможных. По существу, первый игрок стремится получить наибольший минимальный выигрыш — максиминная стратегия, а второй участник игры — наименьший максимальный выигрыш — минимаксная стратегия. Безусловно, подобная игра представляет собой предельно осторожную консервативную игру, так как безрассудство могло бы привести к большим потерям. Когда стратегии обоих игроков совпадают, то есть когда максимин и минимакс находятся в одной ячейке или клеточке матрицы, достигается «седловая точка», или равновесие. В этом случае имеет место скорее оборонительная, нежели агрессивная игра 275. Это такого рода игра, когда элементы чистой стратегии известны. В подобной игре, если стратегия, определяющая действия участников во всех мыслимых ситуациях, сообщена арбитру до начала игры, то он может тут же объявить победителя. Иначе говоря, чистая стратегия предусматривает действия участников в ходе всей игры.
Элемент случайности в чистой стратегии, понятно, исключается. При учете случайности исход игры не зависит уже только от выбора стратегии, а вся теория становится как бы зыбкой. Однако если матрица основана на ожидаемых выигрышах, может быть использован вероятностный подход, когда при выборе стратегии применяется рандомизация. Смешанная стратегия фактически приводит к утаиванию информации и усиливает аспекты секретности в игре 276. Кроме того, правильно выбранная смешанная стратегия способна показать все свойства теоремы о минимаксе — максимине. Если оба игрока рандомизируют свои стратегии, наименьший ожидаемый конечный выигрыш может быть максимизирован. В этом случае налицо унифицированная теория, по крайней мере для игры двух лиц с нулевой суммой, и цена игры может быть определена как окончательно согласованная полезность 277.
Теория игр рассматривает далее некооперативные игры с ненулевой суммой, а также коалиции и кооперирование. Первый тип игры был проиллюстрирован с помощью «дилеммы заключенных», при которой двое заключенных, которые содержатся порознь, пытаются решить, стоит признаваться или нет 278. То, что справедливо для игры с нулевой суммой, здесь не подходит, поскольку кажущийся большим выигрыш может оказаться неприемлемым для одного из игроков. Характер стратегических действий со временем будет раскрыт путем повторения ходов. Если один из игроков стремится к быстрому выигрышу, другой игрок может поставить его в затруднительное положение. Предварительное обсуждение игры ее участниками допустимо, конечно, но в этом случае уже имеет место кооперативная игра. Этот тИп игр начинает приближаться к экономическим ситуациям, какие имеют место, например, в трудовых отношениях или при олигополии. Теории игр не удалось, однако, полностью решить эти проблемы, несмотря на героичеСКие усилия таких авторов, как Мартин Шубик 279. Но по крайней мере было показано то, что не всегда было ясно экономистам, а именно что максимизация не обязательно составляет смысл экономического существования. Не имея возможности управлять всеми переменными величинами, влияющими на размер выигрыша, игроки могут удовлетвориться более скромными результатами. Это определенно находится в 525
остром противоречии с традиционной теорией, согласно которой предполагается, что экономические единицы осуществляют полный контроль над всеми факторами, влияющими на сделки. Если отбросить это предположение, то окажется, что действительность не так проста, как полагает теория.
В кооперативной игре, например, один из участников может произвести побочные платежи другому участнику в качестве одной из составных частей стратегии. (Примером может служить недавняя авантюра с установлением цен в электротехнической промышленности США.) В этих условиях частью правил игры являются предыгровой контакт, наличие обязательств и знание функций полезности. Следовательно, чтобы занять оптимальную позицию, экономические единицы то заключают коалиции то выходят из них. Хотя Шубик и не всегда порывает с традиционной теорией, достоинством его анализа является попытка привлечь такие переменные величины, как структура активов фирмы, необходимость сохранить или увеличить их, свобода доступа в отрасль, а также доступность информации. Анализ с помощью теории игр способен показать, что в олигополии или двусторонней монополии цены могут колебаться более резко, чем это допускает традиционная доктрина, в связи со скидками и премиями 280. В силу этого переговоры, затрагивающие все аспекты сделок, становятся составным элементом теории. Задача состоит в принятии решения, «отвечающего теории игр», безотносительно к соображениям справедливости. (Такова главная цель большинства арбитров и посредников 281.) Таким образом, одним из больших достижений теории игр является выработка подхода к точному анализу условий создания коалиций, что представляет собой важный вклад в экономическую и социальную науки. В то время как в традиционном анализе лишь констатируется существование экономических коалиций, а не исследуется то, как они создаются, теория игр пытается в точной математической форме показать, как происходит объединение, рассматривая тем самым реальные события более пристально по сравнению с прежними экономическими теориями. Как показали Нейман и Моргенштерн, решающие сделки на рынке могут иметь место не между атомистическими единицами, а между коалициями 282. Та роль, которую в современной экономике играют профсоюзы, олигополии и политические организации, подчеркивает важность теории, которая в состоянии описать поведение этих групп.
Коалиция представляется возможной даже в игре двух лиц, при условии что общий выигрыш для обоих участников есть переменная величина. В этом случае игроки могут договориться об общей стратегии в целях увеличения выигрыша. Однако никакая коалиция невозможна, если общий выигрыш постоянен. В игре с тремя и более участниками коалиции возможны даже при постоянной сумме выигрыша. В такой игре может возникнуть весьма сложная ситуация, поскольку участники могут действовать или самостоятельно, или же как члены трех (в игре с тремя участниками) возможных коалиций из двух игроков. Но каков бы ни был окончательный исход, он будет отражать определенные общественные и психологические нормы, а поскольку дело обстоит так, постольку это указывает на степень соответствия понятий теории игр социальной структуре 283. Именно это положение определяет понятие стабильности в игре, так как при существовании нескольких возможных способов распределения выигрыша «решение» достигается тогда, когда не отдается предпочтение ни одному способу, то есть когда возникает набор способов распределения, ни один из которых не доминирует над другими 284. Однако любой способ распределения должен основываться на социально приемлемых нормах, так как если он не отвечает требуемым нормам, то вскоре от него откажутся. В этом смысле анализ Неймана — Моргенштерна имеет под собой прочную основу.
Несмотря на значительную исследовательскую работу, проделанную с того момента, когда теория игр была признана в качестве полезного инструмента социального и экономического анализа, ее ни в коей мере нельзя считать законченной. Помимо игры двух лиц с нулевой суммой и различных вариантов решений и моделей, предложенных для игр с тремя и более участниками, существуют задачи, связанные с такими ситуациями, когда правила игры определены недостаточно четко, а также динамические игры 285. При неполных правилах и в играх против «природы» возникает еще больше неопределенности, чем в описанных играх, ибо здесь приходится выбирать стратегию игры против неизвестного противника г имеющего свою неизвестную стратегию. В определенном смысле эта задача сходна с понятием потенциальной неожиданности, выдвинутым Шэклом 286, или с проблемой, с которой сталкивается фермер при приближении сева. В этом случае максимальная стратегия может оказаться совершенно непригодной, поскольку при рассмотрении возможностей, отличных от тех, которые соответствуют умеренному требованию равновесия, можно достичь значительно большего выигрыша. Следует определить соответствующие вероятности для стратегии «природы» 526
и выбрать ту, которая обеспечит наибольший выигрыш. Однако если вероятности «природы» становятся известными в результате накопленного опыта, как это часто случается, выбор стратегии может и не представлять труда 287. Тем не менее остается проделать значительную работу.
Несмотря на то что теория игр, бесспорно, обогатила систему экономических понятий, ей не удалось избежать критики. Некоторые авторы выражали свое несогласие с ее в значительной мере статической структурой, а другие утверждали, что в ней недостаточно внимания уделено обязательствам, которые отражали бы взаимозависимость или обоюдные уступки 288. Третьи отвергали философию чрезвычайной осторожности, подразумеваемой минимаксной теоремой, утверждая, что вероятность больших потерь способна привести к столь же рациональной форме приспособления, как и поведение, описанное Нейманом и Моргенштерном 289. Но ведь процесс выработки соглашений и обязательств может рассматриваться как новый тип игр. Такого рода маневрирование вполне может стать предметом теории игр 29°. На возражения критиков о том, есть ли смысл «играть на нуль», если можно что-то выиграть, то есть стоит ли играть вообще, последовал ответ, что многие играют против желания. Справедливо, однако, что теория игр призвана более точно истолковать те связи, которые сами по себе изменяют условия игры, а это уже динамическая проблема. С технической точки зрения наиболее слабым местом теории игр является, по-видимому, ее основная предпосылка о том, что может быть составлена шкала полезностей. Как ничто другое, это дает основание взять под сомнение применимость логики теории игр к анализу человеческих противоречий. Но еще более существен исключительный формализм теории] игр, способный сделать ее бесплодной. Существует опасение, что она выродится в математические манипуляции. Теоретики пока еще не сумели придать анализу с использованием этой теории более широкий смысл. Противоречия, как убедительно показал Люис Коузер, на деле выполняют определенные социальные функции, например как средство разрядки напряженности или при определенных условиях даже в качестве связующего элемента в группах. Структурно противоречия должны рассматриваться под углом зрения существующих отношений как внутри групп, так и между ними. Таким образом, важное положение, выдвинутое Коузером, подчеркивает влияние противоречий на структуру группы, а также и на неизбежно возникающие внутренние реакции 291. Однако до сих пор теория игр рассматривала противоречия лишь под углом зрения выигрыша, и она не способна была объяснить движущие глубинные силы, ведущие к возникновению противоречий, образованию коалиций или маневрированию. Ясно, что это и есть та область, в которой для экономиста открываются возможности сотрудничества с представителями других дисциплин. Не может, однако, быть сомнений в том, что теория игр была и останется полезной; ее развитие привлекло внимание всех ученых в области общественных наук, и если некоторые ситуации не вполне поддаются исследованию существую- ющими методами анализа, то должны быть найдены новые, как и предполагали основатели теории игр. Любопытно, смогут ли эти новые методы с большей эффективностью, чем в настоящее время, использовать институциональные факторы.
Яркой иллюстрацией энтузиазма, с которым некоторые экономисты взялись за новые методы исследований, может служить быстрое распространение линейного, или, точнее, математического, программирования и его потомка по прямой линии — исследования операций. Этог по-видимому, является отражением крушения прежних экономических теорий, не способных дать вычислительные методы. Настоятельно необходимо было что-то предпринять, и когда было установлено, что некоторые практические задачи могут быть решены методами линейного программирования, ему было обеспечено место в экономической науке 292. Весьма любопытно, что большинство работавших в этой узко специализированной области были инженерами, математиками и статистиками, а экономисты лишь ставили вопросы 293. Это были действительно важные вопросы, поскольку они касались альтернативных решений в области производства, издержек, в транспортных и тому подобных проблемах. Однако большинство экономистов проявило равнодушие и скептически отнеслось к преимуществам метода программирования. Приверженцы же новых методов сожалели по поводу отсутствия интереса у своих коллег, утверждая, что точное и конкретное применение теоретических понятий, ставшее возможным благодаря программированию, должно привлечь внимание теоретиков-нематематиков 294. Даже если вычисления, вытекающие из метода программирования, иногда быот мимо цели, его широкое использование оказывает существенное влияние на политику фирм и потому требует тщательного изучения.
зу отдельным фирмам. Остается, однако, по- прежнему спорным вопрос, означает ли оно новый подход в экономической науке. Конкретная формулировка метода линейного программирования восходит к работе Дж. Б. Данцига, выполненной по заказу ВВС США во время войны, когда возникла проблема координации действий одной большой организации в таких вопросах, как накопление запасов, производство и содержание оборудования и материальной части, причем имелись альтернативы и ограничения 295. Однако корни проблемы можно обнаружить в работах, относящихся к началу 30-х годов текущего столетия, когда Ганс Нейссер и Генрих фон Штаккельберг исследовали некоторые свойства Вальрасовой системы. Аналогичные проблемы изучались также советским математиком Л. В. Канторовичем, чья работа по вопросам производственного планирования, написанная в 1939 г., недавно была заново открыта 296. Канторович стремился дать метод, позволяющий выбрать из нескольких возможных такой процесс производства, который обеспечивает максимизацию выпуска продукции, а это и есть классическая задача линейного программирования. Далее, в ответ на упреки, брошенные Мизесом и Хайеком в адрес социалистов разного толка, последние высказали идею, что система цен независимо от способа их образования может действовать в качестве критерия, позволяющего осуществлять рациональное распределение ресурсов в централизованной экономике. Это также может интерпретироваться как задача линейного программирования. Для сторонников линейного программирования дополнительным стимулом явились работы в области анализа по схеме затраты — выпуск и теории игр 297.
Формальное решение задачи предполагает наличие математического аппарата, который дал бы возможность максимизировать линейную функцию нескольких переменных при определенных ограничениях. Большинство из рассмотренных до настоящего времени задач имело линейный характер, то есть предполагалось, что между затратами и выпуском продукции существует пропорциональность; это условие экономисты называют постоянной эффективностью затрат. Совсем недавно были сделаны попытки построить нелинейные модели, но необходимость найти числовые ответы для практических целей подчеркивает целесообразность линейных решений 298. Наиболее разительным, однако, является игнорирование при этом методе институциональных элементов .Метод превратился в чисто абстрактный анализ наиболее эффективного и выгодного распределения ресурсов на микроэкономическом уровне. Предполагается, таким образом, что он подходит для капиталистических фирм и социалистической экономики, то есть для любой организации, в которой процесс принятия решений централизован. По-видимому, институциональные факторы должны быть введены впоследствии 299. Необходимые вычисления не могут, конечно, быть выполнены с помощью карандаша и бумаги: даже для отдельной фирмы эту работу должны выполнять электронно-вычислительные машины, но для этого необходимо, чтобы основные свойства программирования стали всеобщим достоянием до того, как оно будет помещено в институциональную оболочку.
Линейное программирование имеет дело главным образом с извечной экономической проблемой — как максимизировать выпуск продукции или минимизировать издержки при использовании ограниченных ресурсов. Линейное программирование представляет собой математическую интерпретацию условий достижения максимума и минимума. Используемый математический аппарат заимствован из теории множеств и теории линейно-векторного пространства 30°. В то время как прежний математический аппарат в экономике базировался на системах уравнений, линейное программирование использует системы неравенств. Разумеется, в экономических задачах числа не должны быть отрицательными. Кроме того, линейное программирование имеет дело не с производственной функцией, как она трактуется в большинстве учебников, а с конечным числом процессов и «способов» («activities»). Если при прежнем подходе внимание сосредоточивалось на изучении зависимости между затратами и выпуском продукции301, то программирование разбивает процесс производства на конкретные детальные операции. Поскольку задача формулируется в зависимости от наличия рабочей силы, конкретного оборудования и технологии, доступных фирме или предприятию, в центр исследования ставится «способ», то есть конкретный метод выполнения определенной задачи 302. При введении линейных ограничений имеющиеся ресурсы рассматриваются не как бесконечный поток, а скорее как факторы, определяющие цель, которую фирма может реально достичь. Согласно утверждениями сторонников этого метода, производственная функция в ее традиционном понимании не может быть определена, пока не решена специфическая задача программирования для конкретной фирмы 303. Иначе говоря, область переменных величин ограничена: предметом анализа могут быть лишь компактные выпуклые множества. Линейное программирование, подобно предельному анализу, определяет цель фирмы под углом зрения 528
зависимости между затратами и выпуском продукции, но при этом преследуется цель создать вычислительную базу для принятия решений о производстве товаров и операциях, для чего предполагается, что последние суть числа конечные, а в аналитических целях — что все они также и однородны 304.
Излюбленным в литературе является пример с автомобильной компанией, пытающейся определить для сборочных заводов объем выпуска легковых и грузовых автомобилей при заданных пределах производительности ее цехов штамповки и производства двигателей. Другими типичными примерами служат составление самого дешевого набора продуктов, содержащего заданное число питательных элементов (эта задача была решена в 1945 г. Джорджем Стиглером без помощи линейного программирования) 305, и производство бензина на нефтеперегонном заводе. Решению методом программирования поддаются также задачи транспортировки стандартизированных товаров с нескольких складов в различные пункты назначения или отправка бумаги с разных заводов различным получателям. Как развитие упомянутых задач, методами линейного программирования исследовались международная торговля и ее относительные преимущества 306. Очевидно, линейное программирование может быть использовано при рассмотрении специальных производственных проблем. На автомобильном заводе, например, задача заключалась в определении такой комбинации выпуска легковых и грузовых автомобилей (при ограничениях, налагаемых мощностью различных цехов), которая максимизировала бы чистый доход. Графически решение может быть представлено следующим образом. Если на оси X отложить выпуск грузовых, а на оси Y — выпуск легковых автомобилей, то перпендикуляры к этим осям обозначат максимальный выпуск каждого типа автомобилей. Затем на график накладываются линии, показывающие максимальные мощности штамповочных цехов и цехов, производящих двигатели. На таком графике отрезками линий, характеризующих максимальные мощности, будет очерчена область возможного производства. Математически такой график представляет собой выпуклую поверхность неотрицательных величин, характеризующих выпуск продукции 307, то есть такую совокупность точек, в которой линии, соединяющие любые две точки, входят в эту совокупность. Если нанести на график линии изоприбыли или чистого дохода, максимальная чистая прибыль будет определяться точкой в области возможного производства, находящейся на самой высокой линии изоприбыли, являющейся своего рода 34 Б. Селигмен
кривой безразличия. Граница выпуклой поверхности может быть названа кривой допустимого производства. Она представляет собой не плавную, а скорее ломаную линию, в вершинах углов которой находятся важные точки. Точка, максимизирующая прибыль, должна быть расположена в вершине угла области допустимого производства 308. Таким образом, главными в этом методе являются ограничительные условия. Точка максимального дохода не определяется, как обычно, касательной; в данном случае касание вообще маловероятно, поскольку точка максимального дохода находится в вершине угла области выпуклой поверхности, где линия цены, или кривая безразличия, снижается более круто, чем граница области допустимого производства влево от критической точки, и менее круто, чем эта граница вправо от критической точки.
Как указано выше, предпосылка о линейности равнозначна предпосылке о постоянной эффективности затрат, или строгой пропорциональности между затратами и выпуском продукции. При этом утверждали, что такое допущение подтверждается опытом и по меньшей мере может служить критерием для оценки соответствующей деятельности, или процесса 309. Другой важной аксиомой линейного программирования является то, что оптимальное решение может быть найдено в том случае, если число неравенств с положительными величинами не превышает число ограничений. Иначе говоря, возможная оптимальная программа может быть определена, если число процессов, находящихся на ненулевом уровне, равно числу ограничений. Далее, процессы, включенные в программу, должны быть более выгодными, чем исключенные из программы процессы. Эти положения указали на возможность применения метода последовательных приближений, или итерации, как в симплекс-методе, предложенном Данцигом; они имели важное значение при разработке некоторых методов решения310. Симплекс — это простейший выпуклый многогранник данного числа измерений: метод заключается в итеративном рассмотрении точек, соседних с вершиной угла излома линии. Метод использует последовательный анализ предполагаемой совокупности допустимых процессов путем введения небольших изменений в целях достижения возможно меньшего числа процессов, характеризующихся положительной величиной. Каждый такой шаг требует пересчета, а окончательная точка достигается тогда, когда уже невозможен ни один «оправданный» процесс311. Объем подобных вычислений поистине огромен и, как заметил Данциг, он потребует больших электронно-вычислительных машин 312.
529
В линейном программировании каждой задаче нахождения максимума соответствует «двойственная» задача нахождения минимума. Максимальное производство должно осуществляться при минимальных издержках, что требует количественной оценки производимых затрат. «Двойственный» характер задачи определяет в известном смысле размер необходимых затрат. Максимизируемая переменная, скажем прибыль, подвержена ряду ограничений, ей соответствуют переменные, характеризующие минимальные издержки, причем требуется распределение всех ресурсов. Следовательно, в линейном программировании использование ресурсов является одним из аспектов проблемы ценообразования и решение одной задачи является в то же время и решением другой 313. Технически если задача программирования решена, эта «двойственность» превращается в систему линейных уравнений. По словам Купманса, каждый оптимальный процесс имеет по крайней мере одну систему цен, совместимую с соответствующей технологией314. «Двойственность» указывает «вмененные цены, минимизирующие совокупную вмененную стоимость доступных первичных товаров... при том ограничении, что ни один из технологических процессов не будет выгодным» 315.
По существу, линейное программирование реабилитировало теорию экономического равновесия в условиях конкуренции. Очевидно далее, что оно стало полезным орудием в управлении предприятиями, например, в нефтяной промышленности, что же касается экономической теории, программирование не внесло, пожалуй, ничего нового, если не считать уяснения общих представлений. Тот, кто утверждает, что метод программирования есть аналог экономики в целом, совершает ошибку перенесения на целое свойств его части. По-видимому, теоретики забыли об ограничениях, налагаемых общественными институтами, и до настоящего времени развитие нелинейного программирования не привело к выработке теорем, которые были бы полезны для руководства всей экономикой. Для политической экономии теоретические выводы пока непригодны.
Иллюстрацией этого недостатка теории может служить применение линейного программирования в экономической теории благосостояния 316. Использование этого метода в данном случае определенно основано на том, что понятие
эффективности играет главную роль как в теории благосостояния, так и в математическом программировании. Решения методом математического программирования дают точки эффективности, так что соответствующие им конкурентные цены на товары и факторы производства действительно окажутся эффективными 317. Это указывает на связь между теорией конкуренции и линейным программированием. Программирование является лишь совокупностью вычислительных приемов для определения точек эффективности; такова же и цель свободного рынка318. Более того, утверждают, что при использовании метода программирования нет необходимости проводить различие между отдельными фирмами, поскольку при условии постоянных издержек для каждой фирмы задача остается действительной для экономики в целом. Однако, как и в прежней теории, это положение нереально и также уязвимо. G появлением динамических элементов и факторов монополий возникли новые проблемы и сомнения. Использование линейного программирования сопровождалось большим числом оговорок. Достаточно указать на один пример: процессы, на которые оказывала влияние убывающая эффективность, описывались совершенно неудовлетворительно. Возрастающая эффективность также может свести на нет линейное решение, если оно рекомендует процесс менее интенсивный, чем того желали 319.
Что касается существа экономической теории, то при тщательном рассмотрении в линейном программировании трудно найти что-либо принципиально новое. Его теоремы дали новые, более изящные доказательства положений общепризнанной экономической теории, однако, как заметил Баумоль, изменения касались не существа, а методологии320. Более того, первоначально упор был сделан на разработку рекомендаций, облегчающих поиски новых решений. Лишь когда вся экономика рассматривается как одна фирма, как в условиях социалистической системы, линейное программирование действительно создает большие возможности для достижения социального равновесия между производством, технологией и ценами. Но в этом случае метод линейного программирования должен быть в значительной степени усовершенствован по сравнению с настоящим уровнем, чтобы соответствовать бесконечно усложняющимся условиям в обществе 321.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каким же, следовательно, предстает человек во всех этих совершенно различных экономических теориях? Очевидно, что упрощенное представление о «homo oeconomicus» больше не является полезной концепцией. В современном сложном цивилизованном обществе человек не считается ни настолько разумным, ни настолько корыстным, как представляли себе классики, а также и не молниеносным счетчиком, подобно бильярдному игроку у Милтона Фридмана. Способность предвидеть определенный образ действия, исходя из идеальной схемы поведе- дения, чрезвычайно ограничена, поскольку человек остается человеком и он весьма часто путает самые изящные математические формулы. Тем не менее, несмотря на жесткие ограничения сферы деятельности, поиски «идеальных типов» в экономической теории продолжали расширяться.
Так, в новейших теориях мы находим человека, придерживающегося минимаксной стратегии, моделирующего человека, человека, уповающего на счастливый случай, человека последовательных решений, человека, стремящегося к удовлетворению своих желаний, и человека, способного на героизм. Время от времени теория пытается также воскресить эгоцентричного и жадного хозяйствующего субъекта. С человеком, придерживающимся минимаксной стратегии, мы уже встречались; это человек беспокойный, но не чрезмерно агрессивный, он предпочитает безопасный и разумный путь, в точности как какой-нибудь управляющий корпорацией средней руки1. Моделирующий человек совершенно не знает, как ему поступить, и для принятия решения он ищет помощи у электронно-вычислительной машины 2. Человек последовательных решений, столь же нерешительный и осторожный, тщательно взвешивает каждый свой шаг, пока не воспользуется чьей-либо грубой ошибкой. Человек, уповающий на случай, готов поставить на карту все в надежде за один раз сорвать большой куш. Человек, стремящийся к удовлетворению своих желаний, совершенно не заинтересован в оптимальном образе действий; он стремится лишь к приятным результатам и в определенном смысле является троюродным братом человека, придерживающегося минимаксной стратегии 3. Наиболее колоритной фигурой является герой Боулдинга, в этике которого нашли выражение те внеэкономические побуждения, которые только и придают смысл существованию. Подобно новатору Шумпетера, он и нарушает равновесие и создает динамические импульсы, толкающие общество на новые смелые предприятия4.
Каждая из приведенных выше характеристик сама по себе нереальна, однако, вместе взятые, они в какой-то степени характеризуют природу человека. Ибо, будучи отражением сложности обстановки, окружающей человека, последний воплощает в себе как указанные выше черты, так и некоторые другие. В постоянно изменяющемся и развивающемся обществе ни однц 34* 531
фирма или семья, ни один капиталист или рабочий не похожи на то, чем они были двадцать лет тому назад. Человек мог быть ранее смелым новатором, а ныне он управляющий, для которого устав организации представляет собой категорический императив. Однако в своем стремлении быть по возможности «научными» экономисты игнорируют коренной принцип сложности бытия. Превратив экономическую теорию в науку в себе, они забыли, что это социальная наука, что экономист должен быть философом, психологом, антропологом, историком, географом, правоведом, так же как и математиком5.
Экономическая наука, можно сказать, является единственным средством изучения всего комплекса социального поведения. В этом смысле она — ветвь общей теории социальных систем6. Экономическая наука стала средством исследования специфических экономических процессов и вытекающих из них форм человеческого поведения. Обычно внимание сосредоточивается на сферах производства и обращения. Но товары и услуги — это не только предметы и действия; они существенным образом связаны с людьми, которые ими управляют или которые находятся под их воздействием. И что самое главное, отношения, которые складываются при этом между людьми, суть также экономические отношения7. Лишь при таком подходе экономисты могут избежать товарного фетишизма, у которого они находились в плену почти в течение столетия. Лишь приняв во внимание те явления, которые в настоящее время считаются чисто социологическими, и вводя их в модели в качестве основных данных, экономисты отразят не только цели, преследуемые людьми, но и способы адаптации к изменяющимся условиям и тенденцию к гомеостазу. Разумно предположить, что в этом случае модели смогут дать такие уравнения поведения, которые легче поддаются решению. Поверхности полезности и теоремы благосостояния не будут тогда базироваться на изолированных предпочтениях, так как будет признано, что аналитические понятия вытекают из общественного опыта. Не будет также никаких оснований говорить о правомерности и независимости индивидуального желания индивидуальной потребительской еди- цы — абстракции настолько же бескровной, как и бескровная фирма Боулдинга.
Утверждение о том, что такая суровая критика современной экономической мысли свидетельствует о неправильном понимании самой цели построения моделей, лишь говорит об отказе экономиста от исследования социальных проблем. Покупка и продажа не есть только движение товаров и денег в противоположных направлениях, но также и характеристика взаимоотношений между людьми, которые могут затрагивать интересы классов и групп, как это имеет место в отношении рабочей силы. В последние годы экономисты отказываются заниматься экономической теорией таких взаимоотношений, оставляя ее социологам, социальным психологам и экспертам по трудовым отношениям. В результате экономисты, как и все, кто придерживается подхода «вообще», мало что смогли сказать по действительно важным вопросам 8. Все это является повторением того, что произошло в области демографии, которую экономисты оставили статистикам и социологам. Однако те немногие экономисты, которые не пренебрегали демографическими проблемами, как, например, Джозеф Дж. Шпенглер, внесли существенный вклад в науку. Надо полагать, что экономистам есть что сказать по поводу важных социальных проблем. Они имеют дело с предметом, который не так уж трудно определить, и унаследовали аналитические методы, которые могут быть отточены путем расширения, а не сужения области исследований.
Кто-то однажды заметил, что экономисты — это «чудаки, которые накладывают финансовые пластыри на язвы политического тела. Они даже не догадываются, что у нации может быть душевное заболевание». На это обычно отвечают, что экономисты называют как цели, так и средства для их достижения — уверенность в будущем, справедливость, благосостояние, свободу, экономический рост. И это действительно так, однако понятный лишь посвященным и созданный с таким непревзойденным мастерством и тщательностью анализ редко вдохновляется этими целями. Лишь в редких случаях экономисты называют конечные цели социального поведения; когда же это и делают, то формулировки настолько неопределенны, что за ними может вполне скрываться вредная идеология. К большому сожалению, экономическая теория испытывает трудности при истолковании таких злободневных проблем, как влияние урбанизации, бегство в пригороды, бессмысленность труда и стремление работать в фирмах с лучшим пенсионным обеспечением. Эти проблемы, насыщенные экономическим содержанием, должны быть переданы социологам и таким способным авторам и критикам современного общества, как Гарви Свадос, Дэниел Белл, Ричард Чейз, Пол Гудмен и Уильям Уайт-младший. Было бы, очевидно, правильным предложить, что-бы экономическая наука, если ей суждено сохранить значение как науки об обществе, восстановила дипломатические отношения с другими социальными и гуманитарными науками.
532
Экономическая теория исследует часть большого комплекса социальных проблем, и в то же время многие ее элементы переплетаются с элементами других частей этого комплекса. Если исходить из такого понимания, то следует отвергнуть точку зрения, согласно которой основными мотивами экономического поведения являются рациональность и эгоизм. Верно, эти черты присущи значительной части населения как в виде сокровенных побуждений, так и воплощенные в определенных институтах, но они не столь универсальны, чтобы экономисты могли считать их единственными экономическими факторами. Другие мотивы могут быть столь же полезны. Поскольку экономическое поведение реализуется во внеэкономическом окружении, то именно это последнее представляет собой параметр всех человеческих поступков9.
Например, важность и имманентное значение экономической теории можно плодотворно рассматривать лишь в ее связи с хозяйственной политикой10. Это обусловило интерес к определенному свойству политической экономии, которое присуще развитию экономических доктрин. Можно утверждать, что при осуществлении социальных реформ и в периоды кризисов экономическая мысль выдвигает свои суждения за и против. В этих условиях буквальный смысл и практическая применимость теоретических положений приобретают первостепенное значение по сравнению с логической обоснованностью и аналитическим изяществом. Более того, если экономическая теория признается наукой о явлениях, уходящих корнями в условия человеческого существования, то ее следует проверять на реальных событиях. Безусловно, связь между теорией и опытом не может быть простой, поскольку экономические явления пробивают себе дорогу сквозь лабиринты политики и социальных потрясений. Проблема соответствия, с которой неизбежно сталкивается экономист,— это то, что делает теорию средством познания действительности. Если такое познание невозможно, то теория не может выполнить свою первейшую функцию, а именно направлять эмпирические исследования. Трудно безоговорочно согласиться с замечанием Кейнса о том, что теория является методом, а не доктриной, ибо невозможно отрицать, что большинство «методов», как их понимет Кейнс, содержат нормативные положения, а следовательно, и доктринерские черты. Безусловно, теоретик стремится создать такую методику анализа, которая выглядела бы только как поиск средства, однако сомнительно, что при этом он может совершенно отрешиться от поставленных целей. Так переплетаются доктрина и метод. Отделить чистую теорию от нормативных положений трудно, конечно, даже если это методологически целесообразно. Это свидетельствует о том, что разработать «научную» экономическую теорию, независимую от оценочных суждений, практически невозможно. Там, где начинается экономическое исследование и упорядочение фактов, неизбежно возникает система ценнос- стей. В самом деле, вся теория конкурентной экономики, какой бы любопытной она ни была, превратилась в не что иное, как оценочное суждение.
Можно поставить вопрос: какова польза от всех этих сложных экономических моделей? Предполагается, что они создают возможности для предвидения и определения путей экономического развития. Современные авторы, ссылаясь на модели Маркса и Шумпетера, часто заявляют, что их предсказательная способность весьма ограниченна *. Однако, как показали послевоенные попытки предвидеть рост национального дохода, у теперешних создателей моделей дела обстоят не лучше. Очевидно, что допущения, на которых основаны эти модели, и постулируемые ими отношения неточны: изрядная неопределенность, царящая в мире, делает предсказания рискованным занятием. Многие современные модели представляют собой, по существу, механистические построения, использующие чрезвычайно ограниченные посылки и выдвигающие еще меньшее количество операционных понятий. Считается, что разработанные принципы будут пригодны для всех случаев жизни, а это не соответствует действительности11. Одна из трудностей проистекает из допущения однородности факторов. В качестве предварительного аналитического приема с таким допущением, по-видимому, можно мириться как с неизбежным злом. Но как только труд и капитал начинают трактоваться как однородные единицы, исследователь часто забывает свою собственную оговорку и продолжает экономический анализ только под этим углом зрения. Иногда смешивают таксономию с анализом, как это имело место в недавних исследованиях экономического роста12. Другие утверждают, что внутренняя последовательность модели и есть доказательство ее пригодности для аналитических целей. Теоретики все больше ограничиваются рассмотрением выводов из ряда предпосылок и возвращаются к первоначальным результатам. Верификация * Успехи научного планирования народного хозяйства в СССР и других социалистических странах, основанного на марксистском экономическом учении, являются наиболее убедительным подтверждением его предсказательной силы. В еще более широком плане следует подчеркнуть, что правильность теории Маркса доказана историей последнего полувека. —Прим. ред.
533
стала второстепенным делом, а для некоторых авторов она совершенно потеряла смысл. К созданию теории, которая отвечала бы запросам практики, никто не стремился. Как это ни странно, но такое положение пытались оправдать ссылками на то, что произошло в физике. Видимо, те теоретики, которые занимались лишь «решением задач», считали вопросы экономической политики лишь делом вкуса. Однако в сфере принятия решений, будь то на микро- или макроэкономическом уровнях, теория должна, безусловно, представлять собой нечто большее, чем простую «последовательность моделей»13.
При нынешнем положении экономика (economics) не является наукой,когда она—экономика, и не является экономикой, если она — наука14. В описательной своей части она может считаться ветвью истории, а как система анализа — отраслью математики. В лучшем случае экономика, как подчеркивает Джон А. Гобсон, есть искусство, весьма сходное с медицинской практикой; весьма интересным и полезным образом она использует методику, заимствованную из других областей человеческих знаний, но она не имеет своих собственных четких принципов, которые позволили бы считать ее наукой, способной предсказывать ход событий, как, допустим, астрономия. Экономист может твердо верить в предсказательную силу своей модели фирмы, но он оказывается в крайне затруднительном положении, когда пытается внушить весьма практичному предпринимателю образ поведения в соответствии с указаниями теории. Потерпев неудачу, экономист утешает себя фикцией, будто его теория действительно обоснована, поскольку для теории необходимо лишь то, чтобы предприниматель поступал как маржиналист. Это слабое утешение, так как обществу крайне необходимо осмыслить политику корпораций, профсоюзов, торговых палат и правительственных органов регулирования. Как утверждает Бродус Митчелл, при разработке моделей недостаточно учитывается сущность коллективизма15. К тому же, в отличие от того, что считают некоторые авторы, коллективизм скорее возникает в атмосфере противоречий, нежели гармонии.
Экономика в состоянии выполнить свою практическую миссию и внести ясность в спорные вопросы и проблемы. Согласно замечательным традициям экономической мысли — от Смита до Рикардо и от Маркса до Кейнса,— великие экономисты всегда откликались на проблемы, беспокоившие человеческий ум. В настоящее время многие теоретики, очарованные методами анализа, которые они создают и перекраивают, описывают эти проблемы совершенно непонятным языком, языком символов и формул, результаты которых мало что добавляют к тому, что может сказать «литературный» экономист. Построение моделей считается методом выдвижения гипотез, относящихся к той или иной проблеме. В этом смысле как «литературный», так и манипулирующий символами экономист выполняют по-своему одну и ту же работу. Но как только становится ясной логика гипотезы и выводы из нее, возникает необходимость опытной проверки. Без этого шага работа не может считаться законченной, а теория остается бесплодной. Математика может оказать помощь в четкой постановке проблемы, но она не делает лучшим экономистом того, кто ее использует. Необходимо еще обладать проницательностью, ясным умом и мудростью, чтобы проникнуть в существо проблемы. Умение манипулировать символами не означает повышение квалификации экономиста как экономиста. Тем не менее математический аппарат принят на вооружение, и его ничем нельзя заменить, даже если кто-либо и захотел бы сделать это. Но его применение следует поставить на более твердую основу, чем та, которая имеется в настоящее время16. Помимо того, было бы полезно, если бы математики из числа экономистов прекратили писать только для себя и предложили словесные формулировки, над которыми все могли бы поразмыслить. Это также обогатило бы и «литературных» экономистов, и, что более важно, это помогло бы всем теоретикам сосредоточить внимание на действительно неотложных вопросах, а не на таких пустяках, как цена чашки чаю.
Какой бы метод ни использовался для исследований — вербальный, математический, статистический, исторический или эконометрический,— главным вопросом является выбор проблемы. Однако знаем ли мы, какие следует ставить вопросы? Серьезная теория должна обращаться к значительным вопросам. В этом отношении идеи институционалистов все еще могут представлять интерес. Сосредоточив внимание на экономических взаимоотношениях в их социальных аспектах, институционалисты поставили под сомнение априорные методы и абстракции, авторы которых обещали дать модели действительности, но так и не сделали этого. Институционализм в самом широком смысле слова стремится найти объяснения экономических явлений таким путем, который непосредственно недоступен для создателя чистых моделей. Несмотря на то что институционализму недостает тонкости и точности, характерных для современных аналитических построений, а также вопреки его тенденции превратиться в своего рода прикладную экономию, институционалист в состоянии поста534
вить такие вопросы, которые редко приходят на ум тем, кто имеет дело исключительно с упорядоченными предпочтениями и кривыми безразличия.
Лишь немногие из современных теоретиков исследуют вопросы экономической политики. Интересно, что большинство из них — европейцы. В США редко появляются работы, которые можно было бы сравнить с исследованиями шведских экономистов или Яна Тинбергена в Голландии17. Возможно, это является следствием того, что европейские экономисты были в большей степени вовлечены в государственное экономическое планирование, чем в США. Это показывает, что сочетание теории с практикой не есть нечто невозможное. Замечательной чертой работ Тинбергена является попытка пролить свет на общественные институты и экономическую политику с помощью известных величин в уравнениях. Эти величины включают физические и психологические характеристики, а также действия институтов, которые могут быть выражены либо количественно, либо качественно. И хотя можно оспаривать то, как Тинберген использует понятие социальной полезности или функцию благосостояния, основанную на концепции равенства, все это придает его модели такую завершенность, которой нет в моделях других авторов.
Тинберген, например, делает два важных вывода относительно «оптимального режима»: он не только различен для разных условий, но и не представляет собой экстремального режима. Иными словами, он включает в себя и частный и общественный секторы и не является ни полностью централизованным, ни полностью децентрализованным. На примере Тинбергена видно, что внешне бесстрастная аналитическая модель может быть наполнена политическим и социальным смыслом. В общем же в результате того, что многие современные исследователи сосредоточили внимание на формальной стороне анализа, так мало появляется руководящих идей для определения экономической политики. В этой ненормальной ситуации есть одно слабое утешение — часто во времена кризисов появляются теории, пригодные для практического использования. Но должны ли мы ждать этого?
Примечания
Глава I
ПРОТЕСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
1 См. Н. Stuart Hughes, Consciousness and Society, New York, 1958.
2 W. C. Mitchell, Lectures on Current Types of Economic Theory, New York, 1935, II, p. 540 (на мимеографе).
3 См. Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, New York,
1941.
4 Cm. Crane Brinton, Ideas and Men, New York 1950, pp. 423ff.
6 Резкая критика таких представлений содержится в книге: Karl Popper, The Poverty of Historicism, Boston, 1957.
e Cm. G. P. G о о c h, History and Historians in the Nineteenth Century, 2nd ed., London, 1952, pp. 72ff.
7 Cm. R. G. Collingwood, The Idea of History, New York, 1946, p. 173,и Hughes, op. cit.,p. 195.
8 Cm. Hughes, ibid., p. 199.
9 Cm. Joseph A. Schumpeter, Economic Doctrine and Method, 1912, перевод: London, 1954, p. 161.
10 Cm. Walter S. Buckingham, Jr., Theoretical Economic Systems, New York, 1958, p. 67.
11 Mitchell, op. cit., p. 543.
12 «Schmoller’s Jahrbuch», 1883, «Zur Methodologie der Staats und Sozialwissenschaften», S. 978.
13 См. ниже, стр. 159.
14 См. также «On the History of German Small Industry in the Nineteenth Century», Halle, 1870, и «Social and Industrial History», Leipzig, 1890.
15 Cm. Walter Abraham andi Herbert W e i s g a s t, The Economics of Gustav Schmoller, New York, 1942 (на мимеографе). В этой работе изложено основное содержание первых разделов книги «Grundriss...».
16 См. ниже, стр. 56 и след.
17 М i t с h е 1 1, op. cit., р. 549.
18 Для первоначального знакомства с теорией Шмоллера хорошо использовать книгу: Carl Brinkmann, Gustav Schmoller und die Volkswirtshaft- slehre, Stuttgart, 1937. Полезным введением в теорию Шмоллера может служить также общий очерк «The Historical Development of the Enterprise» в «Enterprise and Secular Change: Readings in Economic History», F. C. Lane and J. C. Riemersma, eds, Homewood, 1953, pp. 3ff.
19 В третьей и четвертой книге: А. С м и т, Исследование о природе и причинах богатства народов, М., Соц- экгиз, 1962, приводится знаменитый анализ вопроса о росте городов и возникновении меркантилистской системы; с этим анализом Шмоллер был хорошо знаком.
20 См. Р. Джонс, Опыт о распределении богатства и об источниках налогов, в книге: «Экономические сочинения», Л., 1937, стр. 3—206. Джонс, занявший место Мальтуса в Xэйлсбери, подобно немецким экономистам, отвергал дедуктивную логику Рикардо. Он выступал в защиту кропотливых исследований; они позволяют прийти к таким обобщениям, которые можно использовать для характеристики экономической системы.
21 См. книгу Шмоллера «Uber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft», Jena, 1875.
22 Ф. А. Хайек в своей работе «Counterrevolution- of Science», Chicago, 1952, стр. 198 и след., высказывает предположение, что Шмоллер находился под влиянием Конта. Это не соответствует действительности. См., например, Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 812.
536
23 Веблен критикует Шмоллера за то, что, превознося квалифицированных рабочих, он в то же время обрушивался на социалистов; Веблен отмечает, что в те дни преобладающая часть квалифицированных рабочих являлась социалистами. См. Т. V е b 1 е п, Gustav Schmoller’s Economics, в книге «The Place of Science in Modern Civilization», New York, 1919, pp. 273—276.
24 Torsten Gardlung, The Life of Knut Wicksell, Stockholm, 1958, p. 108.
25 «Socialism and Social Movements», London, 1909; Friedrich Engels, Berlin, 1895; Life Work of Karl Marx, Jena, 1909.
26 Cm. Leo Rogin, Werner Sombart and the Uses of Transcendentalism, American Economic Review, September, 1941, p. 494.
27 Вот некоторые из основных работ Зомбарта: «Буржуа», М., 1924 (переведена на английский язык под названием «The Quintessence of Capitalism», London, 1915); Современный капитализм, Л., 1924—1929; «Handler und Helden», Munich, 1915; История экономического развития Германии в XIX в., Спб., 1911; Die «Drei National Okonomien», Munich, 1930. Остальные работы упоминаются ниже.
28 См. предисловие Б. Ф. Хоузелитца к книге: W. S о- m b а г t, The Jews and Modern Capitalism, перевод: 1913, переиздание: New York, 1951, p. XX. См. также M. J. P 1 о t n i k, Werner Sombart and His Type of Economics, New York, 1937.
29 H о s e 1 i t z, op. cit., p. XVII.
80 Cm. Frederick L. Nussbaum, Economic Institutions of Modern Europe, New York, 1933.
31 W. S om b a r t, Capitalism, в «The Encyclopaedia of the Social Sciences», New York, 1930, III, p. 196.
32 В. Зомбарт, Современный капитализм.
38 «Encyclopaedia of the Social Sciences». Ill, p. 200.
34 Ibid., p. 201.
35 Ibid., p. 202.
36 Историю капитализма Зомбарт подразделял па три периода — на раннюю, высшую и современную стадии капитализма. В книге «Современный капитализм» он относит первый период к XIII — середине XIX в. В свою высшую стадию капитализм в Англии вступил в XVIII в., и она продолжалась вплоть до 1914 г. Интересный анализ этого аспекта зом- бартовской теории содержится в книге: Abram Harris, Economics and Social Reform, New York, 1958, pp. 276ff.
37 В. Зомбарт, Евреи и хозяйственная жизнь, Спб., 1912.
38 Там же.
39 Miriam Beard, History of the Business Man, New York, 1938, pp. 118ff.
40 См. M. F. Ashley-Montagu, Race Theory in the Light of Modern Science в «The Jewish People: Past and Present», Vol. I.
41 Cm. Salo W. Baron, Modern Capitalism and Jewish Fate, Menorah Journal, Summer, 1942; Max Weber, General Economic History, переиздание: New York, 1950, p. 358 (русский перевод: «История хозяйства», П., 1923), многочисленные ссылки приводятся в книге: Amintore Fan- fa n i, Catholicism, Protestantism and Capitalism, New York, 1935, p. 16.
42 Cm. Bede Jarett, Social Theories of the Middle Ages, Westminster, 1942.
43 Cp. Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, New York, 1947, pp. 9ff.
44 Rogin, op. cit., p. 502.
45 «Deutscher Sozialismus», Charlottenburg, 1934; на английский язык переведено под названием «А New Social Philosophy», Princeton, 1937.
46 См. Karl Mannheim, Conservative Thought в «Essays on Sociology and Social Psychology», New York, 1953, pp. 80, 82.
47 Вот некоторые из основных работ Вебера: «Аграрная история древнего мира», М., 1925; «Protestant Ethic and Spirit of Capitalism», 1904, перепечатано: New York, 1958. В этой знаменитой работе Вебер доказывал, что Реформация породила такое мировоззрение, которое влекло за собой развитие капиталистического духа и возникновение самого капитализма. Этот тезис Вебер пытался подкрепить с помощью ряда блестящих исследований по социологии религии. См. также «Ancient Judaism», 1917, перевод: New York, 1952; «История хозяйства», образующая третью часть «Grundriss der Sozialoko- nomik»— большого труда, выходившего под редакцией Вебера; в этой же серии была издана также работа Визера «Social Economy». Многие разделы работы Вебера «Economy and Society» переведены в книгах: Н. G е г t h and С. Wright Mills, From Max Weber, New York, 1946, и «Theory of Social and Economic Organization», Talcott Parsons, ed. and translator, New York, 1947. Введением в теорию Вебера может служить содержательная, хотя и несколько скучноватая книга: Reinhardt Веп- d i х, Max, Weber, An Intellectual Portrait, New York, 1960.
48 Болезнь Вебера, бесспорно, вызывалась плохими отношениями, сложившимися между ним и его родителями. Первое серьезное ухудшение здоровья наступило через несколько недель после резкой размолвки с отцом. Ср. Hughes, op. cit., р. 296, и G е г t h and Mills, op. cit., p. 29.
49 G e r t h and Mills, p. 17.
60 Впервые опубликовано в форме статьи «Roscher und Knies und die Logischen Probleme der Historischen National ok on omie» в «Schmoller’s Jahrbuch», 1903— 1906.
51 P a r s о n s, op. cit., p. 11.
52 Cm. Raymond Aron, German Sociology, London, 1957, pp. 101 ff.
53 Cp. Weber, The Methodology of the Social Sciences, New York, 1949. В этой книге собраны очерки Вебера о нейтральности (с этической точки зрения) и объективности общественных наук — все соображения, представляющие важный вклад в разработку общей методологии общественных наук.
64 G е г t h and Mills, op. cit., p. 47.
65 H u g h e s, op. cit., p. 317.
66 Cm. Parsons, op. cit., pp. 158ff.
57 См. ниже, стр. 528.
68 См. P a r s о n s, op. cit., pp. 254ff.
69 Ibid., pp. 275ff.
60 Ibid., pp. 319ff.
61 Cm. G e r t h and Mills, op. cit., p. 302.
537
62 «Protestant Ethic», pp. 95ff. Ср. также J. Bronow- s k i and J. M a z 1 i s h, The Western Intellectual Tradition, New York, 1960, pp. 96—97.
63 G e r t h and Mills, op. cit., p. 63.
64 Cm. William H. W h у t e, Jr., The Organization
Man, New York, 1956. Эта книга представляет собой весьма содержательное исследование влияния бюрократизации на современного человека.
65 См. G е г t h and Mills, op. cit., pp. 295ff.
06 См. M. Вебер, История хозяйства, стр. 224.
67 Там же, стр. 228—229.
68 Ср. R. Н. Т a w п е у, Religion and the Rise of Capitalism, New York, 1926, pp. 79ff. и особенно стр. 90— 91. Комментируя лютеровскую теорию общества, Тони отмечает, что она отвечала средневековой идеологии даже в большей степени, чем сочли бы необходимым сами средневековые философы, потому что теория Лютера третировала как язычество развитие коммерческих отношений, происходившее на протяжении предшествовавших двух столетий.
69 См. Beard, op. cit., р. 348.
70 Ibid., р. 350.
71 См. его книгу «Aspects of the Rise of Economic Individualism», Cambridge, 1935. См. также предисловие P. X. Тони к книге «Protestant Ethic», p. 7.
72 Вот некоторые из его основных произведений: Профессиональные организации рабочих, Спб., 1903; «Economic Man in History», Leipzig, 1923; История развития народного хозяйства Англии, М., Госполитиздат, 1930; «Development of Value Theory», Munich, 1908; «Origin of Modern Capitalism», Jena, 1916.
73 Возникновение народного хозяйства, П., 1923.
74 Там же, стр. 141 и след.
76 См. John R. Commons et al., History of Labor in the United States, New York, 1918, 1, pp. 26ff.
76 Г. Кнапп, Очерки государственной теории денег, Одесса, 1913.
77 Людвиг фон Мизес подверг резкой критике теорию Кнаппа. См. книгу Мизеса «Theory of Money and Credit», 1912, перевод: London, 1934, pp. 463ff.
78 Значительная часть его работы —«Krisen», впервые опубликованной в «Handworterbuch der Staatswissen- shaften», 1923, была перепечатана под заголовком «Business Cvcles» в International Economic Papers, № 3, London, 1953, pp. 76ff.
79 Ibid., p. 76.
80 Spiethoff, The Historical Character of Economic Theories, Journal of Economic History, Spring, 1952, p. 132; ср. также его статью; «Die Allgemeine Volks- wirtschaftslehre als Geschichtliche Theorie» в «Schmol- lers’s Jahrbuch», 1932, p. 891.
81 Cm. Leo Rogin, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956, pp. 1 и след. Именно в этом и заключается мысль Рогина, излагаемая в его интересной и содержательной работе. См. также мой обзор книги Рогина, опубликованный в New Leader, Oct. 8, 1956.
82 См. его обзорную статью «Риге Theory and Economic Gestalt Theory» в «Enterprise and Secular Change».
83 См. ниже, стр. 383.
84 Spiethoff, Crisis Theory of M. V. Tugan-Bara- novsky and L. Pohle в Schmoiler’s Jahrbuch, 1903.
85 «Business Cysles», International Economic Papers, ibid., pp. 80—81.
86 Ibid., p. 101.
87 Ibid., p. 147.
88 Ibid., p. 148.
89 Ibid., p. 153.
90 Cm. William Baumol, Economic Dynamics, New York, 1951, p. 108; P. Аллен, Математическая экономия, M., ИЛ, 1963, стр. 21 и след.
91 S р i е t h о f f, op. cit., 158.
92 «Overproduction», «Encyclopaedia of the Social Sciences», II, p. 513.
93 International Ecomomic Papers, op. cit., p. 171.
94 Его данные были использованы Полем X. Дугла- сохм в книге «The Theory of Wages», 1934, переиздание: New York, 1957.
96 См. F. Simiand, Le Salaire: revolution sociale et la monnaie, Paris, 1932.
90 Д ж. И н г p э м, История политической экономии, M., 1897.
97 А. Т о й н б и, Промышленный переворот в Англии, М., 1924.
98 Там же, стр. 10.
99 Там же, стр. 14.
100 William Cunningham, The Growth of English Industry and Commerce in Modem Times, Cambridge, 1882.
101 См. краткие некрологи, опубликованные Г. С. Фок- суэллом и Л. Ноулсом в Economic Journal, September, 1919, pp. 382ff., 390ff.
102 C u n n i g h a m, op. cit., pp. 680ff.
103 C u n n i g h a m, Politics and Economics, London, 1885, p. 238.
104 См. B. S emm el, Imperialism and Social Reform, Cambridge, 1960, pp. 188ff.
106 У. Э ш л и, Экономическая история Англии в связи
с экономической теорией, М., 1897.
100 Биографические данные можно найти в книге: Anne Ashley, William James Ashley: A Life, London, 1932.
107 S emm el, op. cit., p. 206.
108 R. H. T a w n e y, Religion and the Rise of Capitalism, New York, 1926.
109 «Equality», London; 1931, «The Acquisitive Society», New York, 1920.
110 Bede Jarrett, op. cit., и Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, p. 17.
111 Tawney, ibid., pp. 84—85.
112 Ibid., p. 101.
113 Ibid., pp. 110—111.
114 Ibid., p. 118.
116 Ibid., p. 180.
110 Ibid., p. 230.
117 Ibid., p. 253.
118 R. W i 11 i a m s, Culture and Society, New York, 1958, p. 219.
538
Глава II
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ДУХ НЕСОГЛАСИЯ
1 William Jaffe, Les theories economiques et sociales de Thorstein Veblen, Paris, 1924, J o- seph Dorfman, Thorstein Veblen and His America, New York, 1934; David Riesman, Thorstein Veblen, A Critical Interperation, New York, 1952; Lev E. Dobriansky, Veblenism, a New Critique, Washington, 1957. Ср. также Bernard Rosenberg, The Values of Veblen, Washington, 1956. Другие полезные работы: S. M. D a u g e г t, The Philosophy of Thorstein Veblen, New York, 1950; Louis Schneider, Freudian Philosophy and Veblen’s Social Theory, New York, 1948; «Thorstein Veblen, a Critical Reappraisal», Douglas F. Dowd, ed., Ithaca, 1958. Хорошие, более сжатые очерки можно найти в книгах: Alfred Kazin, On Native Grounds, New York, 1942; David Aaron, Men of Good Hope, New York, 1951; Morton White, Social Thought in America, New York, 1947; Allan G. Gru- c h y, Modern Economic Thought: The American Contribution, New York, 1947; A. L. Harris, Economics and Social Reform, New York, 1958.
2 Cm. John Chamberlain, Farewell to Reform, New York, 1932.
3 Cm. John R. Commons et al., History of Labor in the United States, vol. IV, New York, 1935, и Philip Taft, The AFL and the Time of Gompers, New York, 1957.
4 Cm. A. Lindsay, The Pullman Strike, Chicago,
1942.
6 Richard Hofstadter, The Age of Reform, New York, 1955.
8 Cm. Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, New York, 1949, III, pp. 217ff.
7 Cm. Stow Persons, American Minds, New York, 1958, pp. 221 ff.
8 William Miller, A History of the United States, New York, 1958, pp. 317ff.
9 Chamberlain, op cit., pp. 119ff. См. также The Muckrakers, A. Weinberg and L. Weinberg, eds., New York, 1961.
10 Dorfman, Veblen..., p. 16. Ср. также его «Economic Mind...», Ill, pp. 215—237, 309—358, где дается отличный обзор экономических и социальных проблем за тридцатилетний период с 1890 по 1920 г.
11 Dorfman, Veblen..., pp. 7ff.
12 Thorstein Veblen, Essays in Our Changing Order, New York, 1943, pp. 219ff.
13 Фактически все комментаторы от Уэсли Митчелла до Альфреда Казина и Бернарда Розенберга отмечали, что этот очерк, написанный первоначально для сионистского журнала, был наброском автопортрета.
14 См. Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, 1944, revised, Boston, 1955, pp. 51ff.
15 Cm. Joseph J. Spengler, «Evolutionism in American Economics», в «Evolutionary Thought in America», Stow Persons, ed., New Haven, 1950, pp. 212ff.
18 Dorfman, Veblen, pp. 73ff.
17 Veblen, Theory of the Leisure Class, New York, 1899.
18 Veblen, Place of Science in Modern Civilization, New York, 1919, p. 70.
19 Cm. R. L. D u f f u s, The Innocents at Cedro, New York, 1944.
20 W. C. Mitchell, What Veblen Taught, New York, 1936, p. XVIII.
21 Dowd, op. cit., p. 23.
22 Lucy Sprague Mitchell, Two Lives: The Story of Wesley Clair Mitchell and Myself, New York, 1953, p. 86.
23 Veblen, The Place of Science in Modem Civilization, New York, 1919; idem, Essays in Our Changing Order, New York, 1943.
24 Veblen, The Theory of Business Enterprise, New York, 1904.
26 «Leisure Class», p. 188.
28 Cm. White, op. cit.
27 Главные критические высказывания содержатся в серии, состоящей из трех очерков и озаглавленной «Исходные посылки экономической науки», в книге «Place of Science in Modern Civilization», pp. 82 ff. Несколько других очерков в этой книге дополняют указанную тему.
28 «Place of Science...», р. 70.
29 См. также Morris Raphael Cohen, А Preface to Logic, New York, 1944, p. X.
30 «Place of Science...», p. 175. Веблен признавал, что Маршалл пытался разработать принципы непрерывности, но добавлял, что, к сожалению, его методология была статична.
31 Ibid., р. 32.
32 Ibid., р. 241.
33 Ibid., р. 123.
34 Ibid., р. 111.
36 Ср. с полемикой Хайека и Найта, стр. 444.
38 См. Veblen, op. cit., pp. 70ff.
37 Ibid., pp. 201ff.
38 Ibid., p. 73.
39 V e b 1 en , The Instinct of Workmanship, New York, 1914, p. 39.
40 «Professor Clark’s Economics», «Place of Science...», pp. 180ff.
41 См. о Кларке ниже.
42 «Gustav Schmoler’s Economics», «Place of Science...», p. 252.
43 Cm. Ve b 1 e n, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, New York, 1924, pp. 62ff.
539
44 «Place of Science...», p. 421.
45 John S. Gambs, Beyond Supply and Demand, New York, 1946, pp. 6ff.
46 Интересное сравнение Кейнса с Вебленом см. в работе Аллана Дж. Груши, помещенной в книге: «Economic Theory in Review», C. L. Christenson, ed., Bloomington, 1949, pp. 96ff.
47 Cm. Dorfman, Veblen, p. 451.
48 См. особенно Paul M. Sweezy, Veblen’s Critique of the American Economy, Proceedings of the American Economic Association, May, 1958, pp. 21ff.
49 «Place of Science...», pp. 409ff.
50 Ibid., p. 141.
51 Ibid., p. 426.
62 Ibid., p. 32.
63 Cm. Sidney Hook, The Hero in History, New York, 1943.
54 «Place of Science...», p. 61. О принципе социальной кумуляции см. также Gunnar Myrdal, Value in Social Theory, London, 1958, pp. 198ff. Мюрдаль говорил также о системе кумулятивных причинных связей в экономике как о динамической силе в книге «Monetary Equilibrium», London, 1939, pp. 24ff, и в своем капитальном исследовании негритянской проблемы: «Ап American Dilemma», New York, 1944, pp. 1065ff.
65 «Place of Science...», p. 44.
56 Ibid., p. 326.
57 Об экономических основах возвышения жреческого класса ср. Paul Radin, Primitive Religion, New York, 1937, pp. 40ff. Радин говорит: «Не требовалось большой проницательности или накопления обширных материалов, чтобы признать роль экономических факторов на начальных ступенях цивилизации и наличие там особой и тесной связи между способом производства пищи и каждой фазой борьбы за богатство и власть».
68 «Instinct of Workmanship», р. 160.
69 Ibid., р. 285.
60 По этому вопросу см. интересный и глубокий анализ Ханны Арендт в ее работе «The Human Condition», Chicago, 1958.
61 «Theory of Business Enterprise», p. 27. Полезное описание капиталистического прогресса экономики ср. также в книге: О. С. С о х, The Foundations of Capitalism, New York, 1959, см. также Commons et al., op. cit., I, pp. 31ff.
62 Gardner Murphy, Experimental Social Psychology, New York, 1931.
63 Cm. Rosenberg, op. cit., p. 45.
64 «Instinct of Workmanship», p. 41.
65 Ibild., p. 39.
66 Ibid., p. 1.
67 «Place of Science...», pp. 8ff.
68 «Instinct of Workmanship», p. 31.
69 «Place of Science...», p. 241.
70 Leisure Class, p. 190.
71 Ibid., p. 11. Критический анализ см. также в книге: Schneider, op. cit.
72
73
74
7 5
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
См. Dorfman, Veblen..., p. 324.
Dowd, op. cit., p. 35.
Schneider, op. cit., p. 76.
Cm. Herbert Marcuse, Eros and Civilization, Boston, 1955.
Cm. «The Beginnings of Ownership», «Essays in Our Changing Order», New York, 1943, pp. 32ff.
«Leisure Class», p. 193.
«Place of Science...», p. 71.
«Leisure Class», p. 98.
Ibid., p. 1.
«Place of Science...», p. 441.
«Absentee Ownership», pp. 82ff.
Ibid., p. 107.
Ibid., p. 118.
Ibid., p. 124.
Ibid., pp. 319ff.
Dorfman, Veblen..., p. 485.
См. А. А. В e г 1 e and Gardiner Means, The Modern Corporation and Private Property, New York, 1933.
Mitchell, What Veblen Taught, p. 41.
Veblen, Business Enterprise, p. 290.
Ibid., pp. 26ff.
Ibid., p. 296.
Ibid., p. 139.
Ibid., p. 119.
«Vested Interests», p. 160.
«Business Enterprise», p. 94.
Ibid., pp. 199ff.
«Essays in Our Changing Order», p. 111.
«Business Enterprise», p. 113.
Ibid., p. 183.
Ibid., p. 224.
См. Дж. M. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, М., ИЛ, 1948, стр. 305
Veblen, Engineers and the Price System, New York, 1921, p. 90.
Современный вариант этой теории ср. в книге: С. W г i g h t Mills, The Causes of World War III, New York, 1958.
«Business Enterprise», pp. 294ff.
Ibid., pp. 391ff.
«Absentee Ownership», p. 445.
«Engineers and the Price System», Passim.
Ibid., p. 166ff.
«Absentee Ownership», p. 445.
О силе Вебленовых идей в этой области свидетельствует целый ряд недавно опубликованных работ, начиная от книги Уильяма Уайта «Администратор» до книги Вэнса Паккарда «Искатели ранга». Ср. 540
William H. Whyte Jr., The Organisation Man, New York, 1956; Louis Kronenber- g e n, Company Manners, New York, 1955; John Keats, Crack in the Picture Window, Boston, 1957; idem, The Insolent Chariots, New York, 1958; Vance Packard, The Hidden Persuaders, Philadelphia, 1957; idem, The Status Seekers, Philadelphia, 1959; A. C. Spectorsky, The Exurbanites, New York, 1955. Социологические сочинения такого рода во многом раскрыли дряблость современной цивилизации, и в этом отношении их родословная может быть прослежена к Торстену Веблену. Из работ более литературного характера см. также Richard Chase, The Democratic Vista, New York, 1958.
112 Rosenberg, op. cit., pp. 9ff.
113 Cm. Veblen, The Higher Learning in America, New York, 1918, passim, и C. Wright Mills, White Collar, New York, 1951, pp. 129ff.
114 «Higher Learning...», p. 88.
115 Ibid., p. 156.
116 Ризман в указанном выше сочинении защищает университеты от нападок Веблена, указывая, что они вынуждены быть по-своему практичными. Мы должны, однако, отметить, что из всех трудов, посвященных Веблену, работа Ризмана, который выводит всю теорию Веблена из глубоко укоренившейся в последнем неприязни к своему отцу, является наименее полезной. Ризман сам себя убеждает, что он знает Веблена лучше, чем кто-либо, не исключая и самого Веблена.
117 «Place of Science...», р. 241.
118 Впервые термин «институционалист» был, согласно Джозефу Дорфману, употреблен Уолтоном X. Гамильтоном в работе о Роберте Ф. Хокси в 1916 г. См. Dorfman, Economic Mind..., IV, р. 353.
119 С. Е. А у г е s, The Theory of Economic Progress, Chapel Hill, 1944, Ср. также Joseph Dorfman, The Source and Impact of Veblen’s Thought, в работе: Dowd, op. cit., pp. 8ff.
120 Cm. Spengler] в Stow Persons, op cit., pp. 252ff.
121 John R. Commons, Myself, New York, 1934, p. И. Чтение этой прелестной автобиографии необходимо для понимания личности Коммонса.
122 J. R. С о m m о n s, Social Reform in The Church,
New York, 1894, с предисловием Ричарда T. Эли.
123 Dorfman, Economic Mind..., Ill, p. 285.
124 J. R. Commons, Distribution of Wealth, New York, 1893.
125 «Myself», p. 58.
126 Ibid., pp. 65-67.
127 W. С. M i t c h e 1 1, The Backward Art of Spending Money, New York, 1937, p. 316.
128 Commons, Documentary History of Industrial Society, Cleveland, 1910—1911.
129 Commons, History of Labor in the United States, 4 vols. New York, 1918—1935.
130 New York, 1924 и New York, 1934. Коммонс был исключительно плодовитым автором. Приложенная к опубликованной посмертно книге «Экономика коллективных действий» (Нью-Йорк, 1950) библиография занимает свыше тридцати страниц; перечисленные там статьи, обзоры и книги Коммонса затрагивают фантастическое многообразие социальных и экономических проблем. Помимо названных выше, его главными трудами являются: «Proportional Representation», New York, 1907, «Trade Unionism and Labor problems», New York, 1905; «Races and Immigrants in America», New York, 1908; Labor and Administration, New York, 1913; «Principles of Labor Legislation» (в соавторстве с Джоном Эндрюсом), New York, 1916.
131 «Myself», p. 3.
132 Ibid., p. 18; «Collective Action», pp. 25ff.
133 Философия Пирса излагается с благожелательных позиций в предисловии Филиппа Вайнера к книге:
Charles S. Pierce, Values in a Universe of Chance: Selected Writings, New York, 1958.
134 «Myself», p. 10.
135 Ibid., p. 87,
136 Ibid., p. 124.
137 Cm. Dorfman, Economic Mind..., IV, pp. 393ff.
138 «Distribution...», p. 14.
139 Ibid., p. 67.
140 Ibid., p. 223.
141 Ibid., p. 249.
142 «Myself», p. 63. Ср. также раздел о Викселле.
143 Взгляды Коммонса по вопросу о деньгах отлично суммированы в работе: Dorfman, Economic Mind..., IV, pp. 383ff.
144 «Institutional Economics», p. 3.
145 Ibid., p. 5.
146 Ibid., p. 8.
147 Ibid., p. 16.
148 Ibid., p. 25.
149 Ibid., p. 43.
150 Ibid., pp. 45ff.
161 Ibid., p. 704.
152 Ibid., p. 378.
153 Ibid., pp. 390ff.
154 Cm. «Legal Economics», p. VIII.
155 «Institutional Economics», p. 103.
156 Ibid., p. 107.
157 Ibid., p. 723.
158 Ibid., p. 709.
159 Cm. «Documentary History...», Ill, p. 18; «Institutional Economics», pp. 763ff, и «Collective Action», p. 61.
160 «Documentary History...», Ill, pp. 61 ff.
161 «Institutional Economics», p. 771.
162 Ibid., p. 773. Ср. также таблицу экономических стадий, стр. 764.
163 Ibid., р. 511.
164 Ibid., р. 889.
166 Ibid., р. 898.
166 См. Henry С. Simons, A Positive Program for Laissez — Faire, Chicago, 1934; idem, Economic 541
Policy for a Free Society, Chicago, 1948. Если Саймонс и мог бы принять этот вывод из аргументации Коммонса, сомнительно, чтобы ему пришлось по душе что-либо другое из написанного Коммонсом.
167 Gruchy op. cit., р. 154.
168 См. Harris, op. cit., pp. 226ff. Но Харриса можно упрекнуть в том, что он приписывает различным выводам свой собственный неоконсервативный подход.
169 «Legal Foundations», pp. 143ff.
170 Ibid., pp. 182ff; см. также «Institutional Economics», p. 620.
171 «Institutional Economics», p. 634. Достойно сожаления, что современная теория организации игнорирует Коммонса. См. J. G. March and Н. A. Simon, Organizations, New York, 1958, pp. 83ff. Эти авторы анализируют структуру организации с точки зрения участия индивидуумов, поскольку они функционируют в рамках организации. Представляется, что применяемые ими понятия отказа (withdrawal) и согласия (acceptance) в рамках отношений торга (bargaining relationships) поразительно схожи с трактовкой Коммонса, особенно когда они рассматривают вопрос о конфликте по поводу альтернативных образов поведения с элементами неопределенности как важными факторами данной ситуации. Взгляды Коммонса могут быть удовлетворительно охарактеризованы как концепция, в которой намерения, цели и действия людей ведут к организации. Таким путем, по его мнению, устанавливаются экономические отношения. См. Kenneth Parsons, John R. Commons’ Point of view, Appendix III, в «Economics of Collective Action», p. 341, перепечатано из Journal of Land and Public, Utility Economics, August, 1942.
172 «Collective Action», p. 11.
173 Ibid., p. 27.
174 Ibid., p. 29. Это разительно напоминает теорию игр. Ср. мою статью «Games Theory and Collective Bargaining», Labor and Nation, August, 1952, p. 50.
176 Cm. John K. Galbraith, American Capitalism, Boston, 1952.
176 «Collective Action», p. 38.
177 «Institutional Economics», p. 55.
178 Ibid., p. 58.
178 Ср. по этому вопросу Kenneth E. Bouldin g, A Reconstruction of Economics, New York,
1950. Боулдинг пытается в этой работе рассматривать фирму с точки зрения структуры капитала, колебаний запасов, состояния кассовой наличности и т. д. Все это понятия, связанные с характером активов и пассивов; как и у Коммонса, такой подход ставит баланс фирмы в центр экономического анализа. См. раздел о Боулдинге.
180 «Collective Action», р. 46.
181 «Institutional Economics», р. 684.
182 «Collective Action», pp. 77, 81.
183 «Institutional Economics», p. 684.
184 Ibid., pp. 737-738.
186 «Collective Action», pp. 98ff.
188 «Institutional Economics», p. 256.
187 «Collective Action», pp. 94ff.
188 «Institutional Economics», p. 423.
180 «Collective Action», p. 104.
190 «Institutional Economics», pp. 390ff.
191 Cm. Ibid., p. 429.
192 «Myself», p. 155.
193 Ibid., p. 156.
194 «Institutional Economics», p. 682.
196 Ibid., p. 683.
196 «Collective Action», p. 145; «Legal Foundations...», p. 379.
197 «Collective Action», pp. 152—153.
198 Ibid., p. 159.
199 «Legal Foundations...», p. 380.
200 «Myself», pp. 84ff.
201 Ibid., p. 87.
202 «Documentary History...», Ill, pp. 18ff; VII, pp. 19ff; IX, p. 19.
208 Ibid., V., pp. 23ff.
204 Cm. «Labor and Administration», p. 261.
206 Ibid., pp. 49ff.
208 «History of Labor...», I, pp. 5, 9ff.
207 Cm. «Industrial Goodwill», New York, 1919, p. 185.
208 «Myself», p. 73.
209 Cm. Harvey Swados, The Myth of the Powerful Worker, The Nation, June 28, July 5, 1958. В этих статьях показано, каким образом Национальный совет трудовых отношений, чья деятельность определялась бы политическими мотивами, может и не стать тем беспристрастным органом арбитража, который предусматривал в своей концепции Коммонс.
210 Mills, White Collar.
211 См. Harvey Swados, The Myth of the Happy Worker, The Nation, August, 17, 1957.
212 Cm. Dorfman, Economic Mind..., IV, p. 361.
213 Лучшим источником биографических данных о Митчелле является отличная книга, написанная его женой Люси Спрейг Митчелл, указ. соч.
214 Ibid., р. 16.
215 Ibid., рр. 83-84.
218 Письмо Джону Морису Кларку от9августа 1928 г., опубликованное в книге последнего «Preface to Social Economics», New York, 1936, pp. 410ff; также в: «Wesley Clair Mitchell: The Economic Scientist», A. F. Burns ed., New York, 1952, pp. 93ff.
217 Burns, ibid., p. 95.
218 Cm. Paul T. Homan, Contemporary Economic Thought, New York, 1928, p. 409.
219 John Dewey, Human Nature and Conduct, New York, 1922, p. 84.
220 «Two Lives», p. 85.
221 Dorfman, Economic Mind..., Ill, p. 272.
222 «History of the Greenbacks», Chicago, 1903.
223 «Two Lives», p. 92.
542
224 «Greenbacks», p. 207.
225 Из выступления по вопросу о статистическом мето¬
де, цит. в работе: Dorfman, op. cit., Ill, р. 459.
226 «Economic Scientist», р. 16.
227 Письмо к Люси Спрейг Митчелл от 18 октября 1911 г., цит. в работе «Economic Scientist», р. 66.
228 «Two Lives», р. 171.
229 Gold, Prices and Wages under the Greenback Standard, Berkeley, 1908, p. 281.
230 «Two Lives», p. 173. Более новая история экономической мысли, построенная на тех же основаниях, содержится в книге: Leo Rogin, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956.
231 «Two Lives», p. 176.
232 Ibid., p. 187.
233 Ibid., p. 290.
234 Ibid., p. 485.
235 Ibid., p. 246.
236 Cm. «The Backward Art of Spending Money», особенно очерки о Бентаме и Рикардо, стр. 177 и след., стр. 203 и след.
237 «Two Lives», pp. 294ff.
238 Ibid., p. 302.
239 Ibid., pp. 342-343.
240 Некоторые из этих исследований: Mitchell, King, Macaulay and К n a u t h, Income in the United States, New York, 1921; Simon К u z n e t s, National Income and Capital Formation, 1919—1935; New York, 1937; idem, National Income and Its Composition, 1919-1938, New York, 1941; idem, National Product in Wartime, New York, 1945. Полная библиография публикаций бюро помещена в 38 годовом отчете: «Investing in Economic Knowledge», May, 1958, pp. 101 ff.
241 Burns, op. cit.,p. 51.
242 Исполненное печали и участия описание истории его последней болезни, принадлежащее его жене, см. в «Two Lives», pp. 517ff.
243 В настоящее время эта книга имеется в дешевом издании Беркли, 1959.
244 Ibid., р. VII.
245 Burns, op. cit., р. 24.
248 Wesley С. Mitchell, Business Cycles, Part III, reprinted., p. X.
247 Ibid., p. 2.
248 Ibid., p. 5.
249 Ibid., p. 13.
250 Ibid., p. 17.
251 Ibid., p. 23.
252 Ibid., p. 25.
253 Ibid., p. 53.
254 Статья Хансена в книге, вышедшей под редакцией Бернса, стр. 304.
256 Э. Хансен, Экономические циклы и национальный доход, М., ИЛ, 1959, стр. 507.
256 См. Mitchell, «Business Cycles», pp. 64ff.
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
Ibid., p. 123.
Ibid., p. 135.
Ibid., p. 139.
Ibid., рр.
144-145
Ibid., р.
166.
Ibid., р.
168.
Ibid., р.
171.
Ibid., р.
173.
Ср. статью Джозефа Дорфмана в книге, изданной под редакцией Бернса, стр. 130.
«Business Cycles», р. 191.
См. Hansen, op. cit., р. 406.
См. Burns, op. cit., p. 26.
M. Friedman, Wesley C. Mitchell as an Economic Theorist, Journal of Political Economy, December, 1950, перепечатано в: Burns, ibid., p. 237. Ibid., p. 271.
Интересная трактовка вопроса о соотношении экономического прогресса и циклов в духе Митчелла содержится в книге: Simon Kuznets, Economic Change, New York, 1953, p. 125.
См. C. Wright Mills, The Sociological Imagination, New York, 1959, pp. 85ff.
«Two Lives», p. 516.
У. Митчел л, Экономические циклы. Проблема и ее постановка, М.—Л., 1930, стр. 61 и след.
«Human Behavior and Economics», Quarterly Journal of Economics, November, 1914, p. 1.
Ibid., p. 11.
«Backward Art of Spending Money», p. 30.
У. Митчелл, Экономические циклы, стр. 109.
«Backward Art...», p. 150.
Ibid., p. 160.
Ibid., p. 171.
Впервые опубликовано в журнале «Америкен ико- номик ревью», июнь 1912. Перепечатано в книге под тем же заглавием, Нью-Йорк, 1937.
Ibid., р. 16.
«Making Goods and Making Money» в «Backward Art...», p. 142.
Ibid., p. 143.
«Role of Money in Economic Institutions», Journal of Economic History, Supplement IV, December, 1944, pp. 64ff.
«Backward Art...», p. 256.
Ibid.
Ibid., p. 371.
Ibid., p. 20.
Cm. Dorfman, Economic Mind..., IV, p. 362.
Mills, op. cit., p. 20.
«Backward Art...», p. 177. Джекоб Вайнер, которого называют рикардианцем XX века, возражает против критики Митчеллом Бентамова расчета, основанного на сопоставлении наслаждения и страдания, полагая, что это был лишь ранний вариант эконо-
543
метрики. Ср. статью Вайнера «Bentham and J. S. Mill: The Utilitarian Background» в его работе «The Long View and the Short», New York, 1958, pp. 315-316.
294 Homa n, op. cit., p. 433.
295 Cm. G r u c h y, Keynes and the Institutionalists, в «Economic Theory», in Review pp. 104ff. Ср. также H. R. Bowen and G. M. Meier, Institutional Aspects of Economic Fluctuations, в работе «Keynesian Economics», К. K. Kurihara, ea., New Brunswick, 1954, pp. 155ff.
296 Cm. Morris A. Copeland, Fact and Theory in Economics, Ithaca, 1958, p. 62.
297 Mitchell, Lectures on Types of Economic Theory, mimeographed, New York, 1935.
298 A 1 1 a n G r u c h y, Modern Economic Thought, New York, 1947, p. 149.
299 «Lectures», I, p. 1.
300 «Two Lives», pp. 363ff.
301 Ibid., p. 368.
302 Ibid., pp. 373ff.
303 Ibid., p. 380.
304 «Backward Art...», p. 91.
305 «Two Lives», p. 523.
306 «Backward Art...», p. 127.
307 Cm. Dorfman, Economic Mind..., V, p. 667.
308 F. G. H i 1 1, Wesley Mitchell’s Theory of Planning, Political Science Quarterly, March, 1957, pp. lOOff.
309 Roberts. Lynd, Knowledge for What? Princeton, 1939 .
310 Ibid., pp. 74ff.
311 Ibid., p. 121.
312 Cm. «Two Lives», p. 553.
313 Ibid., p. 562.
314 «Backward Art...», p. 78.
315 См. особенно статью Митчелла «Facts and Values in Economics», Journal of Philosophy, April 13, 1944, в которой проблемы сформулированы с замечательной ясностью, однако не достигнуто слияние целей, которые стоят перед общественными науками. Взгляды Митчелла в это время стали приобретать механистический характер.
316 Burns and Mi t с h е 11, Measuring Business Cycles, New York, 1946, p. 96.
317 A. F. Burns, New Facts on Business Cycles, в «The Frontiers of Economic Knowledge», Princeton, 1954, p. 107.
318 Ibid., p. 114.
319 «Measuring Business Cycles», p. 448.
320 G. IL Moore, Statistical Indicators of Cyclical Revivals and Recessions, Occasional Paper, № 31, New York, 1950; Business Cycle Indicators, 2 vols., Princeton, 1961.
321 Э. Хансен, Экономические циклы и национальный доход, стр. 710 и след.
322 Joseph A. Schumpeter, Mitchell’s Business Cycles, в Quarterly Journal of Economics, November, 1930, p. 150.
323 Ibid., p. 160.
324 Ibid., p. 166.
325 Edward Ames, A Theoretical and Statistical Dilemma in the Contributions of Burns, Mitchell and Frickey to Business Cycle Theory, Econometrics, October, 1948, p. 347; T. С. К о о p m a n s, Measurement Without Theory, Review of Economics and Statistics, August, 1947, p. 161, и пояснения в Review of Economics and Statisties, May, 1949, p. 27.
326 Cm. «Measuring Business Cycles», pp. 466ff.
327 К о о p m a n s, op. cit., p. 164.
328 Ibid., p. 167.
329 Резкую критику формалистических методов в общественных науках см. в указанной книге Миллса, стр. 50 и след.; ср. также Copeland, op. cit., Institutional Economics and Model Analysis, pp. 54ff.
330 Dorfman, Economic Mind..., V, p. 438.
331 Ibid., p. 439.
332 J. M. Clark, Demobilization of Wartime Economic Controls, New York, 1944.
333 Ibid., p. 440.
334 Cm. Clark, Economic Institutions and Human Welfare, New York, 1957, p. 68. Ср. также J. M. Clark, Competition as a Dynamic Process, Washington, 1961, гл. 9, особенно стр. 230 и след., где подробно рассматривается вопрос об ограниченных возможностях потребителя судить о ценах и качестве товаров. Кларк выражает серьезные сомнения по поводу верховной власти потребителя, как она обычно изображается в экономической теории. Прежде всего он ставит под вопрос традицию рассматривать весь круг проблем, стоящих перед потребителем, как нечто данное под рубрикой «вкусы». Имеются такие области, как образование, личная безопасность и здоровье, которые требуют мер общественного контроля и потому заслуживают особого анализа. Суть дела в том, говорил Кларк, что способности и возможности потребителя «... крайне ограничены по сравнению с жесткими требованиями, которые к нему предъявляются как покупателю», ibid., р. 232. Чтобы улучшить положение потребителя, Кларк предлагал обеспечить контроль над качеством товаров и экономическое просвещение потребителей. Книга «Конкуренция как динамический процесс», последняя из работ Кларка, опубликованная им в возрасте 77 лет, попала в руки автора, когда рукопись была уже закопчена и находилась в типографии. Однако была сделана попытка очертить главные идеи этой самой выдающейся работы, вышедшей из-под пера старейшины американской экономической науки.
335 Clark, Preface to Social Economics, New York, 1936, p. 113.
336 Ibid., p. 118.
337 Ibid., p. 3.
338 Ibid., p. 9.
339 По этому вопросу ср. убедительный анализ в книге: Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, 1959. Проделанный Арендт анализ различия между трудом и рабочей силой (work and labor) является одним из самых глубоких исследований этой проблемы в экономической науке. 544
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
35
«Social Economics», p. 38. Высказывания Кларка по этому вопросу были, возможно, несколько поспешными.
Ibid., р. 49.
Ibid., р. 59.
Ibid., р. 94.
Ibid., р. 97.
Ibid., р. 99.
Ibid., р. 104.
Ibid., р. 105.
Ibid., р. 111.
Ibid., рр. 123-134.
Ibid., р. 141.
Ibid., р. 146.
Ibid., р. 207.
J. М. Clark, Alternatives to Serfdom, New York, 1948.
Ibid., p. 27.
Ibid., p. 29.
Ibid., p. 39
Ibid., p. 59.
Ср. ниже о Дж. Б. Кларке.
«Social Economics», р. 226. Ср. также «Competition as a Dinamic Process», pp. 55ff., где больший упор делается на динамические факторы.
«Social Economics», р. 211.
Эти типы инвестиций хорошо рассмотрены в книге: Daniel Hamberg, Business Cycles, New York, 1951, pp. lOlff.
«Social Economics», p. 335. Ср. также Clark, Strategic Factors in Business Cycles, New York, 1934, p. 76.
Г. Хаберлер, Процветание и депрессия, М., ИЛ, 1960, стр. ИЗ.
«Social Economics», р. 348.
«Strategic Factors...», pp. 18, 20.
См. ibid., p. 21.
Ibid., p. 38.
Ibid., p. 52.
Ibid., p. 154.
Ibid., p. 85.
Ibid., p. 147.
Cm. John P. Lewis, Business Conditions Analysis, New York, 1959, pp. 338—339.
R. Frisch, Interrelation between Capital Production and Consumer Taking, Journal of Political Economy у October, 1931, p. 646.
Такую же позицию занял Николас Калдор в статье «Модель экономического роста» («Экономик джор- нэл», декабрь 1957), перепечатанной в его книге «Essays on Economic Stability and Growth», New York, 1960, p. 259. Калдор утверждал, что в длительном аспекте коэффициент капитал — продукт есть постоянная величина. Это, конечно, спорный вопрос. Ср., например, J. М. Kendrick, Productivity Trends in the United States, Princeton, 1961, pp. 164ff, и S. Kuznets, Capital in the American Economy, Princeton, 1961, p. 218.
376 Г. Хаберлер, Процветание и депрессия, стр. 124.
376 См. Lewis, op. cit., р. 205.
377 «Strategic Factors...», pp. 192—193.
378 J. M. C 1 a г k, Studies in the Economics of Overhead Costs, Chicago, 1923.
379 Ibid., p. 9.
380 Ibid., p. И. О более поздних взглядах Кларка по проблемам рыночной структуры и поведения рынка
в связи с характером издержек можно узнать из книги «Competition as a Dynamic Process», особенно главы 5, 6, 12, 14.
381 «Overhead Costs», р. 29.
382 Ibid., р. 60.
383 Ibid., р. 87.
384 Ibid., р. 215.
385 Ibid., р. 147.
386 См. Joe S. В a i n, Barriers to New Competition, Cambridge, 1956, где содержится убедительное исследование этой проблемы. Бэйн обнаружил, что препятствия для доступа новых фирм основываются на абсолютных преимуществах в области издержек, которые имеют старые фирмы; эти преимущества проистекают из контроля над техникой производства, явлений несовершенства рынка или предпочтительной позиции на денежном рынке. Эти условия дополняют выделенный Кларком фактор размера.
387 «Overhead Costs», р. 386.
388 Ibid., р. 401.
389 Ibid., р. 415.
390 Ibid., р. 416.
391 Более поздние взгляды Кларка по вопросу о дискриминации в ценах изложены в книге «Competition as a Dynamic Process», pp. 344ff. Ср. также L. W a 1- r a s, Elements of Pure Economics, перевод Уильяма Жаффэ, Лондон, 1954, стр. 440 и след. Хорошее аналитическое изложение см. в книге: George Stigler, Theory of Price, New York, 1947, pp. 223ff.
392 J. Robinson, Economics of Imperfect Competition, London, 1933; A. C. Pigou, Economics of Welfare, 4th. ed., London, 1932, pp. 275ff. Предложенная Кларком система классификации рынков подвергалась критике как слишком всеобъемлющая в том смысле, что используемые критерии относятся только к численности продавцов, а такие факторы, как численность покупателей, долговечность продукта и легкость доступа в отрасль, остаются вне анализа. См. J. S. Bain, Price and Production Policies, в «Survey of Contemporary Economics», Philadelphia, 1948, I, p. 161.
393 Dorfman, op. cit., V, p. 453.
394 «Overhead Costs», p. 361.
396 Ibid., p. 372.
396 Ibid., p. 377.
397 Ibid., p. 384.
Б. Селигмен
545
888 J. M. Clark, Social Control of Business, Chicago, 1926, 2nd ed., New York, 1939.
309 Убедительные доводы в пользу этой позиции были приведены Эрихом Калером (Kahler) в его книге «The Tower and the Abyss», New York, 1957. По вопросу о требованиях, предъявляемых к сбалансированной экономической системе, ср. «Competition as a Dynamic Process», Chapts 17, 19.
400 «Social Control», pp. 149ff.
401 Cm. Clark, Alternatives to Serfdom.
402 Clark, Economic Institutions and Human Wei fare, New York, 1957, p. 101.
403 Тема социальной ответственности, заключающаяся в этих взглядах, вновь и вновь повторяется в работе Кларка «Financing High Level Employment» в «Financing American Prosperity», P. T. Homan and F. Machlup, eds., New York, 1935, и в его статье «Criteria of Social Wage Adjustment» в «The Impact of the Labor Union», D. M. Wright, ed., New York,
1951. К сожалению, остальные участники последнего симпозиума не обнаружили такого же чувства меры, как Кларк. См. мою рецензию на эту книгу в The New Leader, November 12, 1951.
404 См. James Bona r, Philosophy and Political Economy, London, 1893; ср. также J о s e p h A. Schumpeter, Economic Doctrine and Method, перевод с немецкого, Лондон, 1954, стр. 13 и след.
406 «Economic Institutions», р. 59.
400 Ibid., р. 29.
407 По вопросу о роли интеллекта в современном обществе ср.: Jacques Barzun, The House of Intellect, New York, 1959.
408 Economic Journal, September, 1913, p. 39.
408 Д ж. M. Кейн с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 352 и след.
410 См. G. D. Н. Cole, History of Socialist Thought,
London, 1956, III, p. 194.
411 J. A. Hobson, Confessions of an Economic Heretic, London, 1938, p. 15.
412 Ibid., p. 26.
418 Ibid., p. 29.
414 Ibid., p. 30.
416 J. A. Hobson and A. F. Mummery, The Physiology of Industry, переиздание: New York, 1956.
416 «Confessions...», p. 30. Ср. также T. W. Hutchison, Review of Economic Doctrines, London, 1953, pp. 118ff.
417 Если Гобсон относился к академической науке несколько сурово, то для этого были веские основания. Позиция Гобсона вовсе не должна так удивлять, как она удивляет Э. Неммерса. См. книгу последнего «Hobson and Underconsumption», Amsterdam, 1956.
418 Полная библиография приводится в книге: Nem- т е г s, ibid., pp. 144ff.
419 J. A. Hobson, Evolution of Modem Capitalism, London, 1894, 3rd ed., переиздание: 1949.
420 Дж. Гобсон, Империализм, Л., 1927.
421 «Confessions...», р. 61.
422 Ibid., р. 58.
428 J. А. Н obson, Work and Wealth, London, 1914, p. 9.
424 «Confessions...», p. 39.
425 Ibid., p. 42.
426 Ibid., p. 77.
427 J. A. Hobson, Free Thought in the Social Sciences, London, 1926.
428 «Confessions...», p. 80.
420 Cm. N e m m e r s, op. cit., p. 26.
430 «Physiology...», p. IV.
431 Cm. N e m m e г s, op. cit., pp. 5ff., и Hansen, Business Cycles and National Income, pp. 229ff.
432 Д ж. M. Кейн с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 355 и след.
433 «Physiology...», р. 25.
434 См. также ниже, стр. 507.
436 См. J. А. Н obson, The Industrial System, London, 1910, pp. 40ff.
436 «Physiology...», pp. 121—122.
437 Ibid., p. 87.
438 «Industrial System», pp. VII, p. 62.
439 «Physiology...», p. 55.
440 Хатчисон полагает, что Гобсон и Маммери не порвали полностью с законом Сэя. Однако толкование Хатчисона не ясно, так как само понятие недопотребления есть противоположность неумеренному оптимизму Сэя. Ср. Хатчисон, указ, соч., стр. 120.
441 «Physiology...», р. 70.
442 Ibid., р. 90.
443 Ibid., р. 98.
444 Ibid., р. 111.
446 Ibid., р. 117.
446 «Evolution of Modem Capitalism», p. 286. По вопросу о косности привычек потребителей ср.: J a m е s S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Cambridge, 1952.
447 J. A. Hobson, Economics of Underemployment, New York, 1922, p. 51.
448 «Physiology...», p. 162.
449 J. A. Hobson, Problem of ine unemployed, London, 1896.
460 «Industrial System», p. 90.
461 В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капитализма.
452 Это ни в коей мере не направлено на то, чтобы очернить труды Бауэра, Гильфердинга, Каутского и Розы Люксембург. Ср. также Е. М. W i n s 1 о w, The Pattern of Imperialism, New York, 1948.
453 д Гобсон, Империализм, стр. 22.
464 J. A. Hobson, International Trade, London, 1904; idem, An Economic Interpretation of Investment, London, 1911.
466 Дж. Гобсон, Империализм, стр. 38.
450 Там же, стр. 39.
546
467 Там же.
458 Неммерс критикует тезис Гобсона об империализме, утверждая, что главным мотивом экспансии капитала за границей является возможность получения более высоких прибылей, а не избыток сбережений и перепроизводство. Это совершенно не убедительно. Ср. Неммерс, указ, соч., стр. 41. Ср. также J о- seph A. Schumpeter, The Sociology of Imperialism (1919), перепечатано в «Imperialism and Social Classes», New York, 1951. Шумпетер утверждал, что империализм — это характерная черта эпохи молодости капитализма и что политика империализма в действительности смягчает классовые конфликты. Бизнесмены, заявлял он, следуют за флагом своей страны, а не наоборот, и в сущности для них характерны скорее антиимпериалистические настроения. Иначе говоря, империализм — это своего рода атавистическая политика, которой нет места в рациональном капитализме. Представляется, что аргументация Гобсона в этом вопросе сильнее.
459 J о h n S t г а с h е у, The End of Empire, London, 1959, p. 117.
460 «Industrial System», p. VII.
461 Ibid., pp. 9—10.
462 Cm. ibid., chap. 2, pp. llff.
463 Ibid., p. 29.
464 Ibid., p. 32.
465 Ibid., p. 48.
466 Cm. ibid., chap. 4, pp. 56ff.
407 Ibid., p. 60.
408 Ibid., p. 62.
409 Ibid., pp. 65, 68.
470 Хоман утверждает, что в анализе Гобсона все платежи сводятся к ренте, тем самым’рн предполагает, что Гобсон взял маржиналистскую концепцию классической школы in toto (целиком.— Прим, перев.). Это явно неверное толкование Гобсона. См. Paul Н от an, Contemporary Economic Thought, New York, 1928, pp. 308ff.
471 «Industrial System», p. 95. В классической теории считалось, что предельные участки земли не приносят ренты. См. David Ricardo, Works and Correspondence, Piero Sraffa, ed., London, 1951, I, pp. 70ff.
472 «Industrial System», p. 59.
473 Ibid., p. 115.
474 Ibid., p. 152.
475 «Free Thought in the Social Sciences», Chap. Ill, pp. 112ff.
476 «Industrial System», p. 118.
477 Ibid., p. 123.
478 Ibid., pp. 126-127.
479 Cm. «Work and Wealth», Chap. XI, pp. 146ff.
480 «Industrial System», pp. 294ff.
481 Ibid., p. 307.
482 «Free Thought in the Social Science», p.2.
483 Ср. по этому вопросу Karl Mannheim, Conservative Thought, в «Essays in Sociology and Social Psychology», London, 1953, pp. 74ff. Маннгейм отмечает, что вольные интеллигенты, собственное положение которых в обществе не обязывает их служить какому-нибудь одному делу, способны находить аргументы в пользу любой идеи, с которой они себя пожелали связать.
484 «Free Thought...», pp. 61ff.
485 Ibid., p. 71.
486 Ibid., p. 108.
487 Ibid., p. 82.
488 «Work and Wealth», p. 70.
489 Ibid., p. 112.
490 Ibid., p. 139.
491 Ibid., p. 158.
492 Cm. «Free Thought...», p. 133, и «Industrial System»,, p. 320.
493 Hobson, Work and Wealth; idem, Economics and Ethics, New York, 1929. Последняя работа была опубликована в Англии под заглавием «Богатство и жизнь».
494 «Economics and Ethics», р. XVIII.
495 Ibid., р. 21.
490 Ibid., р. 40.
497 «Work and Wealth», p. 293.
498 Cm. Homan, op. cit., p. 374, и J. M. Clark, Economic Institutions and Human Welfare, p. 59.
499 С. E. А у e r s, Theory of Economic Progress, Chapel Hill, 1944.
500 Ibid., p. 85.
501 С. E. Ayres, Divine Right of Capital, Boston, 1946. Это популярное изложение идей его предыдущей книги.
602 R о b е г t F. Н о х i е, Trade Unions in the United States, New York, 1917.
508 Alvin Johnson, Pioneer’s Progress, New York, 1952, pp. 502ff.
504 Лучшее описание жизненного и творческого пути Перлмена см. в книге «Labor Union Theories in America», Evanston, 1958, pp. 190ff, написанной его сыном Марком Перлменом.
605 Selig Perlman, A Theory of the Labor Movement, New York, 1928.
600 См. P h i 1 i p Taft, The A. F. of L., New York, 1959, vol. II, Chaps. 11—15, pp. 140ff.
507 Cm. G г u c h y, op. cit., pp. 473ff.
608 А. А. В e r 1 e and Gardiner Means, The Modern Corporation and Private Property, New York, 1933.
609 Means, Collective Capitalism and Economic Theory, в Science, August 16, 1957, pp. 287ff.
610 Ibid., p. 288.
611 Ср. по этому вопросу William J. Baumol, Business Behavior, Value and Growth, New York, 1959. Баумоль выдвигает тезис, что олигополии стремятся к максимизации продаж, учитывая при этом известные ограничения со стороны прибыли. Эта идея является одной из важнейших из числа выдвинутых в последние годы, она имеет серьезное значение для экономической теории.
35* 547
512 Means, op. cit., p. 289.
613 Ibid., p. 290.
514 Ibid., p. 291.
*15 А. А. В e г 1 e, The Twentieth Century Capitalist Revolution, New York, 1955.
616 Cm. G r u c h y, op. cit., pp. 496—497.
517 Means, Collective Capitalism... p. 293.
518 Эти факты отлично суммированы в книге: Dorfman, op. cit., vol. V, chap. XX, pp. 589ff.
-619 Это схоже с проблемой ограниченной инфляции, рассмотренной в более специальных работах: Bent Hansen, The Theory of Inflation, London, 1951; H. К. C h a r 1 e s w о r t h, Economics of Repressed Inflation, London, 1956; ср. также A. J. В г о w n The Great Inflation, London, 1955.
Б2° «Д Theory of Price Control», Cambridge, 1952.
621 Ibid., pp. 22ff.
622 J. K. Galbraith, American Capitalism: The Concept of Countervailing Power, Boston, 1952.
523 Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition, London, 1933, Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, М., ИЛ, 1959. Ср. также George Stigler, Five Lectures on Economic Problems, London, 1949, особенно лекция 2, стр. 12.
624 Galbraith, op. cit. p. 51.
625 Ibid., p. 93.
526 См. заявление Дэниэла Хэмберга в Объединенном экономическом комитете, «Hearings on Employment, Growth and Price Levels», Part VII, Washington, 1959, pp. 2337ff; idem, Principles of a Growing Economy, New York, 1961, p. 689; idem, Less Noise, More Research, Challenge, May, 1961, p. 18.
527 Galbraith, op. cit., p. 118.
528 Cm. F. Y. S u t t о n, S. E. H a r r i s, С. К a у s e n, and J. Tobin, The American Business Creed, Cambridge, 1956.
529 J. K. Galbraith, The Affluent Society, Boston, 1958. Критику и защиту позиции Гэлбрейта см. в статьях: Е. van den Haag, Affluence, Galbraith, The Democrats, Commentary, September, 1960, и L. А. С о s e r, and В. B. S e 1 i g m a n, Affluence, ibid., January, 1961.
530 Cm. Galbraith ibid., Chap. VII, pp. 78ff. Приводя свои данные, Гэлбрейт, однако, стыдливо обходит тот факт, что в 1957 г. половина семей имела доход ниже 4200 долл, в расчете на год. Ср. Federal Reserve Bulletin, September, 1958.
531 Galbraith, op. cit., p. 115.
532 Ibid., chap. X, pp. 139ff.
633 Cm. Ibid., pp. 150—151. По последнему вопросу Гэлбрейт цитирует Кейнса («Essays in Persuasion», London, 1931).
634 См. Galbraith, On Criticism in the Open Society, Address at Annamalai University, 12 October 1961, где он сказал: «Во всех открытых обществах используется критика как орудие прогресса».
Глава III
ОТ МАРЖИНАЛИЗМА К ТЕОРИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
1 Э.Р.А. Селигмен в своем знаменитом очерке «О некоторых забытых английских экономистах» в «Essays in Economics», New York, 1925, pp. 65ff., наглядно продемонстрировал, что элементы субъективистского подхода можно обнаружить в работах, относящихся к предшествующему периоду.
2 См. Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism, London, 1937, p. 139.
3 Harvey W. Peck, Economic Theory and Its Institutional Background, New York, 1935, p. 196.
4 См. Райт Миллс, Властвующая элита, М.,
ИЛ, 1959.
6 См. «Letters and Journal of W. Stanley Jevons», Mrs. W. S. Jevons, ed., London, 1886, p. 101.
6 Приложение III, в: W. S. Jevons, Theory of Political Economy, London, 1871, переиздание: New York, 1957, pp. 303ff.
7 См. очерк Дж. M. Кейнса о Джевонсе, первоначально опубликованный в Journal of the Royal Statistical Society, 1936, и перепечатанный в книге: Н. W. Spiegel, The Development of Economic Thought, New York, 1952, pp. 490ff. Приведенные выше высказывания комментируются на стр. 515— 516. Дополнительные биографические сведения содержатся в книге: Р. Н. W i с k s t е е d, Common Sense of Political Economy, London, 1933, II, p. 801.
8 К e у n e s, op. cit., p. 491.
9 Cm. Ibid., p. 525.
10 Letters, p. 329.
11 Ibid., p. 331.
12 Jevons, Theory of Political Economy, pp. 3ff.
13 Ibid., p. 95.
14 Cm. Knut Wicksell, Value, Capital and Rent,
1893 (английский перевод: London, 1954), p. 18.
15 J e v о n s, op. cit., p. 165.
16 Cm. Dobb, op. cit., p. 163.
17 Jevons, op. cit., pp. 183ff.
18 Ibid., p. 93.
19 Ibid., p. 32.
20 См. очерк У. К. Митчелла о Бентаме в книге «The
Backward Art of Spending Money and other Essays», New York, 1937, p. 177.
21 Jevons, op. cit., p. 27.
22 См. C. Reinold Noyes, Economic Man, 2 vols., New York, 1948, pp. 452ff., 1303.
23 G e v о n s, op. cit., p. 16.
24 Dobb, op. cit., p. 164.
25 Cm. G e v о n s, op. cit., pp. 223, 263.
26 Cm. G e v о n s, State in Relation to Labour, London, 1882, p. 96.
27 Jevons, Theory..., Appendix II, «Fragment on Capital», p. 295.
548
28 В этом вопросе следует согласиться с Уэсли К. Митчеллом, обосновавшим указанную точку зрения в своем очерке «Роль денег в экономической теории», который опубликован в книге «The Backward Art of Spending Money», pp. 152ff. Артур У. Маргет в своей книге «Theory of Prices», New York, 1942, II, p. 54, высказывает совершенно иную точку зрения.
29 Опубликована в Лондоне в 1909 г. Книга по существу представлет собрание очерков, куда включены работы Джевонса о проблеме стоимости золота, лондонском денежном рынке и о влиянии, оказываемом пятнами на солнце.
30 См. М а г g е t, op. cit., pp. 55ff.
31 J e v о n s, Theory..., p. 168.
32 Ibid., pp. 170ff., особенно интересна диаграмма на стр. 173.
33 См. G е v о n s, Methods of Social Reform, London,
1883, p. 186.
34 Ibid., pp. 141 ff.
35 Cm. Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, New York, 1949, III, pp. lOlff, где рассматривается аналогичная теория заработной платы, популярно изложенная американским экономистом Фрэнсисом Э. Уокером.
36 J е v о n s, Theory..., р. 270.
37 См. «Investigations», Chapters VII and VIII, pp. 18, 201.
38 Ibid., p. 1.
39 Keynes, op. cit., pp. 498—499.
40 У. Митчелл, Экономические циклы, стр. 199.
41 J е v о n s, Investigations, р. 184. Предположение относительно диспропорциональных инвестиций излагается на стр. 28.
42 «Letters», р. 393.
43 Кейнс характеризует Джевонса как разностороннего ученого, хотя узость интересов Джевонса заставляет предполагать иное. См. Keynes, op. cit., р. 516. Очерк Джевонса о Кантильоне приведен в изданной Генри Хиггсом книге: «Cantillon, Essai sur la nature du commerce en generale», London, 1931, p. 363.
44 Джевонс ссылается на изменение названия в предисловии ко второму изданию, в котором, как он подчеркивает, в центре внимания находятся прежде всего общие соотношения (стр. XIV и след.)
45 См. М. D о b b, Introduction to Economics, London, 1932, pp. 109ff.
48 J e v о n s, Theory..., p. 15.
47 Cm. F. v. Wieser, Natural Value, переиздание: New York, 1956, chapter VII, p. 64. Очерк Дж. M. Кларка о Джоне Бейтсе Кларке содержится в книге: Spiegel, op. cit., р. 610; Philip Wicksteed, Common Sense of Political Economy, London, 1910, переиздание: 1933, II, p. 792.
48 Carl Brinkmann, Nationalism, в «Encyclopaedia of the Social Sciences», New York, 1930, I, p. 166.
49 J e v о n s, Social Reform, p. 205.
50 Cm. George F. Stigler, Production and Distribution Theories, New York, 1941, pp. 13ff.
51 «Social Reform», p. 108.
52 См. очерк Леона Вальраса о Госсене, перепечатанный в книге: Spiegel, op. cit., р. 474.
53 J е v о n s, Letters, p. 387.
54 См. ниже, стр. 156 и след.
55 Переведена Джеймсом Дингуоллом и Бертом Ф. Хо- зелитцем под названием «Principles of Economics», New York, 1950.
56 «Geld» в «Handworterbuch der Staatswissenschaften», Jena, 1909, IV, p. 555.
67 Cm. Seligman, On Some Neglected British Economists, pp. 65ff.
58 Joseph A. Schumpeter, Ten Great Economists, New York, 1951, p. 80.
59 См. очерк Ф. А. фон Хайека о Менгере, содержащийся в книге: S р i е g е 1 , op. cit., pp. 549ff.
60 Leo Rogin, The Meaning and Validity of Economic Thought, New York, 1956, p. 482.
61 Cm. Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954, pp. 300ff.
62 См. приложения F и G в книге «Principles...», pp. 305ff., перевод Дингуолла и Хозелитца, цит. изд.
63 Hayek, op. cit., р. 531.
64 См. ниже, стр. 213.
65 См. Schumpeter, op. cit., р. 814.
60 См. Karl Polanyi, The Great Transformation, New York, 1944, особенно chap. II, pp. 130ff.
67 Cm. International Economic Papers, № 5, London, 1955; о наличии этого влияния ясно свидетельствует содержание первых пяти статей указанного сборника.
88 Schumpeter, op. cit., р. 827.
69 См. N о у е s, op. cit., pp. 29ff, иК e n n e t E.Bou- 1 d i n g, The Skills of the Economist, Cleveland, 1958, pp. 70ff. Понятие «гомеостаза» находится в центре всей теории Боулдинга. См. также К. В о и- 1 d i n g, A Reconstruction of Economics, New York, 1950.
70 К. Менгер, Основания политической экономии, Одесса, 1903, стр. 10.
71 Там же, стр. 3 и след.
72 Там же, стр. И.
73 Там же, стр. 14.
74 Там же, стр. 17.
75 Там же, стр. 34 и след.
70 Там же, стр. 50 и след.
77 Там же, стр. 76 и след.
78 Там же, стр. 90 и след.
79 См. Stigler, op. cit., р. 145.
80 См. ниже, стр. 166.
81 См. Knut Wicksell, Selected Papers on Economic Theory, London, 1958, p. 197.
82 К. Менгер, Основания политической экономии.
83 См. Joan Robinson, Euler’s Theorem and the Problem of Distribution в «Collected Economic Papers», London, 1951, I, pp. Iff. Дж. Робинсон подчеркива549
ет, что такое решение проблемы использования ресурсов сопряжено с многочисленными трудностя- тями.
84 К. Менгер, Основания политической экономии, стр. 153 и след.
86 Там же, стр. 172 и след.
86 Там же, стр. 175.
87 Wicksell, op. cit., р. 199.
88 К. Менгер, Основания политической экономии, стр. 96 и след.
89 Там же, стр. 121—123.
90 Там же, стр. 135-136.
91 См. Wicksell, op. cit., р. 189.
92 См. К. Менгер, Основания политической экономии, стр. 244 и след.
93 Там же, стр. 44 и след.
94 См. ниже, стр. 166.
96 См. К. Менгер, Основания политической экономии, стр. 34 и след.
98 Там же, стр. 83—84.
97 Там же, стр. 75.
98 Впервые опубликовано под названием «Theorie der Gesellschaftlichen Wirtschaft», перевод А. Ф. Хин- рихса: New York, 1927, с предисловием Уэсли К. Митчелла.
99 См. очерк Фридриха фон Хайека о Визере в книге: Spiegel, op. cit., pp. 559.
100 Wieser, Natural Value.
101 Такие представления, по-видимому, имеют гораздо больше общего с концепцией Джона Бейтса Кларка, чем с теориями Джевонса или Менгера. См. Dorfman, op. cit., vol. Ill, Appendix, p. Ill, New York, 1949.
102 Wieser, op. cit., p. 172.
103 Ibid., p. 11.
104 Ibid., p. 15.
106 Ibid., p. 43.
108 Ibid., p. 49.
107 Ibid., p. 52.
108 Ibid., p. 56.
109 Вероятно, это и послужило одной из причин того, что некоторые авторы, например Джордж Стиглер, не относят Визера к числу выдающихся экономистов.
110 Wieser, op. cit., р. 58.
ll1. Ibid., p. 59.
112 Ibid., p. 81.
113 Ibid., p. 86.
114 Cm. Stigler, op. cit., p. 164.
116 Wicksell, Value, Capital and Rent, p. 24.
118 Wieser, op. cit., p. 92.
117 Ibid., p. 125.
118 Cm. «Social Economics», p. 38. и «Natural Value», p. 167.
110 «Natural Value», p. 200.
120 Ibid., p. 161.
121 Cm. Stigler, op. cit., pp. 170ff.
122 Ibid., p. 181ff.
123 Впервые опубликовано в 1912 г. под названием «Epochen der Dogmen und Methodengeschichte», перевод: London, 1954.
124 «Social Economics», p. 19.
126 Ibid., p. 160.
128 Ibid., p. 115.
127 Ibid., pp. 149ff.
128 Ibid., p. 151.
129 Cm. ibid., p. 156.
130 Ibid., p. 185.
131 Ibid., p. 187.
132 Ibid., p. 189.
133 Ibid., p. 209.
134 Ibid., p. 217.
136 См. ниже, стр. 484.
138 «Social Economics», p. 378.
137 Ibid., p. 379.
138 Cm. «The Impact of Labor Union», Me. Wright, ed., New York, 1951, и мою рецензию на эту книгу, опубликованную в New Leader, November 12, 1951, р. 23. В книге, изданной Райтом, приводятся материалы симпозиума экономистов-теоретиков, посвященного роли профсоюзов; трудно отыскать другую работу, проникнутую такой явной враждебностью и содержащую теоретические рассуждения, столь мало относящиеся к делу. Книга являет редкий пример того, как личные убеждения без всяких оснований и вопреки многочисленным фактам сплошь и рядом возводятся в ранг неких научных истин. Известный гарвардский экономист в беседе с автором однажды заметил, что эту книгу следовало бы запретить.
130 «Social Economics», pp. 396ff.
140 См. также стр. 504.
141 Ibid., pp. 456ff.
142 См. Stigler, op. cit., p. 168.
143 См. ниже, стр. 260.
144 См. стр. 179-187.
145 См. Schumpeter, Ten Great Economists, pp. 143ff.
148 Ibid., p. 145.
147 Schumpeter, History..., p. 844.
148 Cm. John Roe, Sociological Theory of Capital, переиздание: New York, 1905, pp. 19, 132.
149 Подзаголовок книги — A Critical History of Economic Theory, перевод Уильяма Смарта: London, 1890.
160 Bohm-Bawerk, Rechte und Verhaltnisse. Innsbruck, 1881.
161 Schumpeter, op. cit., p. 161.
152 Cm. Bohm-Bawerk, The Positive Theory of Capital, London, 1891, p. 396.
153 Cm. Theo Suranyi-Unger, Economics in the Twentieth Century, New York, 1931, pp. 89ff.
550
154 См. «Positive Theory...», p. 229.
155 Ibid., p. 209.
156 Ibid., p. 226.
157 Ibid., p. 203.
158 Ibid., p. 79. Подобную мысль впервые высказал еще Петти.
150 Ibid., р. 234.
160 Ibid., pp. 170ff.
161 Ibid., р. 100.
162 Ibid., р. 104.
163 Ibid., р. 20.
164 Ibid., pp. 71ff.
165 См. W i c k s e 11, op. cit., p. 100, и очерк Веблена
«Bobm-Bawerk’s Definition of Capital» в книге «Essays in Our Changing Order», New York, 1934, p. 134. Веблен доказывал, что выплаченная заработная плата представляет собой притязание скорее на накопленный общественный капитал, чем на частный капитал.
188 См. комментарии Стиглера по этому вопросу в книге: Stigler, op. cit., pp. 194ff; Стиглер подвергает чрезвычайно резкой критике теорию Бем- Баверка, указывая на то, что важнейшие понятия этой теории носят расплывчатый характер.
167 См. русский перевод: Е. Бем-Баверк. Капитал и прибыль, Спб., 1909.
168 «Positive Theory...», pp. 83ff.
180 См. Schumpeter, History..., p. 904, примечания.
170 См. Ibid., pp. 906ff. В этом вопросе теория Бем- Баверка подверглась критике со стороны Ирвинга Фишера, Дж. Б. Кларка, Кнута Викселля, Л. фон Борткевича и совсем недавно — Фрэнка Найта.
171 См. «Positive Theory...», pp. 88ff.
172 См. J e v о n s, Political Economy, pp. 224ff.
173 Шумпетер доказывал, что у Бем-Баверка производственный период трактуется не как определенный срок, зависящий от используемых технологических процессов, а как переменная величина; благодаря этому Бем-Баверку удалось превратить производственный период в составной элемент своей теории. Сам Шумпетер полагал, что продолжительность производственного периода представляет переменную величину, зависящую от наличного запаса потребительских благ, и эта зависимость обнаруживается вследствие того, что выдвигаются притязания на совокупный запас потребительских благ. Именно существование производственного периода приводит к установлению определенного уровня заработной платы, ренты и всех остальных переменных величин. Однако даже более искусная трактовка Шумпетера не могла придать этой теории достаточной убедительности: Шумпетер также не мог вывести процент из процессов, протекающих в сфере производства, и по-прежнему исходил из того, что процент устанавливается в сфере обращения. См. очерк Шумпетера о Бем-Баверке в книге: Spiegel, op. cit., pp. 577ff., впервые опубликованный в «Neue Oesterreichische Biograp- hie», Vienna, 1925.
174 Очерк Шумпетера в книге: Spiegel, ibid.,
p. 574.
176 E. Б e м - Б а в e p к, Капитал и прибыль, стр. 133 и след.
178 См. выше, стр. 164.
177 Е. Б е м - Б а в е р к, Капитал и прибыль, стр. 318.
178 Там же, стр. 311 и след.
170 Там же, стр. 371 и след.
180 См. «Positive Theory...», pp. 249ff.
181 Ibid., p. 286.
182 Ibid., pp. 253ff.
183 Ibid., p. 281.
184 W i c k s e 11, op. cit., pp. llOff.
186 Комментарии по этому вопросу можно найти в книге: Wicksell, Selected Papers, pp. 180ff.
188 Аналогичная точка зрения была высказана Хайеком. См. Hayek, Pure Theory of Capital, Chicago, 1941, pp. 171ff.
187 «Positive Theory...», p. 382.
188 Ibid., p. 386.
180 Ibid., p. 448.
100 В одном из своих последних очерков «Сила и экономический закон» Бем-Баверк рассматривает вопрос о том, может ли борьба профсоюзов привести к такому увеличению заработной платы, которое вызовет понижение процента ниже его «естественного» уровня. По мнению Бем-Баверка, это может иметь место лишь в том случае, когда повышается эффективность производства. Однако повышение цен, как он полагал, обычно сводит на нет действия профсоюзов. На протяжении длительных исторических периодов, писал Бем-Баверк, доля рабочих, организованных в профсоюзы, в национальном продукте должна увеличиться за счет остальных рабочих.
101 «Positive Theory...», р. 457.
102 Ibid., pp. 401ff.
103 Ibid., p. 410.
104 Ibid., pp. 419ff.
106 См. предисловие Смарта к книге «Capital and Interest», p. VIII; Смарт настаивает на том, что капиталисты получают «справедливый» доход.
108 Schumpeter, History..., р. 846.
107 Очерк Шумпетера в книге: Spiegel, op. cit., р. 575.
108 См. Seligman, op. cit., pp. 64ff.
100 Cm. W i c k s e 11, Value, Capital and Rent, и предисловие Эрика Линдаля к книге: W i с k s е 11, Selected Papers. Линдаль отмечает, что Викселль считал книгу «Positive Theory...», «откровением».
200 См. очерк Дж. М. Кларка о его отце Дж. Б. Кларке, приведенный в книге: S р i е g е 1, op. cit., р. 593.
201 Philosophy of Wealth, Boston, 1887, Распределение богатства, М.—Л., 1934.
202 Очерк Дж. М. Кларка в книге: S р i е g е 1, op. cit., р. 597.
203 «Philosophy...», р. 18.
204 Ibid., р. 20.
205 Dorfman, op. cit., Ill, pp. 188ff.
551
206 Clark, op. cit., pp. lOff.
207 Ibid., p. 13.
208 Ibid., p. 35.
209 Cm. ibid., p. 37.
210 Ibid., p. 44.
211 Ibid., p. 47.
212 Ibid., p. 56.
213 Ibid., p. 62.
214 Ibid., pp. 78, 80.
215 Ibid., p. 96.
216 Ibid., pp. 108-109.
217 Ibid., pp. Ill, 113.
218 Д ж. Б. Клар к, Распределение богатства, стр. 36, 88.
219 «Philosophy...», pp. 131 — 132.
220 Ibid., pp. 135-137.
221 Ibid., p. 157.
222 Ibid., p. 179.
223 Ibid., p. 190.
224 Ibid., p. 196.
225 Содержится в «Work and Wages», Nov. 1886, цитирована в книге: Dorfman, op. cit., p. 194.
226 John Bates Clark, Essentials of Economic Theory, New York, 1909.
227 Д ж. Б. К л a p к, Распределение богатства, стр. 47.
228 Там же, стр. 51.
229 Там же, стр. 40.
230 Там же, стр. 41.
231 Там же, стр. 35.
232 Там же, стр. 60.
233 Там же, стр. 57—59.
234 Там же, стр. 66.
235 Там же, стр. 75.
236 Там же, стр. 60 и след.
237 Там же, стр. 61.
238 Там же, стр. 78 и след.
239 Там же, стр. 79.
240 Там же, стр. 146.
241 Там же, стр. 285.
242 Т h о rs t е i n Veblen, The Place of Science in Modern Civilization, New York, 1919, p. 190.
243 Ряд разрозненных замечаний Кларка об экономических кризисах приводится в книге: Т. W. Н u t- с h i s о n, Review of Economic Doctrines, London, 1953, p. 260.
244 См. Дж. Б. Кларк, Распределение богатства, стр. 298—299.
245 Там же, стр. 300 и след. «Essentials...», р. 225.
246 Критические замечания Веблена в книге: Veblen, op. cit., pp. 188ff.
247 Дж. Б. Кларк, Распределение богатства, стр. 55—56.
248 Там же, стр. 66 и след.
249 Veblen, op. cit., р. 203.
250 Д ж. Б. К л а р к, Распределение богатства, стр. 90 и след.
251 Там же, стр. 103.
252 Тем самым предполагается обеспечение оптимальных пропорций, против чего решительно выступал Дж. Гобсон; он утверждал, что заработная плата, которая определяется в результате столкновения различных общественных сил, в действительности оказывается ниже уровня, соответствующего предельной производительности. См. выше, стр. 130.
253 Д ж. Б. К л а р к, Распределение богатства, стр. 259
и след.
254
Там
же.
255
Там
же, стр.
161 и след.
256
Там
же, стр.
181.
257
Там
же, стр.
260.
258
Цитируется в
книге: D о г f m a n, op. cit., vol. Ill,
Appendix III.
259 К. Менгер, Основания политической экономии, стр. 90 и след. См. также Eraldo Fossati, The Theory of General Static Equilibrium, London, 1957, pp. 48ff.
260 Д ж. Б. К л a p к, Распределение богатства, стр. 108 и след.
261 Там же, стр. 109.
262 Там же, стр. 112.
263 Там же, стр. 113.
264 Там же стр. 114.
265 Там же, стр. 121.
266 Там же, стр. 123 и след.
267 См. выше, стр. 150 и цит. соч., стр. 127 и след.
268 См. комментарии Хайека в: Н а у еk, op. cit., р. 93, где представления о капитале как о фонде он называет «совершеннейшей мистикой».
269 Д ж. Б. К л а р к. Распределение богатства, стр. 83.
270 Там же, стр. 132 и след.
271 Там же, стр. 136.
272 Там же, стр. 140.
273 См. ниже, стр. 444.
274 Наиболее четкое изложение дискуссии между Кларком и Бем-Баверком можно найти в книге: R о g i n, op. cit., p. 543ff. См. также Suranyi-Ungar, op. cit., p. 293.
275 V e b 1 e n, On the Nature of Capital, op. cit.r pp. 324ff.
276 Д ж. Б. Клар к, Распределение богатства,, стр. 150 и след.
277 Там же, стр. 237 и след.
278 Там же, стр. 241.
279 Там же, стр. 156.
280 Там же, стр. 229.
281 Там же, стр. 191.
282 Там же, стр. 145.
552
283 Там же, стр. 226 и след.
284 См. Stigler, op. cit., pp. 297—298. Другие экономисты нашего времени также используют теорию предельной полезности для обоснования поразительных апологетических заключений. Они утверждают, например, что изменения в размерах денежной заработной платы не оказывают или почти не оказывают влияния на удельный вес заработной платы и что заключение коллективных договоров не приводит к каким-либо изменениям в распределении доходов. Для доказательства подобных утверждений используется весь арсенал приемов маржиналист- ского анализа. Тем не менее опыт деятельности большинства профессиональных союзов оказывается совершенно противоположным. См. Н. М. Levinson, Unionism, Wage Trends and Income Distribution, Ann Arbor, 1951, pp. 114ff; Sidney Weintraub, On Approach to the Theory of Income Distribution, Philadelphia, 1958, pp. 53ff; Melvin Reder, Alternative Theories of Labor’s Share, в книге «The Allocation of Economic Resources», Moses Abramovitz, ed., Stanford, 1959, pp. 180ff. Среди сторонников этой точки зрения на самых крайних позициях стоит Милтон Фрид- мап, см. Milton Friedman, Some Comments on the Significance of Labor Unions for Economic Policy, в книге «Impact of Labor Union», pp. 204ff. Превосходным опровержением подобных взглядов может служить статья: Robert Ozanne, Impact of Unions on Wage Levels and Income Distribution, Quarterly Journal of Economics, May, 1959, pp. 177ff.
285 «Essentials...», pp. 35ff.
286 Ibid., VIII.
287 Ibid., p. 195.
288 Cm. Dorfman, op. cit., p. 202.
289 Кларк опубликовал две небольшие работы, посвященные проблеме монополии,—«The Control of Trusts», New York, 1901, и «The Problem of Monopoly», New York, 1904, однако обе они не содержат особенно интересных сведений.
290 «Essentials...», р. 374.
291 См. Joseph Dorfman, Thorstein Veblen and His America, New York, 1934, pp. 208ff.
292 «Essentials...», p. 454.
293 Ibid., p. 480.
294 К числу важнейших работ Мизеса относятся «The Theory of Money and Credit», 1912, перевод: 1934, испр. изд.: London, 1953; «Socialism», 1922, перевод: 1932, доп. изд.: London, 1951; «Omnipotent Government», New Haven, 1944; «The Anti-Capitalist Mentality», Princeton, 1956; «Theory and History», New Haven, 1957; «Epistemological Problems of Economics», 1933, перевод: Princeton, 1960.
295 «Theory and History», p. 4. Альтернативой логической последовательности являются «отступления от темы и бессвязное изложение». Во многих отношениях именно такой характеристики и заслуживает ряд понятий, используемых Мизесом.
296 «Human Action», р. 32.
297 Ibid., р. 199; см. также I. М. К i г z n е г, The Economic Point of View, Princeton, 1960, p. 162.
298 «Human Action», p. 14. Такое понятие явно совпадает с используемым Менгером понятием «неудовлетворенных желаний». См. выше, стр. 160.
299 См. ibid., рр. 21, 224.
300 Ibid., р. 407.
301 Ibid., р. 88.
302 Ibid., р. 122.
303 Ibid., р. 141.
304 Ibid., р. 164.
305 Ibid., р. 188.
306 Ibid., р. 193.
307 «Omnipotent Government», р. 83.
308 «The Anti-Capitalist Mentality», p. 107.
309 «Human Action», p. 118.
310 Ibid, p. 347.
311 Ibid., p. 350. Мизес явно имел в виду первое фундаментальное исследование в этой области недавно скончавшегося Генри Шульца. См. Н. Schultz, Theory and Measurement of Demand, Chicago, 1938.
312 «Human Action», p. 572.
313 Cm. Irving Fischer, The Making of Index Numbers, Boston 1922; Index Numbers, в книге «Encyclopaedia of the Social Sciences», VII, p. 652.
314 «Human Action», p. 223.
315 «Theory of Money and Credit», pp. 172, 176.
316 Cm. «Human Action», pp. 706ff.
317 Ibid., pp. 374ff.
318 Ibid., pp. 245ff.
319 Ibid., p. 237.
320 Ibid., p. 248.
321 Ibid., p. 259.
322 В книге: Vance Packard, The Hidden Persuaders, New York (Cardinal ed.), 1958, описаны приемы, позволяющие внушать потребителям желание покупать те товары, которые в более нормальных условиях они, вероятно, не захотели бы купить.
323 «Human Action», р. 205.
324 Ibid.
325 Ibid., р. 324.
326 См. также последующий раздел, посвященный теории Хайека, стр. 213.
327 «Human Action», p.
211, курсив мой.
328
Ibid.,
p. 390.
329
Ibid.,
p. 521.
330
Ibid.,
p. 391.
331
Ibid.,
p. 279.
332
Ibid.,
p. 497.
333
Ibid.,
p. 285.
334
Cm. F
r a n c i s
V.
Sutton, S. E. Harris,
Carl
К a у s e
n
and James Tobin, The
American Business Creed, Cambridge, 1956, и мою рецензию на эту книгу, помещенную в Dissent, Autumn, 1957, р. 372.
335 «Human Action», р. 309.
336 «Theory of Money and Capital», p. 90.
553
337 «Human Action», p. 264.
338 Ibid., p. 507.
339 Дискуссия между Хайеком и Найтом рассматривается ниже, см. стр. 444.
340 «Human Action», р. 488.
341 Ibid., р. 494.
342 Ibid., р. 478.
343 Систематический анализ утилитаризма содержится в книгах: Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, 1958, pp. 153ff; Elie H a- 1 e v y, The Growth of Philosophic Radicalism, переиздание: New York, 1949.
344 Вопрос о соотношении между количеством денег и функционированием механизма спроса и предложения подробно рассматривается в книге «The Theory of Money and Credit», p. 130.
345 «Human Action», p. 415.
348 Изложение теории Кейнса см. ниже, стр. 493.
347 «Human Action», р. 427.
348 См. предисловие Лайонела Роббинса к книге «Money and Credit», р. 12.
349 Ibid., pp. 48ff.
350 Ibid., p. 103.
351 Ibid., p. 139.
352 Ibid., p. 205.
353 «Human Action», p. 521.
354 «Money and Credit», p. 347.
355 Ibid., p. 352.
356 См. ниже, стр. 226—227.
357 См. Г. Хаберлер, Процветание и депрессия, стр. 72 и след.
358 «Human Action», р. 437.
359 Ibid., р. 438. См. также очерк: Mises, Nationalization of Credit, в книге: «Essays in European Economic Thought», L. Sommer, ed., Princeton, 1960, pp. 106ff.
360 «Human Action», p. 470.
361 Ibid., p. 566.
362 Ibid., p. 573.
363 Ibid.
364 На склонность Мизеса к извращению исторических фактов указано в моей рецензии на «Omnipotent Government», помещенной в журнале New Leader, July 29, 1944.
366 «Human Action», p. 587.
366 См. например, J. L. and Barbara Hammond, The Rise of Modern Industry, London, 7th ed., 1947; idem, The Village Labourer, London, переиздание: 1948; idem, The Town Labourer, London, переиздание: 1949; G. M. Trevelyan, English Social History, New York, 1942; chaps. XV and XVI, pp. 463ff; Henry Hamilton, England: A History of the Homeland, New York, 1948; G. D. H. C o- 1 e and Raymond Postgate, The British Common People 1746—1938, New York, 1939, pp. 118ff.
367 Cole and P о s t g a t e, op. cit., p. 127.
554
368 Cm. «Human Action», chap. XXI, pp. 584ff.
369 См. например, Fritz Machlup, The Economics of Seller’s Competition, Baltimore, 1952, pp. 126ff; Sidney Weintraub, Price Theory, New York, 1949, chap. 11, pp. 247ff.
370 «Human Action», p. 595.
371 Ibid., p. 600.
372 Cm. F. Kaufmann, Methodology of the Social Sciences, New York, 1944, pp. 224ff.B
373 Cm. Karl Polanyi, The Great Transformation, New York, 1944.
374 Cm. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Boston, 1958, chap. XIj pp. 152ff. Некоторый интерес представляет также то обстоятельство, что Мизес был связан с «обществом Джона Берча»— авторитарной правой политической группировкой. См. Alan F. Westin, The John Birch Society, Commentary, August, 1961, p. 99.
375 К числу опубликованных работ Хайека относятся: «Prices and Production», London, 1931; «Monetary Theory and Trade Cycle», New York, 1933; «Collectivist Economic Planning», London, 1935; «Monetary Nationalism and International Stability», London, 1937; «Profit, Interest and Investment», London, 1939; «The Pure Theory of Capital», Chicago, 1941; «The Road to Serfdom», Chicago, 1944; «Individualism and the Economic Order», Chicago, 1948; «John Stuart Mill and Harriet Taylor», Chicago, 1951; «The Counter-Revolution of Science», New York, 1952; «The Sensory Order», London, 1952, и «The Constitution of Liberty», Chicago, 1960.
376 Последняя статья называется «А Note on the Development of the Doctrine of Forced Saving», Quarterly Journal of Economics, November, 1932, перепечатана в сборнике «Profits, Interest and Investment».
377 B. J. Dempsey, Interest and Usury, Washington, 1943, p. 58.
378 Cm. «The Sensory Order», p. 173.
379 Ibid., p. 194.
380 Richard von Mises, Positivism, Cambridge, 1951, p. 61ff.
381 Cm. «Counter-Revolution of Science», Part Two, pp. 130ff, где Хайек приписывает эти ошибочные взгляды Сен-Симону, Конту и Гегелю; по мнению Хайека, их разделял и Шмоллер.
382 Ibid., р. 25.
383 Ibid., р. 30.
384 См. ibid., р. 209, п. 23.
386 Ibid., рр. 46-47.
386 Ibid., р. 34.
387 Ibid., р. 37.
388 Ibid., р. 40.
389 См. ibid., р. 54.
390 Ibid., рр. 59, 61, 75.
391 Ibid., р. 86.
392 Проблема коллективных учреждений всесторонне и глубоко исследуется в книге: Erich Kahler, The Tower and the Abyss, New York, 1957.
308 См. Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Culture, London, 1956.
304 См. очерки «Economics and Knowledge» и «The Uses of Knowledge in Society» в книге «Individualism and the Economic Order», pp. 33, 77.
306 Здесь снова обнаруживается противоречие, поскольку \Хайек допускал, что согласование субъективных оценок достигается в результате действия внешних факторов, и в то же время отказывался выводить равновесие из каких-либо других условий, кроме субъективных.
308 «Individualism and the Economic Order», p. 54. В другом очерке «The Facts of the Social Sciences» экономические понятия по-прежнему сводятся к логическим построениям.
307 «Meaning of Competition», ibid., p. 92.
308 Ibid., p. 93.
300 Анализ классической доктрины показывает, что Хайек опять-таки конструирует нереалистичную модель экономического человека. В обычной теории цена является конечным результатом, поскольку на рынке сталкиваются системы индивидуальных оценок, свойственных покупателям и продавцам.
400 «Individualism and the Social Order», p. 97.
401 Ibid., p. 103.
402 Ibid., p. 106.
403. «Prices and Production», pp. 48ff. Однако Хайек не хотел включать в свою теорию понятие ожиданий, что вызвало полемику между ним и Чарлзом О. Харди. См. Ch. Hardy, Risk and Risk Bearing, Chicago, 1931.
404 Cm. Raymond J. Saulnier, Contemporary Monetary Theory, New York, 1938, p. 235.
405 Hayek, Prices and Production, p. 58.
406 Ibid., pp. 57ff.
407 «Monetary Theory and the Trade Cycle», p. 97.
408 «Prices and production», p. 78.
400 Ibid., p. 73.
410 «Monetary Theory...», pp. 212ff.
411 Ibid., p. 203.
412 Ibid., p. 210.
413 Д ж. M. Кейн с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 184—185.
414 «Prices and Production», pp. 20ff.
415 «Pure Theory of Capital», pp. 47ff.
41 8 Ibid., pp. 89ff. Есть еще один интересный вопрос, который у Хайека не получал ответа: на протяжении какого срока можно пользоваться туннелем, не прибегая к ремонтным работам? См. также его статью «The Mythology of Capital» в журнале Quarterly Journal of Economics, February, 1936, перепечатанную в книге «Readings in the Theory of Income Distribution», Philadelphia, 1946, pp. 355ff.
417 «Readings...», ibid., p. 371.
418 Особенный интерес представляют очерк Найта «Capital, Production, Time and the Rate of Return» в книге «Economic Essays in Honour of Gustav Cassel», London, 1933, pp. 327ff, и его статья «Professor Hayek and the Theory of Investment» в Economic Journal, March, 1935, pp. 77ff. См. также ниже, глава 7, где рассматриваются взгляды Найта.
410 J. М а с h 1 u р, Professor Knight and the Period of Production, Journal of Political Economy, October,
1935, p. 577.
420 «Pure Theory...», p. 54.
421 Ibid., p. 330.
422 Ibid., p. 59.
423 Ibid., p. 264.
424 Ibid., pp. 66ff.
425 Ibid., pp. 103ff.
426 Ibid., p. 109.
427 Ibid., p. 129.
428 Современная трактовка соотношений между затратами и выпуском продукции приводится в книге: R. Dorfman, Р. A. Samuelson and R. М. Solow, Linear Programming and Economic Analysis, New York, 1958.
42J «Pure Theory...», p. 144.
430 Ibid., p. 170.
431 Ibid., p. 193.
432 Ibid., pp. 205ff.
433 Ibid., p. 250.
43 Cm. F. Gehrels and S. Wiggins, Interest Rates and Manufacturers’ Fixed Investment, American Economic Review, March, 1957, pp. 79ff.
43 «Profits, Interest and Investment», pp. 8ff-
438 Cm. Hayek, The Ricardo Effect, в книге «Individualism...», pp. 220ff; N. К a 1 d о r, Professor Hayek and the Concertina Effect, Econo mica, November, 1942, p. 360.
437 Lorie Tarshis, Changes in Real and Money Wages, Economic Journal, vol. 44, 1939, перепечатано в книге «Readings in the Theory of Income Distribution», pp. 330.
438 Seymour Melman, Dynamic Factors in Industrial Productivity, Oxford, 1956.
j30 «Prices and Production», p. 128.
440 «Monetary Theory», pp. 112ff.
441 Ibid., pp. 176ff.
442 Cm. «Prices and Production», p. 128. Представления Хайека сходны co взглядами некоторых шведских экономистов 1930-х годов, особенно со взглядами Иоганна Акермана. См. Erik Lundberg, Business Cycles and Economic Policy, London, 1957. pp. 114ff.
443 Knut Wicksell, Interest and Prices, London
1936, p. 167.
444 «Freedom and the Econcmic System», Chicago, 1939, p. 7. Эта брошюра написана несколько более популярным языком, чем его книга «The Road to Serfdom».
446 Решительную критику этих ^утверждений Хайека можно найти в книге: Herman Finer, Road to Reaction, Boston, 1945. См. также E. F. M. D u r- b i n, Professor Hayek on Economic Planning, «Problems of Economic Planning», London, 1949. p. 91; Raymond Williams, The Long Revolution, London, 1961, pp. 96ff.
555
446 «Constitution of Liberty», pp. 19ff.
447 Cm. «Capitalism and the Historians», Hayek, ed., Chicago, 1954; авторы этой книги пытаются доказать, что развитие капитализма не сопровождалось такими бедствиями, как низкая заработная плата, использование детского труда, антисанитарные условия производства и явная деградация населения.
448 См. Polanyi, op. cit.
449 См. Mills, op. cit.
450 Основными представителями австрийского маржи- налистского направления экономического либерализма являются Мизес и Хайек, но аналогичные взгляды высказывали и другие известные экономисты. К их числу относятся Жак Рюэфф (род. 1896 г.), принимающий активное участие в обсуждении проблем экономического развития Франции, и профессор Вильгельм Рёпке (род. 1899 г.) — немецкий экономист, много лет живущий в Швейцарии. Произведения Рёпке можно считать крайним проявлением идеологии экономического либерализма, в известном смысле он превосходит даже Мизеса; подобно другим представителям экономического либерализма, Рёпке без колебаний высказывает свое враждебное отношение к процессу урбанизации, а также к другим формам современного жизненного уклада. Рёпке не просто предпочитает децентрализацию — он стремится к возрождению мелких хозяйственных единиц, существовавших еще до XVIII в. См. его книги «А Human Economy», Chicago, 1960; «The Social Crisis of Our Time», Chicago, 1950. Хорошее изложение взглядов Рюэффа можно найти в его работе «А Letter to the Advocates of a Controlled Economy», в книге: Sommer, op. cit., pp. 133ff.
451 Cm. Weintraub, op. cit., pp. 2ff.
452 Henry Schulz, Theory and Measurement of Demand, Chicago, 1938.
453 P a u 1 H. Douglas, The Theory of Wages, 1934, переиздание: New York, 1957.
454 Ibid., pp. 76ff.
455 Douglas, Are There Laws of Production? American Economic Review, March, 1948, p. 41. Однако в исследовании Стефана Валаваниса, на которое ссылается Бенджамин Хиггинс в своей книге «Economic Development», New York, 1959, p. 379, приводятся противоположные данные: трудовой коэффициент у него равен 0,2, а капитальный коэффициент — 0,7. В изящной математической форме законы образования дохода изложены в очерке: Karl Menge г, The Logic of the Laws of Return, в книге «Economic Activity Analysis», 0. Morgenstern, ed., New York, 1954, pp. 49ff. Менгер исследует принцип убывающей доходности и производственную функцию с помощью методов математической логики. В этом очерке приводится детальный анализ различий между убывающим предельным продуктом и убывающим средним продуктом, а также влияния, оказываемого крупными и небольшими затратами. Общие законы образования дохода можно, как отмечает Менгер, расчленить на ряд более узких принципов, которые характеризуют самые разнообразные соотношения между изменениями затрат факторов производства и изменениями в размерах продукта. Очерк Менгера, содержащий виртуозный анализ, заслуживает самого тщательного изучения. Ссылки на другие современные исследования в этой области можно найти в книге: Н. Е. Ellis, ed., «А Survey of Contemporary Economics», Philadelphia, 1948, особенный интерес представляют статьи Б. Ф. Хэли (стр. 1) и В. Леонтьева (стр. 388).
456 См. D. Durand, Some Thoughts on Marginal Productivity, Journal oj Political Economy, December, 1937, p. 740; Horst Menders hausen, On the Significance of Professor Douglas’ Production Function, Econometrica, April, 1938, p. 145; E. H. Phelps-Brown, The Meaning df the Fitted Cobb-Douglas Function, Quarterly Journal of Economics, November, 1957, pp. 546ff.
457 Cm. R. A. Gordon, Short Period Price Determination in Theory and Practice, American Economic Review, June, 1948, pp. 265ff, и Richard A. Lester, Shortcomings of Marginal Analysis for Wages-Em pl oym ent Problems, American Economic Review, March, 1946, p. 63.
458 Фриц Махлуп в своей статье «Marginal Analysis and Empirical Research», American Economic Review, September, 1946, pp. 519ff, приводит доводы в пользу чисто субъективистского подхода; этой же точки зрения он придерживается и в книге «The Economics of Sellers’ Competition». Гордон в упоминавшейся выше статье в American Economic Review возражает Махлупу. Аргументация Гордона и Лестера кажется более убедительной.
459 Gordo n, op. cit., р. 269.
460 См. W. J. Е i t е m a n and G. Е. Guthrie, The Shape of the Average Cost Curve, American Economic Review, December, 1952, pp. 632ff.
461 Gordon, op. cit., p. 275.
462 См. P. Аллен, Математическая экономия, гл. 6; Paul A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cambridge, 1947, Appendix B, p. 380.
463 Cm. Lester, op. cit., p. 63.
464 M a c h 1 u p, op. cit., American Economic Review, p. 537.
465 См. H. M. Oliver, Jr., Marginal Theory and Business Behavior, American Economic Review, June, 1947, p. 376. См. также W. J. В aum ol, Marginalism and the Operations Research, Review of Economics and Statistics, October, 1958, pp. 210—211. Баумоль полагает, что предельные понятия могут использоваться предпринимателями, по крайней мере при самых общих, примерных и безотлагательных расчетах. Отказ от производства невыгодных товаров, по его мнению, может соответствовать маржиналистским принципам, однако это еще не свидетельствует о том, что приводимая в учебнике кривая безукоризненна.
466 См. Jacob Viner, The Utility Concept in Value Theory and Its Critics, The Journal of Political Economy, 1925, перепечатано в idem, The Long View and the Short, New York, 1958, pp. 182ff.
467 Попытка решения этих задач с помощью сложных математических методов содержится в книге: R a g- п а г Frisch, New Methods of Measuring Marginal Utility, Tubingen, 1932. Фриш опирался на теоретические работы Ирвинга Фишера, а также пытался использовать данные эмпирических обследований. Однако вряд ли можно полагать, что предельная полезность зависит от размеров годового потребления данного блага. См. ibid., р. 8.
468 см. статью Джорджа Стиглера в American Economic Review, March, 1947, p. 154.
556
Глава IV
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И УНИФИКАЦИЯ ТЕОРИИ
’Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 827.
2 См. такие работы, как P. Аллен, Математическая экономия, М., 1963, иД ж. Кемени, Дж. Снелл иД ж. Томпсон, Введение в конечную математику, М., 1963.
3 Основным источником биографических данных является автобиография, которая писалась в разное время и была издана дочерью Вальраса Алиной. См. William Jaffe, Unpublished Papers and Letters of Leon Walras, Journal of Political Economy, April, 1935, pp. 187ff; Marsel Boson, Leon Walras, Fondateur de la Politique Economique Scien- tifique, Paris, 1951. Жаффэ продолжает работу над книгой, которая обещает стать исчерпывающим исследованием о жизни и трудах Вальраса.
4 См. Boson, op. cit., р. 80.
5 Ibid., р. 95.
6 См. Schumpeter, op. cit., р. 828, и очерк Хикса о Вальрасе в: «The Development of Economic Thought», H. W. Spiegel, ed., New York, 1952, pp. 581ff.
7 В о s о n, op. cit., p. 24.
3 Ibid., p. 41.
9 Ibid., pp. 48ff. Хороший анализ социальной обстановки можно найти в: J. М. Thomson, Louis Napoleon and the Second Empire, New York, 1955, pp. 78ff.
10 Boson, op. cit., p. 68.
11 Этот момент наиболее резко подчеркнут в Lesson 42, Taxation, главной работы Вальраса «Elements of Pure Economics». Книга Вальраса была переведена Уильямом Жаффэ и издана в Лондоне в 1954 г. Перевод был осуществлен с издания 1926 г. См. стр. 447 указанного перевода.
12 Boson, op. cit., рр. 138ff.
13 Ibid., p. 313 ff.
14 Cm. «Etudes d’Economique Sociale».
15 Boson, op. cit., p. 194.
16 «Elements...», p. 37.
17 Ср. цитату в: Boson, op. cit., p. 103.
18 Хикс, очерк о Вальрасе в: Spiegel, op. cit., p. 581ff.
19 Boson, op. cit., p. 189.
20 Cm. «Elements...», Lesson 2 and 3, pp. 58ff.
21 Ibid., p. 43.
22 Ibid., p. 511.
23 Ibid., Lesson 8, pp. 115ff.
24 Ibid., p. 40. Курсив автора.
25 См. там же, примечания переводчика, passim. См. также George Stigler, The Mathematical Method in Economics, Five Lectures on Economic Problems, London, 1949, pp. 37ff. Стиглер поднимает ряд важных вопросов использования математических методов в экономическом анализе.
26 «Elements...», р. 380.
27 Ibid., р. 83-
28
29
30
Ibid., р. 212.
Ibid., р. 162.
Глубокий анализ этого вопроса дан в: D о n Р a t i n- k i n, Money, Interest and Prices, Evanston, 1956, p. 380.
31 «Elements...», p. 224.
32 Leo R о g i n, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956, p. 432.
33 «Elements...», p. 227.
34 Ibid., pp. 218-219.
35 Ibid., p. 83.
36 См. Льюс P. иРайфа X. Игры и решения, М., ИЛ, 1961, стр. 33 и след; 416 и след.
37 Об истории использования этих понятий см. Schumpeter, op. cit., рр. 1060ff.
38 См. ниже, стр. 378.
39 «Elements...», р. 186.
40 Ibid., р. 242.
41 См. примечание, J a f f ё, ibid., р. 529.
42 См. Indith В. Balderston, General Economic Equilibrium в: «Economic Activity Analysis», O. Morgenstern, ed., New York, 1954, pp. 15ff.
43 «Elements...», p. 268.
44 Ibid., pp. 218ff.
45 Ibid., p. 274.
46 Ibid., p. 296.
47 Knut Wicksell, Value, Capital and Rent, (1893), перевод: London, 1954, p. 167.
48 Cm. George Stigler, Production and Distribution Theories, New York, 1941, p. 253.
49 «Elements...», pp. 243ff.
50 Ibid., p. 242.
51 Как выразился Шумпетер, это было смелое теоретизирование. См. его History, р. 1010п. Здесь имелась в виду также другая, отличная от этой теория издержек. См. М. Friedman, Walras and His Economic System, American Economic Review, Dec., 1955, pp. 900ff.
52 «Elements...», pp. 214ff.
53 Ibid., p. 385.
54 См. там же, стр. 550, примечание Жаффэ, и J. R. Hicks, Theory of Wages, London, 1932, p. 234.
55 «Elements...», p. 552.
66 Ibid., p. 415.
57 Cm. Schumpeter, op. cit., p. 934.
58 «Elements...», p. 269.
59 Ibid., pp. 531-533.
60 Ibid., p. 38.
61 Ibid., pp. 333-334.
62 Cm. A. W. M a r g e t, The Theory of Prices, New York, 1942, II, 70ff.
557
лз
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Дон Патинкин утверждал прямо противоположное. Он считал, что в модели Вальраса экономическое равновесие устанавливается прежде всего на товарном рынке, а затем на денежном рынке. Причем равновесие в последнем случае устанавливается совершенно иным путем и не затрагивает первого рынка. См. Р a t i n k i n, op. cit., pp. 401—403.
Cm. G. L. S. Shackle, Time in Economics, Amsterdam, 1957, p. 93. Шэкл подчеркивает важность принципа всеобщей взаимозависимости для понимания динамического развития.
Friedman, op. cit., р. 908.
Г. Л. Мур пытался преодолеть слабые места Валь- расовой системы с помощью эмпирических кривых спроса и предложения, охватывающих как явления монополии, так и свободной конкуренции. См. «Synthetic Economics», New York, 1929, pp. 109ff.
Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generate, Paris, 1919. См. перевод: Mind and Society, 4 vols, New York, 1935.
Прекрасный очерк «Pareto As I Knew Him», принадлежащий перу Мариан Эйнауди, дочери итальянского экономиста, бывшего президента Италии, напечатан в Atlantic Monthly, Sept., 1935, pp. 336ff, см. также G. H. В a u s q u e t, Vilfredo Pareto, Sa vie et son oevre, Paris, 1928. Работа содержит полезный очерк жизни и творчества Парето.
Т. W. Hutchison, Review of Economic Doctrines, Oxford, 1953, p. 217.
H. Stuart Hughes, Consciousness and Society, New York, 1958, p. 63.
Cm. Schumpeter, op. cit., p. 860.
Hughes, op. cit., p. 260.
Цит. no: George С. Homans and Charles P. Curtis, Jr., An Introduction to Pareto, New York, 1934, pp. 295ff.
Talcott Parsons, Structure of Social Action, Glencoe, 1949.
Pareto, Les Systemes Socialistes, 2 vols, 1902, 2nd ed., Paris, 1926.
«Manuel d’ficonomie Politique», Paris, 1909, p. 363. «Les Systemes socialistes», 11, 338.
Ibid., p. 402.
Ibid., p. 413.
Cm. Karl Mannheim, Ideology and Utopia, New York, 1936, p. 138.
Pareto, op. cit., p. 430.
Hughes, op. cit., p. 79.
Cm. James Burnham, The Machiavellians, New York, 1943.
Цит. по вышеупомянутой работе Гоманса и Куртиса. Приложение, стр. 291 (перевод).
См. Hughes, op. cit., р. 262.
См. Mannheim, op. cit., p. 138.
См. Franz Borkenau, Pareto, London, 1936, p. 169.
«Mind and Society», para. 2174.
Cm. Burnham, op. cit., p. 206.
90 «Mind and Society», para. 1531.
01 Cm. Burnham, op. cit., p. 219. В отрывке чувствуется молчаливое одобрение взглядов Парето.
92 «Mind and Society», para. 2068.
93 Цит. no: Theo Suranyi-Ungar, Economics in the Twentieth Century, New York, 1931, p. 128.
94 Pare to, Cours d’economie politique, 2 vols, Lausanne, 1896—1897.
95 Pareto, Manuale d’economia politica, Milan, 1906. Эта работа продолжает анализ кривой безразличия, начатый Эджвортом.
98 См. G. Demaria в: Spiegel, op. cit., р. 645.
97 «Cours...», 1, 18, а также A. Tustin, Mechanisms of Economic Systems, London, 1953.
98 J. A. Schumpeter, Ten Great Economists, New York, 1951. pp. 127—128.
"Pareto, On the Economic Phenomenon, International Economic Papers, № 3, London, 1953, p. 184. Этот обмен мнениями с Бенедетто Кроче первоначально опубликован в Gio male degli Economist в 1900 г.
100 Knut Wicksell, Selected Papers on Economic Theory, London, 1958, pp. 142fr.
101 «Cours...», 11, 100.
102 См. дискуссию Кроче — Парето, опубликованную в International Economic Papers, № 3, pp. 172ff.
103 «The Validity of Pareto’s Theories», Saturday Review of Literature, May 25, 1935, p. 12.
104 См. вступительную статью.— Прим. ред.
105 «Manuel...», р. 227.
106 О. Morgenstern, Experiment and Large Scale Computation in Economics, «Economic Activity Analysis», pp. 484ff.
10' Cm. Schumpeter, History, p. 1062.
108 Cm. R. G. D. A 1 1 e n and J. R. H i c k s, A Reconsideration of the Theory of Value, Economica, February, 1934, pp. 52ff, May, 1934, pp. 196ff. См. также J. R. Hicks, Value and Capital, London, 1930.
109 «Manuale...», p. 264.
110 См. его статью «Mathematical Economics», написанную для «Encyclopedia des Sciences Mathematiques» и перепечатанную в International Economic Papers. № 5, pp. 58ff.
111 См. C. R. N о у e s, Economic Man, New York, 1948, II, 1327.j
112 «Cours...», I, 28.
113 Cm. N. К a 1 d о r, Essays on Value and Distribution, London, Г960, pp. 147—148.
114 Knut Wicksell, Lectures on Political Economy, перевод: London, 1934, I, 83. Паретовский оптимум исходит из примата классификации желаний над классификацией товаров, так как это позволяет покупателю определить свое отношение к рынку. См. У. Баумоль, Экономическая теория и исследование операций, М., 1965, стр. 302.
115 «Mind and Society», para. 2128.
116 Homans and Curtis, op. cit., p. 279ff.
558
117 «Cours...», II, pp. 2991
118 «Manuel...», p. 393.
110 О. Ланг e, Введение в эконометрику, M., «Прогресс», 1964, стр. 163—164.
120 См., например, данные в «Income Distribution in the United States», 1953, United States Department of Commerce. Cm. F. R. M a c a u 1 e y, Pareto’s Law, в: «Income in the United States», Vol. II, National Bureau of Economic Research, New York, 1922.
121 Stigler, op. cit., p. 367.
122 См. дискуссию между Шульцем и Джоном Р. Хиксом в: Econo mica, February, 1932, р. 79, August, 1932, р. 285.
123 См. International Economic Papers, № 5, p. 86; «Manuel...», p. 288.
124 «Manuel...», p. 187.
125 Ibid., p. 189.
126 Ibid., p. 601ff.
127 Ibid., pp. 613ff.
128 «Cours...», II, p. 278.
120 «Cours...», II, p. 210.
130 К этим работам относятся: «Taxation of War Wealth», Oxford, 1941 (в соавт. c L. Rostas); «Standards of Local Expenditure», Cambridge, 1943; «Incidence of Local Rates», London, 1945. Перу миссис Хикс принадлежат работы по государственным финансам.
131 См., в частности, принадлежащие Хиксу «Essays in World Economics», London, 1959.
132 Hicks, Value and Capital, Oxford, 1939.
133 The Stability of Economic Growth, в: International Economic Papers, № 8, London, 1958, p. 55.
134 «Value and Capital», p. 4; cm. Hicks, A. Contribution to the Theory of Trade Cycle, Oxford, 1950.
135 «Value and Capital», p. 7.
130 Ruby T. N о г r i s, The Theory of Consumer’s Demand, New Haven, 1941, p. 51.
137 Tapas Majumdar, The Measurement of Utility, London, 1958. Dennis Robertson, Utility and All That, London, 1952.
138 «Value and Capital», p. 18.
130 Cm. Norris, op. cit., pp. 98ff.
140 Ibid., p. 54.
141 «Value and Capital», p. 27.
142 Cm. Paul A. Samuelson, Consumption Theorems in Terms of Overcompensation rather than Indifference Comparisons, Economica, February, 1953, p. 1.
143 Dennis Robertson, Utility and All That, Economic Journal, December, 1954, p. 665.
144 Norris, op. cit., pp. 63ff.
145 Ibid., p. 74.
146 Ibid., p. 140.
147 Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Boston, 1921, pp. 69ff.
148 J. R. Hicks, Rehabilitation of Consumers’ Surplus, Review of Economic Studies, February, 1941, pp. lOff.
149 Cm. Hicks and Allen, A Renconsideration of the Theory of Value, Economica, February, 1934. pp. 52ff; May, 1934, p. 196ff.
150 Cm. J. M. Clark, Realism and Relevance in the Theory of Demand, Journal of Political Economy, August, 1946, pp. 347ff.
151 Lionel Robbins, в предисловии к: M a j u m- d a r, op. cit., p. IX.
152 J. R. Hicks, A Revision of Demand Theory, Oxford, 1956.
153 Cm. Majumdar, op. cit., passim.
154 Samuelson, Consumption Theory in Terms of Revealed Preference; Economica, 1948, pp. 243ff.
156 См. T. С. К о о p m a n s, Theree Essays on the State of Economic Science, New York, 1957, p. 18ff.
158 «Revision of Demand Theory», pp. 17—18.
167 О теории упорядочения см. К. Arrow, Social Choice and Individual Value, New York, 1951, pp. 9ff. См. также J. Rothenberg, The Measurement of Social Welfare, Englewood Cliffs, 1961, passim.
158 «Revision...», pp. 84ff.
150 .«Value and Capital», p. 76.
1(30 Cm. Ibid., pp. 216ff. См. также Samuelson, Foundations..., p. 188. Формула Хикса превратилась в математическое обоснование философской предпосылки Фрэнка Найта о бесконечности производственного периода.
161 «Value and Capital», р. 83.
162 Ibid., р. 67ff.
163 См. Paul A. Samuelson, The Stability of Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics, Econometrica, April, 1941, pp. Iliff.
164 Cm. J. R. H i c k s, Foundations of Welfare Economics, Economic Journal, December, 1939, pp. 69ff.
166 W. В a u m о 1, Economic Dynamics, New York, 1951, p. 3.
160 «Value and Capital», p. 127.
167 Ibid., p. 135.
168 Cm. Paul A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cambridge, 1947, pp. 123ff.
169 См. P a t i n k i n, op. cit., pp. 83—84.
170 «Value and Capital», p. 195.
171 Ibid., p. 197.
172 Ibid., p. 215.
173 «А «Value and Capital» Growth Model» в Review of Economic Studies, June, 1959, pp. 159ff.
174 Ibid., p. 160.
175 «Value and Capital», p. 84.
176 Eric Roll, A History of Economic Thought, New York, 1942, p. 512.
177 H i c k s, A Contribution to the Theory of the Trade Cycle.
178 Перепечатано из Economica, May, 1949 в «Readings in Business Cycles and National Income», Alvin H.
559
Hansen and R. V. Clemence, eds, London, 1953, p. 249.
179 Cm. Sinichi Ichimura, Toward a General Non-Linear Macrodynamic Theory of Economic Fluctuations, в «Post-Keynesian Economics», K.K. Kuri- hara, ed., New Brunswick, 1954, pp. 192ff.
180 Cm. Samuelson, Foundations..., p. 340.
181 Cm. S. Ichimura, Historical Development of Economic Dynamics, Tokyo, 1955.
182 «Trade Cycle», pp. 29ff.; см. также W. J. В a u m о 1, Economic Dynamics, 2nd ed., New York, 1959, p. 268.
183 «Trade Cycle», p. 17.
184 Ibid., pp. 95ff.
185 См. о Дж. M. Кларке выше, стр. 104.
186 См. точку зрения Даниэля Хамберга в его работе «Economic Growth and Stability», New York, 1956, p. 235.
187 См. выше, стр. 225.
188 Hamberg, op. cit., p. 291.
189 Cm. W. W. R о s t о w, Some Notes on Mr. Hicks and History, American Economic Review, June, 1951, pp. 316ff. Ростоу считает, что тип инвестиций оказывает глубокое влияние на высоту «потолка».
190 «The Theory of Wages», London, 1932.
191 Острая критика формулы Хикса содержится в работе G. L. S. S h а с k 1 е, The Nature of the Bargaining Process в «The Theory of Wage Determination», John T. Dunlop, ed., London, 1957, pp. 299ff.
192 Cm. «Theory of Wages», pp. 140ff.
493 Ibid., pp. 121ff.
194 Ibid., pp. 115ff.
195 Cm. Kenneth E. Bouldin g, Wages as a Share in the National Income, в «Impact of the Labor Unions», New York, 1951, p. 132.
96 Paul A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cambridge, 1947.
*97 Они охватывают серию статей в Economica'. «Notes on the Pure Theory of Consumer Behavior» (1938), «Consumption Theorems in Forms of Revealed Preference» (1948), «Consumption Theorems in Terms of Overcompensation Rather than Indifference Comparisons» (1953). См. также статью «Numerical Representation of Ordered Classification and the Concept of Utility» (1938) в Review of Economic Studies.
198 «Foundations...», p. 6.
199 П. Самуэльсон, Экономика, M., 1964.
200 Пример мастерского владения кейнсианскими формулами Самуэльсон показал уже в своем раннем очерке «The Simple Mathematics of Income Determination». Этот очерк помещен в книге «Income, Employment and Public Policy, Essays in Honor of Alvin H. Hansen», New York, 1948, pp. 133ff. Образец применения статистических методов к расчетам функции потребления Самуэльсон показывает в приложении к главе XI работы Элвина Хансена «Fiscal Policy and Business Cycles», New York, 1941, pp. 250ff. Это замечательная работа, особенно если учесть, что ее автору было лишь 25 лет.
201 Но даже Самуэльсон не мог полностью осуществить синтез, о чем свидетельствует явное противоречие между его трактовкой теории фирмы и проблемы монополии. Возможно, это противоречие является неразрешимым. В таком случае оно доказывает невозможность использовать все постулаты классической школы. См. П. Самуэльсон, Экономика, М., «Прогресс», 1964, гл. 24, 25.
202 Samuelson et al., Linear Programming and Economic Analysis, New York, 1958. Среди записок, составленных для «Рэнд корпорейшн», имеются «Equilibrium Points in Game Theory» (1950), «Notes on the Dynamic Approach to Saddlepoints and Extremum Points» (1951), «Linear Programming and Economic Theory» (1955). По вопросам линейного программирования и теории игр см. ниже.
203 «Economic Theory and Mathematics, An Appraisal», Papers and Proceedings of the American Economic Association, May, 1952, pp. 56ff.
204 «The Impact of the Labor Union», D.M. Wright, ed., New York, 1951.
205 «Foundations...», p. 3.
206 Ibid.
207 Cm. A. G. Papandreau, Economics as a Science, New York, 1958, p. 11.
208 «Foundations...», p. 5.
209 Ibid., pp. 70ff.
210 Ibid., p. 183.
211 Ibid., pp. 63ff.
212 Ibid., p. 91.
213 Cm. Robertson, Utility and All That, p. 21.
214 M a j u m d a r, The Measurement of Utility, p. 83.
215 Ibid., pp. 84-85.
216 См. H. W о 1 о z i n, Inflation and the Price Mechanism, Journal of Political Economy, October, 1959, pp. 463ff.
217 «Foundations...», p. 198.
218 П. Самуэльсон, Экономика, стр. 434. Критика этой точки зрения содержится в I.D.M. L i t- 11 е, A Critique oi Welfare Economics, 2nd ed., Oxford, 1957, pp. 180ff.
219 A. Bergson, A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, Quarterly Journal of Economics, February, 1938, pp. 310ff. См. также Arrow, op. cit. Эрроу, однако, подходил co слишком узким критерием к оценке третьей партии в политике. Ср. в связи с этим роль либеральной партии в Нью- Йорке. Кроме того, Эрроу рассматривал лишь последовательный ряд предпочтений, исключая такое из них, на котором единодушно соглашались все потребители. См. В a um ol, op. cit., рр. 271ff; и Rothenberg, op. cit., chap. 2, pp. 17ff.
220 «Foundations...», pp. 220.
221 Ibid., p. 244.
222 Ibid., p. 246.
223 См. его «Further Commentary on Welfare Economics», American Economic Review, September, 1943, p. 605.
224 «The Gains from International Trade», Canadian Journal of Economics and Political Science, May, 1939, pp. 195ff.
.560
225 «Welfare Economics and International Trade», American Economic Review, June, 1938, pp. 261ff.
228 Samuelson and W. S t о 1 p e r, Protection and Real Wages, Review of Economics and Statistics, November, 1941, pp. 58ff.
227 Основные идеи по этому вопросу были высказаны в ряде статей, опубликованных в Review of Economics and Statistics'. «The Pure Theory of Public Expenditures», November, 1954, pp. 387ff; «А Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditures», November, 1955, pp. 350ff; «Aspects of Public Expenditure Theory», November, 1958, pp. 332ff.
228 Review of Economics and Statistics, November, 1958, pp. 334.
229 См. статью Самуэльсона «Dynamic Process Analysis» в «А Survey of Contemporary Economics», vol. I, H. S. Ellis, ed., Philadelphia, 1948, p. 352.
230 «Foundations...», p. 284.
231 Ibid., pp. 270ff.
232 Ibid., pp. 313ff.
233 Ibid., pp. 320ff.
234 Cm. «Dynamic Process Analysis», p. 376.
235 «The Interaction between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration», Review of Economics and Statistics, May, 1939; перепечатано в «Readings in Business Cycle Theory», Philadelphia, 1944, pp. 261ff.
238 a 1 v i n II. H a n s e n, Fiscal Policy and Business Cycles, New York, 1941, pp. 261 ff. См. также Samuelson, Alvin Hansen and the Interaction between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration, Review of Economics and Statistics, May, 1959, pp. 183ff.
237 В его обзоре «Основ» Самуэльсона, опубликованном в American Economic Review, December, 1948, p. 910.
238 «Spatial Price Equilibrium and Linear Programming», American Economic Review, June, 1952, pp. 213ff.
239 Самуэльсон в записке для «Рэнд корпорейшн» «Linear Programming and Economic Theory», May, 1955, p. 4.
240 Ibid., p. 4.
241 Конечно, следует ожидать и других, не менее важных исследований Самуэльсона. Он, несомненно, будет и впредь применять свой весьма эффективный математический инструментарий к решению различных экономических проблем прошлого и настоящего. Свидетельством этого являются недавно осуществленные им исследования работ Рикардо и Маркса с помощью современной аналитической техники. Результаты этих исследований представлены в статьях: «Wages and Interest: Marxian Economic Models», American Economic Review, December, 1957, pp. 884ff; «А Modern Treatment of the Ricardian Economy», Quarterly Journal of Economics, February, 1959, pp. Iff.
242 См. E. Whittaker, Schools and Streams of Economic Thought, Chicago, 1960, pp. 85ff. Schumpeter, History, p. 240. Шумпетер считал автором идеи «Экономической таблицы» экономиста и банкира XVIII в. Р. Кантильона. См. Cantillon, Essay on the Nature of Trade (1755), переиздание: London, 1959, p. 45.
243 «Капитал», т. II, ч. III. См. также. S. Т s u г u, Appendix А., в «Paul Sweezy’s Theory of Capitalist Development», New York, 1942, p. 365.
244 «On Some Systems of Equations in Mathematical Economics» Econometrica, October, 1951, pp. 368ff. Эта статья представляет перевод более ранней работы, опубликованной на немецком языке. Математические построения Вальда весьма сложны. Более доступную трактовку их см. в: R. Dorfman, Р. A. Samuelson, and R. М. Solo w, Linear Programming and Economic Analysis, pp. 366ff.
245 Wassily W. Leontief, The Structure of American Economy, 1919—1929, Cambridge, 1941.
248 Оскар Ланге считает, что концепция Леонтьева вытекает из Марксовых схем воспроизводства. См. Ланге, цит. соч., стр. 223. Возможно, это продиктовано его желанием узаконить метод затраты — выпуск для советской науки. Работы Леонтьева, как он мне сообщил в декабре 1960 г., не имеют отношения к советским источникам *.
247 К. М. S a v о s n i с к, цит. по: Н. В г е m s, Output, Employment, Capital and Growth, New York, 1959, p. 6.
248 Cm. «Economic Activity Analysis», Oskar Morgenstern, ed., New York, 1954, pp. 493ff.
249 Cm. Lionel McKenzie, On the Existence of a General Equilibrium for a Competitive Market, Econometrica, January, 1959. См. также известную дискуссию Мизеса — Хайека — Ланге — Лернера о возможности экономических расчетов в социалистической экономике.
250 «Structure of American Economy», p. 3.
251 Ibid., p. 39.
252 Ibid., p. 23.
253 Ibid., p. 35.
254 Leontief, Recent Developments in the Study of Interindustrial Relationships, American Economic Association Proceedings, May, 1949, p. 214.
266 Cm. Leontief, Output, Employment, Consumption and Investment, Quarterly Journal of Economics, February, 1944, pp. 290ff; Exports, Imports Domestic Output and Employment Q JE, February, 1946, pp. 171ff. См. также С. P. Modi in and G. Rosenbluth, Treatment of Foreign and Domestic Trade and Transportation in the Leontief Input — Output Table. Работа помещена в вышеуказанном сборнике под редакцией Моргенштерна, стр. 129 и след.
268 В. Леонтьев, Исследования структуры американской экономики, М., Госстатиздат, 1958, стр. 111 и след.
267 Там же, стр. 68 и след.
258 Там же, стр. 72—73. Интересное, хотя и несколько механистическое применение метода Леонтьева к оценке экономических проблем разоружения * Тот факт, что работы В. Леонтьева возникли под непосредственным влиянием разрабатывавшихся в СССР балансов, не подлежит никакому сомнению и признан самим Леонтьевым в статье, опубликованной в журнале «Плановое хозяйство», № 12 за 1925 г. См. В. С. Немчинов, Избранные соч., т. 3, М., 1967, стр. 83 и след.— Прим. ред.
36 Б. Селигмен
561
имеется в: W. W. L е о n t i е f and М. Н о f f е n- b е г g, The Economic Effects of Disarmament, Scientific American, April, 1961, p. 47.
269 Cm. «National Bureau of Economic Research, Input — Output Analysis: An Appraisal», Princeton, 1955, особенно Carl F. C h r i s t, A Review of Input — Output Analysis, pp. 137ff.
260 Х.Ченери и П. Кларк, Экономика межотраслевых связей, М., ИЛ, 1962, стр. 177 и след.
261 Там же, стр. 171—172.
262 Koopmans, op. cit., р. 191. Купманс считает, что эти показатели мирного времени не будут особенно подходящими для таблиц затраты — выпуск, рассчитанных на период войны.
263 X. Ч е н е р и и П. К л а р к, Экономика межотраслевых связей, стр. 203 и след.
264 См. L е о n t i е f, The Decline and Rise of Soviet Economic Science, Foreign Affairs, January, 1960, pp. 261 ff. См. также Lange, Essays in Economic Planning, Calcutta, 1960, pp. 40ff; R. W. Campbell, Soviet Economic Power, Cambridge, 1960, p. 99; A1 e c Nove, The Soviet Economy, New York, 1961, p. 208; B. Ward, Kantorovich on Economic Calculation, Journal of Political Economy, December, 1960, pp. 545ff.
265 Koopmans, op. cit., p. 102.
266 H. M. Smith, Leontief’s Open Input — Output Models в «Activity Analysis of Production and Allocation, T. C. Koopmans, ed., New York, 1951, pp. 136-137.
267 В. Леонтьев, Исследования структуры американской экономики.
268 См. Christ, op. cit., р. 139.
269 См. R. W. Goldsmith в NBER, op. cit., р. 4. См. там же, комментарии Рутледжа Випинга, стр. 31 и след.
270 V i n i n g, op. cit., р. 42.
271 Paul A. Samuelson, Abstract of a Theorem Concerning Substitutability in Open Leontief Models, в «Activity Analysis...», Koopmans, ed., pp. 142ff.
Глава, V
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
1 О Лонгфилде см. статью: Е. R. A. Seligman, On Some Neglected British Economists, в «Essays in Economics», New York, 1925, pp. 65ff.
2 Основные биографические данные о Сиджвике см. в книге: Henry Sidgwick: A memoir, London, 1906.
3 Henry Sidgwick, Principles of Political Economy, London, 1883.
4 Цитируется Джоном Мейнардом Кейнсом в книге «Essays in Biography», London, 1933, p. 161.
6 «Political Economy», p. 24.
6 Как указывает Шумпетер, сделать это довольно трудно, но английские утилитаристы часто выражали несокрушимую веру в прогресс. См. J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 806.
7 «Political Economy», pp. 34ff.
8 Ibid., pp. 60—61.
9 Ibid., p. 124.
10 Ibid., p. 150.
11 Ibid., p. 131.
12 Ibid., p. 139.
13 Ibid., p. 208.
14 Ibid., p. 408.
15 Ibid., p. 414.
16 Ibid., p. 419.
17 См. H 1 a M у i n t, Theories of Welfare Economics, Cambridge, 1948, p. 131.
18 «Political Economy», p. 500.
19 Ibid., p. 516.
20 Cm. Wicksteed, Common Sense of Political Economy, London, 1933, II, p. 771.
21 Ibid., p. 705.
22 Ibid., I, p. V.
23 H. W. Spiegel, The Development of Economic Thought, New York, 1952, p. 700.
24 Philip H. Wicksteed, The Alphabet of Economic Science, переиздание: New York, 1955.
25 Wicksteed, Common Sense of Political Economy, Vol. I, p. 373. Роббинс и Стиглер полагают в своих комментариях, что отказ Уикстида от его точки зрения был чисто словесным и касался лишь конкретной математической трактовки. См. предисловие Роббинса к книге «Common Sense...», р. XI, и книгу Стиглера «Production and Distribution Theories», New York, 1941, p. 333. См. также: J. R. Hicks, Theory of Wages, London, 1932, p. 236. Хикс говорит, что формулировка Уикстида вполне правильна, если предположить наличиепостоянной доходности. Критика Эджворта и Парето представляется, однако, хорошо обоснованной, поскольку постоянная доходность как всеобщий принцип — сомнительное допущение. Решение Викселля более изящно: он полагал, что теорема Эйлера применима, когда фирма ведет свои операции в самой низкой точке кривой предельных издержек, потому что там доходность есть величина постоянная.
26 Издание Роббинса, представляющее собой первоклассный образец научной публикации, включает некоторые важные работы Уикстида, в частности его первую статью о марксизме и президентское выступление перед секцией F Британской ассоциации о пределах и методе экономической науки (1913 г.).
27 См. «Alphabet...», р. 8.
28 Ibid., р. 7.
29 Ibid., р. 15.
30 Ibid., р. 53.
Ibid., р. 93.
562
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Ibid., p. 111.
«Common Sense...», I, p. 380.
Ibid., p. II, p. 776.
Ibid., p. I, p. 361.
Cm. George Caton a, The Powerful Consumer, New York, 1960, pp. 138ff.
Cm. Randall Jarell, A Sad Heart at the Supermarket, Daedalus, Spring, 1960, p. 362.
«Common Sense...», I, p. 82.
Ibid., II, p. 753.
Ibid, I, pp. 107ff.
Ibid., p. 114.
См. M. В 1 a n g, Ricardian Economics: A Historical Study, New Haven, 1958.
Cm. Stigler, op. cit., p. 59.
«Common Sense...», II, 533.
Ibid., p. 540.
Ibid., pp. 506 and 785.
W i с к s t e e d, Coordination of the Laws of Distribution, London, 1894, переиздание: 1932.
См. Stigler, op. cit., p. 328.
Cm. Knut Wicksell, Lectures on Political Economy, London, 1934, I, p. 129, и Hicks, op. cit., p. 238.
Francis Y. Edge worth, Mathematical Psychics, London, 1881.
«Papers Relating to Political Economy», 3 vols, London, 1925.
«Papers...», II, p. 5.
J. M. Keynes, Essays in Biography, London, 1933, p. 282.
Ibid., p. 285.
«Papers...», I, p. 31.
Ibid., pp. 26ff.
Ibid., p. 55.
«Mathematical Psychics», p. 7.
Marshall, Pure Theory of Foreign Trade and Pure Theory of Domestic Values, London, 1879, переиздание: 1949.
См. его работу «Чистая теория налогообложения», перепечатанную в книге «Classics in the Theory of Public Finance», R. A. Musgrave and A. T. Peacock, eds, London, 1958, p. 119.
Ibid., p. 121.
Cm. «Papers...», II, 475.
Ibid., I, pp. 61ff.
Ibid., p. 66.
Ibid., I, pp. 79ff.
Cm. Augustin Cournot, Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, 1897, переиздание: New York, 1960, pp. 79ff.
«Papers...», I, pp. Iliff.
Cm. Gustav Cassel, Quantitative Thinking in Economics, London, 1935, и его «Theory of Social Economy», New York, 1924.
69 G. L. S. Shackle, Uncertainty in Eccnomics, Cambridge, 1955, p. 241.
70 Ср. статью Маршалла «Современное состояние экономической науки» в «Memorials of Alfred Marshall», A. C. Pigou, ed., London, 1925, p. 152.
71 Keynes, Essays in Biography, p. 150. Этот очерк помещен в «Memorials...».
72 «Official Papers of Alfred Marshall», London, 1936.
73 «Memorials...», pp. 323ff. В понятии экономического рыцарства подразумевалось, конечно, что практика филантропии является главным орудием развития и прогресса.
74 См. Jacob Viner, Marshall’s Economics: The Man and his Times, American Economic Review,
June, 1951, p. 228.
75 «Principles of Economics», London, 8th ed., 1920, p. 20. Читатель, возможно, пожелает ознакомиться с недавно вышедшим в свет полным изданием «Принципов», где указаны редакционные и существенные изменения, внесенные в текст начиная с первого издания, а также воспроизведены другие связанные с книгой материалы. См. «Principles of Economics», ninth (variorum) edition, 2 volumes, ed. by C. W. Guillebaud, London, 1961.
76 Cm. W. A. W e i s k о p f, The Psychology of Economics, London, 1956, pp. 161ff. Вайскопф стремится превратить Маршалла в некоего проповедника. Хотя в «Принципах...» имеется действительно сильный элемент морализирования, Вайскопф преувеличивает его в своей аргументации. См. «Principles...», р. 70, см. также G. F. Shove, The Place of Marshall’s Principles in the Development of Economic Theory, Economic Journal, December, 1942, перепечатано в Essays on Economic Thought, J. J. Spengler and W. R. Allen, eds, Chicago, 1960, pp. 762ff.
77 S c h u m p e t e r, op. cit., p. 837.
78 Теренс У. Хатчисон в своей книге «Обзор экономических доктрин, 1870—1929» (Оксфорд, 1953, стр. 64) задается вопросом, не заимствовал ли Маршалл значительную часть своего математического аппарата у Уильяма Уэйвелла, чьи сложные работы по математической экономике печатались с 1833 по 1850 г. в Transactions о/ the Cambridge Philosophical Society.
79 «Memorials...», pp. 165ff.
80 Ibid., p. 168.
81 «Principles...», pp. 723ff. Джордж Стиглер выражает мнение, что Маршалл утрировал эволюционную точку зрения в ущерб понятию стационарной экономики. Но последнее анализируется Маршаллом столь подробно, что это способно удовлетворить самого крайнего сторонника экономической статики. См. Stigler, op.cit., рр. 62—63.
82 См. Shove, op. cit., p. 713.
83 Economic Journal, December, 1942, p. 293.
84 S c h u m p e t e r, op. cit., p. 835.
85 Economic Journal, op. cit., p. 349.
86 «Principles...», p. 42.
87 Industry and Trade, London, 1919, p. 736.
88 Ibid., p. 397.
89 «Principles...», pp. 381ff.
36* 563
00 Критика этого метода имеется в недавно изданной книге: Sidney Schoeffer, The Failures of Economics, Cambridge, 1955.
01 Leo R о g i n, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956, pp. 576—577, |612. Джоан Робинсон делает аналогичное замечание в своей лекции, прочитанной в Оксфорде в 1953 г. См. ее работу «On Re-reading Магх», Cambridge, 1958, р. 117.
92 J. R. Hicks, Value and Capital, Oxford, 1939, p. 117.
93 См. его «Чистую теорию», которая стала отправным пунктом для многих позднейших экономистов математического направления.
94 См. «Memorials...», рр. 419, 417.
95 «Principles...», р. 459п.
06 Маршалл говорил о деньгах как «о центре, вокруг которого вращается вся экономическая наука». См. там же, стр. 22.
07 См. анализ соотношения между «реальным» и «денежным» подходами ниже в главе о Кейнсе.
98 Дон Патинкин в своей работе «Деньги, процент и цены» (Эванстон, 1956) утверждает, что Маршаллу не удалось создать удовлетворительную денежную теорию, поскольку он не перенес достаточно успешно на денежный анализ условия стабильности ценности (stability conditions of value). Патинкин полагает, что в Маршалловом анализе ценности денег имеется известная путаница, которую не могут прояснить даже знаменитые графики. Конечно, Маршалл хотел лишь показать, каким образом ценность денег может определяться с помощью обычных кривых предложения и спроса. Это совершенно очевидно, когда рассматриваешь Маршаллов вариант количественного уравнения, известного под названием уравнения наличных остатков (cost — balance equation), которое составляло элемент традиции в Кембридже. Коэффициент ликвидности, или величина желаемых наличных остатков, в формуле Маршалла М — кРТ является функцией как реального дохода, так и процентной ставки. Отношение МкР представляет собой предложение реальных остатков, а кТ — спрос на такие остатки, который может быть разделен на спрос для сделок и для удовлетворения возможных чрезвычайных нужд в будущем. См. Marshall, Money, Credit and Commerce, London, 1923, pp. 44ff. и D e n n i s Robertson, Money, 1922, переиздание: Chicago, 1959, pp. 23ff.
99 Cm. «Official Papers...», pp. 3ff.
100 Ibid., pp. 17ff. Маршалл предлагал табулярный стандарт для сохранения покупательной способности долгосрочных контрактов. Правительство должно было бы публиковать таблицы, показывающие изменения покупательной способности золота, так чтобы долгосрочные контракты можно было бы заключать в единицах твердой покупательной способности. Такой порядок, полагал Маршалл, мог бы применяться к ссудам, процентам, ренте и даже к заработной плате. Эта идея была впервые выдвинута в 1885 г.
101 См. выше, стр. 205.
102 А. С. Р i g о u, Alfred Marshall and Current Thought, London, 1953, pp. 37ff.
103 Cm. «Memorials...», pp. 93ff.
104 Cm. «Principles...», pp. 126ff; p. 830, Appendix K.
105 Cm. F. H. К n i g h t, Risk, Uncertainty and Profit, Boston, 1921, переиздание: 1948, pp. 69ff; Hicks, Rehabilitation of Consumer’s Surplus, Review of Economic Studies, February, 1941, pp. 108ff.
106 «Principles...», pp. 470ff.
107 Ibid., pp. 102ff.
108 Отличный современный анализ математического истолкования этого понятия см. в: Kenneth Е. Bouldin g, Economic Analysis, New York, 1941, Revised ed., p. 137.
109 Jacob Viner, Costs, «Encyclopedia of the Social Sciences», New York, 1931, IV, p. 472.
110 Lionel Robbins, The Representative Firm, Economic Journal, September, 1928, pp. 387ff.
111 «Principles...», Book V, chaps. 6 and 7, pp. 381ff.
112 Ibid., p. 441.
113 Cm. Frank H. Knight, Fallacies in the Interpretation of Social Costs, «The Ethics of Competition», New York, 1935, pp. 229ff; Piero Sraffa, The Laws of Return under Competitive Conditions, Economic Journal, 1926, перепечатано в «Readings in Price Theory», G. J. Stigler andK. E. Boulding, eds., Homewood, 1952, pp. 180ff.
114 «Principles...», pp. 150, 318.
115 Ibid., p. 410.
116 Ibid., p. 518.
117 Ibid., p. 532. H. Калдор утверждает, что теория распределения Маршалла в том виде, в каком опа у него имеется, применима лишь к краткосрочному аспекту. Поскольку прибыль толкуется как «квазирента», определяемая как разность между предельными и средними первичными (prime) издержками, а цены считаются равными предельным первичным издержкам, то имеют значение только соображения краткосрочного аспекта, ибо соответствующие цены труда и капитала относятся к ближайшему прошлому. См. N. К а 1 d о г, Alternative Theories of Distribution, Review of Economic Studies, 1955—1956, перепечатано в сборнике трудов Калдора «Essays on Value and Distribution», New York, 1960, pp. 209ff.
118 «Principles...», pp. 717ff.
119 Ibid., p. 220.
120 Ibid., p. 594.
121 «Official Papers...», p. 272.
122 Pigou, op. cit., p. 31.
123 «Principles...», p. 625.
124 Ibid., p. 487.
125 «Memorials...», pp. 256ff.
126 «Principles...», pp. 455ff.
127 Ibid., p. 660.
128 Economic Journal, vol. 36, 1926, перепечатано
в «Readings in Price Theory».
129 «Principles...», pp. 458—459.
130 Industry and Trade, p. 182.
131 С о 1 i n Clark в: Spiegel, op. cit., p. 781.
132 R о у F. Harrod, The Life of John Maynard Keynes, New York, 1951, p. 144.
564
133 См. его статью «Some Aspects of Welfare Economics», American Economic Review, June, 1951, p. 287.
134 См. C. J. R a t z 1 a f f, The Theory of Free Competition, Philadelphia, 1936, pp. 181ff.
135 «Essays in Applied Economics», London, 1923, p. 23.
136 Pigou, Alfred Marshall and Current Thought.
137 Ibid., p. 10.
138 По этому поводу см.: Н 1 а М у i n t, op. cit.
139 Ibid., pp. 173ff.
140 A. C. Pigou, Economics of Welfare, 4th ed., London, 1932, p. 5.
141 Hutchison, op. cit., p. 284.
142 «Welfare...», p. 5.
143 Хорошее изложение основ системы Пигу можно найти в его статье: «One Way of Looking at Economics», «Essays in Economics», London, 1952, p. 66.
144 Economic Journal, 1922, перепечатано в «Readings in Price Theory», pp. 119ff.
145 Ibid., p. 132.
146 «Some Aspects of Welfare Economics», American Economic Review, June, 1951, p. 288.
147 Ibid., p. 293.
148 «Alfred Marshall and Current Thought», pp. 49ff.
149 Cm. J. D. M. L i t 11 e, A Critique of Welfare Economics, London, 1950, p. 9.
150 «Economics of Welfare», p. 10.
151 Ibid., p. 31.
152 Ibid., p. 34.
153 Ibid., p. 44.
154 Ibid., p. 54.
155 Ibid., p. 85.
156 Ibid., p. 96.
157 Ibid., p. 140.
158 Ibid., p. 143.
159 Ibid., p. 172. Дж. Э. Мид предлагает способ измерения расхождений с помощью отношения разности между величиной предельного общественного чистого продукта и предельными издержками фактора к предельным издержкам фактора. Это отношение Мид называет нормой расхождения (rate of divergence), которая кумулятивно нарастает по мере продвижения продукта от первоначального фактора к потребителю. См. Meade, Trade and Welfare, London, 1955, pp. 24ff.
160 Cm. Marshall, «Principles...», pp. 472ff.
161 См. обобщенное изложение этой дискуссии в книге: В. Р. Beckwith, Marginal-Cost Price-Output Control, New York, 1955, pp. 45ff.
162 Pigou, Socialism versus Capitalism, London, 1937, pp. 42ff.
163 «Marshall and Current Thought», p. 54.
164 «Socialism versus Capitalism», p. 21.
165 Ibid., p. 84.
166 «Welfare...», p. 200.
167 Ibid., p. 220.
168 Ibid., pp. 222ff.
169 M a г s h a 11, «Principles...», p. 472.
170 Pigou, Economics of Stationary States, London, 1935.
171 Ibid., p. 3.
172 Ibid., p. 6.
173 Ibid., p. 21.
174 Ibid., p. 43.
175 Ibid., p. 54.
176 Ibid., p. 72.
177 См. его книгу «Veil of Money», London, 1950.
178 «Stationary States», pp. 86ff.
179 Ibid., p. 136.
180 Ibid., p. 139.
181 Ibid., p. 147.
182 Ibid., p. 168.
183 Ibid., p. 229.
184 Ibid., p. 264.
185 Pigou, Industrial Fluctuations, 2nd ed., London, 1929.
186 Ibid., p. 8.
187 Ibid., p. 10.
188 Ibid., p. 15.
189 Ibid., p. 26.
190 Ibid., p. 84.
191 Ibid., p. 92.
192 Пигу не отрицал роли денежных факторов, но рассматривал их лишь как условия, на которые воздействуют первичные психологические силы. См. ibid., рр. 102—103.
193 Ibid., р. 104.
194 Ibid., р. 110.
195 Ibid., Chap. X, pp. 114ff.
196 Ibid., p. 125.
197 Ibid., p. 137.
198 Ibid., p. 180.
199 Ibid., p. 193.
200 Ibid., p. 201.
201 Ibid., p. 231. Пигу пытался применить свою психологическую теорию к экономической истории Англии после войны. См. его «Aspects of British Economic History», 1918—1925, London, 1947, pp. 169ff.
202 «Industrial Fluctuations», p. 321.
203 См. Э. Хансен, Экономические циклы и национальный доход, стр. 631.
204 Pigou, Employment and Equilibrium, p. 56.
205 Недавно попытка обоснования «эффекта Пигу» была предпринята в указанной выше книге Дона Патинкина.
206 «Employment and Equilibrium», р. 222.
207 Ibid., р. 97. Ср. также Paul A. Samuelson, American Economic Review, September, 1941, p. 551.
565
208 «Employment and Equilibrium», p. 222.
209 См. A. P. Lerner, Essays in Economic Analysis, London, 1953, pp. 256—257, где дается критика взглядов Пигу на мультипликатор.
210 «Employment and Equilibrium», рр. 181 ff.
211 См. «The Veil of Money», pp. 18ff.
212 Cm. «The Exchange Value of Legal Tender Money», в «Essays in Applied Economics», London, 1923, p. 176.
213 Ibid., p. 178.
214 «А Study in Public Finance», 1928, 3rd ed., London, 1949, p. 6.
215 Ibid., p. 43.
216 Рой Ф. Харрод, напротив, встал на ту точку зрения, что предпочтительным является подход по принципу равной жертвы. Его аргументы базируются на понятии абсолютной жертвы и тезисе, что полезность предельного дохода равна тягости (disutility) предельного усилия. Из этого вытекает, что чем богаче становится человек, тем меньше труда он выполняет. Такие психологические посылки сомнительны, так что применяемая Пигу более гибкая относительная категория наименьшей совокупной жертвы остается в силе. Этот спор резюмируется в статье: Е. D. F a g о n, Recent and Contemporary Theories of Progressive Taxation, Journal of Political Economy, 1938, перепечатано в «Readings in the Economics of Taxation», R. A. Musgrave and Carl S. Shoup, eds, Homewood, 1959, p. 27ff.
217 «Public Finance», p. 51.
218 Ibid., p. 61.
219 Cm. Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance, New York, 1959, p. 95.
220 Pigou, Public Finance, p. 81.
221 Дж. M. Кейн с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 265.
222 Там же, стр. 262-
223 Economica, Мау 1936, р. 115.
224 Pigou, Keynes’ General Theory, London, 1951.
225 Ibid., p. 10.
228 Ibid., p. 21.
227 Ibid., p. 55.
228 Ibid., pp. 40—41.
229 «Memoir, John Maynard Keynes, 1883—1946, Fellow and Bursar», Cambridge, 1949, p. 22.
230 Dennis H. Robertson, Money, New York, 1922, новое издание: Chicago, 1959; Banking Policy and the Price Level, London, 1926.
231 Robertson, A Study in Industrial Fluctuation, London, 1915, переиздание: 1948.
232 Robertson, Economic Fragments, London, 1931; Essays in Monetary Theory, London, 1940; Utility and All That, London, 1952; Economic Commentaries, London, 1956.
233 Robertson, Lectures on Economic Principles, 3 vols, London, 1957—1959.
234 «Lectures...», I, p. 72.
235 Ibid., p. 85.
236 «Utility and All That», p. 14.
237 Ibid., p. 25.
238 «Economic Commentaries», pp. 46—47.
239 «Utility and All That», p. 35.
240 «Economic Commentaries», p. 57.
241 Ibid., p. 45.
242 Ibid., p. 48.
243 «Lectures...», I, p. 92.
244 Ibid., p. 17.
245 Ibid., p. 27.
246 «Those Empty Boxes», в «Readings in Price Theory», pp. 143ff.
247 «Lectures...», II, p. 27.
248 Ibid., p. 33.
249 Ibid., p. 42.
250 Ibid., p. 45.
261 «Lectures...», II, p. 119.
252 «Banking Policy and the Price Level», passim.
253 См. «А Study of Industrial Fluctuation», passim.
254 «Banking Policy», p. 9.
266 Ibid., p. 14; также «Industrial Fluctuation», passim.
256 R. L. S a u 1 n i e r, Contemporary Monetary Theory, New York, 1938, pp. 122—125.
267 «Banking Policy», pp. 22ff.
258 Ibid., pp. 39, 45.
269 Cm. Daniel Bell, The Subversion of Collective Bargaining, Commentary, March, 1960, p. 186, особенно соображения по поводу падения роли внешнего финансирования в современных корпорациях.
260 См. «Banking Policy», р. 41, и «Essays in Monetary Theories», p. 66.
261 См. Saulnier, op. cit., p. 144. Ллойд Метцлер ставит под сомнение обоснованность Робертсонова понятия «дня» за отсутствием эмпирического подтверждения. См. работы Метцлера «Three Lags in the Circular Flow of Income» в «Income, Employment and Public Policy: Essays in Honoy of Alvin H. Hansen», New York, 1948, pp. llff.
262 «Essays...», p. 79.
263 «Lectures...», II, p. 53.
264 «Economic Essays and Addresses», London, 1931, p. 42.
265 «Banking Policy», p. 43.
266 «Economic Essays», p. 100.
267 «Money», p. 27.
268 Ibid., p. 22.
269 Ibid., p. 85.
270 Ibid., p. 87.
271 Ibid., pp. 88-89.
272 Cm. «Lectures...», II, p. 54.
273 См., например, В. S. К i e r s t e a d, Capital, Interest and Profits, Oxford, 1959.
274 Cm. «Utility and All That», p. 98.
566
275 См. Kierstead, op. cit., pp. 12ff.
276 «Lectures...», II, p. 77.
277 Ibid., p. 82.
278 См. ниже, стр. 380.
279 «Lectures...», II, p. 87.
280 Дж. M. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 189.
281 См. Keynes, The General Theory of Employment, Quarterly Journal of Economics, February, 1937, перепечатано в: The New Economics, S. E. Harris, ed., New York, 1947, pp. 181ff.
282 Cm. Alvin H. Hansen, A Guide to Keynes, New York, 1953, pp. 146—147.
283 «Utility and All That», p. 114.
284 «Essays...», p. 7.
285 См. Э. Хансен, Экономические циклы и национальный доход.
286 «Lectures...», II, р. 161.
287 Ibid., р. 77.
288 Детальный анализ двух типов теорий и возможности их применения содержится в книге: J. W. С о- п а г d, Introduction to the Theory of Interest, Berkeley, 1959, pp. 203ff.
289 Cm. Abba P. Lerner, On Generalizing the General Theory, American Economic Review, March, 1960, p. 136.
290 «Industrial Fluctuation», 1948 ed., p. XIV.
291 Ibid., p. 2.
292 Ibid., p. 13.
293 Ibid., p. 32.
294 Ibid., p. 87.
295 Ibid., pp. 91ff.
296 «Lectures...», Ill, p. 98.
297 Ср. там же, стр. 109 и след., см. также в настоящей книге оценку взглядов Дж. М. Кларка на акселератор.
288 «Industrial Fluctuation», р. 157.
299 Ibid., р. 174.
300 «Lectures...», Ill, р. 98.
301 Ibid., pp. 113ff; о гибких налоговых ставках см. Kenneth Е. Bouldin g, The Economics of Peace, New York, 1945, pp. 161ff.
302 Cm. «Lectures...», II, pp. 59ff.
303 Проблема стагнации рассматривается в работах: Alvin Н. Hansen, Full Recovery or Stagnation, New York, 1938; Fiscal Policy and Business Cycles, New York, 1941. См. также книгу: Benjamin Higgins, Economic Development, New York, 1959, pp. 167ff., где анализируется обоснованность аргументации Хансена в свете дальнейшего развития, и статью: Villiam Fellner, The Robertsonian Evolution, American Economic Review, June, 1952, p. 268.
304 «Lectures...», Ill, p. 31.
305 Ibid., p. 39.
306 Ibid., p. 42.
307 Cm. Fellner, op. cit., p. 279.
308 Ibid., p. 269.
309 Хоутри начал свою длительную литературную деятельность книгой «Good and Bad Trade», London, 1913, и закончил книгой «Cross Purposes in Wage Policy», London, 1955. К важнейшим его книгам относятся: «Деньги и кредит», М., 1930; «The Economic Problem», London, 1926; «Trade and Credit», London, 1928; «The Art of Banking», London, 1932; «Capital and Employment», London, 1937, 2nd ed., 1952; «Economic Destiny», London, 1944.
310 Cm. Harrod, Life of Keynes, p. 352.
311 Пристальный критический анализ Кейнса со стороны Хоутри см. в книге последнего «Capital and Employment», Chap. VII, pp. 157ff.
312 «Economic Destiny», p. 2.
313 «Economic 'Problem», p. 3.
314 Cm. ibid., pp. 141ff.
315 «Trade and Credit»., pp. 105ff.
316 «Economic Problem», pp. 181—182.
si7 Ibid., p. 185.
Ibid., pp. 190ff.
313 Ibid., p. 225.
320 Эти аргументы повторяются с некоторыми изменениями в книге «Economic Destiny», pp. 202ff.
321 См. W. J. В a um ol, Business Behavior, Value and Growth, New York, 1959, особенно Chap. 6, pp. 45ff.; см. также E. T. Penrose, Theory of the Growth of the Firm, Oxford, 1959, pp. 116ff.
322 Baumol, op. cit., p. 49.
323 Cm. «Economic Problem», p. 80.
324 Ibid., p. 80.
826 «Economic Destiny», p. 41.
826 Cm. F. H. К n i g h t, Capitalistic Production, Time and the Rate of Return, «Economic Essays in Honour of Gustav Cassel», London, 1933, pp. 327ff.
827 «Economic Destiny», p. 35.
328 Cm. «Cross Purposes in Wage Policy», London, 1955.
329 Ibid., p. 118.
330 «Economic Destiny», p. 61.
331 Cm. «Currency and Credit», London, 1919, 4th ed., 1950; «Economic Destiny», pp. 75ff.
332 Cm. «Currency and Credit», pp. 29ff.
333 Ibid., pp. 34-35.
334 Cm. «Capital and Employment», pp. 7ff.
335 Ibid., p. 18.
336 Ibid., p. 21.
837 «Currency and Credit», p. 52.
838 Ibid., p. 55.
339 Ibid., p. 63.
340 Cm. «Economic Destiny», pp. 78ff.
341 Cm. «Capital and Employment», p. 30.
342 Cm. Saulnier, op. cit., p. 43.
343 «Monetary Reconstruction», p. 134.
567
844 «Trade and Credit», p. 98.
845 «Capital and Employment», p. 99.
846 Взгляды Хоутри на великую депрессию см. в книге «The Art of Central Banking», pp. 41 ff.
347 Ср. его статью «International Comparisons of Utility», Economic Journal, December, 1938, p. 635.
848 Cm. Harrod, Life of Keynes, p. 427.
349 Cm. «On Freedom and Free Enterprise», Mary Senn- holz, ed., New York, 1956, p. 253. В этом симпозиуме M. Н. Ротбард выразил мнение, что, изображая английских классиков сторонниками laissez faire, Роббинс порывает тем самым со своим прежним «праксеологическим» подходом. См. также Robbins, The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy, London, 1953.
850 H а г г о d, op. cit., p. 555.
851 Lionel C. R о b b i n s, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London, 1932, 2nd ed., 1935.
852 Cm. Robbins, Production в «Encyclopaedia of the Social Sciences», XII, 462; см. также An Essay, p. 10.
853 Cm. «An Essay...», pp. 42—44.
354 Cm. ibid., p. 17.
855 Cm. ibid., p. 38.
866 Ibid., pp. 112—113.
357 Cm. ibid., p. 58.
358 Cm. L. H о g b e n, Retreat from Reason, New York, 1937, p. 10.
859 Cm. «An Essay...», p. 143.
360 См. T. W. Hutchison, The Significance of Basic Postulates of Economic Theory, London, 1938, p. 9.
361 Baumol, op. cit., passim.
862 Hutchison,, op. cit., pp. 61—62.
863 «Interpersonal Comparisons of Utility», Economic Journal, December, 1938.
864 «Robertson on Utility and Scope», Economica, May, 1953, p. 99.
865 «Remarks on the Relationship between Economics and Psychology, Manchester School», 1934, p. 89.
368 По проблеме поведения имеется огромная литература, которую нет возможности рассматривать здесь. Имеются прежде всего труды Зигмунда Фрейда, а также работы его последователей и критиков. Можно, однако, особо упомянуть книгу: Hans Gerth and С. Wright Mills, Character and Social Structure, New York, 1953, и Erich Fromm, Escape From Freedom, New York, 1941.
367 См. стр. 305.
368 Economic Journal, September, 1928, p. 398.
869 «Remarks Upon Certain Aspects of the Theory of Cost», Economic Journal, March, 1934, p. 1.
370 Cm. Robbins, The Great Depression, London, 1934.
871 Ibid., p. 55.
372 Cm. Charles Schultze, Recent Inflation in the United States, «Study Paper № 1», Joint Economic Committee, Washington, 1959.
373 «Consumption and the Trade J Cycle», Economica, November, 1932, p. 427.
374 «The Economic Problem in Peace and War», London, 1950, p. 68.
375 Ibid., p. 6.
376 Ibid., p. 22.
377 Ibid., p. 75.
378 «Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy», passim.
379 «Time in Economics», Amsterdam, 1957, p. 13.
380 Ibid., p. 15.
381 Ibid., p. 24.
382 См. К. E. В о u 1 d i n g, The Image, Ann Arbor, 1956, p. 6.
383 Cm. Penrose, op. cit.
384 «Time in Economics», p. 33.
385 «Expectations in Economics», Cambridge, 1949, 2nd ed., 1952, pp. llOff.
388 Ibid., p. 114.
387 Ibid., p. 118.
388 Ibid., p. 122.
389 Ibid., p. 127.
390 Ibid., p. 2.
391 Кеннет Эрроу делает убедительное замечание, что теория неопределенности должна дать основу для изучения процесса последовательного принятия решений (sequential decision-making). См. К. J. Arrow, Functions of a Theory of Behavior Under Uncertainty, Metroeconomica, April—August, 1959, p. 16.
392 P. Л ьюс и X. Райфа, Игры и решения, М., ИЛ, 1961.
393 «Time in Economics», р. 47.
394 См. «Uncertainty in Economics», p. 18.
395 Ibid., p. 46.
398 Ibid., p. 50.
397 Анализ различных видов таких систем см. в книге: R. A. D. Е g е г t о n, Investment Decisions Under Uncertainty, Liverpool, 1960.
398 «Expectations in Economics», pp. 59ff.
399 Ibid., p. 67.
400 См. E g e r t о n, op. cit., особенно стр. 73 и след.
401 «Expectations in Economics», p. 92.
402 Критический анализ взглядов Шэкла на налогообложение см.: С. S. S h о u р, Some Implications for Public Finance in Shackle’s Expectation Analysis, Metroeconomica, op. cit., pp. 89ff.
403 «Uncertainty in Economics», p. 92.
404 Cm. Kierstead, op. cit., pp. 28ff.
405 Cm. Ibid., pp. 51—52.
408 «Expectations in Economics», pp. 101 ff.
407 См. по этому вопросу: J. Pen, Wage Rates Under Collective Bargaining, Cambridge, 1959, p. 192.
568
408 Большие возможности теории игр излагаются в книгах: Р. Льюс и X. Райфа, указ, соч., и Martin Shubik, Strategy and Market Structure, New York, 1959.
409 Cm. Musgrave, op. cit., p. 331. Масгрейв указывает, что индивидуальный инвестор, хотя он делает единственный в своем роде выбор, может извлечь уроки из большого числа попыток, сделанных другими. Это, очевидно, делает применимым вероятностный подход и, по-видимому, соответствует образу мышления большинства предпринимателей.
410 См. D. J. О’ Connor в «Uncertainty and Business Decisions», p. 18.
411 Ibid., p. 40.
412 Ibid., p. 87.
413 L. M. Lachman, Capital and Its Structure, London, 1956, p. 27.
414 См. К i e r s t e a d, op. cit., p. 31.
415 Cm. Jolian Akerman, Shackle’s System and Theories of Business Cycles, Metroeconomica, op. cit., pp. 4—5. Необходимо указать на новейшую книгу Шэкла «Decision, Order and Time», Cambridge, 1961, которая поступила слишком поздно, так что ее не удалось детально рассмотреть. Можно, однако, отметить, что Шэкл теперь делает в развитии своей теории еще один шаг вперед, полностью отделяя принятие решений от знания прошлого и связывая его исключительно с антиципацией желаемого результата. Но он не может избежать признания того, что принятие решений индивидуумом обусловливается обстоятельствами, «видимыми для других, как и для него самого». Вполне возможно, что некоторые из этих обстоятельств могут иметь корпи в прошлом. Новая работа Шэкла содержит также некоторые интересные ответы Шэкла критикам. Если выделить суть, Шэкл утверждает, что процесс принятия решений исключает жесткие законы причины и следствия в их исторической связи. Он допускает, что возможности наступления определенных событий ограниченны, так что понятие неопределенности имеет смысл в том случае, когда рассматривается как «ограниченная» («bounded»). См. указ, соч., стр. 271. В этих идеях имеется и интересная параллель с идеями, которые развивал в свои молодые годы Маркс. См. George Licht- h е i m, Marxism: An Historical and Critical Study, London, 1961, passim. Но тогда как Маркс говорил о деятельности человека в общественной среде, Шэкл последовательно изображает такой тип поведения, который можно охарактеризовать как крайний атомизм. Трудно понять, каким образом он переходит от определения экономической теории как систематизации некоторых психологических законов к утверждению, что теория объясняет «упорядоченность общества в его экономической деятельности», если не превращать экономику исключительно в учение о психологии людей.
Глава VI
ВКЛАД ШВЕДСКОЙ ШКОЛЫ
1 John Stuart Mill, Autobiography, переиздание: New York, 1924, Chap. 5, p. 93. Биографические сведения о Викселле лучше всего изложены в книге: Torsten Gardlund, Life of Knut Wicksell, Stockholm, 1958.
2 Gardlund, ibid., p. 15.
3 Ibid., p. 42.
4 Erik Lindahl, Wicksell’s Life and Works, вступительная статья к: Wicksell, Selected Papers on Economic Theory, London, 1958, p. 10.
5 Gardlund, op. cit., p. 105.
6 Ibid., p. 85.
7 Ibid., p. 136.
8 Knut Wicksell, Value, Capital and Rent, перевод: London, 1954.
9 Wicksell, Finanztheoretische Untersuchungen nebst Darstellung und Kritik des Steuersystems Schwedens, Jena, 1896.
10 W i c k s e 11, Interest and Prices, Jena, 1898, перевод: London, 1936.
11 Gardlund, op. cit., p. 171.
12 Cm. ibid., p. 184; Lindahl, op. cit., pp. 22, 23, примечание. Рецензия Викселля на работу Касселя «Теория общественного хозяйства» приведена в книге: К. W i с k s е 1 1, Lectures on Political Economy, перевод: London, 1934, Vol. I, Appendix 1, p. 219. Эта рецензия впервые была опубликована в 1919 г.
13 Йозеф Шумпетер, который должен был располагать более точными сведениями, писал, что Викселль придерживался свойственного ученому спокойного и уединенного образа жизни. См. J.Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 863.
14 «Selected Papers on Economic Theory», pp. 51 ff.
16 Ibid., p. 57.
16 Ibid., p. 58.
*7 Ibid., p. 62.
18 Ibid., p. 64; «Value, Capital and Rent», pp. 41ff.
19 Cm. «Interest and Prices», Chapt. 2, Lectures, II, 132.
20 Cm. Gardlund, op. cit., p. 195.
21 «Value, Capital and Rent», p. 47.
22 Ibid., p. 75.
23 Ibid., p. 94.
24 «Lectures...», I, 96. См. также Carl G. U h r, Economic Doctrines of Knut Wicksell, Berkeley, 1960, pp. 38ff. В этой книге содержится чрезвычайно четкий анализ теории Викселля.
26 См. «Value, Capital and Rent», p. 69, «Selected Papers», p. 204. Последняя работа представляет рецензию на книгу: A. L. В о w 1 е у, Mathematical Groundwork of Economics, Oxford, 1924, переиздание: 1960.
26 «Lectures...», I, 80—81.
27 «Value, Capital and Rent», p. 25.
28 Этот тезис выдвигался не только в книге «Value, Capital and Rent», но и в «Lectures...», I, рр. lOlff, а также в ряде статей, посвященных этому вопросу. См. «Selected Papers», рр. 93, 121 ff. Детальный анализ указанной проблемы приведен в книге: George 569
J. Stigler, Production and Distribution Theories, New York, 1941, Chap. XII, pp. 320ff, а также в книге: Joan Robinson, Collected Economic Papers, Oxford, 1951, 1, pp. Iff. Дж. Робинсон доказывает, что сумма денег, которую предприниматели получают в условиях несовершенной конкуренции, превышает реальную стоимость их предельного продукта. Другими словами, они могут «эксплуатировать» другие факторы производства и получают в результате распределения большую долю, чем им причиталось бы «по справедливости».
29 «Lectures...», I, р. 73.
30 Ibid., р. 77.
31 Ibid., р. 80.
32 «Lectures...», I, р. 108; Selected Papers, р. 94.
33 «Selected Papers», pp. 98ff.
34 «Lectures...», I, p. 132.
35 «Selected Papers», p. 105.
36 «Lectures...», I, p. 141.
37 «Lectures...», Appendix I, p. 219.
38 «Lectures...», I, p. 164. См. также J ohn R.Hicks, The Theory of Wages, London, 1932, pp. 121ff, где приведен анализ вопроса о влиянии изобретений на заработную плату.
39 См. С. G. U h г, op. cit., pp. 120ff; idem, Knut Wicksell: A Centennial Evaluation, American Economic Review, December, 1951, pp. 850ff; Cm. Wicksell, «Lectures...», I, pp. 177ff; Stigler, op. cit.,p. 287.
40 F. A. Hayek, Pure Theory of Capital, Chicago, 1941, p. 273. У ром была выдвинута интересная проблема соотношения между «принудительным сбережением» (в том смысле, в каком этот термин употреблял Хайек) и поглощением капитала заработной платой; Ур полагал, что наиболее важным фактором может оказаться «принудительное сбережение». См. U h г, op. cit., р. 852. Вопрос об «эффекте Викселля» рассматривается также в книге: Joan Robinson, Collected Economic Papers, II, p. 185.
41 U h r, Economic Doctrines of Knut Wicksell, pp. 140ff. Cm. «Value, Capital and Rent», pp. 97ff., где она была опубликована впервые.
43 Ibid., pp. 108—110.
44 «Lectures...», I, p. 150. См. также «Selected Papers», p. 108.
46 «Selected Papers», p. 110; «Lectures...», I, p. 154. Эти разделы «Лекций» фактически публиковались ранее, а затем были перепечатаны в первом томе указанной работы.
46 «Lectures...», I, р. 177.
47 «Value, Capital and Rent», p. 119.
48 Стиглер считает, что классификация Викселля нереальна. См. Stigler, op. cit., pp. 274—275.
49 «Selected Papers», p. 114. См. также Lectures, I, p. 202, и очерк Рагнара Фриша о Викселле в книге:
H. W. Spiegel, Development of Economic Thought, New York, 1952, pp. 653ff.
50 «Value, Capital and Rent», p. 145; «Lectures...»,
I, p. 193.
51 Uhr, op. cit., pp. 99ff.
62 «Lectures...», I, p. 212.
63 «Lectures...», II, p. 191.
64 «Lectures...», I, p. 153.
66 См. B. J. Dempsey, Interest and Usury, Washington, 1942, pp. 12ff.
66 Cm. «Value, Capital and Rent», p. 160.
67 «Lectures...», II, pp. 168, 194; «Interest and Prices», pp. 87ff., 136ff; описание кумулятивной модели приведено в книге: U h г, op. cit., pp. 235ff.
68 См. вступительную статью Олина к «Interest and Prices».
69 См. «Interest and Prices», p. 39. О теории Рикардо см. «Works and Correspondence of Davia Ricardo», Piero Sraffa, ed., London, 1951, Principles, I, p. 364. См. также W i c k s e 1 1, Lectures..., II, pp. 172ff; связное изложение теории денег Викселля приводится в книге: Uhr, op. cit., pp. 198ff
60 Аналогичная интерпретация приведена в книге: Don Patinkin, Money, Interest and Prices, Evanston, 1956, p. 422.
61 W i c k s e 11, Lectures..., II, pp. 159ff.
62 «Lectures...», I, p. 224.
63 «Lectures...», II, p. 195.
64 Cm. Erik Lundberg, Business Cycles and Economic Policy, London, 1957, pp. 155ff.
66 Cm. W i c k s e 11, Lectures..., I, p. 258; Uhr, op. cit., pp. 266ff.
ee Cm. «Interest and Prices», p. 4, где ставится задача поддержания стабильного уровня цен, и «Lectures...», II, р. 3, где отмечается возможность общественного регулирования. Что же касается денег, то «...все определяется самими людьми...».
67 «Interest and Prices», р. 144.
68 Ibid., pp. 135, 143.
69 «Studies in the Theory of Money and Capital», London, 1939.
70 «Lectures...», II, p. 209.
71 «Interest and Prices», p. 134.
72 «Lectures...», II, p. 195.
73 Перепечатано в International Economic Papers, London, 1953, № 3, pp. 58ff.
74 Ibid., p. 66.
76 Цитируется Рагнаром Фришем в книге: Spiegel, op. cit., p. 698. Как подчеркивает Фриш, здесь, по существу, содержится полное описание того, что современная теория называет «случайными толчками». См. также «Lectures...», II, pp. 211ff., хотя в этой работе предполагается, что существенную роль играет покупательная способность денег.
76 International Economic Papers, op. cit., p. 68.
77 J. K. Galbraith, The Affluent Society, Boston, 1958.
78 См. вступительную статью.— Прим. ред.
79 «Lectures...», I, p. 143.
80 Превосходное изложение общественно-политических взглядов Викселля содержится в статьях Ура в American Economic Review, December, 1951, pp. 385ff .570
idem, Note, American Economic Review, June, 1953, p. 366.
81 Викселлева концепция налогового обложения рассматривается также в книге: Gunnar Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory, London, 1954, pp. 176ff.
82 Wi cksell, A New Principle of Just Taxation, в книге: «Classics in the Theory of Public Finance», R. A. Musgrave and A. T. Peacock, eds, London, 1958, p. 114.
43 Ibid., p. 102. Хороший анализ Викселлевой концепции налогового обложения содержится в книге: U h г, Economic Doctrines of Knut Wicksell, pp. 158ff.
84 Cm. Stigler, op. cit., p. 261.
85 Gardlund, op. cit., p. 17.
86 Цитируется Фришем в книге: Spiegel, op. cit., p. 653.
87 Cm. Lundberg, op. cit., p. 108.
88 См. выше, стр. 357.
89 См. разносную рецензию Викселля на работу Касселя «Теория общественного хозяйства», приведенную в книге: W i с k s е 1 1, Lectures..., I, pp. 219ff.
90 Gustav Cassel, The Nature and Necessity of Interest, 1903, переиздание: New York, 1957.
91 Cassel, Theory of Social Economy, 1918, перевод: New York, 1924. Но перевод был настолько плох, что впоследствии эту книгу пришлось перевести еще раз (London, 1932). Для ознакомления с содержанием книги, безусловно, лучше использовать последний перевод.
92 Г. Кассель, Основные идеи теоретической экономии, Л., 1929: On Quantitative Thinking in Economics, London, 1935.
93 «On Quantitative Thinking...», p. 6.
94 Г. Кассель, Основные идеи теоретической экономии, стр. 18
95 Там же, стр. 25.
96 Там же, стр. 31.
97 «Social Economy», pp. 50ff. Большая часть ссылок, приводимых здесь, относится к переводу 1924 г.
98 «Quantitative Thinking...», р. 30.
99 «Social Economy», р. 80.
100 Ibid., р. 84.
101 Ibid., р. 109.
102 «Quantitative Thinking...», p. 123.
103 Ibid., p. 173.
104 «Quantitative Thinking...», pp. 122ff. Кассель критиковал Поля Дугласа, который в своей работе «Theory of Wages», 1934, переиздание: New York, 1957, пытался эмпирически проверить правильность теории предельной производительности. Кассель доказывал, что неправильна была основная формула, используемая Дугласом, поскольку нельзя исходить из того, что показатели производственной функции являются постоянными величинами. Кассель, по существу, утверждал, что в силу характера статистических данных сложные математические построения, к которым прибегал Дуглас, не оправдывают себя. Кроме того, выводы Дугласа, как писал Кассель, могут быть справедливы лишь в ограниченных пределах, вследствие того что Дуглас рассматривал лишь отрасли обрабатывающей промышленности, а внутри этих отраслей — лишь основной капитал. См. Cassel, ibid., р. 135.
105 «Social Economy», р. 24.
106 «Quantitative Thinking...», p. 22.
107 «Social Economy», p. 49.
108 «Quantitative Thinking...», pp. 80ff.
109 См. выше, стр. 292.
110 «Social Economy», pp. 61 ff.
111 «Quantitative Thinking...», p. 63. Между прочим, нельзя не увидеть связи между этими утверждениями и позицией Мизеса и Хайека.
112 См. «Nature and Necessity of Interest», p. 68.
113 «Social Economy», p. 2.
114 «Quantitative Thinking...», p. 1.
115 Г. Кассель, Основные идеи теоретической экономии, стр. 47.
116 «Social Economy», р. 89.
117 «Quantitative Thinking...», р. 153.
118 «Social Economy», p. 75.
119 Ibid., p. 76.
120 Wicksell, Lectures..., I, p. 230.
121 Cm. R. Dorfman, P. A. Samuelson and R. M. Solow, Linear Programming and Economic Analysis, New York, 1958.
122 «Social Economy», p. 118.
123 Ibid., p. 147.
120 Cm. Wicksell, Lectures..., I, pp. 225ff.
125 P a t i n k i n, op. cit., pp. 445ff.
126 «Interest...», p. 61.
127 Ibid., p. 67.
128 Ibid., p. 87.
129 Ibid., p. 99.
130 Ibid., p. 128.
131 Ibid., p. 145.
132 Ibid., p. 155.
133 «Social Economy», p. 245.
134 Этот вопрос изложен в втором издании «Social Economy», 1932, перевод, р. 264.
135 См. Wicksell, Lectures..., I, р. 243.
136 «Social Economy», p. 296.
137 Ibid., p. 301.
138 Ibid., p. 307.
139 Ibid., p. 308.
140 См. второе издание «Social Economy», pp. 342ff.
141 Ibid., p. 337.
142 См. его «An International Economy», New York, 1956, особенно Chap. VII, pp. 89ff.
143 Cassel, Recent Monopolistic Tendencies, Geneva, 1927, p. 12.
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
«Social Economy», p. 472.
Статистические методы Касселя подвергнуты резкой критике в статье: J. Т. Phinney, Gold Production and the Price Level, Quarterly Journal of Economics, August, 1933, pp. 674ff.
«Social Economy», p. 521.
Ibid., p. 523.
Ibid., p. 545.
Ibid., p. 571.
Ср. co взглядами Хайека по этому вопросу, излагавшимися выше, стр. 224 и след.
«From Protectionism through Planned Economy to Dictatorship», International Conciliation, New York, October, 1934, p. 307.
«Social Economy», pp. 658ff.
Ibid., p. 665.
Cm. Jacob Viner, Studies in the Theory of International Trade, New York, 1937, p. 381.
Критические замечания по этому вопросу можно найти также в работах: А. С. Pigou, Essays in Applied Economics, London, 1930; J. M. Keynes, Treatise on Money, London, 1930, I, pp. 72ff.
Cm. Gunnar Myrdal, Value in Social Theory, London, 1958, p. 238.
Одним из первых заметил это сходство Эджворт. См. Е dgeworth, Professor Cassel’s Treatise, Economic Journal, Vol. 30, 1920, p. 533.
Факты об обстановке, в которой рос Давидсон, почерпнуты из превосходной статьи Эли Ф. Хек- шера в International Economic Papers, № 2, London, 1952, pp. Iliff. См. также U h r, op. cit., pp. 255, 279, 292.
Walter Bagehot, Economic Studies, 1891, переиздание: Stamford, 1953, p. 168.
См. по этому вопросу George Stigler, Ricardo and 93% Labor Theory of Value, American Economic Review, June, 1958, p. 357.
K. G. Landgren, Economics in Modern Sweden, Washington, 1957, p. 96.
Cm. Dag Hammarskjold, Swedish Discussion on Aims of Monetary Policy, International Economic Papers, № 5, London, 1955, p. 146.
Cm. Brinley Thomas, The Monetary Doctrines of Professor Davidson, Economic Journal, March, 1935, pp. 35ff. Хороший обзор дискуссии между Викселлем и Давидсоном приводится в книге: U hr, op. cit., рр. 270ff.
Hammarskjold, op. cit., p. 149.
Подробное описание этой стадии в формировании шведской школы приведено в книге: Landgren, op. cit.
Ingvar Svennilson, Growth and Stagnation in the European Economy, Geneva, 1954.
Lundberg, op. cit., p. 112.
Это высказывание Густава Касселя цитируется в книге: Lundberg, op. cit., р. 114. Кассель опасался, например, что попытки правительства ограничить размах кризиса поведут к ослаблению частной инициативы. Тот факт, что за последние двадцать пять лет ни разу не возникла такая ситуация, свидетельствует об ошибочности представлений Касселя.
169 Myrdal, Value in Social Theory, p. 240.
170 L u n d b e r g, op. cit., p. 93. См. также В. О hl i n, Some Notes on Stockholm Theory of Savings and Investment, Readings in Business Cycles Theory, G. Haberler, ed., Philadelphia, 1944, pp. 87ff.
171 Lundberg, Business Cycle Experience in Sweden, в книге The Business Cycle in the Post War World, London, 1955, pp. 60ff.
172 В e r t i 1 О h 1 i n, Interregional and International Trade, Cambridge, 1933. Теория международной торговли Олина рассматривается в книге: R. Е. Caves, Trade and Economic Structure, Cambridge, 1960.
173 Landgren, op. cit., pp. 51ff.
174 «The Stockholm Theory», в «Business Cycle Readings», p. 105.
175 Ibid., p. 109.
176 Landgren, op. cit., pp. 51ff.
177 Ibid., p. 55.
178 О h 1 i n, The Stockholm School versus the Quantity Theory, Economisk Tidskrift, 1943, перепечатано в International Economic Papers, № 10, London, 1960, p. 132.
179 «Interregional and International Trade», p. 4.
180 Ibid., p. 35.
181 Ibid., p. 38.
182 Ibid., p. 130.
183 Ibid., p. 589.
184 L a n d g r e n, op. cit., p. 26.
185 Выдержка из статьи Дж. М. Кейнса в Economic Journal, 1929, цитируется в книге: Viner, op. cit., рр. 307ff.
186 О h 1 i n, op. cit., Appendix III, pp. 57ff.
187 См. выдержки из работы «Gerechtigkeit», опубликованные в книге «Classics in the Theory of Public Finance», pp. 168ff. См. также его ответ критикам, ibid., р. 214, см. также U h г, op. cit., рр. 188ff., где коротко излагается один из аспектов теории налогового обложения Линдаля.
188
Ibid.,
p. 217.
189
Ibid.,
p. 219.
190
Ibid.,
p. 225.
191
Ibid.,
p. 228. См. также последнюю статью Лин-
даля: «Тах Principles and Tax Policy», International Economic Papers, op. cit., p. 9.
192 E r i k Lindahl, Studies in the Theory of Money and Capital, London, 1939. См. также U h r, op. cit., pp. 298ff.
193 Linda h 1, Basic Concepts of National Accounting, 1954, перепечатано в International Economic Papers, № 7, London, 1957, p. 73. См. также Ingvar О h 1 s s о n, On National Accounting, Stockholm, 1953, pp. 25ff, где отмечаются пробелы в теоретической системе Линдаля.
194 «Money and Capital», р. 23.
195 Ibid., рр. 69ff.
196 Ibid., p. 33.
197 См. T ord P al an d ar, On the Concepts and Methods of the Stockholm School, 1941, перепечатано в International Economic Papers, № 3, London, 1953, pp. 8ff.
198 Lindahl, op. cit., p. 60. Этот метод был использован рядом авторов, исследовавших влияние инфляции. См. Bent Hansen, A Study in the Theory of Inflation, London, 1951, pp. 26ff. См. также
J. K. Galbraith, A Theory of Price Control, Cambridge, 1952; Uhr, op. cit., pp. 307ff.
199 См. О h 1 s s о n, op. cit., Lindahl, Basic Concepts of National Accounting, International Economic Papers, № 7; National Bureau of Economic Research, «А Critique of the United States Income and Product Accounts», Princeton, 1958, особенно George Jaszi, The Conceptual Basis of the Accounts, pp. 15ff, где приводится описание используемой в США статистической методологии, и Р a u 1 Studenski, The National Income, New York, 1958.
200 См. О h 1 s s о n, op. cit., и Bent Hansen, The Economic Theory of Fiscal Policy, London, 1958, pp. 41ff.
201 «Money and Capital», pp. 132ff.
202 Мордекай Езекиэл в своей статье «Saving, Consumption and Investment», American Economic Review, March — June, 1942, pp. 281—293, высказал сомнения в том, может ли процентная ставка служить эффективным средством регулирования. Езекиэл доказывал, что для предпринимателей важнее всего оказываются самые последние события и реакции предпринимателей обнаруживают наиболее тесную связь с отношением прибыль — инвестиции. Он не нашел эмпирического подтверждения зависимости между процентом и инвестициями.
203 Lindahl, op. cit., р. 175.
204 Ibid., р. 181.
205 Ibid., р. 231. В одном месте Линдаль высказал предположение, что в тех случаях, когда вследствие забастовки сокращается выпуск капитальных благ, более низкая процентная ставка по краткосрочным ссудам может дать возможность предпринимателям вести производство с целью накопления запасов. При этом неизбежно возникает вопрос, который показывает, что в теории такого рода недостаточно учитывается институциональная структура общества: кто же в подобных условиях будет работать? (Если, конечно, не допускается возможность использования штрейкбрехеров.)
206 A. L. Bowie у, Mathematical Groundwork of Economics, Oxford, 1924.
207 Linda hl, op. cit., pp. 288ff.
208 Ibid., p. 331.
209 Erik Lundberg, Studies in the Theory of Economic Expansion, 1937, переиздание: New York, 1954.
210 Ibid., p. 2.
211 Различные направления в развитии процессов, описываемом «паутинообразной теоремой», и любопытные результаты, к которым приводит такое развитие, анализируются в книгах: William J. Baumol, Economic Dynamics, New York, 1951, pp. 108ff, P. Аллен, Математическая экономия, M., ИЛ, 1963.
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Lundberg, op. cit., p. 29.
Ibid., p. 37.
Ibid., chap. 3, pp. 51—88.
Ibid., p. 89.
Ibid., p. 131.
Ibid., p. 168.
См. ниже, стр. 508.
Lundberg, op. cit., p. 183.
Ibid., p. 185.
Ibid., pp. 194ff.
Ibid., p. 211.
Cm. ibid., p. 255.
Lundberg, Business Cycles and Economic Policy, London, 1957.
Cm. Landgren, op. cit., p. 85.
L u n d b
erg, Business Cycles..., p. 334.
Ibid., p.
85.
Ibid., p.
111.
Ibid., pp.
. 160ff.
Ibid., p.
163.
Ibid., p.
201.
Ibid., p.
221.
Ibid., p.
298.
Ibid., p.
299.
Cm. Landgren, op. cit., p. 89.
Вступительная статья Поля Стритэна к книге: М у г d а 1, Value in Social Theory, p. IX. Мюрдаль был основным автором первого серьезного исследования о положении американских негров: An American Dilemma, New York, 1944.
Gunnar Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory, 1930, перевод: Cambridge, 1954.
Cm. ibid., pp. 20ff.
Cm. Leo Rogin, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956.
«Value in Social Theory», p. 52.
Ibid., p. 254.
Г. M ю p д а л ь, Мировая экономика, M., ИЛ, 1958. Myrdal, Economic Theory and Under-Developed Regions, London, 1957.
Ibid., «Social Theory», p. 261.
Ibid., p. 206.
Ibid., p. 211.
Cm. Ralph Barton Perry, Realms of Value, Cambridge, 1954, особенно главы 3, 5, 10, 15, где рассмотрение вопроса о ценности связывается с понятием процента.
См. Robert К. Merton, The Self-Fulfilling Prophesy, «Social Theory and Social Structure», Glencoe, 1957, p. 421.
«Social Theory», p. 201.
Ibid., p. 205.
573
251 S t г e e t е п, вступительная статья к Social Theory, р. XIV.
252 Му rd al, Monetary Equilibrium, London, 1939.
253 См. P о 1 a n d a r, op. cit., pp. 5ff. Хорошее изложение вопроса о понятии равновесия у Мюрдаля содержится в книге: U hr, op. cit., pp. 313ff.
254 «Monetary Equilibrium», p. 11.
235 Ibid., p. 19.
236 Ibid., p. 46.
237 Ibid., p. 53.
238 Ibid., p. 71.
239 Ibid., p. 96.
260 Ibid., pp. 116ff.
261 Ibid., p. 137.
262 Ibid., p. 200.
263 Хороший обзор этих работ содержится в упоминавшейся выше книге Ландгрена; рецензии на ряд книг шведских экономистов можно найти также в International Economic Papers, № 9, London, 1959, pp. 172ff.
264 В e n t Hansen, The Theory of Inflation, London, 1951.
265 См. также H. K. Charlesworth, The Economics of Repressed Inflation, London, 1956; John
K. Galbraith, A Theory of Price Control, Cambridge, 1952.
266 «Theory of Inflation», pp. 189ff.
267 Hansen, Economic Theory of Fiscal Policy, London, 1958.
268 Ibid., p. 28, см. также Jan Tinbergen, Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam, 1956; idem, On the Theory of Economic Policy, Amsterdam, 1955; idem, Centralization and Decentralization in Economic Policy, Amsterdam, 1954.
269 «Fiscal Policy», p. 208.
Глава VII
РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ ЭКОНОМИСТОВ
1 При тщательном изучении истории американской экономической мысли незаменимым оказывается чрезвычайно содержательный пятитомный труд Джозефа Дорфмана «The Economic Mind in American Civilization», New York, 1946—1959, являющийся важнейшим источником сведений относительно экономической теории в США. В этом огромном энциклопедическом труде содержится обзор не только учебных и научных публикаций, но также брошюр, законодательных актов и переписки. В работе над главой по США я постоянно обращался к труду Дорфмана. Превосходным кратким исследованием американской экономической мысли является работа П. А. Самуэльсона «American Economics» в книге «Postwar Economic Trends in the United States», R. E. Freeman, ed., New York, 1960, p. 31. Cm. A. W. Coats, The First Two Decades of the American Economic Association, American Economic Review, September, 1960, pp. 555ff.
2 W. C. Mitchell, Lectures on Current Types of Economic Theory, New York, 1935, mimeographed, II, p. 466.
3 Dorfman, op. cit., Ill, p. 205.
4 Cm. Mitchell, op. cit., II, pp. 467—468.
3 R i c h a г d T. E 1 y, Outlines of Economics, New York, 1893; 4th ed., 1923.
6 Dorfman, op. cit., IV, p. 212.
7 «Property and Contract», New York, 1914.
8 Cm. Arthur M. Schlesinger, Jr., The Coming of the New Deal, Boston, 1958, pp. 338ff.
9 См. его «Consumption of Wealth», Philadelphia. 1889; также J. L. Boswell, The Economics of Simon Nelson Patten, Philadelphia, 1933, p. 32.
10 Cm. «Theory of Prosperity», New York, 1902.
11 Cm. Dorfman, op. cit., Ill, p. 186.
12 См. его «Essays in Economic Theory», R. G. Tugwell, ed., New York, 1924, p. 277.
13 «Reconstruction of Economic Theory», Philadelphia, 1912.
14 «Essays», p. 243.
15 См. его «New Basis of Civilization», New York, 1912, pp. 32ff.
16 E. R. A. Seligman, Progressive Taxation in Theory and Practice, Princeton, 1908; The Shifting and Incidence in Taxation, New York, 1921, 4th ed.
17 Seligman, Economic Interpretation of History New York, 1902.
18 Селигмен Э., Основы политической экономии, Спб, 1908.
19 «Shifting and Incidence...», p. 11.
20 См. Dorfman, op. cit., III., p. 354.
21 «Distribution of Wealth», New York, 1904.
22 Другие книги Карвера: «Principles of Political Economy», Boston, 1919; «Economy of Human Energy», New York, 1924; «Principles of National Economy», Boston, 1921; «Essays in Social Justice», Cambridge, 1915.
23 «Principles of Economics», 2 vols, New York, 1911.
24 Frank W. T a u s s i g, The Tariff History of the United States, New York, 1888; 8th ed., 1931; International Trade, New York, 1927.
25 Schumpeter, Ten Great Economists, New York, 1951, p. 220.
26 «Wages and Capital», New York, 1915. Милль отрекается от доктрины фонда заработной платы в обзоре работ Торнтона в Fortnightly Review, May, 1869.
27 «Wages and Capital», p. 19.
28 Ibid., p. 104.
29 Ibid., p. 108.
30 См. обзор этой дискуссии в книге: Theo Sura- nyi-Unger, Economics in the Twentieth Cen574
tury, New York, 1931, pp. 301 ff, см. также J о s e p h A. Schumpeter, Professor Taussig on Wages and Capital, перепечатано в «Essays», Cambridge, 1951, pp. 143ff.
31 Dorfman, op. cit., Ill, p. 480.
32 См. выше, стр. 313.
33 «Principles...», 3rd ed., 1923, pp. 388ff.
34 Cm. Jacob Viner, International Economics, New York, 1951, pp. 151 — 152.
35 Ibid., p. 156.
36 «International Trade Under Depreciated Paper», Quarterly Journal of Economics, May, 1917, pp. 380ff.
37 Cm. «International Trade», pp. 337ff.
38 Viner, op. cit.
39 Как Вайнер, так и Хаберлер предлагали рассматривать односторонние потоки отдельно. См. Viner, Studies in the Theory of International Trade, p. 563, и G. Haberler, Theory of International Trade, London, 3rd impression, 1950, p. 164.
40 «Principles...», I, pp. 467ff.
41 Viner, op. cit., pp. 364ff.
42 Dorfman, op. cit., Ill, p. 361.
43 Frank Fetter, Economic Principles, New York, 1915.
44 Cm. Dorfman, op. cit., Ill, pp. 443ff.
45 «Economic Principles», p. 18.
46 Ibid., p. 19.
47 Cm. Mitchell, op. cit., II, pp. 488ff.
48 См. В о li m - В a w e r k, Capital and Interest, перевод G. D. Honke and H. I. Sennliolz, South Holland, 1959, p. 476.
49 «Interest Theories, Old and New», American Economic Review, March, 1914, pp. 68ff.
50 Cm. Dorfman, op. cit., V, 465.
51 Cm. «Economic Principles», pp. 27ff.
52 Fetter, Modern Economic Problems, New York, 1916; The Masquerade of Monopoly, 1931.
53 «Fetter’s testimony, 1923 FTC Hearings», цит. у Дорфмана, op. cit., V, p. 560.
54 «TNEC Hearings, 76th. Cong. First Session, Part 5, Monopolistic Practices in Industry», pp. 1672, 1913ff.
55 Цит. у Дорфмана, op. cit., Ill, p. 365.
66 Dorfman, Thorstein Veblen and His America, New York, 1935, p. 256.
57 Herbert J. Davenport, Outlines of Economic Theory, New York, 1896; Value and Distribution, Chicago, 1908; Economics of Enterprise, New York, 1913; Economics of Alfred Marshall, Ithaca, 1935.
68 «Economics of Enterprise», p. 81.
59 Ibid., p. 84.
60 Ibid., p. 504.
61 Ibid., p. 502.
62 Ibid., p. 519.
63 Ibid., p. 97.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Ibid., p. 126.
Dorfman, Economic Mind, III, p. 382.
Cm. Davenport, op. cit., p. 131.
Cm. Dorfman, op. cit., Ill, pp. 385—386.
Davenport, op. cit., p. 97.
Ibid., p. 60.
Ibid., p. 117.
См. там же, стр. 143 и след., где Дэвенпорт соглашается с этой точкой зрения.
Mitchell, op. cit., II, р. 520. В данном вопросе* Митчелл подвергает Дэвенпорта весьма острой критике.
Davenport, op. cit., р. 353.
Ibid., рр. 332ff.
В последнее время это положение было убедительно* представлено в книге: В. S. К i е г s t е a d, Capital, Interest and Profits, Oxford, 1959.
D a v е п
port,
Ibid., р.
212.
Ibid., р.
234.
Ibid., р.
282.
Ibid., рр
. 295ff.
Ibid., р.
303.
Важнейшими работами Фишера в области экономической теории являются: Mathematical Investigations in the Theory of Value and Price, New Haven, 1891, его докторская диссертация; The Nature of Capital and Income, New York, 1906; The Rate of Interest, New York, 1907; Elementary Principles of Economics, New York, 1910; Покупательная сила денег, M., 1925; The Making of Index Numbers, New York, 1912; The Theory of Interest, New York, 1930, переиздание 1954 г.; Booms and Depressions, New York, 1932.
Fisher, The Making of Index Numbers.
См. «А Statistical Method for Measuring “Marginal Utility”», в «Economic Essays in Honor of John Bates- Clark», New York, 1927.
«Capital and Income», p. 39.
Ibid., p. 98. См. также «Elementary Principles...»,, pp. 51 ff.
«Capital and Income», p. 157.
«Theory of Interest», p. 5.
«Capital and Income», pp. 185ff.
Ibid., p. 202.
Publications of American Economic Association, August 1896.
«Theory of Interest», p. 14.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 182.
Ibid., pp. 231ff.
Дж. M. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 132—133. Кейнс также соглашался с Фишером в том, что золотой стандарт представляет плохую основу для денежной системы. См. Д ж. М. К е й н с, Трактат о денежной реформе,. М., 1925.
575
97 A. A. Alchian, The Rate of Interest, Fischers Rate of Return over Costs, and Keynes’ Internal Rate of Return, American Economic Review, December, 1955, p. 938.
88 «Theory of Interest», p. 183.
99 Ibid., pp. 473ff. Первые критические залпы по Бем-Баверку встречаются в работе Фишера «Ставка процента», вызвавшей быструю ответную реакцию. См. Bohm-Bawerk, Further Essays on Capital and Interest, переиздание: South Holland, 1959, pp. 162ff.
100 «Theory of Interest», pp. 331 ff.
101 F r a n k H. Knight, Capital and Interest» в «Readings in the Theory of Income Distribution»» W. Fellner and B. F. Haley, eds, Philadelphia» 1946, pp. 384ff.
102 «Theory of Interest», p. 13.
103 Ibid., p. 42.
104 Ibid., p. 411.
105 Ibid., p. 42.
106 Dorfman, Thorstein Veblen and His America, p. 285.
107 V e b 1 e n, Essays in Our Changing Order, p. 142.— Курсив мой.
108 Dorfman, Economic Mind..., IV, 203.
109 И. Ф и ш e p, Покупательная сила денег, стр. 109— 110.
110 «Studies in the Quantity Theory of Money», M. Friedman, ed., Chicago, 1956.
111 И. Фишер, Покупательная сила денег, стр. 117.
112 Dorfman, op. cit., p. 289.
113 Fisher, 100% Money, New York, 1935.
114 A 1 b e г t G. H a г t, The «Chicago Plan» of Banking Reform, Review of Economic Studies, 1935, перепечатано в «Readings in Monetary Theory», F. A. Lutz and L. W. Mints, eds, Homewood, 1951, pp. 437ff.
115 И. Фише p, Покупательная сила денег, стр. 51.
116 Alvin Johnson, Pioneer’s Progress, New York, 1942, pp. 227—228.
117 Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, переиздание: London, 1933, 7th impression, 1948.
118 Journal of Political Economy, April, 1941, перепечатано в: M. J. H e r s k о v i t s, Economic Anthropology, New York, 1952. pp. 507ff.
119 Ibid., p. 511—512.
120 Как он сам это признает в книге «Intelligence and Democratic Action», Cambridge, 1960, p. 82.
121 H e г s k о v i t s, op. cit., p. 516.
122 Ibid., pp. 526—527.
123 «Risk, Uncertainty and Profit», p. XI.
124 Cm. Ibid., p. XII, а также «The Ethics of Competition and Other Essays», London, 1935, pp. 135, 281.
126 H e г s k о v i t s, op. cit., p. 510.
126 Ibid., p. 515.
127 M a x Weber, The Methodology of Social Sciences, New York, 1949, p. 49ff.
128 Ibid., pp. Iff.
129 American Economic Association Proceedings, Mav, 1957, p. 18.
130 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 9.
131 Ibid., pp. XVIff.
132 «Ethics...», p. 295.
133 «On the History and Method of Economics», Chicago, 1956, pp. 127, 145.
134 «Institutionalism and Empiricism in Economics», American Economic Association Proceedings, May, 1952, p. 45.
135 «The Ricardian Theory of Production and Distribution», Canadian Journal of Economics and Political Science, 1935, перепечатано в «History and Method», pp. 37ff.
136 «Statics and Dynamics», перепечатано в «Ethics of Competition...», p. 161.
137 Ibid., p. 169.
138 Ibid., p. 184.
139 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 53.
140 «Ethics of Competition...», pp. 62ff., и P. Л ь ю с и X. Райфа, Игры и решения, М., ИЛ, 1961.
141 «Risk, Uncertainty and Profit», pp. 57ff.
142 В данном случае имеет место абстрагирование от процесса принятия решений, который всецело зависит от деятельности людей. См. Е. Т. Penrose, Theory of Growth of the Firm, Oxford, 1959.
143 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 76.
144 «The Economic Organization», New York, 1951, p. 35.
145 Предисловие Найта к книге: Carl Menge г, Principles of Economics, Glencoe, 1950, p. 20.
146 «Realism and Relevence in the Theory of Demand», Journal of Political Economy, December, 1944, p. 298.
147 «Encyclopaedia of the Social Sciences», V, p. 69.
148 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 98.
149 «Encyclopaedia of Social Sciences», XIV, p. 470.
150 «Ethics of Competition...», p. 197.
161 «А Suggestion for Simplifying the General Theory of Price», Journal of Political Economy, June, 1928, pp. 353ff.
152 «Ethics of Competition...», p. 199.
153 Ibid., p. 204.
154 Ibid., p. 215.
155 Роберт Триффин указывает, что впоследствии Найт изменил свою позицию, признав, что специализация и закрепленность инвестированных средств может повести к росту издержек. См. R. Т г i f f i n, Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory, Cambridge, 1940, p. 147; American Economic Association Proceedings, May, 1956, p. 101.
156 Knight, op. cit., passim, Journal of Political Economy, June, 1928, и «History and Method», pp. 55ff.
157 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 160.
158 «History and Method», p. 57.
576
160 «Risk, Uncertainty and Profit», pp. 124ff.
160 Сокрушительная критика аргументации Найта содержится в работе: N. К а 1 d о г, The Recent Controversy on the Theory of Capital, Econometrica, July, 1937, pp. 220ff. Следует отметить, что Калдор в последнее время изменил метод защиты неоклассической теории капитала, отказавшись от применимости принципа предельной производительности по отношению к обществу в целом. См. «The Theory of Capital», F. A. Lutz and D. C. Hague, eds, London, 1961, p. 294.
161 Дискуссия началась с публикации статей Найта «Capitalistic Production, Time and the Rate of Return», в «Economic Essays in Honor of Gustav Cassel» London, 1933, pp. 327ff; «Capital, Time and the Interest Rate», Economica, August, 1934.
162 «Capital and Interest», в «Readings in the Theory of Income Distribution», p. 389. См. также «Risk, Uncertainty and Profit», p. XXIV.
163 «Capitalistic Production...», в: Cassel, Essays, и «The Quantity of Capital and Rates of Interest», Journal of Political Economy, August, 1936, p. 453.
134 Ibid., Journal of Political Economy, p. 460.
165 Op. cit., Cassel, Essays, p. 338.
166 «Professor Hayek and the Theory of Investment», Economic Journal, March, 1935, pp. 77ff.
187 Ibid., p. 78.
168 Ibid., p. 89.
160 F. M a c h 1 u p, Professor Knight and the «Period of Production», Journal of Political Economy, October, 1935, p. 577; См. также К. E. В о u 1 d i n g, Time and Investment, Economica, May, 1936, p. 196.
170 M a c h 1 u p, op. cit., p. 584.
171 К a 1 d о r, Econometrica, July, 1937, p. 213.
172 N. К a 1 d о r, On the Theory of Capital, Econometrica, April, 1938, p. 171.
173 К. E. В о u 1 d i n g, Professor Knight’s Capital Theory, Quarterly Journal of Economics, May, 1936, p. 527.
174 Ibid., p. 528.
175 Op. cit., в: Cassel, Essays.
176 «Neglected Factors in the Problem of Normal Interest», Quarterly Journal of Economics, February, 1916, p. 298.
177 См. его статью «The Quantity of Capital and the Rate of Interest», Journal of Political Economy, August — October, 1936, pp. 433, 612.
178 E. R о 1 p h, The Discounted Marginal Productivity Doctrine, Journal of Political Economy, 1939, перепечатано в «Readings in Income Distribution», p. 291.
170 Op. cit., «Income Readings», p. 394.
180 Op. cit., Jouinalof Political Economy, October, 1936, pp. 614ff.
181 Ibid., p. 614.
182 «Encyclopaedia of Social Sciences», I, p. 382.
183 Op. cit., Journal of Political Economy, October, 1936, p. 631.
184 B. S. К i e г s t e a d, Capital, Interest, and Profits, pp. 42ff.
186 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 20.
186 M. D о b b, Capital Enterprise and Social Progress, London, 1925.
187 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 268.
188 Schumpeter, History..., p. 895.
180 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 329.
100 Ibid., pp. 38, 232.
101 «Profit», в «Encyclopaedia of the Social Sciences», XII, p. 480.
102 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 270.
103 Ibid., p. 278.
104 Как остроумно пишет Джон Гэлбрейт в книге «The Liberal Hour, Boston», 1960, p. 30.
106 «Ethics in Competition...», p. 75.
106 «Risk Uncertainty and Profit», p. 185.
107 «History and Method», p. 520.
108 «Immutable Law in Economics», American Economic Association Proceedings, May, 1956, p. 103.
100 «The Economic Organization», p. 90.
200 E. H. C h a m b e г 1 i n, The Chicago School, в его работе «Toward a More General Theory of Value», New York, 1957, pp. 296ff.
201 См. замечания Чемберлина в American Economic Association Proceedings, May, 1956, pp. 139ff.
202 «History and Method», pp. 202ff.
203 «Capital and Interest», в «Readings in the Theory of Income Distribution», p. 406.
204 Ibid., p. 209.
206 Ibid., p. 214.
200 «Risk, Uncertainty and Profit», p. 301.
207 См. его очерк «Wages and Labor Union in the Light of Economic Analysis», в «The Public Stake in Union Power», P. D. Bradley, ed., Charlottesville, 1959, pp. 21 ff. Статья изобилует ошибками, связанными с перенесением свойств частного на целое.
208 Ibid., р. 38.
200 Поразительная беспомощность общей теории в этой области проявилась в комментариях Найта относительно влияния законодательства о минимальной заработной плате. Существо дела в большей степени отражают эмпирические исследования, подобные тем, которые проводило Министерство труда США. Высказывания Найта по данному вопросу содержатся в книге «The Impact of the Labor Union», D. Me. Wright, ed., New York, 1951, pp. 104—105.
210 Относительно взглядов Найта по социальным и политическим проблемам см. «Freedom and Reform», New York, 1947; «Intelligence and Democratic Action», Cambridge, 1960.
211 «The Economic Organization», p. 27.
212 «Risk, Uncertainty and Profit», pp. XXVI, 13.
213 Ibid., p. lii.
214 H. C. Simons, Hansen on Fiscal Policy, Journal of Political Economy, April, 1942, pp. 161ff.
215 H. G. Moulton, The New Philosophy of Public Debt, Washington, 1943. См. ответ Хансена в книге: Hansen and Perloff, State and Local Finance in the National Economy, Appendix A, New York, 1944.
x/2 37 Б. Селигмен
577
216 А 1 v i n H. Hansen, Business Cycle Theory, Boston, 1927.
217 Hansen, Income, Employment and Public Policy, New York, 1948.
218 Hansen, Economic Stabilization in an Unbalanced World, New York, 1932. Другие работы Хансена: „Full Recovery on Stagnation”, New York, 1938; „Fiscal Policy and Business Cycles”, New York, 1941; „Economic Policy and Full Employment”, New York, 1947; «Экономические циклы и национальный доход», М., ИЛ, 1957; „Monetary Theory and Fiscal Policy”, New York, 1949; „А Guide to Keynes”, New York, 1953; „The American Economy”, New York, 1957, „Economic Issues of the 1960s”, New York, 1960.
219 Dorfman, op. cit., V, p. 725.
220 Lawrence Klein, The Keynesian Revolution, New York, 1947, p. 48. Клейн цитирует написанные Хансеном обзоры теорий экономического цикла в журналах: Econometrica, 1933; The Review of Economics and Statistics, 1936.
221 «The American Economy», pp. 3—4.
222 Ibid., p. 7.
223 Gunnar Myrdal, Beyond the Welfare State, New York, 1960. Мюрдаль убедительно доказывает бесплодность дискуссии относительно необходимости планирования. Проблема состоит скорее в том, какой тип планирования нужен для создания жизнеспособной национальной экономики.
224 Hansen, American Economy, р. И.
225 Ibid., р. 23.
226 Выразительное описание этих событий содержится в работе: Arthur М. Schlesinger, Jr., The Crisis of the Old Order, Boston, 1957; idem, The Coming of the New Deal, Boston, 1958; J. K. Galbraith, The Liberal Hour, pp. 80ff.
227 «Fiscal Policy and Business Cycles», p. 16.
228 Э. Хансен, Экономические циклы и национальный доход, стр. 72—73.
229 «Fiscal Policy and Business Cycles», p. 21.
230 Ibid., p. 38.
231 См., например, «Экономические циклы и национальный доход», ч. 2, стр. 153 и след.
232 См. Н a n s е n, Economic Progress and Declining Population Growth, American Economic Association Proceedings, March, 1939, перепечатано в «Readings in Business Cycle Theory», Philadelphia, 1944, p. 366; G. Terborgh, The Bogey of Economic Maturity, Chicago, 1945; Ответ Хансена Терборгу: «Economic Policy and Full Employment», pp. 298ff.
233 Уильям Феллнер, который не разделяет мнения Хансена, признает, что этот аргумент невозможно опровергнуть. См. его Modern Economic Analysis, New York, 1960, p. 289.
234 Cm. Joan Robinson, Collected Economic Papers, Oxford, 1960, II, p. 105.
235 «Fiscal Policy and Business Cycles», pp. 225ff, «Business Cycles and National Income», pp. 145ff. Более ранняя формулировка взглядов Хансена содержится в «Temporary National Economic Committee Hearings, Part 9, 76th Cong.», pp. 3495, 3538, 3837.
230 В. H i g g i n s, Economic Development, New York, 1959, p. 188.
237 D. Me. Wright, The Prospects for Capitalism, Survey of Contemporary Economics, Philadelphia, 1948, pp. 457ff. Относительно роли правительства см. мою статью «Сап the US Reconvert to Peace?», Dissent, Winter, 1960, pp. 12ff.
238 Cm. Milton Friedman, Joint Economic Committee Hearings 86th Cong., Employment Growth and Price Levels, Part 4, pp. 605ff.
239 Яркая характеристика экономической действительности 1950-х годов дана в книге: J. Р. Lewis, Business Conditions Analysis, New York, 1959, pp. 318ff.
240 Cm. J. K. Galbraith, The Affluent Society; Allan Sweezy, Secular Stagnation, в Postwar Economic Problems, S. E. Harris, ed., New York, 1943, p. 81.
241 E. H. Chamberlin, Towards a More General Theory of Value, New York, 1957, p. 298, M. В г о n- fenbrenner, Contemporary American Economic Thought, American Journal of Economics and Sociology, July, 1950, p. 487.
242 Фридман удостоен медали Кларка, присуждаемой Американской экономической ассоциацией, за 1951 г.
243 «The Methodology of Positive Economics», в его «Essays in Positive Economics», Chicago, 1953, pp. 3ff.
244 G. Myrdal, The Political Element in The Development of Economic Theory, Cambridge, 1954, p. VII.
246 Friedman, op. cit., p. 6.
248 Ibid., p. 14. Любопытно сопоставить эту точку зрения с мнением Дж. Стиглера, выраженным в статье «The Development of Utility Theory», Journal of Political Economy, August — October, 1950, которая перепечатана в «Essays in Economic Thought», J. J. Spengler and W. R. Allen, eds, Chicago, 1960, pp. 644—645.
247 См. T. W. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, New York, 1960, p. XIII.
248 Cm. J. J. Spengler, The Problem of Order in Economic Affairs, Southern Economic Journal, July, 1948, перепечатано в: Spengler and Allen, op. cit., p. 8. Шпенглер указывает, что теоретические построения в социальных науках должны точно представлять соответствующие реальные структуры.
249 См. Stigler, op. cit., р. 645.
250 Friedman, op. cit., p. 13.
261 К. E. В о u 1 d i n g, A Reconstruction of Economics, New York, 1950.
252 «The Utility Analysis of Choices Involving Risk» (в соавторстве c J. L. Savage), Journal of Political Economy, August, 1953, pp. 277ff.
253 Ibid., p. 281.
254 Ibid., p. 298.
265 «Choice, Chance, and the Personal Distribution of Income», Journal of Political Economy, August, 1953, pp. 277ff.
256 Ibid., p. 278.
257 M. F r i e d m a n, A Theory of Consumption Function, Princeton, 1957.
578
258
259
260
261
262
263
264
2 65
266
267
268
269
270
271
272
Дж. М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 90.
Библиография по этому вопросу имеется в книге: Friedman, op. cit., pp. 3—6.
J. S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Cambridge. 1949. Следует отметить, что теория потребления исходит из предпосылки об отсутствии возможности насыщения и, по выражению Кеннета Эрроу, отсутствии момента полной удовлетворенности. Однако есть все основания поставить под сомнение правильность такой предпосылки, что и было сделано Солом Энгельбургом в статье «Reckoning Your Bliss Point», Columbia University Forum, Fall, 1960, pp. 27ff. Расширение потребности в наше время, по-видимому, проистекает из Вебленова «показного потребления», поэтому полезность подобных благ, обычно предметов роскоши, является функцией полезности благ, потребляемых другими. Когда приращения полезности по своей сути независимы от других функций полезности, мы имеем дело с предметами первой необходимости. Как полагает Энгельбург, это делает возможным локализацию точек максимальной полезности независимого происхождения: точка, соответствующая полному удовлетворению, может быть найдена, и предпосылка о невозможности насыщения оказывается преодоленной.
«А Statistical Illusion in Judging Keynesian Models» (в соавторстве c G. S. Becker), Journal of Political Economy, February, 1957, pp. 64ff.
«Consumption Function», pp. 20ff.
Ibid., p. 93.
См. высказывания Джеймса Тобина, Теодора Моргана, Ирвина Френда и Дж. X. Оркатта в «Consumer Behavior», L. Н. Clark, ed., New York, 1958, pp. 447ff.
«Consumer Buying Intentions», Federal Reserve Bulletin, September, 1960, pp. 973ff; George Katona, The Powerful Consumer, New York, 1960.
H. G. Houthakker, The Permanent Income Hypothesis, American Economic Review, June, 1958 p., 400. Острые замечания Хаутэккера вызвали дискуссию о том, какими статистическими методами следует в данном случае пользоваться. См. R. Eisner, Comment, American Economic Review, December, 1958, p. 972.
Friedman, Savings and the Balance Sheet, Bulletin, Oxford Institute of Statistics, May, 1957, где признается роль ликвидных активов.
Взгляды Фридмана по денежной проблеме изложены в работах: «The Quantity Theory of Money — A Restatement», в «Studies in the Quantity Theory of Money», Friedman, ed., Chicago, 1956; idem, A Program for Monetary Stability, New York, 1960, а также в его выступлении перед Объединенной экономической комиссией конгресса: «Hearings on Employment, Growth and Price Levels», May 25, 1959.
«Studies in the Quantity Theory of Money», p. 4. Ibid., p. 12.
Friedman, The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results, Journal of Political Economy, August, 1959, pp. Iff.
Когда группа советских экономистов посетила Соединенные Штаты, Фридман в дискуссии с ними признал, что инфляция не является серьезной проблемой. См. «Committee for Economic Development Memorandum», March 18, 1960, p. 23. Дальнейшая характеристика взглядов Фридмана на роль денег опирается в основном на его выступления перед Объединенной экономической комиссией конгресса, op. cit., Мау, 1959.
273 См. его «Program for Monetary Stability».
274 Краткая история американского банковского дела в условиях свободного предпринимательства изложена в книге: Е. С. Kirkland, A History of American Economic Life, New York, 1933, pp. 246ff; см. также F. A. Bradford, Money and Banking, 4th ed., New York, 1940, pp. 274ff.
276 Friedman, Prices, Income and Monetary Changes in Three Wartime Periods, American Economic Association Proceedings, May, 1952, pp. 612ff; Program for Monetary Stability, pp. 9ff.
276 C. R. Whittlesey, American Economic Association Proceedings, May, 1952, p. 642.
277 Ср. его нападки на регулирование потребительского кредита: «Consumer Credit Control as an Instrument for Stabilization Policy», в «Consumer Installment Credit, Conference on Regulation», Part II, Vol. II, Washington, 1957, p. 73, где Фридман утверждает, что контроль за потребительским кредитом является плохим средством стабилизации; что его действие неодинаково по отношению к различным потребителям, а это приводит к неправильному размещению ресурсов; что он представляет собой вмешательство в действие сил свободного рынка. Последнее, безусловно, и является целью регулирования потребительского кредита, особенно в периоды войны и инфляции.
278 «Monetary Stability», pp. 21, 38.
279 Friedman, The Supply of Money and Changes in Prices and Output, «Compendium on the Relationship of Prices to Economic Stability and Growth», Joint Economic Committee, 85th Cong., Washington, 1958, pp. 241 ff.
280 «Positive Economics», pp. 133ff.
281 См. его ответ Филиппу Неффу, American Economic Review, September, 1949, p. 950.
282 Политическая философия Фридмана наиболее четко сформулирована в работе «Liberalism, Old Style», Colliers Year Book, New York, 1955, pp. 360ff, в его выступлении перед Комитетом экономического развития, см. «Problems of United States Economic Development», New York, 1958, p. 86, а также в статье «What Price Inflation», Proceedings, American Petroleum Institute, Vol. 38, 1958, p. 18. В своей основе его взгляды в этой части идентичны взглядам Мизеса и Хайека.
283 См. К. Е. Bouldin g, Principles of Economic Policy, New York, 1958, pp. llOff. Консервативные взгляды на общество отразились в книге: William J. Newman, The Futilitarian Society, New York, 1961.
284 Cm. «Positive Economics», p. 38; см. также Chamberlin, op. cit., pp. 296ff.
286 Friedman, The Role of Government in Education, в: «Economics and the Public Interest», R. A. Solo, ed., New Brunswick, 1955, p. 106.
286 См. комментарии P. Тернера в книге «Consumer Installment Credit», p. 106.
37* 579
287 «Role of Government in Education...», op. cit., p. 129.
288 «Some Comments on the Significance of Labor Unions for Economic Policy», в «The Impact of the Labor Union», D. Me. Wright, ed., New York, 1951, pp. 204ff.
289 Kenneth E. Bouldin g, The Economics of Peace, New York, 1945.
290 В о u 1 d i n g, Economic Analysis, New York, 1941, 3rd ed., 1955.
291 Хорошее представление о реакции специалистов на новые идеи Боулдинга дает книга «The Impact of the Labour Union», pp. 149ft
292 Помимо упомянутых, Боулдингу принадлежат следующие книги: «А Reconstruction of Economics», New York, 1950; «The Organizational Revolution», New York, 1953; «The Image: Knowledge in Life and Society», Ann Arbor, 1956; «The Skills of the Economist», Cleveland, 1958; «Principles of Economic policy», New York, 1958; «Conflict and Defence», New York, 1962. Совместно с Джорджем Стиглером он редактировал книгу «Readings in Price Theory», Homewood, 1952.
293 «The Theory of the Firm in the Last Ten Years», A me- rican Economic Review, December, 1942, pp. 791 ff.
294 Ibid., p. 802.
295 «Implications for General Economics of More Realistic Theories of the Firm», American Economic Association Proceedings, May, 1952, p. 36.
29(5 «Skills...», pp. 42ff. По этому вопросу см. также W. J. Baumol, Business Behavior, Value and Growth, New York, 1959.
297 «The Fruits of Progress and the Dynamics of Distribution», American Economic Association Proceedings, May, 1953, p. 473.
298 «Professor Tarshis and the State of Economics», American Economic Review, March, 1948, p. 93.
299 Cm. «Reconstruction...», pp. 172—173.
300 «The Consumption Concept in Economic Theory», American Economic Association Proceedings, May, 1945, p. 2.
301 Op. cit., American Economic Review, March, 1948, p. 100.
302 Op. cit., American Economic Association Proceedings, May, 1945, p. 8.
303 Cm. «The Economics of Peace», pp. 171ff.
304 «А New Look at Institutionalism», American Economic Association Proceedings, May, 1957, p. 9.
305 «Reconstruction...», p. 4.
306 См. В о u 1 d i n g, Welfare Economics, Survey of Contemporary Economics, Homewood, 1952, II, pp. 3—4.
307 Cm. «Skills of the Economist», p. 32.
308 Ibid., p. 67.
309 Cm. Bouldin g, A. Liquidity Preference Theory of Market Prices, Economica, May, 1944, перепечатано в «Readings in Price Theory», Homewood, 1952, pp. 53ff.
310 Ibid., p. 320.
811 Cm. A. G. Papandreou, Some Basic Problems in the Theory of the Firm, Survey of Contemporary Economics, II, pp. 185ff, J. G. March and H. A. S i- m о n, Organizations, New York, 1958; «Modem Organization Theory», Mason Haire, ed., New York, 1959; H. Leibenstein, Economic Theory and
Organizational Analysis, New York, 1960. В большей части литературы, посвященной проблемам организации и ее структуры, подчеркивается необходимость гармонии во взаимосвязях составных частей. Это предполагает регулирование и тщательный контроль для поддержания иерархической структуры, имеющей существенное значение при создании жизнеспособной организации. См. С. Z. Wilson, Organization Theory: A Survey of Three Views, Quarterly Review of Economics and Business, August, 1961, pp. 53ff. Другая точка зрения выражена в книге: S. Krupp, Pattern in Organization Analysis, Philadelphia, 1961, где автор справедливо отмечает, что современные теории организации, как правило, игнорируют проблему конфликта и вследствие этого мало касаются вопроса о борьбе за власть внутри организации. Однако эта борьба может оказывать глубокое влияние на размещение ресурсов и распределение дохода. Любая теория организации, справедливо заявляет Крупп, должна включать в себя анализ проблем власти, конфликта и силы. Роль ученых в области общественных наук в рамках организации получила яркое освещение в книге: L. В а г i t z, The Servants of Power, Middletown, 1960. Боулдинг также касался проблемы конфликта, но в более широком, выходящем за рамки организации контексте. См. его недавно вышедшую работу «Conflict and Defence», которая в данной книге подробно не рассматривается, так как она запоздала. Конфликт правильно оценивается Боулдингом как часть социального прогресса: в той мере, в какой это верно, тезис Круппа получает подтверждение.
812 С. R. Noyes, Economic Man, New York, 1948, I, pp. 29ff, passim.
313 «Reconstruction...», pp. 26ff.
314 «Skills of the Economist», p. 57.
816 «Reconstruction...», pp. 95ff.
816 «Skills...», p. 51.
317 Op. cit., American Economic Association Proceedings, May, 1952, p. 41.
318 «Reconstruction...», p. 35ff.
319 Ibid., p. 135.
320 Ibid., p. 147.
821 bid., p. 153.
322 Ibid., p. 195.
323 Ibid., p. 174.
324 Ibid., p. 246.
328 Ibid., p. 249.
326 Ibid., p. 250.
327 Op. cit., American Economic Association Proceedings, May, 1953, p. 478.
328 Ibid., p. 480.
329 «Skills...», p. 64.
580
330 Ibid., pp. 78ff. См. также Penrose, op. cit. Пенроуз доказывает, что не существует предела для роста фирм. Главным фактором роста она считает наличие в избытке умелого управленческого персонала и — при том, что предела для размеров не существует,— темпы роста фирмы зависят лишь от времени, необходимого управленческому персоналу для того, чтобы научиться совместно работать.
331 В определенном смысле информация может быть представлена как последовательность изображений: Boulding, The Image, рр. 7, 19ff.
332 «Skills...», p. 133.
333 Интересное приложение принципа обратной связи к проблемам олигополии можно найти в книге: Tun Thin, Theory of Markets, Cambridge, 1960, pp. 94ff.
Глава VIII
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ
1 Большая часть последующего раздела заимствована из статей автора «The Economics of Joseph Schumpeter», Dissent, Autumn, 1954, pp. 370ff, и «Is the Depression Inevitable?», Commentary, September, 1947, pp. 282ff.
2 Достаточно полную биографию см. в очерке Готфрида Хаберлера в: Schumpeter, Social Scientist, Seymor E. Harris, ed., Cambridge, 1951, pp. 24ff.
3 Ibid., p. 31.
4 Эти идеи были выдвинуты в 1918 г. в лекции «The Crisis of the Tax State», напечатанной в International Economic Papers, № 4, London, 1954, pp. 5ff. В первой части лекции Шумпетера содержался глубокий и интересный исторический очерк современной налоговой системы и предпринималась попытка установить допустимые пределы для определенных видов налогов. Во второй части Шумпетер рассматривал проблемы послевоенного восстановления и предлагал ввести налог на капитал в качестве метода погашения военного долга. Такую политику он стремился проводить на посту министра финансов Австрии.
5 Помимо указанной выше работы, на английский язык переведена статья Шумпетера «Money and Social Product», I.E.P., № 6, London, 1956, p. 148. Большинство наиболее важных ранних работ Шумпетера собрано Эрихом Шнайдером и Артуром Шпитгофом в книге «Aufsatze zur okonomischen Theorie», Tubingen, 1952. В нее включены известные работы в области теории распределения и вменения, а также дискуссия с Бем-Баверком по теории процента.
6 Erich Schneider, в: Harris, op. cit., p. 54. ’Joseph A. Schumpeter, Theory of Economic Development, Leipzig, 1912, перевод: Cambridge, 1934, pp. 119ff.
8 «On the Concept of Social Value», Quarterly Journal of Economics, 1919; перепечатано в «Essays», Cambridge, 1951, pp. Iff.
9 См. прежде всего «Economic Development», pp. 24ff.
10 Ibid., p. 175.
11 Ibid., p. 216.
12 Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, 1954.
13 О взглядах Шумпетера на монополию и олигополию см. его работу «The Instability of Capitalism», «Essays», pp. 47ff. Он защищал монополию в работе «Capitalism, Socialism and Democracy», 2nd ed., New York, 1947, pp. 87ff.
14 Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der Theoretischen Nationalokonomie, Leipzig, 1908.
16 «History of Economic Analysis», p. 42.
16 Ibid., p. 955.
17 Там же, особенно главы 2, 3 и 4.
18 См., к примеру, начальные главы книги «Business Cycles», 2 vols, New York, 1939, в особенности главу 2, стр. 30 и след., где дано превосходное описание основной теоретической модели Шумпетера. О взглядах Шумпетера см. «Essays», рр. lOOff.
19 «Economic Development», рр. 66ff.
20 Краткий обзор дан в книге: R. V. Clemence and F. S. Doody, The Schumpeterian System, Cambridge, 1950.
21 Это положение позволило Шумпетеру соотнести процент и прибыль. См. также «Business Cycles», Vol. I, Chap. Ill, pp. 72ff.
22 Cm. Money and Social Product, International Economic Papers, № 6, pp. 150ff.
23 А.У. Маргет расширяет это понятие, так что оно включает все экономические единицы. См. его очерк в сборнике «Schumpeter, Social Scientist», р. 63.
24 International Economic Papers, № 6, p. 150.
26 «Economic Development», pp. 115ff.
26 Ibid., p. 122.
27 Ibid., p. 124.
28 Cm. Clemence and Doody, op. cit., p. 28.
29 Cm. Ibid., pp. 28ff. Хаберлер в «Schumpeter, Social Scientist», pp. 72ff; J.W. Conard, Introduction to the Theory of Interest, Berkeley, 1959, pp. 89ff.
30 «Business Cycles», Chap. IV, pp. 130ff.
31 Ibid., pp. 161ff.
32 Ibid., p. 173; «Essays», pp. 134ff.
83 «Business Cycles», I, p. 85.
34 Ibid., pp. 94ff; J. Schmookler, Invention, Innovation and Business Cycles, в Variability of Private Investment, Part II, Joint Economic Committee, Washington, 1962, p. 45ff.
36 «Capitalism, Socialism and Democracy», p. 83.
36 Ibid., pp. 63ff.
37 Ibid., p. 87.
38 Ibid., p. 125.
39 Ibid., pn. Iliff. «Essays», pp. 174ff; «Business Cycles», II, pp. 1032ff.
40 «Capitalism, Socialism and Democracy», p. 139.
41 См. там же, в особенности главы 13 и 14.
581
42 «Essays», pp. 71—72.
43 «History...», pp. 588ff; pp. 647ff; pp. 651ff. См. также «Capitalism, Socialism and Democracy», Chap.Ill, pp. 21 ff; Essays, p. 160.
44 Первоначально опубликована в 1912 г.; цит. по переводу: London, 1954, pp. 119ff.
46 «Capitalism, Socialism and Democracy», Part I, pp. 5ff.
46 Ibid., p. 21.
47 «History...», p. 597.
48 «Essays», p. 160.
49 «History...», p. 387.
60 Перепечатано в «Imperialism and Social Classes», New York, 1951.
61 См. интересное обсуждение вопроса в Social Research, June — December, 1952.
62 «Н istory...», p. 392. Интересно отметить, что эти замечания противоречат точке зрения Поля Самуэльсона, высказанной в American Economic Review, December, 1957, pp. 884ff, и мнению H. Георгеску- Регена, см. Econometrics, April, 1960, pp. 225ff.
68 «History...», p. 472.
64 Более благосклонное отношение к Рикардо нашло отражение в рецензии Дж. Вайнера на «Историю...» Шумпетера, перепечатанной в работе Вайнера «The Long View and the Short», Glencoe, 1958, pp. 357ff.
66 History p. 827.
68 Раздел, посвященный теории Вальраса, как и многие другие разделы «Истории...», не отработан, что вызывает иногда неприятное впечатление. В значительной мере это связано с тем, что книга осталась незавершенной. Сложная по замыслу и исполнению — в ней переплетаются экономическая теория, философия, социология, история, теория денег, экономических циклов и государственных финансов,— она имеет много пробелов. К примеру, описание теории Кейнса в ней носит эскизный характер и представляет собой лишь заметки, а американский институционализм совершенно отсутствует. Шумпетер, который скончался в 1950 г., не закончил ни одну из частей своей книги, и его вдове Элизабет Буди Шумпетер, редактировавшей рукопись, пришлось собрать воедино материалы, найденные по крайней мере в трех разных местах. Задача по редактированию осложнилась привычкой Шумпетера хранить предварительные заметки и более поздние черновики совместно с более отработанными вариантами.
67 В своем президентском обращении к Американской экономической ассоциации в 1948 г. Шумпетер выдвинул противоположную точку зрения, полагая, что идеологического влияния избежать невозможно. Он заявил, что идеологии, как и «проницательность», имеют общие источники, и хотя прогресс может сдерживаться под влиянием идеологии, без нее он был бы невозможен. Перепечатано в «Essays», pp. 267ff.
68 См. «Essays», pp. 153ff.
69 Joan Robinson, Collected Economic Papers, Oxford, 1951, I, VII.
80 J. M. К 1 a r k, Economics of Overhead Costs, Chicago, 1923.
61 H. H о t e 11 i n g, Stability in Competition, Economic Journal, 1929. Перепечатано в работе «Readings in Price Theory», George J. Stigler and Rennet E. Boul- ding, eds, Homewood, 1952, pp. 467ff.
82 F. Z e u t h e n, Problems of Monopoly and Economic Warfare, London, 1930.
83 Ibid., p. 1.
84 Характеристика довольно поверхностного подхода Парето содержится в работе: Robert Triffin, Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory, Cambridge, 1940, passim.
86 Перепечатано в «Readings in Price Theory», pp. 180ff.
88 Ibid., p. 184.
87 Ibid., p. 187.
88 Ibid., p. 188.
89 Ibid., p. 193.
70 Библиографию этой дискуссии см.: Т г i f f i n, op. cit., pp. 8—9.
71 Перепечатано в: J. V i n e r, op. cit., pp. 50ff.
72 Cm. Joan Robinson, The Economics of Imperfect Competition, London, 1933; Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, М., ИЛ, 1959. Ссылка на последнюю работу относится к 3-му изданию 1938 г. Чемберлин говорит, что он работал над этим вариантом новой теории с 1921 г., когда он был студентом Мичиганского университета. См. Schumpeter, History..., р. 1150.
73 Е. Н. Chamberlin, Towards a More General Theory of Value, New York, 1957, pp. 8—9.
74 Joan Robinson, Introduction to the Theory of Employment, London, 1937.
75 R о b i n s on, Essays in the Theory of Employment, 2nd. ed., Oxford, 1947.
78 Ibid., pp. 183ff, Robinson, Essays on Marxian Economics, London, 1942.
77 Robinson, The Accumulation of Capital, London, 1956. Описание этого аспекта ее экономической теории дается ниже, см. стр. 511.
78 См. главу 8, в особенности «Essay on Marxian Economics», pp. 75ff.
79 Предисловие к книге Розы Люксембург «The Accumulation of Capital», New Haven, 1951, p. 28.
80 «Imperfect Competition», p. 4.
81 Ibid., p. 5.
82 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 40; Robinson, Essays..., I, 21.
83 «Imperfect Competition», p. 50.
84 Джоан Робинсон применяет маржинальный анализ, в то время как Цойтен использует метод «площади», см. цит. соч. Ее геометрический метод, вероятно, представляет собой наиболее удачную трактовку соответствующих кривых. Не удивительно, что в течение пяти лет после опубликования «Несовершенной конкуренции» ее графики — эти жемчужины педагогики — перекочевали почти во все стандартные учебники. Основы анализа остались, по существу, такими, какими они были в 1933 г., хотя некоторые авторы усовершенствовали анализ. См. Imperfect Competition, Book I, Chap. 2, pp. 26ff.
86 «Papers», I, pp. 30—31.
88 «Imperfect Competition», p. 53.
87 Ibid., p. 88.
582
88 Ibid., p. 89; см. также «Papers», II, p. 228.
89 «Imperfect Competition», p. 90.
90 Ibid., p. 127.
91 Ibid., pp. 143ff.
92 Джоан Робинсон считает, что выпуск продукции в условиях монополии может превзойти выпуск в условиях конкуренции лишь в редких ситуациях, когда вся «квазирента» не выплачивается владельцам фактора производства и при наличии экономии, обусловленной масштабами производства. См. ibid., рр. 153-159.
93 См. «Papers», II, р. 227; наилучшее современное обсуждение проблемы может быть найдено в работе: J. Bain, Barriers to New Competition, Cambridge, 1956.
94 «Imperfect Competition», pp. 236ff.
95 Ibid., p. 282.
96 Ibid., p. 281; «Papers», II, p. 243.
97 «Papers», II, p. 224.
98 Ibid., p. 236.
99 «Imperfect Competition», p. 307.
100 Ibid., p. 313.
101 Как можно было ожидать, единственным экономистом, не пожелавшим четко сформулировать социальные выводы из теории, был Шумпетер, для которого это был «рикардианский грех»— термин, применявшийся им ко всем, кто переступал границы чисто научного анализа. См. Schumpeter, Essays, р. 132.
102 См. «More General Theory», р. 65.
103 Т г i f f i n, op. cit., pp. 38ff; см. также N. К a 1- d о r, Essays on Value and Distribution, London, 1960, pp. 81ff.
104 Robinson, Papers, II, p. 223.
105 «More General Theory», p. 3.
106 Ibid., p. 4; см. также Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 33.
107 «More General Theory», р. 17.
108 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, гл. 5 и гл. 7.
109 «More General Theory», pp. 105ff.
110 Ibid., p. ИЗ; см. также Hans Brems, Product Equilibrium under Monopolistic Competition, Cambridge, 1951; L. Abbot , Quality and Competition, New York, 1955.
111 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 130—131.
112 О. Г. Тэйлор воздает должное Чемберлину за изобретение этого непонятного термина. См. Т ayl or, History of Economic Thought, New York, 1960, p. 456. Однако сам Чемберлин признавал, что это слово в том же значении использовалось Карлом Шлезингером, немецким банкиром и теоретиком, в 1914 г. Оно также встречается в книге Томаса Мора «Утопия», опубликованной в 1518 г., см. «More General Theory», р. 34.
111 См. «Imperfect Competion», р. 21, и более поздние высказывания Джоан Робинсон в «Papers», II, р. 228.
114 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 94.
1,6 Там же, стр. 110—111.
116 Там же, стр. 128—129.
117 Р. Ф. Харрод доказывает важность определения цен на основе полных издержек, см. «Theory of Imperfect Competition Revised, Economic Essays», New York, 1952, pp. 139ff. Чемберлин утверждает, что его подход позволяет определять цены на основе полных издержек. См. его работу «More General Theory», pp. 272ff, pp. 280ff, см. «Теория монополистической конкуренции», стр. 239 и след.
118 См. N. К а 1 d о г, Market Imperfection and Excess Capacity, в «Readings in Price Theory», p. 389.
119 «More General Theory», p. 9.
120 Cm. George J. Stigler, Five Lectures on Economic Problems, London, 1949, pp. 16ff.
121 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 169. В ходе дискуссии по вопросу об избыточной мощности некоторые теоретики стремились доказать необязательность ее возникновения. См. Калдор, цит. соч.; Харрод, цит. соч., стр. 140 и след. Аргументация последнего оказалась достаточно убедительной для опровержения тезиса Чемберлина.
122 См. «More General Theory», р. 290.
123 Этот аргумент об ответственности потребителей выдвинут Тэйлором, см. цит. соч., стр. 461.
124 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 179 и след.
125 «More General Theory», pp. 149ff.
126 Э. Чемберлин, Теория монополистической конкуренции, стр. 180—181.
127 Там же, стр. 238.
128 Там же, стр. 250.
129 Лучше всего о консервативности Чемберлина говорят его статьи по вопросам труда и профсоюзов. См. его «Monopoly Power of Labor», в «Impact of the Labour Unions», pp. 168ff; «The Economic Analysis of Labor Union Power», Washington, 1958; доклад сенатскому комитету по вопросам труда 21 мая 1958 г.
130 Taylor, op. cit., р. 467.
131 «Papers», II, р. 6.
132 См. острую критику Чемберлина в работе: М. S h u- b i k, Strategy and Market Structure, New York 1959, pp. 27—28.
133 Heinrich von Stackelberg, Marktform und Gleichge- wicht, Berlin, Vienna, 1934.
134 Stackelberg, The Theory of the Market Economy, London, 1952. К сожалению, работа «Формы рынка и равновесие» не переведена на английский язык. Читатели, для которых эта книга недоступна, могут ознакомиться с изложением вопроса у Феллнера в «Competition Among the Few», New York, 1949, pp. 98ff; W. L e о n t i e f, Stackelberg and Monopolistic Competition, Journal of Political Economy, August, 1936, pp. 554ff; T r i f f i n, op. cit., passim. Полезно обратиться также к предисловию Т. Пикока к его переводу книги «Grundlagen...». Математическую интерпретацию см. в работе: Tun Thin, Theory of Markets, Cambridge, 1960, p. 51.
583
136 См. «The Theory of Foreign Exchanges under Perfect Competition», International Economic Papers, № 1, London, 1951, pp. 104ff.
136 «Market Economy», p. XIII.
137 Ibid., p. 175.
138 J. K. Galbraith, Monopoly and the Concentration of Economic Power, Survey of Contemporary Economics, I, p. 110; см. также Stackelberg, op. cit. pp. 182, 213.
139 Cm. Fellner, op. cit. p. 100.
140 Ibid., p. 116.
141 A. L. Bowie y, Mathematical Groundwork of Economics, Oxford, 1924.
142 R. Frish, Monopoly—Polypoly—The Concept of Force in the Economy, International Economic Papers, №, 1, pp. 21ff.
143 См. T r i f f i n, op. cit., p. 74.
144 Stackelberg, Market Economy, p. 207.
146 Ibid., p. 208.
146 Cm. Chamberlin, Advertising Costs and Equilibrium, More General Theory, pp. 149ff.
147 См. T r i f f i n, op. cit., p. 63.
148 Cm. Ibid., Chap. 3, pp. 97ff.
149 Cm. G. Bain, Industrial Organization, New York, 1959, p. 34.
160 Cm. Chamberlin, More General Theory, pp. 296ff.
161 Cm. Stigler, op. cit., p. 16.
162 Chamberlin, op. cit., p. 301.
153 См. M. Вебер, История хозяйства, гл. 9.
154 См. J. К. Galbraith, The Affluent Society, Boston, 1958.
166 См. E.R.Walker, From Economic Theory to Policy, Chicago, Chap. VI, 1943, pp. lOOff.
166 Следующий раздел в несколько отличном виде впервые был опубликован в журнале Dissent, Winter, 1956.
167 Дж. М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, М., ИЛ, 1948. Было бы совершенно неправильно называть Кейнса отцом «Нового курса», как это модно в некоторых кругах. Хотя интерес Кейнса к использованию общественных работ с целью противодействия безработице действительно зародился в 1924 г., когда Ллойд Джордж начал защищать такие мероприятия, его теория в окончательном виде появилась после того, как был провозглашен «Новый курс». Программа Рузвельта включала в себя как проведение реформ, так и мероприятия по оздоровлению экономики, однако Кейнс проявил интерес только к последним. «Новый курс» носил характер программы, продиктованной исключительными обстоятельствами, и он осуществлялся теми, кто сторонился экономической теории.
168 Кейнс признавал, что Викселль стремился исследовать те же проблемы, а именно проблемы, связанные с зависимостью между инвестициями и нормой процента. См. «Treatise on Money», London, 1930, I, 198.
169 Главным источником сведений о жизни Кейнса является замечательная книга: Roy F.Harrod, The Life of John Maynard Keynes, New York, 1951.
160 Дж. M. Кейнс, Экономические последствия Версальского договора, М., 1924.
161 См. Alvin Н. Hansen, A Guide to Keynes, New York, 1953, pp. 47ff
162 Keynes, Indian Currency and Finance, London, 1913.
183 Harrod, op. cit., p. 162.
164 См. главным образом книги III и VI «Трактата».
165 Дж. М. Кейнс, Трактат о денежной реформе, М„ 1925.
166 Keynes, The End of Laissez-Faire, London, 1926.
187 A b b a P. L e г n e r, The Inflationary Process — Some Theoretical Aspects, Essays in Economic Analysis, London, 1953, pp. 328ff.
188 Cm. Post — Keynesian Economics, К. K. Kurihara, ed., New Brunswick, 1954.
189 Cm. William Fellner, Emergence and Content of Modern Economic Analysis, New York, 1960, pp. 180ff.
170 Дж. M. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 7 и след.
171 Другие преимущества, вытекающие из этого подхода, заключаются в том, что он позволяет при анализе данной ситуации использовать одновременно социологические и психологические, равно как и экономические, критерии.
172 Об этом понятии написано много. В настоящей работе не представляется возможным рассмотреть всю специальную литературу по этому вопросу. См. библиографию и примечания к книге «The New Economics», Seymour E. Harris, ed., New York. 1947.
173 Д ж. M. К e й н с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 84—85.
174 Там же.
176 В особенности глубокое исследование проведено Джеймсом Дж. Дьюзенберри в работе «Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior», Cambridge, 1952.
176 Часто утверждают, что система распределения дохода имеет ромбоидальный характер, доказывающий, что в обществе имеется меньше богатых и бедных и намного больше лиц со средними доходами. Предполагается, что эти последние составляют от 4000 до 10 000 долл. Однако подобная статистика основана на доходах семей. В большинстве семей с низкими доходами имеется более одного работающего. Если такие семьи свести к статусу одного работающего в семье, их доход упадет ниже 4000 долл. Таким образом, понятие «доход семьи» не раскрывает существа дела, хотя и является полезным орудием в изучении рынка. Поскольку теория предельной производительности предполагает существование отдельных единиц капитала и труда, для экономистов не было бы ошибкой считать, что более правильная картина распределения дохода может быть обеспечена на основе учета доходов индивидуумов. Соответствующие данные весьма интересны: в 1941 г. было 17,8 млн. семей с двумя работниками и 10,9 млн. семей более чем с двумя; в 1953 г. таких семей имелось соответственно 21,5 и 17,1 млн.
177 Дж. М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 108 и след.
178 Эта идея не является совершенно новой. Ее можно найти в работах известного русского экономиста 584
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
38
Туган-Барановского и Кнута Викселля. См. выше, стр. 366.
Элвин Хансен указывает, что эту идею можно обнаружить у Веблена. См. его работу «Theory of Business Enterprise», pp. 89ff.
Дж. M. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 127.
Там же, стр. 154—155.
Как Барбара Вуттон, так и лорд Беверидж быстро пришли к выводу, что для экономического планирования капиталовложений необходимо осуществлять контроль из единого центра. См. Beveridge, Full Employment in a Free Society, New York, 1945; Wootton, Plan or No Plan, New York, 1934. Cm. Hansen, op. cit., pp. 140ff, Conard, op. cit., pp. 203ff.
Глубокую математическую интерпретацию кейнсианских уравнений см. в работе Р. Аллен, Математическая экономия, гл. 2, стр. 47 и след.
См. Joan Robinson, An Essay on Marxian Economics; Ladislaus von Bortkie- w i c z, Value and Price in the Marxian System, перепечатано в International Economic Papers, № 2, London, 1952, pp. 5ff.
Cm. Arthur F. Burns, The Frontiers of Economic Knowledge, New York, 1954.
Cm. L. von Bortkiewicz, op. cit. Известный знаток Кейнса Дадли Диллард утверждает, что существует большее сродство между Кейнсом и Прудоном, чем между Кейнсом и Марксом. Диллард указывает на общие черты, присущие их программам социальных реформ, монетарному подходу, отношению к «рантье» и их оптимизм в отношении эффективности теорий. Journal of Economic History, May, 1942, См. также Hans Peter, A comparison of Marxian and Keynesian Dynamics, International Economic Papers, № 3, pp. 240ff.
Cm. Joan Robinson, op. cit., p. 86.
К примеру, часть прибавочной стоимости, расходуемой для приобретения средств производства, может рассматриваться как Кейнсовы сделки между предпринимателями. См. S. Т s и г у в «PostKeynesian Economics», pp. 320ff.
В статье о военных финансах, подготовленной специально для журнала «Нью Рипаблик» в июле 1940 г., Кейнс писал: «Для капиталистической демократии, пожалуй, представляется политически невозможным осуществлять расходы в масштабе, необходимом для постановки большого эксперимента, в целях доказательства моего вывода, за исключением условий, создаваемых войной... Если Соединенные Штаты отнесутся серьезно к материальным и экономическим аспектам защиты цивилизации и решатся на колоссальные потери ресурсов в виде производства вооружения, они почувствуют свою силу, они познают ее так, как это им никогда не удастся сделать другим путем, они получат урок, который впоследствии сможет быть использован для перестройки мира, и тогда все поймут, каковы основные принципы создания богатства... Подготовка к войне не только не потребует жертв, но явится стимулом к росту индивидуального потребления и повышению уровня жизни, стимулом, который не может дать ни победа, ни поражение «Нового курса».
К. К. К и г i h а г a, op. cit. См. также Science and Society, Spring, 1955.
192 См. Joan Robinson, Collected Economic Papers, II, pp. Iff.
193 См., например, К. К. К u r i h a r a, Introduction to Keynesian Dynamics, London, 1956.
194 В упомянутой выше статье в журнале «Нью Рипаблик» Кейнс поставил вопрос, почему в мирное время политические факторы мешают достижению тех условий процветания, которые могут быть созданы военным производством. Он призывал к отказу от узкопартийного подхода и к умеренности. Авторы реформ, говорил он, «... должны понять, что следует многим поступиться, чтобы сохранить децентрализацию решений и власти как главного достоинства старого индивидуализма. Они должны всячески охранять сложную структуру общества, даже если это означает сохранение некоторых его отрицательных сторон».
196 Последующий раздел в большей своей части основан на статье автора «On the Nature of Economic Growth», Diogenes, № 19, Fall, 1957.
196 Прекрасное описание классической теории экономического роста см. в работе: Benjamin Higgins, Economic Development, New York, 1959, pp. 85ff. См. также «Theories of Economic Growth»,
B. F. Hoselitz, ed., New York, 1960; и I. Adelman, Theories of Economic Growth and Development, Stanford, 1961.
197 Д ж. M. Кейн с, Общая теория занятости, процента и денег, стр. 119.
198 См. «Ап Essay in Dynamic Theory» и «Supplement on Dynamic Theory» в «Economic Essays», New York, 1952. Первый очерк относится к 1939 г. См. также его работу «Towards a Dynamic Economics», London, 1948.
199 См. «The Trade Cycle», Oxford, 1936; «The Dollar», London, 1953; «Policy against Inflation», London, 1958. Интересной работой в другой области является его книга «Foundations of Inductive Logic», New York, 1957, в которой он утверждает в противовес скептической позиции современных философов, что можно доказать ценность индуктивного метода, не прибегая к априорным положениям.
200 Daniel Hamberg, Economic Growth and Stability, New York, 1956, p. 25.
201 См. его «Essays in the Theory of Economic Growth», New York, 1957, особенно №№ 1, 3, 4, 5.
202 Ibid., p. 73.
203 Ibid., p. 75.
204 Ibid., p. 79.
206 Ibid., p. 5.
208 «Towards a Dynamic Economics», passim.
207 См. К u г i h a r a, Keynesian Theory of Economic Development, p. 185.
208 «Structural Analysis of Real Capital Formation» в «Capital Formation and Economic Growth», National Bureau of Economic Research, Princeton, 1955, pp. 5Slff.
209 D om a r, op. cit., p. 19.
210 См. их работу «Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy», American Economic Association Proceedings, May, 1960, pp. 177ff.
211 William Fellner, Trends and Cycles in Economic Activity, New York, 1956.
Б Селигмен
585
212 Joan Robinson, The Accumulation of Capital.
213 Cm. «The Generalization of the General Theory, Rate of Interest and Other Essays», London, 1952, pp. 69ff.
214 «Papers», II, p. 74.
216 Cm. Domar, op. cit., pp. 154ff; Robinson, Papers, II, pp. 209ff.
216 Robinson, Accumulation of Capital, pp. 28, 34, 76; Equilibrium, Growth Models, American Economic Review, June, 1961, p. 361.
217 Ibid., p. 48.
218 Wick sell, Lectures..., I., pp. 177ff; Robinson, Papers, II, pp. 185ff.
219 «Accumulation of Capital».
220 Ibid., pp. 90—92.
221 Ibid., p. 93.
222 Ibid., p. 175.
223 W. A. Lewis, The Theory of Economic Growth, London, 1955.
224 Cm. S. К u z n e t s, International Differences in Capital Formation and Financing, Capital Formation ana Economic Growth, Princeton, 1955, pp. 19ff; Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, 3rd ed., London, 1957, Chap. XI, pp. 565ff.
22 Ragnar Nurske, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford, 1953. Математическая аргументация сбалансированного экономического роста представлена в работе: R. Dorfman, Р. A. Samuelson, and R. М. Solow, Linear Programming and Economic Analysis, New York, 1958, p. 329.
226 Nurske, op. cit., p. 13.
227 Этот термин введен Гарви Лейбенштейном для слаборазвитых стран. См. его работу «Economic Backwardness and Economic Growth», New York, 1957.
228 См. P. N. Rosenstein-Rodan, Problems of Industrialization of Eastern and South Eastern Europe, Economic Journal, June, 1943, p. 205.
229 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, Cambridge, 1960. См. также глубокую рецензию Генри Пэчтера на книгу Ростоу, опубликованную в журнале Dissent, Autumn, 1960, р. 400.
230 Rostow, op. cit., p. 39.
231 P a c h t e r, op. cit.
232 Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and Economic Growth, New York, 1957.
233 Ibid., pp. 15ff.
234 Ibid., pp. 34—35.
235 Ibid., Chap. 9, pp. Iliff.
236 Терминология заимствована из теории игр. См. ibid., pp. 113ff.
237 Albert О. Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven, 1958.
238 Ibid., pp. 52ff.
239 Ibid., p. 66.
240 Ibid., p. 62. Концепция стратегического выбора
может быть также применена к проблеме иностран¬
ной помощи тем или иным странам. См. A. S h onfield, The Attack on World Poverty, New York, 1960; см. также H о s e 1 i t z, op. cit., p. 257. Исторически представляется очевидным, что экономичв’ ский рост, в сущности, представляет собой развитие одной отрасли промышленности или сектора экономики, стимулирующего развитие остальных отраслей экономики.
241 Hirschman, op. cit., pp. 98ff.
242 См. Higgins, op. cit., p. 408.
243 Г. Мюрдаль, Мировая экономика, М., ИЛ, 1958.
244 R. Nurske, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries.
246 См. H i g g i n s, op. cit., pp. 274ff.
246 См. в особенности его работу «Sociological Aspects of Economic Growth», New York, 1960, и его статью «Tradition and Economic Growth» в сборнике «Tradition, Values and Socio-Economic Development», R. Braibanti and J. J. Spengler, eds, Durham, 1961, pp. 83ff.
247 «Sociological Aspects...», p. 26.
248 Cm. Talcott Parsons, The Social System, New York, 1951; см. также Talcott Parson, and N. J.Smelser, Economy and Society, London, 1956.
249 H о s e 1 i t z, op. cit., p. 34.
250 Ibid., pp. 61ff.
251 «The Entrepreneur in American Capital Formation», NBER, op. cit., pp. 339ff.
252 Г. M ю p д а л ь, Мировая экономика, стр. 89 и след.; см. также Murdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London, 1957.
253 Gunnar Myrdal, Beyond the Welfare State, New York, 1960. Некоторые из последующих параграфов взяты из рецензии автора на упомянутую книгу, опубликованную в журнале Dissent, Autumn, 1960, р. 404.
264 По этому вопросу см. вышеупомянутую работу Шонфилда, который так же резко, как и Мюрдаль, критиковал органы ООН, в особенности Международный валютный фонд, который скорее ведет себя как национальный банк, чем как орган, стимулирующий экономическое развитие. Вопрос о политике иностранной помощи остро поставлен в работе: Henry Р а с h ter, Paradoxes of Foreign Aid, Dissent, Spring, 1960, p. 167.
266 Cm. Lewis A. Cose r, The Functions of Social Conflict, New York, 1956, pp. 16ff.
266 См. характеристики проблем, связанных с запасами в винодельческой промышленности, в работе: John McDonald, Strategy in Poker, Business and War, New York, 1950, pp. 95ff.
267 Cm. Cos er, op. cit., p. 31.
268 Хорошее описание истории вопроса содержится в работе: A. Rapoport, Fights, Games and Debates, Ann Arbor, 1960, pp. Iliff; см. также P. Л ь ю с и X. Райфа, Игры и решения, стр. 37 и след.; R. D. Theocharis, Early Developments in Mathematical Economics, London, 1961, pp. 15ff.
269 John von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, 1944.
260 P. Л ь ю с и X. P а й ф а, Игры и решения, стр. 21.
586
261 Morgenstern, The Limits of Economics, London, 1937.
262 M о r g e n s t e r n, On the Accuracy of Economic Observations, Princeton, 1950.
263 Cm. «Operations Research and Systems Engineering»,
C. D. Flagle, W. H. Huggins and R. N. Roy, eds, Baltimore, 1960, passim; см. такжеT. C. S ch el 1 i n g, The Strategy of Conflict, Cambridge, 1960.
264 P. Л ь ю с и X. P а й ф а, Игры и решения, стр. 21.
265 Цит. по книге: Dorfman, Samuelson and Solow, op. cit., p. 417.
266 «The Theory of Games», International Economic Papers, № 1, London, 1957, p. 37.
267 «The Theory of Economic Behavior», American Economic Review' 1945, pp. 909ff.
268 См. P. Льюс и X. Райф а, указ, соч., где содержится подробная библиография.
269 См. Dorfman, Samuelson and Solo w, op. cit., pp. 428ff и 465ff.
270 Ibid., p. 468.
271 Cm. Rapoport op. cit., pp. 124ff.
272 P. Л ь ю с и X. P а й ф а, указ, соч., стр. 42.
273 Хорошее изложение этого аспекта дискуссии может быть найдено в работе: Н. М. W agner, Advances in Game Theory, American Economic Review, June, 1958, pp. 377ff.
274 P. Л ь ю с и X. P а й ф а, указ, соч., стр. 87.
275 Neumann and Morgenstern, op. cit., pp. 93ff.
276 Ibid., pp. 146ff; см. также P. Л ь ю с и X. Р а й- ф а, указ, соч., стр. 109 и след.
277 См. Wagner, op. cit., р. 379.
278 См. Rapoport, op. cit., p. 173.
279 См. его работу «Strategy and Market Structure», New York, 1959.
280 Cm. Ibid., pp. 107ff.
281 Cm. 0. Morgenstern, Oligopoly, Monopolistic Competition and the Theory of Games, American Economic Association Proceedings, May, 1958, pp. lOff. См. также мою статью «Games Theory and Collective Bargaining», Labour and Nation, January-March, 1952, pp. 50ff.
282 Neumann and Morgenstern, op. cit., pp. 220ff.
283 Ibid., pp. 43ff.
284 Cm. Morgenstern, American Economic Association Proceedings, op. cit., p. 15.
285 M. S h u b i k, Game Theory as an Approach to the Firm, American Economic Association Proceedings, May, 1960, p. 557.
286 См. выше, стр. 347.
287 См. E. G. В e n n i о n, Elementary Mathematics of Linear Programming and Game Theory, East Lansing, 1960, p. 135.
288 Schelling, op. cit., pp. 83ff.
289 См. E llsberg, The Reluctant Duelist, American Economic Review, December, 1956, pp. 909ff. Агрессивный дуэлянт Эллсберга есть не что иное, как предприниматель Шэкла. Однако Райфа в еще не опубликованных исследованиях указывает, что в рискованных мероприятиях обычным является стремление к скромным, но надежным результатам.
290 См. Rapoport, op. cit., р. 229.
291 С о s е г, op. cit., р. 95.
292 По линейному программированию имеется довольно большая литература. Образцовой работой для экономистов является книга Дорфмана, Самуэльсона и Солоу, цит. соч. Основной книгой считается: Activity Analysis of Production and Allocation, T. C. Koopmans, ed., New York, 1951. Математический аппарат в некоторых разделах этих двух книг весьма сложен. Хорошим введением в математический аппарат является работа: Дж. К е м е н и, Дж. Снелл и Дж. Томпсон, Введение в конечную математику. Более сложна книга С. К а р л и н, Математические методы в теории игр, программировании и экономике, М., «Мир», 1964. Полезны работы Бенниона, цит. соч., а также: К. E.Boulding, W. A. Spivey et al., Linear Programming and the Theory of the Firm. Более краткое изложение вопроса дают следующие работы: Р. Аллен, Математическая экономия; R. Dorfman, Mathematical or «Linear» Programming, AER, December, 1953, pp. 797ff; idem, Operations Research, AER, September, 1960, pp. 575ff; W. J. Baumol, Activity Analysis in One Lesson, AER, December, 1958, pp. 837ff. Хорошее описание содержится также в работе: Т. С. Koopmans, Three Essays on the State of Economic Science, New York, 1957,
293 D о г fin a n, Operations Research, op. cit., p. 577; Samuelson, Linear Programming and Economic Theory, RAND Corp., May 25, 1955, p. 5.
294 Ibid., p. 6.
295 См. M. K. Wood and G. B. D a n t z i g, The Programming of Independent Activites, в «Activity Analysis...», pp. 15ff.
296 См. выше, стр. 283.
297 Koopmans, op. cit., p. 1.
298 Cm. Dorfman et al., op. cit., Chap. 8, pp. 186ff* Описание нелинейного программирования см J У. Б а у м о л ь, Экономическая теория и исследование операций, М., «Прогресс», 1965, стр. 111 и след.
299 Koopmans, Three Essays..., р. 71.
300 Краткое изложение используемых при этом математических методов может быть найдено в работе: В о u 1 d i n g and Spivey, op. cit., Chap. 2, pp. 18ff, а также в работах, указанных в примечании 292.
301 D о г f m a n et al., op. cit., pp. 131, 201.
302 Dorfman, American Economic Review, December, 1953, p. 798.
303 D о r f m a n et al., op. cit., p. 202.
304 Это допущение необходимо для обеспечения свойства аддитивности. См. Koopmans, Three Essays..., р. 72.
306 См. его работу «The Cost of Subsistence», Journal of Farm Economics, May, 1945, pp. 304ff.
306 См. P. A. Samuelson, Spatial Price Equilibrium and Linear Programming, AER, June, 1952, pp. 283ff.
38* 587
307 Koopmans, Three Essays..., p. 81.
808 Cm. D о г f m a n, American Economic Review, December, 1953, pp. 799ff; Dorfman et al., op. cit., p. 133.
809 D о r f m a n et al., op. cit., p. 162.
310 См. работу Данцига в «Activity Analysis...», pp. 29ff; 359ff. См. также Dorfman et al., op. cit., pp. 64ff.
311 D о r f m a n et al., op. cit., pp. 67ff.
812 D a n t z i g, op. cit., p. 30.
313 Dorfman et al., op. cit., pp. 39ff.
314 Koopmans, Three Essays..., p. 88.
316 Ibid., p. 98.
316 Cm. Ibid., p. 390ff.
317 Ibid., p. 404.
318 Удачное сравнение с методикой предельного анализа дано в работе: В о u 1 d i n g and Spivey, op. cit., Chap. 4, pp. 94ff.
319 У. Баумоль, Экономическая теория и исследование операций, стр. 136—139.
320 В aum о 1, American Economic Review, December, 1957, p. 872.
321 Открытая матрица Леонтьева, которая открывает пути для руководства производственным процессом, если заданы определенные цели, допускает применение линейной методики. См. Dorfman et al., op. cit., pp. 281 ff.
Заключение
1 По вопросу деятельности корпораций см. W. Н. Whyte, Jr., The Organization Man, New York, 1956. Многие из новых типов классифицированы Мартином Шубиком в Administrative Science Quarterly, December, 1958, pp. 284ff.
2 См. материалы симпозиума по моделированию, работы Дж. Г. Оркатта, М. Шубика, Дж. П. Э. Кларксона и Г. А. Саймона в American Economic Review, December, 1960.
8 J. G. March and H. A. Simon, Organization, New York, 1958, pp. 140ff.
4K. E. Bouldin g, The Skills of the Economist, Cleveland, 1958, pp. 178ff.
6 См. замечания Дж. Л. С. Шэкла в «Uncerntainty in Economics», Cambridge, 1955, p. 241.
8 См. T. Parsons and N. J.Smelser, Economy and Society, London, 1956.
7 Cm. Bert F. Hoselitz, Social Structure and Economic Growth, в его книге «Sociological Aspects of Economic Growth», Chicago, 1960, pp. 23ff.
8 Классический пример бессилия «обобщителя» представляет собой том «The Impact of the Labour Union»,
D. Me. Wright, ed., New York, 1951.
9 Cm. R. W a 1 k e r, From Economic Thought to Policy, Chicago, 1943.
10 Cm. L. R ogi n, The Meaning and Validity of Economic Theory, New York, 1956.
11 Cm. S. Schoeffler, The Failures of Economics. Cambridge, 1955.
12 Иллюстрацией этого служит книга: W. W. R о s t о w, The Stages of Economic Growth, Cambridge, 1960.
13 См. T. С. К о о p m a n s, Three Essays on the Study of Economic Science, New York, 1957, pp. 142ff.
14 Schoeffler, op. cit., p. 154.
15 Broadus Mitchell, The Poverty of Economics, Economics and the Public Interest, R. A. Solo, ed., New Brunswick, 1955, pp. 23ff.
16 Cm. R. Ruggles, Methodological Developments в «А Survey of Contemporary Economics», Homewood, 1952, II, pp. 414—415.
17 Cm. Jan Tinbergen, Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam, 1956; idem, Centralization and Decentralization in Economic Policy, Amsterdam, 1954; idem, On the Theory of Economic Policy, Amsterdam, 1952; idem, Selected papers, Amsterdam, 1959, особенно очерк «The Theory of the Optimum Regime», pp. 264ff. Слияние теории и экономической политики осуществлено в работах Тинбергена наиболее последовательным образом.
Именной указатель
А
Адамс, Г. 415
Адамс, Т. 416
Акерман, Г. 368, 391, 555
Аллен, Р. 49, 256, 538, 556, 557, 573, 585
Алчиан, А. 432
Арендт, X. 540, 544
Афтальон, А. 111
Б
Багге, А. 356
Баркер, К. 106
Барнард, Ч. 466
Бароне, Э. 239, 244, 249, 282
Бастиа, Ф. 7, 141, 237, 238, 257, 258, 414
Баули, А. 302, 402, 492
Баумоль, У. 267, 337, 343, 530, 547, 556, 558, 587, 588
Бауэр, О. 470, 472, 546
Беверидж 585
Белл, Д. 532
Бем-Баверк, Е. 8, 79, 151, 156 и след., 161, 164, 166 и след., 174 и след., 189, 197 и след., 206, 208, 210, 214, 221, 222, 224, 227, 235, 260, 266, 314, 327, 356, 357, 360, 362 и след., 374, 378, 380, 387, 402, 419, 425, 433, 470, 471, 474, 551, 552, 576
Бентам, И. 29, 62, 80, 99, 156, 288, 298, 299, 543, 548 Бергсон, А. 277
Берк, Э. 37, 159
Берли, А. 10, 70, 75, 134, 136, 137
Бернс, А. 97, 102, 103, 501, 543
Бернулли, Д. 521
Бирд, М. 35, 43
Бирд, Ч. 61, 93
Бисмарк, О. 28, 46
Бисно, А. 78
Блан, Л. 236
Блэкстон 80
Бонер, Дж. 159
Бонбрайт, Дж. 134
Борель, 3. 521
Борткевич, Л. 502, 551
Боулдинг, К. 442, 445, 446, 456, 462 и след., 531, 532, 542, 549, 580
Брайан, У. 77
Брандес, Г. 355
Брантинг, Я. 357
Брентано, Л. 8, 39, 43 и след.
Брэйди, Д. 457
Бэйкер, Р. 58
Бэйн, Дж. 545
Бэкстер, Р. 80
Бюхер, К. 32, 44, 81, 419
В
Вагнер, А. 31, 44
Вайнер, Дж. 278, 305, 421, 422, 423, 455, 484, 543, 575, 582
Вайнер, Ф. 541
Вайскопф, В. 563
Валаванис, С. 556
Вальд, А. 282, 283, 523, 561
Вальрас, А. 234 и след.
Вальрас, Л. 8, 19, 20, 97, 100, 117, 136, 156, 159, 162,
174, 229, 234 и след., 249, 256 и след., 261, 266,
282, 299, 309, 322, 356 и след., 362, 365, 374, 375,
378, 379, 401, 407, 412, 430, 471 и след., 479, 480,
491, 549, 557, 581
589
Вебер, М. 8, 9, 20, 26, 32, 35, 37 и след., 53, 167, 171, 204, 408, 438, 537
Веблен, Т. 9, 41, 44, 56 и след., 79 и след., 89, СО, 92, 93, 95, 98, 100, 107, 108, 110, 119, 125, 131 и след., 141, 172, 173, 181, 189, 190, 195, 196, 249, 254 и след., 414, 415, 417, 421, 424, 427, 428, 434, 437, 457, 464, 465, 489, 539 и след., 551, 552, 584
Визер, Ф. 8, 148, 149, 156 и след., 175, 177 и след., 214, 470, 471, 550
Викселль, К. 13, 19, 31, 81, 148, 162, 163, 170, 177, 181, 186, 188, 214, 221, 222, 227, 235, 243, 246, 254, 283, 291, 334, 355 и след., 375, 378, 379, 386 и след., 394, 397, 398, 400 и след., 409 и след., 512, 541, 551, 562, 569 и след., 584
Винер, Н. 466
Вулф, В. 494
Вулф, Л. 494
Вутон, Б. 585
Г
Гамильтон, У. 297, 541
Гегель 24, 31, 554
Гельмгольц, Г. 214
Герсковиц, М. 437 и след.
Германн, Ф. 158
Гиддингс, Ф. 192
Гильбо, Ж. 523
Гильдебранд, Б. 26, 166
Гильфердинг, Р. 470, 472, 546
Гладстон, У. 153
Гобсон, Дж. 9, 72, 106, 108, 119 и след., 133, 141, 152, 263, 295, 327, 336, 337, 546, 547, 552
Голдсмит, Р. 286, 457
Голдуотер, Б. 12
Гомперс, С. 89, 133
Гордон, Р. 231, 556
Госсен, Г. 7, 156, 168, 172, 260, 549
Груши, А. 74, 83, 100, 137, 540
Грэхем, Ф. 421
Гудмен, П. 532
Гурвич, Л. 523
Гэлбрейт, Дж. 9, 137 и след., 248, 370, 548, 577
Д
Давидсон, Д. 355, 356, 367, 368, 372, 373, 386 и след. 393, 398, 401, 411, 572
Данциг, Дж. 528, 529, 588
Дарвин, Ч. 248
Дауни, Э. 75
Джевонс 8, 20, 100, 145 и след., 162, 168, 170, 173, 174, 176, 181, 182, 188, 189, 196 и след., 208, 222, 235, 238, 243, 288, 290 и след., 326, 329, 337, 356, 359, 360, 362, 548, 549, 550
Джеймс, У. 106, 416
Дженкинс, Ф. 299
Джонс, Р. 28, 536
Джонсон, Э. 93, 437 •
Джордж, Г. 120, 191, 192, 290
Диллард, Д. 585
Дильтей, В. 25, 32
Дингуолл, Дж. 549
590
Добб, М. 150, 154, 447
Добрянский, Л. 56
Домар, Е. 15, 112, 122, 266, 383, 403, 507 и след., 514 Дорфман, Дж. 56, 117, 189, 420, 428, 541 Дорфман, Р. 274, 587
Дуглас, П. 230, 461, 571 Дьюзенберри, Дж. 457
Дьюи, Дж. 59, 68, 90, 101, 102, 131
Дэвенпорт, Г. 60, 75, 98, 100, 424, 426 и след., 437, 575
Е
Езекиэл, М. 573
Ж
Жамс, Э. 5. 9, 14
Жаффэ, У. 239, 240, 545, 557
Жуглар, К. 50, 102, 475
3
Зиммель, Г. 521
Зомбарт, В. 9, 20, 25, 31 и след., 43, 45, 98, 100, 537
И
Ибсен, Г. 355
Ингрэм, Дж. 51, 387, 538
Интема, Т. 484
Иоганссон 391
К
Казин, А. 639
Калдор, Н. 15, 226, 227, 442, 444, 446, 545, 564, 577 Калер, Э. 546
Калецкий, М. 270, 484
Кальвин, Ж. 41 и след., 54
Кан, Р. 315, 499 Кант, Э. 59, 255 Каннингэм, У. 52, 299 Кантильон, Р. 154, 549, 561 Канторович, Л. В. 527 Карвер, Т. 108, 420, 574 Карлейль, Т. 121 Карлсон, С. 392, 412
Кассель, Г. 79, 81, 242, 260, 355, 357, 361, 372 и след., 387 и след., 393, 395, 396, 401, 407, 410, 424, 425, 427, 569, 571 и след.
Каутский, К. 356, 546
Кауфман, Ф. 213
Кейнс, Дж. 6 и след., 12 и след., 19, 20, 61, 72, 116, 119, 120, 122, 124, 136, 140, 141, 153, 209, 219, 261, 269, 275, 281, 294, 296, 299, 310 и след., 329, 331, 334 и след., 341, 345, 365, 366, 372, 377, 383, 392, и след., 402 и след., 408, 409, 411, 432, 433, 449 и след., 457 и след., 463 и след., 480 и след., 484, 493 и след., 507 и след., 533, 540, 546, 548^ 554, 562, 564, 566, 567, 575, 578, 584 и след.
Кенэ, Ф. 154, 234, 238, 282
Кернс, Дж. 164
Кинг, У. 93
Китчин, Дж. 102, 475
Кларк, Дж. Б. 8, 58, 62, 63, 75, 104, 106, 108, 111, 134,
188 и след., 223, 229, 235, 273, 274, 279, 291, 302, 306, 314, 415, 416, 418 и след., 439, 462, 471, 474, 549 и след.
Кларк, Дж. М. 75, 104 и след., 133, 139, 269, 270, 414, 437, 443, 482, 544 и след., 549, 551
Кларк, К. 515
Кларк, К. П. 562
Кларксон, Дж. 588
Клейн, Л. 578
Клэпхем, Дж. 283, 313, 326, 422
Кнапп, Г. 46, 81, 538
Книс, К. 26, 38, 39, 166, 190, 387, 415
Кобб, Ч. 230
Коммонс, Дж. 45, 71, 75 и след., 98, 120, 132, 133, 414, 416, 439, 464, 541, 542
Кондильяк, Э. 158, 234
Кондратьев, Н. Д. 102, 475
Конрад, И. 357
Конт, О. 24, 25, 51, 236, 253, 288, 290, 536, 554 Коузер, Л. 527
Коул, 212
Кохран, У. 519
Кроче, Б. 255, 558
Крупп, С. 580
Кузнец, С. 93, 457, 515
Кули, Ч. 106, 107
Купманс, Т. 103, 104, 530, 562
Курно, О. 158, 234, 235, 294, 296, 298, 299, 484 Кэмпбелл, Р. 11
Кэннон, У. 466
Кэри, 183
Л
Ланге, О. 285, 370, 398, 559, 561
Ландри, А. 431
Лассаль, Ф. 59
Лафлин, Дж. 59, 91, 132
Леб, Ж. 59, 66, 90
Лейбенштейн, Г. 516, 517, 586
Ленин, В. И. 9, 121, 124, 125
Леонтьев, В. 20, 278, 281 и след., 556, 561, 588
Лернер, А. И, 15, 345, 370, 398, 504, 561
Леве, А. 510
Ликок, С. 345
Линд, Р. 101
Линдаль, Э. 366, 369, 390, 391, 397 и след., 413, 551 Лист, Ф. 29, 174, 572, 573
Лихтгейм, Дж. 20
Лодердель 122, 183
Локк, Дж. 80, 81
Лонгфилд, М. 188, 287
Лоренц, М. 416
Лундберг, Э. 391, 402 и след.
Лэчманн, Л. 352
Люис, У. 514 и след.
Люксембург, Р. 484, 546, 582
Льюс, Р. 524, 557, 569, 576, 586, 587
Лютер, М. 43, 54, 538
м
Мак-Дугалл 66
Макиавелли, Н. 249, 251
Мак-Куллох, 7
Маклеод, Г. 80, 81
Мальтус, Т. 7, 28, 80, 122, 154, 357, 408, 454, 506, 536 Маммери, А. 120, 122, 546]
Мангольдт 387[
Мангейм, К. 408, 547
Маргет, А. 151, 549, 581
Маркс, К. 6 и след., 19, 31 и след., 37, 40, 41, 61 63 и след., 73, 80, 83, 86, 88, 89, 98, 101, 119, 122, 132, 135, 141, 145, 154, 165, 169, 171, 175, 181 и след., 193, 202, 204, 221, 234, 237, 249 и след., 281, 282, 307, 309, 330, 342, 347, 378, 387, 408, 409, 419, 433, 447, 467, 471, 472, 475, 477 и след., 484, 493 и след., 500 и след., 506, 509, 520, 521, 533, 561, 569, 585
Мелман, С. 226
Менгер, К. 8, 27, 45, 46, 91, 148, 149, 156 и след., 168, 170, 173 и след., 197, 198, 210, 216, 283, 359, 387, 549, 550, 556
Метцлер, Л. 281, 566
Мид, Дж. 15, 565
Мизес, Л. 12, 20, 158, 164, 202 и след., 249, 341, 342, 369, 372, 377, 390, 394, 470, 528, 538, 553, 554, 556, 561, 571, 579
Миллс, Ч. 75, 99, 103, 145, 544, 548
Милль, Дж. С. 13, 59, 91, 108, 145, 146, 147, 154, 157, 236, 281, 287 и след., 294, 297 и след., 355, 422 и след., 495
Минз, Г. 10, 70, 75, 134 и след.
Минтс, Л. 455, 458 Митчелл, Л. 542, 543
Митчелл, У. 23, 51, 60, 75, 89 и след., 106, 111, 133, 151, 153, 157, 166, 336, 342, 410, 414, 464, 539, 542 и след., 548, 549, 550
Модильяни, Ф. 457
Мор, Т. 583
Морган, Л. 66 Морган, Т. 579 Моррис, У. 121
Моргенштерн, О. 281, 456, 521 и след.
Мур, Г. 239, 421, 558
Мур, Дж. 102, 103 Мюллер, А. 26
Мюрдаль, Г. 382, 390, 392, 407 и след., 518 и след., 540, 573, 574, 578, 586
Н
Найт, Ф. 16, 20, 126, 208, 223, 326, 338, 339, 344, 433, 436 и след., 455, 457, 458, 467, 474, 493, 551, 554, 555, 559, 576, 577
Нейман, Дж. 281, 283, 456, 521 и след.
Нейссер, Г. 283, 528
Неммерс, Э. 546, 547
Нойес, К. 149
Норрис, Р. 263
Нурске, Р. 515, 516, 518
591
Нуссбаум, Ф. 32
Ньюком, С. 415
О
Олин, Б. 391, 393 и след., 570, 572
Олин, Г. 233
Оркатт, Дж. 579, 588
П
Паккард, В. 540
Панталеони, М. 239, 249
Парето, В. 8, 20, 240, 243, 244, 248 и след., 261, 277, 278, 282, 291, 293, 295, 325, 360, 361, 424, 483, 484, 491, 558, 582, 581
Паркер, К. 75
Патинкин, Д. 558, 564, 566
Паттен, С. 415, 417 и след., 424
Паунд, Р. 106
Пек, Г. 145
Пенроуз, Е. 580
Перлмен, С. 9, 78, 132 и след., 547
Петти, В. 234, 551
Пигу, А. 106, 108, 111, 112, 117, 264, 277, 278, 287, 289, 295, 310 и след., 325 и след., 332, 334, 336,
337, 341, 343, 448, 497, 504, 565, 566
Пирс, Ч. 78, 80, 541
Платон, 255
Портер, Н. 59
Постгэйт, Р. 212
Прудон, П. 80, 235, 236, 585
Пэчтер, Г. 586
Р
Радин, П. 540
Райфа, X. 524, 557, 569, 576, 586
Ранке, Л. 25
Рейли, 270, 297
Репке, В. 225, 556
Рескин, Дж. 55, 120, 121
Ризман, Д. 56, 541
Рикардо, Д. 6, 8, 24, 31, 46, 61, 64, 79, 152, 154, 155 и след., 177, 187, 191, 193, 199, 226, 234, 245, 246, 274, 281, 287, 288, 291, 298, 299, 307 и след., 342, 358, 366, 381, 386 и след., 408, 414, 433, 454, 472, 479, 494, 506, 521, 536, 543, 570, 582
Роббинс, Л. 13, 225, 265, 287, 290, 305, 326, 336, 425, 438, 484, 554, 562, 568
Робертсон, Г. М. 44
Робертсон, Д. 12, 13, 263, 264, 287, 310, 325 и след.,
338, 345, 403, 484
Робинсон, Джоан 15, 20, 117, 139, 173, 309, 313, 448, 462, 482, 484 и след., 489 и след., 504, 507, 511 и след., 521, 549, 564, 570, 582, 583
Рогин, Л. 36, 157, 538
Родбертус, К. 122, 183, 187, 387
Розенберг, Б. 60, 74, 539
Рорти, М. 93
Росс, Э. 121
Ростоу, У. 516, 560, 586
Ротбард, М. 568
Рошер, В. 7, 26, 39, 159, 166, 299, 415
Рузвельт, Ф. 75, 584
Рэ, Дж. 176
Рюэфф, Ж. 556
С
Савиньи, Ф. 24
Саймон, Г. 588
Саймонс, Г. 435, 455, 458
Сакс, Э. 159
Самнер, У. 59, 430
Самуэльсон, П. 20, 265, 266, 270, 273 и след., 286, 326, 510, 560, 561, 574, 582, 587
Свадос, Г. 89, 532
Свеннильсон, И. 392, 412
Селигмен, Э. 414, 415, 418 и след., 548, 574
Сениор, Н. 7, 183, 187, 197
Сен-Симон, А. 554
Сиджвик, Г. 81, 108, 287 и след., 294, 297, 356, 562
Симианд, Ф. 50, 51
Сисмонди, Ж. 122
Смарт, У. 159, 185, 550, 551
Смит, А. 6, 8, 24, 28, 61, 108, 111, 132, 135, 136, 141г 154, 155, 165, 193, 216, 237, 274, 281, 287, 288, 298, 414, 479, 493, 494, 500, 506, 536
Солоу, Р. 274, 510, 587
Сомари, Ф. 470
Спенсер, Г. 59, 61, 120, 166, 193, 248, 249, 288, 415
Сраффа, П. 219, 310, 313, 482 и след.
Стеффенс, Л. 58, 121
Стиглер, Дж. 174, 177, 200, 455, 529, 550, 551, 556г 557, 562, 563, 570, 578
Страссер 133
Стриндберг, А. 355
Стритэн, П. 409, 573
Струве, П. 17
Стрэчи, Дж. 125, 484
Стрэчи, Л. 494
Стюарт, У. 75
Сэведж, Дж. 455
Сэй, Ж. Б. 7, 17, 123, 141, 183, 238, 414, 495, 497, 502
Т
Тагвелл, Р. 137
Тарбелл, И. 58
Тауссиг, Ф. 200, 415, 420 и след.
Тернер, Р. 579
Тинберген, Л. 412, 489, 588
Тобин, Дж. 457, 579
Тойнби, А. 51, 253, 520, 538
Толстой, Л. Н. 166, 172
Тони, Р. 20, 53 и след., 80, 538
Трейчке, Г. 30
Триффин, Р. 487, 492, 576
Туган-Барановский, М. 17, 48, 319, 383, 584
Тустин, А. 254
Тэйлор, О. 490, 583
Тэйлор, Ф. 174, 370
Тэйлор, X. 214
Тюнен, И. Г. 46, 158, 183, 291. 299
592
У
Уайт, У. 532, 540
Уикстид, Ф. 147, 156, 259, 290 и след., 294, 295, 360, 562
Уильямс, Дж. 421, 422
Уокер, Ф. 415, 549
Уоллас, Г. 98, 122
Уотсон, Дж. 66
Ур, С. 570
Уэбб, Б. и С. 77, 83, 96
Уэйвелл, У. 563
Ф
Фабрикант, С. 93
Феллнер, У. 510, 511, 514, 578, 583
Феттер, Ф. 98, 100, 132, 199, 200, 420, 424 и след, Филлиппович 469, 470
Фишер, И. 13, 20, 81, 96, 199, 323, 329, 339, 425, 430 и след., 457, 459, 465, 471, 551, 556, 575, 576
Фосетт, Г. 297
Фрейд, 3. 66, 68, 214, 252, 568
Фрейзер, Л. 315
Фридман, М. 13, 14, 20, 96, 97, 247, 435, 455 и след., 531, 553, 578, 579
Фридман, Р. 457
Фриш, Р. ИЗ, 269, 492, 552, 570, 571
Фройнд, Э. 106
X
Хаберлер, Г. ИЗ, 211, 278, 344, 545, 554, 575, 581 Хайек, Ф. 12, 20, 158, 165, 198, 203, 207 и след., 213 и след., 249, 271, 341, 344, 345, 346, 369, 377, 390, 394, 405, 442, 446, 447, 474, 528, 536, 549 и след., 561, 571, 579
Хаммаршельд, Д. 391, 392, 412
Хансен, Б. 412, 413
Хансен, Э. 14, 95, 103, 280, 334, 384, 450 и след., 501, 504, 543, 544, 560, 566, 567, 577, 578, 584
Харди, Ч. 555
Харрод, Р. 15, 111, 112, 120, 122, 266, 269, 271, 286, 383, 403, 484, 495, 504, 507, и след., 514, 566, 583
Хатчисон, Т. 120, 343, 563
Хаутэккер, Г. 458
Хекшер, Э. 373, 572
Хиггс, Г. 549
Хиггинс, Б. 556
Хикс, Дж. 20, 174, 239, 256, 260 и след., 274, 276 и след., 286, 302, 325, 326, 557, 559, 562
Хикс, У. 260, 559
Хиршман, А. 517, 518
Хобхауз, Л. 122
Хогбен, Л. 343
Хозелитц, Б. 35, 518, 549
Хокси, Р. 9, 75, 90, 132 и след., 541
Холмс, О. 61
Хоман, П. 99, 125, 547
Хоутелинг, Г. 482
Хоутри, Р. 12, 81, 335 и след., 567
Хьюз, С. 251 252
Хэли, Б. 556
Хэмберг, Д. 548
Хэммондс 520
Хэтфилд, Г. 90
Ц
Цойтен, Ф. 483, 582
Цуккерцандль, Р. 159
Ч
Чейз, Р. 532
Чемберлин, Э. 20, 114, 139, 173, 448, 449, 462, 484 и след., 492, 577, 582, 583
Ченери, X. 562
Ченнинг, У. 38
Ш
Шефлер, С. 15
Шибли, Дж. 77
Шлезингер, К. 583
Шмоллер, Г. 8, 20, 27 и след., 37, 45, 46, 100, 157 и* след., 253, 415, 536, 537, 554
Шнайдер, Э. 483, 581
Шонфилд, А. 586
Шоу, Б. 156, 494
Шоув, Дж. 315, 484
Шпенглер, Дж. 253, 532, 578
Шпенглер, Э. 19
Шпитгоф, А. 25, 30, 46 и след., 111, 369, 403 Штаккельберг, Г. 483, 484, 491, 492, 528 Шубик, М. 525, 526, 588
Шульц, Г. 230, 259, 553, 559
Шумпетер, Й. И, 19, 20, 46, 50, 71, 102, 103, 123, 128, 139, 159, 171, 173, 175, 177, 181, 211, 235, 254г 260, 271, 299, 301, 320, 333, 338, 343, 372, 402, 405, 421, 447, 451, 470 и след., 504, 507, 518, 533, 547, 551, 557, 562, 569, 581 и след.
Шумпетер, Э. 582
Шэкл, Дж. 13, 297, 345 и след., 526, 558, 568, 569, 587 Э
Эджворт, Ф. 117, 120, 123, 147, 250, 257, 288, 291, 293 и след., 312, 360, 430, 484, 558, 562, 572
Эйлер 290, 293, 562
Эйвери, С. 466
Эймс, Э. 103
Эйнджелл, Дж. 421, 422
Эйрс, К. 9, 75, 131 и след.
Эли, Р. 76, 106, 414 и след., 419, 420, 541
Эллсберг, Д. 587
Энгельс, Ф. 6 и след., 520
Эндрюс, Дж. 541
Эрроу, К. 560, 568
Эшли, У. 52, 538
Ю
Юм, Д. 80
Я
Янг, А. 437
593
Предметный указатель
А
Австрийская школа 30, 37, 81, 147 и след., 154 и след., 189, 196, 208, 213, 217, 287, 291, 332, 339, 357 и след., 376, 386, 417, 418, 433, 442 и след., 467, 471, 491
Автоматизация 377, 509
Ажио 184 и след., 375, 380
Акселератор 96, 111 и след., 116, 123, 269, 270 и след., 280, 320, 333, 383, 405, 449, 452, 508, 509, 567
Акционерные общества (см. Корпорация, Собственность)
Б
Банковская система 79, 80, 83, 211, 219 и след., 225 и след., 271, 321, 322, 325, 329, 334, 338 и след., 365, 377, 384, 390 и след., 400, 405, 406, 429, 433 и след., 459, 460, 473, 495, 579
Безработица (см. Занятость)
Благосостояния теория 119, 122, 130, 131, 168, 206» 239, 257, 264, 275 и след., 310 и след., 325 и след., 337, 495, 521, 530
В
Визера закон 166 Викселля эффект 320, 362, 512, 570 Военное производство 124 и след., 138, 139, 377, 451, 453, 459, 496, 498, 503, 513, 519, 585
Время как экономическая категория 81, 85 и след., 111, 124, 150, 164, 170, 179 и след., 200, 208 и след., 224, 244, 253, 260, 267, 279 и след., 305, 317 и след., 330, 346 и след., 363, 399, 409 и след., 425, 429, 432, 443 и след., 462
Встроенные стабилизаторы ИЗ, 454
Г
Гедонизм как объяснение экономической деятельности 29, 62, 63, 64, 66, 81, 93, 97, 104, 106 и след., 128 и след., 148 и след., 193, 196, 202, 232, 255, 261, 288, 298 и след., 307, 424, 425, 472, 481, 524
Госсена закон 156, 168, 172, 260
Государство, экономическая роль 12, 14, 23, 24, 28, 44, 55, 85, 100, ИЗ, 118, 128, 131, 137 и след., 154, 159, 167, 174, 195, 206, 207, 218, 228, 236 и след., 248 и след., 278, 279, 287 и след., 311 и след., 323, 334, 341, 345, 370 и след., 385, 388, 392, 405, 415 и след., 449 и след., 481, 491, 494 и след., 501, 517 и след., 556, 572
Грейнджеры 57 Гринбеки 57, 91
д
Деньги
— трактовка: Боулдинга 465; Вальраса 240, 246 и след.; Вебера 41; Викселля 13, 227, 365 и след., 570; Давидсона 388 и след.; Джевонса 151, 549; Дэвенпорта 427 и след.; Зомбарта 33; Касселя 375 и след.; Кейнса 325, 383, 495 и след., 575; Кнаппа 46; Коммонса 79; Линдаля 398; Лундберга 402, 406; Маршалла 302 и след., 564; Менгера 164; Мизеса 205, 209 и след.; Митчелла 91 и след., 98, 336, 549; Олина 394 и след.; Парето 257, 260; Патинкина 564; Пигу 318, 323, 565; Робертсона 325 и след.; Фишера 13, 323, 339, 434 и след., 575; Фридмана 458 и след., 579; Хайека 219 и след.; Хикса 264, 266 и след.; Хоутри 336 и след.; Шумпетера 473 и след.
— количественная теория 13, 90, 97, 209, 303, 365 и след., 382, 390, 392, 395, 406, 410, 434, 458 и след.
594
— роль остатков наличности 209, 211, 246, 303, 323, 331, 339, 340, 366, 504, 564
— как счетная единица («нюмэрэр») 240, 244, 246, 260, 292, 474
Динамический анализ (в отличие от статического) 111, 128, 148, 193 и след., 200, 243, 253, 261, 269, 275 и след., 302, 391, 398, 439, 464, 471 и след., 482, 495, 503, 507
Доход
— влияние на спрос 112, ИЗ, 123, 150, 169, 172 и след., 257, 262 и след., 276, 324, 419, 423, 431, 457, 498 и след.
— гипотеза постоянства 216, 225, 230, 457 и след.
— определение уровня 322, 324, 335, 450, 495
— распределение 112, 124 и след., 128 и след., 141, 150, 152, 155, 165, 170 и след., 177, 188, 190, 192 и след., 199, 207, 220, 239, 245, 258, 272, 278, 293 и след., 311 и след., 360, 401, 423, 457, 463, 467, 479, 511, 584
— и теория вменения 12, 126, 128, 162, 165, 168 и след., 177, 184 и след., 195, 202, 207, 225, 230, 291, 295, 306 и след., 327, 359 и след., 375 и след., 386, 420, 422, 425, 436, 581
См. также Потребительская функция, Производительность
3
Закон убывающей (возрастающей) доходности (эффективности) 17, 79, 117, 127, 164, 191, 194, 204, 286, 292, 293, 295, 306, 370, 381, 417, 420, 483, 490, 506, 530, 556, 562
Законы экономические И, 25, 26, 30, 32, 105, 176, 192, 239, 253, 292, 326 343, 416 и след., 438 ;
Занятость 102, 123, 210, 229, 319 и след., 338, 451 и след., 495 и след., 507 и след.
— полная 210, 270, 274, 284, 362, 412, 452, 521
— и безработица 64, 101, 112, 117, 141, 212, 272, 293, 382, 394, 395, 436, 459, 503, 505, 510 и след., 584
Заработная плата 14, 34, 51, 77, 79, 88, 95, 101, 117, 123, 124, 126 и след., 152, 171, 173, 179, 187, 191 и след., 196, 199 и след., 207, 210, 212, 226, 229, 245, 272, 274, 293, 298, 307 и след., 320 и след., 334, 338, 361 и след., 376, 381, 420 и след., 443, 449, 458, 461, 467, 468, 486, 497, 499, 512 и след., 549, 551 и след.
Затраты — выпуск, метод 126, 256, 273, 278, 281 и след., 528, 561
Земля как фактор производства 18, 199, 230, 236, 238, 240, 290, 308, 361, 363, 366, 381, 420, 442, 443
Золото 79, 153, 164, 339, 382 и след., 391, 496, 549, 564
— и золотой стандарт 79, 211, 311, 339, 365, 367, 374, 383, 435, 495, 520, 575
И
Игр теория 15, 242, 274, 281, 349, 351, 492, 522 и след., 542, 569
Издержки
— «альтернативных возможностей» 166, 168 и
след., 179 и след., 292
— накладные 105 и след., 108, ИЗ и след.
— предельные 114, 259, 276, 295, 316, 360, 370, 422, 485, 562, 564
— производства 148, 155, 164, 241, 246, 300, 305, 379, 395, 415, 423, 439, 483, 499, 545, 583
— обращения 114 и след., 483, 487 п след., 492
— психологическая трактовка 129 ' и след., 145, 148, 151, 162, 178, 196, 307, 418
— средние 127, 291, 293, 295, 306, 316, 360
— и стоимость 288 и след., 292, 299 и след., 304, 389, 420
— транспортные 318, 319, 385, 395, 396, 486
— и уровень производства 95, 114, 197, 231 и след. Империализм, трактовка: Веблена 72; Гобсона 121
и след., 547; Неммерса 547; Шумпетера 478, 479, 547
Инвестиции 94 и след., 111 и след., 122 и след., 151 и след., 208, 211, 212, 222 и след., 269 и след., 280, 285, 308 и след., 320, 322, 326, 328 и след., 340, 349 и след., 363, 379, 400, 402, 410, 444, 452 и след., 468, 481, 498 и след., 507 и след., 544, 573, 584
Индексы 93 и след., 146, 153, 205, 294, 342, 359, 430 Институционализм 6, 56 и след., 202, 342, 414, 437 и след., 464 и след., 534, 541 и след.
Инфляция 14, 210, 220, 368, 389, 412, 495 и след., 510, 548, 579
Историческая школа 7 и след., 23 и след., 63, 76 и след., 157, 164, 189, 202, 299, 313, 356, 358, 415, 417, 419, 483
К
Капитал
— трактовка: австрийской школы 222 и след.; Бем- Баверка 151, 175 и след., 180 и след.; Боулдинга 467; Вальраса 240, 243 и след.; Веблена 62, 72, 199; Визера 170 и след.; Викселля 362 и след.; Гобсона 123, 126; Джевонса 150 и след., 208; Дэвенпорта 427, 429; Касселя 376, 377, 379 и след.; Кейнса 17, 362, 500 и след.; Кларка Дж. Б. 197 и след., 474; Линдаля 401; Маркса 175, 330, 433, 484; Маршалла 308 и след.; Менгера 157, 164; Мизеса 208; Мюрдаля 410; Найта 433, 439 и след., 474; Олина 393; Парето 260; Пигу 314; Робертсона 328 и след.; Сиджвика 289; Феттера 199; Фишера 431 и след.; Хайека 208, 220 и след., 552; Хикса 270 и след.; Хоутри 336, 340
— предельная эффективность 17, 197, 222, 227, 362, 403, 411, 432, 446, 500
Капитализм, его сущность и историческое место, трактовка: Бем-Баверка 175и след., 180 и след., 188; Бюхера 44; Вебера 40 и след., 537; Веблена 64и след.; Визера 173; Гобсона 121 и след.; Гэлбрейта 138 и след.; Дэвенпорта 427; Зомбарта 32 и след., 536; Кейнса 17, 480, 497, 500 и след.; Кларка Дж. Б. 193; Коммонса 81 и след., 133; Маркса 17, 40, 64, 141, 193, 237, 477 и след., 502 и след.; Мизеса 207; Минза 134 и след.; Найта 440; Парето 250; Робинсон 511; Тони 53, 538; Хоутри 336; Шумпетера 139, 471 и след.
Катедер — социалисты 28
Кейнсианство 6, 14, 15, 75, 270, 273, 274, 321, 324 и след., 331, 334, 369, 377, 392, 448, 452 и след., 458 и след., 463, 471, 480 и след., 484, 498, 504, 514
Кембриджская школа 12, 271, 297, 310, 311, 330 Классическая школа 23, 121, 125, 132, 157, 181, 417, 427, 463, 479, 495, 560
— и автоматизм функционирования экономики 61, 279, 289, 345, 502
— и внешняя торговля 395, 396, 419, 423
— и ее развитие 7, 26, 145, 298
— и представление об экономической деятельности человека 26, 90, 93, 98, 110, 193, 209, 236, 349, 416, 472, 531
595
— и проблема занятости и заработной платы 189, 274, 421, 499, 506
— и роль государства 236
— и теория конкуренции 105, 173, 191
— и теория ренты 152, 171, 245, 379
— и теория стоимости 7, 81, 148, 190, 236, 288 299, 423, 439, 477, 506
— и теория роста 506
— и теория цены 132, 135, 191, 218
— и теория циклов 321
— и задачи экономической науки 129, 154, 479 Классовая борьба 14, 28,40,41, 64,69, 78, 86, 88, 110,
133, 141, 155, 172, 177, 190, 191, 201, 250 и след., 423, 479
Колониализм 124
Конкуренция 33, 34, 70, 105, 108, 114 и след., 128, 136, 139, 167, 171, 173, 190, 191, 193 и след., 200, 218, 266, 426, 440 и след., 482, 530, 545
— монополистическая 108, 218, 259, 301, 309, 310, 441, 461, 471, 484, 488 и след.
— несовершенная 108, 127, 173, 261, 360, 448, 484 и след.
— свободная 108, 140, 228, 240 и след., 254 и след., 294, 392, 430, 461, 493
Концентрация производства (см. Монополия) Концертино эффект 226, 227
Кооперативное движение 191, 235, 237, 294 Корпорация 34, 69, 70, 71, 78, 83 и след., 134 и след., 152, 247, 328, 340, 351, 447, 448, 453, 515, 519
Кредит 69, 71, 79, 80, ИЗ, 124, 211, 219, 225 и след., 246, 320 и след., 328, 338 и след., 364, 394, 400, 401, 406, 473
См. также Процент
Кризис экономический
— трактовка: Веблена 70; Визера 173; Викселля 369; Гобсона 122; Дэвенпорта 429; Касселя 377, 384, 572; Кейнса 324, 484, 503; Кларка Дж. М. 112; Маркса 484, 503; Лундберга 404; Маршалла 309; Мизеса 211; Минза 136; Парето 259; Пигу 321; Роббинса 344, 345; Робертсона 333; Тауссига 422; Феттера 425; Фишера 436; Хансена 280, 452 и след.; Хоутри 340; Шпитгофа 48; Шумпетера 446
— 30-х годов XX в. 100, 137, 334, 335, 340, 345, 374, 391, 416, 449 и след., 459, 460, 504 и след., 514, 568
См. также Цикл экономический
См. также Игр теория, Линейное программирование- Метод затраты — выпуск (см. Затраты — выпуск) Метод исследования 157 и след., 176, 213, 239, 252, 313, 358, 472, 534
— дедуктивный 26, 27, 31, 39, 47 и след., 51, 52, 81, 107, 157 и след., 203, 204, 264, 288, 358, 375, 415, 418 и след.
— индуктивный 26, 31, 39, 47, 100, 107, 111, 153, 158 и след., 167, 288, 375, 418
— диалектический 24, 132
Модели экономические 103 и след., 156, 215, 269 и след., 279 и след., 532, 533
Монополия, трактовка: Веблена 58 и след, 69 и след.; Викселля 360, 370; Гэлбрейта 138 и след.; Кларка Дж. Б. 200, 553; Кларка Дж. М. 114 и след.; Коммонса 79, 83; Маршалла 301, 309; Мизеса 208; Минза 135 и след.; Найта 441, 448; Парето 259; Пигу 316 и след.; Робинсон 484, 486, 487; Сраффа 483; Феттера 426; Хикса 269; Чемберлина 487 и след.; Шумпетера 139, 481; Эджворта 294 и след. См. также Корпорация, Олигополия, Цена
Мощности производственные, их использование 114 и след., 118, 123, 285, 306, 336, 396, 441, 474, 489, 507 и след.
Мультипликатор 96, 112, 269 и след., 280, 320, 323, 331, 370, 402, 452 и след., 464, 481, 499 и след., 505, 566
Н
Накопление капитала 123, 148, 183, 194, 207, 212, 219, 245, 308, 310, 324, 330, 362 и след., 380, 422,
451, 464, 484, 502, 509 и след., 515 и след.
Налогообложение 120, 126, 129, 131, 155, 174, 227, 235, 237, 278, 293, 295, 323, 350, 366, 370 и след.,
387, 397, 398, 412, 416, 418 и след., 453, 521, 567,
571, 581
Народонаселение 111, 148, 155, 194, 245, 289, 331, 357, 364, 369 и след., 426, 451, 453, 454, 468, 500, 506 и след.
Национальное бюро экономических исследований (США) 93, 102, 407
Недопотребления теория 121, 124 и след., 546 Неопределенность как экономическая категория 186, 217, 232, 245, 267, 346 и след., 432, 433, 447, 524, 542, 568, 569
«Новый курс» 9, 75, 137, 227, 377, 450, 494, 584
Л
Линейное программирование 15, 164, 225, 269, 273 и след., 281, 286, 342, 379, 524, 527 и след., 587
О
Окольные методы производства 224, 226, 345, 364, 444.
Олигополия 138 и след., 488 и след., 524
М
Манчестерская школа 238, 361
Маржинализм (см. Полезность предельная, Производительность предельная)
Марксизм 8 и след., 39, 40, 42, 52, 61, 63 и след., 155» 193, 202, 212, 236, 250, 251, 290, 298, 358, 463» 481, 484, 514, 562
Математика, применение в экономических исследованиях И и след., 75, 104, 105, 132, 146 и след., 153 и след., 177, 205, 206, 234 и след., 240, 247, 253 и след., 260, 263, 273 и след., 280 и след., 293 и след., 302, 311, 356, 374, 406, 430, 472, 480, 491, 493, 521 и след., 534, 557, 561
П
Парето закон 258
Паутинообразная модель 49, 279, 402, 469, 573
Пигу эффект 123, 320, 321, 324, 334, 452, 565
Планирование экономическое 10, И, 100, 101, 228 385, 398, 408, 438, 487, 520, 521, 528
Позитивизм 25, 50, 236, 254 и след., 290
Полезность 7 и след., 40, 62, 87, 106, 109, 129, 131, 180, ■ 189 и след., 196, 217, 232, 254 и след., 295, 346, 359, 375, 377, 425, 431, 440, 456, 524
— кардиналистская трактовка 131, 149, 242, 256, 261 и след., 276, 325
— ординалистская трактовка 131, 149, 247, 256, 261 и след., 275, 343, 438, 456
596
— предельная 127, 131, 145 и след., 154 и след., 159 и след., 168 и след., 178 и след., 204, 237 и след., 277, 291 и след., 314, 397, 415, 419, 427 и след., 556
Политика экономическая (см. Государство) Политическая экономия (см. Экономическая наука) Популистское движение 57
Потребление 124, 130
— предельная склонность 280
— и потребительская функция 270, 331, 370, 457 и след.
Праксеология 203 и след., 208, 212, 568 Представительная фирма 62, 305 и след., 344 Прибыль, трактовка: Баумоля 337, 547; Бем-Баверка 185; Боулдинга 463, 466 и след.; Веблена 70 и след.; Викселля 370; Гобсона 128; Джевонса 152; Касселя 379; Кейнса 500 и след.; Кларка Дж. Б. 195 и след.; Маркса 175, 500 и след.; Маршалла 307 и след., 564; Мизеса 210; Мюрдаля 411; Найта 447 и след.; Пигу 317; Хикса 268; Хоутри 337 и след.; Чемберлина 489; Шумпетера 471, 473 и след.; Шэкла 350
См. также Стимулы экономической деятельности Прогрессистов движение 58
Производительность факторов производства 62, 390 и след.
— предельная 7 и след., 63, 127, 151, 162, 164, 166, 171, 178 и след., 186, 196 и след., 230 и след., 244, 258, 259, 284, 291 и след., 307, 321, 327, 360 и след., 375 и след., 420, 441, 463, 552, 571, 577
— специфическая 195 и след., 201 и след., 272, 276 и след., 429
См. также Доход и теория вменения
Производственная функция 174, 198, 221, 223, 226 и след., 241 и след., 258, 269, 282 и след., 379, 420, 459, 466, 473, 488, 489, 511
— Кобба — Дугласа 230
Производственный период 151, 161, 180 и след., 197, 198, 209, 219, 221 и след., 266, 329, 339, 363, 376, 443, 444, 551, 559
Протекционизм 51, 174, 195, 249 и след., 260, 278, 341, 384, 413, 417, 476, 520
См. также Торговля международная
Профсоюзы 30, 44, 52, 58, 77 и след., 84, 88, 95, 110, 132 и след., 139, 152, 155, 173, 191, 201, 207, 212, 229, 272, 294, 327, 338, 382, 415, 419, 421, 449, 486, 490, 499, 513, 526, 550 и след., 583
Процент, трактовка: Бем-Баверка 151, 175 и след., 179 и след.; Вальраса 243, 245 и след.; Визера 170; Викселля 13, 221, 362 и след., 410; Гобсона 124; Давидсона 368, 388; Джевонса 150 и след.; Дэвенпорта 429; Карвера 420; Касселя 260, 375, 377 и след.; Кейнса 13, 500 и след.; Кларка Дж. Б. 192 и след., 197; Линдаля 400 и след., 573; Лундберга 405 и след.; Маркса 183, 503; Маршалла 307 и след.; Мизеса 210, 211; Мюрдаля 410 и след.; Олина 394 и след.; Найта 439 и след.; Парето 260; Пигу 318, 322; Робертсона 327, 330 и след.; Уикстида 292; Феттера 425; Фишера 432 и след.; Фридмана 460; Хайека 221 и след.; Хикса 266 и след.; Хоутри 338; Шпитгофа 49; Шумпетера 211, 473 и след., 481; Шэкла 351
Р
Рабочее движение (см. Классовая борьба, Профсоюзы) Равновесия теории 112, 123, 186, 188, 194, 221, 237 и след., 253 и след., 274, 282, 283, 306, 315 и след., 360 и след., 366, 369, 378, 401, 409, 410, 472 и след., 488, 491 и след., 499, 505
Развитие общества, трактовка: Вальраса 236; Вебера 159; Веблена 65 и след.; Визера 172; Гэлбрейта 141; исторической школы 157; Кейнса 502; Маркса 132, 251, 342, 477, 502; Парето 250 и след.; Роббинса 341; Шумпетера 475 и след.; Эйрса 132 См. также Капитализм
Распределение (см. Доход)
Распределение ресурсов 10, 138, 168, 178, 250, 259, 291, 315, 342, 345, 441, 510, 530
Редкость 80 и след., 150, 164, 168, 184, 185, 190, 227, 237, 342, 359, 376, 378, 381 и след., 389, 426, 486
Реклама 49, 109, 114, 206, 213, 232, 257, 441, 471, 483, 484, 487 и след.
Религия и история капитализма 35, 40 и след., 53 и след., 537
Рента И, 125 и след., 150, 155, 171, 179, 187, 191, 197, 199, 236, 238, 245 и след., 259, 292, 293, 307 и след., 327, 338, 361, 365, 381, 387, 416, 420, 429, 432, 443, 445, 446, 547
Рикардо эффект 226
Риск как экономическая категория 130, 268, 425, 431, 447, 456, 519, 524
Рост экономический, теории 15, 72, 73, 112, 128, 222, 245, 271, 306, 384, 402 и след., 454, 474, 506 и след., 533, 585, 586
С
Сбережение 119 и след., 128, 180, 183 и след., 208, 211, 219 и след., 227, 246, 269, 308, 322, 328 и след., 340, 364 377, 379 и след., 400, 402, 410, 445, 453, 481, 499 и след., 507, 570
Собственность 66, 69, 70, 79 и след., 84 и след., 134 и след., 152, 167, 180, 188, 207, 290, 397, 416, 432 См. также Корпорация
Социализм И, 40, 63 и след., 132, 140, 173, 180, 181, 185, 188, 206, 228, 235 и след., 242, 250, 256. 290, 295, 298, 315 и след., 357, 364, 370, 385, 398, 436, 480, 514, 528
Спрос
— и взаимодополняемость товаров 126, 160 и
след., 178, 230, 264 и след., 360, 431, 440, 467
— и взаимозаменяемость товаров 126, 178, 230, 276, 360, 431, 488
— и предельная норма взаимозаменяемости 261 и след., 264, 279, 326, 397, 524
— на факторы производства 164, 207, 209 и след., 267 и след., 272, 284, 292, 361, 379, 442
См. также Доход, Пигу эффект, Полезность, Цена Статический анализ 111, 148, 174, 193 и след., 200, 243, 253, 261. 302, 362, 391, 399, 439, 464, 473, 503, 507, 510
Стимулы экономической деятельности 69 и след., 78, 84, 86, 90, 94, 98, 107 и след., 129, 130, 132, 135, 136, 140, 152, 169, 191, 231, 232, 303, 317, 326, 336, 399, 422, 424, 425, 427, 439, 440, 455, 466, 497 и след.. 525, 531 и след., 547
См. также Гедонизм
Стоимость, трактовка: австрийской школы 11, 81, 154 и след., 359, 424; Бем-Баверка 177 и след.; Вальраса 239 и след.; Веблена 63 и след., 69; Визера 166 и след.; Викселля 359; Давидсона 389; Джевонса 148 и след.; Дэвенпорта 427; Карвера 420; Касселя 375, 377, 386, 427; Кларка Дж. Б. 190 и след., 196; классической школы 7, 81, 148, 190, 236, 288, 299, 359, 423, 477, 506; Коммонса 80 и след., 87; Маркса 165, 477, 503; Маршалла 299 и след., 597
304; Менгера 160 и след.; Найта 439, 443, 445, 446; Парето 240; Роббинса 344; Сиджвика 288; Уикстида 291, Феттера 424 и след.; Фишера 435; Хикса 261; Шумпетера 234; Эли 416
Стокгольмская школа (см. Шведская школа)
Сэя закон 123, 141, 497, 502, 546
Т
Теория познания 203 и след., 207, 214 и след., 346 и след.
Технический прогресс 112, ИЗ, 123, 132, 139, 181, 194, 285, 331, 333, 369 и след., 452, 454, 500, 508 и след.
Торговля
— внутренняя 82, 83, 88, 139, 140, 360, 488
— международная 125, 148, 174, 195, 260, 278, 294, 384 и след., 393 и след., 422 и след., 511, 517, 529, 572
См. также Протекционизм
— и ее влияние на предложение 179, 289, 292 и след., 305, 316, 441
— и ее влияние на спрос 123, 136, 257, 262 и след., 276, 304 и след., 378, 499
— и оптимальный план 530
Цикл экономический, трактовка: Веблена 70, 71, 72; Викселля 369 и след., 401; Гобсона 120; Джевонса 147, 152 и след.; Касселя 383, 384; Кейнса 325, 500 и след.; Линдаля 401; Лундберга 402 и след.; Кларка Дж. М. 111 и след., 116; Мизеса 212; Митчелла 93 и след., 102 и след.; Найта 448, 449; Пигу 319 и след.; Роббинса 344 и след.; Робертсона 325, 328, 332; Самуэльсона 280; Туган-Барановского 48, 383; Фишера 436; Хаберлера ИЗ; Хайека 222, 225 и след.; Хансена 450 и след.; Хикса 269 и след.; Хоутри 339 и след.; Шпитгофа 46 и след., 369, 383; Шумпетера 474 и след.; Шэкла 350
Ч
Чикагская школа 12, 455 и след., 493
Ф
Фабианское общество 53, 119, 122, 156, 290, 356 Физиократы 504
Ц
Цена
— трактовка: Бем-Баверка 178 и след.; Боулдинга 465 и след.; Вальраса 240 и след., 244 и след., 480; Визера 169, 172; Викселля 359 и след.; Гобсона 123, 127; Гэлбрейта 138 и след.; Давидсона 389; Дэвенпорта 428; Касселя 375 и след.; Кейнса 495 и след.; Кларка Дж. Б. 190 и след.; Кларка Дж. М. 115 и след.; классической школы 132, 135, 191, 218; Коммонса 85; Линдаля 398 и след.; Менгера 163; Мизеса 205 и след., 209 и след.; Минза 136; Митчелла 91 и след., 99; Мюрдаля 410; Олина 395, 396; Парето 259, 260; Пигу 316 и след.; Роббинса 345; Робертсона 325, 331; Самуэльсона 275; Сиджвика 289; Тауссига 421, 422; Уикстида 293; Феттера 423 и след.; Фишера 434 и след.; Фридмана 459 и след.; Хайека 218 и след.; Хансена 452; Хикса 262 и след., 267; Хоутри 338 и след.; Чемберлина 488 и след.; Шмоллера 29; Штаккельберга 491; Эджворта 296
Ш
Шведская школа 355 и след., 391 и след., 402, 572
Э
Эйлера теорема 290, 293, 294, 318, 562
Экономическая наука ее предмет и метод, трактовка: австрийской школы, 154; Бем-Баверка 176; Боулдинга 468; Вальраса 236, 239 и след.; Веблена 62, 67, 74; Визера 167; Викселля 358; Гобсона 128 и след.; Гэлбрейта 138 и след.; Давидсона 387; Джевонса 147, 154; Дэвенпорта 428; Карвера 420; Касселя 374; Кейнса 480, 505, 533; Кларка Дж. М. 105 и след., 109 и след.; классической школы 129, 154, 479; Коммонса 81 и след., 87; Линдаля 398; Лундберга 402; Маршалла 299 и след.; Менгера 158 и след.; Мизеса 203 и след.; Минза 135; Митчелла 92 и след., 98 и след.; Мюрдаля 407 и след.; Найта 436 и след.; Парето 250, 252; Паттена 418; Пигу 312; Роббинса 341 и след.; Робертсона 326; Самуэльсона 281, 282; Сиджвика 288; Тауссига 420; Фридмана 455; Хайека 215 и след.; Хоутри 336; Шумпетера 103, 472 и след., 480 и след.; Шэкла 569; Эйрса 132
Оглавление
Вступительная статья 5
Предисловие автора 19
Часть первая
Бунт против формализма
Глава I
Протест представителей исторической школы . .
1. «Geisteswissenschaft und Verstehen»: осознание роли человека 23
2. Густав фон Шмоллер и его «Grundriss» 27
3. Вернер Зомбарт: история как политическая экономия 31
4. Макс Вебер и капиталистический дух . . 37
5. Брентано, Бюхер, Вагнер и Кнапп ... 44
6. Артур Шпитгоф: политическая экономия
как стиль 46
7. Симианд, Тойнби, Каннингэм и Эшли 50
8. Р. X. Тони: этика в политической экономии 53
Глава II
Институционализм и дух несогласия 56
1. Мир Торстена Веблена 56
2. Джон Р. Коммонс: сделки и действующие
коллективные институты 76
3. Уэсли К. Митчелл: эмпиризм без теории 89
4. Джон Морис Кларк: умеренный общественный контроль 104
5. Джон А. Гобсон — английский институционалист 119
6. Эйрс, Хокси, Селиг Перлмен и Гардинер
Минз 131
7. Уравновешивающая сила и изобилие:
Дж. К. Гэлбрейт 137
Часть вторая
Восстановление традиции
Глава III
От маржинализма к теориям экономической свободы 145
1. У. С. Джевонс: открытие маржинализма 145
2. Менгер, фон Визер и возникновение австрийской школы 156
3. Евгений фон Бем-Баверк: буржуазный
Маркс 174
4. Джон Бейтс Кларк: американский представитель маржиналистской теории . . 188.
5. Людвиг фон Мизес: экономический либерализм «in extremis» 202
6. Фридрих фон Хайек: утонченная разработка теорий австрийской школы . . . 213
7. Дискуссия между современными представителями маржиналистской теории . . 229«
Глава IV
Концепция экономического равновесия и унификация теории 234
1. Леон Вальрас — величайший экономист? 234
2. Вильфредо Парето: наука в виде проповеди 248
3. Джон Р. Хикс и логика потребителя 260»
4. Поль А. Самуэльсон: неоклассический синтез 273
5. Василий Леонтьев и анализ по схеме
затраты — выпуск 282
Глава V
Традиционные течения в английской политической экономии 287
1. Сиджвик, Уикстид и Эджворт 287
2. Альфред Маршалл: становление традиции 296
3. А. С..Пигу и политическая экономия
благосостояния 310
4. Деннис Робертсон: деньги и циклические
колебания в экономике 325
599
5. Ральф Хоутри: политическая экономия
торговцев 335
6. Лорд Роббинс: логика выбора 341
7. Дж. Л. С. Шэкл: расчеты на будущее,
время и решения 345
Часть третья
Упор на технику анализа
Глава VI
Вклад шведской школы 355
1. Экономическая теория Кнута Викселля 355
2. Густав Кассель: экономическая теория
как «чистая» теория цен 373
3. Давид Давидсон: шведский рикардианец 386
4. Бертил Олин: торговля и цены факторов 393
5. Эрик Линдаль: деньги и капитал .... 397
6. Эрик Лундберг: анализ последовательно¬
стей 402
7. Гуннар Мюрдаль: оценочные суждения
и теория 407
Глава VII
Разногласия среди американских экономистов
1. Молодые радикалы: Эли, Паттен, Селигмен, Карвер 414
2. Фрэнк Тауссиг — американский традиционалист 420
3. Денежные теории: Феттер и Дэвенпорт 424
4. Ирвинг Фишер: капитал, процент и доход 430
5. Фрэнк Найт и абстракционизм .... 436
6. Элвин X. Хансен и зрелая экономика . 450
7. Милтон Фридман: теория как идеология 455
8. Кеннет Е. Боулдинг: экономическая теория организации 462
Глава VIII
От экономического реализма к математическим методам 470
1. Йозеф А. Шумпетер и его Новатор . . . 470
2. Сраффа и крах теории конкуренции . . 482
3. Мир монополий: теории Джоан Робинсон и Э. Чемберлина, Штаккельберга
и Триффина 484
4. Новая экономическая теория Джона Мейнарда Кейнса 493
5. Неокейнсианство: некоторые теории роста 506
6. Последние достижения техники экономи¬
ческого анализа: теория игр и линейное программирование 522
Заключение 531
Примечания 536
Именной указатель 589
Предметный указатель 594
Б. Селигмен
ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Редактор М. Штернгарц. Художник В. Щербаков Художественный редактор Л. Шканов. Технический редактор Г. Калинцева
Сдано в производство 20/IX 1967 г. Подписано к печати 12/IV 1968 г. Бумага 84x108 1/ie бум. л. 181/2- 63 печ. л. Уч.-изд. л. 71,46. Изд. № 8/6513. Цена 5 р. 49 к. Зак. 1296
Издательство «Прогресс» Комитета по печати при Совете Министров СССР Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21
Московская типография № 16 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, Трехпрудный пер., 9