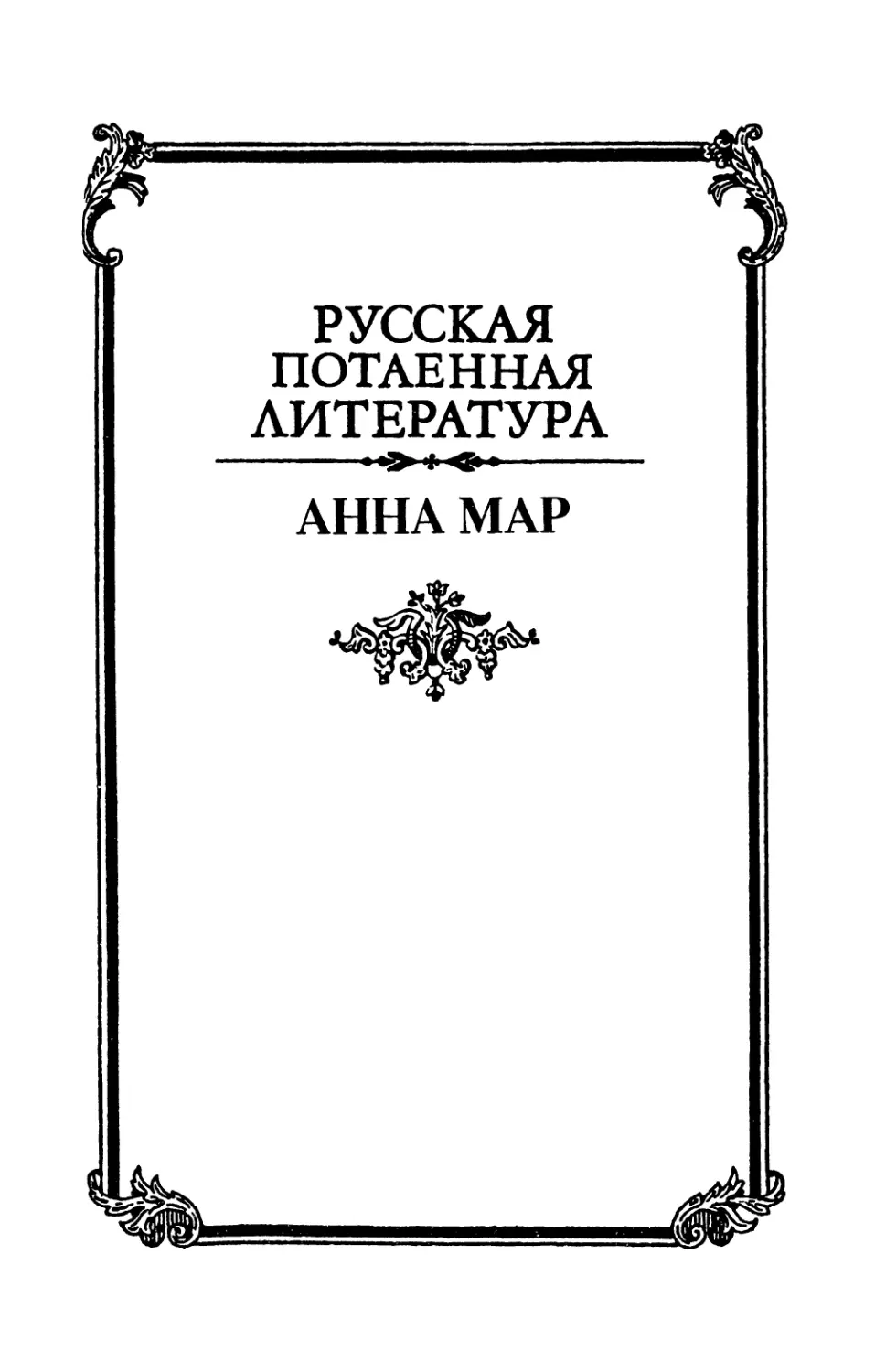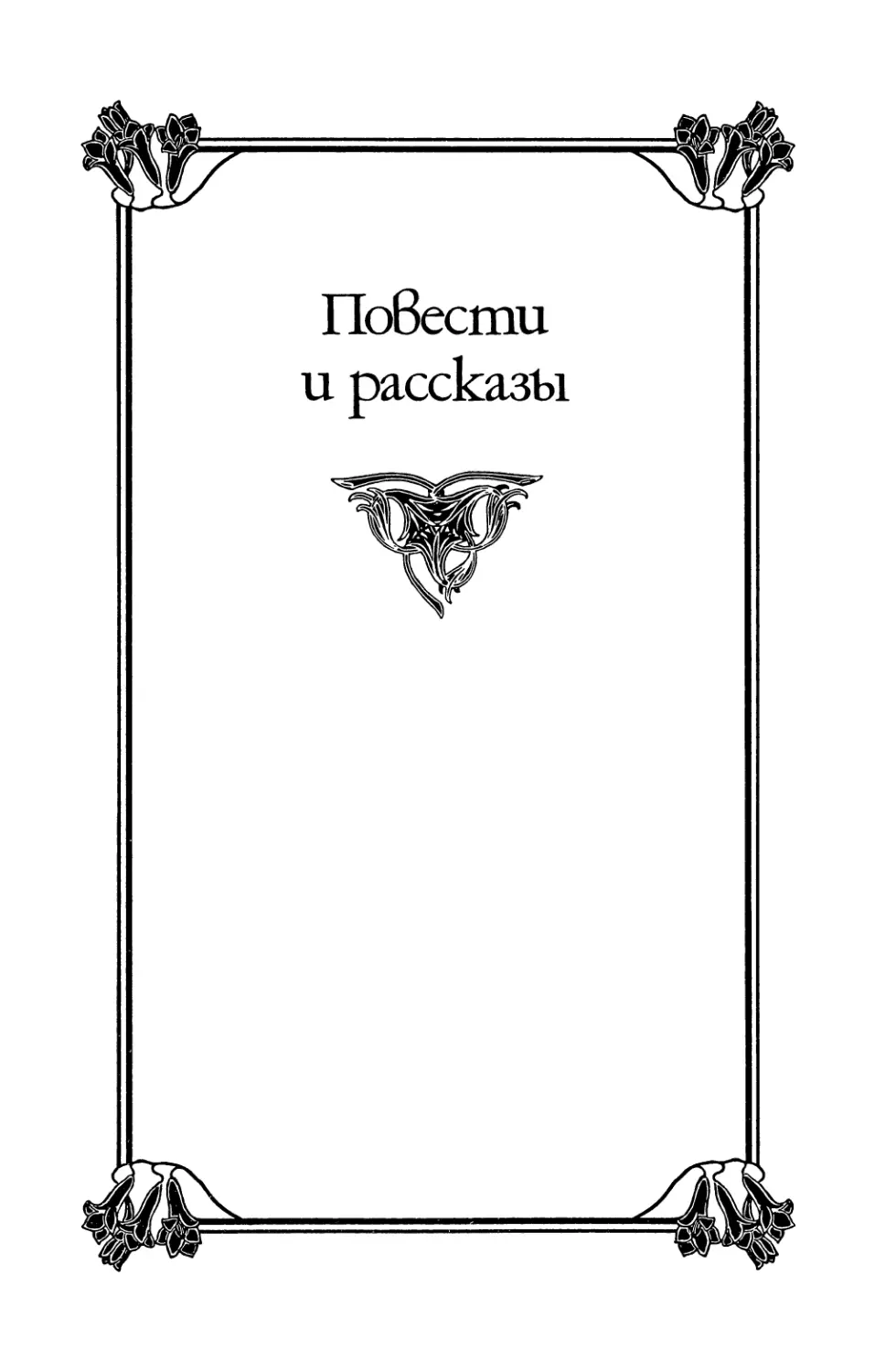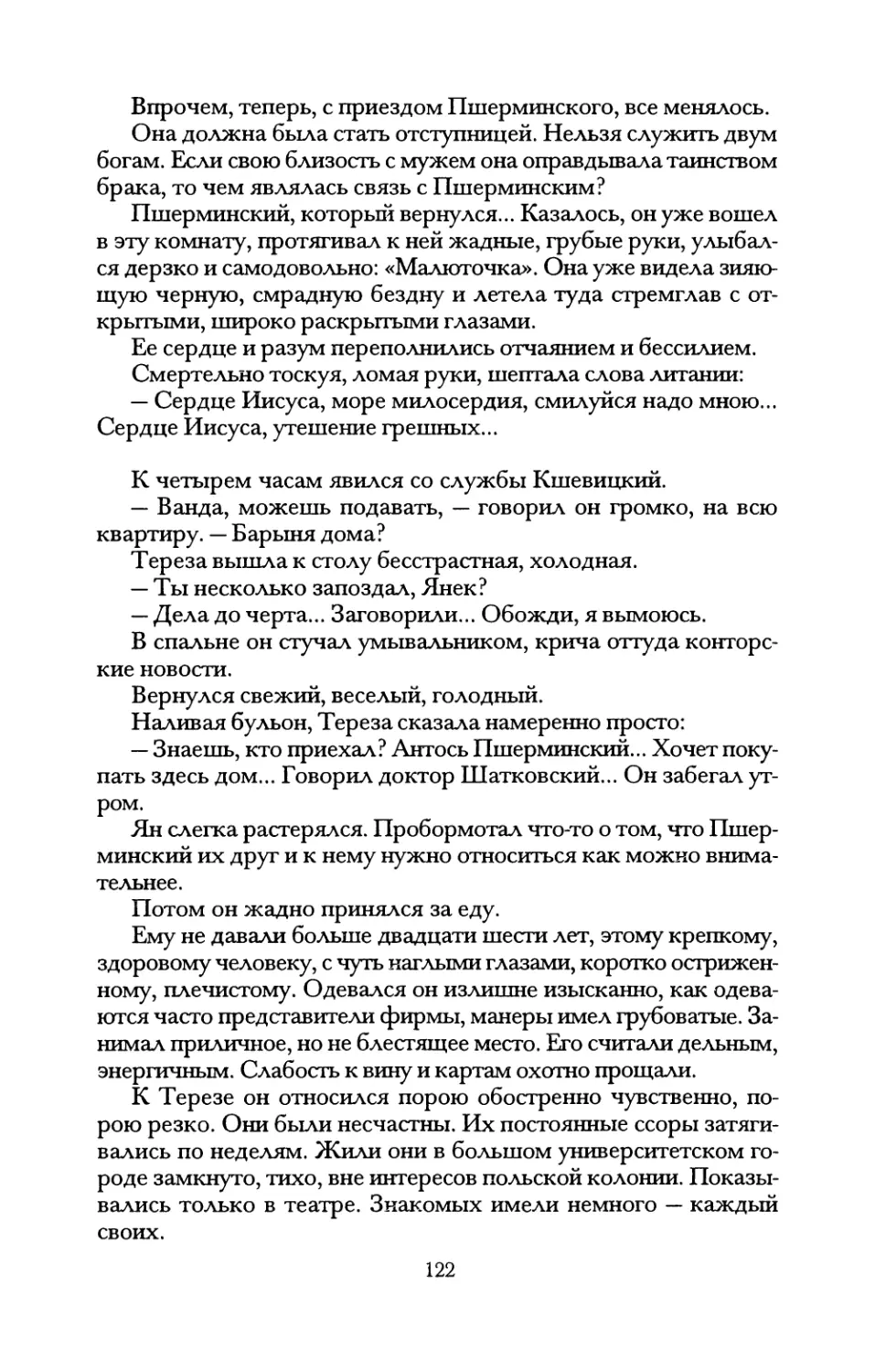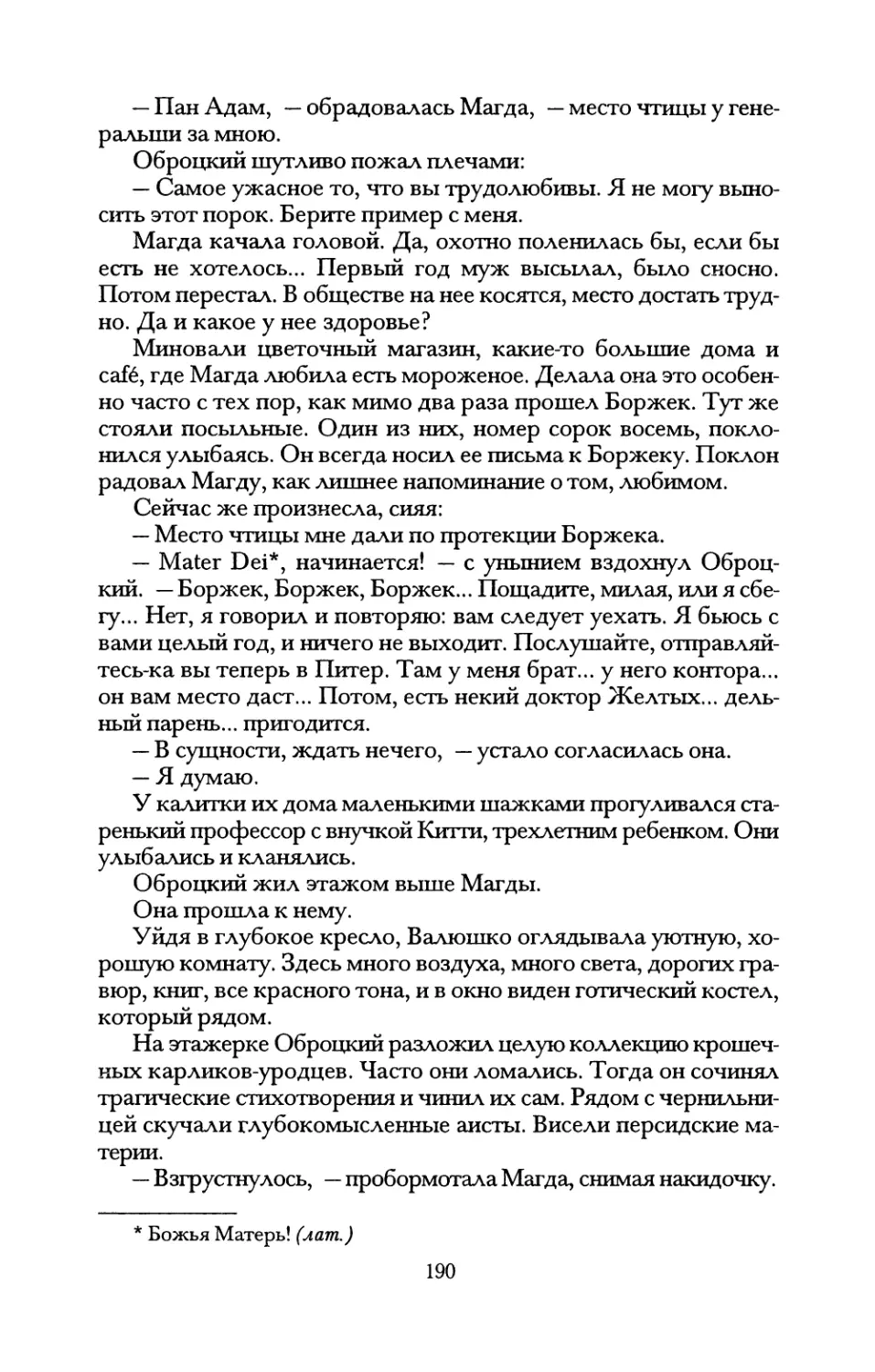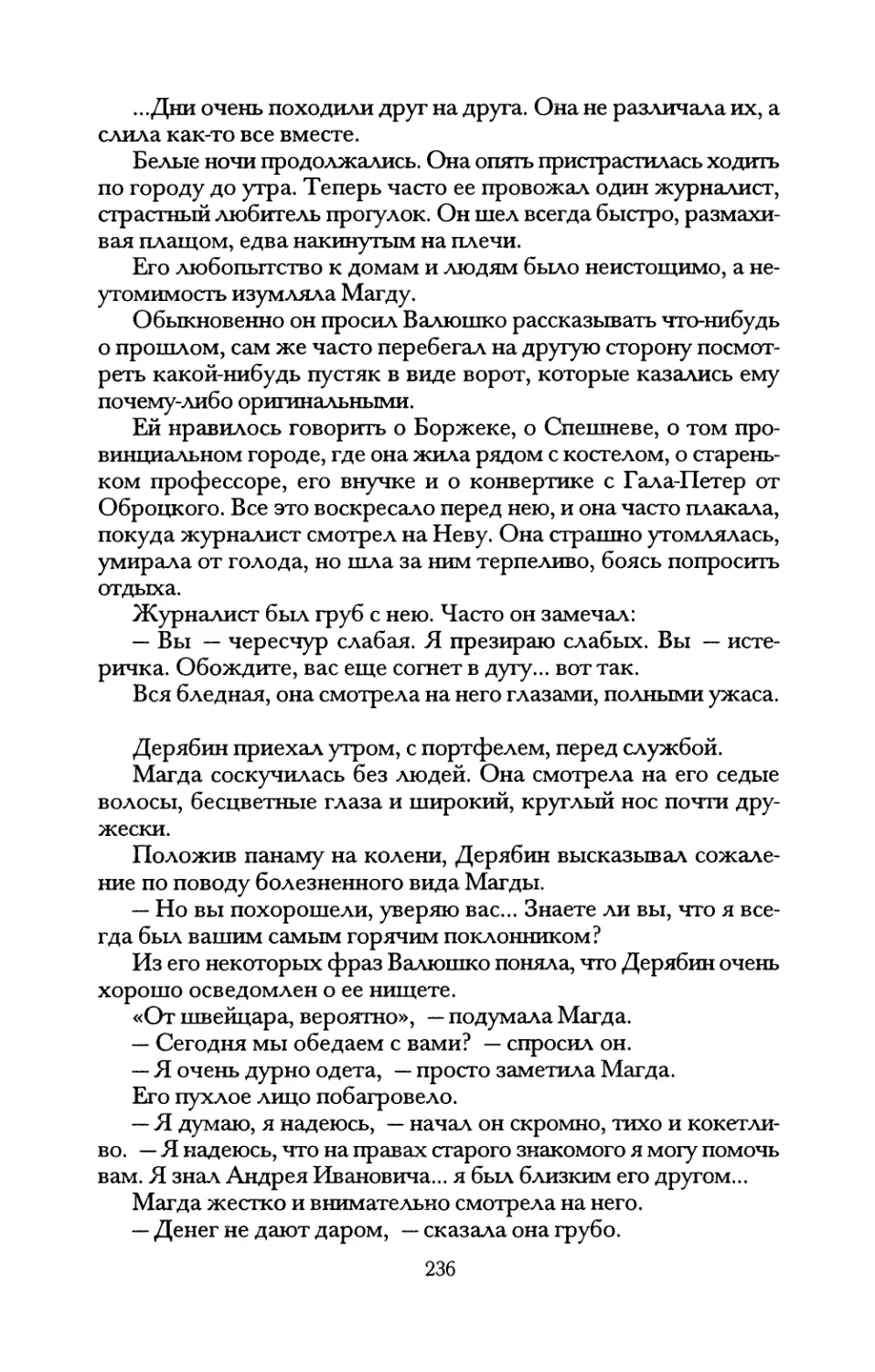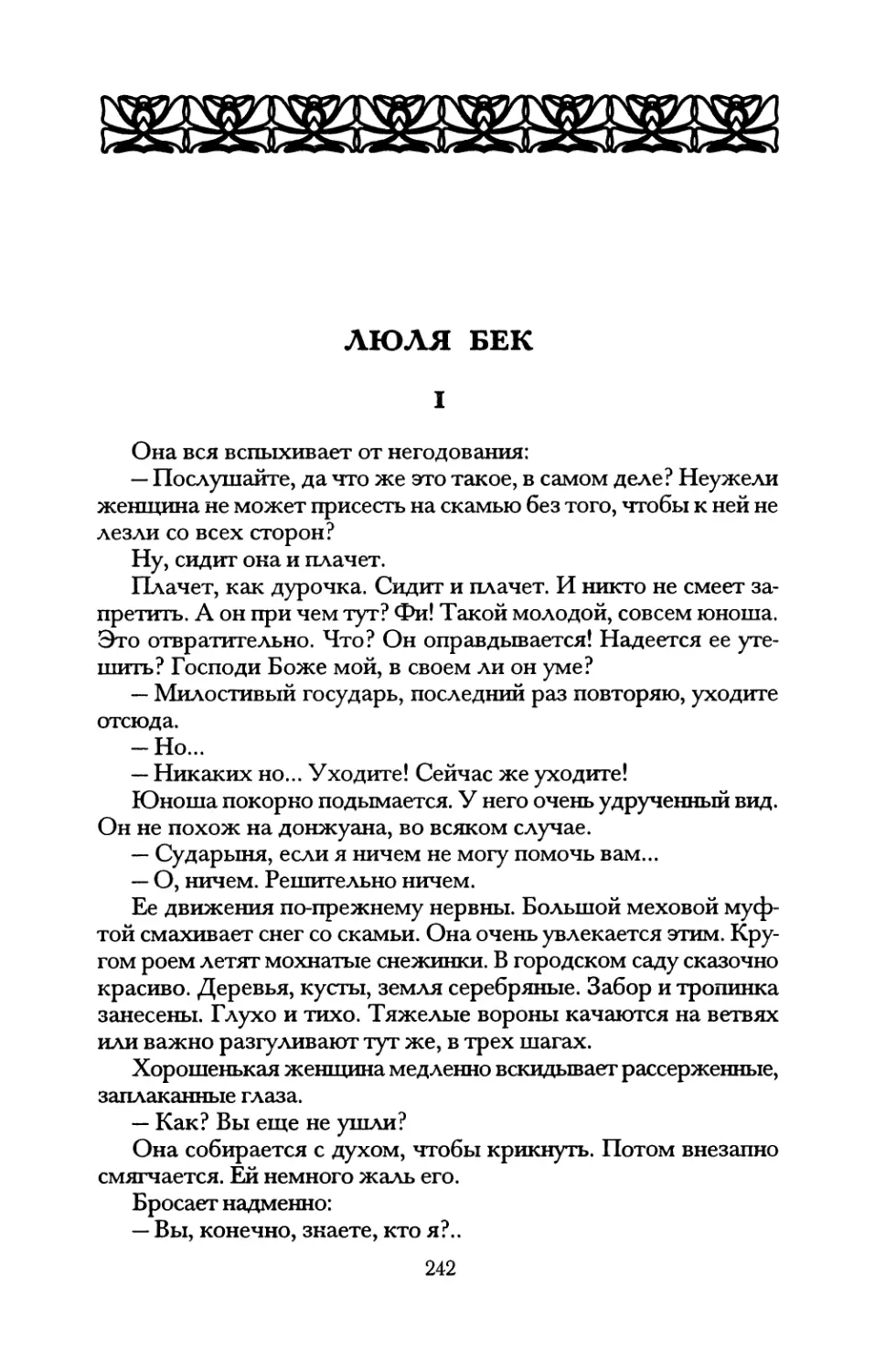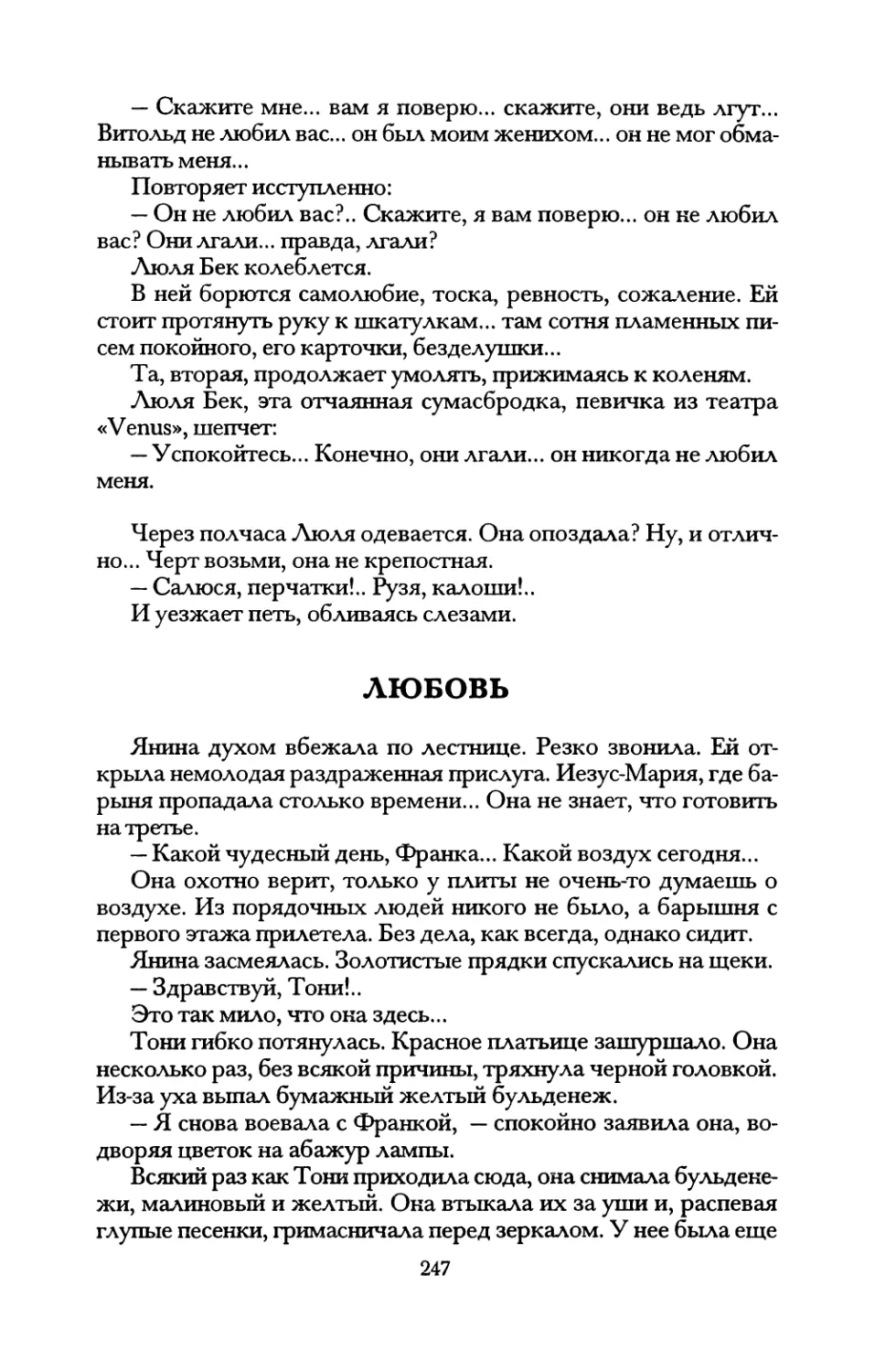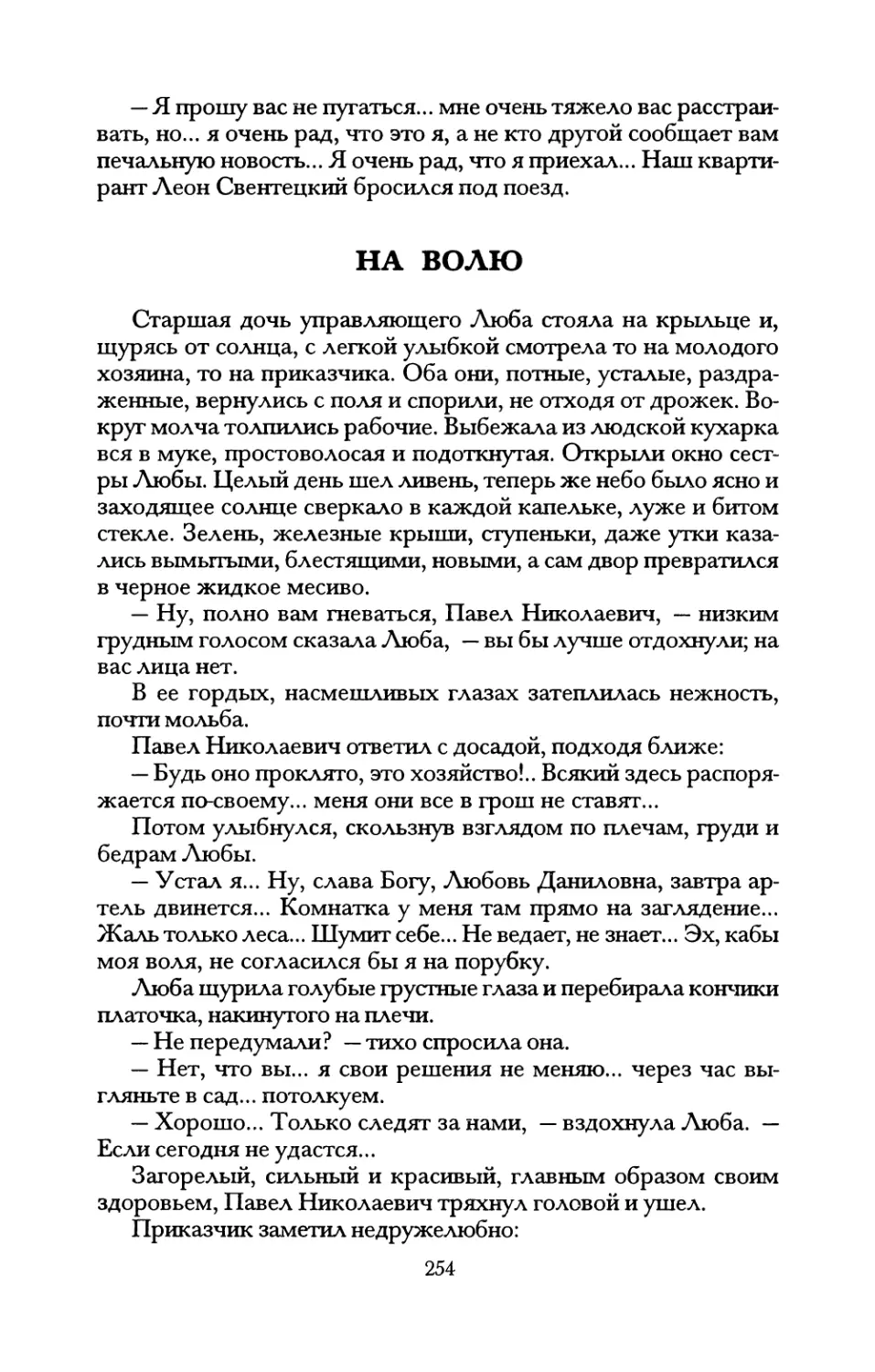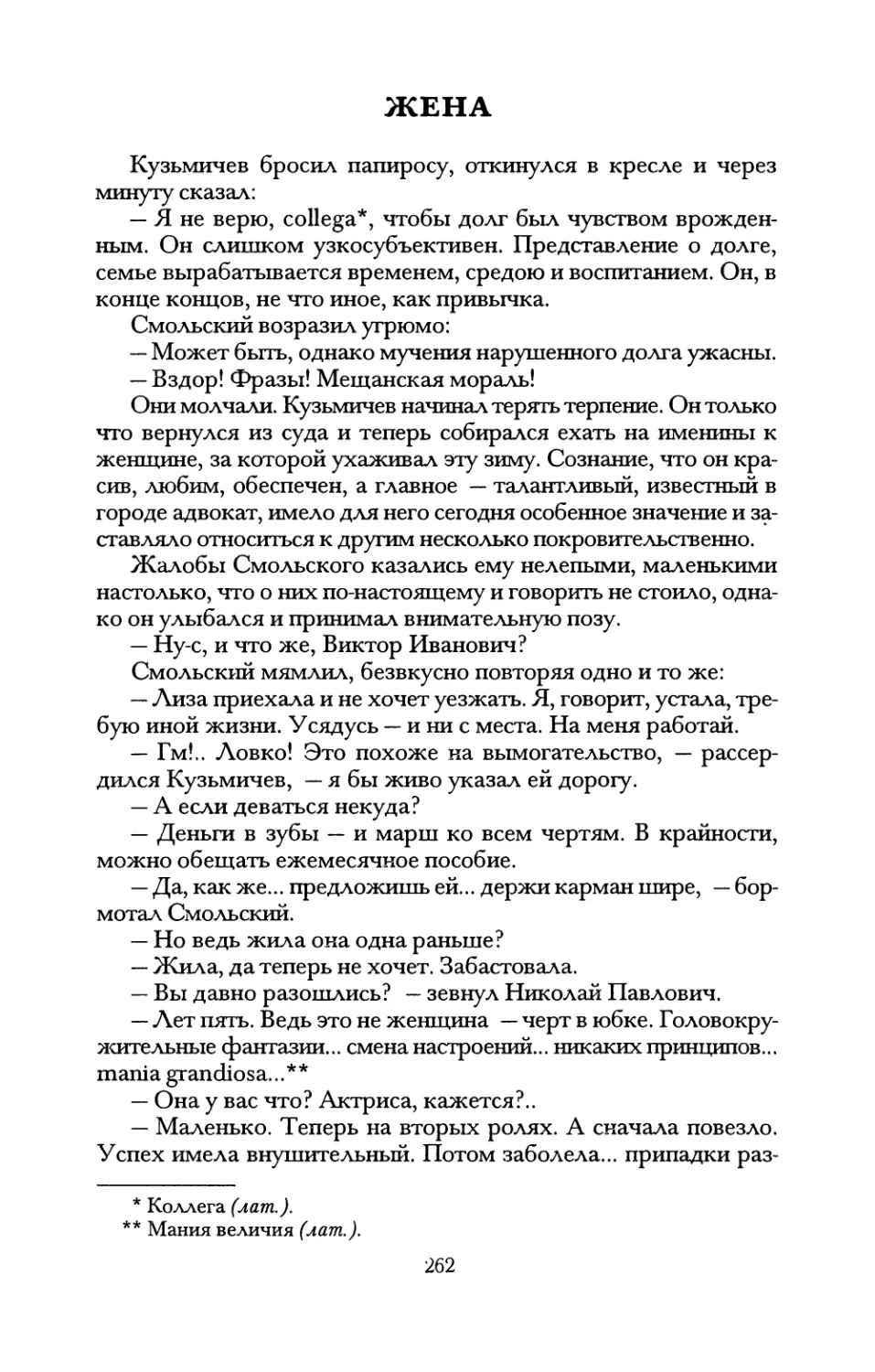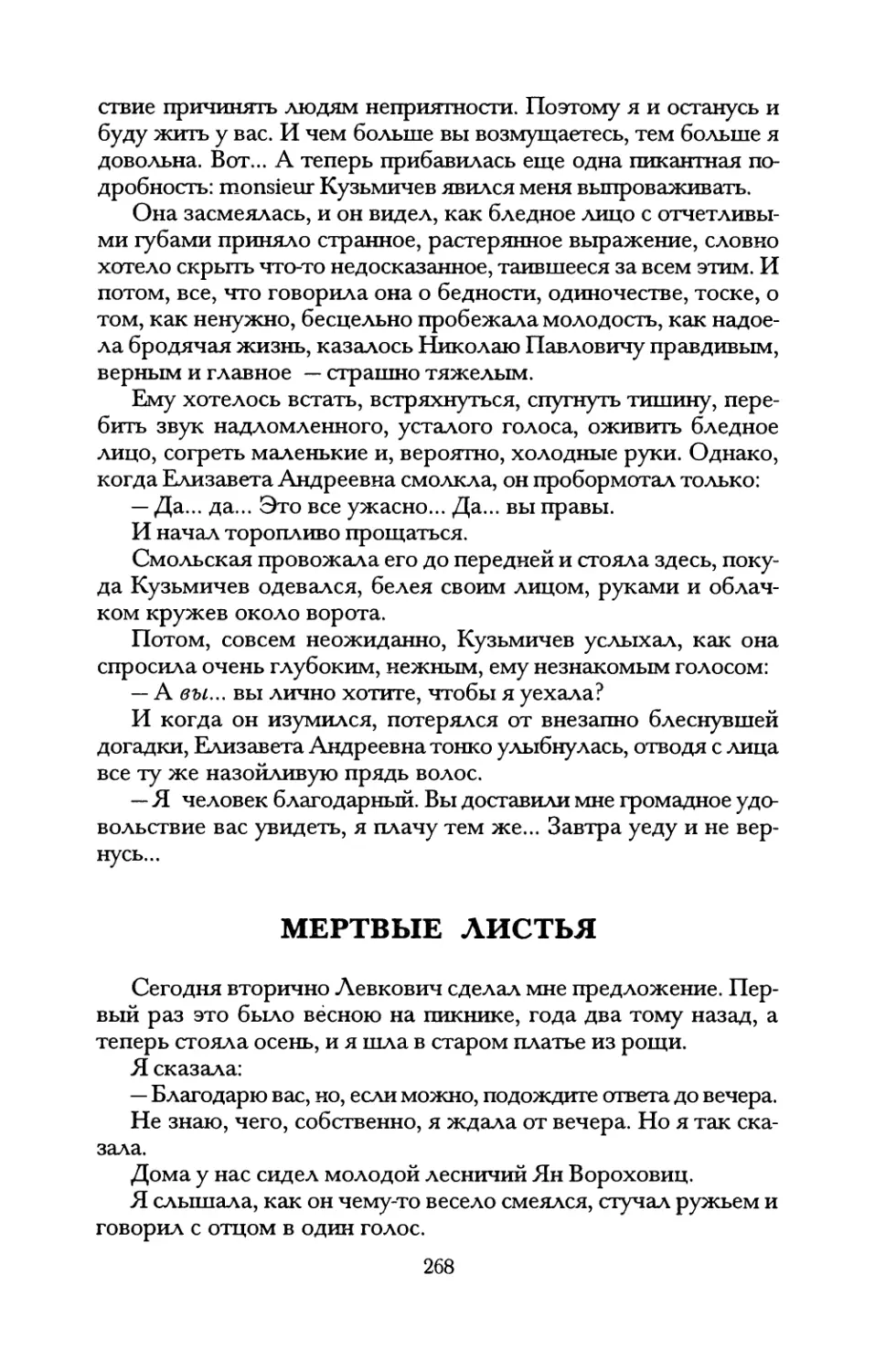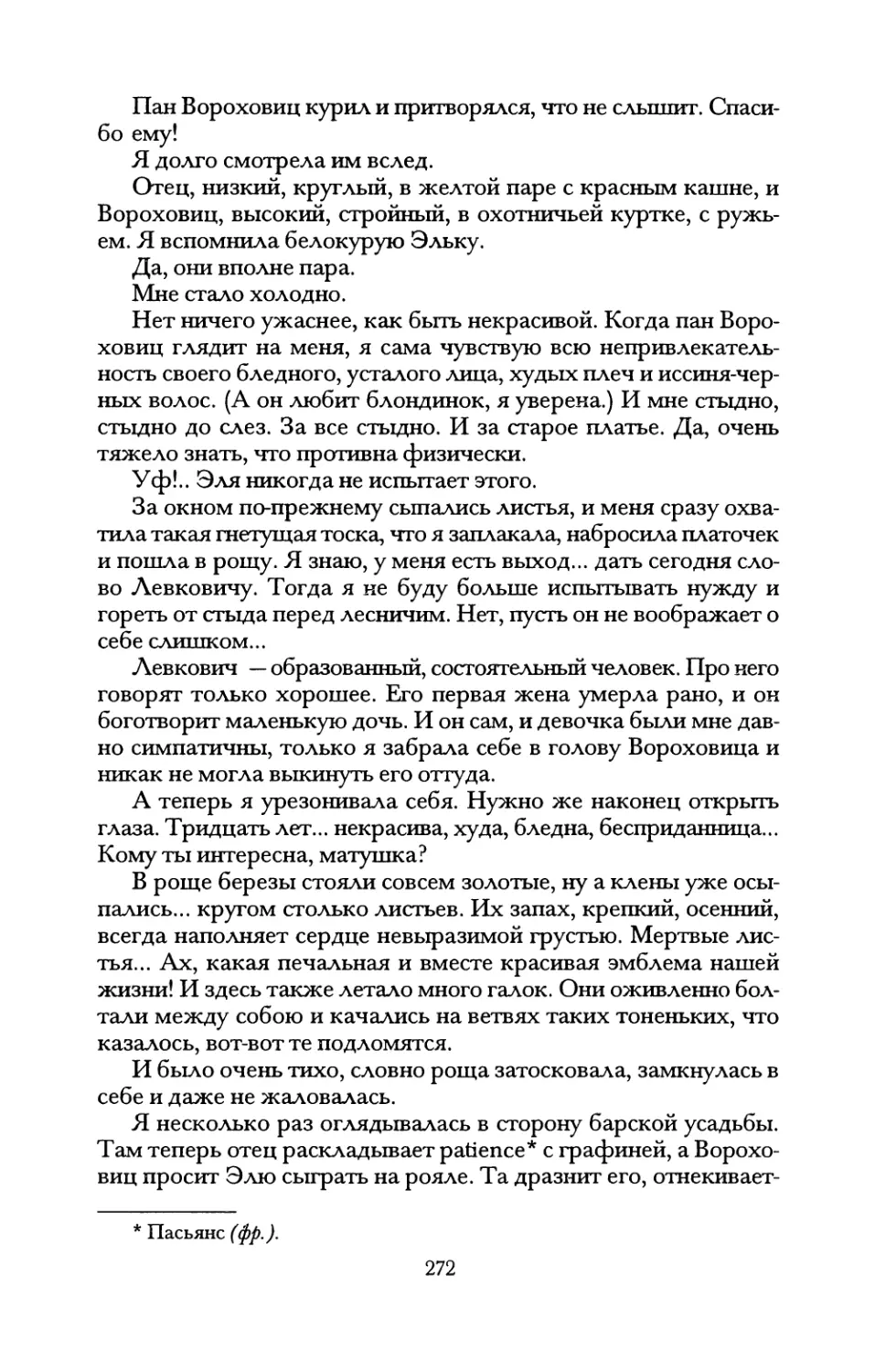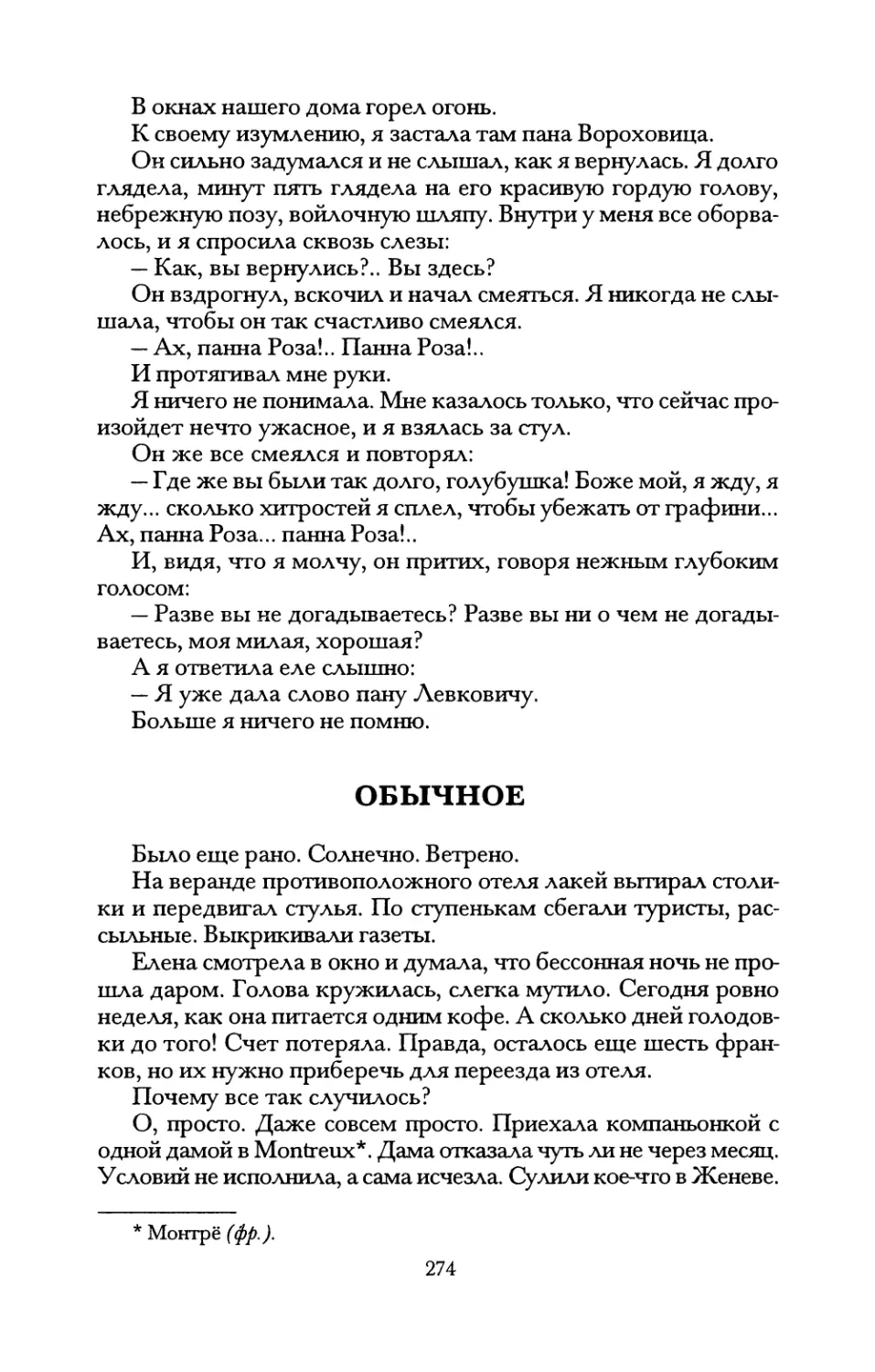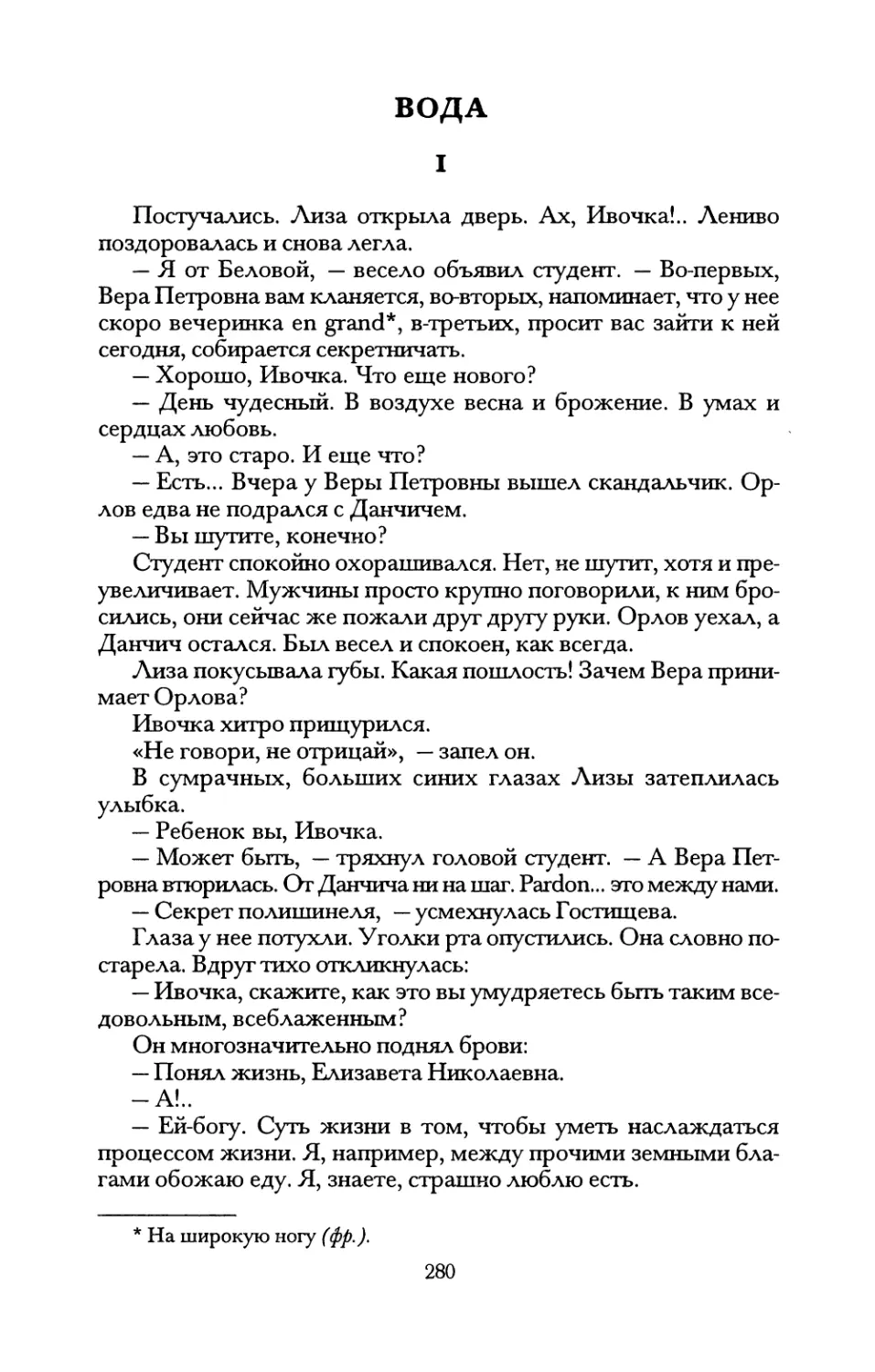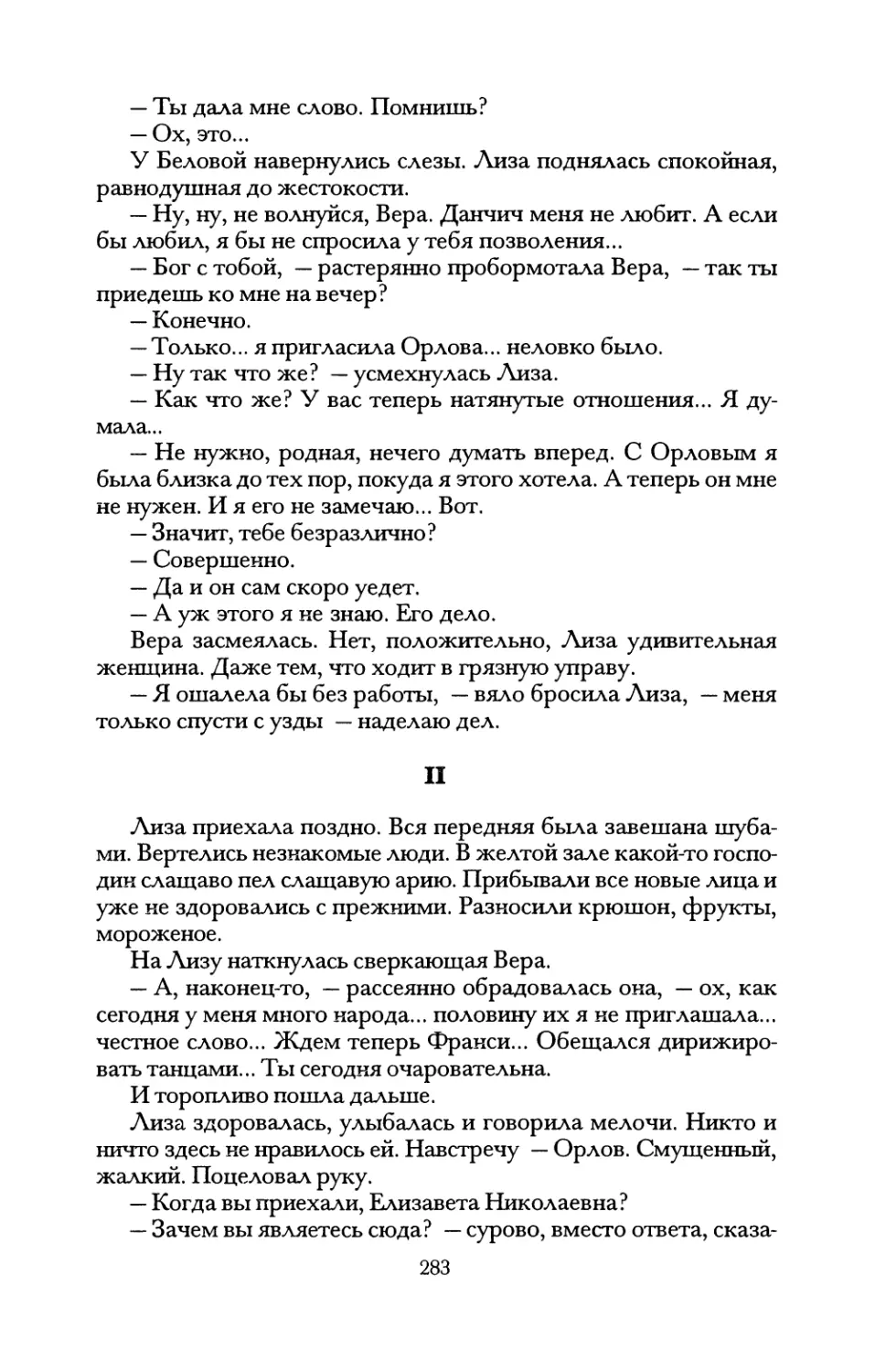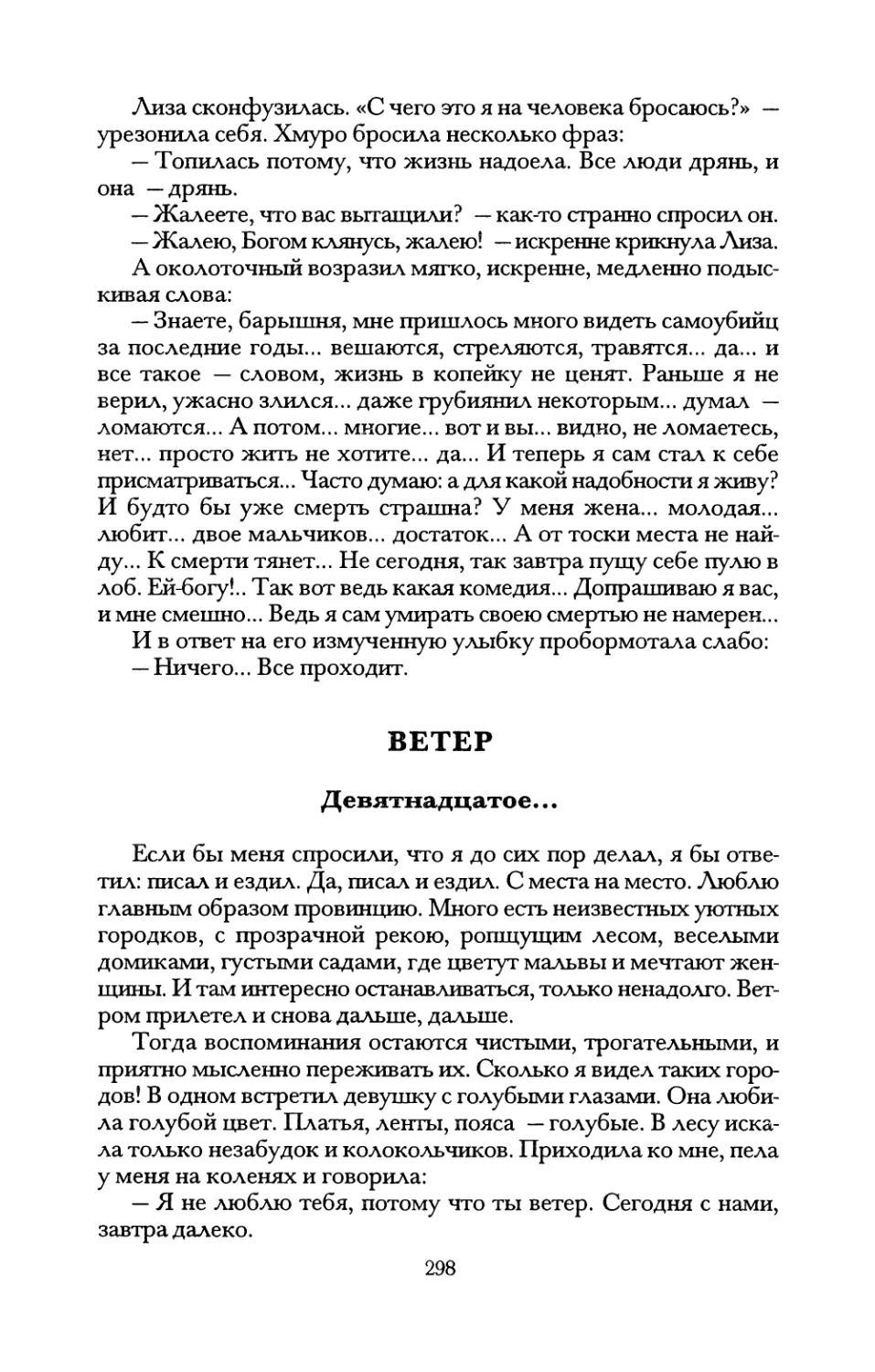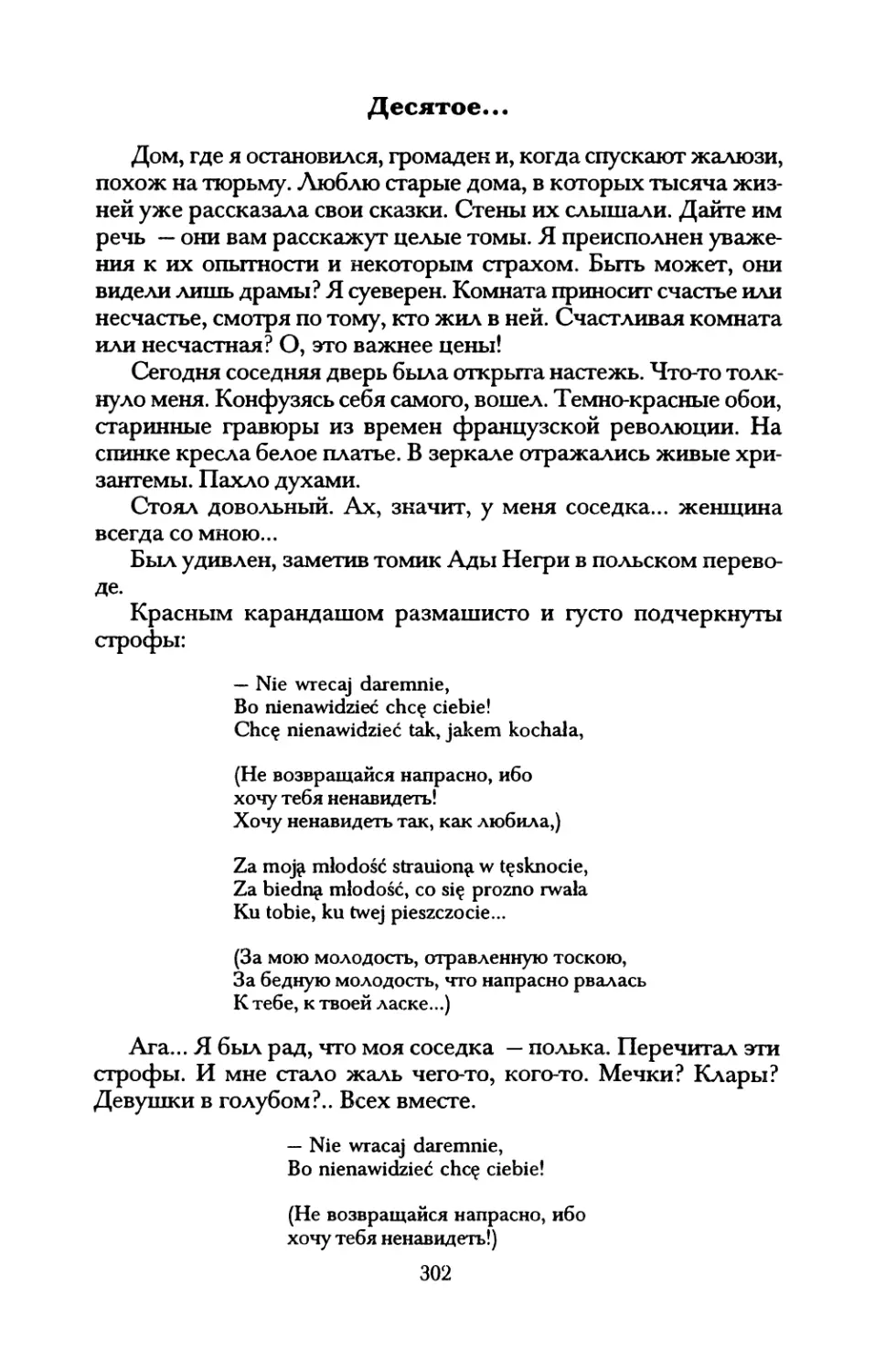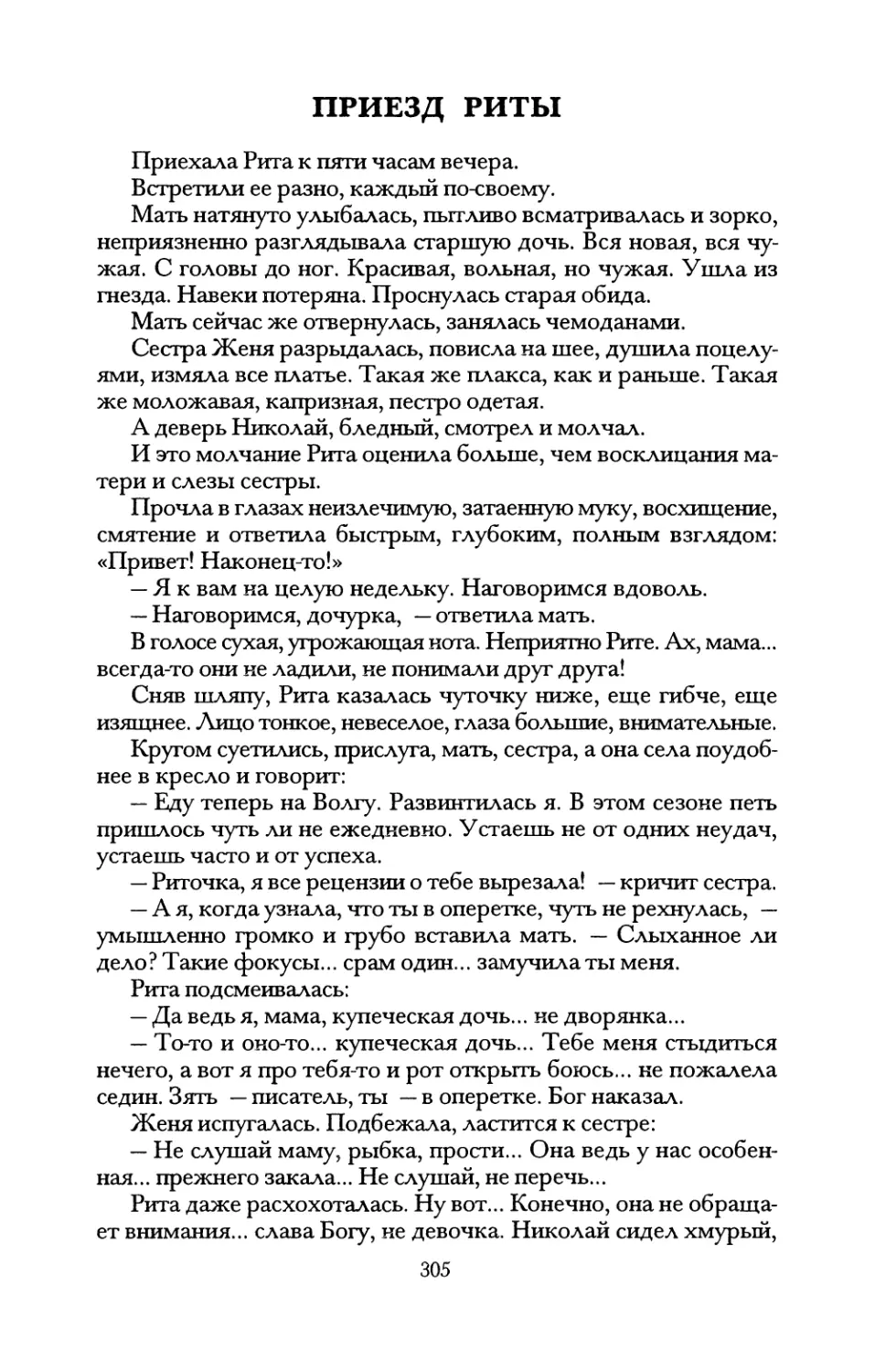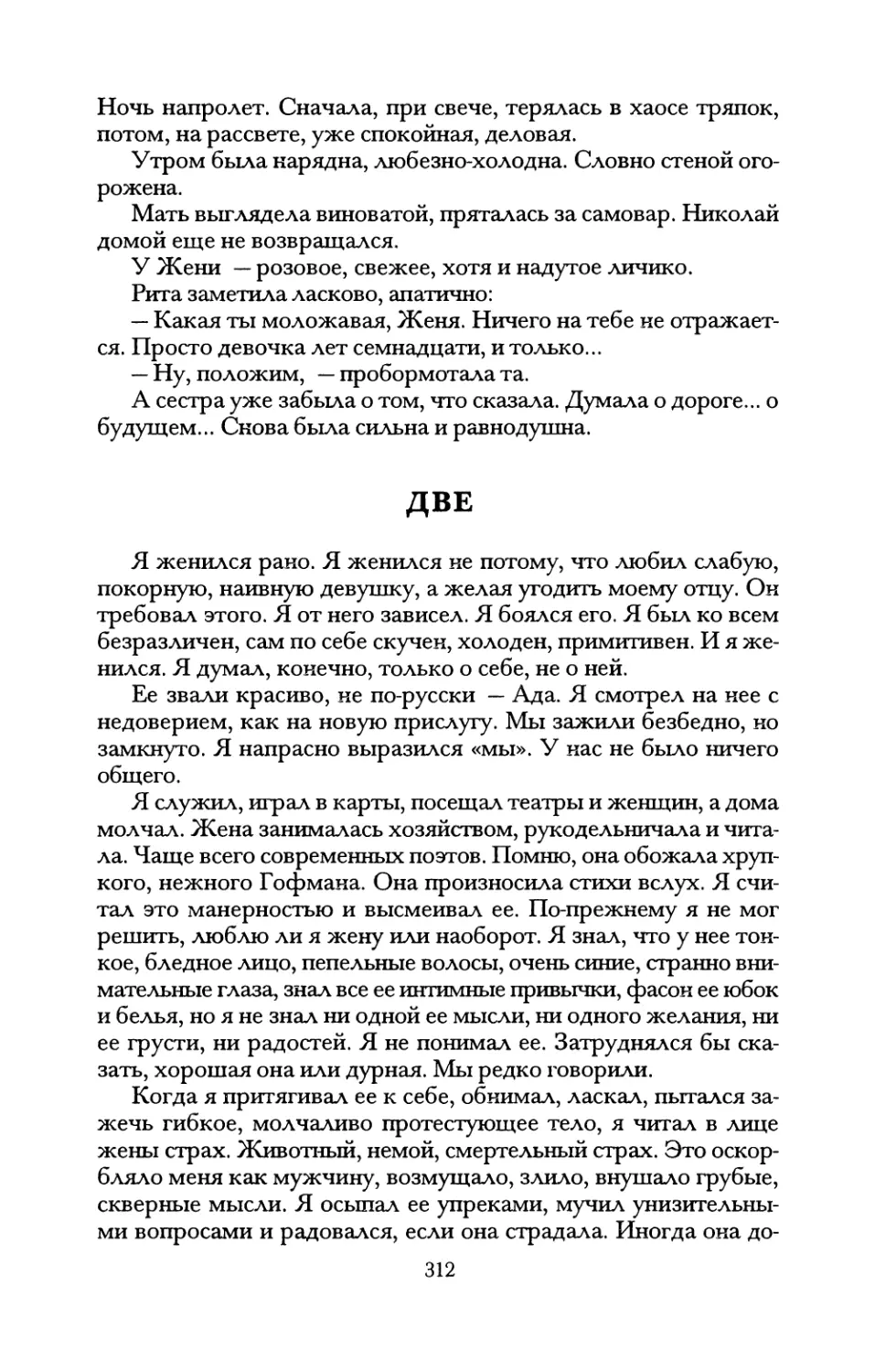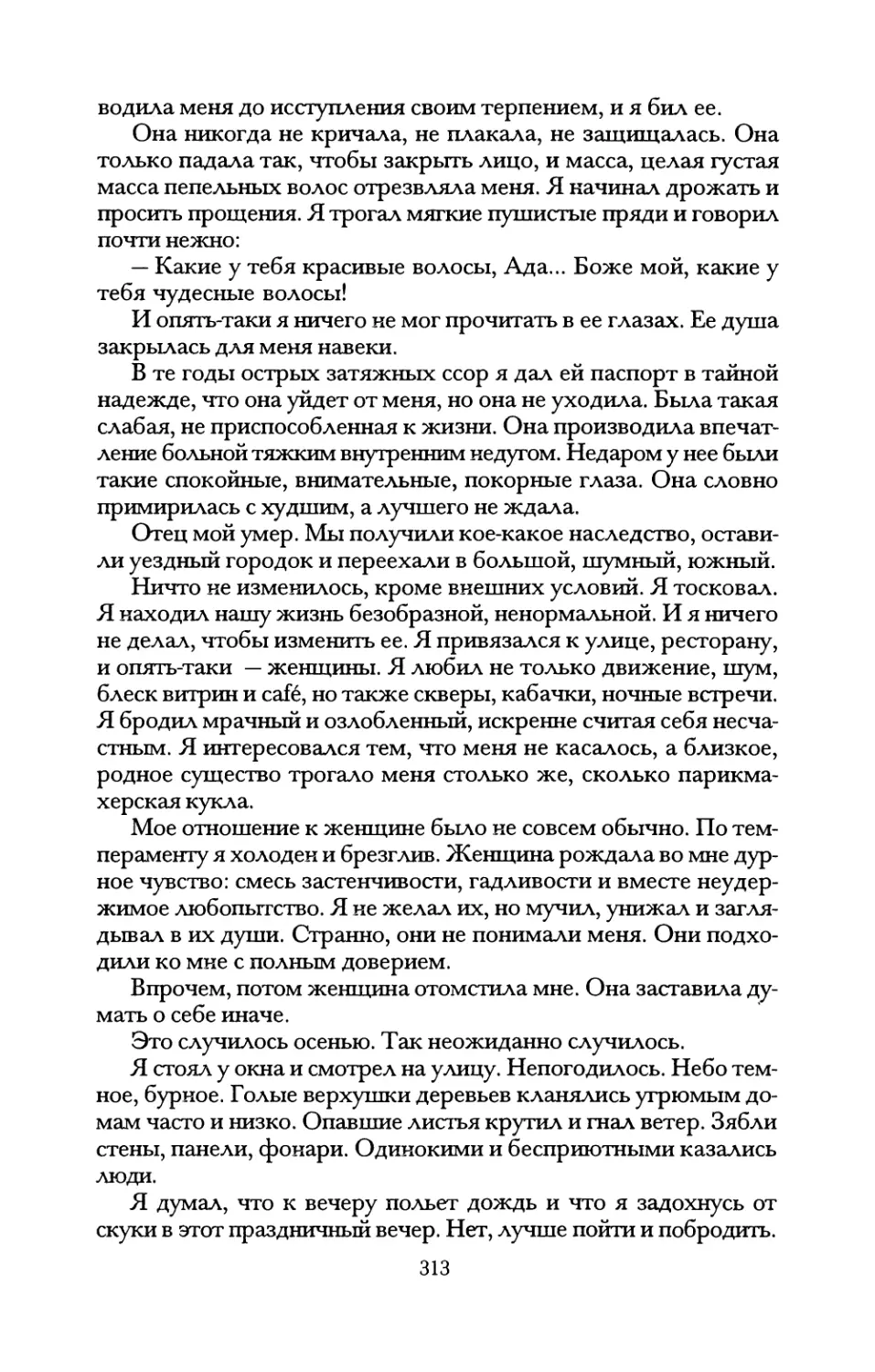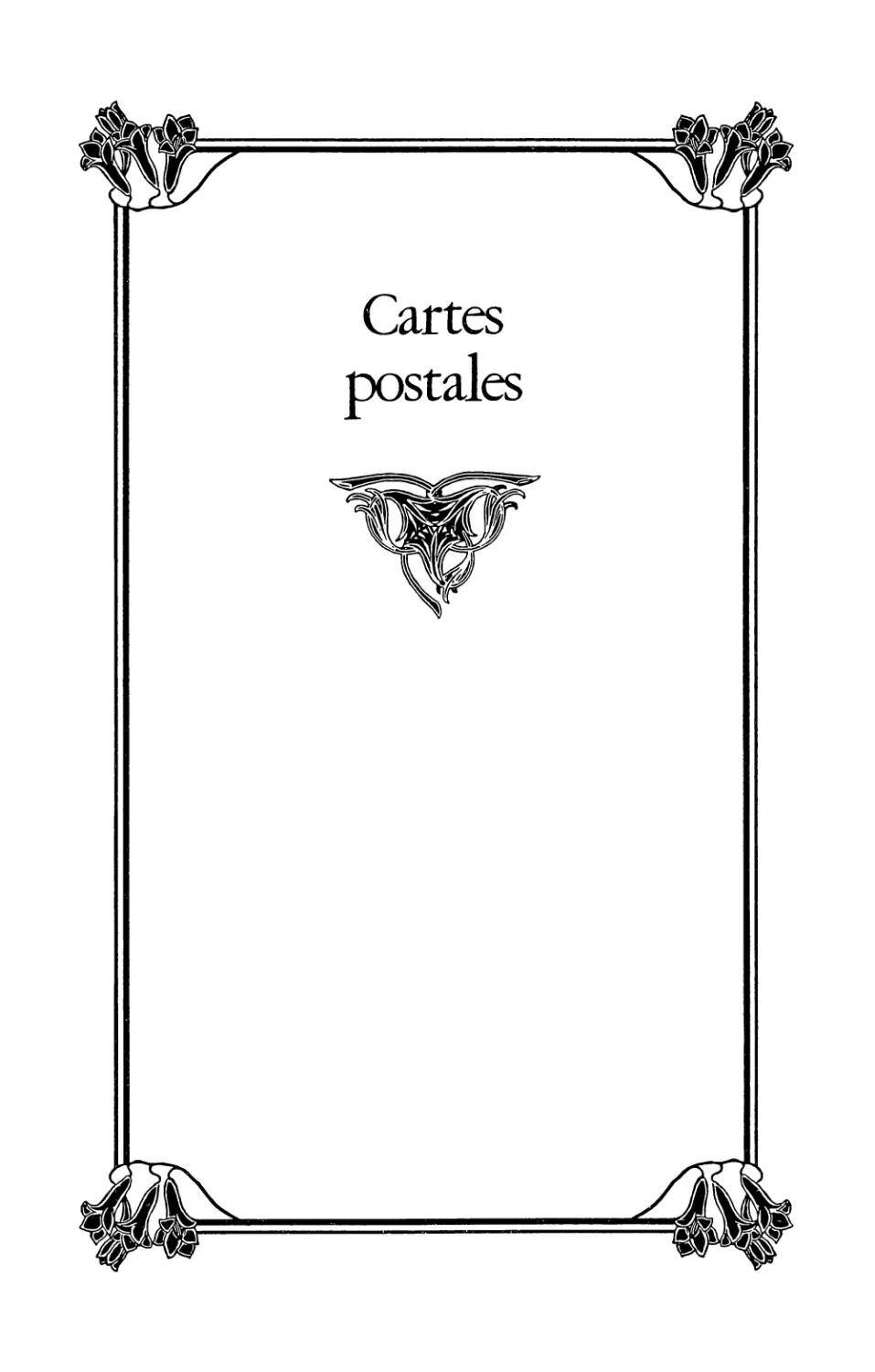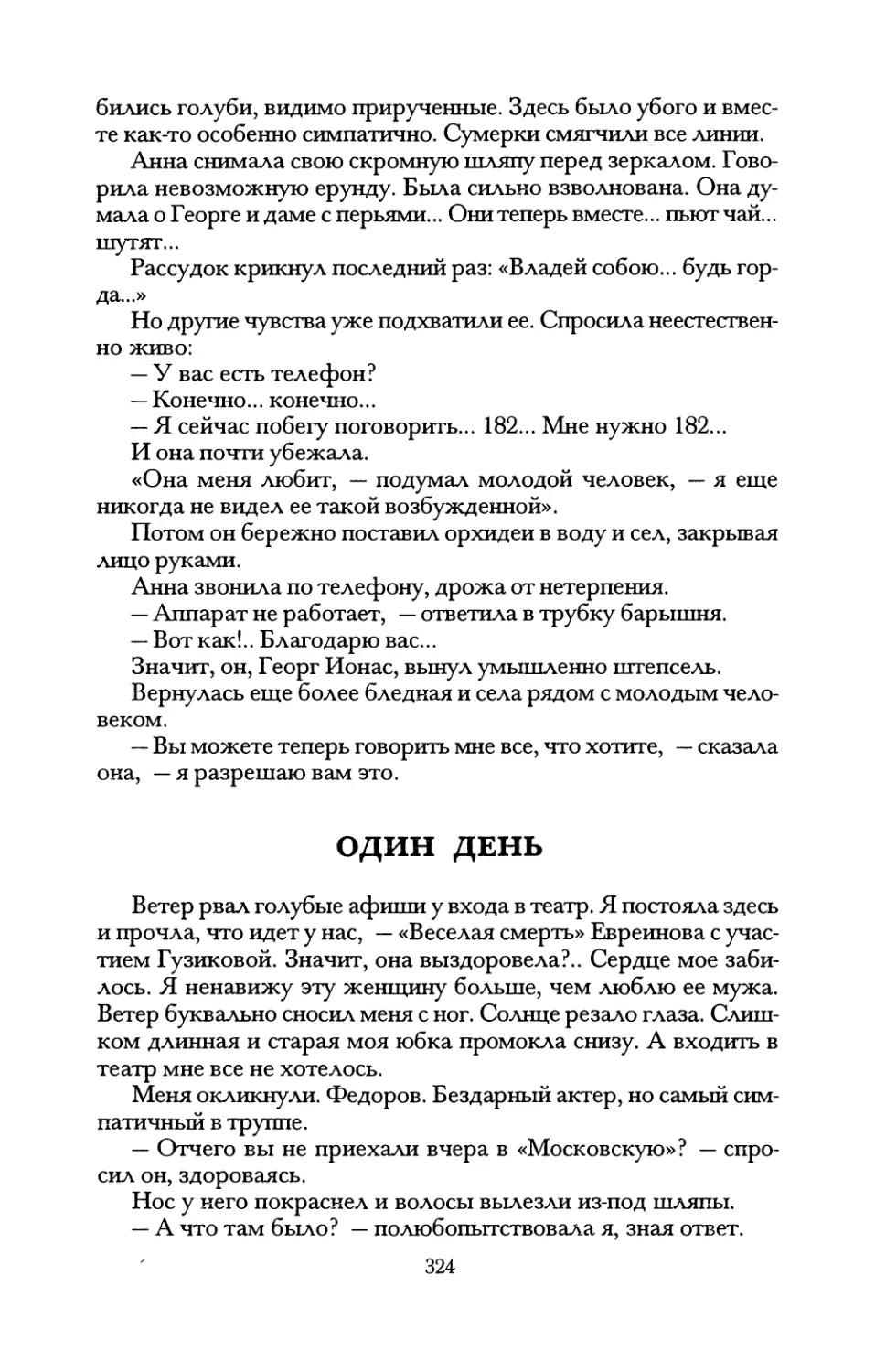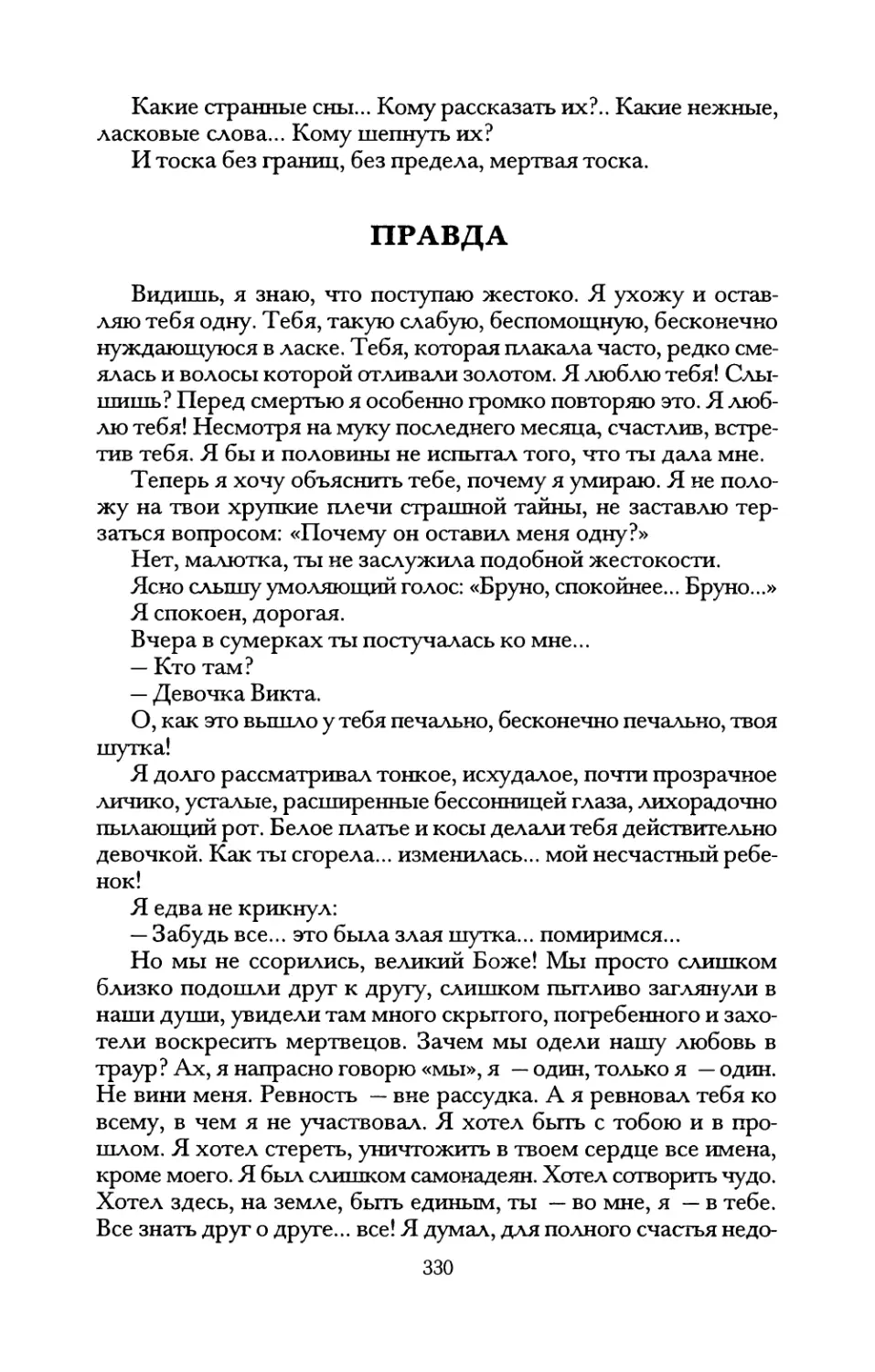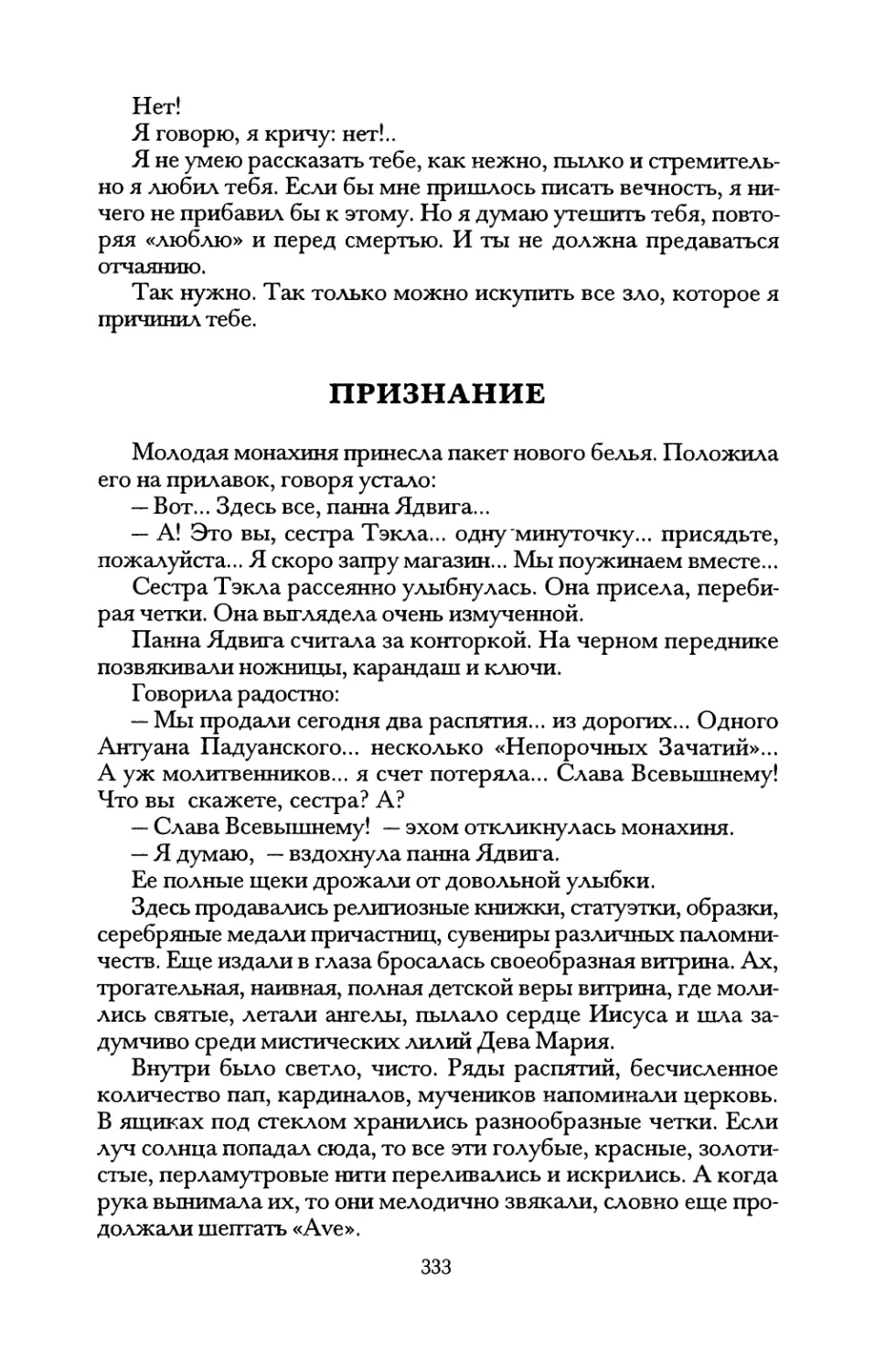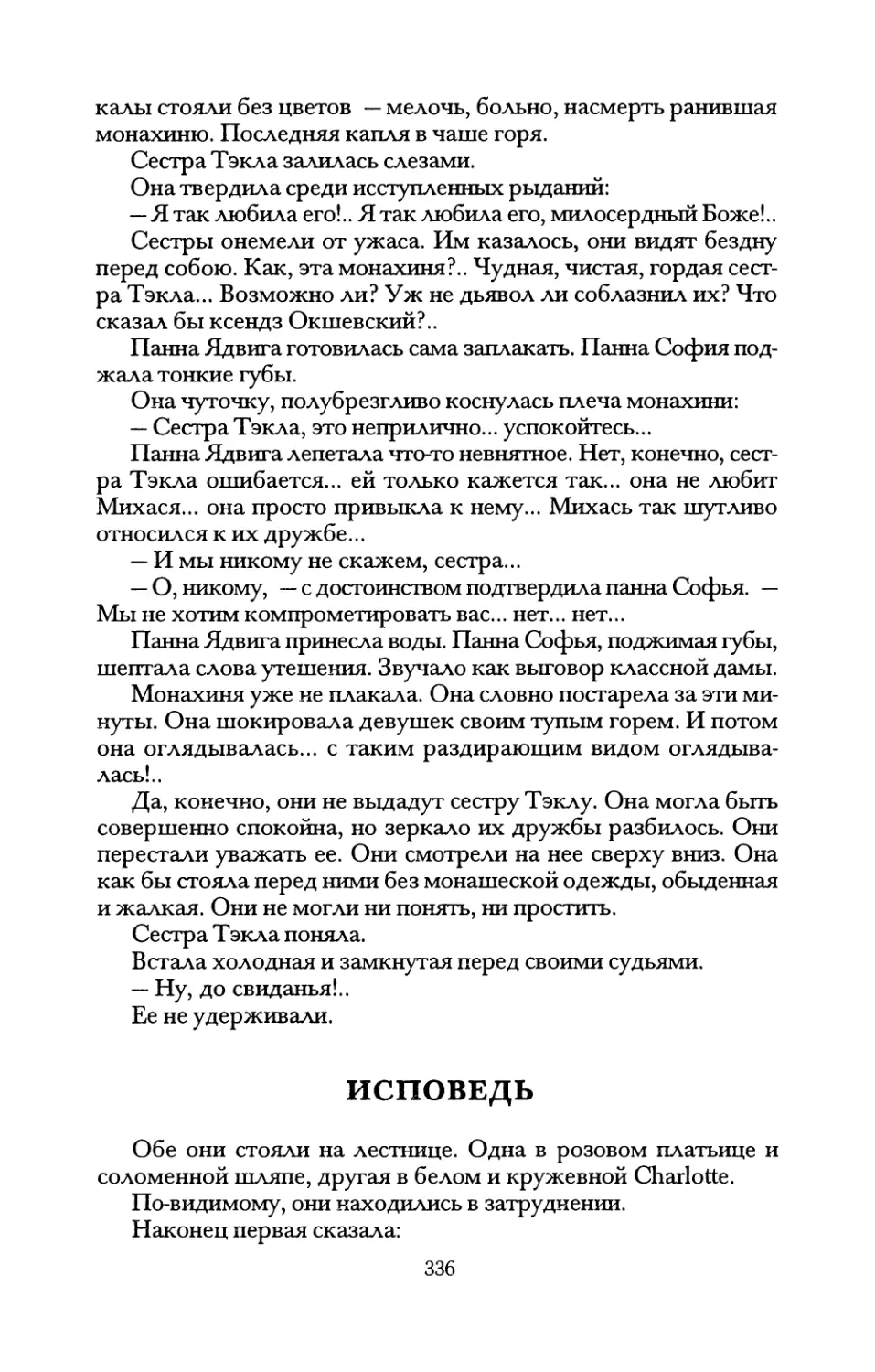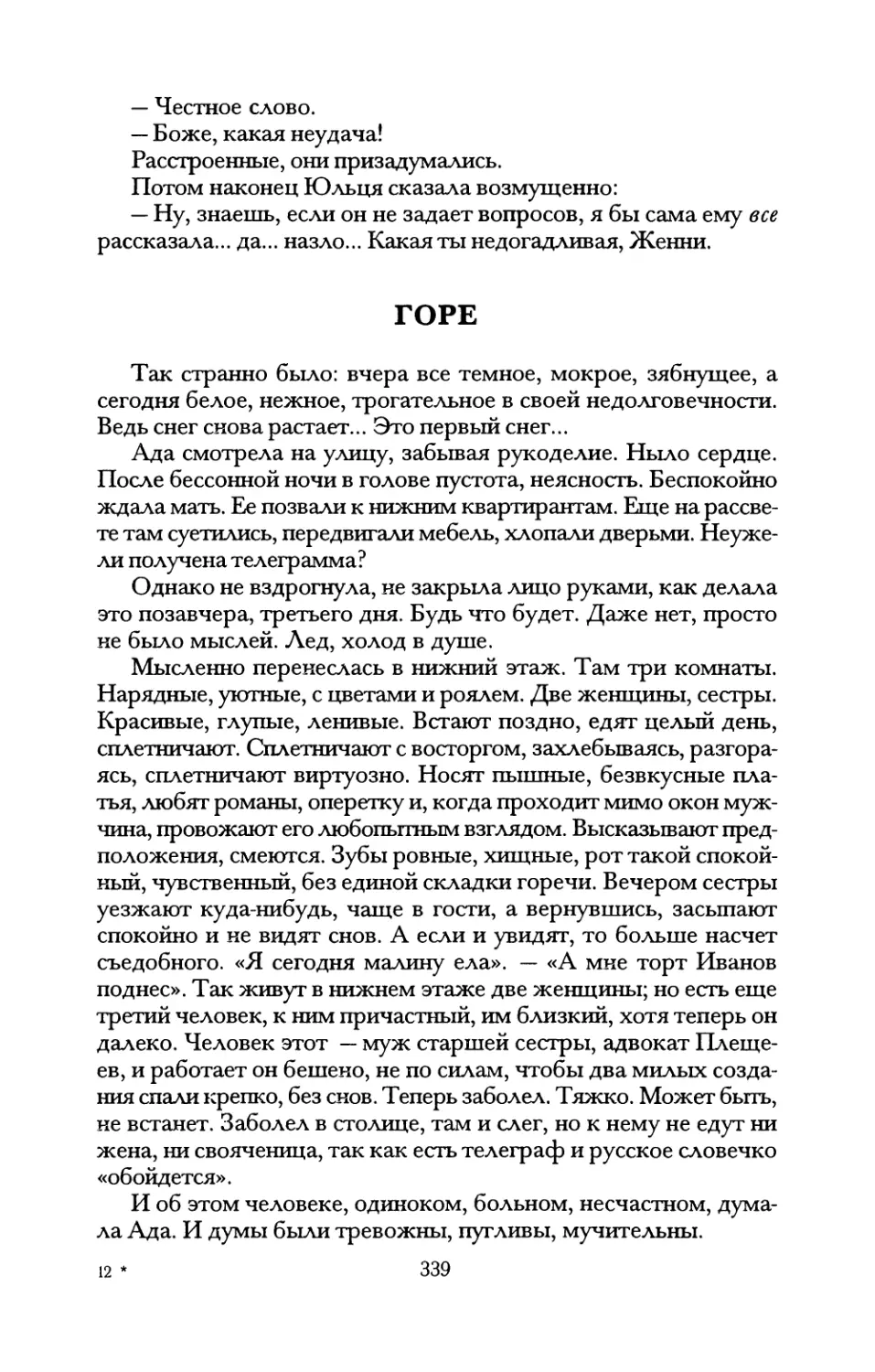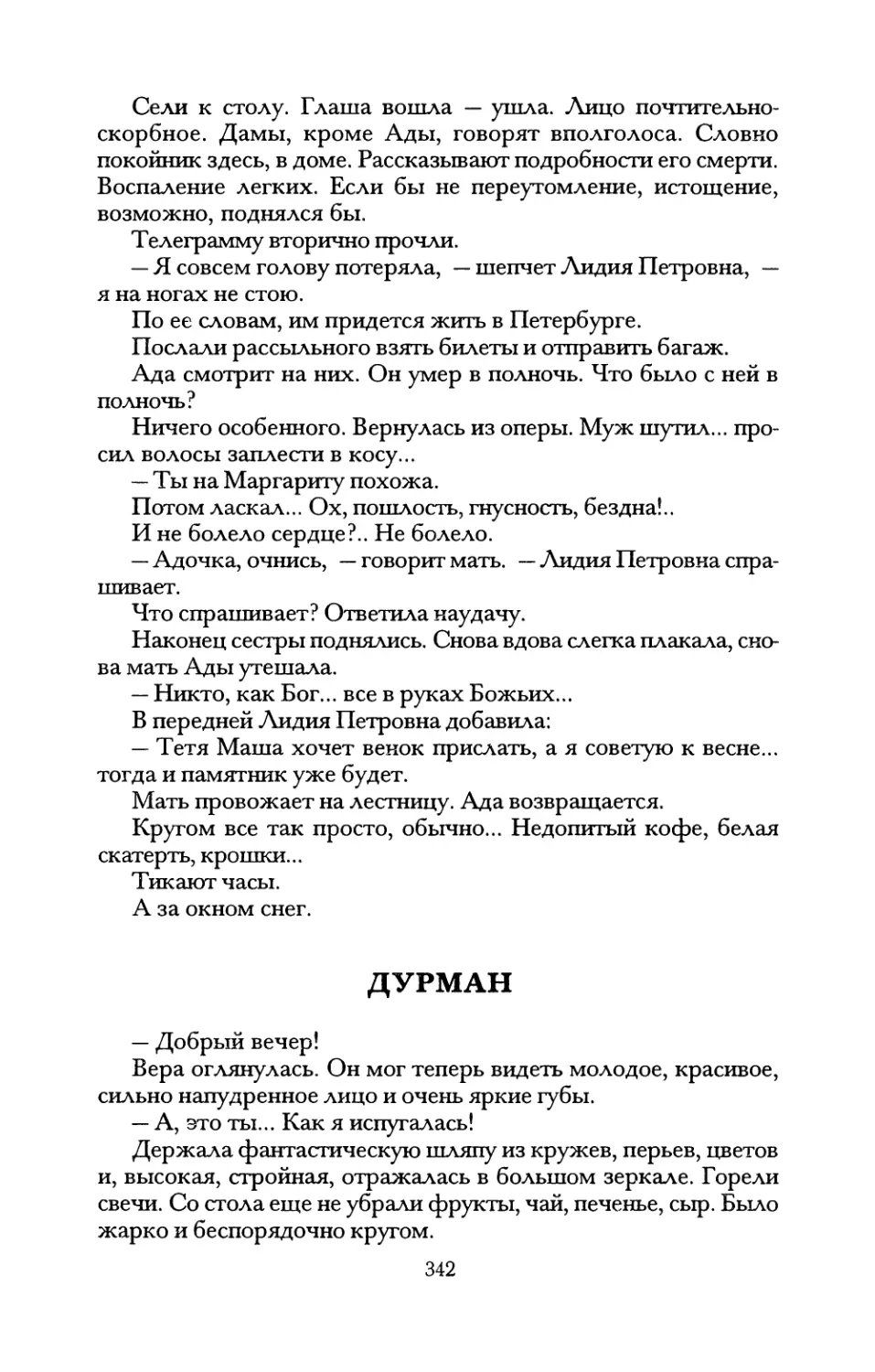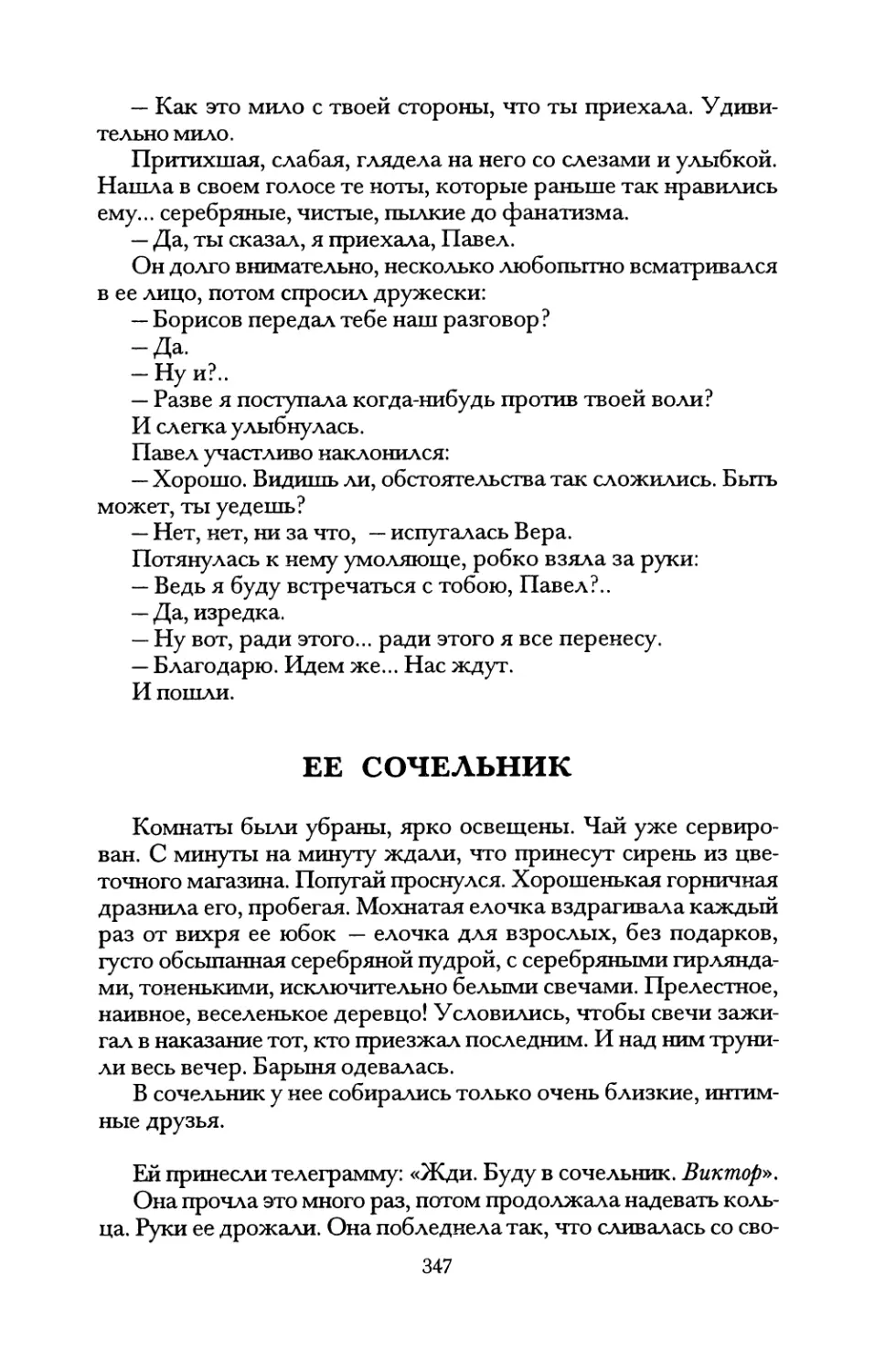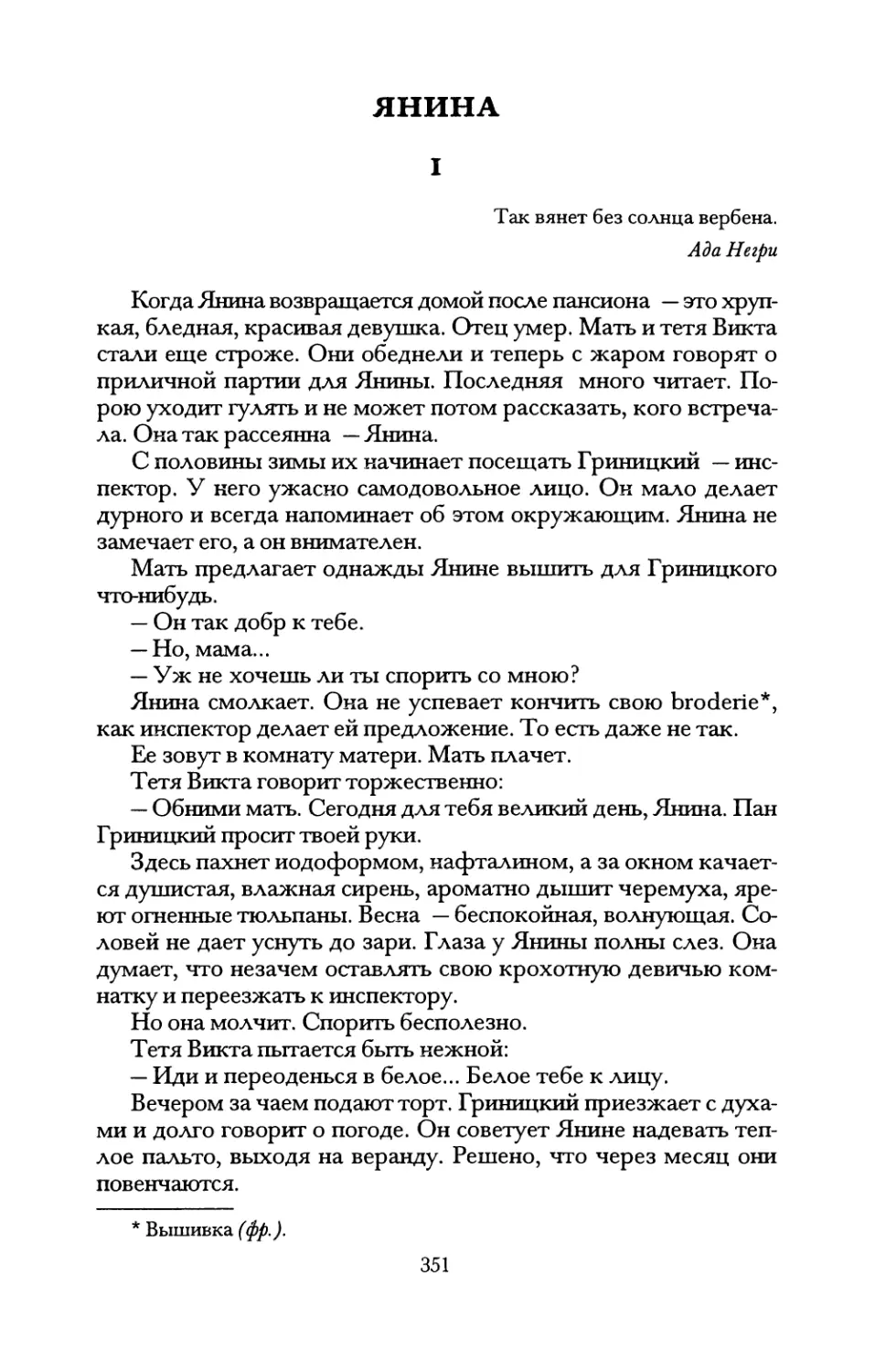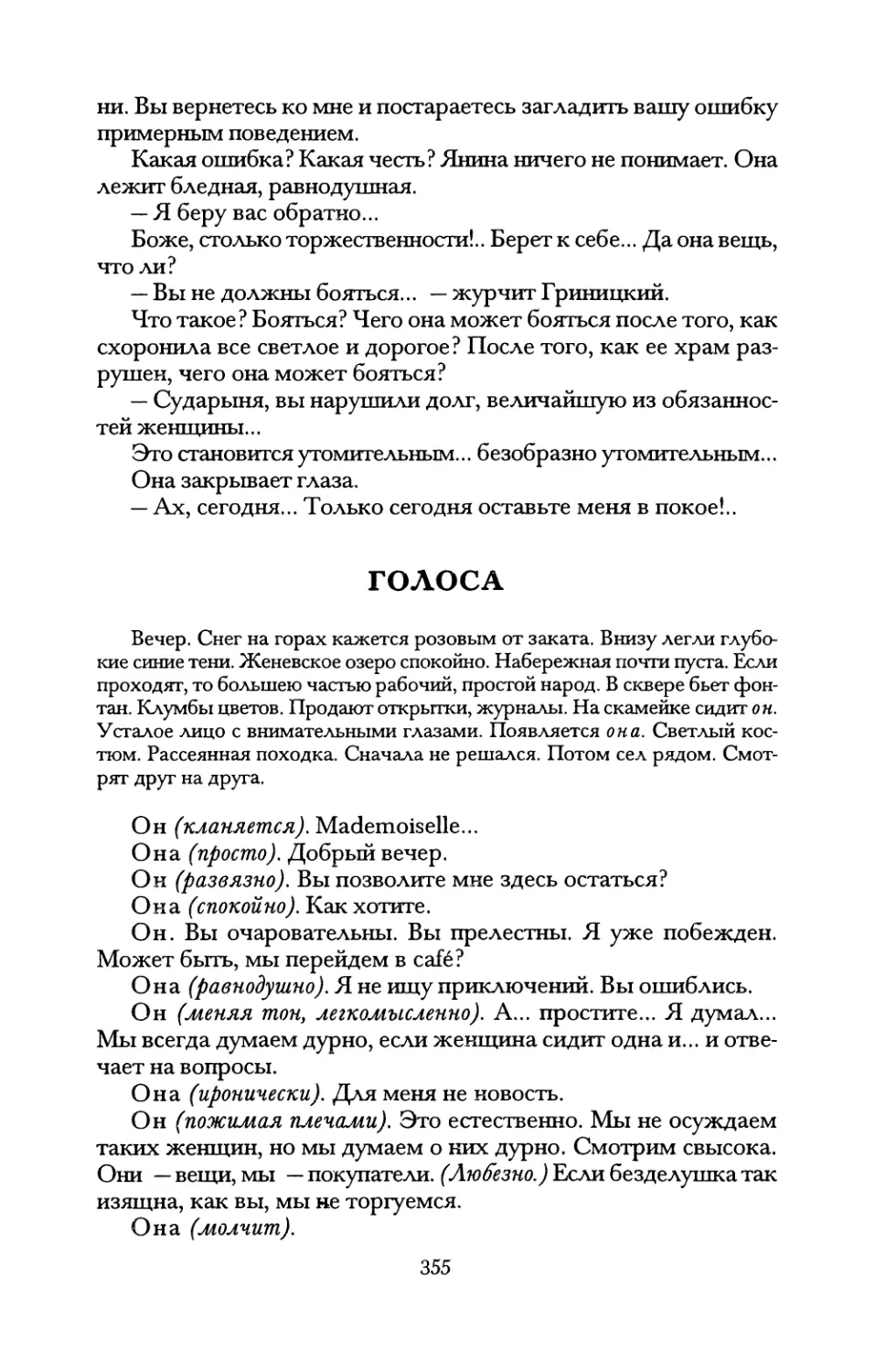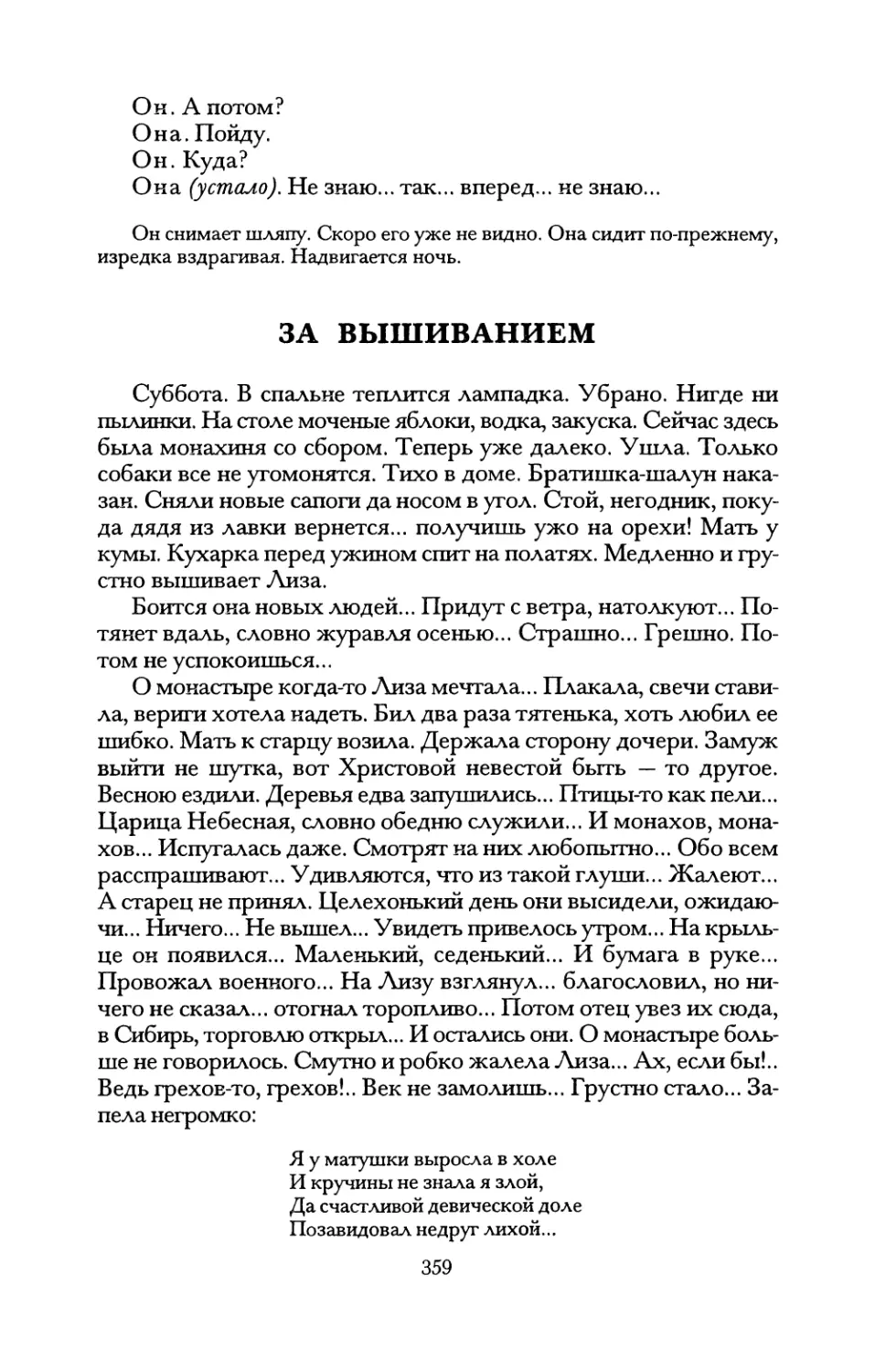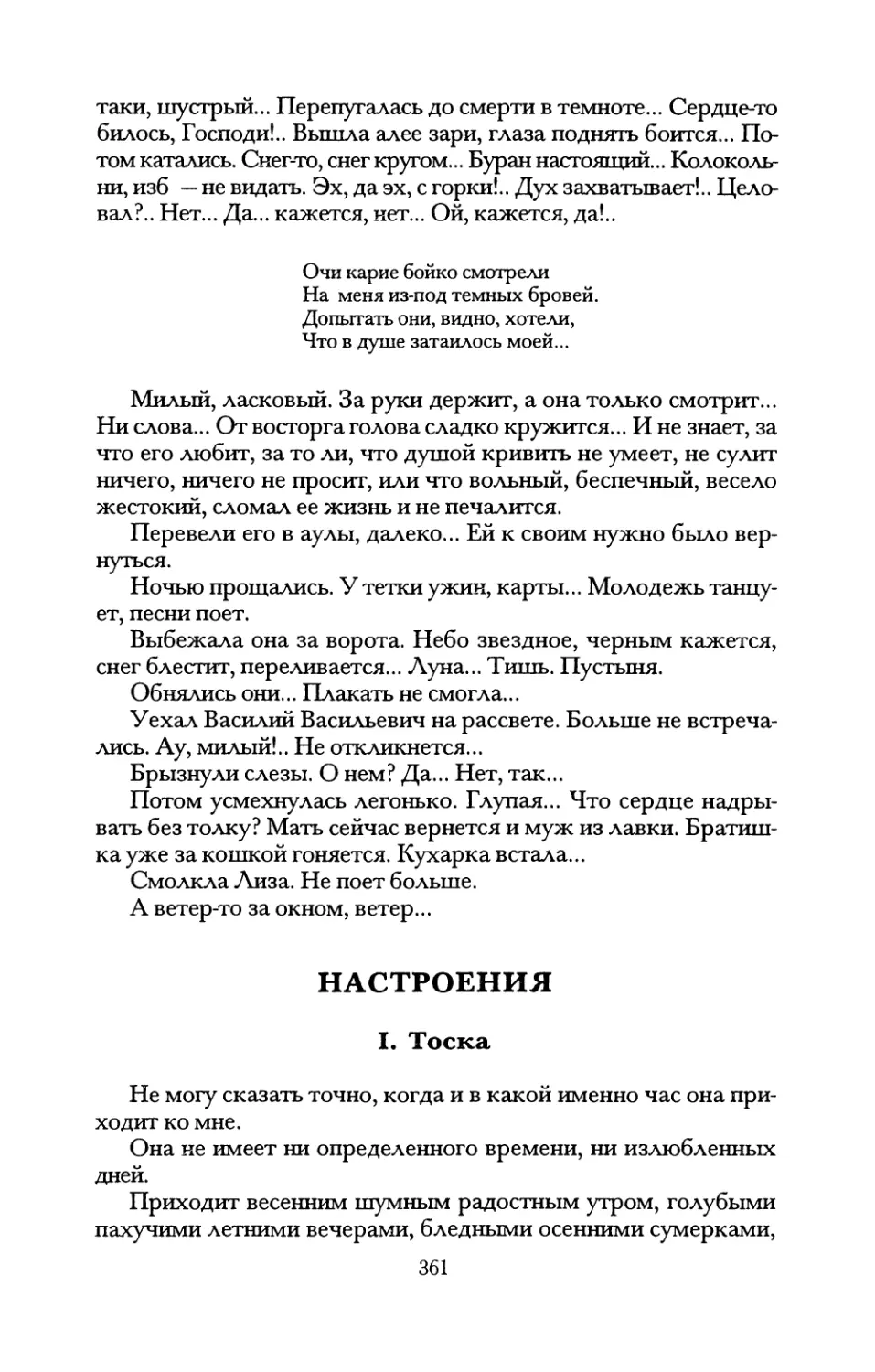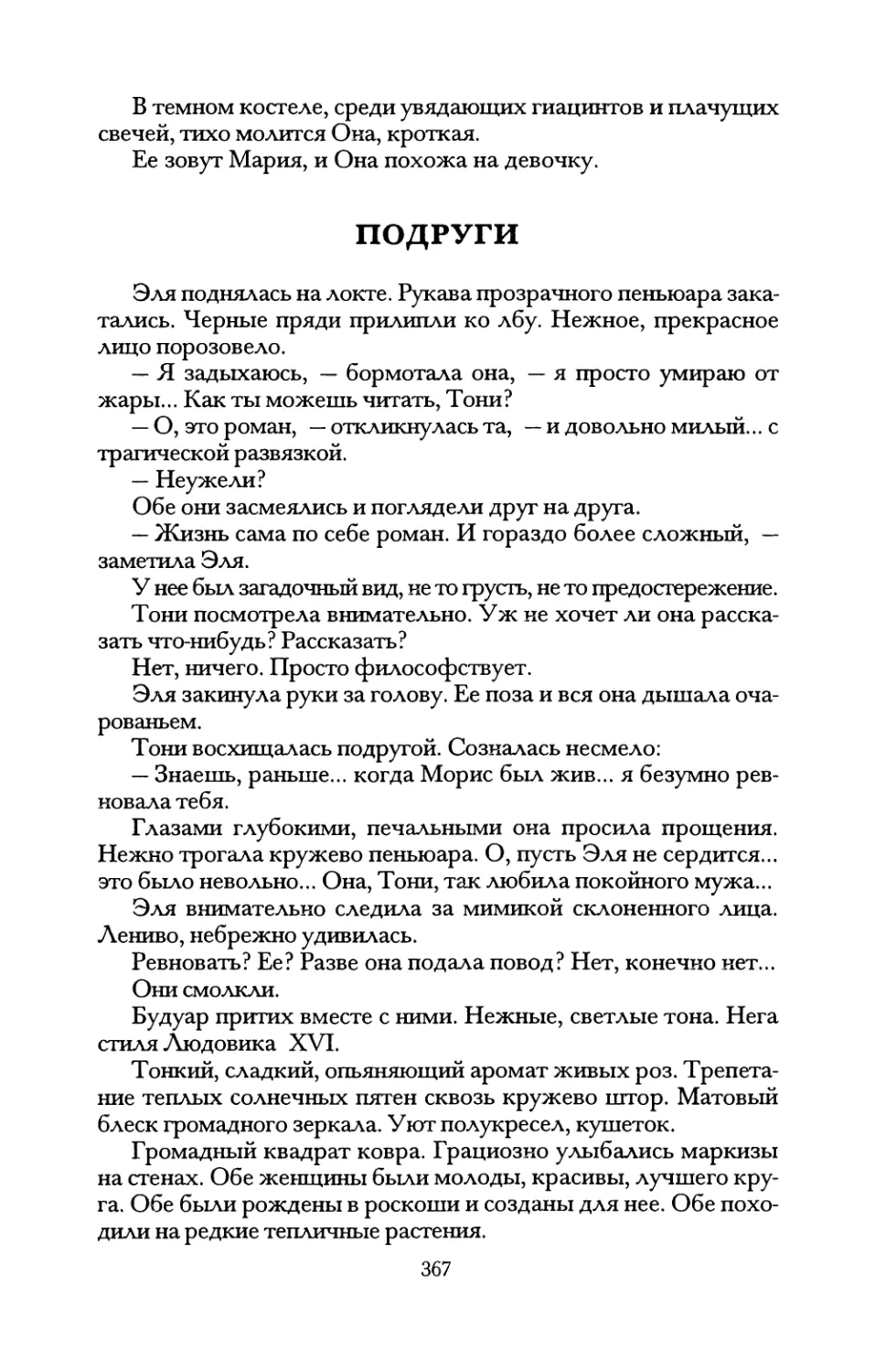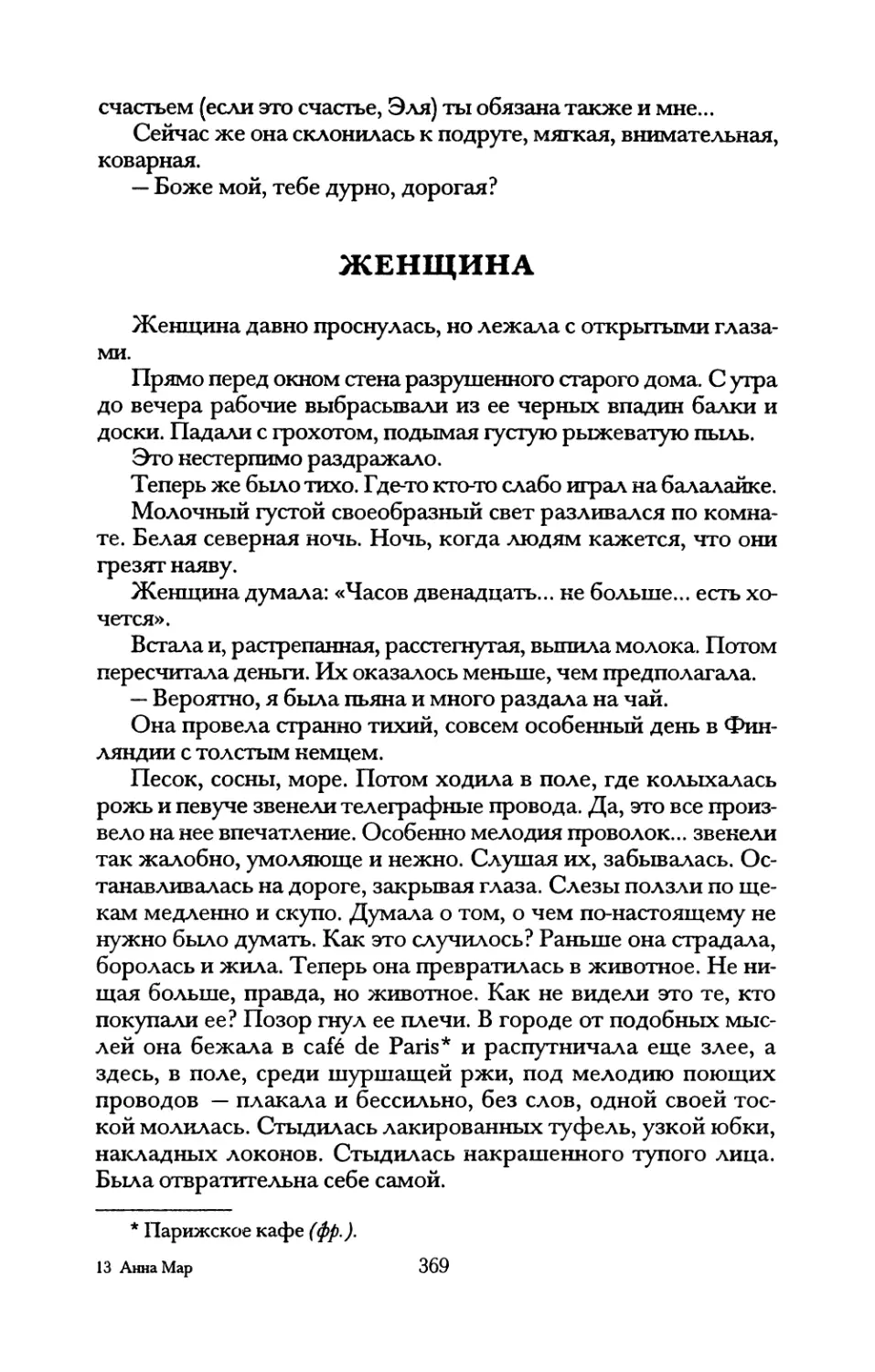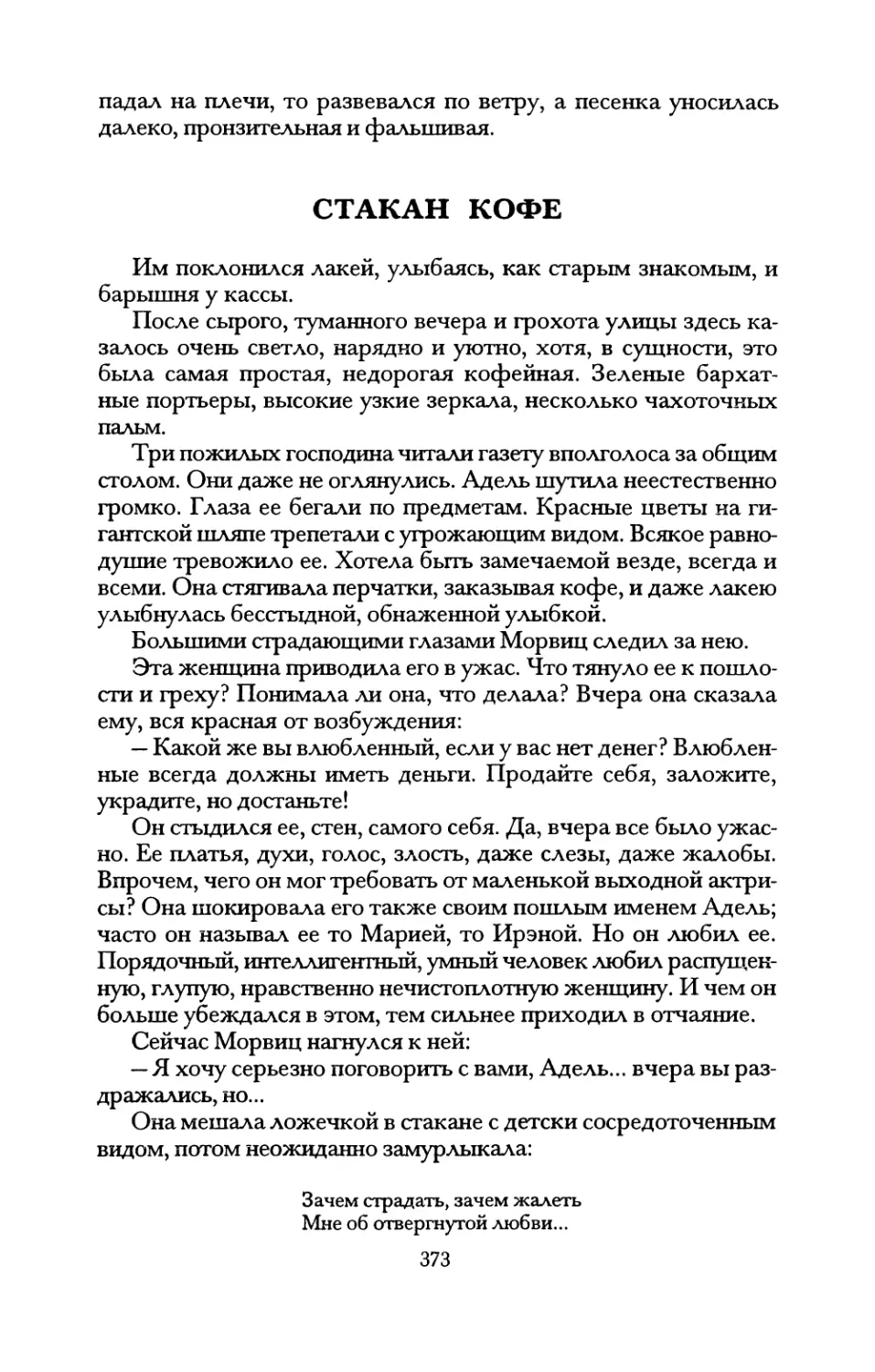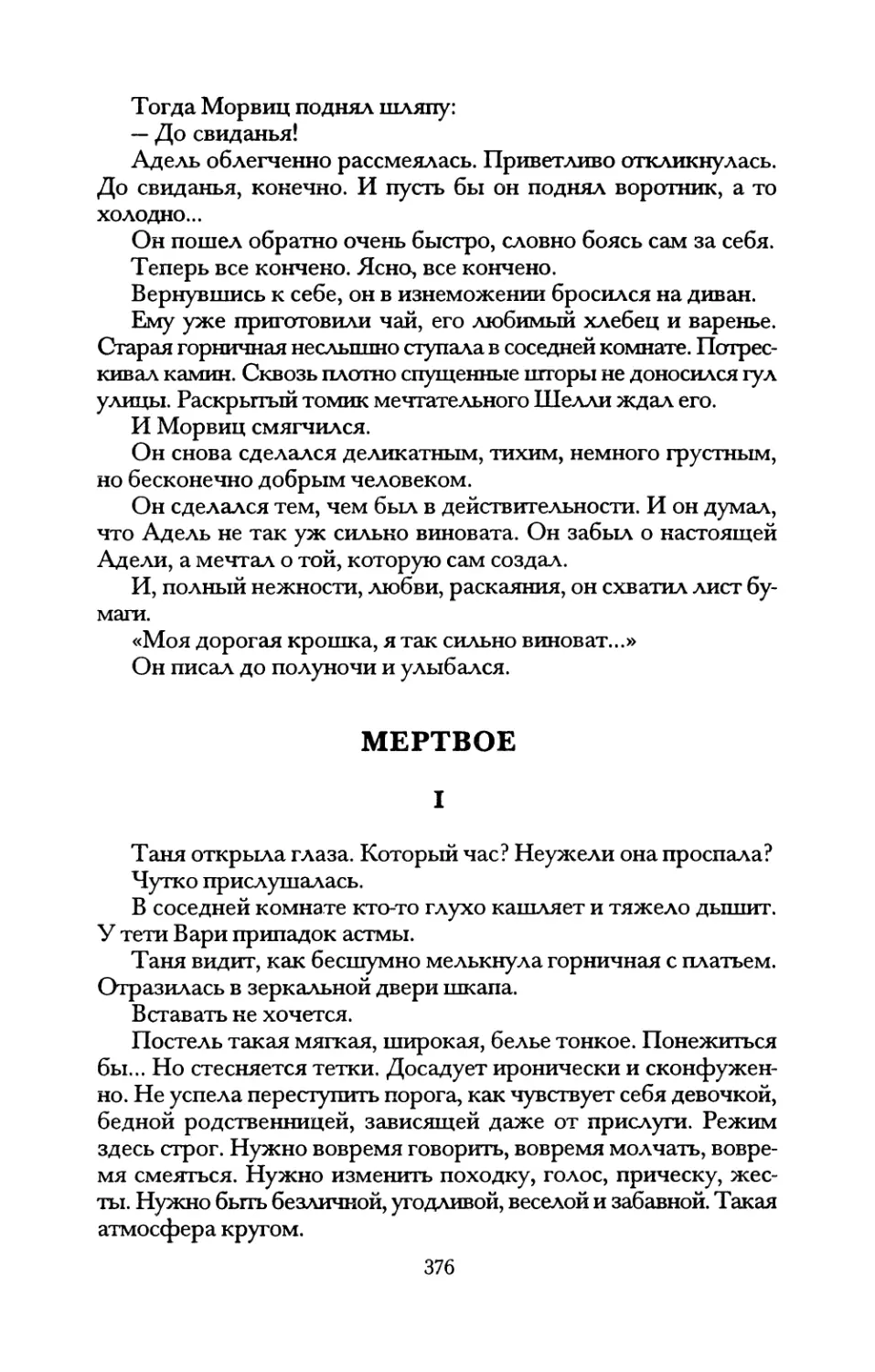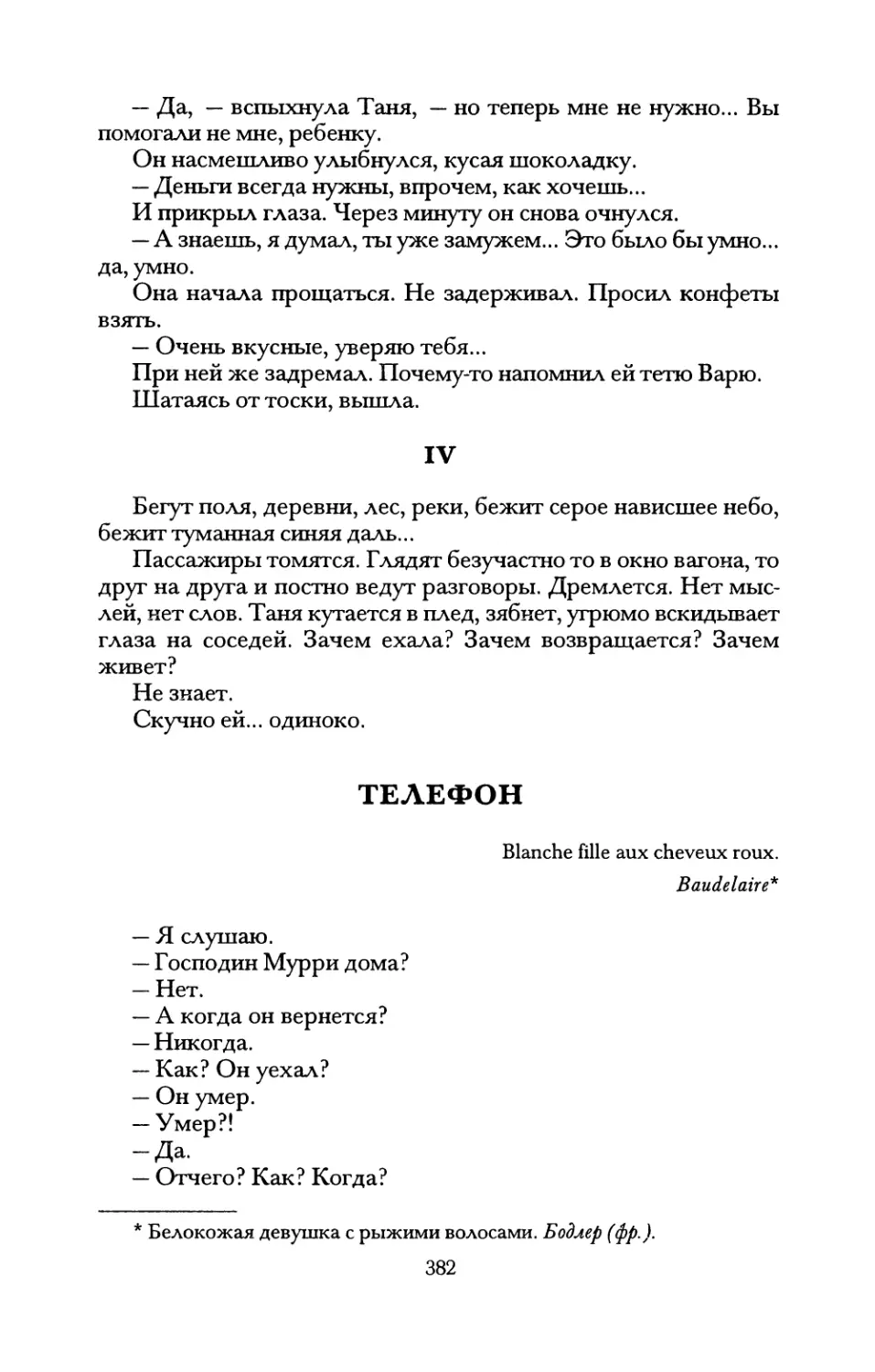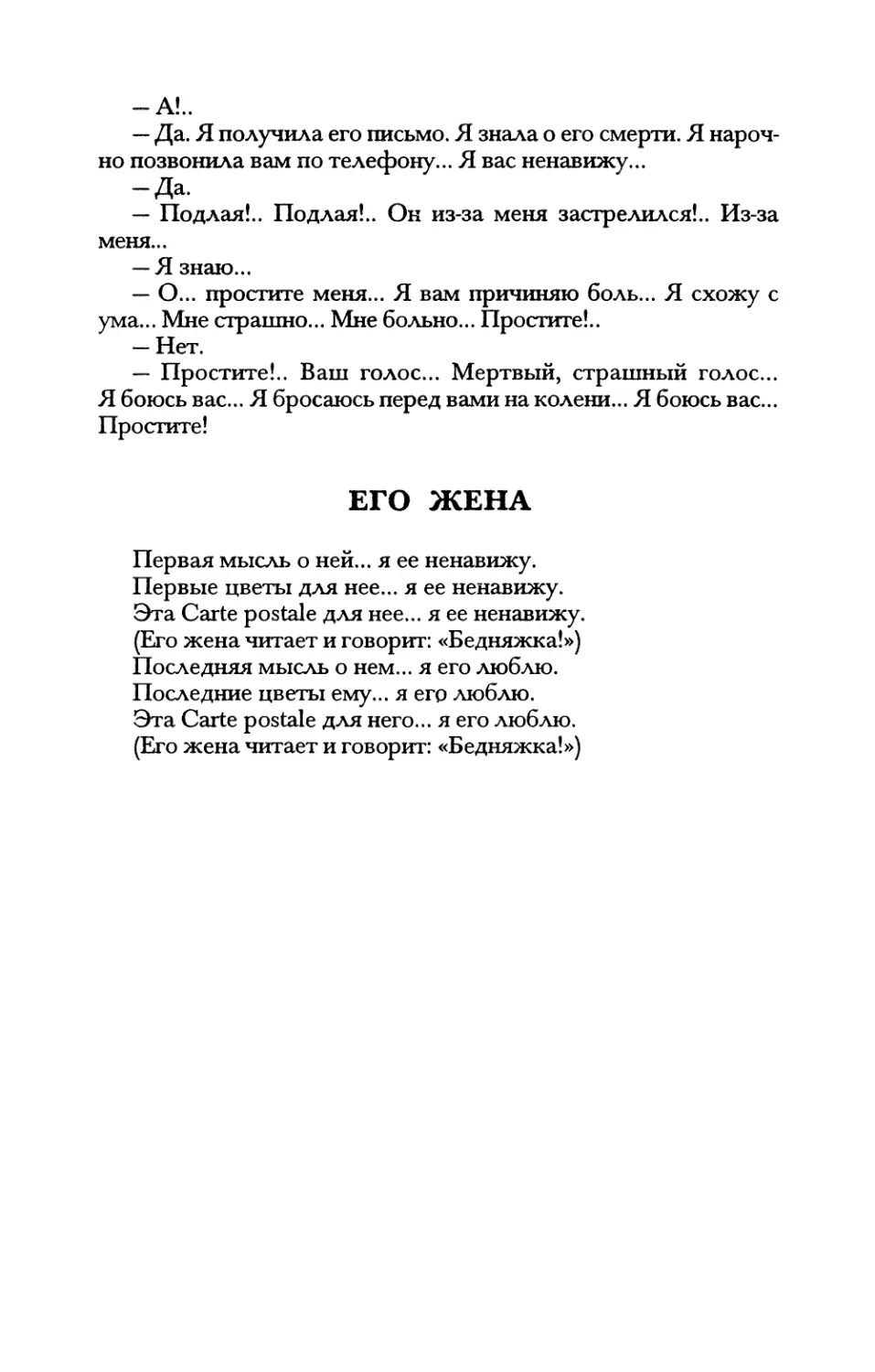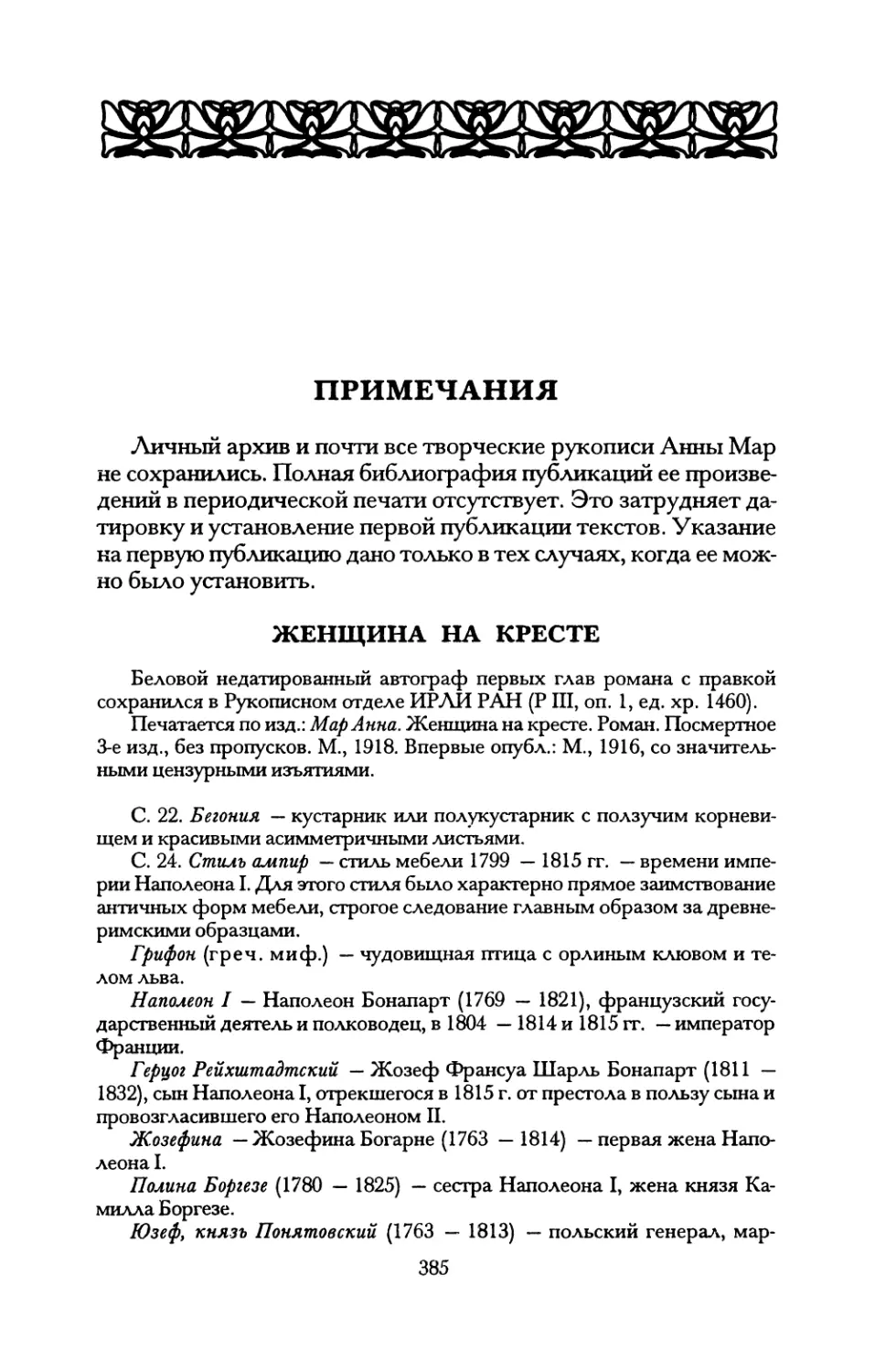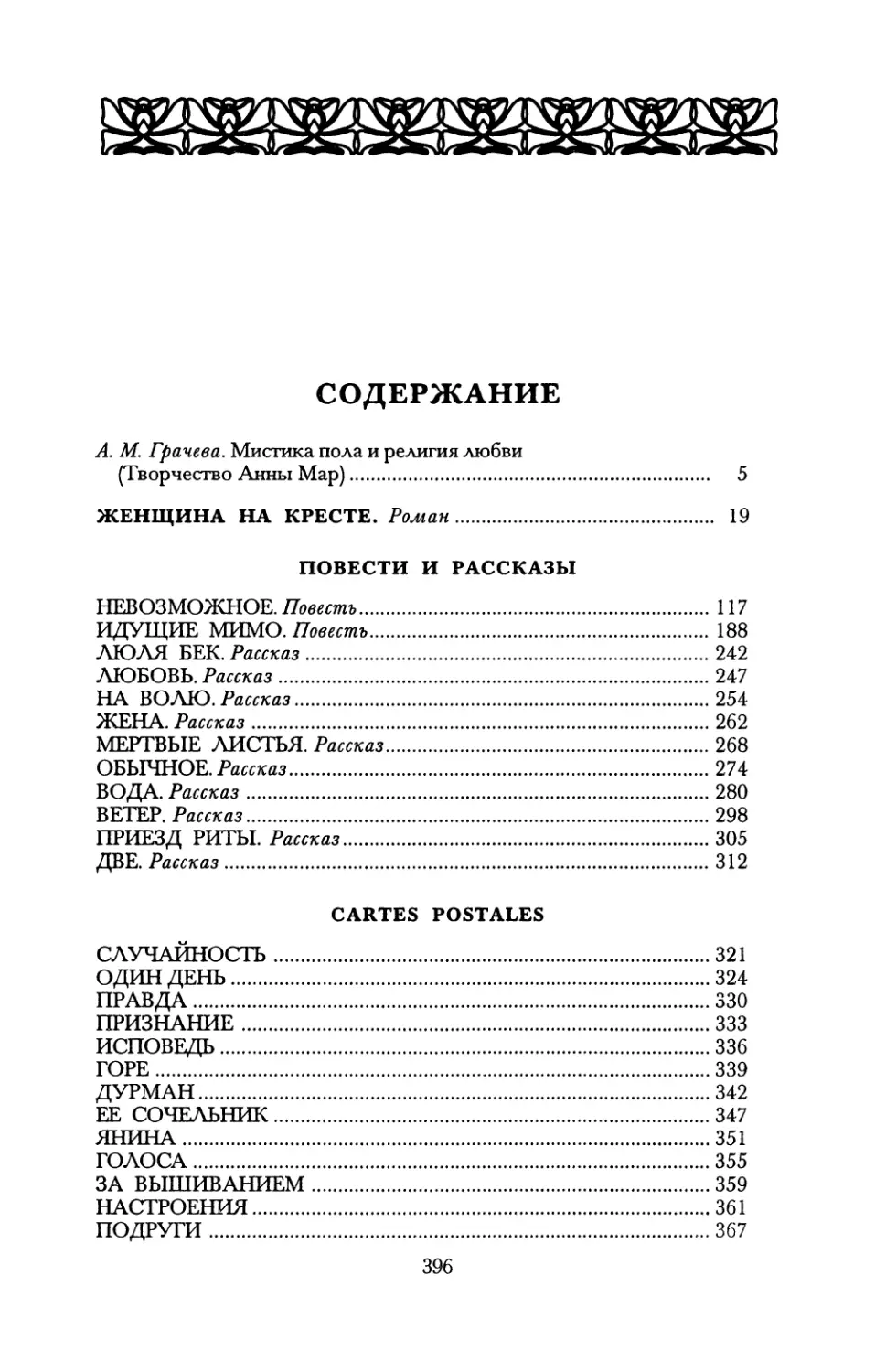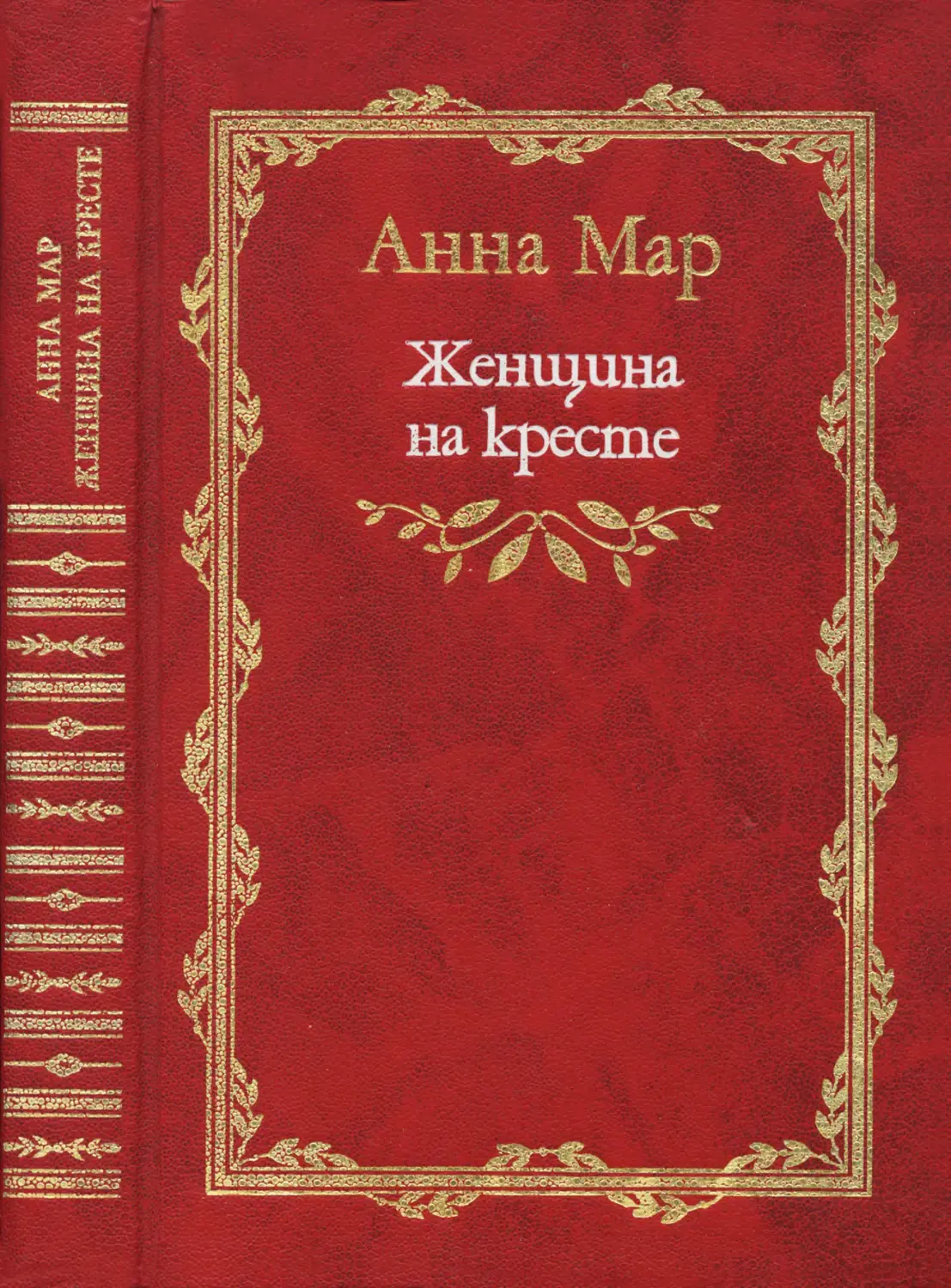Author: Мар А.
Tags: русская потаенная литература женское мировосприятие каноническая поэзия
ISBN: 5-86218-275-6
Year: 1999
Text
РУССКАЯ
ПОТАЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
-»-*£
АННА MAP
Анна Map
&Ш* säu
jf АННА MAP Ц
Жени^ина
на кресте
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛА
А. М.ГРАЧЕВА
4*>
НЙ
ллд»инр
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЛАДОМИР»
МОСКВА
Оформление серии
Д. Б. Шимилиса
© А. М. Грачева. Состав, статья,
комментарии, 1999.
ISBN 5-86218-275-6 ® Нагшоиздательский центр «Ладомир»,
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
i^sxasxaa^^
МИСТИКА ПОЛА И РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
(Творчество Анны Map)
В конце марта 1917 года многие русские газеты и журналы
поместили сообщения из Москвы, подобные нижеследующему: «В воскресенье,
19 марта, в меблированных комнатах "Мадрид и Лувр" покончила
расчеты с жизнью, приняв крупную дозу сильнодействующего яда,
талантливая беллетристка Анна Яковлевна Map. Покойная не оставила
никаких предсмертных записок и тайну своей безвременной смерти унесла с
собой в могилу. Еще в субботу вечером она заперлась в своем номере и
просила никого не принимать. В воскресенье утром ее вызвали к
телефону, но коридорная прислуга не могла к ней достучаться. ...Явился
представитель милиции, отперли дверь в номер, и глазам предстала
следующая картина: А. Я. Map лежала на диване, давно уже похолодевшая,
вероятно умершая еще накануне. На полу валялись клочки мелко
разорванной бумажки. Никаких рукописей в комнате не найдено. ...Покойной
было 29 лет»1.
Сообщение о самоубийстве Анны Map прозвучало странным и
тревожным диссонансом на фоне атмосферы радости и надежд,
сопровождавшей первые дни после Февральской революции. Почти не замечаемая
или отчаянно ругаемая в последние годы жизни, писательница
неожиданно после смерти была награждена многими похвалами, удостоена слов
сожаления об утраченном таланте. Частный факт ее смерти сразу же
был включен современниками в панораму значимых исторических
событий. Так, например, А. Вербицкая ввела подробные воспоминания о
последних днях Анны Map в свои исторические заметки о событиях
Февральской революции: «Что она хочет покончить с собой, я это знала
давно из ее собственных признаний. <...> Распродажу своего имущества и
ликвидацию своих дел она начала еще с осени. Как я потом узнала, она
собиралась уехать в Крым и там броситься в море, потому что нигде не
могла достать яда, а стреляться не решалась. И как странно помог
ей случай! А может быть, не случай... Есть только судьба. В том
самом вагоне, в котором она возвращалась в Москву, ехал военный
фельдшер. Показывая Анне Map на небольшой саквояж, он сказал ей: «Вот
здесь у меня столько яда, что хватило бы на семьсот быков. Это —
цианистый калий». — «Дайте мне!» — попросила она. Он засмеялся и дал ей
1 Утро России. 1917, 21 марта. С. 5.
5
кусочек чего-то твердого, белого (так, по крайней мере, рассказывала
она), и я не знаю в точности, какой это был яд, но этим ядом она и
отравилась»2.
Многие, кто откликнулся на печальное событие, сочли его
своеобразным знамением времени, предвестием глобальной катастрофы, грозящей
прежней России. Именно так воспринял случившееся Валерий Брюсов,
посвятивший Анне Map одну из страниц своего дневника поэта:
Сегодня — громовой удар
При тусклости туманных далей:
По телефону мне сказали,
Что отравилась Анна Map.
Я мало знал ее; случайно
Встречался; мало говорил;
Но издали следить любил
Глубокий взор с тоскливой тайной,
И, кажется, без внешних уз,
Меж нами тайный был союз.
В моей душе — тоска, тревога...
Умеют души уходить;
Зачем же мне бесцельно жить?3
Современники увидели в краткой жизни Анны Map как бы
концентрированное воплощение одной из ипостасей уходящей эпохи русской
культуры начала века. Именно в этом была заключена «мистическая тайна»
столь громкого общественного резонанса, вызванного ее гибелью. И,
приподняв хоть на немного завесу этой «тайны», можно не только вновь
открыть одно из несправедливо забытых литературных имен, но и увидеть
новые грани русского «серебряного века».
С самого начала судьба Анны Map была отмечена печатью
загадочности и рока. И ныне с трудом, по отрывочным сведениям можно
восстановить лишь некоторые вехи ее биографии.
Анна Яковлевна Бровар родилась 7(19) февраля 1887 года в
Петербурге в семье художника-пейзажиста Я. И. Бровара. Ее отец окончил
Академию художеств, где учился у М. К. Клодта, А. И. Куинджи, И. И.
Шишкина, и с 1887 года участвовал в выставках как Академии художеств, так
и Товарищества передвижников. Его талант был замечен и оценен. В 1908
и 1912 годах в Петербурге с успехом прошли две его персональные
выставки. Принадлеленость к кругу петербургской художественной
интеллигенции обусловила не только глубокое знание и понимание Анной Map
истории искусств, но и способствовала формированию панэстетического
мировосприятия. Анна Map знала несколько современных европейских
языков и латынь. Но очень скоро проявилась ранняя зрелость ее натуры и
независимость характера: в 15 лет Анна оставила родительский дом и
уехала на юг России — в Харьков. Там начался ее трудовой путь: служба
в конторе, в земстве, сотрудничество в газетах. Ей пришлось столкнуться с
2 РГАЛИ, ф. 1042, оп. 1, ед. хр. 50.
3 Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 28.
6
материальными трудностями самостоятельного существования. «Я очень
нуждалась, — говорила Анна Map, — когда жила в Харькове»4. В 16 лет
она вышла замуж, но вскоре супруги разошлись, и от брака у Анны
осталась только фамилия по мужу — Левшина. С 1904 года она стала
помещать рассказы и заметки в газете «Южный край», и тогда же появился ее
псевдоним «Анна Map».
Уже в это время были определены эстетические и духовные
ориентиры начинающей писательницы. Ими стала литература европейского
декаданса и символизма. Позднее критики, учитывая национальную
принадлежность писательницы и большинства героев ее прозы — обитателей
западных окраин Российской империи, почти всегда отмечали
зависимость стилистики и образности Анны Map от литературы польского
модернизма, и в первую очередь от прозы необычайно популярного в
России начала века Ст. Пшибышевского. Но сама писательница
категорически отрицала это, заявляя, быть может, с излишним полемическим
запалом: «Я органически не выношу Пшибышевского и вообще польскую
литературу»5.
Свободно владея несколькими иностранными языками, Анна Map
в поисках литературных «учителей» обратилась не к польской литературе
как литературе-посреднице, а к первоистокам европейского модернизма —
к французским декадентам и символистам и их предшественникам.
Бодлер, Малларме, Верлен, Гюисманс, Метерлинк — вот круг писателей, под
влиянием которых формировалась эстетика Анны Map. От французской
литературы берет истоки панэстетизм мировоззрения писательницы;
символистская многоплановость ее прозы, когда внешнее, словесно
выраженное таит в себе полисемантический подтекст; дуализм этического и
эстетического начал при господстве последнего; субъективная картина мира,
подвластного творческой воле художника; наконец, тяга к атипическому
и стремление к жизнетворчеству, к колебаниям на грани между сферами
Бога и Дьявола. Значительное влияние на Анну Map оказали также
О. Уайльд и Ф. Ницше. Именно к этим «учителям» восходит
сформировавшаяся в произведениях Анны Map модель мужского сверхтипа —
эстетически утонченного и этически не нормированного человека,
одновременно и любимого, и ненавидимого женщиной.
Если в формировании типа своего героя Анна Map следовала уже
сложившейся европейской традиции, то более своеобразным был ее поиск
модели женского сверхтипа своего творчества. Здесь она должна была
переступить как через классические типы женского идеала, выработанные
в русской литературе XIX века (и в первую очередь преодолеть сверхтип
«тургеневской девушки»), так и через устойчивые традиции изображения
женской природы как начала пассивного, тяготеющего к стабильным
формам бытия и мышления, традиции, сложившиеся в европейской мускули-
нарной литературе. В поисках первоначал Анна Map обратилась
к культуре Древнего Востока, в частности Индии, — единственному типу
культуры, где в сексуальной сфере признавалось равное активное участие
обоих полов. С этим же был непосредственно связан и выбор ею
писательского псевдонима. Она писала критику Е. А. Колтоновской: «Мой псевдо-
4 Театр и искусство. 1917. № 13-14. С. 236.
5 РО ИРЛИ, ф. 629, ед. хр. 25, л. 7.
7
ним — Map — не из Гауптмана (эта курсистка очень мне антипатична6), а из
Сутты-Нипады»7.
Названное Анной Map произведение являлось древним сборником
буддийской канонической поэзии. Большинство составляющих его
текстов — поэтические диалоги Будды с учениками. Чаще всего это рассказ —
лирическая исповедь о каком-либо эпизоде из жизни Будды — одном из
вариантов его искушения перед достижением просветления. При этом
главным антагонистом Будды представало принимающее разные ипостаси
божество Мара (букв, перев. с санскр.: «убивающий», «уничтожающий») —
персонификация зла и всего, что ведет живое к смерти. В буддийской
мифологии Мара имел множество дочерей, воплощающих сексуальные
страсти, и правил желаниями всех живущих. Превратившись из Анны
Яковлевны Левшиной в Анну Map, писательница не только заявляла
свое эстетическое кредо, но и как бы вводила саму себя в
мифологический контекст вечной борьбы желания и бесстрастия, сиюминутности и
вечности.
Как писательнице-модернистке Анне Map было присуще жизнетвор-
чество — превращение своего бытия в своеобразный «художественный
текст» — постоянно играемую драму жизни, отдельными моментами
отражающуюся в творчестве, все части которого (романы, повести, рассказы и
драма) являются, по сути, страницами единого лирического дневника
автора. Его создатель и одновременно героиня — это женщина,
противоречивая по своей природе, действующая и жаждущая подчинения,
стремящаяся к божественной чистоте и мечтающая о дьявольской сладости греха.
Мировым женским архетипом для Анны Map стал образ библейской
грешницы и одновременно любимой ученицы Христа — Марии Магдалины.
Писательница считала, что сексуальность составляет основу женского
мировосприятия и маркирует любые сверхчувственные устремления
женщины. «Почему многие женщины с чистым воображением и тонкой душой
стали проститутками? — спрашивала Анна Map и тут же сама отвечала: —
Мне кажется, это таится в известной женской погоне за любовью,
красотой, страданием. Мечта уводит их к пропасти. Падая, они думают, что
летают»8.
Еще в первых рассказах, публиковавшихся с 1904 года в газете
«Южный край», Анна Map нашла емкую художественную форму лирической
миниатюры. Позднее этот жанр она назвала «cartes postales» (почтовые
открытки). Значительная часть миниатюр первоначально была лишена
внешнего действия (фабулы), представляла собой лирический монолог
героя, в котором сюжет развивался за счет подтекста повествования.
Многие миниатюры были исповедями героев. Так, в миниатюре «О,
Будда, великий Готтама», являвшейся вольным пересказом одного из
сюжетов Сутты-Нипады, герой просил успокоить его душу, болеющую за мир, и
Будда посылал ему нирвану — забвение. С ранних произведений одной из
центральных проблем творчества Анны Map стала проблема отчуждения.
Все ее персонажи, как правило, одиноки, даже если формально они как-то
6 Имеется в виду Анна Map — героиня драмы Г. Гауптмана «Одинокие»
(1891).
7 РО ИРЛИ, ф. 629, ед. хр. 25, л. 7об.
8 Женская жизнь. 1914. № 3. С. 14.
8
и связаны друг с другом. Другой лейтмотив произведений составила тема
смерти и самоубийства. При этом поразительной чертой жизнетворчества
Анны Map является двойное и даже тройное «проигрывание» ситуации:
сначала в жизни, затем в искусстве или сначала в творчестве, затем в
жизни и снова в творчестве. Так, сюжет самоубийства героини, прежде
чем обернуться трагической реальностью, был неоднократно «обыгран» в
произведениях Анны Map. Еще в раннем рассказе «Дилемма» героиня —
образованная, но «падшая» женщина — принимает яду и один из ее
знакомых так оценивает ее самоубийство: «Мое же мнение, пани Ева поступила
так, как этого требовал долг. Она дошла до Рубикона, эта Нана с сердцем
ангела. Она в жизни хотела разрешить неразрешимую загадку —
сочетания высших запросов чувства и души с похотливым удовлетворением не
менее, если не более законных требований плоти. Ей все казалось, что вот-
вот явится кто-то и перерубит ее узел сомнений опытной, смелой рукой.
Такой герой не явился. Она устала ждать. И, верьте, на этот раз она была
хладнокровной и много думала перед рюмкой морфия»9. А одним из
последних отражений этой же темы стала миниатюра 1916 года «Тень» —
монолог посторонней, рассказывающей о женщине-самоубийце: «Нелли
умерла вчера, совершенно неожиданно. Может быть, она хватила опиума
вместо лекарства? Я ничего не знаю. <...> Ирония мешала ей жить и
работать. Она обладала огромным терпением, деликатностью и, не умея
ненавидеть, умела презирать. <...> Она сказала мне в минуту болтливости, что
всю жизнь ее терзали две жажды — тоска и любовь. Она не насытила ни то,
ни другое, хотя сменила много мужчин — без особой застенчивости. <...>
Я подозреваю, что выбор ее книг вертелся около эротики самой
необычайной окраски, поэтому она перестала понимать ясное, простое и умерла без
толку в тридцать лет»10. Подобное циклическое возвращение одной и той
же темы, материализующейся в реальность, было характерно для прозы
модернистов.
После нескольких лет жизни на юге Анна Map вернулась в Петербург,
где бедствовала, а в 1912 году переехала в Москву. В ее биографии
существует много пробелов, которые можно восполнить лишь очень пунктирно.
Так, известно, что в детстве Анна Map была крещена по православному
обряду, но впоследствии приняла католичество. Это вероисповедание
привлекло новую адептку эстетизированной обрядностью и присущим ему
интимно-мистическим характером общения верующего с Богом. Однако
возможно, что приобщению к католицизму способствовало и личное
чувство — пережитая Анной Map любовь к католическому священнику.
Реальная страсть стала основой нового, уже эстетического переживания в
повести «Невозможное» (1911) и в романе «Тебе Единому согрешила» (1914).
Героиня повести «Невозможное» Тереза осознавала как чаемое, но
недостижимое свое стремление соединить возвышенную любовь к ксендзу
Ганушу и плотские желания своего тела. В этом произведении на примере
историй разных героев повторялась одна и та же идея о несоединимости
земного и небесного. Тереза любила ксендза, но была вынуждена
отдаваться другим; литератор Заневский мечтал об идеальной любви, но
пренебрег ею, не узнав ее в обличье «падшей» Ирэны. Прежние нравственные
9 Map Анна. Миниатюры. Харьков, 1906. С. 25.
10 Map Анна. Кровь и кольца. 2-е изд. М., 1916. С. 119.
9
ценности оставались еще незыблемыми в этой повести, но уже был
поставлен вопрос об их праве на существование, так как они приводили людей
лишь к утрате надежд на счастье.
Повесть «Невозможное» была замечена критикой, воспринявшей ее
как серьезную художественную заявку молодого автора. «Анна Map —
психолог истерзанной женской души», — писал критик Л. Владимиров и
добавлял, что творчество писательницы, «далеко не лишенной дарования,
уходиттеперь всецело на изображение истерики женской души.
Это у Анны Map — самодовлеющая цель ее работы. Это —
положительная ошибка»11. Рецензент «Московской газеты» отмечал, что «какой-
то отдаленный отзвук Неточки Незвановой слышится в женских типах
г-жи Map, когда их поставишь рядом с ликующими вакханками из
произведений Вербицкой, Нагродской, Щепкиной-Куперник и других модных
беллетристок. <...> В повести обнаружилось несомненное литературное
дарование автора, <...> лежит печать правды и жизненно, быть может, даже
субъективно пережитой душевной катастрофы»12. Перечислив достоинства
новой повести, критик Боане приходит к выводу, что ее недостатки
проистекают от молодости писательницы, «чувствуется, что сам автор еще
"мятется"»13.
Тема униженных и оскорбленных стала главной в повести «Идущие
мимо» (1913), являвшейся художественным воспоминанием о годах
петербургских мытарств Анны Map. Вероятно, название повести восходит,
как это было неоднократно, к начальным строкам стихотворения ее рано
умершего друга — поэта Виктора Гофмана «Ушедший»: «Проходите,
женщины, проходите мимо. // Не маните ласками говорящих глаз. // Чуждо
мне, ушедшему, что было так любимо.// Проходите мимо. Я не знаю вас»14.
История душевных страданий и безнадежной борьбы за
существование молодой женщины Магды являлась женским вариантом судьбы
бедного разночинца — одного из излюбленных сюжетов петербургского
периода русской литературы. В повести сознательно использован знакомый по
литературе XIX века эмблематический антураж Петербурга (белые ночи,
углы, ночные рестораны и т. п.), вводящий тему города-фантома,
разбивающего надежды. При этом новую жизнь получили многие приемы,
ставшие к началу века уже литературными штампами, когда они были
применены в их необычном, «женском» варианте. Так, ставший литературным
клише сюжетный мотив, когда герой белой ночью встречает на улицах
бредущих мимо падших женщин, неожиданно зазвучал свежо, когда он
перевернулся в сознании героини, влившейся в ряды падших, в обратную
картину: «Никогда еще не видела она так ясно свою душу. <...> Сколько
предстоит еще подобных часов, часов томления, ожидания, бесплодной
тоски и сожалений! Сколько еще встретится мужчин, которых минутный
каприз бросит к ней на время и которые пройдут мимо, не задерживаясь»15.
Вечное отчуждение и одиночество представали в повести Анны Map как
постоянные константы женского существования.
11 Утро России. 1912, 17 марта. № 64. С. 6.
12 Московская газета. 1912, 13 февр. № 175. С. 5.
13 Дамский мир. 1912. № 7. С. 28.
14 Гофман Виктор. Собр. соч. Т. 2. М., 1917. С. 100.
15 Map Анна. Идущие мимо. М., 1913. С. 84.
10
Большинство критиков высоко оценили повесть, поставив ее в контекст
современной русской женской литературы и подчеркнув выделяющееся на
этом фоне художественное мастерство автора и самобытность тематики.
«Женская литература, — писал Е. Шатов, — явление последних дней.
Писали, конечно, женщины и раньше, но их литературная работа текла по
общему руслу творчества, и не было речи об особой женской литературе. Иное
дело теперь. Образуется как бы особый уголок в литературе <...> вносящий
в трактовку знакомых положений особые оттенки — с преобладающим
интересом к женской судьбе, к женским волнениям, к женским горестям и
радостям»16. Ему вторила рецензент С. Заречная: «Было время — и оно не так
далеко от нас, — когда уже в самом выражении "женская литература"
крылся приговор этого рода творчеству. <...> Талантливейшие женщины
старались писать как мужчины. В лучших, редких случаях это им
удавалось. Менее талантливые грешили сентиментализмом и фальшивой
возвышенностью. <...> И только в самое последнее время появился новый тип
писательницы, ищущей самостоятельных женских путей творчества. <...>
Не много писательниц этого нового типа. <...> У нас в России отмечу
талантливую молодую поэтессу Анну Ахматову и беллетристку Анну Map»17.
Подробный и доброжелательный разбор повести был сделан А. Горнфельдом,
отметившим, что у Анны Map все произведения — «один рассказ, один
сюжет, один герой, вернее — героиня. «Идущие мимо» — это хорошее
определение сюжетов г-жи Map. В центре ее рассказа всегда одна женщина. <...>
А кругом — "идущие мимо" мужчины, взятые автором в аспекте
чувственности, то гонящиеся за женщиной, то преследуемые ее желанием, но в
основе — чуждые глубинам ее душевной жизни. <...> И ряд вариантов этого типа
<...> дан г-жой Map умело и отчетливо, в хорошей литературной форме,
спокойно-честной извне, беспокоящей изнутри»18.
Проблема осознания женщиной своего творческого призвания стала
главной в повести «Лампады незажженные» (1913). Это произведение —
новая страница лирического дневника Анны Map — рассказ о начале ее
писательской судьбы. История семейной драмы героини,
«производственные» конфликты мира прессы — все это внешние обстоятельства,
облекающие и скрывающие подлинный сюжет повести — становление творческой
личности и утверждение нового женского типа. Героиня находится в
постоянной внутренней борьбе: «В ней жило две женщины, и эти женщины
ненавидели друг друга. Одна — современная, другая — прежних времен. Одна
требовала гражданского брака, отрицала материнство, условности,
жаждала свободы и умела завоевывать. Одна имела дар самокритики,
смелость для жизни и непобедимый усталый скептицизм. Другая была робка,
покорна, разменивалась на вздор, любовь превращала в грубое
сладострастие и католичество — в язычество»19. В финале повести на первый
взгляд торжествовала новая женщина, но этот триумф был одновременно
концом ее личного счастья.
Открытость и парадоксальность финалов, ничего не разрешающих,
оставляющих героиню перед нерешенными проблемами, была характер-
16 Современник. 1914. № 14 - 15. С. 305.
17 Женское дело. 1914. № 8. С. 14 - 15.
18 Русское богатство. 1914. № 3. С. 395 - 396.
19 Map Анна. Идущие мимо. М., 1913. С. 121 - 122.
11
ной особенностью прозы Анны Map. Жесткость художественной
структуры, напряженная динамика действия были почти обнажены в ее
произведениях малых форм. В рассказах писательницы героини зачастую были
поставлены на край нравственной пропасти, когда, если употребить слова
самой Анны Map, «падая, они думают, что летают». Так, в рассказе
«Мертвые листья» девушка давала слово выйти замуж за нелюбимого и вдруг,
слишком поздно, узнавала, что ее любовь не безответна. Героиня рассказа
«Жена» приезжала к брошенному ею мужу, чтобы лишь на мгновение
увидеться с его другом, которого она полюбила. Сюжеты рассказов
колебались у самой черты между драматическим напряжением и
мелодраматичностью, но почти никогда проза Анны Map не переступала этой грани.
Внутренняя драматургичность сюжетов привела к появлению
своеобразного подвида ее «cartes postales» — короткого диалога, в котором
быстрый обмен почти незначащими репликами сопровождался «подводным
течением» разговора — подтекстом, несущим основную смысловую
нагрузку. Характерным примером такого диалога была миниатюра
«Телефон», в которой одна из собеседниц роняла почти односложные реплики,
но независимо от словесного выражения текста читатель ощущал
нарастание внутреннего драматизма сцены между женой и любовницей
самоубийцы. Постепенно в рассказах Анны Map происходило снижение доли
бытописания. Такого рода подробность начала использоваться как
маркирующий знак, лишь намекающий на подлинную суть вещи.
Любовь к католическому священнику, пережитая Анной Map и как
реальное событие, и как факт искусства, вновь воскресла как составная
часть духовного мира писательницы в романе «Тебе Единому согрешила».
Его рукопись была послана А. Горнфельду, но тот отверг ее, упрекнув
Анну Map в повторении тематики. Критик-позитивист не понял специфики
творчества модерниста, для которого высшая реальность продолжает
существовать параллельно с бытовым пластом жизни — ей суждено «вечное
возвращение». «Не скрою, что я ждала именно такого ответа, — писала
Анна Map Горнфельду 26 октября 1913 года. — Я не хочу защищать своих
тем и настроений, это, конечно, не мое дело, но мне всегда казалось, что
только дилетанты боятся повторения. Я не могу, не в силах лгать в
творчестве. И покуда католичество порабощает мои мысли и чувства, я не умею
скрыть этого»20.
Но было бы ошибкой видеть в новом романе, повествовавшем о любви
молодой вдовы Мечки к ксендзу Ришарду Иодко, еще один вариант более
раннего произведения. Теперь это был рассказ о состоявшейся любви,
сметающей на своем пути преграды из устаревших моральных ценностей. Ни
герой, нарушивший обет безбрачия, ни героиня не ощущали своей вины
перед Богом. Уже в этой книге выявился отнюдь не канонический
характер религиозности Анны Map, как всегда воплотившей в сюжетном
повествовании очередные страницы дневника своей души. Авторским
признанием звучали слова ее героини: «В сущности, я — не христианка, — думала
Мечка, — один умный ксендз назвал меня сектанткой несуществующей
секты... Я верю в Бога, но не верю в загробную жизнь. Даже бледная
надежда на вечность возмущает меня. Смерть без Воскресения,
по-моему, — высшая награда для человека. А догмат Троицы? А сходство хрис-
20 РНБ, ф. 211, ед. хр. 766, л. 5.
12
тианства с иными религиями? А таинство брака? Брак как таинство я
отрицаю особенно решительно. Я не вижу ничего мистического в
физическом сближении полов»21. Для героини нет ничего греховного в ее любви к
ксендзу, грехом был бы брак с ним, заставивший бы его снять сутану и
прекратить служение Богу. Ее предсмертная исповедь Богу при посредстве
ксендза-любовника сакрализовала любовь героини.
Рецензенты расценили роман как творческую удачу писательницы.
Е. Выставкина, сравнив его с романами «Г-жа Жервезэ» братьев Гонкур и
«Евангелистка» А. Доде, писала, что «"Тебе Единому согрешила"
интересен до конца. <...> Анна Map <...> берет не исключение, а правило:
психология Мечки — психология почти каждой истинной католички, у которой
мистическое переходит в реальность»22. А. Журин отметил как недостаток
сжатость стиля произведения, которая довела^автора «до печального
самоограничения». Анна Map «слишком часто вместо изображения
ограничивается утверждением, вместо доказательства — выводом»23.
Таким образом, к 1916 году молодая беллетристка имела уже
устоявшуюся репутацию одной из лучших русских писательниц тех лет. Но в
1916 году ею было создано произведение, многое перевернувшее и в
личной, и в творческой биографии Анны Map. Это был роман «Женщина на
кресте».
Традиционно в классической русской литературе ряд понятий и
проявлений сексуальной жизни был строго табуирован. Когда в 1907 году был
опубликован роман М. Арцыбашева «Санин», повествующий в несколько
более раскованной манере о любовных драмах молодежи, то он вызвал
бурю негодования как среди критиков-пуритан, так и среди «возмущенной
общественности». А его герой Санин, на протяжении романа единожды
согрешивший с молодой девушкой в антураже романтической обстановки
южной ночи, был заклеймен как проповедник разврата и
безнравственности. И вот появился роман «Женщина на кресте» о любовной связи
девушки с пожилым мужчиной, где любовники отличались мазохистскими,
а партнер еще и садистскими наклонностями. Была в этом романе и
подруга героини — лесбиянка, и сын героя, подсматривающий за любовными
экзекуциями своего отца. Произведение было опубликовано со
значительными цензурными купюрами, но даже такой текст был раскуплен в
течение недели, и дополнительный тираж разошелся столь же быстро.
Впечатление от романа можно было назвать шоковым и шокирующим. Поражал
не только сам факт его появления, но и то, что он был написан женщиной,
и тем более «подававшей надежды», — Анной Map.
Чтобы понять, каким образом столь необычный для русской
литературы даже начала XX века роман мог появиться из-под пера Анны Map,
надо еще раз вспомнить последовательность ее творческой эволюции.
У писателей французского декаданса — литературных учителей Анны
Map — панэстетизм и имморализм причудливо сочетались с мистикой и
религиозной экзальтацией. Поэтому внутренней логике развития
писательского сознания Анны Map как литератора-модерниста не противоречило
ее увлечение католичеством. Ее произведения свидетельствуют об обшир-
21 Map Анна. Тебе Единому согрешила. М., 1915. С. 11.
22 Женское дело. 1915. № 11. С. 9.
23 Свободный журнал. 1915. № 6. С. 120.
13
ном знакомстве писательницы с религиозно-мистической литературой,
в частности, с писаниями визионерок и пророчиц, монахинь,
вкладывавших в любовь к Христу всю силу своего нерастраченного чувства к
мужчине. Одним из проявлений этой религиозной страсти было наказание —
бичевание и самобичевание, когда кающийся находил в страдании
особую сладость, приближаясь таким образом к Христу, мистически
воссоединяясь с его страстями.
Если рассматривать произведения Анны Map как органичную часть ее
жизнетворчества, то очевидно, что ей всегда было свойственно
определенным образом обожествлять своего возлюбленного или друга, бывшего
для нее духовным авторитетом. Вспомним еще несколько строк из уже
цитировавшегося стихотворения Валерия Брюсова: «И подарила томик
свой// Она мне с надписью такой: // "Я вам молилась вместо Бога..."»24. Ее
любовь к служителю Бога была одновременно и ступенью приближения к
Божеству, и шагом к переходу какой-то моральной грани, стремлением к
кощунству.
Неомифологической основой романа «Женщина на кресте» стала
история двух знаменитых средневековых любовников: ученого Абеляра и
его ученицы Элоизы. Ее родные оскопили Абеляра, и возлюбленные были
вынуждены принять монашество, но продолжали обмениваться
письмами, в которых чувственная страсть соединялась с религиозным экстазом.
Роман Анны Map по своему типу — это роман воспитания. Новый
Абеляр — Генрих Шемиот учит новую Элоизу — Алину пониманию
природы своего чувства. Несомненно, мазохистские наклонности свойственны
героям Анны Map, но это только поверхностный пласт семантики
произведения. Шемиот дает Алине труды мистиков и визионерок, сочетающих
любовь к Христу с постоянным раскаянием в своей греховности и с
жаждой наказания. В процессе чтения героиня открывает для себя глобальное
значение в христианстве образа Марии Магдалины, раскаявшейся
грешницы. Для Алины и стоящей за ней Анны Map этот евангельский персонаж
выражает психосексуальную суть женщины и одновременно
единственную возможность мистически соединиться с Христом через грех и
покаяние за него.
Значительную смысловую нагрузку несет название романа,
отсылающее к сюжету гравюры Фелисьена Ропса «Женщина на кресте». На ней
изображена распятая, фактически метафорически подменившая собой
Распятого. Писательница осмысляет чувственную любовь как
жертвоприношение, в котором женщина играет роль сознательной жертвы на алтаре Бога. В
религиозных воззрениях писательницы присутствует, и тоже совершенно
осознанно, элемент кощунства. Такое колебание у черты между Богом и
Дьяволом было присуще многим западным декадентам. И к этой грани
подошла Анна Map в последний период своего творчества. Своеобразным
«приложением к роману» может служить ее миниатюра 1914 года «Ропс»,
представляющая собой диалог двух героев — Алины и Стаха — о творчестве
Ропса. Алина говорит: «Как только я взяла альбом с его гравюрами, сердце
мое сжалось, я уже перестала быть сама собою». Далее она описывает особо
понравившуюся ей гравюру: «Вы нашли ее?.. Молодая дама, снимающая
рубашку через голову, сильная и стройная, в шелковых черных длинных
24 Литературное наследство. Т. 85. С. 28.
14
чулках, крошечных туфлях, с волосами, причесанными как для концерта!..
И в дверях фигура аббата, приотворившего дверь... Не в этом суть,
конечно... Глубокий смех в виньетках кругом — в ангелах, которые секут друг
друга ради благочестивого усердия, в фигуре Терезы, пораженной
стрелами, во всех этих мелочах, повторяю <...> Ропс приближает меня к дьяволу.
<...> Приблизиться к дьяволу — это отнестись к нему сочувственно... даже
больше... увлечься им, восхититься, понять его красоту...»25.
К эстетике европейского декадентства, в частности к Гюисмансу и
Уайльду, восходит и нарочитая эстетизация быта героев романа.
Произведение Анны Map наполнено описаниями стильной мебели, старинных
безделушек, разнообразных произведений искусства. Они играют особую
художественную роль и не случайны, так как Анна Map не грешила
свойственной писательницам слабостью к детализации. Многое как бы
возвращает читателя в эпоху Первой империи, воскрешая образы Наполеона и
его окружения. Наполеоновская тема и связанный с ней контекст
являются еще одним планом неомифологического романа. Представление о
Наполеоне соединяется с представлением об Антихристе как пример дерзкой
попытки сравняться с Создателем.
По мере развития сюжета Алина проникается сознанием
необходимости полного уподобления себя Марии Магдалине, принесения жертвы Богу
на алтаре любви и страдания. Ипостасью Создателя и одновременно его
антагониста — дьявола предстает Шемиот, к которому окончательно
возвращается Алина, чтобы заменить предыдущую жертву — своего
двойника Клару.
Последний роман Анны Map явился по своей тематике и стилистике
одним из самых «декадентских» произведений в русской литературе
начала века. В нем грех и кощунство представали как высшая ступень
сакрализации чувства.
Анна Map связывала с появлением романа «Женщина на кресте»
много надежд, и сначала они как будто оправдались. Об этом свидетельствует
ее радостное письмо А. Г. Горнфельду от 25 июня 1916 года: «"Женщина
на кресте" была распродана вся в десять дней [2500 экз<емпляров>].
Теперь издатель печатает второе издание уже в количестве 5000 экз<емпля-
ров>. <...> Я удостоилась получить длинное письмо от Власия
Михайловича Дорошевича. Он закончил его словами, которые я привожу Вам
целиком. Дорогой, дорогой Аркадий Георгиевич, простите мне мое тщеславие.
Он пишет: "Ваша книга полна огромного интереса. В ней столько тонких и
острых наблюдений, физиологических и психологических, — где
кончается одно и начинается другое? Я думаю, что Вашу смелую книгу с большим
интересом прочел бы Мопассан. И местами великий техник Вам бы
позавидовал. Так тонко и изящно говорить о таких рискованных вещах. Для
этого надо очень тонко мыслить. Прошу Вас принять мое поздравление с
таким умным, интересным, тонким, сильным, дерзким и изящным по
форме произведением". <...> Боже мой, как я была счастлива! Я не верила себе
и спрятала письмо под подушку, как пансионерка. <...> Мне написали
также Сологуб и другие. Все так хорошо сложилось, может быть, потому, что
эта книга принесла мне столько горя и слез в частной жизни»20 .
25 Женская жизнь. 1914. № 5. С. 17.
26 РГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 391, л. З-Зоб.
15
Но появившиеся вскоре критические отзывы изменили
психологический настрой писательницы. Большинство критиков дали роману
однозначно негативную оценку, отвергнув как кощунство и ересь его идеи. Так,
Л. Фортунатов в статье с характерным названием «Сидорова коза» писал:
«Среди множества женщин-писательниц, которые во множестве так
настойчиво в наши дни рассказывают о своем, интимно-женском <...> Анна
Map сумела завоевать совершенно отдельное положение. Эта
писательница не из феминисток, кто ставит задачей беллетристики — иллюстрировать
главные положения "Лиги женского равноправия". <...> Но Анна Map не
принадлежит и к тому очень скучному разряду женщин-писательниц, кто и
теперь еще старается по старинке писать "не хуже, чем мужчина". <...> Ее
книги — <...> это не только литература. Это еще и правда. <...>
Человечество молчаливо хранит тайны своей интимной жизни. <...> Напрасно
погналась за лаврами Захер-Мазоха и Крафт-Эбинга даровитая Анна Map.
<...> "Женщина на кресте" имеет гораздо больше прав на звание
психопатологического романа»27. Другой критик —А. Ожигов замечал, что
«по содержанию "Женщина на кресте" — это медицинская диссертация,
написанная на тему о половых извращениях»28. Рецензент журнала
«Пегас» возвел недостатки романа к женской природе его создательницы:
«Писательница подходит к своей теме только как женщина. <...> Самые
язвительные вещи о женщине можно услышать только от
представительницы слабого пола. <...> Анна Map вечно женственное видит в мазохизме,
и садизм для нее — скрытый смысл мужественной силы»29. Но самая
жесткая по тону рецензия принадлежала А. Гизетти, который писал:
«"Женщина на кресте" — вот книга, вызывающая непреодолимое чувство
отвращения и горького негодования. Она настолько беспомощно ходульна и
беспредельно патологически цинична, что не заслуживала бы даже
упоминания, если бы автор этой книги не была уже несколько выдвинувшаяся в
подлинной литературе писательница»30. На общем фоне выделялась
доброжелательная рецензия А. Туниной, отметившей новый роман как
закономерный итог творческого развития Анны Map, у которой во всех
произведениях был «один неизменный лейтмотив хождения женской души по
мукам любви. <...> В "Женщине на кресте" <...> нет былой неопределенности.
Порывы религиозности, мучительная жажда веры, исповедь и костел
остались позади. Правда, сохранились муки любви, но они уже не страшат
героиню, они необходимы ей, они — сама любовь»31.
Подобная реакция критиков произвела тяжелое впечатление на
писательницу. Она писала об этом Е. А. Колтоновской 20 июля 1916 года:
«Я сейчас вернулась из деревни. Моя тетка заявила мне, что после
"Женщины на кресте" она не может меня принимать. С тех пор как роман
вышел, я растеряла буквально всех родных и друзей. Конечно, это вздор, и
меня не это огорчает. Сегодня я получила "Ежемесячный журнал" Миро-
любова. Там напечатана позорящая меня рецензия Гизетти. <...> Я хочу,
чтобы Вы <...> знали бы некоторые подробности о моей книге. Пятно на
27 Журнал журналов. 1916. № 24. С. 3 - 4.
28 Современный мир. 1916. № 7 - 8. С. 205 - 206.
29 Пегас. 1916. No 6-7. С. 76.
30 Ежемесячный журнал. 1916. № 5. С. 310.
31 Женское дело. 1916. № 13. С. 13 - 14.
16
обложке сделано цензурой. Цензура залила гравюру Фелисьена Ропса
"La femme en crois". Пропуски сделаны цензурой, и их гораздо больше,
чем это показано точками. <...> Я не могу допустить, чтобы мой стиль был
"лубочным", и я — бездарна, ибо тот же Федор Сологуб, Гиппиус,
Дорошевич, Любовь Гуревич, Валерий Брюсов, В. Иванов и другие не стали бы
меня вводить в заблуждение. <...> О, если бы Вы знали, какое количество
женских писем я получаю! Если бы Вы знали, какое количество исповедей
от женщин умных, тонких, интеллигентных, которые клялись мне, что все
они — Алины и что их возлюбленные говорят "словами Шемиота". Я
пугаюсь того количества Генрихов, которые приходят ко мне и говорят: "Ваш
Генрих мало жесток". Море гнусных предложений, тысяча
оскорбительных телефонов, безмерное любопытство окружающих, грубые рецензии —
это все, что я получила после выхода романа. Роман был продан в 10 дней.
25-го июля выходит второе издание. Это меня мало утешает. — "Публика
читает, чтобы снимать фасончики", — сказал мне Дорошевич. О, если бы
Вы знали, как мне трудно! Как трудно жить среди глупцов»32.
Несмотря на ожесточенную критику, роман имел успех. Почти сразу
московская кинофирма «Тиман и Осипов» без ведома Анны Map
осуществила его экранизацию — кинодраму «Оскорбленная Венера» (картина из
«Русской Золотой серии»). На ее выход Анна Map откликнулась
возмущенными письмами в периодические издания, указав, что «идея, тема,
разработка сюжета, детали полностью украдены из моего романа»33.
Драматизм, расчет на невыговариваемый подтекст — эти черты прозы
Анны Map соответствовали эстетике Великого Немого. В 1910-е годы
писательница много работала для кинематографа, написав сценарии около
десяти фильмов. Эта деятельность давала ей и средства существования.
В 1916 году появился сборник ее миниатюр «Кровь и кольца»,
подтвердивший, что создание романа «Женщина на кресте» не было случайным
явлением в творческой биографии писательницы. В рассказах сборника,
как в отдельных гранях кристалла, преломлялись многие идеи романа.
Все писательские надежды Анны Map с 1915 года были сосредоточены
на постановке драмы «Когда тонут корабли». В Москве ею
заинтересовались в Малом, а в Петербурге — в Александрийском театре. По всей
вероятности, эта драма была очередной страницей «лирического дневника»
Анны Map, которая пыталась путем сублимации как-то преодолеть свои
психологические проблемы. В Санкт-Петербургской театральной
библиотеке удалось обнаружить две авторские копии этой так и не поставленной и
не опубликованной драмы. Ее сюжетом была история любви 30-летней
женщины «с прошлым» Ютты к немолодому женатому помещику Гедрой-
цу. Он постоянно унижал и отталкивал ее от себя, в то время как втайне
готовил все для начала новой жизни вместе с ней. Но героиня не
выдержала психологического бремени, и в тот самый момент, когда ее
возлюбленный пришел за ней, она кончила жизнь самоубийством. Знаменательно,
что в этой пьесе Анна Map как бы «проигрывала» финал своей жизни и
даже указала срок, отмеренный ей судьбой, — 30 лет. О предчувствии
конца говорило и само название пьесы — метафора, смысл которой
раскрывался в словах главного героя: «Жизнь представляется мне берегом,
32 РО ИРЛИ, ф. 629, ед. хр. 25, л. 7-8.
33 Артистический мир. 1917. № 36. С. 8.
17
на котором мы стоим, провожая корабли... Корабли уплывают... Иногда
они тонут... Я представляю их гибель без бури, от мины... днем... Синее
небо, как море, и море, как небо, пламенное солнце, очертания берегов
вдалеке, ласковый ветер, который несет аромат апельсиновой рощи...
Корабль тонет медленно и безнадежно...»34
В 1914— 1917 годы Анна Map много работала в женских журналах.
Не будучи формально связана с какой-либо феминистской организацией,
она и по образу жизни, и по идеям своего творчества была признанным
авторитетом в деле претворения в действительность чаемого типа «новой
женщины» XX века. В «Журнале для женщин» Анна Map вела раздел
читательских писем, где давала советы женщинам, писавшим о сложных
житейских проблемах. «Когда я читаю эти письма, — говорила
писательница, — я переживаю целую гамму разнообразных настроений, я мучаюсь,
страдаю вместе с моими корреспондентками... тоскую и часто плачу над
ними. <...> Ведь каждое письмо — кусок женской души...»35 В своих ответах
Анна Map призывала не отчаиваться, надеяться на будущее и ни в коем
случае не пытаться оборвать нить своей жизни: «Если вы одиноки, умейте
выйти из одиночества. Умейте сами найти среди окружающих близкую
душу. Не ждите, что счастье пойдет искать вас. Нет, вы сами бегите, ищите,
завоевывайте счастье»30. Однако сама она устала «бежать за счастьем», и
ее «лирический дневник» был разорван в номере гостиницы «Мадрид».
Трагическое самоубийство Анны Map было расценено как результат
вины общества, оставившего человека наедине с неразрешимыми
проблемами. С другой стороны, ее гибель была воспринята как последнее
«доказательство» неизмеримой ценности каждой отдельной личности, чье
исчезновение является невосполнимой утратой для мирового жизненного
процесса. Анна Map была последним писателем, чей добровольный уход из
жизни был оплакан русским обществом. Далее последовали
революционные потрясения, когда противостояние и насильственная гибель тысяч как
бы зачеркнули стоимость жизни отдельного человека.
В истории русской литературы имя Анны Map осталось как горький
пример судьбы писателя-модерниста, стремившегося постичь бездны
Добра, Красоты и Зла и ставившего жестокие эксперименты над своей жизнью
и смертью. Ее пряная, психологически-утонченная проза интересна и ныне,
так как в ней ощутима обнаженная искренность автора. И справедливы
слова, сказанные об Анне Map еще в начале века А. Г. Горнфельдом:
«Всегда на грани порнографии, она никогда не переступала этой грани,
потому что в ее эротике не было литературщины, не было тенденции, не
было дурных намерений: это была правда и поэзия ее жизни, и она давала
ее так, как пережила ее»37.
А. М. Грачева
СПб. Театральная библиотека, № 66080, л. 71.
Журнал для женщин. 1917. № 7. С. 12.
Журнал для женщин. 1917. № 5. С. 11.
Русское богатство. 1917. № 8 - 10. С. 320.
Женшдша
на кресте
Гениальному Фелисьену Ропсу
из бездны слабости моей посвящаю
Анна Map
La femme en crois. F. Rops*
I
Генрих Шемиот написал коротенькое письмо
управляющему в имение. Он приедет через неделю с сыном и Кларой.
Особых приготовлений не нужно, лишь бы дом был опрятен.
Шемиот взял печать и увидел на блокноте крупные слова —
«Алина Рушиц».
Он сделал эту надпись вчера, упорно думая о девушке,
которая была тайно влюблена в него.
«Сколько лет Алине? Не менее двадцати шести — двадцати
семи. У нее обольстительная фигура, длинные пепельные
волосы, нежные красноречивые руки. Ее большие глаза можно
сравнить и с лиловыми вьюнками, и с пармскими фиалками, и с
маленькими озерами. Но, по всей вероятности, у нее самая
красивая часть тела это та, которую обнажают для наказания
розгами. Опытна ли она в любви? А если опытна, то насколько?
И кто ее учитель? Почему она не выходит замуж? О ней ничего
не говорят в городе».
Шемиот позвонил, машинально отдал письмо лакею и
продолжал думать: «Есть нечто в Алине, чего я не знаю, но
предчувствую. Тем хуже для Алины. Последнее время я пришел к
выводу, что, попадаясь на пути женщине, я становлюсь ее
"печальным событием". В этом я неповинен. Жестокость внушает
мне отвращение. Вид крови заставляет бледнеть. Отлично.
Потом я встречаю женщину типа Алины. Мгновенно во мне
зарождается беспокойная и странная жажда ее слез, ее криков, ее
тоски и стыда. Я унижаю ее всячески и не испытываю никакого
раскаяния».
Он попробовал углубиться в английскую экономическую
статью.
* Женщина на кресте. Ф. Ропс (фр.).
21
С тех пор как Шемиот оставил место директора банка, жил
просто чтобы жить, он снова обложил себя книгами. Его
огромная эрудиция и частые путешествия позволяли ему
скептически относиться к себе и людям. Он презирал науку и отвергал
мистику.
Статья ему не понравилась. Бросая ее, он решал: «Богатство
сделало Алину свободной, а замкнутая жизнь несколько
наивной. Когда я смотрю на нее, она опускает глаза... Мне пятьдесят
два года... Я — безумец... Пойти к Алине завтра? Нет, сегодня...
сейчас...»
Рассеянно он передвинул фотографию своей покойной жены.
В белом газовом платье, с цветами на груди, она улыбалась
невинно, как святая. Он рассматривал ее минуту без удовольствия.
Долгое время его печаль о ней была преувеличена. В конце
концов это утомило его и наполнило враждебностью к мертвой.
Потом он перевел глаза на миниатюру сына: «Юлий
заносчив и тщеславен, но он добр».
В дверь постучались.
Клара принесла письма, счета, деньги.
Посмотрев их, Шемиот сказал грубо:
— Вы не экономны.
Очень бледная, она села.
— Я совершенно больна.
— Почему же вы не лечитесь?
— Это не поможет. Я умру. И вы будете счастливы.
— Хорошо, Клара. А теперь я ухожу.
— К Алине Рушиц?
— Вы догадливы.
— Вы женитесь на ней?
— Возможно.
— Должна я уехать из вашего дома?
— Как хотите. Только не вздумайте тогда рассказывать, что
я вас выгнал.
Дом Алины Рушиц был двухэтажный, серого цвета, с
колоннами и железной решеткой. Решетку завил дикий виноград,
а по стеклу круглой веранды струился поток цветущих
бегоний. Сад занимал значительную квадратную площадь. Правая
сторона ушла под абрикосы, сливы, вишни, яблоки; на левой
росли акации, кусты шиповника, сирени, жасмина и
бесчисленное количество роз. Аллея из молодых подрезанных туй одним
концом упиралась в дом, а другим — в группу старых каштанов.
Там стояла каменная скамья и каменный круглый стол. Немно-
22
го дальше была стена соседнего леса, известковая, в щелях
которой вили гнезда воробьи и летучие мыши. Края ее осыпали
толченым стеклом и утыкали гвоздями острием вверх.
Сейчас Алина медленно гуляла. Она исколола руки, срезая
розы, и слегка испачкала землей белое платье. Иногда ее сердце
сжималось.
Она думала: «Мои нервы расходились. Сегодня я видела
странный сон. Я — монахиня, и я на коленях перед
настоятельницей... (Такой настоятельницы я не встречала в жизни, и в
монастыре я тоже никогда не была...) Эта женщина прекрасна и
горда. Она велит бичевать меня перед всеми сестрами. Я прошу
прощения, я целую ее руки — она непреклонна. Тысяча глаз
смотрит на меня, тысяча ртов насмешливо улыбается.
Рыдающую, меня раскладывают и секут. Душа и тело мое
содрогаются, я просыпаюсь в холодном поту и вспоминаю, что подобную
историю мне рассказывал Генрих Шемиот... Это была
средневековая монахиня. Когда ее наказывали, она кричала
пламенные слова, как влюбленная... А я завидую ей... я так нуждаюсь в
наказании... я чувствую себя здоровой, сытой, грубой. Во мне
слишком много мяса».
Она ходила взад и вперед по аллее, находя новые белые
вьюнки, неожиданно распустившиеся среди подрезанных туй. Ее
терзали сомнения.
«Если бы у меня хватило смелости. О Боже... Я бы во всем
призналась Шемиоту... Но некоторые слова: наказание, розги,
вина — страшно произнести вслух... они обжигают губы... они
волнуют меня, как действия... И в то же время мои желания
так просты. Я хочу искупления. Искупления? В чем? Я не знаю».
С востока плыла туча, похожая на кленовый лист. На
втором этаже стекла открытых окон сверкали. Японские вазы с
чудовищными букетами лилий украшали по две каждый
подоконник. Неожиданно среди них, на темном квадрате, она
увидела Генриха Шемиота.
Он стоял без шляпы и улыбался.
— Вы... вы... Боже мой, — закричала Алина в детском
восторге.
Его пышные рыжевато-золотистые волосы вились около
ушей, открывая сияющий, прекрасный лоб. Крупные черты
бритого лица: нос, губы, подбородок — были резко чувственны,
а длинные черные глаза полны иронии. Однако тонкая прелесть
улыбки и певучесть голоса смягчали и чувственность, и
иронию, и некоторую общую жестокость. Несмотря на высокий
рост и широкие плечи, его руки и ноги были изящны.
23
— Меня обманула ваша служанка, — сказал он,
высовываясь, — она заявила, что вы у себя в кабинете.
— Войцехова все перепутает...
Алина живо поднялась к нему.
— Как я вам рада... вы вовремя... сейчас будет гроза...
— Я тоже рад вас видеть...
Шемиот с удовольствием оглядел знакомые предметы и
уселся.
После сада в кабинете стиля empire* казалось прохладно и
сумрачно.
Мебель красного дерева с тускло сверкающей бронзой была
обита зеленым штофом чуть светлее обоев, портьер, ковра. На
круглых мраморных столах, которые несли грифоны, лежали
тяжелые альбомы, переплетенные то в кожу, то в серебро. Одну
из стен занимали полки с книгами, задернутые легкими
шелковыми занавесками, тоже зелеными, усыпанными золотыми
лавровыми веночками. Овальное зеркало над камином отражало
люстру, лепной потолок, часть двери, ведущей в спальню
Алины. Здесь висел большой портрет императора Наполеона I в
коронационном костюме. Орел украшал его массивную раму,
держа в когтях дощечку с надписью «Дважды бессмертен».
Можно было также найти герцога Рейхштадтского, Жозефину,
Полину Боргезе, князя Понятовского, Валенскую среди
бесчисленных драгоценных акварелей и миниатюр.
Узкие серебряные бокалы стояли наполненные розами, а
плоские хрустальные вазы фиалками — любимыми цветами
Первой империи.
Шемиот говорил о своем близком отъезде в имение, а Ру-
шиц думала с горечью: «Если бы я осмелилась упасть перед ним
на колени, признаться ему в любви, признаться во всем...
Сегодня сладострастие особенно яростно сжимает мой мозг. Ах, быть
высеченной здесь, именно здесь, перед раскрытым Флобером,
перед обожаемым императором... в нарядном платье, в
шелковых чулках, при дневном свете, который всегда бесстыден...
Кричать униженно и страстно... Рыдать без удержу... Умирать
от боли. И если бы кто-нибудь вошел в ту минуту... мне
кажется, я услышу тихий презрительный смех всех книг, всех
предметов, даже цветов, даже стен... Я бы доставила миленькое
зрелище моему ангелу-хранителю и дьяволу... Боже мой, Боже мой,
я схожу с ума...»
— Вы не слушаете меня, дорогая?
* Ампир (фр.).
24
Он нежно взял ее за руку. Она тихонечко отняла... Ведь он
считает ее невинной и чистой, а она, подобно Фенниморе Иенсе-
на, — «мешок, полный гнили».
— Простите меня... я рассеянна...
— Что такое?
Алина покачала головой. Если бы сказать... но это
невозможно.
— Почему вы перестали навещать меня, Алина?
— Клара не любит меня.
— Какое же отношение?
Но она не верила и ревновала.
Шемиот сказал певуче:
— Я много думал о вас, дорогая... Вы — немножко беспутная
женщина... При большом ветре вы способны побежать к морю,
и протягивать к нему руки, и петь, воображая себя ундиной... в
глубокую метель вы можете бродить по незнакомым улицам, и
считать себя одинокой, и быть действительно одинокой в целом
мире. Вы страстно влюбитесь в голос, поющий за чужой
изгородью, и проплачете ночь из-за артиста, который спускается по
лестнице, надевая перчатку... Другой раз, не зная и не гадая, вас
сведет с ума епископ, служивший мессу с измученным лицом.
А потом вы исхудаете из-за того молодого адмирала, который
стоит у руля, и его плащ развевается самым романтическим
образом... Ах, Алина, вы очень забавны...
Тучи затянули небо. Молния вспыхивала ежеминутно, а
удары грома следовали после больших пауз. Старая Войцехова
закрывала торопливо окна. Почти сейчас же потоки дождя
обрушились на сад и дом. Поднялся бешеный ветер.
Алина читала «Ave»*. Шемиот перелистывал Данте. Он
спросил:
— Что вы делали сегодня?
— Хозяйничала. Утром ко мне приходила Христина Оскер-
ко. Ей очень тяжело.
Шемиот холодно пожал плечами.
— Христина Оскерко дурно устроила свою жизнь.
Алина пыталась защитить ее. Все состояние принадлежит
брату Христины — Витольду. Он кутит и много проигрывает.
А Христина при нем в роли едва ли не экономки.
— Держитесь подальше, — настаивал Шемиот, — ваша
дружба безнравственна. Христина вносит сумбур, сплетни, несчастья
и сожаления. Пусть она кается на стороне. Где ее ребенок?
* Здравствуй (лат.) — начало католической молитвы.
25
Властный тон Шемиота очаровал Алину.
Она ответила несмело:
— Где ребенок Христины? Она отдала его в частный пансион.
Мало-помалу буря стихла. Тучи поспешно уплывали к
горизонту. Солнце сверкало в лужах и брызгах. Алина раскрыла окна.
Шорох капель стоял в саду. Оттуда тянуло ароматной свежестью.
Шемиот откланялся.
После ухода Шемиота до самого вечера Алина была
взволнована. Потом она почувствовала непреодолимое желание лечь
и мечтать.
Она удалилась в спальню — большую комнату, оклеенную
голубыми гладкими обоями, с мебелью красного дерева стиля
empire, обитой бледно-голубым штофом.
Перед туалетом Алина медленно снимала кольца, серьги и
клала их в золотую чашечку. Туалет был гордостью Рушиц.
Массивная зеркальная доска, положенная на дуги красного
дерева, украшенного бронзовыми маленькими сиренами. Круглое
зеркало, в оправе из бронзовых ненюфаров, прикреплено
между двумя тонкими колоннами и может качаться. Но самое
обворожительное — это Лорелеи на колоннах, поющие
таинственные песни и смотрящие в зеркальную доску, словно в озеро.
Алина распустила свои длинные волосы, белокурые с
серебристым оттенком, долго причесывала их, заплетала. Раздевшись,
она отправилась в ванную. Но вода, опаловая от соснового
экстракта, не укрепила и не освежила Алину.
Когда Войцехова явилась пожелать барышне спокойной ночи,
она застала барышню рыдающей.
Войцехова давно служила у Алины. Она могла позволить
себе кое-что. Поэтому, увидев слезы Алины, она усмехнулась.
Ее лицо, белое от подкожного жира, с мертвыми
выцветшими глазами и лживым извилистым ртом ханжи, слегка оживилось.
— Люди говорят, что...
Это был целый обвинительный акт против Шемиота.
Алина рассердилась и прикрикнула на Войцехову.
Та ушла, разобиженная. Упаси Боже, если она скажет еще
хоть одно слово... Барышня летит на огонь.
Теперь Алина очутилась в широкой красного дерева
кровати с бронзовыми медальонами, с шелковыми занавесками
лунного цвета, пропитанной ароматом фиалок и роз, нежной как
пух. Где-то вверху была спрятана голубая электрическая
лампочка, и, когда Алина зажигала ее, вся кровать изнутри
светилась, подобно гигантскому фонарю.
26
Алина думала: «До сих пор моя жизнь была счастлива. Но
так как я непрерывно ощущаю покой и счастье, то они
становятся уже в тягость. Я жажду перемены. Шемиот отнял у меня
последнюю каплю ума, гордости, воли и целомудрия. Люблю,
люблю, тысячу раз люблю... Назло всему миру люблю».
Алина тяжело вздохнула. Сердце ее сжималось, как утром,
и ей было жарко.
«Что такое говорит Войцехова? Шемиот зол, скуп,
деспотичен, он вогнал в чахотку свою первую жену, а Клару обобрал
до нитки... кроме того, у него были еще другие любовницы...
Ах, какое мне дело до прошлого Шемиота? Прошлое не
принадлежит никому... Его сына я толком не приметила. Когда я
была там последний раз, Юлий уничтожил при мне коробку
шоколада, в двенадцать часов дня... Клара делает вид, что не
замечает меня... Бедная Клара... Седые волосы, плоская грудь,
чересчур широкие бедра и эти печальные, печальные, как у
животного, глаза... Бедная Клара... Она, вероятно, много
плакала на своем веку. Теперь она не должна плакать, ибо это
бесполезно. Виноват ли перед Кларой Шемиот? Относительно. Он
был жесток с нею. Но если бы он был добр, Клара не познала
бы радостей унижения и боли. Ах, как жарко...»
Голова ее туманилась. Она меняла позы, почти задыхаясь.
«Что еще говорит Войцехова? Якобы Шемиот — стар и
безобразен. Сущая ересь. Генрих может стать идеалом каждой
женщины. Когда он смотрит на меня так внимательно и нежно...
Не введи нас во искушение, — Алина натянула одеяло,
защищая грудь от воображаемых поцелуев Шемиота, — Иезус
Мария, до этого у них дойдет еще не скоро.
В книгах любовь или груба, или преувеличенно возвышенна.
Мне она кажется приятной, как холодное шампанское. Главная
ее суть, конечно, не в поцелуях, а в том, как мужчина может
позволить себе всякую жестокость с женщиной... Какие у меня
мысли... Должна ли я сознаться в них на исповеди... Я думаю...
К сожалению, ксендз Казинас добр и никогда не бранит меня...
Ему под шестьдесят лет, но он ровно ничего не смыслит в
женских душах, Он находит, что мой самый большой грех — это
богатство... Богатые не могут попасть в рай».
Алина легла ничком. Соблазнительные картины мучили ее
наяву, как сон о монахине. Дремля, она погрузилась в
чувственную ванну чувственных грез.
«...Огромный фантастический сад, всеми забытый (подобно
Параду у Золя), где можно встретить пенящийся ручей,
гигантские цветы, каменные ступени, поросшие травой и мхом. Солн-
27
це, ленивая тишина, густые ароматы. Зрелые плоды изредка
падают на землю. Вьются черные и синие махаоны, звенят
стеклянные стрекозы. Алина гуляет здесь вместе с Шемиотом.
Изредка он ломает ветви, но голос его вовсе не строг, а певуч и
томен. Потом он бросает Алину на траву, мнет кружево ее юбок
и среди вздохов травы, деревьев, при знойном солнце, при
мелодии птиц и стрекоз, сечет ее жестоко...»
Алина сбросила одеяло, зажгла электричество, отдернула
занавески кровати, отыскала на ночном столике флакон
одеколона и освежила себе виски. Потом она несколько успокоилась
и размышляла с горечью и пресыщением: «С тех пор как я
влюбилась, я окончательно погибла. Я — распутна и груба. Я
совершенно забросила свои религиозные обязанности. Ксендз Кази-
нас, вероятно, удивляется, с какой аккуратностью я пропускаю
воскресные мессы... Я даже не знаю, смогу ли я сделать
испытание совести так же быстро, как раньше».
И ее мысли направились на монастырь. Вот куда
по-настоящему она должна была бы уйти и каяться. Она мечтала о нем,
ужасаясь, трепеща и вместе с тем наслаждаясь своим
страхом.
Монашеский подвиг удручал ее душу. Он был так же
печален, как и труден. Женщина оторвана от жизни, обречена на
бездетность и аскетизм, брошена на отвлеченность, где ей часто
пусто и холодно и не на что опереться. В конце концов, не всех
влечет Сиенская и не всем понятен язык Терезы. В монастыре
женщина не принадлежит себе. Это еще полбеды, но она не
принадлежит никому в отдельности — это уже несчастье.
Алина вернулась к своему сну и рассказу Шемиота.
Неужели же в монастыре наказывают? Тайно ей хотелось,
чтобы это было именно так.
Какой восторг броситься на колени перед суровой
аббатисой и повторить ей слова несчастной Лавальер: «О мать моя, я
отдаю вам свою свободу, ибо я ею дурно пользовалась».
И, уже засыпая, она представляла себе, как она была бы
кротка, послушна, усердна и как бы ее секли перед
настоятельницей раз в неделю.
Это был четверг — приемный день у Оскерко.
Как всегда, Христина сидела в дубовой столовой, стиля
Renaissance*, где резко кричали два зеленых попугайчика, и
медленно разливала чай гостям.
* Ренессанс (фр.).
28
В раскрытое венецианское окно виднелась чудесная
панорама города с его садами, башенками, куполами, двумя
готическими шпицами костела, круглыми площадями, центральными
аллеями, вплоть до полосы моря на горизонте.
Сейчас небо, крыши, стены, стекла, дымка над городом были
пронизаны теплым розовым светом вечернего солнца. Иные
группы деревьев казались черными, другие — темно-лиловыми,
третьи — серебристыми, почти белыми, и, наконец, там, дальше,
они были определенно пурпурного цвета.
Христина налила последнюю чашечку чаю, поставила ее на
поднос горничной и устало откинулась в кресле.
Глаза у нее были темно-карие на очень бледном лице,
волосы — совершенно коричневые, плотные, как парик, губы —
яркие и тонкие, а вся фигура — гибкая, высокая и сухая. На левую
щеку она приклеивала мушку. Ее платье было кофейного цвета
с низко вырезанным бледно-голубым муаровым жилетом.
Золотой лорнет на длинной цепочке она засунула между его
двумя пуговицами и очень редко им пользовалась.
Несколько раз Христина тихо спрашивала горничную:
— Вы звонили по телефону барышне Рушиц?
И при ответе — «барышни нет дома» — она еще сильнее
бледнела.
Среди общего гула — было человек тридцать гостей —
попугайчики надрывали свои горлышки. Дамы поедали торты и
сласти, расхваливая позднюю весну, которая всех задержала в
городе. Мужчины столпились вокруг «неподражаемой» Мисси
Потоцкой, у которой чудовищное белое эспри, круглое и
дрожащее, напоминало дароносицу, а синее платье с золотыми
глазками и зеленым поясом баядерки — павлина.
Мисси Потоцкая была дочь разорившихся родителей. По
слухам, она усердно ловила женихов. Громче других ее
остротам смеялся сам хозяин дома Витольд Оскерко — розовый,
полный, бритый блондин, слегка косящий на левый глаз.
В столовую входили Генрих Шемиот с сыном Юлием и
доктор Мирский — известный психиатр, имевший лечебницу.
Всех их встретили шепотом уважения, интереса и
благожелательности.
Шемиот-отец церемонно поцеловал руку Христины и
сейчас же пошел к Мисси Потоцкой.
Доктор Мирский шепнул Христине по-приятельски:
— Я видел сегодня вашего мальчика. Ах, это изумительный
ребенок.
Она сухо и неопределенно улыбнулась.
29
Юлий Шемиот, высокий юноша с белокурыми волосами и
глазами, напоминавшими светлые аметисты, остался возле Ос-
керко.
Он положил на ее носовой платок кожаный футлярчик.
— Что это, друг мой?
— Маленький souvenir*. Вчера был день вашего рождения.
— Я его не праздновала.
Однако Христина раскрыла коробочку и нашла там кольцо
редкой работы с великолепным опалом.
— Я обожаю драгоценные камни... Опалы приносят
несчастье...
Она приложила кольцо к своему голубому жакету и надела
его без слова благодарности.
Юлий бормотал, пожирая ее глазами:
A la très-chère, à la très belle,
Qui remplit mon coeur de clarté,
A l'ange, à l'idole immortelle,
Salut en immortalité!..**
Солнце село. Небо начало темнеть, из голубого
переливаться в черное, но на горизонте еще горела оранжево-красная
полоса среди золота. Ничего более не сверкало среди каменного
моря стен, крыш и садов. Готические шпицы костела и весь он
казались теперь сделанными из черного мрамора. В черное
окрасились и все деревья, и главная аллея, по которой
медленно катились экипажи, увозя нарядных женщин в казино.
Наступала ночь, мягкая, влажная, пропитанная ароматом акаций
и роз.
Мисси Потоцкая простилась, торопясь куда-то. За ней исчез
Витольд. Многие из гостей также уходили.
— Вам дурно? — спросил Юлий, удивляясь бледности и
беспокойству Христины.
Но она не слышала, пристально глядя на дверь столовой.
Внезапно она подавленно вскрикнула.
Алина Рушиц входила быстро, чуть-чуть запыхавшись.
С полей ее большой шляпы мягко спускались перья райской
птицы. На ней был шелковый, очень простой костюм цвета
tanné*** и букет фиалок между складок корсажа.
* Сувенир (фр.).
** Бесценнейшей, прекраснейшей,//Наполняющей мое сердце светом,
//Ангелу, бессмертному идолу,//Привет в бессмертии!., (фр.)
*** Темно-коричневый (фр.).
30
— Ах, гадкая, — прошептала Христина, жадно целуя
подругу, — что ты со мной делаешь?
Но Алина сияющими глазами смотрела на Шемиота-отца.
Издали он сдержанно и учтиво поклонился ей.
Немного разочарованная, она села около Христины,
принимая японскую чашечку чаю. Она дружелюбно улыбнулась
Юлию.
И среди небрежных фраз думала: «Этот мальчик
очарователен, хотя совсем не похож на отца. Он словно нарисован
сиреневым и синим... сиреневым и синим. У него чудесный профиль...
Юлий... маленький Юлий Цезарь. Я начну обожать это имя.
Оно очень ему идет».
А Юлий, отрезая ей кусочек торта, решал в свою очередь:
«Если она станет моей мачехой, мы поладим... она
обворожительна... в ней есть какая-то разжигающая покорность... жаль,
что я влюблен в Христину».
— Не знаю, почему ты кажешься возбужденной последнее
время, Алина, — заметила Оскерко, — именно возбужденной...
словно ты напичкалась кокаином или морфием.
— О, тише...
— Нас никто не слышит... Юлий, дитя мое, вы слышите что-
нибудь?
— Pardon, mesdames...* Я ничего не слышу...
Шемиот-отец прощался. Алина бросила на него умоляющий
взгляд. Он не заметил.
— А ты, Юлий?
— Я ухожу с тобой.
Вслед за Шемиотом разошлись и последние гости.
Теперь была глубокая тишина в квартире. Попугайчики
спали, закрытые атласным зеленым покрывалом.
Город горел огнями. Ночь была лунная, почти без звезд.
Алина долго стояла у окна. Плач Христины заставил ее
испуганно оглянуться. Бросаясь перед ней на колени, Христина
Оскерко бормотала с отчаянием:
— Я люблю тебя... Я люблю тебя.
Несколько дней шел дождь. В сад нанесло много песка,
испортило клумбы, размыло дорожки. Алину терзали муки
стыда, раскаяния, досады.
Особенно ей было неприятно вспоминать последнюю
встречу с Христиной Оскерко. Подруга внушала ей страх. Что сдела-
* Простите, мадам... (фр.)
31
лось с этой веселой, рассудительной девушкой? Как она, Алина,
раньше ничего не замечала? Неужели же это была настоящая
любовь: ревнивая, безрассудная и жестокая?
«У меня нет никаких данных презирать Христину. Правда,
она чувствует не так, как все... Но разве это вина? Я совсем не
хочу причинить ей горе, отдалившись. Зачем? Мы привыкли
друг к другу».
Она лукаво улыбнулась, не желая признаться себе самой,
что ей доставляет удовольствие — глубокое и странное —
мучить Христину.
Она думала немного позже: «Если бы во мне наряду с жаждой
унижения и боли не жило стремление унижать и причинять боль
в свою очередь, я бы превратилась в нечто скользкое и липкое».
В тот день Войцехова жалобным тоном заговорила о лакее
Шемиота — Яне Щуреке. Барин уезжал в имение, и Щурек эти
месяцы остался без места... почему бы барышне не взять его к
себе за садовника? Она громко расхваливала Щурека —
пожилого хитрого литовца, съеденного оспой.
На самом деле Войцехова изменила свой враждебный тон к
Шемиоту. Что же, если барышня выйдет замуж... придется
ладить с барином.
Алина очень покраснела. Хорошо, можно взять Щурека на
лето... Потом она сложила свое вышивание в шелковый мешок
на бронзовом треножнике и размечталась о Шемиоте. Желание
увидеть его наполнило ее волнением и ликованием.
«Боже мой, он приглашал меня столько раз... Я не была у
него целую вечность... Не сегодня завтра Клара утащит его из
города...»
И она кончила тем, что переоделась и поехала к Шемиоту в
восемь часов вечера.
К ней вышла Клара — бледная и официальная.
Она сказала тихо:
— Господин Шемиот не принимает.
Алине стало весело. Она также не протянула руки.
— О! Меня он примет.
— Вы так уверены, mademoiselle?*
— Конечно.
— Но я все-таки просила бы вас приехать завтра утром или
передать мне...
Клара упорствовала, заслоняя дверь своими широкими
бедрами и поднимая на нее умоляющие, измученные глаза.
* Мадемуазель (фр.).
32
В ту же минуту показался Шемиот.
-Ах...
И, целуя радостно руку Алины, пропуская ее вперед, он
сказал через плечо:
— Распорядитесь подать нам кофе... фруктов... кажется,
у нас есть ликер...
Клара молча исчезла. Алина задыхалась от жестокой
радости.
В кабинете Шемиота она несколько раз облегченно
вздохнула. У него. С ним. Наконец-то...
Лампа под абажуром из белых бисерных нитей освещала
только стол и букет темно-красных, почти черных роз. Их
благоухание — тонкое, сладкое и нежное — проникло в душу
Алины. Она взяла одну из них и, полузакрывая глаза, медленно,
кончиками губ обрывала лепесток за лепестком.
Последнее время она думала, что способна только на
сладострастие. Теперь она ощущала любовь — глубокую, ясную. Она
внутренне изумлялась, почему она представляла его себе
исключительно жестоким, грубым, ненасытным, властолюбивым, в
страсти утонченно-требовательным. А между тем вот он сидит
возле нее, в двух шагах, — веселый, ласковый, добрый, — и это
так хорошо... Боже, как хорошо быть простой и здоровой.
Клара принесла кофе. Она даже надела кружевной
фартучек, словно горничная. Вероятно, с таким же лицом она
прислуживала и покойной жене Шемиота. Потом она ушла, но
осталась в соседней комнате. Алина через стену чувствовала ее
присутствие.
— Я виноват перед вами, Алина... Я наводил о вас справки...
— Вы?!
— Да, я. Не сердитесь. Я чересчур поглощен вами...
И он опустил глаза, чуть-чуть улыбаясь, словно зная что-то
и не желая слушать Алину.
Она смотрела на его тонкие руки, которые утомлял
огромный изумруд.
— И что же вы узнали?
— Ничего.
— Ага... вы наказаны.
Они посмеялись.
Алина пила кофе. Потом она рассказывала о своем детстве
и юности, спокойно, как о чужом.
— Моя мать, урожденная графиня Geg. Почему она не
вышла замуж — я не знаю. Однажды она поехала в Рим и вернулась
оттуда уже со мной. Говорят, она родила меня от итальянского
2 Анна Map
33
патера... С тех пор она жила безвыездно в своем родовом
имении. Она была высока, худа, смугла. Она презирала людей и
ненавидела животных. Я не помню, чтобы она взяла меня на
колени или дала мне конфету. Если неожиданно она замечала
меня, ее взгляд становился тусклым. «Вы здесь, Алина? —
спрашивала она. — Кто пустил вас ко мне?» Она учила меня читать
по большой книге без картинок. В окно я видела парк. Вода
чернела в круглом бассейне. Над ним часто летали голуби и
садились на каменную балюстраду. Осенью листья лежали там
грудами, как снег, и это будило грусть.
— Ну, Бог с ней, Алина... лучше рассказывайте дальше.
Рушиц засмеялась его нетерпению, восхищенная и
польщенная.
Клара кашляла за дверью.
Шемиот улыбался. То, что он угадывал в Алине,
становилось для него все более и более ясным.
Она продолжала.
В доме ее матери было восемнадцать комнат и ни одной
безобразной. Бронза, фарфор, драгоценные ковры и картины,
старинные кружева и бриллианты, редчайшая библиотека и
сувениры царственных лиц — все это перешло от целого ряда
предков. В 1807 году маршал Дюрок останавливался здесь.
Лучшее воспоминание Алины — библиотека. Ежедневно
пробиралась она туда и читала все без затруднения, ибо ни один
шкаф не запирался. Когда Алине исполнилось десять лет, мать
написала кому-то в Англию. Мисс Уиттон приехала немедленно.
Она не побоялась суровой зимы и тишины имения. Это была
стройная золотоволосая женщина, красивая и веселая. Она
носила исключительно белые платья, белую обувь, белые
кораллы на шее и душилась гелиотропом. Мисс Уиттон выбрала
самую отдаленную комнату в верхнем этаже. Обои там были
светлые, с золотой полоской, мебель и ковер цвета сливок. На
мраморном камине она поставила желтые ассирийские вазы,
подарок матери Алины. Мисс Уиттон звала свою воспитанницу, если
была нездорова. Это случалось также тогда...
Алина опустила глаза, смешавшись.
Шемиот подсказал ей:
— Она наказывала вас, вероятно?
Лицо Алины запылало. Она кивнула головой, кусая губы.
-Как?..
— О... не мучьте меня... Почему вы спрашиваете?
— Это касается вас...
Алина перевела дух и овладела собой.
34
«Я не знала, как приятно говорить об этом с Шемиотом», —
думала она.
«Она обворожительно краснеет. Я волнуюсь. Я буду жесток
с ней впоследствии», — думал он.
Вслух Алина говорила:
— Не вините мисс Уигтон. Я была несносным ребенком,
упрямым, живым, дерзким. Я прятала то деньги, то браслет моей
матери, их искал весь дом, а я воображала себя сыщиком и
находила «пропавшие» вещи. Мне всегда было скучно, и я жаждала
приключений. Поэтому я писала влюбленные письма нашему
управляющему (я не знаю, откуда я знала множество
страстных слов), вызвала его на свидание, потом пожаловалась
мисс Уигтон, и беднягу выгнали. Можно смело сказать, что
влечение к греху было во мне огромно. Однажды я обрезала себе
волосы и клялась, что это сделала мне Виктория-Юзефа,
маленькая грустная девочка с белокурыми локонами, гостившая у нас
летом. В наказание Викторию-Юзефу засадили учить
английский урок, а я гуляла в парке... подсмеиваясь... Сознание
вины удручало меня до отчаяния. Я любила слушать выговоры.
И когда мисс Уигтон секла меня, я просила прощения с
увлечением. По совести говоря, я была немного влюблена в англичанку.
Алина еще раз вздохнула, облегченная признанием.
Ее голос был полон грусти, когда она рассказывала о своем
первом причастии, об уроках катехизиса у доброго старого
ксендза-каноника, впавшего в немилость у епископа и сосланного в
глушь. К нему она ездила вместе с мисс Уиттон по дороге,
обсаженной тополями, на очень высоком доггарте. Иногда лошадь
несла, влажные комья летели во все стороны, Алина
вскрикивала, а мисс Уиттон громко смеялась. Лицо англичанки
становилось розовым, смелым, счастливым... Она жадно пила
воздух.
Потом внезапно мисс Уиттон умерла. Ее похоронили в
имении за оградой, как раз в начале той дороги, по которой они
скакали на уроки катехизиса. Алина и Виктория-Юзефа горько
плакали. Мать Алины смотрела из окна кареты на печальную
процессию. Грубую яму сейчас же залила мутная вода. Был
холодный, дождливый октябрьский день.
Через год умерла нежная, грустная Виктория-Юзефа.
А еще через два года умерла мать Алины, вышивая лилии
на голубом шелку.
Старичок-каноник и какой-то важный, хмурый господин
долго говорили с Алиной. Ей уже исполнилось шестнадцать лет, и
она почти взрослая. Она узнала, что она — внебрачный ребенок
2 *
35
и должна сейчас же уехать из имения, которое переходило к
наследникам.
Алина была уничтожена, ошеломлена, унижена.
В последний вечер она долго прощалась с парком. Каждому
кусту, каждой аллее, обнаженным статуям, воздушным
беседкам, темной воде, в которой отражались облака, она кричала в
агонии — «прощай»... И они отвечали тяжелыми вздохами,
легким журчанием воды, слабым треском ветвей — «прощай».
Алина уехала на юг, обеспеченная крупным состоянием,
увозя то, что ей разрешили увезти, — часть библиотеки, часть
мебели, бриллианты, не родовые, а благоприобретенные, некоторые
сундуки с бельем, туалетами. Она плакала до того безутешно,
что старик каноник напомнил ей о грехе отчаяния. Он жалел
свою лучшую ученицу, всегда кроткую, послушную, очень
набожную и без тени самомнения. Долгое время она посылала
ему сентиментальные письма, вкладывая туда то лепестки роз,
то веточку кипариса.
На юге ее ждало утешение — здесь она познакомилась с
Христиной Оскерко, которая была двумя годами старше Алины. Ей
казалось, что Христина заменит Викторию-Юзефу. Она более
не ощущала одиночества. И она совсем забыла прошлое, когда
по ее настоянию Витольд Оскерко купил ей дом с садом и она
очутилась в нем, свободная и независимая.
Алина смолкла, растроганная воспоминаниями.
Клара снова ходила за дверью.
Алина минуту слушала шелест ее платья, потом, желая
заглушить его, спросила Шемиота:
— А вы ничего не расскажете мне?
— Ничего, ибо моя жизнь проста, дорогая. Вы хотите
подробностей? Их почти нет. Я долго учился, упорно служил,
создавал себе положение, овдовел. Теперь я одинок.
Стоя совсем близко, он смотрел ей в глаза. По ней прошел
трепет.
— Благодарю вас за сегодняшний вечер, Алина.
Увидев Клару, сидящую в позе оцепенения возле самых
дверей кабинета, Алина невольно вздрогнула.
Они слегка поклонились друг другу.
Когда Алина ушла, Шемиот посмотрел на часы. Было
четверть первого...
— Боже мой, — пробормотал он, крайне недовольный.
Кофе, фрукты, запах роз, ликера и духов Алины
раздражали его. Обыкновенно он курил очень мало. Теперь, нервки-
36
чая, он наполнил .пепельницу папиросами. Обыкновенно он уже
был в постели, освеженный умыванием, переменив белье, и
спокойно читал или обдумывал прошедший день. А сегодня
он потерял столько времени для этой девушки, мечтательной
и эксцентричной. Не зашел ли он далеко? Как подобные
волнения отразятся на его здоровье? И в конце концов, к чему
все это?
Клара вошла убрать со стола. Она не позволяла лакею
мешать Шемиоту.
Шемиот внимательно посмотрел на нее.
Как у всех нервных людей, ее внешность мгновенно
менялась. Сейчас, после визита Алины, который для нее тянулся
вечность, после нескольких часов нестерпимых страданий,
ревности и отчаяния, Клара постарела. Она согнулась, сжала губы,
смотрела мутным, бесконечно усталым взглядом.
В первый раз за последние годы в Шемиоте вспыхнуло
сострадание, пылкое и стремительное.
— Милая, ты устала?
Изумленная, она подняла голову. Как давно он не называл
ее на «ты»...
— Совсем немного...
Он подошел ближе, улыбнулся, обнял ее с живостью и
грацией.
На секунду перед ним мелькнуло ее прежнее лицо —
розовое, свежее, с доверчивыми, кроткими глазами, с зубами
белыми, как сама белизна. Она была перед ним такая, какой
тридцать лет тому назад пришла отдать ему честь, деньги, семью,
жениха — все, что имела, ради унизительного и двусмысленного
положения при его жене. Она была больше чем любовница и
больше чем раба. Она была его эхом и вещью. Теперь она
должна была смотреть, как он любил других женщин, и любить их в
свою очередь.
Его сердце сжалось.
— Ты устала, Клара... конечно, ты устала... извини меня.
Она продолжала смотреть на него скорее испуганно, чем
благодарно. Какое еще новое мучение он готовит ей? Она по
опыту знала, что он становился особенно мягким, ласковым,
предупредительным, как только готовил ей мерзость.
— Тебя беспокоит Алина?.. Она нетактична и болтлива...
Уверяю тебя, я даже не нахожу ее достаточно умной.
Клара покачала головой. Она выдавила из себя глухие
слова, убирая кофе:
— Девочка очень мила...
37
— Нет, нет... Не будь снисходительна. Обожди, мы скоро
уедем на дачу и избавимся от непрошеных визитов...
— Как хочешь...
Он снял и бросил воротничок, манжеты. Запонки
покатились. Клара подняла их.
Он улыбнулся доброй и просительной улыбкой и казался
совсем юным со своими пышными золотистыми волосами,
крупными губами, черными гордыми глазами.
Клара входила и выходила. У нее слегка кружилась голова.
Неужели же он до сих пор любит ее?.. Ведь когда-то он клялся
жениться на ней. Неужели же?.. И она уже страдала за Алину.
Шемиот не ушел в спальню, а прилег на диван и подозвал
Клару. Обнимая ее, он говорил растроганным голосом... Что у
нее болит?.. Почему она не бережет своего здоровья?.. Почему
она так грустна?
Тогда она заплакала, отвечая шепотом, ибо от слабости и
волнения у нее не хватало голоса:
— У меня везде болит... грудь, поясница, внизу живота...
между лопатками... в пищеводе... я чувствую, как я задыхаюсь, и этот
пот... Ты ведь знаешь мое тело?.. Я всегда была сухая и горячая...
теперь я мокрая и холодная, как лягушка... я не сплю и не ем.
Он страстно и нежно обнял ее, словно был влюблен в нее
без памяти, целовал ее волосы, лицо, руки, утешал, успокаивал,
обещал, клялся, покуда она не начала тихо смеяться,
просветленная, счастливая, почти здоровая. Тогда он ощутил
мертвящую пустоту, глубокое утомление, проникся мыслью об Алине
и равнодушно отослал спать Клару.
II
Шемиот уехал в имение, ни единым словом не предупредив
Алину, даже не простившись с ней по телефону.
Алина узнала эту новость от его лакея Щурека, который
перевез к Рушиц свой синий сундук и теперь исполнял здесь
должность садовника.
Алина была смертельно оскорблена. Что значит эта грубость?
Или он не любит ее? Или сомневается в ее любви?
Наплакавшись вдоволь, она утешила себя: «Мужчину
всегда пугает сближение с женщиной. И потом, эта Клара... Она
восстанавливает его против меня... А быть может, он мучает
меня умышленно?..»
Она вспомнила о своих религиозных обязанностях и в
первую же субботу отправилась на исповедь.
38
Костел был старый, пышный, внутри почти весь
выложенный белым мрамором, со множеством конфессионалов, с
гротом Лурдской Мадонны, из которого Мария выступала
крошечная и трогательная.
Ксендз Казинас зажег свечу в конфессионале, задернул
лиловую занавесочку и читал там внутри свой молитвенник.
Он долго говорил Алине сквозь деревянную решетку о
соблазнах плоти, о грехах против чистоты, о фантазии, которая
губила женщину чаще всего. Он был убежден, что Алина вовсе
не любит Шемиота.
— Ведь он стар, дитя мое, а ты молода... я знаю господина
Шемиота... он суров и насмешлив... а любить можно только
добрых и ясных людей... Выкинь его из головы...
Она покорно слушала старика, со всем соглашалась, во всем
раскаивалась, обо всем жалела, но под потоком его
увещательных слов ее сердце продолжало влюбленно сжиматься. Теперь,
когда Шемиот являлся уже опасным для ее души, он был для
нее вдвое соблазнительнее. Исповедь распалила ее.
Вернувшись к себе, она думала: «Я уже осуждена. Для меня
нет никого и ничего, кроме Шемиота. Если я не получу от него
хотя крошек любви, я буду несчастна всю жизнь...»
Писем от Шемиота не было. Алина дурно спала, страдала от
зноя, мучила всех в доме своей резкостью. Ежедневно
являлась Христина и устраивала бурные сцены.
Она начинала их восклицанием:
— Ты недостойна моей любви, Алина. Этот ужасный
человек отнял тебя у меня. Я его ненавижу, я буду мстить ему, я
доведу его мальчишку до самоубийства...
И когда Алина возмущалась, она осторожно брала ее руки и
прикладывала к своему лицу.
— Ну скажи, за что ты его любишь?..
— Если Шемиот приказывает, он не повторяет...
И Алина мечтала, а Христина приходила в ярость.
— Вы — изумительны, — бормотала она, — вы купаетесь в
разврате... вас всех бьет чувственная лихорадка. У Шемиота
любовница в доме: Клара ради него изменила своему жениху, и
тот застрелился. Мисси Потоцкая оголяется ниже талии...
К брату моему чуть ли не ежедневно бегают накрашенные
девки... скоро они разложатся по всем комнатам... Что ты знаешь о
Шемиоте? Возможно, он болен... Ах, я так гордилась тобой,
Алина. Ты была так чиста, наивна... Я думала (о, как я
ошибалась), я думала, тебе будет достаточно моей любви, дорогая...
Алина останавливала ее недовольным жестом:
39
— Довольно, Христина... все это очень дурно... Ах, некому,
некому наказать нас обеих.
Через неделю она едва не упала в обморок, увидев в
гостиной Шемиота.
Он хотел пробыть у нее полчасика перед поездом. Она
напустила на себя строгость и рассказала ему о своей исповеди.
К ее изумлению, он заметил:
— Мне всегда казалось, что настоящая женщина должна быть
верующей и практикующей католичкой.
И с улыбкой:
— Ксендзы — союзники мужчин. Я всегда удивлялся, как
многие мужья не понимают этого. Ксендз вменяет послушание
и покорность в первый разряд женских добродетелей. У меня
маленькая богословская библиотека... О, крошечная... Я
предлагаю вам перечитать кое-какие вещи... жития святых,
например... святую Терезу... «Людвину из Шидама» Гюисманса...
Сиенскую... это вам принесет пользу, без сомнения...
-Но...
— Дорогая моя, взять благочестивые книги у человека, к
которому вы питаете дружеские чувства, не совсем глупо...
У вас родится туча благочестивых мыслей о верности,
смирении и прочее.
Он развивал эту тему, чрезвычайно веселый.
Дружеские чувства... Алина взглянула на него с упреком.
Он ушел.
Она спустилась в сад.
Был полдень. Бледная лазурь казалась раскаленной.
На кустах розы цвели вторично, белые, желтые, пурпурные
и розовые. Пчелы ползали по ним, как тяжелые капли
золотого меда.
Белые розы казались сделанными из белого шелка,
неживыми, сверкающе-прекрасными и возбуждали сладострастное
желание бури, уничтожения, гниения, смерти. Они пили летнее
солнце, ароматы, ветер и синеву неба своими детскими,
целомудренными устами.
Желтые розы, по краям розоватые, словно залитые
отблеском зари или заката, теплые, нежные, чувственные и покорные.
Птицы громко пели им о страсти.
Бенгальские розы, розы Франции и те, пурпурно-черные,
махровые, сладкие, как мускат, вызывали в Алине жест
восхищения.
Розовые розы были круглы, тяжелы, словно зрелые,
сочные плоды; густой аромат их — смесь вина, сахара, ванили —
40
осаждался на губах, подобно соленому ветру моря. Они были
последними, которые Алина сорвала для своего букета.
В конце аллеи она села на каменную скамью, оглядываясь
кругом пьяными глазами. Не была ли любовь вся соткана из
ароматов, солнечных лучей, сладострастия души? Она думала,
что ее ожидает блаженство читать святые книги, которые он
выбирал для нее и которые, возможно, сблизят их. Ибо в своей
влюбленности она хваталась за каждую соломинку.
Шемиот сдержал слово.
Он прислал ей два больших пакета душеспасительных книг.
Они оказались вовсе не скучными. Она ознакомилась со
многими впервые и была поражена, как часто самые пламенные
излияния святых совпадали почти точно с ее личными мыслями,
ощущениями, переживаниями. Иногда, сраженная и
ослепленная, Алина тихонечко вскрикивала и опускала книгу. Она
задыхалась в этой атмосфере страстных слов, воплей, криков,
признаний. Она обжигалась этой пламенной покорностью,
пламенной скорбью, жаждой искупления. Святой Августин называл
слезы кровью души. Святая Роза de Lama говорила, что слезы
принадлежат только Богу, их нельзя отдавать никому другому,
ибо тогда свершишь душевное прелюбодеяние. Тереза из Ави-
лы восклицала: «Страдать или умереть!» Мадлена де Пацци
находила это недостаточным и шептала: «Страдать и не умирать,
всегда страдать». Пасидея Сиенская безумствовала в
изобретении новых страданий и унижений. Грустная Маргарита — Мария
Алякок замечала о духовнике своем Коломбьере: «Он не
пропускал ни единого случая унизить меня, и мне это доставляло
живейшую радость». Суровая аббатиса Зангита восклицала:
«Презирай себя самое и презирай презрение к самой себе».
Наконец, великая аскетка и страстная почитательница
папства Екатерина Сиенская не уступала никому из них в жажде
мученичества и страдания.
Из всех этих женщин-святых воображение Алины было
потрясено не самыми знаменитыми, не самыми великими и
сильными. Оставляя в стороне мудрых и блестящих, она
интересовалась только теми, которые не писали сочинений, не
проповедовали Ватикану, не основывали монастырей и вообще не
создавали ничего необычайного. Они только любили, только
страдали, только подчинялись.
Это были: Екатерина Висконти, Урсула Пармская, Мария
Багнези, Анжелика Тардера, Доминика Лаззари и другие —
целый сад мистических роз, среди которых свободно гуляют
ангелы. Эти женщины угасали медленно от необъяснимых болез-
41
ней, таинственных ран, чересчур страстных слез, жгучей тоски
по небу. Протягивая слабые руки, прожженные стигматами, они
умирали в исступлении любви так тихо и быстро, словно это
масло выгорало в светильнике.
После каждой книги Алина чувствовала себя утомленной,
потрясенной, уничтоженной, беспомощной. Она открывала в себе
ощущения и мысли, которые были у святых, и это терзало ее,
как если бы она совершила тягчайшее преступление или
кощунство. То, что чувствовали эти святые женщины к Иисусу, она
испытывала к Шемиоту. Она боялась своей душевной
смятенности, как неверия, и она погружалась потом в глубокую грусть,
которая доставляла ей наслаждение.
Разумеется, она написала обо всем Шемиоту.
Он ответил не скоро и слегка недовольный. Он напомнил ей
слова Метерлинка: «Не нужно оставаться там долго, где была
счастлива душа». Книги святых — жгучий напиток. Если его
вкушают души слабые, неподготовленные, за них нужно
бояться. В мистической любви таится бездна, куда душа может упасть
и разбиться. Шемиот находил, что Алина достаточно долго была
в атмосфере святых. Он просил ее спуститься на землю.
Она послушалась, но что-то отравленное навсегда вошло в
ее душу.
Христина продолжала мучить ее.
Однажды она пробормотала в глубокой тоске:
— Ты думаешь, я безумна? Нормально, ненормально... Ах,
оставь... Может быть, ты справишься у врачей?.. Что они
знают, эти грязные животные? Для них все просто, ясно, все под
ярлыками, на все есть лекарство и режим... Природа же
великая обманщица. Разве у меня нет ребенка, чересчур умного?
Откуда это?.. Нелепость, случайность. Глупейшая история на
курорте, нечто вроде кошмара... моя нерешительность, боязнь
сделать... В результате — мальчик. Вот тебе природа.
Алина холодно пожала плечами. Она подумала о ребенке,
который, несмотря на лето, остался в пансионе. Экономка
взялась следить за ним, Бруно целыми днями бродит один по
пустым классам и только за обедом, завтраком видит людей. Она
представила его круглую головку с каштановыми редкими
волосами, серьезные голубые глаза, пухлый ротик. Она сказала:
— Ты — дурная мать, Христина. Почему это не беспокоит
тебя?
По ее настоянию Оскерко привезла к ней Бруно. Алина
удивилась. Снова у него был старенький костюмчик, плохо обутые
ножки, прошлогодняя шляпа. А между тем еще совсем недав-
42
но Алина передала Оскерко довольно солидную сумму денег.
Она всегда заботилась об этом несчастном ребенке. Каждый
раз при встрече с ним она обходила подряд несколько
магазинов, и в те дни ей вечером приносили коробки и пакеты.
Сегодня она рассердилась на Христину.
— Куда ты выбросила деньги?
— Я?.. Но я заплатила за свое коричневое платье... то, что с
голубым жилетом... оно всем нравится.
— О... Это гадко... Ты злая, Христина...
— Бруно еще мал для нарядов...
И так как Алина занялась мальчиком, Христина кидала
вокруг себя мрачные, полные страдания и зависти взгляды.
Почему Алина не возьмет ее к себе?.. Что было бы проще, как жить
вместе в этом чудесном особняке, уединенном и полном
старинной мебели? О, вместе на этой широкой сладострастной
кровати, задернув ее шелковые, лунного цвета занавески... Она бы
целовала маленькие ступни ног Алины, и линию спины,
изогнутую и волнующую, и длинные ароматные волосы — всю ее, всю...
Отчаяние и зависть душили Христину.
Она незаметно вышла и почти машинально очутилась в
комнате Войцеховой.
Старая служанка в черном платье, но без чепчика,
бормотала ружанец.
Они очень приветливо поклонились друг другу.
— Ну как дела, Войцехова?
Войцехова недовольно пожевала губами. Осторожно она
намекнула, что теперь барышня изменилась к худшему. По
хозяйству ненужные траты и упущения. Щурек оказался вором,
однако барышня не гонит его, ибо негодяй умеет рассказывать
о порядках в доме господина Шемиота.
Христина раздраженно вспыхнула.
— Господин Шемиот — безнравственный человек, — сказала
она ледяным тоном, — я не о таком муже мечтала для Алины.
Служанку прорвало. О да, барышня попрыгает, если только
выйдет замуж за господина Шемиота... небось та гувернантка
по три дня ходит с мокрыми глазами... Сердце Иисуса
смилуется над нами... Барышня пропускает воскресную мессу...
И они бранились, шипели, сплетничали, терзаемые
беспокойством, завистью, грязным любопытством.
Наконец Войцехова проговорила льстиво:
— И почему бы нашей барышне не выйти за пана Витольда?
Человек — молодой, богатый, трудящийся... Это была бы
настоящая партия... Люди заткнули бы свои глотки.
43
Христина кивала головой. Да, да, если бы Алина вышла за
Витольда... Эта неожиданная мысль оглушила ее. Они
продолжали шептаться, как две заговорщицы.
Маленький Бруно тихонечко и с удовольствием
рассматривал картинки.
Алине стало скучно. Чувствуя себя чужой в собственном
доме, усталая от Христины и бесплодной печали последних дней,
Алина спустилась в сад. Она хотела быть одной, мечтать о Ше-
миоте и обладать им мысленно с опытностью девственницы.
После ряда бессонных ночей Алина дождалась письма от Ше-
миота. Самым невинным тоном он приглашал ее к себе в имение.
Он объяснял, что через четыре часа езды по железной
дороге она приедет на станцию X., где ее будут ждать лошади.
Далее он рассказывал, что дом его стоит на горе. Дожди
вырыли глубокие извилистые овраги, и по крутизне цветет
дикий шиповник. Ниже шумят деревья, и река достигает их
корней. Несколько раз он видел молодого орла. В поле же можно
найти лиловые и желтые ирисы, пахнущие медом, зрелым
хлебом, горячей землей, а также голубые, белые и сиреневые
колокольчики и липкую смолку.
И наконец, здесь еще одна соблазнительная подробность,
пусть Алина лично приедет и увидит.
Алина заложила письмо в томик Гонкура и закрыла глаза.
Что Шемиот думает о ней?.. Звать ее, Алину, барышню из
общества, к себе в имение?.. А Юлий?.. А Клара?.. И как он мог
быть таким самоуверенным?
Алина рассердилась, потом заплакала, потом выбранила себя
за подозрительность, потом возликовала, затряслась от любви,
нетерпения и решила уехать к Шемиоту.
Был понедельник, и она, суеверная, отложила отъезд на
вторник.
На другой день перед завтраком она гуляла по аллее
маленькими шажками.
Щурек доложил о приезде господина Шемиота. Она
затрепетала.
Оказалось, это был молодой Шемиот, Юлий.
Покуда он вежливо кланялся и передавал ей поклон от отца,
Алина еле оправилась от испуга.
— Вы снова в городе. Что случилось?
Юлий принял серьезный вид. Клара совсем расхворалась.
Они опасаются несчастного исхода. Оставлять ее в имении без
медицинской помощи невозможно.
44
Здесь он отвез ее в лечебницу Святого Винцента.
— Боже мой! Боже мой! — повторила изумленная Алина.
Потом она вздохнула с огромным облегчением... значит,
Шемиот один... значит, Шемиот ее любит... значит, она поедет к
нему...
И она пригласила Юлия завтракать с видом нежного
соболезнования.
Как никогда, он был интересен сегодня. Его красивая голова
с профилем Цезаря, светлый костюм, цветок в петлице,
длинный шелковый галстук, весь изящный силуэт молодого
человека лет двадцати трех, а главное — какая-то неуловимая грусть
лица взволновали Алину.
«Жить, — пронеслось в ней, — любить и жить».
За завтраком Юлий заговорил откровенно. Алина поняла его
с первого слова. Ах, Христина... вот о ком она совершенно
забыла вчера и сегодня. Одна мысль, что Христина может
помешать ее встрече с Шемиотом, вызвала в ней раздражение и
неприязнь.
— Дорогой Юлий, чего, собственно, вы хотите от Христины?
— Я хочу жениться на ней.
— Христина старше вас.
— Это безразлично.
— Она не имеет средств.
— О... Я ведь кончил университет... Кроме того, я имею кое-
какие средства от матери... таким образом, я совершенно
самостоятелен...
— Вы уверены, что Христина расположена к вам?
— Я ни в чем не уверен.
— А ваш отец?
— Я говорил с ним. Он дает мне полную свободу.
Алина засмеялась.
— Извините меня, Юлий... я задавала вам вопросы с
грубостью мещанки... что мне сделать для вас?
— Я люблю Христину. Поддерживайте меня перед ней.
— От всей души, друг мой...
После ухода Юлия она снова очутилась в саду,
мечтательная и ленивая. Цветники благоухали. Под абрикосами лежала
густая тень. Она было направилась туда, но окунулась в траву
выше колен и вернулась снова на дорожку. На небе розовые,
желтые и фиолетовые тона растопились и смешались в одно.
Алина думала: «Генрих истомился без меня и теперь
безумствует... Ах, как девственность тяготит меня... Распустите мои
волосы, Генрих, нагнитесь и возьмите мой поцелуй, глубокий и
45
медленный... ни в чем, ни в чем я не откажу вам... Нежное
любопытство ваших глаз, уст, рук будет насыщено... Сжальтесь
надо мной, Генрих, сжальтесь надо мной, ибо я люблю вас...»
Но ее попросили в дом — барышня Оскерко звонит по
телефону, — и она вернулась к действительности.
Алина лениво взяла трубку.
— Это ты, Христина?.. Здравствуй... Нет, ко мне нельзя
прийти... я уезжаю сегодня с вечерним поездом...
Христина кричала что-то истерично!
Алина перебила:
— Не раздражай меня, милочка... Боже мой, какая скука... Я
ведь свободный человек... — И она отошла от телефона.
Но уже через полчаса Христина Оскерко явилась к Алине с
видом безумной.
Она падала на колени, рыдала, заклинала, молила, грозила
самоубийством. Алина осталась непреклонна. Кротко и
терпеливо она заговорила об Юлии. Вот кого нужно пожалеть и
полюбить Христине.
— Нет, нет...
Алина рассердилась в свою очередь. Теперь уже ничего не
изменишь. Вещи ее уложены, автомобиль сейчас подадут. И она
ушла одеваться. Христина впала в мрачное отчаяние. Она
думала, думала...
Алина тронула ее за плечо.
— Идем же, друг мой...
Щурек вынес большой чемодан. Войцехова выскочила
растерянная, изумленная. Они поехали. Вокзал был на другом
конце города.
— Как ты красива, — после долгого молчания сказала
Христина, —ты здорова... красива... Я тебе завидую.
На Алине было пальто дымчатого цвета, очень широкое,
закрывавшее ее всю до узких ботинок. Капюшон того же
цвета, что и подкладка, — светлый фон с крошечными букетиками.
Свою белокурую головку она упрятала в маленькую шляпу-
грибок, а длинный шарф был завязан у подбородка.
Алина улыбнулась, бросая рассеянный взгляд на
мелькавшие мимо дома, сады, людей, — она уже видела себя в объятиях
Шемиота. Конечно, он ждет ее, задыхаясь от любви и
нетерпения... и она приедет, и она все расскажет ему, и они будут
счастливы.
Христина спросила ее холодно:
— Почему ты не хочешь серьезно отнестись ко мне... Алина?
Разве я не заслуживаю и жалости?
46
Рушиц смутилась. Счастье смягчало ее.
— Я боюсь наших разговоров, Христина...
— Я оскорбляю тебя, если люблю?..
— Нет, конечно. Но ты выражаешь свою люб... свою
дружбу так, что с закрытыми глазами тебя можно принять за
мужчину... Ах, если бы твои слова говорил мне Шемиот.
Алина засмеялась, а Христина подавила вспышку. Она
продолжала так же холодно:
— Мне необходимо твое присутствие! Я хочу видеть тебя
каждую минуту, всегда. Я хочу знать твои мысли, желания,
поступки. Я хочу служить тебе и оберегать тебя от всего злого.
Иногда я хочу видеть тебя в постели, с твоими длинными
волосами, крепкой грудью, овалами бедер. Я понимаю, что могла бы
ласкать тебя так, как ни ты, ни я сама еще не знаю... но это было
бы восхитительно... Понимаешь?..
Алина смеялась. Она уже не сердилась. Конечно, нелепо со
стороны Христины говорить о любви, раз она, Алина, едет к
Шемиоту... Но Христина несчастна... и пусть говорит...
— Я написала тебе сотни писем, дорогая... но я не смею
отдать их... Меня возмущает одно... Уже много лет я люблю тебя,
я целую тебя в губы, и ты не тяготилась этим... Сколько раз я
раздевала тебя... Сколько раз я была при тебе, когда ты сидела
в ванне и напоминала наяду в раковине. Ах... Теперь ты
встретила этого Шемиота и потеряла голову... Ты боишься
расстегнуть при мне корсаж. Я целую тебя в затылок, и ты
вздрагиваешь... я не знаю, может быть, даже от гадливости...
Алина не слушала. Она продолжала улыбаться, и ее глаза,
синие, теплые, кроткие, мерцали таинственно и страстно.
Христина вспылила. Она грубо дернула ее за рукав.
— Да очнись же... очнись... Мне больно... я страдаю.
Алина умоляюще обняла ее.
— Что я могу, Христина? Что я могу?.. Я — твоя подруга. Я
навсегда останусь ею... но больше?..
Вокзал был почти пуст. В купе Алины сидела какая-то
старая дама, Христина дрожала. Она не выпускала руку Алины.
— Который теперь час?..
— Восемь, — вмешалась соседка.
— В двенадцать часов я буду там, — сказала Алина.
Ночью... Христина побледнела еще больше: Алина не
вернется девственницей.
Поезд тронулся. Христина выскочила, но еще побежала за
ним, рыдая, с искаженным лицом, близкая к помешательству.
Расстроенная Алина вернулась на место.
47
— Это ваша сестра? — любезно спросила соседка.
— Да... кузина...
И Алина испуганно покраснела.
— Вы надолго уезжаете?
— Надолго.
И Алина закрыла глаза. Сейчас же она уснула грубым,
усталым сном батрачки.
Ее разбудил кондуктор. В купе уже горело электричество, и
соседка исчезла.
На станции она звонко спросила жандарма, нет ли здесь
лошадей из имения г-на Шемиота.
Лошадей не было.
Изумленная и огорченная, Алина обратилась к начальнику
станции. Очень обязательный, он утешал ее тем, что за хорошую
плату лошадей можно достать немедленно. Потом он сказал, что
молодой г-н Шемиот и родственница г-на Шемиота уехали в
город, знает ли барьппня об этом? Она была смущена тем, как
хорошо осведомлены обо всем, что происходило у Шемиота.
Наконец ей подали лошадей, и она уехала, провожаемая
колкой улыбкой начальника станции.
Алина не могла больше ни о чем думать.
Дорога показалась ей очень короткой.
Когда она въезжала в усадьбу, ей захотелось выскочить из
экипажа и убежать. Щеки ее пылали от стыда. Из темноты она
услышала восклицания, лай собак, потом увидела на
освещенной веранде Шемиота.
Он встретил ее спокойный, изысканно одетый, с книгой в
руке. У него был вид, словно Алина зашла к нему из соседнего
дома. Алина забыла упрекнуть его за невнимательность.
— Как вы могли пригласить меня?
— Но, Боже мой, почему бы вам не навестить старика?
Она опустила глаза, стягивая перчатки.
— Бедная Клара...
— Да, она серьезно заболела... Был ли у вас мой сын?
Отлично... Что вам, Викентий? А, сдачу с денег для барышни?..
Лошади уехали?.. Хорошо. Пришлите сюда горничную.
И он удалился, а Рушиц, ошеломленная, осталась на месте.
Кресла и стол здесь были из тростника. Доски прогнили, и
пробивалась трава. Какая-то собака поднялась по ступеням и
приласкалась к Алине. Дальше шла темнота — фон деревьев. Еще
дальше — сверкали огни. Алина поняла, что там паром. Но все это она
видела машинально, не желая видеть. Она была удручена.
«Зачем я приехала? Шемиот спрятался. Он вовсе мне не рад?»
48
Появилась горничная и повела ее, держа высоко лампу.
В доме стоял густой запах старой мебели, старых стен, старых
материй и книг. Кое-где блестели позолота рам, бронза часов,
край зеркала.
Ей стало веселее, когда она увидела свою комнату в два окна,
оклеенную светлыми обоями, с мебелью розовой, выцветшей,
но очаровательной. Пол закрывал ковер, на котором амуры вили
венки из роз. Несколько наивных гравюр висело по стенам.
Горничная, назвавшись Франусей, принесла сюда ужин:
горячее, цыпленка с салатом, вино, сыр, вишни. Алина ела с
аппетитом. Франуся болтала с видом особы скромной, но много
понимающей. Ее глаза — крохотные и задорные — блестели среди
круглых щек, вздернутого носа, пухлых губ. Она говорила, что
первый раз служит в имении, скучает по городу и рада до
смерти приезду барышни. Теперь не будет так скучно... голос живой
услышишь... Когда родственница барина была больна, она даже
подумывала бросить место, так везде пахло лекарствами.
Алина беспокоилась о своих помятых платьях.
Франуся клялась, что разгладит все завтра до девяти часов
утра, — барышня может положиться на нее.
— Благодарю вас. А когда встает барин?
— Барин встает очень поздно. Он пьет кофе у себя. Барышня
увидит завтра, какая у нас красота... цветов гибель... горы, река...
Она собрала тарелки и ушла, пожелав спокойной ночи.
Алина осталась одна и не заперла дверь.
Она выспалась в вагоне и теперь чувствовала, что не
сомкнет глаз. Она мечтала. Это было сладкое, но опасное занятие.
Потом она сбросила с себя простыни. Ах, все равно... ведь Ше-
миот женится на ней... В негодовании она уличила себя во лжи.
Если она действительно его невеста, то зачем же она приехала
сюда, как женщина легкого поведения?
Она устыдилась и заплакала. Только бы он женился. После
всего, что случилось, он должен жениться. Ведь ее душа
загрязнилась ради него. Она была раньше совсем дитятей со своими
воспоминаниями о строгой матери, о мисс Уигтон. С дружбой
Христины. Она довольствовалась садом, книгами, платьями, она
считала величайшим удовольствием все костельные торжества.
Жизнь представлялась ей сладким сном.
Но теперь явился Шемиот, и она делает безумства и кричит
от любви, как разъярившаяся самка.
Между тем Шемиот лежал на другом конце дома. Его
рыжеватые волосы и сияющий лоб были смочены одеколоном.
Он мучился мигренью.
49
«Алина — в моем доме. Впрочем, я не сомневался, что к
моему приглашению она отнесется как к приказанию. Я ждал
сильных ощущений — их нет. Всю спорную сладость обладания я
познал мысленно. Действительность не даст мне ничего нового.
Менее всего я склонен жениться. Это хлопотно и скучно. Если
же я воспользуюсь тем, что девушка влюблена в меня, и не дам
ей никаких обязательств, тогда получится второй экземпляр
Клары. Целую ручки... они загрызут друг друга. Надевать
халат, туфли, красться в ее комнату... А наутро вся прислуга...
Какая пошлость... И ради чего? Ради ее крика, крика
потерянной девственности? А вдруг я ошибаюсь и она даже не
девушка?»
Он перелистал несколько страниц и читал, думая об Алине.
«Единственно, что я мог бы сделать, это прийти к ней
корректно одетый, спокойный, прочесть ей длинную нотацию о
девической неосторожности и высечь ее среди смятых подушек и
горячих простынь. Алина была бы прелестна в испуге... Она вся
была бы смятение, любовь, стыд, покорность и мольба... Ах,
Алина, вы в моей власти».
Он выпил воды. Сильно побледнел, но его мигрень стихла.
«Все это мечты. Действительность гораздо грубее. Быть
может, Алина окажется совсем не сладострастной в боли, не
покорной... начнет истерично кричать, грубо плакать... Я не знаю.
Во всяком случае, нужно помедлить. Я хочу причинить ей
самый глубокий стыд. В наказании, как и в сладострастии, важен
стыд, а не боль. Боль даже отрезвляет. Я подожду... Я
терпелив, Алина... Я ведь еще не слышал, как вы объясняетесь в
любви. У нас много времени».
Алина проснулась рано, свежая, как вспрыснутый росой куст.
Через жалюзи сверкало солнце.
Босиком она прошлась к окну и потянула их кверху. И она
улыбнулась.
Вся вчерашняя темнота оказалась зеленью — яркой, темнее
и совсем темной. Перед окнами расстилались озера цветов.
Маленькие площадки засияли крупными анютиными
глазками, словно вырезанными из черного бархата, с неожиданно
голубо-золотым глазком посередине. Эти хрупкие драгоценности,
упавшие с неба, были приколоты к земле на коротеньких
стебельках, как бы неотделимы от нее.
Вокруг них выросли и качались нарциссы — белые
душистые звезды, такие нежные, что казалось, они должны были за-
вять при первом колебании ветра. И когда Алина вдохнула их
50
пряный, сладкий, чуть-чуть удушливый запах, она ощутила
трепет, дрожь ожидания, волнение, как перед объятием.
Огненные тюльпаны — окровавленные цветы без запаха —
походили на пылающее сердце Иисуса. Они должны были бы
быть радостными грустной Маргарите-Марии Алякок.
Высокие, стройные лилии, чеканные из серебра с золотым
мохнатым пестиком, напоминали благоухающий алтарь
готических костелов, священные плиты с латинскими надписями, под
которыми спят короли, епископы и мученики. Они напоминали
Марии, гуляющей среди них, что она сейчас увидит архангела, и
аромат ладана, и бряцание кадильниц, и псалмы Давида.
Далее шли кусты роз, левкой, резеда, мята, царские кудри,
парижские красавицы — гвоздики всех оттенков, цветы без
счета и названий. Все это благоухало, шевелилось от ветра, как
ароматные волны, и было то в тени, то на солнце.
Алина дрожала от нетерпения. «Ах, увидать все скорее,
скорее, смеяться солнцу, ветру, небу, саду, цветам». Одеваясь, она
спрашивала себя, не сошла ли вчера с ума?.. Ведь она
вообразила, будто у нее горе... Генрих любит ее. В его годы не шутят.
Конечно, он не бросился ей вчера на шею, а убежал к себе
подобно счастливому юноше. Это понятно. Это лишнее
доказательство, как он был взволнован и серьезен.
Франуся принесла ей платья, великолепно разглаженные, и
кофе.
Алина болтала с ней, как с Войцеховой. В усадьбе злые
собаки? Нет, злые — на цепи, спускаются ночью, а остальные даже
не лают. Барышня может спокойно идти и направо и налево, и к
полю и к гумну. Пусть только барышня не пугается, если
увидит ужей. Их тут множество.
Алина бросила последний взгляд в зеркало. На ней было
белое муслиновое платье с узенькой фиолетовой бархоткой под
грудью и длинный шарф с каймой, как у женщин Первой
империи.
Небо напоминало чистую твердую эмаль и лишь к
горизонту слегка розовело и туманилось. Только под старыми
деревьями можно было укрыться от солнца — расплавленного золота,
льющегося на землю. Алина удивилась тиишне. Вокруг
барского дома, где она ночевала, и вокруг флигелька не было ни
единой постройки.
«А где же экономия?» — подумала Алина с беспокойством
хозяйки.
Когда она поднялась в гору, она увидела экономию и гумно
за садом налево.
51
Дорога, по которой шла Алина, вела между двумя рядами
старых акаций. Глубокие канавы наполнились травой,
ромашками, незабудками, колокольчиками и лютиками.
Развалившийся плетень скрылся под густой сеткой темно-синих и лиловых
вьюнков. Несколько раз Алина останавливалась. Великолепные
блестящие ужи, чуть-чуть шевеля головкой и язычком, грелись
на лопухах. При шорохе ее шагов они соскальзьшали в траву и
исчезали, задевая былинки. Хотелось взять в руки чудесных
ярко-зеленых ящериц, до того они выглядели нарядными и
милыми. Маленькие птички порхали, щебетали, дрались и любили
друг друга в кустарниках.
Около высокого креста Алина села.
Это был пункт, с которого имение Шемиота виднелось, как
на карте.
Крыша дома среди зелени была подобна красной черепахе;
экономия за садом примыкала к влажному, свежему лугу, а
далее шла хорошо выбитая дорога. Река, темно-синяя
посередине, к берегам становилась мутно-желтой. Опуститься к ней по
крутизне казалось очень трудным, а деревья, растущие в
оврагах, уменьшались до размера обыкновенных кустов.
Алина была довольна. Она не подозревала, что у Шемиота
такое крупное, хорошее имение. Он говорил о нем с
небрежным видом, словно о глухой, заброшенной деревушке. Алина
инстинктивно ненавидела бедность, как безобразие, зависимость,
унижение. Часто она беспокойно думала, что нерешительность
Шемиота, быть может, зависит от его денежного неравенства с
ней. Теперь она успокоилась.
Странный крик, похожий на расщепление дерева, заставил
ее оглянуться.
Маленький ослик пробирался среди кукурузного поля,
шевеля длинными ушами и смотря удивленно на Алину своими
черными бархатными глазами. Боже, до чего он был
трогателен, забавен, очарователен... Алина поднялась и пошла к нему с
намерением обнять и поцеловать это смиренное животное. Но
ослик не спеша повернул наискось, не желая подвергать себя
опасности. Через несколько шагов он остановился и завопил от
радости, спугнув птичек.
Алина пошла обратно.
Около дома она встретила Шемиота.
Он разговаривал с крестьянином, но его жесты, наклон
головы оставались такими же чопорными, по-старомодному
вежливыми, как и в гостиной.
— Доброе утро... вы чудесно выглядите, Алина.
52
— Благодарю вас.
— Вы были у креста?
-Да...
— Это очень романтическое место. Там когда-то произошло
убийство...
— Какой ужас...
— Убийство из-за любви... Это вам должно нравиться,
Алина... Молодая коварная женщина назначила свидание своему
любовнику и вместо себя послала туда мужа... Судьба ей
благоприятствовала, и она избавилась сразу от двоих...
-О...
— Я в вашем распоряжении только до завтрака, дорогая...
потом занимайте себя сами... я запираюсь в кабинете и
работаю...
— Я охотно посидела бы около вас...
— Будьте благоразумны... У нас остается еще вечер.
Алина едва не заплакала. Он делал вид, что ничего не
понимает.
За завтраком, между бульоном и фаршированным
цыпленком, он вернулся к их разговору о католицизме. Он прочел
маленькую лекцию о женской деятельности в костеле и
приписывал ей большую роль. Алина попыталась добиться от него
откровенного признания, верит ли он во что-нибудь.
Шемиот засмеялся:
— Оставим меня в стороне, Алина... На эту тему я должен
говорить слишком много или ничего... Что же касается вас, ваша
религиозность похвальна. В трудных случаях обращайтесь к
Марии, она все вам устроит...
Алина не понимала его. Что скрывалось под этим сияющим
лбом — цинизм или усталая вера? Чего он хотел добиться от нее
своими религиозными рассуждениями, выводами,
обобщениями?.. Нужно слушать его как духовника или как демона?
Когда он заперся в кабинете, она ушла в свою комнату,
возненавидела солнце, небо, чужую усадьбу и пролежала в
постели как мешок с картофелем. В четыре часа Франуся принесла
ей чай, фрукты, конфеты.
— У барышни голова болит?
«Это похоже, как если бы я была в заточении», —
раздраженно подумала Алина.
Она сейчас же отправилась изучать цветники в слабой
надежде, что Шемиот увидит ее из окна. От цветов шел еще
более сильный аромат, чем утром. Тюльпаны, прежде
полуоткрытые, теперь зияли, как рана.
53
От запахов у нее увеличилась тоска. Снова она вернулась в
комнату. Этот день измучил ее, казался бесконечным. Когда ее
попросили к обеду, ей было уже все равно, так она загрустила.
Обед накрыли на веранде, очень городской обед с чашками
воды для умывания рук, с блюдами, зеленью, шампанским.
Шемиот выглядел озабоченным. Он беспрестанно говорил
о том, что Клара должна страдать в госпитале, и удивлялся,
почему Алина не навестила ее.
Она прямо посмотрела ему в глаза:
— Мы не дружны с Кларой...
— Почему?
Она сделала над собой усилие и пошутила:
— О... ревность... самая вульгарная ревность...
Шемиот возразил спокойно:
— Ревность? Но вы обе ошибаетесь. Клара — старый друг
нашей семьи, воспитательница Юлия; вы, Алина, — мой личный
друг, юный и легкомысленный.
Алина была упряма. Ей нравилось гулять возле пропасти.
— Я — ваш друг?
Он улыбнулся:
— Хотите еще мороженого?
Потом он вынул из бокового кармана и передал Рушиц
маленькую книжечку в зеленой коже с вензелем цветного золота.
Она думала найти там таинственные адреса или умышленно
забытое письмо какой-нибудь женщины. В зеленой книжечке
Шемиот записал все, что ему не нравилось в Алине. Под
последним числом там стояло: она не навестила больную Клару.
Алина трогательным жестом, как целуют молитвенник,
поцеловала эти странички.
Шемиот сказал задумчиво:
— Если бы вы попали в монастырь, вы бы стали святой, если
бы вы жили во времена Сафо, вы бы служили Афродите как
Билитис. А теперь я не знаю, что из вас получится, Алина.
После обеда он повел ее осматривать усадьбу другой
дорогой, но тоже усаженной акациями. Когда встречались рабочие,
он кланялся им с вежливостью равного.
Алина внимательно разглядывала кукурузное поле,
постройки, большой квадрат гумна, поросший свежей невысокой
травой. Солнце уже село. Лиловый оттенок примешивался к
синеве теней. Где-то снова кричал ослик.
Они снова поднялись в гору, как утром. Около креста
Шемиот разостлал плащ. Алина села. Они долго смотрели на реку
и деревья.
54
— А вот и орел, — сказал Шемиот.
Птица делала сначала маленькие круги, потом все шире, шире,
поднималась все выше, выше и наконец слилась с небом.
— Какой воздух...
— Какой воздух...
— Я обещал вам показать одну соблазнительную вещь,
Алина... Это крохотная дачка... среди ивняка... но сегодня уже
поздно...
Он снял свою черную бархатную шапочку. У нее явилось
огромное искушение поцеловать его сияющий лоб и пушистые
волосы. Она побледнела от желания.
— Почему вы не выходите замуж, Алина?
Она засмеялась и смеялась долго, чтобы скрыть волнение.
— Вот если бы вы захотели жену...
Он взял ее тонкую руку и поцеловал.
— Я знаю, вы очень расположены ко мне, Алина, но я не
гожусь для роли мужа... Нет, поищем для вас другого кандидата...
Она не упала в обморок, а проговорила чужим голосом:
— И если бы я объяснилась вам в любви?
— Нет, нет... я стар... из этого ничего не выйдет.
— Никогда?
— Не знаю.
Она прошептала:
— Становится холодно... не правда ли?
— Да. Идемте обратно.
Алина думала: «Теперь я — погибшая, развратная женщина.
Я познала сладость запрещенных желаний и мыслей. Я
возненавидела свое девичество. Я распалена, как плита. Ах, как
права Христина... мужчины — чудовищны».
Угадывая ее мысли, Шемиот заметил:
— Если я отказался от чести быть вашим мужем, Алина, это
еще не значит, что вы мне не дороги.
Каким-то чудом она не заплакала.
На другой день Алина уехала.
III
Алина дурно чувствовала себя первое время. Ей казалось,
будто все люди в доме — и толстая кухарка, и маленькая
судомойка, и Войцехова, и дворник, и Щурек — знали о ее позоре.
Войцехова рассказала, что Христина вчера долго сидела в
саду. Молодой господин Шемиот справлялся по телефону о
барышне.
55
Женским инстинктом Войцехова угадала, куда ездила Алина.
С невинным видом она спросила:
— Барышня все-таки решила выйти замуж за господина
Шемиота?
И на возмущенный окрик Алины она бормотала:
— Сердце Иисуса... Барышне теперь не угодишь... Почему
бы барышне и не выйти замуж, в самом деле?
Алина прогнала ее и пролила потоки слез. Уж лучше
остаться старой девой. Старой девой... Но что же делать? Или ей
влюбиться в Христину?
Несколько дней Алина не давала знать о своем приезде
Христине. Ее самолюбие страдало.
Однажды, когда она по обыкновению гуляла по саду,
наслаждаясь густым запахом цветников, Войцехова
взволнованно доложила о приходе господ Оскерко.
Христина стояла посередине гостиной с видом
малознакомой дамы. Она осунулась, пожелтела и плотно сжимала губы.
Витольд рассматривал альбомы.
— Боже, с каких пор вы так церемонитесь со мной?
— Извини, мы не знали, одна ли ты?
— Но с кем же я могла быть?
Витольд Оскерко дружески поцеловал руку Алины.
Алина крепко поцеловала Христину.
Все втроем они сидели на террасе, пили чай и говорили о
пустяках.
В саду Щурек починял скамейку, и Витольд вдруг сорвался
с места и пошел давать ему указания.
Христина начала изводить подругу.
— Как, ты проводишь ночь и день с Шемиотом... в имении...
с мужчиной, в которого ты влюблена... И ты хочешь уверить
меня, что вы вели себя ангелами?.. Я еще не рехнулась, Алина...
— Но я не лгу, дорогая...
— Он женится на тебе?
— Я не знаю.
— Как? Ты ошалела... ты не знаешь?
— Нет... Нет... не мучь меня, Христина...
— И что будет дальше?
— Шемиот к зиме вернется в город...
— Ну?..
— Ну и ничего... Я не знаю... не знаю...
— Это чудовищно. А если он сделает тебе предложение?
-О...
— Почему ты кричишь?.. Ты красива, богата, влюблена.
56
И Христина сейчас же пришла в ярость.
— Ты будешь несчастна. Ты губишь себя. Шемиот готовит
тебя на роль Клары.
Она приставала к ней с грубыми намеками.
Желая переменить разговор, Алина спросила ее о Бруно. Как
живет маленький? Почему она не привезла его с собой?
Христина сделала скучающее лицо. Бруно гостит теперь у
доктора Мирского. Тот очень любит мальчика. Он находит, что
Бруно — великолепный экземпляр вырождения. Из него может
получиться и гений и безумец. Потом Христина нагнулась и
поцеловала шарф Алины. Та рассердилась, встала и пошла к
Витольду.
Щурек жаловался на новое место. Заметив приближение
барышни, он напустил на себя еще большее неудовольствие.
Да, господин Шемиот умел ценить его... а здесь Войцехова
перегрызает ему горло, кухарка заставляет выливать помои. Алина
прогнала Щурека из сада и ласково взяла под руку Витольда.
— Щурек прав... Войцехова стала невыносимой... ее
ханжество усилилось, она шпионит за мной, бьет маленькую
судомойку, которая отказьюается бормотать с ней ружанец... Я рада
была бы отделаться от Войцеховой.
Витольд рассеянно перебирал ее пальчики. Он относился к
Алине очень сочувственно. Однако для него она не была женщиной,
он любил маленьких, плоских, злых, растрепанных, похожих на
мальчишек и делал исключение только для Мисси Потоцкой,
которую упорно обольщал второй год. Он хотел жениться на
Потоцкой, считая ее идеальной женой для светского человека, но и
в то же время его смущали советы Христины. Он твердо верил в
практический ум сестры. Жениться на Алине?.. Почему нет?..
А вдруг это судьба?.. Потоцкая была бедна, Алина — богата.
Он спросил Рушиц интимным тоном:
— Почему вы не сложите с себя будничные заботы?..
— Каким образом?
— Найдите себе мужа.
Она принужденно рассмеялась:
— Разве это легко?
Он понизил голос:
— Я давно догадался о ваших чувствах к Шемиоту.
Скажите, это все серьезно кончится?
— Боже мой, если бы я знала.
И она была счастлива говорить о любимом. Витольд слушал
ее с изумлением. Она казалась ему эксцентричной. В свою
очередь, он поделился планами насчет Мисси Потоцкой. Они шли
57
вглубь, тесно прижавшись друг к другу, каждый жалуясь на
свою судьбу.
— Почему вы так редко заходите ко мне? — воскликнула она
наконец, растроганная. — Я вас считаю своим братом.
— Не замечаешь, как погрязаешь в суете, — вздохнул он.
Потом Витольд начал осуждать сестру. Зачем Христине
понадобилось мучить Юлия Шемиота? Он — блестящая партия
для Христины. Конечно, Витольд хорошо знает свои братские
обязанности, но Христина часто несносна и устраивает в доме
ад. Если Юлию надоест в конце концов эта комедия, он не
будет удивлен.
Алина пылко поддерживала Витольда. Она содрогнулась,
вспоминая угрозы Христины. Бедный Юлий...
Христине надоело ждать их на веранде. Она скрылась в
комнатах, нашла карандаш, бумагу и написала Алине:
«Сжалься надо мной, дорогая моя... не считай меня
безумной... Я мучаюсь, я плачу... объясни свое поведение. Мне нужна
твоя душа. Должна ли я ждать катастрофы?
Может быть, ты — уже не девушка. Я схожу с ума от этой
мысли. Алина, я — твоя раба. Располагай мной как хочешь. Я не
верю, чтобы ты возненавидела меня. Брось мне хотя бы
крошки любви. Шемиот всегда сыт, я голодна. Ты добра, а ты
забываешь, что Клара умирает в госпитале. Мне это сказал Юлий.
Твои колени обнимаю. Хр.».
Она запечатала и еще долго сидела у окна, и слезы бежали у
нее из глаз одна за другой, мелкие и горячие. Потом она
спустилась в сад, нашла там оживленных Алину и Витольда и сунула
записку Алине. Почти сейчас же Оскерко простились.
Алина продолжала сидеть на каменной скамье. Какая-то
птица томилась в саду. Разгоряченная разговором о Шемиоте, Алина
прикрывала глаза. Ей казалось, что он осторожно и медленно
целует ее в губы. Только у себя в спальне она вспомнила о
записке Христины. Пробежав неровные строчки, она зевнула,
думая лениво: «Христина становится скучна. Я не должна ее
слушать, я ее отталкиваю. Боже, как она настойчива. Она
хотела бы обнимать и целовать меня. Может быть, она даже хотела
бы наказывать меня, как мисс Уиттон? Этого не будет.
Никогда, никогда. Чем я могу причинить ей боль?.. Если Шемиот
полюбит меня, ей придется смотреть на мое счастье... Бедняжка...»
Дождь лил не переставая. Можно было подумать, что уже
приближается осень. Веранду заперли, ибо вода протекала в
58
комнаты. Удивительно, как не уставали деревья сада качаться,
сгибаться и кланяться земле. Алина приказывала зажигать
камин и сидела возле него, кутаясь в горностаевый палантин,
испытывая желание плакать. Мысли ее, как всегда, возвращались
к Шемиоту и Кларе. Печальные новости. Клара была при
смерти. Вчера Юлий сообщил Алине, что он вызвал отца. Даже
к умирающей Алина терзалась ревностью. Останется ли Генрих
возле больной неотлучно или навестит Алину?
Она напрасно ждала его всю неделю. Так как дождь не
прекращался и каждый день проходил одинаково, время слилось
для Алины. Из смутной боязни Алина не добивалась новостей
из лечебницы Святого Винцента.
Однажды Войцехова доложила угрюмо,
скандализированная:
— Господин Шемиот спрашивает барышню.
В глазах Алины зарябило. Она еле поднялась с места.
— Как?.. Ты оставила его внизу? Ты должна была просить
сюда... ко мне...
Войцехова пожала плечами. Она ворчала язвительно:
— Господин Шемиот и сам найдет дорогу.
Действительно, Генрих Шемиот входил в кабинет.
Он сказал с большой нежностью:
— Простите мой нежданный визит.
На нее пахнуло фиалкой и свежестью дождя от всей его
фигуры. Брызги дождя были у него на волосах и плечах.
— Наконец-то я вас увидела, — пролепетала Алина, то
краснея, то бледнея, — я решила, что вы уехали.
Он сказал просто, присаживаясь к камину:
— Умерла Клара. Я весь еще под этим впечатлением.
Пораженная, она искала в его глазах намек на душевную
муку. Ее не было. У Алины полились слезы не то облегчения,
не то горя.
— Боже, Клара умерла... какое несчастье... Когда ее хоронят?
— О... но ее вчера похоронили... утром. Разве вы не читаете
газеты?
Правда, она не читала газет последние дни. Алина почти
рассердилась. Почему же ей не дали знать?.. О, это жестоко со
стороны Шемиота. Она хотя бы привезла венок, помолилась за
покойную.
— Какая вы странная, Алина... вы не навестили покойную в
лечебнице, так что вам до ее похорон?
Она смутилась, продолжая плакать. Шемиот, гремя
щипцами, перебил головешку в камине, сгреб уголья и, любуясь на
59
новое пламя, высокое и ровное, как дыхание, рассказал
подробности. К несчастью, тело покойной все изрезали. Она умерла от
рака. Ах, эти палачи... эти хирурги... В один день покойная
начала разлагаться. Потом Шемиот жаловался на дожди. В имении
дороги размыты. Он ехал пароходиком, тот застрял на мели...
Едва не было несчастья. Такая скука в деревне, что он даже
обрадовался городу.
Алина вытерла глаза. Она успокоилась и не хотела лгать себе.
Да, смерть Клары явилась огромным и нежданным
облегчением. Она боялась теперь одного: не слишком ли страдает
Шемиот? Конечно, он должен терзаться сожалениями,
воспоминаниями, ведь все же, по слухам, он был близок к покойной... Ах, он
не должен оставаться один... место Алины возле него. Она
робко протянула руки.
— Возьмите меня с собой, умоляю вас.
— Куда? В имение?.. Но это безумие... Что вам вздумалось?
В смятении она молчала.
— Вы скомпрометировали меня, Алина, уже в первый раз...
Вас заметили на станции. А теперь, когда Клара только что
умерла... Нет... Нет...
— Но мне все равно, что скажут на вашей станции... —
возмутилась она, — все равно... Я хочу быть около вас в такие минуты...
— Какие минуты, Алина? Вы сентиментальны. Стыдитесь, я
умею переносить неприятности...
Видя его спокойным, обычным, она тоже усмехнулась. Да,
конечно, он мужчина. Потом вся искренность прилила к ее
сердцу и глазам.
— Скажите... это неуместно... но ничего... Вы простите меня...
Скажите, вы никогда не полюбите меня?
— Успокойтесь, Алина... Вы мне льстите... я стар...
Он отнял у нее свои руки, отступая, чуть-чуть манерный,
мгновенно молодея.
— Наши встречи, те ночи, которые вы провели у меня в
имении... это счастливые воспоминания.
Она крикнула в отчаянии:
— Я не могу без вас жить... Я люблю вас... Я приеду к вам...
Не давайте мне вашего разрешения... я приеду...
— Но тогда я накажу вас, Алина...
-Вы?..
— Да, я... и очень строго... Вы увидите...
Она глухо пробормотала:
— Кто наказывает, тот любит. А вы не любите меня, друг
мой.
60
Потом она убежала распорядиться завтраком, не доверяя
Войцеховой.
Дрова догорали. Шемиот смотрел на них задумчиво. Смерть
Клары удивила его. Он не ждал такой быстрой развязки.
Теперь он видел, что жизнь может измениться. Почему бы
ему не сойтись теперь с Алиной. Ведь Алина любит его без
памяти.
«Я не должен уступать, — думал он, — пусть Алина пройдет
все ступени отчаяния, сомнения, тоски, унижения. Потом я
возьму ее снисходительно, как непрошеный подарок, и она
будет счастлива. Разве не все женщины на один лад? Десять лет
назад мне казалось заманчивым победить каждую женщину...
Каждую женщину я хотел бросить перед собой на колени...
Теперь меня больше тешит сеять собственные вкусы и желания
на благодарной почве... Алина для меня — хорошо вспаханное
поле... Я бросаю туда семена и жду всходов... Обладание же
почти не волнует меня».
Он остался завтракать, в душе забавляясь бледностью
Алины, Алина была в отчаянии. Даже его присутствие не могло
уменьшить ее муки.
«Он свободен и он не хочет жениться на мне».
Войцехова умышленно медленно служила им. Чтоб не
звонить ей, Алина вставала и брала нужное с серванта. От ливня
в столовой были сумерки, блестела только стальная обшивка
мебели и хрусталь на столе.
— Помните весну, Алина?.. В такой же дождь мы сидели
вместе...
Она взглянула на него с нежностью и упреком, а он
испугался новых излияний и заговорил о Христине. Конечно, Христина
внушает ему глубокую антипатию, но если Юлий потерял
голову, пусть берет ее. Он предпочитает сохранить привязанность
сына и мешать ему не станет.
После десерта они перешли в маленькую круглую гостиную,
розовато-желтую и легкомысленную, где было четыре зеркала,
как в фонаре.
Дорогой фарфор прятался в пузатые шкафчики Людовика
XV, и улыбающиеся маркизы на картинках ласкали своих
левреток длинными выхоленными руками. На розовом ковре
пастушка слушала свирель Пана.
Алина наливала кофе с ликером, не замечая улыбки Шеми-
ота. Сегодня она волновала его, побледневшая, печальная, со
своими пышными пепельными волосами, уложенными узлом,
с глазами более синими, более глубокими, чем обычно. На ней
61
было простое платье — дымчатое либерти, вышитое белым
стеклярусом, плечи, грудь, рукава из белого шифона. Она надела
только нитку жемчуга, не крупного, но ровного, розоватого,
который казался Шемиоту теплым.
Он пил кофе, чувствуя себя необыкновенно приятно в этой
мягкой, ароматной гостиной и в то же время боясь уступить
искушению и вернуть надежду Алине.
Потом они вспоминали его имение. Он — равнодушно, она —
с тоской в голосе.
Когда Шемиот ушел, Алина начала беспомощно рыдать.
В последующие дни Алина переживала отчаяние. Она не
выходила из комнаты, не одевалась, не причесывалась, вынула
штепсель телефона, запретила принимать Христину. Она
только теперь поняла, до какой степени тайно ждала смерти Клары.
Но вот эта несчастная умерла, и ничто не изменилось. Шемиот
один в имении — читает, гуляет, работает, и ничто, ничто не
нарушает его ледяного равнодушия. Алина ему не нужна, сын тоже
не нужен. Мальчишка торчит в городе около Христины.
Отцовские чувства Шемиота похожи на материнские Оскерко. У
Алины было ощущение, что все кончено и умерло.
Как-то раз, совсем неожиданно, Войцехова через запертую
дверь доложила Алине, что Щурек уходит и требует
жалованье. Господин Шемиот снова в городе, и Щурек хочет
проситься к нему обратно.
— Прогоните этого идиота, — закричала Алина в неистовстве.
И целый час проплакала снова.
До вечера она ждала весточки от Шемиота. Он ее не подал.
На другой день, бледная как полотно, с судорогой в горле,
она вышла из дому.
Она думала: «Я не могу жить без него... Я буду заклинать
его. Я стану перед ним на колени, пусть он вытолкает меня,
если может... Жениться не просят? Вздор... все просят, когда
любят... на все решаются, когда защищают свою любовь...»
Она не помнила, как очутилась на главной улице — широкой,
нарядной, с зеркальными витринами, опущенными маркизами,
правильной аллеей подрезанных кипарисов. Здесь был сквер —
круглая площадка, фонтан, цветники, скамейки. Няни катили
колясочки или вели за руку более взрослых детей. В глубине
грибом нарос павильон, где продавали мороженое, кофе,
шоколад. На Алину оглядывались. Женщины критически, мужчины
восхищенно. Все на ней было белое — маленькая соломенная
шляпка с бутонами, шелковый развевающийся плащ, платье,
перчатки, башмаки, мягкие, как замша, сумочка на тоненькой
62
серебряной цепочке и, наконец, лсемчуг, который она прикрыла
вуалью.
Мимо нее катились экипажи, велосипеды, гудели авто.
Шли мужчины, женщины, дети. Густая зелень, все еще яркая,
куски неба между ней, как голубой шелк, и сверкание
фонтана на солнце придавали этому уголку вид театральной
декорации.
Около тротуара на длинных столах торговки выставили
глиняные кувшины с розами, левкоями, гвоздиками и листьями
папоротника.
Алина вдруг остановилась.
— Я с ума сошла... Ведь я должна ехать к Шемиоту.
И она бросилась взять первого попавшегося извозчика, вся
в нервной лихорадке.
Ей открыл дверь тот же самый Щурек и поглядел на нее,
нагло улыбаясь.
— Барин не принимает... Завтра барин уезжает в имение...
А молодой барин только что вышел...
Она рассердилась и прикрикнула. Изумленный лакей
отступил назад. Она прошла, высокомерная, как героиня. В комнатах
были полотеры и сдвинули всю мебель по углам. Они низко
кланялись этой красивой, нарядной, смертельно бледной даме.
Где-то звенели ножами и тарелками, накрывали завтрак. Было
около часа дня.
Алина не спеша, словно во сне, дошла до кабинета Шемио-
та. От нервного возбуждения она далее не постучалась.
Шемиот сидел за письменным столом, защищенный
книгами. Перед ним стоял стакан молока, и он рассеянно, как-то по-
детски опускал туда длинный сухарь, все время читая. Его
волосы пылали на солнце. Алина секунду с обожанием смотрела
на него.
Он произнес, не отрываясь от чтения, уверенный, что перед
ним Щурек:
— Вы отпустили полотеров?
Она ответила мелодично и нежно:
— Нет еще, барин.
Шемиот вскинул глаза и засмеялся:
— Вы? Боже мой, Алина... Что случилось?
Еще никогда она не видела его более жизнерадостным.
Рушиц бросилась в кресло и говорила, говорила...
Так дошла она до того места, как Христина настойчиво
предлагает ей выйти замуж за Витольда.
Шемиот заметно побледнел.
63
— Милая Алина... мне искренне жаль вас... если бы я знал,
что такой конец.
Она закричала без малейшей осторожности, хотя Щурек
бродил в коридоре:
— Я люблю вас... вас... вас одного.
— И дали слово господину Оскерко?
— Я еще не дала... но если он сделает мне предложение...
— Вы согласитесь?
-Да.
Он бросил ей грубо:
— В чем же задержка? Почему, собственно, вы посвящаете
меня...
Она пала духом.
— Я хотела... я думала, вас интересует... Я решила
посоветоваться...
— Мой совет ясен. Я не хочу, чтобы вы вышли замуж за
ничтожество и взяли бы в придачу Христину...
Она смеялась и плакала.
— Вы не хотите, чтобы они оба мучили меня?
— Не хочу.
-О!
— Вы откажете Оскерко, Алина?
— Конечно.
Он смягчился.
— Я был холоден с вами последнее время...
-Да.
— Я старик, Алина... Я не могу быть всегда трубадуром...
— Я люблю вас...
— Я знаю.
«Она обворожительна... если она выйдет замуж за Витольда,
я никогда в жизни не прощу себе этого».
Алина спрашивала, трепеща от счастья:
— Вы не заедете ко мне?
— Не могу, у меня нет времени...
— Извините меня, я безумна... Я врываюсь к вам ни свет ни
заря...
Шемиот проводил ее до передней. Щурек бросился
отворять дверь.
Полотеры танцевали в зале.
Алина вернулась к себе. Какая огромная нервная усталость...
Какая сладостная тишина в сердце... Он ревнует ее к Витольду
Оскерко... Он был груб, бледен... Да, он боялся ее замужества.
Эта угроза выводила его из себя.
64
С того дня поведение Алины изменилось. Она снова не
расставалась с Христиной, всячески заманивала Витольда. Но Ос-
керко был осторожен.
Он размышлял: «Нас разберет Христина. Я начинаю не
понимать Алину... Ведь она была влюблена в Шемиота без
памяти... Или она уже остыла к нему? Теперь льнет ко мне. Я боюсь
потерять Потоцкую... Ах эти девушки в двадцать восемь лет».
Втроем они совершали прогулки за город, посещали
маленькие театры, часто ездили в ресторан, который стоял над самым
морем и пользовался сомнительной репутацией. Когда Алина и
Христина проходили мимо столиков, все мужчины смотрели на
них. Витольд чувствовал себя польщенным. С террасы
виднелись купальни. Некоторые мужчины отплывали на лодках и
потом бросались в море. Они не носили костюмов. Алина со
страхом и любопытством смотрела на этих Адонисов, которые
продельшали различные антраша в синей пучине. Христина
вырывала у нее бинокль, бормоча: «Как тебе не стыдно?»
Отсюда море казалось совсем не опасным. Порою сновали яхты
частных лиц, убранные флагами, с пением и музыкой. Самое
красивое здесь были паруса, одинокие, загадочные паруса,
уплывавшие к горизонту.
Потом во всех этих увеселительных прогулках, в этих не
совсем чистых удовольствиях начал принимать участие
молодой Шемиот.
Алина удивленно ловила на себе пристальные взгляды Юлия.
Они ее очень смущали. Наклонясь к ней так близко, словно он
хотел лучше рассмотреть ее грудь, сверкавшую под черным
кружевом, Юлий шептал комплименты.
— Если бы вас услышал отец.
— Он бы узнал меня...
— Разве он не строг к вам?
— Ничуть. Он строг только к женщинам...
Алина вспыхнула:
— Вы со всеми так дерзки?
— Нет, с красивыми.
— Однако до сих пор вы смеялись надо мной.
— Кто вам сказал?
— Угадайте...
— Знаю. Да, я слегка шутил над вами с Христиной. Вы были
чересчур невинны.
Она невольно расхохоталась. С какой грацией держался этот
мальчик! Она хотела переменить разговор.
— Что у вас нового, Юлий?
3 Анна Map
65
— Моя любовь к вам, Алина...
— Вы ошибаетесь — это не любовь...
— Я не ошибаюсь...
— Но вы ведь любите Христину?
— Я не люблю ее, я желаю... я возмущен ее упрямством...
— Это почти одно и то же.
-Нет.
Они смолкли и слушали музыку. Это был концерт в
городском открытом театре. Белые полосы лунного света,
пробиваясь сквозь листья, ложились на колени Алине. Она прикрьшала
глаза, чтобы слушать шепот Юлия... Потом она посмотрела на
него... Он был взволнован, и жестокое выражение его глаз
напоминало ей Шемиота-отца. Сердце ее болезненно сжалось. У
нее вырвалось против воли:
— Я написала множество писем вашему отцу. Ни на одно до
сих пор он не ответил.
Юлий пробормотал насмешливо:
— Он тоскует по Кларе...
И сейчас же, испугавшись эффекта своих слов:
— Отец ненавидит переписку. Почему вы просто не поедете
к нему?
— Я? Что вы?
Юноша шепнул возле уха — она почувствовала его дыхание:
— Вы ведь любите моего отца?..
Она притворилась оскорбленной. Юлий сознался, что он знает
об ее приезде в имение. Чтобы утешить Алину, он нежно
клялся ей в любви и преданности.
— Поедемте к отцу вместе...
Он приставал с этим предложением целый вечер, не давая
Алине слушать музыку и сильно интригуя Христину, сидевшую
в другом ряду. Наконец Алина наполовину согласилась.
Юлий взял ее руки и начал целовать ладони, осторожно,
чувственно, как будто пил с них воду. У нее сладостно
кружилась голова. Она была взволнована, смущена, удивлена и
тихонечко смеялась. Ах, этот мальчишка! Дрожь желания
пробежала по ней. Ужаснувшись, она подумала о Шемиоте-отце. Боже,
тот причинил ей столько горя. К сыну у нее родилось иное
чувство — опасное, нежданное, соблазнительное, свежее, как роса.
И это чувство она хорошо, увы, понимала. В нем не было
ничего возвышенного или загадочного, ничего такого, что бы
напоминало глубокую и мрачную страсть ее к отцу. Колени их
касались. Она слабела.
— Мне хочется пить.
66
Они вышли посредине какой-то симфонии.
— Как жарко, — бормотала Алина.
И через минуту:
— Дайте мне накидку, мне холодно.
Они ели мороженое возле мраморного столика в павильоне.
Юлий жаловался. Он несчастен, он несчастен... Христина груба
с ним. Алина любит его отца.
— Мое сердце разделено между вами двумя. Это жестокая
пытка.
— Замолчите, Юлий, вы сами сказали, что я люблю вашего
отца...
— Что из того?
— Вы — чудовище!
— Мой отец будет мучить вас так же, как и Клару. Когда вы
наскучите ему...
— Молчите... Молчите...
Она искренне была в ужасе. В ту ночь она не сомкнула глаз.
«Если бы я сошлась с Юлием, это было бы из потребности
не физической, а душевной. Ах, быть любимой, любимой...
Слышать нежные слова все время, покуда не уснешь. Почему
Генрих так мало оберегает меня от себя самой?»
Алина продолжала веселиться весь август. Она
беспрерывно наряжалась, сервировала дорогие ужины, украшала столы
цветами. В день своего рождения, 8 сентября, она раздала
прислуге ценные подарки, убрала сад фонариками, а дом белыми
розами, и все это для того, чтобы на другой день бродить с
мрачным и убитым видом нищенки.
Юлий упорно следовал за Алиной, а когда она сердилась, он
шел к Христине. Он поистине потерял голову. Однажды в
передней, подавая ей легкое манто из муслина, газа и кружев, он
коснулся губами ее шеи, длинной и горделивой под высоко
поднятыми волосами.
— Юлий! Гадкий мальчик!
— Я люблю вас...
— А Христина?
— Я несчастен...
— Не кричите. Идемте лучше.
В карете ее охватила чисто животная тоска, смешанная с
глубоким отвращением и усталостью.
— Маленький Юлий Цезарь, что вы можете дать мне? Я
отравлена вашим отцом. Я брежу только им... Перед вами я старуха...
Христина замечала эту историю. Она забавлялась,
враждебно прищуривая бархатные глаза.
з *
67
— Ты постоянна, Алина.
— Что такое?
— Если не Шемиот-отец, то хотя бы сын...
— О, прости меня... Ты права... Я не должна потакать
мальчику. Все равно он бредит тобой...
Оскерко кивнула головой:
— Если Юлий по-прежнему желает меня, пусть он ждет... я
не отказываю ему...
Потом она добавила нетерпеливо:
— Все это не то... Уж не думаешь ли ты, что я разлюбила
тебя, Алина. Я поступлю, как те женщины, которые, любя
одного, идут на содержание к другому.
Неопределенность положения начала чересчур тяготить
Алину. Она жаждала выяснения.
И она снова ухватилась за Витольда Оскерко. Они поехали
обедать, но не к ней, а в тот же ресторанчик над морем с
двусмысленной репутацией. Они ели устрицы, поданные на блюде
сомнительной чистоты, пили очень плохое шампанское и
остались голодны, ибо все кушанья были изготовлены на
кокосовом масле. Но они хохотали, как влюбленные, и пустились в
рискованные откровенности. Из ресторанчика они поехали
слушать музыку на пляже, оттуда в открытый театр, где давалась
оперетка.
Около полуночи Витольд привез ее домой. Алина умирала
от усталости, однако упросила его зайти к ней.
— Как, сейчас?
— Да, сейчас.
— А что сказал бы ваш старик? — легкомысленно спросил
Витольд.
Старик. Он, Шемиот. Алине показалось, будто Витольд
ударил ее по лицу. Настроение ее сразу упало: Витольд продолжал
шутить — она уже не смеялась.
Войцехова открыла дверь. Она сейчас же
демонстративно ушла, считая барышню погибшей. Алина достала ликер,
бисквиты. Она выставила свою элегантную ножку в
шелковом чулке и тешилась ролью соблазнительницы. Но Витольд
не позволил ничего лишнего. Наоборот, он даже стал
чопорным.
«Будь что будет... Я компрометирую девушку... Завтра я
пришлю сюда Христину. Если Алина откажет мне на этот раз я
могу снова ухаживать за Потоцкой... Я плыву по течению... Но
нужно ли противиться своей судьбе?»
В ту же минуту Алина думала с горечью: «О Генрих, Генрих,
68
вы толкаете меня на падение... Какие еще новые унижения
готовите вы мне?»
Наконец Витольд ушел.
Алина осталась на месте.
«Я поеду к Шемиоту... я поеду... Он обещал наказать меня?
О, пусть... До сих пор у меня не было ни одной настоящей вины
перед ним. Теперь она есть. Я нарушу его запрещение, приехав
к нему в имение, я флиртую с Юлием, флиртую с Витольдом, я
ничего не делаю и бегаю по ресторанам, как девка. Вины мои
неисчислимы. Хорошая порция розог исправит меня... Да... да...
мне не миновать этого».
У нее выступил пот, и сладострастная дрожь заставляла ее
ежиться. Беспорядочно проведенный вечер, выпитый ликер,
духота гостиной, раскаленной еще до сих пор от дневного
солнца, неудовлетворенная любовь, неудовлетворенные желания
привели ее в странное, сомнамбулическое состояние. Она не
хотела двигаться. Ей казалось, что пройти в спальню страшно
далеко, целое путешествие — пройти в спальню. И она
продолжала полулежать, скорчившись, мечтая о том, как она поедет к
Шемиоту в имение и как он накажет ее за все.
Крошечный эпизод из ее детства всплыл перед ней.
Однажды по случаю дурной погоды ее не пустили гулять, а отослали
играть в зал. Он был огромный, прохладный и торжественный,
с круглой эстрадой из светлого дерева, с высокими зеркалами и
столиками из драгоценной мозаики. Здесь же, на большой
картине, императрица Мария-Луиза обнимала маленького
римского короля. Оставшись одна, Алина стремительно закружилась
по паркету, на который лег тончайший слой пыли,
посмотрелась в каждое зеркало по очереди и удивилась тоненькой
девочке с синими глазами и поясом под грудью. Потом она бросилась
ничком на медвежью шкуру, декламируя стихи и посылая
воздушные поцелуи в пространство. Но сейчас же она вскочила
как ужаленная, с бьющимся сердцем. Она вспомнила, что в
такой же позе она лежит на кушетке мисс Уиттон. Она закричала,
она заплакала, она согнулась от щекотания в своем теле.
Теперь взрослая Алина, думая о наказании Шемиота, так же
согнулась и так же вся затрепетала от нервного щекотания,
стыда, страха и ожидания. Она спрятала лицо в шелковую
диванную подушку, сборки которой кололи ее щеки.
Он посулил ей наказание... Как это будет? Не окажется ли
он чересчур мягким? Не испугается ли он ее криков? Она не
могла тронуть слезами мисс Уиттон, а его? Будет ли он
наслаждаться ее стыдом и болью? Положит ли он ее на кушетку или
69
на колени? Или он велит ей самой лечь и поднять платье?
Позволит ли ее рукам быть закинутыми за голову, или же он
возьмет их в свои? Велит ли он молчать? Будет сечь он быстро,
резко или с паузами, как мисс Уиттон? О Боже! Она сходит с
ума! Боже, сжалься надо мной!..
Она начала рыдать, проникаясь иллюзией, что ее сечет Ше-
миот, вся в поту, несчастная, безумная и сладострастная.
Потом она уснула, не потушив электричества, поджав ноги
в самой неудобной позе на диванчике Людовика XV. Но и во
сне сладострастие продолжало мучить ее. Она видела себя
девочкой, послушно стоящей в комнате мисс Уиттон, где вся
мебель, портьеры, обои и даже ассирийские вазы пылали
желтыми оттенками. Мисс Уиттон, облокотившись на рояль, говорит
вежливо, не повышая голоса, чуть-чуть улыбаясь:
— Вы рассеянны и дерзки, Алина. Вы горды и любопытны,
вы лгунья и лакомка. Ваши локоны спутаны, выше платье
смято. Я не потерплю, чтобы вы смотрели на меня так угрюмо.
А, вы плачете? Вы раскаиваетесь? Вы обещаете слушаться...
Теперь это не поможет. Прилягте на кушетку, однако...
Маленький изящный хлыст, злой как змея... Его ручка была
оправлена в золото и перламутр...
Алина проснулась. Она поднялась смущенная, будто
вырванная из объятий любовника, потушила электричество и ушла
в спальню. На мраморных часиках стиля ампир стрелка стояла
без пяти минут четыре.
Христина застала Алину еще в постели.
— Вот и отлично. У меня к тебе дело.
— Дело? В такую рань?
-Да.
— Говори, но я не открою глаз.
Очень недовольная, Алина укуталась в одеяло.
— Глаза закрой, пожалуй... Мне нужны твои уши... Мой брат,
горный инженер и потомственный дворянин Витольд Оскерко,
делает тебе предложение.
— О... Святая Мария.
Алина от изумления села. Оскерко отвела взгляд от ее
обнажившейся крепкой груди, от пышных плеч, на которые сквозь
голубые занавески кровати лились голубые оттенки. Внутри
белоснежная груда подушек, кружев и пушистого одеяла
создавала впечатление гнезда, выложенного пухом. Христина
продолжала, покусывая губы:
— Надеюсь, ты не откажешь Витольду после вчерашнего.
70
— Но что же было вчера?
— Как? Ты ночью принимаешь молодого человека... поишь
его ликером, даешь целовать ему руки, говоришь с ним только
о своем одиночестве и желаниях... и после этого ты хочешь
отказать ему. Но ведь Витольд не Шемиот. Он не позволит
безнаказанно вертеть им... И потом, он любит тебя давно, как я... да,
как я...
Алина сидела в той же позе, удивленная и растерянная,
доверчиво показывая свою наготу Христине. Пепельные длинные
распущенные волосы, синие цветы ее больших глаз, здоровый
румянец щек как-то опростили ее в ту минуту и сделали ее до
последней степени земной, соблазнительной, очаровательной и
греховной, похожей на молодую ведьму Ропса, читающую
святого Адальберта.
Алина думала: «Теперь или никогда... Я ведь знаю, что
Витольд — мой последний козырь... Христина, узнав потом об
обмане, простит. И Витольд простит... Да... да...»
Медленно она сказала:
— Хорошо, Христина... передай Витольду, что я согласна...
Обожди минутку... умоляю тебя, сохраним эту помолвку в
тайне...
-Ода...
Христина, глядя на грудь Алины, медленно бледнела. С
неестественной улыбкой она стала на колени перед кроватью,
повторяя:
— Благодарю тебя, Алина... благодарю.
Алина, которая все сладострастие прошедшей ночи
чувствовала в своем теле, начала лукаво смеяться, вырывая руки,
откидываясь на подушки. Она была заинтригована, чем все это
кончится, и слегка опьянена новизной положения.
Христина повторяла сдавленным голосом:
— Благодарю тебя, Алина... благодарю.
Запах фиалок от подушек, простынь, голубой сумрак этой
постели-фонаря, нагота плеч, груди, рук, ног Алины лишали ее
рассудка. Она тянулась к ней, сдерживая хриплый дикий крик,
полурыдание, бледнея все более и более, дрожа, ползая на
коленях, повторяя одно и то же:
— Благодарю тебя, Алина... благодарю.
Алина улыбалась, не отнимая своего колена, не меняя позы
раскинувшейся девственницы и бормоча:
— Я соглашусь на брак с Витольдом... Мы будем мирно жить
втроем... О да... он — вполне корректный, мягкий, добрый
человек... Ты же меня любишь...
71
Христина прижималась пылающими губами к ее коленям,
потом она целовала атласный живот, таинственный
треугольник, щиколотку ноги...
— Ты с ума сошла, — воскликнула Алина не двигаясь.
«Это — тоже вина, — думала она, — я расскажу Шемиоту...
О Генрих...»
Христина нагнулась ближе, толкая ее лечь ничком.
— Ляг... ляг... одну минуту... Ты так красива.
Лечь ничком — это было всегда соблазнительно для Алины.
Розовая и смущенная, она боролась.
— Нет... Нет...
-Да... Да...
Град поцелуев и легких укусов посыпался на ее спину,
бедра, ноги, на этот вздрагивающий затылок, на закинутые бессильно
и беспомощно руки.
— Что ты со мной делаешь... Боже мой, Боже мой... —
стонала Алина, содрогаясь от мысли и это рассказать Шемиоту, все
рассказать...
То, что проделывала с ней Христина, до такой степени не
задевало и не затуманивало ее души, что мечта Алины бродила
возле Шемиота... Как он примет ее, Алину... Что он скажет
теперь, когда Витольд сделал ей предложение. Как он накажет ее.
Ах, пусть он заставит ее быть послушной...
— Я устала, Христина... Пусти меня...
Теперь Христина взяла ее в свои объятия, как ребенка, и,
закидывая головку Алины, впилась в ее губы и жалила сухим
языком.
— Нет... нет... я устала...
Алина оттолкнула подругу.
Поправляя волосы, она сказала грубо и спокойно:
— Мы обе с тобой — безнравственные девки... Мы — сытые
жирные самки... Нас бы высечь с тобой так, чтобы мы не сели,
и заставить пол мыть.
Христина посмотрела на нее с ужасом и смятением. Она была
еще бледна, с затрудненным дыханием.
— Не говори так, Алина... я люблю тебя...
— Ну какая же это любовь?..
Губы Христины задрожали.
— Ты всаживаешь мне нож в сердце... Я ни в чем не
виновата. Я зарыдаю...
— Не проституируй слез...
Усталым жестом Алина укладывала свои волосы. Христина
натягивала ей шелковые чулки, завязывала ленты ее сирене-
72
вых подвязок. Она подала батистовую с кружевами рубашку,
тонкий бюстгальтер, сиреневое шелковое трико. Она
прислуживала ей с опытностью служанки, счастливая тем, что Алина
развеселилась, осыпая подругу нежными именами.
Умывание, прическа, маленькое препирательство по поводу
того, какое выбрать платье, или шутливая размолвка над
кольцами — бирюза, топазы, сапфир или аметисты, — наконец,
длинный, глубокий медленный поцелуй перед тем, как сойти вниз к
завтраку.
«И это нужно рассказать Шемиоту, все рассказать...» —
подумала Алина.
Покуда Христина говорила с Витольдом по телефону,
Алина поспешно прошла в маленькую гостиную стиля
Людовика XV.
Осторожно отодвинув штофную розово-желтоватую
портьеру, она оглянулась с неопределенной улыбкой сообщницы.
Драпри, ковер, мебель, вся комната, казалось, таила до сих пор
жар осеннего дня, жар неудовлетворенности, жар порочных и
болезненных мыслей Алины. Ликер, бисквиты, тоненькие
рюмочки на серебряном подносике, пепельница, полная окурков, —
все стояло нетронутое. И пучок белых гвоздик, увядших без
воды на кругленьком пуфе среди искусственных цветов
обивки. И горностаевый палантин, и белая длинная перчатка Алины,
сохранившая форму ее длинных пальцев. Алина улыбалась,
качая головой, улыбалась себе в зеркале. Она была безумна
вчера, безумна... Какие у нее были странные, смешные мысли...
И она позвонила. Пришла Войцехова.
— Почему вы не убрали здесь?.. Это беспорядок.
Войцехова отвечала дерзко. Она не знала, что барышня
встанет ни свет ни заря... А вчера барышня сидела с господином
Оскерко... Она не посмела тревожить барышню... Ведь
барышню теперь нельзя и тронуть... Это не то, что было прежде...
Алина перебила служанку очень кротко:
— Я выхожу замуж, Войцехова...
Старуха ахнула и бросилась целовать руки и колени Алины.
— Сердце Иисуса... Дай Боже счастья и здоровья барышне,
и радости, и любви... Барышня выходит замуж за господина
Оскерко...
— Нет, Войцехова ошибается... Я выхожу замуж за Генриха
Шемиота.
Наслаждаясь эффектом, Алина серьезным тоном просила
Войцехову о скромности. Войцехова клялась, что скорее
откусит себе язык, чем скажет хоть слово. Потом она почти побе-
73
жала в кухню и оповестила всех, что барышня выходит замуж
за господина Шемиота, господин Оскерко приезжал вчера
сватать барышню, и свадьба назначена через месяц.
Весь дом сплетничал, покуда Алина и Христина сидели в саду,
ожидая Витольда к завтраку. Христина была чрезвычайно
болтлива. Она размечталась вслух, открывая свою мелкую,
эгоистичную и завистливую душу, измученная положением
приживалки у богатого брата. А\ина не мешала ей строить воздушные
замки — поездка за границу, совместная жизнь близ озера Комо
или где-нибудь во Флоренции, спальни рядом, ежедневные
утренние часы в постели вместе и другие, более или менее
фантастические желания.
Алина думала, беспечно занятая составлением букета: «Я
готовлю Христине огромное разочарование, тяжкий удар.
Мысль, что, узнав истину, она начнет исступленно рыдать,
возможно, проклинать свою жизнь, доставляет мне жестокую
радость... почему в жестокости есть удовольствие?.. Ничего...
Взамен себя я дам Христиночке Юлия... Это, по крайней мере,
устроит ее прочно...» А вслух она кричала, что виноград созрел
совершенно на пяти-шести лозах, затерянных среди кустов по
левую сторону сада.
Войцехова накрыла завтрак торжественно, на
бледно-палевой скатерти, затканной фантастическими цветами, уставив
стол парадной посудой, хрусталем и серебром.
Приехал Витольд Оскерко. Он выглядел очень смущенным,
обеспокоенным, отнюдь не радостным. Рассеянно поцеловал
руку смеющейся Христине и увел Алину в сад. Они дошли до
каменной скамьи без единого слова.
Когда Алина села, Витольд спросил ее просто:
— Что все это значит, друг мой?.. Я безумен, вы безумны,
Христина безумна... Ведь не венчаемся же мы в самом деле?..
Я обожаю вас, Алина... но мысль о браке с вами... Я трушу... Со
мной вам будет хлопотно... Наконец, у меня роман с Мисси
Потоцкой... Я сознаюсь, я заварил эту кашу, я — идиот и
подлец... Дайте мне еще подумать, Алина...
Алина громко рассмеялась и взяла его за руку.
— Я влюблена, друг мой...
— В меня?
— В Генриха Шемиота.
— ...Я знал это давно...
— Вы — мой единственный козырь...
— Ах, плутовка... И какие проценты?
— Свадьба Юлия и Христины...
74
— Да что вы?..
— Это так...
— О друг мой... вы сделаете меня счастливым... С Христиной
становится тяжело... Представьте себе, она грозит мне иногда
самоубийством.
— Бедный Витольд... Я обещаю вам свободу... Ничего не
говорите Христине...
Потом очень дружески они болтали еще несколько минут.
Если Шемиот останется бесчувственным как камень, Алине
лучше всего запереть дом и уехать путешествовать. Алина даже
содрогнулась. Витольд смотрел на нее с любопытством.
— Я не представляю себе вашей внутренней жизни, дорогая,
но она кажется мне таинственной и прекрасной.
Христина показалась на террасе, обеспокоенная. Они
вернулись к ней под руку, медленно, как влюбленные.
Вечером все вместе они снова были в ресторанчике над
морем и веселились.
IV
Алина и Шемиот медленно гуляли. Кругом многое
изменилось. Все оттенки пурпура, золота, синего, лилового разлились
по деревьям. Листья еще не совсем опали, но страшно было
подумать, что станется с ними при первой буре или дожде. На
акациях повисли вздутые стручки, безобразие которых
сменило прошлую красоту белых душистых гроздей. Шиповник
обнажился и пылал крупными ягодами. Плющ и виноград были
красны кровью, с медными и коричневыми оттенками.
Мрачное великолепие осени рождало печаль. Но в то же время было
нечто несказанно сладостное, сонное и чрезвычайно нежное в
тишине покорно умирающего сада в бледном солнце и аромате
гниения.
Светло-золотистое манто Алины, отделанное узкими
полосками соболя, сливалось с общим тоном сада. Край ее белого
шерстяного платья задевал репейник. По своей излюбленной
привычке она оставила голову непокрытой, и пепельные
волосы чуть-чуть трепал ветерок.
Они вышли из сада, выбрали дорогу мимо экономии и
углубились через луг к той маленькой уединенной дачке, которую
Шемиот называл соблазнительной.
— Я бы презирал себя, если бы простил вас, — оживленно
говорил Шемиот, — я вас уже предупредил много раньше...
Я отказался быть вашим мужем, я не хотел компрометировать
75
вас и не соглашался на ваш приезд ко мне, особенно вместе с
Юлием. Я был против брака с господином Оскерко и против
дружбы с Христиной... Вы поступили по-своему...
— Простите меня...
— Нет. Приготовьтесь немного поплакать, Алина... В том, что
вы приехали ко мне даже без телеграммы, вы ясно
подчеркнули готовность... ну да... готовность...
Она подсказала тихо:
— Все принять от вас.
— Да... Я стану вашим мужем, Алина, но я закрепощу вас
гораздо раньше. Я хочу, чтобы ваша душа принадлежала мне
полностью и раньше, чем тело.
Он внимательно и ласково смотрел на нее...
— Вы отлично провели вчерашнюю ночь... Вы свежи,
розовы... У вас счастливое лицо... Я давно не видел вас такой...
— Я спала как убитая...
Они постояли, оглядьшаясь на дом, сад, экономию, вдыхая
влажный запах земли, вереска, луга.
Потом он подал ей руку, проводя Алину по ветхому
бревенчатому мостику.
— Еще очень далеко?
— Совсем близко...
Она кидала рассеянные взгляды кругом, не замечая
прелести осеннего вечера, поглощенная только словами Шемиота. Он
был спокоен. Он нес свой плащ на руке, как всегда юношески
грациозный, с пышными золотистыми волосами — милый
контраст с черными глазами и черной бархатной шапочкой.
Дорога стала грязна, размытая дождями. Алина
перепрыгивала по камням. Она смеялась. Потом пошел песок речного
берега, они спустились наискось в ложбину — сплошное болото,
через которое сторож проложил маленькую тропинку из
мелких булыжников. Широкий, искусственно проведенный ручей
бежал, журчал, пенился, кипел в кустарниках. Это падение воды
звучало мелодично, как музыка. Они вступили в молодой ивня-
чок. Ивняк был немного выше человеческого роста, густой,
серый, гнущийся к реке, словно камыши. По словам Шемиота,
его посадили только два года тому назад, чтобы помешать реке
размывать берег. Здесь стоял чудесный, крепкий, дразнящий,
солоноватый аромат ила, ивняка, гниющих листьев.
Ничего не было слышно, кроме журчания ручья, от
которого они удалялись, скрипа веток и слабого чириканья какой-то
птички. Шемиот шел впереди узенькой тропинкой, осторожно
раздвигая ветки и оглядываясь на Алину. Его голос принял осо-
76
бенно нежное выражение, улыбка стала интимна. Алина
двигалась за ним, любопытная и восхищенная.
— О... Я никогда не знала, что ивы пахнут.
Алина чуть не вскрикнула, увидев почти в воздухе
неширокие ступеньки дачки.
Дачка, поставленная на высоких толстых столбах, с
круглым балкончиком и чердаком, очень напоминала голубятню. Она
была совсем примитивного вида и выкрашена в серо-голубой
тон, тон бегущей реки.
— Ее соорудили в какую-нибудь недельку... — сказал Шеми-
от. — Она выдержала уже два разлива. Я ночевал здесь несколько
раз... Когда у нас устраивается рыбная ловля, мы здесь
ужинаем.
Чрезвычайно довольный, он полез по лесенке, отыскивая
ключ в кармане.
Алина стояла на дорожке среди ивняка и улыбалась.
— Представьте себе, я не запер дачу, — горестно воскликнул
Шемиот. — Черт... Это будет чудо, если там не стащили всего...
Алина вскарабкалась к нему живо, как кошка, обрадованная
таким поворотом дела.
Но в комнате все было на месте.
Маленькие голубые ставенки изнутри полуприкрыты, и свет
проникает сюда полосами. На круглом деревянном столе
корзинка с виноградом, бутылка вина, еще какие-то свертки. Шкас]>
чик в стене, наполненный грубой простой посудой, оставался
раскрытым. Кроме стола, трех плетеных кресел, плешивого
ковра здесь половину места занимал диван, низкий, широкий,
как корабль, покрытый ковром, с подушками в наволочках из
полосатой парусины. С потолка спускался овальный фонарь
темно-красного, почти черного стекла, по стенам висело старое
оружие, несколько полочек и гравюры фривольного
содержания, вставленные в самодельные рамки. Маленькая лестница
вела на чердак, дверь которого в потолке не запиралась.
— Все цело, — объявил Шемиот, тронувший каждую вещь с
живостью юноши и словно нюхая воздух. — Клянусь Богом,
это чудо... В прошлом году здесь украли одеяло, подушку,
всякую рухлядь.
Он был польщен комплиментами Алины...
— Да... да... дорогая моя... Это очень мило... наивно и мило...
Это — исключительно моя затея...
Он бросил шляпу, плащ в кресло и открыл ставни. Вечернее
солнце залило комнату, расцветило пыль, состарило мебель и
развеселило окончательно Шемиота.
77
— Я заходил сюда вчера... вы видите... виноград, пирожки,
вино... Это принес я...
Он помог Алине снять ее манто.
— Как вы бледны, дорогая... Вы дрожите?
И он побледнел чувственно и внезапно, угадывая ее
волнение, щуря свои великолепные глаза.
Тихонечко ломая пальцы, она пробормотала:
— Вы все еще сердитесь на меня?..
— Конечно...
— Накажите меня, как хотите, только простите.
Он ответил просто:
— Да... Я вернусь через минуту... я нарежу розог...
Смертельный страх охватил ее.
— О Боже... неужели же вы хотите?..
— Я вас высеку, Алина. Это решено.
— Умоляю вас, умоляю...
Он пожал плечами, уходя, сбегая с лестницы, как школьник,
со свистом.
Она села на диван, продолжая тихонечко ломать пальцы, в
смятении, не зная, что с собой делать. Вихрь мыслей,
ощущений, протестов и соглашений пронесся в ней. К нестерпимому,
одуряющему стыду, перед которым побледнело все, что до сих
пор пережила она, щедро примешивалась тайная радость,
волнующая и блаженная. Ведь она ждала наказания, она знала...
Мечты станут действительностью...
В это время ей явственно почудилось шуршание на потолке.
Она рассеянно подняла голову: в широкие щели посьшалась
труха. Снова стало тихо. Где-то слабо журчал ручей. Где-то
насвистывал Шемиот.
Когда он вернулся с розгами, она из бледной стала
пунцовой.
Шемиот слегка запыхался и, вытирая лоб платком, сказал
мягко, в первый раз обращаясь к ней на «ты»:
— Я высеку тебя не только за непослушание, за порочную
дружбу с Христиной, за кокетство с Юлием, комедию с
Витольдом, но главное — за то, что ты ворвалась в мою жизнь не
спрашиваясь. Ты настойчива в своей любви ко мне, я не люблю
настойчивых женщин... Я не давал тебе права преследовать меня.
Ты отрываешь меня от моих дел, ты просто назойлива...
Можно смело сказать, что ты женишь меня на себе... Боже, я не
позволю ничего подобного...
И он думал: «Ее самовнушаемость поразительна».
Алина стояла перед ним в глубоком смущении, сраженная
78
его словами; чувствуя всю его правоту, умирая от раскаяния и
пламенного, головокружительного желания наказания.
Она бормотала, не глядя на него:
— Да... да... высеките... Это нужно... это нужно...
Он бережно, как хрупкую драгоценность, разложил ее на
диване и долго путался в кружевах ее юбок, невольно
затягивал туже тесемки и потом рвал их, волнуясь.
Вздрагивая, закрывая лицо руками, Алина лепетала:
— Милый... милый... Я боюсь... я боюсь... Боже мой...
Чувствуя, как свежесть коснулась ее тела, как под его рукой
низко спустилось белье и платье покрыло ее спину, она
воскликнула громче:
— Генрих!.. Генрих!.. Я не могу!.. Не могу... мне стыдно... ах!
И*она извивалась уже заранее, охваченная чисто животным
страхом.
— Как ты красива. Тебя даже жалко сечь. Подобно
Абеляру, я уже влюблен в тебя. Розги оставят след. А, моя крошка,
почему ты так непослушна?
Первый удар она не почувствовала, второй и третий
заставили ее вздрагивать, и дрожать, и метаться, как рыбку.
— Ах, ах... больно... больно... милый... милый, я на коленях...
не буду... не буду...
— Ты кричишь еще рано, дитя...
Шемиот сек ее медленно, не чересчур жестоко, испытывая
сладкое волнение при виде того, как ее тело — нежный цветок
среди поднятых юбок — густо розовело. Весь мужской
деспотизм проснулся в нем. Он был господином, она — рабой. Он
был счастлив.
— Милый, милый... Не буду... не буду...
— Я надеюсь, лежи тихо... Я вижу, ты получишь лишние.
— Генрих... Генрих... я лежу тихо... ах... больно, больно...
о-ах... прости... прости... не могу... не могу...
Он процедил сквозь зубы, бледный как полотно от ее криков:
— Не вертись, ты сама виновата... ты вьешься... твои
движения ударяют мне в голову...
— Милый... милый... высеки меня еще завтра, сегодня
прости... ах... ах... Генрих... Генрих...
Он был взволнован наивностью восклицания.
— Повтори эту фразу.
— Милый... милый... высеки меня еще завтра, но сегодня
прости...
— Это не последний раз... обещаю тебе...
— Больно... больно...
79
— Очень больно... ты права, бедняжка...
Время остановилось для Алины... Ей казалось, что он сечет
ее чем-то огненным, колючим, едким. Боль подошла к самому
сердцу. Она уже не ощущала розог в отдельности, а одну
плотную, как бы стальную трость. Она извивалась, металась,
ползала на груди, но розги достигали ее всюду, падали на нее
медленно, как медленные укусы или жадные пчелы.
Она рыдала, умоляя униженно и страстно:
— Прости меня... прости... Я — глупая, скверная женщина...
целую твои руки, целую твои ноги... ах... ах...
— Не вертись... замолчи... Я приказываю молчать...
Алина смолкла, вся в слезах, стараясь лежать тихонечко,
задерживая глубокие вздохи.
Начиная испытывать головокружение и боясь стать
жестоким, он остановился. Он спустил еще ниже кружева, выпустил
ее руки, поправил волосы, и она решила, что наказание
кончается. Слезы высохли у нее мгновенно. Она думала: «Вот я лежу и
не смею подняться, и он сечет меня, как ребенка... О, господин
мой... О, Бог мой... О, как я его люблю... Как он строг... Как я
ему благодарна... Я запомню этот урок надолго».
Он думал: «Я давно не испытывал подобного ощущения. Как
мне ее жаль... если бы с ней был обморок, я бы лишился
рассудка от угрызения совести... Она моя теперь до самой смерти... я
все могу сделать с ней...»
Робко она спросила:
— Можно мне встать?
— Нет, дорогая.
— Милый... милый... прости...
Но он был непреклонен.
— Ты можешь плакать, дитя...
И розги опустились на нее снова. Как она извивалась!
— Милый, милый... прости...
— Еще десять розог... отличных, горячих розог, любовь моя...
И она действительно получила последние, которые
показались ей раскаленными.
Она поднялась, послушная, заплаканная, оправилась и
стояла перед ним, умирая от стыда.
Он спросил ее, растроганный, с бесконечной нежностью:
— Ты будешь послушна, Алина?
Тогда она бросилась перед ним на колени, повторяя:
— Всю жизнь.., всю жизнь...
— Помни, я никогда не устану сечь тебя... Я сделаю тебя
такой, какой я хочу, чтобы ты была...
80
— Да... Да... как ты хочешь... как ты...
Тогда он привлек ее к себе, осыпая ее поцелуями, шепча на
ухо:
— Маленькое наказание... каждый месяц... ты не боишься?..
Жар его губ, жар слов сводили ее с ума. Она была бледна,
как и он, с глазами, просветленными и полными любви.
Она повторила в экстазе:
— Я была виновата... Ты наказал меня... ты исправил меня...
О, как я счастлива...
— Не был ли я жесток?
— Нет... нет... ты был добр...
— Ты плакала сильно.
— Я должна была плакать! — воскликнула она с ненавистью
к себе самой.
— Я люблю тебя!..
С трудов они успокоились.
— Нам пора уходить, дорогая... Мы и так опоздали к обеду...
Он выбросил поломанные розги, закрыл ставни, снес в
шкафчик нетронутые свертки, помог надеть манто Алине.
Потом они вышли, заперев двери дачки.
Солнце уже село. С запада плыли дождевые тучи.
Поднялся ветерок и рябил реку. На желтизну осенних листьев,
оголившиеся кустарники, горизонт, дорогу ложились сумерки. Алине
казалось, что ручей бурлит и пенится теперь громче. Она
прижималась к Шемиоту и улыбалась. Он улыбался ей.
— Переволновался, — сознался он, — я буквально никуда не
гожусь... еле бреду...
Перед обедом искали Юлия. Наконец он вернулся верхом
на лошади управляющего и говорил как-то чересчур громко.
— Как ты бледен, — заметил ему рассеянно Шемиот.
Алина, встречая пристальный взгляд Юлия, краснела.
«Этот мальчуган чересчур смел... Он строит мне
влюбленное лицо на глазах отца».
За вторым блюдом Шемиот проговорил:
— Я засыпаю на месте... извините меня, Алина... спать, спать...
— Управляющий хотел говорить с тобой, папа... Я встретил
его по дороге... Он отдал мне свою лошадь...
— Ну нет... сейчас же после обеда я запрусь и ложусь спать...
Алина, будьте снисходительны ко мне...
Франуся принесла дичь с яблоками, потом шоколадный крем
и ягоды.
Все трое оставили свои порции на тарелке.
Шемиоту буквально не сиделось.
81
— Извиняюсь... извиняюсь... я не могу побороть усталости...
Это — погода... собирается дождь...
И он ушел, поцеловав руку Алины, поднявшей на него глаза
доверчиво, благодарно и влюбленно.
Алина мечтала. Было нечто изысканно девичье во всей ее
фигуре, скрытой белым шерстяным платьем.
— Который час?..
— Еще рано, Алина... около десяти... Посидите еще со мной
немного...
— Чуточку посижу... Я тоже устала...
«Быть одной, быть одной, — пело в ней, как будто Шемиот
заворожил ее своим желанием, — спать... спать».
По лицу Юлия мелькнула какая-то напряженная мысль.
— Вы гуляли с отцом, Алина?..
— Да... да... покойной ночи, друг мой...
И она поспешно ушла, боясь его расспросов.
У себя она прогнала Франусю и раздевалась небрежно,
бросая платье. Потом трико, бюстгальтер, чулки, подвязки с
бантами, дневную рубашку она оставила прямо на полу, выходя из
них, как из воды. Лампа под кружевным абажуром освещала
только часть комнаты и кровать, соблазнительно белевшую, как
бонбоньерка. Алина зажгла еще свечи по бокам стенного
зеркала. Она хотела видеть свое тело после наказания, чувственно
содрогаясь, относясь к себе как к чему-то постороннему.
На теле остались частые, тонкие розовые полоски, легкие
вздутости, похожие на пуговицы, алые царапины, которые
нельзя было назвать струпьями, конечно. Она рассматривала
себя долго, улыбаясь, вздыхая, ежась. Сладострастная дрожь
бежала по ней. Если бы она могла, она поцеловала бы набожно
следы ее унижения и покорности. Несказанно счастливая и
упоенная, она думала: «Ах, если бы снова, если бы снова... Зачем
она не покорилась его наказанию более терпеливо? Зачем она
боялась? О, трусиха!»
Потом ненависть к своему телу, ненависть к себе как к
женщине, сосуду мерзости, потрясла ее чудовищным образом.
Да, ее высекли, высекли... Мужчина, который не женился на
ней, да и женится ли он?.. О... о... И будет еще хуже, еще хуже...
Когда-нибудь он высечет ее при свидетелях: при сыне или при
Христине... С такой падалью церемониться нечего. Нужно быть
строгим с ней, нужно быть беспощадным, неумолимым.
Она надела закрытую рубашку, перешла на кровать,
прочитала покаянные псалмы, но не тушила лампу, а придумывала
новые унижения и новые изуверства сама над собой.
82
Она думала, лежа ничком и плотно укутавшись в одеяло,
которое жгло ее разгоряченное тело еще больше: «Я упряма, я
глупа, я безвольна и я прямо-таки до смешного ничтожна... Меня
нужно исправлять ежеминутно, ежечасно... О, милый... Он
сказал, что никогда не устанет сечь меня... Я его понимаю...»
С внезапной грустью она подумала: «Никто не убедит меня,
что я безумна... Я просто лучше других женщин сознаю свою
гнусность, слабость, причастность к дьяволу... Почему сечению
я придаю такую огромную важность?.. Потому что оно
кажется мне самым позорным, хуже всего на свете, позорнее любого
унижения... Легче целовать ноги, чем кричать — милый, милый,
не буду... Аля себя же я ищу самого тяжкого наказания... Боже
мой, какое счастье, что Генрих понимает меня... Я пойду за ним
на край света...»
— Генрих.
Она вскочила, задыхаясь от волнения, не будучи в силах
произнести ни слова, накинула на себя халатик — лиловый шелк,
затканный серебряными бабочками.
Потом она отворила дверь.
Это был Юлий.
Алина ахнула, отступая.
Он, улыбаясь, запер дверь.
— Тсс... вы мне нужны, Алина...
— Что случилось?..
— Успокойтесь. Отец спит... Выслушайте меня...
— Как?.. В двенадцать часов ночи?.. Вы с ума сошли!..
Бледная от гнева, она все отступала.
А он приближался, стукнулся о круглый стол и сел на него
боком.
— Я видел вас на даче с отцом, — сказал он просто, — я был
на чердаке... Это мучит, душит меня... Я пришел поговорить с
вами, Алина...
Теперь, в свою очередь, она села в глубокое кресло
напротив и смотрела на него, пораженная.
В нескольких словах Юлий рассказал о том, что видел
случайно. Он вовсе не хотел шпионить. Он пришел на дачу, как
обычно, с книгой и альбомом зарисовок. Всех ключей от дачи —
три: у отца, Юлия и сторожа.
Когда из окна он увидел Алину и отца, он почему-то
испугался. У них были такие влюбленные, сияющие, совсем необычные
лица. Что-то мешало ему оставаться здесь. Он спасся на чердаке
и так шумел веревками, балками, что ежеминутно ожидал: вот-
вот его накроют. Потом он отгреб с пола чердака солому...
83
— Ах... я слышала... — прервала его Алина.
Да, он отгреб солому и видел парочку в щель, как раньше в
окно. Он ждал любовной сцены, взволнованный,
сконфуженный, презирая себя за это низменное любопытство, но
совершенно не владея собой.
Когда он увидел отца с розгами, ему пришла в голову дикая
мысль, что это его, Юлия, высекут, и он вынул из кармана
перочинный ножик. Он бы изрезал руки отца, черт возьми...
Алина содрогнулась, продолжая сидеть в той же позе
оцепенения.
Но отец сек Алину, и она была так красива, так покорна, во
всей ее позе было столько сладострастия, а в ее криках столько
любви, мольбы, что он, Юлий, восхищался и гордился своим
отцом. Вся кровь зажглась в нем, он почувствовал, как душа и
тело его перерождаются, как он сам становится жестоким,
властным, и он думал, что нужно поступать так, а не иначе с
женщиной. Он почувствовал еще и то, что теперь нет в мире для
него ни единой женщины навсегда, а все они будут случайными
и всех их потом он выкинет за борт и пойдет дальше.
Грациозно наклоняясь к Алине, трогая ее лиловый халатик,
затканный серебряными бабочками, Юлий говорил с большой
нежностью:
— Никогда я не подозревал, что зрелище может так влиять
на человека... Я пошел на дачу одним Юлием, вернулся
другим... Почему вы плачете, Алина?.. Я не хотел вас обидеть...
Ведь вы обожаете моего отца... Вы — его раба... Вы больше не
принадлежите себе... Все женщины становятся его рабынями...
так и Клара... так и моя мать... и другие, которых мы не знаем...
Отец уж таков, с ним ничего не поделаешь... Правда, я думаю,
что вы, Алина, побили рекорд смирения между ними... Вы
перешли какую-то границу... границу дозволенного и нормального, в
будничном смысле... Но это потому, что все ваши чувства
преувеличены и ваша любовь льется через край. Может быть, отец
сам виноват в этом...
Она перебила его с искаженным лицом, не вытирая слез,
складывая молитвенно руки:
— Нет... нет... ваш отец ни в чем не виноват, Юлий... клянусь
вам... наказание жестоко, но я его заслужила... Вы еще не
знаете, до чего я порочна и отвратительна... И стать лучше без
чужой помощи я не могу... не могу... Наказание доставляет мне
боль... страшную нечеловеческую боль, поэтому я и радуюсь.
Юлий... Это хорошо, что вы сказали мне... Теперь я
чувствую себя еще униженнее... О Боже, до чего я гнусна...
84
Он качал головой улыбаясь.
— Вы искусно скрываете свои достоинства, Алина. Почему
это так? Вы думаете только о пороках.
И после паузы:
— Христина Оскерко будет моей женой... В то же время я
чувствую: никого я не мог бы любить и никто так не близок
моей душе, как вы, Алина... И сегодня я даже не чувствую, а
знаю, что люблю вас...
— О Юлий... Это был бы грех...
— Конечно. Большой грех.
И он улыбнулся, а она медленно впитывала в себя эту мысль
и где-то в тайниках души осваивалась с ней... Преступление
упало бы на нее. Всю жизнь ей пришлось бы каяться...
Он говорил шутя:
— В жизни полезно обладать тайнами наших близких...
— Что вы хотите сказать?..
— Я хочу сказать, что вы — моя союзница, Алина... вы мне
дадите Христину...
Она с облегчением вздохнула: Христину. Конечно, она
уломает эту вздорную девушку и бросит ее в объятия Юлия.
— Я все сделаю, что от меня зависит, друг мой...
Он целовал ее ладони. Она нежно смотрела на него. Этот
грациозный мальчик, белокурый и гибкий, с меняющимся
взглядом, с пленительной свежестью рта, рождал в ней чисто
физические желания.
Они продолжали говорить шепотом, робко делясь между
собой впечатлениями вечера, высказывая догадки на будущее.
Утомленные случившимся, они не замечали раскрытой
постели, разбросанного белья, распущенных волос Алины, ее босых
ног. Странный, частый и монотонный шорох вернул их к
действительности.
Это шел сильный дождь. Они простились, изумленные, что
уже поздняя ночь.
— Тайна?..
— Тайна...
Дождь, начавшийся с вечера, продолжался и днем —
настоящий потоп с сильным холодным дождем. Теперь были сорваны
последние листья, и земля превратилась в скользкую, топкую грязь.
Везде стояли целые озера воды, мутной и волнующейся от ветра.
Алина проснулась поздно. Она почувствовала холод и
сырость еще в постели, и ее охватила смутная грусть,
неопределенное ощущение полного одиночества.
85
Франуся принесла ей кофе.
— Ах, барыня... ну и погодка... Если дорога разлезется, мы
надолго засядем в деревне.
Отдергивая драпри, невольно шумя мебелью, горничная
продолжала жаловаться:
— Нет, это последний раз я служу в деревне... Думала
отдохнуть, скопить денег, поправить здоровье... Какое там...
Алина ничего не ответила. Она подумала, что ей пора
уезжать от Шемиота. Все ее движения были страшно медленны.
Причесываясь и удивляясь своей бледности, она думала: «Как
я встречу Генриха?.. Что я скажу ему в первую минуту?.. Я до
сих пор чувствую легкую боль сидя... О да, он был очень суров
со мной».
Поколебавшись, она спросила Франусю, убиравшую
комнату:
— Барин встал?
— Давно уже... еще в десять часов... Барин в конторе с
управляющим... Сегодня суббота, расчет рабочих...
— А молодой барин?..
— Молодой барин уехали.
— Уехал? Куда?..
Алина изумилась. Франуся вешала в шкаф ее лиловый
халатик, вьшштый серебряными бабочками. Она отвечала
совершенно спокойно:
— Молодой барин очень торопился в город и боялся, что
дорога испортится.
Все мысли смешались у Алины. Одна с Генрихом... Одна
после вчерашнего...
Она сказала измененным голосом:
— Дайте мне, пожалуйста, серое платье...
Это было то простое платье — дымчатое либерти, вышитое
белым стеклярусом, которое она надевала в городе для
Шемиота. Застегивая жемчуг, она мысленно сравнивала этот туалет с
серым небом, серым туманом, с серыми струями воды.
«Жемчуг означает слезы, — подумала Алина, очень
грустная. — Неужели же Генрих снова заставит меня плакать?»
И она вышла в другие комнаты. Было холодно. Все тепло из
старого дома унес ветер. От стен, от мебели, от портьер тянуло
сыростью. Везде дуло. Мертвая тишина тревожила Алину.
Потоки дождя по стеклу и бешенство ветра, от которого скрипел
старый дом, приводили ее в уныние. Поздняя осень. Она
никогда не сможет жить круглый год в имении, никогда. Даже возле
любимого человека. Или это было бы для нее горе, тяжкие ус-
86
ловия. Потом она устыдилась: «Какая я эгоистка... В сущности,
это не так уж плохо — поскучать немного...»
Сначала она попала в маленькую гостиную, где мебель
черная, банальная, обитая синим атласом, и вазы синего фарфора с
грубыми рисунками раздражали ее. Из гостиной она так же
бесцельно перекочевала в библиотеку, убранную в арабском стиле,
всю увешанную коврами, с пыльным, выцветшим, но мягким и
теплым диваном. Оттуда, дрожа от холода и тоски, она
скользнула в зал с тремя простенными зеркалами и мебелью, дряхлой,
как дом. Алина задержалась здесь только потому, что большая
часть сада особенно хорошо виднелась из его окон. Можно было
окоченеть, глядя на потоки воды, которые лились с неба, с крыш,
деревьев, кустов. Стены флигелечка почернели, а деревья
неутомимо кланялись, трепались, мешались, словно женские юбки.
Не было видно ни птицы, ни собаки, ни человека.
«Какая тоска... А Генрих сидит у управляющего... Боже мой,
точно нельзя улучить минуточку и заглянуть ко мне...»
Из залы она смело прошла в кабинет Шемиота, который не
любила. Что-то нестерпимо скучное было в этой комнате с
неуклюжей ореховой мебелью, книгами, атласами,
путеводителями, географическими картами по стенам. Портрет покойной
жены Шемиота — не такой, как в городе: она с маленьким
Юлием на руках — ревниво мучил Алину.
Недоброжелательно глядя на нее, она слегка пожала плечами.
«Юлий говорит, что у отца было много женщин. Тебе
нечего глядеть так счастливо и невинно... Я предпочитаю Клару... по
крайней мере, та хорошо сознавала свое положение...»
В глубине кабинета синие драпировки скрывали альков. На
камине чугунный олень нес на своих рогах круглый шар-часы.
Были положены дрова за железную решетку, и, цепенея от
холода, Алина пожалела, что они не горят.
После кабинета она осмотрела бильярдную, столовую,
буфетную, угловую комнату для гостей.
«Я могу сказать теперь, что характерная черта этого дома —
сырость, пыль, безвкусие и запустение. Чтобы отопить зимой
эту громаду, где дует в каждую щель, нужно вырубить
половину леса. Когда я выйду замуж за Генриха, я изменю здесь
многое... Он будет жить у меня, Юлий и Христина в его городской
квартире, а сюда мы станем приезжать только летом».
Но душа ее, усталая от неопределенной тоски или по
предчувствию, мало верила этим мечтам. Она вернулась в спальню
накинуть палантин и вспомнила свой вчерашний разговор с
fЮлием. Как она испугалась сначала... И что он говорил... Поче-
87
му он уехал?.. Может быть, он признался во всем отцу? Или
Генрих сам отослал его?..
И снова медленно и бесцельно обходила комнаты,
задерживаясь у окон, испытывая почти отчаяние от неопределенности и
вынужденной праздности.
Дождь увеличивался, и дневной свет становился все более и
более тусклым, походил на сумерки. Мысленно Алина бурно
упрекала Шемиота. После вчерашнего даже не взглянуть на нее,
не сказать ей «доброе утро». Уж не презирает ли он ее
окончательно? Она унеслась мечтой к реке, где колышется ивняк и где
одиноко стоит дачка, похожая на голубятню. Неужели же
вчерашнее только случайность?.. Минутный, ни на чем не
основанный каприз Шемиота? И стыд, и покорность, и боль, и
блаженство наказания, и радость прощения, и его поцелуи?..
Она вздрогнула, услышав равнодушный голос Франуси:
— Барин просит барышню завтракать без него... Барин очень
занят с управляющим...
Алина оторвалась от дум и пошла в столовую.
«Нужно быть покорной... Нужно быть послушной... Разве я
вчера не обещала этого?..»
Ей подали бульон в чашке, цветную капусту, холодного
рябчика и яблочный пирог. Она ела каждое блюдо совершенно
машинально, не отвечая Франусе. Кофе обжег ее губы — она
слегка пришла в себя. Что делать после завтрака? Если бы ее не
терзали сомнения, опасения, неопределенность, она бы думала
о вчерашнем и строила бы планы на будущее, но она не могла,
не могла. Она думала: «Я никогда никому не умела рассказать,
как я тоскую порой... Тоскую не о грехах своих, а просто так...
У меня это не выйдет... Почему я не могу рассказать о своей
тоске?..»
Она забралась в библиотеку. На столе лежали «Мемуары»
графа Las Cases. Она побоялась открыть даже первую
страницу. Есть же что-нибудь святое? И не в такие минуты читать эту
трагическую книгу.
Шаря по углам, Алина натолкнулась на папку, распухшую
от вырезанных картинок. Здесь оказалась целая коллекция
знаменитых женщин: Мария Стюарт, Андриенна Лекуврер, Заира,
Магдалина, Екатерина Медичи, Лавальер, Помпадур и др. и др.
Тут же она нашла ящичек с акварельными красками. Это
восхитило Алину. Она любила раскрашивать, совсем неискусно,
как девочка. И она достала стакан воды, выбрала себе пачку
картинок, очистила место на столе, среди толстых книг по
живописи и архитектуре.
88
Очень прилежно она раскрашивала в лиловый цвет платье
Марии Манчини и в темно-зеленый — драпировку за ней.
Несколько раз, подымая голову и слушая ветер и дождь, она
боялась разрыдаться.
Когда совсем стемнело, Алина отложила кисточку. Пальцы
ее онемели, но остались чистыми. Какой ветер!.. Какой дождь!..
Или это не кончится? Или это дурной сон? Она пожалела, что
около нее нет Юлия или Христины.
У нее не было ни сил, ни желания двинуться с места. Франу-
ся шумела, опуская шторы, передвигая мебель, — Алина не
слышала. Хлопнула входная дверь, вернулся Шемиот, прошел к
себе переодеваться — Алина тоже не слышала. Управляющий
спорил с подрядчиком на веранде, а его собаки ожесточенно
лаяли — и снова Алина ничего не слышала.
— Вы здесь, Алина?
Шемиот стоял перед ней и улыбался.
Она еле подавила крик. Он целовал ее пальчики, извиняясь.
Они целый день не виделись... Проклятое хозяйство...
Проклятая погода... Решительно он болен из-за всех этих ненужных
историй с рабочими, поденщиками, управляющим... В конторе
пахло дегтем, капустой и еще чем-то отвратительным... Он еле
жив...
— А вы что делали, Алина?
— Я тосковала...
— Огороде?..
— О вас...
— И потом?..
— Раскрашивала акварелью картинки...
— Какое ребячество...
Он рассмеялся. Она все еще не приходила в себя от
волнения.
— Я немного боялся за вас, Алина...
— Вы?.. Почему?..
— Бог вас знает... после вчерашнего... вы могли заболеть...
— Я очень счастлива тем... что... что...
— Хорошо. Юлий уехал.
— Почему?
— Две причины. Первая — он хочет сделать предложение
Христине. Вторая — я сам отослал его. Он мешал мне. А вы
недовольны, Алина?..
— Нет... я только удивилась...
— Ведь вы хороши с Юлием?..
— Очень.
89
— Берегитесь. Я ревную...
-Вы?.. С...
Звук ее голоса растрогал Шемиота. Он подался вперед,
чтобы лучше рассмотреть ее лицо, и она скорее почувствовала,
чем разглядела его насмешливую улыбку.
— Я огорчу вас, Алина...
— Вы не можете огорчить меня... Я все приму... всему
подчинюсь и всем буду счастлива, Генрих...
— Вы меня радуете... Я малодушно прячусь от вас целый
день...
— Прячетесь?..
— Да... Мне нужно сказать вам... Ах, как это трудно...
Она смотрела на него.
Он действительно волновался.
— Будьте мужественны, Алина... Я твердо обдумал план
нашего... нашего союза... Я не женюсь на вас, Алина. Я не женюсь
на вас никогда, хотя бы вы умерли здесь, у моих ног... я не
женюсь...
Она перевела дух. Казалось, вся жизнь ушла из ее глаз, и
они стали тусклыми, неподвижными, чуть-чуть расширенными.
Наконец она спросила:
— Вы не любите меня?..
— Я люблю вас, Алина... больше, чем женщин, которых я
знал... Чем мне поклясться вам?
Она сделала слабый жест, означавший — почему же вы
бросаете меня?
— Я люблю вас, Алина, но не хочу жениться. Разве ваше
чувство недостаточно сильно, чтобы даже грешить ради меня и
со мной? Или мнение вашего духовника вам важнее моего
желания? Если вы считаете позорным быть моей любовницей, вы
меня не любите...
Потом он повторил то, что она уже слышала. Он стар для
нее. У него взрослый сын. Алина может быть счастлива с
другим. Все это он щедро пересыпал сожалениями и жалобами то
на судьбу, то на женщин, то на самого себя.
Алина была ошеломлена. Понятие любовницы для нее
равнялось чему-то омерзительному, страшному, позорному и,
главное, нечистоплотному. Конечно, она унизилась перед Шемио-
том, он сек ее и говорил ей «ты», но ведь она смотрела на него
как на своего мужа. Он был для нее единственным и
избранным. Все застыло в ней, и она не ощущала больше никаких
желаний. Она подумала: «Судьба моя решается — мне
безразлично. Я готова встать и уйти куда-то, все равно куда, не огля-
90
дываясь... Так вот что ждало меня в этом доме... роль Клары.
Почему я не могу ничего решить? Но может быть, приятно жить
без желаний?»
Шемиот угадывал ее мысли.
Он колебался. Потом взял себя в руки. Он не женится, если
даже Алина потеряна для него — он не женится. Это смешно.
И он встал, чтобы уйти.
— Сердце мое разрывается от горя, Алина... Но я не могу
играть вашей жизнью... простимся... Сознаюсь, я думал
встретить в вас больше любви...
Она зарыдала:
— Боже мой, Боже мой!.. Разве я не была вашей с первого
дня? Всегда?.. А вчера?.. Вчера?..
— Не плачь, — пробормотал он, порывисто обнимая ее, — все
это устроится... не плачь... будь послушна...
Он сам вытирал поток ее слез, соленый вкус которых он
приятно почувствовал на губах.
— Ты — моя... И ты — очаровательна...
Теперь, когда они отбросили вопрос о браке, в Шемиоте
поднялся исключительный интерес к Алине. Отныне она была только
молодой, страстной любовницей, предназначенной ему для
самых жестоких утех. Он был счастлив и снова влюблен. Он
думал: «Прибегая к розгам, я знал, что я делаю. Собираясь
обладать ею, я иду наугад. Важно заставить Алину все и всегда
просить...»
— Я хочу того, чего вы хотите, Генрих... и только того...
Ее интонация звучала отчаянной решимостью.
Шемиот благоразумно поднялся.
— Пойдемте в столовую.
Обед прошел чуть-чуть по-ребячески. Они много смеялись и
чокались, говоря намеками.
«Я — любовница его, а не невеста, — думала Алина, —
любовница... Какое милое слово... Оно окрыляет и делает меня
смелой... Почему Генрих так сдержан? Может быть, я кажусь ему
недостаточно красивой?»
После обеда Алину ожидал сюрприз — затопили камин в
кабинете Шемиота.
— О... вы всегда угадываете мои мысли... Я так зябну...
— Я тоже...
Сюда им подали чай с конфетами, торт, варенье, ром и
маленький мозаичный столик с инкрустациями, на котором они
играли в шашки некоторое время. Но Алина была рассеянна.
Она проигрывала партию за партией. Шемиот смотрел на ее
91
губы и терзался между желанием обладать ею сегодня и
тонким планом довести ее до еще большего любовного
исступления. Наконец, оба раздосадованные, они оставили шашки...
— Пересядем к огню, Алина... О чем вы думаете?
— Все так неожиданно... Я стараюсь понять вас, Генрих...
Свет от камина зажигал разноцветные огоньки на ее
стеклярусном тюнике; розовели ее плечи, нежно прикрытые белым
шифоном.
— Какой дождь.
— И ветер...
— Это невеселый вечер, дорогая... Если бы мы не были
вместе...
«Мы», — она благодарно посмотрела на него.
— Я счастлива. Я люблю вас.
Он нагнулся, медленно губами раскрывая ее губы, касаясь
десен, языка, и это потрясло их обоих. Они не заметили, как
дрова догорели. Теперь пылали только угли. Стало жарко.
— Вам пора ложиться, Алина... уже полночь... Я вас провожу
в вашу комнату...
-Да... да...
Стыд заставил ее подняться с места. Как, значит, он не
хочет оставить ее с ним?.. Глубокое разочарование охватило
Алину.
У себя она бросилась на постель, рыдая. Она ничего более не
понимала. Как! Добиться у нее согласия на все, потребовать всего,
довести ее до бесстыдства и потом даже не желать ее. Что ей
делать? Уехать? О, если бы она решилась на это! Остаться?..
Дая чего? А если он просто скучает с ней и не знает, как
отделаться? О, Боже мой, если бы она хоть что-нибудь понимала...
Ведь истинная любовь проста... А любовь Шемиота
представлялась ей пергаментом с иероглифами.
После бурных слез ее настроение изменилось.
«Разве я думала встретить в Генрихе азиата? Он слишком
умен и деликатен. Он приближается ко мне не без колебаний.
Я должна ему подчиниться. Правда, я не буду его законной
женой, а только любовницей... тем более... Любовница обязана
стать совершенством... Я почувствовала это сегодня».
И она уснула, продолжая плакать, но уже без горечи и
оскорблений, оправдав его во всем перед собой. Шемиот же
разговаривал со своим лакеем. Викентий доложил ему, что Франу-
ся не остается служить. Она просто-таки воет на кухне от тоски.
— Хорошо, Викентий. Почему не все рабочие пришли за
получкой?
92
— Дорога очень плоха.
— Если они придут завтра, мне не докладывайте; завтра
воскресенье — это нужно помнить...
И Шемиот думал, покуда Викентий растирал его
одеколоном: «Все в доме считают Алину моей любовницей... Тот же
Викентий, и управляющий, и повар... все... Я же теряю время...
Я не должен быть преувеличенного мнения о собственной
персоне... Я могу наскучить Алине, внушить ей беспокойство,
сомнение... Желаю я ее? Сегодня безусловно. Раньше я думал об
этом лениво. Завтра? Завтра могу стать холодным как лед. И
все-таки сегодня — уже потеряно. Какая жалость. Что делает
Алина?.. Держу пари, она плачет, считает себя погибшей и
уязвленной в своем самолюбии. Она думает, что не нравится мне
физически. Скоро она устанет думать и будет только страдать.
Как хлопотно с этими женщинами».
— Покойной ночи, Викентий...
Последней мыслью Шемиота было: «Алина сама виновата...
Если она любит меня, почему она не осталась со мной?.. Из
чувства стыдливости?.. Послушания?.. Ну вот... подобные
женщины только развращают нас...»
Утром Алина была очень бледна. Она сказала плачущей
Франусе:
— Успокойтесь. Если вы не хотите оставаться у господина
Шемиота, я вас возьму к себе в город. Вы — хорошая девушка.
Франуся снова заплакала, но уже от радости. Алина совсем
смягчилась. Ей было приятно утешить эту девушку, очень
ловкую и услужливую, догадавшуюся о многом и все же не
фамильярную.
— Да... да... я увезу вас с собой.
Сегодня небо было все в обрывках туч, но яркое и
блестящее. Ветер свирепствовал еще сильнее, чем накануне.
— Барин в кабинете?
— Да. Барин уже спрашивал о барышне.
Алина густо покраснела.
Она решила уйти в поле, чтобы хоть несколько часов не
видеть Шемиота.
Она осторожно вышла другим ходом.
Ветер едва не качал ее, как былинку. Она поднималась в гору,
нагнув свою головку, укутанную тускло-зеленым шарфом, с
развевающимся манто, золотистый цвет которого сливался с
опавшими листьями. Она жадно дышала, ветер и аромат
гниения опьяняли ее. Ветер стянул, почти высушил землю. О вче-
93
рашнем ливне говорила помятая трава, большие лужи,
рытвины, нанесенный пластами песок. Сад еще был великолепен,
несмотря на октябрь. Он умирал с честью. Яркие краски
сменялись на полутона, пурпур и золото теперь превратились в
лилово-коричневое, почти черное. Ничто не пылало больше. Река
текла мутная, желтая, почти сливаясь с берегом и лугом. Стаи
ворон кружились и отдыхали потом на кукурузном поле.
В одной из аллей Алина наткнулась на старого рабочего.
Он воспользовался солнцем и ветром, чтобы разложить и
высушить крупные орехи — несколько тысяч орехов. Сидя он
сторожил их.
Он поклонился лениво и небрежно Алине, холодно смотря
на нее своими узенькими серыми глазками.
Это смутило ее. Она думала, подымаясь все выше, выше, к
кресту: «Если бы даже Генрих и женился на мне, эти люди
навсегда запомнят и не простят моего пребывания в имении... Они
смотрят с возмущением на Франусю, которая угождает
распутнице... Викентий готов проклинать меня и думает, что я
околдовала его барина...»
Она свернула на узенькую дорожку между кустарниками и
пришла к оврагу, вырытому сначала весенними водами талого
снега, потом дождями, потом уже искусственно углубленному
и выложенному камнями. Самые крупные из них, серо-белого
цвета, вчерашний ручей разметал в разные стороны. Здесь
стояли скамьи — разрезанный старый дуб, положенный на пни, до
такой степени тяжелый, что его нельзя было сдвинуть.
Алина села. Здесь ветер шумел только верхушками, скамья
нагрелась от солнца, камни тоже. Какое-то деревцо все было
унизано красными мелкими ягодами. Кажется, боярышник. На
сухом кустарнике повисло и качалось пустое, но еще крепкое
птичье гнездышко.
«Я начинаю сомневаться в своем рабстве, — размышляла
Алина, — ведь все оно придумано мной, мной же установлено.
Но, может быть, любовь, которую мне подарил Шемиот,
изменит и меня, и мои вкусы? Может быть, я стану жаждать
поцелуев, а не розог... Розги ужасны. Истинная пытка... У меня
захватывает дух от одного воспоминания. Однако еще не
достоверно, унизил ли меня Шемиот или же я сама себя унизила.
В конце концов, все зависело от меня же самой... Итак, я — не
раба? Тогда что же я?..»
Но она не сделала никакого вывода из своих убеждений, а
затосковала. Она чувствовала себя жалкой, смешной, выбитой
из колеи, совершенно лишенной той ясности, в какой она про-
94
жила до двадцати шести лет. И, как всегда, она мысленно
вернулась к религии. Это воспоминание оживило ее. Конечно, она
пойдет на исповедь по приезде в город. Ах, снять с души
тяжелый и смрадный груз грехов... Боже, какое отвращение,
брезгливость и ужас должна она внушать другим людям.
«Но когда же по-настоящему она выедет от Шемиота?»
И, подняв глаза, она увидела его, идущего к ней без шляпы.
«Какая неосторожность... Он простудится на ветру...»
Шемиот посмеялся над ее заботами и пригласил ее
завтракать. Тогда из упрямства она сняла шарф.
— Тем лучше, Алина... зеленый вас бледнит... О чем вы
задумались?..
— Об исповеди...
— Очень хорошо.
Она вскинула на него чуть-чуть рассерженные глаза.
— Вы одобряете?.. Но я не стану лгать на исповеди. Я
должна признаться во всем... во всем... понимаете?
— Разумеется.
— И если я стану вашей, ксендз не даст мне отпущения
грехов.
— Если вы станете моей? Конечно. Он постарается убедить
вас, что вы должны добиваться брака со мной, добиваться
всячески... Он даст вам умный совет, повторяю...
Алина пыталась улыбнуться:
— Но это бесполезно... Вас ничем не тронешь...
— Я не знаю.
После завтрака они сели играть в шашки, и снова Алина
проиграла ему все партии, одну за другой. Когда, как обычно,
около четырех часов Франуся принесла чай и фрукты, они еще
сидели за шашками. Со стороны можно было подумать, что
это добрый дядя забавляет свою племянницу. Маленькая
черная бархатная шапочка делала его похожим на кардинала. Ему
недоставало только пурпура. Снова сердце Алины
переполнилось обожанием и трепетом.
Так застал их вечер. Они перекочевали в кабинет. Растопили
камин. По-вчерашнему они сидели перед ним вдвоем, в
глубокой задумчивости, слушая ветер. Алина терзалась смущением и
беспокойством.
Шемиот внутренне колебался.
День ему показался особенно приятным, Алина
обворожительнее, чем когда-либо. Он не знал, как ему поступить.
Время не ждало его.
Двенадцать часов.
95
Алина упала духом.
Шемиот хотел настоять на своем.
— Покойной ночи, Алина...
— Покойной ночи...
Он не провожал ее, боясь расчувствоваться.
Она вышла тяжело, как пришибленная. Она сделала
несколько шагов и остановилась. Нет, он не звал ее. Нет... Наоборот, он
сейчас же резко и длительно ручным колокольчиком позвонил
Викентию. О, это слишком. Мужество покинуло Алину. И у
себя, бросившись на постель, она рыдала, рыдала, рыдала
безудержно.
Пробуждение было ужасно. Веки опухли, цвет глаз из
синего стал тускло-зеленым. Она возмутилась. Зачем и для кого она
сидит в этой дыре?.. Или она больше не девушка из
порядочного общества, а жалкая тварь?.. Все нужно исправить, и
немедленно. Сейчас она пошлет телеграмму Витольду, уложит свой
чемодан и выедет с вечерним поездом. Дальше отсюда... Даль-
nie... Забыть, стереть, выкинуть... Она лихорадочно одевалась,
не желая звать Франусю, а потом открыла окно. Ее приводила в
бешенство восхитительная погода — было солнце, полная
тишина, земля пахла. Где-то звенели птицы.
С отчаянием Алина написала телеграмму и вынула платье из
шкафа. Потом руки ее опустились.
Она позвонила.
Франуся прибежала сияющая.
Вчера у нее была жаркая схватка с людьми на кухне. Викен-
тий клялся, что между барином и барышней «нет греха». Он
двадцать пять лет служит у барина и, хвала Богу, сам постилает
ему кровать. Он с закрытыми глазами отличит, когда спали двое
и когда один. Ему не верили, над ним насмехались, а барышню
поносили дурными словами. Франуся была того мнения, что
каждый живет как хочет. Разумеется, ей, Франусе, даром
давайте такого старика, так она не хочет... Но если барышня
влюбилась, то... почему нет?.. И она вступилась за барышню с
яростью соучастницы.
Увидев, что Алина укладывается, она очень смутилась. Боже
мой, барышня ни единым словом не предупредила ее... Она же
только сегодня развела маленькую постирушку... Совершенно,
невозможно все бросить и бежать за барышней в город...
Алина с облегчением вздохнула. Ну хорошо, она останется
еще на денек...
Держа написанную телеграмму, она вышла к завтраку.
96
Глядя на Шемиота с его бархатной шапочкой, золотистыми
волосами, прекрасными тонкими руками, она опять
почувствовала отчаяние, боль, обиду и беспомощность.
Ее глаза наполнились слезами.
Его утреннее приветствие звучало особенно мягко.
Он жалел Алину.
Он думал: «Не прекратить ли эту пытку? Намекнуть, что я
робок? Она не поверит. Сказать, что я щажу ее? О, это
грубость... Высказать желание активности с ее стороны? Нет, она
сама должна догадаться. Какое положение. Я сам ничего не знаю.
Я запутался».
— Вот телеграмма. Нельзя ли послать верхового на станцию?
Он взял бумажку, прочел текст, улыбнулся и спрятал ее в
карман.
— Отлично, Алина... Сегодня так тепло, что я едва не велел
накрыть стол на веранде...
Про себя он подумал: «Никакой телеграммы я не пошлю.
Отпустить Алину в таком состоянии — чистейшее безумие. Надо,
по крайней мере, успокоить, примирить... Примирить?.. С чем?
Неужели же я отступаю? Нет, конечно... Подождем еще
немного. Если она постучится сегодня ко мне первая, это будет
торжество».
И они ушли гулять.
Ах, какой это был чудесный, осенний день — прозрачный,
теплый, тихий, весь продушенный нежным запахом влажной
земли, гниющих листьев, не то сухих плодов, не то каких-то
других, исключительно осенних растений. Они увидели совсем
зеленую птицу, медленно перелетавшую с дерева на дерево,
словно заблудившуюся из сказочной страны. Они увидели
снова молодого орла, низко-низко кружившего и
высматривающего добычу. Они повстречали пару ослят, бродящих между
кустарниками; они натолкнулись на крестьянина, несшего две
огромные рыбы в мокром мешке для барина. Когда, запыхавшийся
и потный, он вынул их, чтобы показать Шемиоту, рыбы еще
вздрагивали. Они были великолепны, отливая на солнце
перламутром, словно выточенные из серебра с чернью, с алыми
жабрами. Восхищенная Алина засмеялась.
Потом ей стало жутко видеть эти вздрагивания, судороги,
пляску в воздухе, и она с грустью подумала, что сама она очень
похожа на рыбу, задыхающуюся в руках Шемиота.
И на обратном пути вся ее веселость исчезла.
За обедом всякое самообладание покинуло ее... Она еле
отвечала Шемиоту. После мороженого она вдруг заявила:
4 Анна Map
97
— Вы меня извините... Я должна уйти к себе... У меня
головокружение.
Внутренне обеспокоенный, внешне холодный, он предлагал
ей шашки и соблазнял камином. Она упрямилась. Еле
удерживаясь от слез, она убежала и заперлась.
«Что с ней?.. Мое поражение?.. Или моя победа?.. —
недоумевал Шемиот. — ...Оставим ее в покое».
И он весь вечер занимался конторскими книгами вместе с
управляющим, потом говорил с Викентием. С одиннадцати
часов, когда в доме наступила мертвая тишина, Шемиот начал
неопределенно волноваться. Не потерял ли он Алину?..
«Если до часа она не придет ко мне, я отправлюсь к Алине с
повинной».
Принятое решение развеселило и успокоило его. Он не
раздевался. Он подбросил дров в камин и читал «Диалоги»
Сиенской.
«Где ее собственное творчество? А где шепот духовника?»
Четверть первого в его дверь постучались.
«Я выиграл сражение».
И он захлопнул книгу улыбаясь.
В алькове Алина продолжала крепко обнимать его. Она
плохо сознавала, что делает. Но она позволяла все, соглашалась на
все, и ее легкий крик, крик потерянной девственности, был
единственной ее радостью. Боль. Только боль поняла она в тайне
слияния. Оно показалось ей чрезвычайно простым, чересчур
физиологическим и менее всего мистическим.
V
Было воскресенье. Огромные глыбы снега, как куски
искрящегося серебра, сверкали на солнце. Ледяная бахрома свисала
с крыш.
Алина вынимала фрукты из деревянной плетенки и
недовольно щурилась. Она совершенно не выносила холода.
Первые дни, когда выпал снег, было так приятно. Улицы и
дома обновились под снегом, все острые линии исчезли. В
городском саду электрические фонари висели среди белых,
мохнатых, густо-густо облитых инеем деревьев, как
светло-золотистые шары на елке. Среди всеобщей белизны и тишины, когда
кусочки снега обрывались и падали, встряхнутые птицей,
Алина увидела в одном доме старой архитектуры широко
раскрытое окно, черную впадину, таинственную и странную. Она была
взволнована и постояла внизу несколько минут, глядя на окно.
98
Но потом снег терял свою пушистость, становился все более
и более твердым. Вчера он скрипел и хрустел под ногами, и
Алина все время задыхалась, чувствуя боль в груди, теряясь
среди белизны, сверкания, ледяного ветра.
Сейчас она думала: «Генрих снова в имении... Он дрогнет
там из упрямства... Боже мой, когда же он вернется сюда?»
И она говорила вслух, оглядывая стол, накрытый для
завтрака:
— Дайте, Франуся, плоскую вазу для редиски... только
сначала наполните ее водой... Вы подали икру?.. Она на ледничке...
Спросите кухарку, как наш провансаль...
Из гостиной донесся кашель.
Это Бруно задыхался от коклюша.
Алина беспокойно прислушалась. Боже мой, до чего он
мучается...
Франуся вернулась с икрой и вазой. Она докладывала
барышне, что Войцехова уехала. Старая служанка взяла свои
сундуки, громко крича, что не хочет оставаться в этом распутном
доме лишнего часа.
— Слава Богу, — сказала Алина, — она извела меня...
— Мы тоже все радуемся, — просто заявила Франуся.
С тех пор как Алина вернулась из имения, Войцехова
перестала верить в свадьбу. Она возненавидела Алину с тупостью
честной женщины, а молчание Франуси казалось ей личным
оскорблением. Ведь она так ждала грязных подробностей,
которые бы потом передала разукрашенными на духу
священнику. Но она не узнала ничего и разъярилась. Когда же на
днях сюда привезли из пансиона маленького Бруно, старая
служанка окончательно вышла из себя. Неужели же барышня
не перестанет возиться с этим незаконным щенком? Да
барышня опозорит себя на весь околоток. Тогда Алина
рассчитала ее.
— Который час, Франуся?
— Половина первого, барышня...
— Вы звонили по телефону барышне Оскерко?
— Да. Барышня Оскерко не могут прийти.
— Хорошо.
Бруно снова кашлял, Алина пошла к нему. Черный газовый
тюник, обшитый узенькой полоской черных страусовых
перьев, качался на ней.
— Ты все кашляешь, маленький?..
Бруно отложил альбом. Он отвечал тоном взрослого:
— Ничего... это пустяки... мне теперь лучше...
4 *
99
Но сейчас же он залился кашлем минут на пять, слезы
бежали у него по щекам, а глаза покраснели, вспухли.
— Ах, бедняжка, — пробормотала она.
Сердце ее разрывалось от жалости при виде этого ребенка,
терпеливого и кроткого, никогда не плакавшего. Коклюш
изводил его. Особенно были мучительны рвоты, которые
начинались после еды.
Когда Алина приехала в пансион проведать мальчика,
директор очень настойчиво просил взять его от них. Бруно находили
вредным для класса, хотя не умели объяснить почему. Среди
веселых наивных детей он был взрослым, и это отнюдь не
могло считаться желательным.
— Одиночество мальчика внушало мне сострадание, —
говорил директор. — Я отсылал его часто к доктору Мирскому, у
которого дети и который обожает нашего питомца. Доктор
Мирский — умный, великодушный человек. Притом же он
известен и очень богат. Если он усыновит мальчика, тому
предстоит блестящая будущность.
Алина поблагодарила директора и согласилась с ним.
Христине было безразлично.
— Когда приедет доктор? — допытывался мальчик.
— Я думаю, сию минуту.
После паузы он заявил вполголоса:
— Мне будет хорошо у доктора. Мужчина лучше понимает
мужчину. И потом, он меня вылечит от коклюша.
Бруно снова принялся за альбомы. Он, видимо, тосковал у
Алины, хотя и осыпанный игрушками, сластями, книгами. Ру-
шиц думала, что, если ничто не помешает, она поговорит с
доктором о себе. Это будет легче сделать здесь, у нее, между
разговорами о маленьком Бруно, завтракая.
Она отупела от слез и чувственных припадков. Шемиот жил
в имении, редко отвечая на письма. Юлий сделал формальное
предложение Христине и теперь готовился к свадьбе. Алине
казалось, что она очутилась на необитаемом острове. Теперь все ее
мысли, видения, ощущения сосредоточились на картине —
Шемиот и она на уединенной даче в ивняке, и она просто утомлялась
физически, до такой степени это было неотвязно, бесстыдно, ярко
и мучительно. Но она не относилась к этому просто, как раньше.
Она начала думать, что с ней происходит нечто такое, что ведет
нашу душу в ад, а тело — в дом умалишенных.
Доктор Мирский приехал.
Бруно весь покраснел от радости, но кашель мешал ему
говорить.
100
Мирский погладил его по голове, Алина — расцеловала, а
лакей — укутал, снес в автомобиль доктора и увез.
Мирский же остался завтракать у Алины.
При среднем росте его голова казалась очень большой,
седая голова с крупным носом, крупными губами, черными
блестящими глазами, тяжелыми веками.
Выражая свое удовольствие по поводу того, что мальчик
переходит к нему, доктор ничуть не удивлялся Христине.
— Материнство госпожи Оскерко случайное. Я позволю себе
заметить, что она чрезвычайно цельный человек. Я уважаю ее
за это.
Они говорили об изменении психологии.
Алина придралась к случаю и перевела речь на себя. Она
жаловалась на странное желание, мучившее ее, желание
беспрерывных унижений и боли, и на то, что она не представляет
любовь без окраски жестокости. Она хотела выяснить, не
заразительно ли это для ее близкого человека и есть ли во всем
этом оттенок болезни, невроза или зародыш безумия. Она
замолчала, ощущая какую-то ей непонятную лживость рассказа,
удивляясь грубости некоторых деталей.
Возмущенная собой, она пробормотала:
— Извините меня, доктор, я совсем не похожа на это
чудовище, о каком я сделала вам доклад.
Вопросы доктора относились к физиологии, и самый мягкий
из них был о том, как Алина выносит три дня в месяц и не
занималась ли она тайным пороком.
Она отвечала ему неохотно, с внутренним криком: «Это
совсем не то», негодуя на науку, которая каждое движение ее души
приписывала влиянию каких-то внутренних органов, а мысль
пришивала к желудку.
Потом доктор объяснил легким тоном, что все ее ощущения
очень обычны, носят название такое-то, лечатся или
смягчаются, по крайней мере, таким-то и таким-то способом. Он же,
доктор, во всем этом не видит ничего предосудительного или
общественно вредного, ибо Алина мучит только себя.
Он спросил бледную, смущенную Алину:
— Вы практикуете?
Она не поняла. Он усмехнулся, поясняя:
— Реализуете ли вы свои желания или нет?
Она ответила, тяготясь бесполезным разговором, что да, но
очень редко и не доходя до жестокости.
Мирский пожал плечами:
— Не было жестокости?.. Но ведь дойти до жестокости так
101
легко... И потом, господин Шемиот производит впечатление...
О, это не тот человек, который растрогается от женских слез...
Алине показалось, что ей снится кошмар.
— Вы думаете... Вы называете господина Шемиота?
Доктор смутился.
Он нервно извинился, прикрывая свои восточные глаза и
отпуская нижнюю губу. У него сорвалось это имя. Боже мой,
они с Алиной так сейчас откровенны... Откуда он узнал?..
Неужели же она думает, что можно укрыться в этом южном
маленьком болтливом городке?.. Тогда она похожа на страуса.
Все знают о ее близости к Шемиоту.
-А...
И Алина отпила холодного вина, чувствуя дурноту.
Слабый румянец выступил на желтом бритом лице Мирского.
— Дитя мое, откровенность за откровенность... Вы видели
мою падчерицу? Нет? Но я часто катаюсь с ней, только с ней
бываю в театре. После смерти жены она ведет хозяйство... Это
милая, чудесная девушка... Настоящее сокровище... Кроткая,
прилежная... меня обожает... Однако мне иногда приходится сечь
ее... да... Ей семнадцать лет... на нее находят припадки
упрямства, лени, дерзости. Тогда я бываю строг... я даже секу ее до
крови...
Он добавил тихо, с гордостью сверкнув глазами:
— Она обожает меня.
Алина задыхалась от отвращения и к себе, и к нему. Она
пробормотала несколько банальных фраз.
Им подали кофе. Доктор назвал ей все медицинские книги,
какие нужно прочесть.
Потом он уехал.
Алина нашла жизнь отвратительной, а себя униженной до
последней степени.
Не желая иметь никакого дела с медициной, она
обрадовалась возможности снова ухватиться за религиозность,
единственный якорь в ее одиночестве. До сих пор ее набожность была
проста, лишенная радости покаяния, ибо грехи Алины всегда
казались ей самой будничными. Теперь же у нее был
настоящий «смертельный грех», упоительный, ибо он равнял ее с
великими грешницами.
Она была прелюбодейкой и распутницей.
Она смутно жалела, что ее грех стал явным. Если бы она
утаила его для себя, он бы имел более одуряющий запах. И
вместо медицинских книг она читала наивные и пламенные
излияния Альфонса Лигури.
102
Нынешняя южная зима походила на северную. Снега
выпало небьшалое количество. Среди этой ослепительной белизны
море казалось черно-грязным и никого не интересовало.
Шемиот продолжал жить в имении.
Юлий сказал однажды грустно и ласково Алине:
— Друг мой, все лучшее вы уже взяли от любви... Не ждите
ничего нового... Все лучшее уже взято...
В ужасе она зарыдала...
Как спасти любовь? Чем?..
Потрясенный ее горем, Юлий скрылся.
Она снова была одна, писала письма Шемиоту, клялась ему
в любви и читала теперь уже Анну Эммерих.
Потом как-то, увидя, что снег осел, почернел и таял, она
вздохнула с облегчением.
Снова можно выходить на улицу и оставить в стороне
душеспасительные книги. Она не хотела сознаться себе, что они
наскучили ей и перестали волновать ее чувственность. Она уже
нуждалась в более повышенном тоне, куда бы проникал
мужской голос. Поэтому ее мысль естественно пришла к последнему
аккорду, к исповеди.
Уходя в костел в одну из суббот, Алина опустила густую
вуаль, как перед свиданием.
Она нашла себе удобное местечко против образа святой
Магдалины. Вид этой святой, с распущенными золотыми
волосами и традиционным кувшином драгоценного масла,
растрогал Алину. Она вспомнила слова сентиментального Freda: «Dante
a eu Béatrice et Jesus la Madelaine»*. Христианство,
провозглашая целомудрие, не могло вычеркнуть из Евангелия образ
блудницы. Эта прекрасная грешница, возлюбленная Бога,
сопровождала его до Голгофы. Ее золотые волосы обвивали подножие
креста, как пелены в гробу тело Иисуса. Не только до смерти
идет она с Ним рядом — и после смерти она с Ним. Блеск Его
имени падает и на нее. Великая вестница великой радости, она
всегда остается волнующей и пленительной. Не потому ли, что
сначала она — грешница, а потом святая, сначала любовь, а
потом вера?
Мария, падшая из Магдалы, стала символом для
человечества. Сейчас, разглядывая образ святой, Алина удивлялась, что
в искусстве Магдалина незначительна. Корреджио изобразил
Магдалину кокетливой итальяночкой, которой только
недостает нитки кораллов и корзинки цветов. У Рубенса — грубая, вуль-
* Данте имел Беатриче, а Иисус — Магдалину (фр.).
103
гарная, мощная фламандка падает на руки служанок, роняя
драгоценности, и нет никакого основания думать, что это —
Магдалина. Гофман назвал ее именем высокую мужеподобную
женщину, апостола в юбке, и золотые волосы выкрасил в
черный цвет. Зулоаг причесал четырнадцатилетнюю испанку как
маркизу, наклеил ей мушку, украсил ее желтой хризантемой и
эту порочную девчонку мадридской улицы выдал за Марию.
Как эффектно рыдает Магдалина у Бёклина и как она
напоминает героинь Д'Аннунцио. Наконец, Магдалина в пещере,
популярная белокурая Магдалина с обнаженными плечами,
вызывала легкое беспокойство. Она была так обаятельна по-земному, и
так не хотелось, чтобы она раскаялась и бичевала свое тело...
Ксендз шел в конфессионал, и Алина оторвалась от
созерцания Магдалины.
Ее исповедь была длинна и странна.
Ксендз, худой, черный, с грубыми чертами лица, с руками
настолько высохшими, что они напоминали руки скелета, не
проронил долго ни единого слова.
Внутренне он задыхался от ненависти, разглядывая эту
молодую изящную женщину, нежно пахнувшую вербеной,
красиво закутанную в дорогие меха, которая каялась перед ним с
увлечением.
Потом он разразился.
От бешенства он проглатывал слова, со свистом произнося
оскорбительные прозвища, язвил, бранился, насмехался,
выплескивал в ее лицо ее же признания, подчеркнутые, утроенно-
безобразные. Единственное, что обрадовало и даже восхитило
его, это поведение «соблазнителя», как называл ксендз Шемио-
та. От грубого смеха его удерживала только святость места. Да,
да, всех распутниц нужно сечь, гнать, унижать, выставлять к
позорному столбу, обрекать на голодную смерть, заточение,
вечный позор... Если, по несчастью, не все падшие женщины бедны
и гонимы, то хоть двери неба заперты для них прочно, раз
навсегда.
Он обрушивался на Алину, и его рука, сухая и цепкая,
ухватилась за дверь конфессионала, потрясала ею.
— Благодари Бога за розги от соблазнителя... Проси, жди их...
В любви вместо сладости, позорного пира плоти, вместо
роскоши чувств ты нашла унижение, слезы, позор, боль. Терпи,
смиряйся, кайся... Ползай на коленях перед твоим соблазнителем...
Не смей вытереть плевков с лица... Ты сама гналась за ним...
Ты совратила его, искусила и сама бесстыдно влезла на его
кровать... Я требую, чтобы ты снова попросила у него розог... сно-
104
ва... что?.. Тридцать, сорок розог... до крови, до потери
сознания...
Но он все-таки был тронут, польщен и удивлен, когда Алина
выслушала этот поток брани смиренно, как ягненок.
Он подумал: «Эта распутница еще не совсем во власти
Сатаны... Милосердие Бога бесконечно...»
Сегодня был совершенно семейный завтрак у Витольда Ос-
керко — Христина и Юлий, недавно помолвленные, Алина,
Витольд.
Одну минуту боялись, что Шемиот-отец не приедет.
Но он приехал, великолепный в своем смокинге, чуть-чуть
иронический и безупречно вежливый с Христиной. Казалось,
что он ничего не имел против этого брака.
Он даже сделал сегодня подарок Христине —
художественный золотой лорнет, по которому ползла черепаха.
Витольд и Юлий болтали между собой вполголоса.
Христина исчезла.
Алина шепнула Шемиоту:
— Вы уезжаете, Генрих?
-Да.
— Я снова буду одна?
— Что я могу сделать, Алина?
— Я не знаю. Но... я так несчастна... я так тоскую без вас...
Он покачал головой, пристально глядя на нее.
— У вас есть выход... Я предлагал...
— О... Это невозможно... Генрих... пощадите меня...
— Вы видите...
И он пожал плечами, возвращаясь к сыну и Витольду.
В глубокой тоске Алина следила за ним. Он требовал от нее
невозможной жертвы — продать дом, продать все и переехать к
нему, Шемиоту, открыто, как это сделала когда-то Клара.
О, Клара... Вечный призрак, пугавший Алину. Занять ее место?
Нет, нет...
Было решено, что Христина и Юлий повенчаются после
Рождества.
Потом они уедут в имение.
Витольд не одобрял этого проекта. Когда он женится, он
повезет свою молодую жену в Париж. Он забывал, что его
сестра выходила бесприданницей.
Шемиот-отец простился и уехал. От его ледяного взгляда у
Алины застыло сердце. Вместе с Витольдом она провожала его
в переднюю.
105
Потом она вернулась к Христине и застала нежную сцену.
Будущие супруги целовались возле окна, смотря на панораму
города. Полуденное солнце ярко освещало снег на крышах.
Верхушки деревьев и трубы бросали неподвижные тени.
Птицы часто пролетали над этим снежно-каменным
пространством. Небо было того неприятно голубоватого цвета,
который напоминает дешевый атлас, или бумагу, или плохую
акварель.
«Только три часа дня, — подумала Алина, изнемогая от
тоски. — Что мне делать до вечера?»
Христина тихо смеялась. Юлий старался поцеловать ее в шею.
Витольд пришел, неся на подносе маленькую спиртовку.
— Как хотите, господа... но я хочу еще кофе... по-турецки...
За обедом, в сущности, у нас был плохой кофе...
Покуда он возился с ним на столе, с которого горничная не
сняла еще остатки пломбира, фрукты, конфеты, ликеры, Алина
не сказала ни звука. Ее тоска перешла в немое отчаяние. Ей
казалось, что Шемиот разлюбил ее. Он не желал ни обладать
ею, ни мучить ее. Он избегал уединения. Он добивался и хотел
только одного, чтобы Алина продала дом и как покорная
служанка следовала бы за ним по пятам. Почему эта жертва так
смущала Алину? Вероятно, она понимала всю шаткость любви
Шемиота. Наконец, она была привязана к вещам, к месту, она
чувствовала себя более свободной и гордой, имея собственный
угол.
— Вам налить кофе, Алина?..
— Нет, благодарю...
— Это очень жаль. Кофе превосходный.
Однако Витольд оставил свою чашечку, облепленную
кофейной пеной, и скрылся, как мальчишка. Он торопился к Мисси
Потоцкой.
Горничная убирала со стола. Юлий дразнил попугайчиков.
Христина отвела Алину к окну.
— Ты ничего не говоришь?..
— О чем?
— О моей свадьбе, конечно...
— Я поздравляю тебя...
Христина пожала плечами. Она бормотала сквозь зубы, что
выходит замуж, так как жизнь с Витольдом невьшосима. Сам
же Юлий не внушает ей слишком большого отвращения, и
потом, механически выполнять роль жены...
— Свою любовь к тебе, Алина, я спрятала на самое дно... Но
она живет во мне, мучает меня и гложет.
106
Алина думала: «Как странно, многое изменилось в моей
жизни, но это не повлекло за собой внешних перемен.
По-прежнему я чаще с Христиной, чем с Шемиотом. По-прежнему я
боюсь пойти к нему без его слова и большую часть дня совсем
одна... Шемиот логичен, предлагая мне переехать к нему
открыто. По крайней мере, я была бы всегда с ним. Но этот страх,
смутный страх оказаться в роли Клары... Шемиот имеет право
упрекать меня в эгоизме... За что я его люблю?.. Этот год
открыл мне целую плеяду недостатков в Генрихе, и дай Бог,
чтобы у него не прибавилось новых».
Шемиот приехал к Алине. Она бросилась к нему на грудь,
задыхаясь.
— О, Генрих... Я потеряла надежду увидеть тебя...
— Ты нетерпелива...
— Я люблю тебя...
— И боишься переехать ко мне?
Однако он был тронут. Они сидели в кабинете Алины, не
зажигая электричества, так как топился камин.
В тот день снег шел вместе с дождем, была масленица, на
улицах толпы праздных людей, что ненавидел Шемиот. У
Алины он ощущал себя оторванным от всего мира, и это рождало в
нем жажду страсти и жестокости. Он сознавался себе, что еще
ни с одной женщиной не испытывал ничего подобного. Ему было
жаль Алину. Он думал: «Я прихожу в отчаяние. Она достойна
лучшей участи, но я могу ей дать только то, что даю... не надо
мечтательных гордых глаз, шаловливой улыбки. Мне нужны ее
слезы, ее крики, ее мольбы, ее унижение... Почем я знаю, что?
Все, кроме судорожного объятия, трепета губ, простого
слияния... Я не могу измениться».
Они говорили о новобрачных... Христина и Юлий жили
теперь в имении.
— Как чувствует себя Христина?
— Я не знаю.
— Вы по-прежнему не любите Христину?
— Я ненавижу праздных женщин...
— Юлий зато счастлив теперь...
— Не лгите, Алина, Юлий понимает свою ошибку.
Она не посмела настаивать.
Шемиот поцеловал ее в губы...
— У вас заперта дверь, дорогая...
Она шепнула:
-Да.
107
— Вы знаете, что я недоволен вами...
Она обнимала его крепче, лепеча... нет... нет... сегодня пусть
он не наказывает ее... сегодня нет...
— Почему?
И он снял ее руки со своих плеч.
— Предположим, что я накажу вас... ради своего
каприза?..
— Нет, нет...
— Вы не логичны...
Она зарыдала от стыда и горя. Тогда она была виновата... а
ради его удовольствия — это так унизительно, так ужасно. Она
бросилась перед ним на колени, не понимая, что своим
отчаянием, слезами и мольбами удваивает его желание.
— Я хочу. Я приказываю.
Тогда она дала ему ключик от маленького шкафчика, в
котором среди вуалей, страусовых перьев, кружев, отрезов
шифона она прятала розги. Она плакала, а Шемиот спокойно
следил за ее движениями и любил ее больше всего на свете.
— Ты знаешь, я ревную тебя к Юлию... — сказал он
неожиданно, просто и грустно.
Это было молнией на темном небе.
Алина опустила глаза.
«Мысли оставляют след, — думала она, — разве я не
прелюбодействовала с Юлием в своем сердце?.. А что будет потом?..
Я не знаю... Я всегда очень грубо желала его... все крепости
души моей были сданы...»
Теперь она радовалась наказанию, несмотря на глубокий
страх. Шемиот не хотел помочь ей. Вся содрогаясь, бросилась
на постель, широким жестом отдернув занавески. Она вкусила
все наказание в глубоком молчании, и это восхитило Шемиота.
— Только ты... только ты понимаешь меня...
Но после взрыва нежности и любви он мало-помалу снова
обрел свой холодный, чуть-чуть иронический тон, и когда уехал
от нее, Алина почувствовала, что не завоевала его.
В первый и последний раз Алина пережила ужас. После
этого ее душа умерла и уже не могла воскреснуть.
В этом году весна наступила сейчас же после Пасхи. Сад
Алины стоял белым: это яблони, вишни, абрикосы, миндаль
покрылись нежно-розовыми пахучими цветами. Снопы черемухи
украшали каждую комнату. На грядках появились первые
цветы. Сегодня Алина нашла их.
— А, они распустились.
108
И она задержалась здесь с материнской улыбкой. Потом она
пошла дальше и села на каменную скамью. За последние
месяцы она похудела и ее глаза утратили выражение ясности.
В ту минуту Юлий спускался по ступеням веранды и шел
сюда.
Она думала: «Юлий, мой дорогой мальчик, мой нежный
ребенок, вы добиваетесь меня с упорством безумного... вы идете
к несчастью... Я не хочу вас как любовника, я жажду вас как
грех, тяжкий грех перед вашим отцом... простите ли вы мне
это? Когда соединяются двое несчастных, они не станут
счастливее...»
— Добрый день, Алина...
— Добрый день, Юлий...
— Вы видите, я аккуратен...
-Да...
— Я пришел за ответом...
— Хорошо... садитесь... как вы торопливы... Я ни о чем не
могу думать...
— Это весна...
Он бросил панаму на каменный стол, оглядываясь с
неопределенным выражением лица. Все пело и благоухало. Белое
платье Алины казалось огромным цветком. Как она была грустна.
— Любовь стоит вам дорого, Алина...
— Может быть...
Она встала и ходила среди кустов, словно чем-то
заинтересованная.
— Я получил письмо от Христины.
-Да?
— Она снова спрашивает о вас. О, грязная жаба... Жаба... Я
не хочу иначе называть ее.
И он разразился грубыми насмешками. Ах, довольно с него
этого кривлянья, сцен, истерик, лжи, отвращения...
— Вас отговаривали от брака, Юлий...
— Я знаю. Разве я мог себе представить, что возненавижу
Христину... Оказьшается, ненависть приходит так же внезапно,
как и любовь.
— А что вам пишет отец?
— Ничего.
— Он давно был здесь?
— Давно, Алина...
Солнце утомляло глаза Юлия. Свежий, крепкий весенний
воздух расслаблял и опьянял его.
— Какой же ваш ответ, Алина?
109
— Я еще не знаю.
— Это звучит согласием...
Очень бледная, она попробовала улыбнуться:
— Мы оба безумны с вами...
— Не все ли равно? Я люблю вас, Алина. Я полюбил вас, как
только увидел осенью на дачке... с отцом... Ах, ваши слезы...
ваши крики... Боже, как все это было жестоко.
Она смутилась, прошептав:
— Теперь это редко...
— Почему?
— У меня нет вины перед ним... Это парализует и его, и мою
волю...
— Значит, другие ласки?..
— Нет... нет...
И ее возглас, полный тоски, принес ему некоторое
удовлетворение.
— Вы тоже несчастны, Алина...
— Я вам не сказала...
— Не лгите, Алина. Ложь — это качество моей жены.
Она думала, глубоко усталая: «Почему я так долго
колеблюсь? Юлий — еще одна ступенька вниз. Все логично и просто.
Сначала я сама созналась Шемиоту в своей порочности, потом
в любви. Затем я молила о наказании и сама же отдалась ему. Я
примирилась с его отказом жениться на мне — роль тайной
любовницы была для меня блаженством. Наконец он захотел,
чтобы из тайной я сделалась явной. Я пойду и на это. Все равно. В
городе моя репутация потеряна.
Теперь я буду чистой и невинной перед Шемиотом. Это
невозможно. Мне нужен грех, Юлий будет моим великим грехом.
Что Шемиот может потребовать от меня как искупление? Я не
знаю. Что будет с Юлием... Я не знаю...»
Она подняла голову и улыбнулась, смотря на Юлия.
— Вы думали?
— Я подводила итоги...
-И?
— Юлий, мой дорогой мальчик.
У него показались слезы. Целуя ее руки, он прошептал:
— Весна сводит меня с ума... Алина... Я люблю вас.
— Я старуха для вас...
— Вы — прекрасны. Вы — нежная и святая...
— Я только распутна...
— Скажите «да», Алина...
— Да, Юлий...
ПО
Она возвратила ему поцелуй в невыразимой тоске.
Он не слушал ее. Ласточки ссорились между собой. Ветер
чуть-чуть клонил цветущие, словно осыпанные снегом деревья.
«Грех, который бросал бы меня ничком в прах перед ними
двумя — небом и Генрихом... Грех, который потребует
искупления длительного, как сама жизнь...»
И среди этих мыслей: «Поцелуи Юлия сладострастны по-
иному...»
— У вас, Алина...
— У меня, Юлий...
Та же постель с занавесками лунного цвета, и качание
цветущих деревьев за окном, и голубое небо, и щебет ласточек, и
солнце, и слезы, и тоска, и сладострастие греха среди поцелуев
и жадности рук.
Алина подняла голову. После долгих бурных слез она,
оказывается, уснула.
Теперь она вспомнила, как ушел Юлий. Он был взбешен и
полон презрения.
Он клялся, что Алина для него не более чем первая
попавшаяся женщина. Он был для нее только средством возбудить
снова страсть к его отцу... Отлично. Он платит ей той же
монетой. Она для него — забытье, валериановые капли, случайная
встреча, которую далее не вспоминаешь... Они не расстались
врагами, но они ссорились. Она поклялась Юлию, что не
выдаст его отцу. Она сознается в своем падении, однако это будет
какой-нибудь старый знакомый, романтический музыкант,
которого она встретила неожиданно на концерте... Ах, что-то
теперь будет...
Алина несколько раз вздохнула, смочила виски одеколоном,
опустилась снова на подушки. Франуся не опустила штор, не
приготовила ничего на ночь, ибо барышня не пустила ее.
Алина думала: «Как слезы облегчают... Я выплакала всю свою
душу, я чувствую необыкновенный прилив сил...
Завтра-послезавтра ко мне приедет Генрих... Я упаду перед ним на колени и
расскажу ему все... О, что, что будет?.. Что это будет?»
Она улыбнулась в темноте, смущаясь даже сама с собой:
«Прежде всего и после всего будут розги...»
Ей хотелось, чтобы на этот раз Шемиот продлил над ней
мучительство. Разве она не заслужила этого? Пусть он скажет
о наказании накануне... Она будет думать, несколько часов
молча терзаясь... пусть он также велит ей самой нарезать розог...
Она должна будет перед наказанием сама смочить их... Ах, она
111
с закрытыми глазами видела хрустальную вазу, с двумя
ручками по бокам и плоским, словно срезанным горлышком. На ней
два белых матовых медальона, где золотые монограммы Ше-
миота перевиты фиалками. Она наполнит ее водой и опустит
туда розги, краснея и волнуясь. Они не очень длинны, жестки,
матовы. Потом они станут гибкими и свежими. Они так больно
будут жалить ее тело.
Она бормотала, обнимая подушку, пылая, страстно
возбужденная своим собственным шепотом:
— Я обманула тебя... Я обманула тебя с твоим сыном... О, я
ненавижу себя, ненавижу... Я достойна самого строгого
наказания... Я буду благословлять его... Не забудь... не забудь... ты
обещал исправить меня... Я жду... После розог (и от этого слова
все ее тело содрогнулось), после розог я посмею вымолить у
тебя прощение... Теперь я должна молчать... На этот раз я не
сокращу наказание своими криками. Нет, нет... Я положусь
всецело на твою волю... Мой любимый... мой любимый... О, ты
справедлив, ты добр. Я падаю к твоим ногам и не хочу
подняться. Будь строг ко мне. Я хочу плакать под твоими розгами. Будь
строг ко мне.
Ее сердце билось, словно она бежала стремглав вниз... Но
ведь это было так же приятно, как во сне пльпъ по голубому
озеру и смотреть на горы, залитые закатом. И она снова падала
на подушки и не то грезила, не то бредила, не то засыпала, не то
сходила с ума.
Как только он разложит ее, она почувствует себя
маленькой и ничтожной, рабой и ребенком, любовницей и сестрой.
Как сладостно растопляться в чужой воле, испаряться
подобно эфиру. Как сладостно закрыть лицо руками, ощущать, что
его руки поднимают ее юбки, роются в ее кружевах, рвут ее
тесемки... Как будет трудно умолить его. Как будет строг и
холоден его голос. И она задыхалась от волнения, улыбаясь
блаженно, страдальчески и бессмысленно, с пылающей
головой, губами, закрытыми глазами, в позе разложенной перед
наказанием девочки.
Представляя себе, как розги кусают ее тело, она бормотала:
— Не надо жалости... Высеки меня до крови, до потери
сознания... Я так много грешила... О, еще, еще, милый... Будь
неумолим к моим крикам, они лгут тебе... Накажи
прелюбодейку... накажи лгунью примерно... Если ты любил это тело —
сделай его пурпурным, оставь на нем следы розог надолго.
Огненные поцелуи. Раскаленная печать... Еще... еще... Это мое
исправление, мое искупление — небесное возмездие в этой
112
боли... еще... еще... позови Христину... позови Юлия... О, как я
буду унижена.
— Я продам ваш дом, Алина...
— Да, Генрих...
— Вы переедете ко мне... Мы будем жить безвыездно в
имении...
— Да, Генрих...
— Христина останется временно одна, в городе. Юлий хочет
путешествовать... год... два... это безразлично...
— Да, Генрих...
— Встаньте с колен, Алина. Я простил вас, ибо отныне вы
подчинитесь мне совершенно. Вы хотите заменить мне Клару?
Хорошо. Я вам безмерно благодарен.
И, вежливо поднимая ее с колен, он улыбнулся, очень
довольный.
— А теперь я накажу вас розгами, ибо вы все-таки поступили
легкомысленно...
rioßecmu
u рассказы
тт*т*Ш1№Штт£т%т
НЕВОЗМОЖНОЕ
Пришел доктор Шатковский. Розовый, жизнерадостный.
— Здравствуйте, барынька... Здравствуйте... А я к вам с
новостью.
Тереза встала, изумленная его приходом.
— Добрый день, доктор... Я к вашим услугам.
Беспокойно ждала, а он сделал паузу.
Потом, не спуская смеющегося, хитрого взгляда, бросил:
— Вам кланялся мой племянник... Ну, да... Антось Пшермин-
ский... Наш несравненный, милый Антось. Ему необходимо вас
видеть. Как бы это устроить?
Тереза сильно побледнела. Пролепетала невнятно, совсем
потерявшись, выдавая себя еще более натянутой улыбкой:
— Как... разве он здесь?.. Боже мой... это мило... Разве он
вернулся?
Шатковскому стало жаль ее.
Взял обе руки Терезы, целовал частыми влажными
поцелуями, утешал отеческим тоном. Ну, ну, пусть она успокоится...
Он пришел как посредник, друг... Все будет хорошо... Антось
приехал... «Три года странствовал по свету» — теперь
наскучило. Думает купить себе дом, жениться. В сущности, Антось
буржуазен, несмотря ни на что, и мечтает о детях. Между ним и
Терезой возникли маленькие недоразумения — их необходимо
уладить. Да. Необходимо в целях ее же спокойствия. Что же
касается прошлого...
Тереза не выдержала и заплакала.
Шатковский недоумевающе пожимал плечами. Стоит ли
горевать? Не она первая, не она последняя. Конечно, как дядя
Пшерминского, он посвящен в эту щекотливую историю, но
злоупотребить доверием... ни-ни!.. Клянусь Богом. Недаром же
он — доктор по женским болезням... Он знает такие тайны, что
117
ой-ой!.. Не нужно никаких драм, осложнений... Тереза увидит
Пшерминского. Они переговорят. Решат что-нибудь. Лично
глубоко уважает Терезу. Ведь Антось не в счет. Антось —
человек особенный, неотразимый, так сказать. Красив, изящен,
богат. Нет ничего удивительного, если им увлекаются. Ему,
доктору, давно известно, как равнодушно относится Кшевиц-
кая к другим мужчинам. Она вообще удаляется от жизни.
Костел и костел. Нельзя же так в самом деле... живой прямо
на небо.
Кшевицкая уже не плакала. Тонкое, нежное лицо
покрылось пятнами.
Сказала тихо:
— Хорошо... Я буду рада видеть Пшерминского... Также и
мой муле.
Ага, попалась маленькая женщина с большими глазами!..
Кругленький доктор махал шляпой и смеялся. Ох уж эти
дамы... эти недотроги...
Он гордился своим племянником.
— Ну-с, мне, однако, пора... Ваш муж еще не вернулся со
службы?.. Кланяйтесь ему... Как здесь вкусно пахнет яблоками.
Униженная Тереза молчала.
Антось вернулся...
Шла навстречу будущему слабая, как ребенок. Не
защищалась, не искала выхода, не надеялась. Это новое горе отняло у
нее последние силы.
Антось вернулся...
Теперь все погибло.
Шатковский фамильярно взял ее за руку выше локтя.
— Улыбнитесь же, дорогая... Я и Антось — могила. Будьте
покойны... Повторяю, дитя мое, несмотря ни на что я вас
глубоко уважаю, но позвольте дать вам один дружеский совет. Не
показывайтесь вы с Ирэной Мошко... Ирэна — умная,
оригинальная, замечательная женщина. Да. Я о ней такого мнения,
но... она — вне круга. А после того как из-за нее застрелился
Стась Боржек, ее окончательно похоронили. Наша польская
колония малочисленна, замкнута... все друг друга знают... вы
сами даете пищу для толков... Зачем, милая?
В передней он долго натягивал светлое модное пальто, а
Тереза стояла тут же и думала: «Антось приехал».
Потом она вернулась к пяльцам.
Солнечные пятна расползлись по скатерти обеденного
стола, заиграли на приборах и графине. Они дрожали на темных
обоях, прильнули к паркету, нежно коснулись волос Терезы.
118
Она не видела узора, бледная, с потухшим, полным
отчаяния взглядом.
Пшерминский вернулся. Зачем? Ему здесь нечего делать.
Жениться, говорит доктор. Какой вздор! Чего он хочет? Враг
или влюбленный? Может быть, друг! Равнодушен? С
повинной?
Она не знала его, собственно.
Помнит, конечно, как три года тому назад ее муж, Ян Кше-
вицкий, впутался в темную, грязную историю с растратой
денег, а Пшерминский замял скандал, дав нужную сумму. Он спас
их от позора, суда. Он не потребовал ничего от Яна и очень
мало у жены.
Помнит, как этот развратный, недалекий, тщеславный
господин впускал ее в свою холостую квартиру, обнимал, раздевал
и проделывал над нею гнусности. Потом у него умер отец, он
уехал получать наследство, затем скрылся где-то за границей.
Время затянуло глубокую рану стыда и раскаяния, вырвало из
памяти позорные детали. Пшерминский почти исчез из ее
представления. Она, Тереза, являлась на свидания? Она отдавалась
грубо, цинично, без любви и желания? Принимала деньги,
подарки? Нет, это не она... это другая... Конечно, другая, только не
она, Тереза.
Теперь, когда она должна была снова увидеть его, ее
охватил беспредельный ужас. Она проклинала свою жертву. Не
находила в ней ни малейшего нравственного удовлетворения, даже
пользы. Ян не знал, чем он обязан жене, и по-прежнему
проигрывал крупные суммы. Они вечно были в долгах.
Пшерминский не допускал даже мысли, что он выбран не ради личных
достоинств, а из корыстной цели. Она терзалась часто
сомнением. Поступила ли она хорошо? Быть может, это грех надел
личину самопожертвования? Быть может, другая женщина нашла
бы иной выход?
Она боялась и Пшерминского и мужа. Ни тот, ни другой не
пощадил бы ее. Потерять репутацию честной женщины?..
Очутиться на улице без гроша?.. Да разве это мыслимо?
Судорожно цеплялась за лживое, невероятное
предположение: «Быть может, Антось забыл меня? Увидит, поговорит, и
только».
О, о... Как бы не так... Нет, ей оставалось приняться за ста-
Рое-
Вспоминала, как часто ей предсказывали дурной конец —
судьбу падшей женщины. За нею всегда волочилось грубое,
липкое подозрение. Ее обливали грязными сплетнями. Она ни-
119
кому не внушала доверия. Почему? Почему часто она сама
переживала тягостные минуты сомнения в себе самой?
Жуткое предчувствие сосало сердце. Всматривалась в душу
с воспаленным вниманием. Нет, она не находила там ничего,
кроме ужаса и отвращения перед грехом.
Как же она могла бы полюбить его?
Никогда еще она не чувствовала себя более одинокой.
Родные... Горячая ненависть затопила грудь. Лицо
запылало. У нее не было даже воспоминаний.
Ее семья отошла вдаль и там затерялась. Отец умер. Мать
жила с братом. Сестра вышла замуж и уехала в Галицию. Они
не переписывались. Для нее они не существовали.
Мысленно она оглянулась кругом с беспомощным видом.
Никого...
«А ксендз Гануш?»
И словно кто-то невидимый, злой, беспощадный захотел
подчеркнуть ее мысль. Вздулась занавесочка... Ветер наполнил
всю комнату... Ворвался шум экипажей, окрик городового,
голоса...
С окнами поравнялась похоронная процессия.
Впереди шел ксендз Гануш, настоятель местного костела, в
кружевной комже, берете, сосредоточенный и строгий.
И, забывая сразу свою муку, не видя ничего, кроме этого
гордого священника, Тереза встала, машинально шепча «Ave».
Потом, когда процессия завернула за угол, она опустилась
снова в кресло и ее бледное лицо стало мокро от слез.
Ах, ксендз Гануш!.. Его назначили куратом в Л-ск в тот год,
когда Пшерминский уехал и Тереза получила свободу. Никогда
по натуре она не была чувственной. В ней тогда проснулось
полное, ясное представление о том, что она сделала и что нужно
сделать теперь. Тянуло к церкви.
Ксендз Гануш произвел на нее потрясающее, ни с чем не
сравнимое впечатление. Все, что было до него — муж,
Пшерминский, — потеряло раз навсегда свое значение, а настоящее и
будущее воплотилось в нем одном, и без него не могла
представить себе жизни. Любовь наполнила, залила ее душу, вошла в
ее мозг, кровь, тело, стала так же неотделима от нее, как ее
речь, поступки, желания. Он жил в ней — чужой, далекий,
недоступный, — и под страхом смерти не отреклась бы от него.
Как ревностная, пылкая католичка, Тереза изнемогала от горя.
Ксендз... привыкла с детства благоговейно произносить это
слово. Не простой смертный — служитель Бога. Не мужчина —
выше мужчины.
120
Правда, любила чисто. Любила, обоготворяя. Скорее
молилась, чем любила. Смотрела как на распятие. Приближалась
робко, по-детски. Было нечто бесконечно целомудренное,
нежное, трогательное в ее чувстве, словно дыхание весеннего
вечера, запах фиалок, слабый аромат ладана между страниц
молитвенника. Его прекрасные черные глаза, в которых тонула,
как в небе, будили глубоко затаенное, чисто женское
стремление любить духовно. Любить беззаветно, молчаливо, покорно.
Любить, ничего не ожидая взамен, кроме тоски, слез, муки во
имя любимого. Любить без тени чувственности, без всякой
надежды на взаимность и близость. Был для нее неназванным,
таинственным, был томлением по чистоте, совершенству,
дорогой к Богу.
И была так робка, стыдлива любовь, что даже мысленно
боялась назвать его по имени — «Чеслав», а во сне видела в
дымке, себя же преклоненной и плачущей. Ах эти сны!.. Белые,
чарующие, неразгаданные, будто чудесные свидания душ,
тайный обмен сокровенных мыслей, бесплотная ласка, туманное
предсказание о том, что свершится лишь после смерти на небе.
Просыпалась в слезах, с трудом отличая грезу от
действительности.
Мысленно целовала землю, по которой он проходил, край
его сутаны, его ноги. И от трех лет нечеловеческого душевного
напряжения, нечеловеческих терзаний, удвоенных
добровольным молчанием, осталось одно общее впечатление — осени.
Бледное солнце, желтизна, шорох опадающих листьев,
мертвая тоска о невозможном.
Ксендз Гануш был холоден с Терезой, предубежден,
настроен иронически. С первого же знакомства он воздвигнул между
собою и ею невидимую, но несокрушимую стену. Он смотрел
на нее как на пустое пространство, находил в своем голосе
тысячу самых ледяных, оскорбительных оттенков, ни разу не
захотел улыбнуться ей. Он отказывал в таком пустяке, как
любезная фраза, шутка, приветливое выражение глаз.
Почему? Находил ли излишне экзальтированной? Или она
казалась ему просто девоткой, ханжой, влюбленной в каждую
рясу? Чувствовал ли ее прошлое? Слышал о Пшерминском?
Тереза не знала.
Мечтала, взволнованная, забывая настоящее.
Быть может, когда-нибудь темные гордые глаза ксендза Га-
нуша взглянут на нее с участием и лаской. Быть может, когда-
нибудь они возродят ее к новой жизни. Не есть ли высшее
счастье женщины идти за любимым?
121
Впрочем, теперь, с приездом Пшерминского, все менялось.
Она должна была стать отступницей. Нельзя служить двум
богам. Если свою близость с мужем она оправдывала таинством
брака, то чем являлась связь с Пшерминским?
Пшерминский, который вернулся... Казалось, он уже вошел
в эту комнату, протягивал к ней жадные, грубые руки,
улыбался дерзко и самодовольно: «Малюточка». Она уже видела
зияющую черную, смрадную бездну и летела туда стремглав с
открытыми, широко раскрытыми глазами.
Ее сердце и разум переполнились отчаянием и бессилием.
Смертельно тоскуя, ломая руки, шептала слова литании:
— Сердце Иисуса, море милосердия, смилуйся надо мною...
Сердце Иисуса, утешение грешных...
К четырем часам явился со службы Кшевицкий.
— Ванда, можешь подавать, — говорил он громко, на всю
квартиру. — Барыня дома?
Тереза вышла к столу бесстрастная, холодная.
— Ты несколько запоздал, Янек?
— Дела до черта... Заговорили... Обожди, я вымоюсь.
В спальне он стучал умывальником, крича оттуда
конторские новости.
Вернулся свежий, веселый, голодный.
Наливая бульон, Тереза сказала намеренно просто:
— Знаешь, кто приехал? Антось Пшерминский... Хочет
покупать здесь дом... Говорил доктор Шатковский... Он забегал
утром.
Ян слегка растерялся. Пробормотал что-то о том, что
Пшерминский их друг и к нему нужно относиться как можно
внимательнее.
Потом он жадно принялся за еду.
Ему не давали больше двадцати шести лет, этому крепкому,
здоровому человеку, с чуть наглыми глазами, коротко
остриженному, плечистому. Одевался он излишне изысканно, как
одеваются часто представители фирмы, манеры имел грубоватые.
Занимал приличное, но не блестящее место. Его считали дельным,
энергичным. Слабость к вину и картам охотно прощали.
К Терезе он относился порою обостренно чувственно,
порою резко. Они были несчастны. Их постоянные ссоры
затягивались по неделям. Жили они в большом университетском
городе замкнуто, тихо, вне интересов польской колонии.
Показывались только в театре. Знакомых имели немного — каждый
своих.
122
Сейчас Ян болтал различный вздор, городские сплетни,
газетные новости и заметил самодовольно:
— Д-да... мы идем... мы двигаемся... Черт возьми, жизнь
интересная штука.
Ванда принесла кофе.
Он грубо пошутил с бледной, молчаливой, замкнутой
девушкой.
— А ну-ка признавайся, с кем ты ночевала сегодня?
Ни Тереза, ни Ванда не удивились. Привыкли.
Жена спросила рассеянно:
— Ты уходишь, Ян?
-Да.
— Надолго?
— Нет. Я к Дальчевским. Кланяться?
— Разумеется. Пожалуйста.
Тереза казалась убитой. От внутренней пожирающей
тревоги под глазами легла синева.
Пробормотала:
— А я жду гостью.
Ян недовольно пожал плечами.
Ирэну Мошко? Ну конечно... Сколько раз он уже просил не
принимать ее? Кокотка из общества... Недурная подруга для
порядочной женщины, черт возьми!.. Да... да... Пусть Тереза не
шутит этим... Кокотка! Говорят, она теперь на содержании у
трех сразу... вот!.. Потом она влюбилась в писателя, того...
блаженного... Заневского... Бегает за ним... Скандальная особа.
Тереза перебила, раздражаясь:
— Ах, оставь меня в покое... насчет Инки у меня свое
мнение... И потом, что тебе до того?
— Но это глупость... неосторожность.
Ушел рассерженный.
Тереза уныло блуждала по квартире.
Изредка трогала то одну, то другую вещь на столиках,
этажерках. Ничего не любя здесь, внесла, однако, сюда весь свой
врожденный вкус, спокойное изящество, строгость тонов.
Заглянула даже в кухню, где шила Ванда.
В ней снова проснулось отчаяние, изумление, смятение,
желание убежать, спрятаться, не видеть, не говорить.
Антось вернулся. Боже великий! Боже всесильный!..
Потом это сменилось тусклым равнодушием.
Ее мысли приняли обычное течение. Она хотела думать, что
в ней самой не совершалось никаких нравственных переломов,
не рождалось никаких надежд на будущее. Уже заранее, еще не
123
видя Пшерминского и не говоря с ним, в силу ли предчувствия
или просто безволия, отрекалась от самой себя, становилась
прежней. Распущенной, дерзкой, грубой. Во всем теле
поднялось ощущение нравственной нечистоты. Губы пылали,
складывались в порочную улыбку. Глаза загорелись новым, острым,
вызьшающим огоньком. Она щурилась, пристально
рассматривала себя в зеркало. Находила свои плечи излишне тонкими,
кожу не совсем чистой, прическу не к лицу. Неодобрительно
осмотрела бледные музьпсальные руки. Осталась недовольна
платьем. Пшерминский — знаток женщин. Какой он найдет ее?
Что скажет? На дне души, помимо ее воли и сознания,
шевелилось гаденькое, пошлое любопытство.
Потом мысли метнулись в другую сторону.
Думала о матери Яна — злой старухе в Вильно, которой
нужно написать ласковое и любезное письмо, то о тете Юлии, куда
необходимо заглянуть скоро. Наконец остановилась на Ирэне
Мошко. Перенеслась к прошлому, ко дню, который выпукло и
глубоко врезался в память.
Варшава. Лазенковский парк. Мокрый, неуютный осенью. От
темного озера становится еще холоднее. Жаль лебедей. Скучно
смотреть на дворец. Уныло ропщут деревья. Бродила здесь,
одинокая, усталая, равнодушная. Проехал мимо щегольской экипаж.
В карете мелькнула женская фигура. Черная вуаль, брошенные
вдоль платья руки. Прекрасное бледное лицо и, ах, какие
скорбные, какие ужасные в своей неподвижности глаза!.. Думала
тогда уже не о своем горе, а об этой... неизвестной. Что нужно
перенести, чтобы иметь такой стонущий, кричащий взгляд?
Случайно они оказались в одном и том же отеле. Узнала
имя незнакомки. Ирэна Мошко... Швейцар и лакеи улыбались
двусмысленно. Какой-то толстяк, услыхав вопрос, живо
оглянулся на Терезу, нахально разглядывал. Слышала, как спросил:
«Эта тоже?»
Тереза вернулась в номер потрясенная. Ага... вот оно... И
тогда же она полюбила ее пылко, фанатично, как никогда не
любила ни матери, ни тетки, ни подруг.
Там же, в Варшаве, они познакомились, стали друзьями.
Милая, гордая, несчастная Инка!
Здесь встретились снова. Виделись часто. Однако Тереза не
решалась посвятить ее в свои дела. Нет, лучше помолчать.
Приготовилась встретить Инку, как всегда, радушно, тепло, но
ничем не выдать душевного хаоса.
Накануне грядущего несчастья вдруг заковала себя в
строгое, холодное молчание. В ней заговорила стыдливость горя.
124
Пришла наконец Ирэна.
Ослепительно прекрасная, тихая.
— Как вы хороши сегодня, — восхитилась Кшевицкая, — как
вы хороши, Инка... И вы мне чудитесь совершенно новой.
Из-под полей широкой черной шляпы глаза Ирэны
улыбнулись мечтательно. Что-то светлое прилило к лицу и зажгло
печальную улыбку монахини, а не падшей.
— Я сегодня думала о любви, Тэрка... о любви оправданной...
И о покаянии... Слышите? Не смейтесь... Кажется, все это
существует... Ах, если бы я могла верить!
Рассказывала, что везде целые груды осенних листьев и во
всем разлит мистицизм смерти.
Волнуясь, говорила о литераторе Заневском.
— Он — мое наказание за прошлое... Я верю в возмездие.
Когда я встречаю его, то всегда почему-то думаю о смерти.
Созналась, что любит до безумия, до границ, за которыми
следует реквием. Впрочем, надежды у нее мало. Она не во
вкусе литератора. В первую же встречу с ним ее охватила мертвая
тоска. Она всегда боялась любви.
— Знаете, Тереза, — сказала Мошко, — когда из-за меня
застрелился маленький Боржек, мне кажется, я одна поняла его.
Он натолкнулся на невозможное, это невозможное понял всем
своим существом и об него разбился. Я его не любила и любить
не могла, держать при себе как поклонника тоже не хотела, я не
играю людьми. Жить без меня он находил невозможным. Ну и
Боржек застрелился. Он сразу избавился от большой муки. Меня
обвиняли в рисовке... Ах, я совсем не позировала, когда рыдала
на похоронах... Я просто думала о своем невозможном...
Многие из нас находят его и... разбиваются.
Тереза задумалась.
Душа ее, слабая и усталая, предчувствуя Голгофу,
проходила таинственно какие-то новые стези, блуждала в лесу
воспоминаний, предрассудков, детских сказок о рае и аде, замирала в
паническом ужасе. Если бы Ирэна знала...
Глядела на нее влюбленно. Как прекрасна была эта изящная
женщина в черном с белой астрой у пояса! Какие благородные
линии плеч, рук, талии, какие темные, глубокие глаза, какие
яркие, говорящие губы...
На одну минуту там, вне сознания Терезы, а лишь в области
чувств мелькнула мысль, что Ирэна должна кончить
трагически. Потом сменилась приливом нежности.
— Все будет хорошо, Инка, все будет хорошо... Не
печальтесь.
125
II
В среду Ванда принесла письмо. Глаза у нее были заплаканы.
Тереза удивилась. Что случилось? Голова болит? Ну, это
отговорка. Может быть, ее бранил барин?
Девушка поджала тонкие губы.
— Да, сердились.
Она ушла очень быстро.
Письмо было от Лины Дальчевской, жены архитектора,
знакомой еще со школьной скамьи. Легкомысленный тон. Яна ждут.
Заневский, литератор, изъявил горячее желание познакомиться
с Терезой.
Кшевицкая чуть не ахнула. Заневский? Тот, кого любит Ирэ-
на? Какая случайность... Конечно, она слышала не раз о Вацлаве
Заневском и от Пшерминского, и от Ирэны, и от других, по
газетам, конечно, но познакомиться с ним ей никогда не приходило в
голову. По общему мнению, Заневский был умный, талантливый
беллетрист, а не имел успеха потому, что преследовал не новую,
смешную идею: отречение от половой жизни. Это казалось
нелепым, театральным и вместе шаблонным. Он возмущал среднего
читателя мистическими, таинственными романами, полными
аскетизма, словно созданными в келье бретонского монаха под
впечатлением сурового Фомы Кемпийского.
Еще недавно Тереза прочла повесть Заневского «К небесам»
и была поражена силою, красотою этих душистых строчек. Он
вызвал в ней целую нравственную бурю, неудержимый порыв к
искуплению, мечту о замкнутой жизни среди отвлеченных
понятий, жажду мистической любви, мистического сближения душ.
Он также несколько успокоил ее тревогу верующей католички,
любящей священника, но всегда помнящей о грехе и возмездии,
уверяя, что любовь без близости — подвиг, искупительная
жертва перед Богом. Она недоумевала теперь, каким образом
Заневский заинтересовался ею? Как отнесется к этому Ирэна?
Поделилась новостью с мужем.
По случаю неприсутственного дня Ян был дома. Она
застала его на кушетке с газетой и обычной бутылкой пива.
— Заневский? — протянул он, зевая. — Ну, что же... он —
добрый малый... Я встречал его у Дальчевской... И серьезно
талантлив.
— Но ведь ты не читал ни одной его вещи?
Кшевицкий свистнул... Пфа!.. разве для того, чтобы
говорить о писателе, его нужно читать? Заневский отрицает
физиологическую любовь... Те... те... те!.. Это не мешает ему, однако,
126
строить куры Лине Дальчевской. Э, да все они на один лад... Ян
притянул жену грубым, чувственным жестом, целуя сначала в
губы, потом в шею, около уха. Краска залила лицо Терезы.
Нервно высвободилась. Ну, ну... он изомнет ее всю. Пусть
лучше сам переоденется. Дальчевская ждет его к обеду. И потом,
за что он бранил Ванду?
Кшевицкий нахмурился:
— Эта мерзавка уже жаловалась?
— И не думала. Я сама заметила. У нее заплаканные глаза.
Ян перебил... Ну да, знаем... «заплаканные глаза». Он не так
уж глуп, как она воображает. Тереза давно подозревает его и
Ванду... хотя, по совести, это безумие... Ей-богу же, безумие...
— Ты с ума сошел? — изумилась Тереза. — Я? Тебя? Ванду?
Он понял ошибку. Замял разговор, неловко наливая себе
пива.
— Я пошутил... Черт с нею... Отчего ты грустна?
— Нет... ничего.
Кшевицкий прищурился. Проницательно и вместе глупо.
— Ты страдаешь с некоторых пор... Я убежден.
Она холодно пожала плечами.
— Почему? Что за вздор!
— Почему? — передразнил он. — Почему, я не знаю, но
видеть ежедневно перекошенную физиономию не больно сладко.
— Я тебе не мешаю.
Он не понял ее иронии, глядя на яркий, упрямый рот.
Тормошил с алчными огоньками в глазах.
— Я начинаю влюбляться в тебя снова, малютка... Зачем ты
посадила меня на диету? Вы, женщины, хитрее нас... вы умеете
разнообразить чувство... Я должен, в сущности, поблагодарить
тебя.
Она рассердилась. Это оскорбительно... цинично...
Ян развалился, потягиваясь. «Расскажите вы ей...» Он не
верит в женскую стыдливость. Бабе нужна постель прежде
всего, и чем с нею грубее на этой постели, тем лучше... Куда,
однако, отправляется Тереза? К тете Юлии? Дело. Старуху нужно
навещать. Она всегда пригодится. А потом куда?
Невольно опустила глаза:
— Я забегу к настоятелю... ксендзу Ганушу... Собирают в
пользу нового приюта... Мы еще не давали.
— К черноряснику? Ох уже эти мне ксендзы!
Грязно шутил по поводу целибата.
Тереза почти убежала, возмущенная.
Ванда, уже улыбаясь, отворяла дверь барыне.
127
...Тереза шла к тетке.
Было тепло, пасмурно и тихо. От вчерашнего ливня
остались борозды, земля разбухла, легко вдавливалась под ногою.
Везде лежали каштановые и кленовые листья, словно
маленькие потухшие звезды. В воздухе, упругом, плотном,
насыщенном влагою, долго задерживались, не таяли различные звуки.
У Терезы кружилась голова.
Она щурилась, лениво подымая подол, и два-три раза вяло
ответила на поклон. Обдумывала разговор с тетей Юлией. Если
бы старуха указала ей какой-нибудь выход... Старая сводница!
Она ненавидела и презирала тетку. Возмущалась тому, как
легко попала ей в руки...
Ах, это все ее обычная, болезненная, никчемная болтливость!
Старуха относилась к ней иронически. Считала
комедианткой, развратницей, а после истории с Пшерминским просто
глупой. Не сумела забрать в руки... Сегодня Бжезовская встретила
племянницу расстроенная, злая. Да, тут заворчишь, если
обкрадывают чуть ли не ежедневно. Трех платков не хватает и пары
чулок...
— Неужели! Здравствуйте, тетя... Я к вам по делу.
— А без дела нельзя?
В полутемной заставленной комнате удушливо пахло
бензином.
— Что случилось, — бормотала тетя Юлия, возясь с
кофейником. — Где твой муж?
Тереза объяснила. Бжезовская язвительно фыркала. У Даль-
чевской? Второе воскресенье? Значит, роман с Линой вовсю. О
чем только думает Тереза? Лина — прехитрая бестия. Тереза
еще наплачется от нее, дай срок...
Кшевицкая молчала.
Старуха тяжело села, принимаясь за бутерброды. Вся она,
смуглая, толстая, с обильной растительностью, была сегодня
особенно неприятна Терезе.
— Кушай лее... Это вкуснее, чем ты думаешь...
— Благодарю, тетя... потом... у меня такое горе.
— Что с тобой? Беременна? — покосилась Бжезовская.
— А, нет... Пшерминский вернулся.
Тетя Юлия ахнула. Как? Когда? Кто сказал? Зачем?
Потом шумно и притворно вздохнула:
— Что делать? Прошлого не воротишь. Тебе следовало
вести себя лучше, малютка...
Впрочем, Пшерминский не имеет никаких доказательств. Тебе
нечего бояться. Нет ни малейшей опасности.
128
Тереза сухо рассмеялась. Ах, она совсем забыла, как всегда
хладнокровна тетя. Но, может быть, по ее мнению, пустяки и
отвращение к мужу?
Старуха рассердилась. Глупости... фантазии... Брак — это
чисто коммерческая сделка. Пора понять, кажется... Было бы
также лучше, если бы Тереза реже шушукалась с ксендзами.
— Нужно смотреть трезво на жизнь, матушка.
Кшевицкая беспомощно откликнулась:
— А если я опять сойдусь с Пшерминским?
Тетя Юлия пожала плечами. Ее дело... Боже мой, все они
любили в свое время, но не разводили драм... вот в чем
разница... Они винили обыкновенно судьбу, в редких случаях — мужа,
но себя — никогда. У них любовь была радостной. Приправа.
Развлечение. Тереза молода, красива. Естественно, она не
может без этого. С годами все пройдет.
Бормотала, фыркая, как рассерженная кошка. Сантименты!
Комедии... Кому нужно ее раскаяние?.. Просто курам на смех.
Наконец, если уж так невтерпеж, пусть идет на исповедь...
пощекочет ксендзу нервы...
Тереза молчала. Действительно, было безумием ждать здесь
помощи.
Потом они сели обедать. Теперь тетя Юлия восторгалась
Пшерминским. Нет, она не удивится, если Тэрка сойдется с ним...
изящен, красив, богат... особенно по нынешним временам...
Кончила вскользь:
— Что бы ни случилось — ты найдешь во мне поддержку,
малютка.
«О, не сомневаюсь», — иронически подумала Тереза.
Пробормотала:
— Благодарю вас, но... не будем говорить о Пшерминском.
Тетя Юлия вспыхнула:
— Уж не думаешь ли ты, что вся эта грязная история
доставляет мне удовольствие?
Чуть-чуть не поссорились серьезно.
— Дома ксендз-настоятель?
Лакей пропускал Кшевицкую.
— Пожалуйте. Я сейчас доложу.
В приемной и соседнем кабинете пахло чем-то неуловимо
приятным, не то дорогими духами, не то сигарой. Было изящно,
нарядно, светло. Много живых цветов. Рояль.
Оглядывалась кругом.
Комната носит отпечаток живущего.
5 Анна Map
129
Предметы смеялись над Тэркой. Они не выдадут тайны. Здесь
он думал, говорил, работал, но ничего из этого она не узнает.
Ничего, никогда.
В раскрытое окно глядело вечернее небо. Плыли, ломались,
меняли очертания, совсем таяли розовые облака. Вся широкая
улица, стены, окна, подрезанные каштаны, медленно
проезжающие извозчики запылали в лучах заходящего солнца.
Ах, эта грустная сказка умирающей природы!
Тосковала, стягивая и натягивая перчатки.
В передней поминутно звонили. Слышались женские и
мужские голоса. Мимо закрытой двери шуршали юбки.
«Заседание», — решила Тереза.
Действительно, ксендз Гануш вышел озабоченный,
официальный. При виде Кшевицкой по его лицу скользнула тень
неудовольствия.
— Извините... У меня собрание членов нашего
благотворительного общества.
— О, я задержу настоятеля всего лишь несколько минут.
Отдавала пожертвование. Обещала похлопотать еще у
знакомых.
Ксендз Гануш слушал, стоя с легкой, незначащей улыбкой.
Лет сорока, очень худ, очень смугл, своеобразен во всем,
начиная с голоса и кончая походкой. Лицо подвижное, умное, с
большими, гордыми, на редкость прекрасными глазами и
крупным, властным ртом. Движенья, речь быстры, но без
суетливости. Сейчас он сухо благодарил Терезу.
Она не уходила. Путаясь, волнуясь, спросила, за что он так
враждебно относится к ней.
Настоятель выразил холодное, неприятное удивление. Он?
К ней? Да он совершенно не знает ее.
Тереза продолжала с отчаянием. Неужели никогда она не
заслужит его одобрения, участия? Пусть ксендз Чеслав только
скажет, какой ей нужно быть, чтобы он изменился к ней...
Выходило глупо и театрально.
Она сгорала от стыда, а он нервно пожимал плечами.
— Ничего не понимаю... Решительно ничего.
Потом пресек сразу этот неуместный разговор. Ей лучше
пойти к конфессионалу. Здесь много интимного... дело
совести... Он не имеет чести знать ее близко и вообще (в голосе
зазвенела ироническая нота).
— Я — плохой психолог, пани.
Осведомился небрежно:
— У кого исповедуетесь?
130
— У викария.
— Ну вот... идите к нему... Посоветуйтесь...
Его явное неудовольствие, еле сдерживаемое нетерпение и
последняя подчеркнутая фраза парализовали Терезу. Может
быть, он уже догадался о ее чувстве к нему? Он не выносил ее.
Это ясно.
Кшевицкая растерялась. Поднесла тонкую руку к губам
робко, как провинившаяся девочка.
Настоятель не провожал ее.
В гостиной Кшевицкой сидела обычная гостья — Лина Даль-
чевская, жена архитектора. Ян пил пиво, тихо оправдываясь в
чем-то. Тереза, собираясь уходить, прикалывала шляпу. Лина
сказала вкрадчиво:
— В костел? Совсем святая... помолись за нас.
Ян фамильярно подмигнул ей. Го... го... го!.. Это становится
подозрительным... Уж не влюблена ли Тереза? Все влюбленные
женщины религиозны.
Лина сыпала новостями. Упомянула, что к ней с чего-то
приезжала Ирэна Мошко.
— Да... да... Приехала. Цветов привезла. Нервничала. Глаза
такие вопросительные, умоляющие.
— Видно, хотела выпытать что-нибудь о Заневском, —
ехидно и грубо добавила Дальчевская.
Тереза сдержанно удивилась. Ян стукнул стаканом.
— Мошко распутничает открыто... рисуется своей смелостью...
Я бы не пустил Ирэну на порог порядочного дома.
Сплетни лились рекой.
Кшевицкая с ужасом думала о том времени, когда ее
чувство к настоятелю станет известным. Любовь трудно скрыть.
Любовь — это сияние над головою.
Она ушла задумчивая и грустная.
Тотчас же Ян начал интимно жаловаться Дальчевской.
Ох уж эти истерички... ни в чем нет меры... Он становится
с каждым днем все несчастнее. Тереза решительно
отказывается исполнять свои супружеские обязанности. Перед детским
поцелуем слезы, отвращение, страх... в их спальне происходят
чудовищные сцены. Порою вынужден прибегать к насилию.
Гадко, но... что поделаешь? Как мужчина он чувствует себя
глубоко оскорбленным и не понимает причины. Тереза
ссылается на желание быть чище... А, вздор, ерунда! Из-за нее он
сошелся с этой малокровной дрянью, Вандой. Теперь куча
неприятностей, почти скандал. Да, дорого ему стоят фокусы
5 *
131
жены. Не пойти ли, в крайности, к ксендзу? Пусть заставят
хоть чернорясники... они имеют влияние на женские души, надо
сознаться... Тетя Юлия передавала ему, что Тереза увлекается
ксендзом Ганушем... платонически (черт знает, что такое!).
Э, все возможно, в конце концов. Она ведь психопатка. Если
это правда... ну, он способен помириться, волновать жену
чужим именем. Так поступал один из его товарищей и всегда
достигал цели. К шуту всякую нравственность!
Женщину, женщину!.. Он болен из-за подобной диеты. Он не желает
тратить по-пустому годы. Он хочет жить как все. Он, слава
Богу, здоровый, нормальный человек. Как все, и ничего
больше...
Лина жадно слушала Кшевицкого. Дорогой мальчик!.. Не
жизнь, а каторга... Она понимает его...
— Я бы разошелся с Терезой, — мрачно заявил Ян, — но это
убьет мою мать... нужно пощадить старуху.
Лина кокетливо, деланно сконфуженно протянула руки:
— Ну, довольно... довольно... вы меня мучаете... Я сгораю от
ревности... Гадкий, злой Янек.
Волновалась, прелестно играя роль детки, вся розовая и
смеющаяся.
Он властно и сильно притянул ее к себе, заглядывая в
смущенные глаза:
— А Заневский?.. Литератор?.. Я думал, Заневский...
— Но он глуп, милый, — обиделась Дальчевская, — он глуп.
Тереза медленно входила в костел.
Охватило ароматом ладана, цветов, старых материй,
влажным, особенным запахом церкви. Кое-где темнели фигуры
старух из богадельни, низко склоненные над молитвенниками.
Сметал пыль сакристиан, потом снимал покрывало с главного
алтаря, поправлял свечи. В полуоткрытую дверь ризницы
виднелись мальчики, уже одетые для службы, шушукались и
тихонько шалили. Каждый шорох, шаги, кашель, громкое слово
молитвы, треск в партах и конфессионале звучали гулко,
удвоенно и потом не сразу таяли в куполе. Казалось, до начала
богослужения костел говорил. Среди зелени пальм белел главный
алтарь. Видно было, как склонялись извне ветки к цветным
стеклам и царапали скользкую поверхность, рвались внутрь.
Сумерки прокрались в притворы, ползли выше, затушевали углы и
лики святых.
Знакомая, странная, томительная тоска по чему-то лучшему,
несбыточному, неземному жгла сердце Терезы. Взгляд медлен-
132
но скользил по предметам. Внутренняя молитва, внутреннее
восхищение не только таинственным, но и реальным. Ах, она
так любила костел!.. Любила пение псалмов, однообразное,
покорно-тоскливое, словно кто-то рыдал под сводами, рвался к
небу и бился здесь, на земле, в безысходном отчаянии. Любила
немые притворы, лики святых, колебание свечей, клубы
ладана. Любила умирающие цветы на алтарях, матовый блеск
кадильниц, мелодию органа. Любила всю эту таинственную,
мистическую обстановку костела, заставляющую так неустанно,
пылко грезить о Боге.
Сквозило. Продолжали звонить. Парты заполнялись.
Молодой викарий, наивный и жизнерадостный, несмотря на
опущенные ресницы, занял левый конфессионал; капеллан, с
замкнутым, болезненным лицом, — правый.
Изнемогая от тоски, Кшевицкая перебирала четки.
Мраморная Мадонна кротко молилась в нише. Она долго глядела на
Нее.
«Я — Непорочное Зачатие».
О чем Тереза могла просить Ее?
Вечерню начал ксендз Гануш.
Гордый профиль. Белизна ризы. Блеск золотой пряжки на
груди. Мягкий, знакомый голос.
— «Deus, in adjutorium meum intende...»*
Воскликнула мысленно от всего сердца вместе с органом:
— «Domine ad adjurandum me festina...»**
Негромко и скорбно пел мужской голос о Вечном:
— «Dixi Dominus Domino meo...»***
Закрыла лицо руками. Глубокая черная бездна души. На дне
грех, отчаяние, разврат. Или так предопределено, ничего не
изменишь? Осуждена уже? Осуждена до вечности... Боже, о Боже,
милосердия! Отчаяние смешивалось с приливом внезапных
сомнений, не ждала уже помощи от неба. Молилась, чтобы
отвлечь мысли, заглушить внутренний хаос:
— «Laudate, hueri, Dominum, laudate nomen Domini...»****
Гимн глубочайшей, почти нечеловеческой покорности.
Ангелы диктовали его. Вся скорбь мира, все бессилие души перед
невозможным вылилось в нем. О, скорбная ирония! О, величие
побежденных!..
* Боже, помоги мне... (лат.)
** Господом ко клятве меня торопит... (лат.)
*** Сказал я: Господь во Господе моем... (лат.)
**** Хвалите, отроки, Господа, восхваляйте во имя Господне... (лат.)
133
— «Excelsus super omnes gentes Dominus, et super coelos gloria
ejus...»*
Руки медленно перебирали четки, головы беспомощно
опускались перед Великим, уста пламенно молили о помощи. Свечи
горели лишь у главного алтаря и казались розовато-желтыми
лепестками нездешних цветов.
— «Dirigatur, Domine, oratio mea...»**
Упивалась любимым голосом, словно пила душистое,
сладкое вино. Сохраняла бархатные звуки в тайниках души, как
хрупкое, бесценное сокровище. Не видела, не слышала ничего
из окружающего. Твердила его имя с благоговением. Оно
обжигало губы. Священная облатка, невидимое прикосновение
чьих-то легких, тонких пальцев.
— «Magnificat anima mea Dominum»***.
Шорох встающей толпы. Мелодичное звяканье кадильницы...
В тумане ладана неясно любимая голова, тонкая рука, край
манжеты... Кажется, поет не только хор с органом, но и цветы, и
хоругви, и все святые на стенах...
— «Sicut locutus est ad patres nostros...»****
Ксендз Гануш сходит по ступенькам к подножию алтаря,
таинственный, далекий и чуждый всем, как луч на
дароносице. Черные, широко раскрытые, бездонные глаза...
бесстрастное выражение губ... неподвижность сложенных рук. Вся кровь
бросается в голову Терезе. Пол, парты, алтарь плывут куда-
то. Во рту пересыхает. Терзает огненная жажда. Как тяжело
бьется сердце!.. Чудится, будто соседки понимают ее мысли.
Страшно оглянуться, а еще страшнее молиться.
Словно белый непорочный голубь летит хвалебная песнь
Марии — «Salve Regina»*****.
Вечерня кончилась. Тушили электричество. Шаги, кашель,
шорох юбок. Прошел органист с хоров. Крестили ребенка в
притворе. Детский плач, слабый, болезненный, жалобный.
У Терезы дрожали колена. Вышла слабой, неровной
походкой.
Пшерминский ждал ее у костела.
Пшерминский развязно пошел ей навстречу. Все тот же кра-
* Господь, возвышающийся над всеми народами, и над небесным
светом слава его... (лат.)
** Направляется, Господи, речь моя... (лат.)
*** Славит душа моя Господа (лат.).
**** Так как посвящено отцам нашим... (лат.)
***** Здравствуй, царица (лат.).
134
сивый, выхоленный блондин, безукоризненно одетый. Слегка
небрежный.
Поцеловал ее руку, говоря так, словно они расстались
вчера:
— Здравствуйте, малютка... Здравствуйте, моя дорогая.
Пошла с ним в ногу, бледная до прозрачности, замкнутая.
Улица была пуста. Ветер усилился. Лиловато-серые тучи
неслись с быстротой, заметной для глаза. Над колокольней,
вылетая из ее темных углублений, кружилась целая стая
крикливых птичек. Падали сумерки. Деревья роняли последние
листья. Оставшиеся трепетали на ветвях, словно одинокие,
умирающие бабочки с перебитыми крылышками.
Пшерминский старался заглянуть в лицо Терезе. Может
быть, она хочет выпить чашку шоколада у Рабю? Боже мой,
как она вздрогнула... Ну, не надо, не надо... во всяком случае, он
обижен. Он ждал иной встречи. Что он сделал дурного?
Пробормотала сквозь зубы:
— А дальше?
Дальше то, что они должны поболтать, как старые друзья,
выяснить, определить их отношения.
— Наши отношения? Вы с ума сошли?
Да нет же... ничуть... пусть она будет только фаталисткой...
Если они снова встретились, значит, так нужно. Fatalita...*
И они поедут сейчас же к нему, Пшерминскому. Да. Черт возьми,
как она красива, когда сердится!.. Эй, извозчик!.. Ну вот... раз,
два... А теперь пусть она даст свои лапки... Так... отлично...
У нее вырвался измученный, исступленный крик:
— Послушайте, вы завладели мною из пустой прихоти и
бросили тоже по прихоти. Вы развратили меня, искалечили...
отняли желание жить... не достаточно ли вам всего этого?
— Ба! Зачем так трагично? Само собою разумеется,
недостаточно.
Он влюблен в нее без памяти. Тереза должна быть
польщена. Он вернулся только из-за нее в эту трущобу.
Кшевицкая еще защищалась:
— Вы не имеете на меня никаких прав... вы их никогда не
получите... Я вам чужая.
Пшерминский отозвался хладнокровно, скучая:
— Извините... мужчина всегда имеет права на женщину,
которая принадлежала ему... всегда... хотя бы даже через сто лет...
И если бы вы сами не чувствовали своей зависимости, вы бы
* Судьба (um.).
135
не говорили с доктором Шатковским... вы бы указали ему на
дверь... Почему вы выслушали доктора?
Униженная, вне себя от стыда, она молчала.
— Простите, я был груб, Тэрка, и извиняюсь... Забудем эту
вспышку. Зачем клеветать на прошлое и зачем омрачать встречу?
Он продолжал полуискренне, полуаффектированно. Тереза
дала ему столько счастливых минут. Она была так нетронута,
неопытна и вместе так трогательно отзывчива на каждую
ласку. Вообще, он увлекается целомудренными, религиозными
женщинами. Когда в них просыпаются желания, они боятся их,
ненавидят, плачут, каются, борются и все-таки падают. В их любви
всегда искренние, теплые ноты раскаяния. Они как бы
смачивают кровью каждый поцелуй, каждое объятие. Их сердце —
вечно ноющая рана. Если они и падают, то обоготворяют своего
любовника, переносят на него свое томление о чистоте, идеале,
Боге. Это все увеличивает, обостряет наслаждение. Потом
остается терпкий, раздражающий привкус их горя, словно аромат
каких-то таинственных жгучих слез, слабая тень отчаяния,
борьбы. Тереза, по его мнению, именно такая женщина. И он не
может забыть ее, не может... Он любит ее.
Кшевицкой уже не хотелось спорить, бороться. Охватила
слабость. Ледяное спокойствие. Покорность.
— Моя жизнь скудна впечатлениями... Что же касается Яна...
мы не интересуемся друг другом.
Пшерминский лукаво допытывался, верны ли слухи, что она
увлечена ксендзом-настоятелем? Почему Тереза сердится? Ах,
да он шутит... только шутит... Разве можно полюбить ксендза?
Рассказывал о себе. Он шатается за границей. Прокучивает
состояние. Все надеется умереть раньше нищеты. Впрочем,
думает теперь остепениться.
Кшевицкая плохо разбиралась в том, что происходило.
Мысли текли лениво, недружно. Впуталась в сознание Ирэна...
черная широкая шляпа, матовое лицо, пунцовые губы...
Страдает ли она, отдаваясь? Может быть, в будущем ее, Терезу, ждет
та же участь? Обострилось безразличие. Стушевалось
представление о трех годах одиночества, раскаяния, любви к другому.
И теперь уже (думала) ничего нельзя изменить, а только
постараться, чтобы ненавистные ласки скорее кончились и чтобы
об этом никто никогда не узнал. В ее позе отразилось грубое
равнодушие. Она несколько раз нервно, громко зевнула. Сквозь
сукно юбки чувствовала сильные, твердые ладони. Он дышал
над ее ухом. Искоса глядела на него... вот густая бровь, чуть-
чуть горбатый нос, подвитые усы...
136
— Сознайтесь, Тереза, — вдруг сказал, улыбаясь, Пшерминс-
кий, — раскаяние пришло к вам недавно. Да... да... возможно,
вы сами убедили себя в нем... это случается. Я боготворю
женщину, однако в ее нравственность не верю. Если женщина
исповедуется, то лишь из страсти выбалтывать интимные секреты.
Здесь играет большую роль ее тщеславие, рисовка грехом.
Женщина с удовольствием называет себя падшей. Право же... Ах,
дорогая моя, как я люблю вас... эти глаза, эти
скорбно-вопросительные глаза... Вы с ума меня сводите... Слышите?
Она сжала губы и глядела на фонари, улицу и магазины.
Дождь лил частый. Блестели лужи. В экипаж дул влажный,
ледяной ветер.
«А ксендз Гануш?» — мелькнула мысль.
Сухое рыдание сдавило горло, а руки ответили на пожатие
Антося.
— Будешь моею?
— Буду.
— Сегодня?
— Сегодня.
— О, как я счастлив!.. А ты?
— Счастлива.
Квартира была прежняя.
Комнату «свиданий» Тереза узнала сразу. Несколько
темная, очень густого красного тона, но уютная, стильная. К окну
склонялось, скрипело старое дерево. Тереза вспомнила, как
прежде она любила слушать этот жалобный, затяжной,
унылый скрип. Сколько раз она тихо плакала здесь!
— Я оставлю вас на минуту, Тэся...
— Хорошо, Антось.
Глядела на туалет, столики, пуфы. Рассматривала
безделушки. Антось ничего не забыл. Казалось, она ушла отсюда только
вчера, а сегодня вернулась. Видно также, что ждал ее...
спиртовка с серебряным чайником, фрукты, конфеты...
Она медленно снимала влажное пальто, поправляла волосы,
долго смотрела на себя в зеркало. Бледное, тонкое лицо со
скорбными глазами показалось чужим и жалким. Теперь ее
пронизала дрожь острого сожаления к себе самой, тусклая горечь перед
падением.
Неожиданно и странно пришли мысли, ничего общего с
настоящим не имеющие. Сидя на кушетке и глядя в темное
окно, по стеклу которого ручейками стекал дождь,
представляла желтовато-грязную, ровную долину... Австрия... поезд...
137
также дождь... маленький саквояж вздрагивал в ее руке...
черная вуаль трепетала возле лица. Это она ехала в
Швейцарию.
Уехала за границу, зная, что там тогда был ксендз Гануш.
Деньги еще оставались от Пшерминского. Ян ничего не имел
против: тетя Юлия намекнула ему, что это она балует
племянницу.
Тереза бродила одинокая, тоскующая и влюбленная на
чужбине.
Как было тяжело встречать пароходы. Как она плакала в
пустых церквах!
Ксендза Гануша не встретила. Три месяца нечеловеческой
муки. Потом вернулась.
Ощутила громадную пустоту при этих воспоминаниях. Да
стоило ли жить после этого? Зачем она жила?
Встала, потянулась. Ей хотелось быть сейчас грубой,
распутной.
Антось пришел, радостно-возбужденньш.
Обнял, заглянул в глаза. Прочел ужас, покорность и слабую
мольбу о пощаде.
— Как мы себя чувствуем?
— Превосходно, — пробормотала она.
Добавила после паузы:
— Здесь ничего не изменилось.
— Ничего. Это тебе нравится?
-Да.
Усадил на кушетку. Жадно и долго целовал. Разжигался от
сопротивления.
Умоляла, слепая от муки:
— После... после, Антось.
— Но, малютка...
Однако он уступил.
— Ну а как денежные дела твоего мужа?
— Плохи.
— А... проигрывает, кутит?
— И то и другое.
Сидела, мерцая глазами, что-то обдумывая. Чутко
прислушивалась, как стонет дерево.
— Я дам тебе денег... сколько хочешь... сегодня... Хорошо? —
нагнулся к ней Антось.
Прищурившись, оглядела его, сытого, влюбленного.
Спросила почти цинично:
— Много денег?
138
— Много.
— Ну хорошо, — зевнула она, — а пока что дай чаю.
Он возился около столика, она лежала. Случайно
посмотрела вправо. Нарядные ширмы... за ними кровать... Как,
вероятно, холодны простыни! Это случится... это случится сейчас...
скоро... вот... вот... Неотвратимо, неизбежно... Руки
похолодели. Глаза закрывались сами собою. Гадливость без меры. Что
ей нужно сделать? Как поступила бы на ее месте другая
женщина, сильная и целомудренная? Может быть, нужно подняться,
ударить, убить этого человека? Искать защиты у Яна? Или
пойти к ксендзу Ганушу?
Чудовищность последней мысли совсем уничтожила
Терезу. Нет, нет... гибнуть.
Только без крика.
Антось подошел к ней с хищной улыбкой. Его движения были
удивительно мягки, эластичны, как у кошки.
— Чай готов, но... разве...
Обдал горячим, взволнованным дыханием.
Последний стон... полумольба... смятение, крик души, не
слетевший с губ... слабый отпор слабых рук...
Закрыла глаза.
III
Тереза лежала в неубранной спальне.
Муж ушел на службу. Ванда возилась где-то в глубине
комнаты. Было тихо. Поздно. Вероятно, за полдень.
Взгляд Терезы скользил по предметам, давно знакомым, но
сегодня чужим, необычным. Странными казались кружевные
шторы, матовый блеск зеркального шкапа, ковер, лампа.
Странен был умывальник, тумбочка, красные туфельки на полу.
Ничего не говорило сердцу. Распятие. Было понятно, близко и
страшно только смятое черное платье на ворохе нежного,
изящного белья — платье, которое вчера комкал Пшерминский и по
подолу которого так символически красноречиво бежала
полоска грязи.
Тереза смотрела на него с убийственной, едкой,
беспощадной иронией. Удивлялась, как эти неодушевленные предметы
немы, искренне удивлялась.
Голова была тяжела. Пылала. Во рту отвратительный вкус.
Грудь разбита.
Вчера, вернувшись от Пшерминского, застала тетю Юлию,
Лину Дальчевскую, одного сослуживца мужа... Ян устроил пре-
139
феранс. Возбужденно хохотал. Рассказывал рискованные
анекдоты. Над нею подтрунивали. Где была пани Тереза в такой
ливень? За ужином она пила коньяк до неприличия. И что всего
гаже... что всего гаже... потом ночью... Ян... Ах!..
Невыносимая боль в сердце заставляла ежеминутно
открывать глаза, вздрагивать, тихонько, жалобно стонать. Она
каталась по постели, то кусая себе руки и беззвучно рыдая, то как-
то истерически, с икотой, смеясь и гримасничая. Горе упало
большое. Позорное и темное, оно любило мрак, и нельзя было
доверить его никому на свете, никому. Даже на исповеди. В первый
раз священник не мог помочь ей. Она не могла его
послушаться. Кончено.
Облита грязью и сама грязь.
Рассмеялась вслух. С наслаждением хлестнула себя в лицо
уличным словом. Губы ее кривились от отвращения. Не
отрываясь, глядела на смятое брошенное платье с полоской грязи по
подолу.
Вспоминала.
Вечерня... Алтарь... Magnificat...* Профиль ксендза Гануша в
дымке ладана... Потом Пшерминский, дождь... запах экипажа...
фонари...
Тогда еще она была чище, чем теперь. Еще принадлежала
только себе.
Да, это случилось. Это все-таки случилось.
Внутренно, сквозь броню горя, удивилась своей наглости...
Лгунья, проститутка... Да разве она боролась! Как будто она
боролась, великий Боже!.. Как будто это являлось для нее
неожиданностью. Смешно.
Лежать дольше становилось невыносимым.
Поднялась, желтая, осунувшаяся, с грубым, новым
выражением лица. Медленно одевалась (во все другое, не касаясь
того, что лежало на стуле) и в первый раз за свое замужество
не убирала спальни.
В столовой еле коснулась кофе, поглядела невидящими,
мутными глазами на газету. Не решалась смотреть на Ванду. При
виде шляпы, тоже слегка помятой вчерашним ливнем, ее
затошнило.
Сейчас же ушла из дому, торопливо, пугливо, с чувством
убегающего вора. Куда? Так, вперед... направо, налево, прямо..,
все равно... лишь бы подальше.
* Славит... (лат.)
140
IV
Лина поцеловала Кшевицкую:
— Здравствуй, милочка... Я привела Заневского... Он в
столовой с твоим мужем...
Тереза неохотно отложила книгу.
— Заневский?.. Так поздно...
Дальчевская удивилась:
— Хорошо поздно... еще нет и семи часов...
Тереза не пожалеет... Очень он интересен. Забавный такой...
резкий...
— Как ты предполагаешь, Тэрка, неужели же он
действительно монах?
— Не знаю, говорят...
Лина странно, неприятно улыбнулась.
— О, это было бы забавно... совратить... святого Антония.
Думала о чем-то чувственном. Порозовела. Ужасно он
сильный, Заневский... неуклюжий... медведь...
Терезу покоробило. Она вышла к писателю холодная и
расстроенная.
Первое впечатление — не в его пользу. Высокий, слегка
сутуловатый господин, жесткие, внимательные глаза, вялые
движения. Через несколько же минут начало казаться, что он носит в
себе громадную волю и не похож на остальных. Заневский
расспрашивал ее довольно бесцеремонно. Тереза читала его
рассказы. Ну и какое же впечатление?
Она возмущалась его мнением о женщине как о существе
низшем.
— Не находите ли вы, что на нас слишком много лгут?
— Не все лгут, пани.
Бросил несколько фраз о Пшерминском. Человек
зрительных впечатлений. Неглубокий. И в зле и в добре наивен.
За чаем блистала Лина. Звонко смеялась. Шуршала платьем,
сверкала кольцами. Упивалась немым восторгом мужчин. Оба
смотрели на нее умоляющими, нежными, покорными глазами.
Тереза внутренне ахнула.
Без сомнения, Заневский увлекался Линой. Ирэна не
ошиблась.
И как бы в ответ на ее мысли, Лина завела речь о Мошко.
Зло вышучивала.
Высказался и литератор. Ирэна ему не нравилась.
Испорченная, театральная женщина... истеричка... Вся ее жизнь —
миллион выдуманных, раздутых драм, нелепостей, осложнений. Соб-
141
ственно, история Мошко походит на историю сотни женщин, но
она считает себя особенно несчастной, особенно интересной,
особенно порочной и гордится этим.
Лина удалилась с Яном в гостиную, где они продолжали
интимно смеяться, прижавшись на кушетке, а Заневский
повторил перед Терезой свою пламенную проповедь мистической
любви, любви без желания.
Она спасет мир. Она освободит человека. Нет ничего
невозможного для человеческого духа. Разве не было тысячи
примеров полнейшего целомудрия? Пусть люди зададутся целью быть
чище и будут. Нет любви там, где говорит тело, есть гнусный
физиологический акт, унижающий мужчину и женщину. Есть
угарный порыв, после которого стыдно стен, света, самого себя.
Есть низменное желание, гораздо легче поборимое, чем
думают. Природа? Будем выше ее. Наслаждение? Отречемся от него
ради свободы.
Любовь — это стремление к небу, томление духа о вечности.
Любовь — это страдание, мистическая роза, увядающая при
первом поцелуе.
Любовь — это любовь девственницы к Иисусу.
Зарождается нежданно в таинственный час первой встречи,
растет, черпая соки из мук влюбленного сердца, распускается,
живет в тишине печальной, чистой, рвущейся к небу души.
Сотканная из лучей любимого взора, нежная, благоухающая,
мистическая любовь ведет к Богу и дарит смерть раньше, чем та
придет, так как тот, кто любит, — мертв для мира и жив в том,
кого любит.
Кшевицкая улыбнулась его пафосу. Пожала плечами:
— Это трескучие фразы, пан Вацлав. Боже мой,
действительность так убога... И кто теперь умеет любить? И нужно ли
любить так, как вы говорите?
Прибежала Лина:
— Какие у вас странные лица... Что случилось?
Потом вкрадчиво положила руку на кресло Заневского.
— Мне пора домой. Проводите меня, пан Вацлав...
V
За окном шел густой, мохнатый снег.
В комнате было жарко. На камине ароматно дышали
розоватые, словно восковые, туберозы.
Тереза беспокойно и беспомощно следила за Мошко.
Закипала горячая жалость.
142
Хотелось встать на колени, обнять ее платье. Милая,
несчастная Ирэна!..
— Расскажите о себе, Инка.
Та слабо отмахнулась:
— Ну что там... тоска... мечусь, словно безумная... сколько я
глупостей наделала, не перечесть...
Впрочем, ей незачем щадить себя. У нее жизнь цинична, и
вся она цинична. Это уже в крови. Все женщины их семьи были
красивы, лживы, развратны и несчастны. А самое себя она
искренне презирает. Говорила о будущем. Ждет ее нищета,
больница, и больше ничего...
Затосковала мучительно, страстно:
— Разве я не боролась, Тереза? Разве я не боролась?
Кшевицкая отозвалась чуть-чуть жестоко:
— Вы напрасно передо мною исповедуетесь. Ей-богу же и
мои дела плохи. Я сошлась с Пшерминским.
-А!
Ирэна слегка потерялась. Потом села рядом, участливая,
бледная.
— Говорите дальше.
Тереза призналась. Сейчас же ей стало стыдно и противно,
словно она стояла перед Инкой голая. С легкой враждебностью
ждала ответа Мошко.
Ирэна возмутилась:
— Любовь трагична, но не греховна. Почему вы свое
чувство к настоятелю, такое большое, выстраданное, святое,
считаете преступлением, Тэрка? Смотрите проще. Верьте в право
любви.
Напомнила любовь Магдалины к Иисусу. Ах, какой
красивый, трогательный эпизод из Евангелия! Падшая женщина
любит Бога. И величие, глубина, сила чувства смягчают Вечное
Милосердие.
Слова Инки не трогали Терезу.
Они звучали откуда-то далеко и были лишены всякого
смысла. Она внутренно даже нашла смешным, что Инка —
неверующая — упомянула о Магдалине.
Зевнула и умышленно грубо сказала:
— Merci*, Инка...
Ее самое затошнило от этой вульгарности, а Мошко даже
потерялась.
Через минуту они сухо простились.
* Спасибо (фр.).
143
Забилась в кресло и глядела перед собою без мысли.
Страшно внезапно устала. Снег... белизна... Представление о смерти на
минуту стало очень близким. Сознание почти замерло. Она
думала с восторгом и тихими навернувшимися слезами: «Как,
должно быть, прекрасна смерть... без воскресения».
Среди обрывков мыслей, воспоминаний огненными
буквами вспыхнул крик Ирэны: «Разве я не боролась?»
Она смотрела на падающий снег, на безучастную тишину
улиц: «А я!.. Я не умею бороться...»
Кротко, беспомощно, почти наивно улыбнулась в сумерках.
Вечером Пшерминский привез билеты в театр. Кшевицкая
отказалась ехать.
— А покататься? Чудесный санный путь.
Нет, она тоже не хотела...
— Вы боитесь Яна?
— Теперь я уже ничего не боюсь, Антось.
Раздражался, видя ее такой замкнутой, враждебной.
Чем она недовольна? Наоборот, она всем довольна.
— Ага!.. Я понимаю... И кажется, я недалек от истины... Вы
были на исповеди... этот проклятый ксендз...
Она возмутилась, бледнея:
— Ну это уже чересчур!..
Пшерминский взялся за газету. Враждебное лицо Терезы
пугало его.
Они сидели в гостиной, откуда недавно ушла Ирэна Мошко.
Ян, как всегда, отсутствовал. Туберозы, казалось, пахли еще
ядовитее.
Тереза задумалась. В белых кружевах она выглядела
тоньше, воздушнее. Нет, она не была сегодня в костеле. Это выше
ее сил. Впрочем, жажда видеть ксендза Гануша достигала у нее
порою предела, напоминала взрыв помешательства.
Она убегала из дому, чтобы бесцельно исколесить город.
Тогда казалось, волна нравственных страданий
расплывается, тускнеет, словно поглощается пространством, тает в тишине
улиц, смягчается под куполом неба.
— О чем мы мечтаем? — насмешливо окликнул ее
Пшерминский.
Вздрогнула и поглядела с ненавистью:
— О вас, конечно.
— Вы очаровательны, дорогая, но почему мы играем в
молчанку?
— Мне не о чем говорить, Антось.
144
Обиженный Пшерминский расспрашивал о Яне. Еле
отвечала. Перевел разговор на Лину. У той клюнуло с Заневским.
— То есть? — прищурилась Кшевицкая.
Оказалось, Антось встречает их часто вместе совсем поздно.
Вчера они подъехали к Grand НсЧеРю с другого хода. Лина под
густой вуалью. Честь честью.
— Ну, это вздор...
Тогда он грубо стал ласкать ее.
Покорилась молча, больно закусывая губы. Густой сладкий
аромат тубероз только увеличивал ее раздражение.
— Почему ты пропустила среду? Я ждал тебя долго...
— Нездоровилось.
— Неужели же каждую ласку я должен вымаливать? Это
скучно и смешно, дорогая.
— Охотно верю.
Комедии Терезы ему наскучили. Кажется, он не прибегал к
насилию. Она знала, на что шла.
— Но, Боже мой, я не спорю, Антось...
— Я молчу... Значит, ты придешь ко мне завтра.
— Я думаю.
— Не думаю, а наверное, малютка.
VI
Заневский сумрачно выслушал Ирэну. Он не любил быть в
глупом положении. А теперь казался сам себе смешным... Ему
объясняется в любви... падшая женщина. Да, он смотрел на нее
без всякой дымки. Вы — падшая женщина, Ирэна Мошко.
Какое мне дело, раз вы даже любите меня? И еще вопрос —
любите действительно, или только вам чудится. Хочется
порисоваться. Любить по-настоящему, конечно, не можете... Поздно
спохватились. Сколько вы видели нашего брата? Гм!.. Его
раздражает, что она стоит белая как бумага и не уходит. Чего ждать?
Кажется, ясно. Он мог любить лишь девственницу, женщину
холодную, как мрамор, и чистую, как только что раскрывшаяся
лилия. Женщина в его представлении рисовалась или Мадонной
святого Бернарда, или Беатриче Данте. Он не мог простить ей
падения. Он понимал Магдалину лишь в тот момент, когда
Спаситель говорит ей у гроба: «Мария» — и посылает к ученикам.
Магдалина, целующая ноги Иисуса, была ему чужда и
неприятна. В тайниках души он осудил ее вместе с фарисеями: «Побей
ее камнями». Он отворачивался с дрожью ужаса и гнева. Он
видел в ней искушение, падение мужчины, смутно боялся ее.
145
«Побей ее камнями».
И он смотрел на Мошко холодно, упрямо, сбоку. Резко
повторил свое «вероучение». Он так жесток, что даже
извиняется.
Ирэна спросила:
— Вы любите Лину Дальчевскую?
Сквозь черный тюль вуали страдальчески блеснули и
впились в него темные глаза.
Он раздраженно, недоумевая, сдвинул плечами. Pardon*, это,
кажется, его личное дело.
Ирэна унизилась еще больше. Катилась вниз. Разбивала
алтарь своей души, открывала сокровеннейшую келию. О, пусть
он сжалится, пусть он поверит!.. Если это стало ее ремеслом, то
ведь не сразу... не так скоро...
— Пан Вацлав, — шепчут сухие, бледные губы, — пан Вацлав,
я много страдала. Я раскаиваюсь... я на край света пошла бы за
вами...
Хорошо... хорошо... сентиментальность... Он готов верить,
однако у него уже свои, вполне продуманные, твердые
взгляды... Он просил бы прекратить эту тяжелую для нее же сцену...
Без всякого сомнения, ее чувство к нему на патологической
почве (он отчетливо выговорил это слово), она сама себе
внушила его...
Еще немного, и весь разговор превратится в пошлый фарс.
Уронила еле слышно:
— Вы не оставляете мне никакой надежды?
Заневский развел руками. Разве он не высказался вполне
определенно?
Сухо, звонко чеканит:
— Нам лучше не встречаться.
Впрочем, на секунду ему стало жутко от раздирающей
тоски ее взора. Пробормотал:
— Желаю вам счастья.
VII
Тереза сильно изменилась. Порок затягивал ее. И давно уже
она не тосковала так мучительно остро, как теперь.
В доме всецело распоряжалась Ванда, молчаливая, бледная,
хитрая. Супруги жили окончательно каждый сам собою.
Сначала забегала встревоженная, недоумевающая тетя Юлия. Кше-
* Извините (фр.).
146
вицкие притворялись непонимающими. О чем волнуется
тетушка? Разве не соблюдены все apparences?* Пусть их оставят в
покое. Тереза веселится день и ночь. Ну что же, она не старуха.
Ян все время у Дальчевской? Привычка. Его там принимают
как родного. Ванда любит барина? Невелика беда... Это
обычная история. Служанки всегда влюблены в господ.
Хитрая Бжезовская сдалась и примолкла.
Теперь Кшевицкая вставала и ложилась с одной и той же
неотвязной мыслью: «Нужно забыться, нужно развлечься». Она
ездила в театр, посещала концерты, балы, собрания, рефераты.
Ее встречали повсюду. О ней говорили явно двусмысленно.
Полюбила Кшевицкая тройки, шумные ужины,
возвращение на рассвете, долгое лежание в постели, быструю смену
туалетов, бессмысленную трату денег. Напевала модные
шансонетки, пила вино, изменила походку, манеру, выражение глаз. С
мужчинами держалась игриво и легко. Умела быть нестерпимо
желанной, интересной, волнующей, и ей говорили часто:
— Вы чудная, нездешняя. Скажите только одно слово, и я
буду самый счастливый человек.
После ужина твердила, что смысл жизни — физическое
наслаждение, все же остальное — самообман и скука. Вспоминала
ксендза Гануша, Заневского, Ирэну, вспоминала собственное
подавленное томление о чистоте и, волнуясь, спрашивала:
— А мистическая любовь? Любовь без желания?
Существует ли такая любовь?
И этот вопрос, задаваемый порочным, ярким ртом, от
которого пахло вином и на который все время смотрели голодные
мужчины, казался диким, даже не забавным, а просто
оскорбительным.
Ей объясняли деловито, с иронией, что подобной любви нет
и не может быть, кто же станет доказывать противное, тот
вредный идеалист и даже дегенерат.
— Помилуйте, а человеческий род? Что будет тогда с
человеческим родом?
И она тоже думала над этим старым, затрепанным
вопросом.
— А человеческий род? — И спокойнее обнимала Пшерминс-
кого.
Возвращаясь же к себе, ложилась ничком, не раздеваясь, и
слезы струились обильные, жаркие, бессильные, и она металась
в тоске, сгорая от бесплодного раскаяния, опутанная грехом с
* Приличия (фр.).
U7
головы до ног, терзаемая вечной думой о ксендзе Гануше.
Любила его по-прежнему, болезненно-страстно, но уже избегала.
Редко посещала костел. Боялась открыть молитвенник, где
между строк чудилось любимое имя, между страниц еще
сохранились сухие лепестки роз, еле уловимый аромат ладана,
таинственный дым воспоминаний о пламенных молитвах за него же.
О ее любви к настоятелю болтали досужие языки. Это
становилось анекдотом, пикантной историей. Это так же унизили,
как унизили ее душу.
Впрочем, один из угарных вечеров зимы наполнил сердце
Терезы восторгом, радостью и надеждой.
Ксендз Гануш устраивал концерт для бедных.
Когда Тереза села на свое место, Пшерминский сказал ей:
— Посмотрите налево... Настоятель в ложе...
Действительно, она тотчас же разглядела его профиль и
тонкую руку. Оперся на барьер.
Бросилась почему-то в глаза и остро запомнилась крупная
темная запонка на белоснежной манжете.
Ее охватило безмятежное, глубочайшее ощущение покоя.
Сидела молча, не шевелясь, и не глядела в сторону ложи, но
всем своим существом чувствовала его присутствие здесь, в
душной, темной зале, переполненной людьми. В руках вяли
чайные розы. Опьяняли ароматом. Навевали чистые, наивные
мечты. Не слышала ни одного слова со сцены. Душа унеслась на
иную планету, тонула в эфире, наслаждаясь неземной любовью.
Бесплотные губы касались чьих-то уст, бесплотные руки
ласкали другие руки. Представляла себя девушкой. Забывала свое
познание добра и зла.
Очнулась лишь в антракте.
Страшная горечь жгла сердце. Бледная, измученная, в
черном бархатном платье стояла в фойе.
Отрывки фраз. Смех, кого-то зовут. Кто-то говорит
по-английски. Мелькают лица, шуршат дамские трены.
Ксендз Гануш поравнялся с нею.
Темный взгляд упал на Терезу, задержался. Ах, этот взгляд,
такой смелый, глубокий, властный! Сердце екнуло, оборвалось...
вся кровь отхлынула от лица... слабость... смятение... радость
трепетная и ослепляющая...
Казалось, он жалел ее. По лицу мелькнуло мягкое выражение.
Спросил на ходу:
— Вы в третьем ряду?
— В третьем, — пролепетала Тереза.
Опомнилась, когда он уже смешался с толпой.
148
Дрожа, вернулась на место. Ложи и занавес качались перед
нею. Она полузакрыла лицо розами и представила себе голос
ксендза Гануша: «Вы в третьем ряду?»
Подошел Пшерминский.
Строго и подозрительно оглядел ее.
— Говорили с настоятелем. Поздравляю... Псюздравляю... Это
становится неприличным.
— Вы глупы, — ненавидя его, отозвалась Тереза, — вы глупы,
и я вас презираю.
— Это мало меня тревожит.
И шумно сел рядом.
Лина ластилась к Терезе. Она хочет спросить ее о чем-то... и
боится. Тереза не рассердится? Нет? Честное слово?
— Честное слово. Говори, милочка...
Они сидели на диванчике обнявшись, как старые, любящие
друг друга приятельницы.
Лина начала с искусственным жаром. О Терезе и Пшермин-
ском говорит целый город. Конечно, Лина понимает ее...
женщина не может жить без любви, но все-таки... Терезе нужно
быть осторожнее. Письма сжигать. Возвращаться домой
раньше. Не кататься на лихачах среди белого дня. Иначе...
Она сделала значительную паузу. В ее голосе чувствовалась
угроза и задор.
— Иначе? — тревожно спросила Кшевицкая.
Лина мягко перебирала кружево на ее пеньюаре.
— Иначе будет плохо, ангел мой... Ты знаешь, твой муж
ничего не скрывает от меня... Он намекал... что... если... если бы он
убедился... Понимаешь? Твердо убедился бы... Ах, Тереза,
мужчины все на один лад... гордость и эгоизм... эгоизм и гордость...
Он, конечно, ревнует к Пшерминскому... Ты одинока, без
средств... Представь себе, что он действительно выгонит тебя
из дома.
— Что ты говоришь! — ужаснулась Тереза. — Что ты
говоришь!
Лина бросилась обнимать ее. Боже мой, не так трагично...
она не хотела напугать Тэсю... только предупредить... А потом
вот еще... Тереза религиозна, вне всякого сомнения, но эти де-
вотки... В городе все, решительно все говорят, что она...
увлечена им... ксендзом-настоятелем.
Кшевицкая молчала.
Да ей теперь не оставалось ничего другого, как только
молчать. Она не сумела уберечь свою тайну. Улица ворвалась в ее
душу.
149
Подумала, что теперь случилось одно из ее самых крупных
несчастий.
«Что я наделала, — мысленно воскликнула Тереза, — что я
наделала!»
Желая переменить тему, заговорила об Ирэне. Давно не
видались. А как поживает Заневский?
Дальчевская отозвалась сухо:
— Заневский любит меня, это ясно, но... я — честная
женщина, Тэся.
Почти сейчас же ей сделалось дурно. Побелела как мел.
Распустила корсет. Молча, не говоря ни слова, убежала в ванную.
Тереза испугалась. Не тронулась с места.
Лина вернулась скоро. Легла на кушетку и положила
мокрое полотенце на раскрытую грудь. У нее были заплаканные
глаза и пятна на щеках.
— Что с тобой? Лучше? — робко пробормотала Тереза.
— Не знаю, — вся сморщилась Дальчевская, — рвоты...
вероятно, от ананаса...
Обе они расстроились.
Уходя, уже в передней, Лина спросила адрес Ирэны.
— Вчера мне говорили, что Ирэна — добрая, чуткая, — как бы
про себя сказала она.
— Очень добрая, — согласилась Кшевицкая.
Лицо Дальчевской было непривычно серьезно. Погрозила
Терезе:
— Помни же мой совет насчет Пшерминского... Ян твой
способен на все.
VIII
Вернувшись к обеду, Ирэна Мошко застала у себя Лину
Дальчевскую. Та была укутана густой вуалью, в каком-то
новом пальто, сильно напудренная.
Мошко изумилась. Дальчевская обыкновенно едва
кланялась ей.
Кольнула мгновенная острая боль... Заневский... Ревность
болезненно сводила губы. Глаза впились с бессильной ненавистью.
Говорила неестественно быстро, весело:
— Здравствуйте... здравствуйте... как это мило с вашей
стороны.
Вместо ответа Лина заплакала. Громко, не закрывая лица,
как плачут дети. И в то же время казалось, что она лжет,
притворяется и не вытирает глаз из кокетства.
150
— Инуся, милая моя...
Ирэна ничего не знала, ничего не предполагала, но ужас
проник в ее душу. Ледяной ужас предчувствия. Невидимое, но ясно
ощутимое дыхание горя.
— Что случилось, Лина?
Дальчевская рыдала.
Ирэну вихрем подхватил тот же необъяснимый,
инстинктивный ужас.
— Что же? Что случилось? Да говорите же...
Слух, нервы напряглись до крайности. По лицу тени.
Тревога, боль в глазах. Лина почти кричала, плача и топая
туфлей:
— Я беременна... Понимаете? Я беременна от Заневского...
Будь он проклят!.. Ну что же мне теперь делать... О!.. О!..
Слова рассыпались, словно бусинки порванного ожерелья.
Шум в ушах Ирэны.
Темно... снова светло... Все плывет, качается, двоится...
Откуда-то совсем издалека голос Лины:
— Он прогнал меня... гнусный, гадкий человек... Что я
скажу теперь Яну? Что я скажу, когда муж вернется из поездки?
И я не хочу иметь детей... не хочу!.. У меня нет денег на
выкидыш... Доктор Шатковский просит сто рублей, акушерке
тридцать... Где я их достану? С этим нужно спешить... Я хотела
обратиться к Терезе, но она — дура, ханжа, болтунья... Инка...
дорогая моя... вы любили Заневского... ради него, Инка,
спасите меня...
Мошко смотрела на Лину. То близко она, то далеко... То ясно,
то в тумане... То розовая, то бледная, то желтая... Широкое
пальто с матовыми крупными пуговицами... Сколько пуговиц? Раз...
две... пять... семь... Слабость в ногах, слабо... Ирэна села.
Ровно, негромко, лениво роняет:
— Как же это вы?..
Кончить не может. Взгляд из-под ресниц мутный, тяжелый,
нехороший, ищущий взгляд по всему телу Лины. Так раздевал.
Ласкал. Он. Эту грудь, эти бедра... Да... да... ничего... сложена
хорошо... У него вкус недурен. Внутренний безумный,
отчаянный крик к небу: «Нет Бога... нет справедливости!»
Лина осторожно поправила мокрую сбившуюся вуаль.
— И сама не знаю, как я сошлась с ним... Заневский
проповедовал мистическую любовь... любовь без всего... ни... ни...
грешного ничего... Я хотела проверить, пошутить немного... Вы
знаете, я довольно легкомысленная... любопытная... А потом, Боже
мой, он мужчина как все мужчины!..
151
Почти шаловливо, наивно развела руками. Ей уже хотелось
улыбнуться. Слезы высохли.
— Я люблю Яна... С мужем я несчастлива... А Заневский...
Брр!.. Я возненавидела его сейчас же... сейчас же... но только я
знаю... ребенок от него...
Ирэна неудержимо, спазматически расхохоталась. Лицо
искажалось судорогами. Хохотала, бросая невнятно:
— О... о... вы очаровательны... вы восхитительны... о, Боже
мой... Боже мой!..
Нет ужаса, нет дурноты. Удивительная легкость, воздушность
во всем теле. Глаза смотрят прямо, без дымки. Глаза
застывшие, темные камни. Руки касаются рук ничтожной, глупенькой
женщины. Нет ненависти, ах, нет, нет, — одно лишь бездонное,
гадливое презрение.
Вкрадчиво, успокоительно звучит голос Инки:
— Расскажите подробно, дорогая...
Лина оживляется. Болтливо, грубо вскрывает тайну ночи.
Выбрасывает интимности. Д-да!.. Заневский любил ее, она не
может пожаловаться. И притом темперамент... Она не забудет
того дня, конечно... Вспоминала, как он твердил восхищенно:
«Теперь ты моя и душою и телом...» Качал на коленях... всегда
сам снимал калоши...
Мелочь, ударившая так больно, так больно Ирэну.
Шепот, полустон, умоляющий жест Мошко:
— Снимал калоши?..
Она не замечала, как крупные раскаленные слезы катились
по щекам. Тихонько повторяла:
— Снимал калоши... ах... снимал калоши...
Лина поглядела сконфуженно. После паузы пробормотала,
что извиняется... не хочет огорчать...
А что скажет Инуся по поводу денег?
Инка легко, словно по воздуху, очутилась у письменного
стола.
Пальцы не держат ключа... еле-еле... Чудом каким-то
открывает ящики. Письма, счета, карточки, вот маленький портфель...
Мысли бегут... бегут, перегоняют друг друга... Мудрое, вечно
правдивое сердце шепчет: «Жить нельзя, умереть можно». Да...
да... умереть...
Вслух небрежный вопрос:
— Значит, теория мистической любви разбита?..
И снова смех. Еще и еще...
— Да ведь это вздор, — горячится Лина, — это невозможно...
— Невозможно, — слабым эхом вторит Ирэна.
152
Деньги шуршат, неловко укладываются в конверт. Жуткая
боль. Вот тут, около сердца... жжет... буравит... глубже...
глубже...
— Лина, пожалуйста...
Голос упал снова.
Дальчевская бросилась ей на шею. Нет... нет... Мошко вся
содрогается. Кажется, не выдержит... Крикнет...
Легкомысленный лепет Лины, как перезвон колокольчиков:
— Ну, погодите же... я отомщу за вас, ласточка... Вы милая,
чудная... Вацлав узнает, как оскорблять несчастных женщин.
Лина просила ее поклясться в молчании, обещала
возвратить деньги при первой возможности, потом снова заплакала,
потом сказала:
— Дайте, голубчик, рюмку вина... Это подкрепит меня...
Ужасно я измучена...
Ушла наконец... Хлопнула дверь. Шаги горничной. Тихо. Как
тихо... Биение сердца слышно. Жалкий маятник.
По окнам крупные-крупные капли дождя. Там, на улице,
экипажи, трамвай, люди с открытыми зонтиками. Высоко
поднимают юбки женщины, некрасиво, широко шагают...
Так как же?
Жить нельзя, умереть можно.
Отрекаюсь от Бога. Нет Бога. Отрекаюсь от жизни... Будь
проклята жизнь! Жить нельзя, умереть можно.
Ах, умереть!.. Захлебнулась от радости, когда
почувствовала себя твердой. Умереть. Забыть навсегда грязную, циничную
жизнь, забыть эту пошлую, трусливую Лину, забыть Заневско-
го, весну, небо, цветы, все... все... Ах, умереть!.. И вдруг
зарыдала и летела в пропасть тоски и отчаяния, и уже нравственно
умирала, прежде чем вкусить сладость и покой небытия.
Умереть...
IX
Кшевицкий склонился над женою полуудивленный,
полузаискивающий.
— Отчего ты сидишь в темноте, дорогая?
От Яна пахло вином, и он был в сюртуке. Только что
вернулся из гостей.
Тереза солгала: нездоровится.
Его глаза цинично смеялись. Уж не оттого ли, что он забыл
ее временно? Ей-богу, контора отнимает все силы. Спишь как
убитый...
153
Она брезгливо покраснела и встала:
— Ян, не лги... Дальчевская честнее тебя... По крайней мере,
не скрывает... Я не вмешиваюсь в ваши дела, но...
Он цедил сквозь зубы, взбешенный:
— Что за чушь. Что ты городишь?
— Ах, ты сам понимаешь... физически мы должны быть
чужими.
Возразил угрюмо:
— Ксендз Гануш имеет на тебя влияние... я знаю... Если я
попрошу его...
Перебила, вне себя от ужаса:
— Умоляю тебя... умоляю тебя...
Ян больно схватил ее за руки:
— Слушай, ты... девка... если я только узнаю наверное о
Пшерминском... Понимаешь? Выгоню тебя как собаку.
Несколько минут с глубокой ненавистью они смотрели друг
на друга.
Потом он толкнул ее:
— Убирайся к черту!..
Она ушла.
Вечер был темный и ветреный.
Тереза шла к настоятелю и думала: «Он скажет: "Чем
могу вам служить?" Да, он скажет: "Чем могу служить?" — И
во всей его позе отразится нетерпение. Она даст денег на
приют, и, покуда он будет писать квитанцию, она все-таки
посмотрит на его лицо, голову, плечи. Может быть, он будет один.
Может быть, он улыбнется ей?.. Это тоже счастие — такие
минуты».
Звонила неуверенно, медленно. Впустили. Заставили ждать,
по обыкновению. За стеной раздавались голоса, пение, звуки
рояля. Была спевка церковного хора. У Кшевицкой выступили
слезы. Почувствовала себя более несчастной, более одинокой,
чем когда-либо. Она не находила в своем сердце обыкновенно
острой любви к настоятелю. Сюда примешивалась громадная
горечь, бессилие, тоска о невозможном. Он словно ушел вдаль
и затянулся туманом. Думала о нем почти как о мертвом. Не
был ли он просто ее грезой о чистоте? Не сотворила ли она сама
себе бога? Из любви — культ?
Ксендз Гануш наконец вышел.
Оказывается, его вызвали из костела. Там, после вечерни,
много исповедовались.
Он сохранил еще в складках сутаны тонкий аромат ладана, а
в глазах усталость духовника, измученного человеческими дра-
154
мами. Условно вежливо благодарил Терезу за пожертвование.
Извинился: занят, не может посидеть. Ощутила сразу обычную
ледяную стену между ними. Не находила ни одного искреннего,
теплого слова. В душе пустота, усталость, превышающая
всякую меру.
Чужой, далекий, безучастный человек... зачем она лезет к
нему?
Ей оставалось уйти. Медленно, без сожаления, простилась.
Вернулась в темный, занесенный снегом церковный садик, с
минуту думала и пошла в костел. Дверь отворялась туго. В
ризнице сакристиан, одетый в пальто, читал молитвенник.
Электричество не потушили у главного алтаря. На нее пахнуло
холодом, почти враждебностью от темных притворов, серых стен,
умирающих цветов, купола. Мрачно и неодобрительно глядели
святые. У конфессионала капеллана оставалось еще несколько
женщин.
Рабочие устраивали катафалк для похорон, стуча грубыми
ногами и переговариваясь по-русски. Из углов глядела серая тьма.
Все здесь показалось неприятным, невиданным, чужим.
Нахлынула волна непередаваемого отчаяния. Нет спасения,
и не проси его. Муж, Пшерминский, ксендз Гануш,
изломанная, исковерканная жизнь... Четко вырезано на доске, и эта
доска перед глазами. Любуйся! Подумала об Ирэне. Бедная
далекая Ирэна!.. Теперь она в Варшаве. Приходила прощаться.
Встало, как живое, матовое, бледное лицо с яркими губами. Тоже
потеряна. Потеряна навсегда. Ирэна уже не вернется. Что-то
сдавило ей горло. Потянуло на воздух. В ризнице с нею
поздоровался викарий, ее духовник. Только что вернулся от
умирающего. Около него суетился сакристиан. Тереза заговорила с ним
по-французски.
Как, возмутился викарий, значит, она снова была там...
у настоятеля?.. Да, да, она была. Она невьшосимо страдает. Она
боится за себя.
— Молитесь Богу, — сухо возразил викарий, — молитесь Богу.
Вы не должны больше видеть настоятеля... вы совершаете грех...
вы дадите ответ за свое поведение.
— Мне тяжело, — простонала Тереза, — мне тяжело...
Он вдруг рассердился:
— Это нужно выкинуть из головы!.. Раз навсегда выкинуть!..
Рабочие с грохотом уронили лестницу.
Викарий и сакристиан поспешно выглянули на шум.
Ушла, шатаясь от тоски, забыв молитвенник в притворе
святого Иосифа.
155
X
Ян взял отпуск на месяц. Решено было, что он уедет
вечерним поездом в Вильно. Его мать тяжело хворала и звала к себе.
Язвительно добавляли:
— Тереза может не беспокоиться.
В день отъезда Яна у Кшевицких обедали Дальчевская и
Пшерминский.
Несколько дней шел проливной дождь. Везде целые реки.
Небо, казалось, спустилось на крыши. Поднялся плотный
белесоватый туман. Деревья словно затянуло кисеей. С голых
черных веток падали крупные, тяжелые капли. Ездили на
колясках. Почти весь снег стаял.
За столом велись исключительно деловые разговоры о
наследстве. Будет, конечно, много хлопот. Все же Ян надеялся
получить дом. К болезни матери относился равнодушно.
Шутя заметил:
— Боюсь, тетя Юлия особенно ждет катастрофы. Я обещал
дать ей у себя место управительницы... пожизненное...
Тереза рассеянно поддакивала. Последнее время она
бешено веселилась и еще вчера ужинала с Пшерминским. Они
ссорились ежеминутно, не сдерживаясь перед другими, по
временам больше враги, чем любовники. Связь становилась
кошмаром, темницей. Оба тяготились ею и находили теперь
наслаждение в том, что мучили друг друга.
За десертом Пшерминский неожиданно и без всякой связи с
предыдущим вспомнил Ирэну Мошко.
Где она теперь?.. В городе ее до сих пор не могут забыть.
Тереза отозвалась угрюмо:
— У меня дурные предчувствия насчет Инки.
— Что такое? — насмешливо прищурился Антось.
— Почему? — удивилась Лина. Она всегда говорила очень
развязно об Ирэне.
— Так... не знаю, — вяло бросила Тереза, — чудится... это
необъяснимо... Я видела ее недавно во сне... Мы вместе
покупали восковые свечи. Обе в черных платьях, а кругом розы...
множество белых роз.
Засмеялись. Какое суеверие... стыдно... впрочем, нервы у
Терезы не в порядке...
В передней позвонили.
Тереза воскликнула полушутя-полусерьезно:
— Ära... это несчастие...
Ян рассердился. Вечно она со своими комедиями... Стран-
156
ное желание быть Кассандрой... Глупо, наконец...
Она повторила упрямо, враждебно глядя на него:
— Это несчастие...
К всеобщему изумлению, пришел Заневский. Вернее, его тень,
так он изменился. Худой донельзя, желтый, обросший. Плохо
одет.
Сел на кончик стула, вертел мокрую шляпу и смотрел на
Терезу.
-Як вам... ИрэнаМошко застрелилась в Варшаве.
Лина вскрикнула. Торопливо, в один голос заговорили Ян и
Пшерминский. Тереза осталась неподвижной. Почувствовала
прилив железного спокойствия. Только спросила,
бледная-бледная:
— Как это случилось?
Заневский рассказывал подробности. Ирэна застрелилась в
Варшаве, в Лазенковском парке. Уничтожила все бумаги. Вещи
свои накануне раздарила. После нее остались кое-какие долги, и
он, Заневский, уже уплатил их. Письмо Ирэны к нему сжег.
Такие письма не должны перечитываться. Они писаны кровью.
Повторял возбужденно:
— Мы еще встретимся с нею... мы встретимся... Я верю в
загробную жизнь.
Лина разнервничалась, расплакалась, повторяя:
— Боже мой, Боже мой, такая молодая... такая умная...
Несчастная Ирэна... милая Ирэна...
Потом, вне себя, крикливо, по-бабьи накинулась на Заневс-
кого:
— Вы виноваты... вы!.. Вы всегда оскорбляли ее... фарисей...
филистер... вы!.. Она на вас молилась... Она любила вас... Вы
оскорбляли ее, унижали... падшей в лицо называли... вы... —
Задохнулась, а потом грубо расхохоталась: — Мистическая
любовь! Мистическая любовь!
В запальчивости пошла дальше, забывая присутствующих:
— Вы ее неоплатный должник... Помните ту историю... с
деньгами?.. Трупом Ирэны клянусь, я вам не солгала... да... да...
Заневский посмотрел на нее с ужасом.
— Тише... тише... не надо... умоляю вас...
Тереза положила конец этой безобразной сцене.
Она увела его к себе в комнату. Отдала на память кое-какие
безделушки Ирэны.
Умоляюще взяла за руки.
— Пан Вацлав, что же это такое?.. Что же это такое?..
Она совсем потерялась.
157
Заневский сейчас же простился.
После его ухода Ян иронизировал. Ну и литератор!.. Теперь
с ума сходит, тогда бранил Ирэну на чем свет стоит...
— Романическая непоследовательность, — щурился на
Терезу Пшерминский, — и кроме того, нет выдержки. Горе нужно
скрывать.
— Лгун он... фразер, — возмущалась Лина, — мистическая
любовь!.. Подумаешь, в самом деле, какое сокровище... Да я
ему кланяться не буду после этого...
Тотчас же она, Ян и Пшерминский уехали на вокзал.
Тереза осталась одна.
Благодаря густому туману в комнате было почти темно. Из
раскрытой форточки тянуло сырым воздухом. Журчание воды
по трубам. Изредка лошадиный топот. Она ничего не слышала.
Стонала, качалась от тоски, ломала руки.
— Инка умерла... Инка умерла... Что делать?.. Ах, что
делать?..
Металась, пугаясь одиночества, тишины, позорных
призраков настоящего и прошлого, обнимавших ее со всех сторон.
Впервые поняла все глубоко, полно, как будто с глаз сняли
повязку. Вдумывалась. Ужасалась. Сгибалась под мукой. В ней
совершался таинственный процесс внутренней ломки, зрело что-
то новое, сильное, нежданное. Ее сердце разрывалось от
беспредельной нежности и любви к Ирэне. Инка... милая, несчастная
Инка!.. Нет Инки!.. Нет!.. Пришло позднее, гложущее, жуткое
раскаяние. Мало было участия с ее стороны... ах, как мало...
Недоглядела, не поняла. Не почувствовала муки близкой.
Мысленно стала перед ней на колени, целовала ее руки...
Инка!.. Ты — замученная, несчастная, но ты — святая, Инка...
Знаю, ты — святая... Прости, Инка... если можешь, прости...
Лежала ничком и глядела себе в душу. Мертво бьется
холодное, полное отчаяния сердце. Нет оправданий. Ни в прошлом,
ни в настоящем.
Искупление... покаяние... Эти слова выплыли откуда-то из
мрака и переполнили трепетом.
Искупление... покаяние... Да... да...
Вспомнила, что сегодня суббота. Сорвалась с места, начала
было одеваться.
— Ванда!.. Ванда!..
Пришла горничная. Изумленно глядела на барыню.
— Ванда, я бегу в костел.
— Вечерня отошла, барыня,—тихо и со страхом откликнулась
та, — барыня прилегла бы лучше... Ливень-то... ливень какой...
158
Тереза вдруг залилась слезами.
— Ты знаешь, — говорила она между рыданиями, — ты
знаешь... теперь нужно молиться за пани Мошко.
На другой день погода не изменилась. Это походило не на
раннюю весну, а на позднюю осень. Небо плакало в
безысходном отчаянии. Деревья согнулись еще ниже, ручьи увеличились,
улицы потемнели. Дома словно дрожали в ознобе. Город,
казалось, надел траур.
В квартире Кшевицкой царил хаос. Барыня затеяла уборку.
Лицо Терезы выражало упрямую думу. Испуганная Ванда
предчувствовала объяснение.
Кшевицкая действительно обратилась к ней:
— Ванда, я хочу сказать вам... я все знаю... Хотите остаться у
нас или уехать? Я не отпущу вас с пустыми руками.
Девушка поджала тонкие бескровные губы. За кого считает
ее барыня? Она не потаскушка. Она — честная женщина, а если
с нею случилось горе, так на это и город. Мало их погибает здесь.
Если барыня поможет, она уедет в Лодзь и выйдет там замуж.
Она век будет молиться за пани... Вот только что скажет барин?
Тереза успокоительно махнула рукой. Она все берет на себя.
Часам к пяти заглянул Пшерминский.
Что-то порвалось между ними со дня последней встречи, хотя
не было ни одного слова о разрыве. Теперь оба подумали о нем,
здороваясь в маленькой гостиной. Выросло новое, странное
чувство, мешающее им обняться.
Пшерминский насмешливо и удивленно оглядывался. Что
означают эти перемены в квартире?
После нескольких фраз по поводу смерти Ирэны Антось
начал жаловаться. Он скучает, нервничает, ему необходимо
встряхнуться. Нет, довольно провинции. Он вернется в
Варшаву. Его маленькую Тэрку кто-то отнял... ему подменили ее... Она
так холодна... так враждебно настроена... О, слава Богу, он еще
не ослеп окончательно...
Добавил рассеянно:
— Как пусто в квартире без Яна... Вы простите, если я сейчас
уеду?
Тереза возразила дрогнувшим голосом:
— Нет, останьтесь немного, Антось... у меня к вам большая
просьба...
У него мелькнуло подозрение, что она попросит денег.
Вырвалась сухая, нетерпеливая нота:
— Я спешу, дорогая... Нельзя ли отложить до другого раза?
159
— Нет... Я не задержу вас...
Она сильно волновалась. Лицо покрылось пятнами, а руки
дрожали. Встревоженный Пшерминский глядел жестоко,
внимательно, играя брелоками. Тереза в эту минуту раздражала его.
— Думали ли вы о наших отношениях, Антось?
— Наших отношениях? — изумился он.
— Ну да... только серьезно... беспристрастно... Два человека
сошлись вместе. Мужчина довольно упрямый, женщина
довольно податливая. Не было никаких важных, побудительных
причин к сближению, кроме чувственного любопытства.
— Фи, Тэся! — обиделся Пшерминский.
Однако уже улыбался. Слушал ее, заинтересованный.
Тереза умоляла. Им лучше разойтись. Они оба перегорели,
устали. Зачем эта комедия?
— Расстанемся, Антось... Забудем и простим друг друга.
— Да, конечно, Тереза...
Спросил после паузы добродушно:
— Здесь влияние ксендзов?.. Правда?.. Признавайтесь, дело
прошлое... вы вернетесь к церкви?
-Ах!
Он примирительно взял ее за руки, говоря проникновенно,
тепло:
— Тереза, у меня насчет вас дурные предчувствия... Вы не
умеете жить... вы слишком экзальтированны... Помните только
одно: я везде и всегда ваш друг... Если бы что-нибудь случилось
с вами, здесь остается доктор Шатковский... Вы от него будете
знать, где я...
Тереза встрепенулась. Смотрела широко раскрытыми
испуганными глазами.
— Что может со мной случиться, Антось?
— Все и ничего. Я, конечно, не знаю... Я только
предупреждаю вас.
Они простились.
Почти тотчас же Терезе принесли телеграмму. Мать Яна
скончалась. Отнеслась безучастно. Сунула беленькую бумажку
под пресс-папье и забыла.
Думала о том большом, что готовилась сделать.
Решила идти к ксендзу Ганушу.
Дорогой она наивно изумлялась. Почему она до сих пор
боялась настоятеля? Почему она таилась так долго? Или это грех
стоял между ними, заслонял его светлого, чистого?
Но теперь она идет к нему и расскажет все без утайки.
Просто, правдиво. Как она грешила, падала, как любила его, страда-
160
ла, боялась, как ей хочется жить по-иному, верится в
возрождение, и как умерла Инка, и как отошел Пшерминский... Да... да...
все скажет... Нет, теперь она его не боялась... совсем не
боялась... это правда. Если ксендз Гануш простит... Боже, Боже, если
он простит!..
Ее возбуждение достигло предела. Ее тоска и отчаяние
перешли в полубред.
Шла неуверенно, не поднимая подола, не минуя луж, не
замечая улиц, фонарей, экипажей. Ее толкали, над нею смеялись,
ей бросали порою циничные слова, а она тащилась вперед
медленно-медленно, воображая, что летит на крыльях. Она кротко
улыбалась под вуалеткой. Из глаз струились теплые слезы,
чувствовала их соленую горечь на губах, но не вытирала. Она
готова была протянуть в туманную, влажную даль бледные,
трепетные руки, как будто уже видела своего бога среди блеска,
аромата, красоты, со словами прощения, утешения, ласки...
Мысленно она уже распростерлась у его ног, несчастная,
измученная, усталая без меры, принесшая ему на суд грешное,
опозоренное тело, грешную, искалеченную душу, всю тяготу, ложь,
мрак своей жизни...
О, какие пламенные мольбы звучали в ее сердце!
Представляла себе лицо, глаза, губы, лоб того... любимого.
О, милые глаза, милые губы, милый голос! Задыхаясь от любви
и нежности, шептала тысячу ласкательных, бесплотных слов,
тающих сейчас же.
Ее лицо и одежда были мокры от ливня. Прическа
развилась. Она потеряла перчатки и не заметила.
Она увидит ксендза Гануша. Увидит.
И он простит.
Она вернется и скажет себе: «Любимый простил меня».
Утром, проснувшись, подумает: «Вчерашнее не сон, он простил
меня». Можно будет назвать его в уме просто по имени... Чес-
лав... Музыка, о, музыка в этом имени... Чеслав.
...Райская дивная долина, залитая солнцем, пестреющая
цветами, долина света, тишины, радости. Очищенная покаянием
душа. Душа, вернувшаяся к Богу...
Резкий стук... хлопнула калитка в церковном саду.
Очнулась. Остановилась.
Темно, очень темно. Сыро. Деревья треплет ветер. Стонут,
наклоняются чуть ли не до земли. Снопы тяжелых капель.
Отовсюду струятся, бормочут сердито ручьи. Черная
бесформенная громада, там, дальше... Это костел. Зябнут, мокнут,
недовольно молчат постройки вокруг. В тусклом, нечистом окне
6 Анна Map
161
приюта голубенький абажур... горит бледно лампа. Ноги
скользят в глине, попадают в ямки, пробоины. Трудно добраться до
крыльца.
Стоит.
Не бьется, а грузно падает сердце... раз... два... и еще... и еще...
оборвется, кажется. Больно. Неловко в груди. Хочет вздохнуть —
не может. Лицо пылает. Собирала разбежавшиеся мысли.
Ощутила вдруг страшную, непоборимую робость, хлынувшую по
всему телу. Страх, ужас, стыд, сомнения парализовали ее.
К чему идти? Что ему, ксендзу Ганушу, до нее? Для интимных
бесед есть конфессионал, духовник, муж, друзья наконец... Что
ему до ее горя, грехов, раскаяния? Не скажет ли он вежливо и
холодно: «Простите, моя квартира не для частных дел... вы не
сюда попали...» Быть может, он даже не пригласит сесть, не
выслушает, а просто заметит: «В эти часы я не принимаю». Он
будет прав. Быть может, мысленно он улыбнется небрежно и
досадливо: «Вот истеричка».
Ветер рвал юбку, накидку, вуаль, а Тереза стояла посреди
двора, заливаемая дождем, слепая от муки, прижавшись, как
нищенка, у входной двери. Ее начала бить лихорадка. Она не
пойдет обратно... не может... Ужас и безнадежность глядели на
нее из мрака сада. Исчезла уверенность. Слышала явственно
шум мокрых ветвей, скрипение стволов, жалобы ветра,
журчание воды, слышала редкие, слабые гаммы из комнаты
органиста, но чудные голоса умерли, любимый образ потускнел,
надежда угасла. Вернуться? Прийти домой, раздеться, зажечь лампу...
остаться одной с позорными признаками прошлого, с
воспоминаниями о Пшерминском, с портретом умершей Ирэны... Ах,
Инка!..
Перед опухшими, заплаканными глазами мелькнули Лазен-
ки. Там, в парке, бродила Ирэна перед смертью. Инка, Инка,
любимая моя, одинокая моя!.. Впрочем, и ты не могла бы
помочь мне... Зажмурилась от целого фонтана капель,
плеснувших с веток. Не покойная ли нежно коснулась ее плеча? Иди
же... ну иди же. Дрогла у дверей, беспомощно ежась и плача.
Нет, она не посмеет подняться в квартиру настоятеля... не
посмеет...
Если ксендз Гануш прогонит ее... Что же, пусть... Тайно
злорадствовала, измывалась сама над собою. Пусть прогонит. Она
пойдет и отдастся первому встречному... станет продажной
тварью... Она напьется пьяной, будет ругаться и бить стаканы... Она
запоет шансонетку «Люблю мужчин я рыжих». А потом...
потом так же, как и Ирэна... пуля в лоб...
162
Боже!.. Боже!.. Или нужно было броситься на мокрую,
вязкую тину, биться на ней и кричать, молить помощи у неба! Или
Бог возмущался, что она обращается сначала к человеку?
Может быть, настоящее это есть лишь кара за любовь — земную
любовь к священнику? Бог, церковь, закон, люди были против
нее. Ей ли бороться с ними. Где, у кого искать защиты?
Было неловко оставаться дольше здесь, у двери.
Ежеминутно могли выйти из приюта или кухни.
Вперед или назад?
Решилась.
С трудом открыла набухшую входную дверь. Знакомая
высокая лестница. Дует откуда-то... пахнет сыростью, известкой...
на ступенях мокрые следы...
Поднималась выше. Вот и площадка. Горит электрический
рожок. Прямо дверь с большой дощечкой — «Настоятель»,
налево такая же дверь в квартиру молодых священников.
Коврик для ног... Salve...* Ящик для писем... Узкой полоской окно...
Звонила. Молчание. Одна минута, две, три... Кажется,
вечность. Кажется, она все еще внизу, у двери, промокшая и
усталая... Шум ветра, холодная влажность дождливой ночи,
ускользающая глина под ногою...
Дрожащая рука поднялась было позвонить вторично и
упала. Если не откроют? Что же, пусть лучше не открывают.
Явственно щелкнул замок. Дверь дернули... изнутри
цепочка... вопросительное лицо лакея... минута... Открыли...
— Пожалуйте.
Теперь все понятно, знакомо и просто... Передняя. Вешалка.
На подзеркальнике фетровая шляпа вместе с телефонной
книжкой. Направо на полу световые полосы... из канцелярии... Там
занимается письмоводитель. Прямо — гостиная. Лакей забегает
вперед, зажигает электричество.
Тереза одна. Хватается за кресло... на секунду забывает,
зачем она здесь.
Шаги настоятеля.
Она выпрямляется. Как кружится голова и стучат зубы.
Боже всесильный, Боже милосердный!..
Входит ксендз Гануш.
Бросает на стол бумаги, письма, счета.
Спрашивает что-то, пристально глядя своими большими,
властными, черными глазами.
Отвечает она ему или нет?
* Будь здоров... (лат.)
б *
163
Тереза не слышит своего голоса... Почему он сам
придвигает ей кресло? Какой у него участливый вид. Он никогда еще не
смотрел на нее так ласково... никогда... Луч надежды... огненная
мгновенная мысль: «Простит... »
Вне себя она бросается на колени... совсем близко, совсем
близко... И говорит. Она не помнит ничего из того, что говорит.
Это плачет ее душа. Это кричит ее сердце... Она ненавидит мужа...
она ненавидит родных... она пала... у нее любовник... она и его
ненавидит... она на содержании... она боится пасть еще ниже...
Ксендз Гануш бледнеет. Склонился над нею. Весь — одно
внимание, сострадание, чуткость.
— Встаньте. Бог прощает.
Сказал или почудилось? Все ее существо, сквозь туман горя,
слез, боязни, пронизывает сладкий восторг, упоительное
головокружение от его близости, немой, понимающей улыбки.
Она пришла к нему, чтобы он простил ее... он поддержал
ее... Она обманывала его до сих пор... никогдане была она
честной женщиной, никогда... Пусть ксендз Чеслав простит, пусть
простит...
— Встаньте. Бог прощает.
Она чувствует плотность суровой сутаны, шершавый пояс у
себя под грудью, вдыхает слабый, тонкий запах духов и сигары.
Ее пылающие губы лежат на его руках, голова касается его
колен, глаза поднимаются, для того чтобы слиться, потонуть в
любимых глазах. И, почти теряя сознание, она решается на
последнее. Она поверяет ему свою святую, глубокую, прекрасную
тайну. Она любит его... Любит с первой встречи, с первого
взгляда, насмерть любит. Никто, ничто не заставит ее отречься от
него... она будет любить его, будет... она не может разлюбить...
О, пусть он будет милосерден к ней, пусть сжалится над ней...
— Встаньте. Бог прощает.
Неожиданно и просто он взял ее руки в свои. Наклонился
так, что почувствовала на себе его дыхание, увидела бездонную
глубину и красоту его черных глаз, темную прядь волос,
упавших на упрямый лоб, бесконечно грустное, бесконечно нежное
выражение.
Замерла полно, всеми чувствами, как если бы ее ослепила
молния, присутствие божества.
Замерла от хлынувшего счастия.
Ксендз Гануш говорил...
Сознание, оцепеневшее в любви, не удерживало, не
воспринимало речи. Она смотрела и не слышала.
Ах, эти неуслышанные слова... как их потом жалела Тереза.
104
Наконец она встала. Улыбалась ему благодарно, смотрела
восхищенными, влюбленными, покорными глазами. Несколько
незначительных фраз... дружески поданные перчатки, платок...
Ксендз Гануш провожал ее и стоял на площадке, покуда она
спускалась по лестнице.
Его лицо, строгое замкнутое лицо священника, озарилось
внутренним светом и лаской. Рах tecum*.
XI
В Страстную пятницу костел погрузился в траур.
Алтарь оставался одиноким, с опрокинутыми предметами —
хаосом, символизирующим смерть Иисуса. Левый притвор
занял Гроб Господень. Святая Гостия, таинственно блистающая
сквозь белый тюль, плотно укутанная, плененная, беспомощная,
как пойманный голубь. Скорбно плачущие и покорно
умирающие свечи. Густой аромат цветов, обрывки ладана, словно
разорванная синеватая вуаль. Шепот молитвы, подавленные
вздохи, темные склоненные силуэты.
За окнами весенняя ночь, шорох проснувшихся деревьев,
далекое небо и звезды.
Вечерня кончилась.
Пропели стонущее, рыдающее.
Теперь исполняли духовный концерт Гайдна — «Семь слов
Спасителя на кресте». Тереза молилась, тоскуя о прошлом,
покоряясь настоящему, прося силы для будущего.
— Сердце Иисуса, сжалься над нами...
О, Сердце, истекающее кровью за грехи человечества, о,
Сердце, преисполненное любви и прощения, о, Сердце,
распинаемое, оскорбляемое, унижаемое ежедневно, вечная жертва
на вечной Голгофе!..
Ксендз Гануш сидел на первой парте, ближе к сакристии, не
снимая кружевной комжи. У него был очень измученный вид.
Ей казалось, нечто невидимое, могущественное, высшее
соединяло их здесь, среди темных притворов, в аромате ладана,
цветов, под нежную мелодию скрипок.
Мечтала о тех жертвах, которые принесла бы, если бы он
принял их, о той любви, которую не смела выражать слишком
ярко. Жить всегда вместе... Исполнять радостно не только
желание, но и каприз, отдавая себя полностью, ничего не ожидая,
ни на что не надеясь, следить жадно за каждым изменением
* Мир тебе (лат.).
165
любимого лица, покорно опуститься к его ногам и умереть, не
подымаясь. О, если бы это было возможно!
Она роптала невольно. Ее чувство было так несчастно. Оно
лежало в сердце бездеятельно, и она ничем не могла проявить
его. Оно считалось даже грехом, преступлением, ужасом. Она
обязана была сама задушить его, уничтожить.
О, милосердия, Боже, милосердия!
Вспоминала как утешение слова одной набожной книги:
«Вы — светлые ангелы, падите на колени и преклонитесь перед
этим проходящим мимо служителем Бога».
Не так ли должна была относиться и она?
Глядела на него, перебирая четки, с восторгом и
благоговением. Он воскресил ее. Всем она была обязана ему, только ему.
Скрипки смолкли. Шум пюпитров. Полуголоса. Парты
опустели давно.
В сакристии ксендз Гануш сам отворил дверь Терезе. Они
вышли вместе. Было тихо в саду. Пахло весною. Небо сверкало
звездами. В душе Терезы покорная грусть сменилась трепетной
благодарностью. Ей хотелось поцеловать землю, по которой он
шел. Она не смела сказать ничего из того, что чувствовала.
— До свиданья.
— До свиданья.
В ответе настоятеля дрогнула жалость, словно понимая ее
мысли и страдая за нее, положил ей руку на голову...
И она пошла дальше, во мраке ночи, одна, хотя
по-настоящему смысл ее жизни был в том, чтобы оставаться всегда с ним и
служить ему верно, покорно, до смерти.
Это был удивительно длинный памятный день, целая эпоха
для Терезы.
Проснулась рано, сейчас же вспомнила, что завтра Пасха,
она встречает ее одна, без Яна, нужно убрать стол, послать
цветов ксендзу Ганушу, пойти к заутрене, молиться, радоваться и,
по возможности, не думать о настоящем. Убирала квартиру
оживленная, смеющаяся. Окна выставлены. На всем южное,
весеннее солнце. Голубое небо. Гул улиц.
В пять часов поехала в цветочный магазин. С наслаждением
уселась в грубый экипаж, пахнувший кожей. Долго объясняла,
куда нужно ехать (глухой извозчик не понимал), но не
сердилась, а продолжала смеяться. Ах, ты мой славный, забавный
старичок! Поезжай только скорее... на чай получишь щедро,
поклонишься. Оглядывалась блестящими, радостными глазами.
Прониклась умилением ко всему окружающему... Ах, какие вы
166
красивые, нарядные женщины. Ах, какие вы милые мужчины...
Суетитесь, друзья, суетитесь...
В цветочном магазине стоял густой восхитительный аромат
гиацинтов, роз, сирени, ландышей.
Тереза заказала корзину лилий, внутренне задыхаясь от
восторга. Ее голубые глаза сияли.
— Куда прикажете послать?
Говорила адрес медленно, наслаждаясь тем, что
произносила вслух имя и фамилию ксендза Гануша. Сладкий, приторный
воздух туманил ей голову. Явственно мелькнули любимые,
темные, гордые глаза, яркие губы...
Вся кровь бросилась в голову Терезе и сразу отхлынула.
Острая, нестерпимо жгучая, жуткая мысль... мысль, от которой
похолодело тело, выступил пот... смятение... страх... крик
бешеного, дерзкого, слепого желания... Нет... нет... ах, нет!..
Приказчик смотрел удивленно. Дама стояла растерянная,
бледная, вертела беспомощно чек. Повторил внушительно:
— Корзина лилий... восемнадцать рублей пятьдесят копеек...
Машинально заплатила, машинально вышла.
Что это? Откуда? Шла болезненно-напряженная, гневная,
смущенная, Что это? Услужливо, холодно и трезво мысль
подсказала... ксендз Гануш встречал много женщин, красивых,
обаятельных, возможно, желанных... Возможно, он любил и его
любили... да, без сомнения... Что она знала о нем? Как она могла
знать? Ревность душила ее. Поняла, что радость доступна для нее
только минутами, а ее любовь — горе и такое же горе, даже
удвоенное, ждет впереди. Останавливалась перед невозможным —
бессильная, беспомощная. Ничего не могла изменить. Ничего.
Уже совсем поздно новая прислуга Терезы доложила о
приходе Заневского. Изумленная Кшевицкая почти выбежала
навстречу,
Литератор казался смущенным. У него большая просьба.
Идет ли Тереза к заутрене? Да? В таком случае не позволит ли
она проводить ее? Конечно, охотно... Он принес ей фиалок.
В память Ирэны. Инка так любила их...
Тронутая Тереза отвечала на вопросы.
Ян приедет лишь в конце этого месяца. Тетя Юлия здорова,
у нее все по-старому. Пшерминский до осени, писал, останется
за границей, а потом будет жить в Варшаве. Далъчевская
заходит реже.
Заневский пристально посмотрел на Терезу. Заметил, что она
изменилась, очень похорошела... Спросил полугрустно,
полузавистливо:
167
— Любите, пани Тереза?
Вспыхнула, но не обиделась. Чувствовала в нем близкого.
Да, любит. Ксендза Гануша? Да, ксендза Гануша.
Заневский пробормотал участливо:
— Вы должны очень страдать. Вы так молоды... полны сил.
Теперь весна, звездные ночи... Вы сльшште запах фиалок. Между
ним и вами глубокая пропасть... Пани Тереза, вы берете на себя
слишком много. Мистическая любовь... Какой вздор... Какая
ненужная, бесполезная пытка.
Кшевицкая воскликнула с невольным отчаянием:
— Я ничего не жду, ничего не прошу, пан Вацлав!
— А что будет потом?
— Ксендз Гануш уйдет.
— И не вернется?
— Не вернется.
Она тотчас же ушла скрыть слезы, а литератор остался у
пасхального стола.
«Какой ужас, — думал он, — какая несправедливость».
Через полчаса, выходя с Терезой на улицу, он возмущался
ее покорности. Но она уже плохо слушала его.
Высыпали крупные яркие звезды. Воздух колебался от
колокольного звона. Улицы запрудились народом. Мелькали
красные, зеленые, голубые фонарики. Лица женщин в полосах
света казались особенно нежными, заманчивыми, трогательными.
Они оставляли после себя тонкую струю духов, шелест юбок,
гамму смеха, и жаль было, когда тьма поглощала их.
В костеле толпа разъединила Терезу и Заневского.
Тереза вздохнула свободнее. Заневский расстраивал ее.
То, что пело внутри нее, заглушило, однако, тревогу, грусть,
сомнения, и для нее остались лишь сверкающие паникадила,
сверкающее богослужение, пение, орган, ладан, цветы и он,
ксендз Гануш, у алтаря.
После службы пошла в сакристию поздравить его.
Остановилась перед настоятелем. Подняла восторженные, влюбленные
глаза, несмело улыбнулась. Волнение мешало говорить.
Был ответный мерцающий взгляд — загадочно глубок и нежен.
XII
Лина бросилась в качалку. Она уезжает на дачу. А Тереза?
— Я остаюсь, — улыбнулась Кшевицкая.
Господи Боже мой, не думает ли она все лето сидеть здесь?
Да, вероятно... Какой ужас!
168
Вскользь заметила, что скоро и ксендз Гануш уедет.
Брови Терезы дрогнули. Нет, настоятель остается до
августа... ведь оба викария в отпуску.
Тогда Дальчевская решилась высказаться яснее:
— Милочка, я хотела попросить тебя... Твой муж привык к
нам... Я думаю предложить ему комнату... у нас на даче. О, за
сущий пустяк, разумеется... Едим мы великолепно. Сад,
купанье, на службу в город десять минут езды по железной дороге.
Если бы ты ничего не имела против?
— О, ничего! — страшно обрадовалась Тереза.
— Ты — ангел, — расцеловала ее Дальчевская.
Она тотчас же упорхнула, сообщив новость, что Заневский
навсегда оставляет город.
— Пусть бежит хоть на край света, а Инку ему не забыть.
Тереза осталась одна в глубокой задумчивости. Поднялось
и стало ясным предчувствие горя. Вспомнились слова Пшер-
минского: «Вы погубите себя, Тэся». Погибнуть? Как? Почему?
Ради чего? Ее семейная жизнь становилась невьшосимой, Ян
возмущался новыми порядками, злился, что без его ведома
рассчитали Ванду, придирался, пил, скандальничал. Вокруг Терезы
тайно и глухо зарождался заговор в лице Яна, тети Юлии, Даль-
чевской. Создавали хитроумные планы. Добивались, чтобы так
или иначе Тереза бросила Яна. Тетя Юлия серьезно
поддерживала Кшевицкого, хотела быть с ним в ладах. Мечтала
получить место управительницы домом в Вильно. Тереза относилась
безучастно. Видела в те дни странный, жуткий сон. Идет будто
бы она мимо костела. Сумерки. Небо темное, низко нависло,
деревья качаются. Видит, костел открыт. Возле грязный,
отвратительный нищий в зеленом кафтане. Остановилась. Спросила:
— Служба в костеле?
— Да. Хоронят Терезу Кшевицкую.
В ужасе она проснулась.
Нищего этого она знала в действительности, всегда
встречала у дверей костела, испытьшала неприятное чувство. Не то
жуть, не то гадливость.
Сон скоро забыла. Не придала значения.
XIII
Этот месяц был счастьем для Терезы. К этому месяцу, как
на поклонение к мощам, возвращалась душа Терезы, и это все,
что за целую жизнь подарила ей судьба.
Ян переехал на дачу к Лине Дальчевской. Тереза осталась
169
одна. Она могла жить по-своему. Она забыла, что замужем. Все
казалось новым, необычным, прекрасным. Открылись светлые
горизонты, поверилось в счастье, вернулись белые,
снежно-целомудренные сны. Во всем, что она видела, слышала, чудилось
ей одно — Чеслав. Имя, повторенное тысячу раз после «Ave»,
наполнявшее ее восторгом до краев, жившее, певшее в ней.
Чеслав! Она перебирала всевозможные ласкательные слова,
будто таинственную литанию или часть той мессы, которую
служила ему душа днем и ночью, без отдыха. Думала о нем так
упорно и постоянно, что ей казалось, она никогда не расстается
с ним. Упоенная любовью, ослепла для окружающего,
очутилась вне жизни, над жизнью. Аккуратно посещала майские
богослужения. Белые длинные вуали девушек, аромат цветов, в
которых утопали алтари, старые польские песни...
Ее любовь достигла тогда нечеловеческой силы и чистоты.
Ксендз Гануш относился к ней бережно, с бесконечным
участием. Хотел загладить, щедро заплатить за долгую, упорную
холодность, за то недоверие, с каким прежде встречал ее. Был
прост, ласков, откровенен. Входил в ее интересы, участил
свидания, всячески подчеркивал свою перемену.
Самое лучшее время для Терезы были утренние мессы.
Она приходила в костел далеко до начала. По стенам, полу,
конфессионалам бегали солнечные зайчики, лучи пробивались
сквозь разноцветные окна, и синие, красные, оранжевые пятна
трепетали на алтаре, цветах, ковре. Листья пальм тоже
окрашивались, напоминали сказку о волшебных деревцах, и весело
было глядеть на них. Врывались неясные, посторонние звуки,
струи свежего воздуха, щебетанье птиц.
Минут за двадцать до начала мессы приходил в конфессио-
нал ксендз Гануш.
Тереза вздрагивала. Прозрачная лазурная радость кутала
сердце. Обнимала отрадная тишина. Глубокая, дивная тишина,
в которой расцветали розы, грезились светлые сны, пели
невидимые ангелы, струились хрустальные ручьи. Он здесь... совсем
близко... Все забывалось. Был только он, только он. Что ей до
прошлого. Что до будущего.
Он здесь... совсем близко...
И она счастлива. С его приходом даже костел для нее
преображался, светлел. Ей казалось, благоухание белых роз на алтаре
сливалось с благоуханием ее опьяненного сердца.
Звонили на колокольне. Мелодичный серебряный звон,
будивший скучную улицу и улетавший потом к облакам в погоне
за ветром. У алтаря зажигали свечи. Тоненькие, белые, невин-
170
ные, они радостно страдали и умирали за молящихся. Ксендз
Гануш начинал мессу:
— «Introi bo ad altare Dei...»*
Орган нежно развертывал свою бархатную мелодию,
солнечные разноцветные пятна дрожали на алтаре, пальмах,
одежде сакристиана, посторонние звуки мягко вплетались в
богослужение.
Бледная от любви и восторга, Тереза опускала голову.
Склонялась не только перед Богом, склонялась перед ним,
любимым, потому что был для нее земным богом, и
господином, и светом, и жизнью.
XIV
Когда Тереза проснулась и еще неясно поняла, где она и что
с нею, луна заливала комнату, а в передней настойчиво трещал
звонок.
Она вздрогнула, испугалась, насторожилась. Легкий укол в
сердце, дурное предчувствие. Потом разбудила Францишку.
Приехал с дачи Ян.
— Что за черт, не дозвонишься!
И по его грубому окрику на горничную, и по тому, как он
толкал мебель и швырнул пальто, Тереза поняла, что муж пьян
и настроен бурно, по-новому. Ян сердито дергал ручку двери.
— Тереза, спишь? Отвори.
Впустила в спальню, бледная, деланно спокойная. Держала
высоко лампу. Оглядела мужа с головы до ног. Без сомнения,
он был навеселе.
Бормотал, икая:
— Я приехал... да... да... мне нужно поговорить с тобой
серьезно.
— В два часа ночи?
— А хотя бы и в два, кошечка... Я, кажется, здесь хозяин...
а... Как ты думаешь?
Выругался, плюнул и неловко начал стаскивать сюртук.
Обстановка спальни, запах духов от пеньюара Терезы, сама
она — маленькая, беспомощная, полуодетая — волновали его.
Он хитро прищурился. Г-гы!.. Она дьявольски соблазнительна
сегодня, Тэська. Схватил ее за плечи... старался расстегнуть
пуговицы на груди... А, его не ждали? Тем лучше...
Стараясь подавить ужас, Кшевицкая ответила ровно:
* Я войду в алтарь Божий... (лат.)
171
— Напрасно ты являешься в таком виде, Ян... Завтра
поговорим, а теперь ложись или здесь, или в гостиной... меня же
оставь в покое.
Кшевицкий разразился площадной бранью. А, вот как... его,
законного мужа, выпроваживают... Ну, черта с два, так он и
послушается. Он не дурак. Он понимает, в чем дело. Тереза
навязала ему Линку, а сама вообразила, что может
обзаводиться любовниками. Нет, шалишь, не на таковского напали... Он не
желает быть посмешищем всего города... Довольно рогов... Или
она его жена, или просто шлюха, и тогда пусть убирается на все
четыре стороны... Завтра же он вышвырнет ее тряпки и ее
самое на улицу... Ступай в публичный дом... там в таких
нуждаются, дрянь паршивая!
Из его ругательств и криков выяснилось, что товарищи
настроили его особенно против Пшерминского.
— Счастлив твой Бог, что Антось удрал за границу, я бы ему
зубы почистил.
Вне себя она крикнула:
— Ты знал... ты знал это, лгун!.. Ты знал... ты сам продал
свою жену, негодяй!..
На секунду ошеломленный ее взрывом, он молчал. Потом
почесал затылок и продолжал примирительно. Пусть так...
Пшерминского он прощает. А ксендз Гануш?
Тереза задохнулась от неожиданности.
Села подавленная. Шепнула еле слышно. Он скорее
догадался по губам.
— Ксендз Гануш?
— Ну да, конечно, — фыркнул Ян, раздеваясь и швыряя
ботинки, — ксендз Гануш... Что такое ксендз Гануш? Ни рыба ни
мясо... ксендз... забавно... Ей-богу, я даже не ревную. Только
поцелуй меня... Слышишь? Поцелуй... И потом, ты будешь
сегодня моею...
— Молчи... молчи...
— Тсс... тише... тише... не хорохорься, цыпочка... будешь...
Какой дьявол мешает тебе обнимать меня, а думать о нем? Ночью
все мужчины, как и женщины, равны, милочка... не отличишь.
— Ты негодяй! — задыхалась она.
— Любящий муж, — икал он, — только любящий муж.
Она накинула платок и ушла в гостиную.
Здесь прислонилась к стеклу.
Луна светила холодно, ярко. Темно-синее, почти черное небо.
Застыли на бледной панели силуэты каштанов. Гулял с палкой
сторож. Блеснула мысль: «Уйти из дому и не вернуться». Сей-
172
час же потухла. Развода у католиков нет. Средств никаких.
Полная неумелость жить, слабое здоровье...
Кто-то злой, безобразный, гадкий хихикнул... Что будете
делать, барынька? А, продаваться придется... Обязательно даже,
милочка...
Из темноты сверкали мужские хищные зубы. Вспомнилось
любимое выражение Шатковского: «Бедная маленькая
женщина с большими глазами».
Гримаса искажала ее лицо. В ужасе, словно ища опоры,
оглянулась.
— Тереза!.. Тэська!.. Жена!.. — кричал Ян.
Он показался в нижнем белье, коренастый и всклокоченный.
Крикнула истерично, бледнея, замирая от страха:
— Я не пойду!.. Я не пойду!..
Ян схватил ноты с рояля и, подойдя после паузы, начал
хлестать ее по лицу.
— Девка!
Потом он начал бить ее руками, повторяя все одно и то же:
— Девка!.. Девка!..
В глазах Терезы потемнело. Отшатнулась к окну. Лицо
запылало, как в огне. Острая боль, истерический клубок сдавил
горло. Молчала, стискивая зубы.
— Живи до осени, а потом убирайся!.. Падаль!..
Потом он швырнул ноты и ушел в спальню.
Встала и зажгла лампу Францишка. Пришла на шум.
Испугалась.
Тереза вытирала кровь.
— Пани, — вдруг заплакала Францишка, — бросайте его,
идола... пусть сам живет как хочет... свет широкий, пани...
На рассвете Ян пришел к жене в гостиную, где она спала на
диванчике, и грубо, животно овладел ею.
Утром Ян привел тетю Юлию и объявил, что она останется
у них до осени, так как начался ремонт ее флигелечка. Он
посвятил Бжезовскую в интимности вчерашнего вечера,
жаловался на Терезу, расхаживал павлином и пел шансонетки.
— Не знаю, — объявил он важно, — смогу ли я простить
Терезу или мы разойдемся. Вы, тетушка, будьте свидетельницей.
Такого мужа поискать нужно.
Тереза откликнулась вяло:
— Мы разъедемся. Будь покоен.
Тетя Юлия враждебно фыркала. Она поддерживала Яна.
Нет, Тереза ведет себя возмутительно. Всякий стыд забыла. Бог
173
с нею, с такой племянницей... «А я буду управлять домиком в
Вильно» — пела задняя мысль.
Вечером приехала Лина. Тереза только сейчас заметила, как
она похорошела, пополнела. Одевалась еще наряднее. С
Терезой держалась покровительственно-ласково.
Когда весь этот враждебный персонал расположился в
квартире, Тереза съежилась, ушла в себя. На ее бледном, сразу
осунувшемся лице застыло скорбное замкнутое выражение. Отъезд
ксендза Гануша — дело нескольких дней, оба викария
вернулись. Что еще могло волновать ее, тревожить или огорчать?
Ян поехал сопровождать Лину на музыку.
В его отсутствие зашел проститься Заневский. Пожелали друг
другу счастья, в счастье не веря.
XV
Кшевицкая ждала Францишку, изнемогая от волнения. Даже
руки у нее стали влажны. Несколько раз подходила к окну.
Безуспешно.
Раскаленная, пыльная улица, ветер...
Ушла бы, конечно, но нельзя оставить пустую квартиру. Ян,
тетя Юлия на даче у Лины.
Сегодня Тереза узнала от сакристиана, что ксендз Гануш
вернулся из X. Он ездил туда на целых две недели. Прелюдия
разлуки.
Тереза совсем измучилась. С тех пор как она жила с
мужем, новое тягостное чувство стыда, отвращения к самой себе
мешало ей посещать костел. Целые ночи, задыхаясь от жары,
терзаемая бессонницей и тоскою, думала о том, что ксендз
Гануш уезжает навсегда. Уезжает он в Америку. Говорят,
останется там миссионером. Что-то в этом роде. На ее вопросы
ксендз Гануш ответил уклончиво. Он не любил
распространяться о себе самом. Значит, она теряла его из виду. Навсегда
уедет... вколачивала это слово с упорством отчаяния.
Навсегда уедет. Старалась воспринять, хотя немного привыкнуть к
ужасу неизбежной разлуки. Она теперь часто вспоминала Инку
и завидовала ей. Пробовала утешать себя: «Это искупление».
Потом кощунственно смеялась. Искупление? Перед кем? За
что?
К вечеру страшно утомлялась. Ложилась посиневшая,
разбитая, укутывалась, несмотря на жару, пледом и так лежала
без движения. Тосковала так мучительно, что ее боялись
трогать.
174
Сегодня, перед свиданием с настоятелем, Тереза задыхалась
от волнения.
Скоро ли?.. Боже мой... эта Францишка... Скоро ли?..
Наконец прислуга вернулась. Жаловалась на погоду... и это
люди называют летом, Езус-Мария! Фамильярно пеняла
Терезе. Куда собралась пани? Вон какая бледная. Напилась бы
лучше чаю с ягодами...
Тереза убежала, не понимая ее.
Над городом свирепствовал ветер. Столбы раскаленной,
едкой, сухой пыли поднимались к самому небу. Оно потускнело,
затянулось дымкой. Вяло бродили люди. Зной. Духота.
Совершенно пустынные улицы и скверы. Ах, этот ветер, это
колебание веток, солнечных пятен, густые облака пыли! Ей казалось,
она потеряла сразу все силы, сама закружилась песчинкой в
порывах судьбы.
Куда, зачем и почему несет ее? Почему ее жизнь так
печальна, так ужасно, безгранично печальна?
В церковном саду, трепещущая, напряженная, увидела
ксендза Гануша.
Гулял с одним из синдиков. Она споткнулась о камень. Его
глаза остановились на ней. Строгие, внимательные, какие-то
новые. Иные глаза — это она почувствовала инстинктивно,
почувствовала всем своим существом.
Сердце Терезы упало.
Чужой... вновь чужой и далекий... Почему? Что случилось?
Хочет смягчить для нее ужас разлуки? Поглощен своими
заботами? Отвык за эти две недели?
— Добрый день, ксендз Чеслав...
— Добрый день...
Целовала руку, ожидая улыбки.
Ксендз Гануш оставался серьезным. Нет, она не ошиблась...
чужой... вновь чужой и далекий. Снова ее взгляд робко,
умоляюще, виновато поднимался к нему, а он сам был далеко, далеко,
там, вместе со звездами.
Обратилась униженно, как когда-то в приемной, с деньгами
для бедных:
— Можно вас видеть?
Он посмотрел на часы.
— У меня сейчас заседание церковного совета, но мы можем
поговорить здесь.
Да, он изменился. Он жалел о своей временной мягкости.
Было ясно его желание оставаться на строго официальной
почве.
175
Тереза задрожала от тоски.
Синдик удалился на несколько сажень, через плечо
недовольно поглядев на Терезу. Скрипели липы. Лаял щенок и гонялся
за воробьями. Ветер на минуту занес их пылью.
— Ксендз Гануш, вы уезжаете скоро?
Закусывая губы, кривила их в лживую, бесконечно жалкую
улыбку. На лице его нельзя было прочитать ни одной мысли.
Тень от полей шляпы скрывала глаза.
— Да. Уезжаю на будущей неделе.
Жадно впилась умоляющим взглядом. Полувопрос,
полумольба. Ждала ласкового слова. Ждала вопроса. Он молчал.
С усилием пробормотала, что придет проститься.
— Если хотите...
Был равнодушен, тих. Вежливо осведомился:
— Ваш муж вернулся?.. Я его видел на днях...
— Нет, он по-прежнему на даче... изредка приезжает.
Стояла беспомощная, растерянная, комкая платье. Синдик
насмешливо наблюдал за нею. Пыль, ветер, голуби над
колокольней, какие-то некрасивые женщины в окнах приюта.
Лицо ксендза Гануша выражало некоторое нетерпение. Он
даже сделал шаг вперед. Пора уходить. Прошептала:
— До свиданья...
Чуть наклонил голову, щурясь.
— С Богом!
Ах, Бог!..
Ушла медленно, спотыкаясь и не оглядываясь. Слышала, как
чему-то смеялся синдик. Ветер рвал ее длинную черную вуаль,
засыпал пылью, злорадно гнал со двора.
«Девка, — вдруг подумала она про себя с бесконечной
иронией, — девка... Здесь тебе не место... Он снисходит к тебе... он
прощает тебя, как священник, но он считает тебя девкой... да...
можешь успокоиться...»
Грубо и глупо захохотала, затыкая рот платком.
На колокольне звонили к «Angélus»*. Чистые, детские
голоса в приюте нараспев говорили молитву Непорочной:
— «Zdrowaś Maria laski peina...»**
Ах, какая это была долгая, кошмарная ночь!
Тереза бродила в ненавистных комнатах из угла в угол, при
слабом мерцании свечи, полная такой невыразимой муки, что
сама удивлялась, почему она не умирает. Почему смерть не при-
* «Ангел» (лат.).
** «Здравствуй, Мария, полная благодати...» (пол.)
176
ходит к нам тогда, когда мы зовем ее покорно, униженно?
Почему смерть так же капризна, как счастье?
В эту ночь ее оставила вера. Она не молилась. Она не
замечала распятия. О чем просить? Смерти? Любви ксендза Гануша?
И то и другое было кощунством. Небо казалось пустым, а
человек одиноким, беспомощным и более ненужным, чем сорная
трава в поле. В ней поднялся вихрь кощунственных упреков к
небу. Издеваясь сама над собой, думала: «Что мое горе в
сравнении с вечностью? Что мои страдания в сравнении с тем, кто
умирал под пыткой, на кострах, в подземелье?»
Рвала себе сердце тихим любовным шепотом:
— Чеслав... Бог мой... господин мой... Чеслав...
Почему он не слышал? Почему она не могла встать, пойти,
лечь у его ног, как раненое животное: «Убей... убей своими
руками... Умирая, я буду видеть тебя».
Почему она не могла вынуть и бросить ему свое
окровавленное, несчастное, истерзанное сердце со стоном любви и муки:
«Я больна, господин мой, но скажи слово, и слуга твоя
исцелится». О, если бы он знал все!.. О, если бы он мог подобно ангелам
читать мысли, видеть сокровеннейшие движения души! О, если
бы он не был священником!
Равнодушием и покоем дышала тишина ночи.
Светлое небо, звезды, месяц. Это было так далеко, чуждо,
непонятно. Во всем мире она была одна. Где-то в эту минуту
рождались люди, где-то умирали, где-то был день, где-то
полярная ночь. Что им всем до нее, как и ей до них! Кто или что
могло помочь ей, кроме смерти? Но она еще хотела жить. Она
так молода... Она простирала руки к небу. Помощи!..
Милосердия!
Слез не было. Сидела сгорбившись, как старуха, с
растрепанными волосами. Думала: «Если бы Инка осталась в живых...»
И думала так, просто от горя, так как чем бы могла ей помочь
Ирэна.
Потом встала на колени перед распятием. Не молилась,
стонала. Дошла до предела муки. До экстаза страдания.
— Господи, я не знаю Тебя... Я не знаю, существуешь ли Ты
или нет, но я хочу верить в Тебя... Умножь мою веру... Вот я
нашла человека, в которого перелила свою душу, который стал
моей жизнью, дыханием, святыней, ради него, через него я
снова вернулась к Тебе... Господи, не отнимай его у меня, не
отнимай... Если не Ты, кто же поможет мне? Придет смерть и унесет
его или мгклг нареки, Видеть его, слышать, не расставаться с
ним... Господи, я большего не прошу... Не отнимай!.. Не верю,
177
не могу верить, будто оскорбляю Тебя, любя его... Не отнимай!
Что еще могла она прибавить к этому?.. Ничего.
По-прежнему было молчание, ночь...
Она долго слушала тишину.
Потом, оставив Невидимого Бога, молилась тому, второму,
земному... Тому, кто ответить, услышать так же не мог и не
хотел, но кого она любила больше первого.
— Чеслав, будь милостив... сжалься надо мною... Господин
мой, радость моя... Чеслав...
Благословляла его за тот миг, когда впервые услышала его
голос, благословляла за муку неразделенной любви и радость
коротких свиданий, благословляла за каждое ласковое и
каждое гневное слово. Благословляла, рыдая, в исступлении
безысходности, в слепом отчаянии перед невозможным.
Светало. Звезды потухли. Легли голубые тени. Стали
проще, явственнее выступать дома, каштаны. Стало проще и
грубее ее горе.
XVI
Тереза вышивала за пяльцами. Как ни ломала себя, а думать
о ксендзе Гануше пришлось. Завтра он уедет с ночным
поездом.
У нее не было от него ни карточки, ни пустой записки,
ничего такого, что бы она могла сохранить. Он уходил из ее жизни
полностью, обрекая ее на одиночество, не оставляя даже тени
надежды, словно умирая заранее. Не мелькнул ли он ярким
лучом, согрев ее лишь потому, что она случайно попала ему на
дороге? Быть может, было бы лучше не встречать его?
Не могла представить себе, что скажет ему на прощанье.
Терзала мысль: как он встретит ее? Близок или далек?
Ласков или безучастен?
Где-то глубоко-глубоко, в тайниках сердца просыпался
робкий немой вопрос: может быть, он любил ее? Но так робко и
неопределенно, что она сама почти не осознавала этого.
Как сквозь сон видела окружающее.
Тетя Юлия металась фурией, в переднике, красная,
пахнувшая какими-то соусами, с маслеными губами. Францишка
накрывала на стол, стуча тарелками. Ждали Яна с дачи. Потом
тетя Юлия говорила что-то по поводу прекрасной погоды и
раскрыла окно.
Солнце заливало комнату. Ветер колыхал занавесочку. Часы
били три.
178
И вдруг, как год тому назад, появилась похоронная
процессия и медленно двигалась мимо окон. Впереди шел ксендз Га-
нуш в кружевной комже, берете. Сосредоточенный, замкнутый,
гордый.
Тереза встала и читала «Ave», сжимая холодные руки.
Вся ее любовь к этому человеку, несчастная, больная,
измученная любовь мелькнула перед нею.
Со стоном отчаяния и муки она перебирала в душе прошлое,
словно чудесные, драгоценные четки. Она вонзила в тысячный
раз и в тысячный раз повернула нож в своем сердце.
Опустилась на стул и не смогла ответить на какой-то вопрос
тети Юлии.
За обедом Ян заметил насмешливо:
— У тебя, Тереза, неприличное лицо, как после оргии.
Знакомая, старая улица, по которой проходила тысячу раз...
знакомый сквер, где часто сидела после богослужения...
мужская гимназия... лечебница... а вот и костел. Небо голубое-
голубое, радостное. Над крестом вьются какие-то птички.
В изгородь лезут цветы отцветающей широколиственной
сирени.
Входила в церковный сад неверной, слабой походкой. На
скамеечке старый полковник в белом кителе, окруженный
ребятишками. Гуляет викарий, читая требник. Ползут какие-то
старушки. Окна в приют раскрыты. Везде и на всем солнечные
пятна. Тихо. Тепло. Буднично.
Тереза поднялась к настоятелю. Не спеша. Искусственно
сохраняя спокойствие.
— Ксендза нет дома, — равнодушно заявил лакей.
Смотрела на него возмущенно. Мелькнула невероятная
мысль: лжет.
Потом резко, точно он был виноват в этом, спросила:
— А когда ксендз вернется?
— Не могу знать.
В таком случае она останется ждать.
Лакей неохотно впустил ее.
В гостиной села, страшно усталая. Резал воротник. Глаза как-
то туманились. Не сразу огляделась, а лишь минут через десять.
Ах, как здесь все переменилось! С трудом узнавала в этой
пустой пыльной комнате изящный темно-красный уголок, где
всегда стояли живые цветы и так весело наигрывал на дудочке
игрушечный савояр. Потешный ты мой! Комната была почти
голая и цинично показывала прорехи в обоях. Мебель кое-как
179
наскоро, кучкой в углу. Гравюры, ковры, занавеси сняты.
Обрывки бумаги, бечевок. Коробки от гильз.
Все изменилось.
Нужно было встать и заглянуть в кабинет. Не захотела.
Боялась, что ее сердце совсем разорвется от горечи, жалости, ужаса
перед разоренной квартирой.
Соображала, что сказать ксендзу Ганушу. Какие найти
мольбы? Подумала, что не сможет заплакать и он унесет навсегда в
памяти ее лицо тусклым, тупым и усталым. Может быть, уйти?
Но разве это возможно? Чудовищная мысль! Не тронулась с
места.
Женщина в чесучовой кофточке, странная и безобразная,
принесла белье ксендза.
Как зимою на концерте Тереза остро запомнила почему-то
запонку ксендза, так и теперь остро, рельефно врезалась в мозг
эта стопка белья с черными носками.
Женщина испуганно, глуповато поглядела на Терезу и
поклонилась.
— Ксендз скоро вернется? — нарочно остановила ее Тереза.
Смотрела сурово и враждебно на прислугу. Ненавидела ее уже
от души. Пришли грубые и скверные мысли.
Та наивно склонила голову.
— Сейчас, паненка, сейчас...
Терезе вдруг захотелось засмеяться и причинить боль этой
идиотке. Она терла лоб и ничего не придумала.
Женщина зашла в кабинет. Терезе чудилось, что она
остается там вечность.
Потом женщина так же боком, косо, смешно, как будто
одним плечом рассекая воздух, ушла обратно.
Тереза ждала. Мучительно тосковала. Внутренне ахнула, что
теперь, за несколько минут до прощания, ее мысли так мелки,
пошлы и рассеянны. Нетерпение во всем теле напоминало зуд.
Наконец звонок.
Тереза не шевельнулась. Слабо звонили. Вероятно,
знакомые или просители. Нет, ошиблась. Голос ксендза Гануша.
Тотчас же, в одно мгновение, была на ногах. Сердце
покатилось в бездну.
Ясность, жадность, исступленная внимательность широко
раскрытых глаз...
«Сейчас... сейчас... Боже!., в эту дверь... сейчас... Не призрак,
а живой... он!.. Да, он!..»
Ксендз Гануш входил.
Поздоровалась чужим голосом, чужой улыбкой улыбнулась.
180
— А я уже здесь.
Повторила глупую фразу несколько раз:
— А я уже здесь.
Ксендз-настоятель не казался удивленным. Вяло подал руку.
Сел. Закурил. Имел вид человека усталого до полуобморока.
Смотрел на Терезу тревожно. Боялся какой-нибудь выходки.
Дверь в коридор оставалась открытой.
Тереза начала... какую-то пошлость... весь день томилась...
хотела видеть... Слова оборвались. Мысль потухла. Страшно,
до безумия страшно, что время бежит... ежеминутно могут
войти... помешать... Придется прощаться при других.
Тихонько беспомощно заплакала.
Ксендз Гануш пробормотал:
— Пусть Господь сохранит вас.
Тереза молча несколько минут смотрела на него.
Внезапно увидела его душу до дна, поняла то, в чем еще
сомневалась.
Он никогда не любил ее.
Жалел, понимал, но не любил. Ах, мужчину всегда трогает,
если его любят!
Чудовищно ясно поняла свою ненужность в его жизни.
Тащилась, волочилась за его сутаной, как случайный репей.
Оторвали и выбросили. Вот и все. Ничего не нужно было. Ни мук,
ни любви, ни раскаяния, ни откровенности — все лишнее,
непрошеное, навязанное, скучное.
Удар оглушил ее. Страшный удар, после которого душа
отказывалась чувствовать что-либо.
Она поднялась, страшно усталая, с трясущимися губами.
— В котором часу отходит ваш поезд?
XVII
Два дня... три... десять... двенадцать...
С внешней стороны жизнь Терезы не менялась.
Так же тетя Юлия с утра до вечера копошилась в квартире,
тонула в сплетнях, дрязгах и благополучии.
Так же приезжал с дачи два раза в неделю Ян, то трезвый,
то пьяный, то разнузданно чувственный, то угрюмый. И хотел
разойтись с Терезой, и боялся скандала. Колотил несколько раз,
потом просил прощенья, выбирал Дальчевскую посредницей.
Являлась и Лина, нарядная, благоухающая, разжиревшая
самочка, усиленно ухаживала за Терезой, напуганная тем, что
та знала об ее отношениях к Заневскому.
181
И среди них, живых, двигалась мертвая Тереза.
Мертвая, потому что ничто из всего окружающего не
трогало ее, не достигало ее души. Отвечала на вопросы, ела, пила,
гуляла, отдавалась мужу, но ничего не чувствовала. На глаза,
лоб, губы легли новые, грубые тени. Тени жестокого
равнодушия, циничного безразличия к хорошему и дурному.
Оставалась праздной, замкнутой, безучастной.
Чаще всего полдня она проводила в том, что бесцельно
бродила по городу. Если домашние были на даче, то и ночь
оставалась на улице. Как бездомная, затравленная собака тащилась
вверх, вниз, бульварами, скверами, площадями, переулками.
Находила в этом странное, жуткое наслаждение, жила только
внутренними обостренными ощущениями, не сливаясь с
нынешним миром. Гуляя, почти не думала. Усталость растопляла
тоску, лежавшую глыбой на сердце, притупляла мысль.
Жалела, что провинциальный город мал, знаком ей так же,
как ее квартира. Она не могла бы заблудиться в нем. А она
любила теряться среди домов и чужих людей. Так было с нею
давно-давно в заграничных городах. Теперь у нее порой
мешалось представление о времени, месте: думала, что идет она по
бесконечной, раскаленной, ненавистной Ludwig Strasse в
Мюнхене или по скучному бульвару Gorges Favon в Женеве,
тоскует о ксендзе Гануше и ждет с ним встречи. Бледная, дрожащая,
готовая разрыдаться, останавливалась, отрывалась от грезы и
познавала грустную действительность.
Прогулки имели целью убить время. Ужасное, тягучее,
безобразно мучительное время. Как медленно ползло оно!
Чувствовала, проклинала каждую минуту, каждый час. Пускалась на
всевозможные хитрости и уловки, чтобы сократить его, на детскую
ложь перед самой собою. С тех пор как упала в грязь с вершин
своей любви, впервые заметила глубочайшее одиночество. Все
мужчины оставили ее. Сначала был непобедимый соперник,
красивый, богатый Антось Пшерминский, потом глухие слухи о ее
любви к ксендзу Ганушу. Тереза больше не интересовала их.
Женщины были обыкновенно ее тайными, злейшими и
беспощадными врагами. Их томила зависть, недоброжелательство,
порою удивление, наконец равнодушие. Она не могла также
назвать ни одного семейства, где бы она бывала с
удовольствием. Она жила среди людей, как в пустыне. Это даже занимало
ее несколько. Рождалось презрительное высокомерие.
Закалялась. Отходила от них всех с грубым смехом.
Одиночество мешало в одном — не давало забыть ксендза
Гануша.
182
Правда, с того дня, как он уехал, запрещала себе думать о
нем. Вбивала в голову, как прежде, слово «навсегда», так теперь
«не любил». Повторяла это с исступлением отчаяния, то с
мукой, то с издевательством над самой собою. «Не любил».
Дивилась тому, как быстро и бесследно свершила обратный
нравственный перелом. Нет, подумать только... она вообразила
себя счастливой, честной, спасенной.
Впрочем, на нее нападал суеверный ужас жреца перед
алтарем. Ксендз Гануш был (и оставался) ее богом... Как она могла
роптать на него?
С рыданием мысленно возвращалась к нему. Переживала
весь ужас, всю скорбь утраты. Это было тяжелей всего,
пожалуй...
Не могла все еще побороть жгучей жажды видеть костел и
распинать там в тысячный раз свое сердце. Зашла как-то.
Траурная месса. Катафалк, окруженный свечами, с горой венков.
Служит викарий. Плачущие дамы. Народу мало. Дверь широко
раскрыта. Вынесены на паперть хоругви. Оглядывалась с
кощунственной усмешкой. Дела! Нет, ей уже не молиться, ей не молиться...
Потом пронизало внезапное болезненно страстное желание
услышать от кого-нибудь имя ксендза Гануша... Только услышать...
громко... вслух... Затряслась от нетерпения. Оглядывалась
беспомощно и жадно. Наконец у двери при входе заметила нищего.
Давно когда-то видела его во сне. Обросший, отвратительный,
грязный, в просаленном зеленом кафтане.
Подошла, бросила на ладонь медяки.
— А где же тот ксендз... другой?
Красные слезящиеся глазки уставились тупо, удивленно:
— Какой ксендз?
— Э, да тот... немолодой.
— Ксендз Гануш... Пробощь.
Затрепетала. Жалко, растерянно улыбнулась.
— Пробощь, уехал... совсем уехал... — шамкал старик.
Дрожала вся с головы до ног, словно узнала это в первый
раз.
Еле сошла со ступеней...
— Уехал, — бормотала, — уехал...
И слезы, раскаленные, скудные, бессильные, поползли по
щекам и щекотали губы.
С тех пор как потеряла его навеки, всякий интерес к самой
себе умер в Терезе. Чем быть и как жить дальше — одинокой,
слабой, нищей, — безразлично. Неясно, бледно накидала план.
Поедет в Варшаву. Пшерминский уже, вероятно, вернулся из-
183
за границы. Сойдется с ним. Это легко устроить. В конце
концов, Антось лучше многих мужчин и к ней привязан. А не
удастся — живет там адвокат Вальчевский... ухаживал за нею
сильно... или Михась Ляско... этот тоже ничего... парень с деньгами...
или... или... ах, да не все ли равно... будут. Мало их... Ей
безразлично. Она ни с кем не связана. Ксендз Гануш не любил ее,
уехал. Был чужим, равнодушным человеком. Яна она
ненавидела. Работать? То есть что же, пойти в гувернантки, шить? В
кондитерскую? Кассиршей? Она легкомысленно и желчно
пожимала плечами. Нет... Здесь ей все равно оставаться нельзя.
Ее достаточно знают. Будет излишний не в ее пользу скандал.
Нужно бежать. А там?.. Ну, там... проституция... да, конечно...
Мысленно твердила упрямо и тоскливо:
«Тысячи женщин живут так... Чем я лучше их?»
В этом была большая доля наивности, но грех и
неизвестность уже не пугали ее. Церковь не останавливала.
Оглядывалась в ночь прошлого, подходила к бездне будущего
вызывающе, смело, решительно. «Погибну?.. И пусть погибаю... Туда и
дорога!»
Стаи порочных мыслей зарождались в ее больном мозгу.
Она насыщала ими бессонницу.
Боже мой, Боже мой, они снова темны! Два высоких, узких
окна. Темны. Как загипнотизированная, в слепом отчаянии
возвращалась сюда, на угол, к дому ксендза Гануша ежедневно.
Стояла и смотрела, шепча что-то непонятное воспаленными,
потрескавшимися губами. На нее оглядывались прохожие.
А она стояла и смотрела. Темны. Несчастная без меры и
описания, она по привычке еще бродила по глухой, тенистой улице.
Она так устала. Устало ее сердце, ее мозг, ее руки, ее грудь.
У нее оставалось только одно — два высоких узких окна.
Пустая комната человека, который не любил ее. Она смотрела туда
с болью, тоскою и нежностью. Ей хотелось сложить
молитвенно руки. О, милые окна!.. Его окна...
Однажды там, внутри, черные впадины осветились.
Бледный, еле заметный огонек сквозь кружево штор. Слабый
отблеск неизвестной ей жизни. Может быть, приехал новый
священник. Или кто-нибудь из молодых викариев занял
квартиру.
Задрожала вся, как пораженная стрелою. Схватилась за
сердце. Вспомнила. С открытыми глазами вспомнила. Встал в
дымке прошлого живой и чарующий, любимый до безумия, с
насмешливой улыбкой ярких губ и строгой властностью взора...
184
И в тишине, в одиночестве осенней ночи грохнулась на
землю и рыдала на ней, билась, стонала от муки... Будь проклята
жизнь!.. Будь проклята!..
XVIII
В один из сентябрьских вечеров — между пятью и шестью
часами — Тереза тихонько вышла из дому. Накинула длинную
черную накидку, а капюшон надела вместо шляпы.
Напоминала мальчика.
Гроза отшумела. Небо изумительно красивое, необычное. К
западу багровое, зловещее, словно гигантское зарево, дальше
нежно-голубое, с лиловато-серыми зигзагчатыми облаками.
Такое красивое небо. Глядела бы и не отрывалась. Мокрые
желтые каштаны и клены согнулись. Не шелохнутся. Щедро
покрывали влажную, холодную землю мертвые, гниющие листья.
Густой, крепкий аромат тления. Шорох падающих капель.
Смерть разлита в воздухе. Боже, какая тишина, какая
покорность в природе!
Щемящая, острая тоска у Терезы сменилась тупой болью.
Решила погулять до позднего вечера, а потом пойти к
доктору Шатковскому. Спросить об Антосе. Утром звонила ему по
телефону. Он сегодня один, рад будет видеть... Еще бы не рад!..
Презрительно скривила искусанные губы. Утром была
генеральная схватка с Яном. Последняя. Дикая, безобразная сцена
с побоями и руганью.
Теперь ее чемодан, паспорт и сто рублей (исходатайствовала
у Яна Лина) лежат в ее спальне. Завтра уедет в Варшаву.
Смеялась, вспоминая, как отчитала тетю Юлию. Так ей и
надо, старой сводне!..
Уходя навсегда от мужа, ничего не жалела. Ничего. Она
только теперь поняла, как бессмысленна и ничтожна была роль Яна
в ее жизни. С бешенством вспоминала ругательства,
чувственную любовь и злорадствовала, что изменяла ему. Жаль — мало.
Хохотала и над Линой. На мое место хочешь? Валяй, душечка...
Пожалуйста... Окажите милость, ваше сиятельство...
Оставляла дом нищей даже в смысле туалета. Прежнее
раздала Ванде — нового ничего не делала. Укладывая вещи,
натолкнулась на черное бархатное платье empire...* Бархатное платье.
Ее мечта, ее восторг, ее радость... Упала на него, плача и вдыхая
слабый аромат роз...
* Букв.: ампир (фр.).
185
Rose Coty... любимые духи... Вспомнилось освещенное фойе...
толпа... ксендз Гануш... идет мимо... «Вы в третьем ряду?»
— Вы в третьем ряду? — рыдала Тереза, пряча лицо в старое
бархатное платье. — Вы в третьем ряду?..
Теперь она присела в сквере.
Оглядывалась уныло. Чувствовала себя бесприютной,
бесправной. Уже другой Терезой. Другой... Не могла побороть
усталости, бессилия рук и ног. Ничто, никто во всем мире не
интересовал ее. Совершенно не думала, как поедет в Варшаву и что
будет говорить Антосю.
Обрадовалась, когда стемнело. Наскучило сидеть праздной
и вязать больные, осенние мысли. Пошла к доктору Шатковс-
кому. Жил высоко в неуютном новом доме. Грязная лестница.
Сквозняк. Окна полу арками. Темно. Еле нашла табличку.
Позвонила умышленно резко.
Тотчас же ее впустили.
Доктор Шатковский в чесучовом пиджаке,
полурасстегнутый, недавно выспавшийся, ужинал в столовой. Громадный
клеенчатый диван. Висячая электрическая лампа над столом.
Картины, бюсты затянуты кисеей от мух. Некрасивая, почти
деревенская обстановка. Душно.
Шатковский резал огненный арбуз. Тут же стояла холодная
телятина и пиво.
Не говоря ни слова, Тереза схватила стакан и жадно
выпила.
Волосы ее развились. Висели прядями. Щеки пылали.
Засмеялась его изумлению...
Ага, не ждал... Да... да... бросила мужа... уезжает...
Милостиво протянула руку. Доктор ахал и хлопал себя по
колену.
— Я еду в Варшаву... Фьють!.. Только меня и видели...
— К Антосю? — лукаво улыбнулся Шатковский.
— Да, конечно... Выпьем на брудершафт...
— Охотно.
Покосилась брезгливо на его нечистые руки.
Говорил ей, отдуваясь:
— Тебе бы следовало слушаться меня, малютка, ты могла
лучше пристроиться.
— Hein!..*
— Безусловно лучше. Чертовски ты хорошенькая.
— В первый раз заметил, котик.
* Букв.: смерть! (нем. фолъкя.)
186
Полезла на диван. Сбросила мантильку. Разлеглась и
положила руки под голову.
Говорила лениво:
— Прошлого не воротишь... О чем тужить... Мне бы только
добраться до Варшавы. Извольте дать адрес, господин барон.
Доктор задумчиво чесал голову. Потом сказал, глядя себе
на ноги:
— С Антосем у тебя дело не выгорит.
Созналась наивно:
— Я думаю то же самое.
— Ну, вот видишь... он любит чужих жен только тогда, когда
те живут у своих мужей... Намекали уже мне, будто его
отношения с Вандой Джолнковской отнюдь не платонические... И
потом, едва ли он вернулся в Варшаву...
— Э, пошел каркать...
— Нужно все предвидеть... Очутишься в скверном
положении — не обрадуешься.
— Наплевать! А другие мужчины?
— Разве есть на примете?
— Ну как же не быть. Первый Вальчевский... мигнуть ему
только...
— Твое дело. Так ты это серьезно задумала?
-Что?
— Авантюры.
— Конечно.
Он насупился и пил пиво некоторое время молча. Моргал
глазами. Потом пробормотал, недоумевая:
— Да ведь болтали, что ты влюблена в ксендза...
Судорога, боли... там... глубоко... Усмехнулась. Зевнула.
— Был грех... Ну и что же?
Доктор засмеялся. Подсел к ней. Щекотал шею. Шепотом
умолял ее... Маленькая женщина с большими глазами!
Поняла. Чуть-чуть побледнела. Ну, ну, без нежностей... Что
он о себе воображает...
Он недовольно прищурился:
— Для других бережешь?
— Может быть.
— Нет, послушай, малютка...
Неожиданно Тереза встала.
— Пора мне... Пойду.
Записала адрес Пшерминского. Устало и рассеянно
простилась.
ИДУЩИЕ МИМО
I
Толстая генеральша, старомодная, важная и ласковая,
сказала Магде:
— Я очень, очень рада... Господин Боржек чрезвычайно
хвалил вас... Я знала его матушку... мы выезжали с нею... Ваша
фамилия Валюшко?.. Какая оригинальная фамилия... Итак,
значит, до завтра... к шести часам... пожалуйста.
Магда поблагодарила.
Она была сильно бледна, и от усталости, и от волнения.
Густые волосы сползли на ее громадные черные глаза.
Окружающая роскошь подавляла Валюшко.
Генеральша ушла, а ее племянница, натягивающая перчатки,
проговорила:
— Меня зовут Татой Подкумок... Вы слышали обо мне,
mademoiselle?
Магда отрицательно покачала головой:
— Я — хорошая знакомая Боржека. Неужели он ничего не
говорил вам?
— Нет, ничего, — почти враждебно отозвалась Валюшко.
— Странно... А я о вас знаю кое-что. Какая вы неопытная,
даже жалко. Вам следовало не тридцать рублей просить в
месяц, а пятьдесят. Тетушка — миллионерша. Она недавно
дом подарила городу и несколько карет «скорой помощи».
И потом... ах, Боже мой!.. Зачем вы рассказали, что живете в
меблированных комнатах, едите через день?.. Не нужно было
сознаваться, что вы кончили только шесть классов гимназии
и вышли замуж семнадцати лет... Еще более не нужно
было говорить, что вы не имели детей по принципу...
Тетушка — старых правил... Вы ее заинтересовали, правда, но... вы
наивны!
Магда устало разглядывала ее нежное лицо с профилем ка-
188
меи, дорогой синий tailleur* и думала: «Где она познакомилась с
Боржеком?»
Затем холодно проговорила:
— Я не наивна, но я нетактична, болтлива и откровенна до
цинизма.
— Вы не умеете разбираться в людях, — живо кинула Тата.
— Да, не умею. Это происходит от большого равнодушия. У
меня нет ни близких, ни далеких. Для меня все одинаковы. Мне
все равно, знаю я вас давно или только что познакомились.
Потом, когда меня спрашивают, я всегда отвечаю.
— О, если бы вы только отвечали!
Обе засмеялись.
Тата пожала ей руку:
— До свиданья. Будьте осторожны все-таки. Ну, хотя
немного осторожнее. Предупреждаю, чтицы у нас меняются часто.
Магда мало обрадовалась удаче. Всякий раз, достигая чего-
нибудь в большом и малом, испытывала неприятное
пресыщение. Находила, что держала себя чересчур робко, почти
униженно. Шмыгнула под лошадью, перебежала на другую
сторону. Черная накидочка развевалась. Белый капорок с вишнями
делал ее похожей на девочку. Прохожие оглядывались на Маг-
ду. Кое-кто улыбнулся. Еле-еле шуршали деревья. Вечернее
осеннее небо было нежно, как весной. Кучи желтых листьев
слетали на землю. В сквере пестрели астры. То там, то сям запевали
грустные, наивные шарманки.
Валюшко любила этот южный провинциальный город. Здесь
не было ни хороших памятников, ни музеев, ни картинных
галерей, здесь все знали друг друга, но ведь тут жил Леон Боржек,
тут прошли ее лучшие годы.
Магда шла дальше, черноглазая, хрупкая, и думала о Боржеке.
Душа ее переполнилась скорбной и беспредельной
нежностью. Она любила так давно, так безнадежно, так мучительно,
что теперь любовь можно было назвать иначе.
Неожиданно ее окликнули.
Адам Оброцкий, артист драматического театра.
Большой чувственный нос, большие, живые, красивые
глаза, большой рот и певучий низкий голос. От белого батистового
банта он казался еще чернее.
— Здравствуйте, остановитесь, погодите, выслушайте, —
кричал он, смеясь глазами, — я бегу за вами целый час... Меня
принимали за сумасшедшего.
* Тейлор (фр.).
1Ы
— Пан Адам, — обрадовалась Магда, — место чтицы у
генеральши за мною.
Оброцкий шутливо пожал плечами:
— Самое ужасное то, что вы трудолюбивы. Я не могу
выносить этот порок. Берите пример с меня.
Магда качала головой. Да, охотно поленилась бы, если бы
есть не хотелось... Первый год муж высылал, было сносно.
Потом перестал. В обществе на нее косятся, место достать
трудно. Да и какое у нее здоровье?
Миновали цветочный магазин, какие-то большие дома и
café, где Магда любила есть мороженое. Делала она это
особенно часто с тех пор, как мимо два раза прошел Боржек. Тут же
стояли посыльные. Один из них, номер сорок восемь,
поклонился улыбаясь. Он всегда носил ее письма к Боржеку. Поклон
радовал Магду, как лишнее напоминание о том, любимом.
Сейчас же произнесла, сияя:
— Место чтицы мне дали по протекции Боржека.
— Mater Dei*, начинается! — с унынием вздохнул
Оброцкий. — Боржек, Боржек, Боржек... Пощадите, милая, или я
сбегу... Нет, я говорил и повторяю: вам следует уехать. Я бьюсь с
вами целый год, и ничего не выходит. Послушайте,
отправляйтесь-ка вы теперь в Питер. Там у меня брат... у него контора...
он вам место даст... Потом, есть некий доктор Желтых...
дельный парень... пригодится.
— В сущности, ждать нечего, — устало согласилась она.
— Я думаю.
У калитки их дома маленькими шажками прогуливался
старенький профессор с внучкой Китти, трехлетним ребенком. Они
улыбались и кланялись.
Оброцкий жил этажом выше Магды.
Она прошла к нему.
Уйдя в глубокое кресло, Валюшко оглядывала уютную,
хорошую комнату. Здесь много воздуха, много света, дорогих
гравюр, книг, все красного тона, и в окно виден готический костел,
который рядом.
На этажерке Оброцкий разложил целую коллекцию
крошечных карликов-уродцев. Часто они ломались. Тогда он сочинял
трагические стихотворения и чинил их сам. Рядом с
чернильницей скучали глубокомысленные аисты. Висели персидские
материи.
— Взгрустнулось, — пробормотала Магда, снимая накидочку.
* Божья Матерь! (лат.)
190
— Не фантазируйте, милая. Вот вам книжка стихов... а я
побегу отдать деньги за квартиру.
Она принялась перелистывать зелененькую книжечку.
От тонких сладострастных стихов пахнуло чем-то близким,
чарующим, опьянительным. Несколько строчек она
пробормотала вслух. Теплая волна крови бросилась в голову. Сердце
сладко заныло. Певучие строки она относила мысленно к Бор-
жеку. О, милый, милый...
Она совсем забылась. Луч солнца скользнул по ее
каштановым волосам, и они слегка отливали медью.
Наливая ей чай, Оброцкий произнес задумчиво:
— Да, странный вы человек. Грусть и я — мы влюблены в
вас немножко. От меня вы еще можете избавиться, но от
грусти... Ну, нет... это дань духовной аристократии... Впрочем,
живите как хотите, друг мой.
Магда проснулась около шести часов. Штора на окне
поголубела. В меблированных комнатах было еще тихо.
Она думала, что в субботу по просьбе генеральши поедет
сопровождать Тагу Подкумок в Н-ск. Там увидит ксендза Ур-
бановича, который венчал ее. И они поговорят серьезно о ее
жизни. Вспомнила крошечный сад с мальвами, стаи голубей,
светлый костел и молодого белокурого ксендза Войцеха.
Они просто скандализировали его экономку, так много
смеялись вместе.
Магда убирала свою узкую, твердую постель, над которой
висело черное распятие. Перетерла книги на этажерке, столик и
умывальник. Здесь приютили еще шкап, убогую зеленую
кушетку и два стула.
Никогда Валюшко не страдала от своей бедности. Наоборот,
бедность доставляла ей почти удовольствие. Впрочем, может
быть, и в этом сказывалась ее любовь к страданию и
потребность в нем.
Она варила кофе, чистила платье, потом открыла форточку.
У окна шелестел тополь. Говорили, что скоро его срубят. Он
бросал слишком много тени в номера. С тех пор Магда жалела
его, как живого. Теперь раздавались звонки, хлопанье дверей.
Подымались, опускались по лестнице.
Проснулась и Вера Щилина, соседка. Доносилось пение:
Что мне жить
И тужить, одинокой?
Где ж ты мой, друг родной,
Черноокий?
191
Потом она влетела к Магде.
Густые, недлинные, светлые волосы распущены. Кофточка
на груди расстегнута. Синие глаза смеются, рот смеется, голос
смеется.
— Магдуся, вот вам бутерброд. Вы что?.. На мессу?..
Погодите минуточку...
— Виктор был у вас долго? — лукаво спросила Валюшко.
Радовалась, глядя на эту счастливую девушку.
— Как, вы не слышали, когда он ушел? — густо покраснела
Щилина.
Нет, конечно, Магда ничего не слышала.
— Магдуся, родненькая, что вы во всем этом понимаете? —
нежно проговорила Щилина. — Если вы умираете от любви к Бор-
жеку, то все же это не любовь, а мечта... И в костел вы
напрасно тащитесь. Ах да, я забыла... мне рассказали, что один
французский аббат так говорил проповедь: «Mes chérs enfants, c'était comme
ça et sera comme ça... donnez, donnez, car l'église est pauvre...»*
Она хохотала до слез. Магда шутливо вытолкала ее.
Комната наполнилась колокольным звоном. Магда вышла с
молитвенником, захватив письмо к Боржеку. Четыре четко
исписанные страницы. Краснея, созналась себе самой, что... немножко
несдержанно... не следует писать вечерами. Ох, что он думает о
ней? Что он думает?
Как всегда, встретила профессора с внучкой. Темные
волосы ребенка выбились из-под белой мохнатой шапки.
Магда любила их — старика, с потухшим, скорбным,
всезнающим взглядом, и ребенка, серьезного и доверчивого.
Профессор снял свою глубокую теплую фуражку.
— Вы в костел?.. Я уж был там... Идите... Идите, Бога нельзя
забывать...
— Как вы рано гуляете.
— О, да... это для моциона... да.
Валюшко приласкала ребенка.
— У тебя новая кукла, Китти?
— Это мне подарил Адамини, — сказала без улыбки
девочка, — и нашей кухарке тоже подарил... Он всех любит.
Старичок-профессор счастливо засмеялся:
— Она называет его Адамини!.. Вы видите... что это за
ребенок! Господин Оброцкий — артист, богемец, неверующий, но
он такой добрый... да, очень добрый.
* Дети мои, так было и так будет, жертвуйте, жертвуйте, так как церковь
бедна... (фр.)
192
— Он без ума от детей, — подтвердила Магда, оглянувшись
на окна Оброцкого.
Болтала с профессором. Прошел почтальон. Дворник цедил
воду из водопровода. Толстая хозяйка — немка — проплыла
мимо, и ее капот раздувался. Высокая, безобразная англичанка
с лорнетом и толстым молитвенником торопилась, путаясь в
юбке. В костеле по-прежнему звонили.
— Иду, иду... — мысленно улыбнулась Валюшко, —я
должна сказать многое Непорочной... О, Мария, госпожа моя.
В правом притворе костела Мадонна, похожая на девочку с
голубым поясом, кротко молилась Всевышнему.
Эта Мадонна восхищала Валюшко.
Она была без ребенка, такая тонкая, хрупкая, с радостной,
нежной улыбкой, с бесконечным доверием в глазах. Возможно,
она гуляла на лугу, срывала полевые лилии и остановилась,
чтобы выслушать Архангела...
«Радуйся, Мария, полная благодати...»
Скорее удивленная, чем смущенная, Она смотрит на
Архангела со смелостью невинности...
«Я — раба Господня... да будет мне по слову Твоему...»
Голубой свет лился на Нее через радужные стекла. Всегда
здесь были живые цветы и горели свечи. На мраморных
досках золотом выгравированы благодарности верующих.
По-французски, по-польски, по-немецки, даже по-русски...
Магда опустилась на колени.
Она поручила Ей сначала Леона Боржека, просила
исполнить все его желания, защитить, ободрить, потом жаловалась на
тоску, неудовлетворенность, благодарила за место у
генеральши. Она рассказала также, что сегодняшнее письмо к Боржеку
полно самых ласкательных слов и что всю ночь она плакала,
так как Леон не любит ее.
Мессу служили у главного алтаря. Было очень тихо.
Приходили и выходили женщины. Они ставили свои
корзинки с провизией и ложились ничком перед алтарем.
Магда вдруг ошутила обычную душевную усталость.
«Может быть, я грешу, молясь о Боржеке?» — подумала она.
На свой частный урок Валюшко отправлялась с
удовольствием.
В окно классной она могла видеть высокий дом Боржека.
Часто, иногда даже по нескольку раз, из подъезда выходил Леон. Ему
подавали извозчика, и, бывало, он говорил еще со швейцаром. Она
посмотрела на него, машинально прикладывая руки к груди.
Потом возвращалась к ученику и путала немецкие глаголы.
7 Анна Map
193
Швея, работавшая тут же, начинала бесцеремонно смеяться.
Сегодня в классной Магда застала ее одну.
Зина разложила шуршащее, крахмалистое полотно и пила
какао.
— Здравствуйте, — сказала она, не вставая, с полным ртом. —
Вам придется подождать... мальчишку увели... ботинки ему
покупают.
Сейчас же насмешливо и дерзко принялась сплетничать:
— Наша мадам теперь от здоровья ванны берет. Да, разве не
слышали? Как же, записалась на тридцать ванн... Доктор там
интересный...
— Да будет вам, Зина.
— А вам жалко, что ли?
И вдруг переменила тон:
— Я для вас кое-что узнала... занятное.
Магда рассеянно глядела в окно.
— Узнали? Для меня?
— Для вас. Узнала, за кем ваш Боржек умирает.
Валюшко мучительно покраснела.
— Он ухаживает за Татьяной Алексеевной Подкумок...
богатая барышня... красивая прямо до страху... только у нее жених
в Париже.
— Как много вы болтаете, Зина, — прошептала Валюшко.
Двери открыл сам художник Леви. Он напоминал
Мефистофеля. Худое, умное, насмешливое лицо, с узкими черными
глазами, бородкой Henri IV*. На нем была старая бархатная
куртка и очень потертые туфли.
— А, малютка! Наконец-то!.. — И впустил Магду. Студия
имела жалкий вид. При заходящем солнце предметы казались
еще более убогими. Вилась пыль.
Леви продолжал писать nature-morte:** розы.
Он знал Магду еще ребенком, склеивал для нее кукол и
показывал фокусы.
Поэтому он говорил ей «ты», любил сажать на колени.
Однако часто забывался и позволял себе пошлости.
Сейчас он расспрашивал, как поживает Магда.
Утонув на широчайшем дырявом диване, она рассказала о
генеральше, о Тате Подкумок, мысль о которой мучила ее, и о
том, что поедет в Н-ск на два дня.
— Черт возьми, недурно... А наши дела любовные?..
* Генрих IV (фр.).
** Натюрморт (фр.).
194
Валюшко молча смотрела, как зацветали розы под кистью.
Ее глаза затуманились.
— Тебе всего двадцать три года, — вдруг ужаснулся
художник, — ты уже шесть лет замужем, уже несчастна, уже
разошлась... Уже узнала глубокую нищету, труд, унижения,
одиночество, и плюс к этому — бесплодную, мучительную любовь...
Немножко чересчур... Да, чересчур, я повесил бы того ксендза,
который повенчал вас...
Магда улыбнулась. При чем тут ксендз? Она выходила
против воли родителей и против рассудка... так, очертя голову...
как-то плохо соображая, что она делает...
И наконец, в семнадцать лет она была любопытна и жадна к
перемене.
— Если бы я имел средства, ты бы не нуждалась, —
пробормотал Леви.
В том, что у него нет ничего, кроме долгов, Магда не
сомневалась.
Она внимательно поглядела на беспечное, насмешливое лицо
художника.
Он всегда хотел показать, что может высмеять не только
жизнь и пустой карман, но и самого Господа Бога.
Ради семьи Леви загубил талант. Он был несчастен, но
никогда не жаловался.
— Нужно меняться, голубка, — заявил Леви, — махни
рукой... легче смотри на жизнь... с цветка на цветок...
— Не могу, Леви...
— Что значит «не могу»? Нужно... В конце концов, ко всему
привыкаешь... рано или поздно, ты должна...
— Стать проще... — иронически подсказала она.
— Не только проще, но и вдвое грубее.
— Если бы мы были, наоборот, втрое, в десять раз сложнее,
мы бы нашли выход.
Леви засмеялся, оставляя кисти.
— Ты истеричка.
Он схватил ее на руки и начал вольно шутить.
Вскочила, возмущенная.
Нет, нет, языком может болтать сколько хочет, но руки...
нет, нет.
Раздосадованный, Леви снова уселся перед мольбертом.
Покрутил седые усы.
— Итак, мы постимся? Во имя чего?.. Ради кого?.. Ради этого
замороженного Боржека, который связался с дрянью?
— Леви!
7 *
195
— Хорошо, я назову ее красивой барыней... сущность одна...
У тебя не любовь, а психоз.
— На кого вы намекаете? Разве Боржек?..
— Не святой, будь уверена. Кто «она» — я не знаю.
Валюшко перевела дух.
— Тише, Леви... Ваша жена явится на шум.
— Увы, моя жена в бегах... быть может, в каком-нибудь доме
свиданий. Все возможно. Черт возьми, я ничего не знаю и
ничего не теряю.
Он легкомысленный циник, Леви. Он говорит чудовищные
вещи. Магда спешно простилась, чтобы застать еще дома 06-
роцкого.
Закрывали магазины. Улицы пустели. Небо было высоко,
прозрачно, без звезд.
Она затосковала, не думая, почему, отчего, ничего не
вспоминая, не ища облегчения, вся погруженная лишь в ощущение
тоски.
Оброцкий возился с Китти в саду.
Медленно ходили по дорожкам.
На них смотрели темные впадины раскрытых окон.
Виноградные листья, что завили балкон и галерейку, покраснели, как
спелые сливы. Пахло землею и осенью.
Магда сложила руки. Милый Адась, милый Адамини, пусть
он поедет с нею на симфонический концерт...
— Там будет Боржек? — пристально поглядел на нее
Оброцкий. — Ну, ну, не надо сердиться...
Правда, она надеется увидеть там Боржека.
—Mater Dei, что мне делать с вами? — пробормотал Оброцкий.
Магда присела на скамью. От тоски ее глаза увеличились и
загорелись.
— Я мучаюсь, Адась... Не смейтесь надо мною.
Китти огнесли профессору, а сами поехали.
В городском саду было сыро, почти холодно. Столики давно
убрали и ужинали теперь на веранде клуба. Немногочисленная
публика гуляла лишь на главной аллее.
В павильоне играла музыка. Около электрических фонарей
уже не вились мошки.
Валюшко изнемогала от волнения. У нее сохли и даже как-
то болели губы. Ежеминутно она подносила к ним платок.
Придет Боржек или нет?
Он любил музыку. Летом ежедневно приезжал с дачи и
гулял здесь с какими-то красивыми дамами. Проходя мимо, он
корректно кланялся Магде.
196
Боже мой, какое это было для нее счастье — смотреть на
него издали.
Сейчас она поминутно тревожно оглядывалась.
— Не волнуйтесь, — мягко заметил Оброцкий, — я слежу,
придет Боржек или нет... мне видна лестница из клуба... Он ведь
должен спуститься именно по ней?
-Да.
Наконец Оброцкий чуть-чуть вздрогнул.
— Боржек идет сюда, он поравняется с нами.
Магда сразу перестала слышать музыку.
Потом вдруг начала смеяться с глазами, полными слез.
Сердце так ныло, так ныло...
Когда Боржек снял шляпу, Магда на минуту задержала на
нем взгляд.
— Ну вот, — иронически пробормотал Оброцкий, —
свершилось... Пойдемте походим...
Лениво повиновалась. Молча обошла с ним все аллеи.
Думала о Боржеке. Что он дал ей? Несколько мимолетных встреч?
Несколько участливых фраз? Несколько почти небрежных
поцелуев?
Жгли фейерверки. Красные, синие, зеленые ракеты
взлетали бесшумно, с треском разрывались и падали разноцветным
дождем в мглу.
Тата Подкумок и Магда приехали к вокзалу на автомобиле.
Это был сюрприз генеральши. Племянница ехала в Н-ск по ее
делам. Магда несколько раз восхищенно оглядела Подкумок.
Нужно, конечно, вырасти в роскоши, чтобы уметь так изящно
носить платье, так уверенно ходить, так красиво смеяться.
В ожидании поезда пили кофе.
— Я очень тоскую о Париже, — просто сказала
Подкумок, — я прожила там с сестрой два года и привыкла. Париж
отравляет как-то. Еще осенью ничего, а весной тянет. Знаете,
свежий воздух, первая яркая зелень и дымок автомобиля...
ах... Так Париж и вспомнится... Вы путешествовали когда-
нибудь?
— Да. И при моем безденежье сравнительно много. За
границей я была три раза, — откликнулась Магда, — я совсем другая
в дороге... похожа на американского мальчишку... Во мне
просыпается тогда нечто мужское, смелое, вольное... другая
половина моей души.
Тата пристально посмотрела на нее своими узкими,
длинными серыми глазами.
197
— Вы очень женственны, правда. И в то же время я не
сказала бы, что вы безвольны, как говорил Боржек.
Валюшко медленно покраснела. Выражение ее лица стало
холодным. Она начала бросать рассеянные взгляды по
сторонам. Лакей генеральши стерег чемодан и плед Таты.
Подкумок продолжала спокойно:
— Боржек — интересный человек, но его чудовищный
эгоизм, его лживость, изломанность... Ах, нет... я не могла бы иметь
дело с таким человеком... я бы возненавидела его.
Подали поезд, и они встали.
В дамском купе никого не было.
Сейчас же, как тронулся поезд, Подкумок уютно
разложилась, повязала волосы газом и принялась за апельсины.
Магда следила за нею напряженно. Находила ее спокойной,
счастливой, знающей и немножко завидовала ей.
— О вас много говорит генеральша, — беспечно объявила
Тата. — Это плохо. Она больше смотрит на вас, чем слушает
ваше чтение. Я боюсь, как бы вам не отказали скоро.
Валюшко пожала плечами. Конечно, откажут.
— А в Н-ске у вас знакомые?
— Да. Ксендз Урбанович.
Тата созналась, что католичество ее пугает. Она чувствует
его таинственную силу, мистическое очарование. Часто ей даже
кажется, что еще немного — и она станет католичкой.
— Из всех христианских религий я нахожу католичество
самой логичной и красивой.
Магда смотрела в окно. Она подумала о Мадонне с голубым
поясом, которая теперь молится в костеле, и пламенно
мысленно прочла «Ave». Потом соображала, что скажет ксендзу Вой-
цеху при встрече. Тот писал ей о муже. Спрашивал, не захочет
ли она вернуться к Бруно? О нет. Она не вернется.
Экономка ксендза, старая, неопрятная, кормила индюшек
около сарая. Лужайку в саду выкосили, и она выгорела,
пожелтела окончательно. Цветник стоял пустой, если не считать
нескольких жалких астр.
Дверь во флигель ксендза была открыта.
Увидев Магду, экономка вытряхнула фартук и подошла
ближе.
— День добрый... Что угодно пани?.. Дома ли ксендз Войцех?
Ну, конечно, дома, где же ему быть?
Бормоча что-то, провожала Магду. Не выносила дамских
посещений. Ксендз Войцех, румяный, полный блондин, встре-
198
тил Валюижо радостно. Он переводил какое-то чудесное,
глубокомысленное немецкое сочинение, ему недавно прислали не
менее чудесные религиозные гравюры из Меца и обещали
отпустить на конгресс богословов.
Он находил жизнь прекрасной. Наивное довольство
светилось в его глазах.
— Святая Мария, каким чудом вы приехали сюда?
Экономка пришла спросить с удрученным видом, когда
ксендз будет завтракать.
— Подавайте сейчас, Поля... Дайте прибор для пани.
Этажерки, полки, столы были завалены книгами. Со стены
улыбались Мадонны, и святая Цецилия играла на цитре. Окно
стояло раскрытым. Везде громадные букеты желтых осенних
роз. Они пахли густо, сладко и до мучительства приятно.
Магда ощутила глубокую грусть. Испытывала легкое
разочарование.
Ей казалось, что домик и ксендз Войцех изменились к
худшему. На самом же деле изменилась только она, Магда. Для
нее не существовало теперь невинных радостей.
Как давно и как вместе недавно переступала она порог этой
комнаты!..
Тогда на ней была нелепая темно-зеленая шляпа, белое
платье, а в глазах крик: мне только семнадцать лет.
Она сидела тут смирненько и серьезно объясняла, что ксендз
Войцех должен обвенчать ее с Бруно Валюшко,
студентом-технологом, так как они не могут жить друг без друга... Да, как
давно, как давно...
И она сказала ласково, но твердо:
— Ксендз Войцех, я получила ваше письмо и очень много
думала о нем. Я не могу вернуться к мужу. Я не вернусь.
Он беспомощно развел руками.
Ах, эти ранние браки... Напрасно он не отговорил их
венчаться... но ведь они были так влюблены... ему было жаль их.
Тоном проповеди объяснил он брак по катехизису... привел
изречения святых отцов.
Магда слушала с полунасмешливой, полугорькой улыбкой.
Наконец разразилась упреками.
Разве она мало терпела? Разве не прощала грубость,
оскорбления, измены? До каких пор? До каких границ прикажете ей
унижаться? А Роза Берман? Эта порочная рыжая девушка, за
которой бегал Бруно. А разве Бруно щадил ее, Магду? Он
развращал ее, да, только развращал. Теперь у нее нет ничего для
него, ничего.
199
Взволнованная Магда единым духом выпила стакан воды.
— Госпожа Берман сама лезла к вашему мужу, —
пробормотал удрученный ксендз Войцех.
— Это не извинение.
— Нужно прощать.
— Я простила, но я не вернусь. В чем моя вина? В том, что я
не живу с человеком, которого презираю? В том, что я
отказалась родить от распутника и дегенерата? В том, что я ушла
зарабатывать свой кусок хлеба и подорвала здоровье на этом?
В том, что я хочу и прошу любви, а мне подают камень? В чем
моя вина?
— Ваша вина в том, что вы захотели свободы. Вы не
покорились и не терпели. Когда вы станете старше, вы поймете,
какое счастье для женщины в подчинении. Вот. Теперь вы
несчастны.
— Да, я несчастна, — с отчаянием согласилась Валюшко, —
но именно потому и несчастна, что несвободна. Душа моя,
мысли, желания, влечение только к рабству, страданию, унижению.
Я не любила Бруно, и это меня спасло. Я ушла от него. Но
теперь я люблю Боржека, и я пресмыкаюсь у его ног, и я
понимаю теперь все сладострастие боли. Да, ксендз Войцех, не
пугайтесь... в боли есть сладострастие... есть блаженство... есть свое
упоение... Я поняла это. Ах, научите меня быть гордой,
равнодушной, холодной! Научите меня быть не женщиной. Верните
мне свободу внутреннюю... не внешнюю, внутреннюю...
Научите меня не искать господина... О, вы увидите... Тогда я буду
счастлива и без мужа, и без Боржека, и без любви... Целый мир
откроется мне... Все будет тогда доступно для меня, все...
Интерес к искусству, жажда путешествий, красота книг, одежды,
чужой наружности, опьянение коротких, случайных встреч,
восторг общения с многими людьми сразу, религиозность
простая, ясная, без исступленной тоски и боли... Ах, мало ли!.. Все,
говорю я вам... все...
Ксендз Урбанович побледнел и сконфузился. Он давно
бродил по комнате и делал вид, что читает заглавия книг на полках.
Потом пробормотал, размахивая томом святого Августина:
— Вы говорите чрезвычайно... чрезвычайно двусмысленные
вещи... да... вы — человек страстный и несдержанный... вам
многое только кажется... вы неверующая.
— А, нет, я очень покорная католичка, ксендз Войцех. И
разве перед Богом у меня нет такой же исступленной
униженности?
— О... Я не хочу вас слушать.
200
— Я устала, — тихо кончила Магда, — от бедности, от
одиночества, от самой себя. Если бы я могла умереть внезапно — это
было бы хорошо. Это было бы счастьем.
— Вы молоды, — неопределенно кинул ксендз Войцех.
Он приуныл и должен был сознаться самому себе, что не
понимает Магды. Искоса поглядел на ее бледное, замкнутое,
страдающее лицо. Она просто влюблена, подумал он наивно.
После длинной паузы, меняя разговор, ксендз Урбанович
повел ее в часовню и показал новое покрывало на алтаре.
В часовне пылали искусственные цветы, блестело золото икон,
пахло ладаном, немного пылью и было торжественно тихо, как
на кладбище. Магда поискала глазами Деву Марию. Здесь Она
протягивала руки верующим. Валюшко опустилась на колени:
«Уста мои молчат перед Тобою, но мое молчание говорит».
Ксендз провожал ее до калитки. Экономка по-прежнему
кормила индюшек. Солнце припекало еще сильнее.
— Совсем лето, — вяло заметила Валюшко, — у нас в
гостинице духота... слава Богу, уезжаем сегодня вечером.
— Вы меня страшно огорчили, — вздыхал ксендз,
вытаскивая требник, — зачем осложнять жизнь? Вы видите ужас там,
где есть только нервы. Примиритесь с мужем и живите, как
тысячи честных, милых, простых женщин. Спокойно,
удовлетворенно, под мужской защитой. Вы много говорите о своей
покорности, но я ее не вижу. Наоборот, в вас кипит бунт,
ненависть и презрение. Это дурно, вы плохо молитесь.
У калитки две старухи низко поклонились ксендзу.
— Да славится имя Иисуса Христа! — сказали они разом.
— Во веки веков, аминь, — ответил ксендз.
Потом он с доброй улыбкой посмотрел на Магду.
— Ну, ну, не расстраивайтесь... Поезжайте, работайте...
думайте... и молитесь... много молитесь... Вашему мужу я пишу
изредка... Да, вы не забывайте, что у вас муж...
Валюшко поцеловала ему руку.
Он медленно пошел обратно. Солнце светило на его
широкую спину, и видно было, что рукава сутаны залоснились.
В гостинице Валюшко застала телеграмму на имя Подкумок.
Самой Таты еще не было. Ездила по делам. Магда ждала ее с
величайшим напряжением. Ей почему-то грезились различные
несчастья.
Тата вернулась лишь к пяти часам.
— Я умираю от усталости, — сказала она равнодушно,
вскрывая телеграмму. Пробежала и с неопределенной улыбкой
протянула Магде.
201
«Опоздал на вокзал, извиняюсь. Леон Боржек».
— Как это любезно с его стороны, — тихо бросила Магда.
— Он надоел мне, — полузевнула Тата, — когда-то я бегала
за ним — теперь он за мной... Так всегда бывает. Какая скука,
дорогая!
И добавила после паузы:
— Этот человек разделяет женщин на тех, которых можно и
которых нельзя... Вот все его мнение о женщинах и вся его
жизнь.
II
Магда пошла к профессору позвонить по телефону. В
передней столкнулась с его женой.
Тихая и кроткая профессорша ласково поздоровалась. Муж
второй день болен... Внучка капризничает... Как сильно
похудела Магда!..
— Я опять потеряла место, — грустно сказала Валюшко, —
моя генеральша уехала в какой-то монастырь... если вернется
через месяц, может быть, возьмет.
— Бог милостив. При вашей энергии... Вы хотели говорить по
телефону?.. Пожалуйста.
Магда позвонила Боржеку. От волнения она говорила с
закрытыми глазами и трубка дрожала в ее руке.
Боржек был дома. В тоне его голоса слышалось
нескончаемое удивление.
С ледяной вежливостью попросил Валюшко приехать на
другой день.
Вся кровь бросилась ей в голову.
— Хорошо, — сказала она в трубку, — благодарю вас,
хорошо.
Деревья вокруг костела стонали как живые. На них уже не
было листьев. Сеял редкий дождь.
У себя она нашла плитку шоколада и шутливые стихи от
Оброцкого — все в конвертике, кнопкой приколотое к двери...
Приходите ко мне. В сказку жизни моей
Вы внесете и нежность и ласку;
Лучезарней всех снов, лучезарней всех фей
Созидайте красивую сказку;
В жизни пусто, тоскливо и холодно вам,
В жизни — счастью тупые угрозы:
Уходите от жизни к расплывчатым снам,
К лучезарным видениям грезы.
202
Отрекитесь от правды, от яви, от слов,
Тайной сказки, как счастьем владея, —
Вы прекрасней всех фей,
Лучезарней всех снов,
Лучезарная, нежная фея*.
Тронутая Магда невольно улыбнулась.
Милый Адамини! Крошка Китти права, он всех любит.
Она присела к столу, стискивая голову. Все последние дни
бегала по объявлениям. Нищета совсем близко. Тоска и
пустота томили ее.
Постучалась к Вере.
Та валялась на постели в белом вязаном жакете и ела
яблоки. Она приготовила чай, спустила шторы и ждала терпеливо
своего Виктора. Тот заходил ежедневно после лекций.
— Вы совсем не занимаетесь, Веруся?
— Ох, да не лезет в голову.
— Вы так никогда не кончите музыкального училища.
— Ну и черт с ним... Отчего вы такая скучная, Магда?
— Скверно. Денег нет. Места нет. Я скоро задохнусь.
Через полчаса Валюшко поднималась к Оброцкому. Во всем
ее теле было какое-то странное нетерпение и неловкость. Она
сама не знала, куда себя приткнуть и что с собой делать.
Еще на лестнице услышала, как Адам распевал во все горло:
Извела меня кручина,
Подколодная змея... —
и аккомпанировал себе на гитаре.
— Друг мой, — сказала Магда, — не гоните меня немножко.
Я пришла поблагодарить вас за стихи и Гала-Петер.
Оброцкий начал смеяться. Его глаза стали грустными и
теплыми.
— Были на репетиции, Адась?
— Конечно, а вы все возитесь со своей Щилиной?
— За что вы так не любите Веру?
— Вульгарна, груба.
И запел любимый романс Магды:
Мне не спится в тоске по ночам,
Думы тяжкие сон отгоняют.
Магда заплакала.
* Н. Урванцев. (Примеч. Анны Map.)
203
Он делал вид, что не замечает ее слез, пел романс за
романсом, а потом встал и молча начал варить кофе. Скорбная
складка около его губ обозначилась резче.
— Я позвонила Боржеку, — бормотала сквозь слезы Валюш-
ко, — только он просил приехать завтра.... а между тем сегодня
дождь и он обязательно один.
Оброцкий нервно повел плечами. Отозвался с озлоблением:
— Да не нужны вы ему, милая... не нужны... Поймите, что не
нужны. Не верит он в вашу любовь. Слушайте, вчера со мной
был курьез. У нас в номере четырнадцатом живет барышня...
хористочка... Вы ее знаете... Хорошенькая, глупенькая... Она
влюблена в моего товарища... Вчера он сказал мне: «Обожди,
Адась, во дворе... если лампа потухнет, значит, я остался у нее;
будет гореть — я прибегу обратно». Что? Морщитесь? Факт. Это
тоже любовь, по-вашему?
Теперь наливал ей кофе и ласково, участливо заглядывал в
глаза.
— А вот я один... я никого не ищу... всегда один...
— Ах, не надо так говорить, Адамини, не надо... Конечно, и
он любит кого-нибудь...
Оброцкий натянуто засмеялся.
Обойщик прибивал длинную зеленую драпировку. Она
падала мягкими складками, но все же это было не то.
Боржек стоял тут же и делал замечания. С утра в квартире
шла приборка, и он помогал лакею и двум служащим, которые
пришли с нижнего этажа.
Боржек разгорелся. Черная прядка прилипла ко лбу.
Он улыбнулся Магде и сказал:
— Проходите в кабинет. Я сейчас вернусь.
Она повиновалась, изнемогая от волнения.
Кабинет Боржека, темно-зеленый, строгий, с одним окном,
никогда не могла рассмотреть хорошенько.
Сейчас подумала, что бредовая любовь к этому человеку
увеличивается, а не уменьшается.
Боржек вошел с папиросой и смеялся.
Умоляющим жестом она взяла его руку и поцеловала
ладонь. Кожа пахла, и дрожь пронизала Магду.
Она сейчас же превратилась в ребенка. Она забыла, как
много испытала, видела, читала; забыла, что у нее почти мужская
трудоспособность, энергия, анализ, наблюдательность, забыла,
что многие любили ее до беспамятства и что она ездила по
городам одна, свободная, как птица.
204
Перед этим человеком она была нема, послушна и робка.
— Сядьте и успокойтесь, — заметил Боржек.
Он был недоволен последними ее письмами.
— Зачем вы мучите себя, Магда?.. Ничего, кроме дружбы, я
не могу вам дать. Может быть, нам лучше не встречаться?
— Пожалейте меня, — прошептала Валюшко.
Неожиданно Леон сказал:
— Вы знаете Тату Подкумок?.. Она сыграла в моей жизни
большую роль. Возможно, я любил только ее одну. Но эта
любовь сорвалась. И больше я не верю в любовь. Я люблю только
себя одного.
Она с трудом собрала свои путавшиеся мысли.
Потом тихонько погладила его рукав.
— Вы знаете мое прошлое, знаете настоящее, знаете крупное
и малое, я принадлежу вам духовно, это тоже счастье, Леон.
Боржек улыбнулся:
— Ну, наши отношения так... нереальны. Разве вы не
чувствуете?
Звук его голоса проникал в самую глубину ее души и там
оставался.
Мелькнуло желание спросить: почему он не любит ее?
Ужаснулась безумию своих мыслей.
Из ее глаз струилась любовь и тоска, когда, уходя, она
оглянулась на него.
В один из зимних дней Валюшко зашла к Леви. Она совсем
забыла его. В мастерской была стужа. Семья художника, по
обыкновению, отсутствовала, а сам он бродил из угла в угол,
шлепая туфлями и с пледом на плечах.
— Ну, исповедуйся. По-прежнему Боржек или новый?
Валюшко вспыхнула.
Ах, пусть Леви не шутит так жестоко! Художник
посвистывал.
— Ну, ну, дальше.
Из ее коротких фраз он не узнал ничего нового. Места не
нашла, перебивалась уроками. Кто-то аккуратно и анонимно
присылал ей провизию, кофе, сахар, сыр, масло... даже
лакомства. Конечно, это Оброцкий. Хоть и отрекался яростно. К Бор-
жеку она ходит редко.
Леви бесцеремонно зевал.
— Слушай, детка... Мужчина не только не нуждается в
любви, но даже боится ее. Любовь тяжела, обременительна. Она
заставляет страдать. Мужчина хочет устроиться с женщиной
205
без хлопот, как можно удобнее, дешевле, проще. Если мы
любим, мы невольно должны уважать женщину, а мы охотно
дадим ей все, комфорт, аплодисменты, удовольствия, только не
уважение.
Леви еще раз зевнул, пошаркал туфлями, поскреб голову и
продолжал:
— Любовь женщины?.. Гм... скверная штука... страдание,
идеализация, ревность... Я любим, да ведь это черт знает как
скучно! Я должен, пожалуй, стать тогда монополистом, а уже лгать,
извертываться непременно, на каждом шагу. Как не лгать в
любви? Любовь сама по себе красивая ложь. Кто любит, тот
лжет себе и тому, кого любит. Ты подумай, малютка...
Прихожу я к влюбленной женщине. Встречаю исступленные ласки,
умоляющие, покорные глаза, идолопоклонство... Чего доброго,
она еще на колени станет и зарыдает о том, что любила кого-то
до меня. Я буду смотреть на распятую, униженную мною
женщину и мечтать об одном: уйти поскорей и подальше. Не хочу я
любви. Не надо мне любви. Клянусь тебе, женщина без любви
во сто раз интереснее.
Он засмеялся растерянному виду Магды.
— Ну, будь ты благоразумна... ты давно наскучила Боржеку.
Может быть, его мужскому тщеславию и льстит твоя собачья
преданность, но это не утешение. Он обойдется превосходно
без тебя. Ты, по-моему, не чувственна, но привязчива. Ты,
кроме того, как большинство женщин, целуешь только те руки,
которые бьют тебя. Боржек, сам того не подозревая, привязал
тебя строгостью... Ну, ну, не отнекивайся.
От стыда и гнева Магда побелела.
— Вы — старый циник.
— Циник, да, но не старый... Не говори так, девочка... Твой
Боржек лишь немногим моложе меня. И если бы то же самое
сказал он, ты бы промолчала. Разве я лгу?
— Вы хотите, чтобы я смешивала патологию с чувством?
— Невольно... невольно, дружок.
Кто-то сильно позвонил в передней.
Они не слышали.
— Что мне делать, Леви?
— Б а... Сходись... уезжай, почем я знаю?
Позвонили вторично.
Зевая, вздрагивая и шаркая туфлями, Леви пошел открывать.
Магда как в полусне огляделась. Голая натурщица нахально
щурилась с полотна. Старое бутафорское оружие, доспехи и
шлемы поблескивали на стене.
206
«Кажется, Леви прав... » — тускло подумала она.
Художник вернулся с элегантным господином среднего
роста, худощавым.
Магду поразила в первую минуту его походка.
Легкая, совсем юношеская, быстрая и уверенная.
Он поклонился, крепко пожал руку Магде и очень
отчетливо произнес:
— Спешнев.
Они внимательно глядели друга на друга.
Взгляд его темно-карих, блестящих, проницательных глаз
показался Магде давно знакомым.
Леви, зевая до слез, бормотал, придвигая стулья:
— Ты, конечно, слышала о Спешневе, малютка?.. Это наша
гордость...
— Да, много слышала. Известный адвокат.
Спешнев объяснял Леви, что он приехал сюда ненадолго.
Самое большее на неделю.
Магда поднялась проститься.
— Я провожу вас, — живо обернулся Спешнев, — вы
позволите?
С удовольствием согласилась. Она находила его в душе
обаятельным.
Леви высоко держал лампу, пока гости спускались по
лестнице. Он показался Магде особенно жалким сегодня. Вероятно,
потому, что был один в холодной квартире, сильно озяб и
стискивал скорбно губы.
Павел Николаевич умышленно не взял извозчика.
Падал редкий влажный снег. В сквере низкорослые кусты и
деревья были густо облиты инеем.
Странное доверие к этому человеку охватило ее.
Она поднимала на него грустные глаза почти с нежностью.
— Вы напоминаете мне, — сказал он мягко, — женщин
художника Котарбинского... Знаете, худенькое личико с
громадными черными глазами и тонкое, как стебелек, тело... девочки,
не женщины... Я буду звать вас «девочка Магда».
Он засмеялся.
Спешнев ехал к жене на юг.
— К гражданской жене, ибо с законной я разошелся.
Впрочем, каждую женщину, близкую мне, я называю женою... на
этот счет у меня особое мнение.
Он говорил о женщинах тепло и вместе беспечно, не злым,
но легкомысленным языком. Спросил, почему Магда такая
грустная, измученная? Ах да... нужда... одиночество...
207
— Боже мой, как бы я хотел помочь вам, девочка Магда... Не
думайте, это не только потому, что вы красивая и умная.
А просто так.
Она спросила задумчиво и устало:
— А вы бы хотели, чтобы я принадлежала вам?
— Да, конечно.
Прощаясь, он крепко поцеловал ее руку.
В ней проснулось желание обнять его, сказать ему «ты»,
увести к себе и сидеть с ним долго.
Очарованная, подумала, что непременно увидит его в
будущем. Ночью ей захотелось помолиться за него.
Сегодня Вера явилась к Магде с опухшим лицом, с утра не
переставая она плакала. Оказалось, у нее было прошлое и она
созналась Виктору. Тот исчез и больше не являлся.
Магда растерянно потерла лоб.
— Не знаю, — бормотала она, — почему люди придают
физическому падению такое громадное значение? Разве душа не
может остаться чистой, если даже тело грешило? Если я
чувствую тяжесть своего прошлого, Вера (а у меня было прошлое,
к несчастью), то лишь потому, что оно нелепо, ненужно, как-то
чересчур нелогично. Я падала, вероятно, по фатальной
неизбежности. Я часто спрашиваю себя: зачем это все было?.. И не
нахожу ответа...
Вера вытерла глаза, залезла на кушетку и долго молчала.
Потом она обняла Магду.
— А за что вы полюбили Боржека?
— Мне он всегда казался таким чистым, Вера. Мне казалось
также, что любовь к нему приведет меня к Богу. Я всегда
думала, что мужчина спасает женщину. Я полюбила Боржека, как
только услышала его голос. Я узнавала его шаги среди тысячи.
Если случайно встречала, от волнения не могла идти дальше.
Для меня было счастьем, когда он смотрел на меня. О нем же
самом я знаю так мало, великий Боже! Но я его чувствую!
Позже, уже одна, Магда зашивала себе платье. У нее почти
все износилось.
Сильнейшая слабость заставляла ее часто ложиться.
Она не читала больше «Подражания Христу». Оно казалось
ей чересчур строгим.
Одна молитва приводила Магду в восторг.
Шептала ее, засыпая:
— «Святая Дева, среди славных дней Твоих не забывай
земной печали.
208
Будь милостива к тем, кто борется с несчастьями и не
перестает смачивать уста свои горечью жизни.
Сжалься над теми, которые любили и были разлучены.
Сжалься над одиночеством нашего сердца.
Сжалься над слабостью нашей веры.
Сжалься над предметами нашей нежности.
Сжалься над теми, кто плачет, кто молится, кто колеблется,
даруй всем надежду и мир. Аминь»*.
Вошел Спешнев. Магда изумленно вскрикнула:
— Как, вы не уехали?
— Не только не уехал, но остался еще на целый месяц.
Он пристально посмотрел ей в глаза и заявил с
удовольствием:
— Я вижу, вы мне рады.
Покуда Магда варила кофе, Павел Николаевич
разглядывал комнату.
— Так жить нельзя, — объявил он, — я был сам когда-то
беден, но то было иначе. Я знал свое будущее. Предчувствие не
обмануло меня. Вам же нужно уехать.
Он оживленно рисовал ей жизнь в большом городе.
Мысль о перемене взволновала Магду.
Сразу и без усилий между ними установилась близость.
Ему нравилась ее религиозность, молитвенники и распятие
на стене.
— В этом много вкуса, — мягко заметил Спешнев, — я не
представляю вас в другой обстановке.
На прощание он задержал ее руку:
— Вы помните о том, что сказали мне?
Магда слегка улыбнулась.
— Какая я женщина, — пробормотала она просто, —и что я
для вас?
Ночью она писала длинное письмо Боржеку. Умоляла
поддержать ее нравственно и рассказывала о Спешневе.
Было очень холодно, и руки ее совершенно закоченели.
Всю неделю Магда ждала письма от Боржека. Но ответ не
пришел. Мельком, идя в костел, она увидела Леона на улице.
Он ехал, кутался в шубу, с длинной папиросой.
Что-то недоброе, горькое поднялось в ней.
От боли Магда прикрыла глаза.
* L'abbé Péreyve. (Примеч. Анны Map.)
209
Для Непорочной в тот час у нее не нашлось слов.
Вяло прочитав «Радуйся, Мария», она подумала: «Если
можешь — спаси, если хочешь —удержи...»
Она уже решила сойтись с Павлом. Ничто бы, кажется, не
остановило ее теперь. Твердо надеялась забыть Боржека.
Несколько раз забегал Оброцкий. Вся она съеживалась
перед ним. Он же был прежний, ласковый, внимательный,
деликатный.
Каждый вечер приезжал Спешнев.
В восторге Магда бросалась к нему навстречу. Она веселела
и болтала без умолку. Сегодня она особенно обрадовалась. Всю
предыдущую ночь она плакала. Они стояли почему-то друг
против друга, держась за руки.
Свет лампы бил ей прямо в лицо. Он поднял ее голову и
долго смотрел в глаза.
— Я до сих пор не знаю, какого они цвета, —сказал он, —не
то черные, не то золотистые.
И она слышала, как забилось его сердце. Невольно она
потянулась к нему. Спешнев поцеловал ее долго и крепко. Может
быть, тут было больше жалости, чем любви.
— Дитя мое, милое, доброе дитя!
Громадная благодарность, тихая примиренность разлилась в
ее груди.
— Завтра я вернусь, девочка Магда.
— Да, Павел.
Она проводила его, но не осталась у себя в комнате. Тысяча
противоречивых чувств душили ее.
Пришла к Вере.
Щилина примирилась с Виктором. Снова распевала целые
дни и уничтожала коробки шоколада.
— Не нужно теперь молиться, не нужно видеть Боржека и не
нужно бороться, — посоветовала Вера.
Потом погладила Магду по волосам:
— Какой у вас взволнованный вид.
— Он — изумительный, он —чудесный, — бормотала Валюш-
ко, думая о Спешневе, — никто не был со мною так ласков.
Перед репетицией зашел Оброцкий.
Он остановился, держа шапку и маленький саквояж, в
котором носил всегда все нужное для сцены.
— Доброе утро, отчего вы так давно не были у меня?
— А разве вы ждали меня? — Магда придала голосу
несколько вызывающий тон. Знает ли пан Адам, что она собирается
уезжать отсюда?
210
Он сел, бледнея.
— Куда же вы думаете уехать?
— В Петербург.
— Хорошо. Я телеграфирую сегодня же брату. У него
контора. Вы получите место.
Магда пожала плечами. Глаза ее дерзко блеснули.
— Надеюсь, вы не требуете благодарности.
— Я не узнаю вас, — холодно пробормотал Адам.
К вечеру ее возбуждение возросло. Бегала в одном платье
через двор к профессору и возилась с крошкой Китти.
Все это не имело никакого смысла, но ей хотелось
движения. Потом так же бегом вернулась к себе.
Она стояла на коленях перед горящей печкой и грела руки.
Красные блестящие языки огня слепили ее. Она не могла
разглядеть лица Веры.
— Ведь это же судьба, что Спешнев остался? Правда, судьба?
— Да не терзайтесь, Магда, все к лучшему.
В это время вошел мальчик лет четырнадцати.
Галуны его куртки поблескивали.
— Кто здесь госпожа Валюшко? — спросил он грубовато. —
Прислано из гостиницы «Марсель».
Без удивления Магда взяла у него письмо и распечатала.
Там была визитная карточка ее мужа. Он просил
немедленно приехать для делового свидания. В случае отказа — явится
лично.
Валюшко спокойно сказала мальчику:
— Я приеду сейчас же. Так и передайте барину.
Потом снова присела к огню и с наслаждением грелась.
— Мой муж приехал, — насмешливо и чувствуя в себе подъем
сил, заявила она Вере, — вот это толкнет меня действовать
решительно... да, толкнет...
— Вы его ненавидите?
— Нет, но я испытываю к нему неодолимую брезгливость
как к мужчине. А как к человеку — полнейшее равнодушие.
Когда же я выходила за него, я хотела принести ему в жертву
всю свою жизнь. В семнадцать лет всегда мечтаешь о подвигах.
Леви говорил мне, что любовь женщины не нужна мужчине.
Дорогой Магда дрожала как в сильнейшей лихорадке.
На минуту она представила себе высокую фигуру мужа,
белокурое, чуть-чуть скуластое лицо с серыми глазами. Это был
весьма неопред елейный человек.
— Нет, нет, нет.
Мысль, что он надеется на мир, привела ее в ужас.
211
Стискивала руки и повторяла почти вслух:
-Нет.
На мосту ветер был так свиреп, что приходилось крепко
держать шляпу.
Около гостиницы «Марсель» она вышла, совсем оледенелая.
В передней медлила с калошами и верхним платьем. Сверху,
из ресторана, слышался оркестр.
За чарующий взгляд искрометных очей.
Этот пошлый романс играли вчера в отеле, где остановился
Спешнев. Она ни за что не хотела отдаться ему в номере. Но он
так целовал ее!
Нервно поднималась по лестнице за лакеем.
Бруно Валюшко стоял у окна и закусывал.
Лакей закрыл дверь, захватив с собой пустой графинчик из-
под водки.
Валюшко шумно поздоровался. Он был, видимо, смущен.
— Хочешь закусить? — небрежно осведомился он.
Нет. Пусть Бруно объяснит, в чем дело. Росинки пота
выступили у нее на лбу. Вид семги и ее легкий запах раздражали Маг-
ду, от волнения ее мутило.
Бруно грубо спросил, когда она вернется к нему.
— Я думала, ты сам это знаешь. Никогда.
Они говорили друг другу грубости.
— Я мог бы взять тебя сейчас, если бы захотел, —
расхохотался Валюшко.
После смеха его вспыльчивость упала.
Он сел и миролюбиво осведомился, неужели так-таки все
кончено между ними.
— Да на что я тебе, Бруно?
— Ради общественного мнения.
Впрочем, он увидел сам всю нелепость их объяснения.
Заявил, что уедет ночным поездом.
Презрительно выкинул деньги.
— Ты потратилась на извозчика.
Магда не взяла. Страшно разбитая, она вернулась к себе.
Зажгла лампу, легла на кушетку, машинально взяла книгу. Не
понимала ни строчки. Ей хотелось рыдать и кричать на всю
комнату. Спешнев приехал к десяти часам.
— О, как я ждала вас! — пробормотала она.
Они сидели на кушетке прижавшись. И она все рассказала
ему. Когда она произнесла имя Леона Боржека, медленные,
скупые слезы полились у нее из глаз...
212
— Девочка Магда... девочка Магда.
Обыкновенно ее охватывал непоборимый, панический,
почти животный ужас перед мужской лаской. Теперь она его не
чувствовала.
Она покорилась ему тихо, с легким недоумением, без
малейшего сладострастия.
Сквозь волну скорби, усталости, сквозь дымку забытья еще
раз мелькнуло другое, любимое, далекое лицо. Но так смутно,
так мгновенно. Потом отошло.
Она тускло подумала, что Боржек теперь умер для нее.
Оставался этот человек, так нежно гладивший и
перебиравший ее волосы.
Они долго ничего не говорили друг другу.
То он целовал ее лицо, то она ему руки.
Эта была единственная ласка, которой он мог выразить свою
мужскую благодарность, а она — женскую покорность.
До сих пор люди не придумали ничего нового.
Увидеть Леона Боржека.
Сначала это чудовищное желание почти не мучило Магду.
Оно было слишком неясно, слишком глубоко скрыто. Но
потом разрослось и бунтовало.
Увидеть Боржека. Увидеть. Валюшко закрывала лицо
руками.
Зачем она так беспримерно жестока сама с собою?.. Ведь
теперь все изменилось.
В конце месяца она должна уехать в Петербург. Боржек не
встречается с нею. Она принадлежит другому. Да, все
изменилось.
Ее связь со Спешневым была искренняя, тихая и почти
лишенная чувственности.
Они больше говорили, чем ласкали друг друга. Она слепо
верила его словам, восхищалась его умом. Глубокая нежность
томила ее. Часто в упоении она бросалась перед ним на колени.
— Ты сам не знаешь, какой ты большой, чудный,
изумительный! Ты сам не знаешь.
И в то же время она неусыпно, недужно тосковала о Боржеке.
Часто, читая вслух у генеральши, она следила украдкой за
Татой Подкумок.
«Эта женщина принадлежала ему».
Судорога сжимала ее горло, и слова выходили неясно.
Однажды Магда попросила Тату:
— Если бы я могла увидеть Боржека... у вас.
213
Она не опустила глаз под изумленным взглядом Подкумок.
— Хотите сегодня? — спросила Тата.
И сейчас же пошла звонить Боржеку по телефону.
«Зачем я себя мучаю?» — опять подумала Магда.
Кончив читать генеральше, она прошла в комнату
Подкумок.
— Боржек сейчас приедет, — объявила, подсмеиваясь, Тата.
Она внимательно смотрела на Валюшко. Лицо ее выражало
полнейшее удовлетворение.
— Зачем вам понадобился Боржек? — спокойно спросила
она. — Уж не влюблены ли вы?
— Была, — сухо отозвалась Валюшко.
От волнения ее руки и лоб стали влажными.
— Странно, — покачала головой Подкумок, —странно и
нелепо. Я бы никогда не подумала... Вы не подходите друг другу.
Мне кажется, вы не живете, а грезите. Сами создаете себе и
горе и радость.
Спросила неожиданно о Спешневе. Во рту Магды сразу
пересохло.
— Разве вы знакомы, Татьяна Алексеевна?
— Несколько лет. Мы переписываемся.
— Он переписывается с вами?
— Ну да, конечно, — засмеялась Тата.
Боржек действительно приехал.
Втроем они пили чай и говорили о пустяках.
«Я люблю его по-прежнему», — устало решила Магда.
Тата неуловимо улыбалась. Вся эта история безмерно
потешала ее.
Павел Николаевич ждал к себе дам. В номере нарядно был
сервирован стол и приготовлены цветы. Сам он ходил
довольный и оживленный.
Магда испугалась, что придут веселые, интересные
женщины, она же дурно одета, печальна, измучена. Спешнев понял ее.
— Завтра я буду у тебя, — сказал он ласково, как бы утешая.
Он был таким лее, как в первый день. Нежным,
внимательным. И только. За этим уже чувствовалась своя, личная, ей
неизвестная жизнь. Он не мог дать ей большего.
— Так ты приедешь завтра? — обняла она его. Ее глаза
засияли. Он долго смотрел на нее.
Вдруг проговорил серьезно и тревожно:
— Меня не нужно любить. Я не хочу, чтобы ты страдала...
прошу тебя, люби меня меньше... не надо любви.
214
...Магда всем говорила о своем отъезде. В меблированных
комнатах ее жалели.
Старенький профессор находил, что ехать в большой город
одной женщине, конечно, рискованно, однако он надеется на
Магду.
— Вы такая чистая.
Магде почему-то казалось, что профессор знает об ее
отношениях к Спепшеву. Ах, как ей хотелось услышать от него или
осуждение, или прощение! Она все время нуждалась в
оправдании. Как-то вечером она принесла ему карточку Спешнева.
Лицо старика осталось безмятежным.
— Это красивый мужчина... Будьте все-таки осторожны, —
сказал он совсем просто.
Сгорбленный, важный и ласковый, он занялся Китти.
Магде хотелось заплакать.
Пересматривая свои вещи, она видела, что бедность,
полнейшая бедность, совсем недалеко. Ни на одну минуту ей не
пришло в голову попросить денежной поддержки у Спешнева. Она
не думала также, что в столице ее жизнь изменится. Нет,
конечно. Работать придется, пожалуй, еще больше. Но у нее будет
любовь.
Оброцкий заручился от брата местом для Магды.
Доктор Желтых обещал встретить ее на вокзале.
— Деньги на дорогу вам вышлют, — объявил Оброцкий.
Магда молчала. Итак, сама судьба хочет, чтобы она уехала.
А Боржек? С отчаянием убеждалась, что не забывала его ни на
минуту.
Пробормотала неуверенно:
— А долги? Ехать? Так скоро?
— Если вы останетесь здесь, вы снова вернетесь к Боржеку.
— Ну, хорошо, хорошо.
Потом она посмотрела на измученное лицо Оброцкого. Ей
следовало сказать что-нибудь ласковое, но она упрямо промолчала.
Это было воскресным утром, и Магда торопилась на
главную мессу. В костел попала после Евангелия. Ксендз говорил
проповедь. Она видела бритое смуглое лицо, голубой бант на
комже, видела, как он поднимал и опускал руку, но ничего не
уловила из его речи. С большим трудом протискалась в
притвор Лурдской Богоматери. Как всегда, там горели свечи. Как
всегда, медленно умирали цветы.
Как всегда, Непорочная, похожая на девочку с голубым
поясом, кротко молилась Всевышнему.
Глубокое волнение охватило Магду.
215
«О Мария, непорочно зачатая!
Сжалься над теми, которые любили и были разлучены.
Сжалься над одиночеством нашего сердца. Сжалься над
слабостью нашей веры. Сжалься над предметами нашей нежности.
Сжалься над теми, кто плачет, кто молится, кто колеблется,
даруй всем надежду и мир. Аминь».
Мужские голоса там сверху рассказывали историю
Иисуса... et homo factus est...*
Латинские слова падали сверху в толпу, как таинственные
цветы нездешнего сада.
Она слушала «Credo»** затаив дыхание.
Потом вспомнила, как много плакала здесь, молясь за Бор-
жека. Ах, уже одно то, что оба они были католиками, утешало
и радовало Магду.
Спешнев был более чуждым, каким-то пришлым. И все-таки
она любила его. Она привязалась к нему телом наперекор
голодной душе.
Пробовала молиться за него сейчас, в тех же выражениях,
что и за Боржека. И слова срывались так медленно, так робко,
словно она выдавливала их из себя.
Она открыла наудачу молитвенник.
«...Любовь крепкая, не устающая бороться, любовь чистая,
преданная бескорыстно; любовь распятая, для которой нет выше
радости, как страдать во имя возлюбленного»***.
Смутно ощутила желание умолить Марию даровать ей
такую любовь.
Это была мгновенная мысль, мгновенное желание, но оно
привело Магду в уныние. Может быть, ее любовь к Боржеку не
была «настоящей»? Может быть, ее нежность к Спешневу не
была началом любви?
— «Benedictus qui venit»****, — молитвенно возвещал
мужской голос.
— «Benedictus qui venit», — восторженно подтвердили альты.
— «Benedictus qui venit», — радовалось сопрано.
Ах, как неуверенны, ошибочны, преходящи наши чувства,
желания, любовь! Что она знала о себе самой? Что она знала о
Боржеке и Спешневе?
Все время она бродила во тьме и с каждым шагом удалялась
от церкви, от любви, от мира.
* ...и создал человек... (лат.)
** «Верую» (лат.).
*** Marguerite-Marie. (Примеч. Анны Map.)
**** Благословен приходящий (лат.).
216
Кто бы мог спасти ее? Да и нужно ли это?
И с этим мысленным, усталым восклицанием закрыла
молитвенник.
Холод проник в ее душу.
«Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem...»*
Она уходила из костела.
Нищенки кланялись ей, звякая четками и роняя страницы
из молитвенников.
Спешнев уезжал утром.
С десяти часов Магда начала волноваться.
Она не знала, что ей сказать Спешневу на прощание. У нее
было ощущение какого-то великого недоразумения между ними.
Она не понимала, хочет продолжать он связь или нет. Если он
называл ее своею, ласкал не только страстно, но и бережно,
если о разлуке у них не было речи, то также ни одним словом
он не обмолвился о будущем. Инстинктом мужчины он
разгадал также, что Магда не забыла Боржека.
Он спросил однажды с легкой иронией:
— Может быть, ты любишь двух?
— Нет, — солгала она упрямо, — нет, я люблю одного тебя.
Ах, правда, ее очень тянуло к Спешневу. Ей хотелось отдать
ему не только тело, но и душу. Ей хотелось быть с ним
заботливой, нежной, верной, понимающей. Все, что раньше она
чувствовала к Боржеку, она хотела перенести на этого человека. С
болью убедилась, однако, что если там ей хотелось давать, здесь —
брать. Любя Боржека, она никогда не отказывалась страдать
ради него. О, никогда! Наоборот, чем острее была боль, тем
хотелось ее еще больше. Боль была ненасытна, но то жгучее
блаженство, которое она даровала, утешало Магду. Теперь же
она упорно хотела радости.
Магда не застала Павла Николаевича. Однако ее провели в
его номер и просили подождать.
Вещи были уложены. Кто-то прислал ему фиалок.
Несколько разорванных писем валялось на полу. Без
всякого усилия, почти машинально, Магда прочла: «...целую тысячу
раз и жду. Tama».
Тата Подкумок? Или другая Тата?
Она слегка вздрогнула и продолжала ходить взад и вперед.
«Мне будет трудно потерять его... ах, как трудно», — в тоске
подумала она.
* Агнец Божий, устраняющий мирские грехи, дарующий нам мир...
(лат.)
217
Спешнев вернулся лишь к часу.
Торопливо рассказывал, где был и что делал.
Потом обнял Магду.
— Моя драгоценная игрушка!
Он бурно целовал ее, но чувственность спала в ней.
Они условились встретиться в К., где Магда останется с ним
на несколько дней и потом уже проедет в Петербург.
Никогда еще комната не казалась ей такой угрюмой,
отвратительно нищенской, как в тот вечер.
На другой день отчаяние возросло. Когда, тоскуя о Борже-
ке, Магда бродила то у моря, то за границей, то на севере, она
посылала ему страстные телеграммы. Закричать через
пространство о своей боли, о своей любви — было счастьем, громадным
облегчением.
В нервном беспокойстве она вскочила и теперь.
Торопливо пересчитала деньги. Ну, на телеграмму хватит.
Она бежала через сквер как безумная, увязая в глубоком
снегу.
«Разве он взял в монополию все ласкательные слова? — думала
о Боржеке, бессильно негодуя. — Я называла его "солнышко",
"любимый", "светлый"... Так точно я назову и Павла... Да... да...»
Она думала о Спешневе, но представляла себе Боржека. Она
как-то смешала их обоих.
Телеграмма облегчила.
Дома у себя она, по обыкновению, варила кофе, долго
ждала Веру.
Но Веры не было. Вероятно, заночевала у знакомых.
В одиннадцать часов принесли ответную телеграмму от Спеш-
нева. Длинную, ласковую, успокаивающую.
— О, Боже! — радостно ахнула Магда.
Она уснула вся в слезах, не раздеваясь.
III
Деньги от брата Оброцкий передал Магде.
Место в конторе за нею. Пусть будет любезна с доктором
Желтых. Он человек нужный, умелый.
Теперь у Магды было одно желание: никого не видеть из
прежних знакомых.
Ей так страстно хотелось новой жизни, что малейшее
напоминание о настоящем возмущало ее. Она пряталась от Веры,
профессора, не ходила в костел, а у генеральши проглатывала
слова, читая, — так торопилась уйти.
218
Но как-то вечером она все-таки поднялась к Оброцкому.
Он встретил ее с радостным изумлением. Она давно не
заходила сюда.
Жгучий стыд охватил Магду.
Этот человек молча, с простотой дитяти, помогал ей. Все его
слова к ней были нежны, дружески и просты. Все его взгляды
на нее целомудренны. Все его поступки с нею прекрасны и
чисты. Чем же она заплатила ему? Тем, что ни разу не пошла в
театр посмотреть его игру.
— Адамини, — пробормотала она, боясь заплакать, — Ада-
мини, простите меня.
— Вы бредите, — испугался он, — вы ни в чем не виноваты
предо мною.
Оброцкий надавал ей тысячу советов, записал адреса своих
петербургских знакомых, подробно высчитал ее расходы и со
скромным видом просил обращаться во всем и всегда к нему.
Прощаясь с Боржеком, Магда чувствовала, как у нее
прыгают губы и как она говорит то, что не хочет сказать.
Боржек смотрел на нее пристально, проникаясь острой,
безысходной, тоскливой жалостью. Хотел помочь и ничем не мог.
Хотел объяснить и не нашел слов.
Душа ее рванулась к нему. О, не хорони меня живую в
сердце твоем!
В вагоне Магда спрашивала себя: «Неужели же будут новые
лица, новые впечатления, новое дело, новые ощущения?
Неужели я буду принадлежать Спешневу и походить на других
женщин?»
Ее наполняло ликованием главное то, что у нее будет
любовь.
И она мечтала с закрытыми глазами о глубоких поцелуях, о
медленных, молчаливых объятиях, о трепетной ласке рук, о
глазах, в которые она заглянула бы так близко, так близко.
Дальше?.. Но дальше была тайна.
Женщина — она оставалась наивна, как девушка. Она
покорялась мужчине с робостью, недоумением, с бесконечным
смятением и потом долго плакала, зарывшись в подушки.
Физическая близость казалась глубоко оскорбительной, так как сама
Магда оставалась холодной, рассудочной, следящей за
волнением мужчины почти с отвращением. Ах, ее пылкое
воображение!., ее распаленная голова! Образы, которые она создавала в
душе, никогда не воплощались в действительности. Слова, ко-
219
торые слышались во сне, никогда никем не говорились ей.
Она вынула письма Спешнева. Как они были нежны.
Несколько чувственных намеков взволновали ее до изнеможения.
Все ее существо потянулось к Спешневу. Все сладострастные
картины встали в мозгу.
Ее соседка, милая немолодая девушка, разговаривала с нею.
Они были одни в купе.
Проходил мимо и заглядывал какой-то полный офицер.
Магда говорила о себе со своей обычной, почти цинической
болтливостью. Она страшно увлеклась. Она выражала свои
опасения, соображения, планы, спрашивала соседку, что та
думает обо всем этом. Девушка, оказывается, знала Спешнева.
Несколько раз повторила вслух, совершенно обессиленная
и сраженная изумлением:
— Но ведь это такой знаменитый адвокат!.. Понимаете,
знаменитый!
Магда словно только теперь поняла все обаяние его
крупного имени.
— О да, он такой большой!.. Он такой изумительный! —
бормотала она в упоении.
— Вы должны быть счастливы, понимаете, страшно
счастливы! — крикнула девушка и вдруг схватила Магду за руку. — Он
богат. Он должен вас обеспечить... такие случаи не повторяются.
— Вы думаете... я... — пробормотала она, теряясь и негодуя.
Внезапная мысль, что никто не поверит в ее бескорыстие,
сразила ее.
«Эта барышня думает, что я хвастаюсь связью со Спешне-
вым».
Она полезла на свое место, спрятала телеграммы и письма
Спешнева и притворилась дремлющей. Щеки ее пылали. Ей
казалось, она втопталась в грязь. Она уже не строила больше планов.
Девушка незаметно выскользнула из купе. Через четверть
часа она познакомилась с офицером.
Соблазнившись их смехом, успокоенная и грустная, Магда
присоединилась к ним. Она болтала непринужденно о
разнообразных вещах, управляла разговором по своему усмотрению.
— Я никогда не встречал таких интересных женщин, —
сказал офицер, делая восхищенное лицо.
Магда почувствовала себя неловко.
Девушка надулась уже получасом раньше.
Внезапно, чувствуя себя лишней, Валюшко ушла к себе в
купе. Было, вероятно, десять часов.
Через минуту услышала свою фамилию.
220
Она поднялась на локте.
— ...Это, конечно, содержанка. Видно по ее платью и вещам,
что у нее нет ничего. И сколько в ней самомнения, — говорила
курсистка.
Офицер гудел что-то... донеслось последнее:
— ...бывалая особа. Прошла огни, и воды, и медные трубы,
как говорится...
— ...и зачем она мне выбалтывала? Понимаете, я ее не знаю,
не знаю совершенно, — обижалась курсистка.
Офицер говорил долго и убедительно.
—.. .ведь она же должна понимать, что Спешнев бросит ее... —
почти крикнула девушка.
Магду охватил такой живой, глубочайший, неописуемый
стыд, что она боялась задохнуться.
Так она лежала долго. Потом села.
Курсистка вошла, улыбнулась и протянула дольку апельсина.
— Послушайте, — вдруг спокойно сказала Валюшко, — как
вы могли?.. Почему вы так поступили?
Девушка посмотрела на нее с ужасом.
— Ах, я не знаю... — пробормотала она наконец беспомощно
и взволнованно.
«Я отомстила», — мелькнуло у Валюшко.
Она коснулась рук девушки.
— Я не сержусь... простите... я не сержусь... — и вышло как-
то приторно.
«Теперь я хуже ее», — подумала Магда с отвращением.
Спешнева на вокзале не было.
В дамской комнате она долго и тщательно приводила себя в
порядок. То и дело нервная тошнота подступала к горлу. Она
нашла себя значительно подурневшей.
Предчувствие удержало ее взять чемоданчик в отель к Спеш-
неву. На извозчике не замечала ни улиц, ни пешеходов.
Ее изумило то хладнокровие, с каким отвечал швейцар.
Спешнев? Во втором этаже. Барин, кажется, уехал куда-то, но
барыня там. Магда смотрела на него, не понимая.
— Барыня?
— Да, третий день, как приехавши.
— Разве я вас спрашиваю? — пробормотала Магда.
В лифте она прочла мысленно «Радуйся, Мария».
Страшная тишина охватила ее.
Она постучалась в дверь легко и свободно.
— Войдите, — ленивым голосом откликнулась женщина.
221
Свет из окон падал прямо. Минуту Валюшко ничего не
различала. Потом услышала тихое восклицание.
Подкумок пошла ей навстречу.
— Это вы, Магдусь? — сказала она ласково, грустно и
спокойно.
Теперь они поняли все.
— Павел вернется сейчас... Вы разденьтесь, Магда... Разве вы
не получили его телеграммы?
— Нет, — прямо смотря на нее, ответила Валюшко.
— Ну, хорошо... садитесь... Я вам налью кофе.
В номере еще царила интимность утра. Кружевное матинэ
Таты лежало на спинке кресла.
Тата была чуть-чуть бледнее обыкновенного, но, как всегда,
красивая и изящная.
Она провела рукой по лбу и произнесла медленно:
— Я вижу по вашему лицу, Магда, что вы не сердитесь... вы
даже прощаете меня... хотя мне не за что прощать... Тут вышло
недоразумение. Из нас двух, возможно, вы любите Спешнева
серьезнее, чем я. Но я подхожу ему больше. По всему. Хотя бы
даже потому, что я богата, а вы бедны, я — реалистка, вы —
мечтательница, я покоряю мужчину, а вы сами покоряетесь.
Ах, как глупо я говорю сейчас!.. Ну, ничего... Я вас искренне
люблю, Магда. Мне нестерпимо больно причинять вам горе,
тогда с Боржеком, теперь с Павлом. Но так все выходит... Я
ничего не могу ни изменить, ни исправить.
И вдруг с мучением и со злостью:
— Как мы жалки, женщины!.. Как жалки!
В эту минуту вошли Спешнев и какой-то господин.
Господин поклонился Тате и заговорил с ней по-английски.
Спешнев поцеловал руку Магды. Сказал очень тихо:
— Вы не получили моей телеграммы?
— Нет, как это все неудачно!
— Я приеду к тебе, девочка. Мы объяснимся.
Боясь заплакать, Магда кивнула головой.
— Ну что мне с тобой делать? — пробормотал он почти с
отчаянием.
И Магда поняла, что он не любил ее.
Она пожала руку Тате и, проходя мимо зеркала, ужаснулась
своему окаменевшему лицу.
Внизу Магда вспомнила, что забыла у них муфту.
Это было смешно и подействовало отрезвляюще.
Мальчик побежал за муфтой, а она села и ждала,
машинально перелистывая телефонную книжку.
222
Подъезжая к вокзалу, она несколько раз громко, тяжело
вздохнула, словно после больших слез.
Доктор Желтых, Андрей Иванович, произвел на Магду
хорошее впечатление.
Высокий, сильный, простой.
Валюшко чувствовала необыкновенное оживление. Она
обошла множество улиц и переулков, ища себе комнату,
спускалась и поднималась по лестнице и наконец к часу попала в
еврейскую семью.
Здесь ей понравилось.
Комната была большая, светлая, с электричеством.
Показывала ее молодая брюнеточка, очень похожая на японку.
— Я и брат — вот и вся наша семья. Он подрядчик. Дома
бывает редко.
Громадного сенбернара называли Понтус. Терся возле Маг-
ды с ленивым и добродушным видом.
Конечно, ей будет здесь хорошо.
Магда помчалась на вокзал за вещами.
Около семи часов вечера, в разгар устройства комнаты, она
вдруг послала телеграмму Спешневу, привет и адрес.
«А Тага?»
Лениво отмахнулась: «Ну что же Тата?.. Каждый сам за
себя».
Хозяйка, Берта Васильевна, входила и выходила.
Она была в нарядном вечернем платье.
Собиралась в клуб.
— Если бы вы знали, какая я картежница! — всплеснула она
руками. — Я все проигрываю в лото... все.
Магде нравился ее заразительный смех.
Совсем поздно Валюшко легла.
Все было готово. Завтра она пойдет в контору старшего
Оброцкого и начнет новую жизнь.
Предчувствие будущих неудач томило почти физической
болью.
IV
Брат Оброцкого холодно встретил Магду.
Казалось, он взял ее в контору без всякого желания.
Он нашел также, что она не слишком быстро работает на
ремингтоне и намекнул о дурном впечатлении, которое
производит на него протекция.
223
Доктора Желтых он называл жуликом.
Контора была грязная и темная. Служившая здесь
барышня, уродливая, с нечистым дыханьем, обыкновенно не
произносила ни слова. Молодой человек, помощник Оброцкого,
говорил только пошлости.
Впрочем, он познакомил ее со своею женою. Пани Эвелина,
крупная блондинка с пышным бюстом, отнеслась к Магде
недоверчиво. Она хвасталась мебелью, платьями, детьми. У Валюш-
ко разболелась голова, но вместе с огромной усталостью
поднялась неясная грусть и легкая зависть. Возможно, та мещанская
среда, из которой она рвалась, дает порой удовлетворение.
Валюшко ясно видела, что она ни за что не сойдется с ними.
Впрочем, дома с нею болтала много Берта. Рассказывала о
своих проигрышах в лото, жаловалась на брата, который не давал
денег, и пела. Это была славная, добрая, безалаберная девушка.
Она никогда не могла влюбиться и все чувства перенесла лишь
на азарт — лото, карты, тотализатор.
Сенбернар спал возле самых дверей Магды. Часто она
ночью просыпалась от стука его лап, хвоста, впускала к себе и
шептала:
— Ах, Понтус, глупая собака, зачем я здесь?.. И почему я
здесь?
Каждый вечер приходил доктор Желтых. Он тонко
ухаживал за Магдой.
От Спешнева получались письма, туманные, грустные,
нежные. После них она долго безутешно рыдала. Ни за что не
хотела сознаться себе, что с Павлом кончено. Сама же она
писала ему много, подробно, надрывно, и в своей исступленной
влюбленности и ожидании его приезда была искренна.
Ночи пугали, бредовые, душные. Все было так реально, ярко,
бесстыдно и обнаженно.
Сухие, воспаленные губы шептали слова, от которых
пробегала холодная дрожь.
Жажда! Жажда!
Она мечтала о Спешневе, но с удивлением поймала себя на
влечении к доктору Желтых и еще кое к кому.
В душе образовалась радуга самых противоречивых чувств,
раздвоение уже раздвоенности. Просыпались желания, дерзость
и острота которых пугали ее.
Она потеряла себя самое и не могла собрать душу в одно
целое. Часто думала о том времени, когда еще ходила на
исповедь. Ксендз умел вести ее бережно и верно. Многие тяжелые
душевные операции он производил быстро и безболезненно. Она
224
тосковала о своих прежних привычках: о ежедневной мессе, о
мистической сладости исповеди и причастии, о молитвах,
особенно излюбленных, которые шептала после «Sursum corda»*, о
медленных «Ave», по четкам, перед Непорочной.
Но ведь ко всему этому уже не было возврата, говорила
себе Магда, конечно, не было. Она боялась останавливаться
дольше на этих мыслях.
Доктор Желтых познакомил ее со многими мужчинами.
Между ними она выделила Давида Неймана.
Через три дня они называли друг друга просто по именам.
Нейман был хилый синеглазый брюнет, мечтательный,
замкнутый, гордый. Его любовь к женщине далекой и
равнодушной трогала Магду. Она часами могла слушать его исповеди.
— Почему вас никто не любит, Магда? — спросил он
однажды. — А вы такая нежная, хрупкая, послушная. Вас можно
полюбить за голос и манеру смотреть так доверчиво.
— Ну, ну, вы меня портите, Дэви... Я стану воображать о
себе слишком много.
— Нет, право же. Вероятно, здесь просто голос рода. Я не
могу представить вас матерью.
Она подумала о крошке Китти, черноглазой Китти, внучке
профессора, которая приходила к ней жаловаться на
непослушание своих кукол.
— У меня никогда не будет дитяти, Дэви. За это вы должны
простить мне многое.
Нейман жил очень высоко. К широким карнизам его окон
прилетали голуби, и их воркование слышалось даже через
двойные рамы.
Широкий диван, некоторый беспорядок напоминали Магде
студию Леви.
К Нейману вообще часто приходили женщины. Они же
вызывали его то и дело к телефону.
Порою Магда являлась к нему сейчас же после конторы.
Она забивалась на диван и читала. Вынимала иногда письма
Спешнева, которые носила с собою, и повторяла их вслух.
Казалось, здесь они звучали иначе, чем в ее комнате. Она лучше
понимала их. У себя же Магда задыхалась.
Каждая вещь напоминала то Боржека, то Спешнева, и она
серьезно подумывала, не раздать ли весь хлам и не купить ли
новый.
* Горе имеем сердце... (лат.)
8 Анна Map 225
Доктор ушел переодеться, а Валюшко ходила взад и вперед
по его кабинету.
Они условились поехать в ресторан. Она думала, что носить
красивые туалеты, ездить в автомобиле, хотя бы в наемном,
изящно кутить и жадно наслаждаться физическими
удовольствиями — одно из лучших лекарств для всякой боли.
— Я хочу пресыщения, — рассуждала она.
Потом ей стало скучно театральничать перед самой собою.
— Если я пью с доктором, то не потому, что мне хочется
пить, а потому, что я подражаю кому-то. Какая утомительная
нелепость!
Но она чувствовала, что обязательно сойдется с Желтых.
Смешливо подумала: «И будут длинные письма, отчаянные
телеграммы, идолопоклонство, целование рук, слезы, тоска,
отчаяние... Господи, Господи, что я делаю сама с собою?»
Она стояла около книжного шкафа и тихо плакала.
Так застал ее доктор.
— Что с вами? — испугался он.
Совершенно просто она рассказала ему о Спепшеве.
Доктор был очень бледен.
— Вы напрасно откровенничаете, — хмуро бросил он.
Она смотрела изумленно. Это так унижает ее?
— Не вы, но я унижен.
В ресторане они умышленно сидели в общей зале.
Пальмы слегка закрывали их. В громадное зеркало Магда
видела свое черное шелковое платье с треном и черную
большую шляпу.
Губы у нее пылали.
Доктор мучительно нравился ей.
Они говорили о Спепшеве, но глазами объяснялись в любви
друг другу. Он был такой сильный, большой, и знакомая,
глухая, сладострастная жажда унижения и боли пронизала ее.
Было одиннадцать часов вечера. Магда оставила книгу и
посмотрела в окно. Метель продолжалась. Она решила уйти из
дому. Ей казалось, нет большего удовольствия, как бродить под
густым влажным снегом без цели и желаний.
На улице шла очень быстро, не останавливаясь, словно
определенно знала свой путь и знала, что он далеко...
...Ей вспомнился такой же поздний час, такой же густой снег...
давно... в Н-ске. Деревья, изгороди стояли белые, измененные,
таинственные, снег покрыл камень обильной, пышной массой,
колени тонули в нем. Смертельно тоскуя, она молилась перед
226
запертой дверью костела. Когда выглянул месяц, надпись
можно было прочесть: «Deo omnipotenti»*.
Сторож спросил ее, что она делает здесь. Оказалось, она
заблудилась и была в другой части города.
Сейчас Магда устало и тускло пожалела о прошлом.
Почему теперь она не может молиться?
И сквозь плотную белую, сыплющуюся с неба массу она
торопливо шла дальше, как будто кто-то где-то ждал ее.
— А, Магдусь... Ну, как она себя чувствует?
Доктор приехал и смотрел на нее смеющимся взглядом.
С тех пор как Магда ездила с ним по ресторанам,
откровенничала, плакала и с тех пор как они стали близкими, доктор
усвоил себе этот тон.
— Вы уходите сейчас? — беспомощно пробормотала Магда.
— Да. Извиняюсь, но должен.
Она зашла под предлогом выбрать у него книг.
Доктор отворил шкаф.
Несколько томиков она отложила.
От его небрежных фраз холодело в груди. Хотела спросить
его, почему он не возьмет ее с собою куда-нибудь. Воскресенье
так мучительно тянется... Она физически не вьшосит теперь
одиночества.
— Вы милая, но взбалмошная женщина, — заметил доктор, —
я, конечно, благодарен вам, но зачем просить большего?
Вдруг она рванулась к окну.
На извозчике проехала дама с синим страусовым пером.
— Вы ее видите? — оживленно указал доктор. — Два года
тому назад она сводила меня с ума... Это очень развратная
женщина.
Магда не застала дома также и Неймана.
Она вернулась к себе через силу.
У Берты были гости, какие-то сомнительные дамы,
шумевшие на весь дом. Оживленно говорили о лото и скачках.
Потом уехали, оставив квартиру на Магду. Горничная также
отпускалась по воскресеньям.
— Ну, мы с тобою теперь одни, — сказала Магда Понтусу.
Собака внимательно смотрела на нее, чуть махая хвостом.
— Скучно, но ничего не поделаешь.
Утром ей принесли открытку от Таты. Она писала из
Парижа милые пустяки.
* Богу всемогущему (лат.).
8* 227
Спешнев уехал на юг. Но было гораздо больнее и страшнее
вспомнить Боржека.
V
Ее жизнь потекла так же однообразно, тяжело и одиноко,
как прежде. Порою ей казалось даже, будто бы она не уезжала
из Н-ска.
Городская весна медленно зацветала и распускалась среди
стен и камней.
Это тревожило Магду.
Голубое небо, северное солнце, букет черемухи, внесенный
случайно в ее убогую комнату, волновали как призыв к счастью.
Ограшным усилием воли она тушила разбуженную
чувственность. Доктор Желтых избегал ее. Нейман недужно любил
другую, поэтому понимал и страдал за Магду. Часто они бродили
вдвоем, полные молчаливых жалоб.
Она пробовала оглянуться на прошлое с иронией.
Боржек, Спешнев, муж... Кладбище.
Ну и что же?
Однажды она спросила Неймана:
— Вы прощаете женщинам прошлое?
— Нет, никогда. Нет.
И с этих пор что-то порвалось между ними.
Уединялась, насколько было возможно. За книгами
чувствовала себя в безопасности. Жизнь в книгах так заманчиво красива.
Кое-когда приходили письма из провинции.
Прочитывались равнодушно и не производили никакого впечатления.
Люди короткими фразами выражали сочувствия, пожелания,
воспоминания. Но они не интересовали ее, эти добрые, скучные
знакомые, с их добрыми, скучными советами.
Только раз белый конверт, надписанный рукою Спешнева,
заставил ее перечувствовать нечто большее, чем простое отчаяние.
Спешнев благодарил ее за прошлое. По его словам, он
должен быть в К... и если Магда захочет, то может увидаться с ним.
У нее не было денег. Об этом нельзя было и думать.
Совершенно неожиданно Оброцкий-старший заявил Магде, что ее
услуги в конторе не нужны. Он ссылался на сокращение
работы, но, вернее, это была просто личная антипатия. Жалованье,
однако, выдал ей за два месяца.
— Как вам не везет! — воскликнул Нейман, узнав об отказе
Оброцкого-старшего. — Как вам не везет!
Валюшко вспомнила о докторе Желтых.
228
Теперь был отличный предлог увидеть его.
И она отправилась. Облака то застилали, то открывали
солнце. Несколько раз полил было косой крупный дождь. Капли
сверкали. Стало шумно, из труб полились ручьи, потом стихло
и снова полилось, и снова было солнце. Перепрыгивала лужи,
подставляла лицо дождю, а сердце ныло.
В приемной доктора на узких стульях скучали какие-то
мужчины, ожидая очереди: за дверью кабинета ярко и звонко
смеялась женщина. Несколько раз звонил телефон. Подходила
горничная и кричала в трубку, что прием кончен, доктор уехал.
Магду уколола ревность. Чему может смеяться эта
женщина? Потом с ненавистью оглядела себя в зеркало. Как бледна и
как дурно одета...
Наконец все пациенты и даже горничная ушли.
— У вас испуганный вид, — ласково поздоровался с нею
Желтых.
Распахнул дверь кабинета и сел в качалку.
— А славно это... солнце и дождь... шумно...
Расспрашивал довольно рассеянно и так же рассеянно взял
за руку.
Тоскуя, смотрела на высокий лоб, живые глаза,
чувственный рот. К этому человеку у нее была теплая, немного
болезненная привязанность. Отчего же за нее заплачено так грубо?..
Выражение ее лица стало очень грустным.
Желтых живо поднялся.
Погладил ее по щеке, как ребенка:
— Ну, маленькая... ну, маленькая...
Он не знал, что сказать в утешение.
Заметил нерешительно:
— Вы меня забудете, Магда.
— Конечно, — пробормотала она, — но какое мне дело до
того, что будет?
Спешнев был в К. Он уведомил Магду открыткой, не
телеграммой, как бы подчеркивая неспешность этого.
В два часа она уложилась и пошла сказать это Берте.
Та одевалась, фальшиво распевая. Со вчерашнего вечера
была в крупном выигрыше.
Волнуясь и путаясь, Берта просила Магду поискать себе
комнату.
— Наша для вас дорога. Мы сами уезжаем на дачу... Покуда
я с радостью постолую вас даром... я ведь вижу, как вы
нуждаетесь.
229
Магда рассеянно поблагодарила. У нее был страшно изну- г
ренный вид.
— Вот вернусь и перееду.
На вокзале с нею был Нейман. Он живо интересовался ее
увлечением доктором.
— Хотите, я переговорю с ним? — предложил он.
— Нет, зачем же?.. Поймите, что я еду увидеть Спешнева.
Неприятно чему-то засмеялась.
На одной из больших станций Магда спросила себе обед.
Оглядьшалась с безучастным видом. Потом вдруг вздрогнула
и застыла. Направо, в глубине залы, около одного из столиков
сидел Леон Боржек. Он писал что-то. Шляпу снял. Черная
прядка падала на лоб. Ей стало трудно дышать, но она не могла
стряхнуть с себя оцепенения. Испугалась странной слабости в руках
и коленях. Однако она продолжала смотреть на него. Боржек
показался ей пополневшим, очень удовлетворенным и гораздо
проще.
Ясно, более чем когда-либо, почувствовала, как любила его
прежде и как теперь это не нужно ей.
Почти в ту же минуту их глаза встретились.
Она вторично всем телом вздрогнула и отвернулась.
Валюшко решила остановиться у пани Зависляк. О ней она
вспомнила уже тогда, когда села с чемоданом на извозчика.
Ее приняли хорошо.
Пани Зависляк нанимала целую квартирку, сдавала
комнаты и кормила своих жильцов.
В комнатах — просто, светло, уютно, обед почти
изысканный, старушка несколько раз обняла ее. Приведя себя в
порядок, Валюшко позвонила по телефону Спешневу.
— Кто говорит?
От знакомого и вместе позабытого голоса сердце Магды
дрогнуло.
Спешнев обрадовался ей, но оказалось, видеть его сейчас
невозможно.
— Девочка Магда, ты сама знаешь почему.
«Женщина», — подумала спокойно Валюшко.
— Хорошо, Павел. Мы увидимся завтра.
Положила трубку и вернулась к столу, за которым пани
Зависляк раскладывала patience*.
* Пасьянс (фр.).
230
— Ах, как вы не умеете разговаривать с мужчинами, дитя
мое, — пробормотала она.
Магда долго читала ей вслух.
Старушка слушала рассеянно. Потом сняла чепчик и
неожиданно спросила:
— Скажите, вы никогда не встречали Таты Подкумок?
Магда изумилась:
— Конечно, встречала.
— Это очень умная и властная девушка, — спокойно
объявила пани Зависляк.
Магда прикрыла глаза рукою. Тата Подкумок... Боржек...
неширокая, тенистая улица с костелом... отель в К... Спешнев...
Ей стало страшно.
— Почему вы спросили меня о Тате? — выговорила она с
усилием.
—Она написала мне из Парижа. Кажется, скоро она будет здесь...
Пани Зависляк спрашивала. Магда отвечала. Искренность
ее испугала старуху. Она дала несколько осторожных советов.
Лучше всего найти хорошего, честного человека. Не жить
одной... к чему убивать силы и молодость? Старушка приоткрыла
немного узкую, мещанскую душу.
— Устраивайтесь, как Тата. Только для себя.
На другой день Магда поехала к Спешневу.
Они долго держались за руки. В сущности, это свидание было
совершенно лишнее.
Что они могли сказать друг другу?
— Ты вся переменилась, девочка Магда... и голос изменился.
— Ты счастлив, Павел?
— Я устал. Я живу по инерции.
И ласково обнимая ее:
— Я ничем не могу помочь тебе...
Голубовато-молочный, перламутровый свет белой ночи
терзал Магду.
Ни уснуть, ни читать, ни писать не могла. Жгучая тоска
удваивалась, переходила в физическую боль.
Решила уйти, побродить.
Представлялось соблазнительно-таинственным выйти и
затеряться среди улиц, не думать о себе самой и не испытьшать
ничего, кроме усталости.
Выходила из дому около десяти часов вечера. Жила теперь
очень высоко, в пятом этаже, где окна и дверь на балкон
вымазаны мелом, чтобы не выгорала мебель.
231
Ей дали комнату за крохотную плату с условием следить за
квартирой. Хозяева приезжали с дачи раз в месяц.
Магда ходила к одной женщине помогать ей шить. Но это
продолжалось только до трех часов. Она часто голодала,
безуспешно приискивая место, но скорее бы умерла, чем созналась в
этом. Доктор Желтых и Нейман уехали за границу. Адам Об-
роцкий — куда-то на юг. Теперь у нее были новые знакомые,
ниже ее, мелкие, скучные, бедные люди, которые изумлялись,
как жила Магда, дурно думали о ней и избегали ее.
В конце концов белые ночи и прогулки почти до зари стали
болезненным наслаждением для Магды.
Охваченная одиночеством, смутными воспоминаниями,
тусклыми сожалениями о том, что не возвращается, не
повторяется, не забывается, Магда бродила, как в полусне.
Сказочны были дома, на которых окна, вывески,
орнаменты выступали резче, сказочны были улицы с молчаливыми, вяло
бредущими людьми, сказочны бездонные глаза тех продажных
женщин, которых встречала Магда.
Каждая смотрела упорно, сумрачно, словно мысленно
кричала:
«Ты кто?.. Ты куда?..»
Их разноцветные султаны веяли то там, то сям и наполняли
мистическим ужасом Магду. Она закрывала глаза, слабея в
тоске. Город, и эти продажные женщины, и этот белый,
перламутровый, мучительный свет...
Она боялась сойти с ума.
На набережной шаги всегда стучали ясно, четко.
Серебристая, лунного цвета Нева, быстрая и не шумная. Сквозь лилова-
тую дымку черный силуэт противоположного берега.
Петропавловская крепость, цепи фонарей на мосту.
Кое-где сидели люди.
Села и Магда.
Сначала внимательно смотрела на бегущую воду, опаловое
небо, гранит и дворцы, а потом как-то сразу забыла, где она.
Усталость разлилась по всему телу. Тоскливые жалобы
проснулись и запели в душе.
Залитая странным белым светом, грезила с открытыми
глазами. Ей хотелось чистой любви, чистых восторгов,
беспредельных жертв. Ей хотелось верить, молиться, жить для
кого-нибудь и через кого-нибудь. Ей, больной, усталой, измученной,
хотелось быть здоровой, сильной, счастливой...
Никогда еще не видела она так ясно свою душу.
И, разглядев свои раны, свой ужас, она содрогнулась.
232
Сколько предстоит еще подобных часов, часов томления,
ожидания, бесплодной тоски и сожалений! Сколько еще
встретится мужчин, которых минутный каприз бросит к ней на
время и которые пройдут мимо, не задерживаясь.
Нет, это уже чересчур, чересчур больно.
В волнении бродила взад и вперед. Дымка растаяла. Небо
почти сверкающей белизны, бесстрастное, пустое, мертвое небо.
Она вспомнила Боржека. Нечеловеческая тоска о его
глазах, о его улыбке, о его голосе охватила ее... Леон, мой Леон!
Но сейчас же рядом встал Спешнев. И она спутала их. Ах,
зачем теперь жить? Для кого жить?
Шла обратно, шатаясь от слабости, охваченная
безнадежностью, не замечая ни встречных, ни расстояния.
Швейцар бранился, отпирая ей.
В комнате Магда раздевалась медленно, аккуратно кладя
каждую вещь на ее место, стараясь ступать неслышно, точно
могла помешать кому-нибудь.
Надела ночную батистовую кофточку и распустила волосы.
Потом вдруг, рассматривая свое осунувшееся, постаревшее
лицо в зеркале, покачала головой.
— Так продолжаться не может, — пробормотала она. —Нет,
не может.
Мысль о самоубийстве показалась давно знакомой,
выношенной, неизбежной.
Она подошла к окну, поглядела на асфальт двора.
Было светло как днем, даже светлее... Сверкающе,
ослепительно бело.
Легкий ветерок целовал ей грудь сквозь батист кофточки.
Магда сложила руки.
«Радуйся, Мария».
Страшная слабость и полудрема охватили ее.
«...Благословенна ты между женами и благословен плод
чрева Твоего, Иисус».
Эти слова она не произносила так давно, так давно.
Они всколыхнули всю душу и застлали глаза еще большей
дымкой.
Грезила наяву, как и там, на набережной, залитая светом
белой ночи.
...Непорочная Мария, похожая на девочку с голубым поясом,
как всегда, в костеле кротко молилась Всевышнему...
«— Может быть, ты еще не совсем забыла Меня?
— Да, не забыла.
— Может быть, ты останешься жить ради Меня?
233
— Да, ради Тебя.
— И если Я позову тебя, ты придешь?
— Да, если позовешь».
Магда встала пораньше и отправилась в костел.
Это было довольно далеко. Дорогой она решила
исповедаться. С удивлением не чувствовала никакого подъема. Шла вяло,
часто нервно зевала. День начинался жарой. То, что люди так
торопились куда-то, наполнило Магду раздражением.
В костеле она рассеянно опустилась на колени перед
Непорочной.
Лицо Марии показалось ей неодухотворенным.
«Зачем я Тебе?» — почти с упреком подумала Валюшко. Все
грешные поцелуи ожили на ее губах, все грешные мысли и
желания проснулись.
«Ты видишь, я падшая и осужденная, — с облегчением
вздохнула Магда и кротко посмотрела на Марию, — не старайся быть
доброй ко мне, оставь меня такой, какая я есть, ибо я сама дая
себя ничего не хочу».
Мессу служили одновременно на нескольких алтарях. В
одном из конфессионалов Магда различила белую сутану монаха.
Раз она слышала его проповедь и плакала до изнеможения.
«Может быть, пойти к нему на исповедь?.. Нет... Что я
скажу?.. Почему же раньше?.. Ах, нет...»
Она не вернулась домой, не зная, что там делать. Забрела в
сквер. Убила там два часа. На нее никто не обращал внимания.
Ни один мужчина не поглядел на нее.
Мысленно перебирала всех, к кому могла бы обратиться за
деньгами. Хозяевам должна, швейцару должна, все заложено.
— Нужно продать татарину безделушки, — решила
равнодушно. — Зачем мне бокал для роз, коврик? Глупости...
Уже третий день она питалась молоком и бананами. Целыми
часами ее мутило от голода, но еда вызывала глубокое
отвращение.
Сейчас она вспомнила одну барышню, которая несколько
раз гуляла с нею. Долго колебалась, потом отправилась.
Поднялась на третий этаж, в меблированные комнаты.
Барышня еще не вернулась со службы. Горничная не соглашалась
дать ключ Валюшко.
— У нас порядок такой... Подождите.
Магда села здесь же на ступеньках, вынула из бумажного
мешочка бананы, ела и ждала.
Жильцы подымались и спускались по лестнице. У всех были
234
потные, утомленные лица. Они с удивлением смотрели на Магду.
Несколько минут у нее было ощущение, что она вечность
сидит перед закрытыми дверями, голодная, беспомощная и
одинокая.
Горничная наконец сжалилась над нею.
— Я вам не советую сидеть, право... Барышня, вероятно, со
службы поехала на дачу.
Дома Валюшко ждал сюрприз.
Швейцар передал ей городское письмо. Один из знакомых
доктора Желтых, некто Дерябин, выражал желание ее видеть.
Просил ожидать. Она вспомнила тучного, слащавого господина
в белом жилете и брезгливо поморщилась.
Он вызывал в ней искреннее отвращение. И особенно его
манера кокетничать глазами и вкрадчиво понижать голос.
Магда заняла у швейцара еще один рубль. За коврик же
татарин давал только тридцать копеек, и она пожалела продать
его.
В субботу хозяева взяли ее в Финляндию.
Дача стояла очень далеко и от станции, и от моря. Кругом
росло несколько старых берез, примыкал лужок весь в
ромашках, а за ним сейчас же рощица. Большую тень давали сараи,
где топтались лошади.
Фрекен Анна сама запрягала их и ездила каждый вечер на
вокзал.
В поле шуршала и кланялась рожь, звенели телеграфные
проволоки, а на горе шумели сосны. Песок утомлял Магду. Она
гуляла медленно-медленно, как тяжко больная. Попадались
финны, с бритыми, красными, деревянными лицами, в
широкополых шляпах.
Они не нравились Магде. Когда же встречались дачники, она
поворачивала обратно. Море, белое и ленивое, наводило на нее
нестерпимую тоску. Закрывала глаза, сидя на камнях, стараясь
вызвать хоть слезы.
Часто к горизонту уходили лодки, и душа рвалась за
парусами. Ветер доносил звуки музыки с курорта. Это увеличивало
томление и грусть. На даче она помогала прислуге, чинила
хозяйке белье и вечерами стерегла дачу: все уходили гулять.
Она радовалась одиночеству.
Ложилась в гамак и качалась без дум. Изредка слышался
бубенчик — мимо гнали запоздалую корову.
Над лужком поднимался туман. Можно было думать, что
тогда ромашки чувствовали себя дурно.
235
...Дни очень походили друг на друга. Она не различала их, а
слила как-то все вместе.
Белые ночи продолжались. Она опять пристрастилась ходить
по городу до утра. Теперь часто ее провожал один журналист,
страстный любитель прогулок. Он шел всегда быстро,
размахивая плащом, едва накинутым на плечи.
Его любопытство к домам и людям было неистощимо, а
неутомимость изумляла Магду.
Обыкновенно он просил Валюшко рассказывать что-нибудь
о прошлом, сам же часто перебегал на другую сторону
посмотреть какой-нибудь пустяк в виде ворот, которые казались ему
почему-либо оригинальными.
Ей нравилось говорить о Боржеке, о Спешневе, о том
провинциальном городе, где она жила рядом с костелом, о
стареньком профессоре, его внучке и о конвертике с Гала-Петер от
Оброцкого. Все это воскресало перед нею, и она часто плакала,
покуда журналист смотрел на Неву. Она страшно утомлялась,
умирала от голода, но шла за ним терпеливо, боясь попросить
отдыха.
Журналист был груб с нею. Часто он замечал:
— Вы — чересчур слабая. Я презираю слабых. Вы —
истеричка. Обождите, вас еще согнет в дугу... вот так.
Вся бледная, она смотрела на него глазами, полными ужаса.
Дерябин приехал утром, с портфелем, перед службой.
Магда соскучилась без людей. Она смотрела на его седые
волосы, бесцветные глаза и широкий, круглый нос почти
дружески.
Положив панаму на колени, Дерябин высказывал
сожаление по поводу болезненного вида Магды.
— Но вы похорошели, уверяю вас... Знаете ли вы, что я
всегда был вашим самым горячим поклонником?
Из его некоторых фраз Валюшко поняла, что Дерябин очень
хорошо осведомлен о ее нищете.
«От швейцара, вероятно», — подумала Магда.
— Сегодня мы обедаем с вами? — спросил он.
— Я очень дурно одета, — просто заметила Магда.
Его пухлое лицо побагровело.
— Я думаю, я надеюсь, — начал он скромно, тихо и
кокетливо. — Я надеюсь, что на правах старого знакомого я могу помочь
вам. Я знал Андрея Ивановича... я был близким его другом...
Магда жестко и внимательно смотрела на него.
— Денег не дают даром, — сказала она грубо.
236
— Я знаю, — скромно согласился Дерябин, — но вы такая
милая...
-А...
Магда засмеялась, потом пожала плечами. Он вкрадчиво
поцеловал ее руку.
— Что вы думаете обо мне, моя прелесть?
— Я думаю, что мы оба стоим друг друга... — зевнула Магда.
Он уехал, вручив ей пятьдесят рублей.
В тот же день и на другой Магда делала покупки. Она ходила
по магазинам с решительным видом, плотно стиснув зубы.
На третий день утром послала короткую записку Дерябину.
Она просила денег.
Он прислал еще двадцать пять рублей.
Вечером с журналистом она поехала на Стрелку, и там они
катались на лодке.
— Вы теперь мило одеты и прехорошенькая... Откуда сии
чудеса? — спросил журналист.
— Я получила из провинции.
— Я был к вам несправедлив, —сказал он, —вы лучше, чем
кажетесь... только не будьте никогда грустной... мужчины этого
не любят.
Она задумчиво смотрела на воду и вечернее небо. На
рыбачьем плоту видела впервые, как тянули тоню.
Сухой, жилистый рыбак словно только что сошел с
французской гравюры.
Она чувствовала в себе задор и иронию.
Дерябин не показывался несколько дней.
С волнением Магда получила знакомое письмо с юга. От
Адама Оброцкого.
Сердце ее заныло, и она долго не решалась распечатать
конверт. Оказывается, он уже знал о ее разрыве со Спешневым и,
вероятно, догадывался о нищете. Он подписал контракт на зиму
там же, в Н-ске, и умолял Магду вернуться. У него было для
нее место.
«Разве вы не можете считать меня братом? Я один и
хорошо зарабатываю. Я вышлю вам на дорогу».
Потрясенная, долго сидела неподвижно.
«Почему не за неделю раньше?» — подумала она и
пробормотала вслух:
— Милый Адамини!
Дерябин приехал с целой массой покупок. Ей показалось,
что он был под хмельком.
237
— Что это? — удивилась Валюшко.
— В наш уголок, — ответил он сентиментально.
Магда расхохоталась.
— Но ведь это же гостиница, — бросила она жестко, — все
съедобное вы можете спросить там... да, можете...
— Не будьте так... так резки, дорогая... Женщину это портит.
У нее было презрительное и злое выражение лица. Ехать
еще рано, девять часов. Ходила взад и вперед и распевала.
Дерябин следил за нею, щурясь и нежась.
— Я люблю, когда вы капризничаете. Черт возьми, тогда я
молодею.
После дождя вечер был прохладный и уже темный. Эта
темнота радовала Магду.
Давала краткие реплики Дерябину. Ей показалось, что
гостиница в двух шагах от ее дома. Впрочем, было очень недалеко и
в действительности.
Шли черным ходом. Во дворе стояло много извозчиков.
На лестнице Дерябин остановил какого-то лакея.
— Это ты, Василий?
— Я, барин, я.
Лакей обрадовался. Он провел их коридором в номер
шестой. Очень большой и голубой.
Магда начала сейчас же снимать шляпу и накидку.
Заметила, что, покуда Дерябин доставал визитную карточку, лакей
смотрел на нее дружески и любопытно.
— Ужинать подайте нам сейчас же, — распорядился
Дерябин, — вино, какое я пью обыкновенно... Пришлите горничную.
В превосходном настроении духа он развертывал пакеты.
Магда сидела прямо в кресле. Она рассматривала обои,
портьеры, мебель, альков с таким видом, словно была обязана
запомнить хорошенько каждую мелочь.
Дерябин за ужином говорил о своей семье и о том, что для
него любовь всегда была священной.
— Я приезжаю сюда только с честными женщинами, —
заявил он, давясь соусом.
— А разве я сейчас не проститутка? — холодно спросила
Магда.
Он испуганно замахал руками. Пил много и с необычной
жадностью.
— Сегодня я получил кучу денег за одно дельце; вы мне
принесли счастье, золотко. Я вас люблю, родненькая...
Потом широким жестом он вынул из бумажника кредитки
и сунул в мешочек Валюшко.
238
— Я уеду отсюда после полуночи, — глухо пробормотала
Магда.
Горничная пришла с простыней и подушкой.
У нее были гладко причесаны волосы и глаза смотрели очень
умно.
— Как прикажете стлать, барышня, — вежливо спросила
она, — вместе или вам отдельно на диване?
Женщина улыбалась. О, эта улыбка, улыбка как
оскорбление!
— На диване, — ответила Магда.
Краска медленно залила ее лицо.
Женщина серьезно и все так же вежливо осведомилась о
мелочах.
Дерябин пил и составлял какой-то счет. Несколько раз он
засмеялся сам с собою.
Магда снова беспомощно оглянулась.
Машинально отстегнула ворот. На золотых часах Дерябина,
лежавших между бутылкой ликера и конфетами, было
половина одиннадцатого.
Она очень медленно пила из своего стаканчика.
Странная мысль пронзила ее. Мысль, от которой сначала ее
качнуло. Мысль, которая пришла откуда-то извне. Мысль,
которая была почти безумством.
«Молиться Марии... »
Цедила вино, следя за движениями Дерябина.
«Радуйся, Мария, полная благодати...»
— Кажется, очень поздно, милая?
— Да, очень поздно.
— Ты прости, но я задыхаюсь... я сейчас хочу раздеться...
Она внимательно посмотрела на его красное, опухшее лицо.
Он был сильно пьян.
«Радуйся, Мария, полная благодати...»
Это было состояние, похожее на то, какое она испытала уже
в белую ночь.
Полусонное, неясное, словно грезила наяву.
«Благословенна ты между женами...»
Представила себе Непорочную, похожую на девочку с
голубым поясом.
«Радуйся, Мария, полная благодати...»
Дерябин возился за перегородкой... Отдувался и два раза
чихнул.
— Я уже готов, золотко... дай мне конфетку... иди сюда.
Пошла к нему совсем смело, мысленно повторяя:
239
«Радуйся, Мария... »
Теперь помнила только одну строчку:
«Радуйся, Мария... »
Дерябин показался ей страшно большим.
Она провела рукой по его седым волосам.
— Я сейчас лягу... какой у тебя горячий лоб!
Он бормотал непонятные слова.
Холодный пот выступил у нее на лбу и под волосами.
На часах было двенадцать.
Сидела, стиснув голову, и думала о себе.
Вот она в гостинице... с чужим человеком... Из-за чего? Где
ей оправдание? Нужда? Почему же она не пошла в горничные?
Почему не обратилась к ксендзу?
Она вспомнила все, что было с нею за этот год и за
прошлые.
Она думала о Боржеке и о Спешневе, как о миражах, как о
тех этапах, по которым шла до этой минуты. Разве та любовь
была любовью?.. И та вера была настоящей верой?
В который раз Непорочная приходила ей на помощь?
И до каких пор Магда будет искушать Ее милосердие?
«Радуйся, Мария...»
Удивительное спокойствие и решимость охватили ее.
Она приколола шляпу, накидку, перекрестилась и
выглянула в коридор.
Лакей дремал на стуле. Это был тот человек, который
прислуживал им в номере.
Магда тронула его за рукав.
Он вздрогнул и вскочил.
— Выпустите меня, пожалуйста.
— Порядков не знаете, барышня... Как же без барина?.. Без
барина нельзя...
Мысль провести здесь ночь ошеломила ее...
Сунула кредитку, смотря ему прямо в лицо:
— Барин пьян... барин заснул...
Он все еще колебался. Магда решилась на последнее.
Вынула свою визитную карточку.
— Отдайте барину, когда он проснется... барин давно меня
знает.
Тогда лакей повел ее к выходу.
Она ждала внизу, а он побежал за извозчиком.
Вышел швейцар, зевал и чесался.
Потом ласково заглянул в лицо Магде:
— Из какого номера?
240
— Из номера шестого, — слабо шепнула Магда.
— Хорошо заплатил?
— Хорошо.
Вынула кредитку и дала швейцару.
— Милая ты моя, — протянул он восхищенно, — красавица
ты моя!
Через минуты три Магда была на извозчике.
Шел дождь. Она высунулась и дышала глубоко, медленно,
боясь потерять сознание.
Магда пришла в костел после вечерни. Народу было очень
мало.
На алтаре горели лучи заходящего солнца.
В левом притворе, где сладко пахли лилии, Непорочная,
похожая на девочку с голубым поясом, кротко молилась
Всевышнему. Магда стала на колени. «Радуйся, Мария, исполненная
благодати». Никакая человеческая сила не могла бы оторвать
ее душу от Марии. Она послала уже телеграмму Оброцкому,
через неделю уедет в Н-ск, будет работать и ежедневно видеть
в костеле Непорочную. Она решила также свято исполнить все,
что скажет ксендз на исповеди.
Сейчас Магда пошла к конфессионалу.
Немолодой ксендз смотрел на нее внимательными глазами.
И с полным доверием она преклонила колена для исповеди.
ЛЮЛЯ БЕК
I
Она вся вспыхивает от негодования:
— Послушайте, да что же это такое, в самом деле? Неужели
женщина не может присесть на скамью без того, чтобы к ней не
лезли со всех сторон?
Ну, сидит она и плачет.
Плачет, как дурочка. Сидит и плачет. И никто не смеет
запретить. А он при чем тут? Фи! Такой молодой, совсем юноша.
Это отвратительно. Что? Он оправдывается! Надеется ее
утешить? Господи Боже мой, в своем ли он уме?
— Милостивый государь, последний раз повторяю, уходите
отсюда.
-Но...
— Никаких но... Уходите! Сейчас же уходите!
Юноша покорно подымается. У него очень удрученный вид.
Он не похож на донжуана, во всяком случае.
— Сударыня, если я ничем не могу помочь вам...
— О, ничем. Решительно ничем.
Ее движения по-прежнему нервны. Большой меховой
муфтой смахивает снег со скамьи. Она очень увлекается этим.
Кругом роем летят мохнатые снежинки. В городском саду сказочно
красиво. Деревья, кусты, земля серебряные. Забор и тропинка
занесены. Глухо и тихо. Тяжелые вороны качаются на ветвях
или важно разгуливают тут же, в трех шагах.
Хорошенькая женщина медленно вскидывает рассерженные,
заплаканные глаза.
— Как? Вы еще не ушли?
Она собирается с духом, чтобы крикнуть. Потом внезапно
смягчается. Ей немного жаль его.
Бросает надменно:
— Вы, конечно, знаете, кто я?..
242
Нет, он не знает. И краснеет до ушей.
Она выражает явное изумление. На ней очень дорогой
костюм и вызьшающая шляпа. Он не наивен, но боится строить
догадки.
Она говорит с достоинством:
— Я — Люля Бек. Пою в театре «Venus»*. Вы ничего не
слыхали о Люле Бек? Ну, значит, вы живете на Луне.
Он совсем сконфужен. Да, он никогда не был в театре
«Venus».
-А!
Люля пожимает плечами:
— Наденьте вашу фуражку и садитесь. Вы спрашивали,
почему я плачу? Ах, мне все надоело! Понимаете, все: театр, люди,
деньги, ужины, платья, все... Я хочу умереть, сударь... Не
можете ли вы достать мне яду?
Хотя у нее ползут по щекам крупные слезы, но яркий
детский рот уже улыбается.
— Вы очень сильно испугались, когда я рассердилась?
И, не ожидая ответа, продолжает:
— Вчера был мой бенефис. Я давно не имела такого успеха.
Сегодня я не могу повернуться в комнате от цветов и подарков.
Вот я и убежала сюда. Сижу и плачу. Это глупо, конечно.
Неожиданно сердится. Черт возьми, она не просит жалости.
И весела она, и счастлива. Просто немного ломается сегодня.
Пусть он лучше расскажет о себе. Что он делает? Пишет
стихи? О!..
Люля Бек смотрит на него во все глаза.
— Значит, вы поэт, сударь?
— Немного.
Теперь он рекомендуется. Его зовут Витольдом N. Живет он
с отцом и теткой. Недавно вернулся из-за границы. Он работает
еще в конторе, но это скучно. Жизнь не кажется ему радостной,
хотя он не умеет объяснить почему. Ему так же, как и ей,
минутами хочется заплакать над собою, над другими, над всем.
Потом Витольд N. декламирует свою последнюю вещицу.
В ней говорится о розах и балконе. Это очень мило. По крайней
мере, Люля Бек снова готова заплакать.
— Я ухожу. Прощайте. Я не хочу, чтобы вы меня провожали.
Однако они болтают еще с полчасика.
Прежде чем сесть в сани, Люля протягивает ему маленькую
руку и, прикрываясь большой муфтой, лукаво спрашивает:
* Венера (лат.).
243
— А у вас есть невеста?
Молодой человек отвечает серьезно:
— Да. Я помолвлен.
Что-то тухнет в глазах певицы. Небрежно кивает.
Он продолжает стоять, все еще без шляпы.
Тогда Люля Бек кричит ему:
— Приходите завтра в театр «Venus»!
Она едет злая как фурия. Пушистый снег и тишина улиц
наводят на нее ужас.
Любимица публики, заразительно веселая Люля Бек тихонько
плачет.
Боже мой. Боже мой, зачем она встретила этого глупого
мальчишку!
II
Люля Бек кладет на туалет крошечное письмо, пахнущее
фиалкой. Пристально смотрит в глаза юноши.
— Витольд, почему вы ничего не отвечаете своей невесте?
— Потому что я люблю только вас одну, Люля!
Она бледнеет.
— Вздор... ребячество... Если вы повторите это еще раз, мы
больше не увидимся... Ваша невеста милая, чистая девушка. Она
боготворит вас. Неужели вы способны сделать ее несчастной?
Люля Бек задумывается. Представляет себе бледную,
грустную девушку, ждущую у окна Витольда. Она знает, что у Ма-
рыли гордое сердце. Разбивается, но не отдается во второй раз.
И Люля Бек стряхивает тоску.
Говорит быстро-быстро. Пусть Витольд оставит ее в покое.
Ему незачем бегать за певицей из театра «Venus». Та... та... без
возражений! Она все равно никогда, никогда...
Смеется. Шуршит шелками. Занялась разборкой духов в
шкатулке.
— Ах, никогда вы мне не нравились, Витек...
— Итак, вы не любите меня, Люля?
— Ничуть.
— Это ваше последнее слово?
— Последнее.
Он говорит с тихим отчаянием:
— Почему?
— Потому что между нами пропасть. Вы — идеалист,
мечтатель. Вы хотите спасать меня от чего-то и вести куда-то. Бредни!
Сказки! Вздор!.. Люля Бек умеет только петь и смеяться. Уходите.
244
Когда дверь захлопывается, Люля Бек переходит на
кушетку. Здесь она остается без движения, с открытыми глазами, всю
ночь напролет.
Она думает о робкой, чистой девушке, которая пишет
Витольду наивные письма, пахнущие фиалкой.
III
Она вышла петь на bis в девятый раз, когда Витольд N.
застрелился.
Кругом суетились. Кричали, бежали, а Люля Бек стояла и
улыбалась.
Нет, она умела владеть собою. Что? Кто-то говорит, будто
она влюблена в умершего?
Тогда Люля поет.
Девятый раз.
Теперь ей бурно аплодируют. В зале ей верят. Конечно, она
ни при чем тут... Мало ли кто не пускал себе пули в лоб! Это
смешно, наконец.
В уборной ее ждут чайные розы. От покойного.
Она страстно целует холодными, побледневшими губами
влажные лепестки.
— Мой любимый... мой любимый...
Слезы душат ее, но в дверь стучат. И Люля Бек
выпрямляется.
— Войдите... войдите же, говорят вам.
Нет, она не умеет плакать.
IV
Дня через три Люле приносят письмо. Ба, она часто
получает письма, однако сегодня бледнеет и несколько колеблется
распечатать. Узкий конверт, от которого пахнет фиалкой.
Читает.
Раз. Два. Три. И еще. И еще.
Снова читает: «Умоляю вас, позвольте мне прийти к вам.
Всего на полчаса. Ради покойного Витольда N. Мне необходимо
переговорить с вами. Мария».
Острая ненависть бросается в голову Люле Бек. «Как, эта
девчонка думает учинить ей допрос? Пусть так. Хорошо. Пусть
явится. Увидим».
На пунцовой бумажке она царапает ответ. Вся к услугам
mademoiselle. Ждет до восьми часов. Очень рада служить.
245
Потом мечется в своем кружевном пеньюаре.
— Салюся, шкатулку с письмами! Рузя, альбомы! Живо...
духом...
Горничная ворчит. Барыня опрокинула всю мебель.
— Ах, ты ничего не понимаешь!.. Ничего не понимаешь!
Люля Бек предвкушает сладость мщения.
V
Люля сидела у туалета и подводила брови, когда пришла
Марыля.
— Здравствуйте. Здравствуйте, — вызывающе засмеялась
Люля, —так это вы — невеста Витольда N и это вы мне писали?
— Да, я, сударыня.
Люля разочарована. Девушка выглядит такой жалкой,
простой. Совсем простой. На ней поношенное платье и ужасная
шляпка. О, ужасная!.. Люля умерла бы со стыда, если бы ей
пришлось надеть такую шляпку.
— Садитесь ближе, mademoiselle. Не бойтесь смять мои
тряпки.
Марыля отвечает, еле дыша от волнения:
— Я бы хотела поговорить с вами наедине.
Черт возьми, Люля Бек никого не боится. Притом же она
любопытна.
— Хорошо. Очень хорошо.
Певица выпроваживает горничную и портниху. Те в
негодовании. Нет уж, пожалуйста, уймите свои нервы. Дайте каплю
покоя. Ей нужно торопиться в театр? К дьяволу... она не
крепостная... она сейчас не поедет, хотя бы ее оштрафовали на
тысячу рублей.
Молчание! Довольно!.. Она здесь хозяйка...
Теперь в комнате тихо.
Люля смотрит пылающими глазами в усталые, измученные
той, другой. Нечеловеческим усилием воли тушит волнение.
Грудной голос Марыли объясняет:
— Я пришла к вам, потому что мне сказали... простите мою
смелость... вы были знакомы с моим женихом?
Люля резко перебивает:
— Да, это правда. Была знакома. И что же дальше?
Девушка начинает рыдать.
Люля не выносит слез. Торопится подать стакан воды, и руки
в колючих, сверкающих кольцах дрожат, как у школьницы.
Внезапно Марыля обнимает ее колени.
246
— Скажите мне... вам я поверю... скажите, они ведь лгут...
Витольд не любил вас... он был моим женихом... он не мог
обманывать меня...
Повторяет исступленно:
— Он не любил вас?.. Скажите, я вам поверю... он не любил
вас? Они лгали... правда, лгали?
Люля Бек колеблется.
В ней борются самолюбие, тоска, ревность, сожаление. Ей
стоит протянуть руку к шкатулкам... там сотня пламенных
писем покойного, его карточки, безделушки...
Та, вторая, продолжает умолять, прижимаясь к коленям.
Люля Бек, эта отчаянная сумасбродка, певичка из театра
«Venus», шепчет:
— Успокойтесь... Конечно, они лгали... он никогда не любил
меня.
Через полчаса Люля одевается. Она опоздала? Ну, и
отлично... Черт возьми, она не крепостная.
— Салюся, перчатки!.. Рузя, калоши!..
И уезжает петь, обливаясь слезами.
ЛЮБОВЬ
Янина духом вбежала по лестнице. Резко звонила. Ей
открыла немолодая раздраженная прислуга. Иезус-Мария, где
барыня пропадала столько времени... Она не знает, что готовить
на третье.
— Какой чудесный день, Франка... Какой воздух сегодня...
Она охотно верит, только у плиты не очень-то думаешь о
воздухе. Из порядочных людей никого не было, а барышня с
первого этажа прилетела. Без дела, как всегда, однако сидит.
Янина засмеялась. Золотистые прядки спускались на щеки.
— Здравствуй, Тони!..
Это так мило, что она здесь...
Тони гибко потянулась. Красное платьице зашуршало. Она
несколько раз, без всякой причины, тряхнула черной головкой.
Из-за уха выпал бумажный желтый бульденеж.
— Я снова воевала с Франкой, — спокойно заявила она,
водворяя цветок на абажур лампы.
Всякий раз как Тони приходила сюда, она снимала бульдене-
жи, малиновый и желтый. Она втьжала их за уши и, распевая
глупые песенки, гримасничала перед зеркалом. У нее была еще
247
одна привычка: бросаться плашмя на диван и болтать ногами,
показывая чулки едва не до колена. Тони была единственной
дочерью красивой дамы, занимавшей весь первый этаж и
жившей очень свободно. Там не переводились гости и не смолкала
музыка.
— Я была сейчас у тетки, — сказала Янина, — весь сад
в белой сирени... Нет, право же, можно с ума сойти от
восторга.
Тони снова потянулась. Ах, теперь влюбиться, ах!..
Янина сконфузилась.
По обыкновению, платье Тони неприлично завернулось и
ноги болтались. Она пристально разглядывала Янину.
— Ты сейчас красива, как солнышко...
Неужели?.. Янина ушла в комнату Свентецкого. Убирали
здесь утром, нигде ни пылинки.
Однако она еще раз перетрогала каждую безделушку.
Смотрела долго и нежно на портрет Леона Свентецкого. Он не очень
удачно вышел, но все-таки это был он. Слезы любви и восторга
выступили у нее на глазах. И она не трогалась с места. Около
чернильницы лежал длинный изящный конверт. Янина уже
знала почерк. От дамы, которую Леон называет «моя бывшая
жена». Сердце Янины сжалось. На миг представила себе эту
комнату разоренную, опустевшую... Свентецкий скоро уедет.
И, тоскуя, она пожалела о тех минутах, когда сидела в саду,
очарованная запахом сирени, травы, деревьев, и глядела в
голубое небо.
«Барыне нечего торчать в комнате квартиранта, — думала
Франка, поджимая губы, — если она и теперь не скажет, что
готовить на третье, я не напомню ей, сохрани Боже».
Тони скучала за книгой. Поглядывала то в зеркало, то на
бульденежи. Этот желтый так шел ей... не заняться ли им
снова? Потом задумалась о Янине, которую обожала. Ясно, та
влюблена в Свентецкого. Почему она не выберет Тони
посредницей? Зачем она притворяется? Ведь если все окружающие
слепы, то она, Тони, зрячая.
— Янина, — крикнула она наконец, — мама просила в
среду... на чай... с условием, что ты не станешь отбивать у нее
поклонников.
— У-у, бесстыдница! — возмутилась у плиты Франка.
Тони хохотала как безумная. Милая, чудная, золотая
мамочка, но она — кокетка, ей-богу, кокетка! Янина не имела духа
рассердиться.
— Ну, до свиданья, — вскочила наконец Тони.
248
Франка с сердцем закрыла за нею дверь. Впрочем, сейчас же
пришлось отворять... звонили...
Оказалось, старая Пшелковская. В отсутствие сына
почтенная дама ежедневно навещала невестку. Она находила, что здесь
все чересчур уж дурно.
Сейчас она заглянула в кухню, не снимая шляпы и не
выпуская зонтика.
— У вас готовится слишком мало первого и слишком много
второго, — твердо сказала она.
— Да, мама, — согласилась Янина.
И зачем это Франка носит белые фартуки у плиты, когда
есть цветные? Франка зашипела, как масло на сковороде. Она
служит не первый год и никогда других передников, кроме
белых, не надевала. Они жарко спорили.
— Ах, мама! — беспомощно восклицала Янина. —Да уймись
же, Франка!
Пшелковская согласилась выпить чашечку кофе. На обед
она не останется, но кофе... с удовольствием.
Что-то бесконечно скучное, назойливое, как запах
нафталина, распространялось от ее фигуры, лица, голоса, платья. Она
заговорила о сыне. Тот имел обыкновение писать матери, а не
жене.
Таинственно сообщала о нем различный вздор. Ему, по ее
словам, приходилось много страдать.
Почему и отчего, старуха умалчивала. Янина представила
кругленькую самовлюбленную особу адвоката Пшелковского,
своего мужа, и улыбнулась. Он уехал в Н-ск на защиту.
Потом она снова думала о весне, сирени, своих двадцати
трех годах и темных глазах Леона Свентецкого. Это хорошо,
что другие не могут читать наших мыслей.
— Была ли ты на мессе? — в десятый раз спрашивала
свекровь.
Франка открыла дверь Леону Свентецкому.
Пшелковская кисло ответила на его вежливый поклон. Он
не внушал ей доверия, ce garçon-là...* (так она мысленно
выразилась).
Он стоял красивый, стройный и весело глядел на женщин.
— Вы еще долго пробудете в нашем городе? — спросила
старая дама.
— Нет, мои дела приходят к концу... — улыбнулся Свентец-
кий.
* Этот парень (фр.).
249
— О... я спрашиваю это потому... на вашу комнату уже есть
жилец...
Пшелковская нашла, что очень больно уколола квартиранта.
Потом она величественно удалилась.
— Я опоздал? — мягко спросил Свентецкий.
Нет, он не опоздал... нет...
Янина старалась подавить дрожь голоса. Ее глаза сияли.
Эвелина Мирская, мать Тони, устраивала у себя
еженедельные вечеринки. К ней являлись разряженные дамы,
подавалось чудесное угощение, кто-нибудь аккомпанировал на
рояле, а Мирская пела. Она любила итальянские трудные арии и
при этом становилась в очень изящную позу. Она была такая
веселая, общительная, прелестная, пани Эвелина. Ею все
восторгались. Кто знал ее прошлое? Никто. Да и кому какое дело,
в сущности?
Мирская обожала дочь и обращалась с нею как с подругой.
Тони позволяла себе порою невозможные выходки.
Так было и сегодня. Она вдруг заявила громко:
— Мамуся, не кокетничай с monsieur Леоном.
Дамы пришли в ужас, но мать хохотала от души. Смех у нее
был звонкий и чистый.
— Почему, Тони?
— Я не хочу, мамуся.
Вся молодежь дразнила Тони. Устроили танцы. Мирская от
удовольствия захлопала в ладоши. Она радовалась, как
ребенок. Тони ураганом помчалась отодвигать мебель. Зигмунд N.
нацепил красный бант и распоряжался. Ох, что это была за
сумятица!..
Свентецкий разыскал Янину. Она сидела в глубокой
задумчивости. Он заговорил о своем близком отъезде, расстроенный
телеграммой из дому.
— Ваша жена тоскует? — с усилием спросила Янина.
Свентецкий рассказывал о жене несколько принужденно.
Что делать, он не виноват, если не любит... детей нет... интересы
разные... они — чужие друг другу...
— Мне будет тяжело без вас, — заметила Янина. Она была
очень бледна.
Ей хотелось сказать ему... сказать ему... Она ужаснулась той
буре, которая поднялась в ней.
Свентецкий восхищался Мирской. Решительно, он не
встречал еще такой изумительной, обаятельной женщины. Да, она
умела жить... не то что наши робкие мещаночки...
250
Янина растерянно оглянулась на свое прошлое. Ее
воспитывала тетка. Уединение. Строгая набожность. Потом она вышла
замуж. Два раза они ездили в Варшаву. Теперь муж был
поглощен делами, полдня проводил в суде, а полдня с матерью.
Янину он считал ребенком. Вот и все. Да, все. Больше она ничего не
испытала. Когда же в их город приехал Свентецкий, ей
показалось, мир перевернулся.
Она боялась думать дальше.
— Танцуют вальс, — пробормотала она и встала.
Свентецкий следил за Мирской. Пани Эвелина смеялась с
молодым офицером, стоя у двери и обмахиваясь страусовым
веером. Розовый шелк подымался на ее груди.
Франка собралась в гости. Она заслуживала отдыха, без
сомнения. Она с сердцем одевалась. Это потому, что ее все-таки
мучила совесть перед барыней. Уходя, она извинилась, если
опоздает. Янина была одна в целой квартире. Она долго
машинально бродила по комнатам.
Потом остановилась и смотрела на улицу. С утра моросил
дождь. Пусто, грязно и скучно! Она взялась за книгу и читала,
не понимая ни строчки. Потом заплакала. И плакала долго, тихо,
не всхлипывая, покуда совсем не стемнело.
Вдруг щелкнул замок, хлопнула дверь. Вернулся
Свентецкий. Он скоро прошел к Янине и стоял совсем близко.
— Вы плакали, Янина?
Она кусала себе губы, отворачивалась и не могла найти платка.
Слезы лились у нее градом. Его лицо было смертельно усталым.
— Боже мой, как все это грустно, — наконец сказал он. — Я
любил многих женщин, Янина, люблю и теперь... Мирскую... вы
угадали... и вместе с нею мне страшно нравится Тони... Вы
понимаете что-нибудь?.. Нет?.. Я тоже очень мало... К вам же,
Янина, у меня совсем особенное чувство... Оно только для вас... Но
вам нужно забыть меня, потому что я не могу дать счастья даже
надень...
Янина протянула к нему руки, как бы защищаясь. Она вся
задыхалась от муки... Эта ласковая жестокость мужчины!.. Эта
ласковая жестокость!..
Свентецкий прошептал с отчаянием:
— Если бы вы знали, как я утомил сам себя.
Старая Пшелковская волновалась. Она была недовольна
невесткой. Милостиво разговорилась с Франкой на эту тему.
Служанка многозначительно качала головой. Да, чего уж тут
хорошего, если барин в отлучке, а квартирант — молодой. Впро-
251
чем, она не хочет сказать ничего дурного... Пшелковская важно
подарила рубль Франке и, не прощаясь с невесткой, ушла.
Янина осталась у чайного стола. Ей не приходило в голову
убрать посуду. Своими прозрачными, тонкими руками она
сжимала голову.
Потом вымыла стаканы, составила их в буфет и прилегла на
кушетку. Издали ее лицо казалось восковым — так исказило
его страдание.
Франка подсматривала в щелочку. Сердце Иисуса,
смилуйся над нами!.. Барыня не кончит добром, если будет так
убиваться. Хорош и барин! Уехал по делам и забыл жену. Хороша
и свекровь!.. Небось рубль дала не без мысли. Хорош и
квартирант! Что еще ему нужно? Она, Франка, кажется, не враг им
обоим.
Она заварила себе кофе.
Леон вернулся домой с Тони. Они принесли в складках
платья свежесть весенней ночи, на лицах же особенное,
беспричинное, радостное возбуждение.
Янина перекидывалась незначительными фразами с Леоном.
Тони мечтательно задумалась. Нет, ей не повезло этой весною,
она ни в кого не влюбилась, и это черт знает как скучно...
В гостиной стихло.
Франку жгло любопытство.
Наконец должна же она следить за барыней, раз ей дали
рубль. Это было бы нечестно. И она прильнула к двери. Глазам
ее представилось следующее: барыни в гостиной не было. Тони,
эта порочная девчонка, стояла перед Свентецким в самой
кокетливой позе. За ухом у нее уже торчал бумажный желтый
бульденеж. И она говорила нараспев:
— Monsieur Леон, вы влюблены в мою мамочку... и это
дурно, уверяю вас.
Святой Иосиф!.. Какой глупый вид имел Свентецкий...
Потом он опомнился, насмешливо поклонился и ответил тем же
тоном:
— Mademoiselle Тони, вы большая фантазерка... И это
стыдно, уверяю вас...
А она продолжала качаться на носках — Тони.
— Monsieur Леон, я все понимаю...
— Mademoiselle Тони, я ничего не понимаю...
— Monsieur Леон, я вас ненавижу.
— Mademoiselle Тони, я вас люблю.
Франка остолбенела. Не барыня, а барышня разводила здесь
мерзость...
252
Франка отошла от двери с большим достоинством. Ее губы
решительно сжались. Завтра она отдаст крестнице рубль,
подаренный старой Пшелковской.
Выносили чемоданы Свентецкого. Янина прислонилась к
стенке. Огромная усталость гирями висела на руках и ногах.
Тони чему-то нервно смеялась.
Свентецкий церемонно поцеловал руку Янины. Советовал
беречь себя, желал счастья и просил передать поклон мужу.
Тони дергала его за пальто, и ему пришлось обернуться.
— А я вам желаю... я вам желаю... — плела она ерунду,
заслоняя Янину.
Франка громко пробурчала, что можно было бы обойтись
без фокусов. Она и Тони провожали Свентецкого.
Янина прошла в столовую. Она тяжело, прерывисто
дышала, словно поднималась на гору. Это оттого, что здесь в груди...
здесь в груди... И она села.
Франка и Тони вернулись.
— Проводили? — улыбнулась Янина.
Тони всю передернуло от ее улыбки. Франка уносила
самовар. Пусть бы барыня написала табличку о сдаче комнаты...
времени терять нечего.
На другой день должен был приехать Пшелковский из
Н-ска. Франка яростно чистила всю квартиру. Совсем поздно
старая Пшелковская принесла торт délice* и уселась ожидать сына.
В гостиной было совсем тихо. Янина медленно ходила взад и
вперед. Длинный подол ее черного платья цеплялся за мебель.
«Это несносно... точно маятник», — мысленно негодовала
старая дама.
Франка сняла последнюю пылинку в кухне и уселась на стул.
Она дремала, полуоткрыв рот.
Около одиннадцати часов вечера приехал Пшелковский. Все
три женщины отворяли ему дверь.
— Матушка, как я счастлив! — сказал он патетически.
Мать повела его переодеваться, а Янина осталась здесь. Она
чувствовала невообразимую пустоту. Франка вносила закуски.
Ах, какое счастье, когда барин дома! Теперь все благополучно.
Пшелковский ел много, но еще больше говорил. Его бритое,
полное, самовлюбленное лицо горело.
Потом, вдруг круто обрывая разговор, он положил нож на
тарелку и заявил торжественным тоном:
* Наслаждение (фр.).
253
— Я прошу вас не пугаться... мне очень тяжело вас
расстраивать, но... я очень рад, что это я, а не кто другой сообщает вам
печальную новость... Я очень рад, что я приехал... Наш
квартирант Леон Свентецкий бросился под поезд.
НА ВОЛЮ
Старшая дочь управляющего Люба стояла на крыльце и,
щурясь от солнца, с легкой улыбкой смотрела то на молодого
хозяина, то на приказчика. Оба они, потные, усталые,
раздраженные, вернулись с поля и спорили, не отходя от дрожек.
Вокруг молча толпились рабочие. Выбежала из людской кухарка
вся в муке, простоволосая и подоткнутая. Открыли окно
сестры Любы. Целый день шел ливень, теперь же небо было ясно и
заходящее солнце сверкало в каждой капельке, луже и битом
стекле. Зелень, железные крыши, ступеньки, даже утки
казались вымытыми, блестящими, новыми, а сам двор превратился
в черное жидкое месиво.
— Ну, полно вам гневаться, Павел Николаевич, — низким
грудным голосом сказала Люба, — вы бы лучше отдохнули; на
вас лица нет.
В ее гордых, насмешливых глазах затеплилась нежность,
почти мольба.
Павел Николаевич ответил с досадой, подходя ближе:
— Будь оно проклято, это хозяйство!.. Всякий здесь
распоряжается по-своему... меня они все в грош не ставят...
Потом улыбнулся, скользнув взглядом по плечам, груди и
бедрам Любы.
— Устал я... Ну, слава Богу, Любовь Даниловна, завтра
артель двинется... Комнатка у меня там прямо на заглядение...
Жаль только леса... Шумит себе... Не ведает, не знает... Эх, кабы
моя воля, не согласился бы я на порубку.
Люба щурила голубые грустные глаза и перебирала кончики
платочка, накинутого на плечи.
— Не передумали? — тихо спросила она.
— Нет, что вы... я свои решения не меняю... через час
выгляньте в сад... потолкуем.
— Хорошо... Только следят за нами, — вздохнула Люба. —
Если сегодня не удастся...
Загорелый, сильный и красивый, главным образом своим
здоровьем, Павел Николаевич тряхнул головой и ушел.
Приказчик заметил недружелюбно:
254
— Мудрит барчук... Хоть совсем работу бросай через него...
Ему не угодишь...
— Барышня, мне сахару нужно... весь вышел...
— В доме спросите... у тетки... Я не знаю, — сухо бросила
Люба.
— Так вы бы им сами и доложили.
— Мне некогда.
Она отправилась хозяйничать, высоко поднимая ситцевое
яркое платье, а другой рукой поправляя густые белокурые косы
на затылке.
Теперь приказчик и дворня многозначительно перемигнулись.
— Рехнулась девка, — сплюнул приказчик, —бить некому...
— Еще с весны путается, — кривил рот конюх, — как
приехал ён к Пасхе, значит, в прошлом году, так промеж них-то и
пошло... Думали, старый вступится... поучит... аннет... Обошли,
значит, отца.
— Ён куда, и она с ним... Целую ночку над рекою стоят, —
рассказывал другой, — наши ребята наткнулись раз... Испужа-
лись крепко... Баили, она все плачет, руки ломает, а он песни
поет... Смеху-то потом что было... Страсть!
— Срамота, — фыркнула кухарка, — а еще барышней
называется!.. В городе была, училась... Бабы болтали, что с
отличием... похвальные листы привезла... Тетка показывала... лежат в
портафеле...
Разошлись с бранью и еще долго смеялись по углам.
Артель должна была отправиться на порубку леса еще в
пятницу, но почему-то замешкалась, и отложили до
понедельника. В усадьбе теперь царило полнейшее безначалие. Старый
помещик уехал с семьей в Крым, а молодого, Павла
Николаевича, в прошлом году кончившего университет, не слушали. Он
вставал с петухами, ездил в поле, лес, отдавал нужные, дельные
приказания, однако ни управляющий, ни даже приказчик ему
не доверяли. Между рабочими преобладающим элементом
являлись ярославцы, с их певучей речью, наглыми глазами и
веселыми прибаутками. Они разгуливали по двору, ярея красными
кумачовыми рубахами, белокурые, кудрявые, в лаптях, и то
там, то сям раскладывали маленькие костры. Варили кашу —
«почем здря», как выражалась, негодуя, кухарка, так как
действительно их кормили хорошо. Приказчик визгливо кричал,
ругался, что они сожгут ему усадьбу, но поделать ничего не мог.
— Ишь расходился... что твой барин, — усмехались рабочие
и не трогались с места.
255
Суетились, бранились, ссорились. Шатались бесцельно из угла
в угол. Спало большинство, несмотря на протесты женской
прислуги, в «чистой» кухне. Целыми часами заливалась гармония.
Около амбара, где выдавалась провизия, не переставая стоял
кто-нибудь. Вечером артель пела песни, и от их разгульных,
бесшабашных мотивов у девушек горели глаза, и они сами
напрашивались на грубые шутки. Выходили и дочери управляющего,
все рослые, красивые, полные, и садились, щелкая семечки, на
крылечке. Тогда среди дворни поднималось шушуканье, и
снова болтали грязные, циничные вещи о Любе и молодом
хозяине. Сама же она никогда не вступала в разговоры, кроме
Мирона Ивановича, старого заслуженного эконома, который
крестил ее.
Обыкновенно Мирон Иванович смотрел на нее плутовато,
крутил головой и говорил спокойно, но с твердым убеждением:
— Не жена ты барчуку, потому што... оно то самое...
конечно... Ну, а девка хорошая... Огонь девка!
Люба смеялась, показывая ослепительные зубы и
закидывая руки за белокурую голову. Тогда чувствовался в ней такой
избыток жизненной силы, такая смелость, воля, гордость, что
тоска голубых глаз казалась обманом.
— А вот возьму и уйду к нему, — отвечала она, — возьму и
уйду... Павел летом жить будет в лесе... присматривать за
порубкой... Вот к нему и пойду... Что тогда скажешь?
Мирон Иванович настораживался. Смотрел остро из-под
седых торчащих бровей.
— Ой, накличешь на себя беду, девка... Отец твой, чай,
шутить не станет.
— Пошутит, коли нужно будет... Не беспокойся, —
насмешливо щурилась Люба.
Старик хмурился. Топтался на месте. Бормотал, хватая что-
нибудь, хоть сухой прут:
— Охота была вязаться с барчуком. Парень шальной...
совсем дите... твоих лет... ветер у него в голове... Бросит тебя, ни
дать ни взять, через недельку... Попрыгаешь тогда... Мало
народу вокруг тебя, что ли?
Вместо ответа она напевала:
Много в небе звездочек... темен небосклон.
Много добрых молодцев, да не то, что он.
— Говори там... Все спервоначалу так кажется... Пропадешь
ни за понюшку табаку.
256
— Все лучше, дядя Мирон, чем остаться в этом болоте...
Ни солнца, ни радости... Сосватают за лавочника, и молодости
конец.
Эконом начинал сердиться:
— Да ты всурьез это, девка, или просто лясы точишь?
— А ты думаешь —шучу? — зло хохотала Люба. —Как бы
не так... Незачем было тогда и огород городить... Говорю тебе
уйду я к Павлу в лес... Навсегда уйду.
— Тэк-с, — недружелюбно щурился Мирон Иванович и
дергал бороду, — тэк-с... Это как же дозволите понимать? Прямо в
полюбовницы, что ли?
— А хотя бы и так... Кому какое дело?
Задорно вскидывала головку, заливалась густым
мучительным румянцем, но не опускала глаз.
— Гм!.. Прытки вы больно, Любовь Даниловна...
Мирон Иванович смолкал на минуту. Потом спрашивал с
живейшим любопытством:
— Да ведь, кажись, барчук в город осенью уедет?
Люба затуманивалась:
— Едет... пусть едет, дядя Мирон... Ему не в деревне жить...
Тянет и меня отсюда... Так бы и полетела... Давно в городе была...
Перезабыла, как и говорить-то по-человечески... Душно мне...
Тоска замучила... У отца здесь словно в клетке... Люди кругом
все торговые, жесткие, злые... Брань, воровство... Книжечку
возьму, так кругом крик поднимут... Негде приткнуться... Угла
своего нет... Все в общую кашу... Сестры замуж хотят... из-за
платьев ссорятся... Живем недружно... Тетка болеет, на работу
плачется... Грязь, духота, мрак... О Господи!.. И зачем меня
только учили! Не могу покойнице матери простить... Не могу... А с
отцом — не сговоришься... Он только об деньгах и думает...
Эх, на волю бы!..
— Н-да, — соглашался Мирон Иванович, — крутенек Данил
Митриевич, крутенек... всех вокруг себя согнуть хочет... В него
ты, видно, уродилась... своевольная... ни Бога, ни людей не
боишься...
Потом, испугавшись своей откровенности, он сердился:
— Не твое дело родителев судить... Непутевая!.. Вишь, какие
мысли в голову лезут... Не то чтобы смириться, покаяться... Ты
бы за хозяйством лучше приглядела... На волю!.. Чего
захотела... Какая там воля?.. Иголка да веник в руки... Небось пирогов
толковых спечь не сумеешь, а о воле толкуешь... Нехорошо,
Даниловна... верное слово, нехорошо.
Люба смеялась, а он уходил, бормоча:
9 Анна Map
257
— Блажишь, девка, вот что я тебе скажу.
Сегодня, однако, Мирон Иванович догнал Любу около
амбара туча тучей.
— Даниловна, отец за тобою следит... Берегись... Не
пожалею, говорит, свою плоть и кровь... убью.
Она нетерпеливо повела плечами:
— Оставь меня, дядя Мирон... все равно теперь поздно... Не
послушаю.
Эконом раскричался:
— Ты думаешь, я ничего не вижу? Куда ты собираешься
этой ночью? Я все скажу... выдам... Потеряла себя девка...
Люба побледнела до губ, потом выпрямилась и глухо
крикнула:
— Не тронь меня сегодня, дядя Мирон... Худо будет... А
потеряла я себя или нет — мое дело.
Мирон Иванович отшатнулся. Изменился в лице.
Пробормотал преувеличенно резко:
— Экая, прости Господи, оголтелая!.. Да будь ты проклята,
делай что хочешь, если тебе семьи не жалко!.. Хоть голой ходи...
Ни стыда ни совести... Тоже... выросла...
Солнце село, и во дворе сразу все предметы потускнели,
словно постарели. Пахло влагою. На земле оставались
глубокие, четкие следы ног.
Люба неверным голосом отдала приказания, потом села на
скамью под черемухой. Ей было душно, тесно, жарко от
нахлынувших мыслей, дрожали колени и кружилась голова. В сердце
снова проснулся горячий, страстный протест, бешеный крик
против насилия, гнета, семейной клетки, безумная жажда
личного счастья.
«Умру, а не уступлю... Против всех пойду... Себя не
пожалею», — чуть не вслух сказала Люба.
Жизнь у нее была действительно тяжелая, мрачная,
искалеченная чужой прихотью. Шло за ней всегда по пятам злое,
темное, грязное подозрение и дикое преследование целой усадьбы.
Она уехала в город, чуждая их среде, как-то инстинктивно, а
вернулась еще более одинокой, замкнутой, гордой, отошла от
семьи и рвалась из нее.
«Уйду... Завтра уйду». — И Люба, оглядываясь по сторонам,
не испытывала сожаления. Потом вспомнила Павла и в
сумерках мысленно ласково улыбнулась ему. Было также немного
смешно думать, что чужие неразгаданные глаза, губы и голос
имеют такую странную, могучую власть над ее чувствами,
желаниями, душою, что образ, вызванный разгоряченным вообра-
258
жением, обезволивает, чарует, покоряет даже на расстоянии.
«Милый мой!»
Люба заломила руки тоскливым, бессознательно-страстным
движением и встала. Не хотелось возвращаться в тесные,
жалкие комнаты, заставленные кроватями, сундуками, божницами,
где всегда пахло едой и нафталином. Не хотелось видеть тупые,
равнодушно сытые лица сестер и угрюмое — тетки.
«Пойду в контору... все равно... Может быть, Павла
встречу».
Пошла быстрым, легким шагом через сад, кидая нежную,
загадочную улыбку бегущему впереди пространству. Мысли
роились, капризные, смеющиеся.
«Жить я хочу... Пламенем гореть...»
И почти бежала, торопясь излить все, что трепетало и зрело
в груди. Опять загадочно улыбнулась небу, саду, самой себе...
Встретила Павла на дороге. Среди кустов сирени, жасмина, на
тропинке, ведущей к пасеке, они обнялись крепко, порывисто.
У ней брызнули слезы от счастья, и вся она, дерзкая,
озлобленная, измученная, стала мягкой, робкой, ласковой.
— Глупая, — протянул он, — ай, какая глупая. Плачешь? Это
что же?.. Так мне радуешься?
Доверчиво прильнула к нему, говоря быстрым
полушепотом:
— Прости меня... Я все думаю, Павел... Ты такой сильный,
смелый... совсем бы тебе уйти отсюда... Трясина здесь... омут...
А жизнь широкая... Хоть и меня брось, только уйди, сгинешь...
засосет...
Он смеялся, туго стягивая платочек на груди и жарко целуя
в губы.
— Чудачка... Об этом еще поговорим... успеем... Так идешь
ко мне?
-Иду.
Люба вернулась поздно. Тетка всплеснула руками:
— Откуда ты?.. Отец тебя спрашивал...
Вера, доедавшая простоквашу, бросила ложку, закрылась
ладонью от свечи и насмешливо оглядела сестру.
— Ну и бесстыжая же ты, как я на тебя посмотрю, —
протянула она, — а еще старшая... Дрянь ты, и больше ничего.
— Из-за тебя теперь житья в усадьбе нет, — злилась Дуня, и
лицо ее пылало, — каждый глаза заплюет. Паскуда!
Тетка причитывала:
— Оговорили девку... одурманили... стыда лишилась... себя
не помнит...
9 *
259
Люба присела к окну и уронила голову на руки. Она
молчала, изредка вздрагивала, и тогда можно было подумать, что она
плачет. Во дворе пела Анюта:
Выйди да выйди в рожь высокую,
Я до ночи погожу...
А завижу черноокую...
Все товары разложу...
Люба потянулась, встала.
— Ужинать будешь? — спросила тетка.
— Н-нет... Не хочется.
— Так ты бы к отцу сходила... Требовал.
Люба нахмурила густые темные брови, несколько минут
колебалась, потом решительно качнула головой.
— Не пойду... Хочет, так и сам явится... Мне с ним не о чем
разговаривать.
Тетка ахнула:
— Рехнулась девка, ей-богу же, рехнулась... Да ты знаешь,
что отец тебе сделает за такие речи?
— И не знаю, и знать не хочу!.. Оставьте меня в покое.
Старуха собрала посуду.
— Спать где будешь? В спальне или на балконе?
Люба отвернулась к окну.
— На балконе.
— Да ведь дождь шел — сыро.
— Тем лучше... В комнате душно.
— Ой, допрыгаешься, Люба... Пожалеешь, да поздно...
Тетка хлопнула дверью. Зазвенел конец песни:
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани...
Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Ходили тени от свечки по стене. Загроможденная комната,
зевавшая Дуня и ворчавшая Вера показались ей до ужаса
чужими, ненужными, неприятными. Она прогнала сестер и
высунулась в окно. Здесь, еще слепыми после света глазами,
огляделась и крикнула мягко:
— Маша... а Маша!.. Поди-ка сюда! А ну-ка помоги мне
постлаться.
Голоса оборвались. Застучали доски. Прибежала младшая
сестра, повиснула на шее и заплакала.
— Ну, что ты, махонькая... что ты... Бог с тобою, — нетвердо
260
выговаривала Люба и гладила шершавую, коротко
остриженную головку.
Они вместе тащили тюфяк, подушки, одеяло, сбивали сено.
— Папа шибко бранился, — шептала успокоенная, но все еще
дрожавшая Маша, и слышно было, как по доскам шлепали ее
босые ножки, — говорил, если ты еще к нему пойдешь, так он
убьет тебя... Так и сказал «убью!», даже перекрестился... Тетка
как закричит... и плакать начала... а сестры смеялись... Верка
дразнится...
— Ах ты, моя махонькая... По-настоящему в твои годы не
такие вещи нужно слушать... Да только не я одна виновата...
— Сыро, Любочка... холодно... и темно сегодня... ни одной
звезды... Ой!.. Я бы боялась...
— Чего, детка?
— Да так...
Сели на ступеньки. Небо темное. Из сада влагой тянет.
Шуршат верхушки деревьев. Бродит ветер. Около гумна застучал
сторож. Собаки залаяли.
Маша крепко прижалась к сестре.
Вдруг чуть слышно спросила:
— Люба, ты его больше любишь, чем меня?
— То другая любовь, воробушек... совсем другая.
— Ну, а все-таки... Ты подумай.
Старшая сестра в темноте улыбнулась:
— Больше всего на свете люблю... Это правда.
Голос задрожал слезами:
— Ах, моя махонькая, если бы ты была взрослая...
Поговорить мне не с кем. А сердце так и ноет... Если бы все рассказать
тебе... было бы мне легче.
— А почему нельзя? Ведь я все понимаю.
— Ты — умница, только еще маленькая... Чего дрожишь?
Холодно? А то шла бы себе спать... Право же, воробушек.
— Еще минуточку.
Но Люба тревожилась:
— Ступай, махонькая... Спи спокойно... Ведь и вправду-то
свежо очень.
Обняла крепко, долго крестила. Стиснула зубы, чтобы не
заплакать.
Теперь в душе не было ни страха, ни сомнений, а лишь
твердая уверенность, что идет она на новую жизнь и всякое горе
ради него, любимого, встретит радостно. И тогда, смелая,
гордая, в порыве восторга от близкой свободы, протянула руки к
немому саду: «Иду, милый, иду!»
261
ЖЕНА
Кузьмичев бросил папиросу, откинулся в кресле и через
минуту сказал:
— Я не верю, collega*, чтобы долг был чувством
врожденным. Он слишком узкосубъективен. Представление о долге,
семье вырабатывается временем, средою и воспитанием. Он, в
конце концов, не что иное, как привычка.
Смольский возразил угрюмо:
— Может быть, однако мучения нарушенного долга ужасны.
— Вздор! Фразы! Мещанская мораль!
Они молчали. Кузьмичев начинал терять терпение. Он только
что вернулся из суда и теперь собирался ехать на именины к
женщине, за которой ухаживал эту зиму. Сознание, что он
красив, любим, обеспечен, а главное — талантливый, известный в
городе адвокат, имело для него сегодня особенное значение и
заставляло относиться к другим несколько покровительственно.
Жалобы Смольского казались ему нелепыми, маленькими
настолько, что о них по-настоящему и говорить не стоило,
однако он улыбался и принимал внимательную позу.
— Ну-с, и что же, Виктор Иванович?
Смольский мямлил, безвкусно повторяя одно и то же:
— Лиза приехала и не хочет уезжать. Я, говорит, устала,
требую иной жизни. Усядусь — и ни с места. На меня работай.
— Гм!.. Ловко! Это похоже на вымогательство, —
рассердился Кузьмичев, — я бы живо указал ей дорогу.
— А если деваться некуда?
— Деньги в зубы — и марш ко всем чертям. В крайности,
можно обещать ежемесячное пособие.
— Да, как же... предложишь ей... держи карман шире, —
бормотал Смольский.
— Но ведь жила она одна раньше?
— Жила, да теперь не хочет. Забастовала.
— Вы давно разошлись? — зевнул Николай Павлович.
— Лет пять. Ведь это не женщина — черт в юбке.
Головокружительные фантазии... смена настроений... никаких принципов...
mania grandiosa...**
— Она у вас что? Актриса, кажется?..
— Маленько. Теперь на вторых ролях. А сначала повезло.
Успех имела внушительный. Потом заболела... припадки раз-
* Коллега (лат.).
** Мания величия (лат.).
262
ные... как раз в первый год вашего знакомства... выздоровела,
но — фьють! — прошлого не воротишь... изменилась она.
— Тэк-с... Я ее, признаться, плохо помню.
Кузьмичев улыбнулся и закрыл глаза.
Он намеренно лгал, так как в действительности очень
хорошо помнил гордую блондинку с яркими, отчетливыми губами,
сложную, интересную и проникнутую какой-то особенной
ненавистью ко всем и к нему в частности.
Они встречались раз десять — пятнадцать и расходились
после крупных недоразумений. Он не любил таких женщин, а Смоль-
ский даже избегал, и теперь думал, что Виктор Иванович,
пожалуй, серьезно несчастен и ему нужно помочь.
Николай Павлович чистил ногти, благодушно замечая:
— Словом, Виктор Иванович, отказать жене от дома вы не
решаетесь... боитесь долга, как вы давеча сказали... жить вместе
не желаете... Что же я могу посоветовать, collega? Non
possumus!*
— Разговор кончен, — буркнул Смольский и потянулся за
портфелем, — во всяком случае, наша дружба обязывала меня
посвятить вас в курс дела.
— Очень благодарен, очень благодарен, — сухо отозвался
Кузьмичев, поднимаясь с места, — и если бы я только мог
помочь вам...
— Можете, — неожиданно перебил Смольский, —можете...
— Но чем же это? Как? — изумился Николай Павлович.
— А вот придите ко мне да поговорите с Лизой... объясните
ей, что оставаться со мною — безумие. Мы — чужие,
озлобленные друг против друга... ссорились всегда, как только
оставались вместе. Детей нет... общих интересов нет... заработок у меня
скудный... Чепуха одна. Пусть уезжает... Если уж на то пошло —
я скорее высылать соглашусь. Вам, как человеку
постороннему, она скорее поверит. Она вас хоть и того, недолюбливает, но
уважает. Едва порог переступила, о вас спросила.
— Гм!.. Вы думаете, это будет ловко? — несколько
растерялся Кузьмичев.
— А черт знает, ничего я не думаю... одурел! — болезненно
поморщился Смольский.
Теперь Кузьмичев улыбался, странно волнуемый мыслью,
что может прийти к малознакомой враждебно настроенной
против него женщине и говорить ей грубости, читать нотации,
почти выселять ее из дому.
* Не можем! (лат.)
263
Он пристально посмотрел на Смольского, теребившего pince-
nez*, и подумал, что отказаться от подобного интересного,
щекотливого и несколько необычайного предложения было бы
глупо. Само собою выплыло из смутных, давно позабытых
воспоминаний, бледное, красивое лицо Смольской, ее нежные,
волнующие духи, чуть-чуть картавый говор и та жгучая, странная
ненависть, которой дышали все ее слова, жесты, взгляды,
обращенные к нему, Кузьмичеву.
И, внезапно решившись, заинтересованный, веселый и
слегка смущенный, Николай Павлович ответил:
— Хорошо, дорогой collega... я буду рад вам служить. Я
поеду к вам после шести часов и переговорю с Елизаветой...
— Елизаветой Андреевной.
— Отлично. Елизаветой Андреевной. Теперь же отправимся.
Я, кажется, опоздал...
Смольский не благодарил приятеля, но улыбался, кивал
головой и спрятал pince-nez, что у него всегда служило признаком
удовольствия.
В передней они птутили с горничной, а потом Кузьмичев
долго охорашивался и рассматривал в зеркало свою дорогую,
изящную шубу.
На улице, уверенно шагая и лаская взглядом проходящих
женщин, Николай Павлович говорил мягко:
— Дорогой Виктор Иванович, так продолжать нельзя. Я бы
на вашем месте давно повесился. Вы отказались от самого
главного, что скрашивает жизнь, то есть от смелости. Да... вы
запуганы насмерть всем окружающим... Вас пугают и дома, и
лошади, и дворники, и полицейский околыш, и наши газеты. Вы
живете не по своей программе, а по советам других. К вам,
например, приехала сумасбродная женщина... Pardon...** мы говорим
по-семейному... И вы потерялись. Вы готовы забрать свои
пожитки и убегать, спасаться куда-нибудь в чужой двор... Да... вы
не обижайтесь, голубчик... Это безумие... Мне вас от души
жалко, хотя, по принципу, я никого не жалею.
— Вы правы... Я боялся темных комнат уже будучи
студентом, — с каким-то наивным самодовольством отозвался
Смольский, — что делать... натура... безвольный, слабый человек...
Всякая репрессия для меня отвратительна.
Он продолжал улыбаться, поднял ворот и шел, смешновато
подпрыгивая. Одетый в тяжелое старое пальто, Виктор Иванович
* Пенсне (фр.).
* Извините (фр.).
264
казался меньше ростом, и бросались в глаза его маленькие ноги.
— Я теряюсь перед Лизой, — сознался он, когда Кузьмичев
остановился, чтобы проститься с ним. — В ней есть нечто
беспомощное и вместе озлобленное, затравленное... от чего мне
делается жутко... Ну совсем как в темной комнате, идешь и не
знаешь — треснешься лбом, или плечом, или затылком. Тяжелая
женщина... Ох, спасите!..
— Спасем, не сумлевайтесь, — пошутил Кузьмичев, и в его
самоуверенных, живых, жестких глазах мелькнула плохо
скрытая мысль: «А и глуп же ты, паренек!»
Мимо быстро проехал лихач, обдал их грязью и разъединил.
— Так до вечера! — крикнул Смольский.
— К семи, — сказал Кузьмичев и дотронулся до своей шапки.
Виктор Иванович не пошел домой, а завернул в «молочную
ферму», и, покуда некрасивая, неопрятная продавщица с
утомленным лицом приготовляла ему что-то на столике, он все
время думал, как ловко и быстро устроил дело.
Потом на минуту перед ним мелькнуло бледное женское лицо
с ненавидящими глазами, темная, пыльная гостиная и
ярко-розовый abat-jour* лампы. Вспомнилось, как вчера его жена,
изящная, чужая, незнакомая, стояла около нее и, залитая теплым
светом, говорила брезгливо:
— Вы глупы, сударь, глупы. Я вас презираю, но останусь здесь,
потому что хочу. Слышите? Х-о-ч-у... И вы будете работать на
меня, бояться уйти, но вечером ныть и скучать, а я смотреть на
вас, хохотать и радоваться. Ступайте вон! Я вас презираю. И я
здесь останусь... да... да... останусь!
«Вот и врешь, не останешься!» — мысленно усмехнулся
Смольский и злорадно вспомнил, что Кузьмичев груб, если вспылит.
После обеда он еще бродил по городу с двумя знакомыми
студентами, а к шести вернулся домой. Как и утром, Елизавета
Андреевна полулежала на диване и читала какую-то книжку.
Руки свои, тонкие, музыкальные, очень белые, она запустила в
волосы, производя в первую минуту впечатление девушки.
На шаги Смольского подняла голову, но позы не изменила.
Смольский процедил намеренно просто:
— Скоро придет мой приятель, Николай Павлович
Кузьмичев. Он хочет объясниться с вами.
— Со мной? Какой вздор! — побледнела Елизавета
Андреевна и натянула платок на плечи. — Слишком много чести...
А если я его выгоню?
* Абажур (фр.).
265
— Вы этого не сделаете.
— Почему?
— Женщина должна быть мягкой, — совсем глупо заметил
Смольский и сел в угол набивать папиросы.
Теперь Елизавета Андреевна смотрела в окно на улицу, где
было пусто, скучно и проходил почтальон. Ее лицо — строгое,
холодное, выражавшее какую-то затаенную, упорную мысль, —
потускнело, постарело и на миг перестало быть красивым.
Через минуту сказала без малейшего выражения:
— Если твой Кузьмичев придет уговаривать меня уехать
обратно, то из этого все равно ничего не выйдет. Послушаю я его
тары-бары, благо скучно, а потом и за дверь выпровожу.
Говорила, не уеду, значит, и не уеду!
— Мы это еще увидим, — зло, но сдержанно возразил
Смольский.
То, что жена говорила ему «ты» и не меняла своей
интимной, небрежной позы на диване, казалось ему верхом наглости
и насмешки. Его руки дрожали, хотелось ударить бледное,
измученное лицо, и в то же время он трусил, нетерпеливо ждал
Кузьмичева и презирал немного самого себя. Потом пробило
семь, на парадном позвонили, и Виктор Иванович вместе с
прислугой пошел отворять.
Пока Николай Павлович раздевался, Смольский в
полураскрытую дверь гостиной увидел, что его жена стоит у стола,
опершись на него руками, и волосы у нее уже не растрепаны, а
поправлены и сколоты узлом на шее.
Он тихонько толкнул Кузьмичева, сам же скользнул в
спальню и заперся.
Николай Павлович, деланно щурясь, мягко приблизился к
молодой женщине, поклонился и сказал:
— Честь имею, Кузьмичев... Изволили забыть?
— Нет, не забыла, — тихо отозвалась Смольская.
Кузьмичев подметил в ее глазах жадно-пытливое
выражение, почувствовал холод тонких пальцев и сразу посмелел.
Засмеялся:
— Будем ссориться?
— Возможно, — уклончиво, без улыбки ответила Елизавета
Андреевна.
Сели в полутемной шаблонной гостиной, стало тихо до жути.
Кузьмичев ощущал странную неловкость перед этой очень
бледной, очень слабой и, как ему сразу показалось, очень
грустной женщиной. В чем заключалась ее грусть и была ли она —
Николай Павлович не мог сказать определенно, но он чуял ее
266
инстинктивно, смущался и удивлялся. Он нашел также, что
Смольская подурнела и потеряла свой прежний пикантный, злой
вид. Во всяком случае, Кузьмичев пробовал изложить
поручение Виктора Ивановича, пристегивая сюда и личный взгляд на
положение вещей. Выходило гладко, просто, ясно и...
неубедительно. И опять-таки эту неубедительность чувствовал
Николай Павлович, а не понимал умом.
Елизавета Андреевна внимательно, неуловимо настроенная,
тихо поеживалась и, когда он кончил, ответила:
— Видите, monsieur Кузьмичев, то, что вы — человек
посторонний, совсем не посвященный в мои дела, явились сюда и как
бы требуете отчета, меня не удивляет. Это, конечно, желание
Виктора Ивановича. Бедняжка недалек. Мне же решительно все
равно, кто со мною... вы... другой... или кресло.
— Позвольте, — обиделся Николай Павлович, — кажется, я
веду себя корректно.
— Ваш приход есть уже дерзость, — равнодушно отозвалась
Смольская и отвела прядь волос, лезущую в глаза, — впрочем,
если вы считаете себя обиженным, уйдите...
— Но... помилуйте, я обещал Виктору Ивановичу, —
пробормотал Кузьмичев и окончательно смутился.
А она, поправляя то платочек на плечах, то прическу,
говорила прежним безучастным тоном:
— Я приехала из Нижнего. Играла... проваливалась с
треском, как и следует... пока не прогнали... Увольте, дескать,
матушка... хорошенького понемножку... Денежные дела сильно
пошатнулись. Да-с... И здоровье... так сказать, психика... словом,
все такое прочее... Когда это случается со мною, я начинаю
философствовать, иначе говоря, мыслить без особенных
трюков, а просто и здраво. Я вспоминаю, что есть где-то город N.,
большой, шумный, на юге, и есть господин Смольский,
присяжный поверенный с жалкой практикой. Есть, наконец, женщины,
которые ходят сами на базар и тыкают протухлой говядиной в
лицо кухарке. Вспоминаю, что можно не учить ролей, не
браниться с режиссером, не завидовать премьерше и не обедать в
ресторане. Все это издали мне кажется заманчивым, наивным и
почти красивым. Я укладываюсь, беру отпуск и еду. Через
некоторое время, еще в дороге, я раздумываю, называю себя
ребенком и... возвращаюсь.
А теперь вот решилась... приехала и села. Господин
присяжный поверенный Смольский ужаснулся. Спрашивает: «Зачем?
К чему? Караул!» А я отвечаю, и отвечаю правду, то, что думаю:
«Мне, милостивый государь, доставляет колоссальное удоволь-
267
ствие причинять людям неприятности. Поэтому я и останусь и
буду жить у вас. И чем больше вы возмущаетесь, тем больше я
довольна. Вот... А теперь прибавилась еще одна пикантная
подробность: monsieur Кузьмичев явился меня выпроваживать.
Она засмеялась, и он видел, как бледное лицо с
отчетливыми губами приняло странное, растерянное выражение, словно
хотело скрыть что-то недосказанное, таившееся за всем этим. И
потом, все, что говорила она о бедности, одиночестве, тоске, о
том, как ненужно, бесцельно пробежала молодость, как
надоела бродячая жизнь, казалось Николаю Павловичу правдивым,
верным и главное — страшно тяжелым.
Ему хотелось встать, встряхнуться, спугнуть тишину,
перебить звук надломленного, усталого голоса, оживить бледное
лицо, согреть маленькие и, вероятно, холодные руки. Однако,
когда Елизавета Андреевна смолкла, он пробормотал только:
— Да... да... Это все ужасно... Да... вы правы.
И начал торопливо прощаться.
Смольская провожала его до передней и стояла здесь,
покуда Кузьмичев одевался, белея своим лицом, руками и
облачком кружев около ворота.
Потом, совсем неожиданно, Кузьмичев услыхал, как она
спросила очень глубоким, нежным, ему незнакомым голосом:
— А вы... вы лично хотите, чтобы я уехала?
И когда он изумился, потерялся от внезапно блеснувшей
догадки, Елизавета Андреевна тонко улыбнулась, отводя с лица
все ту же назойливую прядь волос.
— Я человек благодарный. Вы доставили мне громадное
удовольствие вас увидеть, я плачу тем же... Завтра уеду и не
вернусь...
МЕРТВЫЕ ЛИСТЬЯ
Сегодня вторично Левкович сделал мне предложение.
Первый раз это было весною на пикнике, года два тому назад, а
теперь стояла осень, и я шла в старом платье из рощи.
Я сказала:
— Благодарю вас, но, если можно, подождите ответа до вечера.
Не знаю, чего, собственно, я ждала от вечера. Но я так
сказала.
Дома у нас сидел молодой лесничий Ян Вороховиц.
Я слышала, как он чему-то весело смеялся, стучал ружьем и
говорил с отцом в один голос.
268
Я вышивала, думая: «Незачем ему приходить сюда так
часто и дразнить меня. Уж не поссорился ли он с Элькой? Отец
надоел ему и без того. А я?.. Ну какое я могу иметь значение
для него, пана Вороховица, лесничего, самого красивого и
образованного человека в округе?» И то, что, быть может, он
догадывается о моих чувствах, было мне страшнее смерти. Я снова
подумала: «Уж не поссорился ли он с Элькой?»
Не знаю почему, но я твердо решила, что Вороховиц
влюблен в Эльку. Правда, здесь ничего удивительного не было бы.
Эля — розовая, стройная, полная девушка с белокурыми
косами. Она всегда одевается ярко, носит шелковые юбки и далее
раз пришла к нам надушенная.
Эля двигается шумно, быстро и заразительно смеется —
совсем весенний вихрь.
Ревновала я ее недолго. Не виновата же она, в самом деле,
если красива и нравится лесничему?
Я чутко прислушивалась к тому, о чем говорил Вороховиц с
отцом, и не выходила, убеждая себя, что я там не нужна. У них
было все: закуска, мед, шахматы, у окна два удобных кресла, а
окно раскрыто, и у порога даже коврик для вытирания сапог.
Он должен чувствовать себя превосходно, он, то есть
Вороховиц, конечно. Отцу же со мною всегда хорошо.
Однако потом я решила, что долг хозяйки быть вежливой, и
вышла к гостю, сказав:
— Добрый вечер!
— Добрый вечер, панна Роза!
Какие у него открытые, прекрасные глаза! На него нельзя
сердиться.
— Вы из графской усадьбы? — спросила я, хотя знала это
отлично сама. Где же ему и быть, как не там, где он живет и
служит?
— Да, я из графской усадьбы, — ответил он вежливо, —
графиня вам кланялась и просила прийти к ней сегодня... и панна
Томашевская там.
Ужасно мне не понравилось, что он сказал «панна
Томашевская», а не просто «панна Эля», как всегда, словно боялся
назвать ее по имени, и так небрежно оперся на стул.
Я сухо бросила:
— Благодарите графиню, только я нездорова и прийти к ней
не могу.
Потом, как бы не замечая его растерянного лица, я
повернулась к отцу:
— Тебе ничего не нужно, отец?
269
— Нет, девочка.
И я опять ушла в свою комнату.
Щеки мои пылали. Мне было смешно и стыдно. Зачем я
разыграла принцессу? Подумаешь, в самом деле... дочка
управляющего не хочет идти в графскую усадьбу. А если завтра графиня
рассердится и прогонит управляющего, то он и его спесивая дочь
должны просить милостыню. Да, вот вам и дворянское
достоинство! И тут уже мало смешного, а, пожалуй, кое-что трагическое.
Отец разгорячился и стучал ножом по тарелке. Он сердился,
крича о беспорядках в усадьбе так, словно она была его
собственной. По мнению отца, продать ее являлось первой
необходимостью. Графиня разоряется. Она стара, с причудами, безвольна. Даже
крестьяне, и те уже не дают в долг масла, круп, яиц — боятся,
что им не заплатят. С этим нужно считаться.
Лесничий возражал. Нет, нет, незачем продавать усадьбу,
родовитую, старую, как сама графиня. Вот только немного
денег — и все пойдет отлично.
Я мысленно пожала плечами. С какой стати он защищает
графиню? Или ему так импонирует ее титул? Или благодарность
за то, что она хлопочет выдать за него Элю Томашевскую?
Потом я устыдилась своих мыслей и принялась снова за
рукоделие.
Отец и Вороховиц спорили теперь об охоте.
Закат был багряный, красивый. На березы, клены, кусты
лег тот же теплый, розоватый тон. Летало множество галок и
около забора, и над садом, и над полем, где чернела грудами
неубранная свекла, прикрытая своими же гниющими листьями.
Осенью у меня особенно болит сердце.
Мои мысли мешались с воспоминаниями о том, что я —
бедна, некрасива, немолода, с думами о дровах, дырявой крыше,
сломанной лестнице. Ах, как разрушался наш флигель, как на
глазах ежедневно разрушался! Графский управляющий!
Подумаешь, действительно, важность, на самом же деле... Господи!..
Мы живем словно дикари. По месяцам никого не видим,
кроме лесничего да графини.
К ней я не люблю ходить, хотя отец требует. Ужасно не
люблю. Низкие темные комнаты, пахнет нафталином, пылью,
кошками, целая свора собачонок, дряхлая графиня с
табакеркой и синими очками, грубая, хищная челядь. Как это грустно!
Даже со стороны.
Отец не захотел оставить усадьбы из благодарности.
Графиня когда-то облагодетельствовала мою мать, то есть дала
той средства на консерваторию. Мама пела в Варшаве. Там она и
270
умерла, кажется, или за границей. Отец достоверно не знает. В
детстве нянька говорила, что мама поступила дурно и ее
рассчитали за это, хотя старушка служила еще у бабушки. Потом
мнения разделились. Графиня одобряла, ксендз уверял, что сцена —
грех, а отец находил амплуа актрисы неподходящим занятием
для дворянки. Я же совсем не знаю, поступила мама хорошо или
дурно. Только я понимаю, что свобода лучше нашей усадьбы и
тишины. Бедная мама! Ее портрет висит у меня над кроватью.
Она в темно-зеленом бархатном очень узком платье с
кружевом вокруг обнаженной шеи, белокурая, голубоглазая, как
королева.
Вороховиц восхищался ею.
У Эли Томашевской такой же тип, только грубее. Поэтому,
вероятно, старая графиня обожает Элю. Однако у нее нет
ласковой простоты и хороших манер. Эля воспитывалась в
провинциальном пансионе. А я нигде не кончила, и материнского
во мне одни только руки.
Вороховиц говорит, что они — музыкальны. Я ужасно
горжусь этим.
И мои мысли снова перешли на самое себя.
Я все думала, как бы изменить жизнь и как бы избавиться
от унизительных встреч с лесничим. Почему он смотрит на меня
так внимательно? Почему он всегда рад причинить мне какую-
нибудь неприятность? Что я ему сделала дурного, в конце
концов? Если он воображает... Я не дала ему повода.
— Роза должна идти к графине, — доносится умышленно
громкий голос отца, — должна... Графиня добра к нам, как
ангел. Мы ей всем обязаны.
Ах, милый, наивный отец!
Мне было жать волновать его, я вышла к нему, обняла за
шею, поправила галстук и поцеловала в розовую лысину.
— Я нездорова, отец... иди один... Вон пан Вороховиц
проводит тебя...
Отец смягчился, а лесничий выразил мимикой нетерпение...
даже неудовольствие.
Он как бы хотел сказать: «Не ваше дело, паненка», но
сдержался.
Я чувствовала, как краснею, и боялась смотреть в его
сторону.
Уходя, отец крикнул:
— Роза, плакать не вздумай.
У меня даже дух захватило. Отец всегда такой простак. Он
ни о чем не догадывается.
271
Пан Вороховиц курил и притворялся, что не слышит.
Спасибо ему!
Я долго смотрела им вслед.
Отец, низкий, круглый, в желтой паре с красным кашне, и
Вороховиц, высокий, стройный, в охотничьей куртке, с
ружьем. Я вспомнила белокурую Эльку.
Да, они вполне пара.
Мне стало холодно.
Нет ничего ужаснее, как быть некрасивой. Когда пан
Вороховиц глядит на меня, я сама чувствую всю
непривлекательность своего бледного, усталого лица, худых плеч и иссиня-чер-
ных волос. (А он любит блондинок, я уверена.) И мне стыдно,
стыдно до слез. За все стыдно. И за старое платье. Да, очень
тяжело знать, что противна физически.
Уф!.. Эля никогда не испытает этого.
За окном по-прежнему сыпались листья, и меня сразу
охватила такая гнетущая тоска, что я заплакала, набросила платочек
и пошла в рощу. Я знаю, у меня есть выход... дать сегодня
слово Левковичу. Тогда я не буду больше испытывать нужду и
гореть от стыда перед лесничим. Нет, пусть он не воображает о
себе слишком...
Левкович — образованный, состоятельный человек. Про него
говорят только хорошее. Его первая жена умерла рано, и он
боготворит маленькую дочь. И он сам, и девочка были мне
давно симпатичны, только я забрала себе в голову Вороховица и
никак не могла выкинуть его оттуда.
А теперь я урезонивала себя. Нужно же наконец открыть
глаза. Тридцать лет... некрасива, худа, бледна, бесприданница...
Кому ты интересна, матушка?
В роще березы стояли совсем золотые, ну а клены уже
осыпались... кругом столько листьев. Их запах, крепкий, осенний,
всегда наполняет сердце невыразимой грустью. Мертвые
листья... Ах, какая печальная и вместе красивая эмблема нашей
жизни! И здесь также летало много галок. Они оживленно
болтали между собою и качались на ветвях таких тоненьких, что
казалось, вот-вот те подломятся.
И было очень тихо, словно роща затосковала, замкнулась в
себе и даже не жаловалась.
Я несколько раз оглядывалась в сторону барской усадьбы.
Там теперь отец раскладывает patience* с графиней, а
Вороховиц просит Элю сыграть на рояле. Та дразнит его, отнекивает-
* Пасьянс (фр.).
272
ся, кокетничает, и глаза ее сверкают. Да, я знаю, это так, это
так... И чем ярче я представляла их вместе, тем больнее
сжималось мое сердце и тем убедительнее становилась необходимость
принять предложение Левковича.
Дом Левковича находился сейчас же после спуска, за
рощей, а его магазин — в поселке, около станции,'версты три. Я
решила, что если встречу Левковича у ворот одного, то это
будет доброе предзнаменование и я непременно скажу «да».
Не могла вспомнить его лица, таким оно казалось мне
обыденным. Лицо как лицо.
Я часто цеплялась юбкой за сухие ветки, несколько раз
присаживалась на пни и плакала. А листья все сыпались, сыпались,
умирая без боли, сожалений, агонии, и я завидовала им.
Закат потух. Стало сыро. Деревья словно задымились. Пог
тянул ветерок. Галки уже не переговаривались — улетели.
-Ау!
Я подняла голову и ничуть не удивилась.
Шел Левкович с дочерью.
— Добрый вечер, — взволнованно крикнул он еще издали, —
добрый вечер!
Я улыбнулась.
Девочка у него премиленькая, в голубом платочке и
клетчатом платьице.
«Моя будущая падчерица», — подумала я, не ощущая ни
радости, ни удивления, ни огорчения.
Она жалась к отцу, а тот растерянно улыбался. Он не мог
догадаться, что я скажу: да или нет. Его большие руки были
холодны как лед, и весь он словно съежился.
Я решила скорее кончить со всем этим — уж очень болело
сердце.
Поэтому сказала:
— Пусть Зосинька бежит вперед.
И девочка послушалась, а я объявила Левковичу о своем
решении. Вышло это у меня легче, чем я предполагала.
Левкович шепнул:
— Да благословит вас Бог, панна Роза... вы сделали
счастливым несчастного человека.
И, нагнувшись, поцеловал мое платье.
Тогда я испугалась, торопливо простилась и пошла домой
не оглядываясь. Я спрашивала себя: «Зачем ты это сделала?
Боже мой, зачем ты это сделала?»
Листья, мертвые листья, шуршали под ногою таинственно и
безучастно.
273
В окнах нашего дома горел огонь.
К своему изумлению, я застала там пана Вороховица.
Он сильно задумался и не слышал, как я вернулась. Я долго
глядела, минут пять глядела на его красивую гордую голову,
небрежную позу, войлочную шляпу. Внутри у меня все
оборвалось, и я спросила сквозь слезы:
— Как, вы вернулись?.. Вы здесь?
Он вздрогнул, вскочил и начал смеяться. Я никогда не
слышала, чтобы он так счастливо смеялся.
— Ах, панна Роза!.. Панна Роза!..
И протягивал мне руки.
Я ничего не понимала. Мне казалось только, что сейчас
произойдет нечто ужасное, и я взялась за стул.
Он лее все смеялся и повторял:
— Где же вы были так долго, голубушка! Боже мой, я жду, я
жду... сколько хитростей я сплел, чтобы убежать от графини...
Ах, панна Роза... панна Роза!..
И, видя, что я молчу, он притих, говоря нежным глубоким
голосом:
— Разве вы не догадываетесь? Разве вы ни о чем не
догадываетесь, моя милая, хорошая?
А я ответила еле слышно:
— Я уже дала слово пану Левковичу.
Больше я ничего не помню.
ОБЫЧНОЕ
Было еще рано. Солнечно. Ветрено.
На веранде противоположного отеля лакей вытирал
столики и передвигал стулья. По ступенькам сбегали туристы,
рассыльные. Выкрикивали газеты.
Елена смотрела в окно и думала, что бессонная ночь не
прошла даром. Голова кружилась, слегка мутило. Сегодня ровно
неделя, как она питается одним кофе. А сколько дней
голодовки до того! Счет потеряла. Правда, осталось еще шесть
франков, но их нужно приберечь для переезда из отеля.
Почему все так случилось?
О, просто. Даже совсем просто. Приехала компаньонкой с
одной дамой в Montreux*. Дама отказала чуть ли не через месяц.
Условий не исполнила, а сама исчезла. Сулили кое-что в Женеве.
* Монтрё (фр.).
274
Отправилась. Буквально на последние гроши. Вероятно, заболела
еще на железной дороге. В отеле еле-еле поднялась наверх. Ей
дали крошечный номер и намекнули, что барышня выглядит
нездоровой... Барышня иностранка... все может случиться... Упаси
Боже, конечно... но... Словом, она заплатила вперед.
Сосчитала деньги и ужаснулась. Послала письма на родину,
телеграммы.
Господи, да разве это так скоро, из России!..
Вчера случайно с нею заговорили две русские барышни.
Элегантные, насмешливые, скорее парижанки на вид. Они
презрительно пожимали плечами. Знакомиться с русскими? Ни за
что на свете! Они три года здесь и, кроме иностранок, ни с кем
не имеют дела.
Слабо усмехнулась, вспоминая их гримасы.
Ох, пора уходить искать комнату!.. И не хочется. Вчера
целый день металась. Крутые средневековые лестницы,
полнейшая темнота, испуганное хлопанье дверей, подозрительные лица;
часто говорили: «Мы не принимаем молодых дам». От странно
смелых вопросов жутко сжималось сердце. Терялась.
Неужели же она в свободной Швейцарии?
Сейчас вспомнила, что не может заплатить вперед, придется
унижаться, просить поверить. Ну, ну, ничего... как-нибудь... все
возможно... Только бы стряхнуть с себя липкое, холодное
отчаяние, только бы приободриться.
Она с детства боялась нищеты. Позор, болезнь, смерть, лишь
бы не голод. Последнее время тоска достигла чудовищных
размеров. Она даже и не подозревала, что останется живой после
такой муки. Во всяком случае, так или иначе, а исход найти
необходимо. Какой?
Мысленно зло усмехнулась. Не кривляйтесь, сударыня.
Подойдите к зеркалу и успокойтесь. Вы молоды и красивы. Вы
нравитесь. Ваше счастье.
Вчера ей кланялся с веранды того отеля элегантный
блондин. Она испугалась, захлопнула окно и остальное время
просидела без движенья, вся съежившись, словно кругом ползали
змеи.
Неужели? Неужели же?.. Было страшно думать и еще
страшнее оставаться в этой клетушке самой с собою.
Пересилила слабость, оделась, вышла.
Слуга второго этажа, нахальный, красивый малый, мел
лестницу, а швейцар читал ему уличный листок. A, mademoiselle
уже встала? И не пила, вероятно, кофе? Ай-ай, как mademoiselle
бледна!..
275
Madame la patronne* хочет предложить ей другой номер.
Елена, сухо поблагодарив, спешила дальше.
Донеслись слова швейцара:
— Что она делает, эта русская?
— Zut!**
Оба грубо расхохотались. Она не удивилась и не
обиделась.
Пересекла площадь. Решила купить перчатки, рассуждая,
что франком больше или меньше дела не поправишь, а вид
приличнее.
Маленький, уютный магазин. Снежные груды проыгавок,
кружев, особенный запах новых вещей.
Барышня за прилавком живо бросила работу.
— Доброе утро!
Доброе утро, конечно... Нельзя ли пару перчаток?.. Совсем
простых. Будничных, так сказать... Барышня возилась с
коробками, а Елена смотрела на улицу. Ах, эти улицы... пестрые,
шумные, оглушающие. Тысячи различных звуков действуют на нее,
как морфий. Казалось, будто ее ждет работа, ждет кто-то, что-
то там, впереди.
Взяла перчатки с деловым видом. Продавщица заливалась
канарейкой. Mademoiselle — англичанка? Нет? О, не может быть.
Конечно, англичанка.
Сегодня день первого причастия детей. Церковь будет
особенно красивой. Жаловалась на дурную погоду, дороговизну,
внезапно рассказала о своей квартирантке. Сошла с ума от
нищеты.
Елена выслушала, бледнея. Натянуто улыбнулась.
— Это должно быть ужасно... голод.
— А! — воскликнула продавщица, жизнерадостно и сыто
блестя глазами. Да, уж она-то не испытала его!
Сейчас же Елена отправилась на почту. Это была ее
ежедневная пытка.
Волновалась всякий раз, словно влюбленная. Около «До
востребования» целая вереница. Когда только они все
приходят?
Белокурый чиновник узнает ее сразу. Чуть-чуть
насмешливо качает головой. Нет, к сожалению, ничего.
Вспыхнула, извинилась. Сразу ослабела как-то. Тяжесть на
сердце увеличилась. Успокаивала себя мысленно:
* Госпожа-хозяйка (фр.).
** Черт возьми! (фр.)
276
«Завтра. Ну, завтра обязательно получу. Не деньги, так
письмо. Обязательно».
Дзинь... промчалась целая стайка велосипедистов... зон...
зон... автомобиль...
На часах одиннадцать.
Шла вяло, щурясь от солнца. Вспомнила, что еще ничего
не ела.
После некоторого колебания зашла в ресторан. Свежо.
Изящно. Везде букеты цветов. Легкий говор, смех... любопытные,
веселые взгляды. Пожалела, что не выбрала места попроще.
Преувеличенно громко заказала кофе.
— Только кофе?
Лакей отошел и занялся другими. Это ее возмутило;
вспыхнуло болезненное, нервное раздражение, увеличенное
голодом.
— Скорее, пожалуйста.
И у самой дрожит голос.
Оглядывалась уныло и равнодушно. Рядом нежничает
молодая парочка. Конечно, немцы, и новобрачные. Они всегда
афишируют свои чувства. В вагонах от них тошно. Впрочем,
любовь здесь понимается только в такой форме.
Слуга ждал денег. Расплатилась неохотно. Так скоро? Если
бы посидеть еще минутку.
Однако нужно торопиться. Найти комнату. Во что бы то ни
стало найти.
Около церкви толпа. День первого причастия... целая сотня
детей... У маленьких мужчин банты на рукавах, маленькие
женщины — в белом, с длинными вуалями. На детей смотрят с
балконов, окон, трамваев, им улыбаются, кивают, машут
шляпами. Щелкали бичи, замедляли ход экипажи. Это так
трогательно. В добрый час, дети! Сегодня день, когда вы вступаете в
жизнь.
Елена остановилась. Она не была религиозной, но красота
порабощала ее. Смотрела на детей, слабо улыбаясь. Господин
рядом повторял отрывки из речи монсеньора. Матери
окружили священника и обменивались с ним впечатлениями. Старая
продавщица мороженого плакала от умиления. Она обратилась
к Елене с наивной горячностью — видала ли барышня
что-нибудь более прекрасное?
Толпа редеет. Ветер сильно развевает вуали причастниц.
Елена пошла дальше. Боже мой, в сущности, все эти
процессии — мечта, красивая мечта. И не для бедных, конечно. Шесть
277
франков... чужой город... борьба честной женщины... Ах, это из
нашей оперы! Это жизнь!
Она пересмотрела много комнат. Иные слишком дороги, иные
не соглашались ждать денег.
Пожимали плечами. Кто же впустит иностранку без денег?
Э, трудно верить, по нынешним временам. И потом, чем вы
занимаетесь, mademoiselle? Трудящаяся женщина? Гм... наши
женщины сидят дома... они крепки, здоровы, хорошо одеты...
У вас такие маленькие, нежные руки, mademoiselle... Почему
вы не похожи на наших женщин? Ах, как это было нудно,
подло, мучительно! — их вопросы.
Елена устала.
Давно прошло время завтрака. Покрапывал дождик, и
снова выглянуло солнце.
Елена была теперь в ремесленном квартале. Chambres
garnies...* Уже на лестнице испытывала смутное, неприятное
чувство. Отворили. Нужна комната? Ах, пожалуйста...
Шустрая девочка с хитрой улыбкой вела Елену.
Большая просторная комната, но воздух удушлив, сперт.
Беспорядок. Полусумрак. На кровати под красным одеялом
лежала женщина. Совсем ребенок. Волосы распущены.
Фальшивые локоны несколько другого цвета сбились на сторону.
Лицо восковое, с отпечатком муки, странное, безумное лицо на
тоненькой смуглой шее.
Елена отшатнулась. Что это? Что это у вас?
Если бы ужас передавался цветом, то она сказала бы, что для
нее все сразу подернулось черным... бездна открылась. Ринулась
к двери. Нет, Бога ради... Бога ради... Бежала сломя голову.
Внизу девочка объяснила улыбаясь: приезжая дама... совсем
одна в Женеве, сначала платила аккуратно, теперь нет...
заболела... нужно заявить консьержу...
— Может быть, она заболела просто от голода? —
пробормотала Елена.
Девчонка зевнула. Вероятно. Четвертый день не ест. Не
встает с постели и денег не дает.
Потом добавила жалобно, с острым взглядом:
— Барышня сделает доброе дело, если поможет.
У Елены была только одна монета, пять франков. Отдала не
колеблясь и ушла.
Что же это? Боже милостивый, Боже великий!.. Там — дети,
причастие, цветы, автомобили, здесь — голод, болезнь, одино-
* Меблированные комнаты (фр.).
278
чество, мука. Шла и ненавидела всех, кого встречала, той
ненавистью, которая выжигает клеймо на сердце. До могилы. Ни
стереть, ни залечить. Ненавидела ненавистью великой.
Бесспорно, ей предстояло то же. И не в далеком будущем.
И все шла, шла, шла не останавливаясь.
Мост миновала. Пенилась зелено-голубая Рона. Тонуть
хорошо. Унесут, не воротят. Белеет Mont-Blanc*. Вероятно, там
славно, в горах, среди нависших туч. Направо, налево море
крыш. Башни. Шпицы церквей. По набережной журчат
автомобили, экипажи. Где-то музыка, смех, свист кому-то. Все
столики около café** заняты.
Подымалась выше, в гору. Улицы становились уже. Дома
со ставнями-решетками, колоссальные, грязно-серые,
напоминали тюрьмы. Красные цветы на балконах. Высокие стены,
увитые виноградом, старые, забытые фонтаны, камни. Влажные,
позеленевшие от плесени головы львов, из которых сочилась
вода. Мелодично-грустное пение курантов. Как все это томило
ее, увеличивало тоску.
Беспомощно постояла. Подумала. Беспомощно пошла
обратно.
Солнце было низко, но она уже потеряла представление о
времени.
День казался длинным, утомительно пестрым.
Не заметила, как снова очутилась на большой улице.
Кажется, без всякого перехода родилось полное, глубокое,
почти красивое спокойствие. Гибнуть.
Значит, судьба!
Гибнуть.
Перед измученными, усталыми глазами опять встала
кровать, красное одеяло, женщина, умирающая от голода, с
фальшивыми волосами. Усмехнулась. Нет, с нею этого не будет. Нет!
— Mademoiselle!
Вздрогнула. Оглянулась.
Высокий блондин... коричневая шляпа... запах coeur de
Jeanette***.
— Не пойдет ли mademoiselle со мною?
Посмотрела, глубоко, глубоко ненавидя, и ответила
коротко, сурово:
— Пойду.
* Монблан (фр.).
** Кафе (фр.).
*** Сердце Жанетты (фр.).
279
ВОДА
I
Постучались. Лиза открыла дверь. Ах, Ивочка!.. Лениво
поздоровалась и снова легла.
— Я от Беловой, — весело объявил студент. — Во-первых,
Вера Петровна вам кланяется, во-вторых, напоминает, что у нее
скоро вечеринка en grand*, в-третьих, просит вас зайти к ней
сегодня, собирается секретничать.
— Хорошо, Ивочка. Что еще нового?
— День чудесный. В воздухе весна и брожение. В умах и
сердцах любовь.
— А, это старо. И еще что?
— Есть... Вчера у Веры Петровны вышел скандальчик.
Орлов едва не подрался с Данчичем.
— Вы шутите, конечно?
Студент спокойно охорашивался. Нет, не шутит, хотя и
преувеличивает. Мужчины просто крупно поговорили, к ним
бросились, они сейчас же пожали друг другу руки. Орлов уехал, а
Данчич остался. Был весел и спокоен, как всегда.
Лиза покусывала губы. Какая пошлость! Зачем Вера
принимает Орлова?
Ивочка хитро прищурился.
«Не говори, не отрицай», — запел он.
В сумрачных, больших синих глазах Лизы затеплилась
улыбка.
— Ребенок вы, Ивочка.
— Может быть, — тряхнул головой студент. — А Вера
Петровна втюрилась. От Данчича ни на шаг. Pardon... это между нами.
— Секрет полишинеля, — усмехнулась Гостищева.
Глаза у нее потухли. Уголки рта опустились. Она словно
постарела. Вдруг тихо откликнулась:
— Ивочка, скажите, как это вы умудряетесь быть таким все-
довольным, всеблаженным?
Он многозначительно поднял брови:
— Понял жизнь, Елизавета Николаевна.
-А!..
— Ей-богу. Суть жизни в том, чтобы уметь наслаждаться
процессом жизни. Я, например, между прочими земными
благами обожаю еду. Я, знаете, страшно люблю есть.
* На широкую ногу (фр.).
280
Лиза с холодным любопытством поглядела на влажный,
чувственный рот.
Переспросила враждебно и брезгливо:
— Есть любите?
— Очень, — весело отозвался Ивочка, — пломбир... омары...
Ох, вкусно!.. Да-с. Ну, я бегу...
И удалился. Жил он здесь же, в меблированных комнатах,
этажом только выше.
Лиза долго лежала с закрытыми глазами.
Думала о себе холодно и спокойно, как о третьем лице.
Конечно, ее главное несчастье, ее горе было в страстной,
ненужной любви к Данчичу, человеку равнодушному; но к этому
присоединилось еще и сознание, что жизнь не представляет для нее
никакой ценности. Она часто и не пугаясь мечтала о
самоубийстве. Если умирать бессмысленно, то и жить не менее
бессмысленно. Жить было скучно, гадко, нелепо. Жизнь ничем не была
оправдана, кроме детской фразы: «Мне дали жизнь, я не
просила ее». Не было в ней ничего, что бы любила Лиза или чем бы
она восторгалась. И она думала, что в смерти таится нечто
удивительное, заманчивое, так как смерть — падение в пустоту.
Вспомнила ее и сейчас: «Ах да, умереть...»
Поднялась, вяло переоделась и, на вид равнодушная,
замкнутая, поехала к Вере Беловой.
— Ангел мой, где ты запропастилась?..
Белова поцеловала Лизу крепко в губы и усадила. Она
собиралась куда-то и причесывалась перед зеркалом. Ярко-голубой
шелковый капот был глубоко вырезан на груди и спине.
Шумно выкрикнула:
— А наши-то... Орлов и Данчич... Ты слышала от Ивочки?
Сцепились вчера, как петухи. Я думала, скандал выйдет...
Умора!.. А потом ничего... обошлось... Ездила я с Данчичем
кататься. Вернулась на рассвете. Муж ни гугу. Ну просто идиот
какой-то.
Она вздохнула. Лиза улыбалась, а глаза оставались
невеселыми.
— Тяжело все-таки обманывать, — заметила Белова,
—иногда мне хочется все ему на голову вылить... Я бы его в грязь
обратила.
— Да Бог с ней, с этой правдой, — пробормотала Лиза. —
Зачем она?.. Ложь хоть помогает нам быть счастливыми. И
часто ложь бывает правдой.
— Не понимаю... Нет... для меня мудрено... вот как совесть.
281
И Вера осторожно накладывала локоны.
Добавила смущенно:
— Ты знаешь, я ведь в Бога верю... по-купечески... хожу ко
всенощной... свечи ставлю... ем просфору...
Лиза болезненно поморщилась:
— А я нет... Впрочем, перестала я верить недавно. Случай
помог. Как-то на моих глазах в спальне кошка съела живьем
мышонка.
— Ой! — гадливо вскрикнула Вера.
— Да, действительно ой... Вот скоро два года, а я этой
мерзости забыть не могу. Помню, мышонок пищит благим матом,
кошка урчит от наслаждения, а я тронуться не могу. И все во
мне тогда загорелось ненавистью к жизни. Нет Бога, нет Бога,
нет Бога... Свечи, пение, темную церковь — я понимаю... C'est la
beauté, voilà tout...* да еще под соусом сентиментальности... Все
равно что в театр сходила...
Белова испуганно покраснела. Это уже кощунство... Ей
неприятно...
— Ну, извини. Я ведь сама захожу в церковь, иконки
развесила, даже говела... из страха все... Так будет благополучнее.
А то вдруг места в управе лишусь, ослепну, ногу сломаю...
Вера замяла разговор. Пришла в азарт, крича свои гимны
жизни. Пресыщение — вот ее конечная цель, пресыщение —
вот ее идеал. А хандра умных людей просто от несварения
желудка. Она порывисто срывала капот, мяла его без нужды и
накидывала суконное платье.
Лиза молчала. Ну, слышала все это. Дешевенькая,
жиденькая философия... Скользила рассеянным взглядом по
хрустальному с красным деревом туалету, зеркальным шкапам,
расставленным треугольником, пышной розовой кровати. Здесь так же
богато, безвкусно, безалаберно, как и в прочих других
комнатах, как и сама Вера.
Уронила медленно, трудно:
— Вера, а ты серьезно любишь Данчича?
— Очень люблю.
— А если я скажу тебе, что также очень люблю его? —
с легкой насмешкой допытывалась Лиза.
Вера испуганно поглядела на нее:
— Да, да... ты говорила... Но ведь между вами... нет ничего
такого... интимного ?
— Но может быть.
* Это красота, вот и все... (фр.)
282
— Ты дала мне слово. Помнишь?
— Ох, это...
У Беловой навернулись слезы. Лиза поднялась спокойная,
равнодушная до жестокости.
— Ну, ну, не волнуйся, Вера. Данчич меня не любит. А если
бы любил, я бы не спросила у тебя позволения...
— Бог с тобой, — растерянно пробормотала Вера, — так ты
приедешь ко мне на вечер?
— Конечно.
— Только... я пригласила Орлова... неловко было.
— Ну так что же? — усмехнулась Лиза.
— Как что же? У вас теперь натянутые отношения... Я
думала...
— Не нужно, родная, нечего думать вперед. С Орловым я
была близка до тех пор, покуда я этого хотела. А теперь он мне
не нужен. И я его не замечаю... Вот.
— Значит, тебе безразлично?
— Совершенно.
— Да и он сам скоро уедет.
— А уж этого я не знаю. Его дело.
Вера засмеялась. Нет, положительно, Лиза удивительная
женщина. Даже тем, что ходит в грязную управу.
— Я ошалела бы без работы, — вяло бросила Лиза, — меня
только спусти с узды — наделаю дел.
II
Лиза приехала поздно. Вся передняя была завешана
шубами. Вертелись незнакомые люди. В желтой зале какой-то
господин слащаво пел слащавую арию. Прибывали все новые лица и
уже не здоровались с прежними. Разносили крюшон, фрукты,
мороженое.
На Лизу наткнулась сверкающая Вера.
— А, наконец-то, — рассеянно обрадовалась она, — ох, как
сегодня у меня много народа... половину их я не приглашала...
честное слово... Ждем теперь Франси... Обещался
дирижировать танцами... Ты сегодня очаровательна.
И торопливо пошла дальше.
Лиза здоровалась, улыбалась и говорила мелочи. Никто и
ничто здесь не нравилось ей. Навстречу — Орлов. Смущенный,
жалкий. Поцеловал руку.
— Когда вы приехали, Елизавета Николаевна?
— Зачем вы являетесь сюда? — сурово, вместо ответа, сказа-
283
ла Лиза. — Вы становитесь смешным... Все знают, что мы
разошлись... Зачем вы сюда приезжаете?.. Скандалы устраивать?..
— А тебе уже передали о моей стычке с Данчичем? —
притворно удивился он. — Тем лучше. Подобных господ учат.
Лиза презрительно фыркнула. Подумала с тоскливой
иронией: «На редкость шаблонное лицо... усы... глаза... нос... примет
особых не имеется... Почему я выбрала именно его? Господи,
бывают же такие помрачения!»
На них смотрели. Изменила выражение лица. Взяла у
проходящего лакея крюшон.
— Сядем, поговорим, Павел Иванович... Я к вам не вернусь.
Это решено. Будьте же благоразумным.
— Лиза, — проговорил он с отчаянием, —да почему же так?
Почему? Вспомните. Вы были моей женой...
— Извините, никогда я не была вашей женой, а только
любовницей... Называйте вещи своими именами.
— А теперь?
— А теперь мы — чужие.
— Да почему же? — злобно вспыхнул он.
— Да нипочему... так... Я не люблю вас.
Он бросил грубо: разве она любит всех, с кем живет?
Подняла усталые глаза:
— Нет, конечно, не всех. Вы хорошо меня одернули. Я
напрасно треплю слово «люблю». Во всяком случае, вы были мне
не противны. Я остановилась на вас еще по множеству причин.
Ах, скучно говорить... Какой толк?
Мимо них проходили взад и вперед. Лиза кланялась,
спрашивала, отвечала и снова обращалась к Орлову. Лицо у нее
начинало болеть от насильственной улыбки.
— Как ты цинична! — ужаснулся, недоумевая, Орлов. —
Откуда это? Как ты цинична! Ты ведь была всегда такая
мягкая, женственная.
— Не знаю, — грустно отозвалась она.
Орлов поднялся. Значит, это ее последнее слово, она
никогда не вернется к нему? Да, да, никогда не вернется.
Он сейчас же уехал, а Лиза подумала: «Ах, если бы
умереть... вот так... красиво причесанной, красиво одетой, с
цветами! Да, пожалуй, это и было бы настоящим счастьем».
В зале начались танцы. Через гостиную шли туда. Теперь
Лиза увидала Данчича. Он разговаривал с какой-то дамой. Она
долго смотрела на него. Побледнела, заметила, что Данчич
направляется к ней.
— Какая вы милая сегодня.
284
-О!..
— Я не подходил раньше... Вы были заняты Орловым.
У нее сильно забилось сердце.
— Я думаю только о вас, Андрей... При чем тут Орлов?.. С
ним кончено.
— Это хорошо, — спокойно ответил Данчич. — Вы мне
нравитесь больше Веры. Вы не так примитивны.
Навернулись слезы отчаяния, боли. Униженная,
пробормотала:
— Вы знаете, как я люблю вас... вы знаете.
— Да, Лиза.
— Вы не сердитесь? — по-детски сорвалось у Гостищевой.
— Что же мне? — мягко удивился он. — Что же мне?
— А мое прошлое? — мучительно покраснела она.
— Ну, это...
Ему было безразлично. Она почувствовала, как ему глубоко
действительно все равно. Она думала о нем. Дни и ночи она
жила им, но для него она была лишь красивой женщиной. Она
могла стать воровкой, убийцей, заболеть или умереть — он бы
слегка удивился, но даже не опечалился.
Данчич говорил рассеянно, закуривая:
— На Banie несчастье, Лиза, вы не годитесь для легкого
романа. Вы чересчур меня любите — я понимаю, и мне... мне не по
себе. Мне тяжело, когда меня любят по-настоящему. Это
связывает, налагает что-то. А я был, есть и буду один. Поэтому я
вас избегаю. Меньше будет любви с вашей стороны — ближе я
подойду. Впрочем, мы могли бы пережить... да, пережить
любовь без трагедии... моменты... Я от них никогда не откажусь.
Он весело рассмеялся. Потом выражение стало жестким.
-Ну?
Глубокая покорность перед этим человеком охватила ее.
— Хорошо, — сказала она, прямо смотря на него, —хорошо.
— Мы уедем с вечера вместе?
— Вместе.
Она начала нервно смеяться. Как сон... как сон...
Данчича отозвали. Влетел Ивочка с распорядительским
бантом.
— Дайте мороженого... скорее! — приказал он лакею. И
метнулся куда-то. Пришли, обмахиваясь, дамы. Лиза улыбнулась
кому-то из знакомых. Танцевать... танцевать... И смеялась. Так
много смеялась. Все зеркала по очереди отразили тонкую
фигурку в белом платье, золотистую головку и скорбные синие
глаза. Она способна была выкинуть что-нибудь невозможное.
285
Она была готова на все. Она послала Вере воздушный поцелуй
через всю залу. Она сходила с ума.
— Как мне весело, — твердила она, — как мне весело!..
III
Ивочка и Лиза ждали трамвая.
Небо там, высоко, уже побледнело. Закатные краски
померкли, стерлись. Апрельские сумерки медленно переливались в
вечер. Просыхающая влажность земли, задымившиеся
почками деревья, гул оживленной улицы.
Ивочка передавал подробности нового скандала. Данчич
уехал на защиту в Киев. К нему помчалась Вера Белова. Все
знали это. Всех интересовал конец. Сам же Белов был уверен,
что жена у родных. Ивочка сердился. Вера пересолила. С
обществом нужно считаться, раз в нем живешь. Пусть женщина
любит кого угодно, но зачем это афишировать?
Тень от шляпы скрывала смертельную бледность Лизы. Она
молчала, ежилась и оглядывалась.
— Да... везет Данчичу, — бормотал, морщась, Ивочка. —Вера
Петровна — красавица... Д-да!.. Нет, ему везет как
утопленнику. Елизавета Николаевна, почему говорят — как утопленнику?
— Не знаю, Ивочка, — вздрагивала Лиза.
— Как вы бледны... Бледны, но интересны.
— Это кажется... от черного костюма... Ивочка, садитесь на
трамвай один, я пойду дальше.
— А если я с вами?
— Нет, нет...
Ивочка раскланялся. Он кланялся также с трамвая. Лиза не
видела.
«Все кончено, —думала она, —все кончено».
Крупные слезы текли у нее под вуалью. Походка стала
неверной. С бессильной ненавистью глядела на женщин.
Одна из них... одна из них... нет, все вместе отняли у нее
счастье. Радость весеннего вечера удвоила ее тоску. Она нежно
и трогательно любила весну. Теперь та умерла для нее, как умерла
любовь. С ужасом думала о своих губах, которые могла
протянуть теперь всякому мужчине, только не ему, Данчичу; о своих
слабых руках, что никогда больше не лягут на его плечи; о
своем молодом разбуженном теле, что так глубоко, беспощадно
унизили. Могла ли она жаловаться? Нет, конечно. Он
предупреждал ее. Могла ли она утешиться? Нет, конечно. Ее грудь
разрывалась от сухих рыданий, глаза расширились скорбью.
286
Она ощущала свое тяжелое, израненное, стонавшее сердце,
идя медленно, как слепая. Она почти бредила наяву. Самые
жгучие, сладострастные картины вплетались в ее мозг.
Чудилось, будто ласковые, осторожные руки перебирают ее волосы,
властные губы раскрывают покорные горячие губы и все тело
стонет от сладкой боли, блаженства и наслаждения... Ветер,
ласкавший лицо, вызывал в ней острую дрожь воспоминаний.
На мосту Лиза остановилась. Оперлась грудью о перила и
долго смотрела вниз. Вместе с апрелем вода царствовала над
городом. Голубая, широкая, дерзкая, она струилась между
просыхающими берегами, навевая странные мысли. Она казалась
живой и понимающей. Она сулила что-то, приказывала что-то,
подавала пример кому-то. Она манила, звала, пугала и радовала.
Новое, нежданное ощущение родилось в Лизе. Ощущение
равнодушной покорности. Что значит горе, если каждому
доступна смерть?.. Все проходит. О вода, не отталкивай меня в эти
минуты. Пошла дальше, не замечая любопытных взглядов,
падающих синих сумерек, бледных загоравшихся звезд.
В меблированных комнатах столкнулась с Ивочкой. А, он
уже здесь?
— Всенепременно... Пожалуйте ко мне чай пить. И курсисток
зовите.
— Как шумно здесь, — сказала Лиза, — как шумно.
Поднялась на третий этаж к курсисткам. Там комната
чистая, беленькая, словно снежинка. В раскрытое окно видны
крыши и башенка каланчи. Таня — черноволосая, худенькая, Кися —
белокурая, рыхлая.
— Елизавета Николаевна, — сказали они разом, —дайте
полтинник, мы сидим без керосина и сахара.
Гостищева слабо улыбнулась. Конечно, даст.
Во дворе запела шарманка, и всем стало грустно. То же
грустное, неуловимо тягостное вошло вместе с Лизой. Девушки
смотрели добрыми, наивными глазами и недоумевали, отчего эта
красивая, нарядная и, как им казалось, счастливая женщина так
печальна.
Совсем поздно к Лизе пришла Ковальская. Просила денег и
работы. Юбку, блузку попроще... Это она умеет, это она
сошьет мигом.
— Хорошо, — сказала Гостищева, — хорошо. Вы живете все
там же?
— Да, Надречная, номер одиннадцать, во флигеле.
Перед глазами Лизы снова встала радостная, загадочная
глубина весенней воды, и коснулось лица влажное дыхание.
287
— Вода разлилась, — машинально пробормотала она.
— Нет, уже спадает, — удивилась Ковальская.
IV
В управу Лиза пришла рано. Агрономический отдел был еще
пуст. Она открывала шкап, доставала разноцветные папки с
делами, книги, счета. Доносилось, как звенел стаканами
дежурный сторож, а другой медленно вслух читал газету.
Беспрестанно хлопала дверь. Часто звенел телефон. Заглянул к Лизе член
управы из крестьян и по-мужичьи, неловко сунул ей шершавую
руку.
— Агронома еще нет?
— Нет, Егор Иванович.
Лиза прогуливалась взад и вперед, тихо шурша юбкой и
удивляясь, как замерло горе. Явился наконец агроном, инструктор
по садоводству. Набились мужики. Стало шумно, душно.
Заследили весь пол. Вскочил ветеринарный врач и рассказывал
пошлости.
«В сущности, если я собралась умирать, — иронизировала
мысленно Лиза, — то зачем я пришла в управу? Зачем я
говорю с этими грубыми людьми, улыбаюсь агроному? Зачем все
вообще: сегодняшнее платье, прическа, утренний кофе?»
Около трех часов понесла бумаги для подписи
председателю. И когда этот элегантный, чопорный господин поздоровался
с нею, на Лизу пахнуло тонкой «Violette de Parme»* —
любимыми духами Данчича. Лиза страшно побледнела. Можно было
подумать, что она упадет. Но председатель читал бумагу, а Лиза
стояла с мыслью: «Пора покончить с этим... пора...»
— Возьмите, благодарю вас, — сказал председатель,
возвращая подписанный листок.
— Благодарю, — пробормотала она, уходя.
На лестнице земский врач остановил ее.
— Вы знали Чернову?
— Учительницу?
— Да, она... Она отравилась... Мне сообщили сейчас по
телефону...
Лиза неожиданно и облегченно вздохнула. Ах, как видно,
это не так уж страшно... Маленькая, робкая, золотушная
Чернова... решилась. Кто бы подумал?
— Из-за чего же?
* «Пармская фиалка» (фр.).
288
— А черт ее знает, — разозлился доктор, — весною бабы
бесятся... не знают цены жизни.
И поднимался наверх, брезгливый, сытый, самодовольный.
Да, этот знал цену жизни...
Лиза, улыбаясь, вернулась на свое место.
— Чернова отравилась, — сказала она бодро.
V
Лиза захватила с собою деньги и кое-что малышам
Ковальской. Ехала очень долго в трамвае, потом шла темными,
подозрительными закоулками и наконец очутилась на Надречной.
Длинная немощеная улица. Домики одноэтажные, хмурые, с
грязными окнами. Здесь паровая мельница, плотина. Дальше
пустошь, где гниют нечистоты, и запах оттуда тянется
отвратительный, тошнотворный. На другом берегу молодые деревья.
Лиза осматривалась, соображая.
«Вот где удобно топиться», — подумала
полушутя-полусерьезно.
Подошла к перилам, заглянула. Высота с плотины
порядочная. Река тут иная, чем около городского моста: темная,
некрасивая, мрачная. Течение как будто быстрее.
«Вот здесь топиться», — снова подумала Гостищева.
«Отчего же нет?» — холодно, четко сказал кто-то в душе
Лизы.
«Да, отчего же нет?» — продолжала шутить она сама с собою.
«Ну, конечно, здесь и утопишься», — строго ответил
бестелесный.
«Хорошо», — слабо, бесконечно грустно покорилась Лиза.
Городовой подходил к ней крупными тревожными шагами.
— Барышня, вам что здесь надобно? — сурово и
подозрительно спросил он.
Оглянулась. Широкое, доброе, заросшее лицо. Голос глухой,
словно тоже заросший.
— Я иду в номер одиннадцатый, — улыбнулась Лиза, — а
сейчас на воду смотрю.
— Номер одиннадцатый... дальше... ворота высокие... —
сразу успокоился городовой. — Я вижу, вы стоите на плотине... не
годится... поэтому и спрашиваю...
Лиза засмеялась:
— Да разве запрещено?
— Так точно, запрещено, — добродушно заявил он, — много
народу топится, мы в ответе... Велено не допускать.
10 Анна Map
289
— Ну, тут не утонешь, — опять умышленно засмеялась
Лиза, — упадешь, только выпачкаешься.
— У берега оно, конечно, не глубоко, а дальше, шагов десять,
живо затянет.
— Вода мутная, — устало, как бы про себя, заметила она.
— Это точно, вода грязная...
«Буду топиться, ты крик подымешь», — смешливо
подумала она.
Ей стало забавно, что вот она стоит перед ним живая, а
скоро будет мертвая, и он предостерегает ее от того, что она
сделает непременно. Все быстро само собою устраивалось.
Отойдя несколько шагов, Лиза неожиданно тихо, беспомощно
заплакала. Заплакала о своих густых белокурых волосах, о
больших глазах, о красивом молодом теле, о тех радостях любви,
которые пережила она с Данчичем, и о самом Данчиче.
Заплакала еще потому, что была ранняя весна, прозрачное небо, а ее
жизнь сломана, и несчастна, и одинока. В ту минуту любила
Данчича так остро недужно, так безнадежно тоскливо, что
самое чувство не было любовью, а только мукой.
— Какая я глупая, — бормотала Лиза, тяжело всхлипывая, —
великий Боже, какая я глупая!
Ковальской не было дома. Лиза раздала подарки детям, а
пять рублей оставила хозяйке.
VI
Между теми днями, когда Лиза любила Данчича и была
счастлива с ним, и между сегодняшним вечером, когда она жгла
его письма, обдумывая, как бы поскорее умереть, легла
страшная пропасть. Точно прошли целые годы. И все прежнее —
Орлов, Вера, Данчич — отошло далеко-далеко, затерялось.
Теперь Лизе казалось, что она умрет не только из-за Данчича, а
вообще потому, что ненавидит жизнь, и это успокаивало ее
несколько.
Где-то в глубине души она еще не вполне доверяла себе.
Молодая, красивая, страстная Лиза 1-я робко спрашивала
усталую, измученную Лизу 2-ю: «Так ты действительно
умрешь?» — «Оставь меня в покое... сама увидишь». — «А когда
это будет?» — «Не знаю».
Совсем поздно постучался Ивочка.
— Елизавета Николаевна, пожертвуйте мне изящный
конверт и бумагу... предполагаю написать прекрасной даме... и ни
того ни другого не имеется...
290
Обыкновенно Ивочка раздражал Гостищеву, но сегодня она
ласково улыбнулась. Достала бумагу, а студент, глядя на ее
волосы, плечи, грудь, думал: «Недурна бабенка, только колется...
скучно с такими... но, вообще, непонятно, почему ее бросил
Данчич».
А Лиза вспомнила, что скоро умрет, то есть перестанет быть
Лизой, обратится в прошлое; Ивочка же останется жить и
долго будет всем рассказывать, как он «это предчувствовал».
Подняла голову. Ивочка улыбался детским чувственным ртом,
выхоленный, хорошенький.
Неожиданно в ней вспыхнуло болезненное, нестерпимое
желание физической близости, дурмана. Забыться. Все равно,
как и что, лишь бы забыться, вынуть мозг, душу, лежать
пластом, ничего не испытывать. Забыться... Сказала:
— Ивочка, поцелуйте меня!
Студент отшатнулся. Потом схватил Гостищеву за руки.
— Что? Что? — не понимал, шутит ли она или нет. Боялся
показаться смешным.
Повторила, умоляя и быстро бледнея:
— Поцелуйте меня...
Ивочка растерянно и безвкусно коснулся ее губ. Что-то
екнуло в ней, метнулось, застонало, и то, что все это, кажется
мелочь, лишь ведет к концу, к смерти, стало ясным.
— Елизавета Николаевна, что же это такое? — чуть не
заплакал студент.
Она молчала.
Обнял смелее, смелее поцеловал, дотронулся до груди и снова
поцеловал.
«Все равно, — мелькнуло у Лизы, —все равно...»
Но Ивочка уже испугался. Выпустил, виновато улыбаясь,
пробормотал что-то невнятное и ушел. По нервным шагам
казалось, что он бежит. А ее начала бить лихорадка, и она вся
переполнилась гадливостью к себе самой.
VII
На другой день было воскресенье. Лиза вяло выпила кофе,
прочитала газету и не знала, куда деть себя. Смотрела, как в
калитку уходили жильцы. Потянуло на воздух. Насмешливо
подумала: «Что же наше самоубийство? На точке
замерзания».
И сейчас же встряхнулась. Кончать так кончать. В ту или
другую сторону, только кончить.
10 *
291
«Почему я буду топиться завтра, послезавтра, а не сегодня?
Что меня удерживает? Есть долги... Ну что же долги... ждать
денег, так это еще год ждать. Написать письмо? Кому? Зачем?
Что писать? В смерти никого не виню. Господи, пакость какая!..
А белье на мне чистое? Да... Ну и?..»
Задрожали ноги, села, продолжая упорно, через силу думать:
«Я мало себя знаю... сейчас я спокойна, даже чересчур
спокойна. А потом? Вдруг это лишь затишье перед грозой. Нужно
использовать подобное настроение. Нужно спешить. Где мой
паспорт?.. Взять с собой? Э, вздор!..»
Уходя, она не захотела оглянуться. Деловито щелкнула
замком.
— Обедать, барышня, дома будете?
— Нет, я по делу задержусь... — запнулась Лиза.
— Ну, час добрый.
Засмеялась, поглядела загадочно:
— Да, Феня, пожелайте удачи...
— Желаю, барышня, от всего даже сердца желаю...
На улице по-воскресному оживленно. Часто попадались
гимназистки. Ветер рвал их белые передники, словно маленькие
флаги. Сновали трамваи, качались деревья, голубело небо, шли,
ехали, стояли люди.
«Отчего лее, отчего мне никого не жаль? — тоскливо
недоумевала Лиза. — Неужели же я действительно так глубоко,
непритворно-старчески устала? Ведь я топиться иду... умирать...
переходить в новое неизвестное состояние... Да... да... умирать
иду... и ни любопытства, ни страха — ничего. Пустота».
Подумала, что, возможно, умирающие меньше страдают, чем
живые. Может быть, даже тот несчастный мышонок не так
мучился, как воображала себе она, Лиза? Может быть, все в
этом мире проще, грубее, иначе на самом деле?
Уже далеко от дома кто-то обогнал, толкнул, крикнул под
ухом:
— Елизавета Николаевна!
Вздрогнула всем телом.
Это было так нелепо... толстое розовое лицо под
цилиндром, светлое платье, игривое выражение глаз, и главное,
главное — этот оглушительный смех... ужасно нелепо для
ошеломленной Лизы.
— Куда? Куда? А? Что? — сыпал он, хохоча. — Я бегу, а она
от меня... Я за ней... Она вперед... А? Что?
Смотрела, недоумевая, теряясь между уверенностью, что
знает этого человека, и мыслью — не принимают ли ее за другую?
292
— На свидание? Да? Он ждет? А? Что? Весна? Дыхание
любви?
Теперь вспомнила. Доктор Ц. Встречала у Беловой?
Отозвалась сухо, делая шаг вперед.
Да, да, она идет на свидание.
— Го-го !.. Весна... дыхание любви...
«Болван, — истерично, чувствуя слезы в горле, подумала
Лиза, — взять бы и крикнуть: топиться иду, не задерживай. Ах,
какой болван!»
И что-то возмутилось в ней против собственной
жестокости. Иди, иди, не мучь себя напрасно... пожалей... Кивнула
доктору.
Убежала. Ох, хотя бы никто больше не встретился...
Из-за этого не села в трамвай.
— Эй, — кричали ей извозчики, — эй, берегись!..
— Хорошенькая, — говорили вслед.
Как дошла Лиза до Надречной улицы — не помнила. Этот
промежуток времени вынули из памяти. Она все время
держала шляпу: так сильно бушевал ветер. Отрезвилась лишь на
Надречной. Качающиеся деревья противоположного берега,
быстрая, рябоватая, зеленоватая река, тишина.
Недалеко от плотины возились дети. На балках возле
одного дома сидели рабочие с мельницы.
Две красные, полупьяные, зло возбужденные женщины шли
навстречу Лизе.
— Ишь накрасилась, сволочь! — сказала одна.
Вторая выругалась цинично и длиннее. Захохотали.
Нервная веселость ударила в голову Лизе. И, желая быть
развязной перед самой собою, желая быть смелой в нескольких
шагах от реки и смерти, она обернулась. Крикнула:
— А вот и не намазана!
Женщины шарахнулись. Пробормотали что-то испуганно.
«Я начинаю ломаться», — брезгливо поморщилась Лиза.
Рабочие смотрели сюда. Вдруг кто-то из них засвистал,
заулюлюкал и бросился к женщинам, а за ним побежали и
остальные. Бабы весело взвизгнули... Лиза дала дорогу. Все скрылись
за углом.
Лиза поняла, что это ее минута. Городовой далеко, детей не
видно. Никого. Река шумит в трех — пяти шагах.
И в первый раз настоящий, громадный, сильный ужас залил
Лизу, ударил в ноги, скрыл из глаз небо, деревья, воду, землю.
Чувствовала, как медленно-медленно, с трудом пошла вперед и
расстегивала накидку. Мучительное нетерпение трясло Лизу.
293
Скорее, ах, скорее бы!.. Пришлось нагнуться под перилами.
Накидка скользнула с плеч, обдало ветерком. Секунду глядела
в темную бегущую воду, секунду полно вдохнула ее холод и
секунду ощутила себя поднятой высоко-высоко...
И ни о чем не жалея, ни в чем не раскаиваясь, без крика, без
колебания бросилась вниз. Удар рассеченной волны, темнота.
Окунулась вся с головою, забилась, вынырнула. Жадно,
широко, насильно широко раскрыла рот, глотала, выплевывала,
поперхнулась и снова глотала воду. Тело беспомощно
кривлялось, сгибалось, разгибалось.
«Господи, Иисусе Христе... кажется, это дольше, чем я
думала. Больно... ох как больно!.. Кто говорил мне, будто бы
топиться не больно? Сознания я не теряю... Платье вздувается...
волосы... ах, волосы!..»
На несколько минут забытье... Тело спокойно. Рот медленно
сосредоточенно глотает воду... пузыри... Вода затормошилась,
выкинула наверх.
«Почему я не тону? Господи, смерти... Я выплываю... Вода
не холодная... У меня бывали судороги... Почему нет судорог?»
Нечеловеческое усилие слабых рук и ног... нырнула
глубоко... стала тяжелее, ниже опустилась, скрылась под водою.
Платье прилипло к телу, и это ощущение было противно. Зацепила
мохнатые водоросли. Судорога гадливости в руках. Ясность
мыслей. Полусон. На сердце тишина.
«Тону... теперь уже тону, конечно... может быть, смерть?
Какая странная боль!»
Вода властно вышибла лицом к небу. Луч солнца. Уха
коснулся острый, пронзительный, исступленный крик там, на
плотине.
И на него неожиданно ответила тем же странным
нечеловеческим криком, заражаясь тревогой, что упала сюда, в темную
воду, в темные, запененные круги, в глухую мягкость
скользкой, мохнатой тины.
«Почему я кричу?.. Ведь мне не страшно?»
Крики доносились явственно. Была на поверхности.
«Я не тону», — просто, уже не ощущая ни страха, ни ужаса,
ни радости, подумала Лиза. И тупо покорилась тем рукам, что
схватили ее.
Рабочего и Лизу поднимали на плотину медленно на веревке.
Она открыла глаза и огляделась.
Страшно высоко голубое сверкающее небо. Застыли белые
плотные, точно ватные, облака. Зеленоватые, растрепанные
ветром деревья. Встревоженная, вся в кругах вода, уже не стран-
294
ная, не загадочная, а лишь мутная, противная. Множество
голосов, машущих рук. Резко выделялась студенческая тужурка.
Край ее черной накидки свесился над водою и колыхался.
Была на земле. Толпа хлынула к Лизе.
«Я бы хотела сказать им всем, что я спокойна, — думала
Лиза с закрытыми глазами, — я не напугана, и ничего
особенного не случилось. Но этого нельзя. Они способны растерзать меня,
потому что примут мое спокойствие за личное оскорбление. Они
все точно с цепи сорвались... Не нужно открывать глаза... не
нужно подыматься... иначе я покажусь им прямо чудовищем...
хотя по-настоящему я могла бы встать без чужой помощи и
пойти домой».
Ее положили на чье-то пальто и с нее срывали платье. Лиза
узнала голос Ковальской.
— Знаю я ее, знаю, — вопила та тоненьким голосом, — вы ее
ко мне несите... знаю я ее...
«Бедная, это благодарность за мои пять рублей, —
мелькнуло у Лизы, — и чего они меня тормошат так? Везли бы уж в
больницу».
— Господа, господа, тише!..
— Дайте пройти...
— Живой человек, не скотина.
— Знаю я ее... Она ребенка летом хоронила... и уж топилась
раз...
«Ах, лгут, — возмутилась сквозь забытье Лиза, — открыть
глаза и заявить, что лжет».
— Дьяволы... легче... тише... голову... голову не проломите...
скоты проклятые!.. — чуть не плакал студент.
— Платье не срывайте... в больнице снимут...
— Господа, расступитесь, разойдитесь!..
— Ну чего рты-то разинули, хамы?..
— Сам ты хам... орешь...
— А чего пихаешься-то? Я как дам тебе!..
— А ну подойди!..
— Разойдитесь!.. Городовой, да гоните их в шею...
— Откачивать не будем?
— А ребенок где?
— Городовой, так нельзя... Они разорвут ее... Вы отвечаете...
— Не ваше дело, господин... Проходите!..
— Кто сказал о ребенке?
— Вот накидка... Городовой, получите накидку...
— Господи, несчастье-то какое!
И еще, и еще, и еще...
295
— Ко мне несите, — плакала Ковальская.
— В больницу... я не позволю... в больницу... — сердился
студент.
Лиза вдруг начала дрожать. Поднялась на локте,
оглядывалась истерично, как затравленная.
Бестолковые крики, брань, возбуждение толпы заразили ее.
И до сих пор искренняя, до сих пор не солгавшая ни одним
жестом, она в угоду этим пошлым, испуганным людям начала
биться, кричать в искусственно вызванном припадке. И это было
легче, чем лежать молча, с правдивым равнодушием.
«Мерзость, мерзость!» — с ужасом думала Лиза.
VIII
Несли на носилках по коридору. Как было здесь тихо после
улицы. Встречные сиделки спрашивали.
— Утопленница, — отвечали сторожа.
-Жива?
— Дышит.
— А сейчас привезли другую... отравилась...
— Чтой-то они? Прости Господи!..
Положили на стол. Мужчины и женщины в белых халатах
обступили Лизу. И эти люди ничем не отличались от тех на
берегу и так же заглядывали в лицо и выражали мнения вслух:
— Слабость от истерики... Горячие банки... выкачки не
требуется...
— Вот что весна делает...
— А не было ли здесь симуляции, — хихикнул кто-то, —как
вы думаете, доктор?
— Нет... нет... — раздраженно отмахнулся тот. — Господа,
посторонних прошу выйти...
— Шляпа в реке осталась...
— По словам городового, она не теряла сознания.
— Молодая... не больше двадцати трех...
— Посторонних прошу выйти! — уже сердился доктор.
Теперь стало тихо. Лиза лежала с распухшим лицом,
постаревшая, подурневшая, в чужом грубом белье. Она вдруг
зарыдала.
— Ну будет, — нагнулся доктор, — ну успокойтесь... ну не
надо... Теперь все хорошо.
И при звуке мягкого, участливого голоса Лиза сдержалась.
Посмотрела умоляюще. Целомудренным жестом доктор
поправил ей сорочку, нежно гладил волосы.
296
— Тяжело... стыдно, гадко, — с гримасой шепнула Лиза. —
Ох, как тяжело, доктор!.. Зачем меня вытащили?.. Это
жестокость!..
Он по-прежнему молча гладил ей волосы.
— Гадко, стыдно мне, — заметалась Лиза, — как жить
теперь?.. Как жить?..
— Не волнуйтесь... лучше не говорить...
— Зачем меня вытащили? — рыдала она. — Я вымучилась,
выстрадала... Мне боли своей жалко, доктор. Зачем меня
вытащили? Это жестокость!
— Да, — задумчиво проговорил доктор, — да... Это
жестокость.
IX
Поочередно приходили жильцы. Вопросы, сожаление,
удивление. И это было уже не ново Лизе и не пугало ее.
Около семи часов явился Ивочка. Он много суетился.
— Пришел околоточный, — сказал он возбужденно, —
допрос сделать... Я пошлю его ко всем чертям.
— Почему? — удивилась Гостищева. — Посылайте лучше ко
мне.
— Да какие тут допросы? Только из больницы, еле дышите.
— Милый Ивочка, не ерундите... Во-первых, я дышу
чудесно, одета и читаю Аннунцио, во-вторых, чем это скорее
кончится, тем лучше.
Ивочка был разочарован. Ему почему-то хотелось, чтобы
Лиза была с распущенными волосами, скорбная, виноватая,
заплаканная и чтобы можно было утешать ее и уверять, что она
ни перед кем не виновата.
— Как хотите, — сказал он недовольно и ушел.
Околоточного впустили. Молодой, крепкий и, кажется, очень
застенчивый.
— Здравствуйте... садитесь... Что угодно? — резко обратилась
Лиза. Ее уже охватило нервное раздражение.
Околоточный делал вид, что не заметил ее тона. Сел, вынул
бумаги, придвинул чернила.
— Вы сегодня утром покушались на самоубийство, —
негромко заявил он, — может быть, объясните причину...
расскажете?
— Какой вздор! — вспыхнула Лиза. — Разве вы сами не
понимаете, что это вздор? Ничего решительно я не скажу, ничего.
Посмотрел на нее. Так уныло, устало посмотрел.
297
Лиза сконфузилась. «С чего это я на человека бросаюсь?» —
урезонила себя. Хмуро бросила несколько фраз:
— Топилась потому, что жизнь надоела. Все люди дрянь, и
она —дрянь.
— Жалеете, что вас вытащили? — как-то странно спросил он.
— Жалею, Богом клянусь, жалею! — искренне крикнула Лиза.
А околоточный возразил мягко, искренне, медленно
подыскивая слова:
— Знаете, барышня, мне пришлось много видеть самоубийц
за последние годы... вешаются, стреляются, травятся... да... и
все такое — словом, жизнь в копейку не ценят. Раньше я не
верил, ужасно злился... даже грубиянил некоторым... думал —
ломаются... А потом... многие... вот и вы... видно, не ломаетесь,
нет... просто жить не хотите... да... И теперь я сам стал к себе
присматриваться... Часто думаю: а для какой надобности я живу?
И будто бы уже смерть страшна? У меня жена... молодая...
любит... двое мальчиков... достаток... А от тоски места не
найду... К смерти тянет... Не сегодня, так завтра пущу себе пулю в
лоб. Ей-богу!.. Так вот ведь какая комедия... Допрашиваю я вас,
и мне смешно... Ведь я сам умирать своею смертью не намерен...
И в ответ на его измученную улыбку пробормотала слабо:
— Ничего... Все проходит.
ВЕТЕР
Девятнадцатое...
Если бы меня спросили, что я до сих пор делал, я бы
ответил: писал и ездил. Да, писал и ездил. С места на место. Люблю
главным образом провинцию. Много есть неизвестных уютных
городков, с прозрачной рекою, ропщущим лесом, веселыми
домиками, густыми садами, где цветут мальвы и мечтают
женщины. И там интересно останавливаться, только ненадолго.
Ветром прилетел и снова дальше, дальше.
Тогда воспоминания остаются чистыми, трогательными, и
приятно мысленно переживать их. Сколько я видел таких
городов! В одном встретил девушку с голубыми глазами. Она
любила голубой цвет. Платья, ленты, пояса — голубые. В лесу
искала только незабудок и колокольчиков. Приходила ко мне, пела
у меня на коленях и говорила:
— Я не люблю тебя, потому что ты ветер. Сегодня с нами,
завтра далеко.
298
Сама была гордая, смелая. Никому не верил, а ей
полностью. Ласковая, голубая девушка! Не боялся открывать ей душу.
Если не всегда умом, то сердцем она понимала меня. А больше,
что больше и нужно? Где она теперь? Может быть, уже
разлюбила голубой цвет? Или она замужем и у нее дети? Да... да... без
сомнения.
Порою, однако, я вспоминаю ее, тоскую и желаю встречи.
С тех пор как я живу сознательно — вокруг меня женщины.
Всюду их умоляющие глаза, протянутые руки, покорно
склоненные головы, слезы, поцелуи, клятвы, слепая вера — не такой, как
другие. Почему я причиняю им столько зла? Почему я груб,
жесток, лжив и равнодушен с ними? Не знаю. Разве я виноват, если
они во мне видят не меня? Разве я виноват, если свобода
заманчивее женщины? К слову сказать, не женщины делали меня
счастливым — я сам. Не хочу и не ищу ничего определенного,
законченного, продолжительного, не имею целей, убеждений, религии,
не признаю ни прошлого, ни будущего, только настоящее. Да и то
минуты. В итоге я доволен сам собою.
Здесь, в П-ве, я проездом.
По одну сторону городка — бесконечный лес, по другую —
глухая станция, а на главной улице вековые липы и очень
темный, очень старый костел Сердца Иисуса. Утром и вечером туда
проскальзывает Мечка. Я знаю, она плачет и молится.
Маленькая покорная женщина с затаенной трагедией и
нежной мольбою во взгляде. Иногда я обнимаю ее, она дрожит, как
листок, и я не помню, чтобы она улыбалась.
— Грех... возмездие, рай, ад, ксендз...
Ах, глупенькая, если бы она знала, что высшее наслаждение
ни во что не верить, никого не любить, ничего не желать, ни на
что не надеяться, ничего не просить!
Я груб с нею последнее время. Наша разлука — дело четы-
рех-пяти дней.
Двадцать третье...
Я стоял у окна, когда пришла Мечка. Слышал ее тихие шаги,
шуршание юбки и понимал, что она боится окликнуть меня.
Пусть. И я не оглянулся. Следил, как гнулись деревья, летели
сухие листья, расхаживали голуби.
Раньше меня трогала наивная, немного педантичная
аккуратность Мечки, ее детский страх перед пылью, брошенными
книгами — теперь же захотелось пожать плечами. К чему все это?
И ее заботы казались приторными.
299
Мечка наконец подошла, припала к плечу.
— Франек сердится?
— Нет, скучает.
Лень говорить. Однако взял маленькие холодные ручки.
— Дома все благополучно?
-Все.
Муле у нее бухгалтер. С ними живет свекровь, дряхлая
старуха. Комнаты — темные. Тихо до жути. Патриархально. Был
у них два раза — едва не задохся от скуки. На меня косились.
— Если бы они знали, — шепчет Мечка порою, — если бы
они знали...
И вся бледнеет от одной мысли.
Сейчас она теребит мои брелоки, трогает манжеты, рукава,
руки с влюбленной нежностью. И лицо у нее радостное сквозь
дымку печали.
Я сказал:
— Мечка, ты бы шла к себе... семь часов... заметят.
— Еще минуточку.
— Поздно, Мечка.
Тогда она бормочет сентиментальную ерунду... потом
начинает рыдать. Просить того, чего просят обыкновенно все
женщины. Переделать ее по-своему, повести куда-то, указать на что-
то, слить с жизнью.
Слушай, Мечка, нет ни новых путей, ни счастья, ни
справедливости, ни вечности. Понимаешь?
...А она все плачет. Ах, эта женская погоня за мечтою,
бессильный порыв уйти от скучной земли, бесплодная вера в
несуществующее царство света!.. Сколько муки во имя
призрачного! Сколько слез во имя пустоты!..
Я бы хотел, чтобы женщина была реальнее. Она бы много
выиграла.
Повторяю настойчиво:
— Тебе пора... Ступай, Мечка!..
Чувствует ли она, что это свидание последнее?
Уходит медленно, растерянно.
Раскрываю окно. Холодный осенний ветер наполняет всю
комнату.
В дверь стучат. Моя квартирная хозяйка Клара.
Обыкновенно она меня дичится и не отходит от рояля.
Играет хорошо, и руки чудесные. Сегодня ее лицо бледно и
угрюмо. Кладет ноты, которые я принес ей.
— Можете искать себе новую комнату. Я этого не потерплю.
Улыбаюсь. Чего она не потерпит?
300
— Дамских визитов.
-А!..
Смотрю на нее внимательно. Ее глаза сначала темнеют от
муки, потом заволакиваются слезами. Киваю головой,
удовлетворенный. Хорошо! Съеду завтра. Делаю вид, что ничего не
понимаю.
Она теряется. Лепечет невнятно:
— Почему вы так жестоки ко мне? Почему?
Во мне просыпается инстинкт разрушения. Вспыхивает
желание бить, рвать, мять, причинить боль, унизить, смеяться над
плачем.
Через минуту Клара возле меня. Утешаю. Говорю те же
слова, что и Мечке. Кажется, дразню, волнуемый ее отчаянием:
— А грех?
Она возмущенно вспыхивает. Вздор! Вздор!.. Нет греха, есть
только поступки, и такие, какие нам диктуют обстоятельства.
Ах, да она не Мечка... на исповедь не побежит.
Я смеюсь, а Клара кончает тревожно:
— Только вы не подумайте... я не люблю вас, я ненавижу.
А я целую ее скорбные, жаждущие губы.
Ночью я уложил свои вещи.
Тихий беленький городок, плачущая Мечка, озлобленная
Клара, прощайте!
Я не вернусь.
Четвертое...
Я в громадном городе, где потонулъ как песчинка. У окна
отеля. Если смотришь вниз, то кажется, что смотришь в
колодезь, и люди — совсем маленькие. Направо, налево, предо
мною — крыши. Сеет плотный холодный дождь, а во дворе
поет шарманка. Не знаю ничего грустнее бродячих
музыкантов. Ах, эти жалобные простые песенки старой шарманки! Они
мешают мне быть равнодушным, навязывают свое скорбное,
покорное настроение.
Бедные, жалкие шарманки, всегда поющие одну и ту же
песенку: «Мы — несчастны, мы — голодны... мы не виноваты в
том, что мы несчастны и голодны».
Думаю о своем необъятно глубоком одиночестве и радуюсь.
Потому что только одинокий — силен, только одинокий —
свободен, только одинокий —счастлив.
301
Десятое...
Дом, где я остановился, громаден и, когда спускают жалюзи,
похож на тюрьму. Люблю старые дома, в которых тысяча
жизней уже рассказала свои сказки. Стены их слышали. Дайте им
речь — они вам расскажут целые томы. Я преисполнен
уважения к их опытности и некоторым страхом. Быть может, они
видели лишь драмы? Я суеверен. Комната приносит счастье или
несчастье, смотря по тому, кто жил в ней. Счастливая комната
или несчастная? О, это важнее цены!
Сегодня соседняя дверь была открыта настежь. Что-то
толкнуло меня. Конфузясь себя самого, вошел. Темно-красные обои,
старинные гравюры из времен французской революции. На
спинке кресла белое платье. В зеркале отражались живые
хризантемы. Пахло духами.
Стоял довольный. Ах, значит, у меня соседка... женщина
всегда со мною...
Был удивлен, заметив томик Ады Негри в польском
переводе.
Красным карандашом размашисто и густо подчеркнуты
строфы:
— Nie wrecaj daremnie,
Во nienawidzieć chcę ciebie!
Chcę nienawidzieć tak, jakem kochała,
(Не возвращайся напрасно, ибо
хочу тебя ненавидеть!
Хочу ненавидеть так, как любила,)
Za moja młodość strauioną w tęsknocie,
Za biedną młodość, co się prozno rwała
Ku tobie, ku twej pieszczocie...
(За мою молодость, отравленную тоскою,
За бедную молодость, что напрасно рвалась
К тебе, к твоей ласке...)
Ага... Я был рад, что моя соседка — полька. Перечитал эти
строфы. И мне стало жаль чего-то, кого-то. Мечки? Клары?
Девушки в голубом?.. Всех вместе.
— Nie wracaj daremnie,
Во nienawidzieć chcę ciebie!
(Не возвращайся напрасно, ибо
хочу тебя ненавидеть!)
302
...Ночью в городе около озера был праздник. Стреляли. Жгли
ракеты. На небе кровавое гигантское зарево. Из окна видел, как
голубые, красные, зеленые звезды взлетали высоко-высоко и
золотым порошком сыпались во влажную тьму.
Соседка не вернулась.
Одиннадцатое.. •
Бродил по саду. Деревья, трава, скамьи темны от дождя.
Пахнет перегноем листьев. Везде они желтые, бурые,
красноватые; падают безучастно на землю. А оставшиеся — зеленые —
кажутся уже мертвыми, хотя и зелены. Бледное солнце. Весна
нравится нам только в юности. Осень лее остается верной, ибо
осень — грусть... грусть же всегда с нами, до самой могилы.
Из правой аллеи шла элегантная дама. Серый шелковый
костюм. Шляпа a là Рембрандт. Вот ближе... ближе... тонкое,
очень знакомое лицо. Ах, какое знакомое!..
Подымаюсь. Кланяюсь.
У нее голос и смех дрожат, когда бросает мне:
«Здравствуйте!»
Теперь я готов упасть в обморок.
Моя голубая девушка!
Мелькает Польша... веселый городок у реки... лес...
незабудки... голубое платье...
«Ты ветер. Сегодня с нами, завтра — далеко... поэтому я
люблю тебя!..»
С изумлением, ужасом, тоскою держу ее за руки. Она здесь?
В Женеве? Как? Почему?
Отвечает шутливо, бледная как бумага:
— Ветер занес... Вот мы и снова встретились.
Она изменилась. Под сеткой вуали подведенное лицо
кажется еще худее. У нее, однако, все те же глаза. Громадные, синие,
сияющие. Только теперь они напоминают эмаль, а не незабудки.
— Где ты остановилась, Б эля?
Говорит адрес.
-О!
Это моя квартира. Наши комнаты рядом. Рядом после
стольких лет разлуки. Как фантастична жизнь!
Сорвался ненужный вопрос:
— Что ты делаешь здесь, Б эля?
Лениво усмехается:
— Разве не видишь?
Я ждал истории. Она ничего не сказала. Я был благодарен.
303
В сущности, кто же не слышал шаблонной повести о
брошенной девушке?
Восемнадцатое...
Показываю на раскрытый томик Ады Негри:
Nie wracaj daremnie,
Во nienawidzieć chcę cibie!
(Не возвращайся напрасно, ибо
хочу тебя ненавидеть!)
— Бэля, ты думала обо мне?
Уныло качает головой. Да, она думала. Ах, если бы она
могла ненавидеть!
Нам не сидится на месте. Целые дни мы на улице. То около
Роны, то в Английском саду, то катаемся по озеру или в
Лозанну, или дальше... дальше...
Возвращаемся измученные. Бэля никогда не жалуется. Ее
горе выше ее понимания.
Порою жадно расспрашивает о других женщинах,
беспокойно, болезненно ревнует. Забывает о своем громадном
преимуществе перед теми.
Она несчастнее их всех. Она сгублена навеки. Сгублена мною.
Всех их я бы принес ей в жертву, даже тихую Мечку.
Моя голубая девушка!
Всю эту неделю Mon-Blanc в облаках.
Двадцать четвертое...
— Бэля, хочешь остаться со мною?
-Нет.
— Почему?
— Я люблю тебя слишком. И слишком буду страдать.
Она права. Что ей сказать на прощанье?
Молча целую громадные синие глаза.
Вечером я на пароходе.
Ветер, голубые волны, одиночество.
«Ты — ветер. Сегодня — с нами, завтра — далеко, поэтому
я люблю тебя».
Так говорила Бэля в лесу — давно.
Это умерло. Это не воскреснет.
Ветер, голубые волны, одиночество.
304
ПРИЕЗД РИТЫ
Приехала Рита к пяти часам вечера.
Встретили ее разно, каждый по-своему.
Мать натянуто улыбалась, пытливо всматривалась и зорко,
неприязненно разглядывала старшую дочь. Вся новая, вся
чужая. С головы до ног. Красивая, вольная, но чужая. Ушла из
гнезда. Навеки потеряна. Проснулась старая обида.
Мать сейчас же отвернулась, занялась чемоданами.
Сестра Женя разрыдалась, повисла на шее, душила
поцелуями, измяла все платье. Такая же плакса, как и раньше. Такая
же моложавая, капризная, пестро одетая.
А деверь Николай, бледный, смотрел и молчал.
И это молчание Рита оценила больше, чем восклицания
матери и слезы сестры.
Прочла в глазах неизлечимую, затаенную муку, восхищение,
смятение и ответила быстрым, глубоким, полным взглядом:
«Привет! Наконец-то!»
— Я к вам на целую недельку. Наговоримся вдоволь.
— Наговоримся, дочурка, — ответила мать.
В голосе сухая, угрожающая нота. Неприятно Рите. Ах, мама...
всегда-то они не ладили, не понимали друг друга!
Сняв шляпу, Рита казалась чуточку ниже, еще гибче, еще
изящнее. Лицо тонкое, невеселое, глаза большие, внимательные.
Кругом суетились, прислуга, мать, сестра, а она села
поудобнее в кресло и говорит:
— Еду теперь на Волгу. Развинтилась я. В этом сезоне петь
пришлось чуть ли не ежедневно. Устаешь не от одних неудач,
устаешь часто и от успеха.
— Риточка, я все рецензии о тебе вырезала! — кричит сестра.
— А я, когда узнала, что ты в оперетке, чуть не рехнулась, —
умышленно громко и грубо вставила мать. — Слыханное ли
дело? Такие фокусы... срам один... замучила ты меня.
Рита подсмеивалась:
— Да ведь я, мама, купеческая дочь... не дворянка...
— То-то и оно-то... купеческая дочь... Тебе меня стыдиться
нечего, а вот я про тебя-то и рот открыть боюсь... не пожалела
седин. Зять — писатель, ты — в оперетке. Бог наказал.
Женя испугалась. Подбежала, ластится к сестре:
— Не слушай маму, рыбка, прости... Она ведь у нас
особенная... прежнего закала... Не слушай, не перечь...
Рита даже расхохоталась. Ну вот... Конечно, она не
обращает внимания... слава Богу, не девочка. Николай сидел хмурый,
305
молчаливый. Как он изменился все-таки! Постарел, опустился.
Нет былого изящества, размаха. И одежда словно помята, и
походка не та. Руки прозрачные, под глазами синева.
Тихо огляделась кругом.
Комнаты показались меньше, темнее, а обстановка
мещанской до ужаса. Раньше не так замечала. Теперь отвыкла.
Неловко. Дико. Вот и шкап, заветный шкап, куда еще с детства
прятали лакомства.
После обеда мать выдавала сласти лично и всегда норовила
дать Рите меньше. Не любила она старшую. В покойника отца
была девчонка. По деревьям лазила, яблоки воровала, играла с
мальчишками. Однажды разозлилась и нарочно облила себе
руки кипятком. Не то, что Женюся. Та все за юбку матери
держалась. Кудлатенькая, чистенькая, пестренькая, в бантиках.
— Купеческая, — с гордостью хвалила мать, —рассыпчатая
будет.
Вздохнула Рита. Тяжелое детство, сумбурное. Бог с ним!..
Сейчас вышла на веранду. Жадно дышала полной грудью.
Только что прошел дождь. Небо сияет. Разбегаются тучи.
Везде лужи, капли, еле слышный шорох. Сад еще больше
запустили. А сколько сирени! Боже мой, целое море сирени!..
Осматривалась любовно, долго, и плакать хотелось. Ах, ничего не
возвращается, ничего. Впрочем, есть утешение... все проходит, но
ничего не забывается.
Вспомнила, как томилась в поезде и, глядя на бегущие
влажные поля, леса, мельницы, вздрагивала холодеющими плечами
и шептала: «Скоро... скоро...»
Всему тогда в доме находила оправдание. Навертывались
слезы, хотелось броситься на колени, умолять простить их
общую вину. Все забывалось — сцена, заграница, тучи
поклонников, — от себя уйти, опроститься. Хотелось именно этой
наивной, провинциальной обстановки, пахучей листвы, белого
девичьего платья, тихих шуток, церковного пения, звездного неба.
Хотелось вставать рано, накинуть платочек и домовито
приготовить завтрак. Хотелось самой отдернуть занавески у окна, а
Николаю принести простеньких цветов и выслушать его
последний фельетон. Ах, в поезде все казалось таким милым,
таким возможным!..
— Маргарита Павловна!
Оглянулась. В дверях Николай. Не входит.
— Мамаша вас просит.
Милый, как ему тяжело!.. Была благодарна, что не подошел.
После... после...
306
Обошла все комнаты со странным лицом, не то недоумевая,
не то радуясь. Даже в кухню заглянула.
— Здравствуйте, Липа... каким вы молодцом стали!.. Совсем
невеста.
Качала головой. Четыре года... только четыре. А как все
изменилось.
Мать ждала в столовой недовольная, насторожившаяся.
Торопила.
— Нет, ты уж садись, Рита. Ешь... Потом наговоришься...
А где же Николенька? Коля!.. Николай Петрович!
Притворно изумилась, увидя зятя с фуражкой.
— Как, уходишь?
— Я сейчас вернусь, мамаша. Загляну в редакцию.
— Да Христос с тобою! Какая там редакция? Успеешь.
— Нужно.
Женя рассердилась:
— Ну и не задерживайте, мамаша. Пусть идет. Он везде все
наперекор.
На губах Риты снова легкая грустная улыбка. Это хорошо,
что он уходит. Оправится дорогой, соберется с мыслями. Она
нагрянула как снег на голову. Изумила. Любит неожиданности.
Мать и сестра засыпали вопросами. Сколько стоит жизнь за
границей? Не перейдет ли она совсем в оперу?
Мать хмурится:
— Может быть, бросишь сцену? Ну ее к шуту! Охота
балаганить?
— Не брошу, мама. Лучше жить не буду. К огням привыкла.
Смеется. Пьет вино крупными, жадными глотками прямо
из стакана.
— Уф!.. Жажда!.. Что так смотришь, Женюся?
Мать всколыхнулась. Зарделась. Старая ненависть хмелем
ударила в голову.
— Не привыкла твоя сестра, чтобы женщина пила, ровно
шансонетка... вот и смотрит. Это все сцена... Будь она проклята!
Заплачешь еще, Маргарита... Попомни мое слово...
— Полно, мама, за что вы, в самом деле, едите Риту? Только
приехала. Дайте вздохнуть человеку.
Старуха примолкла.
— А когда замуж выйдешь? — после паузы.
— Не собираюсь пока.
Мать криво усмехнулась:
— Что так? Неужто страшно?
Рита бросила салфетку. Задумалась.
307
— Свобода дороже. Сами знаете.
— Нет. Мы девушками так не рассуждали.
— Ах, мама!
Вспыхнула ссора. Мать говорила обидные, несправедливые
слова. Рита не сдерживалась. Еле-еле затихли. Сестра
завистливо поглядывала на кольца, платки, ботинки. Сидела непокойно,
барабанила пальцами. Вот бы показать Порфирьевой или Лопа-
тенко. Лопнули бы от злости.
Заметила, вздыхая:
— Счастливая ты, Риточка... беспечальное житье...
— Ну, это еще бабушка надвое сказала, — бормотала мать, —
ремесло неприглядное.
Нарочно подчеркнула слово «ремесло».
От ничтожных, но колючих придирок Рита примолкла,
нахмурилась. Хотелось в свою очередь раскричаться, затопать
ногами... так... по-старому... по-купеческому...
С трудом подавила гнев. Только порозовела вся.
Смотрела, как качается сирень за окном. Ждала Николая.
Осторожно расспрашивала о нем. И мать и сестра были им
недовольны. Плох он, болеет. Литературная работа идет вяло. Вот
и верь людям. Талант, талант, кричали. А какой это талант, если
он еле-еле сто рублей при газете выколачивает. Да и то еще
счастье — одна газета в городе, вероятно, поэтому и приняли.
Мать хлопочет теперь пристроить его в управу. Надежнее.
Рита похолодела. Ах, милый, несчастный, талантливый
Николай! Кажется, взялась бы за голову и билась об пол. Что они
с ним сделали!.. Что они с ним делают, мещанские, узкие души!
От Николая разговор перешел к деньгам, родственникам,
соседям. Дрязга, сплетни. Муть одна. Незаметно мать начинает
горячиться. Кричит, что видит Риту «насквозь», грозит чем-то.
Ссора затягивается. Наконец старуха, взволнованная,
дрожащая, уходит рыться в ее чемодане. Хочет посмотреть
заграничные да питерские вещи. Здесь таких не увидишь.
— Тебе скучно у нас? — заискивающее улыбнулась Женя.
— Душно, мурочка.
Рита подозвала сестру, притянула к себе, в глаза ласково
заглянула. Ведь для нее же, для нее, этой сытой, толстенькой
блондинки, она когда-то своим чувством поступилась.
— А ты довольна, Женюся?
— Э, какое там!..
Сделала капризное, детское лицо.
— Несносный характер у Николая... Мечтает все. Думает.
Скучный. Не того я ждала, Рита. Мне бы вот как теперь повесе-
308
литься, а я взаперти. Тетки да мама. Ребенка покуда свекровь
взяла. Вот ты — умница, золото. Ты счастливая...
— О Господи!
— Ну, еще бы; сцена, платья. Ишь какие у тебя ботинки. И
по будням их носишь. А мне мамаша не позволяет. Николай
плохо зарабатывает. Тсс! Мамаша зовет. Посиди, голубка...
Убежала.
Рита прошла в кабинет Николая. Села, задумалась.
Встретила Николая впервые на литературном вечере. Читал
свои стихотворения. Тонкий, уверенный, строгий. Имел
шумный успех. Они как-то сразу поняли друг друга, разгадали в
толпе. Познакомились. Полюбили. Молчали. Каждый мучился в
одиночку. Потом влюбилась и младшая сестра, плакала, падала
в обморок, открылась Рите и матери. Последняя зорко
охраняла ее счастье — «с боя его возьму, да, возьму».
И Рита уступила. Без слов уступила: «Я — сильная, вынесу.
Женюся — другое дело».
Мать спросила вскользь, хмуро:
— Это твое амурничанье — вздор? Пустяшное?
Согласилась апатично:
— Пустяшное.
Страшное было время. Таилась, чутко следила за каждым
своим шагом, боялась выдать то глубокое, нежное, большое,
что зрело где-то там, в тайниках души, и приливало теплым,
ярким светом к глазам. Может быть, оттого, что чувство всегда
было закупорено, сжато, стиснуто, оно бродило, как молодое
вино, и вот-вот, казалось, разорвет сердце на части.
От младшей сестры скрыли. Николай ходил растерянный,
понял так, что Рита не любила и не любит. Но лишь бы
поближе, лишь бы слышать, знать. Женился. Ну, расстались они.
Увиделись не скоро. Яблони тогда цвели, сирень... В этом же
самом саду гуляли... совсем вечером. Признались. Держались
долго за руки. Как она плакала! Эх, не вернуть, не исправить!
На сцене ей везет. Примадонной будет. Только сама она
равнодушна. Жизнь, положим, не тяготит, а так... без боли и без
радости живет.
Хлопнула дверь.
Шаги.
Николай вернулся.
Слегка запыхался. Бросил рассеянно:
— А у нас в доме гроза. Мамаша заперлась с Женей. Не
люблю я, когда они шепчутся. Заговоры устраивают.
Не удивилась. Еле от дум оторвалась.
309
— Да? Ну что же... пусть. А мы потолкуем. Давно ведь не
виделись.
— Давно.
Сидели. Думали. Со стороны чужие, равнодушные, внутри —
родные, близкие, несчастные.
Рита не выдержала. Подошла первая. Закинула осторожно,
нежно голову. Гладила волосы, целовала усталые, милые,
безумно дорогие глаза.
— Ах, Коля... Коля!
И не могла кончить. Упрекнуть не смела, пожалеть —
боялась. Из его слов поняла, что пишет он через силу, с
отвращением, жену не уважает. Нравственно разлагается.
И выхода нет.
Слушала молча, ломала тонкие пальцы и в безвкусной
угрюмой комнате казалась еще красивее, еще наряднее. На
плечах отливал серебристо-сиреневый шелк, ломался и шуршал в
подоле.
Николай следил за нею тревожно, тоскливо.
— Рита!
— Что, милый?
— Уезжай ты от нас.
— Как? Что?
— Уезжай, Рита.
— Ну, хорошо... хорошо... Когда же?
— Поскорее...
Обнял побледневшую, замкнувшуюся.
— Ты видишь, как настроена мама. Она слепо любит Женю.
Ей чудится Бог знает что... Будут тебе одни неприятности...
— Да я не боюсь.
— Знаю. А все-таки...
Обещала. Уедет завтра же...
— Скажи только... жаль прошлого?
— Жаль.
— И не нужно было жертвы?
— Не нужно.
Сейчас же ушел. Целовал, как перед смертью.
Рита виноватой походкой скользнула по комнатам.
Тихо. Мать по-прежнему все с Женей — заперлась.
На веранде хорошо. Где-то играет музыка. Нежный,
волнующий, заманчивый вальс. Может быть, оттого так и красив, что
льется вместе с сиренью? Горят еще губы от поцелуев, и голова
кружится, кружится, кружится... Пьяна горем, пьяна лаской,
томлением... Чутко слушала. Ходила по мокрым дорожкам и
310
подола не поднимала. О матери и сестре забыла. В комнатах
огня не зажигали. Долго ли так было? Не знала.
— Рита! Рита!
Это Женя зовет. Стоит на веранде. Волосы растрепаны...
пуховый платок на плечах... Видно даже в сумерках, как густо
напудрено лицо.
Сразу бухнула:
— Мама мне все рассказала. Понимаешь? Все.
Ждала эффекта. Ничего не получилось.
— Ну так что же? — равнодушно отозвалась Рита.
Смотрела не на сестру, а на подол... Ай, какая грязь!..
— Все я знаю, — деланно трагически продолжала младшая,
возвращаясь в столовую, — мамаша меня предупредила. Ты,
оказывается, хочешь здесь интригу завести. По-ни-ма-ю... по-ни-
ма-ю... Что теперь будет?
— То, что ты ужином меня угостишь. А мамаше на старости
лет сны снятся.
— Не смей так говорить про мамашу. Я тебя ненавижу.
— Ах, Женя!
Младшая не слушала. Почти бранилась.
Рита зевала, играла столовым ножом, следила, как вились
мошки около лампы.
— Скатерть у вас несвежая. Ну, Женя, довольно. Не глупи.
Скучно. И Коля скоро придет.
— Он тебе не Коля, а Николай Петрович.
— Отлично. Пусть Николай Петрович. Так вот ты его
пожалей. Слабый он.
— А он меня жалеет?
— Да, Женечка. И еще как. Только ты с ужином
распорядись. Я завтра рано выеду.
Сестра не удивилась. Поглядела сбоку.
— Уезжаешь? Ну как хочешь. Мама на тебя сердится.
— Мне безразлично.
— Неужели?
Женя не утерпела. Бросила колко:
— Напрасно, во всяком случае, ты великодушничала.
Девчонка я была. Иван, Сергей, Николай... для меня все равными
казались...
— Да ведь прошлое, — усмехнулась Рита, — о чем
толковать? Не вернешь!..
И больше не разговаривали.
Старшая поужинала, молча вышла. Даже не оглянулась.
Дверь за собою притворила плотно и тихо. Долго собирала вещи.
311
Ночь напролет. Сначала, при свече, терялась в хаосе тряпок,
потом, на рассвете, уже спокойная, деловая.
Утром была нарядна, любезно-холодна. Словно стеной
огорожена.
Мать выглядела виноватой, пряталась за самовар. Николай
домой еще не возвращался.
У Жени — розовое, свежее, хотя и надутое личико.
Рита заметила ласково, апатично:
— Какая ты моложавая, Женя. Ничего на тебе не
отражается. Просто девочка лет семнадцати, и только...
— Ну, положим, — пробормотала та.
А сестра уже забыла о том, что сказала. Думала о дороге... о
будущем... Снова была сильна и равнодушна.
две
Я женился рано. Я женился не потому, что любил слабую,
покорную, наивную девушку, а желая угодить моему отцу. Он
требовал этого. Я от него зависел. Я боялся его. Я был ко всем
безразличен, сам по себе скучен, холоден, примитивен. И я
женился. Я думал, конечно, только о себе, не о ней.
Ее звали красиво, не по-русски — Ада. Я смотрел на нее с
недоверием, как на новую прислугу. Мы зажили безбедно, но
замкнуто. Я напрасно выразился «мы». У нас не было ничего
общего.
Я служил, играл в карты, посещал театры и женщин, а дома
молчал. Жена занималась хозяйством, рукодельничала и
читала. Чаще всего современных поэтов. Помню, она обожала
хрупкого, неясного Гофмана. Она произносила стихи вслух. Я
считал это манерностью и высмеивал ее. По-прежнему я не мог
решить, люблю ли я жену или наоборот. Я знал, что у нее
тонкое, бледное лицо, пепельные волосы, очень синие, странно
внимательные глаза, знал все ее интимные привычки, фасон ее юбок
и белья, но я не знал ни одной ее мысли, ни одного желания, ни
ее грусти, ни радостей. Я не понимал ее. Затруднялся бы
сказать, хорошая она или дурная. Мы редко говорили.
Когда я притягивал ее к себе, обнимал, ласкал, пытался
зажечь гибкое, молчаливо протестующее тело, я читал в лице
жены страх. Животный, немой, смертельный страх. Это
оскорбляло меня как мужчину, возмущало, злило, внушало грубые,
скверные мысли. Я осыпал ее упреками, мучил
унизительными вопросами и радовался, если она страдала. Иногда она до-
312
водила меня до исступления своим терпением, и я бил ее.
Она никогда не кричала, не плакала, не защищалась. Она
только падала так, чтобы закрыть лицо, и масса, целая густая
масса пепельных волос отрезвляла меня. Я начинал дрожать и
просить прощения. Я трогал мягкие пушистые пряди и говорил
почти нежно:
— Какие у тебя красивые волосы, Ада... Боже мой, какие у
тебя чудесные волосы!
И опять-таки я ничего не мог прочитать в ее глазах. Ее душа
закрылась для меня навеки.
В те годы острых затяжных ссор я дал ей паспорт в тайной
надежде, что она уйдет от меня, но она не уходила. Была такая
слабая, не приспособленная к жизни. Она производила
впечатление больной тяжким внутренним недугом. Недаром у нее были
такие спокойные, внимательные, покорные глаза. Она словно
примирилась с худшим, а лучшего не ждала.
Отец мой умер. Мы получили кое-какое наследство,
оставили уездный городок и переехали в большой, шумный, южный.
Ничто не изменилось, кроме внешних условий. Я тосковал.
Я находил нашу жизнь безобразной, ненормальной. И я ничего
не делал, чтобы изменить ее. Я привязался к улице, ресторану,
и опять-таки — женщины. Я любил не только движение, шум,
блеск витрин и café, но также скверы, кабачки, ночные встречи.
Я бродил мрачный и озлобленный, искренне считая себя
несчастным. Я интересовался тем, что меня не касалось, а близкое,
родное существо трогало меня столько же, сколько
парикмахерская кукла.
Мое отношение к женщине было не совсем обычно. По
темпераменту я холоден и брезглив. Женщина рождала во мне
дурное чувство: смесь застенчивости, гадливости и вместе
неудержимое любопытство. Я не желал их, но мучил, унижал и
заглядывал в их души. Странно, они не понимали меня. Они
подходили ко мне с полным доверием.
Впрочем, потом женщина отомстила мне. Она заставила
думать о себе иначе.
Это случилось осенью. Так неожиданно случилось.
Я стоял у окна и смотрел на улицу. Непогодилось. Небо
темное, бурное. Голые верхушки деревьев кланялись угрюмым
домам часто и низко. Опавшие листья крутил и гнал ветер. Зябли
стены, панели, фонари. Одинокими и бесприютными казались
люди.
Я думал, что к вечеру польет дождь и что я задохнусь от
скуки в этот праздничный вечер. Нет, лучше пойти и побродить.
313
У нас было тихо. Прислугу отпустили. Ада забилась на
диванчик. Оттуда она прямо смотрела на меня. И от
внимательного, глубокого взгляда мне становилось неловко.
Читала слабо, вполголоса из Гофмана:
...Мрак и ненастье. И безучастье.
В грудь безнадежность впилась.
Хочется счастья. Как же без счастья?
Надо же счастья хоть раз...
Последнее звучало так наивно! Я слушал и испытывал
неприятное ощущение. Словно у меня болели зубы. Почему эта
женщина стала моей женой? Что ей нужно? О чем она думает?
Чего она хочет? И зачем она выбрала и говорит такие глупые,
жалкие слова глупого, жалкого стихотворения?
Хочется счастья. Как же без счастья?
Надо же счастья хоть раз...
Подумаешь, в самом деле.
И насмешливо я спросил ее:
— А ты счастлива, Ада?
— Не знаю.
— Но все-таки думаешь о счастье? — допытывался я.
Ответила не скоро, колеблясь:
— Да, конечно.
Я с интересом поглядел на нее. Может быть, она мечтает
даже?.. О да, оказались и мечты. О чем же, позвольте
спросить?
Ада молчала.
Потом решительно и живо вскочила. Заговорила,
жестикулируя, с нотами той же недоумевающей наивности:
— Ах, понимаешь, я бы хотела быть богатой, красивой,
блестящей. Я бы хотела иметь кучу платьев... Ах, тридцать, сорок...
пятьдесят платьев... белых, голубых, розовых... все дорогие, все
с тренами, кружевами... мне так идут воздушные материи!
Потом я бы хотела иметь длинный каракулевый жакет... Знаешь?
И круглую шапочку с султаном... и большую-большую муфту...
Это дитя задыхалось от восторга. Она подошла ко мне
ближе. Ее глаза просто сияли. Она нежно и доверчиво коснулась
моих плеч. Я никогда не видел ее такою. Любопытство
боролось во мне с раздражением. Старое, недужное раздражение:
осадок собственной несправедливости.
314
Я был виноват перед этой женщиной, и я ненавидел ее за
это же.
Ада продолжала:
— Ты не можешь себе представить, как много значит туалет
для женщины... все. Слышишь? Все. О, тогда я бы нравилась.
А потом улица. Я бы гуляла целый день, целый день каталась
бы. Я бы и обедала в ресторане, и приходила бы по вечерам
туда... Электричество, лакеи, дамы... О!.. О!..
Неожиданно она воскликнула с болью, с тоской, с
раздирающей безнадежностью в голосе:
— И тогда меня полюбил бы кто-нибудь! О, непременно,
непременно полюбил! Я была бы нужна кому-нибудь, меня бы
ждали, ревновали, хотели... обо мне бы думали... Боже мой, Боже
мой, какое счастье! Какой восторг!
Я глядел на нее с негодованием и даже отодвинулся.
— Ты врожденная кокетка! — холодно сказал я.
-А!
Испуганная, она съежилась, потухла и полезла снова на
диван.
Что-то оборвалось между нами окончательно... рухнуло...
обломки, пыль, зияющая бездна...
Позднее я вспомнил это ощущение.
Лицо Ады было бледно. Мне захотелось извиниться, но я
сдержался.
Я уронил, умышленно зевая:
— Пойду побродить. Вернусь не скоро.
— Хорошо, — ответила она.
Тихо, совсем тихо.
И я ушел.
На улице было холоднее, чем казалось из окна. Я шел без
цели. Неясная тревога мучила меня. Когда стройная, тонкая
женщина поравнялась со мною, а потом обогнала, я
обрадовался. Я пустился за нею крупным шагом и кашлял. Я знал ее.
Я часто встречал ее в городском саду на музыке.
Однажды она появилась там в модном, спутанном платье и
при электричестве казалась обнаженной. Прозрачная материя
на трико. Тогда же мне сообщили ее профессию и имя.
Фанни Б.
Сейчас она остановилась у витрины. Ветер рвал ее юбку. Ей
приходилось крепко держать свою громадную элегантную
шляпу. Я нерешительно поклонился. Ответила быстро, приветливо,
сверкнув темными, подведенными глазами.
315
Мы обменялись рукопожатиями.
Узкая, тонкая рука в плену холодной перчатки, виноватая
улыбка неестественно алых губ, матовая бледность
напудренного лица.
Она не была красивой, но очень стильной.
И когда смотрела, то чудилось, будто она пьет душу.
Ветер свирепствовал. Фанни бормотала, возясь со шляпой:
— Брр... проклятая осень!.. В такой точно вечер я бросила
мужа... был такой же ветер и такие же пустые улицы... Да... И я
так же сильно бежала. Ох!
Я переспросил, озадаченный неожиданным признанием:
— Мужа?.. Разве ты была замужем?
— Ну конечно. Наизаконнейшим образом.
Хохотала.
Я заметил, что здесь нет ничего смешного.
Согласилась:
— Да, но много грустного, котик. Он был угрюм и зол... или
молчал, или сердился, или уходил к другим женщинам... А я его
любила. Право. И ревновала как идиотка.
— Это и видно, — недружелюбно, иронически поглядел я, —
недаром от любви пошла на улицу...
Фанни передернула плечом.
— Ах, перегорело!.. Разве я святая? А я была тогда глупая,
совсем глупая. Я мечтала о платьях, ресторанах, лихачах...
хотела нравиться... хотела, чтобы меня любили тоже... Что ты
скажешь, милый?
-О!
Меня пронизала ледяная дрожь. Это совпадение ее слов со
словами моей жены испугало меня.
Странная тревога росла во мне.
Мне хотелось вернуться домой. Я боязливо смотрел на
женщину, которая устало уменьшила шаги, и она казалась мне
таинственной, загадочной, посланной как возмездие.
Ее голос жалобно пел сквозь порывы ветра. И я чутко
слушал его.
— Мы, женщины, так одиноки... Вы напрасно думаете, будто
мы можем жить без любви. Ах, нет!.. Если бы меня любил кто-
нибудь, разве я стала бы такою... Ну вот... он... муж... он не
замечал меня... Я болталась в его доме как вещь... я никогда не
интересовала его... А мне так хотелось любви! Каплю любви.
Когда мы уже пали и лежим в грязи, вы приходите спасать нас,
но, когда мы только клонимся, вы никогда нас не поддержите...
потом поздно... Да что там!..
316
Она не угомонилась и дома.
Принялась греть чай, а сама все бормочет траурные,
безнадежные слова, и ее губы дрожат:
— Если бы он был немного человечнее... если бы не эта брань,
не это грязное подозрение... Я чувствовала себя всегда
бесконечно униженной... Он приписывал мне мысли, какие я не
имела... Понимаете? Он говорил мне: «Ты — проститутка, ты —
дрянь... ты кончишь под забором... ты будешь торговать
мочеными яблоками...» Вы подумайте только... мороз, ветер, ведро с
мочеными яблоками и я... Сердце во мне замирало, когда он
говорил это... И так вбивал в голову, вбивал... словно
молотком. Я уже никогда не могла забыть... И я примирилась с тем,
что я дрянь... Я стала дрянью... Да... Ты мне веришь?
Фанни смеялась. Ее ресницы вздрагивали от слез.
Я испытывал нудное, тоскливое чувство. Без сомнения,
между этой и моей женой существовала какая-то тонкая общность.
Та же надломленная улыбка, слабость плеч и рук, спокойная
внимательность глаз. Я испугался. Липкий страх, ужас,
предчувствие горя душили меня. Действительность превратилась в
кошмар. Мне казалось — не Фанни, а моя жена после долгой
разлуки говорит со мною.
— Вот в такие вечера жутко, — созналась Фанни, —я еще не
совсем привыкла, хотя вот третий год... Да... я все жду чего-то...
Смешно... Мне кажется, это временно... Придут, возьмут,
уведут... Я уйду далеко-далеко и уже не вернусь. Ах, как я
ненавижу жизнь! Как я ненавижу эту необходимость двигаться,
говорить, есть, пить!
Я поднялся. Я в корректных выражениях благодарил ее и
не менее корректно расплатился.
Она стояла передо мною с неопределенной улыбкой.
— Прости... я измучила тебя.
Провожала до лестницы.
Шел дождь. Тротуары, верхи экипажей блестели. У
пешеходов были напряженные, иззябшие лица. Мне казалось, я схожу
с ума. Беспричинная тревога гнала меня домой. Я не знал
почему, не знал. Я не искал ответа. Я хотел одного... быть дома и
увидеть жену.
Я долго звонил, забыл, что прислуга отпущена и ключ у меня
в кармане.
Ко мне никто не вышел.
Наконец я вспомнил о ключе.
Я входил, уже уверенный в несчастии.
317
Окно в гостиной почему-то раскрыли. Ветер гулял по
комнатам. Было тихо, холодно и темно. Почему она раскрыла окно?
Уж не хотела ли она перед тем броситься вниз?
Ады не было.
Она бежала.
Я знал, на что и куда.
И я дрожал, как в ознобе, и не догадывался закрыть окно и
зажечь электричество.
Я оставался в темноте.
Cartes
postales
СЛУЧАЙНОСТЬ
В продолжение пяти лет Анна поднималась по одной и той
же лестнице, отпирала дверь одним и тем же ключом,
раздевалась, звонила горничной и требовала обед.
Если была весна, Анна любила постоять еще у окна.
Широкая оживленная улица с аллеей из молодых тополей, немного
дальше готический костел, а на углу большое здание, где она
служила.
Анна смотрела на все это, отдыхая, и мысли роились
бессвязные, но легкие, свободные.
Если же была зима или поздняя осень, Анна ложилась в
качалку и ждала обеда с закрытыми глазами. Тогда производила
впечатление уже немолодой женщины, несмотря на свои
двадцать пять лет.
Каштановые волосы плотной гофрировкой прилегали к
очень нежным белым вискам, длинные темные ресницы
прикрывали карие добрые глаза, и около полных, несколько
бледных губ ложилась тень страдания.
Она была замужем, но неудачно. Это сложилось так
грустно, что даже не вспоминала прошлого. Раз навсегда спрятала
письма, портрет мужа и портрет сына. Может быть, поэтому
никогда не снимала черного платья, никогда не смеялась,
никогда не пыталась создать личную жизнь. Ее дни текли со строгой
размеренностью, как у монахини. Часто ее упрекали в
излишнем благоразумии. Она сама сознавалась, что не живет, а спит.
И в тайниках души ей казалось, что просыпаться не стоит,
иначе будет плохо.
Сегодня ее сослуживец, молодой Георг Ионас, немец, долго
разговаривал с нею. Дружески просил заходить. У них много
общего. Рассказывал смелые, но интересные вещи.
Она была взволнована.
11 Анна Map
321
Каждый раз, впрочем, после болтовни с ним она испытывала
странное чувство. Не то грусть, не то радость. Не могла решить.
Георг считался прекрасным работником. Этого мало. Он
писал в газетах и журналах.
Говорили, что ему предстоит блестящее будущее.
Анна почти с благоговением читала его статьи. Восхищалась
всеми теми глубокими мыслями, которые зарождались у него
под ослепительно белым лбом и темными курчавыми
волосами. Часто он казался ей идеалом мужчины, несмотря на свою
грубость, самоуверенный смех и еще что-то — Анна не умела
назвать.
Его внимание льстило ей. Сегодня он так упорно приглашал
ее к себе.
Да, конечно, она пойдет.
Охватило легкое беспокойство, беспричинное томление,
смутная грусть. Странное нетерпение мучило ее.
В конце концов нет ничего, абсолютно ничего дурного, если
она пойдет к Ионасу.
Переодевалась в нарядное платье с решительным видом.
Осеннее бледное солнце заливало комнату и преломлялось
на хрустальных флаконах. Ах, это больное осеннее солнце!..
Анна уходила торопливо, в тревоге. Ей начало казаться уже,
что Георг заждался ее и сердится.
Она идет... идет... да, милый, конечно...
Как это случилось, что она назвала его мысленно «милый»?
Не захотела задуматься.
С нежной, мечтательной улыбкой решила купить цветов.
Милый, чудный Георг!.. Он будет доволен, без сомнения.
Почему-то выбрала орхидеи. Хотя она никогда не любила их
и даже не находила оригинальными.
Молоденькая продавщица укутывала цветы папиросной
бумагой с усталым видом.
Анна думала, волнуясь: «Он ждет меня. Как он будет
доволен».
Однако ее смутная грусть увеличилась.
В сущности, как все это не нужно... идти и нести цветы
мужчине, не зная наверное... Но что же нужно знать, Анна?..
— Ах!.. — И досадливо отмахнулась от самой себя. Уж не
любит ли она его в самом деле?..
Шла совсем печальная, не замечая гула улицы, прохожих,
вечернего неба, умирающей красоты умирающего сада.
Да, возможно, что любит Георга... начинает любить... много
думает о нем, много тоскует, затихает в его присутствии...
322
И чем ближе была улица, где жил Ионас, тем неувереннее
становились ее шаги.
Несколько раз останавливалась у витрин, оттягивая время.
Но вернуться?.. Нет, она не могла вернуться.
Внезапно Анна вздрогнула всем телом.
В нескольких шагах шел Георг Ионас под руку с дамой.
Вероятно, они появились из переулка. Анна могла видеть их в спину.
Перья на шляпке дамы развевались. Ионас наклонялся к ней
совсем близко. Он нес какие-то пакеты.
Анна следила за ними, страшно бледная, еле-еле двигаясь,
холодея при мысли, что они могут оглянуться. Жгучая боль в
сердце изумила ее самое.
Георг забыл, что пригласил ее на сегодня. Вот и все. Что же
тут особенного. Господи!
Она то перебиралась на другую сторону улицы, то
возвращалась, не теряя из виду Георга.
Парочка отошла на порядочное расстояние.
Встречные, в свою очередь, следили за Анной.
У нее был такой странный вид!
«Мне тяжело, — думала она, — вероятно, это ощущение
напоминает то, когда выслеживают жениха, любовника... потом
женщина обливает кислотой... да, обливает... теперь я понимаю...»
Георг с дамой скрылся в подъезде.
Анна медленно повернула обратно. Но у нее слишком
дрожали колени, и она взяла извозчика.
Сказала адрес одного знакомого.
«Что я делаю? К чему?»
Стиснула зубы и завернула еще нежнее орхидеи в
папиросную бумагу. Так нужно — ехать к другому. Сидела прямая,
гордая и совсем не похожая на ту Анну, какой была всегда.
На лестнице, подымаясь в меблированные комнаты, думала
с тоскою: «Зачем я затеяла эту историю?»
И между тем уверенно, почти шаловливо, стучала у двери
№24.
Открыл ей молодой человек, всегда благоговевший перед
Анной.
Изумленный, даже отступил назад... Как?.. Она?.. У него?..
Анна нервно, много смеялась.
— Здравствуйте, друг мой... это случайность... Я шла, друг
мой... Вот орхидеи... Уф... как к вам высоко!..
Молодой человек менялся в лице.
На столе он разложил книги и какие-то рукописи. Со стен
улыбались в рамках чопорные дамы времен Директории. В окно
и * 323
бились голуби, видимо прирученные. Здесь было убого и
вместе как-то особенно симпатично. Сумерки смягчили все линии.
Анна снимала свою скромную шляпу перед зеркалом.
Говорила невозможную ерунду. Была сильно взволнована. Она
думала о Георге и даме с перьями... Они теперь вместе... пьют чай...
шутят...
Рассудок крикнул последний раз: «Владей собою... будь
горда...»
Но другие чувства уже подхватили ее. Спросила
неестественно живо:
— У вас есть телефон?
— Конечно... конечно...
— Я сейчас побегу поговорить... 182... Мне нужно 182...
И она почти убежала.
«Она меня любит, — подумал молодой человек, — я еще
никогда не видел ее такой возбужденной».
Потом он бережно поставил орхидеи в воду и сел, закрывая
лицо руками.
Анна звонила по телефону, дрожа от нетерпения.
— Аппарат не работает, — ответила в трубку барышня.
— Вот как!.. Благодарю вас...
Значит, он, Георг Ионас, вынул умышленно штепсель.
Вернулась еще более бледная и села рядом с молодым
человеком.
— Вы можете теперь говорить мне все, что хотите, — сказала
она, — я разрешаю вам это.
один ДЕНЬ
Ветер рвал голубые афиши у входа в театр. Я постояла здесь
и прочла, что идет у нас, — «Веселая смерть» Евреинова с
участием Гузиковой. Значит, она выздоровела?.. Сердце мое
забилось. Я ненавижу эту женщину больше, чем люблю ее мужа.
Ветер буквально сносил меня с ног. Солнце резало глаза.
Слишком длинная и старая моя юбка промокла снизу. А входить в
театр мне все не хотелось.
Меня окликнули. Федоров. Бездарный актер, но самый
симпатичный в труппе.
— Отчего вы не приехали вчера в «Московскую»? —
спросил он, здороваясь.
Нос у него покраснел и волосы вылезли из-под шляпы.
— А что там было? — полюбопытствовала я, зная ответ.
324
— Да ничего. Эрдман угощал ужином. Долго засиделись.
Гузикова пела шансонетки. Потом не хотели платить по счету.
Поскандальничали. Вот и все.
— Ага! Ну, значит, все обстоит благополучно?
— Как видите.
Он открыл дверь, и пришлось войти. Сначала я
поздоровалась с кассиршей.
— Ну что билеты?.. Идут? — спросила я, хотя мне было
безразлично.
— Ничего, идут, — процедила она.
Дальше комик разговаривал с Гузиковой. Она была пестро,
нарядно одета и курила. Серые красивые глаза враждебно
встретились с моими. Мы еле-еле поклонились.
Я отдала старый жакет служителю. Буфетчик и
заведующий вешалкой шептались о чем-то.
В дамской комнате голоса женской прислуги. Сверху
слышится рояль. Там репетируют. Комик доказывал, что кабаре не
может существовать в глуши.
— Местная публика любит драму, оперу, лекции, —
горячился он, — а мы — кабаре... «Веселая смерть»... «Страница
романа»... Да не нужно им этого... не нужно!..
— Слышали, Петя... брось... — крикнули ему, — раздражает...
Я пошла за кулисы, боясь спросить, где Гузиков. Режиссер
Эрдман ругался с механиком. Ворот его тужурки был поднят,
рыжеватые длинные волосы растрепаны. Он крепко поцеловал
мою руку.
— Ох, солнечная Регина!
Отпустил механика, сел на табуретку и раскачивался. Его
громадные водянистые, невеселые и нахальные глаза загорелись.
— Ну, что же, рыбка, когда мы поедем ужинать? А?
Я отрезала умышленно грубо:
— После дождичка в четверг... дожидайтесь... вот так взяла
и поехала.
Он расхохотался, потом зевнул и потянулся.
— Д-да... такие-то дела... Со временем вы меня поймете и
оцените... Дьявольская вы женщина, неумолимая женщина,
глупая женщина... Ведь все ваше достояние — хорошенькая
мордочка... и только... да... как актриса же вы ничего не стоите...
Нужно всегда говорить правду...
Я молчала и думала о Гузикове. Эрдман угадал мои мысли.
— Михаил Сергеевич вас спрашивал, — хмуро пробормотал
он, — кажется, хочет учинить вам допрос, где была вчера его
жена... Она сболтнула что-то... не знаю... была с нами в «Мос-
325
ковской»... Чудак... Если жена распутничает, с нею нужно
поступать двояким образом: или убить, или выгнать... середины
нет.
У меня кружилась голова. Еще немного, и я бы заплакала.
— Вы дадите мне два рубля? — попросила я нерешительно.
— Хорошо. Возьмите. Это только вам. Дела наши
отвратительны. Впрочем, кто пойдет в этот сарай, черт возьми!
Действительно, театрик имел жалкий вид. Мы все
ненавидели его от души. Ненавидели также и друг друга, а еще больше
ту грубую, жестокую публику, которая поднимала шум во
время представления, зевала, кашляла, критиковала и ругалась в
фойе.
Эрдман неожиданно спросил меня, когда я поступила на
сцену. Я ответила, что второй год. Рассказала о внезапной смерти
мамы в Ростове. Теперь я совсем одна-одинешенька. Это не
произвело на него ни малейшего впечатления.
— У вас неприятная фамилия... неудобная... Александрович...
Нина Александрович... Нет, это безвкусно, голубушка, —
проговорил он наконец и ушел.
Я потолкалась еще с полчаса. Потом кассирша дала мне два
рубля. Я слышала, как Эрдман, жалуясь на материальные
убытки, сказал:
— Господа, многие из наших товарищей питаются чаем.
Все пожимали плечами. Не новость!.. Хочешь, сам
раскошеливайся!
Когда я пришла к себе в меблированные комнаты, было
половина четвертого. Номер я занимала узкий, темный. По ночам
здесь бегали мыши. Я до ужаса боялась мышей. Я разогревала
вчерашний суп на керосинке и бессмысленно смотрела в окно.
Падали тяжелые сизые капли. Журчала вода по трубам. Снег
стаял местами с угля, сваленного около флигеля. Напоминало
шахматную доску. Blanc et noir*.
После супа я ела моченые яблоки с хлебом и скупо,
медленно плакала, глядя на свои прозрачные, бледные руки. Я
размышляла о том, что мое положение становится критическим.
Износилось белье, разорвались ботинки, не было ничего из
весеннего платья. Нищета разбивала меня. Я слабела, опускалась
и приходила в тупое отчаяние.
При маме жилось несколько лучше. Правда, мама имела
деньги не за работу, но... Господь с нею, так было
предопределено. Да, я знаю, я чувствую, я верю — предопределено. Благода-
* Белое и черное (фр.).
326
ря же маме я толкнулась на сцену, где — чужая. Господь с нею,
повторяю. Это тоже суждено, конечно.
Желая отогнать мрачные мысли, я легла и пыталась
задремать, но пришла горничная.
— Барышня, вас просят в номер девятнадцатый.
— Хорошо. Сейчас, скажите.
Я начала причесываться. Номер девятнадцатый занимал
журналист Рудов. Считался богатым жильцом, получал
множество писем, и к нему часто приходили дамы. Был он
круглый, белокурый, лысый, очень чисто выбрит и очень элегантно
одет.
.Я знала, чего он хочет от меня, и заранее привыкала к этой
мысли. А то, что это в конце концов случится, я тоже знала. Я
не боролась. Я давно перестала жалеть себя. Что-то умерло,
сломалось во мне, и никакая казуистика в мире не могла
вернуть мне самоуважение.
Сегодня Рудов встретил особенно шумно. Как всегда,
воскликнул:
— Почему вы меня избегаете? Почему вы не приходите?
— Я с чужими скучная.
— Милочка, да разве я чужой?
— Все для меня чужие.
Он суетился с чаем, вытаскивал конфеты, печенье, а я
внимательно рассматривала каждую безделушку. Мне здесь
нравилось. Было тепло, уютно. Обои, портьеры, ковер — красное.
Дорогие гравюры. В узких бокалах — цветы. К его окнам
прилетали голуби, разгуливали по уступу. Прилетели и теперь. На
панели блестел тончайший слой льда. Закатные огни, розовато-
желтые блики во всем и на небе. Как далеко и бесстрастно небо!
Что же? Пусть... Я ощутила обычную раздвоенность. Одна Нина
сидела, пила чай, слушала и отвечала, а другая ушла от себя, от
журналиста и от настоящего.
Рудов расспрашивал о театре. Мне было противно даже
говорить о нем.
— А вы пробовали еще что-нибудь, кроме сцены?
— Пробовала.
— Что именно?
— Была бонной... продавщицей... кассиршей... в фотографии
служила.
-Ну и?..
Я зевнула:
— Ну и ничего не вышло.
Он начал весело, вкусно смеяться. А я смотрела в окно, за
327
которым уже падали сумерки. Я так устала. Великий Боже, так
безгранично, полно, нечеловечески устала!
У меня ничего не было в голове и груди, кроме усталости.
Ни мысли, ни желания, ни озлобления — ничего.
Рудов чистил яблоко, качая головой. Потом заговорил
интимным тоном:
— Ваши дела плохи, голубка?
— К сожалению.
— Думаете ли вы о будущем?
— Нет, я ничего не думаю.
— Гм!.. Вам нужны деньги?
— Еще бы!
— Тогда возьмите у меня... Я — ваш друг.
Я несколько минут разглядывала круглый выбритый
раздвоенный подбородок. Рудов не был ни лучше, ни хуже тех
мужчин, которым я уже принадлежала. Как и те, другие, за деньги
требовал известных процентов. Но кто же дает деньги даром?
Смешно. И почему бы ему жалеть меня? Вдвое смешно.
— Благодарю. Я возьму.
Он вздохнул и сам начал мыть стаканы.
— Послушайте, вы ведь прехорошенькая... отчего бы вам не
выйти замуж:?
Я расхохоталась. Это было чересчур нелепо и забавно. И
главное — потому, что говорил он, Рудов, имеющий на меня
весьма определенные цели. Но я боялась обидеть его.
Поэтому я спросила бледно:
— Значит, я вам нравлюсь?
— Дорогая...
Тогда я отвернулась. Продольное большое зеркало
таинственно отражало меня и часть комнаты. Зеркала всегда
таинственны. Рыжеватые волосы, темные глаза, светлое платье.
Показалась слабой, чужой, странной. Послала себе самой немой
привет. Крепись!
И стало жалко чего-то, жалко до слез. Вечная Голгофа —
Голгофа без воскресения. Да за что же?
Да почему же так?
Журналист вдруг опустился передо мною на колени. Грузно,
некрасиво. Уловила одно только слово — «полюбите». Ах, это
убогое, обокраденное, ничтожное слово... хотелось зевать,
ежиться... И опять-таки не возмущение, не самозащита, а чудовищная
усталость во всем теле.
— Поймите, — бормотал он, — вы чудная, нездешняя,
особенная... вы маленькая принцесса...
328
Ох... эта ложь тяжелее оскорбления. Маленькая принцесса,
которую купят за десять рублей... Я отвела его руки с талии.
— Осторожнее... тут булавка... еще уколетесь...
Не знаю, зачем, собственно, я пришла вечером на спектакль.
Разве убить время. Сама не участвовала. Сбор был до
смешного мал — одни контрмарочники. Я сидела в уборной. Мне
доставляло жуткое, мучительное до сладострастия удовольствие
смотреть, как гримируется Гузикова. Она медленно
рассказывала какой-то циничный анекдот. Яркая нижняя юбка, тонкая
нарядная рубашка, голые напудренные плечи. Я физически
ощущаю свою ненависть к ней. Ненавижу за холодный разврат,
за холодное веселье, за холодное, сытое лицо, за растяжный
говор, за все, Господи... Она поправляла чулки так, что видно
панталоны. Меня затошнило. Я вышла и остановилась за
кулисами. Я не знала, что делать с собою.
Эрдман кинул мне мимоходом:
— Солнечная Регина, не томитесь здесь напрасно... Гузиков в
буфете...
Я пожала плечами и спустилась вниз.
Действительно, Гузиков закусывал. Он был чуточку пьян и
очень бледен. Мои милые, родные, измученные глаза! Я долго
смотрела на него. Спектакль кончится, его жену увезут
ужинать, а он будет ревновать, мучиться и унижаться.
— Михаил Сергеевич, —сказала я, — проводите меня домой.
Он, балаганя, согласился. Говорил мне какие-то дурашливые
комплименты.
И потом мы ушли.
Лакеи смотрели вслед нам. Ночь была темная, сырая. Ветер
свирепствовал, как и утром. Он взял меня под руку, а сам
придерживал шляпу. Мы чуть-чуть толкали друг друга и молчали.
Любовь томила меня. Может быть, нужно было
пожаловаться?.. Нужно было сказать, что я люблю его до смерти?.. Я не
умела. Я не знала.
— «Как-то странно и больно мне жить без тебя...» — напевал
Гузиков.
На повороте он вдруг быстро и внезапно распрощался. Он
торопился обратно, в театр. Едва ли он соображал, что
оставляет меня одну на дороге. Я и тут ничего не сказала. Я дошла до
дому, никого не встретив.
В постели жестко, холодно. Думы вереницей, думы. Какие
слабые руки... Кому нужны они?
329
Какие странные сны... Кому рассказать их?.. Какие нежные,
ласковые слова... Кому шепнуть их?
И тоска без границ, без предела, мертвая тоска.
ПРАВДА
Видишь, я знаю, что поступаю жестоко. Я ухожу и
оставляю тебя одну. Тебя, такую слабую, беспомощную, бесконечно
нуждающуюся в ласке. Тебя, которая плакала часто, редко
смеялась и волосы которой отливали золотом. Я люблю тебя!
Слышишь? Перед смертью я особенно громко повторяю это. Я
люблю тебя! Несмотря на муку последнего месяца, счастлив,
встретив тебя. Я бы и половины не испытал того, что ты дала мне.
Теперь я хочу объяснить тебе, почему я умираю. Я не
положу на твои хрупкие плечи страшной тайны, не заставлю
терзаться вопросом: «Почему он оставил меня одну?»
Нет, малютка, ты не заслужила подобной жестокости.
Ясно слышу умоляющий голос: «Бруно, спокойнее... Бруно...»
Я спокоен, дорогая.
Вчера в сумерках ты постучалась ко мне...
— Кто там?
— Девочка Викта.
О, как это вышло у тебя печально, бесконечно печально, твоя
шутка!
Я долго рассматривал тонкое, исхудалое, почти прозрачное
личико, усталые, расширенные бессонницей глаза, лихорадочно
пылающий рот. Белое платье и косы делали тебя действительно
девочкой. Как ты сгорела... изменилась... мой несчастный
ребенок!
Я едва не крикнул:
— Забудь все... это была злая шутка... помиримся...
Но мы не ссорились, великий Боже! Мы просто слишком
близко подошли друг к другу, слишком пытливо заглянули в
наши души, увидели там много скрытого, погребенного и
захотели воскресить мертвецов. Зачем мы одели нашу любовь в
траур? Ах, я напрасно говорю «мы», я — один, только я —один.
Не вини меня. Ревность — вне рассудка. А я ревновал тебя ко
всему, в чем я не участвовал. Я хотел быть с тобою и в
прошлом. Я хотел стереть, уничтожить в твоем сердце все имена,
кроме моего. Я был слишком самонадеян. Хотел сотворить чудо.
Хотел здесь, на земле, быть единым, ты — во мне, я — в тебе.
Все знать друг о друге... все! Я думал, для полного счастья недо-
330
статочно только любить. О, если бы сердце, чуткое, правдивое
сердце подсказало мне!
Человек должен быть одиноким и скрытным. Мы еще не
нашли тех слов, которыми могли бы обмениваться без боли.
Лишь после смерти мы станем понятными друг другу, познаем
правду.
Твое прошлое. Оно представлялось мне загадочным. Я
рвался к нему. До того как мы очутились вместе, я мало знал тебя.
Зато много о тебе слышал. О тебе везде и охотно злословили.
Мое любопытство, однако, поглотилось чувством при
первой встрече. Я потерял голову. Ты поступила как женщина,
которая любит. Ты пришла ко мне не женой, не сестрой, не
любовницей, а частицей моего «я». Ты не могла жить без меня.
Ты пришла. Ты ничего не спрашивала и никого не боялась.
О, как зло, как грубо заплатил я тебе за доверчивость!
Зачем мне понадобилась твоя исповедь? Зачем я пожадничал на
последнее сокровище твоей ограбленной души? Я не знаю.
Есть ужасные мысли, они впиваются в сердце и образуют
там гнойную рану. Они неуловимы, неотступны. И такая мысль
посетила меня.
Прошлое Викты. Я хочу знать ее прошлое!
Верь мне, я боролся. Я плакал ночами. Я так боялся. Я
чувствовал, что это должно убить тебя. Ты защищалась отчаянно.
Изнемогая в нравственной борьбе, ты молила о пощаде. Ты
умоляла... молчанием. О, эти недели, эта мука!..
И вот вчера мне показалось, что сейчас все решится.
Дальше томиться было немыслимо.
Мы дошли с тобою до экстаза тоски, до экстаза страдания.
Это нужно было прекратить.
— Расскажи же о себе, Викта...
Впервые твоя бледность не тронула меня. Я катился вниз.
Я слышал, как билось родное сердце.
— Все рассказать?
-Да.
Ах, не думай, не думай, что я был спокоен. Я страдал,
колебался, готов был подсказать тебе решительный протест.
Ты осталась покорной. Так кротко, полно, так безнадежно
покорна.
— Девочка Викта.
По моему тону ты увидела, что отступления нет.
И тогда спокойно, почти равнодушно, как больная врачу, ты
рассказала о себе правду. Все рассказала. По крайней мере то,
что вмещалось в слова. Женщина бывает смела.
331
Стараясь подражать тебе, я слушал тоже равнодушно,
изредка ронял:
— Да, Викта... Хорошо, Викта...
Наконец ты заплакала. Ты не решалась положить голову
мне на грудь. Ты осталась в кресле, затушеванная сумерками. Я
слышал твой плач, но что-то мешало мне обнять тебя. О,
прости, я никогда не лгал лаской! Я не мог, я думал о тех поцелуях,
которые умерли на твоих губах.
Мы долго молчали, то было нехорошее молчание. Твоя душа
(не ты, а твоя душа, Викта) не прощала мне насилия. Я не
прощал прежней слепой веры в тебя.
Девочка Викта, моя девочка с белокурыми косами...
Я унизил тебя. Страшно унизил.
Я почувствовал облегчение после твоего ухода. Да, словно я
сбросил с груди громадный камень. Я сжимал голову.
Примириться? Не значит ли это махнуть рукой? Забыть? Не значит ли
любить чересчур спокойно? Нет, нет, нет!.. И все во мне
кричало: нет!..
Потом, кажется, я еще философствовал. Я вспоминал
литературу по этому поводу.
Я уснул, придавленный несчастьем.
Сегодня за утренним кофе мы встретились напряженно.
Грубый стыд исказил наши улыбки. Мы болтали вздор, чтобы
заглушить важное. Мы лгали. Мы стали чужими, едва не
враждебными.
Когда ты вышла на прогулку, я из окна наблюдал за тобою.
Безобразная, отвратительная подозрительность родилась во
мне. (Я осмеливаюсь писать это, ибо я не остаюсь с тобою,
Викта... ты должна знать все...)
Я подумал: «Сказала ли она правду до конца? Не утаила ли
чего? Было ли только прошлое, а если... и теперь?.. Куда она
ушла?»
Прости, прости!.. Я — чудовище, я — циничен, груб без
меры...
И ужаснулся тогда и своим мыслям, и тому, что должен
жить с тобою вместе.
Я не мог уже остаться с тобою здесь, пойми... То всегда
стояло бы между нами, то не забывается, не умирает. Возможно,
женщина простит, но мужчина не может простить.
И когда я твердо обдумал вчерашнее, мне показалось
нетрудным уйти от тебя. Ведь оставаясь жить, я бы все равно замучил
тебя. Ты возненавидела бы меня... ты, любившая так много...
Я превратил бы каждый наш день в годы муки.
332
Нет!
Я говорю, я кричу: нет!..
Я не умею рассказать тебе, как нежно, пылко и
стремительно я любил тебя. Если бы мне пришлось писать вечность, я
ничего не прибавил бы к этому. Но я думаю утешить тебя,
повторяя «люблю» и перед смертью. И ты не должна предаваться
отчаянию.
Так нужно. Так только можно искупить все зло, которое я
причинил тебе.
ПРИЗНАНИЕ
Молодая монахиня принесла пакет нового белья. Положила
его на прилавок, говоря устало:
— Вот... Здесь все, панна Ядвига...
— А! Это вы, сестра Тэкла... одну "минуточку... присядьте,
пожалуйста... Я скоро запру магазин... Мы поужинаем вместе...
Сестра Тэкла рассеянно улыбнулась. Она присела,
перебирая четки. Она выглядела очень измученной.
Панна Ядвига считала за конторкой. На черном переднике
позвякивали ножницы, карандаш и ключи.
Говорила радостно:
— Мы продали сегодня два распятия... из дорогих... Одного
Антуана Падуанского... несколько «Непорочных Зачатий»...
А уж молитвенников... я счет потеряла... Слава Всевышнему!
Что вы скажете, сестра? А?
— Слава Всевышнему! — эхом откликнулась монахиня.
— Я думаю, — вздохнула панна Ядвига.
Ее полные щеки дрожали от довольной улыбки.
Здесь продавались религиозные книжки, статуэтки, образки,
серебряные медали причастниц, сувениры различных
паломничеств. Еще издали в глаза бросалась своеобразная витрина. Ах,
трогательная, наивная, полная детской веры витрина, где
молились святые, летали ангелы, пылало сердце Иисуса и шла
задумчиво среди мистических лилий Дева Мария.
Внутри было светло, чисто. Ряды распятий, бесчисленное
количество пап, кардиналов, мучеников напоминали церковь.
В ящиках под стеклом хранились разнообразные четки. Если
луч солнца попадал сюда, то все эти голубые, красные,
золотистые, перламутровые нити переливались и искрились. А когда
рука вынимала их, то они мелодично звякали, словно еще
продолжали шептать «Ave».
333
В открытую дверь виднелась площадь, собор, цепь домов и
магазинов.
К вечеру число прохожих заметно увеличилось. Красные
лучи легли по одну сторону улицы, другая оставалась в тени.
Деревья осыпались, и было странно пусто кругом собора.
— Михал пишет, что он доволен местом, — так же радостно
продолжала панна Ядвига, — он в великолепном настроении
духа. Ему, однако, придется выслать еще денег... не хватает...
Боже мой, жизнь так дорога!
-А!
Сестра Тэкла выпрямилась. Смотрела широко раскрытыми
жадными глазами на панну Ядвигу.
Та запирала ящики, убирала гравюры, папки, книги.
— Значит, ваш брат здоров? — пролепетала монахиня.
— Совершенно. Вы напрасно о нем беспокоились, сестра...
Как я испугалась сейчас... Я думала, что потеряла Магдалину.
Нет, вот она... Подумайте, я засунула образок в счета...
Смешно. Так устаешь за день... ничего потом не соображаешь...
Они болтали вздор. Потом Ядвига заметила:
— Михал просил вас беречь себя, сестра Тэкла... Он советует
меньше переутомляться... Я писала ему, что после его отъезда
вы совсем расхворались...
— Он советует?
— Да. И очень внушительно. Как видите, он не забывает
старых друзей.
Панна Ядвига добродушно смеялась. Ну, положим, не он
один любит сестру Тэклу. Она и Зося тоже с ума по ней сходят.
-О!
Монахиня слабо улыбнулась.
Панна Ядвига экспансивно обняла ее:
— Немного веселее, сестра... Господь Бог не любит, когда мы
печалимся... жизнь славная штука... Идемте, сестра... Зося,
вероятно, заждалась нас.
На улице они производили сенсацию. Монахиня шла
замкнутая, холодная, с опущенными глазами, белый убор слегка
трепетал на ее голове. Нежное, красивое лицо побледнело в
осенних сумерках.
Панна Ядвига шумно вздыхала. Нет, это нестерпимо... на
них все оглядываются... Этакий безбожный народ... Впрочем,
она улыбалась глазами. Вероятно, ворчала для формы.
Наконец они завернули за угол. Кофейная, chambres garnies*,
* Меблированные комнаты (фр. ).
334
а вот и их дом. Скользнули в ворота. Потерялись во дворе, как
в бездне. Подымались по узкой, крутой, темной лестнице.
Монахиня бормотала молитву. Она согнулась, словно на нее
навалилось что-то.
— Мне кажется, я упаду скоро, — отдувалась панна Ядвига.
В квартире было нарядно, почти богато. Вышла навстречу
панна София, худая, некрасивая, жеманная. Долго обнимала
монахиню.
— Как вы давно не были у нас, сестра... Мико, гадкая
собачонка, перестань лаять!..
Суетились. После улицы здесь казалось так тихо. Сейчас же
спустили шторы. Сверкнула электрическая лампочка. Блестел
серебряный кофейник, позвякивали ложечки о чашечки. Лица
сестер сияли. Они кротко улыбались. Сытые, безмятежные,
довольные. Вся жизнь прошла ровно. Ни одна пылинка скорби
не коснулась их. Они смело могли требовать от других
безупречности. Ведь жить, по их мнению, было так легко и
приятно!
Монахиня тоскливо оглядывалась.
Дубовый буфет, стулья с высокими спинками, а там дальше
дверь в комнату уехавшего.
Долго с вниманием отчаяния смотрела на нее.
Уронила бледно и как будто равнодушно:
— Вы сдадите комнату пана Михала?
— Да... да!.. Конечно!
Сестры говорили в один голос. Три комнаты для них
много... они ведь не миллионерши... расходы... Михасю также
нужно помогать...
Девушки восторженно вспоминали брата:
— О, он будет человеком... этот будет... Иезус-Мария, какие
он только штуки выкидывал!
Женщины сходили с ума... просто не давали ему покоя,
глупенькие... лезли даже сюда, прямо в квартиру... Ну, ничего,
Михась образумится. Вероятнее всего, он женится на младшей
Агницкой, белокурой... Да... прекрасная девушка...
Монахиня сжимала четки. Ее лицо приняло суровое,
страдальческое выражение. Она походила на статую скорби. Не
проронила ни одного слова.
— Сестра Тэкла, вам нездоровится?
— Да, немного.
Пусть они не беспокоятся. Покорно последовала за
девушками в комнату Михала.
Там все оставалось по-прежнему, только узкие зеленые бо-
335
калы стояли без цветов — мелочь, больно, насмерть ранившая
монахиню. Последняя капля в чаше горя.
Сестра Тэкла залилась слезами.
Она твердила среди исступленных рыданий:
— Я так любила его!.. Я так любила его, милосердный Боже!..
Сестры онемели от ужаса. Им казалось, они видят бездну
перед собою. Как, эта монахиня?.. Чудная, чистая, гордая
сестра Тэкла... Возможно ли? Уж не дьявол ли соблазнил их? Что
сказал бы ксендз Окшевский?..
Панна Ядвига готовилась сама заплакать. Панна София
поджала тонкие губы.
Она чуточку, полубрезгливо коснулась плеча монахини:
— Сестра Тэкла, это неприлично... успокойтесь...
Панна Ядвига лепетала что-то невнятное. Нет, конечно,
сестра Тэкла ошибается... ей только кажется так... она не любит
Михася... она просто привыкла к нему... Михась так шутливо
относился к их дружбе...
— И мы никому не скажем, сестра...
— О, никому, — с достоинством подтвердила панна Софья. —
Мы не хотим компрометировать вас... нет... нет...
Панна Ядвига принесла воды. Панна Софья, поджимая губы,
шептала слова утешения. Звучало как выговор классной дамы.
Монахиня уже не плакала. Она словно постарела за эти
минуты. Она шокировала девушек своим тупым горем. И потом
она оглядывалась... с таким раздирающим видом
оглядывалась!..
Да, конечно, они не выдадут сестру Тэклу. Она могла быть
совершенно спокойна, но зеркало их дружбы разбилось. Они
перестали уважать ее. Они смотрели на нее сверху вниз. Она
как бы стояла перед ними без монашеской одежды, обыденная
и жалкая. Они не могли ни понять, ни простить.
Сестра Тэкла поняла.
Встала холодная и замкнутая перед своими судьями.
— Ну, до свиданья!..
Ее не удерживали.
ИСПОВЕДЬ
Обе они стояли на лестнице. Одна в розовом платьице и
соломенной шляпе, другая в белом и кружевной Charlotte.
По-видимому, они находились в затруднении.
Наконец первая сказала:
336
— Послушай, ты мне ручаешься, что он именно такой!
— Какой? — беспокойно переспросила вторая и широко
раскрыла синие кукольные глаза.
— Ах, внимательный... интересный!
— Ксендз Ярташевич очень интересен. Я говорила тебе это
сотни раз.
— И ему нужно рассказать на исповеди все... с деталями?..
-Все.
— Клянешься мне, Юльця?
— Клянусь.
— И он сам задает вопросы?
— Сам.
— Ах, Боже мой!.. И все время приходится краснеть?
— Да, милочка, если у тебя есть хоть капля совести.
— За кого ты меня принимаешь? И ты думаешь, я могу
рассказать ему то, что вчера тебе?
— О!.. О!.. Если ты не боишься...
Они внимательно глядели друг на друга. Соображали что-то.
Таинственно и мечтательно улыбались.
— Да, я решусь... — пробормотало розовое платье, — я
люблю до смерти пикантности. И наконец, это серьезно... Меня
мучит совесть... Вдруг я умру внезапно?
— Все возможно, — серьезно согласилась вторая.
— И потом, приехать в костел с дачи...
— В такую жару.
— Да, в такую жару.
— Переволноваться...
— Ну, еще бы... Я страшно волнуюсь... Попробуй, как у меня
бьется сердце...
— О... я тоже... Мне страшно за тебя, Женни...
— Ничего, все пройдет благополучно, — мужественно
успокоила ее та. — Милочка, я бегу...
— До свиданья, дорогая, ты, конечно, потом расскажешь мне
результаты?..
— Конечно. Как ты можешь сомневаться? A demain, chérie*.
— A demain, mignonne**.
Они побежали. Одна наверх, другая вниз.
— Отец мой, я погибла...
— В чем дело, дитя мое?
— Отец мой, я буду осуждена навеки...
* До завтра, дорогая (фр.).
** До завтра, милочка (фр.).
12 Анна Map
337
— Вы не должны решать за меня. Дальше!
— Я грешила.
— Ну конечно... иначе вы не были бы здесь.
— Я люблю, отец мой.
— Любить не запрещается, если любовь на христианских
началах.
-Да, но...
-Но?
— Я не понимаю вашего молчания.
— Но... Андрей и я... мы любим друг друга...
— Отлично. Дальше, дитя мое!
— Мы позволяем себе... Вы понимаете, отец мой?
— Нет, я ничего не понимаю. Пожалуйста, короче.
— О, я не могу ведь рассказать все... Я сгораю от... стыда.
— Отлично. Дальше!
— Он целовал меня.
— А! Много раз?
— Всегда.
— Отлично. Это грех, дитя мое, и вы не должны повторять
его.
— Он говорил мне ужасные вещи.
— А! Большой грех. Женщина должна быть стыдливой.
Дальше, дитя мое!
— Я его невеста... Поэтому... он... я... иногда... Ах, отец мой!
— Отлично. Вы скоро поженитесь?
— Я не знаю. Все зависит от его государственного экзамена.
— Вот как?! Нужно молиться. Молитесь за него усердно.
Он перешел к другим грехам. Розовое платье покорилось в
неодобрительном удивлении.
Она чинно вошла в комнату подруги. Ее лицо выражало
сильнейшее негодование.
— Юльця, это нечестно с твоей стороны.
Кукольные глаза смотрели на нее тревожно.
— Что случилось?.. Ох, не пугай меня...
— Но ты солгала мне. Этот ксендз... О!.. О!.. О!.. Он с небес
свалился твой ксендз, милочка... Он решительно ничего не
понимает в женской душе. И потом, он на все отвечает «отлично».
Я не знаю, зачем ты, собственно, подвела меня.
— Как?.. Ни единого вопроса?
— Ни единого.
— Честное слово?
338
— Честное слово.
— Боже, какая неудача!
Расстроенные, они призадумались.
Потом наконец Юльця сказала возмущенно:
— Ну, знаешь, если он не задает вопросов, я бы сама ему все
рассказала... да... назло... Какая ты недогадливая, Женни.
ГОРЕ
Так странно было: вчера все темное, мокрое, зябнущее, а
сегодня белое, нежное, трогательное в своей недолговечности.
Ведь снег снова растает... Это первый снег...
Ада смотрела на улицу, забывая рукоделие. Ныло сердце.
После бессонной ночи в голове пустота, неясность. Беспокойно
ждала мать. Ее позвали к нижним квартирантам. Еще на
рассвете там суетились, передвигали мебель, хлопали дверьми.
Неужели получена телеграмма?
Однако не вздрогнула, не закрыла лицо руками, как делала
это позавчера, третьего дня. Будь что будет. Даже нет, просто
не было мыслей. Лед, холод в душе.
Мысленно перенеслась в нижний этаж. Там три комнаты.
Нарядные, уютные, с цветами и роялем. Две женщины, сестры.
Красивые, глупые, ленивые. Встают поздно, едят целый день,
сплетничают. Сплетничают с восторгом, захлебываясь,
разгораясь, сплетничают виртуозно. Носят пышные, безвкусные
платья, любят романы, оперетку и, когда проходит мимо окон
мужчина, провожают его любопытным взглядом. Высказывают
предположения, смеются. Зубы ровные, хищные, рот такой
спокойный, чувственный, без единой складки горечи. Вечером сестры
уезжают куда-нибудь, чаще в гости, а вернувшись, засыпают
спокойно и не видят снов. А если и увидят, то больше насчет
съедобного. «Я сегодня малину ела». — «А мне торт Иванов
поднес». Так живут в нижнем этаже две женщины; но есть еще
третий человек, к ним причастный, им близкий, хотя теперь он
далеко. Человек этот — муж старшей сестры, адвокат
Плещеев, и работает он бешено, не по силам, чтобы два милых
создания спали крепко, без снов. Теперь заболел. Тяжко. Может быть,
не встанет. Заболел в столице, там и слег, но к нему не едут ни
жена, ни свояченица, так как есть телеграф и русское словечко
«обойдется».
И об этом человеке, одиноком, больном, несчастном,
думала Ада. И думы были тревожны, пугливы, мучительны.
12 *
339
Вспоминала...
Короткие, редкие встречи. С его стороны сухие, вежливые
фразы, усталый взгляд... Скользнули раза два участливые ноты,
но так... еле заметно. Возможно, их совсем не было. Просто
почудилось. С ее стороны — молчаливое, тайное обожание.
В груди трепетало, рвалось и«есмело молило что-то необъятно
большое, яркое, выстраданное и гасло без ответа. Ему ничего не
сказала. Да и что сказать? Любит?.. Ну, да, да, любит безумно,
отчаянно, любит до боли, но ведь чужого, несвободного.
Другой отдан, и та, другая, дороже для него всего на свете.
Жалости попросить? Быть может, и попросила бы, если бы
верила, что откликнется. Утешалась: «Живу в одном городе,
дышу одним воздухом, вижу, слышу... это ли не счастье?» Сама
не была избалована. Жизнь устроилась нудно, скучно. В
детстве суровый отчим, гнет матери, потом гувернантство,
наконец замужество. Мать теперь по-прежнему всем
распоряжается, муж поглощен службой. И когда пришла любовь,
несчастливая, но яркая, покорилась ей с восторгом. А в том, что была
тайна, молчание, мука и безнадежность, находила свою жуткую
радость.
Потом он уехал в столицу. Начала ждать. Вот так садилась к
окну, вышивала или вязала и ждала: «Через три месяца
вернется». И чувствовала себя девушкой. Когда же он заболел — не
поверила. Не могла поверить. Придумывала тысячу предлогов
приходить к его жене, даже по нескольку раз в день. Узнавала
каждую мелочь, бледнела до губ при виде почтальона, не ела, не
пила, не замечала ничего окружающего. И только не плакала.
Молчала. Но в конец, смерть, не верила. И дни тянулись годами.
Хлопнула дверь на парадном. Мать вернулась. Слышно, как
взволнованно распоряжается:
— Глаша... завтрак готовьте скорее... Сейчас квартирантки
придут.
Ада замерла. И знает — горе, и не знает. К сердцу прилило
что-то жуткое, темное, страшное. Засосало. Боль такая, что
крикнуть хочется.
И знает — горе, и не знает.
— Несчастье, Ад очка... Плещеев скончался.
Дочь взглянула на старческое озабоченное лицо прямо, не
дрогнув.
— Умер?
— Да, ночью... Сейчас Лидия Петровна на вокзал едет...
Телеграмму на рассвете получили... шум-то подняли... Это они
укладывались...
340
— Телеграмму получили?
— Ах, Боже мой, ну да... какая ты бестолковая, Ада... Они у
нас сейчас кофе напьются... им ведь, бедняжкам, не до того...
Вот горе-то!..
Суетилась.
Ада молчала. К рукоделию склонилась. Лица не видно.
Чистую скатерть постлали, новый сервиз. Побежала Глаша
за маслом и сухарями.
Мать кидала серые, приторные слова. Все люди смертны...
ничего не поделаешь... смиряться нужно... Вон Ад очка иногда
капризничает, а стрясись беда...
— Ты отчего зеленая сидишь? Мигрень?
— Да, мама...
— Ты будь с Лидией Петровной поласковее... вдова теперь...
У нее доброе сердце...
В ушах Ады шум... всю качает. Сон или явь? Где же она, в
самом деле? Ах да, в столовой, за рукодельем... Только бы не
зарыдать... только бы не крикнуть...
Он умер... умер... То есть как умер? Да нет его, нет в целом
мире... нигде не отыщешь... никогда...
— Ада, я думаю, для завтрака достаточно... кофе, сыр,
масло... Или закуски раскупорить?
— Не знаю.
Мать рассердилась:
—Датебя, положим, не спрашивай... ничего не знаешь... Чужая.
Правда. Вот это правда. Здесь она чужая.
Звонок. Глаша метнулась. За нею старая барыня. Она очень
растрогана.
Ада поднялась. Упаду?.. Нельзя падать. Нет, не упаду.
Вдова пришла.
Его вдова.
Она одна имеет право кричать, биться, рыдать — ее никто не
осудит. Только одна она.
Лидия Петровна заплакана, напудрена. Свежее платье,
свежая прическа. Не забыла подушиться. Сестра грустна. Еще в
светлом. Темного нет.
— Ада Николаевна!
Обнялись. У вдовы мелкие слезинки. Кого жаль? Себя,
покойного?
— Боже мой, такое несчастье... ужасно! — стонет сестра.
Ада бормочет что-то невнятное. Ее мать вытирает глаза. Вдова
плачет несколько минут. Сморкается, кашляет. Боится, что ей
будет нехорошо в поезде.
341
Сели к столу. Глаша вошла — ушла. Лицо почтительно-
скорбное. Дамы, кроме Ады, говорят вполголоса. Словно
покойник здесь, в доме. Рассказывают подробности его смерти.
Воспаление легких. Если бы не переутомление, истощение,
возможно, поднялся бы.
Телеграмму вторично прочли.
— Я совсем голову потеряла, — шепчет Лидия Петровна, —
я на ногах не стою.
По ее словам, им придется жить в Петербурге.
Послали рассыльного взять билеты и отправить багаж.
Ада смотрит на них. Он умер в полночь. Что было с ней в
полночь?
Ничего особенного. Вернулась из оперы. Муж шутил...
просил волосы заплести в косу...
— Ты на Маргариту похожа.
Потом ласкал... Ох, пошлость, гнусность, бездна!..
И не болело сердце?.. Не болело.
— Адочка, очнись, — говорит мать. — Лидия Петровна
спрашивает.
Что спрашивает? Ответила наудачу.
Наконец сестры поднялись. Снова вдова слегка плакала,
снова мать Ады утешала.
— Никто, как Бог... все в руках Божьих...
В передней Лидия Петровна добавила:
— Тетя Маша хочет венок прислать, а я советую к весне...
тогда и памятник уже будет.
Мать провожает на лестницу. Ада возвращается.
Кругом все так просто, обычно... Недопитый кофе, белая
скатерть, крошки...
Тикают часы.
А за окном снег.
ДУРМАН
— Добрый вечер!
Вера оглянулась. Он мог теперь видеть молодое, красивое,
сильно напудренное лицо и очень яркие губы.
— А, это ты... Как я испугалась!
Держала фантастическую шляпу из кружев, перьев, цветов
и, высокая, стройная, отражалась в большом зеркале. Горели
свечи. Со стола еще не убрали фрукты, чай, печенье, сыр. Было
жарко и беспорядочно кругом.
342
Борисов сел, распахнул промокшее пальто, бледный,
взволнованный.
Ждал вопроса. Дышал тяжело, некрасиво.
Вера начала резким тоном:
— Зачем ты пришел? Что тебе нужно? Ведь сказано же было
раз навсегда: кончено, кончено, кончено!
Он пожал плечами. Отчеканил:
— Я от Павла. Просил передать тебе также: кончено,
кончено, кончено. Он пресытился. Ищет новых впечатлений. Ты не
нужна ему больше. Я согласился быть посредником, ибо
люблю тебя. Ты знаешь.
— Повтори... Что?! Что?! — крикнула Вера.
Швырнула шляпу, метнулась, села, впиваясь черными
блестящими глазами. Вся дрожала. Золотистое платье поднималось
на груди, и вместе с ним трепетали алые гвоздики.
— Повтори... повтори...
— Павел бросил тебя. Он ужинает сегодня с Таней Гуревич.
И подал мне великолепную мысль рассеять тебя. Да, так
именно и выразился: «Рассей ее. Вера потоскует недельку, потом
утешится. Всегда возвращаются к первой любви». Он меня
подразумевал, конечно...
— Павел?! Павел?!
— Ну, да он же... никто другой.
Засмеялась.
— Браво! Смеешься. Значит, не все потеряно.
Вера молча стиснула руки. Голову на них уронила.
Он видел черные волнистые волосы, белую полоску
пробора, слышал запах косметики, духов и внутренне злорадствовал:
«А, не сладко... так тебе и надо. Получай!»
И сердце в нем ныло.
— Куда же ты, собственно, собралась? — враждебно
осведомился.
Ответила глухо, угрюмо:
— Как куда? В «Метрополь». Павел еще вчера пригласил.
Уж не думаешь ли ты, что я теперь перестану появляться в его
обществе?
Борисов глумился. Молодец Павел!.. Не стесняется. Дал
отставку, а потом еще зовет на ужин. Иди, дескать, погляди, как я
другой улыбаюсь. Да, молодец. Таких-то любят женщины.
— В таком случае, Вера, едем вместе.
Глядела на него, словно не видела.
— А ты при чем здесь?
— Как при чем? Я и ты... мы составим отличную пару... Па-
343
вел и Таня тоже милые люди... Ну и Сафоновы... Келлер...
Будем пить... хохотать... забудемся...
Так как она молчала, то продолжал, насмехаясь:
— Ты ведь не захочешь расстроить вечера? Все увидят, как
ты спокойно переносишь разрыв с Павлом, и он будет доволен.
Он говорит, что сохранит о тебе наилучшее воспоминание.
Разве недостаточно?
— Вполне достаточно.
— Ну вот... хорошее воспоминание!.. Я думаю... ты в его
собачонку обратилась. А в сущности, ты всем мне обязана... даже
как платье носить, двигаться, улыбаться, говорить... Я тебя
выучил... я... не он... Павел пришел на готовое. Да-с. Ну, кто старое
помянет... Одевайся!..
Вера еще сильнее побледнела:
— Ты думаешь, я вернусь к тебе?
Усмехнулся:
— Павел сказал. Я не знаю.
-А!
Ее силы упали.
Борисов потянулся к чашке.
— Умираю от жажды... спешил, как полоумный... весь в поту...
так и простудиться легко... Хотя бы околеть, в самом деле. Было
бы легче.
Она вдруг судорожно зарыдала:
— Что мне делать? Ах, что мне делать? И почему он сам не
сказал, а через третьи руки? Почему он не пощадил меня?
Зачем он тебя вмешал? Передал, как вещь... как тряпку... взял и
передал другому... Боже!.. Боже!..
Борисов говорил, путаясь, задыхаясь:
— Вера, нужно примириться... ничего не поделаешь... Если ты
закатишь скандал Павлу, ты его больше не увидишь — вот и
все... Поверь, он сумеет отделаться от тебя. Ты была его самым
долгим капризом, утешься... А не удержала — твое дело. Я
предостерегал еще вначале. Ты приглашена на сегодня. Ясно,
Павел не сердится. А теперь баста. Одевайся. Нам пора.
Она не унималась, рыдая как безумная, и он добавил
раздраженно:
— Не реви, пожалуйста. Я пришел не за этим, надеюсь.
Павел сказал: «Пусть Вера идет навстречу твоим желаниям». Да,
он сказал так... Понимаешь?
Глядел зло и вместе любовно на сгорбленную, униженную,
несчастную женщину.
— Вера, ты вернешься ко мне?
344
— Хорошо.
— И без драм?
— Хорошо.
Начала одеваться. Бормотала:
— Да... да... вернусь... Платье мне к лицу? Обожди, я поищу
носовой платок.
На минуту между ними воцарилось согласие. Она
спрашивала, необходимо ли ей быть веселой. Нужно ли объясниться с
Павлом? Руки у нее дрожали, и она все еще не могла унять
слез. Катились по напудренным щекам, оставляя полоски.
Появилось скорбное, чистое выражение, и она похорошела вдвое.
У Борисова горло схватила судорога. Ему казалось, что еще
никогда он не любил Веру так мучительно остро, как сегодня.
— Не ты одна несчастна, — хрипло заметил он, — мне разве
легко? Хожу как пьяный. Павел поиграл тобою и бросил... «Не
беда, найдет другого». Ты, в свою очередь, меня искалечила.
«Ничего, забудет». У меня трое детей, молодая жена, а я к тебе
в номера бегаю и страдаю от этой окаянной любви больше, чем
ты. Ты вернешься ко мне, потому что Павлу угодить хочешь...
Все-таки есть известное удовлетворение. А я иду к тебе. Зачем?
Брошенное подбирать? Ох, будь оно проклято!..
Кидал ей тяжкие, гнусные оскорбления, глядя на нее с
невыразимой мукой, а она, дрожа от бешенства, возражала
высокими, негодующими нотами.
Наконец Борисов опомнился:
— Бросим, Вера. Поедем!
Почти толкал ее к двери.
Белый вязаный капор зацепился, и, когда оба нагнулись, их
дыханье смешалось, глаза встретились и оба растерянно,
беспомощно улыбнулись.
В коридоре топили печи, и это напоминало не осень, а зиму.
Смеялись, болтая, горничные.
По лестнице Вера бежала так быстро, что едва не запуталась
в юбках, но он продолжал торопить ее.
— Скорее... скорее!
Моросил дождь. Верхи экипажей были подняты и,
отсыревшие, пахли кожей, смолою. Звенел трамвай, мелькали люди,
рестораны, кондитерские — все мокрое, темное, неясное в
поднявшемся тумане.
— У меня грудь болит, — сказал Борисов, — я совершенно
разбит.
Она молчала. В нем снова загорелась ненависть, смешанная
с любовью, горем и ревностью.
345
Д опытыв алея :
— Ты все о Павле думаешь?
И когда вместо ответа Вера зарыдала, Борисов ударил ее по
лицу.
— Грязная тварь!.. Падаль!
Извозчик оглянулся:
— Чего изволите?
— Ничего. Поезжай скорее, дурак!
И, задрожав, начал целовать ее руки:
— Прости меня... прости... Вера... милая, родная, голубушка...
Я сам не знаю, что со мною.
Она лее вырывала руки, плача навзрыд и повторяя, как дитя:
— Ну, бей... бей... бей еще... изверг, мучитель... бей!..
— Вера, я гадок, я знаю, но я люблю тебя.
— А я ненавижу.
Пролетка подпрыгивала, и в темной коробке, пахнувшей
смолою, кожею, они долго стукались то телом, то головою, осыпая
друг друга страшными, позорными, унизительными словами.
Потом, усталые, смолкли.
Борисов уныло заметил наконец:
— Боже мой, как все это отвратительно! И ты, и я... Не
любовь, а дурман какой-то... яд...
У подъезда спросил холодно:
— Ты не плачешь?
-Нет.
— Простишь меня?
— Как хочешь.
Выскочила, говоря иронически:
— Заплати вдвое извозчику за то, что он глух.
Швейцар, давно знакомый, встретил их приветливо.
— Нынче все кабинеты переполнены... страсть...
Борисов посмотрел на Веру. Бледная как мел. Ему стало и
жутко и жалко.
— Пойду первый, — сказал мягко, — обожди... Я вышлю
Павла сюда.
Не смогла ответить. Кивнула головой, проводила широко
раскрытыми недоумевающими глазами.
Ждала. Швейцар зевал. Доносились голоса, матчиш.
Пахло едой. Где-то звенели посудой.
Вот знакомые быстрые шаги.
Павел, элегантный, оживленный, почти счастливый. Белая
гвоздика в петлице.
Поцеловал руку, увлекая к дверям.
346
— Как это мило с твоей стороны, что ты приехала.
Удивительно мило.
Притихшая, слабая, глядела на него со слезами и улыбкой.
Нашла в своем голосе те ноты, которые раньше так нравились
ему... серебряные, чистые, пылкие до фанатизма.
— Да, ты сказал, я приехала, Павел.
Он долго внимательно, несколько любопытно всматривался
в ее лицо, потом спросил дружески:
— Борисов передал тебе наш разговор?
-Да.
-Ну и?..
— Разве я поступала когда-нибудь против твоей воли?
И слегка улыбнулась.
Павел участливо наклонился:
— Хорошо. Видишь ли, обстоятельства так сложились. Быть
может, ты уедешь?
— Нет, нет, ни за что, — испугалась Вера.
Потянулась к нему умоляюще, робко взяла за руки:
— Ведь я буду встречаться с тобою, Павел?..
— Да, изредка.
— Ну вот, ради этого... ради этого я все перенесу.
— Благодарю. Идем же... Нас ждут.
И пошли.
ЕЕ СОЧЕЛЬНИК
Комнаты были убраны, ярко освещены. Чай уже
сервирован. С минуты на минуту ждали, что принесут сирень из
цветочного магазина. Попугай проснулся. Хорошенькая горничная
дразнила его, пробегая. Мохнатая елочка вздрагивала каждый
раз от вихря ее юбок — елочка для взрослых, без подарков,
густо обсыпанная серебряной пудрой, с серебряными
гирляндами, тоненькими, исключительно белыми свечами. Прелестное,
наивное, веселенькое деревцо! Условились, чтобы свечи
зажигал в наказание тот, кто приезжал последним. И над ним
трунили весь вечер. Барыня одевалась.
В сочельник у нее собирались только очень близкие,
интимные друзья.
Ей принесли телеграмму: «Жди. Буду в сочельник. Виктор».
Она прочла это много раз, потом продолжала надевать
кольца. Руки ее дрожали. Она побледнела так, что сливалась со сво-
347
им белым кружевным платьем. Вихрь мыслей... новые,
нежданные, хлынувшие, как сквозь плотину, чувства... Как?.. Значит,
он не устал еще мучить ее?.. Значит, он не забыл?.. Значит, он
хочет возврата?.. Значит...
У нее захватило дух. Бессмысленно смотрела в зеркало, а из
матовой таинственной глубины на нее также смотрели широко
раскрытые, испуганные глаза.
Она снова прочла телеграмму: «Жди. Буду в сочельник.
Виктор».
Ах!.. Закрыла лицо руками. Напряженно хотела понять что-
то. Всякий смысл ускользал от нее. Они разошлись давно. На
что он надеялся теперь?.. На прошлое обаяние? Но власть
мужчины кончается там, где просыпается рассудок женщины. В ней
он проснулся, так как она уже не любила. Нет, нет, не надо
возврата к прошлому. Этот человек... сколько жгучей обиды,
нестерпимой горечи... Все унижения были выпиты ею покорно.
Не довольно ли?
Теперь он посылал игривую, до смешного смелую
телеграмму. Она готова была расхохотаться. Да, monsieur, если раньше
ваша самоуверенность и покоряла меня, то сейчас она только
забавна.
Как он решился?.. Неожиданно, просто, спокойно,
словно расстались вчера... «Жди, буду в сочельник. Виктор». О
Боже!..
Она вдруг начала нервно смеяться, не вытирая крупных
катившихся слез. Потом, взяв ручное зеркальце, рассматривала
профиль своей прически. Хотела быть спокойной... перед самой
собою.
Почему же так вдруг светло на душе? Почему вдруг так
тихо?.. Мысль, что она способна снова простить, снова
вернуться к нему, снова любить и снова страдать, потрясла ее. И
боялась останавливаться на ней.
Она сунула телеграмму за кружево у корсажа, бессознательно
желая иметь эту бумажку близко, совсем близко... о, так
близко!..
Принесли сирень, но не освобождали от тонкой папиросной
бумаги, зная, как любит барыня делать это сама. Раскутывала
нежно и бережно холодные кисти. Взволнованная, смягченная,
уже готовая поверить в счастье и боясь его, едва не заплакала
снова.
Наконец они собрались. Трое элегантных не очень уже
молодых мужчин с усталыми глазами и жестами. Они принесли
348
конфеты, подарки и говорили изящные, словно надушенные
комплименты хозяйке. Они входили сюда растроганные и
взволнованные. Уже третье Рождество встречали вместе. По
их словам, сейчас шел густой восхитительный снег. Они
раздвигали портьеру, смотрели на улицу и радовались внутренне,
что были не одни. О, эти пустые, холодные, одинокие
комнаты!.. И они испытывали глубокую благодарность к молодой
женщине. Ей принадлежала идея «сближения народов», то есть
эти милые сочельники с елкой. Они обожали ее. Она помнила
все их причуды, вкусы, желания, она умела угодить всем и
каждому в отдельности. Она не сумела бы баловать больше
братьев.
Сегодня, впрочем, она казалась очень взволнованной,
излишне оживленной. Часто отвечала невпопад.
Наконец это выяснилось.
Она сказала с легкой запинкой, обращаясь к
художнику Д.:
— Дорогой маэстро, вы приехали сегодня позже всех, но
елочку не вы зажжете.
Кругом шутливо негодовали: как, она нарушает правило?
— Нет, но я жду четвертого гостя.
— А! —воскликнули трое.
В этом была целая гамма неудовольствия, ревности,
удивления и любопытства.
— Отлично, — сказал наконец художник, самый
миролюбивый из них, — отлично... четвертый гость... праздничный
сюрприз...
— Я не согласен, — пробормотал литератор, — это
лишнее...
Оказалось, приезжает Виктор. Ах, он?.. Теперь они
смотрели на нее сочувственно. Они знали ее драму. Ну что же... все
понятно. Молча они желали ей счастья. Против новичка они
восстали бы, но Виктор... С ним ничего не поделаешь.
— Как, однако, живуча любовь.
И хотя они говорили о посторонних вещах, они все ждали
его.
Ее волнение и тревога все росли. Около одиннадцати часов
она спохватилась. А где же телеграмма? Выпала из корсажа.
Сама они, гости, наконец, горничная искали ее. Телеграмму
нашли под креслом и прочли вслух:
— «Жди. Буду в сочельник. Виктор».
Ну конечно... здесь не могло быть ошибки... он приедет с
минуты на минуту.
349
— Виктор очень красивый малый, — заметил кто-то,
—странно, что он до сих пор не женат.
Она страшно побледнела. Подумала с ужасом: «Разве я все
еще люблю его?..»
Гости были, однако, недовольны. Все смотрели на темную
мохнатую елочку. В прошлом году она уже сверкала огнями.
Решительно, это было грустно. Ничего не клеилось.
Тогда господин Л., который не был ни художником, ни
литератором, а просто милым человеком, сел к роялю.
— Я сыграю, господа, Шумана... Без критики!
В двенадцать часов гости поднялись. Никто еще никогда с
тех пор, как они собирались вместе, не оставался здесь после
полуночи. Елочка оставалась незажженной, а лицо женщины
выражало безумную тоску. Все воспоминания проснулись в ней.
— Виктор не приедет, — говорила она, беспомощно и жалко
улыбаясь. — Господа, вы бы посидели еще... Он не приедет.
Ждала, чтобы ее разубедили в этом. Но они мялись. Им было
невыносимо жалко ее, и они сердились на себя за то, что не
могли утешить. Они, однако, протестовали. Нет, нет, Виктор еще
приедет... поезд приходит в 11 часов... покуда он попал в отель...
запоздал, ясно... И пусть в наказание сам зажигает елку.
Она едва держалась на ногах. Дать телеграмму и не
приехать, о Боже!.. Она теперь чувствовала, что ждала только его,
Виктора...
— Не отчаивайтесь, — шепнул ей художник Д., — и я не
советую вам ложиться до часу... Что вам стоит?
Она благодарно стиснула ему руку.
Она потушила электричество везде, кроме гостиной.
Медленно ходила из угла в угол, волоча длинный трен и почти
ничего не видя перед собою. Думала о самых грустных вещах, и ее
сердце разрывалось на части. Порою она раздвигала портьеру
и, прильнув к стеклу, глядела на улицу. Пусто. Снег шел по-
прежнему. Как она могла поверить Виктору — ему, лгавшему
ей всегда и во всем? И почему бы ему не послать телеграмму
под впечатлением минуты, а потом раздумать?.. Или он просто
забыл?.. Или задержался?..
Часы пробили два. Тогда она сняла нарядное платье и
накинула будничный пеньюар. Но не ложилась, а, вернувшись с
бледной странной улыбкой, зажгла свечи у елочки.
Потом села и осталась так до рассвета, не меняя позы.
350
ЯНИНА
I
Так вянет без солнца вербена.
Ада Негри
Когда Янина возвращается домой после пансиона — это
хрупкая, бледная, красивая девушка. Отец умер. Мать и тетя Викта
стали еще строже. Они обеднели и теперь с жаром говорят о
приличной партии для Янины. Последняя много читает.
Порою уходит гулять и не может потом рассказать, кого
встречала. Она так рассеянна — Янина.
С половины зимы их начинает посещать Гриницкий —
инспектор. У него ужасно самодовольное лицо. Он мало делает
дурного и всегда напоминает об этом окружающим. Янина не
замечает его, а он внимателен.
Мать предлагает однажды Янине вышить для Гриницкого
что-нибудь.
— Он так добр к тебе.
— Но, мама...
— Уж не хочешь ли ты спорить со мною?
Янина смолкает. Она не успевает кончить свою broderie*,
как инспектор делает ей предложение. То есть далее не так.
Ее зовут в комнату матери. Мать плачет.
Тетя Викта говорит торжественно:
— Обними мать. Сегодня для тебя великий день, Янина. Пан
Гриницкий просит твоей руки.
Здесь пахнет йодоформом, нафталином, а за окном
качается душистая, влажная сирень, ароматно дышит черемуха, яре-
ют огненные тюльпаны. Весна — беспокойная, волнующая.
Соловей не дает уснуть до зари. Глаза у Янины полны слез. Она
думает, что незачем оставлять свою крохотную девичью
комнатку и переезжать к инспектору.
Но она молчит. Спорить бесполезно.
Тетя Викта пытается быть нежной:
— Иди и переоденься в белое... Белое тебе к лицу.
Вечером за чаем подают торт. Гриницкий приезжает с
духами и долго говорит о погоде. Он советует Янине надевать
теплое пальто, выходя на веранду. Решено, что через месяц они
повенчаются.
* Вышивка (фр.).
351
II
Янине подводят господина Д., и хозяйка любезно просит
«обласкать» monsieur Поля.
Он обмахивается шляпой и говорит какой-то милый
комплимент.
Янина смотрит на него пристальнее, чем это дозволяет
приличие. Она не может сказать, красив он или дурен, симпатичен
или нет. Она только пристально смотрит на него, и ей трудно
отвести взгляд. Кажется... кажется, она уже думала о таком
лице, таком голосе... или встречала? Или видела портрет? Или
ей снилось?
Если нет, то отчего же он чудится ей близким, родным?
Муж Янины, Гриницкий, задает вопросы. Где служит
monsieur Поль? Сколько он получает? Отчего он не женат?
И, не дождавшись ответа, напоминает жене, что у них
сегодня раковый суп и ванильный крем.
Monsieur Поль заговаривает с соседями. Там спорят о
женщине...
Доносится, как он замечает рассеянно:
— Женщина — идолопоклонница прежде всего. Она просит
и ищет чуда. Дайте ей человека, на которого она будет
молиться, дайте ей небо здесь, на земле, и она станет святою. Она не
боится жертвы, но хочет любить, верить, жить для кого-нибудь.
Повторяю, женщина просит чуда.
Гриницкий бормочет, поправляя очки:
— У этого молодого человека безнравственный образ мыслей.
Потом он беспокоится о раковом супе. Боже мой, о чем она
думает, Янина? Кто же спорит на голодный желудок?
Янина смотрит широко раскрытыми недоумевающими
глазами.
Что такое? Чего еще хотят от нее? Ах да... раковый суп...
Они встают.
На пороге Янина оглядывается.
Monsieur Поль смотрит ей вслед.
III
Дверь на балкон открыта. В саду распустились все розы —
темно-красные, белые, розовые, палевые. Под липою
Гриницкий читает газету тете Викте.
Янина долго смотрит на них, потом говорит человеку у рояля:
— Поль, вы уезжаете?
352
— Да. Любите ли вы меня, Янина?
— Я люблю вас.
— И остаетесь здесь?
Она бледнеет. Ветер в саду тронул махровые розы, и они
качаются, словно недоумевают, почему и зачем Янина остается.
Она спрашивает:
— Вы мне позволите пойти за вами?
Monsieur Поль улыбается:
— Идите, но не будьте так рабски покорны. Это скучно.
Янина целует его ладони:
— А если я не умею любить иначе?
И в ту же ночь Янина уходит.
IV
— Я считал тебя всегда рассудительной женщиной,
малютка... Этот год мы были счастливы. Кончим в том лее тоне... без
слез, упреков и драм.
— Хорошо.
— Тебе не станет легче, если я объясню причину... Может
быть, я уйду молча?
— Хорошо.
Если он задумывается на минуту, то не потому, что тронут
ее немым горем. Нет, просто за окном ливень.
— Не вернуться ли тебе к мужу?
— Не знаю.
У него слегка нетерпеливый, хотя и вежливый жест.
— Я ухожу. Прощай!
— Прощай.
— Ты ничего не скажешь мне, Янина?
— Будь счастлив.
Когда его шаги стихают, она стоит, опершись обеими руками
на стол, смотрит в окно и думает. О чем может думать
женщина, жизнь которой к двадцати пяти годам разбита в кусочки?
Вероятно, она чуть-чуть насмехается сама над собою. Это
забавно порою — быть несчастной.
V
Янина покупает билет для входа в летний театр, когда к
ней подходит один старый знакомый. О, такой
добродетельный, совсем добродетельный, через верх добродетельный... Он
нерешительно поднимает шляпу, не скрывая жадного
любопытства.
353
Янина отвечает на поклон.
Ба, есть еще справедливость на свете...
У нее скверный вид.
Он спрашивает:
— Вы вся в черном... разве вы в трауре?
— Да, я ношу траур...
— Господи, уж не мать ли ваша или тетушка?
Она перебивает с неприличным равнодушием. Нет, нет, те
живы... У нее умерла любовь.
— Умерла любовь?
Толстый господин ничего не понимает.
Янина скользит мимо и даже не оглядывается.
Черт возьми, могла бы быть повежливее эта... ведь теперь
она —вне круга.
В саду играет музыка. Гуляют дамы и мужчины. Скучно, но
многие улыбаются. Добродетельный господин и Янина
встречаются несколько раз на той же аллее. Она совсем не замечает
его. Тому даже смешно... Уже не воображает ли она, что он
ничего не знает?
И подсаживается.
Он говорит, что давно желает выразить ей свое сочувствие.
Бедная очаровательная дамочка... он всегда и всюду горячо
защищает ее. Без сомнения, чувство должно быть свободным.
И потом — все можно искупить. Пусть она только не
отчаивается.
Большие глаза Янины темнеют от гнева, но усталость
побеждает...
— Да... да... искупление... возмездие... Не угостите ли вы меня
вином?
Толстый господин радостно вскакивает. Ах, эти женщины!..
Как они все-таки непостоянны.
За ужином она разражается слезами.
— Что такое? Разве вы недовольны мною? — надменно
удивляется толстяк.
— Нет... нет... Это нервы.
— Ага... в таком случае еще чуточку вина, малютка!
VI
Гриницкий сидит на кончике стула, брезгливо оглядываясь
кругом.
— Сударыня, вы вернетесь ко мне сейчас же... Я делаю это
не ради вас, конечно, а ради чести вашей матушки и моего име-
354
ни. Вы вернетесь ко мне и постараетесь загладить вашу ошибку
примерным поведением.
Какая ошибка? Какая честь? Янина ничего не понимает. Она
лежит бледная, равнодушная.
— Я беру вас обратно...
Боже, столько торжественности!.. Берет к себе... Да она вещь,
что ли?
— Вы не должны бояться... — журчит Гриницкий.
Что такое? Бояться? Чего она может бояться после того, как
схоронила все светлое и дорогое? После того, как ее храм
разрушен, чего она может бояться?
— Сударыня, вы нарушили долг, величайшую из
обязанностей женщины...
Это становится утомительным... безобразно утомительным...
Она закрывает глаза.
— Ах, сегодня... Только сегодня оставьте меня в покое!..
ГОЛОСА
Вечер. Снег на горах кажется розовым от заката. Внизу легли
глубокие синие тени. Женевское озеро спокойно. Набережная почти пуста. Если
проходят, то большею частью рабочий, простой народ. В сквере бьет
фонтан. Клумбы цветов. Продают открытки, журналы. На скамейке сидит о«.
Усталое лицо с внимательными глазами. Появляется она. Светлый
костюм. Рассеянная походка. Сначала не решался. Потом сел рядом.
Смотрят друг на друга.
Он (кланяется). Mademoiselle...
Она (просто). Добрый вечер.
Он (развязно). Вы позволите мне здесь остаться?
Она (спокойно). Как хотите.
Он. Вы очаровательны. Вы прелестны. Я уже побежден.
Может быть, мы перейдем в café?
Она (равнодушно). Я не ищу приключений. Вы ошиблись.
Он (меняя тону легкомысленно). А... простите... Я думал...
Мы всегда думаем дурно, если женщина сидит одна и... и
отвечает на вопросы.
Она (иронически). Для меня не новость.
Он (пожимая плечами). Это естественно. Мы не осуждаем
таких женщин, но мы думаем о них дурно. Смотрим свысока.
Они — вещи, мы — покупатели. (Любезно.) Если безделушка так
изящна, как вы, мы не торгуемся.
Она (молчит).
355
Он (вкрадчиво). Я приехал из Вены. Мне чертовски везет
последнее время. Я заработал бездну. Теперь хочу отдыхать,
веселиться. Черт возьми, я заслужил это... Меня не называли
красивым, но я нравился.
Она (усмехнувшись). Да?
Он (нерешительно). Я говорю... потому что... Ну, потому что...
Вы иностранка?
Она. Да.
Он. И что вы здесь делаете?
Она (задумчиво). Скучаю. Везде и всегда скучно. От себя
никуда не уйдешь.
Он. Женщины редко бывают грустны. Ведь они мало
думают.
Она. Зато много чувствуют. Это тоже утомительно.
Он. А-а!.. (Смотрит внимательно. Короткое молчание.
Через минуту небрежно.) Чем вы живете?
Она (сухо). Не все ли равно?.. Живу...
Он. Я вас нигде не встречал?
Она (нетерпеливо). В Париже? Ницце? Берлине?
Он. Нет... нет... нет... (Смеется.) Нигде и никогда. У меня
хорошая память на лица. (Слегка недовольно.) Б а, вы могли не
заметить. Вы просто забыли. Эти волосы, глаза, улыбка... Ах, я
вас видел...
Она (равнодушно). Может быть... Я вас не помню. Я вас не
знаю.
Он (беспокоясь). И голос... голос! Особенно голос...
Она. Не знаю.
Молчание.
Он (сумрачно. Внезапно согнулся, потускнел). Я ломался. Я
лгал вам. Ниоткуда я не приезжал. Просто вышел из дому.
Брожу. И в кармане у меня десять франков... да... И никогда мне в
жизни не везло. Я — неудачник.
Она (пожимая плечами). Зачем вы исповедуетесь?
Он. Так. Не все ли равно, о чем говорить? Вы мне
напомнили одну маленькую женщину... у нее были такие же волосы и
улыбка... Да...
Она. А... а... Неужели?
Он (холодно). Вы хуже ее, гораздо хуже. Когда она
улыбалась, то походила на ангела. Потом, у вас неприятный смех.
Она (вскользь). Я не умею смеяться.
Он (угрюмо-мечтательно). Моя маленькая... Такая
маленькая, что я мог носить ее на руках.
356
Она (рассеянно). Умерла?
Он (резко). Ушла. Я мало зарабатывал.
Она (неопределенное восклицание).
Он. Мы часто хороним живых.
Она (вспоминая). Да... часто хороним живых.
Он. И это страшнее обыкновенной смерти.
Она (задумчиво). Нет ничего прекраснее смерти.
Он (раздражаясь). Какой вздор!.. Я боготворю жизнь.
Борьбу, силу, контрасты. Я временно устал.
Она (тихо). Я устала навсегда. Я не могу начать сначала.
Он (не слушая). О, я еще верну ее... Мою маленькую Люси...
Я разобью в кровь свои руки, но дам ей все, все нужное для
. счастья... Моя маленькая, капризная куколка... Конечно, она
требовательна... Молода... Что делать?.. Такова жизнь. Кругом
столько соблазнов. Разве она могла, с ее наружностью, с ее
очаровательным смехом, довольствоваться одной комнатой и
грошовыми платьями? Она была создана для роскоши... Другой
пришел и дал во сто крат больше, чем даже она мечтала. Какая
женщина устоит? Вы все продажны. Люси ушла. Я виноват.
И я заглажу свою вину. Я верну Люси. Верну, хотя бы мне
пришлось просиживать целые ночи, ослепнуть, оглохнуть,
умереть. Я верну ее... (Мечтательно, с болью.) Моя маленькая
голубоглазая куколка... Когда она вернется, я снова скажу: да
здравствует жизнь!..
Она (улыбнувшись). Как патетично...
Он (жестко, требовательно). Вы любили?
Она (неудивляясь). Да, любила.
Он (еще резче). Удачно?
Она (равнодушно). Нет, он не любил меня.
Он (тише). Уважал?
Она (ровно). Нет, он не уважал меня.
Он (грустно). Жалел?
Она (спокойно). Нет, он не жалел меня.
Молчание.
Он (беспокойно соображая). Так нельзя... Вы относитесь к
этому слишком хладнокровно... Почему вы не плачете? Вы
должны плакать...
Она (смеется). Я не верю в любовь. Я встречала потом
второго... и чувствовала к нему то же самое. Так же была готова и
на жертвы, и на унижение. Разве любовь единична? Она
повторяется, как весна. Когда я убедилась в этом, любовь перестала
интересовать меня. Я не называю ее больше трагедией... Фарс...
357
глупенький, пошленький фарс... да еще и переводной... Вот!..
Он (недоброжелательно). У вас есть семья?
Она. Я сирота.
Он (мягко). А родина?
Она (пожимая плечами). Мне все равно, где жить... там, здесь,
дальше... Я не хочу уезжать, а уеду — не хочу возвращаться...
Люди везде одинаковы... Декорация же природа... Что мне до
нее?.. Я космополитка...
Он (колеблется). Надеюсь, вы не отрицаете совесть?
Она (через минуту). Совесть? Ну, она не хрустальна, моя
совесть... Впрочем, я никогда не интересуюсь ею.
Он (недоумевая). Быть может, религия...
Она (задумчиво). Женщины нашей страны мистичны и
религиозны. Я люблю красоту во всем, и в церкви, без сомнения...
Но разве это религия?..
Он (подозрительно). Значит... у вас нет ничего?
Она. Ничего.
Он. А желания?..
Она. Никаких.
Он (нетерпеливо). Это ненормально... Это невозможно для
женщины... Что вас сделало такою?
Она (спокойно). Вероятно, жизнь... годы... впрочем, не знаю...
не следила...
Он (как бы про себя). Когда моя маленькая ушла, я был
мертв от муки... Я рассуждал почти так же, как и вы... Теперь
же я снова верю... жду... я хочу света...
Она (тихо). Только мы сами должны зажигать свет. Никто
не зажжет, скорее потушит.
Темнеет. Горы совсем черны. С озера тянет влагою. Увеличилось
движение кругом. Блеснули фонари. Где-то музыка.
Он (эгоистично вздохнув). Я счастливее вас.
Она. Может быть.
Он (повеселевший). Зачем вы живете?
Она. Так, по инерции... Потом, когда это будет слишком
невьшосимо... Бог мой! (Пожимая плечами.) У Роны быстрое
течение и глубокое дно.
Он (кивая головой). Да? (Пауза. Встает.) Мне пора. Вы не
пойдете со мной?
Она. Нет.
Он (колеблется). И что же вы будете делать?
Она. Сидеть.
358
Он. А потом?
Она. Пойду.
Он. Куда?
Она (устало). Не знаю... так... вперед... не знаю...
Он снимает шляпу. Скоро его уже не видно. Она сидит по-прежнему,
изредка вздрагивая. Надвигается ночь.
ЗА ВЫШИВАНИЕМ
Суббота. В спальне теплится лампадка. Убрано. Нигде ни
пылинки. На столе моченые яблоки, водка, закуска. Сейчас здесь
была монахиня со сбором. Теперь уже далеко. Ушла. Только
собаки все не угомонятся. Тихо в доме. Братишка-шалун
наказан. Сняли новые сапоги да носом в угол. Стой, негодник,
покуда дядя из лавки вернется... получишь ужо на орехи! Мать у
кумы. Кухарка перед ужином спит на полатях. Медленно и
грустно вышивает Лиза.
Боится она новых людей... Придут с ветра, натолкуют...
Потянет вдаль, словно журавля осенью... Страшно... Грешно.
Потом не успокоишься...
О монастыре когда-то Лиза мечтала... Плакала, свечи
ставила, вериги хотела надеть. Бил два раза тятенька, хоть любил ее
шибко. Мать к старцу возила. Держала сторону дочери. Замуж
выйти не шутка, вот Христовой невестой быть — то другое.
Весною ездили. Деревья едва запушились... Птицы-то как пели...
Царица Небесная, словно обедню служили... И монахов,
монахов... Испугалась даже. Смотрят на них любопытно... Обо всем
расспрашивают... Удивляются, что из такой глуши... Жалеют...
А старец не принял. Целехонький день они высидели, ожидаю-
чи... Ничего... Не вышел... Увидеть привелось утром... На
крыльце он появился... Маленький, седенький... И бумага в руке...
Провожал военного... На Лизу взглянул... благословил, но
ничего не сказал... отогнал торопливо... Потом отец увез их сюда,
в Сибирь, торговлю открыл... И остались они. О монастыре
больше не говорилось. Смутно и робко жалела Лиза... Ах, если бы!..
Ведь грехов-то, грехов!.. Век не замолишь... Грустно стало...
Запела негромко:
Я у матушки выросла в холе
И кручины не знала я злой,
Да счастливой девической доле
Позавидовал недруг лихой...
359
Любимая песня... Годы бы слушала, не наслушалась...
Вся ее жизнь в этой песне. Вся ее радость. Вся ее мука.
Словно про нее сложена.
Село Никольское Большое в степи затерялось. На сто верст
кругом ни одной избы не встретишь... Аулы киргизские
только... Тетка Лизы там лавку имеет и дом. Комнатки веселые,
чистые, совсем пасхальное яичко. И народу всегда полно.
Учительницы, семья священника, ветеринарные врачи, что из
России на чуму посланы. Приехала туда Лиза без дела... так...
побаловаться... Ну и живет...
Раз метель была. Тетка у больной заночевала. Сидит Лиза,
буран слушает... Вдруг кокольчик... шум во дворе. Выглянула.
Привезли киргизы гостя — ветеринарного врача... Шуба у него
нараспашку, сумочка через плечо, и под шапкой карие глаза
смеются...
Задорный...
Поклонилась и обомлела... Отвечала, как дурочка. Василием
Васильевичем звали... сам владимирский...
Речи сладкие стал он, лукавый,
Мне нашептывать ночью и днем...
Ох, уж действительно лукавый... Спорить не приходится...
Ночи годами кажутся. Подушка в слезах. Выйдет на крыльцо
без платка и стоит... Снег сыплет, ветер волосы треплет, темно...
А она ждет. Горе? Радость? Не знает...
Удалый был, щедрый... Ямщики на него Богу молились,
киргизы — братом звали... Никто с ним сравняться не мог, никто...
Поселился Василий Васильевич в Никольском. Каждый день
виделись. Лизу домой зовут, а она не хочет. Понимал он ее без
слов. Сидит она у окна, затуманится... Иголка из рук выпадет.
Станет допытываться: «О чем грустите?» — «Так». Смотрит он...
Глаза темные, властные... И она как ребенок перед ним...
Кажется, ударь он ее, так и не шелохнулась бы...
Я вставала с постели босая
И, бывало, всю ночь напролет
У окна все кого-то ждала я,
Все мне чудилось, кто-то идет...
Помнит она горенку угловую, где спала тетка. Ситцевый
полог, гора подушек, одеяло из разноцветных лоскутков. Вот
собрались как-то девушки, прятки затеяли. Выпало ему, Василию
Васильевичу, искать... Убежала сюда Лиза... затаилась... Нашел-
360
таки, шустрый... Перепугалась до смерти в темноте... Сердце-то
билось, Господи!.. Вышла алее зари, глаза поднять боится...
Потом катались. Снег-то, снег кругом... Буран настоящий...
Колокольни, изб — не видать. Эх, да эх, с горки!.. Дух захватьшает!..
Целовал?.. Нет... Да... кажется, нет... Ой, кажется, да!..
Очи карие бойко смотрели
На меня из-под темных бровей.
Допытать они, видно, хотели,
Что в душе затаилось моей...
Милый, ласковый. За руки держит, а она только смотрит...
Ни слова... От восторга голова сладко кружится... И не знает, за
что его любит, за то ли, что душой кривить не умеет, не сулит
ничего, ничего не просит, или что вольный, беспечный, весело
жестокий, сломал ее жизнь и не печалится.
Перевели его в аулы, далеко... Ей к своим нужно было
вернуться.
Ночью прощались. У тетки ужин, карты... Молодежь
танцует, песни поет.
Выбежала она за ворота. Небо звездное, черным кажется,
снег блестит, переливается... Луна... Тишь. Пустыня.
Обнялись они... Плакать не смогла...
Уехал Василий Васильевич на рассвете. Больше не
встречались. Ау, милый!.. Не откликнется...
Брызнули слезы. О нем? Да... Нет, так...
Потом усмехнулась легонько. Глупая... Что сердце
надрывать без толку? Мать сейчас вернется и муж из лавки.
Братишка уже за кошкой гоняется. Кухарка встала...
Смолкла Лиза. Не поет больше.
А ветер-то за окном, ветер...
НАСТРОЕНИЯ
I. Тоска
Не могу сказать точно, когда и в какой именно час она
приходит ко мне.
Она не имеет ни определенного времени, ни излюбленных
дней.
Приходит весенним шумным радостным утром, голубыми
пахучими летними вечерами, бледными осенними сумерками,
361
холодными молчаливыми зимними ночами. Найдет в толпе, на
балу, сядет рядом в театре, отыщет в костеле, остановит тогда,
когда я поворачиваю ключ у двери, чтобы убежать... от самой
себя. Ах, она всюду, неизменная, неутомимая!
Улыбнется через силу, извиняется:
— Я слишком частая гостья. Не правда ли?
Она обезволивает меня, гипнотизирует. Полно покоряюсь
этой бледной, хрупкой девушке в черном. Чувствую себя
ребенком, вещью.
Порою опускаюсь перед нею на колени, беру ее слабые,
бескровные руки и плачу:
— Оставь меня... уезжай, уходи... забудь... Я, быть может,
еще буду счастлива.
Она кротко гладит мне волосы, нежно заглядывает в глаза,
недоумевает:
— Но куда же я уйду, дитя? Разве я не ношу твое имя? Разве
ты можешь обойтись без меня? Как же без меня?
Говорит она шутливо-небрежно. Непоколебимо спокойно...
Знаю — она не уйдет. Умолкаю.
Часто она обнимает меня порывисто... жадно, исступленно...
Так крепко, так крепко... И минуты кажутся вечностью.
Я слабею ежедневно. У меня такие же бескровные губы и
руки как у нее. Я так же не умею улыбаться. Она пьет кровь
прямо из моего сердца. Мое бедное, измученное сердце!
Я ничем не могу помочь ему. Ничем.
И я умоляю в отчаянии — совсем тихо:
— Оставь меня, уйди!
А она удивляется:
— Куда лее мне уйти?
И мы снова вместе.
Я и моя Тоска.
П. Встреча
Дождливое скучное небо. Мокрый пустой сад. Мокрые
зеленые скамейки.
О, что ты здесь делаешь так поздно, маленькая женщина в
красном платье? Кого ждешь? Кому улыбаешься виновато,
робко, заискивающе?
Не отворачивайся. Я ни о чем не спрошу.
Знаю.
Все знаю.
Я пройду молча, с безразличным видом.
362
Ты останешься сидеть в той же позе, неестественно
напряженной, выжидающей.
Ты сейчас похожа на увядший, бессмысленно растоптанный
цветок. Бедная моя!
Одинокая моя!
Свет, участье, ласка. Ах, пустые, ненужные, глупые слова!..
Любовь, чистота, правда... Какая насмешка!
Ты встретишь их площадной бранью, циничным проклятием.
Ты будешь права. Слышишь? Ты будешь права перед этими
сытыми, тупыми, наглыми людьми.
Часы бегут. Темнеет. Скоро зажгут фонари.
Ты ждешь покупателя.
Я наблюдаю продающуюся.
О, маленькая женщина в красном платье, я страдаю за тебя
глубже, чем ты это себе представляешь! Я сама еще недавно
думала, что неспособна горевать чужим горем...
Мне хочется подойти к тебе, стать близко, взять тебя за руку.
Я ведь женщина, твоя сестра... Одно слово...
Ты пугливо, враждебно ловишь мое движение. Твой взгляд
полон ненависти.
— Честная женщина! Ого! Ты знаешь по опыту, что такое
честная женщина в роли судьи... Мне не перешагнуть этой
пропасти.
Вон смотрит на тебя пристально, настойчиво и грубо какой-
то толстяк в светлом костюме.
Ты улыбаешься ему одними губами. Глаза остаются
печальными, усталыми, бездумными.
Ты встаешь... На повороте он нагоняет тебя. Вы идете
теперь вместе, и ты не оглядываешься.
О, прощай и, если можешь... если можешь, прости!
III. Ирисы
Вечер был изумительно красивый, тихий. Угаснул
безвольно в багрянце заката среди молодой, яркой, душистой зелени,
оставил неясную, тревожную грусть.
Пришла ночь.
Все сады благоухали черемухой. Все небо искрилось звездами.
Колдовала с нежной улыбкой весна.
Я недавно вернулась с кладбища, и мое платье еще пахло
ирисами. Сегодня я схоронила брата. Случайная, нелепая смерть.
Она перестала быть, впрочем, нелепой, наведя меня на
новую мысль.
363
Я думала о том, что ты также не бог (о мой земной бог!) и
также в один из неизвестных часов смерть унесет тебя.
Кто поручится, что я умру первой? Никто. Кто утешит меня
тем, что это неизбежно? Никто. Так зачем же медлить?
Я не в силах мириться с подобным ужасом. Ни моя душа, ни
мой разум не вмещают его. Я не хочу, чтобы пришел день или
ночь, вечер или утро, когда бы я сказала себе: «Он умер, а я жива».
Я могла вынести ради тебя какую угодно муку, но эту... Нет, нет;
от этого креста я отказываюсь, эта Голгофа меня минует.
О, как я люблю тебя сейчас суеверно-печально... Мое сердце
разрывается от нежности и сожаления...
Я ухожу первая.
Ты должен простить. Ты простишь.
Знаю: трезвые, здоровые люди не поймут меня, но меня
понимало все, что так таинственно, согласно, полно молчало
вокруг. И небо, и звезды, и сирень, и белая комнатка, и вещи, и
книги, и твой портрет со стены...
Мое платье еще пахло ирисами... ирисами с кладбища.
IV. О, Будда, великий Готама!
«О, Будда, великий Готама!»
Молился страждущий в сиянье ночи, в тиши печали.
«О, Будда, великий Готама!
Пришел ученик твой, и горд он, ничтожный, что славит тебя
один на вершине. Внизу пуст храм твой, завяли кругом его
деревья, разорено гнездо, выброшены птенцы; внизу забыли имя
твое, изгнали истину и рассказывают о тебе только детям.
О, Будда, великий Готама!
Ты завладел сердцем моим, ты покорил мысли мои, ты
увлек меня в пучину неизвестного. И пришел я к тебе излить
муки свои, потому что бегу людей и хочу говорить лишь с тобой,
о Совершенный! Я рвусь к тебе и трепещу от боязни остаться на
земле среди диких безумцев, но я потерял уже смелость свою,
как теряет орел перо, взлетая к восходящему солнцу.
О, Будда, великий Готама!
Ночь застала меня на распутье, ночь затмила рассудок.
Сатагира вырвал очи мои, Сатагира сковал мои руки и ноги,
Сатагира сделал меня гибким, заставил ползать и бояться.
Сатагира окружил меня людьми, и я делаю так, как они, забыв волю
твою, о Пылающий! Они играют мною, как пойманным
коршуном дети, они зовут меня "своим", и я молчу, потому что
Сатагира говорит за меня.
364
О, Будда, великий Готама!
Мечется дух мой вверху и, глядя на чудовище, оставленное
внизу, не верит, что жил в нем. Но не вырвал Сатагира память
из сердца, ибо дар этот твой — о, Милосердный! — и я славлю
тебя, окутанный ночью, опутанный ложью, во мраке страсти.
Славлю и зову тебя — о, Лучезарный! — чтобы вернул ты духа
стремления, духа свободы, духа борьбы в тело мое. Чтобы
искал я повсюду разгадку неизвестного, в громе и тишине, в
волнах и цветах, горах и долинах, в крике ребенка и в стоне
умирающего. Чтобы искал я ее, как лев ищет добычи и, найдя, рвет ее
с бешенством, так как заставила долго ждать себя. Чтобы ни
теплота солнца, ни говор моря, ни невинность лотоса, ни
коварство женщины не удержали меня вдалеке от тебя — о,
Бессмертный! — чтобы не ослаб я на пути, не показались бы цепи
тяжелыми, песок вязким, камни острыми и не вернулся бы я к
рабам и гадам, в тину болота, в клетку и обруч пойманного.
О, Будда, великий Готама!
Сатагира не отнял память у меня, но она потускнела в душе
моей, потому что ты оставил ее, и стала слаба, как слаб раненый
голубь, и не хочет подкрепить меня.
О, Блаженный, о, Горящий, о, Таинственный! Сжалься надо
мною, как жалеешь ты лилию, посылая росу, ласточку,
укрепляя крылья, лань, спасая ее от охотника».
И смолк он, страдающий, и поднял очи на горы, долины и
море. И казалось ему все в иной дымке, в иных лучах, потому
что говорил он бледный и плачущий.
«О, розовая глубина неба, о, яркое сияние звезд, о, горный
ароматный воздух! Волны света, волны блеска, волны
бесшумных планет, я тону в вас. Земля осталась мертвой точкой внизу,
и скоро я не увижу ее. Тело мое легче тени и несется, обгоняя
метеор, уста поют так, как не поет ни одна сирена земных
морей. Ум мой светел и познал истину. Я не вижу никого,
подобного мне, и взор не устает от безобразных линий. Но душа
говорит во мне, она ноет, болит, не желая теперь, но сожалея. Она
вспоминает тех, кто в цепях на земле, и рвется рассказать им о
тебе, о Готама!
Нет, я не счастлив, — о, Яркий! — нет, я не избавлен от
томления, о, Бессмертный!»
И улыбнулся Готама, великий Будда, и ниспослал он нибба-
ну на страждущего.
И сорвалась еще одна блещущая звезда и канула в
вечность.
365
V. Cónfitebor Tibi...*
Душа моя прошла стезю предвечных туманов, заоблачных
гор и долин, блуждала, тоскующая, по окаменелым планетам,
катилась в потоке сверкающих звезд, но томилась, искала,
жаждала только тебя.
Душа моя слушала мелодии невидимых органов и лютней,
познала красоту, истину, могущество Начала, открыла великие
тайны незримых миров, но без тебя была одинокой и
несчастной.
Одеваю тебя в радугу, молнии и закат моего восторга,
одеваю тебя в прозрачные ткани моей скорби, одеваю тебя в
алмазы, жемчуга, рубины моего томления.
Созидаю тебе храм из разбитых грез, несбывшихся
упований, служу тебе таинственную мессу на алтаре моего горя,
сжигаю свое сердце в огне незасыпающей муки и за все, о, за все
равно благодарю тебя.
Вечность слушает мою клятву верности, Вечность называет
меня твоею, Вечность обещает мне награду... тебя... там... за
гробом.
VI. Сирень
Сирень цветет в моем саду. Нарвите душистых влажных
веток и отнесите их той, что похожа на девочку. Когда увидите
лучистые глаза, тонкие руки и голубой пояс не белом платье,
знайте: это Она, Непорочная.
Звезды дрожат вокруг светлой головки. Ангелы плачут от
радости и умиления, глядя на нее. Она слушает тишину костела
и молится за грешную землю.
Сирень цветет в моем саду. О, поспешите отнести эти
первые грозди моей Госпоже и заступнице. Скажите: я обнимаю ее
колени и не смею взглянуть на нее. Сердце мое полно
восторгом перед нею и скорбной нежностью. Я думаю о ней, дивной,
неустанно, и мне кажется, это Она ходит здесь, между цветами.
Она, скромная, как полевая лилия, Она, вознесенная выше
ангелов, Она, прекраснейшая из прекрасных!
Сирень цветет в моем саду. Колокола давно пропели
«Angélus». Деревья, дома, земля порозовели от заката.
Возьмите душистые ветки, я перевила их лентами и обрызгала водою.
О, торопитесь, торопитесь...
* Буду исповедоваться Тебе... (лат.)
366
В темном костеле, среди увядающих гиацинтов и плачущих
свечей, тихо молится Она, кроткая.
Ее зовут Мария, и Она похожа на девочку.
ПОДРУГИ
Эля поднялась на локте. Рукава прозрачного пеньюара
закатались. Черные пряди прилипли ко лбу. Нежное, прекрасное
лицо порозовело.
— Я задыхаюсь, — бормотала она, — я просто умираю от
жары... Как ты можешь читать, Тони?
— О, это роман, — откликнулась та, — и довольно милый... с
трагической развязкой.
— Неужели?
Обе они засмеялись и поглядели друг на друга.
— Жизнь сама по себе роман. И гораздо более сложный, —
заметила Эля.
У нее был загадочный вид, не то грусть, не то предостережение.
Тони посмотрела внимательно. Уж не хочет ли она
рассказать что-нибудь? Рассказать?
Нет, ничего. Просто философствует.
Эля закинула руки за голову. Ее поза и вся она дышала
очарованьем.
Тони восхищалась подругой. Созналась несмело:
— Знаешь, раньше... когда Морис был жив... я безумно
ревновала тебя.
Глазами глубокими, печальными она просила прощения.
Нежно трогала кружево пеньюара. О, пусть Эля не сердится...
это было невольно... Она, Тони, так любила покойного мужа...
Эля внимательно следила за мимикой склоненного лица.
Лениво, небрежно удивилась.
Ревновать? Ее? Разве она подала повод? Нет, конечно нет...
Они смолкли.
Будуар притих вместе с ними. Нежные, светлые тона. Нега
стиля Людовика XVI.
Тонкий, сладкий, опьяняющий аромат живых роз.
Трепетание теплых солнечных пятен сквозь кружево штор. Матовый
блеск громадного зеркала. Уют полукресел, кушеток.
Громадный квадрат ковра. Грациозно улыбались маркизы
на стенах. Обе женщины были молоды, красивы, лучшего
круга. Обе были рождены в роскоши и созданы для нее. Обе
походили на редкие тепличные растения.
367
— Три года, как умер Морис, — скорбно поникла Тони.
— Да, три года, — повторила тихо Эля.
Вспоминали с влюбленной улыбкой. Глубокая, затаенная
печаль отразилась на их лицах. Невольно жадно искали глазами
его портрета. Вот он... обаятельный, изящный брюнет, чуть-чуть
иронический. Трепетно, страстно, вне себя от горя и муки
созерцали любимые черты. Они боготворили его. Их души день и
ночь молились ему.
— Как он был прекрасен! — шептала Тони.
Крупные слезы сверкали на ресницах Эли.
Внезапно, без всякого перехода, вступления, без малейшего
колебания, она проговорила:
— Твой муж любил меня больше тебя.
— Морис любил?! — переспросила Тони, заикаясь. — Ты.|.
он... Морис любил тебя?!
— Да. Он любил меня, повторяю. Я хочу, чтобы ты это
знала. Мне надоело лгать. Я принадлежала ему. Я отдала ему с
восторгом, упоеньем свою чистоту, гордость, свободу, радость
честной женщины. И я ни о чем не жалею. Я не считаю себя
виноватой перед тобою. Ты была его женою, ты не
расставалась с ним, ты могла не скрывать любовь, никого не
обманывать. Разве мало? Чего еще больше, о Боже!.. Он умер, ты
рыдала, безумствовала открыто, ты ночи проводила у его
могилы, а я должна была выезжать, веселиться, поддерживать train*
дома, ласкать ненужного, чуждого мне человека. Моя мука
глубже твоей. Но я уверена в одном: умирая и видя тебя, Тони,
одну тебя, — он думал обо мне. Да, я уверена. Я готова
поклясться. Я знаю. Я чувствую.
Тони слабо улыбалась. Удар не лишил ее самообладания.
Ненависть подсказала месть. Ненависть, которая жгла сердце,
затопила душу, мозг, заставила побледнеть до губ, беспомощно
опустить руки. Ненависть, которая изобретательнее любви.
Глухо, но твердо возразила:
— Ты не сказала ничего нового. Морис говорил мне о вашем
романе. Он посвятил меня во все мелочи.
Рассчитала верно.
Попала в цель.
Наслаждаясь эффектом, медленно роняла слова:
— Морис не смотрел на тебя серьезно, дорогая. Ты не была у
него ни первой, ни последней. Он, конечно, поступал как хотел,
но принимал все мои советы. Он во всем давал мне отчет. Своим
* Тон (фр.).
368
счастьем (если это счастье, Эля) ты обязана также и мне...
Сейчас же она склонилась к подруге, мягкая, внимательная,
коварная.
— Боже мой, тебе дурно, дорогая?
ЖЕНЩИНА
Женщина давно проснулась, но лежала с открытыми
глазами.
Прямо перед окном стена разрушенного старого дома. С утра
до вечера рабочие выбрасьшали из ее черных впадин балки и
доски. Падали с грохотом, подымая густую рыжеватую пыль.
Это нестерпимо раздражало.
Теперь же было тихо. Где-то кто-то слабо играл на балалайке.
Молочный густой своеобразный свет разливался по
комнате. Белая северная ночь. Ночь, когда людям кажется, что они
грезят наяву.
Женщина думала: «Часов двенадцать... не больше... есть
хочется».
Встала и, растрепанная, расстегнутая, выпила молока. Потом
пересчитала деньги. Их оказалось меньше, чем предполагала.
— Вероятно, я была пьяна и много раздала на чай.
Она провела странно тихий, совсем особенный день в
Финляндии с толстым немцем.
Песок, сосны, море. Потом ходила в поле, где колыхалась
рожь и певуче звенели телеграфные провода. Да, это все
произвело на нее впечатление. Особенно мелодия проволок... звенели
так жалобно, умоляюще и нежно. Слушая их, забывалась.
Останавливалась на дороге, закрывая глаза. Слезы ползли по
щекам медленно и скупо. Думала о том, о чем по-настоящему не
нужно было думать. Как это случилось? Раньше она страдала,
боролась и жила. Теперь она превратилась в животное. Не
нищая больше, правда, но животное. Как не видели это те, кто
покупали ее? Позор гнул ее плечи. В городе от подобных
мыслей она бежала в café de Paris* и распутничала еще злее, а
здесь, в поле, среди шуршащей ржи, под мелодию поющих
проводов — плакала и бессильно, без слов, одной своей
тоской молилась. Стыдилась лакированных туфель, узкой юбки,
накладных локонов. Стыдилась накрашенного тупого лица.
Была отвратительна себе самой.
* Парижское кафе (фр.).
13 Анна Map 369
Сейчас женщина поежилась и преисполнилась ненависти к
толстому, добродушному немцу. Зачем он повез ее? Она,
впрочем, грубила и буянила все время.
Теперь встала, потянулась, начала одеваться. Совершенно
готовая, принимала позы, наклоняла голову. Юбка обтягивала
ее, как перчатка. Золотистый мешочек на длинном шнуре
болтался ниже жакета. Кружевное жабо восхищало ее — такое оно
было тонкое. Султан из черных страусовых перьев спускался
на спину. И сама она была красива, печальная и строгая.
Улыбнулась себе в зеркало. Послала воздушный поцелуй, ушла.
Поехала к господину X., как условилась.
На воздухе белый странный свет чудился еще пуще,
осязательнее. Беспокойство и жуть ползли в душу. Затихппш город
преобразился. Статуи, памятники, головы медуз на стенах,
казалось, дышали, наблюдали и молча осуждали всех.
Загадочные сфинксы неуловимо улыбались, полузакрывая длинные
египетские глаза. Гидра под конем Петра должна была ожить
ежеминутно и уползти, а сам он ускакать и не вернуться.
Петропавловская крепость темнела в нежной лиловой дымке. Нева
текла совсем черная. Охая, плескались в ней бочки на опасных
местах. Изредка шуршали автомобили. Женщины тоскливо
дрогли на сырых гранитных скамейках по набережной, ожидая
покупателя. Они лее шли, ехали. Множество женщин,
выкинутых городом на мостовую. Таинственные, красивые,
заманчивые белой, мистичной ночью.
«Как мне душно, — тосковала она, — как мне гадко,
великий Боже!»
Ощутила громадный ужас и вместе леденящее бессилие
перед настоящим. Теперь уже ничего не исправишь. Ничего.
Гнусные подробности того, что ждало ее в квартире господина X.,
мучили заранее. Хотя бы скорее кончилось. Нервно зевала,
дрожала, и веки стали тяжелыми.
Шумно звонила у дома № 14. Дворник, однако,
отказывался впустить ее к жильцу. Он уверял, что тот еще не
возвращался, не хотел брать денег. Униженно просила его. Наконец
дворник сдался.
Скользнула в громадные черные ворота, бродила по
залитому асфальтом двору, путалась.
Усталая, нетерпеливая, нашла нужную дверь.
Господин X. сам открыл ей. Почему так поздно? Он уже
поужинал и не ждал ее... Так порядочные люди не поступают...
Забывая сухой прием и предстоящее, она по-детски
обрадовалась человеческому голосу, лампе, тишине и наглухо спущен-
370
ным шторам. Как будто почувствовала себя в безопасности.
Белая ночь больше не терзала ее нервы.
Но это продолжалось недолго. Господин X. был нетерпелив
и циничен. В тупой тоске, почти машинально она исполнила все,
что от нее требовали. Потом он стал торопить ее. Ему не
хотелось оставить ее до утра. Соседи, прислуга, дворник... Нет уж,
увольте...
Он отсчитывал деньги, наклонившись к лампе. Сонное,
распухшее лицо, красный нос в росинках пота... голубая ночная
сорочка расстегнулась на груди, подтяжки впивались в его
пухлые женственные плечи. Старый развратник! Иронически
разглядывала его, бледная, измученная, с плотно сжатыми губами.
Значит, он все-таки выгоняет ее ночью?
Умышленно небрежно простилась.
Дворцовый мост развели. Кучка прохожих и несколько
извозчиков смотрели, как медленно, величественно и бесшумно
плыли пароходы, серые баржи. Мачты напоминали спицы.
Тянуло холодом. Вода была теперь синяя с серебряным отливом,
похитившая с неба перламутровые оттенки.
Прислонившись к сырым камням, женщина также
смотрела на Неву.
Мужчина подошел к ней незаметно. На его оклик она
оглянулась с видом пойманной птицы.
И почти тотчас же ей показалось, что земля плывет под ее
ногами.
Этот человек так походил на того... любимого... в прошлом.
Ошеломленная, она молчала. Пристально смотрела на его
печальный рот, произносящий нежные слова. Грезила наяву.
— Почему ты одна?
И он взял ее за руку.
— Я возвращаюсь, — пробормотала она, слабея от радости.
— Тебя не беспокоят белые ночи?
— Очень беспокоят.
Она позволила увести себя, дрожа с головы до ног...
Сколько белых ночей провела она вместе с тем, другим, ушедшим!..
Почему он бросил ее? Потому что никогда не любил. Почему
она не может забыть его? Потому что любят один раз.
Мужчина жаловался на бессонницу и тоску. Проклятый
город! Проклятые мистические ночи!..
Заметил небрежно:
— Ты имеешь интеллигентный вид, дитя... Я не развратен, но
я любопытен... вот и брожу по улицам. Да, ты возбуждаешь во
мне любопытство,
13 *
371
Она смотрела на него робко и восхищенно. Боже, Боже,
какое изумительное сходство... только нет, ни за что не выдаст
она своей тайны... Она представила его губы на своих губах и
похолодела. О, какое будет наслаждение покоряться ему!..
Какой восторг — закрыть глаза и слушать этот голос! В ее груди
струилась нежная, печальная, вспыхнувшая любовь.
Все преобразилось для нее. Вот она шла ночью, одна, и после
стольких лет встретила его...
— Я буду любить тебя... ласкать тебя... О, говори еще!..
Мужчина изумленно наклонился к падшей женщине. Ее
голос был голос любви. Спросил беспокойно:
— Кажется, я не встречал тебя раньше?
— Нет. О нет!..
И осыпала его влюбленными словами, взволнованная, с
горящими расширенными глазами, ставшая сразу прекрасной.
Он молча слушал ее, недоумевая и хмурясь.
— Я напоминаю тебе кого-нибудь?
-Нет.
Он бормотал что-то, а она вся трепетала от восторга и
забыла, где она и что с нею.
— Я не пойду с вами, — вдруг резко сказал он, —я не могу...
нет... я еще человек... и человека я не могу купить.
Умоляя, взяла его за руки.
— Выслушайте меня... выслушайте...
Их руки были страшно холодны. Влага легла на лица и
костюмы. Белая ночь светлела, сияла.
Блестели сквозь дымку купола, на небе легко-розовые,
желтоватые тона. Зелень и пестрые цветники в сквере были свежи,
вспрыснутые росою.
Женщина умоляла со слезами, с исступленной тоской и
нежностью.
— Я люблю вас сегодня... Что вам до того, почему и за что я
люблю вас? Да, я вижу вас в первый раз и последний, но вы
близки мне... Я не проститутка с вами... Понимаете? Я люблю
вас...
Обняла его тут же и поцеловала в упоении. Он стоял такой
бледный и остро смотрел на нее. Колебался. Потом снова им
овладело подозрение. Решительно отнял свои руки.
— Нет... нет... вы мне внушаете слишком большую жалость...
Она дала ему уйти крупными, нервными шагами, сама же
дотащилась до скамьи и села.
Было ослепительно светло, холодно и пусто. Там, дальше, за
сквером, ехала и пела пьяная проститутка. Красный султан то
372
падал на плечи, то развевался по ветру, а песенка уносилась
далеко, пронзительная и фальшивая.
СТАКАН КОФЕ
Им поклонился лакей, улыбаясь, как старым знакомым, и
барышня у кассы.
После сырого, туманного вечера и грохота улицы здесь
казалось очень светло, нарядно и уютно, хотя, в сущности, это
была самая простая, недорогая кофейная. Зеленые
бархатные портьеры, высокие узкие зеркала, несколько чахоточных
пальм.
Три пожилых господина читали газету вполголоса за общим
столом. Они даже не оглянулись. Адель шутила неестественно
громко. Глаза ее бегали по предметам. Красные цветы на
гигантской шляпе трепетали с угрожающим видом. Всякое
равнодушие тревожило ее. Хотела быть замечаемой везде, всегда и
всеми. Она стягивала перчатки, заказывая кофе, и даже лакею
улыбнулась бесстыдной, обнаженной улыбкой.
Большими страдающими глазами Морвиц следил за нею.
Эта женщина приводила его в ужас. Что тянуло ее к
пошлости и греху? Понимала ли она, что делала? Вчера она сказала
ему, вся красная от возбуждения:
— Какой же вы влюбленный, если у вас нет денег?
Влюбленные всегда должны иметь деньги. Продайте себя, заложите,
украдите, но достаньте!
Он стыдился ее, стен, самого себя. Да, вчера все было
ужасно. Ее платья, духи, голос, злость, даже слезы, даже жалобы.
Впрочем, чего он мог требовать от маленькой выходной
актрисы? Она шокировала его также своим пошлым именем Адель;
часто он называл ее то Марией, то Ирэной. Но он любил ее.
Порядочный, интеллигентный, умный человек любил
распущенную, глупую, нравственно нечистоплотную женщину. И чем он
больше убеждался в этом, тем сильнее приходил в отчаяние.
Сейчас Морвиц нагнулся к ней:
— Я хочу серьезно поговорить с вами, Адель... вчера вы
раздражались, но...
Она мешала ложечкой в стакане с детски сосредоточенным
видом, потом неожиданно замурлыкала:
Зачем страдать, зачем жалеть
Мне об отвергнутой любви...
373
— Тсс!.. Бога ради!.. На нас смотрят.
— Ну и пусть...
Расстроенный, он прошептал:
— Вы должны пожалеть меня... возможно, мы видимся в
последний раз...
— Ах, сколько раз я это слышала!
Он искал слов и не находил.
Ему казалось глубочайшей иронией и то, что о своей любви,
о своем будущем он станет говорить здесь, за стаканом кофе,
под взглядами лакеев.
Вспоминал эти два года мытарств от ее дома к ее уборной,
от ресторана к ресторану, счета, долги, упреки, сцены, грубую
любовь. Ему хотелось закрыть глаза — такую усталость он
чувствовал.
На нее не действовала ни ласка, ни угроза. Если она
голодала, то переносила это тупо, равнодушно, валяясь в неубранной
комнате; если жилось хорошо — хохотала ему прямо в лицо:
— Ты видишь, я еще пойду далеко.
Ад ель ела бисквиты и осторожно косилась в сторону троих
мужчин. Решительно, один из них напоминал ей кого-то.
Заикаясь от волнения, Морвиц задал ей ненужный вопрос:
— Неужели же ваша обстановка не тяготит вас?
— У меня отличная обстановка... Вы не находите?
— Не шутите лее, Ад ель...
— Скучно мне с вами, всегда одно и то же.
Сброшу с себя я оковы любви
И постараюсь забыться...
— Да не пойте же мне прямо в лицо!
— Ах, извините, пожалуйста...
Она надулась и зевала. Красные цветы колебались
по-прежнему, словно кричали Морвицу: «Нет... нет!..»
Мужчины уже не читали. Она мимикой чуть-чуть трусливо
разговаривала с ними. Смеялась над своим спутником. Морвиц
чувствовал это. У него выступил холодный пот.
Он желал, неудержимо, страстно желал заставить ее думать
о себе.
Пробормотал:
— Ад ель, помиримся... будем думать, что ничего не
случилось.
— Мне все равно, я не ссорилась.
Бледный, он решился прибегнуть к последнему:
374
— Хотите переехать ко мне, остаться со мною навсегда?
Ад ель смеялась:
— К вам переехать?
И вот я вновь опять с тобой
Безумным счастьем наслаждаюсь...
Чернобровая барышня подсчитывала кассу. Томились,
переминались, лениво перебирая конфеты, продавщицы. Лакеи
болтали вполголоса.
Снова ему пришло в голову, что Адель похожа на всех этих
накрашенных девиц, вульгарна и глупа.
Мелькнуло, как зарница, где-то глубоко-глубоко на дне души
и померкло. Осталось сознание, что он любит ничтожество и
сам делается ничтожеством.
— Это ваше последнее слово, Адель?
— Ну как же иначе? Иначе... я не знаю.
Неожиданно один из трех мужчин поднялся и поклонился
Адели.
Оживленно закивала головой, а вместе с нею оживились и
красные цветы на шляпе.
— Monsieur Венцель, идите сюда...
Морвицу оставалось тоже подняться и поклониться
непрошеному гостю.
Этот седой господин подсел к ним. Они снова спросили кофе.
Теперь Адель беспрерывно смеялась. Распахнула жакет и
развалилась.
Морвицу вдруг захотелось сейчас же проститься,
демонстративно удалиться, поступить с нею, как она того заслуживает.
И от волнения он бледнел все больше. Он ревновал с
физической болью.
Господин Венцель оказался очень предупредительным. У них
были общие интересы. Она настоятельно приглашала его.
Господин Венцель писал адрес на визитной карточке.
«Он поедет к ней, разумеется, — терзался Морвиц. — Зачем
он ей!.. Можно ли так страдать?!»
Ему казалось, что это тянулось невыносимо долго.
Наконец они втроем вышли.
Адель захотела кататься.
Около экипажа она и господин Венцель остановились в
нерешительности. Ясно, одному из них следовало проститься. По
лицу господина Венцеля ползла еле уловимая, как судорога,
улыбка.
375
Тогда Морвиц поднял шляпу:
— До свиданья!
Адель облегченно рассмеялась. Приветливо откликнулась.
До свиданья, конечно. И пусть бы он поднял воротник, а то
холодно...
Он пошел обратно очень быстро, словно боясь сам за себя.
Теперь все кончено. Ясно, все кончено.
Вернувшись к себе, он в изнеможении бросился на диван.
Ему уже приготовили чай, его любимый хлебец и варенье.
Старая горничная неслышно ступала в соседней комнате.
Потрескивал камин. Сквозь плотно спущенные шторы не доносился гул
улицы. Раскрытый томик мечтательного Шелли ждал его.
И Морвиц смягчился.
Он снова сделался деликатным, тихим, немного грустным,
но бесконечно добрым человеком.
Он сделался тем, чем был в действительности. И он думал,
что Адель не так уж сильно виновата. Он забыл о настоящей
Адели, а мечтал о той, которую сам создал.
И, полный нежности, любви, раскаяния, он схватил лист
бумаги.
«Моя дорогая крошка, я так сильно виноват...»
Он писал до полуночи и улыбался.
МЕРТВОЕ
I
Таня открыла глаза. Который час? Неужели она проспала?
Чутко прислушалась.
В соседней комнате кто-то глухо кашляет и тяжело дышит.
У тети Вари припадок астмы.
Таня видит, как бесшумно мелькнула горничная с платьем.
Отразилась в зеркальной двери шкапа.
Вставать не хочется.
Постель такая мягкая, широкая, белье тонкое. Понежиться
бы... Но стесняется тетки. Досадует иронически и
сконфуженно. Не успела переступить порога, как чувствует себя девочкой,
бедной родственницей, зависящей даже от прислуги. Режим
здесь строг. Нужно вовремя говорить, вовремя молчать,
вовремя смеяться. Нужно изменить походку, голос, прическу,
жесты. Нужно быть безличной, угодливой, веселой и забавной. Такая
атмосфера кругом.
376
Все лгут, все лицемерят, все боятся тети Вари, льстят и
завидуют. Воздух насыщен магическим словом «деньги». О деньгах
кричат стены, зеркала, ковры, цветы, стильная мебель,
жемчуга в ушах тети Вари, ее платья, шубы, карета, лакеи. Деньги!.. О
них думают, говорят, мечтают, о них видят сны. Они перестали
быть мертвым предметом. Занимают первое место и, наглые,
всемогущие, лезут ежеминутно — и в душу, и в мозг.
Заражается этим и Таня. Кошмаром выглядит прошлая бедность.
Удивилась. Вот анализируешь себя, анализируешь, а не
поймешь до конца.
Из спальни голос тетки, глухой, но приятный:
— Кофе хочешь?
— Да, пожалуйста.
Это — мелочь, но мелочь, раздражающая Таню. Привыкла
пить кофе одетая, причесанная и непременно с газетой. Здесь
нельзя. Тетя Варя зовет к себе.
Милость. Знак благосклонности. Нужно дорожить. Таня
наскоро одевается.
Спальня молочно-розовая, похожая на раковину. Хорошо.
Кажется, никогда не ушел бы отсюда. Странно думать, что есть
нищета на свете. Тут не поверится. Жалость гаснет. Сердце
каменеет. Тетя Варя борется с астмой. Дорогие кружева так и
вздымаются на груди. Вздрагивают точеные руки,
выкрашенные волосы, серьги... Она все-таки изумительно сохранилась для
своих пятидесяти лет.
Была красавицей.
— Добрый день, тетя!
Таня принужденно садится, берет чашку кофе. Ей неловко
под взглядом старухи.
— Знаешь, — говорит медленно, задыхаясь, тетя Варя, — я
ночью решила, что ты можешь повидать Смирнова... Ну да,
конечно... ты права... прошло уже много времени... свое ты
отстрадала... Может быть, вы помиритесь... Ты его простила?
Племянница бледнеет:
— Я ради этого и приехала.
— Ведь ты его простила? А? Отвечай, — сердится тетя Варя.
— Простила.
— Ну вот... пойдешь сегодня... А ты очень любила ребенка?
— Очень.
— Плакала, когда он умер?
— Плакала.
— Господи!.. Ты радоваться должна... ведь ты теперь замуж
можешь выйти... да... Три года ты его не видела?.. Смирнова?
377
— Три года...
— Ах, Боже мой!..
Таня бросает задумчиво:
— Никогда мы не возвращаемся такими, как уехали...
Ужасно меняемся... все меняется... когда любишь — это даже
страшно... Словно ежедневно умираем.
Тетя Варя откидывается на подушки. Сразу ее лицо
становится злым, неприятным.
— Довольно, Таня... не люблю я панихид... Сама во всем
виновата... увлеклась, наделала глупостей, удержать не сумела...
А могло быть иначе.
Примолкли. Слышно, как лакей убирает гостиную.
На парадном звонок. Это управляющий — Миронов.
— Ну иди... да будь веселее, — сухо говорит тетка.
II
Миронов — тихий, корректный старик в pince-nez.
Управляющий, поверенный и свой человек у тети Вари.
С Таней он почтительно мягок. Помнит ее драму. Всегда был
на ее стороне.
— Петр Иванович, — мучительно краснеет Таня, — свезите
меня к Смирнову... Тетя Варя тоже советует.
— Хорошо-с... хорошо, — смущенно кланяется он.
Ровно, без выражения и на вид холодно докладывает.
Смирнов продал дом. Болен. Не встает с кресел. Тетя Варя его
навещает изредка.
У Тани вырывается искренний измученный крик:
— Скучно у вас здесь, Петр Иванович... душно... отвыкла я.
Приехала и не рада... Нет, видно, ерунда все это... родственные
чувства.
— Тсс... тсс!.. — пугается Миронов.
Она волнуется:
— Петр Иванович, родной вы мой, зачем я приехала? Не
примет меня Смирнов... Чувствую, что не примет... Чем я тогда
жить буду? Ведь три года только этой надеждой и дышу... Ах,
что я наделала... Разве мертвое воскресает? Удивительно
заблуждается человек... Служила я себе в N-ске, с ребенком
нянчилась, языками занималась и думала: «Погоди, не то... клочок
жизни, не сама жизнь, а жизнь яркая, прекрасная, кипучая там...
где Смирнов, тетя, мои подруги по детству, мое прошлое...»
И когда мой Колька умер, я утешалась тем же... А теперь мне
так страшно, Петр Иванович... так страшно...
378
— Тс... тише!..
Засмеялась. Хорошо, хорошо... она замолчит. Она сама, сама
знает, что нужно замолчать. Умоляюще взяла его за руки.
— Петр Иванович, а если я увижу Смирнова... если... Тогда
может быть иначе, Петр Иванович? Правда?
-Да... да...
Отошла, задумалась. И мысли странно не вязались с
настоящим. О весне думала. Каждый год она повторялась. Каждый
год радовала человеческое сердце. Каждый год казалась новой,
желанной, не познанной до конца. Приносила с собою
дымчатые робкие мечты, наполняла сердца невыразимой нежностью,
сулила то, чего никогда не исполняла. Таня вздохнула. Ах,
укатали сивку крутые горки!.. Плохо ей. Тяжело. Тоскливо.
Мелькнули годы пусто, холодно, ненужно. Не сумела взять от
жизни главное — ее радость. Только печалью куталась. Никому не
дала счастья своим гибким, пытливым умом, здоровым,
сильным, красивым телом, ни даже умением работать жадно и
весело. Не сумела ни найти удовлетворения, ни обеспечить себя, ни
грешить, ни жить «праведно». Даже в любовь к Смирнову
вплела серые будничные ноты, отреклась от нее одно время,
возвращалась теперь пугливо. Нет, не умела... ничего не умела.
— Чему вы смеетесь, Татьяна Михайловна?
— Весело, Петр Иванович.
Миронов счета проверяет. Таня медленно ходит. Тихо.
Кабинет, малиновый с черным, словно дремлет. Сурово глядят
портреты. Часы тикают. Предметы тонут в матовой глубине
зеркала.
Ждут тетю Варю.
III
За обедом человек восемь. Все это приживалки,
приживальщицы и никчемные люди. Таня никого не может назвать по
имени.
Тетя Варя в синем шелковом платье с золотистой сеткой.
Бирюза в ушах, на шее, руках. Моложаво причесана, моложаво
смеется.
Позвякивает серебро, переливает хрусталь, чинно служит
лакей.
— Поедешь к Смирнову? — неожиданно обращается тетка.
— Поеду.
Тетя Варя щурится. Не стесняется присутствием гостей,
рассказывает. Какой это был ужас!.. Какие африканские страсти!..
379
Племянница ум потеряла. Все думали, впрочем, что Смирнов
женится. Нет, какое там... Он человек богатый, избалованный
деспот... Скоро забыл Таню. Никогда не вспоминает... Тетя Варя
горячится. Бросает салфетку, сверкает глазами... Нет, это
подло!.. Это гнусно!.. Таня — сирота. За нее некому было
вступиться. .. Она, тетя Варя, жила тогда за границей... Таня — одна, в
имении... Тут подвернулся Смирнов. Боже мой, все так понятно!..
На Таню обращены взоры целого стола. Шепот сожаления.
Она пьет большими, нервными глотками вино. Роняет устало:
— Все проходит, тетя...
— Нет, не все, — сердится старуха, — и твой Смирнов
негодяй. Я бы на твоем месте заставила его жениться.
После третьего блюда Таня решительно встает.
Половина седьмого... Она поедет.
— Петр Иванович, захватите мою визитную карточку, —
приказывает тетя Варя, — и пусть Таня напомнит, что она —
моя племянница.
Уже на улице Таня вздыхает. Идут некоторое время молча.
Воздух теплый, упругий, приятный для лица. Большое
оживление.
Слова срываются и падают тихие, усталые, никому не
предназначенные:
— Раз налито — нужно выпить. А что я ему скажу —не знаю.
Просить или молчать?
Угадала ответ, заглянувши в добрые глаза Миронова.
— Плохо кончится? Пусть... Я не волнуюсь. Видите, у меня
даже руки теплые.
На углу взяли извозчика. Мелькали освещенные магазины,
дома, театры, сновали люди, бегал трамвай, звенели автомобили.
Думалось же о своем и ничего не виделось из окружающего.
— Нехорошо мне, Петр Иванович... Ах, как нехорошо!..
Надоела я себе...
У подъезда Миронов заволновался:
— Господь вам помоги!
Заразил ее своим волнением. Побледнела. Растерянно
улыбалась. Лепетала:
— Ничего, ничего, я как-нибудь... что-нибудь...
Только в передней Смирнова вспомнила, что не подала
управляющему руки.
— Барин просит, — широко улыбался лакей.
Густо, жарко покраснела, раздеваясь. Медлила у зеркала.
В груди сердце трепетало как птица. Три года разлуки... Что-то
будет?
380
Миновала парадные комнаты слабыми, неуверенными
шагами. Какие-то массивные картины, массивные зеркала. Бронза,
чучела, шкуры. Неуютно, холодно, мрачно. Чувствовала себя
ничтожной, затерянной.
Дверь в кабинет открыта.
Силуэт больного старика...
Смирнов укутан пледом до колен. Халат мышиного цвета,
прозрачные маленькие руки. Лица Таня в первую минуту не
разглядела.
Шла, бессмысленно улыбаясь.
— Здравствуйте, Александр Яковлевич!
— Боже мой, — пробормотал он по-французски, — как вы
напугали меня, Таня... — Капризно крикнул лакею: —Ступай!..
Я не звонил.
Взял Таню за руку, продолжая удивляться. Она стояла
взволнованная до последнего нерва, с бьющимся сердцем,
неискренней улыбкой, не зная, с чего начать. Как он постарел,
изменился... Совсем труп...
— Садитесь ближе, Таня... и не глядите на меня так... болезнь...
Как вы исхудали... Боже мой!.. Что это вам вздумалось?.. Ну...
ну... не обижайтесь... присядьте...
Таня, сбиваясь, оправдывалась. Все смешалось, все забылось.
Заплакала.
Не могла она не приехать... ребенок умер... Она так
одинока... Ведь она любила его искренне... Ей казалось, она имеет
право...
Быстро и с неудовольствием перебил ее:
— Да... да... ужасно — tout passe...* Успокойтесь, дитя мое...
Вы видите, я уже не тот... Любовь, увлечение... Это красиво, но
я устал... Устал от всего... Хотите чаю?
Отказалась жестом. Сидела белее кружева на вороте.
Смирнов неуклюже выдвинул ящик стола.
— У меня конфеты... Кушайте, я то лее ем... Какая сегодня
погода?
Таня молчала. Упорно и скорбно разглядывала это
бескровное надменное лицо с тонкими губами. И этот человек был
отцом ее ребенка? Этого человека она любила? О Боже!..
Смирнов брюзжал. Его все оставили. Родные обирают...
прислуга ворует... пусть бы хоть умереть дали спокойно.
Вдруг взглянул на нее остро, пронизывающе:
— А деньги от меня ты аккуратно получала?
* Все проходит... (фр.)
381
— Да, — вспыхнула Таня, — но теперь мне не нужно... Вы
помогали не мне, ребенку.
Он насмешливо улыбнулся, кусая шоколадку.
— Деньги всегда нужны, впрочем, как хочешь...
И прикрыл глаза. Через минуту он снова очнулся.
— А знаешь, я думал, ты уже замужем... Это было бы умно...
да, умно.
Она начала прощаться. Не задерживал. Просил конфеты
взять.
— Очень вкусные, уверяю тебя...
При ней же задремал. Почему-то напомнил ей тетю Варю.
Шатаясь от тоски, вышла.
IV
Бегут поля, деревни, лес, реки, бежит серое нависшее небо,
бежит туманная синяя даль...
Пассажиры томятся. Глядят безучастно то в окно вагона, то
друг на друга и постно ведут разговоры. Дремлется. Нет
мыслей, нет слов. Таня кутается в плед, зябнет, угрюмо вскидывает
глаза на соседей. Зачем ехала? Зачем возвращается? Зачем
живет?
Не знает.
Скучно ей... одиноко.
ТЕЛЕФОН
Blanche fille aux cheveux roux.
Baudelaire*
— Я слушаю.
— Господин Мурри дома?
— Нет.
— А когда он вернется?
— Никогда.
— Как? Он уехал?
— Он умер.
-Умер?!
-Да.
— Отчего? Как? Когда?
* Белокожая девушка с рыжими волосами. Бодлер (фр..).
382
— Он застрелился.
— О Боже!.. Кто говорит?
— Жена покойного.
— Ах... вы... простите. Я ничего не понимаю... Я теряю голову.
— А со мной кто говорит?
— Моника... Моника Кастельская...
— Хорошо...
— Простите... если вам трудно... тяжело... Я ничего не знала...
Я только что вернулась...
-Да.
— Почему вы не телеграфировали мне? Молено было бы
забыть нашу вражду...
— Я не знала вашего адреса.
— О!.. Но ведь в театре... все общие знакомые... и он... он...
знал!
— Он молчал.
— Не лгите... вы его не спрашивали!
— Не спрашивала.
— Я уехала... он требовал... беспокоило, что я переутомлена
сезоном... я уехала...
-Да.
— А вы его замучили без меня! Это вы... вы довели его до
самоубийства... вы!.. Я вас ненавижу!
-Да.
— Он страдал?
— Очень.
— Он умер, значит, не сразу?
— Через час.
— Он не хотел умирать... Я любила его... Он не хотел
умирать!..
-Да.
— Вы — подлая, бессердечная женщина!.. Вы не умеете быть
великодушной!.. Я ваша соперница... но...
— Мы не соперницы.
— Ах!.. Вы меня слишком презираете?
-Да.
— О!.. О!.. Может быть, вы считаете меня чересчур
ничтожной?..
-Да.
— Вы наглы. Вы подлы. Но он любил меня!.. Меня одну!
-Да.
— Он любил меня больше всего на свете... Он пишет мне об
этом в своем предсмертном письме...
383
-A!..
— Да. Я получила его письмо. Я знала о его смерти. Я
нарочно позвонила вам по телефону... Я вас ненавижу...
-Да.
— Подлая!.. Подлая!.. Он из-за меня застрелился!.. Из-за
меня...
— Я знаю...
— О... простите меня... Я вам причиняю боль... Я схожу с
ума... Мне страшно... Мне больно... Простите!..
-Нет.
— Простите!.. Ваш голос... Мертвый, страшный голос...
Я боюсь вас... Я бросаюсь перед вами на колени... Я боюсь вас...
Простите!
ЕГО ЖЕНА
Первая мысль о ней... я ее ненавижу.
Первые цветы для нее... я ее ненавижу.
Эта Carte postale для нее... я ее ненавижу.
(Его жена читает и говорит: «Бедняжка!»)
Последняя мысль о нем... я его люблю.
Последние цветы ему... я егр люблю.
Эта Carte postale для него... я его люблю.
(Его жена читает и говорит: «Бедняжка!»)
ПРИМЕЧАНИЯ
Личный архив и почти все творческие рукописи Анны Map
не сохранились. Полная библиография публикаций ее
произведений в периодической печати отсутствует. Это затрудняет
датировку и установление первой публикации текстов. Указание
на первую публикацию дано только в тех случаях, когда ее
можно было установить.
ЖЕНЩИНА НА КРЕСТЕ
Беловой недатированный автограф первых глав романа с правкой
сохранился в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (РIII, оп. 1, ед. хр. 1460).
Печатается по изд.: Map Анна. Женщина на кресте. Роман. Посмертное
3-е изд., без пропусков. М., 1918. Впервые опубл.: М., 1916, со
значительными цензурными изъятиями.
С. 22. Бегония — кустарник или полукустарник с ползучим
корневищем и красивыми асимметричными листьями.
С. 24. Стиль ампир — стиль мебели 1799 — 1815 гг. — времени
империи Наполеона I. Для этого стиля было характерно прямое заимствование
античных форм мебели, строгое следование главным образом за
древнеримскими образцами.
Грифон (греч. миф.) — чудовищная птица с орлиным клювом и
телом льва.
Наполеон I — Наполеон Бонапарт (1769 — 1821), французский
государственный деятель и полководец, в 1804 —1814и1815гг. — император
Франции.
Герцог Рейхштадтский — Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт (1811 —
1832), сын Наполеона I, отрекшегося в 1815 г. от престола в пользу сына и
провозгласившего его Наполеоном II.
Жозефина — Жозефина Богарне (1763 —1814) — первая жена
Наполеона I.
Полина Боргезе (1780 — 1825) — сестра Наполеона I, жена князя
Камилла Боргезе.
Юзеф, князь Понятовский (1763 — 1813) — польский генерал, мар-
385
шал Франции. В 1812 г. сформировал стотысячную армию и во время
похода Наполеона I на Россию командовал 5-м польским корпусом
наполеоновской «Великой армии». Утонул после Лейпцигского сражения
1813 г.
С. 24. Мария Валевская (1789 — 1817) — с 1807 г. возлюбленная
Наполеона I.
Гюстав Флобер (1821 — 1880) — французский писатель, один из
эстетических предшественников декадентства.
С. 25. Ундина — в средневековых западноевропейских легендах дух
воды в образе женщины.
... перелистывает Данте. — Имеется в виду произведение итальянского
поэта Данте Алигьери «Божественная комедия» (1307 — 1321).
С. 26. Сирена (греч. миф.) — обитающее в море существо в виде
женщины с птичьими ногами или птицы с женской головой, пением
увлекавшей моряков в гибельные места.
Круглое зеркало в оправе из бронзовых ненюфаров... — Ненюфар (от фр.
«nénuphar») — водяная лилия, один из излюбленных элементов декора
мебели в стиле модерн.
Лорелея — по немецким легендам долины реки Рейн, фея, обитающая
в водах этой реки, заманивающая своими песнями пловцов и моряков в
опасные места.
С. 27. Огромный фантастический сад, всеми забытый (подобно Параду у
Золя)... — Имеется в виду место действия романа Э. Золя «Проступок
аббата Муре» (1875) из цикла «Рутон-Маккары», прекрасный сад, на фоне
которого разворачивается история любви Сержа Муре и Альбины.
С. 28. Махаон — крупная дневная бабочка из семейства парусников,
яркой окраски, с отростками на концах задних крыльев.
...не всех влечет Сиенская и не всем понятен язык Терезы. — Св.
Екатерина Сиенская (1347 — 1380) — доминиканская монахиня, прославившаяся
благочестием; святая Тереза (1515 — 1582) — испанская монахиня,
религиозная писательница. Письма святой Терезы являются вдохновенными,
пронизанными верой проповедями и считаются высокохудожественными
эпистолярными произведениями испанской литературы.
Луиза Франсуаза, герцогиня де Лавалъер (1644 — 1710) — фаворитка
французского короля Людовика XTV. После приближения к королю г-жи
де Монтеспан Лавалъер удалилась со двора и постриглась в монастыре
кармелиток в Париже.
Стиль ренессанс — стиль мебели второй половины XV — XVI вв., для
которого в целом характерно стремление к четким формам, ясным
построениям, использование в оформлении архитектурных элементов, в
орнаментике — отталкивание от античных образцов.
С. 29. Эспри — украшение в виде пера или пучка перьев, расходящихся
в разные стороны, которое прикладывается к женской прическе или
головному убору.
С. 31. Гай Юлий Цезарь (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) — древнеримский
государственный и политический деятель, полководец, писатель.
С. 34. В 1807 году маршал Дюрок останавливался здесь. — Жерар Кри-
стоф Дюрок (1772 — 1813) — герцог Фриумский, великий маршал двора
Наполеона I, убит ядром у Вуршена на другой день после Бауценского
сражения.
386
С. 39. ...с гротом Лурдской Мадонны... — Согласно легенде, в 1858 г.
в гроте Масавьель недалеко от города Лурда (Франция) произошло
чудесное явление Мадонны. С тех пор это место стало объектом паломничества,
а грот с фигурой Мадонны вошел в пантеон католических скульптурных
изображений.
С. 40. ...перечитать... «Людвину из Шидама» Гюисманса. — Шарль
Мари Жорж Гюисманс (1848 — 1907) — французский писатель-декадент,
в поздних произведениях обратившийся к проповеди католицизма. Здесь
имеется в виду его книга «Св. Люд вина из Шидама» (1901).
С. 41. Святой Августин (Аврелий) (354 — 430) — один из
знаменитейших Отцов Церкви, автор многочисленных сочинений
автобиографического, гомилетико-экзегетического и полемического содержания.
Святая Роза de Lama (1586 — 1617) — монахиня доминиканского
ордена.
Святая Тереза изАвилы (1515 — 1582) —монахиня-кармелитка,
знаменитая мистическими видениями и пророчествами, религиозная
писательница.
Святая Маргарита-Мария Алякок (1647 — 1699) — религиозная
визионерка.
С. 42. Стигматы — язвочки или красные пятна на теле,
появляющиеся в результате самовнушения у некоторых верующих на руках и ногах, в
местах, соответствующих расположению предсмертных язв распятого
Иисуса Христа.
...слова Метерлинка: «Не нужно оставаться там долго, где была
счастлива душа». —Морис Метерлинк (1862 — 1949) — бельгийский писатель-
символист. Та же цитата из Метерлинка приведена в статье Анны Map
«Розы мистические (Роль женщины в католицизме)» (журн. «Женское дело»,
1916, № 8, с. 12). Данная статья во многом является пересказом отрывка
из романа, в котором описывается религиозное чтение Алины.
С. 44. ...в томик Гонкура... — Имеется в виду Эдмон Гонкур (1822 —
1896), французский писатель, в творчестве которого после смерти брата-
соавтора Жюля Гонкура (1830 — 1870) сказалось влияние тематики
декаданса, в частности, появился интерес к изображению патологических
склонностей и влечений.
С. 47. Наяда (греч. миф.) — нимфа рек и ручьев.
С. 50. Жалюзи — многостворчатые ставни и шторы, применяемые для
регулировки светового и воздушного потока.
С. 54. ...если бы вы жили во времена Сафо, вы бы служили Афродите, как
Билитис. — Речь идет о литературной мистификации французского
писателя Пьера Луи (1870 — 1925), опубликовавшего в 1895 г. книгу «Песни
Билитис, переведенные с греческого впервые П. Л.», содержащую стихи
якобы вновь открытой древнегреческой поэтессы Билитис, ученицы
знаменитой Сафо (628 — 568 гг. до н. э.).
С. 57. ...Бруно - великолепный экземпляр вырождения. Из него может
получиться и гений, и безумец. — Намек на идеи популярной в начале XX в.
книги Макса Нордау (1849 — 1923) «Вырождение», трактовавшей разные
ипостаси вырождения как глобального явления культуры и в особенности
литературы современного западного общества.
...отказывается бормотать с нейружанец... —т. е. бормотать молитвы,
перебирая четки (от пол. «różanie» — четки).
387
С. 61. ...пузатые шкафчики Людовика XV... — Стиль Людовика XV —
стиль мебели второй четверти XVIII в. — французское рококо. Для
него характерны причудливые формы орнаментики, состоящей из
раковин, завитков, цветочных гирлянд, прихотливо извивающихся стеблей и
т.д.
Пан (греч. миф.) — бог — защитник пастухов, сын Гермеса,
похотливое создание, получеловек с ногами, бородой и рогами козла.
С. 62. Либерти — сорт блестящей мягкой (обычно шелковой или
полушелковой) ткани.
С. 64. Трубадур — средневековый провансальский странствующий
певец-поэт.
С. 65. Адонис (греч. миф.) — прекрасный юноша, возлюбленный
богини Афродиты, убитый на охоте.
Антраша — в классическом балетном танце легкий прыжок вверх, во
время которого ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь
друг друга.
С. 69. ...сомнамбулическое состояние —гипнотическое состояние.
...на большой картине, императрица Мария-Луиза обнимала
маленького Римского короля. — Мария-Луиза (1791 — 1847) — вторая жена
Наполеона I, после его падения — герцогиня Пармская, дочь императора
австрийского Франца I. В 1811 г. у нее родился сын, которому Наполеон дал
титул Римского короля.
С. 71. ...похожей на молодую ведьму Ропса... — Фелисьен Ропс (1833 —
1898) — бельгийский график и живописец, испытавший влияние О.
Домье, импрессионистов и А. де Тулуз-Лотрека. Известен как мастер
аллегорических композиций, сочетающих натурализм эротических сцен с
мистической символикой.
С. 73. Драпри — занавеска, портьера (от фр. «draperie»).
С. 79. ...подобно Абеляру я уже влюблен в тебя. — Пьер Абеляр (1079 —
1142) — французский философ, богослов и поэт, впоследствии монах.
История его любви к своей ученице Элоизе закончилась трагической
катастрофой, после чего Абеляр и Элоиза приняли монашеский чин (1119 г.).
С. 82. Бонбоньерка — изящная коробка для конфет.
С. 88. «Мемуары» графа Las Cases... — Имеется в виду сочинение
«Мемориал Св. Елены» французского историка графа Эммануэля Лас Каз
(1766 — 1842), сопровождавшего Наполеона I в ссылку на остров Св.
Елены.
Мария Стюарт (1542 — 1587) — известная своей красотой и
трагической судьбой дочь Иакова V и Марии Гиз, королева Шотландии.
Андриенна Лекуврер (1692 — 1730) — французская актриса, ранняя
смерть которой вызвала слухи о ее отравлении герцогиней Бульонской —
ее соперницей в любви к полководцу Морису Саксонскому.
Заира — героиня трагедии Вольтера «Заира» (1732).
Магдалина — Мария из г. Магдалы (Мария Магдалина), одна из жен-
мироносиц, последовательница Иисуса Христа, бывшая блудница, под
его влиянием возродившаяся к новой жизни. В христианском вероучении
Магдалина считается образцом искреннего покаяния и обращения к вере
в Христа.
Екатерина Медичи (1519 — 1589) — французская королева, жена
Генриха П. В царствование своих сыновей Франциска П (1559 — 1560), Карла
388
IX (1550 — 1574), Генриха Ш (1574 — 1589) в значительной степени
определяла государственную политику Франции.
С. 88. Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721 —
1764) — с 1745 г. фаворитка французского короля Людовика XV.
Оказывала существенное влияние на государственные дела.
С. 89. Мария Манчини (1640 — 1715) — возлюбленная французского
короля Людовика XIV, собравшегося даже жениться на ней.
С. 92. Тюник (от фр. «tunique») — верхняя часть двойной женской
юбки.
С. 102. Святой Альфонс Мария де Лигури (1696 — 1787) — монах,
основатель ордена Святого Искупителя, автор знаменитого сочинения
«Моральная теология».
С. 103. Анна Катарина Эммерих (1774 — 1824) — немецкая
религиозная писательница и мистик.
АнтониоАллегри, прозванный Корреджио (1494 —1534) —знаменитый
итальянский живописец, написавший, в частности, картину «Христос,
являющийся Марии Магдалине в виде садовника» (музей Прадо).
Питер Пауль Рубенс (1577 — 1640) — известный фламандский
живописец.
С. 104. Гофман... — Имеется в виду поэт-символист и друг Анны Map
Виктор Викторович Гофман (1884 — 1911). Основными мотивами его
стихов были романтические грезы, намеки на отблески чувства. Покончил с
собой в состоянии душевной депрессии. Анна Map написала его некролог
(«Новый журнал для всех», 1911, № 35).
Игнасио Зулоаг (Зулоага) (1870 — 1945) — испанский живописец, в
своем творчестве сочетал традиции старых испанских мастеров с
гротеском, подчеркивал национальную характерность народных типов.
Арнольд Бёклин (1827 — 1901) — швейцарский живописец.
Присутствовавшее в его картинах сочетание символики и
натуралистической достоверности деталей повлияло на формирование немецкого
символизма.
...как она напоминает героинь Д'Аннунцио. — Габриэле Д'Аннунцио
(1863 — 1938) — итальянский писатель-декадент. Героини его
произведений, как правило, страстные, роковые женщины.
ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ
НЕВОЗМОЖНОЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Новая жизнь», 1911, № 6.
С. 120. Комжа (от пол. «komża») — белое одеяние ксендза, одеваемое
при богослужении.
Курат (от пол. «kurator») — попечитель.
С. 121. Девотка (отпол. «dewotka») —ханжа, святоша.
С. 122. Литания — торжественная церковная служба у католиков.
С. 123. Кокотка (от фр. «cocotte») — женщина легкого поведения,
живущая на содержании у мужчин.
С. 126. Фома Кемпийский (1379 — 1471) — немецкий писатель-мистик.
389
С. 127. «Расскажите вы ей...» — слова из арии Зибеля персонажа
оперы Шарля Гуно «Фауст» (1859).
Целибат (от лат. «caelibatus») — обязательное безбрачие,
установленное для части христианского духовенства, в частности, для католических
священников.
С. 132. ...увлекается... платонически... — Здесь в значении: чисто
духовно, без примеси чувственности.
Сакристиан — человек, который зажигает свечи и прислуживает в
костеле.
С. 145. Женщина в его представлении рисовалась или Мадонной святого
Бернарда или Беатриче Данте. — Св. Бернард — вероятно, имеется в виду
Бернард Клервосский (1091 — 1153) — настоятель монашеской общины в
Клерво (Франция), религиозный общественный деятель и писатель;
Беатриче — рано умершая молодая женщина, чей идеализированный образ
воспевал в стихах и «Божественной комедии» итальянский поэт Данте
Алигьери (1265 - 1321).
Он не мог простить ей падения. Он понимал Магдалину лишь в тот
момент, когда Спаситель говорит ей у гроба: «Мария», - и посылает к
ученикам. — Имеется в виду евангельский эпизод — явление Воскресшего
Марии Магдалине (Ян, 20, 16 — 18).
Магдалина, целующая ноги Иисуса, была ему чужда и неприятна. В
тайниках души он осудил ее вместе с фарисеями - «Побей ее камнями». — Здесь
в единый контекст соединены евангельские эпизоды, касающиеся двух
грешниц: Марии Магдалины, омывшей и целовавшей ноги Христа и
прощенной им [Лк. 7:36 — 50), и женщины, застигнутой в прелюбодеянии (эпизод,
известный под названием «Христос и грешница» (Ин. 8:1 — 11).
С. 147. Шансонетка (от фр. «chansonette») — песенка игривого, часто
фривольного содержания.
С. 148. Трен (отфр. «traîne») —шлейф.
С. 157. Кассандра (греч. миф.) — дочь троянского царя Приама,
отвергнувшая любовь бога Аполлона, который в наказание наградил ее
даром прорицания, но сделал так, чтобы ее вещим словам никто не верил.
Так, например* она предсказала падение Трои.
Фарисей — лицемер, ханжа. Значение слова восходит к евангельскому
толкованию поведения членов религиозно-политической партии древней
Иудеи, отличавшихся лицемерным благочестием.
Филистер (от нем. «philister») — ограниченный человек с мещанским
кругозором и ханжеским поведением.
С. 165. Гостия — облатка из пресного пшеничного теста большей
частью с изображением агнца и креста как символов распятого Спасителя;
употребляется при причастии в католических и лютеранских церквах.
Гайдн Франц Иозеф (1732 — 1809) — австрийский композитор.
Сакристия — часть храма, где ксендз облачается для
богослужения.
С. 175. Синдик — должностное лицо, ведущее судебные дела какого-
нибудь учреждения.
С. 179. Савояр (от фр. «savoyard») — в западноевропейских странах
уличный музыкант.
С. 186. ...в чесучовом пиджаке... — Чесуча — плотная суровая
(шелковая) ткань полотняного переплетения.
390
С. 186. Выпьем на брудершафт... (от нем. «Brüderschaft»).
—Подразумевается закрепление дружбы особым застольным обрядом, по которому
два его участника одновременно выпивают свои рюмки, целуются и с
этого момента обращаются друг к другу на «ты».
ИДУЩИЕ МИМО
Печатается по изд.: Map Анна. Идущие мимо [Сборник]. М., 1913.
Впервые опубл.: «Русская мысль», 1913, № 3.
С. 189. Тейлор — английский дамский костюм.
С. 198. ...повязала волосы газом. — Имеется в виду косынка или шарф
из газа — прозрачной тонкой ткани.
С. 203. Извела меня кручина... — слова из народной песни
«Лучинушка».
С. 223. ...работает на ремингтоне... — Ремингтон — марка пишущей
машинки.
ЛЮЛЯ БЕК
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1911, № 43.
С. 245. ...петь на bis (от лат. «bis» — «дважды») — т. е. продолжать
пение.
ЛЮБОВЬ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: журн. «Женское дело», 1911, № 5.
С. 247. Бульденеж (от фр. «boule de neige») — кустарник, цветы
которого собраны в сферические белые соцветия.
НА ВОЛЮ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 259. Божница — полка или киот с иконами.
С. 260. «Выйди, да выйди в рожь высокую...» — Здесь и далее в тексте
неточные цитаты из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники» (1861), часть
которой стала словами народной песни.
ЖЕНА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
МЕРТВЫЕ ЛИСТЬЯ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
391
ОБЫЧНОЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
ВОДА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 280. Секрет полишинеля — крылатые слова, обозначающие тайну,
известную всем.
С. 281. Капот — женская просторная одежда с рукавами и сквозной
застежкой спереди.
С. 290. ...предполагаю написать прекрасной даме... — иронический
намек на идеализированный и сакрализованный образ героини цикла
символиста Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1901 — 1902).
ВЕТЕР
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 302. Ада Негри (1870 — 1954) — популярная в начале XX в.
итальянская поэтесса, родом из рабочей среды, изображавшая в стихах нищету
и несчастья низших классов.
ПРИЕЗД РИТЫ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
ДВЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 314. Читала... из Гофмана: «Мрак и ненастье. И безучастье...» -
Цитата из стихотворения В. Гофмана «Безнадежность» (Гофман Виктор.
Собр. соч. В 2 т. М., 1917. Т. 2. С. 69).
...шапочку с султаном... — Султан — украшение в виде вертикального
пучка перьев или конских волос на головном уборе.
CARTES POSTALES*
СЛУЧАЙНОСТЬ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1811, № 41.
С. 323. ...времен Директории... — Директория — правительство
Французской республики, существовавшее с 4 ноября 1795 г. по 10 ноября
1799 г.
* Почтовые открытки (фр.).
392
ОДИН ДЕНЬ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1911, № 42; а также: журн. «Свободным
художествам», 1911, май — июнь.
С. 324. ...идету нас «Веселая смерть» Евреинова... — H. Н. Евреинов
(1879 — 1953) — драматург-модернист, режиссер, теоретик и историк
театра.
ПРАВДА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1911, № 47.
ПРИЗНАНИЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1912, № 1.
С. 333. Одного Антония Падуанского... — Имеется в виду статуэтка,
изображающая св. Антония Падуанского (1195 — 1231) —
францисканского монаха, главу спиритуалов, сурового аскета, героя популярных
религиозных легенд. Св. Антоний — один из главных святых, почитаемых
католической церковью.
ИСПОВЕДЬ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
Впервые опубл.: «Журнал-копейка», 1912, № 2.
ГОРЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 342. Ты на Маргариту похожа. — Маргарита — прекрасная
девушка, героиня оперы Шарля Гуно «Фауст».
ДУРМАН
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
ЕЕ СОЧЕЛЬНИК
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 350. Роберт Александр Шуман (1810 — 1856) — немецкий
композитор.
393
ЯНИНА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 351. Эпиграф взят из стихотворения Ады Негри «Короткая
история».
Йодоформ — обеззараживающее средство в виде желтых кристаллов с
резким запахом.
ГОЛОСА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
ЗА ВЫШИВАНИЕМ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
НАСТРОЕНИЯ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 364. Будда Шакъямуни Гаутама (будд, миф.) — последний земной
будда, проповедовавший дхарму, на основе которой сложилось
буддийское вероучение. В основе образа Будды лежит история жизни
легендарного основателя буддизма, жившего в 566 — 476 гг. в Северной Индии.
Готама [Гаутама] — родовое имя Будды.
С. 365. Ниббана [нирвана] — высшее духовное состояние, обретение
которого составляет цель в буддизме.
С. 366. «Cónfitebor Tibi» (лат.) — название миниатюры является
парафразом слов древнеримского поэта Овидия («Метаморфозы», II, 52):
«Cónfiteor sol (um) hóc tibi, nâte, negârem» («Признаюсь, только в этом
одном я бы тебе отказал, сын мой»). Сюжет Овидия восходит к мифу о боге
солнца Фебе, тщетно отговаривавшем своего сьша Фаэтона от попытки
управлять солнечной колесницей Феба. Не совладав с конями, Фаэтон
гибнет.
Она, Непорочная... — Имеется в виду Богоматерь.
ПОДРУГИ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 367. Стиль Людовика XVI — стиль мебели французского
классицизма конца XVIII в., воскрешающий художественные традиции
античного мира, простые и строгие формы, утонченность деталей.
ЖЕНЩИНА
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 370. Затихший город... — Далее следует описание Санкт-Петербз'рга.
394
СТАКАН КОФЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
С. 376. Перси Биш Шелли (1792 — 1822) — английский поэт-романтик.
МЕРТВОЕ
Печатается по изд.: Map Анна. Невозможное. [Сборник.] М., 1912.
ТЕЛЕФОН
Печатается по изд.: Map Анна. Кровь и кольца. 2-е изд. М., 1916.
Впервые опубл.: журн. «Женское дело», 1916, № 15.
ЕГО ЖЕНА
Печатается по тексту первой публ.: журн. «Женское дело», 1916, № 16.
СОДЕРЖАНИЕ
A. M. Грачева. Мистика пола и религия любви
(Творчество Анны Map) 5
ЖЕНЩИНА НА КРЕСТЕ. Роман 19
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
НЕВОЗМОЖНОЕ. Повесть 117
ИДУЩИЕ МИМО. Повесть 188
ЛЮЛЯ БЕК. Рассказ 242
ЛЮБОВЬ. Рассказ 247
НА ВОЛЮ. Рассказ 254
ЖЕНА. Рассказ 262
МЕРТВЫЕ ЛИСТЬЯ. Рассказ 268
ОБЫЧНОЕ. Рассказ 274
ВОДА. Рассказ 280
ВЕТЕР. Рассказ 298
ПРИЕЗД РРГГЫ. Рассказ 305
ДВЕ. Рассказ 312
CARTES POSTALES
СЛУЧАЙНОСТЬ 321
ОДИН ДЕНЬ 324
ПРАВДА 330
ПРИЗНАНИЕ 333
ИСПОВЕДЬ 336
ГОРЕ 339
ДУРМАН 342
ЕЕ СОЧЕЛЬНИК 347
ЯНИНА 351
ГОЛОСА 355
ЗА ВЫШИВАНИЕМ 359
НАСТРОЕНИЯ 361
ПОДРУГИ 367
396
ЖЕНЩИНА 369
СТАКАН КОФЕ 373
МЕРТВОЕ 376
ТЕЛЕФОН 382
ЕГО ЖЕНА 384
Примечания 385
Map Анна
Женщина на кресте. Роман, повести, рассказы / Состав.,
вступ. ст., примеч. А. М. Грачевой. — М.: Ладомир, 1999. —
397 с. («Русская потаенная литература»)
ISBN 5-86218-275-6
Анна Map (1887 — 1917) — одна из наиболее скандально знаменитых
русских беллетристок начала XX в., известная своей экстравагантной жизнью,
многочисленными возлюбленными и наделавшим много шума самоубийством.
В ее нервной, эротически-утонченной прозе описаны взлеты и падения
любовного чувства, необычные страсти, быт артистической богемы и тайны
католических исповедален. Современному читателю впервые удастся познакомиться
с полным, без цензурных изъятий текстом ее романа «Женщина на кресте»
(1916) — женским вариантом романа Захер-Мазоха «Венера в мехах». Повести
«Невозможное», «Идущие мимо» раскроют красоту полнокровной любви
женщины нового, XX в.
Научное издание
Анна Map
ЖЕНЩИНА НА КРЕСТЕ
Редактор
Ю. Л. Михайлов
Художественный редактор
Е. В. Гаврилин
Технический редактор
М. А. Страшнова
Корректоры
Г. Н. Володина, О. Г. Наренкова
Компьютерная верстка
О. Н. Бойко
ЛР№ 063160от 14.12.1993
Сдано в набор 27.05.98. Подписано в печать 04.12.98
Формат 84x108 '/ . Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная.
Печ. л. 12,50. Усл. печ. л. 21.
Тираж 2000 экз. Заказ № 4280.
Научно-издательский центр «Ладомир»
при содействии ТОО «ВPC»
103617, Москва, К-617, корп. 1435
Отпечатано с оригинал-макета
ТОО ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3
ISBN 586218275-6
В серии
«Русская потаенная литература»
готовятся к изданию:
ЭРОС И ПОРНОГРАФИЯ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Российско-американский сборник статей посвящен
широкому кругу вопросов, связанных с историей и национальной
спецификой эротических тем в русской литературе,
фольклоре и изобразительном искусстве XVIII — XX вв. В основу
сборника положены доклады, прочитанные на
международной конференции «Порнография в России» (22 — 24 мая
1998 г., Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес).
Статьи печатаются на русском или английском языках.
Соответственно каждая статья сопровождена резюме на
английском или русском языке.
А, П. КАМЕНСКИЙ
Мой гарем
Трагически погибший в сталинском концлагере
беллетрист А. П. Каменский (1876 — 1941) приобрел в начале XX
века громкую славу как проповедник полной свободы и
естественности человеческих и, в частности, сексуальных
отношений. В сборник включен его знаменитый
роман-бестселлер «Люди» (1910), герои которого проделывают над собой
рискованные эксперименты, проверяя в парадоксальных
ситуациях разные обличил любви, похоти и страсти. В циклах
его рассказов, включающих скандально нашумевших
«Леду» и «Четырех», легкий юмор, фривольность сочетаются с
проповедью разрушения устаревшей «мещанской» морали,
воспеванием свободного чувства и красоты человеческого
тела. Легкая, изящная проза Каменского не ищет ответов на
трагические «мировые вопросы», для нее величайшая
мировая ценность — любовь, не требующая каких-либо
моральных, социальных или прочих обоснований.