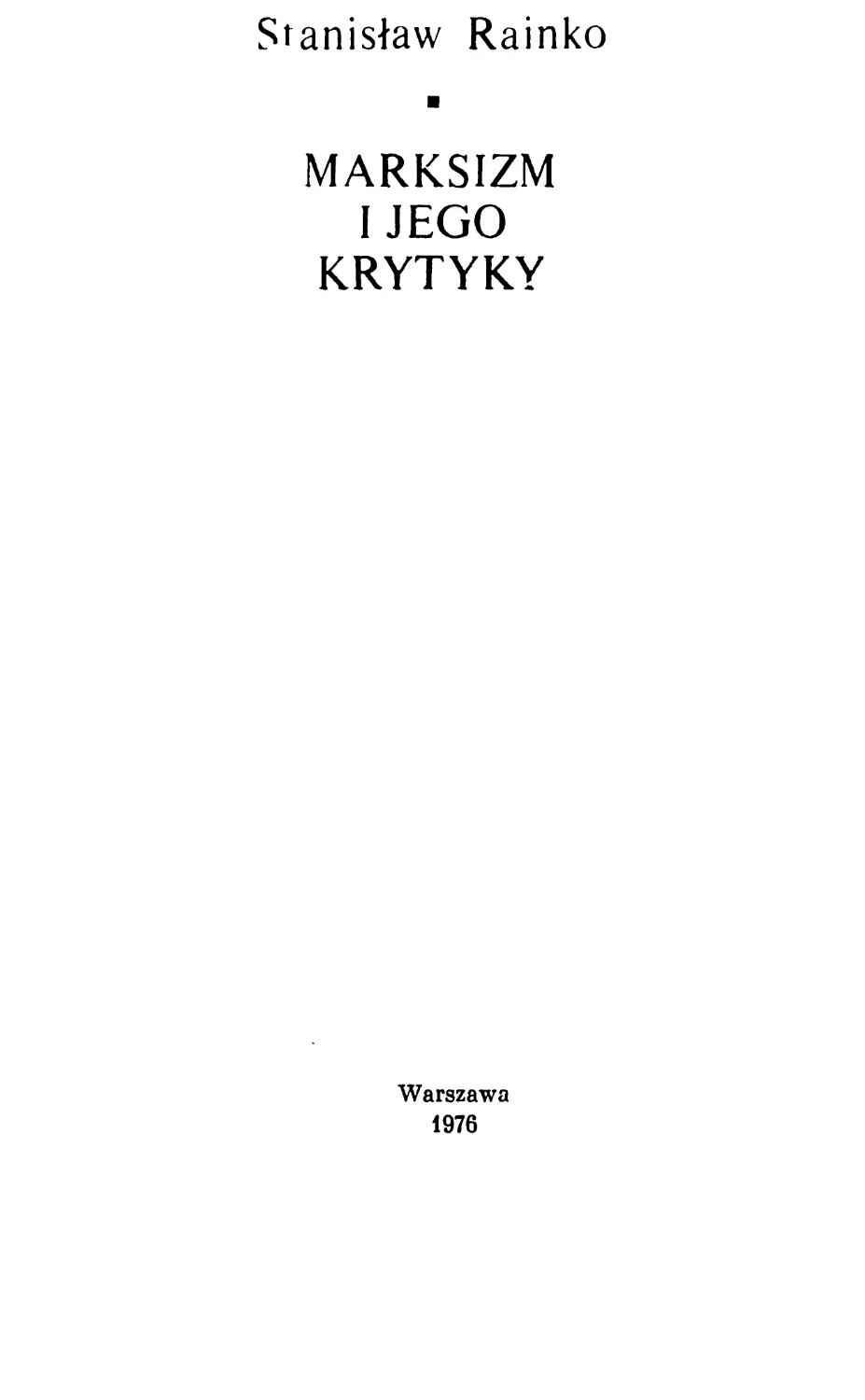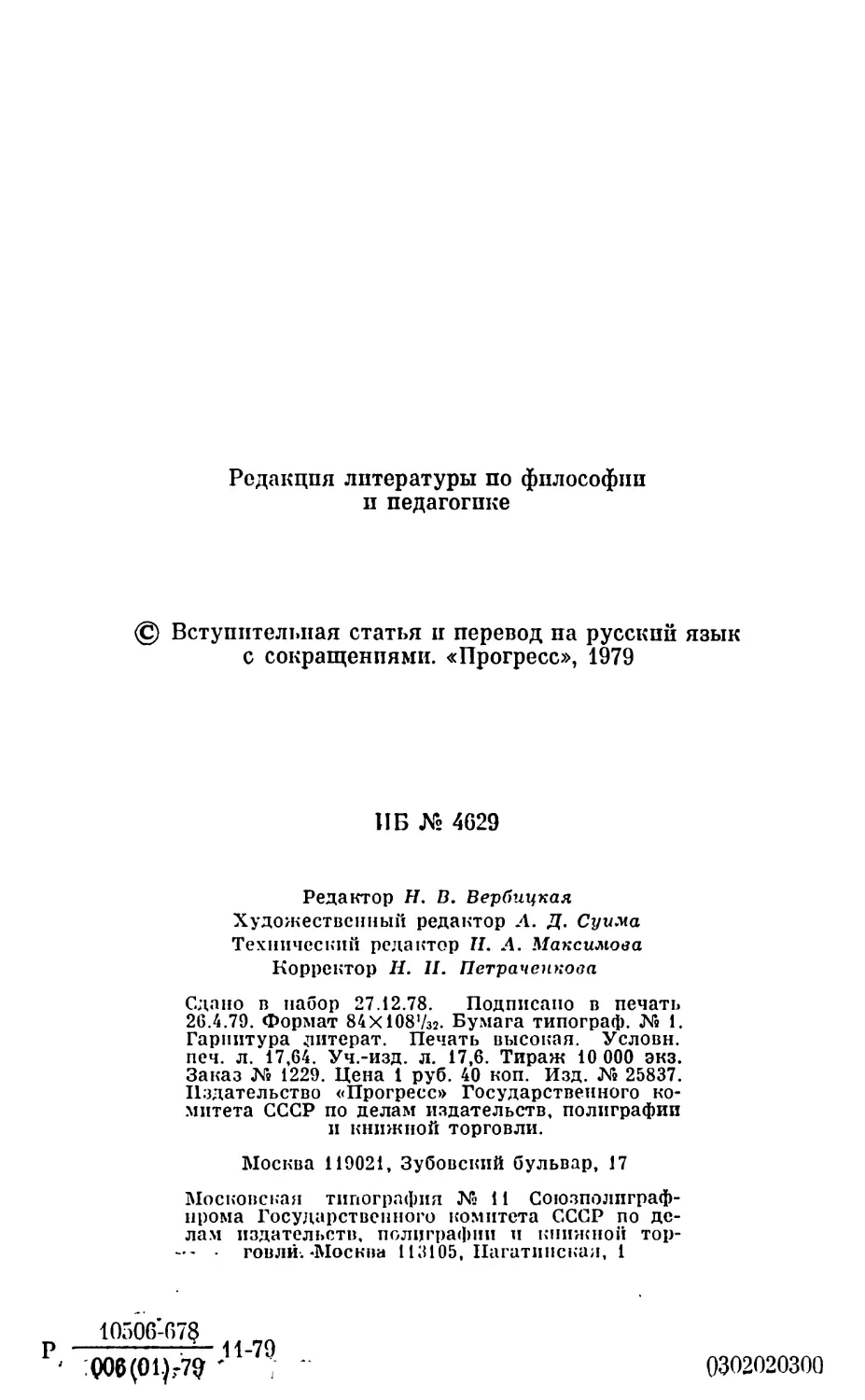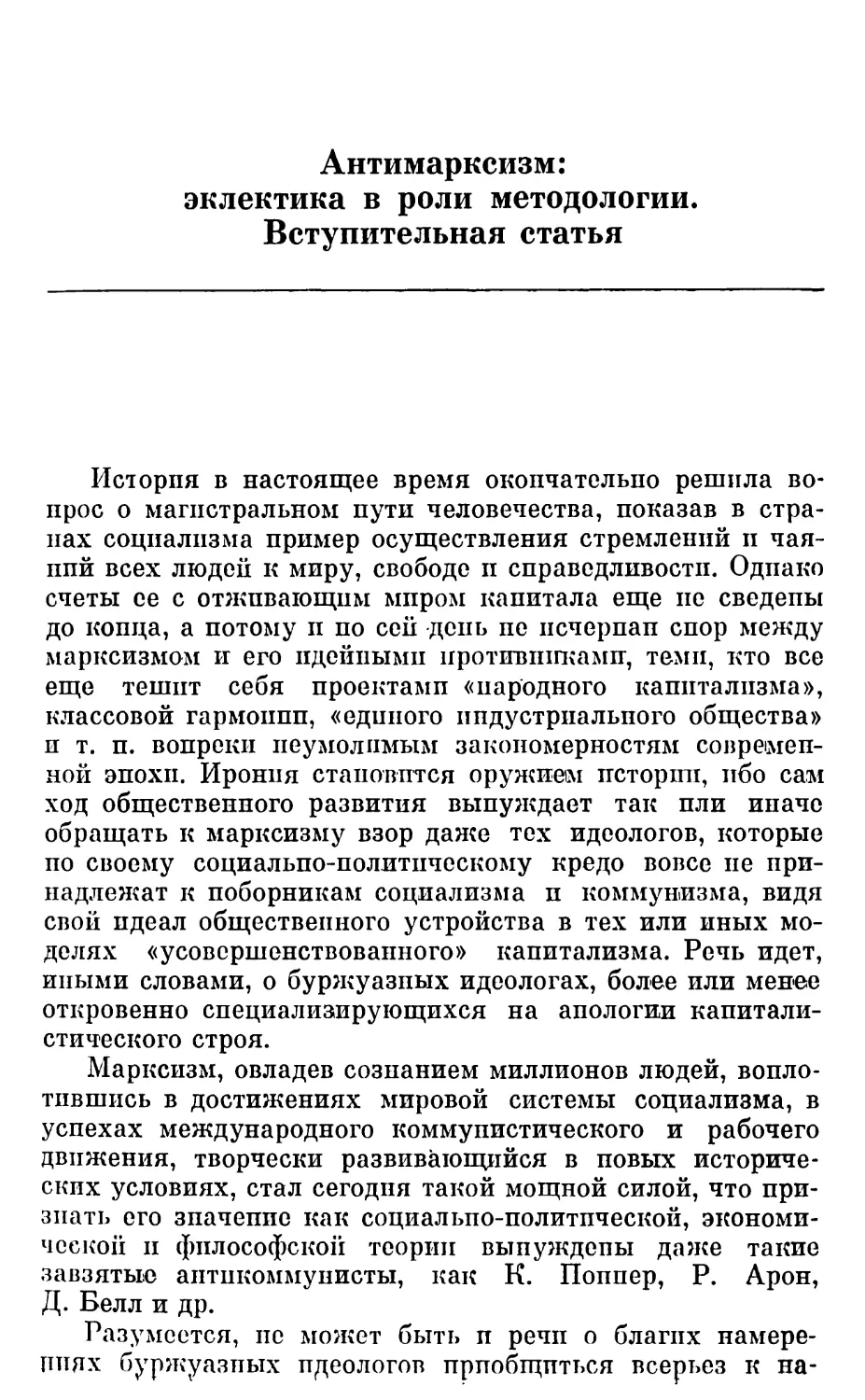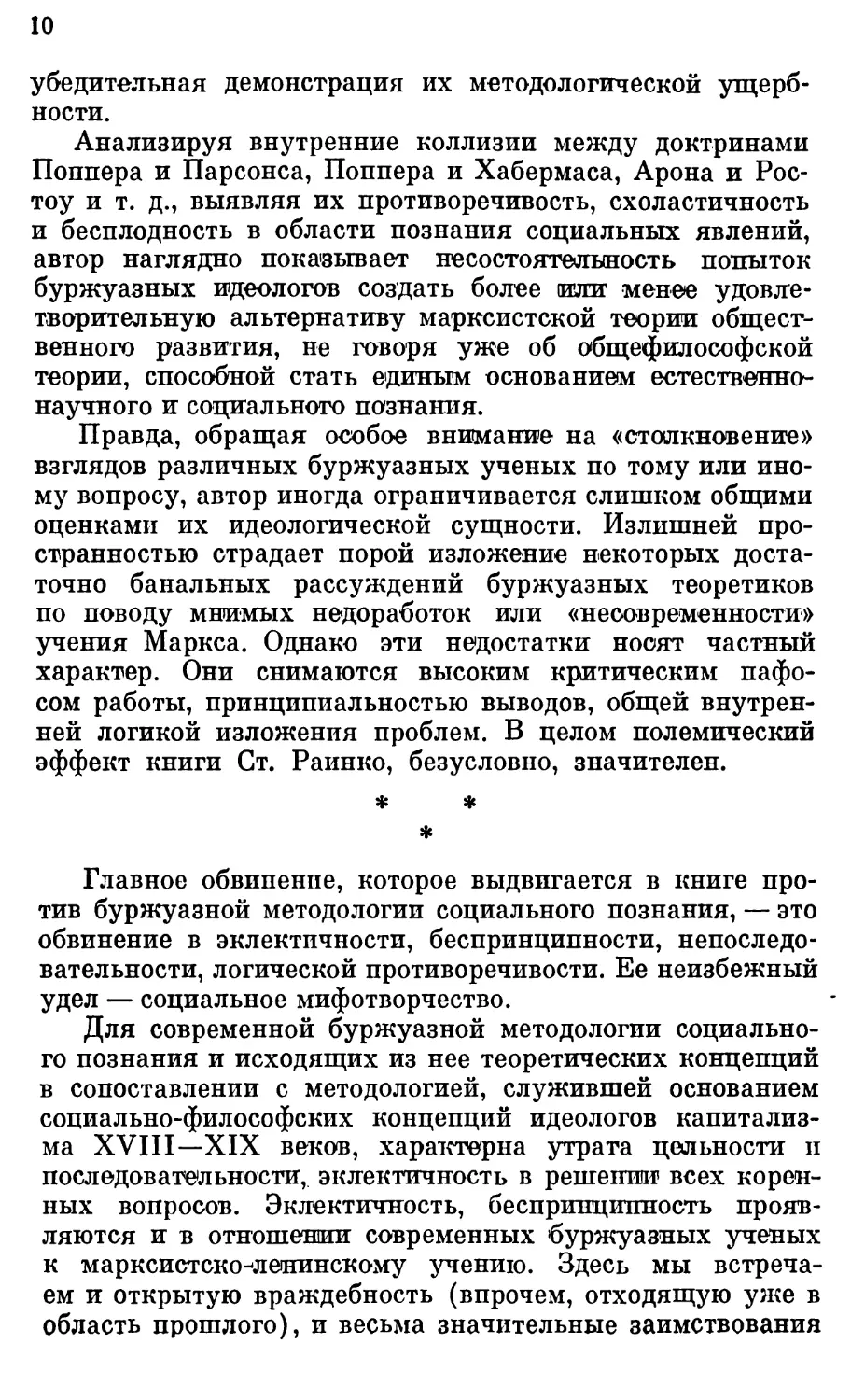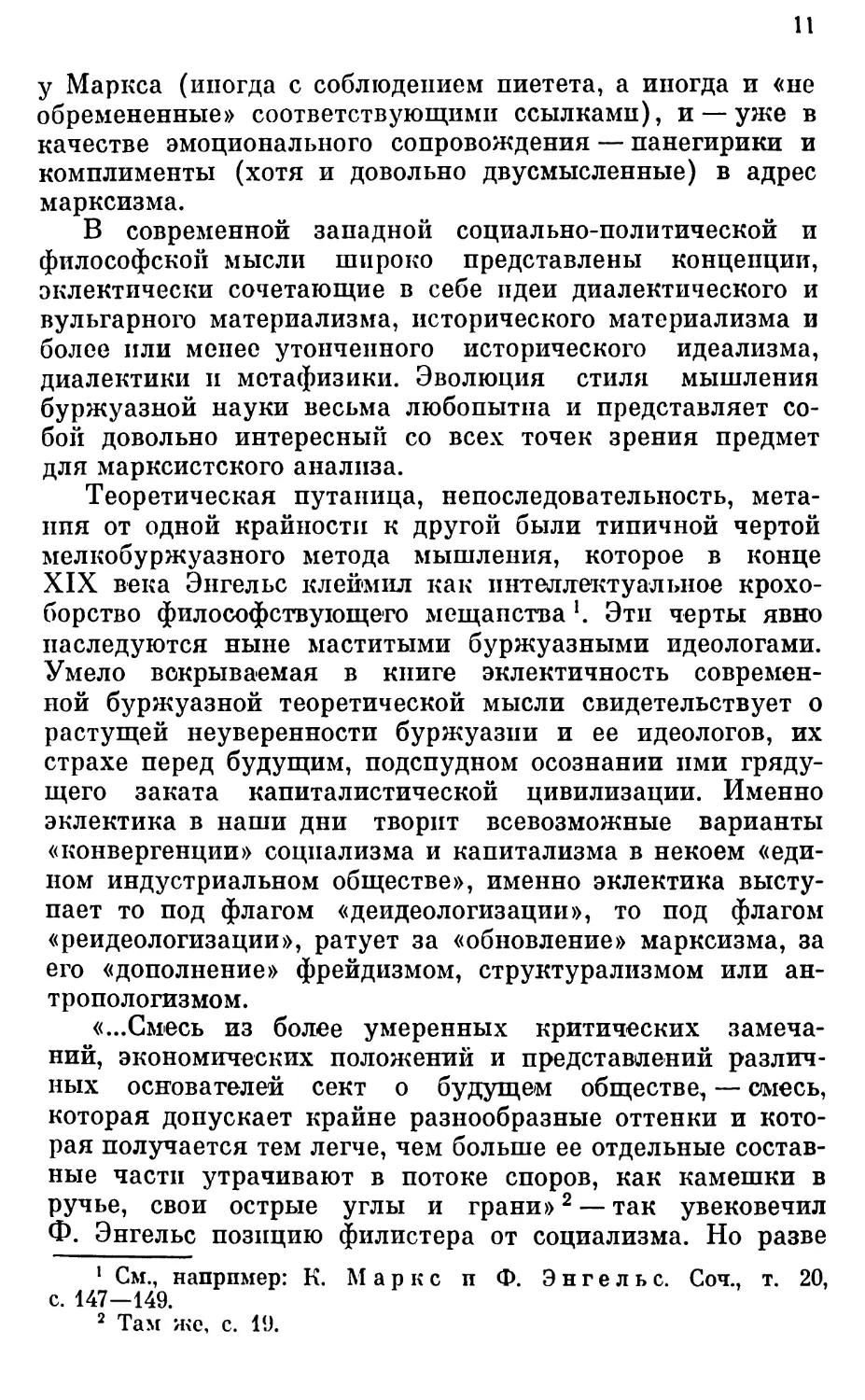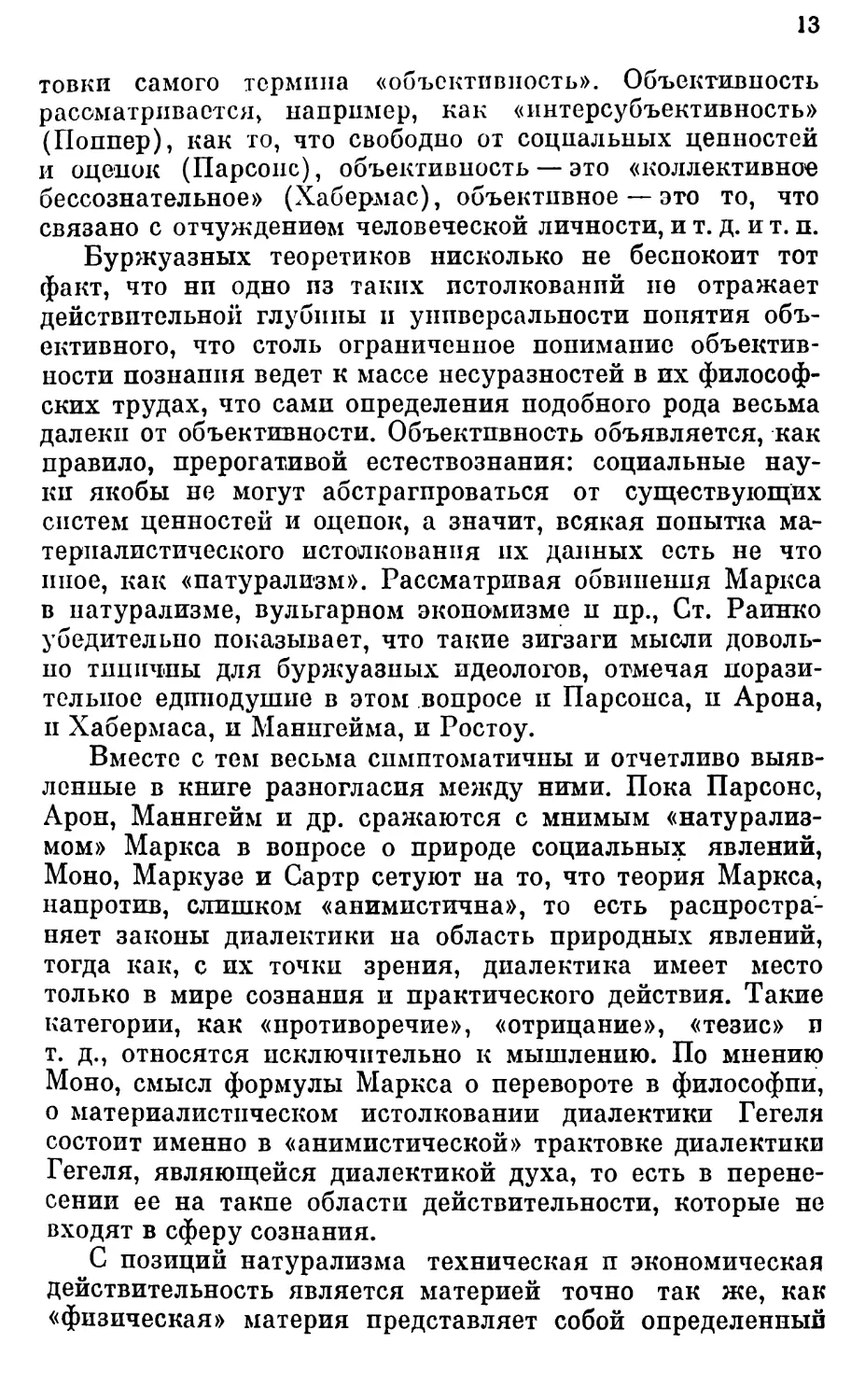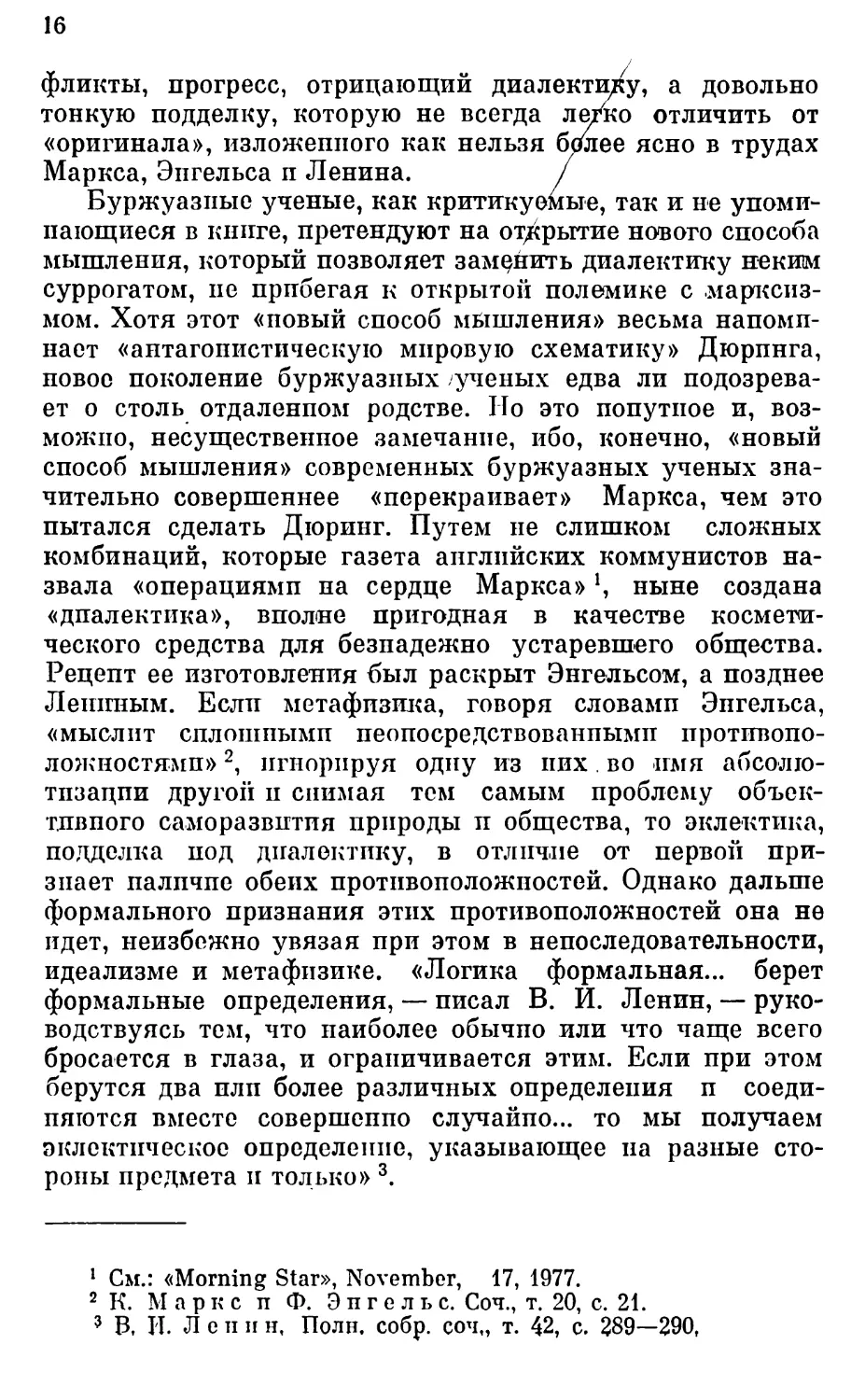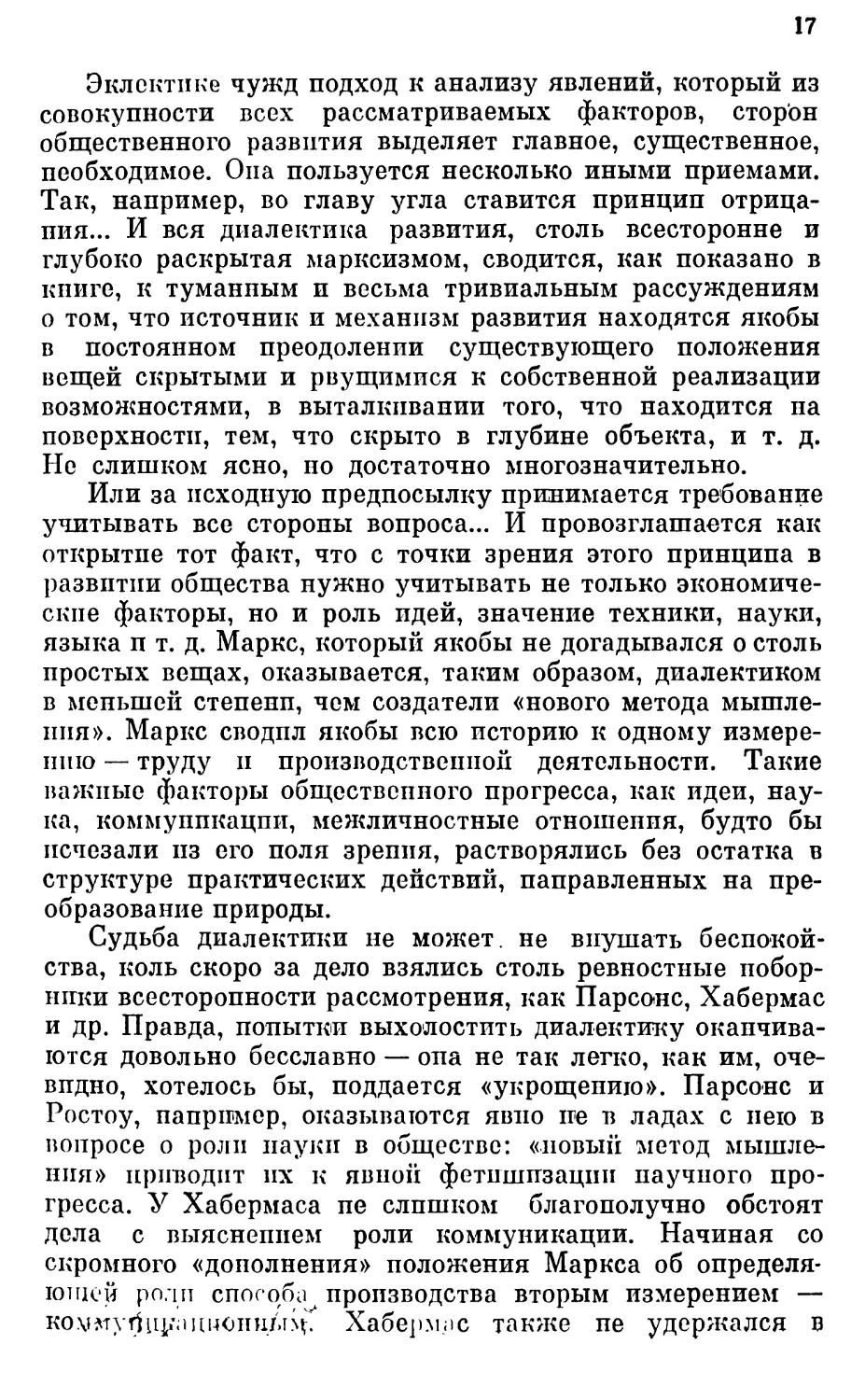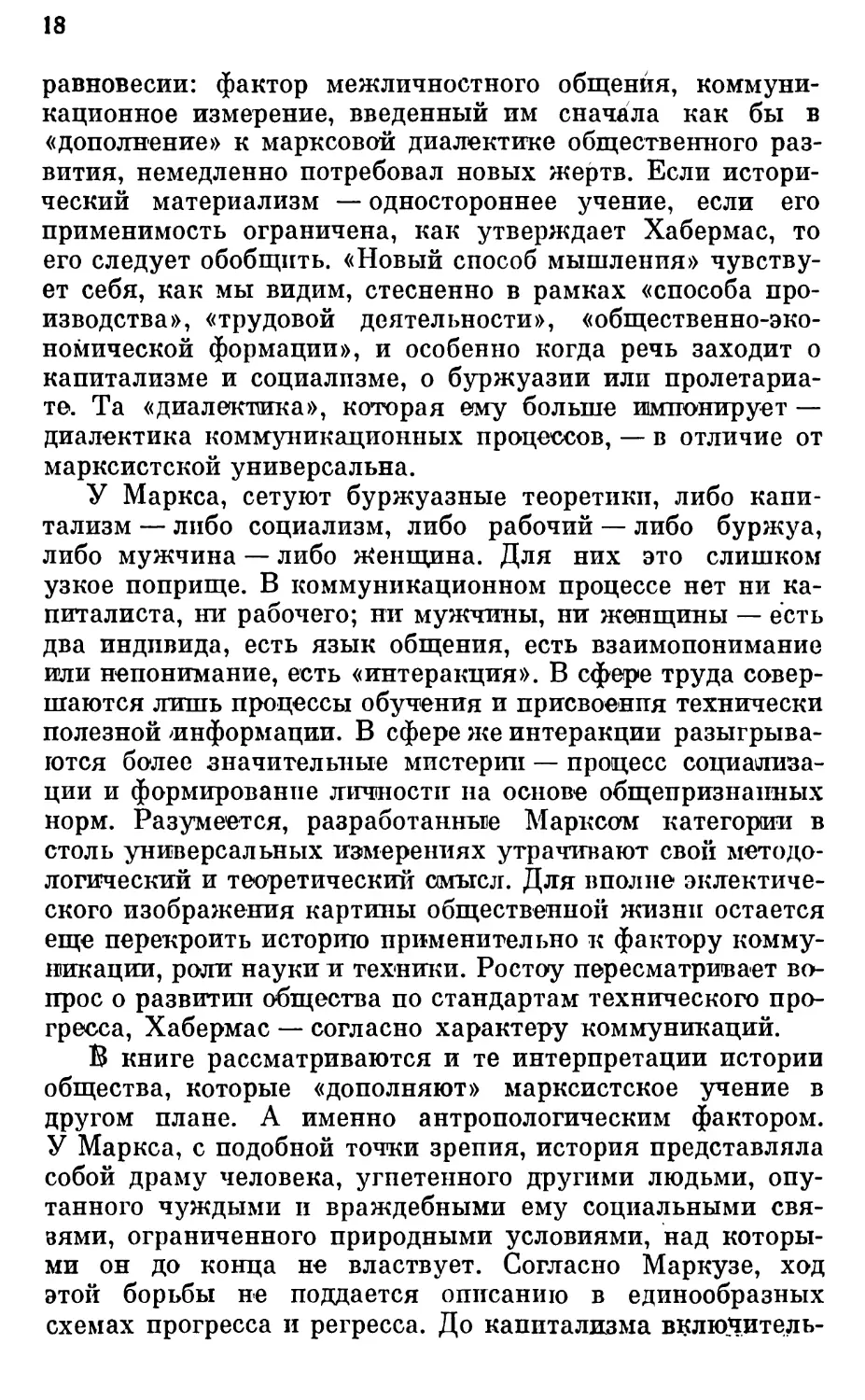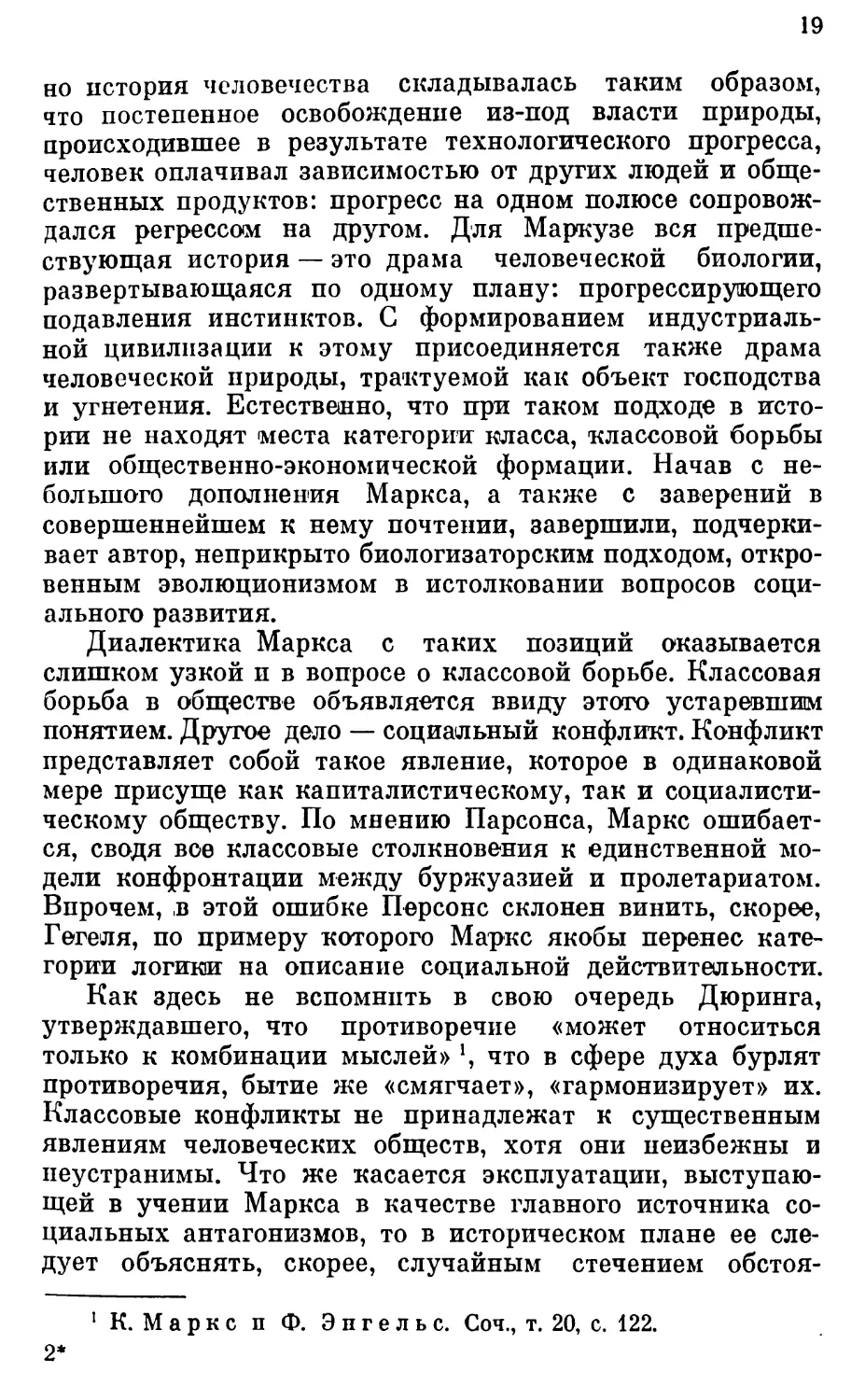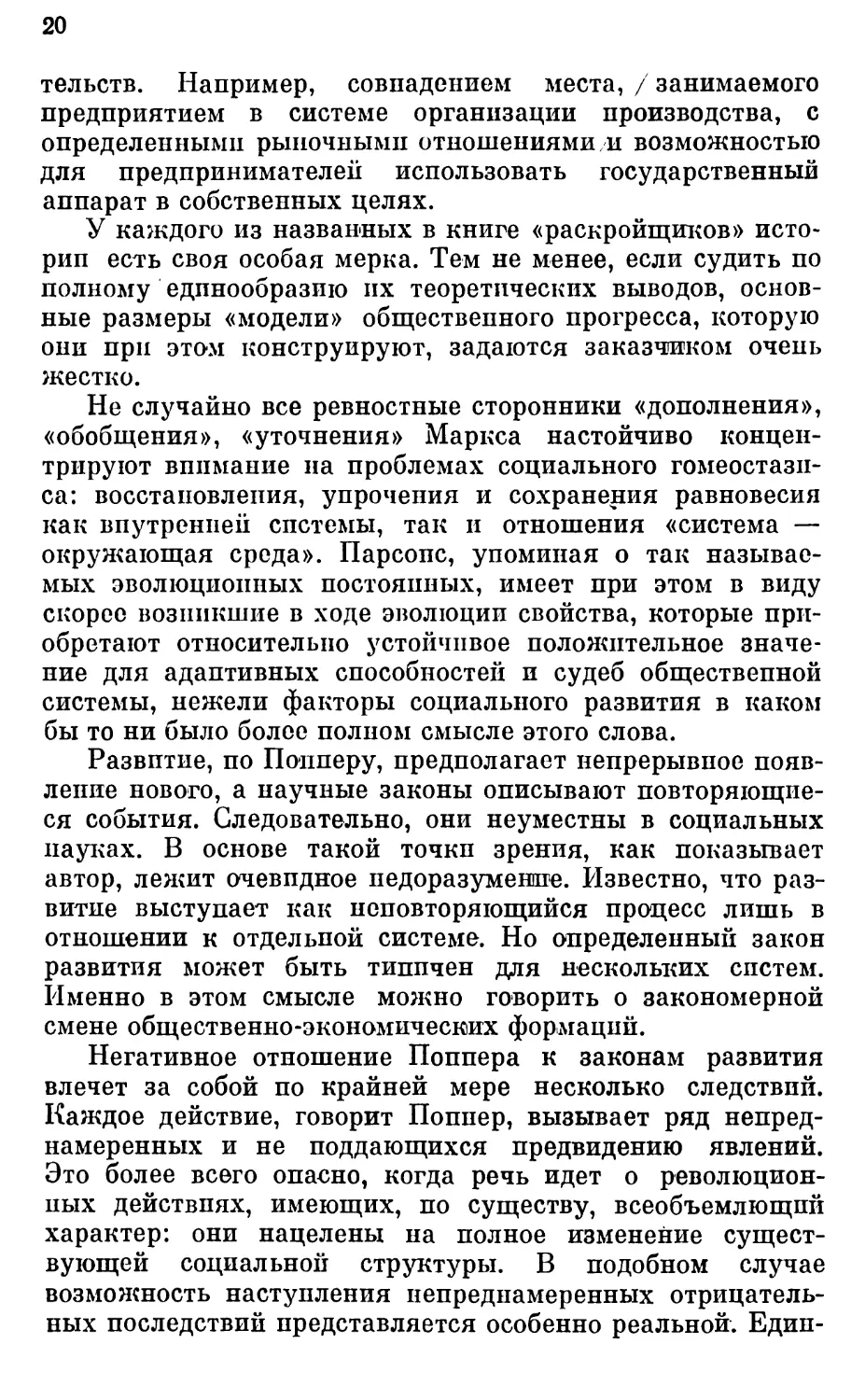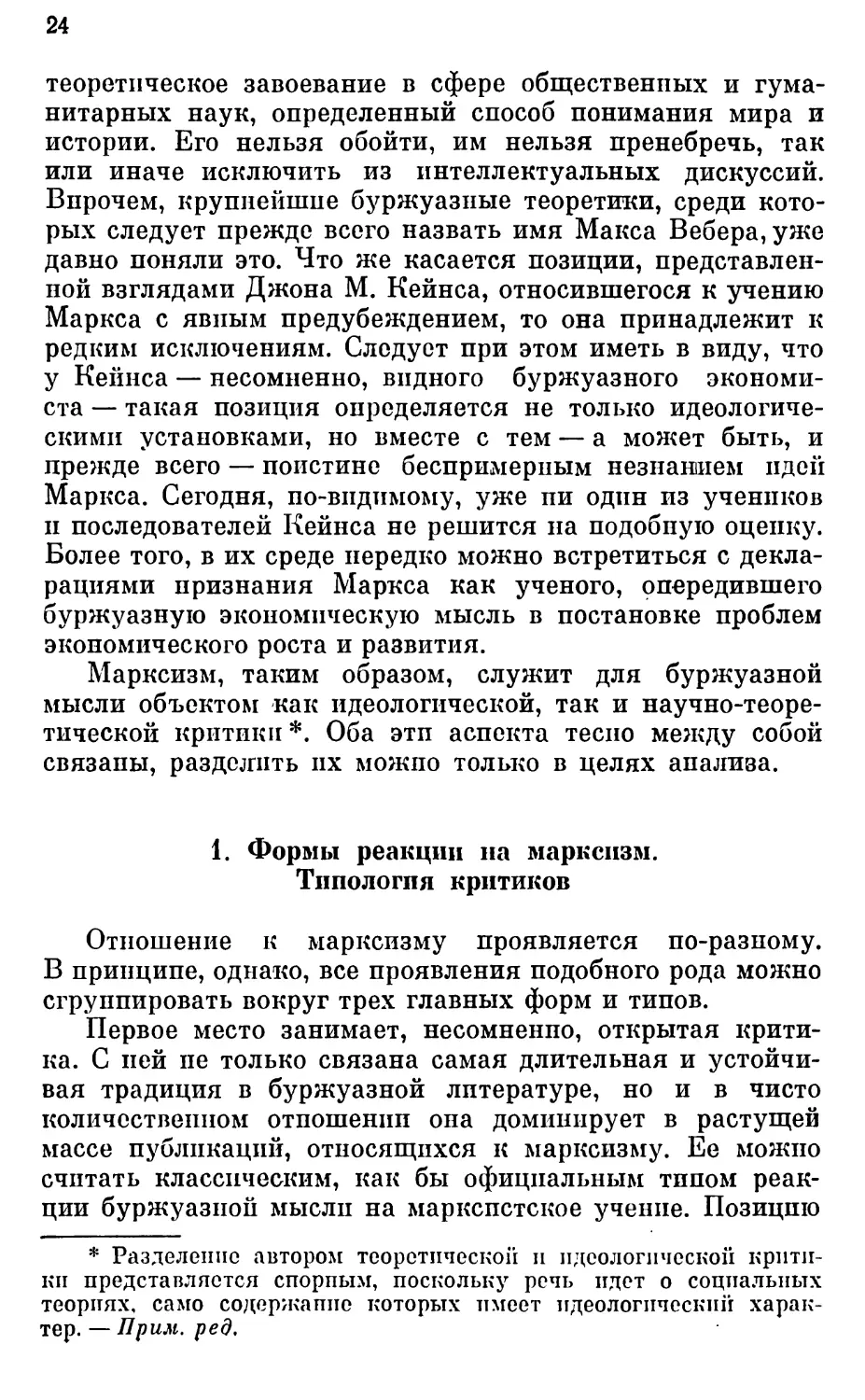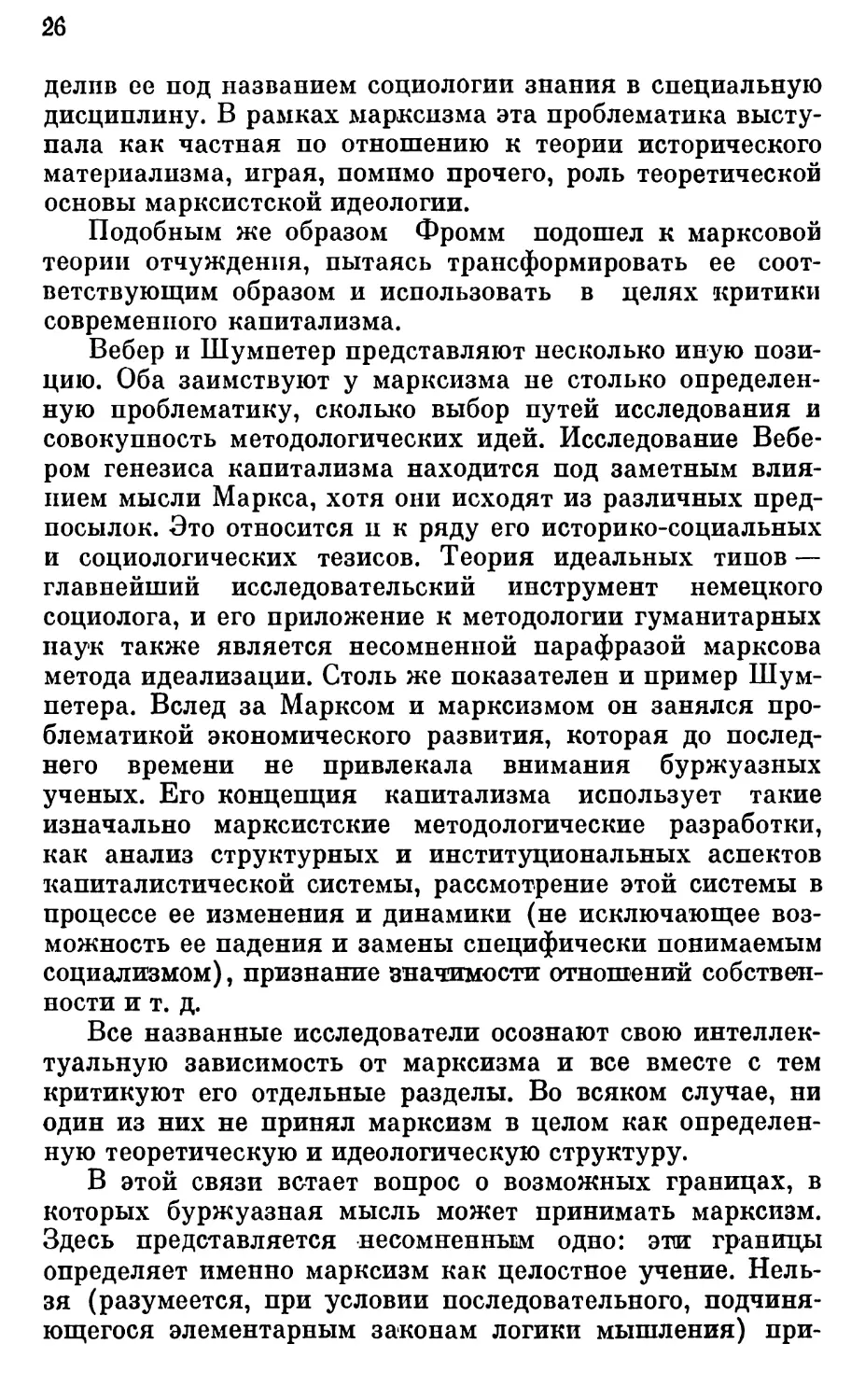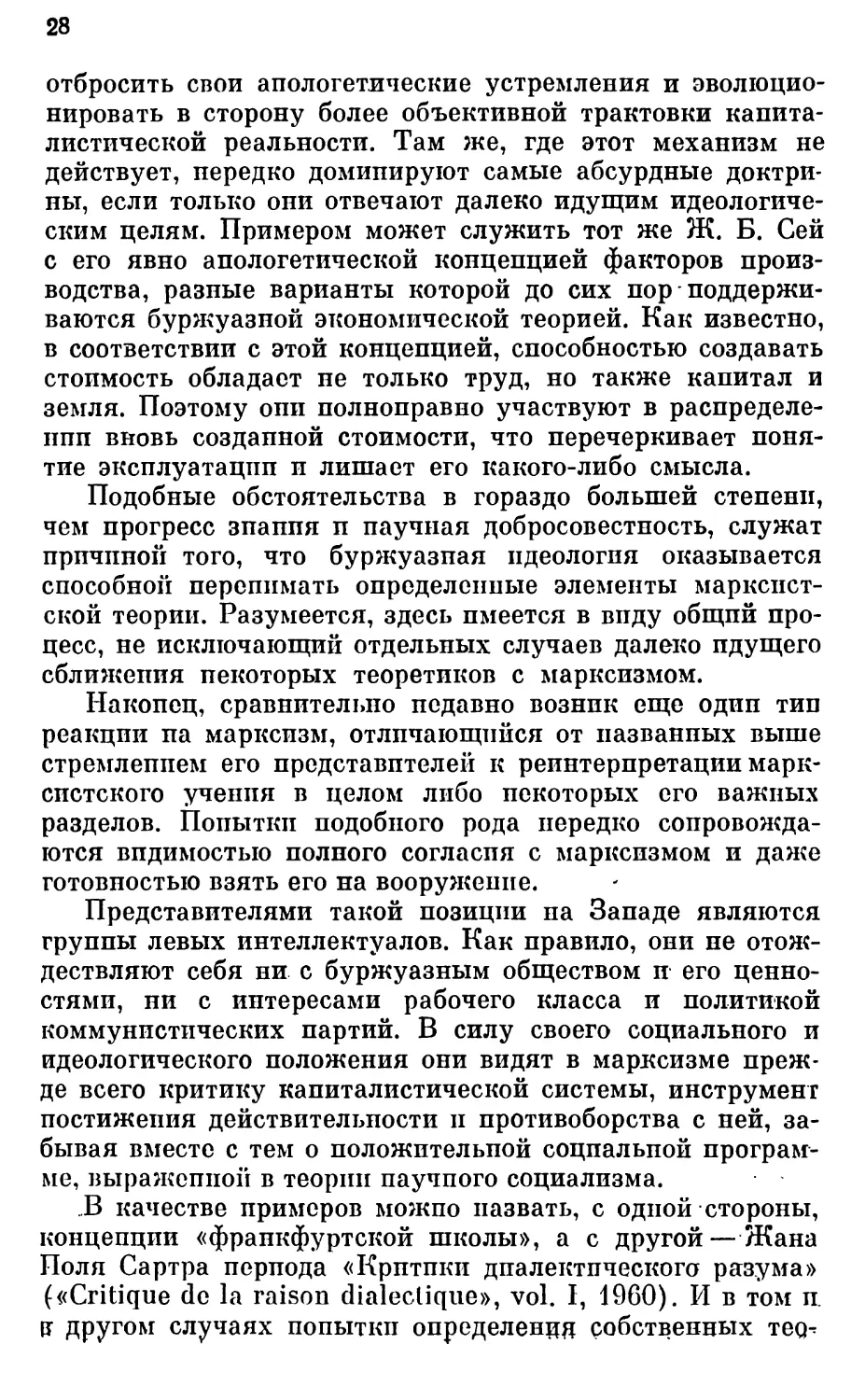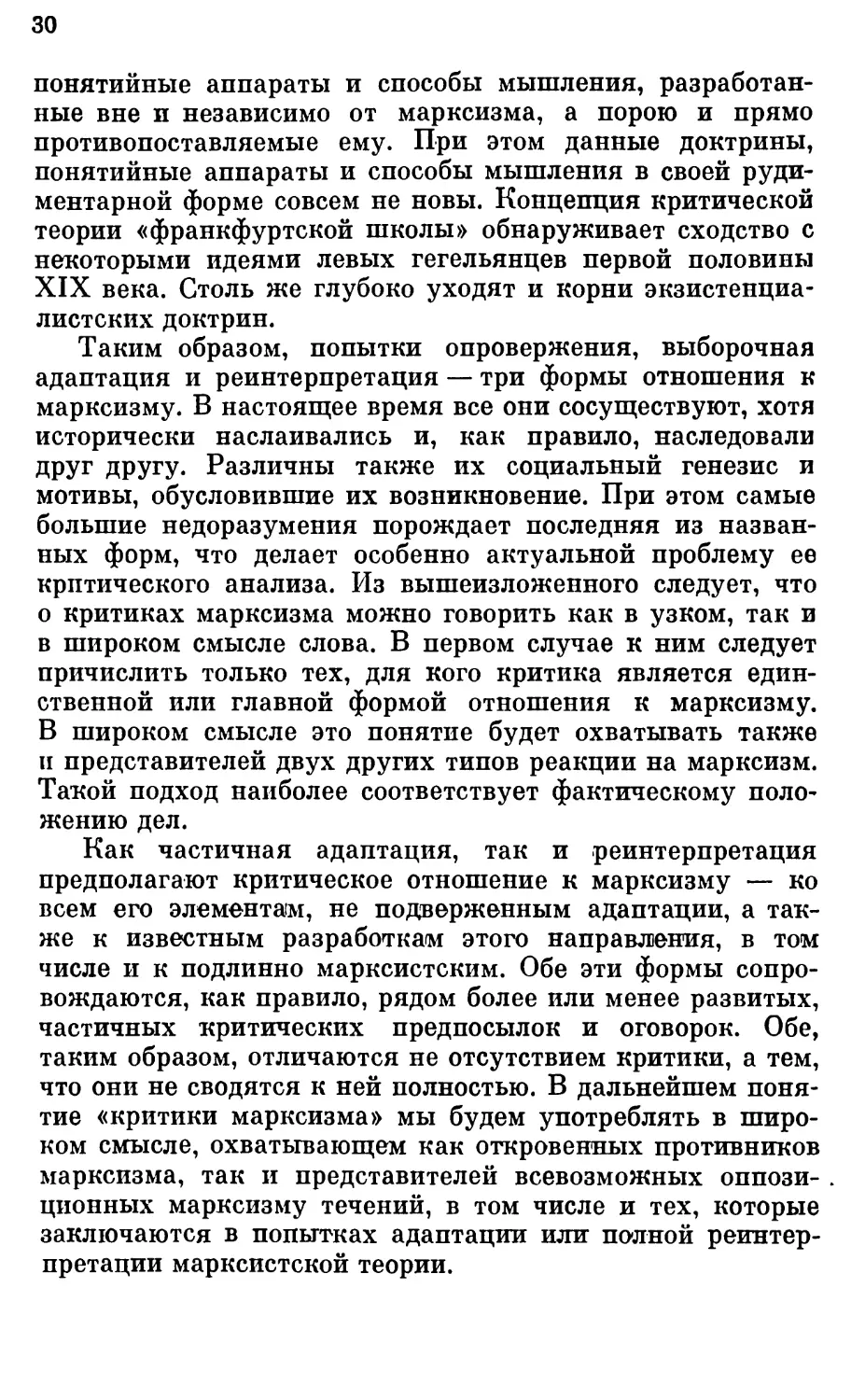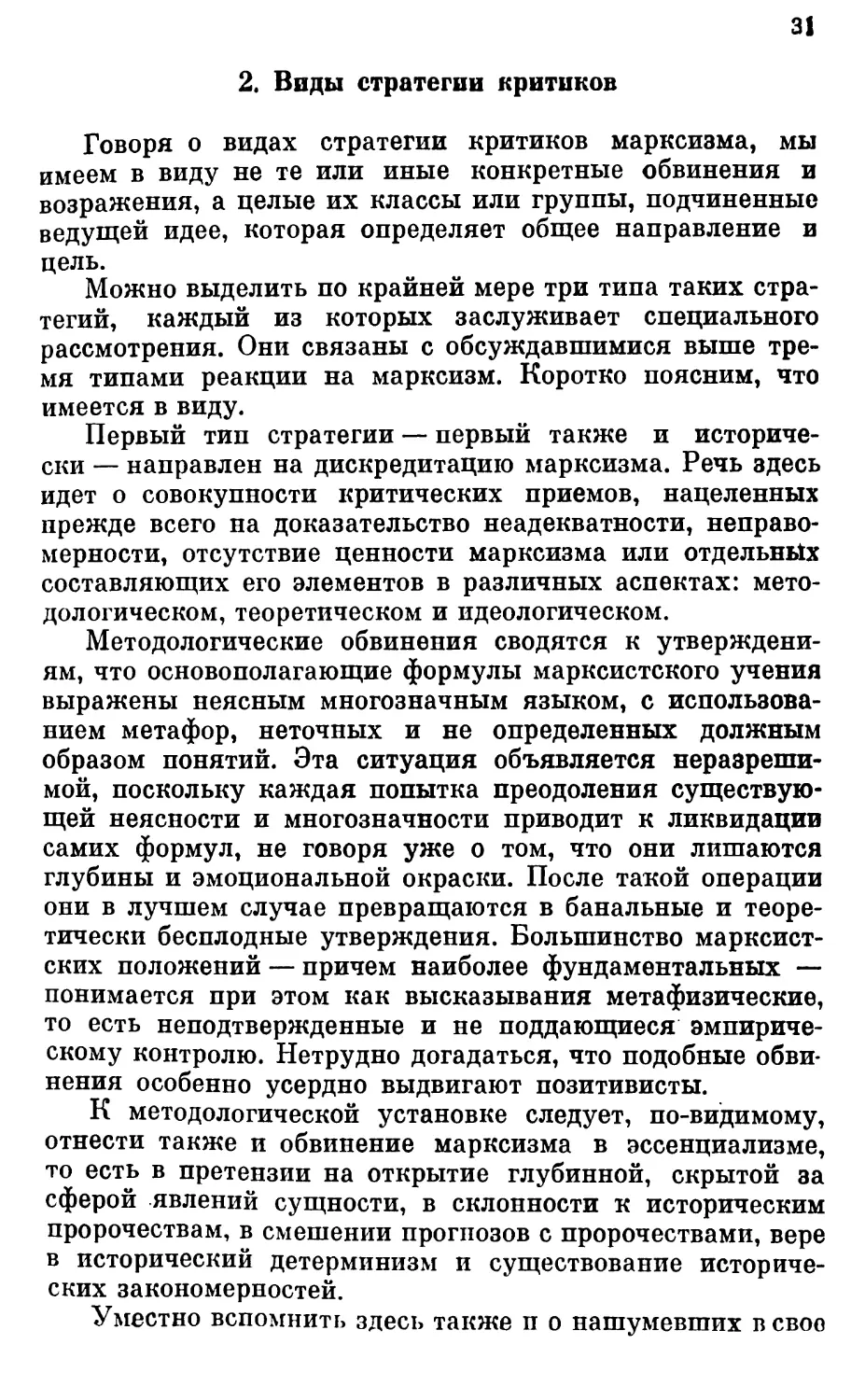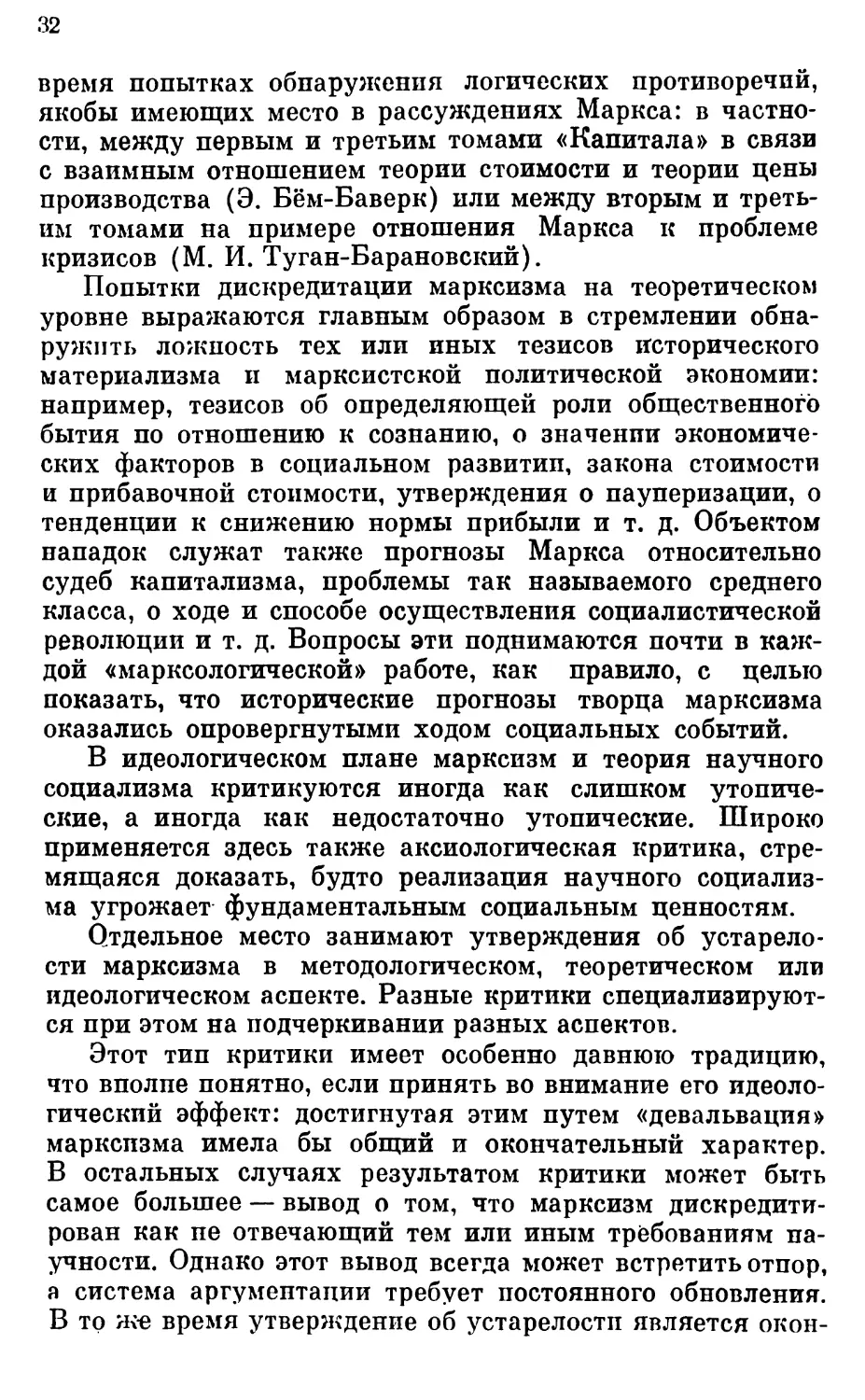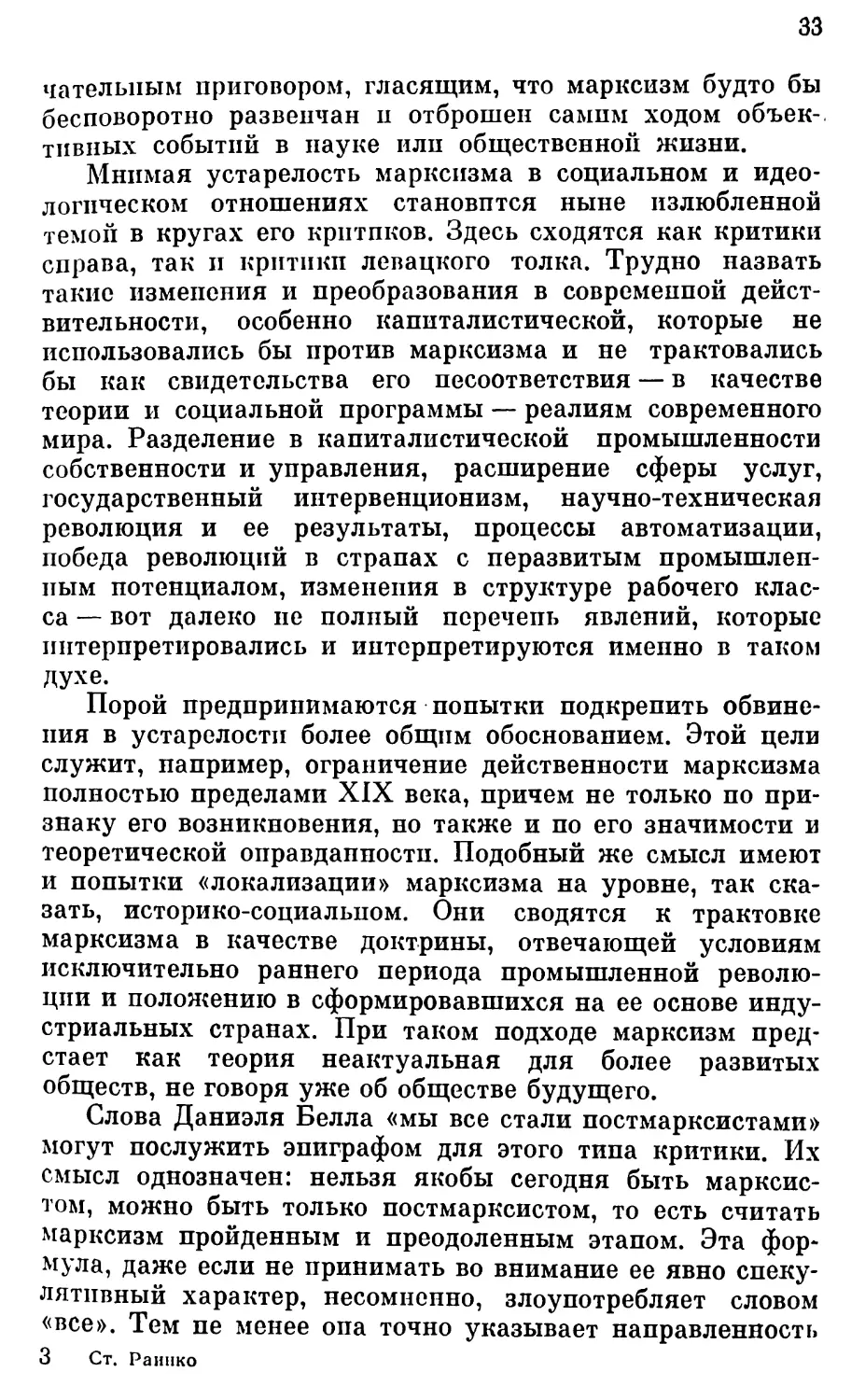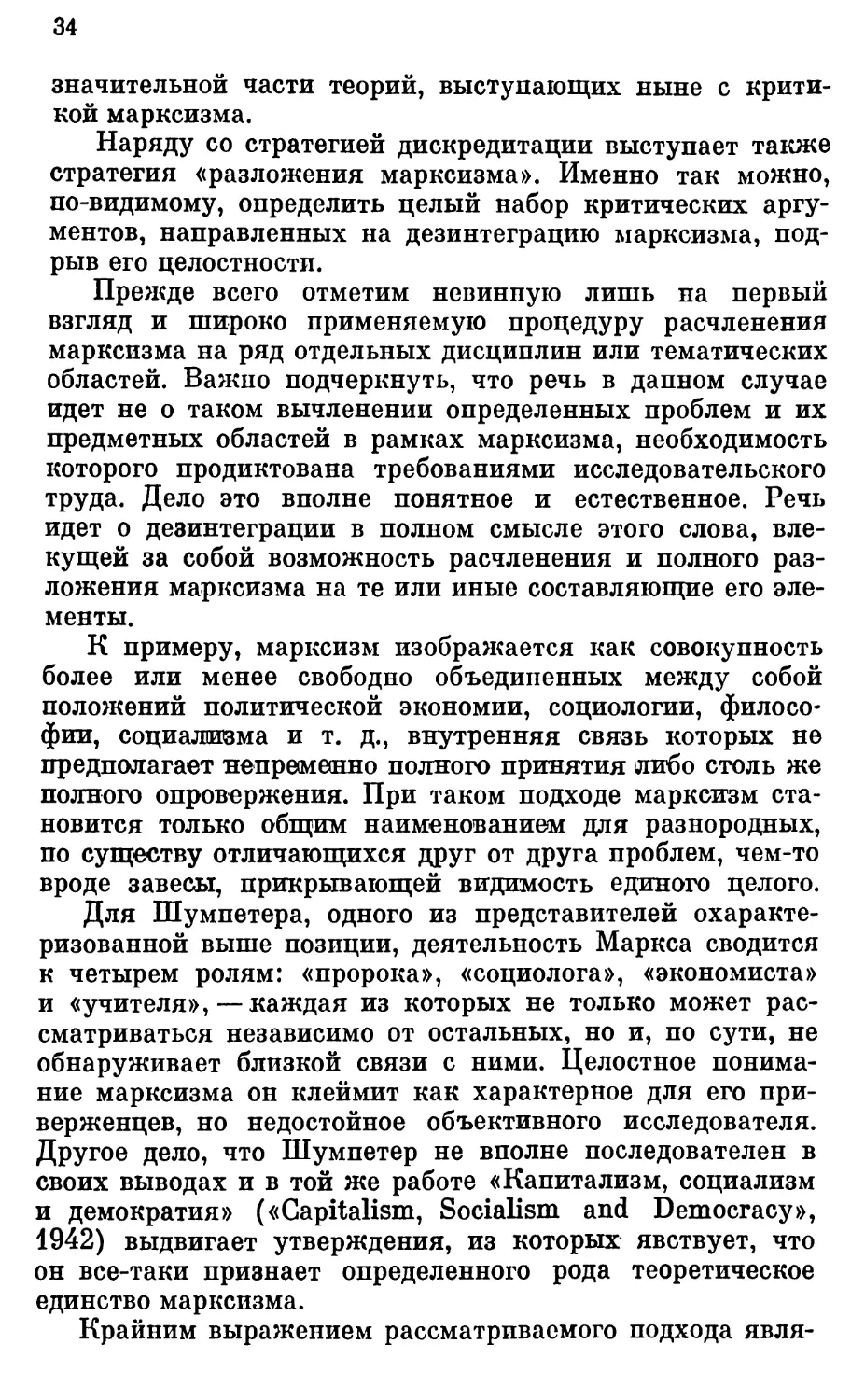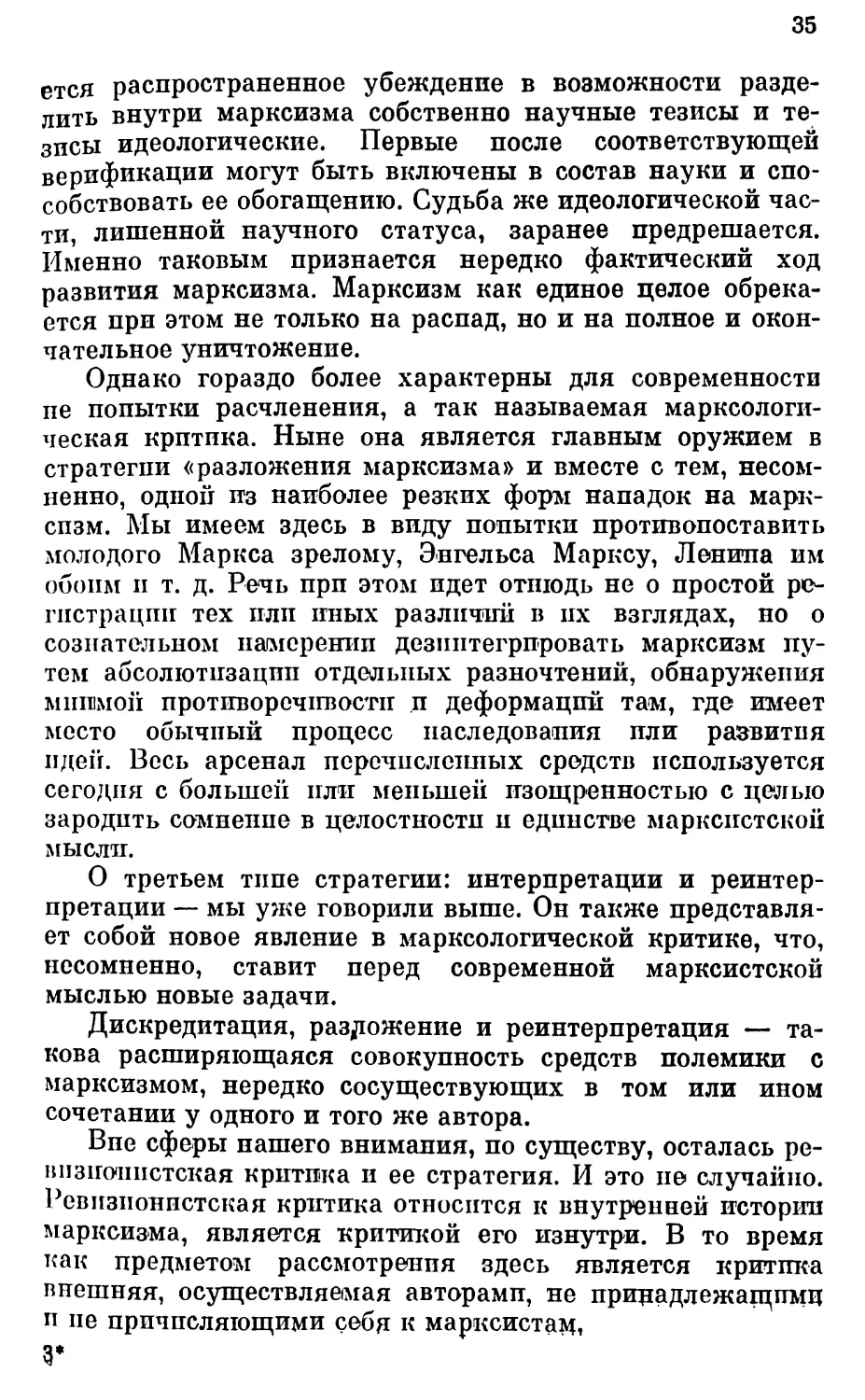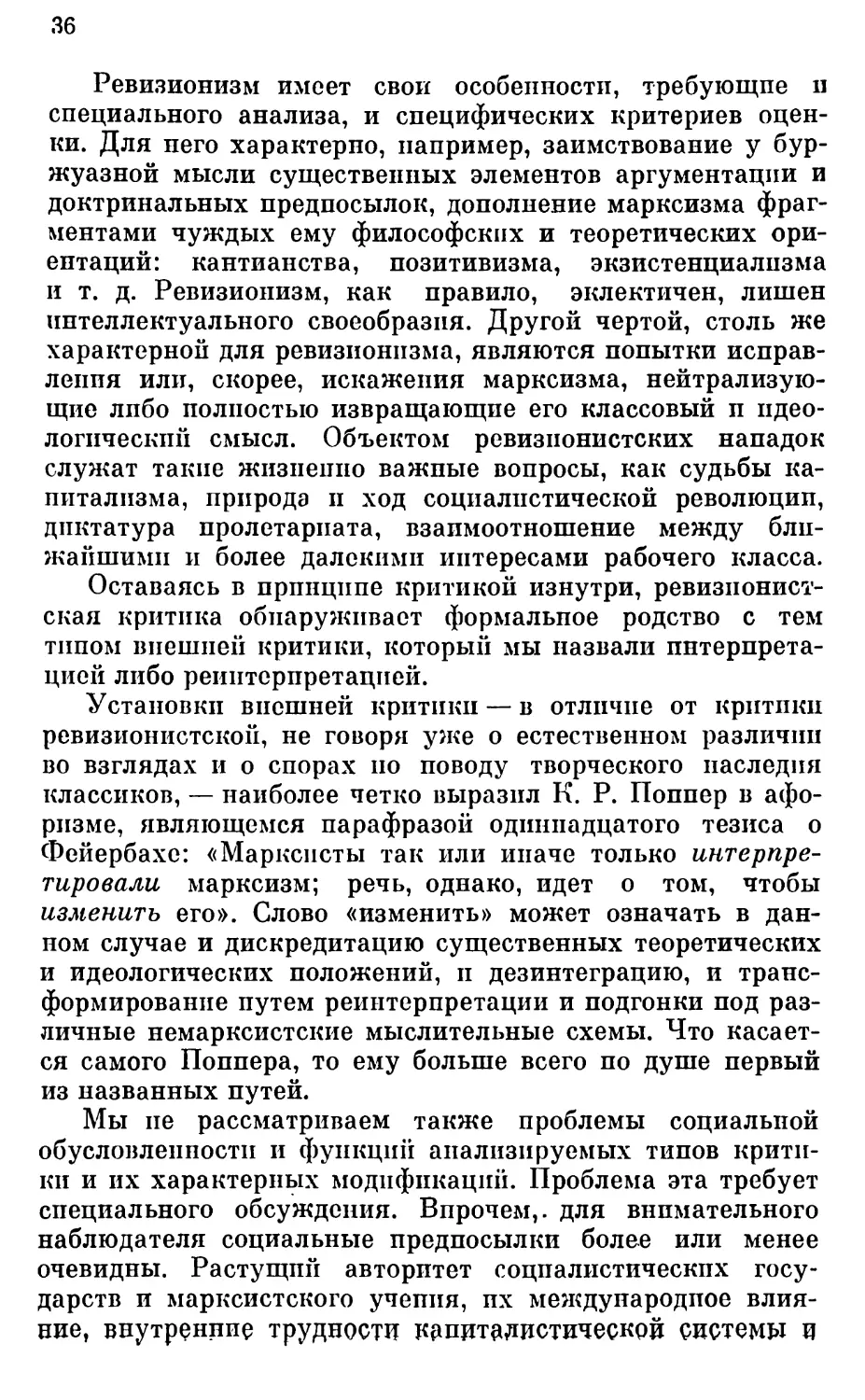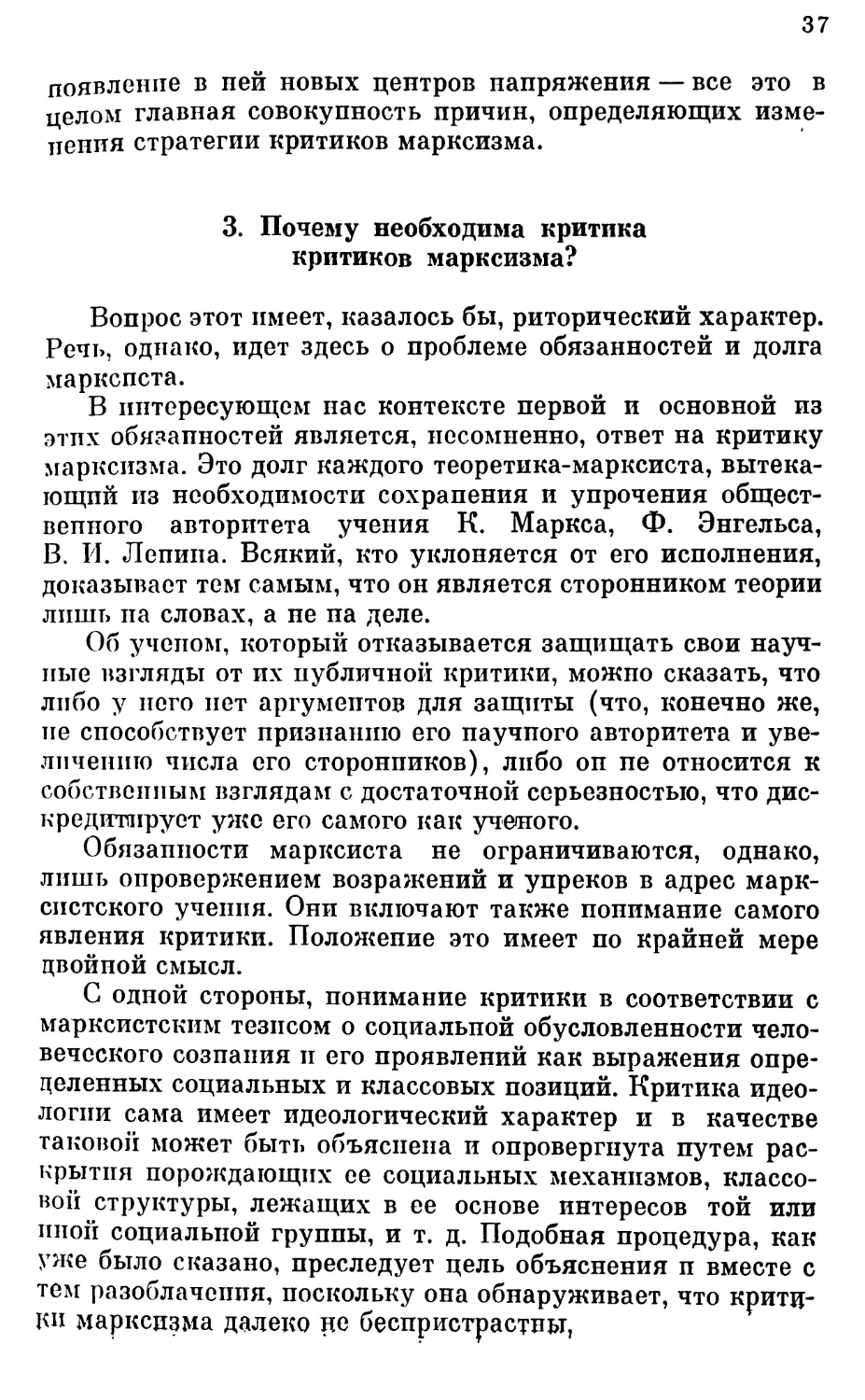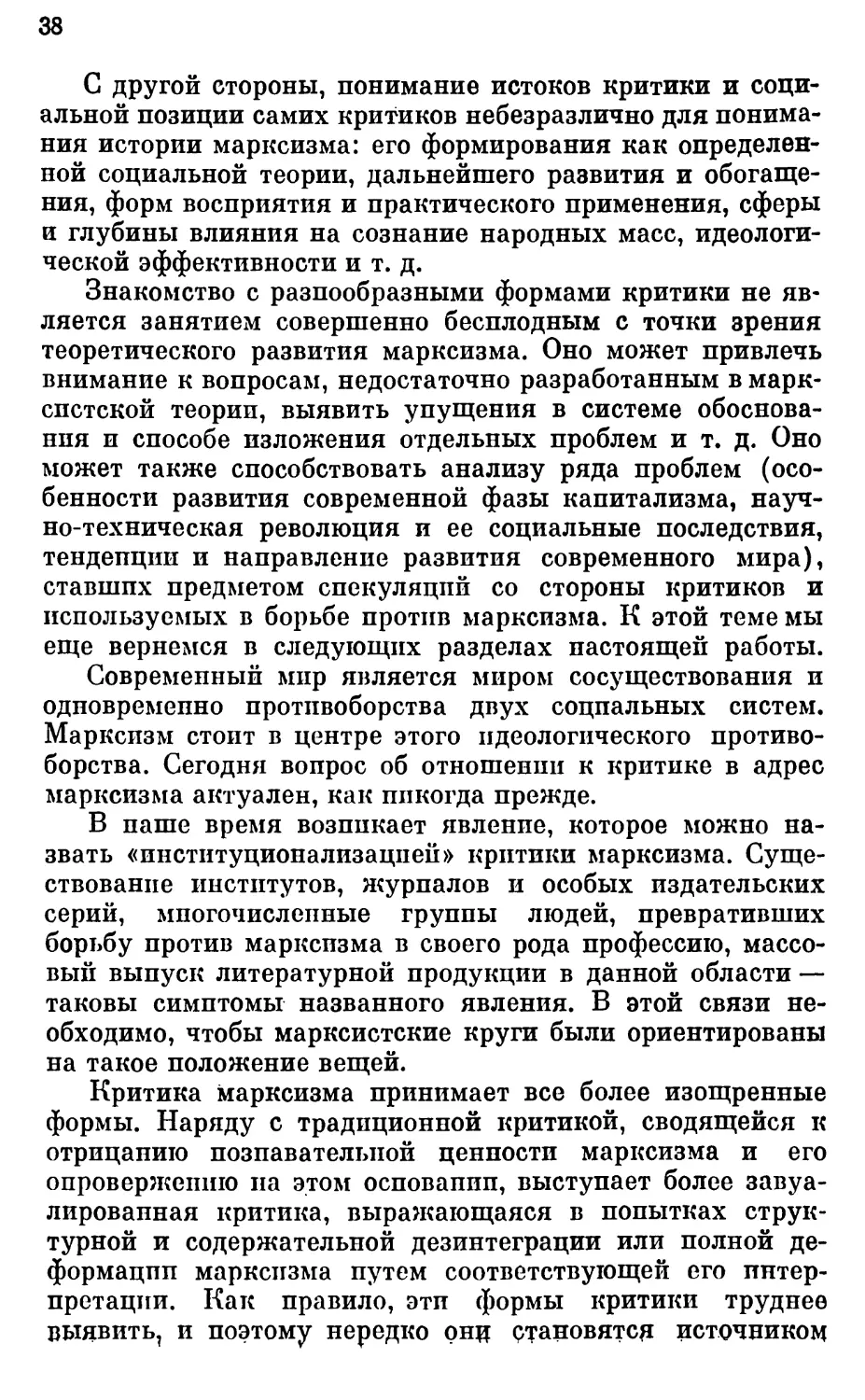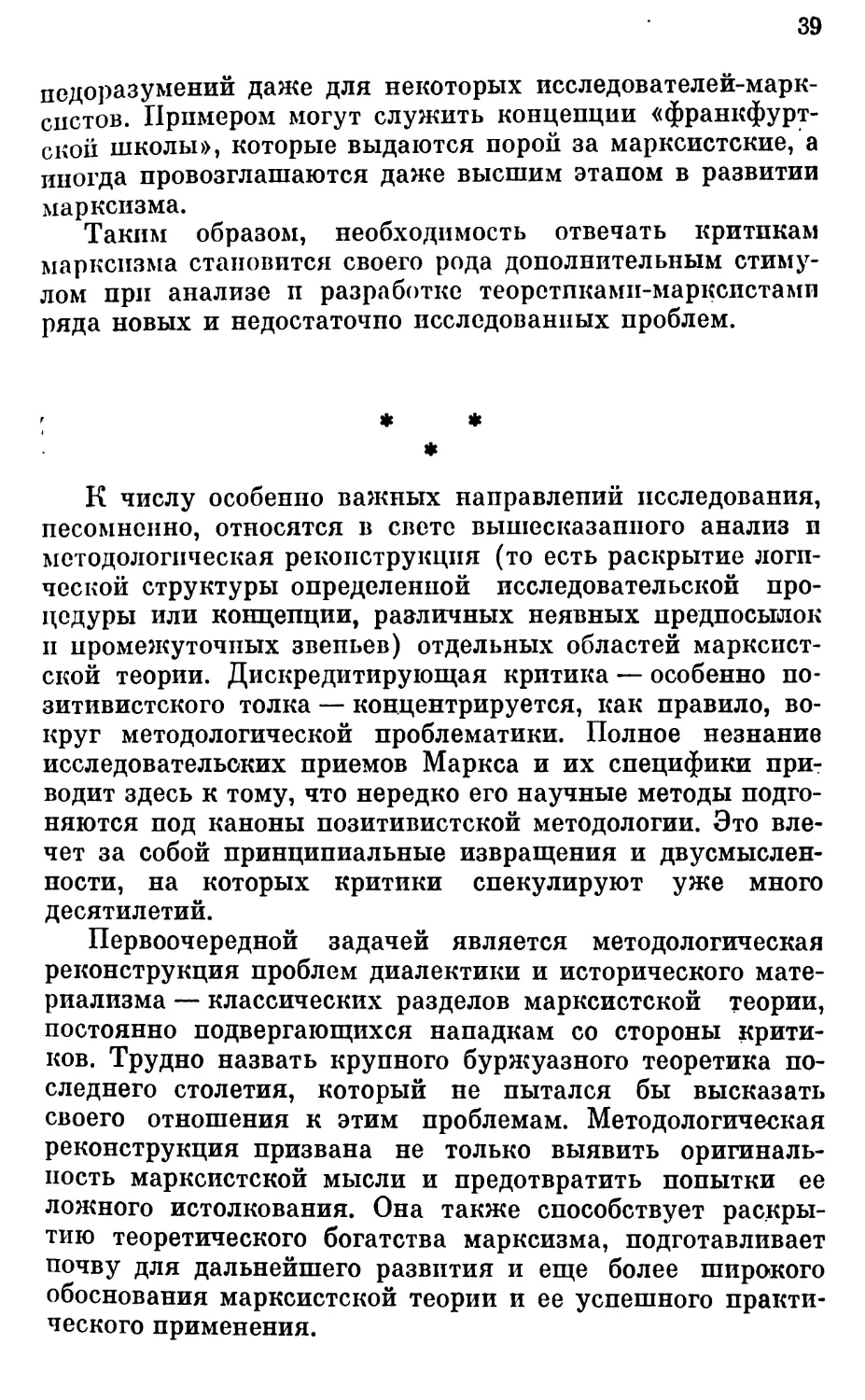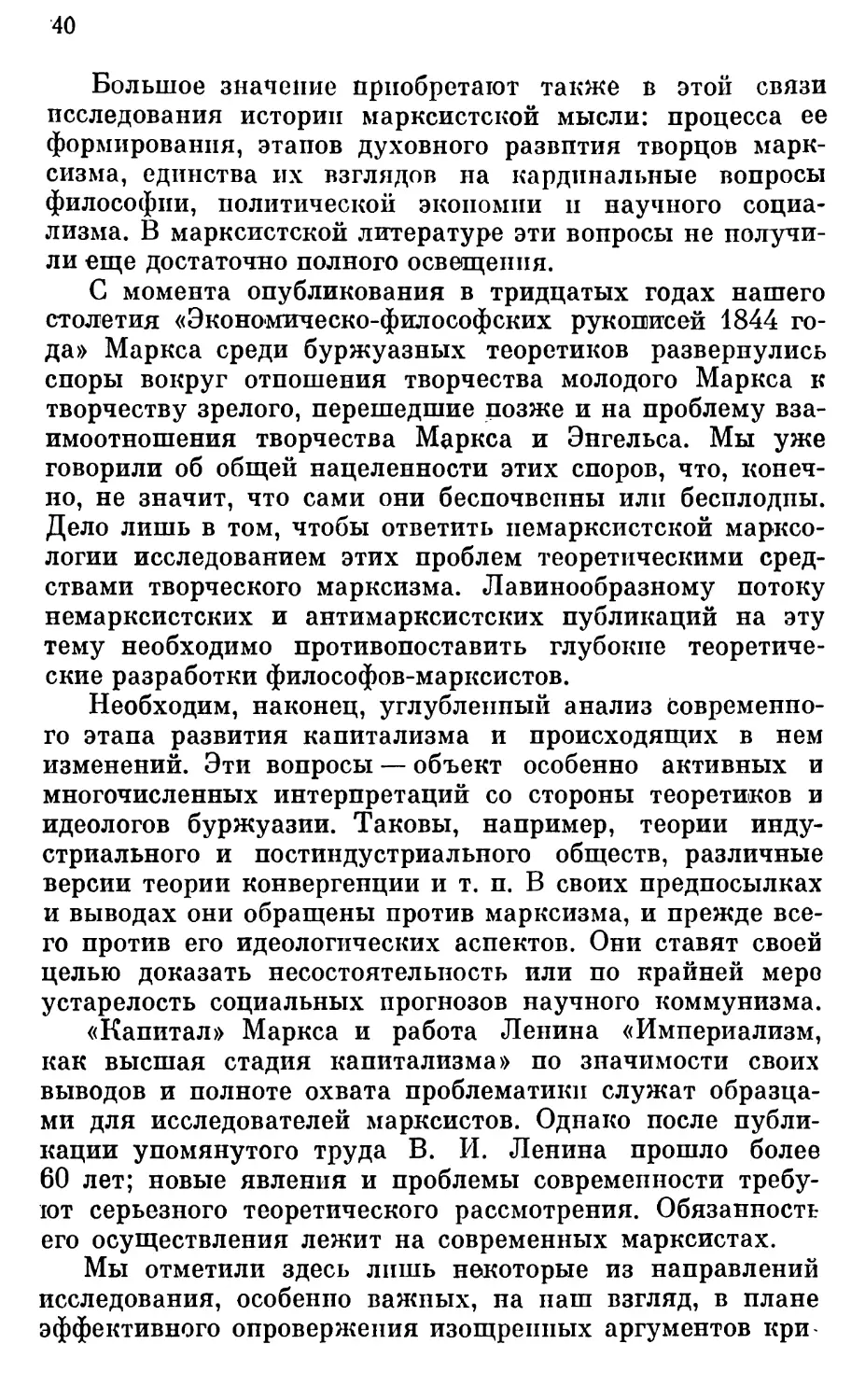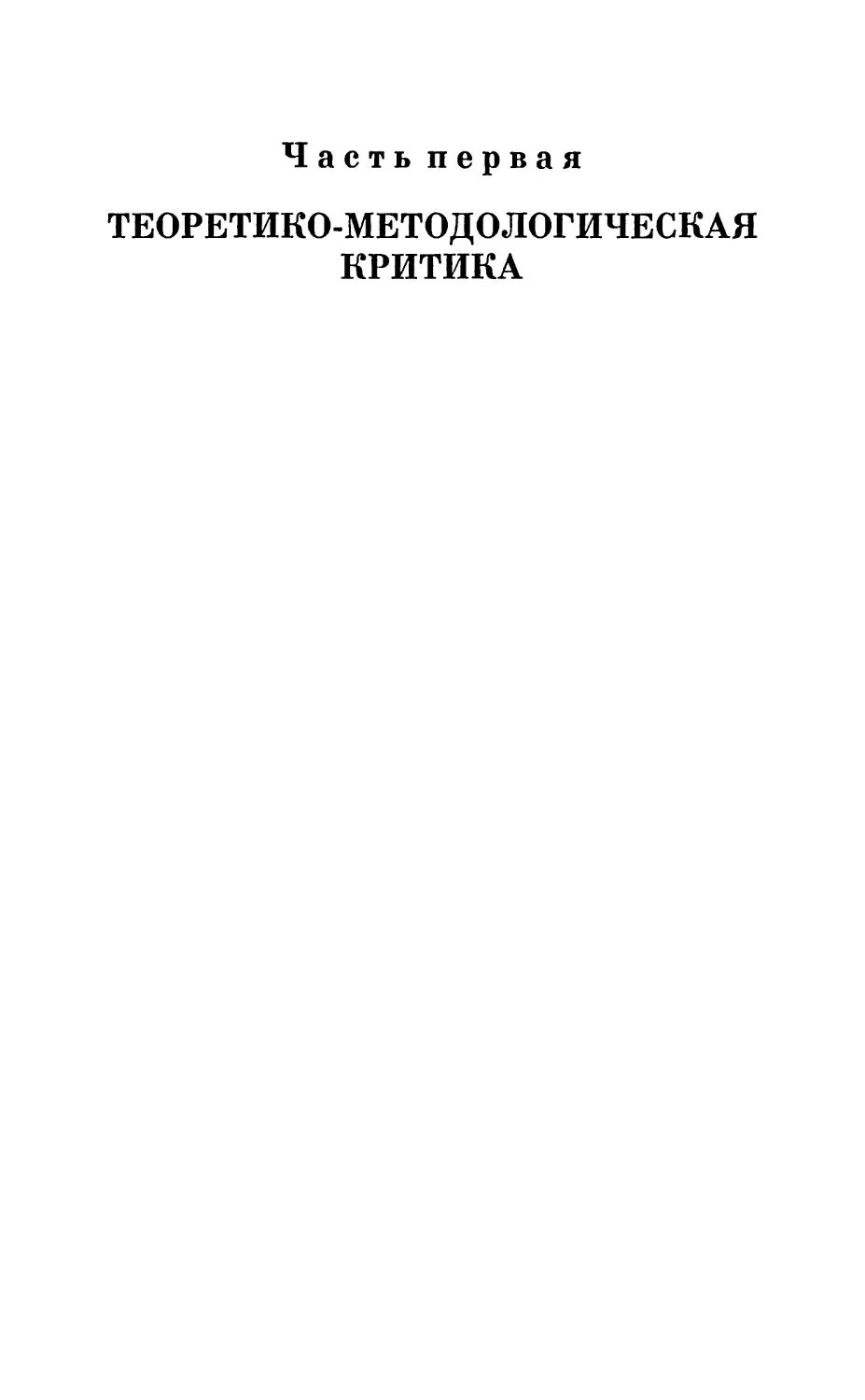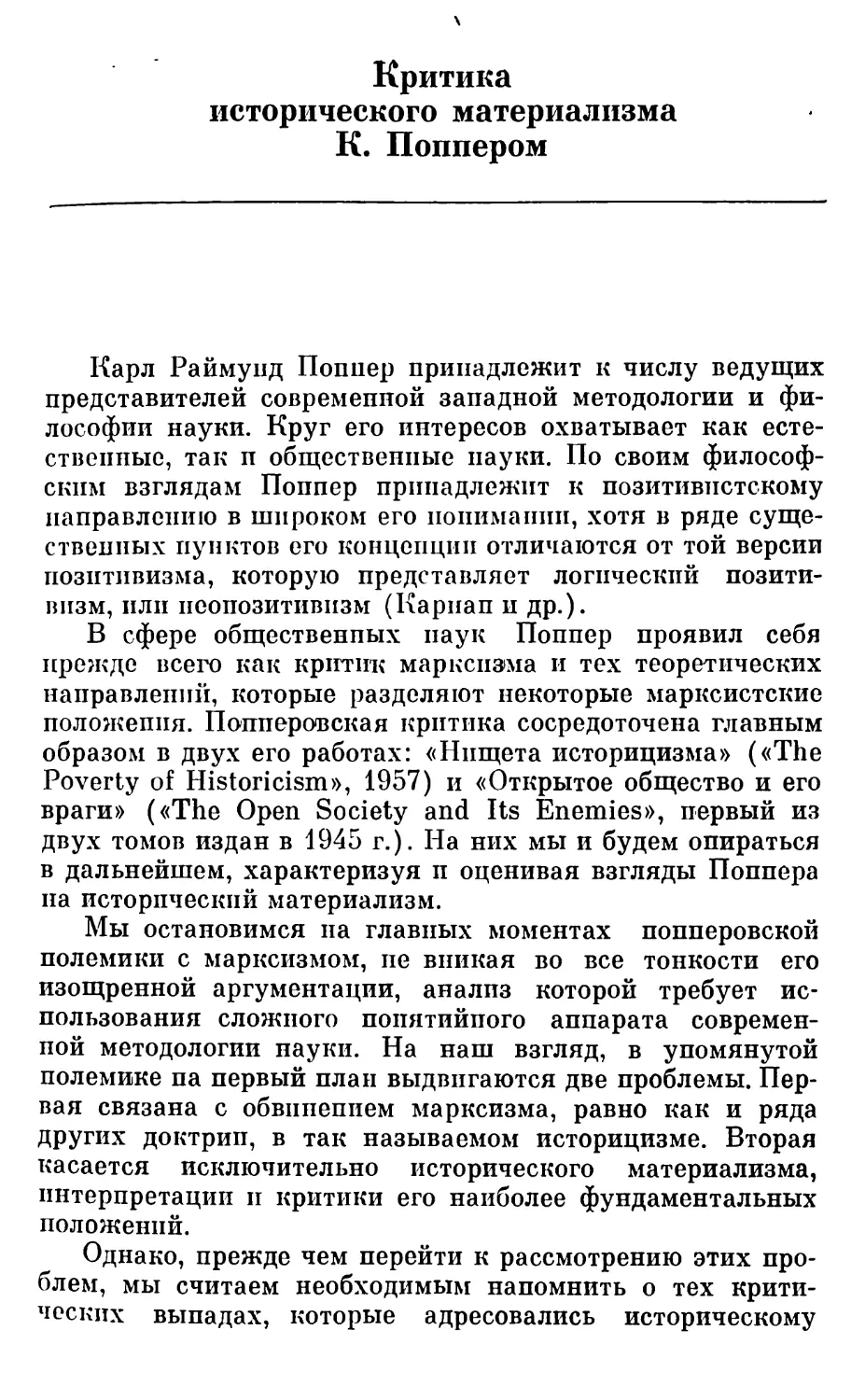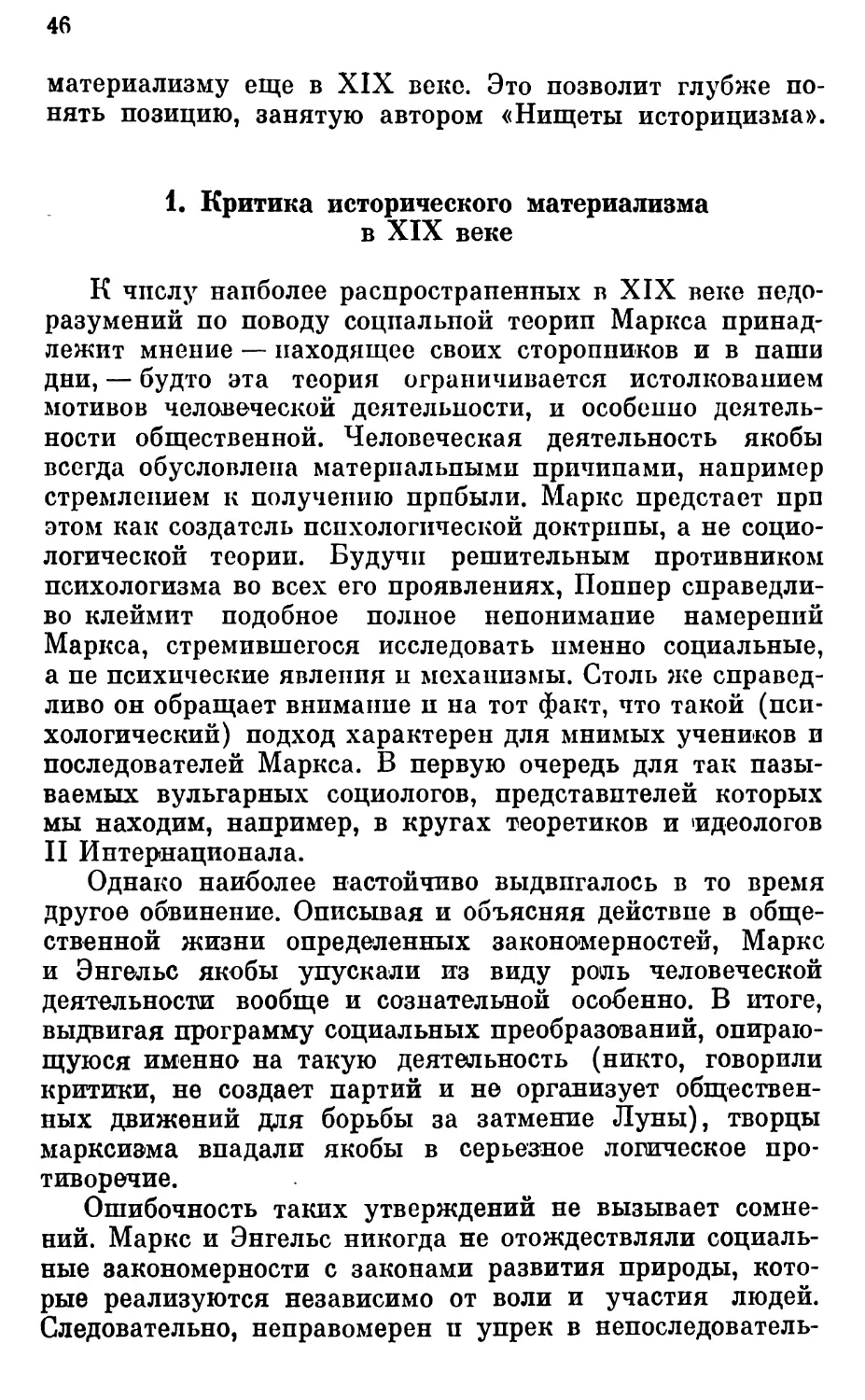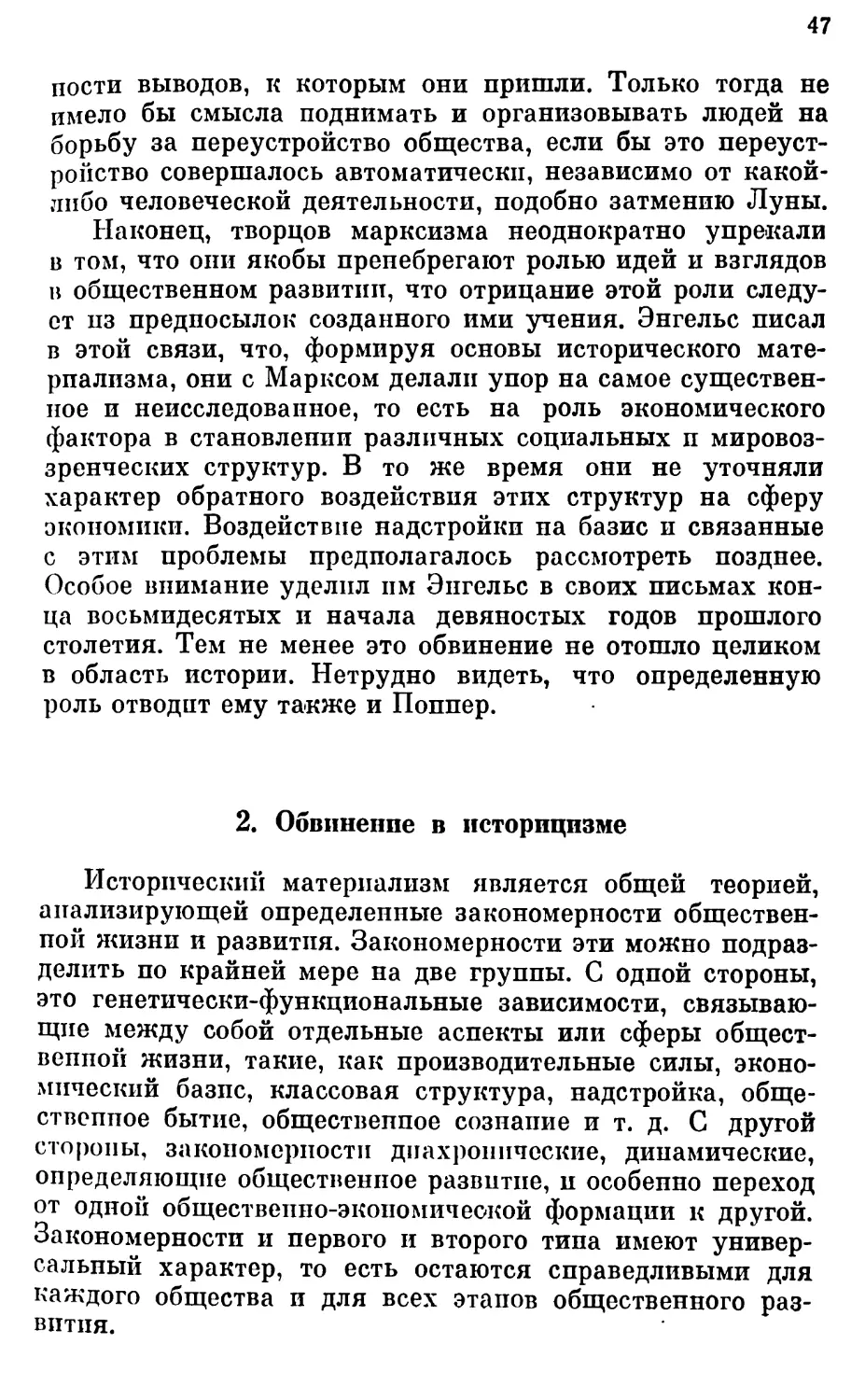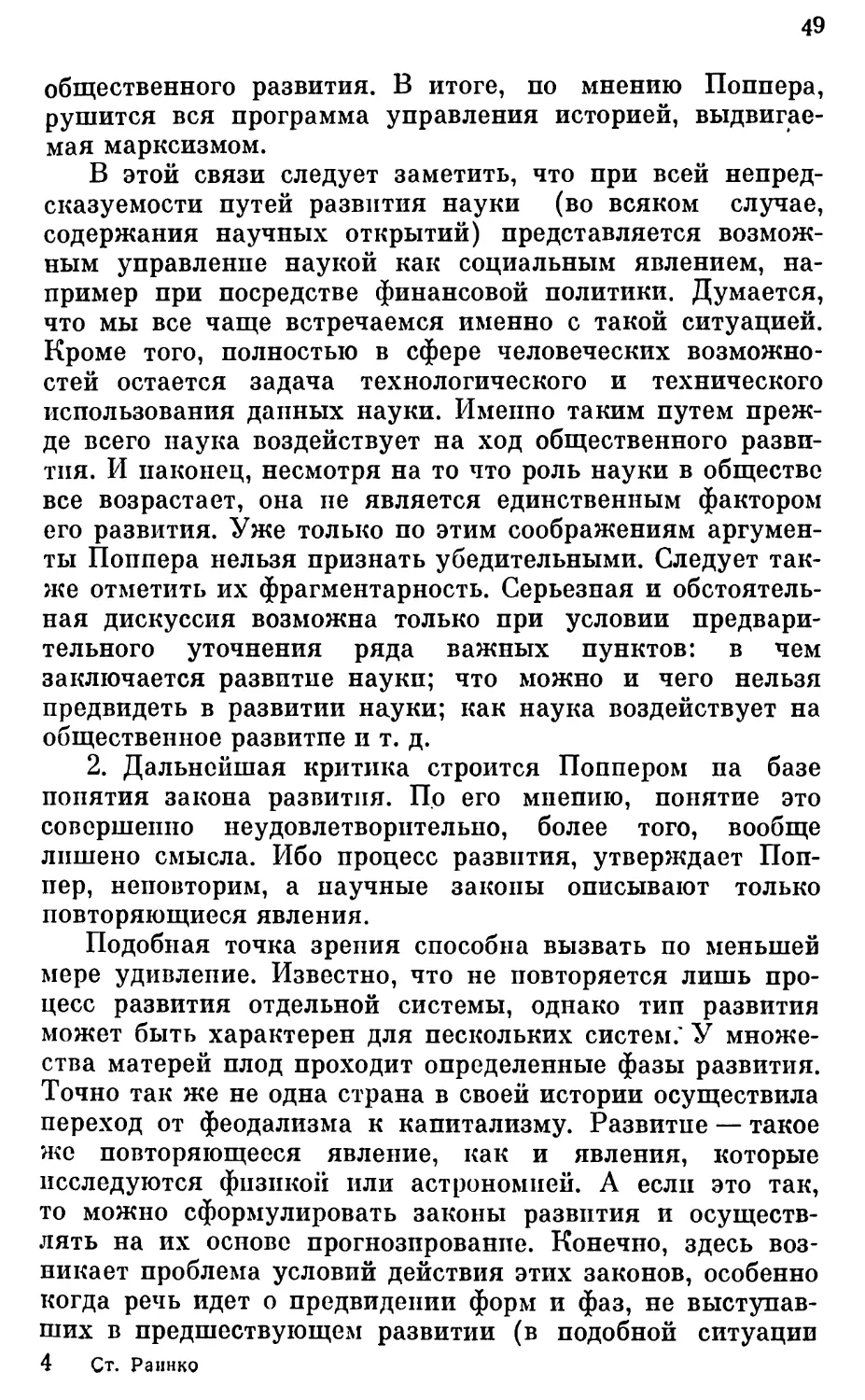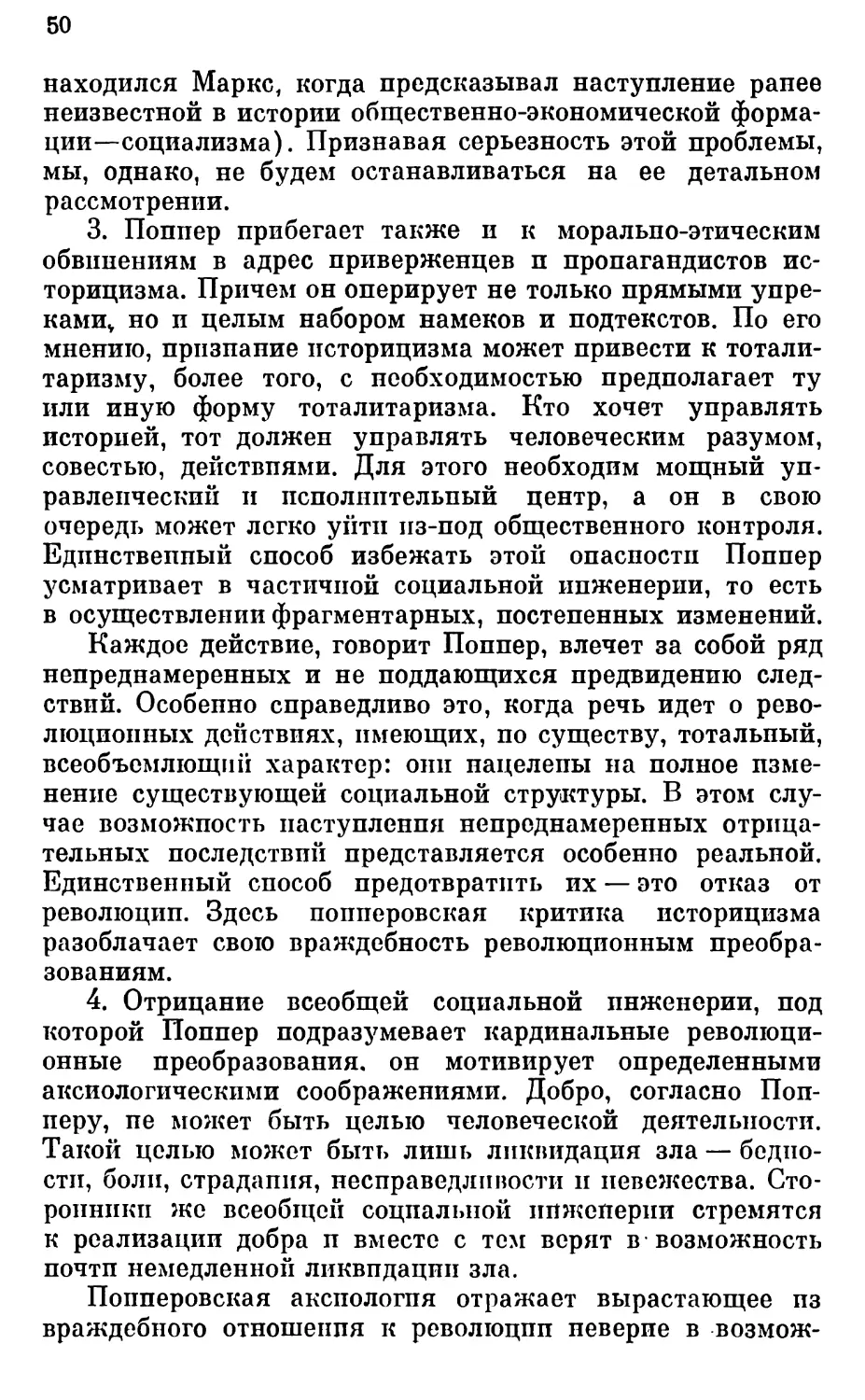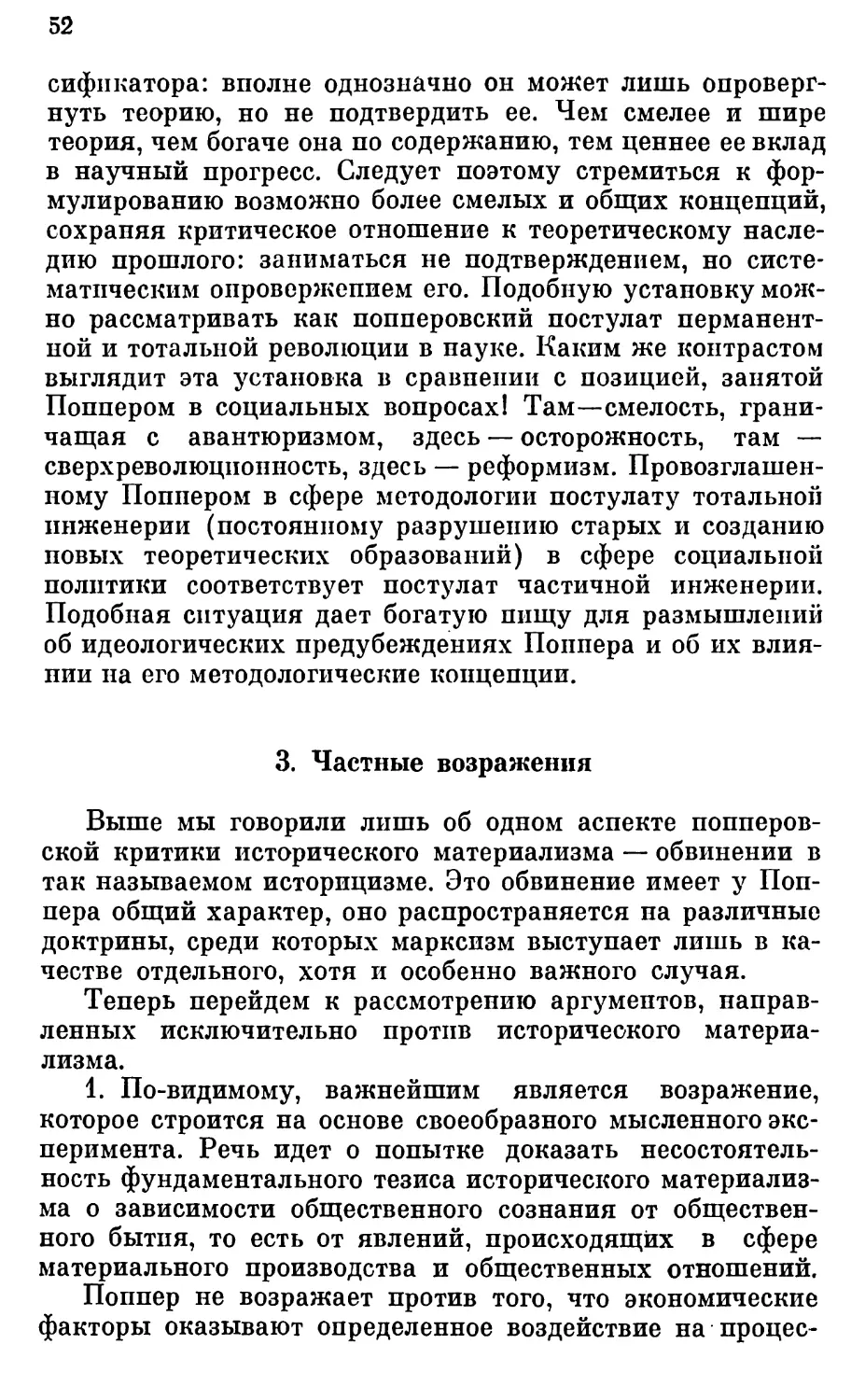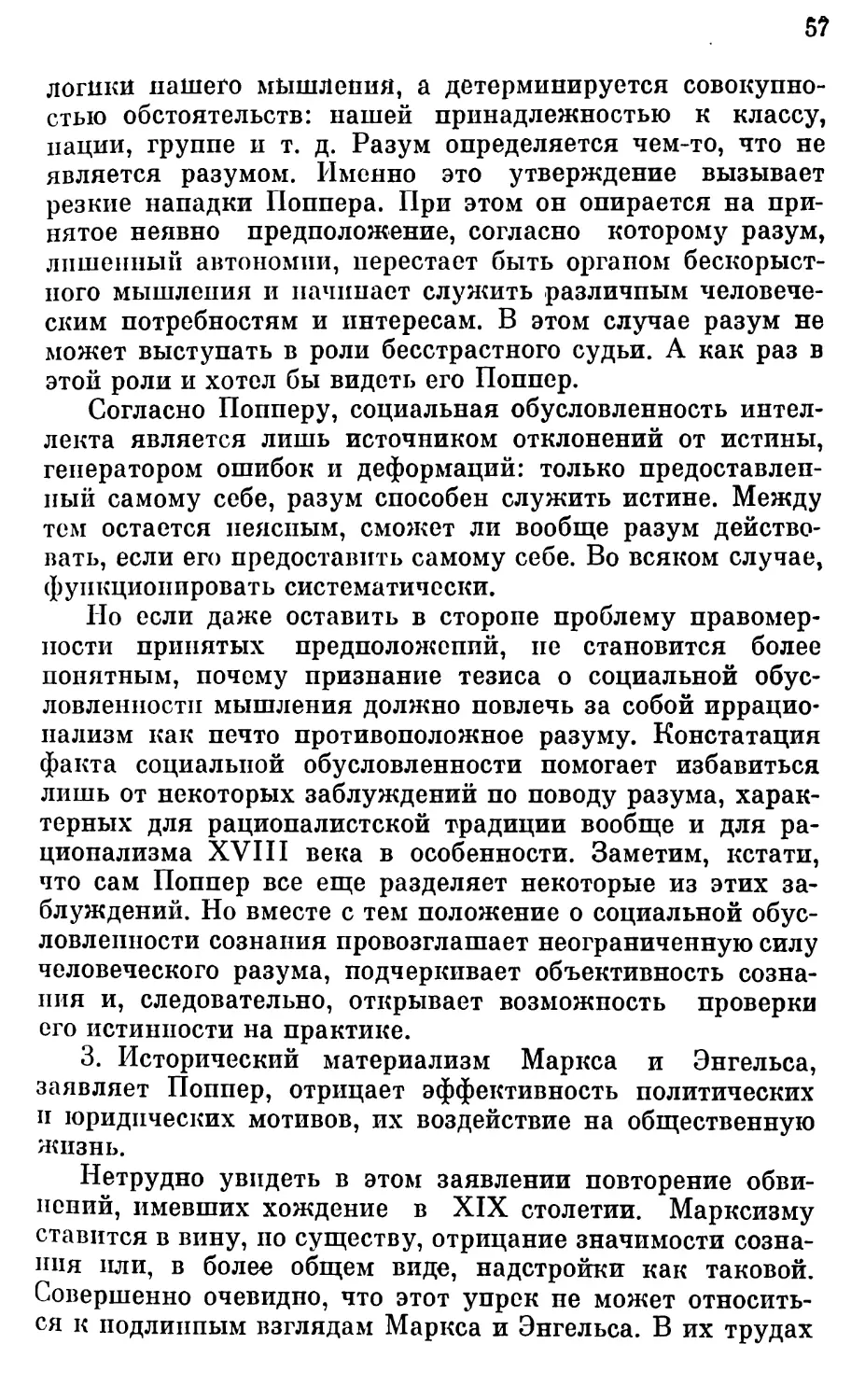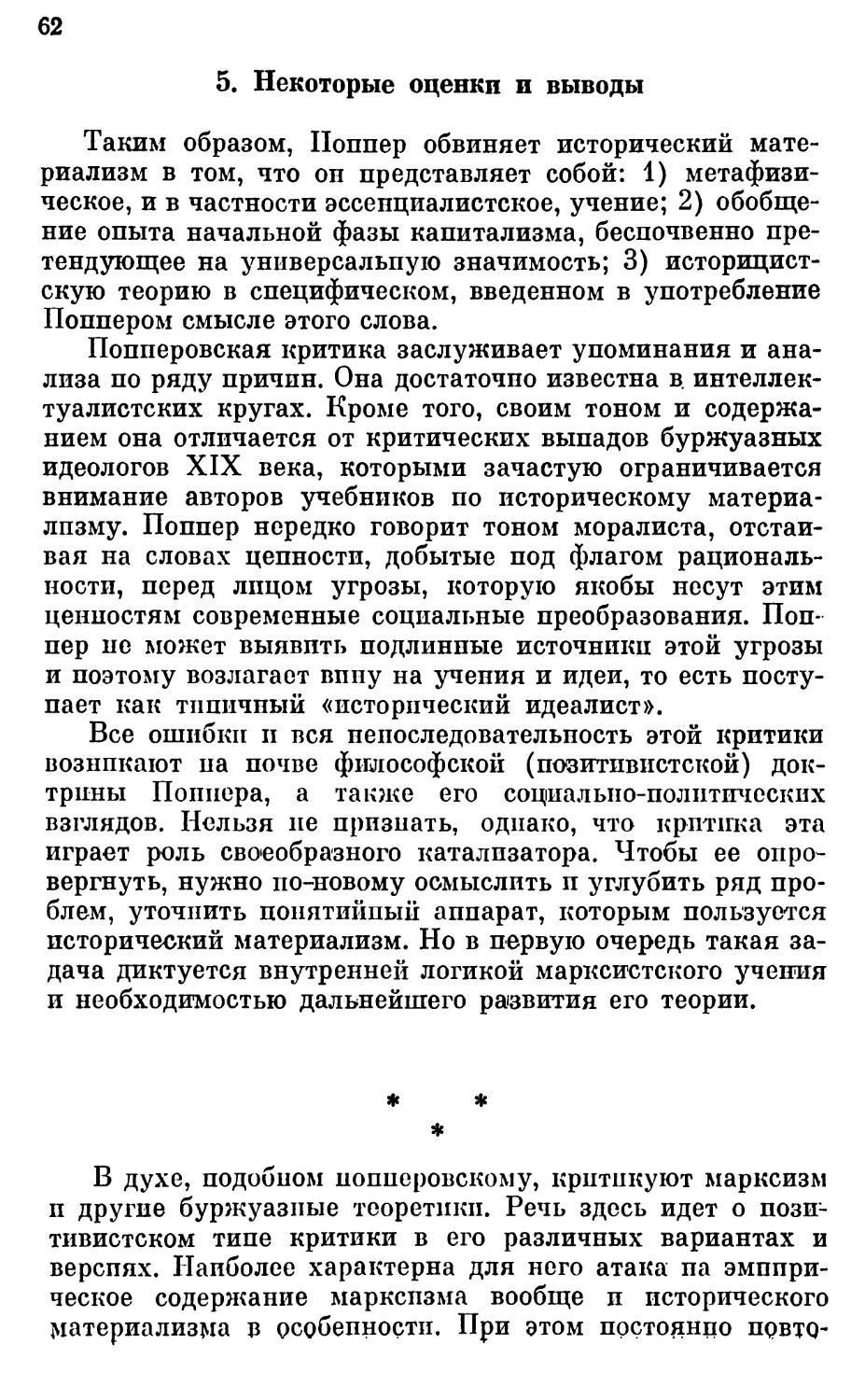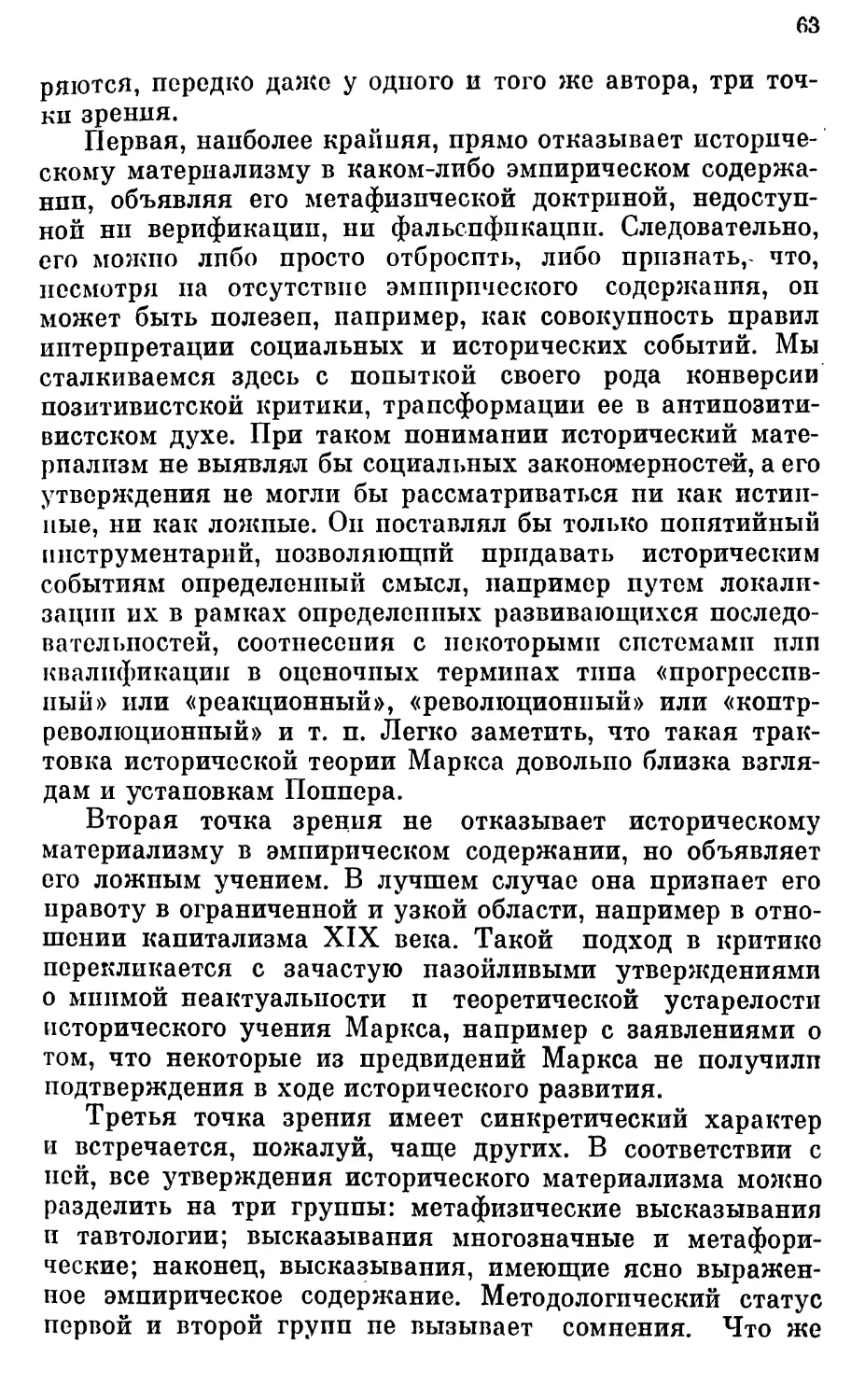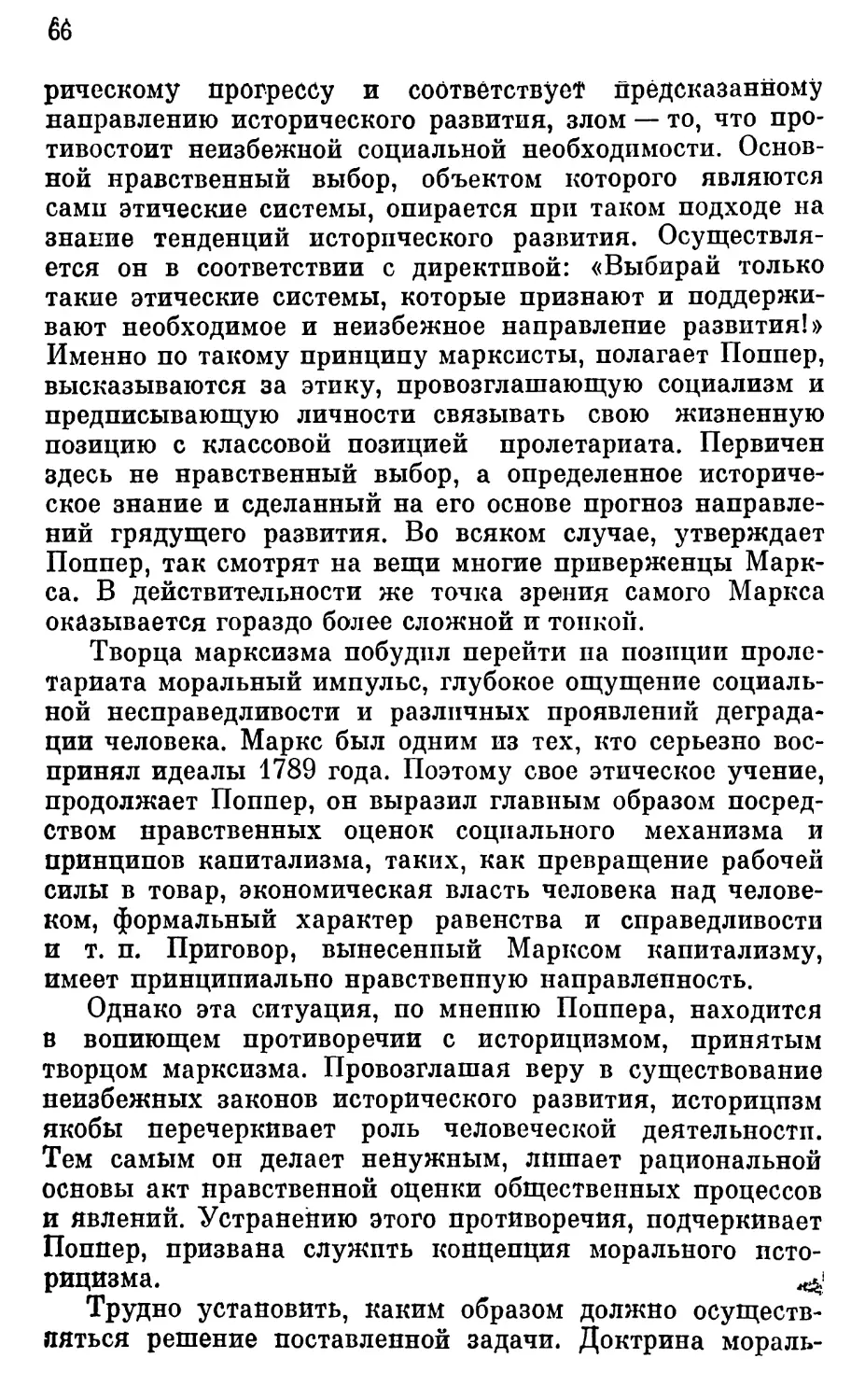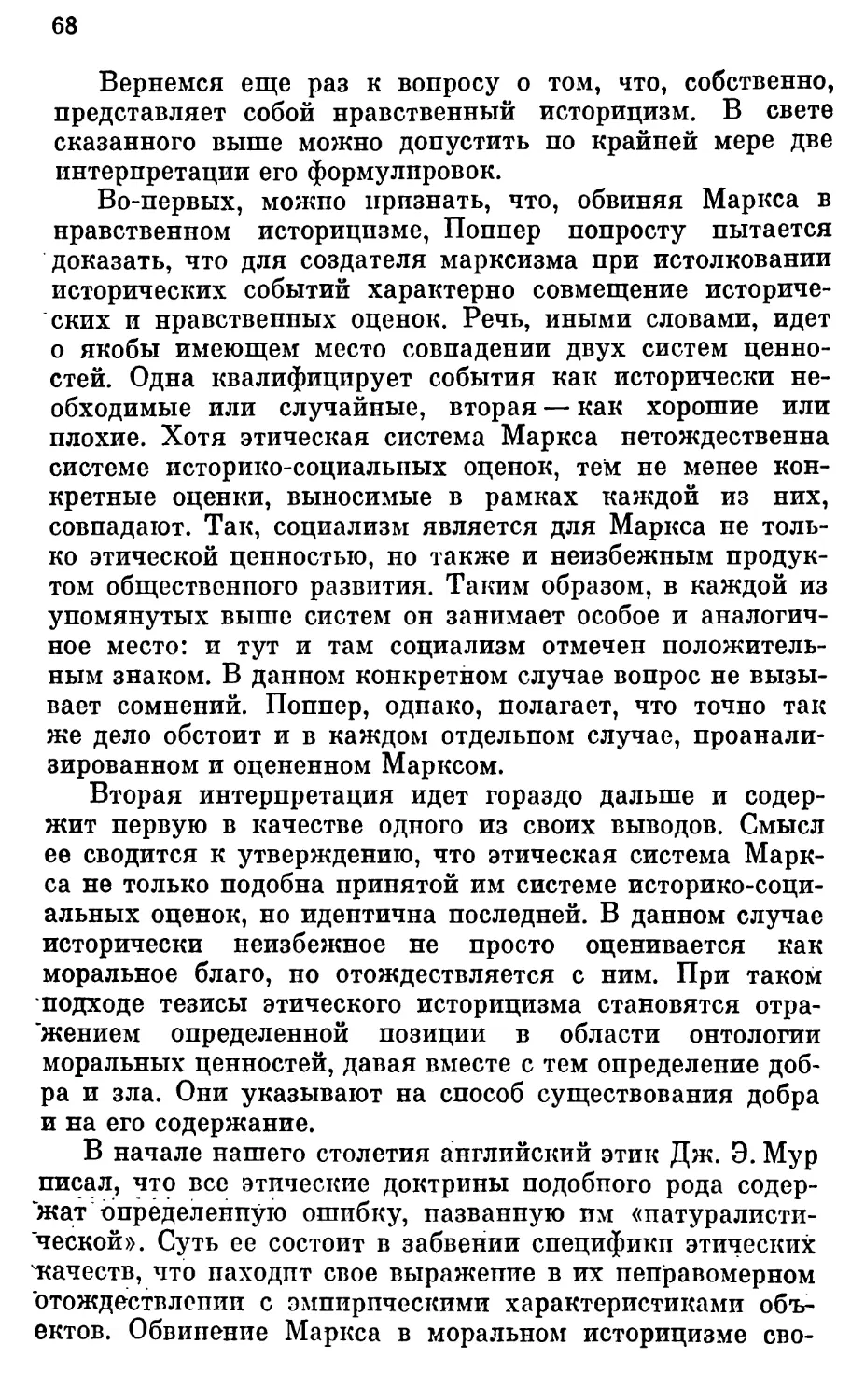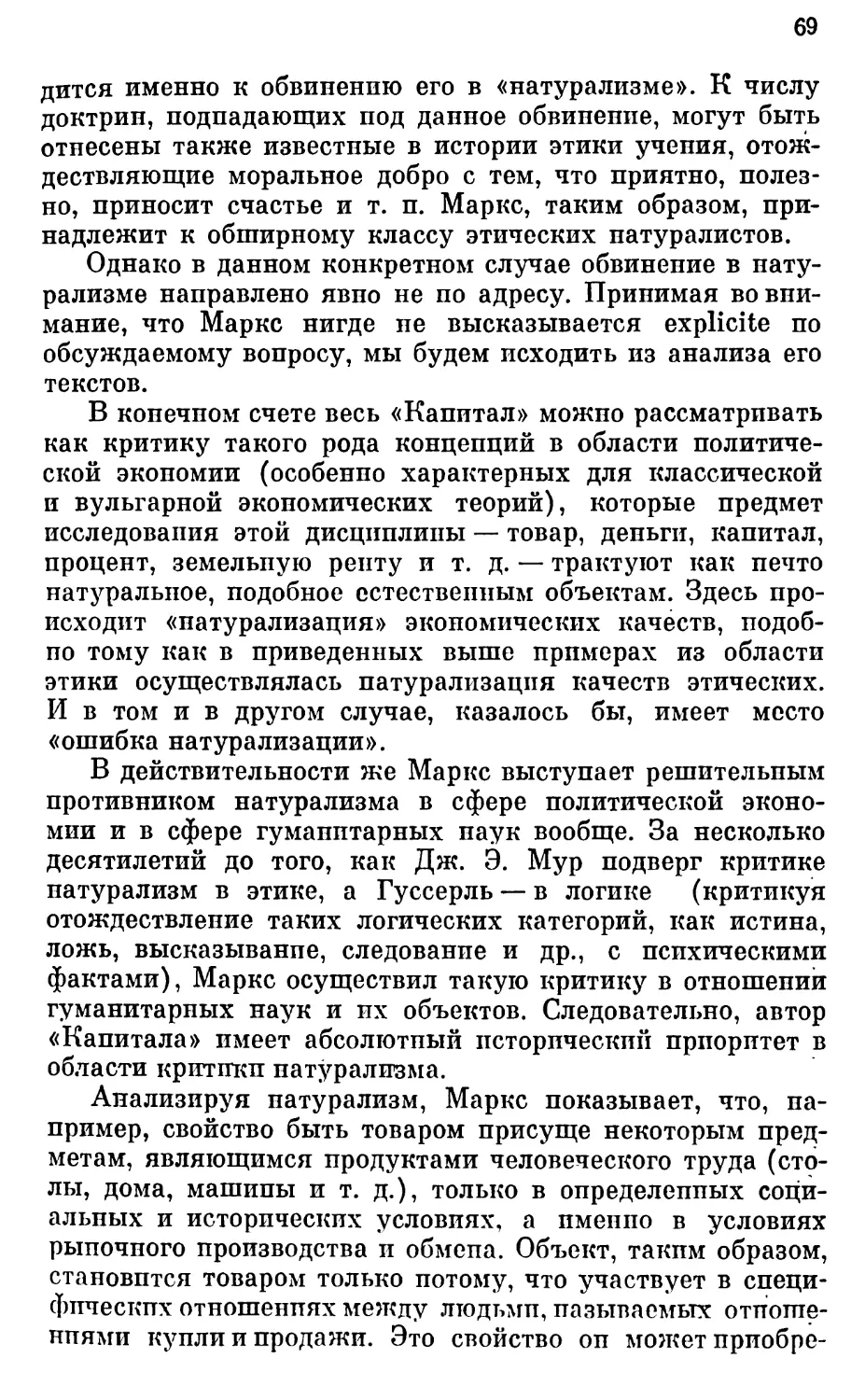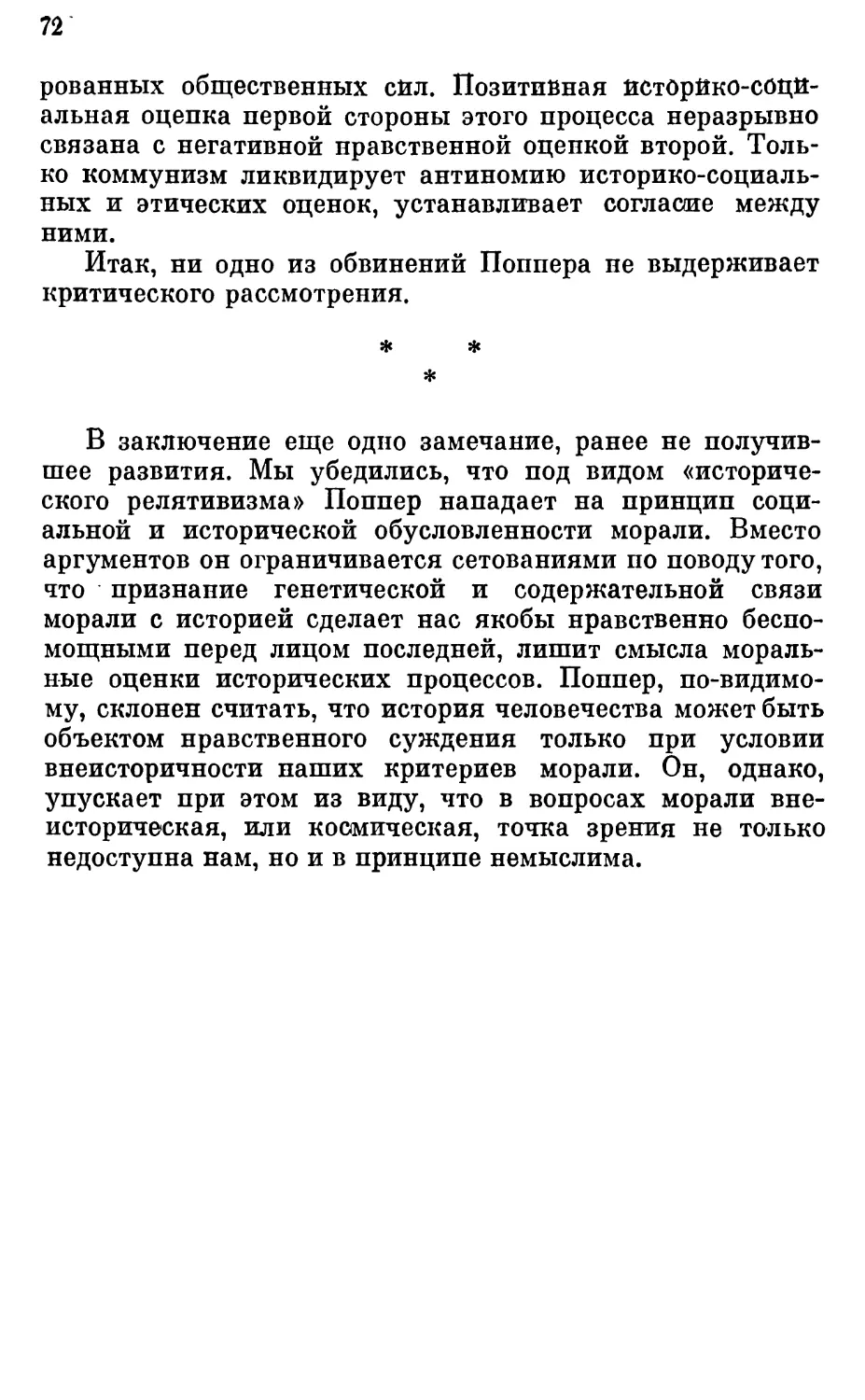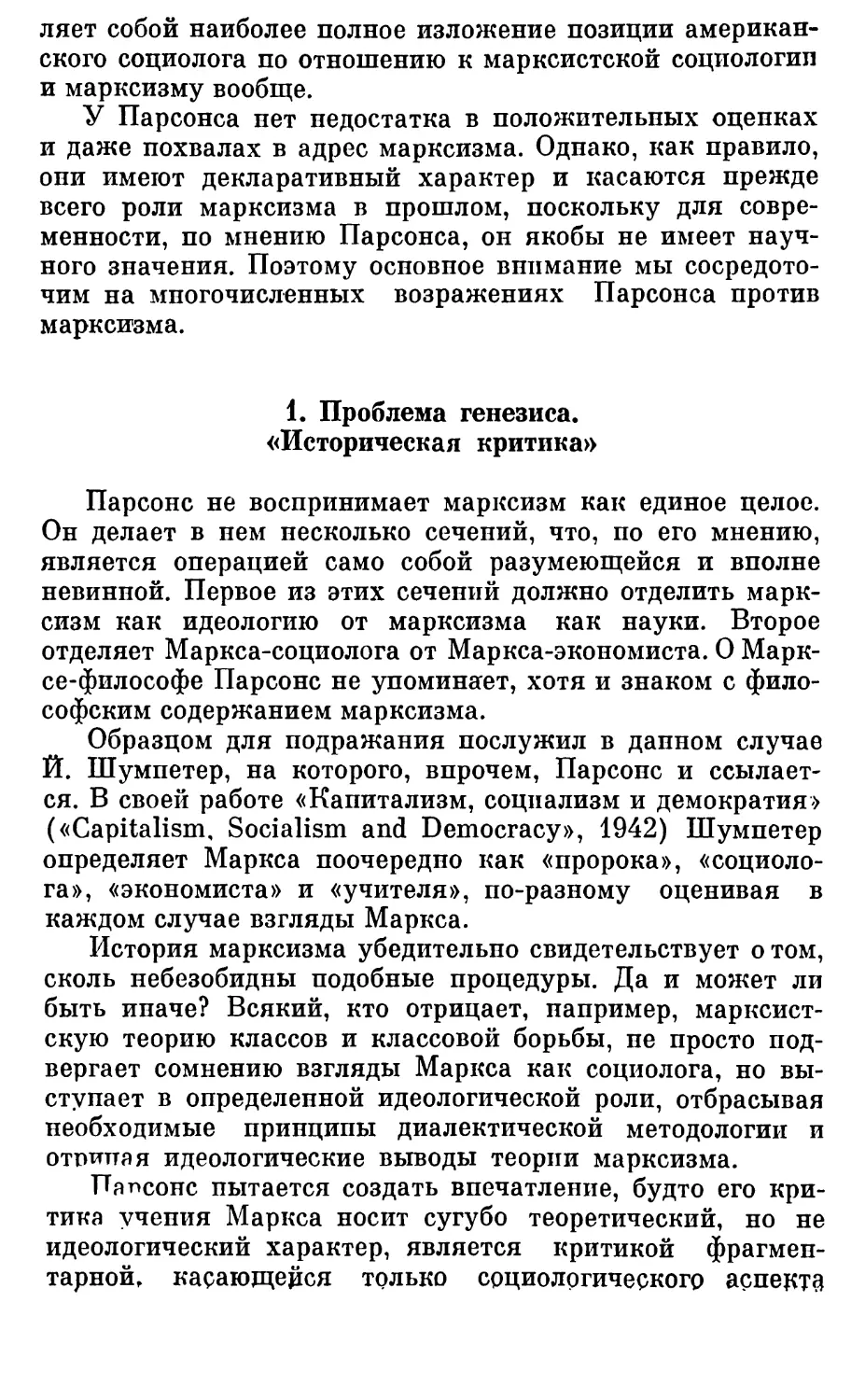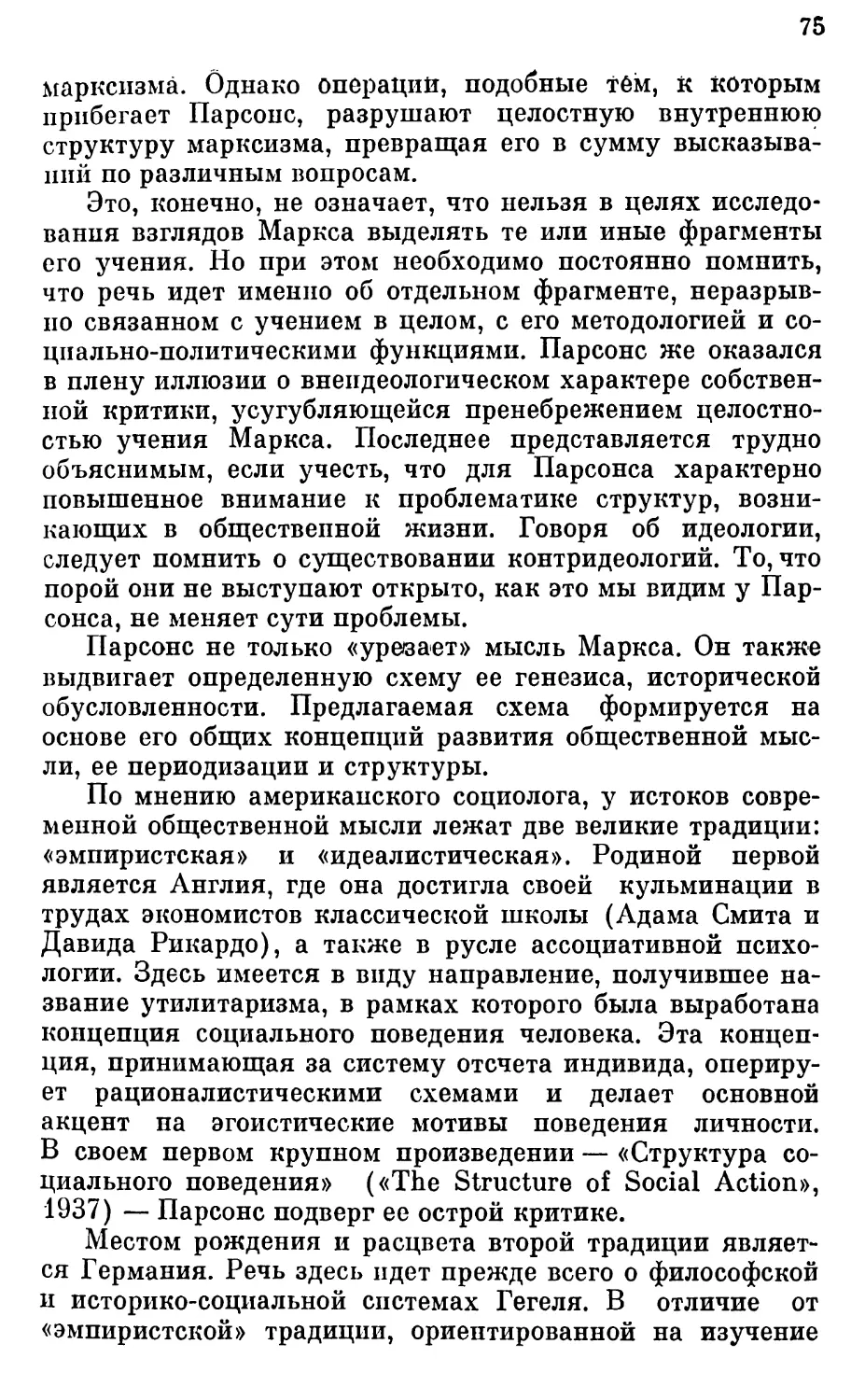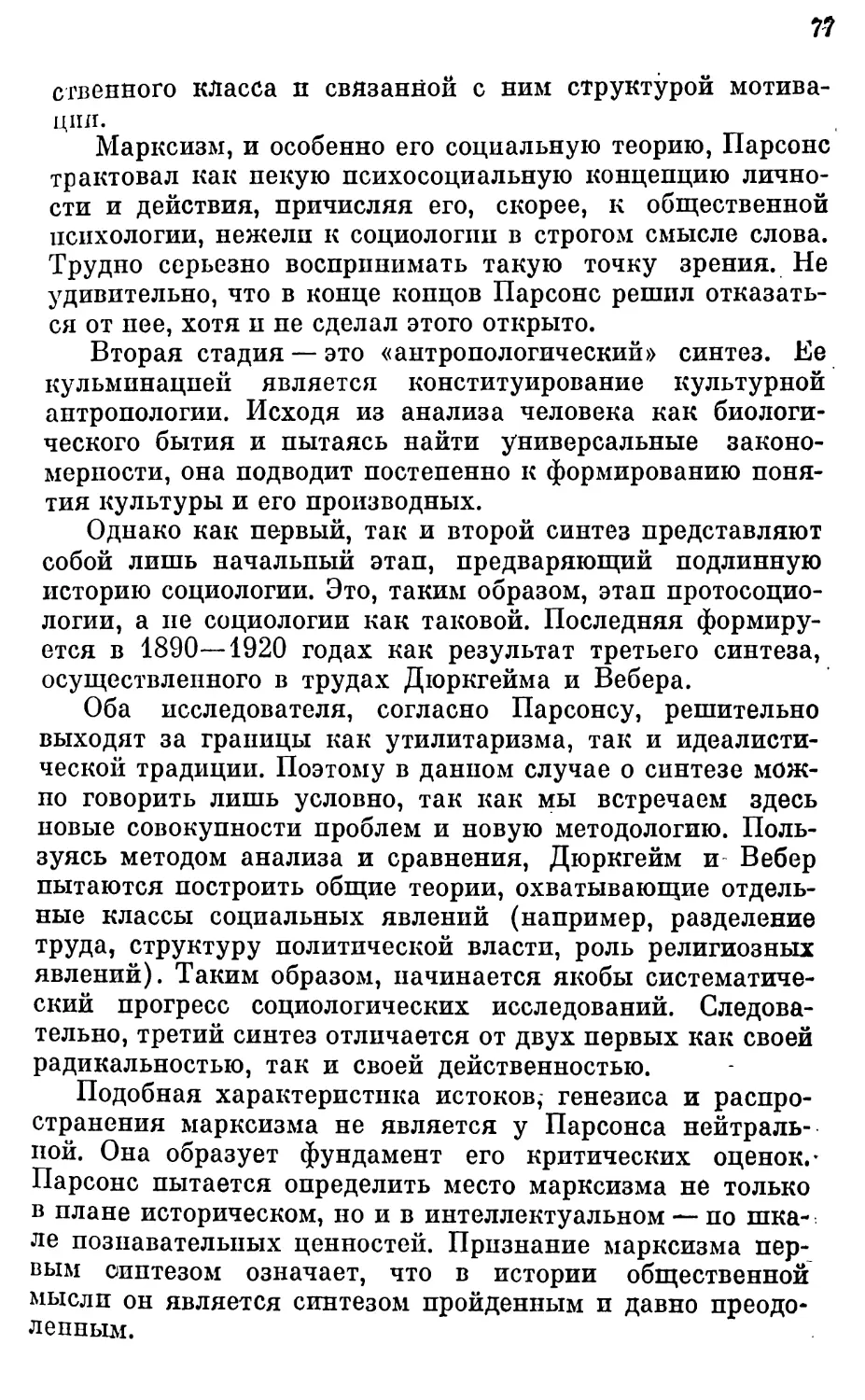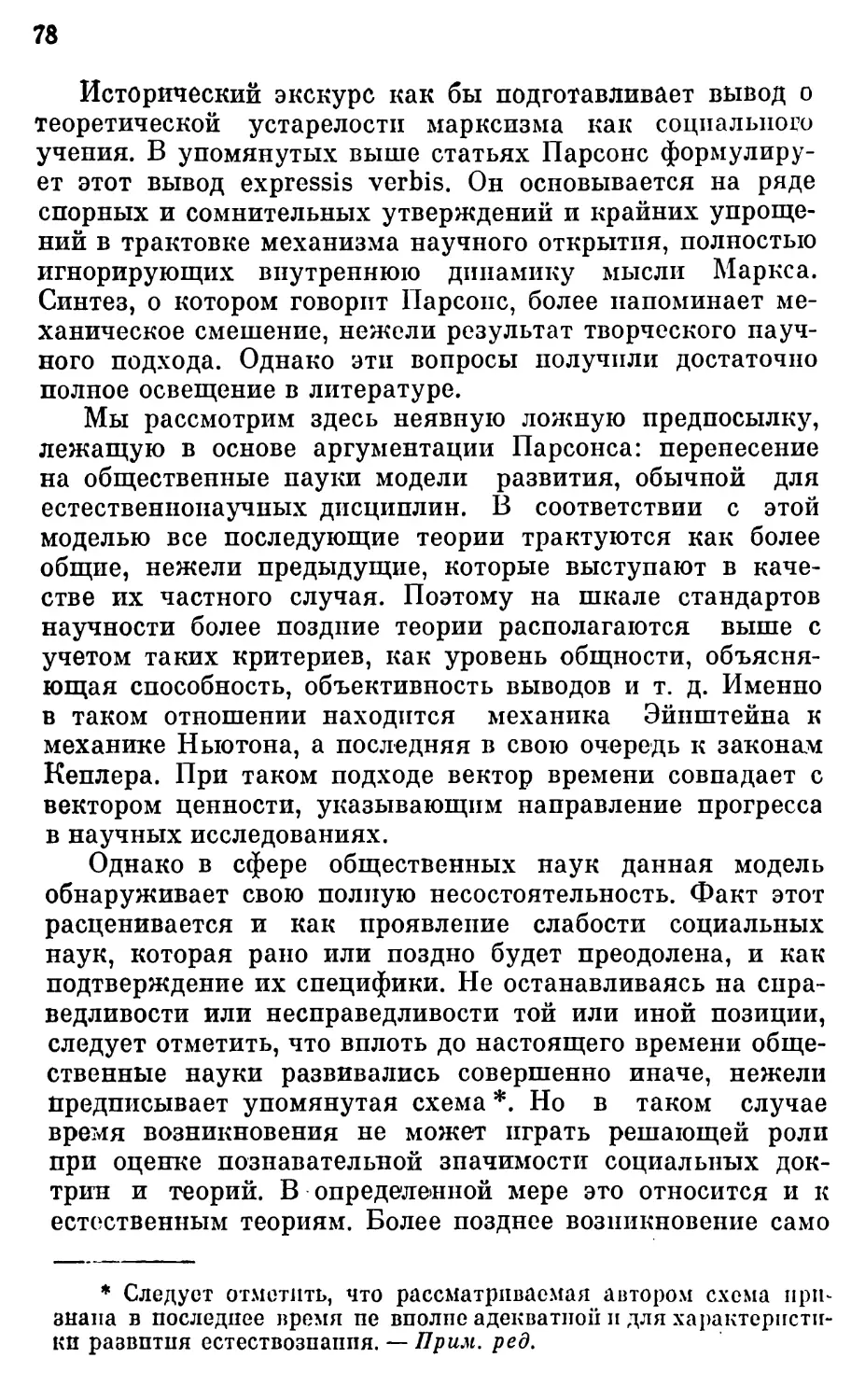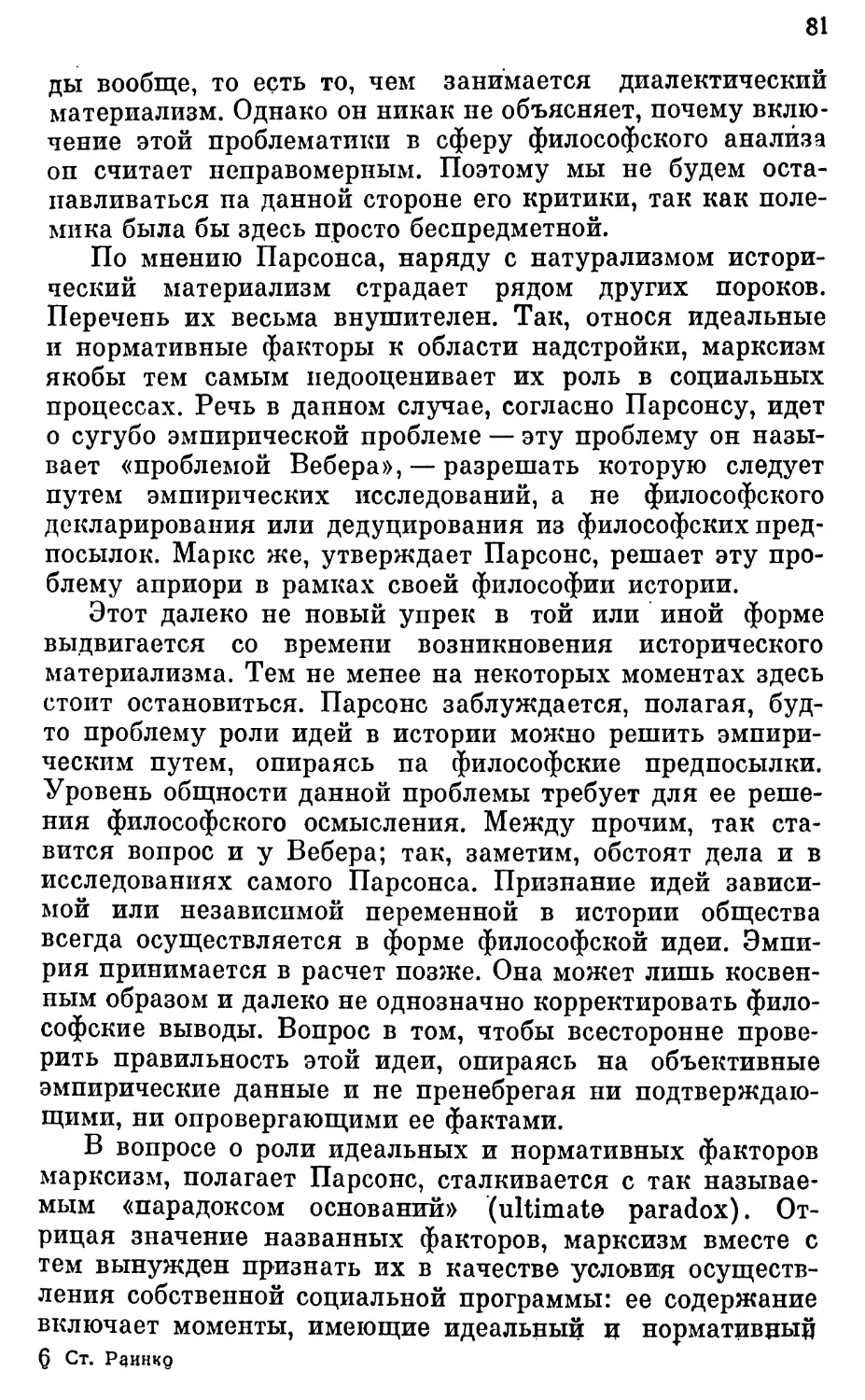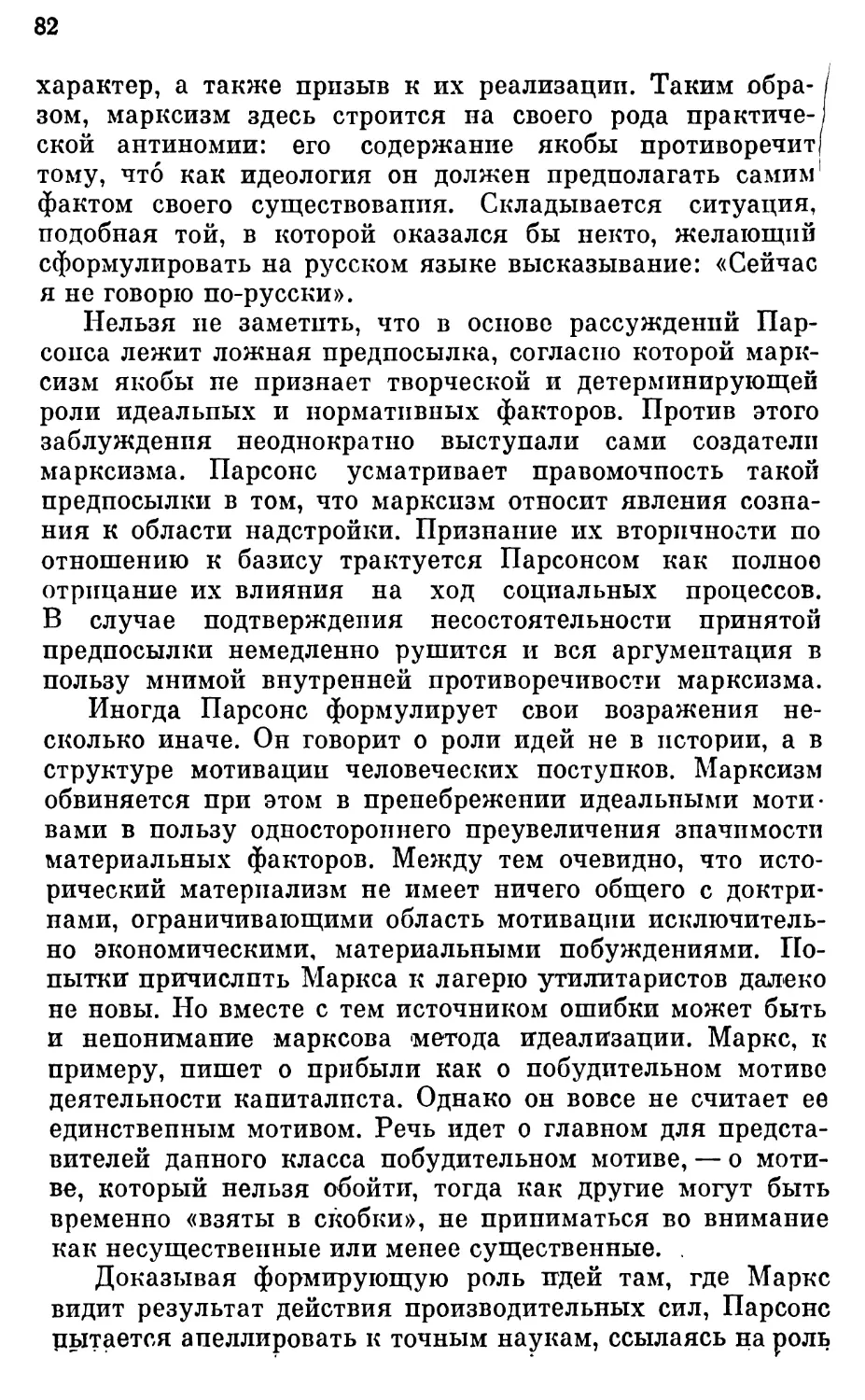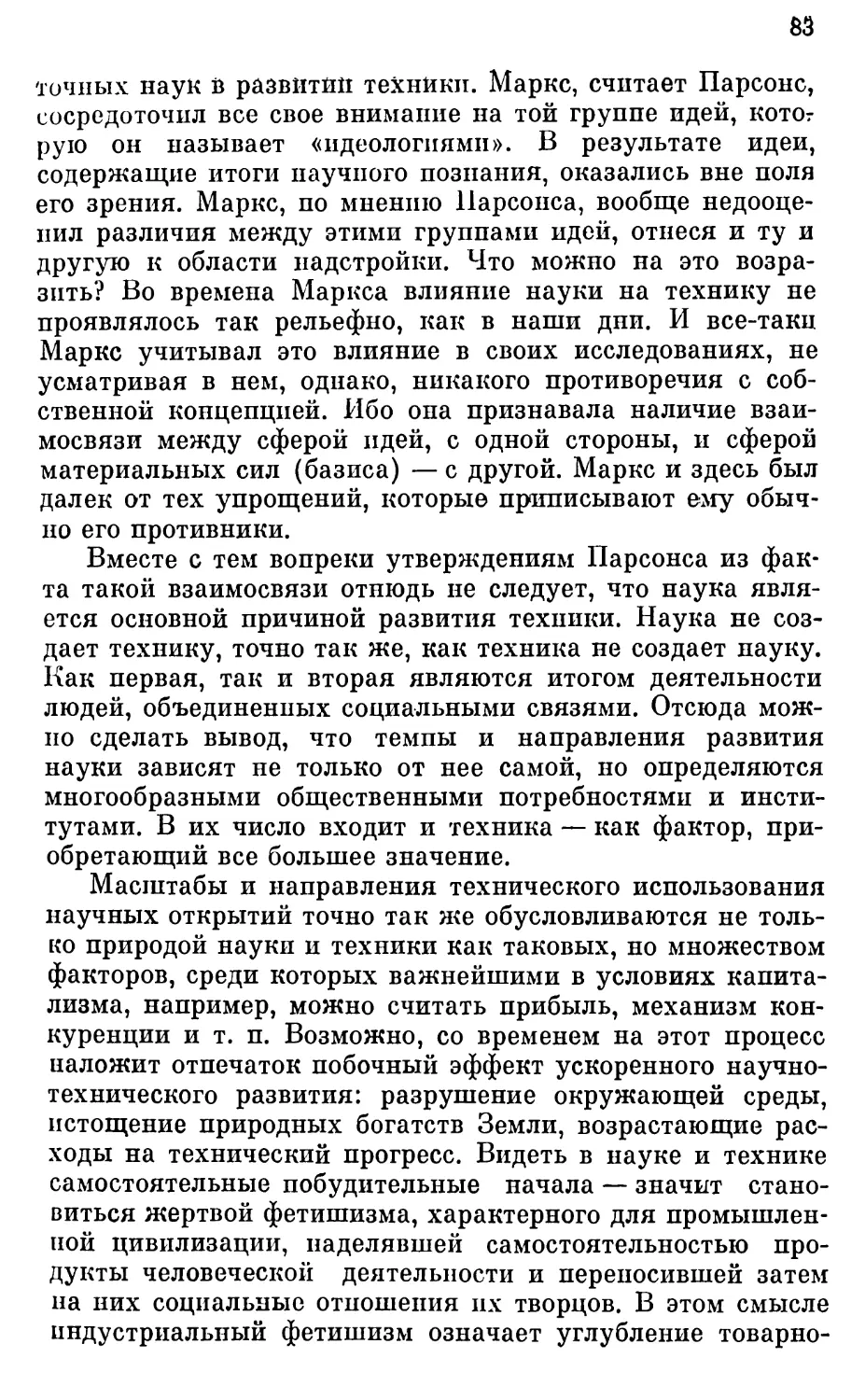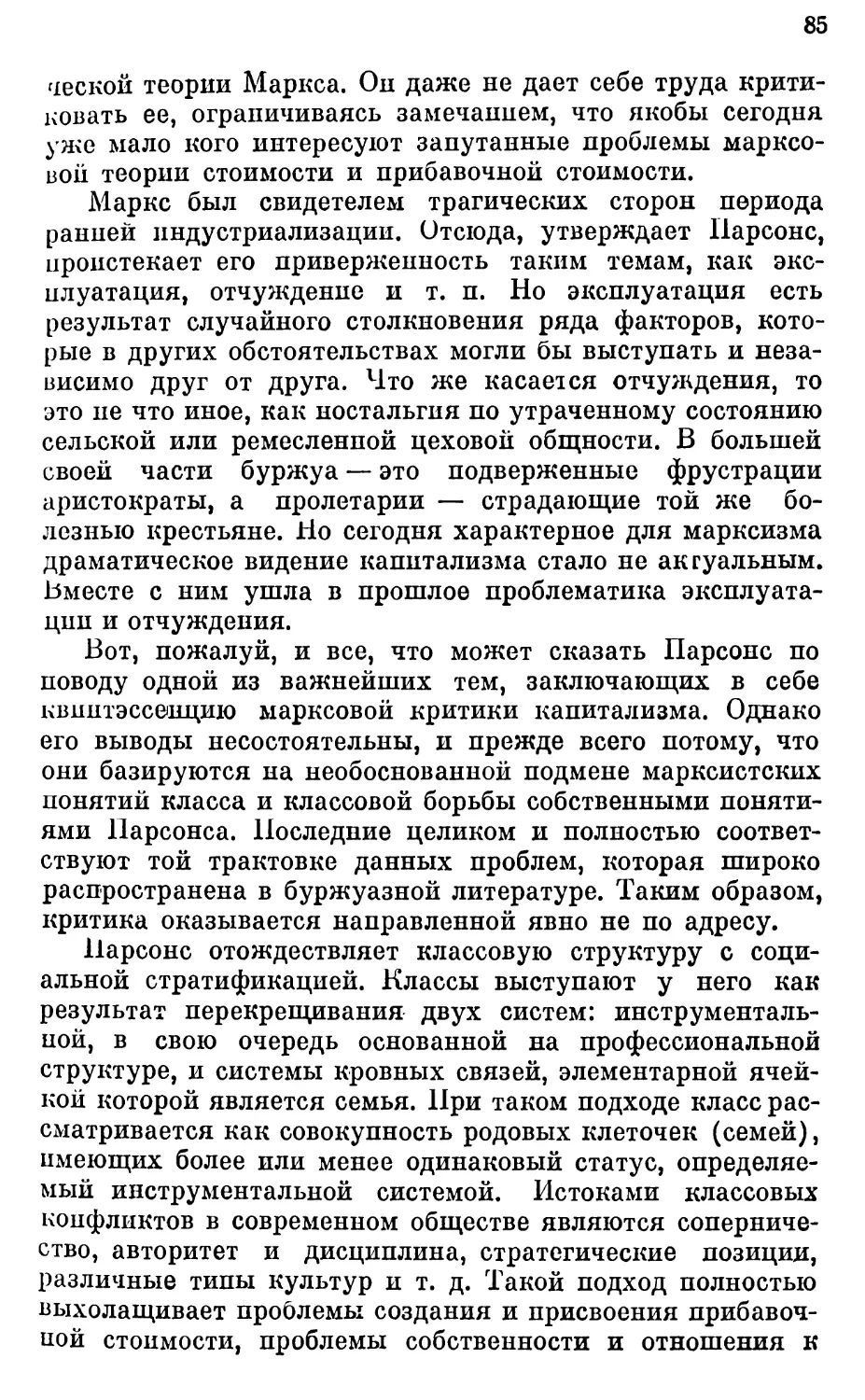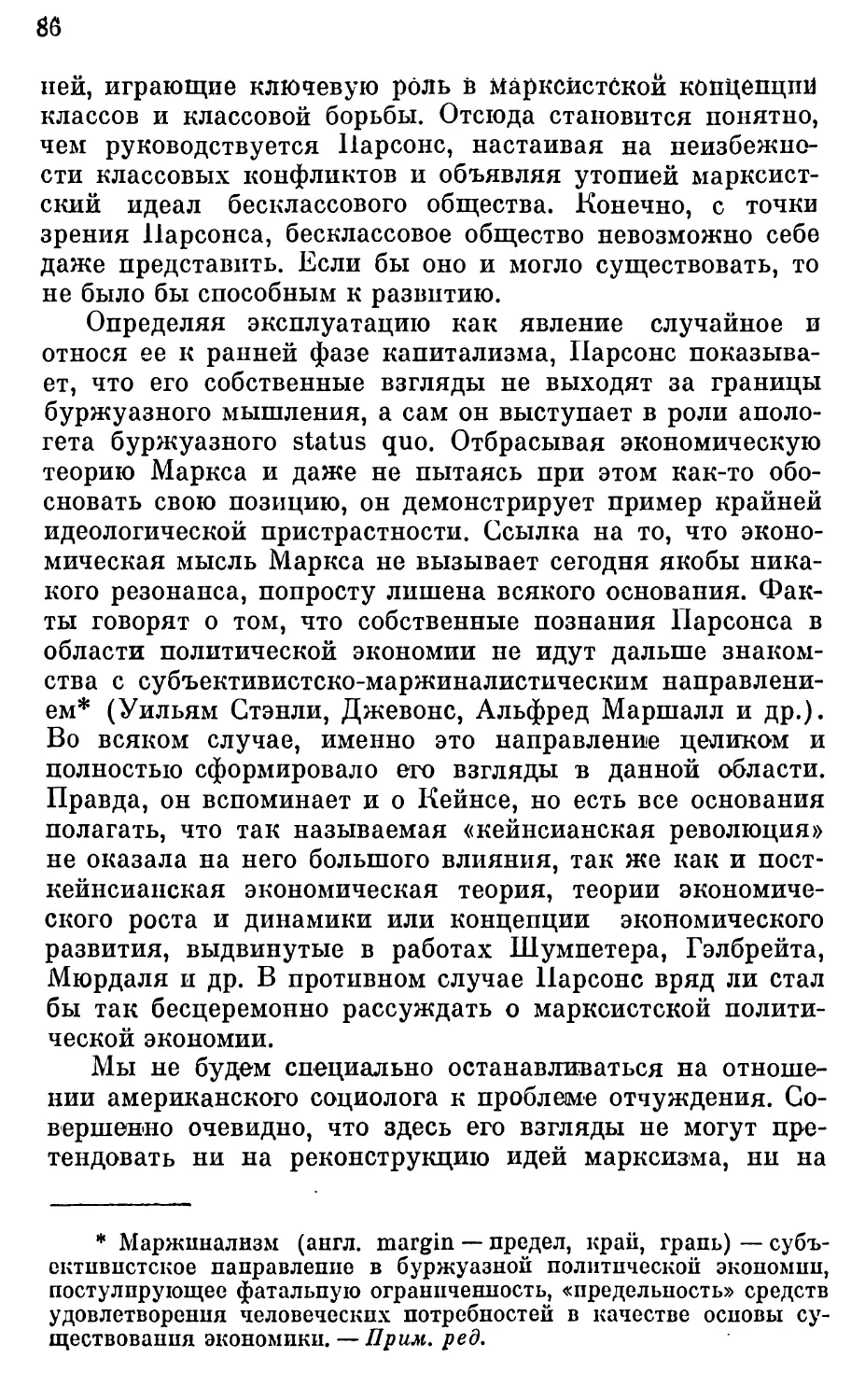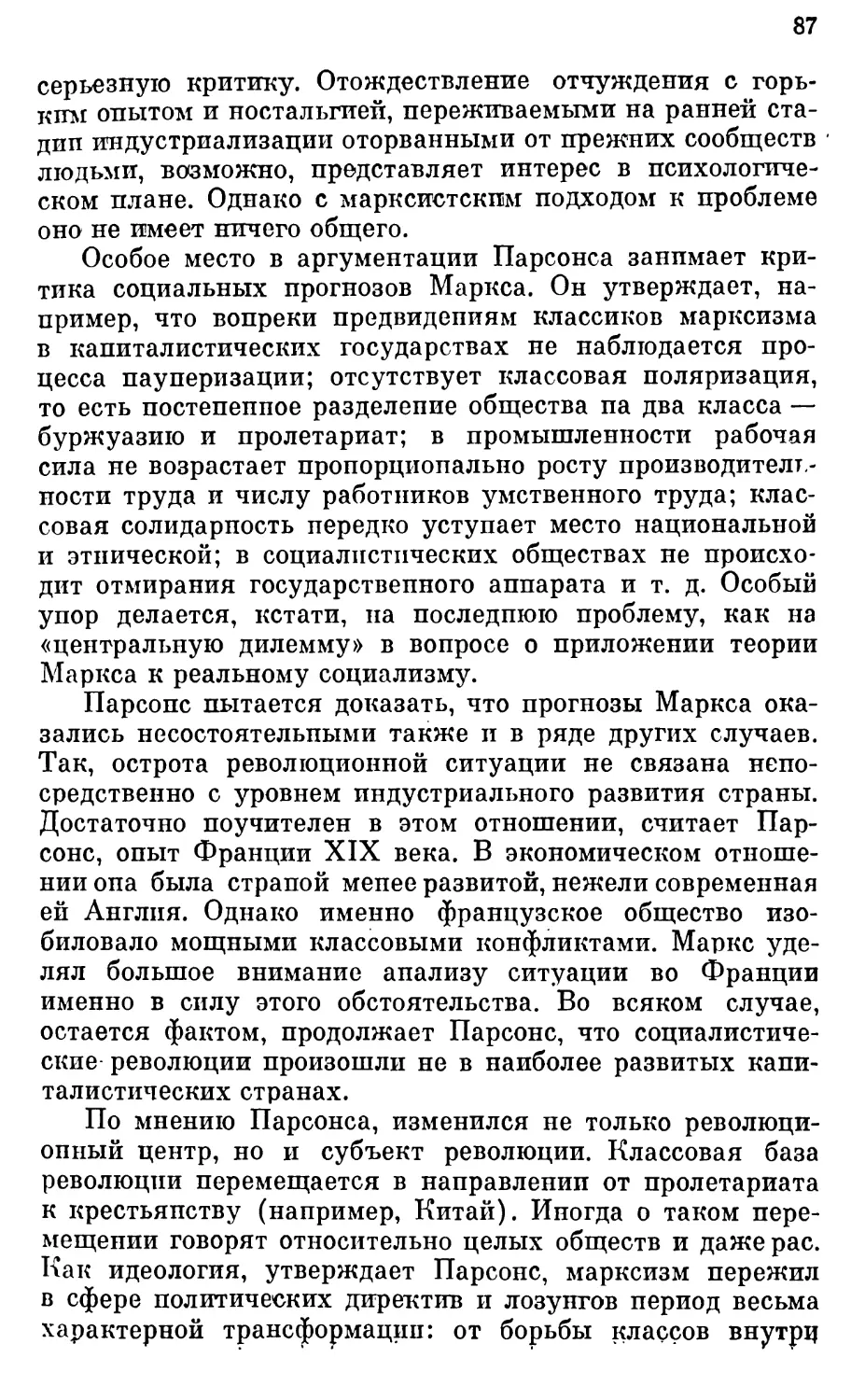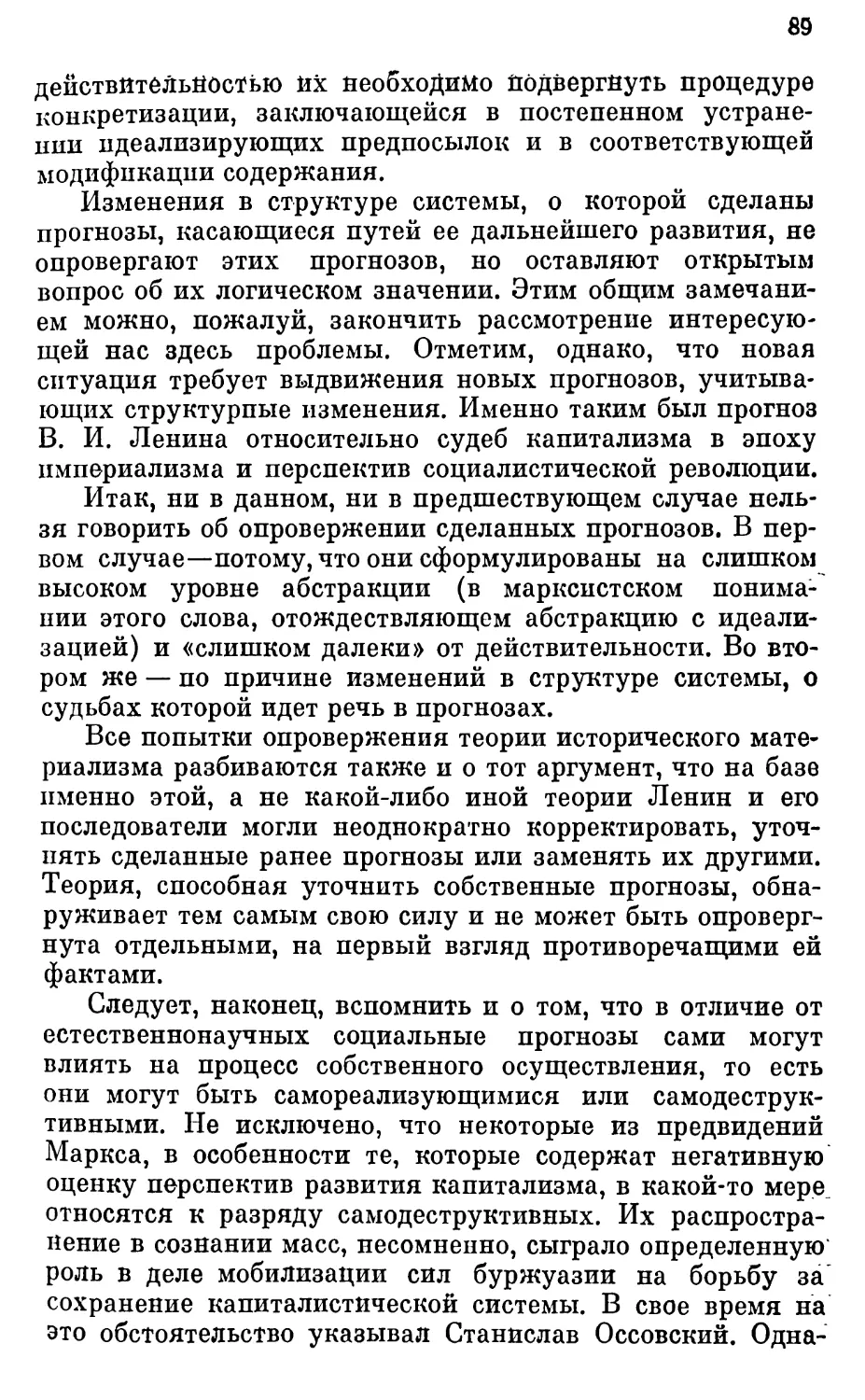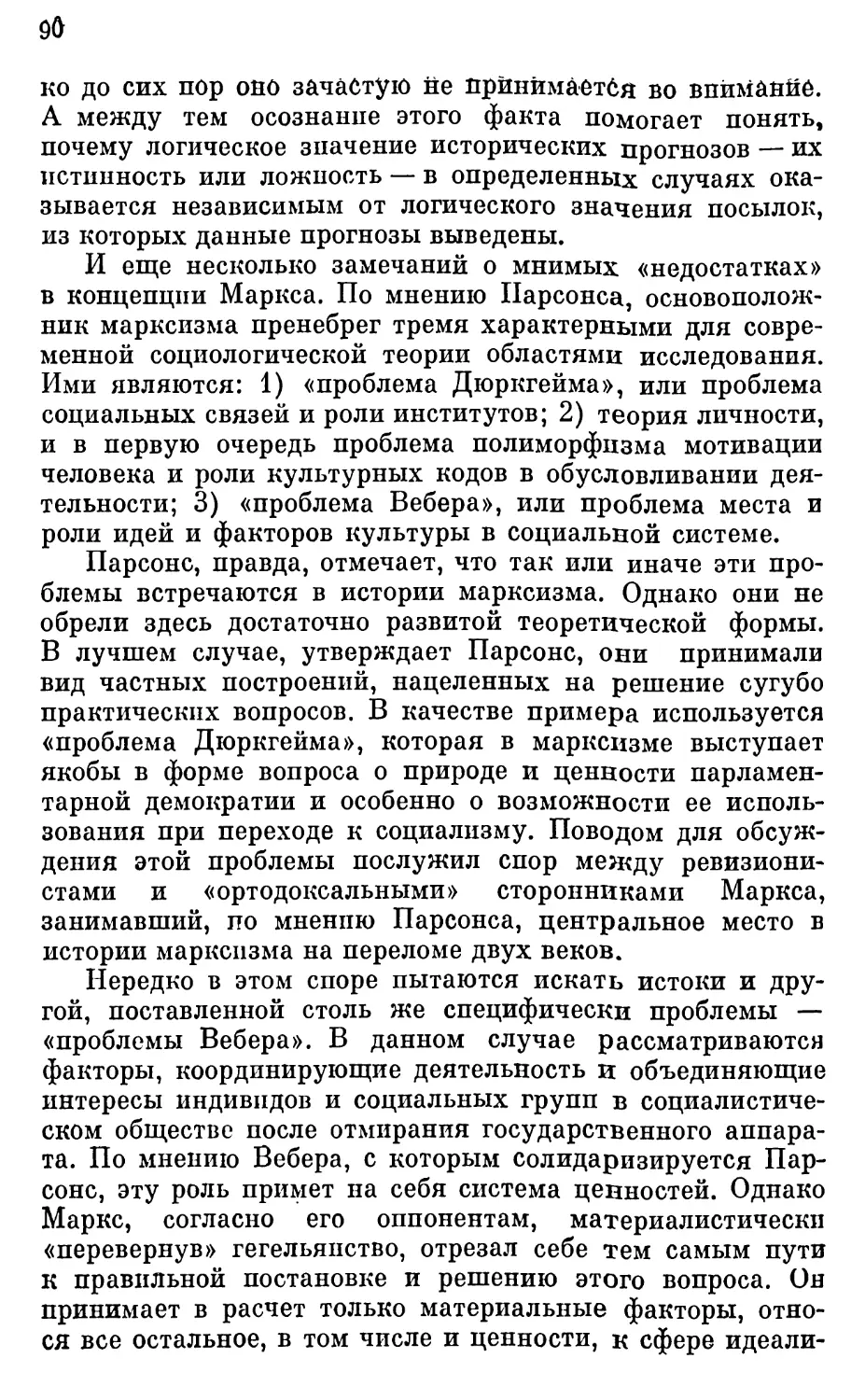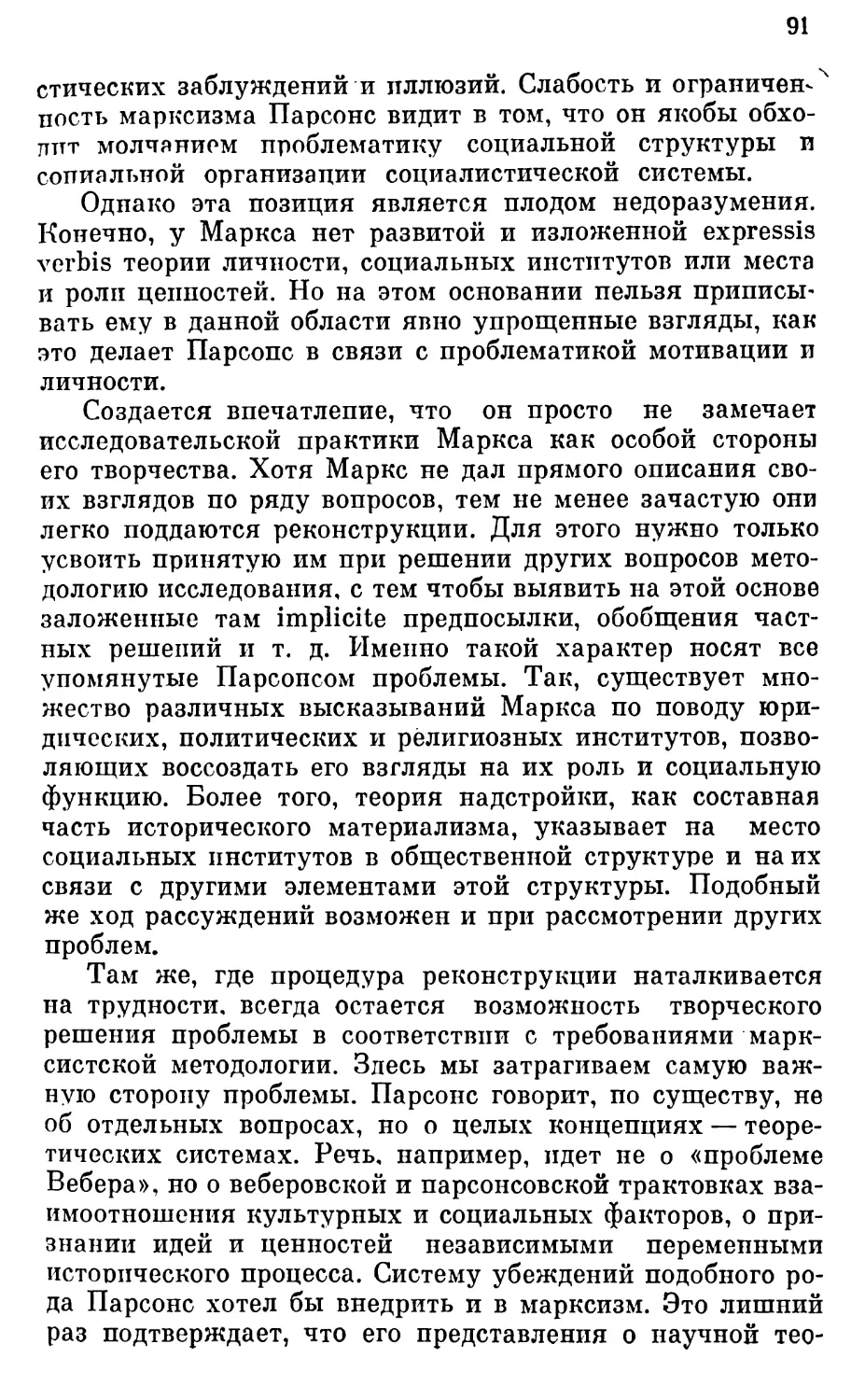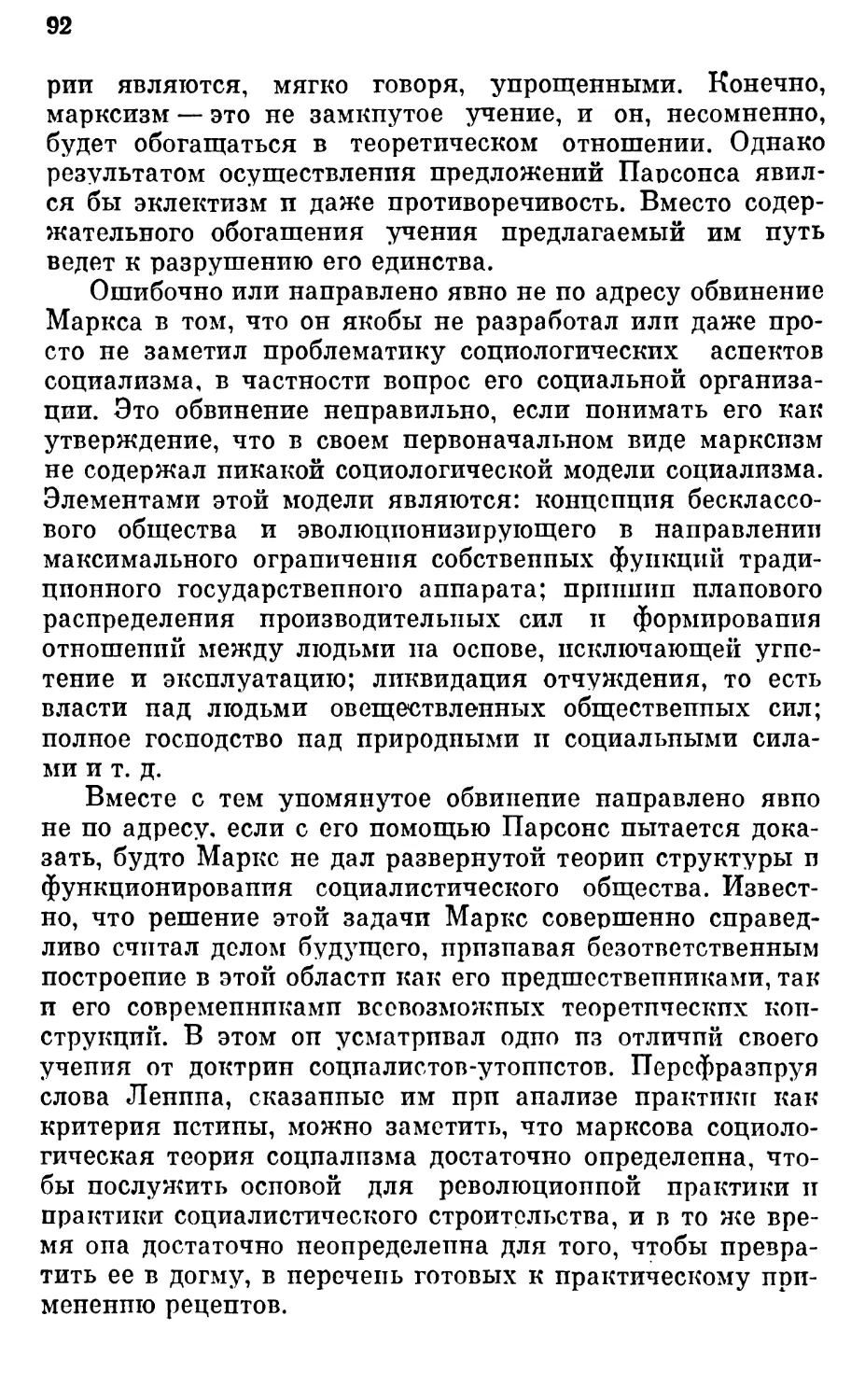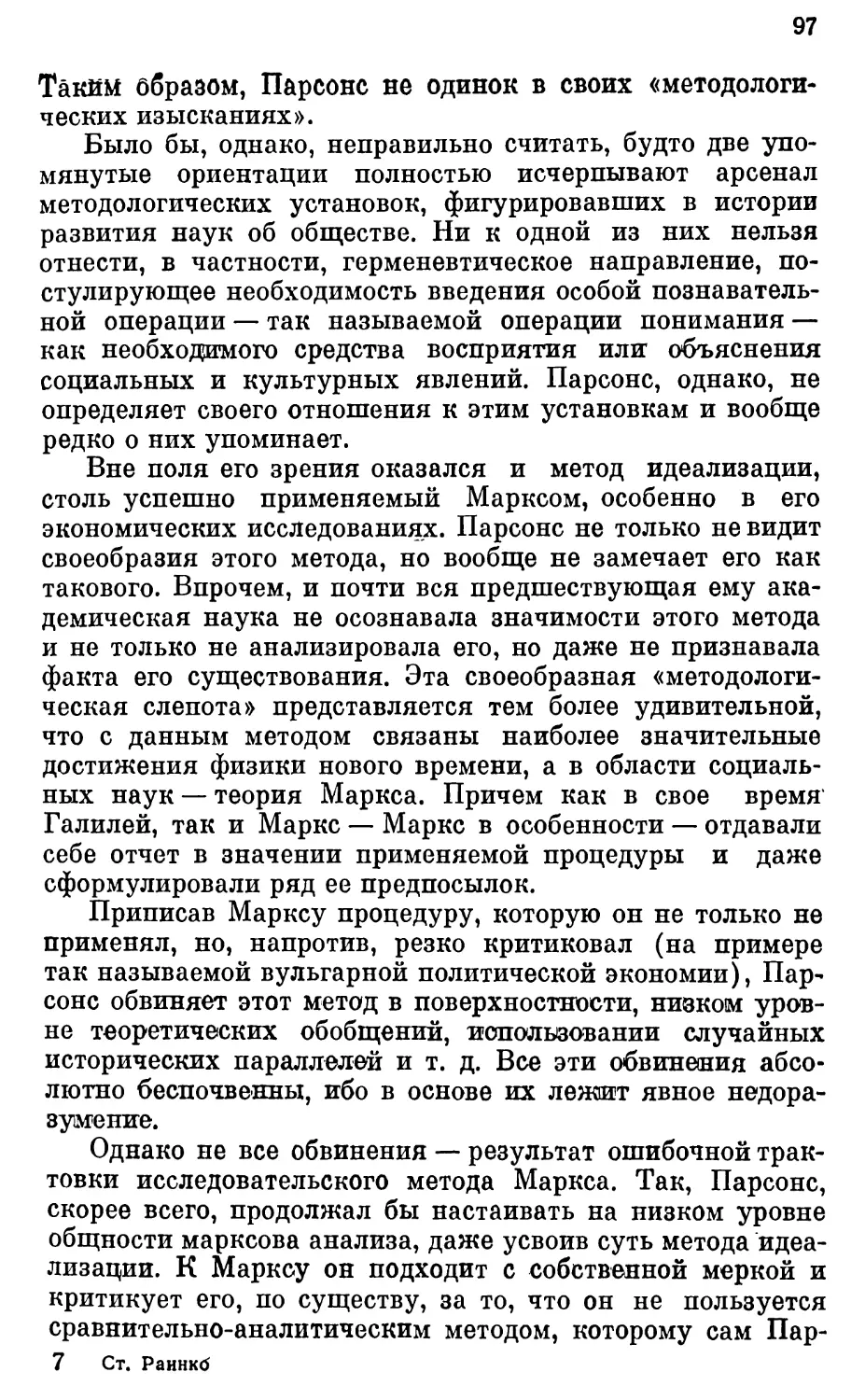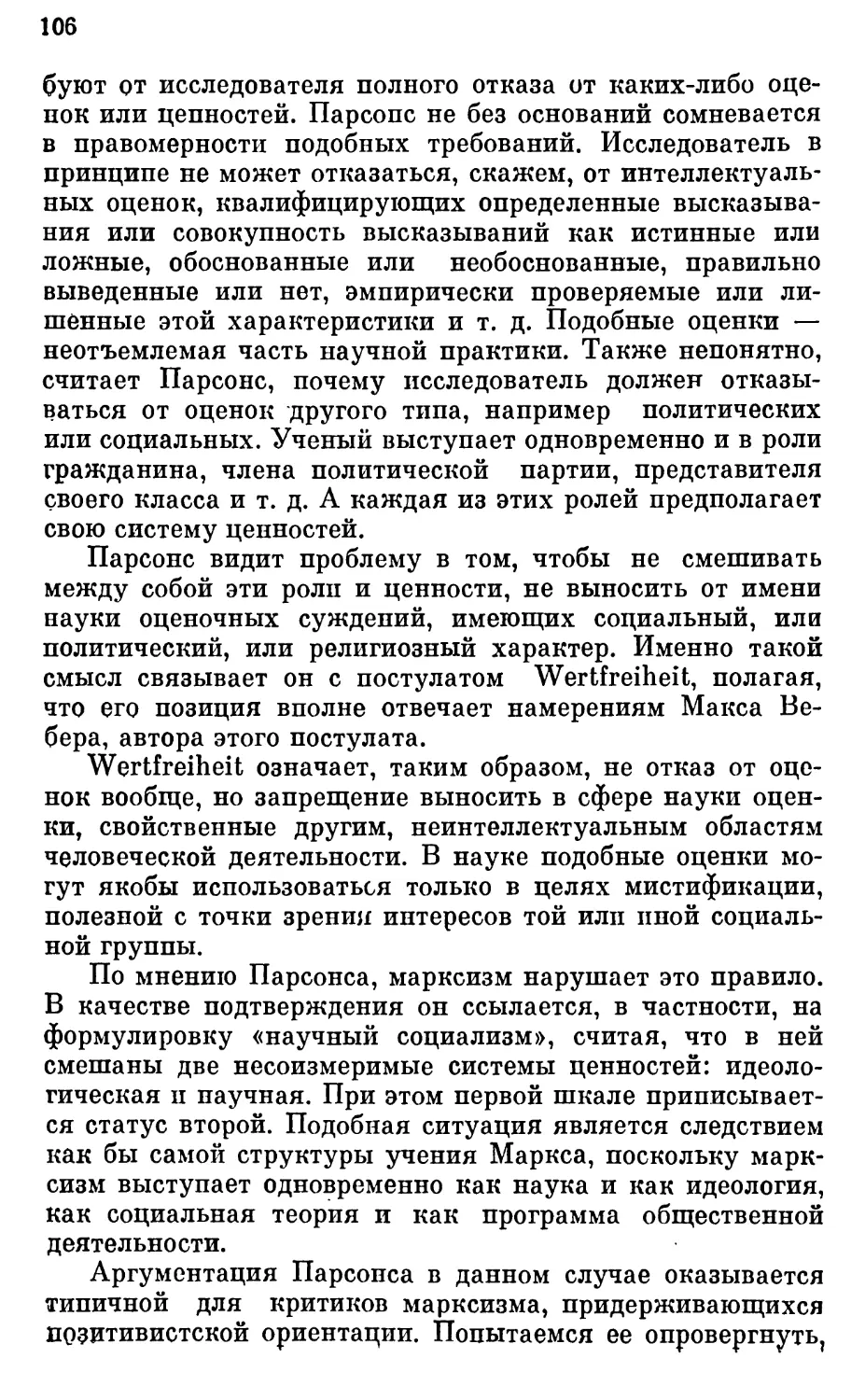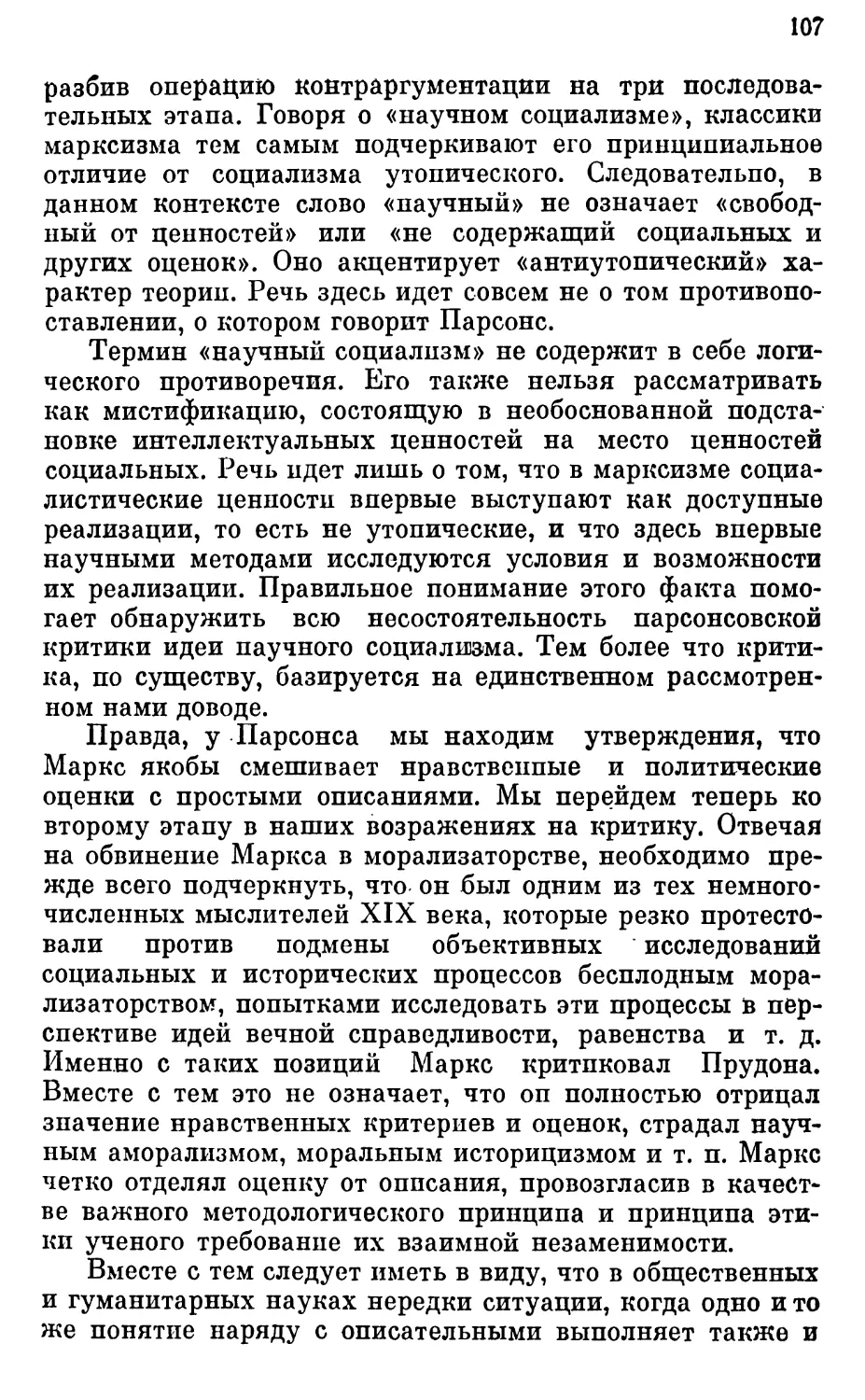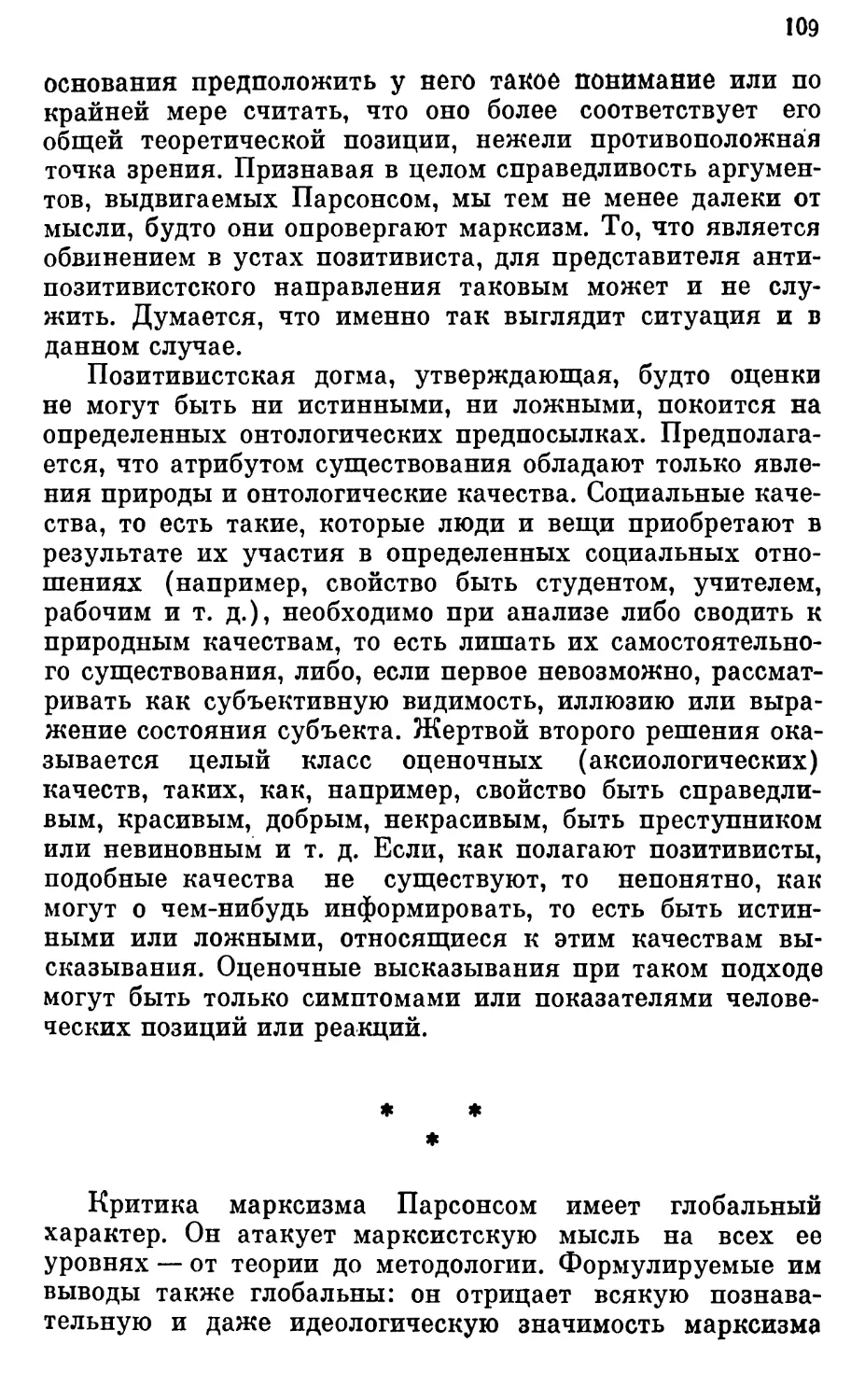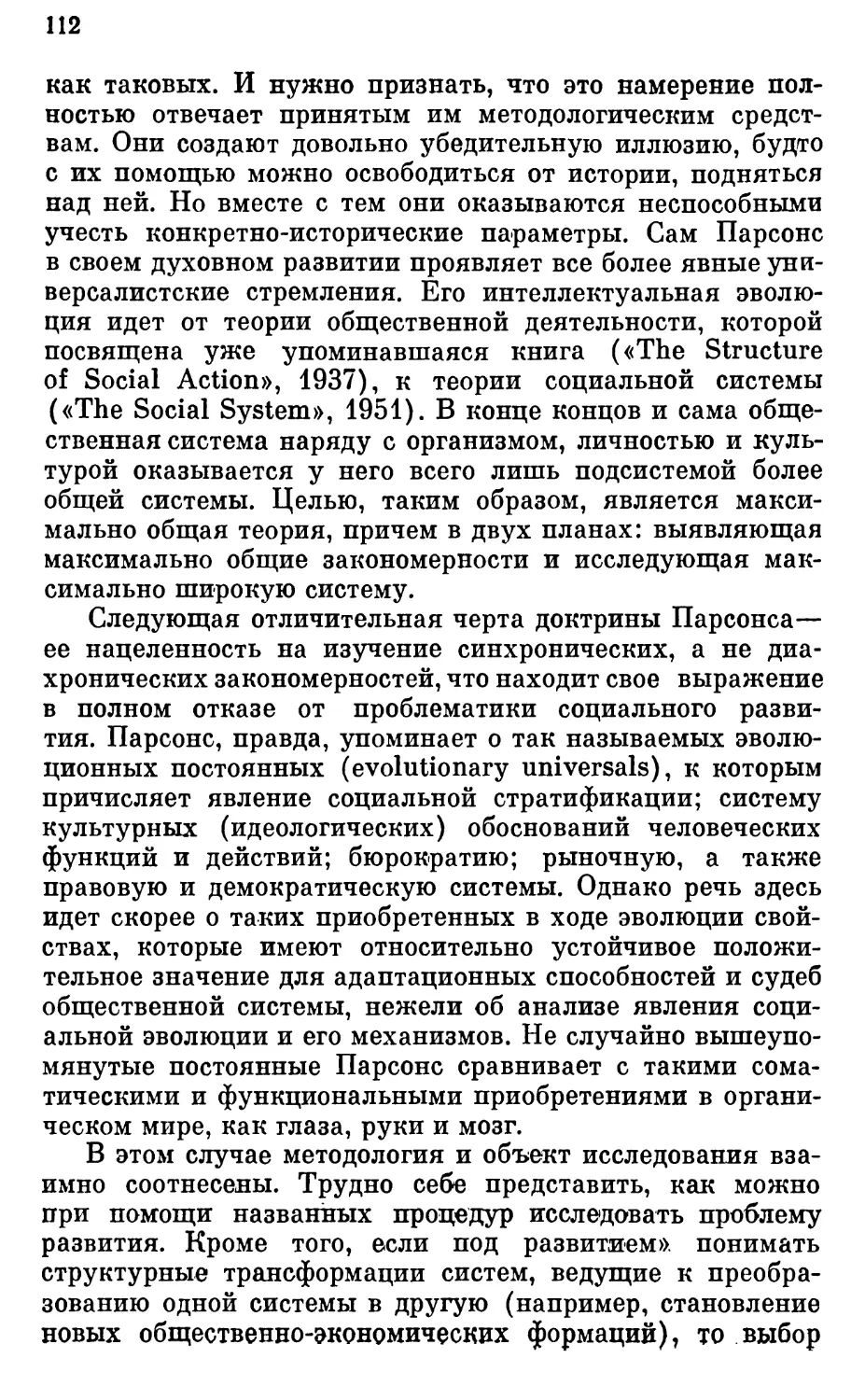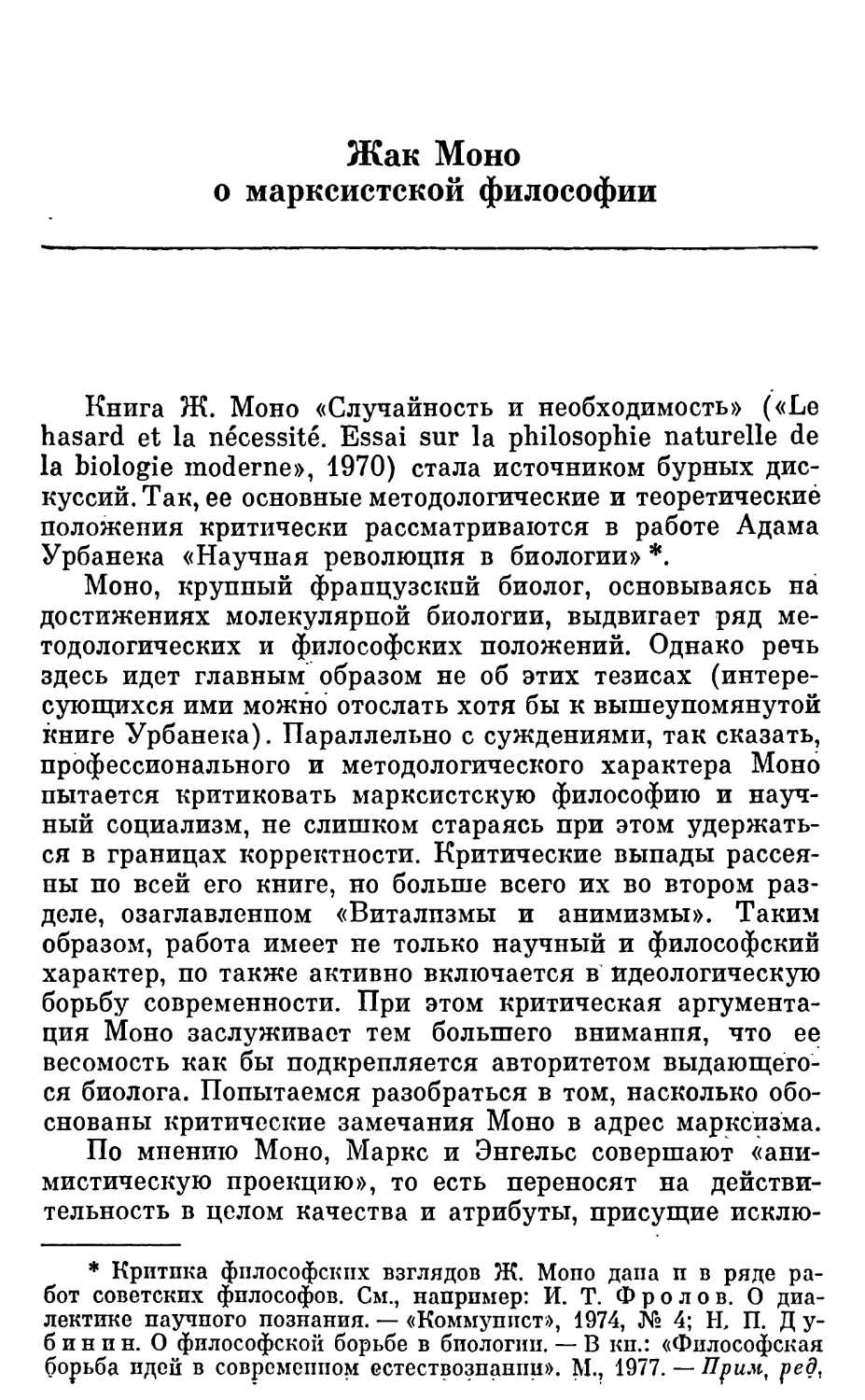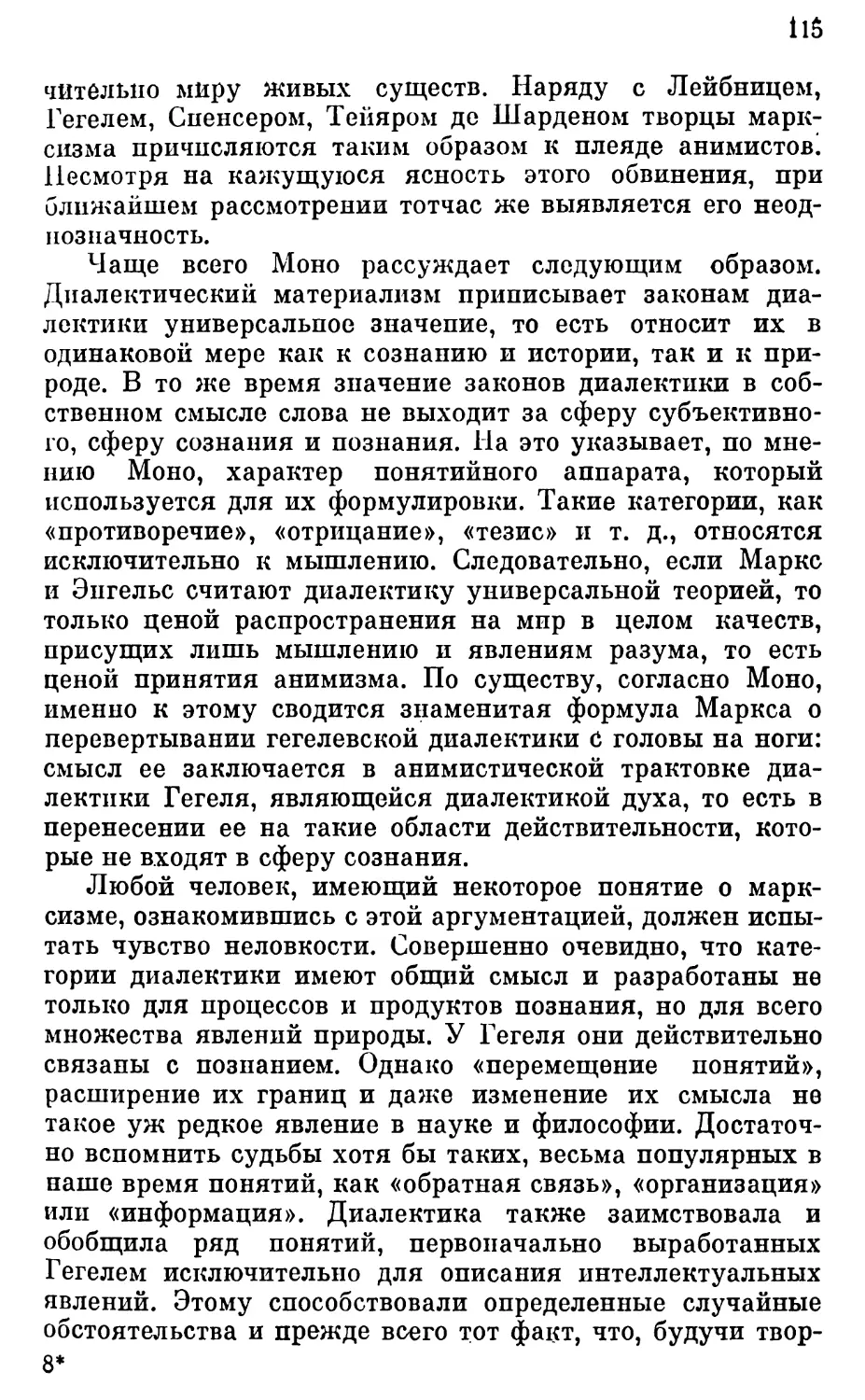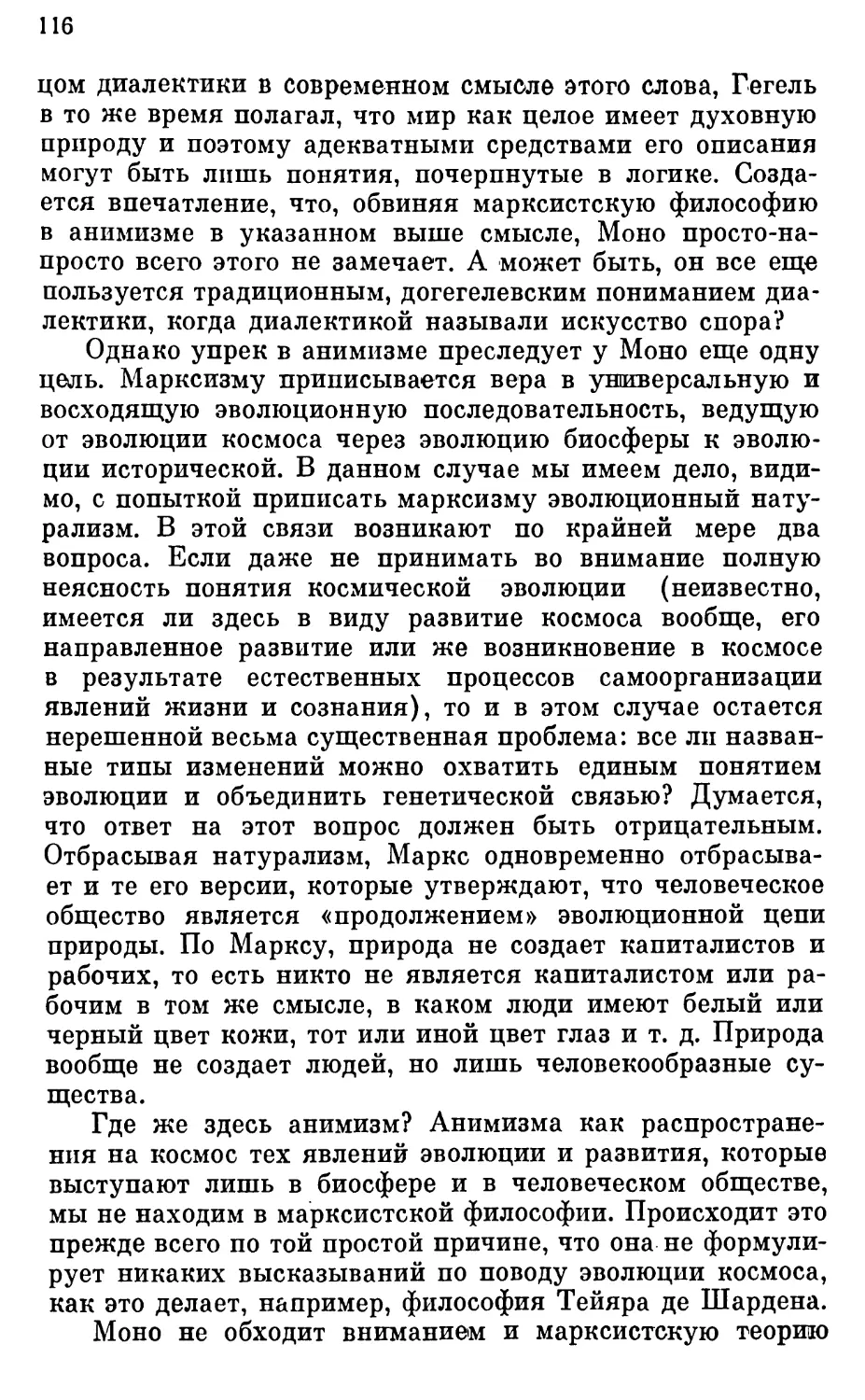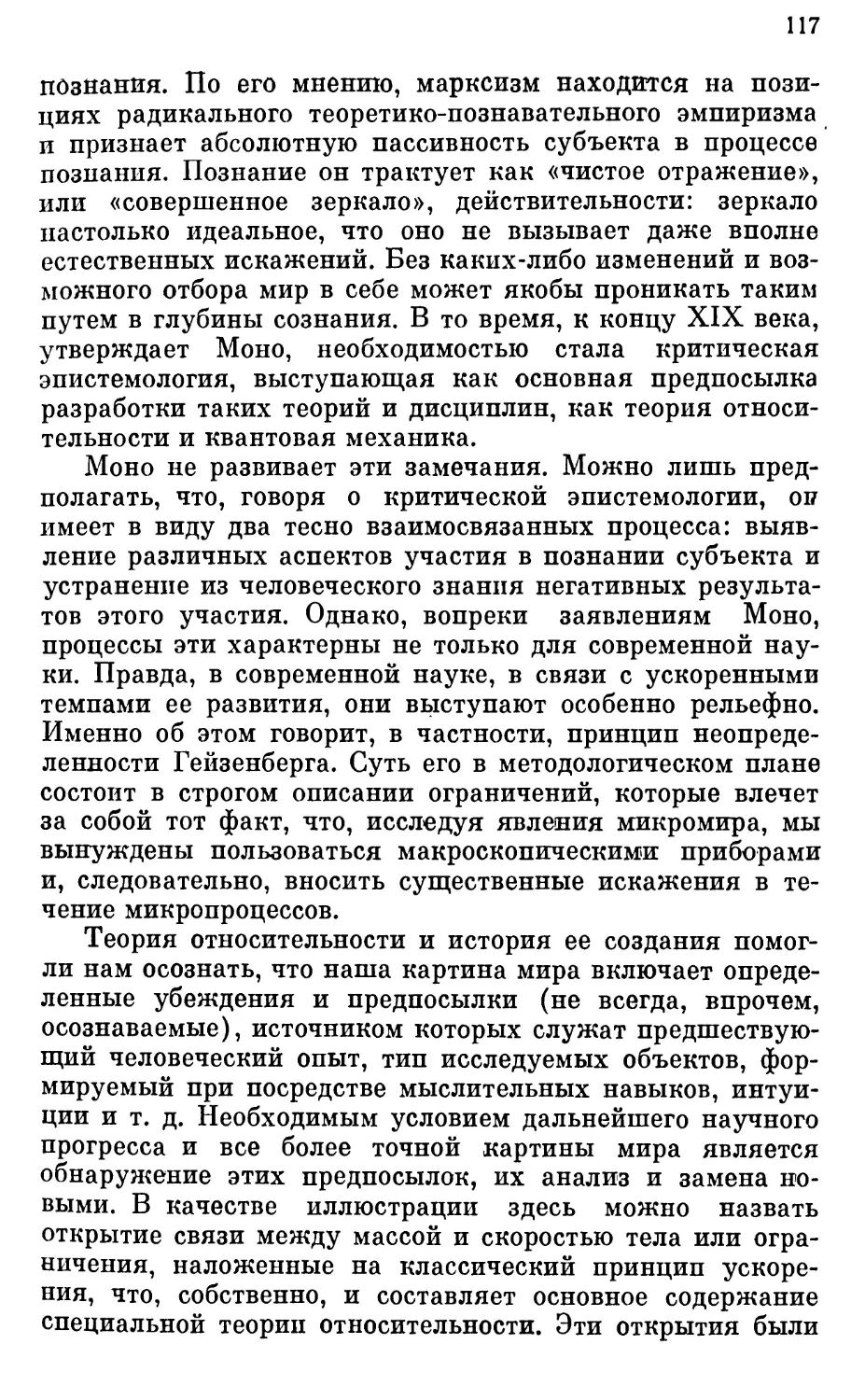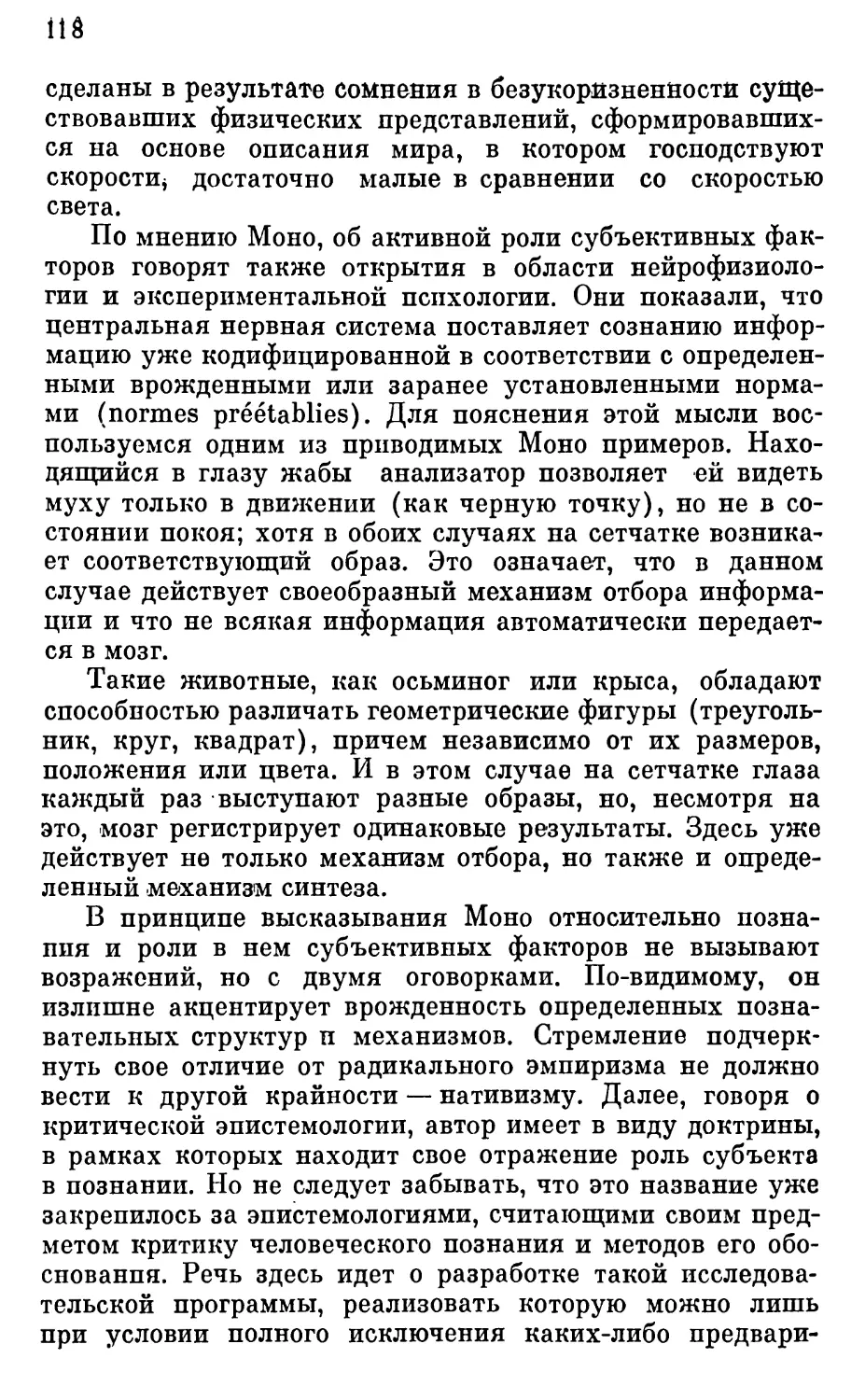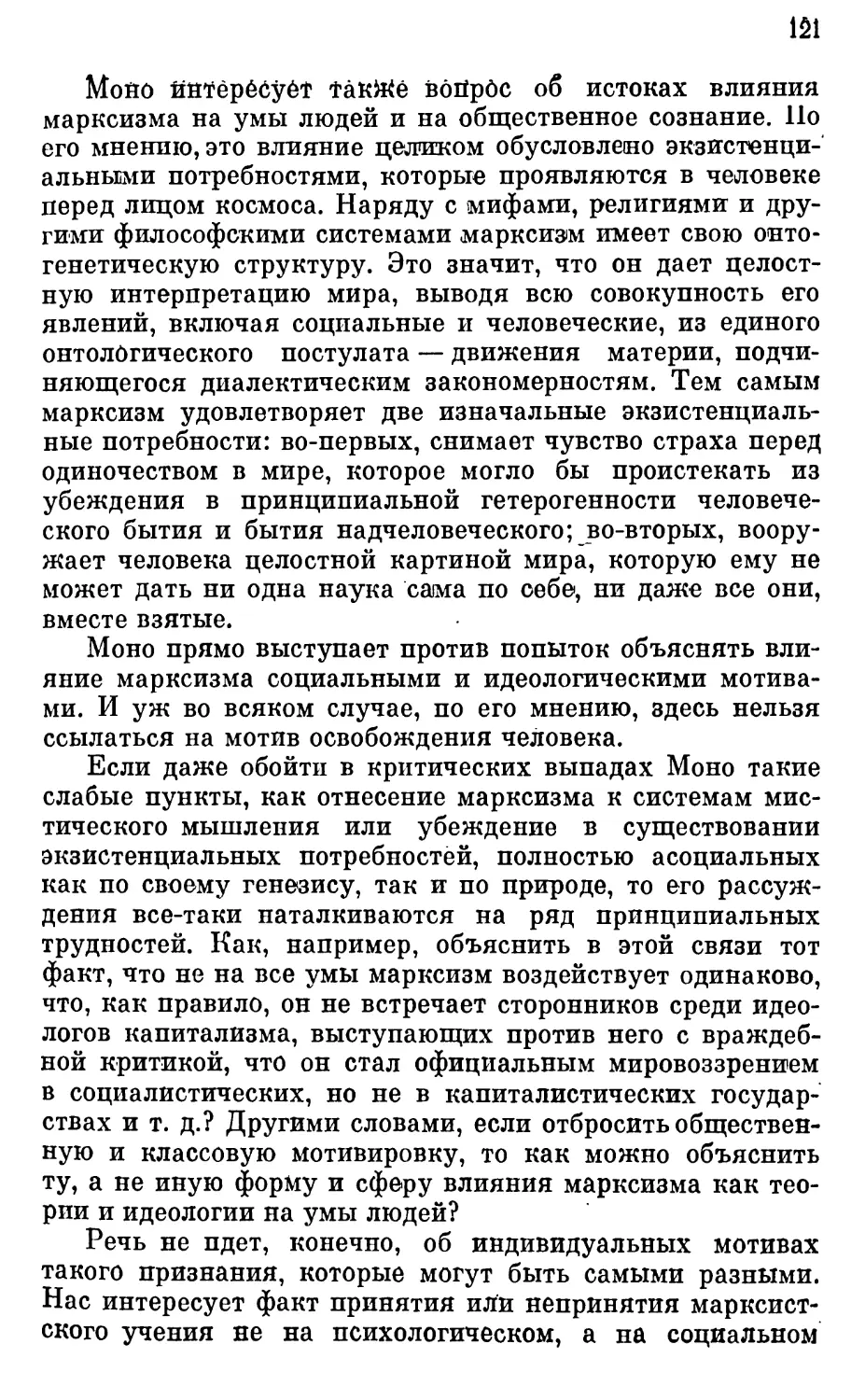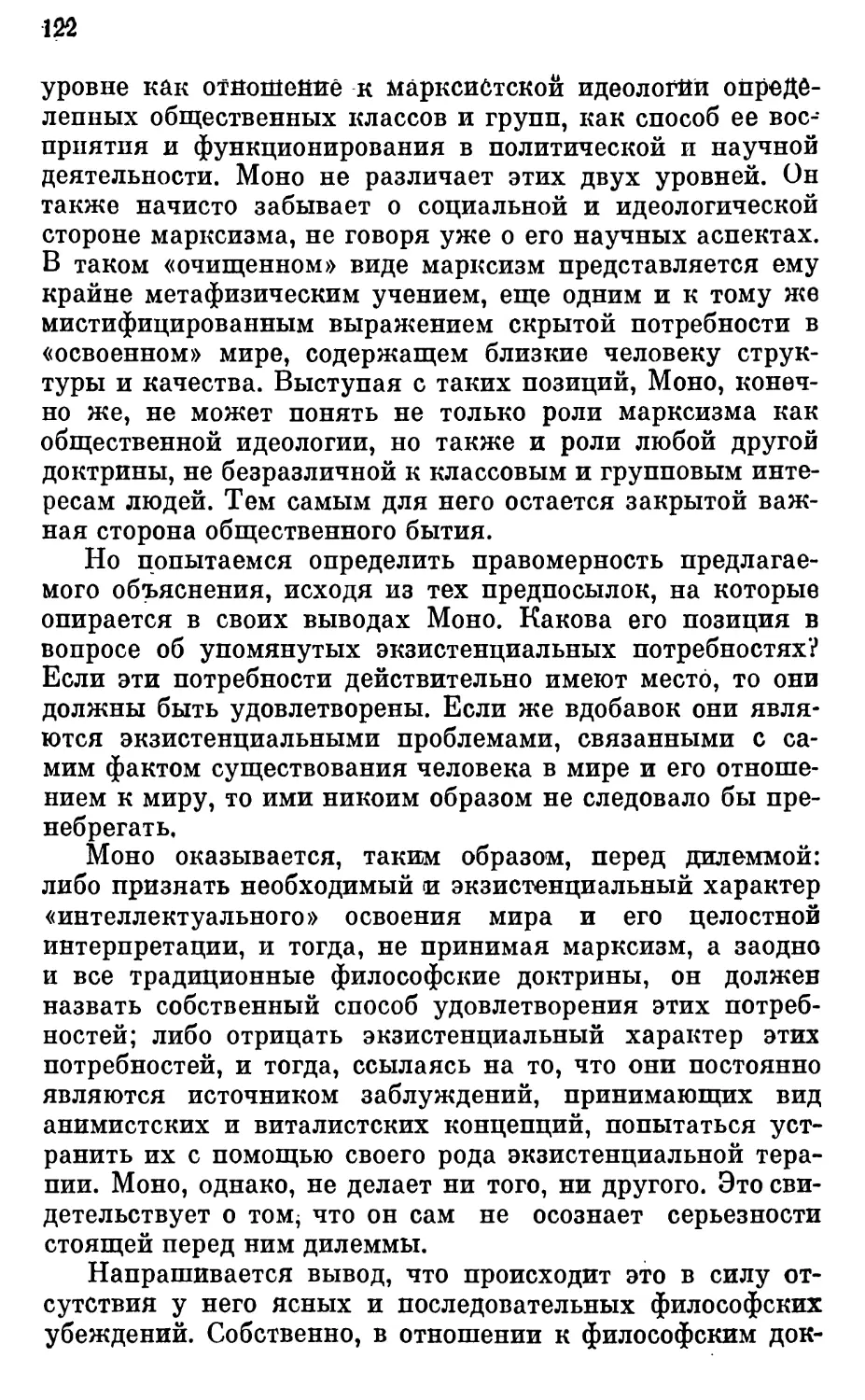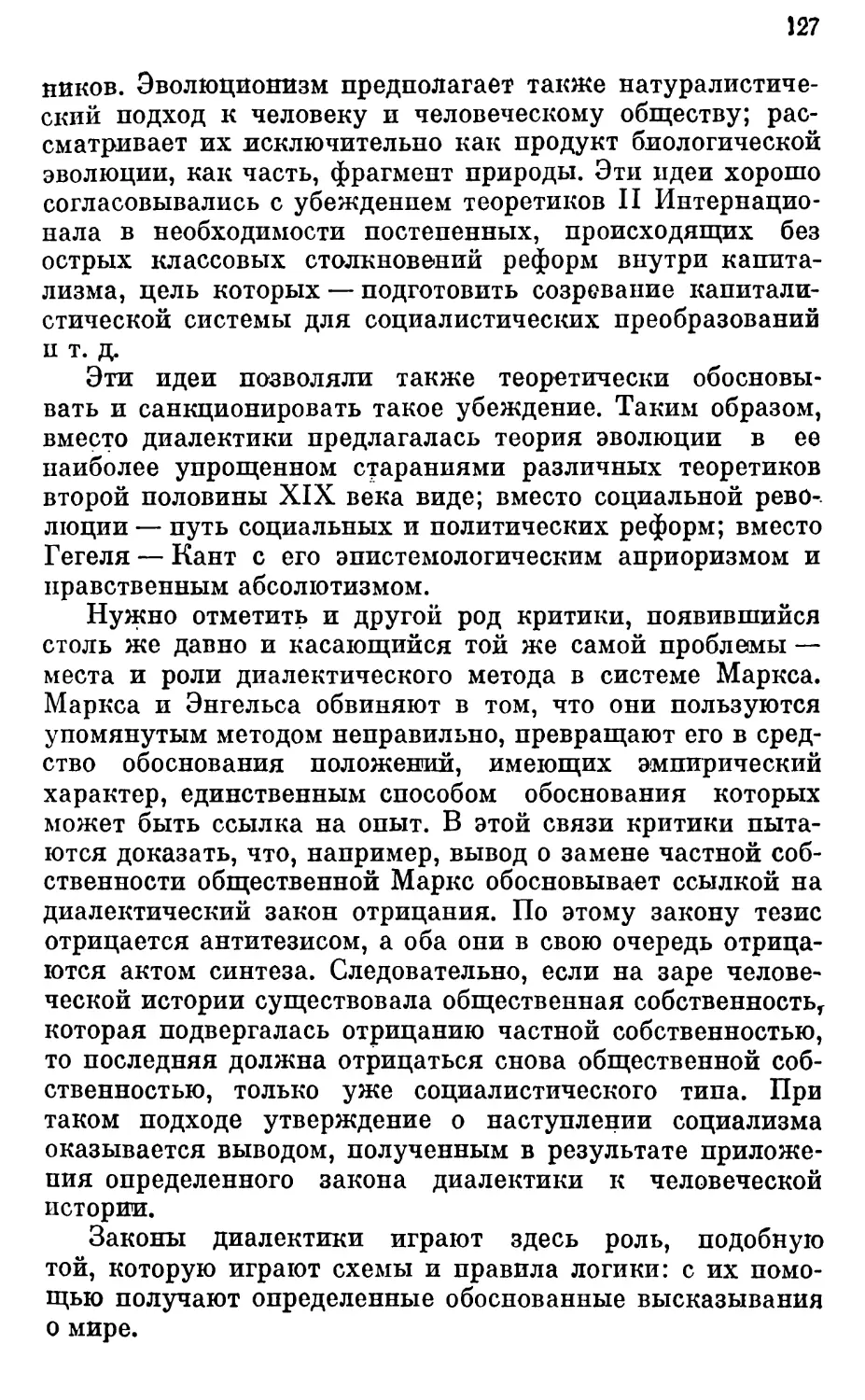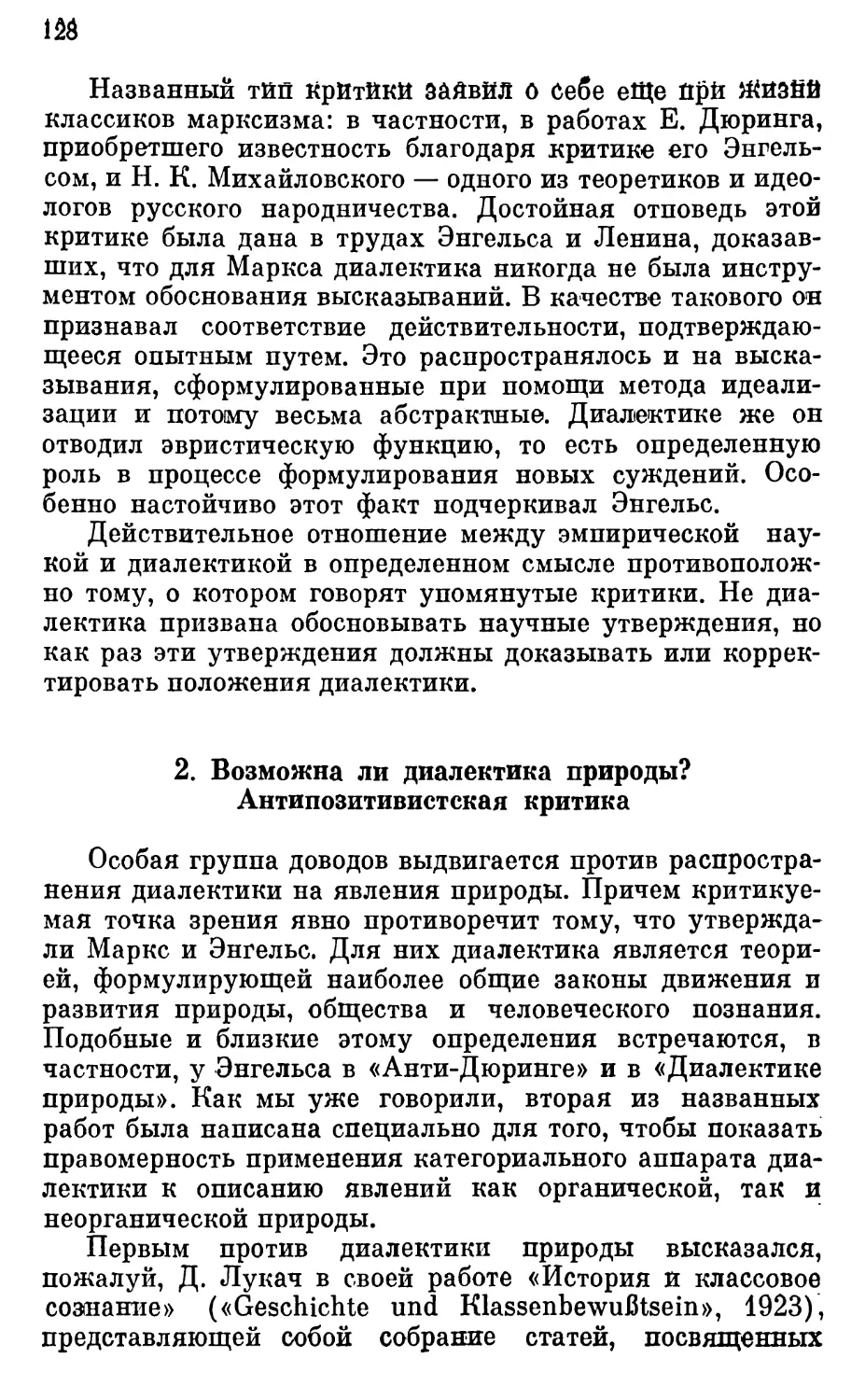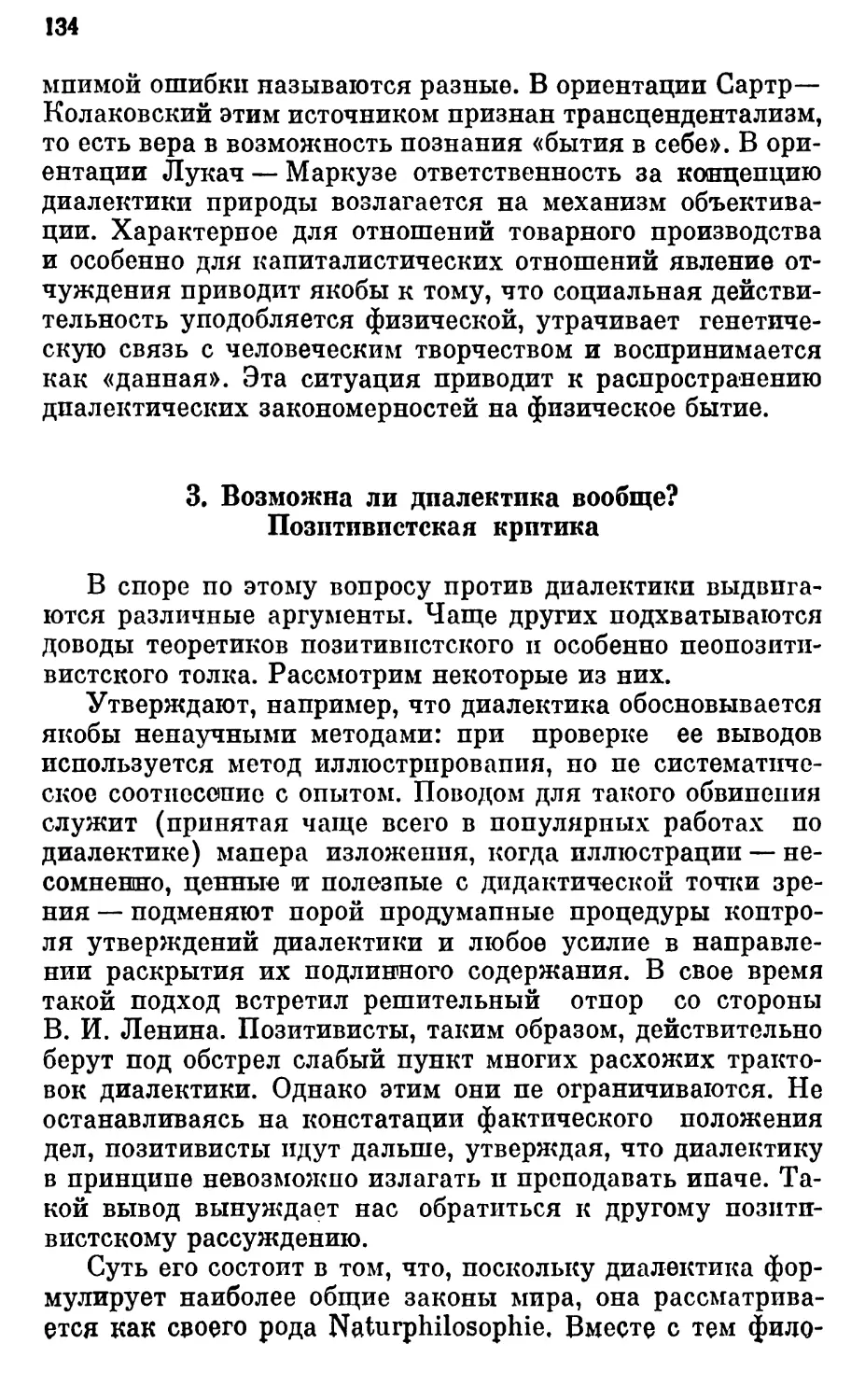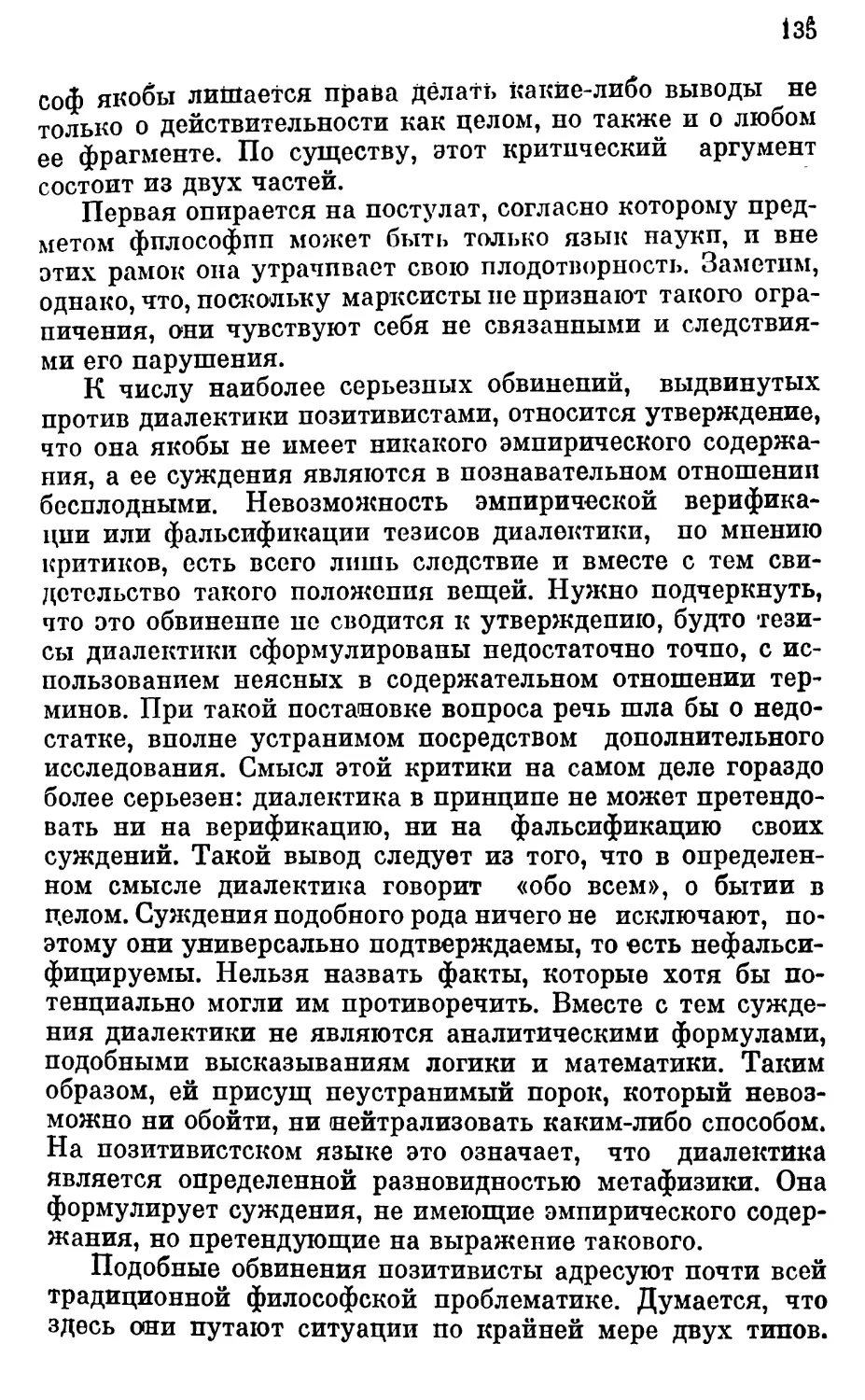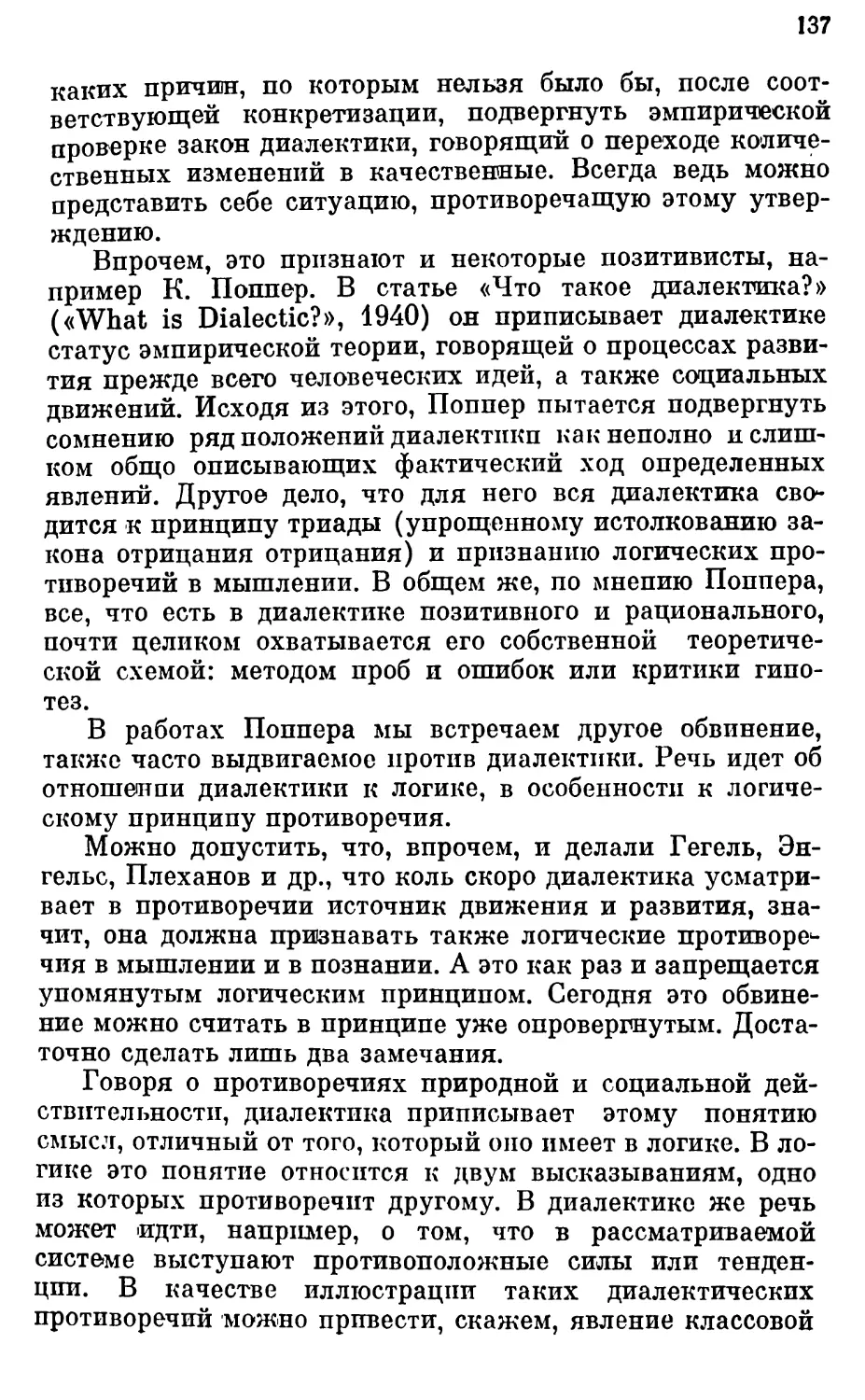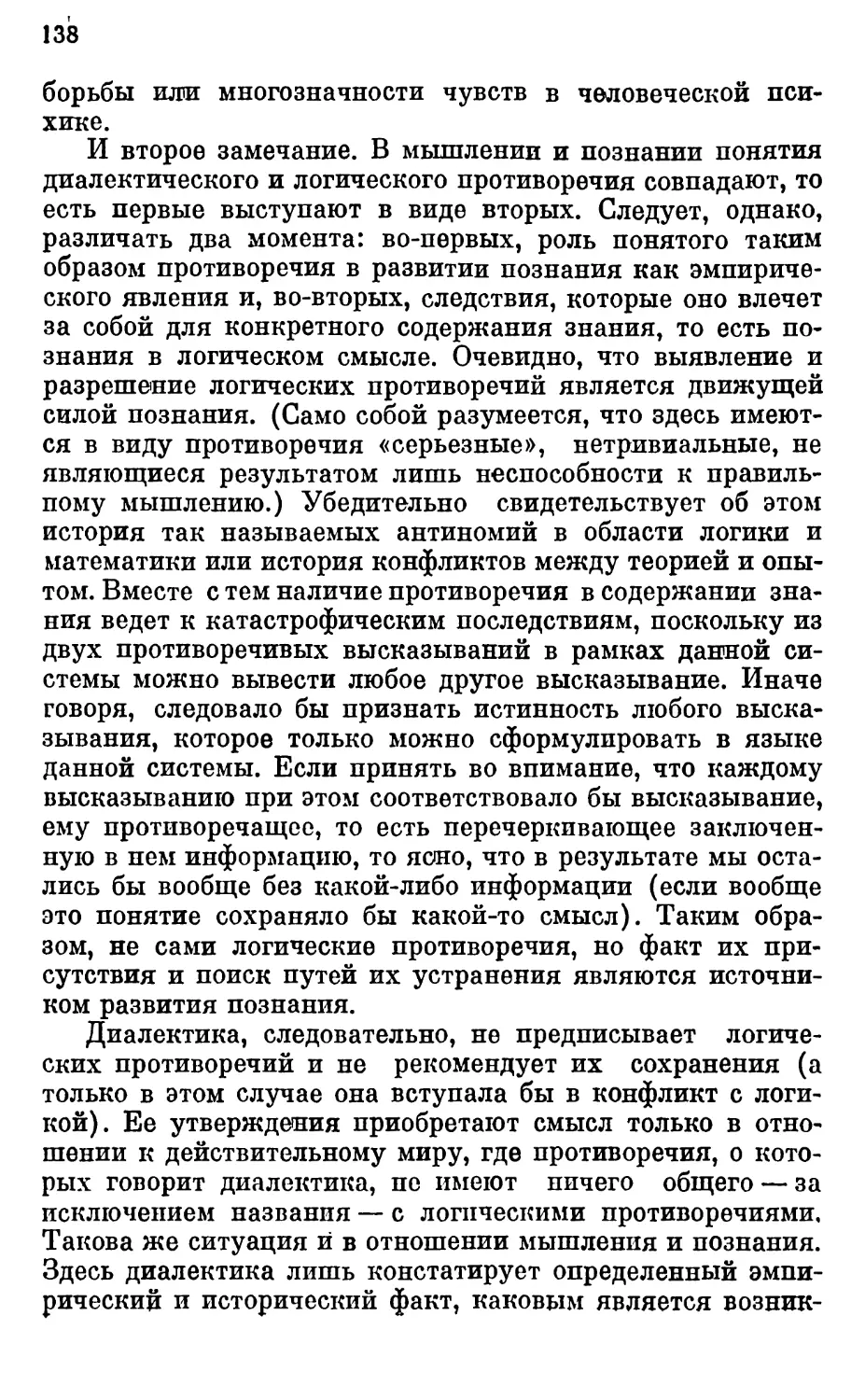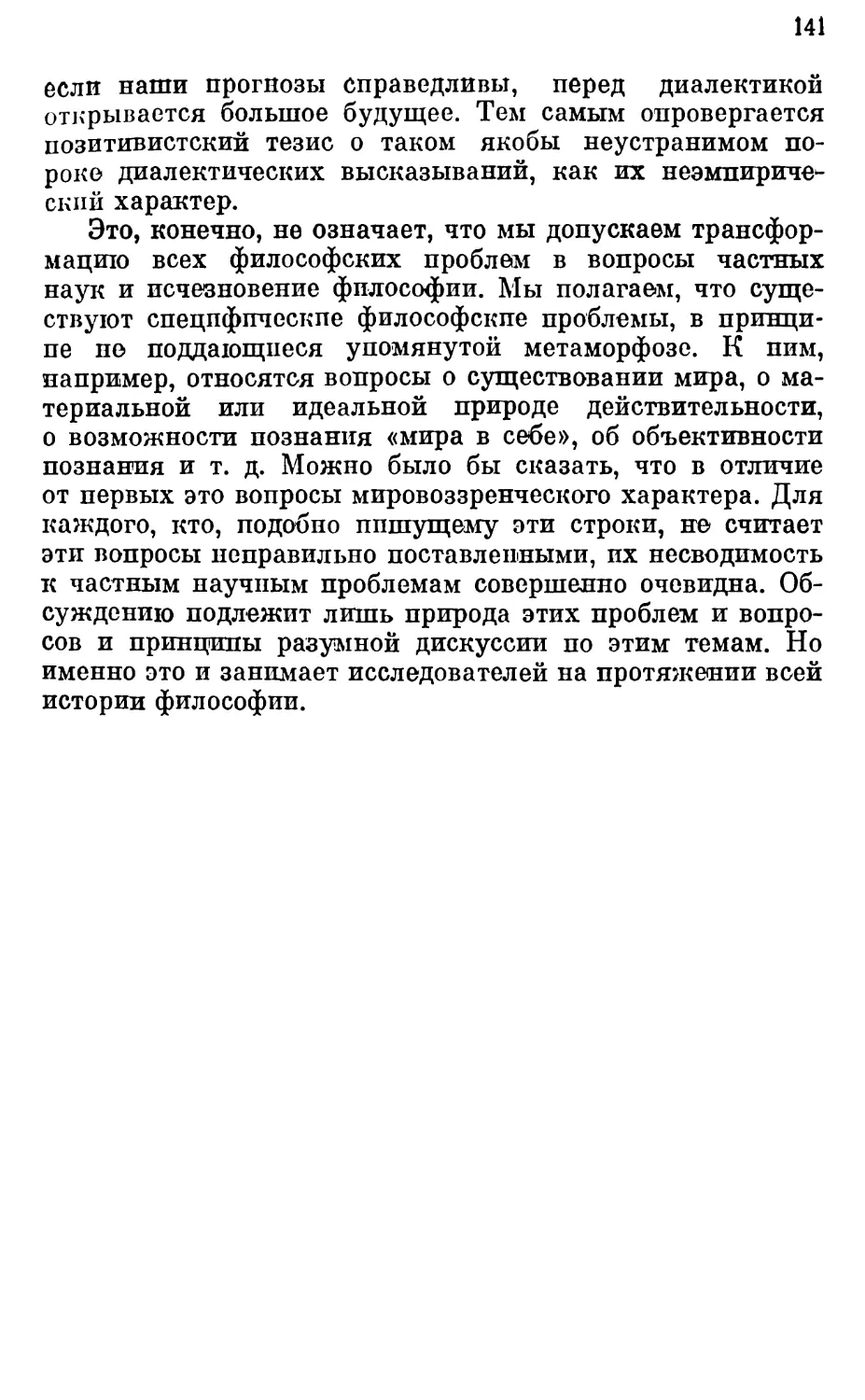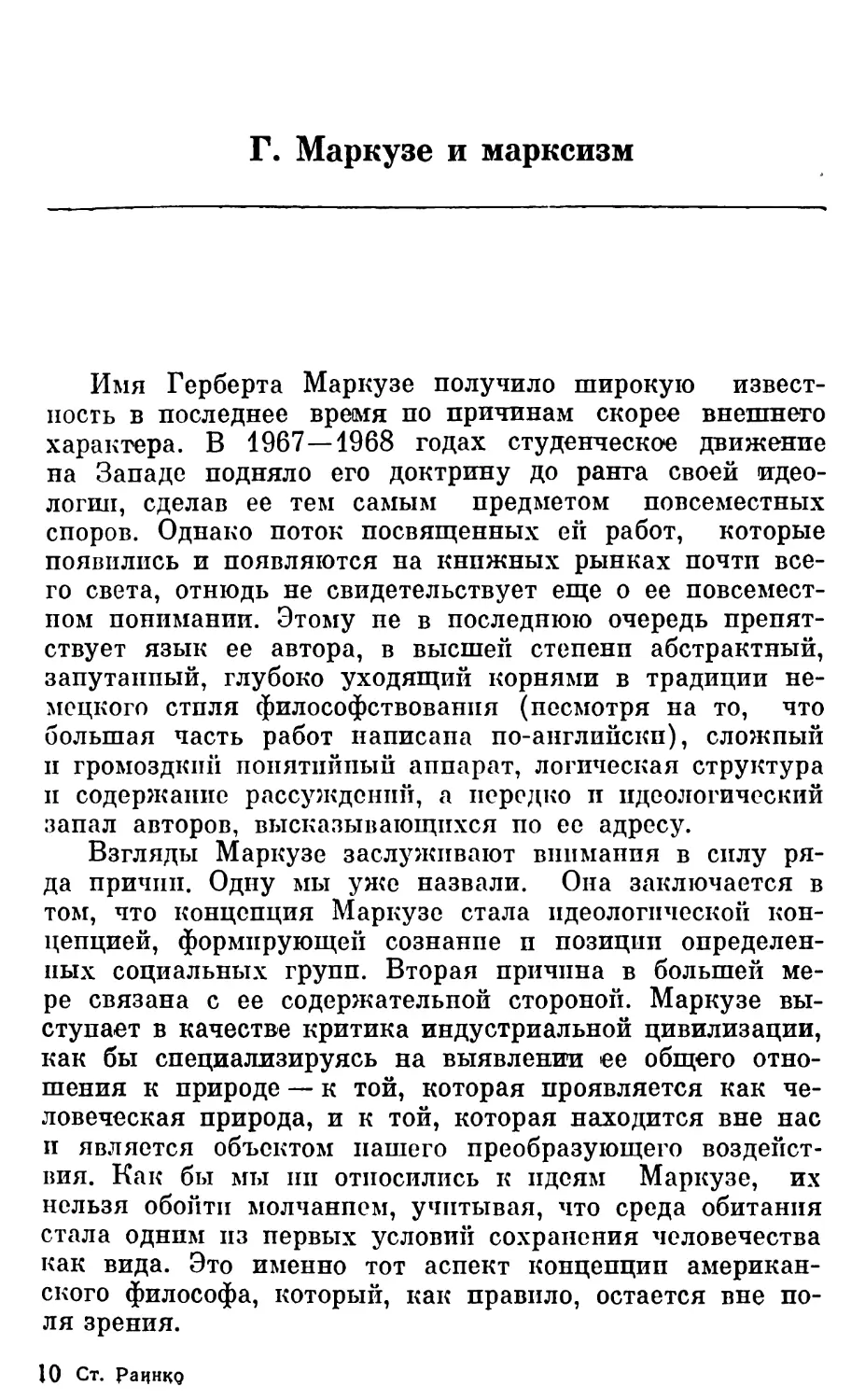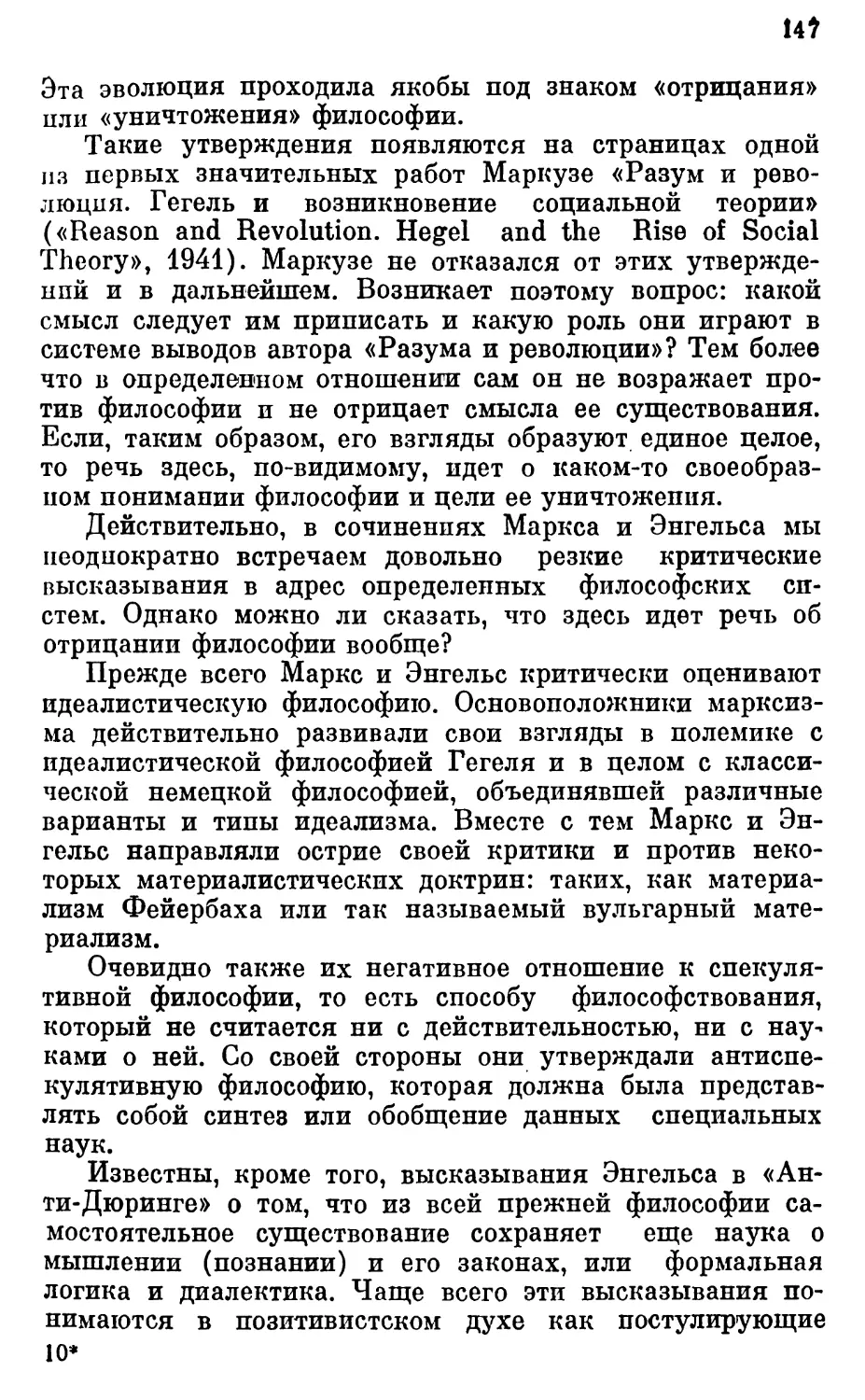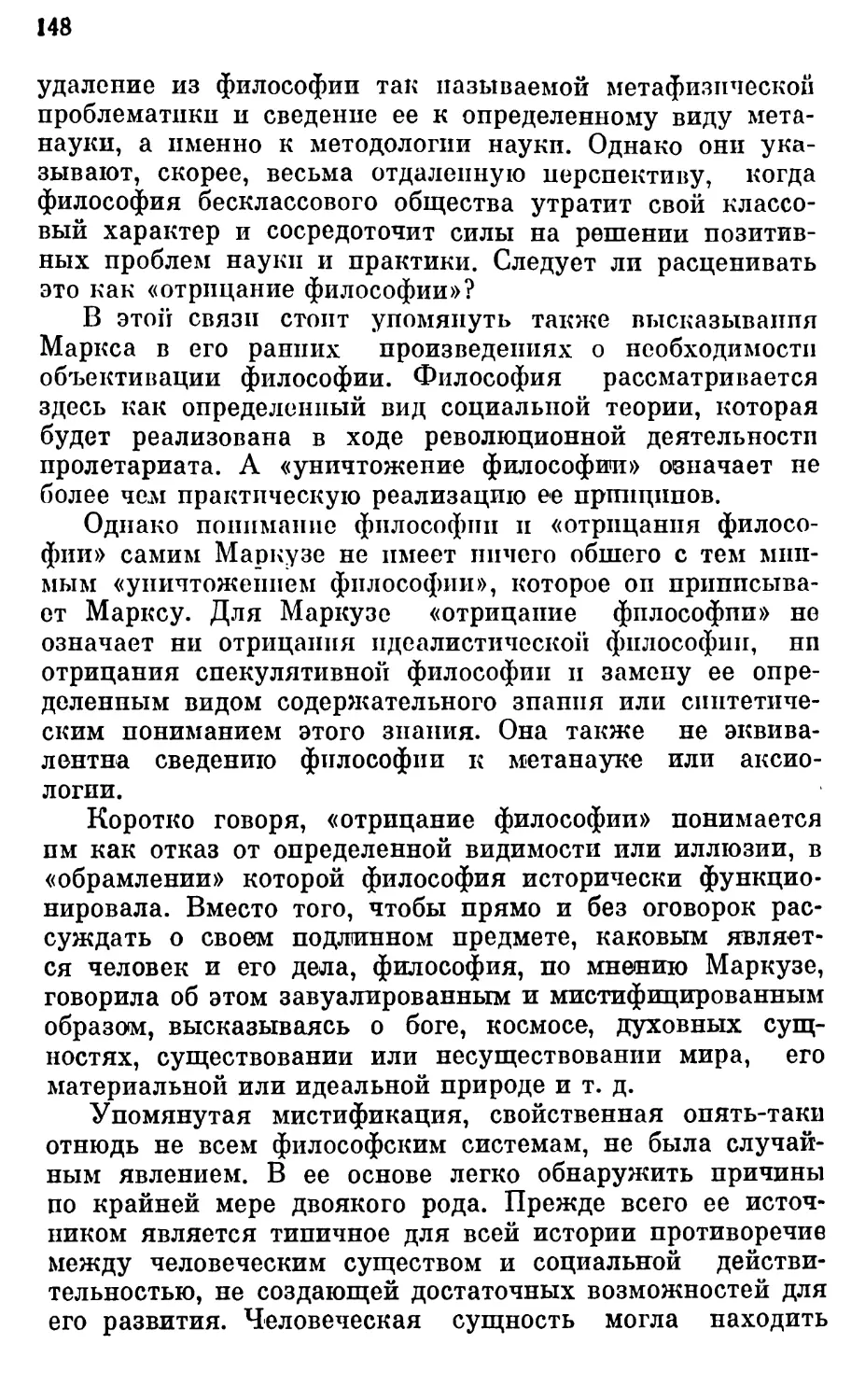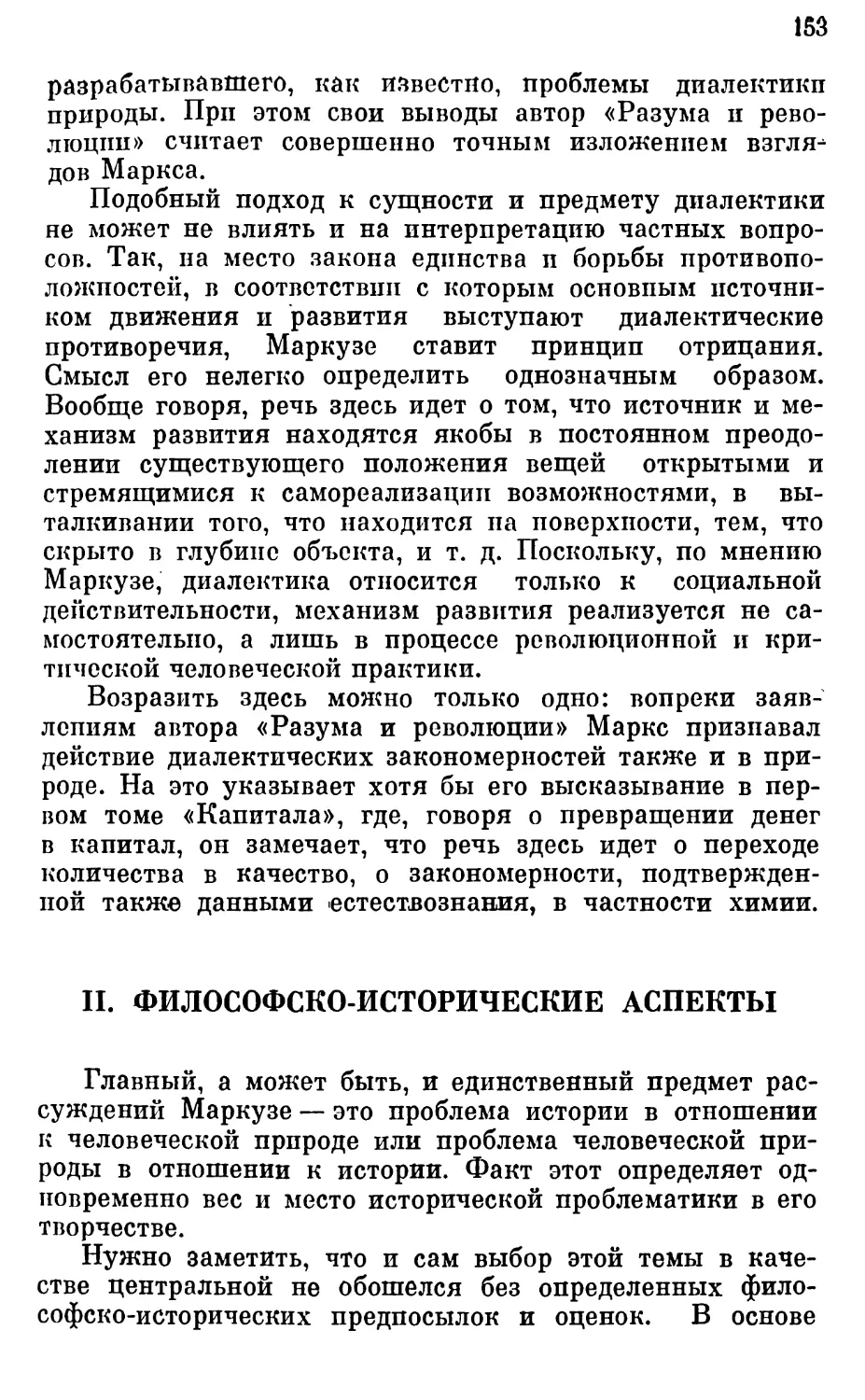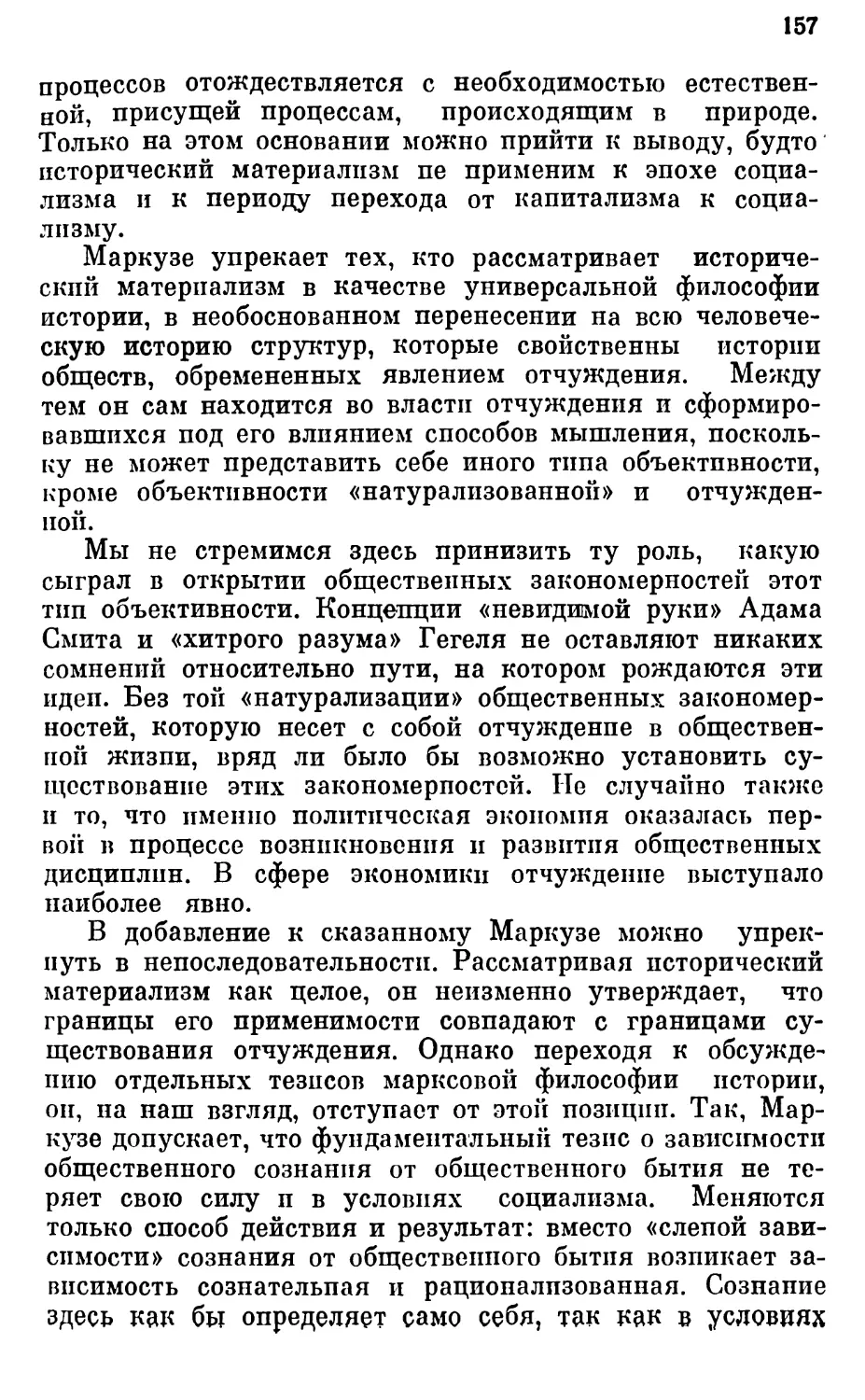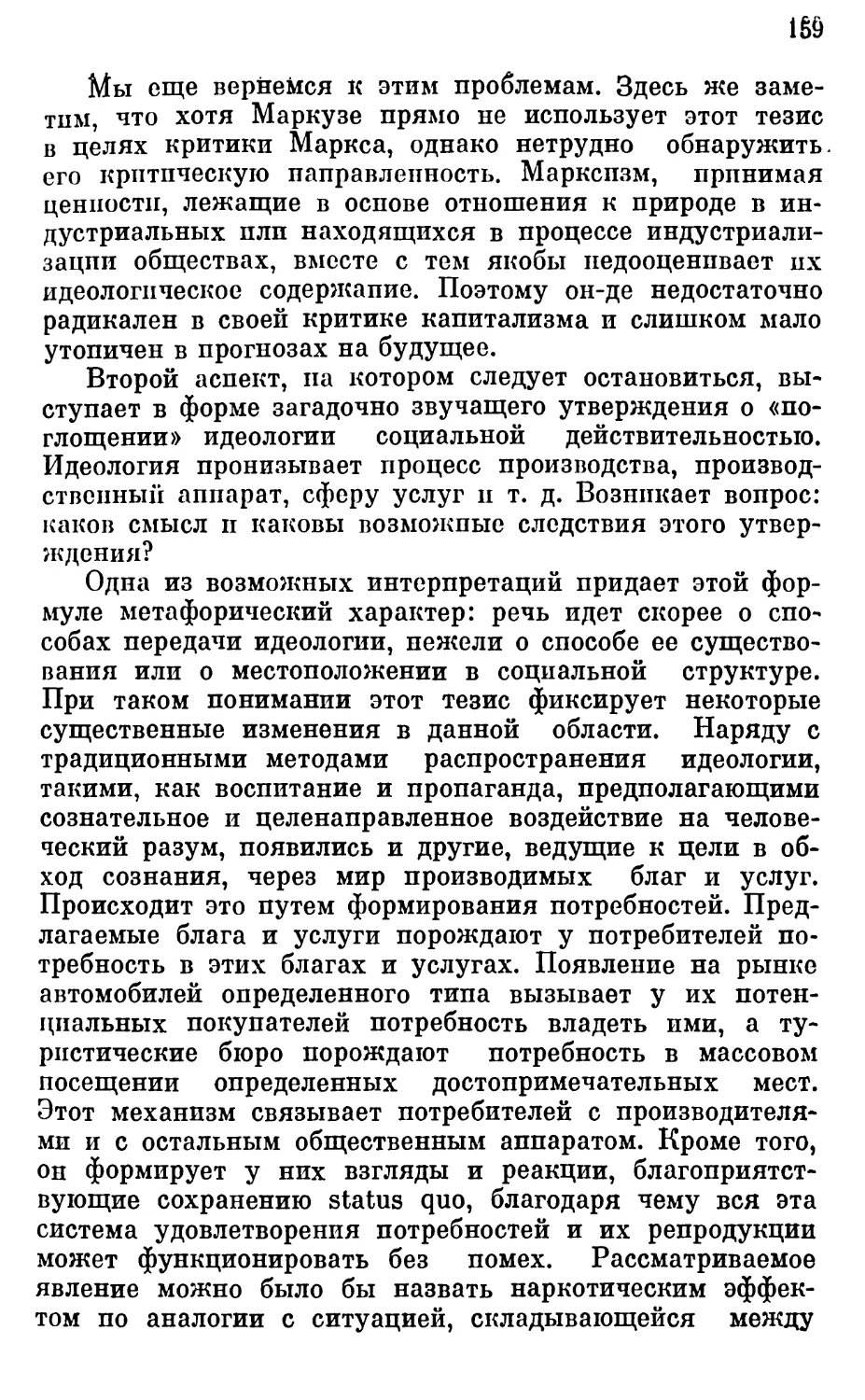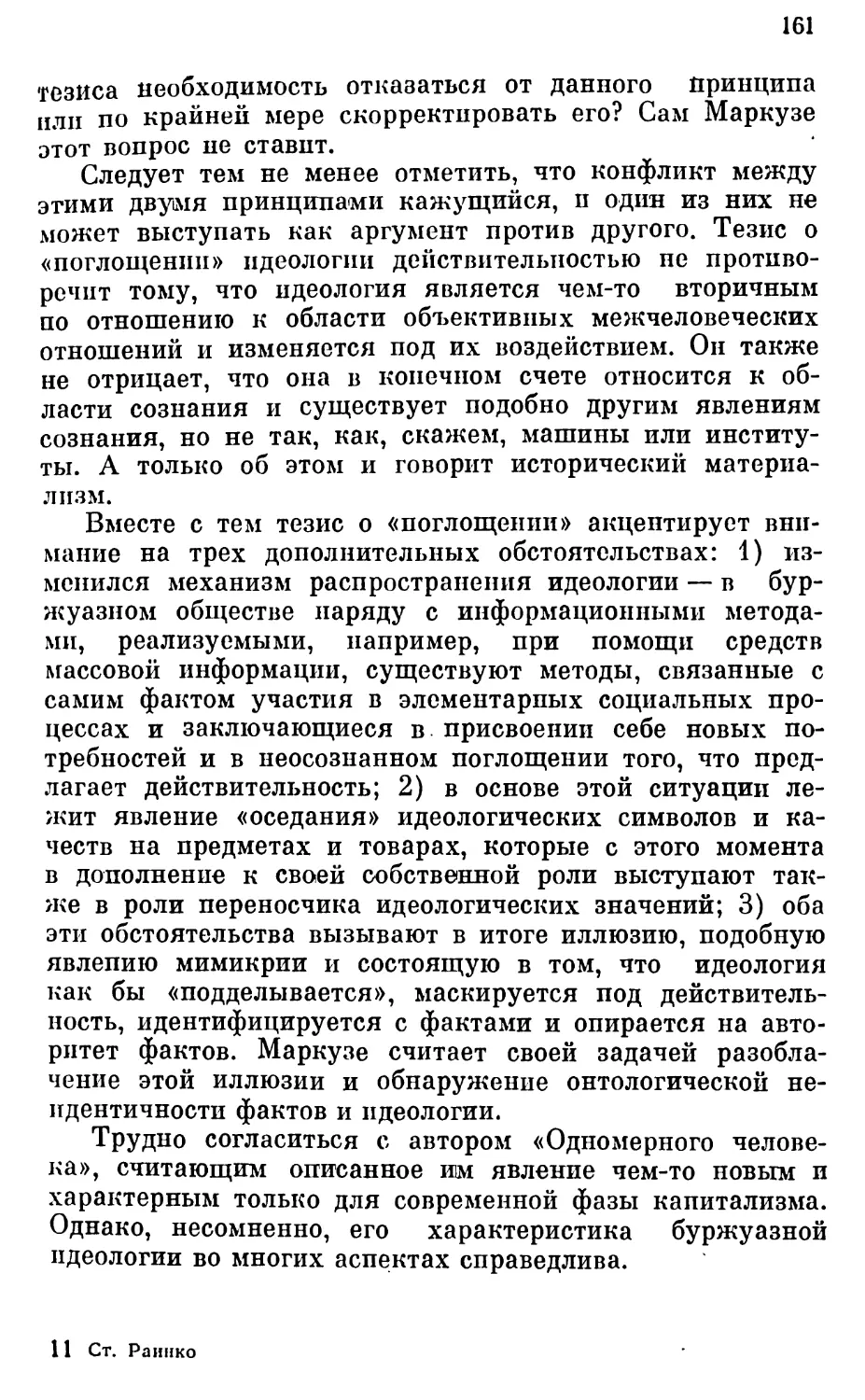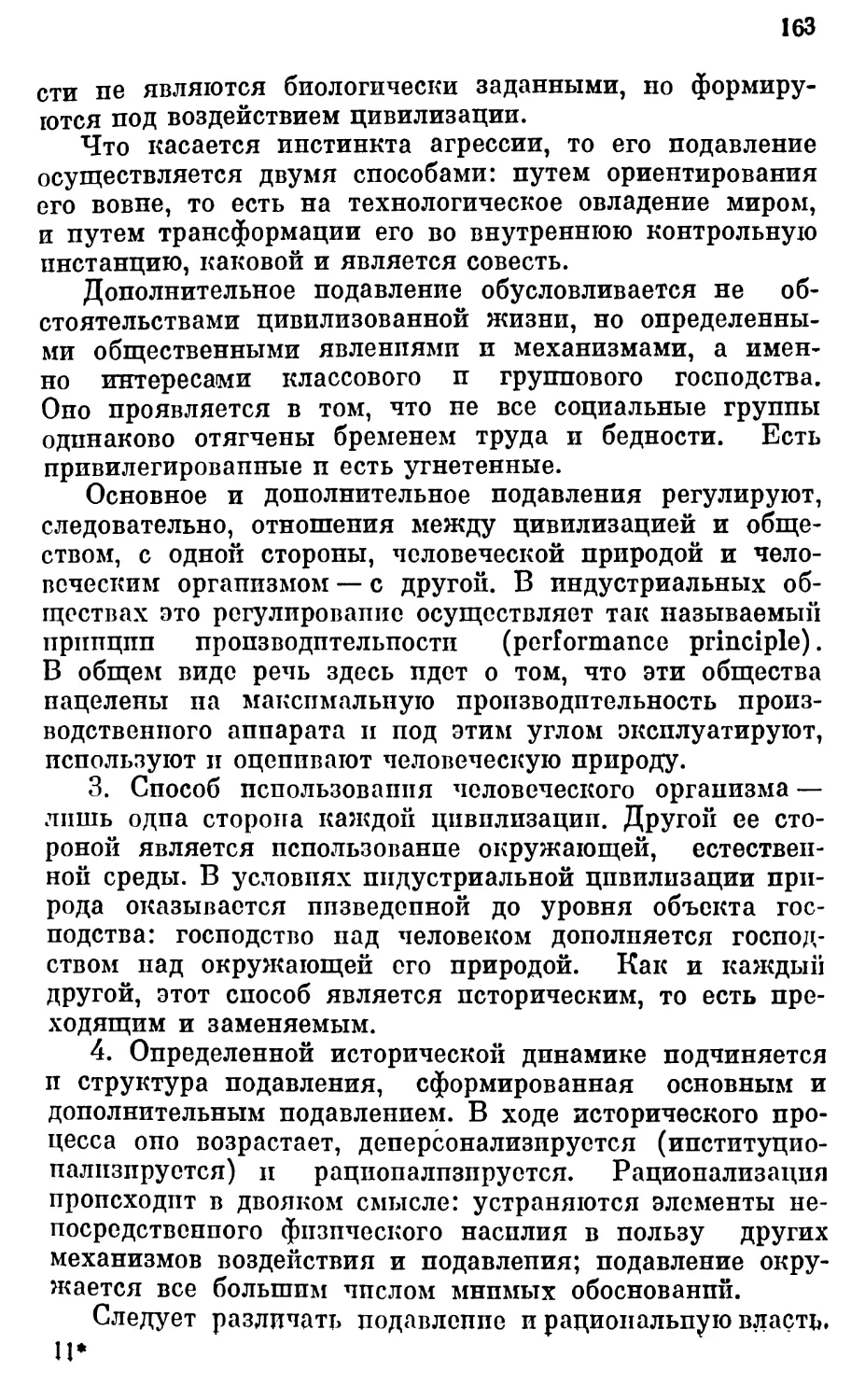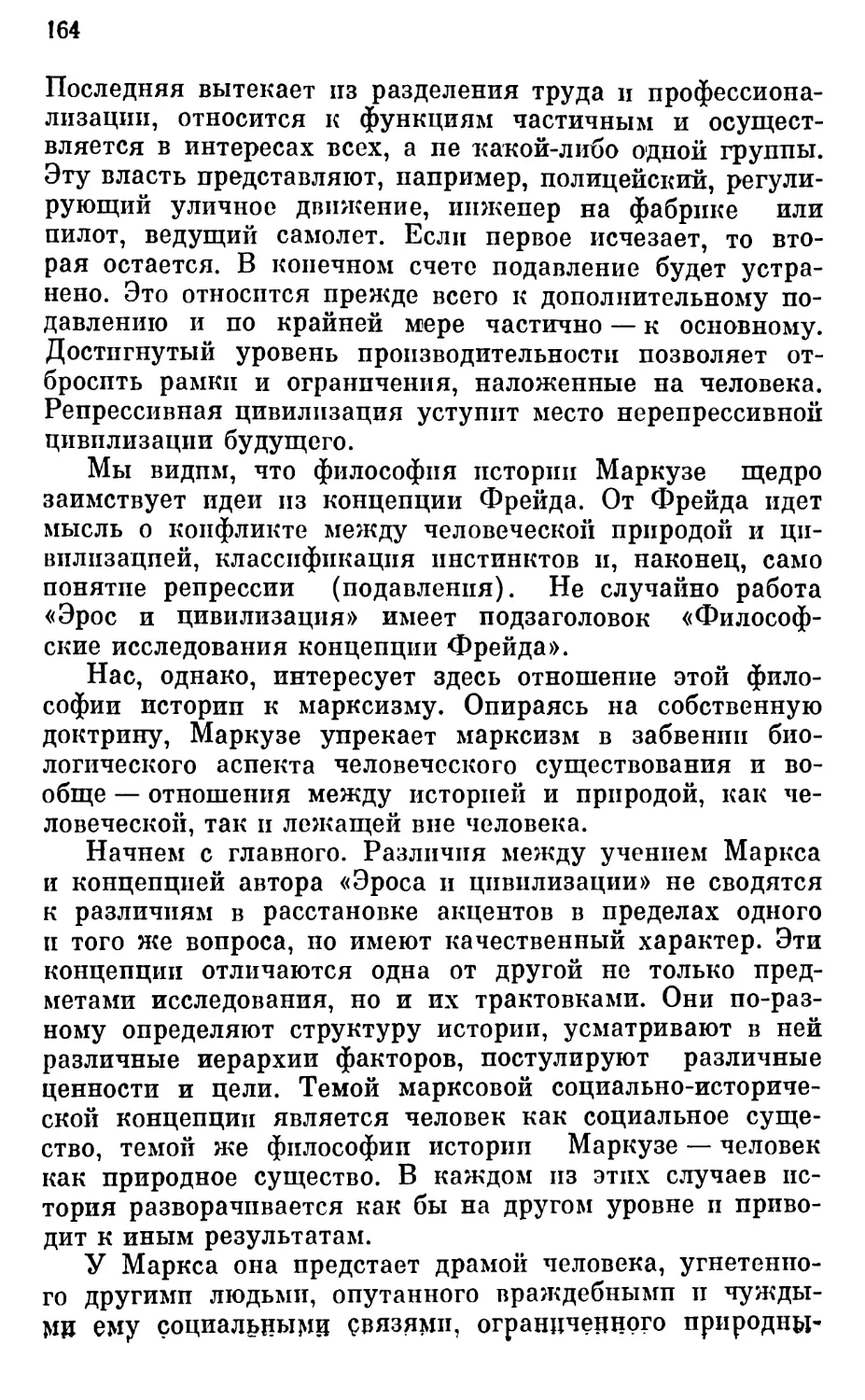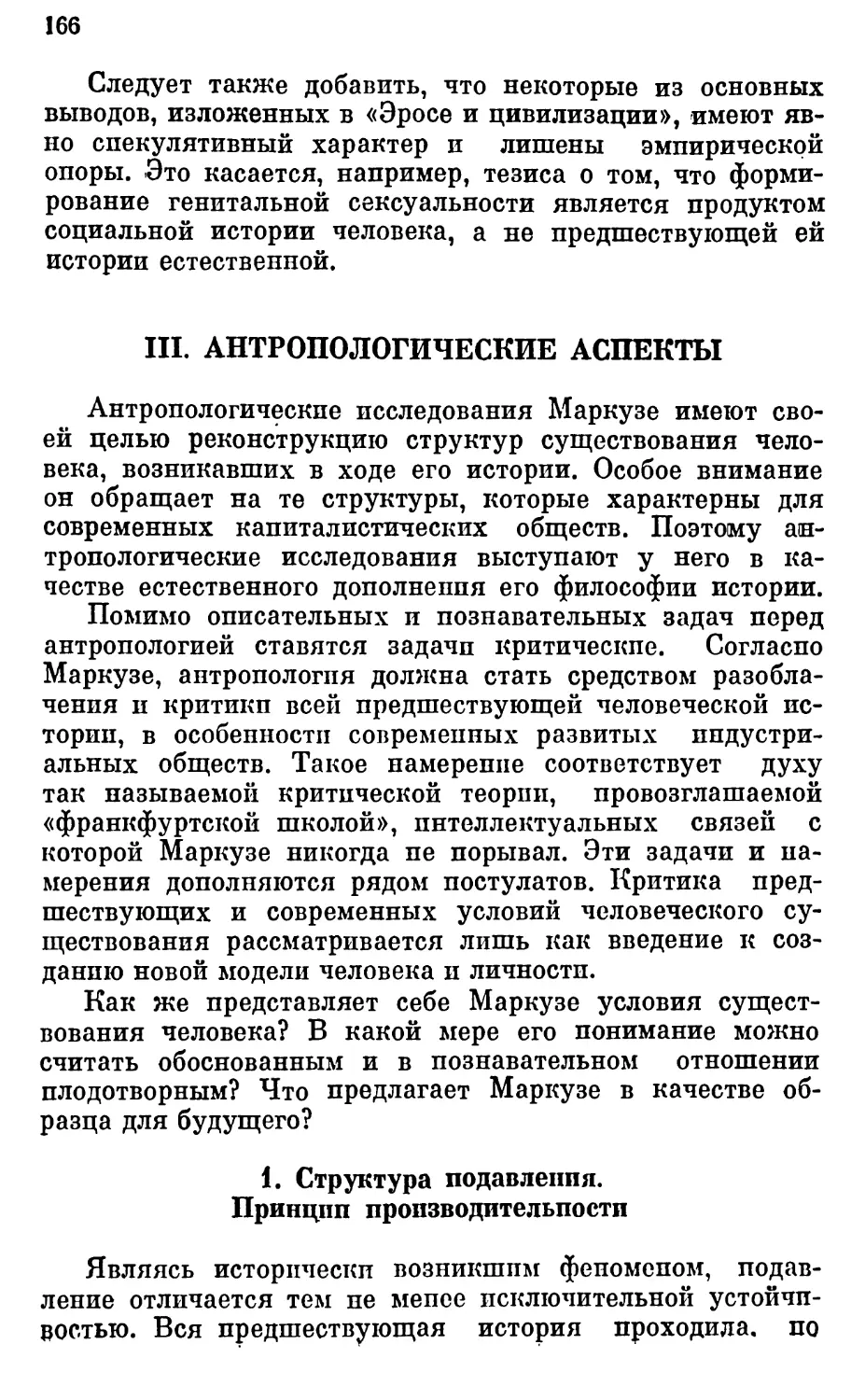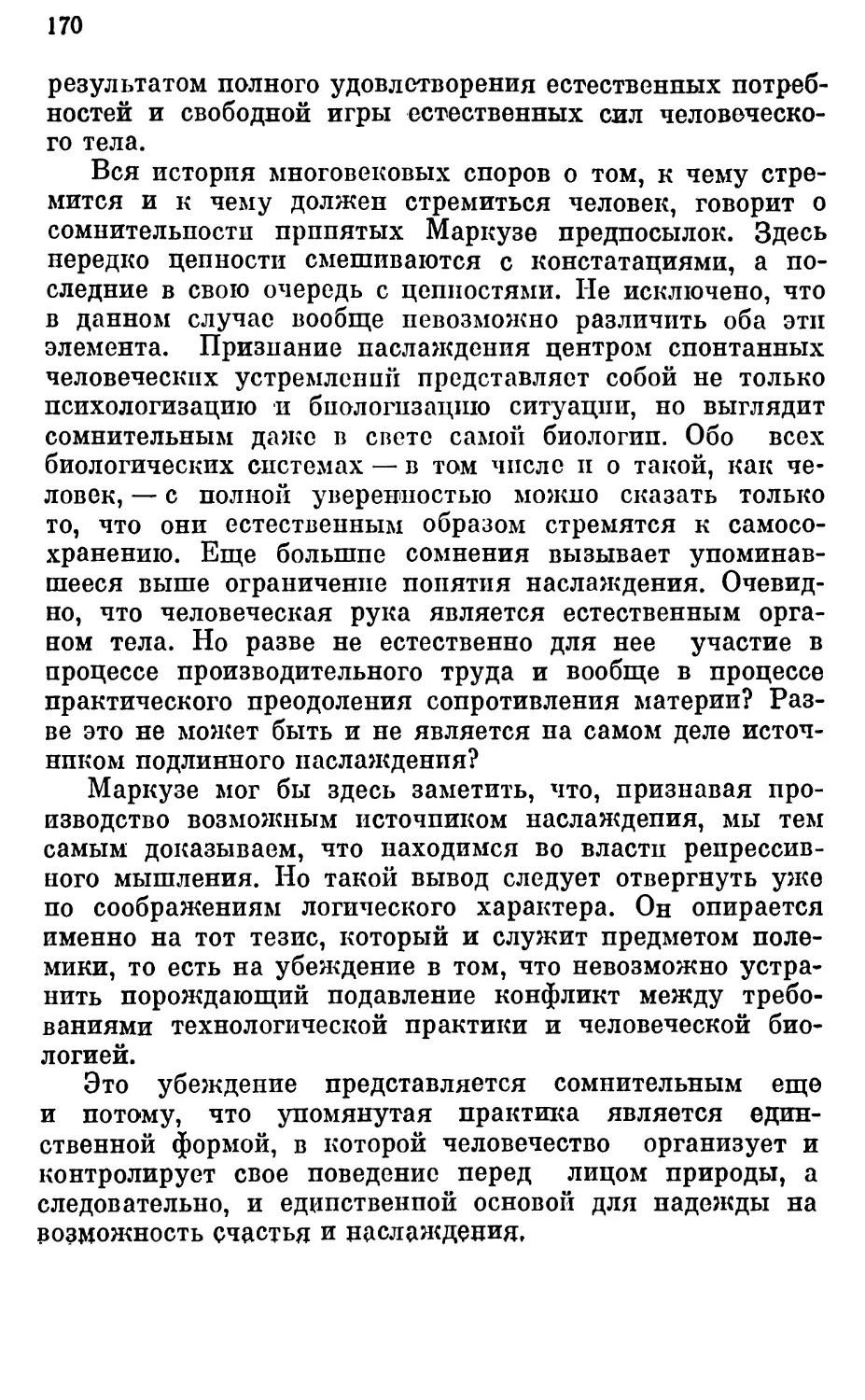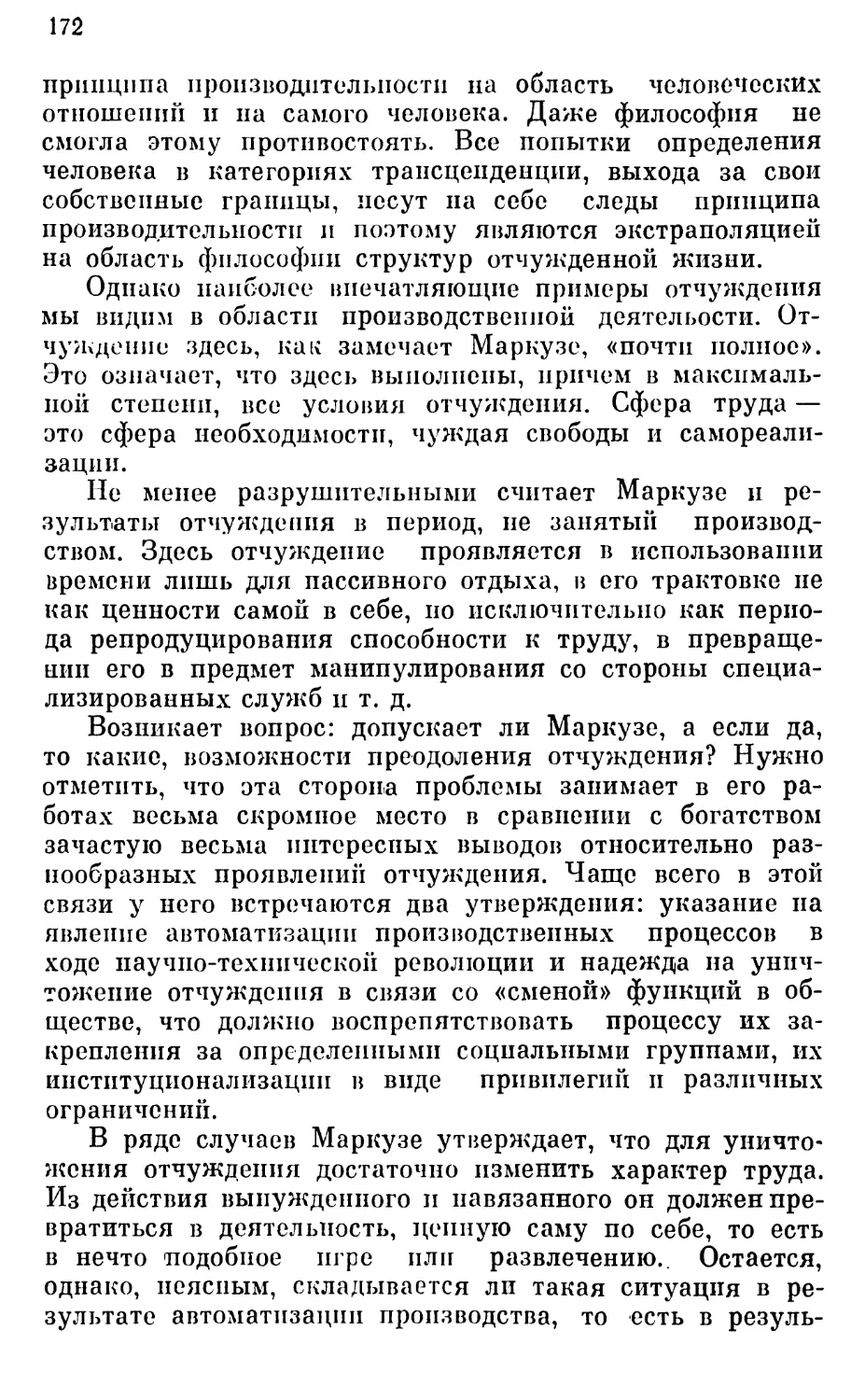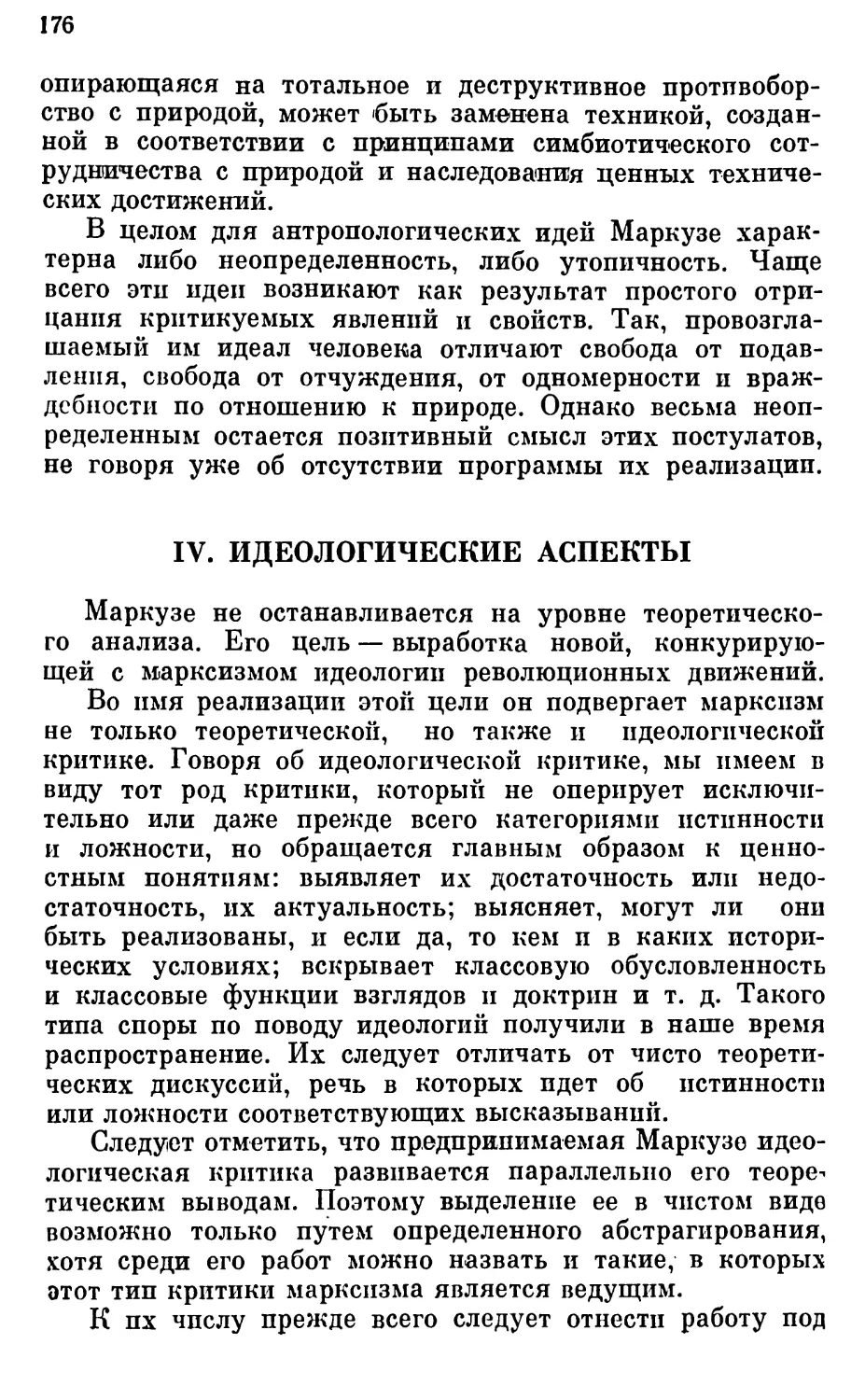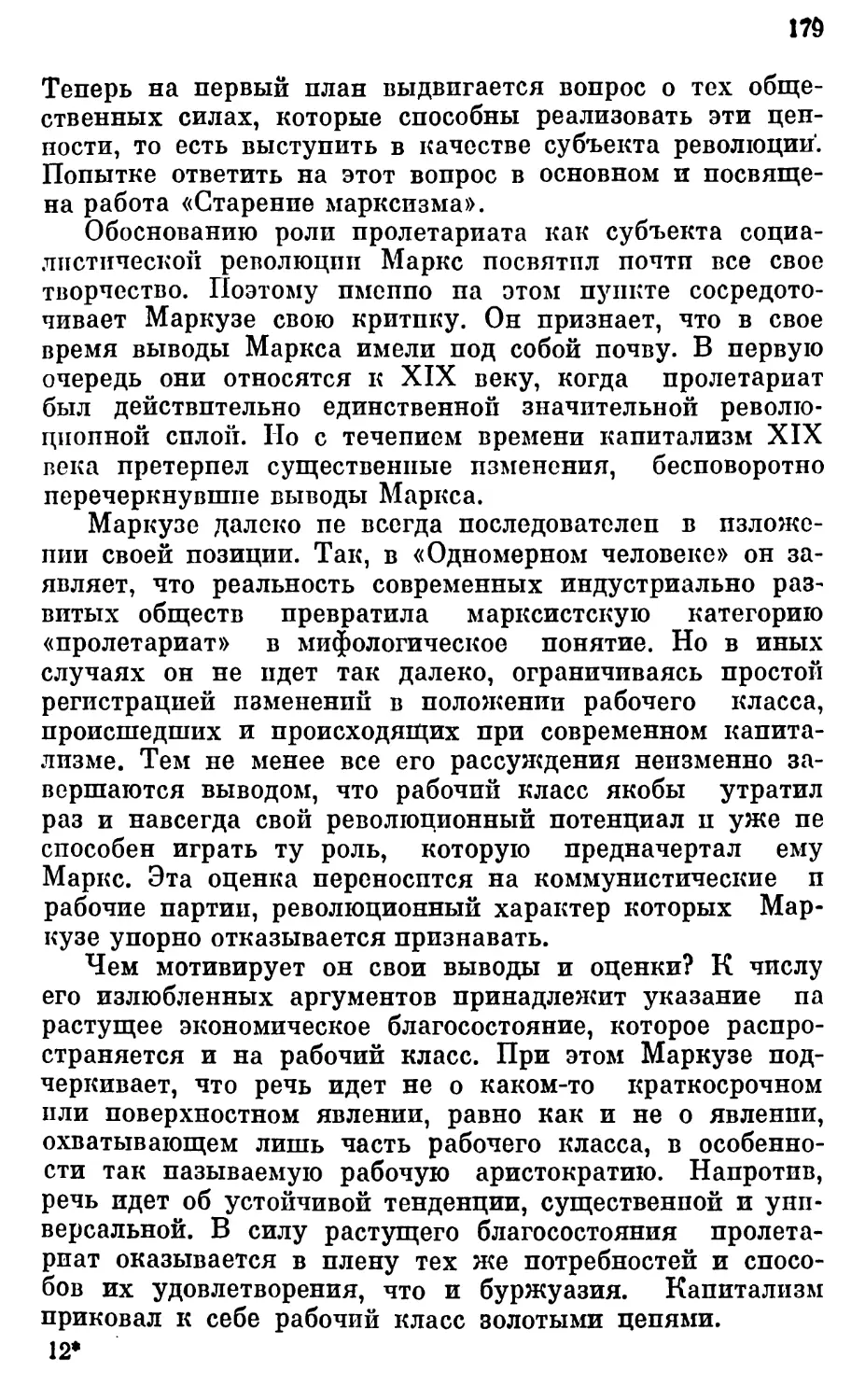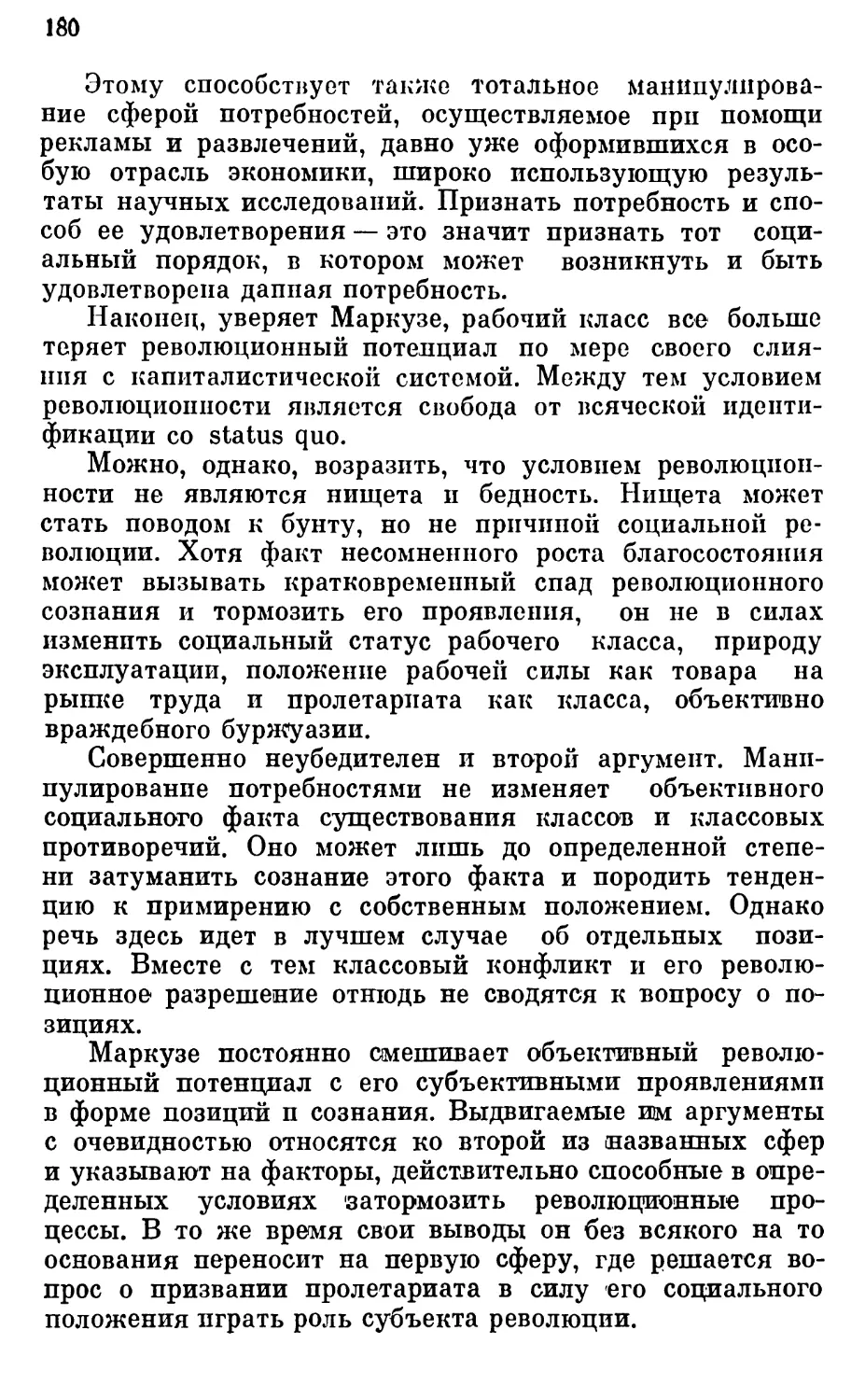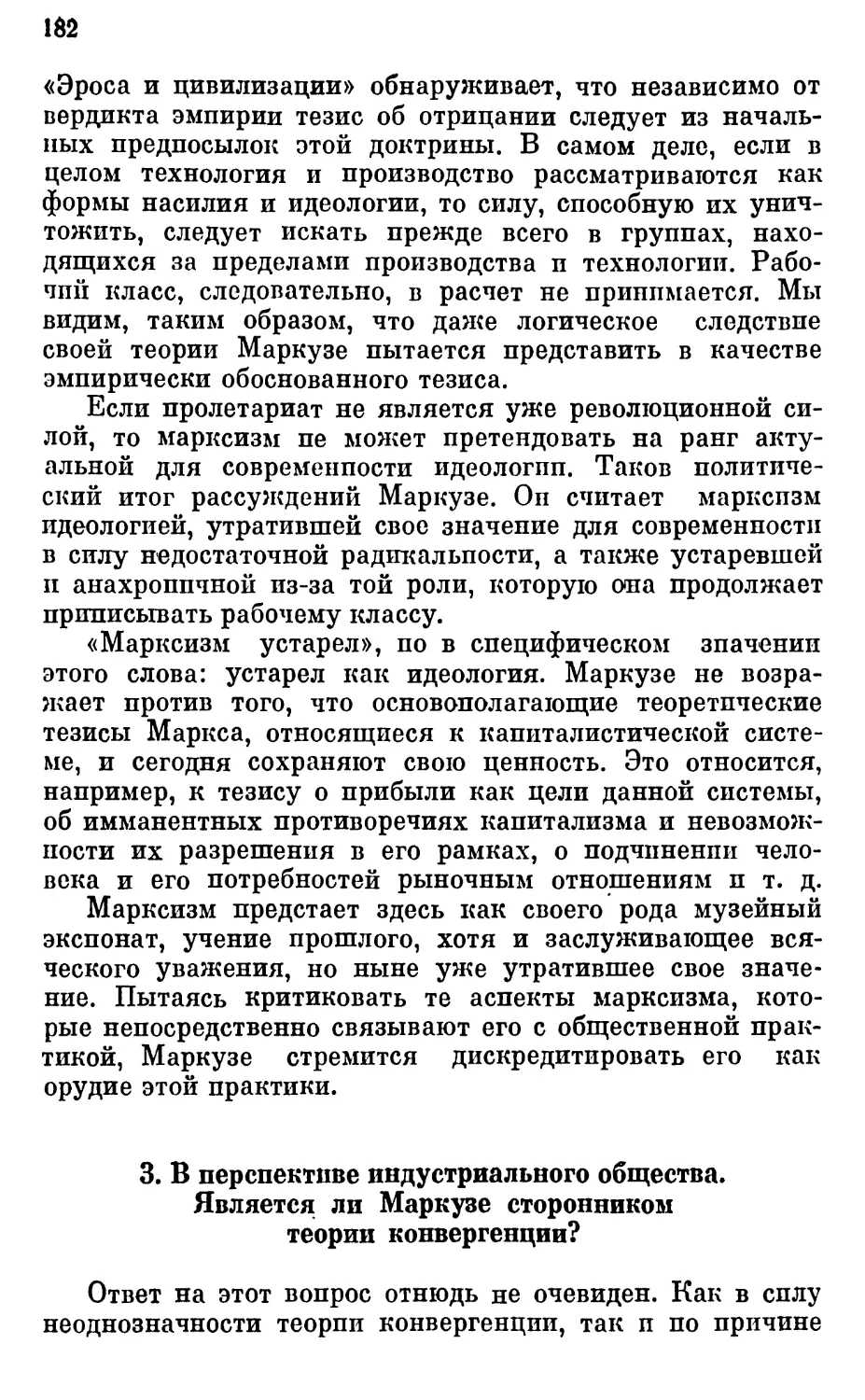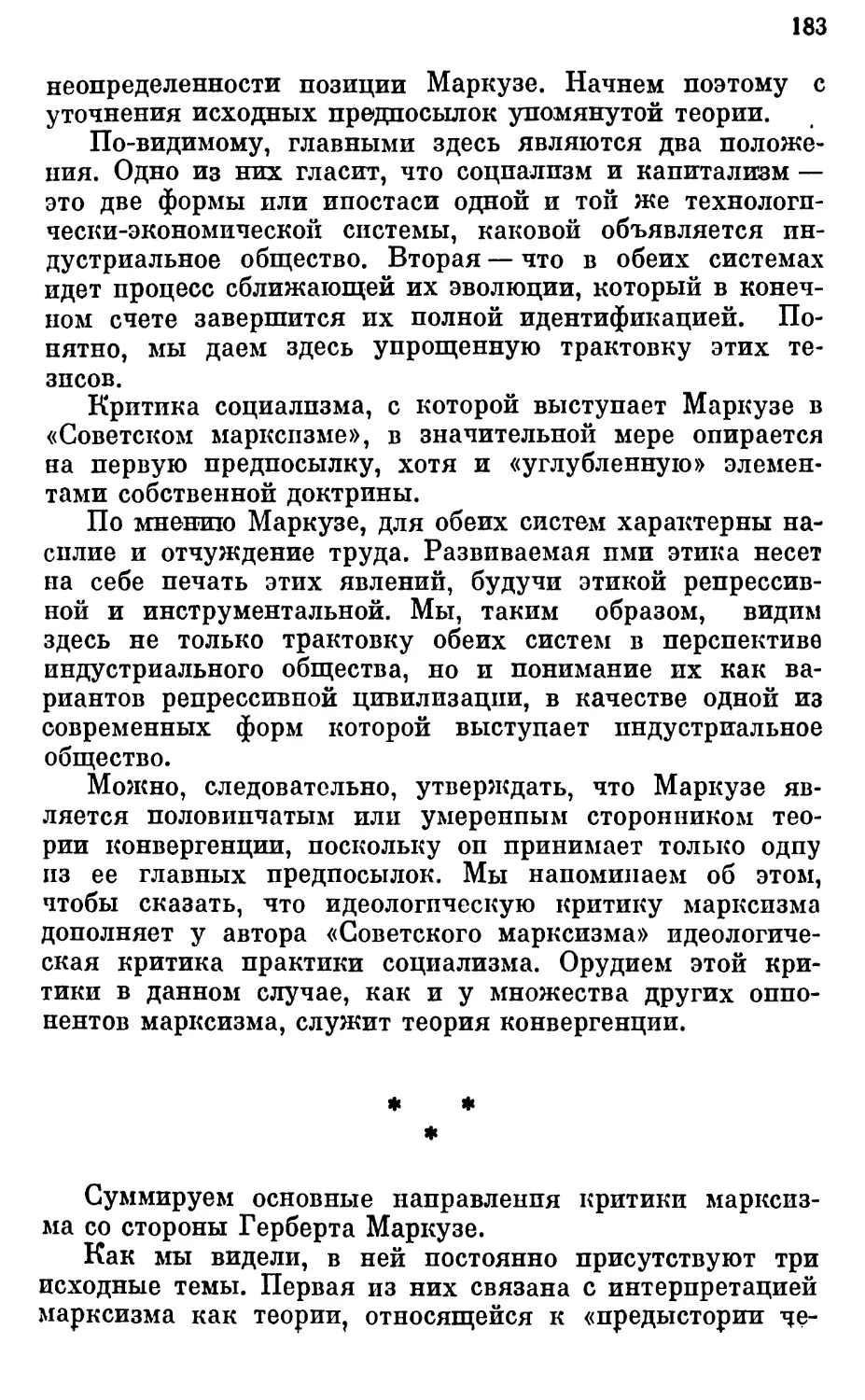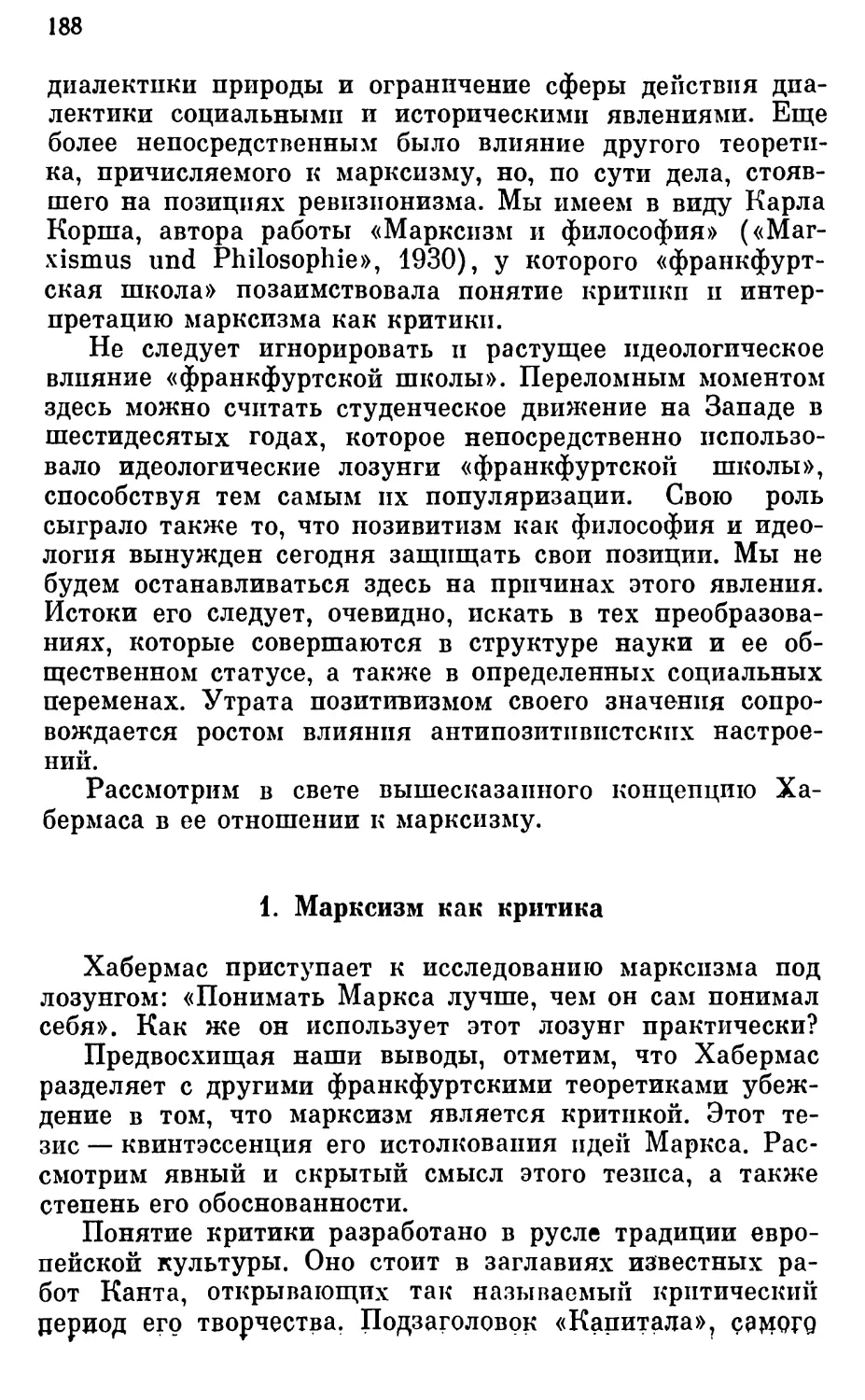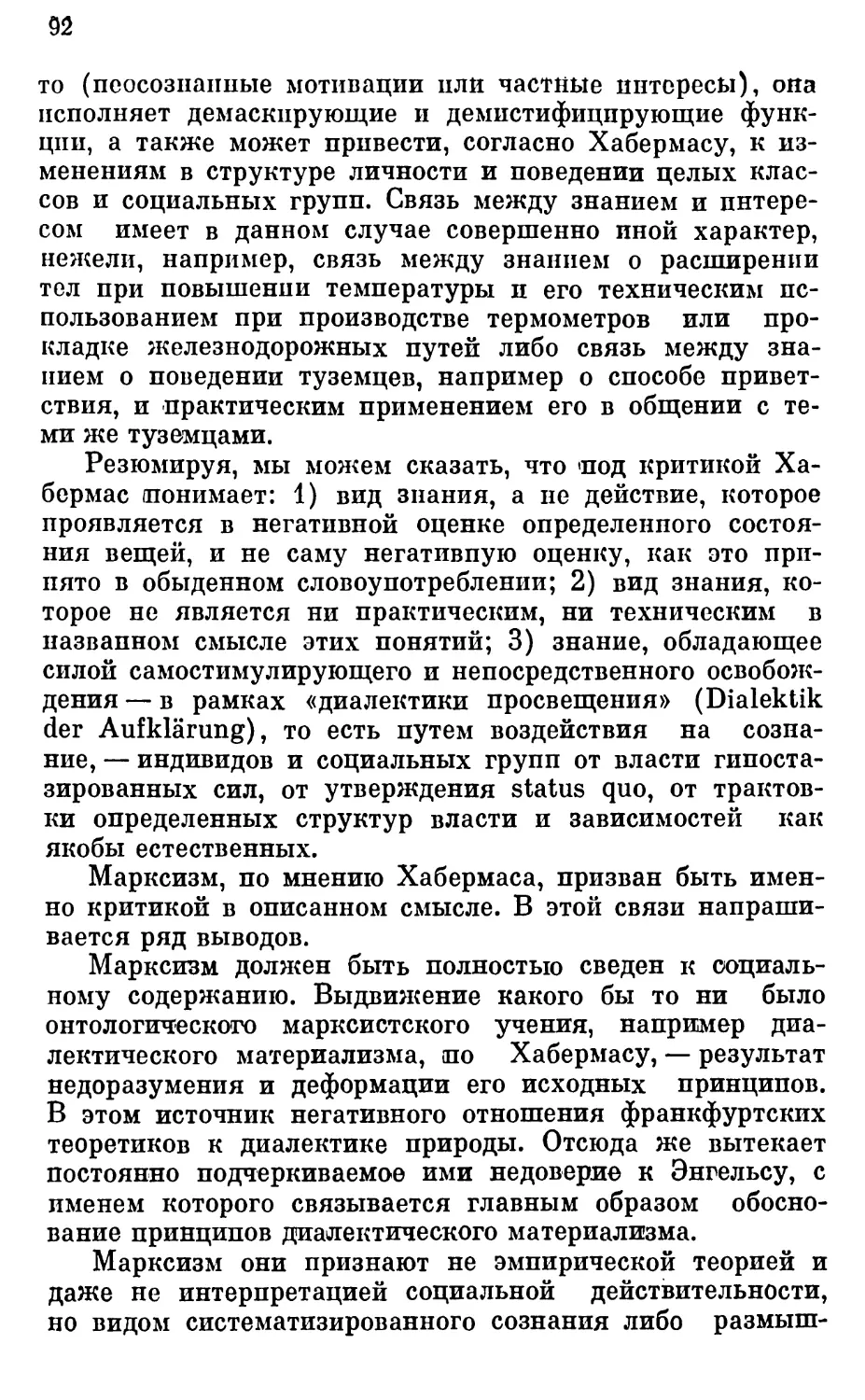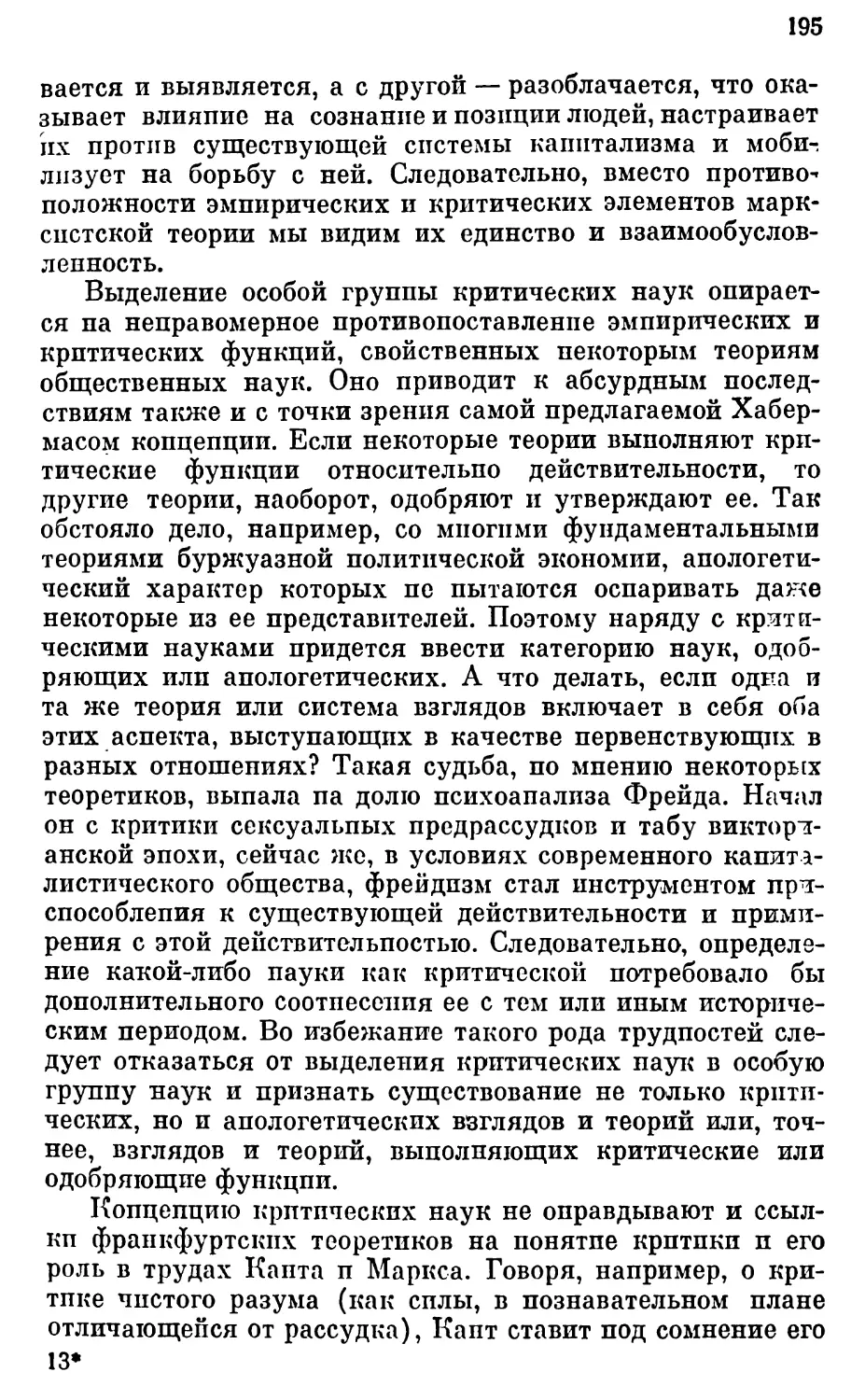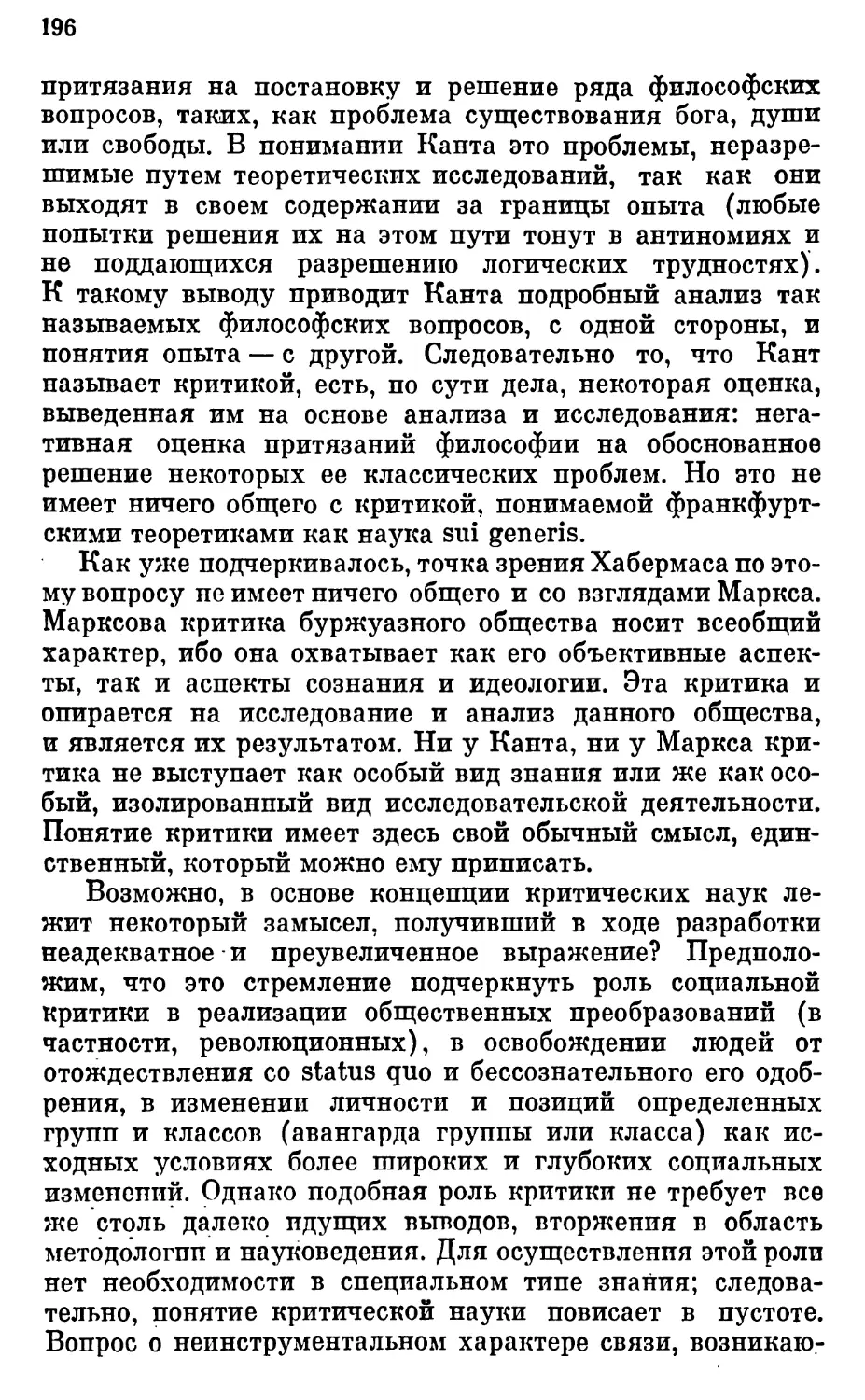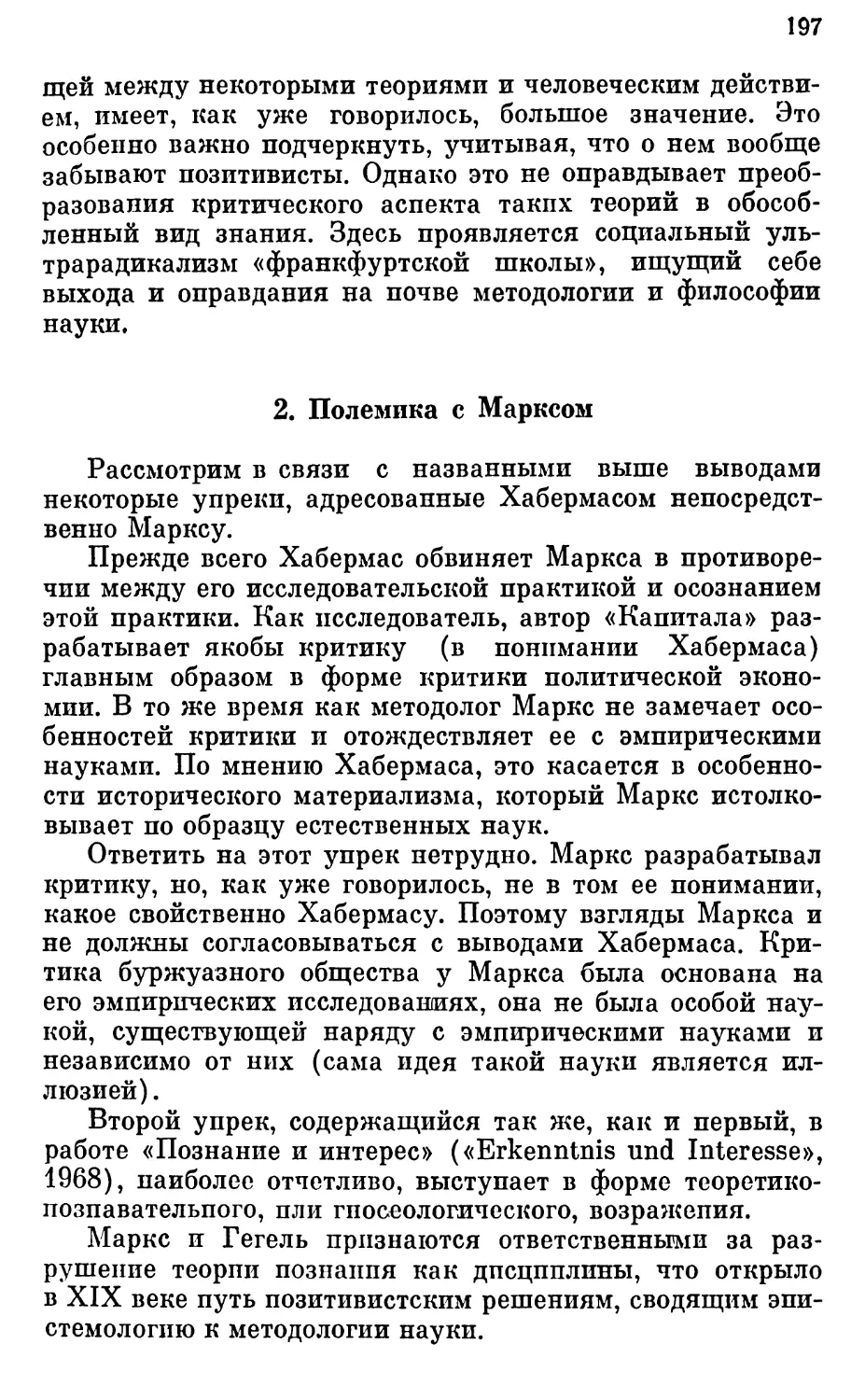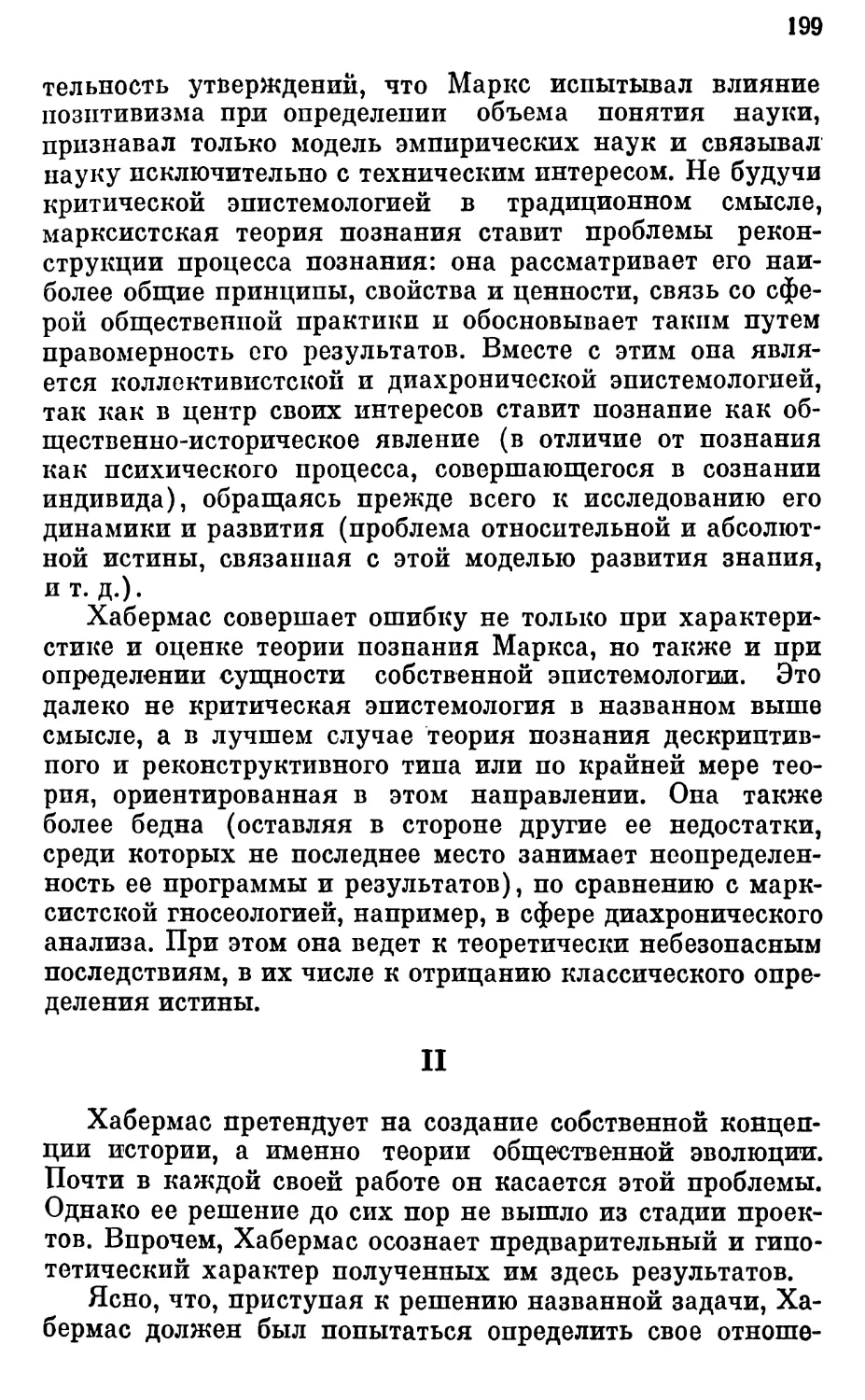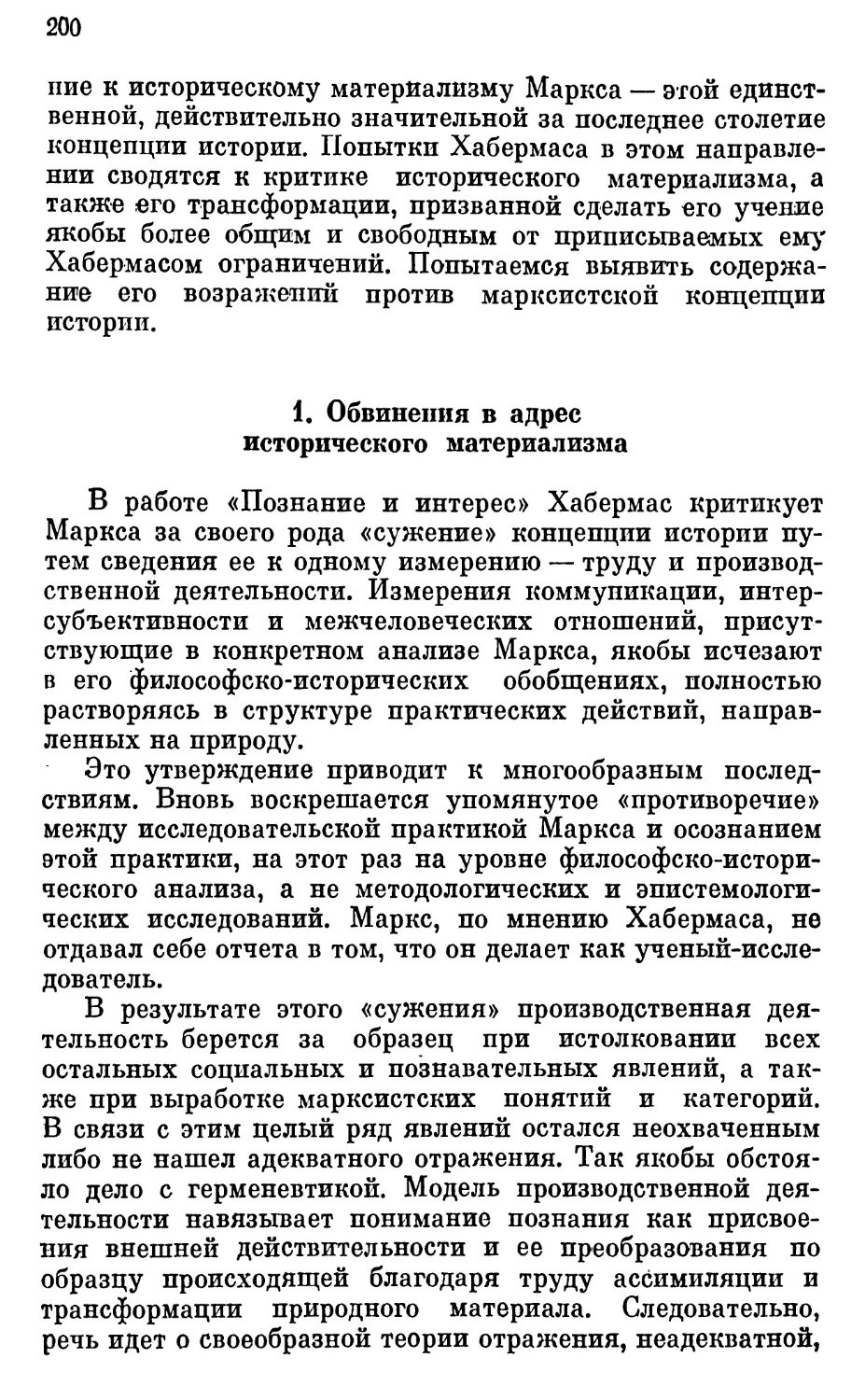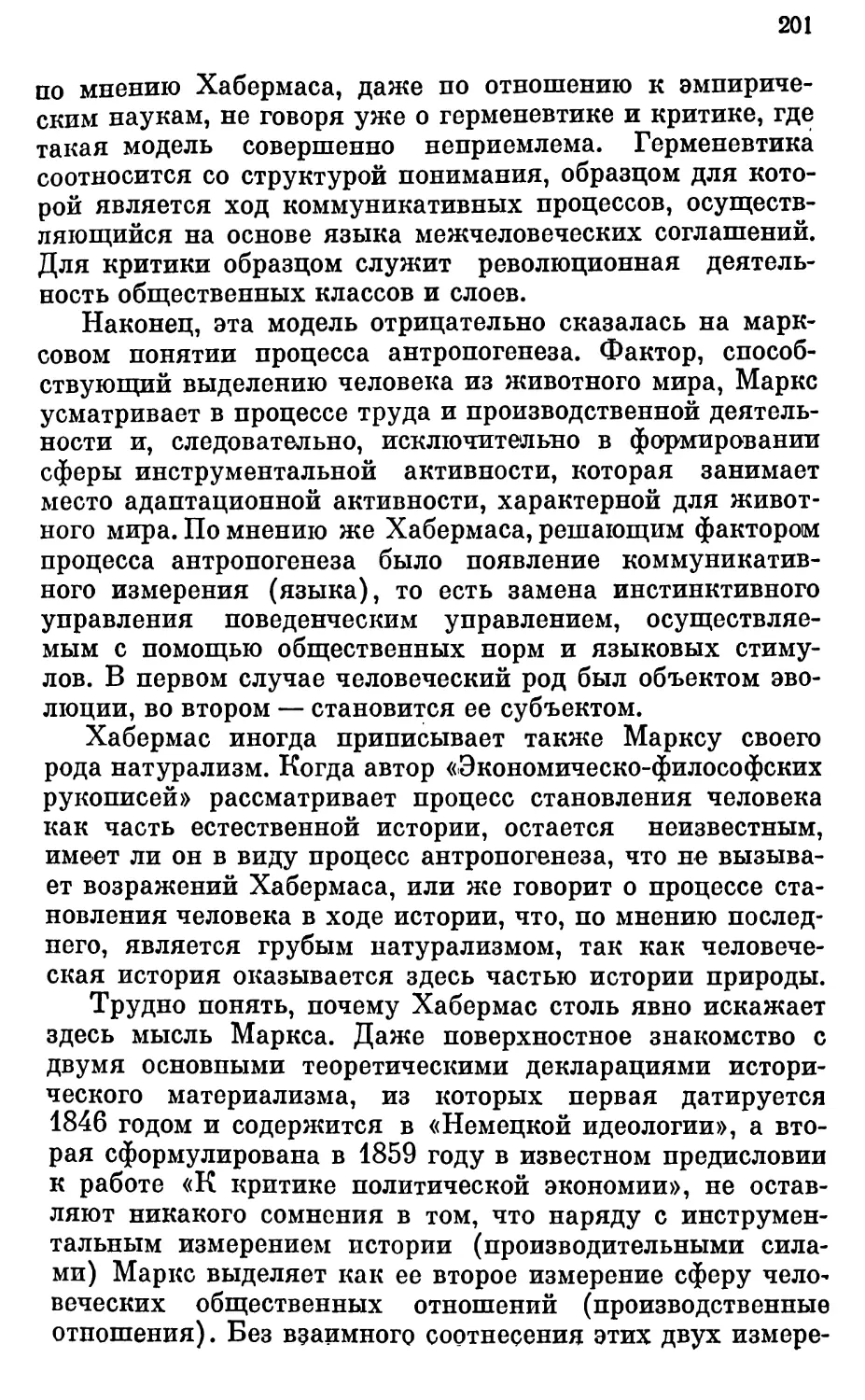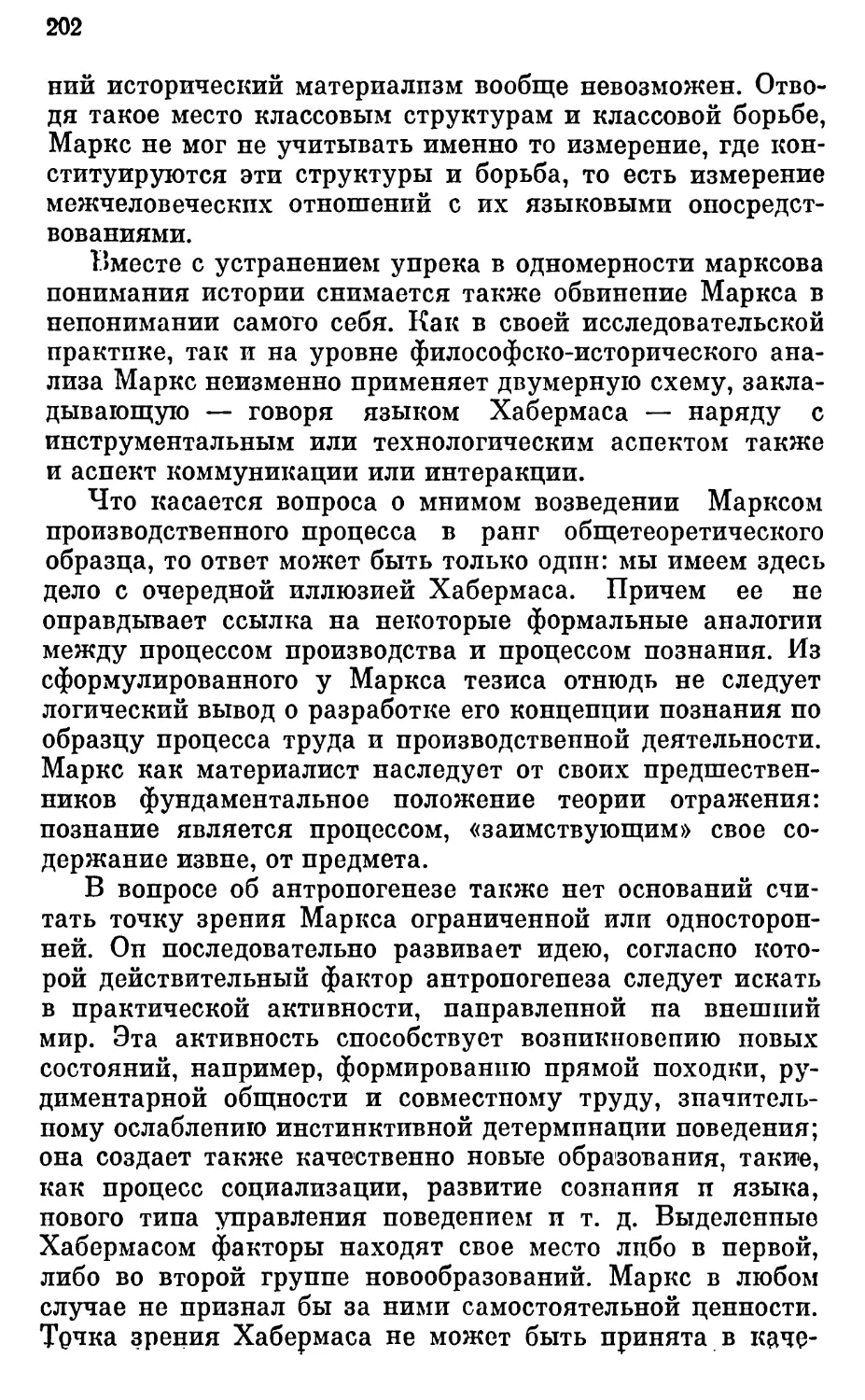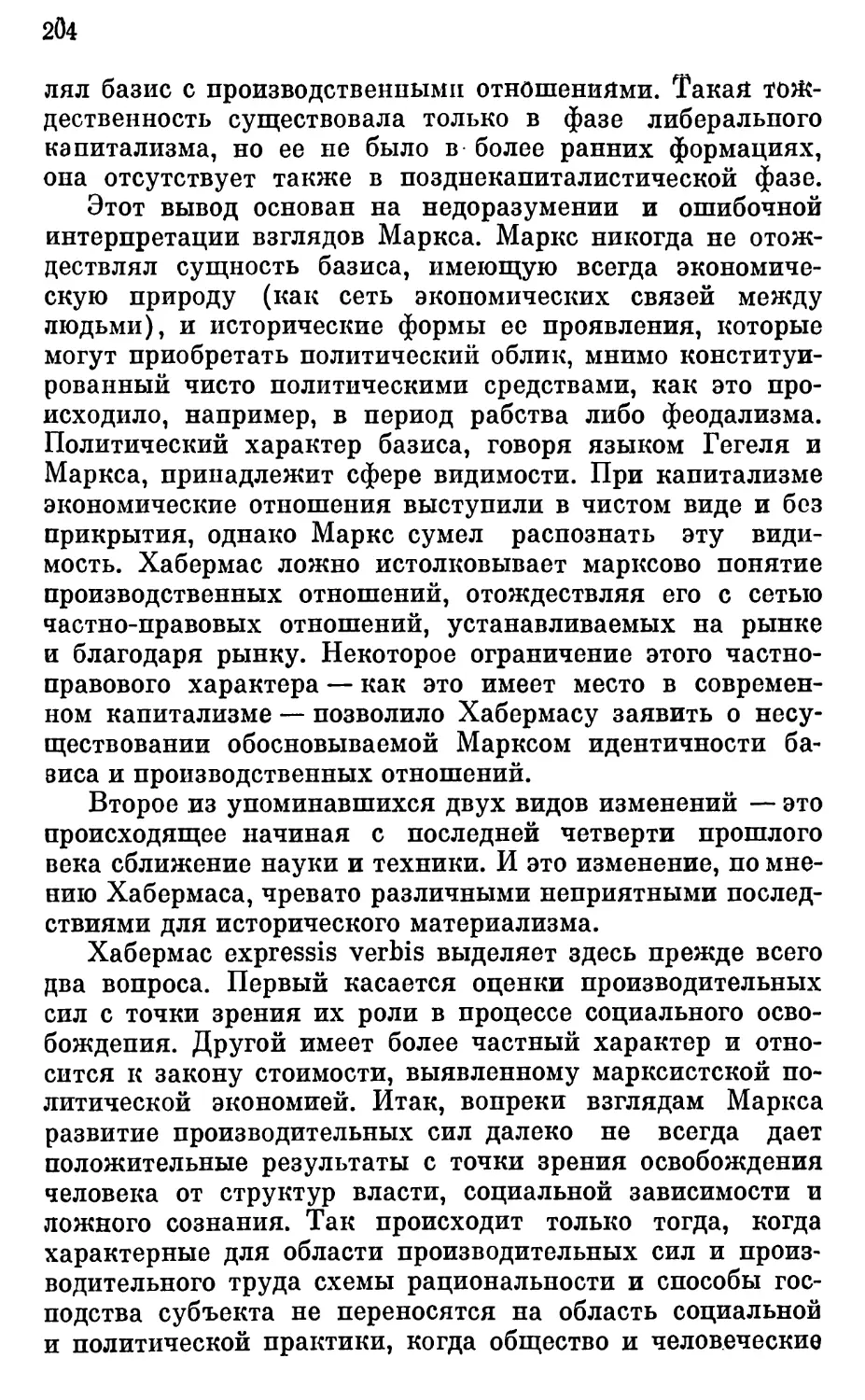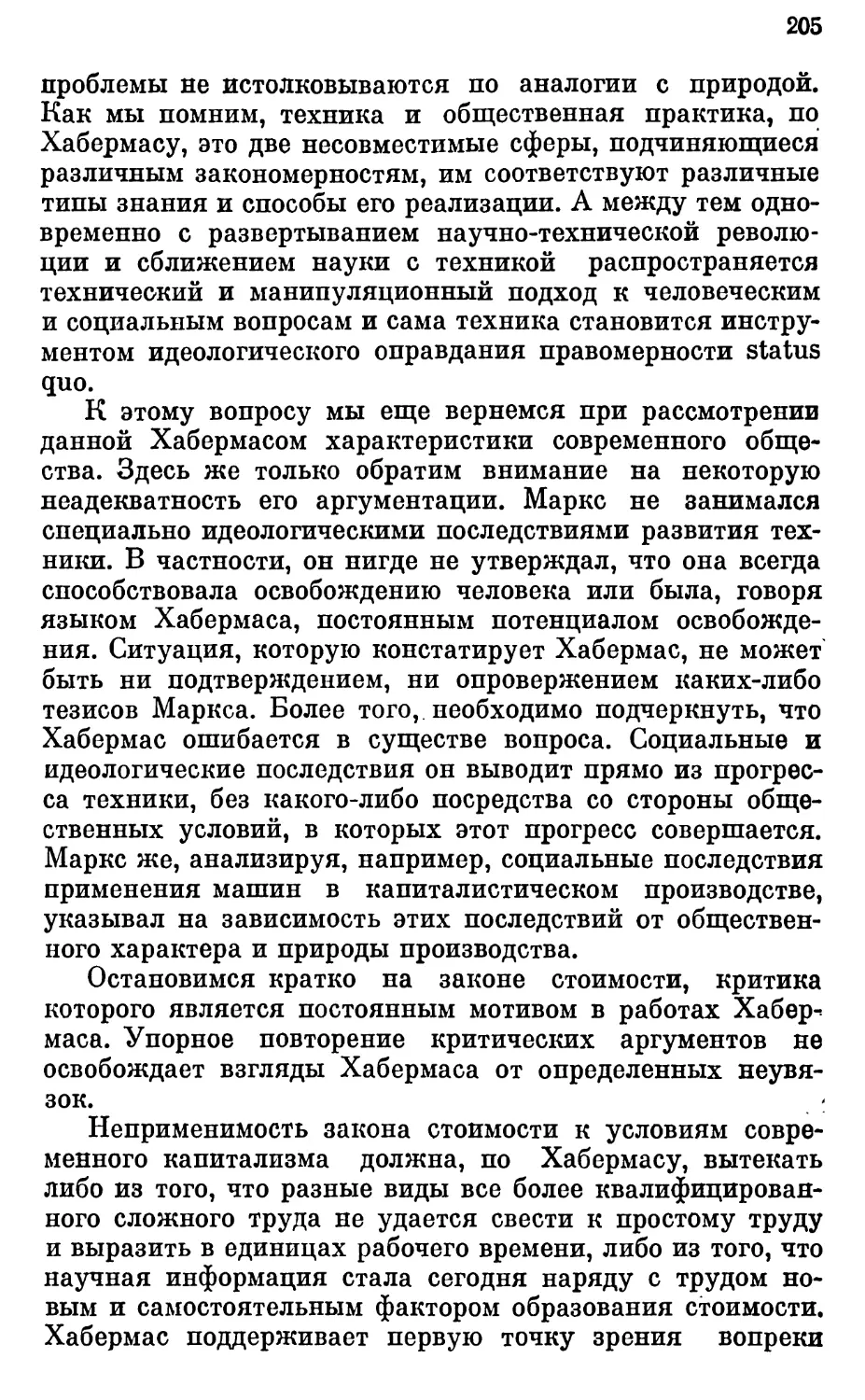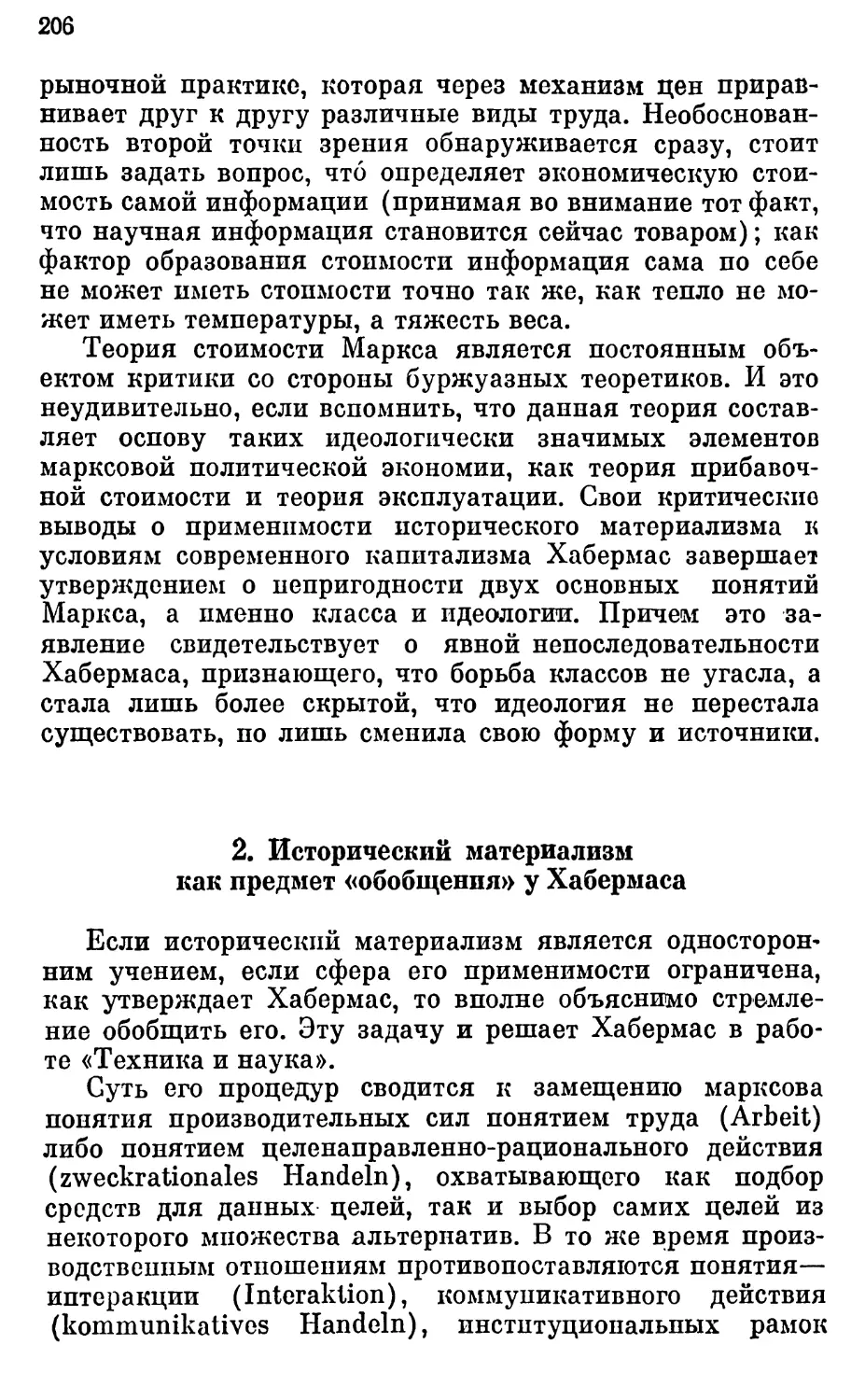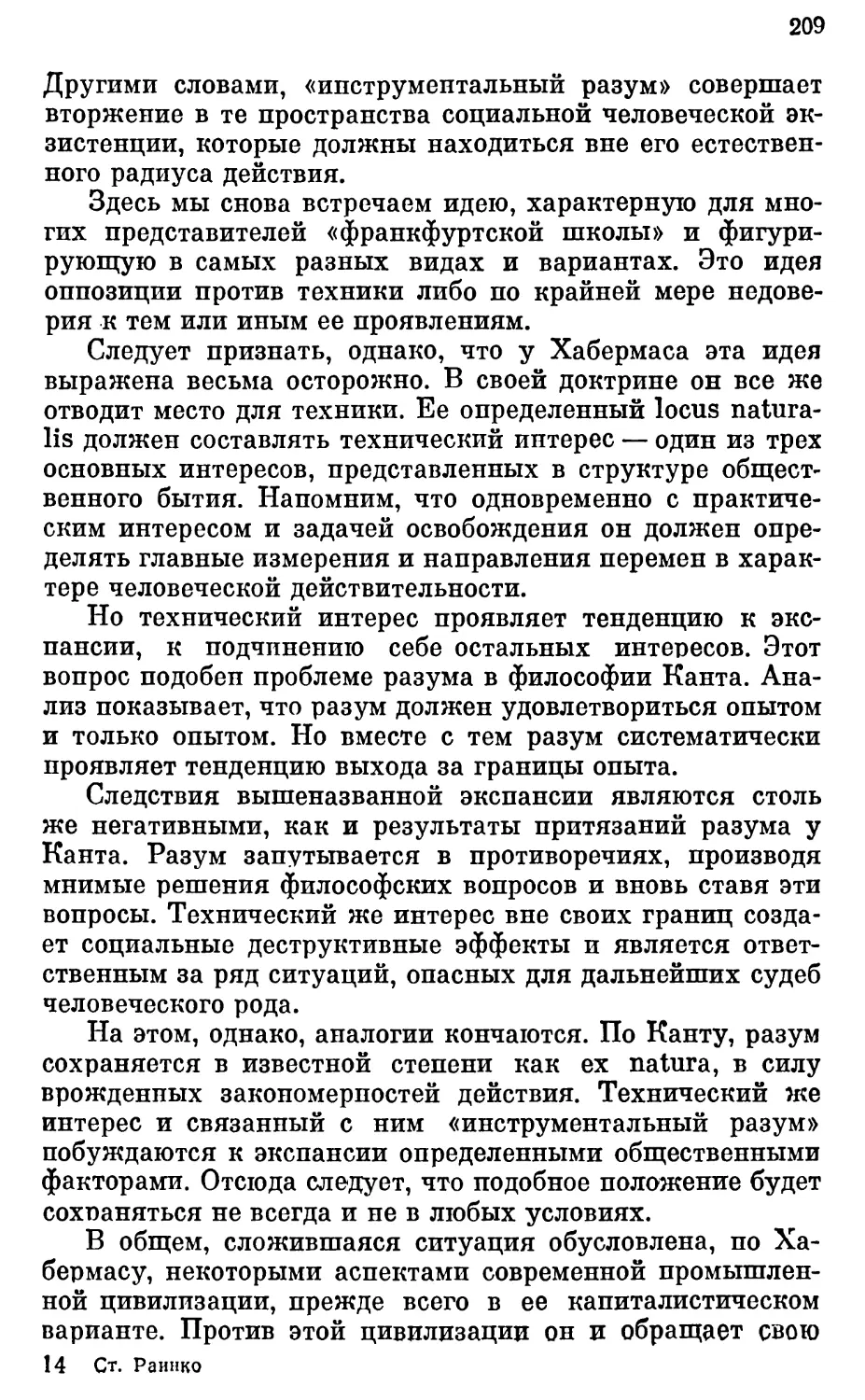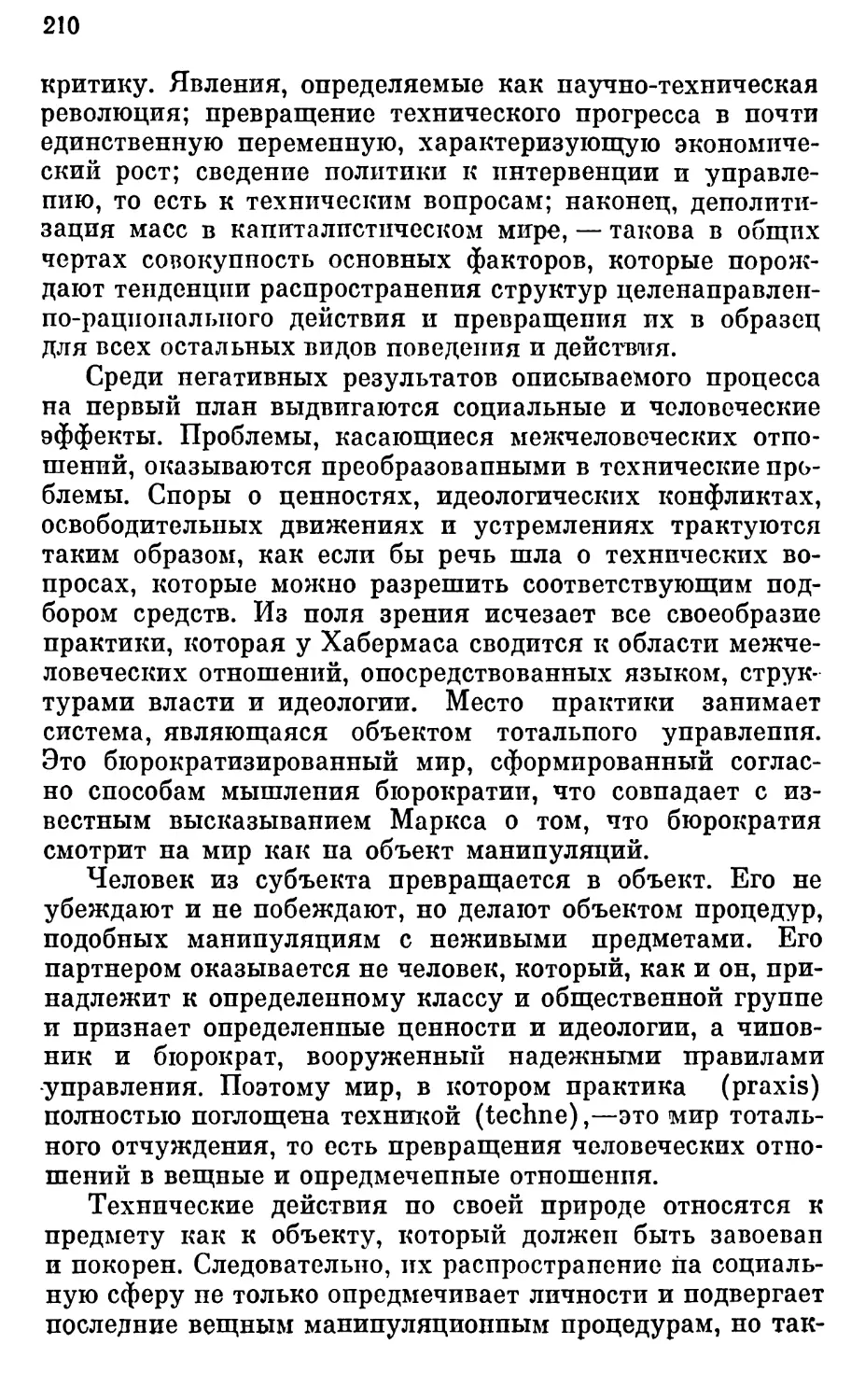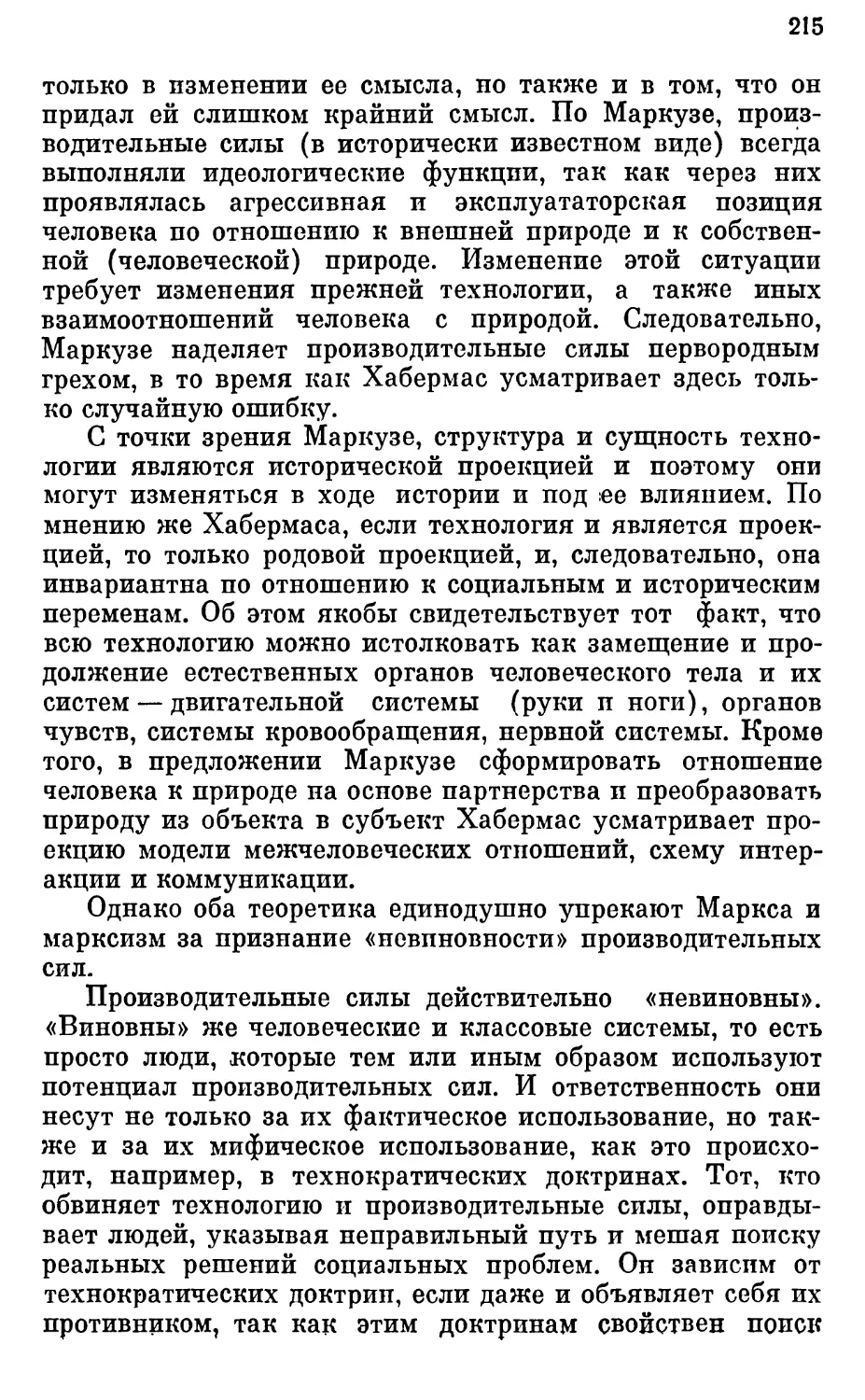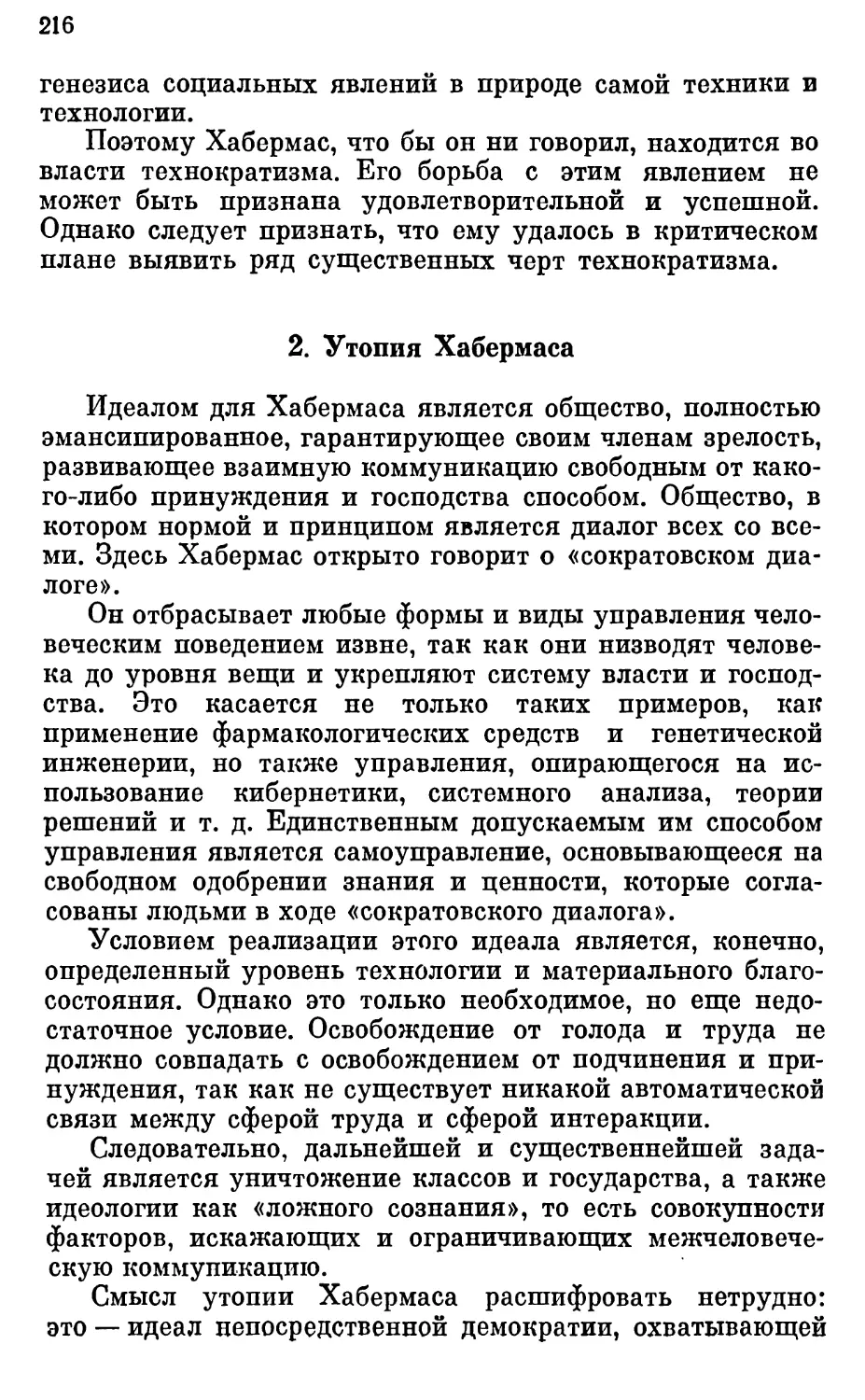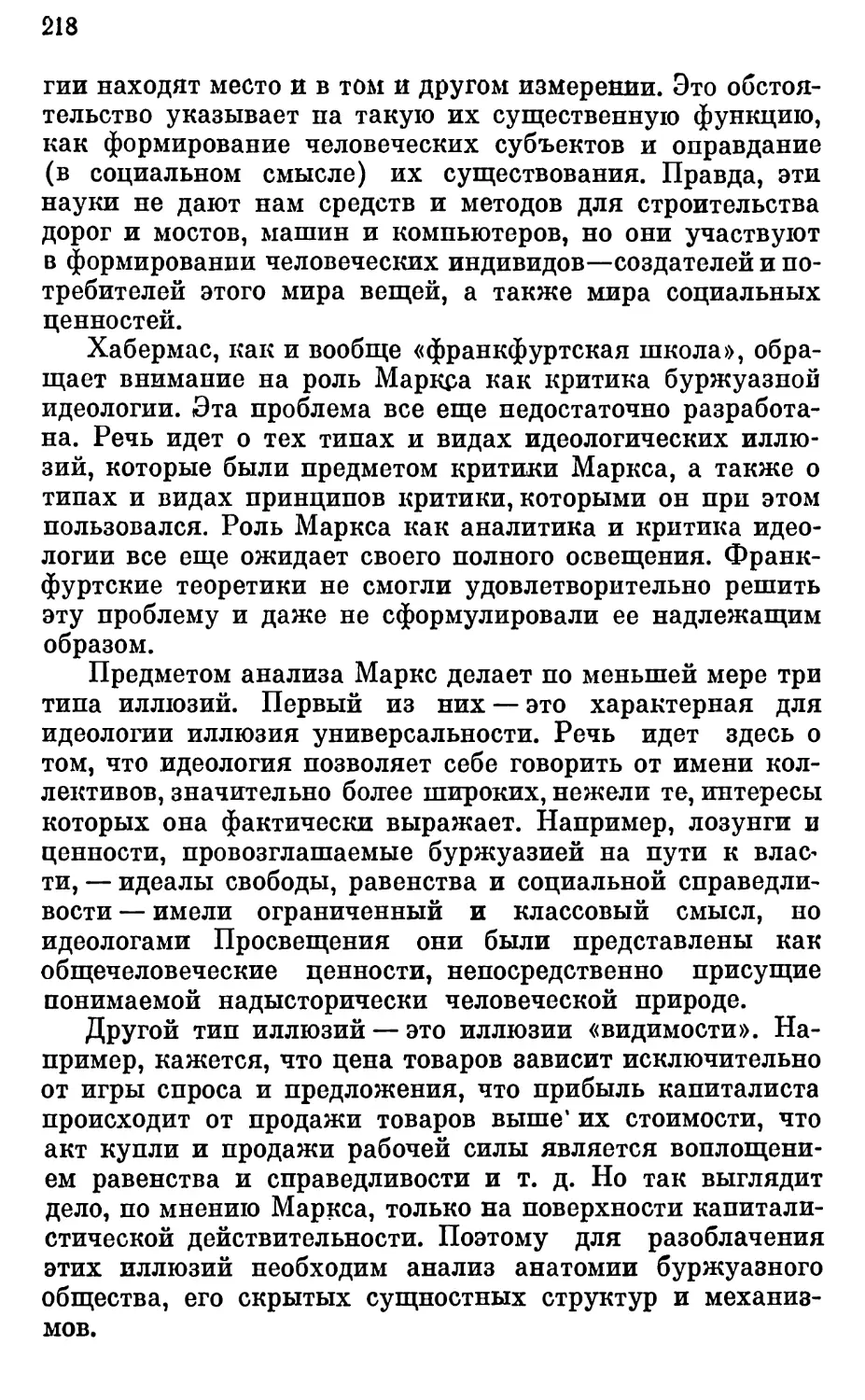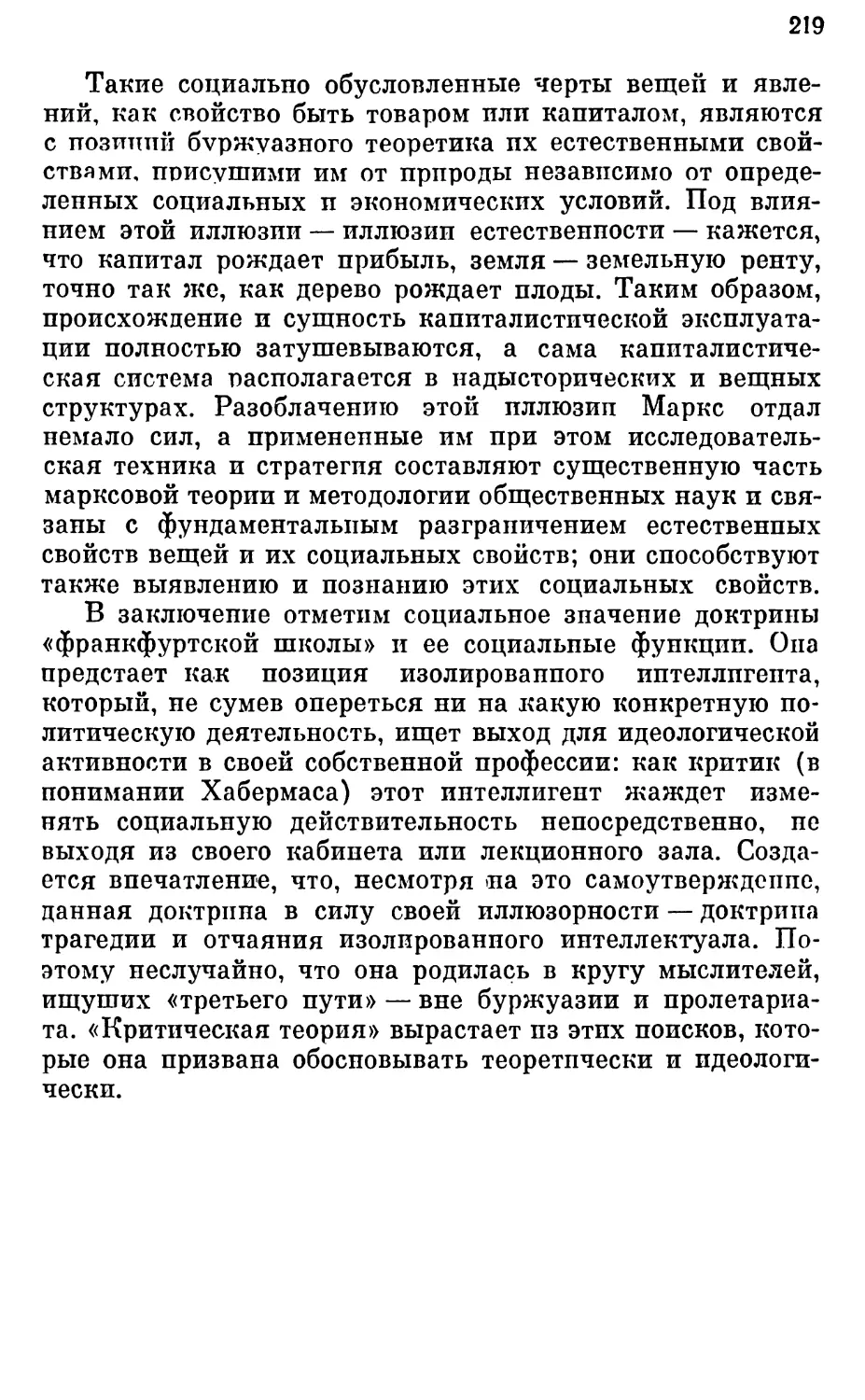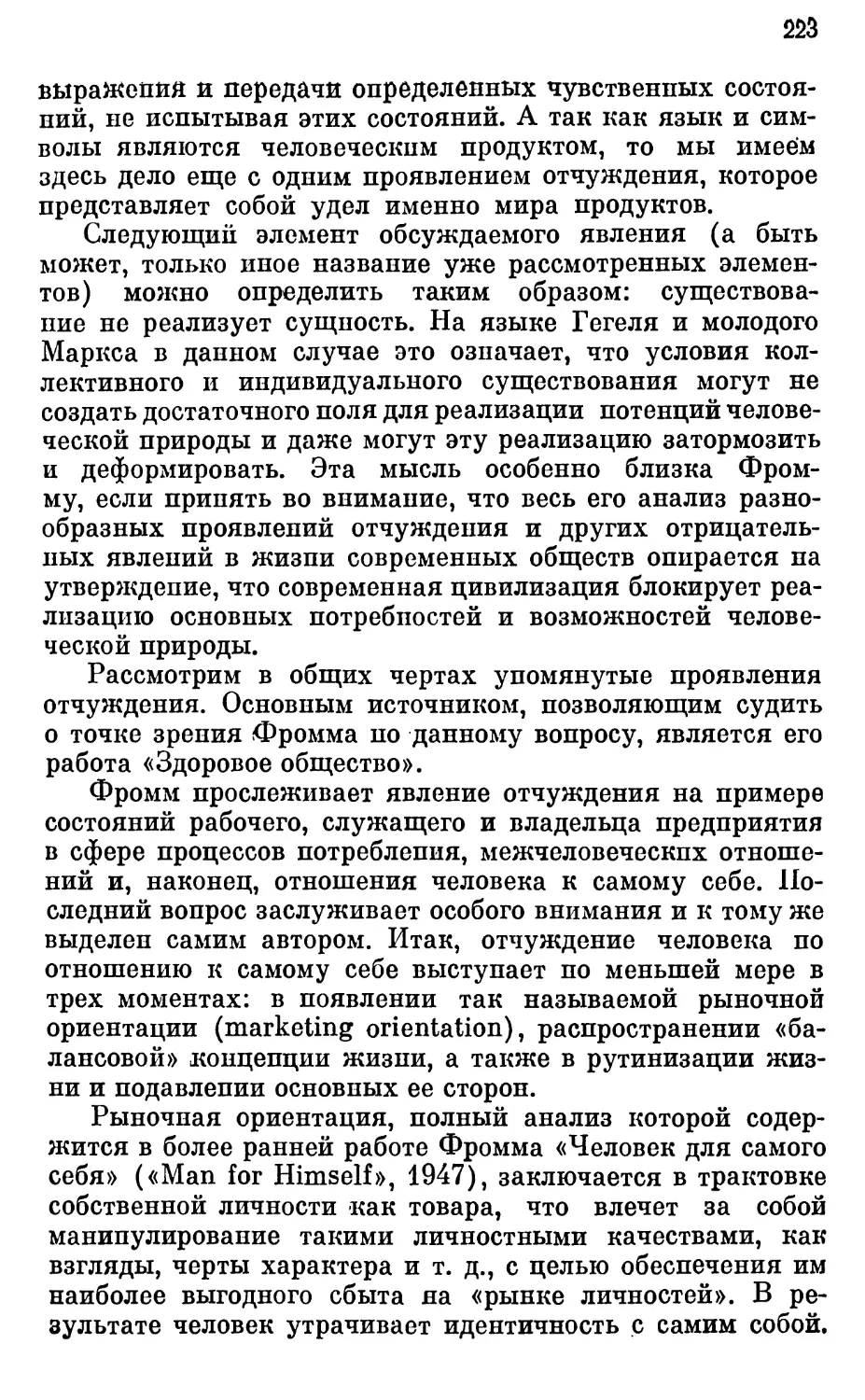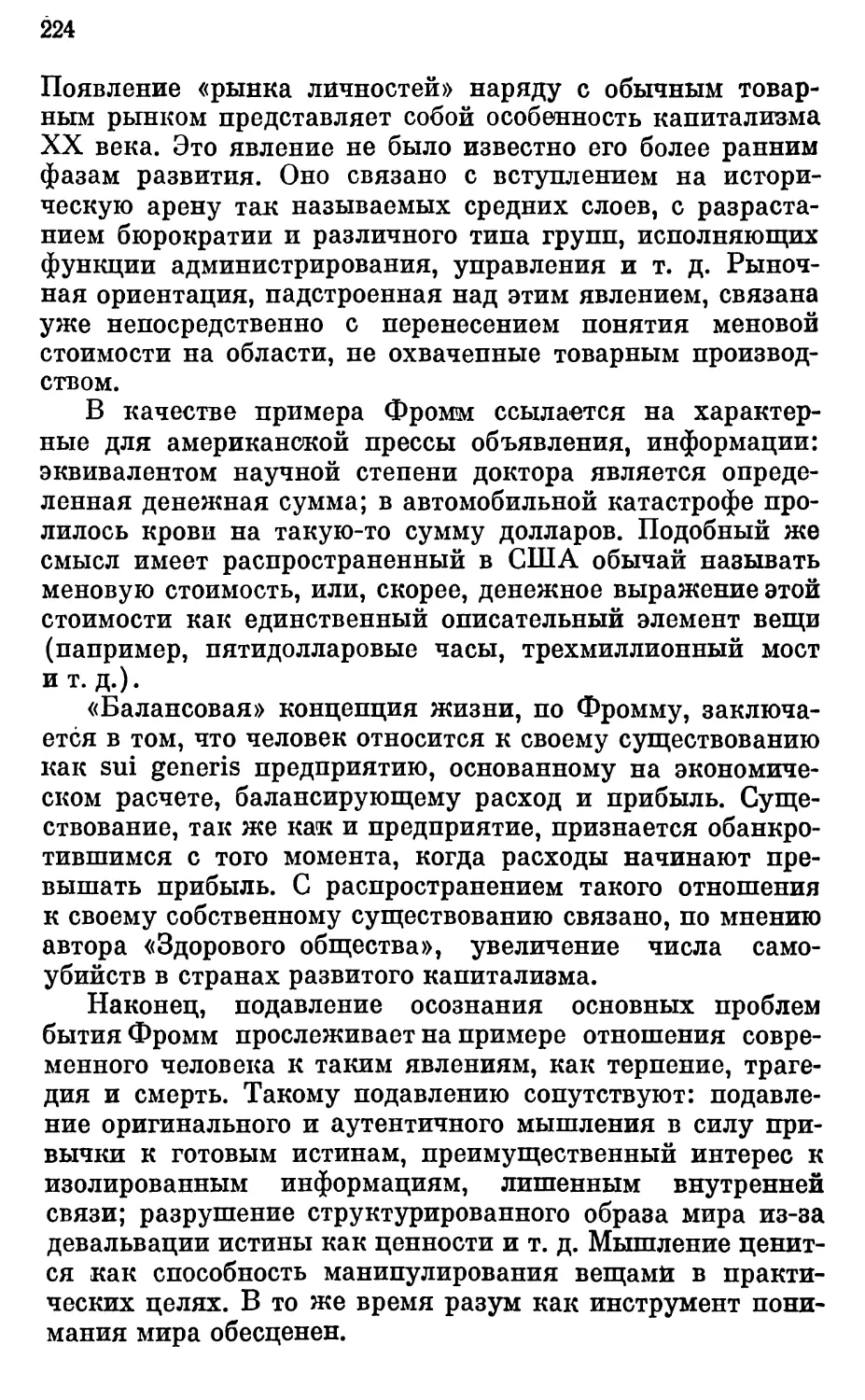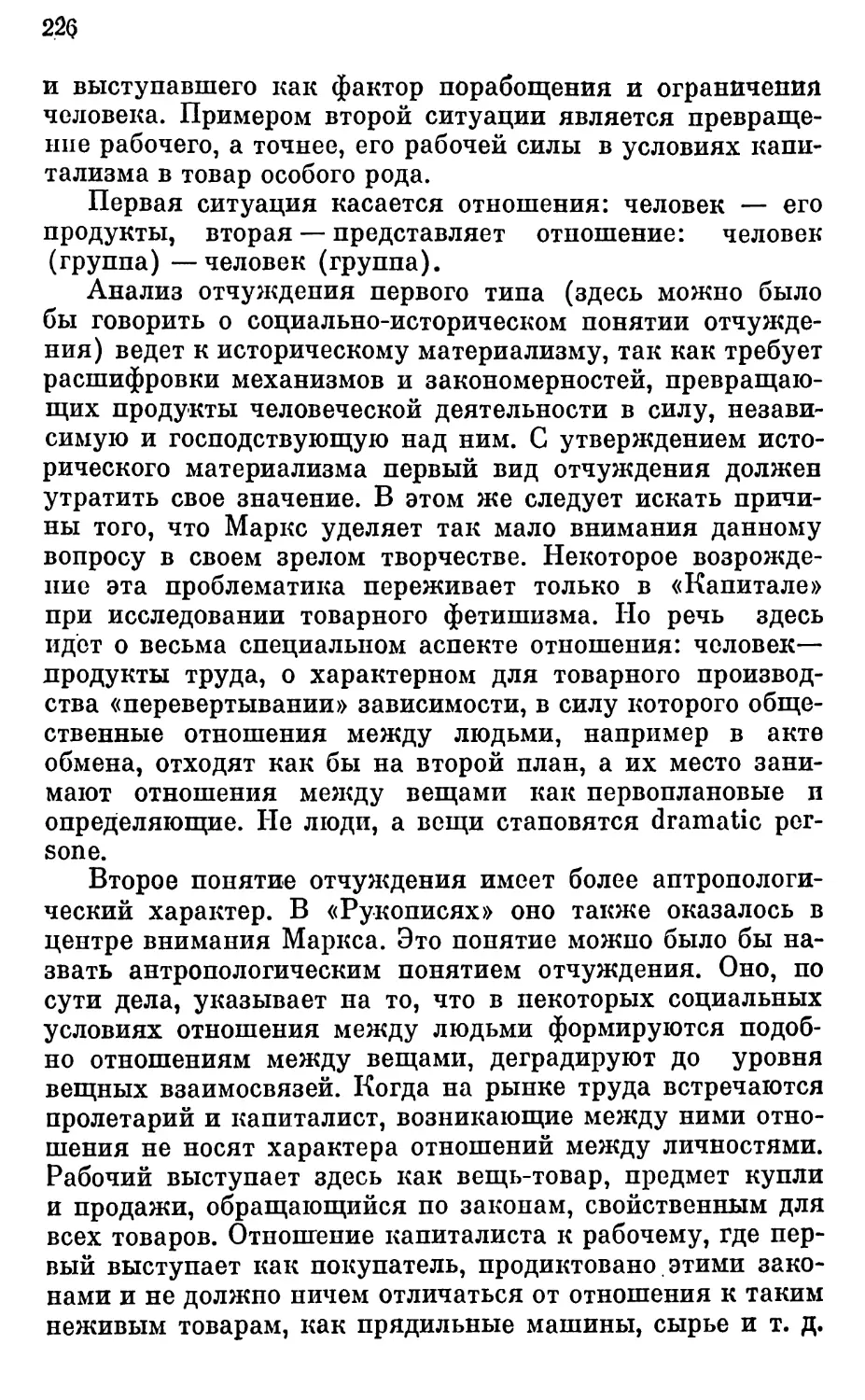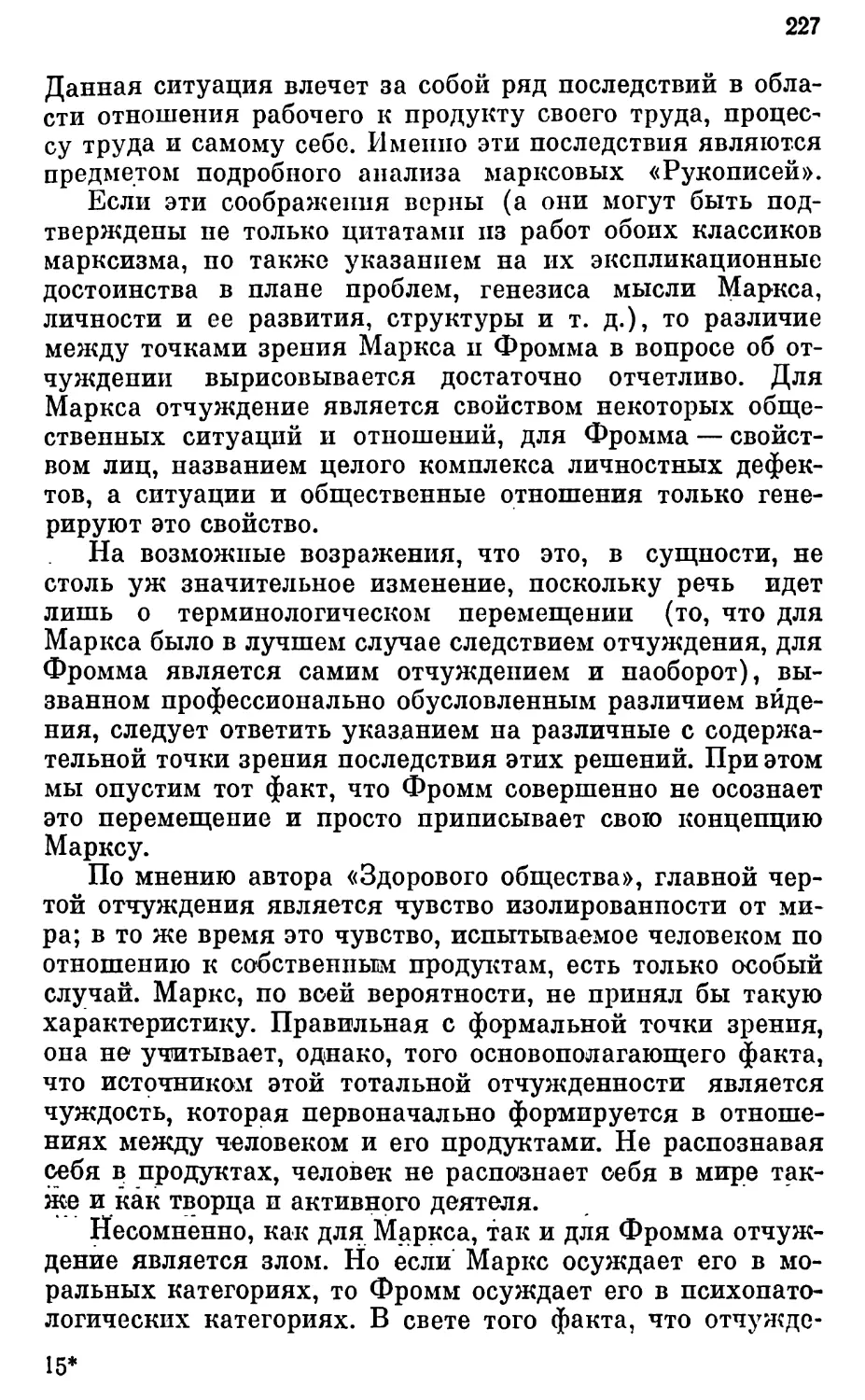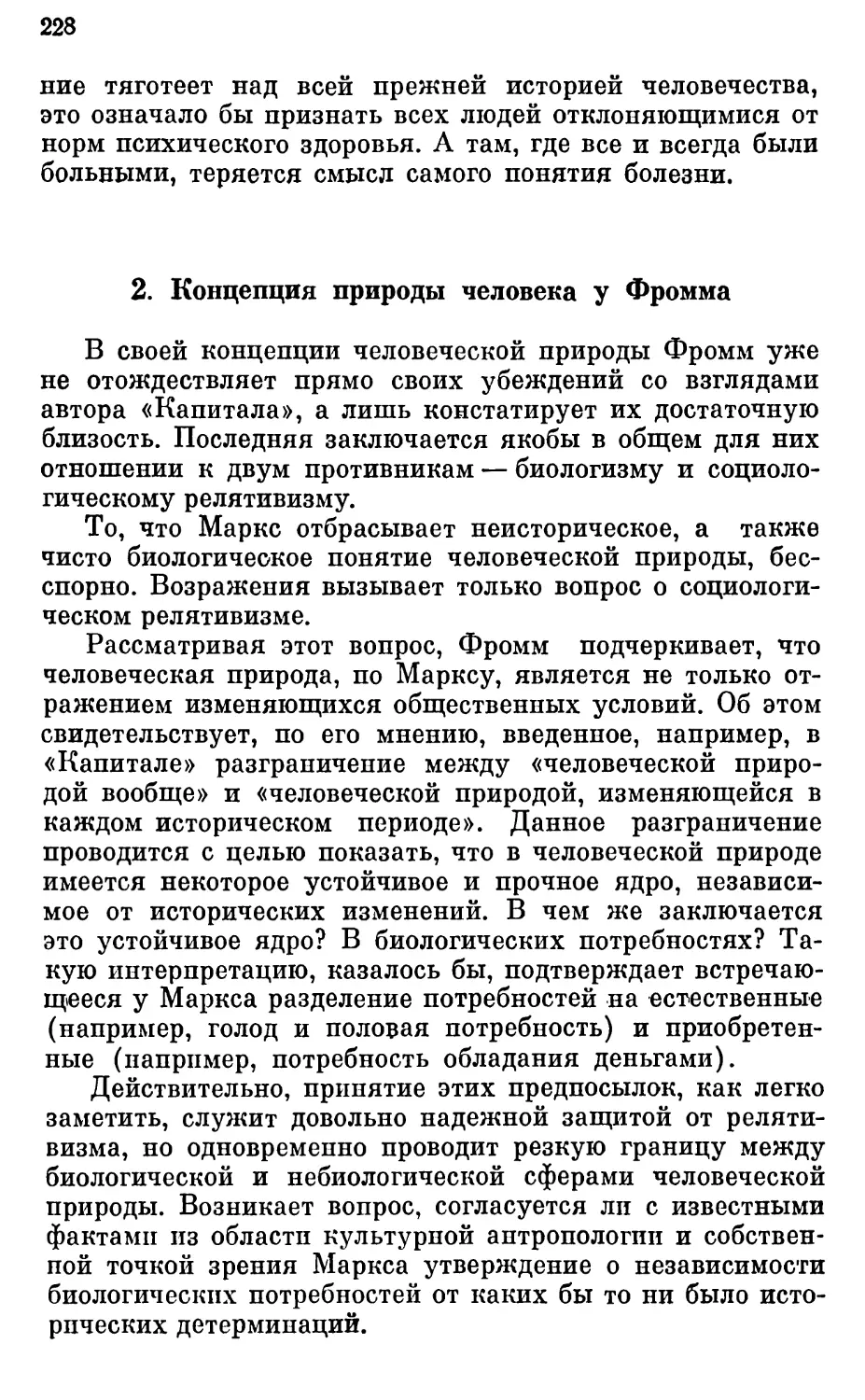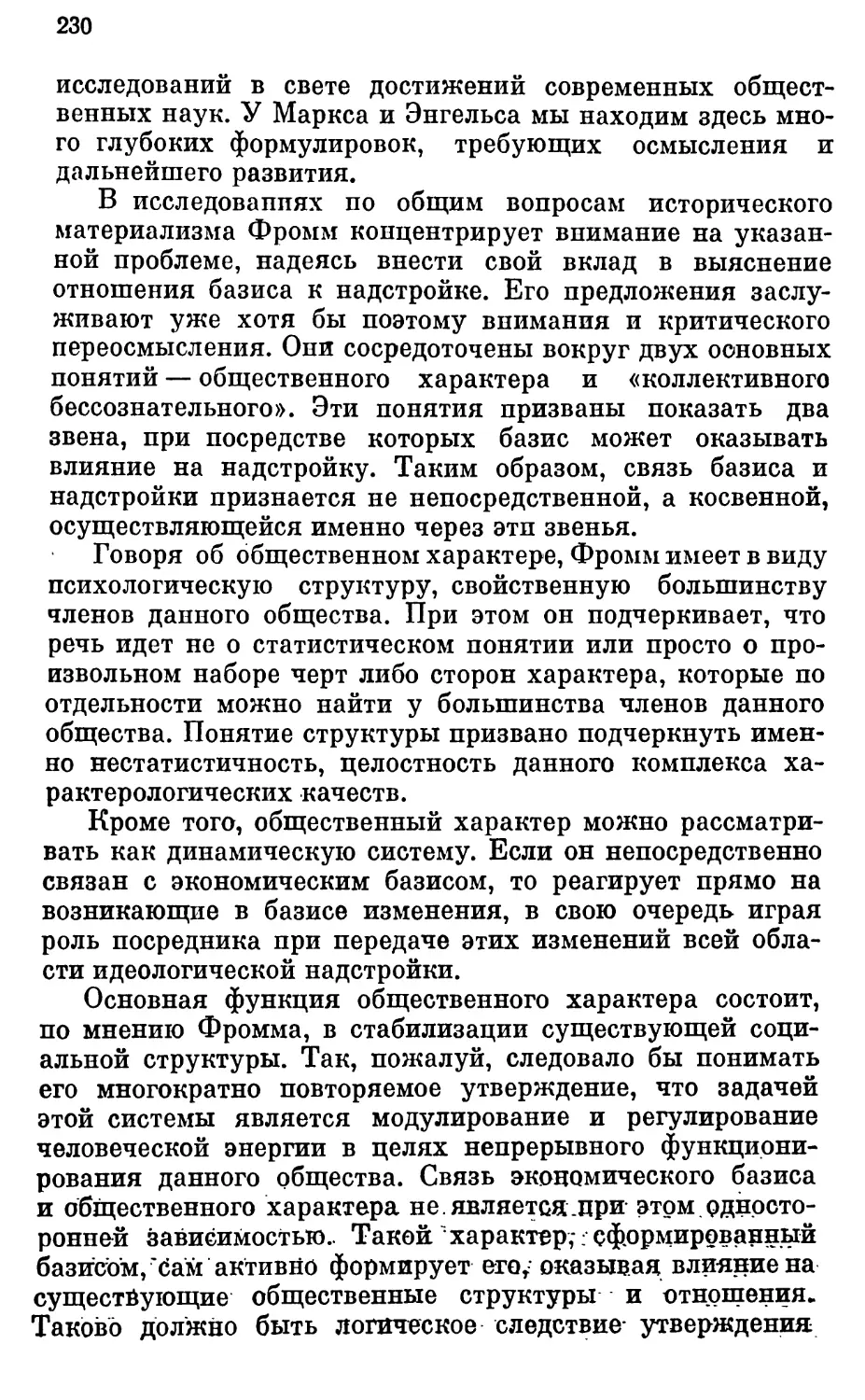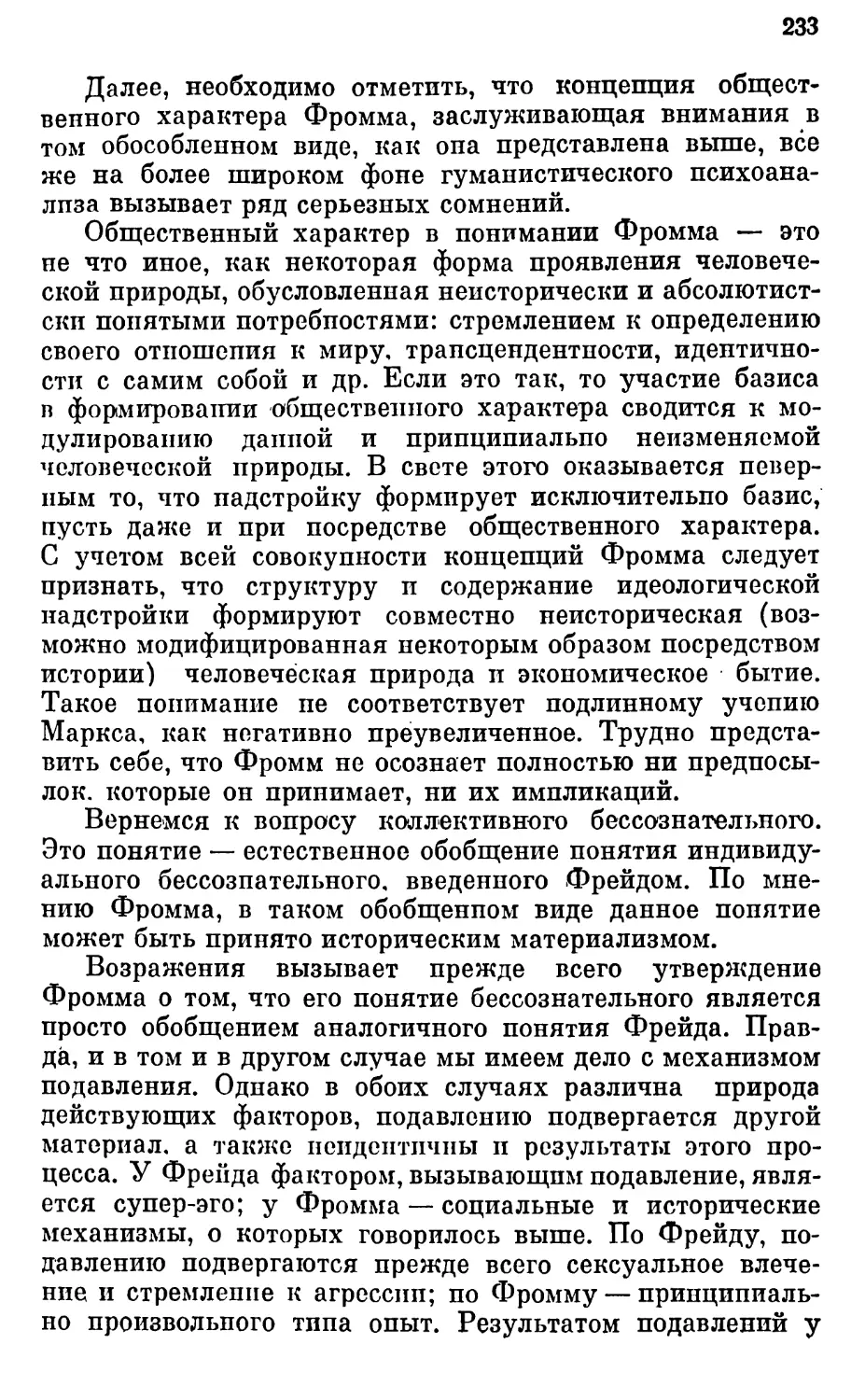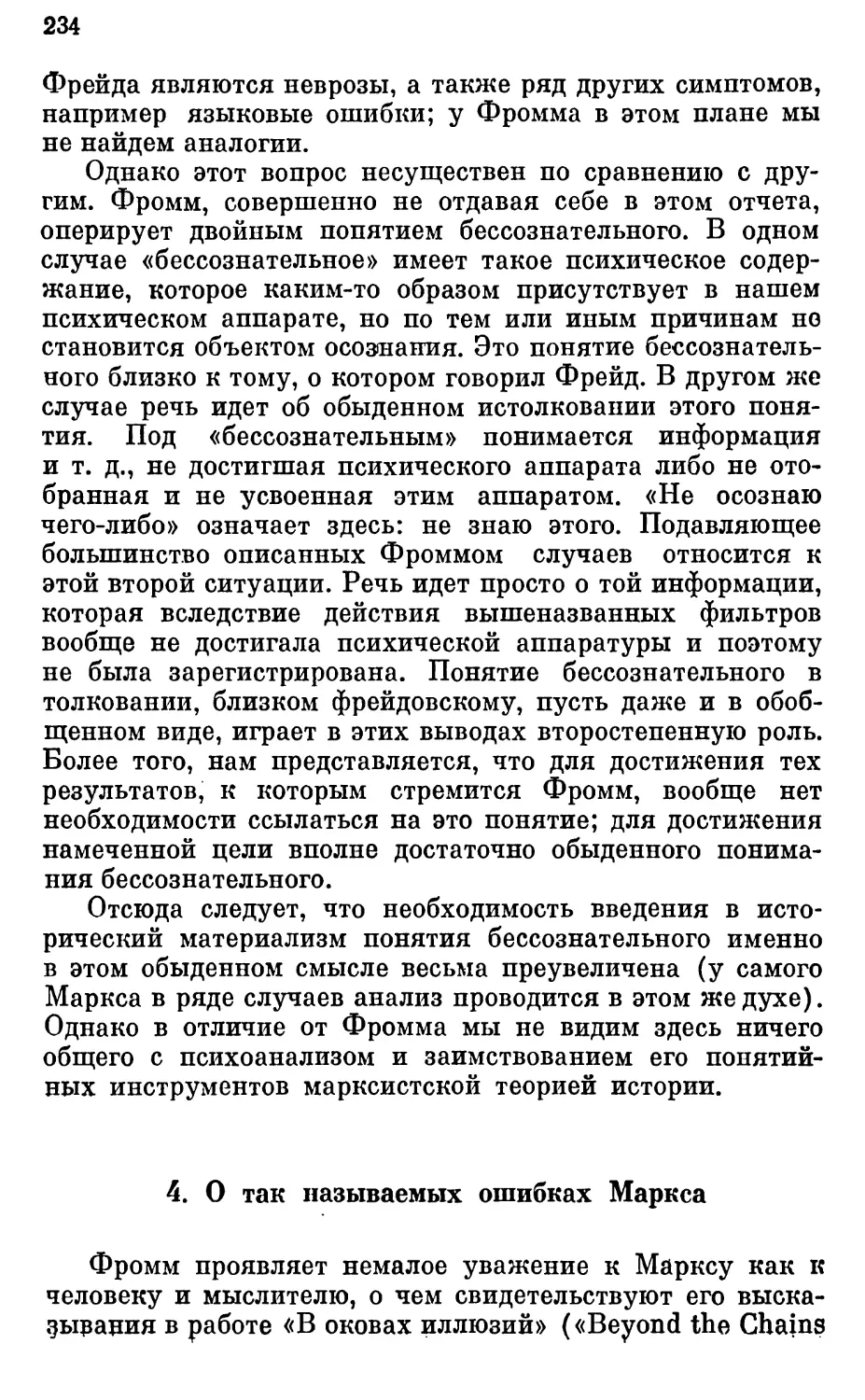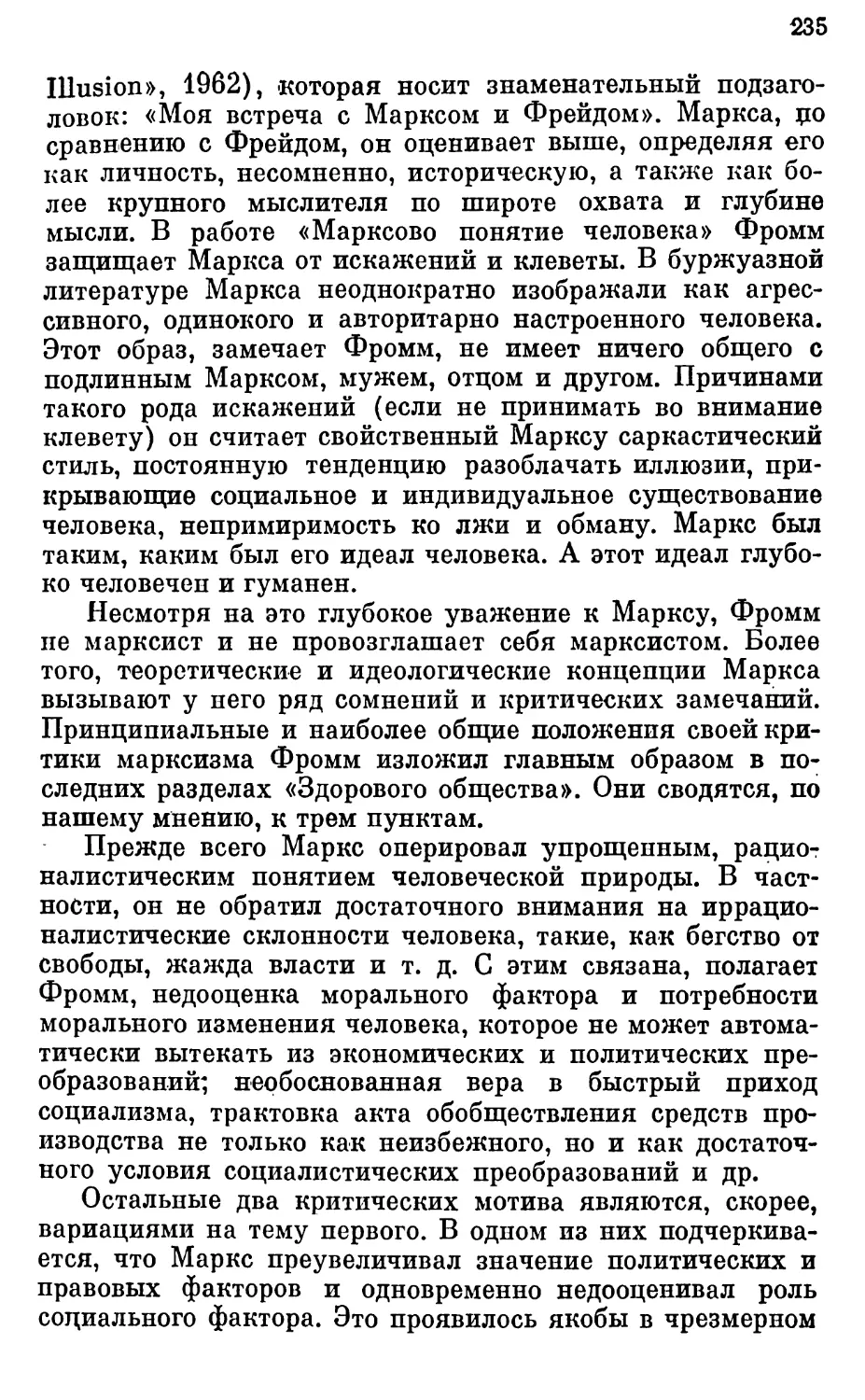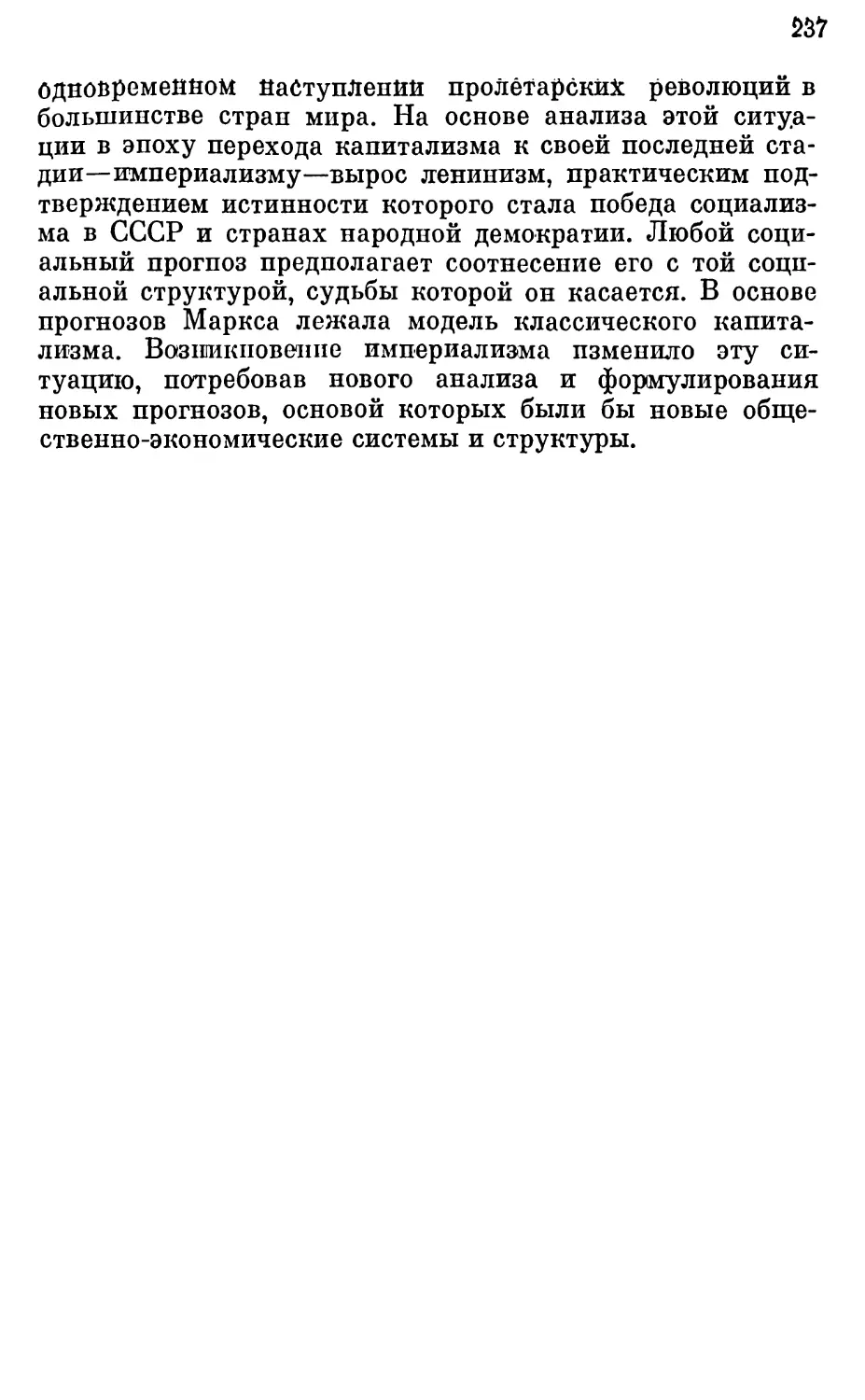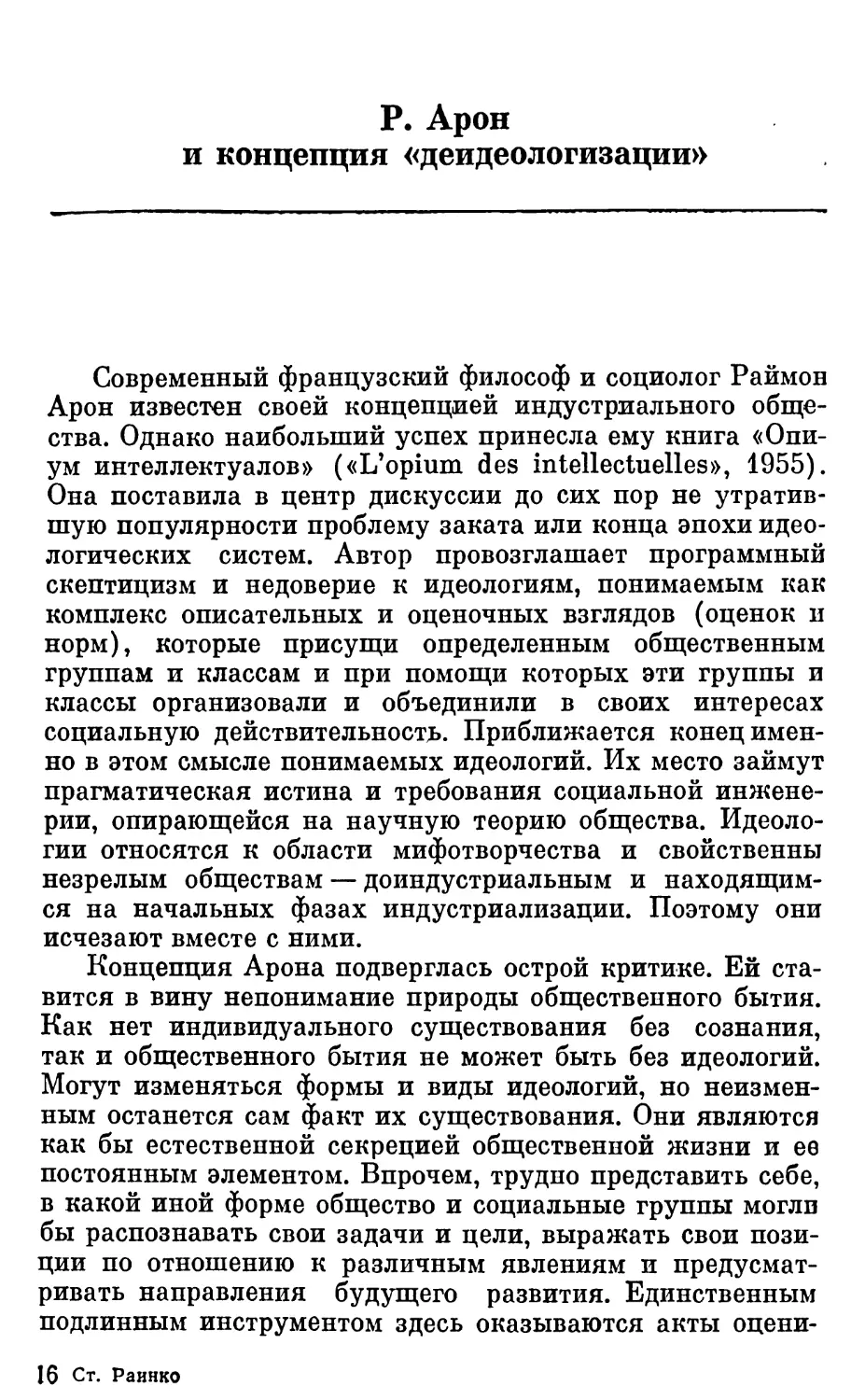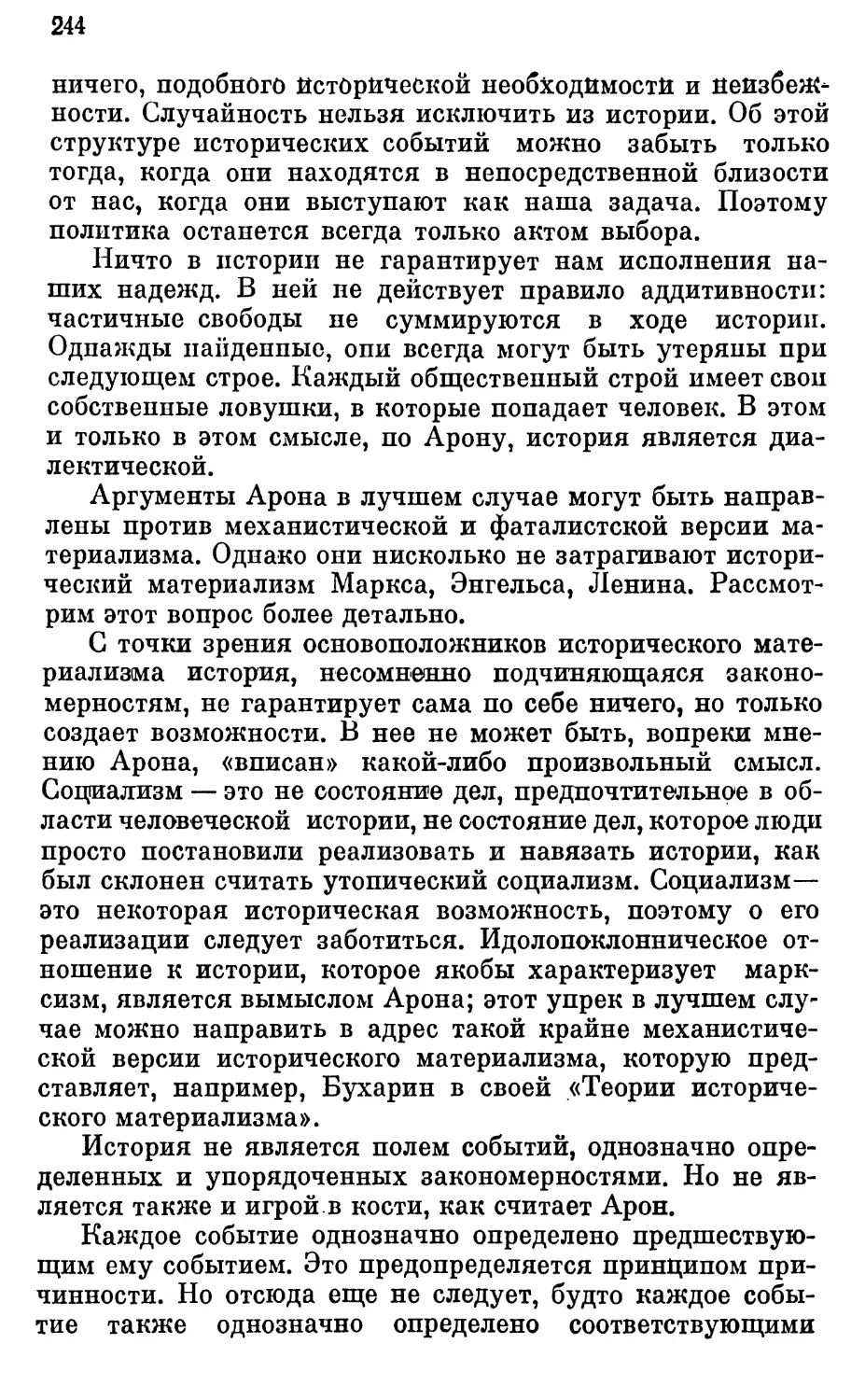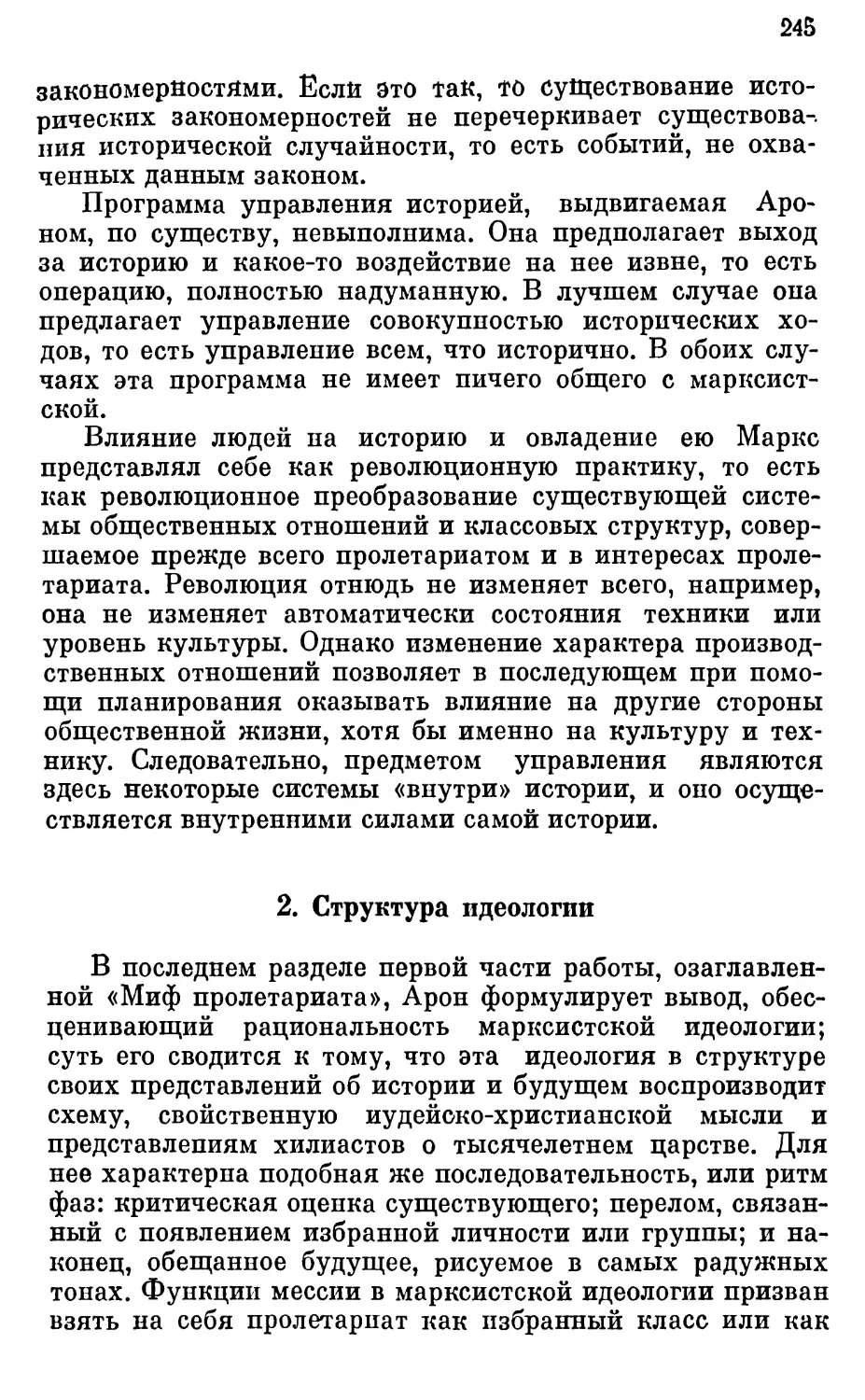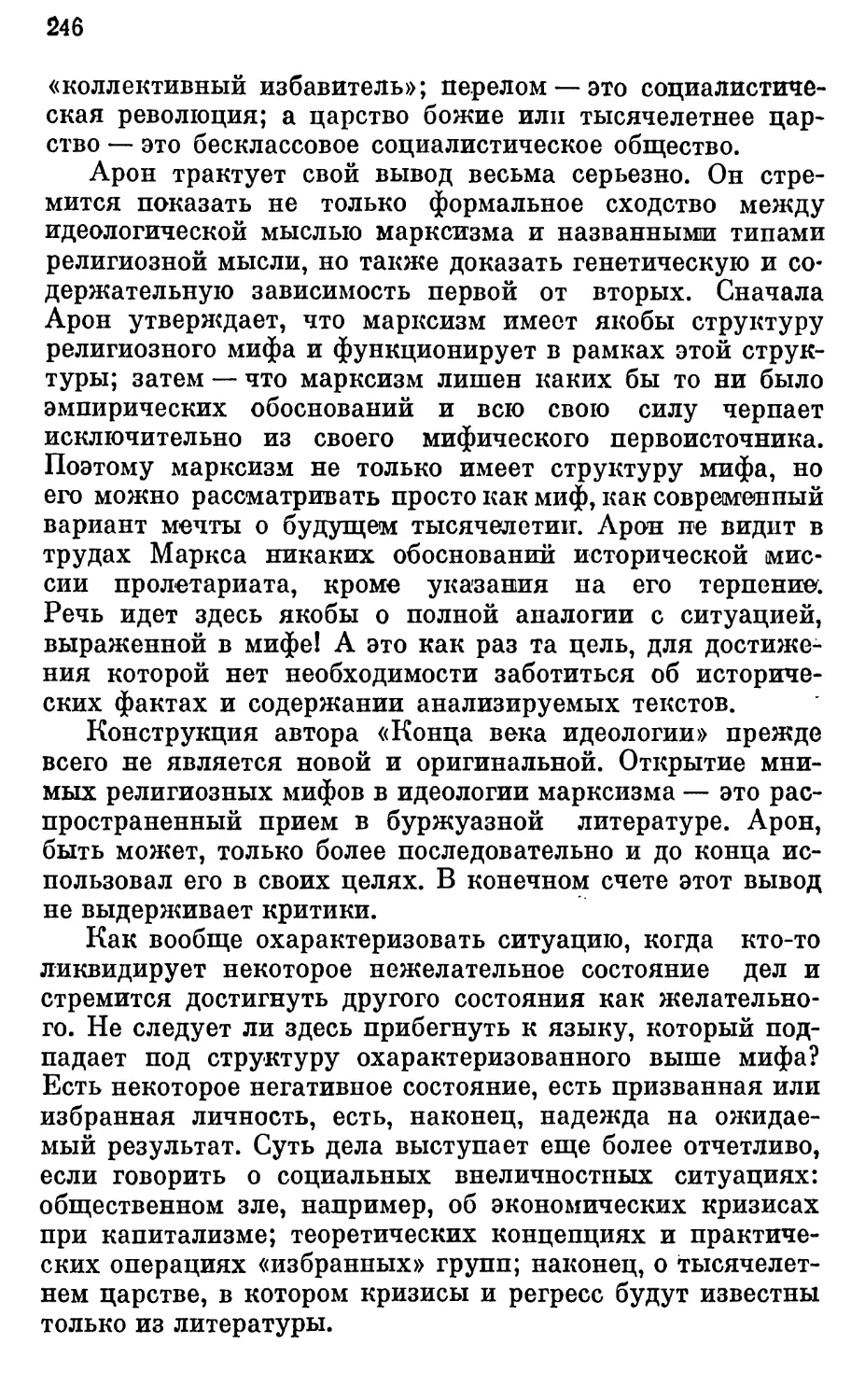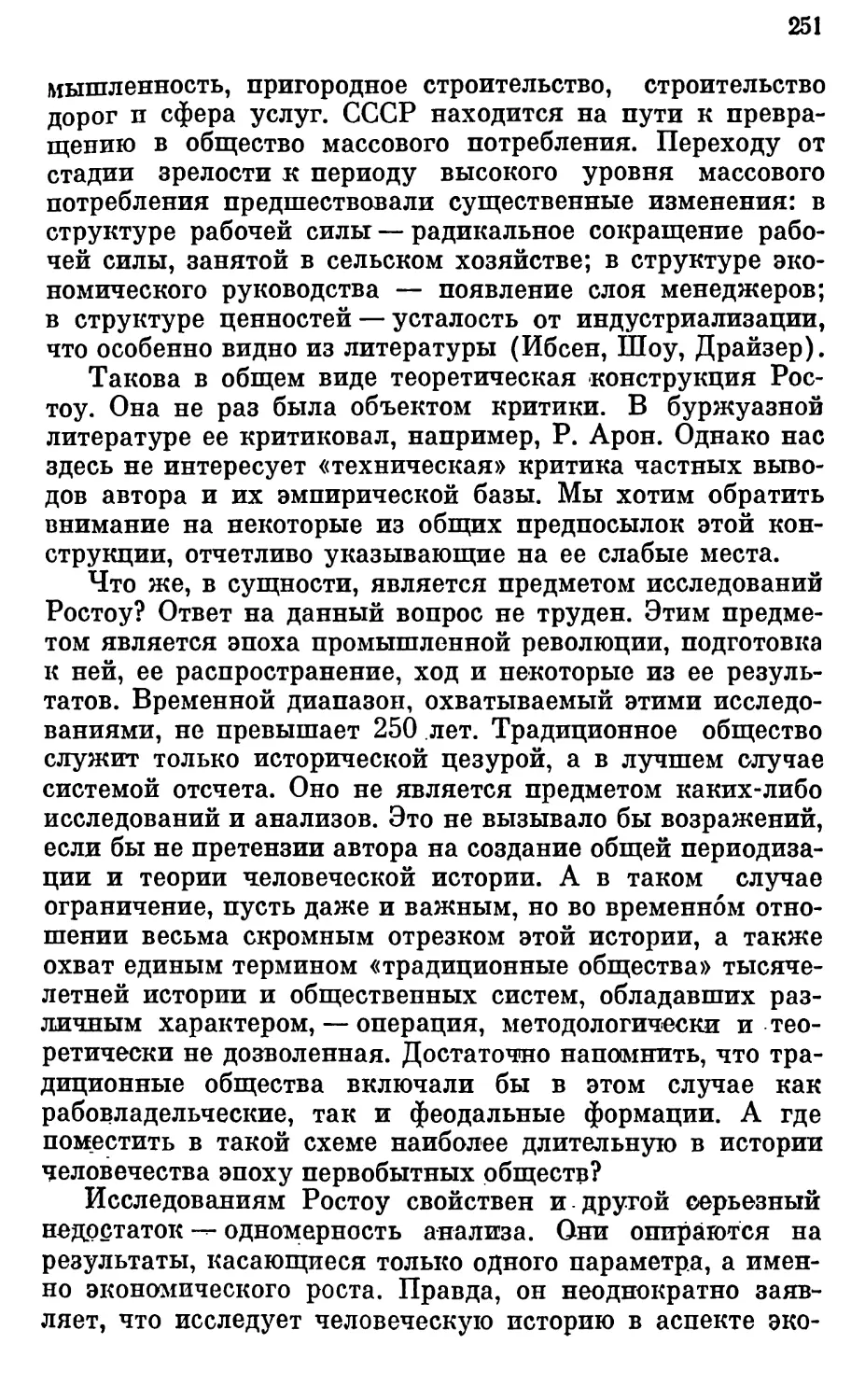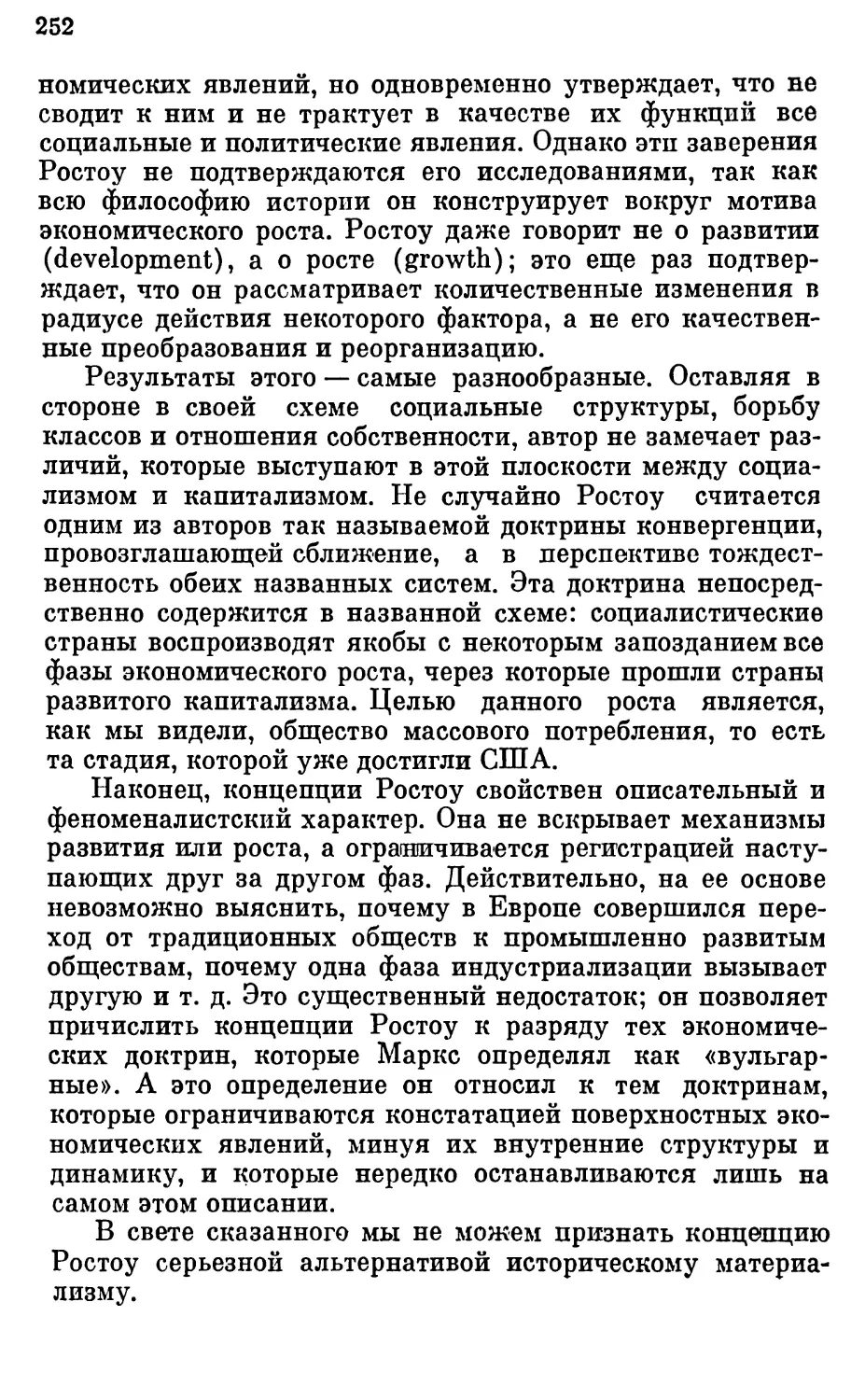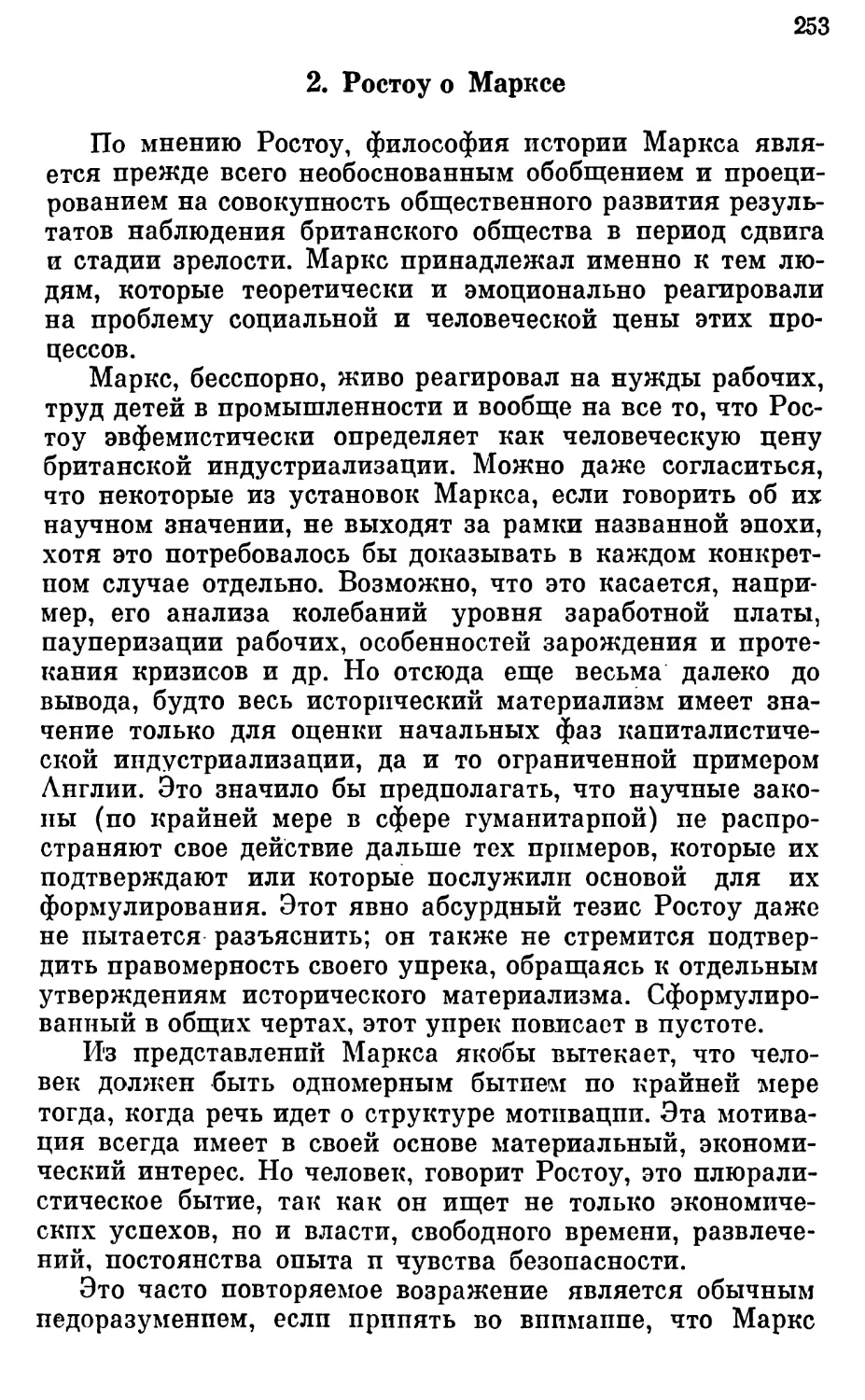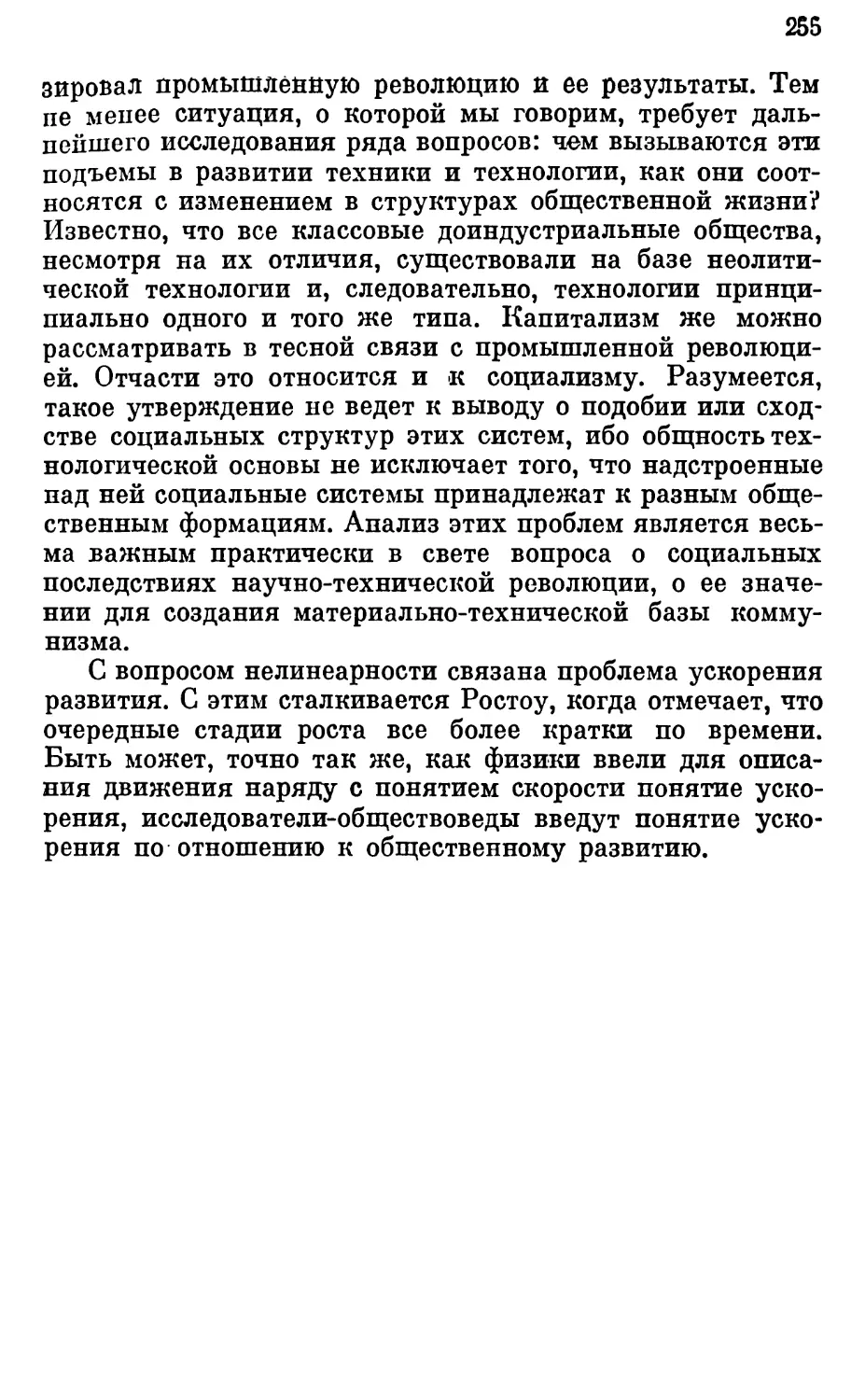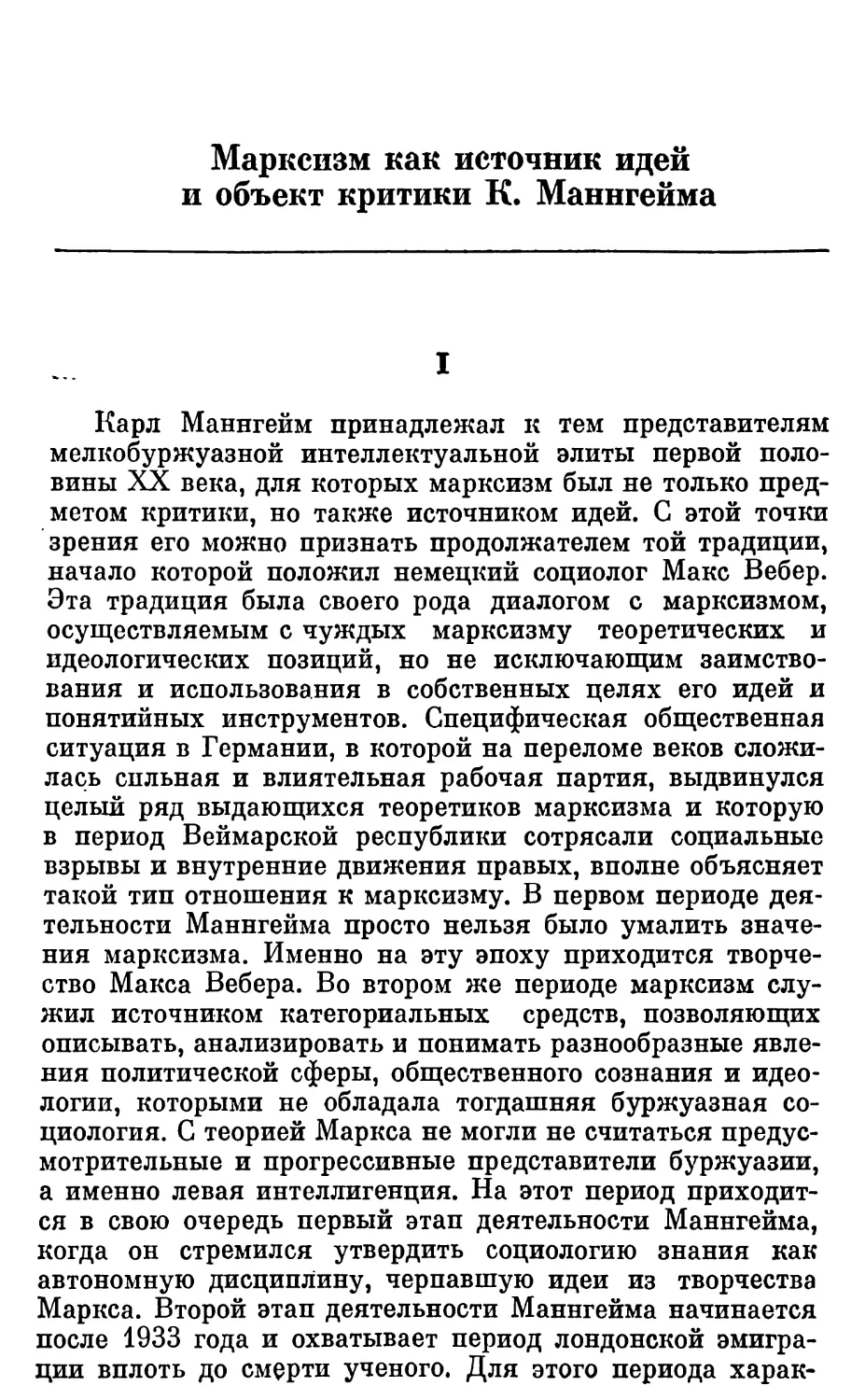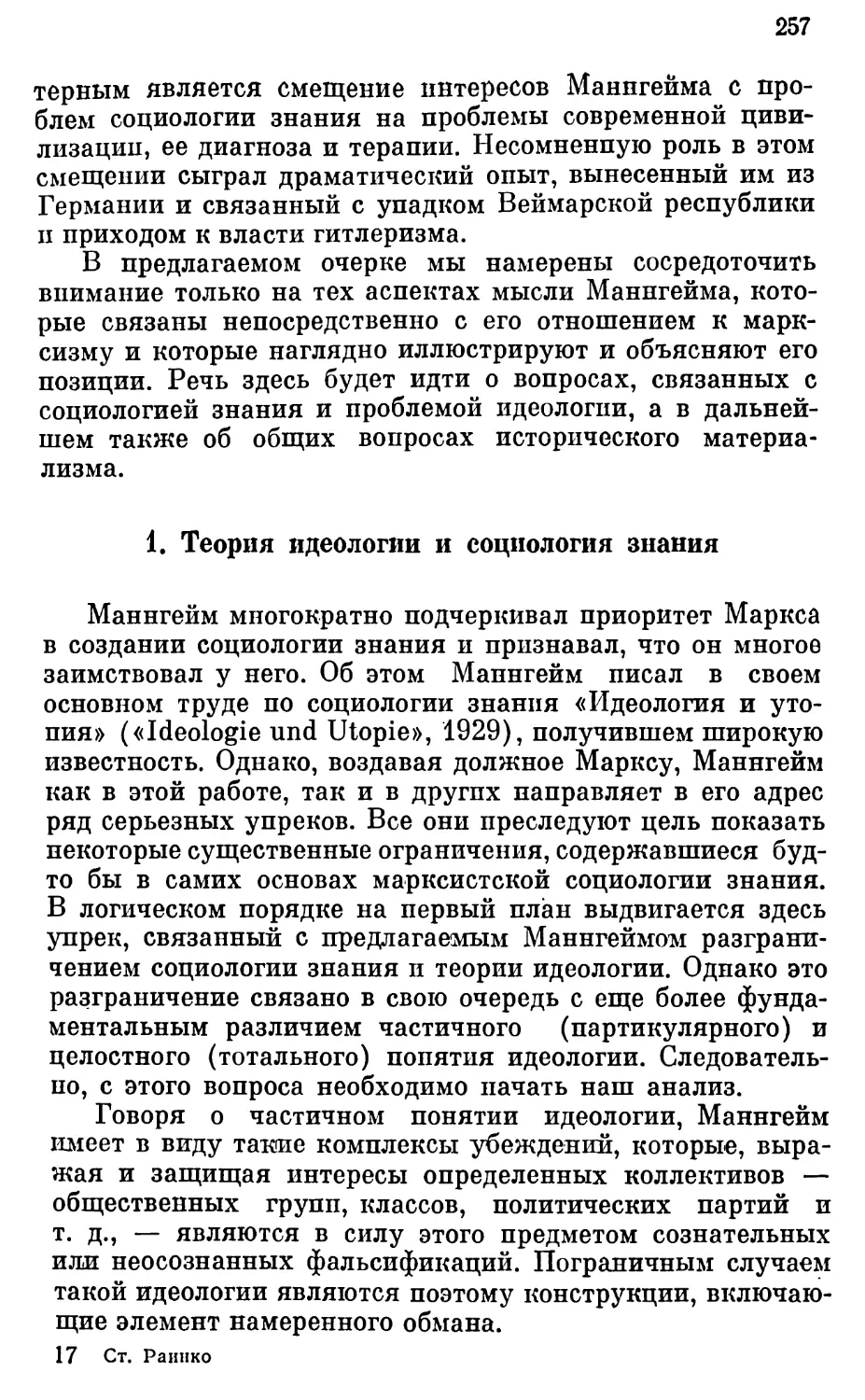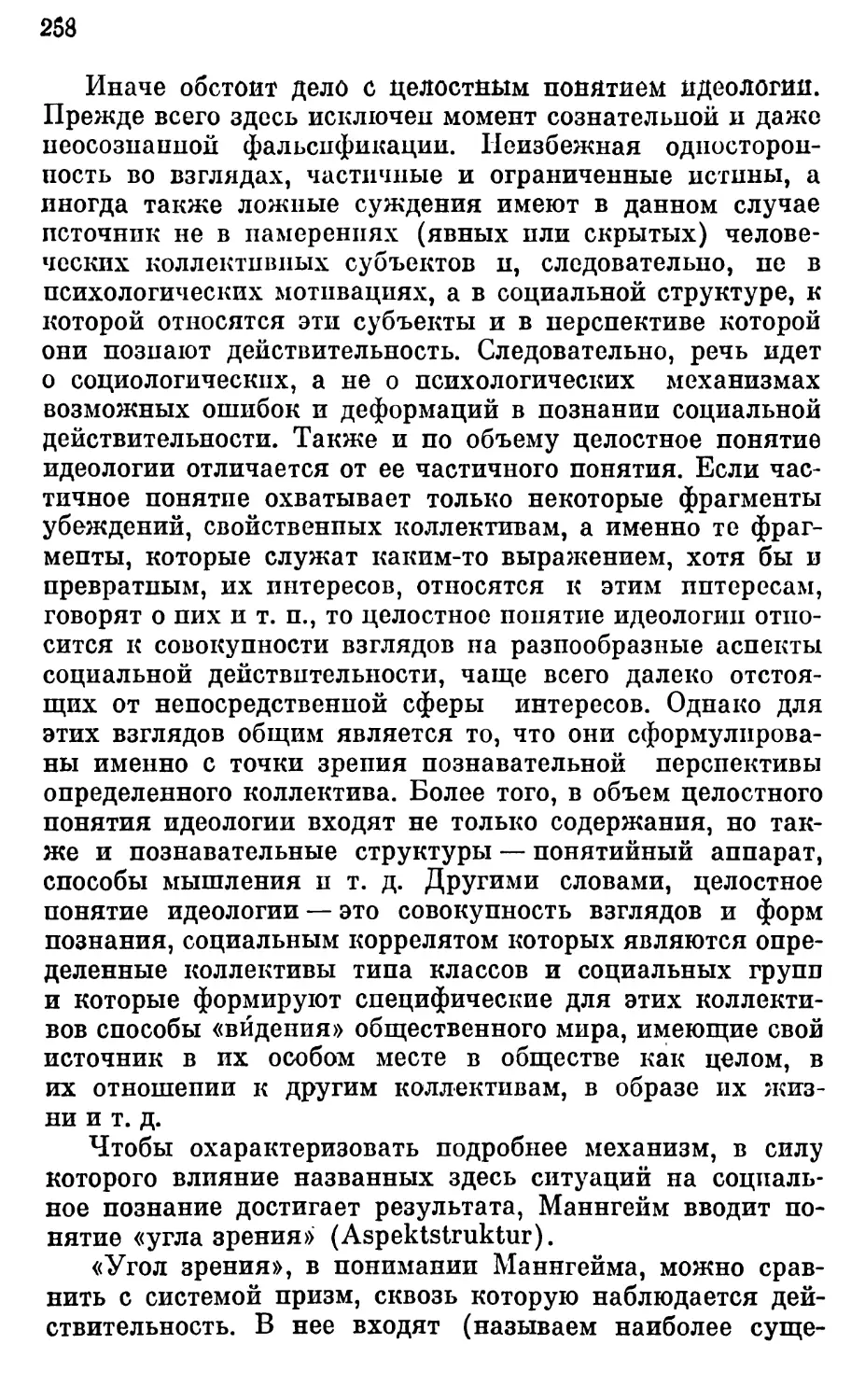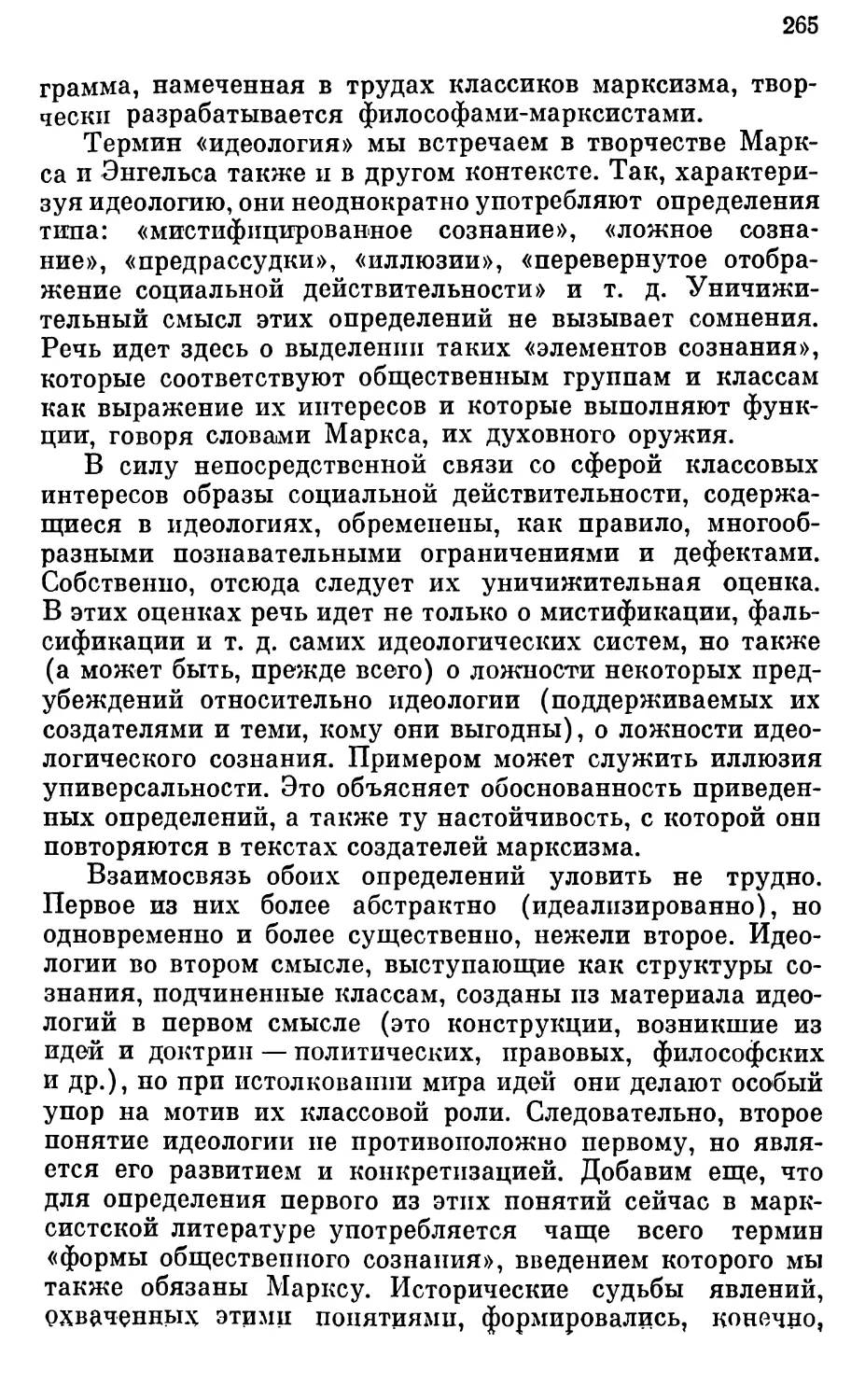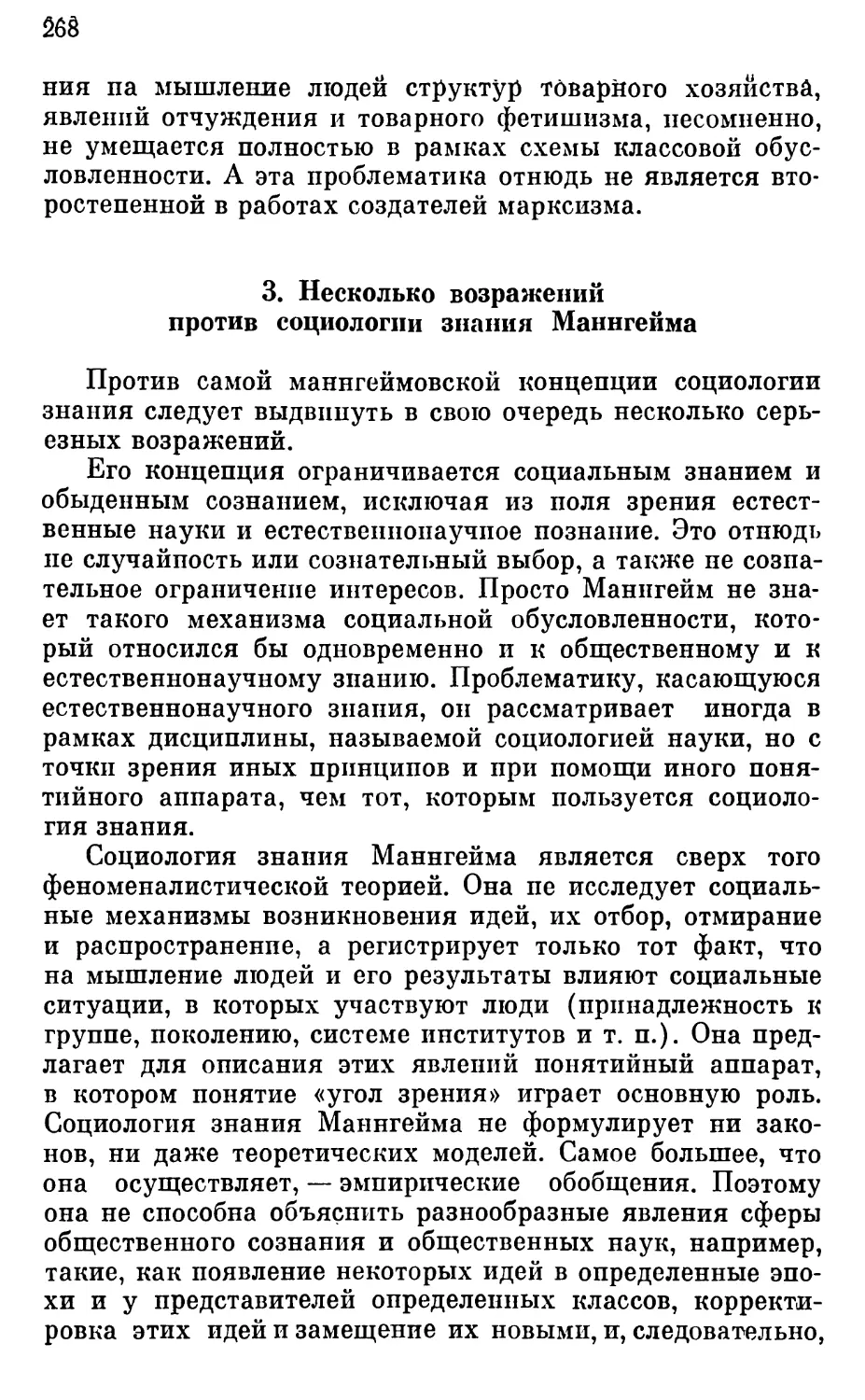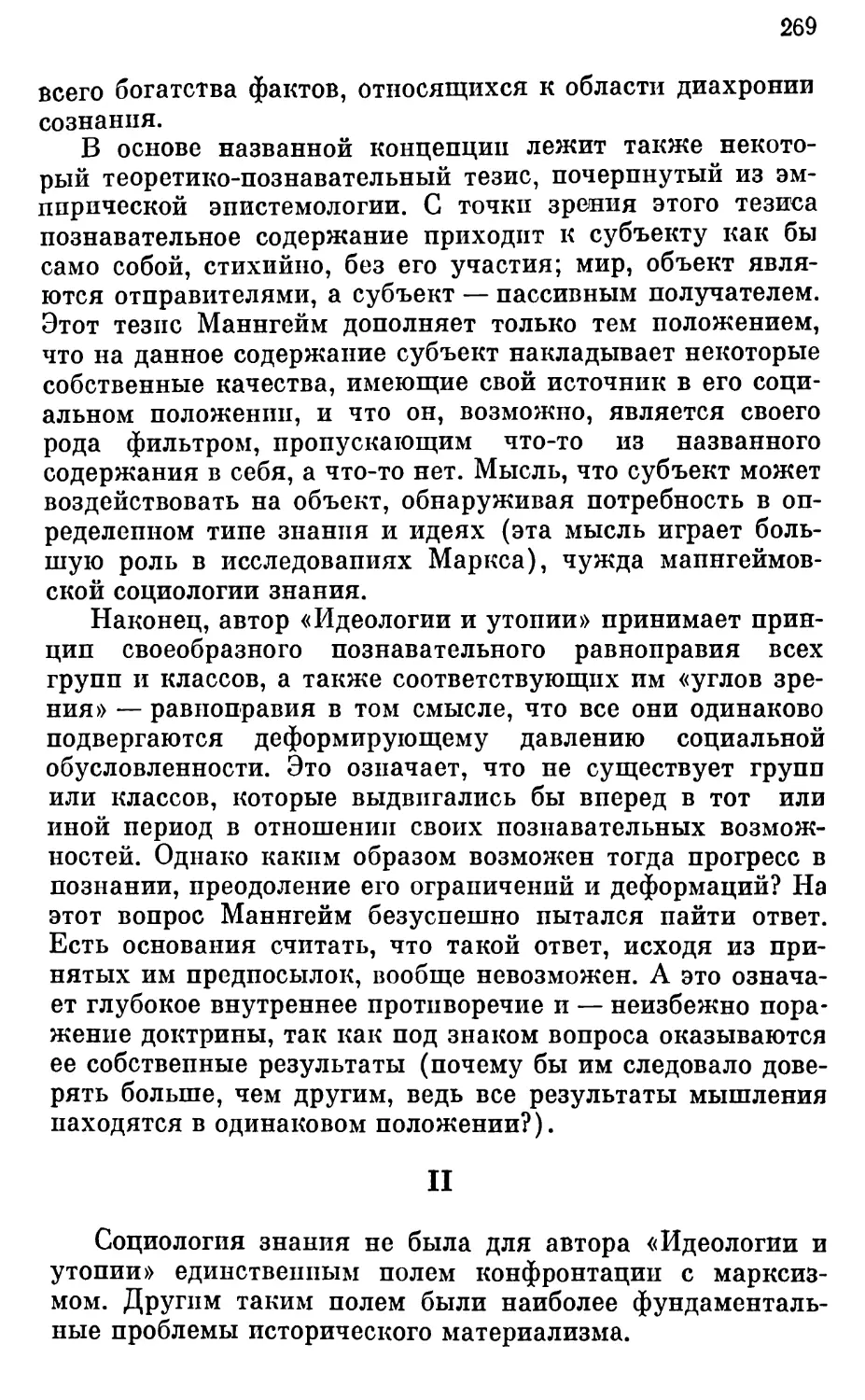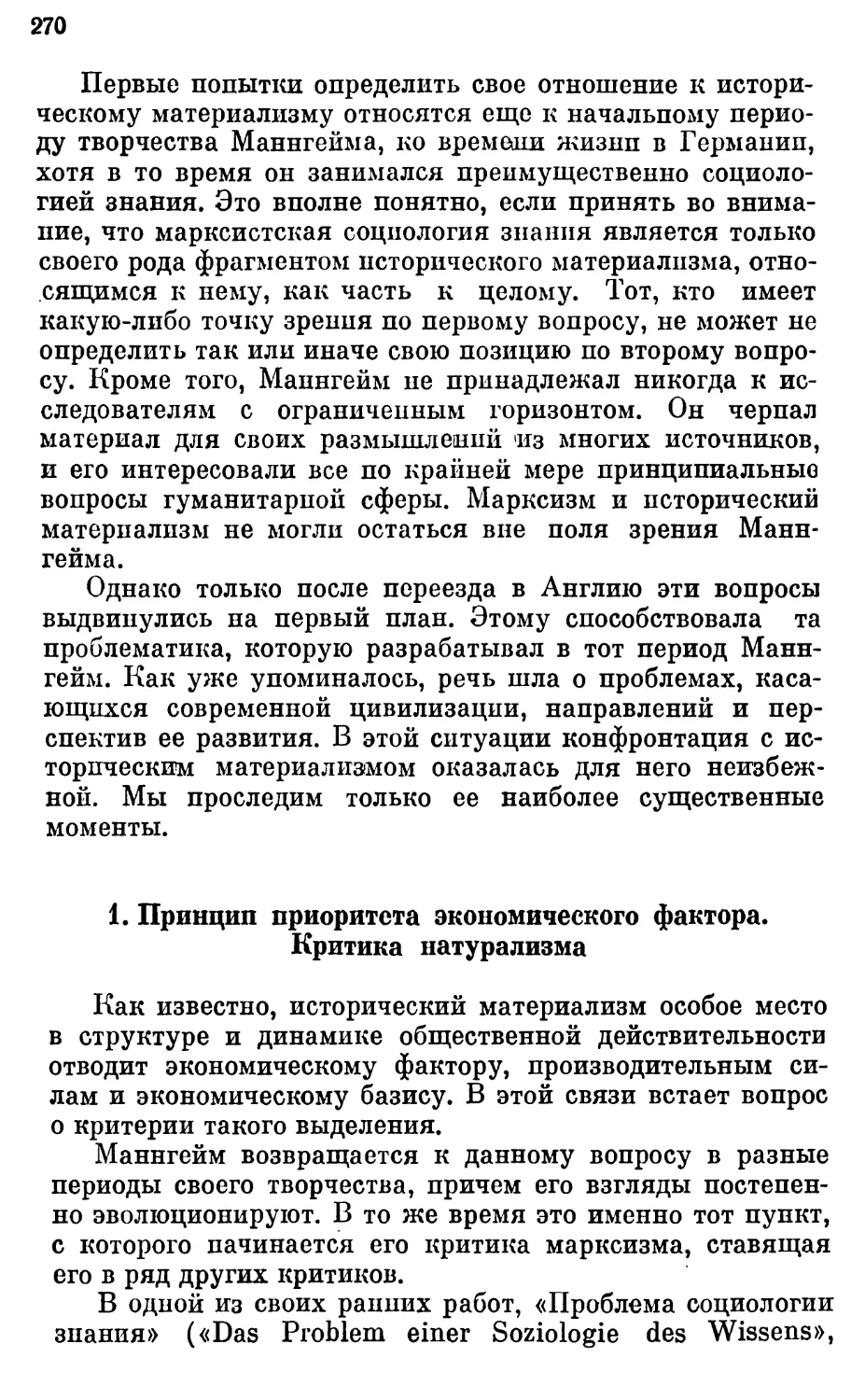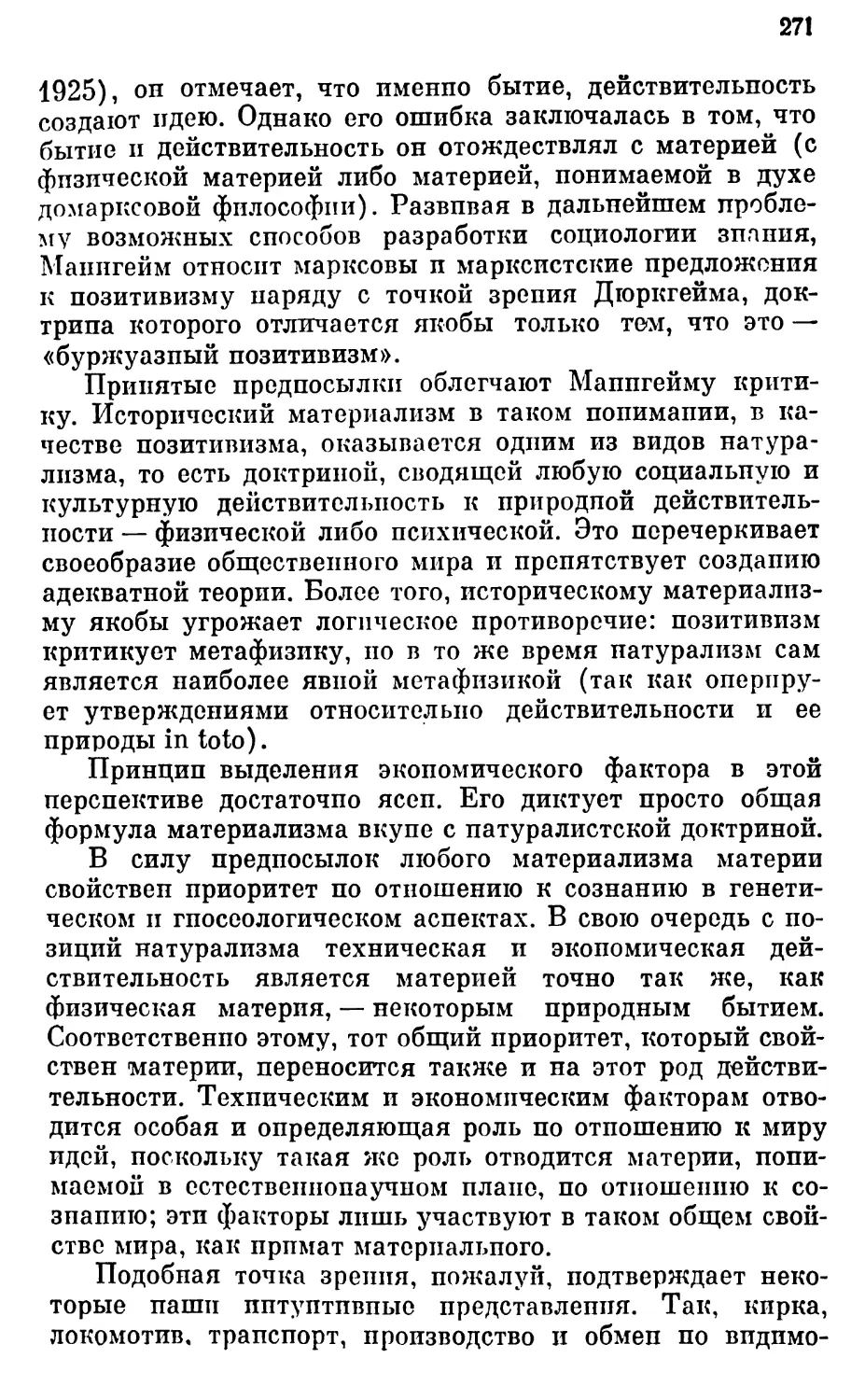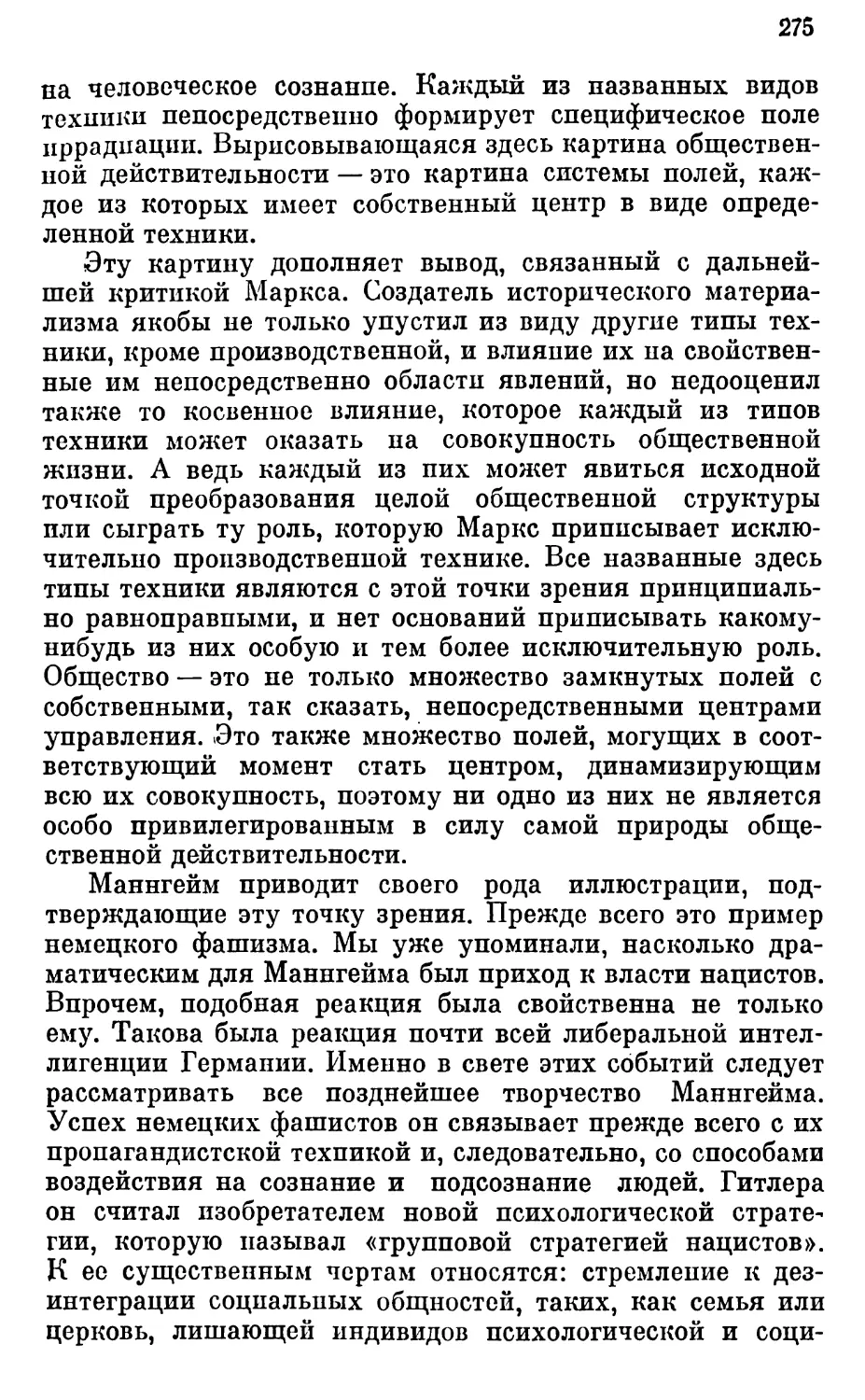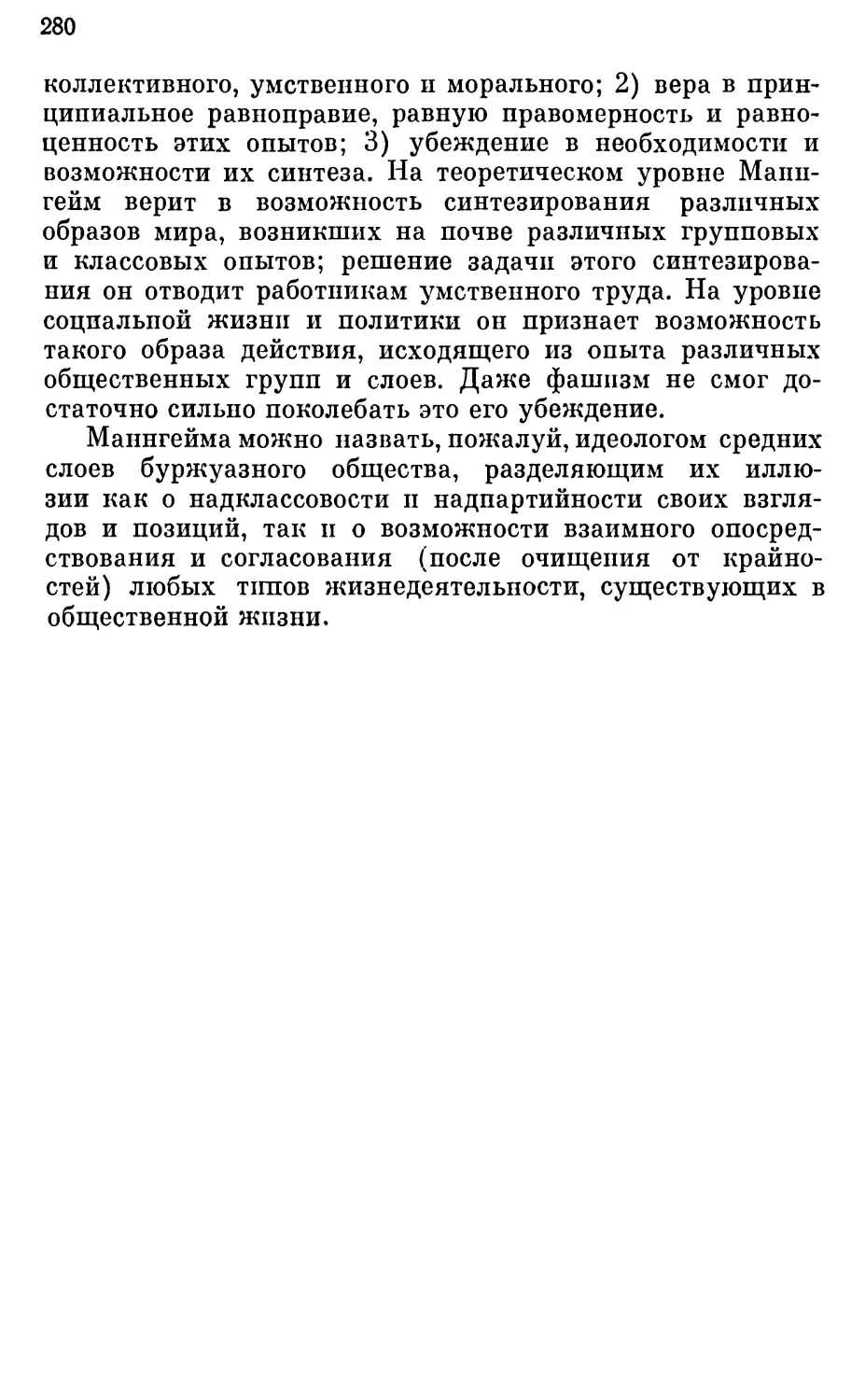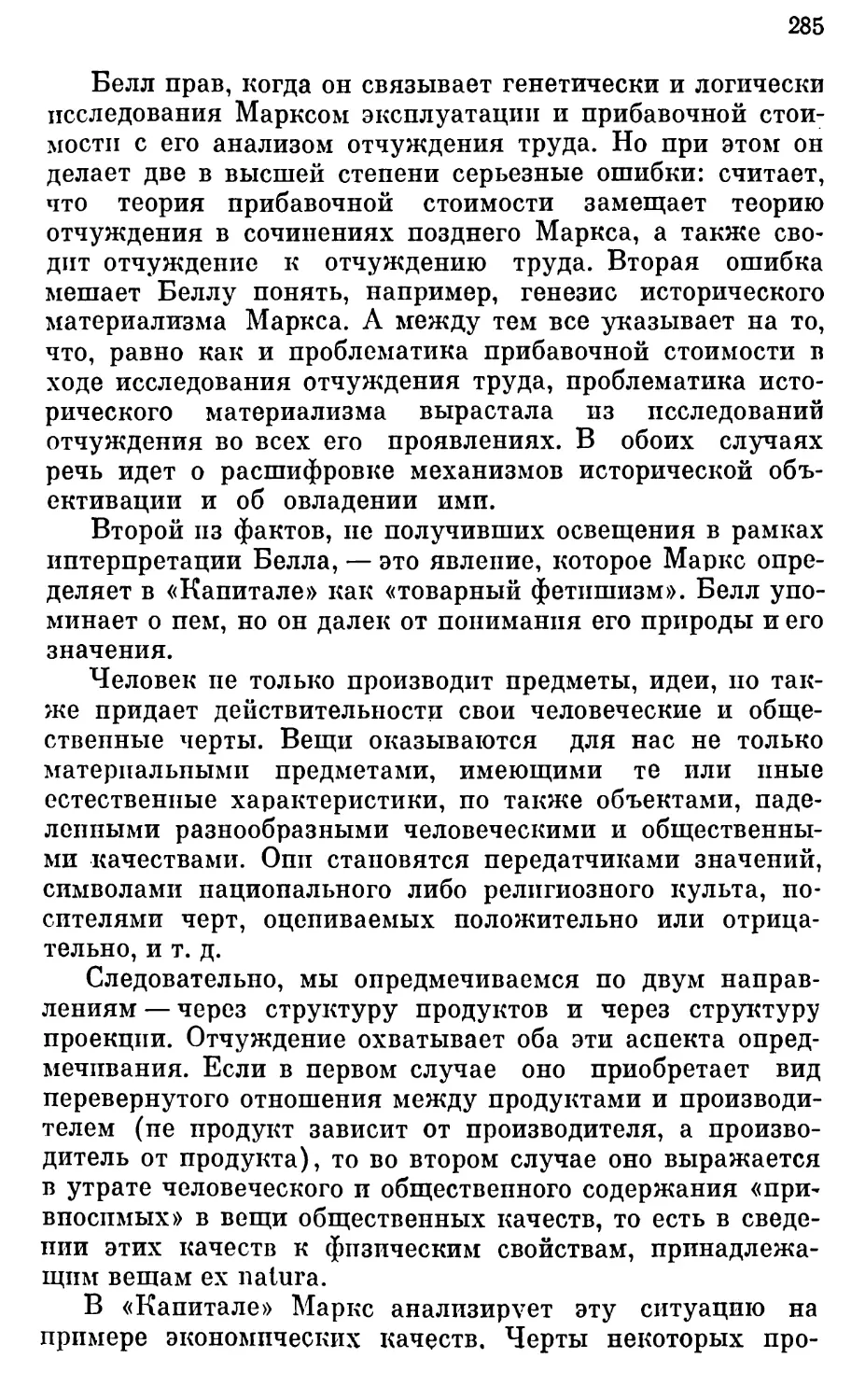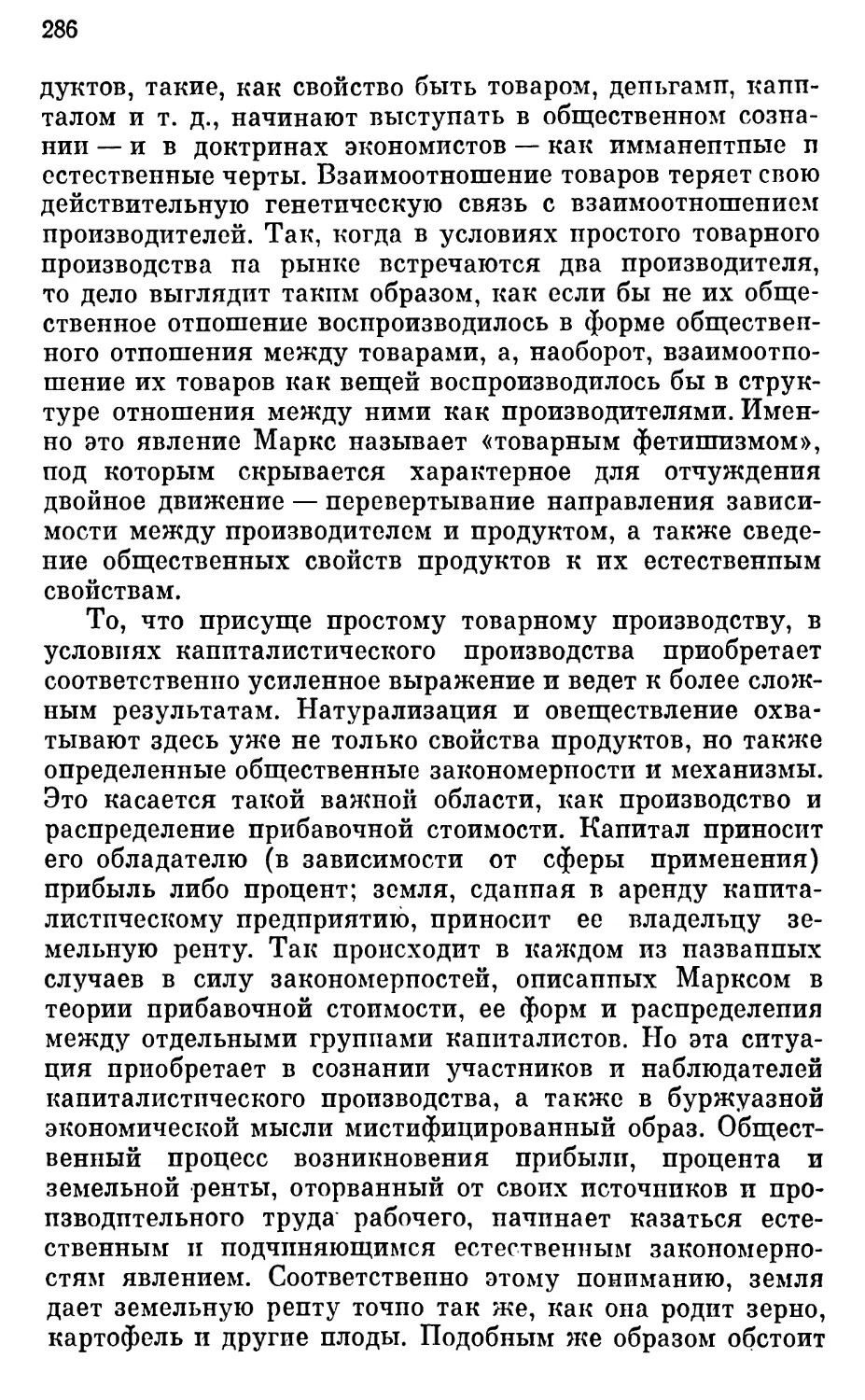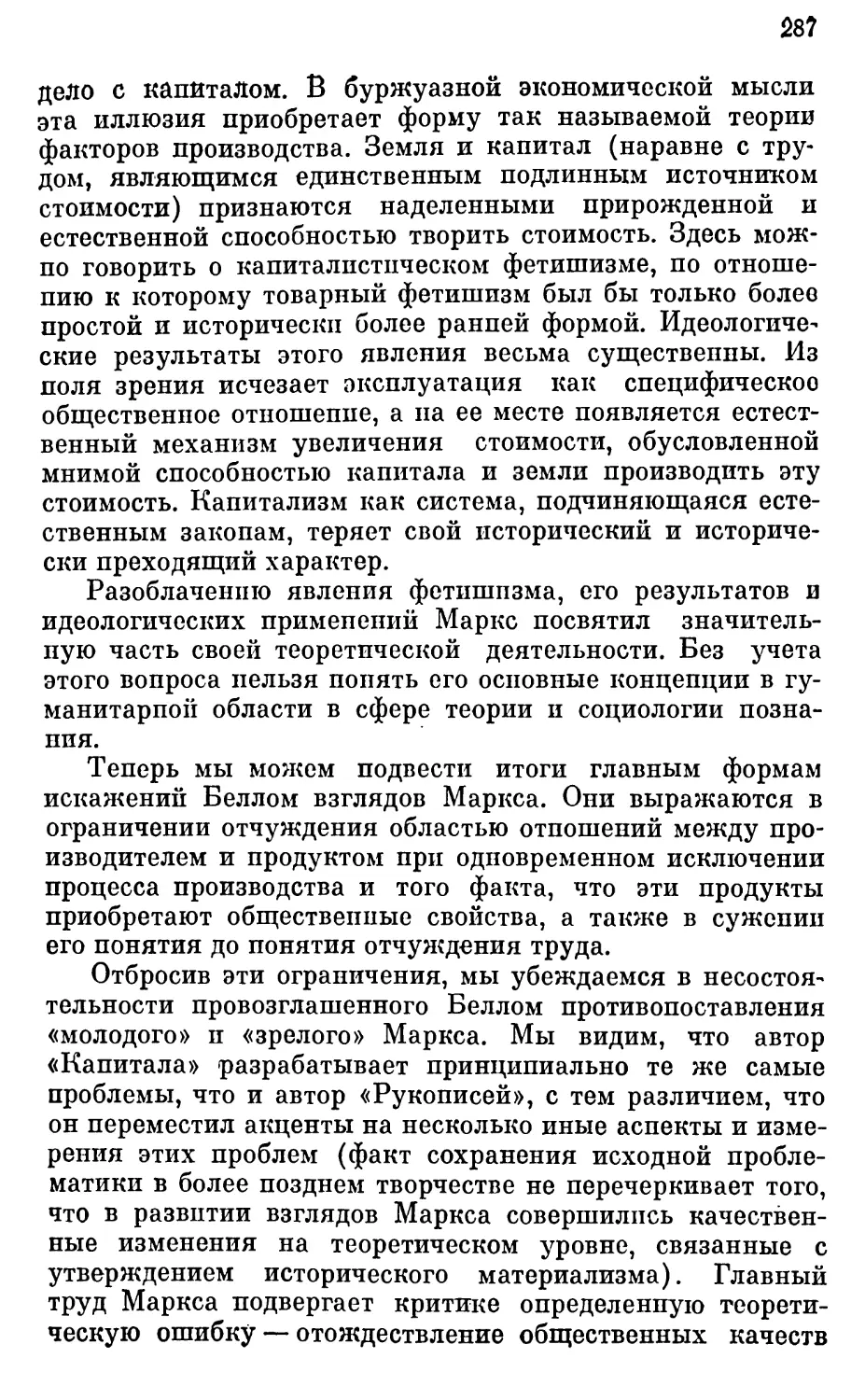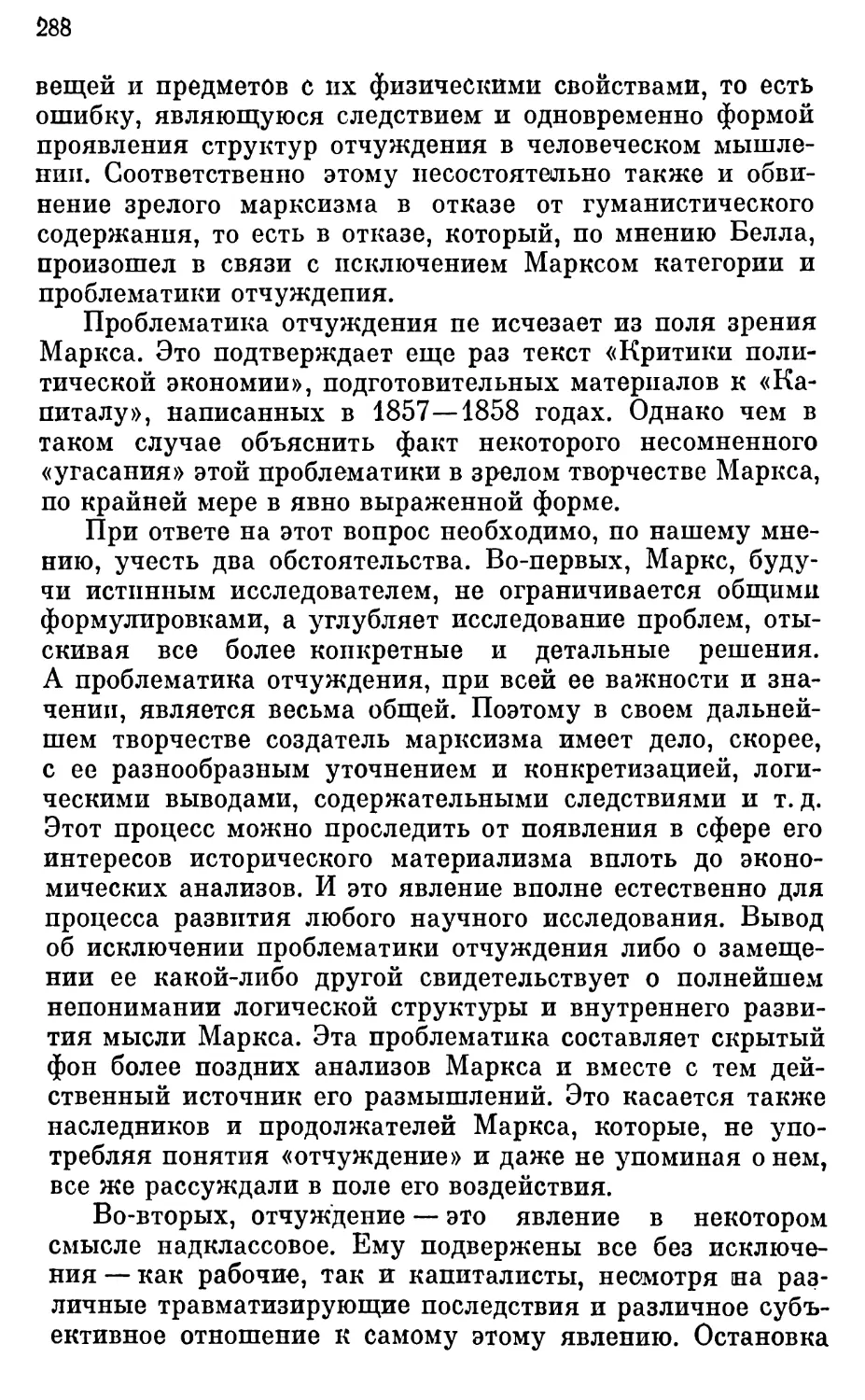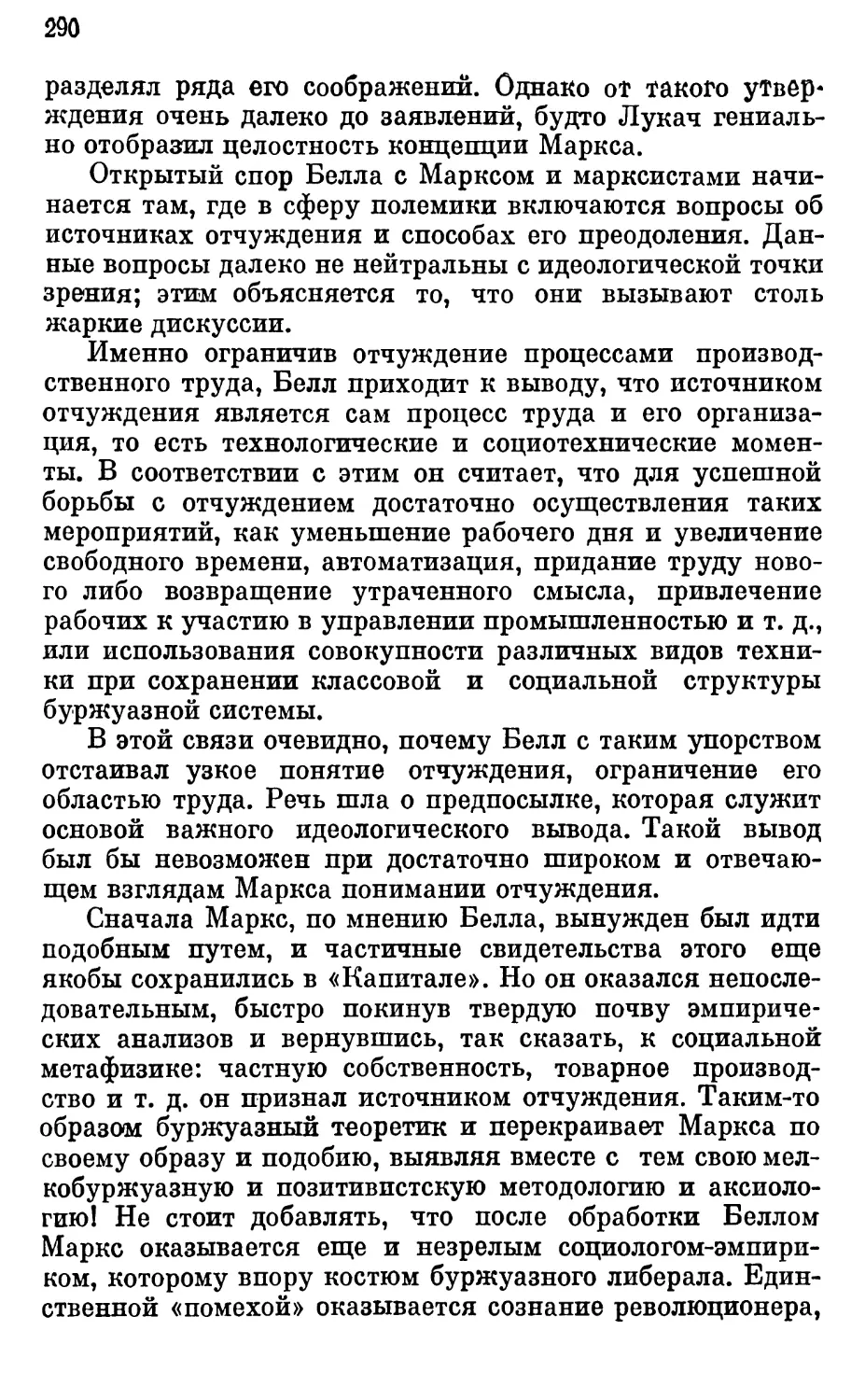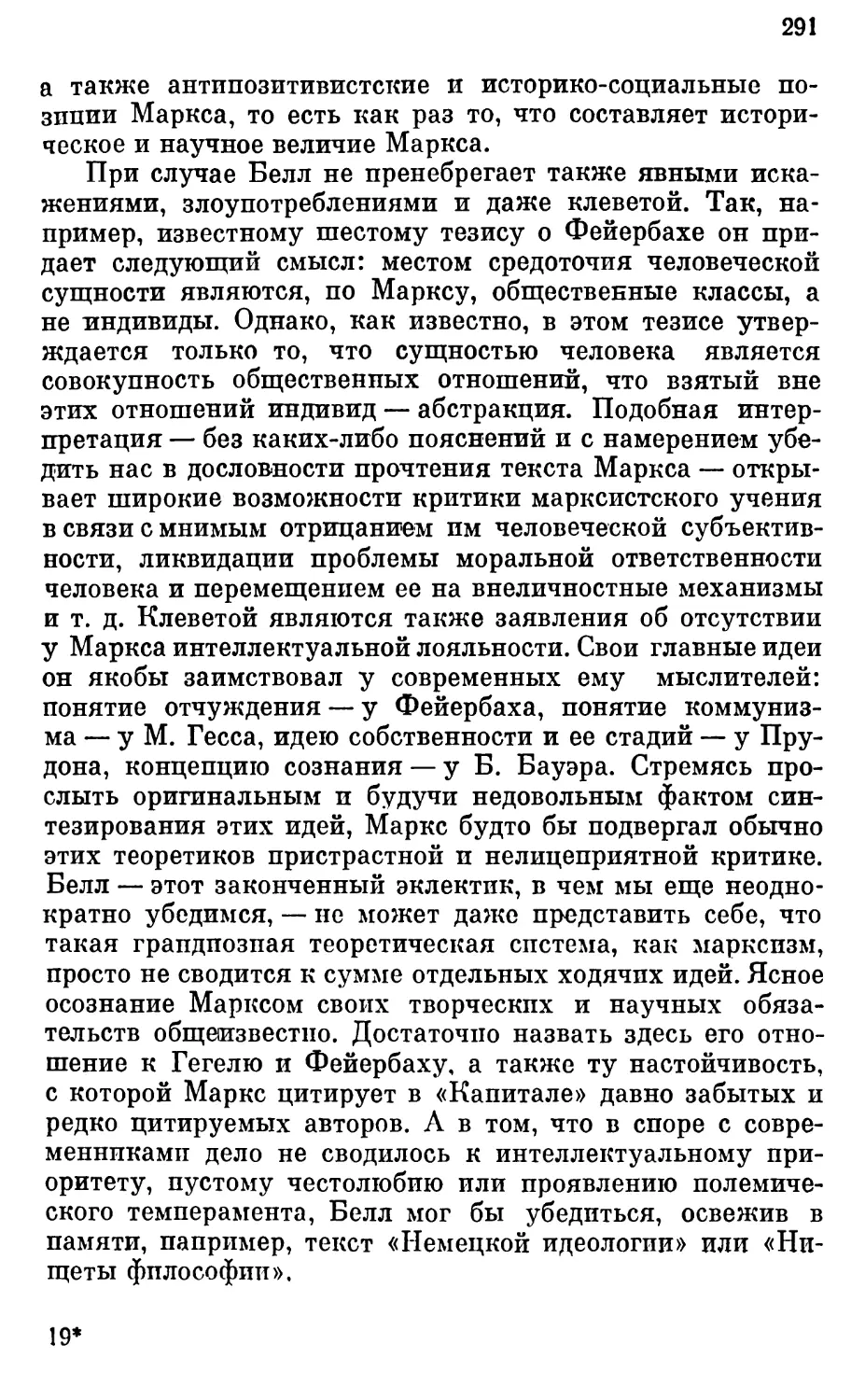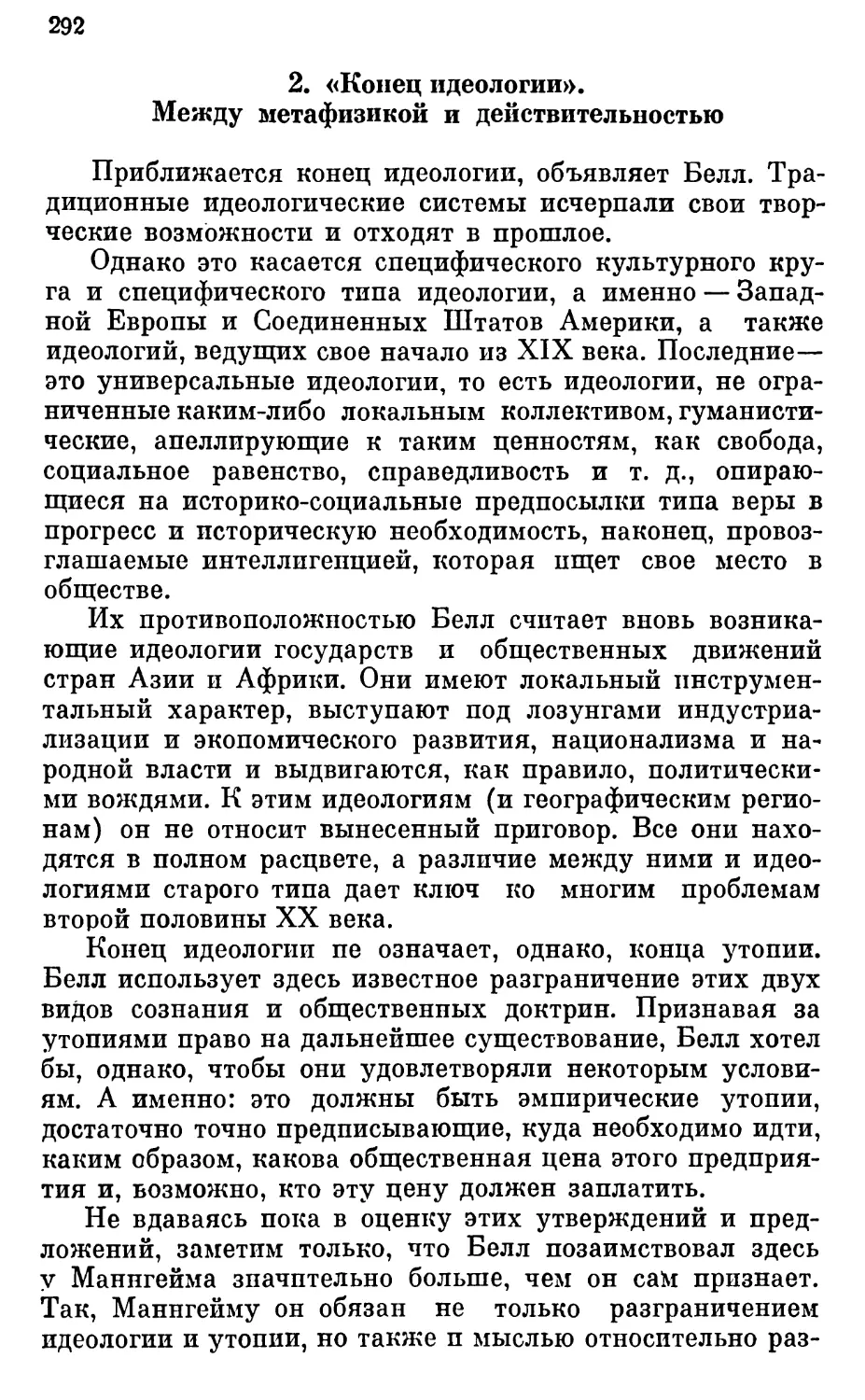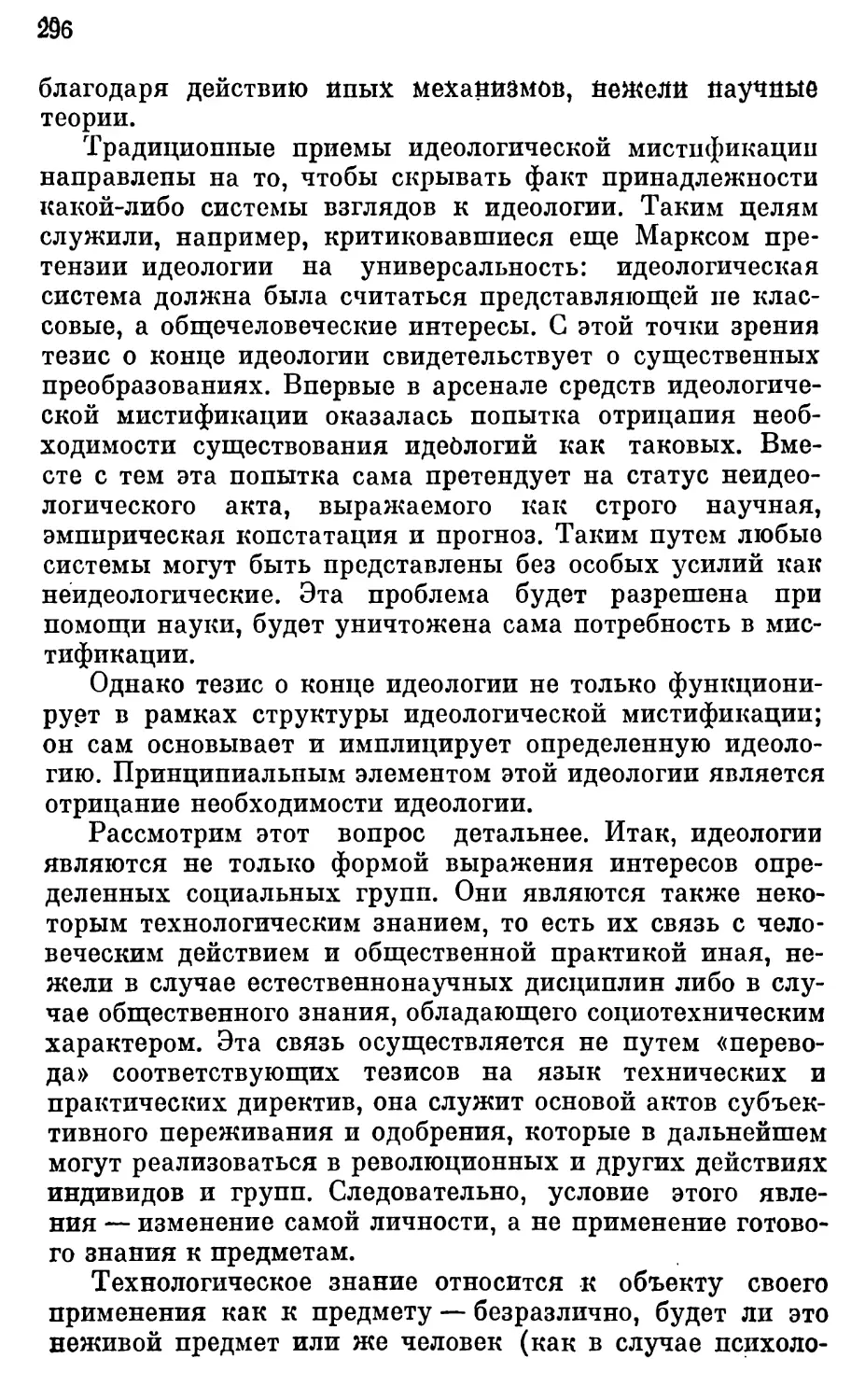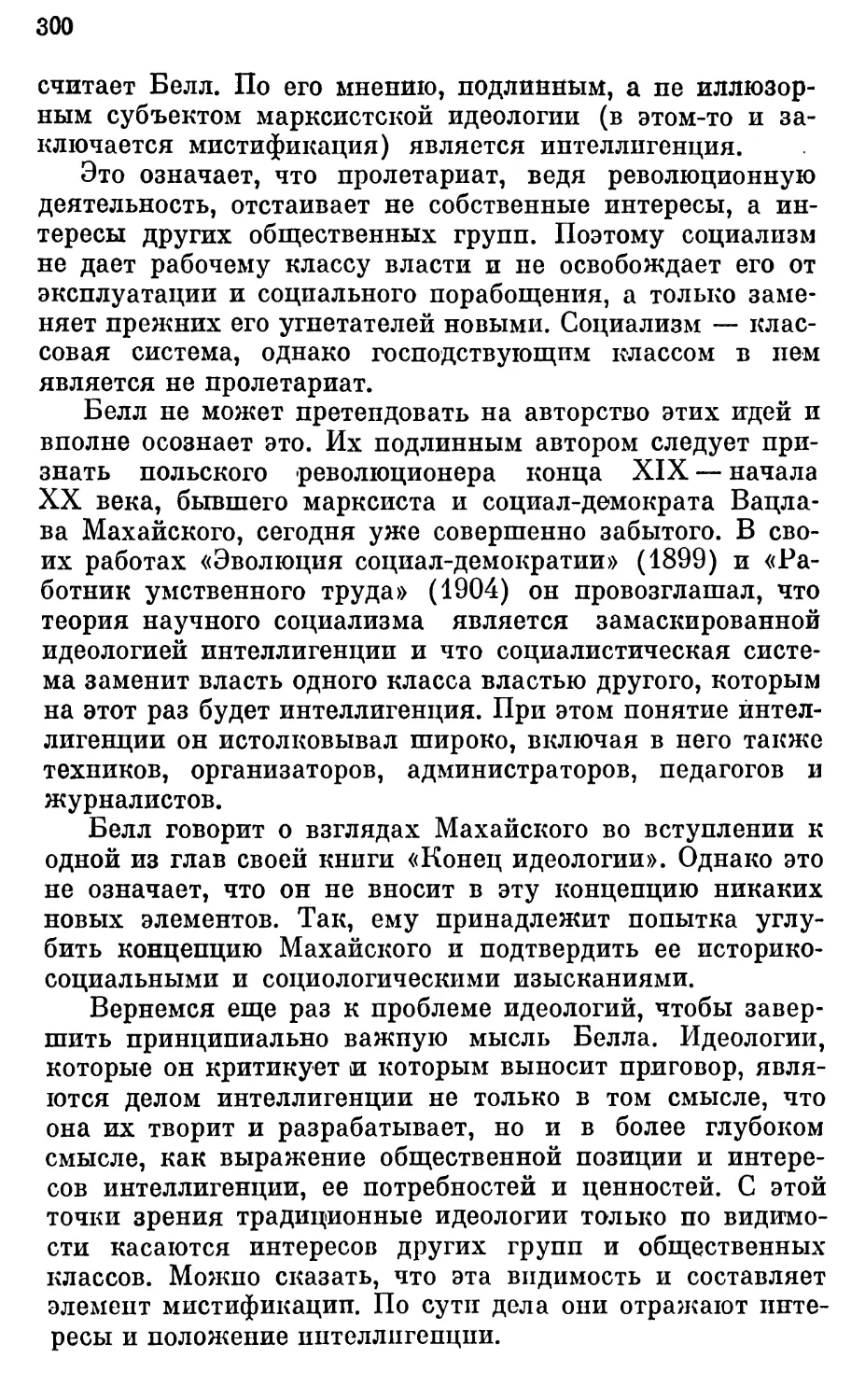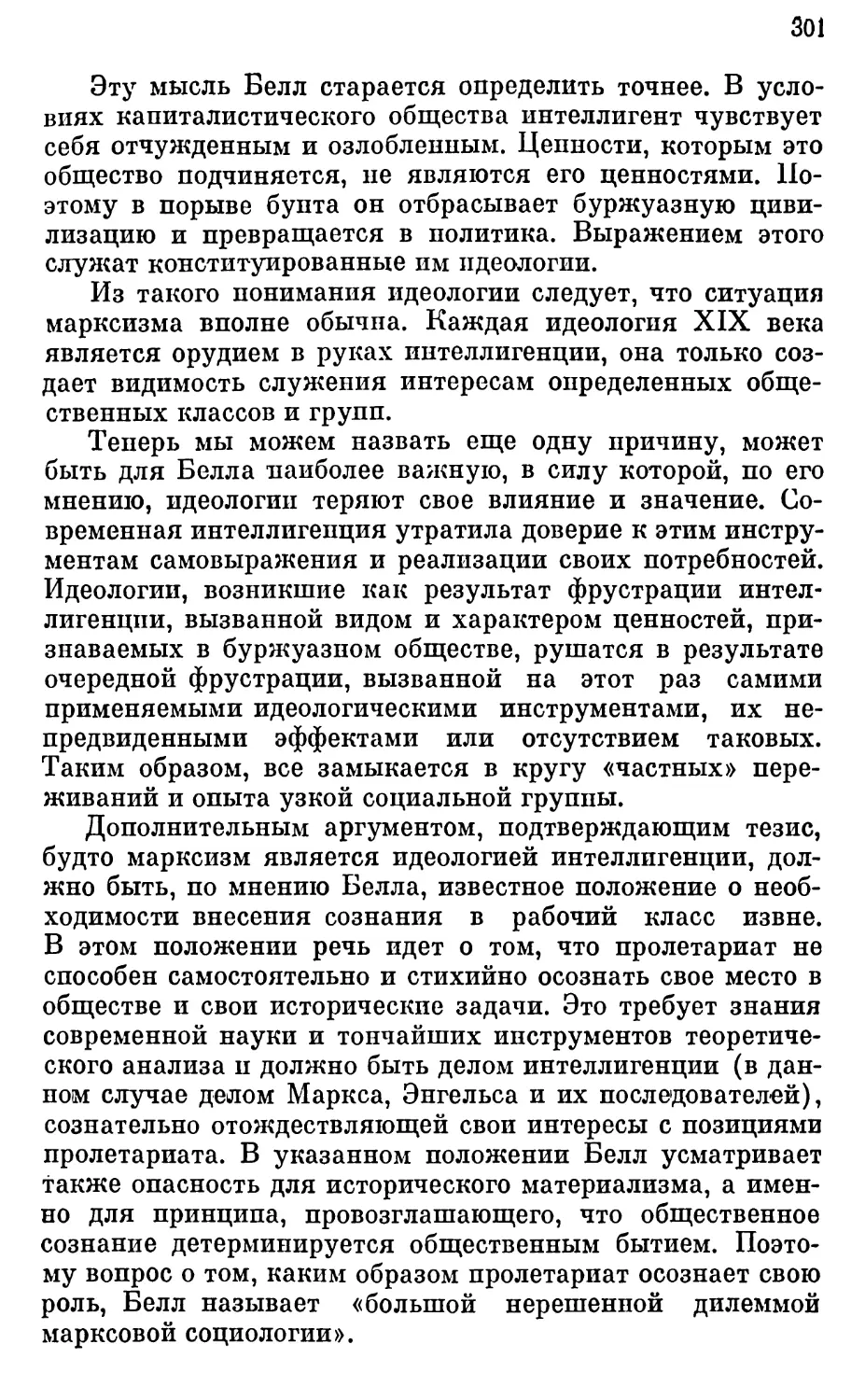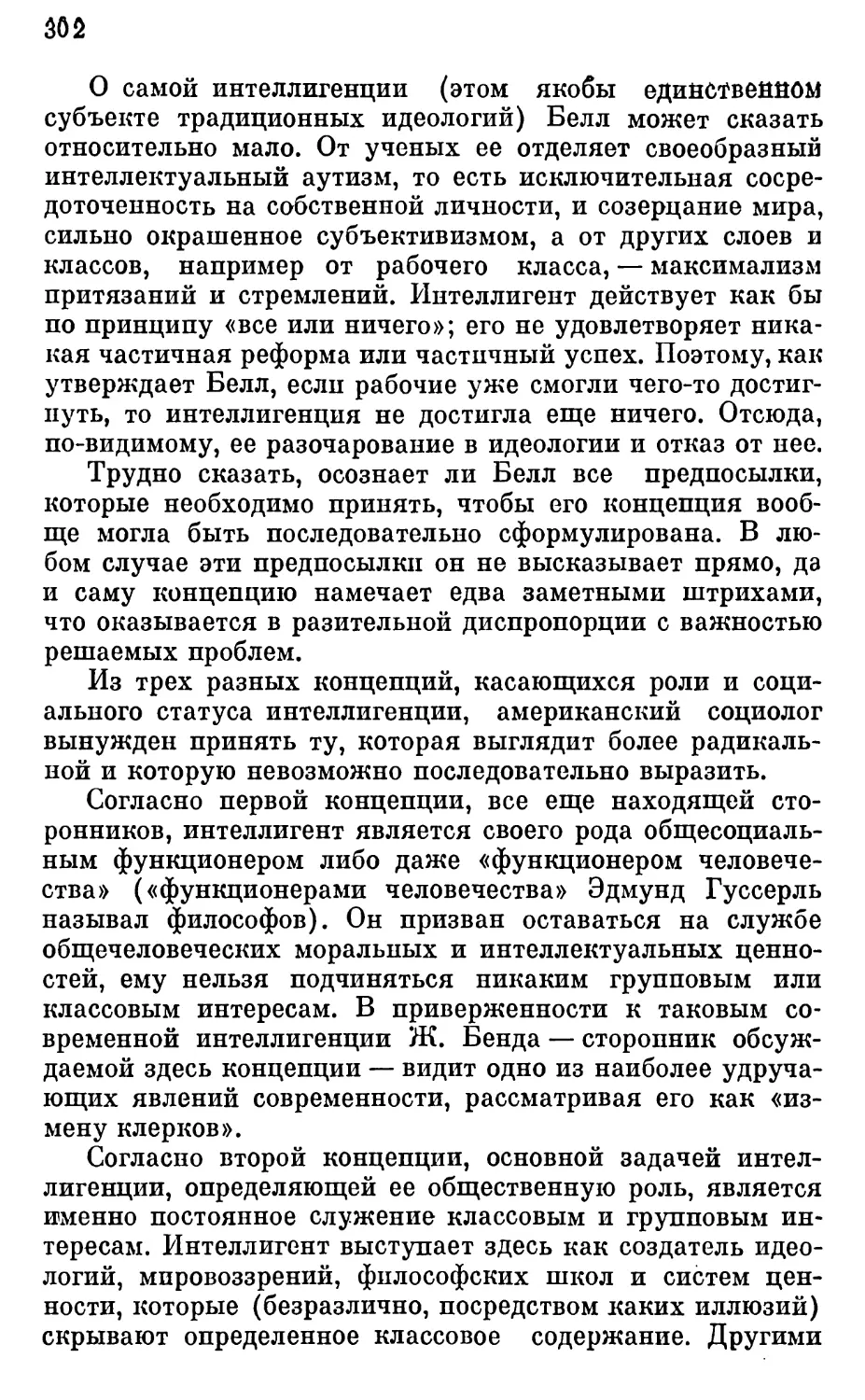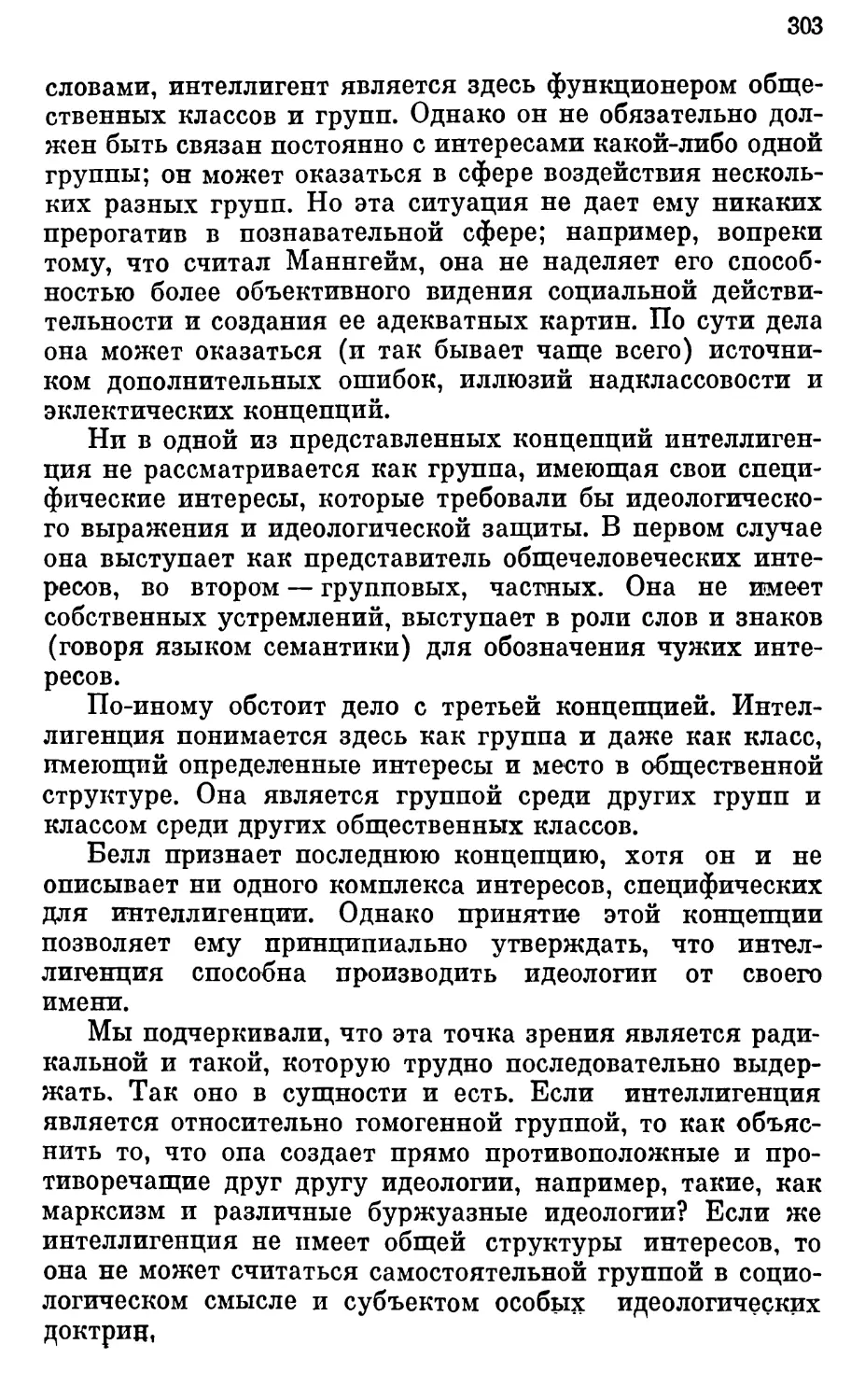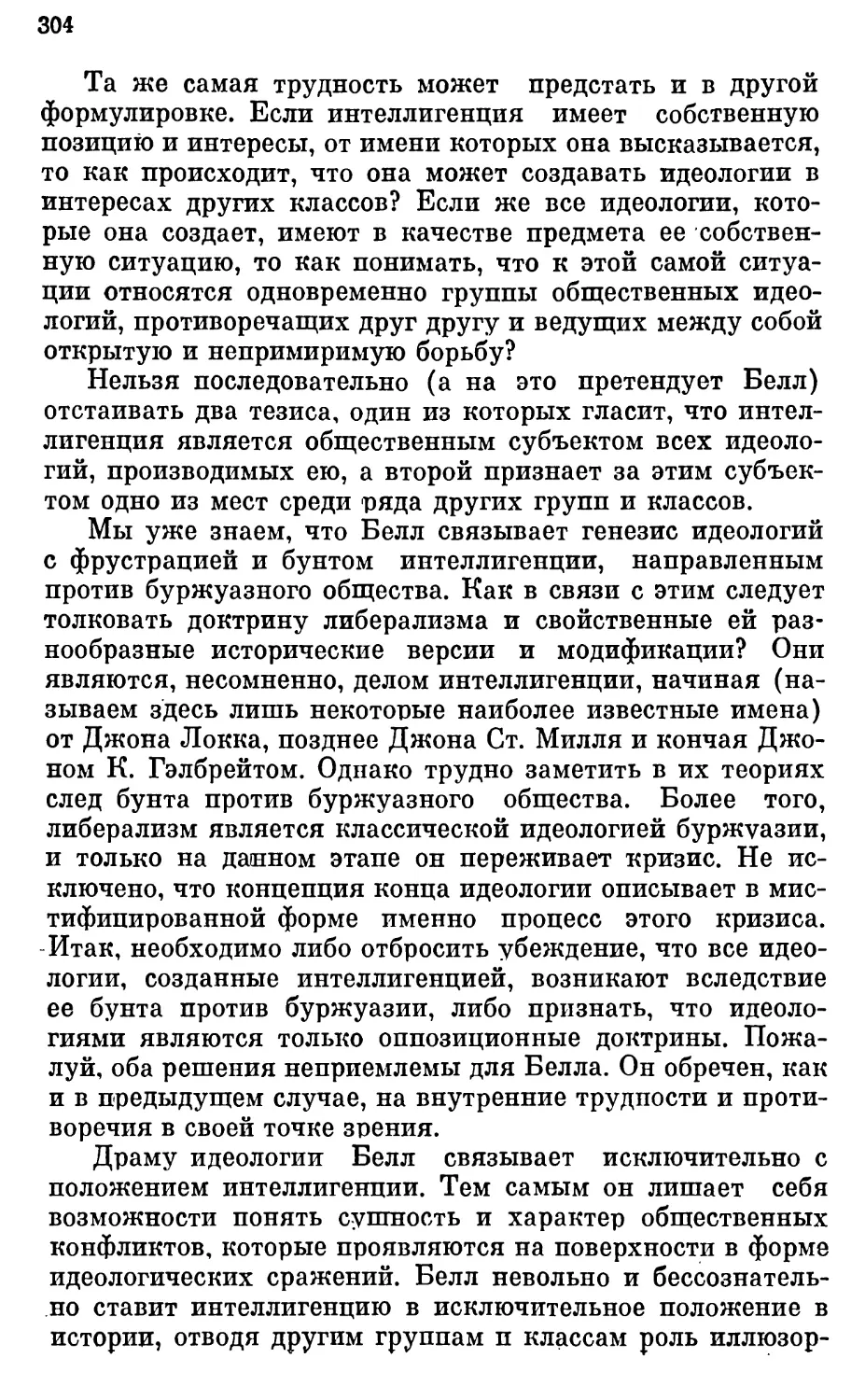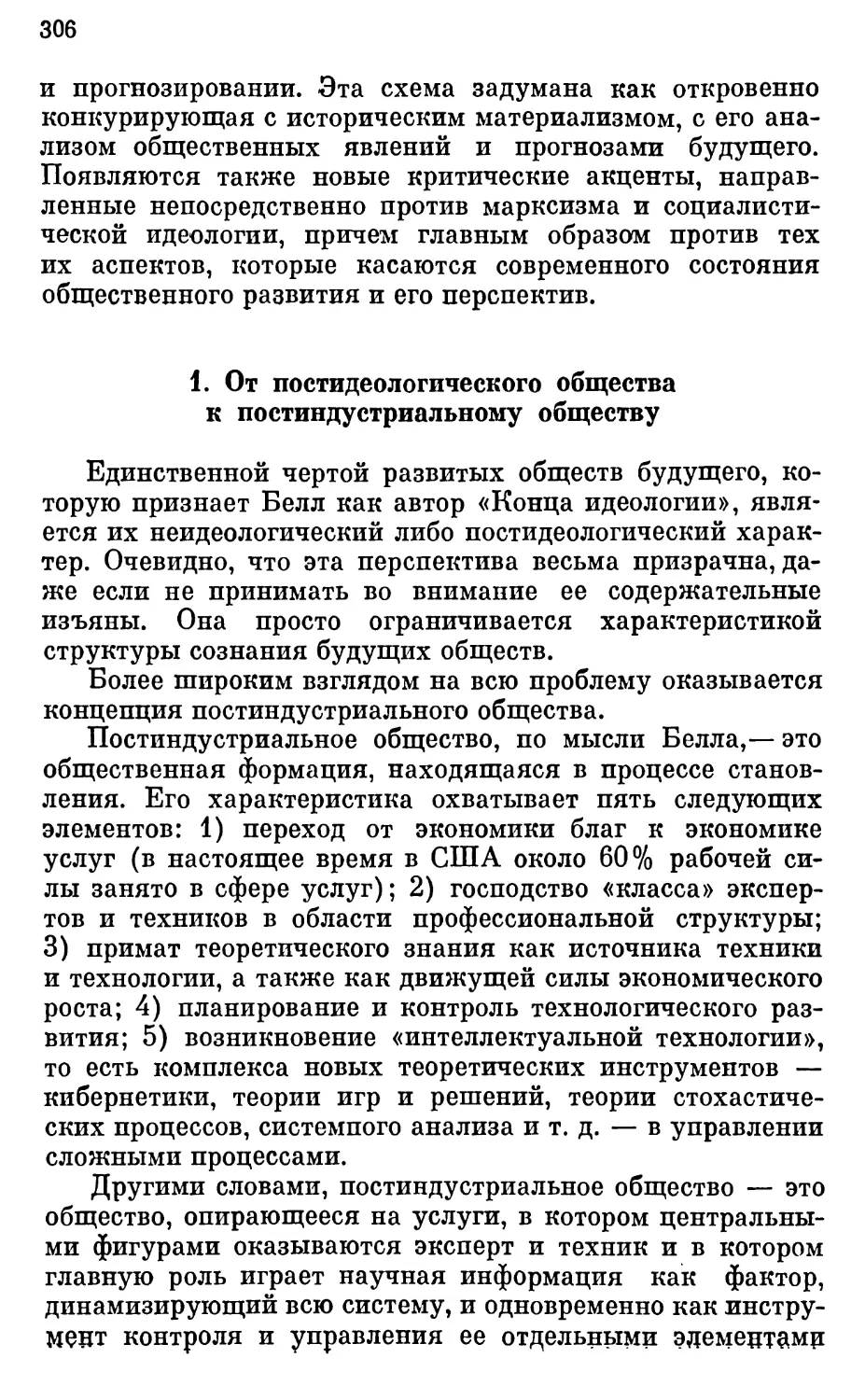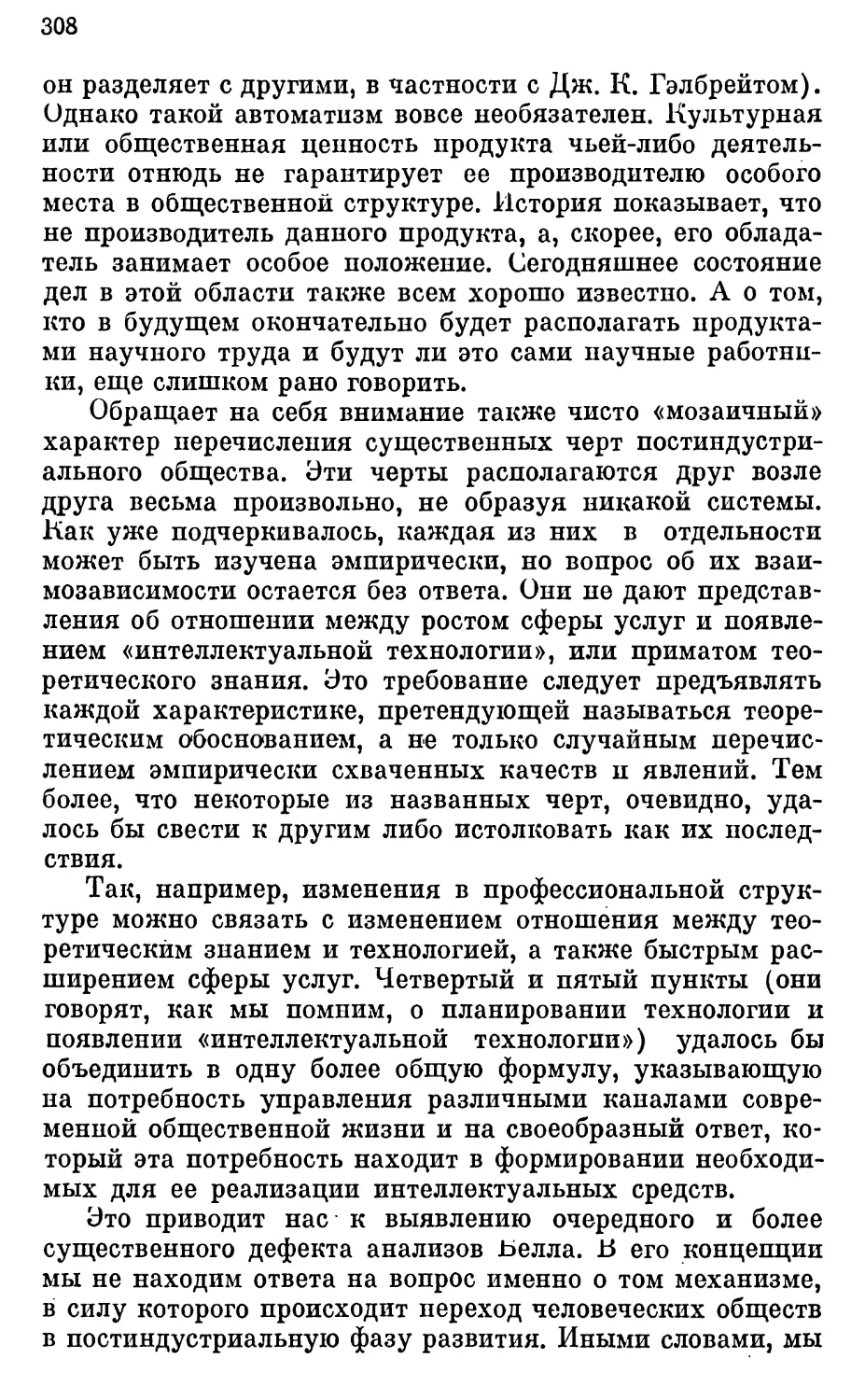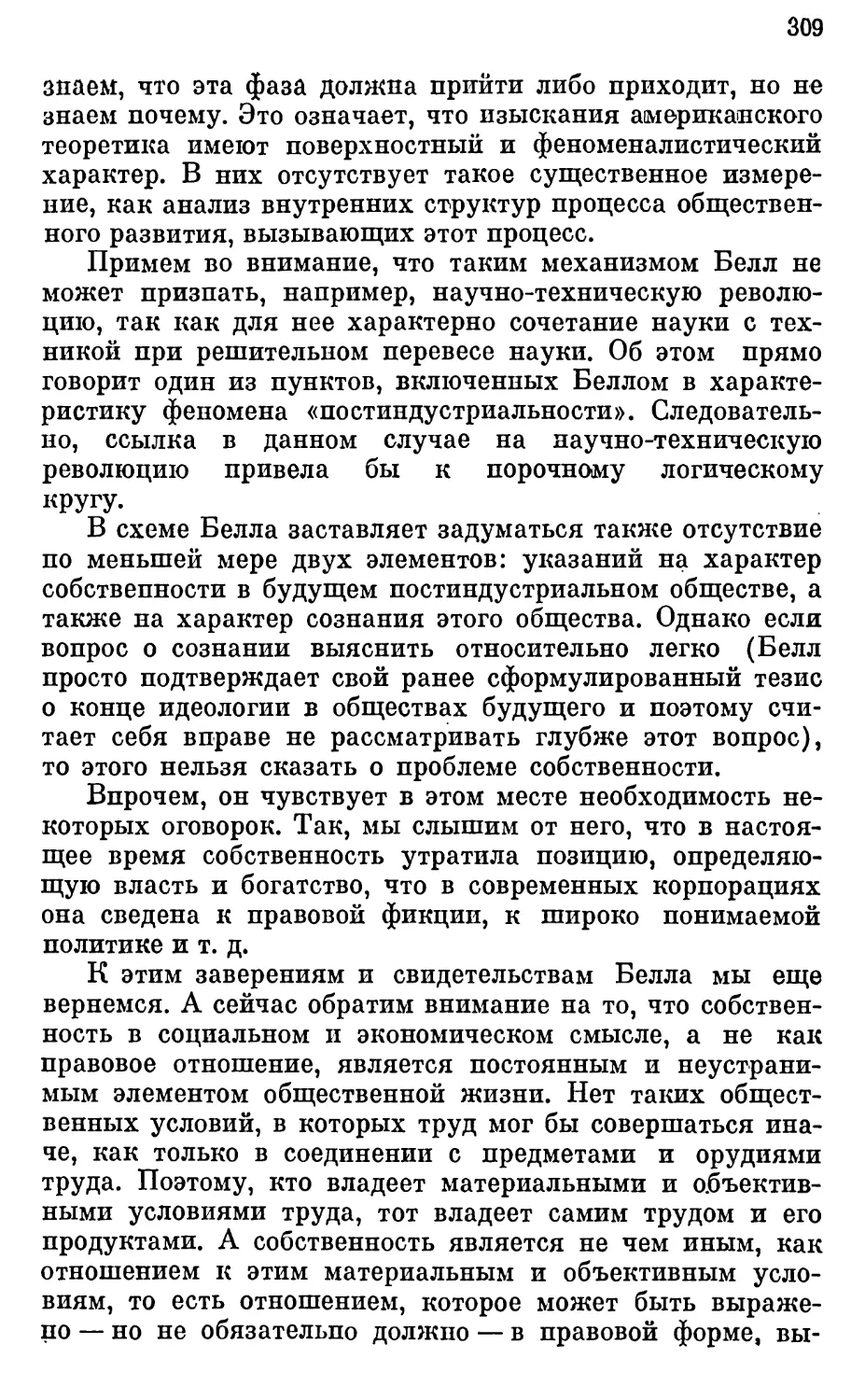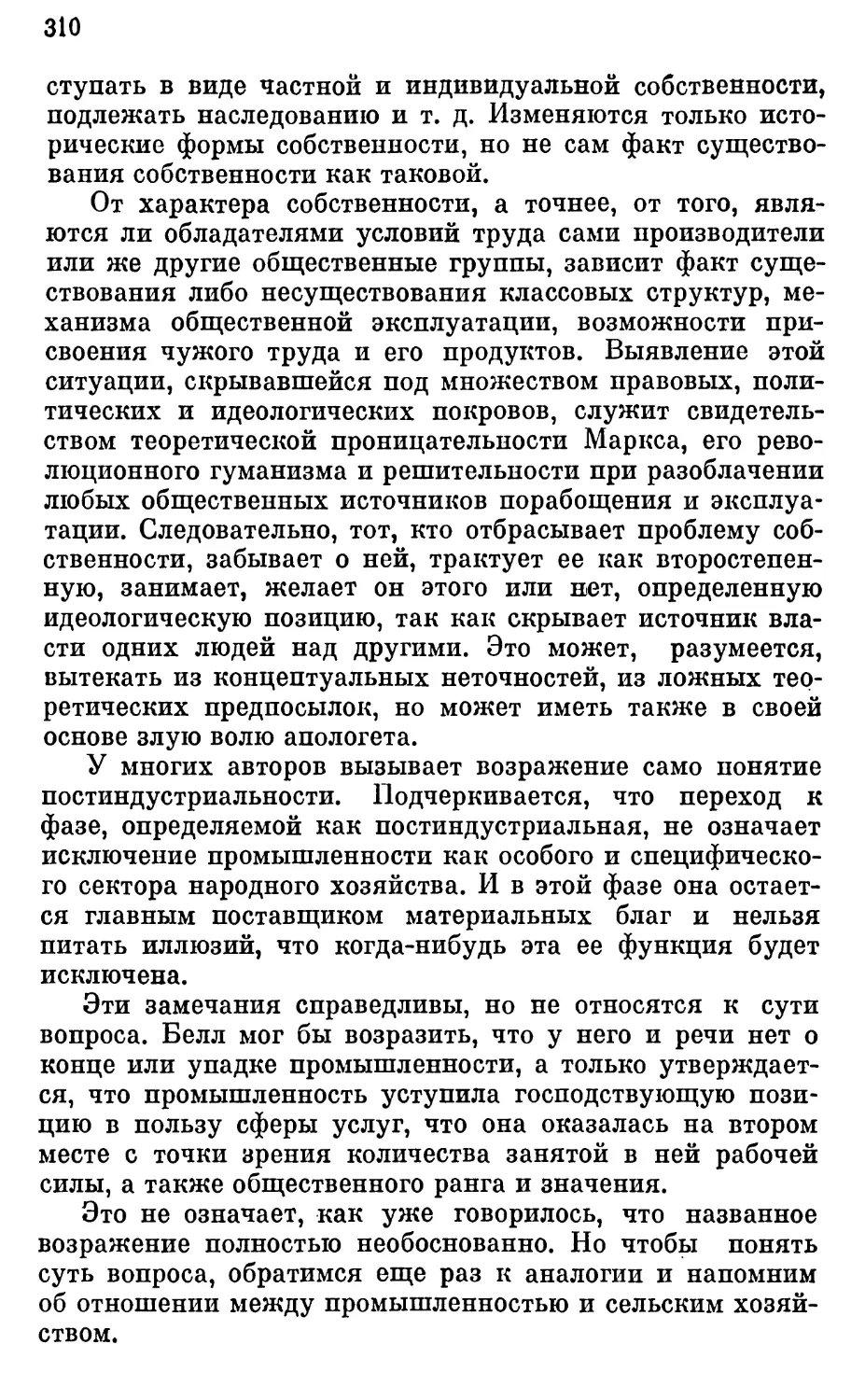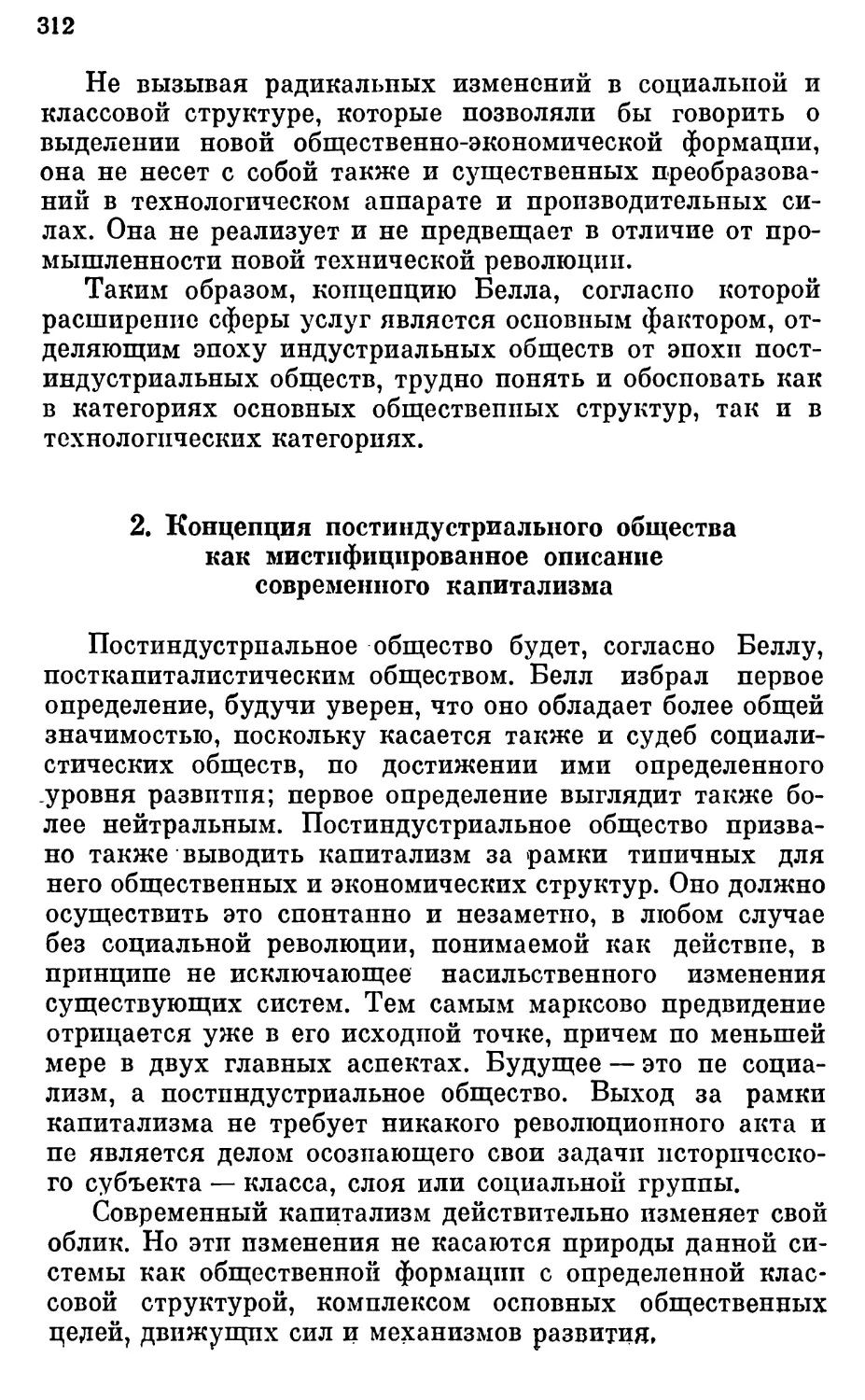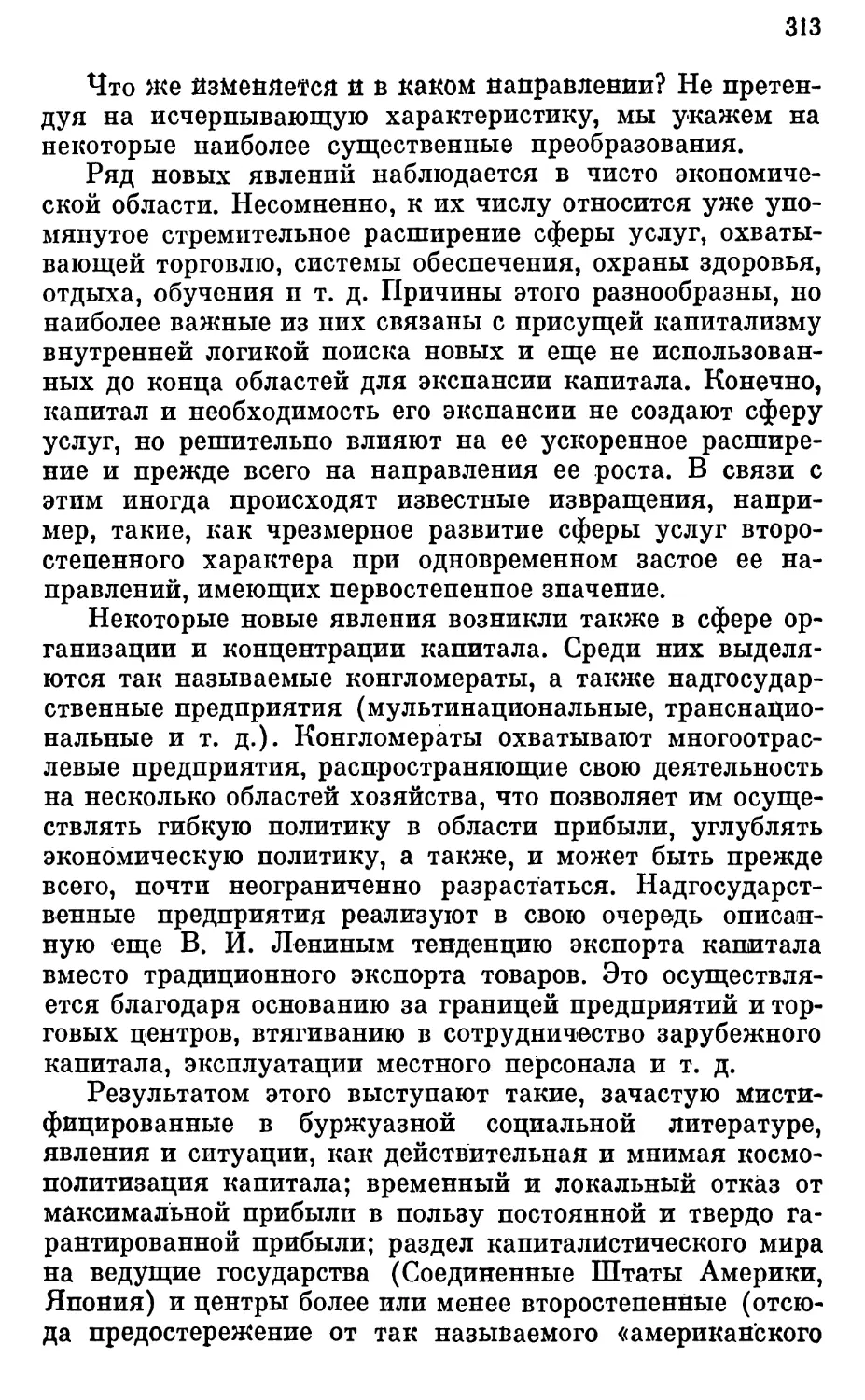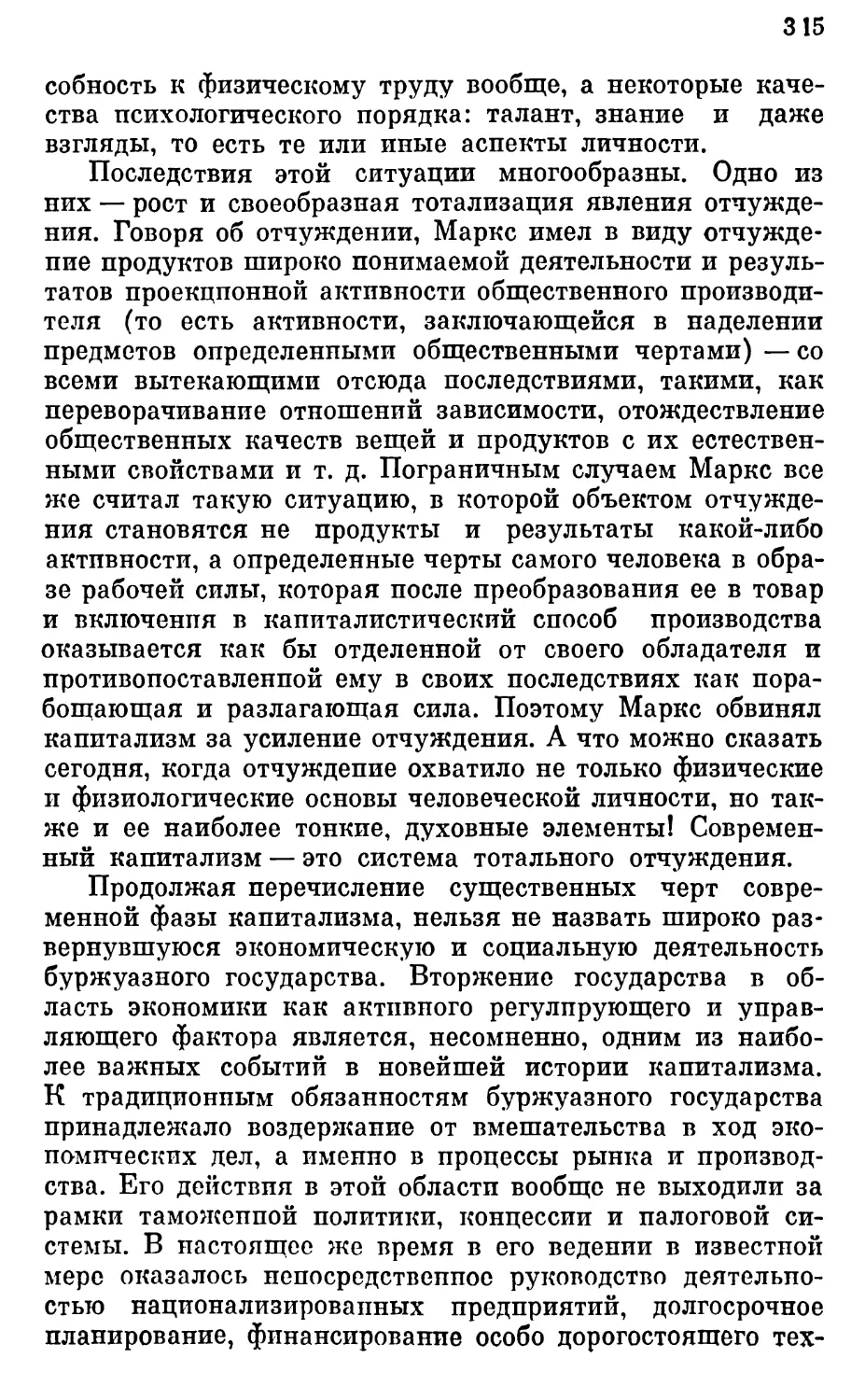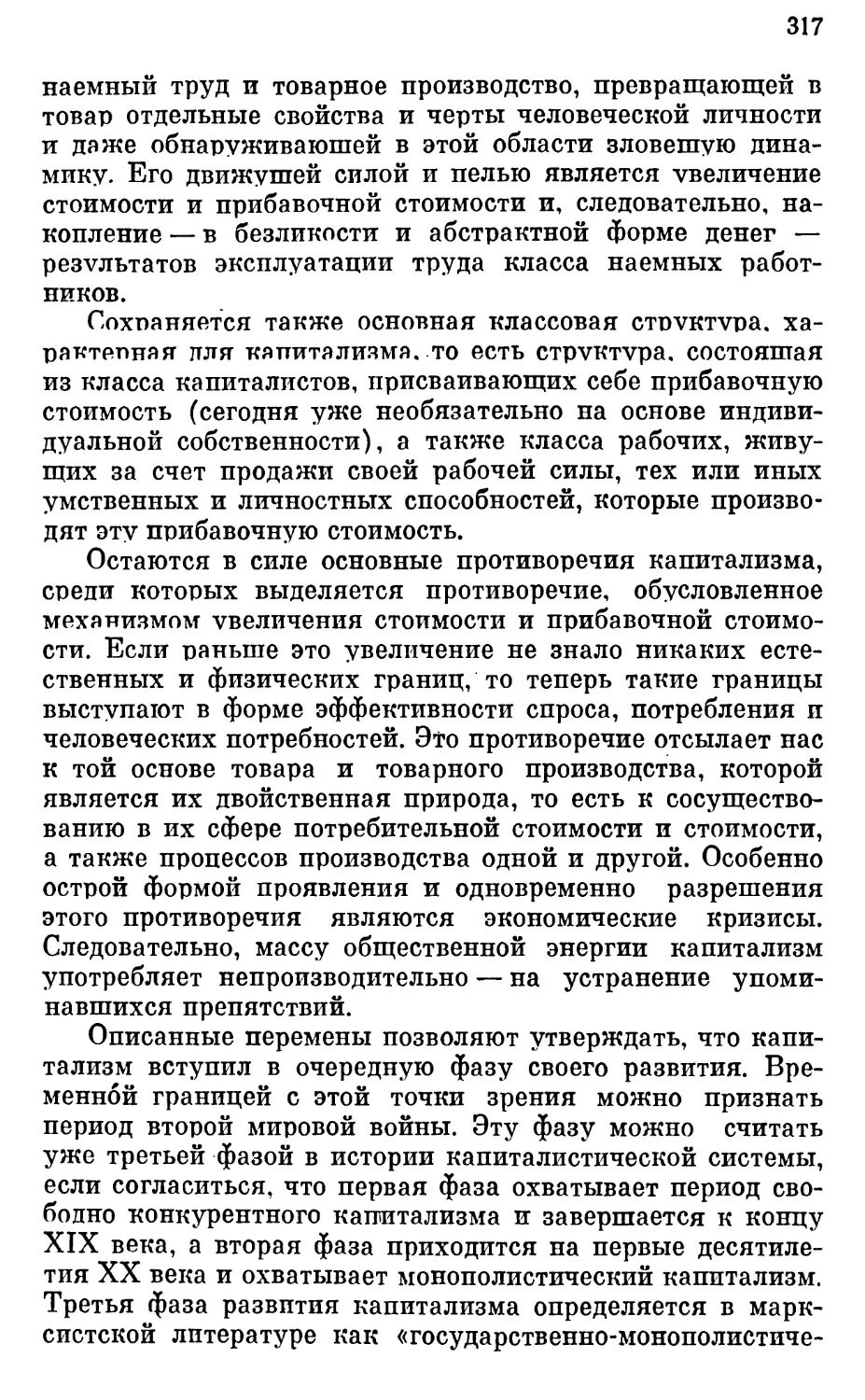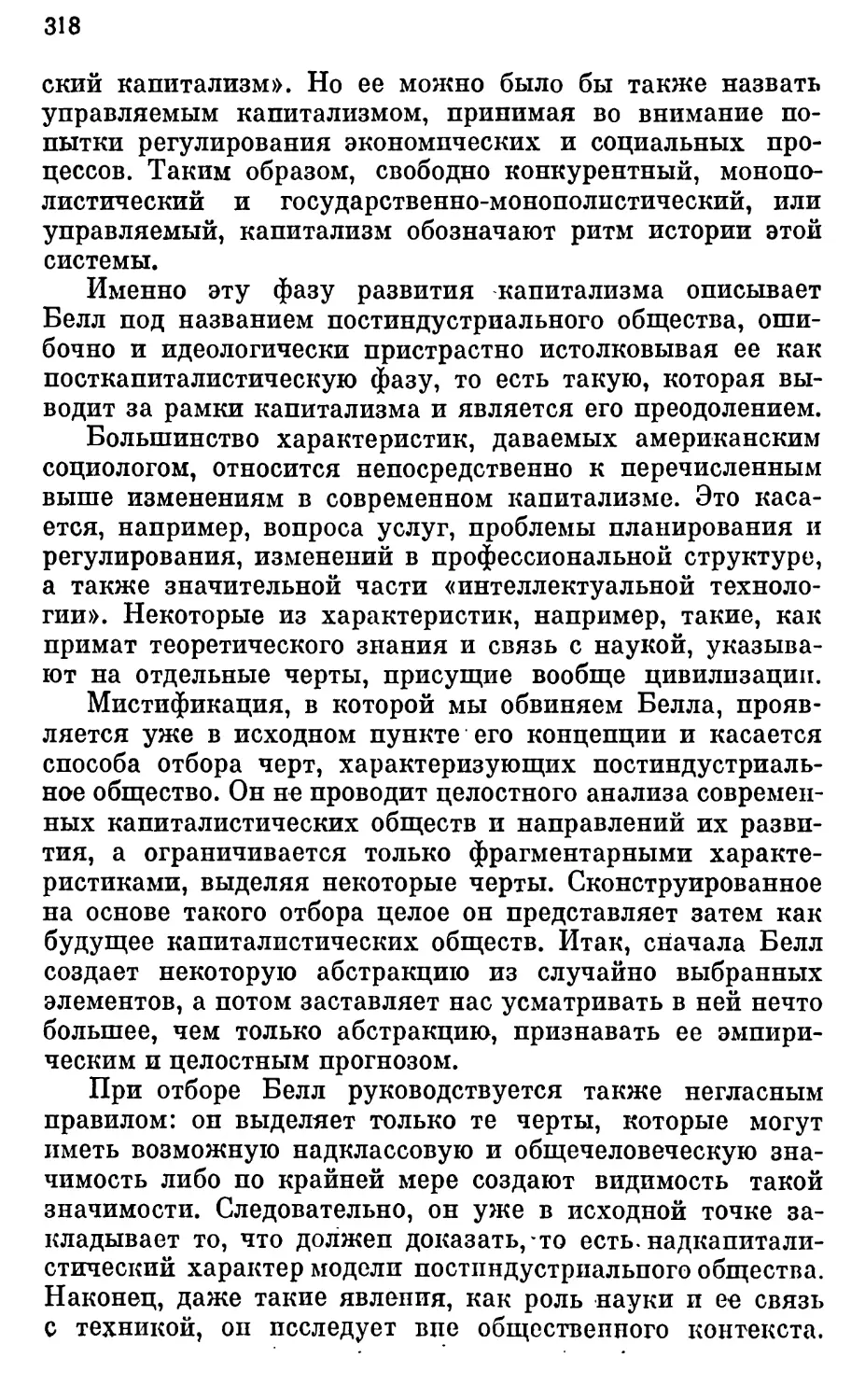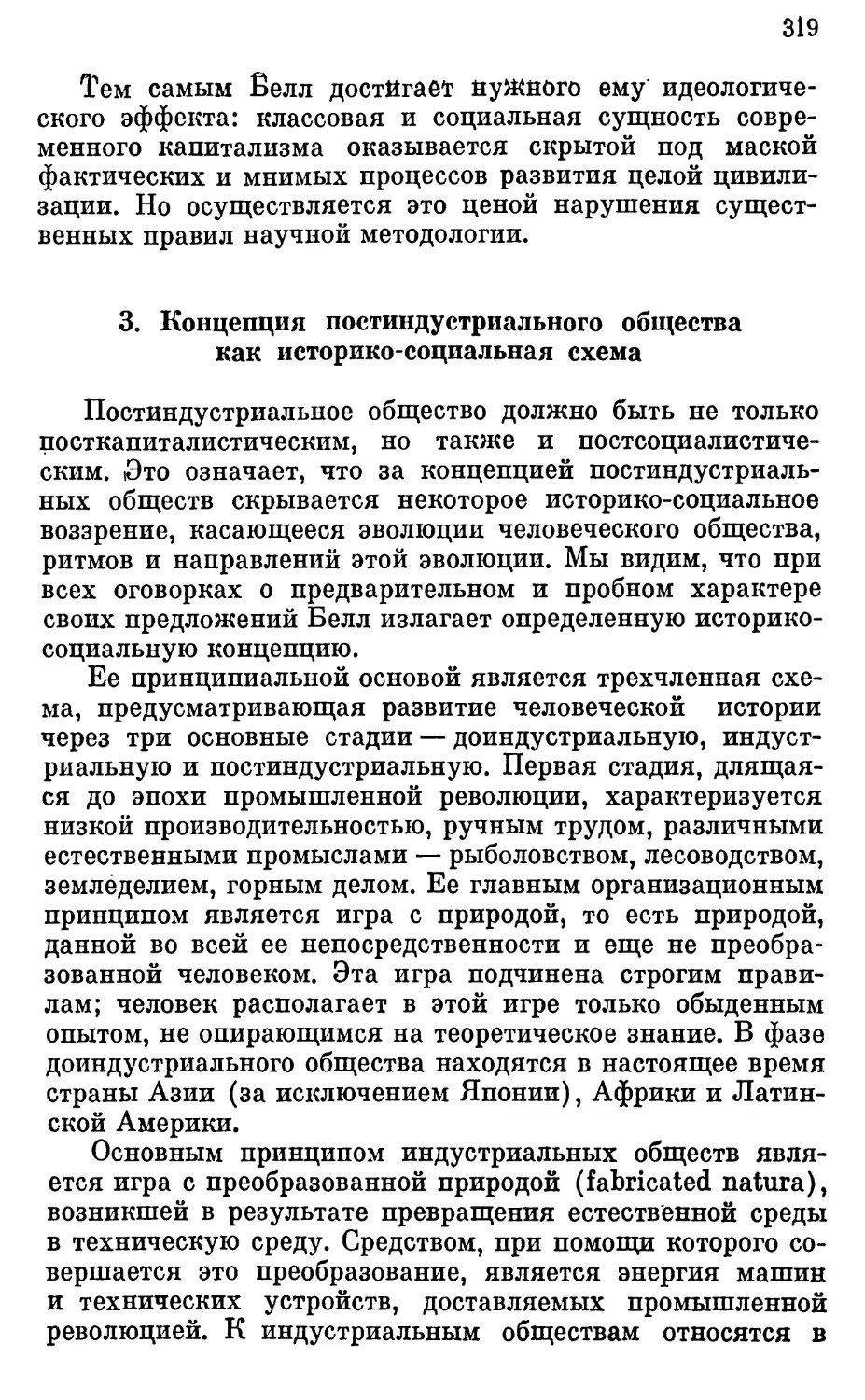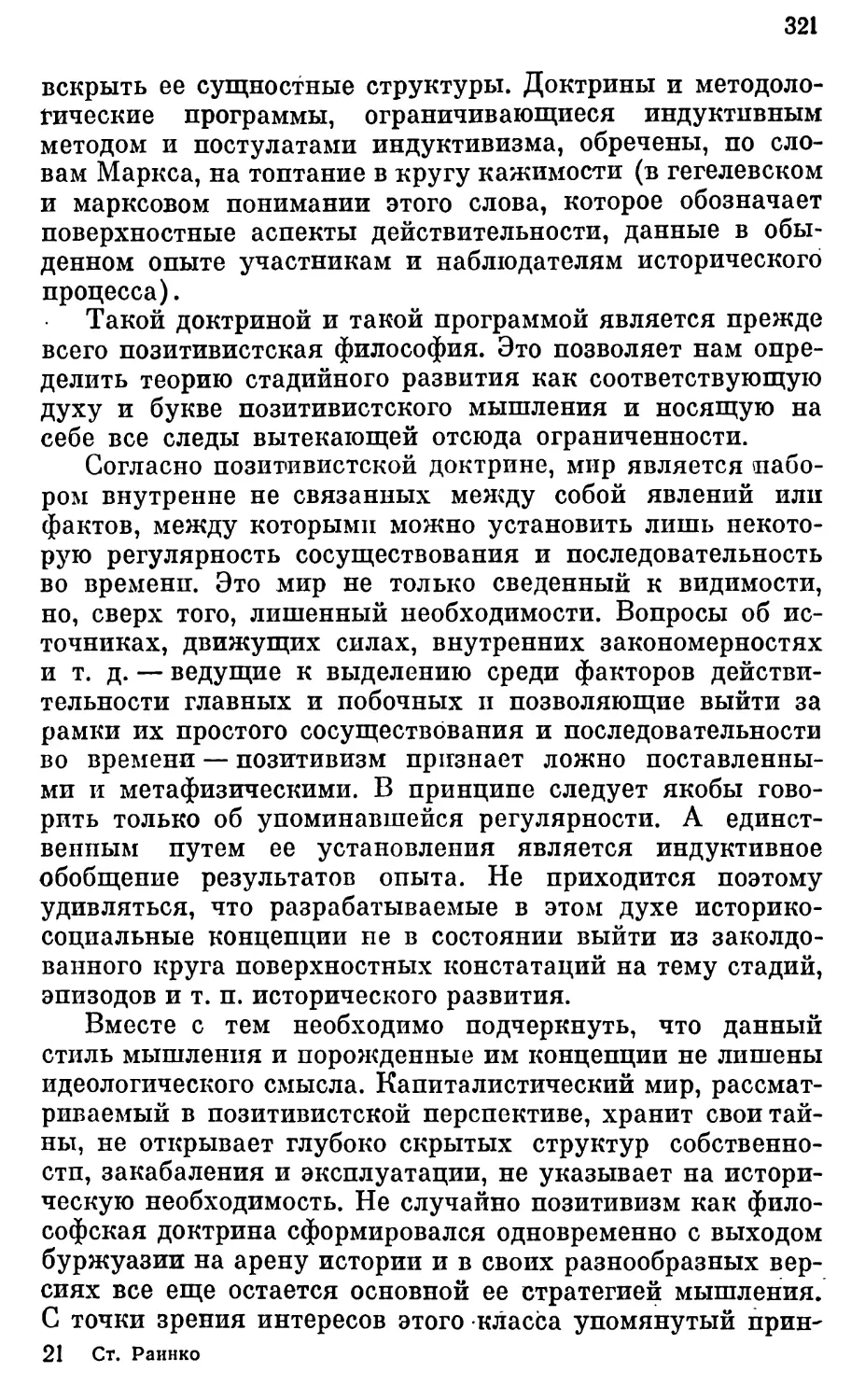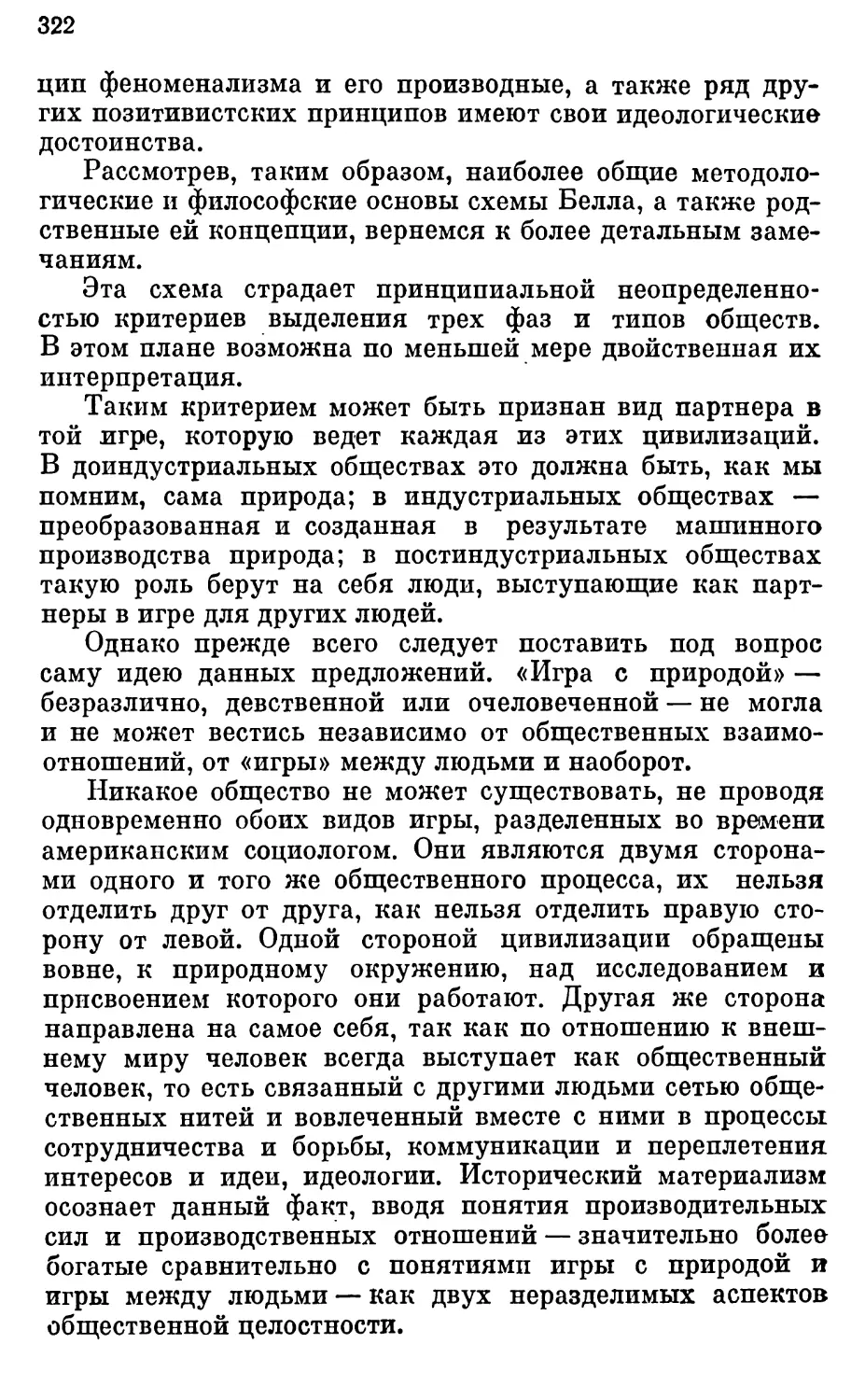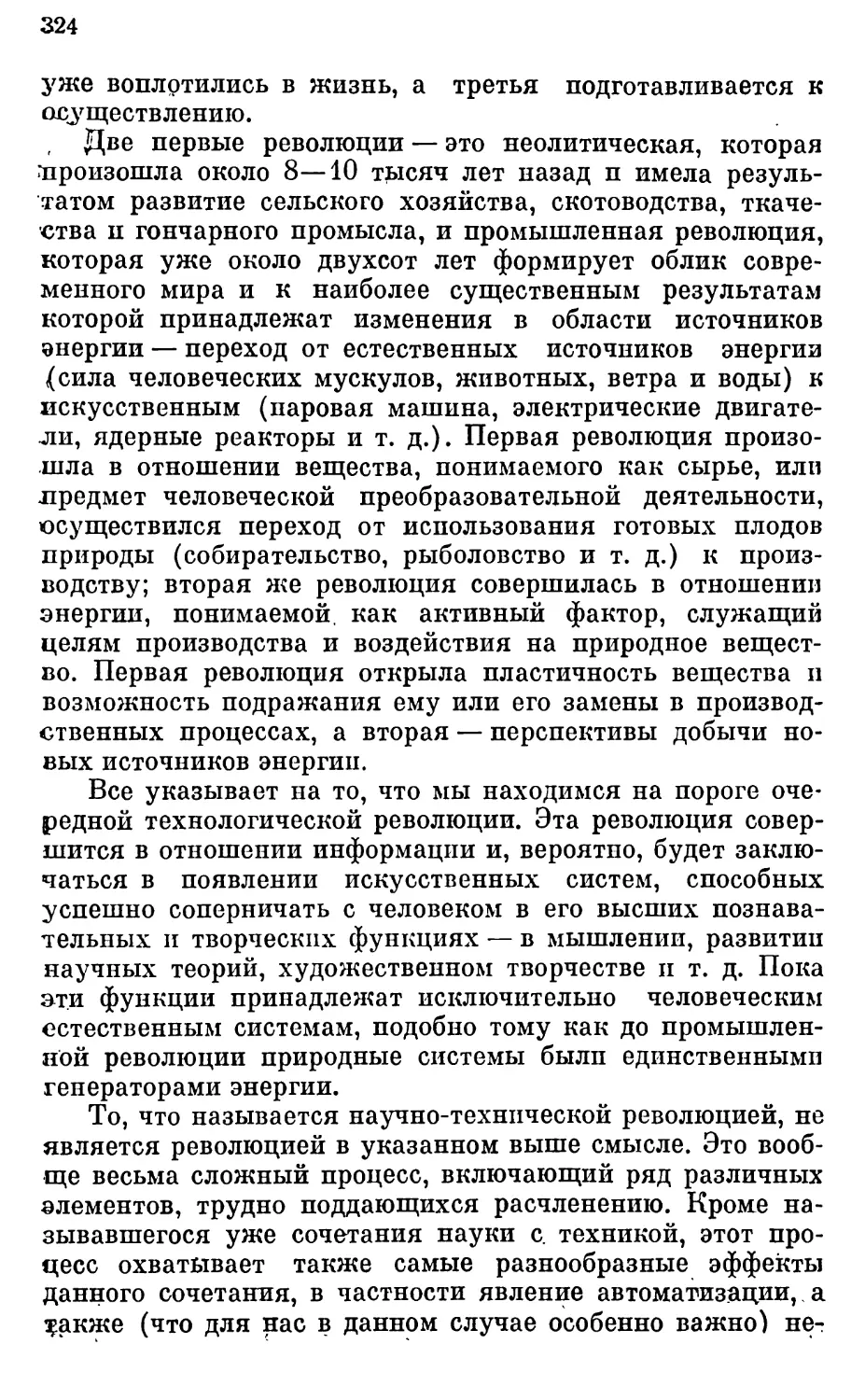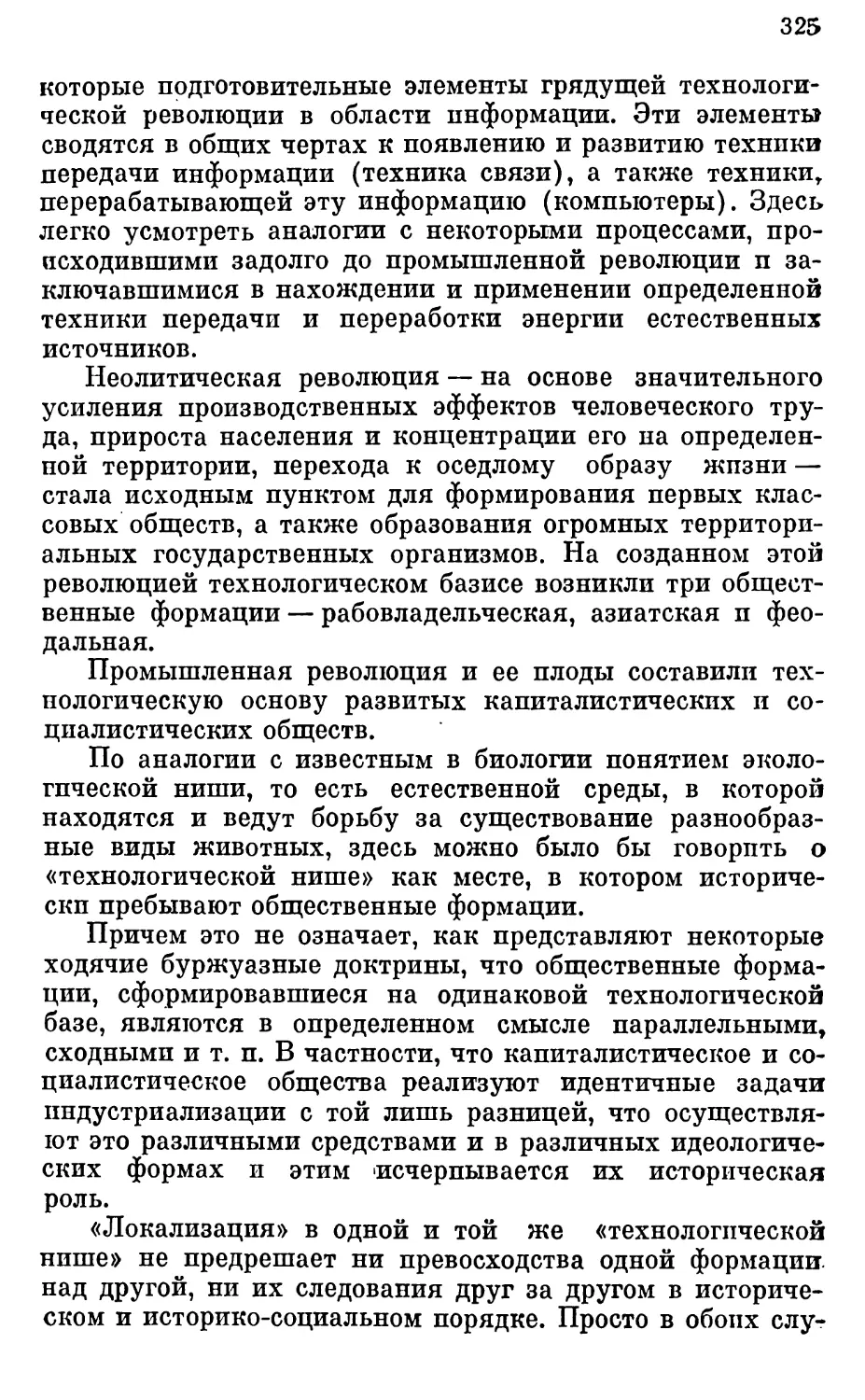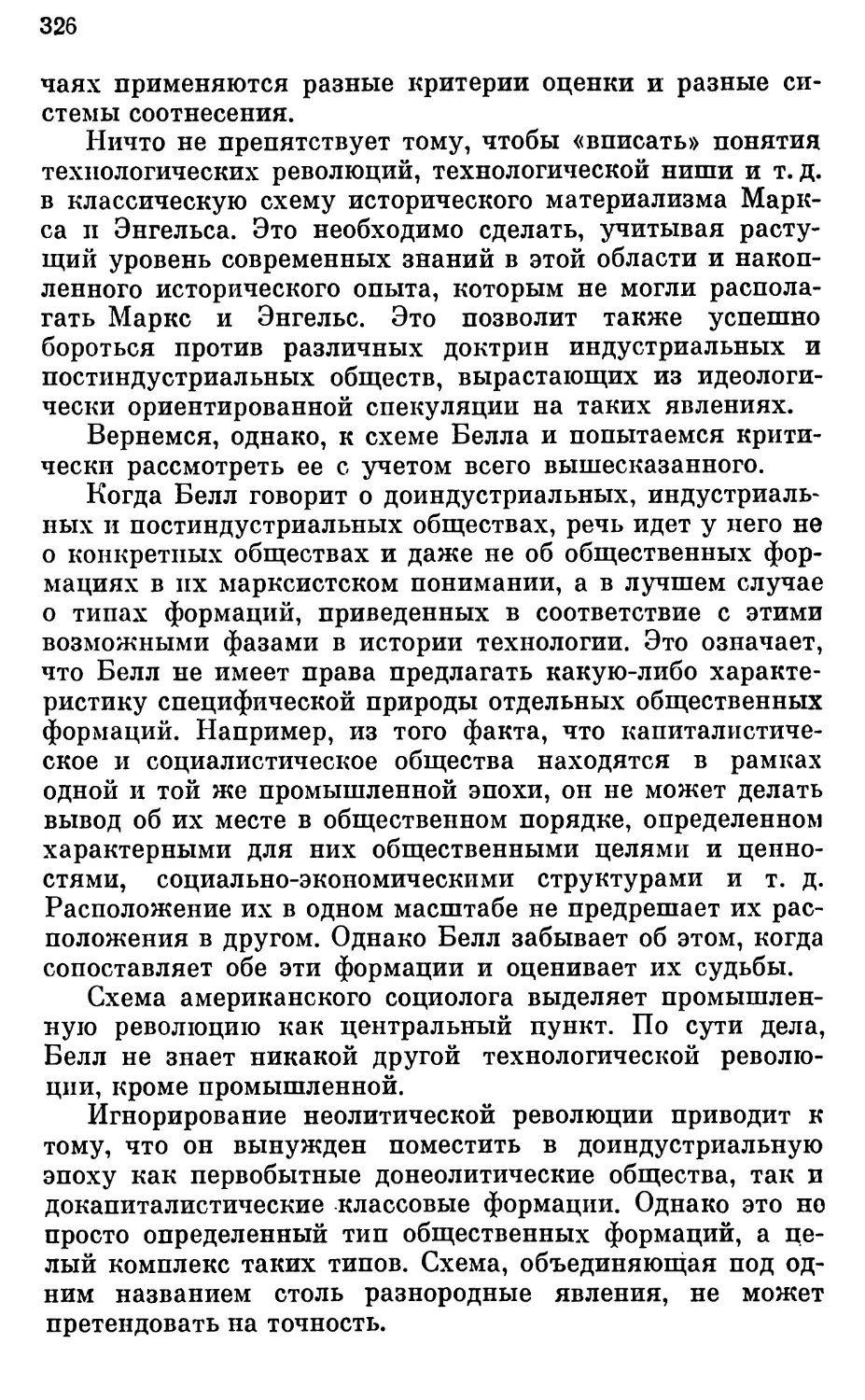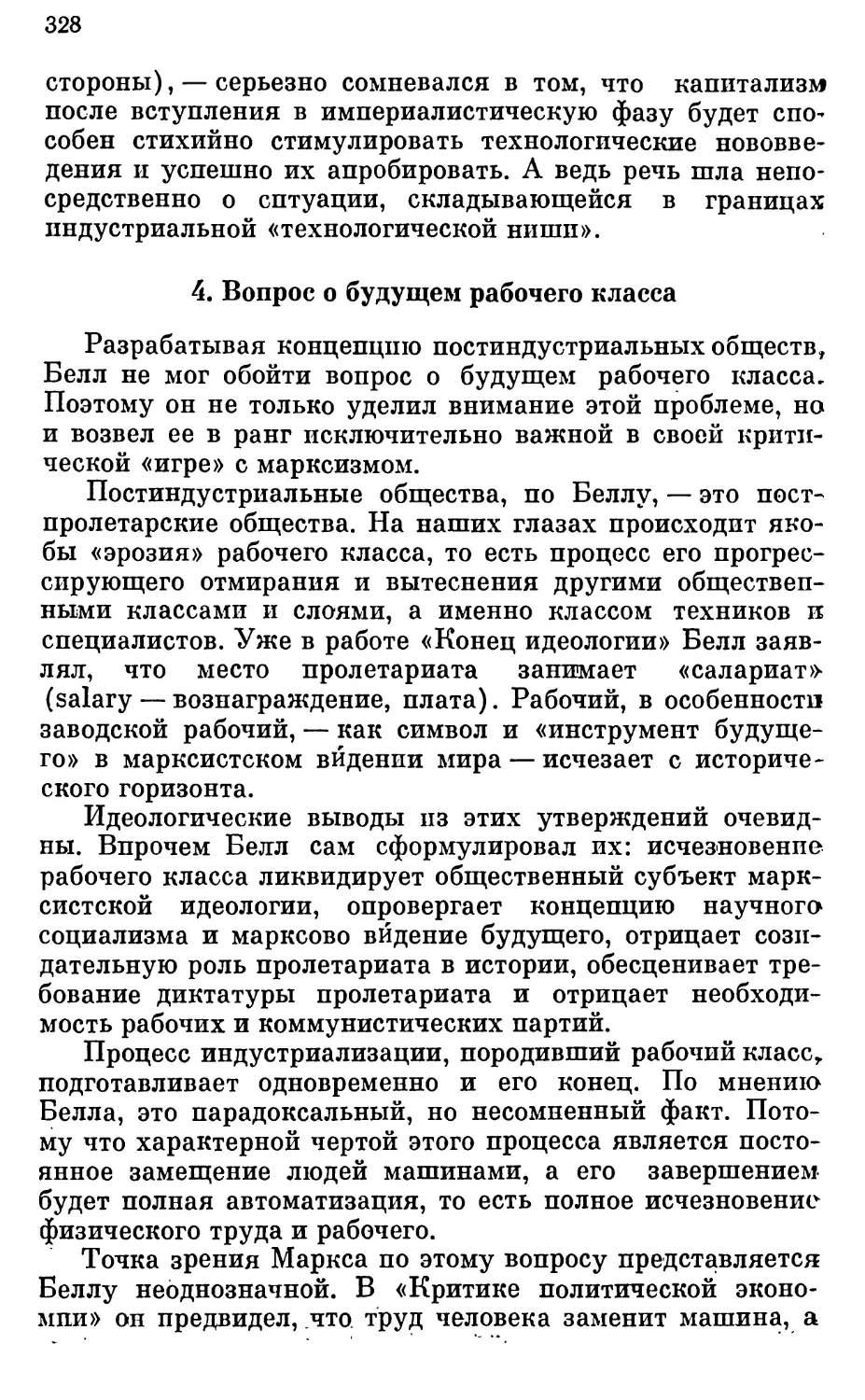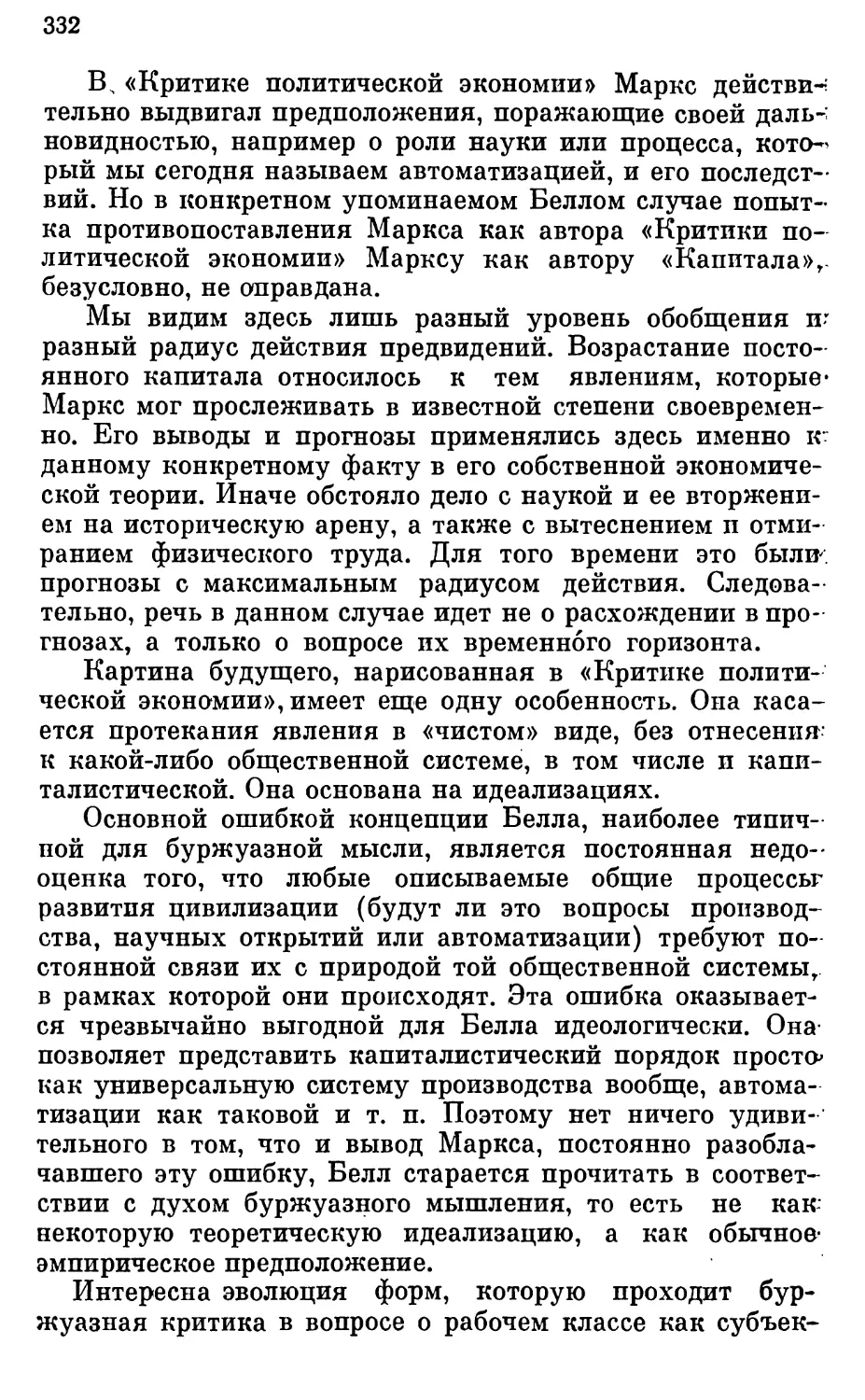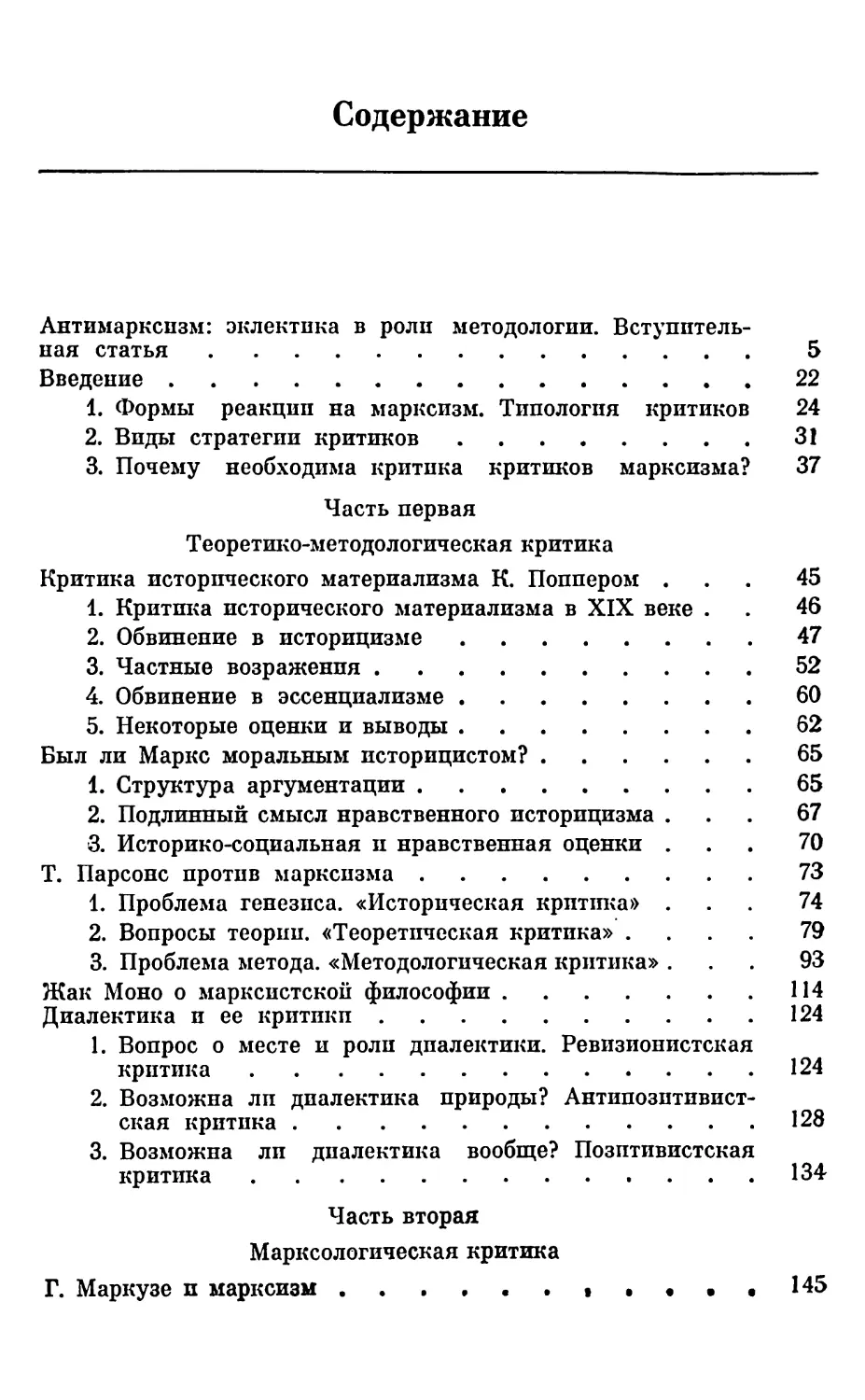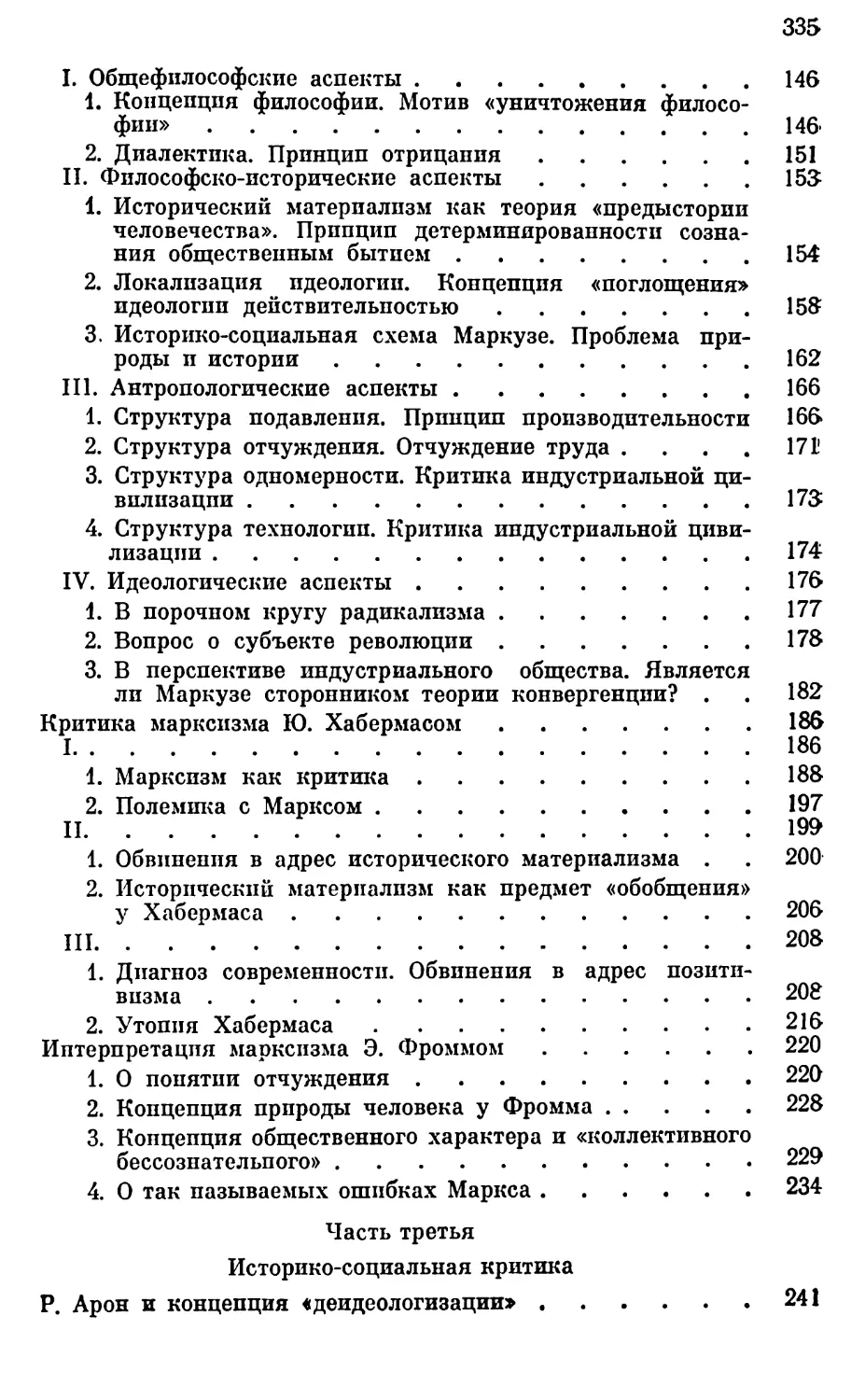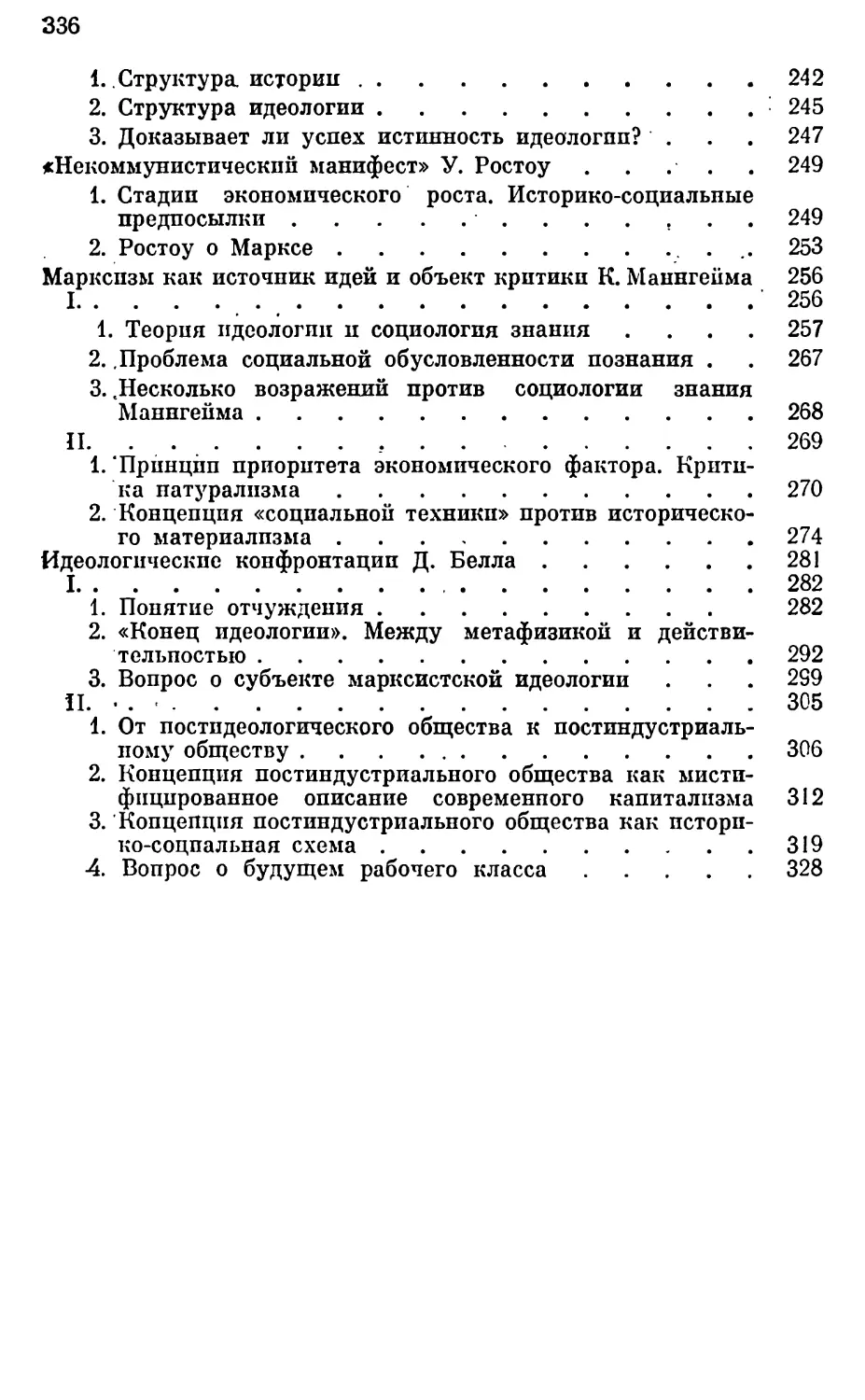Text
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Издательство
«Прогресс»
Stanisiaw Rainko
MARKSIZM
IJEGO
KRYTYKY
Warszawa
1976
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
С.Раинко
МАРКСИЗМ
И ЕГО
КРИТИКИ
Перевод с польского
В. М. ЛЕГОСТАЕВА
и П. Ф. КАЗИНА
Общая редакция и вступительная статья
кандидата философских наук
И. 3. НАЛЕТОВА
Москва
«Прогресв
1979
Редакция литературы по философии
и педагогике
© Вступительная статья и перевод па русский язык
с сокращениями. «Прогресс», 1979
И Б № 4629
Редактор Н. В. Вербицкая
Художественный редактор А. Д. Суима
Технический редактор II. А. Максимова
Корректор II. II. Петрачепкоаа
Сдано в набор 27.12.78. Подписано в печать
26.4.79. Формат 84х108'/з2. Бумага типограф. № 1.
Гарнитура литерат. Печать высокая. Условн.
печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 17,6. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 1229. Цена 1 руб. 40 коп. Изд. JSfc 25837.
Издательство «Прогресс» Государственного
комитета СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17
Московская типография № 11 Союзполиграф-
нрома Государственного комитета СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной тор-
•- • говли. -Москва.113105, Нагатинская, 1
10506-07?
Р •—-2— 11-70
' :(Ю6(01.)-79 * "i" *" 0302020300
Антимарксизм:
эклектика в роли методологии.
Вступительная статья
История в настоящее время окончательно решила
вопрос о магистральном пути человечества, показав в
странах социализма пример осуществления стремлений и
чаяний всех людей к миру, свободе и справедливости. Однако
счеты ее с отживающим миром капитала еще не сведены
до конца, а потому и по сей день не исчерпап спор между
марксизмом и его идейными противниками, теми, кто все
еще тешнт себя проектами «народного капитализма»,
классовой гармоппп, «единого ипдустриальпого общества»
и т. п. вопреки неумолимым закономерностям
современной эпохи. Ирония становится оружием истории, ибо сам
ход общественного развития вынуждает так пли иначе
обращать к марксизму взор даже тех идеологов, которые
по своему социально-политическому кредо вовсе не
принадлежат к поборникам социализма и коммунизма, видя
свой идеал общественного устройства в тех или иных
моделях «усовершенствованного» капитализма. Речь идет,
иными словами, о буржуазных идеологах, более или менее
откровенно специализирующихся на апологии
капиталистического строя.
Марксизм, овладев сознанием миллионов людей,
воплотившись в достижениях мировой системы социализма, в
успехах международного коммунистического и рабочего
движения, творчески развивающийся в новых
исторических условиях, стал сегодня такой мощной силой, что
признать его зпачепие как социальпо-политической,
экономической и философской теории выиуждепы даже такие
завзятые антикоммунисты, как К. Поппер, Р. Арон,
Д. Белл и др.
Разумеется, не может быть и речи о благих
намерениях буржуазных идеологов приобщиться всерьез к на-
6
следию Маркса. В конечном счете цель буржуазной
«марксологии» — создание «тылов» для широкого
наступления на марксизм и его реальные, практические
завоевания. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии
подчеркивалось, что «положительные сдвиги в мировой
политике, разрядка создают благоприятные возможности для
широкого распространения идей социализма. Но, с другой
стороны, идейное противоборство двух систем становится
более активным, империалистическая пропаганда — более
изощренной» ].
В разное время в зависимости от остроты тех или иных
социальных проблем, от степени их связи с классовыми
интересами пролетариата и всех трудящихся объектами
особенно резких нападок со стороны проповедников
буржуазной идеологии были то социально-экономические
взгляды Маркса, то теория познания марксизма, то
учение о диктатуре пролетариата и т. д. Что же касается
современной «марксологии», то в ее попытках
опровергнуть, извратить учение Маркса едва ли можно увидеть
какое-либо «предпочтение» того или иного элемента его
учения. Нет, пожалуй, в настоящее время ни одного более
или менее значительного теоретического положения
марксизма, которое бы ни подвергалось опровержениям,
сомнениям, искаженному толкованию, «обобщению» и тому
подобным критическим операциям. Ясно, что такое
отношение к учению Маркса не признак силы его врагов, а
напротив — свидетельство того, что в своем стремлении
приостановить рост влияния марксизма в современном
мире буржуазия делает ставку на широкую конфронтацию
с ним.
Буржуазная идеология не может противопоставить
марксизму ни одной целостной, последовательной,
практически и теоретически обоснованной программы. Она
представлена многочисленными концепциями,
направлениями, школами и школками, ведущими не только
взаимную полемику, но и обнаруживающими внутренние
противоречия, шаткость собственных оснований.
Вместе с тем при внимательном анализе можно
заметить их известное единство, согласованность в главных
мировоззренческих вопросах, независимо от того, относят-
1 «Материалы XXV съезда КПСС». М., 1976, с. 74.
7
ся ли опи к области «философии науки», «социологии
знания», «философии истории», «экономической
антропологии», буржуазной этнологии, культурологии и т. п. При
всем различии предметов изысканий и даже при довольно
значительных разногласиях в исходных посылках
(например, у позитивизма и структурализма или структурализма
и герменевтики) они приходят к довольно сходным и
вполне однозначпым идеологическим выводам,
единодушны в своей неприязни к марксизму. В их беспринципности
и непоследовательности есть своя, скрытая, направленная
па разрушительные цели система. Очевидно, есть
определенная совокупность постулатов, которыми сознательно
или бессознательно, явно или неявно руководствуются и
позитивизм, и структурализм, и функционализм, и
герменевтика. Эта совокупность общих положений,
составляющих философскую основу общественно-политических
концепций буржуазных ученых, представляет собой своего
рода методологию, как бы она ни была далека от
последовательной и цельной системы взглядов, как бы ни были
цели и мотивы буржуазных специалистов, использующих
эту методологию, далеки от целей и мотивов
действительно научного исследования.
Буржуазная методология социальных наук в последнее
время все чаще и чаще выступает в своей разрушительной
роли, в роли орудия дискредитации марксизма. В борьбе
идей этой ее функции, очевидно, придается все более
существенное значение. Ныне идеологи капитализма уже не
могут уповать на примитивную ложь или клевету.
Прежние приемы, конечно, не отброшены вовсе, но все чаще
облекаются в пристойные, квазинаучные или морализатор-
ские формы. Все труднее становится оспаривать авторитет
марксизма как теории, научно объясняющей историю
человеческого общества и успешно применяемой
коммунистическими и рабочими партиями в решении
социальных и экономических проблем современности, ставшей
фундаментом реального социализма. Но зародить сомнения
в правильности марксистских прогнозов будущего
человеческого общества, марксистских ответов на не
решенные еще актуальные проблемы мирового революционного
процесса — предприятие, которое, по расчетам
буржуазных идеологов, может дать им значительные политические
дивиденды. Поэтому методология социального познания,
выступающая порой с позиций беспринципности, как
8
утонченная логика запутывания вопросов, пользуется у
них довольно заметным спросом.
В этой связи перед философами-марксистами стоит
двуединая задача: на основе разработки марксистско-
ленинской методологии научного (в частности,
социального) познания и анализа методологического наследия
Маркса, Энгельса и Ленина развернуть последовательную
критику буржуазной методологии, принимая во впимаппе все
более тесную ее связь с идеологией, с системой социально-
политических идей, господствующих в буржуазном
обществе. С этой точки зрения значительный интерес
представляет книга польского философа, сотрудника Института
основных проблем марксизма-ленинизма ЦК ПОРП
Станислава Раинко «Марксизм и его критики», посвященная
критическому анализу буржуазных философско-социоло-
гических концепций и так называемой «марксологип»
именно в методологическом плане.
В советской литературе в последпие годы вышло
немало серьезных работ, дающих критический разбор
теоретических концепций "К. Поппера, Т. Парсонса, Г. Мар-
кузе, Р. Арона, Д. Белла и др. Можпо пазвать также ряд
книг и статей, специально посвященных критике
буржуазной «марксологии». Книга Ст. Раинко не открывает нам
новых имен среди противников марксистского учения —
она построена на том материале, который советскому
читателю в критическом плане уже знаком. Заслуживает
внимания новизна самого подхода автора к критике
идейных противников марксизма. Ст. Раинко дает детальный
и аргументированный анализ методологических принципов
буржуазных теоретиков, далеко не всегда
стремящихся осознать и тем более шложить достаточно ясно и после-*
довательно свои философские взгляды. Так,
методологический контекст концепций Поппера, Парсонса и др.
выражен вполне отчетливо, в то время как в работах
Ростоу или Хабермаса принципы анализа содержатся, как
правило, в неявном виде (что, впрочем, не мешает им
нести значительную мировоззренческую и идеологическую
нагрузку). Автор стремится выявить их внутреннюю
логическую структуру, а иногда и неявно принятые ими
предпосылки.
Наконец, определенную разработку получают в книге
методологические принципы самой марксистско-ленинской
философии. Разъясняя некоторые ее положения и принци-
9
пы, выявляя их подлинный научпый смысл,
извращающийся усилиями идеологических оппонентов Маркса,
автор ставит ряд вопросов, требующих дальнейшего
(исследования с позиций исторического материализма и диалек-
тико-материалистической методологии.
Выдвинув задачу широкого критического анализа
современной «марксологии» в контексте буржуазных
социально-философских учений, автор, разумеется, принял на
себя большую ответственность — сопоставить довольно
разнородные концепции Поппера и Парсонса, Ростоу и Ха-
бермаса, Арона и Фромма и т. д. с учетом всех различий
в их идеях и в их отношении к марксизму. Но именно
сравнение столь различных па первый взгляд концепций
иазванпых буржуазных теоретиков и выявление их общих
принципов приводят к пониманию подлинной их
сущности, которая не всегда угадывается за нагромождениями
весьма искусно подобранных аргументов, призванных в
конечном счете дискредитировать марксизм и найти
теоретическое оправдание существующей капиталистической
системы.
Следует отметить еще одну особенность критики
автором буржуазных философских и социологических доктрин.
Оп не только сопоставляет пх между собой, но и
анализирует каждую из них так сказать «изнутри», с
точки зреипя логичности, последовательности и
обоснованности. За внешней теоретической благопристойностью он
вскрывает пе только массу противоречий п логических
песуразиц, но и отнюдь пе сданные еще в утиль старые
испытанные средства: откровенную ложь, клевету и
лицемерие.
Подход, который избрал в своей полемике с «марксо-
логами» польский философ, не исключает, а предполагает
прямую критику антимарксизма с точки зрения фактов
исторического развития и реальностей современной эпохи,
которым явно противоречат их измышления.
Критический потенциал марксистской философии и социологии
должен, разумеется, повышаться также и при сравнении
теоретически бесплодных, умозрительных и путаных
утопий буржуазных идеологов с идеями Маркса, Энгельса
и Ленина, представленными во всем их теоретическом
богатстве, конкретности и ясности. Автор использует и
эти формы критики концепций буржуазной
«марксологии», по достоинство его ininrn составляет прежде всего
10
убедительная демонстрация их методологической
ущербности.
Анализируя внутренние коллизии между доктринами
Поппера и Парсонса, Поппера и Хабермаса, Арона и Рос-
тоу и т. д., выявляя их противоречивость, схоластичность
и бесплодность в области познания социальных явлений,
автор наглядно показывает несостоятелыность попыток
буржуазных идеологов создать более или менее
удовлетворительную альтернативу марксистской теории
общественного развития, не говоря уже об общефилософской
теории, способной стать единым основанием
естественнонаучного и социального познания.
Правда, обращая особое внимание на «столкновение»
взглядов различных буржуазных ученых по тому или
иному вопросу, автор иногда ограничивается слишком общими
оценками их идеологической сущности. Излишней
пространностью страдает порой изложение некоторых
достаточно банальных рассуждений буржуазных теоретиков
по поводу мнимых недоработок или «несовременности»
учения Маркса. Однако эти недостатки носят частный
характер. Они снимаются высоким критическим
пафосом работы, принципиальностью выводов, общей
внутренней логикой изложения проблем. В целом полемический
эффект книги Ст. Раинко, безусловно, значителен.
Главное обвинение, которое выдвигается в книге
против буржуазной методологии социального познания, — это
обвинение в эклектичности, беспринципности,
непоследовательности, логической противоречивости. Ее неизбежный
удел — социальное мифотворчество.
Для современной буржуазной методологии
социального познания и исходящих из нее теоретических концепций
в сопоставлении с методологией, служившей основанием
социально-философских концепций идеологов
капитализма XVIII—XIX веков, характерна утрата цельности и
последовательности, эклектичность в решении всех
коренных вопросов. Эклектичность, беспринципность
проявляются и в отношении современных буржуазных ученых
к марксистско-ленинскому учению. Здесь мы
встречаем и открытую враждебность (впрочем, отходящую уже в
область прошлого), и весьма значительные заимствования
и
у Маркса (иногда с соблюдением пиетета, а иногда и «не
обремененные» соответствующими ссылками), и — уже в
качестве эмоционального сопровождения — панегирики и
комплименты (хотя и довольно двусмысленные) в адрес
марксизма.
В современной западной социально-политической и
философской мысли широко представлены концепции,
эклектически сочетающие в себе идеи диалектического и
вульгарного материализма, исторического материализма и
более или менее утонченного исторического идеализма,
диалектики и метафизики. Эволюция стиля мышления
буржуазной науки весьма любопытна и представляет
собой довольно интересный со всех точек зрения предмет
для марксистского анализа.
Теоретическая путаница, непоследовательность,
метания от одной крайности к другой были типичной чертой
мелкобуржуазного метода мышления, которое в конце
XIX века Энгельс клеймил как интеллектуальное
крохоборство философствующего мещапства 1. Эти черты явно
наследуются ныне маститыми буржуазными идеологами.
Умело вскрываемая в книге эклектичность
современной буржуазной теоретической мысли свидетельствует о
растущей неуверенности буржуазии и ее идеологов, их
страхе перед будущим, подспудном осознании ими
грядущего заката капиталистической цивилизации. Именно
эклектика в наши дни творит всевозможные варианты
«конвергенции» социализма и капитализма в некоем
«едином индустриальном обществе», именно эклектика
выступает то под флагом «деидеологизации», то под флагом
«реидеологизации», ратует за «обновление» марксизма, за
его «дополнение» фрейдизмом, структурализмом или
антропологизмом.
«...Смесь из более умеренных критических
замечаний, экономических положений и представлений
различных основателей сект о будущем обществе,, — смесь,
которая допускает крайне разнообразные оттенки и
которая получается тем легче, чем больше ее отдельные
составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в
ручье, свои острые углы и грани»2 — так увековечил
Ф. Энгельс позицию филистера от социализма. Но разве
1 См., например: К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 20,
с. 147—149.
2 Там же, с. 19.
12
мы не находим той же «смеси из более или/менее
умеренных критических замечаний» в адрес капитализма у Мар-
кузе, Парсонса, Арона н т. п. Разве мы/не находим у
современных апологетов капитализма того «тусклого,
дряблого, бессильного поповского мышления» *, которое
Энгельс видел у Дюринга. Это мышление и сейчас хотят
навязать рабочему классу и его революционным партиям
не только теоретики ревизионизма, но и «вполне
буржуазные» профессора.
Заметим, кстати, что Ст. Раипко, сосредоточив свое
внимапие на критике буржуазных философско-социологи-
ческих и философско-исторических концепций, все же
уделил несколько страниц анализу ревизионистских
извращений диалектики. К сожалению, он не сделал попытки
как-либо объяснить это ответвлепие от основной темы или
увязать его с общей логикой изложения. Однако
отмеченный пробел, известная недоговоренность в книге лишний
раз свидетельствует о необходимости более глубокого
изучения взаимоотношений между буржуазной и
ревизионистской идеологиями в современных условиях. Эволюция
буржуазного стиля мышления от откровенного идеализма
к «научному материализму» или «критическому реализму»,
от механицизма и метафизики к «негативной диалектике»,
от дремучего антикоммунизма к идее «конвергенции» и
т. д., безусловно, заслуживает внимания
философов-марксистов. Сближение позиций ревизионизма и буржуазной
идеологии вряд ли можно истолковать как усиление какой-
либо из этих липий в идеологической борьбе. Скорее, это
симптом кризиса как буржуазной, так и ревизионистской
идеологий.
Все труднее найти в наше время философа или
социолога в западном капиталистическом мире, который
открыто выступал бы против материалистического подхода к
объяснению явлений природы. Что же касается
объяснения общественных явлений, то тут также их позиция
становится все более противоречивой. Во всяком случае, это
тот вопрос, в решении которого не следует ожидать
последовательности и принципиальности от буржуазных
ученых. Антиобъективность выступает здесь, как правило, в
скрытой форме, причем всевозможные разновидности ее
исходят из формального принятия и той или иной трак-
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, с. 189.
13
товки самого термина «объективность». Объективность
рассматривается» например, как «интерсубъективность»
(Поппер), как то, что свободно от социальных ценностей
и оценок (Парсонс), объективность — это «коллективное
бессознательное» (Хабермас), объективное—это то, что
связано с отчуждением человеческой личности, и т. д. и т. п.
Буржуазных теоретиков нисколько не беспокоит тот
факт, что ни одно из таких истолкований не отражает
действительной глубины и универсальности понятия
объективного, что столь ограниченное понимание
объективности познапня ведет к массе несуразностей в их
философских трудах, что сами определения подобного рода весьма
далеки от объективности. Объективность объявляется, как
правило, прерогативой естествознания: социальные
науки якобы не могут абстрагироваться от существующих
систем ценностей и оценок, а значит, всякая попытка
материалистического истолкования их данных есть не что
иное, как «натурализм». Рассматривая обвинения Маркса
в натурализме, вульгарном экономизме и пр., Ст. Раинко
убедительно показывает, что такие зигзаги мысли
довольно типичны для буржуазных идеологов, отмечая
поразительное единодушие в этом вопросе и Парсонса, и Арона,
и Хабермаса, и Маннгейма, и Ростоу.
Вместе с тем весьма симптоматичны и отчетливо
выявленные в книге разногласия между ними. Пока Парсонс,
Арон, Маннгейм и др. сражаются с мнимым
«натурализмом» Маркса в вопросе о природе социальных явлений,
Моно, Маркузе и Сартр сетуют на то, что теория Маркса,
напротив, слишком «анимистична», то есть
распространяет законы диалектики на область природных явлений,
тогда как, с их точки зрения, диалектика имеет место
только в мире сознания и практического действия. Такие
категории, как «противоречие», «отрицание», «тезис» п
т. д., относятся исключительно к мышлению. По мнению
Моно, смысл формулы Маркса о перевороте в философии,
о материалистическом истолковании диалектики Гегеля
состоит именно в «анимистической» трактовке диалектики
Гегеля, являющейся диалектикой духа, то есть в
перенесении ее на такие области действительности, которые не
входят в сферу сознания.
С позиций натурализма техническая и экономическая
действительность является материей точно так же, как
«физическая» материя представляет собой определенный
14
вид природного бытия. Тот приоритет, который свойствен
«физической» материи, Марксизм переносят будто бы
и на общественное бытие — техническим и экономическим
факторам отводится определяющая /роить в отношении
мира идей. Исторический материализм, таким образом,
есть не что иное, как простое расширение позиций
натуралистического материализма, его прямая проекция на
общество.
Однако коллизии буржуазной мысли вокруг проблемы
объективности социального познания и первичности
общественного бытия по отношению к сознанию этим не
ограничиваются. Маркузе, например, обвиняющий Маркса в
неправомерном перенесении: категорий диалектики на
область природных явлений, заявляет о своем признании
объективного характера общественных отношений. Тем
не менее, отмечает автор, не следует переоценивать
смелость подобных заявлений. По мнению Маркузе,
социальная действительность подчиняется объективным законам
только в условиях отчуждения (в марксистском —
заметим—понимании этого термина!), то есть тогда, когда
собственная человеческая деятельность, ее результаты и
отношения между людьми объективируются в форме
независимых от них вещных структур и противостоят людям
как господствующие над ними силы.
Итак, диалектика с присущей ей концепцией
объективных законов не имеет, согласно Маркузе, отношения к
природе, а в области общественных явлений описывает
только структуру объективированной действительности.
Но такая действительность имеет место только в
классовых обществах, опирающихся на товарное производство.
Отсюда еще один логический зигзаг — трактовка
диалектики как универсальной теории общественного развития
(а вместе с ней и материалистическое понимание
истории) —ошибка, заключающаяся в распространении на всю
человеческую историю структуры отчуждения, типичной
для определенных исторических периодов. Что же,
спрашивается, осталось от «научной мысли», побывавшей в
том теоретическом лабиринте, который сконструировал
для нее Маркузе? Остается тот эклектизм, который
иссушает, извращает и компрометирует диалектику и
опасность которого кроется в его двуликости, чисто внешнем
сходстве с диалектикой. «...Подделка эклектицизма под
диалектику, — писал Ленин, — легче всего обманывает
15
массы, дает кажущееся удовлетворение, якобы учитывает
все стороны процесса, в>се тенденции развития, все
противоречивые влтгяния и прочее, а на деле не дает никакого
цельного и революционного понимания процесса
общественного развития» К
Автор убедительно показывает, что Маркс никогда не
только не поддавался видимой простоте
натуралистической точки зрения, но и был ее первым критиком. В
«Капитале» он подчеркивает совершенно недвусмысленно,
что такие экономические категории, как «товар», «цена»,
«деньги», «капитал» и др., не имеют ничего общего с
физическими свойствами предметов и явлений. Упрек в
натурализме он считал очень серьезным и
неоднократно выдвигал его против материалистов прошлого, в
частности против Фейербаха. Маркс подчеркивал, что
стоимость товара не содержит в себе ни атома
материальной субстанции. Но это не означает, будто стоимость как
основа формирования механизма цен — нечто нереальное.
Понятия реальности и материальности в их отнесении к
общественному бытию имеют другой смысл, нежели
аналогичные понятия по отношению к физическому бытию.
Физические вещи и предметы входят в общественный
мир как носители социальных качеств. Общественный
мир — это мир социальных качеств и порождающих их
межчеловеческих отношений. Следовательно, если
определенные материальные системы и экономические
структуры оказываются выделенными как основа этого мира, то
это происходит не с точки зрения их физических свойств,
а с точки зрения их определенных общественных свойств,
общественного значения.
Заслуживает также внимания та ситуация, которая
имеет место в современной буржуазной социологии по
вопросу о развитии общества. Обратимся прежде всего к
методологическому аспекту книги, который отчетливо
выделен автором в критическом анализе «марксологиче-
ских» концепций. За редким исключением, современные
буржуазные ученые, отмечает Ст. Раинко, признают так
или иначе сам факт развития общества. Вопрос,
следовательно, состоит в том, как понимается это развитие.
И здесь мы находим вовсе не грубый метафизический
подход, игнорирующий полностью противоречия, кон-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 33, с. 21.
16
фликты, прогресс, отрицающий диалектику, а довольно
тонкую подделку, которую не всегда легко отличить от
«оригинала», изложенного как нельзя бсшее ясно в трудах
Маркса, Энгельса и Ленина. /
Буржуазные ученые, как критикуемые, так и не
упоминающиеся в книге, претендуют на открытие нового способа
мышления, который позволяет зам^йить диалектику неким
суррогатом, не прибегая к открытой полемике с
.марксизмом. Хотя этот «повый способ мйшления» весьма
напоминает «антагонистическую мировую схематику» Дюринга,
новое поколение буржуазных ученых едва ли
подозревает о столь отдаленпом родстве. Но это попутное и,
возможно, несущественное замечание, ибо, конечно, «новый
способ мышления» современных буржуазных ученых
значительно совершеннее «перекраивает» Маркса, чем это
пытался сделать Дюринг. Путем не слишком сложных
комбинаций, которые газета английских коммунистов
назвала «операциями на сердце Маркса» *, ныне создана
«диалектика», вполне пригодная в качестве
косметического средства для безнадежно устаревшего общества.
Рецепт ее изготовления был раскрыт Энгельсом, а позднее
Лениным. Если метафизика, говоря словами Эпгельса,
«мыслит сплошными пеопосредствованными
противоположностями» 2, игнорируя одну из них. во имя
абсолютизации другой и снимая тем самым проблему
объективного саморазвития природы п общества, то эклектика,
подделка под диалектику, в отличие от первой
признает палпчпе обеих противоположностей. Однако дальше
формального признания этих противоположностей она не
идет, неизбежно увязая при этом в непоследовательности,
идеализме и метафизике. «Логика формальная... берет
формальные определения, — писал В. И. Ленин, —
руководствуясь тем, что наиболее обычпо или что чаще всего
бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом
берутся два или более различных определения п
соединяются вместе совершеппо случайно... то мы получаем
эклектическое определение, указывающее на разные
стороны предмета и только» 3.
1 См.: «Morning Star», November, 17, 1977.
2 К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 21.
5 В, И. Лепи н, Поли. собр. соч„ т. 42, с. 289—290,
17
Эклектике чужд подход к анализу явлений, который из
совокупности всех рассматриваемых факторов, сторон
общественного развития выделяет главное, существенное,
необходимое. Она пользуется несколько иными приемами.
Так, например, во главу угла ставится принцип
отрицания... И вся диалектика развития, столь всесторонне и
глубоко раскрытая марксизмом, сводится, как показано в
кпиге, к туманным и весьма тривиальным рассуждениям
о том, что источник и механизм развития находятся якобы
в постоянном преодолении существующего положения
вещей скрытыми и рвущимися к собственной реализации
возможностями, в выталкивании того, что находится на
поверхности, тем, что скрыто в глубине объекта, и т. д.
Не слишком ясно, но достаточно многозначительно.
Или за исходную предпосылку принимается требование
учитывать все стороны вопроса... И провозглашается как
открытие тот факт, что с точки зрения этого принципа в
развитии общества нужно учитывать не только
экономические факторы, но и роль идей, значение техники, науки,
языка и т. д. Маркс, который якобы не догадывался о столь
простых вещах, оказывается, таким образом, диалектиком
в меньшей степени, чем создатели «нового метода
мышления». Маркс сводил якобы всю историю к одному
измерению — труду и производственной деятельности. Такие
важные факторы обществепного прогресса, как идеи,
наука, коммуникации, межличностные отношения, будто бы
исчезали из его поля зрепия, растворялись без остатка в
структуре практических действий, направленных на
преобразование природы.
Судьба диалектики не может, не внушать
беспокойства, коль скоро за дело взялись столь ревностные
поборники всесторонности рассмотрения, как Парсонс, Хабермас
и др. Правда, попытки выхолостить диалектику
оканчиваются довольно бесславно — она не так легко, как им,
очевидно, хотелось бы, поддается «укрощению». Парсонс и
Ростоу, папример, оказываются явно не в ладах с нею в
вопросе о роли науки в обществе: «новый метод
мышления» приводит их к явиой фетишизации паучиого
прогресса. У Хабермаса пе слишком благополучно обстоят
дела с выяснением роли коммуникации. Начиная со
скромного «дополнения» положения Маркса об
определяющей роли способа^ производства вторым измерением —
ко\{муП[ф)Ц14<)1тщ»1н. Хабермас также пе удержался в
18
равновесии: фактор межличностного общения,
коммуникационное измерение, введенный им сначала как бы в
«дополнение» к марксовой диалектике общественного
развития, немедленно потребовал новых жертв. Если
исторический материализм — одностороннее учение, если его
применимость ограничена, как утверждает Хабермас, то
его следует обобщить. «Новый способ мышления»
чувствует себя, как мы видим, стесненно в рамках «способа
производства», «трудовой деятельности»,
«общественно-экономической формации», и особенно когда речь заходит о
капитализме и социализме, о буржуазии или
пролетариате. Та «диалектика», которая ему больше импонирует —
диалектика коммуникационных процессов, — в отличие от
марксистской универсальна.
У Маркса, сетуют буржуазные теоретики, либо
капитализм — либо социализм, либо рабочий — либо буржуа,
либо мужчина — либо Женщина. Для них это слишком
узкое поприще. В коммуникационном процессе нет ни
капиталиста, ни рабочего; ни мужчины, ни женщины — есть
два индивида, есть язык общения, есть взаимопонимание
или непонимание, есть «интеракция». В сфере труда
совершаются лишь процессы обучения и присвоения технически
полезной ^информации. В сфере же интеракции
разыгрываются более значительные мистерии — процесс
социализации и формирование личности на основе общепризнанных
норм. Разумеется, разработанные Марксам категории в
столь универсальных измерениях утрачивают свой
методологический и теоретический смысл. Для вполне
эклектического изображения картины общественной жизни остается
еще перекроить историю применительно к фактору
коммуникации, роли науки и техники. Ростоу пересматривает
вопрос о развитии общества по стандартам технического
прогресса, Хабермас — согласно характеру коммуникаций.
В книге рассматриваются и те интерпретации истории
общества, которые «дополняют» марксистское учение в
другом плане. А именно антропологическим фактором.
У Маркса, с подобной точки зрения, история представляла
собой драму человека, угнетенного другими людьми,
опутанного чуждыми и враждебными ему социальными
связями, ограниченного природными условиями, над
которыми он до конца не властвует. Согласно Маркузе, ход
этой борьбы не поддается описанию в единообразных
схемах прогресса и регресса. До капитализма вщшчитель-
19
но история человечества складывалась таким образом,
что постепенное освобождение из-под власти природы,
происходившее в результате технологического прогресса,
человек оплачивал зависимостью от других людей и
общественных продуктов: прогресс на одном полюсе
сопровождался регрессом на другом. Для Маркузе вся
предшествующая история — это драма человеческой биологии,
развертывающаяся по одному плану: прогрессирующего
подавления инстинктов. С формированием
индустриальной цивилизации к этому присоединяется также драма
человеческой природы, трактуемой как объект господства
и угнетения. Естественно, что при таком подходе в
истории не находят места категории класса, классовой борьбы
или общественно-экономической формации. Начав с
небольшого дополнения Маркса, а также с заверений в
совершеннейшем к нему почтении, завершили,
подчеркивает автор, неприкрыто биологизаторским подходом,
откровенным эволюционизмом в истолковании вопросов
социального развития.
Диалектика Маркса с таких позиций оказывается
слишком узкой и в вопросе о классовой борьбе. Классовая
борьба в обществе объявляется ввиду этого устаревшим
понятием. Другое дело — социальный конфликт. Конфликт
представляет собой такое явление, которое в одинаковой
мере присуще как капиталистическому, так и
социалистическому обществу. По мнению Парсонса, Маркс
ошибается, сводя вое классовые столкновения к единственной
модели конфронтации между буржуазией и пролетариатом.
Впрочем, в этой ошибке Персоне склонен винить, скорее,
Гегеля, по примеру которого Маркс якобы перенес
категории логики на описание социальной действительности.
Как здесь не вспомнить в свою очередь Дюринга,
утверждавшего, что противоречие «может относиться
только к комбинации мыслей» \ что в сфере духа бурлят
противоречия, бытие же «смягчает», «гармонизирует» их.
Классовые конфликты не принадлежат к существенным
явлениям человеческих обществ, хотя они неизбежны и
неустранимы. Что же касается эксплуатации,
выступающей в учении Маркса в качестве главного источника
социальных антагонизмов, то в историческом плане ее
следует объяснять, скорее, случайным стечением обстоя-
1 К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 122.
2*
20
тельств. Например, совпадением места, / занимаемого
предприятием в системе организации производства, с
определенными рыночными отношениями и возможностью
для предпринимателей использовать государственный
аппарат в собственных целях.
У каждого из названных в книге «раскройщиков»
истории есть своя особая мерка. Тем не менее, если судить по
полному единообразию их теоретических выводов,
основные размеры «модели» общественного прогресса, которую
они при этом конструируют, задаются заказчиком очень
жестко.
Не случайно все ревностные сторонники «дополнения»,
«обобщения», «уточнения» Маркса настойчиво
концентрируют впимание на проблемах социального гомеостази-
са: восстановления, упрочения и сохранения равновесия
как внутренней системы, так и отношения «система —
окружающая среда». Парсонс, упоминая о так
называемых эволюционных постоянных, имеет при этом в виду
скорее возникшие в ходе эволюции свойства, которые
приобретают относительно устойчивое положительное
значение для адаптивных способностей и судеб общественной
системы, нежели факторы социального развития в каком
бы то ни было более полном смысле этого слова.
Развитие, по Попперу, предполагает непрерывное
появление нового, а научные законы описывают
повторяющиеся события. Следовательно, они неуместны в социальных
науках. В основе такой точки зрения, как показывает
автор, лежит очевидное недоразумение. Известно, что
развитие выступает как неповторяющийся процесс лишь в
отношении к отдельной системе. Но определенный закон
развития может быть типичен для нескольких систем.
Именно в этом смысле можно говорить о закономерной
смене общественно-экономических формаций.
Негативное отношение Поппера к законам развития
влечет за собой по крайней мере несколько следствий.
Каждое действие, говорит Поппер, вызывает ряд
непреднамеренных и не поддающихся предвидению явлений.
Это более всего опасно, когда речь идет о
революционных действиях, имеющих, по существу, всеобъемлющий
характер: они нацелены на полное изменение
существующей социальной структуры. В подобном случае
возможность наступления непреднамеренных
отрицательных последствий представляется особенно реальной. Един-
21
ственный путь предотвратить их — это отказ от революции
в пользу частичной социальной инженерии, то есть
осуществления фрагментарных, постепенных изменений.
Нетрудно видеть в этом позицию убежденного консерватора,
защитника капиталистического status quo.
Эта сторона концепций буржуазных идеологов в
сочетании с откровенной приверженностью к стабильности,
равновесию или в лучшем случае к частичной социальной
инженерии показывает истинную цену эклектической
теории социальной эволюции. Новизна современной
эклектики состоит разве лишь в том, что трудами таких
буржуазных ученых, как Поппер, Парсонс, Хабермас, Маркузе,
Маннгейм и др., она приобретает в последние годы черты
систематически развитой методологии социального
познания.
Разоблачая эклектичность буржуазного мышления,
книга Станислава Раинко объясняет многие стороны
идеологической борьбы в современном мире, раскрывает
важные особенности ее па современном этапе соревнования
социализма с капитализмом, обогащает арсенал
аргументов в борьбе против всех разновидностей современной
буржуазной идеологии. Она, безусловно, будет
значительным вкладом в работу философов-марксистов в
направлении критического анализа буржуазной методологии
социального познания, разоблачения сущности новейших
буржуазных философских, социологических и
социально-политических концепций, в исследование актуальных
проблем диалектического и исторического материализма.
И. Налетов
Введение
Со времени своего возникновения марксизм постоянно
сталкивался с противодействием со стороны буржуазной
мысли. С течением времени враждебность эта не только
не уменьшается, а, скорее, даже растет. Вместе с тем
изменяются ее содержание и формы проявления.
В такой ситуации нет ничего удивительного. Марксизм
дает наиболее глубокий анализ и критику буржуазного
общества. Никто не смог столь же убедительно и
принципиально, как это сделал Карл Маркс, раскрыть
механизмы функционирования этого общества, его цели и
ценности, мыслительные и идеологические структуры.
Достаточно вспомнить здесь хотя бы о важнейших разработках
основоположника марксизма.
Прежде всего, ему принадлежит открытие преходящего
характера капиталистической системы. Он доказал, что
она сойдет с исторической арены с той же
неотвратимостью, с какой в определенный период времени возникла.
Далее следует назвать данный Марксом анализ проблемы
отчуждения и форм ее проявления в условиях
капитализма. Речь здесь идет о совокупности процессов, имеющих
своим результатом опредмечивание межличностных
отношений, утрату людьми контроля над социальными
условиями своей жизни, а также различные дегуманизирую-
щие следствия такого положения вещей. Капитализм
расширяет, укрепляет и углубляет отчуждение до
невиданных ранее масштабов. И наконец, в теории
прибавочной стоимости и ее распределения Маркс вскрыл
механизм ■капиталистической эксплуатации. Он указал на
прибыль и увеличение прибавочной стоимости как на
конечную цель и движущую силу капиталистического способа
производства, отметил в связи с этим проявления его
социальной неэффективности и нерациональности.
С той же бескомпромиссностью обнажил Маркс и
скрытые структуры буржуазной мысли, свойственные ей
23
иллюзии и заблуждения: отрицание социальной и
классовой обусловленности теории, стремление создать видимость
полной беспристрастности и объективности, выдать свои
классовые интересы за общечеловеческие и
универсальные, выступать якобы от имени одного лишь разума и
«чистого» познания. Другой, столь же идеологически
значимой чертой буржуазного мышления является
феноменализм, то есть ограничение характеристик
действительности областью поверхностных явлений и уход от
рассмотрения существенных взаимозависимостей. Поскольку
механизмы эксплуатации и угнетения людей относятся к
скрытым структурам капиталистической
действительности, такой способ мышления эффективно предохраняет их
от обнаружения и разоблачения. При этом в плане
философском и методологическом он чаще всего — хотя и не
исключительно — находит свое выражение в
позитивистской доктрине, рекомендующей опираться на «голые
факты», на опыт как непосредственную регистрацию
чувственных данных, постулирующей метод индуктивного
обобщения как единственно правомерный путь получения
универсальных высказываний. Как заметил Маркс, эти
процедуры и лежащий в их основе стиль мышления не
поднимаются, как правило, над уровнем рядового
наблюдателя и участника капиталистического status quo,
заинтересованного в его сохранении и упрочепип. Буржуазная
мысль характеризуется, наконец, постоянной склопностью
к натуралистическому понимапию социальной
действительности, то есть стремлением свести ее к физическим
или психологическим явлениям. Между этими двумя
крайностями развивается практически вся буржуазная
общественная мысль. Немаловажен и идеологический эффект
такого подхода. Он позволяет скрыть исторически
преходящий характер буржуазного общества, представить его как
результат действия универсальных закономерностей, либо
связанных с природой человека, либо непосредственно
вытекающих из объективной структуры вещей и явлений.
Марксова критика имеет, таким образом,
всесторонний, глобальный характер. Это критика экономическая,
социологическая, антропологическая, а также этическая
и идеологическая. Она не утратила своего значения и в
настоящее время.
Однако марксизм не исчерпывается критикой
буржуазного общества. Он представляет собой также и великое
24
теоретическое завоевание в сфере общественных и
гуманитарных наук, определенный способ понимания мира и
истории. Его нельзя обойти, им нельзя пренебречь, так
или иначе исключить из интеллектуальных дискуссий.
Впрочем, крупнейшие буржуазные теоретики, среди
которых следует прежде всего назвать имя Макса Вебера,уже
давно поняли это. Что же касается позиции,
представленной взглядами Джона М. Кейнса, относившегося к учению
Маркса с явным предубеждением, то она принадлежит к
редким исключениям. Следует при этом иметь в виду, что
у Кейнса — несомненно, видного буржуазного
экономиста — такая позиция определяется не только
идеологическими установками, но вместе с тем — а может быть, и
прежде всего — поистине беспримерным незнанием идей
Маркса. Сегодня, по-видимому, уже пи один из учеников
и последователей Кейнса не решится на подобную оценку.
Более того, в их среде нередко можно встретиться с
декларациями признания Маркса как ученого, опередившего
буржуазную экономическую мысль в постановке проблем
экономического роста и развития.
Марксизм, таким образом, служит для буржуазной
мысли объектом как идеологической, так и
научно-теоретической критики*. Оба эти аспекта тесно между собой
связаны, разделить их можно только в целях анализа.
1. Формы реакции на марксизм.
Типология критиков
Отношение к марксизму проявляется по-разному.
В принципе, однако, все проявления подобного рода можно
сгруппировать вокруг трех главных форм и типов.
Первое место занимает, несомненно, открытая
критика. С ней не только связана самая длительная и
устойчивая традиция в буржуазной литературе, но и в чисто
количественном отпошении она доминирует в растущей
массе публикаций, относящихся к марксизму. Ее можно
считать классическим, как бы официальным типом
реакции буржуазной мысли на марксистское учение. Позицию
* Разделение автором теоретической и идеологической
критики представляется спорпым, поскольку речь идет о социальных
теориях, само содержаппе которых имеет идеологический
характер. — Прим. ред.
25
эту представляют в наши дни, если ограничиться только
самыми известными именами, Карл Р. Поппер и Талкотт
Парсонс. Оба одинаково решительно и полностью
отвергают и критикуют марксизм, не скупясь тем не менее на
расхожие комплименты главным образом по адресу
творцов марксизма. Оба также не скрывают идеологических
мотивов своей критики, хотя у Поппера этот момент
выступает гораздо более явно, нежели у Парсопса.
Упоминание в даипом контексте о Поппере и Парсон-
се интересно еще в одном отношении. Они не только
принадлежат к кругу ведущих представителей современной
буржуазной мысли и пользуются репутацией серьезных
ученых в соответствующих областях (первый — в
философии и философии науки, второй — в теоретической
социологии), но исходят из различных, традиционно
конкурирующих между собой методологических доктрин.
Поппер — позитивист и автор известной разновидности этого
направления. Парсонс решительпо склоняется к
антипозитивистской ориентации. У истоков современной мысли
обе эти ориентации выступали соответственно как
эмпиризм и рационализм. В дальнейшем воспроизводились и
получали распространение различные их модификации.
Сказанное означает, что деление на позитивистскую и
антипозитивистскую или непозитивистскую ориентации
несущественно с точки зрения общего отношения к
марксизму: обе в одинаковой мере служили и служат
буржуазии для нападок на это учение.
Однако реакция, проявляющаяся в виде критики и
полного отрицания, лишь одна из форм отношения к
марксизму. Наряду с ней возникает и приобретает все большее
значение другой тип реакций. Речь в данном случае идет
о позиции, которую можно было бы охарактеризовать как
частичную или выборочную адаптацию. Конечно, она не
исключает критики, а иногда и прямо предполагает ее. Тем
не менее она не сводится к ней целиком и полностью.
Упомянутая позиция выражается, как правило, в
заимствовании у марксизма определенной проблематики или
методов исследования. К числу наиболее видных её
представителей можно отнести таких теоретиков, как Макс
Вебер, Карл Маннгейм, Эрих Фромм, Йозеф Шумпетер.
К примеру, Маннгейм в двадцатых годах перенял о¥
марксизма — хотя и не без критических комментариев —
проблематику социальной обусловленности познания, вь*-
26
делив ее под названием социологии знания в специальную
дисциплину. В рамках марксизма эта проблематика
выступала как частная по отношению к теории исторического
материализма, играя, помимо прочего, роль теоретической
основы марксистской идеологии.
Подобным же образом Фромм подошел к марксовой
теории отчуждения, пытаясь трансформировать ее
соответствующим образом и использовать в целях критики
современного капитализма.
Вебер и Шумпетер представляют несколько иную
позицию. Оба заимствуют у марксизма не столько
определенную проблематику, сколько выбор путей исследования и
совокупность методологических идей. Исследование Вебе-
ром генезиса капитализма находится под заметным
влиянием мысли Маркса, хотя они исходят из различных
предпосылок. Это относится и к ряду его историко-социальных
и социологических тезисов. Теория идеальных типов —
главнейший исследовательский инструмент немецкого
социолога, и его приложение к методологии гуманитарных
наук также является несомненной парафразой марксова
метода идеализации. Столь же показателен и пример Шум-
петера. Вслед за Марксом и марксизмом он занялся
проблематикой экономического развития, которая до
последнего времени не привлекала внимания буржуазных
ученых. Его концепция капитализма использует такие
изначально марксистские методологические разработки,
как анализ структурных и институциональных аспектов
капиталистической системы, рассмотрение этой системы в
процессе ее изменения и динамики (не исключающее
возможность ее падения и замены специфически понимаемым
социализмом), признание значимости отношений
собственности и т. д.
Все названные исследователи осознают свою
интеллектуальную зависимость от марксизма и все вместе с тем
критикуют его отдельные разделы. Во всяком случае, ни
один из них не принял марксизм в целом как
определенную теоретическую и идеологическую структуру.
В этой связи встает вопрос о возможных границах, в
которых буржуазная мысль может принимать марксизм.
Здесь представляется несомненным одно: эти границы
определяет именно марксизм как целостное учение.
Нельзя (разумеется, при условии последовательного,
подчиняющегося элементарным законам логики мышления) при-
27
аять марксистское учение в целом, оставаясь при этом
на буржуазных позициях, если учесть, что марксистская
мысль по самой своей сути является мыслью
антибуржуазной.
Что же касается отдельных проблем и высказываний
либо совокупностей высказываний, методов и приемов
исследования, входящих в состав марксизма, то можно
предположить, что готовность буржуазных теоретиков
принять их будет обратно пропорциональна уровню их
насыщения идеологическим содержанием, их роли в
выявлении сущности капиталистической системы и положения
буржуазии как общественного класса, в упрочении
убеждения в преходящем характере буржуазного общества и
необходимости его революционной замены обществом
социалистическим. С учетом этого критерия трудно себе
вообразить, чтобы какой-нибудь буржуазный теоретик
согласился, например, с теорией прибавочной стоимости
и основанной на ней марксовой теорией эксплуатации
либо с научным социализмом.
Тем не менее любое конкретное предсказание в этом
плане может оказаться ошибочным. Так, например,
Дьёрдь Лукач предсказывал в 1923 году, что проблема
кризисов, их источников и неизбежности навсегда
останется непреодолимым барьером для буржуазной
политической экономии. Так оно, в сущности, и было в рамках
классической и вульгарной экономических теорий. Однако
с момента появления теории Кейнса в буржуазной
политической экономии в этом отношении произошли
серьезные изменения. Теория кризисов и конъюнктурных
циклов становится одним из быстро развивающихся разделов
современной буржуазной экономической мысли, а
признание неизбежности исследуемых в нем явлений вытекает
из фундаментальных теоретических предпосылок. Это
связано с тем, что Кейнс, равно как и его современные
последователи, отказался от так называемого закона
рынка Ж. Б. Сейя, утверждающего автоматически
регулируемое при капитализме равновесие между глобальным
спросом и глобальным предложением.
Таким образом, под непреодолимым давлением
исторических обстоятельств и практических нужд — речь в
данном случае идет об экономическом кризисе 1929—1933
годов и о необходимости разработки техники
государственного интервенционизма — буржуазная мысль может
28
отбросить свои апологетические устремления и
эволюционировать в сторону более объективной трактовки
капиталистической реальности. Там же, где этот механизм не
действует, передко доминируют самые абсурдные
доктрины, если только они отвечают далеко идущим
идеологическим целям. Примером может служить тот же Ж. Б. Сей
с его явно апологетической концепцией факторов
производства, разные варианты которой до сих пор
поддерживаются буржуазной экономической теорией. Как известно,
в соответствии с этой концепцией, способностью создавать
стоимость обладает не только труд, но также капитал и
земля. Поэтому опп полноправно участвуют в
распределении вновь создапной стоимости, что перечеркивает
понятие эксплуатации и лишает его какого-либо смысла.
Подобные обстоятельства в гораздо большей степени,
чем прогресс зпаппя п паучная добросовестность, служат
причиной того, что буржуазная идеология оказывается
способной перепимать определенные элементы
марксистской теории. Разумеется, здесь имеется в виду общпй
процесс, не исключающий отдельных случаев далеко идущего
сближепия пекоторых теоретиков с марксизмом.
Накопец, сравнительно подавно возник еще один тип
реакции па марксизм, отличающийся от названных выше
стремлением его представителей к реинтерпретации
марксистского ученпя в целом либо пекоторых его важных
разделов. Попытки подобного рода нередко
сопровождаются видимостью полного согласия с марксизмом и даже
готовностью взять его на вооружение.
Представителями такой позиции па Западе являются
группы левых интеллектуалов. Как правило, они не
отождествляют себя ни с буржуазным обществом и его
ценностями, ни с интересами рабочего класса и политикой
коммунистических партий. В силу своего социального и
идеологического положения они видят в марксизме
прежде всего критику капиталистической системы, инструмент
постижения действительности и противоборства с ней,
забывая вместе с тем о положительной социальной
программе, выражеппой в теории паучпого социализма.
„В качестве примеров можно назвать, с одной стороны,
концепции «франкфуртской школы», а с другой — Жана
Поля Сартра периода «Критики диалектического разума»
(«Critique do la raison dialectique», vol. I, 1960). И в том и
рг другом случаях попытки определения собственных те<>
29
ретических позиций нередко сопровождаются
мистификациями. Возможно, дальше всех продвинулся в этом
направлении Сартр, прямо провозгласивший себя в
названный период марксистом.
Однако речь здесь идет всего лишь об определенных
попытках прочтения марксистского учения либо с
немарксистских позиций, либо в лучшем случае по принципу
pars pro toto.
В частности, представители «франкфуртской школы»
пытаются определить марксизм исключительно или
прежде всего как апалпз и критику капиталистической
действительности и лишь во вторую очередь — как пример так
пазываемой критической теории, которая (в отличие от
естественнонаучного и соцпотехнического знания)
оказывает деструктивное и преобразующее воздействие на
status quo уже самим фактом своего распространения.
Концепции Сартра в свою очередь (с некоторым, пе
имеющим, однако, принципиального значения упрощением)
можно рассматривать как попытку расширения
экзистенциализма за счет включения в него определенных
элементов марксистского анализа: понятий практики,
общественных классов и общественных отношений, фактора истории
и исторического развития, социальной диалектики и т. д.
Однако трудпо не заметить, что эта попытка ведет к
внутренней противоречивости, а провозглашение себя
марксистом — результат заблуждения Сартра и по меньшей
мере пеобосповапио.
Назваппые интерпретации и реиитерпретации
марксизма порой функционируют в различных социальных
группах как единственный адекватный образ современного
марксизма, как обновленный, неклассический марксизм,
неомарксизм и т. п. Заметная роль в распространении
этого убеждения принадлежит самим авторам
упоминавшихся концепций.
Нет необходимости доказывать, что здесь мы имеем
дело с определенной мистификацией или в лучшем случае
с недоразумением. Действительно, пи в одном из
представленных случаев речь пе идет пи об обобщепии, ни о
развитии, ни об уточнении, ни о творческом применении
марксизма к новым теоретическим или практическим
ситуациям, речь пе идет даже просто о новой интерпретации.
Здесь мы имеем дело с впешнпмп интерпретациями
марксизма, то есть с попытками подогнать его под доктрины,
30
понятийные аппараты и способы мышления,
разработанные вне и независимо от марксизма, а порою и прямо
противопоставляемые ему. При этом данные доктрины,
понятийные аппараты и способы мышления в своей
рудиментарной форме совсем не новы. Концепция критической
теории «франкфуртской школы» обнаруживает сходство с
некоторыми идеями левых гегельянцев первой половины
XIX века. Столь же глубоко уходят и корни
экзистенциалистских доктрин.
Таким образом, попытки опровержения, выборочная
адаптация и реинтерпретация — три формы отношения к
марксизму. В настоящее время все они сосуществуют, хотя
исторически наслаивались и, как правило, наследовали
друг другу. Различны также их социальный генезис и
мотивы, обусловившие их возникновение. При этом самые
большие недоразумения порождает последняя из
названных форм, что делает особенно актуальной проблему ее
критического анализа. Из вышеизложенного следует, что
о критиках марксизма можно говорить как в узком, так и
в широком смысле слова. В первом случае к ним следует
причислить только тех, для кого критика является
единственной или главной формой отношения к марксизму.
В широком смысле это понятие будет охватывать также
и представителей двух других типов реакции на марксизм.
Такой подход наиболее соответствует фактическому
положению дел.
Как частичная адаптация, так и реинтерпретация
предполагают критическое отношение к марксизму — ко
всем его элементам, не подверженным адаптации, а
также к известным разработкам этого направления, в том
числе и к подлинно марксистским. Обе эти формы
сопровождаются, как правило, рядом более или менее развитых,
частичных критических предпосылок и оговорок. Обе,
таким образом, отличаются не отсутствием критики, а тем,
что они не сводятся к ней полностью. В дальнейшем
понятие «критики марксизма» мы будем употреблять в
широком смысле, охватывающем как откровенных противников
марксизма, так и представителей всевозможных
оппозиционных марксизму течений, в том числе и тех, которые
заключаются в попытках адаптации или полной реинтер-
претации марксистской теории.
31
2. Виды стратегии критиков
Говоря о видах стратегии критиков марксизма, мы
имеем в виду не те или иные конкретные обвинения и
возражения, а целые их классы или группы, подчиненные
ведущей идее, которая определяет общее направление и
цель.
Можно выделить по крайней мере три типа таких
стратегий, каждый из которых заслуживает специального
рассмотрения. Они связаны с обсуждавшимися выше
тремя типами реакции на марксизм. Коротко поясним, что
имеется в виду.
Первый тип стратегии — первый также и
исторически — направлен на дискредитацию марксизма. Речь здесь
идет о совокупности критических приемов, нацеленных
прежде всего на доказательство неадекватности,
неправомерности, отсутствие ценности марксизма или отдельных
составляющих его элементов в различных аспектах:
методологическом, теоретическом и идеологическом.
Методологические обвинения сводятся к
утверждениям, что основополагающие формулы марксистского учения
выражены неясным многозначным языком, с
использованием метафор, неточных и не определенных должным
образом понятий. Эта ситуация объявляется
неразрешимой, поскольку каждая попытка преодоления
существующей неясности и многозначности приводит к ликвидации
самих формул, не говоря уже о том, что они лишаются
глубины и эмоциональной окраски. После такой операции
они в лучшем случае превращаются в банальные и
теоретически бесплодные утверждения. Большинство
марксистских положений — причем наиболее фундаментальных —
понимается при этом как высказывания метафизические,
то есть неподтвержденные и не поддающиеся
эмпирическому контролю. Нетрудно догадаться, что подобные
обвинения особенно усердно выдвигают позитивисты.
К методологической установке следует, по-видимому,
отнести также и обвинение марксизма в эссенциализме,
то есть в претензии на открытие глубинной, скрытой за
сферой явлений сущности, в склонности к историческим
пророчествам, в смешении прогнозов с пророчествами, вере
в исторический детерминизм и существование
исторических закономерностей.
Уместно вспомнить здесь также п о нашумевших всвоо
32
время попытках обнаружения логических противоречий,
якобы имеющих место в рассуждениях Маркса: в
частности, между первым и третьим томами «Капитала» в связи
с взаимным отношением теории стоимости и теории цены
производства (Э. Бём-Баверк) или между вторым и
третьим томами на примере отношения Маркса к проблеме
кризисов (М. И. Туган-Барановский).
Попытки дискредитации марксизма на теоретическом
уровне выражаются главным образом в стремлении
обнаружить ложность тех или иных тезисов исторического
материализма и марксистской политической экономии:
например, тезисов об определяющей роли общественного
бытия по отношению к сознанию, о значении
экономических факторов в социальном развитии, закона стоимости
и прибавочной стоимости, утверждения о пауперизации, о
тенденции к снижению нормы прибыли и т. д. Объектом
нападок служат также прогнозы Маркса относительно
судеб капитализма, проблемы так называемого среднего
класса, о ходе и способе осуществления социалистической
революции и т. д. Вопросы эти поднимаются почти в
каждой «марксологической» работе, как правило, с целью
показать, что исторические прогнозы творца марксизма
оказались опровергнутыми ходом социальных событий.
В идеологическом плане марксизм и теория научного
социализма критикуются иногда как слишком
утопические, а иногда как недостаточно утопические. Широко
применяется здесь также аксиологическая критика,
стремящаяся доказать, будто реализация научного
социализма угрожает фундаментальным социальным ценностям.
Отдельное место занимают утверждения об
устарелости марксизма в методологическом, теоретическом или
идеологическом аспекте. Разные критики
специализируются при этом на подчеркивании разных аспектов.
Этот тип критики имеет особенно давнюю традицию,
что вполне понятно, если принять во внимание его
идеологический эффект: достигнутая этим путем «девальвация»
марксизма имела бы общий и окончательный характер.
В остальных случаях результатом критики может быть
самое большее — вывод о том, что марксизм
дискредитирован как пе отвечающий тем или иным требованиям
научности. Однако этот вывод всегда может встретить отпор,
а система аргументации требует постоянного обновления.
В то же время утверждение об устарелости является окон-
33
чательным приговором, гласящим, что марксизм будто бы
бесповоротно развепчан и отброшен самим ходом объек-.
тнвных событий в науке или общественной жизни.
Мнимая устарелость марксизма в социальном и
идеологическом отношениях становится ныне излюбленной
темой в кругах его критиков. Здесь сходятся как критики
справа, так и критики левацкого толка. Трудно назвать
такие изменения и преобразования в современной
действительности, особенно капиталистической, которые не
использовались бы против марксизма и не трактовались
бы как свидетельства его несоответствия — в качестве
теории и социальной программы — реалиям современного
мира. Разделение в капиталистической промышленности
собственности и управления, расширение сферы услуг,
государственный интервенционизм, научно-техническая
революция и ее результаты, процессы автоматизации,
победа революций в странах с неразвитым
промышленным потенциалом, изменения в структуре рабочего
класса — вот далеко не полпый перечень явлений, которые
интерпретировались и интерпретируются именно в таком
духе.
Порой предпринимаются попытки подкрепить
обвинения в устарелости более общим обоснованием. Этой цели
служит, папример, ограничение действенности марксизма
полностью пределами XIX века, причем не только по
признаку его возникновения, но также и по его значимости и
теоретической оправданности. Подобный же смысл имеют
и попытки «локализации» марксизма на уровне, так
сказать, историко-социальном. Они сводятся к трактовке
марксизма в качестве доктрины, отвечающей условиям
исключительно раннего периода промышленной
революции и положению в сформировавшихся на ее основе
индустриальных странах. При таком подходе марксизм
предстает как теория неактуальная для более развитых
обществ, не говоря уже об обществе будущего.
Слова Даниэля Белла «мы все стали постмарксистами»
могут послужить эпиграфом для этого типа критики. Их
смысл однозначен: нельзя якобы сегодня быть
марксистом, можно быть только постмарксистом, то есть считать
марксизм пройденным и преодоленным этапом. Эта фор*
мула, даже если не принимать во внимание ее явно
спекулятивный характер, несомненно, злоупотребляет словом
«все». Тем не менее опа точно указывает направленность
3 Ст. Раинко
34
значительной части теорий, выступающих ныне с
критикой марксизма.
Наряду со стратегией дискредитации выступает также
стратегия «разложения марксизма». Именно так можно,
по-видимому, определить целый набор критических
аргументов, направленных на дезинтеграцию марксизма,
подрыв его целостности.
Прежде всего отметим невинную лишь на первый
взгляд и широко применяемую процедуру расчленения
марксизма на ряд отдельных дисциплин или тематических
областей. Важпо подчеркнуть, что речь в данном случае
идет не о таком вычленении определенных проблем и их
предметных областей в рамках марксизма, необходимость
которого продиктована требованиями исследовательского
труда. Дело это вполне понятное и естественное. Речь
идет о дезинтеграции в полном смысле этого слова,
влекущей за собой возможность расчленения и полного
разложения марксизма на те или иные составляющие его
элементы.
К примеру, марксизм изображается как совокупность
более или менее свободно объединенных между собой
положений политической экономии, социологии,
философии, социализма и т. д., внутренняя связь которых не
предполагает непременно полного принятия либо столь же
полного опровержения. При таком подходе марксизм
становится только общим наименованием для разнородных,
по существу отличающихся друг от друга проблем, чем-то
вроде завесы, прикрывающей видимость единого целого.
Для Шумпетера, одного из представителей
охарактеризованной выше позиции, деятельность Маркса сводится
к четырем ролям: «пророка», «социолога», «экономиста»
и «учителя»,—каждая из которых не только может
рассматриваться независимо от остальных, но и, по сути, не
обнаруживает близкой связи с ними. Целостное
понимание марксизма он клеймит как характерное для его
приверженцев, но недостойное объективного исследователя.
Другое дело, что Шумпетер не вполне последователен в
своих выводах и в той же работе «Капитализм, социализм
и демократия» («Capitalism, Socialism and Democracy»,
1942) выдвигает утверждения, из которых явствует, что
он все-таки признает определенного рода теоретическое
единство марксизма.
Крайним выражением рассматриваемого подхода явля-
35
ется распространенное убеждение в возможности
разделить внутри марксизма собственно научные тезисы и
тезисы идеологические. Первые после соответствующей
верификации могут быть включены в состав науки и
способствовать ее обогащению. Судьба же идеологической
части, лишенной научного статуса, заранее предрешается.
Именно таковым признается нередко фактический ход
развития марксизма. Марксизм как единое целое
обрекается при этом не только на распад, но и на полное и
окончательное уничтожение.
Однако гораздо более характерны для современности
пе попытки расчленения, а так называемая марксологи-
ческая критика. Ныне она является главным оружием в
стратегии «разложения марксизма» и вместе с тем,
несомненно, одной из наиболее резких форм нападок на
марксизм. Мы имеем здесь в виду попытки противопоставить
молодого Маркса зрелому, Энгельса Марксу, Ленина им
обоим и т. д. Речь при этом идет отнюдь не о простой
регистрации тех пли иных различий в их взглядах, но о
сознательном намерении дезинтегрировать марксизм
путем абсолютизации отдельных разночтений, обнаружения
мнимой противоречивости и деформаций там, где имеет
место обычный процесс наследования или развития
идей. Весь арсенал перечисленных средств используется
сегодня с большей или меньшей изощренностью с целью
зародить сомнение в целостности и единстве марксистской
мысли.
О третьем типе стратегии: интерпретации и реинтер-
претации — мы уже говорили выше. Он также
представляет собой новое явление в марксологической критике, что,
несомненно, ставит перед современной марксистской
мыслью новые задачи.
Дискредитация, разложение и реинтерпретация —
такова расширяющаяся совокупность средств полемики с
марксизмом, нередко сосуществующих в том или ином
сочетании у одного и того же автора.
Вне сферы нашего внимания, по существу, осталась
ревизионистская критика и ее стратегия. И это не случайно.
Ревизионистская критика относится к внутренней истории
марксизма, является критикой его изнутри. В то время
как предметом рассмотрения здесь является критика
внешняя, осуществляемая авторами, не придадлежащимц
п ие причисляющими себд к марксистам
3*
36
Ревизионизм имеет свои особенности, требующие и
специального анализа, и специфических критериев
оценки. Для него характерно, например, заимствование у
буржуазной мысли существенных элементов аргументации и
доктринальных предпосылок, дополнение марксизма
фрагментами чуждых ему философских и теоретических
ориентации: кантианства, позитивизма, экзистенциализма
и т. д. Ревизионизм, как правило, эклектичен, лишен
интеллектуального своеобразия. Другой чертой, столь же
характерной для ревизионизма, являются попытки
исправления или, скорее, искажения марксизма,
нейтрализующие либо полностью извращающие его классовый и
идеологический смысл. Объектом ревизионистских нападок
служат такие жизненно важные вопросы, как судьбы
капитализма, природа и ход социалистической революции,
диктатура пролетариата, взаимоотношение между
ближайшими и более далекими интересами рабочего класса.
Оставаясь в принципе критикой изнутри,
ревизионистская критика обнаруживает формальпое родство с тем
типом внешней критики, который мы назвали
интерпретацией либо реинтерпретацией.
Установки внешней критики — в отличие от критики
ревизионистской, не говоря уже о естественном различии
во взглядах и о спорах но поводу творческого наследия
классиков, — наиболее четко выразил К. Р. Поппер в
афоризме, являющемся парафразой одиннадцатого тезиса о
Фейербахе: «Марксисты так или иначе только
интерпретировали марксизм; речь, однако, идет о том, чтобы
изменить его». Слово «изменить» может означать в
данном случае и дискредитацию существенных теоретических
и идеологических положений, и дезинтеграцию, и
трансформирование путем реинтерпретации и подгонки под
различные немарксистские мыслительные схемы. Что
касается самого Поппера, то ему больше всего по душе первый
из названных путей.
Мы не рассматриваем также проблемы социальной
обусловленности и функций анализируемых типов
критики и их характерных модификаций. Проблема эта требует
специального обсуждения. Впрочем,, для внимательного
наблюдателя социальные предпосылки более или менее
очевидны. Растущий авторитет социалистических
государств и марксистского учепия, их международное
влияние, внутренние трудности кешит&дистическрй системы и
37
появление в ней новых центров напряжения — все это в
целом главная совокупность причин, определяющих
изменения стратегии критиков марксизма.
3. Почему необходима критика
критиков марксизма?
Вопрос этот имеет, казалось бы, риторический характер.
Речь, однако, идет здесь о проблеме обязанностей и долга
марксиста.
В интересующем нас контексте первой и основной из
этих обязанностей является, несомненно, ответ на критику
марксизма. Это долг каждого теоретика-марксиста,
вытекающий из необходимости сохранения и упрочения
общественного авторитета учения К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Лепипа. Всякий, кто уклоняется от его исполнения,
доказывает тем самым, что он является сторонником теории
лишь на словах, а не па деле.
Об ученом, который отказывается защищать свои
научные взгляды от их публичной критики, можпо сказать, что
либо у него нет аргументов для защиты (что, конечно же,
не способствует признанию его иаучпого авторитета и
увеличению числа его сторонников), либо оп пе относится к
собственным взглядам с достаточной серьезностью, что дис-
кредилирует уже его самого как учетгого.
Обязанности марксиста не ограничиваются, однако,
лишь опровержением возражений и упреков в адрес
марксистского учения. Они включают также понимание самого
явления критики. Положение это имеет по крайней мере
двойной смысл.
С одной стороны, понимание критики в соответствии с
марксистским тезисом о социальной обусловленности
человеческого созпапия и его проявлений как выражения
определенных социальных и классовых позиций. Критика
идеологии сама имеет идеологический характер и в качестве
таковой может быть объяснена и опровергнута путем
раскрытия порождающих ее социальных механизмов,
классовой структуры, лежащих в ее основе интересов той или
иной социальной группы, и т. д. Подобная процедура, как
уже было сказано, преследует цель объяснения и вместе с
тем разоблачеппя, поскольку она обнаруживает, что
критики марксизма далеко не беспристрастны,
38
С другой стороны, понимание истоков критики и
социальной позиции самих критиков небезразлично для
понимания истории марксизма: его формирования как
определенной социальной теории, дальнейшего развития и
обогащения, форм восприятия и практического применения, сферы
и глубины влияния на сознание народных масс,
идеологической эффективности и т. д.
Знакомство с разнообразными формами критики не
является занятием совершенно бесплодным с точки зрения
теоретического развития марксизма. Оно может привлечь
внимание к вопросам, недостаточно разработанным в
марксистской теории, выявить упущения в системе
обоснования и способе изложения отдельных проблем и т. д. Оно
может также способствовать анализу ряда проблем
(особенности развития современной фазы капитализма,
научно-техническая революция и ее социальные последствия,
тендепции и направление развития современного мира),
ставших предметом спекуляций со стороны критиков и
используемых в борьбе против марксизма. К этой теме мы
еще вернемся в следующих разделах настоящей работы.
Современный мир является миром сосуществования и
одновременно противоборства двух социальных систем.
Марксизм стоит в центре этого идеологического
противоборства. Сегодня вопрос об отношении к критике в адрес
марксизма актуален, как никогда прежде.
В наше время возникает явление, которое можно
назвать «институционализацией» критики марксизма.
Существование институтов, журналов и особых издательских
серий, многочисленные группы людей, превративших
борьбу против марксизма в своего рода профессию,
массовый выпуск литературной продукции в данной области —
таковы симптомы названного явления. В этой связи
необходимо, чтобы марксистские круги были ориентированы
на такое положение вещей.
Критика марксизма принимает все более изощренные
формы. Наряду с традиционной критикой, сводящейся к
отрицанию познавательной ценности марксизма и его
опровержению на этом осповапип, выступает более
завуалированная критика, выражающаяся в попытках
структурной и содержательной дезинтеграции или полной
деформации марксизма путем соответствующей его
интерпретации. Как правило, эти формы критики труднее
выявить, и цоэтому нередко онц становятся источником
39
недоразумений даже для некоторых
исследователей-марксистов. Примером могут служить концепции
«франкфуртской школы», которые выдаются порой за марксистские, а
иногда провозглашаются даже высшим этапом в развитии
марксизма.
Таким образом, необходимость отвечать критикам
марксизма становится своего рода дополнительным
стимулом при анализе п разработке теоретиками-марксистами
ряда новых и недостаточно исследованных проблем.
*
К числу особенно важных направлепий исследования,
несомненно, относятся в свете вышесказанного анализ и
методологическая реконструкция (то есть раскрытие
логической структуры определенной исследовательской
процедуры или концепции, различных неявных предпосылок
и промежуточных звепьев) отдельных областей
марксистской теории. Дискредитирующая критика — особенно
позитивистского толка — концентрируется, как правило,
вокруг методологической проблематики. Полное незнание
исследовательских приемов Маркса и их специфики
приводит здесь к тому, что нередко его научные методы
подгоняются под каноны позитивистской методологии. Это
влечет за собой принципиальные извращения и
двусмысленности, на которых критики спекулируют уже много
десятилетий.
Первоочередной задачей является методологическая
реконструкция проблем диалектики и исторического
материализма — классических разделов марксистской теории,
постоянно подвергающихся нападкам со стороны
критиков. Трудно назвать крупного буржуазного теоретика
последнего столетия, который не пытался бы высказать
своего отношения к этим проблемам. Методологическая
реконструкция призвана не только выявить
оригинальность марксистской мысли и предотвратить попытки ее
ложного истолкования. Она также способствует
раскрытию теоретического богатства марксизма, подготавливает
почву для дальнейшего развития и еще более широкого
обоснования марксистской теории и ее успешного
практического применения.
40
Большое значение приобретают также в этой связи
исследования истории марксистской мысли: процесса ее
формирования, этапов духовного развития творцов
марксизма, единства их взглядов на кардинальные вопросы
философии, политической экономии и научного
социализма. В марксистской литературе эти вопросы не
получили еще достаточно полного освещепия.
С момента опубликования в тридцатых годах нашего
столетия «Экономическо-философских рукописей 1844
года» Маркса среди буржуазных теоретиков развернулись
споры вокруг отношения творчества молодого Маркса к
творчеству зрелого, перешедшие позже и на проблему
взаимоотношения творчества Маркса и Энгельса. Мы уже
говорили об общей нацеленности этих споров, что,
конечно, не значит, что сами они беспочвенны или бесплодпы.
Дело лишь в том, чтобы ответить немарксистской марксо-
логии исследованием этих проблем теоретическими
средствами творческого марксизма. Лавинообразному потоку
немарксистских и антимарксистских публикаций на эту
тему необходимо противопоставить глубокие
теоретические разработки философов-марксистов.
Необходим, наконец, углубленный анализ
Современного этапа развития капитализма и происходящих в нем
изменений. Эти вопросы — объект особенно активных и
многочисленных интерпретаций со стороны теоретиков и
идеологов буржуазии. Таковы, например, теории
индустриального и постиндустриального обществ, различные
версии теории конвергенции и т. п. В своих предпосылках
и выводах они обращены против марксизма, и прежде
всего против его идеологических аспектов. Они ставят своей
целью доказать несостоятельность или по крайней меро
устарелость социальных прогнозов научного коммунизма.
«Капитал» Маркса и работа Ленина «Империализм,
как высшая стадия капитализма» по значимости своих
выводов и полноте охвата проблематики служат
образцами для исследователей марксистов. Однако после
публикации упомянутого труда В. И. Ленина прошло более
60 лет; новые явления и проблемы современности
требуют серьезного теоретического рассмотрения. Обязанность
его осуществления лежит на современных марксистах.
Мы отметили здесь лишь некоторые из направлений
исследования, особенно важпых, на паш взгляд, в плане
эффективного опровержения изощренных аргументов кри
41
тиков марксизма. Не поступаясь своим основным
теоретическим содержанием, своей идейной целостностью,
марксизм сохраняет в то же время способность к саморазвитию.
Решение этих задач требует от современных марксистов
интеллектуальной активности.
* *
*
Помещенные в данной книге очерки и статьи имеют, по
существу, публицистический характер. Большая часть их
ранее была опубликована в журналах «Нове дроги», «Вы-
ховане обывательске» и газете «Культура». При
подготовке данного издания некоторые из них были существенно
переработаны и дополнены.
Учитывая публицистический характер текста, автор
счел возможным отказаться от использования
громоздкого аппарата цитат и сносок в интересах уменьшения
объема работы без ущерба для ее содержания.
В книге представлены получившие сегодня
наибольшее распространение формы критических выступлений
против марксизма. Автор ставил своей целью рассмотреть
и опровергнуть основные аргументы критиков марксизма.
Такая постановка задачи требовала формулирования, хотя
бы в самом общем виде, собственной точки зрения автора
по обсуждаемым проблемам, что послужило причиной
некоторой краткости выводов и заключений.
Все статьи в сумме образуют единое целое,
подчиненное общей цели, однако их можно читать и независимо
друг от друга. Такая структура оправдывает
встречающиеся порой в тексте (впрочем, весьма немногочисленные)
повторения, связанные с обсуждением сходных
тематических направлений.
т
дога э «га
Дк> Mi-pKc; • г ';*?' #у'рясч>:л1ых '"т???*гс->уков рязвер*г>чши:
т^ му ндейгаададол*^^
^ел$Ш№Щц*аШщ1 Йшетэ; гсыаопг) «р1*тД/>^ивдзте^.к «uuoqtr
■-:^tv - ' r.--i>\
J fl£>.- ■ ■ ■■■'. >.-:•>
MM .;-■■ = ••■* '
it ?Ul£K . *
UO" vivi?" i-»; •
|;>}t-- ^-. ',
•■TTt-4* V
'fe.
•u^.feri?:fii*iH.?T-
эфф^этглх-.--: ■
Отлдйя ''кашатЪзшашН ao '«Йюдозаадя&н****&>
ЛИ-vo г>Х'В&Т& -Sp^JtflrtWlCK i
"'<-e;x^ Ma.j.»KC^c;]^iS;"M3jfe'a:v.:
. ;. - ••>; ' Г> Ш'+фЩШб :■■ ..■*-»,,-
h^v.: .■> r?:;io5afeai^f!E^^vj: ■_ :• :<^6;r-
<:--^no рёЙ^ЙШЙШ. J>f'f;t7?V!
■v..-'i- ii^- С-о^^а^ЦЁй^ ъ*#^"-5'Ч:
ilnirr. ft^^'S^jSIWF '1ЁГЯ -lU.^-.iN-':.;
r-r- i,-M.f4 |;^'':Ш':Ш'^1 в ял;-.-
... • ;. :..-{ v ^)Ъ:у^%-Ш&-'Щ?у?ЫР*:- ■:■ ' ■
Часть первая
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
КРИТИКА
Критика
исторического материализма
К. Поппером
Карл Раймуид IToniiep принадлежит к числу ведущих
представителей современной западной методологии и
философии науки. Круг его интересов охватывает как
естественные, так и общественные науки. По своим
философским взглядам Поппер принадлежит к позитивистскому
направлению в широком его понимании, хотя в ряде
существенных пунктов его концепции отличаются от той версии
позитивизма, которую представляет логический
позитивизм, пли неопозитивизм (Карнап и др.)-
В сфере общественных наук Поппер проявил себя
прежде всего как критик марксизма и тех теоретических
направлений, которые разделяют некоторые марксистские
положения. Попперовская критика сосредоточена главным
образом в двух его работах: «Нищета историцизма» («The
Poverty of Historicism», 1957) и «Открытое общество и его
враги» («The Open Society and Its Enemies», первый из
двух томов издан в 1945 г.). На них мы и будем опираться
в дальнейшем, характеризуя и оценивая взгляды Поппера
на исторический материализм.
Мы остановимся па главных моментах попперовской
полемики с марксизмом, не вникая во все тонкости его
изощренной аргументации, анализ которой требует
использования сложного понятийного аппарата
современной методологии науки. На наш взгляд, в упомянутой
полемике па первый план выдвигаются две проблемы.
Первая связана с обвипеиием марксизма, равно как и ряда
других доктрин, в так называемом историцизме. Вторая
касается исключительно исторического материализма,
интерпретации и критики его наиболее фундаментальных
положений.
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению этих
проблем, мы считаем необходимым напомнить о тех
критических выпадах, которые адресовались историческому
46
материализму еще в XIX веке. Это позволит глубже
понять позицию, занятую автором «Нищеты историцизма».
1. Критика исторического материализма
в XIX веке
К чпслу наиболее распространенных в XIX веке
недоразумений по поводу социальной теории Маркса
принадлежит мнение — находящее своих сторонников и в паши
дни, — будто эта теория ограничивается истолкованием
мотивов человеческой деятельности, и особенно
деятельности общественной. Человеческая деятельность якобы
всегда обусловлена материальными причинами, например
стремлением к получению прибыли. Маркс предстает прп
этом как создатель психологической доктрины, а не
социологической теории. Будучи решительным противником
психологизма во всех его проявлениях, Поппер
справедливо клеймит подобное полное непонимание намерений
Маркса, стремившегося исследовать именно социальные,
а не психические явлепия и механизмы. Столь же
справедливо он обращает внимание и на тот факт, что такой
(психологический) подход характерен для мнимых учеников и
последователей Маркса. В первую очередь для так
называемых вульгарных социологов, представителей которых
мы находим, например, в кругах теоретиков и «идеологов
II Интернационала.
Однако наиболее настойчиво выдвигалось в то время
другое обвинение. Описывая и объясняя действие в
общественной жизни определенных закономерностей, Маркс
и Энгельс якобы упускали из виду роль человеческой
деятельности вообще и сознательной особенно. В итоге,
выдвигая программу социальных преобразований,
опирающуюся именно на такую деятельность (никто, говорили
критики, не создает партий и не организует
общественных движений для борьбы за затмение Луны), творцы
марксизма впадали якобы в серьезное логическое
противоречие.
Ошибочность таких утверждений не вызывает
сомнений. Маркс и Энгельс никогда не отождествляли
социальные закономерности с законами развития природы,
которые реализуются независимо от воли и участия людей.
Следовательно, неправомерен п упрек в непоследователь-
47
пости выводов, к которым они пришли. Только тогда не
имело бы смысла поднимать и организовывать людей на
борьбу за переустройство общества, если бы это
переустройство совершалось автоматически, независимо от какой-
либо человеческой деятельности, подобно затмению Луны.
Наконец, творцов марксизма неоднократно упрекали
в том, что они якобы пренебрегают ролью идей и взглядов
в общественном развитии, что отрицание этой роли
следует пз предпосылок созданного ими учения. Энгельс писал
в этой связи, что, формируя основы исторического
материализма, они с Марксом делали упор на самое
существенное и неисследованное, то есть на роль экономического
фактора в становлении различных социальных и
мировоззренческих структур. В то же время они не уточняли
характер обратного воздействия этих структур на сферу
экономики. Воздействие надстройки на базис и связанные
с этим проблемы предполагалось рассмотреть позднее.
Особое впимание уделил им Энгельс в своих письмах
конца восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого
столетия. Тем не менее это обвинение не отошло целиком
в область истории. Нетрудно видеть, что определенную
роль отводит ему также и Поппер.
2. Обвинение в историцизме
Исторический материализм является общей теорией,
анализирующей определенные закономерности
общественной жизни и развития. Закономерности эти можно
подразделить по крайней мере на две группы. С одной стороны,
это генетически-функциональные зависимости,
связывающие между собой отдельные аспекты или сферы
общественной жизни, такие, как производительные силы,
экономический базис, классовая структура, надстройка, обще-
ствеппое бытие, общественное сознапие и т. д. С другой
стороны, закономерности диахронические, динамические,
определяющие общественное развитие, и особенно переход
от одной общественно-экономической формации к другой.
Закономерности и первого и второго типа имеют
универсальный характер, то есть остаются справедливыми для
каждого общества и для всех этапов общественного
развития.
На основе сформулированных социологических зако
нов, а также выводов, полученных в результате анализа
капиталистической системы, Маркс и Энгельс осуществили
великое предвидение путей общественного развития.
В частности, они предсказали падение капитализма и
возникновение социалистического общества. Они также
указали, что, познав законы социального развития, люди
смогут в определенной мере сознательно направлять это
развитие и перестанут играть роль лишь его объекта.
Именно эту теоретическую программу пытается
опровергнуть Поппер, усматривая в ней ряд ошибок и вводя
для ее определения термин «историцизм». Прежде чем мы
обратимся к аргументации Поппера, попытаемся дать
объяснение его пониманию этого термина.
Содержание его вполне исчерпывается, очевидно,
следующими тремя тезисами: 1) в общественном развитии
можно обнаружить определенные закономерности, ритмы
или тенденции; 2) зная упомянутые закономерности,
можно осуществлять долгосрочное социальное
прогнозирование так, как это делает, например, Маркс; 3) возможно
управление не только отдельными областями
общественной жизни, но и всей общественной жизнью как целым
(Поппер в этом случае говорит о целостпой или
тотальной социальной инженерии в отличие от частичной
инженерии, считая последнюю вполне обоснованной и
заслуживающей внимания).
Таким образом, историцизм у Поппера не имеет ничего
общего с историзмом, который представляет собой позицию
или методологическое требование, предписывающее
рассматривать социальные явления в историческом аспекте,
в динамике. К историцистам Поппер относит наряду с
Марксом Спенсера, Дж. Ст. Милля, Шпенглера, Тойнби,
Маннгейма. Он подвергает их резкой критике, посвящая
критике взглядов Маркса большую часть второго тома
своей работы «Открытое общество и его враги».
Остановимся теперь на основных замечаниях Поппера
в адрес историцизма.
1. Особое значение в полемике Поппер придает
следующему утверждению: наука оказывает воздействие на
развитие общества; поскольку же развитие науки не
поддается предвидению (предвидеть будущие результаты
научных исследований зпачило бы открыть их прежде,
чем они будут открыты), невозможно предвидеть и ход
49
общественного развития. В итоге, по мнению Поппера,
рушится вся программа управления историей,
выдвигаемая марксизмом.
В этой связи следует заметить, что при всей
непредсказуемости путей развития науки (во всяком случае,
содержания научных открытий) представляется
возможным управление наукой как социальным явлением,
например при посредстве финансовой политики. Думается,
что мы все чаще встречаемся именно с такой ситуацией.
Кроме того, полностью в сфере человеческих
возможностей остается задача технологического и технического
использования дапных науки. Именно таким путем
прежде всего наука воздействует на ход общественного
развития. И наконец, несмотря на то что роль науки в обществе
все возрастает, она не является единственным фактором
его развития. Уже только по этим соображениям
аргументы Поппера нельзя признать убедительными. Следует
также отметить их фрагментарность. Серьезная и
обстоятельная дискуссия возможна только при условии
предварительного уточнения ряда важных пунктов: в чем
заключается развитие науки; что можно и чего нельзя
предвидеть в развитии науки; как наука воздействует на
общественное развитие и т. д.
2. Дальнейшая критика строится Поппером на базе
попятия закона развития. По его мнению, понятие это
совершенно неудовлетворительно, более того, вообще
лишено смысла. Ибо процесс развития, утверждает Поп-
пер, неповторим, а паучные законы описывают только
повторяющиеся явления.
Подобная точка зрения способна вызвать по меньшей
мере удивление. Известно, что не повторяется лишь
процесс развития отдельной системы, однако тип развития
может быть характерен для нескольких систем; У
множества матерей плод проходит определенные фазы развития.
Точно так же не одна страна в своей истории осуществила
переход от феодализма к капитализму. Развитие — такое
же повторяющееся явление, как и явления, которые
исследуются физикой или астрономией. А если это так,
то можно сформулировать законы развития и
осуществлять на их основе прогнозирование. Конечно, здесь
возникает проблема условий действия этих законов, особенно
когда речь идет о предвидении форм и фаз, не
выступавших в предшествующем развитии (в подобной ситуации
4 Ст. Раннко
50
находился Маркс, когда предсказывал наступление ранее
неизвестной в истории общественно-экономической
формации—социализма). Признавая серьезность этой проблемы,
мы, однако, не будем останавливаться на ее детальном
рассмотрении.
3. Поппер прибегает также и к морально-этическим
обвинениям в адрес приверженцев п пропагандистов ис-
торицизма. Причем он оперирует не только прямыми упре-
камиу но п целым набором намеков и подтекстов. По его
мнению, призпание историцизма может привести к
тоталитаризму, более того, с необходимостью предполагает ту
или иную форму тоталитаризма. Кто хочет управлять
историей, тот должен управлять человеческим разумом,
совестью, действиями. Для этого необходим мощный
управленческий и исполнительный центр, а он в свою
очередь может легко уйти из-под общественного контроля.
Едпнствеппый способ избежать этой опаспостп Поппер
усматривает в частичной социальной инженерии, то есть
в осуществлении фрагментарных, постепенных изменений.
Каждое действие, говорит Поппер, влечет за собой ряд
непреднамеренных и не поддающихся предвидению
следствий. Особенно справедливо это, когда речь идет о
революционных действиях, имеющих, по существу, тотальпый,
всеобъемлющий характер: они нацелепы на полное
изменение существующей социальной структуры. В этом
случае возможность наступления непреднамеренных
отрицательных последствий представляется особенно реальной.
Единственный способ предотвратить их — это отказ от
революции. Здесь попперовская критика историцизма
разоблачает свою враждебность революционным
преобразованиям.
4. Отрицание всеобщей социальной инженерии, под
которой Поппер подразумевает кардинальные
революционные преобразования, он мотивирует определенными
аксиологическими соображениями. Добро, согласно Поп-
перу, не может быть целью человеческой деятельности.
Такой целью может быть лишь ликвидация зла —
бедности, боли, страдапия, несправедливости и невежества.
Сторонники же всеобщей социальной инженерии стремятся
к реализации добра и вместе с тем верят в возможность
почти немедленной ликвидации зла.
Попперовская аксиология отражает вырастающее из
враждебного отношения к революции неверие в возмож-
51
ность существенных изменений общественной жизни.
Вместе с тем она подкрепляет и эту враждебность, и это
неверие. Стремленпе к добру как позитивной цели
предполагает осуществление в мире некоторого нового качества,
формирование нового образа жизни. Ликвидация же зла—
это лишь устранение негативно оцениваемого качества;
структурные свойства мира в этом случае не
претерпевают никаких изменений. Аксиология Поппера — это
аксиология копсерватора, не допускающая возможности даже
полного устранения зла. С позиций данной аксиологии
борьба со злом — такой же бесконечный процесс, как и
приближение некоторой функции к пределу в математике.
Конечно, Поппер прав, отрицая возможность
немедленной полпой ликвидации зла. Это особенно очевидно, если
под «злом» попимать не только зло социальное
(эксплуатацию, бедность, несправедливость), то также и зло
«космическое», то есть связанное с самим фактом бытия в мире
(конечность человеческого существования,
незащищенность от страданий и т. д.). Однако у Поппера отсутствует
позитивная аксиология, побуждающая человека к
творческому преобразованию природы и истории; для него
характерно крайне упрощеппое, доведенное почти до абсурда
понимание всеобщей социальной инженерии, а также
определенная недоработанность п примитивность самой
концепции добра и зла.
Поппер постоянно путает две возможные формы
управления псторией. Одна из них основывается на физическом
насилии и интеллектуальном подавлении, вторая — в
своих методах социальной политики опирается на знание
механизмов общественной жизни, осуществляя их
применение под демократическим контролем со стороны
общества. Поппер признает только первую возможность. Маркс
же говорит о второй.
Вызывает недоумение и противоречие между позицией,
занятой Поппером в области философии науки, и его
социальными концепциями. Как методолог, он
бескомпромиссно борется против так называемого индуктивизма,
согласно которому научные теории формулируются в
результате обобщения чувственных данных, а соответствие
этим данным выступает в качестве критерия их
истинности. Поппер настойчиво развивает .концепцию антииндук-
тпвизма или гипотетизма, рассматривая теорию как
результат чистого творчества и отводя опыту роль фаль-
4*
52
сифпкатора: вполне однозначно он может лишь
опровергнуть теорию, но не подтвердить ее. Чем смелее и шире
теория, чем богаче она по содержанию, тем ценнее ее вклад
в научный прогресс. Следует поэтому стремиться к
формулированию возможно более смелых и общих концепций,
сохраняя критическое отношение к теоретическому
наследию прошлого: заниматься не подтверждением, но
систематическим опровержением его. Подобную установку
можно рассматривать как попперовский постулат
перманентной и тотальной революции в науке. Каким же контрастом
выглядит эта установка в сравнении с позицией, занятой
Поппером в социальных вопросах! Там—смелость,
граничащая с авантюризмом, здесь — осторожность, там —
сверхреволюционность, здесь — реформизм.
Провозглашенному Поппером в сфере методологии постулату тотальной
инженерии (постоянному разрушению старых и созданию
повых теоретических образований) в сфере социальной
политики соответствует постулат частичной инженерии.
Подобная ситуация дает богатую пищу для размышлений
об идеологических предубеждениях Поппера и об их
влиянии на его методологические концепции.
3. Частные возражения
Выше мы говорили лишь об одном аспекте попперов-
ской критики исторического материализма — обвинении в
так называемом историцизме. Это обвинение имеет у Поп-
пера общий характер, оно распространяется на различные
доктрины, среди которых марксизм выступает лишь в
качестве отдельного, хотя и особенно важного случая.
Теперь перейдем к рассмотрению аргументов,
направленных исключительно против исторического
материализма.
1. По-видимому, важнейшим является возражение,
которое строится на основе своеобразного мысленного
эксперимента. Речь идет о попытке доказать
несостоятельность фундаментального тезиса исторического
материализма о зависимости общественного сознания от
общественного бытия, то есть от явлений, происходящих в сфере
материального производства и общественных отношений.
Поппер не возражает против того, что экономические
факторы оказывают определенное воздействие на процес-
53
сы, происходящие в сознании, и на его структуру. По его
мнению, это влияние удается обнаружить даже в истории
математики (например, связь в Древнем Египте
геометрии с решением практических задач измерения
площадей). Однако он сразу же оговаривается, что можно
написать вполне удовлетворительную историю математики и ни
словом не обмолвиться в ней о роли экономического
фактора. Иначе говоря, при разработке истории идей этим
фактором можно пренебречь. Если же это так, то мы
должны заметить, что признание Поппером роли
экономического фактора носит чисто декларативный характер.
Вернемся, однако, к начальной формулировке его
возражения. Он строит его следующим образом. Представим
себе, говорит Поппер, что однажды исчезли все
материальные элементы общественной жизни, то есть средства
производства и социально-организационные структуры.
Однако сохранилось в полном объеме научное и
техническое знание. Можно предположить, что в данной ситуации
рано или поздно удалось бы благодаря наличному знанию
восстановить исчезнувшие элементы. Иначе обстояло бы
дело в случае исчезновения не материальных элементов
цивилизации, а научного и технического знания. Подобная
ситуация могла бы иметь место, если бы, например, какой-
нибудь современной индустриальной, но оставшейся без
населения страной овладели первобытные племена.
Результат, по мнению Поппера, предвидеть нетрудно:
несмотря на существование материальных реликтов
цивилизации, сама она перестала бы существовать.
Какой же отсюда делается вывод? Идеи, заключает
Поппер, не являются чем-то вторичным, производным по
отношению к экономическим и техническим факторам.
Скорее наоборот. Речь может идти о взаимозависимости
и взаимодействии, но ни в коем случае не об однозначной
зависимости идей от материальных условий.
То, что для своих выводов Поппер пользуется
мысленным экспериментом, то есть описанием воображаемой
ситуации, нереализуемой по тем или иным
принципиальным соображениям, не вызывает нареканий. Метод мыс-
лепного эксперимента нашел в современной науке
широкое распространение, что позволило достичь выдающихся
результатов. Достаточно вспомнить о мысленных
экспериментах Эйнштейна, упоминающихся почти в каждом
популярном изложении теории относительности, чтобы осознать
64
значение подобных методологических процедур для
научного познания и дидактики. Принцип мысленного
эксперимента использует и Маркс в «Капитале».
Сомнения вызывают те выводы, к которым приходит
Поппер на основе описанного мысленного эксперимента,
поскольку, как думается, выводы эти совсем из него не
следуют.
Принципиальная возможность восстановления
цивилизации, исходя из имеющегося паучного и технического
зпания (технического аспекта цивилизации, то есть
совокупности машин и инструментов), не может служить
доказательством его независимости в генетическом и
причинно-следственном аспекте от потребностей и условий
материальпой жизни людей. Опа не доказывает также, что
этп потребности и условия гепетически и причинно зависят
лишь от уровпя и направления развития знания как
единственного либо основного фактора, детерминирующего и
определяющего исторический процесс. Из этой
возможности следует только то, что уровень развития знания и
техническая цивилизация определенным образом
взаимосвязаны: либо знание (это относится, конечно, только к
естественнонаучному знапию) служит теоретическим
выражением и обобщением закономерностей, лежащих в основе
построения и функционирования технических
приспособлений, либо сами эти приспособления сконструированы
по правилам и принципам, открытым наукой и
закодированным в ее рамках в виде утверждений и теорий. Только
в этих случаях можно понять, почему на основе
имеющихся знаний мы можем реконструировать механику
исчезнувшей цивилизации.
Истории, заметим, известны оба упомянутых типа
связи. Первый из них характерен для прошлого, второй
относится, скорее, к сегодняшней цивилизации. Механика и
термодинамика возникли в значительной мере как
обобщение закономерностей и принципов, уже использовавшихся
практически в виде аппаратов и приспособлений: блоков,
рычагов, маятников, тепловых машин и т. д. В то же
время теория атомного ядра опередила по времени создание
атомной бомбы и атомной электростанции; необходимо
было возникновение ряда научных дисциплин, прежде чем
появился компьютер. Думается, что это направление
развития не только характерно для современности, но и
становится все более определяющим.
55
Вопреки утверждениям Поппера в первом случае
обнаруживается прямая зависимость знания от состояния и
уровня развития техники: если знание является
обобщением принципов, реализованных при создании
технических приспособлений, и, кроме того, предполагает
использование некоторых из этих приспособлений в качестве
исследовательских инструментов, то его развитие не
может не зависеть от техники и технологии. Это служит
подтверждением положений исторического материализма.
Не следует при этом забывать, что описанная ситуация
оставалась актуальной почти до настоящего времени.
Впрочем, и сегодня она не исчерпала еще всех своих
возможностей.
Анализ второго случая указывает, несомненно, на
более активную роль науки по отношению к технике и
технологии. Это, однако, не изменяет их взаимосвязи в ее
оспове: одним из факторов, определяющих развитие
науки, продолжают оставаться потребности развития техники
п общественной жизни. Такова, нацример, необходимость
в новых источниках энергии, в эффективных средствах
охраны природной среды человека от разрушительного
воздействия промышленности и т. д. Сосредоточивая
внимание исключительно на втором типе связи между
знанием и техникой, Поппер истолковывает его слишком
упрощенно: как доказательство прямой зависимости техники
от уровня научного знания.
Выше мы остановились на выводах, которые делает
Поппер из своего предположения. Следует отметить,
однако, недостатки в самой процедуре его мысленного
эксперимента. Он исходит из необоснованной асимметрии в
трактовке взаимосвязи техники, с одной стороны, и
науки — с другой. Предполагается, что знаний о состоянии
науки в принципе достаточно для воспроизведения
техники и в то же время знание состояния техники не
позволяет аналогичным образом воспроизвести уровень развития
пауки. (Имеются в виду, очевидно, лишь естественные
науки, допускающие техническую реализацию; при этом
сохраняют свое значение все известные оговорки по
поводу непосредственной связи этих паук с техппкой.) Между
тем нет никаких оснований для подобных предположений.
Действительно, если допустпть, как это делает Поппер, что
техника является только практической реализацией
науки или практически реализованной наукой, то знание
56
техники должно служить достаточным основанием для
выводов об уровне научных достижений. При таком
подходе знание не было бы, как это утверждает Поппер, чем-
то раз и навсегда утраченным, коль скоро при помощи
материальных реликтов цивилизации можно в какой-то
мере реконструировать его содержание. Констатируя здесь
явную непоследовательность автора «Нищеты историциз-
ма», мы вправе сделать еще один вывод: идеи не
являются чем-то более важным и первичным по отношению к
материальным факторам общественной жизни, что,
по-видимому, призван был подтвердить, согласно Попперу,
анализ мысленного эксперимента.
Думается, что мы не напрасно задержались па этом
выводе, который, кстати, у самого Поппера намечен лишь
в самом общем виде.
2. Второй аргумент — обвинение в иррационализме —
также обращен своим острием против марксистского
тезиса о зависимости общественного сознания и знания от
общественного бытия.
Такое обвинение звучит достаточно вызывающе, если
учесть, что под «иррационализмом» Поппер понимает
отрицание роли разума как универсального средства
разрешения каких-либо проблем, в том числе
межчеловеческих и общественных. Иррационализм отдает
предпочтение чувствам и вере. Но чувства и вера, по мнению
Поппера, разделяют людей, а разум их объединяет. Поэтому тот,
кто отрицает разум, разрушает оспову единства
человеческого рода, возможность достижения взаимопонимания
путем убеждения и дискуссии. Он, таким образом, должен
признать физическое насилие в качестве высшего арбитра
в отношениях между людьми.
В какой-то мере можно принять попперовскую оценку
иррационализма и порождаемых им опасных последствий.
Но в то же время никоим образом нельзя согласиться с его
утверждением о связи между иррационализмом и тезисом
о социальной обусловленности мышления.
Поппер допускает в своих рассуждениях несколько
ошибок и остается, в плену своих предубеждений. Укажем
некоторые из них.
Несомненно, что разум, рассматриваемый в качестве
социального образования, теряет свой автономный
характер. В этом случае то, как мы мыслим и к каким выводам
приходим, не зависит уже исключительно от внутренней
s?
логики нашего мышления, а детерминируется
совокупностью обстоятельств: нашей принадлежностью к классу,
нации, группе и т. д. Разум определяется чем-то, что не
является разумом. Именно это утверждение вызывает
резкие нападки Поппера. При этом он опирается на
принятое неявно предположение, согласно которому разум,
лишенный автономии, перестает быть оргапом
бескорыстного мышления и начинает служить различным
человеческим потребностям и интересам. В этом случае разум не
может выступать в роли бесстрастного судьи. А как раз в
этой роли и хотел бы видеть его Поппер.
Согласно Попперу, социальная обусловленность
интеллекта является лишь источником отклонений от истины,
генератором ошибок и деформаций: только
предоставленный самому себе, разум способен служить истине. Между
тем остается неясным, сможет ли вообще разум
действовать, если его предоставить самому себе. Во всяком случае,
функционировать систематически.
По если даже оставить в сторопе проблему
правомерности принятых предположений, не становится более
понятным, почему признание тезиса о социальной
обусловленности мышления должно повлечь за собой
иррационализм как нечто противоположное разуму. Констатация
факта социальной обусловленности помогает избавиться
лишь от некоторых заблуждений по поводу разума,
характерных для рационалистской традиции вообще и для
рационализма XVIII века в особенности. Заметим, кстати,
что сам Поппер все еще разделяет некоторые из этих
заблуждений. Но вместе с тем положение о социальной
обусловленности сознания провозглашает неограниченную силу
человеческого разума, подчеркивает объективность
сознания и, следовательно, открывает возможность проверки
его истинности на практике.
3. Исторический материализм Маркса и Энгельса,
заявляет Поппер, отрицает эффективность политических
и юридических мотивов, их воздействие на общественную
жнзнь.
Нетрудно увидеть в этом заявлении повторение
обвинений, имевших хождение в XIX столетии. Марксизму
ставится в вину, по существу, отрицание значимости
сознания или, в более общем виде, надстройки как таковой.
Совершенно очевидно, что этот упрек не может
относиться к подлинпым взглядам Маркса и Энгельса. В их трудах
58
пет недостатка в примерах, яспо указывающих на роль
политических и юридических факторов. Вопреки
утверждениям Поппера, марксистский анализ структуры
общественно-экономической формации, отводящий
надстройке — общественным институтам и сознанию — место над
экономическим базисом, не является классификацией в
соответствии с неким критерием «эффективности» или
«неэффективности». Оп указывает лишь направление
детерминации (онтологический аспект) либо структуру
объяснения социальных явлений (методологический
аспект). Такой подход не только не ведет к отрицанию роли
неэкономических факторов, но как раз наоборот —
позволяет ее в полной мере осознать и определить.
4. Полемизируя с историческим материализмом, автор
«Открытого общества» прибегает к такому приему, как
сопоставление положений исторического материализма с
опытом современности. Так, он пытается доказать, что
опыт Великой Октябрьской социалистической революции
и строительства социализма в СССР якобы опровергает
утверждение Маркса о том, что изменения в надстройке
происходят лишь вслед за изменениями базиса и
производительных сил. По его мнению, пример Октября говорит
о том, что смена надстройки может опережать во времени
преобразования в сфере экономики.
Однако тезис о первичности базиса по отношению к
надстройке не исключает ситуаций, в которых изменения
надстройки могут опережать во времени соответствующие
изменения базиса. Первичность далеко не всегда сводится
к первичности во времени. Вопрос о том, какие элементы
играют решающую роль в социальной структуре в целом,
отшодь не тождествен вопросу о том, в какой точке этой
сложной структуры может начаться процесс
преобразований. Исторический материализм отвечает на первый из
этих вопросов, второй же с полным основанием оставляет
открытым. Копечно, затронутая нами проблематика
заслуживает более детального анализа. Однако и сказанного
вполне достаточно для того, чтобы заметить, что Поппер
трактует фундаментальные положения исторического
материализма в духе исключительно
вульгарно-механистических интерпретаций.
По его мнению, исторический материализм
представляет собой всего лишь обобщение данных такого
социально-политического эксперимента, как промышленная рево-
59
люцпя конца XVIII века п Французская буржуазная
революция. Такой подход жестко ограничивает область
теоретической значимости и практической применимости
этого учения самое большее рамками капитализма
периода свободной конкуренции.
Заметим, что Поппер в данном случае смешивает
«контекст открытия» с «контекстом обоснования», условия и
обстоятельства открытия определенной доктрины с ее
теоретической ценностью и областью значимости. Таким
образом, он противоречит собственным методологическим
установкам, поскольку разграничение упомянутых
контекстов и требование не делать из первого выводов о
втором относятся к основополагающим канонам современной
позитивистской мысли.
Столь же мало обоснованно и утверждение Поппера об
имевшей якобы место переоценке Марксом и Энгельсом
начального этапа псторип капитализма. Они изучали
капитализм па протяжении всей своей теоретической
деятельности, то есть до последних десятилетий XIX века.
Свидетельством тому служит «Капитал», и особенно его
третий том, в котором Маркс рассматривает уже
некоторые явления, характерные для монополистического
капитализма (акционерные общества, роль финансового
капитала и его связь с промышленным, разделение
собственности и управления, и т. д.).
На всем протяжении своей деятельности творцы
марксизма вели также систематические исследования в области
социальной и экономической истории, обращаясь при этом
даже к проблематике первобытных обществ. Их
единственной целью было всестороннее обоснование и
дальнейшее развитие исторического материализма.
Мы отнюдь не утверждаем, что ни одно из положений
исторического материализма не нуждается сегодня в новом
подходе, корректировке или конкретизации. Однако
признание этого факта далеко не равнозначно вынесению
огульного и неоправданного приговора, согласно которому
исторический материализм неприменим для описапия как
докапиталистических, так и современных обществ па том
лишь основании, что он возник в условиях XIX века.
Изыскивая аргументы, опровергающие марксизм,
Поппер, кроме всего прочего, певолыю впадает в
противоречие. В своих работах он любит повторять, что марксизм
наряду с психоанализом 3. Фрейда относится к числу ме-
60
тафизических, то есть лишенных эмпирического
содержания, учений и в качестве такового недоступен
фальсификации. Другими словами, исторический материализм — это
интерпретация, но не эмпирическая теория. Поэтому нет
таких эмпирических фактов, которые бы его опровергали.
Это в свою очередь означает, что данное учение
принципиально неопровержимо и нефальсифицируемо. Оно, по
«логике» Поппера, ничего не исключает, а следовательно,
ничего и не утверждает. Возникает, однако, вопрос: если
исторический материализм нефальсифицируем, то почему
Поппер пытается все-таки фальсифицировать его,
обращаясь к фактам истории? Трудно найти разумное
объяснение этой дилеммы.
4. Обвинение в эссенциализме
Следует, наконец, отметить, что исторический
материализм, равно как и марксизм вообще, обвиняется в
эссенциализме. Исторический материализм признает якобы
существование неких скрытых сущностей и качеств,
объясняя с их помощью эмпирические явлеппя. В качестве
расхожих примеров марксистского «эссепциализма»
приводятся следующие: помимо цепы товара, предполагается
существование его стоимости в экономическом смысле,
причем именно она выступает как фактор, определяющий
цены и объясняющий механизм их изменения; наряду с
существованием политических институтов
провозглашается существование общественных классов и т. д.
Для позитивиста действительность ограничена своего
рода поверхностью явлений, состоит только из фактов, из
того, что дано. Эссенциализм же есть отрицание этого
правила, поскольку он как бы достраивает поверхностную
действительность вторым измерением — измерением
глубины, сущности, или эссенции.
В этом смысле марксизм вообще и исторический
материализм в частности действительно можно назвать эссен-
циализмом. Однако эссенциализм бывает разного рода.
Есть эссенциализм Платона и эссенциализм Гуссерля.
Есть также эссенциализм Карла Маркса.
Маркс отбрасывает по крайней мере три тезиса,
характерных для идеалистических эссенциалистских доктрип:
утверждение о неизменности сущности, провозглашение $$
61
неэмпирической природы и заявления, что ее познание
предполагает особую познавательную способность, нечто
вроде эйдетического созерцания феноменологов.
Положительное содержание марксистского эссенциализма —в
признании необходимости различать среди множества
факторов, обусловливающих каждое эмпирическое явление,
главные и побочные. Так, цены товаров зависят от спроса
и предложения, органической структуры капитала,
уровня прибавочной стоимости и др. Однако
основополагающим фактором является стоимость, которая определяется
общественно необходимым временем, затраченным на
производство товаров данного вида. Изучая эмпирическую
действительность, мы можем в определенных случаях
пренебрегать второстепенными факторами,
сосредоточивая свое внимание на основополагающих. Именно в этом
состоит операция идеализации, которую Маркс называет
абстрагированием. Учитывая те элементы, от которых
ранее при описании явления абстрагировались,
осуществляют процедуру конкретизации, которая дополпяет
идеализацию и позволяет проверять истинность полученных
с ее помощью суждений.
Таким образом, марксистский эссенцпализм сводится
к убеждению, что за внешней стороной событий и фактов
существуют закономерности, определяемые
зависимостями и связями осповных факторов. Такое понимание эссеп-
циализма и связанные с ним методологические
процедуры — идеализацию и конкретизацию — анализируют и
развивают в своих работах марксистские методологи Познани
(Лешек Новак, Ежи Кмита, Ежи Топольский и др.). Их
исследования служат эффективным теоретическим
оружием в борьбе марксизма с позитивистским принципом
феноменализма, редуцирующим действительность к ее внешней
стороне, к явлениям.
Марксизм, следовательно, является эссенциализмом, но
эссенциализмом sui generis. Этого его отличия от прочих
эссенциалистских доктрин Поппер, по-видимому,
совершенно пе понимает. Для Поппера эссенциализм — всегда
предмет критики и отрицания. Занять такую позицию
предписывают ему общие предпосылки позитивизма.
Марксизм же не может с порога признать недостатком
сам факт наличия эссенциализма. Необходимо выяснить,
о каком типе эссенциализма идет речь в каждом отдела
ном случае,
62
5. Некоторые оценки и выводы
Таким образом, Поппер обвиняет исторический
материализм в том, что он представляет собой: 1)
метафизическое, и в частности эссенциалистское, учение; 2)
обобщение опыта начальной фазы капитализма, беспочвенно
претендующее на универсальную значимость; 3) историцист-
скую теорию в специфическом, введенном в употребление
Поппером смысле этого слова.
Попперовская критика заслуживает упоминания и
анализа по ряду причин. Она достаточно известна в. интеллек-
туалистских кругах. Кроме того, своим тоном и
содержанием она отличается от критических выпадов буржуазных
идеологов XIX века, которыми зачастую ограничивается
внимание авторов учебников по историческому
материализму. Поппер нередко говорит тоном моралиста,
отстаивая на словах ценности, добытые под флагом
рациональности, перед лицом угрозы, которую якобы несут этим
ценностям современные социальные преобразования.
Поппер не может выявить подлинные источники этой угрозы
и поэтому возлагает впну на учения и идеи, то есть
поступает как типичный «исторический идеалист».
Все ошибки и вся непоследовательность этой критики
возникают на почве фшюсофской (позитивистской)
доктрины Попнера, а также его социально-политических
взглядов. Нельзя не признать, однако, что критика эта
играет роль своеобразного катализатора. Чтобы ее
опровергнуть, нужно по-новому осмыслить и углубить ряд
проблем, уточнить понятийный аппарат, которым пользуется
исторический материализм. Но в первую очередь такая
задача диктуется внутренней логикой марксистского учения
и необходимостью дальнейшего развития его теории.
*
В духе, подобном шшперовскому, критикуют марксизм
и другие буржуазные теоретики. Речь здесь идет о
позитивистском типе критики в его различных вариантах и
версиях. Наиболее характерна для него атака па
эмпирическое содержание марксизма вообще и исторического
материализма в особенности. При этом постоянно црвто-
63
ряются, нередко даже у одного и того же автора, три точ-
кн зрення.
Первая, наиболее крайняя, прямо отказывает
историческому материализму в каком-либо эмпирическом
содержании, объявляя его метафизической доктриной,
недоступной ни верификации, ни фальсификации. Следовательно,
его можно лпбо просто отбросить, либо признать, что,
несмотря на отсутствие эмпирического содержапия, оп
может быть полезен, например, как совокупность правил
интерпретации социальных и исторических событий. Мы
сталкиваемся здесь с попыткой своего рода конверсии
позитивистской критики, трансформации ее в
антипозитивистском духе. При таком понимании исторический
материализм не выявлял бы социальных закономерностей, а его
утверждения не могли бы рассматриваться пи как
истинные, ни как ложные. Он поставлял бы только понятийный
инструментарий, позволяющий придавать историческим
событиям определенный смысл, например путем
локализации их в рамках определеппых развивающихся
последовательностей, соотнесения с некоторыми системами пли
квалификации в оценочных термипах типа
«прогрессивный» или «реакционный», «революционный» или
«контрреволюционный» и т. п. Легко заметить, что такая
трактовка исторической теории Маркса довольно близка
взглядам и установкам Поппера.
Вторая точка зрецня не отказывает историческому
материализму в эмпирическом содержании, но объявляет
его ложным учением. В лучшем случае она признает его
правоту в ограниченной и узкой области, например в
отношении капитализма XIX века. Такой подход в критике
перекликается с зачастую пазойливыми утверждениями
о мнимой неактуальности и теоретической устарелости
исторического учения Маркса, например с заявлениями о
том, что некоторые из предвидений Маркса не получили
подтверждения в ходе исторического развития.
Третья точка зрения имеет синкретический характер
и встречается, пожалуй, чаще других. В соответствии с
ней, все утверждения исторического материализма можно
разделить на три группы: метафизические высказывания
и тавтологии; высказывания многозначные и
метафорические; наконец, высказывания, имеющие ясно
выраженное эмпирическое содержание. Методологический статус
первой и второй групп пе вызывает сомнения. Что же
64
касается высказываний третьей группы, то порою к ним
предлагают применить процедуру «перевода» на
эмпирический язык с целью извлечения якобы скрытого в них
однозначного содержания. В результате такого перевода
в лучшем случае остается горсть тривиальных истин,
касающихся главным образом простейших актов
жизнедеятельности и поведения людей.
Был ли Маркс
моральным историцистом?
Вопрос этот тесно связан с одним из серьезнейших
обвинений, выдвигавшихся когда-либо против этической
мысли Маркса и марксизма в целом. Различные его
варианты встречаются довольно часто, однако в наиболее
полном виде оно представлено у К. Р. Поппера. Поэтому
именно на его работы мы и будем в дальнейшем опираться.,
1. Структура аргументации
Взгляды Поппера по рассматриваемому вопросу
сформулированы в двадцать первом разделе второго тома
«Открытого общества». Поэтому представить их здесь
несложно.
Маркс стоит на позиции социальной обусловленности,
всех структур и явлений общественного сознания. Таков
фундаментальный принцип исторического материализма.
Нравственное сознание как составная часть
общественного сознания также подчиняется этому принципу. Это
значит, что этические системы, нравственные нормы и
ценности— и в том случае, когда речь идет об их происхож->
дении, содержании, а также особенностях восприятия и
интерпретации нравственных норм — социально и
классово обусловлены. Отсюда Поппер делает вывод о том, что*
все этические категории зависят от исторической
ситуации. Это утверждение он называет историческим
релятивизмом. Таким образом, Маркс, по мнению Поппера, был*
историческим релятивистом в вопросах морали.
Заметим, однако, что, даже приписав Марксу
исторический релятивизм, Поппер не доказал тем самым
моральный историцизм его взглядов. Подлинное содержание;
нравственного историцизма составляет убеждение в том/
что моральным благом является все то, что служит исто—
5 Ст. Раинко
ft
рическому прогрессу и соответствует предсказанному
направлению исторического развития, злом — то, что
противостоит неизбежной социальной необходимости.
Основной нравственный выбор, объектом которого являются
сами этические системы, опирается при таком подходе на
знание тенденций исторического развития.
Осуществляется он в соответствии с директивой: «Выбирай только
такие этические системы, которые признают и
поддерживают необходимое и неизбежное направление развития!»
Именно по такому принципу марксисты, полагает Поппер,
высказываются за этику, провозглашающую социализм и
предписывающую личности связывать свою жизненную
позицию с классовой позицией пролетариата. Первичен
здесь не нравственный выбор, а определенное
историческое знание и сделанный на его основе прогноз
направлений грядущего развития. Во всяком случае, утверждает
Поппер, так смотрят на вещи многие приверженцы
Маркса. В действительности же точка зрения самого Маркса
оказывается гораздо более сложной и тонкой.
Творца марксизма побудил перейти на позиции
пролетариата моральный импульс, глубокое ощущение
социальной несправедливости и различных проявлений
деградации человека. Маркс был одним из тех, кто серьезно
воспринял идеалы 1789 года. Поэтому свое этическое учение,
продолжает Поппер, он выразил главным образом
посредством нравственных оценок социального механизма и
принципов капитализма, таких, как превращение рабочей
силы в товар, экономическая власть человека над
человеком, формальный характер равенства и справедливости
и т. п. Приговор, вынесенпый Марксом капитализму,
имеет принципиально нравственную направленность.
Однако эта ситуация, по мнению Поппера, находится
в вопиющем противоречии с историцизмом, принятым
творцом марксизма. Провозглашая веру в существование
неизбежных законов исторического развития, историцпзм
якобы перечеркивает роль человеческой деятельности.
Тем самым он делает ненужным, лишает рациональной
основы акт нравственной оценки общественных процессов
и явлений. Устранению этого противоречия, подчеркивает
Поппер, призвана служить концепция морального исто-
рицизма. ^
Трудно установить, каким образом должно
осуществляться решение поставленной задачи. Доктрина мораль-
67
ного исторпцизма в лучшем случае служит целям
«примирения» людей с исторической необходимостью путем ее
дополнительной правствепной оценки, по отпюдь не лик-,
видирует противоречия, о котором говорит автор
«Открытого общества». Реальная проблема заключается в том,
как увязать убеждение в существовании исторической
необходимости с одновременным признанием смысла и
целесообразности нравственной оценки ее действия. Мы
не отрицаем существования данной проблемы, равно как
и не пытаемся преуменьшить ее сложность. Мы только
утверждаем, что решение проблемы, которое Поппер
пытается приписать Марксу и Энгельсу, иллюзорно.
И наконец, последний аргумент Поппера. Как
определенная этическая концепция нравственный историцизм
сам может быть предметом нравственной оценки, притом
негативной. Достаточно отметить, заявляет Поппер, что в
качестве моральпой позиции он рекомендует явный
оппортунизм: предписывает безусловно принимать все, что
побеждает или имеет шансы на победу, то есть те
общественные силы и тех людей, которым сопутствует удача.
Культ сильных и победоносных или, точнее, тех, кто в
дальнейшем будет таковыми, — вот смысл концепции
морального исторпцизма.
Поппер при этом постоянно оговаривается, что он
далек от мысли приписать Марксу и Энгельсу оппортунизм.
Они избрали моральный историцизм в качестве этической
концепции лишь в результате принятия исторпцизма как
принципа объяснения истории. Их выбор, таким образом,
был продиктован теоретическими трудностями, но не
практическими соображениями. Это, однако, не устраняет
того факта, что в социальной практике этический
историцизм способен порождать оппортунизм. В свою очередь
оппортунизм побуждает к принятию этического
исторпцизма.
2. Подлинный смысл
нравственного исторпцизма
Прежде чем определить свое отношение к
аргументации Поппера, попытаемся глубже вникнуть в ее
содержание. Несмотря на кажущуюся ясность, она таит в себе
целый ряд неявных, а возможно, и неосознанных
предпосылок, имеющих фундаментальное значение.
5*
68
Вернемся еще раз к вопросу о том, что, собственно,
представляет собой нравственный историцизм. В свете
сказанного выше можно допустить по крайней мере две
интерпретации его формулировок.
Во-первых, можно признать, что, обвиняя Маркса в
нравственном историцизме, Поппер попросту пытается
доказать, что для создателя марксизма при истолковании
исторических событий характерно совмещение
исторических и нравственных оценок. Речь, иными словами, идет
о якобы имеющем место совпадении двух систем
ценностей. Одна квалифицирует события как исторически
необходимые или случайные, вторая — как хорошие или
плохие. Хотя этическая система Маркса нетождественна
системе историко-социальиых оценок, тем не менее
конкретные оценки, выносимые в рамках каждой из них,
совпадают. Так, социализм является для Маркса не
только этической ценностью, но также и неизбежным
продуктом общественного развития. Таким образом, в каждой из
упомянутых выше систем он занимает особое и
аналогичное место: и тут и там социализм отмечен
положительным знаком. В данном конкретном случае вопрос не
вызывает сомнений. Поппер, однако, полагает, что точно так
же дело обстоит и в каждом отдельном случае,
проанализированном и оцененном Марксом.
Вторая интерпретация идет гораздо дальше и
содержит первую в качестве одного из своих выводов. Смысл
ее сводится к утверждению, что этическая система
Маркса не только подобна принятой им системе историко-соци-
альных оценок, но идентична последней. В данном случае
исторически неизбежное не просто оценивается как
моральное благо, но отождествляется с ним. При таком
подходе тезисы этического историцизма становятся
отражением определенной позиции в области онтологии
моральных ценностей, давая вместе с тем определение
добра и зла. Они указывают на способ существования добра
и на его содержание.
В начале нашего столетия английский этик Дж. Э. Мур
писал, что все этические доктрины подобпого рода
содержат определенную ошибку, пазванную им «патуралисти-
"ческой». Суть ее состоит в забвении специфики этических
качеств, что находит свое выражепие в их неправомерном
"отождествлении с эмпирическими характеристиками
объектов. Обвинение Маркса в моральном историцизме сво-
69
дится именно к обвинению его в «натурализме». К числу
доктрин, подпадающих под данное обвинение, могут быть
отнесены также известные в истории этики учения,
отождествляющие моральное добро с тем, что приятно,
полезно, приносит счастье и т. п. Маркс, таким образом,
принадлежит к обширному классу этических натуралистов.
Однако в данном конкретном случае обвинение в
натурализме направлено явно не по адресу. Принимая во
внимание, что Маркс нигде не высказывается explicite по
обсуждаемому вопросу, мы будем исходить из анализа его
текстов.
В конечном счете весь «Капитал» можно рассматривать
как критику такого рода концепций в области
политической экономии (особенно характерных для классической
и вульгарной экономических теорий), которые предмет
исследования этой дисциплины — товар, деньги, капитал,
процент, земельпую рейту и т. д. — трактуют как печто
натуральпое, подобное естественным объектам. Здесь
происходит «натурализация» экономических качеств, подоб-
по тому как в приведенных выше примерах из области
этики осуществлялась натурализация качеств этических.
И в том и в другом случае, казалось бы, имеет место
«ошибка натурализации».
В действительности же Маркс выступает решительным
противником натурализма в сфере политической
экономии и в сфере гуманитарных наук вообще. За несколько
десятилетий до того, как Дж. Э. Мур подверг критике
натурализм в этике, а Гуссерль — в логике (критикуя
отождествление таких логических категорий, как истина,
ложь, высказывание, следование и др., с психическими
фактами), Маркс осуществил такую критику в отношении
гуманитарных наук и их объектов. Следовательно, автор
«Капитала» имеет абсолютный исторический приоритет в
области критики натурализма.
Анализируя натурализм, Маркс показывает, что,
например, свойство быть товаром присуще некоторым
предметам, являющимся продуктами человеческого труда
(столы, дома, машины и т. д.), только в определеппых
социальных и исторических условиях, а именпо в условиях
рыпочного производства и обмепа. Объект, таким образом,
становится товаром только потому, что участвует в
специфических отношениях между людьми, называемых отпогае-
ниями купли и продажи. Это свойство он может приобре-
70
тать или терять в зависимости от того, в каких социальных
отношениях функционирует. Например, будучи
перенесенным в общество, в котором неизвестны отношения
рыночного обмена, предмет теряет свойство быть товаром.
Это свойство обладает еще одной характерной
особенностью: его невозможно постичь чувствами ни
непосредственно, ни с помощью каких-либо приборов, поскольку оно
является не физическим и естественным качеством, а
социальным и историческим. К тому же типу, что и
экономические свойства, относятся такие группы свойств, как
свойство быть знаком, украшением, талисманом и т. п.
или приписываемые людям свойства быть отцом, рабочим,
солдатом и т. д.
Антинатуралистическую позицию Маркса, нашедшую
свое выражение в его экономических исследованиях,
можно распространить и на другие области, не анализируемые
им непосредственно, например на область этики. В этом
случае всю совокупность нравственных черт,
обозначаемых при помощи таких предикатов, как «справедливый»
и «несправедливый», «честный» и «нечестный»,
«достойный» и «недостойный», следовало бы трактовать как
специальный подкласс социальных качеств в вышеуказанном
марксистском смысле слова. Отличительной чертой этих
качеств явилось бы не непосредственное, а опосредованное
приписывание их межчеловеческим отношениям — через
систему нравственных ценностей.
У Маркса мы не находим ни прямого* изложения
такого подхода, ни даже указаний в этом направлении.
Можно, однако, предположить, что антинатуралистическая
позиция в теории этики более всего соответствует его
антинатуралистическому настрою в общественных науках.
Упрек в моральном историцизме, понятый как
обвинение Маркса в этическом натурализме, пе выдерживает
критики. Обвинять его в этом — значит, несмотря на
отсутствие каких-либо серьезных аргументов, приписывать ему
совершенно несвойственную позицию. Такая
исследовательская процедура не может считаться достаточно
обоснованной.
3. Историко-социальная и нравственная оценки
Рассмотрим теперь утверждение Поппера о том, что в
каждом отдельном случае два способа оценивания, приме-
7i
йяеМые Марксом — моральное и историко-^социальное, —
дают одинаковые результаты.
Это утверждение обнаруживает свою несостоятельность
при первом же знакомстве с трудами Маркса. В
исторической перспективе Маркс положительно оценивает
первичное накопление как эпоху сосредоточения капитала и
создания свободной рабочей силы. Это время подготовки
почвы для развития капитализма и тем самым для
экспансии и расцвета техники, расширяющей сферу господства
человека над природой. Но то же самое явление в
нравственном аспекте оценивается иначе. Первичное
накопление требовало бесчисленных гекатомб, оставило после себя
море крови и страдания. На страницах «Капитала» Маркс
выражает против этого свой нравственный протест.
Равные по драматизму страницы посвящены еще лишь
детскому труду в капиталистической промышленности
Англии XIX века.
Подобное же расхождение историко-социальных и
нравственных оценок мы видим в «Коммунистическом
Манифесте» при анализе исторической роли буржуазии и
в двух статьях Маркса: «Британское владычество в
Индии» и «Будущие результаты британского владычества в
Индии». У Маркса вызывает отвращение деятельность
правительства английской буржуазии в Индии.
Жестокость, жадность, цинизм, уничтожение экономических и
культурных основ существования целых социальных
слоев — таковы проявления этой деятельности. Однако при
этом Маркс не закрывает глаза на исторический эффект
их активности, оценивая его в большинстве случаев
положительно. Наступление английской буржуазии разрушает
индийские сельские общины, служившие фундаментом
восточного деспотизма, источником косности и
интеллектуальной ограниченности, поддерживавшие систему
кастовости и рабства. Поэтому их ликвидация, хотя и
осуществленная способом, который не может не вызывать
возмущения, является необходимым условием социального,
интеллектуального и технического прогресса.
Таким образом, вместо постоянного совпадения
исторических и моральных оценок у Маркса мы видим их
постоянное расхождение. Иначе и быть не может.
Каждый шаг вперед на пути покорения человеком природы
оплачен в предшествующей истории подчинением одного
человека другому, а всех их вместе — власти объективи-
72
рованных общественных сил. Позитивная йсторйко-соцй-
альная оценка первой стороны этого процесса неразрывно
связана с негативной нравственной оценкой второй.
Только коммунизм ликвидирует антиномию историко-социаль-
ных и этических оценок, устанавливает согласие между
ними.
Итак, ни одно из обвинений Поппера не выдерживает
критического рассмотрения.
* *
*
В заключение еще одно замечание, ранее не
получившее развития. Мы убедились, что под видом
«исторического релятивизма» Поппер нападает на принцип
социальной и исторической обусловленности морали. Вместо
аргументов он ограничивается сетованиями по поводу того,
что признание генетической и содержательной связи
морали с историей сделает нас якобы нравственно
беспомощными перед лицом последней, лишит смысла
моральные оценки исторических процессов. Поппер,
по-видимому, склонен считать, что история человечества может быть
объектом нравственного суждения только при условии
внеисторичности наших критериев морали. Он, однако,
упускает при этом из виду, что в вопросах морали вне-
историческая, или космическая, точка зрения не только
недоступна нам, но и в принципе немыслима.
Т\ Парсонс против марксизма
В американской буржуазной социологии взгляды Тал-
котта Парсонса весьма авторитетны. Рассматривая
различные типы реакции на марксизм современной
буржуазной социологии, нельзя обойти молчанием его позицию.
Нужно, однако, сразу оговориться, что в данном
контексте нас не интересует теоретическая система Парсонса
и ее сопоставление с мыслью Маркса. Его система
формировалась на диаметрально противоположных марксизму
основах и отражает диаметрально противоположную
теоретическую схему. Мы попытаемся дать критический
анализ высказываний Парсонса в адрес марксизма. Ясно, что
они опираются на его теоретическую систему, и вне
отношения к ней далеко не всегда понятны. Однако в
интересах дела мы будем рассматривать их как вполне
самостоятельное и автономное целое.
Начиная с самых ранних своих работ Парсонс
многократно высказывался о Марксе и марксизме. С трудами
Маркса он познакомился в двадцатых годах в Германии,
где работал над докторской диссертацией о понятии
капитализма в концепциях Макса Вебера и Вернера Зомбарта.
Однако в наиболее развернутом и систематическом виде
его отношение к марксизму представлено, по-видимому, в
двух статьях. Одна из них, написанная в связи с сотой
годовщиной со дня опубликования «Манифеста
Коммунистической партии», озаглавлена: «Общественные классы и
классовые конфликты в свете новейшей социологической
теории» (в книге: «Essays in Sociological Theory», 1949),
вторая — «Несколько замечаний о социологии Карла
Маркса» (в книге: «Sociological Theory and Modern
Society», 1967) — написана гораздо позднее. Эта статья
написана на основе доклада, с которым автор выступил
в 1965 году на ежегодном собрании Американской
социологической ассоциации. В настоящее время она представ-
ляет собой наиболее полное изложение позиции
американского социолога по отношению к марксистской социологии
и марксизму вообще.
У Парсонса нет недостатка в положительных оценках
и даже похвалах в адрес марксизма. Однако, как правило,
они имеют декларативный характер и касаются прежде
всего роли марксизма в прошлом, поскольку для
современности, по мнению Парсонса, он якобы не имеет
научного значения. Поэтому основное внимание мы
сосредоточим на многочисленных возражениях Парсонса против
марксизма.
1. Проблема генезиса.
«Историческая критика»
Парсонс не воспринимает марксизм как единое целое.
Он делает в нем несколько сечений, что, по его мнению,
является операцией само собой разумеющейся и вполне
невинной. Первое из этих сечений должно отделить
марксизм как идеологию от марксизма как науки. Второе
отделяет Маркса-социолога от Маркса-экономиста. О
Марксе-философе Парсонс не упоминает, хотя и знаком с
философским содержанием марксизма.
Образцом для подражания послужил в данном случае
Й. Шумпетер, на которого, впрочем, Парсонс и
ссылается. В своей работе «Капитализм, социализм и демократия»
(«Capitalism, Socialism and Democracy», 1942) Шумпетер
определяет Маркса поочередно как «пророка»,
«социолога», «экономиста» и «учителя», по-разному оценивая в
каждом случае взгляды Маркса.
История марксизма убедительно свидетельствует о том,
сколь небезобидны подобные процедуры. Да и может ли
быть иначе? Всякий, кто отрицает, например,
марксистскую теорию классов и классовой борьбы, не просто
подвергает сомнению взгляды Маркса как социолога, но
выступает в определенной идеологической роли, отбрасывая
необходимые принципы диалектической методологии и
отриттая идеологические выводы теории марксизма.
Парсонс пытается создать впечатление, будто его
критика учения Маркса носит сугубо теоретический, но не
идеологический характер, является критикой
фрагментарной, касающецся только социологического аспекта
75
марксизма. Однако операций, подобные тем, к которым
прибегает Парсоис, разрушают целостную внутреннюю
структуру марксизма, превращая его в сумму
высказываний по различным вопросам.
Это, конечно, не означает, что нельзя в целях
исследования взглядов Маркса выделять те или иные фрагменты
его учения. Но при этом необходимо постоянно помнить,
что речь идет именно об отдельном фрагменте,
неразрывно связанном с учением в целом, с его методологией и
социально-политическими функциями. Парсонс же оказался
в плену иллюзии о внеидеологическом характере
собственной критики, усугубляющейся пренебрежением
целостностью учения Маркса. Последнее представляется трудно
объяснимым, если учесть, что для Парсонса характерно
повышенное внимание к проблематике структур,
возникающих в общественной жизни. Говоря об идеологии,
следует помнить о существовании контридеологий. То, что
порой они не выступают открыто, как это мы видим у
Парсонса, не меняет сути проблемы.
Парсонс не только «уре/зает» мысль Маркса. Он также
выдвигает определенную схему ее генезиса, исторической
обусловленности. Предлагаемая схема формируется на
основе его общих концепций развития общественной
мысли, ее периодизации и структуры.
По мнению американского социолога, у истоков
современной общественной мысли лежат две великие традиции:
«эмпиристская» и «идеалистическая». Родиной первой
является Англия, где она достигла своей кульминации в
трудах экономистов классической школы (Адама Смита и
Давида Рикардо), а также в русле ассоциативной
психологии. Здесь имеется в виду направление, получившее
название утилитаризма, в рамках которого была выработана
концепция социального поведения человека. Эта
концепция, принимающая за систему отсчета индивида,
оперирует рационалистическими схемами и делает основной
акцент на эгоистические мотивы поведения личности.
В своем первом крупном произведении — «Структура
социального поведения» («The Structure of Social Action»,
1937) — Парсонс подверг ее острой критике.
Местом рождения и расцвета второй традиции
является Германия. Речь здесь идет прежде всего о философской
и историко-социальной системах Гегеля. В отличие от
«эмпиристской» традиции, ориентированной на изучение
76
определенного типа социальных и психологических
фактов, в русле «идеалистической» традиции была
разработана спекулятивная система исторической эволюции,
пренебрегающая фактами, но имеющая универсальную
область значимости.
Мы не будем обсуждать здесь вопрос о ценности и
точности представленной классификации, хотя Парсонс
придает ей большое значение, приводя ее при каждом
удобном случае. Отметим лишь, что в нее не укладываются
взгляды таких мыслителей, как, например, Вико,
французские просветители. Изолируя выделенные традиции, эта
классификация упускает из виду влияние, которое оказала
на формирование взглядов Гегеля та же английская
классическая политическая экономия.
Однако более существенным представляется парсоп-
совское понимание синтеза этих направлений и та роль,
которую он отводит им в развитии общественной мысли.
Эта проблема тесно связана у Парсонса с
характеристикой генезиса марксизма и его общей оценкой.
В принципе весь процесс синтеза раскладывается на
три стадии. Первая и исходная — это труды Маркса.
Отталкиваясь от философии Гегеля и материалистически
«перетолковывая» ее, Маркс, по мнению Парсонса,
перебросил мост между немецкой традицией и английским
утилитаризмом. Утилитаризму он обязан своей
концепцией материальных факторов и их роли, идеализму
Гегеля — историко-социальной схемой, диалектическим
методом, историцизмом и т. д. Этому синтезу, дополненному
французской мыслью, благоприятствовал якобы
космополитический характер взглядов и опыта Маркса.
Это описание, содержащееся во второй из упомянутых
выше статей, представляет собой попытку выйти за
границы той характеристики (слишком упрощенной и явно
извращающей вклад Маркса в социальную теорию), которая
была дана в очерке 1949 года. Учение Маркса в нем было
целиком втиснуто в рамки утилитаристской традиции, а
сам он рассматривался в лучшем случае как автор особой
модели или отдельного варианта утилитаризма. Все
новаторство марксистской мысли сводилось к разработке
концепции человека как существа эгоистического,
руководствующегося в своих действиях исключительно
материальными интересами. От индивидуалистских схем
утилитаризма марксизм отличался только своим понятием обще-
7?
ственного класса и связанной с ним структурой
мотивация.
Марксизм, и особенно его социальную теорию, Парсонс
трактовал как некую психосоциальную концепцию
личности и действия, причисляя его, скорее, к общественной
психологии, нежели к социологии в строгом смысле слова.
Трудно серьезно воспринимать такую точку зрения. Не
удивительно, что в конце концов Парсонс решил
отказаться от нее, хотя и не сделал этого открыто.
Вторая стадия — это «антропологический» синтез. Ее
кульминацией является конституирование культурной
антропологии. Исходя из анализа человека как
биологического бытия и пытаясь найти универсальные
закономерности, она подводит постепенно к формированию
понятия культуры и его производных.
Однако как первый, так и второй синтез представляют
собой лишь начальный этап, предваряющий подлинную
историю социологии. Это, таким образом, этап протосоцио-
логии, а не социологии как таковой. Последняя
формируется в 1890—1920 годах как результат третьего синтеза,
осуществленного в трудах Дюркгейма и Вебера.
Оба исследователя, согласно Парсонсу, решительно
выходят за границы как утилитаризма, так и
идеалистической традиции. Поэтому в данном случае о синтезе
можно говорить лишь условно, так как мы встречаем здесь
новые совокупности проблем и новую методологию.
Пользуясь методом анализа и сравнения, Дюркгейм и Вебер
пытаются построить общие теории, охватывающие
отдельные классы социальных явлений (например, разделение
труда, структуру политической власти, роль религиозных
явлений). Таким образом, начинается якобы
систематический прогресс социологических исследований.
Следовательно, третий синтез отличается от двух первых как своей
радикальностью, так и своей действенностью.
Подобная характеристика истоков, генезиса и
распространения марксизма не является у Парсонса
нейтральной. Она образует фундамент его критических оценок.-
Парсонс пытается определить место марксизма не только
в плане историческом, но и в интеллектуальном — по
шкале познавательных ценностей. Признание марксизма
первым синтезом означает, что в истории общественной
мысли он является синтезом пройденным и давно
преодоленным.
78
Исторический экскурс как бы подготавливает вывод о
теоретической устарелости марксизма как социального
учения. В упомянутых выше статьях Парсонс
формулирует этот вывод expressis verbis. Он основывается на ряде
спорных и сомнительных утверждений и крайних
упрощений в трактовке механизма научного открытия, полностью
игнорирующих внутреннюю динамику мысли Маркса.
Синтез, о котором говорит Парсонс, более напоминает
механическое смешение, нежели результат творческого пауч-
ного подхода. Однако эти вопросы получили достаточно
полное освещение в литературе.
Мы рассмотрим здесь неявную ложную предпосылку,
лежащую в основе аргументации Парсонса: перенесение
на общественные науки модели развития, обычной для
естественнонаучных дисциплин. В соответствии с этой
моделью все последующие теории трактуются как более
общие, нежели предыдущие, которые выступают в
качестве их частного случая. Поэтому на шкале стандартов
научности более поздние теории располагаются выше с
учетом таких критериев, как уровень общности,
объясняющая способность, объективность выводов и т. д. Именно
в таком отношении находится механика Эйнштейна к
механике Ньютона, а последняя в свою очередь к законам
Кеплера. При таком подходе вектор времени совпадает с
вектором ценности, указывающим направление прогресса
в научных исследованиях.
Однако в сфере общественных наук данная модель
обнаруживает свою полную несостоятельность. Факт этот
расценивается и как проявление слабости социальных
наук, которая рано или поздно будет преодолена, и как
подтверждение их специфики. Не останавливаясь на
справедливости или несправедливости той или иной позиции,
следует отметить, что вплоть до настоящего времени
общественные науки развивались совершенно иначе, нежели
предписывает упомянутая схема *. Но в таком случае
время возникновения не может играть решающей роли
при оценке познавательной значимости социальных
доктрин и теорий. В определенной мере это относится и к
естественным теориям. Более позднее возникновение само
* Следует отметить, что рассматриваемая автором схема
признана в последнее время пе вполпе адекватной и для
характеристики развития естествознания. — Прим. ред.
79
по себе пе гарантирует большей обоснованности и
справедливости. Локализация марксизма во времени
тождественна его локализации на шкале познавательных ценно-
стеи. v-
Сказанпое не означает, что в общественных и
гуманитарных науках с течением времени не наблюдается
развития (ведь и марксизм пе является застывшей
теоретической конструкцией; оп утверждает возможность
творческого развития и практического применения пауки к
объяснению и революционному преобразованию общества).
Возражения вызывает признапне концепций Дюркгейма,
Вебера пли Парсонса более совершенными, нежели
марксистская социология, а концепции Кейнса превосходящей
марксистскую политическую экономию лишь потому, что
она сформировалась позже последней. Подобные
утверждения свидетельствуют о забвении таких элементарных
фактов, как влияние на процесс и результаты познания
социальных и классовых условий, как социальная и
идеологическая обусловленность мышления. Все общественные
науки развиваются в рамках определенных классовых
перспектив.
Таковы основные ошибки, наблюдающиеся при
анализе общественных теорий и их взаимосвязей на основе
использования естественнонаучных схем и критериев.
2. Вопросы теории.
«Теоретическая критика»
Помимо критики, апеллирующей к хронологической
последовательности отдельных фаз развития
общественной мысли, Парсонс предпринимает попытку более
«содержательной» полемики с отдельными положениями
марксизма. Остановимся на некоторых ее моментах.
Парсонс хорошо понимает, что исторический
материализм вкладывает в понятие материи и материальных
факторов содержание, значительно отличающееся от того,
которое связывал с ними материализм прошлого,
например материализм XVIII века. Однако, по его мнению,
Маркс не смог последовательно провести свою позицию.
Прп этом он ссылается на докторскую диссертацию
Маркса, посвященную, как известно, анализу взглядов
Демокрита и Эпикура,
80
Однако в период работы над докторской диссертацией
"Маркс был еще очень далек от создания исторического
"материализма. В то время он был хотя и революционно
настроенным, по восторженным поклонником философии
" Гегеля. Да и в любом случае интерес к тому пли ппому
" материалисту прошлого пе свидетельствует еще об отож-
" дествлении социальной материи с природой.
Тем не менее обвинение Парсопса далеко пе
безобидно. В качестве примера работ, отбрасывающих
исторический материализм па уровень механистического, он
называет работу В. И. Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм» и «Теорию исторического материализма» Бухарина.
Необходимо поэтому более четко выявить смысл
возражений Парсонса.
Если он заявляет, что материальность общественного
бытия, которое у Маркса противопоставляется
общественному сознанию, несводима к материальности природных
явлений, то это пе вызывает возражений. Утверждать
обратное — значит совершать ошибку, характерную для
натурализма. Нет решительно никаких оснований
обвинять Маркса в подобных ошибках, более того, он был в
" области общественных наук их первым критиком. Он
неоднократно подчеркивал в «Капитале», что такие
экономические категории, как товар, цена, деньги, капитал и
др., не имеют ничего общего с физическими свойствами
предметов и явлений. Выдвигая против материалистов
прошлого обвинение в натурализме, он считал его
достаточно серьезным. Оно было четко сформулировано уже в
1845 году в «Тезисах о Фейербахе», одном из
документальных свидетельств духовной эволюции Маркса.
Что касается последователей Маркса, то здесь
ситуация складывалась по-разному. Некоторые из них — здесь
можно назвать упомянутого Парсонсом Бухарина —
скатывались к крайнему натурализму.
Упоминая в этой связи работу Ленина, Парсонс, оче-
" видно, пытается создать видимость большей глубины
своих выпадов, обосновать свою критику в адрес более общей
философской теории, которую наряду с историческим
материализмом развивает марксизм, — диалектического
материализма. Проблемам последнего как раз и посвящен
"труд В. И. Ленина. Парсонс, по-видимому, осуждает не
"столько отождествление социальной действительности с
природой, сколько само философское исследование приро-
81
ды вообще, то есть то, чем занимается диалектический
материализм. Однако он никак не объясняет, почему
включение этой проблематики в сферу философского анализа
он считает неправомерным. Поэтому мы не будем
останавливаться на данной стороне его критики, так как
полемика была бы здесь просто беспредметной.
По мнению Парсонса, наряду с натурализмом
исторический материализм страдает рядом других пороков.
Перечень их весьма внушителен. Так, относя идеальные
и нормативные факторы к области надстройки, марксизм
якобы тем самым недооценивает их роль в социальных
процессах. Речь в данном случае, согласно Парсонсу, идет
о сугубо эмпирической проблеме — эту проблему он
называет «проблемой Вебера», — разрешать которую следует
путем эмпирических исследований, а не философского
декларирования или дедуцирования из философских
предпосылок. Маркс же, утверждает Парсонс, решает эту
проблему априори в рамках своей философии истории.
Этот далеко не новый упрек в той или иной форме
выдвигается со времени возникновения исторического
материализма. Тем не менее на некоторых моментах здесь
стоит остановиться. Парсонс заблуждается, полагая,
будто проблему роли идей в истории можно решить
эмпирическим путем, опираясь па философские предпосылки.
Уровень общности данной проблемы требует для ее
решения философского осмысления. Между прочим, так
ставится вопрос и у Вебера; так, заметим, обстоят дела и в
исследованиях самого Парсонса. Признание идей
зависимой или независимой переменной в истории общества
всегда осуществляется в форме философской идеи.
Эмпирия принимается в расчет позже. Она может лишь
косвенным образом и далеко не однозначно корректировать
философские выводы. Вопрос в том, чтобы всесторонне
проверить правильность этой идеи, опираясь на объективные
эмпирические данные и не пренебрегая ни
подтверждающими, ни опровергающими ее фактами.
В вопросе о роли идеальных и нормативных факторов
марксизм, полагает Парсонс, сталкивается с так
называемым «парадоксом оснований» (ultimate paradox).
Отрицая значение названных факторов, марксизм вместе с
тем вынужден признать их в качестве условия
осуществления собственной социальной программы: ее содержание
включает моменты, имеющие идеальный ц нормативцый
§ Ст. Рзинкд
82
характер, а также призыв к их реализации. Таким обра- /
зом, марксизм здесь строится на своего рода практиче-1
ской антиномии: его содержание якобы противоречит!
тому, что как идеология он должен предполагать самим1
фактом своего существования. Складывается ситуация,
подобная той, в которой оказался бы некто, желающий
сформулировать на русском языке высказывание: «Сейчас
я не говорю по-русски».
Нельзя не заметить, что в основе рассуждений Пар-
сопса лежит ложная предпосылка, согласно которой
марксизм якобы не признает творческой и детерминирующей
роли идеальпых и нормативных факторов. Против этого
заблуждения неоднократно выступали сами создатели
марксизма. Парсонс усматривает правомочность такой
предпосылки в том, что марксизм относит явления
сознания к области надстройки. Признание их вторичности по
отношению к базису трактуется Парсонсом как полное
отрицание их влияния на ход социальных процессов.
В случае подтверждения несостоятельности принятой
предпосылки немедленно рушится и вся аргументация в
пользу мнимой внутренней противоречивости марксизма.
Иногда Парсонс формулирует свои возражения
несколько иначе. Он говорит о роли идей не в истории, а в
структуре мотивации человеческих поступков. Марксизм
обвиняется при этом в пренебрежении идеальпыми
мотивами в пользу одностороннего преувеличения значимости
материальных факторов. Между тем очевидно, что
исторический материализм не имеет ничего общего с
доктринами, ограничивающими область мотивации
исключительно экономическими, материальными побуждениями.
Попытки причислить Маркса к лагерю утилитаристов далеко
не новы. Но вместе с тем источником ошибки может быть
и непонимание марксова метода идеализации. Маркс, к
примеру, пишет о прибыли как о побудительном мотиво
деятельности капиталиста. Однако он вовсе не считает ее
единственным мотивом. Речь идет о главном для
представителей данного класса побудительном мотиве, — о
мотиве, который нельзя обойти, тогда как другие могут быть
временно «взяты в скобки», не приниматься во внимание
как несущественные или менее существенные. .
Доказывая формирующую роль идей там, где Маркс
видит результат действия производительных сил, Парсонс
цытается апеллировать к точным наукам, ссылаясь на роль
S3
точных паук в развитии техники. Маркс, считает Парсонс,
сосредоточил все свое внимание на той группе идей, котог
рую он называет «идеологиями». В результате идеи,
содержащие итоги иаучного познания, оказались вне поля
его зрения. Маркс, по мнению Парсонса, вообще
недооценил различия между этими группами идей, отнеся и ту и
другую к области надстройки. Что можно на это
возразить? Во времена Маркса влияние науки на технику не
проявлялось так рельефно, как в наши дни. И все-таки
Маркс учитывал это влияние в своих исследованиях, не
усматривая в нем, однако, никакого противоречия с
собственной концепцией. Ибо она признавала наличие
взаимосвязи между сферой идей, с одной стороны, и сферой
материальных сил (базиса) — с другой. Маркс и здесь был
далек от тех упрощений, которые приписывают ему
обычно его противники.
Вместе с тем вопреки утверждениям Парсонса из
факта такой взаимосвязи отнюдь не следует, что наука
является основной причиной развития техники. Наука не
создает технику, точно так же, как техника не создает науку.
Как первая, так и вторая являются итогом деятельности
людей, объединенных социальными связями. Отсюда
можно сделать вывод, что темпы и направления развития
науки зависят не только от нее самой, но определяются
многообразными общественными потребностями и
институтами. В их число входит и техника — как фактор,
приобретающий все большее значение.
Масштабы и направления технического использования
научных открытий точно так же обусловливаются не
только природой науки и техники как таковых, но множеством
факторов, среди которых важнейшими в условиях
капитализма, например, можно считать прибыль, механизм
конкуренции и т. п. Возможно, со временем на этот процесс
наложит отпечаток побочный эффект ускоренного научно-
технического развития: разрушение окружающей среды,
истощение природных богатств Земли, возрастающие
расходы на технический прогресс. Видеть в науке и технике
самостоятельные побудительные начала — значит
становиться жертвой фетишизма, характерного для
промышленной цивилизации, наделявшей самостоятельностью
продукты человеческой деятельности и переносившей затем
на них социальные отношения их творцов. В этом смысле
индустриальный фетишизм означает углубление товарно-
84
го фетишизма раннего этапа развития капитализма, с
котором писал Маркс. Ранее процесс фетишизации
охватывал товары, а местом действия являлся товарный
рынок. Теперь же фетишизация распространяется в равной
мере и на научный, и на технический прогресс, то есть на
явления довольно далекие от рынка. Она влечет за собой
сложные нравственные проблемы, избавляя людей от
чувства ответственности за формы и плоды их собственной
деятельности, которые выступают как процессы и
структуры, полностью отделенные от человека. Марксистская
критика явлений отчуждения и фетишизации постоянно
учитывает и этот моральный подтекст.
Парсонс подвергает сомнению и позицию Маркса в
вопросе о классовой борьбе. Маркс, считает он, ошибается,
сводя все классовые конфликты к единственной модели
конфликта между буржуазией и пролетариатом и не
учитывая докапиталистических элементов. Так же ошибочна
и его оценка значимости конфликта: в индустриальном
обществе он не является определяющим фактором. Кроме
того, и капитализм и социализм сталкиваются якобы с
конфликтами одинакового типа. Парсонс пытается
доказать, что, говоря о классовых «противоречиях»
капитализма, Маркс находился под влиянием Гегеля и именно по
его примеру использовал категории логики для описания
социальной действительности.
Но хотя классовые конфликты и не принадлежат к
существеннейшим явлениям человеческих обществ, тем не
менее, продолжает Парсонс, они неизбежны и
неустранимы. Значит, утопична и марксова идея бесклассового
общества, противоречащая к тому же его собственным
взглядам на значение и необходимость классовых конфликтов.
Что же касается эксплуатации, выступающей в учении
Маркса в качестве главного источника классовых
антагонизмов, то в историческом плане ее следует объяснять,
скорее, случайными стечениями обстоятельств. Таких,
например, как совпадение места, занимаемого
предприятием в системе организации производства, с
определенными рыночными отношениями и возможностью для
предпринимателей использовать государственный аппарат в
собственных целях. Поскольку все эти факторы способны
развиваться самостоятельно, исследовать их нужно также
независимо друг от друга. Рассуждения эти ясно
обнаруживают нигилистическое отношение Парсонса к экономи-
85
ческой теорий Маркса. Оп даже не дает себе труда
критиковать ее, ограничиваясь замечанием, что якобы сегодня
уже мало кого интересуют запутанные проблемы марксо-
вон теории стоимости и прибавочной стоимости.
Маркс был свидетелем трагических сторон периода
ранней индустриализации. Отсюда, утверждает Парсонс,
проистекает его приверженность таким темам, как
эксплуатация, отчуждение и т. п. Но эксплуатация есть
результат случайного столкновения ряда факторов,
которые в других обстоятельствах могли бы выступать и
независимо друг от друга. Что же касается отчуждения, то
это не что иное, как ностальгия по утраченному состоянию
сельской или ремесленной цеховой общности. В большей
своей части буржуа — это подверженные фрустрации
аристократы, а пролетарии — страдающие той же
болезнью крестьяне. Но сегодня характерное для марксизма
драматическое видение капитализма стало не актуальным.
Ьместе с ним ушла в прошлое проблематика
эксплуатации и отчуждения.
Бот, пожалуй, и все, что может сказать Парсонс по
поводу одной из важнейших тем, заключающих в себе
квинтэссенцию марксовой критики капитализма. Однако
его выводы несостоятельны, и прежде всего потому, что
они базируются на необоснованной подмене марксистских
понятий класса и классовой борьбы собственными
понятиями Парсонса. Последние целиком и полностью
соответствуют той трактовке данных проблем, которая широко
распространена в буржуазной литературе. Таким образом,
критика оказывается направленной явно не по адресу.
Парсонс отождествляет классовую структуру с
социальной стратификацией. Классы выступают у него как
результат перекрещивания двух систем:
инструментальной, в свою очередь основанной на профессиональной
структуре, и системы кровных связей, элементарной
ячейкой которой является семья. При таком подходе класс
рассматривается как совокупность родовых клеточек (семей),
имеющих более или менее одинаковый статус,
определяемый инструментальной системой. Истоками классовых
конфликтов в современном обществе являются
соперничество, авторитет и дисциплина, стратегические позиции,
различные типы культур и т. д. Такой подход полностью
выхолащивает проблемы создания и присвоения
прибавочной стоимости, проблемы собственности и отношения к
ge
ней, играющие ключевую роль в марксистской концепций
классов и классовой борьбы. Отсюда становится понятно,
чем руководствуется Парсонс, настаивая на
неизбежности классовых конфликтов и объявляя утопией
марксистский идеал бесклассового общества. Конечно, с точки
зрения Парсонса, бесклассовое общество невозможно себе
даже представить. Если бы оно и могло существовать, то
не было бы способным к развитию.
Определяя эксплуатацию как явление случайное и
относя ее к ранней фазе капитализма, Парсонс
показывает, что его собственные взгляды не выходят за границы
буржуазного мышления, а сам он выступает в роли
апологета буржуазного status quo. Отбрасывая экономическую
теорию Маркса и даже не пытаясь при этом как-то
обосновать свою позицию, он демонстрирует пример крайней
идеологической пристрастности. Ссылка на то, что
экономическая мысль Маркса не вызывает сегодня якобы
никакого резонанса, попросту лишена всякого основания.
Факты говорят о том, что собственные познания Парсонса в
области политической экономии не идут дальше
знакомства с субъективистско-маржиналистическим
направлением* (Уильям Стэнли, Джевонс, Альфред Маршалл и др.).
Во всяком случае, именно это направление целиком и
полностью сформировало его взгляды в данной области.
Правда, он вспоминает и о Кейнсе, но есть все основания
полагать, что так называемая «кейнсианская революция»
не оказала на него большого влияния, так же как и пост-
кейнсианская экономическая теория, теории
экономического роста и динамики или концепции экономического
развития, выдвинутые в работах Шумпетера, Гэлбрейта,
Мюрдаля и др. В противном случае Парсонс вряд ли стал
бы так бесцеремонно рассуждать о марксистской
политической экономии.
Мы не будем специально останавливаться на
отношении американского социолога к проблеме отчуждения.
Совершенно очевидно, что здесь его взгляды не могут
претендовать ни на реконструкцию идей марксизма, ни на
* Маржиналнзм (англ. margin — предел, край, грань) —
субъективистское направление в буржуазной политической экономии,
постулирующее фатальную ограниченность, «предельность» средств
удовлетворения человеческих потребностей в качестве основы
существования экономики. — Прим. ред.
87
серьезную критику. Отождествление отчуждения с
горьким опытом и ностальгией, переживаемыми на ранней
стадии индустриализации оторванными от прежних сообществ
людьми, возможно, представляет интерес в
психологическом плане. Однако с марксистским подходом к проблеме
оно не имеет ничего общего.
Особое место в аргументации Парсонса занимает
критика социальных прогнозов Маркса. Он утверждает,
например, что вопреки предвидениям классиков марксизма
в капиталистических государствах не наблюдается
процесса пауперизации; отсутствует классовая поляризация,
то есть постепенное разделение общества па два класса —
буржуазию и пролетариат; в промышленности рабочая
сила не возрастает пропорционально росту
производительности труда и числу работников умственного труда;
классовая солидарность нередко уступает место национальной
и этнической; в социалистических обществах не
происходит отмирания государственного аппарата и т. д. Особый
упор делается, кстати, на последпюю проблему, как на
«центральную дилемму» в вопросе о приложении теории
Маркса к реальному социализму.
Парсопс пытается доказать, что прогнозы Маркса
оказались несостоятельными также и в ряде других случаев.
Так, острота революционной ситуации не связана
непосредственно с уровнем индустриального развития страны.
Достаточно поучителен в этом отношении, считает Пар-
сонс, опыт Франции XIX века. В экономическом
отношении она была страной мепее развитой, нежели современная
ей Англия. Однако именно французское общество
изобиловало мощными классовыми конфликтами. Маркс
уделял большое внимание апализу ситуации во Франции
именно в силу этого обстоятельства. Во всяком случае,
остается фактом, продолжает Парсонс, что
социалистические революции произошли не в наиболее развитых
капиталистических странах.
По мнению Парсонса, изменился не только
революционный центр, но и субъект революции. Классовая база
революции перемещается в направлении от пролетариата
к крестьянству (например, Китай). Иногда о таком
перемещении говорят относительно целых обществ и даже рас.
Как идеология, утверждает Парсонс, марксизм пережил
в сфере политических директив и лозунгов период весьма
характерной трансформации: от борьбы классов внутрц
88
данного общества к борьбе всех угнетенных классов
против всех угнетающих и, наконец, к борьбе между
народами «пролетарскими» и народами «империалистическими».
Начнем с того, что ряд из числа приведенных выше
прогнозов приписывается Марксу явно по недоразумению.
Он нигде не утверждал, в частности, что революционная
ситуация — простая функция экономического положения
страны, и не выдвигал на этой основе никаких прогнозов.
Нет у Маркса и высказываний, из которых однозначно
следовало бы, что всегда и в каждом отдельном случае
классовые связи будут прочнее национальных. Проблема
пауперизации уже десятилетия служит предметом
полемики между марксистами и немарксистами. Спор ведется
главным образом о смысле, который вкладывал Маркс в
это понятие, и о том, формулировал ли он вообще
упомянутый прогноз. Парсонс предрешает результаты этих
дискуссий.
Остальные прогнозы и их связь с историческим
материализмом требуют особого обсуждения. Здесь мы
вынуждены ограничиться лишь общими замечаниями.
Совершенно очевидно, что многие прогнозы опираются на ряд
неявных эмпирических предпосылок, дополняющих главную
схему исторического материализма. Так, тезис об
отмирании государства в социалистическом обществе
предполагает в качестве условия своего осуществления
повсеместную победу социализма. Таким образом, сам факт
невыполнения тех или иных прогнозов еще не может быть
основанием для опровержения определенных тезисов или
концепций исторической теории Маркса. Вполне
возможно, что ответственность за их осуществление лежит на
одной из дополнительных предпосылок.
В другом случае прогнозы могут опираться на
идеализирующие предпосылки, то есть на контрафактические и
поэтому реально невыполнимые предложения. Это
объясняется спецификой исследовательского метода Маркса,
который широко применял моделирование. Именно так,
по-видимому, обстоит дело (на это обращает внимание
Лешек Новак) с тезисом о прогрессирующей
пауперизации рабочего класса в условиях капитализма. В силу
своего идеализирующего характера утверждения подобного
рода не могут непосредственно соотноситься с
эмпирической действительностью. Нельзя поэтому говорить об их
опровержении или подтверждении. Для соотнесения о
89
действительностью их необходимо Подвергнуть процедуре
конкретизации, заключающейся в постепенном
устранении идеализирующих предпосылок и в соответствующей
модификации содержания.
Изменения в структуре системы, о которой сделаны
прогнозы, касающиеся путей ее дальнейшего развития, не
опровергают этих прогнозов, но оставляют открытым
вопрос об их логическом значении. Этим общим
замечанием можно, пожалуй, закончить рассмотрение
интересующей нас здесь проблемы. Отметим, однако, что новая
ситуация требует выдвижения новых прогнозов,
учитывающих структурные изменения. Именно таким был прогноз
В. И. Ленина относительно судеб капитализма в эпоху
империализма и перспектив социалистической революции.
Итак, ни в данном, ни в предшествующем случае
нельзя говорить об опровержении сделанных прогнозов. В
первом случае—потому, что они сформулированы на слишком
высоком уровне абстракции (в марксистском
понимании этого слова, отождествляющем абстракцию с
идеализацией) и «слишком далеки» от действительности. Во
втором же — по причине изменений в структуре системы, о
судьбах которой идет речь в прогнозах.
Все попытки опровержения теории исторического
материализма разбиваются также и о тот аргумент, что на базе
именно этой, а не какой-либо иной теории Ленин и его
последователи могли неоднократно корректировать,
уточнять сделанные ранее прогнозы или заменять их другими.
Теория, способная уточнить собственные прогнозы,
обнаруживает тем самым свою силу и не может быть
опровергнута отдельными, на первый взгляд противоречащими ей
фактами.
Следует, наконец, вспомнить и о том, что в отличие от
естественнонаучных социальные прогнозы сами могут
влиять на процесс собственного осуществления, то есть
они могут быть самореализующимися или
самодеструктивными. Не исключено, что некоторые из предвидений
Маркса, в особенности те, которые содержат негативную
оценку перспектив развития капитализма, в какой-то мере_
относятся к разряду самодеструктивных. Их
распространение в сознании масс, несомненно, сыграло определенную
роль в деле мобилизации сил буржуазии на борьбу за
сохранение капиталистической системы. В свое время на
это обстоятельство указывал Станислав Оссовский. Одна-
9ft
ко до сих пор оно зачастую не принимается во внимание.
А между тем осознание этого факта помогает понять,
почему логическое значение исторических прогнозов — их
истинность или ложность — в определенных случаях
оказывается независимым от логического значения посылок,
из которых данные прогнозы выведены.
И еще несколько замечании о мнимых «недостатках»
в концепции Маркса. По мнению Парсонса,
основоположник марксизма пренебрег тремя характерными для
современной социологической теории областями исследования.
Ими являются: 1) «проблема Дюркгейма», или проблема
социальных связей и роли институтов; 2) теория личности,
и в первую очередь проблема полиморфизма мотивации
человека и роли культурных кодов в обусловливании
деятельности; 3) «проблема Вебера», или проблема места и
роли идей и факторов культуры в социальной системе.
Парсонс, правда, отмечает, что так или иначе эти
проблемы встречаются в истории марксизма. Однако они не
обрели здесь достаточно развитой теоретической формы.
В лучшем случае, утверждает Парсонс, они принимали
вид частных построений, нацеленных на решение сугубо
практических вопросов. В качестве примера используется
«проблема Дюркгейма», которая в марксизме выступает
якобы в форме вопроса о природе и ценности
парламентарной демократии и особенно о возможности ее
использования при переходе к социализму. Поводом для
обсуждения этой проблемы послужил спор между
ревизионистами и «ортодоксальными» сторонниками Маркса,
занимавший, по мнению Парсонса, центральное место в
истории марксизма на переломе двух веков.
Нередко в этом споре пытаются искать истоки и
другой, поставленной столь же специфически проблемы —
«проблемы Вебера». В данном случае рассматриваются
факторы, координирующие деятельность и объединяющие
интересы индивидов и социальных групп в
социалистическом обществе после отмирания государственного
аппарата. По мнению Вебера, с которым солидаризируется
Парсонс, эту роль примет на себя система ценностей. Однако
Маркс, согласно его оппонентам, материалистически
«перевернув» гегельянство, отрезал себе тем самым пути
к правильной постановке и решению этого вопроса. Он
принимает в расчет только материальные факторы,
относя все остальное, в том числе и ценности, к сфере идеали-
91
стических заблуждений и иллюзий. Слабость и
ограниченность марксизма Парсонс видит в том, что он якобы обхо-
лттт молчанием проблематику социальной структуры и
сониальной организации социалистической системы.
Одпако эта позиция является плодом недоразумения.
Конечно, у Маркса нет развитой и изложенной expressis
verbis теории личности, социальных институтов или места
и роли ценностей. Но на этом основании нельзя
приписывать ему в данной области явно упрощенные взгляды, как
это делает Парсонс в связи с проблематикой мотивации и
личности.
Создается впечатление, что он просто не замечает
исследовательской практики Маркса как особой стороны
его творчества. Хотя Маркс не дал прямого описания
своих взглядов по ряду вопросов, тем не менее зачастую они
легко поддаются реконструкции. Для этого нужно только
усвоить принятую им при решении других вопросов
методологию исследования, с тем чтобы выявить на этой основе
заложенные там implicite предпосылки, обобщения
частных решений и т. д. Именно такой характер носят все
упомянутые Парсонсом проблемы. Так, существует
множество различных высказываний Маркса по поводу
юридических, политических и религиозных институтов,
позволяющих воссоздать его взгляды на их роль и социальную
функцию. Более того, теория надстройки, как составная
часть исторического материализма, указывает на место
социальных институтов в общественной структуре и на их
связи с другими элементами этой структуры. Подобный
же ход рассуждений возможен и при рассмотрении других
проблем.
Там же, где процедура реконструкции наталкивается
на трудности, всегда остается возможность творческого
решения проблемы в соответствии с требованиями
марксистской методологии. Здесь мы затрагиваем самую
важную сторону проблемы. Парсонс говорит, по существу, не
об отдельных вопросах, но о целых концепциях —
теоретических системах. Речь, например, идет не о «проблеме
Вебера», но о веберовской и парсонсовской трактовках
взаимоотношения культурных и социальных факторов, о
признании идей и ценностей независимыми перемепными
исторического процесса. Систему убеждений подобного
рода Парсонс хотел бы внедрить и в марксизм. Это лишний
раз подтверждает, что его представления о научной тео-
92
рии являются, мягко говоря, упрощенными. Конечно,
марксизм — это не замкпутое учение, и он, несомненно,
будет обогащаться в теоретическом отношении. Однако
результатом осуществления предложений Парсонса
явился бы эклектизм и даже противоречивость. Вместо
содержательного обогащения учения предлагаемый им путь
ведет к разрушению его единства.
Ошибочно или направлено явно не по адресу обвинение
Маркса в том, что он якобы не разработал или даже
просто не заметил проблематику социологических аспектов
социализма, в частности вопрос его социальной
организации. Это обвинение неправильно, если понимать его как
утверждение, что в своем первоначальном виде марксизм
не содержал никакой социологической модели социализма.
Элементами этой модели являются: концепция
бесклассового общества и эволюционизирующего в направлении
максимального ограничения собственных функций
традиционного государственного аппарата; пршшип планового
распределения производительных сил и формирования
отношений между людьми на основе, исключающей
угнетение и эксплуатацию; ликвидация отчуждения, то есть
власти пад людьми овеществленных общественных сил;
полное господство пад природными и социальными
силами и т. д.
Вместе с тем упомянутое обвинение направлено явно
не по адресу, если с его помощью Парсонс пытается
доказать, будто Маркс не дал развернутой теории структуры и
функционирования социалистического общества.
Известно, что решение этой задачи Маркс совершенно
справедливо считал делом будущего, прпзпавая безответственным
построение в этой области как его предшественниками, так
и его современниками всевозможных теоретических
конструкций. В этом оп усматривал одпо из отличий своего
учепия от доктрин социалистов-утоппстов. Перефразируя
слова Ленина, сказанпые им при анализе практики как
критерия истины, можно заметить, что марксова
социологическая теория социализма достаточно определенна,
чтобы послужить осповой для революционной практики и
практики социалистического строительства, и в то же
время опа достаточно пеопределепна для того, чтобы
превратить ее в догму, в перечень готовых к практическому
применению рецептов.
93
3. Проблема метода.
«Методологическая критика»
«Методологическая критика» занимает, пожалуй,
первое место в выступлениях Парсонса против марксизма. Под
«методологической» мы имеем в виду критику
исследовательских методов Маркса, а также тех схем мышления и
правил научного поиска, которыми он пользовался (в
действительности или только по мнению Парсонса). При этом
чаще всего отмечается якобы низкий уровень
«аналитической абстракции».
Речь в данном случае идет о том, что Маркс, как
утверждают его критики, не формулирует универсальных
законов и даже не пользуется методами, делающими возмож-
пой их формулировку. Эти методы или процедуры
заключаются, вообще говоря, в выделении определенного набора
переменных и аргументов, между которыми
устанавливаются далее определенные связи и отношения. Первыми
в области политической экономии этот метод
использовали Маршалл и Кейнс, в социологии — Дюркгейм и
Вебер.
Само собой разумеется, что именно этот метод Парсопс
считает наиболее надежным и кладет его в основу
собственной методологии. А поскольку, как уже говорилось,
названные социологи представляют, по его убеждению,
более высокий по сравнению с марксизмом этап развития
общественной мысли, сам собой напрашивается вывод о
том, что марксистская методология якобы устарела. Пар-
сонс формулирует этот вывод достаточно четко.
Подобно тому, полагает он, как систему Птолемея
называют геоцентрической, систему Маркса можно назвать
«капитализмоцентрической». Это должно означать, что
мысль Маркса не выходит за рамки капитализма и имен-
по в этой перспективе оп рассматривает всю
общественную жизнь. Для того чтобы охватить своей теорией новые
эмпирические данные о движении планет, Птолемей и его
сторонники вынуждены были прибегать ко все более
запутанным объяснениям, создавая так называемую теорию
эпициклов. Усилия Маркса и его последователей объяс-
пить новые социальные явления напоминают, утверждает
Парсонс, попытки приверженцев Птолемея. Отсюда
делается вывод о том, что, подобно системе Птолемея, учение
Маркса нуждалось в «коперпиканской революции», кото-
94
рую якобы и совершило новое поколение в лице Дюркгей-
ма и Вебера.
Эта претенциозная историческая метафора должна, по
мнению Парсонса, проиллюстрировать как ограниченность
учения Маркса, так и ее истоки. Последние скрыты в
историческом методе автора «Капитала», а «капитализмоцен-
тризм» — это лишь одно из его проявлений. Парсонс
говорит об историческом методе Маркса по крайпей мере в
двух аспектах. Во-первых, он пытается доказать, что
значение исследований Маркса ограничено рамками одной
исторической эпохи — капитализмом в ранней стадии его
развития. Во-вторых, что используемая Марксом
методология не позволяет делать универсальных обобщений,
охватывающих все социальные системы и исторические
периоды. Ее применение дает возможность
сформулировать законы, ограниченные определенными
пространственными и временными рамками. В отдельпых случаях Маркс
обвиняется в том, что он полностью сконцентрировал свое
внимание на проблемах социального развития, оставив в
стороне вопросы социальной структуры и синхронии,
которые, к слову сказать, главпым образом и занимают
Парсонса.
Правда, по Парсонсу, историцизм, оказавшийся
причиной низкого уровня «аналитической абстракции», имеет
и определенные достоипства. В рамках марксизма он
предотвратил перенос на всю человеческую историю
характеристик определенной исторической эпохи, что довольно
часто имело место в социальных доктринах прошлого
столетия.
Переведенные па язык современной методологии
обвинения Парсонса припимают следующий вид. Он пытается
доказать, что как по методам исследования, так и по
характеру созданной им теории Маркс является ипдукти-
вистом.
То есть он исповедует и практически реализует
взгляд, согласно которому формулирование закопов пауки
осуществляется путем накопления эмпирических данных
и их последующего индуктивного обобщения. Своеобразие
марксова иидуктивизма усматривается лишь в
концентрации внимания на исторических фактах и в связанной с
этим тенденции к формулировашпо законов, имеющих
сугубо исторический характер. В расчет принимается и
еще одно обстоятельство, имеющее, как мы видели выше,
95
большое значение в системе критической аргументации
Парсонса. Имеется в виду, что для своих обобщений Мар;кс
черпал фактические данные из раннего периода развития
капитализма и индустриальных обществ. Полученным
таким образом результатам он, по утверждениям
Парсонса, придает универсальный характер, то есть считает их
справедливыми для всех подобного типа общественных
систем.
Индуктивизму Парсонс предъявляет ряд серьезных
претензий. Он считает, что индуктивные методы не ведут
и не могут вести к открытию универсальных законов,
образующих основу научного познания. Нередко случайным
совпадениям и связям между элементами общественной
жизни они приписывают универсальное значение.
Исторически индуктивизм связан с эмпиристским направлением,
относившимся, как известно, пренебрежительно к теории
и недооценивавшим ее роль в отборе и интерпретации
данных, в определении объекта научного исследования
и т. д.
В принципе со всеми этими замечаниями в адрес ин-
дуктивизма можно согласиться, а перечень их даже
дополнить. Дело, однако, в том, что они не имеют никакого
отношения к подлинным исследовательским методам
Маркса, которые Парсонс без всякого на то основания
причисляет к процедурам, базирующимся лишь на
наблюдении и обобщении его результатов. Маркс был первым и
решительным противником применения данной методики
в сфере общественных наук. Он указывал не только па ее
теоретическое несовершенство, но и на ее идеологические
следствия. В своих исследованиях он использовал метод,
получивший название метода «восхождения от
абстрактного к конкретному». Сегодня его чаще всего называют
методам идеализации.
Напомним, что процедура идеализации заключается в
абстрагировании при описании исследуемого явления от
обстоятельств и условий, имеющих для него
второстепенное значение. Такой подход позволяет открывать и
формулировать существенные взаимозависимости. Так,
например, цены товаров существенным образом зависят от их
стоимости: такие факторы, как спрос и предложение,
в данном контексте оказываются несущественными, и
потому ими можно пренебречь. После формулирования
абстрактный закономерности, то есть закономерности, охва-
98
тывающей исключительно существейные зйвйсимос?й, с?а^
вится задача ее проверки путем соотнесения с
эмпирической действительностью.
Здесь мы имеем дело с процедурой конкретизации,
в ходе которой в описание явления снова включаются
факторы, ранее не учитывавшиеся. Это, конечно, уточняет
и дополняет наши представления о данной
закономерности.
При рассмотрении аргументации Парсонса
складывается впечатление, что ему известны только два
фундаментальных способа познания мира: эмпирический
(индуктивный) и рациональный (аналитический). Первый он
отбрасывает, второй принимает. Первый метод исходит из
фактов, которые подвергаются процедуре индуктивного
обобщения; второй начинается с классификации
явлений и разложения исследуемого объекта на простые
элементы, которые затем — в целях восстановления их
подлинной структуры — скрепляют системой связей и
взаимозависимостей. Первый метод связан с именем Бэкона,
второй — Декарта. Все, что сделано после них, не
затронуло существа методов. Дело ограничивалось уточнением
и шлифовкой предложенной ими техники.
Абсолютизация этих методов в той или иной форме
характерна для буржуазной философской теории.
Индуктивный метод поднят позитивизмом до ранга единственно
надежного и достойного внимания. Этому методу он
приписывает все успехи естественных наук. Различные
варианты и формы рационалистской методологии
культивируются антипозитивистскими направлениями*. Сторонники
этого метода считают его панацеей от многочисленных
трудностей, возникающих в процессе использования
индуктивного метода в общественных науках. Так, к
примеру, применяемый современными гуманитарными науками
структурализм есть не что иное, как мутация
рационалистского метода. Он также предлагает осуществлять
дихотомическое деление, выделять пары противоположных
элементов, восстанавливать конфигурацию явлений и т. д.
* Позитивизм (по крайней мере в основной части своей про-,
граммы) может базироваться и на рационалистской (дедуктпвист-
ской) основе. Работы К. Поппера являют собой образец такой
модификации. *— Прим. ред. . "
97
Таким образом, Парсонс не одинок в своих
«методологических изысканиях».
Было бы, однако, неправильно считать, будто две
упомянутые ориентации полностью исчерпывают арсенал
методологических установок, фигурировавших в истории
развития наук об обществе. Ни к одной из них нельзя
отнести, в частности, герменевтическое направление,
постулирующее необходимость введения особой
познавательной операции — так называемой операции понимания —
как необходимого средства восприятия или объяснения
социальных и культурных явлений. Парсонс, однако, не
определяет своего отношения к этим установкам и вообще
редко о них упоминает.
Вне поля его зрения оказался и метод идеализации,
столь успешно применяемый Марксом, особенно в его
экономических исследованиях. Парсонс не только не видит
своеобразия этого метода, но вообще не замечает его как
такового. Впрочем, и почти вся предшествующая ему
академическая наука не осознавала значимости этого метода
и не только не анализировала его, но даже не признавала
факта его существования. Эта своеобразная
«методологическая слепота» представляется тем более удивительной,
что с данным методом связаны наиболее значительные
достижения физики нового времени, а в области
социальных наук —- теория Маркса. Причем как в свое время
Галилей, так и Маркс — Маркс в особенности — отдавали
себе отчет в значении применяемой процедуры и даже
сформулировали ряд ее предпосылок.
Приписав Марксу процедуру, которую он не только не
применял, но, напротив, резко критиковал (на примере
так называемой вульгарной политической экономии),
Парсонс обвиняет этот метод в поверхностности, низком
уровне теоретических обобщений, использовании случайных
исторических параллелей и т. д. Все эти обвинения
абсолютно беспочвенны, ибо в основе их лежит явное
недоразумение.
Однако не все обвинения — результат ошибочной
трактовки исследовательского метода Маркса. Так, Парсонс,
скорее всего, продолжал бы настаивать на низком уровне
общности марксова анализа, даже усвоив суть метода
идеализации. К Марксу он подходит с собственной меркой и
критикует его, по существу, за то, что он не пользуется
сравнительно-аналитическим методом, которому сам Пар-
7 Ст. Раннкб
98
соне отдает предпочтение. Возникает поэтому
необходимость еще одного разъяснения в ходе нашей
контраргументации.
Вопреки утверждениям Парсонса его собственный
метод не является чем-то совершенно новым: в той или иной
форме он включается в неизменный набор
методологических приемов, применявшихся в различное время
буржуазными исследователями. И подобно индуктивистскому
подходу, он также был предметом критики со стороны
Маркса. Первый Маркс критиковал за то, что он, не давая
возможности различать главные и второстепенные
факторы, затрагивает только поверхностный слой явлений. При
этом сами явления данный метод фиксирует такими,
какими они представляются с точки зрения здравого смысла,
обыденного сознания. Поскольку основные механизмы
социального угнетения скрыты^ под поверхностью
капиталистической действительности и потому не могут быть
выявлены при помощи индуктивного метода,
идеологическим эффектом его применения нередко является
оправдание существующего status quo. Только метод идеализации,
достигающий глубинных и существенных структур,
способен выявить суть скрытых социальных механизмов.
Не менее резко критикует Маркс и второй метод,
обвиняя его в банальности выводов. По мнению Маркса,
стремление выявить свойства и закономерности, присущие
всем социальным структурам и системам, не может
привести к плодртворным и познавательно интересным
открытиям. По крайней мере так происходит в тех случаях,
когда поиск закономерностей не предваряется изучением
конкретных социально-экономических формаций под углом
их специфических закономерностей и структур. Более
того, эта процедура нередко приводит и к другой ошибке:
к распространению на всю человеческую историю
характеристик, присущих современности. Так, человек вообще,
о котором любят говорить философы и экономисты, как
правило, является человеком их собственной эпохи и даже
собственной нации, сословия или класса. Этот метод ведет
и к определенным идеологическим следствиям: в нагрот
мождении порожденных им внеисторических
абстракций гибнет историческая конкретность, а вместе с ней
и специфические формы эксплуатации и угнетения
человека.
Здесь мы подходим к сути проблемы. Взгляды Маркса
99
отличаются историчностью пе по необходимости и не в
силу мнимой ограниченности используемых им
методологических средств, по в результате сознательно прппятого
им решения. При этом историзм пе исключает
возможности обобщений на самом высоком уровне. Более того, он
открывает единственно возможный путь к познанию
действительно интересных в гносеологическом отношении и
глубоких закономерностей.
Универсальные закономерности и структуры
специфическим образом проявляются в каждой исторической
эпохе и каждой общественпо-экономической формации. Путь
к их открытию лежит через исследование этих эпох и
формаций, присущих им закономерностей и механизмов, в
которых только и проявляются универсальные ритмы
человеческой истории. Это не означает, что изучепие
конкретных формаций может дать только эмпирический
материал, который в дальнейшем должен быть обобщеп в
универсальных суждениях. Такой подход был бы
равносилен возврату к индуктивному методу.
Речь же идет о том, что знапия существенных
аспектов одной общественно-экономической формации, истории
ее формирования, развития и падения в принципе может
быть достаточно для реконструкции общесоциальиых
фундаментальных закономерностей. Как отмечал в
«Диалектике природы» Энгельс в связи с апализом механического
эквивалента тепла, одна паровая машина не в меньшей
степени доказывает, что тепло превращается в мехапиче-
ское движение, нежели это могли бы сделать сто тысяч
машин.
Таким образом, принцип марксистского историзма,
предполагающий исследование отдельных формаций с
точки зрения присущих им закономерностей, пе только не
исключает открытия универсальпых закономерностей, по
наоборот — делает его по-настоящему реальным. Маркс
порвал с позитивистским ппдуктивизмом, утверждающим,
что общее следует искать только в сумме отдельных
феноменов: исторических эпох, общественно-экономических
формаций, социальных структур и явлений. Общее,
утверждал Маркс, содержится и может быть обпаружепо в
частном. Маркс пе пуждался в сравпительно-апалитическом
методе Парсопса, чтобы начать разработку исторического
материализма — паиболее общего учения о закопах
развития общества. Он использовал глубокий, затрагивающий
7*
100
суть явлений, то есть опирающийся на метод
идеализации, анализ капитализма.
Отметим здесь, что вопреки мнению самого Парсонса
его методология не столь уж радикально отличается от
позитивистской. Как сравнительно-аналитический, так и
индуктивный метод опираются на предпосылку, согласно
которой исследователь, стремящийся обнаружить общие
аспекты явления, должен всегда располагать суммой или
совокупностью фактов. При этом он должен стремиться к
тому, чтобы эта совокупность была как можно шире,
поскольку именно от количества фактов зависит уровень
общности, обоснованности и надежности полученных
выводов. Оба метода различаются лишь характером
основных операций. Индуктивный метод рекомендует обобщать
факты, сравнительно-аналитический — их упорядочивать.
Метод идеализации принципиально отличается от каждой
из этих методологий.
Поэтому «капитализмоцентричность» теории Маркса
отнюдь не свидетельствует о ее ограниченности или о ее
низком методологическом уровне в сравнении с
концепциями, не имеющими подобного центра сосредоточения.
Капиталистическая система дает основоположнику
марксизма материал для философии истории и для проверки
истинности ее утверждений. Универсализм же буржуазной
мысли зачастую оказывается иллюзорным и почти всегда
банальным.
Мысль Маркса «капитализмоцентрична», но совсем не
в том смысле, который видится. Парсонсу. В этом легко
убедиться. Анализируя капитализм, Маркс тем самым
исследует не только определенную историческую эпоху
или общественно-экономическую формацию, но также и
конкретную фазу истории человечества. Он не переносит
на всю историю характеристики, присущие только
капитализму. Впрочем, утверждая обратное, Парсонс нередко
противоречит своим же высказываниям, в которых он
защищает Маркса от подобных обвинений, справедливо
указывая на его исключительное историческое чутье.
Мы не случайно остановились на утверждении о якобы
низком уровне общности теоретических выводов Маркса.
Оно направлено против наиболее важных аспектов
методологии автора «Капитала». Здесь имеются, конечно,
проблемы, требующие своего дальнейшего изучения. Решение
этих проблем, несомненно, окажет положительное влия-
101
еие не только на чисто методологические исследования.
Парсонс, не нашедший для марксистской методологии
иных характеристик, кроме той, что она «устарела», дает
показательный пример реальных познавательных
возможностей буржуазной мысли.
Остановимся кратко на других методологических
аргументах Парсонса. По его мнению, Маркс был полностью
покорен «логикой дихотомии», то есть тенденцией к
построению конструкций, состоящих из пары
противоположных понятий. В подтверждение сказанного приводятся
следующие примеры: деление объектов на материальные
и идеальпые; двухклассовая модель социальной
структуры (капиталисты и рабочие); детерминизм в
капиталистическом обществе и свобода в социалистическом. Вместе с
тем, как утверждает Парсонс, социальной
действительности чужды дихотомические структуры. Например, деление
на идеальное и материальное не оставляет места для
ценностей, которые не принадлежат ни к первому, ни ко
второму. В связи с появлением менеджеров, инженерных
кадров и т. д. обнаружила якобы свою несостоятельность
и двухклассовая модель общества. Столь же
сомнительным, как и противопоставление детерминизма свободе,
представляется Парсонсу противопоставление
наследственности влиянию среды, поскольку на поведение людей
влияет и первая и вторая. На это указывает, в частности,
существование таких систем ценностей, которые
ликвидируют абсолютную свободу, ограничивая наши поступки
определенными структурами и организациями. Однако при
этом они всегда оставляют некоторую область
возможностей и выбора.
В данном случае Парсонс явно упрощает проблему,
акцентируя вместе с тем ее отдельные стороны. Как,
например, обстоят дела с дихотомией
материальное—идеальное? Если она совпадает с делением на физическое и
психическое, то это как раз и означает, что Марксу чуждо
дихотомическое мышление. Ибо он признает
существование товаров, денег, капитала и других социальных
феноменов, которые нельзя отнести ни к сфере физического, ни
к сфере психического, поскольку они не имеют бытия,
присущего как вещам, так и мышлению и психическим
переживаниям. Если же под материальным понимать как
физическую, так и социальную действительность, то тезис
о пресловутой дихотомичности мышления Маркса может
102
оказаться справедливым, по лишь ценой превращения его
в аналитическое суждение, то есть в суждение, истинность
которого устанавливается на основе принятого
определения.
Что касается двухклассовой модели социальной
структуры капитализма, то это не более чем модель, то есть
определенная идеализация, которую Маркс использует,
например, в первом томе «Капитала» для своих
исследовательских целей. Там же, где необходимо более полное
социологическое описание социальной структуры, как это
имело место в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»,
Маркс анализирует целую систему общественных слоев и
классов. Так что и здесь миф о дихотомичности его
мышления не выдерживает критики. Его источником
послужило все то же непонимание существа методологии Маркса
и его исследовательской практики, в соответствии с
которой анализ начинается с определенных идеализации, лишь
в дальнейшем конкретизирующихся и приближающихся к
эмпирии.
Перечень мнимых методологических заблуждений
Маркса на этом, однако, не заканчивается. По мнению
Парсонса, Маркс не только находится на низком уровне
«аналитической абстракции» и злоупотребляет
дихотомическими схемами, но он также необоснованно переносит
на всю капиталистическую систему черты и структуры,
присущие лишь одной из его подсистем —
индустриальному обществу, причем на ранней фазе его развития. Это
обвинение несет, по-видимому, двойную нагрузку. С одной
стороны, речь идет о формировании суждений по поводу
системы в целом на основе одного из составляющих ее
элементов. С другой — об абсолютизации тех черт и
признаков индустриальной микроструктуры, которые
оказались исторически преходящими, характерными лишь для
определенной фазы ее развития.
С этими заблуждениями, утверждает Парсонс, связан
ряд важных теоретических построений Маркса. В их
числе дихотомическая схема структуры капиталистического
общества, проблематика отчуждения труда, тезис о
взаимосвязи политических и экономических факторов, о роли
и классовой сущности государства.
Все перечисленные положения и проблемы Парсонс
объявляет ложными или уже разрешенными. В лучшем
случае они имеют значение для узкого исторического пе-
103
рйбда. Вопрос 0 Дихотомической схеме мы уже
рассматривали. Правда, в изложении Парсонса остается неясным,
сомневается ли он в эмпирической адекватности этой
схемы (тут с ним можно было бы согласиться) или же в
справедливости вывода о том, что буржуазия и пролетариат
являются основными социальными классами
капиталистического общества (такая позиция заслуживает совершенно
иной оценки).
Относительно проблемы отчуждения следует добавить,
что отрицание Парсонсом отчуждения труда в
современном капиталистическом производстве имеет чисто
декларативный характер и не подкреплено никакими доводами.
Если, конечно, не считать таковыми мнение, будто в
отличие от своего предшественника первой половины XIX века
современный рабочий уже достаточно освоился с
присущими индустриальному обществу отношениями между
людьми, чтобы не страдать ностальгией по сообществам, в
которых господствовали межличностные отношения,
опирающиеся на традиции.
Между тем обширный список работ, посвященных
проблемам отчуждения труда и его разнообразных
проявлений в современном капиталистическом обществе,
постоянно пополняется. Раздаются также голоса самих
буржуазных ученых, с полным основанием утверждающих* что
явление это не только не утратило свою актуальность, но,
наоборот, все более усиливается и приобретает зловещий
характер. В свете этих фактов высказывания Парсонса
представляются наивными, они не могут
рассматриваться и как более или менее обоснованный вариант критики
взглядов Маркса.
Не менее наивной представляется и трактовка
марксистской концепции государства. Марксизм якобы просто
констатировал совпадение власти и авторитета с
собственностью на примере промышленного общества XIX века.
В дальнейшем это совпадение, а также зависимость
политических решений от фактора экономики он перенес на
всю совокупность отношений между государственным
аппаратом и экономикой. Но даже в приложении к
индустриальному обществу, утверждает Парсонс, эта ситуация
давно уже отошла в прошлое. Сегодня в конфликтах
между рабочими и предпринимателями государство нередко
выступает в качестве арбитра, принимая на себя в рамках
своей социальной политики заботу о судьбах рабочих. По
104
мнению Парсонса, видеть s государстЁб лишь брудиё
господства одного класса над другим — значит стать жертвой
недоразумения или отдавать дань представлениям
прошлого.
Последнее замечание не заслуживает внимания. Оно
не имеет ничего общего с действительностью и
свидетельствует об идеологической пристрастности. Обращаясь к
вопросу об источниках марксистской концепции
государства, мы вопреки Парсонсу должны заметить, что их
следует искать не в структуре индустриального общества, а в
философии Гегеля, в критическом сопоставлении его
взглядов на государство как на воплощение общего интереса с
действительным положением дел в современной ему
Германии. Маркс осуществил это сопоставление в конце
1843 года, то есть прежде, чем приступил к первым
исследованиям капиталистической системы.
Нередко Парсонс просто искажает ход мысли Маркса.
Именно это происходит в данном случае. Исходным
пунктом для Маркса является капитализм как система или,
скорее, как определенная историческая формация,
закономерности развития и функционирования которой
надлежит исследовать. Отдельные элементы этой системы Маркс
рассматривает в неразрывной связи с целым, равно как и
с другими элементами этого целого. Такой подход
диктуется диалектическим методом. Иначе, впрочем, и не может
быть, если учесть, что принадлежность к системе не
является формальным признаком, а влечет за собой ряд
существенных выводов относительно дополнительных
закономерностей и характеристик явления. Парсонс упрекает
Маркса в том, что выявленные им в сфере производства
отношения рабочего и капиталиста, совпадение власти с
собственностью и т. д. он переносит на
капиталистическую систему в целом. Однако сам факт существования
рабочих и капиталистов, собственности, прибавочной
стоимости или эксплуатации не следует из технической
природы предприятия — как места, где производятся
определенные материальные блага или оказываются определенные
услуги. Этот факт в действительности связан с социальной
природой предприятия, которую оно обретает,
функционируя в общей социальной системе, в данном случае в
капиталистической. Говоря о социальной сути
предприятия, нельзя упускать из виду, что его можно понять и
описать только как элемент системы. Даже если бы экстра-
105
поляция, в которой Парсонс обвиняет Маркса, и имела
место, то она представляла бы собой проекцию
характеристик и структур заимствующей системы на систему, их
собственно порождающую. Поэтому она не могла бы вести
ни к каким катастрофическим с точки зрения познания
последствиям.
Таким образом, обвинение Парсонса базируется на
ложной предпосылке, будто, по Марксу, промышленная
система в отношении своей социальной структуры и ряда
других черт является полностью автономной,
независимой от капиталистической системы как целого, и как
таковая может быть предметом исследования.
Действительно, хотя в марксовом анализе
промышленное предприятие и не играет той особой роли, которую
приписывает ему Парсонс, оно все же занимает в нем
достаточно видное место. Это обусловлено несколькими
причинами, и прежде всего тем, что именно в его рамках
со всей определенностью проявляется механизм
капиталистической эксплуатации. Поэтому политическая
экономия Маркса в отличие от буржуазной концентрирует свое
внимание прежде всего на социальных аспектах процесса
производства, трактуя предприятие как составную часть
исследуемого объекта. Капиталистическое предприятие —
основной источник классовых конфликтов между
пролетариатом и буржуазией, здесь в наиболее острой форме
выступает процесс отчуждения труда. И наконец, в
техническом и институциональном планах предприятие
представляет собой элементарную ячейку, в рамках которой—
в результате изменений, вызванных промышленной
революцией, — осуществляется процесс производства
материальных благ и которая после его освобождения от
господства капиталистических отношений может быть
использована в условиях социализма.
В заключение упомянем еще об одном возражении
Парсонса. Парсонс обвиняет Маркса в том, что он в своих
исследованиях не придерживается требований
методологического постулата, выступающих в научных дискуссиях,
как правило, под немецким названием Wertfreiheit
(буквально: свобода от ценности). Речь идет об оценках и
процессе оценивания в системе марксизма, их месте, роли и
обоснованности.
Крайние интерпретации этого постулата, особенно
характерные для различных вариантов цозитивизма, тре-
106
буют от исследователя полного отказа от каких-либо
оценок или ценностей. Парсопс не без оснований сомневается
в правомерности подобных требований. Исследователь в
принципе не может отказаться, скажем, от
интеллектуальных оценок, квалифицирующих определенные
высказывания или совокупность высказываний как истинные или
ложные, обоснованные или необоснованные, правильно
выведенные или нет, эмпирически проверяемые или
лишенные этой характеристики и т. д. Подобные оценки —
неотъемлемая часть научной практики. Также непонятно,
считает Парсонс, почему исследователь должен
отказываться от оценок другого типа, например политических
или социальных. Ученый выступает одновременно и в роли
гражданина, члена политической партии, представителя
своего класса и т. д. А каждая из этих ролей предполагает
свою систему ценностей.
Парсонс видит проблему в том, чтобы не смешивать
между собой эти роли и ценности, не выносить от имени
науки оценочных суждений, имеющих социальный, или
политический, или религиозный характер. Именно такой
смысл связывает он с постулатом Wertfreiheit, полагая,
что его позиция вполне отвечает намерениям Макса Ве-
бера, автора этого постулата.
Wertfreiheit означает, таким образом, не отказ от
оценок вообще, но запрещение выносить в сфере науки
оценки, свойственные другим, неинтеллектуальным областям
человеческой деятельности. В науке подобные оценки
могут якобы использоваться только в целях мистификации,
полезной с точки зрении интересов той или иной
социальной группы.
По мнению Парсонса, марксизм нарушает это правило.
В качестве подтверждения он ссылается, в частности, на
формулировку «научный социализм», считая, что в ней
смешаны две несоизмеримые системы ценностей:
идеологическая и научная. При этом первой шкале
приписывается статус второй. Подобная ситуация является следствием
как бы самой структуры учения Маркса, поскольку
марксизм выступает одновременно как наука и как идеология,
как социальная теория и как программа общественной
деятельности.
Аргументация Парсонса в данном случае оказывается
типичной для критиков марксизма, придерживающихся
позитивистской ориентации. Попытаемся ее опровергнуть,
107
разбив операцию контраргументации на три
последовательных этапа. Говоря о «научном социализме», классики
марксизма тем самым подчеркивают его принципиальное
отличие от социализма утопического. Следовательно, в
данном контексте слово «научный» не означает
«свободный от ценностей» или «не содержащий социальных и
других оценок». Оно акцентирует «антиутопический»
характер теории. Речь здесь идет совсем не о том
противопоставлении, о котором говорит Парсонс.
Термин «научный социализм» не содержит в себе
логического противоречия. Его также нельзя рассматривать
как мистификацию, состоящую в необоснованной
подстановке интеллектуальных ценностей на место ценностей
социальных. Речь идет лишь о том, что в марксизме
социалистические ценности впервые выступают как доступные
реализации, то есть не утопические, и что здесь впервые
научными методами исследуются условия и возможности
их реализации. Правильное понимание этого факта
помогает обнаружить всю несостоятельность парсонсовской
критики идеи научного социализма. Тем более что
критика, по существу, базируется на единственном
рассмотренном нами доводе.
Правда, у Парсонса мы находим утверждения, что
Маркс якобы смешивает нравственные и политические
оценки с простыми описаниями. Мы перейдем теперь ко
второму этапу в наших возражениях на критику. Отвечая
на обвинение Маркса в морализаторстве, необходимо
прежде всего подчеркнуть, что он был одним из тех
немногочисленных мыслителей XIX века, которые резко
протестовали против подмены объективных исследований
социальных и исторических процессов бесплодным
морализаторством, попытками исследовать эти процессы в
перспективе идей вечной справедливости, равенства и т. д.
Именно с таких позиций Маркс критиковал Прудона.
Вместе с тем это не означает, что оп полностью отрицал
значение нравственных критериев и оценок, страдал
научным аморализмом, моральным историцизмом и т. п. Маркс
четко отделял оценку от описания, провозгласив в
качестве важного методологического принципа и принципа
этики ученого требование их взаимной незаменимости.
Вместе с тем следует иметь в виду, что в общественных
и гуманитарных науках нередки ситуации, когда одно и то
же понятие наряду с описательными выполняет также и
108
оценочные функции. Суждения и высказывания, в
которых выступают подобные понятия-гибриды, также несут
двойную нагрузку. В марксистском понятийном арсенале
такой характер имеют, например, понятия прибавочной
стоимости, прибавочного труда, прибыли, отчуждения,
социализма и т. д. Их содержание заключает в себе как
определенную информацию, так и оценку —
положительную или отрицательную.
Отсюда следует, что постулируемое Парсонсом
разделение описания и оценки или, говоря его языком,
отделение познавательных ценностей от прочих в принципе
невозможно. Так, осуждая морализаторский подход к науке,
Маркс высказывается за отделение описания от оценок и
против их взаимной подмены. Оперируя же понятийным
аппаратом, содержание которого так или иначе включает
в себя оценки, он implicite признает невозможность такого
разделения. В этом нет никакого противоречия, так как
признание неоднозначности, взаимной незаменяемости
определенных операций и вера в возможность их
действительно полного разделения — это далеко не одно и то же.
Первое Маркс принимает, второе отбрасывает. Это
свидетельствует о том, что методологическая мысль Маркса
более реалистично (точнее, диалектично) отражает
исследовательскую практику. Тогда как практический пафос Пар-
сонса питает вера в неосуществимый постулат и нечеткое
различение методологии, с одной стороны, и
исследовательской практики Маркса — с другой.
Мы при этом сознаем, что наши замечания не решают
всех проблем, и в особенности тех, которые связаны с
методологическим статусом оценочных высказываний. Одной
из возможных интерпретаций обвинения Парсонса можно
считать утверждение, будто Маркс приписывал оценкам
истинность или ложность, смешивая таким образом их с
описательными высказываниями, поскольку упомянутые
характеристики могут приписываться только последним.
Оценки не могут быть ни истинными, ни ложными. Мы
перейдем поэтому в наших рассуждениях к третьему
этапу.
Вопреки позитивистской традиции, ведущей свою
историю от Давида Юма, мы полагаем, что в
истинностном отношении оценки не отличаются существенно от так
называемых описательных высказываний. Правда, у
Маркса нет на этот счет прямых указаний. Есть, однако, все
109
основания предположить у него такое понимание или по
крайней мере считать, что оно более соответствует его
общей теоретической позиции, нежели противоположная
точка зрения. Признавая в целом справедливость
аргументов, выдвигаемых Парсонсом, мы тем не менее далеки от
мысли, будто они опровергают марксизм. То, что является
обвинением в устах позитивиста, для представителя
антипозитивистского направления таковым может и не
служить. Думается, что именно так выглядит ситуация и в
данном случае.
Позитивистская догма, утверждающая, будто оценки
не могут быть ни истинными, ни ложными, покоится на
определенных онтологических предпосылках.
Предполагается, что атрибутом существования обладают только
явления природы и онтологические качества. Социальные
качества, то есть такие, которые люди и вещи приобретают в
результате их участия в определенных социальных
отношениях (например, свойство быть студентом, учителем,
рабочим и т. д.), необходимо при анализе либо сводить к
природным качествам, то есть лишать их
самостоятельного существования, либо, если первое невозможно,
рассматривать как субъективную видимость, иллюзию или
выражение состояния субъекта. Жертвой второго решения
оказывается целый класс оценочных (аксиологических)
качеств, таких, как, например, свойство быть
справедливым, красивым, добрым, некрасивым, быть преступником
или невиновным и т. д. Если, как полагают позитивисты,
подобные качества не существуют, то непонятно, как
могут о чем-нибудь информировать, то есть быть
истинными или ложными, относящиеся к этим качествам
высказывания. Оценочные высказывания при таком подходе
могут быть только симптомами или показателями
человеческих позиций или реакций.
*
Критика марксизма Парсонсом имеет глобальный
характер. Он атакует марксистскую мысль на всех ее
уровнях — от теории до методологии. Формулируемые им
выводы также глобальны: он отрицает всякую
познавательную и даже идеологическую значимость марксизма
по
для современности. Это, конечно, не означает отрицания
роли и значения марксизма в прошлом. Однако
подчеркивание его роли в прошлом служит в данном случае лишь
средством для углубления пропасти, которая отделяет
якобы марксизм от положений и выводов современной
науки, от ситуации в современном мире. В теоретическом
и методологическом плане марксизм является
«устаревшим», «психологически наивным», он относится к
«преодоленному» этапу развития и т. д. — таков неполный
перечень обвинений Парсонса.
По мнению американского социолога, мысль Маркса не
выходит за границы XIX века. Заметим, что слова эти
имеют не только хронологический смысл. Совершенно
однозначно это обнаруживает последнее предложение
работы «Несколько замечаний о социологии Карла Маркса»:
«Вероятно, Карл Маркс был величайшим социальным
теоретиком, творчество которого целиком и полностью
принадлежит XIX веку».
Здесь мы видим такое же упрощенное и искаженное
понимание структуры и исходных предпосылок
марксизма, как и характеристика и оценка его со стороны
содержания. Учение Маркса сводится к четырем пунктам или
аспектам, которые единственно объявляются
существенными и плодотворными. Это специфическая форма
материализма; концепция общества как целого, управляемого
через дихотомию; слияние экономических и политических
факторов; принцип историзма.
Трудно избавиться.от впечатления, что все эти пункты
вводятся только для того, чтобы как-то оправдать заранее
сложившиеся взгляды на генезис, содержание и
методологию марксизма. Скажем, тезис о специфической форме
материализма сближает марксизм с утилитаризмом;
историзм призван объяснить якобы низкий уровень общности
марксова анализа и т. д. Мы видим, что к числу
существенных аспектов не отнесены ни концепция научного
социализма, ни диалектика и ее принципы. Не упоминается
прямо и материалистическая концепция истории.
Критика марксизма у Парсонса позволяет понять его
позицию в идеологической борьбе современности. В свою
очередь с этой позицией полностью гармонирует его
социологическая система, выработанная им исследовательская
программа и методология. Мы ограничились несколькими
фрагментарными замечаниями по этому вопросу. Более
Ill
полная характеристика парсонсовской методологии
предполагает выделение по крайней мере трех
взаимосвязанных процедур.
Первая — это операция классификации,
дихотомического деления и т. д., которая образует исходный пункт
всех теоретических предприятий Парсонса. При помощи
этой операции он получает множество переменных,
факторов или элементов, образующих строительный
материал для всех будущих теоретических конструкций. Такой
смысл имеет, в частности, введение им двух широко
известных дихотомических делений, нацеленных на вычленение
различных точек соотнесения социальных систем. Ими
являются оси: внешне-внутренняя и
инструментально-целевая.
Вторая процедура — это структурный анализ. Из
полученной совокупности переменных конструируются или
реконструируются таким образом определенные
структуры и целостные образования. Ими, например, являются
упорядоченные в соответствии с критерием общности
уровни социальной организации, охватывающие в сумме
четыре типа: технический, или первичный (например, семья);
организаторский (учреждение или школа);
институциональный (политические партии), а также общий, или
политический (государство). Все это, наконец, дополняется
постулатом функционального анализа, предписывающим
рассматривать функции системы в связи с ее элементами
и окружением, а функция элементов — в их отношении к
системе. На пересечении двух вышеназванных
противоположных пар Парсонс получает четыре основные функции,
которые должна выполнять каждая социальная система.
Это адаптационная функция (внешне-инструментальная),
функция культивирования образцов и снятия напряжения
(внутренне-инструментальная), функция достижения
цели (внепше-целевая) и интеграционная
(внутренне-целевая). Здесь вполне наглядно мы видим, как Парсонс
использует свои классификационные схемы.
Эта методологическая триада — классификация,
структурный анализ и функциональный анализ — отражает
существеннейшие черты социологической системы
Парсонса, и прежде всего его стремление к открытию
универсальных, то есть внеисторических, закономерностей. Свою
цель он видит не в изучении исторически определенных
социальных систем, а в исследовании социальных систем
112
как таковых. И нужно признать, что это намерение
полностью отвечает принятым им методологическим
средствам. Они создают довольно убедительную иллюзию, будто
с их помощью можно освободиться от истории, подняться
над ней. Но вместе с тем они оказываются неспособными
учесть конкретно-исторические параметры. Сам Парсонс
в своем духовном развитии проявляет все более явные
универсалистские стремления. Его интеллектуальная
эволюция идет от теории общественной деятельности, которой
посвящена уже упоминавшаяся книга («The Structure
of Social Action», 1937), к теории социальной системы
(«The Social System», 1951). В конце концов и сама
общественная система наряду с организмом, личностью и
культурой оказывается у него всего лишь подсистемой более
общей системы. Целью, таким образом, является
максимально общая теория, причем в двух планах: выявляющая
максимально общие закономерности и исследующая
максимально широкую систему.
Следующая отличительная черта доктрины Парсонса—
ее нацеленность на изучение синхронических, а не
диахронических закономерностей, что находит свое выражение
в полном отказе от проблематики социального
развития. Парсонс, правда, упоминает о так называемых
эволюционных постоянных (evolutionary universale), к которым
причисляет явление социальной стратификации; систему
культурных (идеологических) обоснований человеческих
функций и действий; бюрократию; рыночную, а также
правовую и демократическую системы. Однако речь здесь
идет скорее о таких приобретенных в ходе эволюции
свойствах, которые имеют относительно устойчивое
положительное значение для адаптационных способностей и судеб
общественной системы, нежели об анализе явления
социальной эволюции и его механизмов. Не случайно
вышеупомянутые постоянные Парсонс сравнивает с такими
соматическими и функциональными приобретениями в
органическом мире, как глаза, руки и мозг.
В этом случае методология и объект исследования
взаимно соотнесены. Трудно себе представить, как можно
при помощи названных процедур исследовать проблему
развития. Кроме того, если под развитием», понимать
структурные трансформации систем, ведущие к
преобразованию одной системы в другую (например, становление
новых общественно-экономических формаций), то выбор
113
проблемы развития в качестве объекта исследования
предполагал бы, скорее, исследование специфических
закономерностей разных систем. Такой подход в свою очередь
вступил бы в неразрешимое противоречие с
универсалистской программой Парсонса.
Не менее характерной чертой его концепции является,
наконец, концентрация внимания на проблемах
социального гомеостаза: восстановления, упрочения и сохранения
равновесия как внутри системы, так и в рамках
отношения «система—окружающая среда». Эта сторона теории
Парсонса в сочетании с откровенной приверженностью
стабильности, равновесию и с негативной оценкой
всяческих от него отклонений, может быть, наиболее ясно
показывает идеологическое лицо американского социолога как
консерватора и защитника буржуазного status quo. Этот
аспект также связан с методологией, но более тесно. Он
является прямым следствием метода функционального
анализа.
Наша оценка Парсонса была бы, однако, не совсем
справедливой, если бы мы не добавили, что, несмотря на
недостатки и методологические ошибки, ряд
осуществленных им конкретных исследований, касающихся
деятельности и социальной системы, представляет определенную
научную ценность. Здесь уместно также напомнить о его
настойчивой борьбе с позитивизмом, нашедшей свое
выражение не только в критике индуктивизма и обосновании
важной роли теории. Немалые заслуги имеет также Пар-
сонс и в выявлении примитивности позитивистского
натурализма, особенно бихевиоризма, критикуя который он
последовательно проводит различение между
деятельностью и поведением, личностью и организмом и т. д. Данная
им трактовка соотношения оценки и описания выходит за
позитивистские рамки. Вопреки позитивистам, объявляю-
ющим онтологические вопросы метафизическими, Парсонс
не избегает проблематики «социальной онтологии». Эта
сторона его взглядов заслуживает обстоятельного и
обоснованного анализа.
§ Ст. Р«янк9
Жак Моно
о марксистской философии
Книга Ж. Моно «Случайность и необходимость» («Le
hasard et la necessite. Essai sur la philosophie naturelle de
la biologie moderne», 1970) стала источником бурных
дискуссий. Так, ее основные методологические и теоретические
положения критически рассматриваются в работе Адама
Урбанека «Научная революция в биологии» *.
Моно, крупный французский биолог, основываясь на
достижениях молекулярной биологии, выдвигает ряд
методологических и философских положений. Однако речь
здесь идет главным образом не об этих тезисах
(интересующихся ими можно отослать хотя бы к вышеупомянутой
книге Урбанека). Параллельно с суждениями, так сказать,
профессионального и методологического характера Моно
пытается критиковать марксистскую философию и
научный социализм, не слишком стараясь при этом
удержаться в границах корректности. Критические выпады
рассеяны по всей его книге, но больше всего их во втором
разделе, озаглавленном «Витализмы и анимизмы». Таким
образом, работа имеет не только научный и философский
характер, по также активно включается в идеологическую
борьбу современности. При этом критическая
аргументация Моно заслуживает тем большего внимания, что ее
весомость как бы подкрепляется авторитетом
выдающегося биолога. Попытаемся разобраться в том, насколько
обоснованы критические замечания Моно в адрес марксизма.
По мнению Моно, Маркс и Энгельс совершают
«анимистическую проекцию», то есть переносят на
действительность в целом качества и атрибуты, присущие исклю-
* Критика философских взглядов Ж. Mono дана и в ряде
работ советских философов. См., например: И. Т. Фролов. О
диалектике научного познания. — «Коммунист», 1974, № 4; Н, П. Д у-
бинин. О философской борьбе в биологии. — В кп.: «Философская
борьба идей в современном естествознании». М., 1977. — Прим, ред,
116
чительно миру живых существ. Наряду с Лейбницем,
Гегелем, Спенсером, Тейяром де Шарденом творцы
марксизма причисляются таким образом к плеяде анимистов.
Несмотря на кажущуюся ясность этого обвинения, при
ближайшем рассмотрении тотчас же выявляется его
неоднозначность.
Чаще всего Моно рассуждает следующим образом.
Диалектический материализм приписывает законам
диалектики универсальное значение, то есть относит их в
одинаковой мере как к сознанию и истории, так и к
природе. В то же время значение законов диалектики в
собственном смысле слова не выходит за сферу
субъективного, сферу сознания и познания. На это указывает, по
мнению Моно, характер понятийного аппарата, который
используется для их формулировки. Такие категории, как
«противоречие», «отрицание», «тезис» и т. д., относятся
исключительно к мышлению. Следовательно, если Маркс
и Энгельс считают диалектику универсальной теорией, то
только ценой распространения на мир в целом качеств,
присущих лишь мышлению и явлениям разума, то есть
ценой принятия анимизма. По существу, согласно Моно,
именно к этому сводится знаменитая формула Маркса о
перевертывании гегелевской диалектики С головы на ноги:
смысл ее заключается в анимистической трактовке
диалектики Гегеля, являющейся диалектикой духа, то есть в
перенесении ее на такие области действительности,
которые не входят в сферу сознания.
Любой человек, имеющий некоторое понятие о
марксизме, ознакомившись с этой аргументацией, должен
испытать чувство неловкости. Совершенно очевидно, что
категории диалектики имеют общий смысл и разработаны не
только для процессов и продуктов познания, но для всего
множества явлений природы. У Гегеля они действительно
связаны с позпанием. Однако «перемещение понятий»,
расширение их границ и даже изменение их смысла не
такое уж редкое явление в науке и философии.
Достаточно вспомнить судьбы хотя бы таких, весьма популярных в
наше время понятий, как «обратная связь», «организация»
или «информация». Диалектика также заимствовала и
обобщила ряд понятий, первоначально выработанных
Гегелем исключительно для описания интеллектуальных
явлений. Этому способствовали определенные случайные
обстоятельства и прежде всего тот факт, что, будучи твор-
8*
116
цом диалектики в современном смысле этого слова, Гегель
в то же время полагал, что мир как целое имеет духовную
природу и поэтому адекватными средствами его описания
могут быть лишь понятия, почерпнутые в логике.
Создается впечатление, что, обвиняя марксистскую философию
в анимизме в указанном выше смысле, Моно
просто-напросто всего этого не замечает. А может быть, он все еще
пользуется традиционным, догегелевским пониманием
диалектики, когда диалектикой называли искусство спора?
Однако упрек в анимизме преследует у Моно еще одну
цель. Марксизму приписывается вера в универсальную и
восходящую эволюционную последовательность, ведущую
от эволюции космоса через эволюцию биосферы к
эволюции исторической. В данном случае мы имеем дело,
видимо, с попыткой приписать марксизму эволюционный
натурализм. В этой связи возникают по крайней мере два
вопроса. Если даже не принимать во внимание полную
неясность понятия космической эволюции (неизвестно,
имеется ли здесь в виду развитие космоса вообще, его
направленное развитие или же возникновение в космосе
в результате естественных процессов самоорганизации
явлений жизни и сознания), то и в этом случае остается
нерешенной весьма существенная проблема: все ли
названные типы изменений можно охватить единым понятием
эволюции и объединить генетической связью? Думается,
что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным.
Отбрасывая натурализм, Маркс одновременно
отбрасывает и те его версии, которые утверждают, что человеческое
общество является «продолжением» эволюционной цепи
природы. По Марксу, природа не создает капиталистов и
рабочих, то есть никто не является капиталистом или
рабочим в том же смысле, в каком люди имеют белый или
черный цвет кожи, тот или иной цвет глаз и т. д. Природа
вообще не создает людей, но лишь человекообразные
существа.
Где же здесь анимизм? Анимизма как
распространения на космос тех явлений эволюции и развития, которые
выступают лишь в биосфере и в человеческом обществе,
мы не находим в марксистской философии. Происходит это
прежде всего по той простой причине, что она не
формулирует никаких высказываний по поводу эволюции космоса,
как это делает, например, философия Тейяра де Шардена.
Моно не обходит вниманием и марксистскую теорию
117
познания. По его мнению, марксизм находится на
позициях радикального теоретико-познавательного эмпиризма
и признает абсолютную пассивность субъекта в процессе
познания. Познание он трактует как «чистое отражение»,
или «совершенное зеркало», действительности: зеркало
настолько идеальное, что оно не вызывает даже вполне
естественных искажений. Без каких-либо изменений и
возможного отбора мир в себе может якобы проникать таким
путем в глубины сознания. В то время, к концу XIX века,
утверждает Моно, необходимостью стала критическая
эпистемология, выступающая как основная предпосылка
разработки таких теорий и дисциплин, как теория
относительности и квантовая механика.
Моно не развивает эти замечания. Можно лишь
предполагать, что, говоря о критической эпистемологии, of
имеет в виду два тесно взаимосвязанных процесса:
выявление различных аспектов участия в познании субъекта и
устранение из человеческого знания негативных
результатов этого участия. Однако, вопреки заявлениям Моно,
процессы эти характерны не только для современной
науки. Правда, в современной науке, в связи с ускоренными
темпами ее развития, они выступают особенно рельефно.
Именно об этом говорит, в частности, принцип
неопределенности Гейзенберга. Суть его в методологическом плане
состоит в строгом описании ограничений, которые влечет
за собой тот факт, что, исследуя явления микромира, мы
вынуждены пользоваться макроскопическими приборами
и, следовательно, вносить существенные искажения в
течение микропроцессов.
Теория относительности и история ее создания
помогли нам осознать, что наша картина мира включает
определенные убеждения и предпосылки (не всегда, впрочем,
осознаваемые), источником которых служат
предшествующий человеческий опыт, тип исследуемых объектов,
формируемый при посредстве мыслительных навыков,
интуиции и т. д. Необходимым условием дальнейшего научного
прогресса и все более точной картины мира является
обнаружение этих предпосылок, их анализ и замена
новыми. В качестве иллюстрации здесь можно назвать
открытие связи между массой и скоростью тела или
ограничения, наложенные на классический принцип
ускорения, что, собственно, и составляет основное содержание
специальной теории относительности. Эти открытия были
its
сделаны в результате сомнения в безукоризненности
существовавших физических представлений,
сформировавшихся на основе описания мира, в котором господствуют
скорости^ достаточно малые в сравнении со скоростью
света.
По мнению Моно, об активной роли субъективных
факторов говорят также открытия в области
нейрофизиологии и экспериментальной психологии. Они показали, что
центральная нервная система поставляет сознанию
информацию уже кодифицированной в соответствии с
определенными врожденными или заранее установленными
нормами (normes preetablies). Для пояснения этой мысли
воспользуемся одним из приводимых Моно примеров.
Находящийся в глазу жабы анализатор позволяет ей видеть
муху только в движении (как черную точку), но не в
состоянии покоя; хотя в обоих случаях на сетчатке
возникает соответствующий образ. Это означает, что в данном
случае действует своеобразный механизм отбора
информации и что не всякая информация автоматически
передается в мозг.
Такие животные, как осьминог или крыса, обладают
способностью различать геометрические фигуры
(треугольник, круг, квадрат), причем независимо от их размеров,
положения или цвета. И в этом случае на сетчатке глаза
каждый раз выступают разные образы, но, несмотря на
это, мозг регистрирует одинаковые результаты. Здесь уже
действует не только механизм отбора, но также и
определенный механизм синтеза.
В принципе высказывания Моно относительно позна-
пия и роли в нем субъективных факторов не вызывают
возражений, но с двумя оговорками. По-видимому, он
излишне акцентирует врожденность определенных
познавательных структур и механизмов. Стремление
подчеркнуть свое отличие от радикального эмпиризма не должно
вести к другой крайности — нативизму. Далее, говоря о
критической эпистемологии, автор имеет в виду доктрины,
в рамках которых находит свое отражение роль субъекта
в познании. Но не следует забывать, что это название уже
закрепилось за эпистемологиями, считающими своим
предметом критику человеческого познания и методов его
обоснования. Речь здесь идет о разработке такой
исследовательской программы, реализовать которую можно лишь
при условии полного исключения каких-либо предвари-
no
тельных данных о познании, поставляемых
эмпирическими науками (в противном случае имел бы место порочный,
круг). Два различных варианта таких теорий познания
связаны с именами Канта и Гуссерля. В сравнении с ними
эпистемологию Моно, как ориентированную на описание
и опирающуюся на данные эмпирических наук, следовало
бы охарактеризовать именно как некритическую.
Вместе с тем следует со всей решимостью отбросить
то, что автор говорит по поводу марксистской теории
познания. Предъявляемым ей требованиям не может
отвечать не только марксистская, но, пожалуй, и любая
другая известная в истории теория познания. Нет и не было
таких эпистемологии, которые бы утверждали, что сама
действительность без каких-либо изменений «входит» в
человеческое познание. Складывается также впечатление,
что Моно ничего не слышал о том, что именно Марксу
принадлежит открытие факта социальной
обусловленности познания, то есть целого класса субъективных
факторов, участвующих в познании и влияющих на его ход и
результаты. Сегодня эти факторы исследуются как
методологией, так и социологией науки. Мы не стремимся
доказать, что марксистская теория познания учла и
проанализировала все выводы, вытекающие из этого открытия.
Но не следует также серьезно утверждать, будто она, даже
в ее наиболее упрощенных трактовках, отличается той
наивностью, которую пытается приписать ей Mono.
Диалектический материализм, полагает французский
биолог, является сравнительно поздним дополнением
исторического материализма, осуществленным главным
образом, если пе исключительно, Энгельсом. Цель, которую
преследовал Энгельс, состояла в том, чтобы найти
историческому материализму опору в законах самой природы.
Если бы это удалось, то историко-социальные выводы и
идеи научного социализма были бы подтверждены самой
структурой космоса.
Нетрудно увидеть, что это суждение содержит в себе
два более частных положения. Одно гласит, что
исторический материализм опережает во времени возникновение
диалектического материализма как общефилософской
картины мира. Если: учесть, что первые наброски
будущей теории исторического материализма появились уже
в трудах Маркса и Энгельса, написанных в 1845—1846
годах («Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идеология»),
120
то с этим утверждением следует согласиться*. Не
вызывает возражений и указание на роль Энгельса в
систематизации и развитии диалектического материализма.
Иной оценки требует другой вывод Моно.
Диалектический материализм объявляется более или менее
искусственным дополнением к историческому материализму,
призванным его упрочить и снабдить новой системой
измерения — философским осмыслением природных явлений.
Такое утверждение не имеет ничего общего с подлинными
мыслями Маркса и Энгельса, с реальными направлениями
и источниками их духовной эволюции. Для того, чтобы
убедиться в его полной беспочвенности, достаточно
обратить внимание на факт, имеющий, на наш взгляд,
первостепенное значение для понимания марксистской
философии. Факт этот заключается в том, что не категории
исторического материализма интерпретируются и
обосновываются в свете открытий диалектического материализма, а
совсем наоборот — понятия и суждения диалектического
материализма становятся ясными и приобретают свой
подлинный смысл только в отношении к структуре и
теоретическому содержанию исторического материализма.
Причем это касается не только таких понятий, как
познание, истина, опыт и т. д., но также и таких классических
для онтолощи понятий, как природа и материя.
Домарксовский материализм понимал познание как
процесс индивидуальный и психический, происходящий в
сознании индивида. Диалектический материализм
противопоставляет ему концепцию познания как общественно-
исторического процесса, социально обусловленного,
связанного с общественно-исторической практикой
генетическими связями и в ней находящего свое окончательное
подтверждение. Материя в свою очередь понимается как
потенциальный объект воздействия и преобразования со
стороны человеческой практики, как то, что образует
материал или субстрат потребительной стоимости объектов-
товаров, что может выступать в роли носителя
специфически общественных характеристик, качеств и т. д.
Понятно, что здесь мы находимся в мире мысли, глубоко
преобразованном идеями исторического материализма.
* Необходимо отметить вместе с тем, что именно в «Тезисах
о Фейербахе» изложены важнейшие принципы марксистской
теории познания: об активности п субъекте познания, о роли
практики как основы познания и критерия истины. — Прим. ред.
121
Мойо йнтёрёбуб* faKkte войрбс об истоках влияния
марксизма на умы людей и на общественное сознание. По
его мнению, это влияние целиком обусловлено
экзистенциальными потребностями, которые проявляются в человеке
перед лицом космоса. Наряду с мифами, религиями и
другими философскими системами марксизм имеет свою
онтогенетическую структуру. Это значит, что он дает
целостную интерпретацию мира, выводя всю совокупность его
явлений, включая социальные и человеческие, из единого
онтологического постулата — движения материи,
подчиняющегося диалектическим закономерностям. Тем самым
марксизм удовлетворяет две изначальные
экзистенциальные потребности: во-первых, снимает чувство страха перед
одиночеством в мире, которое могло бы проистекать из
убеждения в принципиальной гетерогенности
человеческого бытия и бытия надчеловеческого; во-вторых,
вооружает человека целостной картиной мира, которую ему не
может дать ни одна наука сама по себе, ни даже все они,
вместе взятые.
Моно прямо выступает против попыток объяснять
влияние марксизма социальными и идеологическими
мотивами. И уж во всяком случае, по его мнению, здесь нельзя
ссылаться на мотив освобождения человека.
Если даже обойти в критических выпадах Моно такие
слабые пункты, как отнесение марксизма к системам
мистического мышления или убеждение в существовании
экзистенциальных потребностей, полностью асоциальных
как по своему генезису, так и по природе, то его
рассуждения все-таки наталкиваются на ряд принципиальных
трудностей. Как, например, объяснить в этой связи тот
факт, что не на все умы марксизм воздействует одинаково,
что, как правило, он не встречает сторонников среди
идеологов капитализма, выступающих против него с
враждебной критикой, что он стал официальным мировоззрением
в социалистических, но не в капиталистических
государствах и т. д.? Другими словами, если отбросить
общественную и классовую мотивировку, то как можно объяснить
ту, а не иную форму и сферу влияния марксизма как
теории и идеологии на умы людей?
Речь не пдет, конечно, об индивидуальных мотивах
такого признания, которые могут быть самыми разными.
Нас интересует факт принятия или непринятия
марксистского учения не на психологическом, а на социальном
122
уровне как отйошеййё к марксистской идеологий
определенных общественных классов и групп, как способ ее
восприятия и функционирования в политической и научной
деятельности. Моно не различает этих двух уровней. Он
также начисто забывает о социальной и идеологической
стороне марксизма, не говоря уже о его научных аспектах.
В таком «очищенном» виде марксизм представляется ему
крайне метафизическим учением, еще одним и к тому же
мистифицированным выражением скрытой потребности в
«освоенном» мире, содержащем близкие человеку
структуры и качества. Выступая с таких позиций, Моно,
конечно же, не может понять не только роли марксизма как
общественной идеологии, но также и роли любой другой
доктрины, не безразличной к классовым и групповым
интересам людей. Тем самым для него остается закрытой
важная сторона общественного бытия.
Но попытаемся определить правомерность
предлагаемого объяснения, исходя из тех предпосылок, на которые
опирается в своих выводах Моно. Какова его позиция в
вопросе об упомянутых экзистенциальных потребностях?
Если эти потребности действительно имеют место, то они
должны быть удовлетворены. Если же вдобавок они
являются экзистенциальными проблемами, связанными с
самим фактом существования человека в мире и его
отношением к миру, то ими никоим образом не следовало бы
пренебрегать,
Моно оказывается, таким образом, перед дилеммой:
либо признать необходимый <и экзистенциальный характер
«интеллектуального» освоения мира и его целостной
интерпретации, и тогда, не принимая марксизм, а заодно
и все традиционные философские доктрины, он должен
назвать собственный способ удовлетворения этих
потребностей; либо отрицать экзистенциальный характер этих
потребностей, и тогда, ссылаясь на то, что они постоянно
являются источником заблуждений, принимающих вид
анимистских и виталистских концепций, попытаться
устранить их с помощью своего рода экзистенциальной
терапии. Моно, однако, не делает ни того, ни другого. Это
свидетельствует о том; что он сам не осознает серьезности
стоящей перед ним дилеммы.
Напрашивается вывод, что происходит это в силу
отсутствия у него ясных и последовательных философских
убеждений. Собственно, в отношении к философским док-
123
гринам Mono является позитивистом, то есть не признает
за ними никакой познавательной ценности. Вместе с тем,
описывая судьбы человека, он становится в позицию
экзистенциалиста, говорящего об одиночестве человека в миро
и о его страхе перед этим одиночеством, о потребности
«освоения» мира путем его полной экспликации и т. д.
Позитивизм требует от него радикальной редукции
философских вопросов к сугубо специальным. В то же время
экзистенциалистские устремления указывают ему
перспективу, в которой он вынужден не только говорить о структуре
человеческого бытия, но также искать истоки философских
вопросов. То, что позитивист в его лице отбрасывает,
экзистенциалист утверждает. Не удивительно, что, оказавшись
распятым между этими доктринами, Моно может скрыть
противоречивость своих взглядов только путем отказа от
однозначных решений. Пытаясь опровергнуть марксизм и
другие философские доктрины, оп становится
позитивистом, пытаясь объяснить истоки огромной популярности и
влияния марксизма в мире, он вынужден прибегать к
средствам экзистенциалистской философии.
Завершая обзор критических замечаний Моно, следует
признать, что их нельзя пазвать ни глубокими, ни
остроумными. Они заслуживают внимания лишь потому, что
преподносятся в обрамлении тех естественнонаучных
взглядов, которые, несомненно, окажут воздействие на
широкие массы.
Моно, правда, оговаривается, что его не интересует,
насколько его собственное представление о марксизме
соответствует подлинным взглядам Маркса и Энгельса, что
он критикует марксизм эпигонов и приверженцев. Но
вместе с тем он не предпринимает ничего для того, чтобы
показать, что критикуемые им взгляды отличаются чем-
либо от учения основоположников марксизма. Поэтому его
оговорку можно считать голословной. Впрочем, Моно
забывает о ней, переходя к критике марксизма en bloc и
взглядов Энгельса по вопросам диалектики. Таким
образом, философские выводы французского биолога не
отличаются последовательностью, но его нисколько не
беспокоит это обстоятельство.
Диалектика и ее критики
Диалектика является тем элементом марксистской
философии, который наиболее часто подвергается критике со
стороны буржуазных философов. Обстоятельное
рассмотрение истории этой критики и ее современного состояния
потребовало бы обширной монографии. Мы ограничимся
характеристикой лишь некоторых, наиболее
распространенных критических выпадов в адрес диалектики.
Теоретический уровень и идеологическая
направленность критиков неоднородны. Гамма их теоретических по-~
зиций простирается от более или менее обоснованной
критики отдельных формулировок и иллюстраций через
различные интерпретации, нередко ведущие к значительным
деформациям целостного образа диалектики, до открытых
и яростных попыток ее дискредитации.
Следует, однако, отметить, что обоснование отдельных
тезисов диалектики, объяснение ее природы и логической
структуры помогает опровергнуть многие аргументы ее
критиков. Известная доля этих аргументов берет свое
начало в недоразумениях, в теоретических недоработках и
в недостаточной точности формулировок.
Философы-марксисты, занимающиеся проблемами диалектики,
разумеется, не должны игнорировать этот факт. Он, кстати, связан
еще и с тем, что диалектика не является завершенной и
закрытой системой взглядов. По мере прогресса науки и
научной методологии она требует нового осмысления и
развития.
1. Вопрос о месте и роли диалектики.
Ревизионистская критика
Этот спор ведет свое начало от истоков марксизма.
Классики марксизма отводили диалектике особое место и
считали своей главной теоретической заслугой то, что им
125
удалось вычленить ее из философской системы Гегеля и —
после глубокого материалистического переосмысления,
наполнив его диалектику новым содержанием, —
включить в свое учение.
Как Маркс, так и Энгельс приложили немало усилий
для дальнейшего углубления и развития теоретических
проблем диалектики. Маркс на протяжении многих лет
вынашивал намерение (в полной мере так и
неосуществленное) систематического изложения ее основ. Подобные
планы были и у Энгельса, начавшего в семидесятые
годы прошлого столетня ряд подготовительных
исследований, ориентированных на развитие и упрочение
диалектики на основе достижений естественных наук того
времени.
Смерть Маркса и возникшая в этой связи
необходимость заняться изданием очередных томов «Капитала» не
позволили ему завершить начатое. Однако об огромном
размахе задуманного Энгельсом труда говорят оставшиеся
после его смерти заметки и некоторые работы,
опубликованные в 1925 году в его «Диалектике природы».
Не меньшее внимание уделял диалектике и Ленин, о
чем красноречиво свидетельствуют его «Философские
тетради». В них содержится плодотворная и глубокая
программа исследований в области диалектики.
Классики марксизма занимались не только
теоретическим анализом проблем диалектики. Они также активно
использовали ее в собственных исследованиях. На наш
взгляд, в ходе дальнейшей разработки марксистской
диалектики необходимо самым серьезным образом опираться
на их фактическую исследовательскую практику.
В свете этого невозможно отрицать ту огромную роль,
которую играет диалектика в системе Маркса. Между тем
на переломе двух веков Эдуард Бернштейн, с именем
которого связано возникновение ревизионизма в рабочем
движении, выступил с таким отрицанием диалектики. Не
случайно атака на диалектику сопровождалась у него
отказом от революционного содержания марксизма. Ведь
Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали
революционный характер диалектики: тесную связь между
определяемым ею теоретическим отношением к действительности и
практическими шагами, выражающимися в
революционной деятельности. Тот, кто отвергает революционную
деятельность, должен отвергнуть и диалектику.
126
Бернштейн характеризует диалектический метод как
«ловушку», поскольку он якобы подвел Маркса к
выводам, явно противоречащим опыту. В качестве примера оп
ссылается на положение об исчезновении в
капиталистическом обществе средних социальных слоев и о нарастании
классовой борьбы. Приверженностью диалектическому
методу он объясняет также тот особый акцепт, который
делал Маркс на социальной революции и па
революционном осуществлении социализма. Эти и подобные им
выводы, полагает Бернштейн, обусловлены прежде всего
унаследованным от Гегеля взглядом па «противоположности»
и их столкновение как на главный источник развития. Все,
что удалось сделать Марксу и Энгельсу и что сохраняет
свое значение сегодня, было совершено, утверждает
Бернштейн, не благодаря, по вопреки диалектике Гегеля. По
этой причине нападки на диалектику были для Бернштей-
на одновременно и пападками на Гегеля за его якобы
деструктивное влияние на Маркса. Подобно многим
другим ревизионистам того периода, Берпштейп в своих
философских изыскапиях (весьма, кстати, скромных)
обращается к Канту как к мыслителю, взгляды которого
якобы могли подкрепить идеи социализма.
Для Бернштейна, равно как и для других теоретиков
II Интернационала, отрицание диалектики влечет за собой
не только отказ от революционного содержания
марксизма, но и подчинение собственпых взглядов влиянию
популярного в конце XIX века эволюционизма. В трактовке
процесса развития и его механизмов эволюционизм
является полной противоположностью диалектики. С
диалектической точки зрепия развитие происходит под действием
внутренних импульсов, называемых диалектическими
противоречиями, проходит через ряд «критических точек»
или качественных преобразований и приводит в
результате к возникновению нового качества структур и систем;
развитие, таким образом, является одновременно
процессом самоорганизации. Мы видим, что в данном случае
развитие понимается как процесс с иммапентпым источником,
имеющий нелинейный характер и порождающий системы
все более высокого порядка.
В этой характеристике эволюционистская доктрина
отвергает по крайпей мере два первых пункта,
представляя процесс развития как линейный и постепенный,
происходящий под воздействием случайпых, впешних псточ-
127
ников. Эволюционизм предполагает также
натуралистический подход к человеку и человеческому обществу;
рассматривает их исключительно как продукт биологической
эволюции, как часть, фрагмент природы. Эти идеи хорошо
согласовывались с убеждением теоретиков II
Интернационала в необходимости постепенных, происходящих без
острых классовых столкновений реформ внутри
капитализма, цель которых — подготовить созревание
капиталистической системы для социалистических преобразований
и т. д.
Эти идеи позволяли также теоретически
обосновывать и санкционировать такое убеждение. Таким образом,
вместо диалектики предлагалась теория эволюции в ее
наиболее упрощенном стараниями различных теоретиков
второй половины XIX века виде; вместо социальной
революции — путь социальных и политических реформ; вместо
Гегеля — Кант с его эпистемологическим априоризмом и
нравственным абсолютизмом.
Нужно отметить и другой род критики, появившийся
столь же давно и касающийся той же самой проблемы —
места и роли диалектического метода в системе Маркса.
Маркса и Энгельса обвиняют в том, что они пользуются
упомянутым методом неправильно, превращают его в
средство обоснования положений, имеющих эмпирический
характер, единственным способом обоснования которых
может быть ссылка на опыт. В этой связи критики
пытаются доказать, что, например, вывод о замене частной
собственности общественной Маркс обосновывает ссылкой на
диалектический закон отрицания. По этому закону тезис
отрицается антитезисом, а оба они в свою очередь
отрицаются актом синтеза. Следовательно, если на заре
человеческой истории существовала общественная собственность,
которая подвергалась отрицанию частной собственностью,
то последняя должна отрицаться снова общественной
собственностью, только уже социалистического типа. При
таком подходе утверждение о наступлении социализма
оказывается выводом, полученным в результате
приложения определенного закона диалектики к человеческой
истории.
Законы диалектики играют здесь роль, подобную
той, которую играют схемы и правила логики: с их
помощью получают определенные обоснованные высказывания
о мире.
126
Названный тип Критики ЗййвйЯ о себе еЩе йрй Жйзёй
классиков марксизма: в частности, в работах Е. Дюринга,
приобретшего известность благодаря критике его
Энгельсом, и Н. К. Михайловского — одного из теоретиков и
идеологов русского народничества. Достойная отповедь этой
критике была дана в трудах Энгельса и Ленина,
доказавших, что для Маркса диалектика никогда не была
инструментом обоснования высказываний. В качестве такового он
признавал соответствие действительности,
подтверждающееся опытным путем. Это распространялось и на
высказывания, сформулированные при помощи метода
идеализации и потому весьма абстрактные. Диалектике же он
отводил эвристическую функцию, то есть определенную
роль в процессе формулирования новых суждений.
Особенно настойчиво этот факт подчеркивал Энгельс.
Действительное отношение между эмпирической
наукой и диалектикой в определенном смысле
противоположно тому, о котором говорят упомянутые критики. Не
диалектика призвана обосновывать научные утверждения, но
как раз эти утверждения должны доказывать или
корректировать положения диалектики.
2. Возможна ли диалектика природы?
Антипозитивистская критика
Особая группа доводов выдвигается против
распространения диалектики на явления природы. Причем
критикуемая точка зрения явно противоречит тому, что
утверждали Маркс и Энгельс. Для них диалектика является
теорией, формулирующей наиболее общие законы движения и
развития природы, общества и человеческого познания.
Подобные и близкие этому определения встречаются, в
частности, у Энгельса в «Анти-Дюринге» и в «Диалектике
природы». Как мы уже говорили, вторая из названных
работ была написана специально для того, чтобы показать
правомерность применения категориального аппарата
диалектики к описанию явлений как органической, так и
неорганической природы.
Первым против диалектики природы высказался,
пожалуй, Д. Лукач в своей работе «История й классовое
сознание» («Geschichte und Klassenbewufltsein», 1923),
представляющей собой собрание статей, посвященных
129
проблемам диалектики. Правда, позже Лукач отказался
от занятой в этой области позиции. Тем не менее она
сыграла п продолжает играть пе последнюю роль в
формировании различных подходов к оценке диалектики.
По мнению Лукача, диалектика относится
исключительно к области социального и к сознанию, то есть к тем
сферам бытпя, в которых проявляется человеческий
субъект с присущими ему формами практики. Таким образом,
мы имеем дело с диалектикой только в случае совокупного
субъекта и его практики. Природа не отвечает этим
условиям, и поэтому к ней не может быть применен
понятийный аппарат диалектики.
Позиция Лукача становится более понятной, если*
попытаться систематизировать условия, которым, по его
мнению, должны отвечать те области бытия, где
применима диалектика:
1. О диалектике можно говорить там, где мы имеем
дело с историей или с действительностью, взятой в
историческом аспекте.
2. История при этом — всегда человеческая история.
Это озпачает, что история природы в собственном смысле
этого слова не существует. :
3. Развитие и история заключаются в порождении и
смене «форм объективности», то есть в создании новых
структур и видов действительности, а не только в смене
характеристик и качеств вещи.
4. Такое порождение «форм объективности»
происходит в человеческой практике, но не во всякой.
Исключается производственная деятельность и научный
эксперимент, поскольку они направлены на природу и сводятся
исключительно к изменению качества вещей, данных
природой в готовом виде. Единственно подлинным видом
практики является общественная практика, то есть
порождение и изменение общественных отношений и
институтов путем критической и революционной деятельности.
Только в этом случае можно говорить о творчестве и
созидании, поскольку здесь все является делом человека: как
исходные элементы, так и формы и структуры.
Однако даже с учетом этих пояснений позиция Лукача
неоднозначна. Отрицание им диалектики природы можно
понимать двояко.
В первом случае отмечается, что результаты
деятельности природы и человеческого творчества принцшгоаль-
9 Ст. Раинко
130
но отличаются Друг от друга как генетически, так й йд
своей онтологической структуре. Первые в лучшем случае
сводятся к изменению уже данных объектов или к
изменению их характеристик и качеств. При этом нужно
учитывать, что природа не развивается во времени, но лишь
повторяет определенные формы и качества в
нескончаемом круговом движении. В случае общественной практики
создаются как предметы, так и их структуры и
характеристики. Природа перерабатывает или даже производит, но
никогда не создает. Творит лишь общественная практика.
Именно в силу ее творческого характера, не имеющего
эквивалента в природе, к ней может быть применена
диалектика.
Во втором случае речь идет уже не о различиях в
результатах деятельности природы и человека, но о том, что
человеческая деятельность по самой своей сути
предполагает волю и сознание. Именно в силу этого субъективного
момента к человеческой деятельности может быть
применена диалектика. Уже сам акт сознания является
деятельностью, способной изменять общественные позиции и
отношения. Особенно это относится к классовому и
общественному сознанию. Нет революции без революции
сознания.
Хотя оба эти подхода не исключают друг друга, тем
не менее они не тождественны: подводя к одному и тому
же выводу, они мотивируют его по-разному. В рамках
первого — отрицание диалектики природы следует из
тезиса о несуществовании в природе явления аутентичного
творчества — творения объективности или даже форм и
структур. При втором подходе это отрицание является
логическим следствием тезиса, согласно которому
человеческое сознание не может оказывать непосредственного
воздействия на природную действительность.
В обоих случаях в расчет принимаются определенные
онтологические предпосылки, относящиеся к природе и
сознанию, а также произвольная трактовка диалектики. Эти
предпосылки, особенно некоторые их трактовки, вызывают
сомнение. Но, даже отвлекаясь от этого, само
вышеупомянутое понимание диалектики не может не вызвать
возражений. Оно сводится к тому, чтобы рассматривать
диалектику как теорию, относящуюся исключительно к
процессам порождения человеческим совокупным субъектом
социальных структур и отношений, прежде всего путем
131
революционной и критической деятельности,
предполагающей непосредственное воздействие сознания на
социальные процессы. О значимости этого предположения
свидетельствует тот факт, что из него следует не только вывод
о несуществовании диалектики природы, но также и
вывод о неприменимости диалектики к целым областям
общественной жизни, в которых человеческое сознание не
может проявить своей абсолютной творческой роли. Это
особенно относится к технике и технологии, а также к
важным областям научной деятельности, опирающейся на
наблюдение и эксперимент. В обоих этих случаях
проявляется момент подчинения, зависимости от определенного
объективного состояния. В технологии мы используем
закономерности, которым подчиняется мир вещей вне нас.
В науке речь идет о познании этих закономерностей.
Однако и здесь и там мы находимся во власти не
зависящей от нас действительности.
Позицию, близкую к взглядам Лукача, занимает
Г. Маркузе. В своей работе «Разум и революция. Гегель
и возникновение социальной теории» («Reason and
Revolution. Hegel and the Rise of Social Theory», 1941) он
утверждает, что диалектика относится лишь к области
«предыстории» человеческого общества, то есть к
классовым обществам. Заслуживает при этом упоминания и
предложенная им интерпретация диалектики, связанная с
выдвинутой «франкфуртской школой» (Т. Адорно и др.)
идеей так называемой негативной диалектики. Речь здесь
идет об односторонней трактовке диалектики как
орудия критики и разоблачения существующей
действительности.
Особого упоминания заслуживает позиция Ж. П.
Сартра. Отказ от диалектики природы у него также логически
вытекает из принятия определенных онтологических
утверждений. Однако аргументация в этом случае
значительно отличается от той, которая присуща Лукачу и его
последователям.
Для Сартра природа — это «бытие в себе», то есть
действительность такая, какой она является вне зависимости
от человеческого субъекта. Об этой действительности
можно сказать то, что она «есть то, что есть», то есть
абсолютное тождество и актуальность, лишенная
пространственно-временных характеристик, свойства изменения и
развития. Понятно, что при таком щщиманци природы цельдя
9*
132
говорить о диалектике, поскольку диалектические
закономерности не могут проявляться там, где нет изменения и
развития. Таким образом, у Сартра отказ от признания
диалектики природы является результатом убеждения в
том, что природа не обладает теми свойствами и
характеристиками, которые приписывают ей обыденное и научное
сознание. Однако мир, почти полностью сведенный
Сартром лишь к чистому существованию, настолько беден, что
его можно спокойно рассматривать как простую иллюзию.
Правда, Сартр принимает диалектику в сфере «бытия
для себя». Но это уже бытие, сформированное
человеческим субъектом, обладающее упомянутыми выше
качествами и характеристиками. Поэтому оно не имеет ничего
общего с энгельсовским пониманием диалектики, для
которого такие свойства, как изменение и развитие, даны в
самом бытии и не зависят от существования человека.
Таким образом, как у Лукача, так и у Сартра
отрицание диалектики природы опирается на определенный
онтологический подтекст. Об онтологических предпосылках
концепции Лукача мы уже говорили. Что касается
Сартра, то здесь тмы сталкиваемся с определенной формой
умеренного идеализма, выражающейся в утверждении
зависимости свойств мира от факта присутствия в нем человека.
Такое решение неприемлемо для материалиста. Оно
неприемлемо и как противоречащее всему тому, что мы зна-
olvi о мире и об отношениях, связывающих человека с
миром.
Есть, следовательно, две дороги, по которым можно
прийти к отрицанию диалектики природы. Одна связана с
именем Лукача, вторая — Сартра. Оба имеют своих
сторонников и продолжателей. Как мы уже упоминали, с
позицией Лукача теснее всего связаны представители
«франкфуртской школы».
- Близка взглядам Сартра, хотя и не идентична им,
позиция Л. Колаковского. Он полагает, что вообще нельзя
говорить о субъекте п объекте, о человеке и природе,
взятых отдельно друг от друга. Мир всегда нам дан в
перспективе практики как противочлеп практического усилия.
Поэтому предполагать существование диалектики
природы — это значит допускать возможность проникновения в
мир «сам в себе», свободный от какого-либо отпошения с
практикой. Таким образом, пас пытаются убедить, что
марксистская концепция диалектики природы строится на
133
ложной предпосылке, будто возможен контакт с
абсолютным, нерелятивным бытием.
Заметим, что обе представленные здесь линии
отрицания диалектики имеют довольно значительные различия.
При этом они касаются разных аспектов проблемы.
Например, согласно Сартру, Колаковскому и др., можно в
определенном смысле говорить о диалектике природы, если
понимать под «природой» действительность,
формирующуюся с участием субъекта или взятую в отношении к
субъекту или к структурам его практической
деятельности. Но уже в концепции Лукача эта возможность
исключается по причине слишком узкой трактовки объекта и
характера диалектики: ограничение ее области
исключительно процессом создания социальных межличностных
связей. Вместе с тем в обоих случаях признается только
один вид диалектики — диалектика истории. Но в
первом — она распространяется на исторически и
антропологически понятую природу, тогда как во втором —
подобная операция осуществлена быть не может. Это
означает, что диалектика Лукача еще более ограниченна,
нежели диалектика Сартра и Колаковского.
Разными, как мы видели, являются и мотивы, по
которым отбрасывается диалектика природы. В линии, пред-
ставлепиой Сартром, используется ссылка на роль
субъекта в кошституировапии как самой действительности, так и
зпапия о ней. Роль субъекта трактуется здесь как
исключающая принципиальную возможность осмысленного
оперирования понятием «мир в себе». В историко-философском
плане здесь нетрудно узнать мысль Канта, которая, хотя
и претерпев разнообразные трансформации, продолжает
жить в современной философии. Что касается Лукача, то
здесь основанием для отрицания диалектики служит
указание на принципиальное онтологическое отличие
общественного бытия от бытия природы.
Исторически и по существу оба эти мотива лежат в
русле антипозитивистского паправлепия. Первый нацелен
против характерного для позитивизма и других эмпиристских
доктрип отрицания активной роли субъекта в познании;
второй — против столь же характерного для позитивизма
натурализма, сводящего социальную действительность к
физической.
И в первом и во втором случае учение о диалектике
природы считается ошибочным, Одцако источцщщ ^той
134
мнимой ошибки называются разные. В ориентации Сартр—
Колаковский этим источником признан трансцендентализм,
то есть вера в возможность познания «бытия в себе». В
ориентации Лукач — Маркузе ответственность за концепцию
диалектики природы возлагается на механизм
объективации. Характерное для отношений товарного производства
и особенно для капиталистических отношений явление
отчуждения приводит якобы к тому, что социальная
действительность уподобляется физической, утрачивает
генетическую связь с человеческим творчеством и воспринимается
как «данная». Эта ситуация приводит к распространению
диалектических закономерностей на физическое бытие.
3. Возможна ли диалектика вообще?
Позитивистская критика
В споре по этому вопросу против диалектики
выдвигаются различные аргументы. Чаще других подхватываются
доводы теоретиков позитивистского и особенно
неопозитивистского толка. Рассмотрим некоторые из них.
Утверждают, например, что диалектика обосновывается
якобы ненаучными методами: при проверке ее выводов
используется метод иллюстрирования, но не
систематическое соотнесшие с опытом. Поводом для такого обвинения
служит (принятая чаще всего в популярных работах по
диалектике) манера изложения, когда иллюстрации —
несомненно, ценные и полезпые с дидактической точки
зрения—подменяют порой продуманные процедуры
контроля утверждений диалектики и любое усилие в
направлении раскрытия их подлинного содержания. В свое время
такой подход встретил решительный отпор со стороны
В. И. Ленина. Позитивисты, таким образом, действительно
берут под обстрел слабый пункт многих расхожих
трактовок диалектики. Однако этим они не ограничиваются. Не
останавливаясь на констатации фактического положения
дел, позитивисты идут дальше, утверждая, что диалектику
в принципе невозможно излагать и преподавать иначе.
Такой вывод вынуждает нас обратиться к другому
позитивистскому рассуждению.
Суть его состоит в том, что, поскольку диалектика
формулирует наиболее общие законы мира, она
рассматривается как своего рода Naturphilosophie, Вместе с тем фило-
13§
соф якобы лишается права Делать какие-либо выводы не
только о действительности как целом, но также и о любом
ее фрагменте. По существу, этот критический аргумент
состоит из двух частей.
Первая опирается на постулат, согласно которому
предметом философпп может быть только язык наукп, и вне
этих рамок она утрачивает свою плодотворность. Заметим,
однако, что, поскольку марксисты не признают такого
ограничения, они чувствуют себя не связанными и
следствиями его нарушения.
К числу наиболее серьезных обвинений, выдвинутых
против диалектики позитивистами, относится утверждение,
что она якобы не имеет никакого эмпирического
содержания, а ее суждения являются в познавательном отношении
бесплодными. Невозможность эмпирической
верификации или фальсификации тезисов диалектики, по мнению
критиков, есть всего лишь следствие и вместе с тем
свидетельство такого положения вещей. Нуяшо подчеркнуть,
что это обвинение не сводится к утверждению, будто
тезисы диалектики сформулированы недостаточно точно, с
использованием неясных в содержательном отношении
терминов. При такой постановке вопроса речь шла бы о
недостатке, вполне устранимом посредством дополнительного
исследования. Смысл этой критики на самом деле гораздо
более серьезен: диалектика в принципе не может
претендовать ни на верификацию, ни на фальсификацию своих
суждений. Такой вывод следует из того, что в
определенном смысле диалектика говорит «обо всем», о бытии в
целом. Суждения подобного рода ничего не исключают,
поэтому они универсально подтверждаемы, то есть нефальси-
фицируемы. Нельзя назвать факты, которые хотя бы
потенциально могли им противоречить. Вместе с тем
суждения диалектики не являются аналитическими формулами,
подобными высказываниям логики и математики. Таким
образом, ей присущ неустранимый порок, который
невозможно ни обойти, ни нейтрализовать каким-либо способом.
На позитивистском языке это означает, что диалектика
является определенной разновидностью метафизики. Она
формулирует суждения, не имеющие эмпирического
содержания, но претендующие на выражение такового.
Подобные обвинения позитивисты адресуют почти всей
традиционной философской проблематике. Думается, что
здесь оии путают ситуации по крайней мере двух типов.
136
Ибо указание па то, что какой-то философский тезис
говорит «обо всем», допускает двойное истолкование. С одной
стороны, речь может идти о том, что этот тезис что-то
утверждает о характеристике или об аспекте, присущем
бытию как целому либо в отношении к которому бытие
рассматривается как целое. В такой ситуации находятся,
например, высказывания о существовании или
несуществовании мира, о его материальности или идеальности,
формулируемые материалистами и идеалистами. В этих
высказываниях говорится что-то не о том или ином фрагменте
мира, не о чем-то, что вообще было бы «внутри» мира, но о
самом мире в целом. Говорить «обо всем» означает в
данном случае говорить о бытии, рассматриваемом in toto.
Что касается таких суждений, как, например, принцип
причинности или законы диалектики, то они находятся в
ипой ситуации. И здесь говорится «обо всем»: например,
что все события обусловлены определенными причинами,
что всякий процесс развития происходит под влиянием
диалектических противоречий и т. д. Но в данном случае
смысл этого выражения совершенно иной. Говорить «обо
всем» -<- значит здесь говорить о каждом предмете или о
каждом предмете определенного вида «впутри» мира.
Разница подобна той, как если бы сказать, что все яблоки в
этой корзине весят пять килограммов и, с другой стороны,
что каждое яблоко в отдельности весит не более четверти
килограмма.
Хотя этот пример легко можно назвать тривиальным,
тем не менее совсем нетривиальны в плане философской
проблематики вытекающие из него следствия. В первом
случае и в самом деле трудно назвать какой-нибудь
контрпример для нашего утверждения, поскольку мир, или
бытие, о котором мы говорим, является ex definitione
единственным. Но отсюда совсем не следует вывод о
безнадежности разрешения этих суждений. В крайнем случае
отсюда следует, что к ним неприменимы те критерии
эмпирической проверяемости, которые используются в
естественных науках. Наука всегда говорит о том, что находится
«внутри» мира. Не удивительно поэтому, что ее
критерии неприменимы к определенному классу философских
проблем.
Трудности эти не затрагивают, однако, вторую
ситуацию. Здесь возможность эмпирической верификации или
фальсификации представляется всегда открытой. Нет ни-
137
каких причин, по которым нельзя было бы, после
соответствующей конкретизации, подвергнуть эмпирической
ароверке закон диалектики, говорящий о переходе
количественных изменений в качественные. Всегда ведь можно
представить себе ситуацию, противоречащую этому
утверждению.
Впрочем, это признают и некоторые позитивисты,
например К. Поппер. В статье «Что такое диалектика?»
(«What is Dialectic?», 1940) он приписывает диалектике
статус эмпирической теории, говорящей о процессах
развития прежде всего человеческих идей, а также социальных
движений. Исходя из этого, Поппер пытается подвергнуть
сомнению ряд положений диалектики как неполно и
слишком общо описывающих фактический ход определенных
явлений. Другое дело, что для него вся диалектика
сводится к принципу триады (упрощенному истолкованию
закона отрицания отрицания) и признанию логических
противоречий в мышлении. В общем же, по мнению Поппера,
все, что есть в диалектике позитивного и рационального,
почти целиком охватывается его собственной
теоретической схемой: методом проб и ошибок или критики
гипотез.
В работах Поппера мы встречаем другое обвинение,
также часто выдвигаемое против диалектики. Речь идет об
отношении диалектики к логике, в особенности к
логическому принципу противоречия.
Можно допустить, что, впрочем, и делали Гегель,
Энгельс, Плеханов и др., что коль скоро диалектика
усматривает в противоречии источник движения и развития,
значит, она должна признавать также логические противоре^
чия в мышлении и в познании. А это как раз и запрещается
упомянутым логическим принципом. Сегодня это
обвинение можно считать в принципе уже опровергнутым.
Достаточно сделать лишь два замечания.
Говоря о противоречиях природной и социальной
действительности, диалектика приписывает этому понятию
смысл, отличный от того, который оно имеет в логике. В
логике это понятие относится к двум высказываниям, одно
из которых противоречит другому. В диалектике же речь
может идти, например, о том, что в рассматриваемой
системе выступают противоположные силы или
тенденции. В качестве иллюстрации таких диалектических
противоречий можно привести, скажем, явление классовой
138
борьбы или многозначности чувств в человеческой
психике.
И второе замечание. В мышлении и познании понятия
диалектического и логического противоречия совпадают, то
есть первые выступают в виде вторых. Следует, однако,
различать два момента: во-первых, роль понятого таким
образом противоречия в развитии познания как
эмпирического явления и, во-вторых, следствия, которые оно влечет
за собой для конкретного содержания знания, то есть
познания в логическом смысле. Очевидно, что выявление и
разрешение логических противоречий является движущей
силой познания. (Само собой разумеется, что здесь
имеются в виду противоречия «серьезные», нетривиальные, не
являющиеся результатом лишь неспособности к
правильному мышлению.) Убедительно свидетельствует об этом
история так называемых антиномий в области логики и
математики или история конфликтов между теорией и
опытом. Вместе с тем наличие противоречия в содержании
знания ведет к катастрофическим последствиям, поскольку из
двух противоречивых высказываний в рамках данной
системы можно вывести любое другое высказывание. Иначе
говоря, следовало бы признать истинность любого
высказывания, которое только можно сформулировать в языке
данной системы. Если принять во внимание, что каждому
высказыванию при этом соответствовало бы высказывание,
ему противоречащее, то есть перечеркивающее
заключенную в нем информацию, то ясно, что в результате мы
остались бы вообще без какой-либо информации (если вообще
это понятие сохраняло бы какой-то смысл). Таким
образом, не сами логические противоречия, но факт их
присутствия и поиск путей их устранения являются
источником развития познания.
Диалектика, следовательно, не предписывает
логических противоречий и не рекомендует их сохранения (а
только в этом случае она вступала бы в конфликт с
логикой). Ее утверждения приобретают смысл только в
отношении к действительному миру, где противоречия, о
которых говорит диалектика, но имеют ничего общего — за
исключением названия — с логическими противоречиями.
Такова же ситуация и в отношении мышления и познания.
Здесь диалектика лишь констатирует определенный
эмпирический и исторический факт, каковым является возник-
13§
новение противоречия, и указывает на его значение для
развития познания.
Таковы в общих чертах направленные против
диалектики аргументы позитивистских теоретиков.
*
Не исключено, что в настоящее время следует
обратить более пристальное внимание на предает и цели
диалектики. Ее, например, можно рассматривать как общую
основу для будущей науки о диахронических аспектах
различных систем: как природных, так и социальных и
технических.
Но диалектика дает общую методологическую основу
и для процессов возникновения, роста и развития
систем, процессов самоорганизации, структурной
трансформации, порождения одних систем другими, механизмов
и закономерностей, определяющих ход этих явлений
и т. д.
Это предположение можно подкрепить определенными
соображениями. Поскольку синхроническое исследование
систем, внутренних связей между их элементами
оказалось весьма плодотворным и обоснованным, то трудно
объяснить, почему иначе должны обстоять дела с их
диахроническими и динамическими аспектами.
Исследование этих аспектов представляет собой естественное
продолжение и дополнение исследования синхронических
явлений. При этом нельзя не воспользоваться
диалектикой Гегеля и Маркса, являющейся на сегодняшний день
единственной известной попыткой исследования проблем
генезиса и развития систем на философском уровне.
Более того, непосредственным поводом
конструирования такого — остающегося, впрочем, еще in statu nascen-
di — семейства дисциплин, изучающих структурные
свойства систем, являются технические и практические
мотивы и потребности. Это подтверждается на примере
кибернетики и теории информации. Решающую роль здесь
сыграли прежде всего необходимость автоматизации и
управления определенными техническими системами,
выдвигающими такие требования, исполнение которых
порой превышает границы физических возможностей че-
140
ловека, а также потребность в наиболее экономичной н
точной передаче информации и т. д. В целом эти
проблемы, и лишь во вторую очередь собственно
теоретические интересы, привели к формированию целого
комплекса упомянутых наук.
В настоящее время в этой области возникают новые
потребности, которые, по-видимому, не могут быть
полностью удовлетворены традиционными методами
исследования больших систем. Эта новая ситуация
характеризуется прежде всего двумя моментами: в сфере
человеческой практики возникают системы беспрецедентной
широты; дают о себе знать очевидные проявления
эффектов ускорения, связанного с явлением
экспоненциального роста ряда существенных параметров
общественной жизни.
В имевшей место до сих пор практике управления и
планирования человек сталкивался с относительно
простыми системами. Это были, например, промышленные
предприятия, системы связи, определенная техническая
аппаратура и т. д. Сегодня ситуация изменилась.
Например, элементами планирования и управления может
быть охвачена вся экономика страны. Можно
предположить, что недалеко то время, когда эти процедуры
необходимо будет распространить на всю биосферу, среду
обитания или природные ресурсы земли. Однако для
этого нужно будет учитывать моменты динамики и развития
таких систем, а не только их взаимодействие и обратные
связи.
Экспоненциальный рост и его результаты как бы
требуют от нас повышенного интереса к диахронии больших
систем. Охватывая такие сферы общественной жизни,
как наука, технология, использование природных
богатств, разрушение среды обитания и т. д., этот рост
несет с собой различные опасности, состояния стагнации
и неожиданные катаклизмы. Чтобы им противостоять, их
нужно предвидеть, что в свою очередь предполагает
знание механизмов и закономерностей, которым
подчиняется развитие больших систем.
Таким образом, необходимость знания динамики и
развития систем диктуется требованиями общественной
практики, борьбой за сохранение человека как вида.
Диалектика содержит в себе первоэлементы такого
знания, выраженные на философском языке. Следовательно,
141
если наши прогнозы справедливы, перед диалектикой
открывается большое будущее. Тем самым опровергается
позитивистский тезис о таком якобы неустранимом
пороке диалектических высказываний, как их
неэмпирический характер.
Это, конечно, не означает, что мы допускаем
трансформацию всех философских проблем в вопросы частных
наук и исчезновение философии. Мы полагаем, что
существуют специфические философские проблемы, в
принципе не поддающиеся упомянутой метаморфозе. К ним,
например, относятся вопросы о существовании мира, о
материальной или идеальной природе действительности,
о возможности познания «мира в себе», об объективности
познания и т. д. Можно было бы сказать, что в отличие
от первых это вопросы мировоззренческого характера. Для
каждого, кто, подобно пишущему эти строки, но считает
эти вопросы неправильно поставленными, их несводимость
к частным научным проблемам совершенно очевидна.
Обсуждению подлежит лишь природа этих проблем и
вопросов и принципы разумной дискуссии по этим темам. Но
именно это и занимает исследователей на протяжении всей
истории философии.
Часть вторая
МАРКСОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА
Г. Маркузе и марксизм
Имя Герберта Маркузе получило широкую
известность в последнее время по причинам скорее внешнего
характера. В 1967—1968 годах студенческое движение
на Западе подняло его доктрину до ранга своей
идеологии, сделав ее тем самым предметом повсеместных
споров. Однако поток посвященных ей работ, которые
появились и появляются на книжных рынках почти
всего света, отнюдь не свидетельствует еще о ее
повсеместном понимании. Этому не в последнюю очередь
препятствует язык ее автора, в высшей степени абстрактный,
запутанпый, глубоко уходящий корнями в традиции
немецкого стиля философствования (несмотря на то, что
большая часть работ написапа по-английски), сложпый
и громоздкий понятийный аппарат, логическая структура
и содержание рассуждений, а нередко и идеологический
запал авторов, высказывающихся по ее адресу.
Взгляды Маркузе заслуживают внимания в силу
ряда причин. Одну мы уже назвали. Она заключается в
том, что концепция Маркузе стала идеологической
концепцией, формирующей сознание и позиции
определенных социальных групп. Вторая причина в большей
мере связана с ее содержательной стороной. Маркузе
выступает в качестве критика индустриальной цивилизации,
как бы специализируясь на выявлении ее общего
отношения к природе — к той, которая проявляется как
человеческая природа, и к той, которая находится вне нас
и является объектом нашего преобразующего
воздействия. Как бы мы ни относились к идеям Маркузе, их
нельзя обойти молчанием, учитывая, что среда обитания
стала одним из первых условий сохранения человечества
как вида. Это именно тот аспект концепции
американского философа, который, как правило, остается вне
поля зрения.
10 Ст. Рачнко
146
Марксизм имеет к тому же другие причины не обходить
молчанием концепцию Маркузе. В своих работах Марку-
зе подвергает марксизм двойной критике: теоретической
и идеологической. Делает он это как прямо, так и
косвенно, предлагая определенные изменения формулировок
и интерпретации. Более того, его взгляды нередко
провозглашаются неомарксизмом, обновленным марксизмом,
марксизмом постиндустриальной цивилизации,
американским марксизмом и т. д. Его сравнивают с фрапцузскнм
философом Луи Альтюссером, заявляя, что сейчас
неомарксизм выступает в двух версиях: французской,
представленной Альтюссером, и американской,
представленной Маркузе.
Наконец, нужно отметить, что паряду с гегельяпством
и психоанализом марксизм, несомненно, сыграл свою
роль в формировании концепции Маркузе в ее
современном виде. В молодости он некоторое время был связан
с левыми силами в немецком рабочем движении, позже
сотрудничал с Франкфуртским институтом, которым
руководили Хоркхаймер и Адорно и где немалое место
занимали дебаты по поводу марксизма. В то время он
живо реагировал на появление «Экопомическо-философских
рукописей» Маркса, впервые опубликованных полностью
в 1932 году. Все это требовало тесных контактов с
марксистской мыслью. Этому способствовало также изучение
Гегеля, которому Маркузе уделял внимание в течение
ряда лет.
В силу названных причин доктрина американского
философа представляет особый интерес для марксистов.
Здесь мы рассмотрим общефилософские, историко-соци-
альные, антропологические и идеологические аспекты этой
доктрины, особенно в плане их отношения к марксизму.
I. ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
1. Концепция философии.
Мотив «уничтожения философии»
Для духовной эволюции Маркса от «Рукописей» до
«Капитала» характерно, по мнению Маркузе,
постепенное освобождение от философии и философского языка.
14*
Эта эволюция проходила якобы под знаком «отрицания»
пли «уничтожения» философии.
Такие утверждения появляются на страницах одной
из первых значительных работ Маркузе «Разум и
революция. Гегель и возникновение социальной теории»
(«Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social
Theory», 1941). Маркузе не отказался от этих
утверждений и в дальнейшем. Возникает поэтому вопрос: какой
смысл следует им приписать и какую роль они играют в
системе выводов автора «Разума и революции»? Тем более
что в определенном отношении сам он не возражает
против философии и не отрицает смысла ее существования.
Если, таким образом, его взгляды образуют единое целое,
то речь здесь, по-видимому, идет о каком-то
своеобразном понимании философии и цели ее уничтожения.
Действительно, в сочинениях Маркса и Энгельса мы
неоднократно встречаем довольно резкие критические
высказывания в адрес определенных философских
систем. Однако можно ли сказать, что здесь идет речь об
отрицании философии вообще?
Прежде всего Маркс и Энгельс критически оценивают
идеалистическую философию. Основоположники
марксизма действительно развивали свои взгляды в полемике с
идеалистической философией Гегеля и в целом с
классической немецкой философией, объединявшей различные
варианты и типы идеализма. Вместе с тем Маркс и
Энгельс направляли острие своей критики и против
некоторых материалистических доктрин: таких, как
материализм Фейербаха или так называемый вульгарный
материализм.
Очевидно также их негативное отношение к
спекулятивной философии, то есть способу философствования,
который не считается ни с действительностью, ни с
науками о ней. Со своей стороны они утверждали
антиспекулятивную философию, которая должна была
представлять собой синтез или обобщение данных специальных
наук.
Известны, кроме того, высказывания Энгельса в
«Анти-Дюринге» о том, что из всей прежней философии
самостоятельное существование сохраняет еще наука о
мышлении (познании) и его законах, или формальная
логика и диалектика. Чаще всего эти высказывания
понимаются в позитивистском духе как постулирующие
10*
148
удаление из философии так называемой метафизической
проблематики и сведение ее к определенному виду мета-
науки, а именно к методологии науки. Однако они
указывают, скорее, весьма отдаленную перспективу, когда
философия бесклассового общества утратит свой
классовый характер и сосредоточит силы на решении
позитивных проблем науки и практики. Следует ли расценивать
это как «отрицание философии»?
В этой связи стоит упомянуть также высказывания
Маркса в его ранних произведениях о необходимости
объективации философии. Философия рассматривается
здесь как определенный вид социальной теории, которая
будет реализована в ходе революционной деятельности
пролетариата. А «уничтожение философии» означает не
более чем практическую реализацию ее принципов.
Однако понимание философии и «отрицания
философии» самим Маркузе не имеет ничего обшего с тем
мнимым «уничтожением философии», которое оп
приписывает Марксу. Для Маркузе «отрицание философии» не
означает ни отрицания идеалистической философии, ни
отрицания спекулятивной философии и замену ее
определенным видом содержательного знания или
синтетическим пониманием этого знания. Она также не
эквивалентна сведению философии к метанауке или
аксиологии.
Коротко говоря, «отрицание философии» понимается
им как отказ от определенной видимости или иллюзии, в
«обрамлении» которой философия исторически
функционировала. Вместо того, чтобы прямо и без оговорок
рассуждать о своем подлинном предмете, каковым
является человек и его дела, философия, по мнению Маркузе,
говорила об этом завуалированным и мистифицированным
образом, высказываясь о боге, космосе, духовных
сущностях, существовании или несуществовании мира, его
материальной или идеальной природе и т. д.
Упомянутая мистификация, свойственная опять-таки
отнюдь не всем философским системам, не была
случайным явлением. В ее основе легко обнаружить причины
по крайней мере двоякого рода. Прежде всего ее
источником является типичное для всей истории противоречие
между человеческим существом и социальной
действительностью, не создающей достаточных возможностей для
его развития. Человеческая сущность могла находить
149
свое выражение только в абстрактной и
мистифицированной форме — именно в такой, которую выработала
предшествующая марксизму философия. Нужно, однако,
признать, что, несмотря на эту форму, старая философия
была все же единственной сферой, сохранившей знание о
человеке и его сущности.
Источник мистификации следует искать также в
механизме классового господства, поставившем
философию на службу иптересам господствующих классов. По
чисто прагматическим соображениям, эти классовые
интересы представлялись как общие и универсальные,
рядились в метафизические, космические или религиозные
одежды.
Впервые природу этой иллюзии и ее идеологические
функции выявил исторический материализм.
Предложенное им средство освобождения от иллюзил состоит в
ликвидации общественных отношений, порождающих
мистификацию подобпого рода.
В своих ранних работах Маркс еще пользуется
философским языком. Однако позднее эти вопросы были им
разработаны в форме собственной
социально-экономической теории, нашедшей свое завершение в ходе работы
над «Капиталом».
Следует, однако, отметить здесь, что Маркузе прямо
не утверждает, будто марксизм не имеет собственной
философии, как это полагали, например, некоторые
теоретики II Интернационала. При таком подходе разница
между ним и этими теоретиками сводилась бы только к
тому, что он не предлагает дополнить марксизм какой-
либо чуждой ему философией, в то время как последние
настаивали на необходимости включения в марксизм
неокантианства. Как мы уже говорили, Маркузе также не
заявляет о замене Марксом философии определенным
видом эмпирического знания, а именно знанием социально-
экономическим. Подлинный смысл произведенной
Марксом операции он усматривает в изменении самой
структуры и способа понимания философии путем
разоблачения лежащей в ее основе мистификации. Таким
образом, Маркс изменил понимание философии, а не
просто перечеркнул философию как таковую.
Маркузе рассматривает Марксов анализ и его критику
предшествовавшего способа философствования как
адекватное и окончательное выражение его собственной фи-
ISO
лософской позиции и способа философствования.
Определенный фрагмент исторического материализма предстает
как вся философия автора «Капитала». Это позволяет
Маркузе делать далеко идущие выводы. Так, данную
Марксом негативную оценку идеологических функций,
которые обычно выполняли философские системы, и их
насыщенности различными мистификациями он трактует
как негативную оценку всей предшествующей
философской проблематики и отрицание необходимости
заниматься ею. А отсюда всего лишь шаг до очередного вывода,
согласно которому автор «Капитала» по мере своего
духовного созревания освобождался от философских
рефлексий и философского языка. Этот вывод, на первый
взгляд подтверждающийся направленностью интересов
Маркса в зрелый период, когда он уделял особое
внимание экономическим исследованиям, находится по
существу в явном противоречии с тем, что известно о
природе его мышления и его научных исследований.
Политическая экономия автора «Капитала»
предполагает определенные и весьма важные философские
решения. Это, например, антинатурализм в понимании
социальной действительности, то есть признание таких
свойств предметов, как, скажем, быть товаром, деньгами
или капиталом, не физическими свойствами, присущими
объектам в силу их собственной природы, но свойствами
социальными, то есть порождаемыми определенными
общественными отношениями и вместе с ними
исчезающими. Это, далее, эссенциализм, то есть убеждение в
объективности сущности действительности, скрытой под ее
поверхностью. С этим тезисом связан метод
исследования, используемый Марксом в «Капитале», метод
восхождения от абстрактного к конкретному.
Можно также добавить, что в подготовительных
материалах к «Капиталу» 1857—1858 годов (они
опубликованы под названием «Критика политической экономии»)
Маркс поднимает ряд философских проблем, которые в
последующем изложении он не затрагивал. Таким
образом, тезис о нефилософском характере его мышления не
выдерживает критики.
Если философия, будучи вовлечена в социальные
конфликты, выступает порою просто в качестве маски,
то из этого совсем не следует, что предмет ее составляют
исключительно эти конфликты и скрытые за ними чело-
151
веческие проблемы, а все традиционно рассматриваемые
в философии вопросы представляют собой только своего
рода камуфляж и относятся к сфере идеологических
мистификаций.
Иначе говоря, из того, что содержание и процесс
философствования социально обусловлены, еще не следует,
будто философские вопросы относятся исключительно к
этой обусловленности и она составляет все их
содержание. Из этого, например, не следует, что спор о природе
мира между материализмом и идеализмом либо спор о
природе познания между объективистской и
субъективистской позициями не имеет другого содержания, кроме
выражения различных типов социальных конфликтов.
Во всяком случае, без значительных натяжек такую
позицию невозможно приписать Марксу. Он очень серьезно
подходит к традиционным философским вопросам, ищет
специальные теоретические средства, такие, как,
например, концепция практики, открывающие возможность
для их разрешения, переформулирования и в
определенных случаях для устранения.
2. Диалектика. Принцип отрицания
По поводу марксистской диалектики Маркузе
выдвигает по крайней мере два тезиса. Первый гласит, что
предметом диалектики или сферой действия ее законов
является исключительно общественное бытие, но ни в
коем случае не природа. Нетрудно заметить, что этот
тезис прямо вытекает из рассмотренной выше концепции
философии. Если содержание всей философии сводится
к высказываниям только о человеческой и общественной
действительности, то диалектика не может составлять
исключения.
Здесь, однако, необходимы некоторые пояснения. По
Маркузе, диалектика не относится к природе «самой в
себе», то есть существующей независимо от человека и
его практики; она может применяться только к
очеловеченной природе, которая, если говорить словами
автора «Разума и революции», охвачена историческим про^-
цессом социальной репродукции и обусловливает этот
процесс. При такой оговорке диалектика относится также
к человеческой природе в ее биологическом понимании,
152
Второй тезис еще более ограничивает область
приложения диалектики. В рамках общественного бытия она
должна относиться только к «предыстории
человечества», то есть к истории классовых общественных систем.
Обоснование этого утверждения осуществляется у Мар-
кузе довольно слояшо. Диалектика оперирует якобы
понятием естественных и необходимых законов, не зависящих
от воли и сознания людей. Социальная же
действительность подчиняется этим законам якобы только в условиях
отчуждения, в марксистском понимании этого термина,
то есть тогда, когда собственно человеческая
деятельность, ее результаты и отношения между людьми
объективируются в форме независимых вещных структур и
противостоят людям как господствующие над ними силы.
Или, другими словами, когда отношение людей к
собственным общественным действиям и их результатам,
закрепленное в форме общественных явлений и институтов,
перестает отличаться от их отношения к явлениям
природы. Трансформированная таким образом социальная
действительность приобретает в сознании людей характер
действительности, полностью от них не зависящей н
подчиняющейся закономерностям, действующим подобно
закономерностям природы.
Следовательно, диалектика с ее пониманием
объективных законов описывает структуру объективированной
действительности. А такая действительность имеет место
только в классовых обществах, опирающихся на товарное
производство. Отсюда делается вывод о том, что
трактовка диалектики как универсальной общественной теории
ошибочна, является результатом распространения на всю
человеческую историю структуры отчуждения, типичной
для определенных исторических периодов.
При таком подходе теория диалектики природы, или
распространение законов диалектики также и на
природу, оказывается ошибочной вдвойне. Она основана па
идеологической мистификации, представляющей
философию как нечто большее, нежели только выражение
человеческих общественных потребностей и конфликтов.
Кроме того, опираясь на явление отчуждения, она
приравнивает мир общества к миру природы и
необоснованно распространяет законы первого на второй.
Рассуждения Маркузе здесь косвенно подводят к
мысли о различии философских позиций Маркса и Энгельса,
153
разрабатывавшего, как известно, проблемы диалектики
природы. При этом свои выводы автор «Разума и
революции» считает совершенно точным изложением взгля^
дов Маркса.
Подобный подход к сущности и предмету диалектики
не может не влиять и на интерпретацию частных
вопросов. Так, на место закона единства и борьбы
противоположностей, в соответствии с которым основным
источником движения и развития выступают диалектические
противоречия, Маркузе ставит принцип отрицания.
Смысл его нелегко определить однозначным образом.
Вообще говоря, речь здесь идет о том, что источник и
механизм развития находятся якобы в постоянном
преодолении существующего положения вещей открытыми и
стремящимися к самореализации возможностями, в
выталкивании того, что находится па поверхности, тем, что
скрыто в глубине объекта, и т. д. Поскольку, по мнению
Маркузе, диалектика относится только к социальной
действительности, механизм развития реализуется не
самостоятельно, а лишь в процессе революционной и
критической человеческой практики.
Возразить здесь можно только одно: вопреки
заявлениям автора «Разума и революции» Маркс признавал
действие диалектических закономерностей также и в
природе. На это указывает хотя бы его высказывание в
первом томе «Капитала», где, говоря о превращении денег
в капитал, он замечает, что речь здесь идет о переходе
количества в качество, о закономерности,
подтвержденной также данными естествознания, в частности химии.
II. ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Главный, а может быть, и единственный предмет
рассуждений Маркузе —- это проблема истории в отношении
к человеческой природе или проблема человеческой
природы в отношении к истории. Факт этот определяет
одновременно вес и место исторической проблематики в его
творчестве.
Нужно заметить, что и сам выбор этой темы в
качестве центральной не обошелся без определенных фило-
софско-исторических предпосылок и оценок. В основе
154
этого выбора лежит убеждение в существовании кой-
фликта между человеческой природой и историей, а
также призыв к устранению этого конфликта путем ради-
кальпого преобразования истории. Мы, однако, видели,
что в понимании Маркузе эта ситуация приобретает
мистифицированный характер. Сам он полагает, что не
просто выбирает по тем пли иным мотивам тему для
своих философских исследований, но обнаруживает
скрытую суть всякого философствования, занимается не
одним из возможных объектов этих исследований, но
вообще единственио возможным предметом философии.
Тем самым ликвидируется необходимость выбора и
ситуация, его предполагающая. Их место занимает
обязанность философствовать на определенную тему и при
определенном основополагающем тезисе. Все это,
конечно, при условии, что раскрыта подлипная природа
философствования.
Философско-исторические концепции Маркузе
включают попытки определенной переформулировки,
корректировки, обобщения исторического материализма как
целого или по крайней мере его отдельных положений. Не
отбрасывая исторический материализм как таковой,
Маркузе вместе с тем старается подогнать его под свои
собственные теоретические структуры. Попытаемся
показать, к чему это приводит.
1. Исторический материализм
как теория «предыстории человечества».
Принцип детерминированности сознания
общественным бытием
Свое понимание исторического материализма
Маркузе выражает в трех общих тезисах. Первый гласит, что
исторический материализм является глобальной
доктриной. Это означает, что он исследует не тот или иной
отдельный аспект жизни общества, но общество как целое,
что он не является, как социология, просто одной из
частных наук об обществе.
Далее, марксова теория общества провозглашается
критической концепцией. Не только в том тривпальном
смысле, что она содержит прямую критику определенных
общественных отношений, но также и в более глубоком,
155
диалектическом — она рассматривает социальную
действительность как «негативную тотальность» систем и
межчеловеческих отношений, исследуя ее в плане
негативности, противоречивости и неизбежного отрицания. Это
принципиально отличает исторический материализм от
всех форм позитивизма, ориентированных на сохранение
status quo. Есть между ними различия и в характере
используемой методологии. Позитивизм ограничивается
исследованием того, что дано, то есть фактов; исторический
же материализм проникает в глубь социальных структур,
не признает изолированных фактов. Первый —
применяет главным образом методы описания, классификации и
индуктивного обобщения, не выходя за пределы
поверхностных явлений. Второй — использует принцип
диалектического отрицания, проникая в скрытые структуры и
возможности.
Все эти замечания об историческом материализме
заслуживают определенного внимания, хотя и дают не вполне
адекватное изложение его сути. По-иному, однако,
воспринимается третий тезис, определяющий область приложения
теории Маркса. Все рассуждения Маркузе по поводу
исторического материализма объединяет убеждение в том,
что подобно диалектике марксистская историческая
концепция относится исключительно к эпохе классовых
обществ, то есть к той фазе в историп человечества,
которую еще в «Экономическо-философских рукописях»
Маркс определил как предысторию человеческого
общества, отделив ее от подлинной истории человечества,
начинающейся только с появлением бесклассового
общества.
Прежде чем перейти к выводам, следующим из этого
утверждения, остановимся кратко на способе обоснования
предлагаемой интерпретации. Он аналогичен тому,
которым пользовался Маркузе, рассуждая о диалектике.
Исторический материализм исследует закономерности
общественного развития, не зависящие от воли и сознания
людей. Вместе с тем закономерности этого типа действуют
якобы только там, где общественное развитие
осуществляется в рамках структуры отчуждения, то есть
стихийным, не контролируемым со стороны субъекта образом.
Социальные процессы в этих условиях подвергаются
«натурализации», уподобляются физическим процессам. Эти
условия, предполагающие существование частной собот-
156
венности, товарного производства и обмена и т. д.,
характерны только для классовых обществ.
Следовательно, положения исторического
материализма могут иметь смысл только применительно к
отчужденной действительности. «Ликвидация» этой
действительности означает одновременно «ликвидацию» исторического
материализма или утрату им всякого теоретического
значения. Поскольку марксистская философия истории
провозглашает постулат устранения отчуждения в качестве
одного из своих существенных составных элементов,
постольку она провозглашает свое «самоуничтожение» в
будущем и для будущего. Те же, кто не понимают этого
факта и считают исторический материализм теорией,
относящейся в одинаковой мере ко всей человеческой
истории, переносят на человеческую историю как целое
структуру отчуждения, типичную только для ее определенного
этапа. Так в общих чертах обосновывает Маркузе свое
ограничение сферы применимости исторического
материализма эпохой классовых обществ. Из этого тезиса он
выводит весьма серьезные и не лишенные
идеологического содержания умозаключения.
По его мнению, исторический материализм не
позволяет делать вывод о неизбежности и необходимости
перехода от капитализма к социализму, так как это
означало бы выход за сферу его значения. Социализм
необходим, но только как ценность, то есть он исторически
возможен, и вместе с тем его наступления требуют
интересы рабочего класса. Однако необходимость его как
социального факта ничем не гарантирована, поскольку тот
механизм, действие которого обосновывает исторический
материализм и который один мог бы обеспечить его
наступление, утрачивает свою действенность на границе
классовых обществ. Этот механизм не применим в
ситуациях, сознательно управляемых людьми, а именно к
таковым и относится социалистическая действительность.
По этим же причинам его невозможно отнести к моменту
перехода от капитализма к социализму, так как уже
здесь прекращается действие исторического автоматизма.
Ошибка Маркузе в данном случае очевидна. Он
попросту отождествляет объективность общественных
закономерностей с теми формами их проявления, которые
имеют место в условиях отчуждения, стихийпого развер-
тываяия социальных процессов, Необходимость таких
157
процессов отождествляется с необходимостью
естественной, присущей процессам, происходящим в природе.
Только на этом основании можно прийти к выводу, будто
исторический материализм пе применим к эпохе
социализма и к периоду перехода от капитализма к
социализму.
Маркузе упрекает тех, кто рассматривает
исторический материализм в качестве универсальной философии
истории, в необоснованном перенесении на всю
человеческую историю структур, которые свойственны истории
обществ, обремененных явлением отчуждения. Между
тем он сам находится во власти отчуждения и
сформировавшихся под его влиянием способов мышления,
поскольку не может представить себе иного типа объективности,
кроме объективности «натурализованной» и
отчужденной.
Мы не стремимся здесь принизить ту роль, какую
сыграл в открытии общественных закономерностей этот
тип объективности. Концепции «невидимой руки» Адама
Смита и «хитрого разума» Гегеля не оставляют никаких
сомнений относительно пути, на котором рождаются эти
идеи. Без той «натурализации» общественных
закономерностей, которую несет с собой отчуждение в
общественной жизни, вряд ли было бы возможно установить
существование этих закономерностей. Не случайно также
и то, что именно политическая экономия оказалась
первой в процессе возникновения и развития общественных
дисциплин. В сфере экономики отчуждение выступало
наиболее явно.
В добавление к сказанному Маркузе можно
упрекнуть в непоследовательности. Рассматривая исторический
материализм как целое, он неизменно утверждает, что
границы его применимости совпадают с границами
существования отчуждения. Однако переходя к
обсуждению отдельных тезисов марксовой философии истории,
он, на наш взгляд, отступает от этой позиции. Так,
Маркузе допускает, что фундаментальный тезис о зависимости
общественного сознания от общественного бытия не
теряет свою силу и в условиях социализма. Меняются
только способ действия и результат: вместо «слепой
зависимости» сознания от общественного бытия возпикает
зависимость сознательная и рационализованная. Сознание
здесь как бы определяет само себя, так как в условиях
158
социализма детерминирующее его общественное бытие
является предметом сознательного творчества
человеческих субъектов. Поэтому сознание перестает быть,
говоря словами Маркузе, жертвой отношений материального
производства. Изменяются также и его продукты. Вместо
идеологических иллюзий и мистификаций, навязываемых
структурой отчуждения и классового господства, оно
начинает производить истинные образы человеческого
мира. Думается, что с некоторыми оговорками с этим
описанием можно согласиться. Дело, однако, в том, что оно
противоречит первоначальной характеристике, которую
Маркузе дал историческому материализму.
2. Локализация идеологии.
Концепция «поглощения» идеологии
действительностью
Маркузе возражает протпв утверждения Р. Арона и
некоторых других авторов о том, что в условиях
современных индустриальных обществ наступает якобы конец
века идеологий. В известной работе «Одномерный
человек» («One-Dimensional Man», 1964) на примере прежде
всего Соединенных Штатов Америки он анализирует
некоторые аспекты индустриальной цивилизации и,
выступая с критикой упомянутого тезиса, формулирует
свой антитезис: о скрытой гипертрофии идеологии в
индустриальных обществах Запада. Только потому, что
идеология стала всепроникающей, могло возникнуть
заблуждение, будто она исчезает или вообще уже не
существует.
Эта всепроницаемость проявляется прежде всего в
том, что непомерно расширилась сфера действия
идеологии, а вместе с тем изменились формы ее существования
и распространения. Что касается первого аспекта, то
Маркузе утверждает: идеология перестала быть лишь
явлением из сферы отношения «люди — люди» или
межгрупповых отношений; она вышла на арену отношений
«люди — природа» в масштабе всей цивилизации, что
находит свое выражение в техническом отношении к
миру. Один из главных тезисов «Одномерного человека»
гласит, что в эпоху индустриальной цивилизации
технология це является идеологически нейтральной,
159
Мы еще вернемся к этим проблемам. Здесь же
заметим, что хотя Маркузе прямо не использует этот тезис
в целях критики Маркса, однако нетрудно обнаружить
его критическую направленность. Марксизм, принимая
ценности, лежащие в основе отношения к природе в
индустриальных пли находящихся в процессе
индустриализации обществах, вместе с тем якобы недооценивает их
идеологическое содержание. Поэтому он-де недостаточно
радикален в своей критике капитализма и слишком мало
утопичен в прогнозах на будущее.
Второй аспект, на котором следует остановиться,
выступает в форме загадочно звучащего утверждения о
«поглощении» идеологии социальной действительностью.
Идеология пронизывает процесс производства,
производственный аппарат, сферу услуг и т. д. Возникает вопрос:
каков смысл и каковы возможные следствия этого
утверждения?
Одна из возможных интерпретаций придает этой
формуле метафорический характер: речь идет скорее о
способах передачи идеологии, нежели о способе ее
существования или о местоположении в социальной структуре.
При таком понимании этот тезис фиксирует некоторые
существенные изменения в данной области. Наряду с
традиционными методами распространения идеологии,
такими, как воспитание и пропаганда, предполагающими
сознательное и целенаправленное воздействие на
человеческий разум, появились и другие, ведущие к цели в
обход сознания, через мир производимых благ и услуг.
Происходит это путем формирования потребностей.
Предлагаемые блага и услуги порождают у потребителей
потребность в этих благах и услугах. Появление на рынке
автомобилей определенного типа вызывает у их
потенциальных покупателей потребность владеть ими, а
туристические бюро порождают потребность в массовом
посещении определенных достопримечательных мест.
Этот механизм связывает потребителей с
производителями и с остальным общественным аппаратом. Кроме того,
он формирует у них взгляды и реакции,
благоприятствующие сохранению status quo, благодаря чему вся эта
система удовлетворения потребностей и их репродукции
может функционировать без помех. Рассматриваемое
явление можно было бы назвать наркотическим
эффектом по аналогии с ситуацией, складывающейся между
160
наркоманом и человеком, Поставляющим ему
наркотики.
Существует, однако, и другой смысл рассматриваемой
формулы, который так же с полным основанием можно
приписать Маркузе. Предлагаемые товары — это не
только предметы потребления, позволяющие определенным
образом удовлетворять те пли иные потребности, но это
также и «социальные символы», песущие в себе
определенные «социальные качества», такие, как престиж,
классовая или групповая принадлежность, ценности и т. д.
Покупая автомобиль или загородную виллу, человек
покупает не только предметы определенного назначения, но
также и общественные символы, по которым
определяется его социальное положение и даже его взгляды. В этом
смысле товары нельзя считать идеологически
нейтральными. Можно даже сказать, что, продавая товары,
продают тем самым и идеологию.
Из этого следуют различные выводы. Об одном из них
мы уже упоминали: «нисхождение» идеологии до
уровня действительности порождает иллюзию ее
исчезновения.
Другой вывод имеет большое значение для
разрабатываемой Маркузе революционной стратегии. Он гласит:
коль скоро социальная действительность капитализма
стала насквозь идеологической, то для того, чтобы
изменить ее, нужно изменить идеологию, то есть вскрыть
прежде всего идеологическое содержание таких на первый
взгляд невинных фактов, как покупка и продажа
товаров, туризм или индустрия развлечений. Это —
предварительное условие формирования в людях недоверия к
социальной действительности, сотканной не только из
материи фактов, но также и из материи идеологий.
Однако, с другой стороны, для того, чтобы изменить
идеологию, нужно изменить действительность, которая ее
порождает и поддерживает. Таким образом, сам собою
напрашивается вывод о необходимости всеобъемлющей
атаки на капитализм — как на уровне фактов, так и на
уровне идеологии.
И наконец, последний вопрос. Он касается отношения
обсуждаемого тезиса к одному из принципов
исторического материализма, в соответствии с которым идеологию
следует относить к сфере так называемой надстройки.
Не влечет ли за собой признание справедливости этого
161
тезиса необходимость отказаться от данного принципа
или по крайней мере скорректировать его? Сам Маркузе
этот вопрос не ставит.
Следует тем не менее отметить, что конфликт между
этими двумя принципами кажущийся, и один из них не
может выступать как аргумент против другого. Тезис о
«поглощении» идеологии действительностью не
противоречит тому, что идеология является чем-то вторичным
по отношению к области объективных межчеловеческих
отношений и изменяется под их воздействием. Он также
не отрицает, что она в конечном счете относится к
области сознания и существует подобно другим явлениям
сознания, но не так, как, скажем, машины или
институты. А только об этом и говорит исторический
материализм.
Вместе с тем тезис о «поглощении» акцептирует
внимание на трех дополнительных обстоятельствах: 1)
изменился механизм распространения идеологии — в
буржуазном обществе наряду с информационными
методами, реализуемыми, например, при помощи средств
массовой информации, существуют методы, связанные с
самим фактом участия в элементарных социальных
процессах и заключающиеся в присвоении себе новых
потребностей и в неосознанном поглощении того, что
предлагает действительность; 2) в основе этой ситуации
лежит явление «оседания» идеологических символов и
качеств на предметах и товарах, которые с этого момента
в дополнение к своей собственной роли выступают
также в роли переносчика идеологических значений; 3) оба
эти обстоятельства вызывают в итоге иллюзию, подобную
явлению мимикрии и состоящую в том, что идеология
как бы «подделывается», маскируется под
действительность, идентифицируется с фактами и опирается на
авторитет фактов. Маркузе считает своей задачей
разоблачение этой иллюзии и обнаружение онтологической
неидентичности фактов и идеологии.
Трудно согласиться с автором «Одномерного
человека», считающим описанное им явление чем-то новым и
характерным только для современной фазы капитализма.
Однако, несомненно, его характеристика буржуазной
идеологии во многих аспектах справедлива.
11 Ст. Раннко
162
3. Историко-социальпая схема Маркузе,
Проблема природы и истории
Обсуждавшиеся до сих пор выводы Маркузе
ограничиваются в основном попытками реинтерпретации
исторического материализма либо той или иной его
корректировки. Однако Маркузе пытался также заменить его
собственной философией истории. Именно этому была
посвящена его работа «Эрос и цивилизация» («Eros and
Civilization», 1955), одна из важнейших в его творчестве.
Рассмотрим основные предпосылки предлагаемой им
системы.
1. Исходные данные всякой цивилизации — это
человек и природа, или, точнее, человек, поставленный перед
лицом чуждой ему природы. Поэтому каждая
цивилизация несет в себе определенный способ использования
обоих этих элементов и именно это служит ее
отличительной чертой.
2. Использование в рамках любой цивилизации
человеческого элемента принимает форму подавления
инстинктов и вообще всей биологической сферы
человеческого существования. Следует, однако, отличать
«основное подавление» (basic repression) от «дополнительного»
(surplus repression). По мнению Маркузе, первое
—характерно для всех известных до сих пор форм и видов
цивилизации и выступает в качестве их
предварительного условия. Здесь речь идет об ограничении прежде
всего двух великих инстинктов: инстинкта жизни и
наслаждения, а также инстинкта агрессии и смерти. Эти
ограничения накладывает сама природа мира, который
не удовлетворяет непосредственно и немедленно наши
потребности, но требует для достижения этой цели
труда, причем общественного.
Говоря о подавлении инстинкта жизни и
наслаждения, Маркузе имеет в виду подавление сексуальности.
Оно происходит путем придания доминирующего
значения генитальной сексуальности при одновременном
подчинении ее функции рождаемости. Таким образом,
сексуальность оказывается локализованной, направленной
вовне, то есть к иному полу, и преобразована из цели в
средство. С этого момента человеческий организм
оказывается готовым к производительному труду. По мнению
Маркузе, структура и природа человеческой сексуально-
163
сти пе являются биологически заданными, но
формируются под воздействием цивилизации.
Что касается инстинкта агрессии, то его подавление
осуществляется двумя способами: путем ориентирования
его вовне, то есть на технологическое овладение миром,
и путем трансформации его во внутреннюю контрольную
инстанцию, каковой и является совесть.
Дополнительное подавление обусловливается не
обстоятельствами цивилизованной жизни, но
определенными общественными явлениями и механизмами, а имен-
но интересами классового и группового господства.
Оно проявляется в том, что не все социальные группы
одинаково отягчены бременем труда и бедности. Есть
привилегированные и есть угнетенные.
Основное и дополнительное подавления регулируют,
следовательно, отношения между цивилизацией и обще-
ством, с одной стороны, человеческой природой и
человеческим оргапизмом — с другой. В индустриальных
обществах это регулирование осуществляет так называемый
принцип производительности (performance principle).
В общем виде речь здесь пдет о том, что эти общества
нацелены на максимальную производительность
производственного аппарата и под этим углом эксплуатируют,
используют и оцепивагот человеческую природу.
3. Способ использования человеческого организма —
лишь одна сторона каждой цивилизации. Другой ее
стороной является использование окружающей,
естественной среды. В условиях индустриальной цивилизации
природа оказывается пизведепной до уровня объекта
господства: господство пад человеком дополняется
господством над окружающей его природой. Как и каждый
другой, этот способ является псторическим, то есть
преходящим и заменяемым.
4. Определенной исторической динамике подчиняется
и структура подавления, сформированная основным и
дополнительным подавлением. В ходе исторического
процесса опо возрастает, деперсонализируется
(институционализируется) и рационализируется. Рационализация
происходит в двояком смысле: устраняются элементы
непосредственного физического насилия в пользу других
механизмов воздействия и подавлепия; подавление
окружается все большим числом мнимых обоснований.
Следует различать подавлспие и рациональную власть.
11*
164
Последняя вытекает из разделения труда и
профессионализации, относится к функциям частичным и
осуществляется в интересах всех, а пе какой-либо одной группы.
Эту власть представляют, например, полицейский,
регулирующий уличное движение, инженер на фабрике или
пилот, ведущий самолет. Если первое исчезает, то
вторая остается. В конечном счете подавление будет
устранено. Это относится прежде всего к дополнительному
подавлению и по крайней мере частично — к основному.
Достигнутый уровень производительности позволяет
отбросить рамки и ограничения, наложенные на человека.
Репрессивная цивилизация уступит место нерепрессивной
цивилизации будущего.
Мы видим, что философия истории Маркузе щедро
заимствует идеи из концепции Фрейда. От Фрейда идет
мысль о конфликте между человеческой природой и
цивилизацией, классификация инстинктов и, наконец, само
понятие репрессии (подавления). Не случайно работа
«Эрос и цивилизация» имеет подзаголовок
«Философские исследования концепции Фрейда».
Нас, однако, интересует здесь отношение этой
философии истории к марксизму. Опираясь на собственную
доктрину, Маркузе упрекает марксизм в забвении
биологического аспекта человеческого существования и
вообще — отношения между историей и природой, как
человеческой, так и лежащей вне человека.
Начнем с главного. Различия между учением Маркса
и концепцией автора «Эроса и цивилизации» не сводятся
к различиям в расстановке акцентов в пределах одного
и того же вопроса, но имеют качественный характер. Эти
концепции отличаются одна от другой не только
предметами исследования, но и их трактовками. Они
по-разному определяют структуру истории, усматривают в ней
различные иерархии факторов, постулируют различные
ценности и цели. Темой марксовой
социально-исторической концепции является человек как социальное
существо, темой же философии истории Маркузе — человек
как природное существо. В каждом из этих случаев
история разворачивается как бы на другом уровне п
приводит к иным результатам.
У Маркса она предстает драмой человека,
угнетенного другими людьми, опутанного враждебными и
чуждыми ему социал&нымв связями, ограниченного прнродны-
165
мп условиями, над которыми он до конца не
господствует, и борющегося с этим угнетением, опутыванием и
ограничением. Ход борьбы и ее результаты не
поддаются при этом описанию в каких-либо единообразных
схемах прогресса или регресса. До капитализма
включительно история человечества складывалась таким
образом, что постепенное освобождение из-под власти
природы, происходившее в результате технологического
прогресса, человек оплачивал возрастающей зависимостью
от других людей и общественных продуктов: прогресс
на одном полюсе сопровождался регрессом на другом.
Для Маркузе вся предшествующая история — это
драма человеческой биологии, развивающаяся по одному
плану: прогрессирующего подавления инстинктов.
Начиная с возникновения индустриальной цивилизации к
этому присовокупляется также драма природы, трактуемой
как объект господства и угнетения. Вся
предшествующая история, таким образом, представляет собой
историю прогрессирующего угнетения и подавления
естественного начала как внутри, так и вне нас.
Отсюда следуют определенные выводы. Вопреки
встречающемуся порой мнению схема философии
истории у Маркузе в принципе не может рассматриваться
как обобщение или даже дополнение учения Маркса.
Автор «Эроса и цивилизации» не дополнил
рассматриваемые Марксом исторический и социальный аспекты
человеческого существования новым аспектом —
биологическим, но прямо перешел к рассмотрению
исключительно этого, последнего аспекта. Поэтому приписываемый
ему порою титул «неомарксиста» выглядит явным
преувеличением. Термин «неомарксизм» должен был бы
означать по крайней мере определенную трансформацию
мыслей Маркса. Однако философия истории Маркузе хотя и
является трансформацией, но только мыслей Фрейда.
Методологически беспочвенным является,
следовательно, обвинение марксизма в том, что он не
рассматривает человеческую историю как историю инстинктов,
историю их подавления и освобождения.
По сути, Маркса нельзя упрекать в том, что в своем
учении он забывает о биологии человека либо об
окружающей природе. Он учитывает и первое и второе, хотя
делает это пе так, как Маркузе, и в иной теоретической
перспективе,
166
Следует также добавить, что некоторые из основных
выводов, изложенных в «Эросе и цивилизации», имеют
явно спекулятивный характер и лишены эмпирической
опоры. Это касается, например, тезиса о том, что
формирование генитальной сексуальности является продуктом
социальной истории человека, а не предшествующей ей
истории естественной.
III. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Антропологические исследования Маркузе имеют
своей целью реконструкцию структур существования
человека, возникавших в ходе его истории. Особое внимание
он обращает на те структуры, которые характерны для
современных капиталистических обществ. Поэтому
антропологические исследования выступают у него в
качестве естественного дополнения его философии истории.
Помимо описательных и познавательных задач перед
антропологией ставятся задачи критические. Согласно
Маркузе, антропология должна стать средством
разоблачения и критики всей предшествующей человеческой
истории, в особенности современных развитых
индустриальных обществ. Такое намерение соответствует духу
так называемой критической теории, провозглашаемой
«франкфуртской школой», интеллектуальных связей с
которой Маркузе никогда не порывал. Эти задачи и
намерения дополняются рядом постулатов. Критика
предшествующих и современных условий человеческого
существования рассматривается лишь как введение к
созданию новой модели человека и личности.
Как же представляет себе Маркузе условия
существования человека? В какой мере его понимание можно
считать обоснованным и в познавательном отношении
плодотворным? Что предлагает Маркузе в качестве
образца для будущего?
1. Структура подавления.
Принцип производительности
Являясь исторически возникшим феноменом,
подавление отличается тем не мепее исключительной
устойчивостью. Вся предшествующая история проходила, по
16?
мйению Маркузе, под знаком репрессий. Выше мы уже
отмечали некоторые ее следствия. Рассмотрим более
обстоятельно вопрос в целом. Говоря о репрессии (или по-'
давлении), мы будем, вслед за Маркузе, иметь в виду
как «основное подавление», связанное с общими
условиями человеческого существования п влиянием
окружающей среды, так и «подавление дополнительное»,
обусловленное структурой классового господства и
системой власти.
Жертвой подавления оказывается прежде всего
биологическая сфера человеческого существования — область
инстинктов и влечений. Нужно было якобы полностью
«перестроить структуру» человеческого организма, чтобы
свести к минимуму и ограничить сферу действия центров
удовольствия и наслаждения, расширив тем самым
возможность использования его в качестве орудия труда,
источника физической энергии, инструмента покорения
природы.
Не менее крутым перестройкам подверглось сознание
и вообще весь психический аппарат человека.
Иным было положение интеллекта. Интеллект
является «чистой» познавательной способностью, свободной
от исполнения функций телесного наслаждения и
удовлетворения органических потребностей. Это позволило
полностью переключить его на решение задачи
практического и технического покорения мира. Разум, согласно
Маркузе, «предал» организм, настроенный по самой
своей сути на реализацию наслаждений.
Двойную роль играет аппарат восприятий. Чувства
являются органами познания и инструментом ощущения
наслаждения. Рассматривая красивую картину, мы не
только получаем информацию в виде зрительных
ощущений, но и испытываем также состояние своего рода
физической удовлетворенности. Эта двойная функция
органов восприятия закрепилась даже в языке (ср. «zmyslo-
wosc» — польск., «Sinnlichkeit» — нем., «sensuality» —
англ.).
Таким образом, чувства якобы противились принципу
действительности, в особенности той его исторической
форме, которую представляет принцип
производительности. Их не удалось полностью свести к функции
познавательного исследования окружающей среды и
установления над ней технического господства.
168
Однако такое специфическое положение чувств lie
могло не вызвать ответной реакции со стороны
подавляющей их цивилизации. Были сделаны попытки
отделить познавательную функцию органов восприятия от
функции удовлетворения желаний, высказывалось
недоверие к информации, полученной при помощи чувств.
Чувства были признаны органом познания только в той
мере, в какой они подчиняются власти подавляющего их
разума.
Далеко не всегда удается понять, что именно имеет
в виду Маркузе, выдвигая подобные объяснения. Можно
только догадываться, что, например недоверие к
чувственным данным ведет к отрицанию чувственных
характеристик (цвета, твердости, мягкости и т. д.) в качестве
предмета изучения со стороны физики и других
естественных наук и, более того, — к отрицанию их
объективной значимости и трактовке их как продукта или
проекции чувственной аппаратуры. Действительно, начиная с
Галилея, физика пошла именно по этому пути, а
различные теории познания и теории науки разработали
соответствующее его обоснование. Маркузе замечает, что
здесь сказалось влияние технологических мотивировок.
Чтобы превратить мир в объект технических
манипуляций, его нужно было сначала «очистить» от
неподдающихся манипулированию чувственных данных, открыв
тем самым слои, доступные измерению и описанию
математическим языком. Поскольку логические и
математические структуры неразрывно связаны с разумом и
признаны его существеннейшими проявлениями, мы
говорим здесь о господстве разума пад чувствами.
Таким образом, чувственные данные отбрасывали не
в силу их ненадежности и субъективности, но потому,
что они не могли служить исходным пунктом
технической деятельности. Кроме того, наша цивилизация
упорно боролась с эмоциональным зарядом, который несут в
себе чувства в силу своей связи со сферами
наслаждения.
Воздействию со стороны цивилизации подверглась, по
Маркузе, ж наша память, превратившаяся в память
обязанностей, долга, вины, греха, упреков совести, несчастья
и угрозы наказаппя, но отнюдь не в память
наслаждения, счастья, свободы. Только воображение и такие
формы его проявления, как искусство, сны, галлюцинации,
1С9
игры и т. д., сумели избежать подавления. Лишь здесь
могла сохраниться правда о человеке и его призвании.
Чтобы раскрыть эту правду, Маркузе обращается к
мифологии. Так, миф о Прометее, ставший символом
пашей цивилизации, отражает порабощение человека
силами подавления. Тогда как мифы о Нарциссе и Орфее
свидетельствуют об отрицании этих сил и принятии
принципа наслаждения, единения с природой и эстетического
к ней отношения. В истории цивилизации подобные идеи
будут время от времени возрождаться. Мы их встречаем,
например, в XVIII веке в сочинениях Ф. Шиллера. Это
идеи превращения работы в игру, самосублимации
чувственности (в отличие от сублимации, вызванной путем
репрессий), победы над временем и вечной молодости,
мечты об эстетической цивилизации как отрицании
цивилизации технической, порабощающей как человека,
так и окружающую его природу.
Каким образом можно представить в общем виде
результаты подавления? Отвечая на этот вопрос, Маркузе
заявляет, что репрессивная цивилизация превращает
человека из «инструмента наслаждения» в «инструмент
труда».
Цивилизация, следовательно, глубоко перепахала как
биологию человека, так и его сознание. И все это во имя
единственной цели — подготовки человека для
производственных нужд. В новое время и в современных условиях
лишь наиболее резко выступают черты, присущие всей
цивилизации от начала ее существования. Для их
характеристики Маркузе вводит понятие принципа
производительности. Принцип производительности можно
рассматривать как видоизменение принципа действительности —
то есть совокупности требований и ограничений,
накладываемых на человека условиями жизни в естественной
и социальной среде, — в условиях индустриальной
цивилизации.
В основе выводов Маркузе лежит убеждение в том,
что человек как биопсихическая система естественным
образом и исключительно ориентирован на реализацию
наслаждения. В дальнейшем на этот тезис налагаются
существенные ограничения. Наслаждение, о котором
идет речь, в принципе не может быть связано с
производительным трудом и установлением технического
господства над материей. Оно должно прежде всего быть
170
результатом полного удовлетворения естественных
потребностей и свободной игры естественных сил
человеческого тела.
Вся история многовековых споров о том, к чему
стремится и к чему должен стремиться человек, говорит о
сомнительности принятых Маркузе предпосылок. Здесь
нередко цепности смешиваются с констатациями, а
последние в свою очередь с цепностями. Не исключено, что
в данном случае вообще невозможно различить оба эти
элемента. Признание наслаждения центром спонтанных
человеческих устремлений представляет собой не только
психологизацию и бпологпзацшо ситуации, но выглядит
сомнительным даже в свете самой биологии. Обо всех
биологических системах — в том числе и о такой, как
человек, — с полной уверенностью можно сказать только
то, что они естественным образом стремятся к
самосохранению. Еще большие сомнения вызывает
упоминавшееся выше ограничение понятия наслаждения.
Очевидно, что человеческая рука является естественным
органом тела. Но разве не естественно для нее участие в
процессе производительного труда и вообще в процессе
практического преодоления сопротивления материи?
Разве это не может быть и не является па самом деле
источником подлинного наслаждения?
Маркузе мог бы здесь заметить, что, признавая
производство возможным источником наслаждепия, мы тем
самым доказываем, что находимся во власти
репрессивного мышления. Но такой вывод следует отвергнуть уже
по соображениям логического характера. Он опирается
именно на тот тезис, который и служит предметом
полемики, то есть на убеждение в том, что невозможно
устранить порождающий подавление конфликт между
требованиями технологической практики и человеческой
биологией.
Это убеждение представляется сомнительным еще
и потому, что упомянутая практика является
единственной формой, в которой человечество организует и
контролирует свое поведение перед лицом природы, а
следовательно, и единственной основой для надежды на
возможность счастья и наслаждения,
171
2. Структура отчуждения.
Отчуждение труда
Если подавление превращает человека просто в
«инструмент труда», то отчуждение — следующий и не
менее грозный феномен — дополняет процесс, превращая
человека в инструмент отчужденного труда.
Однако в отличие от подавления, отчуждение
происходит не на уровне «культура — природа». Оно целиком
относится к сфере культуры. Именно в культуре берет
оно свои истоки. Маркузе относит к их числу, например,
определенный уровень утонченности потребностей,
соответствующий уровень развития разделения труда
(выходящий за рамки разделения, продиктованного признаком
пола), инстптуционализацию и иерархизацшо
специализированных функций и т. д.
Каковы признаки отчуждения? Внимательное
прочтение «Эроса и цивилизации» позволяет выделить в этой
связи несколько моментов, постоянно повторяющихся в
рассуждениях автора.
Первый и самый важный — состоит в убеждении, что
человек утратил заключенные в нем самом источники
активности и что эти источники переместились вовне,
в область социальных ситуаций и обстоятельств. По
этой причине человек уподобляется предметам,
превращается в сырье, материал, обработкой которого заняты
обстоятельства и специалисты сферы манипулирования.
Это характерно и для межчеловеческих отношений, все
более напоминающих отношения между предметами, а
не отношения между личностями.
Далее, повседневная жизнедеятельность утрачивает
что-либо общее с реализацией человеческих
возможностей. Механизм производственного конвейера, рутина
учреждения, рутина купли и продажи не гарантируют
человеку свободной самореализации и ничем не
ограниченной игры сил.
И наконец, трактовка человеческого субъекта,
определение и оценивание его осуществляются на языке
производительности, то есть в терминах производства,
умножения и улучшения общественно полезных вещей.
Человек стоит столько, сколько он производит. Он тем более
ценен, чем больше и лучше может производить. Это
утверждение является проекцией упомянутого выше
172
принципа производительности на область человеческих
отношений н на самого человека. Даже философия не
смогла этому противостоять. Все попытки определения
человека в категориях трансценденции, выхода за свои
собственные границы, несут на себе следы принципа
производительности и поэтому являются экстраполяцией
на область философии структур отчужденной жизни.
Однако наиболее впечатляющие примеры отчуждения
мы видим в области производственной деятельости.
Отчуждение здесь, как замечает Маркузе, «почти полное».
Это означает, что здесь выполнены, причем в
максимальной степени, все условия отчуждения. Сфера труда —
это сфера необходимости, чуждая свободы и
самореализации.
Не менее разрушительными считает Маркузе и
результаты отчуждения в период, не занятый
производством. Здесь отчуждение проявляется в использовании
времени лишь для пассивного отдыха, в его трактовке не
как ценности самой в себе, но исключительно как
периода репродуцирования способности к труду, в
превращении его в предмет манипулирования со стороны
специализированных служб и т. д.
Возникает вопрос: допускает ли Маркузе, а если да,
то какие, возможности преодоления отчуждения? Нужно
отметить, что эта сторона проблемы занимает в его
работах весьма скромное место в сравнении с богатством
зачастую весьма интересных выводов относительно
разнообразных проявлений отчуждения. Чаще всего в этой
связи у него встречаются два утверждения: указание на
явление автоматизации производственных процессов в
ходе научно-технической революции и надежда на
уничтожение отчуждения в связи со «сменой» функций в
обществе, что должно воспрепятствовать процессу их
закрепления за определенными социальными группами, их
инстптуционализации в виде привилегий и различных
ограничений.
В ряде случаев Маркузе утверждает, что для
уничтожения отчуждения достаточно изменить характер труда.
Из действия вынужденного и навязанного он должен
превратиться в деятельность, ценную саму по себе, то есть
в нечто "подобное игре пли развлечению.. Остается,
однако, неясным, складывается ли такая ситуация в
результате автоматизации производства, то есть в резуль-
173
тате полного освобождения людей от производственной
деятельности, или же дело сводится лишь к
определенным преобразованиям общественных структур и
соответствующим изменениям в структурах мотивации. Таким
образом, наряду с формулой, говорящей об
«уничтожении труда», мы встречаем у Маркузе также формулы,
различающие отчужденный труд (labor) от
неотчужденного (work) и постулирующие ликвидацию исключительно
первого.
Скудость и неопределенность рекомендаций Маркузе
очевидна. К тому же ссылки на процесс автоматизации
звучат как вера в то, что технический прогресс сам по
себе может разрешить такую социальную проблему, как
проблема отчуждения. Эти отголоски технократической
идеологии явно не согласуются с позицией Маркузе как
декларативного критика индустриальной цивилизации и
ее иллюзий, в том числе и иллюзий технократических.
Аналогии между концепциями отчуждения Маркузе
и Маркса следует считать скорее формальными, нежели
содержательными. Несомненно, и здесь и там речь идет
об определенном, негативно оцениваемом процессе,
развивающемся в социальной среде. Однако если у Маркса
отчуждение выступает прежде всего как невозможность
контроля над общественными явлениями и процессом
общественного развития, а также как своеобразное
«включение» человека в мир продуктов собственной
деятельности и лишь во вторую очередь в отрицательном
его эффекте для личности, то у Маркузе отчуждение —
главное явление сферы субъективности, проявляющееся
как разрушение или уничтожение.
3. Структура одномерности.
Критика индустриальной цивилизации
Если отчуждение — это разрушение субъективности,
то одномерность — еще большее ее разрушение. По
мнению Маркузе, это явление тесно связано с развитой
индустриальной цивилизацией. Его рассмотрению
посвящена книга «Одномерный человек».
Каково содержание понятия «одномерный человек»?
Речь здесь идет о явлении непосредственной или даже
автоматической идентификации индивида с условиями
m
его существования, перечеркивающей сам факт
существования его «внутреннего мира» как анклава личности.
«Одномерный человек» соотносит свое существование
и свое сознание лишь с настоящим временем. Тем
самым он отбрасывает моменты будущего —
предвосхищение и утопию. Что касается одномерного мышления, то
по самой своей сутп опо является мышлением
антиутопическим, лишенным видения будущего.
Свои практические и интеллектуальные контакты с
миром «одномерный человек» ограничивает его поверх-
ностыо (фактами), не затрагивая глубинных, скрытых
структур и закономерностей.
Наконец, «одномерный человек» отождествляет мир
долженствования (Sollen) с миром бытия (Sein),
идеологию с действительностью.
Далее, Маркузе анализирует такие современные
философские и методологические ориентации, как операцио-
нализм, бихевиоризм, аналитическая философия и
позитивизм, усматривая в них интеллектуальное выражение
структуры одномерности. В особенности позитивизм
трактуется им как философский коррелят такого явления.
Целью этой критики является стремление
продемонстрировать, что человек, замкнутый в структуре
одномерности, обречен на ложное сознание п не способен
противостоять status quo, поскольку всякое сопротивление
предполагает существование внутреннего мира. Между тем в
современных высокоразвитых индустриальных обществах
действительность, уже поглотившая идеологию,
поглощает человека как личность.
Думается, что приведенная здесь характеристика
одномерности заслуживает внимания и скрупулезного
анализа в том, что касается характеристики
капиталистического общества. Если к этому добавить, что она
иллюстрируется множеством конкретных примеров, то мы
получим довольно точное представление о попытках
Маркузе разоблачить суть капиталистической
индустриальной цивилизации.
4. Структура технологии.
Критика индустриальной цивилизации
Одна из формул Маркузе, занимающая в его доктрине
ведущее место, гласит: технология не является идеологи-
175
чески нейтральной, более того, она выступает как
идеология. Смысл этой формулы не исчерпывается банальным
утверждением, что техника и технология могут
использоваться во имя различных идеологических ценностей и
целей, которые тем самым как бы переносят на них свои
качества. Компьютер, к примеру, может использоваться
и па социалистическом предприятии, служащем, как
известно, реализации общенародных интересов, и на
капиталистическом — способствующем обогащению частного
предпринимателя. Однако в этом случае технология не
выступает в качестве идеологии. По существу речь идет
о том, что ее практическое применение может иметь ту
или иную идеологическую окраску.
Подлинный смысл тезиса Маркузе заключается в том,
что через технологию проявляет себя определенное
идеологическое и оценочное отношение к природе. Оно
состоит в трактовке природы исключительно как
совокупности объектов, которые необходимо подчинить
господству человека. Такое отношение Маркузе считает
имманентно присущим индустриальной цивилизации, что
служит для него поводом к глобальной критике технологии
и поиску необходимого решения за ее пределами. Тем
более что по мере развития индустриальной
цивилизации охарактеризованное выше отношение к природе
распространяется и на сферу межличностных отношений.
В результате здесь складывается и укрепляется
инструментальный подход к человеку и его деятельности.
Имея в виду прошлое и современное состояние
технологии, с позицией Маркузе в принципе можно
согласиться. Не вызывает сомнения, что до сих пор
технология развивалась в определенном противоречии с природой,
что находит свое выражение в разрушении
окружающей среды, грозящем сегодня неисчислимыми
бедствиями для биологического существования человечества
как вида. Ошибка Маркузе заключается, однако, в
абсолютизации данного положения вещей, в распространении
его на технологию вообще. Это приводит его к явно
утопическим и романтическим выводам. В частности,
идеалом партнерства и эстетического единства с природой оп
провозглашает мифических Орфея и Нарцисса.
Маркузе полностью забывает о том, что негативные
последствия одной технологии могут быть
ликвидированы тодько средствами другой технологии и что техника,
176
опирающаяся на тотальное и деструктивное
противоборство с природой, может быть заменена техникой,
созданной в соответствии с принципами симбиотического
сотрудничества с природой и наследования ценных
технических достижений.
В целом для антропологических идей Маркузе
характерна либо неопределенность, либо утопичность. Чаще
всего эти идеи возникают как результат простого
отрицания критикуемых явлений и свойств. Так,
провозглашаемый им идеал человека отличают свобода от
подавления, свобода от отчуждения, от одномерности и
враждебности по отношению к природе. Однако весьма
неопределенным остается позитивный смысл этих постулатов,
не говоря уже об отсутствии программы их реализации.
IV. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Маркузе не останавливается на уровне
теоретического анализа. Его цель — выработка новой,
конкурирующей с марксизмом идеологии революционных движений.
Во имя реализации этой цели он подвергает марксизм
не только теоретической, но также и идеологической
критике. Говоря об идеологической критике, мы имеем в
виду тот род критики, который не оперирует
исключительно или даже прежде всего категориями истинности
и ложности, но обращается главным образом к
ценностным понятиям: выявляет их достаточность или
недостаточность, их актуальность; выясняет, могут ли они
быть реализованы, и если да, то кем и в каких
исторических условиях; вскрывает классовую обусловленность
и классовые функции взглядов и доктрин и т. д. Такого
типа споры по поводу идеологий получили в наше время
распространение. Их следует отличать от чисто
теоретических дискуссий, речь в которых идет об истинности
или ложности соответствующих высказываний.
Следует отметить, что предпринимаемая Маркузе
идеологическая критика развивается параллельно его
теоретическим выводам. Поэтому выделение ее в чистом виде
возможно только путем определенного абстрагирования,
хотя среди его работ можно назвать и такие, в которых
отот тип критики марксизма является ведущим.
К их числу прежде всего следует отнести работу под
177
знаменательным заглавием: «Старение марксизма» («The
Obsolescence of Marxism», 1967).
Остановимся на ключевых пунктах идеологических
выступлений Маркузе против марксизма.
1. В порочном кругу радикализма
Начиная с «Разума и революции», в работах Маркузе
в той или иной форме повторяется обвинение марксизма
в том, что он не содержит якобы определенной картины
будущего. Более того, в «Советском марксизме» («Soviet
Marxism. A Critical Analysis», 1958), книге,
представляющей собой фронтальную атаку на теорию и практику
социализма в СССР, Маркузе прямо говорит, что теория
социализма не является и не может являться учением,
направленным в будущее.
Чтобы понять действительный смысл этого
утверждения, припомним, что, по мнению американского
философа, марксизм представляет собой учение, значимость
которого ограничивается исключительно классовыми
обществами или «предысторией человечества». Как таковой,
он не может содержать теории будущего, выходящей за
рамки этой фазы. Маркузе полагает, что с выходом за
границы классовых обществ изменяется и вся
существовавшая ранее структура исторического процесса. Вместе
с тем «приостанавливается» или по крайней мере
подвергается существенной трансформации действие законов
развития, открытых историческим материализмом. Таким
образом, оказывается, что нет никакой теоретической
основы для логической дедукции какого-либо образа
будущего.
Этот вывод делается не на основе анализа
фактического содержания трудов Маркса, но исходя из
определенной интерпретации его учения. Впрочем, он не
слишком согласуется и с дальнейшими действиями Маркузе.
Так, последний обвиняет марксизм в том, что
предлагаемое им видение будущего якобы недостаточно
радикально и утопично. Тем самым он признает, что марксизм
все-таки содержит определенную картину будущего.
Другое дело, что Маркузе по тем ^или иным соображениям
не принимает эту картину или считает ее
неудовлетворительной.
12 Ст. Раинко
178
Оставим, однако, в стороне проблему внутренней
противоречивости позиций Маркузе и попытаемся выявить
подлинный смысл выдвинутого им обвинения. Он
пытается доказать, что, отрицая прошлое и определяя
перспективы на будущее, марксизм остается исключительно на
уровне социальных структур и отношений, что он не
постулирует изменение характера технологии и
производительных сил, не говоря уже об изменении человеческой
биологии. Другими словами, марксизм якобы
недостаточно критичен, обременен традициями, поскольку скачок от
«предыстории» к «истории» человека он сводит
исключительно к преобразованиям в сфере социальных отношений.
Однако эти утверждения Маркузе говорят только о
том, что его собственные ценности не являются
ценностями Маркса, что «умеренным» посылкам автора
«Капитала» он противопоставляет собственные
«радикальные» постулаты. Таким образом, мы здесь имеем дело с
типичным идеологическим расхождением. Мы не будем
специально останавливаться на вопросе об его
обоснованности, поскольку этому было уже уделено внимание в
связи с анализом философии истории и антропологических
концепций Маркузе. Их оценка учитывает и оценку его
аксиологических идей.
Ограничимся поэтому лишь одним замечанием.
Многочисленные критики Маркузе указывают, а он сам с
этим соглашается, что пресловутый «радикализм»
вовлекает его в порочный круг. Чтобы изменить человеческую
природу, необходимо, конечно, изменить социальные
структуры и природу технологии. Это в свою очередь
требует, в силу упоминавшегося выше механизма
идентификации с действительностью, предварительного
преобразования человеческих потребностей или по крайней
мере исключения «ложных» потребностей,
поддерживающих связь с существующим миром, и возбуждения
потребности в революции, критической мысли и в
радикальных действиях.
2. Вопрос о субъекте революции
На предыдущих страницах речь шла о сопоставлении
ценностей, о широте и глубине вызываемых ими
структурных изменений цивилизации и человеческой природы,
17S
Теперь на первый план выдвигается вопрос о тех
общественных силах, которые способны реализовать эти
ценности, то есть выступить в качестве субъекта революции'.
Попытке ответить на этот вопрос в основном и
посвящена работа «Старение марксизма».
Обоснованию роли пролетариата как субъекта
социалистической революции Маркс посвятил почти все свое
творчество. Поэтому пмеппо па этом пункте
сосредоточивает Маркузе свою критику. Он признает, что в свое
время выводы Маркса имели под собой почву. В первую
очередь они относятся к XIX веку, когда пролетариат
был действительно единственной значительной
революционной силой. Но с течением времени капитализм XIX
века претерпел существенные изменения, бесповоротно
перечеркнувшие выводы Маркса.
Маркузе далеко пе всегда последователен в
изложении своей позиции. Так, в «Одномерном человеке» он
заявляет, что реальность современных индустриально
развитых обществ превратила марксистскую категорию
«пролетариат» в мифологическое понятие. Но в иных
случаях он не идет так далеко, ограничиваясь простой
регистрацией изменений в положении рабочего класса,
происшедших и происходящих при современном
капитализме. Тем не менее все его рассуждения неизменно
завершаются выводом, что рабочий класс якобы утратил
раз и навсегда свой революционный потенциал и уже пе
способен играть ту роль, которую предначертал ему
Маркс. Эта оценка переносптся на коммунистические и
рабочие партии, революционный характер которых
Маркузе упорно отказывается признавать.
Чем мотивирует он свои выводы и оценки? К числу
его излюбленных аргументов принадлежит указание па
растущее экономическое благосостояние, которое
распространяется и на рабочий класс. При этом Маркузе
подчеркивает, что речь идет не о каком-то краткосрочном
пли поверхностном явлении, равно как и не о явлении,
охватывающем лишь часть рабочего класса, в
особенности так называемую рабочую аристократию. Напротив,
речь идет об устойчивой тенденции, существенной и
универсальной. В силу растущего благосостояния
пролетариат оказывается в плену тех же потребностей и
способов их удовлетворения, что и буржуазия. Капитализм
приковал к себе рабочий класс золотыми цепями.
12*
ieo
Этому способствует также тотальное
манипулирование сферой потребностей, осуществляемое прп помощи
рекламы и развлечений, давно уже оформившихся в
особую отрасль экономики, широко использующую
результаты научных исследований. Признать потребность и
способ ее удовлетворения — это значит признать тот
социальный порядок, в котором может возникнуть и быть
удовлетворена данная потребность.
Наконец, уверяет Маркузе, рабочий класс все больше
теряет революционный потенциал по мере своего
слияния с капиталистической системой. Между тем условием
революционности является свобода от всяческой
идентификации со status quo.
Можно, однако, возразить, что условием
революционности не являются нищета и бедность. Нищета может
стать поводом к бунту, но не причиной социальной
революции. Хотя факт несомненного роста благосостояния
может вызывать кратковременный спад революционного
сознания и тормозить его проявления, он не в силах
изменить социальный статус рабочего класса, природу
эксплуатации, положение рабочей силы как товара на
рыпке труда и пролетариата как класса, объективно
враждебного буржуазии.
Совершенно неубедителен и второй аргумент.
Манипулирование потребностями не изменяет объективного
социального факта существования классов и классовых
противоречий. Оно может лишь до определенной
степени затуманить сознание этого факта и породить
тенденцию к примирению с собственным положением. Однако
речь здесь идет в лучшем случае об отдельных
позициях. Вместе с тем классовый конфликт и его
революционное разрешение отнюдь не сводятся к вопросу о
позициях.
Маркузе постоянно смешивает объективный
революционный потенциал с его субъективными проявлениями
в форме позиций и сознания. Выдвигаемые им аргументы
с очевидностью относятся ко второй из названных сфер
и указывают на факторы, действительно способные в
определенных условиях затормозить революционные
процессы. В то же время свои выводы он без всякого на то
основания переносит на первую сферу, где решается
вопрос о призвании пролетариата в силу его социального
положения играть роль субъекта революции.
181
Мы не намерены утверждать, что в условиях
капитализма XX века положение рабочего класса не претерпело
существенных изменений, которые необходимо учитывать
в революционной практике. Увеличение объема работ,
требующих для своего выполнения высокой
квалификации, сближение по своему характеру труда рабочего с
трудом инженера — все это, конечно же, изменяет
традиционный состав рабочего класса, к которому сегодня
можно причислить также определенные категории
техников, инженеров и даже научных работников.
Изменившийся и расширившийся таким образом рабочий класс не
перестал быть, однако, классом наемных работников,
вовлеченных в процесс непосредственного производства и
подвергающихся эксплуатации. Именно он становится
сегодня субъектом социалистической революции.
Отказавшись признать эту роль за пролетариатом,
Маркузе вынужден искать субъект революции в среде
оппозиционно настроенной интеллигенции (и студентов);
в таких угнетенных в социальном отношении группах,
как, например, национальные меньшинства; в народно-
освободительных движениях, а также — по его
выражению — в «новой стратегии» рабочего движения Европы,
под чем подразумевается деятельность группировок
маоистского толка. Совокупность этих групп, движений и
тенденций он называет «синдромом революционного
потенциала».
В этом перечне прежде всего поражает
разношерстность составляющих его элементов. Речь не идет о
какой-либо группе или классе, как о возможном субъекте
революции. Здесь просто-напросто регистрируются
факторы, могущие в определенной ситуации стать очагом
дестабилизации в современном мире. Эти группы не
связывает какая-либо общая цель, поэтому трудно говорить
об их совместной организованной деятельности. В
большинстве своем они либо находятся вне процесса
непосредственного производства, либо для их характеристики
этот критерий не существен.
Рассмотрим в этой связи внимательнее и еще одно
утверждение Маркузе. Он настаивает на том, что его
отрицание революционности рабочего класса явилось
результатом эмпирических исследований положения и роли
этого класса в развитых капиталистических обществах.
Между тем уже первое знакомство с доктриной автора
162
«Эроса и цивилизации» обнаруживает, что независимо от
вердикта эмпирии тезис об отрицании следует из
начальных предпосылок этой доктрины. В самом деле, если в
целом технология и производство рассматриваются как
формы насилия и идеологии, то силу, способную их
уничтожить, следует искать прежде всего в группах,
находящихся за пределами производства п технологии.
Рабочий класс, следовательно, в расчет не принимается. Мы
видим, таким образом, что даже логическое следствие
своей теории Маркузе пытается представить в качестве
эмпирически обоснованного тезиса.
Если пролетариат не является уже революционной
силой, то марксизм не может претендовать на ранг
актуальной для современности идеологии. Таков
политический итог рассуждений Маркузе. Он считает марксизм
идеологией, утратившей свое значение для современности
в силу недостаточной радикальности, а также устаревшей
и анахроничной из-за той роли, которую она продолжает
приписывать рабочему классу.
«Марксизм устарел», но в специфическом зпачении
этого слова: устарел как идеология. Маркузе не
возражает против того, что основополагающие теоретические
тезисы Маркса, относящиеся к капиталистической
системе, и сегодня сохраняют свою ценность. Это относится,
например, к тезису о прибыли как цели данной системы,
об имманентных противоречиях капитализма и
невозможности их разрешения в его рамках, о подчинении
человека и его потребностей рыночным отношениям и т. д.
Марксизм предстает здесь как своего рода музейный
экспонат, учение прошлого, хотя и заслуживающее
всяческого уважения, но ныне уже утратившее свое
значение. Пытаясь критиковать те аспекты марксизма,
которые непосредственно связывают его с общественной
практикой, Маркузе стремится дискредитировать его как
орудие этой практики.
3. В перспективе индустриального общества.
Является ли Маркузе сторонником
теории конвергенции?
Ответ на этот вопрос отнюдь не очевиден. Как в силу
неоднозначности теории конвергенции, так и по причине
183
неопределенности позиции Маркузе. Начнем поэтому с
уточнения исходных предпосылок упомянутой теории.
По-видимому, главными здесь являются два
положения. Одно из них гласит, что социализм и капитализм —
это две формы или ипостаси одной и той же
технологически-экономической системы, каковой объявляется
индустриальное общество. Вторая — что в обеих системах
идет процесс сближающей их эволюции, который в
конечном счете завершится их полной идентификацией.
Понятно, мы даем здесь упрощенную трактовку этих
тезисов.
Критика социализма, с которой выступает Маркузе в
«Советском марксизме», в значительной мере опирается
на первую предпосылку, хотя и «углубленную»
элементами собственной доктрины.
По мнению Маркузе, для обеих систем характерны
насилие и отчуждение труда. Развиваемая ими этика несет
на себе печать этих явлений, будучи этикой
репрессивной и инструментальной. Мы, таким образом, видим
здесь не только трактовку обеих систем в перспективе
индустриального общества, но и понимание их как
вариантов репрессивной цивилизации, в качестве одной из
современных форм которой выступает индустриальное
общество.
Можно, следовательно, утверждать, что Маркузе
является половинчатым или умеренным сторонником
теории конвергенции, поскольку оп принимает только одну
из ее главных предпосылок. Мы напоминаем об этом,
чтобы сказать, что идеологическую критику марксизма
дополняет у автора «Советского марксизма»
идеологическая критика практики социализма. Орудием этой
критики в данном случае, как и у множества других
оппонентов марксизма, служит теория конвергенции.
*
Суммируем основные направления критики
марксизма со стороны Герберта Маркузе.
Как мы видели, в ней постоянно присутствуют три
исходные темы. Первая из них связана с интерпретацией
марксизма как теории, относящейся к «предыстории це-
184
ловечества». Маркузе стремится тем самым ограничить
область значимости марксистской теории исключительно
классовыми обществами, а также обосновать
справедливость отрицания научного социализма или марксистского
видения будущего. Такое видение с необходимостью
выходило бы за область значимости теории и по этой
причине не имело бы под собой никакой основы.
Второе направление критики исходит из попыток
дополнения или даже обобщения марксизма. По мнению
Маркузе, в своих исторических и антропологических
концепциях марксизм не идет «вглубь», безотчетно
принимая предшествующую идеологическую структуру
производительных сил, равно как и сформировавшуюся под
воздействием насилия человеческую биологию. В
идеологическом и политическом планах ставка здесь делается
на объявление марксизма недостаточно радикальным и
критичным, то есть недостаточным для коренного
преобразования status quo.
Наконец, последнее — это провозглашение
марксизма идеологически устаревшим по той причине, что он
усматривает в пролетариате главную движущую силу и
субъект революции. Здесь мы также видим стремление к
отрицанию актуальности марксистского учения и его
полезности для текущей и будущей революционной
практики.
Таким образом, названные виды критической
стратегии реализуются с расчетом скомпрометировать
марксизм прежде всего как идеологию и орудие социальных
преобразований. В то же время в меньшей степени
речь идет о сомнениях в его теоретической ценностп.
Это отличительная черта концепций и позиций Маркузе,
выделяющая его из числа других критиков, настроенных
главным образом на различные варианты теоретического
разрушения марксизма. Своей цели Маркузе пытается
достичь путем отнесения марксизма как идеологии в
прошлое, связывая его с пройденным этапом развития
производительных сил и социальных структур.
В свете вышесказанного трудно признать Маркузе
марксистом или неомарксистом. Прежде всего потому,
что он использует одновременно материал многих
доктрин — таких, как гегельянство, марксизм, психоана-г
лиз, — осуществляя пх слияние, в нютором марксизм не
186
играет не только основной, но даже просто особой роли.
Скорее, эта роль отведена психоанализу Фрейда.
Доктрина Маркузе является также концепцией,
враждебной и альтернативной по отношению к марксизму
клк в историко-социальном, так и в антропологическом и
идеологическом планах. Неомарксизм же (мы
отвлекаемся здесь от его конкретного содержания) выступает
обычно под флагом диалектического продолжения мысли
Маркса в каждом из упомянутых параметров, сохраняя
по крайней мере ее исходные теоретические формы и
методологические правила.
Критика марксизма
Ю. Хабермасом
I
Адорно, Хоркхаймер, Маркузе представляют первое
поколение «франкфуртской школы», Юрген Хабермас —
второе. Охарактеризовать главные принципы этой
школы и тем самым определить исходную точку зрения Ха-
бермаса —- задача достаточно сложная. Наиболее простым
и коротким путем, ведущим к достижению этой цели, нам
кажется приведение сетки понятий, своего рода
понятийной матрицы, которую можно найти в исследованиях
представителей этой школы и которую каждый из них
разрабатывает по-своему. Последнее в особенности
касается Хабермаса, являющегося сегодня, несомненно,
наиболее оригинальным теоретиком «франкфуртской
школы».
Такая матрица должна включать по меньшей мере
три понятия-символа:
1) понятие критики и «критической теории»;
2) понятие «негативной диалектики»;
3) понятие «технологического разума»,
«инструментального разума», «априори технологического разума»
и т. п.
У Хабермаса понятие критики выступает в контексте
широких методологических и теоретико-познавательных
исследований различных типов знания и науки, а также
соответствующих каждому из них видов социальных
интересов. Следовательно, речь идет о своеобразной
методологии и теории познания, которую нередко
определяют как герменевтико-диалектическую. Пожалуй, впервые
этим определением воспользовался Г. Радницкий во
втором томе своей работы «Современные школы в метанау-
ке» («Contemporary Schools of Metascience», 1968),
характеризуя как доктрину Хабермаса, так и концепции
Т. Адорно и К. О. Апеля.
Понятие «инструментального разума» выступает у
Хабермаса в качестве теории современной цивилизации,
187
ее диагноза и терапии. При этом первостепенное
внимание Хабермас уделяет разработке критических аспектов
этой теории: тотальной критике форм и проявлений
технократизма, понимаемого как процесс сведения
социальной проблематики к чисто инструментальным и
техническим вопросам. В конечном счете совокупность
анализа, критики и проектов, сосредоточенных вокруг понятия
«инструментального разума» и современной цивилизации
и проникнутых элементами утопии, достигает
кульминационного момента в его наиболее общих исследованиях
по философии истории, направленных на создание
альтернативной историческому материализму концепции
общественного развития.
Общие проблемы диалектики находятся вне сферы
интересов Хабермаса. Единственным исключением в данном
случае является его работа «Аналитическая теория зна-
пия и диалектика» («Analitische Wissenschaftstheorie und
Dialektik», 1963), паписанная в связи с
методологическими спорами между Адорпо и Поппером.
| Излагая своп концепции, Хабермас ведет постоянную
полемику с марксизмом. Вместе с тем оп частично
использует элемепты марксистского анализа в своей
собственной интерпретации. Такой подход характерен для
всех представителей «франкфуртской школы». Марксизм
является для них источником понятийных средств и
исследовательских методов и одновременно объектом
теоретической и идеологической критики.
В силу ряда причин «франкфуртская школа»
заслуживает сегодня особого внимания философов-марксистов.
В настоящее время эта школа, имеющая аптппозитивист-
скую ориентацию, выступает как оппозиция марксизму,
качественно отличающаяся от той, с которой марксизм
имел дело в прошлом.
В то же время «франкфуртская школа» пытается
подправлять, обновлять и даже обобщать марксизм,
выступая от имени марксизма как одна из его
разновидностей, как марксизм современной эпохи, неомарксизм.
Этому способствует то обстоятельство, что в генезисе идей
«франкфуртской школы» важную роль сыграла книга
Д. Лукача «История и классовое сознание» («Gescliichte
und Klassenbewusstsein. Studien iiber marxistische
Dialektik», 1923). Лукачу франкфуртские теоретики обязаны
таким важным элементом их концепций, как отрицание
188
диалектики природы и ограничение сферы действия
диалектики социальными и историческими явлениями. Еще
более непосредственным было влияние другого
теоретика, причисляемого к марксизму, но, по сути дела,
стоявшего на позициях ревизионизма. Мы имеем в виду Карла
Корша, автора работы «Марксизм и философия» («Маг-
xismus und Philosophie», 1930), у которого
«франкфуртская школа» позаимствовала понятие критики и
интерпретацию марксизма как критики.
Не следует игнорировать и растущее идеологическое
влияние «франкфуртской школы». Переломным моментом
здесь можно считать студенческое движение на Западе в
шестидесятых годах, которое непосредственно
использовало идеологические лозунги «франкфуртской школы»,
способствуя тем самым их популяризации. Свою роль
сыграло также то, что позивитизм как философия и
идеология вынужден сегодня защищать свои позиции. Мы не
будем останавливаться здесь на причинах этого явления.
Истоки его следует, очевидно, искать в тех
преобразованиях, которые совершаются в структуре науки и ее
общественном статусе, а также в определенных социальных
переменах. Утрата позитивизмом своего значения
сопровождается ростом влияния антипозитивистских
настроений.
Рассмотрим в свете вышесказанного концепцию Ха-
бермаса в ее отношении к марксизму.
1. Марксизм как критика
Хабермас приступает к исследованию марксизма под
лозунгом: «Понимать Маркса лучше, чем он сам понимал
себя». Как же он использует этот лозунг практически?
Предвосхищая наши выводы, отметим, что Хабермас
разделяет с другими франкфуртскими теоретиками
убеждение в том, что марксизм является критикой. Этот
тезис — квинтэссенция его истолкования идей Маркса.
Рассмотрим явный и скрытый смысл этого тезиса, а также
степень его обоснованности.
Понятие критики разработано в русле традиции
европейской культуры. Оно стоит в заглавиях известных
работ Канта, открывающих так называемый критический
период его творчества. Подзаголовок «Капитала»? сэмого
189
крупного сочинения Маркса, как известно, звучит
«Критика политической экономии». Франкфуртские теоретики
считают, что в своей интерпретации понятия критики они
продолжают традиции названпых авторов, в частности
Маркса.
Как уже упоминалось, у Хабермаса эта проблематика
выступает в контексте определенной классификации или
типологии наук и теории познания. Особенности стиля
изложения и расплывчатость ряда основных выводов не
позволяют осуществить точную реконструкцию его
концепции. При рассмотрении его взглядов всегда будет
сохраняться известная доля риска в том, что касается
точности их истолкования.
По мнению Хабермаса, можно выделить три типа
наук. Каждому из них соответствует особая область
предметов, особый вид опыта, особый характер источников и
обусловленностей структуры интересов; различны также
и сферы их применения.
Первая группа наук — это эмпирическо-аналитические
науки. Они доставляют информацию, которая становится
основой определенных типов технологии и стратегии.
Технология относится к средствам, а стратегия — к целям
действия. Первая определяет условия рационального
действия в сфере средств, вторая — в сфере целей и их
выбора. Следовательно, эмпирическо-аналитические науки
функционируют в границах структур целенаправленно-
рационального либо технологического действия,
единственной задачей которого является способствовать
техническому овладению миром природы и миром
объективированных социальных процессов. Поэтому технический
интерес лежит в основе естественно-математического
познания, а также тех общественнонаучных исследований,
в которых используются методы естественных наук. Он
определяет и способы понимания действительности,
которая выступает здесь не в качестве предмета
незаинтересованного созерцания, но как объект, который мы
присваиваем и которым овладеваем.
Перед второй группой наук, так называемыми гер-
меневтико-историческими науками, стоят иные цели.
Они стремятся не к упрочению технической власти над
миром, а к углублению и расширению межчеловеческой
коммуникации, интерсубъективности. В данпом случае
Хабермар говорит о практическом интересе в дтдичие от
190
технического. Следовательно, филологические и
исторические науки, теория культуры и т. д. не только имеют
другой предмет, нежели эмпирические науки, но и
подчинены принципиально иным задачам. Для реализации
этих задач они используют исследовательский метод,
отличный от методов, применяемых в эмпирических
науках, — метод понимания. С его помощью мы постигаем
смысл и значение, например, человеческих действий,
учреждений, памятников культуры и т. д. точно так же, как
наблюдение и изучение открывают нам доступ к
физическим качествам вещей и явлений. Таким образом, если
эмпирические науки доставляют технически полезную
информацию, то герменевтические науки выдвигают
интерпретации, практически используемые в процессе
самообновления коммуникаций и в целях сохранения
человеческой общности в историческом процессе.
Однако мы не ставим себе задачу дать
характеристику и оценку метода понимания, тем более что у самого
Хабермаса этот вопрос пе получил достаточно ясного п
исчерпывающего решения. Можно лпшь утверждать, что
речь идет о познавательной операции, протекающей в два
этапа. Например, чтобы понять смысл высказывания,
предписывающего мне закрыть дверь, я должен сначала
квалифицировать это высказывание как поручение или
приказ п только потом могу осознать его содержание.
Первый этап предполагает обращение к опыту интер-
субъективности, то есть к пониманию типов и видов
межчеловеческих связей. Второй этап является операцией
понимания в собственном смысле, так как он направлен
прямо на определенное высказываемое содержание.
Третью и последнюю группу наук составляют
критические науки. В качестве примера Хабермас называет
здесь чаще всего психоанализ, идеологическую критику,
общую теорию общества и даже политическую экономию
и другие общественные науки. При этом критические
науки функционируют в границах структур интереса
эмапсипации, так же как эмпирические науки — в
границах структур технического интереса, а
герменевтические науки — структур практического иптереса. В целях
более полного понимания вопроса необходимо дать
некоторые пояснепия.
Итак, под влиянием классового разделения и
идеологического мышления процессы межчеловеческой комму-
191
нйкацйй подвергаются многообразным нарушениям,
ограничениям и деформациям. Хабермас иногда прямо
определяет власть и идеологию как «искаженную
коммуникацию» (verzerrte Kommunikation). Речь, по-видимому,
идет о том, что в связи с существованием классов и
идеологий распределение нагрузок п привилегий, опыта
и обмена мыслями, участие в обсуждении и принятии
решения по общесоциальпым и частпым вопросам,
обращение идей и их познавательное качество отклоняются от
оптимального состояния, то есть такого, которое имело
бы место в случае отсутствия классов и идеологий.
Поэтому интерес эмансипации находит свое выражение в
стремлении уничтожить названные ограничения и
искажения процесса коммуникации или в революционной и
критической деятельности. Результатом критики
является определенный вид знания, который Хабермас
называет анализом и которому соответствует специфический
познавательный опыт — рефлексия.
Но эта характеристика критических наук не полна.
Наиболее существенным является для них способ связи
со своим интересом, то есть с потребностью эмансипации
и ее осуществлением.
Данная связь имеет наиболее непосредственный
характер и этим решительно отличается от связи
эмпирических и герменевтических наук с соответствующими
структурами интересов. Во втором случае посредствующим зве-
пом является каждый раз повторяющийся «перевод»
определенного знания в систему соответствующих норм —
технических либо практических. Критическое же знапие
такого «перевода» не требует. Его усвоение вызывает в
познающем субъекте некоторые процессы, составляющие
акт эмансипации или, скорее, самоэмансипации.
Следовательно, акт критики является одновременно актом
самоосвобождения.
То, что имеется здесь в виду, Хабермас поясняет на
примере психоаналитической терапии. Пациент,
подвергнутый такого рода терапии, получает о самом себе знание,
которое может одновременно обладать силой,
освобождающей его от внутренних напряжений, психических и
физических симптомов невроза и т. п. Поэтому не
случайно то, что психоанализ наряду с идеологической
критикой считается моделью критического знания. В обоих
случаях информация открывает и проясняет то, что скры-
92
то (неосознанные мотивации или частные интересы), она
исполняет демаскирующие и демистифицирующие
функции, а также может привести, согласно Хабермасу, к
изменениям в структуре личности и поведении целых
классов и социальных групп. Связь между знанием и
интересом имеет в данном случае совершенно иной характер,
нежели, например, связь между знанием о расширении
тел при повышении температуры и его техническим
использованием при производстве термометров или
прокладке железнодорожных путей либо связь между
знанием о поведении туземцев, например о способе
приветствия, и практическим применением его в общении с
теми же туземцами.
Резюмируя, мы можем сказать, что »под критикой Ха-
бермас (понимает: 1) вид знания, а не действие, которое
проявляется в негативной оценке определенного
состояния вещей, и не саму негативпую оценку, как это
принято в обыденном словоупотреблении; 2) вид знания,
которое не является ни практическим, ни техническим в
названном смысле этих понятий; 3) знание, обладающее
силой самостимулирующего и непосредственного
освобождения — в рамках «диалектики просвещения» (Dialektik
der Aufklarung), то есть путем воздействия на
сознание, — индивидов и социальных групп от власти
гипостазированных сил, от утверждения status quo, от
трактовки определенных структур власти и зависимостей как
якобы естественных.
Марксизм, по мнению Хабермаса, призван быть
именно критикой в описанном смысле. В этой связи
напрашивается ряд выводов.
Марксизм должен быть полностью сведен к
социальному содержанию. Выдвижение какого бы то ни было
онтологического марксистского учения, например
диалектического материализма, по Хабермасу, — результат
недоразумения и деформации его исходных принципов.
В этом источник негативного отношения франкфуртских
теоретиков к диалектике природы. Отсюда же вытекает
постоянно подчеркиваемое ими недоверие к Энгельсу, с
именем которого связывается главным образом
обоснование принципов диалектического материализма.
Марксизм они признают не эмпирической теорией и
даже не интерпретацией социальной действительности,
но видом систематизированного сознания либо размыш-
193
ления, предметом которого является социальная
проблематика. Выводы Хабермаса идут дальше. Марксизм, как
таковой, подчиняется якобы не правилам эмпирической
проверки, а закономерностям социальной психологии и
идеологии. Это означает, что его необходимо оценивать с
прагматической точки зрения (например, такой:
справляется ли марксизм как элемент общественного
сознания со своими критическими функциями и в какой
степени).
Наконец, марксизм не может предписывать никаких
технических директив для изменения общества, потому
что как критика он «непереводим» на язык
инструментальных норм. Поэтому такие его положения, как
призыв к созданию пролетарских партий, подготовка
социалистической революции и др. (являющиеся тем не
менее составными частями научного социализма),
следует, по мнению Хабермаса, либо признать
недоразумением, либо реинтерпретировать в духе «критической
теории». Марксизм воздействует на характер социальных
перемен самим фактом своего существования в
современном мире, а не предписаниями «инструментализма»,
подобно тому, как камень самим фактом своего
присутствия в физическом мире создает поле тяготения.
Не все эти выводы сформулированы у Хабермаса
достаточно четко. Однако мы считаем, что они implicite
содержатся в его характеристике марксизма как
критики.
Даже этот краткий обзор предложенных Хабермасом
характеристик марксизма обнаруживает вопиющие
несообразности и крайние искажения. На двух ошибках
методологического свойства необходимо остановиться
подробнее.
Заметим прежде всего, что, несмотря на создаваемую
видимость, Хабермаса вовсе не интересует подлинная
исследовательская практика творцов марксизма.
Произвольно накладывая на марксизм интерпретаторскую
схему, свойственную «критической теории» «франкфуртской
школы», Хабермас объявляет все то, что не умещает^
ся в этой схеме (например, онтологические положения
или инструментальные директивы), недоразумением и
искажением подлинного содержания марксизма. В
результате мы узнаем не подлинный марксизм, а то, каким
его хотел бы видеть Хабермас.
13 Ст. Раинко
194
Другая ошибка, может быть даже более серьезная,
чем первая, связана с самим принципом выделения
особой группы критических наук и включением в нее
марксизма. Здесь Хабермас принимает две предпосылки,
которые оказываются уже не только произвольными, но и
просто ложными (по крайней мере в той
абсолютизированной форме, которую он им придает). В соответствии
с первой из этих предпосылок сущность марксизма
исчерпывается характеристикой способа его воздействия на
человеческое сознание и вида связи с общественным
действием. Поскольку этот способ воздействия и связь
понимаются Хабермасом иначе, нежели в случае
взглядов и теорий, имеющих инструментальное применение,
марксизм он относит к качественно иному типу наук, а
именно к критическим наукам. При этом речь идет не
об одном из аспектов, отличающих марксизм от
некоторых других учений (с чем следовало бы согласиться, а
подчеркивание этого момента признать важным пунктом
в полемике с позитивистскими и сциентистскими
интерпретациями марксизма), но о провозглашении этого
аспекта единственным и исключительным. Следствием этого
оказывается, конечно, отрицание таких элементов
марксистского учения, которые имеют характер практического
(социотехнического) знания.
С точки зрения второй предпосылки провозглашение
марксизма критическим учением опирается на
альтернативу: либо марксизм — критическая теория, либо
эмпирическая и эмпирически верифицируемая теория.
Эмпирические и критические аспекты марксистского учения, взаимно
обусловливающие и дополняющие друг друга, оказались
здесь радикально разделенными и противопоставленными.
Однако, например, ряд фундаментальных положений
марксистской политической экономии выступает
одновременно в двойной роли: критики и разоблачения
капиталистической действительности, а также ее научного описания,
подтверждаемого практикой и оцениваемого в категориях
истинности и лояшости. Утверждения, что капитализм
присваивает себе прибавочную стоимость, созданную
рабочим, или что капитализм обречен на
периодически повторяющиеся экономические кризисы и
связанное с этим расточительство производительных сил,
отчетливо указывают на эту двойную роль. С одной стороны,
механизм капиталистического производства здесь описы-
195
вается и выявляется, а с другой — разоблачается, что
оказывает влияпие на сознание и позиции людей, настраивает
iix против существующей системы капитализма и моби-:
лнзует на борьбу с ней. Следовательно, вместо противо-»
положности эмпирических и критических элементов
марксистской теории мы видим их единство и
взаимообусловленность.
Выделение особой группы критических наук
опирается на неправомерное противопоставление эмпирических и
критических функций, свойственных некоторым теориям
общественных наук. Оно приводит к абсурдным
последствиям также и с точки зрения самой предлагаемой Хабер-
масом концепции. Если некоторые теории выполняют
критические функции относительно действительности, то
другие теории, наоборот, одобряют и утверждают ее. Так
обстояло дело, например, со многими фундаментальными
теориями буржуазной политической экономии,
апологетический характер которых не пытаются оспаривать даже
некоторые из ее представителей. Поэтому наряду с
критическими науками придется ввести категорию наук,
одобряющих или апологетических. А что делать, если одна и
та же теория или система взглядов включает в себя оба
этих аспекта, выступающих в качестве первенствующих в
разных отношениях? Такая судьба, по мнению некоторых
теоретиков, выпала па долю психоапализа Фрейда. Начал
он с критики сексуальных предрассудков и табу
викторианской эпохи, сейчас же, в условиях современного
капиталистического общества, фрейдизм стал инструментом
приспособления к существующей действительности и
примирения с этой действительностью. Следовательно,
определение какой-либо науки как критической потребовало бы
дополнительного соотнесения ее с тем или иным
историческим периодом. Во избежание такого рода трудностей
следует отказаться от выделения критических паук в особую
группу наук и признать существование не только
критических, но и апологетических взглядов и теорий или,
точнее, взглядов и теорий, выполняющих критические или
одобряющие функции.
Копцепцию критических наук не оправдывают и
ссылки франкфуртских теоретиков на понятие критики и его
роль в трудах Капта и Маркса. Говоря, например, о
критике чистого разума (как силы, в познавательном плане
отличающейся от рассудка), Капт ставит под сомнение его
13*
196
притязания на постановку и решение ряда философских
вопросов, таких, как проблема существования бога, души
или свободы. В понимании Канта это проблемы,
неразрешимые путем теоретических исследований, так как они
выходят в своем содержании за границы опыта (любые
попытки решения их на этом пути тонут в антиномиях и
не поддающихся разрешению логических трудностях).
К такому выводу приводит Канта подробный анализ так
называемых философских вопросов, с одной стороны, и
понятия опыта — с другой. Следовательно то, что Кант
называет критикой, есть, по сути дела, некоторая оценка,
выведенная им на основе анализа и исследования:
негативная оценка притязаний философии на обоснованное
решение некоторых ее классических проблем. Но это не
имеет ничего общего с критикой, понимаемой
франкфуртскими теоретиками как наука sui generis.
Как уже подчеркивалось, точка зрения Хабермаса по
этому вопросу не имеет ничего общего и со взглядами Маркса.
Марксова критика буржуазного общества носит всеобщий
характер, ибо она охватывает как его объективные
аспекты, так и аспекты сознания и идеологии. Эта критика и
опирается на исследование и анализ данного общества,
и является их результатом. Ни у Канта, ни у Маркса
критика не выступает как особый вид знания или же как
особый, изолированный вид исследовательской деятельности.
Понятие критики имеет здесь свой обычный смысл,
единственный, который можно ему приписать.
Возможно, в основе концепции критических наук
лежит некоторый замысел, получивший в ходе разработки
неадекватное и преувеличенное выражение?
Предположим, что это стремление подчеркнуть роль социальной
критики в реализации общественных преобразований (в
частности, революционных), в освобождении людей от
отождествления со status quo и бессознательного его
одобрения, в изменении личности и позиций определенных
групп и классов (авангарда группы или класса) как
исходных условиях более широких и глубоких социальных
измепепий. Однако подобная роль критики не требует все
же столь далеко идущих выводов, вторжения в область
методологии и науковедения. Для осуществления этой роли
нет необходимости в специальном типе знания;
следовательно, понятие критической науки повисает в пустоте.
Вопрос о неинструментальном характере связи, возникаю-
197
щей между некоторыми теориями и человеческим
действием, имеет, как уже говорилось, большое значение. Это
особенно важно подчеркнуть, учитывая, что о нем вообще
забывают позитивисты. Однако это не оправдывает
преобразования критического аспекта таких теорий в
обособленный вид знания. Здесь проявляется социальный
ультрарадикализм «франкфуртской школы», ищущий себе
выхода и оправдания на почве методологии и философии
науки.
2. Полемика с Марксом
Рассмотрим в связи с названными выше выводами
некоторые упреки, адресованные Хабермасом
непосредственно Марксу.
Прежде всего Хабермас обвиняет Маркса в
противоречии между его исследовательской практикой и осознанием
этой практики. Как исследователь, автор «Капитала»
разрабатывает якобы критику (в понимании Хабермаса)
главным образом в форме критики политической
экономии. В то же время как методолог Маркс не замечает
особенностей критики и отождествляет ее с эмпирическими
науками. По мнению Хабермаса, это касается в
особенности исторического материализма, который Маркс
истолковывает по образцу естественных наук.
Ответить на этот упрек нетрудно. Маркс разрабатывал
критику, но, как уже говорилось, не в том ее понимании,
какое свойственно Хабермасу. Поэтому взгляды Маркса и
не должны согласовываться с выводами Хабермаса.
Критика буржуазного общества у Маркса была основана на
его эмпирических исследованиях, она не была особой
наукой, существующей наряду с эмпирическими науками и
независимо от них (сама идея такой науки является
иллюзией) .
Второй упрек, содержащийся так же, как и первый, в
работе «Познание и интерес» («Erkenntnis und Interesse»,
1968), наиболее отчетливо, выступает в форме теоретико-
познавательного, или гносеологического, возражепия.
Маркс и Гегель признаются ответственными за
разрушение теории познания как дисциплины, что открыло
в XIX веке путь позитивистским решениям, сводящим
эпистемологию к методологии науки.
198
Эпистемология является критикой познания и знания,
считает Хабермас. Она призвана проследить истоки их
правомерности в окончательных и несводимых далее
структурах социальной жизни. Хабермас полагает, что он
выполняет этот постулат, предлагая свою теорию трех
интересов как рамок для трех типов познания. Эпистемология
возможна поэтому только как социальная наука. Таков
главный тезис, развиваемый Хабермасом в «Познании и
интересе».
По его мнению, Маркс имел все данпые для того, чтобы
пойти этой дорогой. Но увлечеппый гегелевской критикой
гносеологии (разработанный по образцу критической
теории познания Канта) и ограничивающийся в своих
анализах одним типом интереса, а именно технологическим
интересом, Маркс оказался не в состоянии выполнить эту
задачу и остановился на полпути. Хабермас считает, что
он не только устранил все преграды на этом пути, но и
последовательно довел до конца дело Маркса, достраивая
к марксизму недостающую ему эпистемологию или,
точнее, замещая существовавшую до тех пор неадекватную
эпистемологию адекватной.
Почти каждое из высказываний Хабермаса
заслуживает опровержения и критики. Маркс (и марксизм) не
ставит перед своей теорией познания задачу критики и
обоснования знания, подобно Канту или Гуссерлю. Маркс
отказывается от попыток доказать объективность теории
познания чисто теоретическим путем. Всякая подобная
попытка грозит привести к замкнутому кругу, что
прекрасно понимал уже Гегель и о чем знал Гуссерль, безуспешно
пытавшийся найти способ избежать этого недостатка.
Именно этот отказ марксизма от невыполнимой задачи
Хабермас ошибочно принимает за отказ от разработки
теории познания как таковой и сведение ее к методологии
наук.
Однако марксизм вместо прежней невыполнимой
задачи выдвигает свою программу обоснования правомерности
теоретического знания, опираясь на общественную
практику, то есть на внетеоретическую сферу. При этом
понятие практики, вопреки мнению Хабермаса,
истолковывается здесь достаточно широко, охватывая не только область
технического интереса, но также разнообразные виды
нетехнических общественных действий, включая и
революционную практику. Таким образом, очевидна песостоя-
199
телыюсть утверждений, что Маркс испытывал влияние
позитивизма при определении объема понятия науки,
признавал только модель эмпирических наук и связывал
науку исключительно с техническим интересом. Не будучи
критической эпистемологией в традиционном смысле,
марксистская теория познания ставит проблемы
реконструкции процесса познания: она рассматривает его
наиболее общие принципы, свойства и ценности, связь со
сферой общественной практики и обосновывает таким путем
правомерность его результатов. Вместе с этим она
является коллективистской и диахронической эпистемологией,
так как в центр своих интересов ставит познание как
общественно-историческое явление (в отличие от познания
как психического процесса, совершающегося в сознании
индивида), обращаясь прежде всего к исследованию его
динамики и развития (проблема относительной и
абсолютной истины, связанная с этой моделью развития знания,
и т. д.).
Хабермас совершает ошибку не только при
характеристике и оценке теории познания Маркса, но также и при
определении сущности собственной эпистемологии. Это
далеко не критическая эпистемология в названном выше
смысле, а в лучшем случае теория познания
дескриптивного и реконструктивного типа или по крайней мере
теория, ориентированная в этом направлении. Она также
более бедна (оставляя в стороне другие ее недостатки,
среди которых не последнее место занимает
неопределенность ее программы и результатов), по сравнению с
марксистской гносеологией, например, в сфере диахронического
анализа. При этом она ведет к теоретически небезопасным
последствиям, в их числе к отрицанию классического
определения истины.
II
Хабермас претендует на создание собственной
концепции истории, а именно теории общественной эволюции.
Почти в каждой своей работе он касается этой проблемы.
Однако ее решение до сих пор не вышло из стадии
проектов. Впрочем, Хабермас осознает предварительный и
гипотетический характер полученных им здесь результатов.
Ясно, что, приступая к решению названной задачи,
Хабермас должен был попытаться определить свое отноше-
200
пие к историческому материализму Маркса — этой
единственной, действительно значительной за последнее столетие
концепции истории. Попытки Хабермаса в этом
направлении сводятся к критике исторического материализма, а
также его трансформации, призванной сделать его учение
якобы более общим и свободным от приписываемых ему
Хабермасом ограничений. Попытаемся выявить
содержание его возражений против марксистской концепции
истории.
1. Обвинения в адрес
исторического материализма
В работе «Познание и интерес» Хабермас критикует
Маркса за своего рода «сужение» концепции истории
путем сведения ее к одному измерению — труду и
производственной деятельности. Измерения коммуникации,
интерсубъективности и межчеловеческих отношений,
присутствующие в конкретном анализе Маркса, якобы исчезают
в его философско-историчёских обобщениях, полностью
растворяясь в структуре практических действий,
направленных на природу.
Это утверждение приводит к многообразным
последствиям. Вновь воскрешается упомянутое «противоречие»
между исследовательской практикой Маркса и осознанием
этой практики, на этот раз на уровне философско-истори-
ческого анализа, а не методологических и
эпистемологических исследований. Маркс, по мнению Хабермаса, не
отдавал себе отчета в том, что он делает как
ученый-исследователь.
В результате этого «сужения» производственная
деятельность берется за образец при истолковании всех
остальных социальных и познавательных явлений, а
также при выработке марксистских понятий и категорий.
В связи с этим целый ряд явлений остался неохваченным
либо не нашел адекватного отражения. Так якобы
обстояло дело с герменевтикой. Модель производственной
деятельности навязывает понимание познания как
присвоения внешней действительности и ее преобразования по
образцу происходящей благодаря труду ассимиляции и
трансформации природного материала. Следовательно,
речь идет о своеобразной теории отражения, неадекватной,
201
по мнению Хабермаса, даже по отношению к
эмпирическим наукам, не говоря уже о герменевтике и критике, где
такая модель совершенно неприемлема. Герменевтика
соотносится со структурой понимания, образцом для
которой является ход коммуникативных процессов,
осуществляющийся на основе языка межчеловеческих соглашений.
Для критики образцом служит революционная
деятельность общественных классов и слоев.
Наконец, эта модель отрицательно сказалась на марк-
совом понятии процесса антропогенеза. Фактор,
способствующий выделению человека из животного мира, Маркс
усматривает в процессе труда и производственной
деятельности и, следовательно, исключительно в формировании
сферы инструментальной активности, которая занимает
место адаптационной активности, характерной для
животного мира. По мнению же Хабермаса, решающим фактором
процесса антропогенеза было появление
коммуникативного измерения (языка), то есть замена инстинктивного
управления поведенческим управлением,
осуществляемым с помощью общественных норм и языковых
стимулов. В первом случае человеческий род был объектом
эволюции, во втором — становится ее субъектом.
Хабермас иногда приписывает также Марксу своего
рода натурализм. Когда автор «Экономическо-философских
рукописей» рассматривает процесс становления человека
как часть естественной истории, остается неизвестным,
имеет ли он в виду процесс антропогенеза, что не
вызывает возражений Хабермаса, или же говорит о процессе
становления человека в ходе истории, что, по мнению
последнего, является грубым натурализмом, так как
человеческая история оказывается здесь частью истории природы.
Трудно понять, почему Хабермас столь явно искажает
здесь мысль Маркса. Даже поверхностное знакомство с
двумя основными теоретическими декларациями
исторического материализма, из которых первая датируется
1846 годом и содержится в «Немецкой идеологии», а
вторая сформулирована в 1859 году в известном предисловии
к работе «К критике политической экономии», не
оставляют никакого сомнения в том, что наряду с
инструментальным измерением истории (производительными
силами) Маркс выделяет как ее второе измерение сферу
человеческих общественных отношений (производственные
отношения). Без взаимного соотнесения этих двух измере-
202
ний исторический материализм вообще невозможен.
Отводя такое место классовым структурам и классовой борьбе,
Маркс не мог не учитывать именно то измерение, где
конституируются эти структуры и борьба, то есть измерение
межчеловеческих отношений с их языковыми опосредст-
вованиями.
Вместе с устранением упрека в одномерности марксова
понимания истории снимается также обвинение Маркса в
непонимании самого себя. Как в своей исследовательской
практике, так и на уровне философско-исторического
анализа Маркс неизменно применяет двумерную схему,
закладывающую — говоря языком Хабермаса — наряду с
инструментальным или технологическим аспектом также
и аспект коммуникации или интеракции.
Что касается вопроса о мнимом возведении Марксом
производственного процесса в ранг общетеоретического
образца, то ответ может быть только один: мы имеем здесь
дело с очередной иллюзией Хабермаса. Причем ее не
оправдывает ссылка на некоторые формальные аналогии
между процессом производства и процессом познания. Из
сформулированного у Маркса тезиса отнюдь не следует
логический вывод о разработке его концепции познания по
образцу процесса труда и производственной деятельности.
Маркс как материалист наследует от своих
предшественников фундаментальное положение теории отражения:
познание является процессом, «заимствующим» свое
содержание извне, от предмета.
В вопросе об антропогенезе также нет оснований
считать точку зрения Маркса ограниченной или
односторонней. Он последовательно развивает идею, согласно
которой действительный фактор антропогенеза следует искать
в практической активности, направленной на внешний
мир. Эта активность способствует возникновению новых
состояний, например, формированию прямой походки,
рудиментарной общности и совместному труду,
значительному ослаблению инстинктивной детерминации поведения;
она создает также качественно новые образования, такие,
как процесс социализации, развитие сознания и языка,
нового типа управления поведением и т. д. Выделенные
Хабермасом факторы находят свое место лцбо в первой,
либо во второй группе новообразований. Маркс в любом
случае не признал бы за ними самостоятельной ценности.
Точка зрения Хабермаса не может быть принята в каче-
203
стве дополнений концепции Маркса, она полностью
противоположна марксистскому пониманию проблемы.
К обвинениям Маркса в мнимой абсолютизации труда
и производства и сведении к ним совокупности
многомерной общественной жизни, мы еще вернемся в дальнейшем.
Но прежде рассмотрим другой тип аргументации,
направленной против исторического материализма.
В работе, носящей знаменательное название «Техника
и наука как «идеология»» («Technik und Wissenschaft als
,,Ideologieu», 1968), Хабермас утверждает, что
исторический материализм в его настоящем виде непригоден для
анализа современного (организованного, или позднего, по
его выражению) капитализма, претерпевающего
изменения двух видов.
Одно из них связано с характерным для современного
капитализма явлением государственного
интервенционизма, то есть предпринимаемой в широком масштабе
деятельностью государства в области экономики. Такая
деятельность преследует цель стабилизации экономики и ее
охраны от разрушительных последствий кризисов и
депрессий и включает в настоящее время также элементы
планирования. По мнению Хабермаса, это влечет за собой
ряд существенных последствий для исторического
материализма.
Прежде всего должно якобы измениться отношение
между базисом и надстройкой, так как буржуазное
государство, оставаясь элементом надстройки, теперь активно
влияет на базис. Скрытой предпосылкой рассуждений
Хабермаса является здесь тезис о пассивности надстройки и
невозможности ее обратного влияния на базис; это
убеждение Маркс никогда не разделял, активно выступая
против него. Таким образом, критика Хабермаса не достигает
цели. Однако необходимо признать, что деятельность
современного буржуазного государства ставит перед
марксистской теорией базиса и надстройки ряд новых
вопросов, связанных, к примеру, с областью активности
надстройки и ее вторичных воздействий, а также с новыми
формами проявления этих воздействий.
Вследствие интервенционистской деятельности
государства изменяется характер базиса, происходит его реполи-
тызация. На первый план выдвигаются якобы политические
структуры базиса, оттесняя структуры узкоэкономические.
Это означает, что Маркс неоправданно отождеств-
204
лял базис с производственными отношениями. Такай
тождественность существовала только в фазе либерального
капитализма, но ее не было в более ранних формациях,
она отсутствует также в позднекапиталистической фазе.
Этот вывод основан на недоразумении и ошибочной
интерпретации взглядов Маркса. Маркс никогда не
отождествлял сущность базиса, имеющую всегда
экономическую природу (как сеть экономических связей между
людьми), и исторические формы ее проявления, которые
могут приобретать политический облик, мнимо
конституированный чисто политическими средствами, как это
происходило, например, в период рабства либо феодализма.
Политический характер базиса, говоря языком Гегеля и
Маркса, принадлежит сфере видимости. При капитализме
экономические отношения выступили в чистом виде и без
прикрытия, однако Маркс сумел распознать эту
видимость. Хабермас ложно истолковывает марксово понятие
производственных отношений, отождествляя его с сетью
частно-правовых отношений, устанавливаемых на рынке
и благодаря рынку. Некоторое ограничение этого
частноправового характера — как это имеет место в
современном капитализме — позволило Хабермасу заявить о
несуществовании обосновываемой Марксом идентичности
базиса и производственных отношений.
Второе из упоминавшихся двух видов изменений — это
происходящее начиная с последней четверти прошлого
века сближение науки и техники. И это изменение, по
мнению Хабермаса, чревато различными неприятными
последствиями для исторического материализма.
Хабермас expressis verbis выделяет здесь прежде всего
два вопроса. Первый касается оценки производительных
сил с точки зрения их роли в процессе социального
освобождения. Другой имеет более частный характер и
относится к закону стоимости, выявленному марксистской
политической экономией. Итак, вопреки взглядам Маркса
развитие производительных сил далеко не всегда дает
положительные результаты с точки зрения освобождения
человека от структур власти, социальной зависимости и
ложного сознания. Так происходит только тогда, когда
характерные для области производительных сил и
производительного труда схемы рациональности и способы
господства субъекта не переносятся на область социальной
и политической практики, когда общество и человеческие
205
проблемы не истолковываются по аналогии с природой.
Как мы помним, техника и общественная практика, по
Хабермасу, это две несовместимые сферы, подчиняющиеся
различным закономерностям, им соответствуют различные
типы знания и способы его реализации. А между тем
одновременно с развертыванием научно-технической
революции и сближением науки с техникой распространяется
технический и манипуляционный подход к человеческим
и социальным вопросам и сама техника становится
инструментом идеологического оправдания правомерности status
quo.
К этому вопросу мы еще вернемся при рассмотрении
данной Хабермасом характеристики современного
общества. Здесь же только обратим внимание на некоторую
неадекватность его аргументации. Маркс не занимался
специально идеологическими последствиями развития
техники. В частности, он нигде не утверждал, что она всегда
способствовала освобождению человека или была, говоря
языком Хабермаса, постоянным потенциалом
освобождения. Ситуация, которую констатирует Хабермас, не может
быть ни подтверждением, ни опровержением каких-либо
тезисов Маркса. Более того, необходимо подчеркнуть, что
Хабермас ошибается в существе вопроса. Социальные и
идеологические последствия он выводит прямо из
прогресса техники, без какого-либо посредства со стороны
общественных условий, в которых этот прогресс совершается.
Маркс же, анализируя, например, социальные последствия
применения машин в капиталистическом производстве,
указывал на зависимость этих последствий от
общественного характера и природы производства.
Остановимся кратко на законе стоимости, критика
которого является постоянным мотивом в работах Хабер^
маса. Упорное повторение критических аргументов не
освобождает взгляды Хабермаса от определенных
неувязок. <
Неприменимость закона стоимости к условиям
современного капитализма должна, по Хабермасу, вытекать
либо из того, что разные виды все более
квалифицированного сложного труда не удается свести к простому труду
и выразить в единицах рабочего времени, либо из того, что
научная информация стала сегодня наряду с трудом
новым и самостоятельным фактором образования стоимости.
Хабермас поддерживает первую точку зрения вопреки
206
рыночной практике, которая через механизм цен
приравнивает друг к другу различные виды труда.
Необоснованность второй точки зрения обнаруживается сразу, стоит
лишь задать вопрос, что определяет экономическую
стоимость самой информации (принимая во внимание тот факт,
что научная информация становится сейчас товаром); как
фактор образования стоимости информация сама по себе
не может иметь стоимости точно так же, как тепло не
может иметь температуры, а тяжесть веса.
Теория стоимости Маркса является постоянным
объектом критики со стороны буржуазных теоретиков. И это
неудивительно, если вспомнить, что данная теория
составляет основу таких идеологически значимых элементов
марксовой политической экономии, как теория
прибавочной стоимости и теория эксплуатации. Свои критические
выводы о применимости исторического материализма к
условиям современного капитализма Хабермас завершает
утверждением о пепригодности двух основных понятий
Маркса, а именно класса и идеологии. Причем это
заявление свидетельствует о явной непоследовательности
Хабермаса, признающего, что борьба классов не угасла, а
стала лишь более скрытой, что идеология не перестала
существовать, но лишь сменила свою форму и источники.
2. Исторический материализм
как предмет «обобщения» у Хабермаса
Если исторический материализм является односторон-
ним учением, если сфера его применимости ограничена,
как утверждает Хабермас, то вполне объяснимо
стремление обобщить его. Эту задачу и решает Хабермас в
работе «Техника и наука».
Суть его процедур сводится к замещению марксова
понятия производительных сил понятием труда (Arbeit)
либо понятием целенаправленно-рационального действия
(zweckrationales Handeln), охватывающего как подбор
средств для данных целей, так и выбор самих целей из
некоторого множества альтернатив. В то же время
производственным отношениям противопоставляются понятия—
иптеракции (Interaklion), коммуникативного действия
(kommunikatives Handeln), институциональных рамок
207
(institutionelle Rahmen) либо, наконец, организационного
принципа (Organisationsprinzip).
Если в сфере труда совершаются процессы обучения и
усвоения технически полезной информации, то в сфере
интеракции происходят процессы социализации и
формирования личности па основе общепризнанной системы
общественных норм. Следовательно, первая сфера
соответствует техническому интересу, вторая —
практическому.
Марксистское понятие падстройки утрачивает здесь
свой смысл. Часть явлспий из этой области (культура,
общественные нормы, воспитательные учреждения и т. д.)
переносится в область иптеракции. Другая же часть
надстройки (папример, власть и идеология) истолковывается
как отклонение либо искажение и, следовательно, как
некоторый вторичный фепомеп сферы коммуникационных
явлений.
Эта схема навязывает определенную периодизацию
истории, зависимую прежде всего от системы
межчеловеческой коммуникации. По мнению Хабермаса, можно
говорить о четырех общественных формациях: первичной
(vorhochkulturelle), традиционной (traditionelle),
капиталистической и посткапиталистической (в последнюю он
включает также и социалистические общества). В первой
формации в роли организующего принципа выступает
система родства, во второй — политическая система, в
третьей — экономическая система. Четвертую формацию
автор предпочитает не определять более точно.
Историческое развитие человечества можно
рассматривать и под другим углом зрения. Хабермас опирается
здесь на схему триады. Перед эпохой капитализма
доминировала сфера иптеракции, которая поглощала и
охватывала сферу производственной деятельности. В фазе
либерального капитализма происходит разделение этих областей
и производственная сфера обретает самостоятельность.
Для современности характерен примат технической
деятельности, которая обнаруживает тендепцию
поглощения совокупности общественной жизни.
Подобная система философии истории Хабермаса
вызывает возражения прежде всего с содержательной точки
зрения, тем более неприемлема она как реконструкция или
обобщение марксовой схемы. Отметим ее главные
недостатки.
208
Классовые структуры, структуры власти и идеологии
Хабермас понимает в теоретико-информационной модели
как исключительные нарушения процесса
межчеловеческой коммуникации. Такое понимание позволяет в лучшем
случае охватить только поверхность этих явлений. Более
того, определение их понятием «искажение» вводит
оценочную точку зрения, осуждает эти структуры, вместо
того чтобы исследовать их позитивную и негативную роль
и прежде всего механизмы фактического их
функционирования.
Отношение к внешней природе и человеческой
сущности Хабермас понимает в свою очередь с точки зрения
психоаналитической модели подавления, как это видно
из его работы «Познание и интерес».
Говоря о принципе родства, политической и
экономической системах как очередных принципах,
организующих общественные формации, Хабермас обращается к
домарксистской и принадлежащей к communis opinio
различных буржуазных доктрин схемам.
Таким образом, предложение Хабермаса является
слепком разнообразных течений, логическая
согласованность которых (не говоря уже о их содержательной
стороне) вызывает сомнения.
III
Философско-методологическая разработка философии
истории не исчерпывает содержания сочинений
Хабермаса. Большое место в них занимают некоторые выводы и
предложения, составляющие в сумме характеристику
(диагноз) современного общества. В то же время это еще
одна сторона его конфронтации с марксизмом.
1. Диагноз современности.
Обвинение в адрес позитивизма
Главный тезис Хабермаса, содержащий квинтэссенцию
его исследований современности, гласит: на наших глазах
совершается опасный по своим последствиям перенос, или
проекция, действий, характерных для техники, на
совокупность общественной жизни и межчеловеческих отношений.
209
Другими словами, «инструментальный разум» совершает
вторжение в те пространства социальной человеческой
экзистенции, которые должны находиться вне его
естественного радиуса действия.
Здесь мы снова встречаем идею, характерную для
многих представителей «франкфуртской школы» и
фигурирующую в самых разных видах и вариантах. Это идея
оппозиции против техники либо по крайней мере
недоверия к тем или иным ее проявлениям.
Следует признать, однако, что у Хабермаса эта идея
выражена весьма осторожно. В своей доктрине он все же
отводит место для техники. Ее определенный locus natura-
lis должен составлять технический интерес — один из трех
основных интересов, представленных в структуре
общественного бытия. Напомним, что одновременно с
практическим интересом и задачей освобождения он должен
определять главные измерения и направления перемен в
характере человеческой действительности.
Но технический интерес проявляет тенденцию к
экспансии, к подчинению себе остальных интересов. Этот
вопрос подобен проблеме разума в философии Канта.
Анализ показывает, что разум должен удовлетвориться опытом
и только опытом. Но вместе с тем разум систематически
проявляет тенденцию выхода за границы опыта.
Следствия вышеназванной экспансии являются столь
же негативными, как и результаты притязаний разума у
Канта. Разум запутывается в противоречиях, производя
мнимые решения философских вопросов и вновь ставя эти
вопросы. Технический же интерес вне своих границ
создает социальные деструктивные эффекты и является
ответственным за ряд ситуаций, опасных для дальнейших судеб
человеческого рода.
На этом, однако, аналогии кончаются. По Канту, разум
сохраняется в известной степени как ex natura, в силу
врожденных закономерностей действия. Технический же
интерес и связанный с ним «инструментальный разум»
побуждаются к экспансии определенными общественными
факторами. Отсюда следует, что подобное положение будет
сохраняться не всегда и не в любых условиях.
В общем, сложившаяся ситуация обусловлена, по Ха-
бермасу, некоторыми аспектами современной
промышленной цивилизации, прежде всего в ее капиталистическом
варианте. Против этой цивилизации он и обращает свою
14 Ст. Раинко
210
критику. Явления, определяемые как научно-техническая
революция; превращение технического прогресса в почти
единственную переменную, характеризующую
экономический рост; сведение политики к интервенции и
управлению, то есть к техническим вопросам; наконец, деполити-
зация масс в капиталистическом мире, — такова в общих
чертах совокупность основных факторов, которые
порождают тенденции распространения структур целенаправлеп-
по-рациопалыюго действия и превращения их в образец
для всех остальных видов поведения и действия.
Среди негативных результатов описываемого процесса
на первый план выдвигаются социальные и человеческие
эффекты. Проблемы, касающиеся межчеловеческих
отношений, оказываются преобразованными в технические
проблемы. Споры о ценностях, идеологических конфликтах,
освободительных движениях и устремлениях трактуются
таким образом, как если бы речь шла о технических
вопросах, которые можно разрешить соответствующим
подбором средств. Из поля зрения исчезает все своеобразие
практики, которая у Хабермаса сводится к области
межчеловеческих отношений, опосредствованных языком,
структурами власти и идеологии. Место практики занимает
система, являющаяся объектом тотальпого управления.
Это бюрократизированный мир, сформированный
согласно способам мышления бюрократии, что совпадает с
известным высказыванием Маркса о том, что бюрократия
смотрит на мир как па объект манипуляций.
Человек из субъекта превращается в объект. Его не
убеждают и не побеждают, но делают объектом процедур,
подобных манипуляциям с неживыми предметами. Его
партнером оказывается не человек, который, как и он,
принадлежит к определенному классу и общественной группе
и признает определенные ценности и идеологии, а
чиновник и бюрократ, вооруженный надежными правилами
управления. Поэтому мир, в котором практика (praxis)
полностью поглощена техникой (techne),—это мир
тотального отчуждения, то есть превращения человеческих
отношений в вещные и опредмечеппые отношения.
Технические действия по своей природе относятся к
предмету как к объекту, который должен быть завоевап
и покорен. Следовательно, их распространение па
социальную сферу не только опредмечивает личности и подвергает
последние вещным манипуляциониым процедурам, но так-
211
же упрочивает структуры власти, зависимость и порабо-
щепие человека человеком.
Не менее деструктивны проявления сознания и
идеологии. Эта проблема требует специального рассмотрения,
поскольку она весьма характерна для взглядов Хабер-
маса.
Из сознания людей и из наук о человеке исчезает
чувство различия между практикой и техникой, что является
отражением фактически совершающихся преобразований
во взаимоотношениях между названными областями.
Фактическому умножению видов поведения, управление
которыми осуществляется извне, соответствуют
преобразования сознания, выражающиеся в понимании человека и
общества по образцу технических систем и в стихийном
одобрении такого понимания.
Доказательством этого служит распространение
бихевиористских доктрин и анализов системного и
кибернетического типа. Хабермас не отрицает полностью
эвристической ценности этих доктрин и анализов. Он выступает
против их абсолютизации, усматривая в них,
соответственно предыдущим выводам, симптомы угрожающего
явления. Они являются не социальной теорией, или, точнее,
не только социальной теорией, но определенной
социальной технологией, программой технологизации
общества.
Изменяются также основы и структура
существовавших до тех пор идеологических обоснований.
Капиталистическая система в своей либеральной фазе черпала
обоснование из отношений производства, точнее, из сущности
и характера экономических отношений, опиравшихся на
эквивалентный обмен. На механизм эквивалентного
обмена чаще всего ссылались буржуазные идеологи, чтобы
показать моральную обоснованность и законность
капиталистической системы. Под влиянием созданных этой
системой иллюзий они утверждали, что в отношениях между
рабочим и капиталистом не может быть и речи об
эксплуатации, неравенстве и несправедливости, коль скоро оба
производят эквивалентный обмен в соответствии с
правилами рынка — один продает свою рабочую силу, другой
за нее платит. Нужна была гениальная интуиция Маркса,
чтобы за этими экоиомическо-правовымп видимостями
открыть механизм порабощения и эксплуатации. Вместе с
тем политическая экономия Маркса является критикой
14*
212
капиталистической системы, то есть критикой ее
идеологических обоснований.
Однако сегодня ситуация изменилась. Центр тяжести
идеологических обоснований современного капитализма
перемещается, по мнению Хабермаса, от производственных
отношений к производительным силам. Они начинают
функционировать в двойной роли —как техника и как
идеология. И происходит это именно в силу упомянутого
явления переноса или проекции структур действия,
свойственных технике и технологии, на совокупность
социального поведения и межчеловеческих отношений. В этой
ситуации уже недостаточно критики производственных
отношений и ограничения ее политической экономией.
Критику необходимо распространить также на
производительные силы.
Речь идет здесь, например, о следующем явлении.
Власть над людьми можно маскировать, ссылаясь на
некоторые технические требования и необходимости.
Техническая рационализация человеческого действия является
одновременно рационализацией в психоаналитическом
смысле: подлинные мотивы, лежащие в стремлении
поработить других, подменены внешними мотивами,
почерпнутыми из состава мнимых технических необходимостей.
По мнению Хабермаса, это вынуждает нас расстаться с
презумпцией идеологической невиновности
производительных сил, содержащейся в классическом учении Маркса.
Таков один из основных критических аргументов,
выдвигаемых им против творца марксизма. Впрочем, в данном
случае Хабермас не одинок: эта идея — идея дополнения
марксовой критики капитализма критикой
производительных сил —в той или иной форме является общей почти
для всех представителей «франкфуртской школы».
Рассмотрим в этой связи некоторые из выводов и
предложений Хабермаса. Перемещение центра тяжести в
область идеологических обоснований находит свое
выражение в появлении идеологий нового типа —
технократических идеологий. Их следовало бы, скорее, называть
постидеологиями или даже антиидеологиями, так как они не имеют
классового характера, то есть их невозможно соотнести со
взглядами ни одной социальной группы или класса, они
не содержат момента утопии или социального видения, не
требуют для своей поддержки иллюзорного отрицания
общественных конфликтов и т. д. Впрочем, по мнению
213
ХаберМаСа, это йё уменьшает угрожающей с их стороны
опасности, а, наоборот, усиливает ее, так как они
направлены не против интересов того или иного класса, а против
интересов человеческого рода как целого. Сущностью этих
идеологий является отрицание своеобразия практического
интереса и задачи эмансипации, акцентирование
технического интереса, убежденность в возможности «перевода»
любых общественных вопросов на язык технических
операций и т. д.
То, что технократические идеологии провозглашают
прямо, позитивизм как философская доктрина выражает
опосредствованно. Он является, по мнению Хабермаса,
философским коррелятом технократического сознания,
давая последнему теоретико-познавательное и
методологическое обоснование.
Поэтому позитивизм не отрицает технологической
рациональности, то есть рациональности технического
завоевания мира, реализованной в соответствующих структурах
человеческого действия. Позитивизм проводит четкую
демаркационную линию между нашими осмысленными и
бессмысленными высказываниями о мире. Причем критерии,
на основе которых выделяется множество осмысленных
высказываний, совпадают по объему с критериями
технической применимости. Следовательно, позитивизм
пытается возвести требования технического интереса в ранг
основных методологических правил. Но, поступая таким
образом, он приходит к внутренним противоречиям.
Технологическая рациональность становится для него
ценностью , тогда как ценности — согласно его собственным
критериям — не могут быть предметом осмысленных
высказываний, так как они не поддаются техническому
применению. Это означает, что позитивизм является не
только скрытой технократической доктриной, но и
самодеструктивной доктриной: содержание принятого
критерия рациональности неприменимо к самому критерию и
исключается из множества осмысленных
высказываний.
Критике и идеологической демаскировке позитивизма
Хабермас уделяет внимание во многих работах, начиная
от «Теории и практики» («Theorie und Praxis», 1963) и
кончая «Познанием и интересом». Это одна из наиболее
интересных областей его творчества. Однако этого нельзя
сказать о других аспектах его концепции.
214
Принципиальную проблему современности Хабермас
усматривает в распространении структур технического
действия на остальные измерения социального мира.
Такое понимание продиктовано скорее внутренней логикой
его доктрины (осью которой, как мы помним, является
выделение трех типов интереса и исследование их взаи-
моотношений), нежели самой действительностью. Вместе
с этим он полностью отрицает классовое и социальное
содержание конфликтов в современном мире, связанных с
противоборством социалистической и капиталистической
систем, с внутренними противоречиями капиталистической
системы и т. д.
Конечно, мы далеки от игнорирования перечисляемых
им угроз и предостережений. Но одно дело отметить
значение какой-нибудь проблемы, и совсем другое -— признать
ее единственно важной. А в данном отношении Хабермас
не оставляет нам никакого выбора.
Но наибольшие сомнения вызывает характеристика
технократических идеологий. Хабермас подчеркивает их
неклассовый характер, но одновременно усматривает в них
инструмент обоснования современного капитализма. Это
уже не просто непоследовательность, а прямое
противоречие. Можно считать, что технократические идеологии (на
что указывает само их название) являются выражением
управленческих и бюрократических интересов в
современном обществе развитого капитализма. Однако Хабермасу
мешает заметить это его собственная доктрина. Она
представляет технократические идеологии в тесной связи с
техническим интересом как обоснование и оправдание
последнего и его притязаний на исключительность и
универсальность. А технический интерес в качестве необходимой
структуры любой человеческой истории не поддается
классовым или групповым квалификациям и соотнесениям.
Поэтому круг замыкается.
Таким образом, распространение структур
технического действия оказывается тем процессом, источники
которого кроются не в механизмах базиса и классовых
явлениях, а непосредственно в производительных силах и
технологии. С одной иллюзией связана другая:
производительные силы преобразовались якобы в инструмент
обоснования современного капитализма.
Впрочем, такая формулировка позволяет Хабермасу
вступить в дискуссию с Маркузе, которого он обвиняет не
215
только в изменении ее смысла, но также и в том, что он
придал ей слишком крайний смысл. По Маркузе,
производительные силы (в исторически известном виде) всегда
выполняли идеологические функции, так как через них
проявлялась агрессивная и эксплуататорская позиция
человека по отношению к внешней природе и к
собственной (человеческой) природе. Изменение этой ситуации
требует изменения прежней технологии, а также иных
взаимоотношений человека с природой. Следовательно,
Маркузе наделяет производительные силы первородным
грехом, в то время как Хабермас усматривает здесь
только случайную ошибку.
С точки зрения Маркузе, структура и сущность
технологии являются исторической проекцией и поэтому они
могут изменяться в ходе истории и под ее влиянием. По
мнению же Хабермаса, если технология и является
проекцией, то только родовой проекцией, и, следовательно, она
инвариантна по отношению к социальным и историческим
переменам. Об этом якобы свидетельствует тот факт, что
всю технологию можно истолковать как замещение и
продолжение естественных органов человеческого тела и их
систем — двигательной системы (руки и ноги), органов
чувств, системы кровообращения, нервной системы. Кроме
того, в предложении Маркузе сформировать отношение
человека к природе на основе партнерства п преобразовать
природу из объекта в субъект Хабермас усматривает
проекцию модели межчеловеческих отпошений, схему
интеракции и коммуникации.
Однако оба теоретика единодушно упрекают Маркса и
марксизм за признание «невиновности» производительных
сил.
Производительные силы действительно «невиновны».
«Виновны» же человеческие и классовые системы, то есть
просто люди, которые тем или иным образом используют
потенциал производительных сил. И ответственность они
несут не только за их фактическое использование, но
также и за их мифическое использование, как это
происходит, например, в технократических доктринах. Тот, кто
обвиняет технологию и производительные силы,
оправдывает людей, указывая неправильный путь и мешая поиску
реальных решений социальных проблем. Он зависим от
технократических доктрин, если даже и объявляет себя их
противником, так как этим доктринам свойствен поиск
216
генезиса социальных явлений в природе самой техники и
технологии.
Поэтому Хабермас, что бы он ни говорил, находится во
власти технократизма. Его борьба с этим явлением не
может быть признана удовлетворительной и успешной.
Однако следует признать, что ему удалось в критическом
плане выявить ряд существенных черт технократизма.
2. Утопия Хабермаса
Идеалом для Хабермаса является общество, полностью
эмансипированное, гарантирующее своим членам зрелость,
развивающее взаимную коммуникацию свободным от
какого-либо принуждения и господства способом. Общество, в
котором нормой и принципом является диалог всех со
всеми. Здесь Хабермас открыто говорит о «сократовском
диалоге».
Он отбрасывает любые формы и виды управления
человеческим поведением извне, так как они низводят
человека до уровня вещи и укрепляют систему власти и
господства. Это касается не только таких примеров, как
применение фармакологических средств и генетической
инженерии, но также управления, опирающегося на
использование кибернетики, системного анализа, теории
решений и т. д. Единственным допускаемым им способом
управления является самоуправление, основывающееся на
свободном одобрении знания и ценности, которые
согласованы людьми в ходе «сократовского диалога».
Условием реализации этого идеала является, конечно,
определенный уровень технологии и материального
благосостояния. Однако это только необходимое, но еще
недостаточное условие. Освобождение от голода и труда не
должно совпадать с освобождением от подчинения и
принуждения, так как не существует никакой автоматической
связи между сферой труда и сферой интеракции.
Следовательно, дальнейшей и существеннейшей
задачей является уничтожение классов и государства, а также
идеологии как «ложного сознания», то есть совокупности
факторов, искажающих и ограничивающих
межчеловеческую коммуникацию.
Смысл утопии Хабермаса расшифровать нетрудно:
это —- идеал непосредственной демократии, охватывающей
217
целые общества либо даже весь человеческий род.
Практическая невыполнимость такого постулата учитывается
даже в условиях «глобальной деревни», то есть всего
человечества, объединенного средствами электрификации, к
образованию которой должно привести, по мнению Мак-
Лугана, технологическое развитие. Данный постулат
опирается, кроме того, на сомнительную предпосылку,
утверждающую, что человеческий род может выступить в
будущем как гомогенный субъект, лишенный внутренних
противоречий. Однако даже если такой субъект
когда-нибудь появится, то будет ли тогда человечество способно
развиваться и совершенствоваться, коль скоро названная
гомогенность означает выравнивание социальных напряжений
и, следовательно, состояние, равноценное состоянию
«тепловой смерти» Вселенной? Нужно ли будет тогда еще что-
нибудь согласовывать, будет ли тогда иметь смысл какой
бы то ни было «сократовский диалог»? Впрочем,
последователен ли сам Хабермас по отношению к собственным
предпосылкам? Как ученик Хоркхаймера и Адорно, он
усматривает двигатель изменений и развития в принципе
негативности, но гомогенный субъект, включающий в себя
все человечество, противоречит любой негативности.
Ограничимся этими вопросами и сомнениями. Если они
и остаются здесь без ответа, то по крайней мере
вскрывают во взглядах Хабермаса такие недостатки, которые
заставляют сомневаться не только в реальности, но также
в разумности и ценности его предложений.
* *
*
Критика в адрес доктрины Хабермаса не означает, что
она не содержит интересных точек зрения, требующих
дальнейшего обсуждения. Ее ценным элементом является,
например, отделение технически применяемого знания от
того знания, которое в принципе такому применению не
подлежит и к которому все же относятся категории
истинности и ложности, понимаемые в классическом смысле, то
есть в смысле соответствия или несоответствия суждений
действительности. Первое знание призвано служить
завоеванию и преобразованию мира, второе — изменению
непосредственно человеческой личности. Различные области
гуманитарных наук, мировоззрения, философии и идеоло-
218
гии находят место и в том и другом измерении. Это
обстоятельство указывает на такую их существенную функцию,
как формирование человеческих субъектов и оправдание
(в социальном смысле) их существования. Правда, эти
науки не дают нам средств и методов для строительства
дорог и мостов, машин и компьютеров, но они участвуют
в формировании человеческих индивидов—создателей и
потребителей этого мира вещей, а также мира социальных
ценностей.
Хабермас, как и вообще «франкфуртская школа»,
обращает внимание на роль Маркса как критика буржуазной
идеологии. Эта проблема все еще недостаточно
разработана. Речь идет о тех типах и видах идеологических
иллюзий, которые были предметом критики Маркса, а также о
типах и видах принципов критики, которыми он при этом
пользовался. Роль Маркса как аналитика и критика
идеологии все еще ожидает своего полного освещения.
Франкфуртские теоретики не смогли удовлетворительно решить
эту проблему и даже не сформулировали ее надлежащим
образом.
Предметом анализа Маркс делает по меньшей мере три
типа иллюзий. Первый из них —это характерная для
идеологии иллюзия универсальности. Речь идет здесь о
том, что идеология позволяет себе говорить от имени
коллективов, значительно более широких, нежели те, интересы
которых она фактически выражает. Например, лозунги и
ценности, провозглашаемые буржуазией на пути к
власти, — идеалы свободы, равенства и социальной
справедливости—имели ограниченный и классовый смысл, но
идеологами Просвещения они были представлены как
общечеловеческие ценности, непосредственно присущие
понимаемой надысторически человеческой природе.
Другой тип иллюзий — это иллюзии «видимости».
Например, кажется, что цена товаров зависит исключительно
от игры спроса и предложения, что прибыль капиталиста
происходит от продажи товаров выше* их стоимости, что
акт купли и продажи рабочей силы является
воплощением равенства и справедливости и т. д. Но так выглядит
дело, по мнению Маркса, только на поверхности
капиталистической действительности. Поэтому для разоблачения
этих иллюзий необходим анализ анатомии буржуазного
общества, его скрытых сущностных структур и
механизмов.
219
Такие социально обусловленные черты вещей и
явлений, как свойство быть товаром или капиталом, являются
с позиций буржуазного теоретика их естественными
свойствами, присущими им от природы независимо от
определенных социальных и экономических условий. Под
влиянием этой иллюзии — иллюзии естественности — кажется,
что капитал рождает прибыль, земля — земельную ренту,
точно так же, как дерево рождает плоды. Таким образом,
происхождение и сущность капиталистической
эксплуатации полностью затушевываются, а сама
капиталистическая система располагается в надысторических и вещных
структурах. Разоблачению этой иллюзии Маркс отдал
немало сил, а примененные им при этом
исследовательская техника и стратегия составляют существенную часть
марксовой теории и методологии общественных наук и
связаны с фундаментальным разграничением естественных
свойств вещей и их социальных свойств; они способствуют
также выявлению и познанию этих социальных свойств.
В заключение отметим социальное значение доктрины
«франкфуртской школы» и ее социальные функции. Она
предстает как позиция изолированного иптеллигепта,
который, не сумев опереться ни на какую конкретную
политическую деятельность, ищет выход для идеологической
активности в своей собственной профессии: как критик (в
понимании Хабермаса) этот интеллигент жаждет
изменять социальную действительность непосредственно, не
выходя из своего кабинета или лекционного зала.
Создается впечатление, что, несмотря >на это самоутверждение,
данная доктрина в силу своей иллюзорности — доктрипа
трагедии и отчаяния изолированного интеллектуала.
Поэтому неслучайно, что она родилась в кругу мыслителей,
ищуших «третьего пути» — вне буржуазии и
пролетариата. «Критическая теория» вырастает из этих поисков,
которые она призвана обосновывать теоретически и
идеологически.
Интерпретация марксизма
Э. Фроммом
Эрих Хромм принадлежит к ведущим представителям
современного психоаналитического течения на Западе. Его
интерес к марксизму возник еще в тридцатые годы, в
период сотрудничества с Франкфуртским институтом
социальных исследований (М. Хоркхаймер, Т. Адорно,
Г. Маркузе и др.). Фромм неоднократно предпринимал
попытки использовать категории и понятия марксистской
теории в разрабатываемой им версии психоанализа.
Наряду с этим он подвергал критике отдельные области
марксистского учения. Предлагаемый очерк посвящен
рассмотрению и опровержению его интерпретации и критики
марксистского учения.
1. О понятии отчуждения
Отчуждение является основным понятием
исследований Фромма по проблеме личности. Если в его ранних
работах, например в «Бегстве от свободы» («Escape from
Freedom», 1941), оно появляется спорадически и только
как бы намечает проблематику будущих исследований, то
в «Здоровом обществе» («The Sane Society», 1965) —
главном теоретическом труде Фромма, представляющем
наиболее полно и зрело его идею гуманистического
психоанализа, — это понятие становится основной категорией.
Рассматривая проблему отчуждения и его проявлений в жизни
современных обществ, нельзя не определить своего
отношения к Марксу, в частности к марксову анализу
отчуждения в «Экопомическо-философских рукописях». Фромм
полностью осозпает здесь теоретические первопстокп своих
взглядов и неоднократно заявляет, что понятие
отчуждения, которым он оперирует, не только по происхождению
марксово (и гегелевское); оно является непосредствеппс
221
марксовым, с той лишь разницей, что применено
Фроммом к специфическим условиям цивилизации XX века и
соответственно дополнено некоторыми новыми
измерениями. Таким образом, рассматривая состояние современных
капиталистических обществ, а конкретнее —
американского общества, автор «Здорового общества» стремится
продолжить тот анализ отчуждения, начало которому на
примере капитализма XIX века было положено Марксом
в «Рукописях».
Как же выглядит реализация этого замысла и как
соотносится понятийный аппарат Фромма с категориальной
системой Маркса?
Из многочисленных текстов Фромма следует, что под
понятием отчуждения скрывается некоторый дефект
личности эпохи индустриальных обществ, в частности
капиталистических. При этом речь идет о дефекте, социально
обусловленном, то есть имеющем свои источники в
структуре общественных отношений, а не в тех или иных
физических заболеваниях. Таким образом, Маркс и Фрейд
рассматривали один и тот же феномен из области патологии
человеческой личности, с той лишь разницей, что Маркс
исследовал общественную патологию, являющуюся уделом
не только индивидов, у которых она может протекать в
более или менее острой форме, но и общественных групп,
слоев и даже целых обществ, в то время как Фрейд
ограничивался случаями индивидуальной патологии.
Не касаясь здесь принципиальной ошибочности
интерпретации Фроммом марксова понятия отчуждения (об
этом речь пойдет ниже), подчеркнем, что различие во
взглядах Маркса и Фрейда на отчуждение значительно
глубже. Фрейд не вскрывает социальную обусловленность
исследуемых им неврозов; он усматривает в них
результат подавления инстинктов, связанных либо с сексуальной
сферой, либо с инстинктом агрессии, а также результат
фиксации определенных фаз в индивидуальном развитии
и т. д. Следовательно, в плапе этиологии неврозов Фрейд
регистрирует пекоторый виеисторический и внесоциаль-
пый мехапизм, к реализации которого история и
общественная жизнь прпчастпы только случайно. Социальные и
культурные явления он переводит на язык биологии и
физиологии. В этом проявляется свойственная
психоанализу Фрейда мистификация, которую с успехом критикуют
представители. современных течений культурного психо-
222
анализа, связанных с именами К. Хорни и Г. С. Саллива-
на. К этим течениям примыкает и гуманистический
психоанализ Фромма, к особенностям которого отпосится
использование в психоаналитических исследованиях
методов и понятийного аппарата исторического материализма.
Итак, по мнению Фромма, отчуждение — это понятие
из области психопатологии и психиатрии. И эту точку
зрения оп приписывает Марксу.
В работе «Марксово понятие человека» («Marx's
Concept of Man», 1961), появившейся в сборнике вместе с
переведенными на английский язык «Рукописями»
Маркса, Фромм предпринимает попытку охарактеризовать в
целом марксово понятие отчуждения. При этом он относит
данную характеристику также и к своей собственной
концепции отчуждения. Вот ее главные черты.
Отчуждение заключается прежде всего в чувстве
чуждости, испытываемом человеком по отношению к миру, то
есть к природе, другим людям и самому себе. Оно
проявляется в пассивном, рецептивном отношении к миру.
Особым случаем этой ситуации является отношение к
собственным продуктам, в которых человек не распознает
себя как творца, или как активного деятеля. Не он
господствует над продуктами, но продукты господствуют над
ним. Термин «продукты» следует при этом понимать
широко. Он охватывает также общественные отношения и
ситуации. Подтверждением этой мысли Маркса является
сегодня, по мнению Фромма, ситуация, в которой
оказалось человечество по отношению к атомному оружию. Еще
более ярким примером проявления такого рода
отчуждения выступает акт идолопоклонничества, то есть
поклонения человека своим собственным творениям, как это видно
на примере религии, отношения к государству в
тоталитарных системах фашистского типа и т. д. Имея в виду это
обстоятельство, Фромм объявляет, что генезис понятия
отчуждения следует искать непосредственно в Ветхом
завете.
Другой весьма важной чертой отчуждения является
замещение человеческого опыта его вещными
представителями. То, что здесь имеет в виду Фромм, становится
вполне понятным, если обратиться к приводимым у него
примерам. Так, можно думать о чувстве, не испытывая
его. Равным образом, можно говорить о чувствах, а также
пользоваться другой символикой, применяемой обычно для
223
выражения и передачи определенных чувственных
состояний, не испытывая этих состояний. А так как язык и
символы являются человеческим продуктом, то мы имеем
здесь дело еще с одним проявлением отчуждения, которое
представляет собой удел именно мира продуктов.
Следующий элемент обсуждаемого явления (а быть
может, только иное название уже рассмотренных
элементов) можно определить таким образом:
существование не реализует сущность. На языке Гегеля и молодого
Маркса в данном случае это означает, что условия
коллективного и индивидуального существования могут не
создать достаточного поля для реализации потенций
человеческой природы и даже могут эту реализацию затормозить
и деформировать. Эта мысль особенно близка
Фромму, если принять во внимание, что весь его анализ
разнообразных проявлений отчуждения и других
отрицательных явлений в жизни современных обществ опирается па
утверждение, что современная цивилизация блокирует
реализацию основных потребностей и возможностей
человеческой природы.
Рассмотрим в общих чертах упомянутые проявления
отчуждения. Основным источником, позволяющим судить
о точке зрения Фромма но данному вопросу, является его
работа «Здоровое общество».
Фромм прослеживает явление отчуждения на примере
состояний рабочего, служащего и владельца предприятия
в сфере процессов потребления, межчеловеческнх
отношений и, наконец, отношения человека к самому себе.
Последний вопрос заслуживает особого внимания и к тому же
выделен самим автором. Итак, отчуждение человека по
отношению к самому себе выступает по меньшей мере в
трех моментах: в появлении так называемой рыночной
ориентации (marketing orientation), распространении
«балансовой» концепции жизни, а также в рутинизации
жизни и подавлении основных ее сторон.
Рыночная ориентация, полный анализ которой
содержится в более ранней работе Фромма «Человек для самого
себя» («Man for Himself», 1947), заключается в трактовке
собственной личности как товара, что влечет за собой
манипулирование такими личностными качествами, как
взгляды, черты характера и т. д., с целью обеспечения им
наиболее выгодного сбыта па «рынке личностей». В
результате человек утрачивает идентичность с самим собой.
224
Появление «рынка личностей» наряду с обычным
товарным рынком представляет собой особенность капитализма
XX века. Это явление не было известно его более ранним
фазам развития. Оно связано с вступлением на
историческую арену так называемых средних слоев, с
разрастанием бюрократии и различного типа групп, исполняющих
функции администрирования, управления и т. д.
Рыночная ориентация, надстроенная над этим явлением, связана
уже непосредственно с перенесением понятия меновой
стоимости на области, не охваченные товарным
производством.
В качестве примера Фромм ссылается на
характерные для американской прессы объявления, информации:
эквивалентом научной степени доктора является
определенная денежная сумма; в автомобильной катастрофе
пролилось крови на такую-то сумму долларов. Подобный же
смысл имеет распространенный в США обычай называть
меновую стоимость, или, скорее, денежное выражение этой
стоимости как единственный описательный элемент вещи
(например, пятидолларовые часы, трехмиллионный мост
и т. д.).
«Балансовая» концепция жизни, по Фромму,
заключается в том, что человек относится к своему существованию
как sui generis предприятию, основанному на
экономическом расчете, балансирующему расход и прибыль.
Существование, так же как и предприятие, признается
обанкротившимся с того момента, когда расходы начинают
превышать прибыль. С распространением такого отношения
к своему собственному существованию связано, по мнению
автора «Здорового общества», увеличение числа
самоубийств в странах развитого капитализма.
Наконец, подавление осознания основных проблем
бытия Фромм прослеживает на примере отношения
современного человека к таким явлениям, как терпение,
трагедия и смерть. Такому подавлению сопутствуют:
подавление оригинального и аутентичного мышления в силу
привычки к готовым истинам, преимущественный интерес к
изолированным информациям, лишенным внутренней
связи; разрушение структурированного образа мира из-за
девальвации истины как ценности и т. д. Мышление
ценится как способность манипулирования вещами в
практических целях. В то же время разум как инструмент
понимания мира обесценен.
225
Здесь приведены, пожалуй, основные моменты анализа
Фроммом отчуждения человека от самого себя. Интерес
представляют прежде всего выводы, сделанные explicite
автором «Здорового общества». Наиболее отчужденным
членом современного капиталистического общества он
считает не пролетариат, а средние слои. Именно в этом
видит Фромм существенное исправление и дополнение им
марксовой концепции отчуждения. Если пролетарий
продает свою рабочую силу, то чиновник обязан продавать
всего себя как личность (мнения, улыбку и т. д.).
Насколько личностные свойства являются более интимными
и принципиальными свойствами человека, сравнительно с
его физическими качествами, настолько же отчуждение
первых более страшно, нежели отчуждение вторых. Маркс
исследовал капитализм XIX века, в котором процессы
отчуждения личности не выступали еще со всей силой.
Поэтому он не мог, полагает Фромм, заметить всего их
значения. Иначе обстоит дело в условиях современного
капитализма с его развитым «рынком личностей» и
рыночной ориентацией.
Отсюда однозначно следует, что Фромм трактует
отчуждение как психопатологический случай разрыва связи
человека с самим собой и полной его открытости внешним
влияниям. Поэтому отчуждение комплементарно по
отношению к шизофрении, замыкающей человека внутри
самого себя, и разрывает его связь с внешним миром. Не
случайно, что слова «aliene» (франц.) и «alienado» (исп.)
являются старыми определениями психически больных, а
термин «alienist» (англ.) до сих пор применяется как
название психических болезней.
Перейдем теперь к принципиальным возражениям
против трактовки Фроммом марксова понятия
отчуждения. Для Маркса оно отнюдь не психопатологическая, а
антропологическая и социально-историческая категория.
Причем это не только вопрос ономастики, поскольку здесь
кроются слишком серьезные проблемы и существенные
решения. Необходимо поэтому, хотя бы бегло,
охарактеризовать отчуждение в марксовом понимании.
Маркс исследует в этой связи и два типа ситуаций.
Образцом или моделью первой из них служит характер
существовавшего доныне исторического развития, которое
не поддавалось никакому контролю, а также характер
общественного разделения труда, не контролировавшегося
15 Ст. Раинко
22(3
и выступавшего как фактор порабощения и ограничения
человека. Примером второй ситуации является
превращение рабочего, а точнее, его рабочей силы в условиях
капитализма в товар особого рода.
Первая ситуация касается отношения: человек — его
продукты, вторая — представляет отношение: человек
(группа) —человек (группа).
Анализ отчуждения первого типа (здесь можно было
бы говорить о социально-историческом понятии
отчуждения) ведет к историческому материализму, так как требует
расшифровки механизмов и закономерностей,
превращающих продукты человеческой деятельности в силу,
независимую и господствующую над ним. С утверждением
исторического материализма первый вид отчуждения должен
утратить свое значение. В этом же следует искать
причины того, что Маркс уделяет так мало внимания данному
вопросу в своем зрелом творчестве. Некоторое
возрождение эта проблематика переживает только в «Капитале»
при исследовании товарного фетишизма. Но речь здесь
идет о весьма специальном аспекте отношения: человек-
продукты труда, о характерном для товарного
производства «перевертывании» зависимости, в силу которого
общественные отношения между людьми, например в акте
обмена, отходят как бы на второй план, а их место
занимают отношения между вещами как первоплановые и
определяющие. Не люди, а вещи становятся dramatic рег-
sone.
Второе понятие отчуждения имеет более
антропологический характер. В «Рукописях» оно также оказалось в
центре внимания Маркса. Это понятие можно было бы
назвать антропологическим понятием отчуждения. Оно, по
сути дела, указывает на то, что в некоторых социальных
условиях отношения между людьми формируются
подобно отношениям между вещами, деградируют до уровня
вещных взаимосвязей. Когда на рынке труда встречаются
пролетарий и капиталист, возникающие между ними
отношения не носят характера отношений между личностями.
Рабочий выступает здесь как вещь-товар, предмет купли
и продажи, обращающийся по законам, свойственным для
всех товаров. Отношение капиталиста к рабочему, где
первый выступает как покупатель, продиктовано. этими
законами и не должно ничем отличаться от отношения к таким
неживым товарам, как прядильные машины, сырье и т. д.
227
Данная ситуация влечет за собой ряд последствий в
области отношения рабочего к продукту своего труда,
процессу труда и самому себе. Именно эти последствия являются
предметом подробного анализа марксовых «Рукописей».
Если эти соображения верны (а они могут быть
подтверждены не только цитатами из работ обоих классиков
марксизма, по также указанием на их экспликационные
достоинства в плане проблем, генезиса мысли Маркса,
личности и ее развития, структуры и т. д.), то различие
между точками зрения Маркса и Фромма в вопросе об
отчуждении вырисовывается достаточно отчетливо. Для
Маркса отчуждение является свойством некоторых
общественных ситуаций и отношений, для Фромма —
свойством лиц, названием целого комплекса личностных
дефектов, а ситуации и общественные отношения только
генерируют это свойство.
На возможные возражения, что это, в сущности, не
столь уж значительное изменение, поскольку речь идет
лишь о терминологическом перемещении (то, что для
Маркса было в лучшем случае следствием отчуждения, для
Фромма является самим отчуждением и наоборот),
вызванном профессионально обусловленным различием
видения, следует ответить указанием на различные с
содержательной точки зрения последствия этих решений. При этом
мы опустим тот факт, что Фромм совершенно не осознает
это перемещение и просто приписывает свою концепцию
Марксу.
По мнению автора «Здорового общества», главной
чертой отчуждения является чувство изолированности от
мира; в то же время это чувство, испытываемое человеком по
отношению к собственным продуктам, есть только особый
случай. Маркс, по всей вероятности, не принял бы такую
характеристику. Правильная с формальной точки зрения,
она не учитывает, однако, того основополагающего факта,
что истрчником этой тотальной отчужденности является
чуждость, которая первоначально формируется в
отношениях между человеком и его продуктами. Не распознавая
себя в продуктах, человек не распознает себя в мире
также и как творца и активного деятеля.
Несомненно, как для Маркса, так и для Фромма
отчуждение является злом. Но если Маркс осуждает его в
моральных категориях, то Фромм осуждает его в
психопатологических категориях. В свете того факта, что отчужде-
15*
228
ние тяготеет над всей прежней историей человечества,
это означало бы признать всех людей отклоняющимися от
норм психического здоровья. А там, где все и всегда были
больными, теряется смысл самого понятия болезни.
2. Концепция природы человека у Фромма
В своей концепции человеческой природы Фромм уже
не отождествляет прямо своих убеждений со взглядами
автора «Капитала», а лишь констатирует их достаточную
близость. Последняя заключается якобы в общем для них
отношении к двум противникам — биологизму и
социологическому релятивизму.
То, что Маркс отбрасывает неисторическое, а также
чисто биологическое понятие человеческой природы,
бесспорно. Возражения вызывает только вопрос о
социологическом релятивизме.
Рассматривая этот вопрос, Фромм подчеркивает, что
человеческая природа, по Марксу, является не только
отражением изменяющихся общественных условий. Об этом
свидетельствует, по его мнению, введенное, например, в
«Капитале» разграничение между «человеческой
природой вообще» и «человеческой природой, изменяющейся в
каждом историческом периоде». Данное разграничение
проводится с целью показать, что в человеческой природе
имеется некоторое устойчивое и прочное ядро,
независимое от исторических изменений. В чем же заключается
это устойчивое ядро? В биологических потребностях?
Такую интерпретацию, казалось бы, подтверждает
встречающееся у Маркса разделение потребностей на естественные
(например, голод и половая потребность) и
приобретенные (например, потребность обладания деньгами).
Действительно, принятие этих предпосылок, как легко
заметить, служит довольно надежной защитой от
релятивизма, но одновременно проводит резкую границу между
биологической и небиологической сферами человеческой
природы. Возникает вопрос, согласуется ли с известными
фактами из области культурной антропологии и
собственной точкой зрения Маркса утверждение о независимости
биологических потребностей от каких бы то ни было
исторических детерминаций.
229
Собственное решение Фромма, принятое им в доктрине
гуманистического психоанализа, идет в прямо
противоположном направлении. Человеческая природа должна
обладать якобы некоторым постоянным набором потребностей
надбиологического характера. Это потребности
определения своего отношепия к миру, трансцендентности,
укоренения, тождества и, пакопец, обладания системой
соотнесения и системой норм. Совокупность этих потребностей,
«встроенных» в человеческую природу, остается вне
истории и над историей и выступает в качестве инструмента
ее оценки. Общество и история могут равным образом как
способствовать реализации этих потребностей, так и
сдерживать их.
Такое толкование, как и упомянутое выше, надежно
защищает от релятивизма, но одновременно порождает
столько же вопросов, сколько решает. В частности, оно
выносит человеческую природу за сферу действия истории
и с этой точки зрения совпадает с предыдущей
концепцией.
Более всего удивляет то обстоятельство, что Фромм
принципиально не рассматривал известное положение
Маркса из «Тезисов о Фейербахе», определяющее
сущность человека как совокупность общественных
отношений. В своих работах Фромм сформулировал также свою
точку зрения на исторический материализм и марксизм в
целом, а также свое отношение к личностям его создателей.
Высказывания по данным вопросам разбросаны по
многочисленным работам Фромма. Мы постараемся рассмотреть
их, оценивая в то же время обоснованность его отдельных
взглядов.
3. Концепция общественного характера
и «коллективного бессознательного»
Несомненно, основным вопросом исторического
материализма является отношение базиса к надстройке, про-,
блема влияния, оказываемого базисом на надстройку. В обт.
щем, речь здесь идет о том, каким образом достигается
результат детерминирующего влияния базиса на сферу
социальных институтов и общественного сознания, а
также какого рода механизмы и опосредствующие звенья
вовлечены в этот процесс. Данная проблема до сих пор
недостаточно разработана и вместе с тем требует новых;
230
исследований в свете достижений современных
общественных наук. У Маркса и Энгельса мы находим здесь
много глубоких формулировок, требующих осмысления и
дальнейшего развития.
В исследованиях по общим вопросам исторического
материализма Фромм концентрирует внимание на
указанной проблеме, надеясь внести свой вклад в выяснение
отношения базиса к надстройке. Его предложения
заслуживают уже хотя бы поэтому внимания и критического
переосмысления. Они сосредоточены вокруг двух основных
понятий — общественного характера и «коллективного
бессознательного». Эти понятия призваны показать два
звена, при посредстве которых базис может оказывать
влияние на надстройку. Таким образом, связь базиса и
надстройки признается не непосредственной, а косвенной,
осуществляющейся именно через эти звенья.
Говоря об общественном характере, Фромм имеет в виду
психологическую структуру, свойственную большинству
членов данного общества. При этом он подчеркивает, что
речь идет не о статистическом понятии или просто о
произвольном наборе черт либо сторон характера, которые по
отдельности можно найти у большинства членов данного
общества. Понятие структуры призвано подчеркнуть
именно нестатистичность, целостность данного комплекса
характерологических качеств.
Кроме того, общественный характер можно
рассматривать как динамическую систему. Если он непосредственно
связан с экономическим базисом, то реагирует прямо на
возникающие в базисе изменения, в свою очередь играя
роль посредника при передаче этих изменений всей
области идеологической надстройки.
Основная функция общественного характера состоит,
по мнению Фромма, в стабилизации существующей
социальной структуры. Так, пожалуй, следовало бы понимать
его многократно повторяемое утверждение, что задачей
этой системы является модулирование и регулирование
человеческой энергии в целях непрерывного
функционирования данного общества. Связь экономического базиса
и общественного характера не. является три этом
односторонней зависимостью.. Такой характер,-: сформированный
базитм,~(>ам активно формирует егог оказывая влияние на
сущестйующие общественные структуры и отношения»
Таково должно быть логическое следствие- утверждения
231
Фромма отйосительно стабилизирующей функции
общественного характера.
Наряду с понятием общественного характера Фромм
разрабатывает понятие «коллективного бессознательного».
Оно относится к совокупности той информации и тому
познавательному содержанию, которые не дошли до
сознания большинства членов данного общества вследствие
действия определенных социальных механизмов. Этими
механизмами, называемыми Фроммом социальными фильтрами,
либо социально обусловленными фильтрами, являются
следующие три системы: язык, логика и так называемые
социальные табу.
Отборочное и фильтрующее влияние языка
проявляется в том, что он не располагает, например, достаточным
запасом слов для выражения совокупности опыта,
приобретаемого людьми. Отсюда часть этого опыта, не
нашедшая выражения в языке, остается вне сферы сознания.
Аналогичную роль играют грамматические структуры
языка, допускающие все же неодинаковый уровень
различения и точности при описании одних и тех же состояний
(есть, например, языки, в которых глагол склоняется
по-разному в зависимости от того, связан ли он
непосредственно или косвенно с тем фактом, к которому относится,
а есть и такие языки, например, польский, в которых эти
ситуации не различаются).
Говоря в свою очередь о влиянии логики, Фромм
ссылается на выступающий в ее рамках принцип
противоречия, запрещающий одновременное признание
противоречащих друг другу высказываний. Этот принцип, по его
мнению, вступает в конфликт с известным явлением
амбивалентности чувств, заключающимся в
одновременном испытывании к одному и тому же предмету
противоположных чувств, например, любви и ненависти. Однако
не требуется особой проницательности, чтобы понять, что
эта аргументация основана на недоразумении. Суждение,
утверждающее существование амбивалентности, не носит
характера логически противоречивого высказывания. Оно
не утверждает, что некоторое чувство имеет место и вместе
с тем не имеет места, а подчеркивает только то, что имеют
место одновременно два чувства с противоположным
знаком. Поэтому данное суждение не вступает в конфликт с
принципом противоречия. Следовательно, принцип
противоречия не может выступать в роли, приписанной ему
232
Фроммом, то есть как фактор, объясняющий некоторый
вид человеческих переживаний, в данном случае
эмоциональных переживаний. Если амбивалентные чувства
действительно подавлены, то это происходит в силу
совершенно иных причин (например, эти чувства не позволяют
занять однозначную позицию по отношению к предмету,
но ее необходимо занять, так как этого могут требовать
от нас взгляды практического свойства).
Наконец, последний из названных механизмов:
система социальных табу. Она указывает на существование
ценностей, образцов, норм, запретов и т. д. (впрочем, не
всегда explicite сформулированных), которые
препятствуют доступу в сознание определенного опыта. Так,
например, — используем здесь иллюстрацию, приводимую самим
Фроммом, — индивид кроткого нрава, оказавшись в
воинственной и агрессивной группе, будет скорее испытывать
такие психосоматические симптомы, как тошнота, нежели
осознает свои подлинные чувства. Этому осознанию
препятствует обязательная в группе система ценностей. Ряд
иррациональных проявлений социальной жизни
подвергается подавлению и не перешагивает порога сознания
вследствие действия упомянутого выше механизма. Покупка
каждые два года нового автомобиля средними слоями в
США является, несомненно, иррациональным фактом.
А много ли людей осознает это?
Таковы в общих чертах предложенные Фроммом
дополнения к историческому материализму, призванные
соединить экономический базис общества с его
идеологической надстройкой.
Отметим прежде всего, что предложения Фромма в
целом не так уж оригинальны, как это представляется ему
самому. Концепцию, близкую его доктрине общественного
характера, можно найти в работах многих марксистов,
например Плеханова, писавшего двумя десятилетиями
ранее Фромма. Раньше фроммовской выдвигалась в
марксистской литературе определенная версия концепции
коллективного бессознательного. Мы имеем в виду
развитые в свое время польским марксистом Казимежем
Келлес-Краузом положения о совершающемся в
познании под влиянием социальных факторов отсеве идей.
Правда, эти концепции и положения не получили
развития. Предложения Фромма теоретически болюе
разработаны.
233
Далее, необходимо отметить, что концепция
общественного характера Фромма, заслуживающая внимания в
том обособленном виде, как она представлена выше, все
же на более широком фоне гуманистического
психоанализа вызывает ряд серьезных сомнений.
Общественный характер в понимании Фромма — это
не что иное, как некоторая форма проявления
человеческой природы, обусловленная неисторически и
абсолютистски понятыми потребностями: стремлением к определению
своего отношения к миру, трансцендентности,
идентичности с самим собой и др. Если это так, то участие базиса
п формировании общественного характера сводится к
модулированию данной и принципиально неизменяемой
человеческой природы. В свете этого оказывается
неверным то, что надстройку формирует исключительно базис,
пусть даже и при посредстве общественного характера.
С учетом всей совокупности концепций Фромма следует
признать, что структуру и содержание идеологической
надстройки формируют совместно неисторическая
(возможно модифицированная некоторым образом посредством
истории) человеческая природа и экономическое бытие.
Такое понимание не соответствует подлинному учению
Маркса, как негативно преувеличенное. Трудно
представить себе, что Фромм не осознает полностью ни
предпосылок, которые он принимает, ни их импликаций.
Вернемся к вопросу коллективного бессознательного.
Это понятие — естественное обобщение понятия
индивидуального бессознательного, введенного Фрейдом. По
мнению Фромма, в таком обобщенном виде данное понятие
может быть принято историческим материализмом.
Возражения вызывает прежде всего утверждение
Фромма о том, что его понятие бессознательного является
просто обобщением аналогичного понятия Фрейда.
Правда, и в том и в другом случае мы имеем дело с механизмом
подавления. Однако в обоих случаях различна природа
действующих факторов, подавлению подвергается другой
материал, а также неидентичны и результаты этого
процесса. У Фрейда фактором, вызывающим подавление,
является супер-эго; у Фромма — социальные и исторические
механизмы, о которых говорилось выше. По Фрейду,
подавлению подвергаются прежде всего сексуальное
влечение и стремление к агрессии; по Фромму —
принципиально произвольного типа опыт. Результатом подавлений у
234
Фрейда являются неврозы, а также ряд других симптомов,
например языковые ошибки; у Фромма в этом плане мы
не найдем аналогии.
Однако этот вопрос несуществен по сравнению с
другим. Фромм, совершенно не отдавая себе в этом отчета,
оперирует двойным понятием бессознательного. В одном
случае «бессознательное» имеет такое психическое
содержание, которое каким-то образом присутствует в нашем
психическом аппарате, но по тем или иным причинам но
становится объектом осознания. Это понятие
бессознательного близко к тому, о котором говорил Фрейд. В другом же
случае речь идет об обыденном истолковании этого
понятия. Под «бессознательным» понимается информация
и т. д., не достигшая психического аппарата либо не
отобранная и не усвоенная этим аппаратом. «Не осознаю
чего-либо» означает здесь: не знаю этого. Подавляющее
большинство описанных Фроммом случаев относится к
этой второй ситуации. Речь идет просто о той информации,
которая вследствие действия вышеназванных фильтров
вообще не достигала психической аппаратуры и поэтому
не была зарегистрирована. Понятие бессознательного в
толковании, близком фрейдовскому, пусть даже и в
обобщенном виде, играет в этих выводах второстепенную роль.
Более того, нам представляется, что для достижения тех
результатов, к которым стремится Фромм, вообще нет
необходимости ссылаться на это понятие; для достижения
намеченной цели вполне достаточно обыденного
понимания бессознательного.
Отсюда следует, что необходимость введения в
исторический материализм понятия бессознательного именно
в этом обыденном смысле весьма преувеличена (у самого
Маркса в ряде случаев анализ проводится в этом же духе).
Однако в отличие от Фромма мы не видим здесь ничего
общего с психоанализом и заимствованием его
понятийных инструментов марксистской теорией истории.
4. О так называемых ошибках Маркса
Фромм проявляет немалое уважение к Марксу как к
человеку и мыслителю, о чем свидетельствуют его выска-
дывация в работе «В оковах иллюзий» («Beyond the Chains
235
Illusion», 1962), -которая носит знаменательный
подзаголовок: «Моя встреча с Марксом и Фрейдом». Маркса, цо
сравнению с Фрейдом, он оценивает выше, определяя его
как личность, несомненно, историческую, а также как
более крупного мыслителя по широте охвата и глубине
мысли. В работе «Марксово понятие человека» Фромм
защищает Маркса от искажений и клеветы. В буржуазной
литературе Маркса неоднократно изображали как
агрессивного, одинокого и авторитарно настроенного человека.
Этот образ, замечает Фромм, не имеет ничего общего с
подлинным Марксом, мужем, отцом и другом. Причинами
такого рода искажений (если не принимать во внимание
клевету) он считает свойственный Марксу саркастический
стиль, постоянную тенденцию разоблачать иллюзии,
прикрывающие социальное и индивидуальное существование
человека, непримиримость ко лжи и обману. Маркс был
таким, каким был его идеал человека. А этот идеал
глубоко человечен и гуманен.
Несмотря на это глубокое уважение к Марксу, Фромм
пе марксист и не провозглашает себя марксистом. Более
того, теоретические и идеологические концепции Маркса
вызывают у него ряд сомнений и критических замечаний.
Принципиальные и наиболее общие положения своей
критики марксизма Фромм изложил главным образом в
последних разделах «Здорового общества». Они сводятся, по
нашему мнению, к трем пунктам.
Прежде всего Маркс оперировал упрощенным, рацио-г
налистическим понятием человеческой природы. В
частности, он не обратил достаточного внимания на иррацио-
налистические склонности человека, такие, как бегство от
свободы, жажда власти и т. д. С этим связана, полагает
Фромм, недооценка морального фактора и потребности
морального изменения человека, которое не может
автоматически вытекать из экономических и политических
преобразований; необоснованная вера в быстрый приход
социализма, трактовка акта обобществления средств
производства не только как неизбежного, но и как
достаточного условия социалистических преобразований и др.
Остальные два критических мотива являются, скорее,
вариациями на тему первого. В одном из них
подчеркивается, что Маркс преувеличивал значение политических и
правовых факторов и одновременно недооценивал роль
социального фактора. Это проявилось якобы в чрезмерном
236
упоре на захват политической власти и чисто правовой
акт обобществления средств производства.
В третьем из рассматриваемых критических моментов
подчеркивается неудача прогнозов Маркса относительно
судьбы капитализма в странах с высокоразвитой
промышленностью.
Что можно сказать об этой критике? Со всей
уверенностью то, что здесь она во многом результат недоразумений
и полемических упрощений. Дальнейшее развитие
марксизма в новую историческую эпоху, связанное главным
образом с именем Ленина, устраняет целый ряд
возражений Фромма. Маркс не разрабатывал психологию, не
разрабатывал (за исключением отдельных указаний) даже
социальную психологию. Упрекать его в том, что он не
ставил тех вопросов, которыми интересуется современный
психоанализ и сам Фромм, более чем неуместно. А ведь
rt этому, по сути дела, сводится обвинение марксистской
концепции человека в рационализме, типичном для
XVIII века. В этой связи теряют свою силу и возражения,
основанные на этом обвинении. Добавим, что нельзя
найти у Маркса таких высказываний, из которых следовало
бы, что он игнорировал моральный элемент в человеке
или что в акте обобществления средств производства он
усматривал достаточное условие социалистических
перемен. Как согласуются эти утверждения с тем фактом, что
всем своим творчеством Маркс осуществлял моральное
осуждение капитализма, что в «Критике Готской
программы» он выдвигал концепцию двух фаз социализма и
постоянно подчеркивал, что целью этой общественной системы
является всестороннее развитие личности, а,
следовательно, также ее духовное и моральное развитие? Об этом
писал и сам Фромм, причем неоднократно.
Вопрос о мнимом преувеличении роли политического
акта завоевания власти пролетариатом и правового акта
обобществления средств производства решается просто:
Маркс делал упор на то, что было начальным условием
любых социалистических преобразований и без чего
призыв к этим преобразованиям был бы пустым
морализаторством. В этом проявляется мудрость Маркса как теоретика
и идеолога.
Прогнозы Маркса относительно победы социализма в
странах, наиболее развитых экономически, действительно
не подтвердились, так же как и его предсказание о почти
537
однойремеййом йаСтупЛенйй пролетарских революций в
большинстве стран мира. На основе анализа этой
ситуации в эпоху перехода капитализма к своей последней
стадии—империализму—вырос ленинизм, практическим
подтверждением истинности которого стала победа
социализма в СССР и странах народной демократии. Любой
социальный прогноз предполагает соотнесение его с той
социальной структурой, судьбы которой он касается. В основе
прогнозов Маркса лежала модель классического
капитализма. Возникновение империализма изменило эту
ситуацию, потребовав нового анализа и формулирования
новых прогнозов, основой которых были бы новые
общественно-экономические системы и структуры.
Часть третья
ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА
Р. Арон
и концепция «деидеологизации»
Современный французский философ и социолог Раймон
Арон известен своей концепцией индустриального
общества. Однако наибольший успех принесла ему книга
«Опиум интеллектуалов» («L'opium des intellectuelles», 1955).
Она поставила в центр дискуссии до сих пор не
утратившую популярности проблему заката или конца эпохи
идеологических систем. Автор провозглашает программный
скептицизм и недоверие к идеологиям, понимаемым как
комплекс описательных и оценочных взглядов (оценок и
норм), которые присущи определенным общественным
группам и классам и при помощи которых эти группы и
классы организовали и объединили в своих интересах
социальную действительности. Приближается конец
именно в этом смысле понимаемых идеологий. Их место займут
прагматическая истина и требования социальной
инженерии, опирающейся на научную теорию общества.
Идеологии относятся к области мифотворчества и свойственны
незрелым обществам — доиндустриальным и
находящимся на начальных фазах индустриализации. Поэтому они
исчезают вместе с ними.
Концепция Арона подверглась острой критике. Ей
ставится в вину непонимание природы общественного бытия.
Как нет индивидуального существования без сознания,
так и общественного бытия не может быть без идеологий.
Могут изменяться формы и виды идеологий, но
неизменным останется сам факт их существования. Они являются
как бы естественной секрецией общественной жизни и ее
постоянным элементом. Впрочем, трудно представить себе,
в какой иной форме общество и социальные группы могли
бы распознавать свои задачи и цели, выражать свои
позиции по отношению к различным явлениям и
предусматривать направления будущего развития. Единственным
подлинным инструментом здесь оказываются акты оцени-
16 Ст. Раинко
242
вания и их результаты в виде норм и оценок, которые, по
определению Арона, все же являются имманентной
составной частью любых идеологий. Следовательно, идеологии
необходимы, а теория и социальная инженерия могут
выступать только в роли инструментов.
Следует отметить также, что тезис о конце века
идеологии сам является насквозь идеологическим и как
таковой выражает определенную идеологию. Эту идеологию
называют иногда технократической. К ее существенным
составным частям относится убеждение в возможности и
желательности решения любых социальных проблем не--
идеологическими средствами, то есть при помощи чистой
науки и техники. Технократизм как идеология выражает
точку зрения бюрократических и менеджерских слоев
современного буржуазного общества. Таким образом,
взгляды Арона следует рассматривать не только как
ошибочный прогноз, но и с учетом их внутренней
противоречивости, а его отрицание идеологии как определенный вид
идеологии в плане политических последствий.
Вместе с тем Арон, по сути дела, борется не просто
против идеологии как таковой, а против определенного
вида идеологии, а именно марксистской идеологии. Об этом
свидетельствует даже беглое ознакомление с его книгой.
Рассмотрим некоторые из критических аргументов Арона,
выдвигаемых против марксизма.
1. Структура истории
Марксизм, заявляет Арон, слепо преклоняется перед
историей. Это связано с характером его философии
истории, согласно которой исторические события не
складываются в случайные конфигурации, а подчиняются
неизбежным закономерностям. Они действуют в определенном
направлении, реализуют доминирующее состояние дел.
Поэтому автоматизм истории обеспечивает осуществление
наших идеалов. Смысл не придается истории, а
имманентно в ней содержится. Опираясь на такое истолкование
марксистской философии истории, Арон обвиняет
марксизм в ее фетишизации.
Понимание истории как комплекса событий,
однозначно упорядоченных неизбежными закономерностями, исхот
дит? по мнению Арона, из образа истории как человеческо-
243
го космоса, как всеохватывающей и монолитной
целостности. История понимается здесь по аналогии с природным
космосом. Но понятие природного космоса давно уже
перестало играть какую-либо роль в естественных науках.
Оно принадлежит донаучной мифологии и заменено
системами категорий физических, химических,
биологических и других наук.
Однако видение истории как космоса необходимо
марксизму, поскольку он провозглашает программу
глобального управления историей через революцию и
экономическое планирование. От этой программы марксизм но
может отказаться, не отрицая себя как идеологию.
Прямым следствием этого является упор на революцию в
противоположность реформе, так как реформа изменяет в
лучшем случае некоторый отрезок общественной жизни, а
революция способна изменить все либо по крайней мере
обещает такое изменение. Первая — дело бюрократов,
вторая — ожесточенных, взбунтовавшихся масс, что само
по себе имеет немалую притягательную силу.
Идолопоклонническое отношение к истории и образ истории как
космоса оказываются дополненными мифом революции.
Но глобальное планирование является, с точки зрения
Арона, явным недоразумением. Такой постулат вообще
невозможно реализовать. История в некотором смысле
слишком масштабна, чтобы стать предметом манипуляции,
впрочем, точно так же, как и космос. Предметом
манипуляции и воздействия может быть только то, что «внутри»
космоса. И аналогично, объектом планирования и
управления может стать в лучшем случае то, что «внутри»
историй, а не сама история как таковая. Более того,
глобальное планирование, если бы оно вообще было
возможным, привело бы в конечном счете к тирании. Принимая
во внимание разнородность человеческих миров и
автономию, свойственную различным областям человеческой
деятельности, можно сказать, что тирания предстает
единственным и неизбежным следствием каких бы то ни было
попыток в этом направлении.
Так выглядит в общих чертах критическая часть
аргументации Арона. А какова ее позитивная часть? Она лишь
едва обозначена и не развита.
Структура истории папоминает структуру игры в
кости. Если и можно лайти в ней какие-либо закономерности,
то лишь пробабилистские закономерности. Не существуеа
16*
244
ничего, подобного исторической необходимости и нейзбеЖ*
ности. Случайность нельзя исключить из истории. Об этой
структуре исторических событий можно забыть только
тогда, когда они находятся в непосредственной близости
от нас, когда они выступают как наша задача. Поэтому
политика останется всегда только актом выбора.
Ничто в истории не гарантирует нам исполнения
наших надежд. В ней не действует правило аддитивности:
частичные свободы не суммируются в ходе истории.
Однажды найденные, они всегда могут быть утеряны при
следующем строе. Каждый общественный строй имеет свои
собственные ловушки, в которые попадает человек. В этом
и только в этом смысле, по Арону, история является
диалектической.
Аргументы Арона в лучшем случае могут быть
направлены против механистической и фаталистской версии
материализма. Однако они нисколько не затрагивают
исторический материализм Маркса, Энгельса, Ленина.
Рассмотрим этот вопрос более детально.
С точки зрения основоположников исторического
материализма история, несомненно подчиняющаяся
закономерностям, не гарантирует сама по себе ничего, но только
создает возможности. В нее не может быть, вопреки
мнению Арона, «вписан» какой-либо произвольный смысл.
Социализм — это не состояние дел, предпочтительное в
области человеческой истории, не состояние дел, которое люди
просто постановили реализовать и навязать истории, как
был склонен считать утопический социализм. Социализм—
это некоторая историческая возможность, поэтому о его
реализации следует заботиться. Идолопоклонническое
отношение к истории, которое якобы характеризует
марксизм, является вымыслом Арона; этот упрек в лучшем
случае можно направить в адрес такой крайне
механистической версии исторического материализма, которую
представляет, например, Бухарин в своей «Теории
исторического материализма».
История не является полем событий, однозначно
определенных и упорядоченных закономерностями. Но не
является также и игрой в кости, как считает Арон.
Каждое событие однозначно определено
предшествующим ему событием. Это предопределяется принципом
причинности. Но отсюда еще не следует, будто каждое
событие также однозначно определено соответствующими
245
закономерностями. Если это так, то существование
исторических закономерностей не перечеркивает
существования исторической случайности, то есть событий, не
охваченных данным законом.
Программа управления историей, выдвигаемая
Ароном, по существу, невыполнима. Она предполагает выход
за историю и какое-то воздействие на нее извне, то есть
операцию, полностью надуманную. В лучшем случае опа
предлагает управление совокупностью исторических
ходов, то есть управление всем, что исторично. В обоих
случаях эта программа не имеет ничего общего с
марксистской.
Влияние людей на историю и овладение ею Маркс
представлял себе как революционную практику, то есть
как революционное преобразование существующей
системы общественных отношений и классовых структур,
совершаемое прежде всего пролетариатом и в интересах
пролетариата. Революция отнюдь не изменяет всего, например,
она не изменяет автоматически состояния техники или
уровень культуры. Однако изменение характера
производственных отношений позволяет в последующем при
помощи планирования оказывать влияние на другие стороны
общественной жизни, хотя бы именно на культуру и
технику. Следовательно, предметом управления являются
здесь некоторые системы «внутри» истории, и оно
осуществляется внутренними силами самой истории.
2. Структура идеологии
В последнем разделе первой части работы,
озаглавленной «Миф пролетариата», Арон формулирует вывод,
обесценивающий рациональность марксистской идеологии;
суть его сводится к тому, что эта идеология в структуре
своих представлений об истории и будущем воспроизводит
схему, свойственную иудейско-христианской мысли и
представлениям хилиастов о тысячелетнем царстве. Для
нее характерна подобная же последовательность, или ритм
фаз: критическая оценка существующего; перелом,
связанный с появлением избранной личности или группы; и
наконец, обещанное будущее, рисуемое в самых радужных
тонах. Функции мессии в марксистской идеологии призван
взять на себя пролетариат как избранный класс или как
246
«коллективный избавитель»; перелом —это
социалистическая революция; а царство божие или тысячелетнее
царство — это бесклассовое социалистическое общество.
Арон трактует свой вывод весьма серьезно. Он
стремится показать не только формальное сходство между
идеологической мыслью марксизма и названными типами
религиозной мысли, но также доказать генетическую и
содержательную зависимость первой от вторых. Сначала
Арон утверждает, что марксизм имеет якобы структуру
религиозного мифа и функционирует в рамках этой
структуры; затем — что марксизм лишен каких бы то ни было
эмпирических обоснований и всю свою силу черпает
исключительно из своего мифического первоисточника.
Поэтому марксизм не только имеет структуру мифа, но
его можно рассматривать просто как миф, как современный
вариант мечты о будущем тысячелетии. Арон не видит в
трудах Маркса никаких обоснований исторической
миссии пролетариата, кроме указания на его терпение.
Речь идет здесь якобы о полной аналогии с ситуацией,
выраженной в мифе! А это как раз та цель, для
достижения которой нет необходимости заботиться об
исторических фактах и содержании анализируемых текстов.
Конструкция автора «Конца века идеологии» прежде
всего не является новой и оригинальной. Открытие
мнимых религиозных мифов в идеологии марксизма — это
распространенный прием в буржуазной литературе. Арон,
быть может, только более последовательно и до конца
использовал его в своих целях. В конечном счете этот вывод
не выдерживает критики.
Как вообще охарактеризовать ситуацию, когда кто-то
ликвидирует некоторое нежелательное состояние дел и
стремится достигнуть другого состояния как
желательного. Не следует ли здесь прибегнуть к языку, который
подпадает под структуру охарактеризованного выше мифа?
Есть некоторое негативное состояние, есть призванная или
избранная личность, есть, наконец, надежда на
ожидаемый результат. Суть дела выступает еще более отчетливо,
если говорить о социальных внеличностных ситуациях:
общественном зле, например, об экономических кризисах
при капитализме; теоретических концепциях и
практических операциях «избранных» групп; наконец, о
тысячелетнем царстве, в котором кризисы и регресс будут известны
только из литературы.
247
Ошибка Арона в том, что формальную схему, в
соответствии с которой устраняется любое негативно
оцениваемое состояние дел и осуществляются надежды на буду-'
щее, он объявил структурой мифа. Подобные «структуры
мифа» встречаются на каждом шагу (зубная боль; врач как
мессия; надежда на дальнейшее существование уже без
зубной боли и т. п.). Вывод Арона: «Марксизм имеет
структуру мифа» — столь же мало соответствует
действительности, как и другие его утверждения, например такие,
как: революции XX века — это не пролетарские
революции, а революции интеллектуалов; XX век —это век
борьбы рас и наций, а не классовой борьбы.
3. Доказывает ли успех истинность идеологии?
Упомянем кратко еще об одном аргументе Арона. Так,
он утверждает, что практический успех марксистской
идеологии, ее победа в ряде стран, не свидетельствует о
ее истинности, подобно тому, как деяния Магомета не
доказали истинности ислама.
Арон не останавливается на этом вопросе. Однако с
ним связан определенный момент, имеющий большое
философское значение.
Наши действия могут опираться на познание двояким
образом: в логическом (техническом) смысле и
психологическом (мотивационном). Только в первом случае успех
действий, опирающихся на соответствующее знание,
доказывает его истинность. Во втором же случае успех могут
иметь даже явно ложные суждения: речь идет здесь о
мотивационной силе этих суждений, об их способности
побуждать к действию. Можно признать, что в случае
идеологии выступают оба эти типа связи действия с
познанием. В первом случае можно сказать, что те или иные
суждения являются истинными, если успешны
основанные на них действия. Второй случай просто не подпадает
под эту квалификацию (во-первых, потому что здесь речь
идет о ценностях и нормах, которые, как известно, не
могут быть истинными или ложными; во-вторых, потому
что из успешности действий, основанных на мотивацион-
ных суждениях, не следует истинность или ложность
последних),
248
Отсюда следует, что практический успех марксистской
идеологии может существенным образом доказывать
истинность значительной части ее предпосылок. Таким
образом, обвинения Арона и в этом пункте бездоказательны.
* *
♦
Критика Ароном марксизма явно тенденциозна, а
иногда рассчитана исключительно на внешний эффект.
Однако она заслуживает внимания ввиду занимаемых этим
теоретиком позиций в западном мире, а также ввиду
значительного радиуса действия его влияния.
«Некоммунистический манифест»
У. Ростоу
Книга Ростоу «Стадии экономического роста» («The
Stades of Economic Growth», 1960) вызвала в свое время
шумные толки. Этому способствовал, несомненно, ее
подзаголовок: «Некоммунистический манифест»,
указывавший, что автор решил не только подвергнуть критике
марксизм и коммунизм, но также противопоставить им
собственную концепцию философии истории и
перспектив развития человечества. Посмотрим, какими
средствами автор осуществляет задуманное.
1. Стадии экономического роста.
Историко-социальные предпосылки
Существовавшую до сих пор историю человечества
Ростоу пытается представить в масштабе пяти отчетливо
разграниченных пунктов и фаз, детализация которых и
составляет, в сущности, содержание его концепции:
1) традиционное общество (traditional society);
2) переходное общество, или период создания
предварительных условий для сдвига (preconditions for take-off);
3) период сдвига (take-off);
4) стадия зрелости (drive to maturity);
5) период высокого уровня массового потребления
(age of high mass-consumption).
Эпоха традиционных обществ охватывает огромную
часть социальной истории человека от появления
классовой системы до зарождения капитализма. Сюда относятся
равным образом как восточные деспотии, так и греко-
римская цивилизация и средневековая Европа.
Характерными чертами данной эпохи являются: ограниченная
производительность труда, господство аграрной системы,
иерархическая социальная структура, а также система
250
ценностей, существовавшая без изменений на протяжений
целых поколений.
Однако автора интересует не традиционное общество.
Его внимание сосредоточено на том, что наступило
позднее.
Стадия, определяемая как период создаппя
предварительных условий для сдвига, возникает в Европе к концу
XVII — началу XVIII века на основе тогдашней науки,
рынка и международной конкуренции. Характерной
чертой этого периода является рост уровня
капиталовложений, на 10% опережающий прирост народонаселения.
Растет убежденность в том, что экономический прогресс
возможен и что он является условием, необходимым для
реализации других целей, таких, как национальный престиж,
частная прибыль или общее благосостояние. Среди
государств Западной Европы Англия первой прошла эту фазу.
Этому способствовали: ее географическое положение,
природные ресурсы, торговые возможности и
социально-экономическая структура.
Период сдвига характеризуется решительным
увеличением уровня капиталовложений. В основе этого периода
всегда лежит преимущественное развитие какого-либо
одного экономического сектора. Например, в Англии это
будет развитие ткацкой промышленности; в США,
Франции и Германии — строительство железных дорог.
Преграды на пути развития на этой стадии окончательно
преодолены, экономический рост становится нормальным
явлением. Для Англии этот период приходится на два
десятилетия после 1783 года, для Франции и США — на
несколько десятилетий перед 1860 годом, для Германии — на
третью четверть XIX века. Россия и Канада проходят
период сдвига перед 1914 годом, Индия и Китай —после
1950 года.
Стадия зрелости характеризуется способностью выйти
за рамки первоначальных отраслей промышленности,
доминировавших в период сдвига, а также возможностью
овладения результатами технологического процесса. В
качестве символических дат Ростоу называет здесь для
Англии — 1850 год, США — 1900, для Германии и
Франции— 1910, Японии — 1940, СССР и Канады — 1950 год.
Периода высокого уровня массового потребления
достигли пока лишь Соединенные Штаты. Секторы,
доминировавшие в этот период в США: автомобильная про-
251
мышленность, пригородное строительство, строительство
дорог п сфера услуг. СССР находится на пути к
превращению в общество массового потребления. Переходу от
стадии зрелости к периоду высокого уровня массового
потребления предшествовали существенные изменения: в
структуре рабочей силы — радикальное сокращение
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве; в структуре
экономического руководства — появление слоя менеджеров;
в структуре ценностей — усталость от индустриализации,
что особенно видно из литературы (Ибсен, Шоу, Драйзер).
Такова в общем виде теоретическая конструкция Рос-
тоу. Она не раз была объектом критики. В буржуазной
литературе ее критиковал, например, Р. Арон. Однако нас
здесь не интересует «техническая» критика частных
выводов автора и их эмпирической базы. Мы хотим обратить
внимание на некоторые из общих предпосылок этой
конструкции, отчетливо указывающие на ее слабые места.
Что же, в сущности, является предметом исследований
Ростоу? Ответ на данный вопрос не труден. Этим
предметом является эпоха промышленной революции, подготовка
к ней, ее распространение, ход и некоторые из ее
результатов. Временной диапазон, охватываемый этими
исследованиями, не превышает 250 лет. Традиционное общество
служит только исторической цезурой, а в лучшем случае
системой отсчета. Оно не является предметом каких-либо
исследований и анализов. Это не вызывало бы возражений,
если бы не претензии автора на создание общей
периодизации и теории человеческой истории. А в таком случае
ограничение, пусть даже и важным, но во временном
отношении весьма скромным отрезком этой истории, а также
охват единым термином «традиционные общества»
тысячелетней истории и общественных систем, обладавших
различным характером, — операция, методологически и
теоретически не дозволенная. Достаточно напомнить, что
традиционные общества включали бы в этом случае как
рабовладельческие, так и феодальные формации. А где
поместить в такой схеме наиболее длительную в истории
человечества эпоху первобытных обществ?
Исследованиям Ростоу свойствен и другой серьезный
недостаток — одномерность анализа. Они опираются на
результаты, касающиеся только одного параметра, а
именно экономического роста. Правда, он неоднократно
заявляет, что исследует человеческую историю в аспекте эко-
252
номических явлений, но одновременно утверждает, что не
сводит к ним и не трактует в качестве их функций все
социальные и политические явления. Однако эти заверения
Ростоу не подтверждаются его исследованиями, так как
всю философию истории он конструирует вокруг мотива
экономического роста. Ростоу даже говорит не о развитии
(development), а о росте (growth); это еще раз
подтверждает, что он рассматривает количественные изменения в
радиусе действия некоторого фактора, а не его
качественные преобразования и реорганизацию.
Результаты этого — самые разнообразные. Оставляя в
стороне в своей схеме социальные структуры, борьбу
классов и отношения собственности, автор не замечает
различий, которые выступают в этой плоскости между
социализмом и капитализмом. Не случайно Ростоу считается
одним из авторов так называемой доктрины конвергенции,
провозглашающей сближение, а в перспективе
тождественность обеих названных систем. Эта доктрина
непосредственно содержится в названной схеме: социалистические
страны воспроизводят якобы с некоторым запозданием все
фазы экономического роста, через которые прошли страны
развитого капитализма. Целью данного роста является,
как мы видели, общество массового потребления, то есть
та стадия, которой уже достигли США.
Наконец, концепции Ростоу свойствен описательный и
феноменалистский характер. Она не вскрывает механизмы
развития или роста, а ограничивается регистрацией
наступающих друг за другом фаз. Действительно, на ее основе
невозможно выяснить, почему в Европе совершился
переход от традиционных обществ к промышленно развитым
обществам, почему одна фаза индустриализации вызывает
другую и т. д. Это существенный недостаток; он позволяет
причислить концепции Ростоу к разряду тех
экономических доктрин, которые Маркс определял как
«вульгарные». А это определение он относил к тем доктринам,
которые ограничиваются констатацией поверхностных
экономических явлений, минуя их внутренние структуры и
динамику, и которые нередко останавливаются лишь на
самом этом описании.
В свете сказанного мы не можем признать концепцию
Ростоу серьезной альтернативой историческому
материализму.
253
2. Ростоу о Марксе
По мнению Ростоу, философия истории Маркса
является прежде всего необоснованным обобщением и
проецированием на совокупность общественного развития
результатов наблюдения британского общества в период сдвига
и стадии зрелости. Маркс принадлежал именно к тем
людям, которые теоретически и эмоционально реагировали
на проблему социальной и человеческой цены этих
процессов.
Маркс, бесспорно, живо реагировал на нужды рабочих,
труд детей в промышленности и вообще на все то, что
Ростоу эвфемистически определяет как человеческую цену
британской индустриализации. Можно даже согласиться,
что некоторые из установок Маркса, если говорить об их
научном значении, не выходят за рамки названной эпохи,
хотя это потребовалось бы доказывать в каждом
конкретном случае отдельно. Возможно, что это касается,
например, его анализа колебаний уровня заработной платы,
пауперизации рабочих, особенностей зарождения и
протекания кризисов и др. Но отсюда еще весьма далеко до
вывода, будто весь исторический материализм имеет
значение только для оценки начальных фаз
капиталистической индустриализации, да и то ограниченной примером
Англии. Это значило бы предполагать, что научные
законы (по крайней мере в сфере гуманитарпой) не
распространяют свое действие дальше тех примеров, которые их
подтверждают или которые послужили основой для их
формулирования. Этот явно абсурдный тезис Ростоу даже
не пытается разъяснить; он также не стремится
подтвердить правомерность своего упрека, обращаясь к отдельным
утверждениям исторического материализма.
Сформулированный в общих чертах, этот упрек повисает в пустоте.
Из представлений Маркса якобы вытекает, что
человек должен быть одномерным бытием по крайней мере
тогда, когда речь идет о структуре мотивации. Эта
мотивация всегда имеет в своей основе материальный,
экономический интерес. Но человек, говорит Ростоу, это
плюралистическое бытие, так как он ищет не только
экономических успехов, но и власти, свободного времени,
развлечений, постоянства опыта и чувства безопасности.
Это часто повторяемое возражение является обычным
недоразумением, если Припять во впимаппе, что Маркс
254
просто не высказывался на тему структуры мотивации.
Исторический материализм — это социальная, а не
психологическая теория. Однако там, где предметом анализа
выступает конкретное поведение индивидов и групп, как
это имеет место, например, в «Восемнадцатом брюмера
Луи Бонапарта», Маркс дает полную картину
человеческих характеров.
Особая группа возражений связана с тем, что Ростоу
называет «техническими ошибками». В данном случае
речь идет о взглядах Маркса по экономическим вопросам:
заработной платы, народонаселения (марксистское
понимание этого вопроса характеризуется как
мальтузианство), накопления капитала, кризисов и т. д. Ни одно из
возражений Ростоу здесь не оригинально, в той или иной
форме мы находим их у многих буржуазных авторов.
Наконец, Маркс, как мы узнаем, был романтиком
XIX века, отражением чего является его концепция
коммунизма: он верил в возможность освобождения в
человеке лучшей природы путем изменения социального окру^
жения.
Ростоу не пренебрегает также и клеветой. Так, он
заявляет, что Маркс изолировал себя от людей, что он был,
по сути дела, фанатическим поклонником государства
(это клеветническое обвинение он перенимает у
Бакунина при посредничестве И. Берлина) и т. д.
Несмотря на то что концепции Ростоу трудно назвать
плодотворными, все же они могут способствовать
постановке некоторых вопросов, требующих решения с позиций
исторического материализма.
Один из таких вопросов касается технического
прогресса, а точнее, его нелинеарности. Сегодня кажется уже
несомненным то, что технический прогресс проходит в
своем развитии фазы революционных преобразований.
История регистрирует по меньшей мере три такие фазы:
революция, называемая неолитической, которая 8—10
тысяч лет назад способствовала возникновению и развитию
сельского хозяйства, скотоводства, гончарного промысла
и ткачества; промышленная революция XVIII века; а
также революция, перед лицом которой мы стоим в
настоящее время и которая определяется как
научно-техническая. Маркс знал явление неравномерности в развитии
техники и технологии и неоднократно высказывался о
причинах этой неравномерности; он знал также и анали-
255
Зйровал промышленную революцию и ее результаты. Тем
пе менее ситуация, о которой мы говорим, требует
дальнейшего исследования ряда вопросов: чем вызываются эта
подъемы в развитии техники и технологии, как они
соотносятся с изменением в структурах общественной жизни?
Известно, что все классовые доиндустриальные общества,
несмотря на их отличия, существовали на базе
неолитической технологии и, следовательно, технологии
принципиально одного и того же типа. Капитализм же можно
рассматривать в тесной связи с промышленной
революцией. Отчасти это относится и к социализму. Разумеется,
такое утверждение не ведет к выводу о подобии или
сходстве социальных структур этих систем, ибо общность
технологической основы не исключает того, что надстроенные
над ней социальные системы принадлежат к разным
общественным формациям. Анализ этих проблем является
весьма важным практически в свете вопроса о социальных
последствиях научно-технической революции, о ее
значении для создания материально-технической базы
коммунизма.
С вопросом нелинеарности связана проблема ускорения
развития. С этим сталкивается Ростоу, когда отмечает, что
очередные стадии роста все более кратки по времени.
Быть может, точно так же, как физики ввели для
описания движения наряду с понятием скорости понятие
ускорения, исследователи-обществоведы введут понятие
ускорения по отношению к общественному развитию.
Марксизм как источник идей
и объект критики К. Маннгейма
I
Карл Маннгейм принадлежал к тем представителям
мелкобуржуазной интеллектуальной элиты первой
половины XX века, для которых марксизм был не только
предметом критики, но также источником идей. С этой точки
зрения его можно признать продолжателем той традиции,
начало которой положил немецкий социолог Макс Вебер.
Эта традиция была своего рода диалогом с марксизмом,
осуществляемым с чуждых марксизму теоретических и
идеологических позиций, но не исключающим
заимствования и использования в собственных целях его идей и
понятийных инструментов. Специфическая общественная
ситуация в Германии, в которой на переломе веков
сложилась сильная и влиятельная рабочая партия, выдвинулся
целый ряд выдающихся теоретиков марксизма и которую
в период Веймарской республики сотрясали социальные
взрывы и внутренние движения правых, вполне объясняет
такой тип отношения к марксизму. В первом периоде
деятельности Маннгейма просто нельзя было умалить
значения марксизма. Именно на эту эпоху приходится
творчество Макса Вебера. Во втором же периоде марксизм
служил источником категориальных средств, позволяющих
описывать, анализировать и понимать разнообразные
явления политической сферы, общественного сознания и
идеологии, которыми не обладала тогдашняя буржуазная
социология. С теорией Маркса не могли не считаться
предусмотрительные и прогрессивные представители буржуазии,
а именно левая интеллигенция. На этот период
приходится в свою очередь первый этап деятельности Маннгейма,
когда он стремился утвердить социологию знания как
автономную дисциплину, черпавшую идеи из творчества
Маркса. Второй этап деятельности Маннгейма начинается
после 1933 года и охватывает период лондонской
эмиграции вплоть до смерти ученого. Для этого периода харак-
257
терным является смещение интересов Маннгейма с
проблем социологии знания на проблемы современной
цивилизации, ее диагноза и терапии. Несомненную роль в этом
смещении сыграл драматический опыт, вынесенный им из
Германии и связанный с упадком Веймарской республики
и приходом к власти гитлеризма.
В предлагаемом очерке мы намерены сосредоточить
внимание только на тех аспектах мысли Маннгейма,
которые связаны непосредственно с его отношением к
марксизму и которые наглядно иллюстрируют и объясняют его
позиции. Речь здесь будет идти о вопросах, связанных с
социологией знания и проблемой идеологии, а в
дальнейшем также об общих вопросах исторического
материализма.
1. Теория идеологии и социология знания
Маннгейм многократно подчеркивал приоритет Маркса
в создании социологии знания и признавал, что он многое
заимствовал у него. Об этом Маннгейм писал в своем
основном труде по социологии знания «Идеология и
утопия» («Ideologie und Utopie», 1929), получившем широкую
известность. Однако, воздавая должное Марксу, Маннгейм
как в этой работе, так и в других направляет в его адрес
ряд серьезных упреков. Все они преследуют цель показать
некоторые существенные ограничения, содержавшиеся
будто бы в самих основах марксистской социологии знания.
В логическом порядке на первый план выдвигается здесь
упрек, связанный с предлагаемым Маннгеймом
разграничением социологии знания и теории идеологии. Однако это
разграничение связано в свою очередь с еще более
фундаментальным различием частичного (партикулярного) и
целостного (тотального) понятия идеологии.
Следовательно, с этого вопроса необходимо начать наш анализ.
Говоря о частичном понятии идеологии, Маннгейм
имеет в виду такие комплексы убеждений, которые,
выражая и защищая интересы определенных коллективов —■
общественных групп, классов, политических партий и
т. д., — являются в силу этого предметом сознательных
или неосознанных фальсификаций. Пограничным случаем
такой идеологии являются поэтому конструкции,
включающие элемент намеренного обмана.
17 Ст. Раинко
258
Иначе обстоит дело с целостным понятием идеологии.
Прежде всего здесь исключен момент сознательной и даже
неосознанной фальсификации. Неизбежная
односторонность во взглядах, частичные и ограниченные истины, а
иногда также ложные суждения имеют в данном случае
источник не в намерениях (явных пли скрытых)
человеческих коллективных субъектов и, следовательно, не в
психологических мотивациях, а в социальной структуре, к
которой относятся эти субъекты и в перспективе которой
они познают действительность. Следовательно, речь идет
о социологических, а не о психологических механизмах
возможных ошибок и деформаций в познании социальной
действительности. Также и по объему целостное понятие
идеологии отличается от ее частичного понятия. Если
частичное понятие охватывает только некоторые фрагменты
убеждений, свойственных коллективам, а именно те
фрагменты, которые служат каким-то выражением, хотя бы и
превратным, их интересов, относятся к этим интересам,
говорят о них и т. п., то целостное понятие идеологии
относится к совокупности взглядов на разнообразные аспекты
социальной действительности, чаще всего далеко
отстоящих от непосредственной сферы интересов. Однако для
этих взглядов общим является то, что они
сформулированы именно с точки зрения познавательной перспективы
определенного коллектива. Более того, в объем целостного
понятия идеологии входят не только содержания, но
также и познавательные структуры — понятийный аппарат,
способы мышления и т. д. Другими словами, целостное
понятие идеологии — это совокупность взглядов и форм
познания, социальным коррелятом которых являются
определенные коллективы типа классов и социальных групп
и которые формируют специфические для этих
коллективов способы «видения» общественного мира, имеющие свой
источник в их особом месте в обществе как целом, в
их отношении к другим коллективам, в образе их
жизни и т. д.
Чтобы охарактеризовать подробнее механизм, в силу
которого влияние названных здесь ситуаций на
социальное познание достигает результата, Маннгейм вводит
понятие «угла зрения» (Aspektstruktur).
«Угол зрения», в понимании Маннгейма, можно
сравнить с системой призм, сквозь которую наблюдается
действительность. В нее входят (называем наиболее суще-
259
ственные моменты): понятийный аппарат, то есть
категории, модели мышления, определенный уровень
конкретизации либо абстракции, свойственный выводам, а также
система предпосылок и онтологических тезисов,
касающихся общественной действительности. Разные классы и
социальные группы обладают при этом разными «углами
зрения», которые служат посредствующим звеном между
ними и познаваемой действительностью и несут
ответственность за отличные друг от друга образы одпой и той
же действительности в разных группах.
Проблема понятийного аппарата не требует
специальных пояснений. Речь идет о том, что разные коллективы
могут располагать различными понятиями, которые имеют
нередко одинаковую словесную форму. Например, для
феодала понятие свободы означает нечто иное, чем для
капиталиста, и принципиально иным оно является для
пролетариата. Для первого свобода означает сословные
привилегии и возможность безграничного ими пользования, для
второго — так называемую формальную свободу или
некоторые гарантируемые правом гражданские свободы, а для
третьего — например, право на труд. Многозначность
слова, осуждаемая логиками, может, следовательно, быть
фактом идеологически и социологически важным, если ее
истолковать, согласно Маннгейму, как элемент «угла
зрения».
Теперь кратко об остальных его элементах.
«Категории» для автора «Идеологии и утопии» — это наиболее
общие методы или способы понимапия общественной
действительности, например, ее аналитическое либо
мифологическое попимание. Далее, модели мышлепия — это
некоторые мыслительпые схемы, переносимые на социальную
действительность из других областей бытия, а также пз
исследований естественных паук, например механики или
биологии (в соответствии с этим можно говорить о
механистических либо биологизаторских моделях мышления в
интерпретации общественного мира). Что касается уровня
конкретизации и абстракции, речь идет о том, что,
познавая социальную действительность, исследователь может,
папример, либо не выходить за описание фактов и
эмпирических данных, либо наоборот, строить универсальные и
абстрактные схемы, исходящие пз какого-нибудь
эмпирического и исторического содержания. Обе эти крайности
могут иметь общий «идеологический смысл», выражаго-
17*
260
щийся в утверждении status quo. Наконец, сознательно
или несознательно, социальные группы и
представляющие их исследователи закладывают определенную
онтологию общественной действительности, то есть систему
убеждений относительно способа существования, природы и
структурирования. Для одних этой действительностью
являются человеческие индивиды, для других — группы и
коллективы, третьи усматривают составную часть этой
действительности в социальных институтах, человеческих
действиях либо отношениях между индивидами.
После этих вступительных и необходимых пояснений
мы можем перейти к рассмотрению выводов Маннгейма и
его критики учения Маркса.
Вопрос об отделении теории идеологии от социологии
знания получает четкие очертания. Предметом первой
является идеология в ее частичном смысле, в то время как
предметом второй — идеология в ее целостном смысле (с
определенными ограничениями, которые здесь мы не будем
учитывать). В связи с этим Маннгейм упрекает автора
«Капитала» в том, что он не различал якобы отчетливо
этих дисциплин и систематически смешивал их поля
исследования.
Уточним смысл данного упрека. Если дело обстоит
именно так, как считает Маннгейм, то отсюда следует, что
Маркс не освободился от партикулярного и
уничижительного попятия идеологии и оперировал им даже там, где
исследовательский материал требовал иной трактовки, а
именно такой, какой требует социология знапия с ее
понятием «угла зрения». Маркс примепял технику
идеологической демаскировки и вскрывал как более или менее
сознательную ложь односторонность и ошибки познания,
вытекавшие из «естественного» механизма социальной
обусловленности. При этом данное действие Маркса
можно истолковать как методологически не обоснованное, как
упущение исследователя, а также как действие в высшей
степени небескорыстное.
Достаточно вспомнить, по мнению Мапнгейма, что
таким образом Маркс поступал по отношению к своим
политическим и идеологическим противникам. Следовательно,
этим легким способом он достигал исключительных
результатов, основывавшихся на интеллектуальном и моральном
обесценивании противника, без серьезного исследования
его взглядов в духе социологии знания. Последняя отхо-
261
дит от частичного и обремененного негативными оценками
понятия идеологии, помещая в центр внимания идеологию
в ее целостном понимании, проблему социальной
обусловленности познания. Тем самым социология знания
исключает возможность злоупотреблений, связанных с первым
понятием идеологии; сущность этих злоупотреблений
заключается в смешении первого понятия идеологии со
вторым и чрезмерной его экстраполяции. Маннгейм
предлагает даже отказаться от самого термина «идеология»,
когда мы имеем в виду ее целостное понимание, и заменить
его, например, термином «перспектива». Маркс, сделав
существенный шаг на пути от частичного к целостному
пониманию идеологии и заложив тем самым фундамент
социологии знания, не смог будто бы окончательно
освободиться из-под власти первого из этих понятий. Оно не
переставало отрицательно влиять на ход его выводов. Таков,
пожалуй, окончательный вывод Маннгейма.
Действительно, мы найдем у создателя марксизма
немало суждений, напоминающих по видимости такую
структуру, о которой пишет автор «Идеологии и утопии».
Некоторые взгляды Маркс соотносит с определенными
классовыми интересами, указывая, что участие классового
фактора отрицательно влияет на логическое содержание
и способ обоснования этих взглядов и даже ответствен за
их ложность. Однако идеологическая оценка никогда не
подменяет у Маркса логического анализа и проверки.
Даже в случае такого явного идеологического лакейства,
как доктрина «последнего часа» английского экономиста
Н. У. Сениора, преследующая цель доказать, что вся
прибыль капиталиста зависит от одиннадцатого часа труда
рабочего и что при 10-часовом рабочем дне она полностью
бы исчезла. Маркс не останавливается па сугубо
идеологической критике, но вступает в полемику по существу дела.
Более того, Маннгейм неправомерно «вписал» в точку
зрения Маркса собственную концепцию идеологии. Речь
идет об идеологии частичного характера. Эта концепция
явно преувеличивает связь между ложностью
утверждений и их обусловленностью определенными интересами.
Такое понимание идеологии отнюдь не свойственно
Марксу, ибо оно означало бы, что доказательство ложности
каких-либо утверждений путем сопоставления с
действительностью подменяется ссылкой на лежащие в их основе
интересы, следовательно, проверку практикой заменяет
262
здесь психоаналитический и социогенетический анализ.
Однако этому противоречит вся научная и революционная
деятельность Маркса.
Также вопреки уверениям Маннгейма обращение
Маркса в его исследовательской работе к механизму
классовой обусловленности не преследует исключительно и
прежде всего цель демаскировки той или иной системы
взглядов, но имеет в виду выяснение ее генезиса и
общественного распространения либо отмирания в радиусе
действия определенных групп. Если Маркс указывает,
например, на связь утверждений вульгарной экономической
теории с интересами буржуазии, то речь у него идет главным
образом об ответе на вопрос, почему эти утверждения
могли возникнуть в кругах теоретиков, одобряющих
буржуазный status quo, и почему среди представителей именно
этого класса положепия данной теории находят своих
сторонников и решительных защитников.
Автор «Капитала» прослеживает, как подобные
утверждения возникают из повседневной практики капиталиста
и эту практику непосредственно отражают. Так, папример,
одно из основных положений вульгарной экономической
теории, согласно которому прибыль капиталиста
образуется якобы из всего вло:кепного им капитала (а не из его
переменной части, представляющей издержки на рабочую
силу), приводит к утверждению, будто капиталист
исчисляет прибыль в зависимости от целого капитала и к этому
целому ее относит, будто в силу действия закона среднего
уровня прибыли величина его прибыли пропорциональна
величине вложенного капитала и т. д. Тезис о прибыли
как продукте постоянного капитала является,
следовательно, теоретическим описанием опыта и действий
капиталиста. Однако нельзя забывать, что это описание
определяется именно объективным положением капиталиста в
социальной структуре, а также связанной с этим системой
мотиваций и ценностей (стремление к максимальной
прибыли безотносительно к тому, каковы ее источники, руко-
водствование исключительно критериями рентабельности
при оценке издержек капитала и т. д.). Как таковое, это
описание отнюдь не должно отвечать подлинным
механизмам формирования капитала на капиталистическом
предприятии, и, действительно, оно не соответствует этим
механизмам, дает их ложный образ. Здесь можно провести
аналогию с системой Птолемея в астрономии. Будучи
263
адекватным описанием опытов земного наблюдателя, она
является одновременно ложным описанием объективных
отношений между Землей (планетами) и Солнцем.
Таким образом, объективная ситуация вырабатывает
определенный взгляд капиталиста. Но это еще не
объясняет, почему данный взгляд принимают и развивают
буржуазные экономисты, почему он находит ревностных
сторонников среди представителей буржуазии как класса,
а также и среди тех, кто пе участвует даже косвенно в
производственной деятельности и кому чужд описанный
здесь опыт промышленного дельца. Поэтому Маркс идет
дальше. Он указывает на апологетический смысл
приведенной формулы. Она скрывает, заслоняет и затемняет
механизм капиталистической прибыли, то есть то
обстоятельство, что прибыль капиталиста возникает
исключительно из производственной деятельности рабочего, как
результат его неоплаченного рабочего времени
(источником прибыли, следовательно, является, говоря
«овеществленным» языком политической экономии, переменный
капитал, а не постоянный, охватывающий также издержки
на машины, сырье и т. д.). Итак, если тезис о прибыли
как продукте постоянного капитала создается опытом
капиталиста, то в распространении этого тезиса
решительную роль играет уже классовый интерес, выражающийся в
потребности маскировки источников прибыли и тем самым
в потребности сохранения и упрочения этого явления.
Так на конкретном материале может быть
представлена марксова логика выяснения генезиса и
распространения некоторых идей и взглядов. А то, что Маннгейм
видит в ней исключительно орудие разоблачения и
обесценивания, следует объяснить, пожалуй, смешением двух
различных вопросов: рассмотренной выше процедуры
логики исследования с формами разоблачения идеологии,
применяемыми Марксом в идеологической полемике.
Идеологическая критика Маркса состоит в том, что ни одна
идеология, согласно Марксу, не имеет, вопреки
заявлениям своих создателей и сторонников, надклассового,
общечеловеческого характера, что в основе каждой идеологии
лежит комплекс интересов определенного класса либо
группы, который вызвал ее к жизни, а также оправданию
и реализации которого эта идеология служит. Ссылка на
классовый интерес здесь действительно преследует
прежде всего цель разоблачения, так как эта ссылка направле-
264
на против основной иллюзии, которой прикрываются
идеологические системы, — иллюзии универсальности.
Маннгейм не находит в основе своей теории идеологии и
социологии знания никакого иного применения понятия
классового интереса, кроме названного выше. Поэтому он
объявляет данную точку зрения единственной и
необоснованной и приписывает ее Марксу. В основе этого
обвинения лежит также мнение Маннгейма, будто создатель
марксизма не сделал решающего шага в направлении
социологии знания, то есть не перешел от идеологических
разоблачений к описанию и выяснению механизмов
социальной обусловленности.
Действительно, у Маркса можно найти два понятия
идеологии, или, скорее, два контекста, в которых эта
проблематика проявляется. Однако они не совпадают с тем
делением, которое предлагает Маннгейм. Несколько
замечаний позволят понять суть вопроса.
Так, в работах Маркса и Энгельса часто встречаются
следующие определения: «идеологические формы», «виды
идеологии», «идеологические области», «идеологическая
надстройка» и т. д. Этим определениям обычно
сопутствует перечисление данных форм, областей и видов. Оно
охватывает политико-правовую мысль, философскую,
религиозную, художественную и др. Обычно оно соответствует
приведенному здесь порядку. Несомненно, речь идет в
данном случае о явлениях, которые относятся к духовной
культуре общества и которым свойственно разделение на
формы и виды, а также о явлениях, исторически
сформированных общественным разделением труда. У Маркса и
Энгельса понятие идеологии включает также категории
сознания и интеллекта, которые связаны непосредственно
с нетехническими видами общественной практики (с
практикой формирования и изменения разнообразных областей
общественных отношений, с революционной
деятельностью, действиями правящих классов и т. д.) и которые
обслуживают эту практику и изменяются под ее влиянием.
Именно этот последний вопрос явился предметом
специального рассмотрения создателей марксизма в связи с их
фундаментальным принципом, утверждающим, что
общественное бытие определяет сознание. Изменение и
формирование идеологической надстройки под влиянием
базиса — классическая тема исторического материализма.
Связанная с ней огромная и серьезная исследовательская про-
265
грамма, намеченная в трудах классиков марксизма,
творчески разрабатывается философами-марксистами.
Термин «идеология» мы встречаем в творчестве
Маркса и Энгельса также и в другом контексте. Так,
характеризуя идеологию, они неоднократно употребляют определения
типа: «мистифицированное сознание», «ложное
сознание», «предрассудки», «иллюзии», «перевернутое
отображение социальной действительности» и т. д.
Уничижительный смысл этих определений не вызывает сомнения.
Речь идет здесь о выделении таких «элементов сознания»,
которые соответствуют общественным группам и классам
как выражение их интересов и которые выполняют
функции, говоря словами Маркса, их духовного оружия.
В силу непосредственной связи со сферой классовых
интересов образы социальной действительности,
содержащиеся в идеологиях, обременены, как правило,
многообразными познавательными ограничениями и дефектами.
Собственно, отсюда следует их уничижительная оценка.
В этих оценках речь идет не только о мистификации,
фальсификации и т. д. самих идеологических систем, но также
(а может быть, прежде всего) о ложности некоторых
предубеждений относительно идеологии (поддерживаемых их
создателями и теми, кому они выгодны), о ложности
идеологического сознания. Примером может служить иллюзия
универсальности. Это объясняет обоснованность
приведенных определений, а также ту настойчивость, с которой они
повторяются в текстах создателей марксизма.
Взаимосвязь обоих определений уловить не трудно.
Первое из них более абстрактно (идеализированно), но
одновременно и более существенно, нежели второе.
Идеологии во втором смысле, выступающие как структуры
сознания, подчиненные классам, созданы из материала
идеологий в первом смысле (это конструкции, возникшие из
идей и доктрин — политических, правовых, философских
и др.), но при истолковании мира идей они делают особый
упор на мотив их классовой роли. Следовательно, второе
понятие идеологии не противоположно первому, но
является его развитием и конкретизацией. Добавим еще, что
для определения первого из этих понятий сейчас в
марксистской литературе употребляется чаще всего термин
«формы общественного сознания», введением которого мы
также обязаны Марксу. Исторические судьбы явлений,
охваченных этими цонятиями, формировались, конечно,
266
неодинаково. Идеология в смысле «идеологических форм»
останется прочным элементом общественной
действительности (за исключеним религиозного сознания), а
идеология как классовое сознание исчезнет вместе с
исчезновением классовых обществ.
Итак, мы видим, что, хотя у создателей марксизма
можно найти два понятия идеологии, все же как критерии их
выделения, так и их взаимоотношения принципиально
отличаются от предположений Маннгейма и его
интерпретации марксовой точки зрения. По Маннгейму, переходя
от целостного к частичному понятию идеологии, мы
движемся от более общего к менее общему их содержанию и
объему. С этим связано также изменение их значения от
нейтрального к уничижительному. У Маркса дело обстоит
иначе. Переход от идеологии в смысле форм
общественного сознания к идеологии как теоретическому выражению
классовых интересов означает переход от понятия более
абстрактного к понятию менее абстрактному (в
специфическом марксовом понимании абстракции как
идеализации), имеющему принципиальное значение для
социологических и теоретико-познавательных взглядов Маркса.
Маннгейм имеет весьма смутное представление об этих
вопросах, поэтому-то его характеристика мысли Маркса
представляет собой искажение действительного
содержания взглядов последнего.
Наконец, почему, спрашивается, отделение идеологии
в ее частичном смысле от идеологии в целостном смысле
Маннгейм считает столь радикальным?
В обоих случаях мы имеем дело с механизмом
обусловливания мысли некоторыми социальными факторами.
Различие касается только характера этих факторов. В
первом случае —это групповые интересы, во втором — это
прежде всего место групп в обществе. При всех
дополнительных предпосылках, принимаемых Маннгеймом,
частичное понятие идеологии оказывается просто частным
случаем ее целостного понятия, а обусловленность мысли
интересом является пограничным случаем социальной
обусловленности, которую исследует социология знания.
Следовательно, здесь нет двух разных понятий идеологии, а
есть одно понятие. Выдвижение Маннгеймом на первый
план различий между ними объясняется боязнью
идеологических оценок, претензией на роль социально
независимого и идеологически нейтрального исследователя.
26?
2. Проблема социальной обусловленности
познания
Очередной упрек Маннгейма связан с попыткой
показать, будто Маркс при создании своей социологии знания
остановился на полпути. Маркс якобы провозгласил тезис
о социальной обусловленности чужой мысли, но не
распространил этот принцип на собственное мышление и
мышление того класса, с которым он себя отождествлял.
Этот шаг сделала только социология знания Маннгейма,
универсализировавшая принцип социальной
обусловленности.
Маннгейм не приводит ни одного аргумента в
подтверждение своего упрека. Впрочем, найти такой аргумент
достаточно трудно. Рассмотрим данное обвинение по
существу. Если смысл его сводится к тому, что Маркс якобы
не проводил социогенетического анализа собственных
взглядов, не осознавал их социальной
детерминированности, то это просто не соответствует действительности.
Анализ истоков научного социализма, содержащийся,
например, в «Коммунистическом Манифесте», опровергает это
возражение Маннгейма. Всем своим творчеством Маркс и
Энгельс заявляют, что они теоретически представляют
пролетариат и что это обстоятельство существенным образом
обусловливает их мышление.
Мы находим у Маннгейма еще одно возражение, о
котором уже кратко упоминалось. По его мнению, марксизм
ограничивает тезис социальной обусловленности познания
обусловленностью познания классом и классовыми
структурами. Не отрицая важности этого фактора и даже
приписывая ему принципиальное значение, Маннгейм
предлагает включить в область интересов социологии знания
(и в своих работах он пытается реализовать это
предложение) также и другие социальные системы и ситуации,
например, такие, как профессиональные группы,
поколения, школы (в том понимании, в каком мы говорим,
например, об академии Платона), механизм конкуренции
и т. д.
Предложение Маннгейма в этом плане можно
рассматривать серьезно, и ни один социолог не может от него
отказаться.
Однако этот упрек весьма неудачен по отношению к
учению Маркса. Так, например, анализ Марксом влия-
268
ния па мышление людей структур товарного хозяйства,
явлений отчуждения и товарного фетишизма, несомненно,
не умещается полностью в рамках схемы классовой
обусловленности. А эта проблематика отнюдь не является
второстепенной в работах создателей марксизма.
3. Несколько возражений
против социологии знания Маннгейма
Против самой маннгеймовской концепции социологии
знания следует выдвинуть в свою очередь несколько
серьезных возражений.
Его концепция ограничивается социальным знанием и
обыденным сознанием, исключая из поля зрения
естественные науки и естественнонаучное познание. Это отнюдь
не случайность или сознательный выбор, а также не
сознательное ограничение интересов. Просто Маннгейм не
знает такого механизма социальной обусловленности,
который относился бы одновременно и к общественному и к
естественнонаучному знанию. Проблематику, касающуюся
естественнонаучного знания, он рассматривает иногда в
рамках дисциплины, называемой социологией науки, но с
точки зрения иных принципов и при помощи иного
понятийного аппарата, чем тот, которым пользуется
социология знания.
Социология знания Маннгейма является сверх того
феноменалистической теорией. Она не исследует
социальные механизмы возникновения идей, их отбор, отмирание
и распространение, а регистрирует только тот факт, что
на мышление людей и его результаты влияют социальные
ситуации, в которых участвуют люди (принадлежность к
группе, поколению, системе институтов и т. п.). Она
предлагает для описания этих явлений понятийный аппарат,
в котором понятие «угол зрения» играет основную роль.
Социология знания Маннгейма не формулирует ни
законов, ни даже теоретических моделей. Самое большее, что
она осуществляет, — эмпирические обобщения. Поэтому
она не способна объяснить разнообразные явления сферы
общественного сознания и общественных наук, например,
такие, как появление некоторых идей в определенные
эпохи и у представителей определенных классов,
корректировка этих идей и замещение их новыми, и, следовательно,
269
всего богатства фактов, относящихся к области диахронии
сознания.
В основе названной концепции лежит также
некоторый теоретико-познавательный тезис, почерпнутый из
эмпирической эпистемологии. С точки зрения этого тезиса
познавательное содержание приходит к субъекту как бы
само собой, стихийно, без его участия; мир, объект
являются отправителями, а субъект — пассивным получателем.
Этот тезис Маннгейм дополняет только тем положением,
что на данное содержание субъект накладывает некоторые
собственные качества, имеющие свой источник в его
социальном положении, и что он, возможно, является своего
рода фильтром, пропускающим что-то из названного
содержания в себя, а что-то нет. Мысль, что субъект может
воздействовать на объект, обнаруживая потребность в
определенном типе знания и идеях (эта мысль играет
большую роль в исследованиях Маркса), чужда маннгеймов-
ской социологии знания.
Наконец, автор «Идеологии и утопии» принимает
принцип своеобразного познавательного равноправия всех
групп и классов, а также соответствующих им «углов
зрения» — равноправия в том смысле, что все они одинаково
подвергаются деформирующему давлению социальной
обусловленности. Это означает, что не существует групп
или классов, которые выдвигались бы вперед в тот или
иной период в отношении своих познавательных
возможностей. Однако каким образом возможен тогда прогресс в
познании, преодоление его ограничений и деформаций? На
этот вопрос Маннгейм безуспешно пытался пайти ответ.
Есть основания считать, что такой ответ, исходя из
принятых им предпосылок, вообще невозможен. А это
означает глубокое внутреннее противоречие и — неизбежно
поражение доктрины, так как под знаком вопроса оказываются
ее собственные результаты (почему бы им следовало
доверять больше, чем другим, ведь все результаты мышления
находятся в одинаковом положении?).
II
Социология знания не была для автора «Идеологии и
утопии» единственным полем конфронтации с
марксизмом. Другим таким полем были наиболее
фундаментальные проблемы исторического материализма.
270
Первые попытки определить свое отношение к
историческому материализму относятся еще к начальному
периоду творчества Маннгейма, ко времени жизни в Германии,
хотя в то время он занимался преимущественно
социологией знания. Это вполне понятно, если принять во
внимание, что марксистская социология знания является только
своего рода фрагментом исторического материализма,
относящимся к нему, как часть к целому. Тот, кто имеет
какую-либо точку зрения по первому вопросу, не может не
определить так или иначе свою позицию по второму
вопросу. Кроме того, Маннгейм не принадлежал никогда к
исследователям с ограниченным горизонтом. Он черпал
материал для своих размышлений из многих источников,
и его интересовали все по крайней мере принципиальные
вопросы гуманитарной сферы. Марксизм и исторический
материализм не могли остаться вне поля зрения
Маннгейма.
Однако только после переезда в Англию эти вопросы
выдвинулись на первый план. Этому способствовала та
проблематика, которую разрабатывал в тот период
Маннгейм. Как уже упоминалось, речь шла о проблемах,
касающихся современной цивилизации, направлений и
перспектив ее развития. В этой ситуации конфронтация с
историческим материализмом оказалась для него
неизбежной. Мы проследим только ее наиболее существенные
моменты.
1. Принцип приоритета экономического фактора.
Критика натурализма
Как известно, исторический материализм особое место
в структуре и динамике общественной действительности
отводит экономическому фактору, производительным
силам и экономическому базису. В этой связи встает вопрос
о критерии такого выделения.
Маннгейм возвращается к данному вопросу в разные
периоды своего творчества, причем его взгляды
постепенно эволюционируют. В то же время это именно тот пункт,
с которого начинается его критика марксизма, ставящая
его в ряд других критиков.
В одной из своих ранних работ, «Проблема социологии
знания» («Das Problem einer Soziologie des Wissens»,
271
1925), он отмечает, что именпо бытие, действительность
создают идею. Однако его ошибка заключалась в том, что
бытие и действительность он отождествлял с материей (с
физической материей либо материей, понимаемой в духе
домарксовой философии). Развивая в дальнейшем
проблему возможных способов разработки социологии знания,
Маингейм относит марксовы и марксистские предложения
к позитивизму иаряду с точкой зрения Дгоркгейма, док-
трипа которого отличается якобы только тем, что это —
«буржуазпый позитивизм».
Принятые предпосылки облегчают Маипгейму
критику. Исторический материализм в таком попимапии, в
качестве позитивизма, оказывается одпим из видов
натурализма, то есть доктриной, сводящей любую социальпую и
культурную действительность к природпой
действительности — физической либо психической. Это перечеркивает
своеобразие общественного мира и препятствует созданию
адекватной теории. Более того, историческому
материализму якобы угрожает логическое противоречие: позитивизм
критикует метафизику, но в то же время натурализм сам
является наиболее явной метафизикой (так как
оперирует утверждениями относительно действительности и ее
природы in toto).
Принцип выделения экономического фактора в этой
перспективе достаточпо ясен. Его диктует просто общая
формула материализма вкупе с натуралистской доктриной.
В силу предпосылок любого материализма материи
свойствен приоритет по отношению к сознанию в
генетическом и гносеологическом аспектах. В свою очередь с
позиций натурализма техническая и экономическая
действительность является материей точно так же, как
физическая материя, — некоторым природным бытием.
Соответственно этому, тот общий приоритет, который
свойствен материи, переносится также и на этот род
действительности. Техническим и экономическим факторам
отводится особая и определяющая роль по отпошению к миру
идей, поскольку такая же роль отводится материи,
понимаемой в естественнонаучном плане, по отношению к со-
зпапию; эти факторы лишь участвуют в таком общем
свойстве мира, как примат материального.
Подобная точка зрения, пожалуй, подтверждает
некоторые наши иптуптпвпые представления. Так, кирка,
локомотив, транспорт, производство и обмен по видимо-
272
сти более материальны, чем^лапример, произведения
искусства, правовой документ'или философский трактат, пе
говоря уже об идеях.
Следствием подобной точки зрения является
истолкование исторического материализма как некоторого
применения и уточнения натуралистского материализма, как
прямой проекции этого материализма на общественный
мир.
Назовем эту интерпретацию исторического
материализма (и марксизма) натуралистской интерпретацией (Манн-
гейм, как помним, говорит здесь о позитивизме).
Ошибки этой интерпретации и ее несоответствие
подлинным взглядам создателей марксизма очевидны.
Поэтому, казалось бы, надо согласиться с критикой Маннгейма.
Предметы техники, орудия и машины, продукты и
товары, транспорт и связь, а также сами люди и отношения
между ними не существуют, конечно, вне природной
материи и без включения «в себя» этой материи. Однако то,
что делает эту материю предметами техники, орудиями,
товарами и т. д. и, следовательно, некоторыми элементами
общественной действительности, не имеет ничего общего
с изложенным выше фактом и не находит в нем своего
объяснения. Тем более этот факт не объясняет той роли,
которую эти элементы играют в структуре общественной
действительности.
Предмет становится киркой, локомотивом либо товаром
потому, что люди относятся к нему определенным
способом и извлекают из него известную пользу. Предметы и
физические вещи, являющиеся или не являющиеся
человеческими продуктами, приобретают определенные
свойства, участвуя в отношениях между людьми либо в
отношениях между ними и природой. Свойства быть орудием,
столом, товаром, деньгами и т. д. мы назовем
общественными свойствами, чтобы показать их источник и
одновременно отделить их от естественных свойств,
принадлежащих вещам ex natura. Первые не мепее реальны, чем
вторые. Однако их реальность и материальность
является не физической, а общественной. Говоря об этом,
Маркс подчеркивал, что стоимость товара не содержит
в себе ни атома вещества природы, то есть физической
природы. Но это отнюдь не означает, что стоимость как
основа формирования механизма цен нереальна. Просто
понятия реальности и материальности в их отнесении к
273
общественному бытию имеют другой смысл, нежели
аналогичные понятия по отпошению к физическому бытию.
Онтология общественной действительности не совпадает с
онтологией природной действительности, подобно тому,
как деление на общественные классы не совпадает с
делением людей по их физическим признакам: цвету глаз,
кожи, папиллярным линиям и т. д. Исторический
материализм не является простым перенесением принципов
неисторического, классического либо даже диалектического
материализма на исследование общества. Он является
конструкцией sui generis.
Физические вещи и предметы входят в общественный
мир как носители социальных качеств. Общественный
мир — это мир социальных качеств и порождающих их
межчеловеческих отношений. Следовательно, если
некоторые материальные системы и экономические структуры
оказываются выделенными как основа этого мира, то это
происходит не с точки зрения их физических свойств либо
их материальности в природном смысле, а с точки зрения
их определенных общественных свойств, общественной
роли и значения.
Мы уделили столько внимания данному вопросу,
потому что убеждены в его исключительной важности для
понимания основ исторического материализма и
преодоления все еще сохраняющихся натуралистских его
интерпретаций. Маннгейм, как свидетельствуют его более позд-
пие сочинения, отказался от упрека в патурализме
(позитивизме). Так, в работе тридцатых годов «К вопросу о
социологии духа. Введение» (опубликованной посмертно
в сборнике «Essays on the Sociology of Culture», 1956) on
отмечает в связи с критикой немецкой философии истории,
что исторический материализм свободен от типичной для
нее ошибки: признаиия исключительно материальных
(природных) и исключительно идеальных (духовных)
факторов. Приоритет базиса по отношению к надстройке
не означает приоритета природной материи по отношению
к миру идей. Потому что это приоритет одного типа
общественной действительности по отношению к другому типу
этой действительности в рамках одного и того же
общественного мира. Поэтому не только критерии отделения
базиса от надстройки, но и критерии, указывающие на
исключительность позиции базиса, должны иметь
общественную природу.
18 Ст. Раинко
274
С момента снятия обвинения в натурализме
начинается новый этап конфронтации Маннгейма с марксизмом,
характерный для последнего периода его деятельности.
2. Концепция «социальной техники»
против исторического материализма
Начиная с работы «Человек и общество в век
перестройки» («Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Urn-
baus, 1935), Маппгейм систематически указывает па то,
что Маркс упустил либо педооцепил некоторые явления
в своей системе общественного развития, при
одновременном чрезмерном выдвижении на первый план других. При
этом его критика все более связывается с собственной
концепцией философии истории, конкурирующей с марксовой.
Однако этому предшествуют некоторые устаповки на
возможность иной интерпретации марксова принципа
приоритета базиса по отпошеиию к надстройке, поскольку
патуралистскую интерпретацию Маппгейм отбрасывает
как необоснованную.
Теперь Маннгейм предпочитает говорить, что базис у
Маркса является чем-то вроде центра диффузии:
исходящие из него изменения и воздействия охватывают
(подобно кругам на поверхности воды) все более отдаленные
области общественного пространства, пронизывая и,
наконец, изменяя всю общественную структуру. Исходным
принципом этих изменений можно считать изменения в
производственной технике. Именно отсюда иррадиация
доходит до наиболее отдаленных сфер человеческого
мира, включая сферы сознания и духовных явлений.
Критика Маннгейма начинается с утверждения, будто
Маркс, верно оценивший роль производственной техники
в сфере экономических явлений, полностью забывает
аналогичную роль других видов техники по отношению к
свойственным им сферам социальной действительности.
Речь идет, например, о военной технике и ее роли в
военной области (влияние новых видов вооружения на способ
ведения войн, тактика борьбы, структура армии, способ
управления войсками и т. д.). Речь идет также о технике
организации, роль которой в совремеппой промышленности
и управлении нельзя игнорировать. Наконец, речь идет о
технике массовой пропаганды и рекламы, воздействующей
275
на человеческое сознание. Каждый из названных видов
техники непосредственно формирует специфическое поле
иррадиации. Вырисовывающаяся здесь картина
общественной действительности — это картина системы полей,
каждое из которых имеет собственный центр в виде
определенной техники.
Эту картину дополняет вывод, связанный с
дальнейшей критикой Маркса. Создатель исторического
материализма якобы не только упустил из виду другие типы
техники, кроме производственной, и влияние их на
свойственные им непосредственно области явлений, но недооценил
также то косвенное влияние, которое каждый из типов
техники может оказать на совокупность общественной
жизни. А ведь каждый из них может явиться исходной
точкой преобразования целой общественной структуры
пли сыграть ту роль, которую Маркс приписывает
исключительно производственной технике. Все названные здесь
типы техники являются с этой точки зрения
принципиально равноправными, и нет оснований приписывать какому-
нибудь из них особую и тем более исключительную роль.
Общество — это не только множество замкнутых полей с
собственными, так сказать, непосредственными центрами
управления. Это также множество полей, могущих в
соответствующий момент стать центром, динамизирующим
всю их совокупность, поэтому ни одно из них не является
особо привилегированным в силу самой природы
общественной действительности.
Маннгейм приводит своего рода иллюстрации,
подтверждающие эту точку зрения. Прежде всего это пример
немецкого фашизма. Мы уже упоминали, насколько
драматическим для Маннгейма был приход к власти нацистов.
Впрочем, подобная реакция была свойственна не только
ему. Такова была реакция почти всей либеральной
интеллигенции Германии. Именно в свете этих событий следует
рассматривать все позднейшее творчество Маннгейма.
Успех немецких фашистов он связывает прежде всего с их
пропагандистской техникой и, следовательно, со способами
воздействия на сознание и подсознание людей. Гитлера
он считал пзобретателем новой психологической
стратегии, которую называл «групповой стратегией нацистов».
К ее существенным чертам относятся: стремление к
дезинтеграции социальных общностей, таких, как семья или
церковь, лишающей индивидов психологической и соци-
276
алыюй опоры; создание «нового порядка»,
основывающегося на закабалении масс и обеспечении систематического
производства руководителей, сочетающих в себе
инфантильный эмоционализм со слепым повиновением;
оперирование пропагандистскими схемами, в которых индивид
никогда пе выступает как личность, но всегда как
собирательный член какого-либо коллектива — Немец, Поляк,
Еврей, плутократ, — являющийся объектом восхищения
либо безудержной ненависти.
Таким образом, фашизм продемонстрировал силу
психологической техники, ее способность выходить за сферу
профессионального применения и создавать новый
социальный порядок и новую социальную структуру,
способность индуцировать социальные изменения глобального
характера. Огромное значепие придается здесь также
организационной технике — опа «вызывает» к власти
группы 'менеджеров, усиливает роль государственной
бюрократии, участвует в устранении капитализма периода
свободной конкуренции.
Марксизм, выдвигающий на первый план
исключительно роль производственной техники, представляется Манн-
гейму в этой связи неправомерным обобщением и
распространением на всю историю человечества опыта,
связанного с промышленной революцией конца XVIII—начала
XIX века в Европе. В этот период экономическая техника
выдвинулась на первый план и сыграла роль фактора,
формирующего всю остальную общественную
действительность. Но это был только эпизод в истории человечества,
поскольку так было не всегда и такой ход истории вовсе
не обязателен. Упрочению могущества экономической
техники способствовала во времена Маркса неразвитость
других видов техники, а именно организационной и
психологической.
Такова в общих чертах маннгеймовская критика
марксизма в этом вопросе. Она вызывает разнообразнейшие
возражения более или менее принципиального характера.
Уже само понятие различных типов техники — либо
типов социальной техники, как предпочитает выражаться
Маннгейм, чтобы подчеркнуть их способность оказывать
прямое или косвенное воздействие на общественную
жизнь, — вызывает серьезные сомнения. Оно охватывает
явления по крайней мере двоякого рода, в чем Маннгейм
не отдает себе надлежащего отчета. С одной стороны, это
т
инструмейты, технические средства, используемые
людьми в разных областях: орудия труда и производственные
машины, ракеты и атомное оружие — в военной области,
радио и телевидение — в сфере информации и
пропаганды и т. д. С другой стороны, здесь вступают в игру
определенные способы влияния на людей, их поведение и
психику, способы регулирования поведения и т. д., связанные
с различными типами организационной техники в их
совокупности. Пропагандистская же техника имеет, как нам
представляется, смешанный характер. Наряду с
инструментами — типа радио — она охватывает также
разнообразные психологические «приемы», например различные
способы рекламы, описанные с таким мастерством В.
Паккардом, или упомянутую выше «групповую стратегию
нацистов», относящуюся скорее к области социальной
психологии.
Если мы говорим здесь об инструментах, то надо иметь
в виду, что инструменты должны быть сделаны. А это
отсылает нас, согласно Маннгейму, к производственной
технике. Ни самолеты и подводные лодки, ни радио и
телевизионная аппаратура не появляются сами по себе в
свойственных им областях (одни — в военной области,
другие — в сфере массовой коммуникации); они произведены,
то есть обязаны своим возникновением сфере
производства. Вызывавший возражения Маннгейма приоритет
последней в данном случае не подлежит сомнению.
Впрочем, этот вопрос анализировал в свое время
Энгельс в «Анти-Дюринге» на примере военной техники,
показывая многообразную зависимость ее от производства
и экономики. Военное судно — это для автора
«Анти-Дюринга» прежде всего «плавучая фабрика», то есть
выражение состояния и уровня производственной техники
данного времени и страны. Стрелковую цепь как форму борьбы
нашли американцы в войне за независимость, что связано
здесь с социальным качеством солдатского состава и с
таким экономическим фактом, как распространение
охотничьего искусства. Массовые армии и отход от строгих
форм движения войск на поле битвы являются делом
буржуазных революций. Список примеров можно продолжить.
Таким образом, основоположники марксизма осознавали
названную проблематику и усматривали в ней не
отрицание, а именно подтверждение предпосылок исторического
материализма.
278
Обратимся к технике в иеинструментальном ее
понимании, как схеме организации, либо так называемой
пропагандистской технике. Тщетно Маннгейм пытается
доказать, что творческие возможности этой техники приводят
к изменению общественных структур или по крайней
мере к массовому изменению позиций либо что она
ответственна за появление фашизма и ряда структурных
изменений в современном капитализме. При этом речь идет о
технике, ограниченность воздействия которой известна
даже в области торговой рекламы.
Эта техника возникает в определенных общественных
условиях и вызвана определенными потребностями.
Техника рекламы рождается в условиях чрезмерно
наполненного (по отношению к имеющемуся спросу)
капиталистического рынка. Техника организации, если не брать во
внимание государственную бюрократию, появляется
вследствие потребностей капиталистической промышленности
удовлетворить стремление к прибавочной стоимости; при
максимальном использовании технических возможностей
источником сверхприбыли могут быть для капиталиста
организационные эффекты. Условием целенаправленности
и успешности обоих типов техники являются
определенные социальные ситуации. Нельзя при помощи даже самой
лучшей рекламы продать самолет тому, кто не имеет
денег. Точно так же все социальные группы не могут
действовать вследствие пропаганды вопреки своим
жизненным материальным интересам и т. д.
Маннгейм испытывает здесь затруднения в
обосновании своих взглядов. В отдельных случаях он вынужден
признать, что фашизм — это результат действия
определенной исторической тенденции в тот период, когда
стихийное общественное развитие исчерпало свои
возможности. Эта мысль достойна внимания, но как ее согласовать
с убеждением, что фашизм является исключительно
результатом возникновения определенной техники
управления человеческим поведением? А тем более с
одновременным признанием, что эту технику породила потребность в
развязке фашистского типа.
В работах «Человек ж общество в век
перестройки» и «Свобода, власть и демократическое
планирование» («Freedom, Power and democratic Planning», 1950)
внимание Маннгейма сосредоточено на вопросе: если эра
стихийного общественного развития подходит к концу
279
вследствие прогрессирующей его сложности, а также
действия других механизмов, то в каком направлении оно
пойдет дальше и как сложится судьба человечества?
Ответ сводится к двум пунктам. Необходимо уже с
сегодняшнего дня сознательно управлять, или, как
предпочитает говорить Маннгейм, планировать, все имеющиеся
области общественной жизни, от экономики до
человеческой личности и процесса ее воспитания. Следовательно,
это программа глобального планирования. Далее, такое
планирование следует проводить демократическими
методами и в демократических целях, используя совокупность
доступных видов социальной техники. Одновременно это
программа всеобщего демократического планирования —
«планирования для свободы», как гласит формула Манн-
гейма, в отличие, например, от планирования
фашистского типа.
Придерживаясь такой концепции, Маппгейм отрицает
научный социализм и прежде всего программу социальной
революции. Политическая схема Маркса опиралась якобы
на слишком пессимистическую оценку капитализма и
слишком оптимистическое видение будущего. Из первой
вытекал вывод о необходимости революции, дополнительно
объясняющийся неэнаиием социальной техники. Для
второго характерна утопическая вера в то, что изменение
общественных условий автоматически сформирует новых
людей; эту веру усиливала в свою очередь убежденность
во врожденной человеческой доброте.
Критические замечания Маннгейма в адрес марксизма,
и в особенности Маркса, которого он обвиняет в утопизме,
кажутся тем менее обоснованными, что в своем анализе
общественной действительности и проектах будущего
Маннгейм почти полностью опустил вопросы
собственности и власти.
*
Не претендуя на окончательные формулировки,
попытаемся дать краткую характеристику Маннгейма в
идеологическом плане.
В его мышлении доминируют три сочетающиеся между
собой правила-ценности: 1) вера в многослойность и мно-
гоаспектность человеческого опыта — индивидуального и
280
коллективного, умственного н морального; 2) вера в
принципиальное равноправие, равную правомерность и
равноценность этих опытов; 3) убеждение в необходимости и
возможности их синтеза. На теоретическом уровне Манн-
гейм верит в возможность синтезирования различных
образов мира, возникших на почве различпых групповых
и классовых опытов; решение задачи этого
синтезирования он отводит работникам умственного труда. На уровне
социальной жизни и политики он признает возможность
такого образа действия, исходящего из опыта различных
общественных групп и слоев. Даже фашизм не смог
достаточно сильно поколебать это его убеждение.
Маннгейма можно назвать, пожалуй, идеологом средних
слоев буржуазного общества, разделяющим их
иллюзии как о надклассовости н надпартийности своих
взглядов и позиций, так и о возможности взаимного
опосредствования и согласования (после очищения от
крайностей) любых типов жизнедеятельности, существующих в
общественной жизни.
Идеологические конфронтации
Д. Белла
Дапиэль Белл как мыслитель и исследователь не
оригинален. Однако он обладает способностью придавать
завершенность доктринам и концепциям, заимствованным
у других, — качество порой гораздо более ценное для
распространения идеи, чем оригинальность. Так было с
концепцией конца идеологии, так обстоит дело, несомненно,
и с концепцией постиндустриального общества. Обе эти
концепции принадлежат к числу его наиболее известных
и признанных «довершений».
Развиваемые Беллом социальные взгляды и прогнозы
направлены против учения Маркса и научного социализма.
Можно сказать, Белл не упускает ни одной возможности
вступить с ними в полемику.
Поэтому выводы американского социолога должны
найти среди марксистов серьезный и эффективный отпор.
Тем более что эти выводы касаются наиболее
существенных теоретических и идеологических аспектов
марксистского учения — его пригодности как орудия анализа и
понимания современного мира, а также его роли как
идеологии и его социальной программы.
Необходимо отметить в этой связи и позитивную
сторону интереса к концепциям Белла. Зачастую в
мистифицированной и идеологически пристрастной форме в этих
концепциях проявляется весьма важное содержание,
касающееся капиталистической действительности,
направлений и тенденций, сущности и характера сдвигов,
совершающихся внутри капитализма, и т. д. Итак, вопросы и
проблемы, которые американский социолог пытается
разрешить, представляют для нас интерес.
Излишне подчеркивать неизбежную краткость, а
также публицистический и выборочный характер наших
заметок. Прежде всего они будут касаться тех выводов
Белла, в которых наиболее отчетливо проявляется его
конфронтация с учением Маркса.
282
I
1. Понятие отчуждения
Свой анализ мы начнем с темы, получившей в послед-
пне десятилетия заметную популярность в так называемой
марксологической литературе. Мы имеем в виду
проблематику отчуждения и ее место в учении Маркса.
В сборнике статей «Конец идеологии» («The End of
Ideology», 1969) Белл уделяет данному вопросу довольно
много внимания. Он утверждает, что проблематика
отчуждения занимает во взглядах Маркса особое место. Но это
справедливо лишь для раннего творчества Маркса. В
поздний период, а именно во время создания «Капитала»,
Маркс вынужден был отойти от этой проблематики.
Мотивы и причины данного шага, по мнению Белла,
разнообразны. С одной стороны, этому отходу способствовало яко*
бы убеждение Маркса в том, что понятие отчуждения и
связанные с ним исследования отягощены
идеалистическим содержанием; с другой — механизм внутренней
эволюции Маркса, приведшей после многих перипетий к
полному исключению всей этой проблематики или, скорее, к
такому ее преобразованию, что она перестала напоминать
свой прежний вид. Поэтому то поколение марксистов, к
которому принадлежали В. И. Ленин и Роза Люксембург
и др., последовательно исключало понятие отчуждения (и
даже сам термин) и связанные с ним проблемы. Об этой
проблематике, продолжает Белл, вспомнил среди
марксистов только Д. Лукач в своей книге «История и классовое
сознание» (1923). Причем он проявил удивительную
интуицию. Не зная текстов молодого Маркса, его «Эконо-
мическо-философских рукописей», опубликованных
десятью годами позже, он смог реконструировать
содержание концепции отчуждения молодого Маркса.
Все, кто пытается сегодня изучать концепции Маркса
в духе теории отчуждения, встречаются с двойственной
оценкой Белла. Белл-идеолог оценивает эти усилия
положительно, поскольку они способствуют гуманистической
и радикальной социальной критике, в том числе и критике
социалистических обществ. Однако Белл-теоретик
придерживается противоположного мнения, поскольку в этих
попытках он усматривает конструирование нового мифа,
заслоняющего фактическое содержание зрелого марксизма
283
гуманистическим содержанием раннего марксизма, якобы
преодоленного самим его создателем. Поэтому исторически
марксизм не является гуманистическим марксизмом, а
Маркс-гуманист не является социологом.
Итак, каким образом понимает американский
социолог марксову концепцию отчуждения?
Областью проявления отчуждения должна быть область
труда, понимаемого как деятельность по производству
материальных благ. В интерпретации этого явления у
Маркса Белл склонен выделить по меньшей мере два этапа.
На первом этапе отчуждение понимается Марксом еще
весьма абстрактно как процесс реификации, то есть
опредмечивания человека производимыми им вещами и
отчуждения этих вещей во враждебную и господствующую над
человеком силу. После расшифровки обеих формул вопрос
оказывается весьма простым. Речь идет о том, что
производитель-рабочий не осуществляет контроль ни над
организацией процесса труда, ни над его продуктами.
Но Маркс идет дальше. На следующем этапе он уже
отождествляет отчуждение с дегуманизацией и
эксплуатацией, в основе которых лежит явлепие, которое Маркс
определяет вновь введенным в свой категориальный
аппарат понятием прибавочной стоимости. Это понятие Белл,
разумеется, пе одобряет. Белл не был бы буржуазным
идеологом, если бы это было иначе. Введя названное
понятие, Маркс обнаруживает, что то, о чем шла речь у
него самого и у его предшественников, когда они говорили
об отчуждении, является процессом присвоения
капиталистом прибавочной стоимости, то есть определенной части
труда рабочего.
Понятие отчуждения становится поэтому лишним. Оно
оказывается замещенным экономической категорией
прибавочной стоимости. Тайна отчуждения раскрывается в
политической экономии. С этого момента Маркс якобы
больше не интересуется философией.
Фейербах включил понятие отчуждения в ряд
антропологических понятий, усматривая в нем описание
механизма религиозной проекции, в результате которой
человек создает бога и наделяет его своими лучшими чертами.
Маркс сделал на этом пути дальнейший и, как он сам
думал, последний шаг. Проекция, о которой говорит
Фейербах, это не что иное, как отторжение рабочим (в форме
прибавочной втоимости) частицы своей собственной лич-
284
ности в пользу капиталиста и преобразование этой части-
цы в чуждую и враждебную рабочему власть капитала.
Причем нельзя забывать, что рабочий «уступает»
капиталисту свой прибавочный труд по той причине, что перед
этим он уступил ему свою рабочую силу в форме товара,
то есть комплекс своих определенных человеческих
качеств, физических и умственных.
Приведенная нами интерпретация Беллом марксова
понятия отчуждения напоминает кривое зеркало, в
котором все отражается карикатурным образом. Сосредоточим
свое внимание на содержательной оценке его выводов,
оставив пока в стороне разнообразные идеологические
эффекты, вытекающие из них.
Итак, по меньшей мере два факта не вмещаются в
рамки представленной выше конструкции. Один из них
касается марксовой трактовки понятия продукта и,
соответственно, сферы или радиуса действия явления отчуждения.
Продуктами Маркс называет не только определенные
материальные предметы, но также идеи и совокупность
социальных отношений вместе со всей сферой учреждений.
Именно о столь широко понимаемых продуктах Маркс
говорит, что они подвергаются, либо могут подвергаться,
процессу отчуждения. Чтобы это доказать, достаточно
обратиться, например, к соответствующим главам
«Немецкой идеологии».
Итак, отчуждение является процессом, охватывающим
совокупность социальной жизни, а не только область
производственного труда. Оно вытекает из противоречия
между общественными производителями и их продуктами, из
обособления этих продуктов в самостоятельную силу, перед
которой производитель бессилен, которую он не понимает,
утрачивая сознание того, что он сам ее произвел. Так
обстоит дело с властью капитала над рабочим и властью
предыдущего исторического развития. Отчуждение труда
и продукта труда есть только особый и наиболее яркий
пример всеобщего явления отчуждения. И если Маркс
сосредоточивает на нем свое внимание в «Рукописях», то
делает он это не только потому, что в положении рабочего
видит высшее проявление всеобщего феномена
отчуждения, но также и потому, что рабочий класс он считает
общественной силой, способной положить конец этому
явлению и прийти к более углубленному пониманию
экономических механизмов капиталистической системы.
285
Белл прав, когда он связывает генетически и логически
исследования Марксом эксплуатации и прибавочной
стоимости с его анализом отчуждения труда. Но при этом он
делает две в высшей степени серьезные ошибки: считает,
что теория прибавочной стоимости замещает теорию
отчуждения в сочинениях позднего Маркса, а также
сводит отчуждение к отчуждению труда. Вторая ошибка
мешает Беллу понять, например, генезис исторического
материализма Маркса. А между тем все указывает на то,
что, равно как и проблематика прибавочной стоимости в
ходе исследования отчуждения труда, проблематика
исторического материализма вырастала из исследований
отчуждения во всех его проявлениях. В обоих случаях
речь идет о расшифровке механизмов исторической
объективации и об овладении ими.
Второй из фактов, не получивших освещения в рамках
интерпретации Белла, — это явление, которое Маркс
определяет в «Капитале» как «товарный фетишизм». Белл
упоминает о нем, но он далек от понимания его природы и его
значения.
Человек не только производит предметы, идеи, но
также придает действительности свои человеческие и
общественные черты. Вещи оказываются для нас не только
материальными предметами, имеющими те или иные
естественные характеристики, по также объектами,
наделенными разнообразными человеческими и
общественными -качествами. Опп становятся передатчиками значений,
символами национального либо религиозного культа,
носителями черт, оцепиваемых положительно или
отрицательно, и т. д.
Следовательно, мы опредмечиваемся по двум
направлениям — через структуру продуктов и через структуру
проекции. Отчуждение охватывает оба эти аспекта
опредмечивания. Если в первом случае оно приобретает вид
перевернутого отношения между продуктами и
производителем (не продукт зависит от производителя, а
производитель от продукта), то во втором случае оно выражается
в утрате человеческого и общественного содержания «при-
вносимых» в вещи общественных качеств, то есть в
сведении этих качеств к физическим свойствам,
принадлежащим вещам ex natura.
В «Капитале» Маркс анализирует эту ситуацию на
примере экономических качеств. Черты некоторых про-
286
дуктов, такие, как свойство быть товаром, депьгамтт,
капиталом и т. д., начинают выступать в общественном
сознании — ив доктринах экономистов — как имманептпые и
естественные черты. Взаимоотношение товаров теряет свою
действительную генетическую связь с взаимоотношением
производителей. Так, когда в условиях простого товарного
производства па рынке встречаются два производителя,
то дело выглядит таким образом, как если бы не их
общественное отношение воспроизводилось в форме
общественного отношения между товарами, а, наоборот,
взаимоотношение их товаров как вещей воспроизводилось бы в
структуре отношения между ними как производителями.
Именно это явление Маркс называет «товарным фетишизмом»,
под которым скрывается характерное для отчуждения
двойное движение — перевертывание направления
зависимости между производителем и продуктом, а также
сведение общественных свойств продуктов к их естественным
свойствам.
То, что присуще простому товарному производству, в
условиях капиталистического производства приобретает
соответственно усиленное выражение и ведет к более
сложным результатам. Натурализация и овеществление
охватывают здесь уже не только свойства продуктов, но также
определенные общественные закономерности и механизмы.
Это касается такой важной области, как производство и
распределение прибавочной стоимости. Капитал приносит
его обладателю (в зависимости от сферы применения)
прибыль либо процент; земля, сданпая в аренду
капиталистическому предприятию, приносит ее владельцу
земельную ренту. Так происходит в каждом из пазванпых
случаев в силу закономерностей, описанных Марксом в
теории прибавочной стоимости, ее форм и распределения
между отдельными группами капиталистов. Но эта
ситуация приобретает в сознании участников и наблюдателей
капиталистического производства, а также в буржуазной
экономической мысли мистифицированный образ.
Общественный процесс возникновения прибыли, процента и
земельной ренты, оторванный от своих источников и
производительного труда рабочего, начинает казаться
естественным и подчиняющимся естественным
закономерностям явлением. Соответственно этому пониманию, земля
дает земельную репту точно так же, как она родит зерно,
картофель и другие плоды. Подобным же образом обстоит
28?
дело с капиталом. В буржуазной экономической мысли
эта иллюзия приобретает форму так называемой теории
факторов производства. Земля и капитал (наравне с
трудом, являющимся единственным подлинным источником
стоимости) признаются наделенными прирожденной и
естественной способностью творить стоимость. Здесь
можно говорить о капиталистическом фетишизме, по
отношению к которому товарный фетишизм был бы только более
простой и исторически более ранней формой.
Идеологические результаты этого явления весьма существенны. Из
поля зрения исчезает эксплуатация как специфическое
общественное отношепие, а на ее месте появляется
естественный механизм увеличения стоимости, обусловленной
мнимой способностью капитала и земли производить эту
стоимость. Капитализм как система, подчиняющаяся
естественным закопам, теряет свой исторический и
исторически преходящий характер.
Разоблачению явления фетишизма, его результатов и
идеологических примепепий Маркс посвятил
значительную часть своей теоретической деятельности. Без учета
этого вопроса нельзя понять его основные концепции в
гуманитарной области в сфере теории и социологии
познания.
Теперь мы можем подвести итоги главным формам
искажений Беллом взглядов Маркса. Они выражаются в
ограничении отчуждения областью отпошений между
производителем и продуктом при одновременном исключении
процесса производства и того факта, что эти продукты
приобретают общественные свойства, а также в сужении
его понятия до понятия отчуждения труда.
Отбросив эти ограничения, мы убеждаемся в
несостоятельности провозглашенного Беллом противопоставления
«молодого» и «зрелого» Маркса. Мы видим, что автор
«Капитала» разрабатывает принципиально те же самые
проблемы, что и автор «Рукописей», с тем различием, что
он переместил акценты на несколько иные аспекты и
измерения этих проблем (факт сохранения исходной
проблематики в более позднем творчестве не перечеркивает того,
что в развитии взглядов Маркса совершились
качественные изменения на теоретическом уровне, связанные с
утверждением исторического материализма). Главный
труд Маркса подвергает критике определенную
теоретическую ошибку — отождествление общественных качеств
288
вещей и предметов с их физическими свойствами, то есть
ошибку, являющуюся следствием и одновременно формой
проявления структур отчуждения в человеческом
мышлении. Соответственно этому несостоятельно также и
обвинение зрелого марксизма в отказе от гуманистического
содержания, то есть в отказе, который, по мнению Белла,
произошел в связи с исключением Марксом категории и
проблематики отчуждения.
Проблематика отчуждения не исчезает из поля зрения
Маркса. Это подтверждает еще раз текст «Критики
политической экономии», подготовительных материалов к
«Капиталу», написанных в 1857—1858 годах. Однако чем в
таком случае объяснить факт некоторого несомненного
«угасания» этой проблематики в зрелом творчестве Маркса,
по крайней мере в явно выраженной форме.
При ответе на этот вопрос необходимо, по нашему
мнению, учесть два обстоятельства. Во-первых, Маркс,
будучи истинным исследователем, не ограничивается общими
формулировками, а углубляет исследование проблем,
отыскивая все более копкретные и детальные решения.
А проблематика отчуждения, при всей ее важности и
значении, является весьма общей. Поэтому в своем
дальнейшем творчестве создатель марксизма имеет дело, скорее,
с ее разнообразным уточнением и конкретизацией,
логическими выводами, содержательными следствиями и т.д.
Этот процесс можно проследить от появления в сфере его
интересов исторического материализма вплоть до
экономических анализов. И это явление вполне естественно для
процесса развития любого научного исследования. Вывод
об исключении проблематики отчуждения либо о
замещении ее какой-либо другой свидетельствует о полнейшем
непонимании логической структуры и внутреннего
развития мысли Маркса. Эта проблематика составляет скрытый
фон более поздних анализов Маркса и вместе с тем
действенный источник его размышлений. Это касается также
наследников и продолжателей Маркса, которые, не
употребляя понятия «отчуждение» и даже не упоминая о нем,
все же рассуждали в поле его воздействия.
Во-вторых, отчуждение — это явление в некотором
смысле надклассовое. Ему подвержены все без
исключения — как рабочие, так и капиталисты, несмотря на
различные травматизирующие последствия и различное
субъективное отношение к самому этому явлению. Остановка
289
на анализе отчуждения и его структур и даже чрезмерное
и частое выдвижение на первый план этой проблематики
привели бы к забвению проблемы классовых
противоречий. Этот факт, очевидно, сыграл свою роль в более
позднем отношении Маркса к проблематике отчуждения.
Чтобы определить источники, сущность и характер
противоположности рабочего класса и буржуазии, необходимо
перейти на другой уровень обобщения, анализа, нежели
тот, который предлагает проблема отчуждения, то есть
необходимо пойти по пути конкретизации общего для
обоих классов социального *и исторического
положения.
Белл ошибается не только в интерпретации категории
отчуждения и причин некоторого угасания интереса к ней
в позднем творчестве Маркса, но так же и в оценке
отношения концепции отчуждения Лукача в период
«Истории и классового сознания» к концепции
отчуждения Маркса.
В своей книге Лукач исследует не деформацию
общественного процесса объективации, не опредмечивание
человека в его продуктах — что составляет суть марксова
понимания, — а явление переноса структур, свойственных
товарному производству, на совокупность общественной
жизни в условиях капитализма — на межчеловеческие
отношения, искусство, философию, научное познание и т. д.
Все эти явления, которые развиваются одновременно,
имеют многочисленные точки соприкосновения и даже общий
корень, отнюдь не идентичны. Лукач не случайно
употреблял для определения исследуемой им проблематики
термин «реификация» (овеществление). Товарное
производство ведет к противопоставлению стоимости —
потребительной стоимости, количества —- качеству, абстрактного—
конкретному. Такого рода противопоставление и
распространение количественных и формальных . измерений
можно найти и в других областях общественной жизни, в
общественном сознании и познании. Поднимая данную
проблематику, Лукач шел следом за М. Вебером и В. Зом-
бартом, и особенно за первым из них, исследовавшим
аналогичный процесс распространения принципа
рациональности, перенесения его из сферы экономических и
административно-правовых отношений на остальные
сферы капиталистической действительности. Это не означает,
что Маркс не проводил подобных анализов и что Лукач не
19 Ст. Раиико
290
разделял ряда его соображений. Однако от такого
утверждения очень далеко до заявлений, будто Лукач
гениально отобразил целостность концепции Маркса.
Открытый спор Белла с Марксом и марксистами
начинается там, где в сферу полемики включаются вопросы об
источниках отчуждения и способах его преодоления.
Данные вопросы далеко не нейтральны с идеологической точки
зрения; этим объясняется то, что они вызывают столь
жаркие дискуссии.
Именно ограничив отчуждение процессами
производственного труда, Белл приходит к выводу, что источником
отчуждения является сам процесс труда и его
организация, то есть технологические и социотехнические
моменты. В соответствии с этим он считает, что для успешной
борьбы с отчуждением достаточно осуществления таких
мероприятий, как уменьшение рабочего дня и увеличение
свободного времени, автоматизация, придание труду
нового либо возвращение утраченного смысла, привлечение
рабочих к участию в управлении промышленностью и т. д.,
или использования совокупности различных видов
техники при сохранении классовой и социальной структуры
буржуазной системы.
В этой связи очевидно, почему Белл с таким упорством
отстаивал узкое понятие отчуждения, ограничение его
областью труда. Речь шла о предпосылке, которая служит
основой важного идеологического вывода. Такой вывод
был бы невозможен при достаточно широком и
отвечающем взглядам Маркса понимании отчуждения.
Сначала Маркс, по мнению Белла, вынужден был идти
подобным путем, и частичные свидетельства этого еще
якобы сохранились в «Капитале». Но он оказался
непоследовательным, быстро покинув твердую почву
эмпирических анализов и вернувшись, так сказать, к социальной
метафизике: частную собственность, товарное
производство и т. д. он признал источником отчуждения. Таким-то
образом буржуазный теоретик и перекраивает Маркса по
своему образу и подобию, выявляя вместе с тем свою
мелкобуржуазную и позитивистскую методологию и
аксиологию! Не стоит добавлять, что после обработки Беллом
Маркс оказывается еще и незрелым
социологом-эмпириком, которому впору костюм буржуазного либерала.
Единственной «помехой» оказывается сознание революционера,
291
а также антипозитивистские и историко-социальные
позиции Маркса, то есть как раз то, что составляет
историческое и научное величие Маркса.
При случае Белл не пренебрегает также явными
искажениями, злоупотреблениями и даже клеветой. Так,
например, известному шестому тезису о Фейербахе он
придает следующий смысл: местом средоточия человеческой
сущности являются, по Марксу, общественные классы, а
не индивиды. Однако, как известно, в этом тезисе
утверждается только то, что сущностью человека является
совокупность общественных отношений, что взятый вне
этих отношений индивид — абстракция. Подобная
интерпретация — без каких-либо пояснений и с намерением
убедить нас в дословности прочтения текста Маркса —
открывает широкие возможности критики марксистского учения
в связи с мнимым отрицанием им человеческой
субъективности, ликвидации проблемы моральной ответственности
человека и перемещением ее на внеличностные механизмы
и т. д. Клеветой являются также заявления об отсутствии
у Маркса интеллектуальной лояльности. Свои главные идеи
он якобы заимствовал у современных ему мыслителей:
понятие отчуждения —у Фейербаха, понятие
коммунизма — у М. Гесса, идею собственности и ее стадий — у Пру-
дона, концепцию сознания —у Б. Бауэра. Стремясь
прослыть оригинальным и будучи недовольным фактом
синтезирования этих идей, Маркс будто бы подвергал обычно
этих теоретиков пристрастной и нелицеприятной критике.
Белл — этот законченный эклектик, в чем мы еще
неоднократно убедимся, — не может даже представить себе, что
такая грапдиозпая теоретическая система, как марксизм,
просто не сводится к сумме отдельных ходячих идей. Ясное
осознание Марксом своих творческих и научных
обязательств общеизвестно. Достаточно назвать здесь его
отношение к Гегелю и Фейербаху, а также ту настойчивость,
с которой Маркс цитирует в «Капитале» давно забытых и
редко цитируемых авторов. А в том, что в споре с
современниками дело не сводилось к интеллектуальному
приоритету, пустому честолюбию или проявлению
полемического темперамента, Белл мог бы убедиться, освежив в
памяти, например, текст «Немецкой идеологии» или
«Нищеты философии».
19*
292
2. «Конец идеологии».
Между метафизикой и действительностью
Приближается конец идеологии, объявляет Белл.
Традиционные идеологические системы исчерпали свои
творческие возможности и отходят в прошлое.
Однако это касается специфического культурного
круга и специфического типа идеологии, а именно —
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, а также
идеологий, ведущих свое начало из XIX века. Последние—
это универсальные идеологии, то есть идеологии, не
ограниченные каким-либо локальным коллективом,
гуманистические, апеллирующие к таким ценностям, как свобода,
социальное равенство, справедливость и т. д.,
опирающиеся на историко-социальные предпосылки типа веры в
прогресс и историческую необходимость, наконец,
провозглашаемые интеллигенцией, которая ищет свое место в
обществе.
Их противоположностью Белл считает вновь
возникающие идеологии государств и общественных движений
стран Азии и Африки. Они имеют локальный
инструментальный характер, выступают под лозунгами
индустриализации и экономического развития, национализма и
народной власти и выдвигаются, как правило,
политическими вождями. К этим идеологиям (и географическим
регионам) он не относит вынесенный приговор. Все они
находятся в полном расцвете, а различие между ними и
идеологиями старого типа дает ключ ко многим проблемам
второй половины XX века.
Конец идеологии не означает, однако, конца утопии.
Белл использует здесь известное разграничение этих двух
видов сознания и общественных доктрин. Признавая за
утопиями право на дальнейшее существование, Белл хотел
бы, однако, чтобы они удовлетворяли некоторым
условиям. А именно: это должны быть эмпирические утопии,
достаточно точно предписывающие, куда необходимо идти,
каким образом, какова общественная цена этого
предприятия и, возможно, кто эту цену должен заплатить.
Не вдаваясь пока в оценку этих утверждений и
предложений, заметим только, что Белл позаимствовал здесь
у Маннгейма значительно больше, чем он сам признает.
Так, Маннгейму он обязан не только разграничением
идеологии и утопии, но также и мыслью относительно раз-
293
личпой оценки их возможных дальнейших судеб. В своей
«Идеологии и утопии» Маппгейм признает возможность
вытеснения и отмирапия идеологии, склоняясь к ее поло*-
жительной оценке. По-иному он оценивает утопию.
Отмирание утопии повлекло бы за собой преобразование
человека в вещное бытие, движимое исключительно
естественными влечениями, а человеческую историю лишило бы
системы соотнесения и необходимого масштаба оценок, в
результате чего оказалось бы невозможным как творение,
так и понимание истории.
Белл называет в качестве причин отмирания либо
утраты силы идеологии следующие: 1) травмирующий
политический и человеческий опыт нашего века, такой,
например, как фашизм и концентрационные лагеря; 2)
преобразования внутри современного капитализма, связанные
главным образом с политикой так называемого welfare
state; 3) довольно распространенное признание
интеллектуалами Запада таких социальпых п политических
ценностей, как социальная политика, смешанная экономика,
децентрализация власти, политический плюрализм и т. д.
Однако нетрудно заметить, что вывод о конце века
идеологии не следует из названных причин. Если их
вообще можно признать без оговорок, то онп указывают самое
большее на тот факт, что в некотором
социально-культурном пространстве наступил временный спад острых
напряжений и идеологических диспутов вкупе с известпым
недоверием к традиционным идеологиям. Делать отсюда вывод
об отмирании идеологии как таковой равносильно
признанию того, что воздух существует только тогда, когда мы
усиленно дышим, либо притяжение действует только
тогда, когда нам па голову падают кирпичи.
Для марксиста вопрос ясен с самого начала. Если
идеология является выражением классовых интересов, то об
отмирании ее можпо говорить только тогда, когда
перестанут существовать общественные классы.
Противоположная точка зрения относится к числу идеологических
мистификаций, то есть к попыткам представить ту или иную
идеологию в неидеологическом одеянии. Разве что
изменился бы весь предшествовавший тип исторического опыта
и классовые интересы получили бы возможность
проявляться прямо, без посредничества сознания и интеллекта.
Но это невозможно так же, как успешное удовлетворение
естественных потребностей индивида без предыдущего
294
ощущения пх как потребностей или без регистрации их
созпапием. Идеологии играют по отношению к интересам
соцпальпых групп более или менее ту же роль, что и со-
зпапне состояний и естественных потребностей по
отношению к индивиду, то есть идеологии являются их
выражением и сознательной трансформацией, орудием
защиты и обоснования, видом санкций и проектом
реализаций.
Белл пытается избежать тех последствий, которые
перечеркивали бы его веру в приближающийся конец
идеологии из-за несовершенства самого определения
понятия. С этой целью он применяет двойную тактику:
во-первых, придает соответственно широкий смысл
понятию идеологии; во-вторых, отделяет вслед за Маннгеймом
идеологию от утопии и дифференцирует прогнозы,
касающиеся их судеб. Но, как обычно бывает в подобных
ситуациях, Белл сталкивается здесь с еще большими
затруднениями.
Под «идеологией» он понимает некоторые структуры
сознания, не всегда (не обязательно) выражающие
интересы какой-либо группы, отягощенные эмоциональным
грузом и связанные с общественным действием,
содержащие обычно упрощенный образ мира и претендующие на
истину. При таком широком истолковании этого понятия
Белл уже не имеет никаких шансов на защиту своего
тезиса. Отсутствие данного типа структур означало бы
конец истории.
Кроме того, представленные выше аргументы скорее
подтверждают противоположный тезис, нежели
доказывают его собственный. Признание интеллектуалов — это
признание ими таких или подобных структур и,
следовательно, содействие их расцвету, а не гибели.
Преобразования в капиталистическом мире, о которых говорит Белл,
также вытекали из этого типа интеллектуальных явлений
и управлялись ими. Следовательно, нельзя считать их
выражением игнорирования или упадка идеологической
мысли. Более того, чем отличались бы (кроме уровня
конкретизации) идеологии в этом смысле от того, что Белл
называет утопиями?. Здесь певозможпо было бы выделить
какие-нибудь существенные отличия. А если это так, то
почему идеологии должны отмирать, и утопий
развиваться? Разграничение этих двух понятий у Белла только
- внешне запоминает подобное же разграничение, проводи-
№
мое Маннгеймом. Однако эти вопросы уЖе выходят за
рамки нашей темы.
Тезис о конце идеологии Белл сформулировал в
пятидесятые годы, когда подходила к концу эпоха холодной
войны и связанных с ней идеологических коллизий.
Диалог и сосуществование, требования прагматического
свойства могли внушить мысль, что наступило время затишья
великих идеологических битв. Однако и это нельзя считать
объяснением. Борьба между социализмом и капитализмом
происходит также и в идеологической плоскости (а может
быть, прежде всего в этой плоскости); она постоянно будет
вызывать фундаментальные идеологические дебаты по обе
стороны политических рубежей современного мира. Бее
творчество Белла, открыто вовлеченное в идеологическую
борьбу, является ярчайшим подтверждением этого.
Здесь мы подходим к совершенно иному аспекту
рассмотрения концепции Белла. До сих пор она
рассматривалась нами исключительно как эмпирическая либо
квазиэмпирическая. Теперь необходимо подвергнуть анализу ту
идеологическую точку зрения, которую она выражает.
Итак, первым и непосредственным выводом из
утверждений Белла является отрицание марксизма как
идеологии будущего. Приговор, вынесенный идеологиям
XIX века, относится прежде всего к марксизму. Причем,
Белл не намерен это скрывать. Это пока первая и чисто
формальная придирка к марксистскому учению. За нею
следуют другие, касающиеся некоторых содержательных
положений марксизма.
Однако у тезиса Белла-теоретика имеется и менее
явный смысл (мы сомневаемся, что он вообще его
осознает), на который следовало бы обратить самое серьезное
внимание. Этот тезис можно воспринять как симптом
изменений, совершающихся в настоящее время в структуре
идеологического сознания некоторых групп и слоев
капиталистических обществ. В пользу этого говорят:
относительно широкое его распространение по крайней мере в
минувшем десятилетии; поддержка, которую он находит,
несмотря на слабое подтверждение его эмпирическими
фактами; связанные с ним надежды одних и опасения
других; сопутствующая ему эмоциональная атмосфера, а
также его многообразные политические следствия. Все это
характерные признаки буржуазных пропагандистских
концепций, которые, как правило, возникают и удерживаются
296
благодаря действию иных механизмов, йеЖеЯй йаучйые
теории.
Традиционные приемы идеологической мистификации
направлены на то, чтобы скрывать факт принадлежности
какой-либо системы взглядов к идеологии. Таким целям
служили, например, критиковавшиеся еще Марксом
претензии идеологии на универсальность: идеологическая
система должна была считаться представляющей не
классовые, а общечеловеческие интересы. С этой точки зрения
тезис о конце идеологии свидетельствует о существенных
преобразованиях. Впервые в арсенале средств
идеологической мистификации оказалась попытка отрицания
необходимости существования идеблогий как таковых.
Вместе с тем эта попытка сама претендует на статус
неидеологического акта, выражаемого как строго научная,
эмпирическая констатация и прогноз. Таким путем любые
системы могут быть представлены без особых усилий как
неидеологические. Эта проблема будет разрешена при
помощи науки, будет уничтожена сама потребность в
мистификации.
Однако тезис о конце идеологии не только
функционирует в рамках структуры идеологической мистификации;
он сам основывает и имплицирует определенную
идеологию. Принципиальным элементом этой идеологии является
отрицание необходимости идеологии.
Рассмотрим этот вопрос детальнее. Итак, идеологии
являются не только формой выражения интересов
определенных социальных групп. Они являются также
некоторым технологическим знанием, то есть их связь с
человеческим действием и общественной практикой иная,
нежели в случае естественнонаучных дисциплин либо в
случае общественного знания, обладающего социотехническим
характером. Эта связь осуществляется не путем
«перевода» соответствующих тезисов на язык технических и
практических директив, она служит основой актов
субъективного переживания и одобрения, которые в дальнейшем
могут реализоваться в революционных и других действиях
индивидов и групп. Следовательно, условие этого
явления — изменение самой личности, а не применение
готового знания к предметам.
Технологическое знание относится к объекту своего
применения как к предмету — безразлично, будет ли это
неживой предмет или же человек (как в случае психоло-
297
гпческого знания или большей части социологического
знания, например, социологии промышленности либо
теории организации и управления). Это зпание применяется,
как бы накладываясь на предмет извне. Иначе обстоит
дело с нетехнологическим знанием. Идеология,
мировоззрение, философия и гуманитарные науки (например,
общая теория общества, теория культуры) не
применяются, а признаются и переживаются. Они соотносятся с
субъектом как единственным пачалом, преобразующим их в
действенные социальные орудия. Ссылаясь на известное
положение Маркса, можно сказать, что знание первого
рода стаповится материальной силой с того момента, когда
находит свое техническое либо социотехпическое
применение, а знание второго рода — с момента, когда оно
овладевает массами, то есть когда становится содержанием их
внутренней жизни и источником мотивационных сил.
Формулу «конца идеологии» можно рассматривать как
элемент общего стремления, направленного на
дискредитацию нетехпологического знания и даже на полное
вытеснение некоторых его составных частей из области
общественного знания. Позитивистская и неопозитивистская
традиционная критика философии действует в том же
направлении, что и теоретики «конца идеологии», несмотря
на отсутствие между ними явной взаимосвязи. Скрытой
целью всех этих усилий является стремление сохранить
и упрочить исключительно технологическое отношение к
миру, то есть такое отношение, когда мир дан человеку
как вещь для технического овладения. Это мир, в
котором людей не убеждают, а руководят и управляют ими.
Следовательно, формула «конца идеологии» выступает
в конечном счете как проект преобразования человека в
вешь, а всего общества — в систему, образцом для которой
является система нечеловеческой природы. Причем данная
формула антиномична: отрицая идеологию и
провозглашая ее конец, она сама использует средства
идеологического убеждения и, таким образом, подтверждает веру в
невозможность полной ликвидации нетехнологических
способов формирования человеческой личности. Другими
словами, тезис об исключительности технологической
позиции невозможно распространить ппаче, как только не-
технологическими и идеологическими средствами, и,
следовательно, здесь пельзя избежать практической аптино-
МДЯ цлц ситуации, при которой содержание тезиса исклю-
298
чает средства, необходимые для его выражения либо
реализации.
Мы считаем, что рассматриваемые явления, одним из
примеров которых является доктрина, провозглашающая
конец идеологии, свидетельствуют о переменах,
совершающихся в глубоких «слоях» массового сознания
современных капиталистических обществ. Причины этих перемен
весьма реальны. Небывалый прогресс техники
способствует укреплению технологической позиции и навыков
мышления о мире в технологических категориях. Все
большее число областей общественной жизни — начиная
от экономики и кончая общественным мнением —
обнаруживают трудности стихийного развития и становятся
предметом социотехнических манипуляций и операций,
которые в своей структуре не отличаются от начинаний
техники в области нечеловеческой природы. Но эти
причины сами по себе не в состоянии породить новые
идеологические явления, к ним добавляется классовый интерес
определенных слоев и групп.
Речь идет здесь о слоях, составляющих относительно
недавний продукт капиталистического общества и
охватывающих довольно широкий круг лиц — начиная от
специалистов по рекламе и манипуляции общественным
мнением и кончая менеджерами и политиками, которые,
будучи не способными создавать новые ценности, предлагают
социальную технику и манипуляцию. Эти слои в силу
ввоей профессии и группового интереса не могут видеть
действительность иначе, как только через призму
технических и социотехнических операций. Такое видение
обладает дополнительными достоинствами, которые делают его
совершенным идеологическим инструментом для
удовлетворения потребностей всего буржуазного общества как
классового общества. Оно исключает ситуации, которые не
имеют чисто технического и инструментального характера,
а к таким ситуациям относится классовая борьба и ее
источники; оно создает иллюзорное представление, будто
любую социальную проблему можно свести к
соответствующим техническим проблемам, которые могут быть
успешно решены в рамках status quo; оно прикрывает
классовое господство буржуазии ширмой технических
манипуляций, апеллируя к навыкам и умственным
ассоциациям современного человека. Результатом всего этого
оказывается появление нового типа идеологии, называемой
299
технократической. Она составляет надстройку сознания
современных капиталистических обществ; к
существенным чертам технократической идеологии относятся, как
мы помним, вера в исключительность технологического
знания, распространение иллюзии о своем
неидеологическом характере, а также связанная с этим
противоречивость.
Таким образом, тезис о «конце идеологии»,
рассматриваемый в идеологической плоскости, оказывается между
мистификацией и действительностью —
мистифицированной неидеологичностыо и действительностью
технократической идеологии — и является одновременно их
симптомом, самопредставлением и составным элементом.
Последний вопрос требует углубленного анализа
идеологий — типологии их форм и истории преобразования.
Достаточно обратить внимание хотя бы на характерные
изменения способов выражения и оправдания классового
интереса, наблюдавшиеся в истории идеологий. В
докапиталистических идеологиях, например феодальных,
классовый интерес прикрыт покровами метафизических,
космологических, религиозных и мифологических
обоснований. В идеологиях классического капитализма
аналогичную роль исполняет видимость общечеловеческой
аксиологии — формальное право и внеисторические концепции,
связанные с идеей вечности человеческой природы и
естественного общественного порядка, следовательно,
мистификации, почерпнутые из области межчеловеческих
отношений. В современном капитализме эту роль берут на
себя, как мы видели, теоретические или
теоретико-мифологические схемы, выводимые из области отношения
человека к миру предметов, подлежащих техническому
овладению и преобразованию, либо технократические
мистификации.
3. Вопрос о субъекте марксистской идеологии
Марксизму Белл предсказывает такую же судьбу, как
и другим идеологиям; он не только вскоре должен
исчезнуть с исторической сцены, но он также имеет характер
мистификации.
Утверждение, что субъектом марксистской идеологии
является рабочий класс, то есть что эта идеология
адекватно выражает его интересы и служит им, — иллюзия,
300
считает Белл. По его мнению, подлинным, а не
иллюзорным субъектом марксистской идеологии (в этом-то и
заключается мистификация) является интеллигенция.
Это означает, что пролетариат, ведя революционную
деятельность, отстаивает не собственные интересы, а
интересы других общественных групп. Поэтому социализм
не дает рабочему классу власти и не освобождает его от
эксплуатации и социального порабощения, а только
заменяет прежних его угнетателей новыми. Социализм —
классовая система, однако господствующим классом в пем
является не пролетариат.
Белл не может претендовать на авторство этих идей и
вполне осознает это. Их подлинным автором следует
признать польского революционера конца XIX — начала
XX века, бывшего марксиста и социал-демократа
Вацлава Махайского, сегодня уже совершенно забытого. В
своих работах «Эволюция социал-демократии» (1899) и
«Работник умственного труда» (1904) он провозглашал, что
теория научного социализма является замаскированной
идеологией интеллигенции и что социалистическая
система заменит власть одного класса властью другого, которым
на этот раз будет интеллигенция. При этом понятие
интеллигенции он истолковывал широко, включая в него также
техников, организаторов, администраторов, педагогов и
журналистов.
Белл говорит о взглядах Махайского во вступлении к
одной из глав своей книги «Конец идеологии». Однако это
не означает, что он не вносит в эту концепцию никаких
новых элементов. Так, ему принадлежит попытка
углубить концепцию Махайского и подтвердить ее историко-
социальными и социологическими изысканиями.
Вернемся еще раз к проблеме идеологий, чтобы
завершить принципиально важную мысль Белла. Идеологии,
которые он критикует и которым выносит приговор,
являются делом интеллигенции не только в том смысле, что
она их творит и разрабатывает, но и в более глубоком
смысле, как выражение общественной позиции и
интересов интеллигенции, ее потребностей и ценностей. С этой
точки зрения традиционные идеологии только по
видимости касаются интересов других групп и общественных
классов. Можно сказать, что эта видимость и составляет
элемент мистификации. По сути дела они отражают
интересы и положение интеллигенции.
301
Эту мысль Белл старается определить точнее. В
условиях капиталистического общества интеллигент чувствует
себя отчужденным и озлобленным. Ценности, которым это
общество подчиняется, не являются его ценностями.
Поэтому в порыве бунта он отбрасывает буржуазную
цивилизацию и превращается в политика. Выражением этого
служат конституированные им идеологии.
Из такого понимания идеологии следует, что ситуация
марксизма вполне обычна. Каждая идеология XIX века
является орудием в руках интеллигенции, она только
создает видимость служения интересам определенных
общественных классов и групп.
Теперь мы можем назвать еще одну причину, может
быть для Белла наиболее важную, в силу которой, по его
мнению, идеологии теряют свое влияние и значение.
Современная интеллигенция утратила доверие к этим
инструментам самовыражения и реализации своих потребностей.
Идеологии, возникшие как результат фрустрации
интеллигенции, вызванной видом и характером ценностей,
признаваемых в буржуазном обществе, рушатся в результате
очередной фрустрации, вызванной на этот раз самими
применяемыми идеологическими инструментами, их
непредвиденными эффектами или отсутствием таковых.
Таким образом, все замыкается в кругу «частных»
переживаний и опыта узкой социальной группы.
Дополнительным аргументом, подтверждающим тезис,
будто марксизм является идеологией интеллигенции,
должно быть, по мнению Белла, известное положение о
необходимости внесения сознания в рабочий класс извне.
В этом положении речь идет о том, что пролетариат не
способен самостоятельно и стихийно осознать свое место в
обществе и свои исторические задачи. Это требует знания
современной науки и тончайших инструментов
теоретического анализа п должно быть делом интеллигенции (в
данном случае делом Маркса, Энгельса и их последователей),
сознательно отождествляющей свои интересы с позициями
пролетариата. В указанном положении Белл усматривает
также опасность для исторического материализма, а
именно для принципа, провозглашающего, что общественное
сознание детерминируется общественным бытием.
Поэтому вопрос о том, каким образом пролетариат осознает свою
роль, Белл называет «большой нерешенной дилеммой
марксовой социологии».
302
О самой интеллигенции (этом якобы едийС?венйОМ
субъекте традиционных идеологий) Белл может сказать
относительно мало. От ученых ее отделяет своеобразный
интеллектуальный аутизм, то есть исключительная
сосредоточенность на собственной личности, и созерцание мира,
сильно окрашенное субъективизмом, а от других слоев и
классов, например от рабочего класса, — максимализм
притязаний и стремлений. Интеллигент действует как бы
по принципу «все или ничего»; его не удовлетворяет
никакая частичная реформа или частичный успех. Поэтому, как
утверждает Белл, если рабочие уже смогли чего-то
достигнуть, то интеллигенция не достигла еще ничего. Отсюда,
по-видимому, ее разочарование в идеологии и отказ от нее.
Трудно сказать, осознает ли Белл все предпосылки,
которые необходимо принять, чтобы его концепция
вообще могла быть последовательно сформулирована. В
любом случае эти предпосылки он не высказывает прямо, да
и саму концепцию намечает едва заметными штрихами,
что оказывается в разительной диспропорции с важностью
решаемых проблем.
Из трех разных концепций, касающихся роли и
социального статуса интеллигенции, американский социолог
вынужден принять ту, которая выглядит более
радикальной и которую невозможно последовательно выразить.
Согласно первой концепции, все еще находящей
сторонников, интеллигент является своего рода
общесоциальным функционером либо даже «функционером
человечества» («функционерами человечества» Эдмунд Гуссерль
называл философов). Он призван оставаться на службе
общечеловеческих моральных и интеллектуальных
ценностей, ему нельзя подчиняться никаким групповым или
классовым интересам. В приверженности к таковым
современной интеллигенции Ж. Бенда — сторонник
обсуждаемой здесь концепции — видит одно из наиболее
удручающих явлений современности, рассматривая его как
«измену клерков».
Согласно второй концепции, основной задачей
интеллигенции, определяющей ее общественную роль, является
именно постоянное служение классовым и групповым
интересам. Интеллигент выступает здесь как создатель
идеологий, мировоззрений, философских школ и систем
ценности, которые (безразлично, посредством каких иллюзий)
скрывают определенное классовое содержание. Другими
303
словами, интеллигент является здесь функционером
общественных классов и групп. Однако он не обязательно
должен быть связан постоянно с интересами какой-либо одной
группы; он может оказаться в сфере воздействия
нескольких разных групп. Но эта ситуация не дает ему никаких
прерогатив в познавательной сфере; например, вопреки
тому, что считал Маннгейм, она не наделяет его
способностью более объективного видения социальной
действительности и создания ее адекватных картин. По сути дела
она может оказаться (и так бывает чаще всего)
источником дополнительных ошибок, иллюзий надклассовости и
эклектических концепций.
Ни в одной из представленных концепций
интеллигенция не рассматривается как группа, имеющая свои
специфические интересы, которые требовали бы
идеологического выражения и идеологической защиты. В первом случае
она выступает как представитель общечеловеческих
интересов, во втором — групповых, частных. Она не имеет
собственных устремлений, выступает в роли слов и знаков
(говоря языком семантики) для обозначения чужих
интересов.
По-иному обстоит дело с третьей концепцией.
Интеллигенция понимается здесь как группа и даже как класс,
имеющий определенные интересы и место в общественной
структуре. Она является группой среди других групп и
классом среди других общественных классов.
Белл признает последнюю концепцию, хотя он и не
описывает ни одного комплекса интересов, специфических
для интеллигенции. Однако принятие этой концепции
позволяет ему принципиально утверждать, что
интеллигенция способна производить идеологии от своего
имени.
Мы подчеркивали, что эта точка зрения является
радикальной и такой, которую трудно последовательно
выдержать. Так оно в сущности и есть. Если интеллигенция
является относительно гомогенной группой, то как
объяснить то, что она создает прямо противоположные и
противоречащие друг другу идеологии, например, такие, как
марксизм и различные буржуазные идеологии? Если же
интеллигенция не имеет общей структуры интересов, то
она не может считаться самостоятельной группой в
социологическом смысле и субъектом особых идеологических
доктрин,
304
Та же самая трудность может предстать и в другой
формулировке. Если интеллигенция имеет собственную
позицию и интересы, от имени которых она высказывается,
то как происходит, что она может создавать идеологии в
интересах других классов? Если же все идеологии,
которые она создает, имеют в качестве предмета ее
собственную ситуацию, то как понимать, что к этой самой
ситуации относятся одновременно группы общественных
идеологий, противоречащих друг другу и ведущих между собой
открытую и непримиримую борьбу?
Нельзя последовательно (а на это претендует Белл)
отстаивать два тезиса, один из которых гласит, что
интеллигенция является общественным субъектом всех
идеологий, производимых ею, а второй признает за этим
субъектом одно из мест среди ряда других групп и классов.
Мы уже знаем, что Белл связывает генезис идеологий
с фрустрацией и бунтом интеллигенции, направленным
против буржуазного общества. Как в связи с этим следует
толковать доктрину либерализма и свойственные ей
разнообразные исторические версии и модификации? Они
являются, несомненно, делом интеллигенции, начиная
(называем здесь лишь некоторые наиболее известные имена)
от Джона Локка, позднее Джона Ст. Милля и кончая
Джоном К. Гэлбрейтом. Однако трудно заметить в их теориях
след бунта против буржуазного общества. Более того,
либерализм является классической идеологией буржуазии,
и только на данном этапе он переживает кризис. Не
исключено, что концепция конца идеологии описывает в
мистифицированной форме именно процесс этого кризиса.
Итак, необходимо либо отбросить убеждение, что все
идеологии, созданные интеллигенцией, возникают вследствие
ее бунта против буржуазии, либо признать, что
идеологиями являются только оппозиционные доктрины.
Пожалуй, оба решения неприемлемы для Белла. Он обречен, как
и в предыдущем случае, на внутренние трудности и
противоречия в своей точке зрения.
Драму идеологии Белл связывает исключительно с
положением интеллигенции. Тем самым он лишает себя
возможности понять сущность и характер общественных
конфликтов, которые проявляются на поверхности в форме
идеологических сражений. Белл невольно и
бессознательно ставит интеллигенцию в исключительное положение в
истории, отводя другим группам и классам роль иллюзор-
305
ных субъектов идеологических доктрин, созданных
интеллигенцией. Иногда Белл высказывает также взгляд,
согласно которому основные классы и группы буржуазного
общества могли бы обходиться без идеологии по крайней
мере в течение всего XIX века. Подобные выводы не
делают чести Беллу как социологу.
Тезис исторического материализма, утверждающий, что
общественное бытие определяет общественное сознание,
Белл истолковывает как убеждение в том, что каждая
общественная группа должна осознавать свою собственную
ситуацию стихийно и самостоятельно, то есть без помощи
теоретиков и интеллигенции. Эту интерпретацию можно
считать даже последовательной, если принять
предпосылку, что интеллигенция составляет отдельный класс и
каждый раз имеет в виду свои собственные интересы. Но что
общего имеет эта интерпретация с пониманием
названного тезиса создателями марксизма и их
последователями.
Нетрудно заметить, что Белл пристрастно, рискуя
оказаться непоследовательным и даже не вполне
добросовестным, подтасовывает свои анализы и интерпретации так,
чтобы из них вытекали негативные последствия для
марксизма как идеологии рабочего класса. Примем также во
внимание, что один и тот же тезис в издании Махайского
и в трактовке Белла исполняет разные функции. В первом
случае он является выражением точки зрения наиболее
отсталых слоев рабочего класса, их традиционного
недовольства и недоверия к интеллигенции. Во втором —
элементом конструкции, сознательно задуманной как орудие
расправы с марксизмом, дискредитации его наиболее
важной общественной роли.
II
В новой книге Белла «Приход постиндустриального
общества» («The Coming of Past-Industrial Society», 1973)
некоторые прежние его взгляды подвергаются
расширению и обобщению, другие — изменению и трансформации.
Появляется новая система отсчета в виде
постиндустриального общества, а вместе с ней определенная историко-
социальная и социологическая схема, которой
американский теоретик пользуется в своих анализах современцостц
2Q Ст. Р4ИНК9
306
и прогнозировании. Эта схема задумана как откровенно
конкурирующая с историческим материализмом, с его
анализом общественных явлений и прогнозами будущего.
Появляются также новые критические акценты,
направленные непосредственно против марксизма и
социалистической идеологии, причем главным образом против тех
их аспектов, которые касаются современного состояния
общественного развития и его перспектив.
1. От постидеологического общества
к постиндустриальному обществу
Единственной чертой развитых обществ будущего,
которую признает Белл как автор «Конца идеологии»,
является их неидеологический либо постидеологический
характер. Очевидно, что эта перспектива весьма призрачна,
даже если не принимать во внимание ее содержательные
изъяны. Она просто ограничивается характеристикой
структуры сознания будущих обществ.
Более широким взглядом на всю проблему оказывается
концепция постиндустриального общества.
Постиндустриальное общество, по мысли Белла,— это
общественная формация, находящаяся в процессе
становления. Его характеристика охватывает пять следующих
элементов: 1) переход от экономики благ к экономике
услуг (в настоящее время в США около 60% рабочей
силы занято в сфере услуг); 2) господство «класса»
экспертов и техников в области профессиональной структуры;
3) примат теоретического знания как источника техники
и технологии, а также как движущей силы экономического
роста; 4) планирование и контроль технологического
развития; 5) возникновение «интеллектуальной технологии»,
то есть комплекса новых теоретических инструментов —
кибернетики, теории игр и решений, теории
стохастических процессов, системного анализа и т. д. — в управлении
сложными процессами.
Другими словами, постиндустриальное общество — это
общество, опирающееся на услуги, в котором
центральными фигурами оказываются эксперт и техник и в котором
главную роль играет научная информация как фактор,
динамизирующий всю систему, и одновременно как
инструмент контроля и управления ее отдельными элементами
зог
или каналами. На протяжении 30—50 лет
постиндустриальное общество станет действительностью. Страной,
которая первой вступит на этот путь, будут Соединенные
Штаты.
Безусловно, приведенное выше описание Белла
схватывает некоторые существенные и действительно
имеющие место тенденции. Так, например, расширение сферы
услуг является несомненным фактом. Уменьшение числа
рабочих, занятых в сельском хозяйстве, и перемещение
рабочей силы в промышленность, а затем в сферу услуг
неизбежно связано с прогрессом индустриализации и
может служить показателем ее дальнейшего развития.
Повышение роли теоретического знания становится
также все более очевидным фактом. Это связано с
переворотом в прежнем отношении между наукой, техникой и
технологией. В прошлом, относительно недавно,
технология развивалась независимо от науки методом проб и
ошибок как дело искусных и талантливых практиков. Наука,
как правило, шла следом за технологией. Довольно
значительная часть физического знания обязана своему
появлению не непосредственному наблюдению природы, а
анализу идеализированных творений техники и
технологических цроцессов. Так было, например, в немалой степени с
механикой, так было с термодинамикой. Все эти рычаги,
полиспасты, блоки и т. д., устройству которых обучали на
лекциях по механике, исполняли отнюдь не
иллюстративную роль, а выступали как эмпирический материал, из
которого абстрагировались важные правила и принципы
механики. Подобным же было отношение паровой
машины к термодинамике. Но этот путь, пожалуй, исчерпал
свои возможности. Сегодня технология становится все в
большей степени реализованной наукой. Это значит, что
ее дальнейшее развитие полностью зависит от прогресса
теоретического знания. Экономическое знание становится
более зависимым от вклада науки, нежели от расходов на
непосредственную рабочую силу и издержек в виде
постоянного капитала.
Таким образом, высокая оценка современного значения
науки в принципе верна. Белл впадает в иллюзию только
с того момента, когда переходит к анализу социальных
последствий этого состояния дел и делает вывод об
исключительном положении ученых и научных учреждений в
будущей общественной структуре (впрочем, эту иллюзию
20*
308
он разделяет с другими, в частности с Дж. К. Гэлбрейтом).
Однако такой автоматизм вовсе необязателен. Культурная
или общественная ценность продукта чьей-либо
деятельности отнюдь не гарантирует ее производителю особого
места в общественной структуре. История показывает, что
не производитель данного продукта, а, скорее, его
обладатель занимает особое положение. Сегодняшнее состояние
дел в этой области также всем хорошо известно. А о том,
кто в будущем окончательно будет располагать
продуктами научного труда и будут ли это сами научные
работники, еще слишком рано говорить.
Обращает на себя внимание также чисто «мозаичный»
характер перечисления существенных черт
постиндустриального общества. Эти черты располагаются друг возле
друга весьма произвольно, не образуя никакой системы.
Как уже подчеркивалось, каждая из них в отдельности
может быть изучена эмпирически, но вопрос об их
взаимозависимости остается без ответа. Они не дают
представления об отношении между ростом сферы услуг и
появлением «интеллектуальной технологии», или приматом
теоретического знания. Это требование следует предъявлять
каждой характеристике, претендующей называться
теоретическим обоснованием, а не только случайным
перечислением эмпирически схваченных качеств и явлений. Тем
более, что некоторые из названных черт, очевидно,
удалось бы свести к другим либо истолковать как их
последствия.
Так, например, изменения в профессиональной
структуре можно связать с изменением отношения между
теоретическим знанием и технологией, а также быстрым
расширением сферы услуг. Четвертый и пятый пункты (они
говорят, как мы помним, о планировании технологии и
появлении «интеллектуальной технологии») удалось бы
объединить в одну более общую формулу, указывающую
на потребность управления различными каналами
современной общественной жизни и на своеобразный ответ,
который эта потребность находит в формировании
необходимых для ее реализации интеллектуальных средств.
Это приводит нас к выявлению очередного и более
существенного дефекта анализов Ьелла. В его концепции
мы не находим ответа на вопрос именно о том механизме,
в силу которого происходит переход человеческих обществ
в постиндустриальную фазу развития. Иными словами, мы
309
знаем, что эта фаза должна прийти либо приходит, но не
знаем почему. Это означает, что изыскания американского
теоретика имеют поверхностный и феноменалистический
характер. В них отсутствует такое существенное
измерение, как анализ внутренних структур процесса
общественного развития, вызывающих этот процесс.
Примем во внимание, что таким механизмом Белл не
может признать, например, научно-техническую
революцию, так как для нее характерно сочетание науки с
техникой при решительном перевесе науки. Об этом прямо
говорит один из пунктов, включенных Беллом в
характеристику феномена «постиндустриальное™».
Следовательно, ссылка в данном случае на научно-техническую
революцию привела бы к порочному логическому
кругу.
В схеме Белла заставляет задуматься также отсутствие
по меньшей мере двух элементов: указаний на характер
собственности в будущем постиндустриальном обществе, а
также на характер сознания этого общества. Однако если
вопрос о сознании выяснить относительно легко (Белл
просто подтверждает свой ранее сформулированный тезис
о конце идеологии в обществах будущего и поэтому
считает себя вправе не рассматривать глубже этот вопрос),
то этого нельзя сказать о проблеме собственности.
Впрочем, он чувствует в этом месте необходимость
некоторых оговорок. Так, мы слышим от него, что в
настоящее время собственность утратила позицию,
определяющую власть и богатство, что в современных корпорациях
она сведена к правовой фикции, к широко понимаемой
политике и т. д.
К этим заверениям и свидетельствам Белла мы еще
вернемся. А сейчас обратим внимание на то, что
собственность в социальном и экономическом смысле, а не как
правовое отношение, является постоянным и
неустранимым элементом общественной жизни. Нет таких
общественных условий, в которых труд мог бы совершаться
иначе, как только в соединении с предметами и орудиями
труда. Поэтому, кто владеет материальными и
объективными условиями труда, тот владеет самим трудом и его
продуктами. А собственность является не чем иным, как
отношением к этим материальным и объективным
условиям, то есть отношением, которое может быть
выражено — но не обязательно должно — в правовой форме, вы-
310
ступать в виде частной и индивидуальной собственности,
подлежать наследованию и т. д. Изменяются только
исторические формы собственности, но не сам факт
существования собственности как таковой.
От характера собственности, а точнее, от того,
являются ли обладателями условий труда сами производители
или же другие общественные группы, зависит факт
существования либо несуществования классовых структур,
механизма общественной эксплуатации, возможности
присвоения чужого труда и его продуктов. Выявление этой
ситуации, скрывавшейся под множеством правовых,
политических и идеологических покровов, служит
свидетельством теоретической проницательности Маркса, его
революционного гуманизма и решительности при разоблачении
любых общественных источников порабощения и
эксплуатации. Следовательно, тот, кто отбрасывает проблему
собственности, забывает о ней, трактует ее как
второстепенную, занимает, желает он этого или нет, определенную
идеологическую позицию, так как скрывает источник
власти одних людей над другими. Это может, разумеется,
вытекать из концептуальных неточностей, из ложных
теоретических предпосылок, но может иметь также в своей
основе злую волю апологета.
У многих авторов вызывает возражение само понятие
постиндустриальности. Подчеркивается, что переход к
фазе, определяемой как постиндустриальная, не означает
исключение промышленности как особого и
специфического сектора народного хозяйства. И в этой фазе она
остается главным поставщиком материальных благ и нельзя
питать иллюзий, что когда-нибудь эта ее функция будет
исключена.
Эти замечания справедливы, но не относятся к сути
вопроса. Белл мог бы возразить, что у него и речи нет о
конце или упадке промышленности, а только
утверждается, что промышленность уступила господствующую
позицию в пользу сферы услуг, что она оказалась на втором
месте с точки зрения количества занятой в ней рабочей
силы, а также общественного ранга и значения.
Это не означает, как уже говорилось, что названное
возражение полностью необоснованно. Но чтобы понять
суть вопроса, обратимся еще раз к аналогии и напомним
об отношении между промышленностью и сельским
хозяйством.
311
Появление промышленности в результате
экономической революции конца XVIII—начала XIX века повлекло
за собой по крайней мере двоякого типа последствия для
сельского хозяйства как основной и господствовавшей до
тех пор области. Прежде всего начался (длящийся до
наших дней) процесс отступления на второй план с точки
зрения места и значения в общей системе общественного
производства количества занятой рабочей силы, уровня
производительности и т. д. Но одновременно совершался
процесс, более значительный и принципиальный. Сельское
хозяйство присваивало себе социальные структуры,
возникшие первоначально в промышленном секторе, то есть
капиталистические производственные отношения.
Началась перестройка сельского хозяйства на
промышленной основе не только в плане вторжения машин и
других продуктов промышленности в сельскохозяйственное
производство, но также главным образом в смысле
выравнивания социальных структур. Сельское хозяйство
оказалось подчиненным промышленности, а его
представители — землевладелец, арендатор и сельскохозяйственный
рабочий — выступили соответственно в ролях капиталиста
и пролетария, создавая отдельные подгруппы этих двух
больших классов капиталистического общества.
Итак, если процесс первого типа происходит
фактически в рамках отношения обслуживание —
промышленность, то процесс второго типа не имеет здесь своего
эквивалента и даже точнее неизвестно, в чем он вообще мог бы
заключаться. Сфера услуг до сих пор не является
носителем каких-либо новых социальных структур, которые
она могла бы по возможности перенести на
промышленность. Наоборот, можно со всей уверенностью сказать, что
сфера услуг перенимает социальные структуры от
промышленности (точно так же, как и технические средства
и систему организации). Появление промышленности
открыло новую общественную эпоху в истории
человечества — эпоху капитализма. Однако этого нельзя сказать о
сфере услуг. Опа не выводит нас за традиционную
систему капиталистических производственных отношений, а
только способствует некоторым перемещениям в области
рабочей силы, а также профессиональной структуры и
социальных слоев. Сфера услуг не является
посткапиталистической в том смысле, в каком промышленность была
постфеодальной,
312
Не вызывая радикальпых изменений в социальной и
классовой структуре, которые позволяли бы говорить о
выделении новой общественно-экономической формации,
она не несет с собой также и существенных
преобразований в технологическом аппарате и производительных
силах. Она не реализует и не предвещает в отличие от
промышленности новой технической революции.
Таким образом, концепцию Белла, согласпо которой
расширение сферы услуг является осповным фактором,
отделяющим эпоху индустриальных обществ от эпохи
постиндустриальных обществ, трудно понять и обосповать как
в категориях основных общественных структур, так и в
технологических категориях.
2. Концепция постиндустриального общества
как мистифицированное описание
современного капитализма
Постиндустриальное общество будет, согласно Беллу,
посткапиталистическим обществом. Белл избрал первое
определение, будучи уверен, что оно обладает более общей
значимостью, поскольку касается также и судеб
социалистических обществ, по достижении ими определенного
уровня развития; первое определение выглядит также
более нейтральным. Постиндустриальное общество
призвано также выводить капитализм за рамки типичных для
него общественных и экономических структур. Оно должно
осуществить это спонтанно и незаметно, в любом случае
без социальной революции, понимаемой как действие, в
принципе не исключающее насильственного изменения
существующих систем. Тем самым марксово предвидение
отрицается уже в его исходпой точке, причем по меньшей
мере в двух главных аспектах. Будущее — это пе
социализм, а постиндустриальное общество. Выход за рамки
капитализма не требует никакого революционного акта и
пе является делом осознающего свои задачи
исторического субъекта — класса, слоя или социальной группы.
Современный капитализм действительно изменяет свой
облик. Но эти изменения не касаются природы данной
системы как общественной формации с определенной
классовой структурой, комплексом осповных общественных
целей, движущих сил и механизмов развития.
313
Что же йзмейяется й в каком йанравлении? Не
претендуя на исчерпывающую характеристику, мы укажем на
некоторые наиболее существенные преобразования.
Ряд новых явлений наблюдается в чисто
экономической области. Несомненно, к их числу относится уже
упомянутое стремительное расширение сферы услуг,
охватывающей торговлю, системы обеспечения, охраны здоровья,
отдыха, обучения и т. д. Причины этого разнообразны, по
наиболее важные из них связаны с присущей капитализму
внутренней логикой поиска новых и еще не
использованных до конца областей для экспансии капитала. Конечно,
капитал и необходимость его экспансии не создают сферу
услуг, но решительно влияют на ее ускоренное
расширение и прежде всего на направления ее роста. В связи с
этим иногда происходят известные извращения,
например, такие, как чрезмерное развитие сферы услуг
второстепенного характера при одновременном застое ее
направлений, имеющих первостепенное значение.
Некоторые новые явления возникли также в сфере
организации и концентрации капитала. Среди них
выделяются так называемые конгломераты, а также надгосудар-
ственные предприятия (мультинациональные,
транснациональные и т. д.). Конгломераты охватывают
многоотраслевые предприятия, распространяющие свою деятельность
на несколько областей хозяйства, что позволяет им
осуществлять гибкую политику в области прибыли, углублять
экономическую политику, а также, и может быть прежде
всего, почти неограниченно разрастаться. Надгосударст-
венные предприятия реализуют в свою очередь
описанную еще В. И. Лениным тенденцию экспорта капитала
вместо традиционного экспорта товаров. Это
осуществляется благодаря основанию за границей предприятий и
торговых центров, втягиванию в сотрудничество зарубежного
капитала, эксплуатации местного персонала и т. д.
Результатом этого выступают такие, зачастую
мистифицированные в буржуазной социальной литературе,
явления и ситуации, как действительная и мнимая
космополитизация капитала; временный и локальный отказ от
максимальной прибыли в пользу постоянной и твердо
гарантированной прибыли; раздел капиталистического мира
на ведущие государства (Соединенные Штаты Америки,
Япония) и центры более или менее второстепенные
(отсюда предостережение от так называемого «американского
314
вызова»); новая система отношений между рабочим
классом и капиталом, вызванная тем давлением, которое
чужой капитал может оказывать на рабочих данной
страны, и т. д.
Однако, может быть, наиболее бросающиеся в глаза
преобразования, дающие повод для пристрастных
интерпретаций, произошли в сфере форм собственности. Первым
сигналом здесь было появление акционерных обществ.
Классический капитализм знал частную собственность в
индивидуальной или семейной форме, которая подлежала
праву наследования. Акционерные общества, не совершая
ломки прежней формы собственности, изменили способ ее
организации и использования, сосредоточив разбросанные
индивидуальные капиталы и отдав их в распоряжение
владельцам контрольных пакетов акций. И лишь
начавшиеся после второй мировой войны процессы
национализации целых областей экономики создали принципиально
новую ситуацию. Национализированные предприятия в
капиталистическом мире представляют групповую или
коллективную собственность всего класса капиталистов.
Следовательно, ее можно считать новым типом частной
собственности, которая не была известна на предыдущих
этапах развития капитализма. Распорядителем этой
собственности и ее формально-правовым субъектом является,
конечно, государство как орган господствующего класса.
После этого отступления мы можем соответствующим
образом оценить тезис Белла о том, что собственность в
капиталистическом мире растворилась либо приобрела
характер фикции. То, что является изменением формы
собственности либо только способа ее организации и
использования—возможно, еще результатом разделения
собственности и управления, связанным с возникновением слоя
менеджеров, —- Белл принимает за ликвидацию
собственности как таковой или по крайней мере за доказательство
того, что она утратила всякое значение.
К новым экономическим явлениям следует причислить
также появление «рынка личностей». Традиционно
капитализму был присущ так называемый рынок труда, то есть
рынок, на котором предметом купли и продажи была
рабочая сила. Сейчас, по мнению некоторых теоретиков,
можно говорить уже о купле и продаже не только рабочей
силы, но также и личности. Это касается работников,
занятых в сфере услуг. То, что они предлагают, — это не спо-
315
собность к физическому труду вообще, а некоторые
качества психологического порядка: талант, знание и даже
взгляды, то есть те или иные аспекты личности.
Последствия этой ситуации многообразны. Одно из
них — рост и своеобразная тотализация явления
отчуждения. Говоря об отчуждении, Маркс имел в виду
отчуждение продуктов широко понимаемой деятельности и
результатов проекционной активности общественного
производителя (то есть активности, заключающейся в наделении
предметов определенными общественными чертами) — со
всеми вытекающими отсюда последствиями, такими, как
переворачивание отношений зависимости, отождествление
общественных качеств вещей и продуктов с их
естественными свойствами и т. д. Пограничным случаем Маркс все
же считал такую ситуацию, в которой объектом
отчуждения становятся не продукты и результаты какой-либо
активности, а определенные черты самого человека в
образе рабочей силы, которая после преобразования ее в товар
и включения в капиталистический способ производства
оказывается как бы отделенной от своего обладателя и
противопоставленной ему в своих последствиях как
порабощающая и разлагающая сила. Поэтому Маркс обвинял
капитализм за усиление отчуждения. А что можно сказать
сегодня, когда отчуждение охватило не только физические
и физиологические основы человеческой личности, но
также и ее наиболее тонкие, духовные элементы!
Современный капитализм — это система тотального отчуждения.
Продолжая перечисление существенных черт
современной фазы капитализма, нельзя не назвать широко
развернувшуюся экономическую и социальную деятельность
буржуазного государства. Вторжение государства в
область экономики как активного регулирующего и
управляющего фактора является, несомненно, одним из
наиболее важных событий в новейшей истории капитализма.
К традиционным обязанностям буржуазного государства
принадлежало воздержание от вмешательства в ход
экономических дел, а именно в процессы рынка и
производства. Его действия в этой области вообще не выходили за
рамки таможенной политики, концессии и налоговой
системы. В настоящее же время в его ведении в известной
мере оказалось непосредствеппоо руководство
деятельностью национализированных предприятий, долгосрочное
планирование, финансирование особо дорогостоящего тех-
316
нического развития, стабилизация цен и зарплаты,
социальное обеспечение и т. д.
Экономическая деятельность буржуазного государства
выросла на основе опыта экономических кризисов, на
основе необходимости предупреждения либо по крайней мере
ослабления их хода и последствий. А доктрипа Кейнса
подвела под эту деятельность необходимую теоретическую
базу. Следует признать также, что эта деятельность
неоднократно приносила практические плоды. Например, с
ней связано такое существенное обстоятельство: до сих
пор в истории современного капитализма не было кризиса,
равного кризису тридцатых годов. Кризис, который
сегодня сотрясает основы капиталистической системы —
несмотря на то, что он является самым серьезным за
последние сорок лет, — все же не является для капитализма
гибельным. Его генезис и течение имеют также некоторые
особенности.
Наконец, в субъективной сфере и в области
идеологических отношений современный капитализм также имеет
ряд особенностей, достойных внимания. Совершается
отход от пуританской этики, которая сопутствовала
капитализму с момента его возникновения. Лозунги труда,
бережливости, самопожертвований и т. д. обесцениваются как
интеллектуально, так и морально. Здесь нетрудно заметить
воздействие определенных общественных механизмов.
Перед современным капитализмом острее, чем когда-либо,
встала проблема спроса и формирования потребностей.
С этой целью создана целая отрасль индустрии — реклама,
задачей которой является постоянная активизация
человеческих потребностей и формирование новых. Эта
ситуация и отбрасывает старую этику самопожертвования и
бережливости.
В идеологической области, как уже подчеркивалось,
произошло знаменательное смещение направленности
технократического сознания и технократических доктрин.
Технократическую идеологическую надстройку можно
считать адекватным выражением ситуации и потребностей
современного капитализма. А мистификации, которыми
она опутывает себя, усиливают дополнительно ее
привлекательность и силу воздействия.
Несмотря на эти преобразования, современному
капитализму все же присущи основные черты, выявленные еще
Марксом. Капитализм остается системой, опирающейся на
317
наемный труд и товарное производство, превращающей в
товар отдельные свойства и черты человеческой личности
и даже обнаруживающей в этой области зловещую
динамику. Его движущей силой и пелью является увеличение
стоимости и прибавочной стоимости и, следовательно,
накопление — в безликости и абстрактной форме денег —
результатов эксплуатации труда класса наемных
работников.
Сохраняется также основная классовая структура, ха-
рактепная яля капитализма, то есть структура, состоящая
из класса капиталистов, присваивающих себе прибавочную
стоимость (сегодня уже необязательно на основе
индивидуальной собственности), а также класса рабочих,
живущих за счет продажи своей рабочей силы, тех или иных
умственных и личностных способностей, которые
производят эту прибавочную стоимость.
Остаются в силе основные противоречия капитализма,
среди которых выделяется противоречие, обусловленное
механизмом увеличения стоимости и прибавочной
стоимости. Если раньше это увеличение не знало никаких
естественных и физических границ, то теперь такие границы
выступают в форме эффективности спроса, потребления и
человеческих потребностей. Это противоречие отсылает нас
к той основе товара и товарного производства, которой
является их двойственная природа, то есть к
сосуществованию в их сфере потребительной стоимости и стоимости,
а также процессов производства одной и другой. Особенно
острой формой проявления и одновременно разрешения
этого противоречия являются экономические кризисы.
Следовательно, массу общественной энергии капитализм
употребляет непроизводительно — на устранение
упоминавшихся препятствий.
Описанные перемены позволяют утверждать, что
капитализм вступил в очередную фазу своего развития.
Временной границей с этой точки зрения можно признать
период второй мировой войны. Эту фазу можно считать
уже третьей фазой в истории капиталистической системы,
если согласиться, что первая фаза охватывает период
свободно конкурентного капитализма и завершается к концу
XIX века, а вторая фаза приходится на первые
десятилетия XX века и охватывает монополистический капитализм.
Третья фаза развития капитализма определяется в
марксистской литературе как «государственно-монополистиче-
318
ский капитализм». Но ее можно было бы также назвать
управляемым капитализмом, принимая во внимание
попытки регулирования экономических и социальных
процессов. Таким образом, свободно конкурентный,
монополистический и государственно-монополистический, или
управляемый, капитализм обозначают ритм истории этой
системы.
Именно эту фазу развития капитализма описывает
Белл под названием постиндустриального общества,
ошибочно и идеологически пристрастно истолковывая ее как
посткапиталистическую фазу, то есть такую, которая
выводит за рамки капитализма и является его преодолением.
Большинство характеристик, даваемых американским
социологом, относится непосредственно к перечисленным
выше изменениям в современном капитализме. Это
касается, например, вопроса услуг, проблемы планирования и
регулирования, изменений в профессиональной структуре,
а также значительной части «интеллектуальной
технологии». Некоторые из характеристик, например, такие, как
примат теоретического знания и связь с наукой,
указывают на отдельные черты, присущие вообще цивилизации.
Мистификация, в которой мы обвиняем Белла,
проявляется уже в исходном пункте его концепции и касается
способа отбора черт, характеризующих
постиндустриальное общество. Он не проводит целостного анализа
современных капиталистических обществ и направлений их
развития, а ограничивается только фрагментарными
характеристиками, выделяя некоторые черты. Сконструированное
на основе такого отбора целое он представляет затем как
будущее капиталистических обществ. Итак, сначала Белл
создает некоторую абстракцию из случайно выбранных
элементов, а потом заставляет нас усматривать в ней нечто
большее, чем только абстракцию, признавать ее
эмпирическим и целостным прогнозом.
При отборе Белл руководствуется также негласным
правилом: он выделяет только те черты, которые могут
иметь возможную надклассовую и общечеловеческую
значимость либо по крайней мере создают видимость такой
значимости. Следовательно, он уже в исходной точке
закладывает то, что должеп доказать, то есть, надкапитали-
стический характер модели постиндустриального общества.
Наконец, даже такие явления, как роль науки и ее связь
с техникой, он исследует впе общественного контекста.
319
Тем самым Велл достигаем йужного ему
идеологического эффекта: классовая и социальная сущность
современного капитализма оказывается скрытой под маской
фактических и мнимых процессов развития целой
цивилизации. Но осуществляется это ценой нарушения
существенных правил научной методологии.
3. Концепция постиндустриального общества
как историко-социальная схема
Постиндустриальное общество должно быть не только
посткапиталистическим, но также и
постсоциалистическим. Это означает, что за концепцией
постиндустриальных обществ скрывается некоторое историко-социальное
воззрение, касающееся эволюции человеческого общества,
ритмов и направлений этой эволюции. Мы видим, что при
всех оговорках о предварительном и пробном характере
своих предложений Белл излагает определенную историко-
социальную концепцию.
Ее принципиальной основой является трехчленная
схема, предусматривающая развитие человеческой истории
через три основные стадии — доиндустриальную,
индустриальную и постиндустриальную. Первая стадия,
длящаяся до эпохи промышленной революции, характеризуется
низкой производительностью, ручным трудом, различными
естественными промыслами — рыболовством, лесоводством,
земледелием, горным делом. Ее главным организационным
принципом является игра с природой, то есть природой,
данной во всей ее непосредственности и еще не
преобразованной человеком. Эта игра подчинена строгим
правилам; человек располагает в этой игре только обыденным
опытом, не опирающимся на теоретическое знание. В фазе
доиндустриального общества находятся в настоящее время
страны Азии (за исключением Японии), Африки и
Латинской Америки.
Основным принципом индустриальных обществ
является игра с преобразованной природой (fabricated natura),
возникшей в результате превращения естественной среды
в техническую среду. Средством, при помощи которого
совершается это преобразование, является энергия машин
и технических устройств, доставляемых промышленной
революцией. К индустриальным обществам относятся в
320
настоящее время страны Западной Европы, Советский
Союз и Япония.
О постиндустриальном обществе мы уже говорили.
В этом контексте добавим только, что его принципом в
свою очередь должна быть игра между людьми как
следствие того, что в постиндустриальном обществе получила
признание и распространение сфера услуг.
Последовательность трех типов игры — игры с
природой, игры с преобразованной природой и игры людей друг
с другом — обозначает ритм человеческой истории.
Схема Белла вызывает целый ряд возражений. Одно из
них, несомненно наиболее серьезное, связано с самим
характером этой схемы как концепции стадийного развития.
Историко-социальные доктрины с подобной
формальной структурой широко известны в истории буржуазной
мысли. Напомним о трех стадиях Конта, который
положил начало этой группе доктрин. Во второй половине
XIX века аналогичные понятия немецкая историческая
школа широко использует в политической экономии. Так,
Б. Гильдебранд говорил о натуральном, денежном и
кредитном хозяйствах как последовательных фазах
экономического развития. А представитель той же школы
К. Бюхер предложил известную в то время схему,
соответственно которой экономическое развитие начинается
от домашней замкнутой экономики, проходит фазу
городской экономики и завершается национальной экономикой.
В наше время свою теорию стадий экономического роста
сформулировал У. Ростоу.
Все эти концепции ограничиваются обычно
выделением последовательных стадий, фаз или ритмов
общественной эволюции либо той или иной области этой эволюции.
В то же время они не выявляют скрытых механизмов и
закономерностей общественного развития, его источников
и комплекса определяющих его главных моментов, как это
делает исторический материализм. Эти концепции ничего
не объясняют, в лучшем случае они описывают, но не
анализируют события. Названный недостаток неизбежен,
ибо он вытекает из природы принятых ими
методологических процедур.
Это процедуры индуктивного обобщения, которые — в
отличие, например, от метода идеализации,
использованного Марксом в его исследовательской работе, — не
выходят за поверхность действительности и не способны
321
вскрыть ее сущностные структуры. Доктрины и
методологические программы, ограничивающиеся индуктивным
методом и постулатами индуктивизма, обречены, по
словам Маркса, на топтание в кругу кажимости (в гегелевском
и марксовом понимании этого слова, которое обозначает
поверхностные аспекты действительности, данные в
обыденном опыте участникам и наблюдателям исторического
процесса).
Такой доктриной и такой программой является прежде
всего позитивистская философия. Это позволяет нам
определить теорию стадийного развития как соответствующую
духу и букве позитивистского мышления и носящую на
себе все следы вытекающей отсюда ограниченности.
Согласно позитивистской доктрине, мир является
набором внутренне не связанных между собой явлений или
фактов, между которыми можно установить лишь
некоторую регулярность сосуществования и последовательность
во времени. Это мир не только сведенный к видимости,
но, сверх того, лишенный необходимости. Вопросы об
источниках, движущих силах, внутренних закономерностях
и т. д. — ведущие к выделению среди факторов
действительности главных и побочных и позволяющие выйти за
рамки их простого сосуществования и последовательности
во времени — позитивизм признает ложно
поставленными и метафизическими. В принципе следует якобы
говорить только об упоминавшейся регулярности. А единст-
веппым путем ее установления является индуктивное
обобщение результатов опыта. Не приходится поэтому
удивляться, что разрабатываемые в этом духе историко-
социальные концепции не в состоянии выйти из
заколдованного круга поверхностных констатации на тему стадий,
эпизодов и т. п. исторического развития.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что данный
стиль мышления и порожденные им концепции не лишены
идеологического смысла. Капиталистический мир,
рассматриваемый в позитивистской перспективе, хранит свои
тайны, не открывает глубоко скрытых структур
собственности, закабаления и эксплуатации, не указывает на
историческую необходимость. Не случайно позитивизм как
философская доктрина сформировался одновременно с выходом
буржуазии на арену истории и в своих разнообразных
версиях все еще остается основной ее стратегией мышления.
С точки зрения интересов этого класса упомянутый прин-
21 Ст. Раинко
322
цип феноменализма и его производные, а также ряд
других позитивистских принципов имеют свои идеологические
достоинства.
Рассмотрев, таким образом, наиболее общие
методологические и философские основы схемы Белла, а также
родственные ей концепции, вернемся к более детальным
замечаниям.
Эта схема страдает принципиальной
неопределенностью критериев выделения трех фаз и типов обществ.
В этом плане возможна по меньшей мере двойственная их
интерпретация.
Таким критерием может быть признан вид партнера в
той игре, которую ведет каждая из этих цивилизаций.
В доиндустриальных обществах это должна быть, как мы
помним, сама природа; в индустриальных обществах —
преобразованная и созданная в результате машинного
производства природа; в постиндустриальных обществах
такую роль берут на себя люди, выступающие как
партнеры в игре для других людей.
Однако прежде всего следует поставить под вопрос
саму идею данных предложений. «Игра с природой» —
безразлично, девственной или очеловеченной — не могла
и не может вестись независимо от общественных
взаимоотношений, от «игры» между людьми и наоборот.
Никакое общество не может существовать, не проводя
одновременно обоих видов игры, разделенных во времени
американским социологом. Они являются двумя
сторонами одного и того же общественного процесса, их нельзя
отделить друг от друга, как нельзя отделить правую
сторону от левой. Одной стороной цивилизации обращены
вовне, к природному окружению, над исследованием и
присвоением которого они работают. Другая же сторона
направлена на самое себя, так как по отношению к
внешнему миру человек всегда выступает как общественный
человек, то есть связанный с другими людьми сетью
общественных нитей и вовлеченный вместе с ними в процессы
сотрудничества и борьбы, коммуникации и переплетения
интересов и идеи, идеологии. Исторический материализм
осознает данный факт, вводя понятия производительных
сил и производственных отношений — значительно более
богатые сравнительно с понятиями игры с природой и
игры между людьми —как двух неразделимых аспектов
общественной целостности.
323
Неоправданным является также утверждение Белла о
том, что по мере развития цивилизации игра с природой
теряет свое значение и заменяется игрой между людьми,
выдвигающейся на первое место. Против этого
свидетельствует богатый опыт развитых цивилизаций,
чувствительность которых к природным факторам и процессам (запас
доступного сырья, состояние естественной среды и даже
стихийные бедствия) не только не уменьшается, но,
пожалуй, даже возрастает. Вместе с тем скорее возрастает,
нежели уменьшается сумма расходов и энергии,
выделяемых цивилизацией на непосредственное присвоение
природного окружения.
Из достоверного факта возрастания нашей власти над
природой — или, по словам Маркса, из факта устранения
природных барьеров — Белл делает ошибочное
заключение, что этот процесс может утратить свое абсолютное или
относительное значение для цивилизации.
Вторая интерпретация апеллировала бы в свою очередь
к чисто технологическим критериям. Определения «доин-
дустриальный», «постиндустриальный», «индустриальный»
отсылают прежде всего к способам производства, к
технике и технологии.
Однако Белл не может остаться в рамках этого
критерия. Если действительно переход от доиндустриальной
фазы к постиндустриальной происходит в результате
радикальной перемены в способах производства, связанной с
промышленной революцией, то аналогичный переход к
постиндустриальной эпохе остается в этом пункте
неопределенным. Ссылка на развитие сферы услуг означает уже
изменение критериев, так как услуги возникли не в
результате некой новой технологической революции,
которую можно было бы сравнивать с революциями,
вызвавшими к жизни сельское хозяйство или промышленность.
Схема Белла «взрывается» в наиболее драматический
момент — в момент введения понятия
постиндустриальных обществ.
Все же та настойчивость, с которой распространяются
сейчас концепции этого типа, ссылающиеся на критерий
технологических революций, заставляет серьезно
задуматься над этим вопросом.
Можно, например, выдвинуть вполне обоснованное
предположение о существовании в истории человечества
трех великих технологических революций, две из которых
324
уже воплотились в жизнь, а третья подготавливается к
осуществлению.
г Две первые революции — это неолитическая, которая
^произошла около 8—10 тысяч лет назад и имела
результатом развитие сельского хозяйства, скотоводства,
ткачества п гончарного промысла, и промышленная революция,
которая уже около двухсот лет формирует облик
современного мира и к наиболее существенным результатам
которой принадлежат изменения в области источников
энергии — переход от естественных источников энергии
(сила человеческих мускулов, животных, ветра и воды) к
искусственным (паровая машина, электрические
двигатели, ядерные реакторы и т. д.). Первая революция
произошла в отношении вещества, понимаемого как сырье, или
предмет человеческой преобразовательной деятельности,
осуществился переход от использования готовых плодов
природы (собирательство, рыболовство и т. д.) к
производству; вторая же революция совершилась в отношении
энергии, понимаемой как активный фактор, служащий
целям производства и воздействия на природное
вещество. Первая революция открыла пластичность вещества и
возможность подражания ему или его замены в
производственных процессах, а вторая — перспективы добычи
новых источников энергии.
Все указывает на то, что мы находимся на пороге
очередной технологической революции. Эта революция
совершится в отношении информации и, вероятно, будет
заключаться в появлении искусственных систем, способных
успешно соперничать с человеком в его высших
познавательных и творческих функциях — в мышлении, развитии
научных теорий, художественном творчестве и т. д. Пока
эти функции принадлежат исключительно человеческим
естественным системам, подобно тому как до
промышленной революции природные системы были единственными
генераторами энергии.
То, что называется научно-технической революцией, не
является революцией в указанном выше смысле. Это
вообще весьма сложный процесс, включающий ряд различных
элементов, трудно поддающихся расчленению. Кроме
называвшегося уже сочетания науки с. техникой, этот
процесс охватывает также самые разнообразные эффекты
данного сочетания, в частности явление автоматизации, а
^акже (что для нас в данном случае особенно важно) не-
325
которые подготовительные элементы грядущей
технологической революции в области информации. Эти элементы
сводятся в общих чертах к появлению и развитию техники
передачи информации (техника связи), а также техники,
перерабатывающей эту информацию (компьютеры). Здесь
легко усмотреть аналогии с некоторыми процессами,
происходившими задолго до промышленной революции п
заключавшимися в нахождении и применении определенной
техники передачи и переработки энергии естественных
источников.
Неолитическая революция — на основе значительного
усиления производственных эффектов человеческого
труда, прироста населения и концентрации его на
определенной территории, перехода к оседлому образу жпзни —
стала исходным пунктом для формирования первых
классовых обществ, а также образования огромных
территориальных государственных организмов. На созданном этой
революцией технологическом базисе возникли три
общественные формации — рабовладельческая, азиатская и
феодальная.
Промышленная революция и ее плоды составили
технологическую основу развитых капиталистических и
социалистических обществ.
По аналогии с известным в биологии понятием
экологической ниши, то есть естественной среды, в которой
находятся и ведут борьбу за существование
разнообразные виды животных, здесь можно было бы говорить о
«технологической нише» как месте, в котором
исторически пребывают общественные формации.
Причем это не означает, как представляют некоторые
ходячие буржуазные доктрины, что общественные
формации, сформировавшиеся на одинаковой технологической
базе, являются в определенном смысле параллельными,
сходными и т. п. В частности, что капиталистическое и
социалистическое общества реализуют идентичные задачи
индустриализации с той лишь разницей, что
осуществляют это различными средствами и в различных
идеологических формах и этим исчерпывается их историческая
роль.
«Локализация» в одной и той же «технологической
нише» не предрешает ни превосходства одной формации,
над другой, ни их следования друг за другом в
историческом и историко-социальном порядке. Просто в обоих слу-
326
чаях применяются разные критерии оценки и разные
системы соотнесения.
Ничто не препятствует тому, чтобы «вписать» понятия
технологических революций, технологической ниши и т. д.
в классическую схему исторического материализма
Маркса п Энгельса. Это необходимо сделать, учитывая
растущий уровень современных знаний в этой области и
накопленного исторического опыта, которым не могли
располагать Маркс и Энгельс. Это позволит также успешно
бороться против различных доктрин индустриальных и
постиндустриальных обществ, вырастающих из
идеологически ориентированной спекуляции на таких явлениях.
Вернемся, однако, к схеме Белла и попытаемся
критически рассмотреть ее с учетом всего вышесказанного.
Когда Белл говорит о доиндустриальных,
индустриальных и постиндустриальных обществах, речь идет у него не
о конкретных обществах и даже не об общественных
формациях в их марксистском понимании, а в лучшем случае
о типах формаций, приведенных в соответствие с этими
возможными фазами в истории технологии. Это означает,
что Белл не имеет права предлагать какую-либо
характеристику специфической природы отдельных общественных
формаций. Например, из того факта, что
капиталистическое и социалистическое общества находятся в рамках
одной и той же промышленной эпохи, он не может делать
вывод об их месте в общественном порядке, определенном
характерными для них общественными целями и
ценностями, социально-экономическими структурами и т. д.
Расположение их в одном масштабе не предрешает их
расположения в другом. Однако Белл забывает об этом, когда
сопоставляет обе эти формации и оценивает их судьбы.
Схема американского социолога выделяет
промышленную революцию как центральный пункт. По сути дела,
Белл не знает никакой другой технологической
революции, кроме промышленной.
Игнорирование неолитической революции приводит к
тому, что он вынужден поместить в доиндустриальную
эпоху как первобытные донеолитические общества, так и
докапиталистические классовые формации. Однако это но
просто определенный тип общественных формаций, а
целый комплекс таких типов. Схема, объединяющая под
одним названием столь разнородные явления, не может
претендовать на точность.
327
Концепция постиндустриальных обществ, как уже
говорилось, также не имеет под собой почвы, поскольку
Белл не указывает ни одной специфической для этих
обществ «технологической ниши», которая была бы
создана отличающейся от промышленной и следующей за ней
технологической революцией. Это лишний раз
подтверждает наш предыдущий вывод, что понятие
«постиндустриальное общество» характеризует современную фазу
преобразований капиталистических обществ,
совершающуюся на основе и в границах индустриальной
«технологической ниши». Следовательно, постиндустриальные
общества являются в этом смысле теми же
индустриальными обществами.
Предлагаемая нами схема представляется с этой точки
зрения более точной и последовательной. Взятые за
основу три технологические революции позволяют выделить
четыре эпохи — донеолитическую; неолитическую, или
доиндустриальную; индустриальную, а также
гипотетическую эпоху информационной революции, или
постиндустриальную эпоху. В отличие от концепции Белла, о
постиндустриальном обществе здесь можно говорить как об
обществе, действительно соответствующем этой
гипотетической постиндустриальной «технологической нише».
Однако определения «соответствующие»,
«сформированные на базе» и т. п. не должны вводить нас в
заблуждение. Технологические революции не совершаются сами по
себе, но подготавливаются и реализуются внутри
определенных общественных формаций и благодаря им, и эти
формации не относятся к ним пассивно.
В отличие от иллюзорной констатации Белла о выходе
за рамки капитализма в направлении
посткапиталистических обществ, следует, по-нашему мнению, поставить
вопрос о подлинных границах капитализма как
общественной формации. Феодализм пал, так как являлся
непреодолимой преградой на пути промышленной революции и
ее производных. Капитализм же постоянно
революционизировал средства производства. Но это верно по
отношению к результатам промышленной революции. Будет ли
это верным также относительно надвигающейся
технологической революции и ее далеко идущих последствий,
например полной автоматизации? Как известно, Й. Шумпе>-
тер — теоретик, которого трудно заподозрить во
враждебности к капитализму (хотя он и видел его слабые
328
стороны), — серьезно сомневался в том, что капитализм
после вступления в империалистическую фазу будет
способен стихийно стимулировать технологические
нововведения и успешно их апробировать. А ведь речь шла
непосредственно о ситуации, складывающейся в границах
индустриальной «технологической ниши».
4. Вопрос о будущем рабочего класса
Разрабатывая концепцию постиндустриальных обществ,
Белл не мог обойти вопрос о будущем рабочего класса.
Поэтому он не только уделил внимание этой проблеме, но
и возвел ее в ранг исключительно важной в своей
критической «игре» с марксизмом.
Постиндустриальные общества, по Беллу, — это
постпролетарские общества. На наших глазах происходит
якобы «эрозия» рабочего класса, то есть процесс его
прогрессирующего отмирания и вытеснения другими
общественными классами и слоями, а именно классом техников и
специалистов. Уже в работе «Конец идеологии» Белл
заявлял, что место пролетариата занимает «салариат»
(salary — вознаграждение, плата). Рабочий, в особенности
заводской рабочий, — как символ и «инструмент
будущего» в марксистском видении мира — исчезает с
исторического горизонта.
Идеологические выводы из этих утверждений
очевидны. Впрочем Белл сам сформулировал их: исчезновение
рабочего класса ликвидирует общественный субъект
марксистской идеологии, опровергает концепцию научного
социализма и марксово видение будущего, отрицает
созидательную роль пролетариата в истории, обесценивает
требование диктатуры пролетариата и отрицает
необходимость рабочих и коммунистических партий.
Процесс индустриализации, породивший рабочий класс,
подготавливает одновременно и его конец. По мнению
Белла, это парадоксальный, но несомненный факт.
Потому что характерной чертой этого процесса является
постоянное замещение людей машинами, а его завершением
будет полная автоматизация, то есть полное исчезновение
физического труда и рабочего.
Точка зрения Маркса по этому вопросу представляется
Беллу неоднозначной. В «Критике политической
экономии» он предвидел,/что. труд человека заменит машина, а
32$
рабочую силу — наука как главная производительная
сила. Маркс здесь учитывал такую возможность. В
«Капитале» же, полагает Белл, при анализе роста постоянного-
капитала и его последствий в виде роста масштаба
предприятий и размеров безработицы, Маркс вынужден
якобы быть более строгим.
Итак, в 1960 году Белл провозглашал, как мы
упоминали ранее, что пролетариат не является подлинным
субъектом марксистской идеологии, что этим субъектом
является интеллигенция. В 1973 году он обосновывает нечто«
прямо противоположное, не пытаясь даже согласовать свои
взгляды со своими предыдущими тезисами. Создается
впечатление, что Беллу просто безразлично истинное
положение дел, поскольку в его понимании обе формулы
отлично служат той же самой цели — идеологической
дискредитации марксизма. Разница между ними лишь в том, чта
первый тезис больше подходил для этой роли в тот периодг
когда в буржуазной идеологии на первое место
выдвигались проблемы бюрократии, ее явной и скрытой власти,
тогда как второй — больше соответствует сегодняшней
ситуации, поставившей в повестку дня проблему автоматизации.
В одном пункте мы можем все же согласиться с Бел-
лом без колебания: речь здесь идет о вопросах, имеющих:
первостепенное значение для марксизма как идеологии.
Перейдем к критическим замечаниям. Тезис о
прогрессирующем исчезновении рабочего класса, якобы уже
совершающемся в промышленно развитых
капиталистических странах, не находит достаточного подтверждения в:
статистике. Более того, ее материалы показывают
несомненную стабилизацию численности рабочего класса, а
также структуры перемещения из группы
неквалифицированных рабочих в группы рабочих, повышающих
квалификацию. Следует отметить также, что быстрый рост
занятости в сфере услуг совершается за счет сельского-
хозяйства, а не за счет промышленного сектора.
Все же с возможностью значительного сокращения
численности рабочего класса следует считаться, учитывая
перспективу полной автоматизации производственных
процессов. Однако ведет ли это к тем негативным для
марксизма и социалистической идеологии следствиям, которые
предрекал Белл?
Американский социолог сделал здесь, очевидно,
ложный шаг. Он просто отождествил рабочий класс с классом»
330
наемных работников. В то же время все указывает на то,
что рабочий класс был только исторически более ранним,
классическим предшественником этого второго класса,
связанного с определенной фазой индустриализации.
Судьба марксизма как идеологии и социализма как ее
воплощения в общественной практике зависит от
существования класса наемных работников, а не от той или иной
его исторической ипостаси. Несомненно, это вынуждает
расстаться с некоторыми интуитивными предположениями,
но не требует изменения основополагающих принципов.
Наемный работник совсем необязательно должен быть
работником физического труда, а наемная сила совсем
необязательно должна выступать в форме рабочей силы.
Об этом прекрасно знал Маркс, и его характеристики здесь
являются достаточно общими. Именно Маркс
подчеркивал — а у Белла есть ссылки на эти суждения, — что такие
группы работников нефизического труда, как служащие,
занятые в торговле и банках, составляют некоторый
подкласс класса наемных работников. Более того, создатель
марксизма склонен был причислить к этому классу даже
менеджеров в сфере промышленности как ее
высококвалифицированный состав. Только так следует понимать его
известную метафору о дирижере оркестра, который не
должен быть владельцем инструментов. С момента
появления менеджеров класс капиталистов утратил последний
смысл своего существования, связанный с выполнением
им организаторских функций на промышленном
предприятии, и стал группой общественно бесполезной, полностью
паразитической.
С понятием наемного работника и наемной силы
создатель марксизма связывал прежде всего их
функционирование как товара, а также производство ими прибавочной
стоимости для капиталиста либо участие в этом процессе.
Эта характеристика в равной степени относится как к
физически работающему пролетарию, так и к работнику
сферы услуг, технику, инженеру и ученому, занятым в
капиталистическом производстве и его лабораториях.
Последние будут составлять все более многочисленную
группу в рамках класса наемных работников современного
капитализма.
Белл ошибается, когда противопоставляет рабочему
классу класс техников и специалистов. Поступая так, он
оперирует исключительно профессиональными критерия-
331
ми. Потому что с точки зрения отношения к средствам
производства эти группы не отличаются друг от друга,
образуя две большие части современного класса наемных
работников. Вытекающие из этого противопоставления
надежды Белла на идеологическую и общественную
дискредитацию марксизма следует считать свидетельством
интеллектуальной наивности и буржуазных иллюзий.
Полагать, что класс наемных работников может
исчезнуть, несмотря на существование такого социального
института, как частная собственность, и самой буржуазии как
класса, равно тому, что вообразить, будто Северный полюс
может существовать без Южного. Но нет таких иллюзий,
которым люди не поддавались бы под натиском своих
индивидуальных и групповых интересов.
Конечно, рабочий класс или класс наемных
работников не будет вечным элементом общественной жизни. Это
утверждение не только не противоречит учению Маркса,
но относится, как известно, к его наиболее
фундаментальным выводам. Коммунизм в понимании создателя
марксизма озпачает уничтожение классов; исторической
задачей класса наемных работников является подготовка
условий для этого уничтожения. И на этом кончается его
историческая роль.
Осуществление этой задачи предполагает реализацию
некоторых предварительных условий, таких, как
проведение социалистической революции, завершение
социалистического строительства и т. д. Технические и
технологические факторы, которые должны обеспечить
соответствующий уровень производительности труда, изобилие благ,
свободное время и возможность самореализации, являются
здесь одним из необходимых условий, но отнюдь не
исчерпывающим условием. Процессы автоматизации,
несомненно, сыграют главную роль среди этих технических
предпосылок строительства коммунизма и уничтожения
классов; они являются именно той формой, в которой
конкретизируется в настоящее время марксово видение этих
предпосылок. Итак, вместо иллюзорного исчезновения
класса наемных работников, якобы уже совершающегося
в развитых капиталистических государствах
исключительно под влиянием процессов автоматизации, —
уничтожение этого класса в результате социалистических
преобразований, реализуемое им самим в ходе осуществления
своей основной исторической задачи.
332
В, «Критике политической экономии» Маркс действн-:
тельно выдвигал предположения, поражающие своей даль-:
новидностыо, например о роли науки или процесса, кото-'
рый мы сегодня называем автоматизацией, и его
последствий. Но в конкретном упоминаемом Беллом случае
попытка противопоставления Маркса как автора «Критики
политической экономии» Марксу как автору «Капитала»,
безусловно, не оправдана.
Мы видим здесь лишь разный уровень обобщения и:
разный радиус действия предвидений. Возрастание
постоянного капитала относилось к тем явлениям, которые*
Маркс мог прослеживать в известной степени
своевременно. Его выводы и прогнозы применялись здесь именно к-
данному конкретному факту в его собственной
экономической теории. Иначе обстояло дело с наукой и ее
вторжением на историческую арену, а также с вытеснением п
отмиранием физического труда. Для того времени это были,
прогнозы с максимальным радиусом действия.
Следовательно, речь в данном случае идет не о расхождении в
прогнозах, а только о вопросе их временного горизонта.
Картина будущего, нарисованная в «Критике
политической экономии», имеет еще одну особенность. Она
касается протекания явления в «чистом» виде, без отнесения-
к какой-либо общественной системе, в том числе и
капиталистической. Она основана на идеализациях.
Основной ошибкой концепции Белла, наиболее типич-
пой для буржуазной мысли, является постоянная
недооценка того, что любые описываемые общие процессы
развития цивилизации (будут ли это вопросы
производства, научных открытий или автоматизации) требуют
постоянной связи их с природой той общественной системы,
в рамках которой они происходят. Эта ошибка
оказывается чрезвычайно выгодной для Белла идеологически. Она
позволяет представить капиталистический порядок просто*
как универсальную систему производства вообще,
автоматизации как таковой и т. п. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что и вывод Маркса, постоянно
разоблачавшего эту ошибку, Белл старается прочитать в
соответствии с духом буржуазного мышления, то есть не как
некоторую теоретическую идеализацию, а как обычное-
эмпирическое предположение.
Интересна эволюция форм, которую проходит
буржуазная критика в вопросе о рабочем классе как субъек-
333
те революции и движущей силе социалистических
преобразований. Так, например, М. Вебер заявлял, что рабочий
класс, осуществляя революцию, рискует, ничего не
приобрести в случае ее победы, так как окажется под властью
бюрократии, наличие которой предопределено как для
капиталистических, так и для социалистических обществ.
При этом он упрекал марксистов в том, что они
игнорируют вопрос об осуществлении контроля в условиях
социализма над национализированными предприятиями. В наше
время Маркузе и др. провозглашали, что рабочий класс
просто утратил свой революционный потенциал,
полностью интегрировавшись в капиталистической системе. Он
оказывается якобы неспособным поднять знамя
революции, поэтому в этой функции его должны заменить другие
общественные группы и слои. Наконец, Белл считает, что
вся дискуссия о роли рабочего класса в преобразовании
будущего становится беспредметной, так как история,
выносящая обычно окончательный приговор, уже обрекла
якобы этот.класс на общертвенную аннигиляцию.
Исполнителем этого приговора призван быть сам
технологический прогресс.
В этом основцом идеологическом споре нашей эпохи
знаменательна усиливающаяся «радикализация» точек
зрения критиков, .которое начинают обычно с сомнения в
смысле и цели борьбы рабочего класса, а приходят в итоге
к отрицанию самой проблемы и необходимости ее
общественного решения. Эта радикализация, несомненно,
является симптомом бессилия капиталистической системы
противостоять победоносному движению рабочего класса,
руководимого рабочими и коммунистическими партиями.
В ней проявляются также те знаменательные
преобразования в структуре буржуазной идеологии, которые
свидетельствуют о «перемещении» ее в направлении
технологических доктрин. Так, если Вебер и Маркузе атакуют
проблему в социальной плоскости, противопоставляя
марксистской программе контраргументы, почерпнутые еще из
числа традиционных проблем революции, механизмов
власти, общественных целей и ценностей, то Белл ищет
решений уже вне этой сферы, в мире технологических
процессов. Таким образом, он выражает одно из наиболее
сущесвтве<нн$1х .убэждений , технокрдтических идеологий,
согласно которому любые общественные проблемы
раньше или позже найдут свое решение в прогрессе техники и
технологии.
Содержание
Антимаркспзм: эклектика в роли методологии.
Вступительная статья 5
Введение 22
1. Формы реакции на марксизм. Типология критиков 24
2. Виды стратегии критиков 31
3. Почему необходима критика критиков марксизма? 37
Часть первая
Теоретико-методологическая критика
Критика исторического материализма К. Поппером ... 45
1. Критика исторического материализма в XIX веке . . 46
2. Обвинение в историцизме 47
3. Частные возражения 52
4. Обвинение в эссенциализме 60
5. Некоторые оценки и выводы 62
Был ли Маркс моральным псторицистом? 65
1. Структура аргументации 65
2. Подлинный смысл нравственного историцизма ... 67
3. Историко-социальная и нравственная оценки ... 70
Т. Парсонс против марксизма 73
1. Проблема генезиса. «Историческая критика» ... 74
2. Вопросы теории. «Теоретическая критика» .... 79
3. Проблема метода. «Методологическая критика» ... 93
Жак Моно о марксистской философии 114
Диалектика и ее критики 124
1. Вопрос о месте и роли диалектики. Ревизионистская
критика 124
2. Возможна ли диалектика природы? Антипозптивист-
ская критика 128
3. Возможна ли диалектика вообще? Позитивистская
критика 134
Часть вторая
Марксологическая критика
Г. Маркузе п марксизм t • • • • 145
335
I. Общефилософские аспекты 146
1. Концепция философии. Мотив «уничтожения
философии» 146'
2. Диалектика. Принцип отрицания 151
II. Фплософско-исторические аспекты 155
1. Исторический материализм как теория «предыстории
человечества». Принцип детерминированности
сознания общественным бытием 154
2. Локализация идеологии. Концепция «поглощения»
идеологии действительностью 158
3. Историко-социальная схема Маркузе. Проблема
природы и истории 162
III. Антропологические аспекты 166
1. Структура подавления. Принцип производительности 166
2. Структура отчуждения. Отчуждение труда . . . . 171!
3. Структура одномерности. Критика индустриальной
цивилизации 173
4. Структура технологии. Критика индустриальной
цивилизации 174
IV. Идеологические аспекты 176
1. В порочном кругу радикализма 177
2. Вопрос о субъекте революции 178
3. В перспективе индустриального общества. Является
ли Маркузе сторонником теории конвергенции? . . 182
Критика марксизма Ю. Хабермасом 186
1 186
1. Марксизм как критика 188
2. Полемика с Марксом 197
II 199
1. Обвинения в адрес исторического материализма . . 200
2. Исторический материализм как предмет «обобщения»
у Хабермаса 206
III 208
1. Диагноз современности. Обвинения в адрес
позитивизма 208
2. Утопия Хабермаса 216
Интерпретация марксизма Э. Фроммом 220
1. О понятии отчуждения 220
2. Концепция природы человека у Фромма 228
3. Концепция общественного характера и «коллективного
бессознательного» 229
4. О так называемых ошибках Маркса 234
Часть третья
Историко-социальная критика
Р. Арон и концепция «деидеологизации» 241
336
1. Структура истории 242
2. Структура идеологии : 245
3. Доказывает ли успех истинность идеологии? . . 247
^Некоммунистический манифест» У. Ростоу . . . . . 249
1. Стадии экономического роста. Историко-социальпые
предпосылки 249
2. Ростоу о Марксе 253
Марксизм как источник идей и объект критики К. Маннгейма 256
I 256
1. Теория идеологии и социология знания .... 257
2. .Проблема социальной обусловленности познания . . 267
3. .Несколько возражений против социологии знания
Маннгейма 268
П 269
1. 'Принцип приоритета экономического фактора.
Критика натурализма 270
2. Концепция «социальной техники» против
исторического материализма 274
Идеологические конфронтации Д. Белла 281
I 282
1. Понятие отчуждения 282
2. «Конец идеологии». Между метафизикой и
действительностью 292
3. Вопрос о субъекте марксистской идеологии . . . 2S9
II. • . 305
1. От постпдеологического общества к
постиндустриальному обществу 306
2. Концепция постиндустриального общества как
мистифицированное описание современного капитализма 312
3. Концепция постиндустриального общества как исторп-
ко-соцпальная схема 319
4. Вопрос о будущем рабочего класса 328