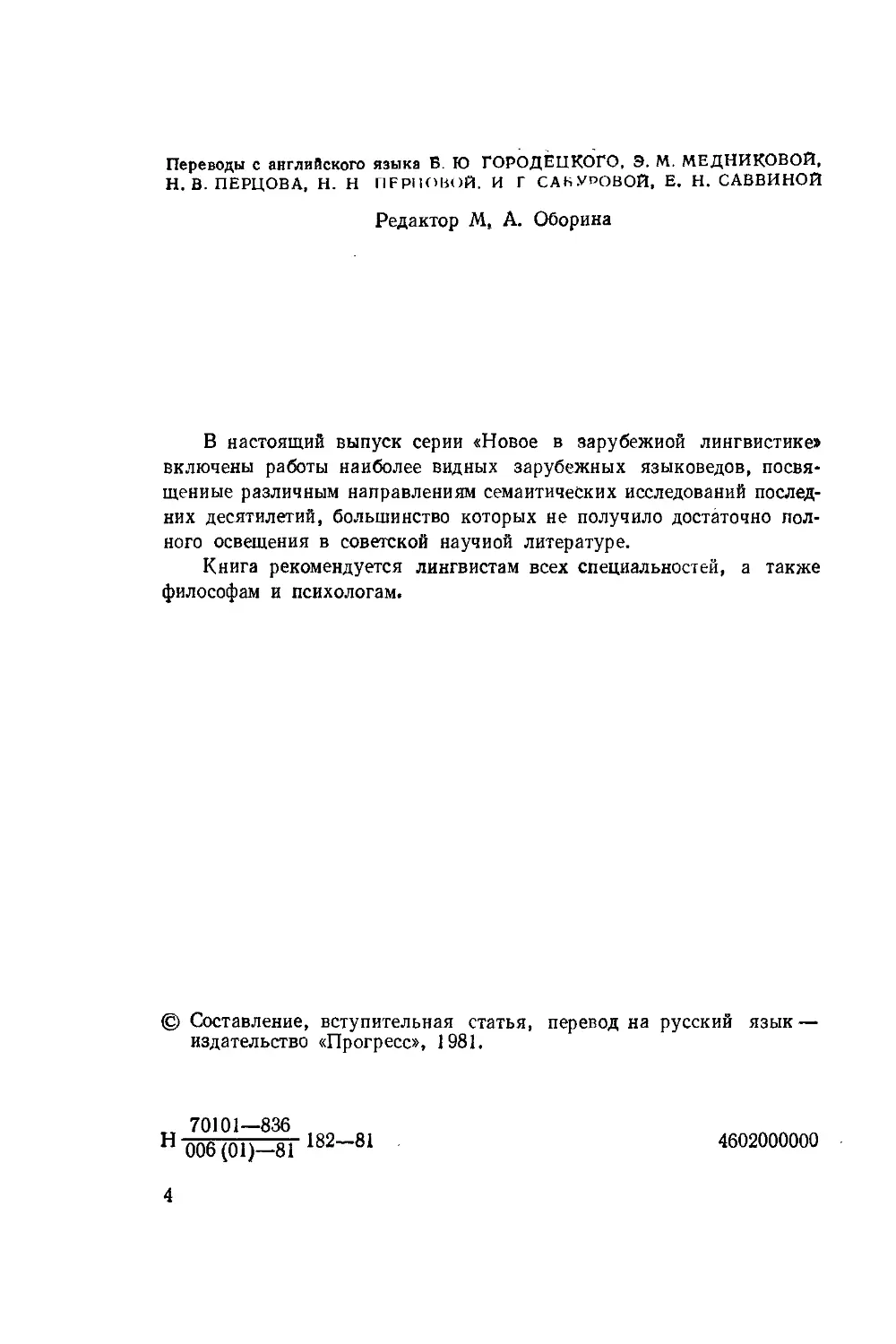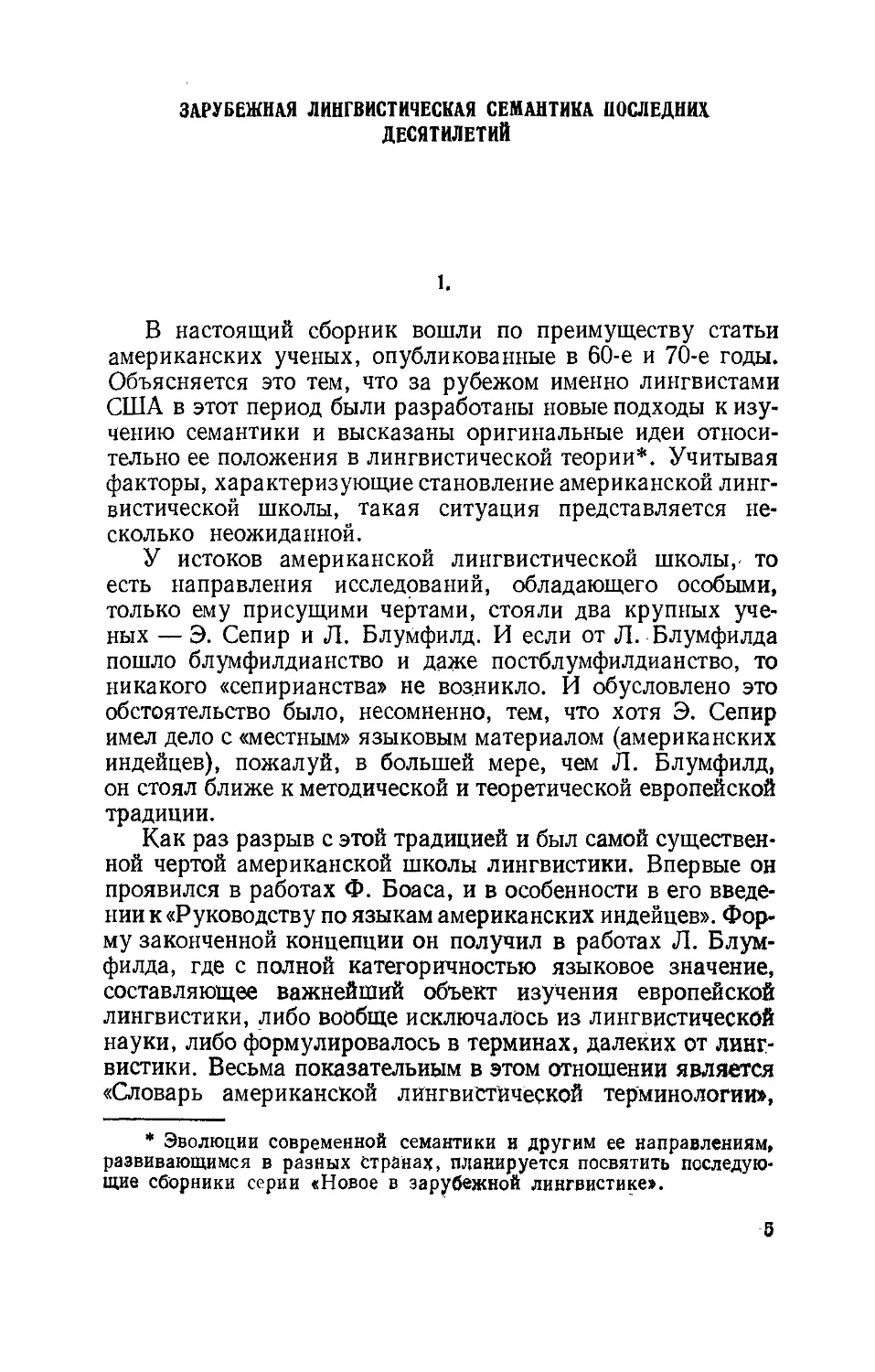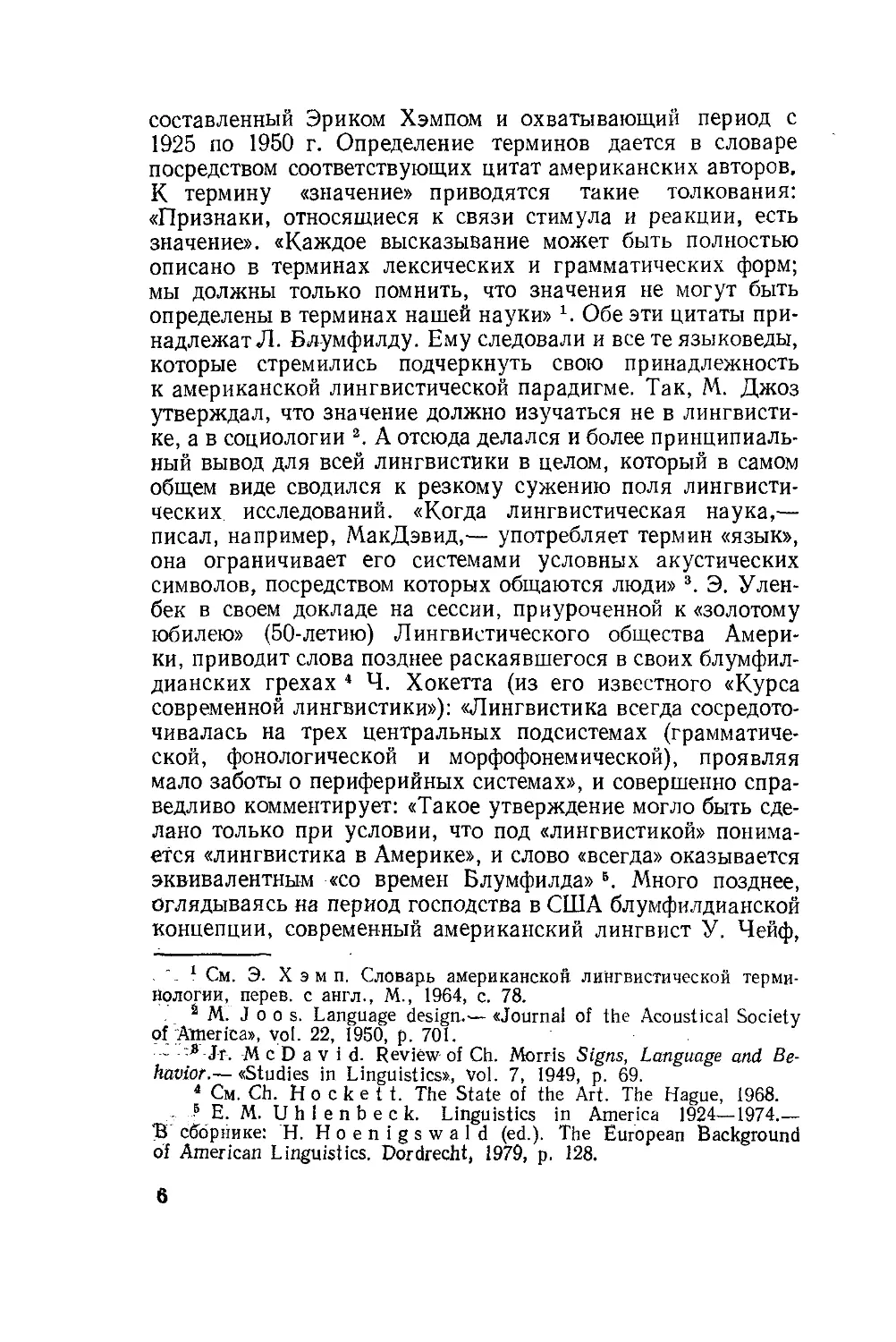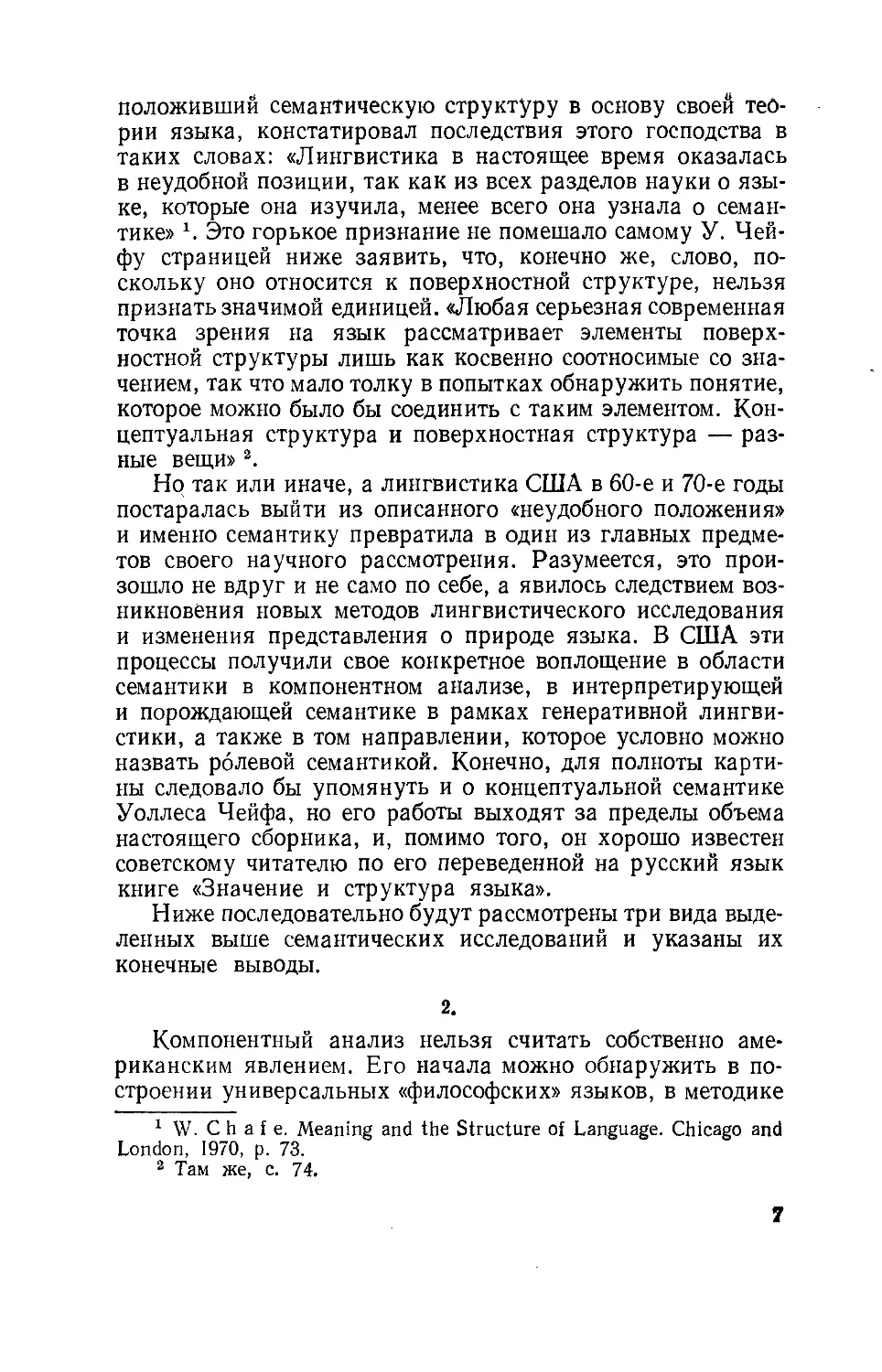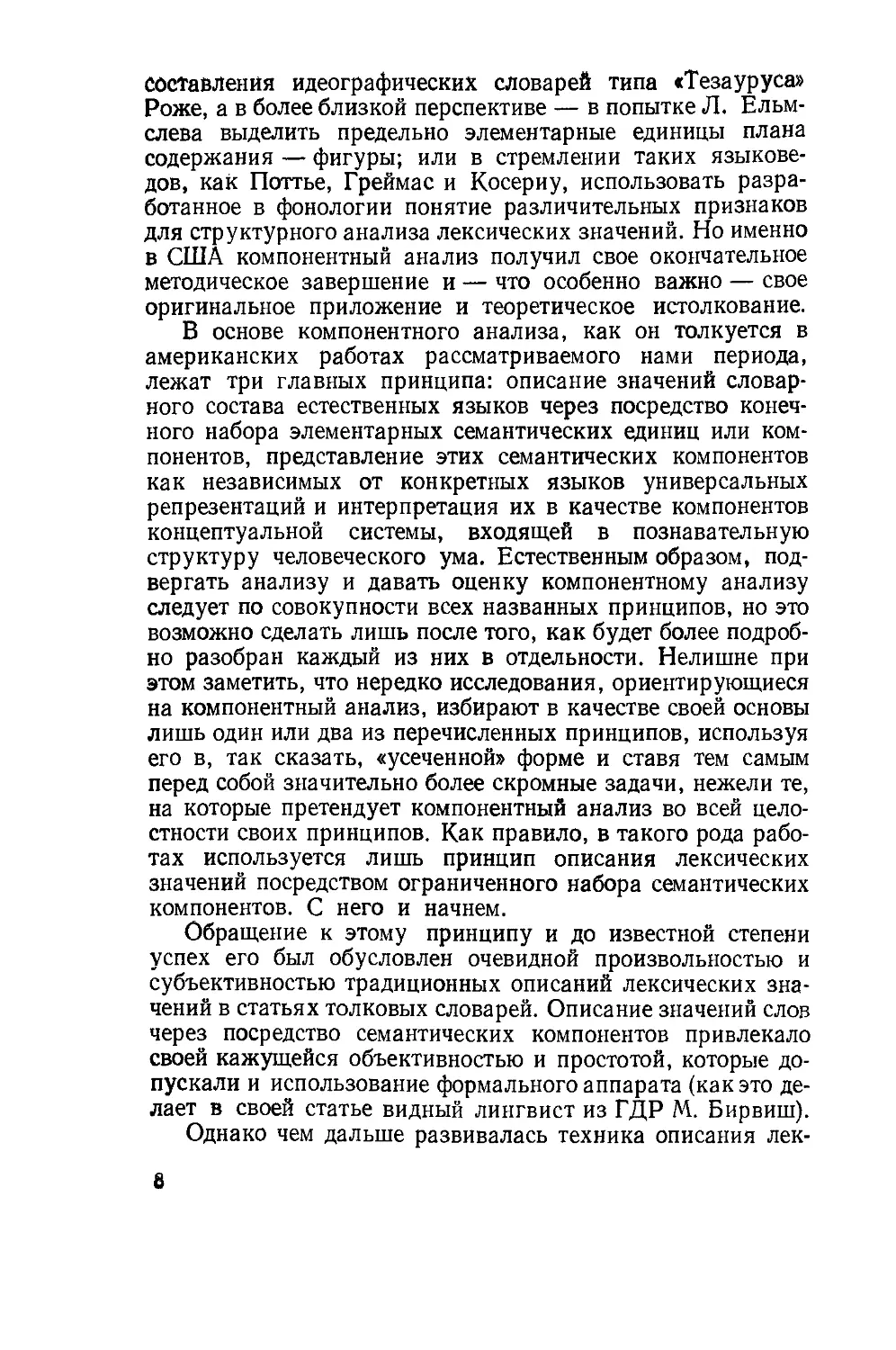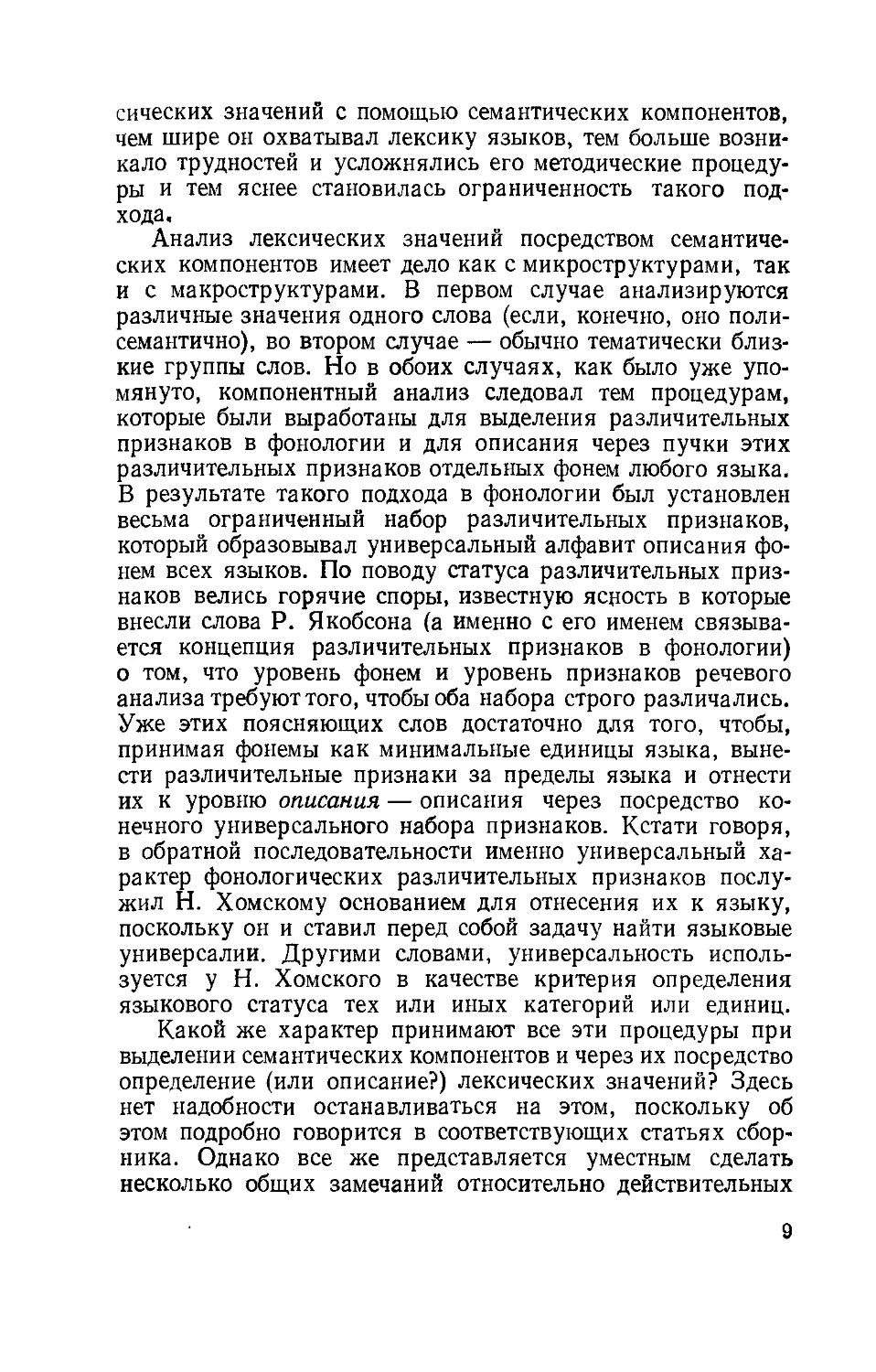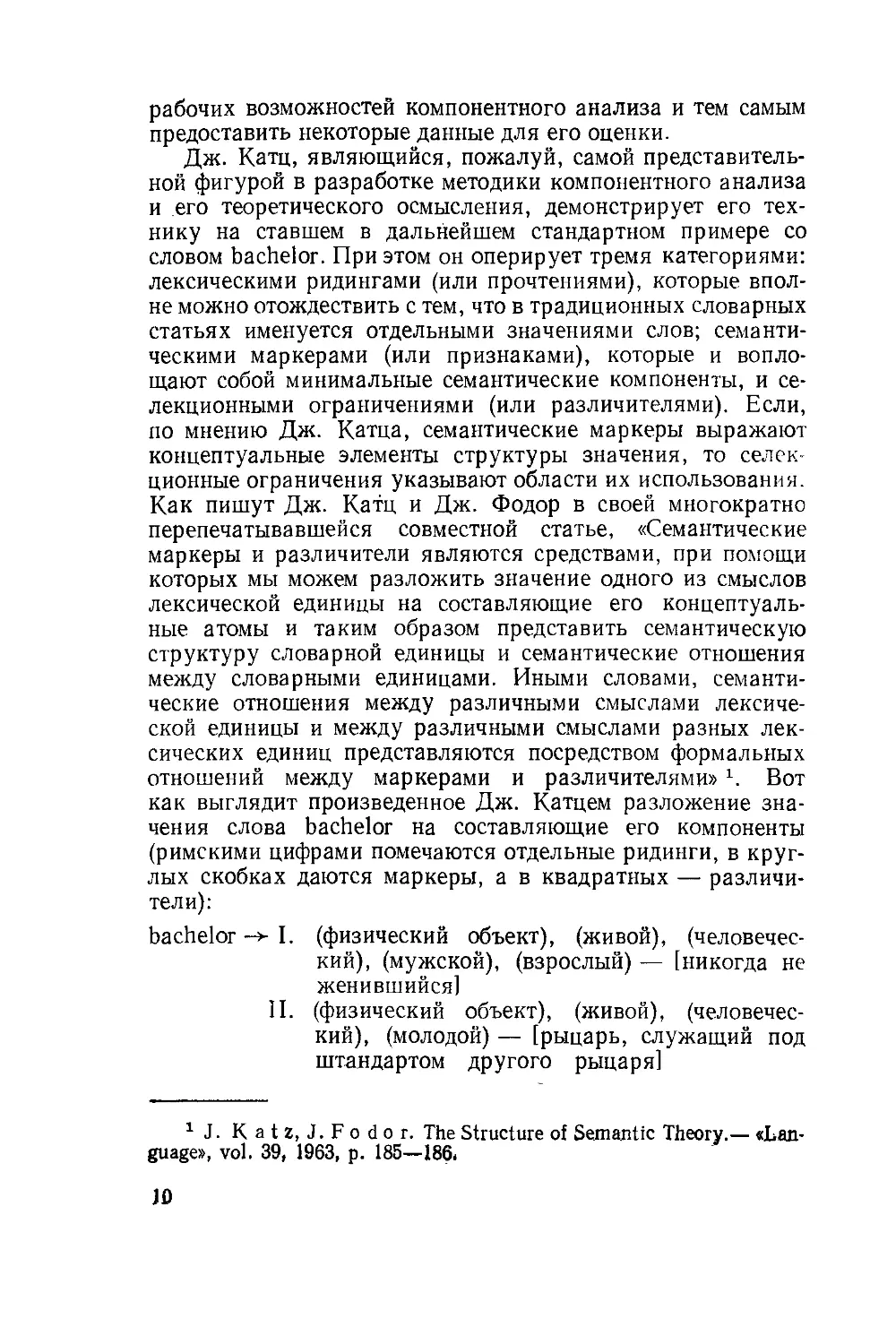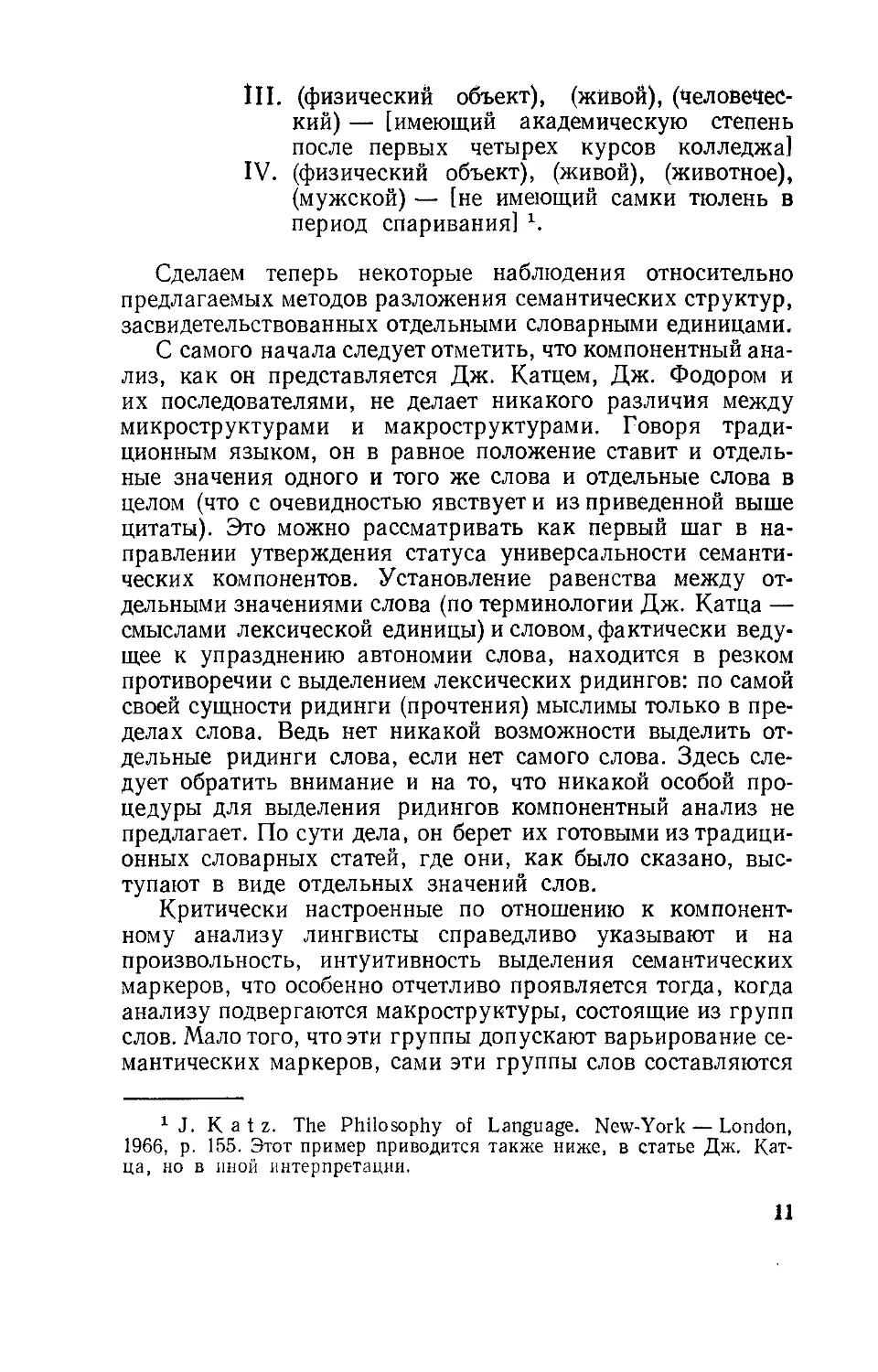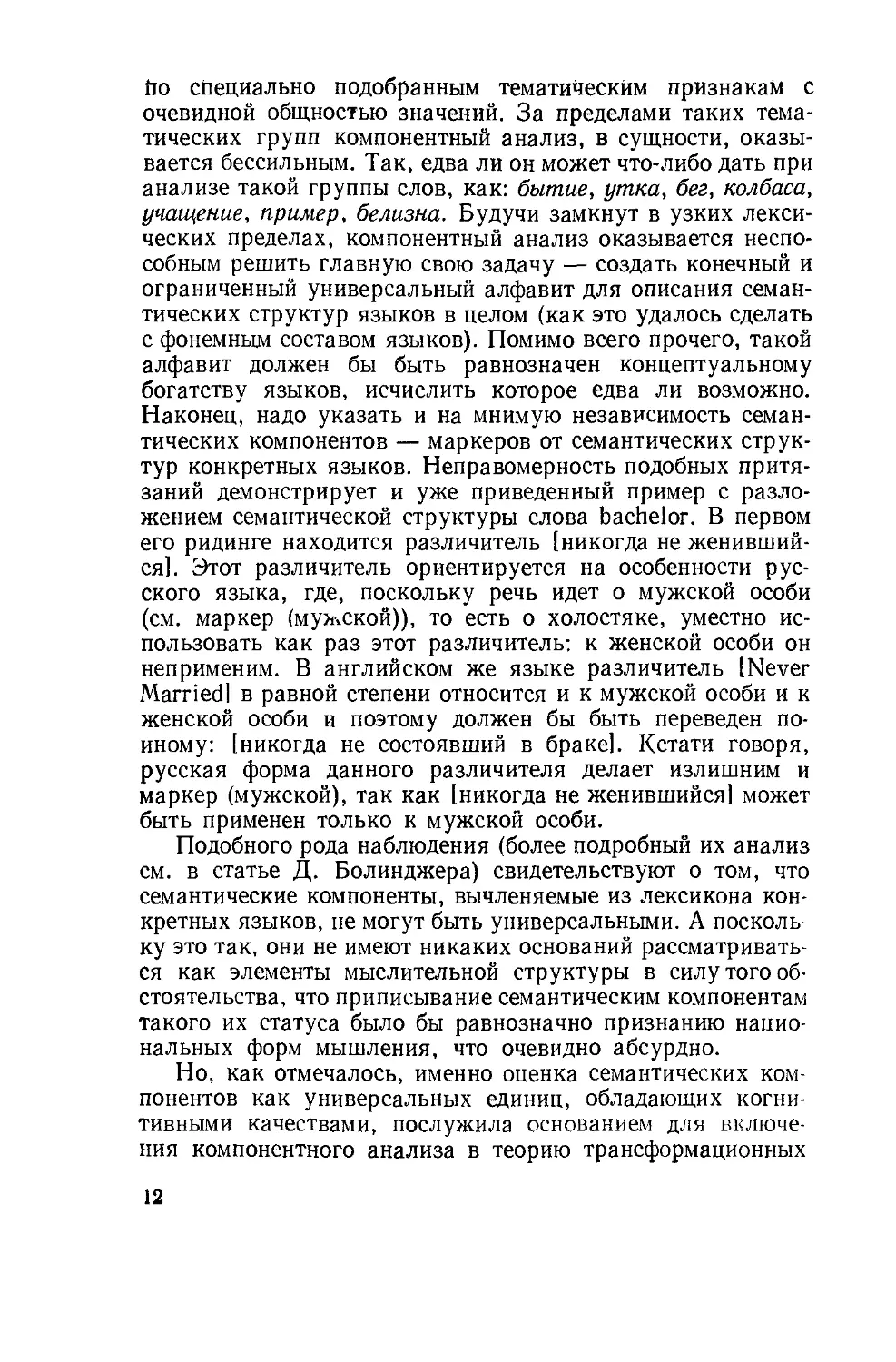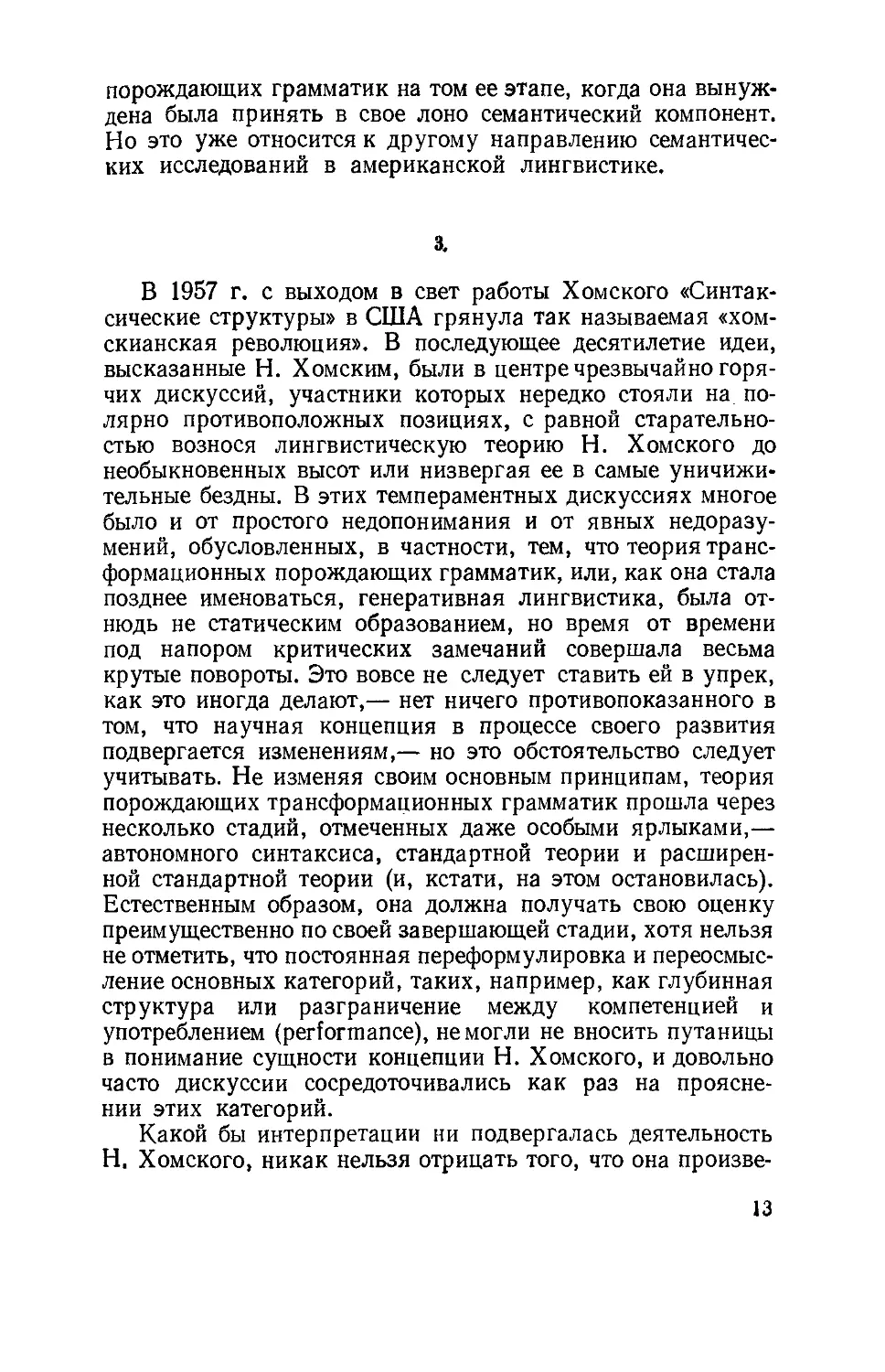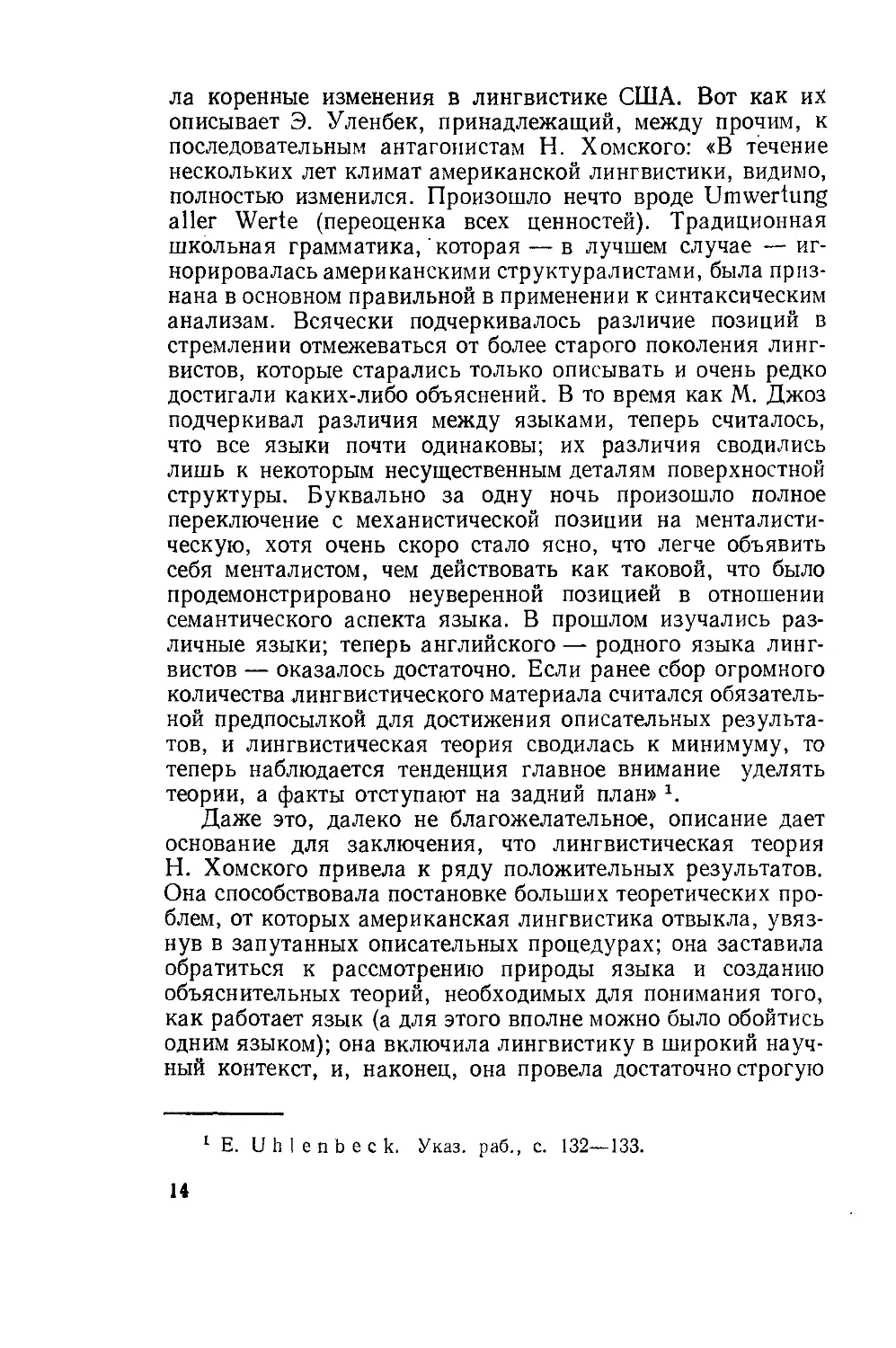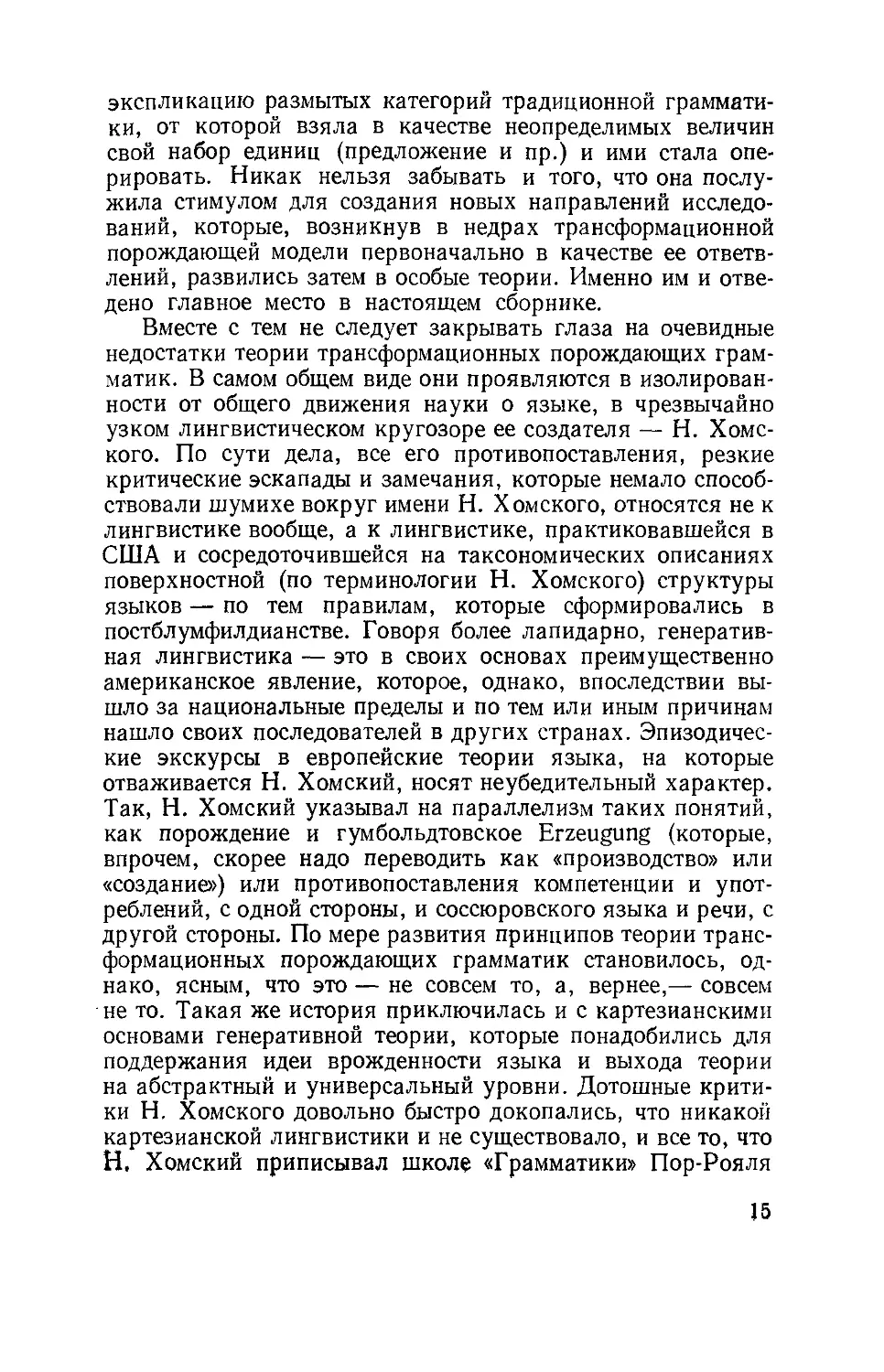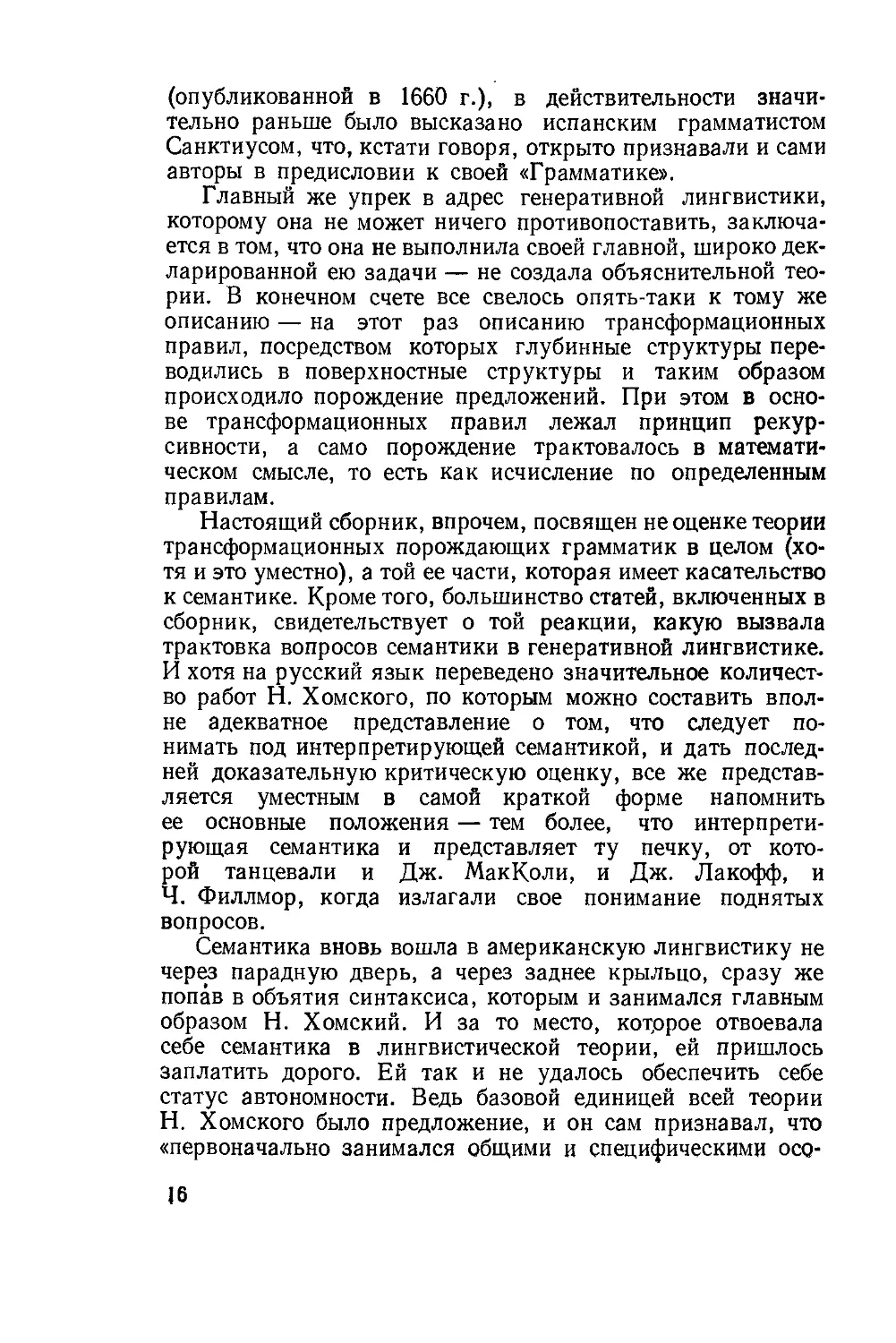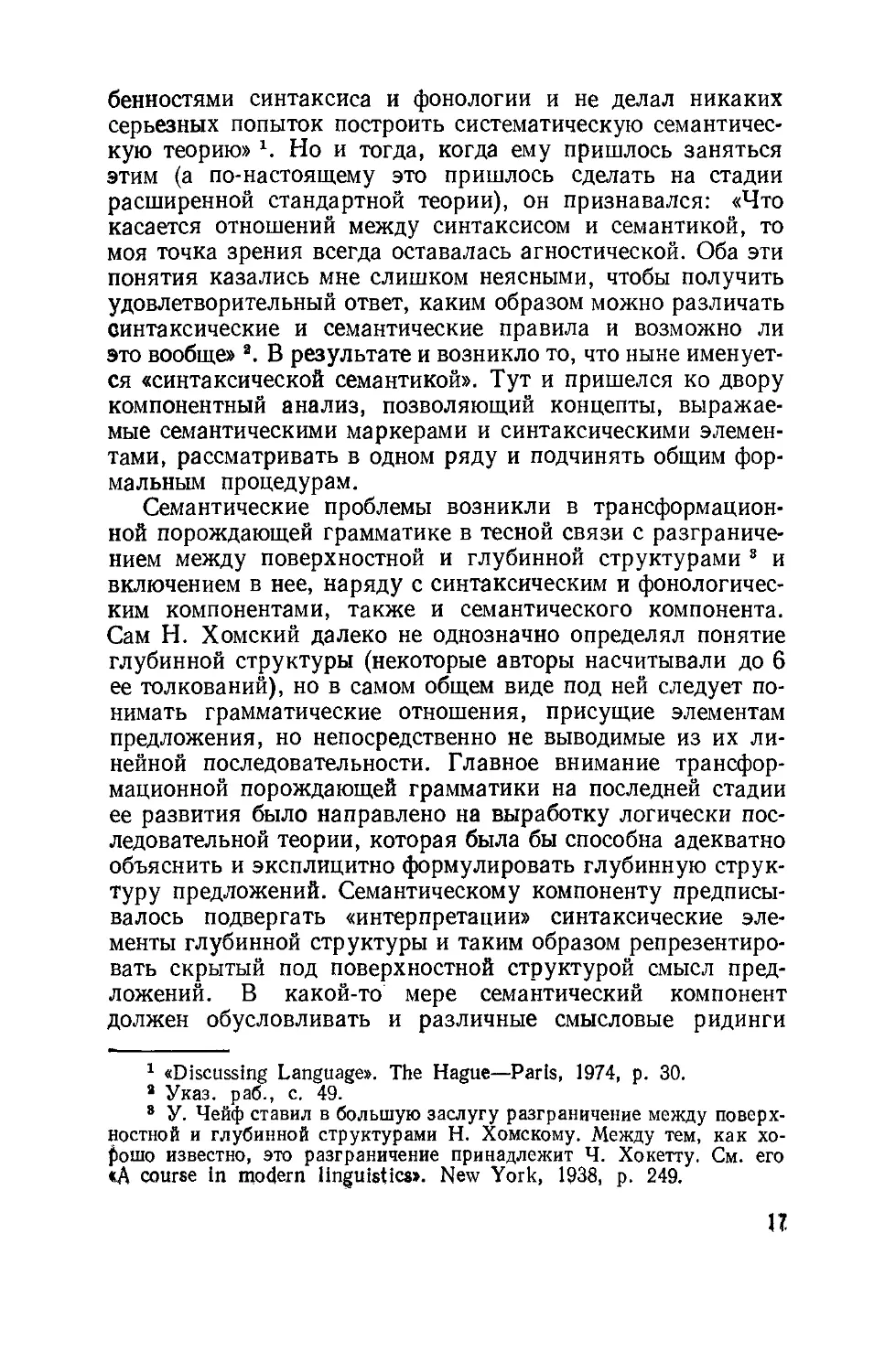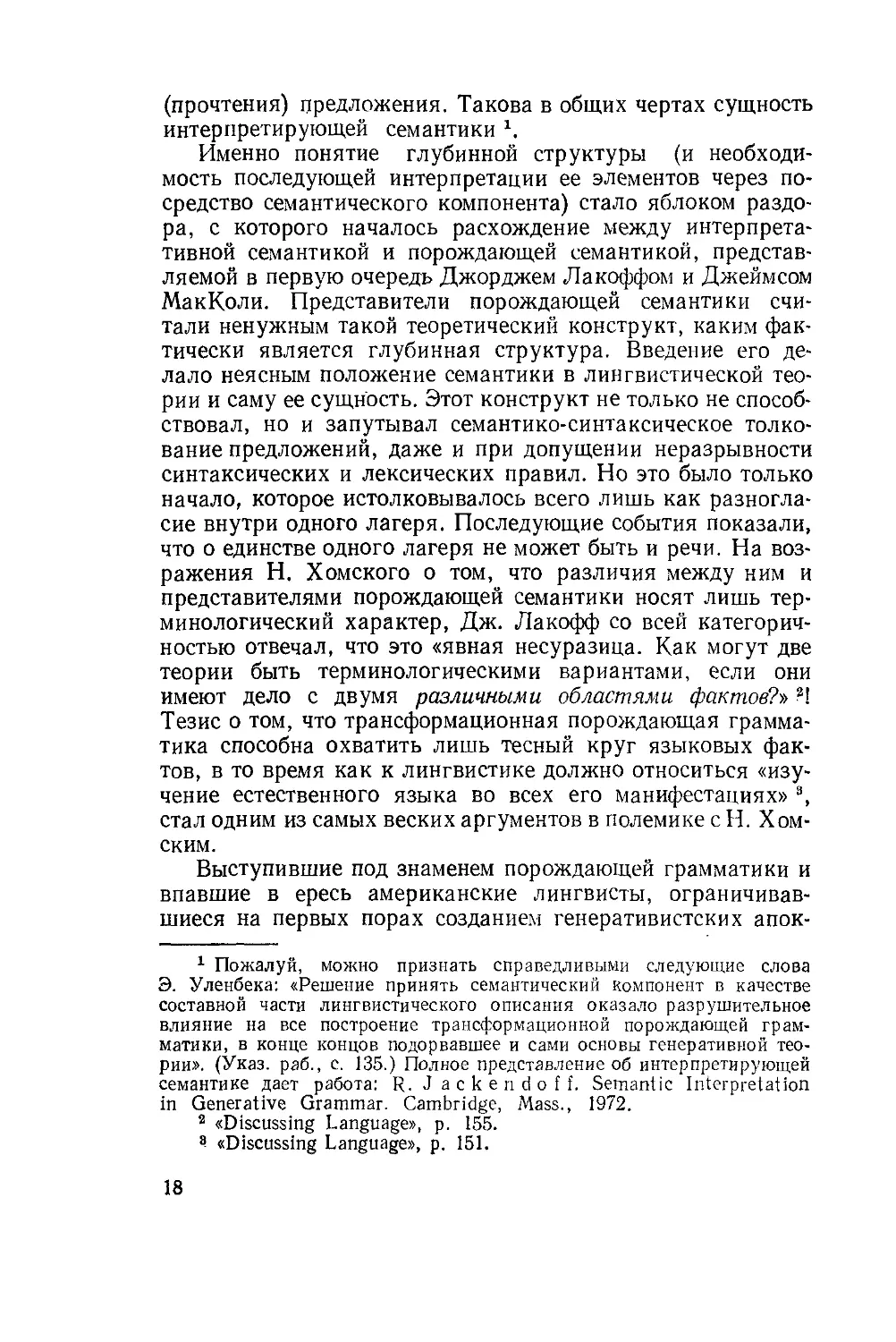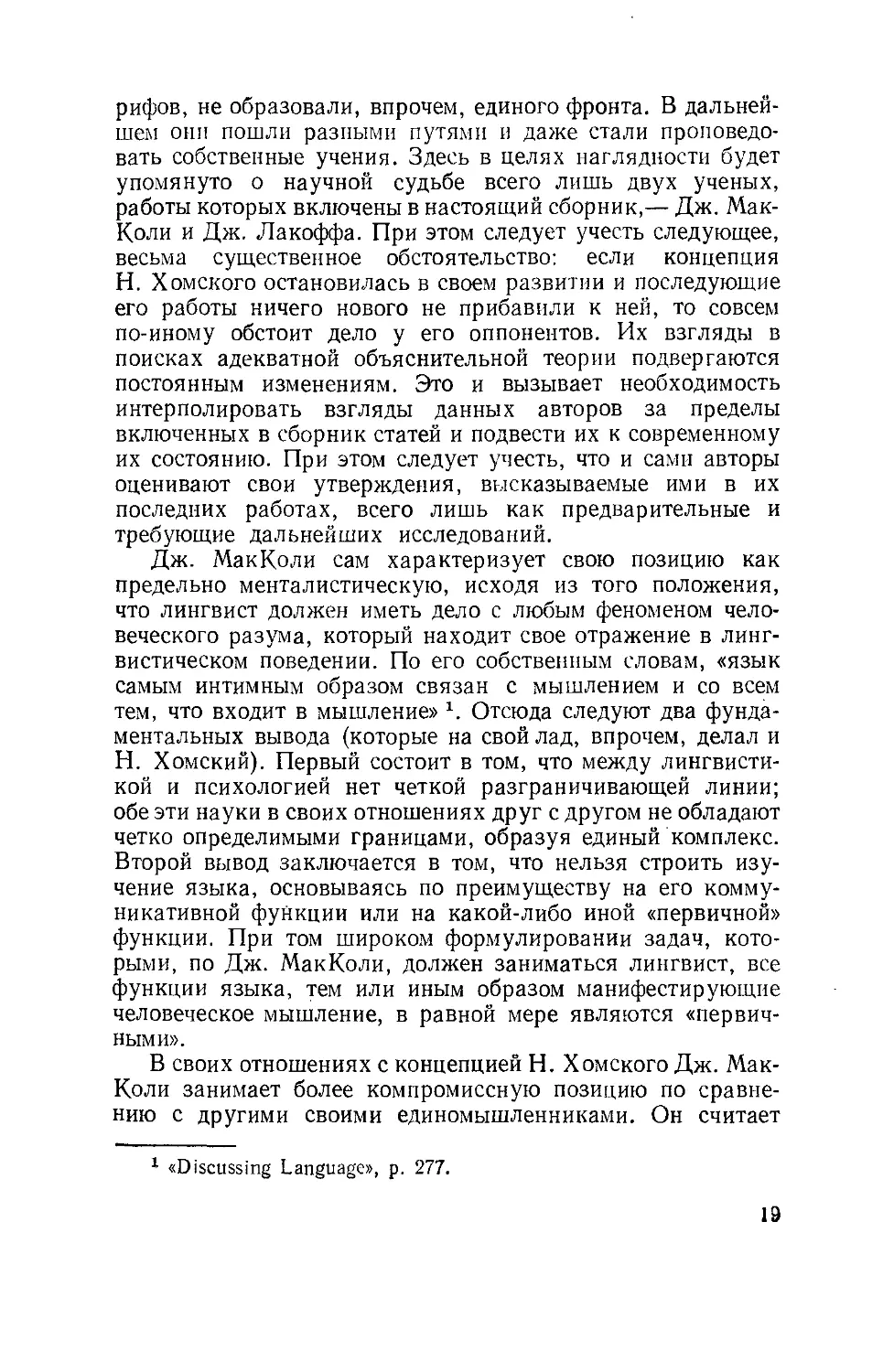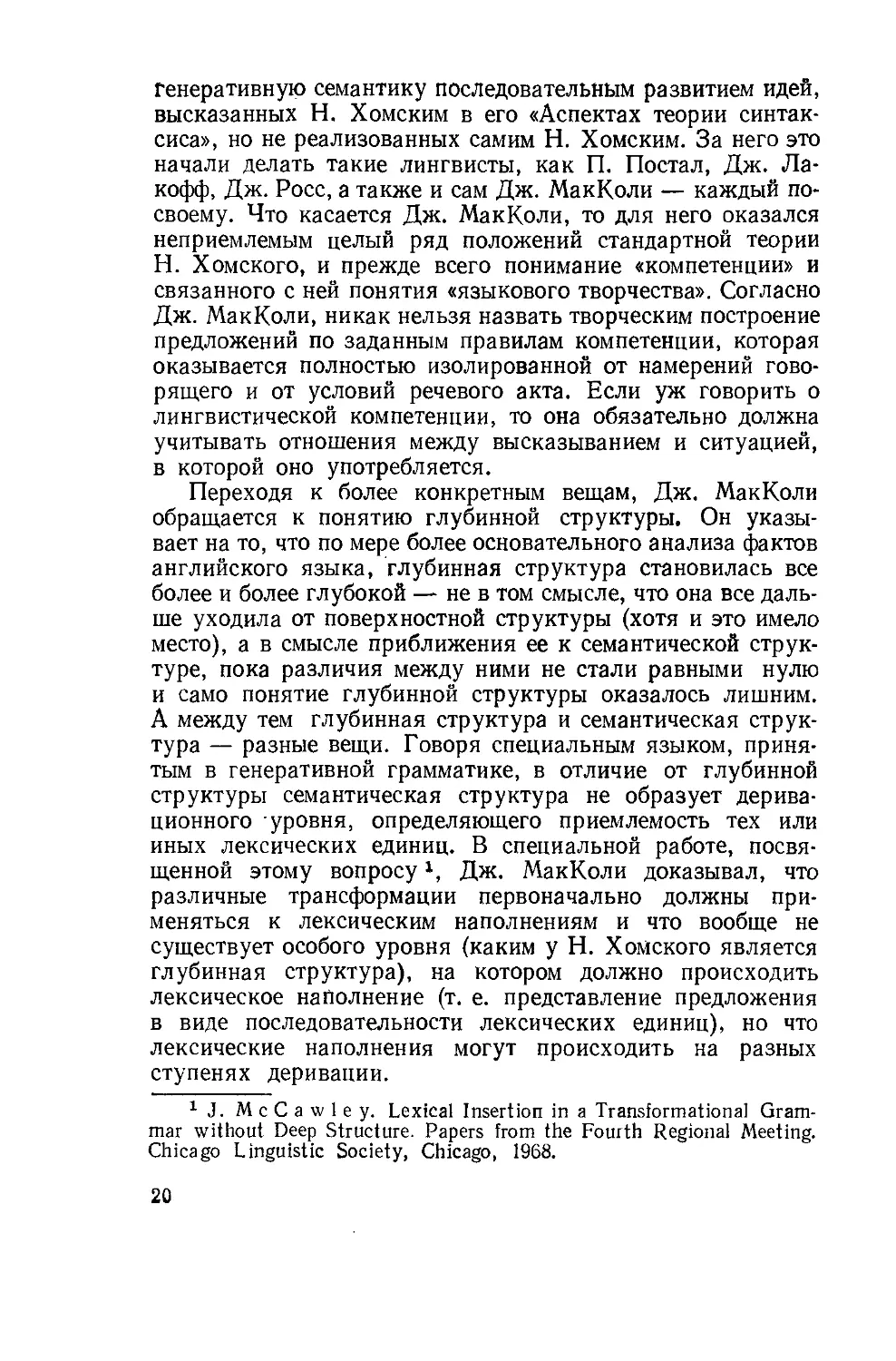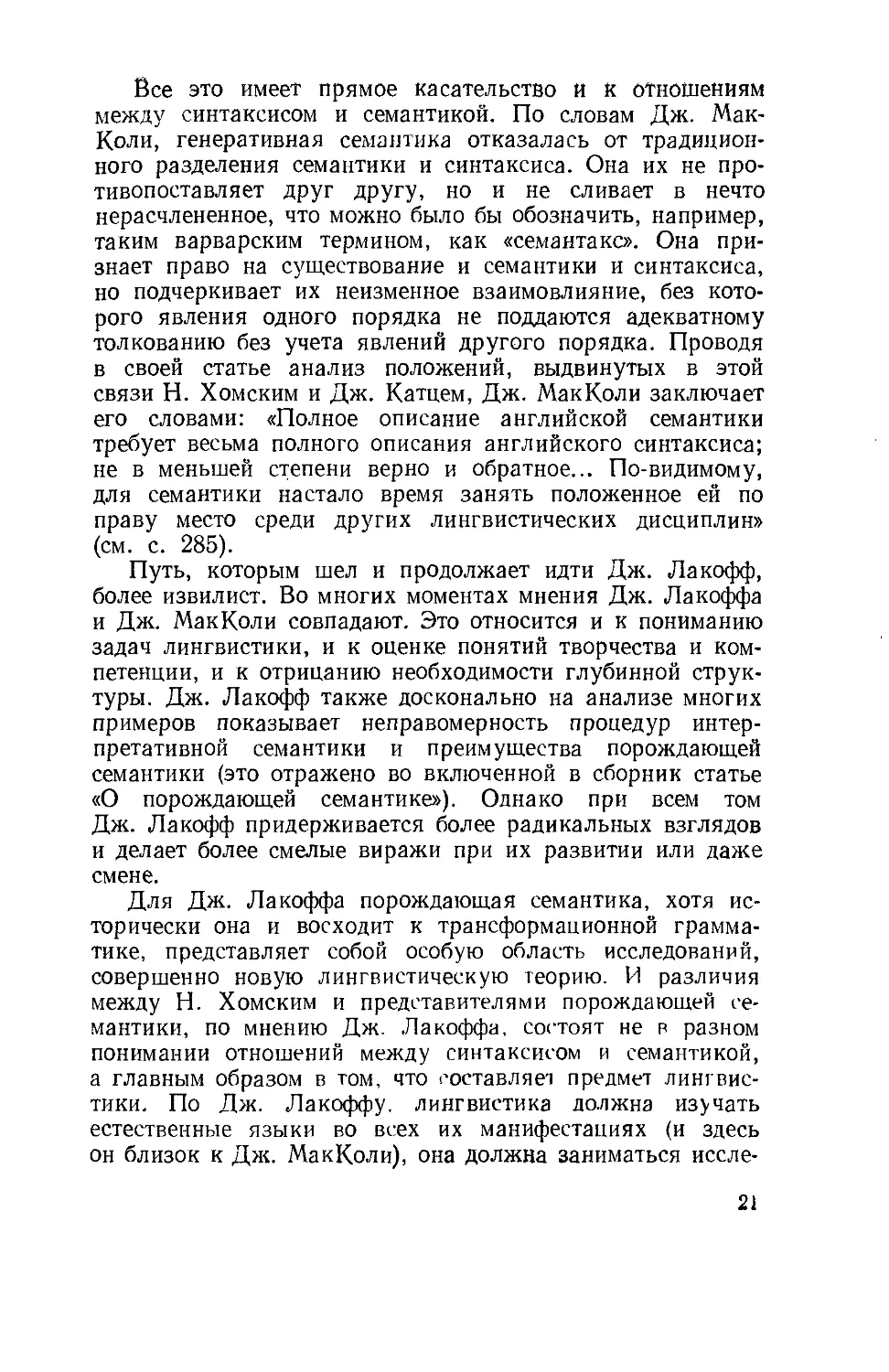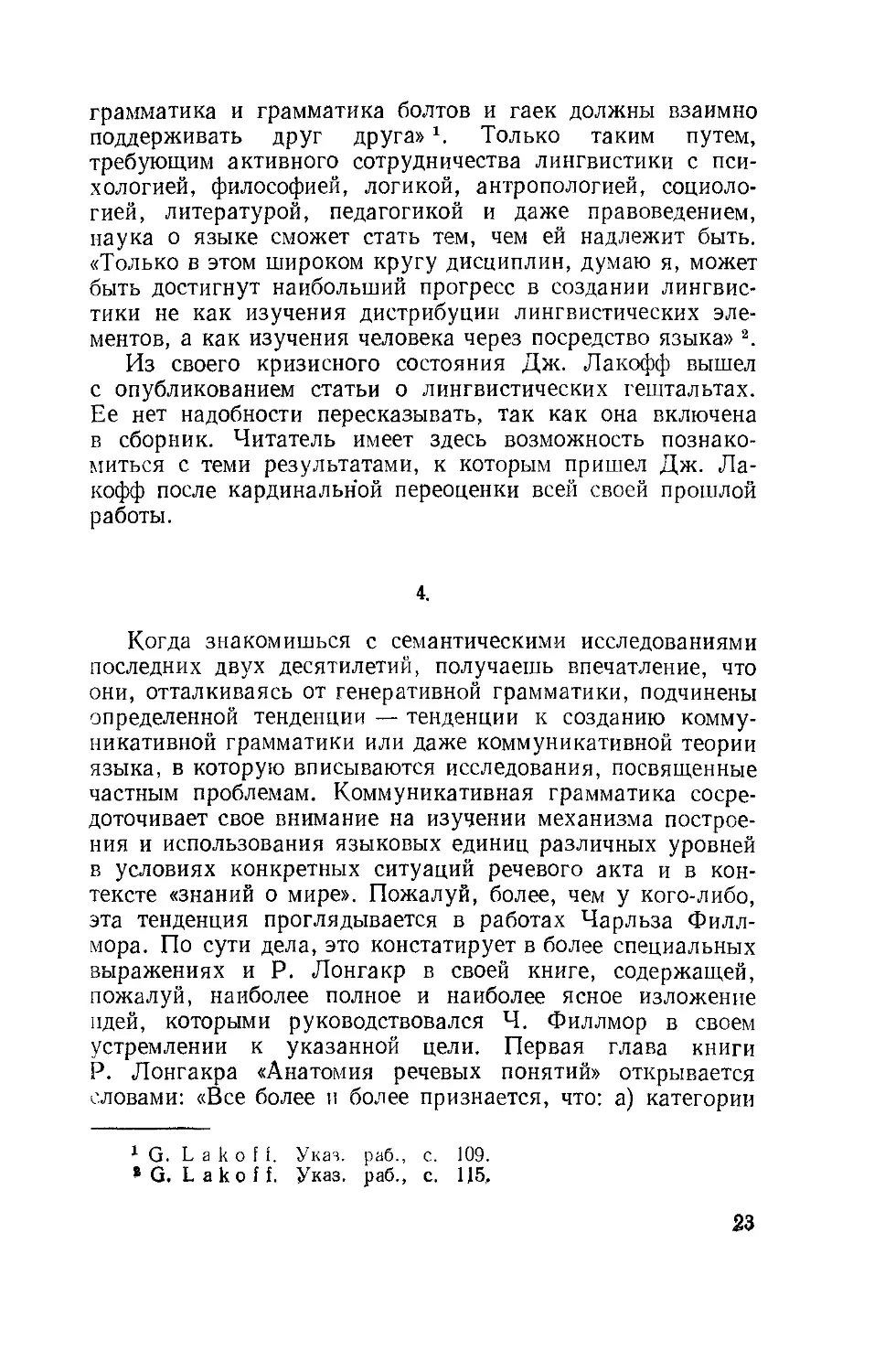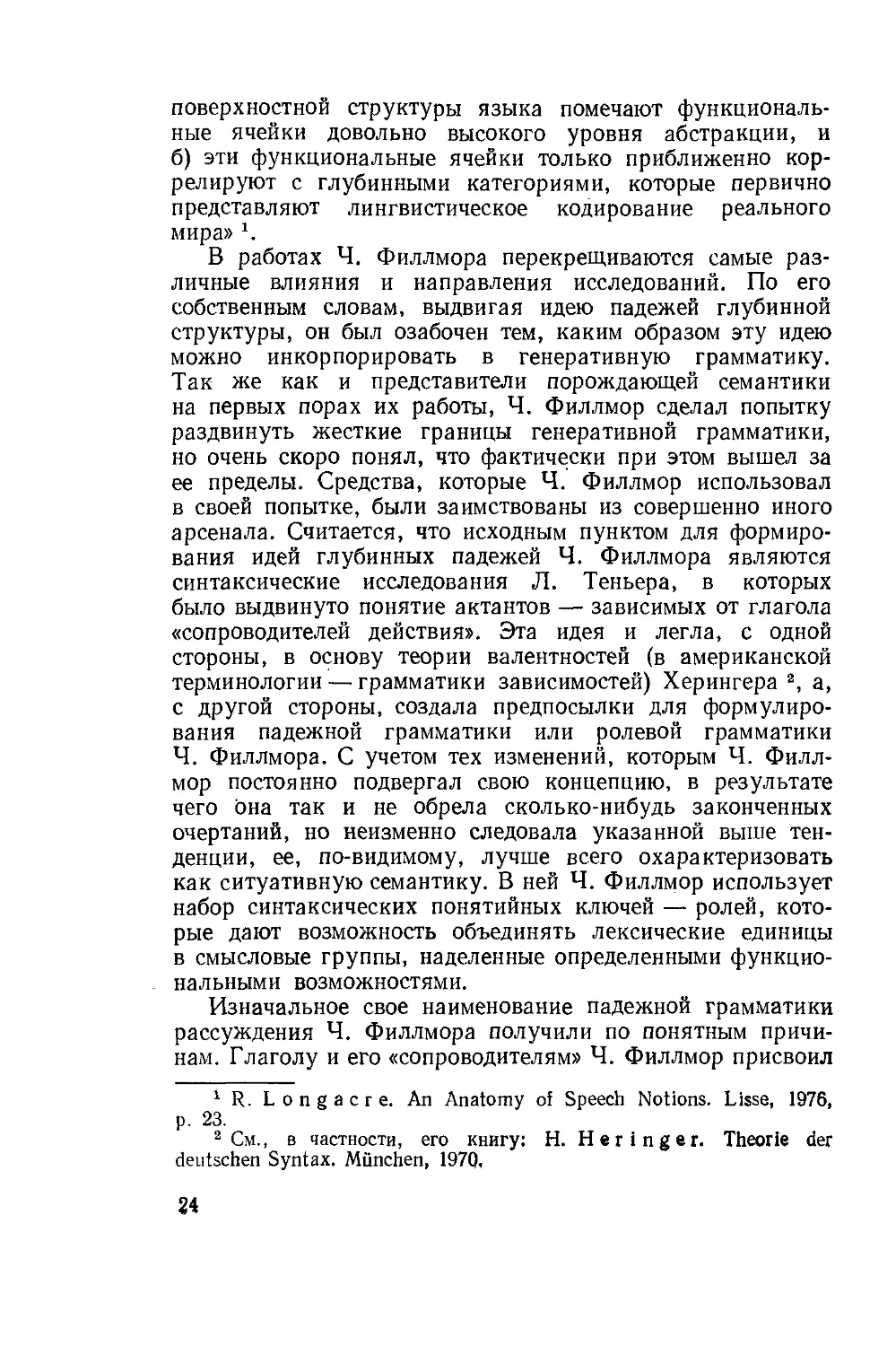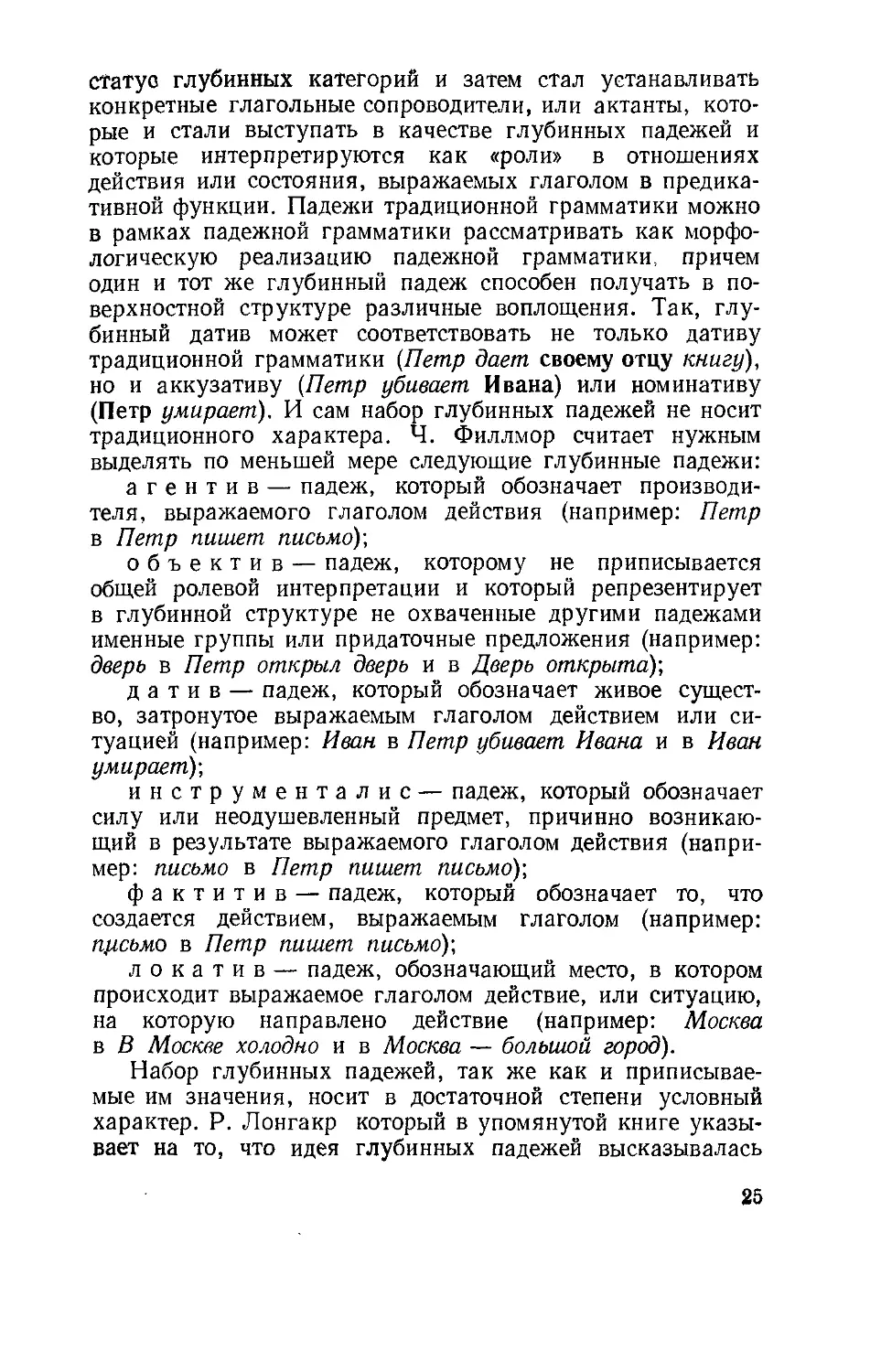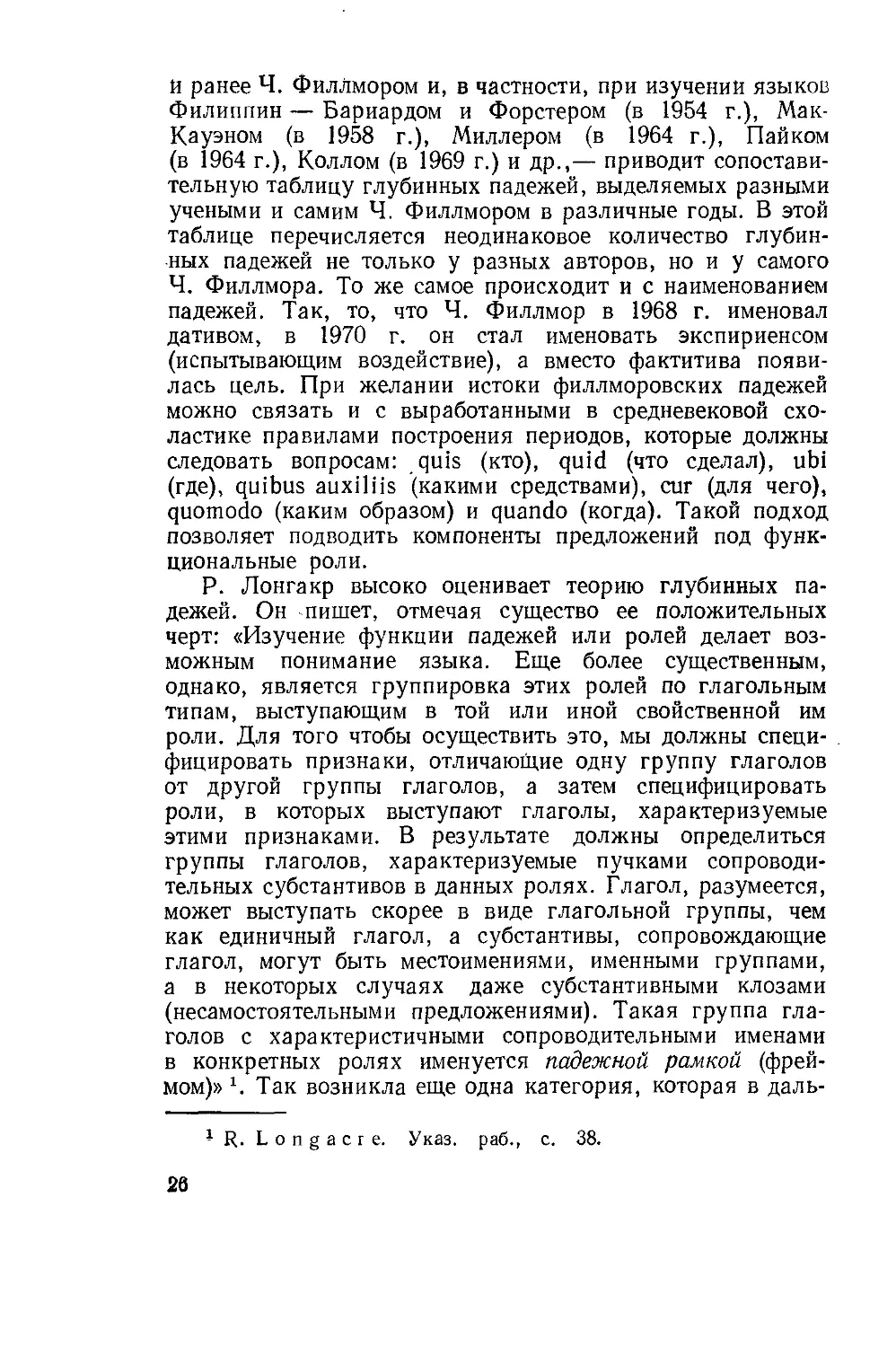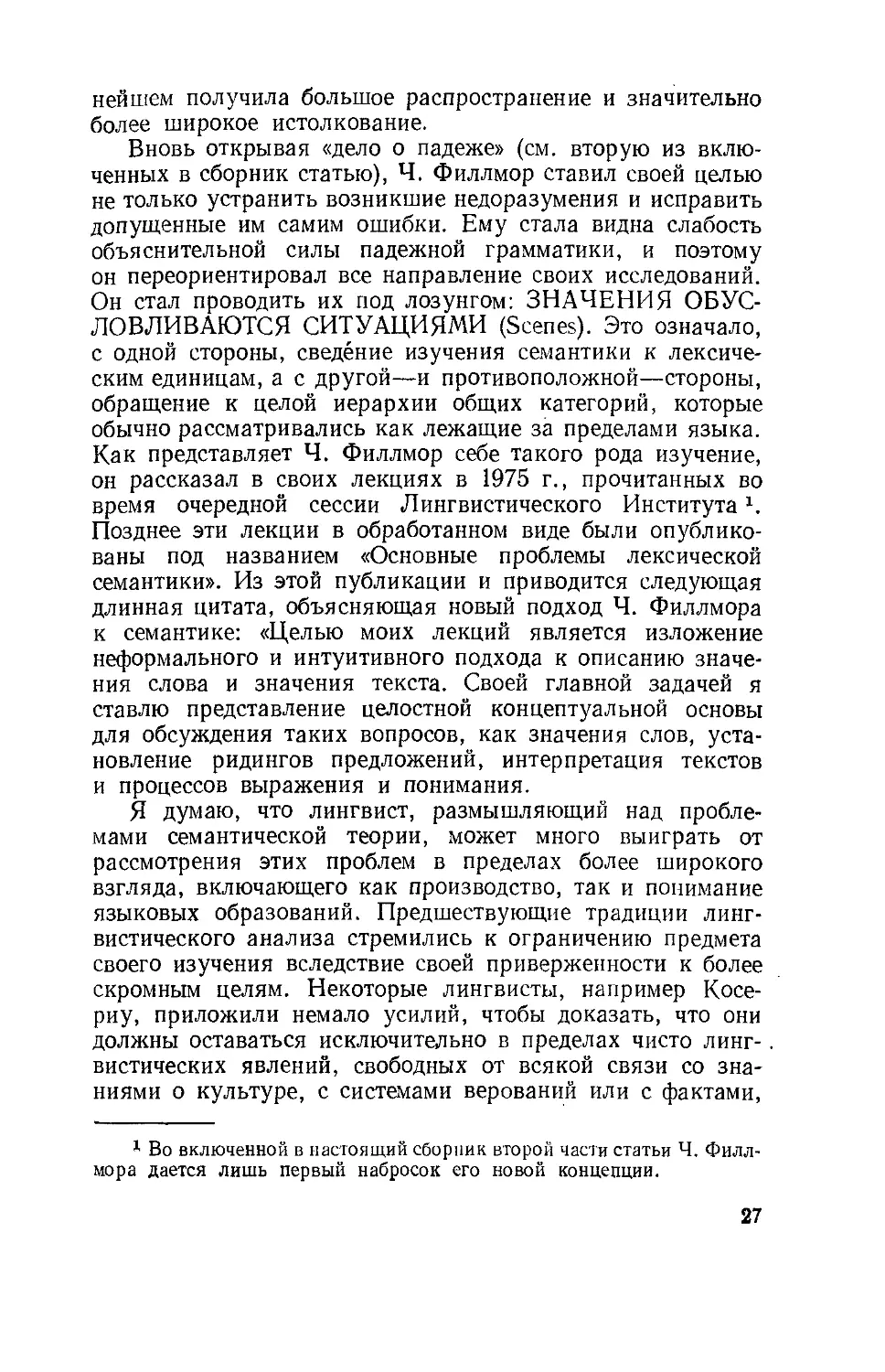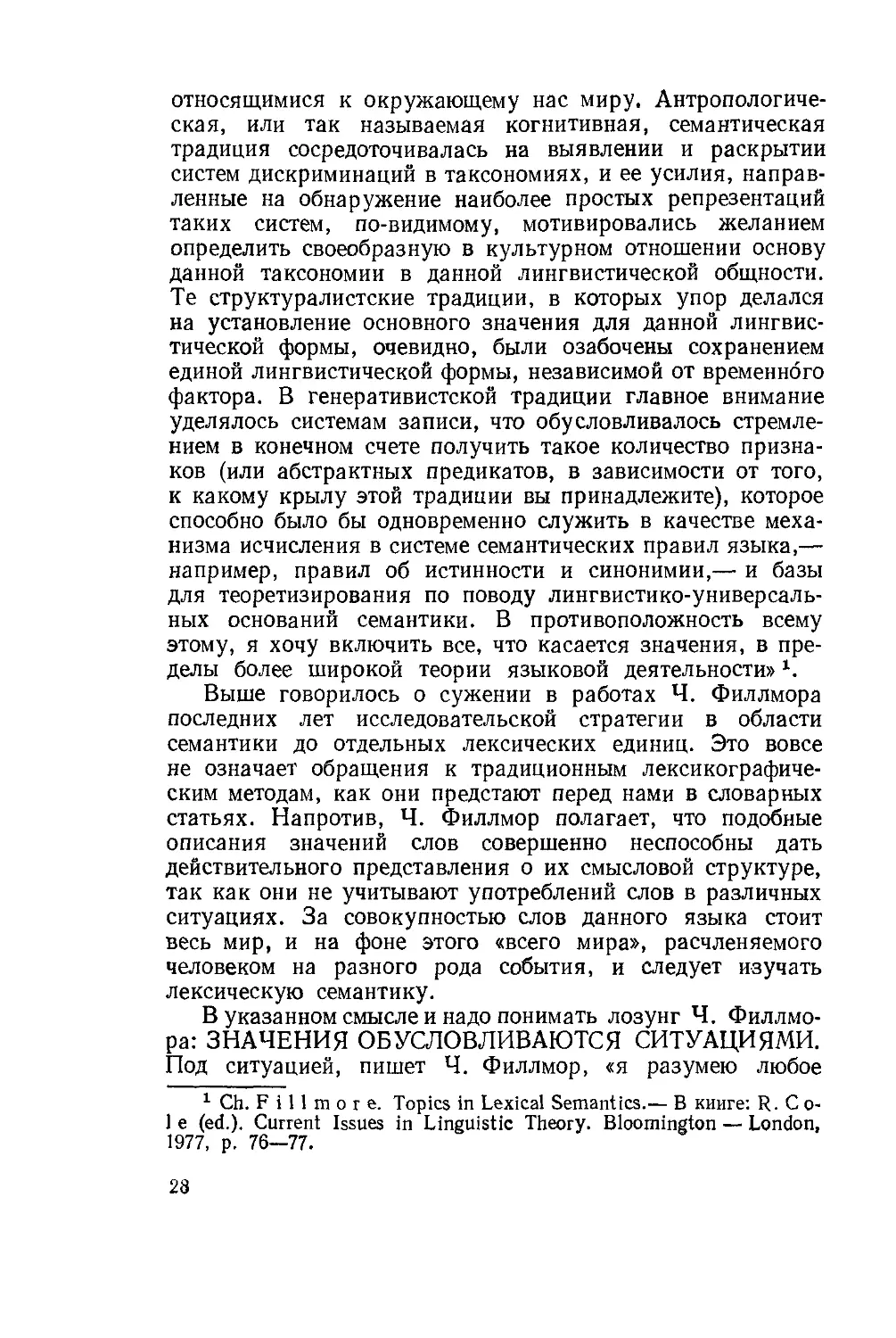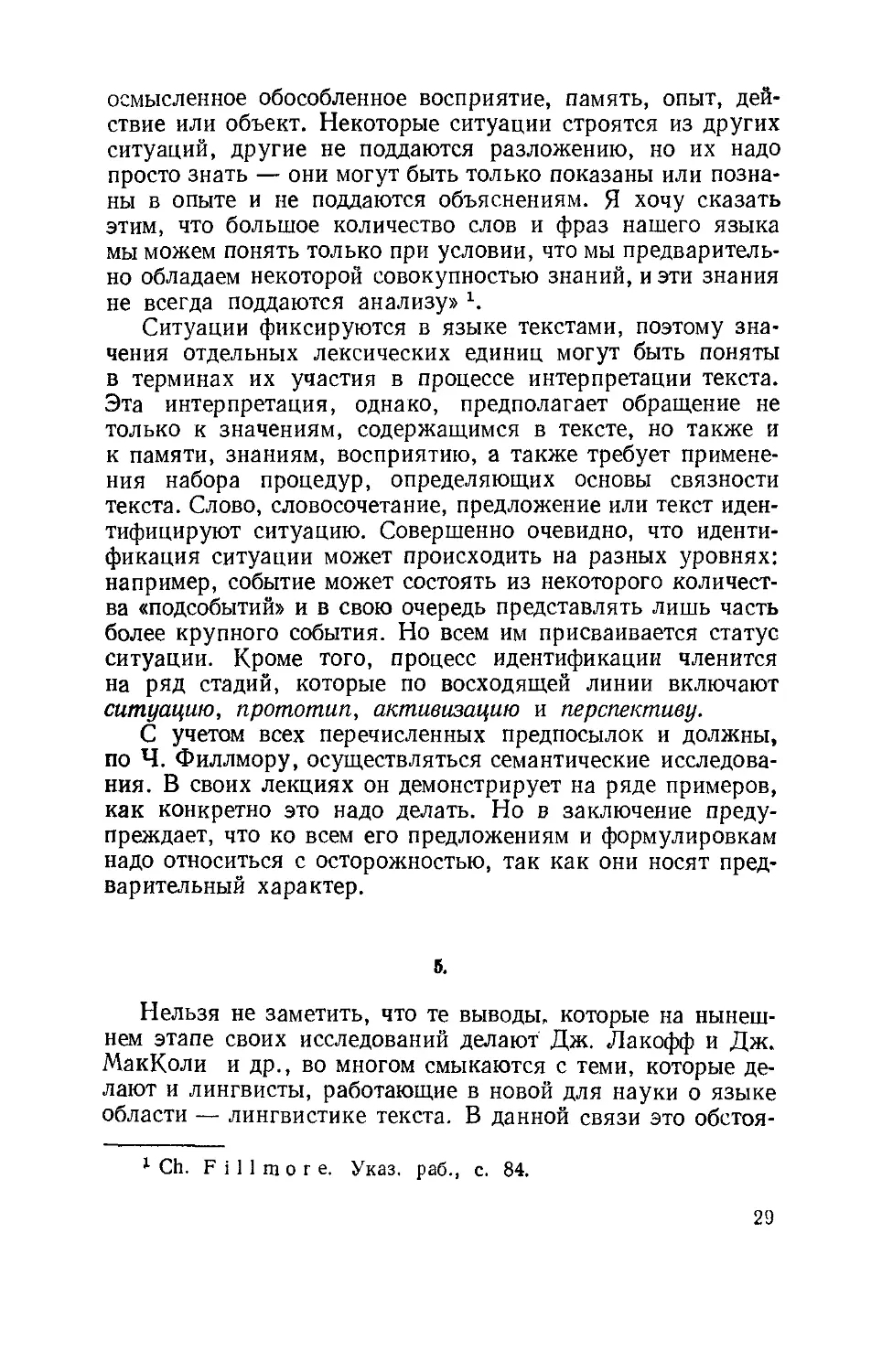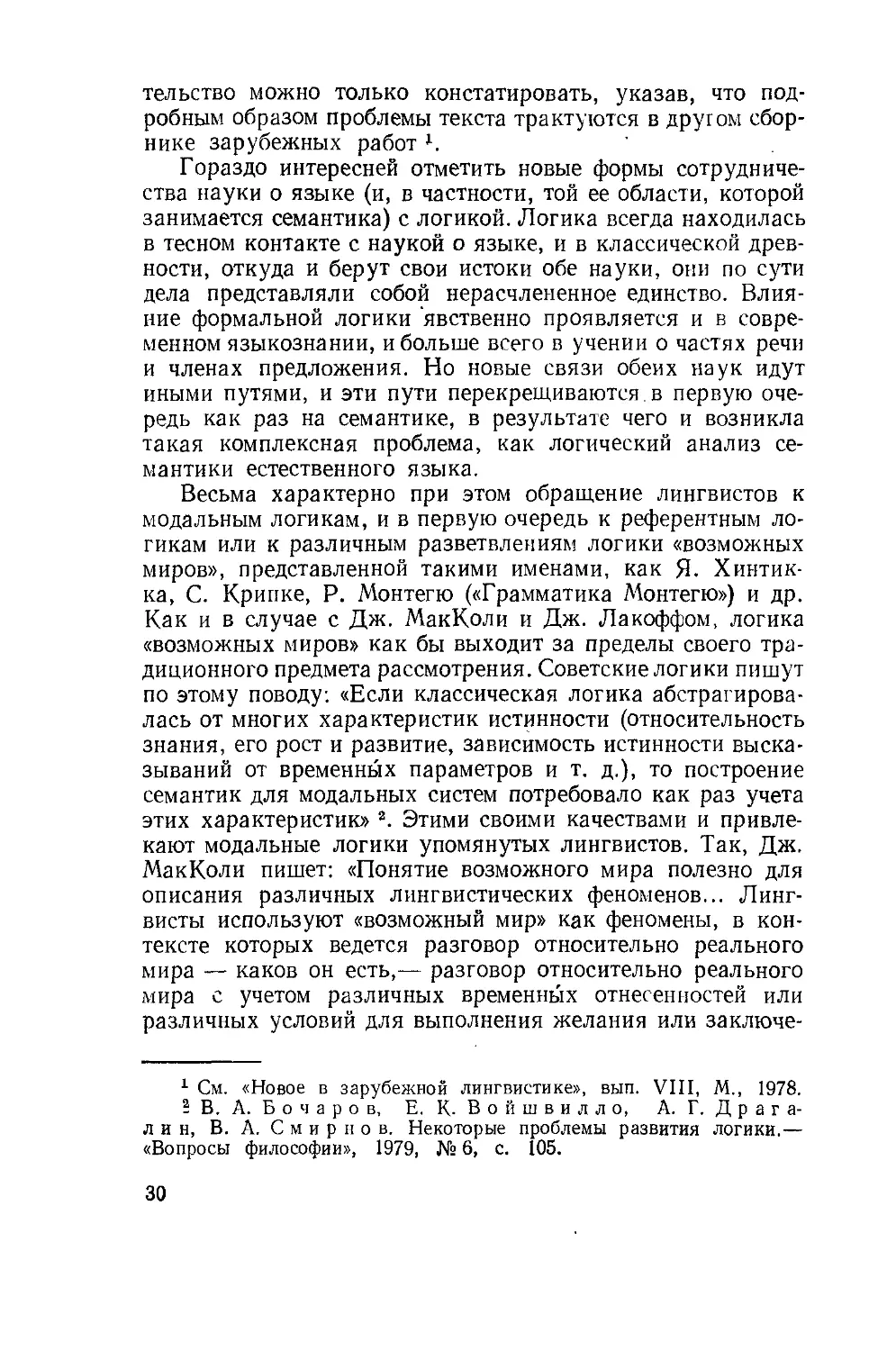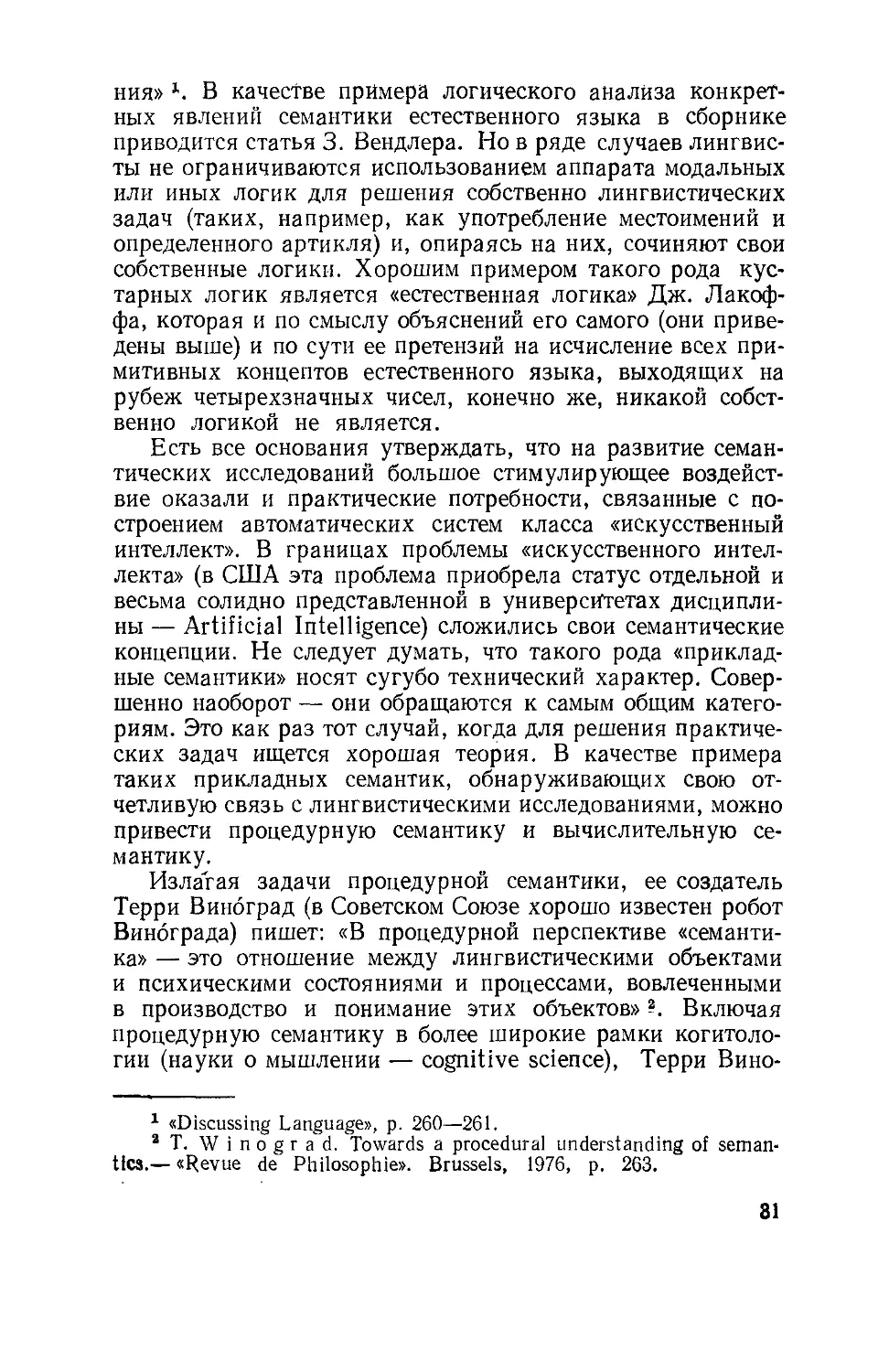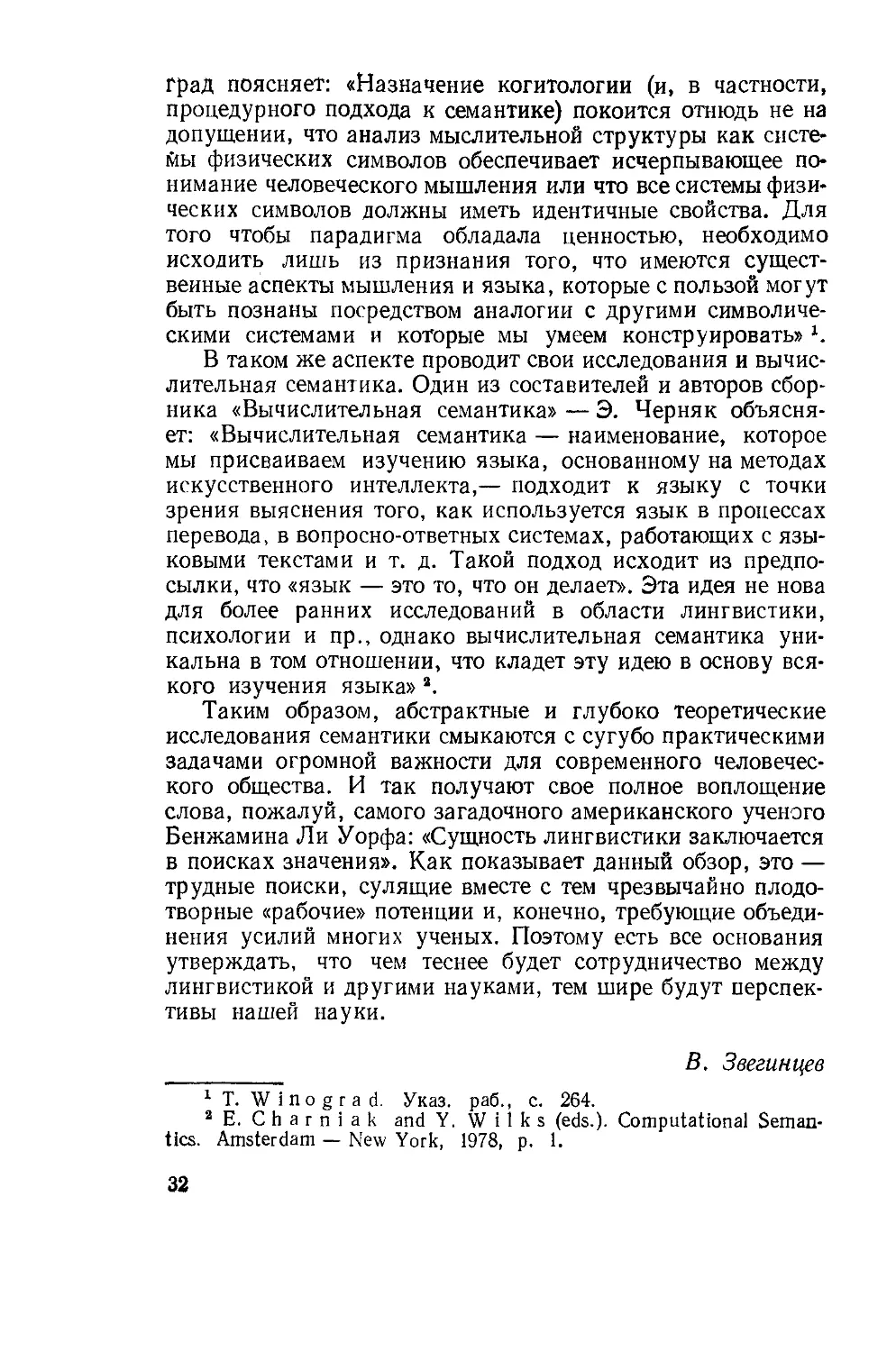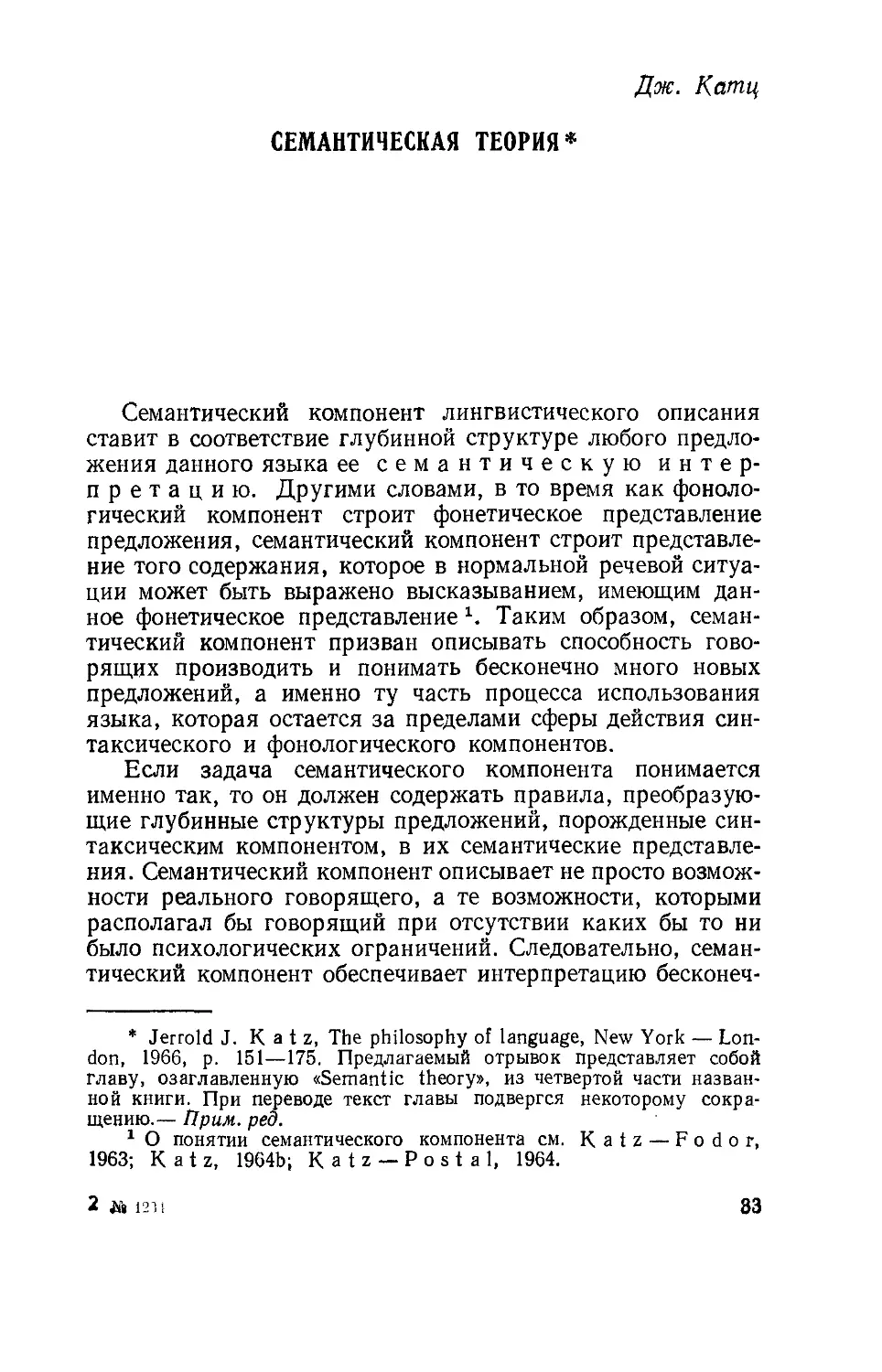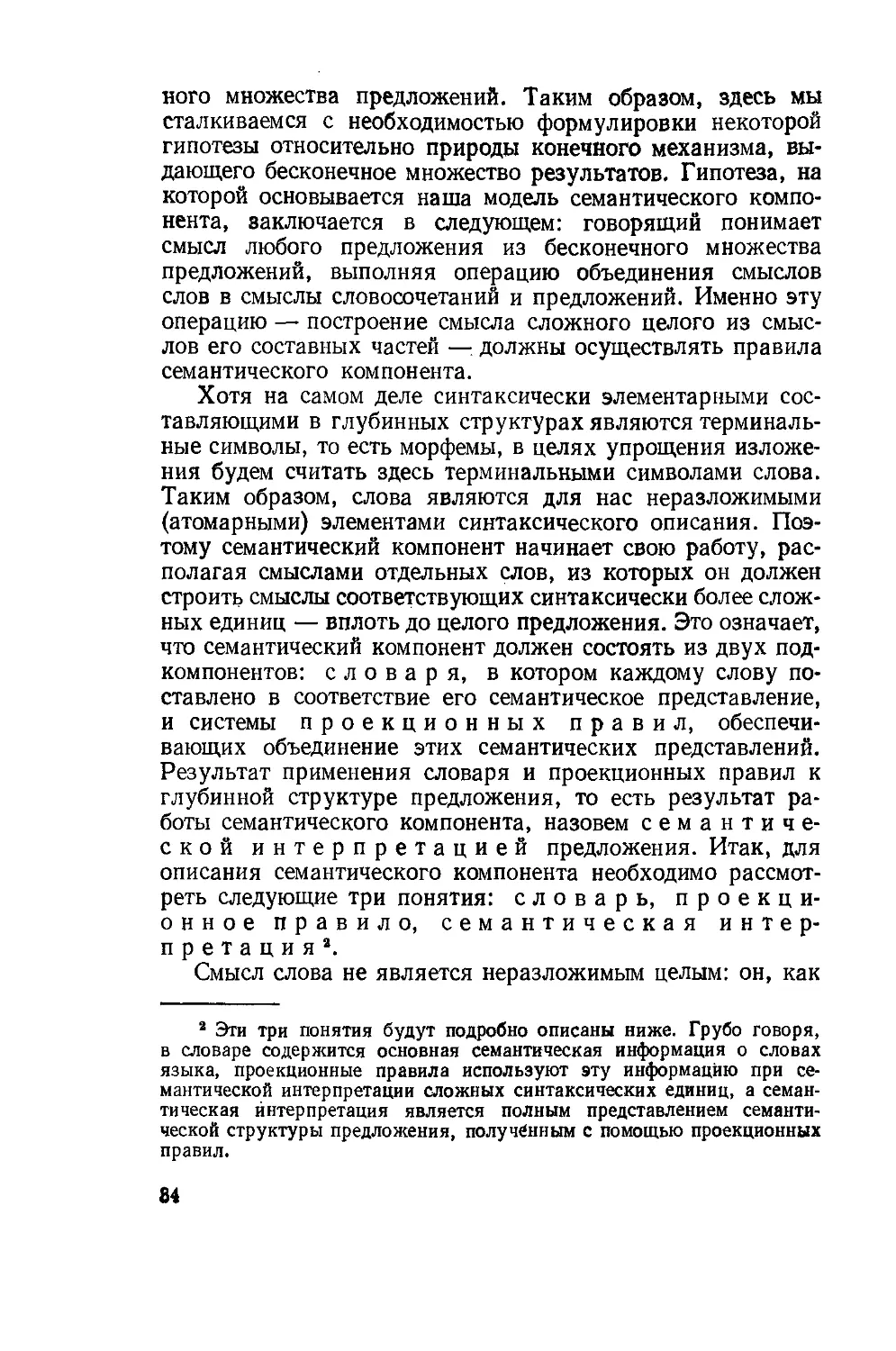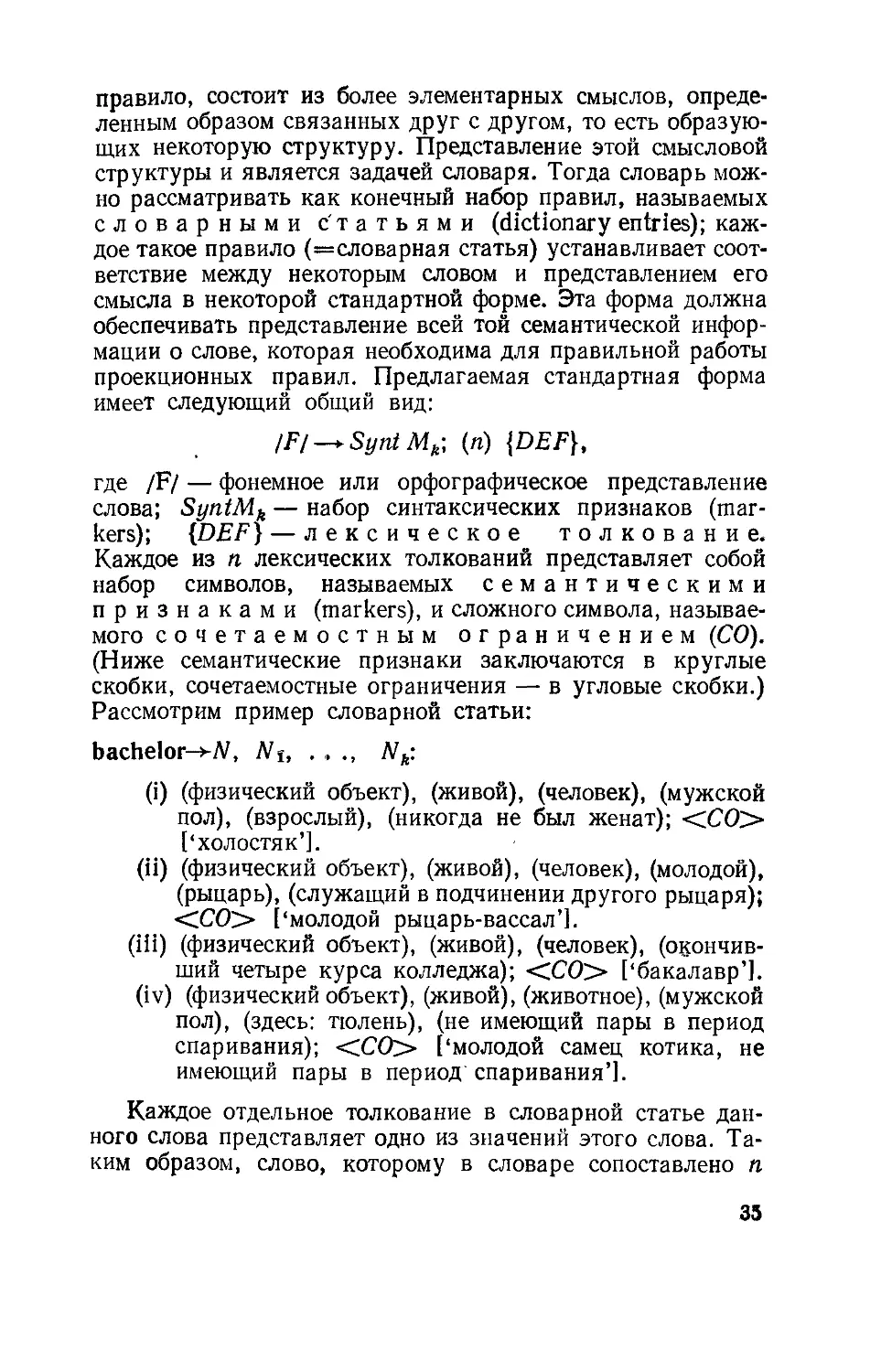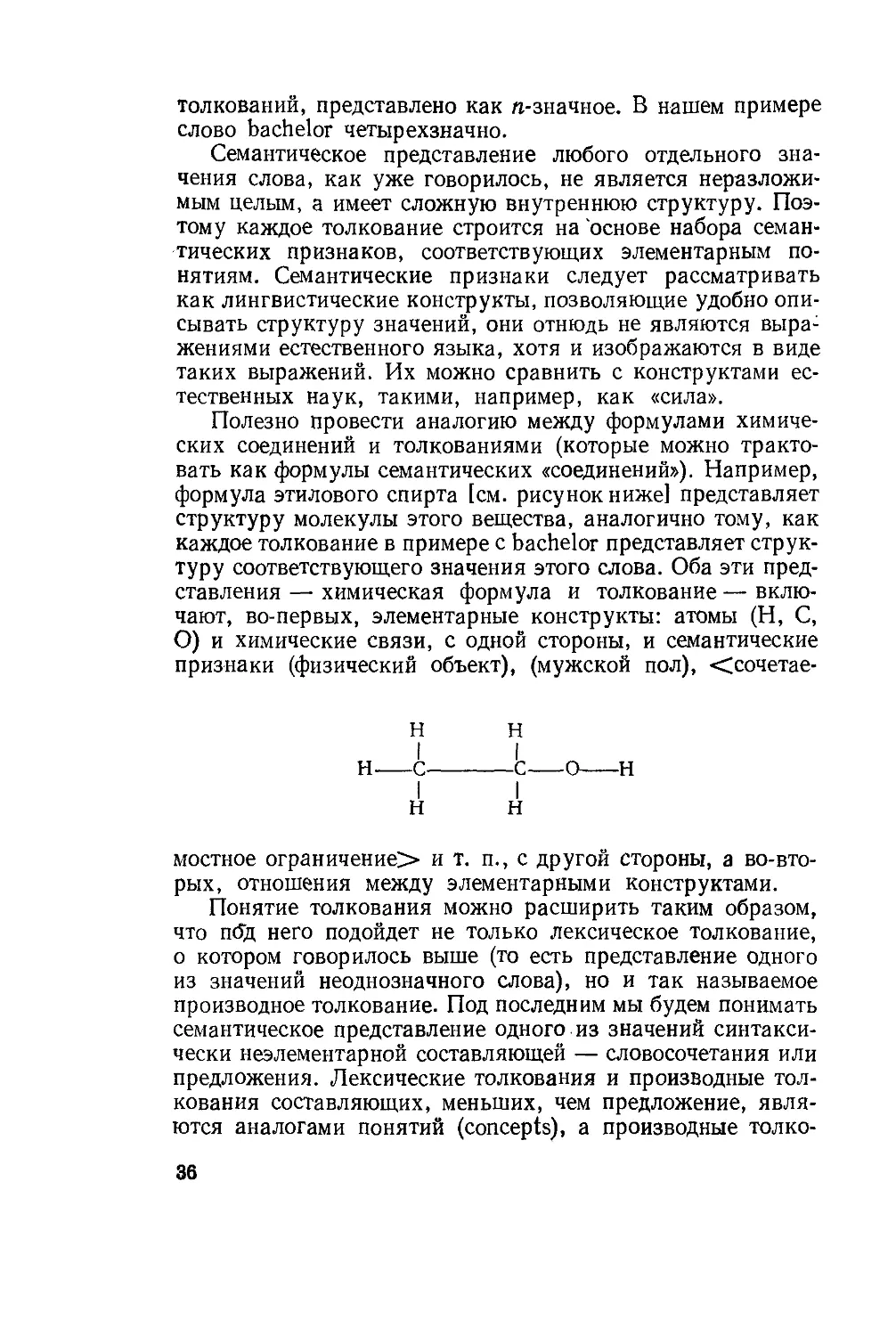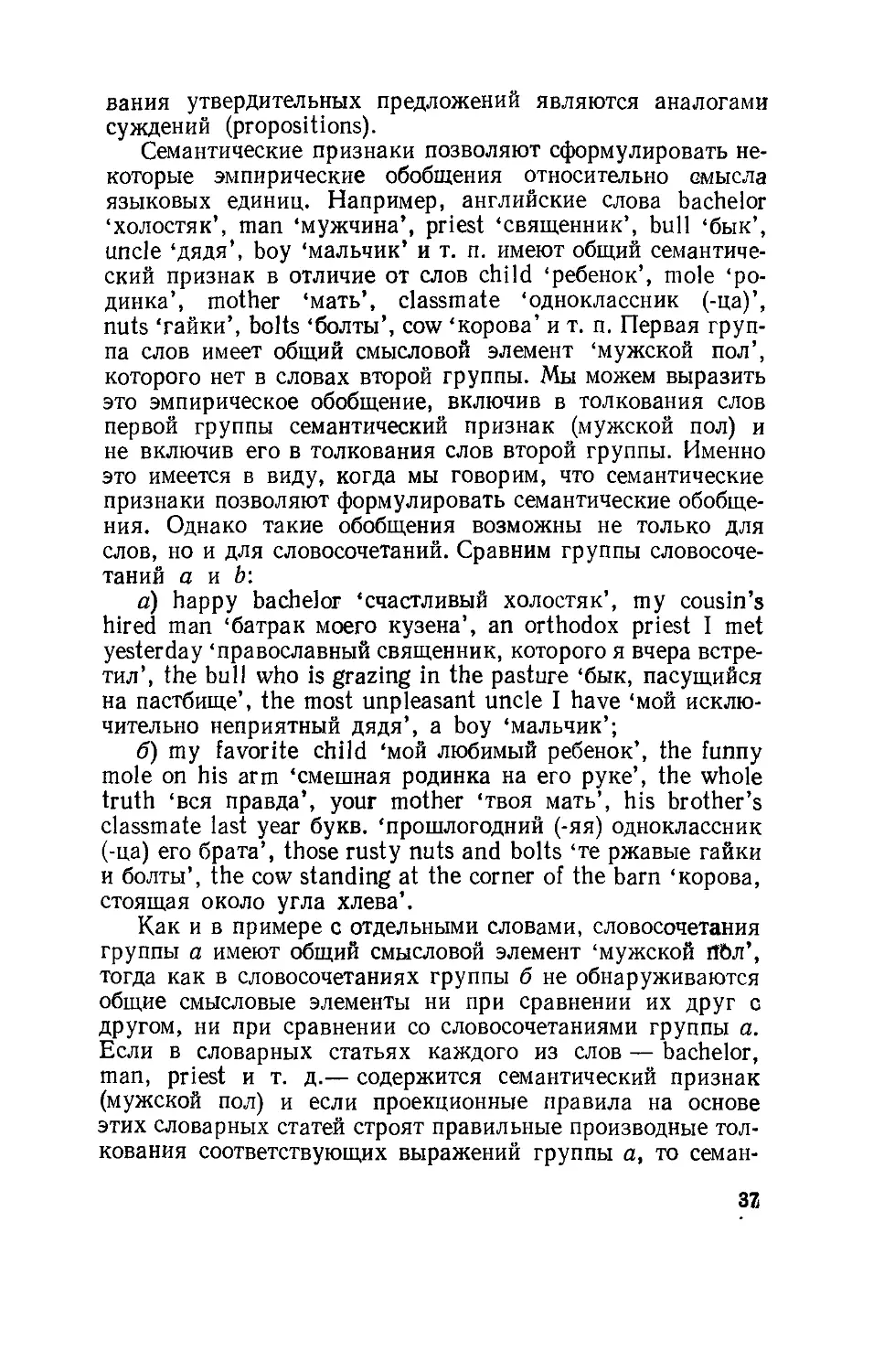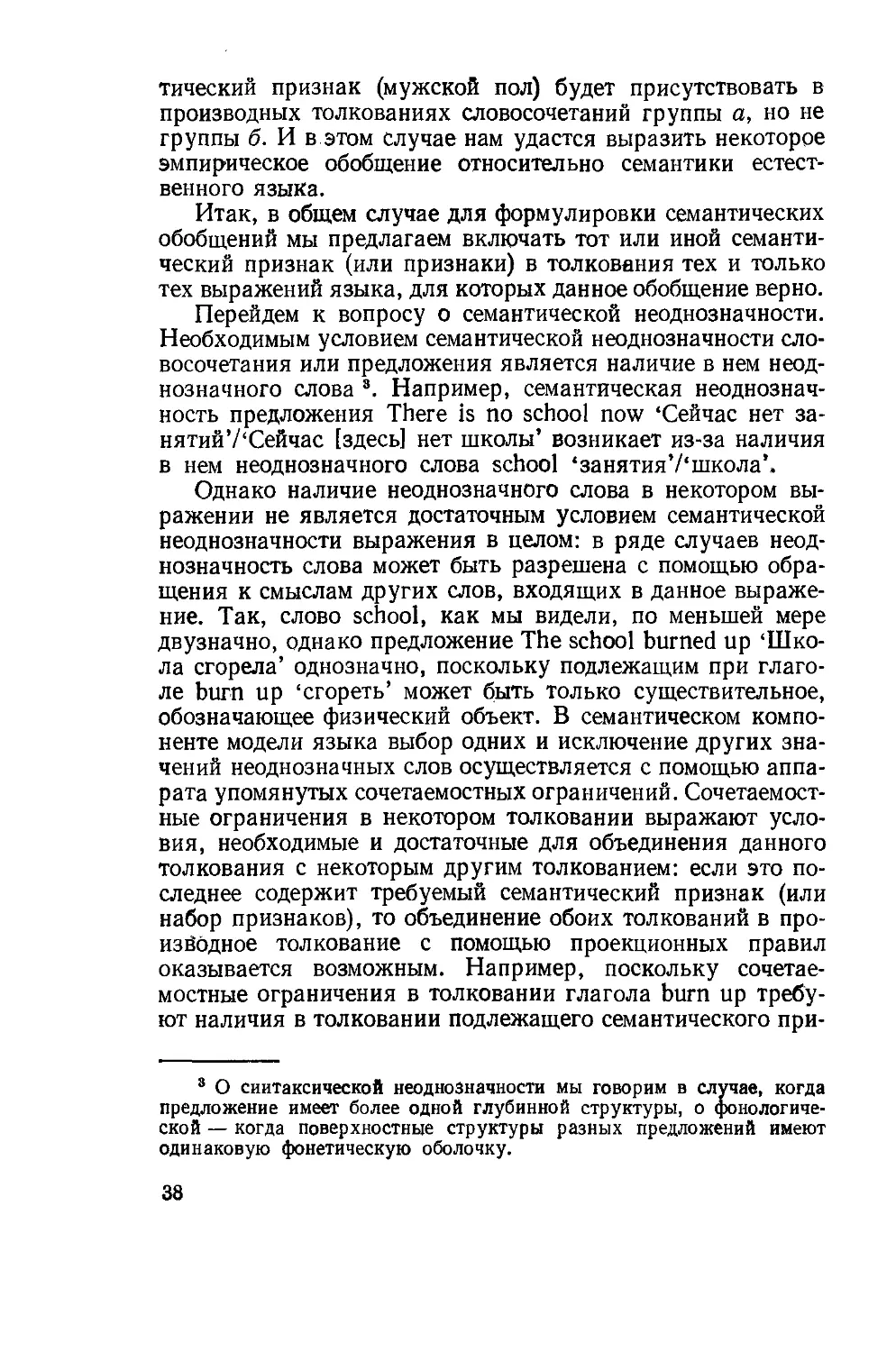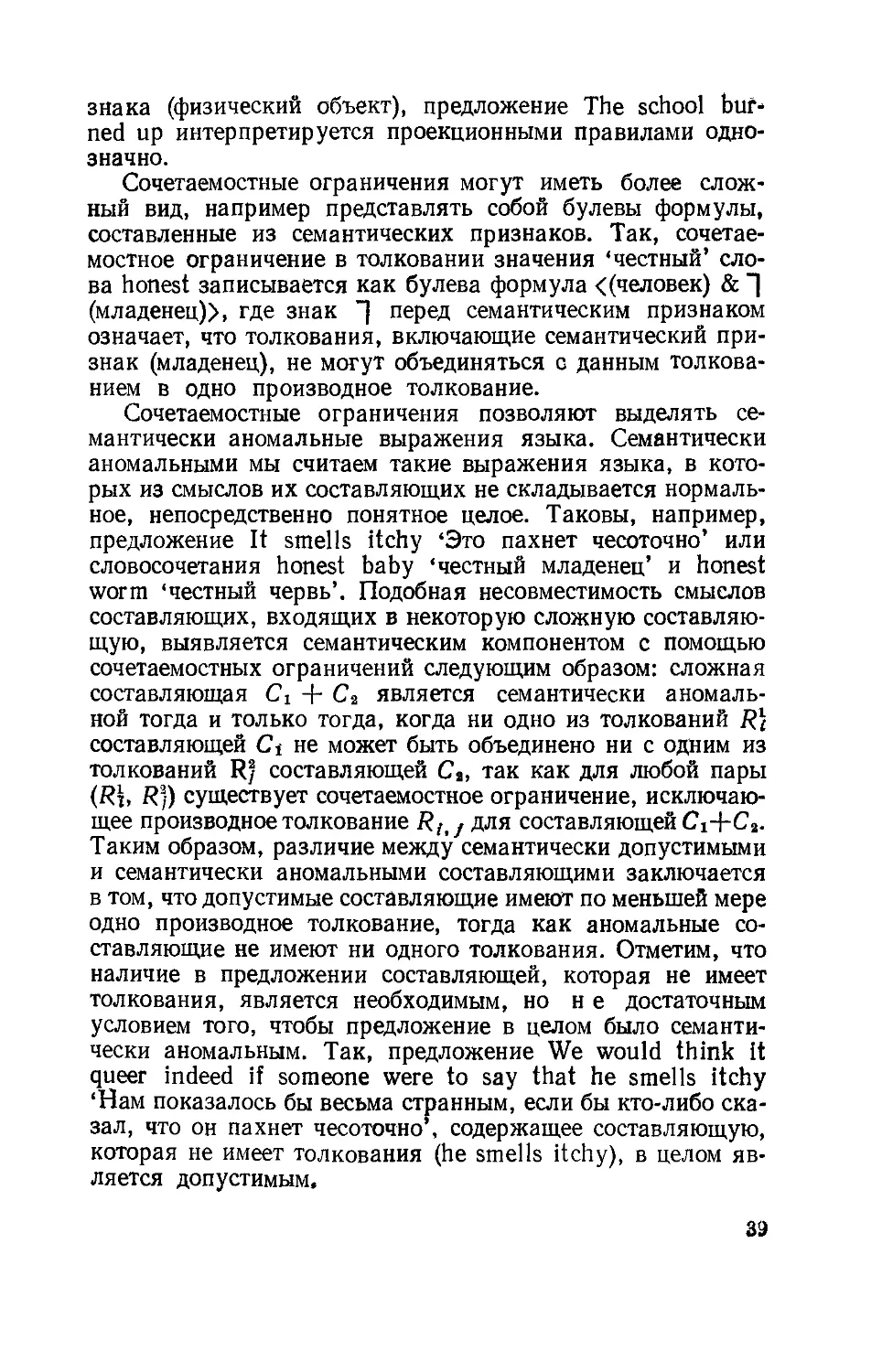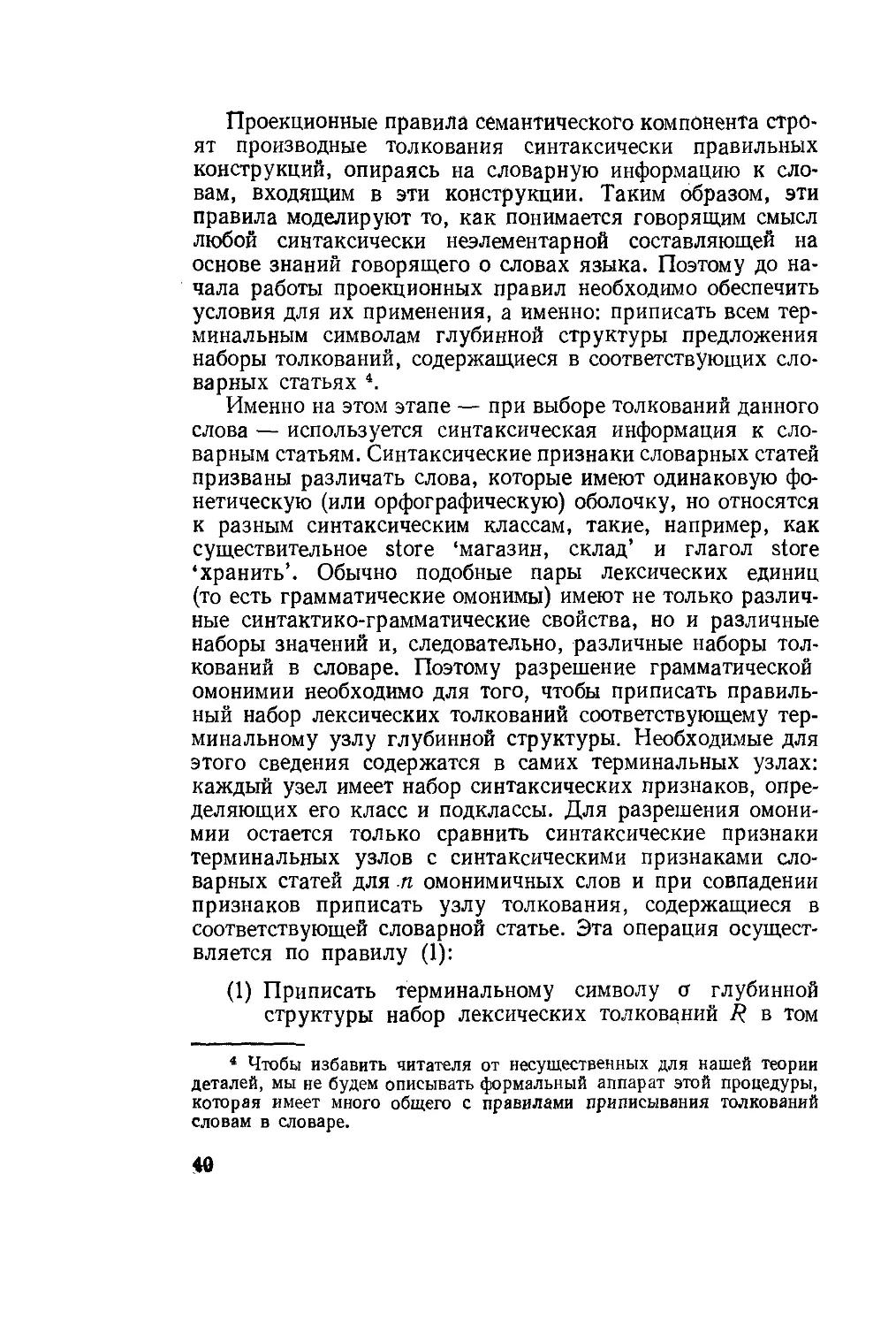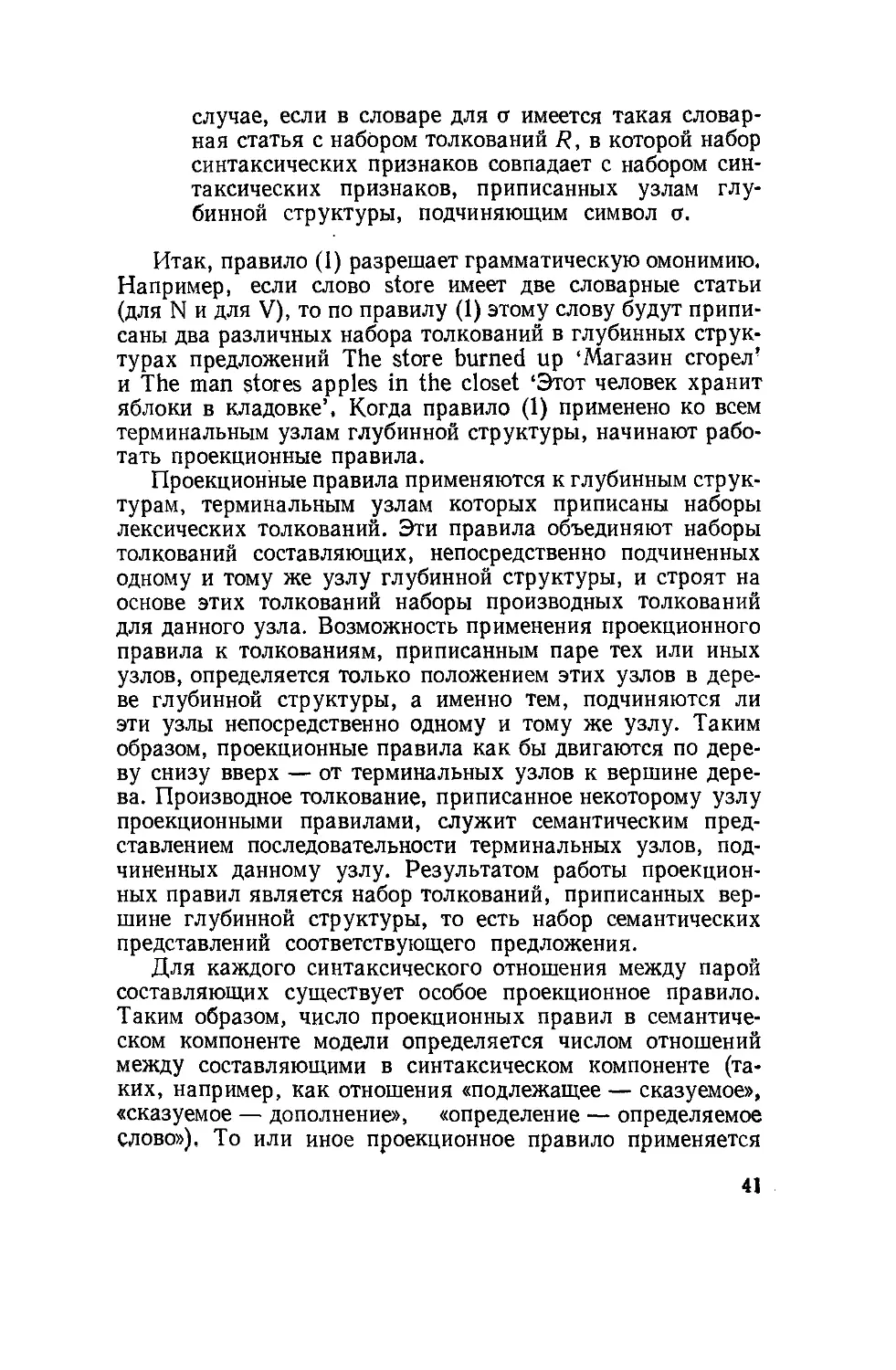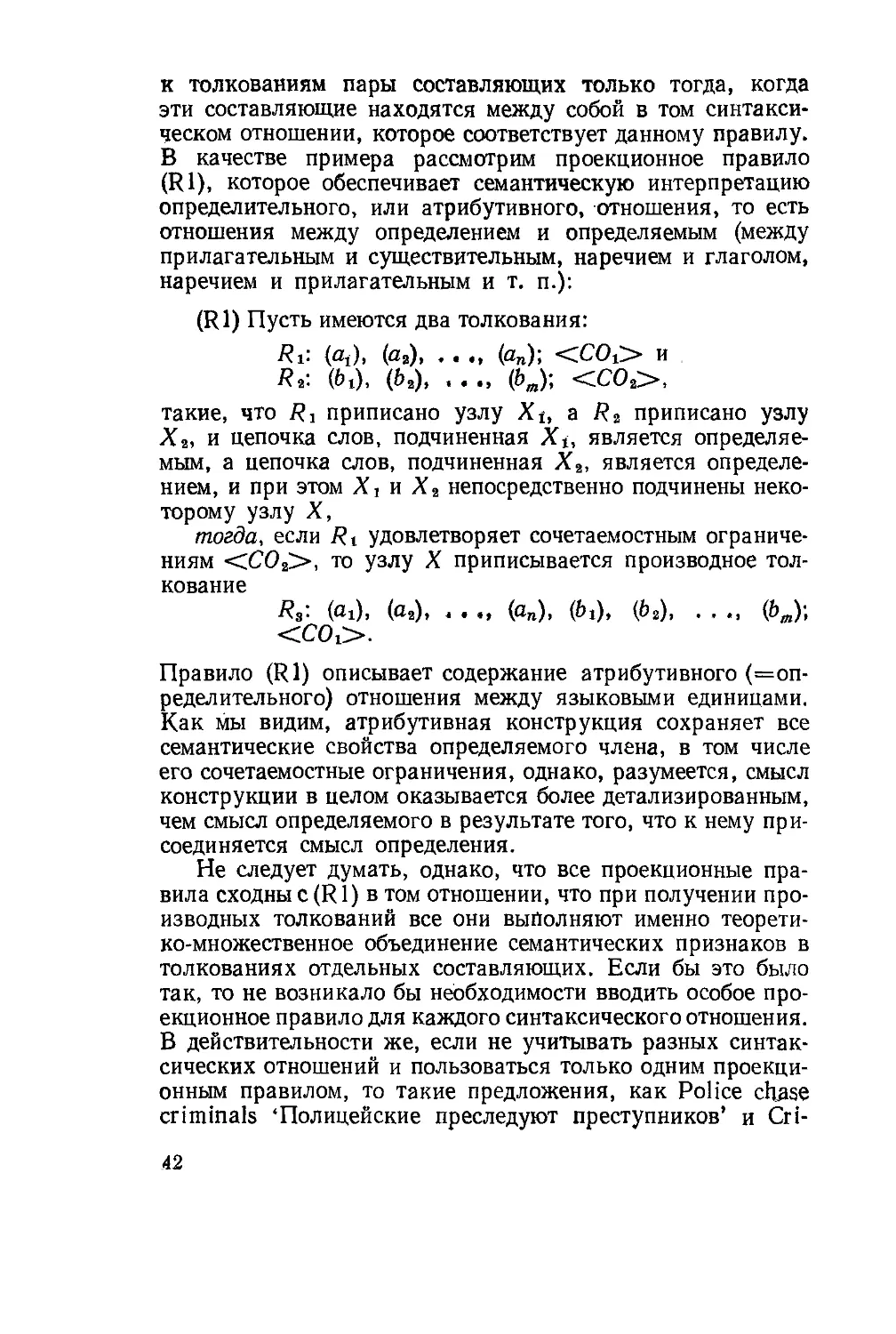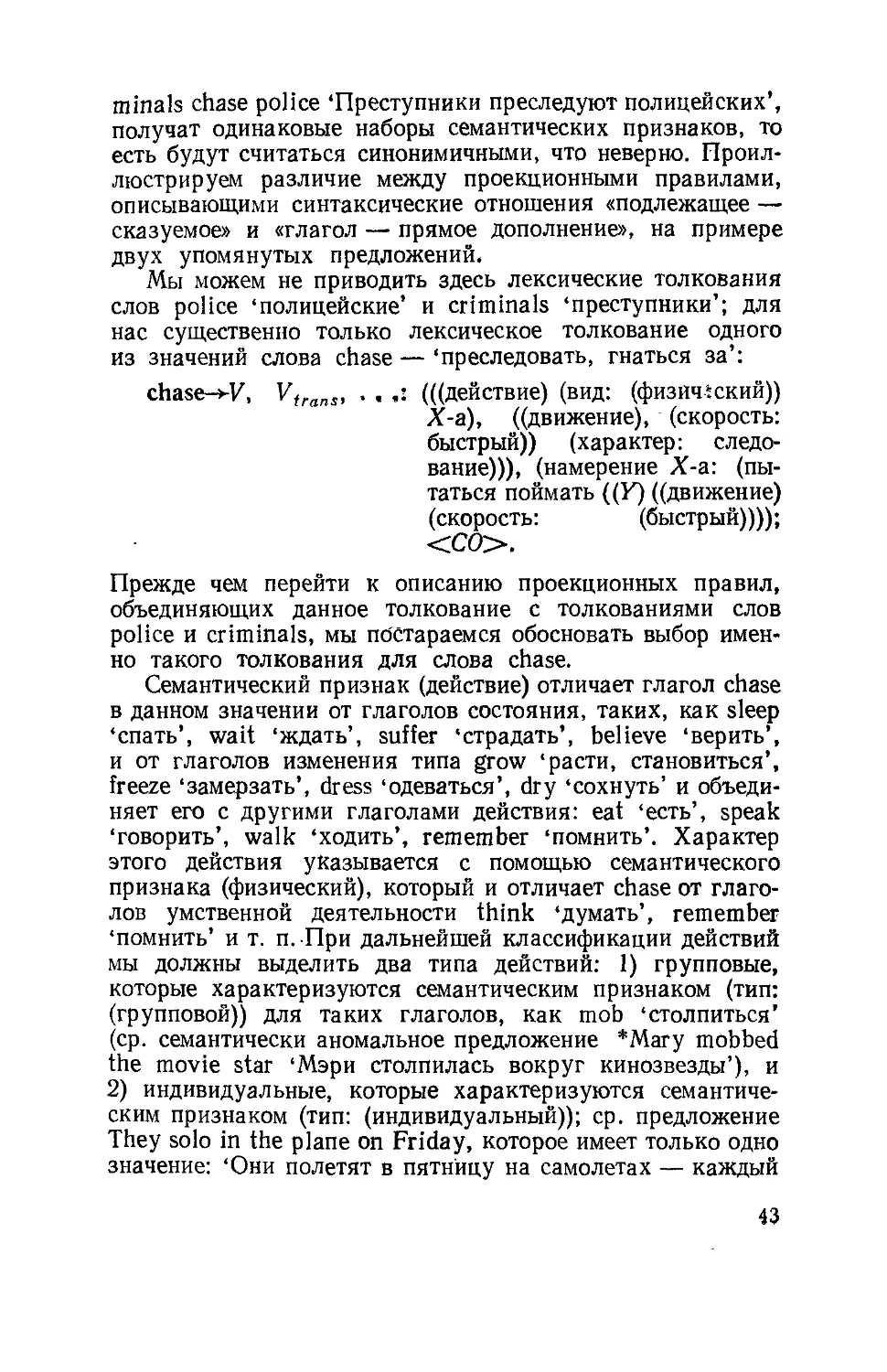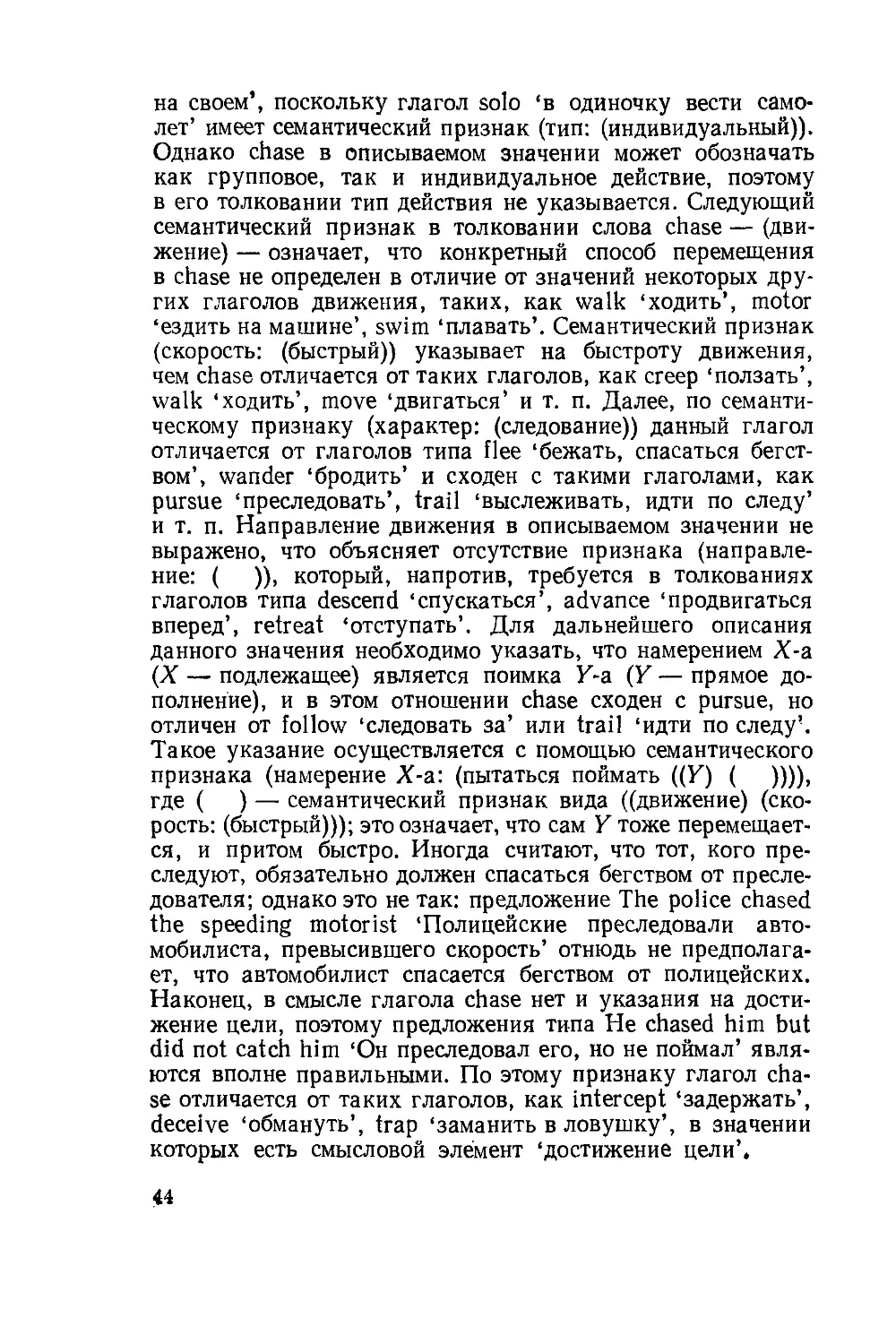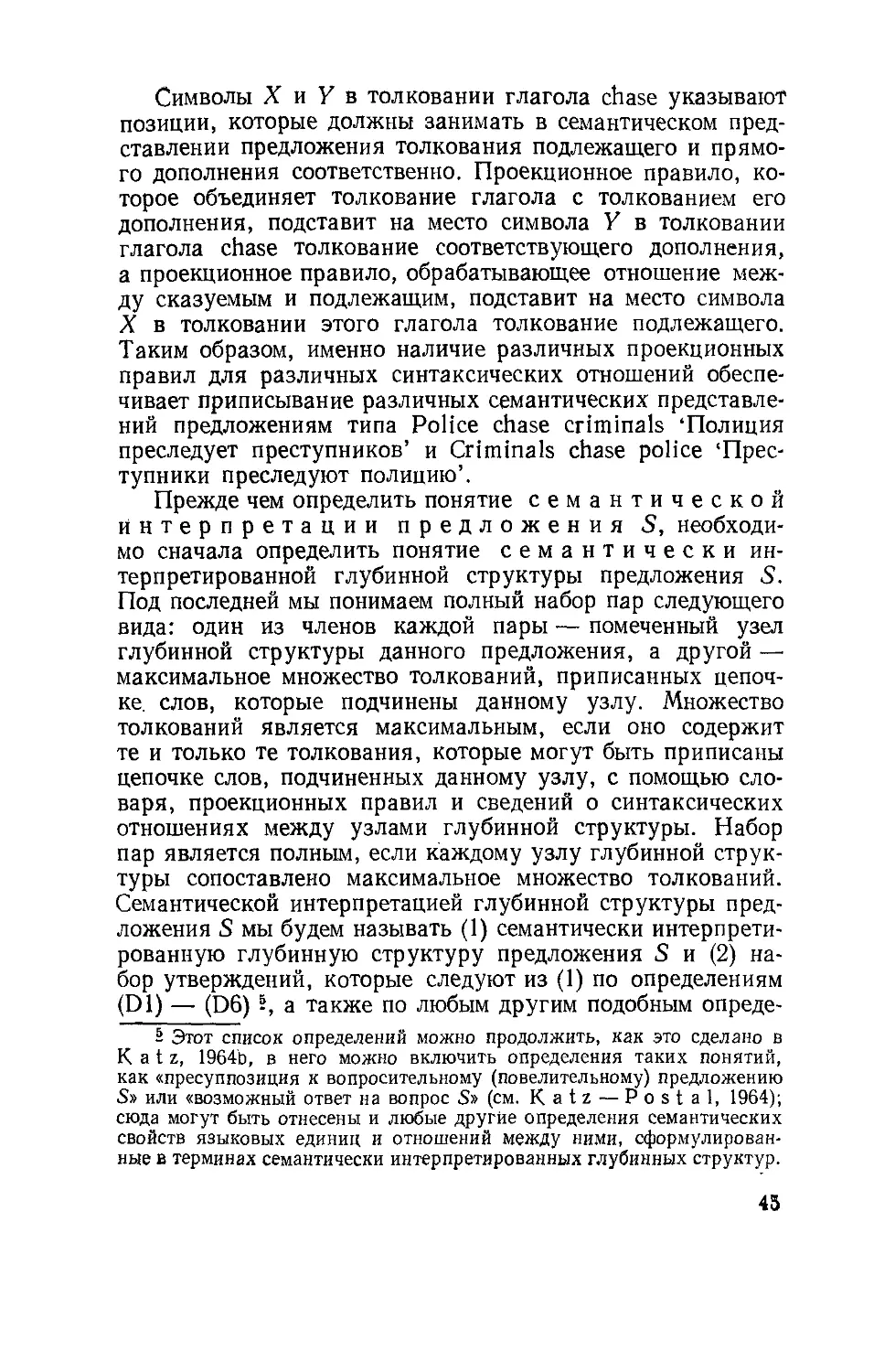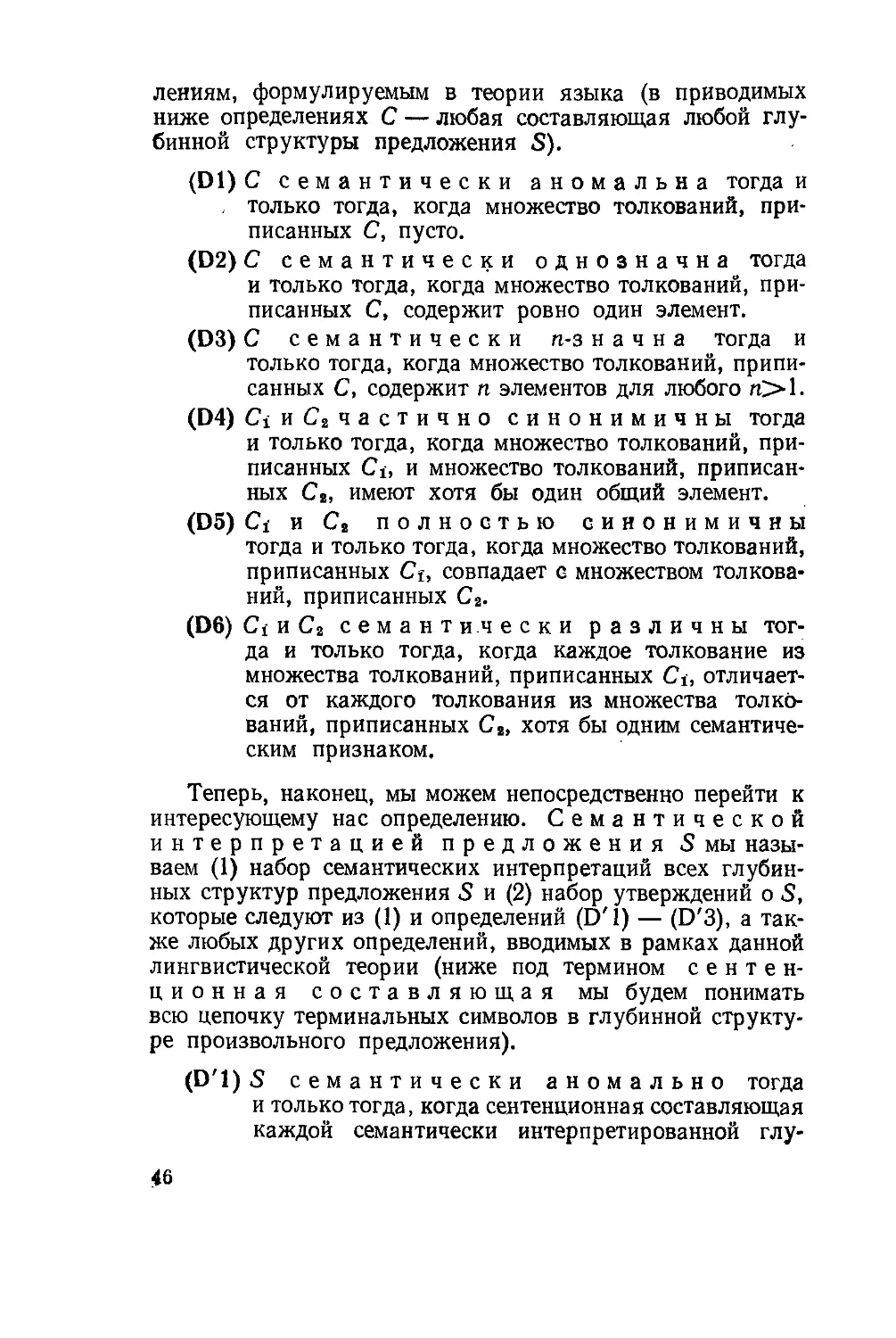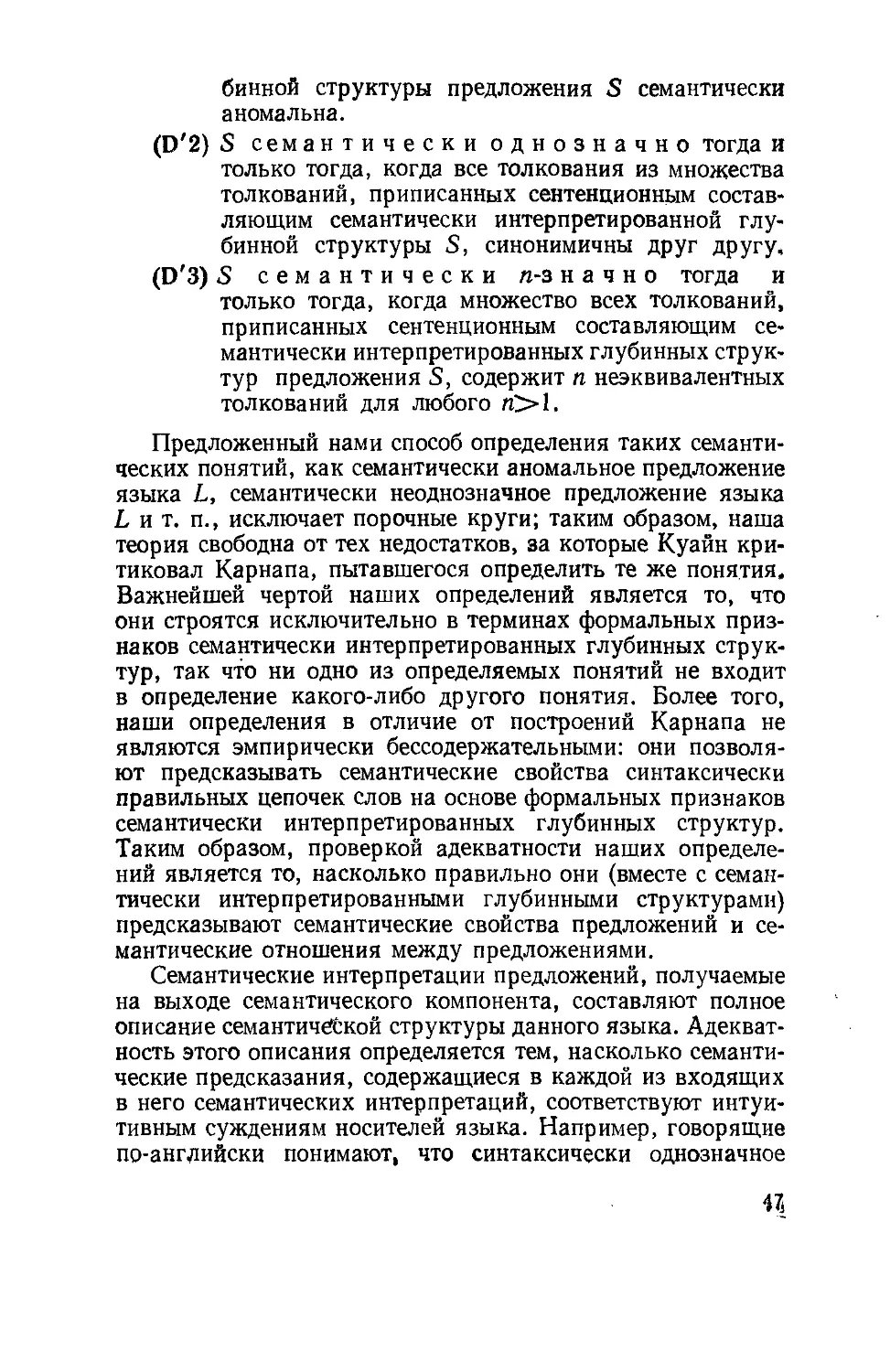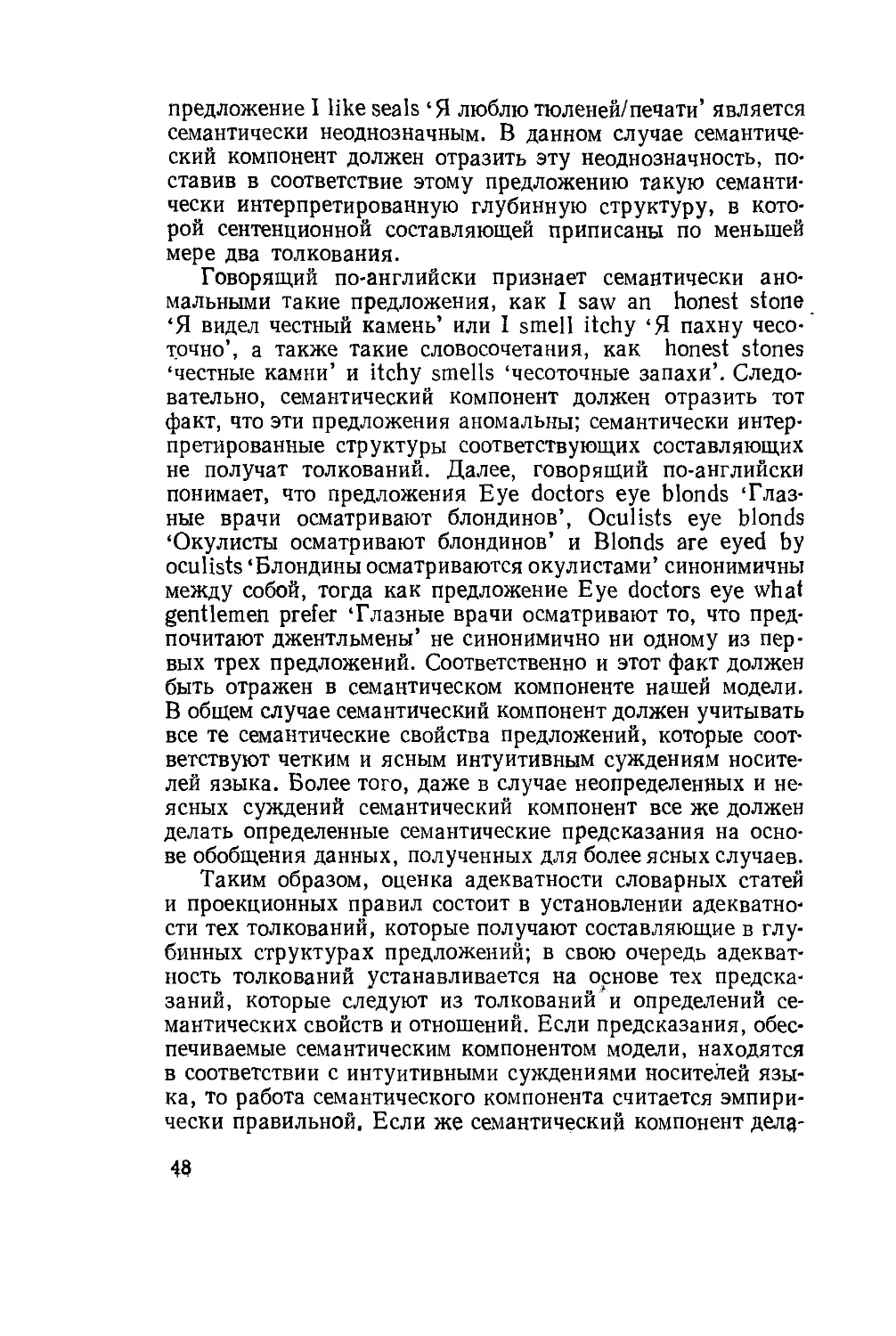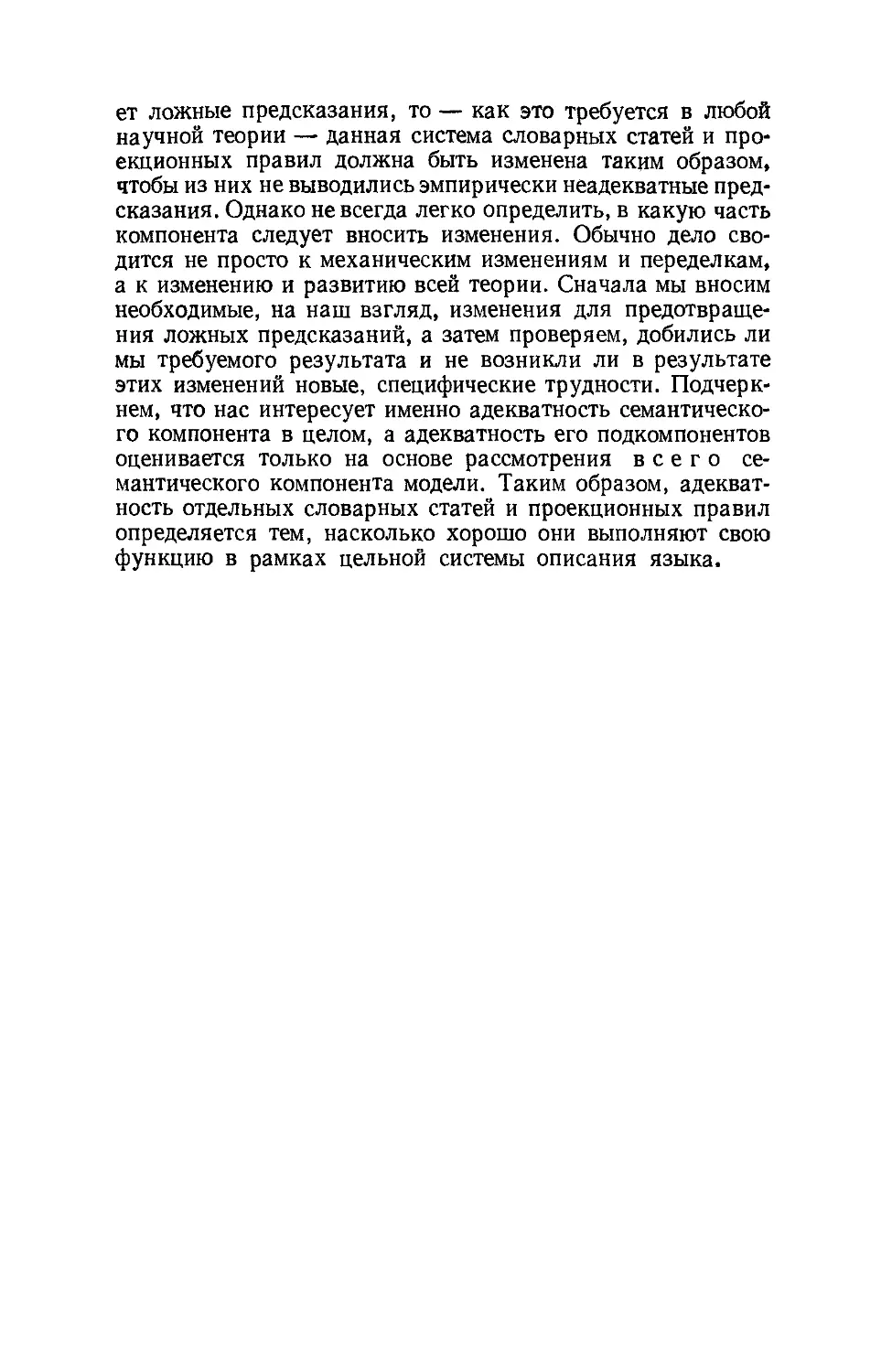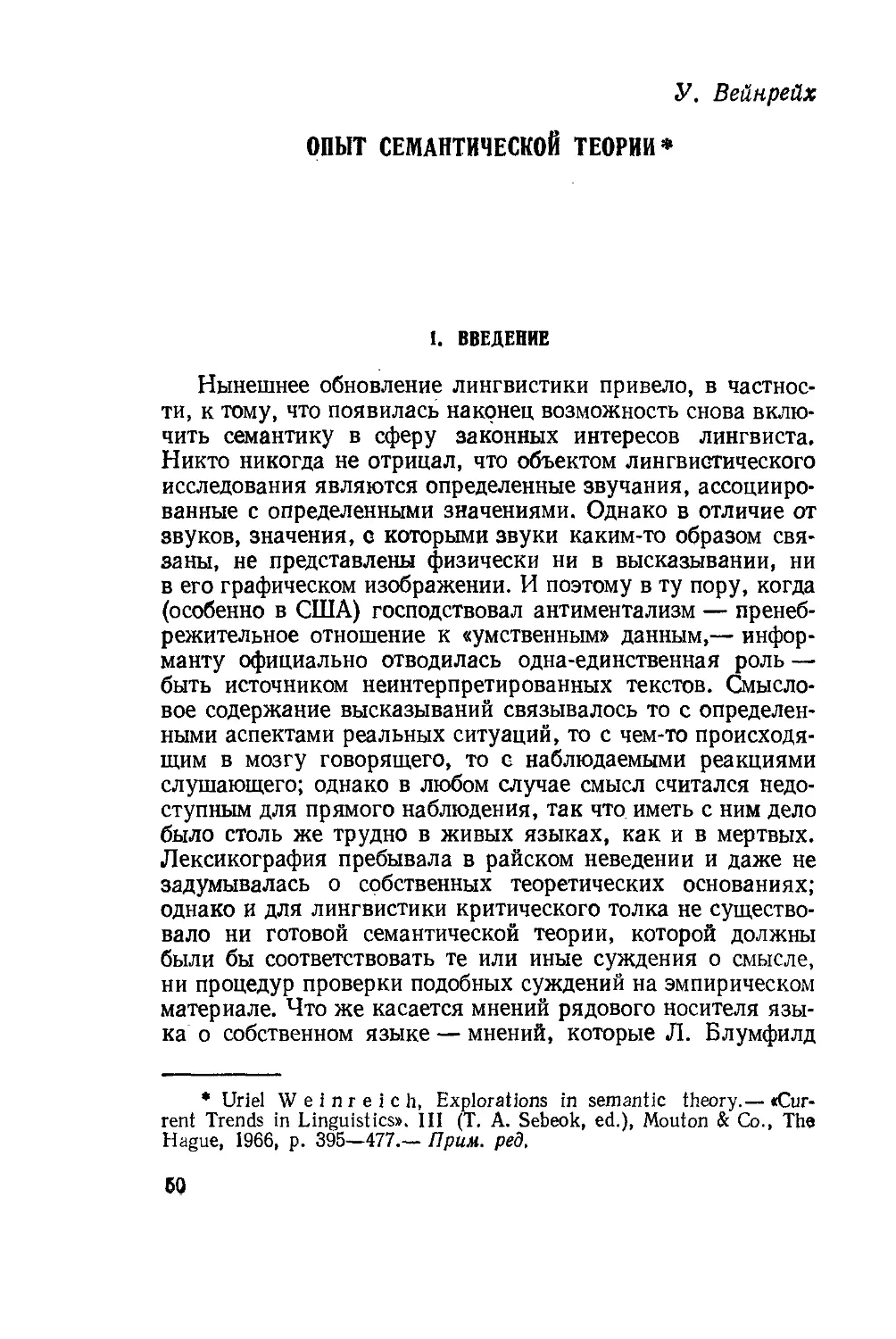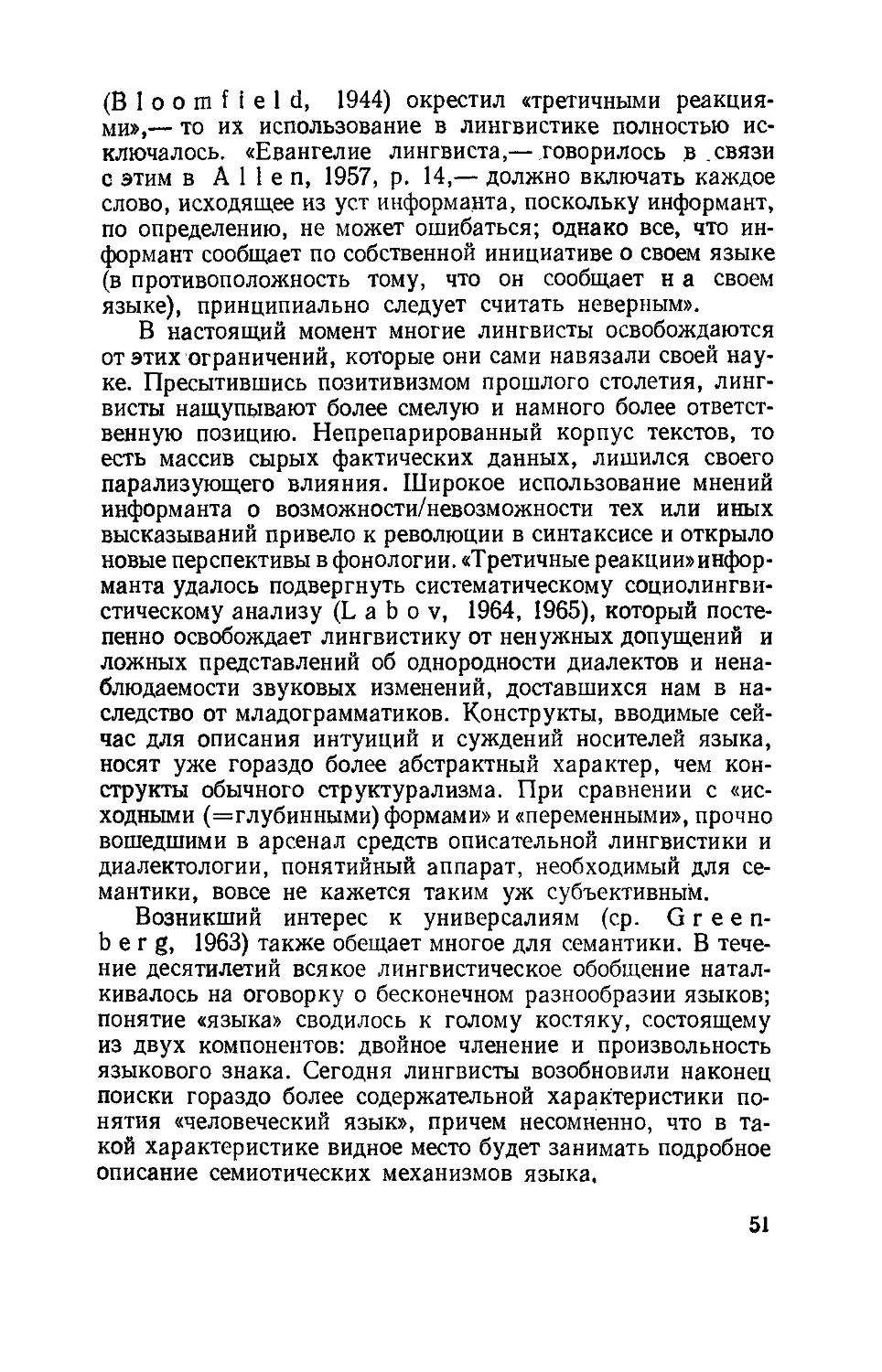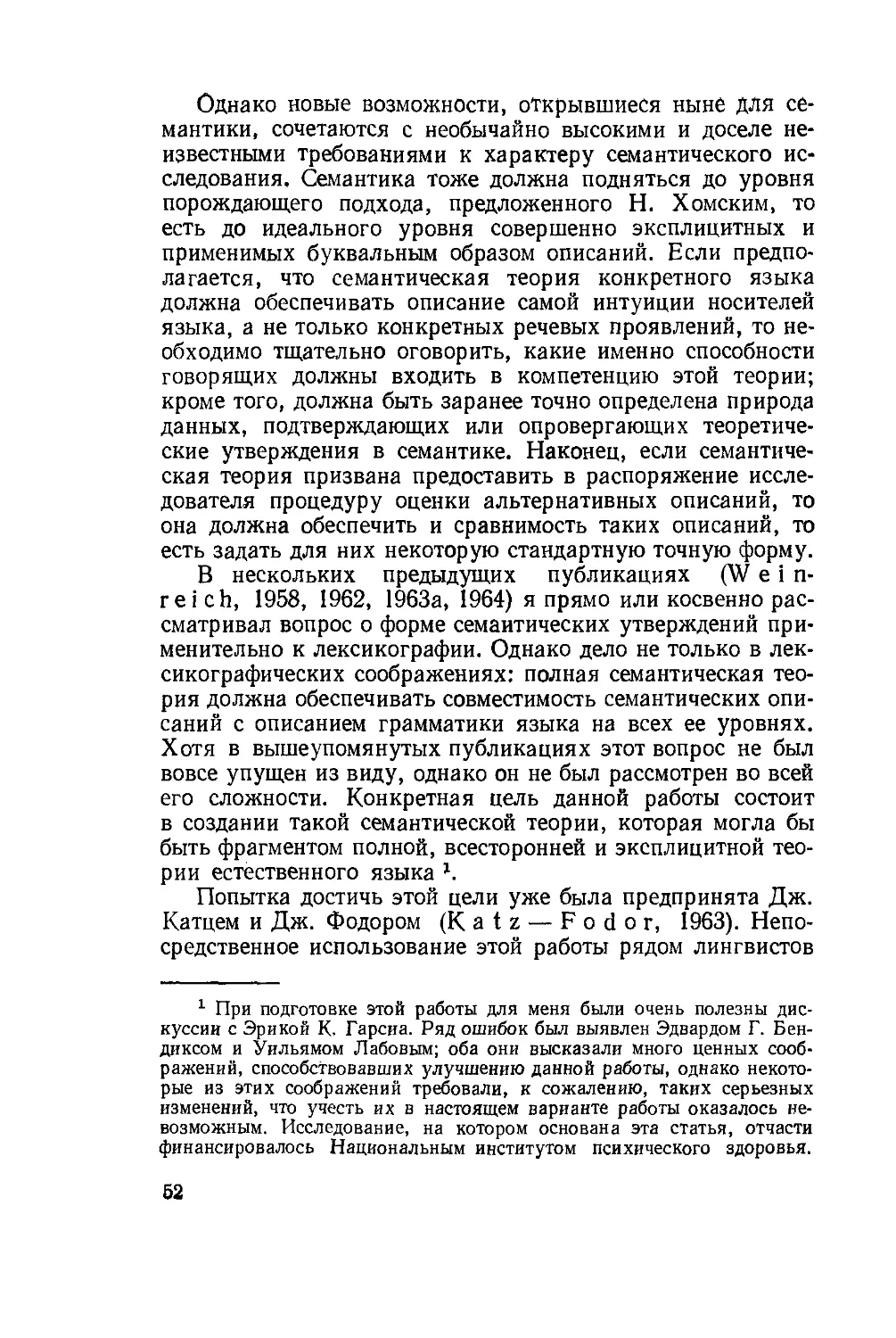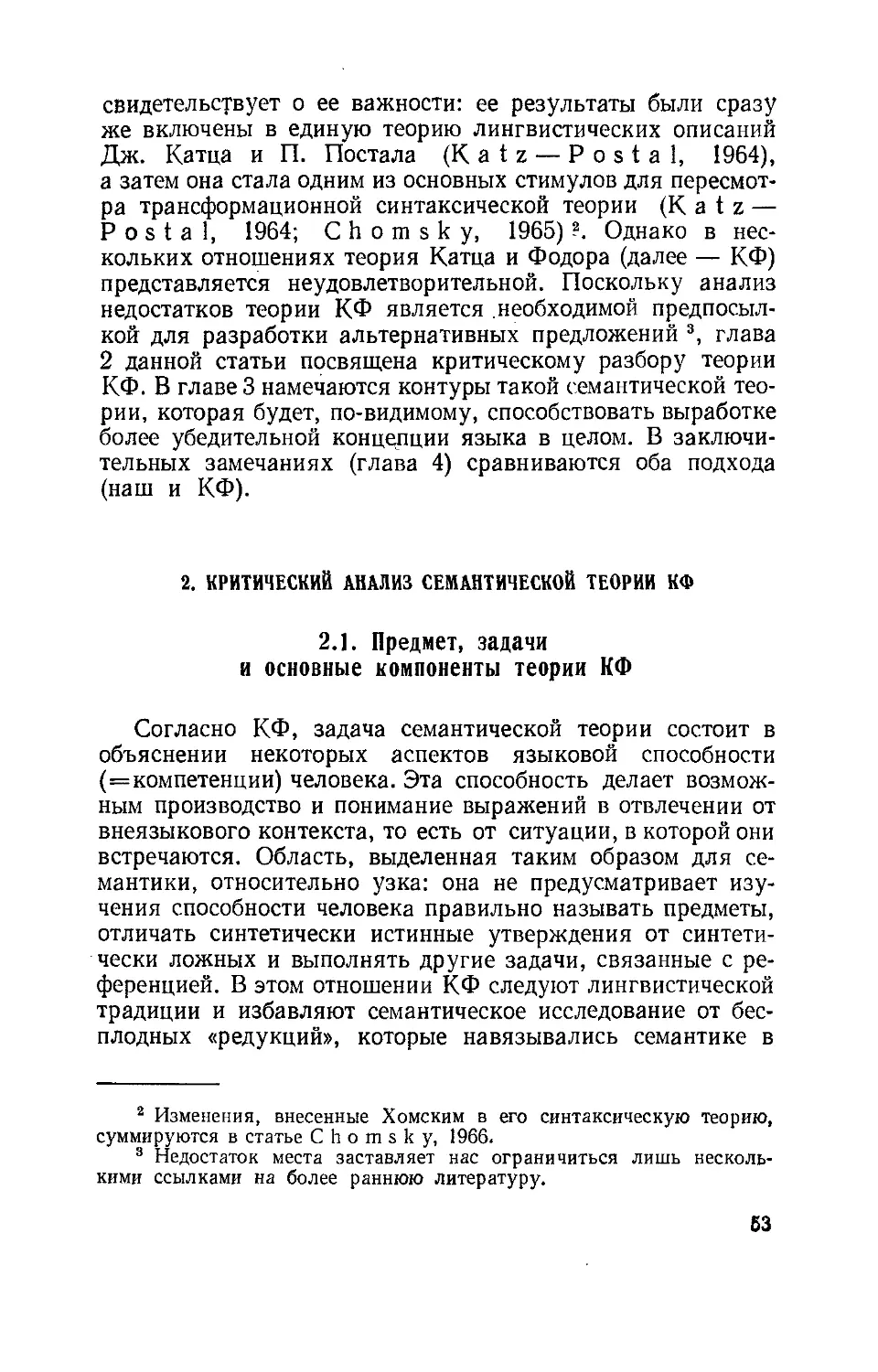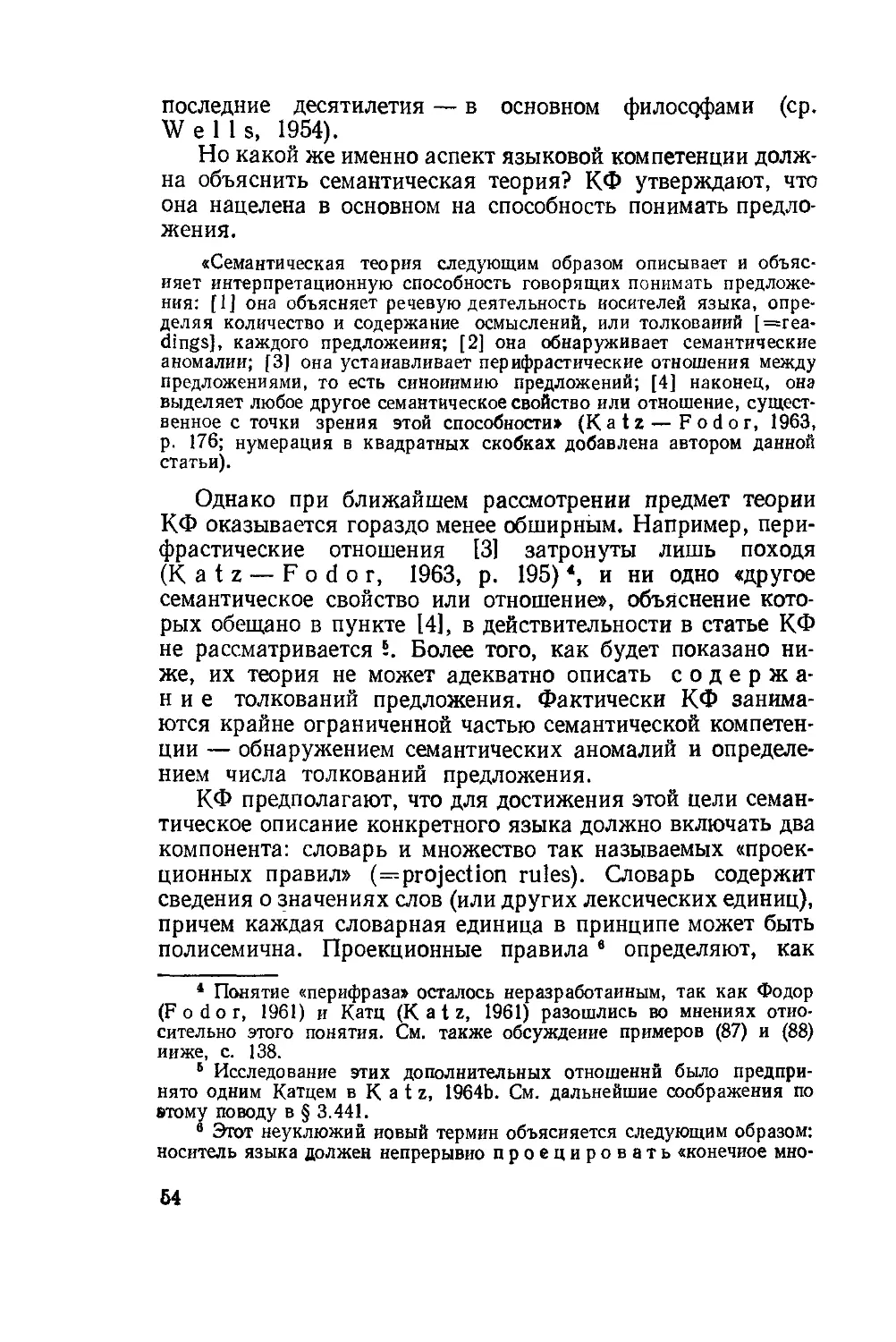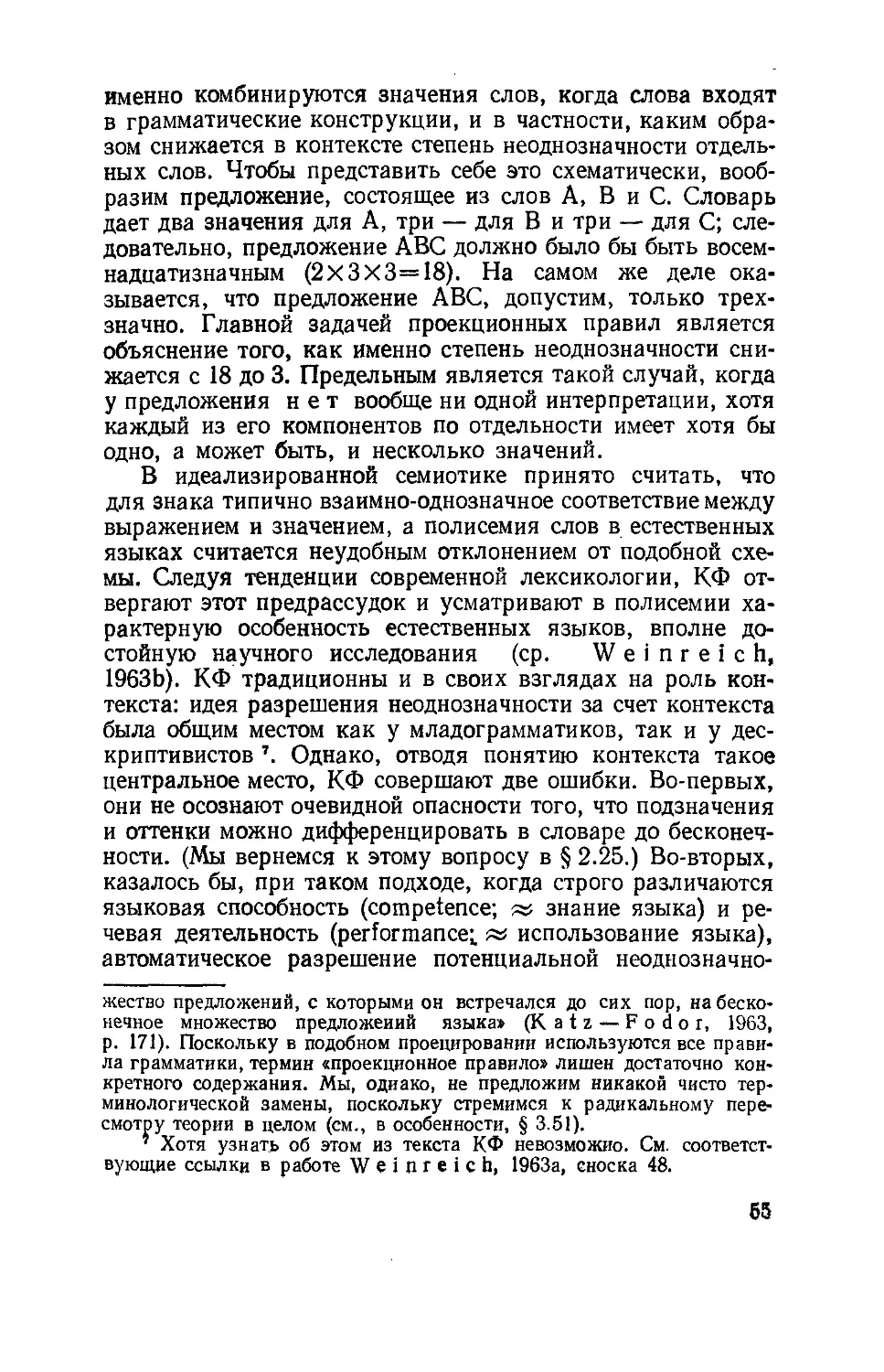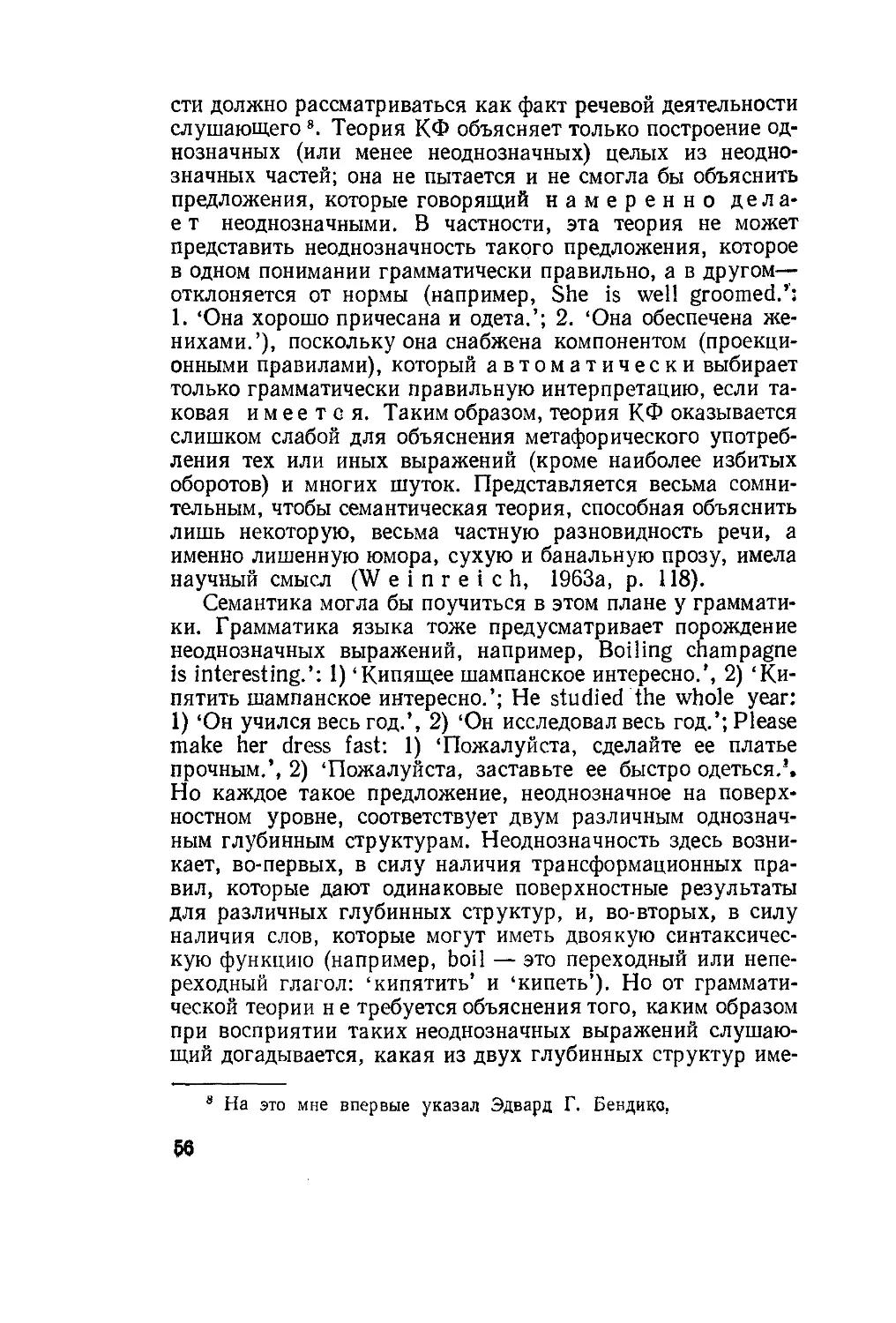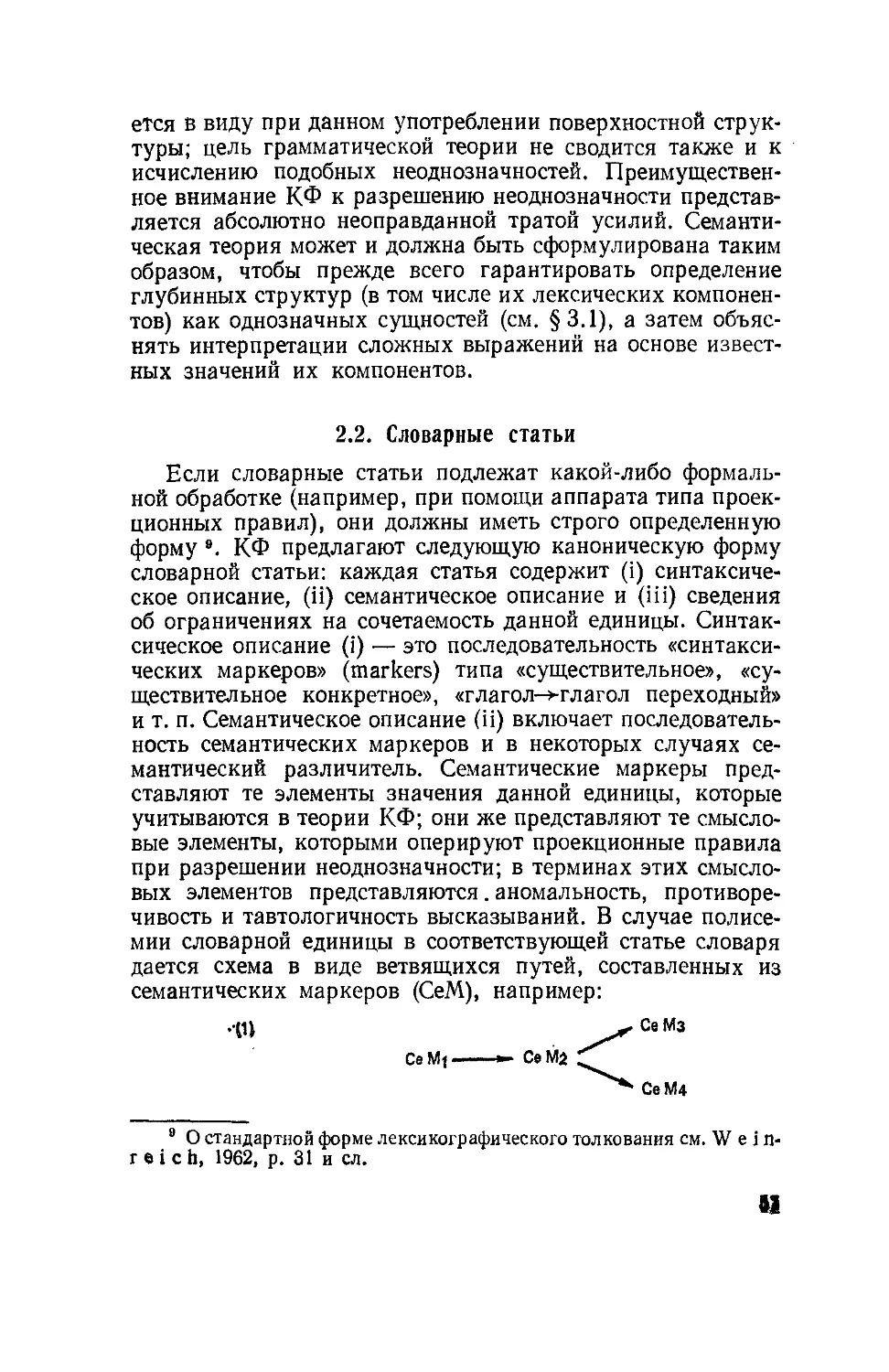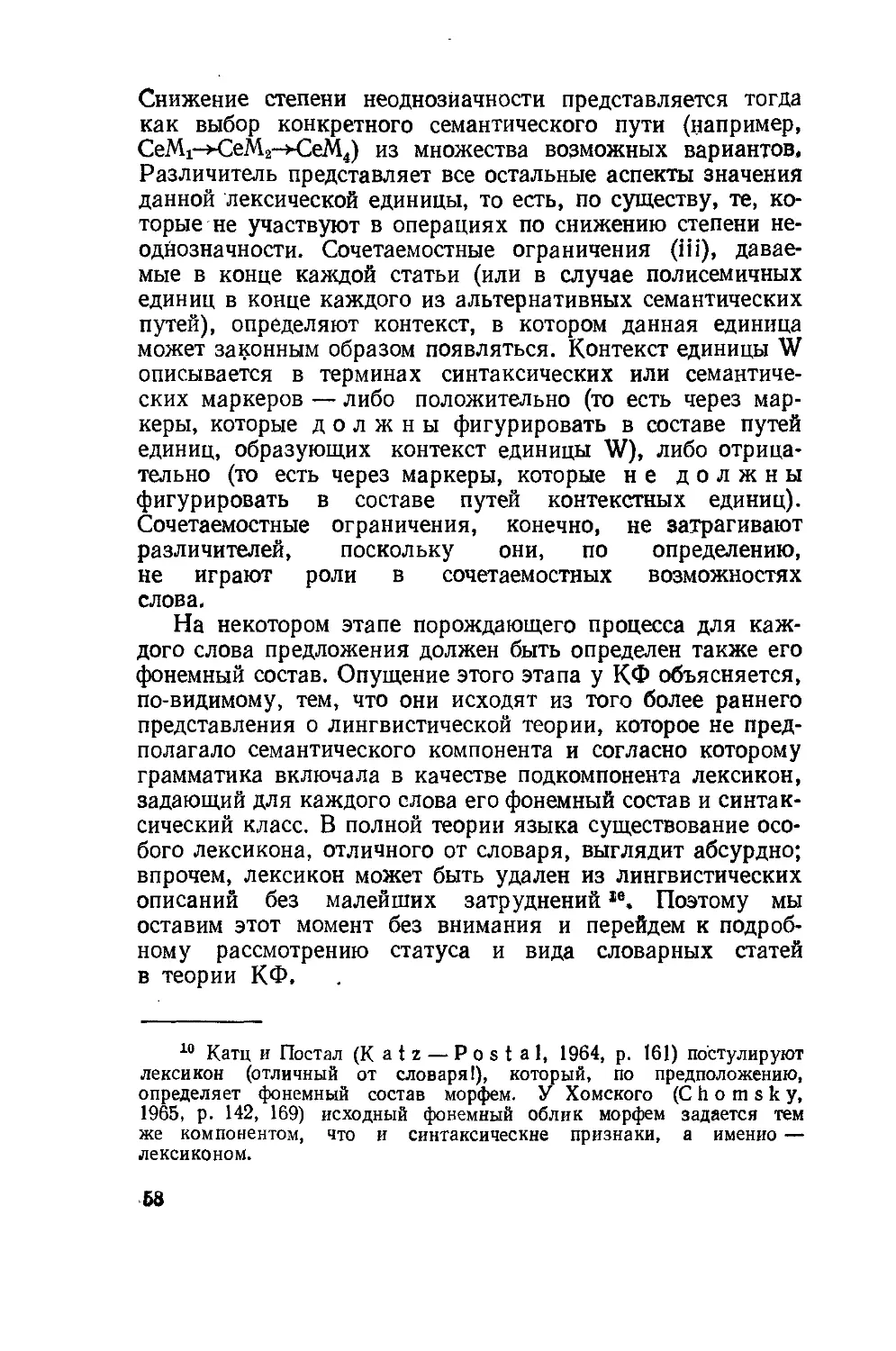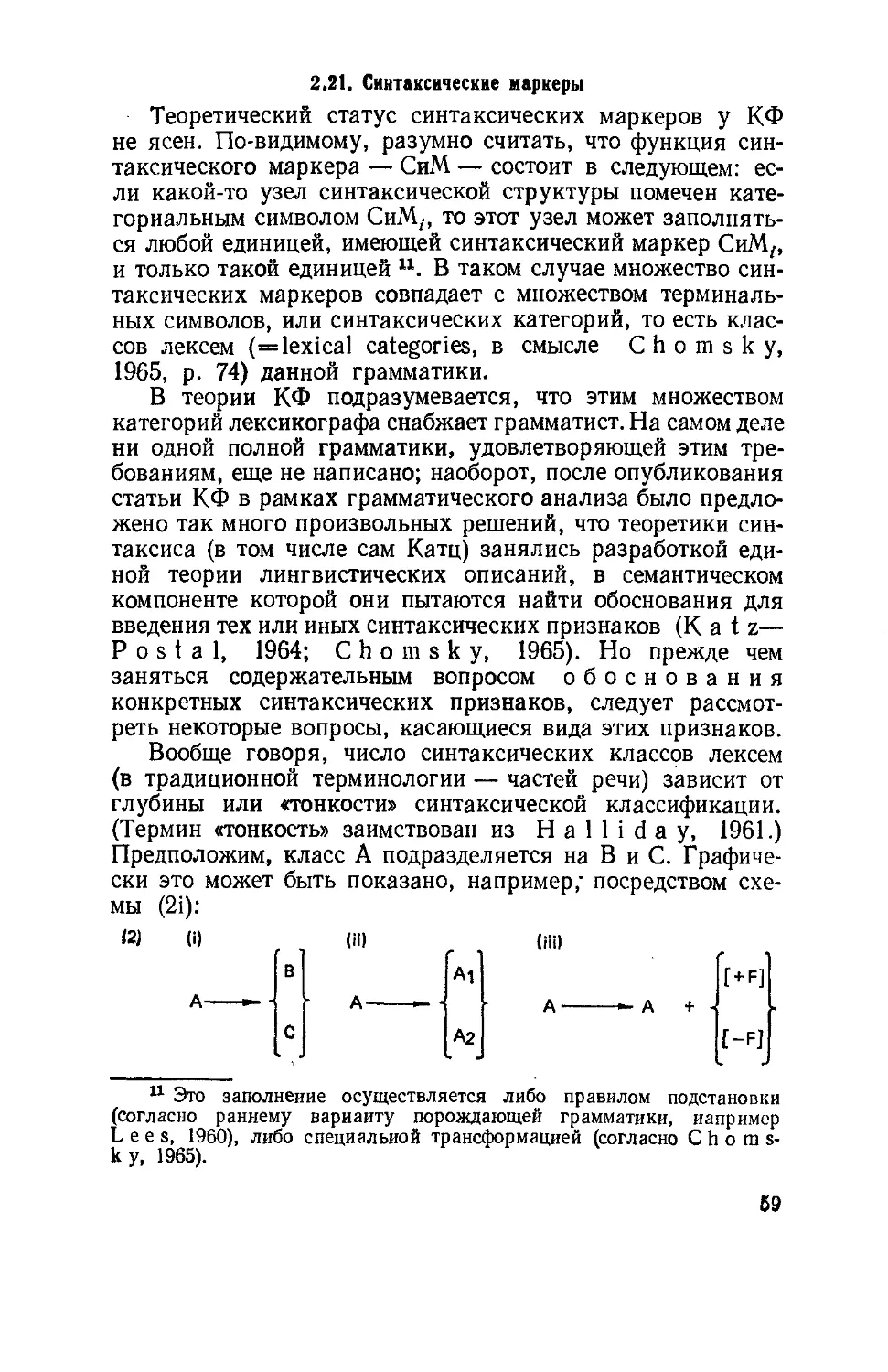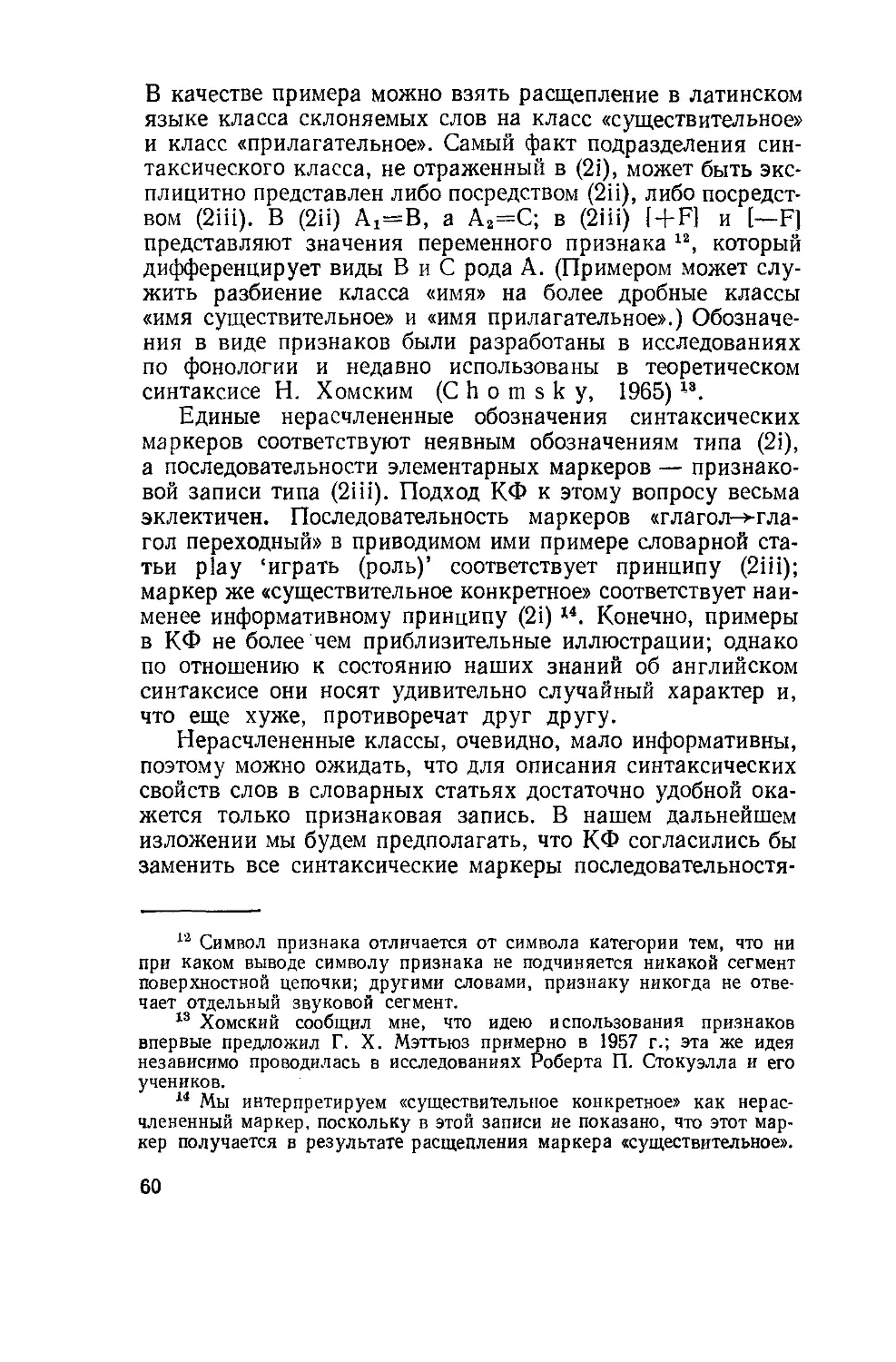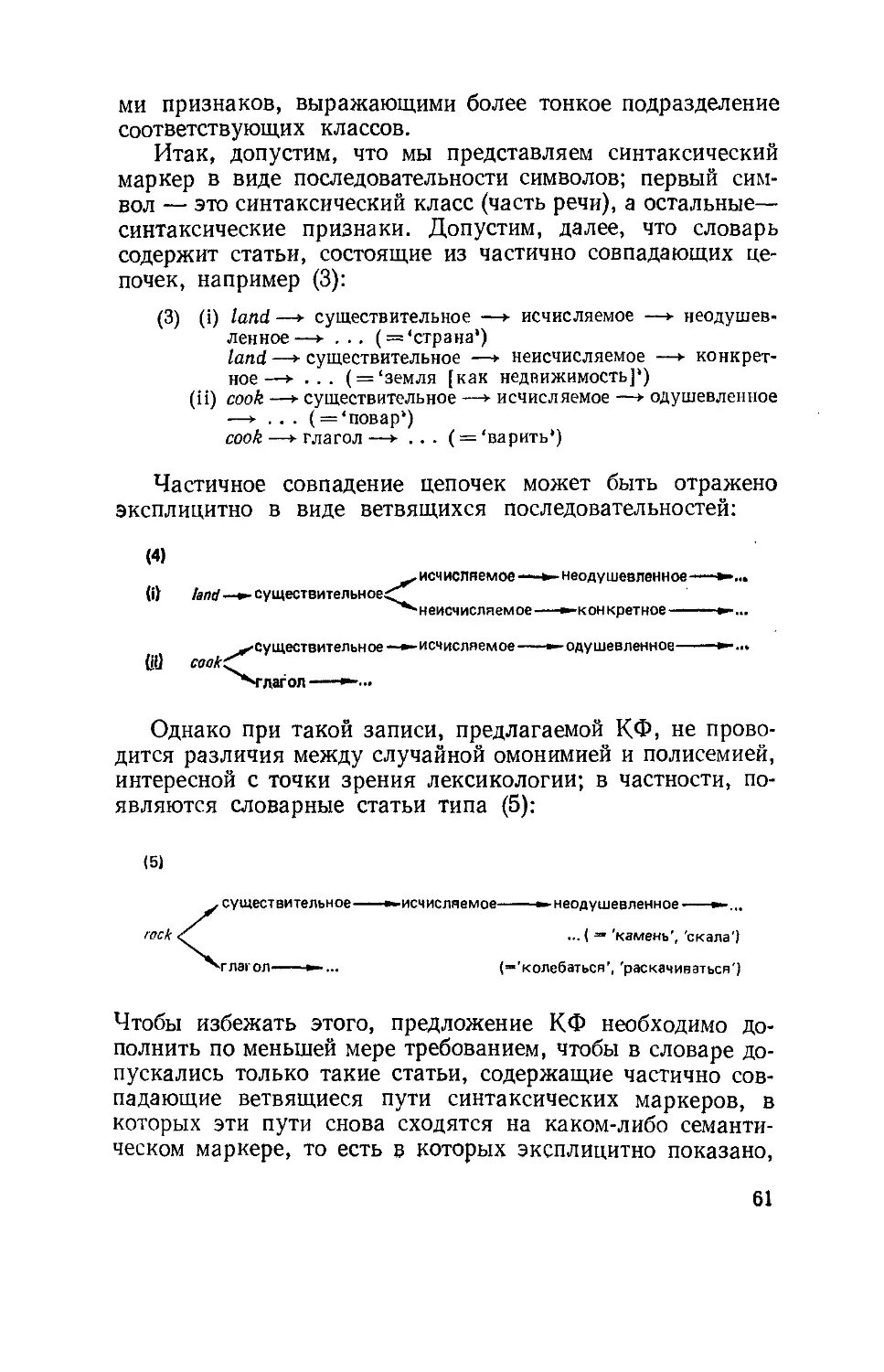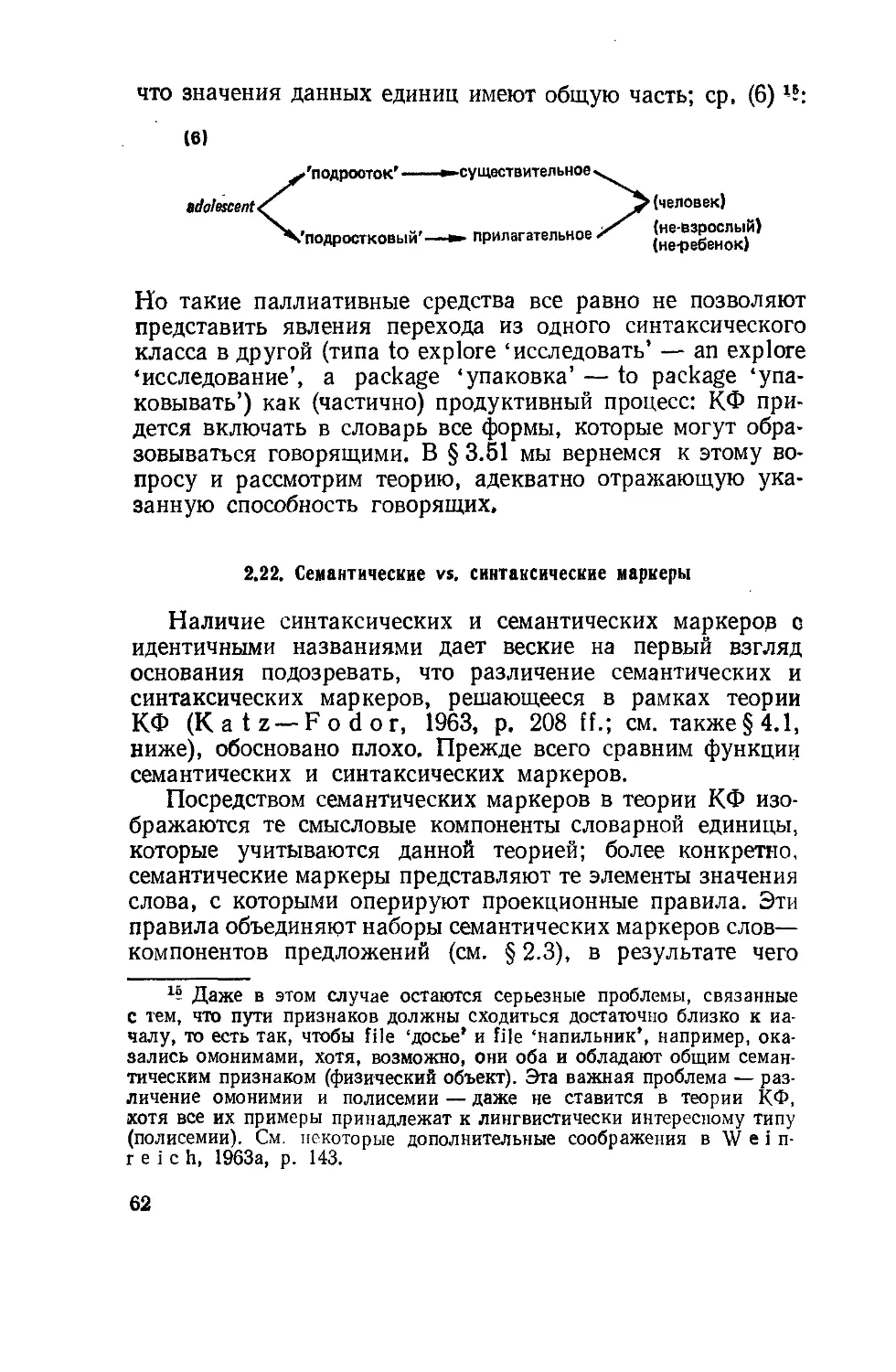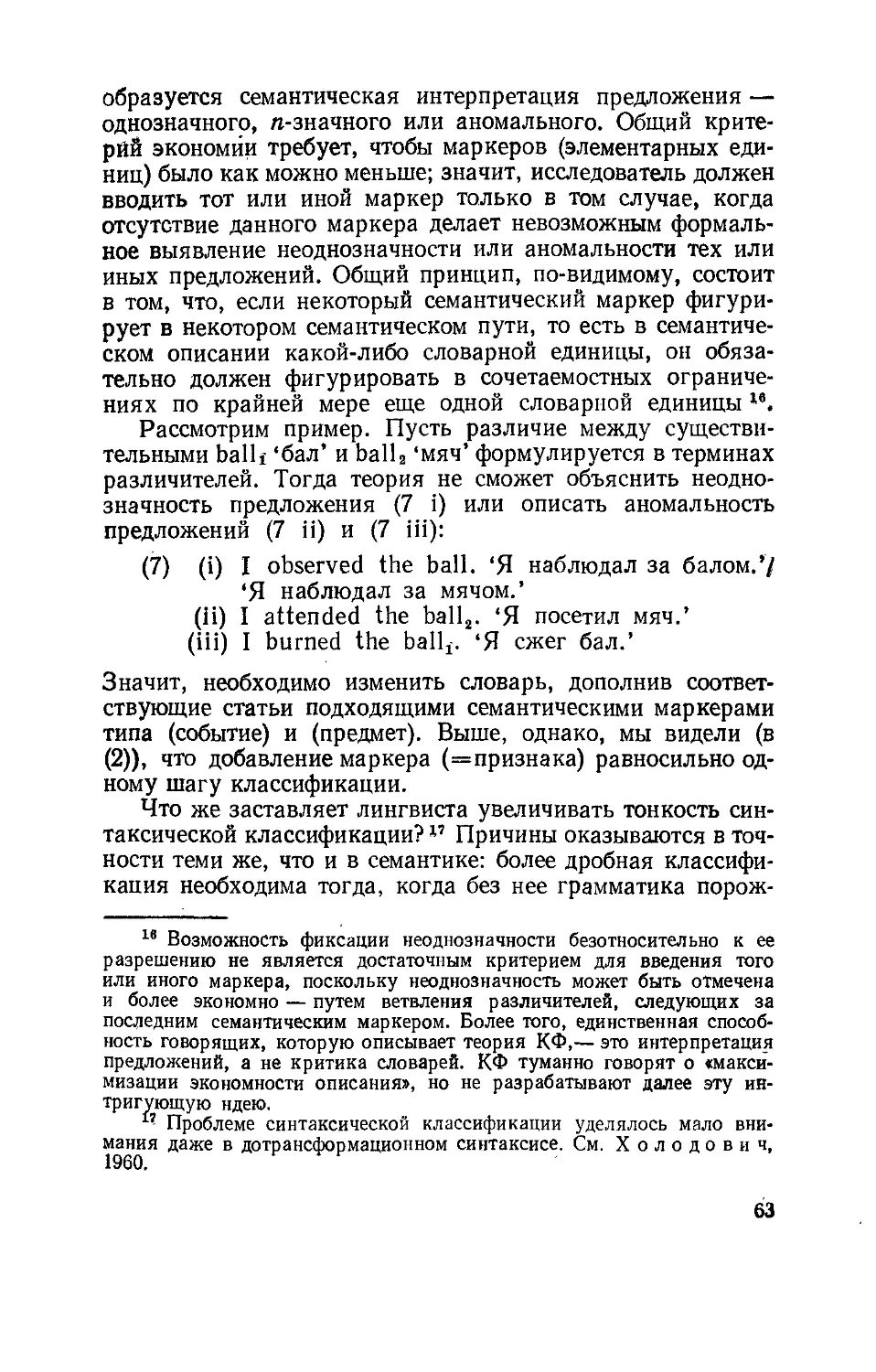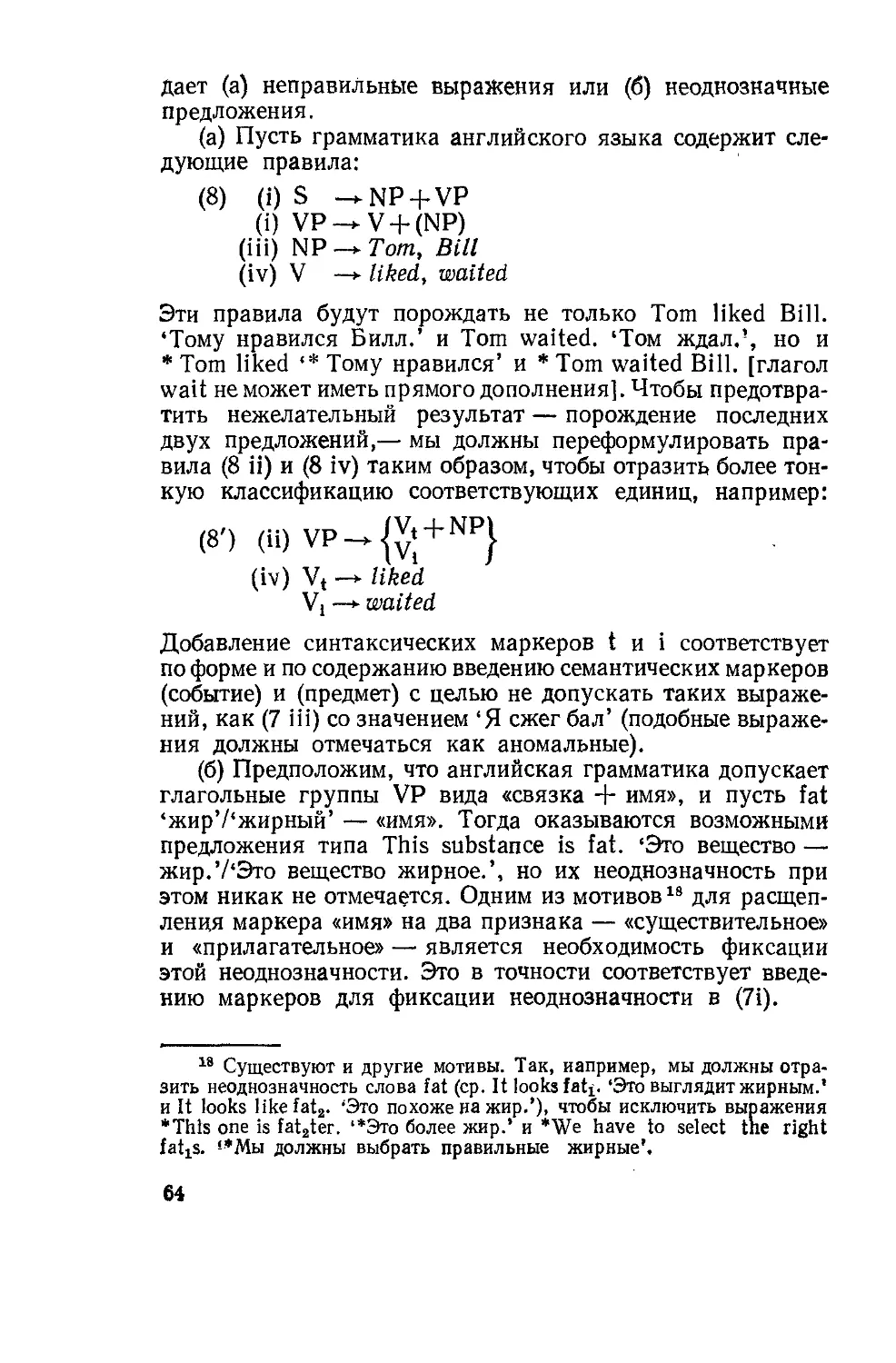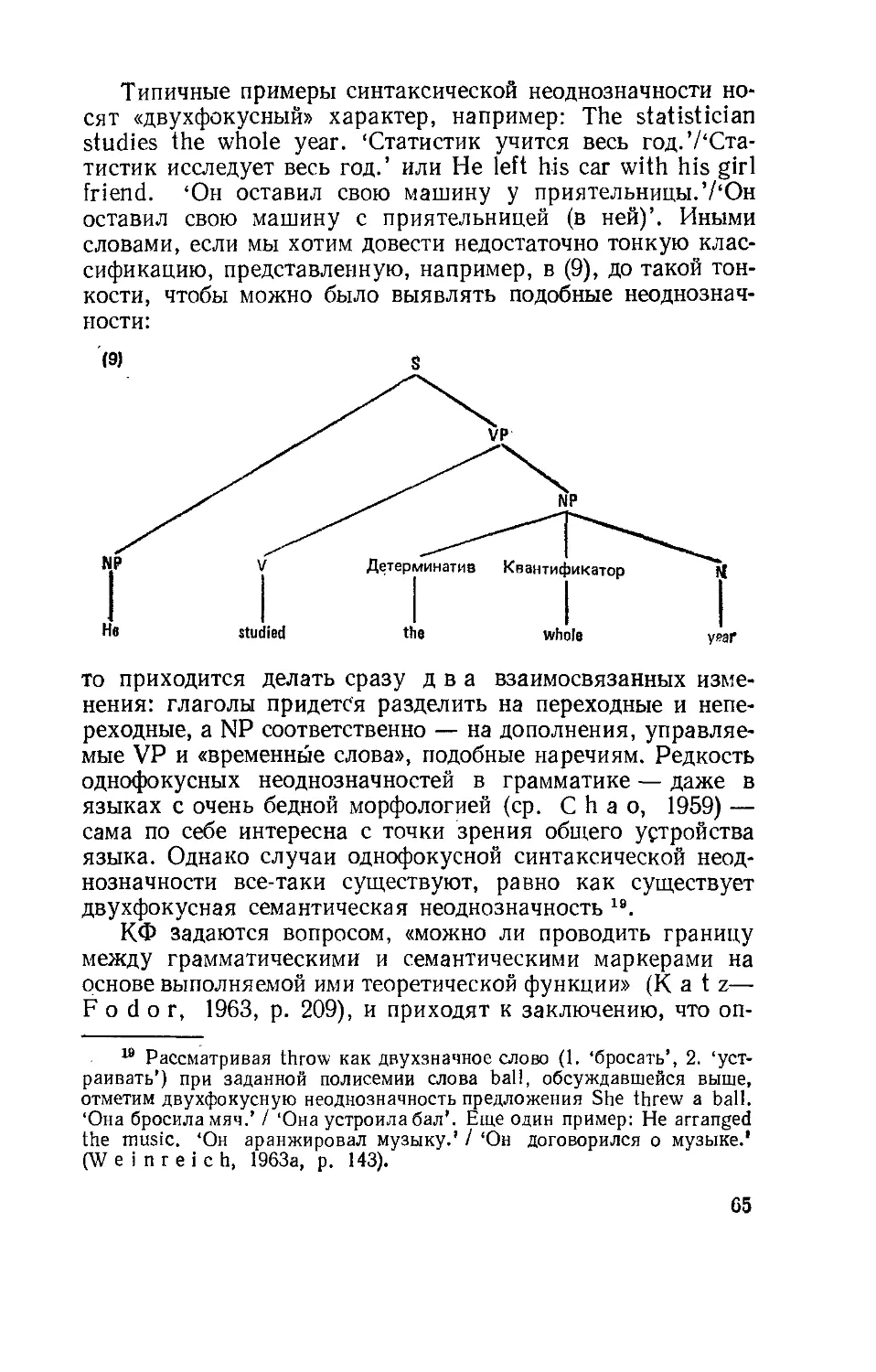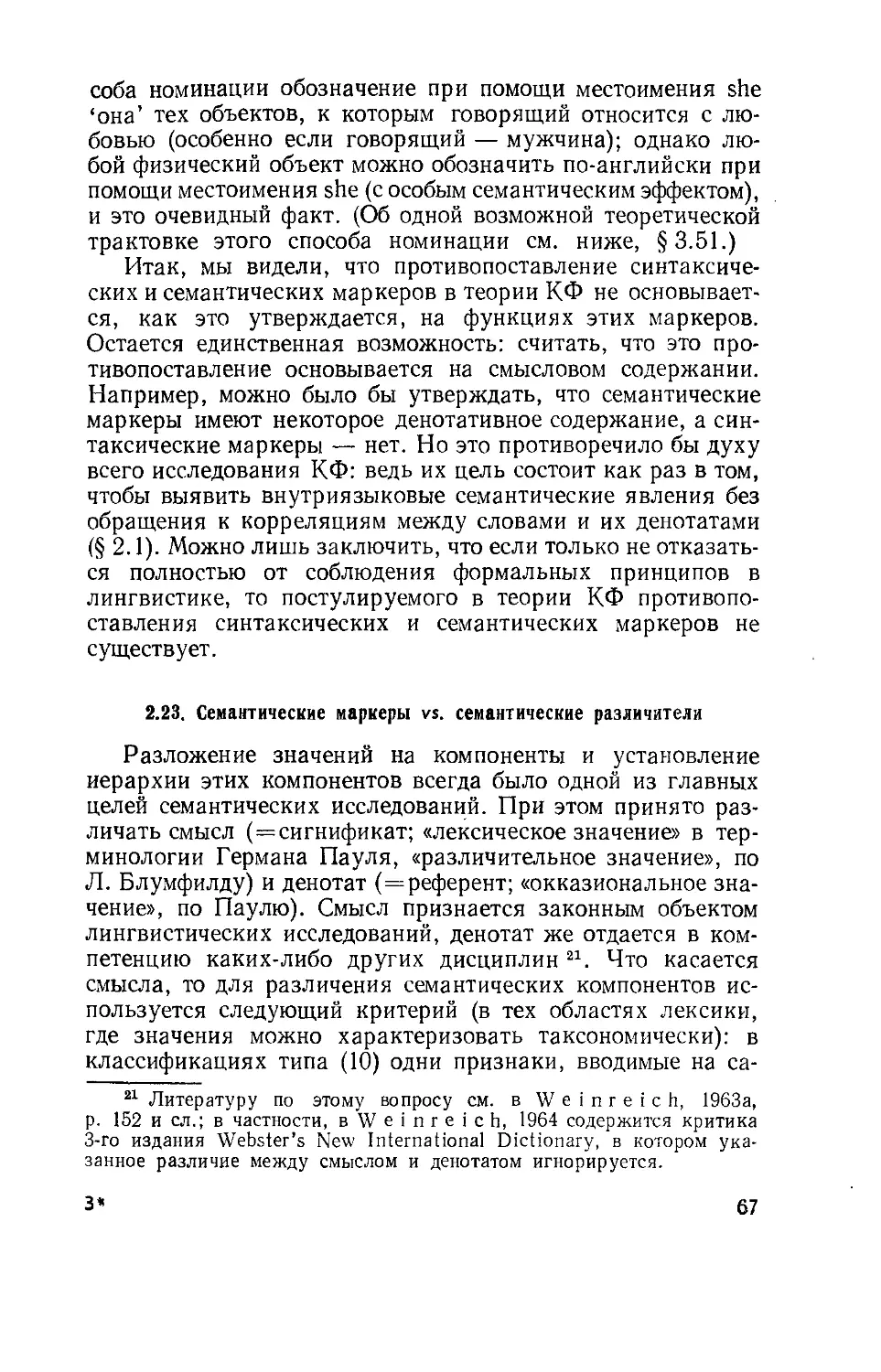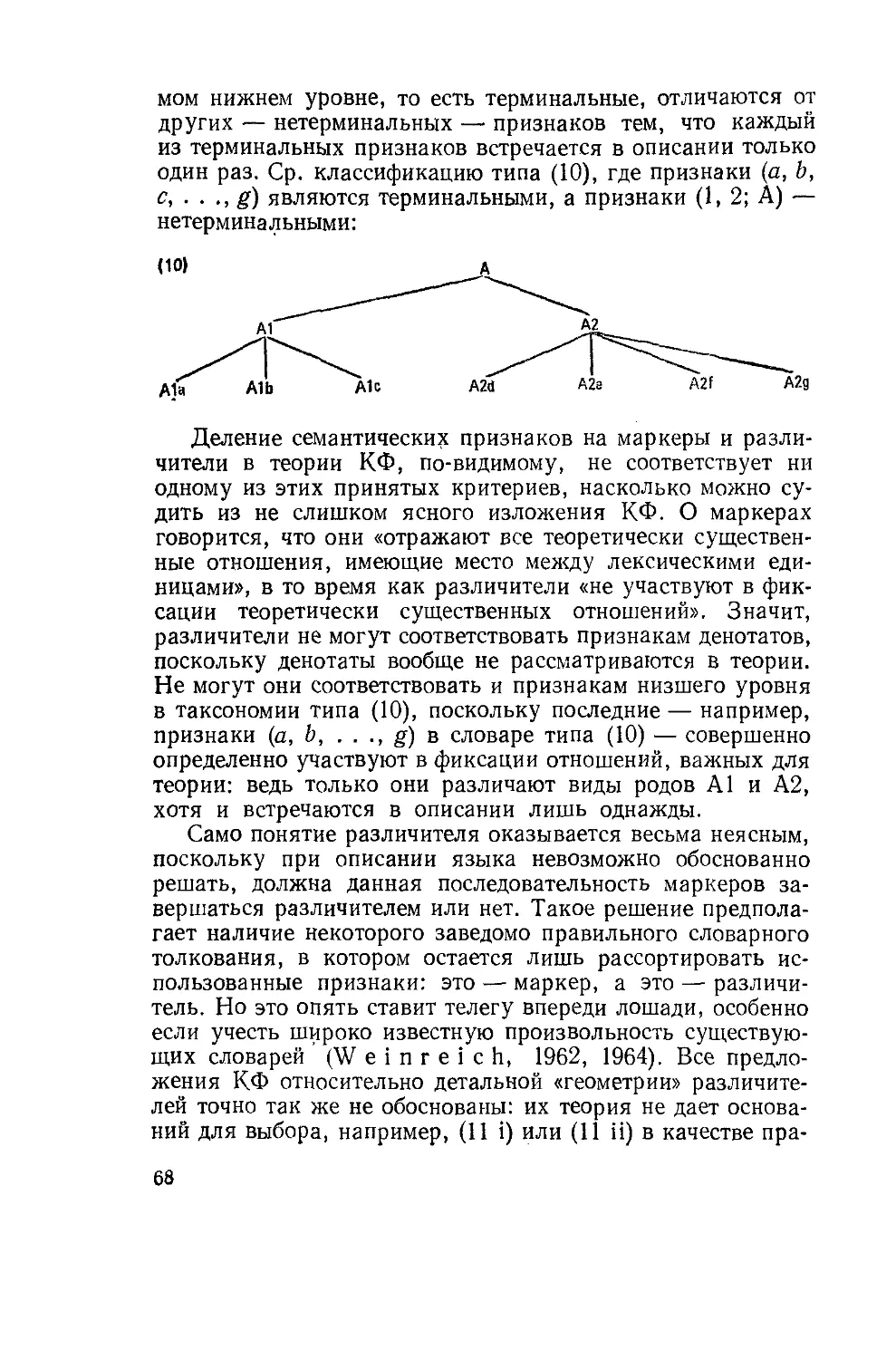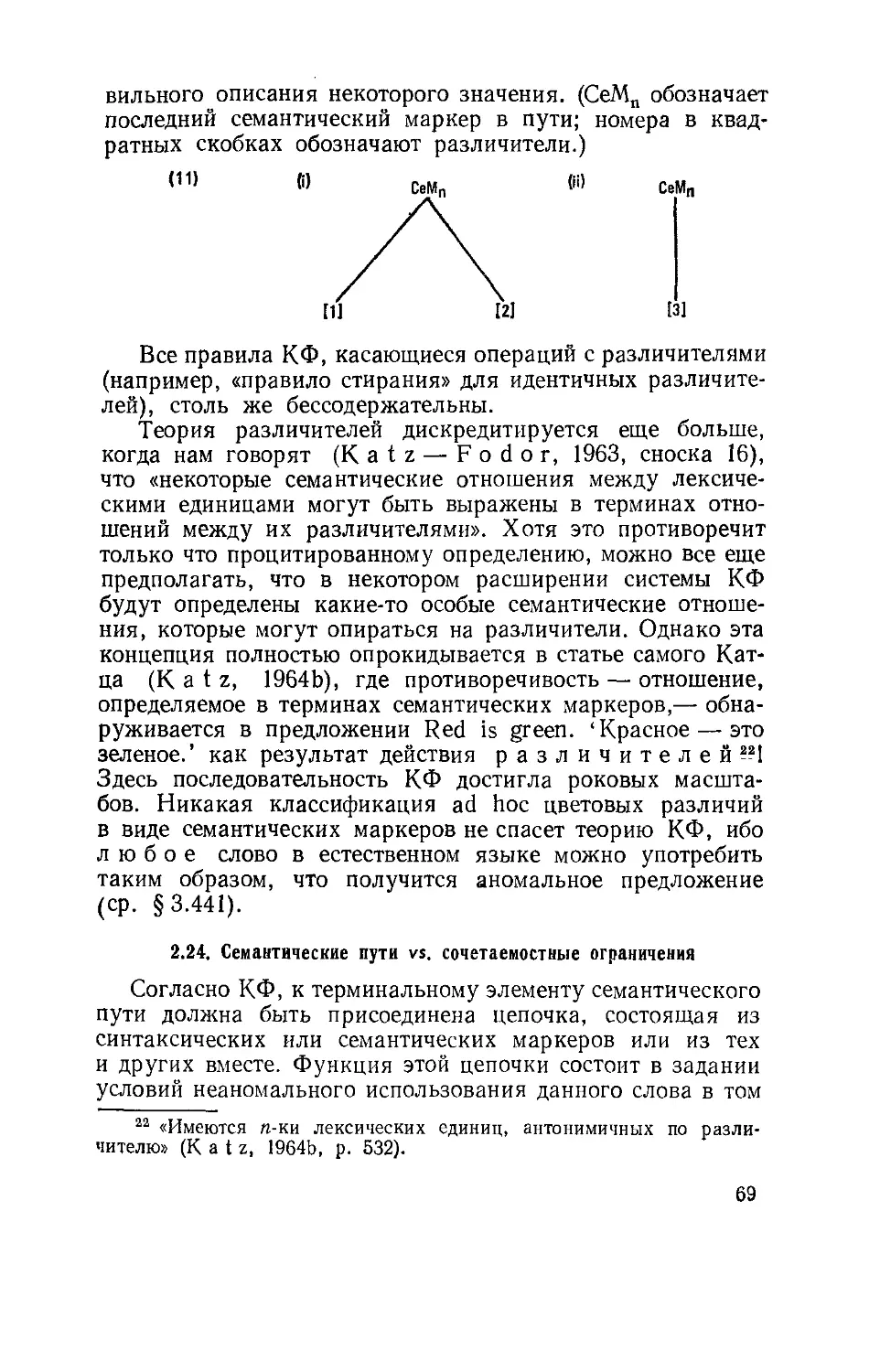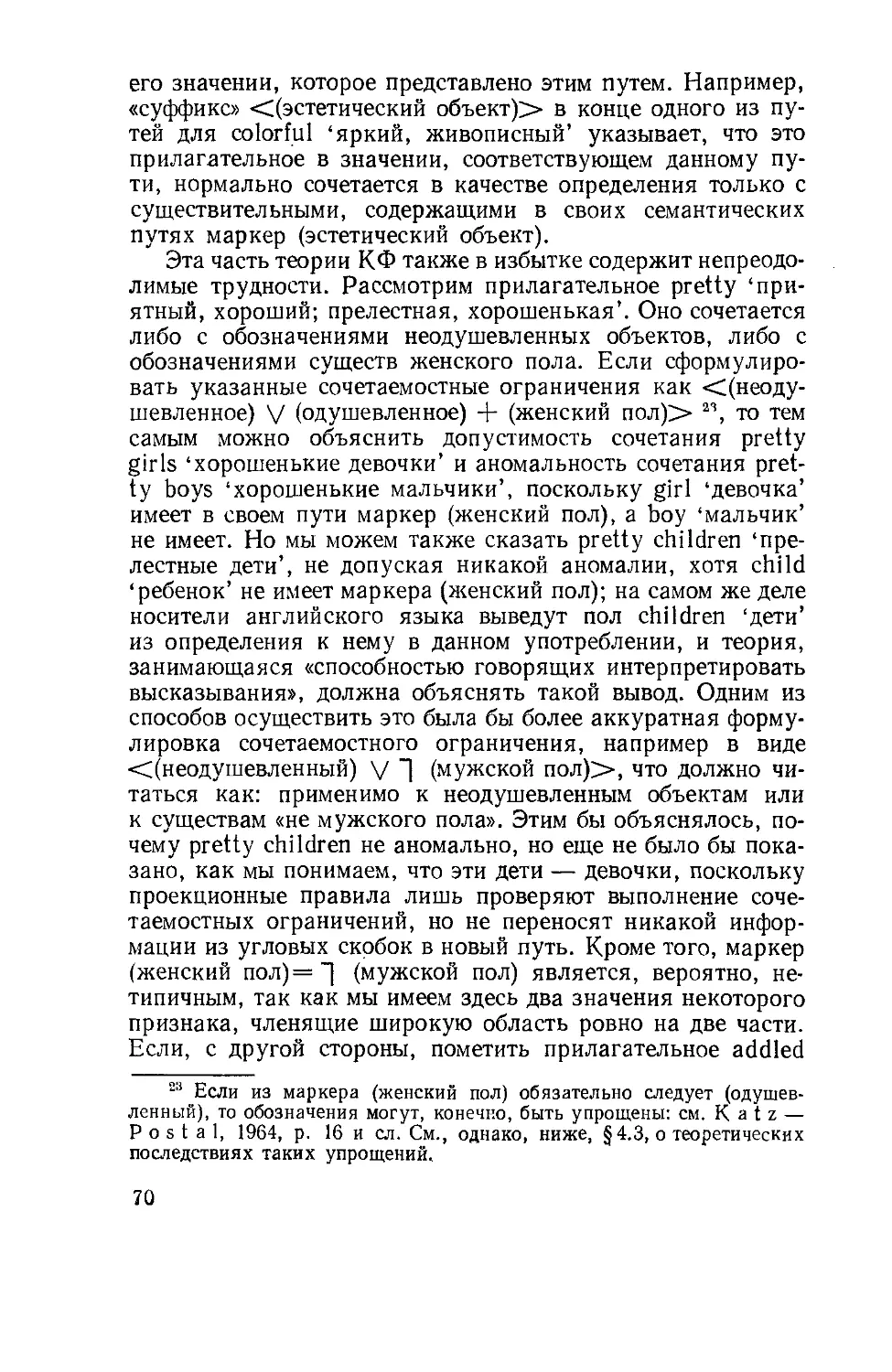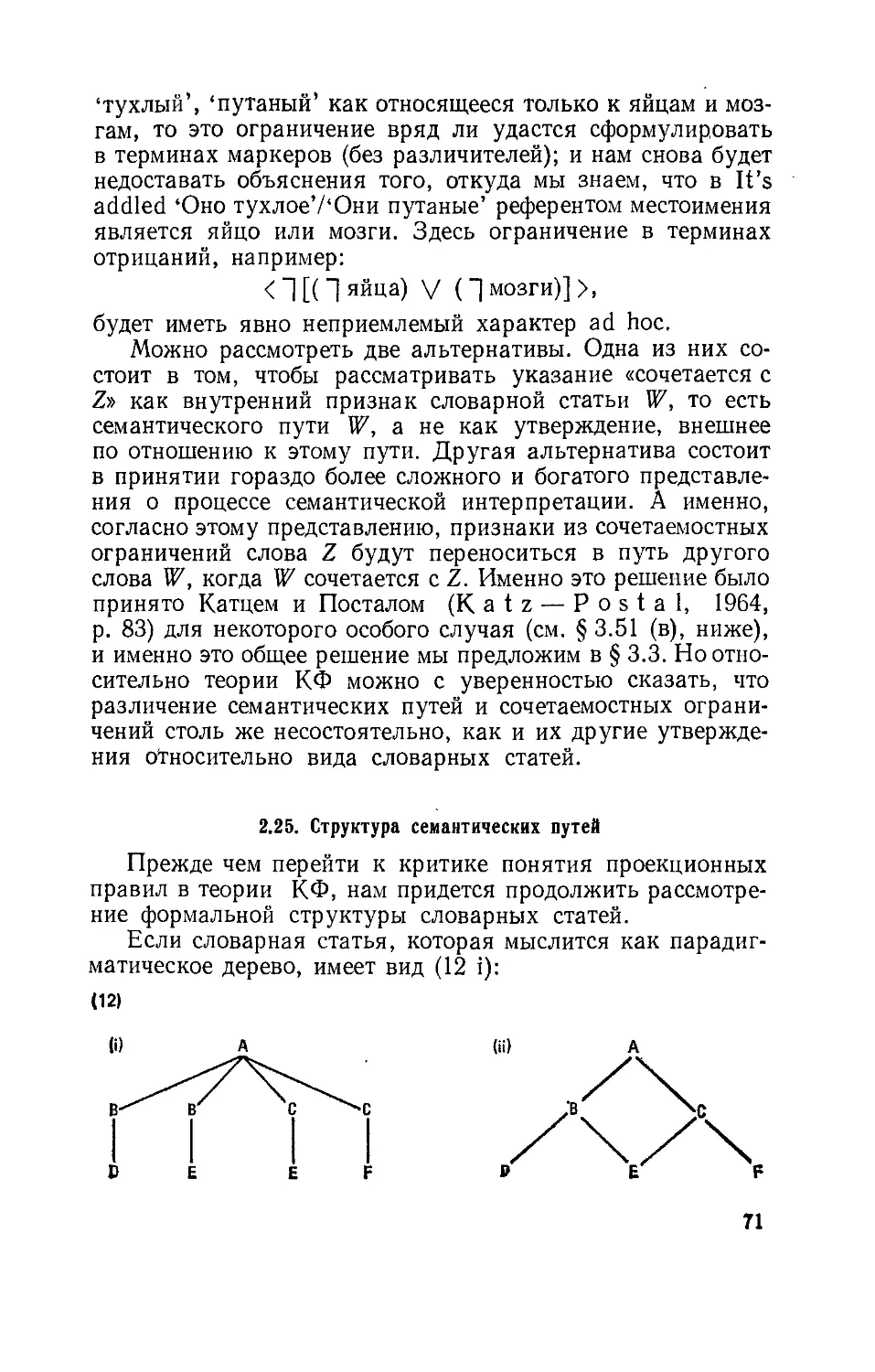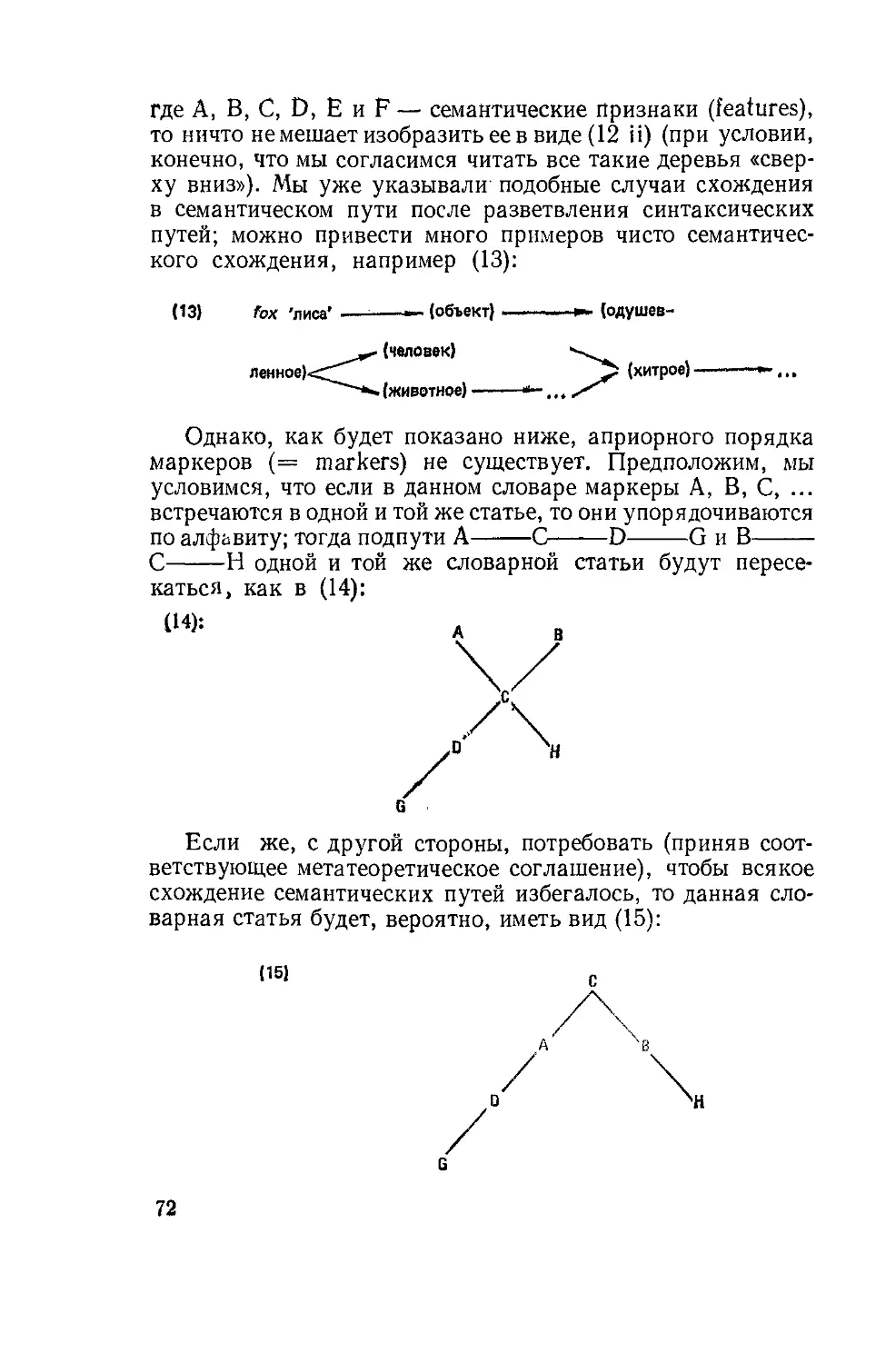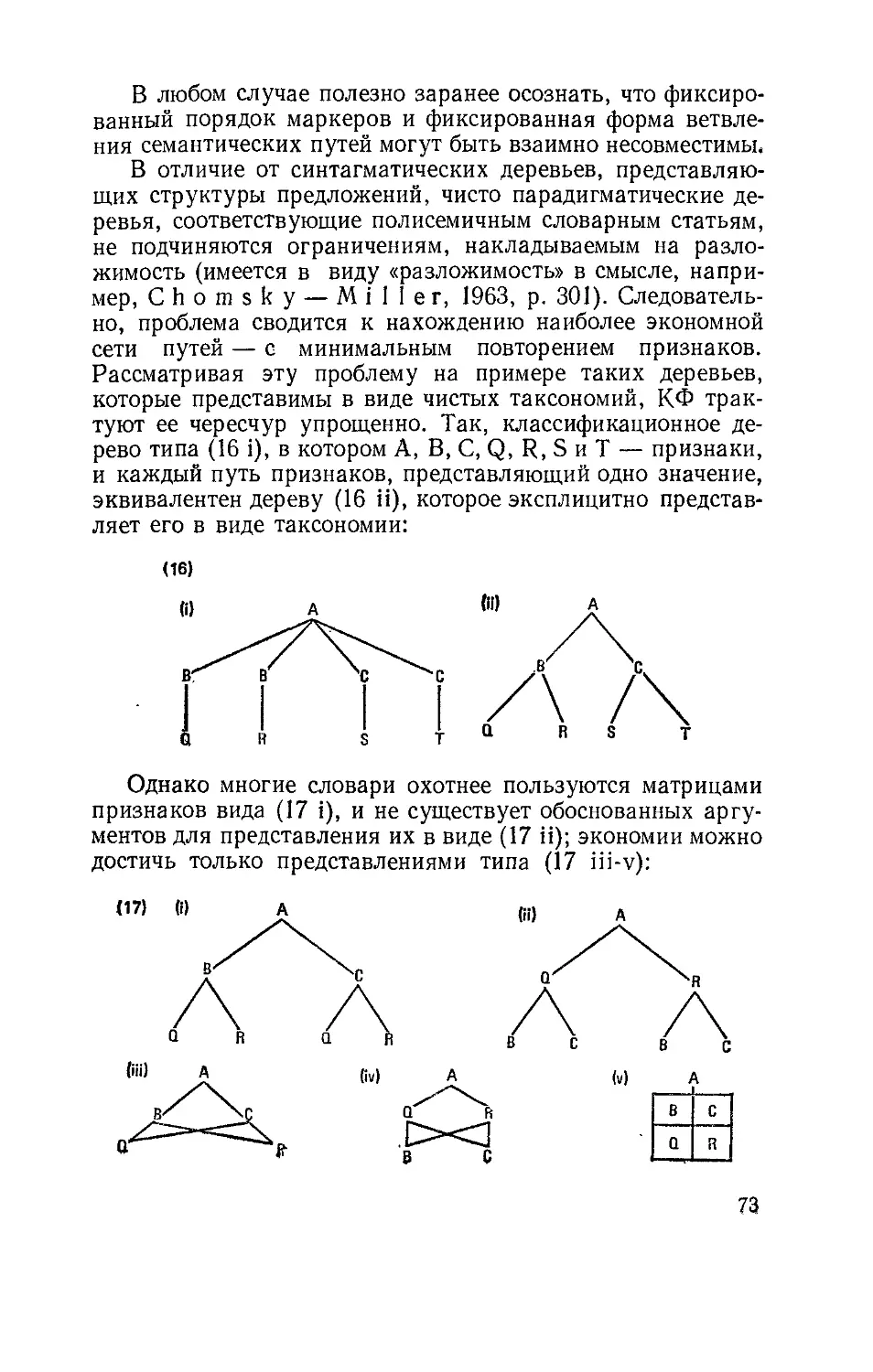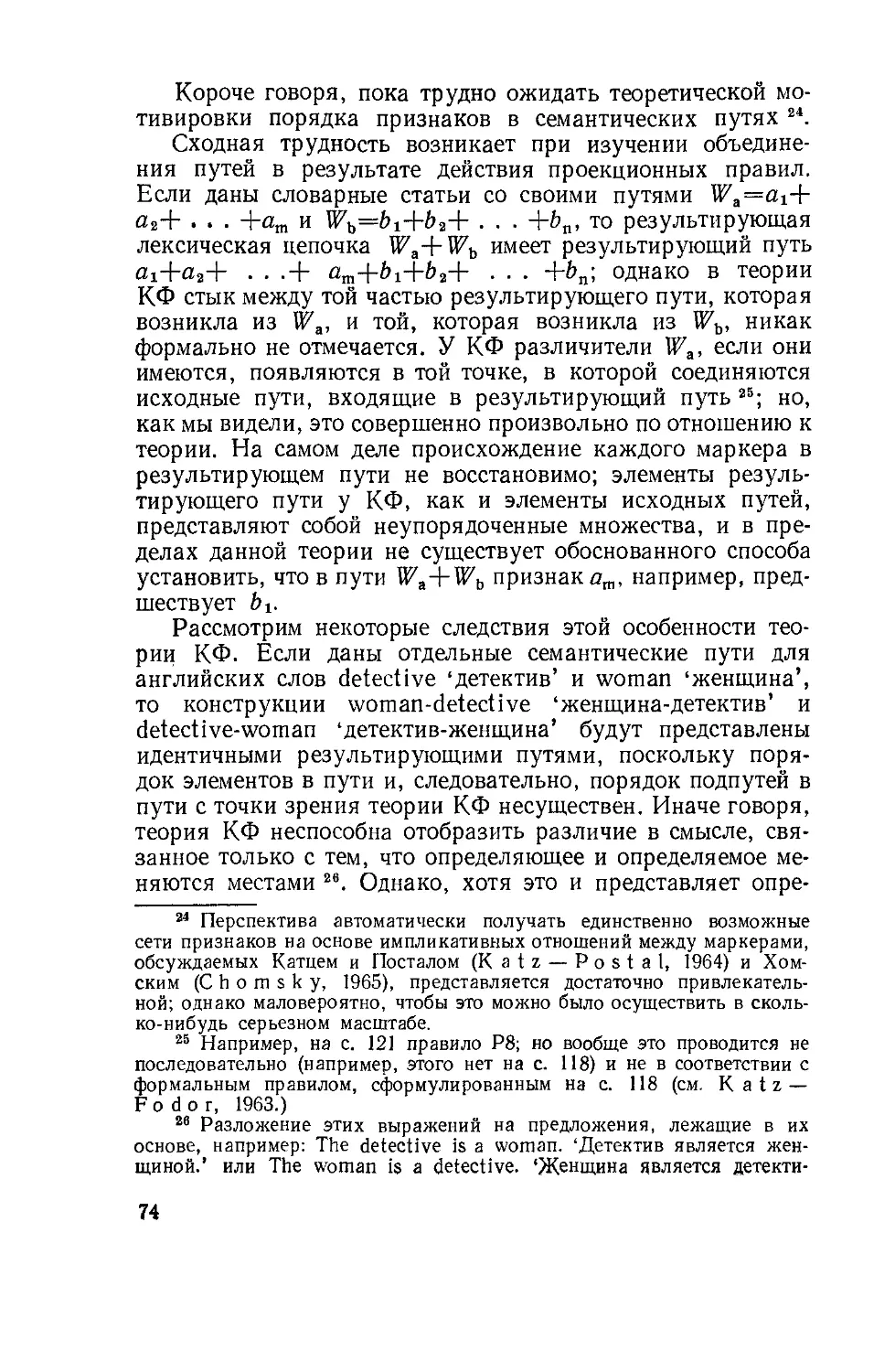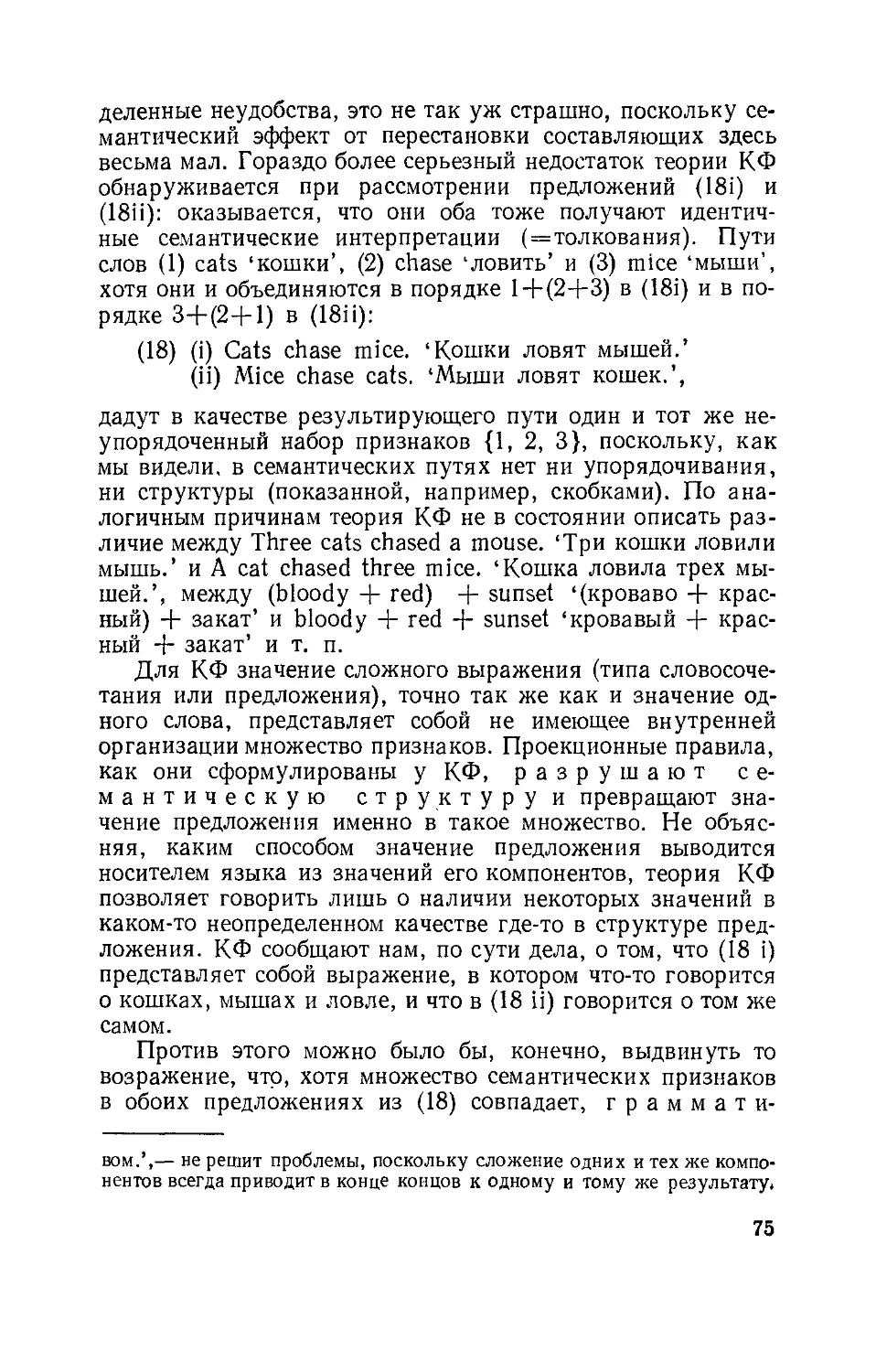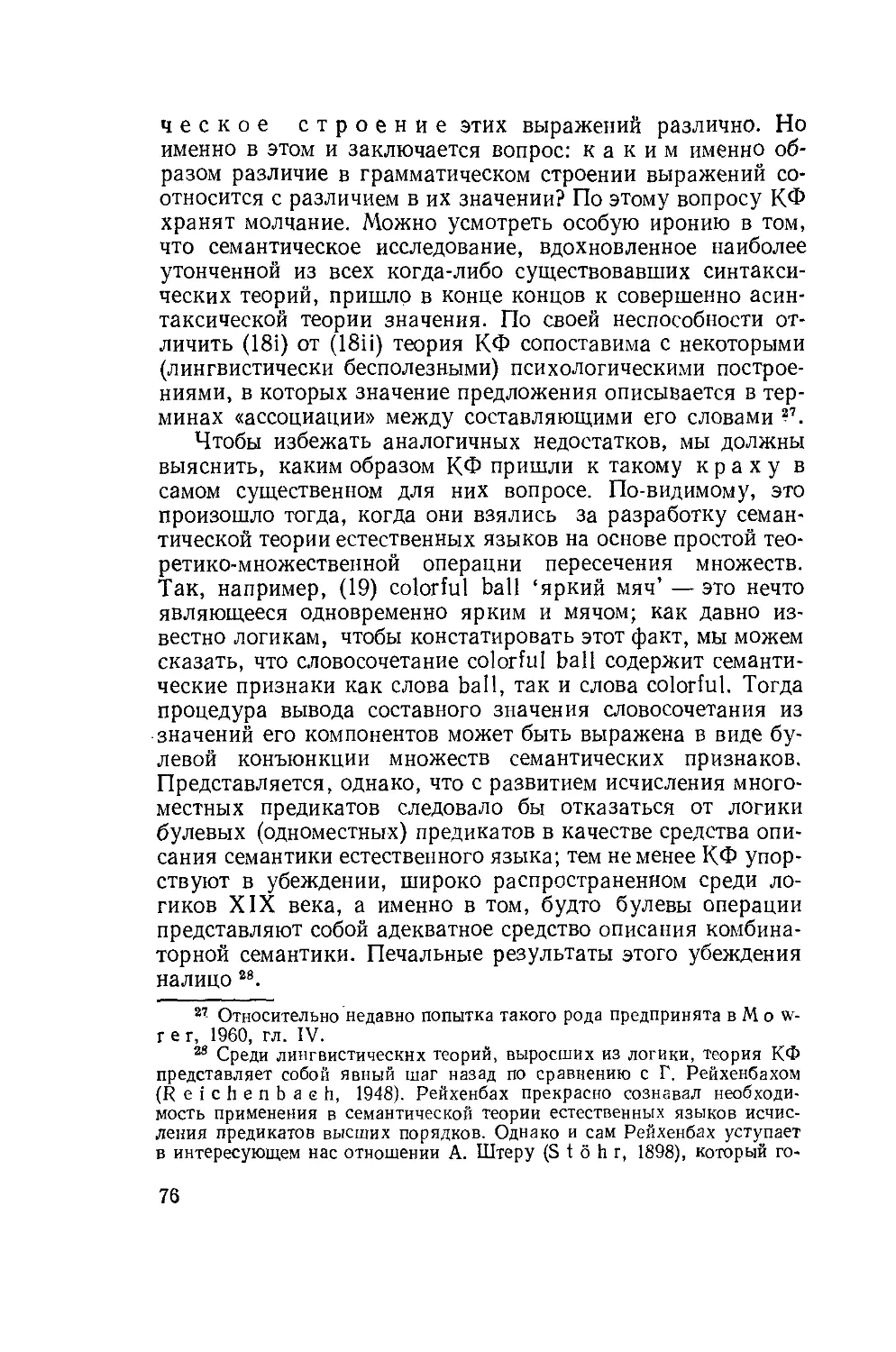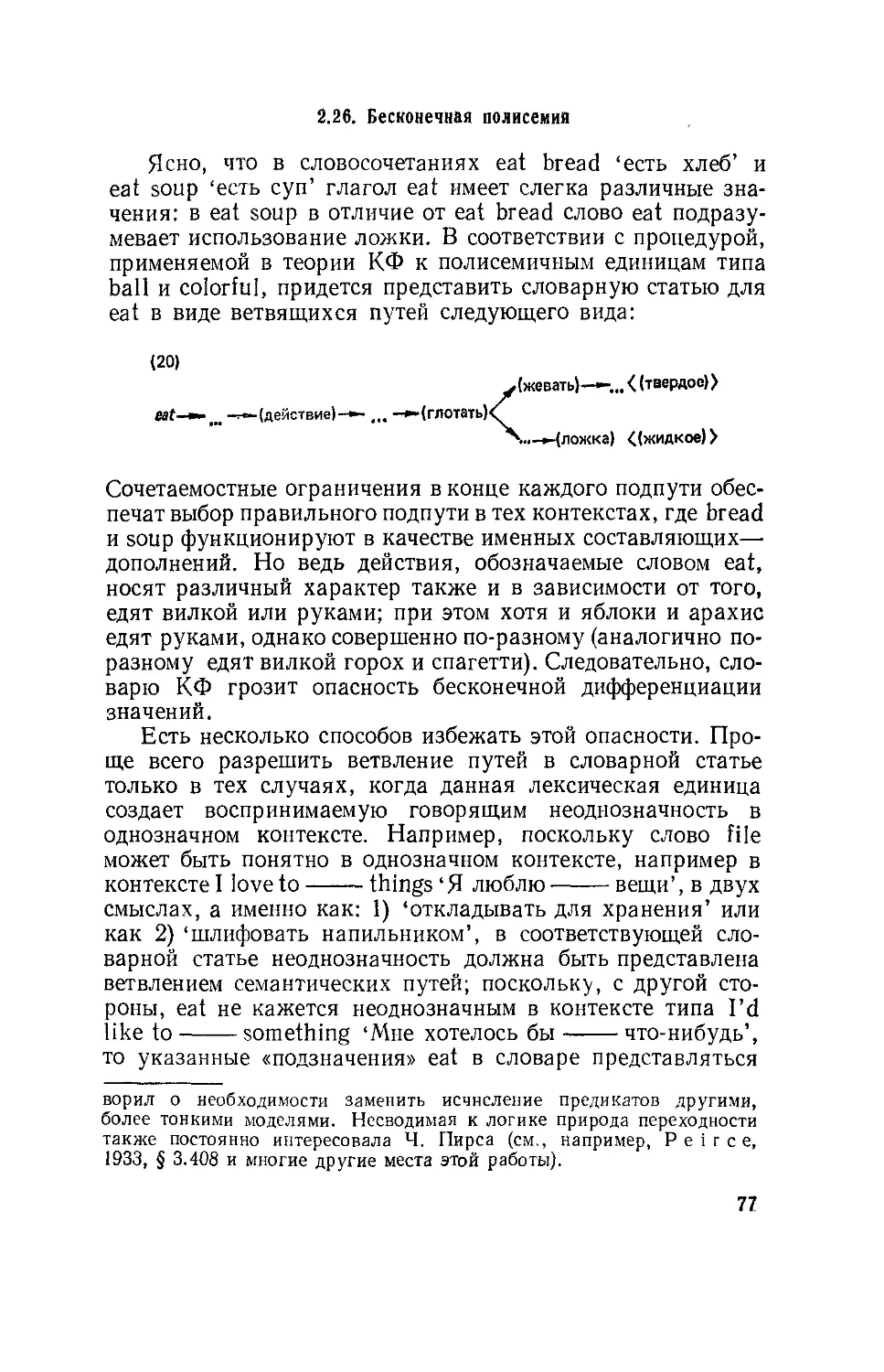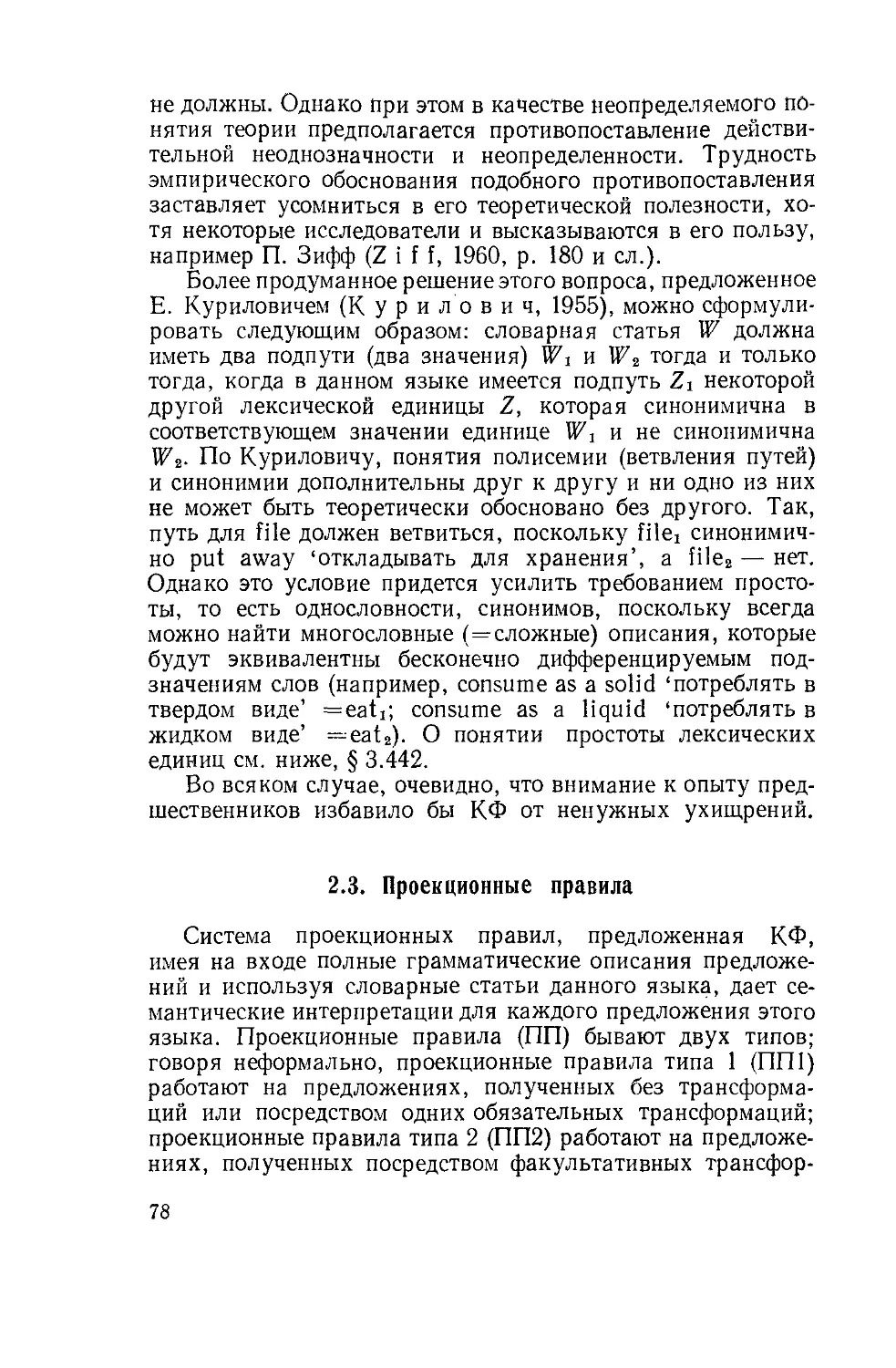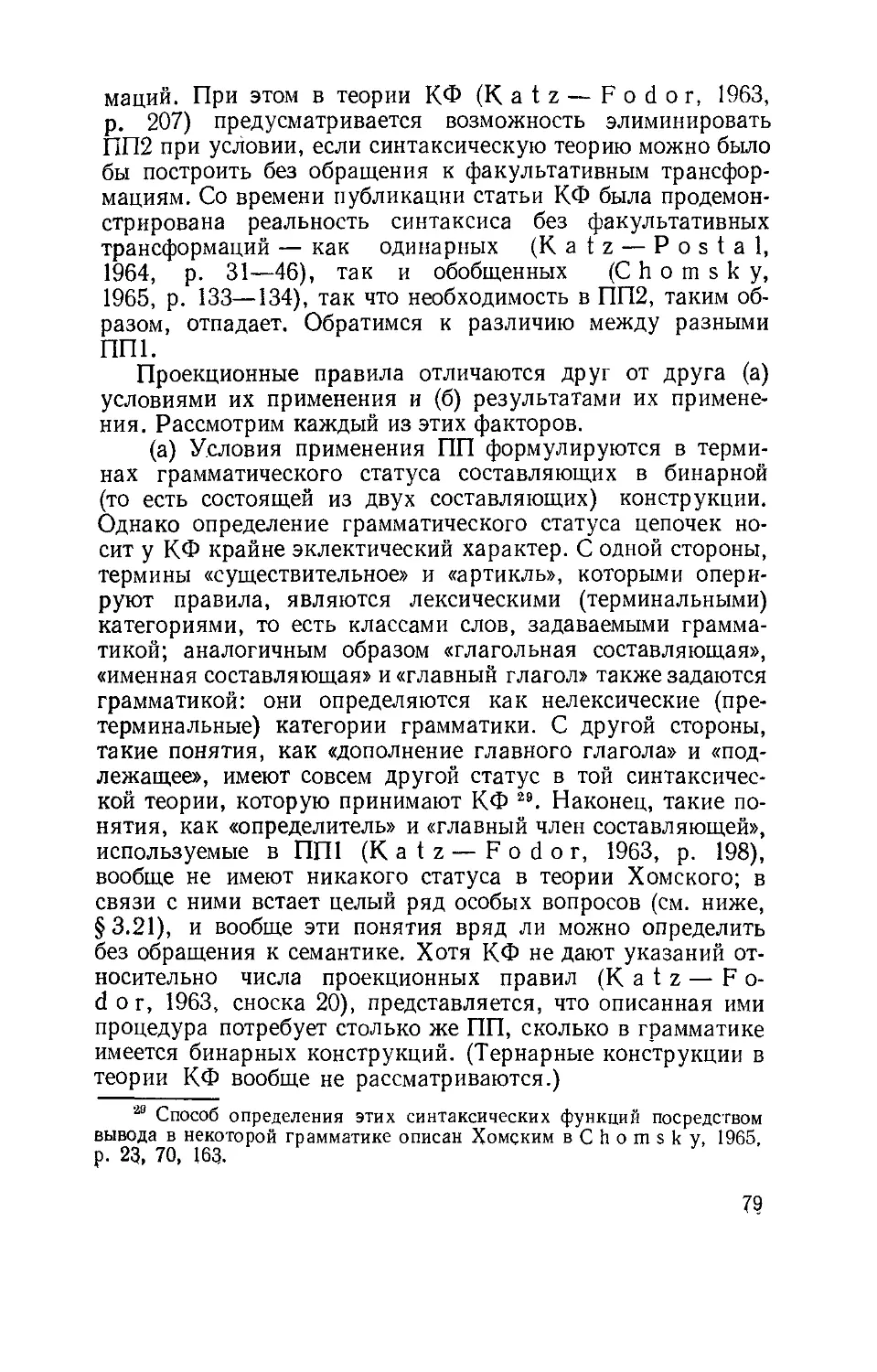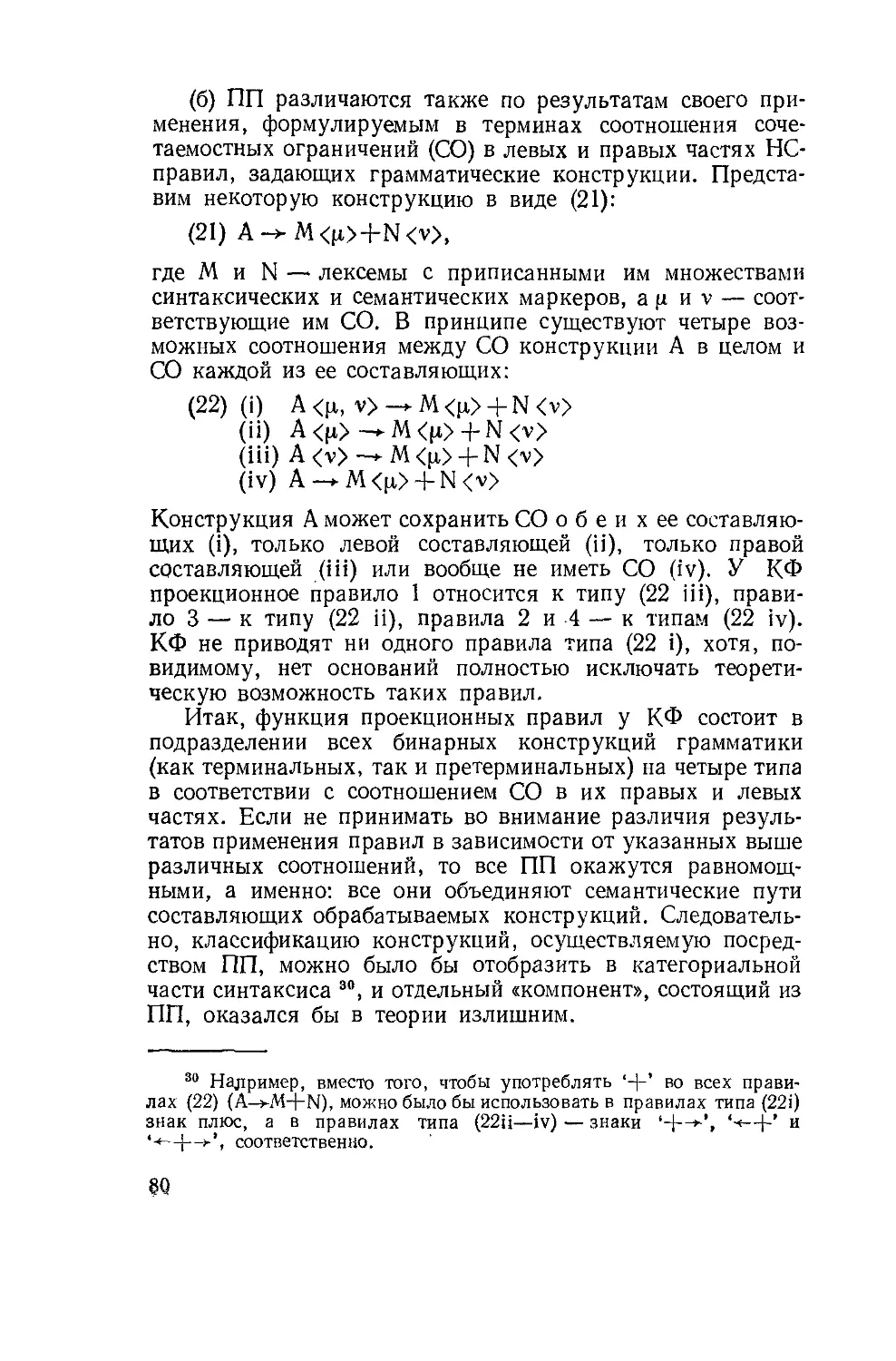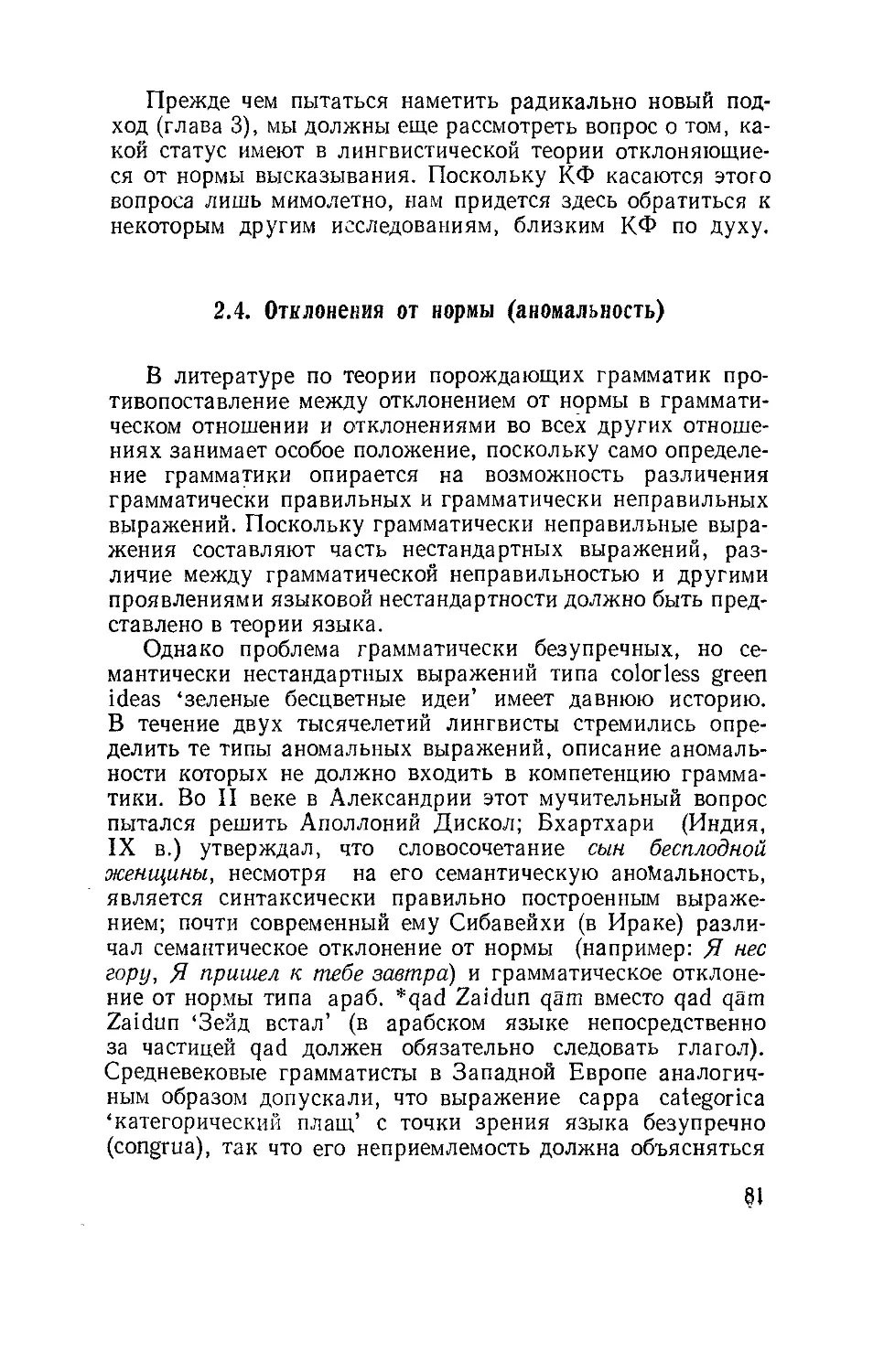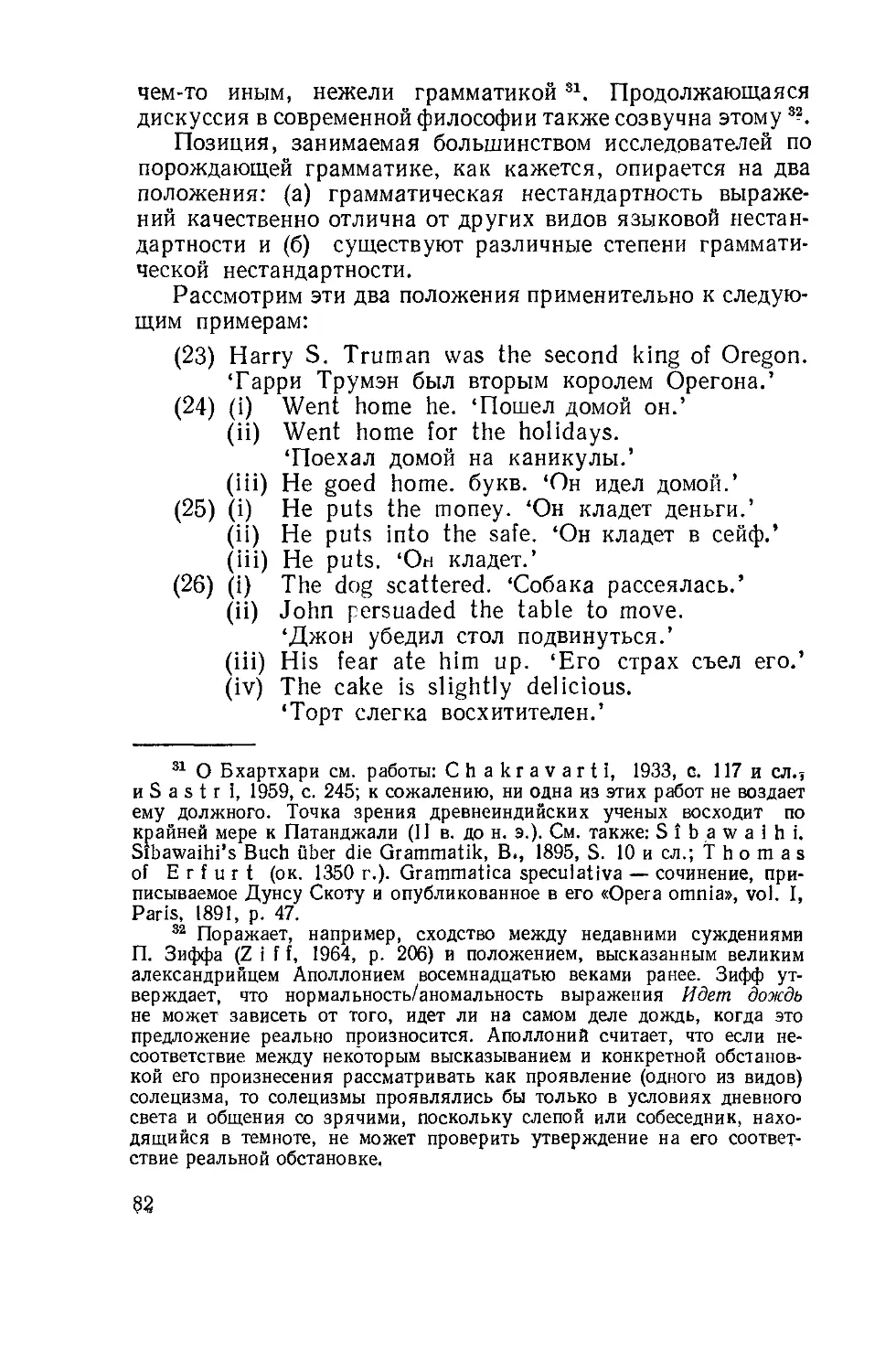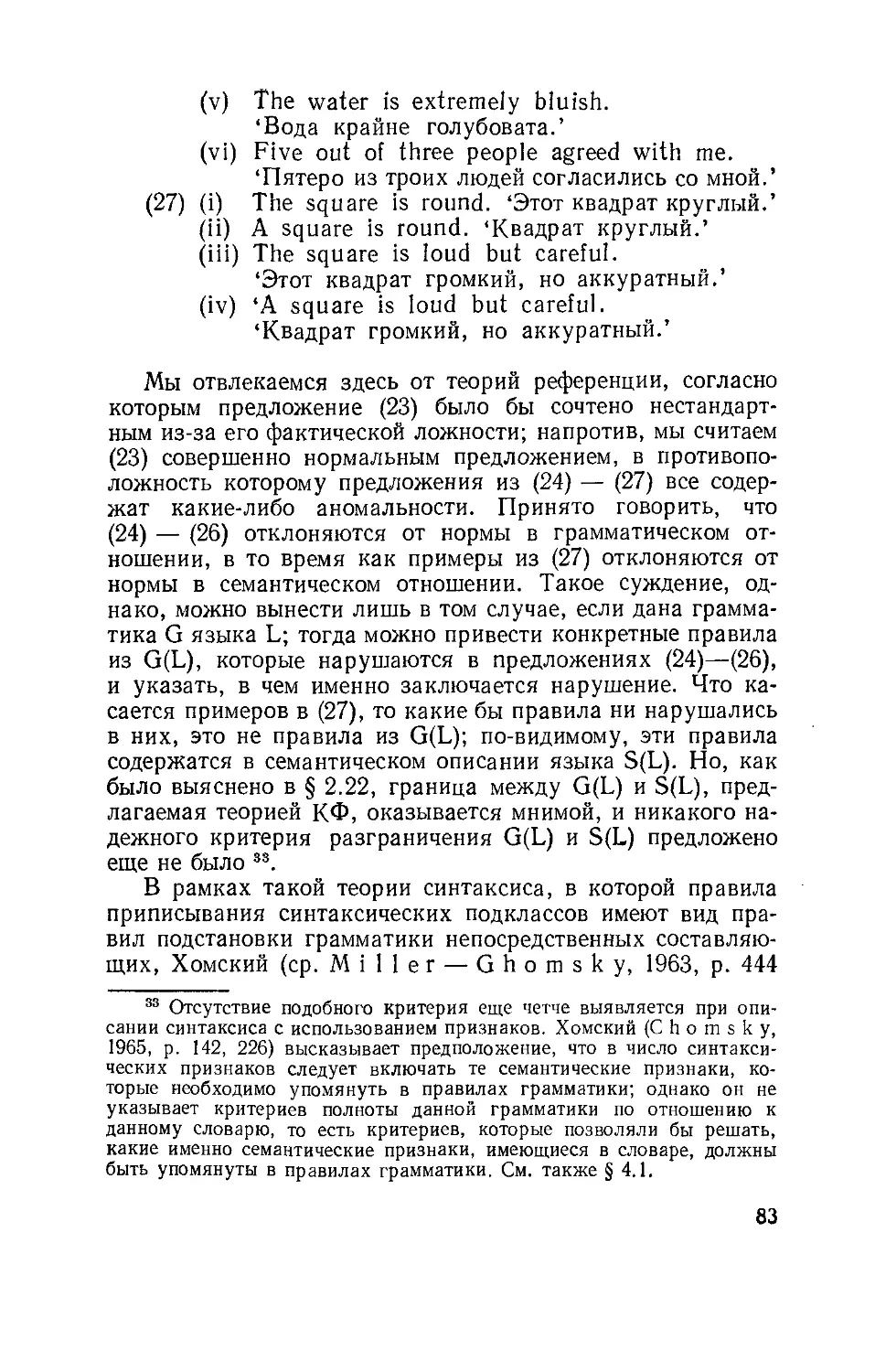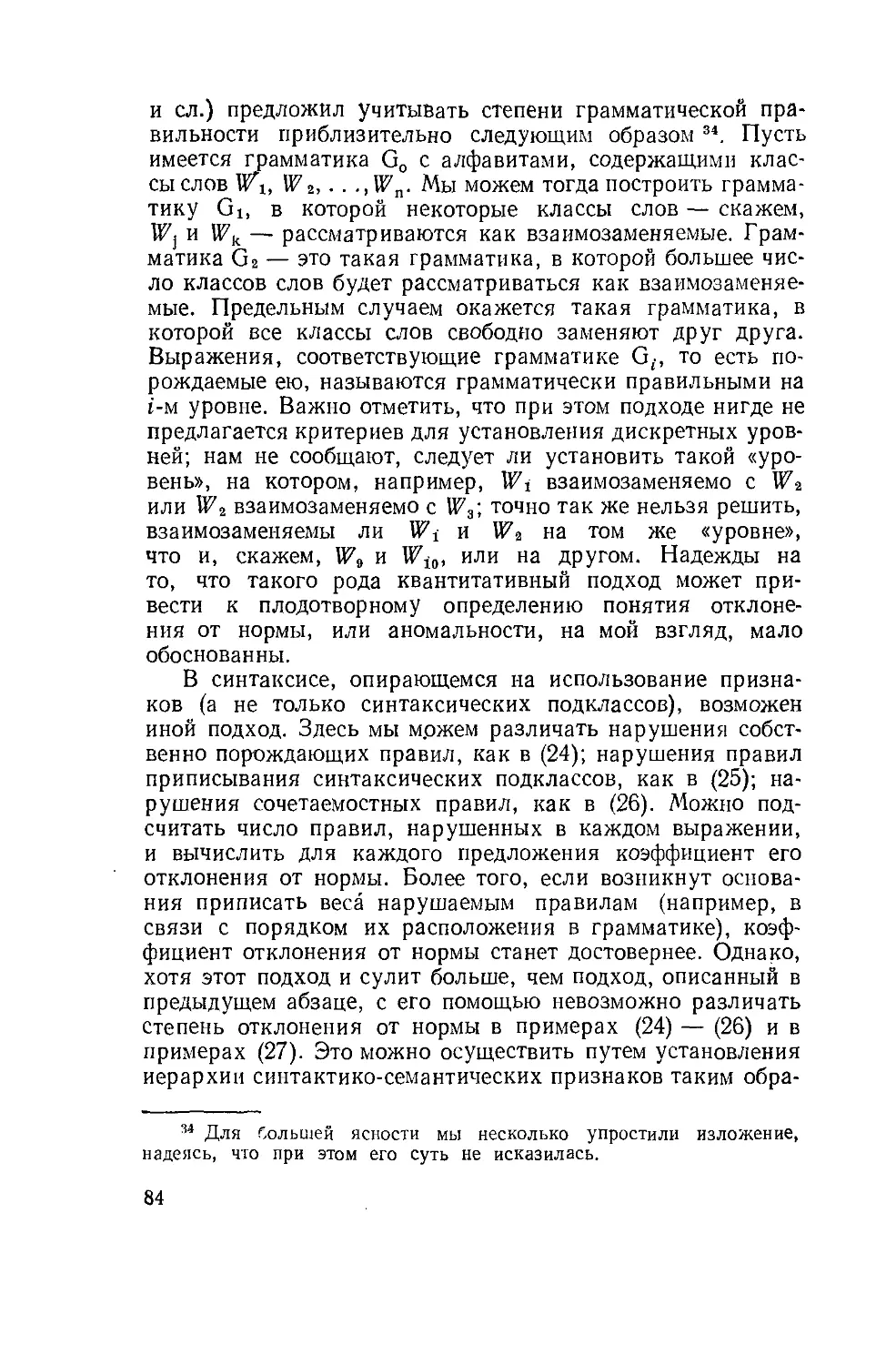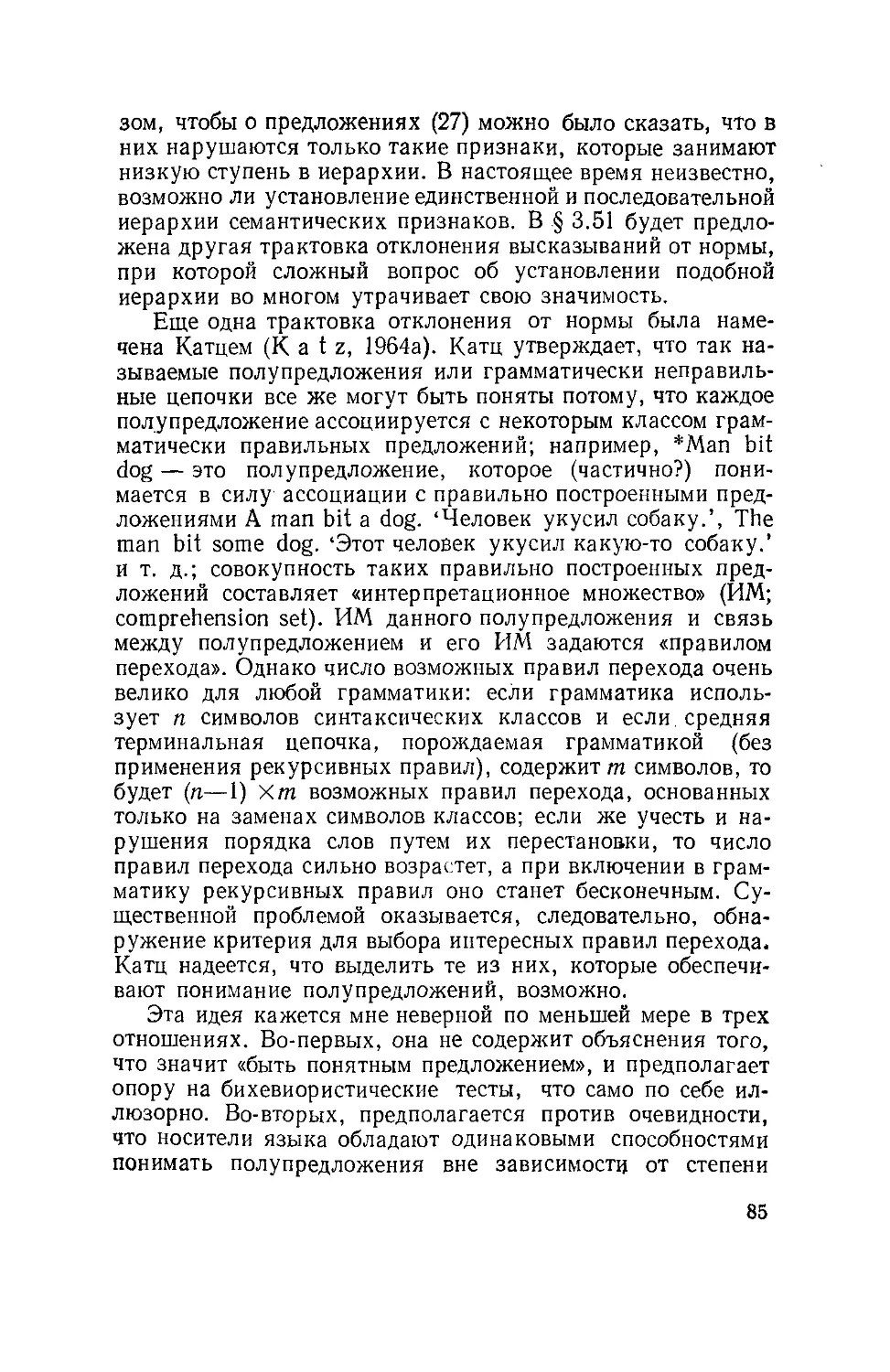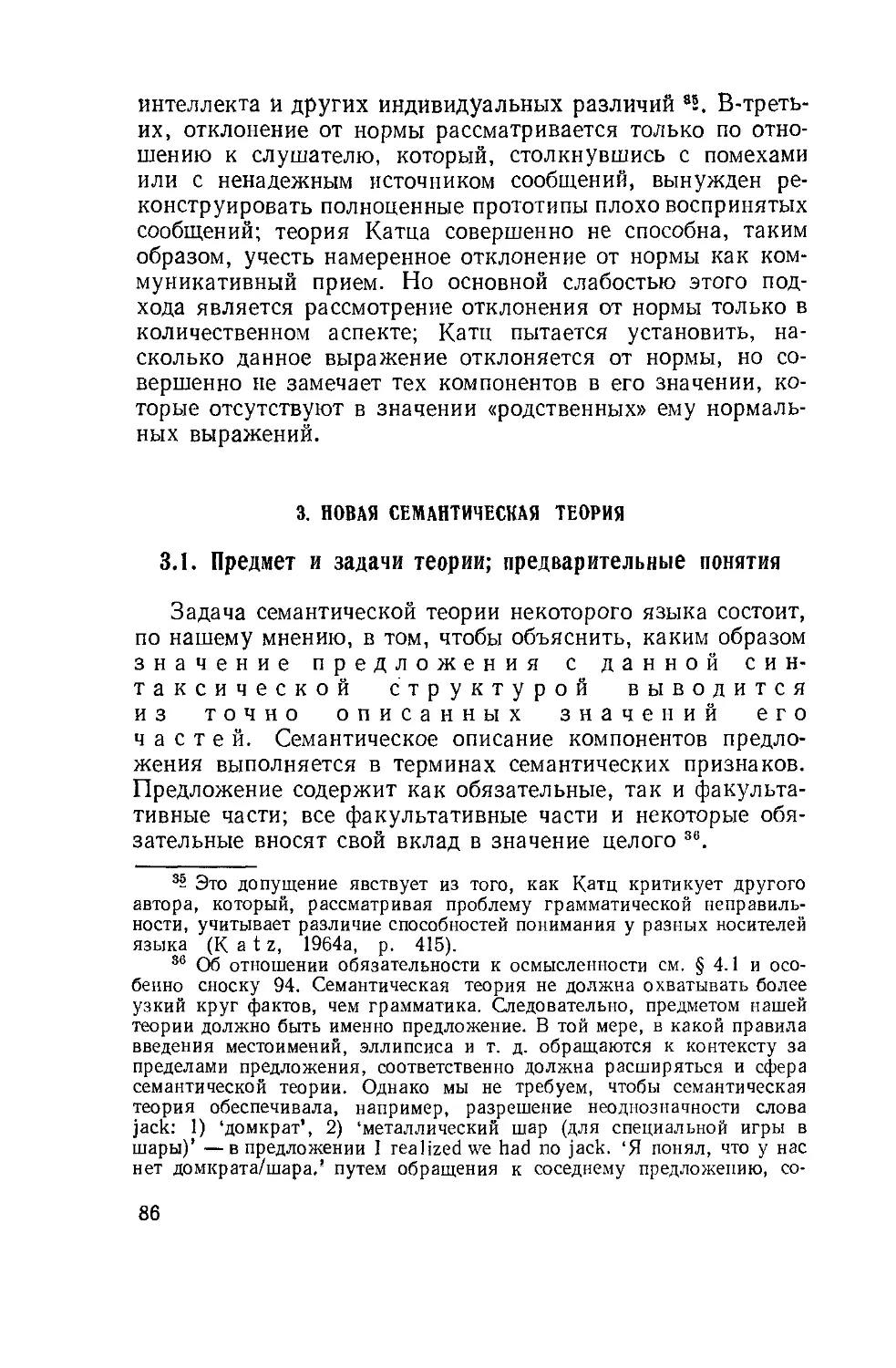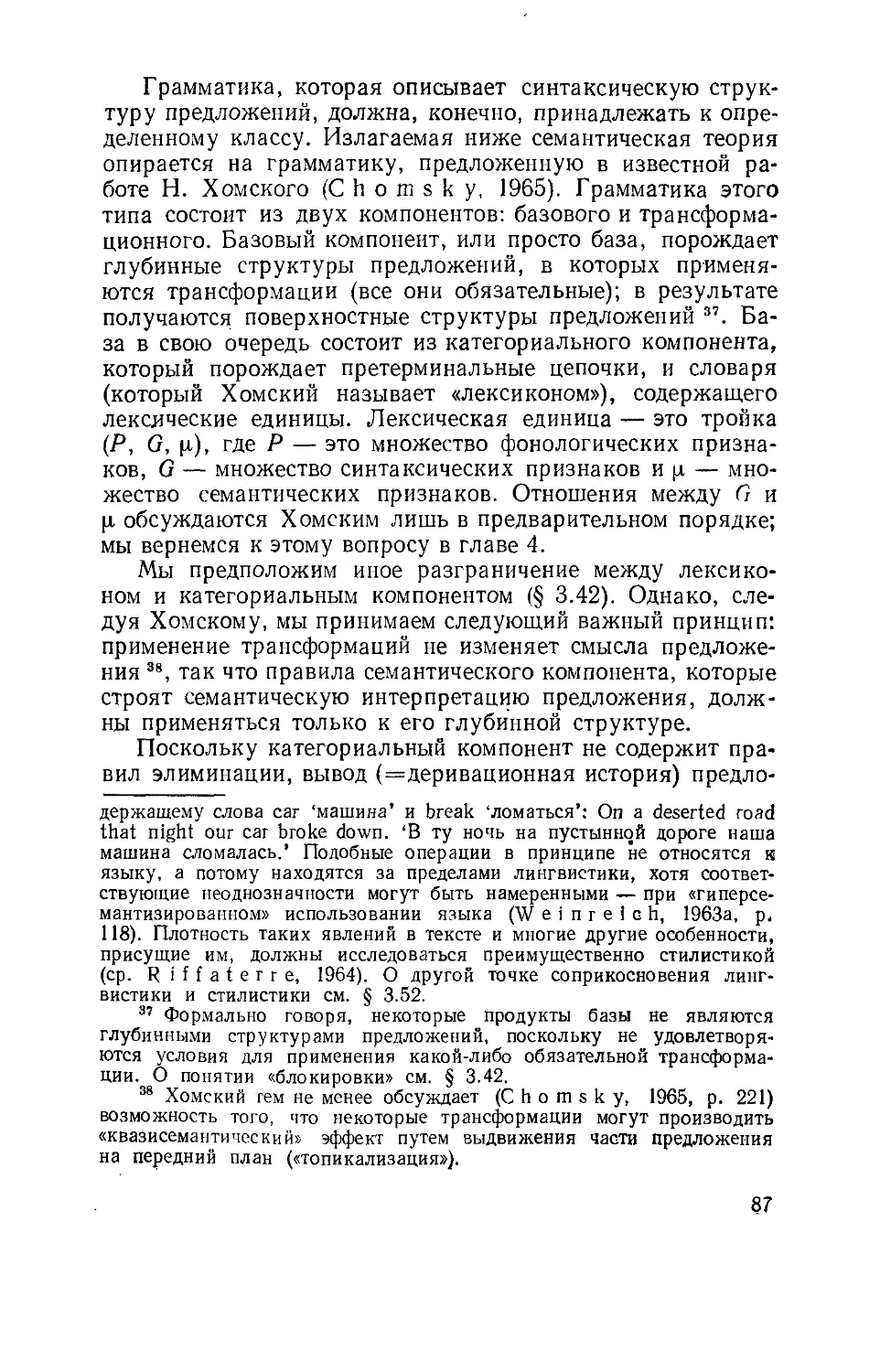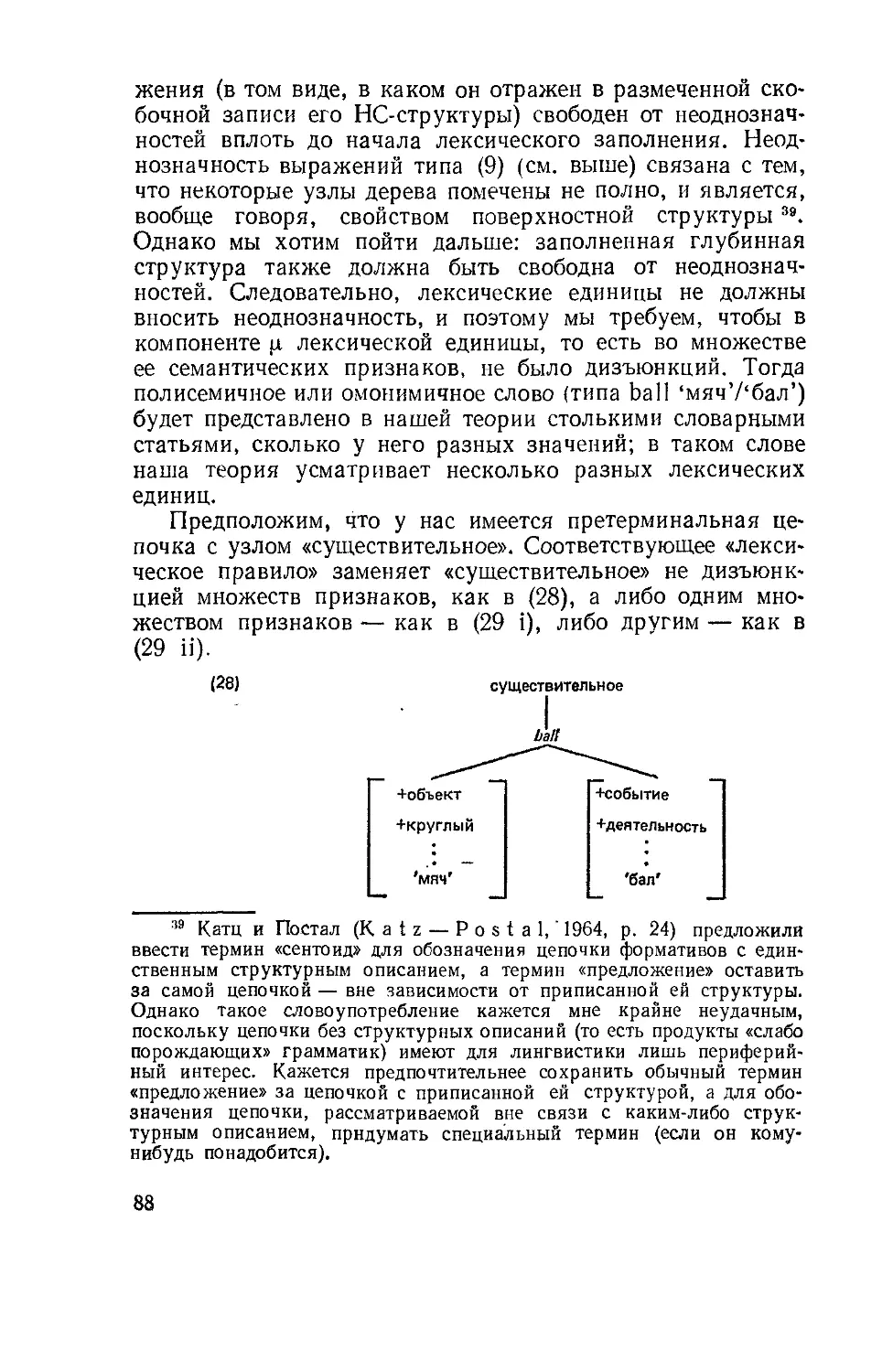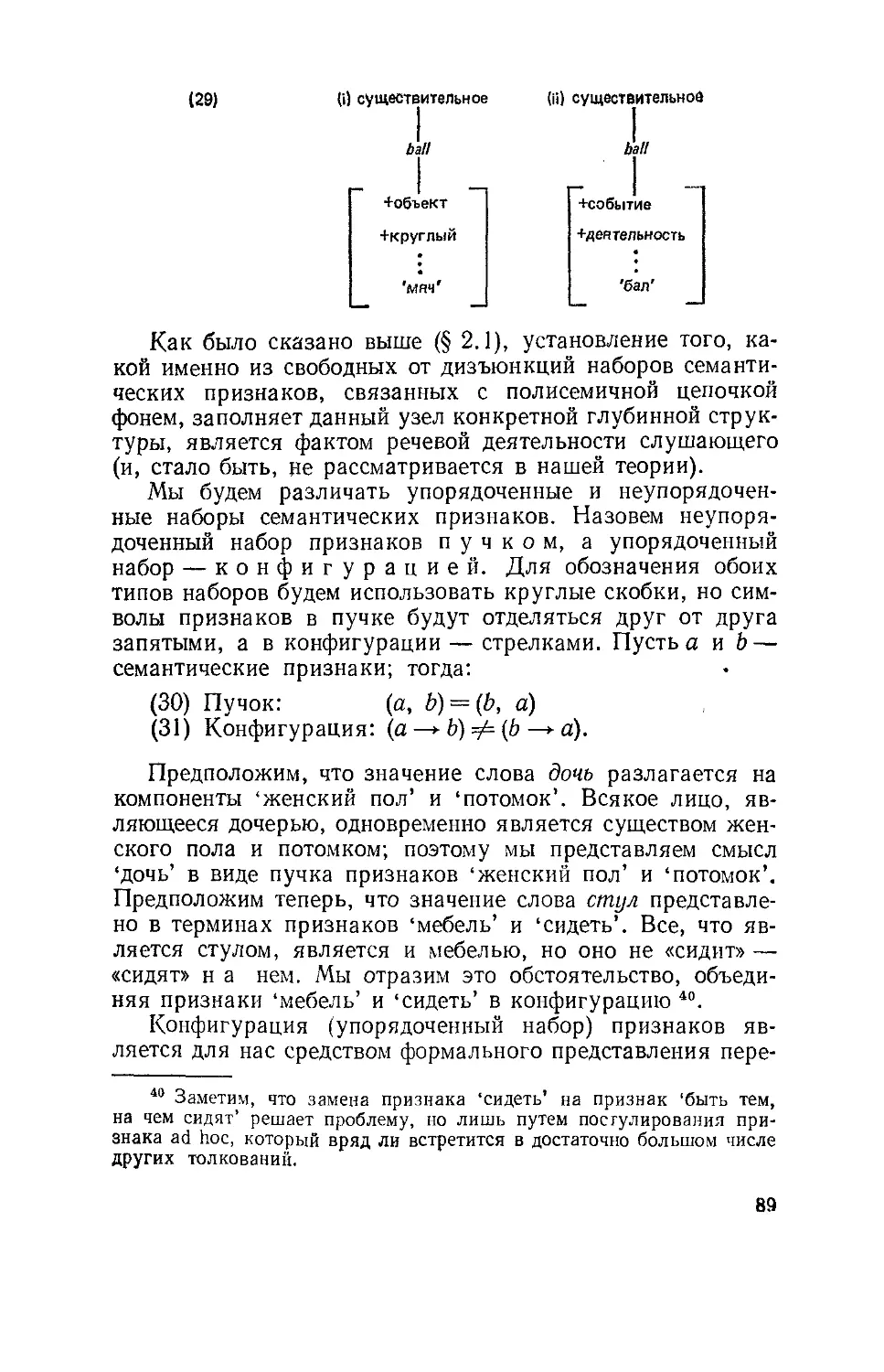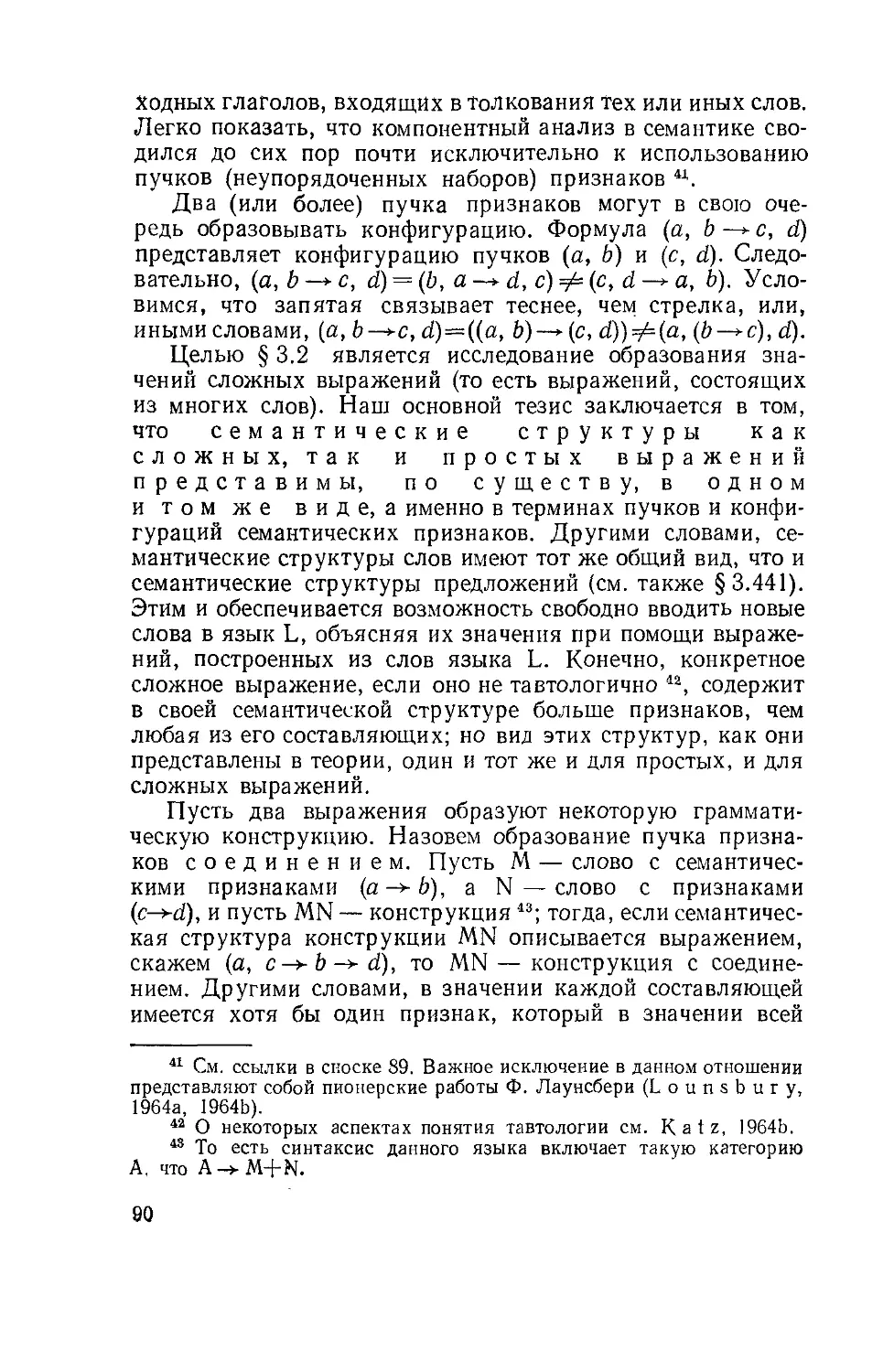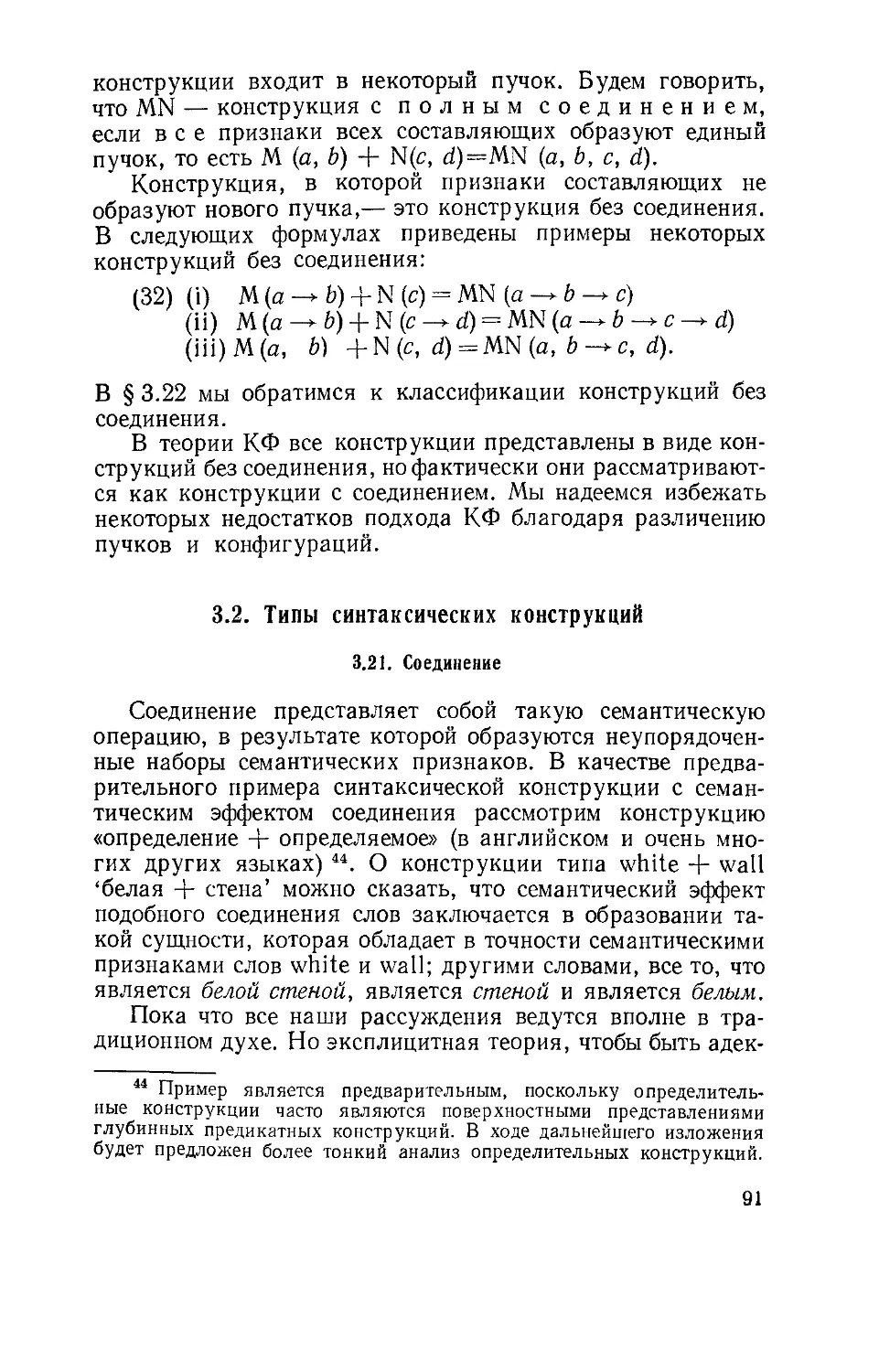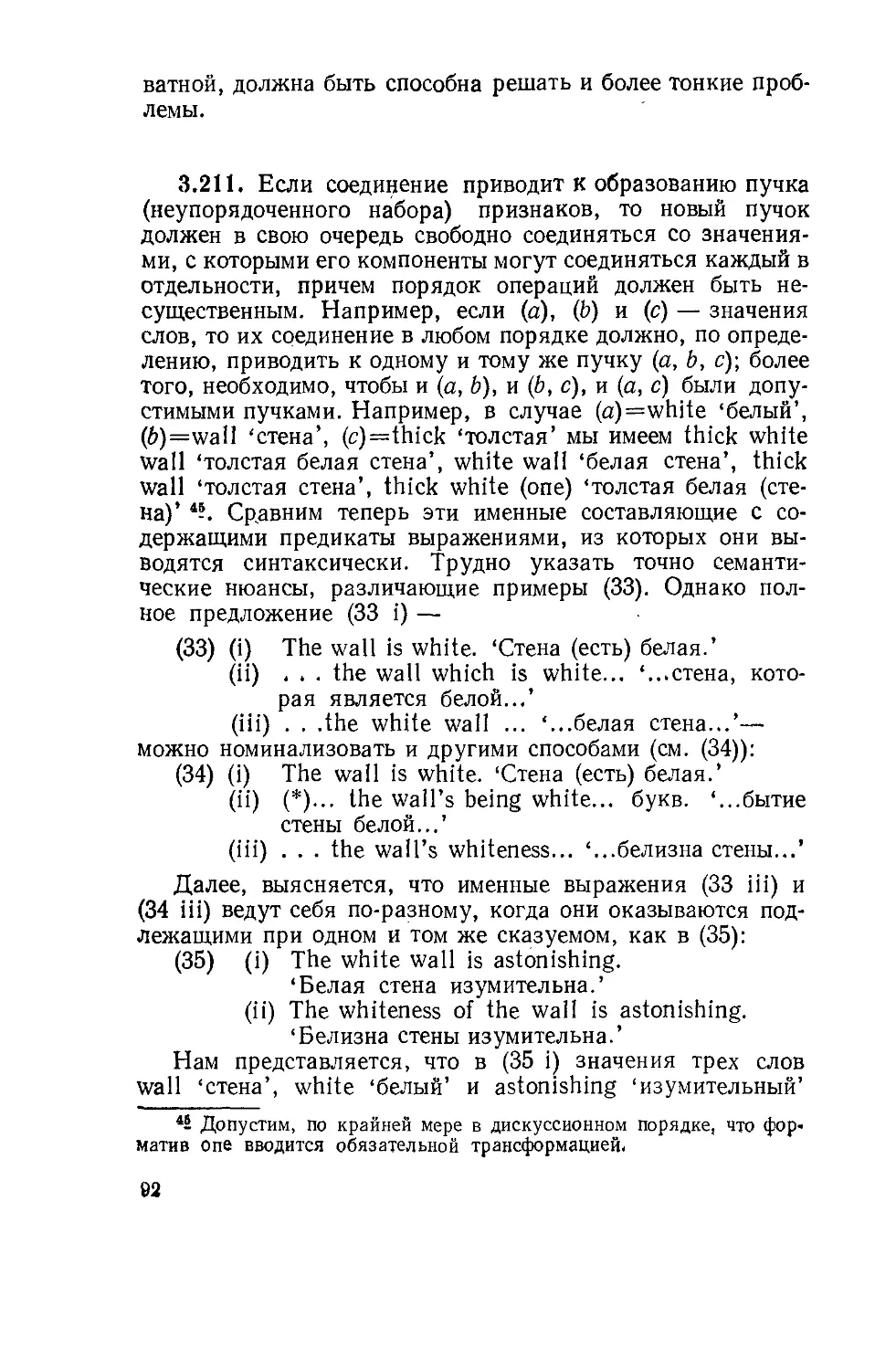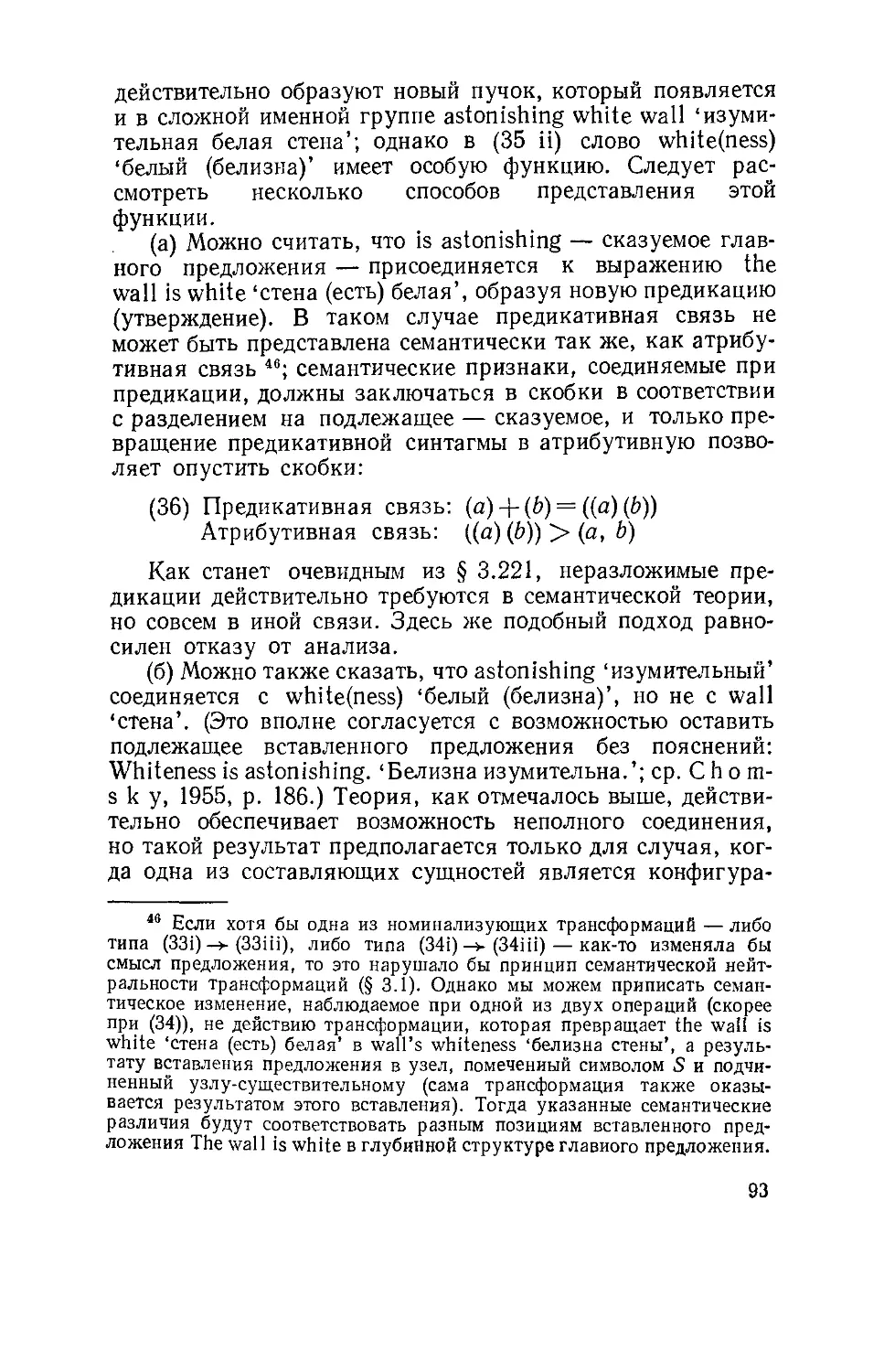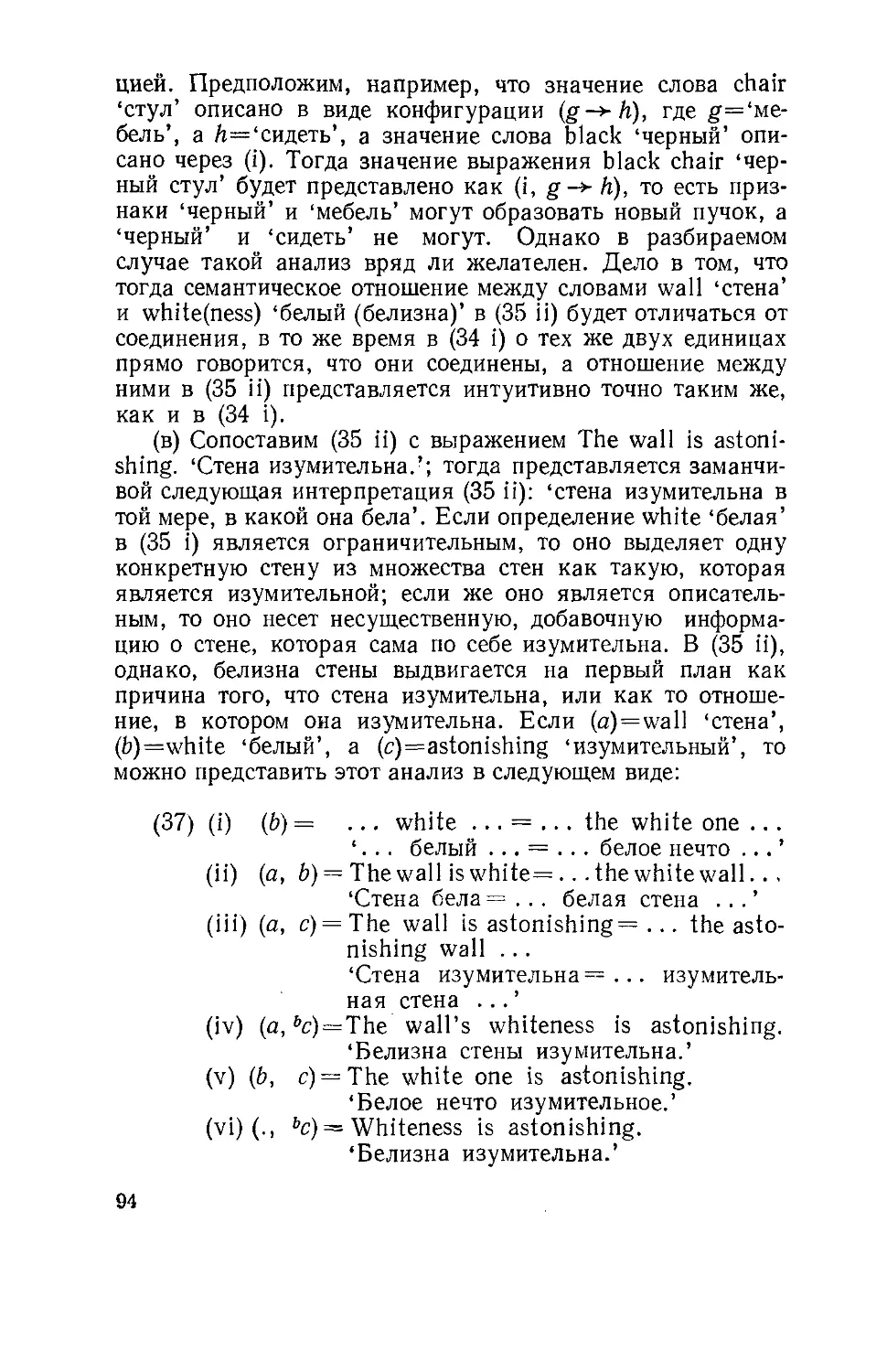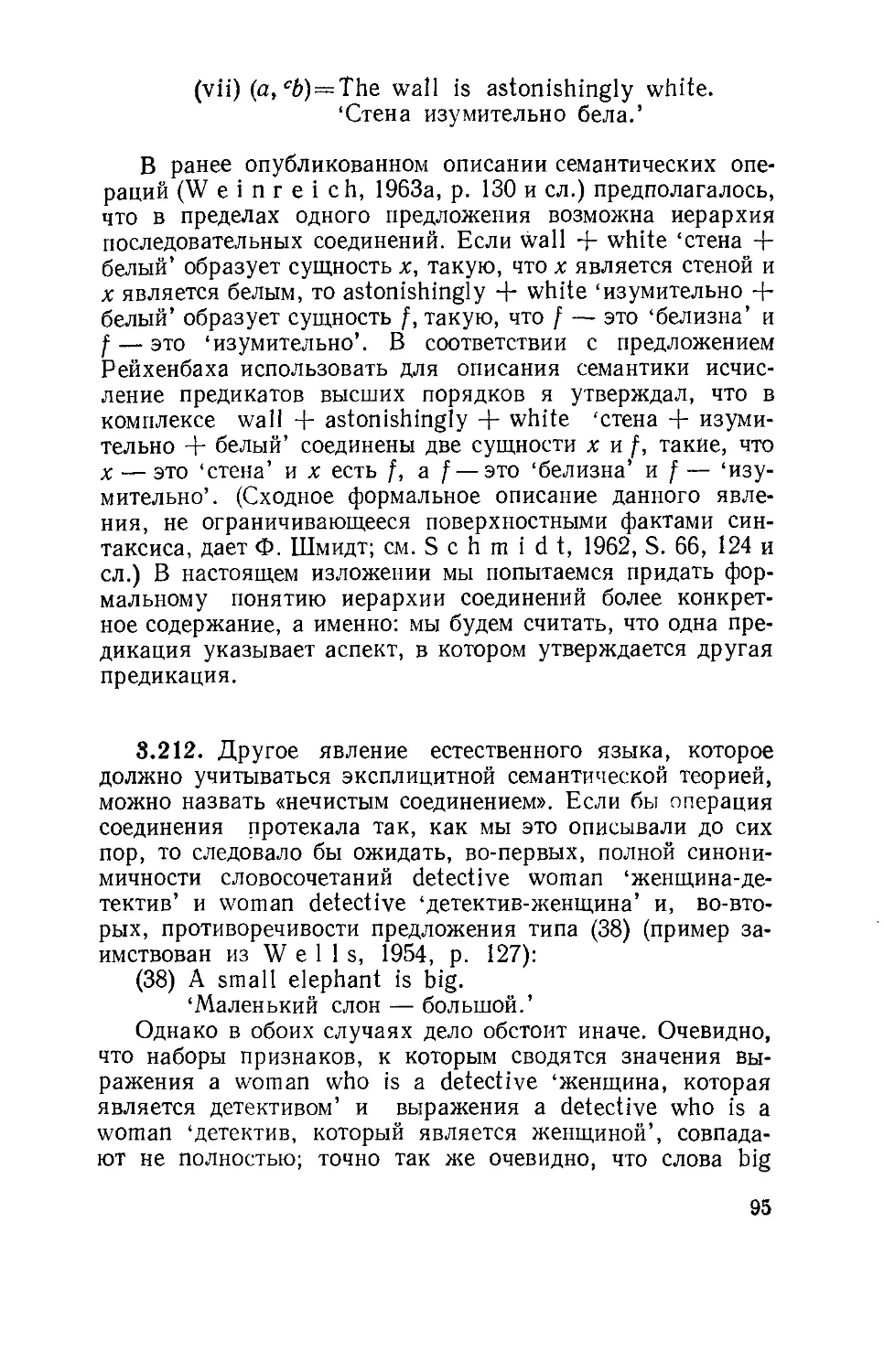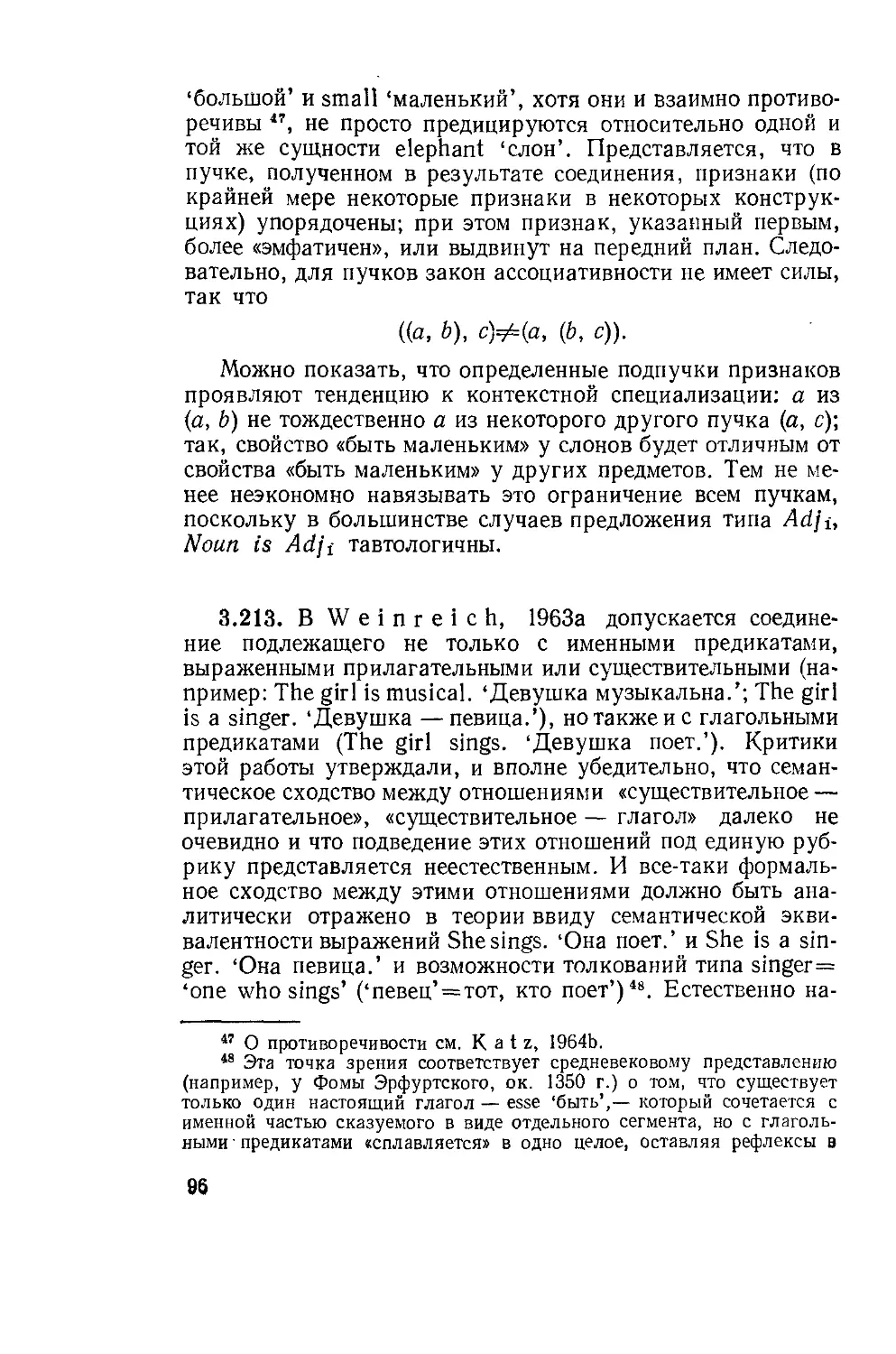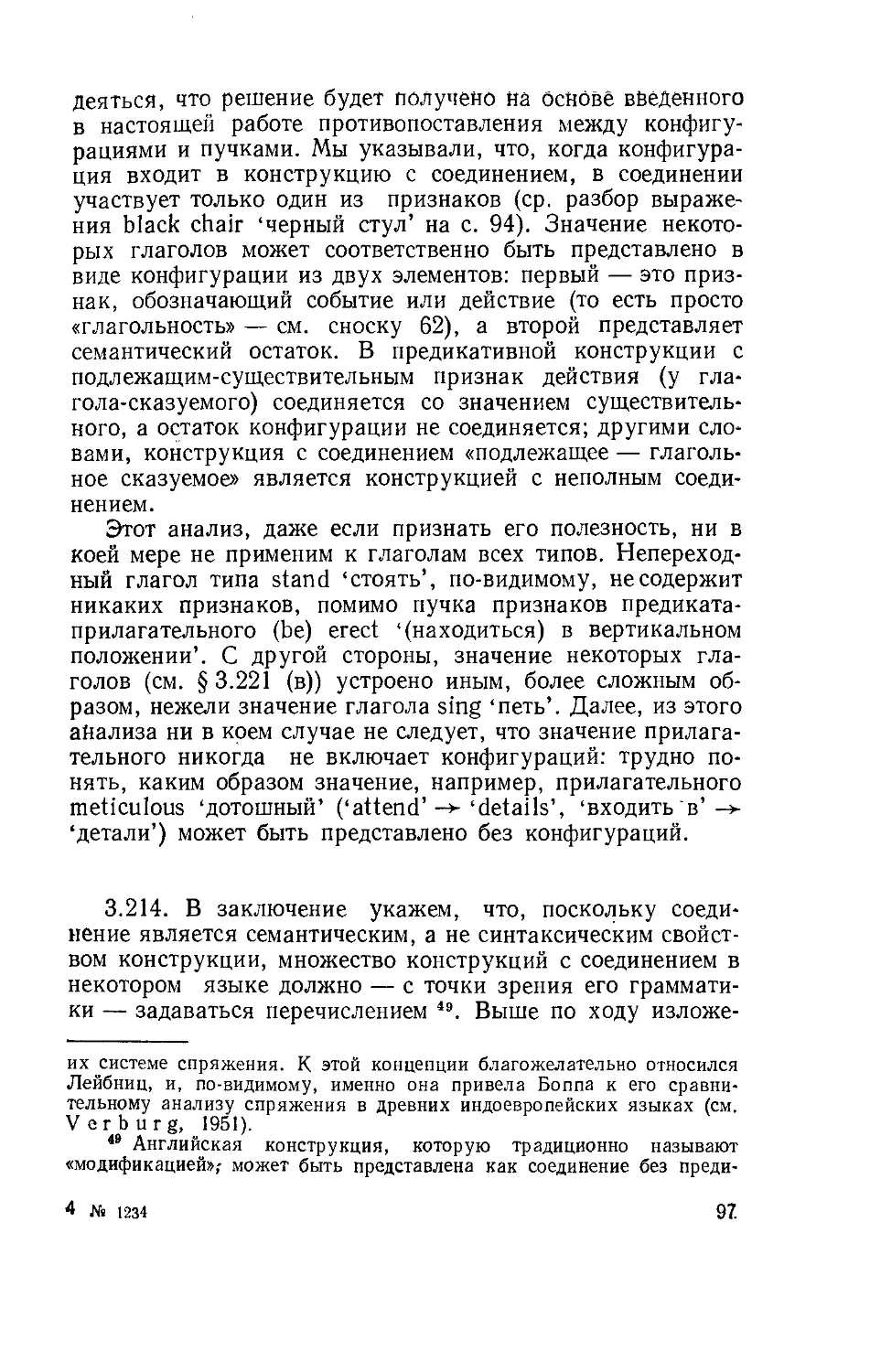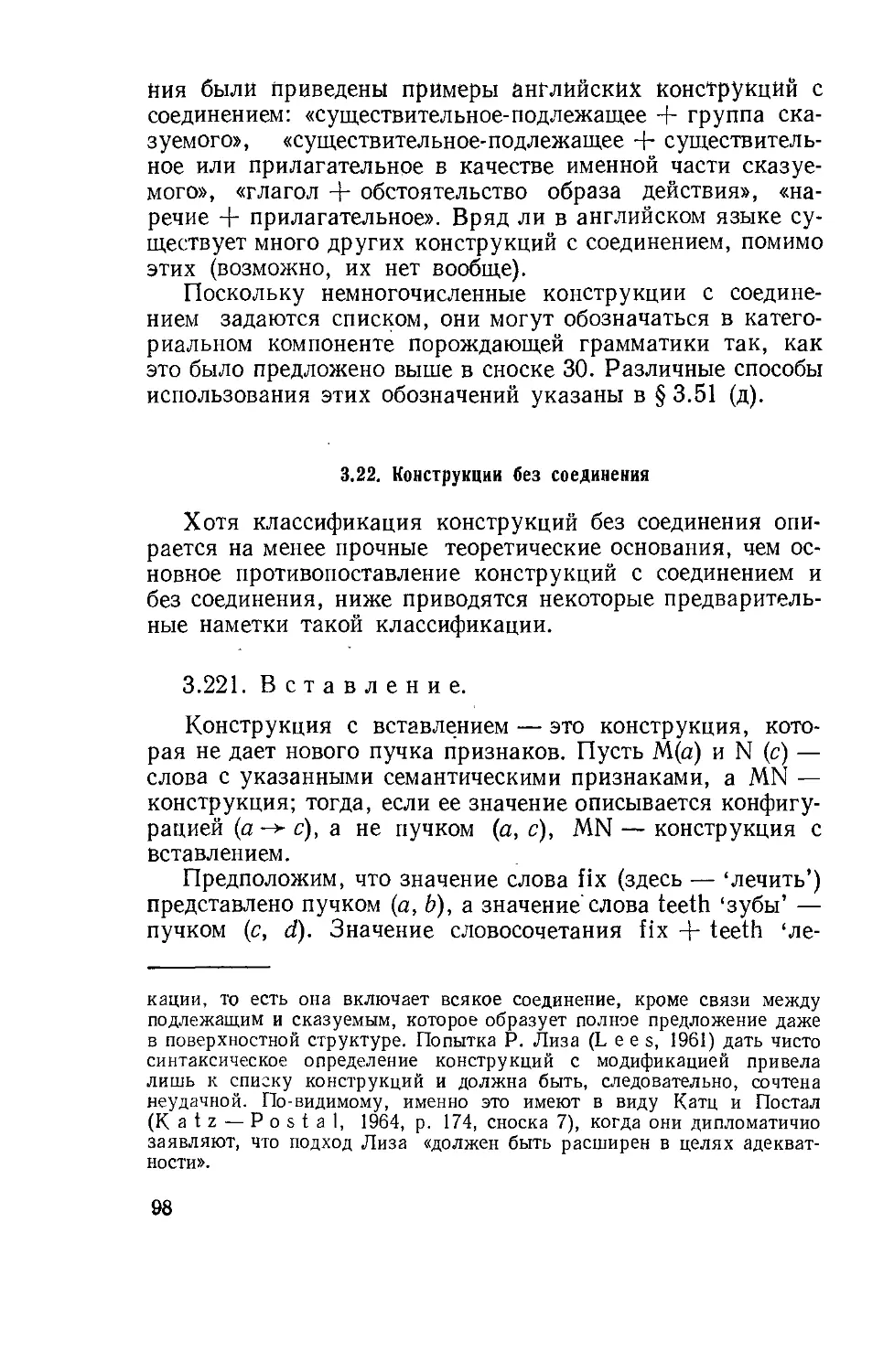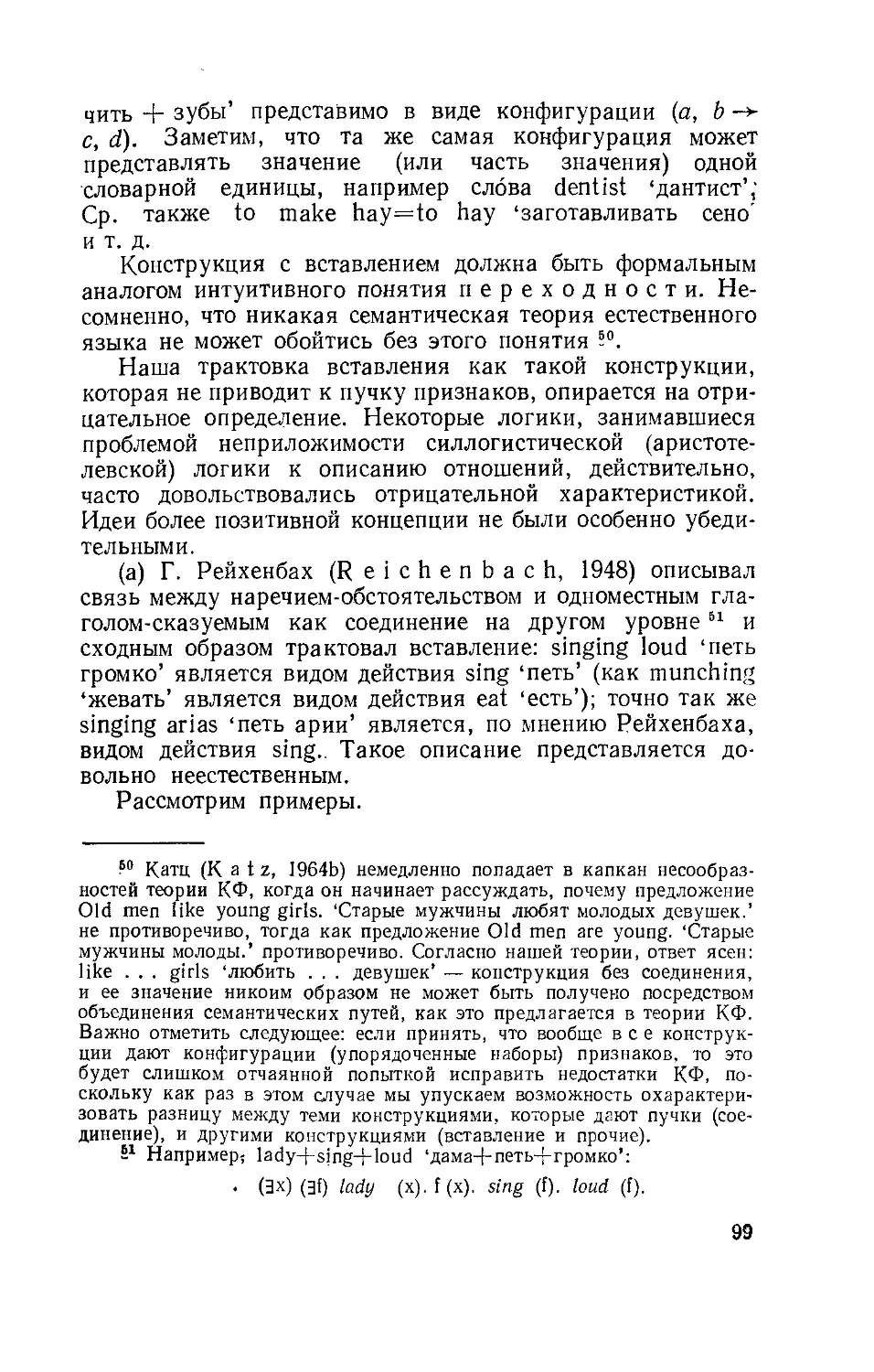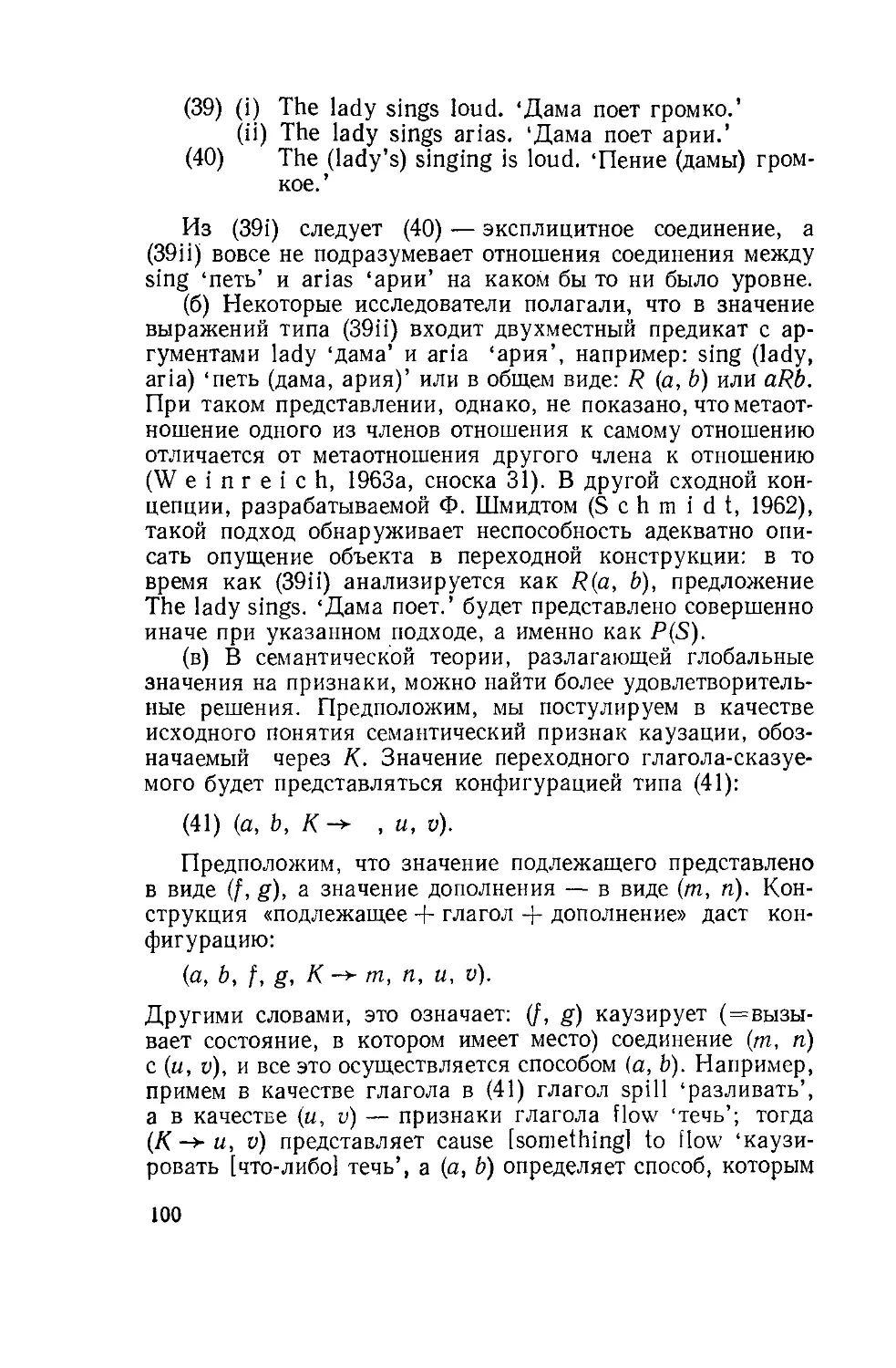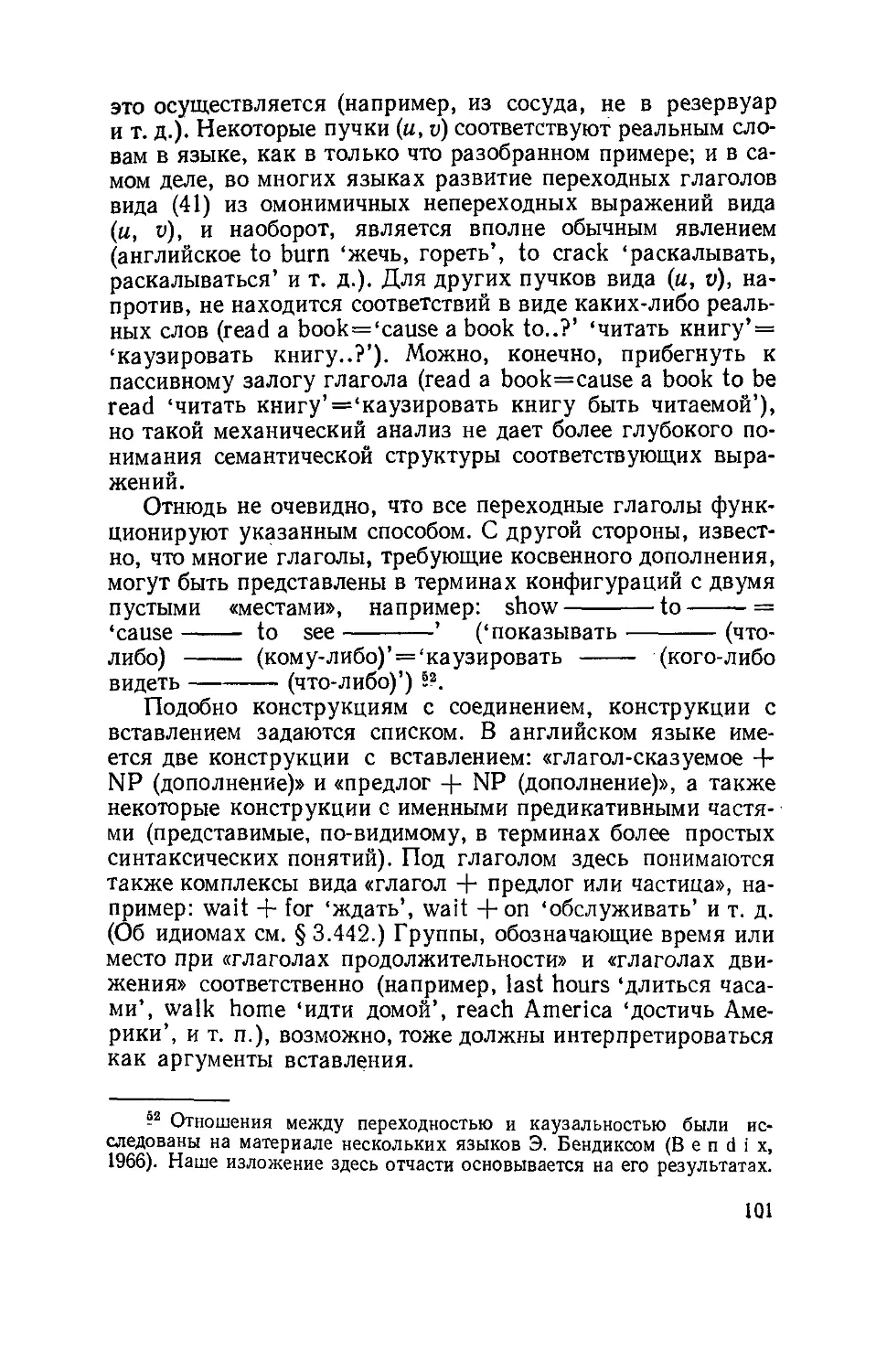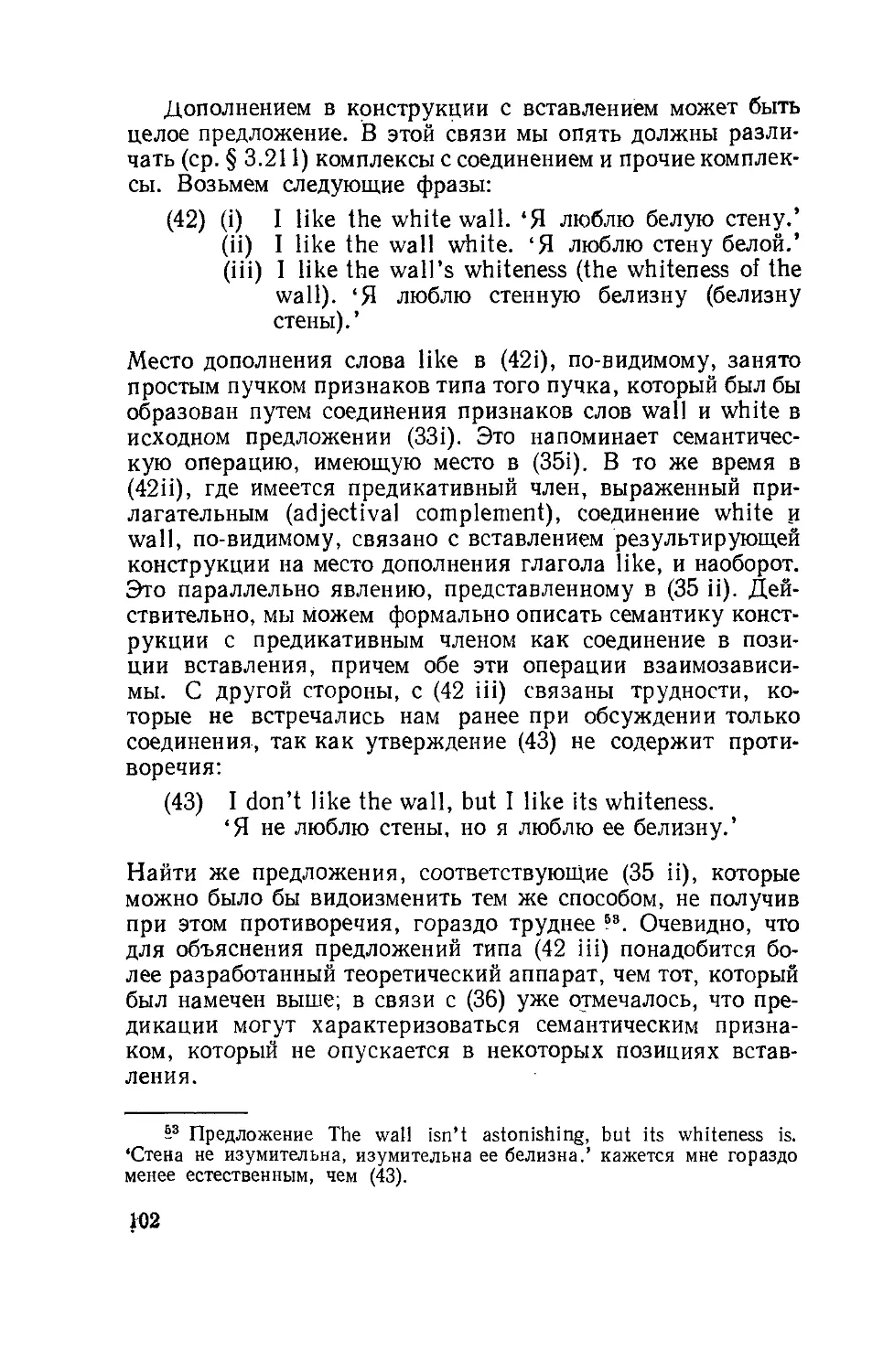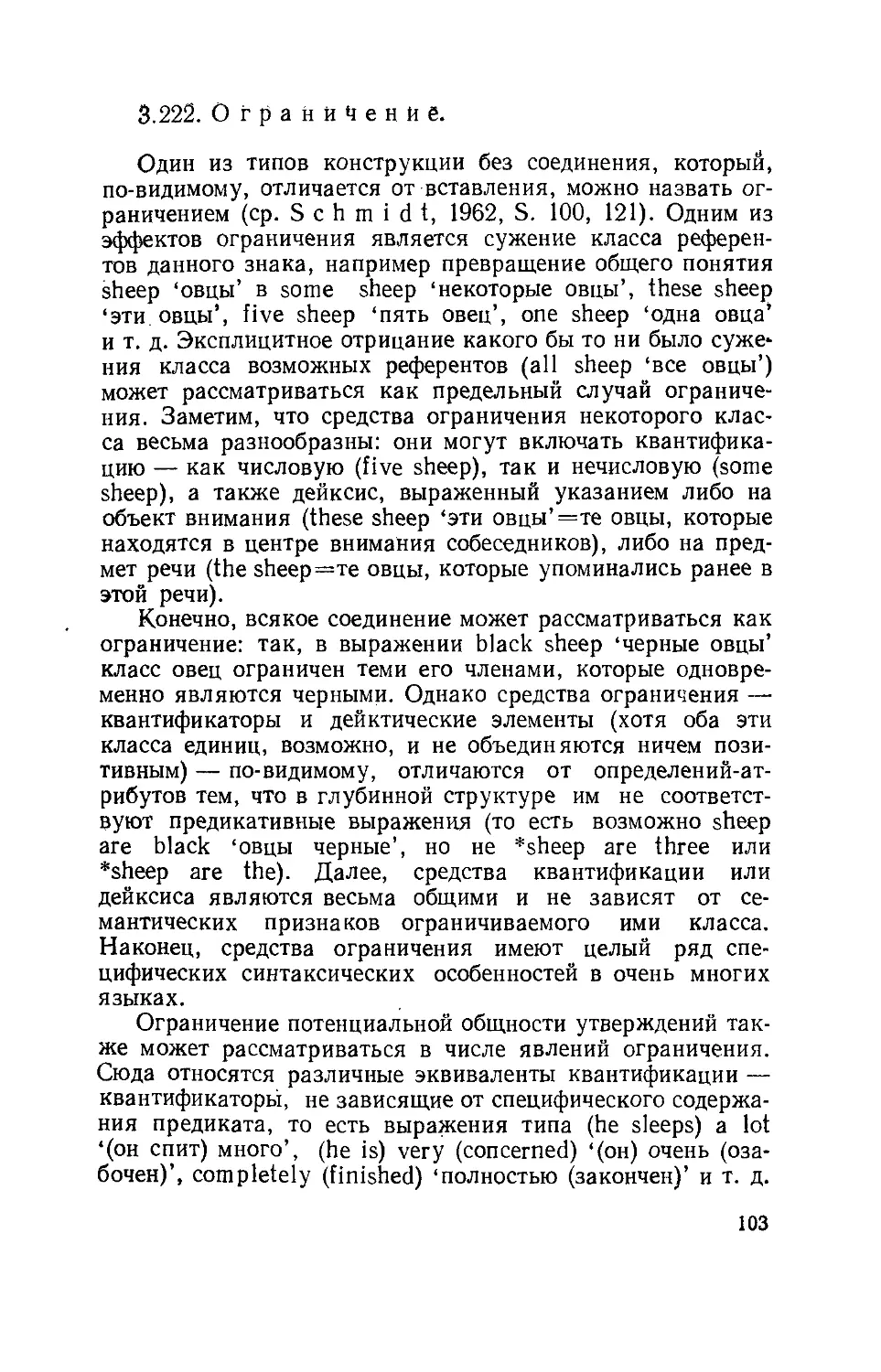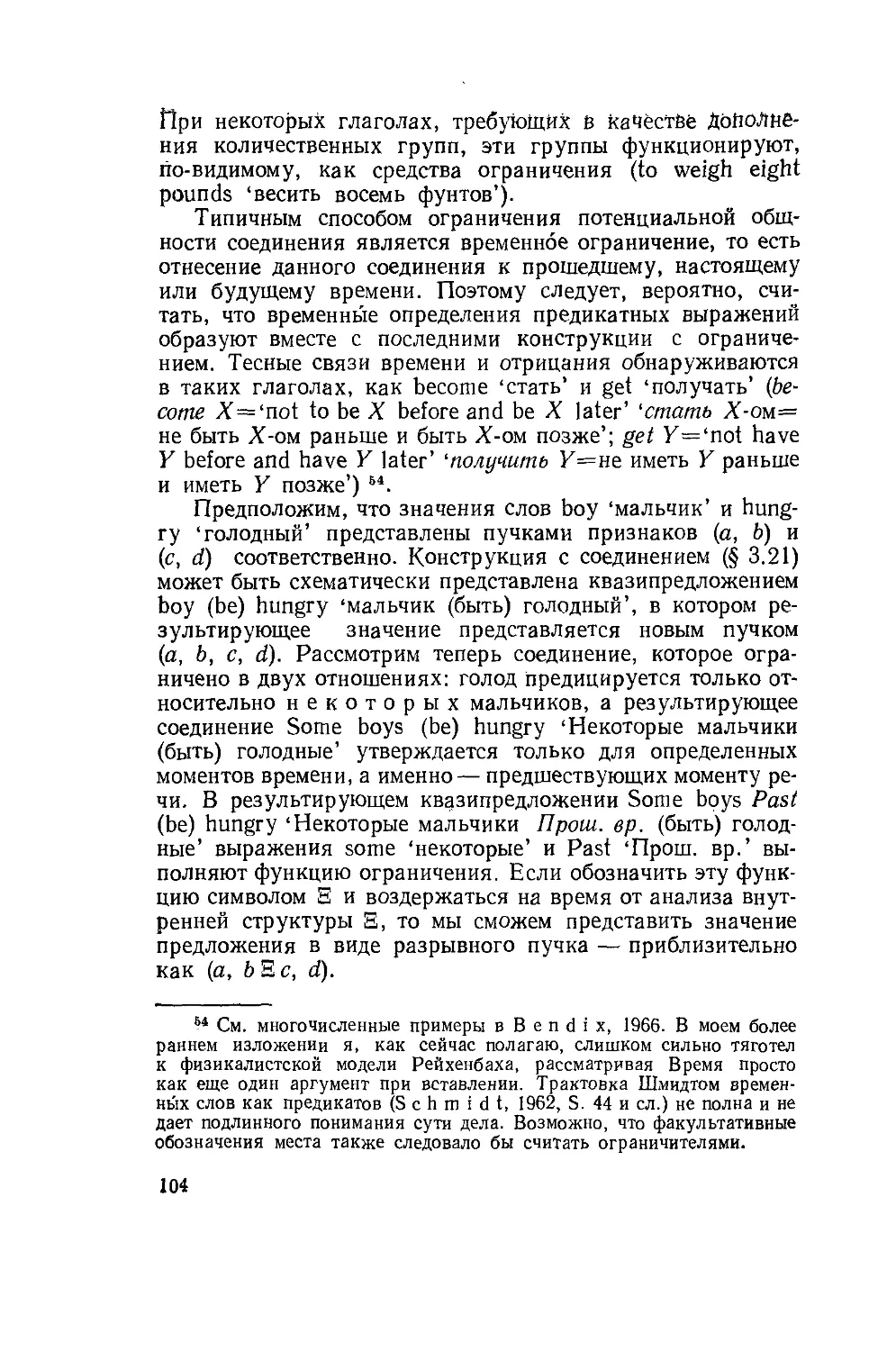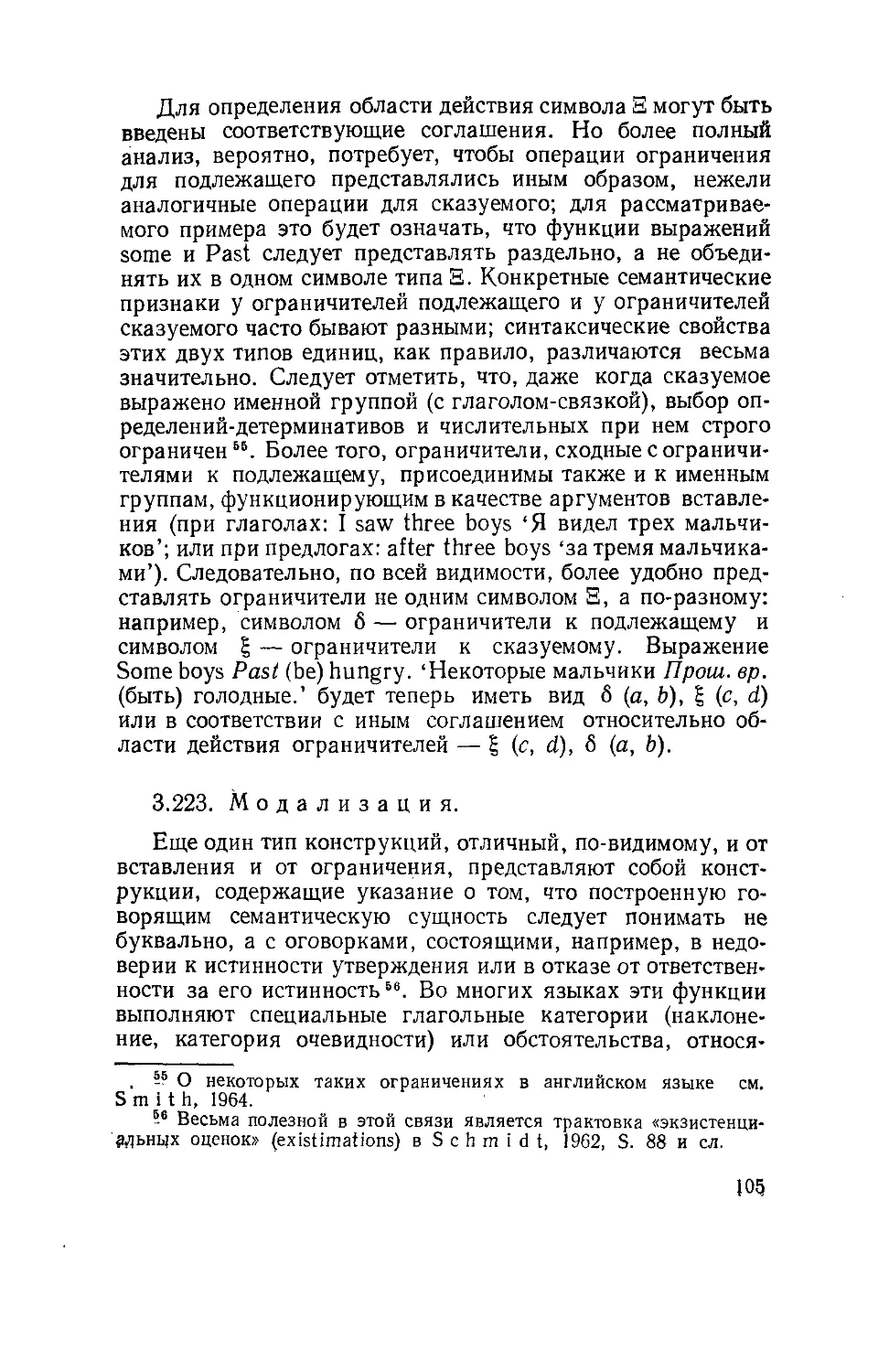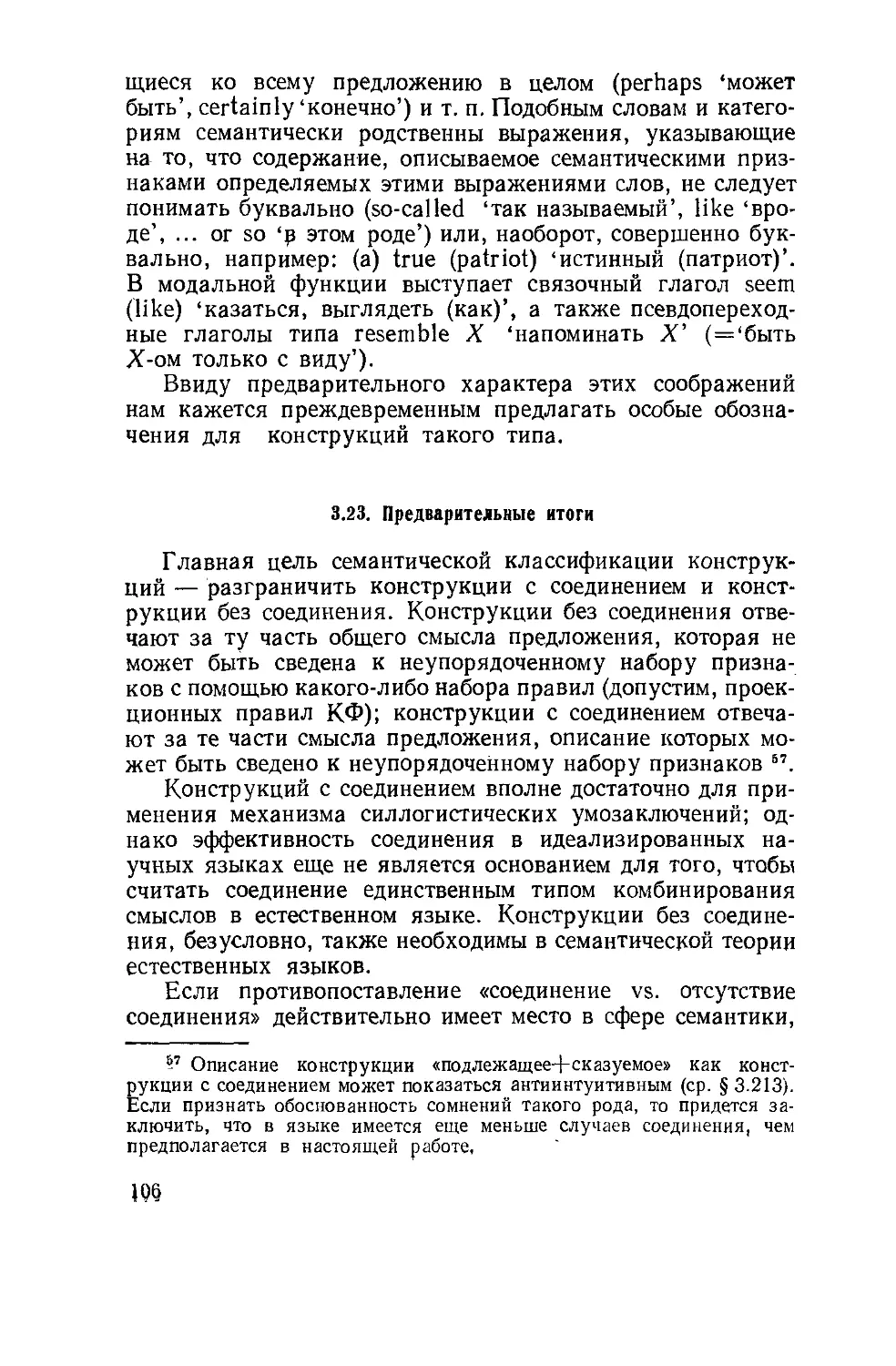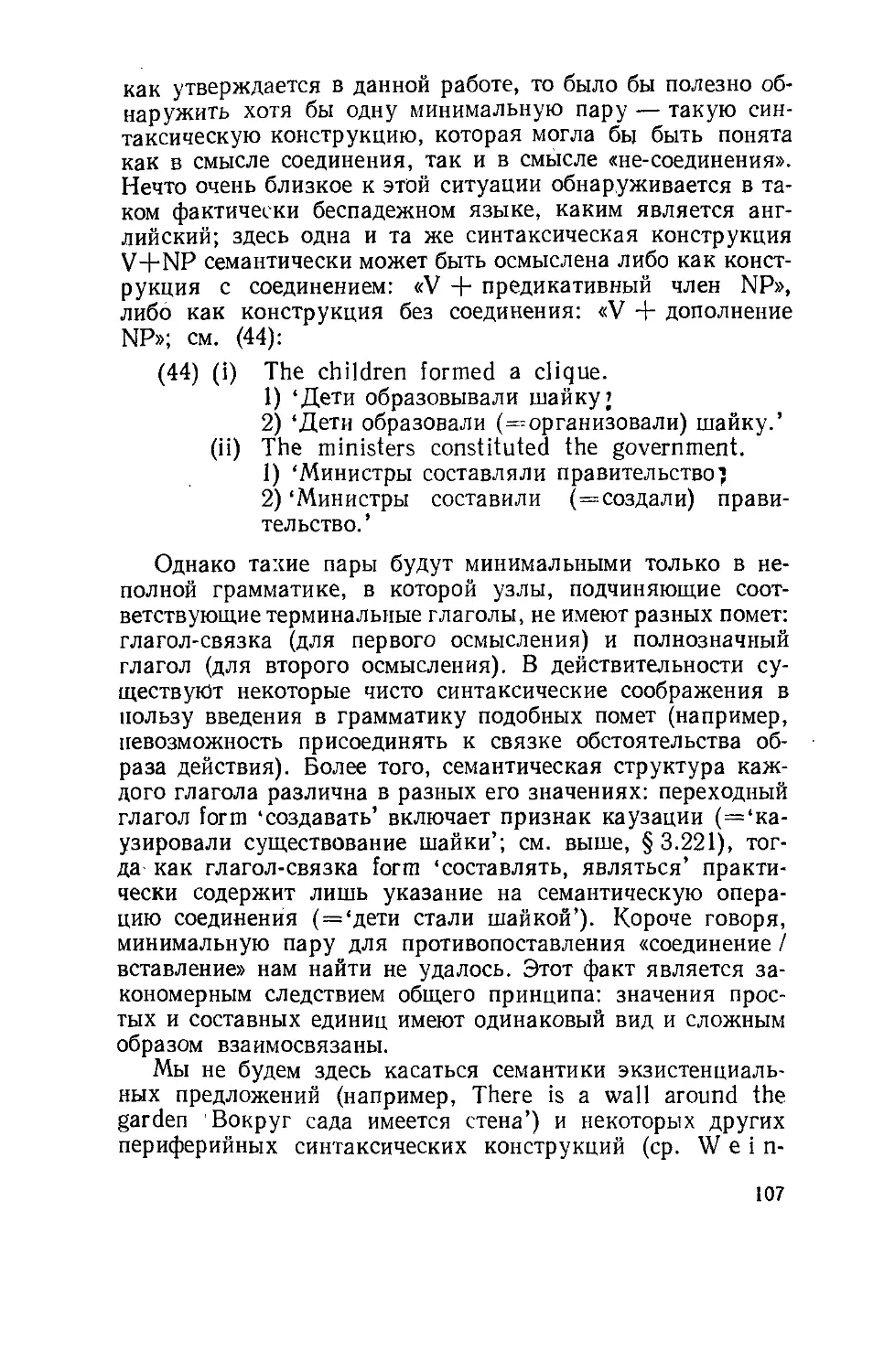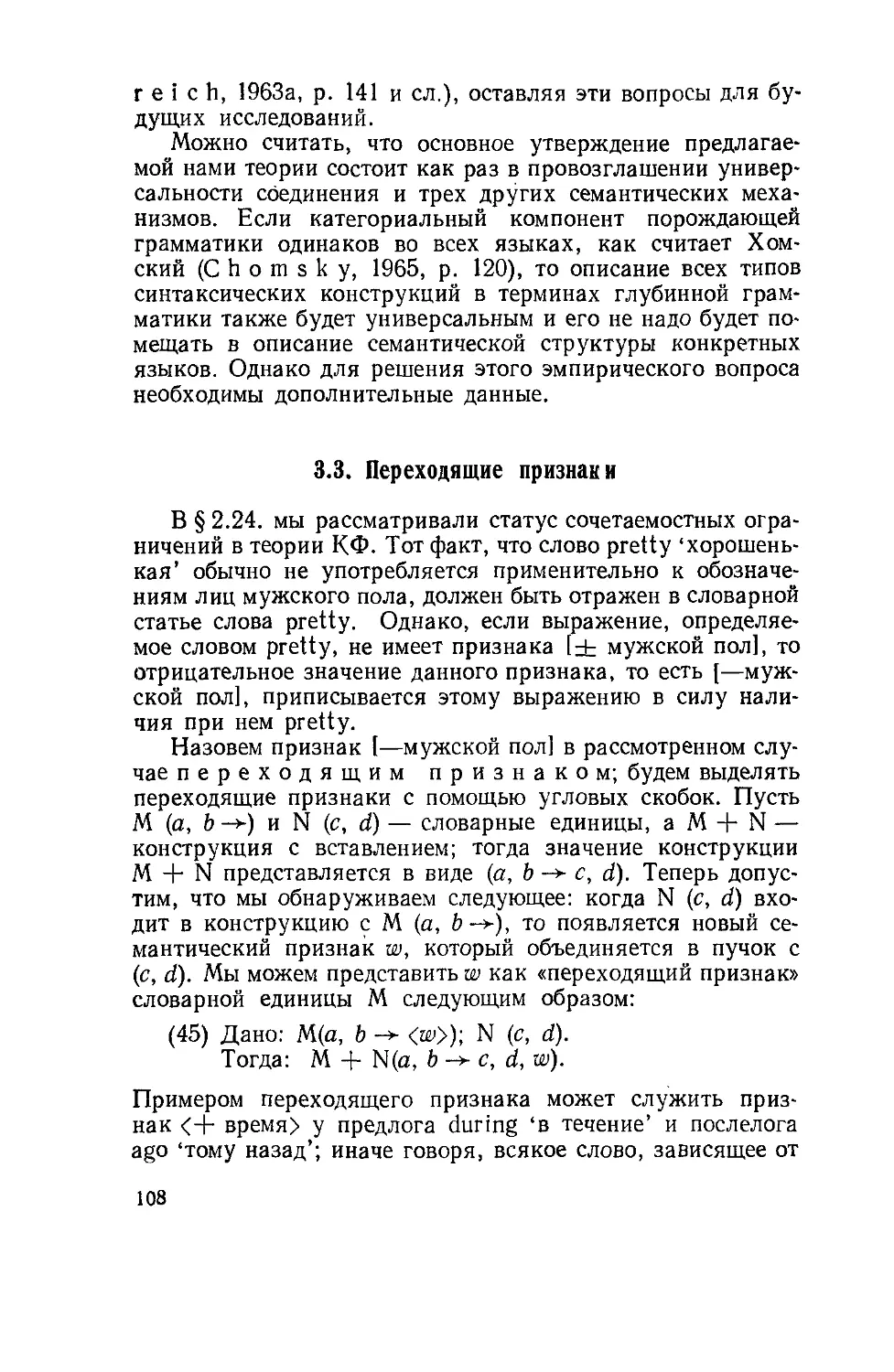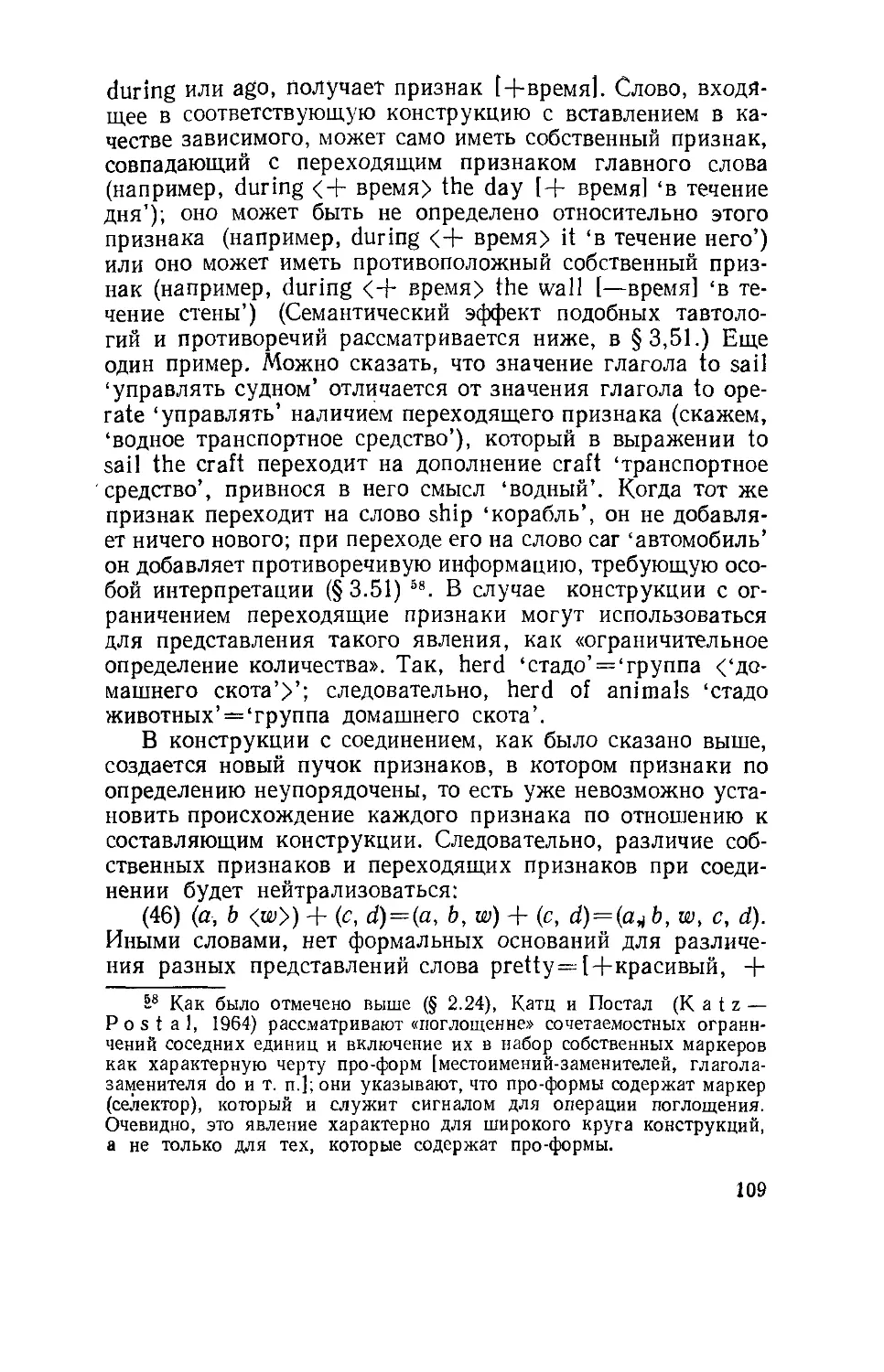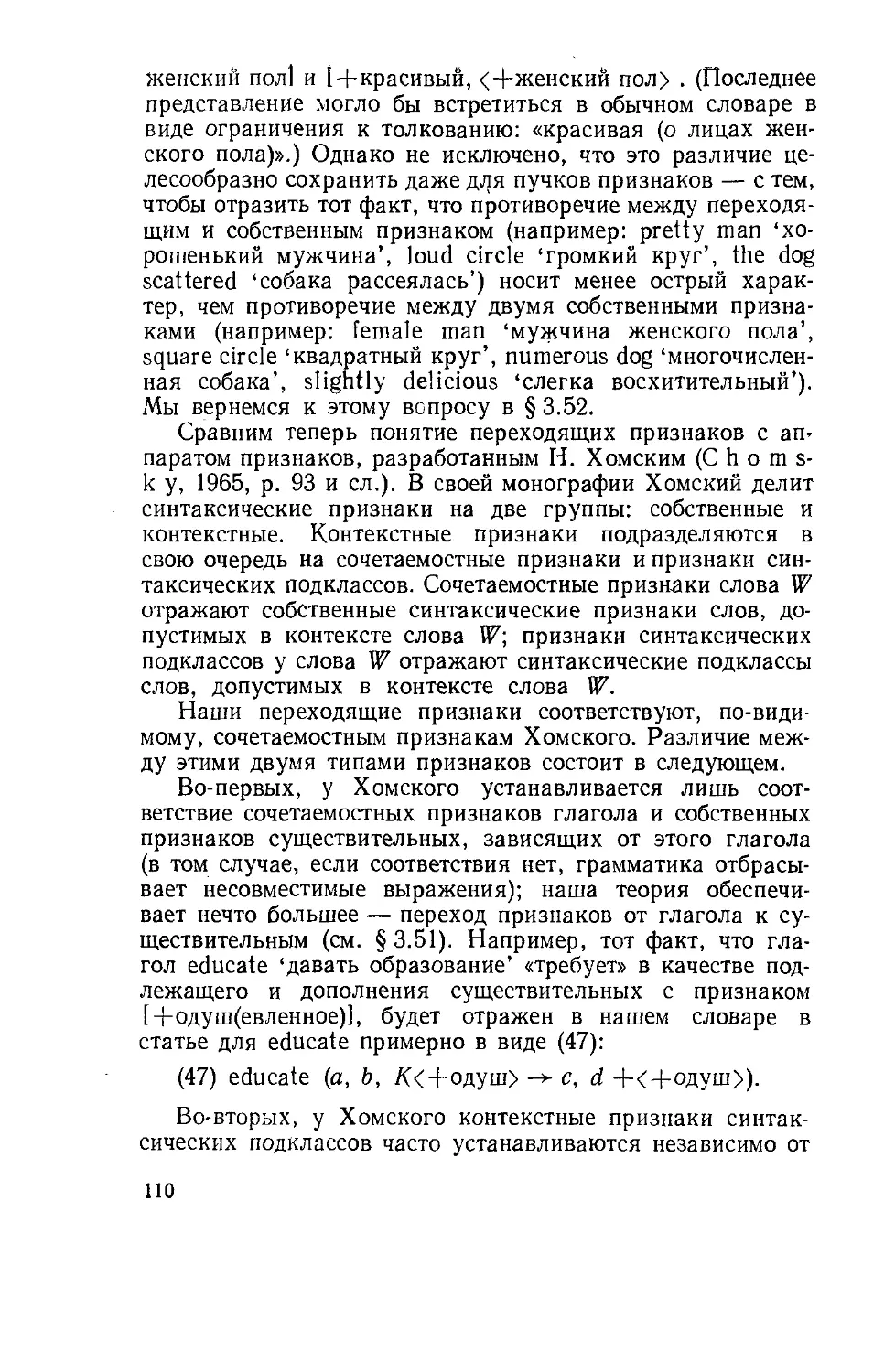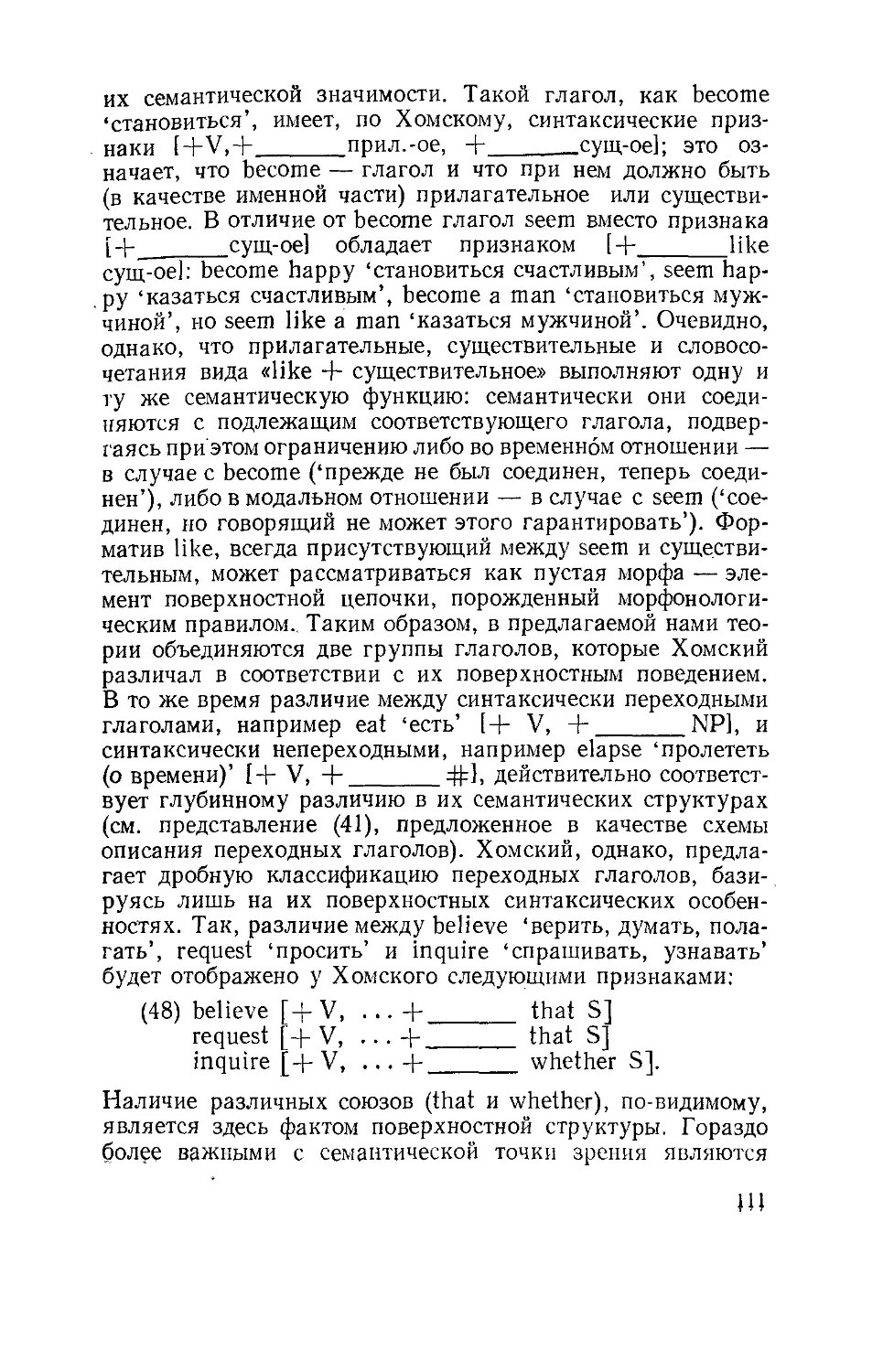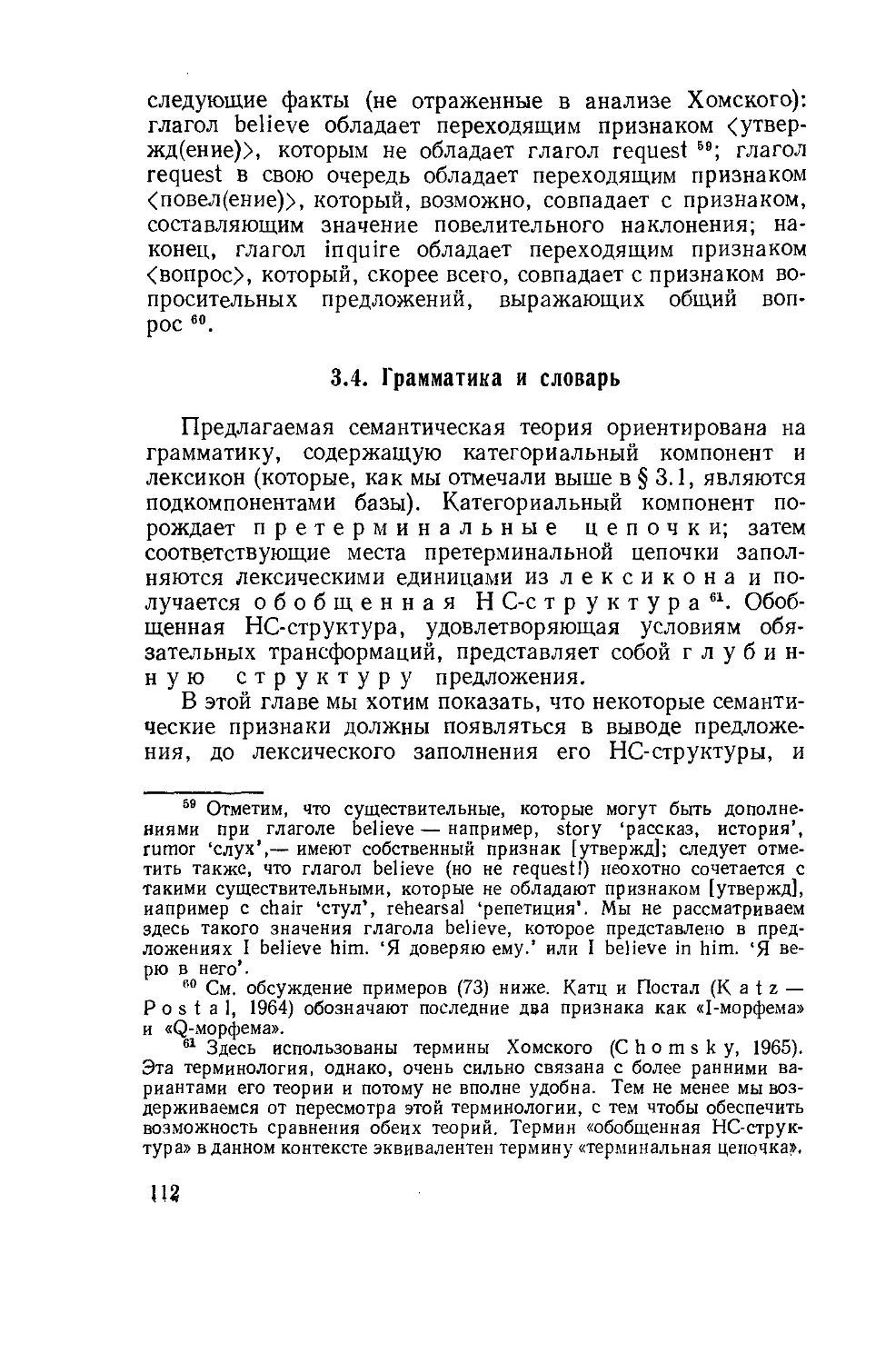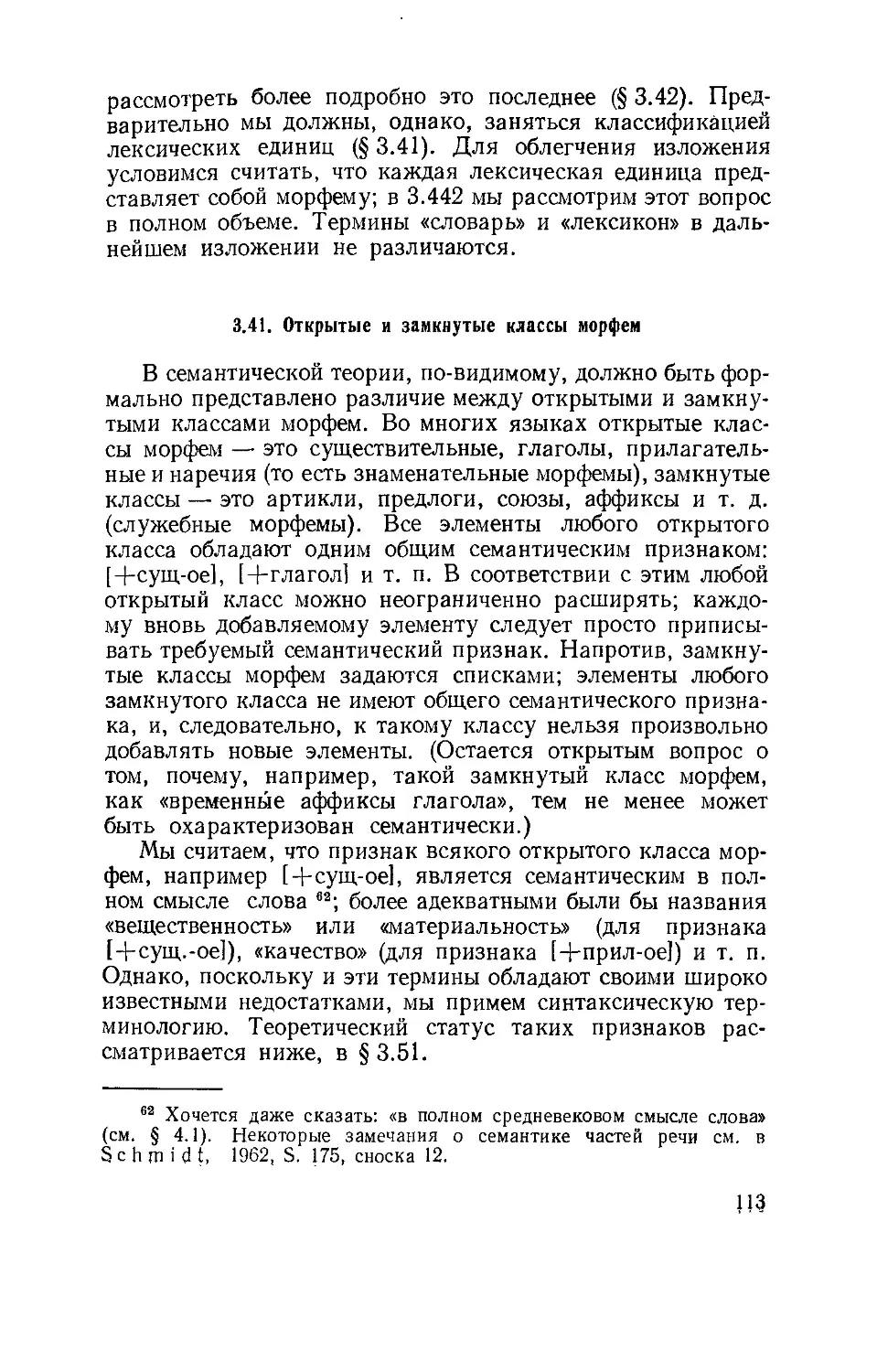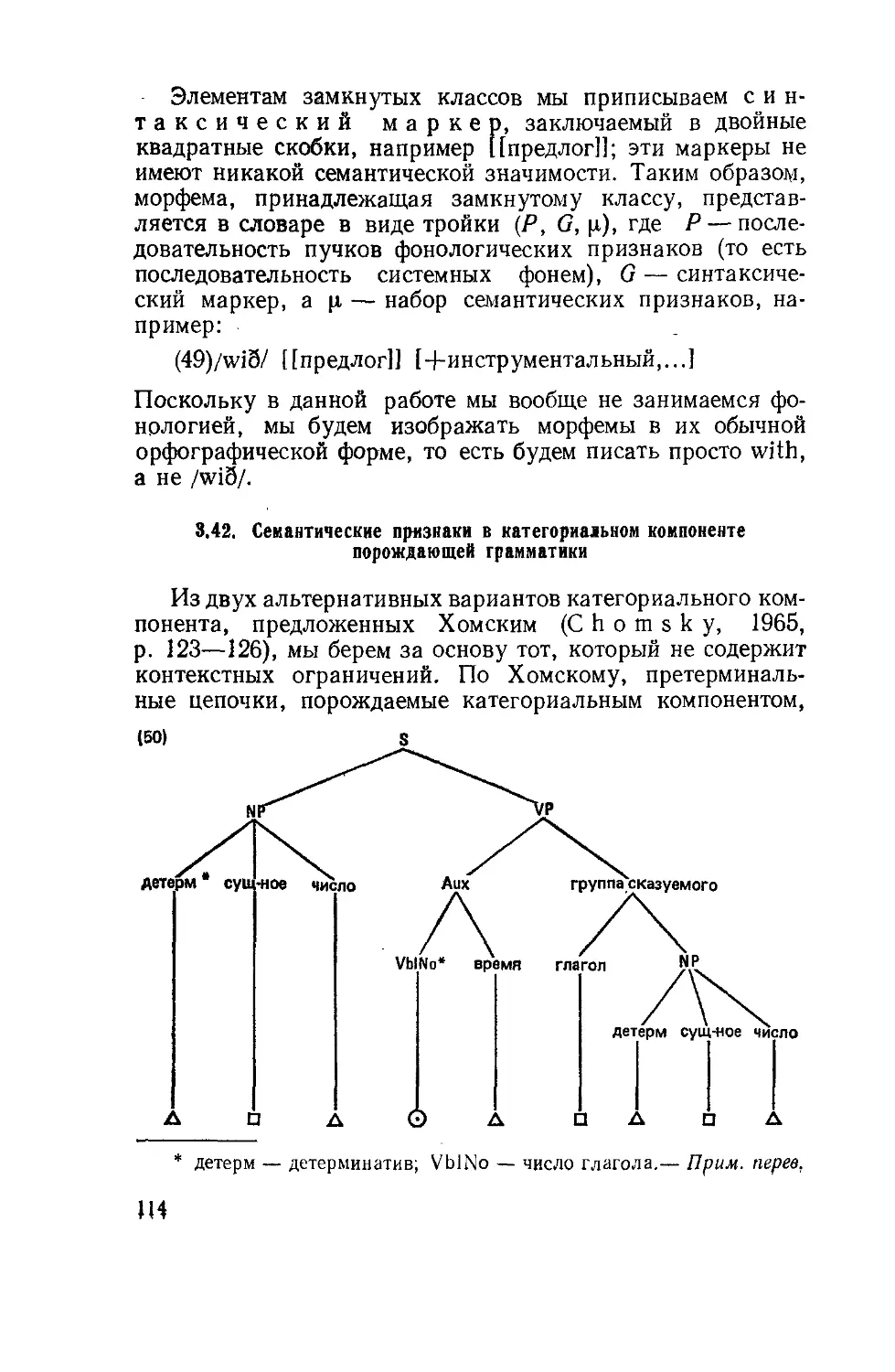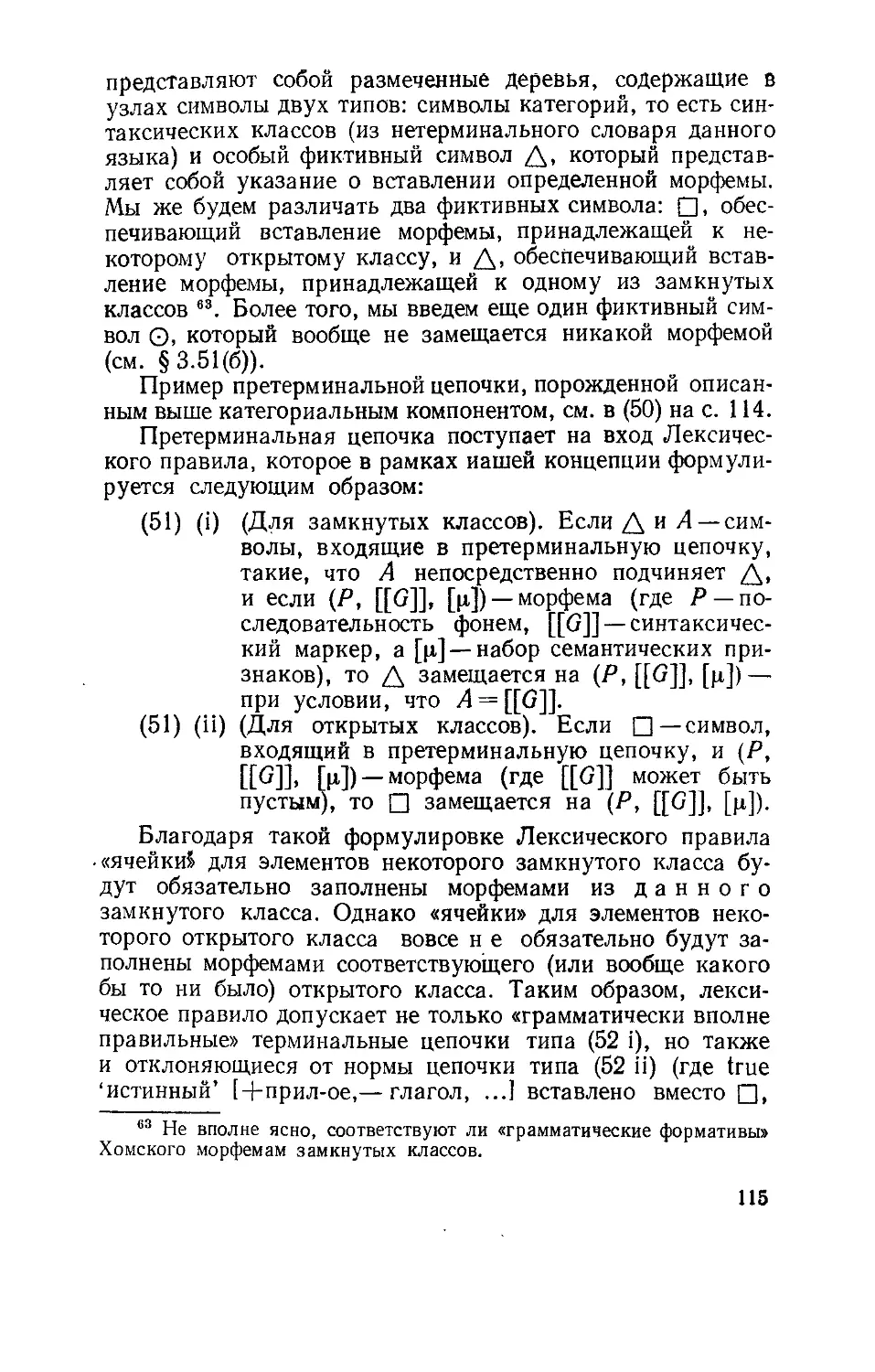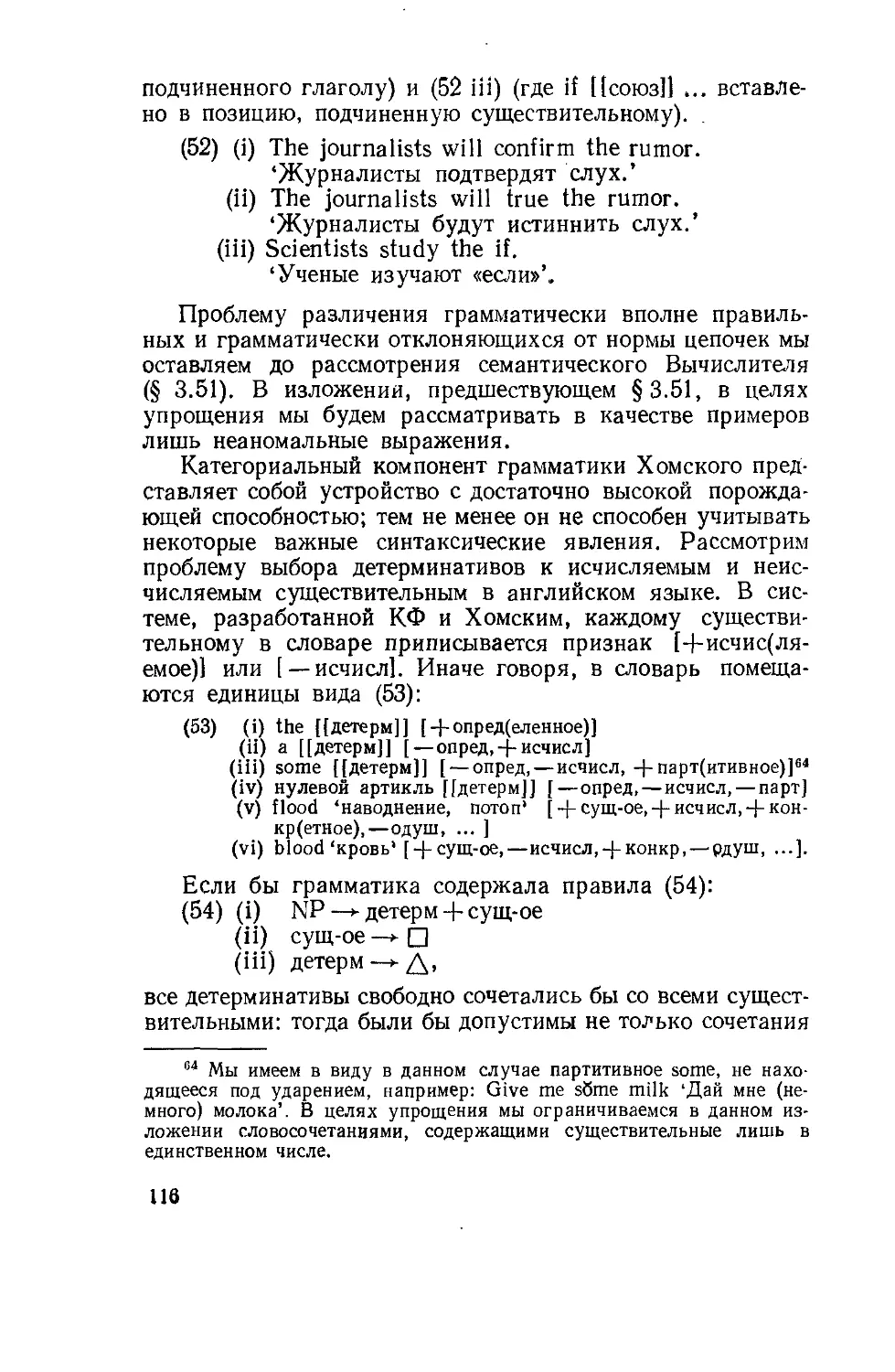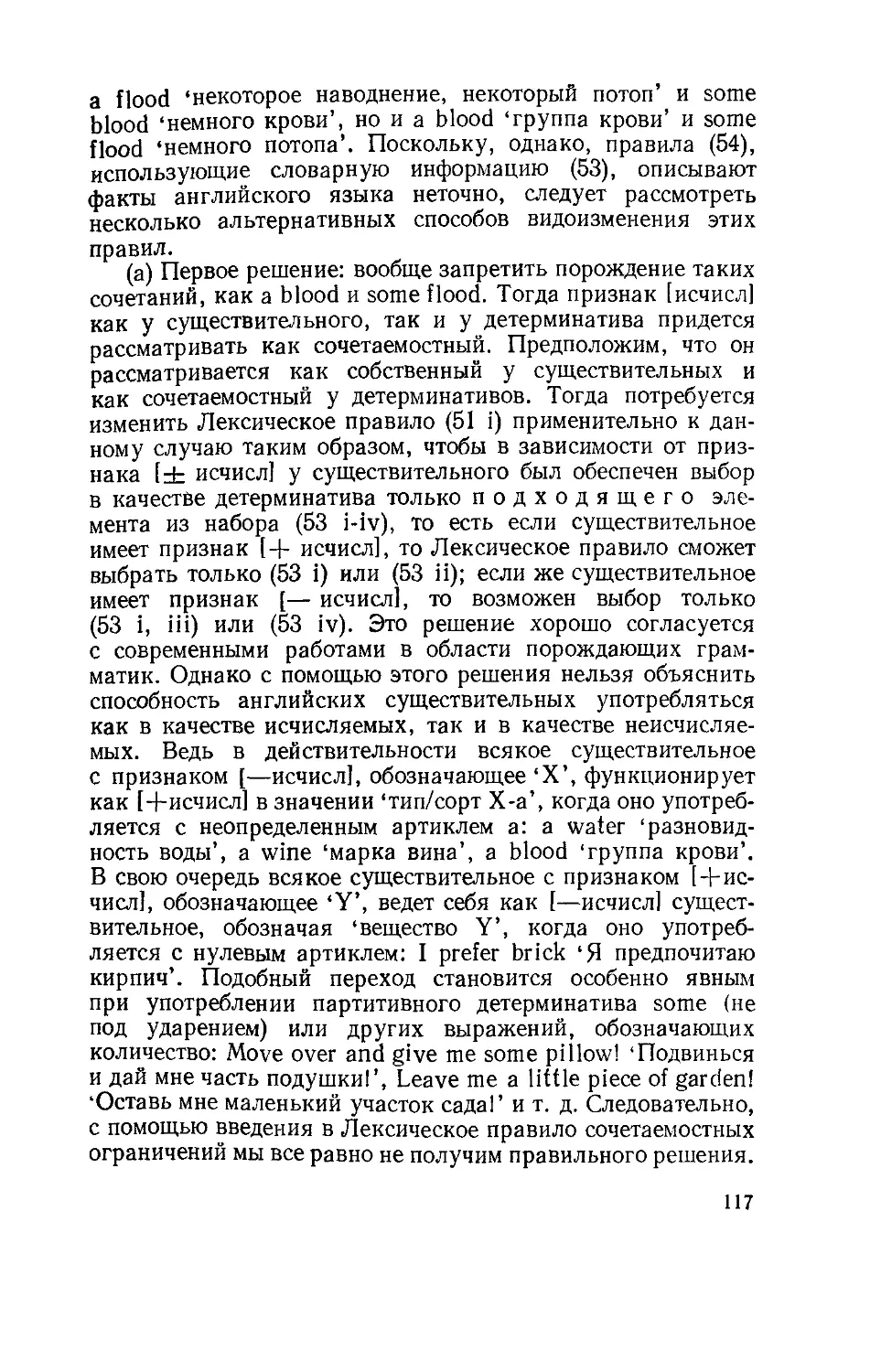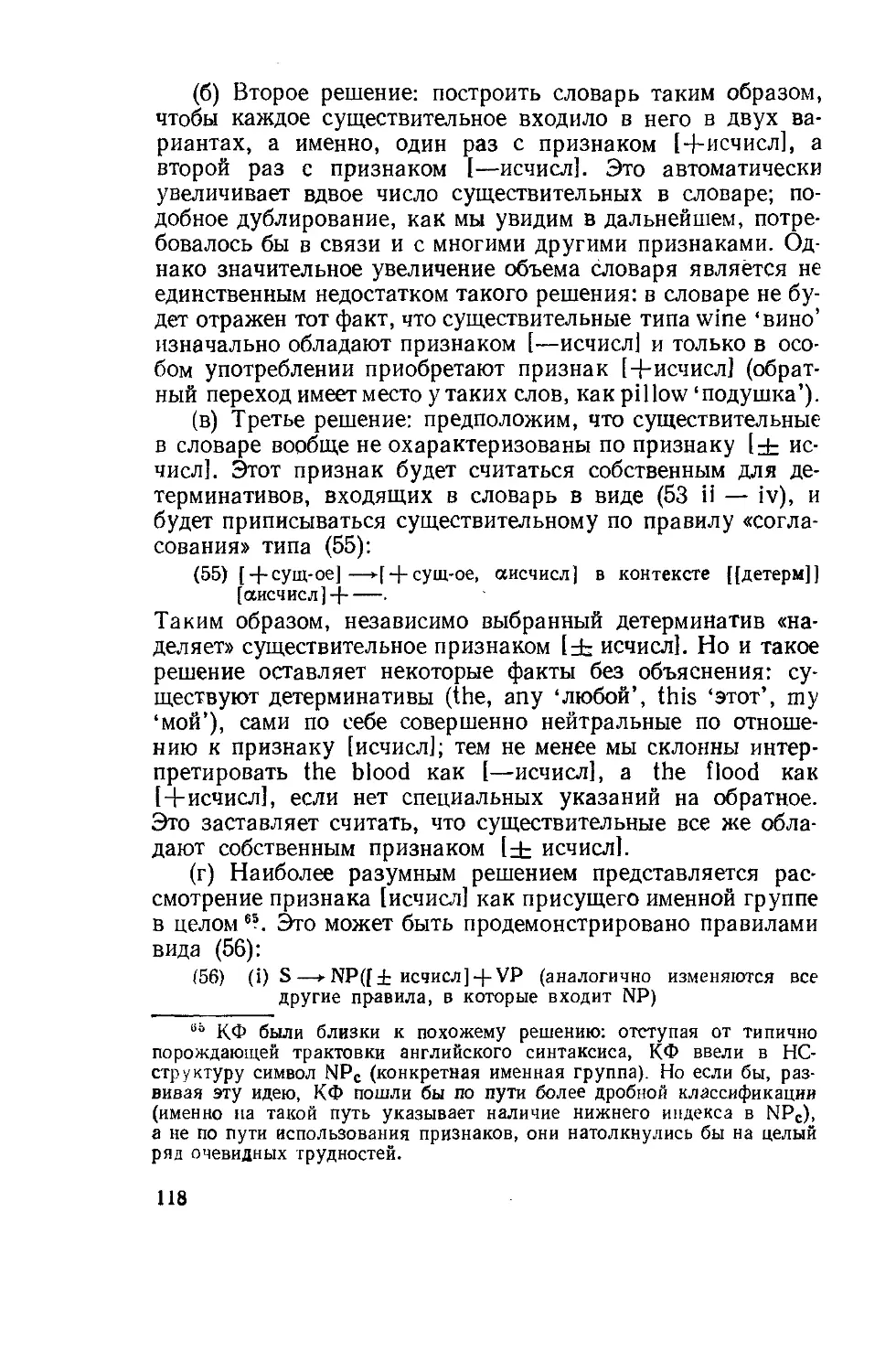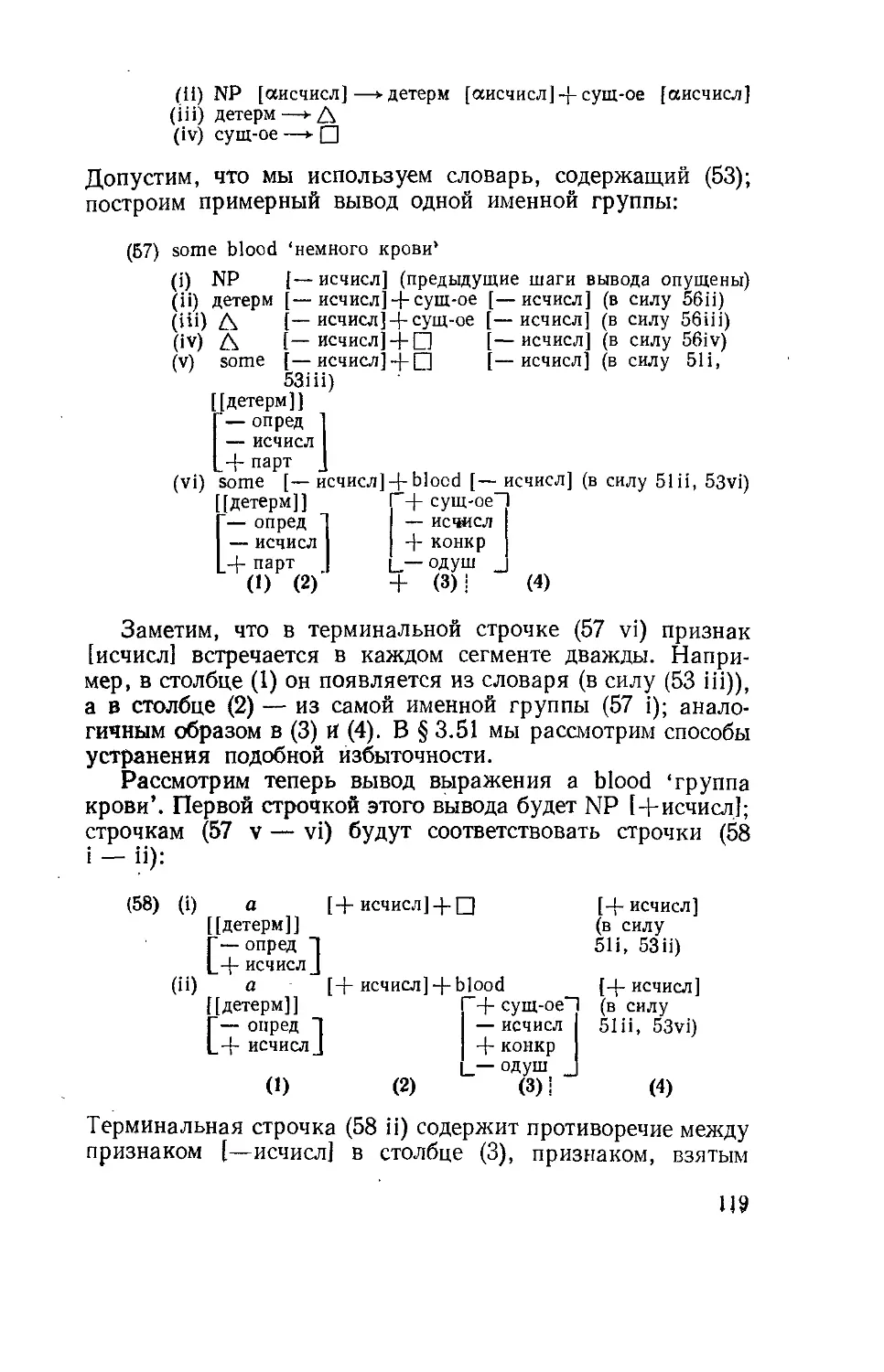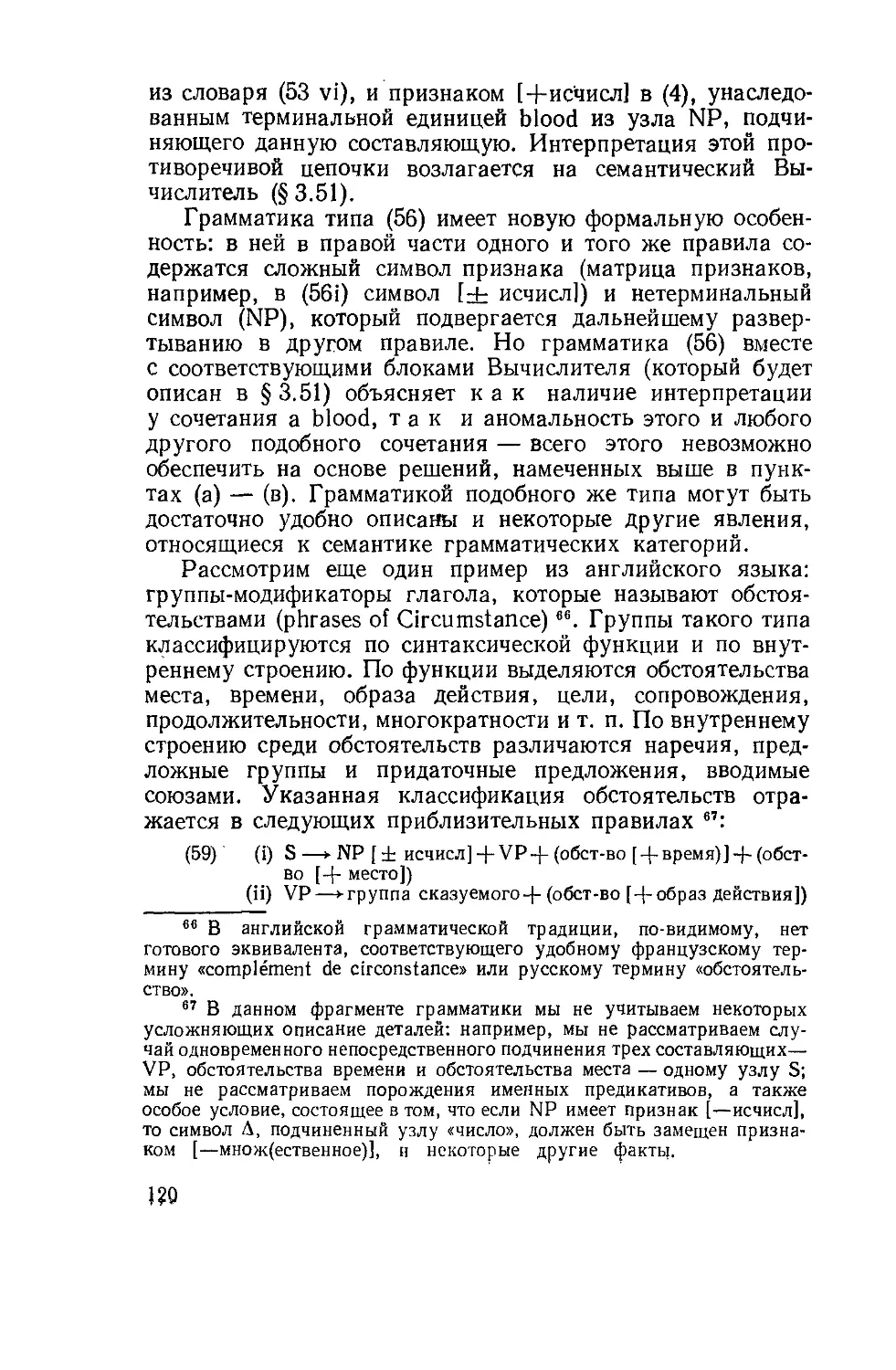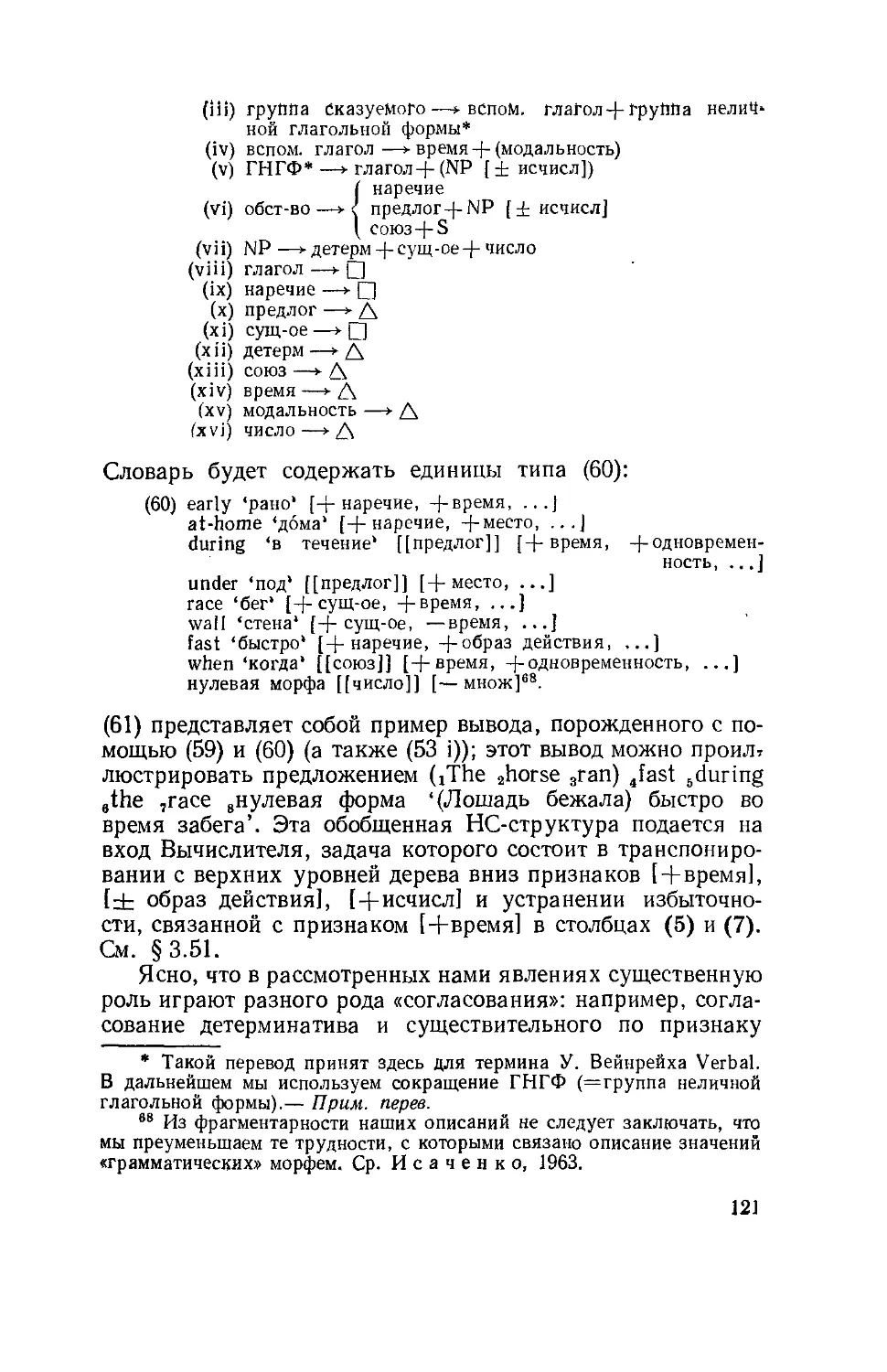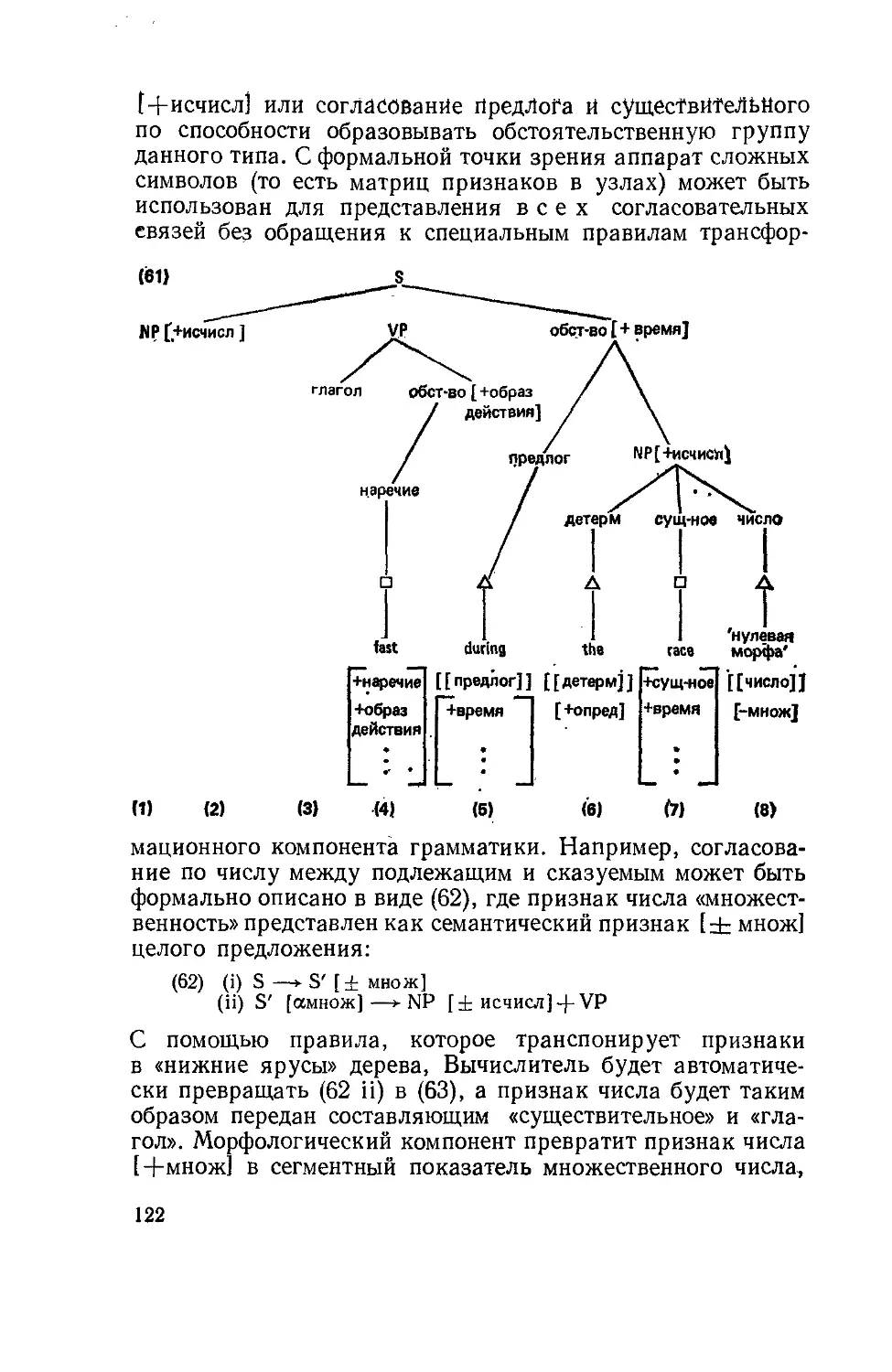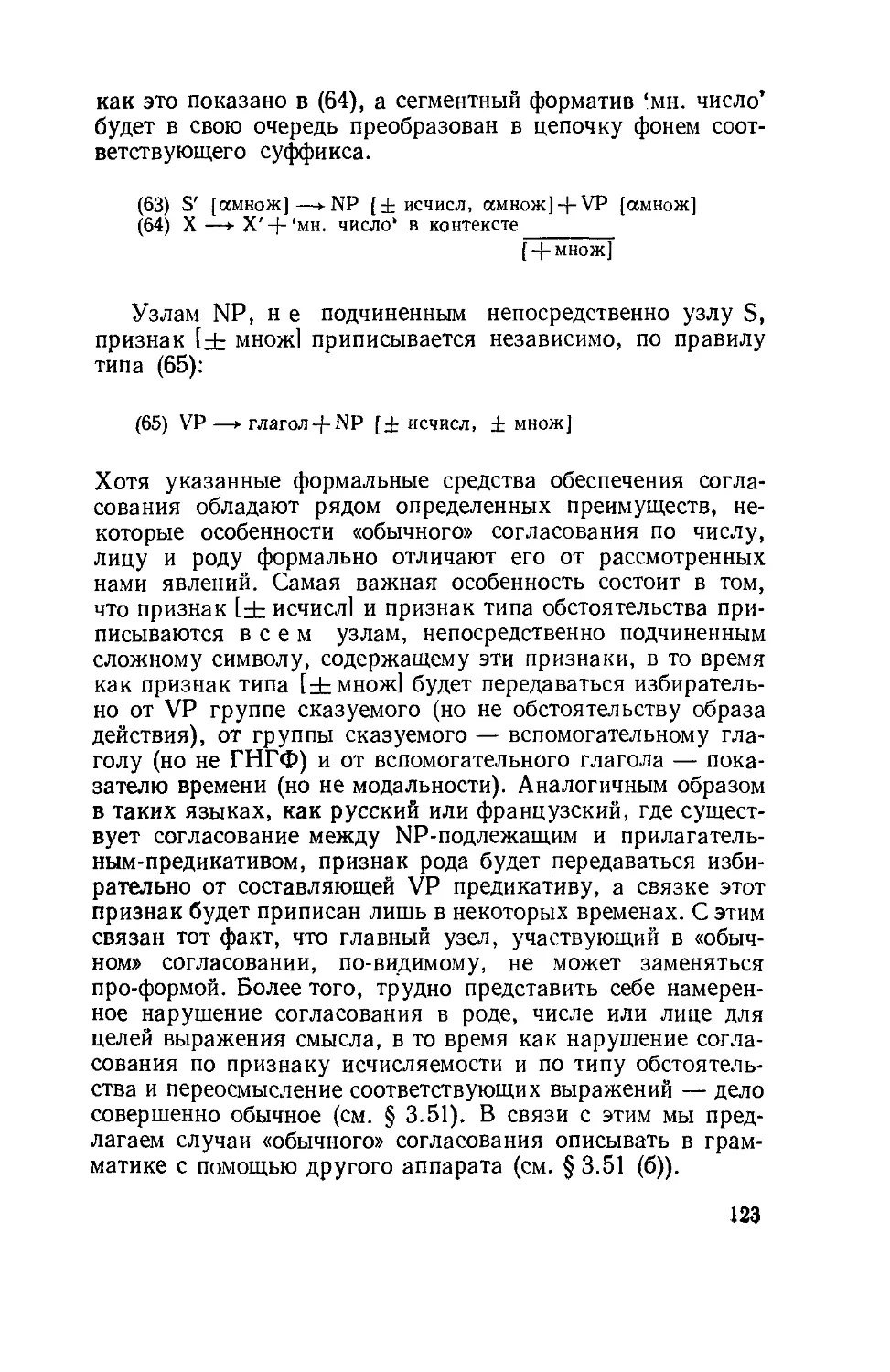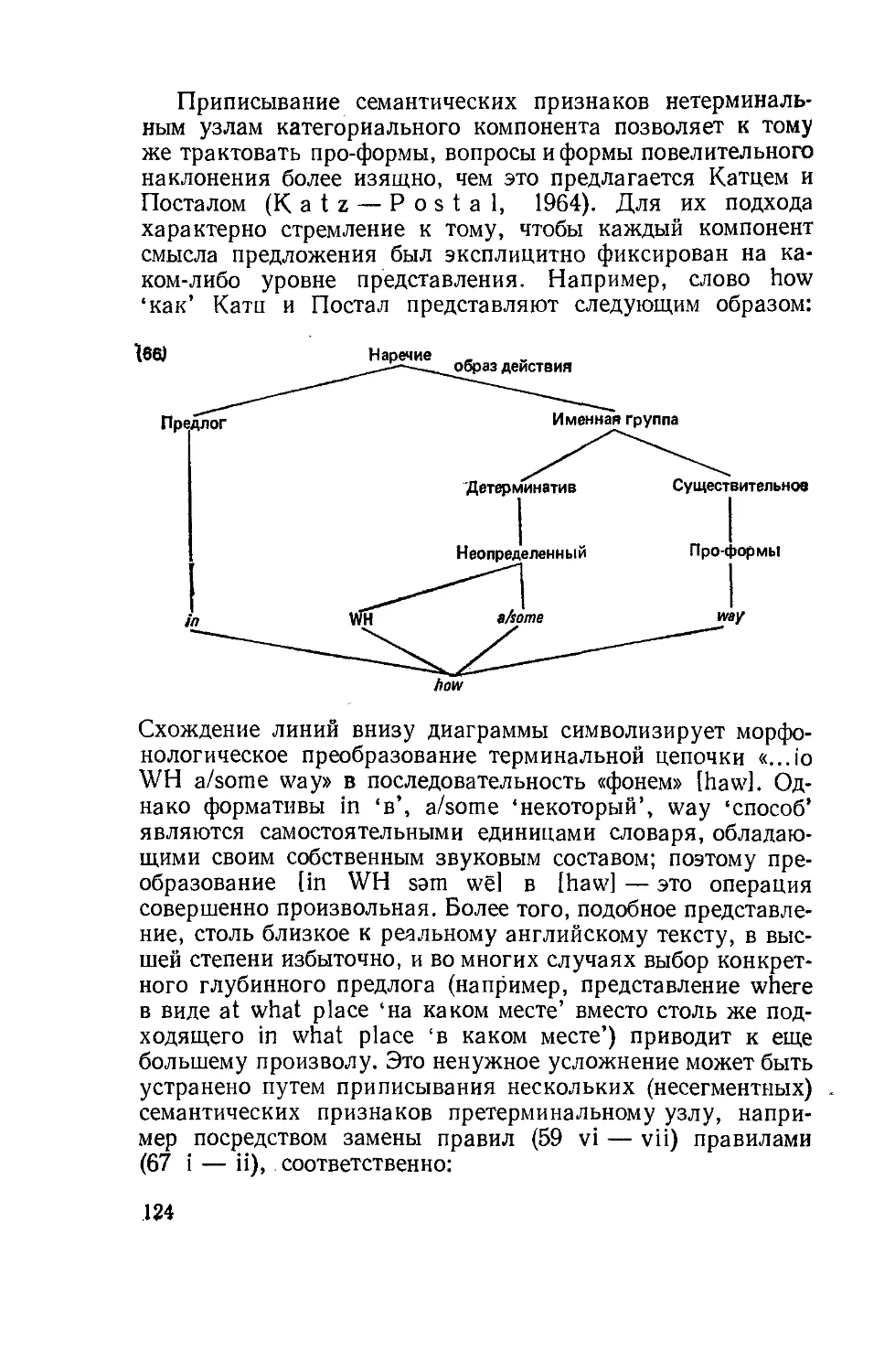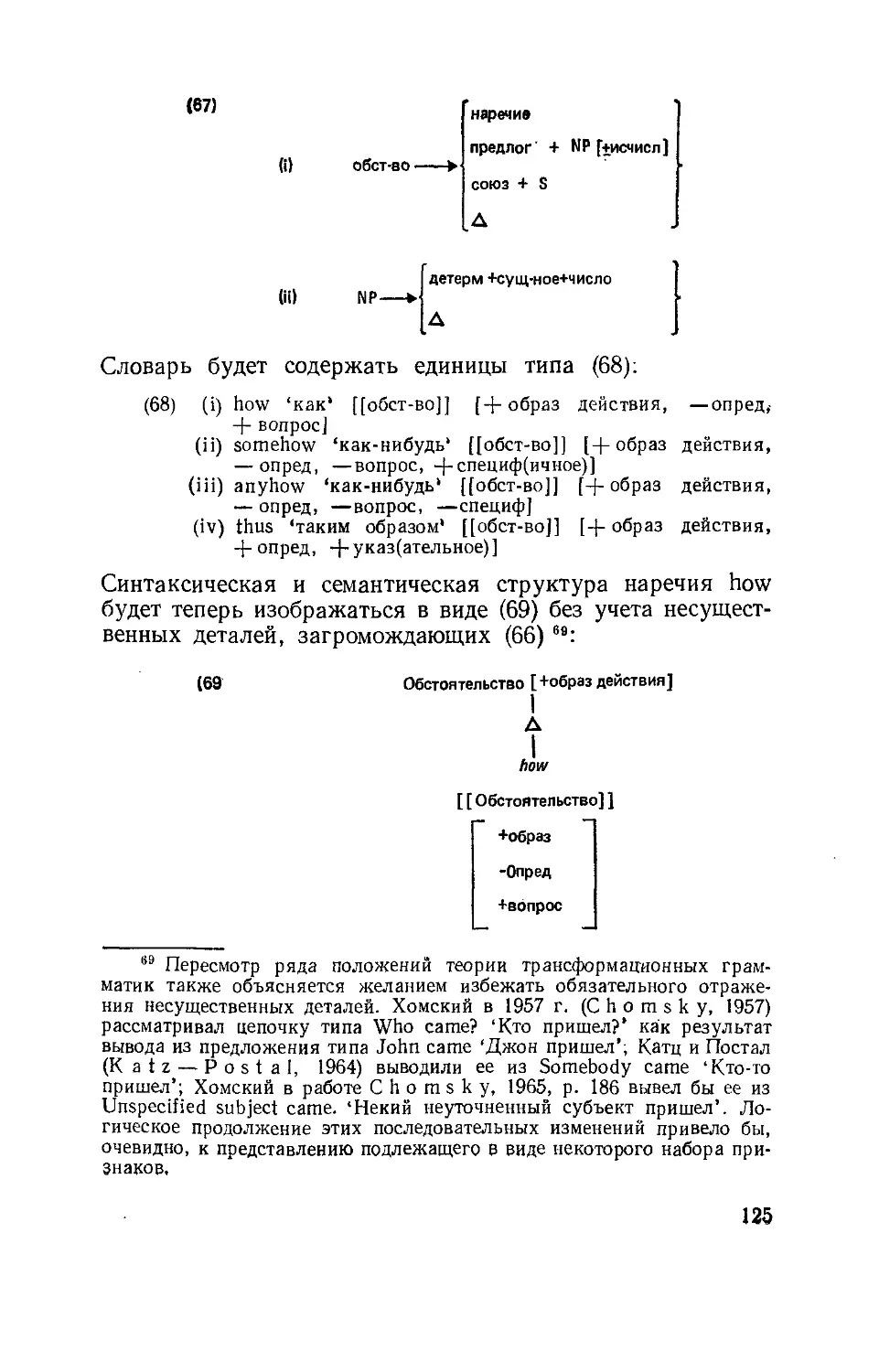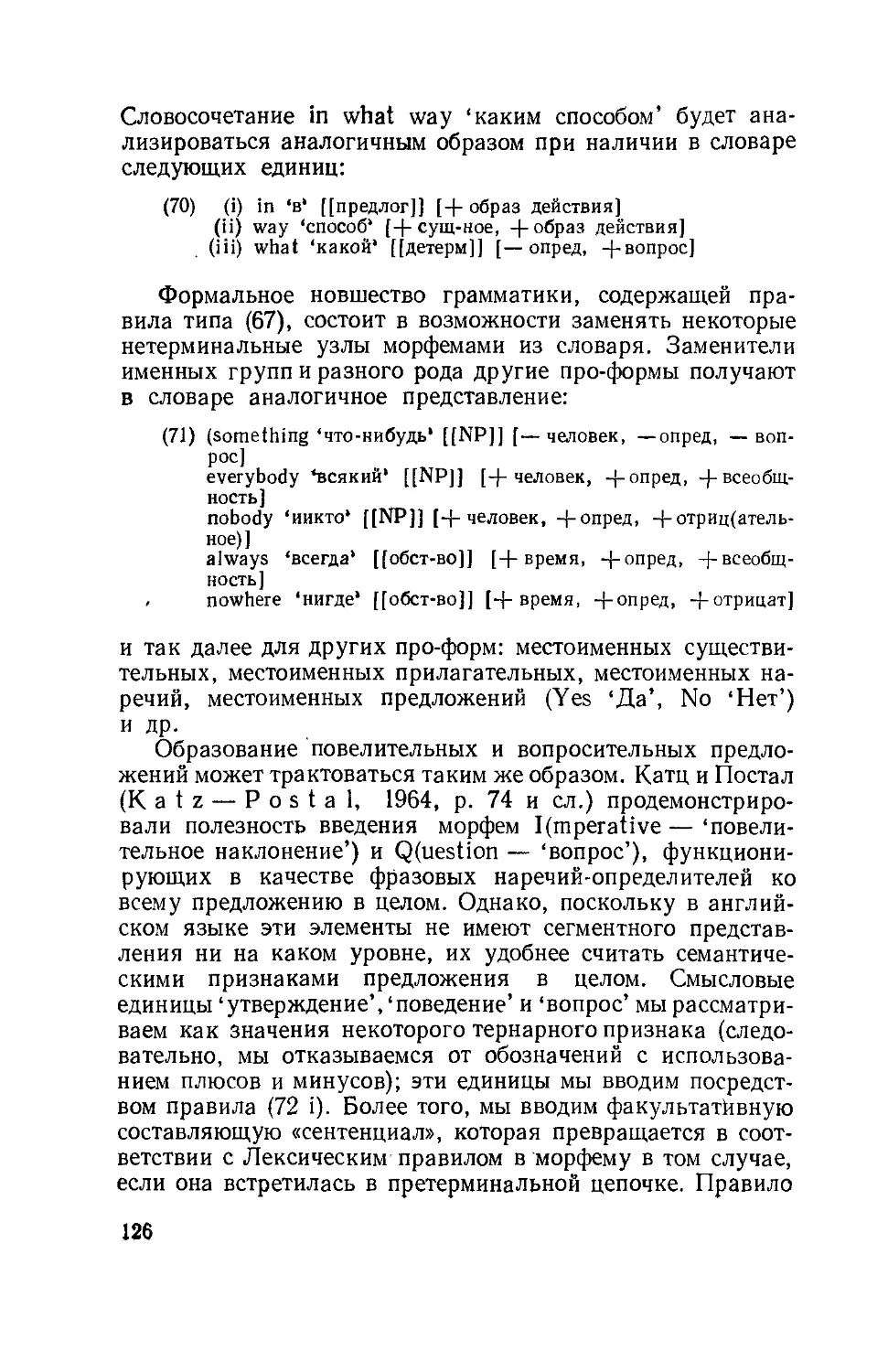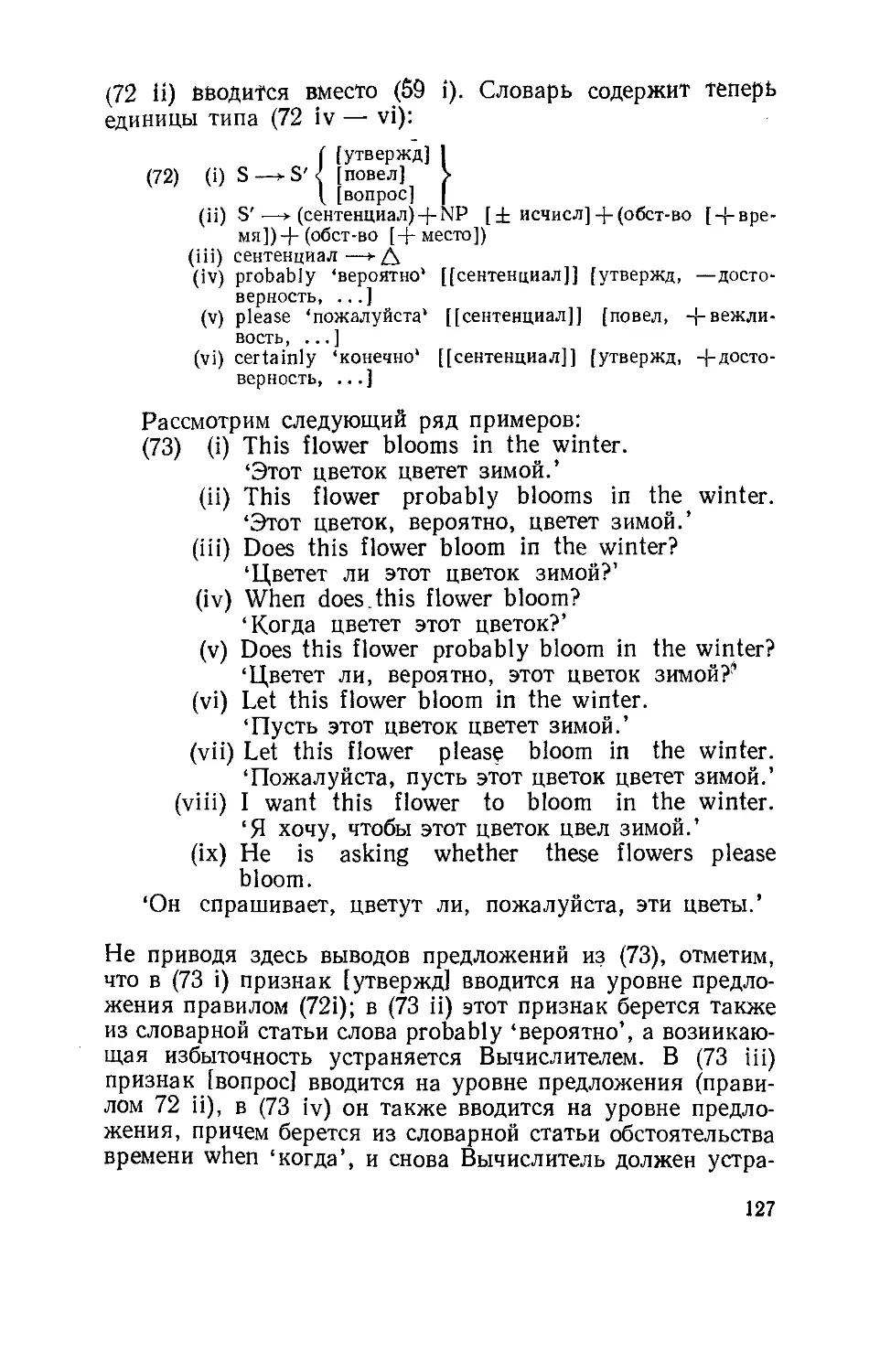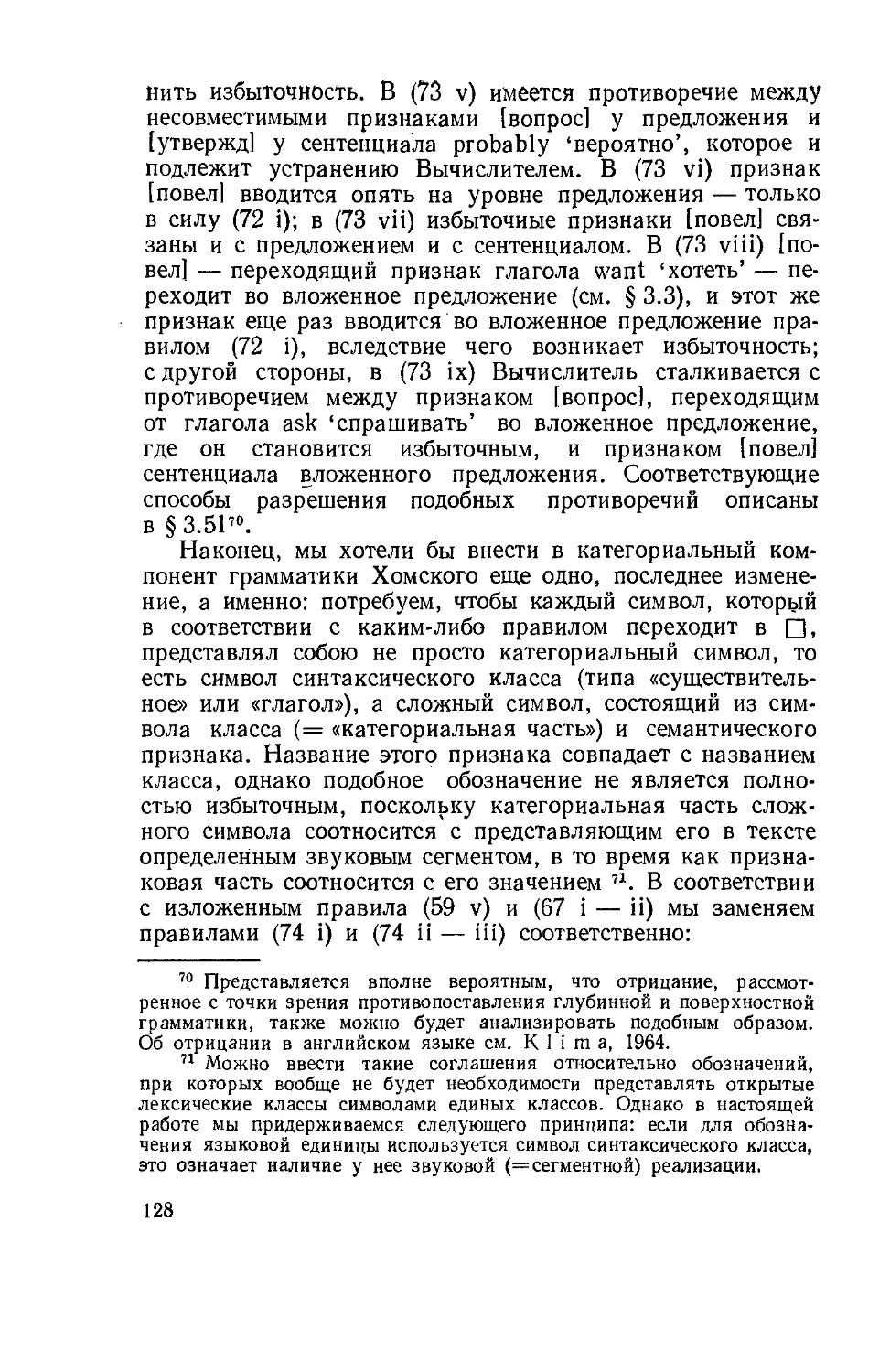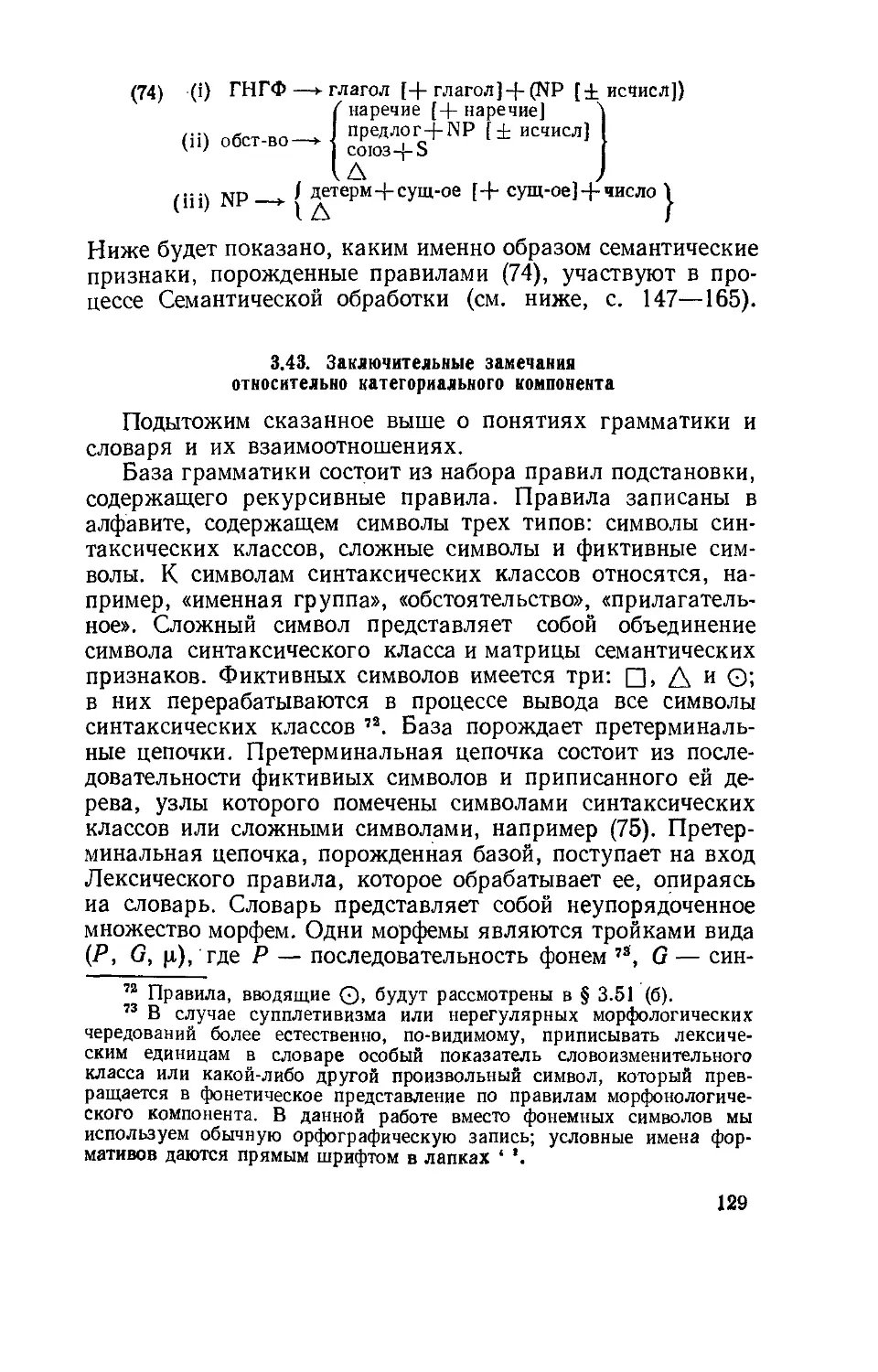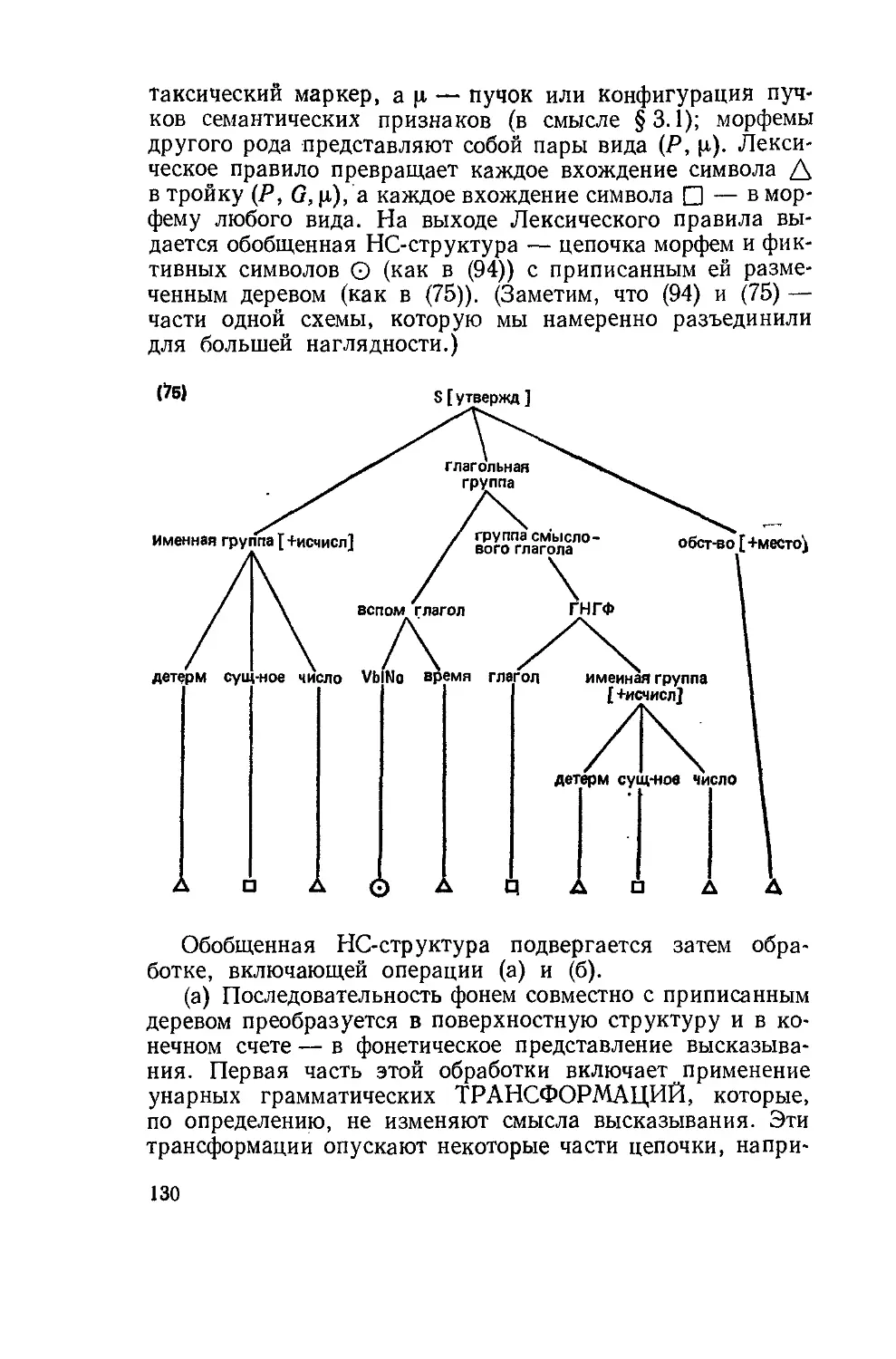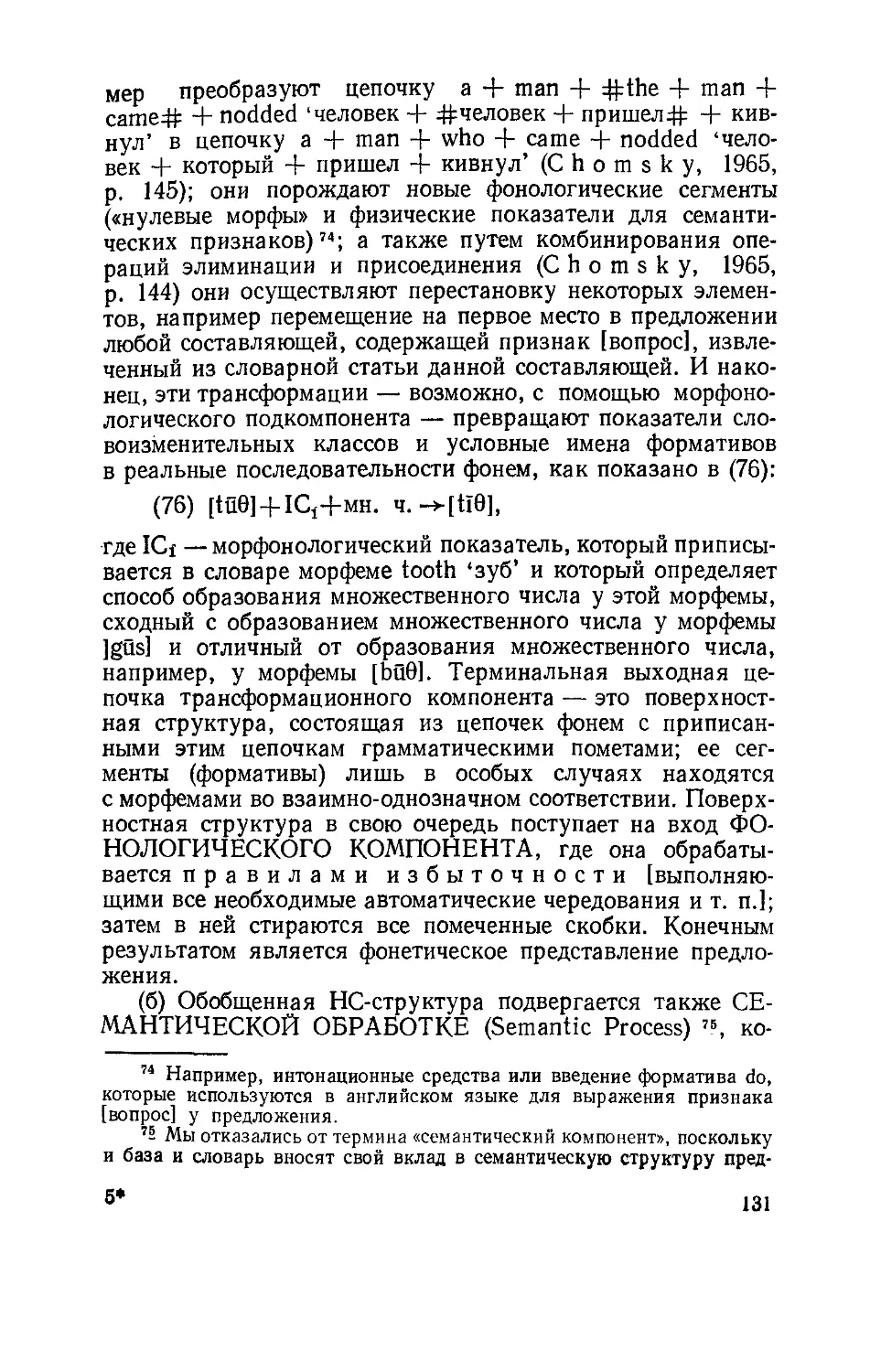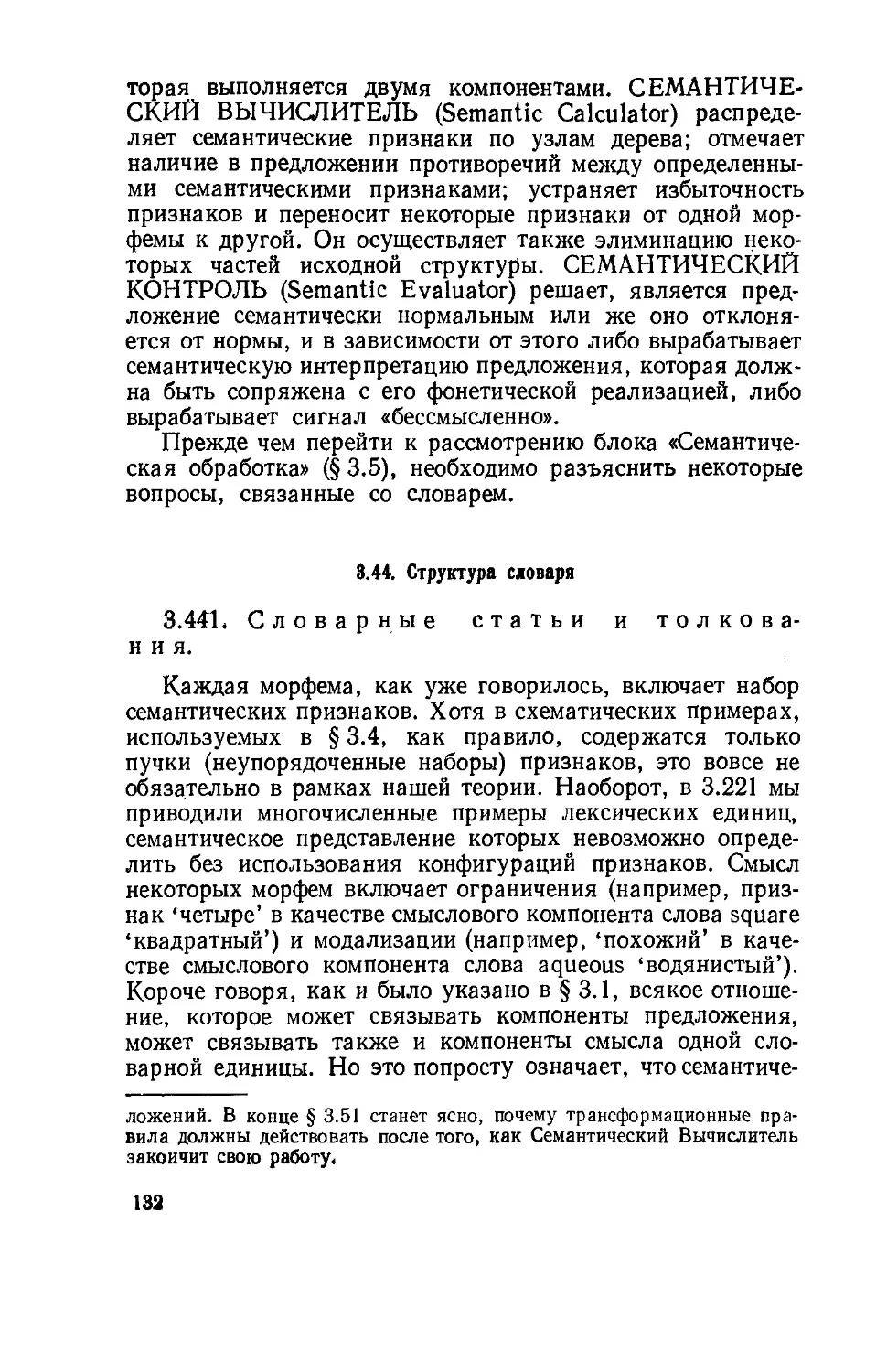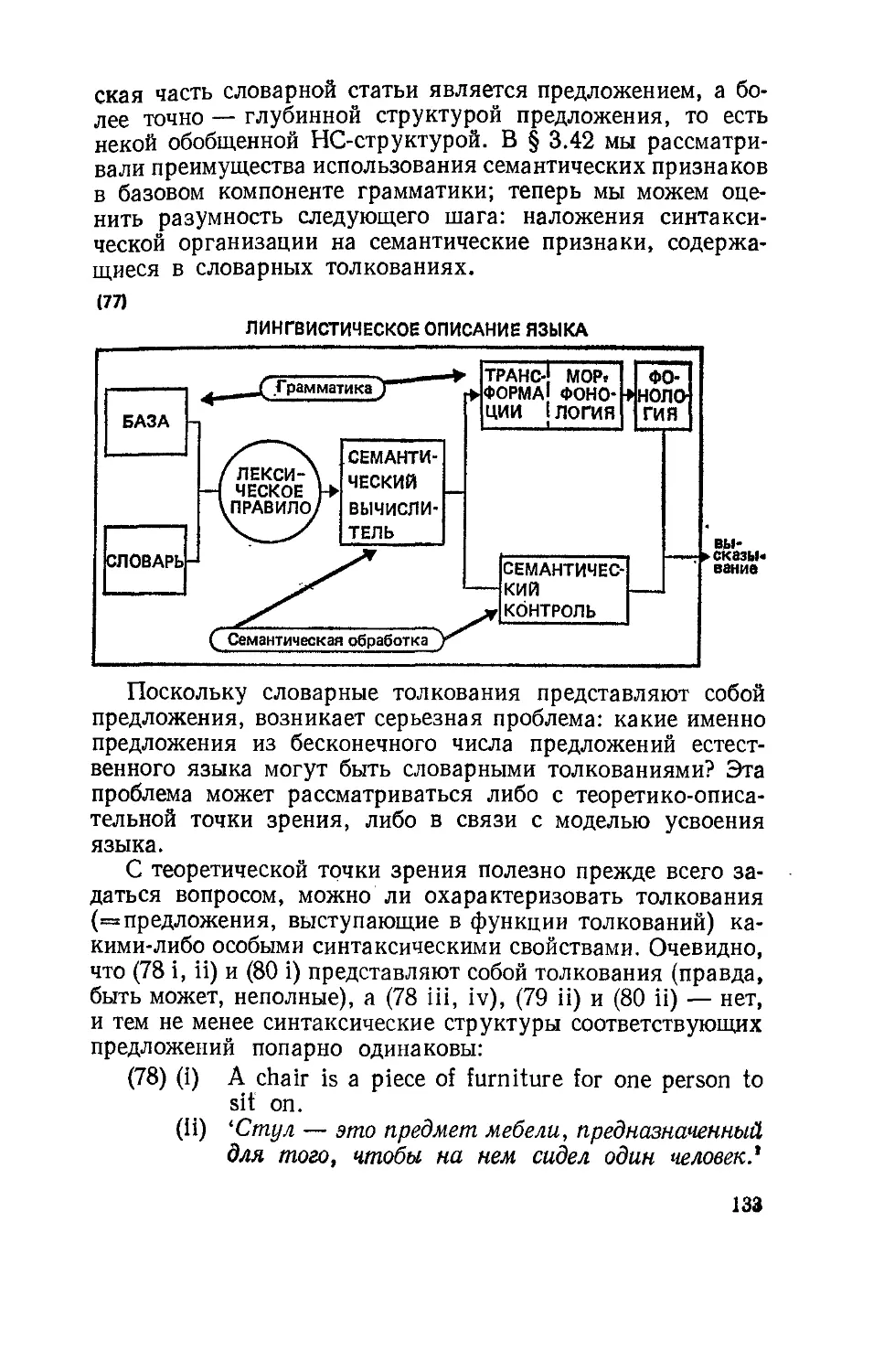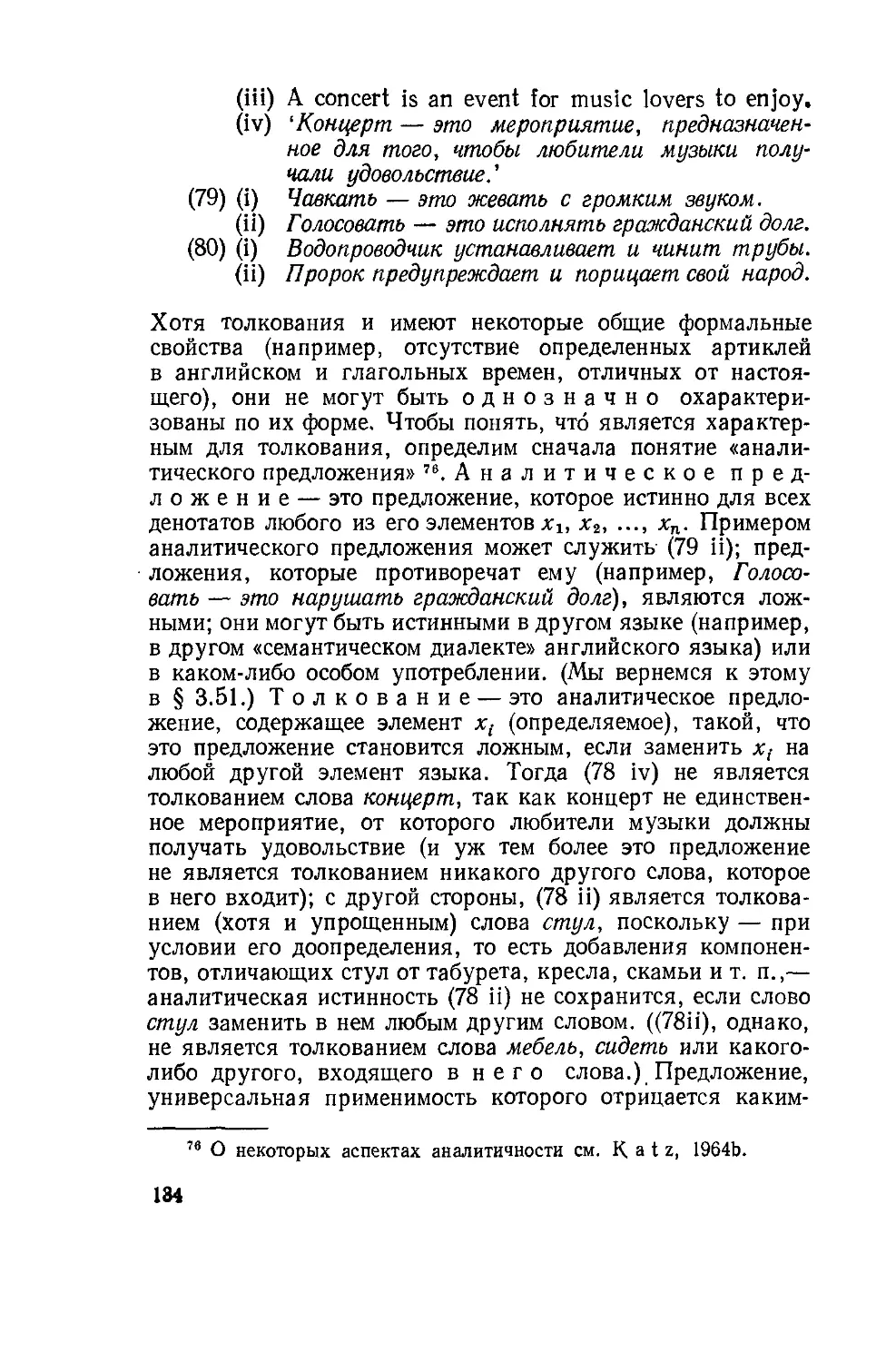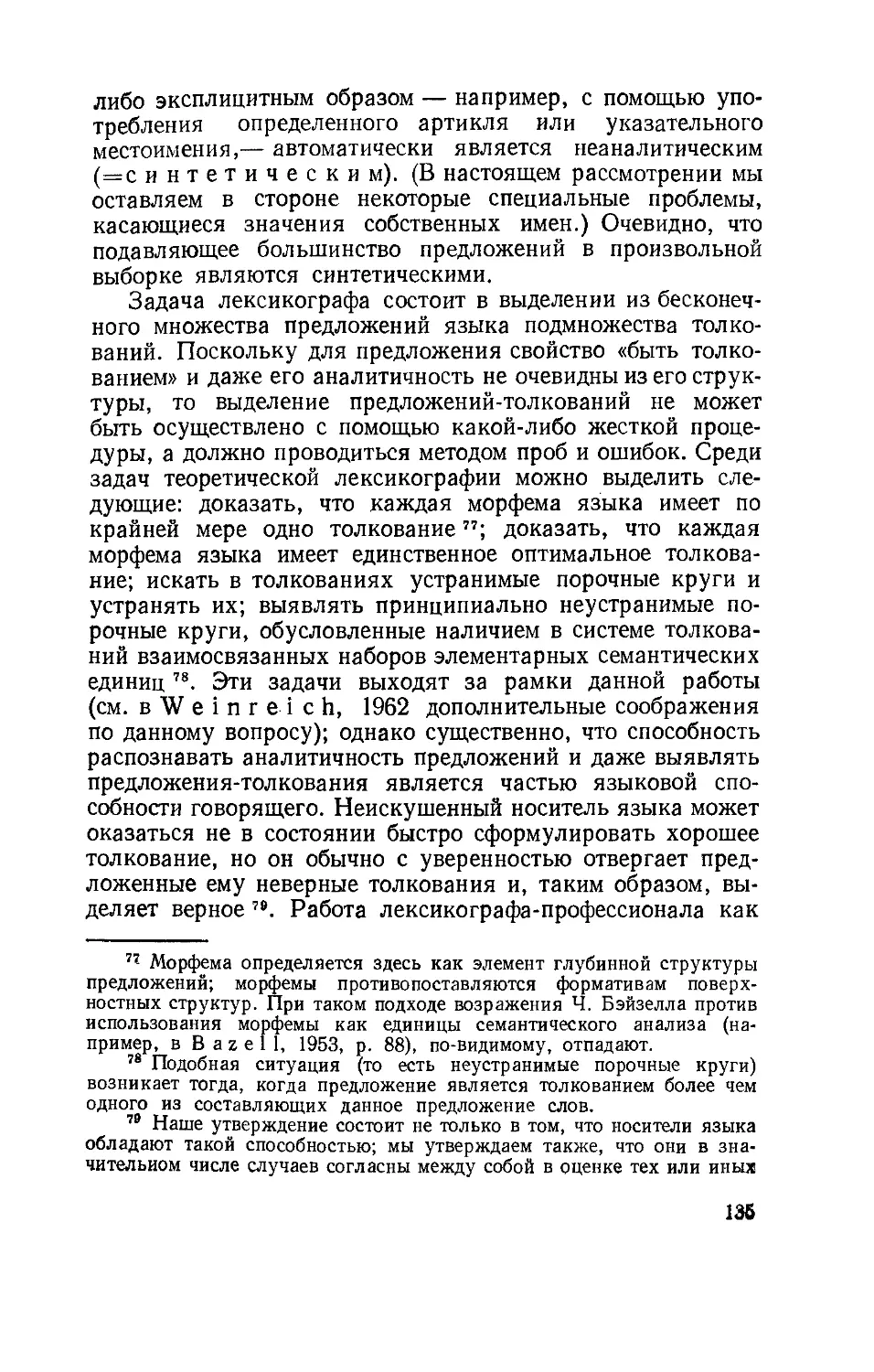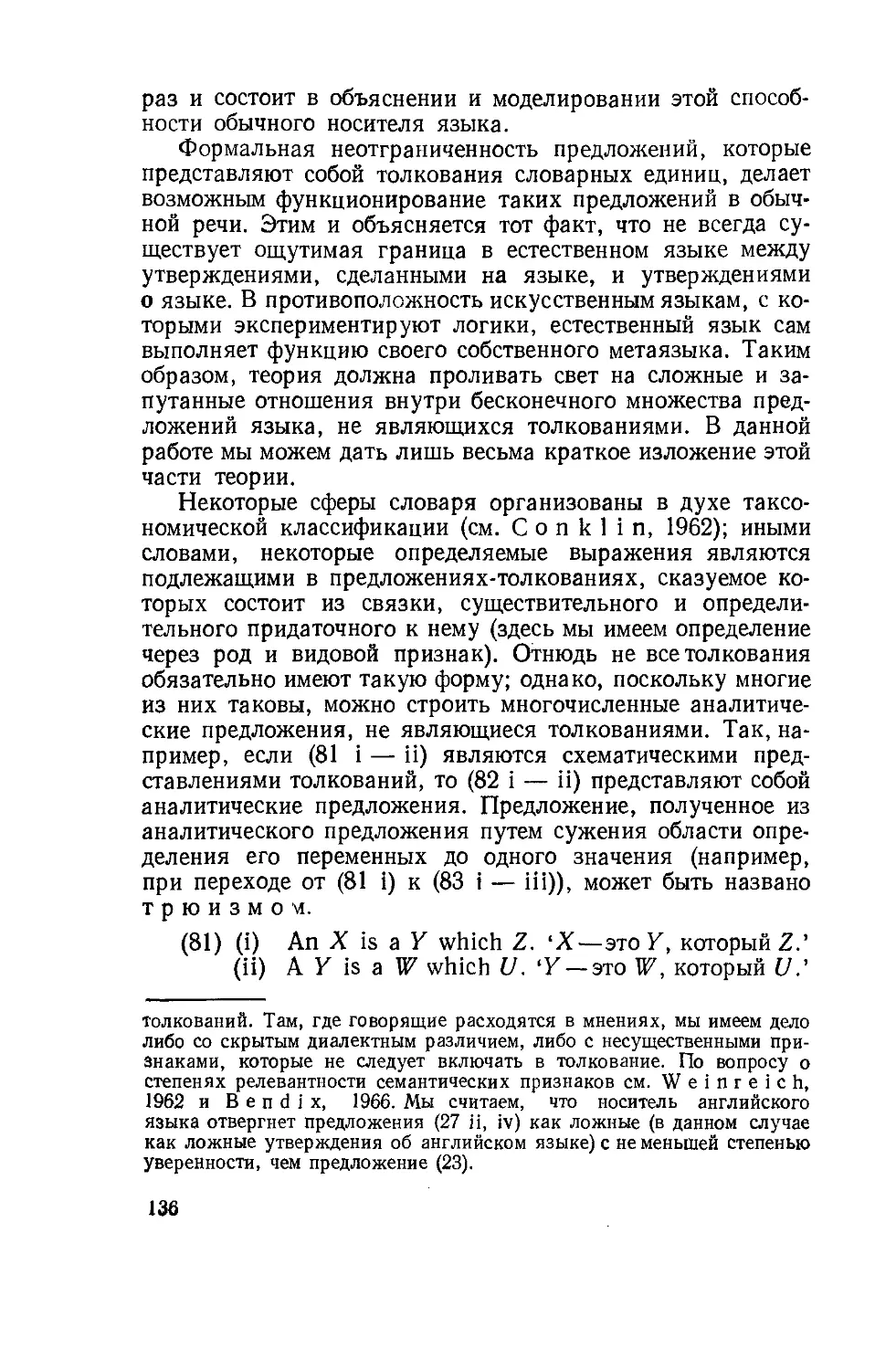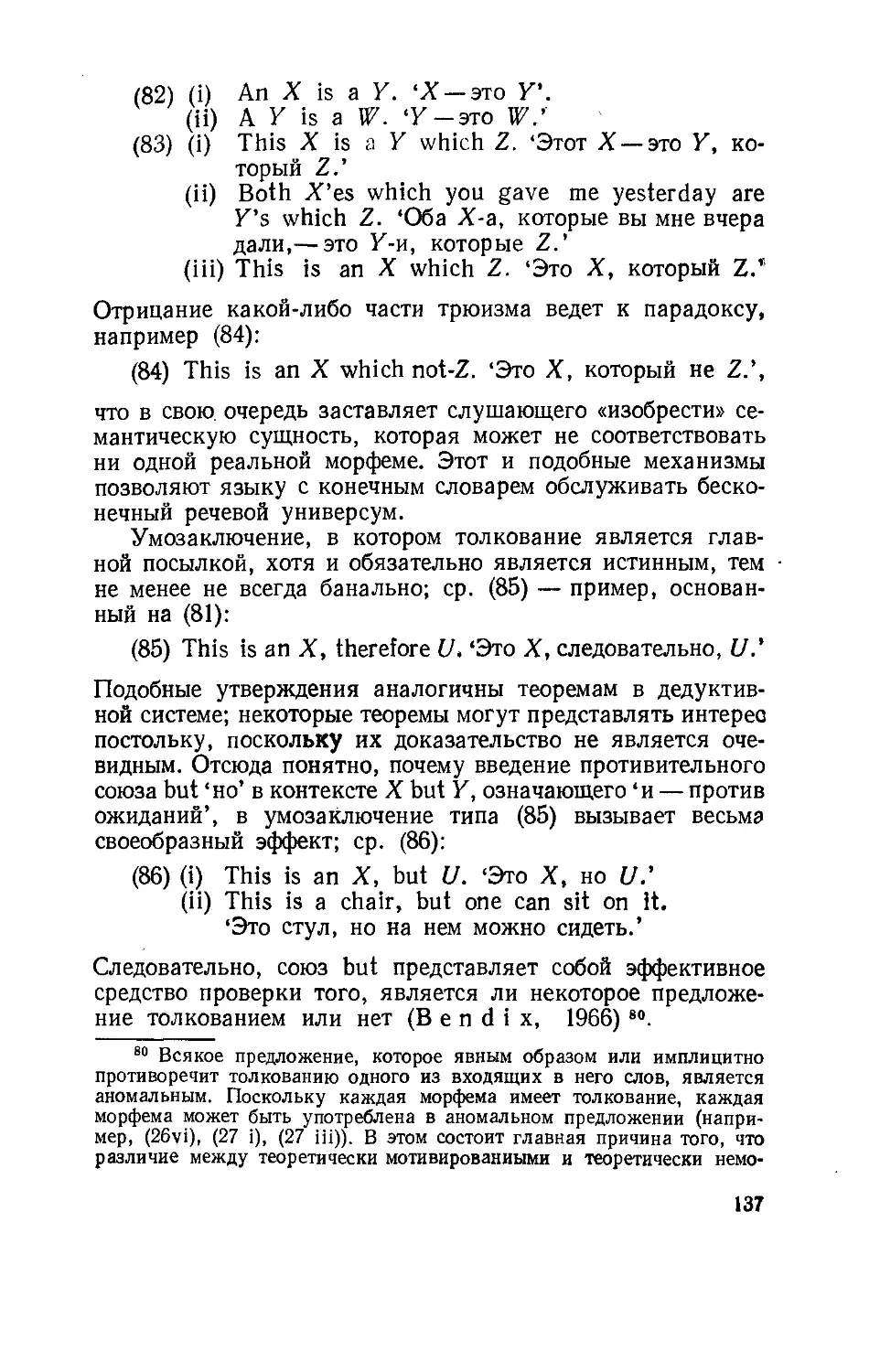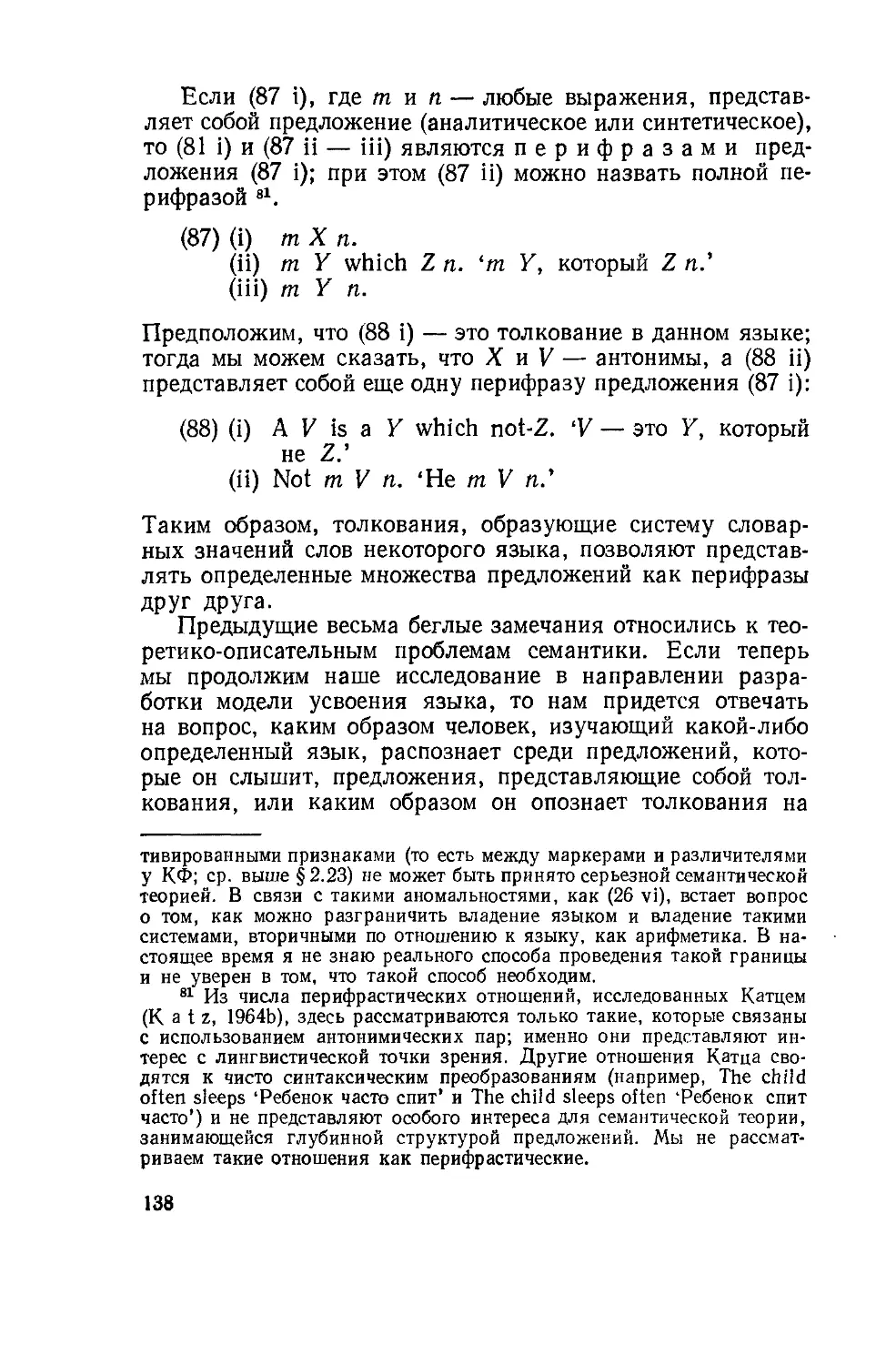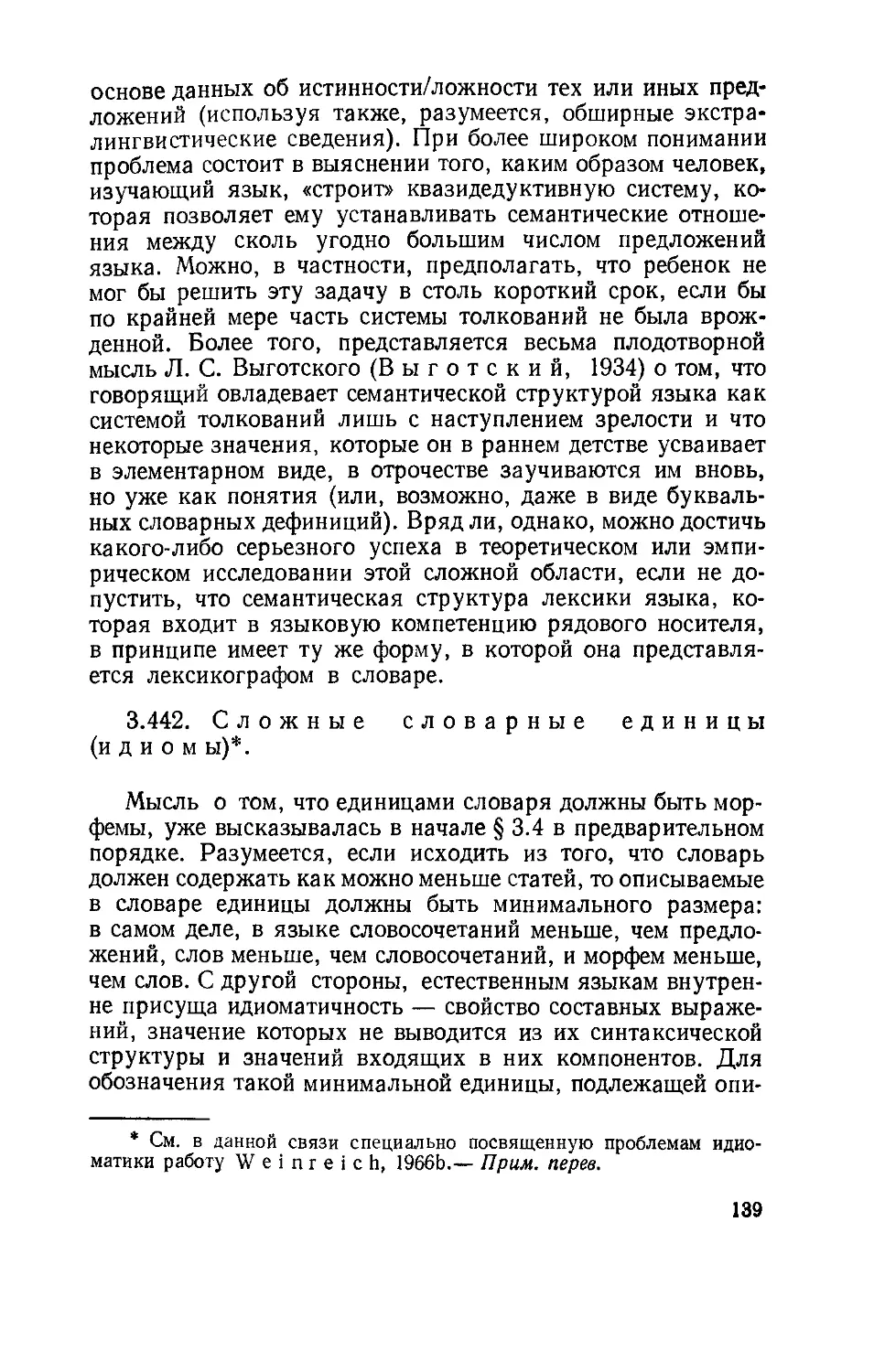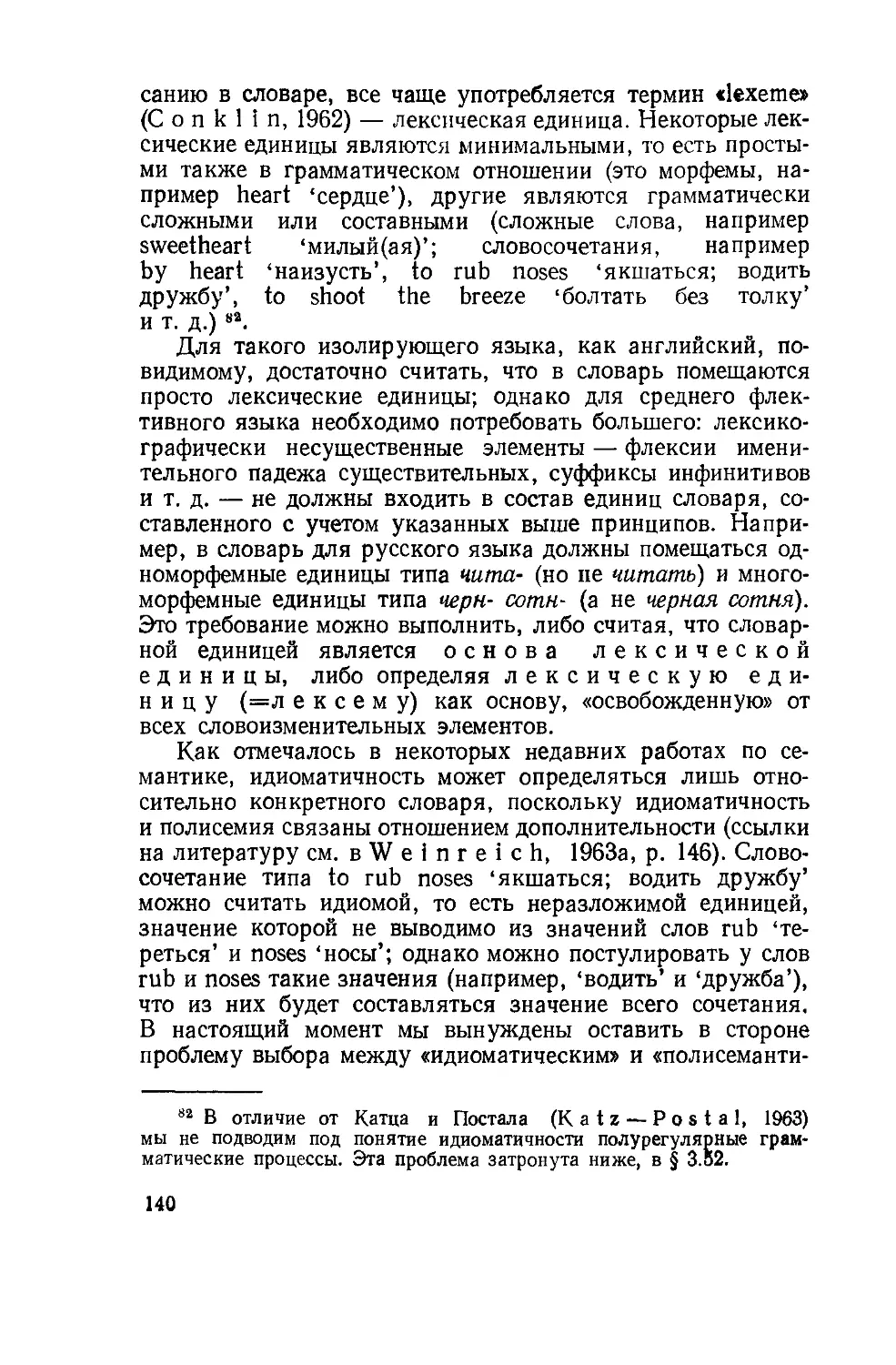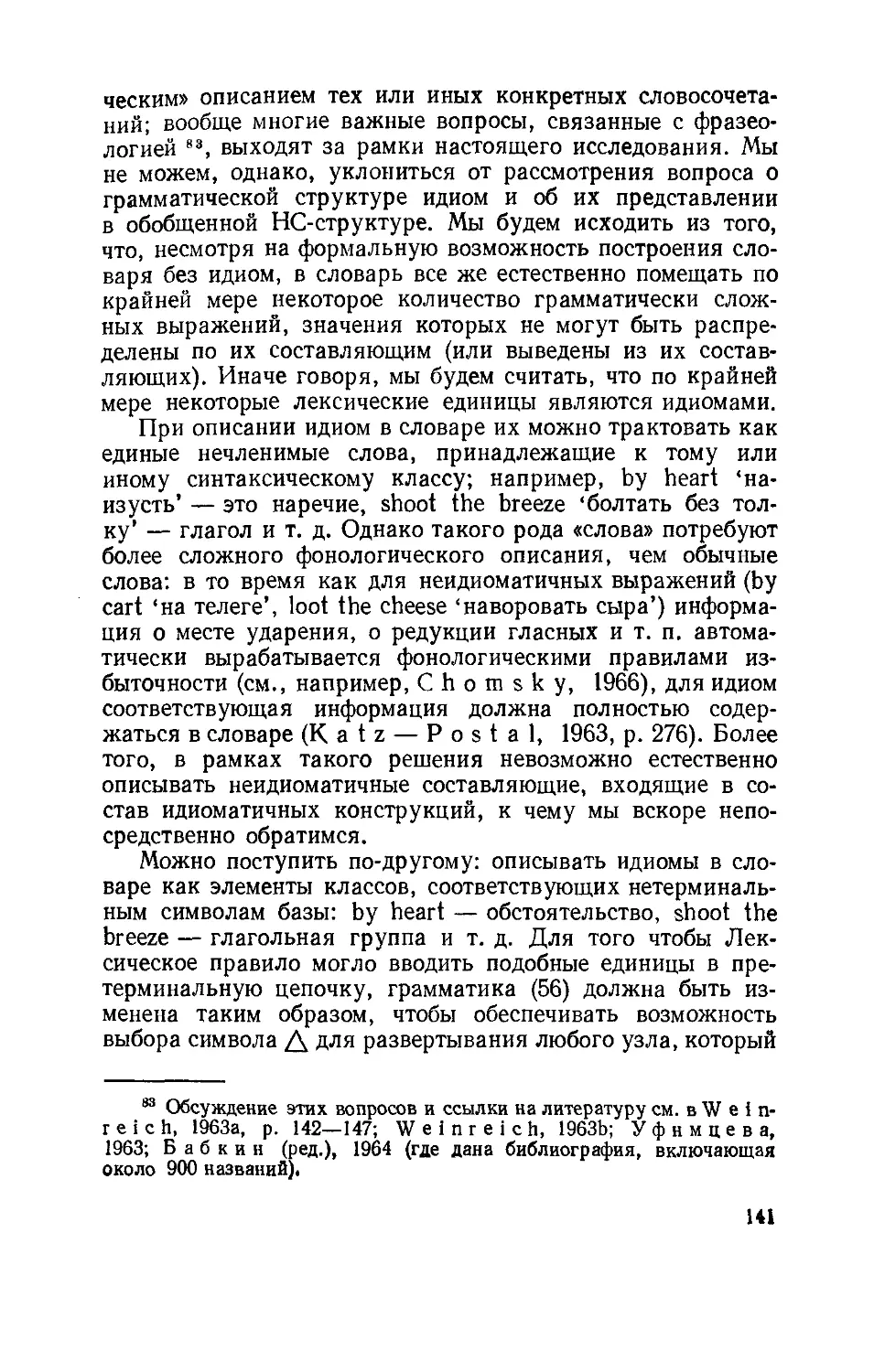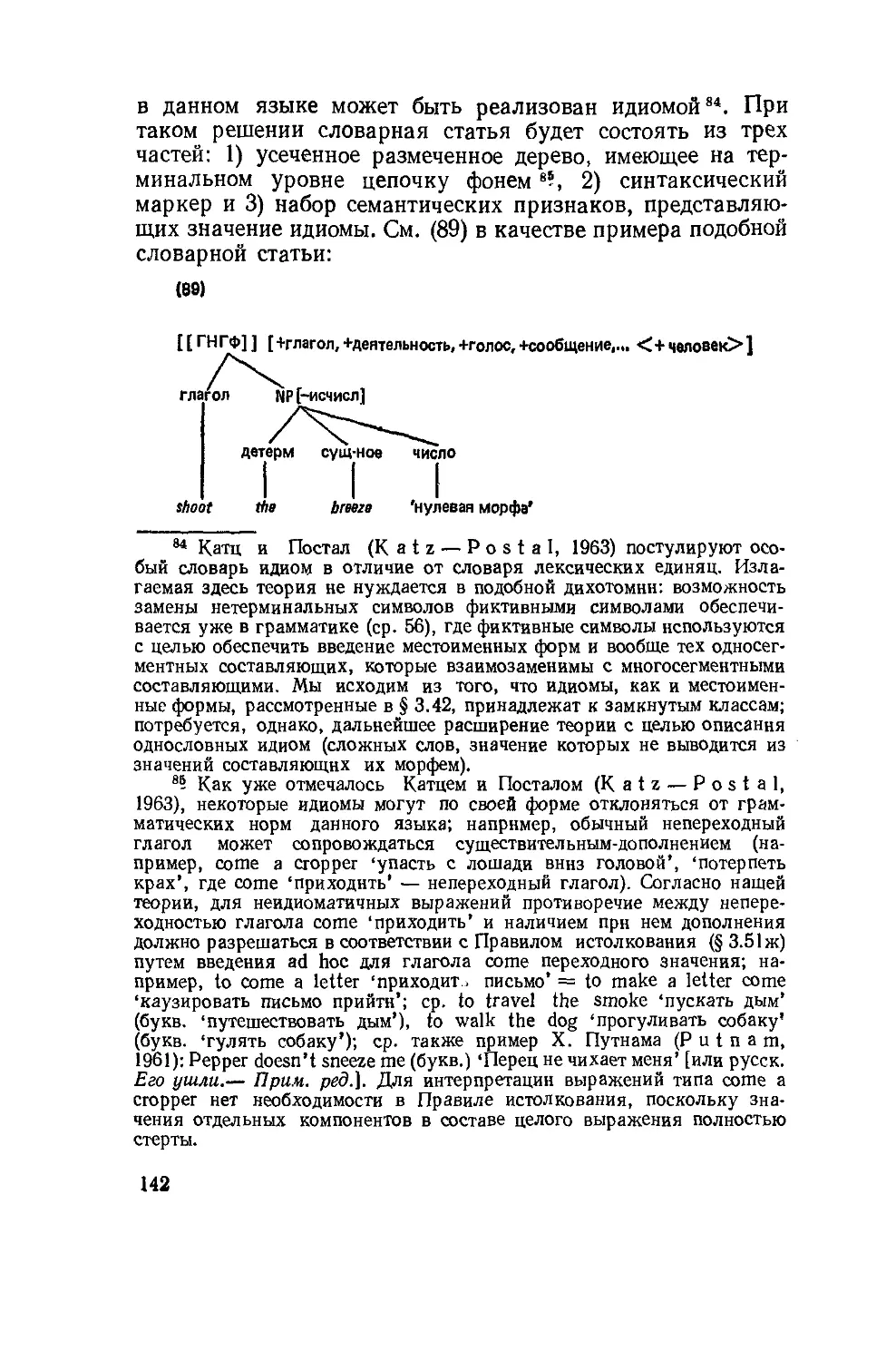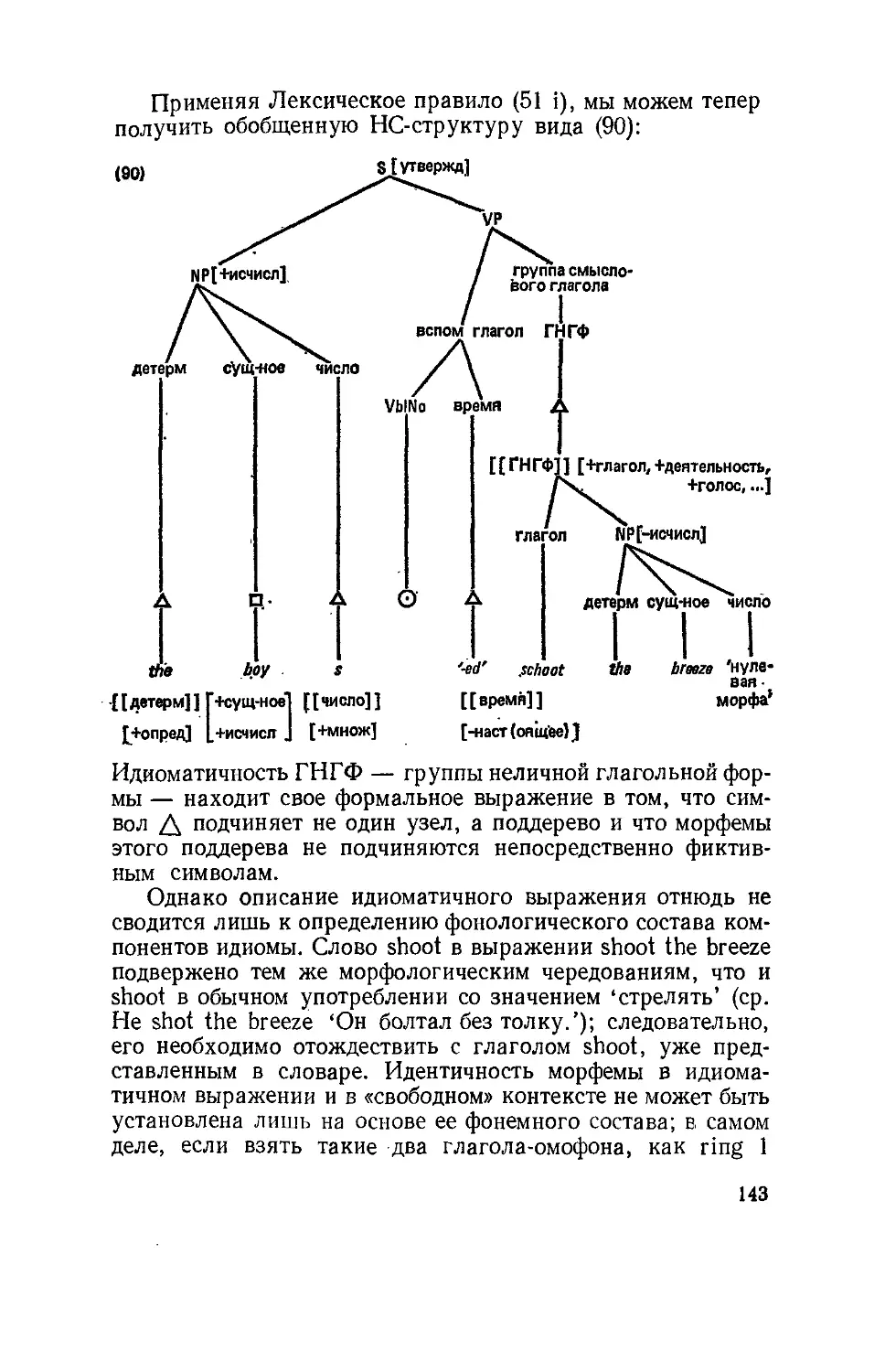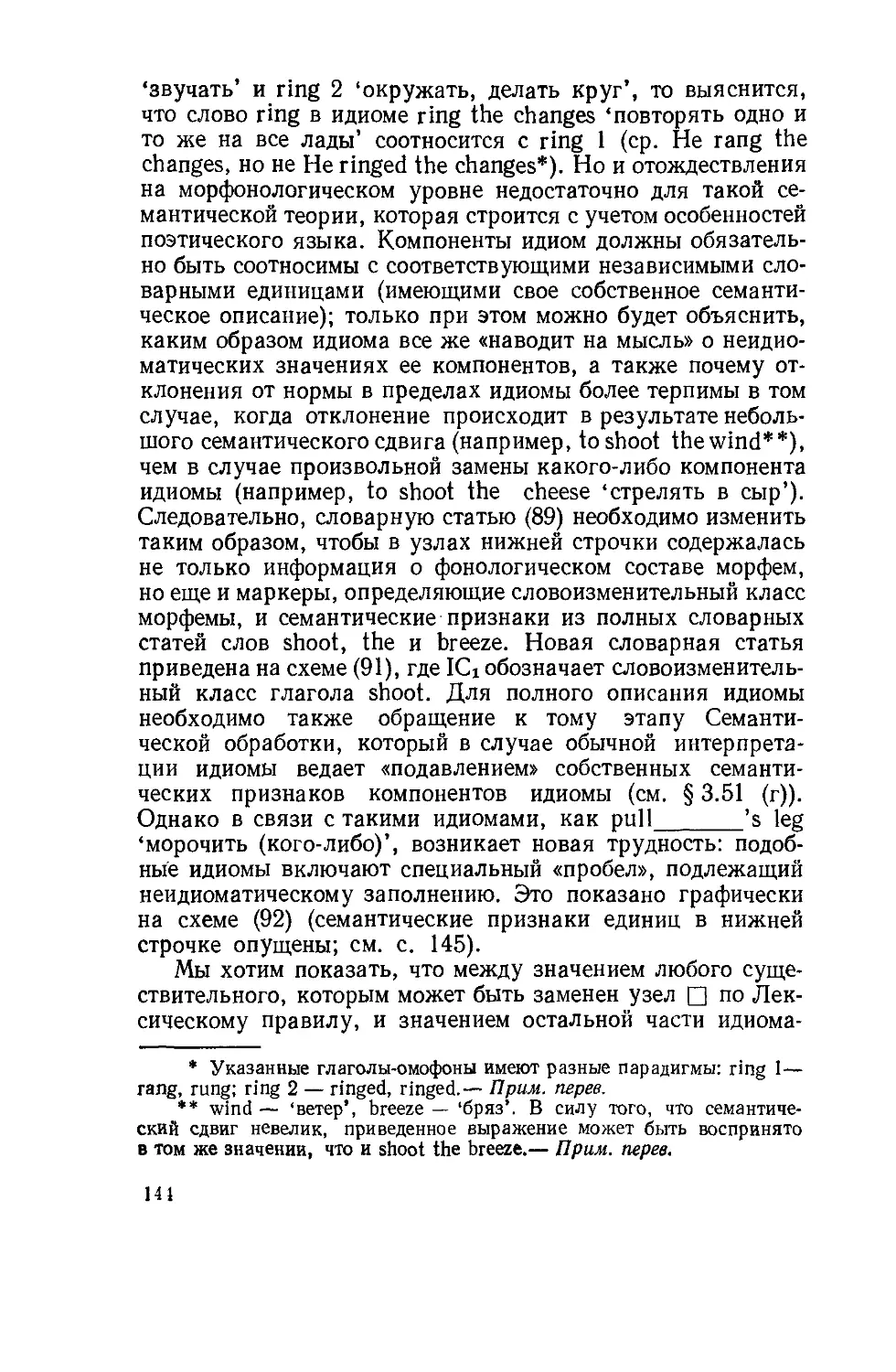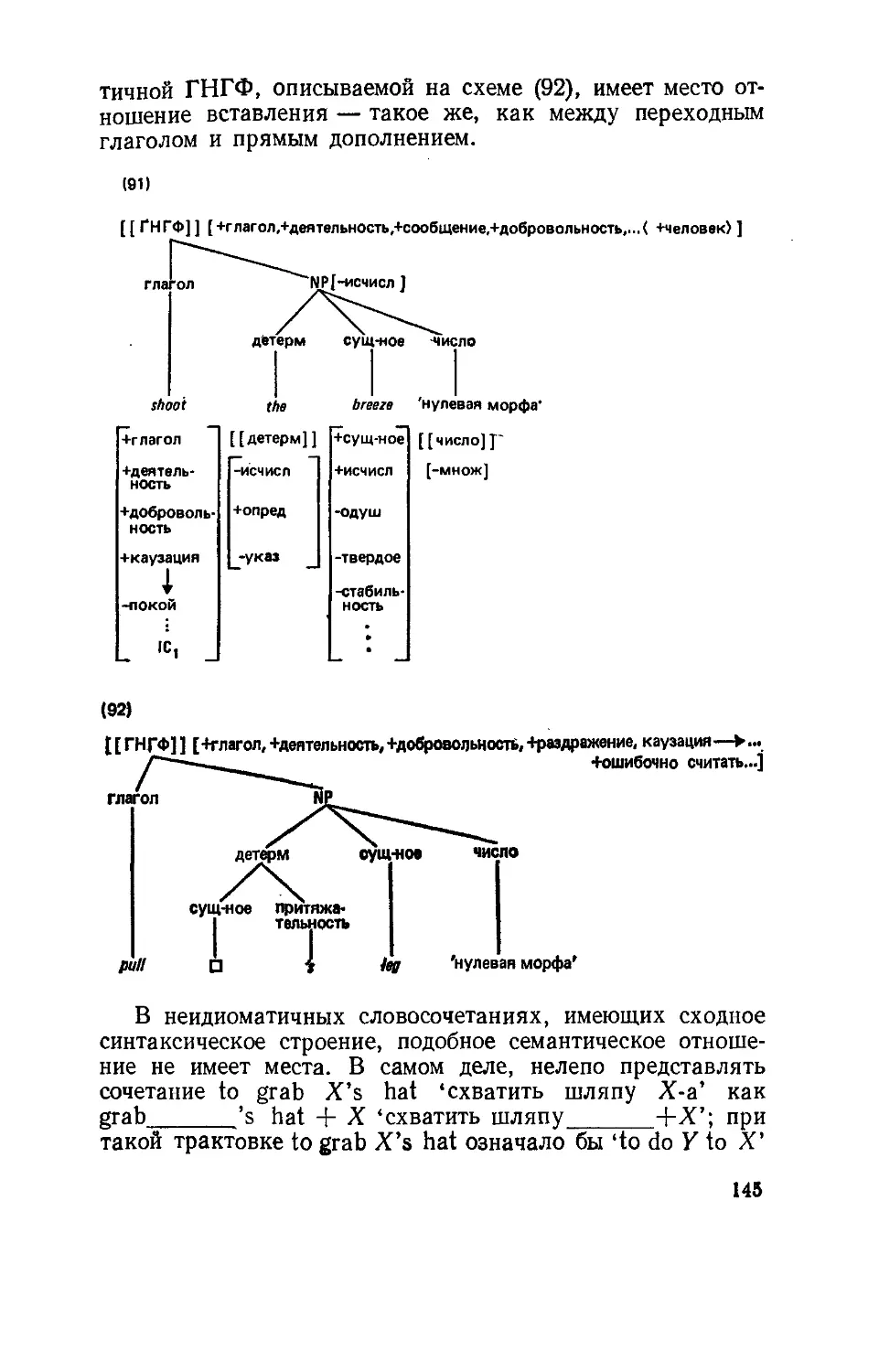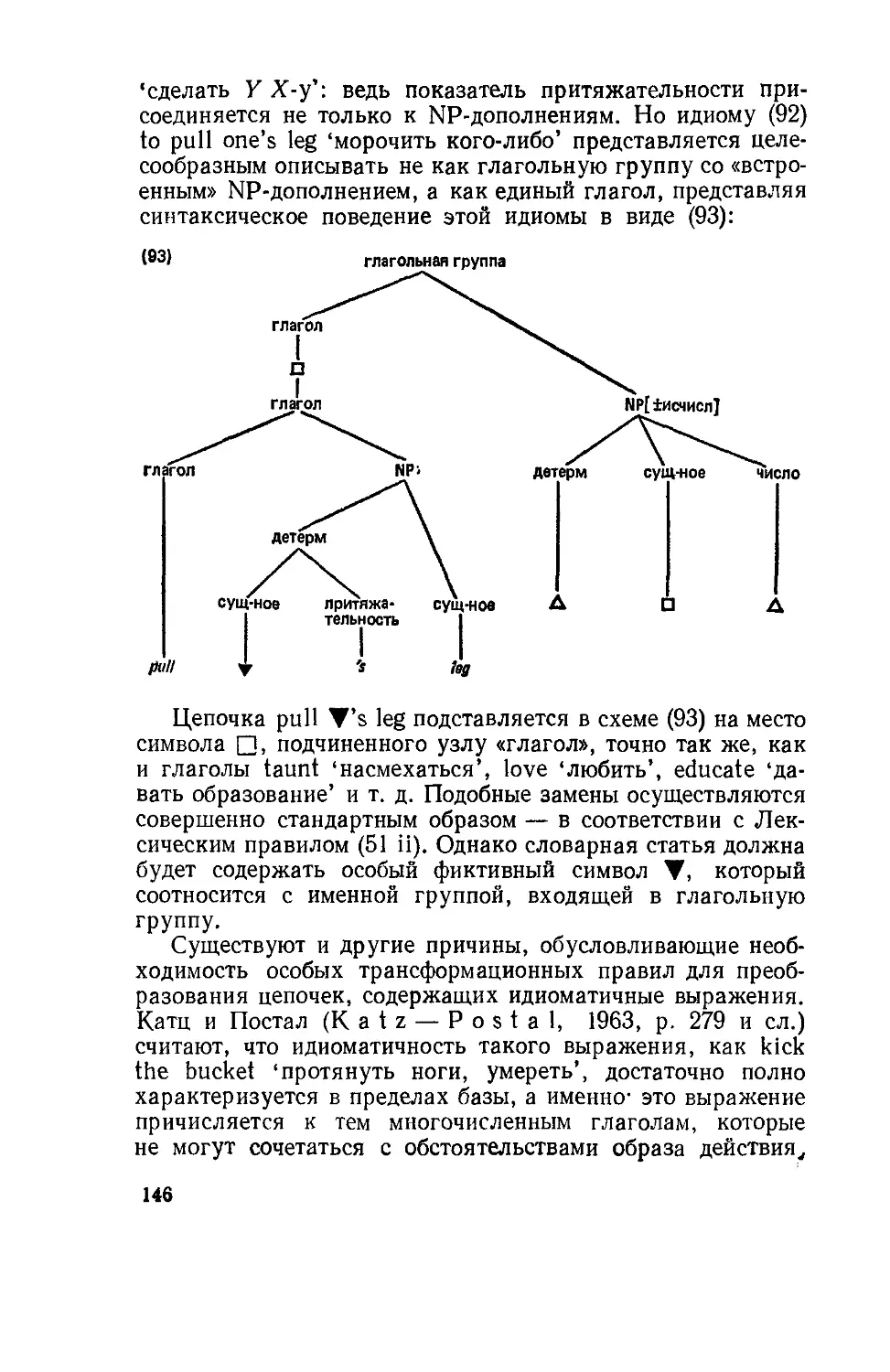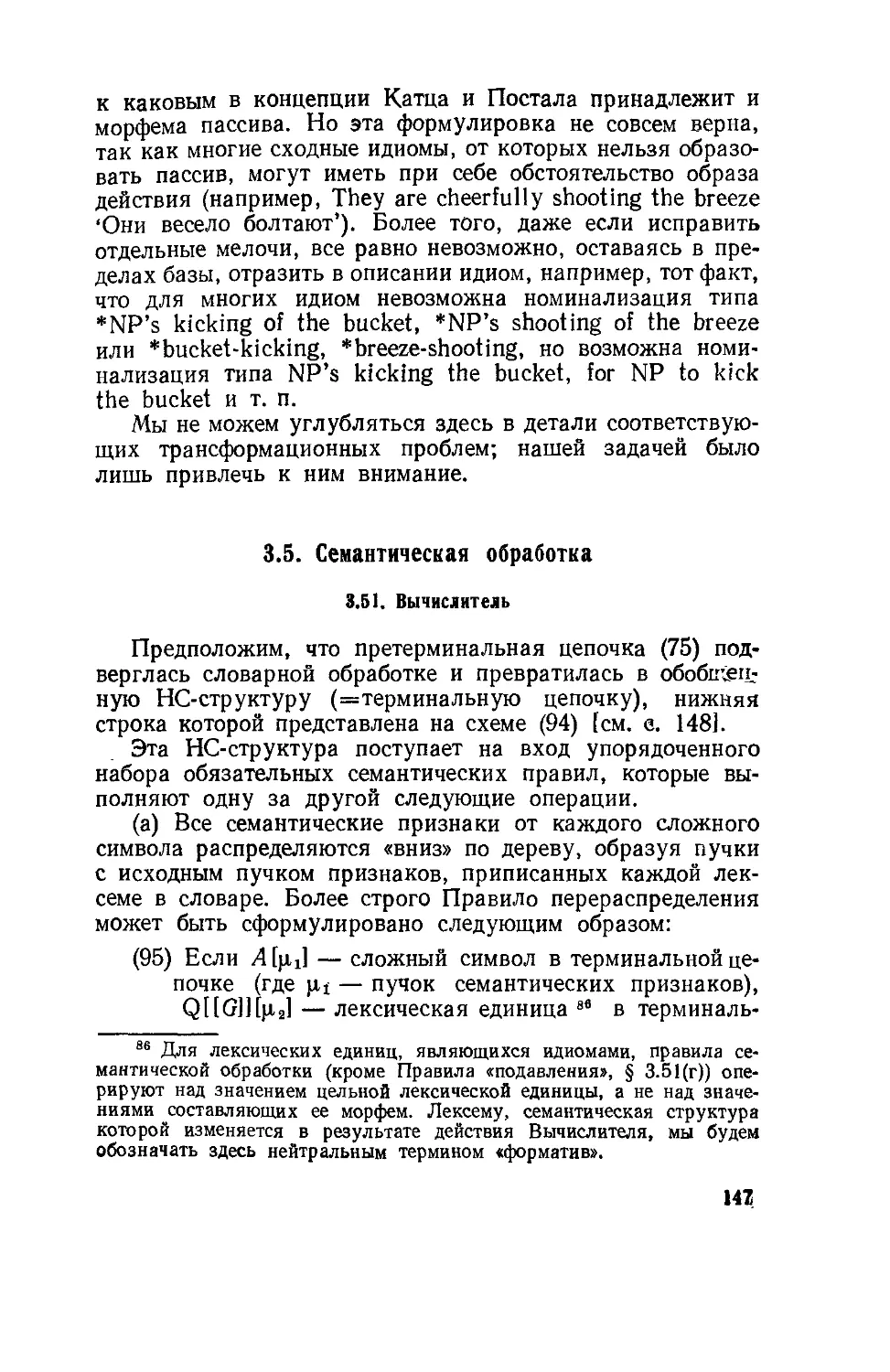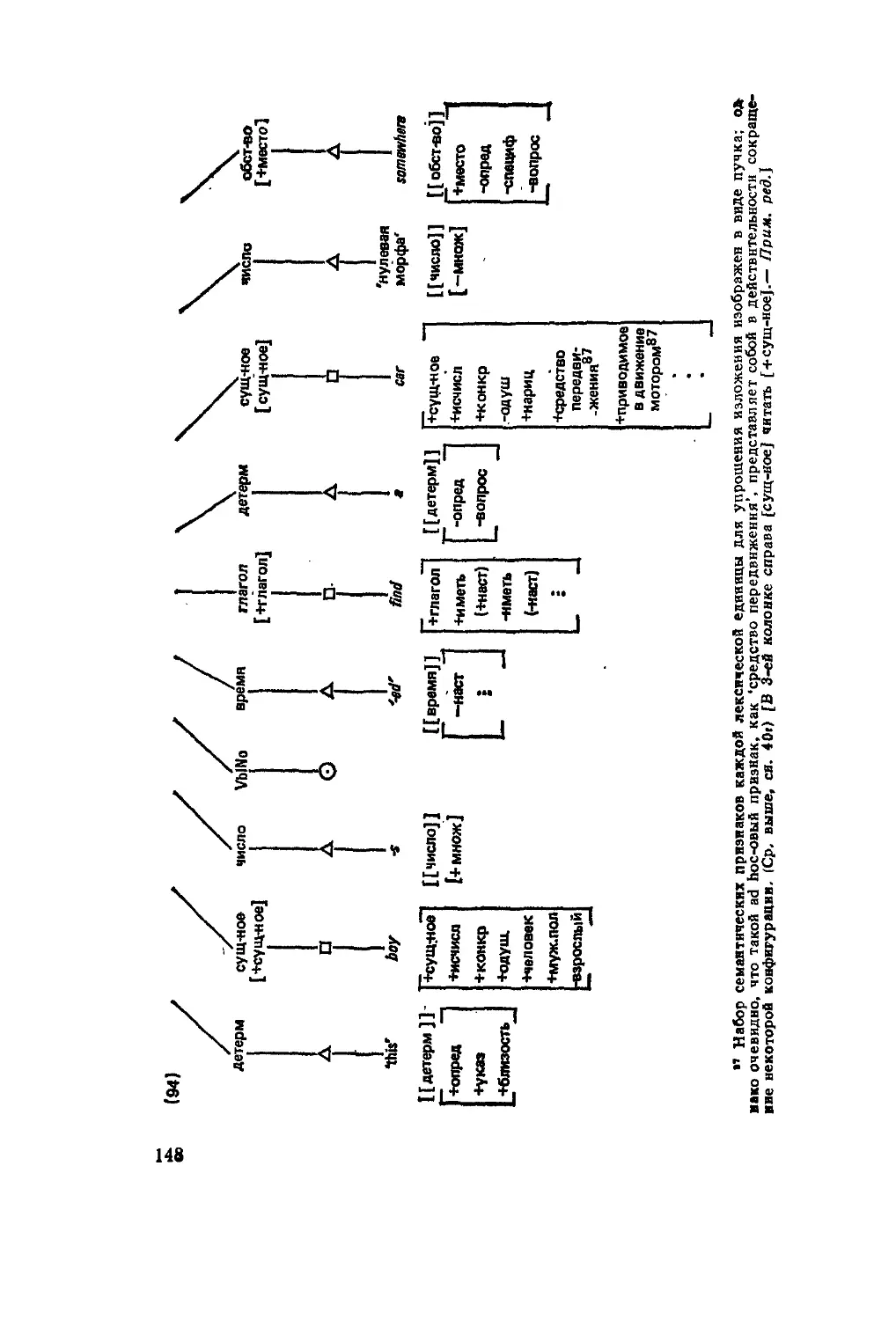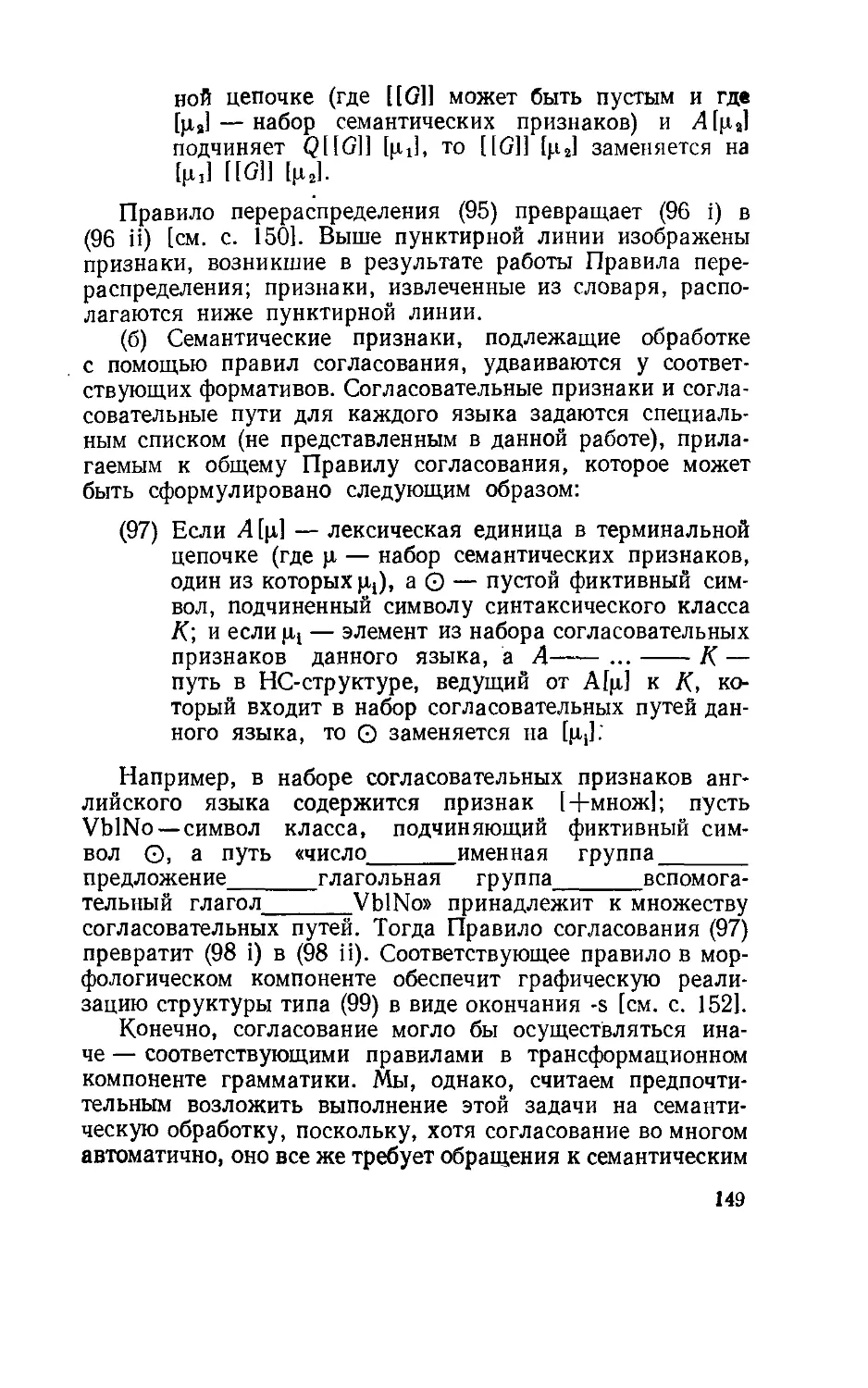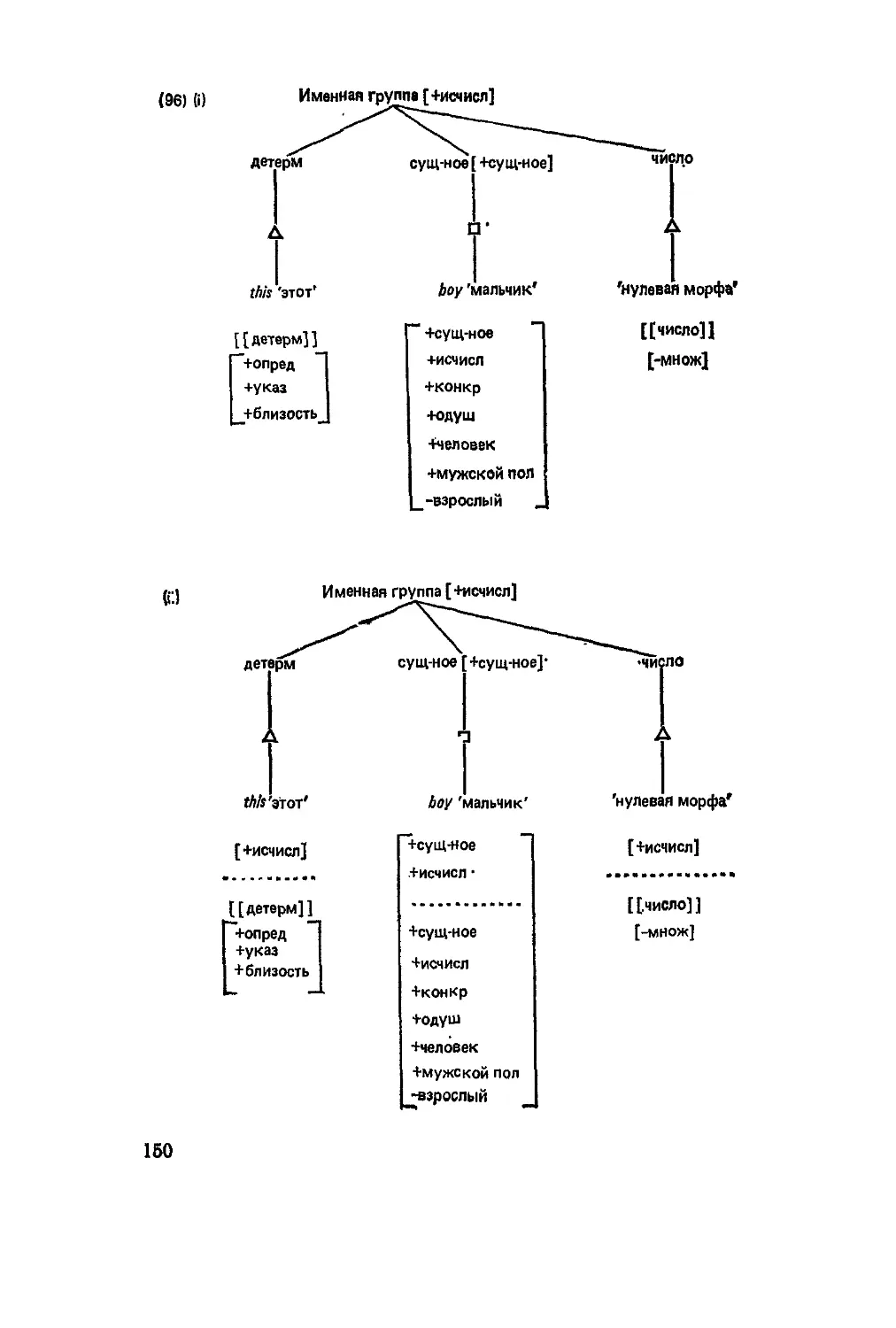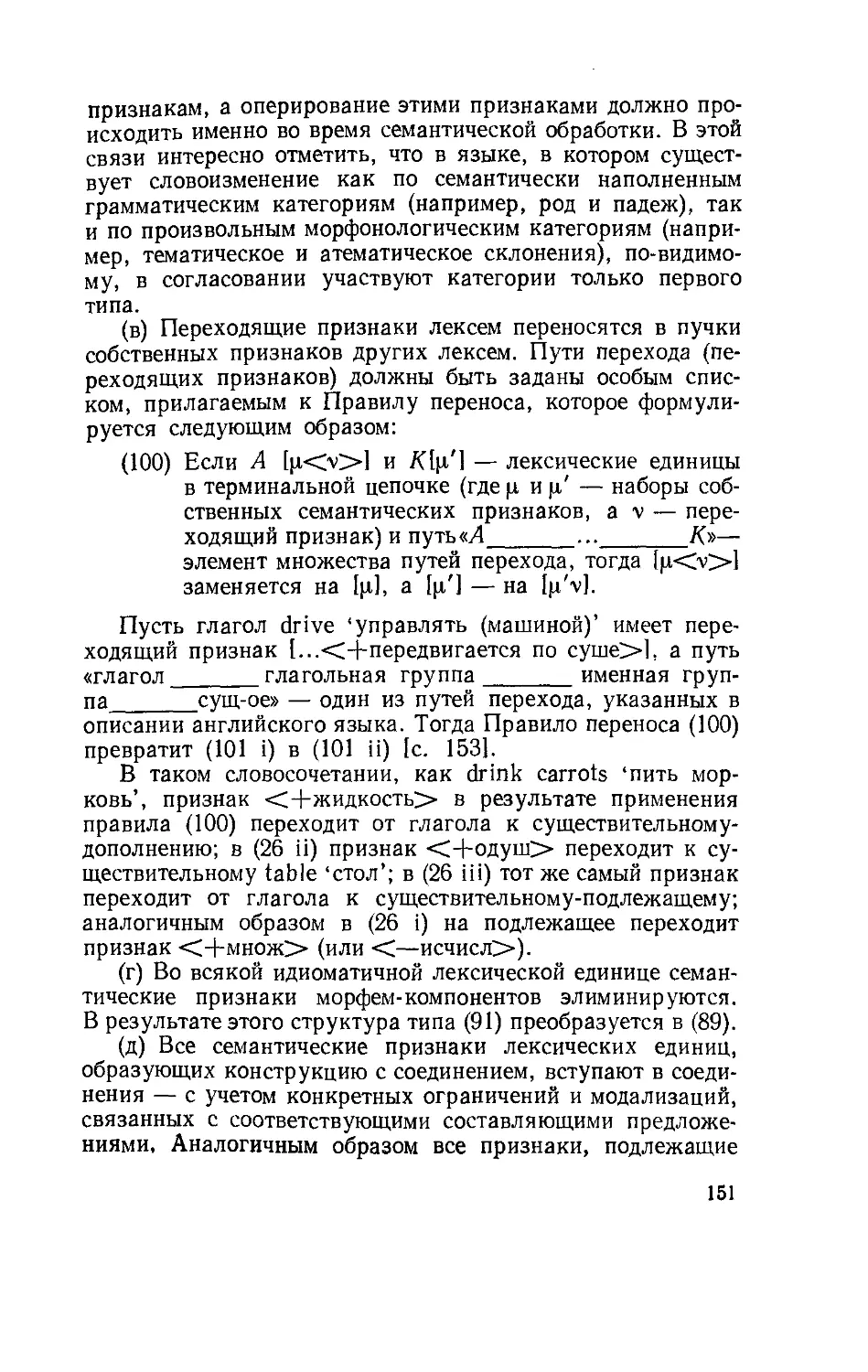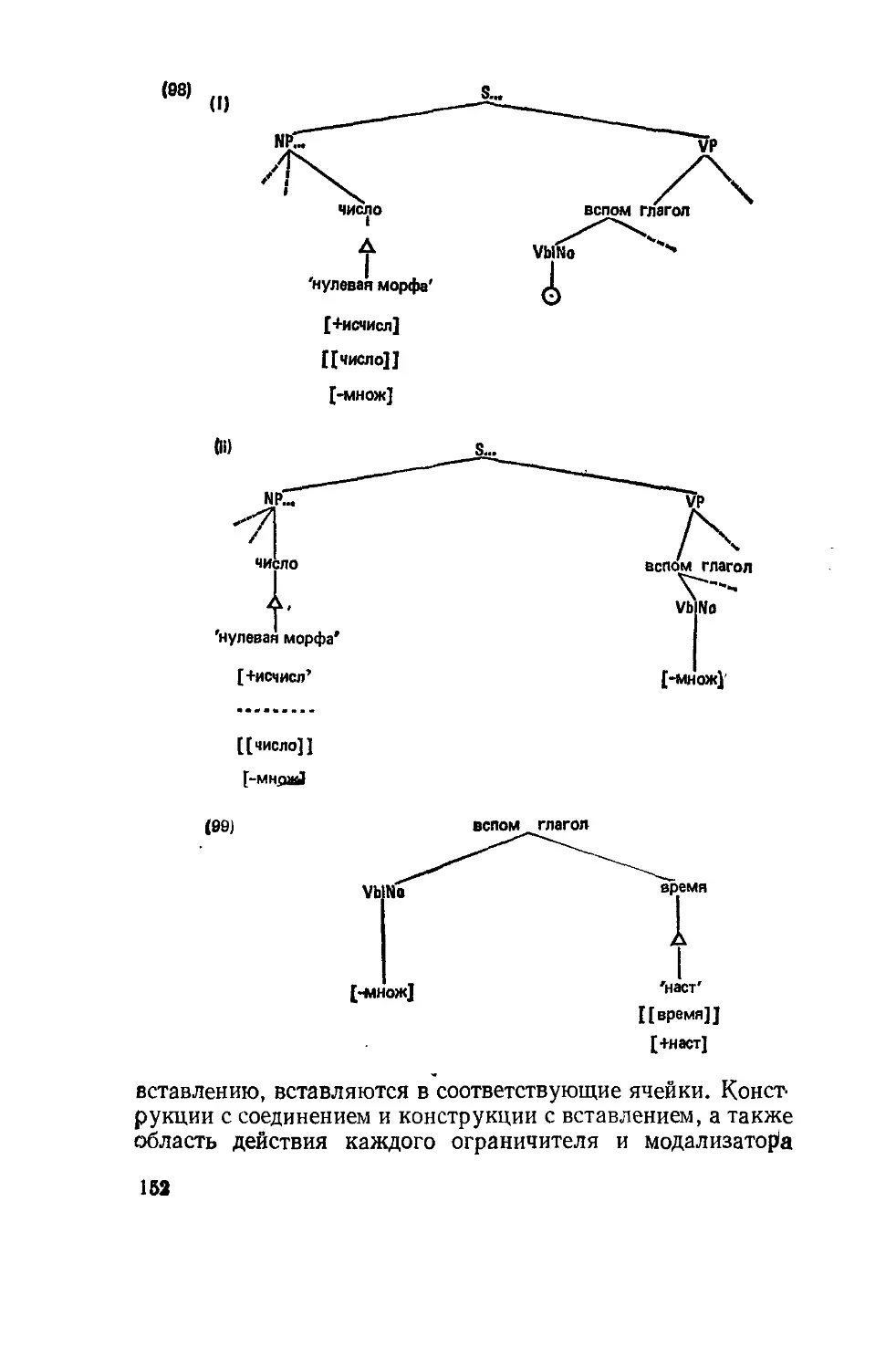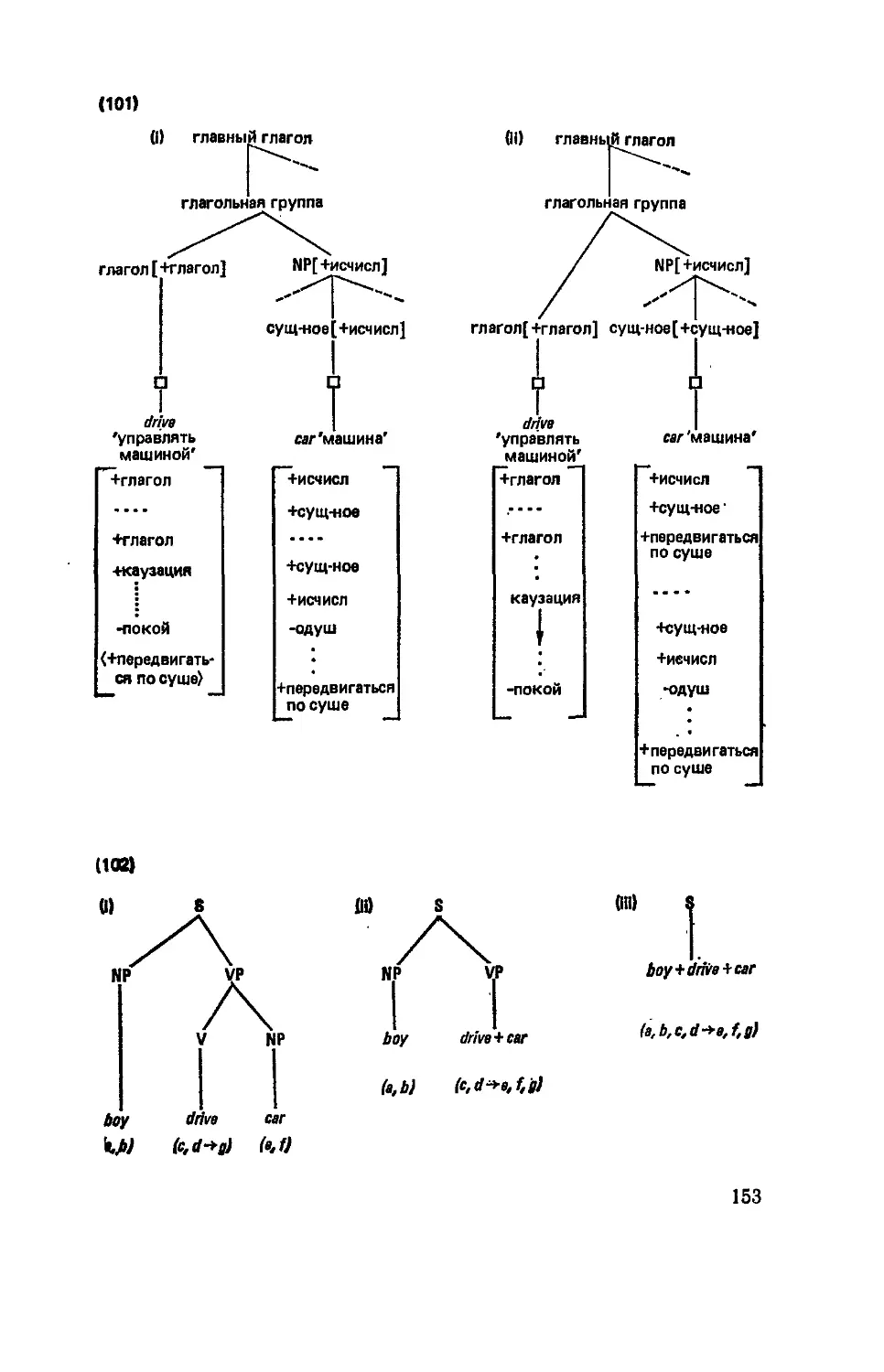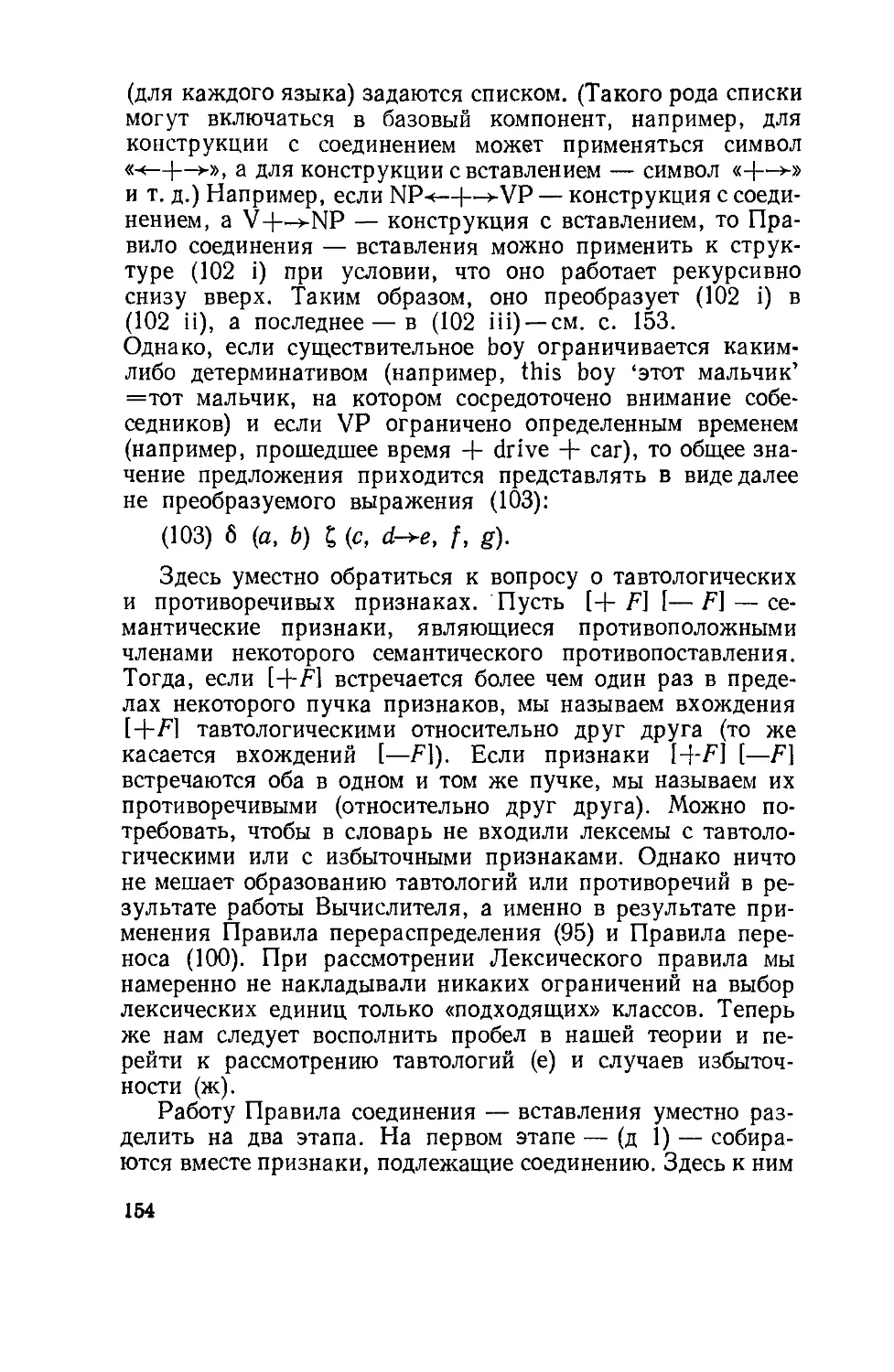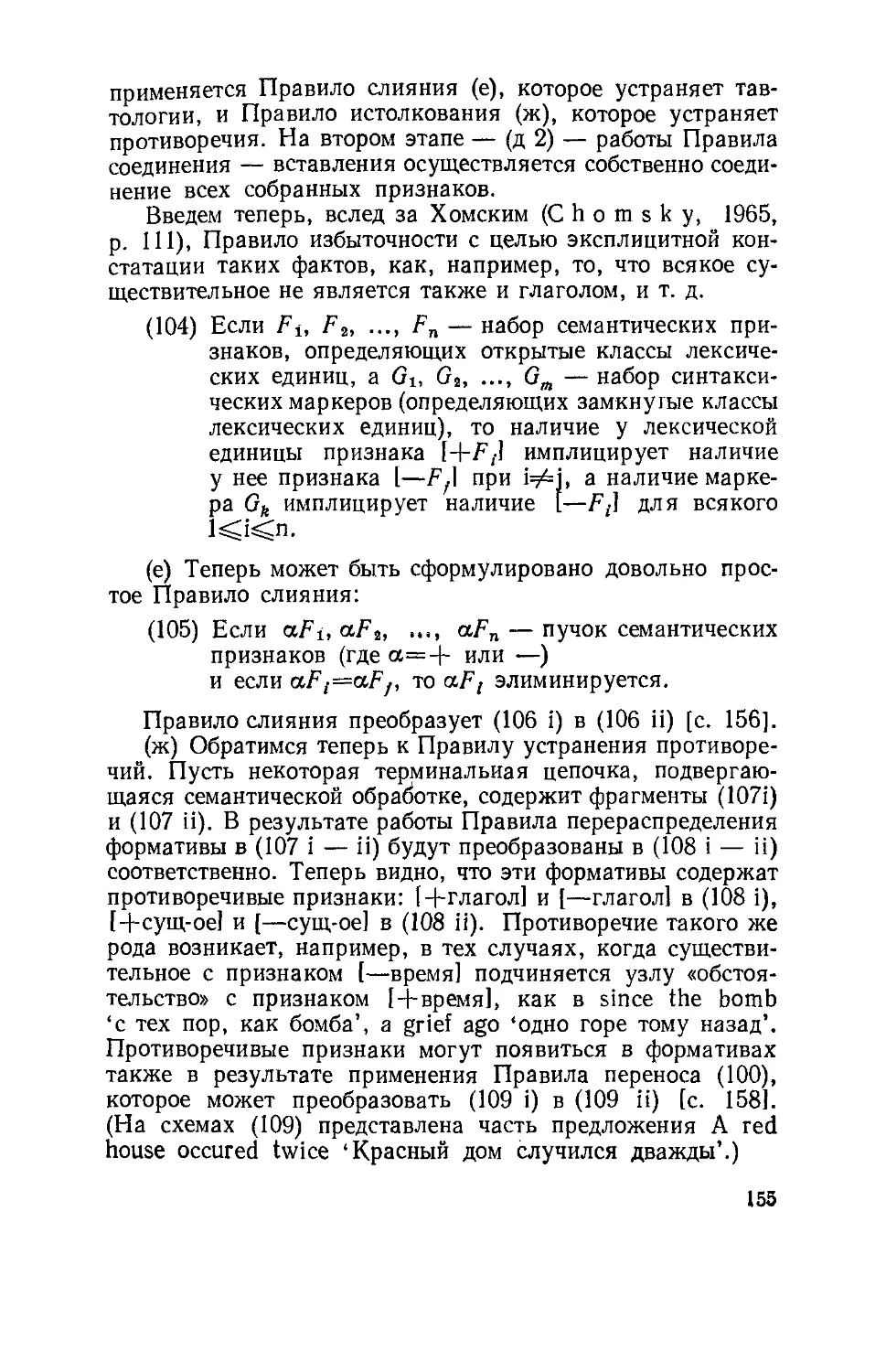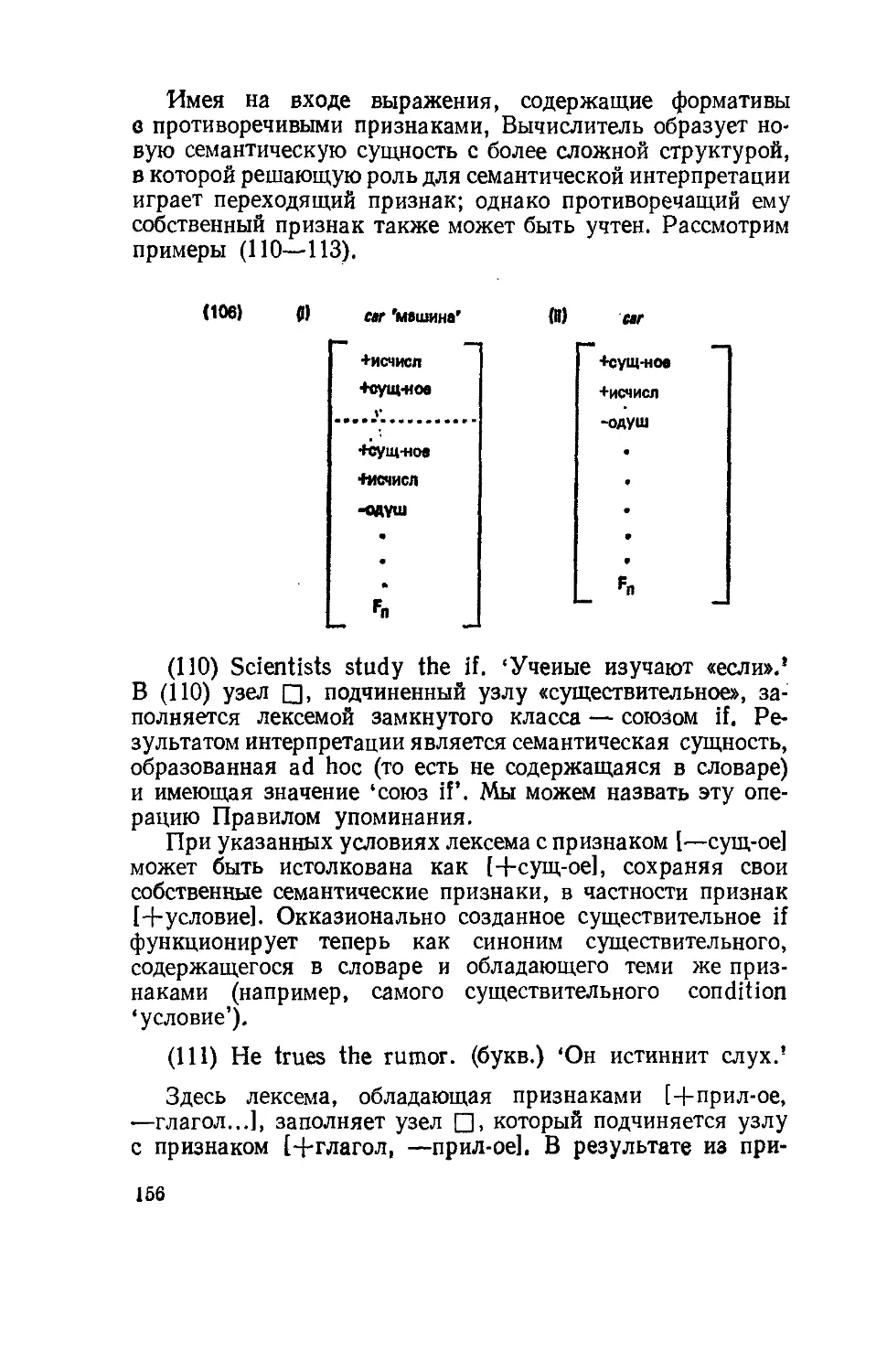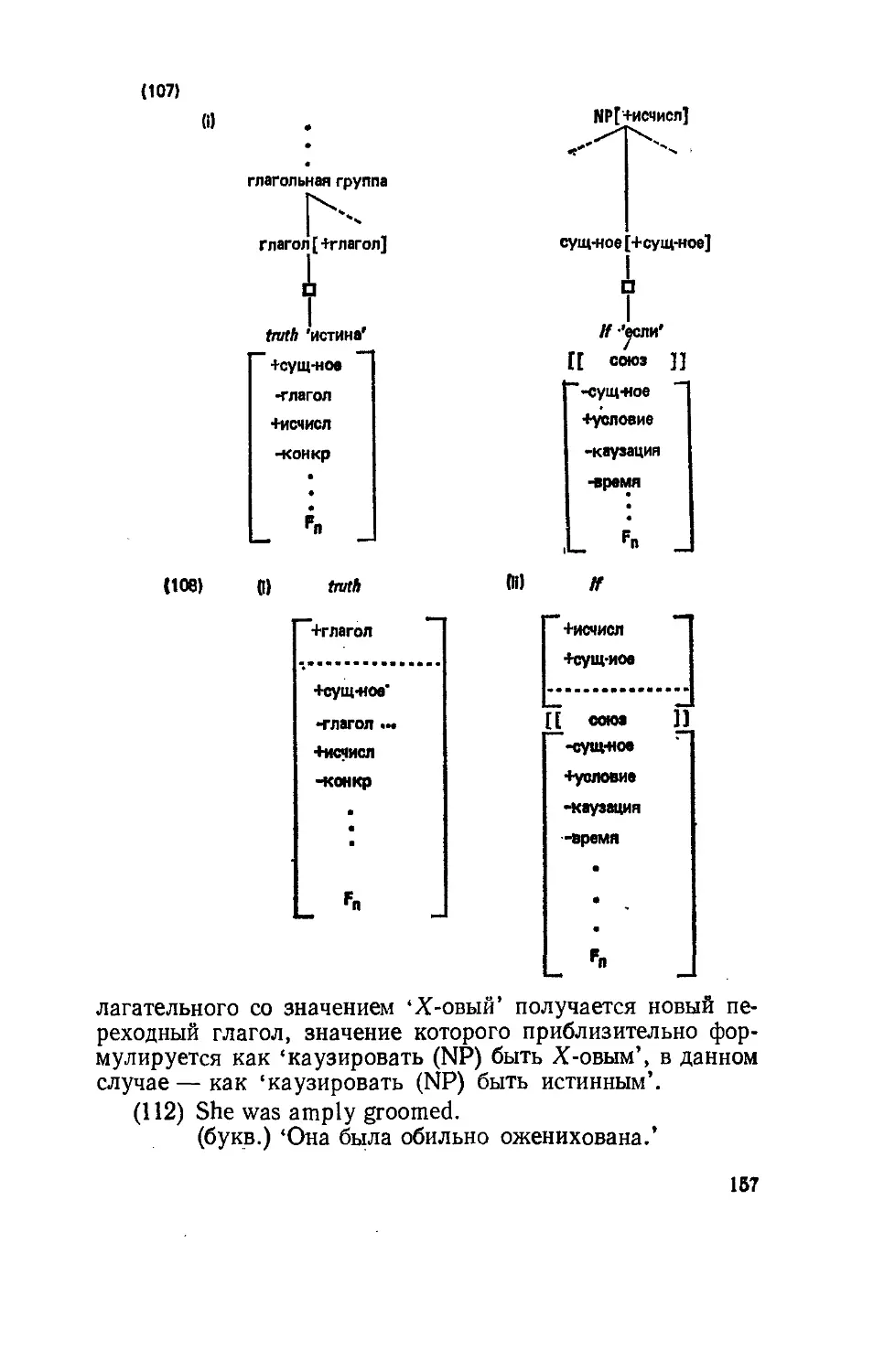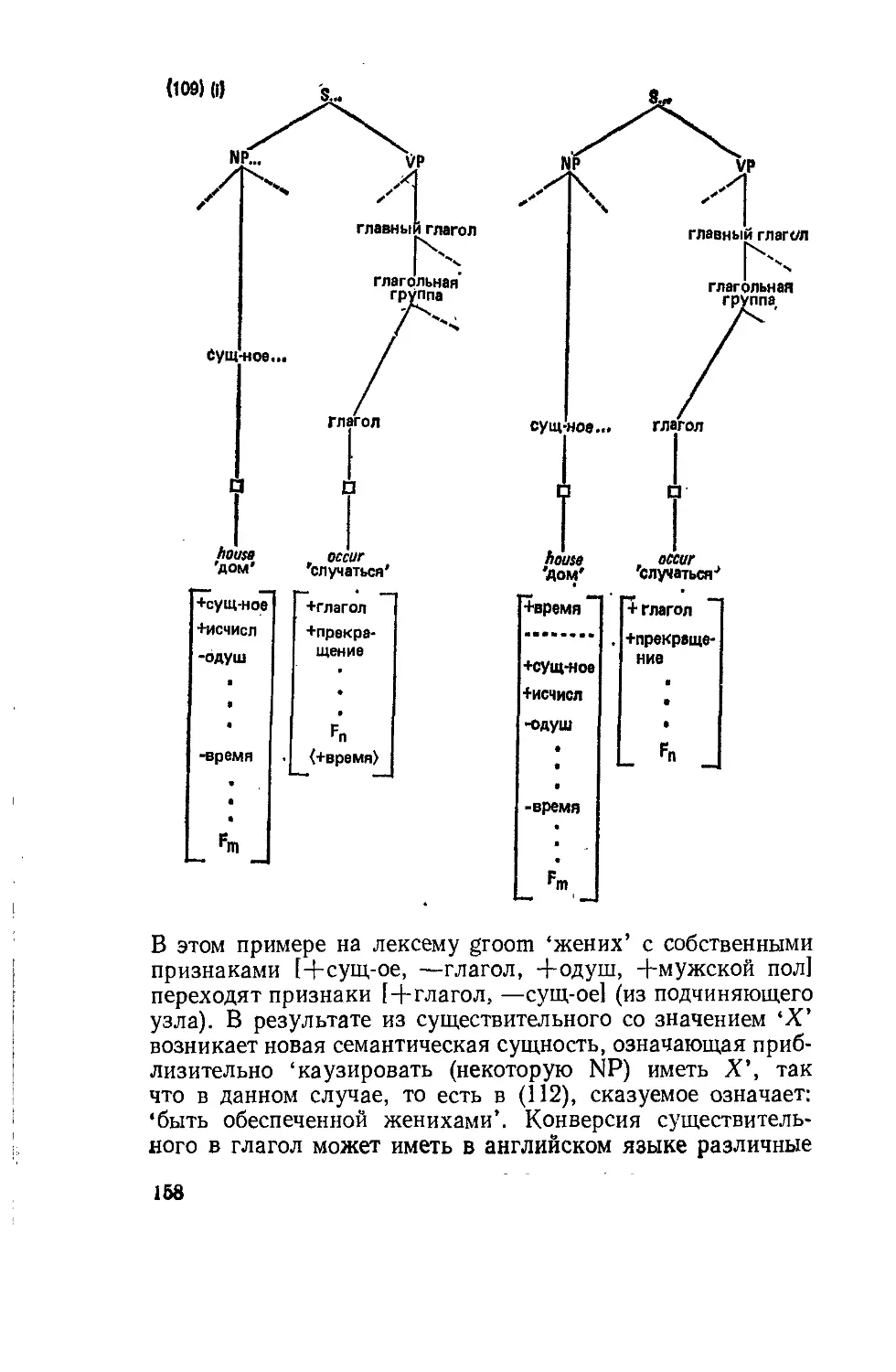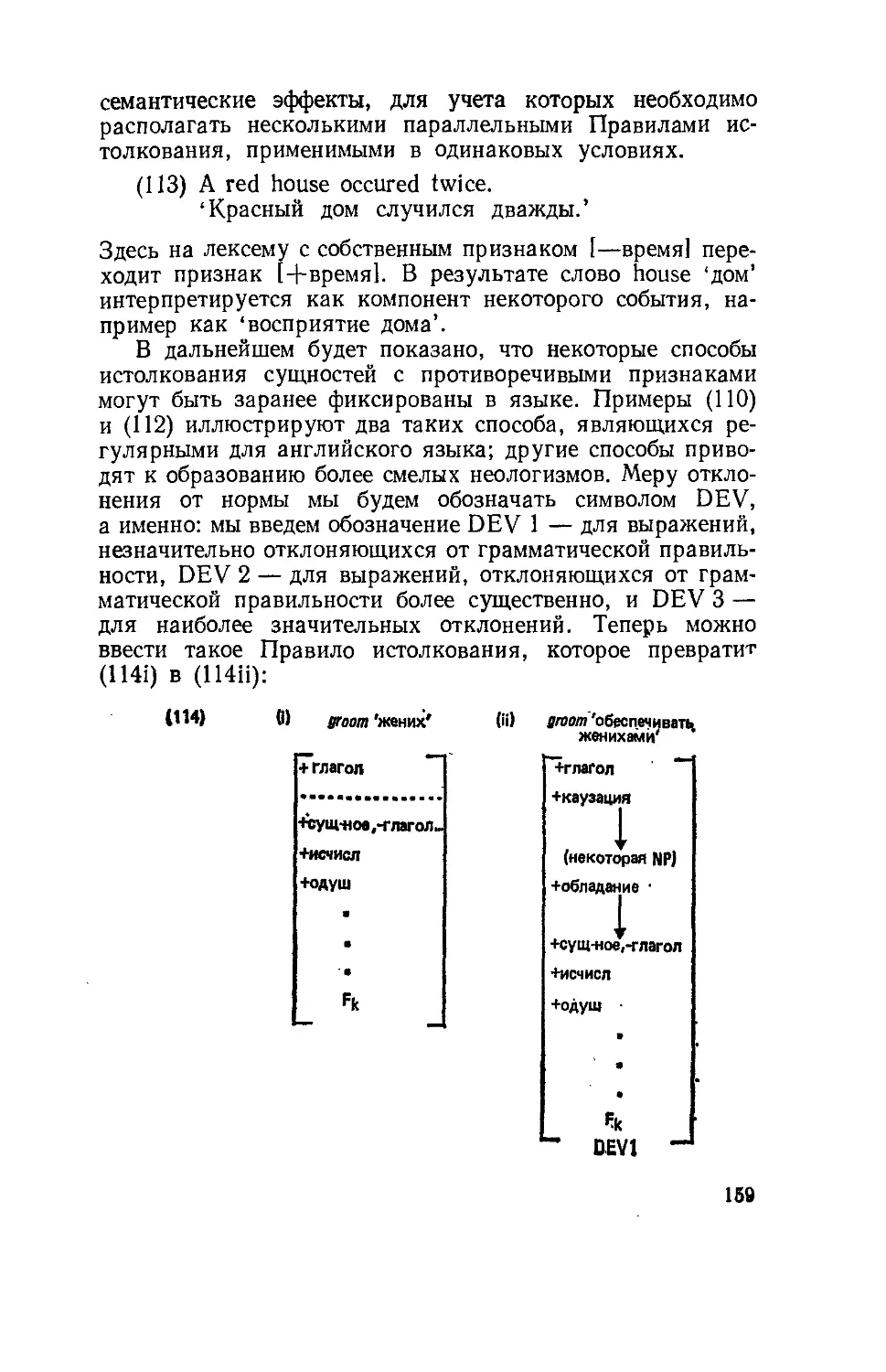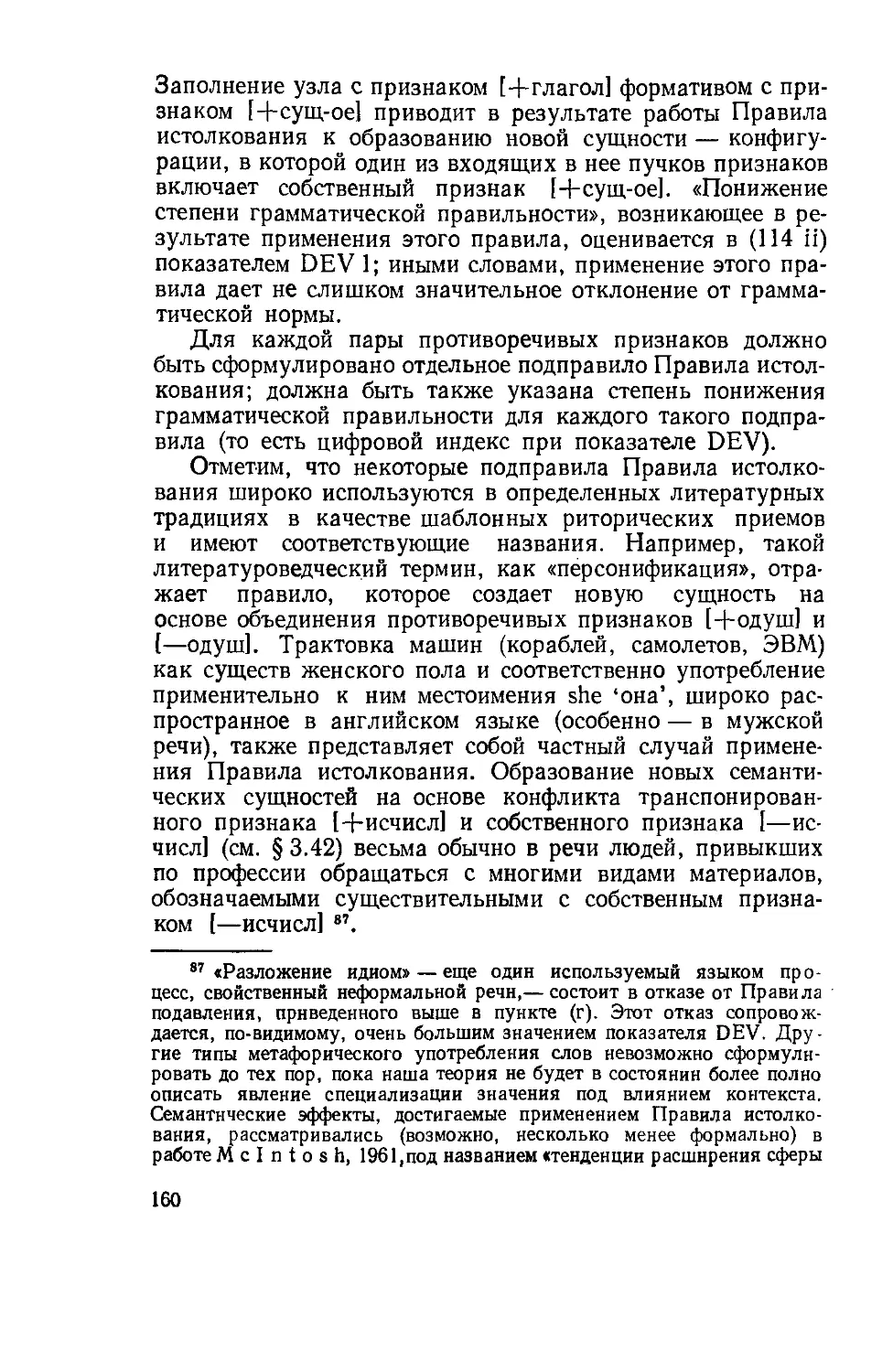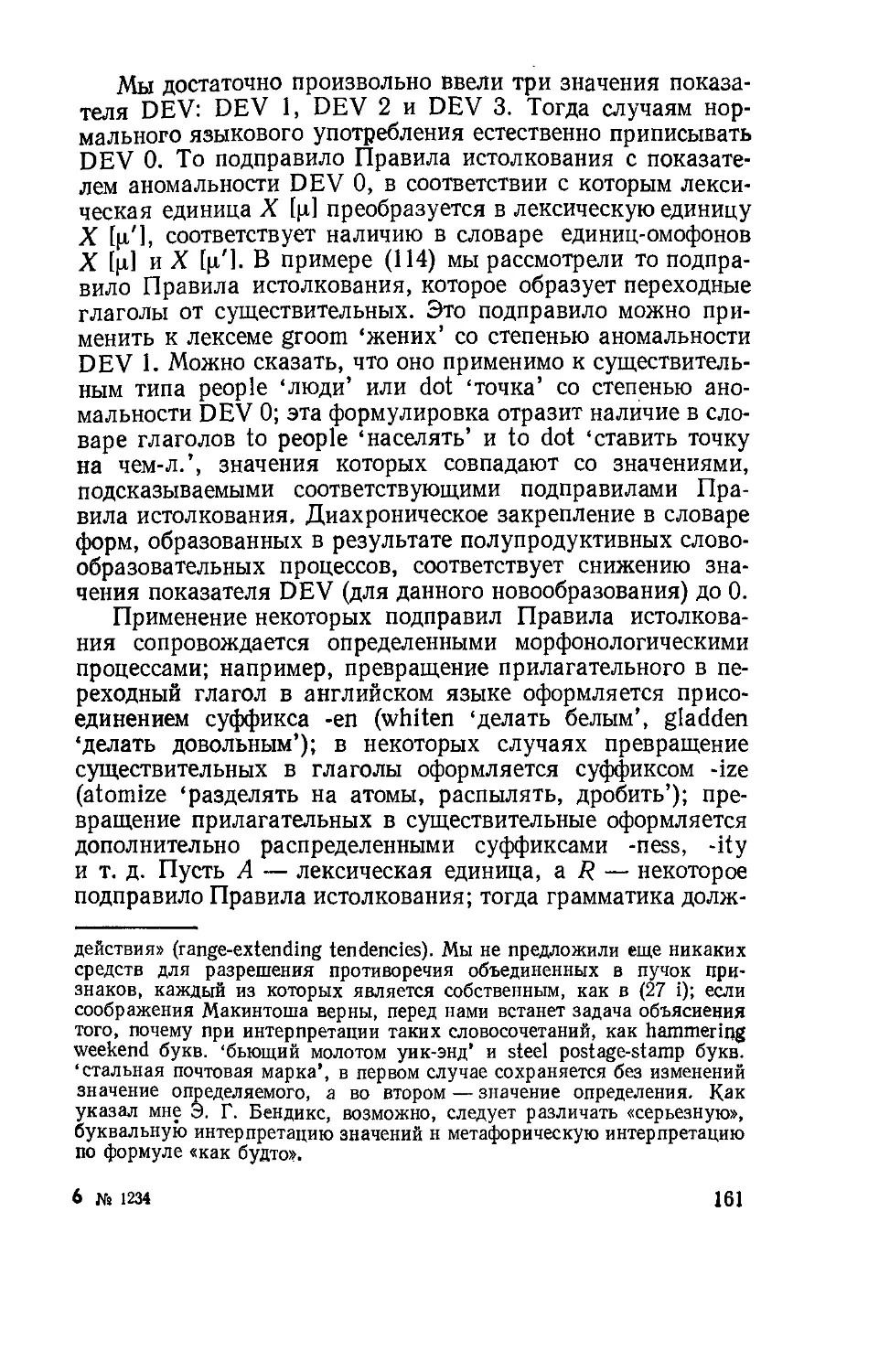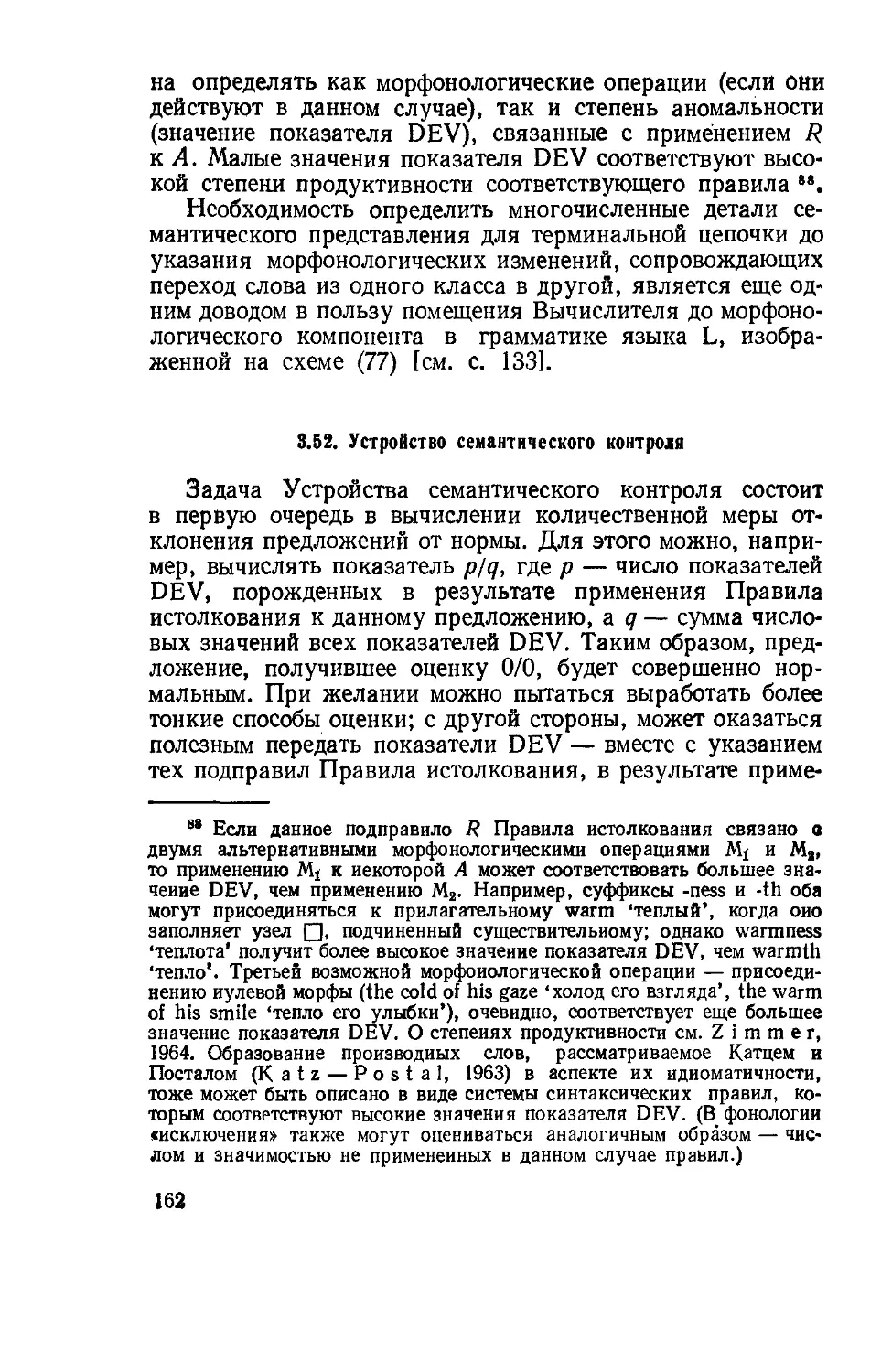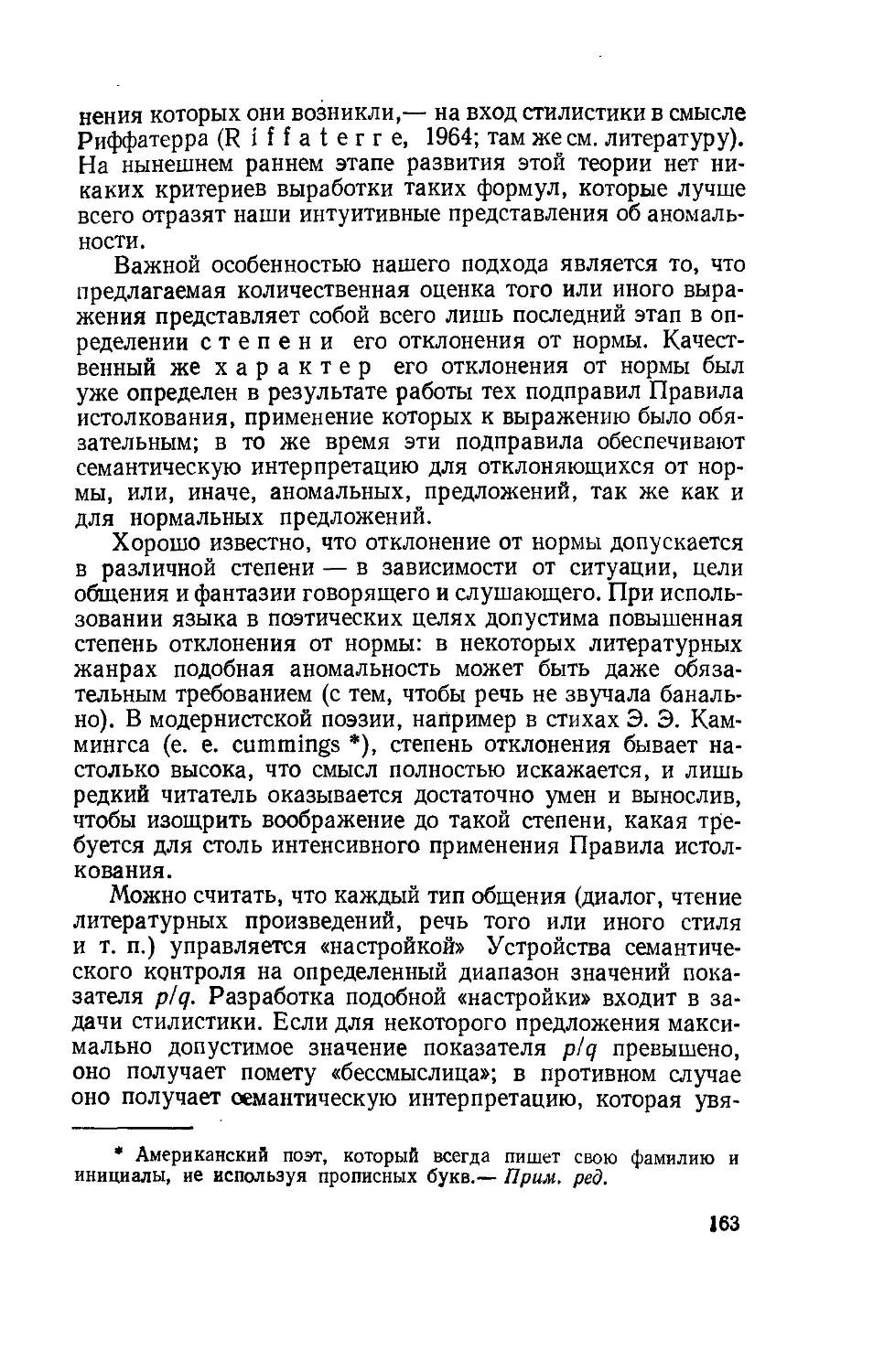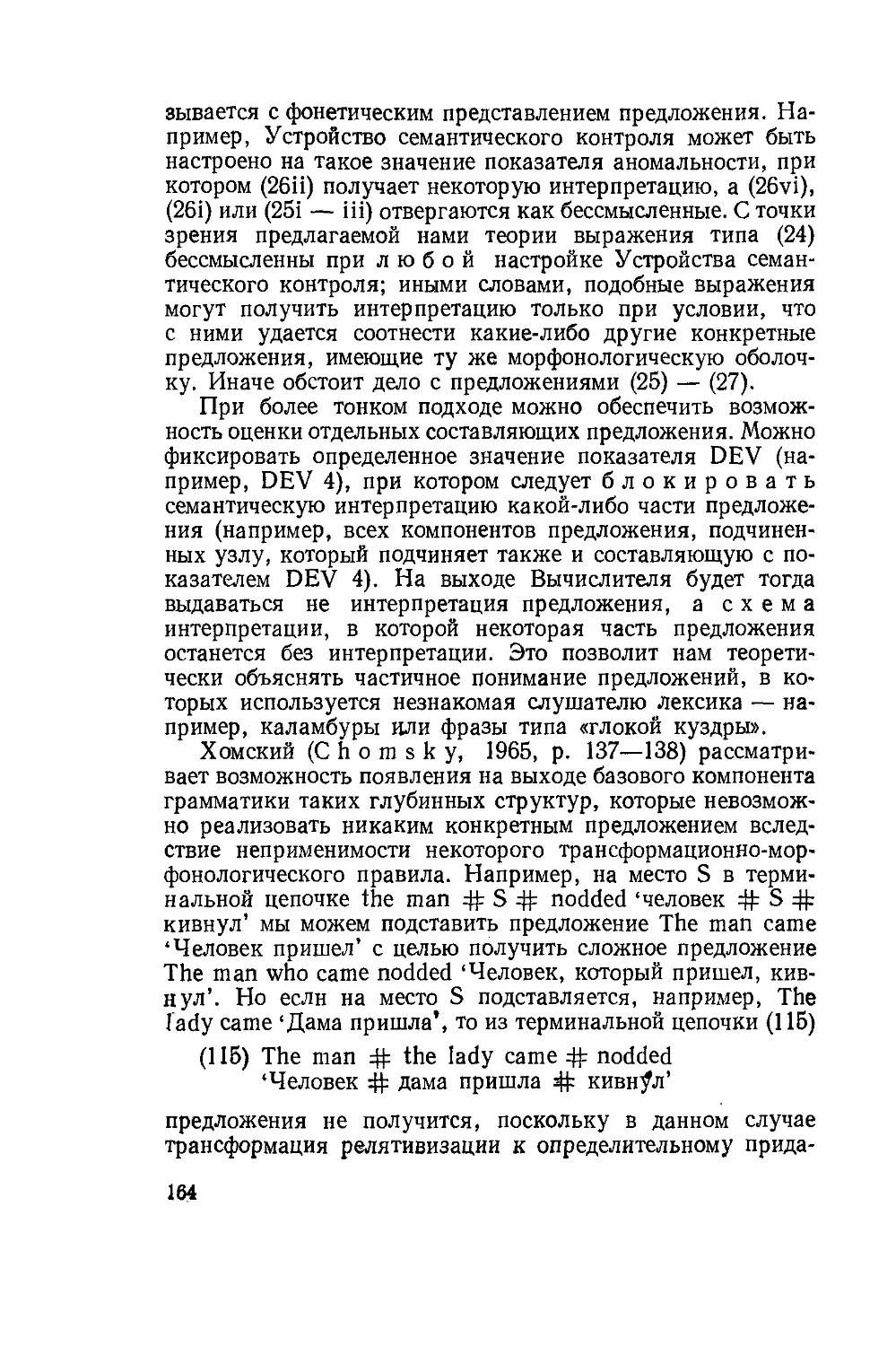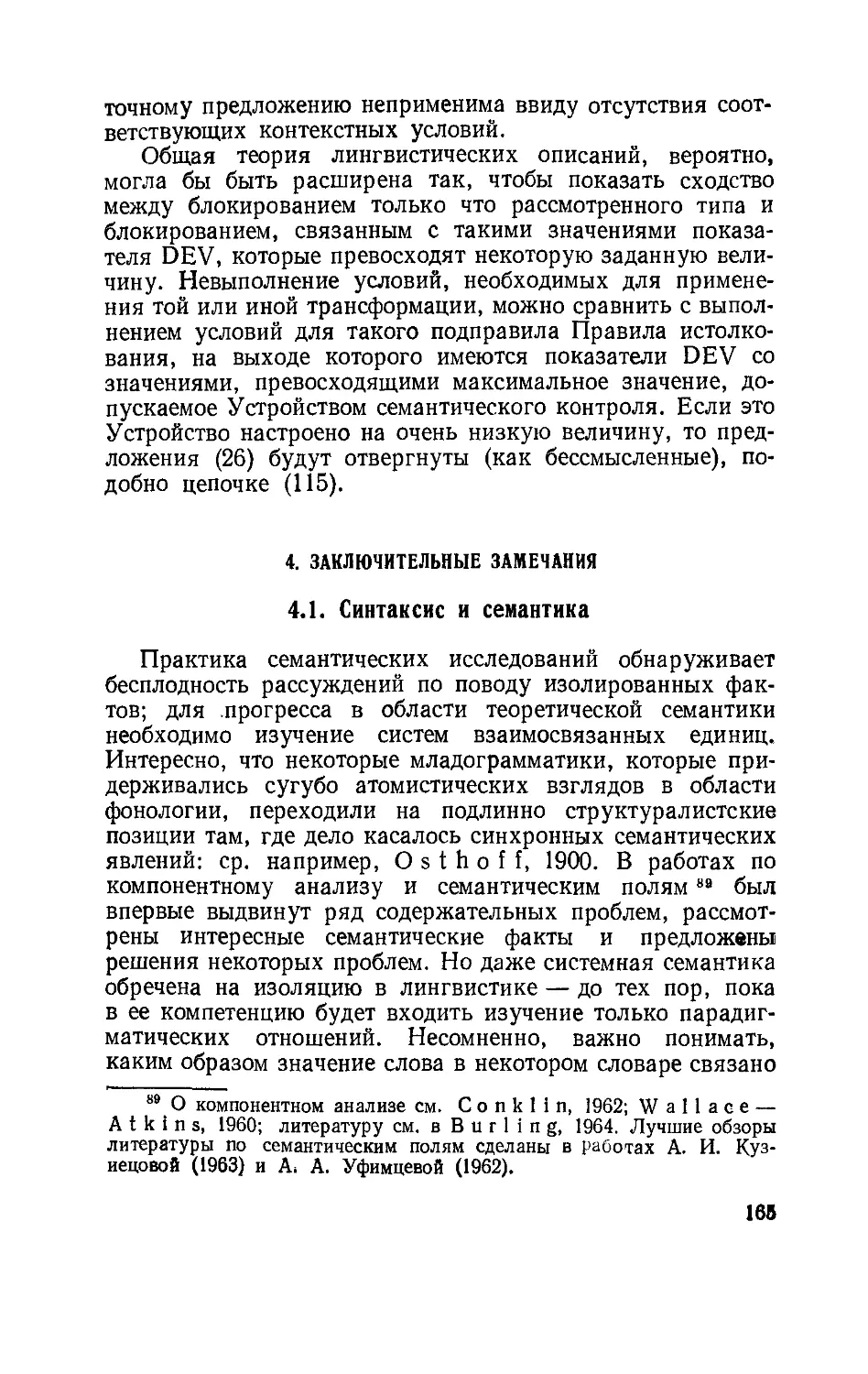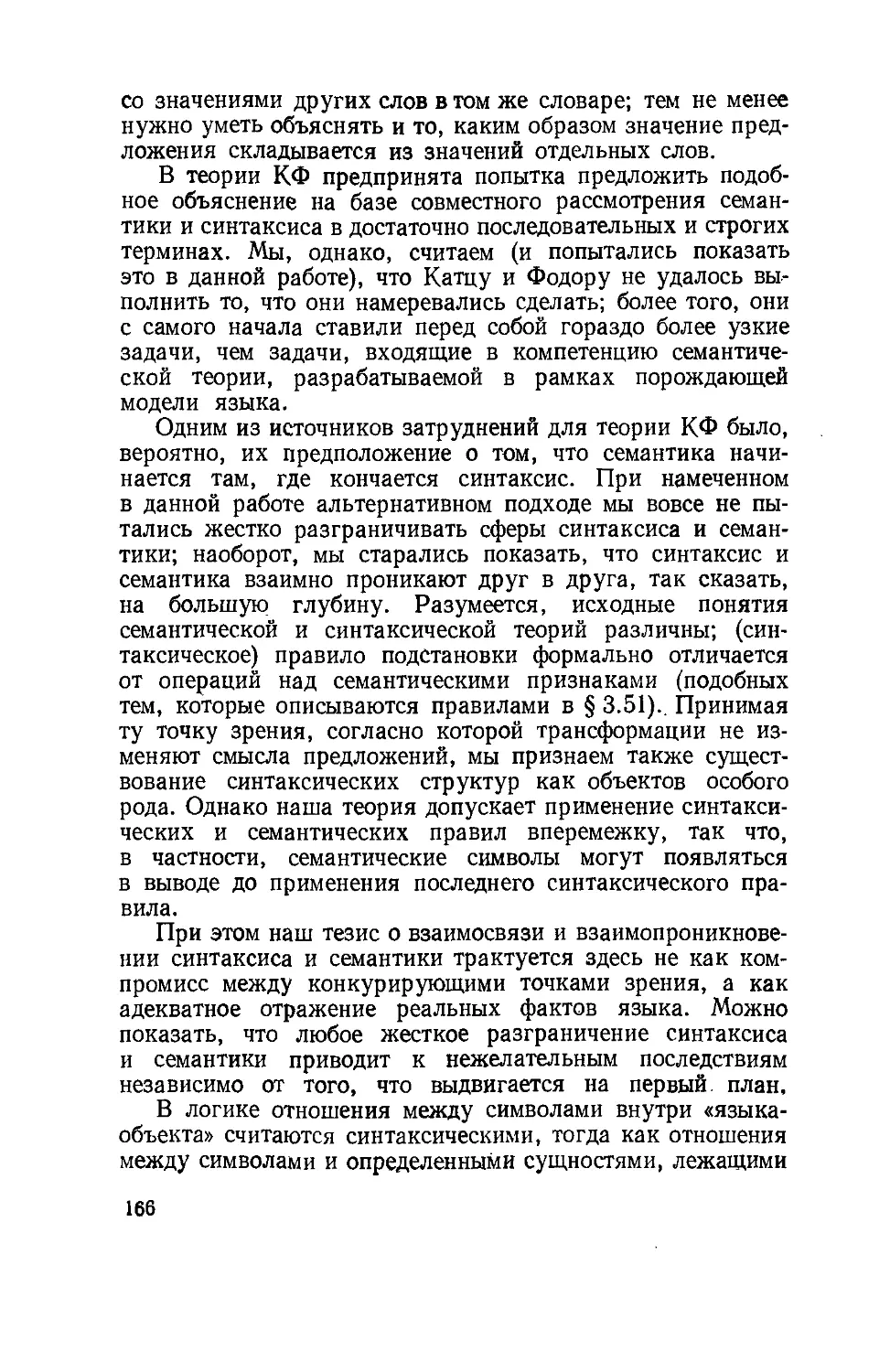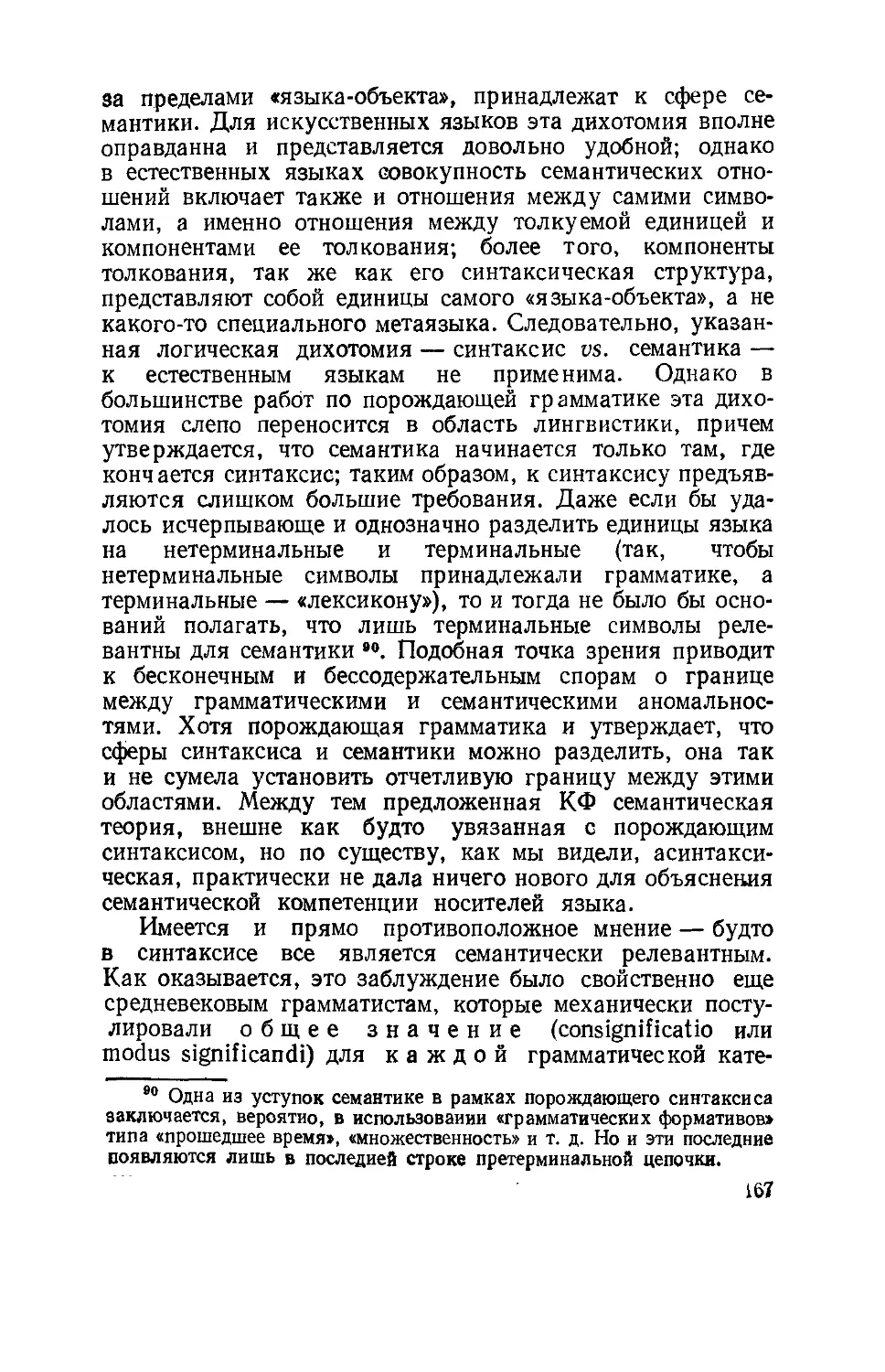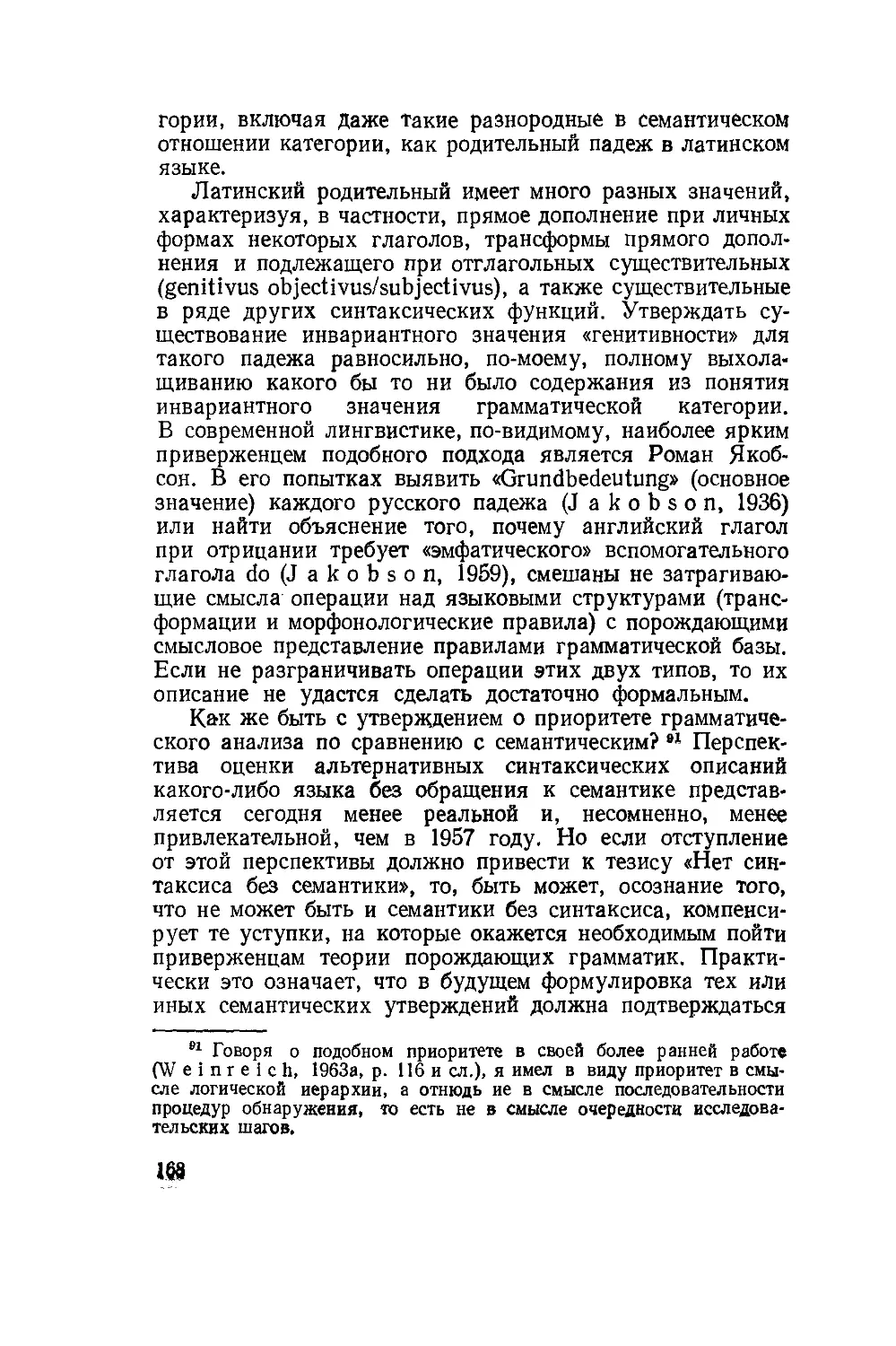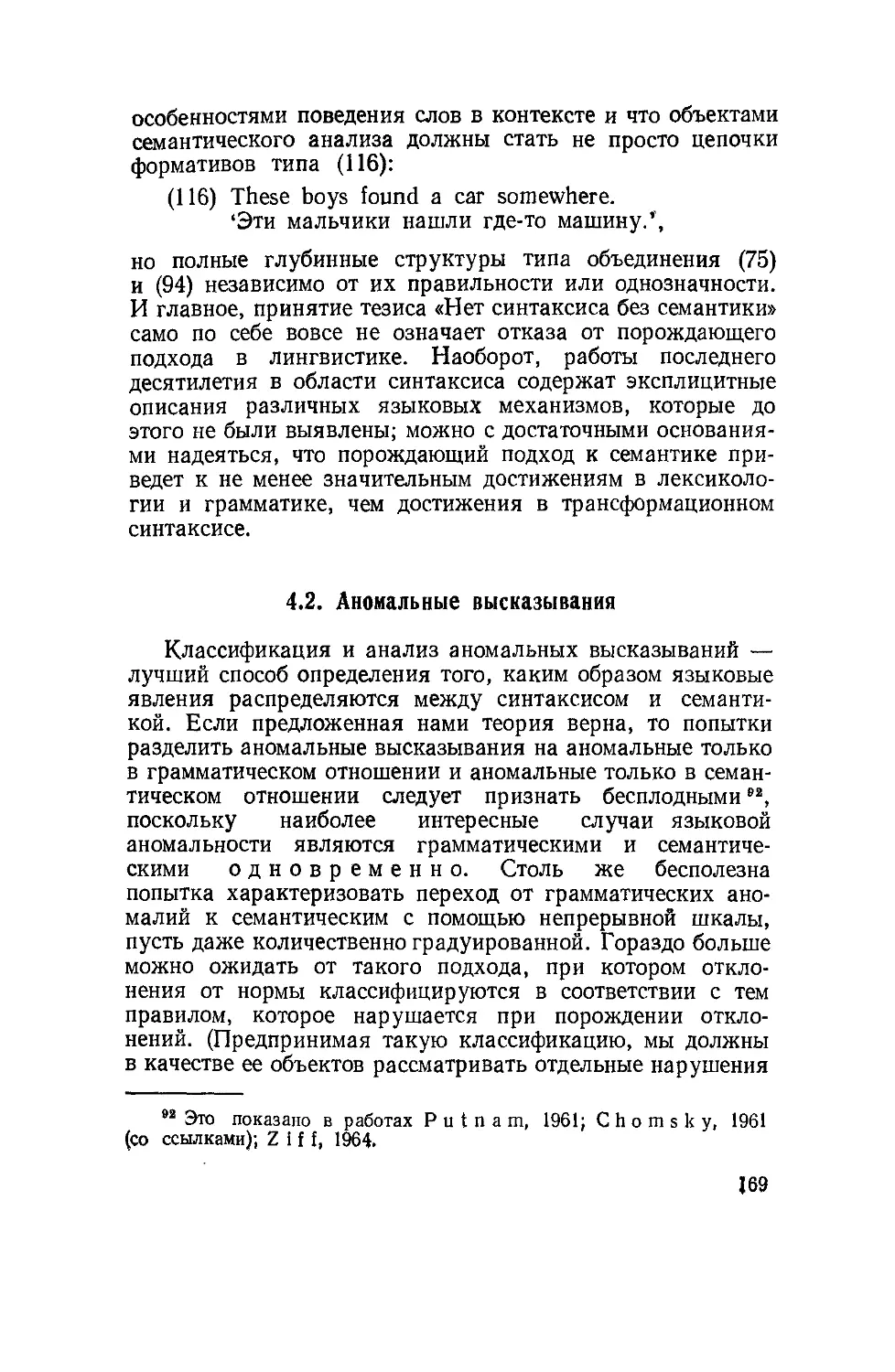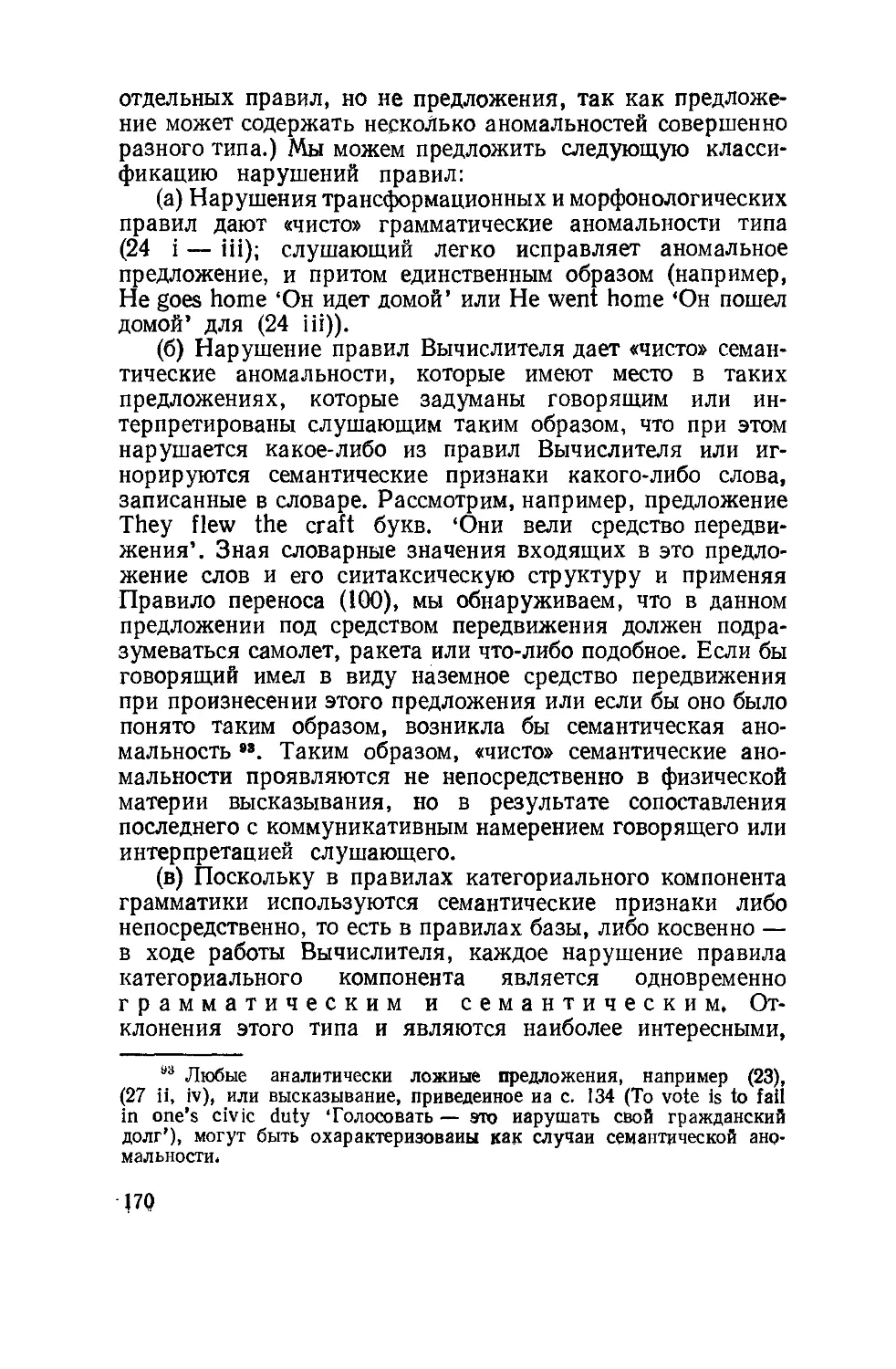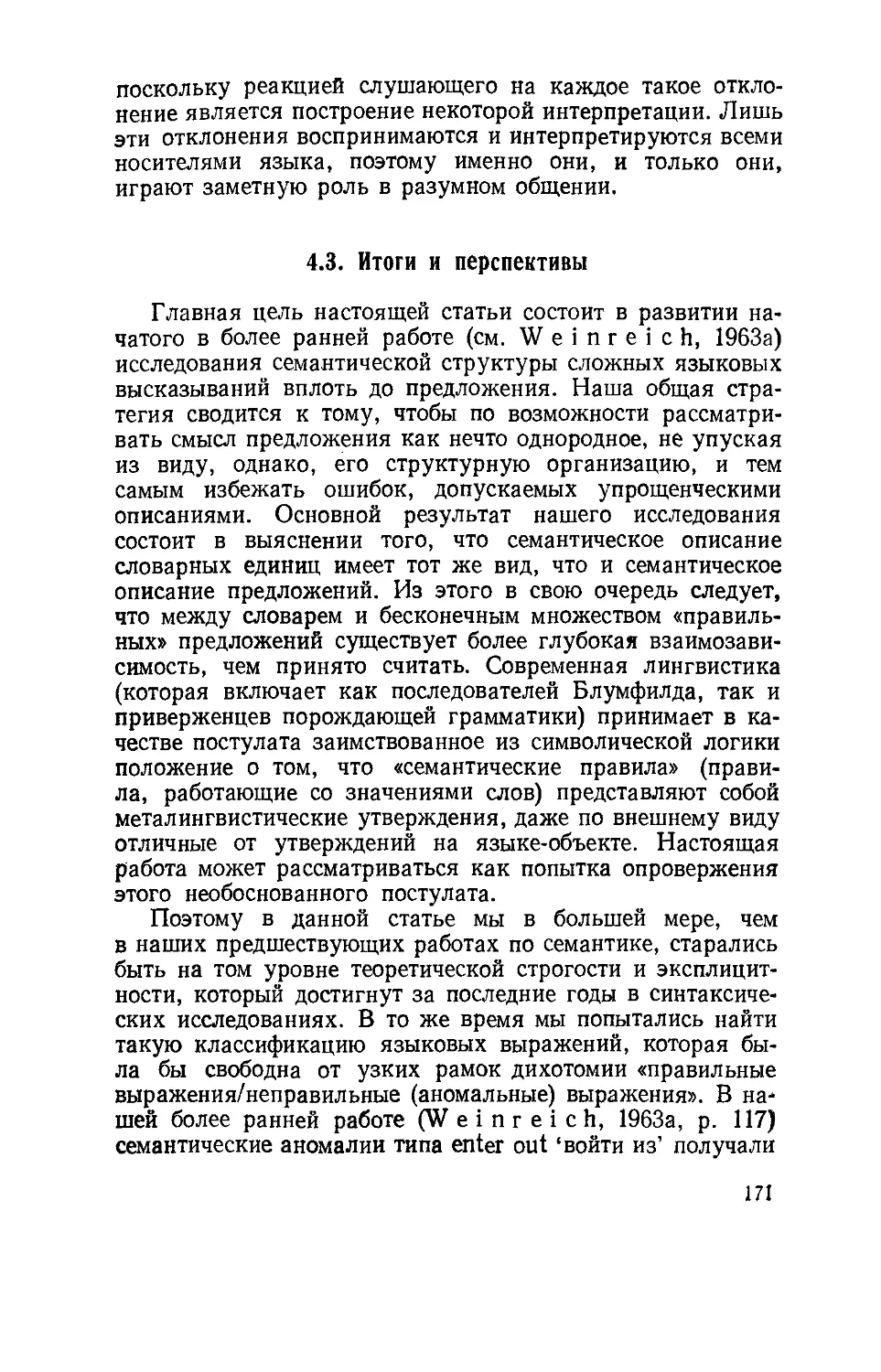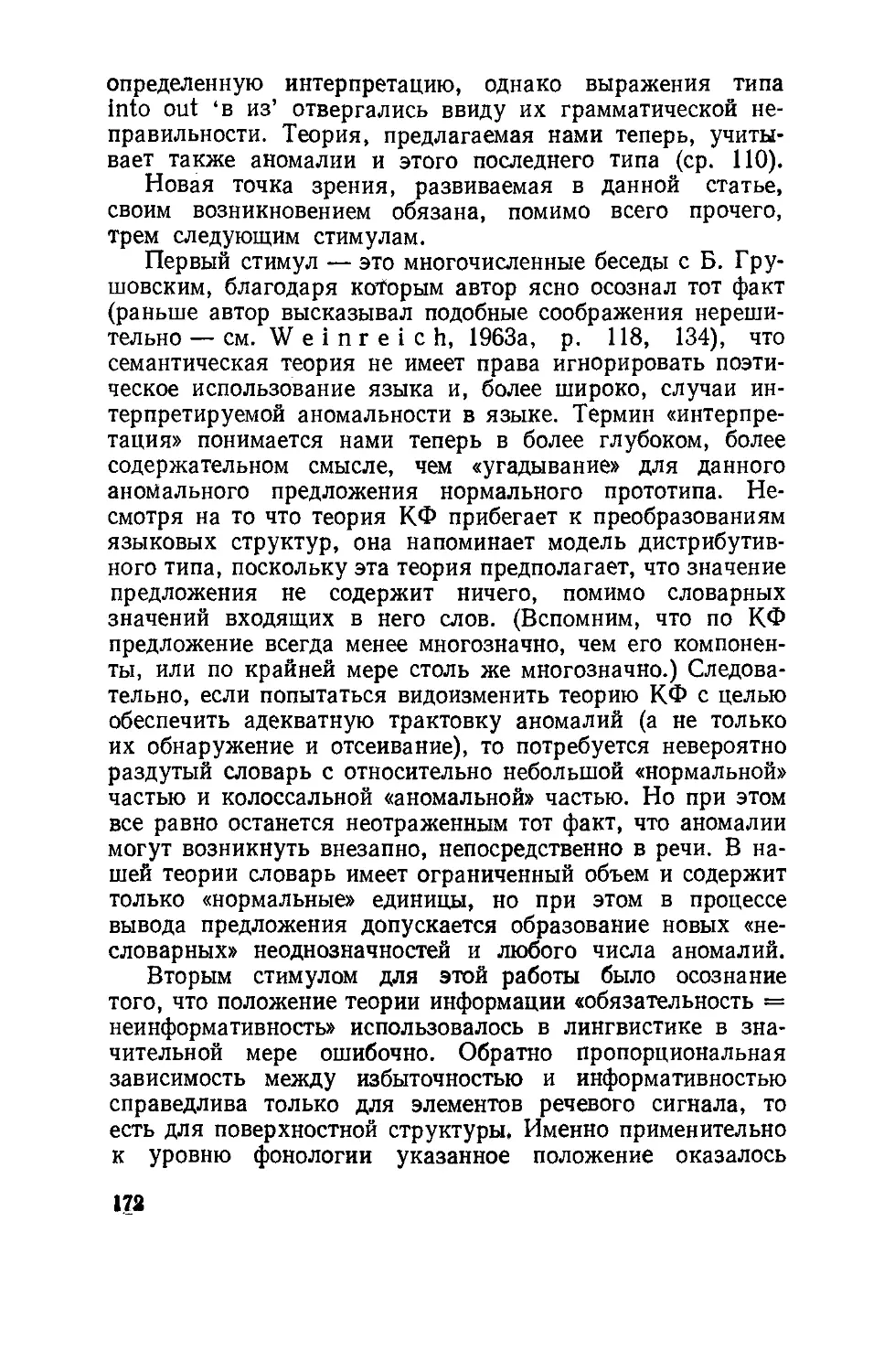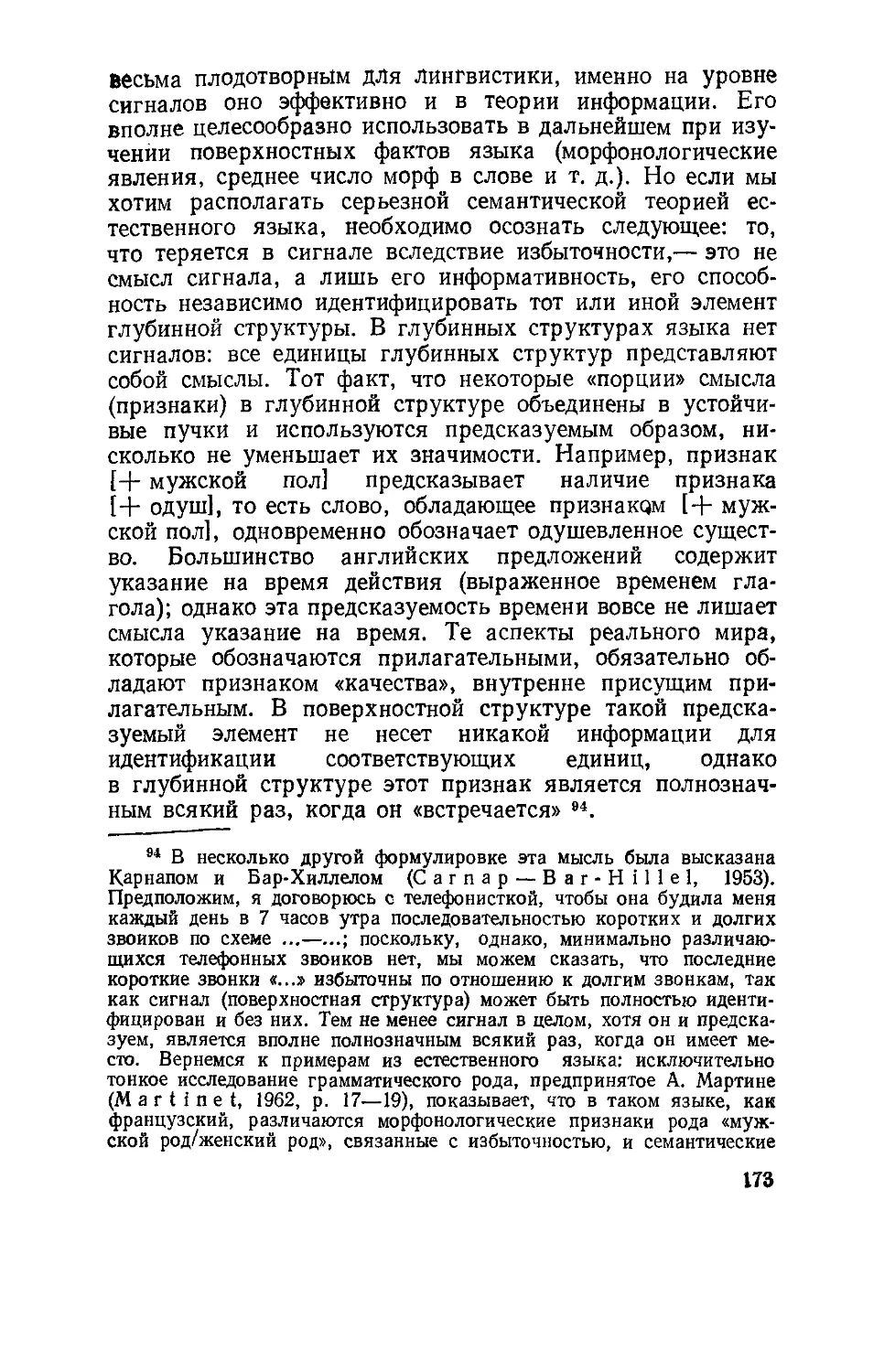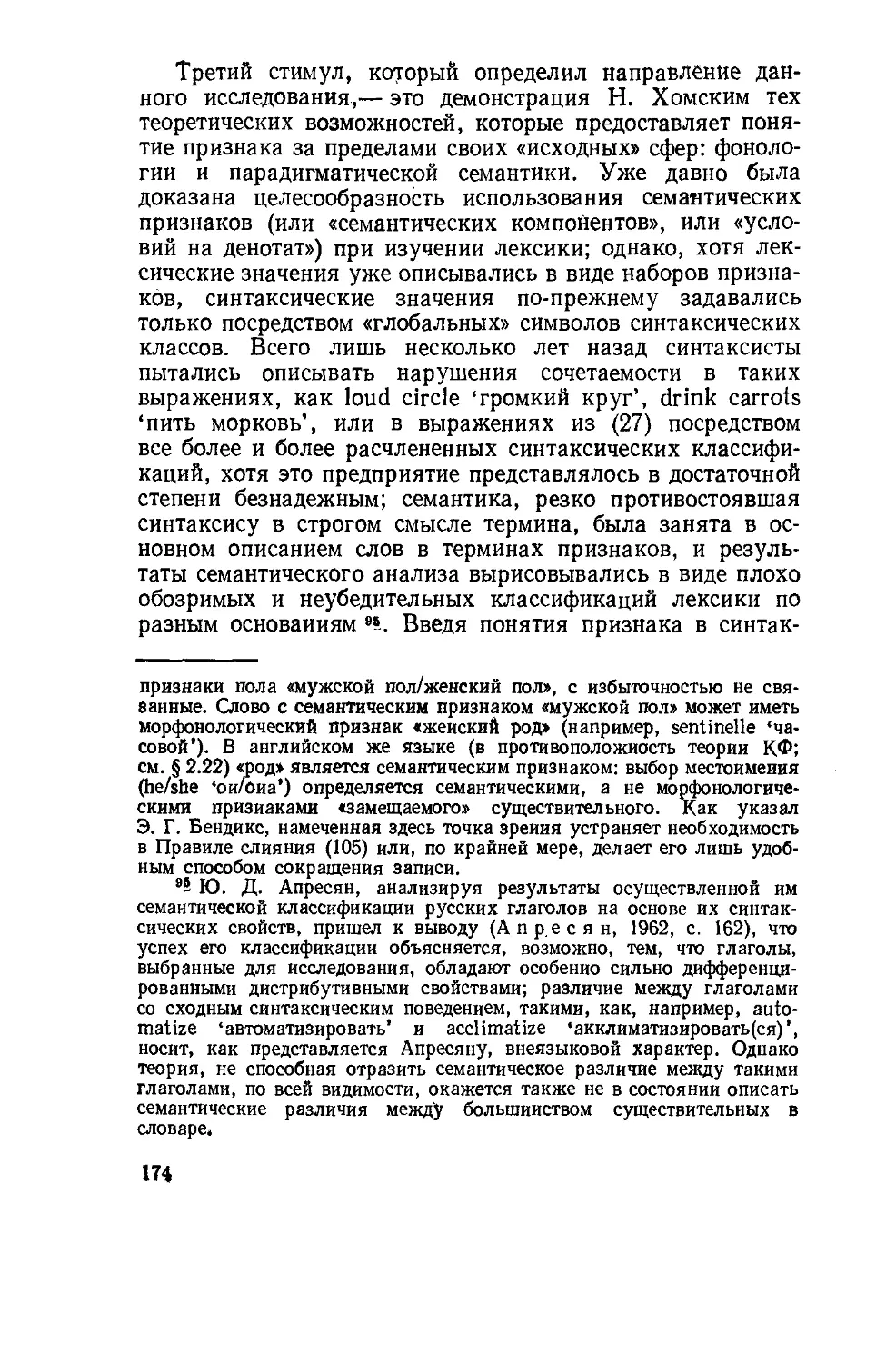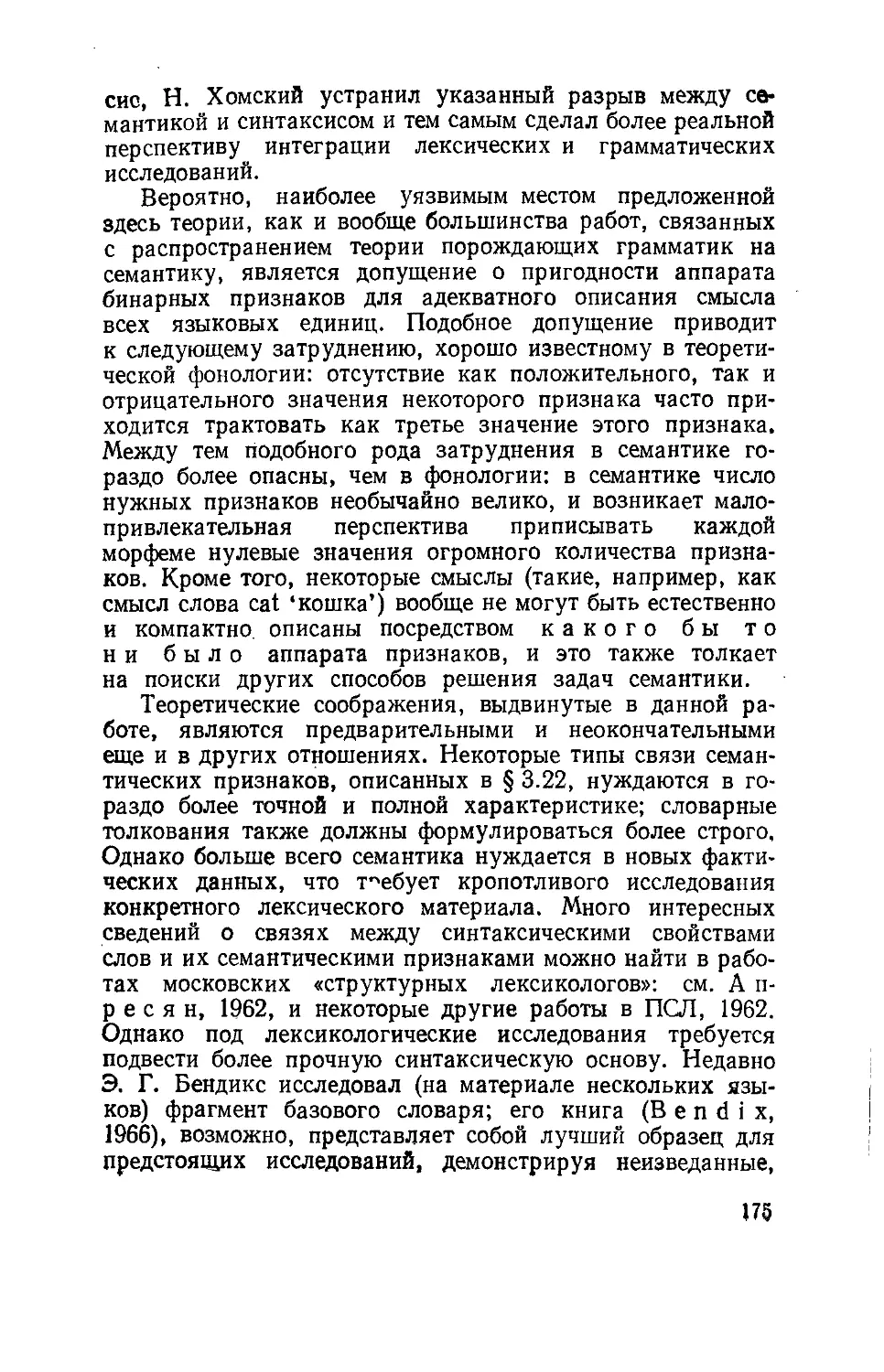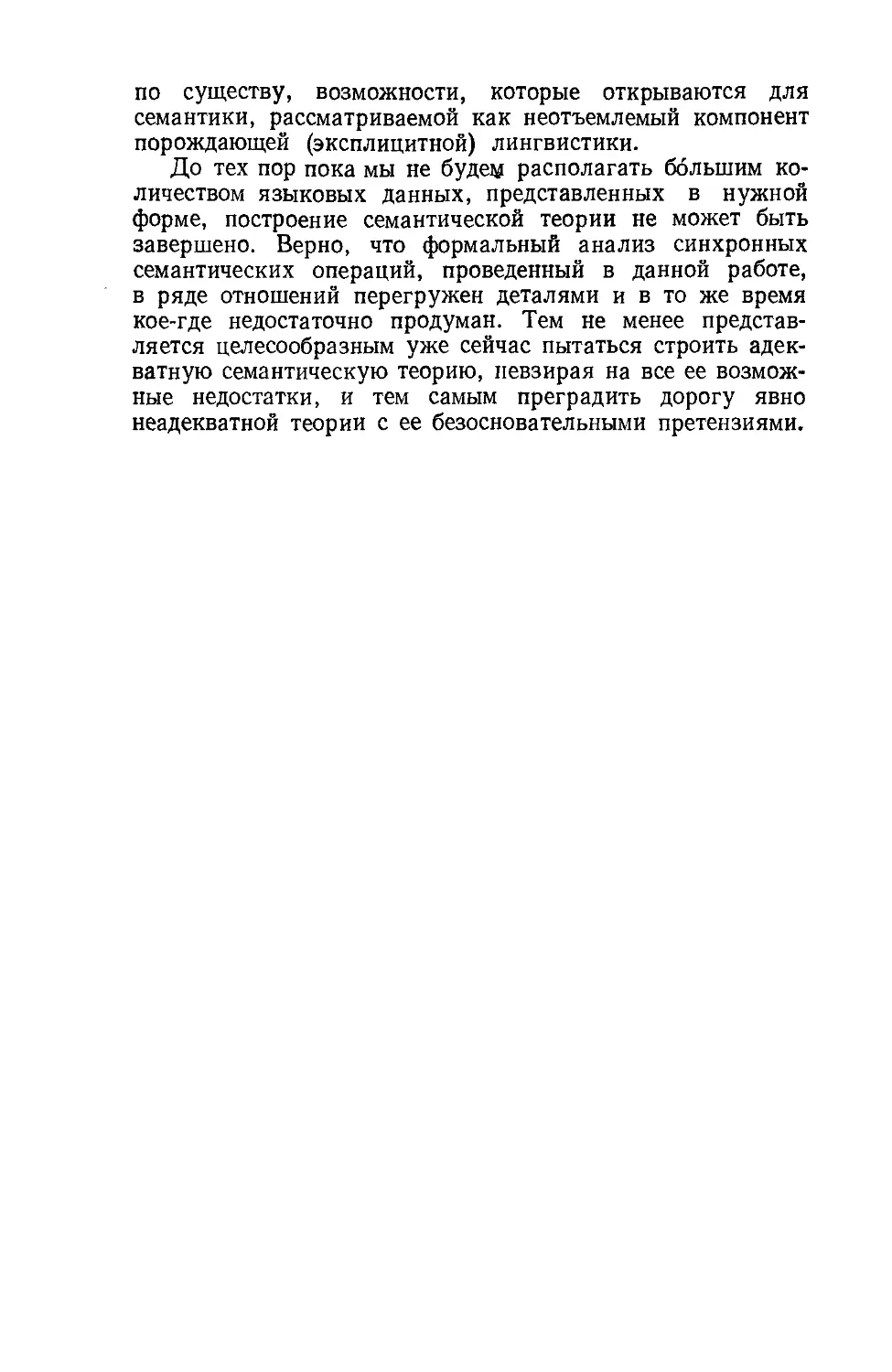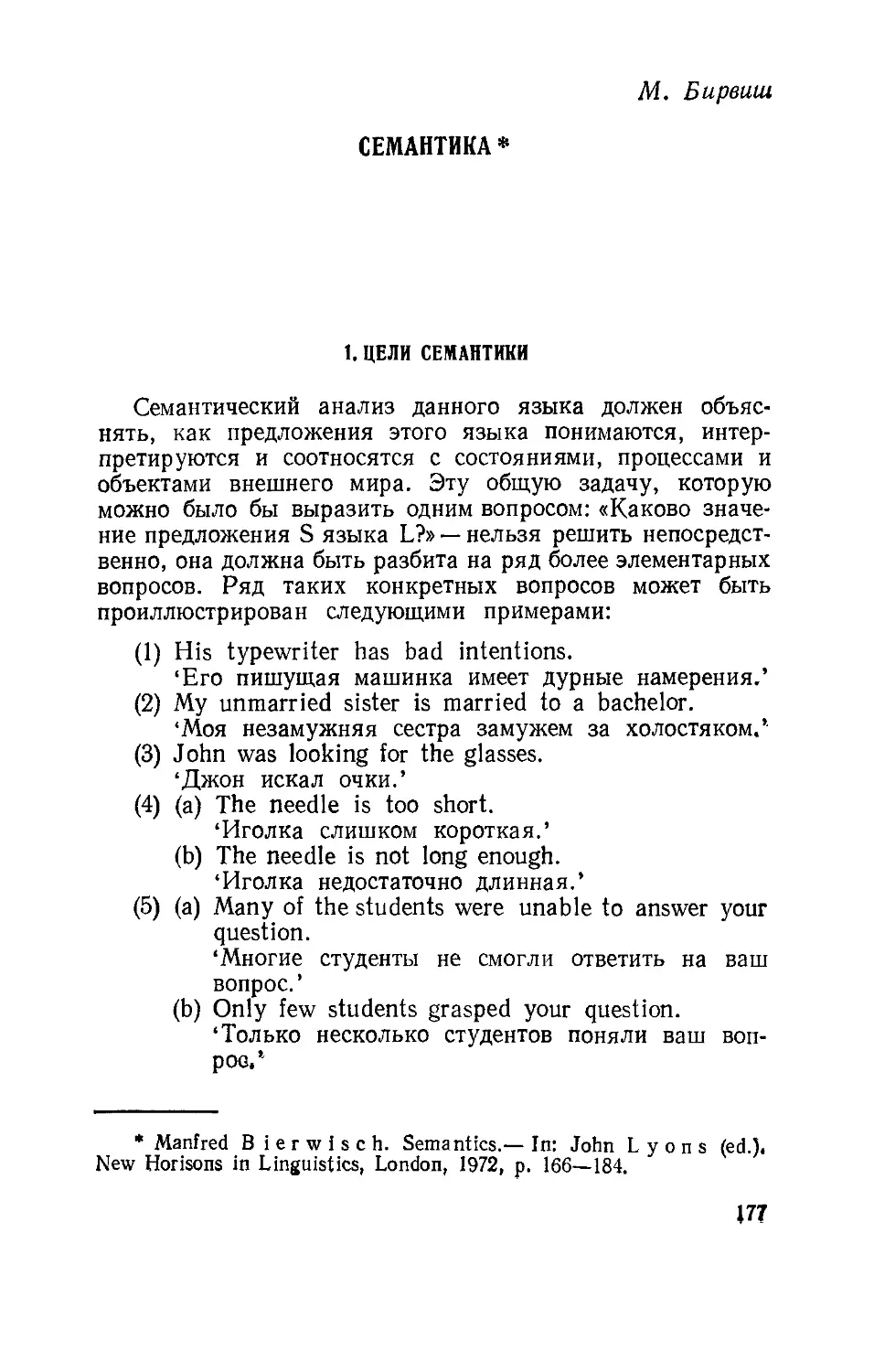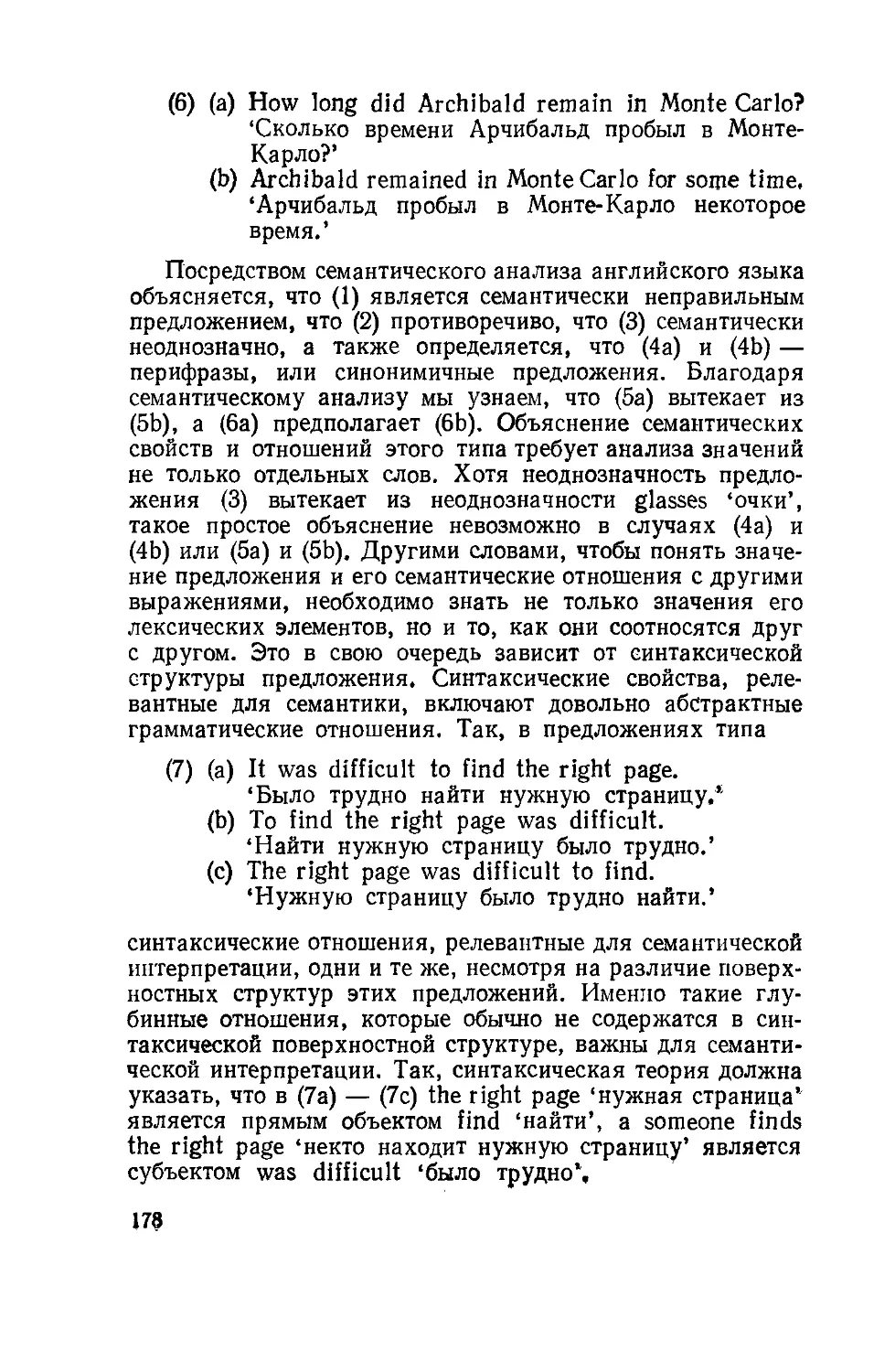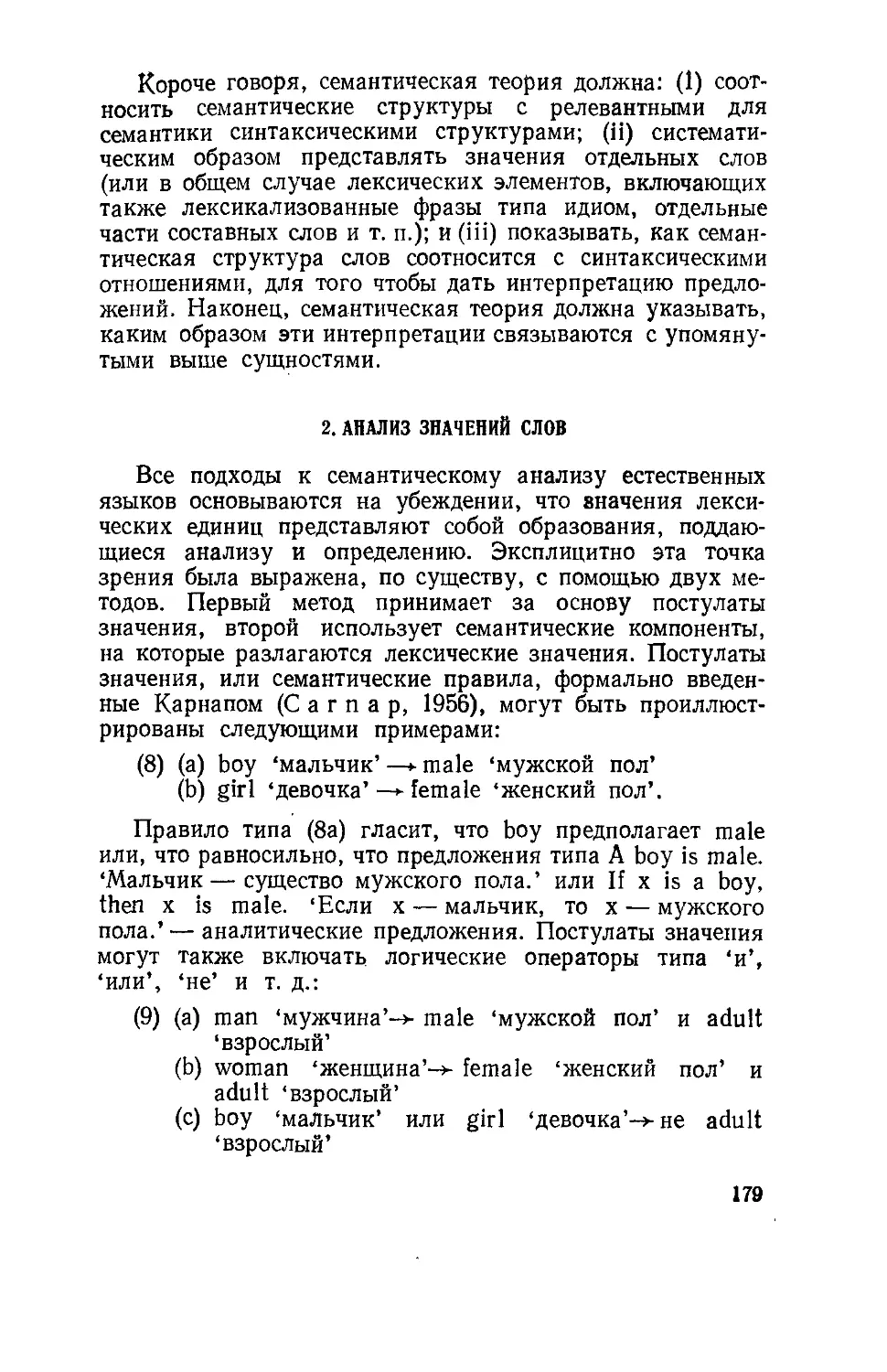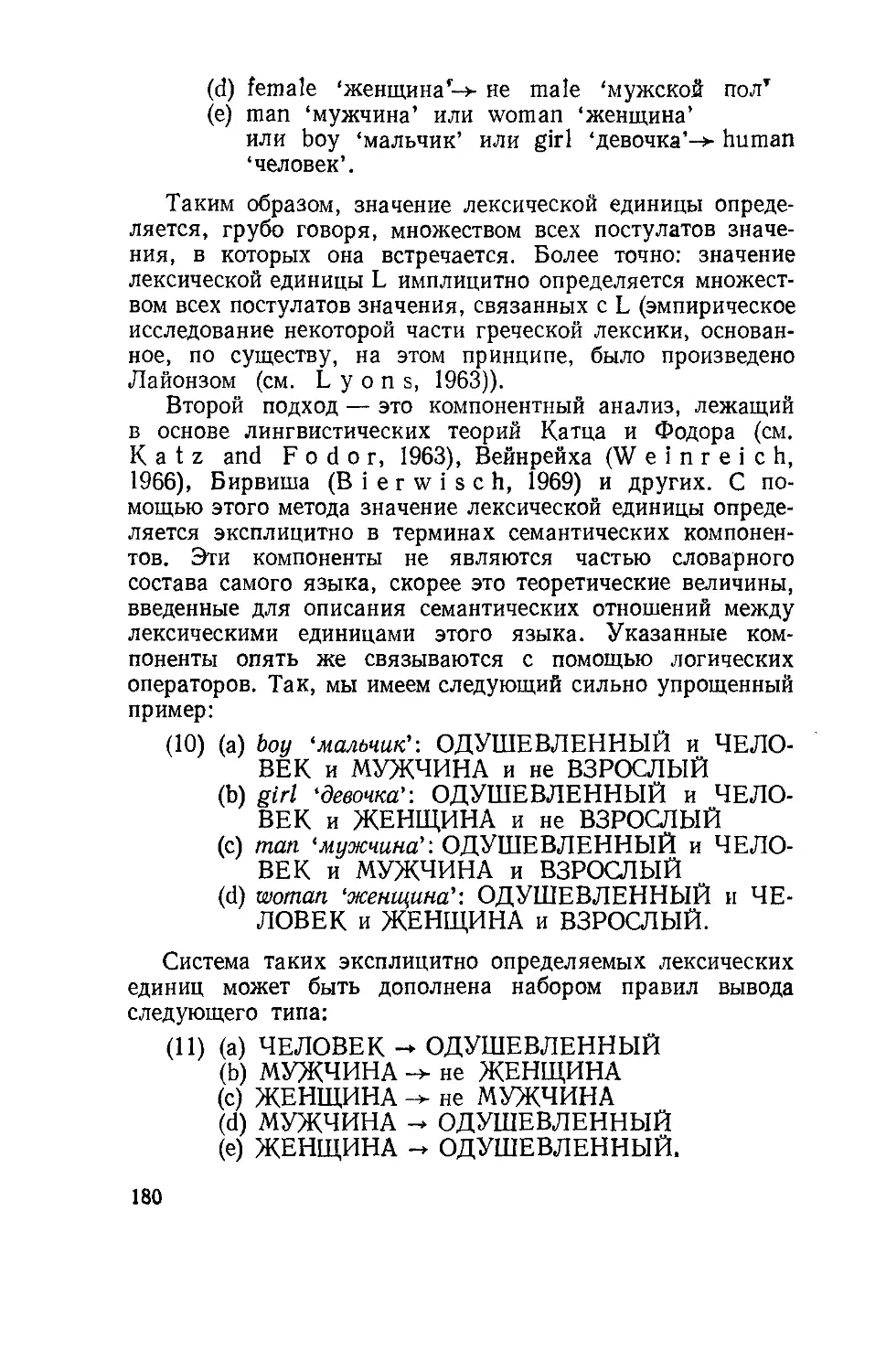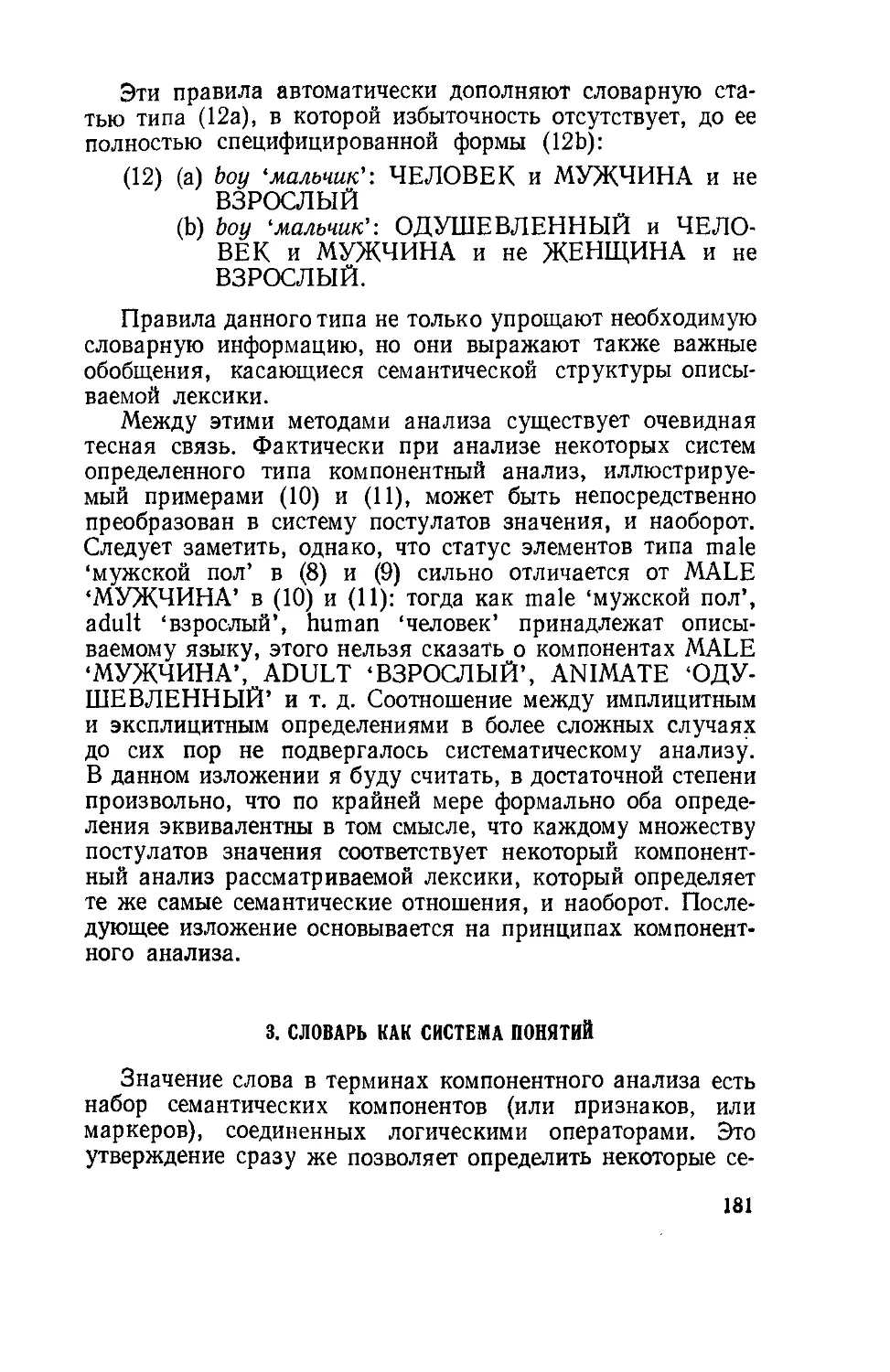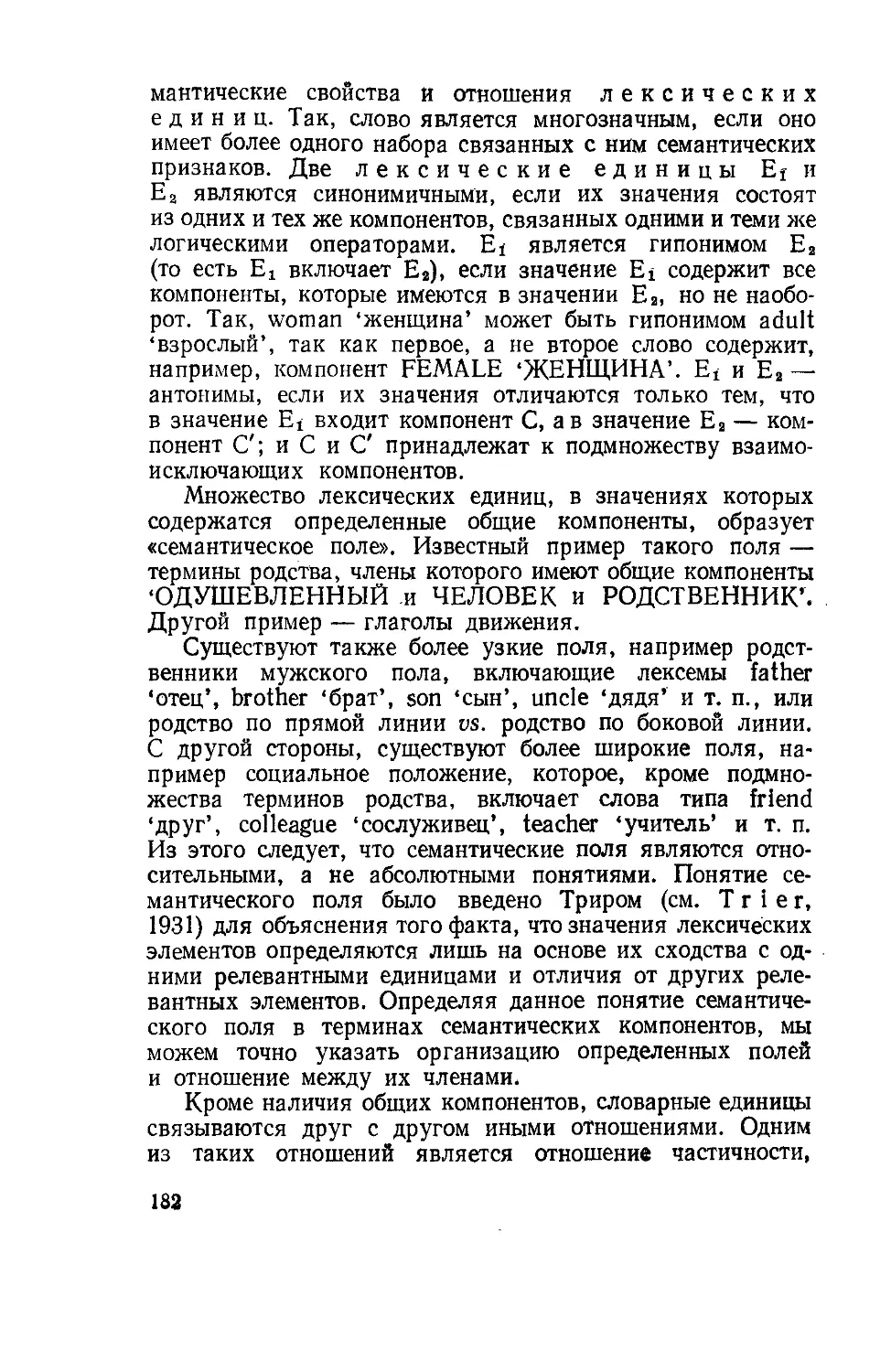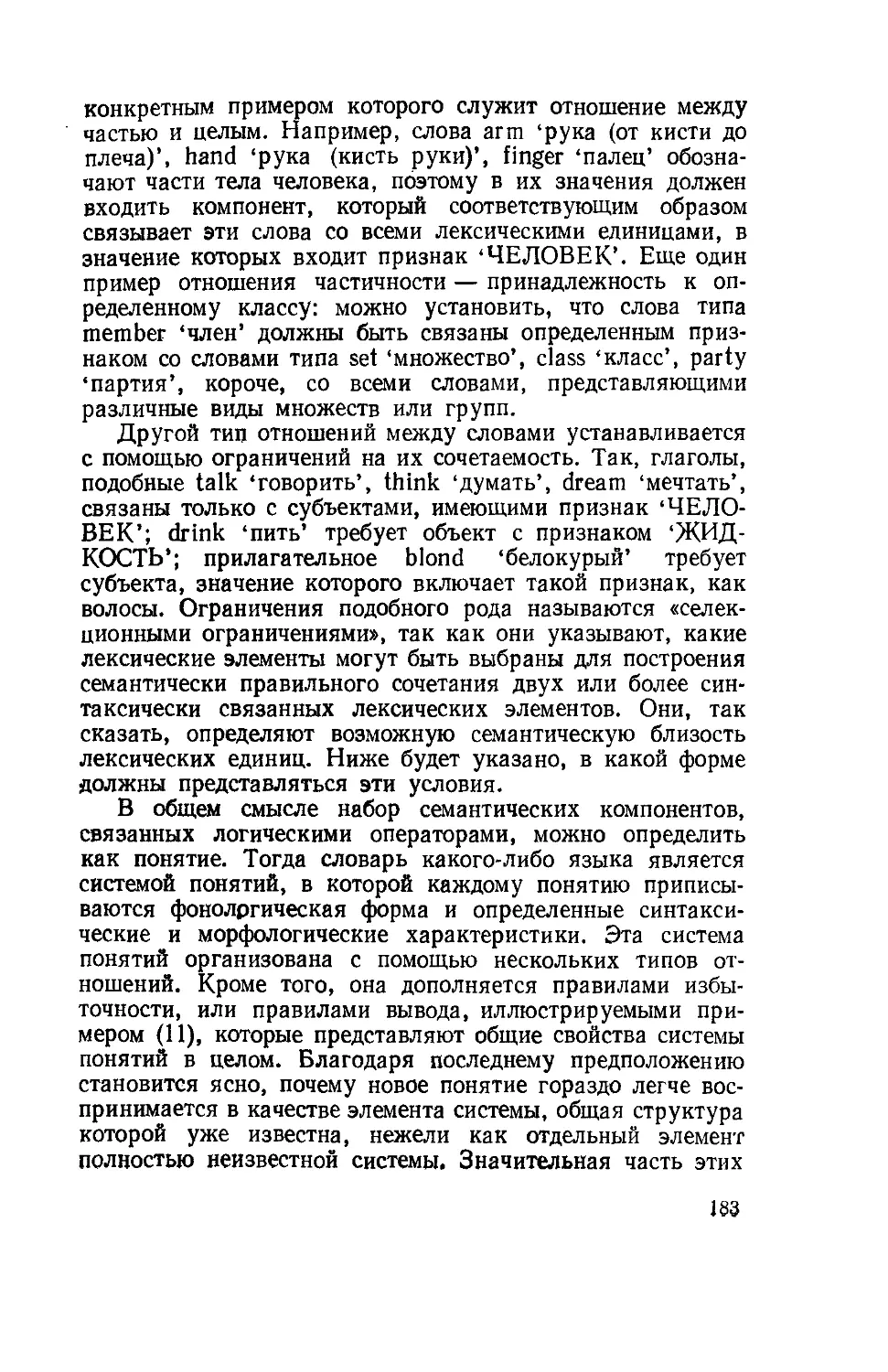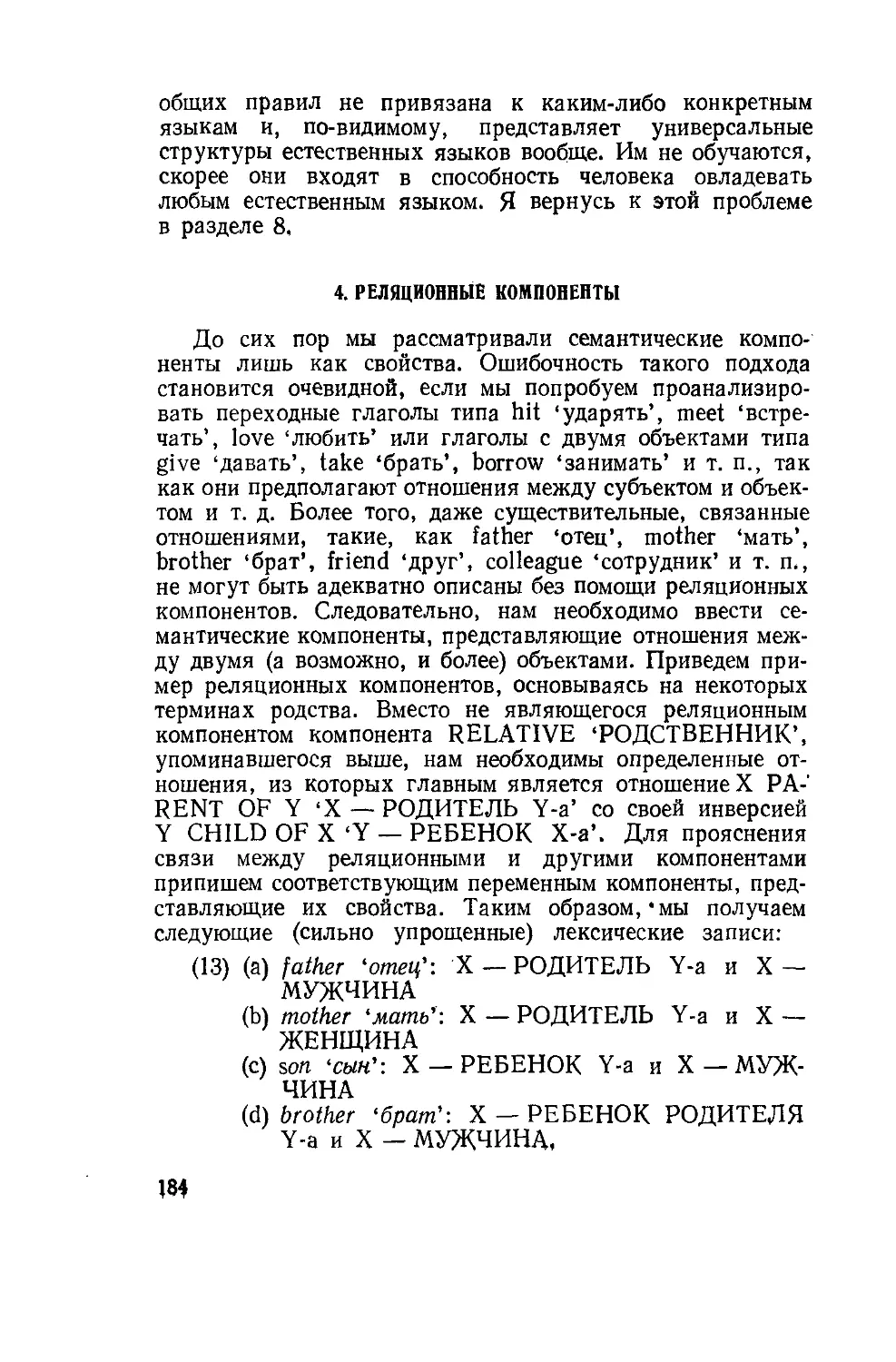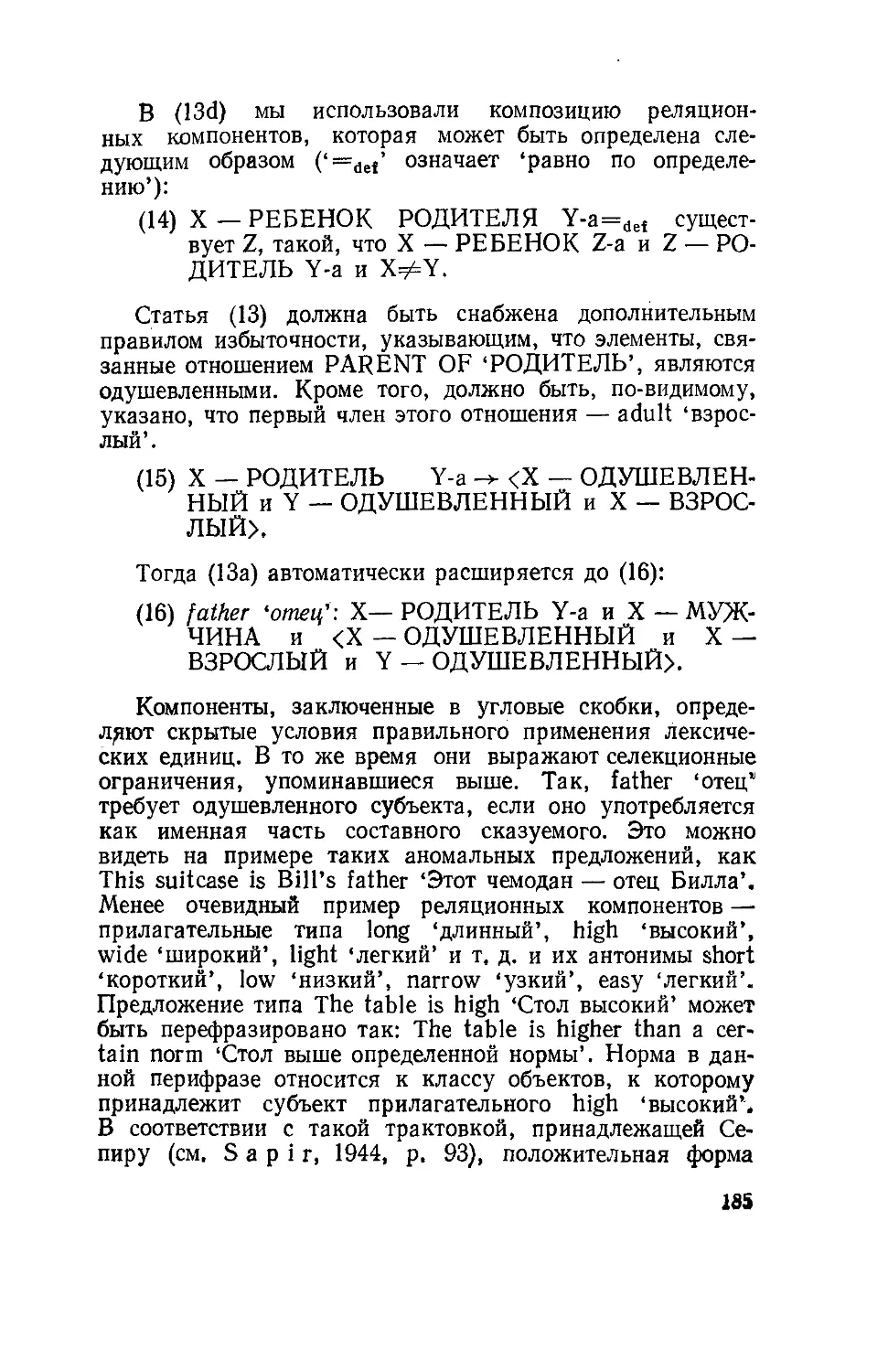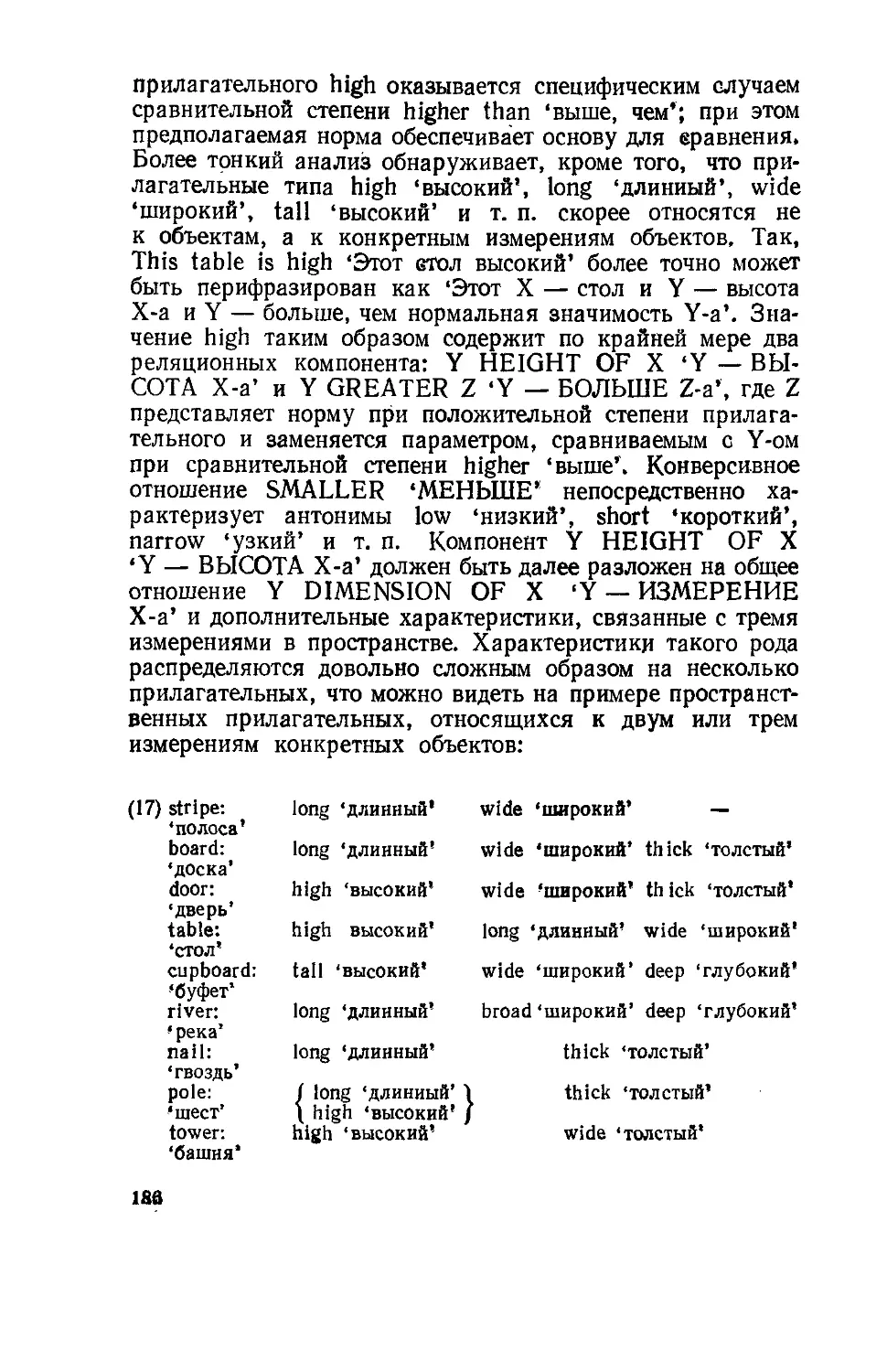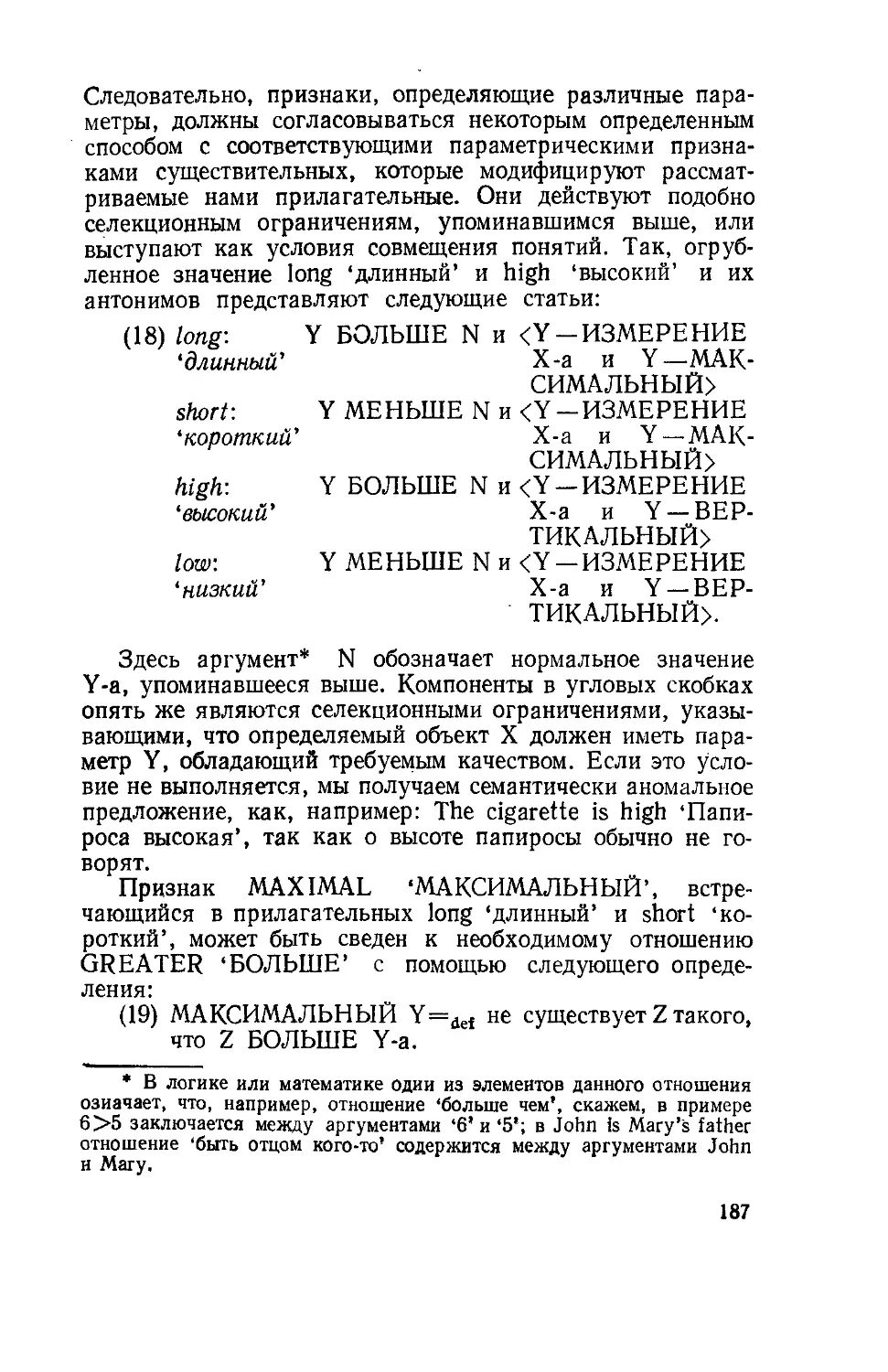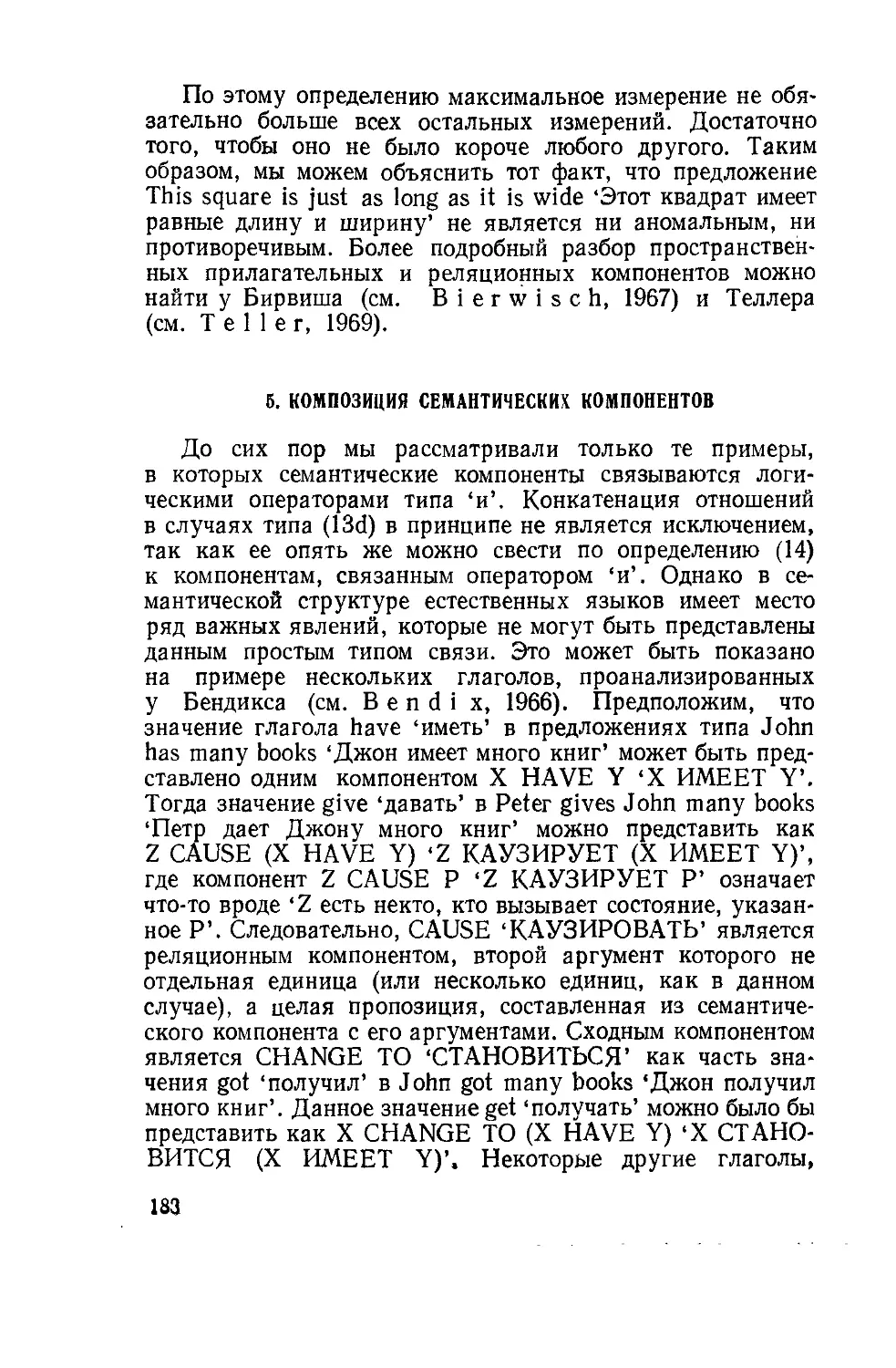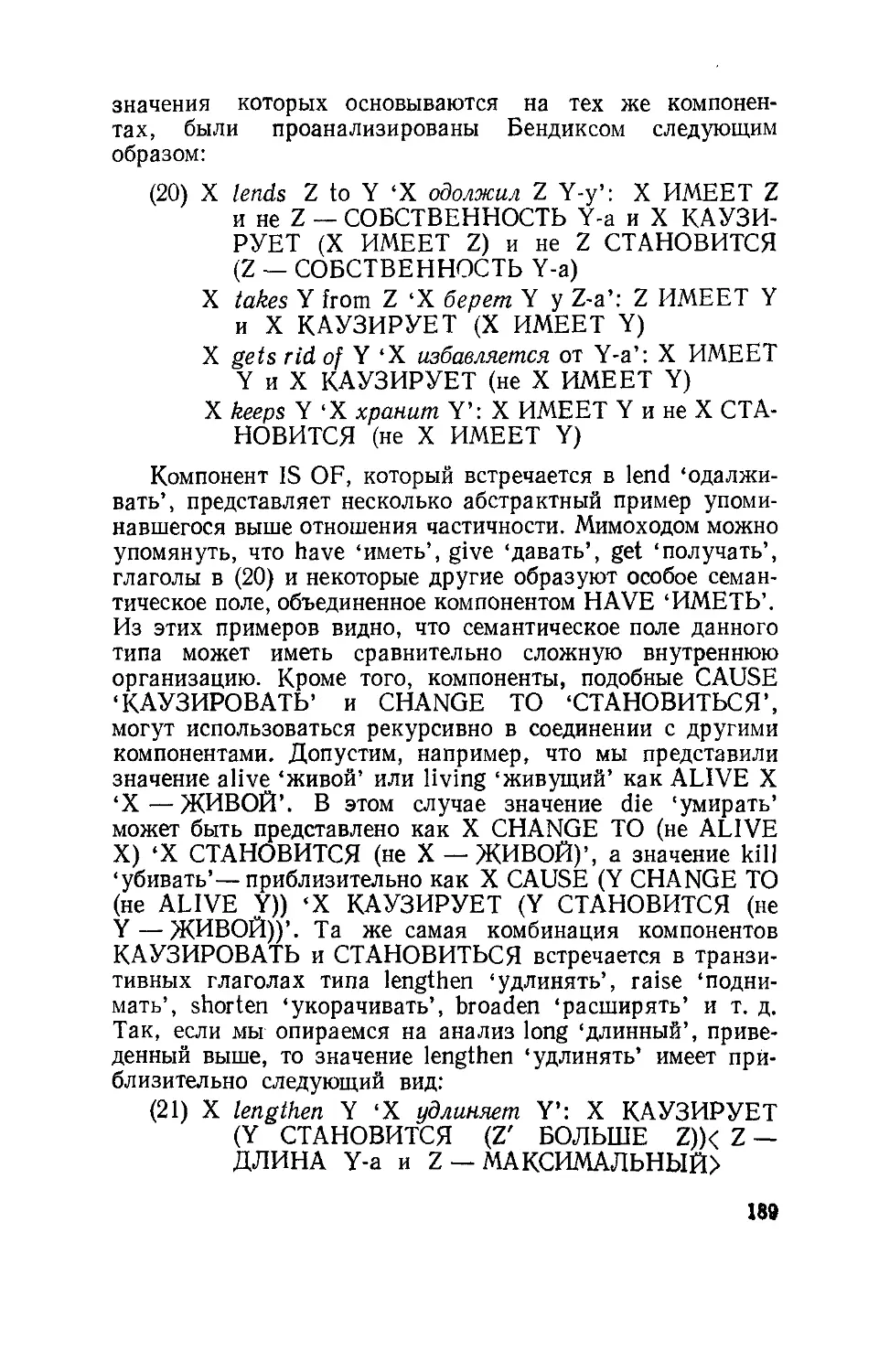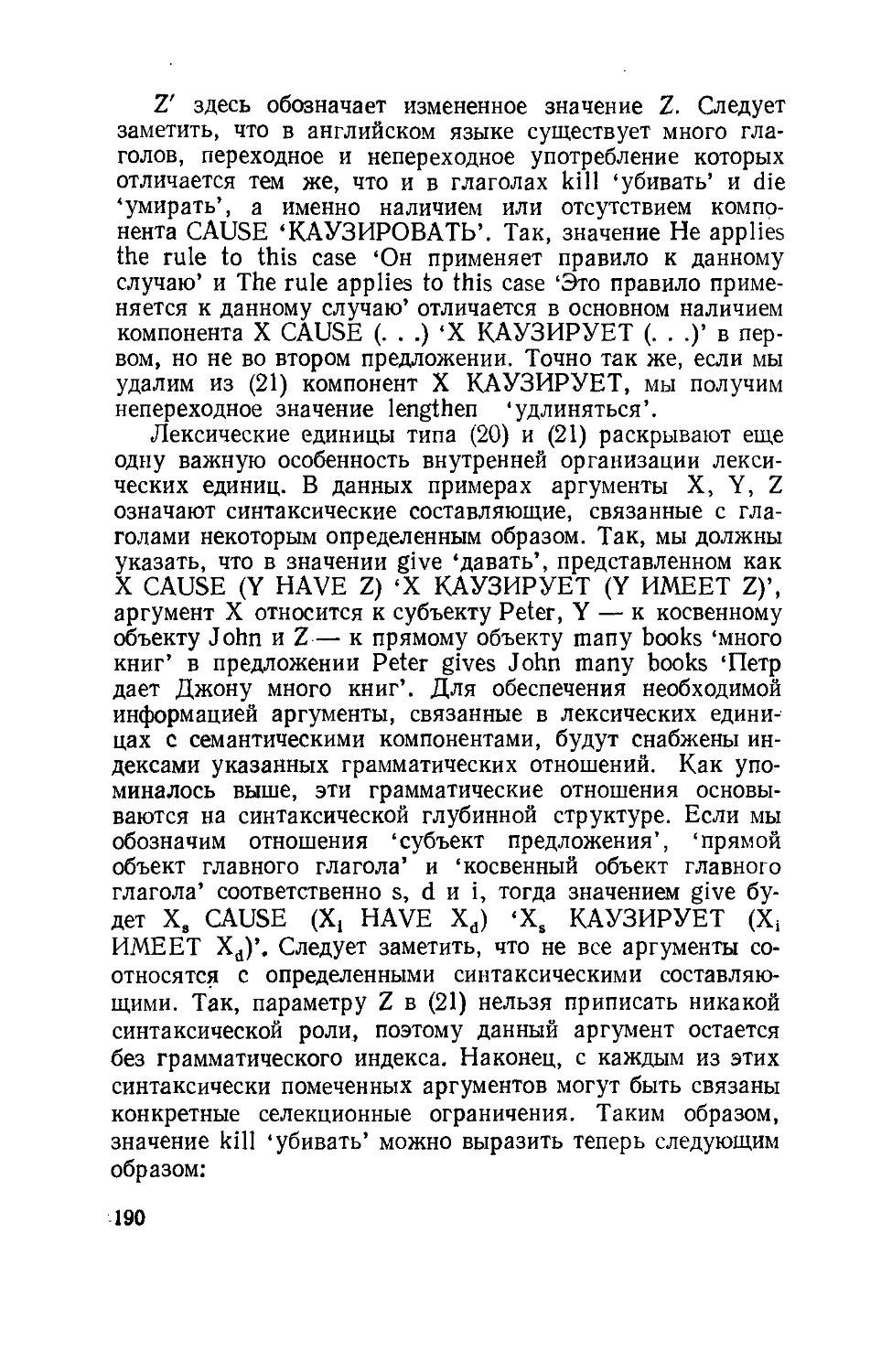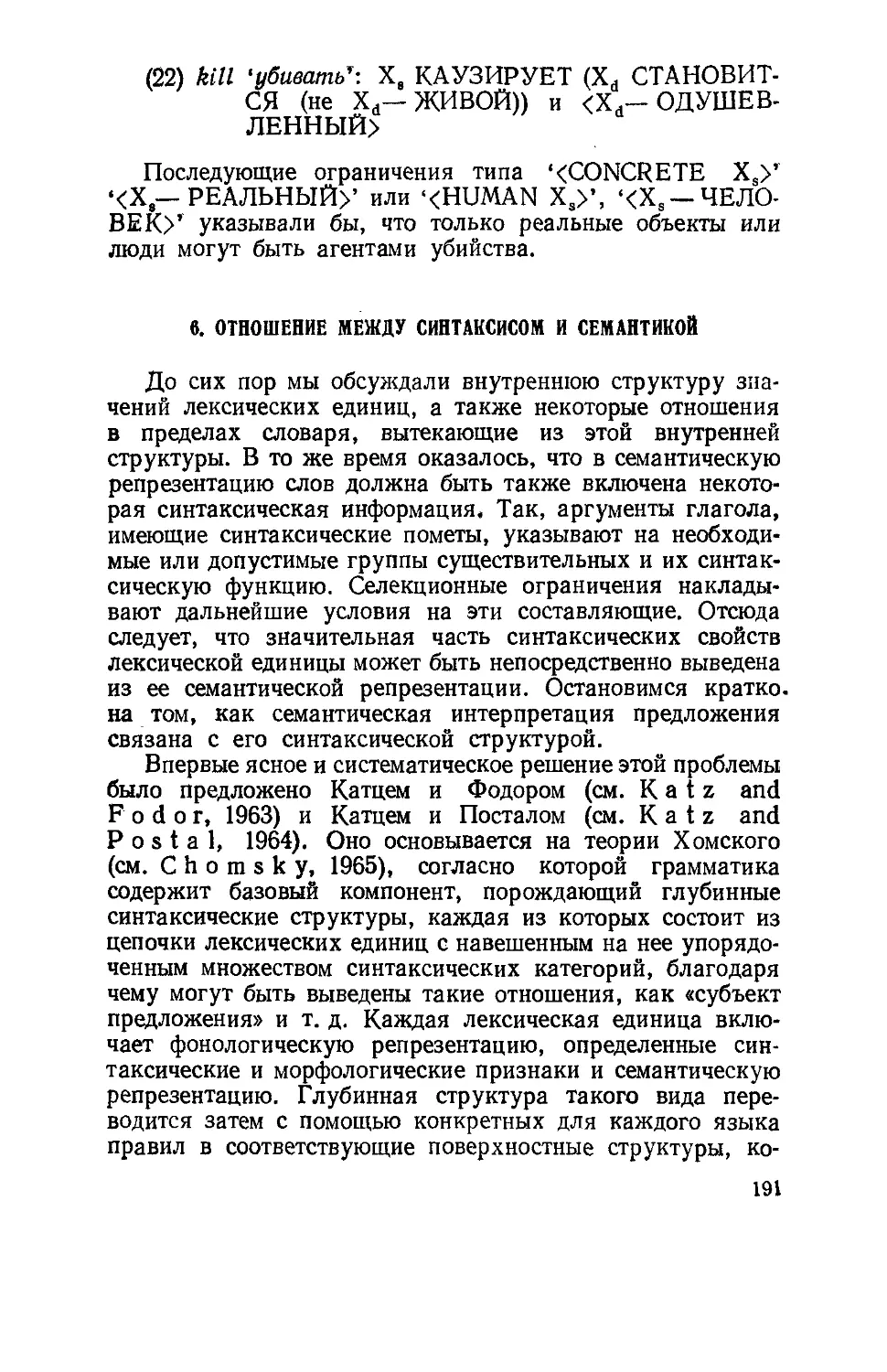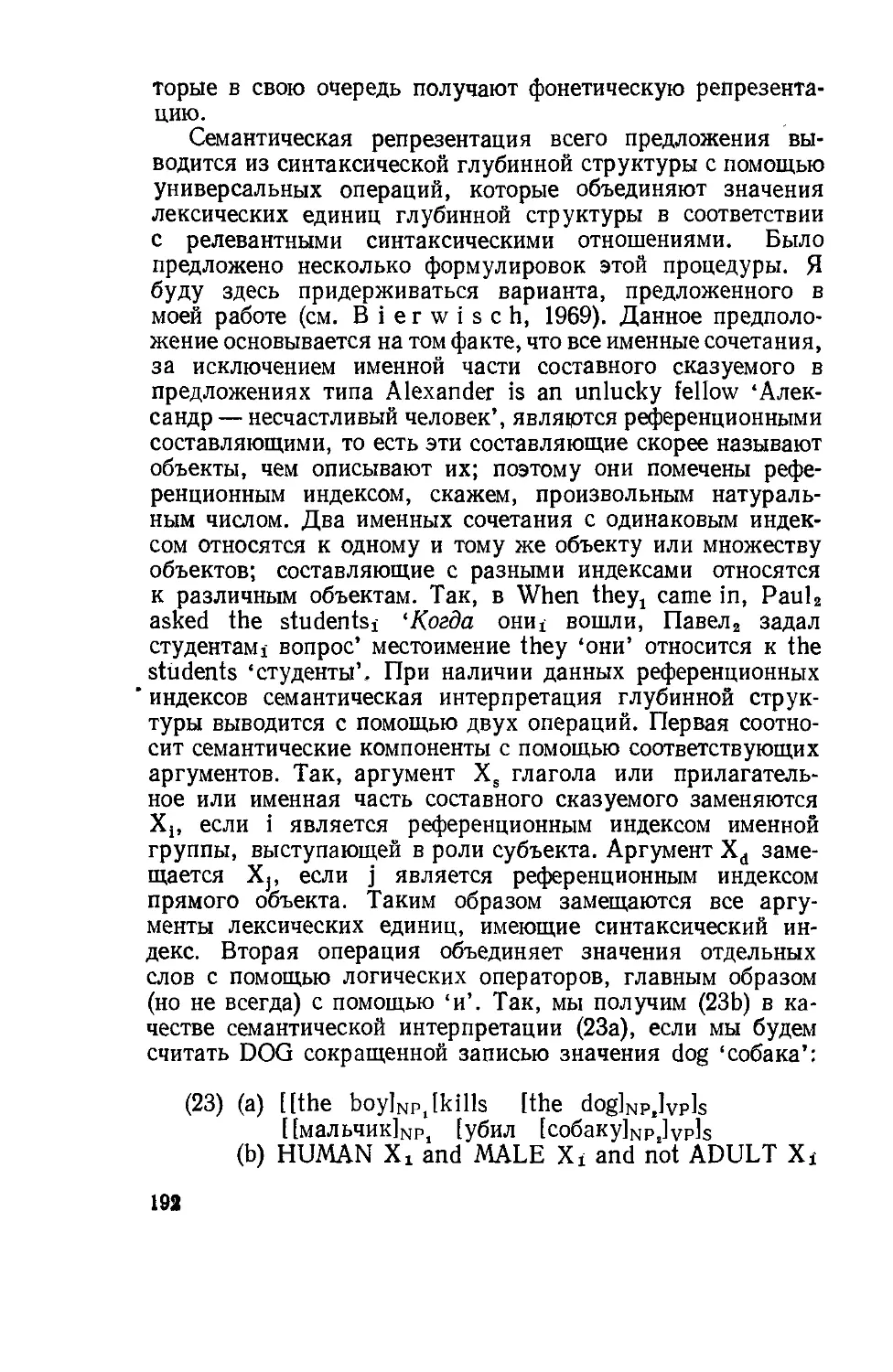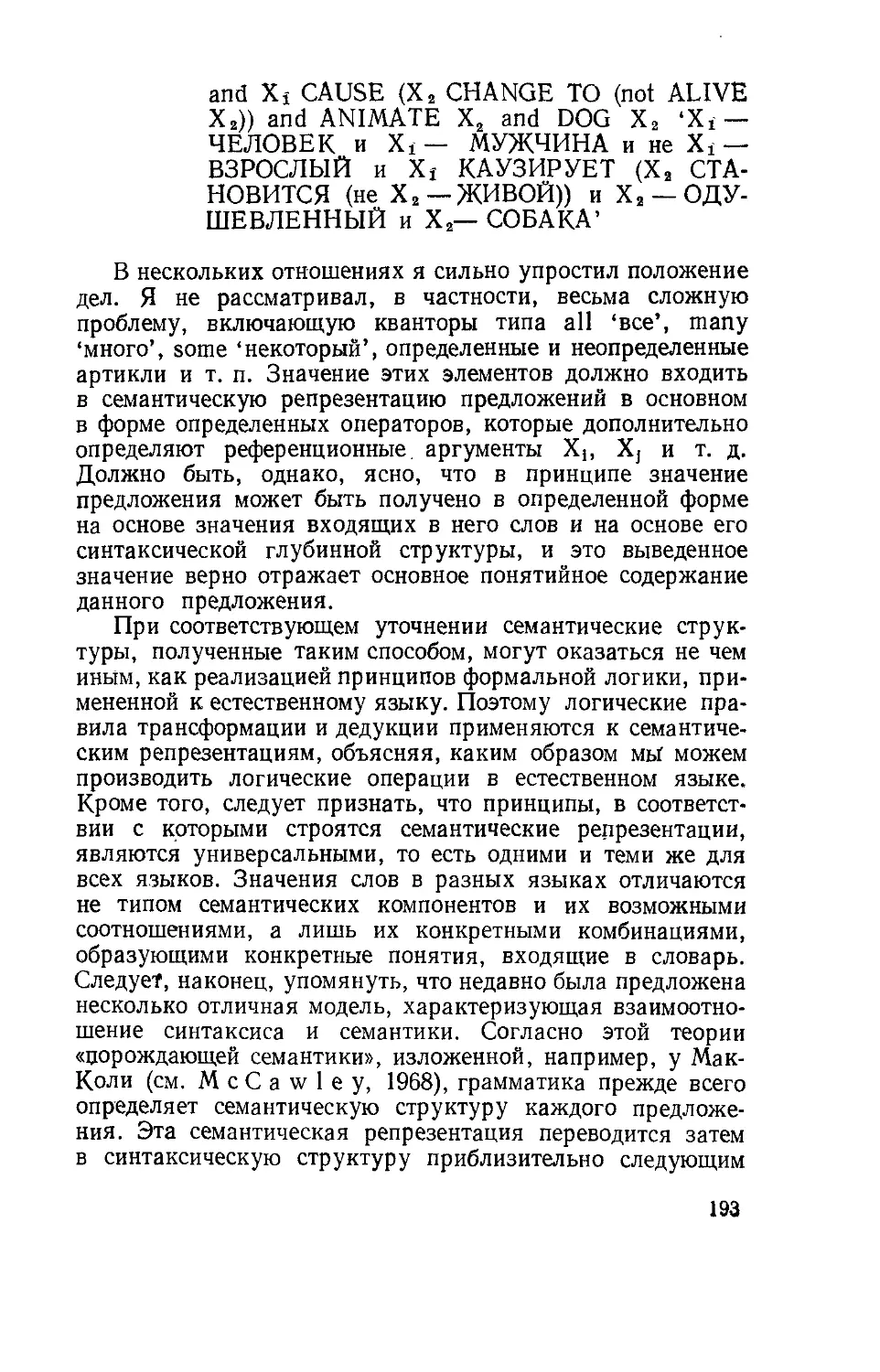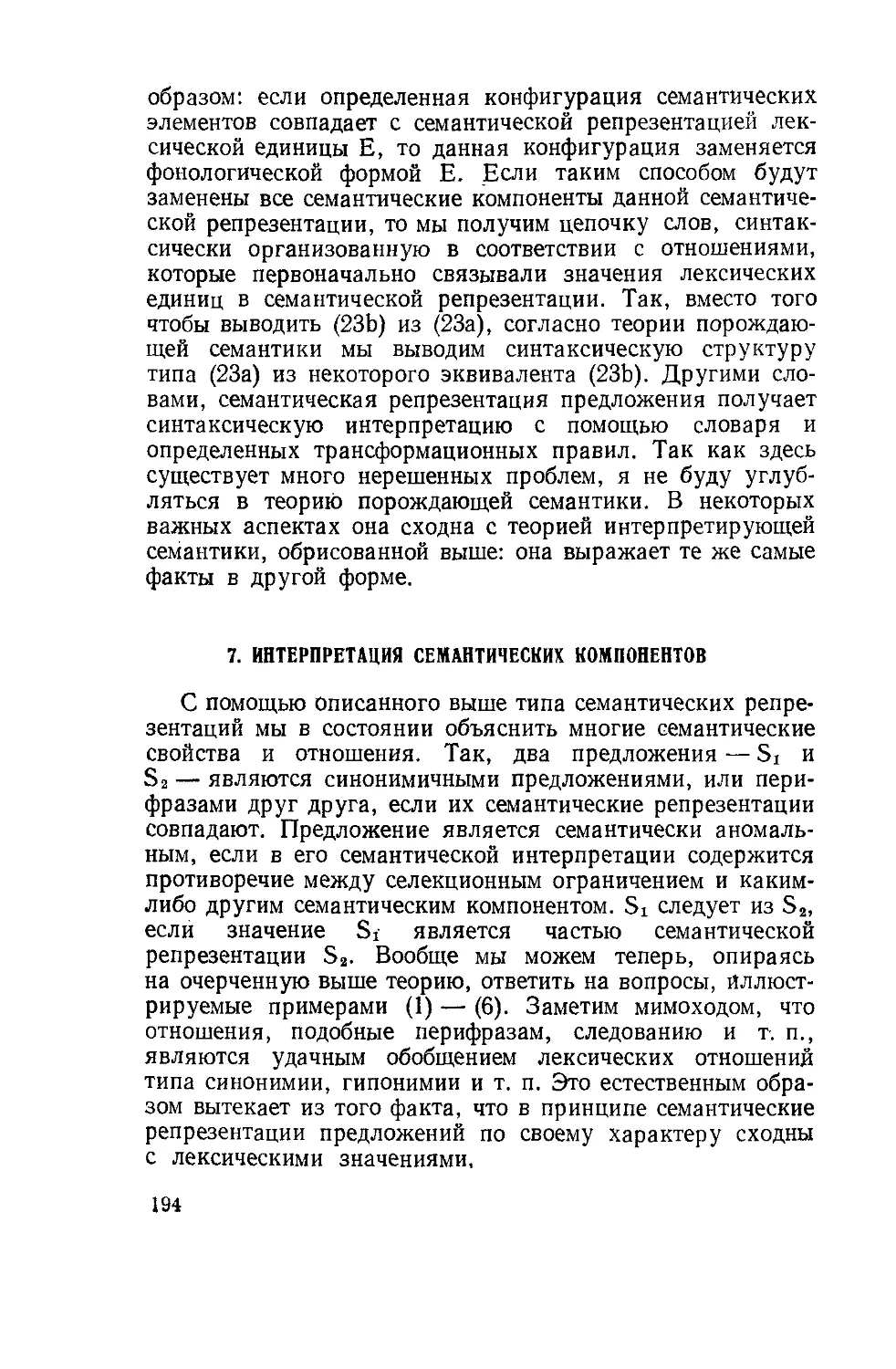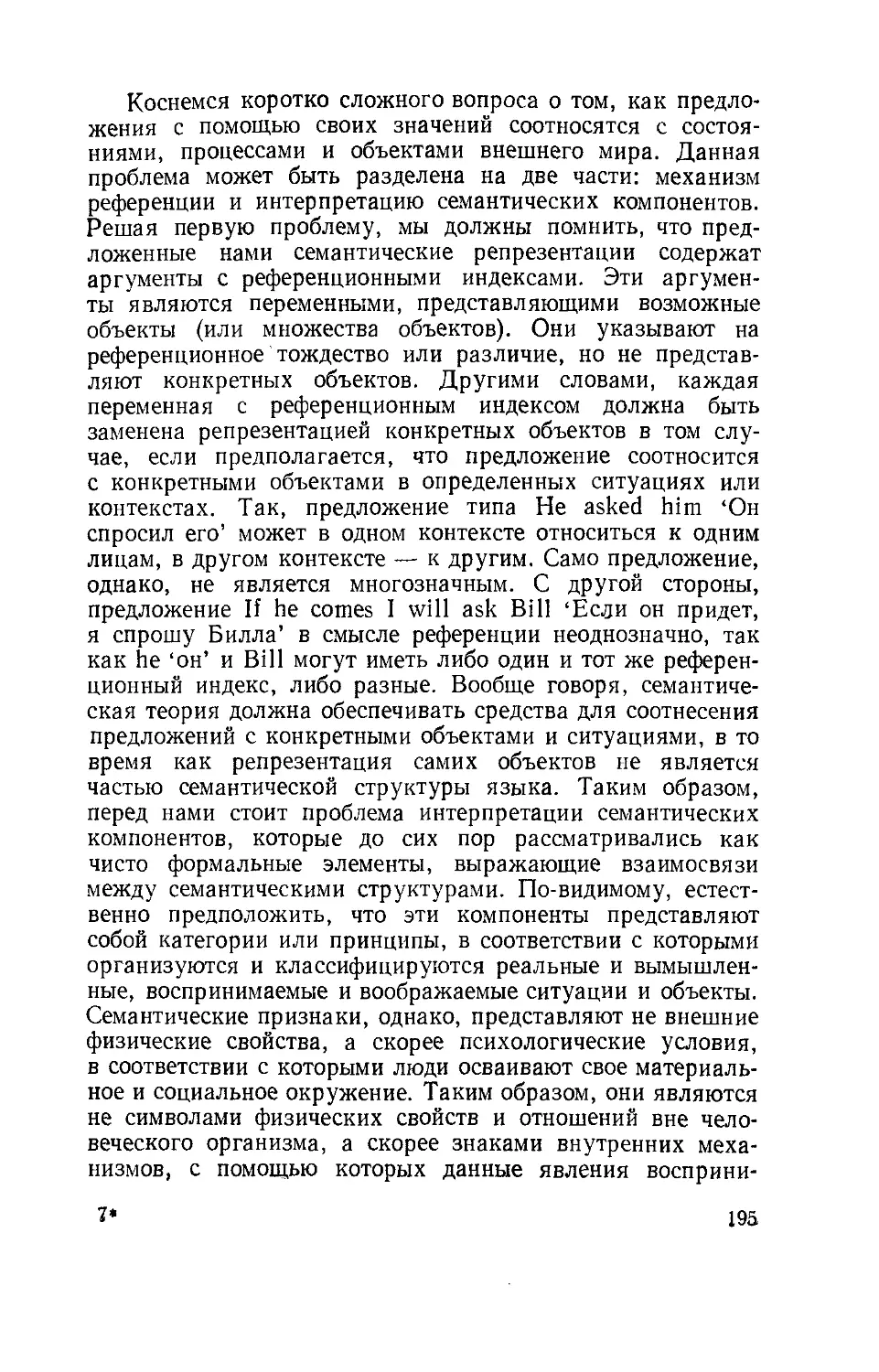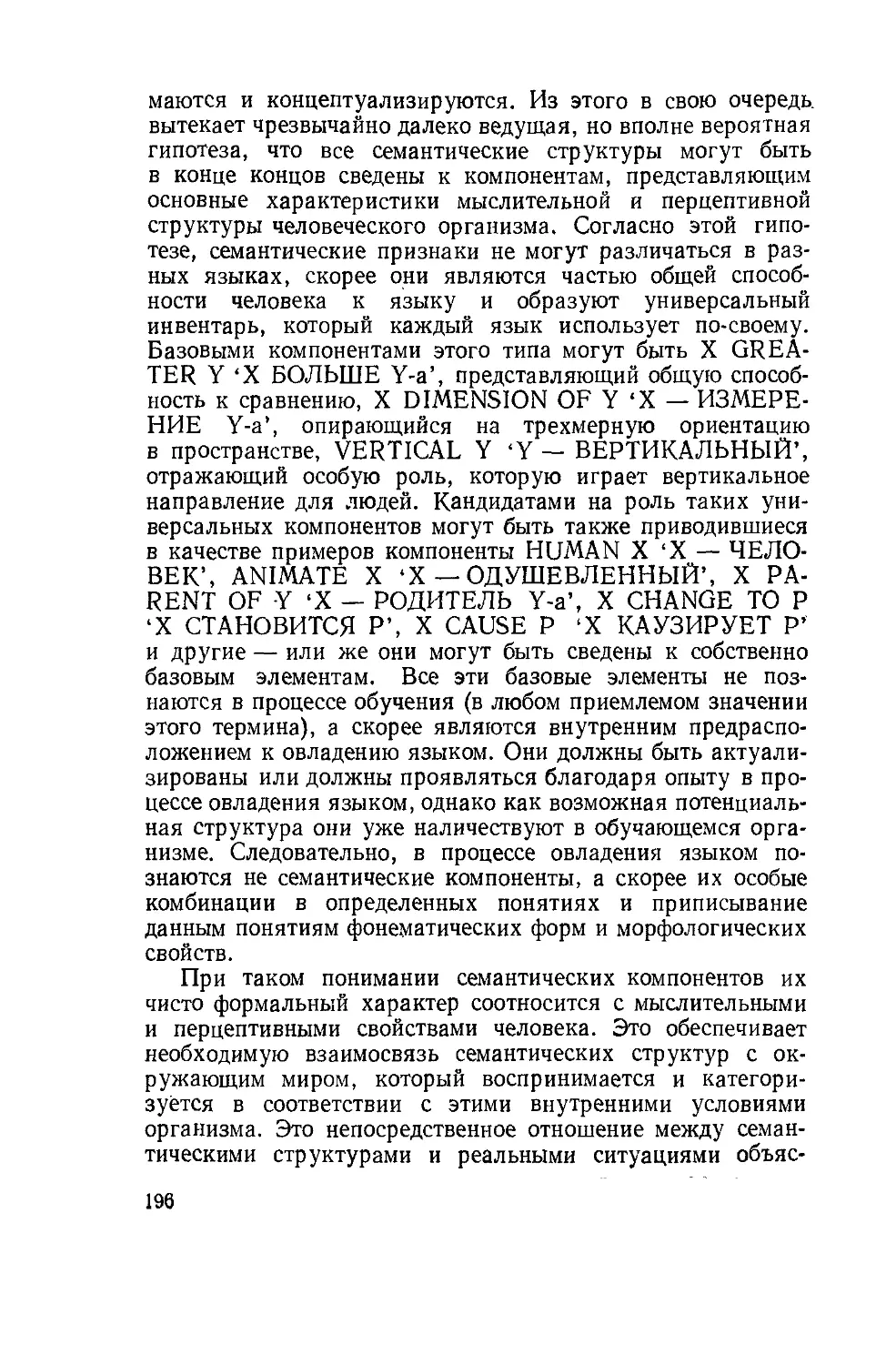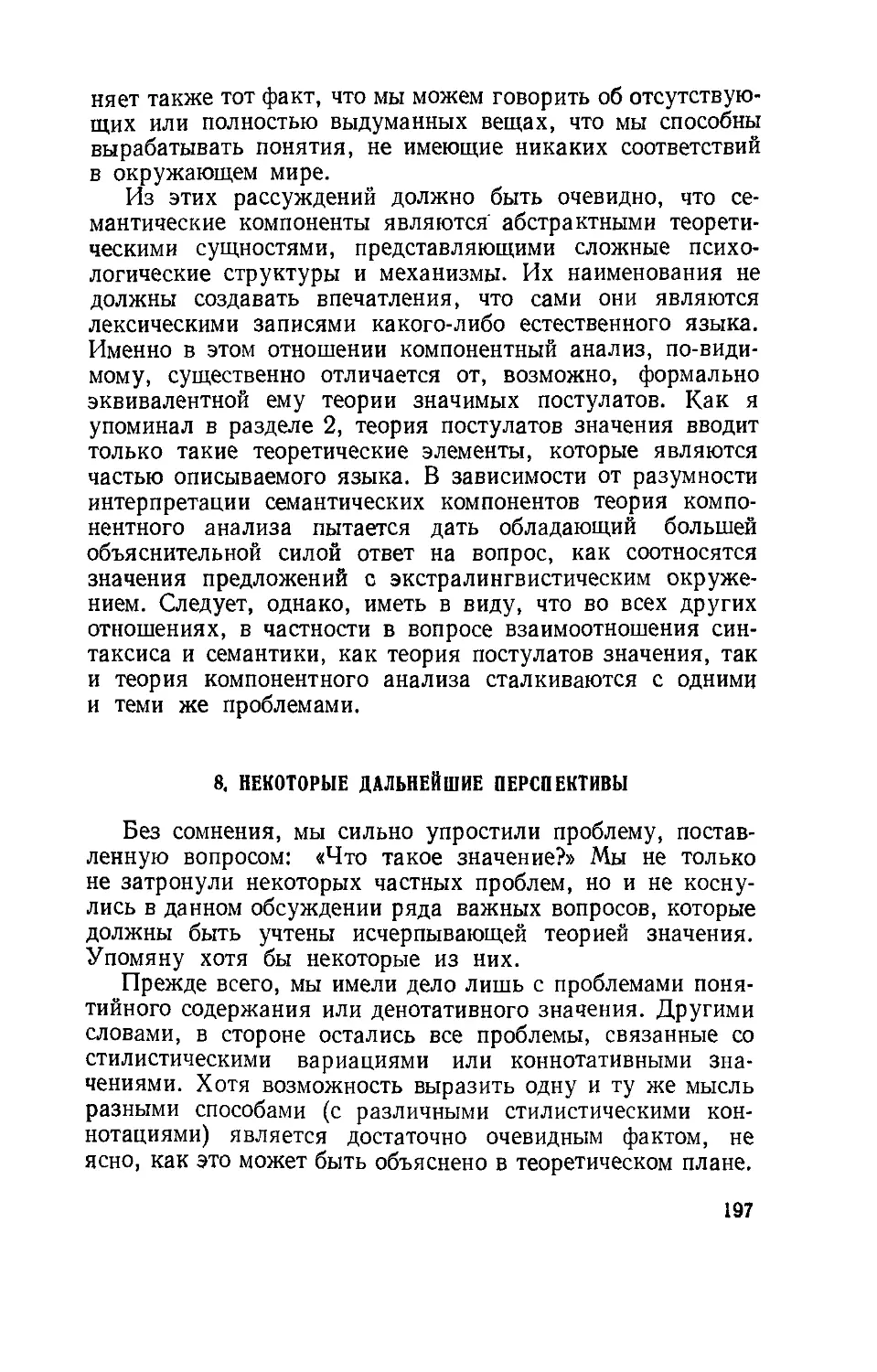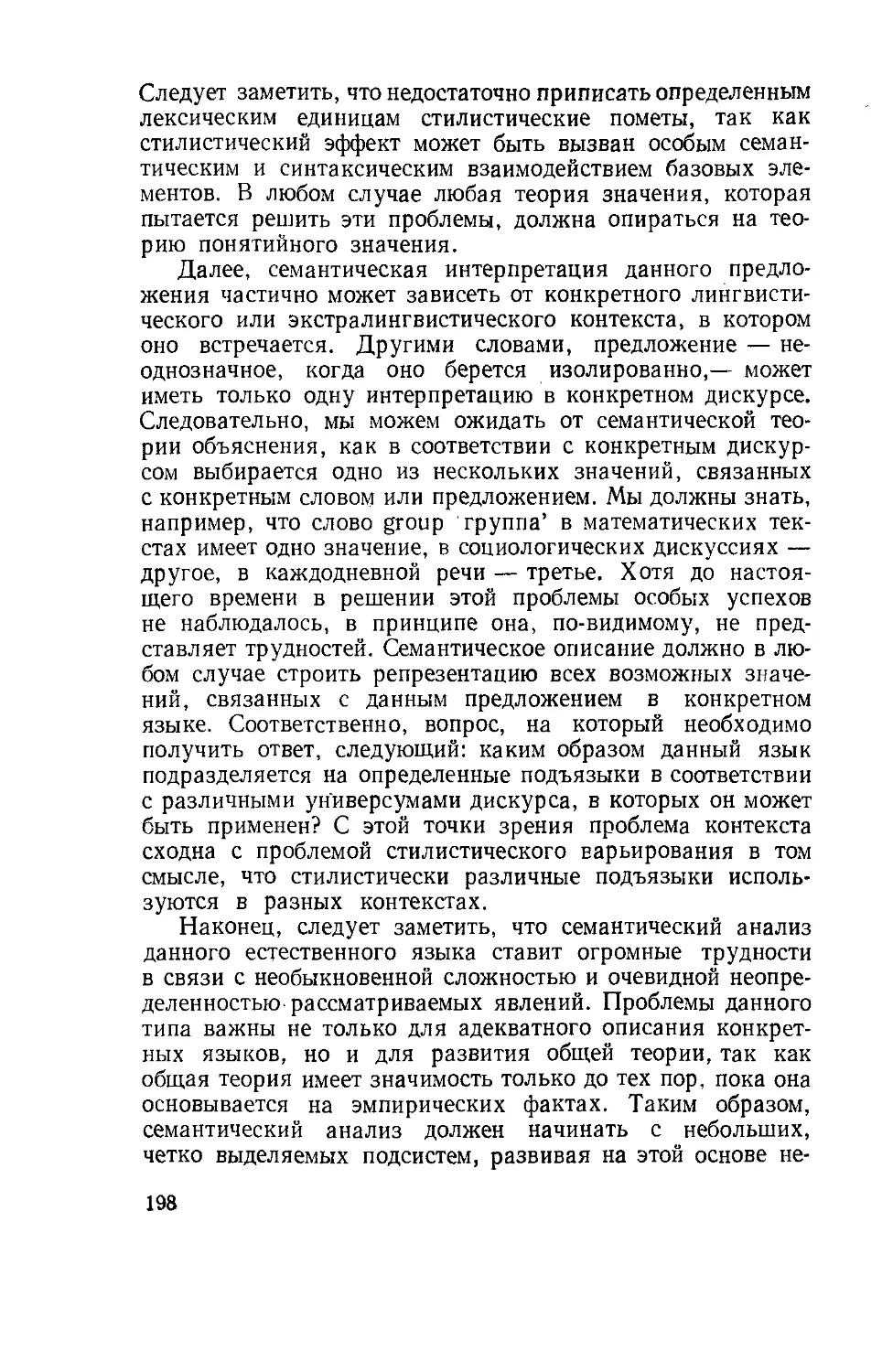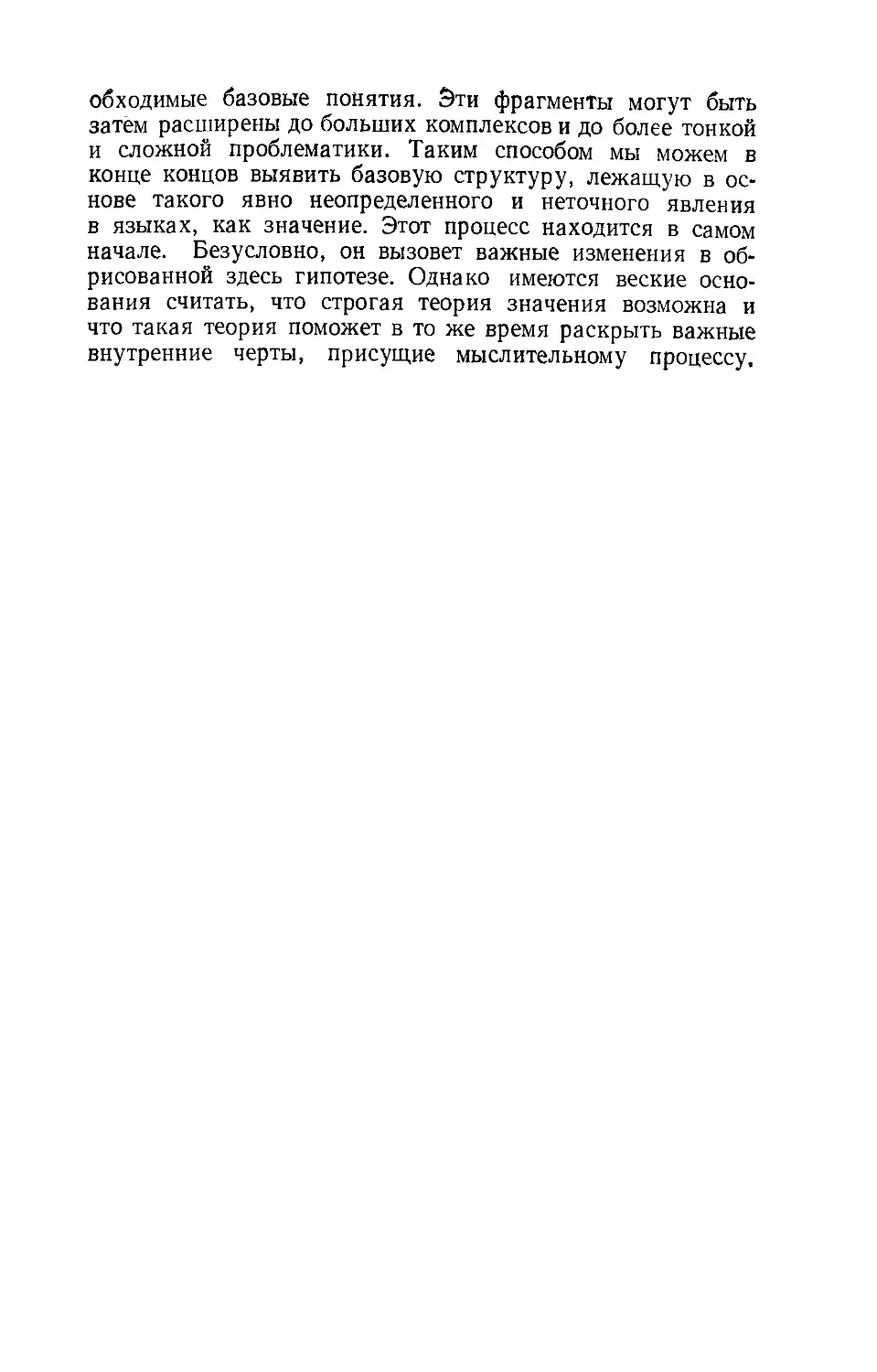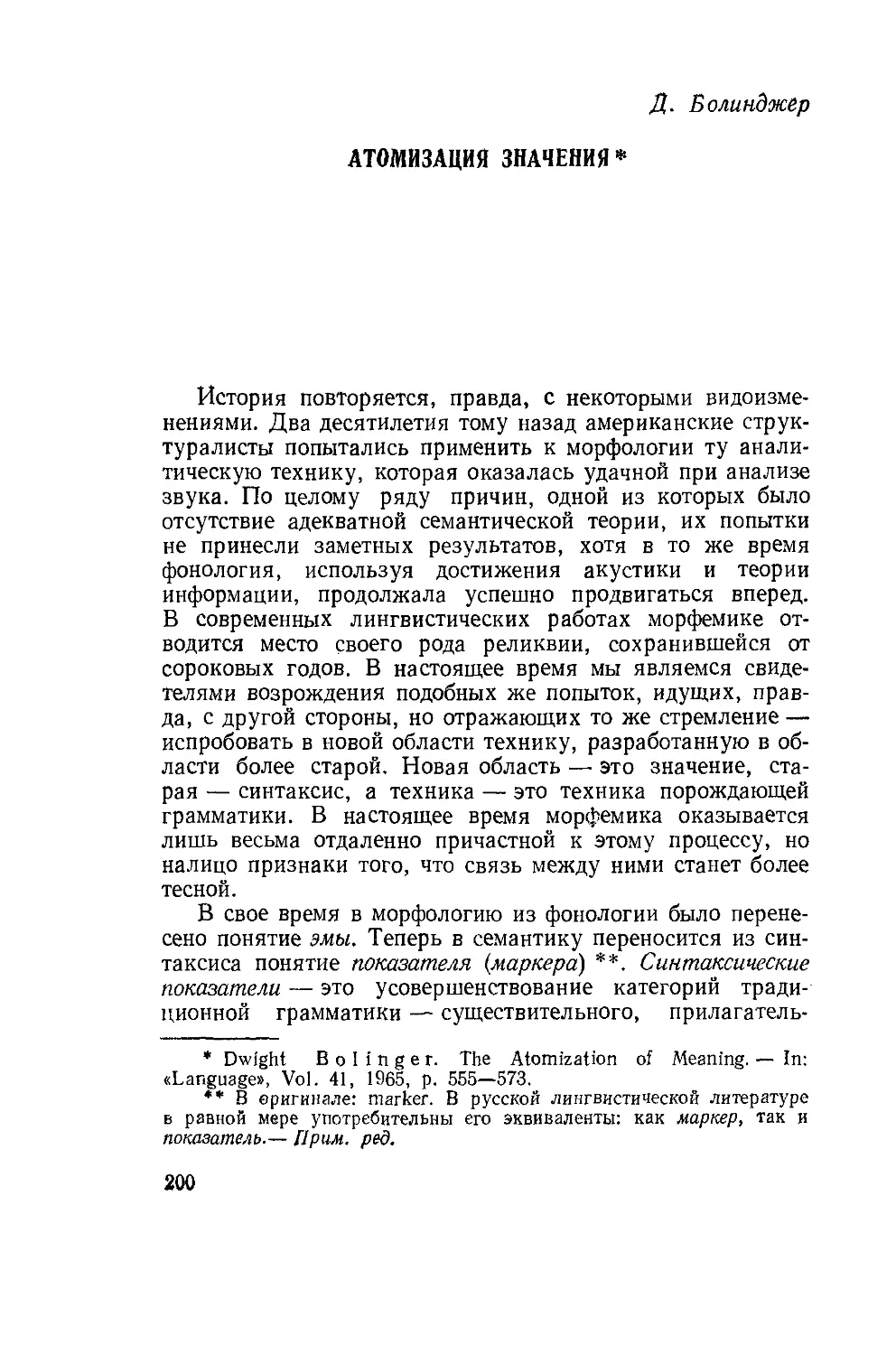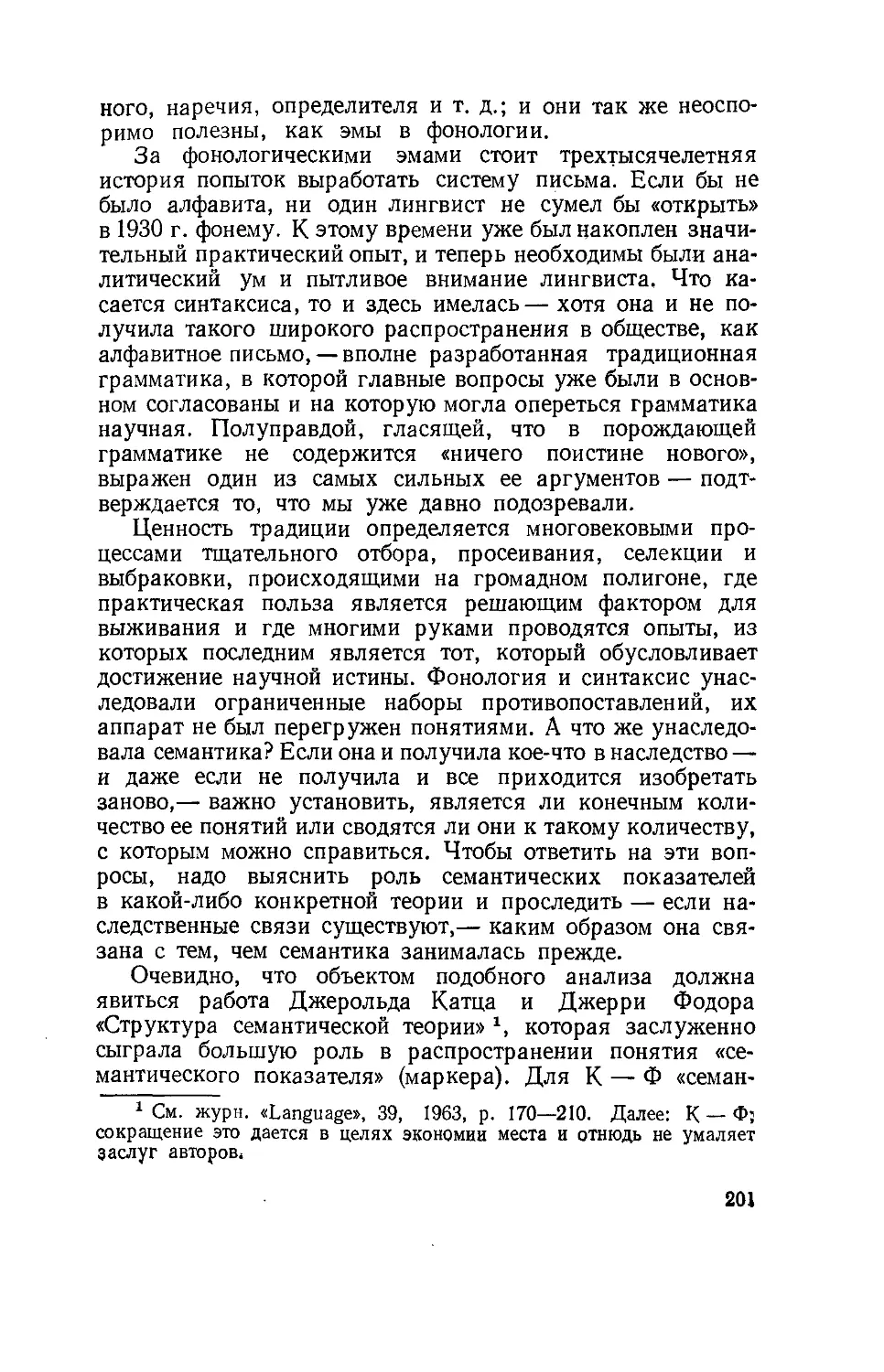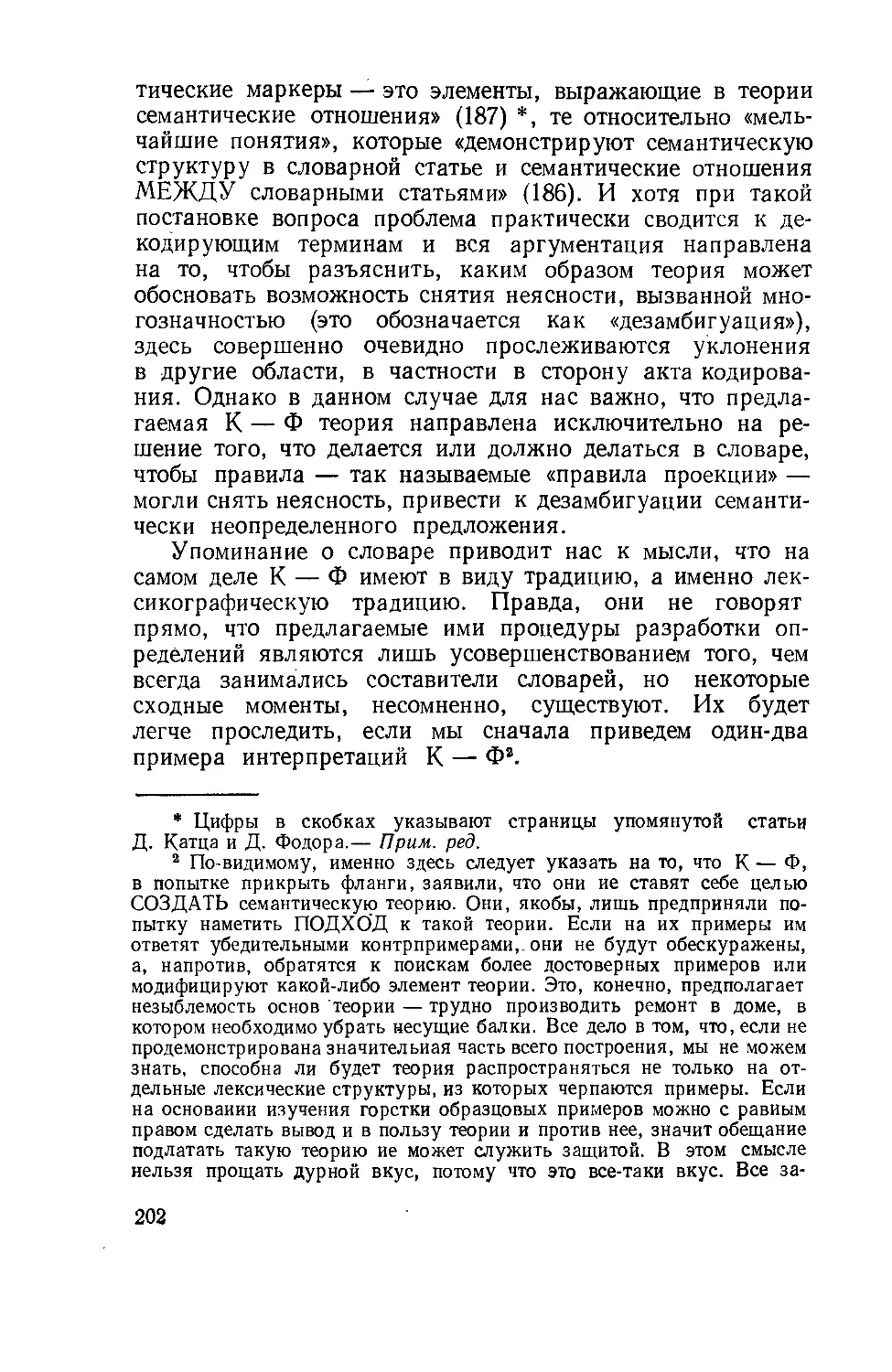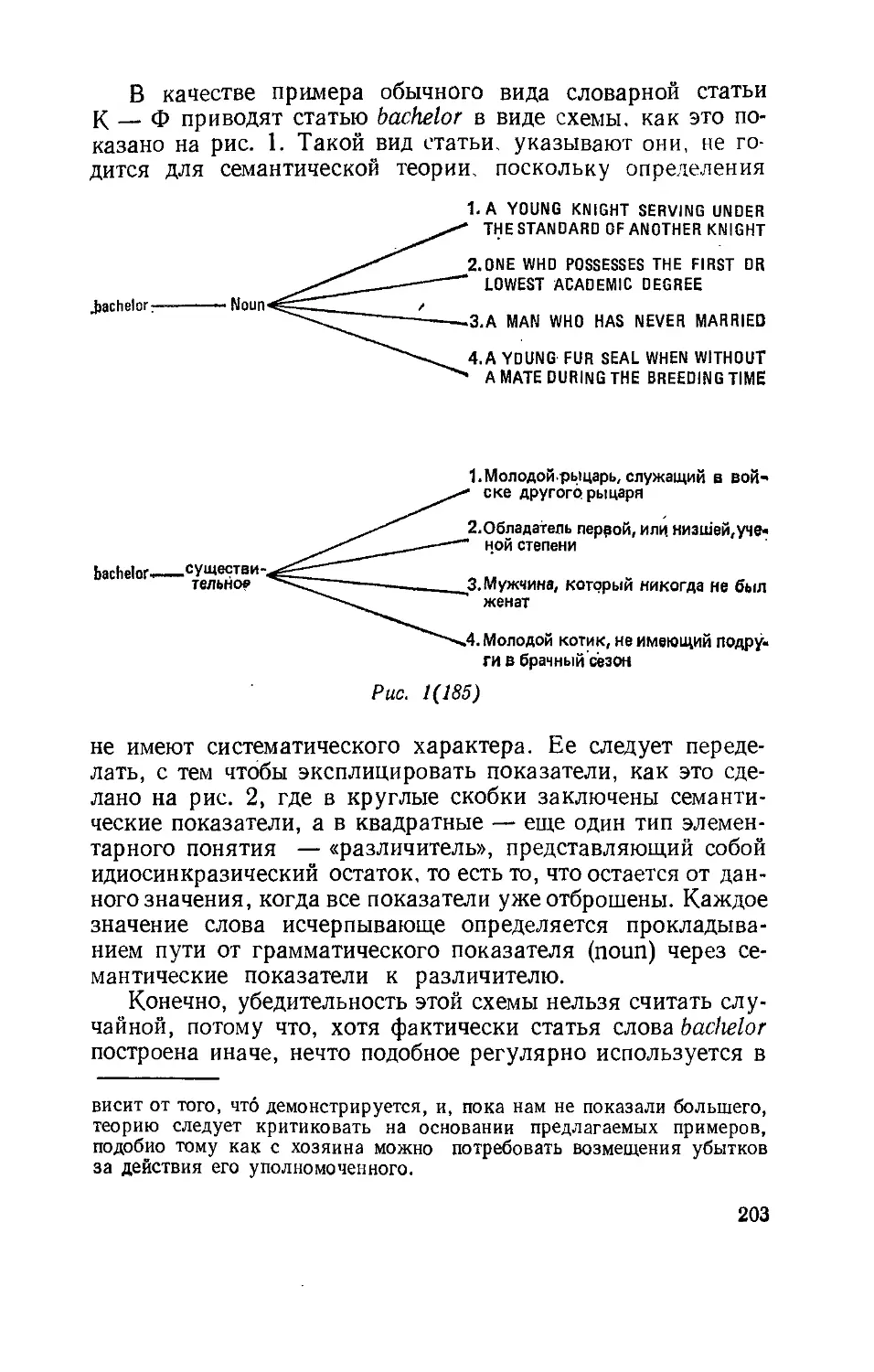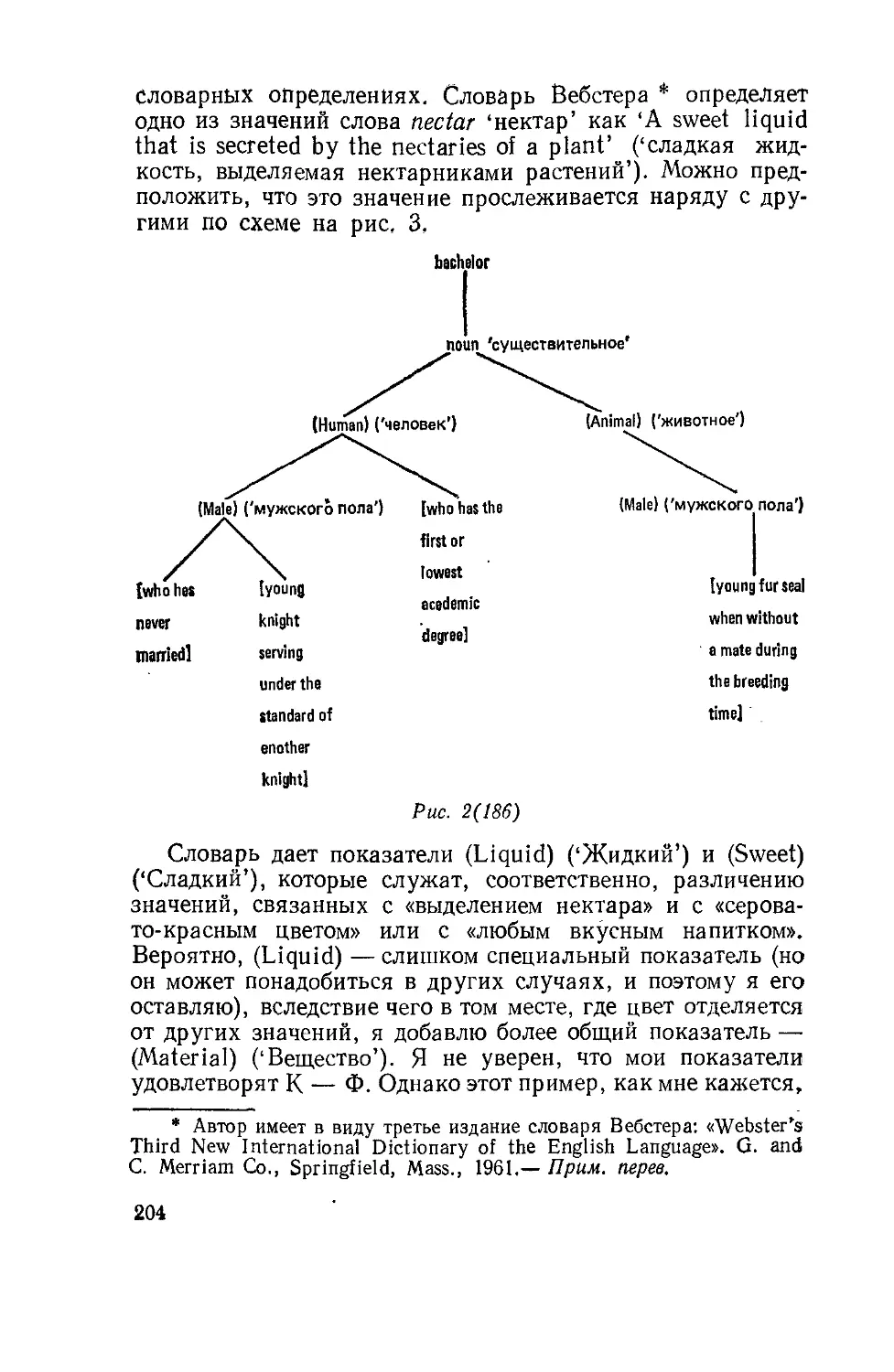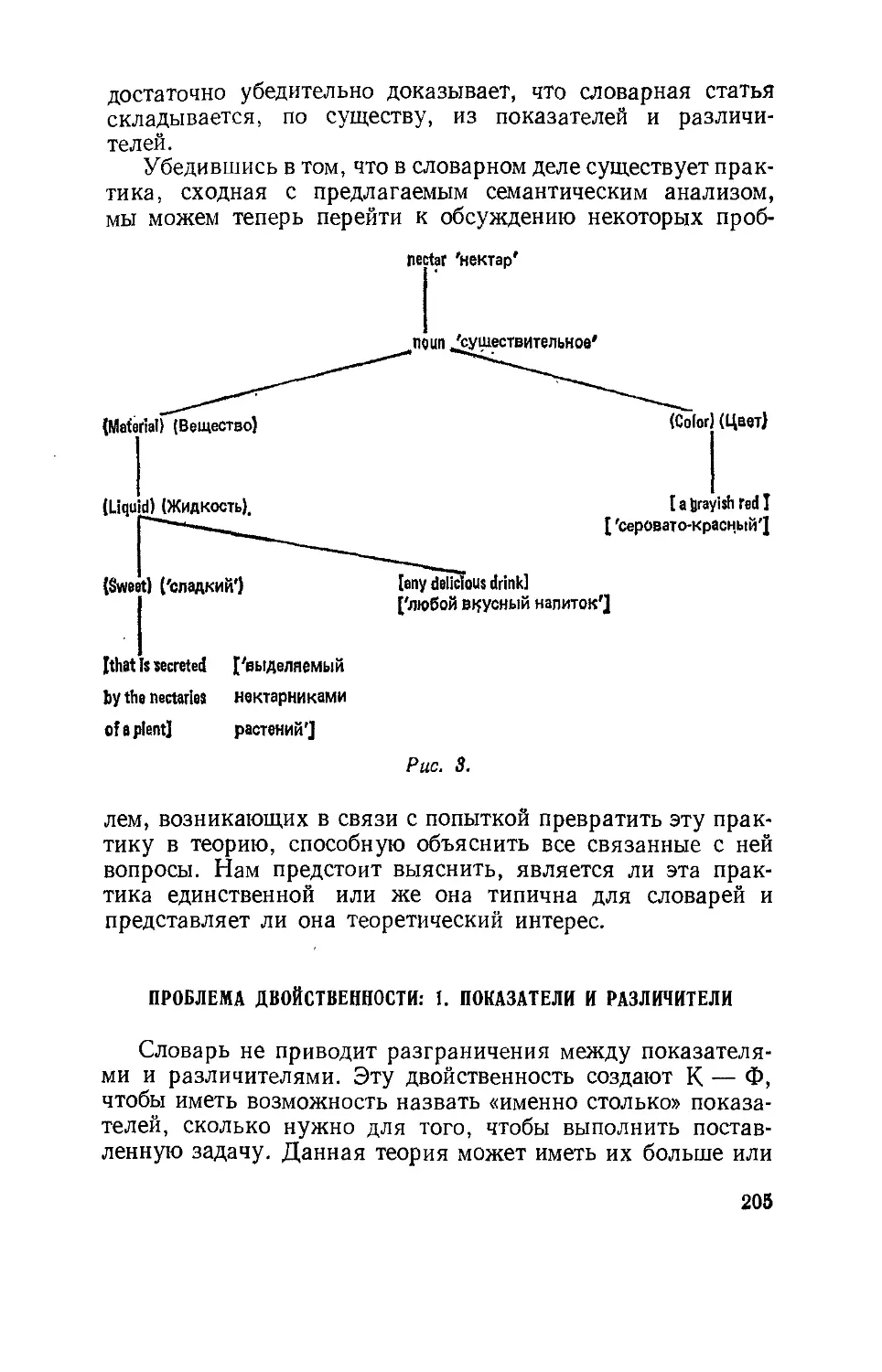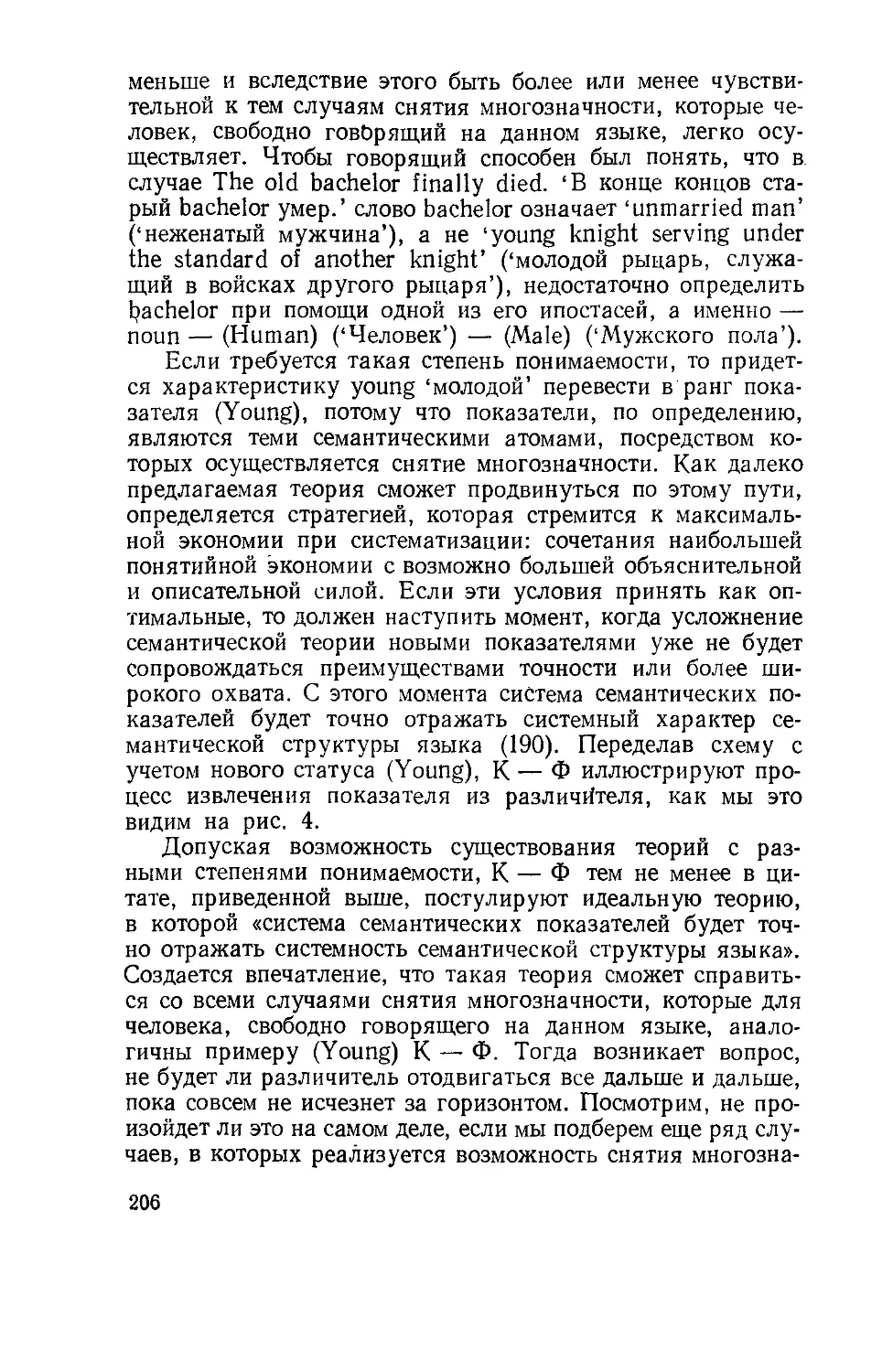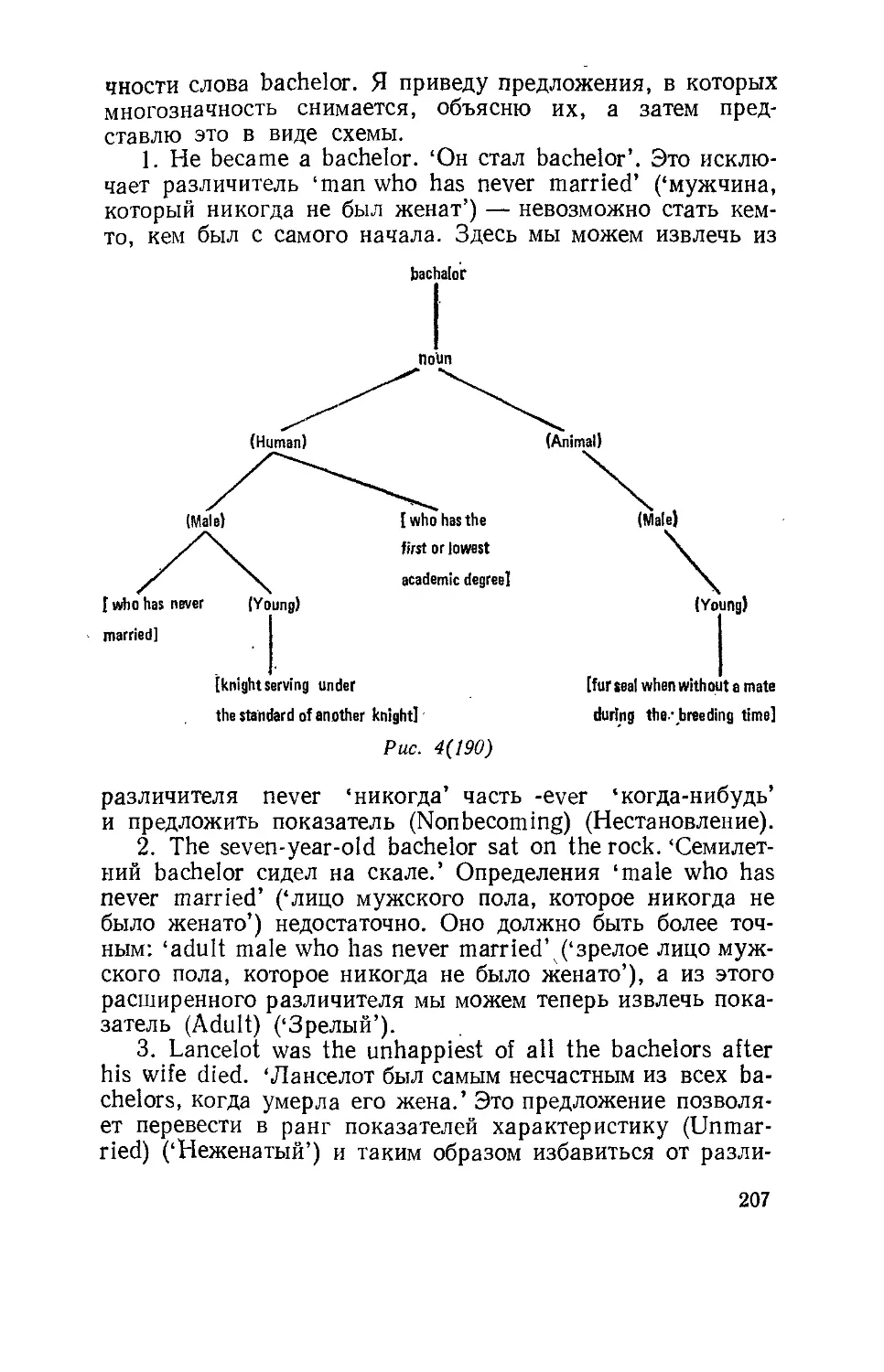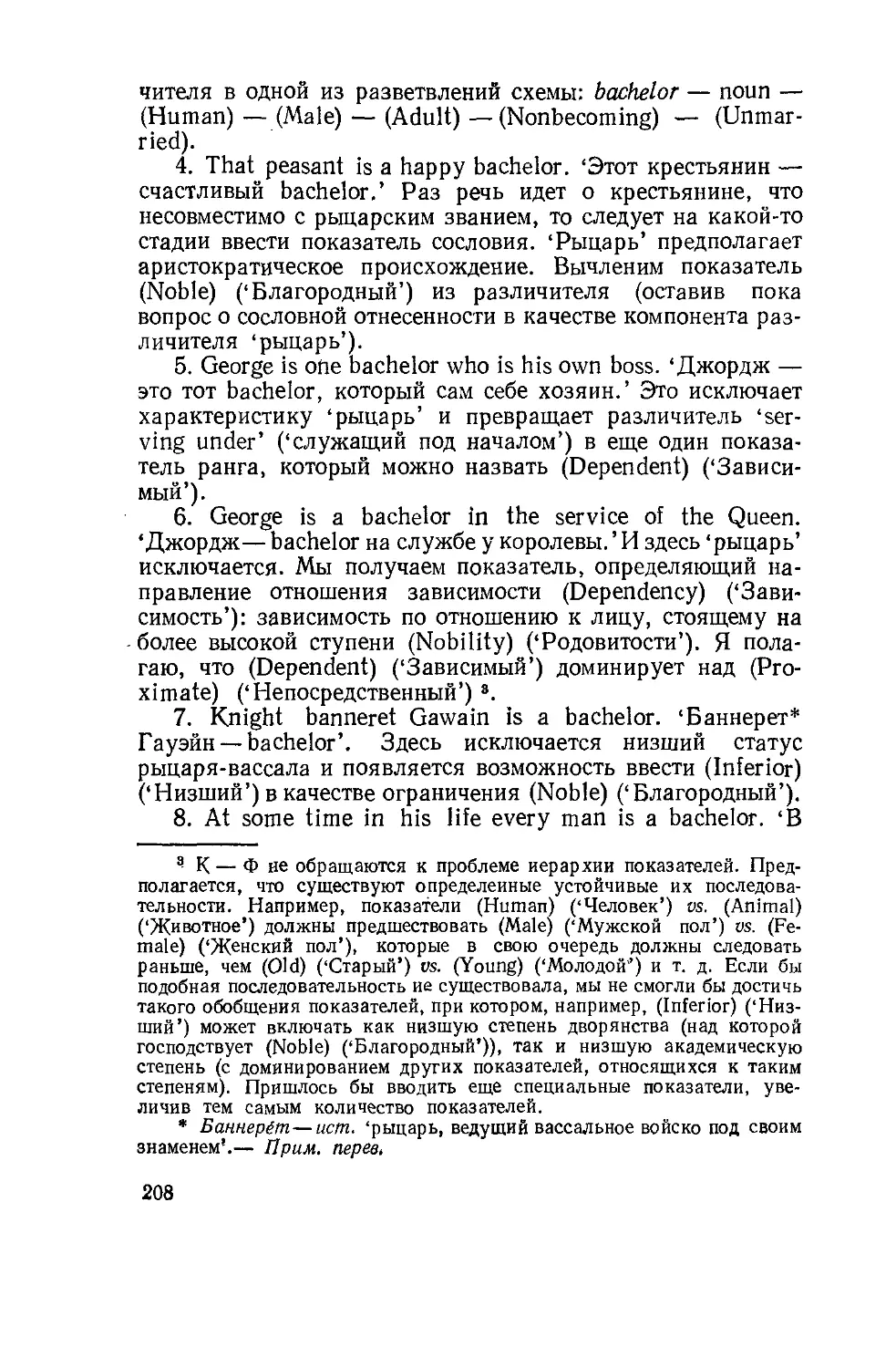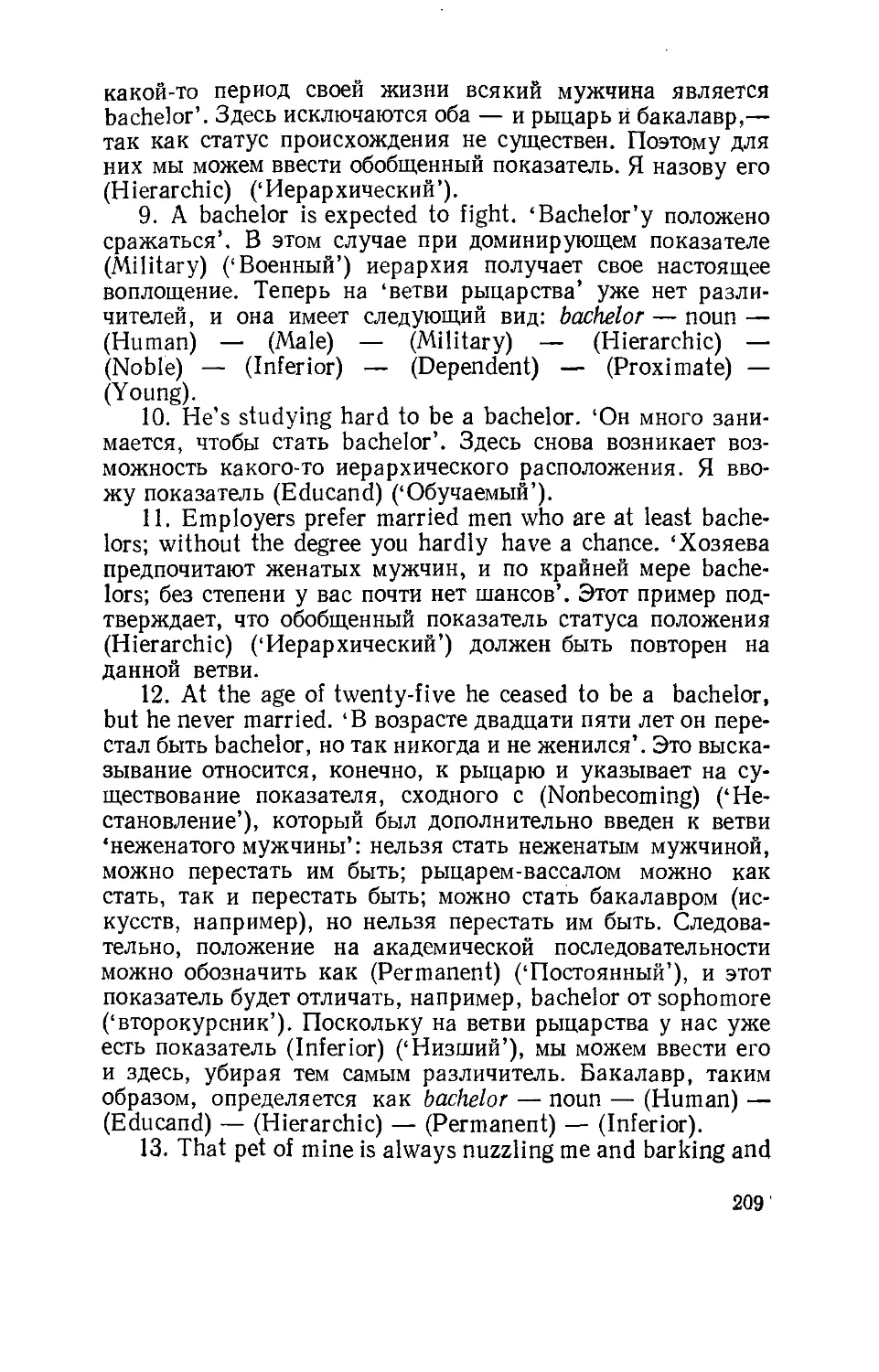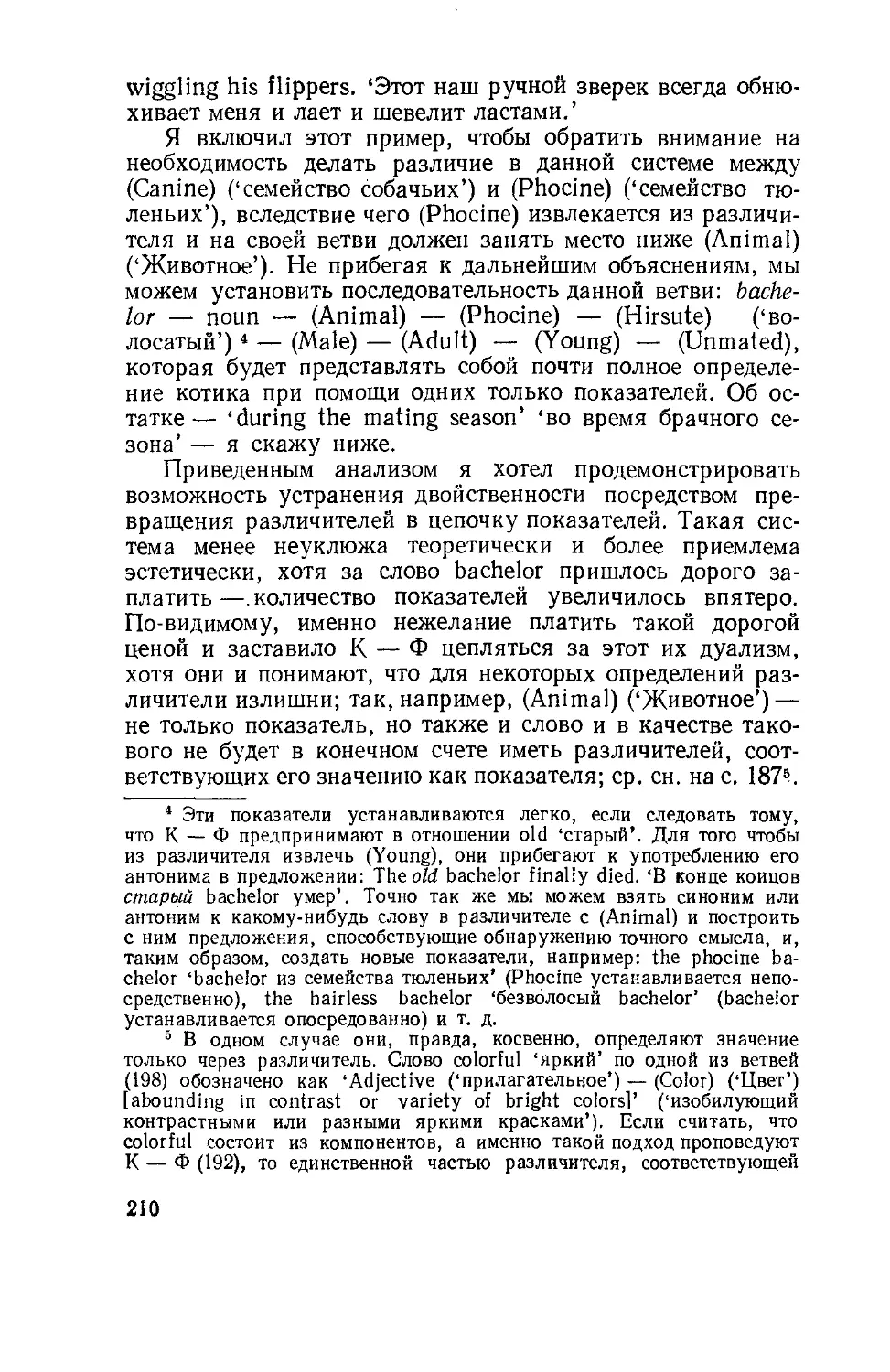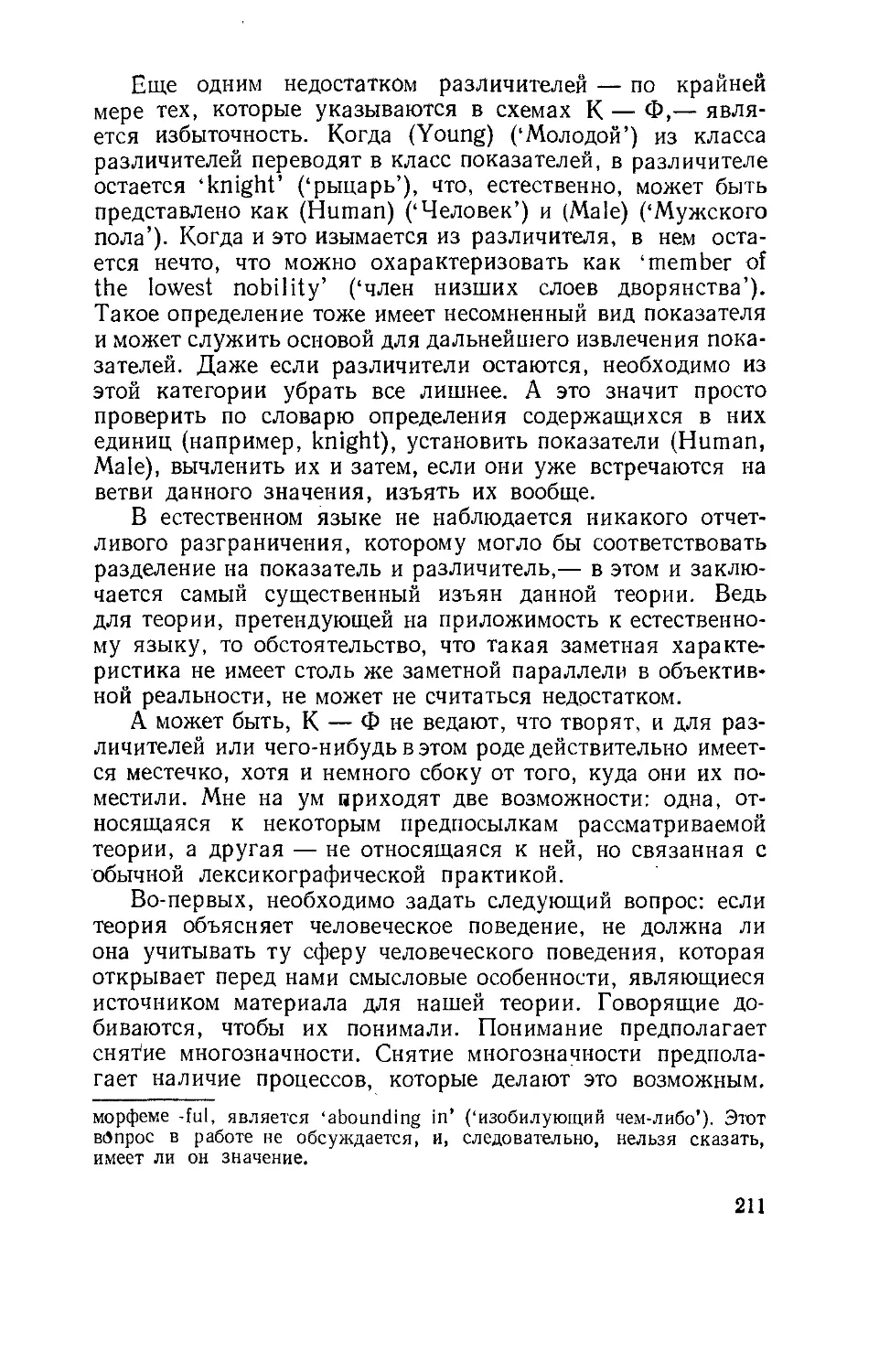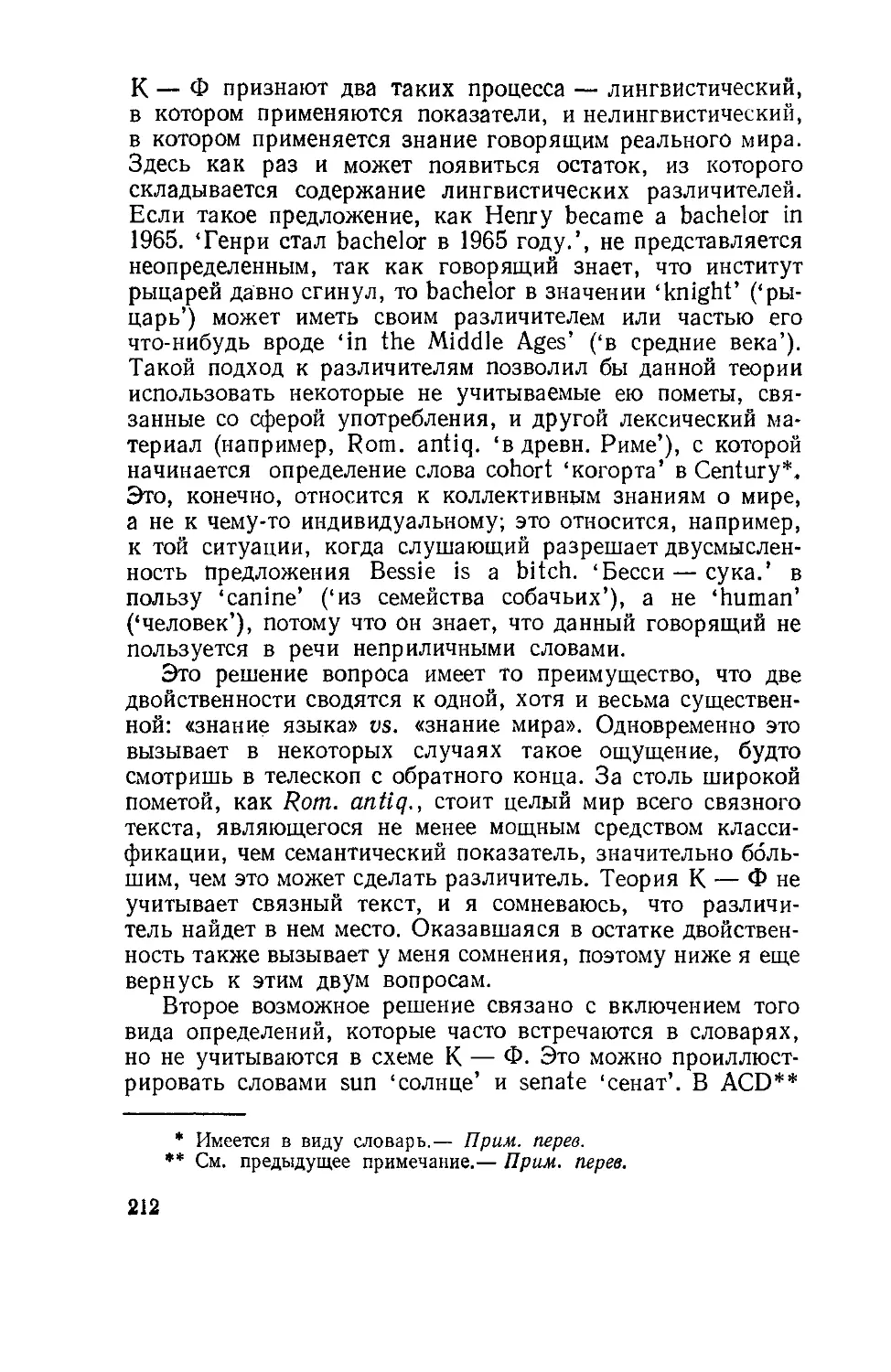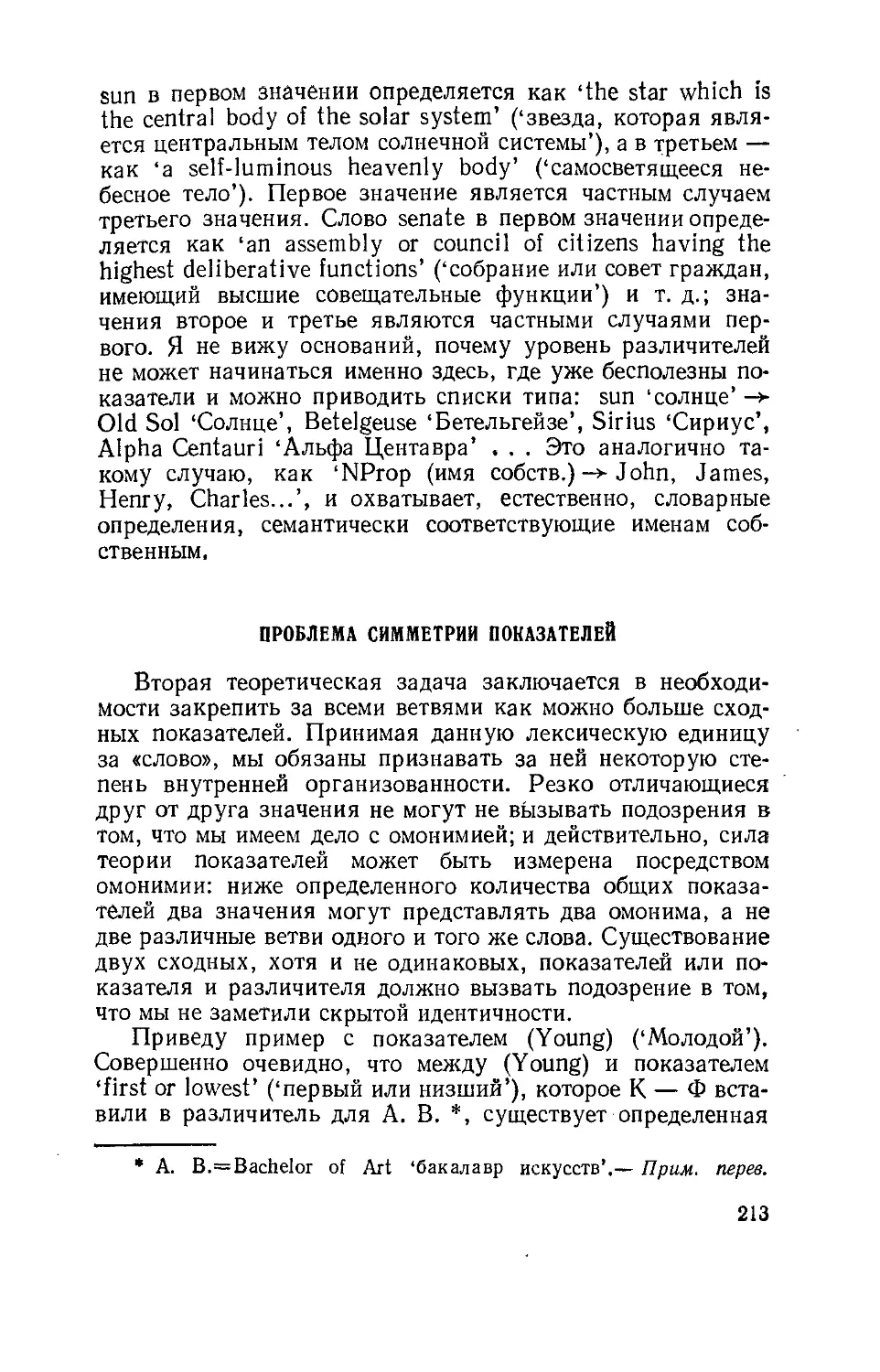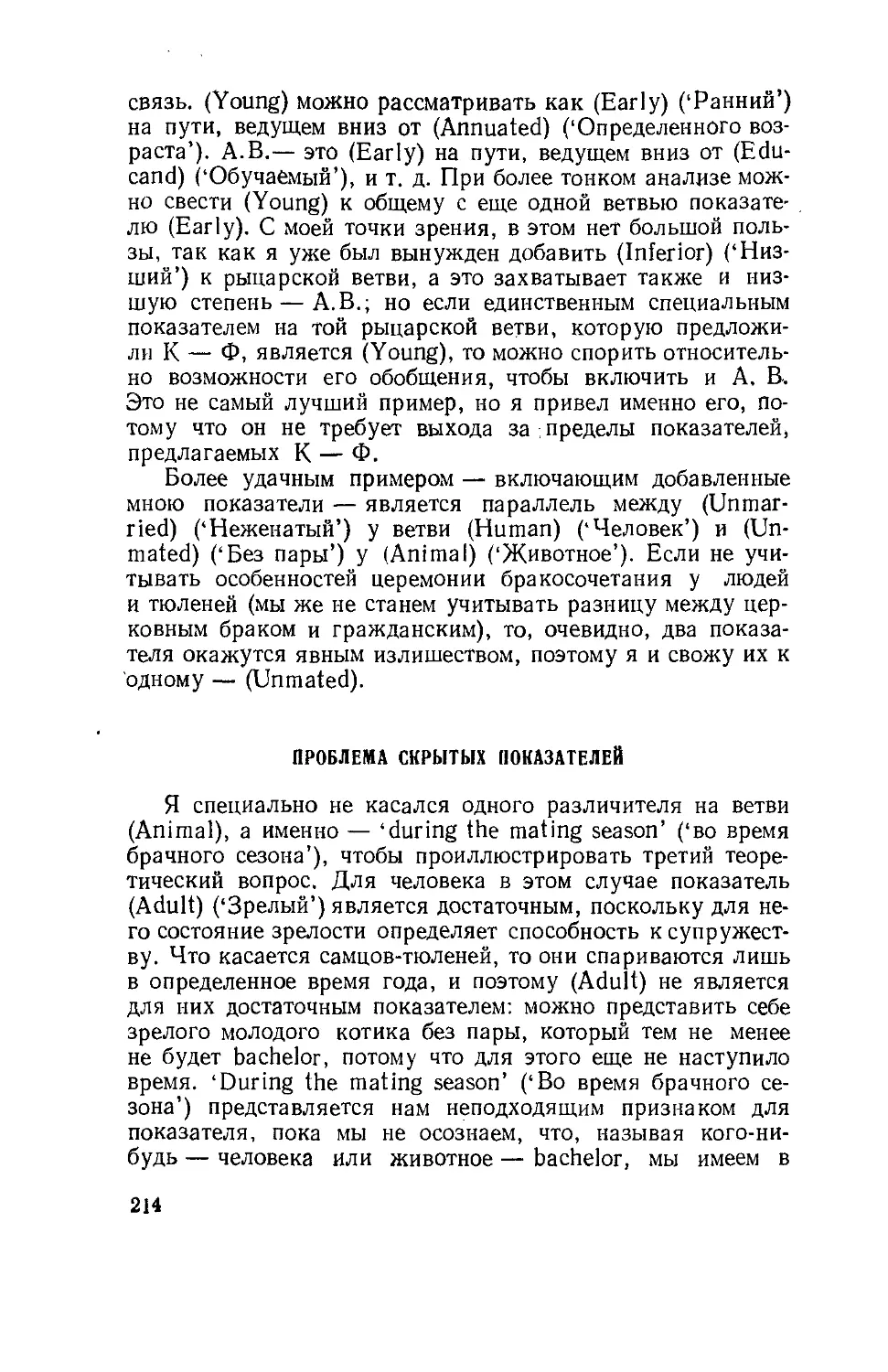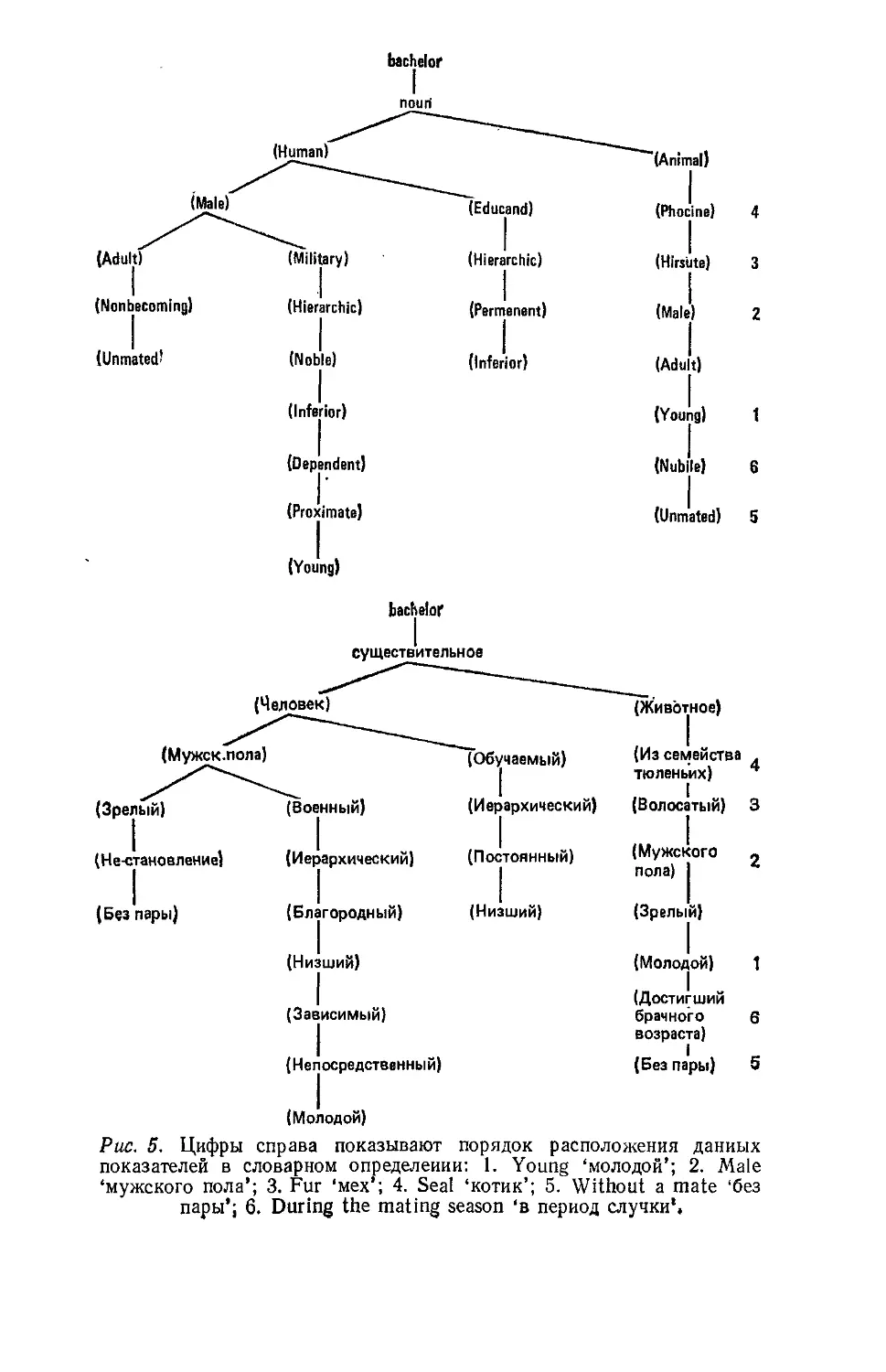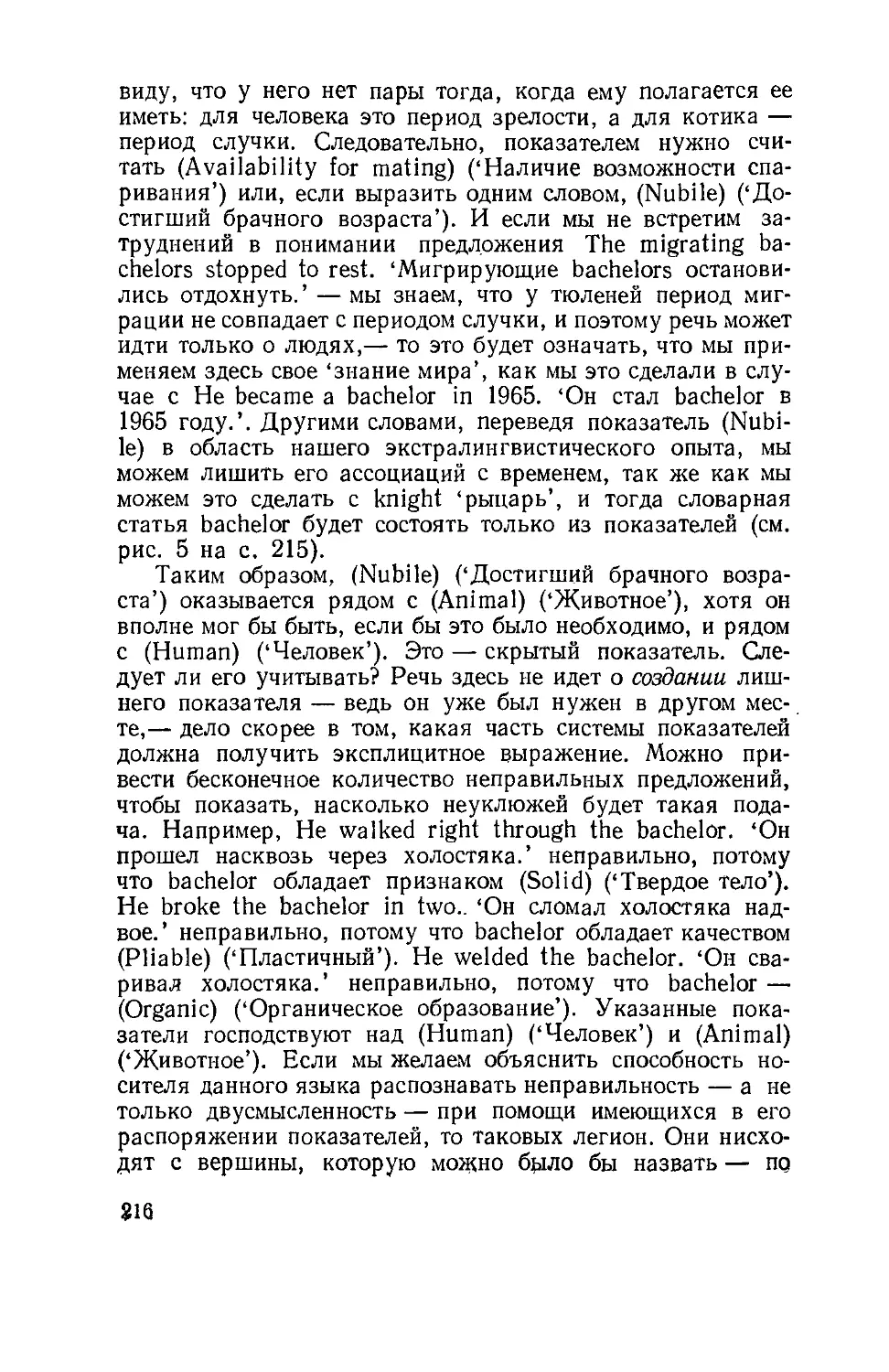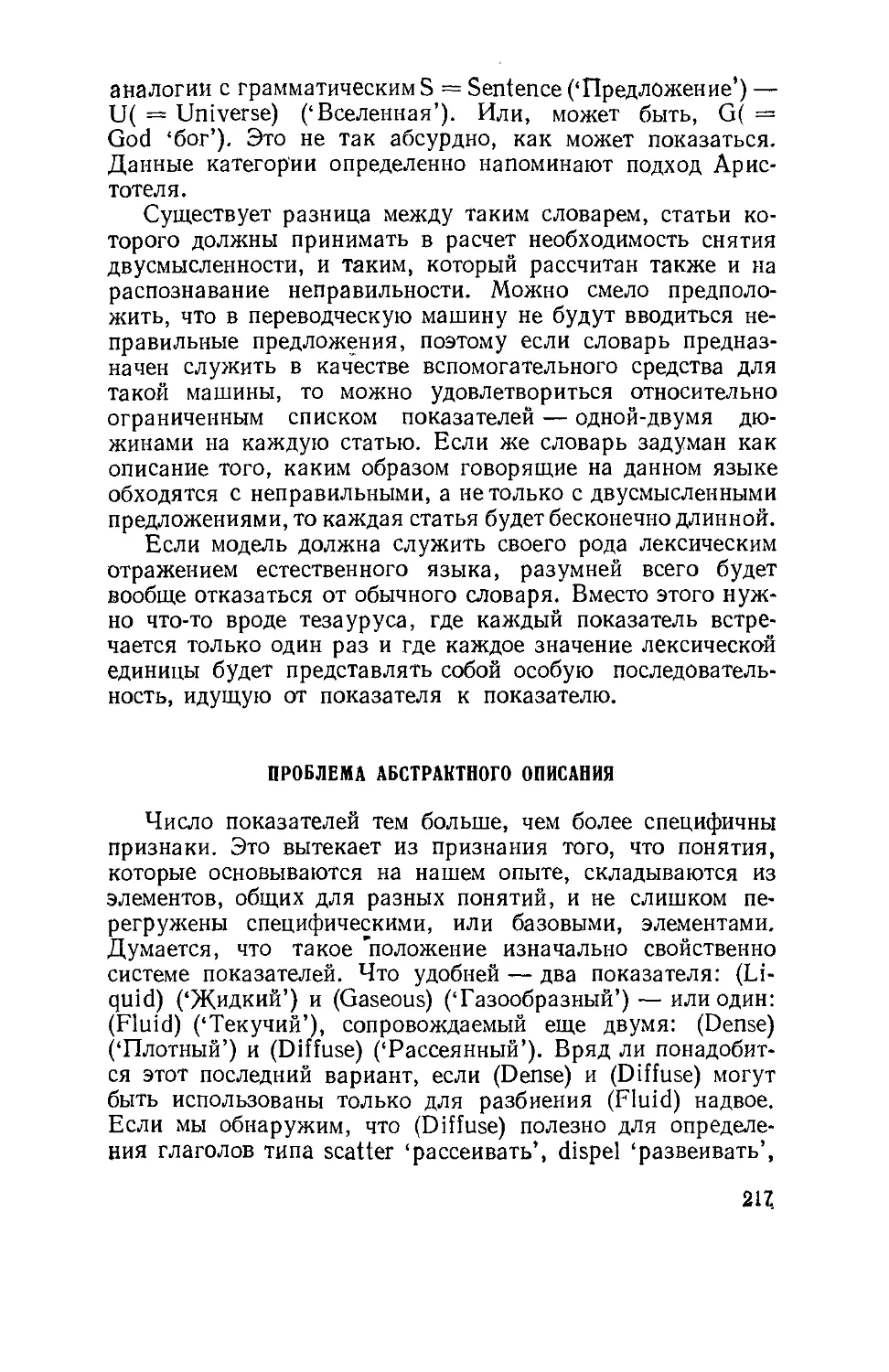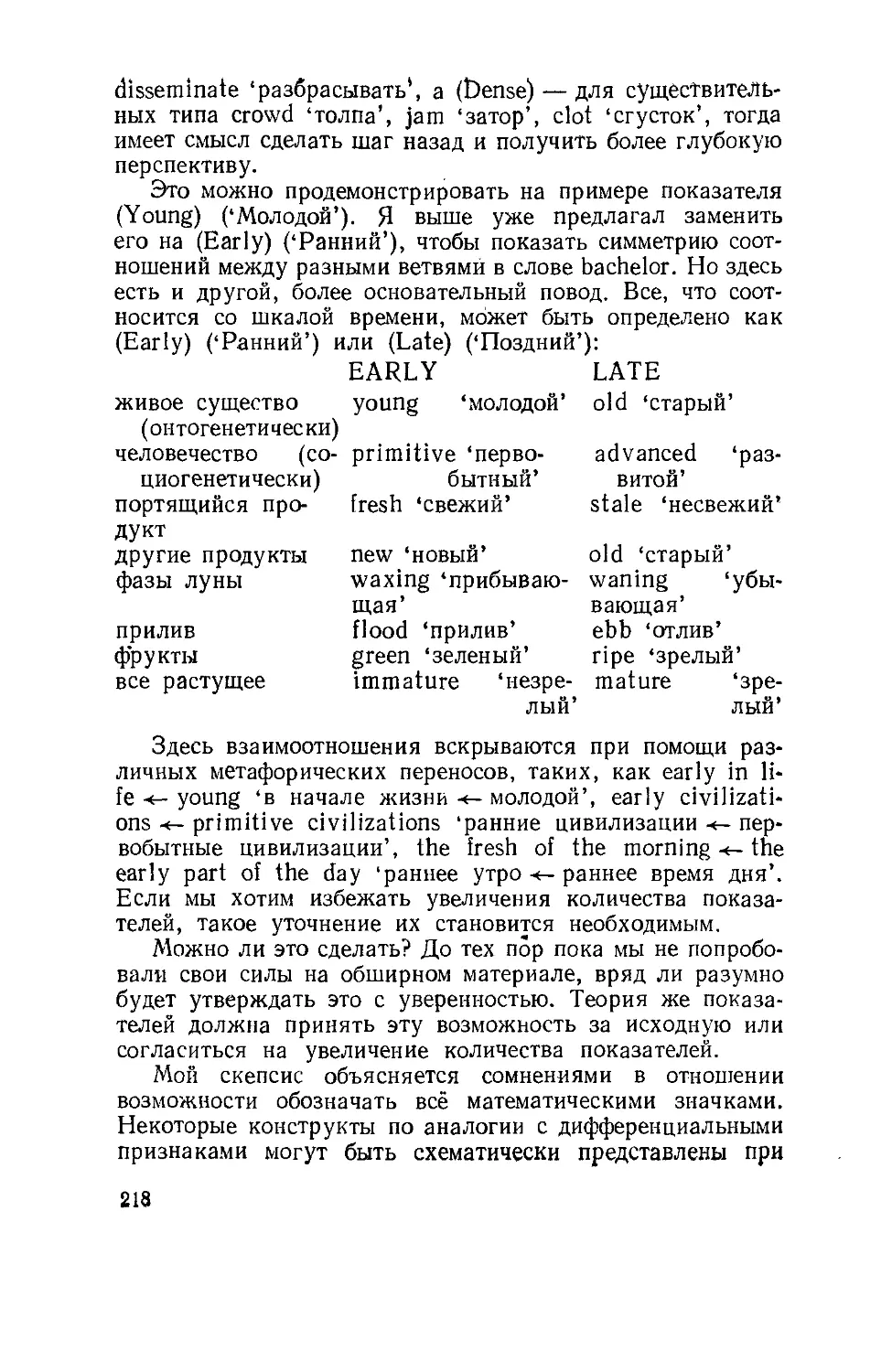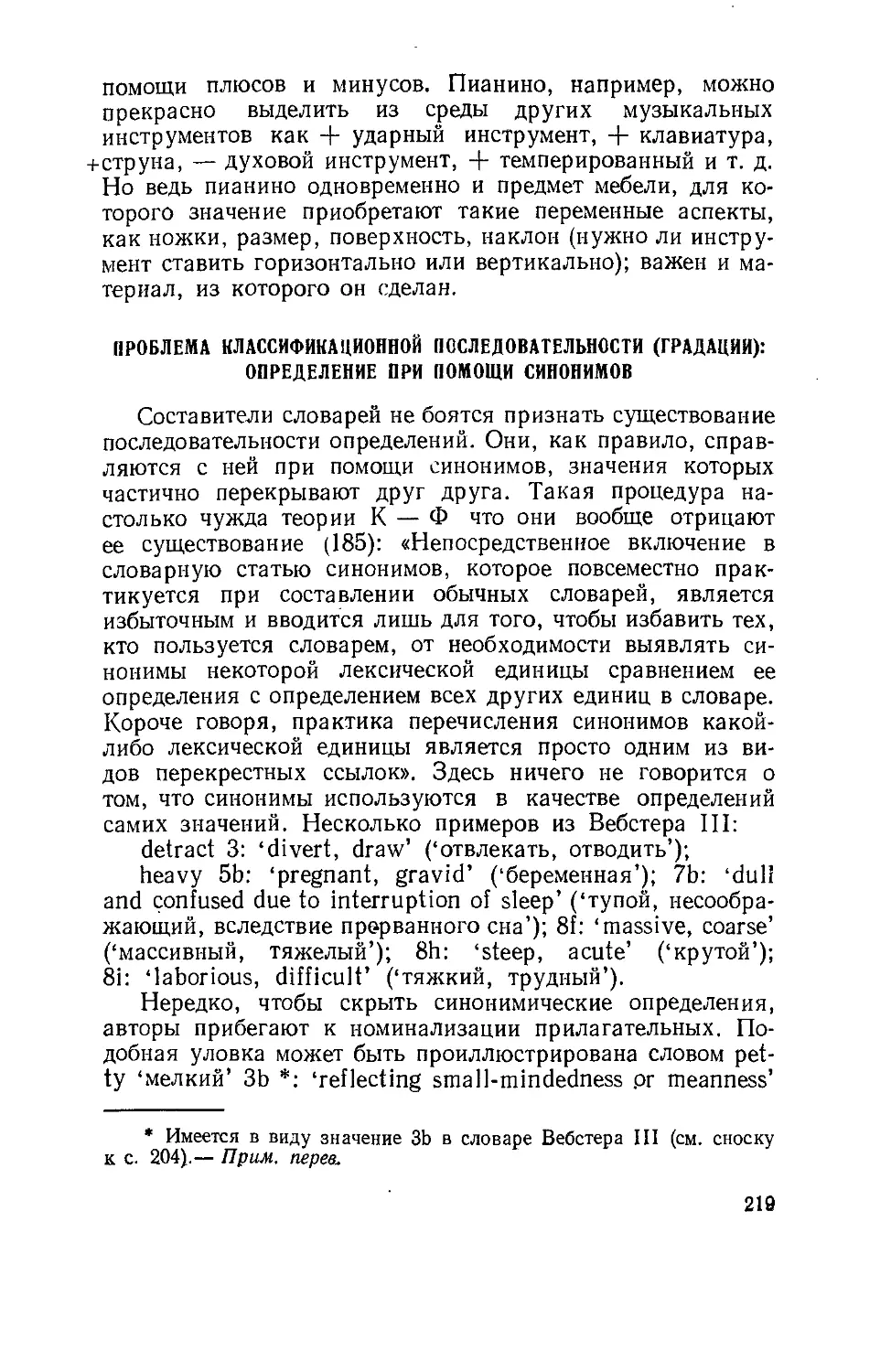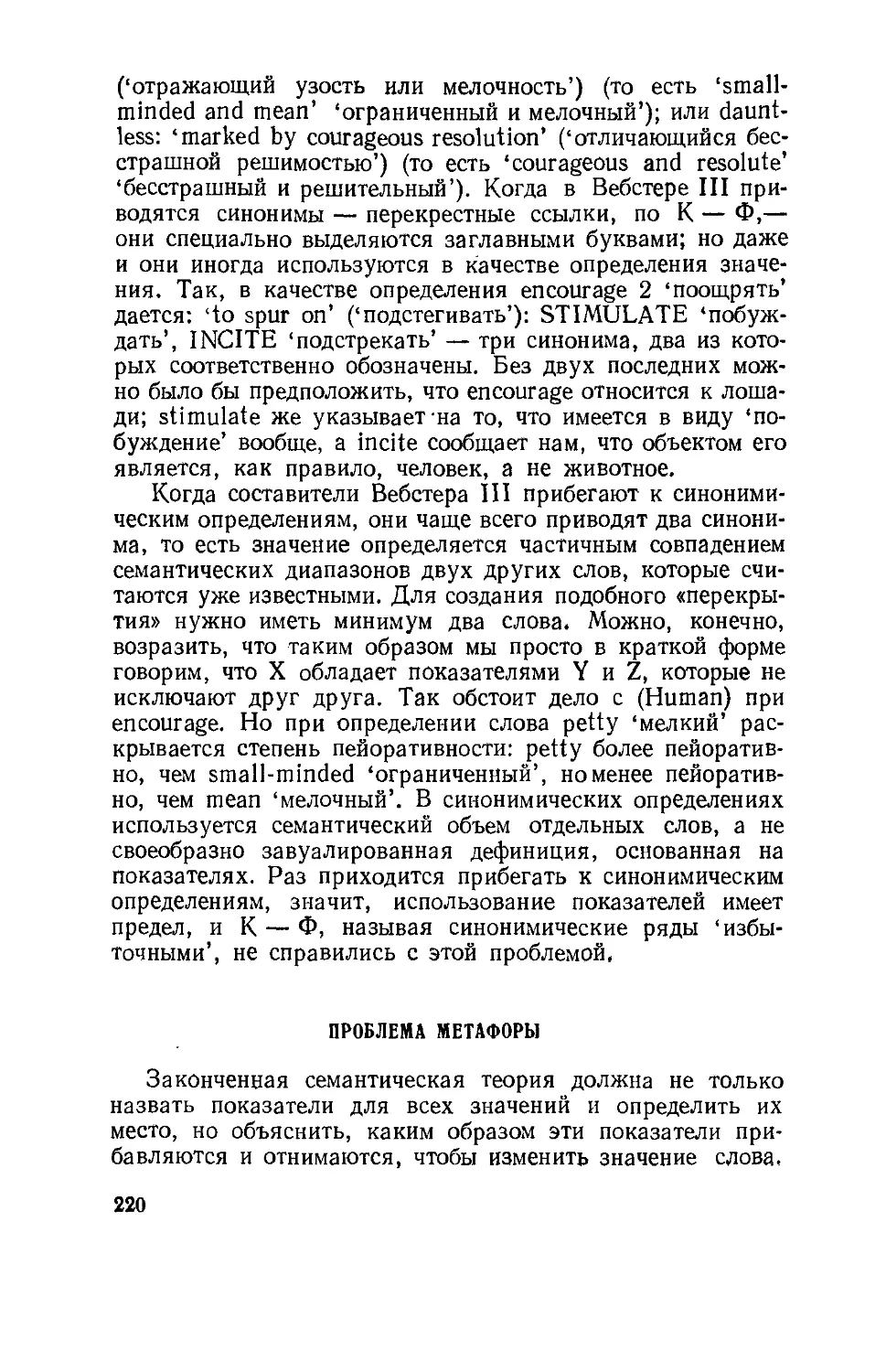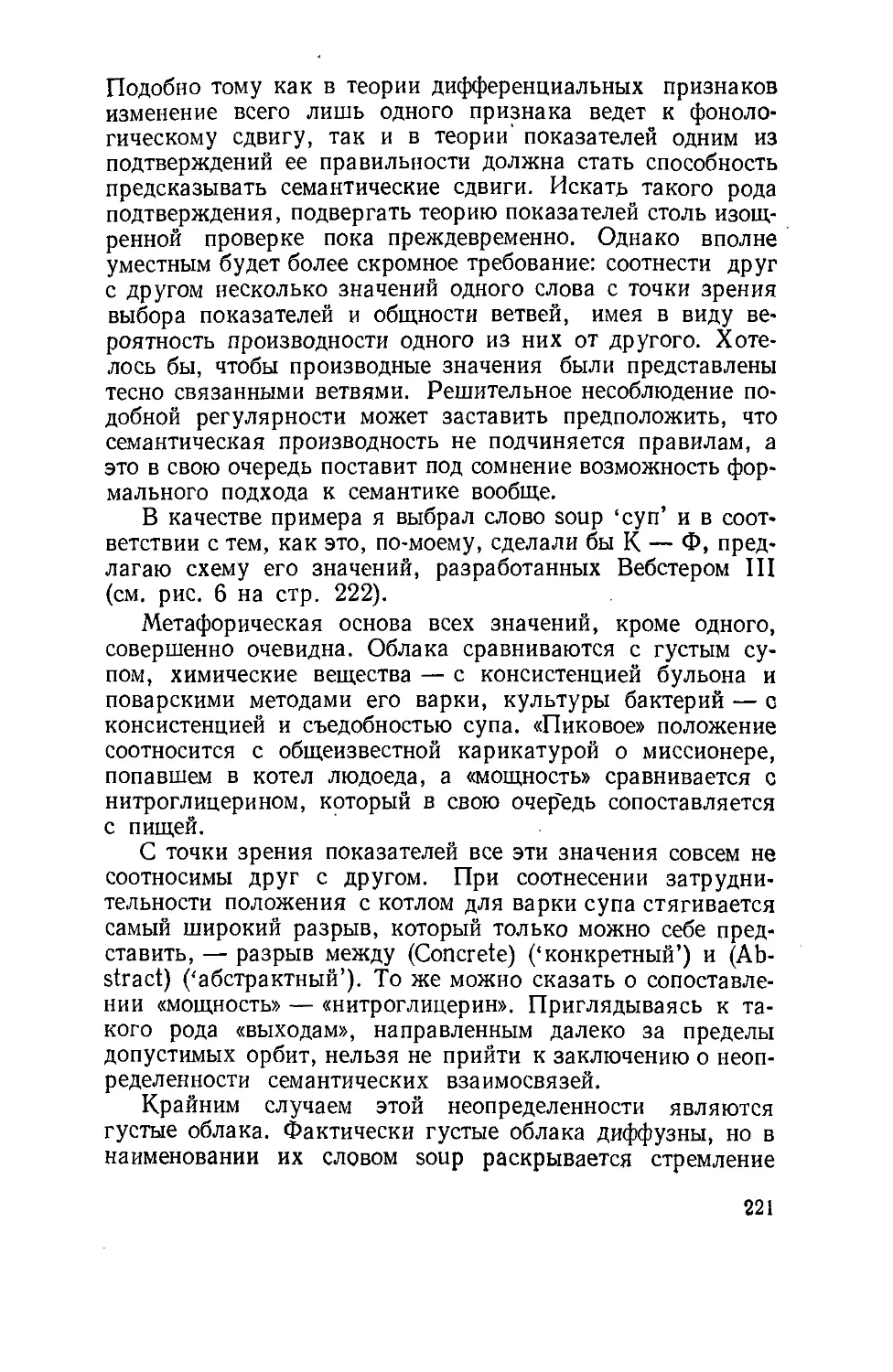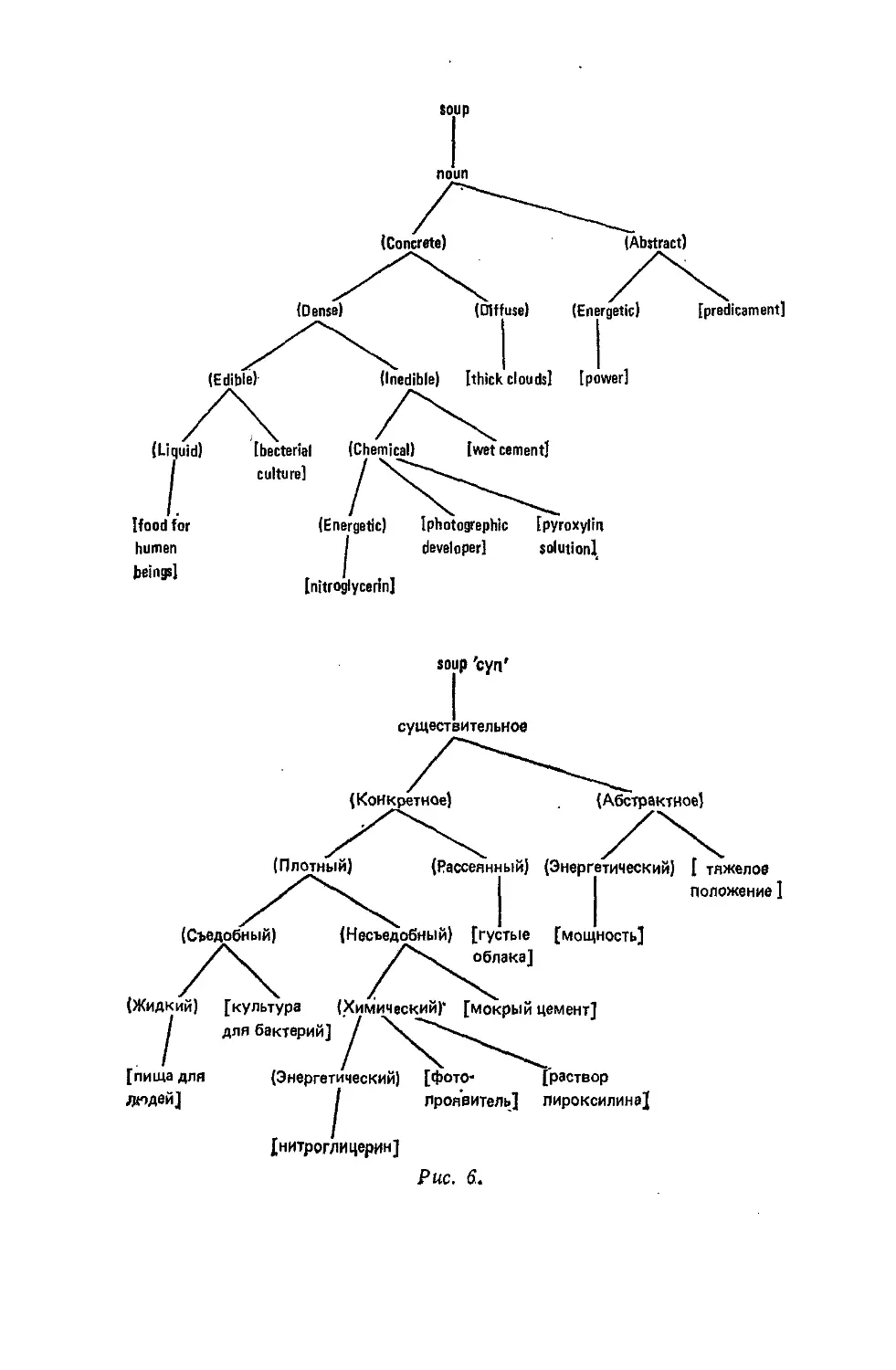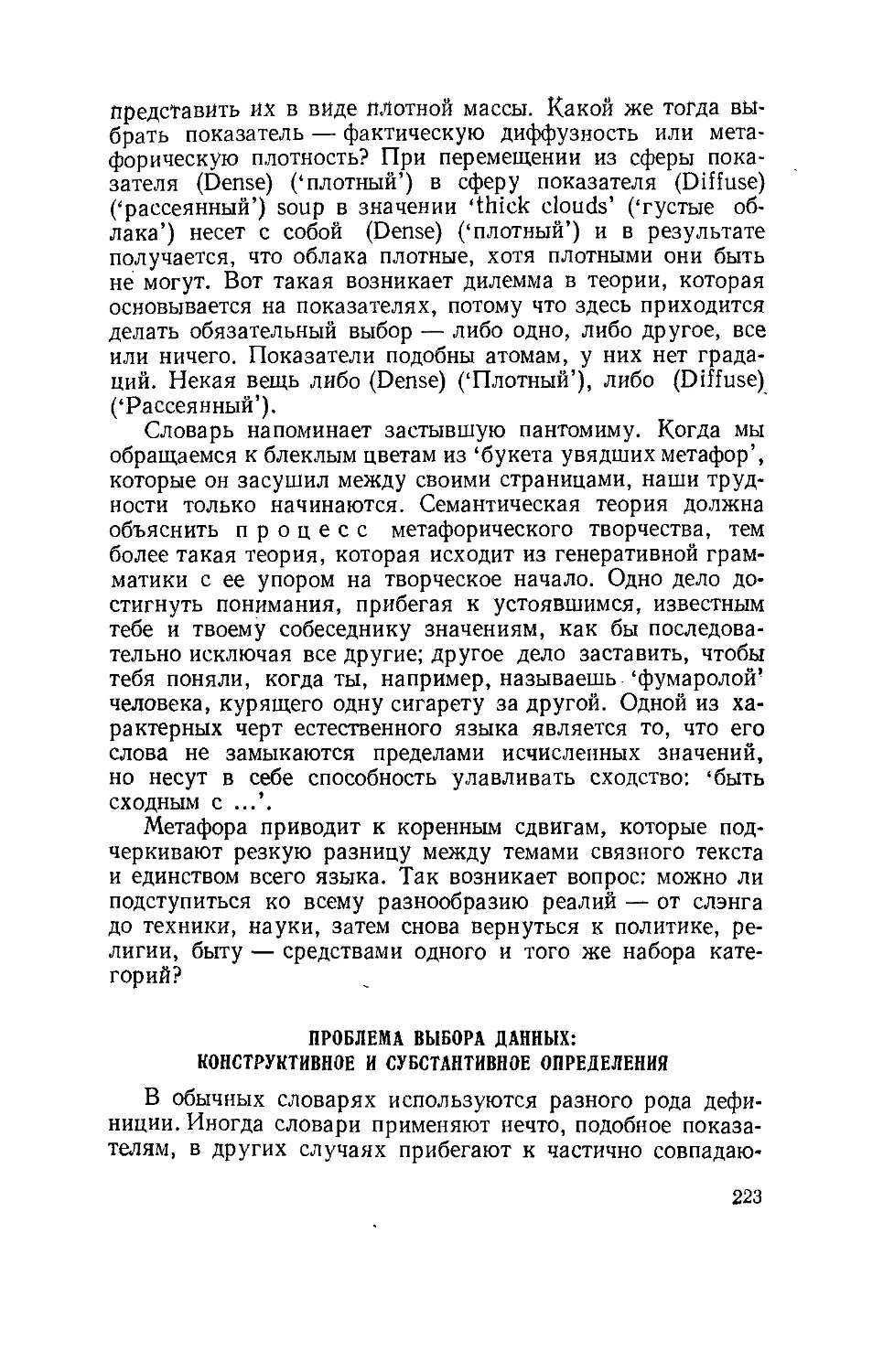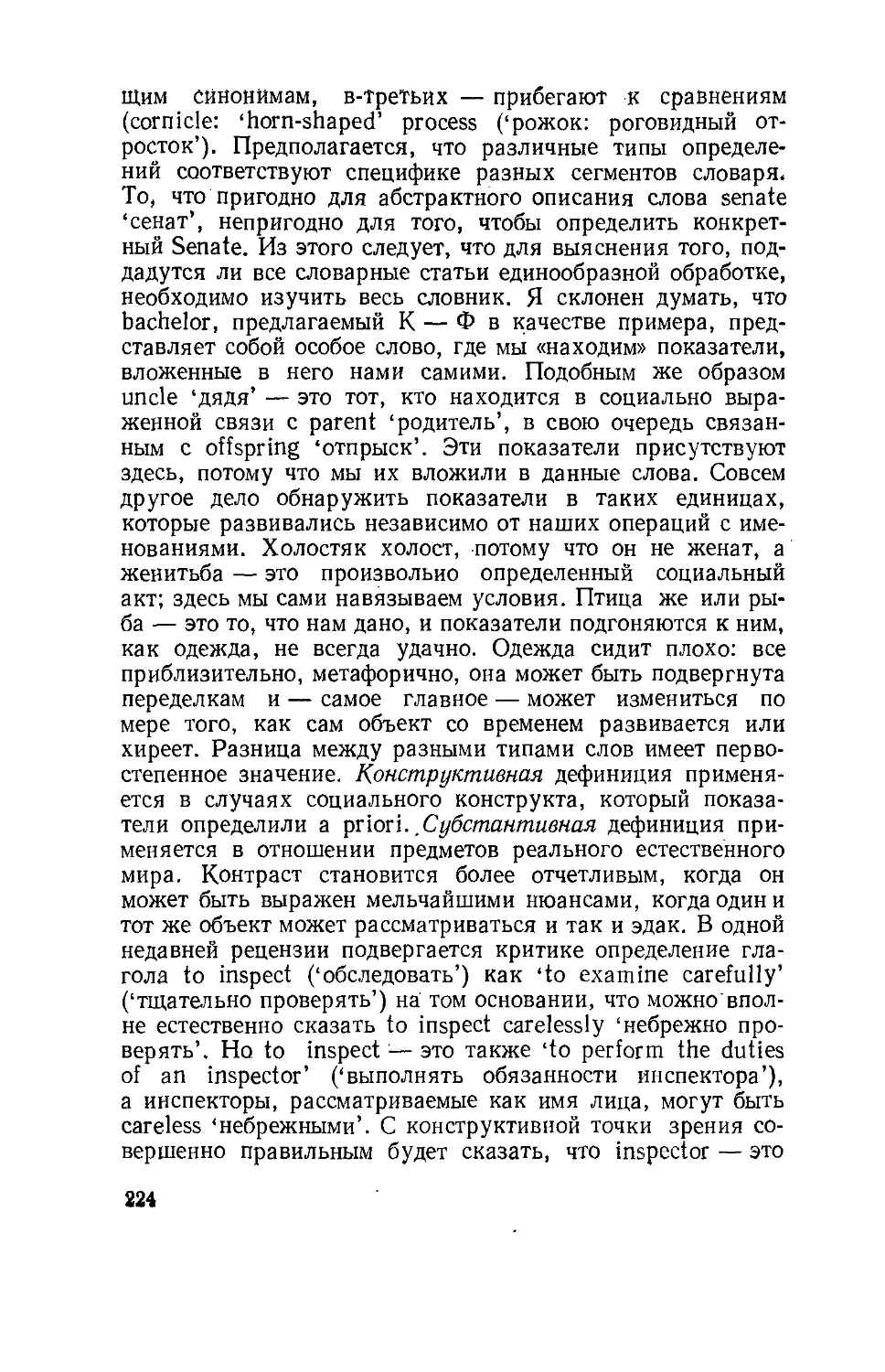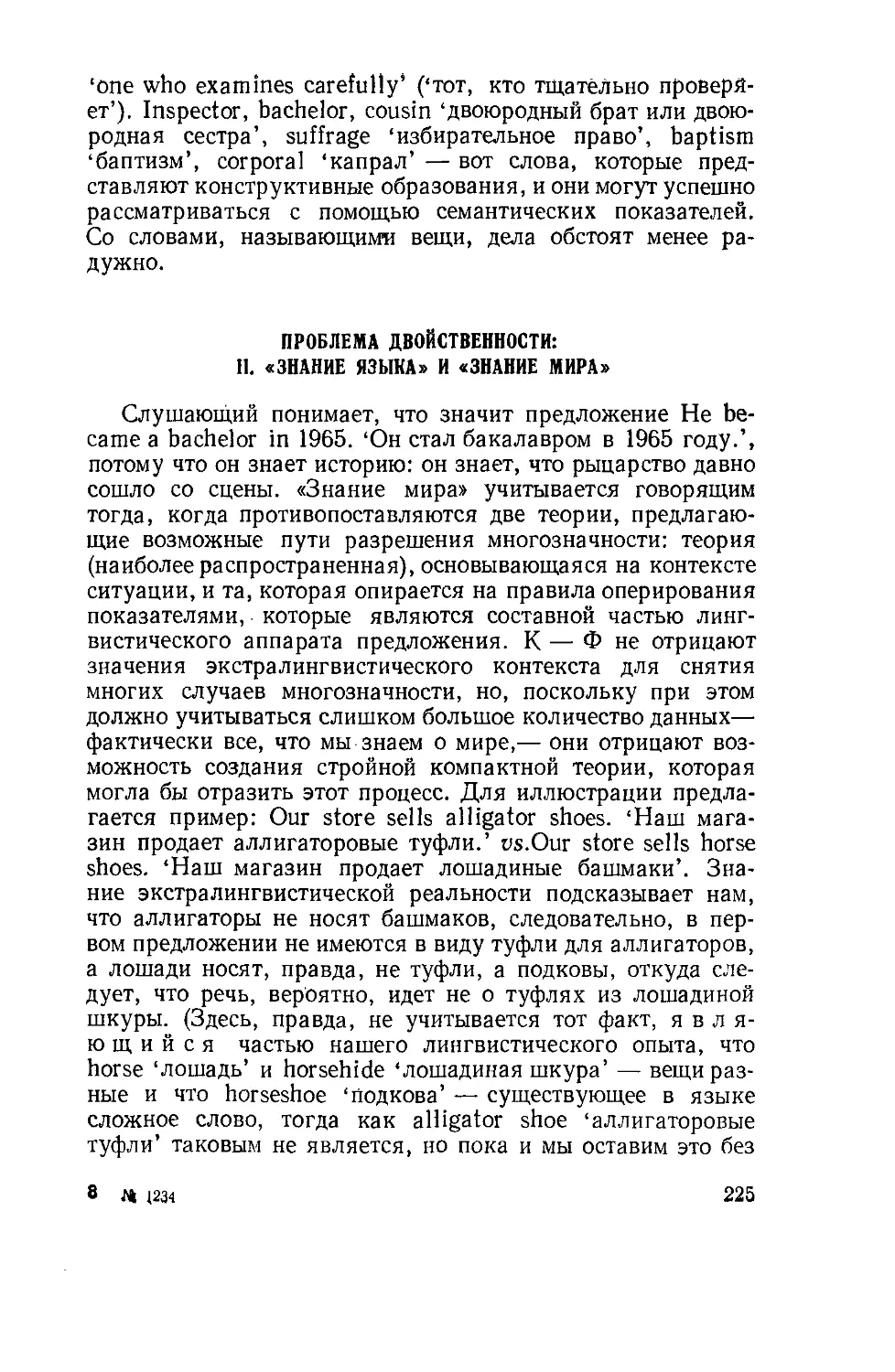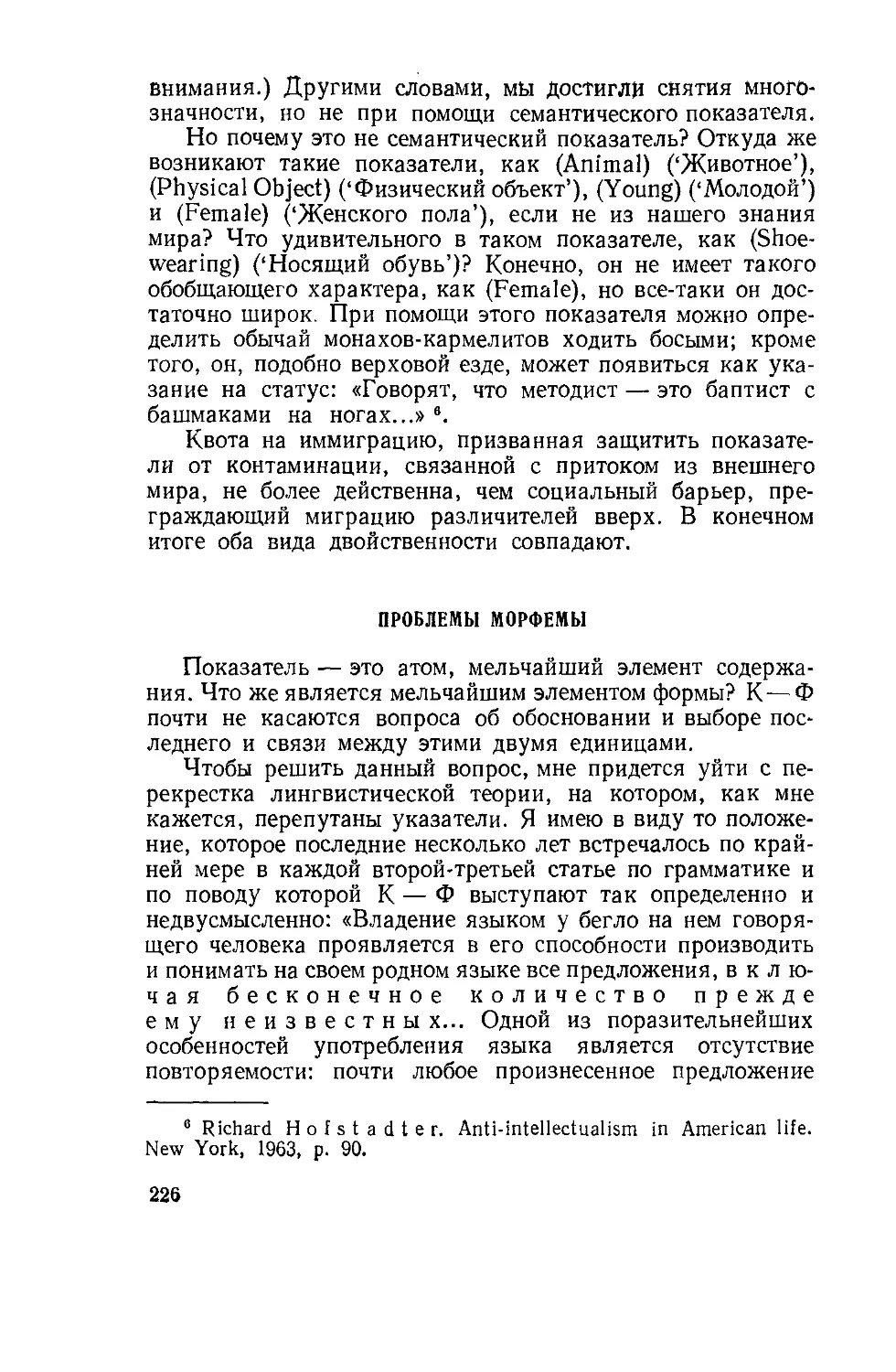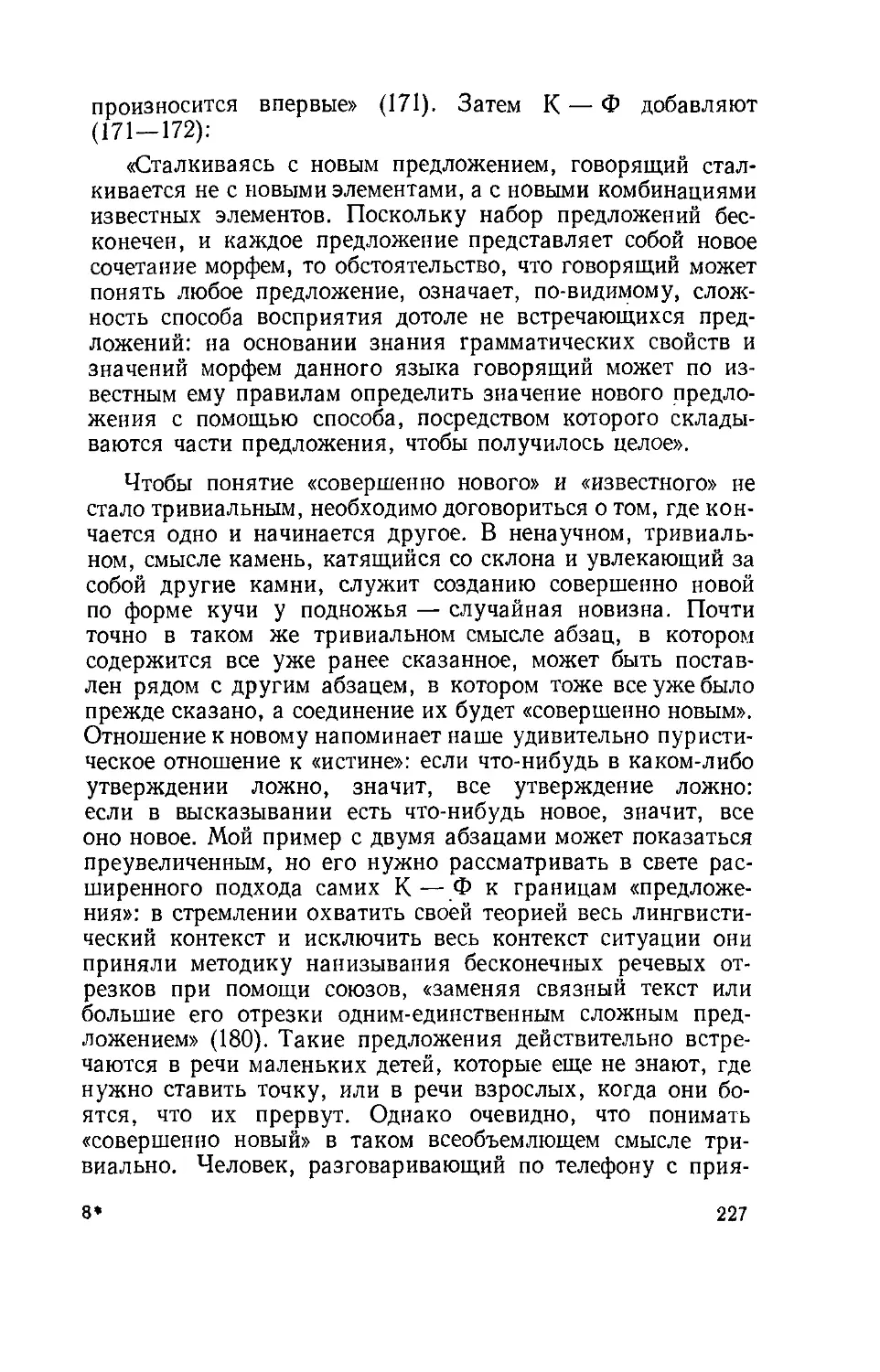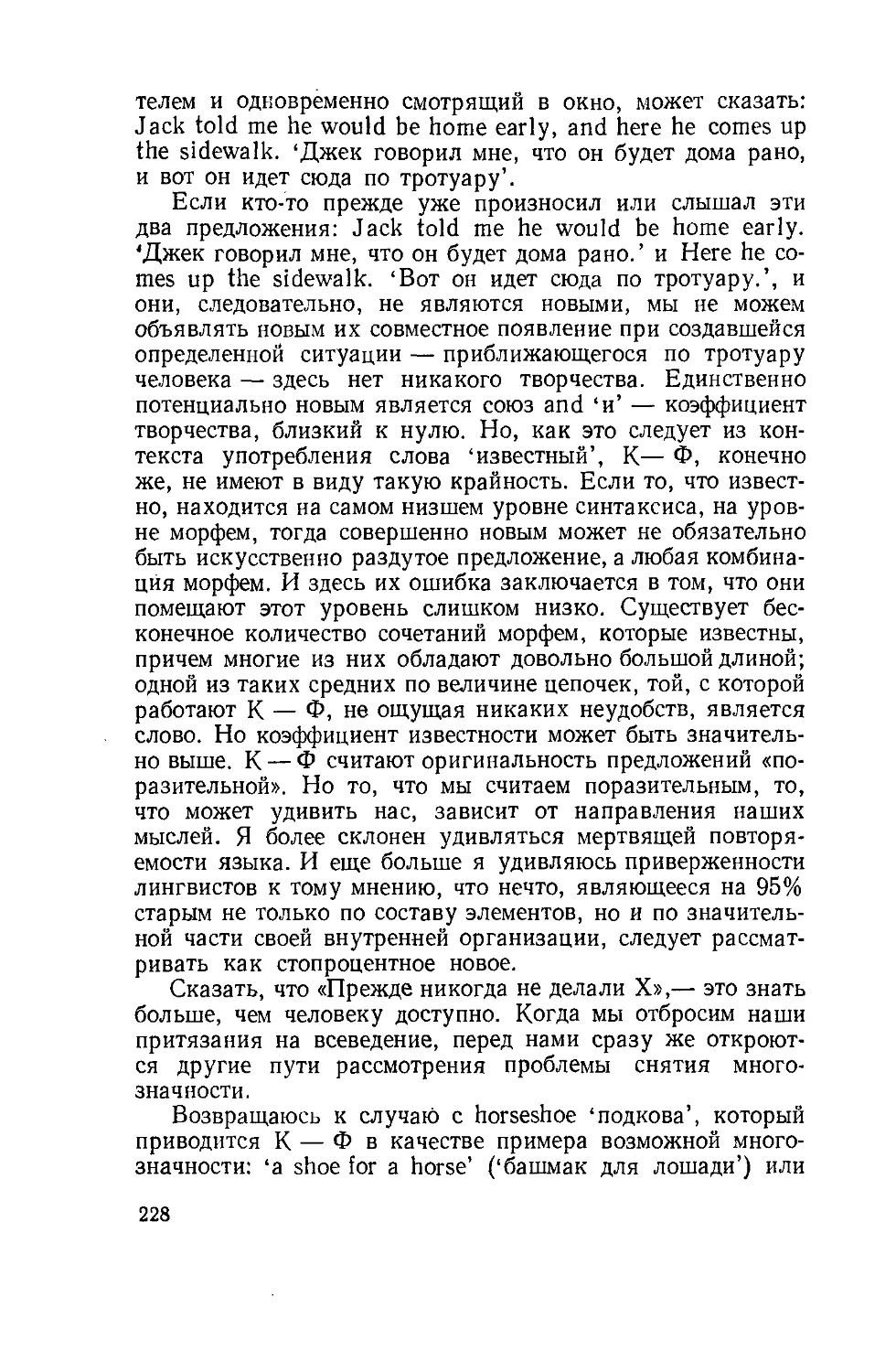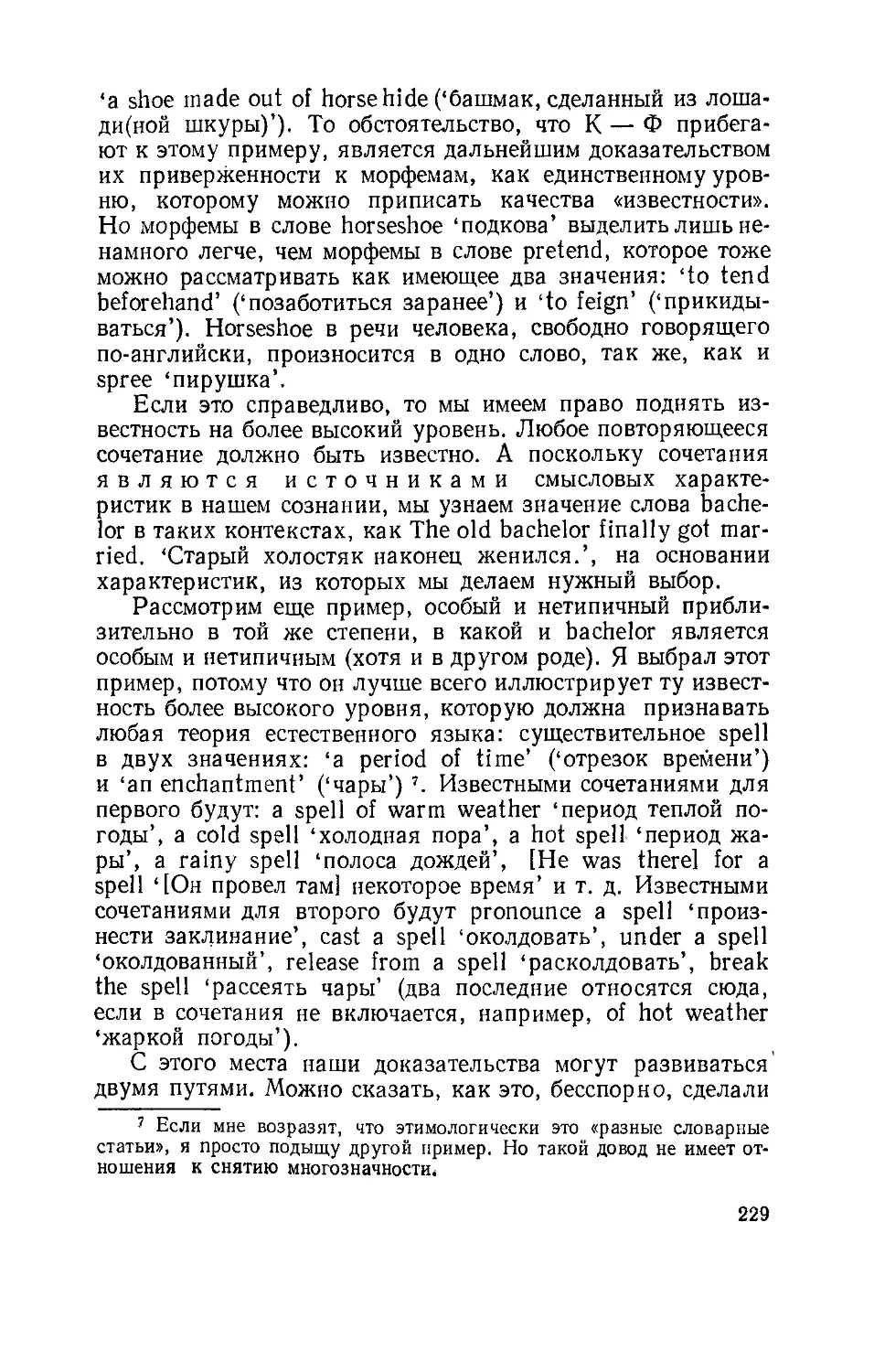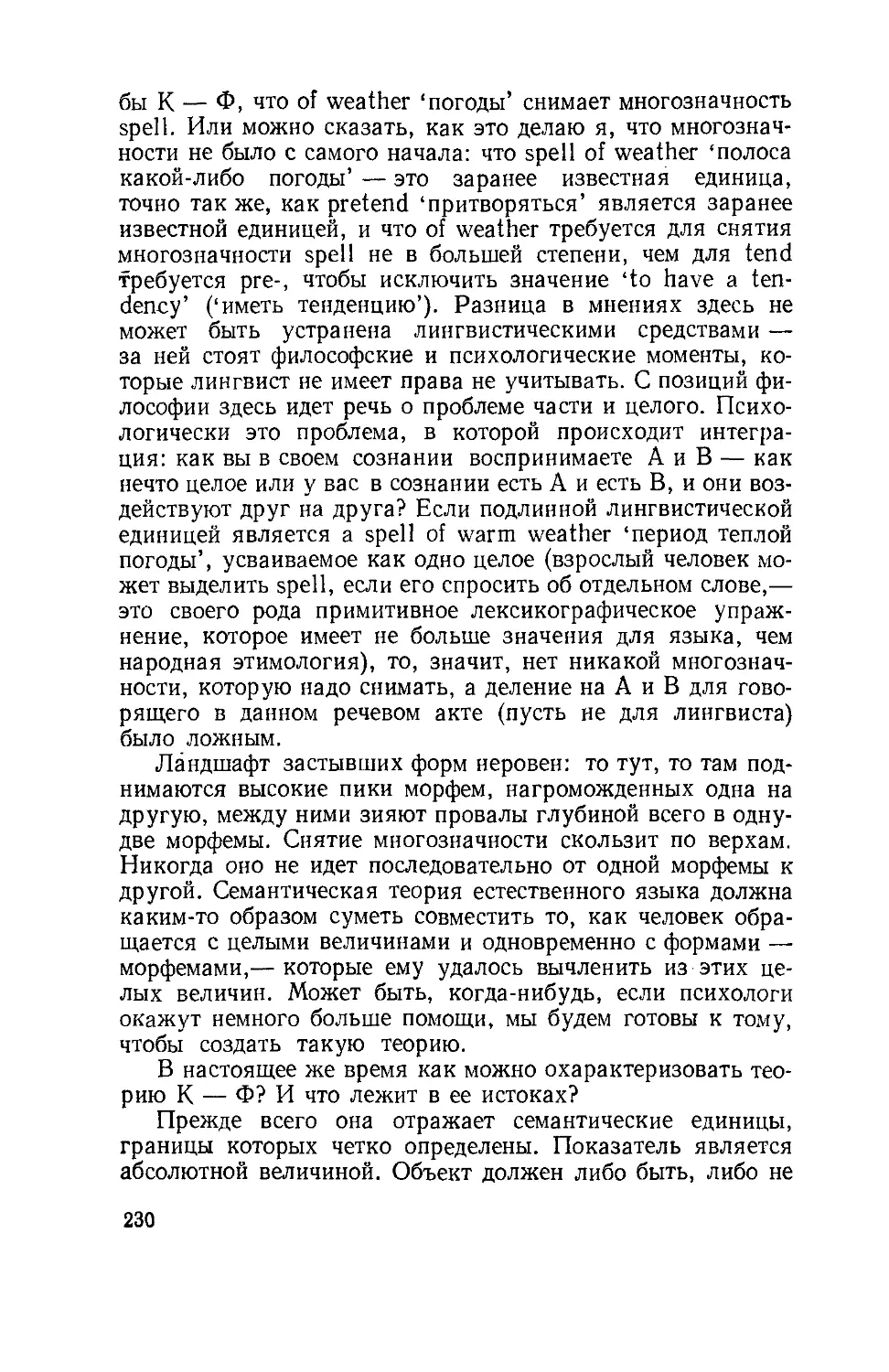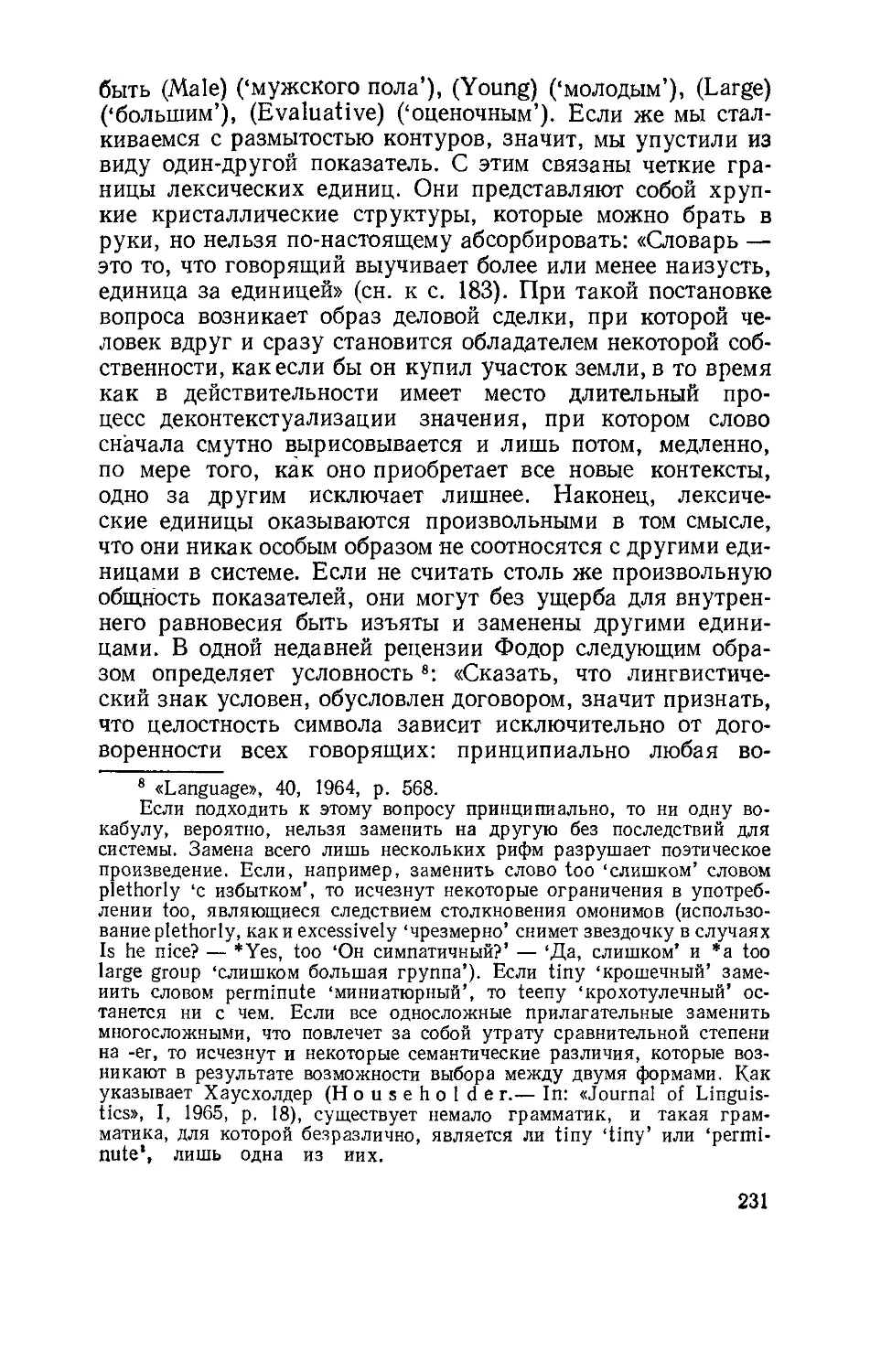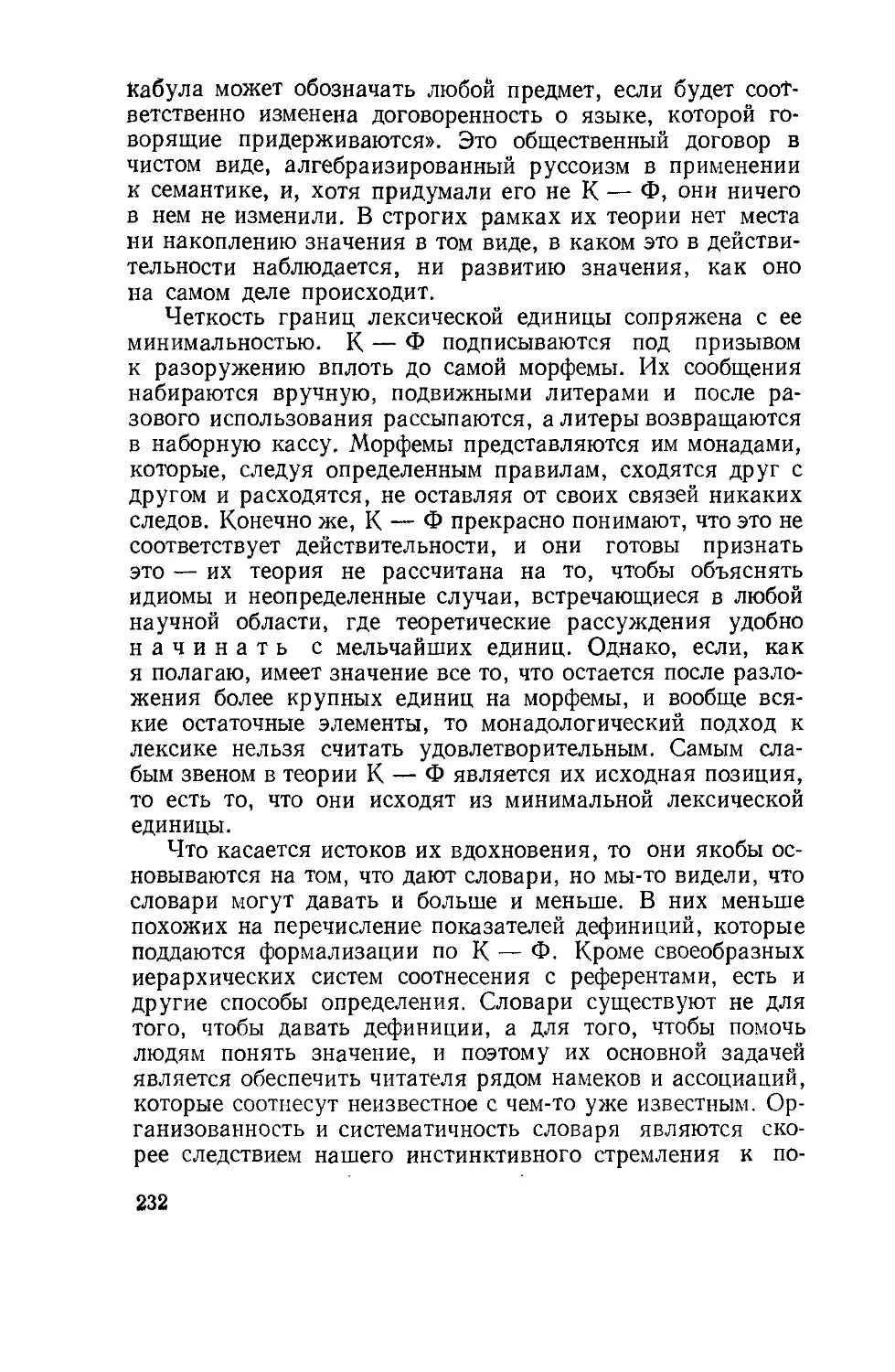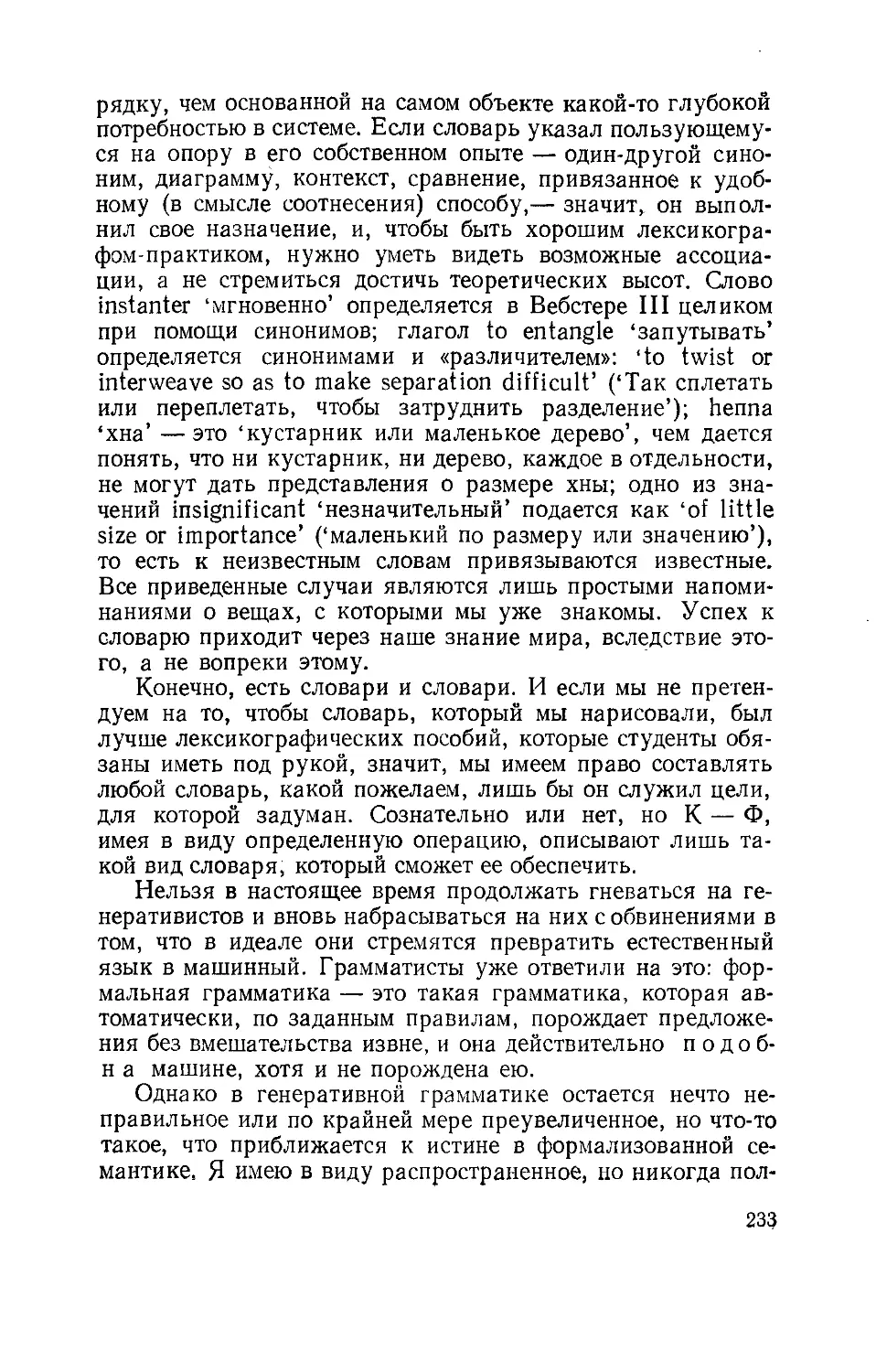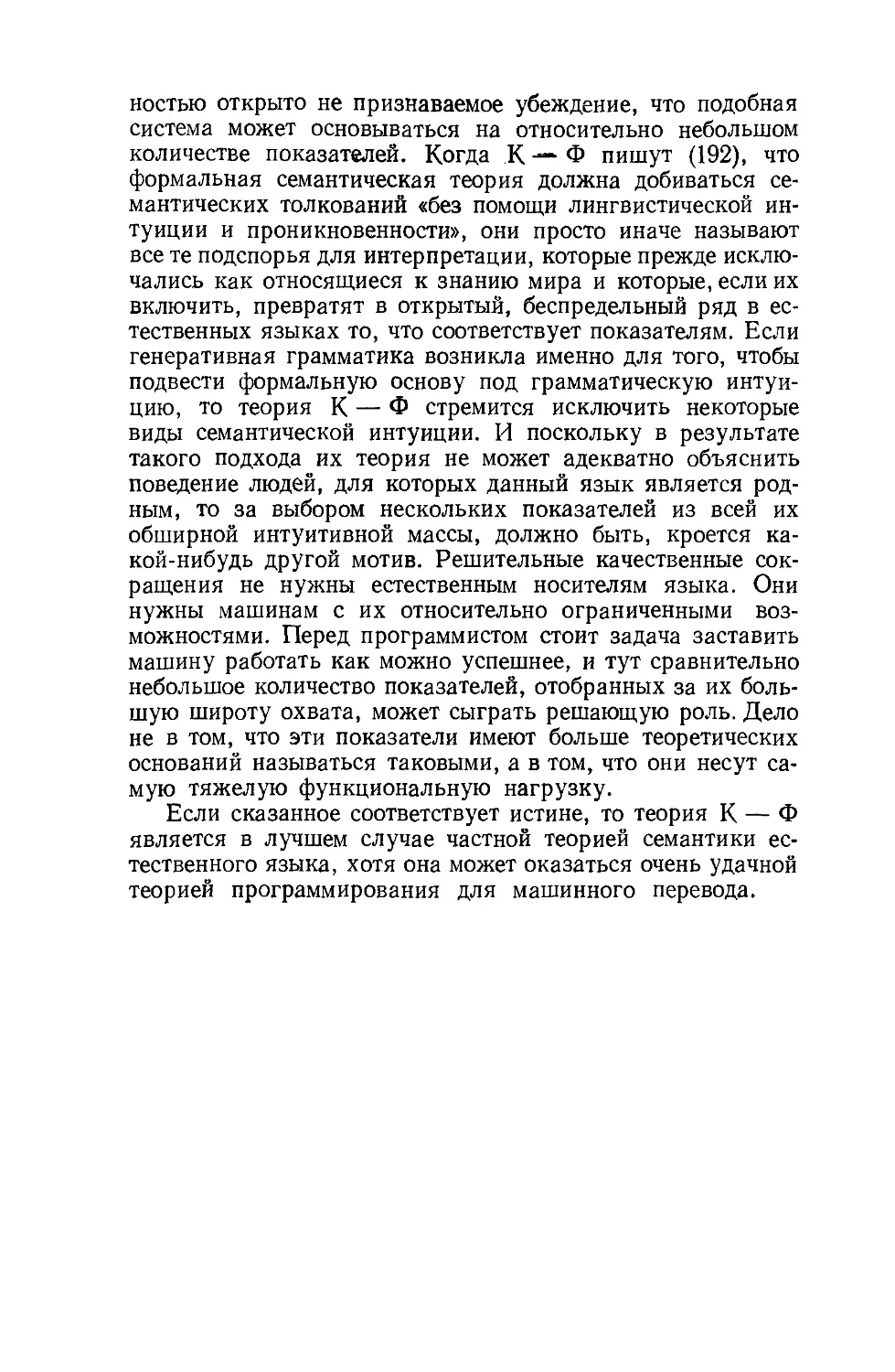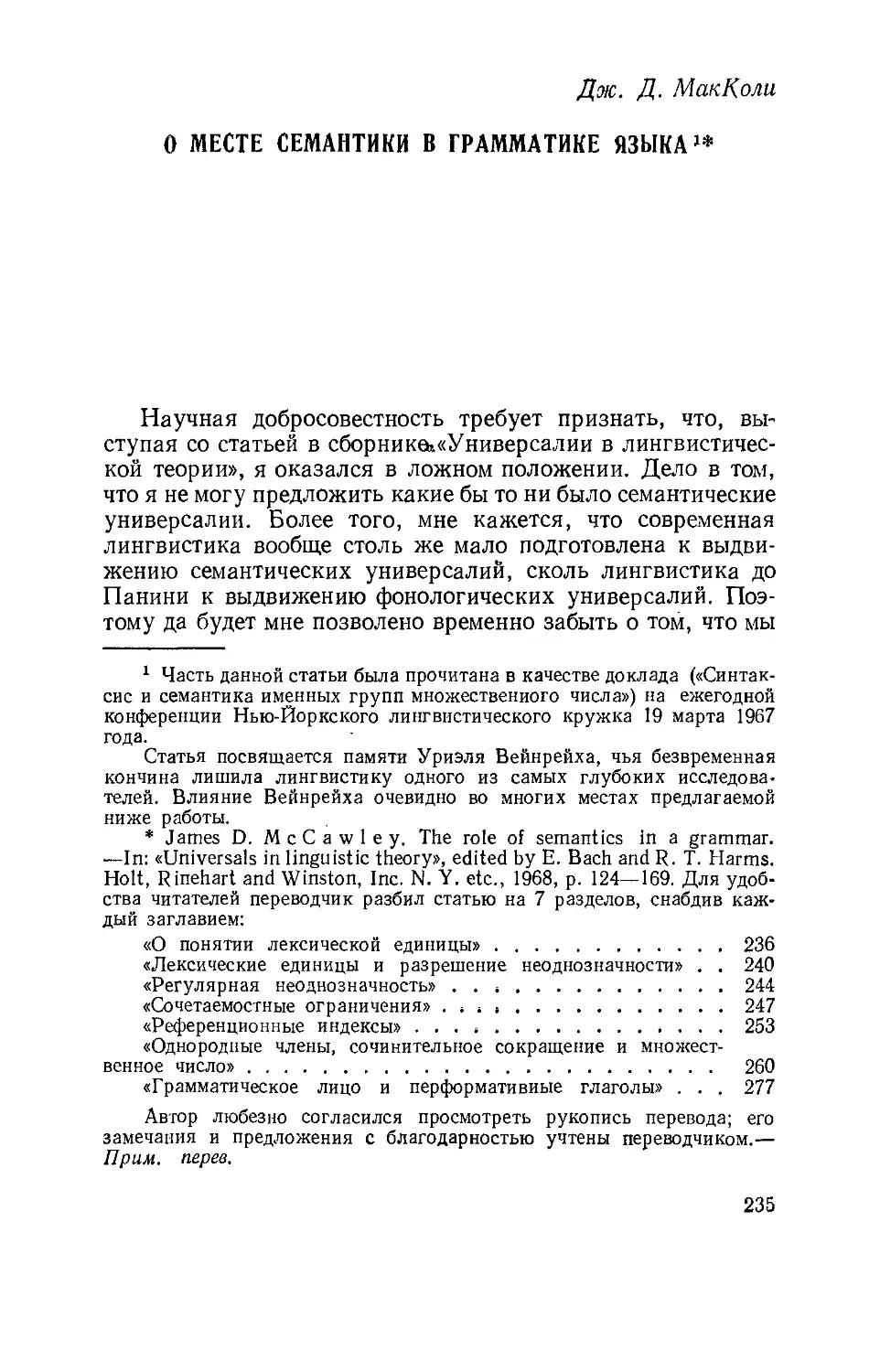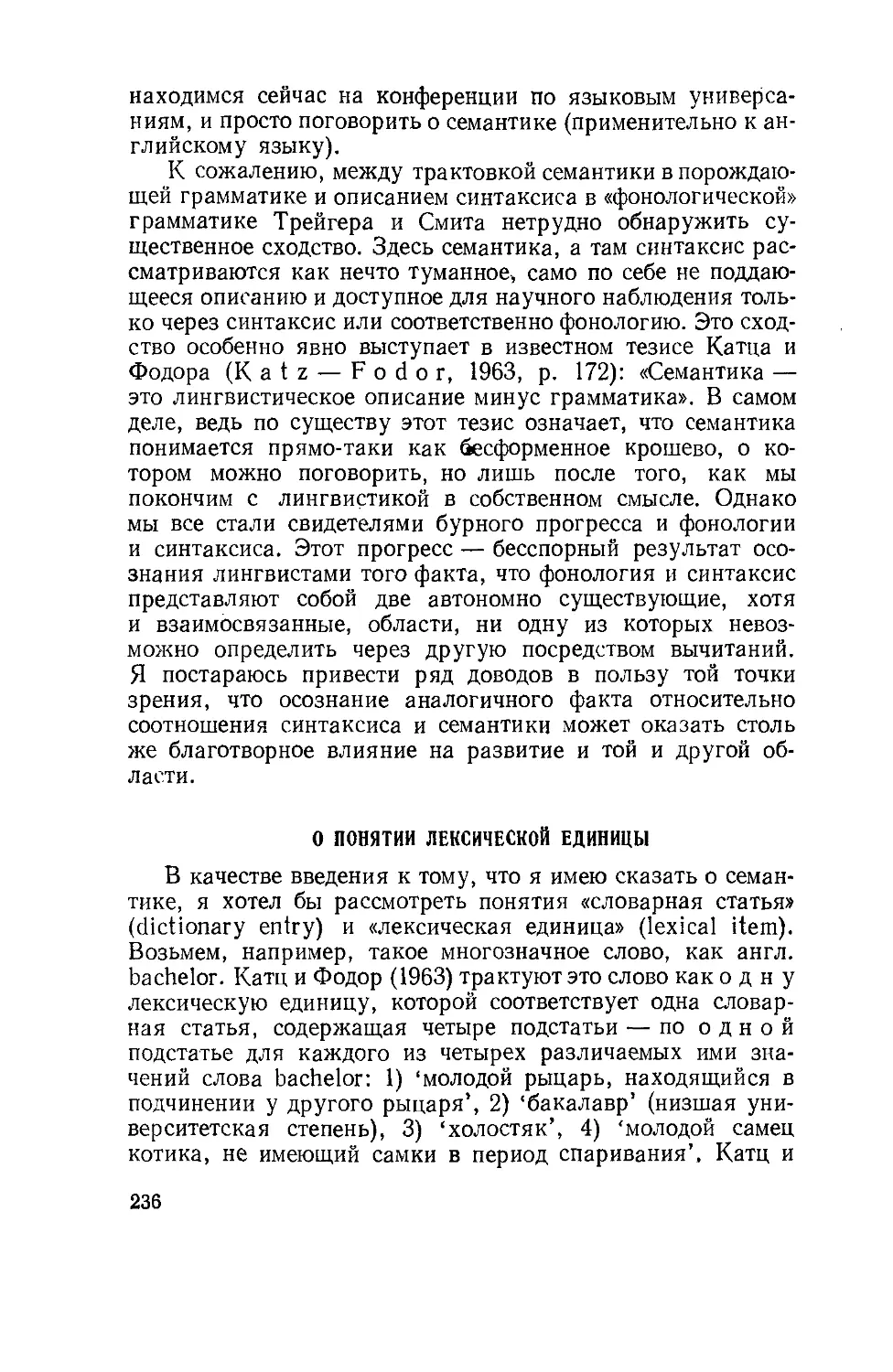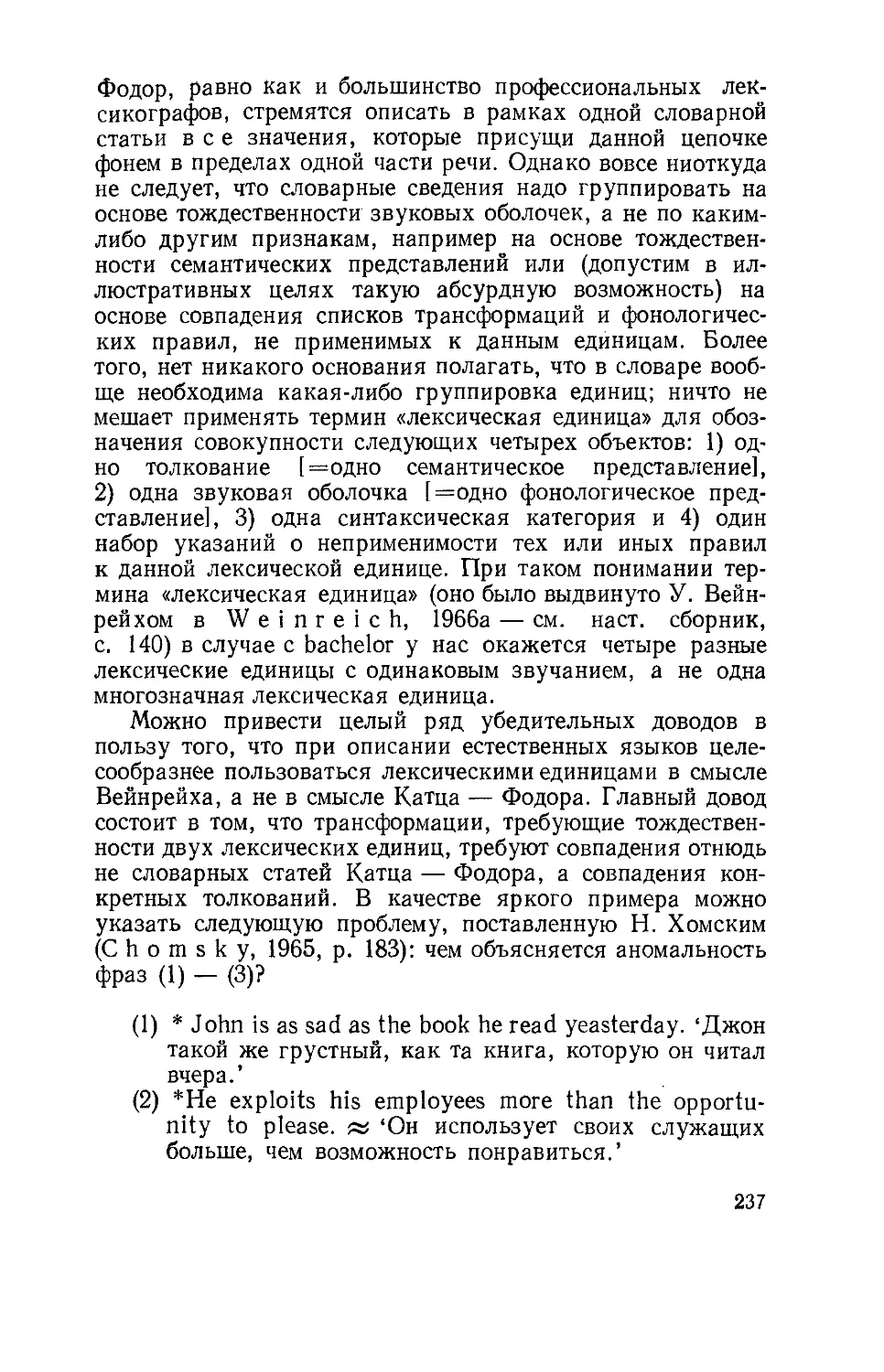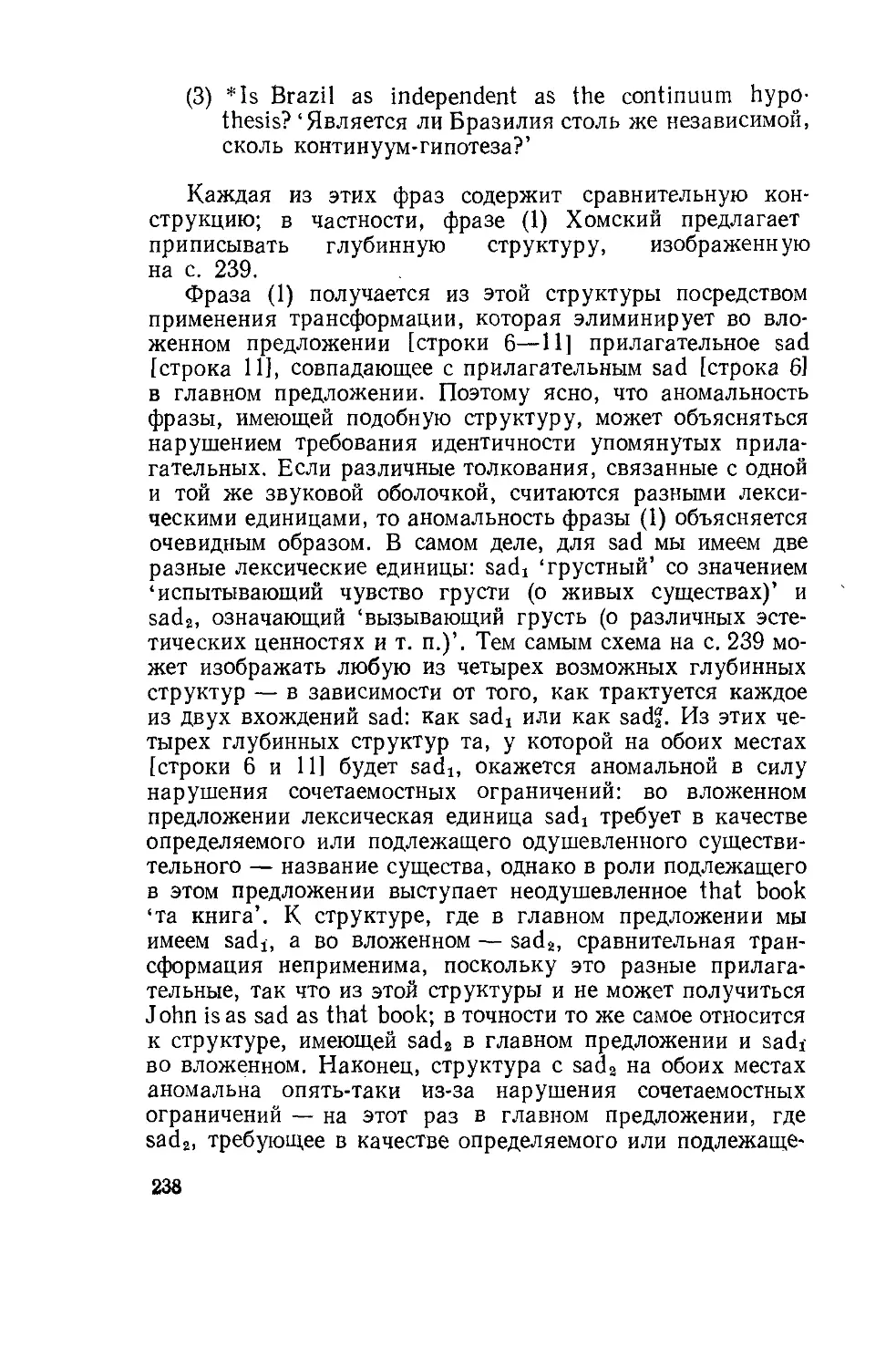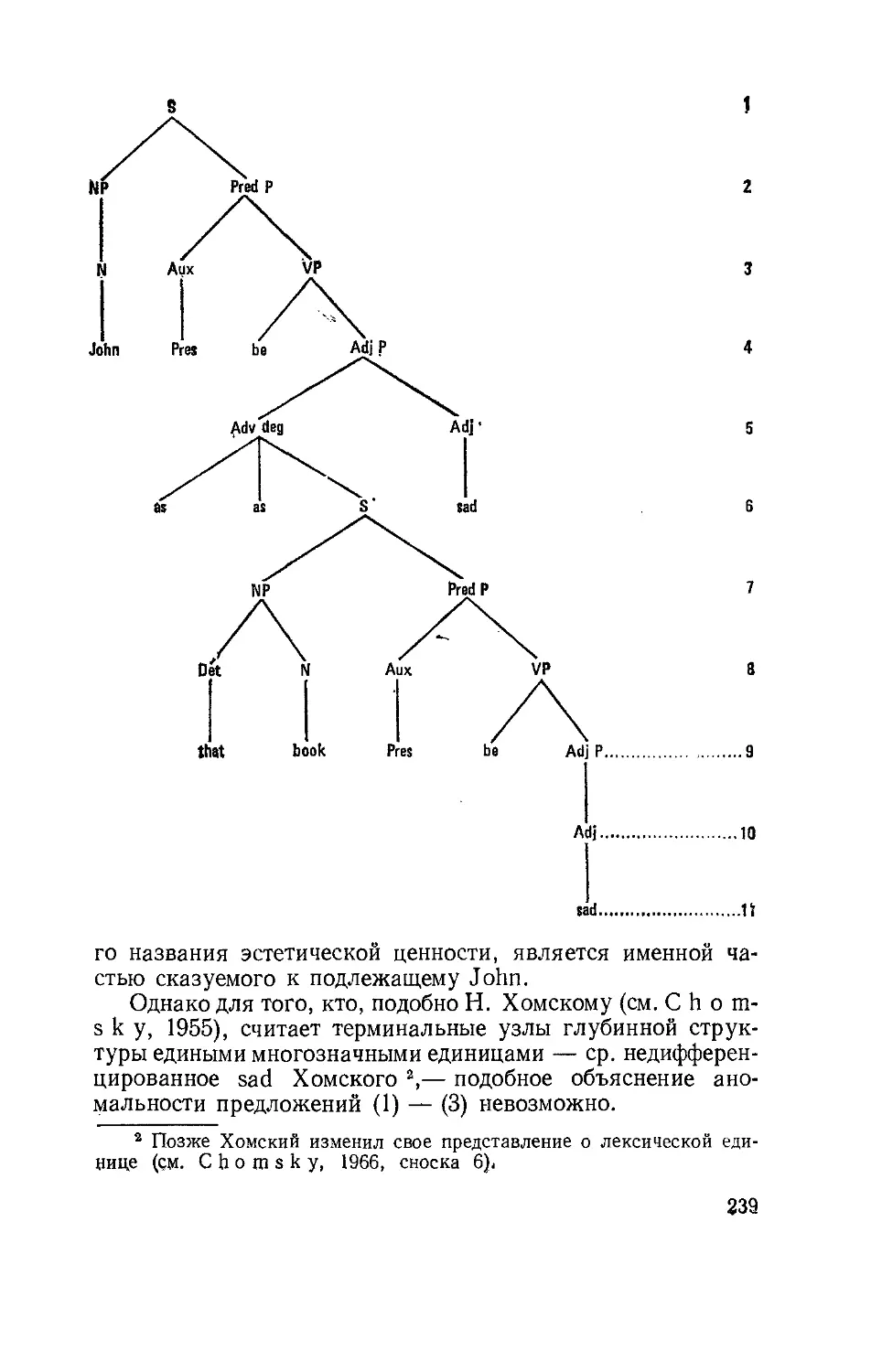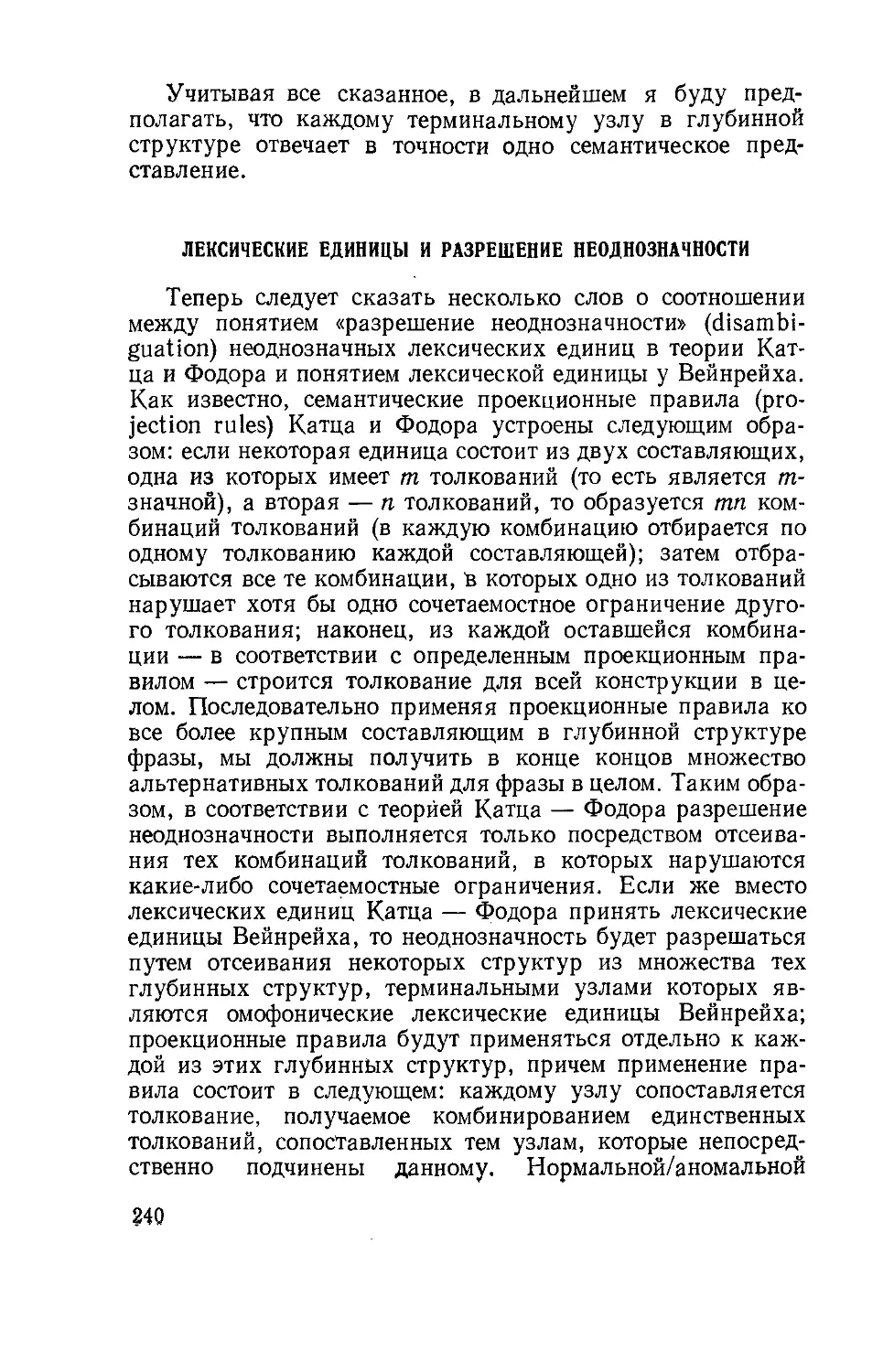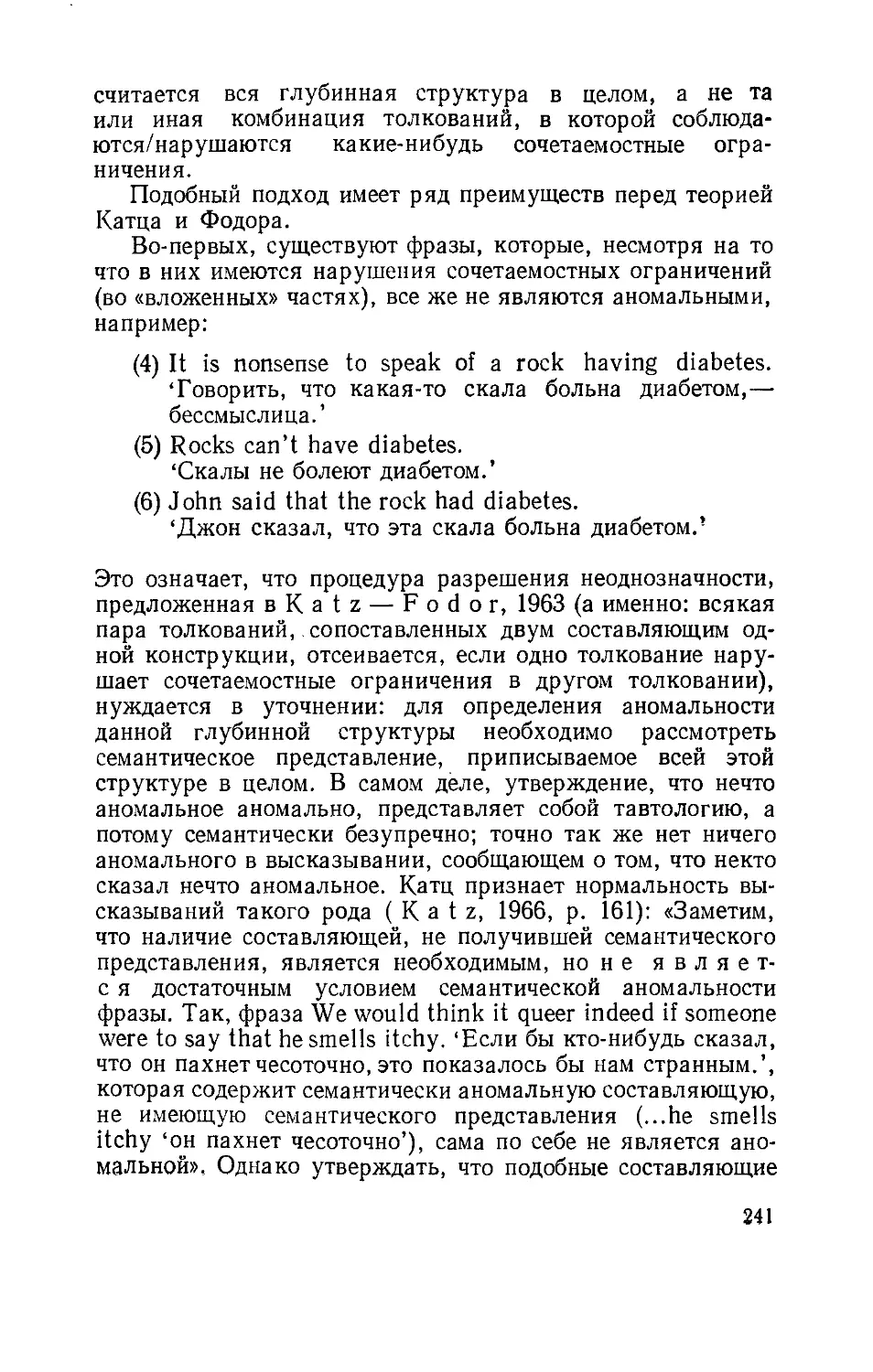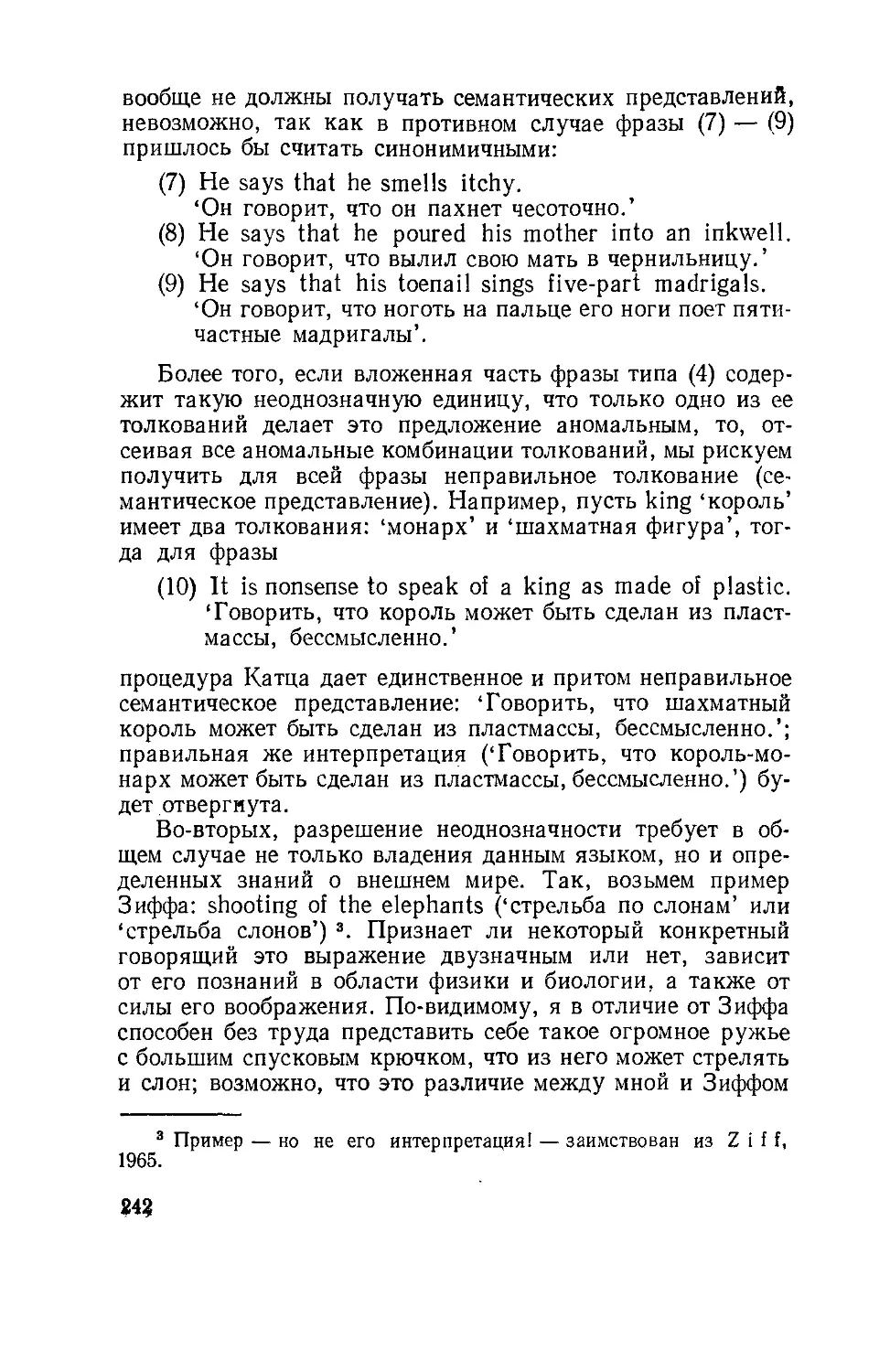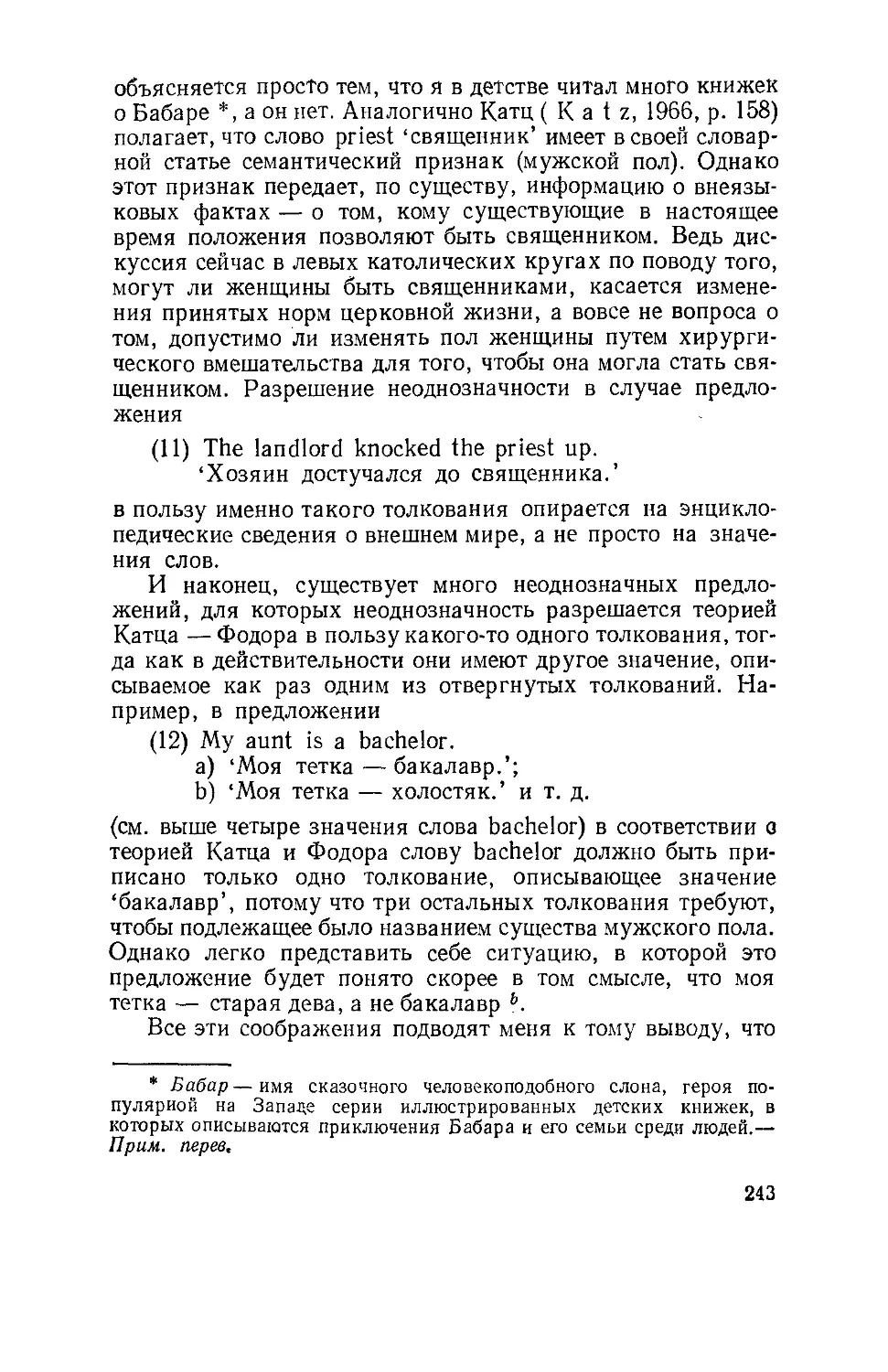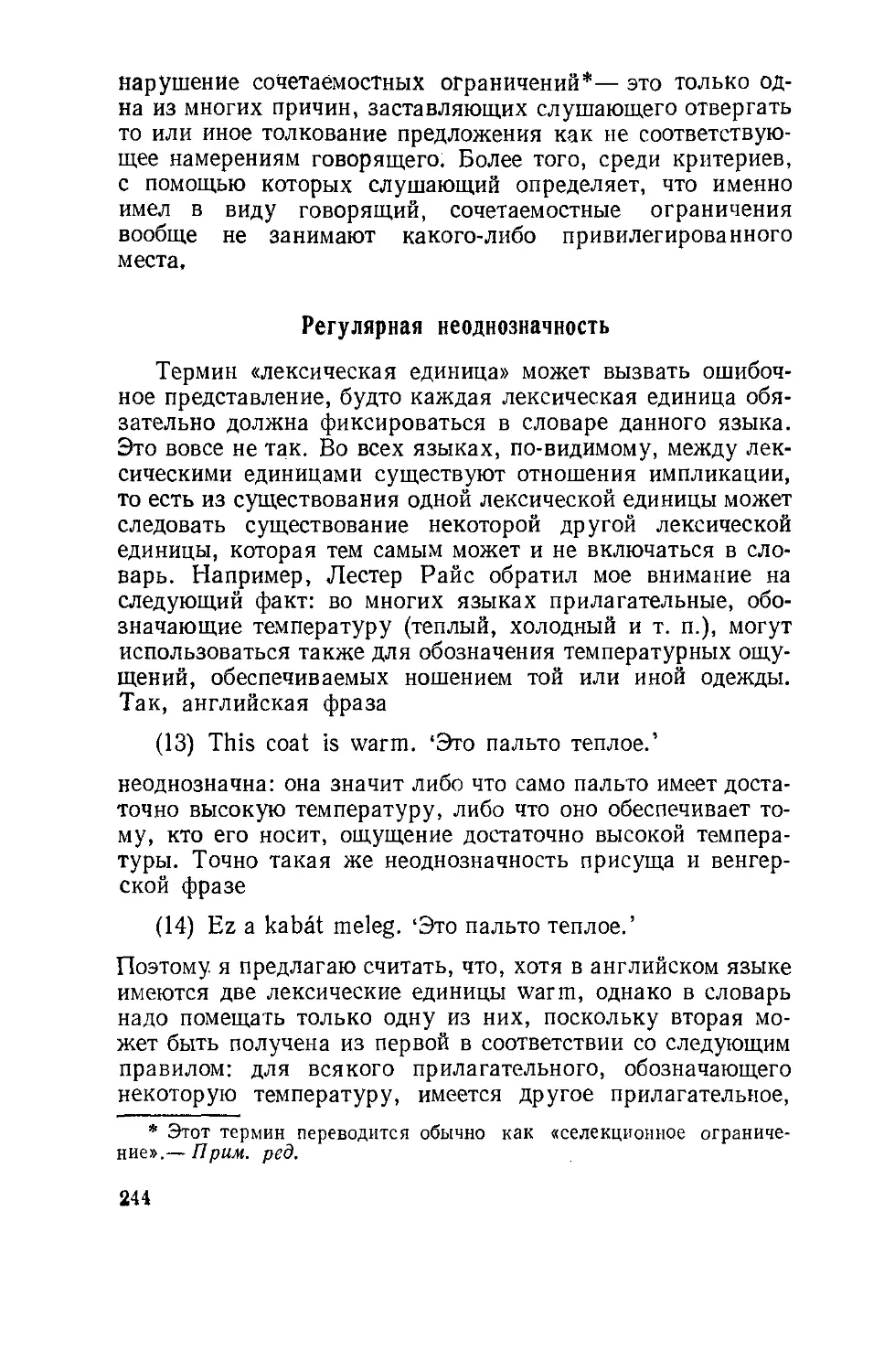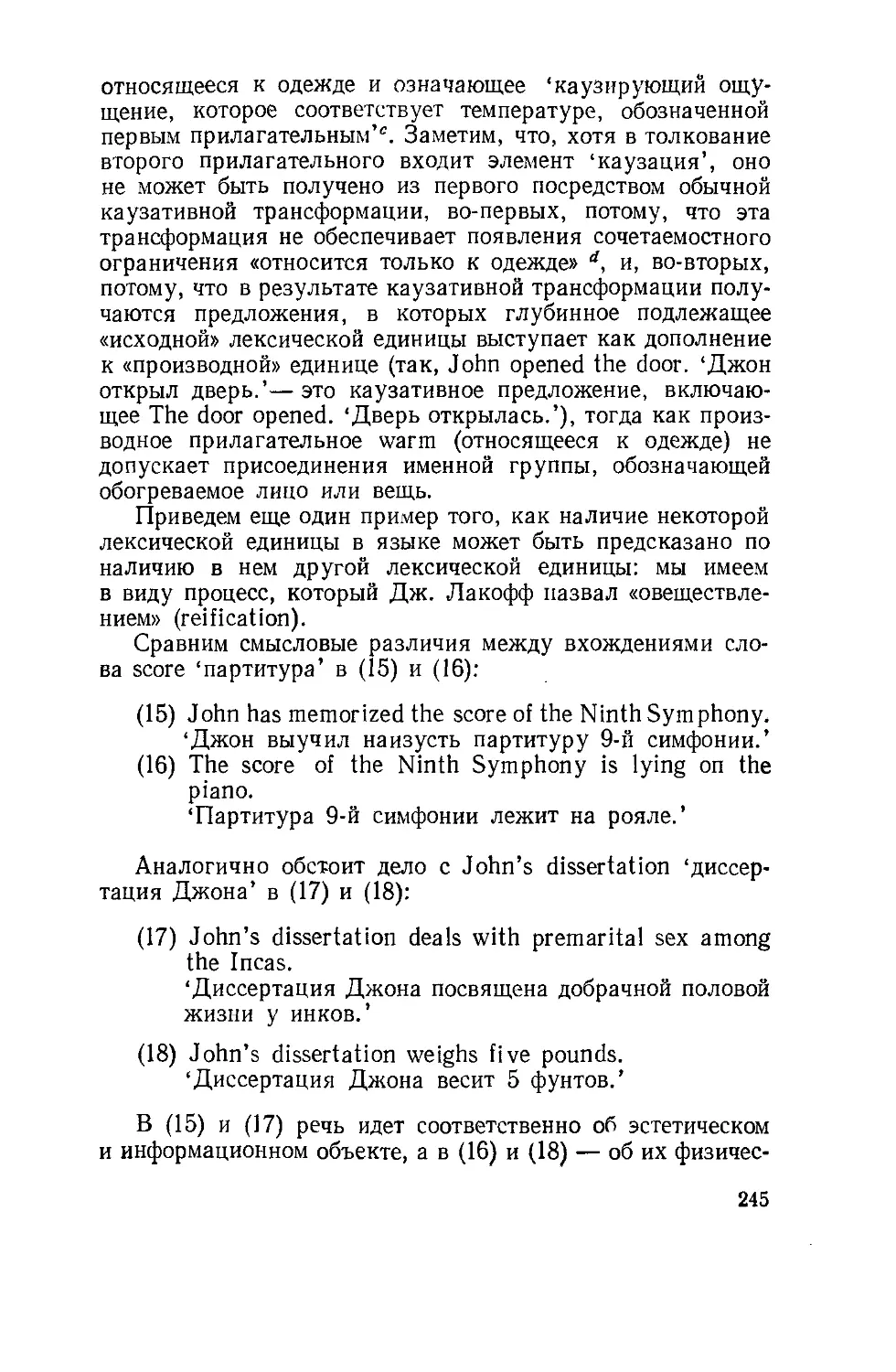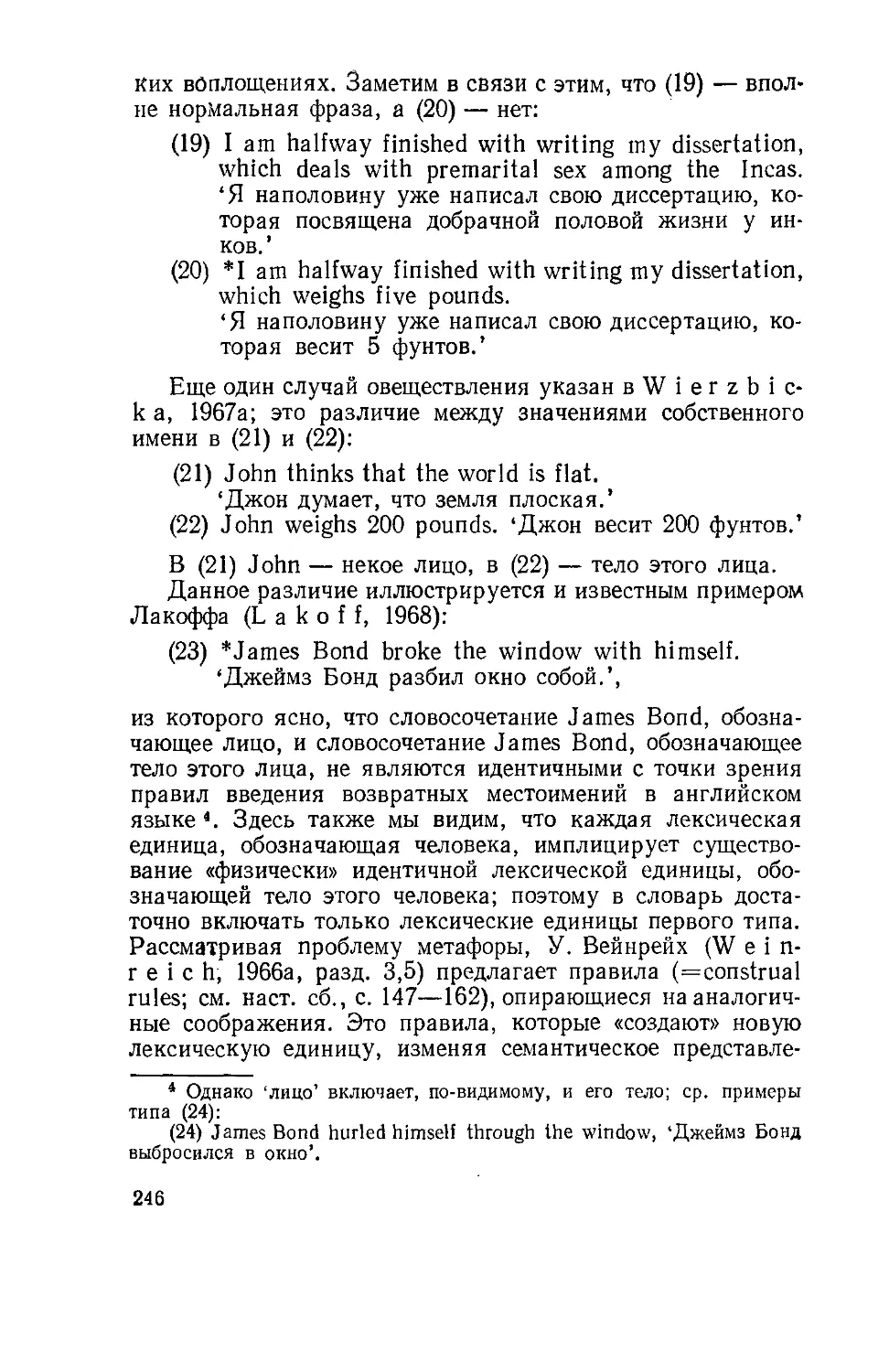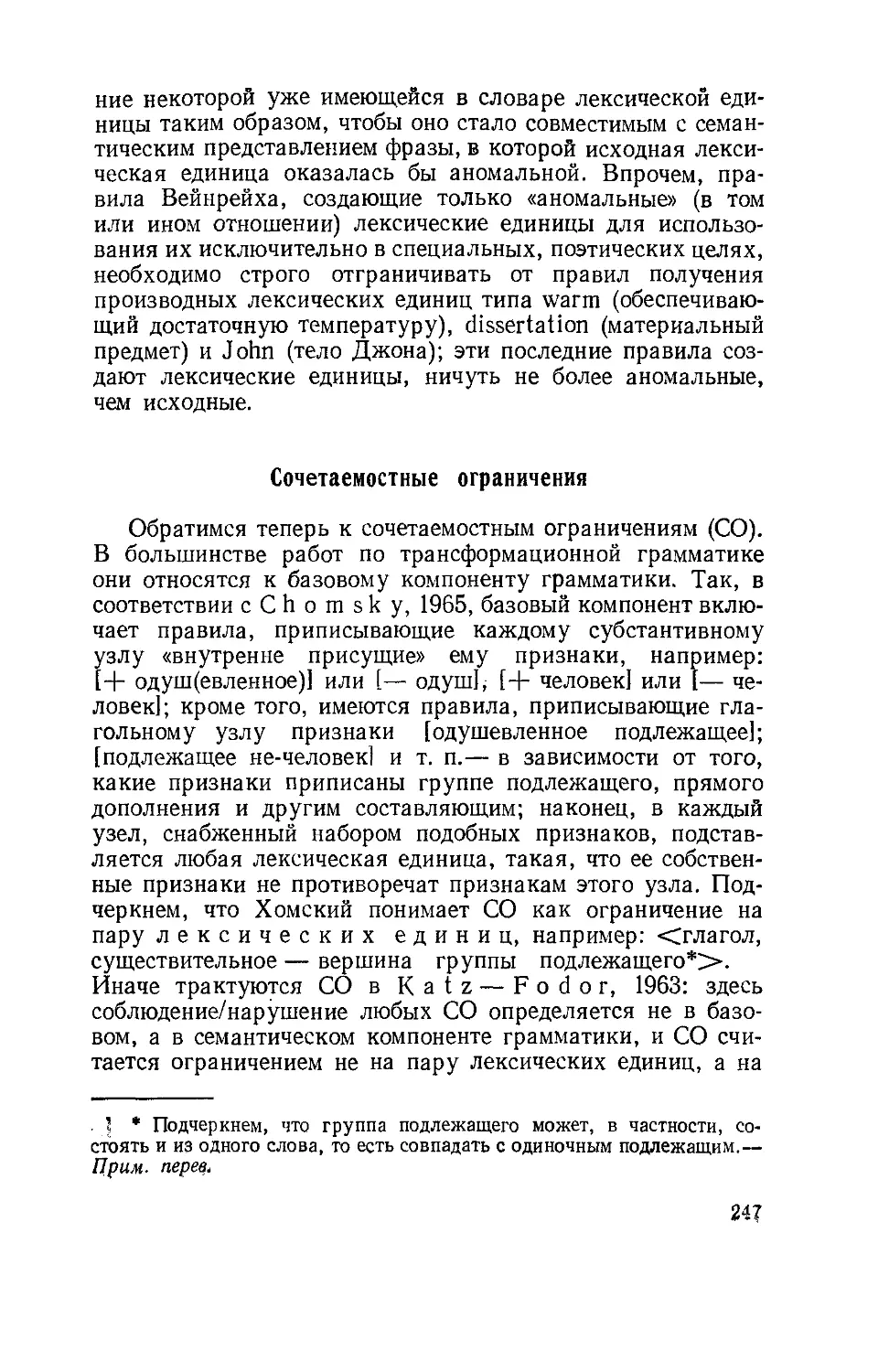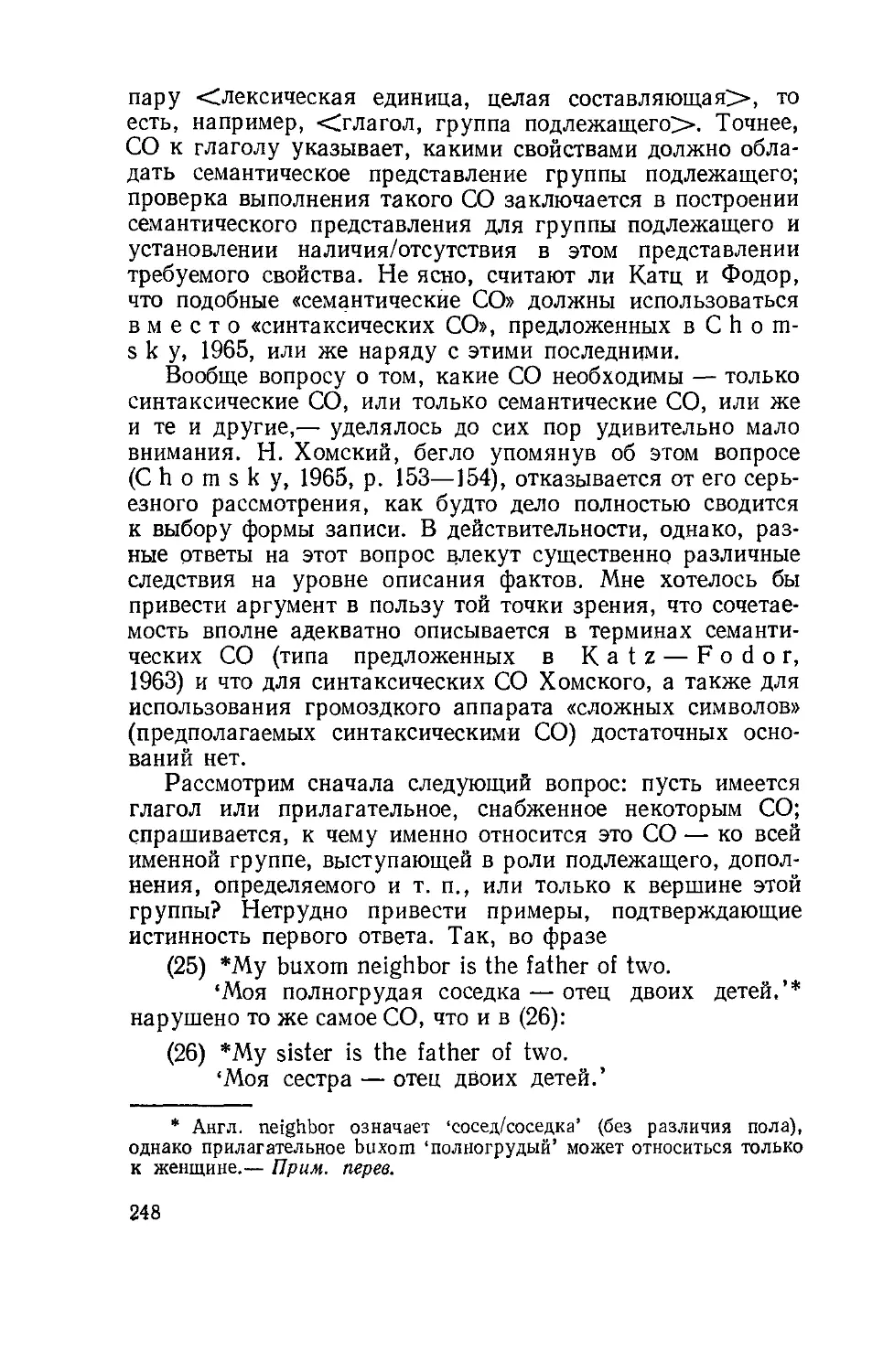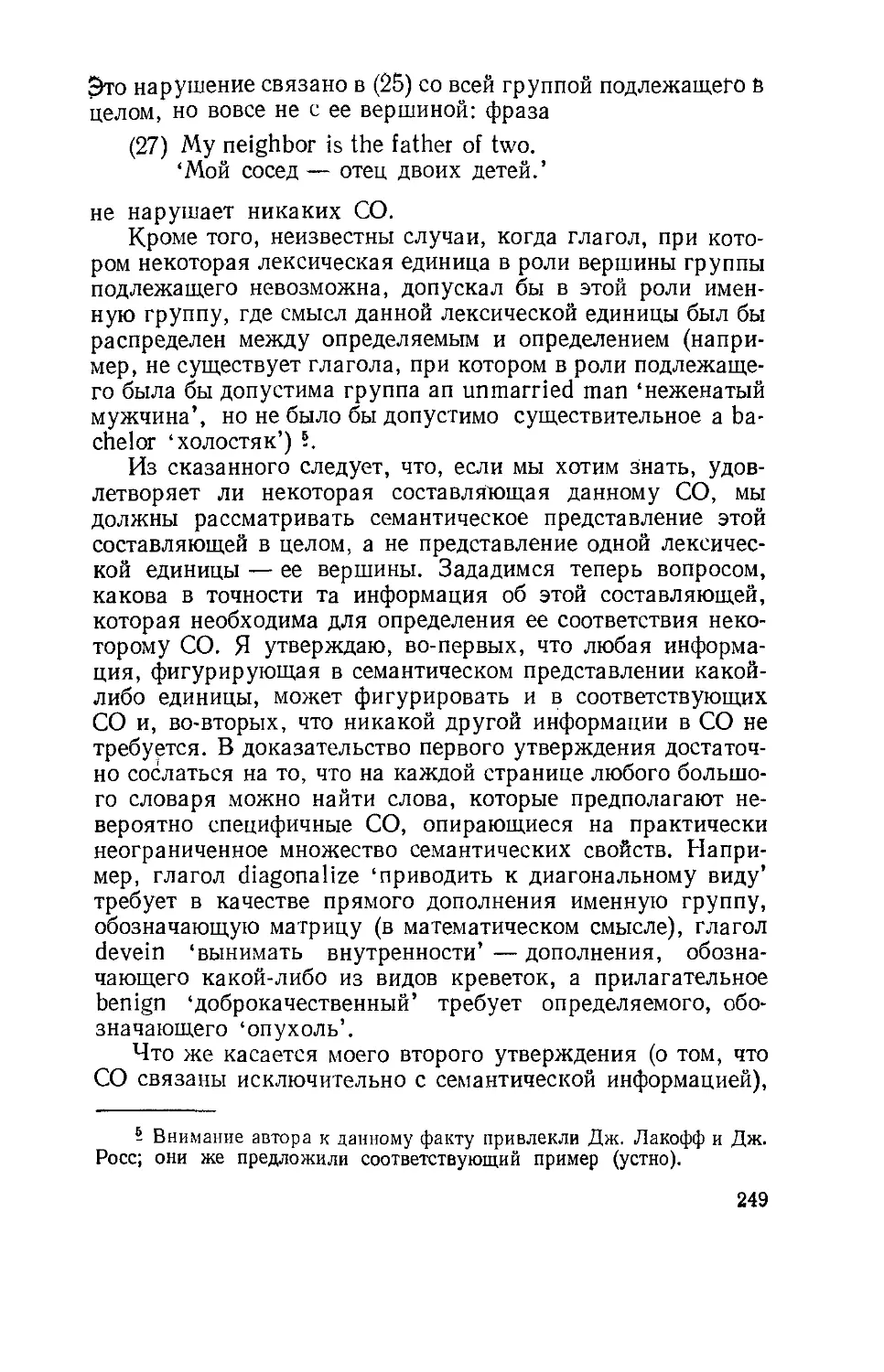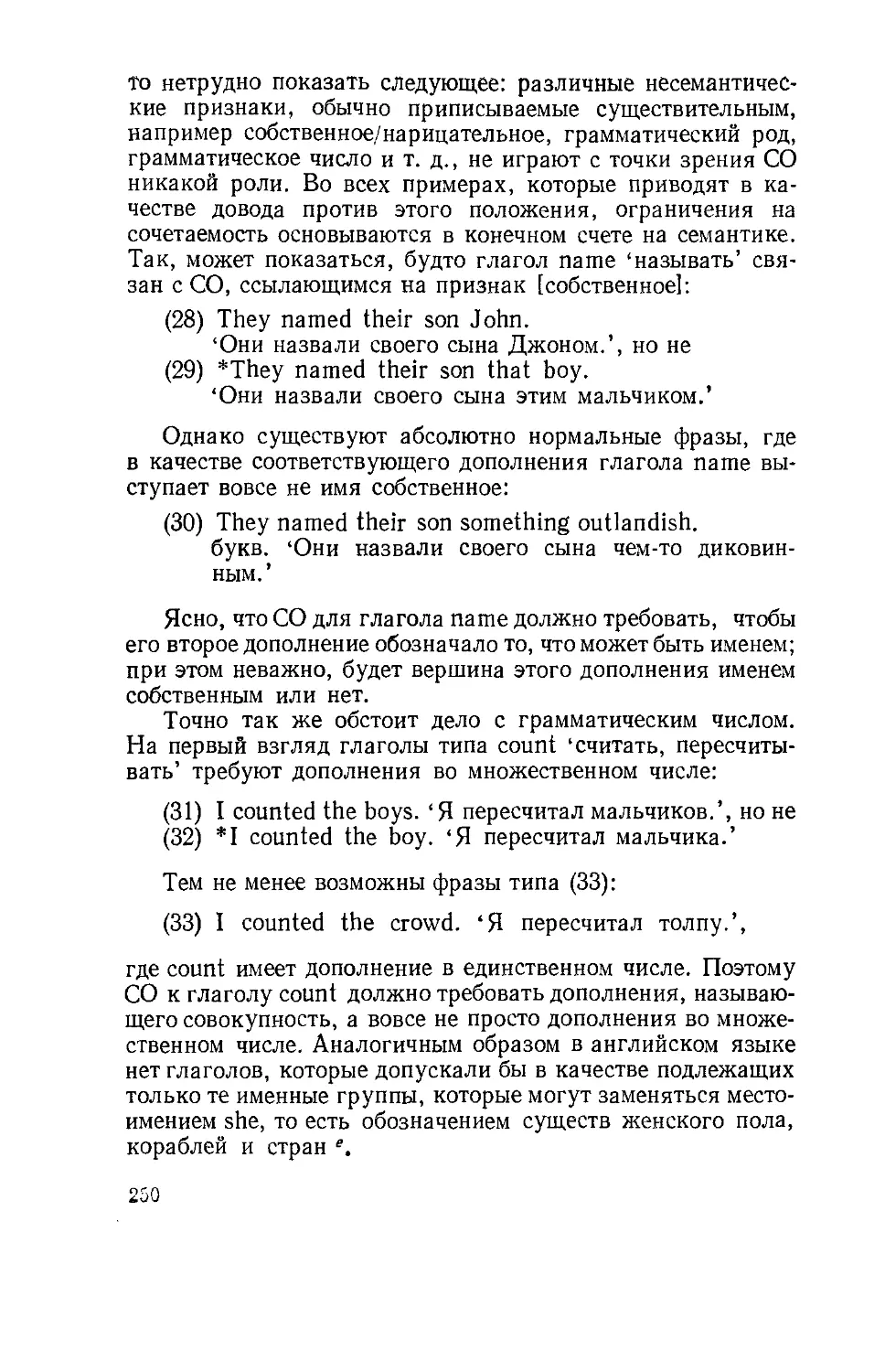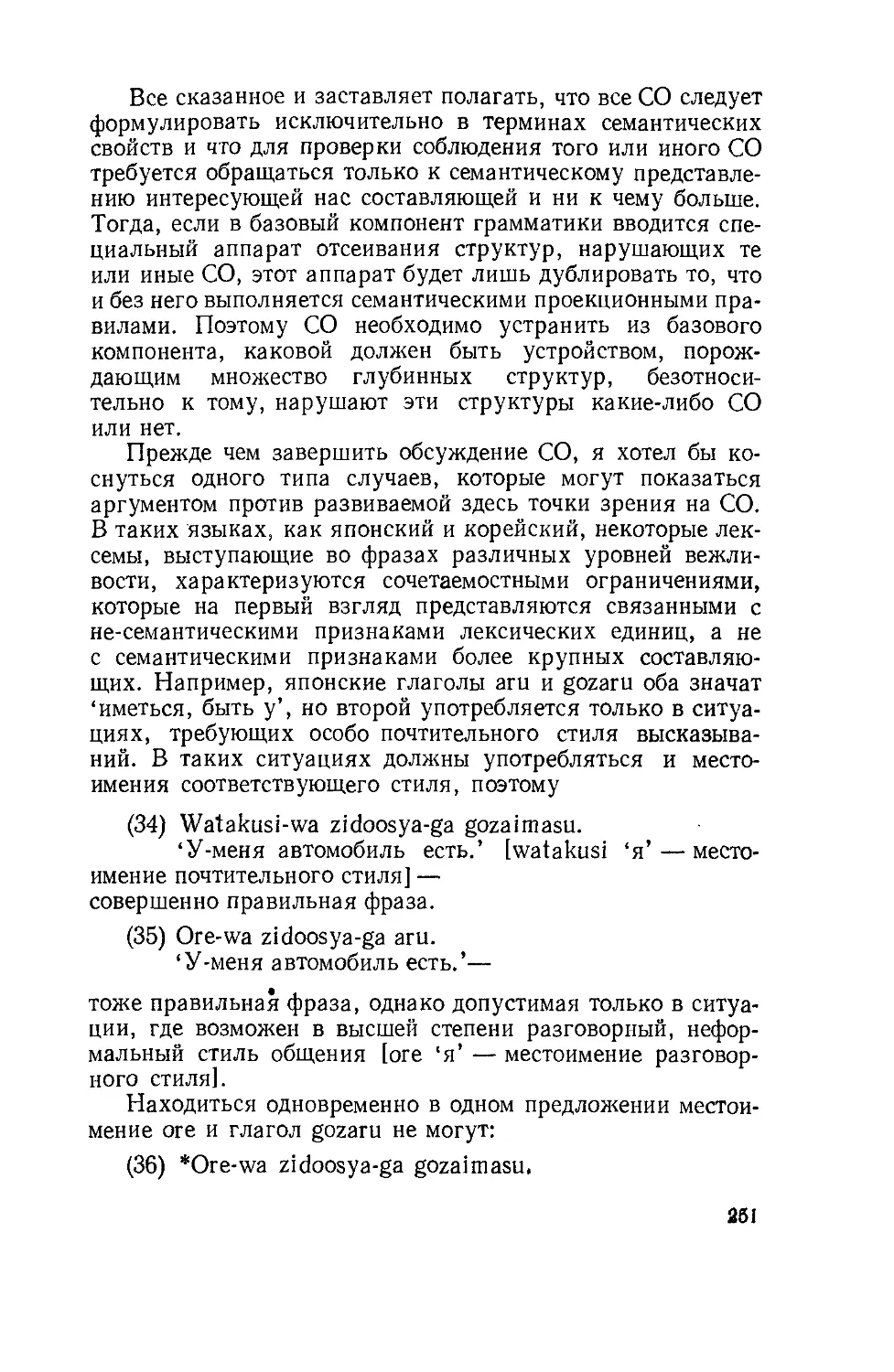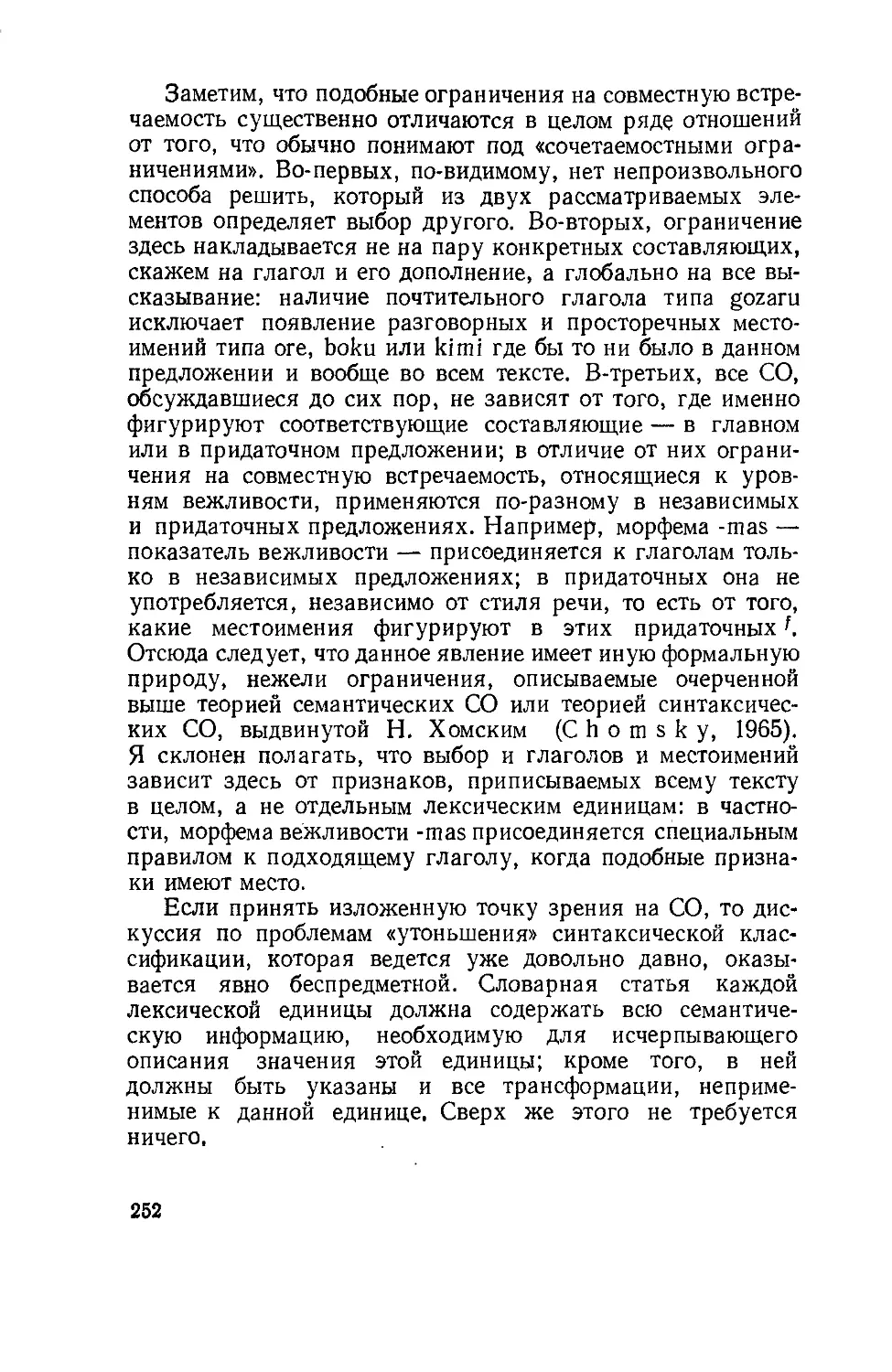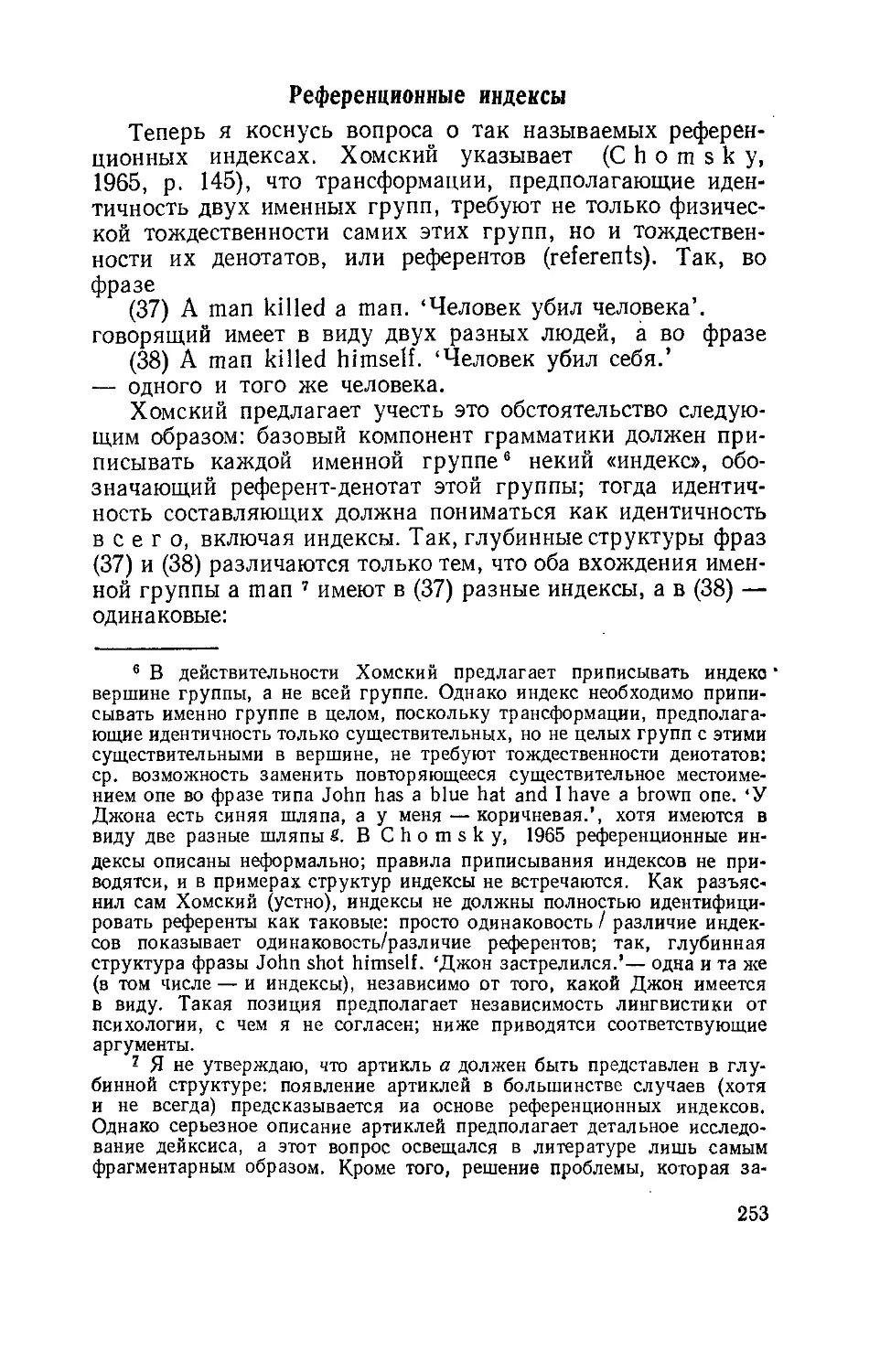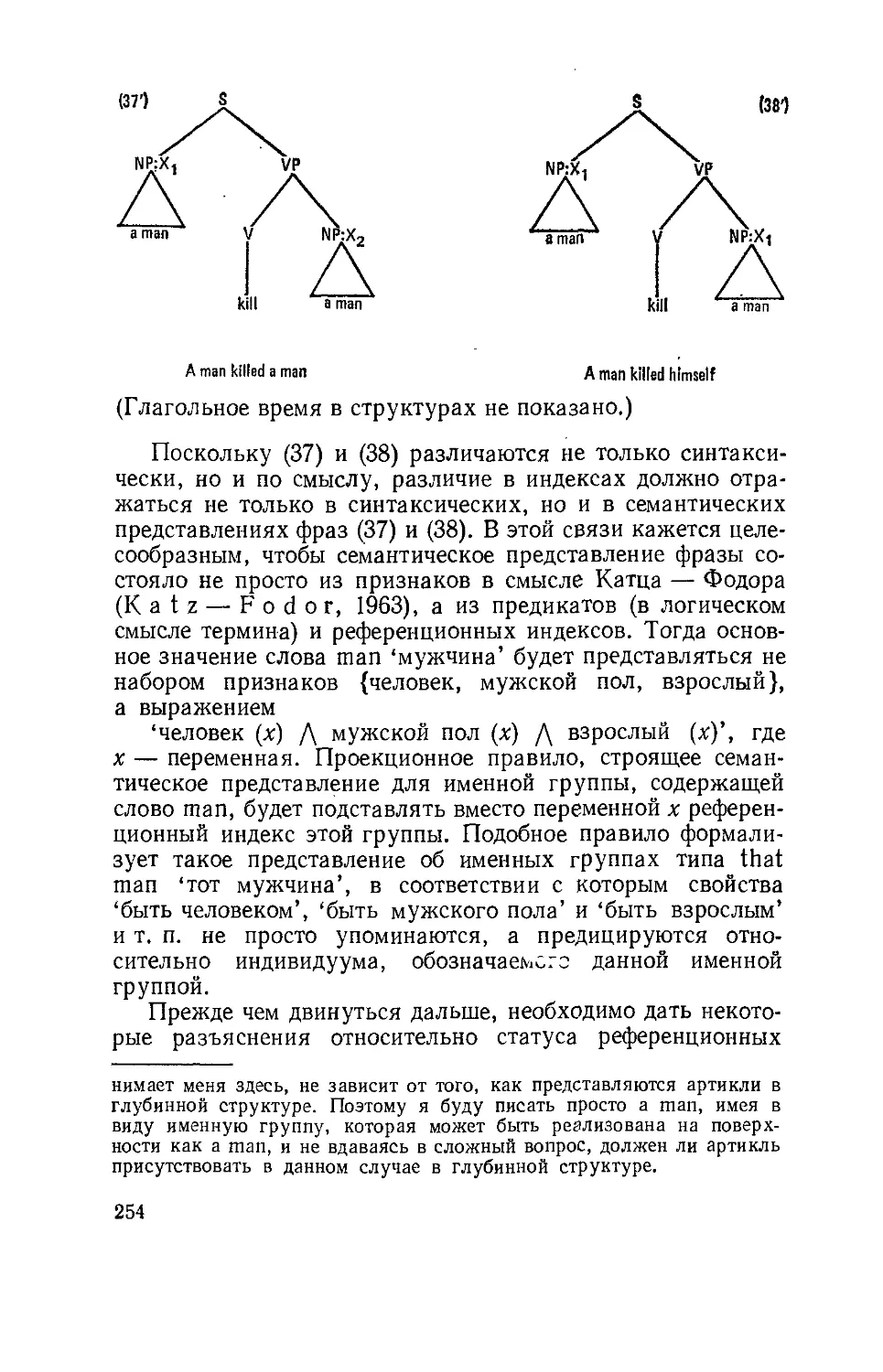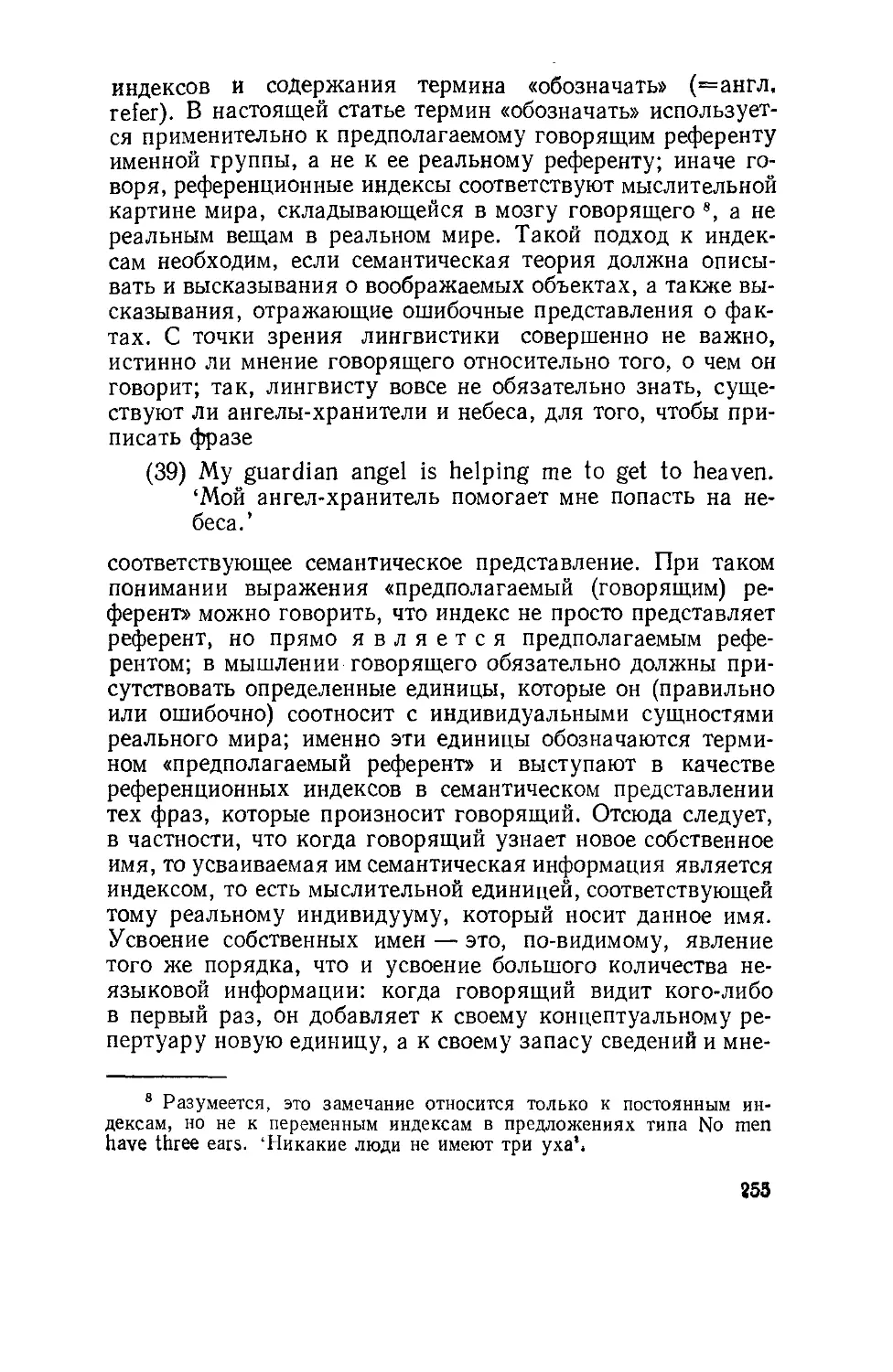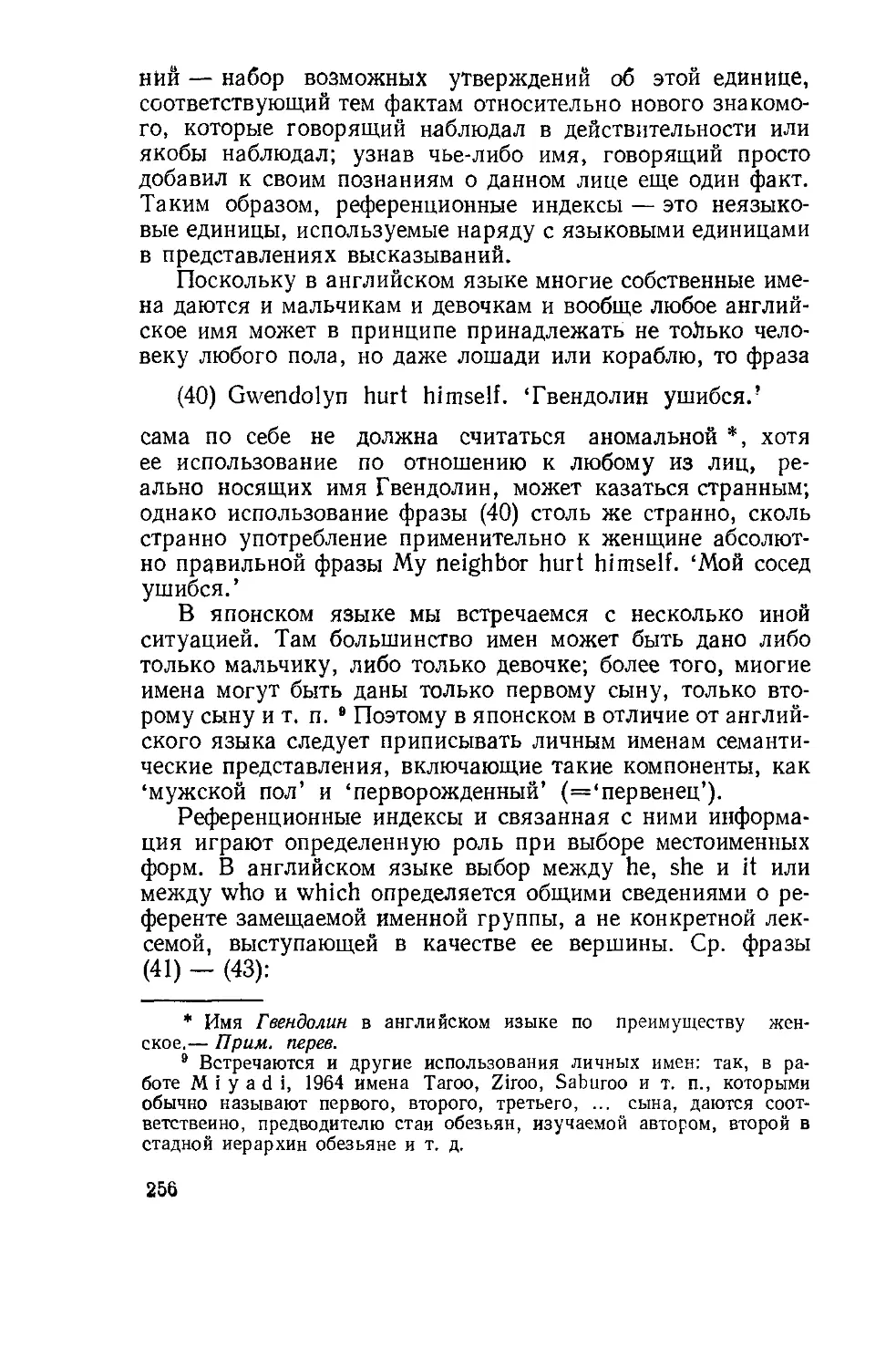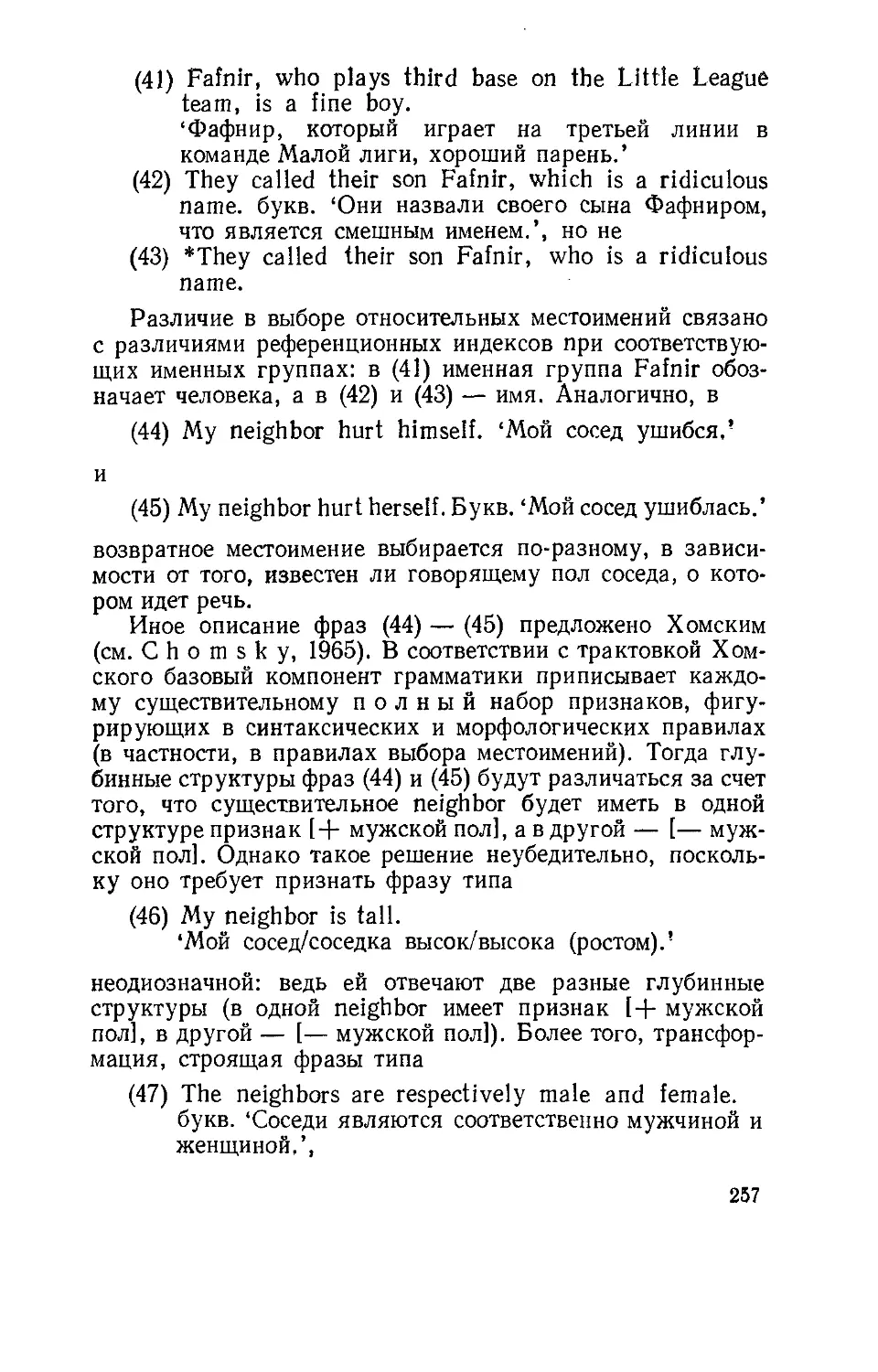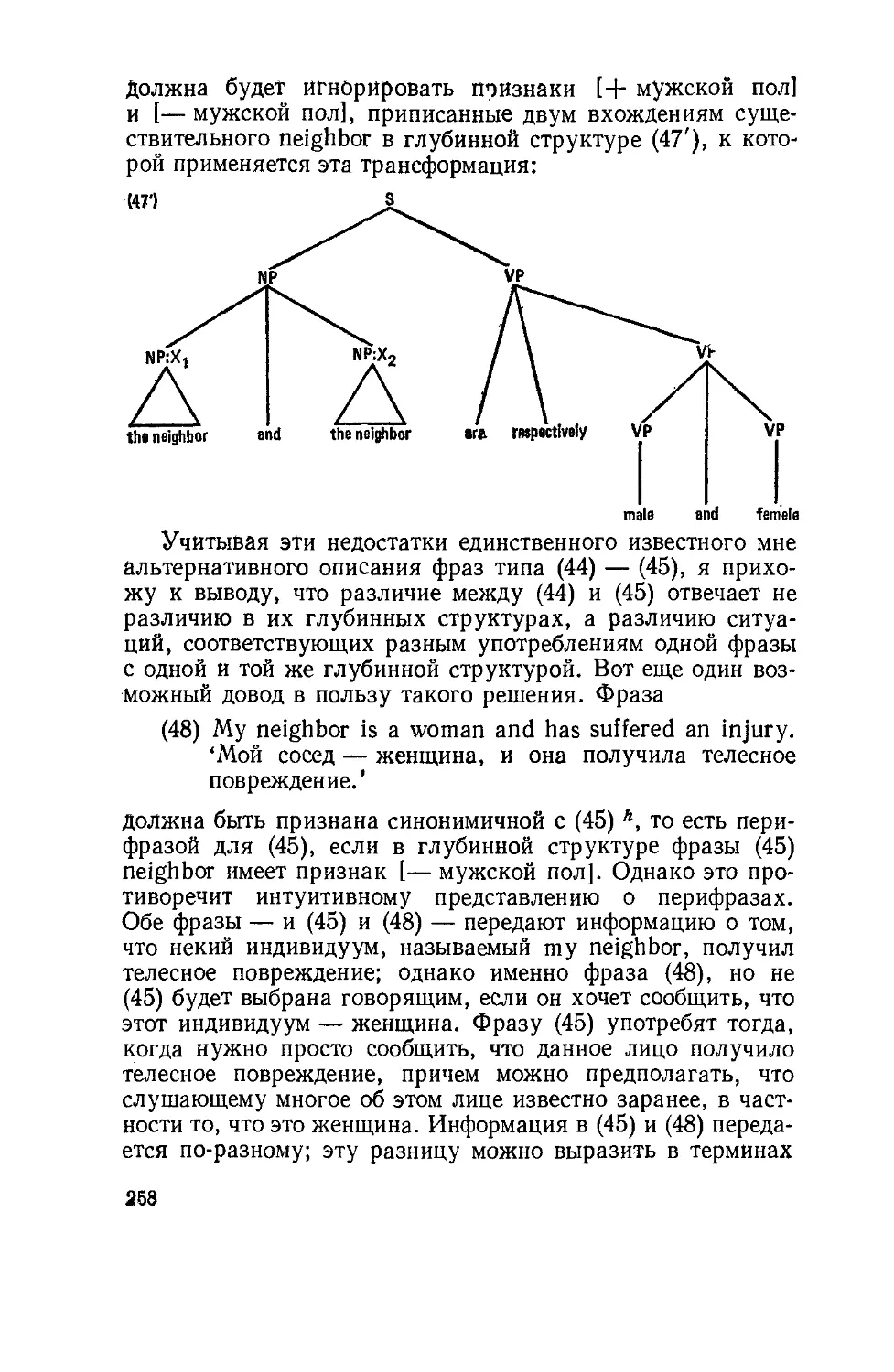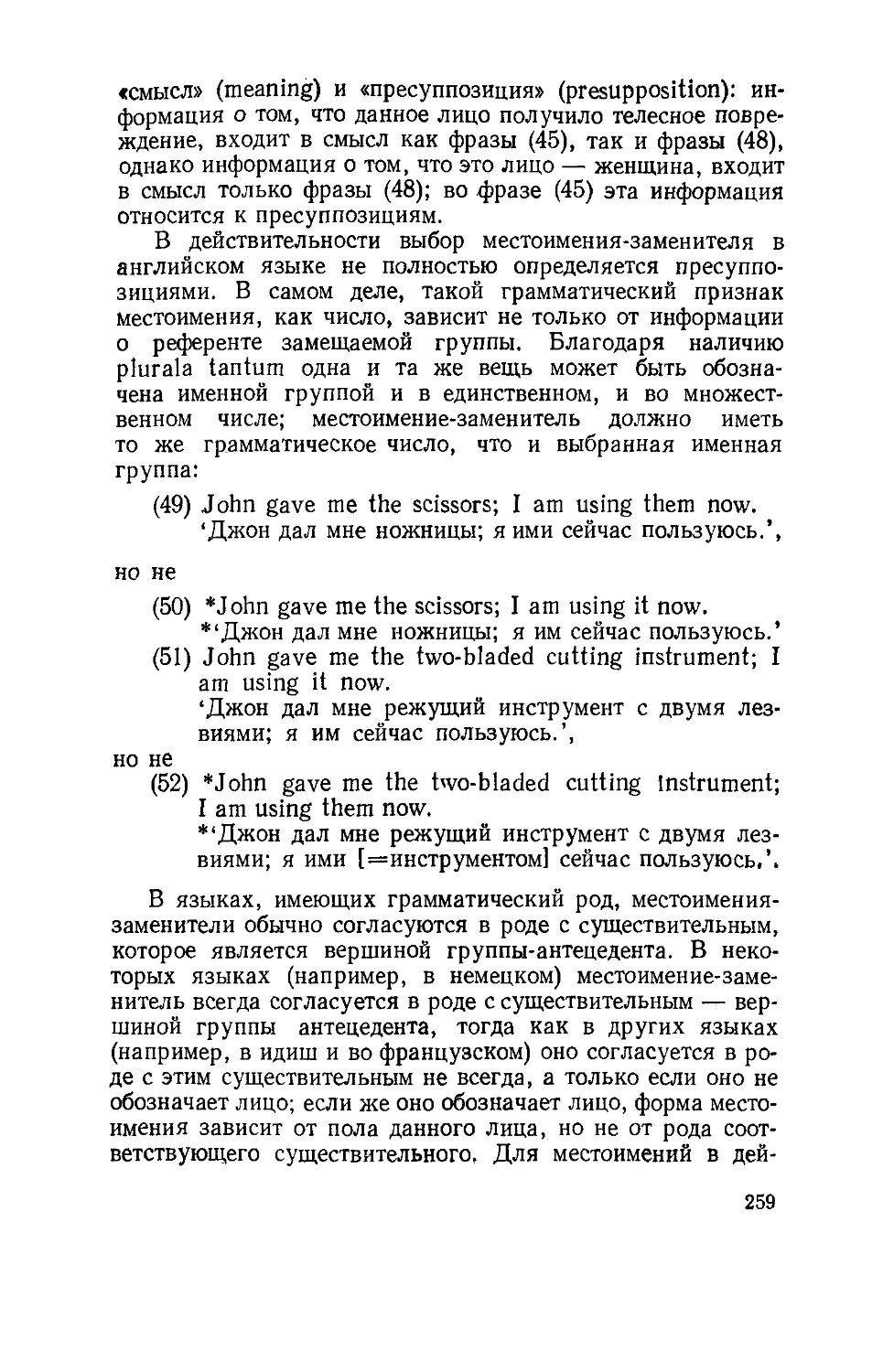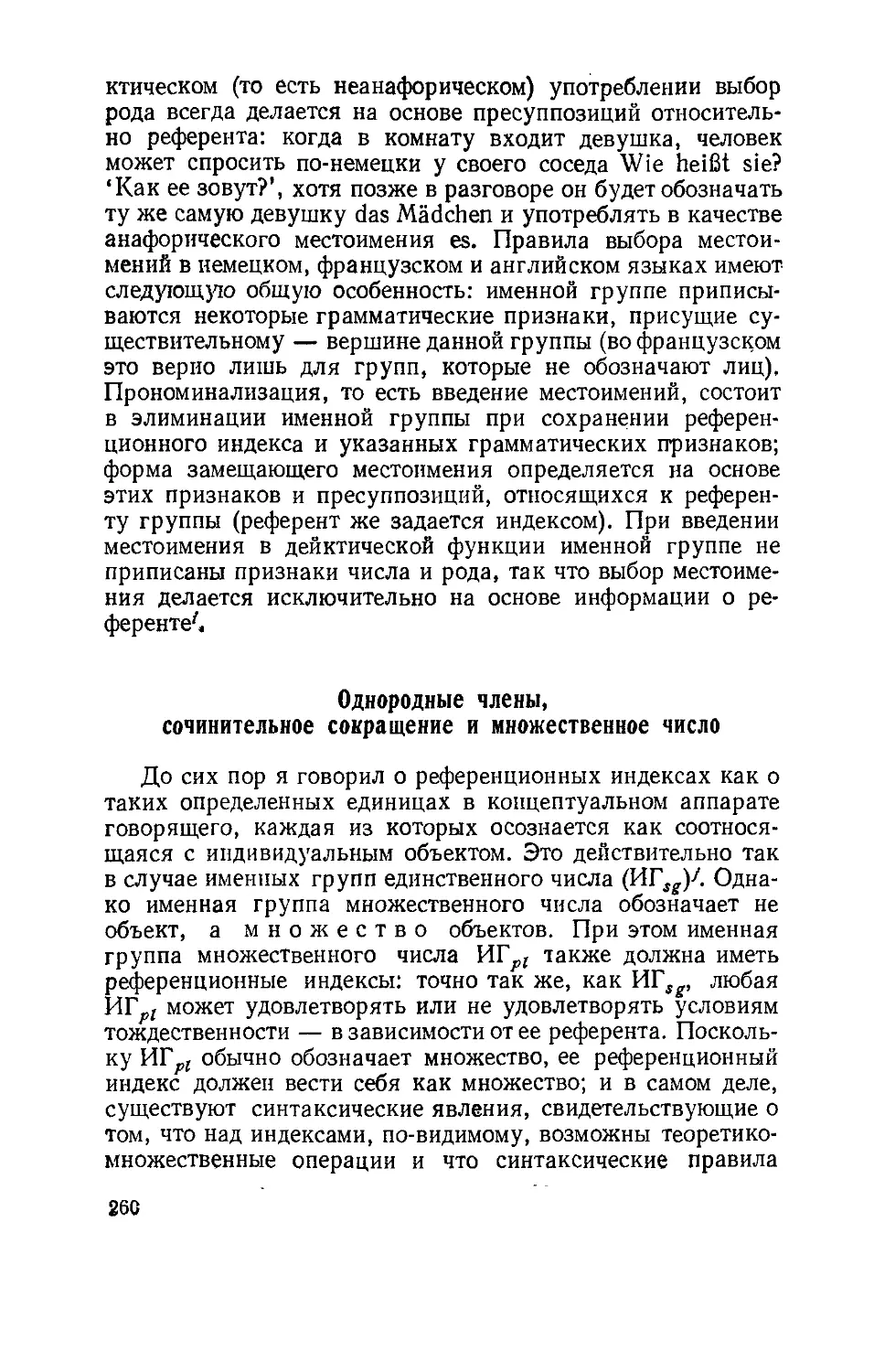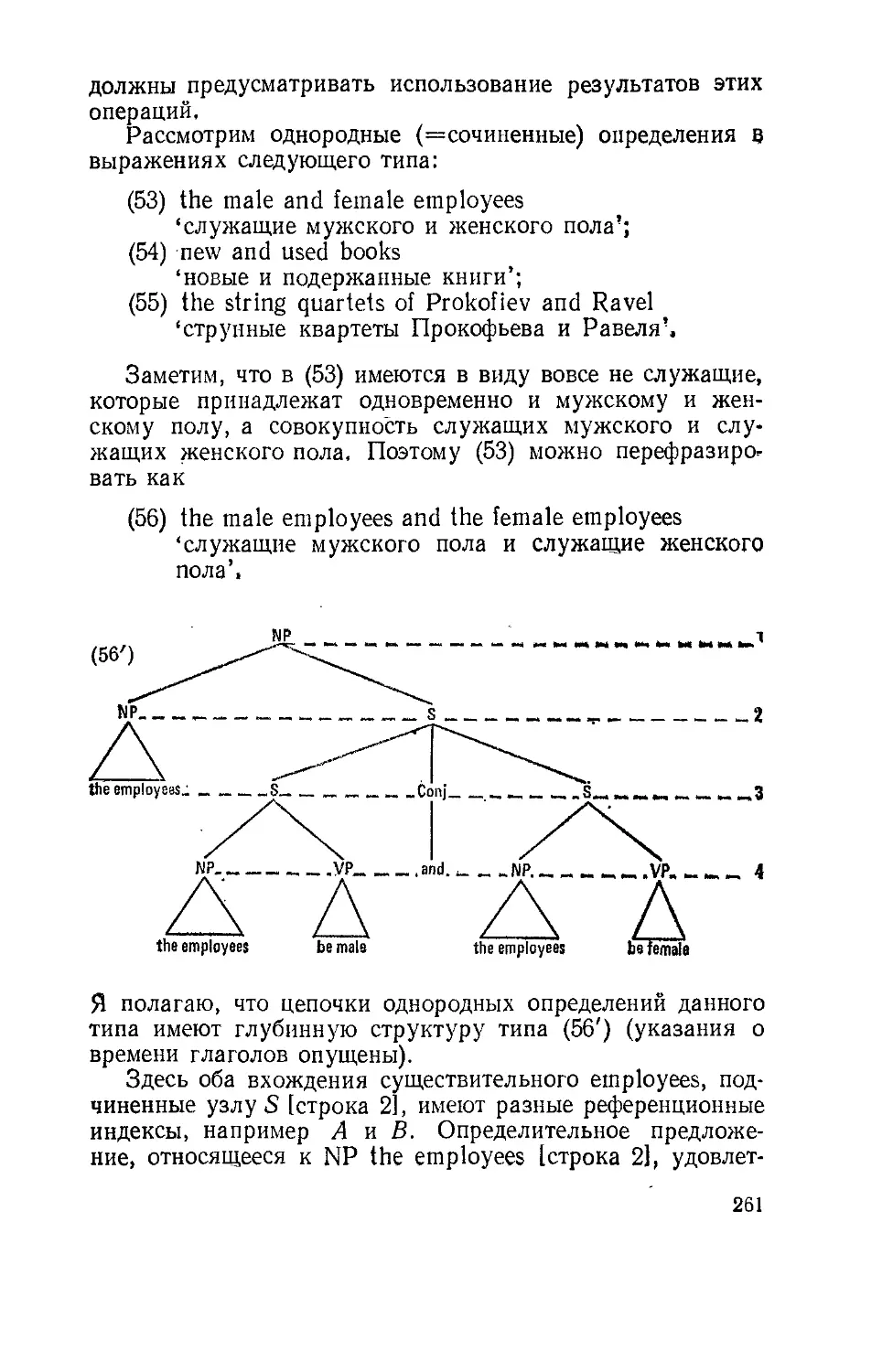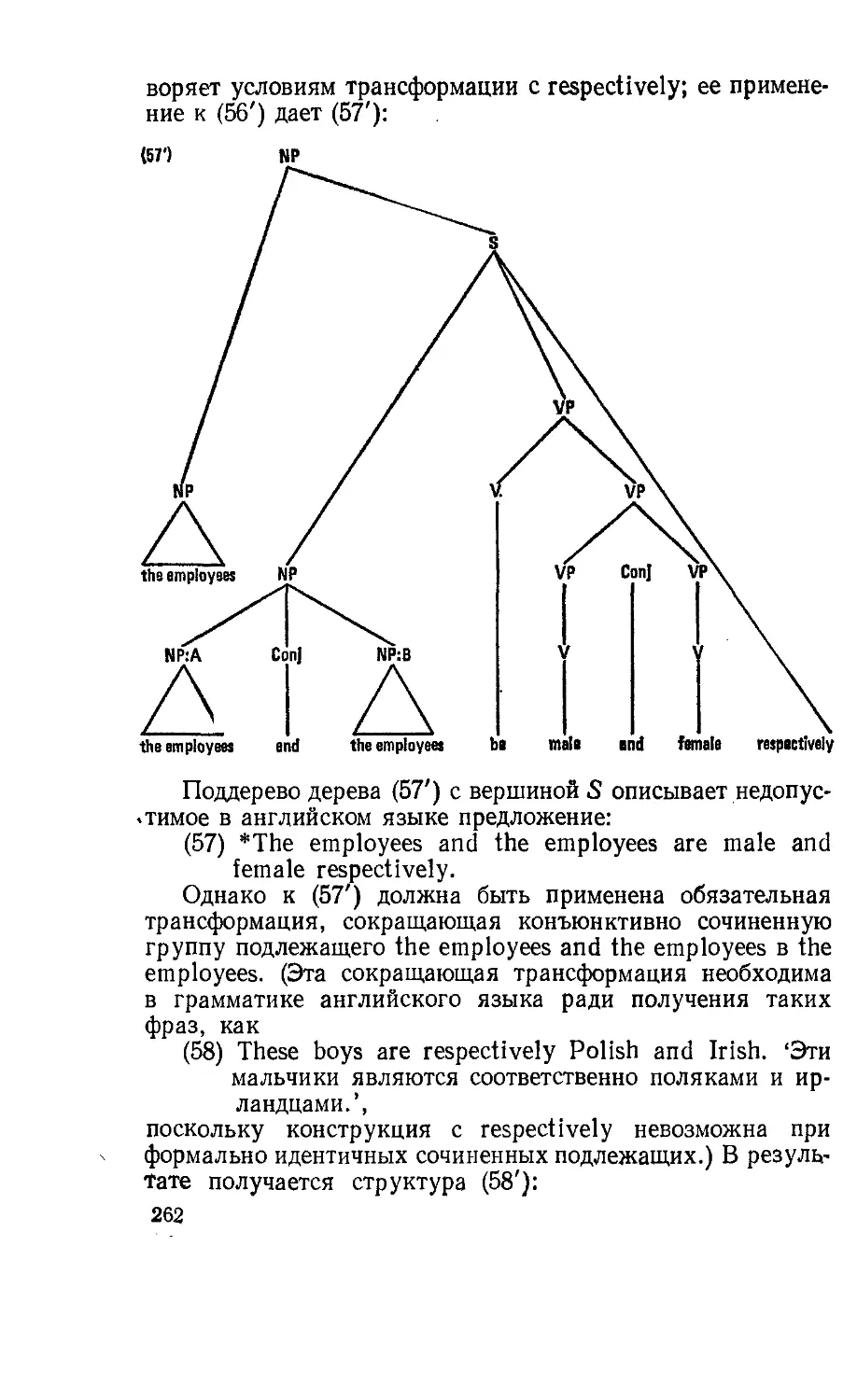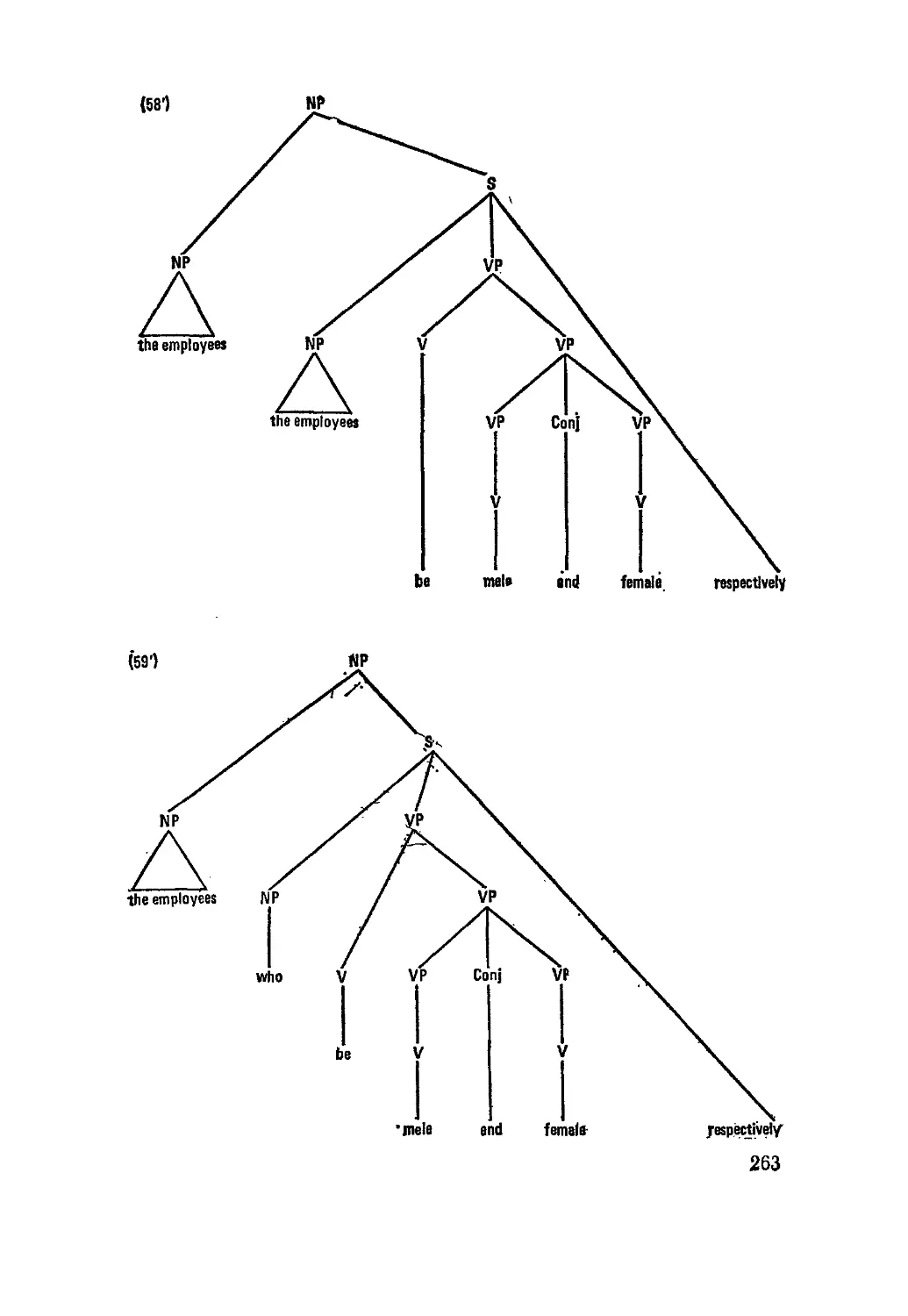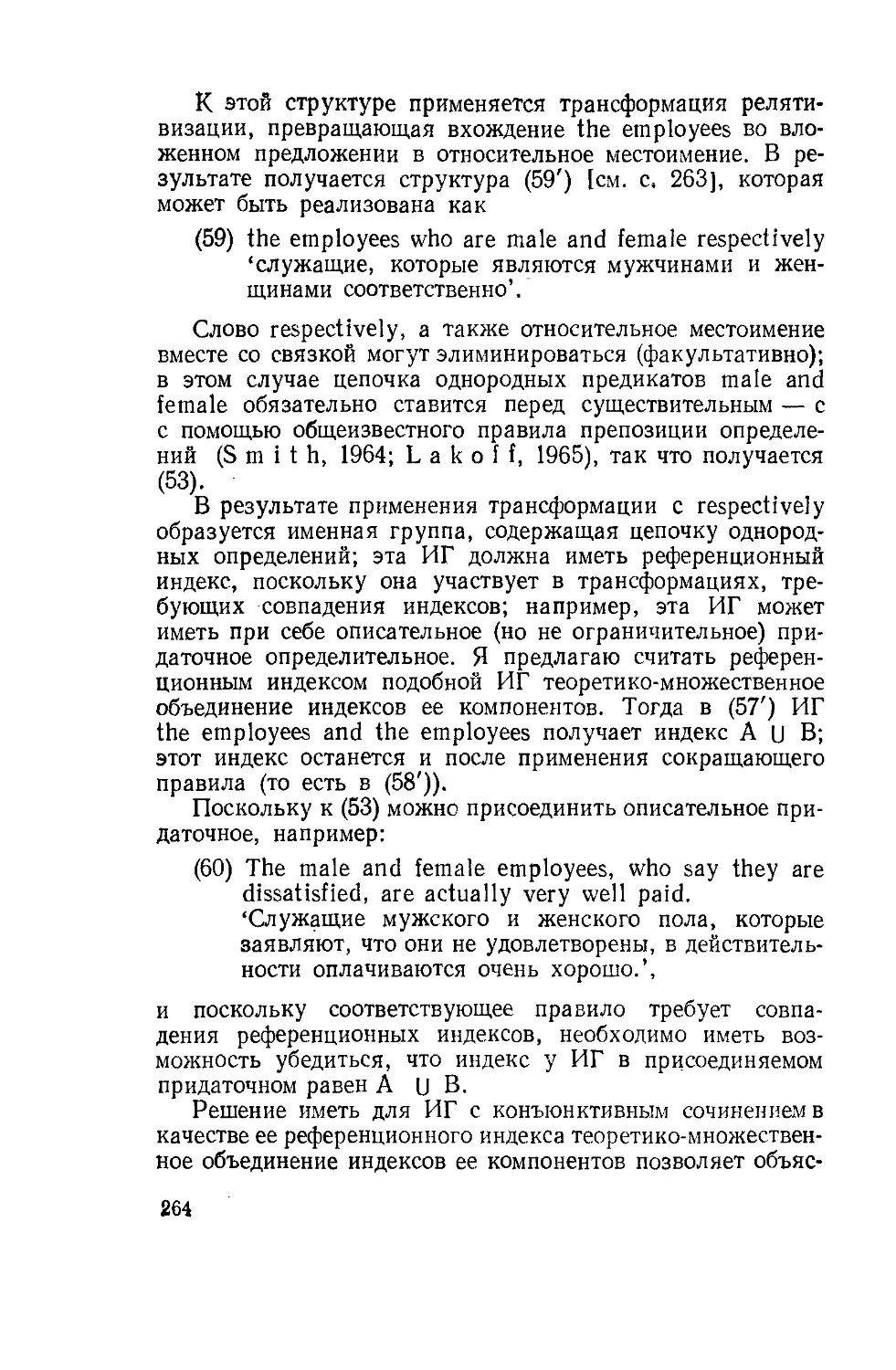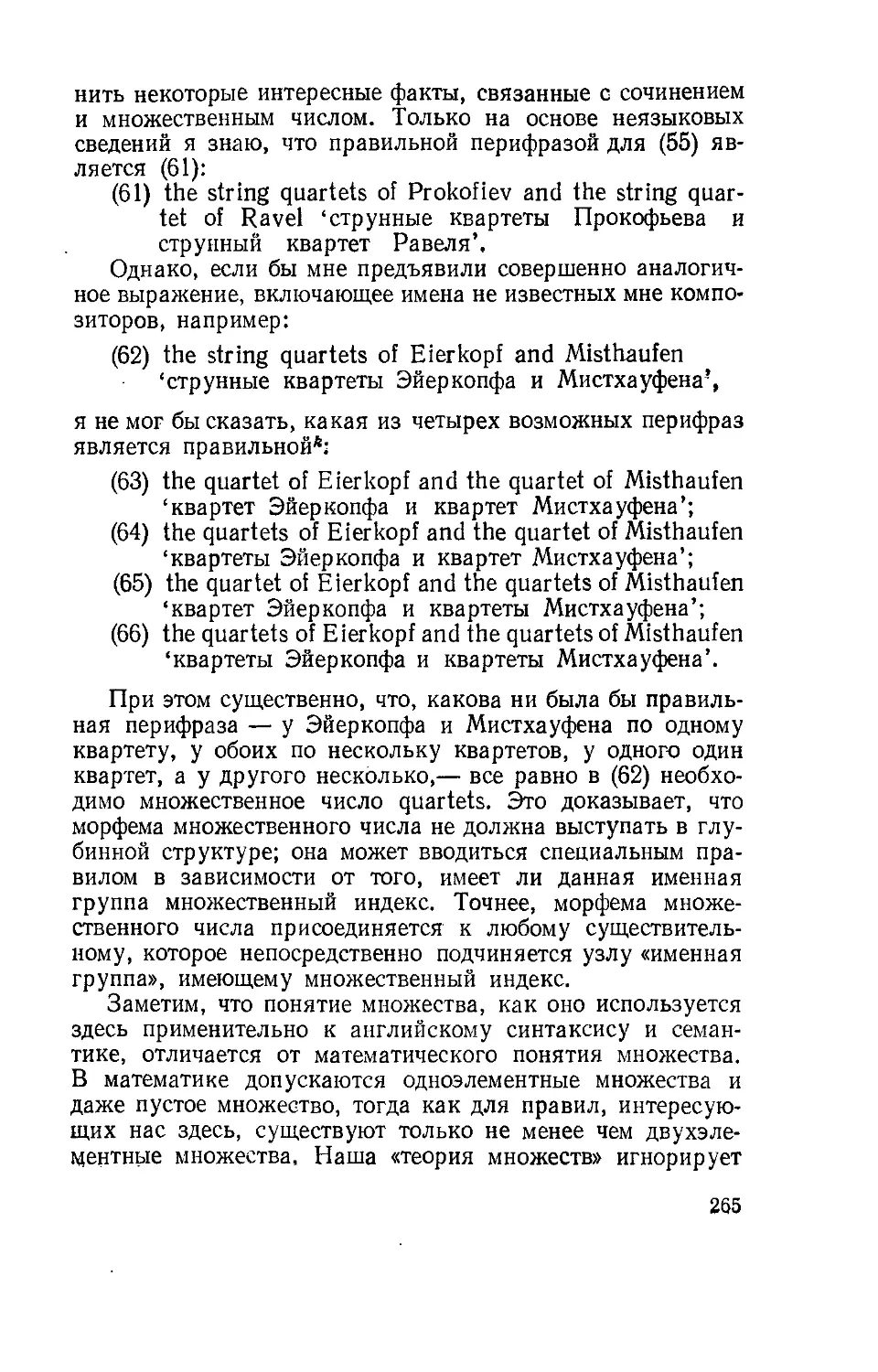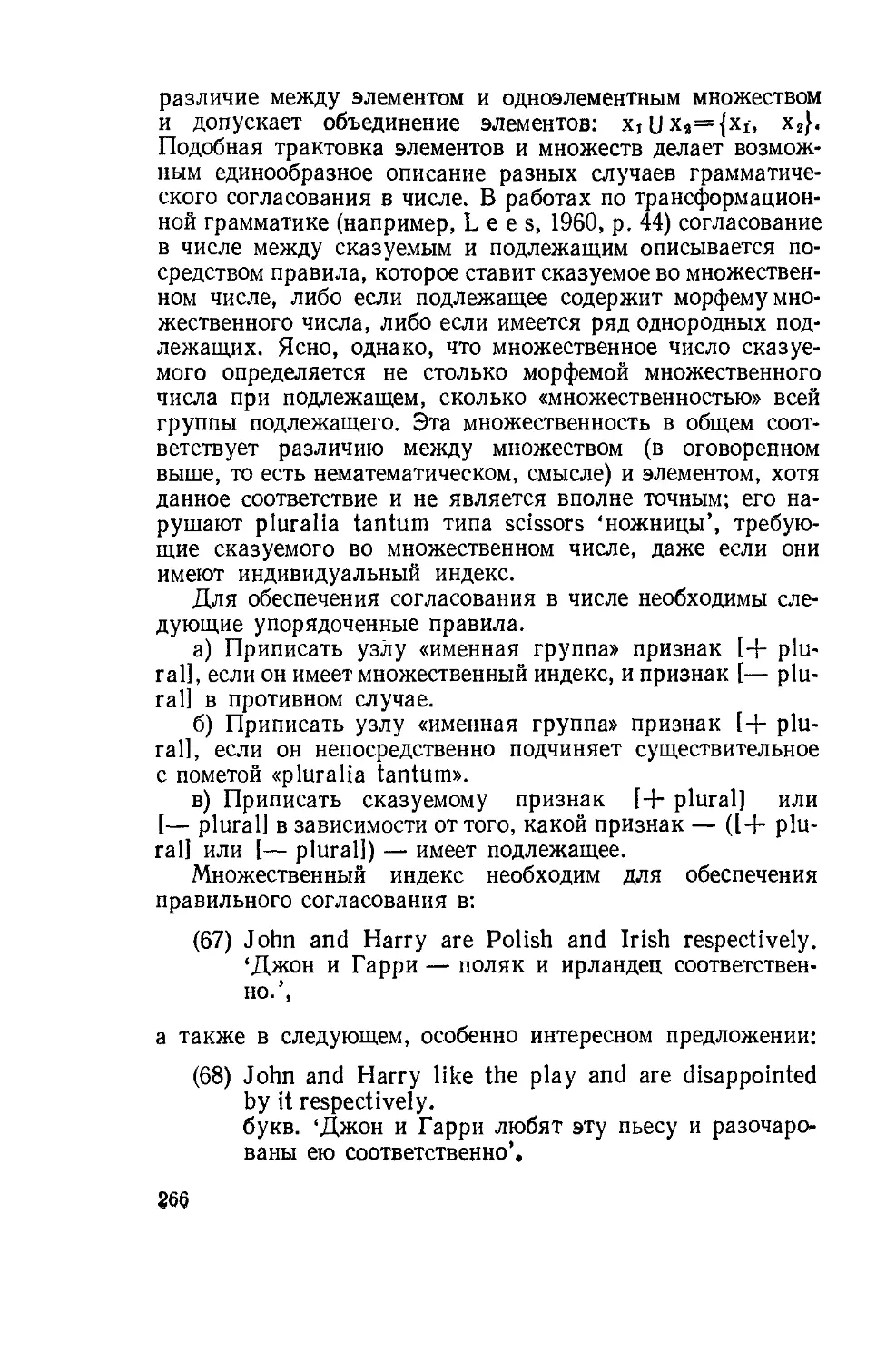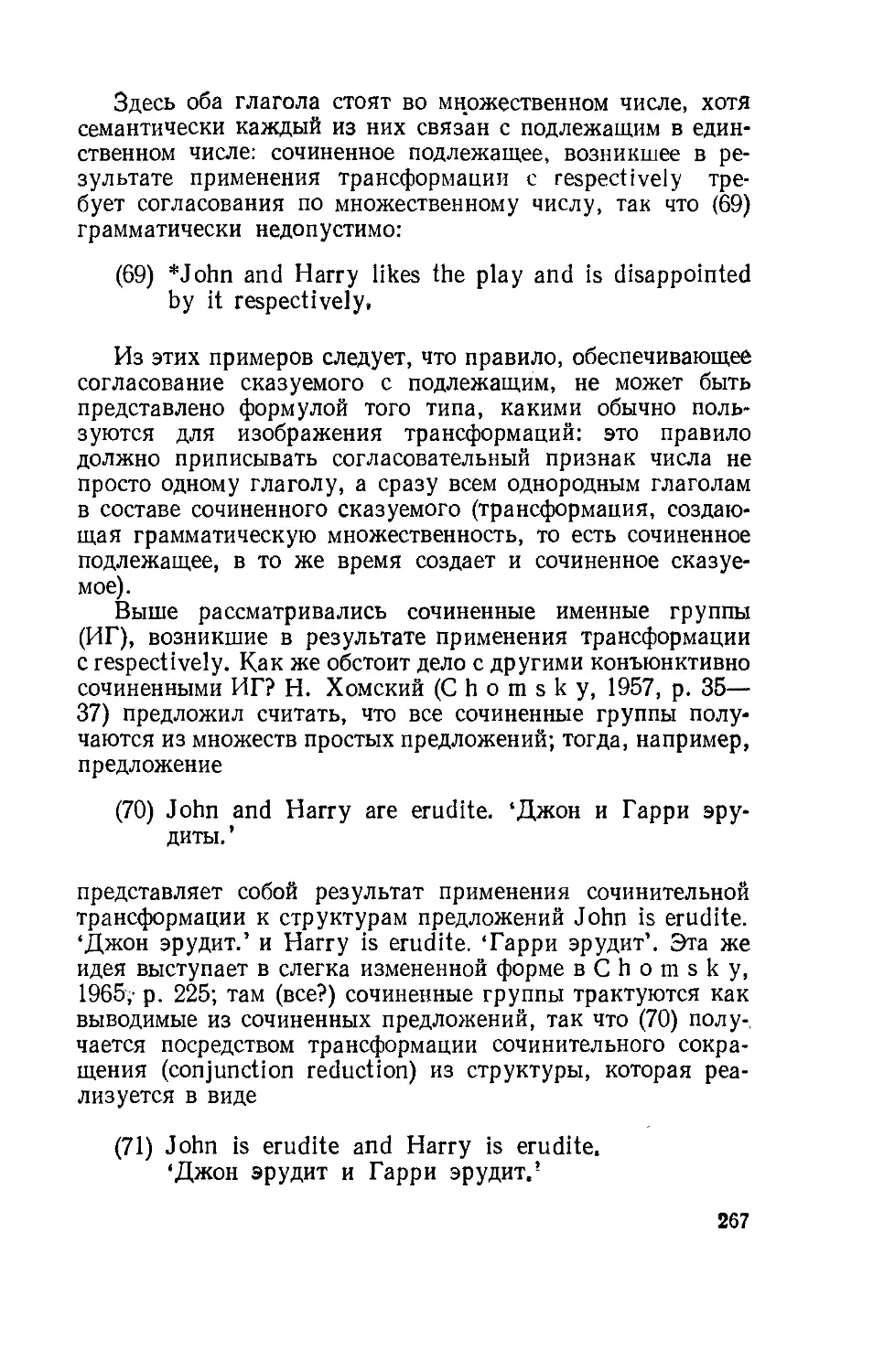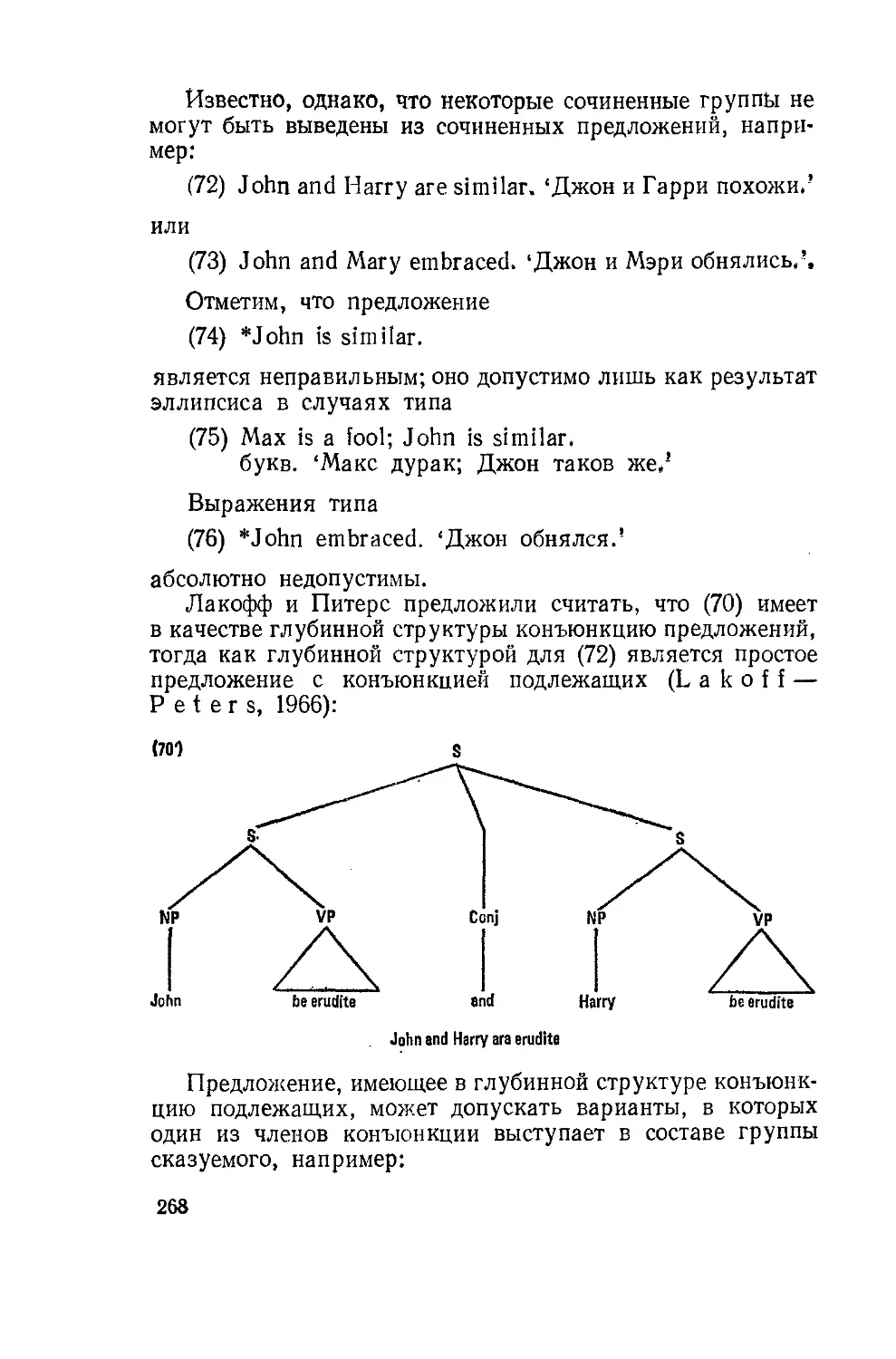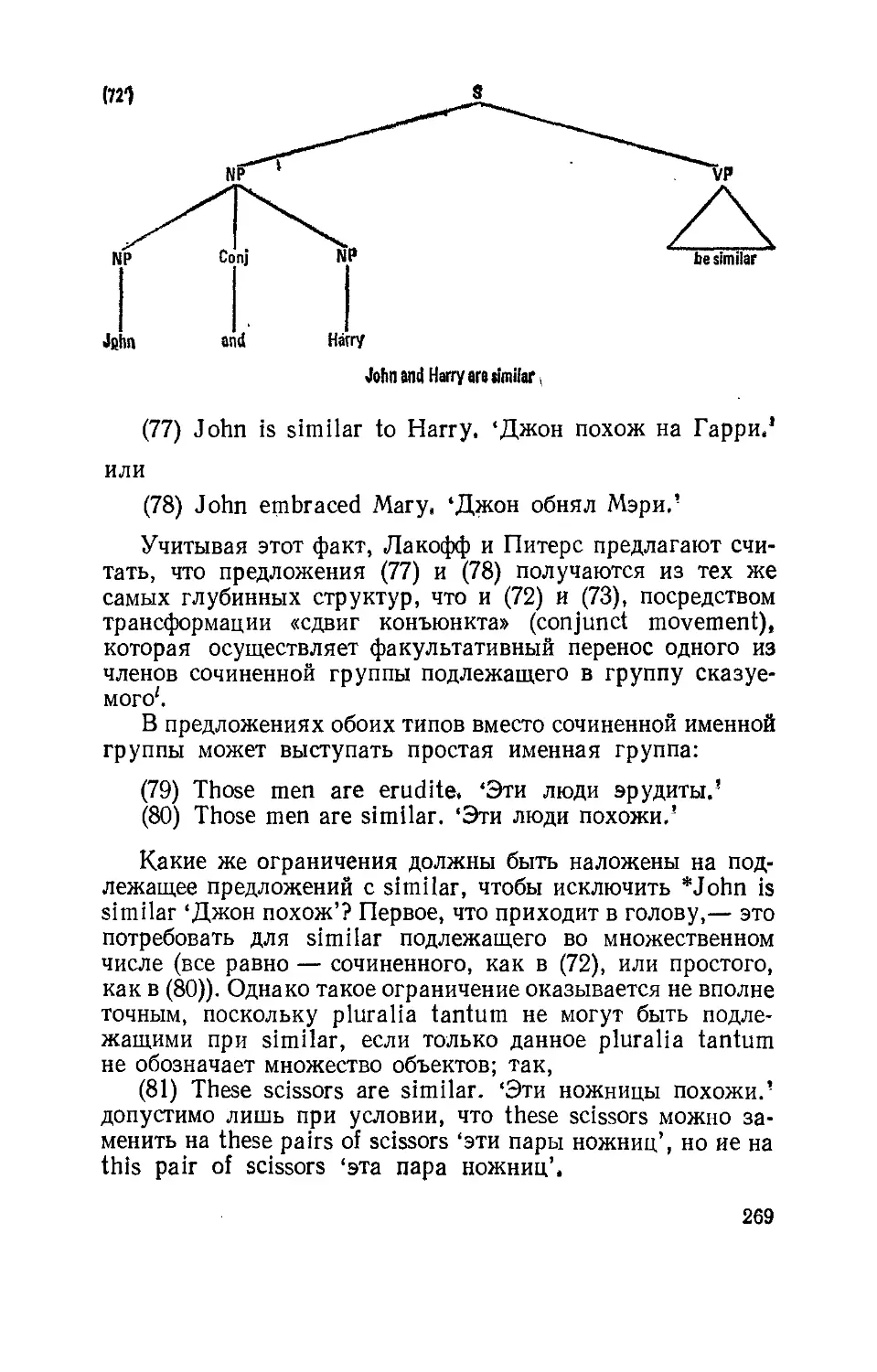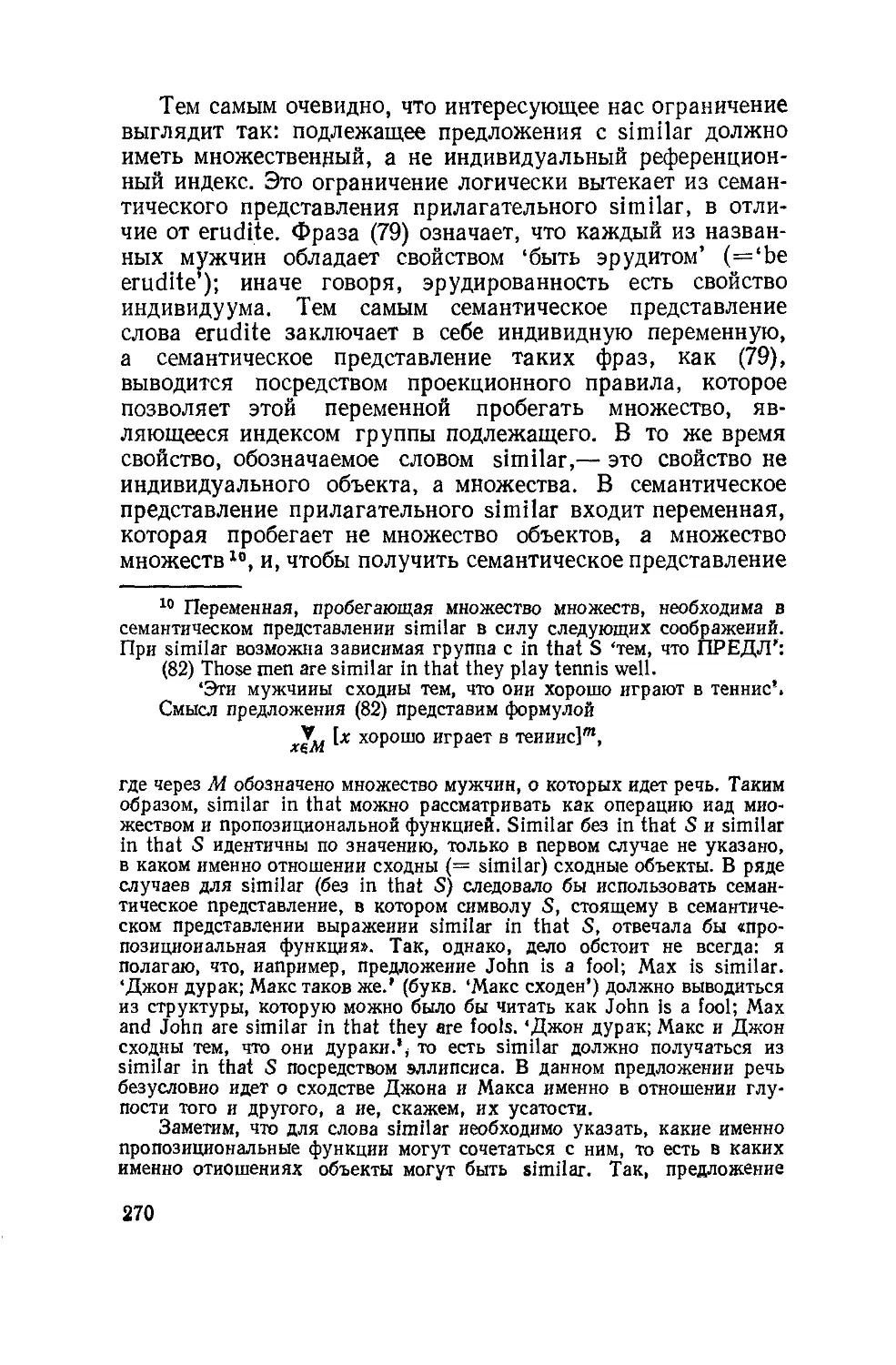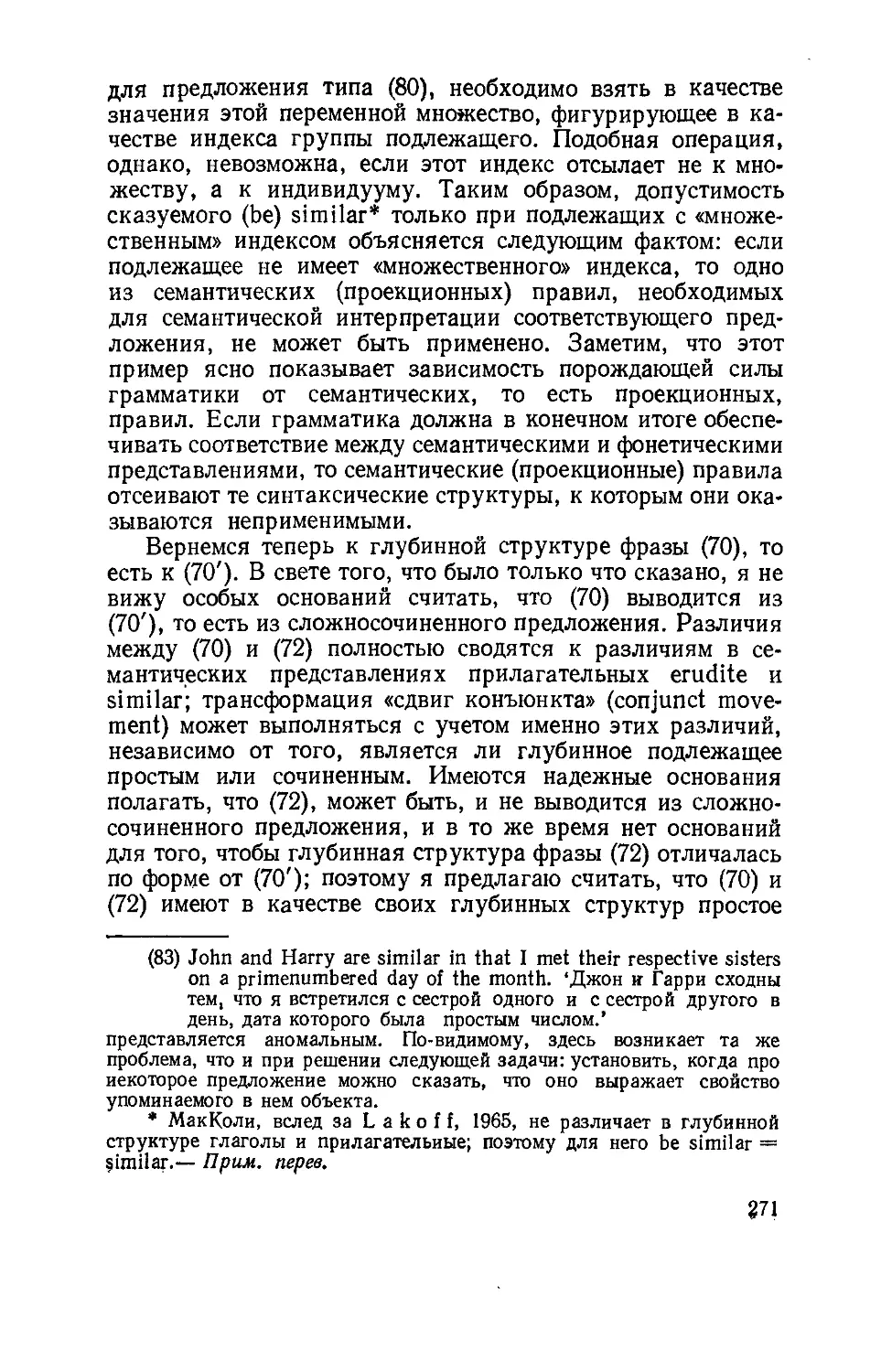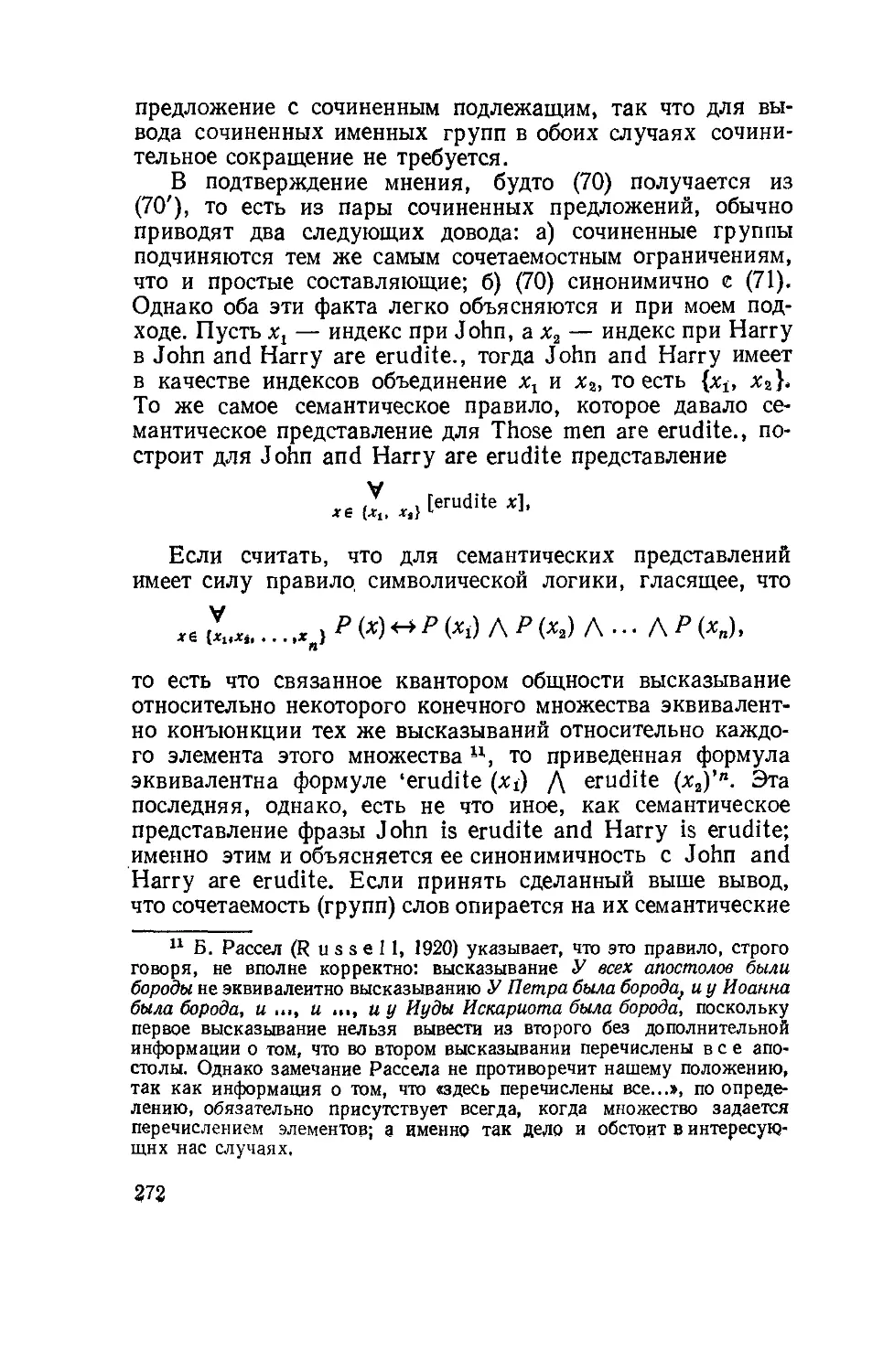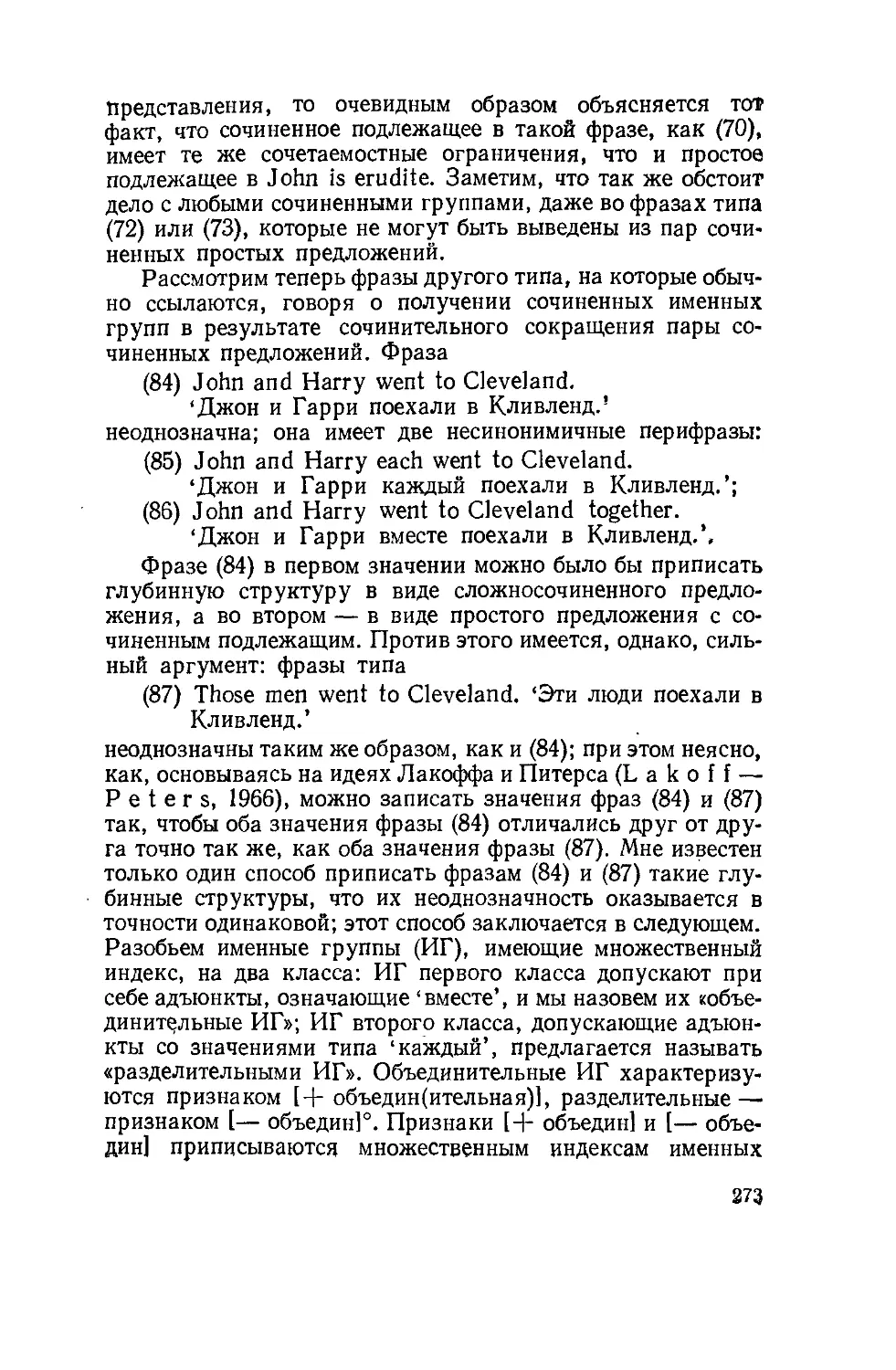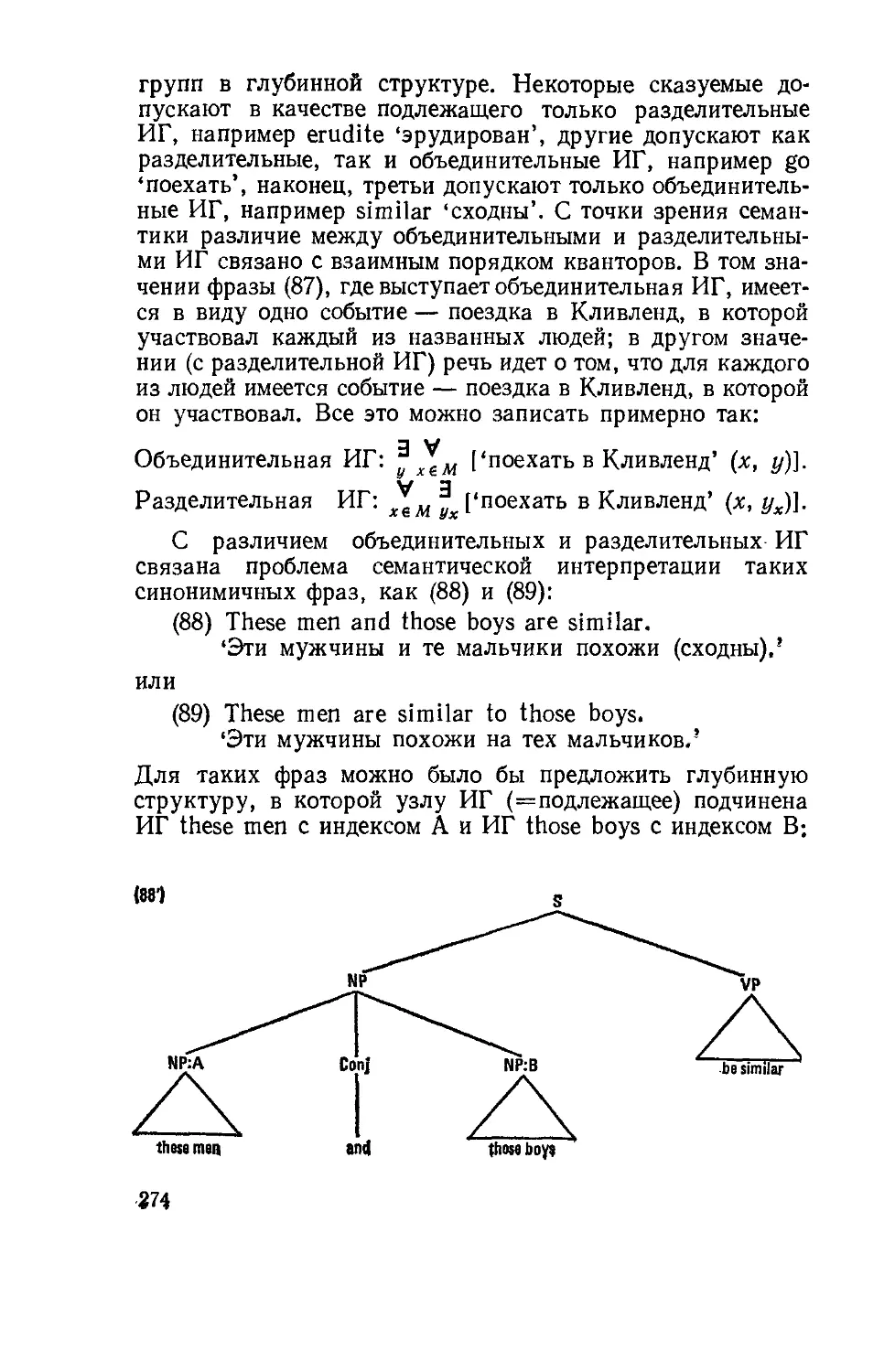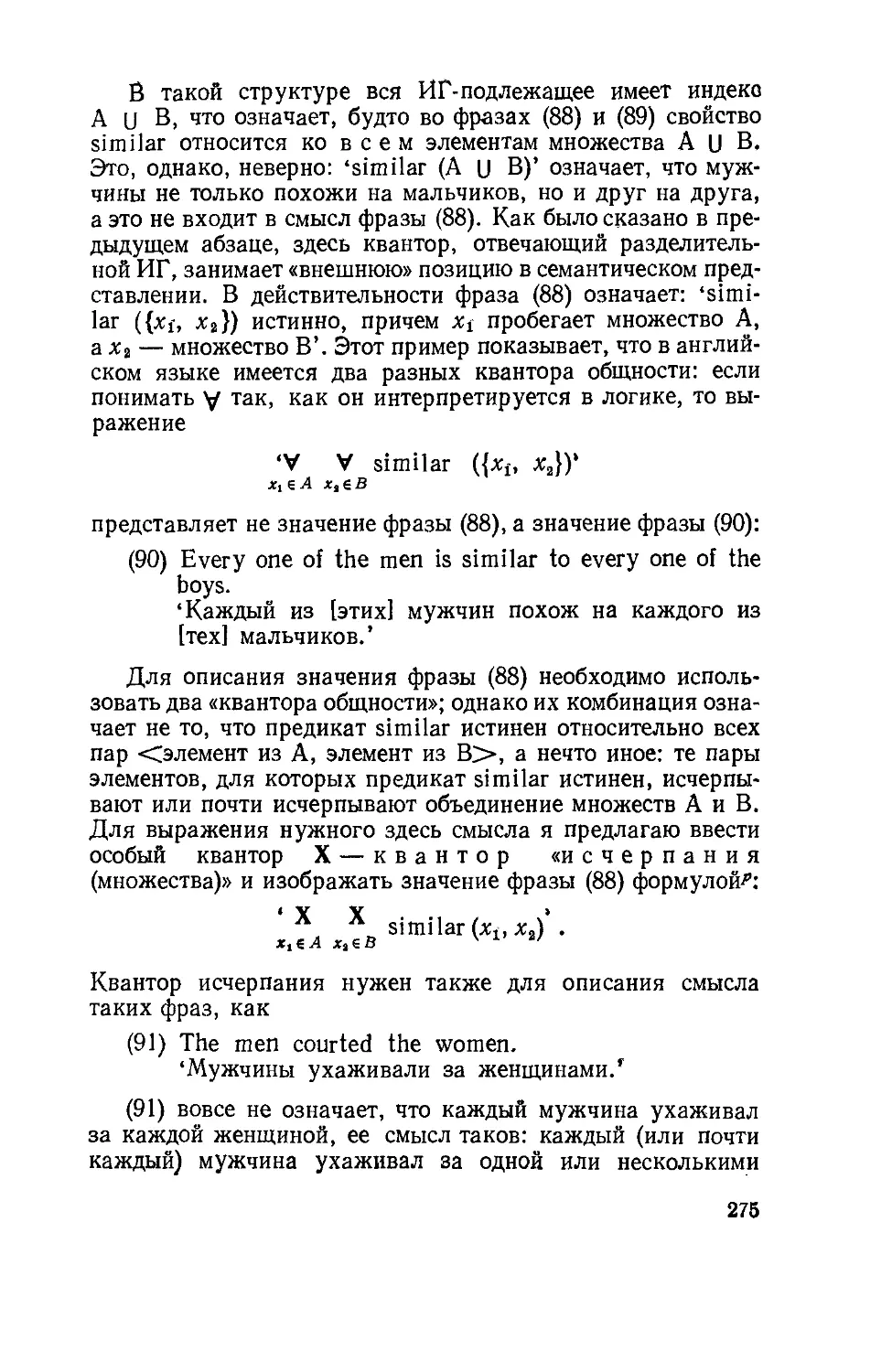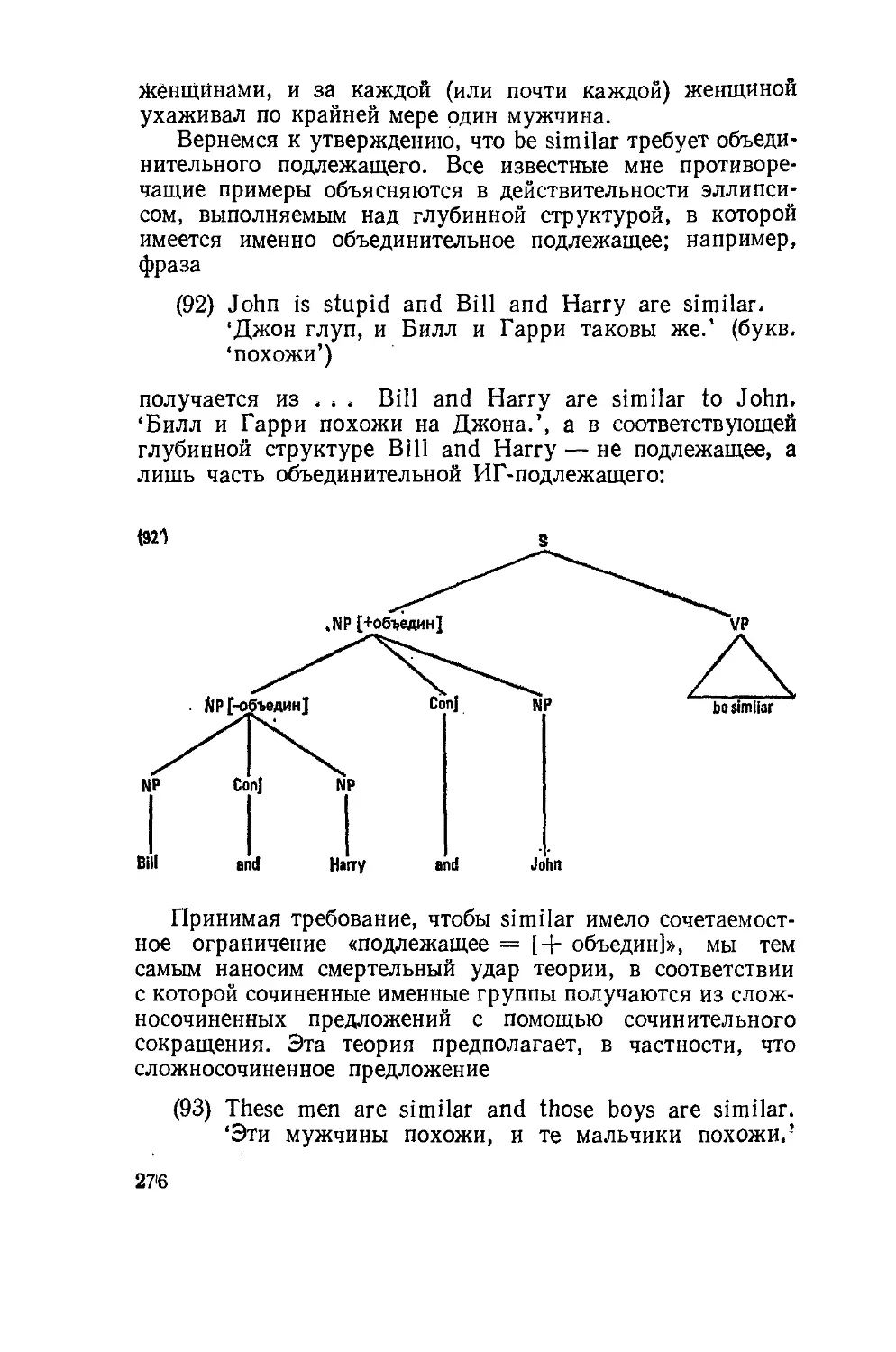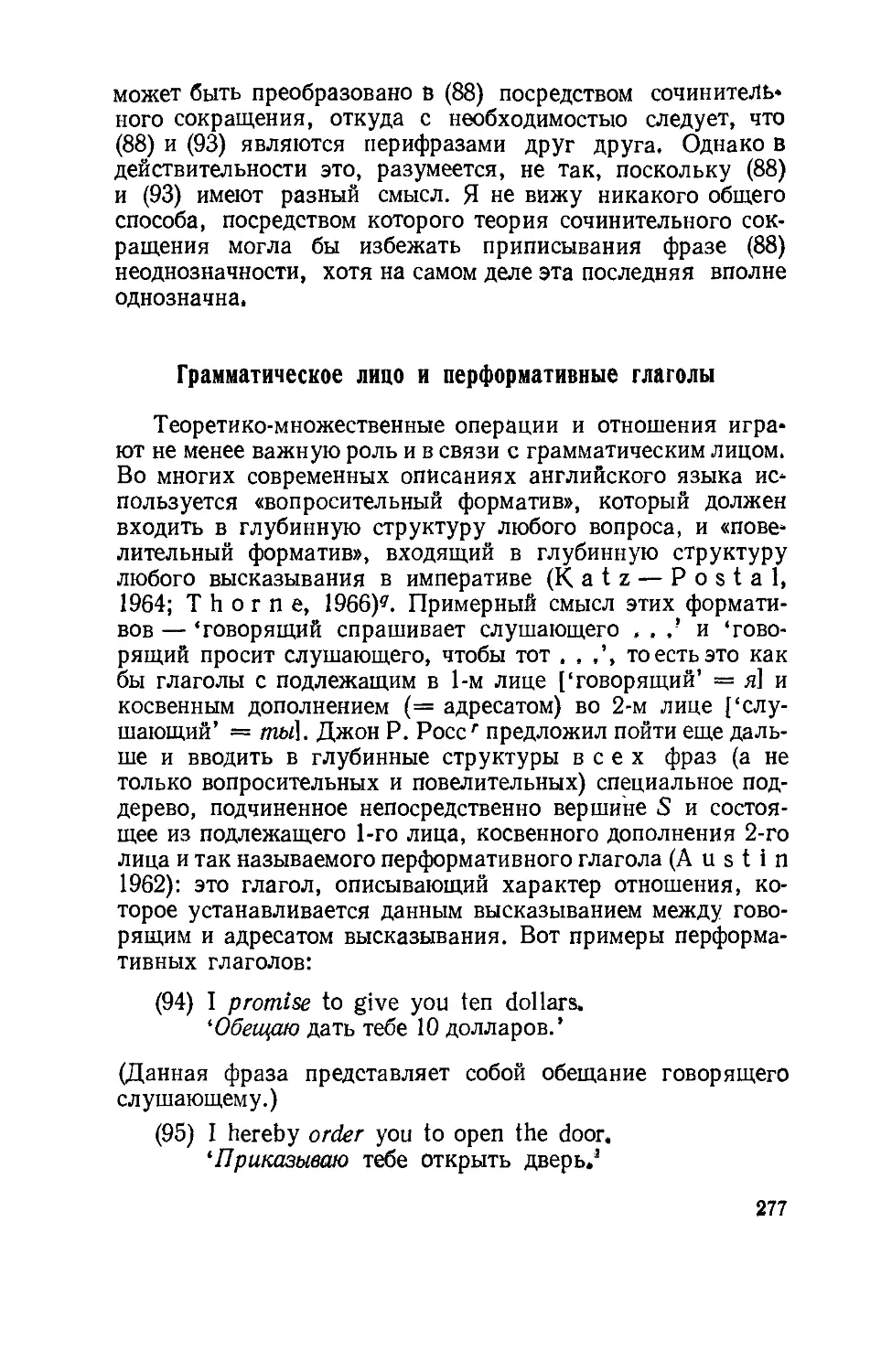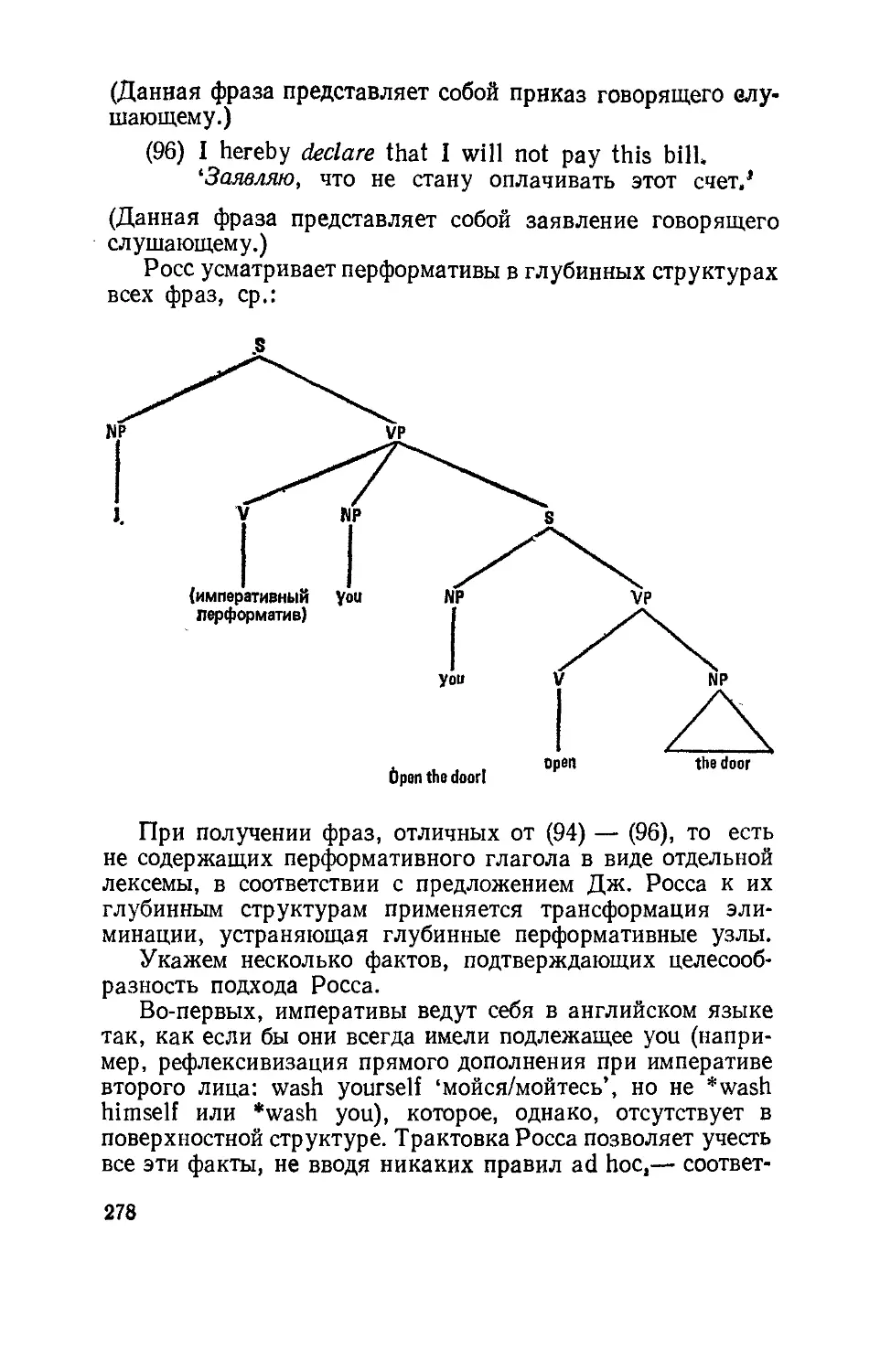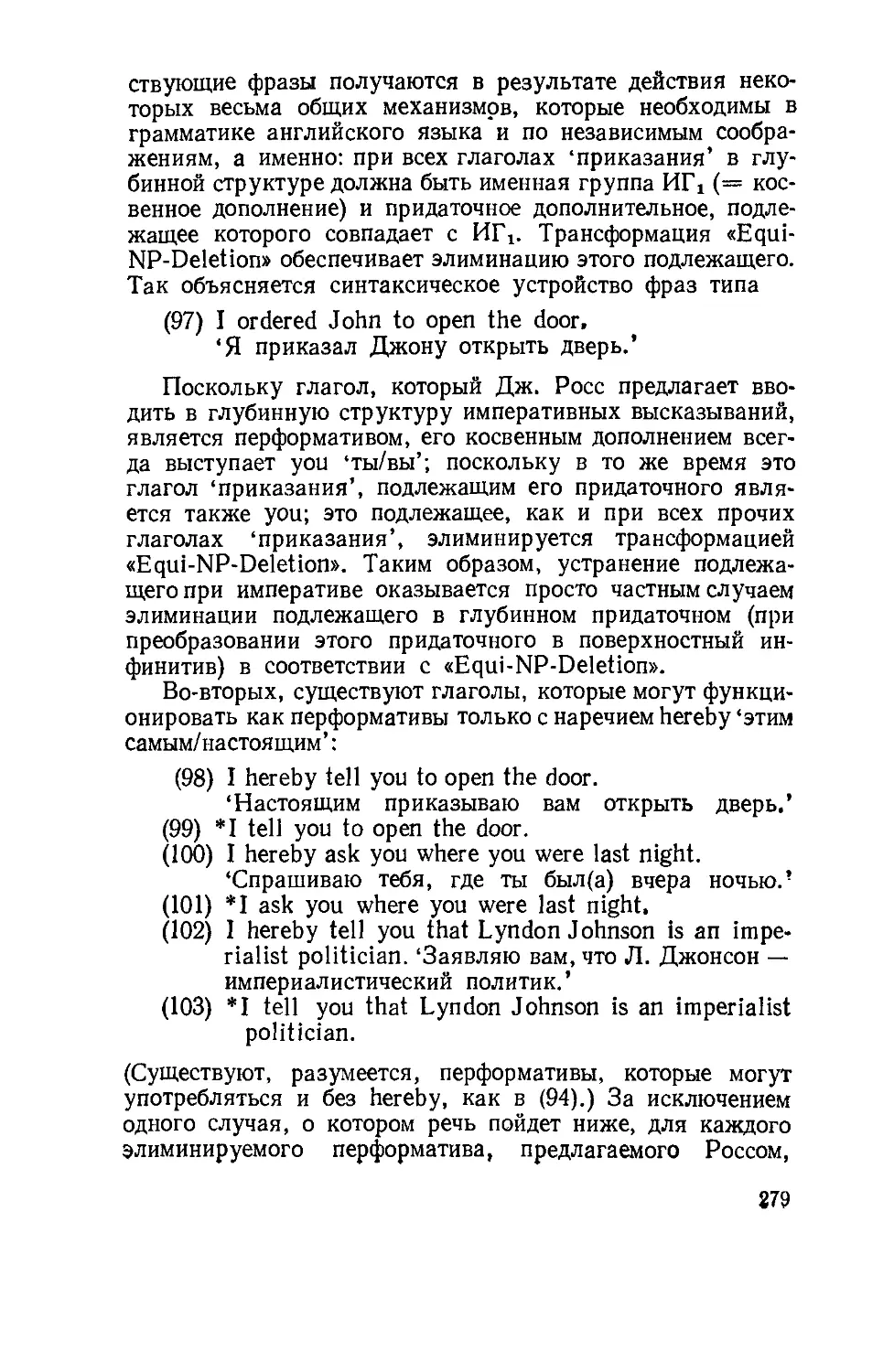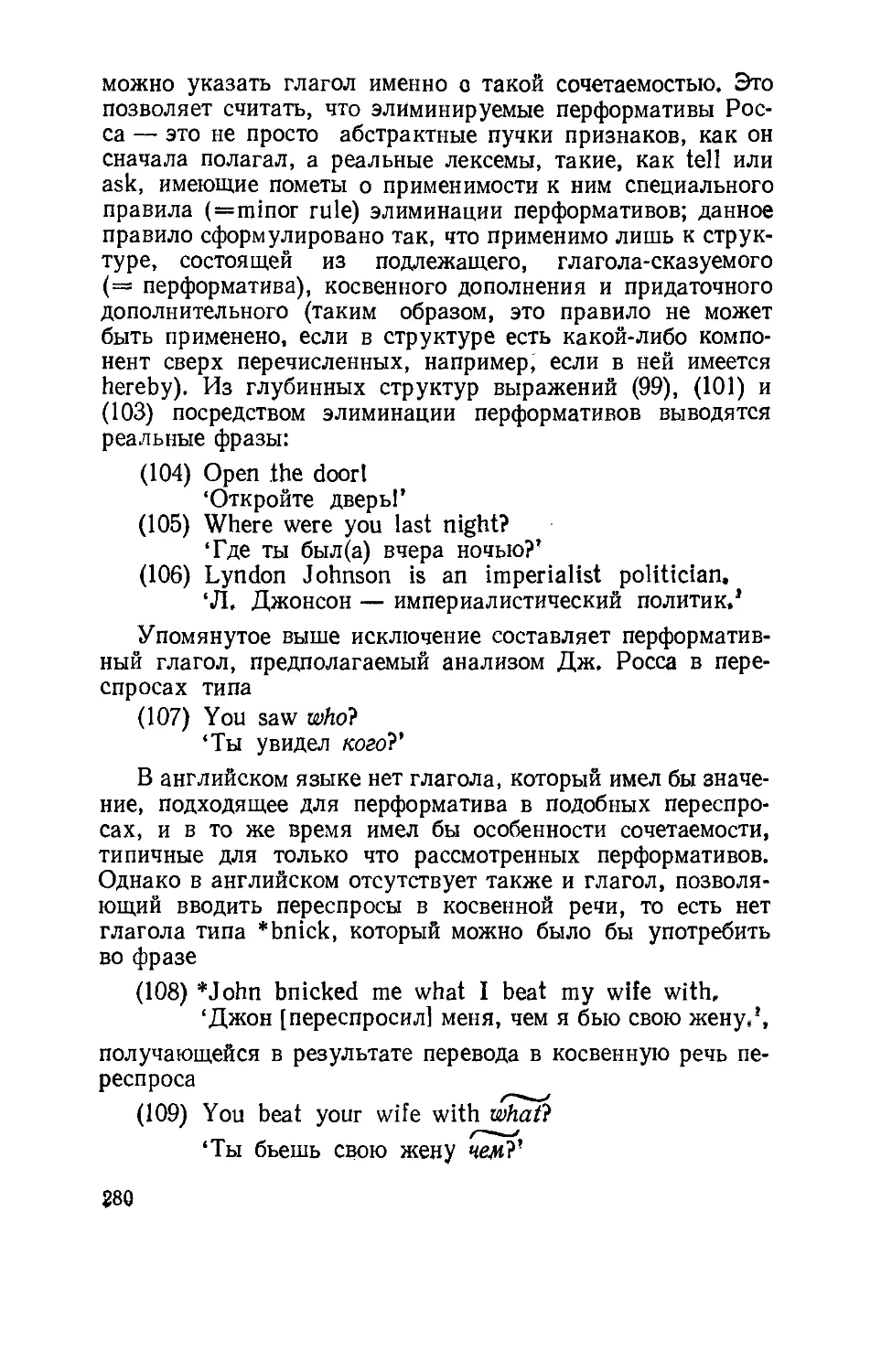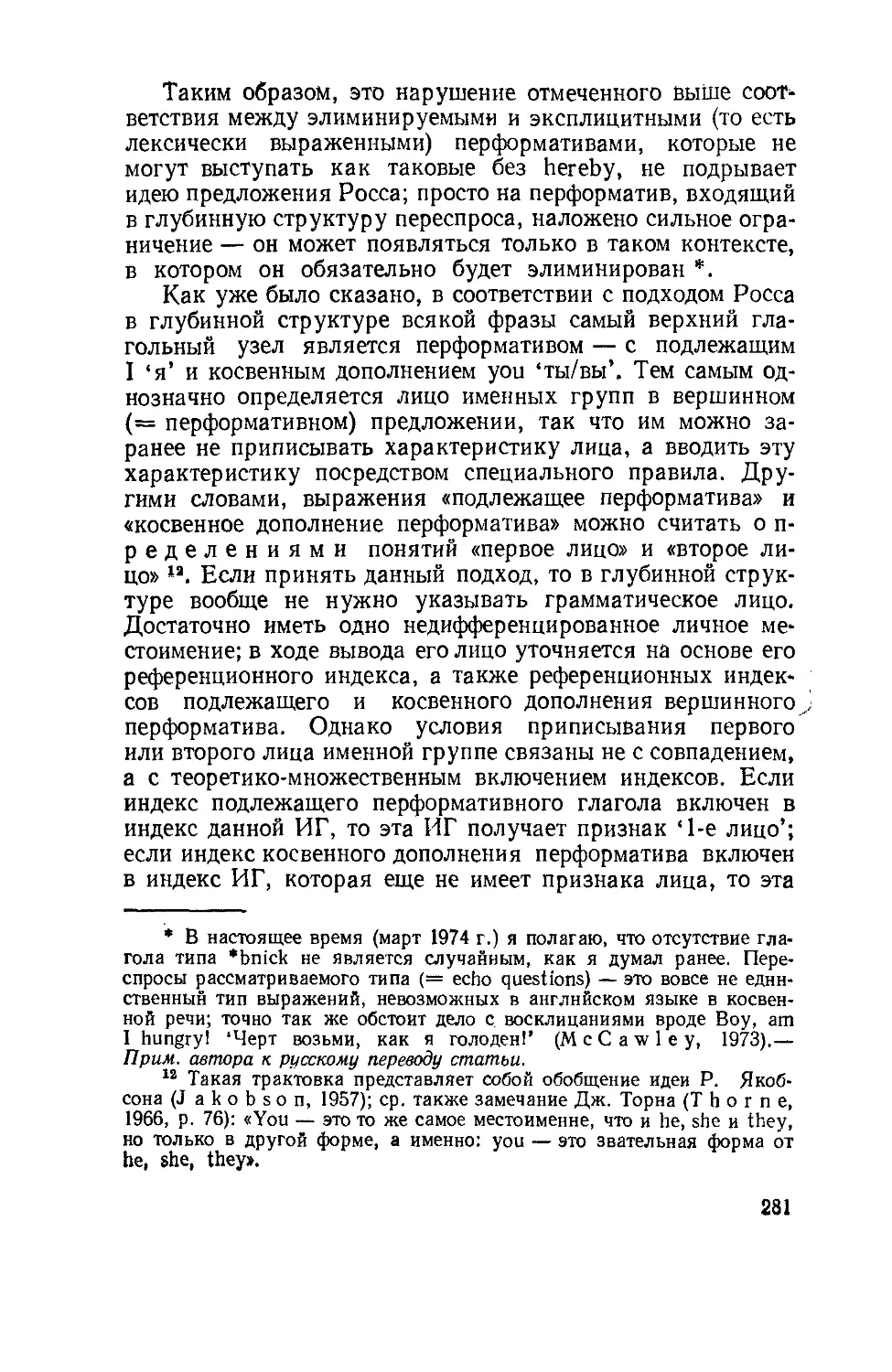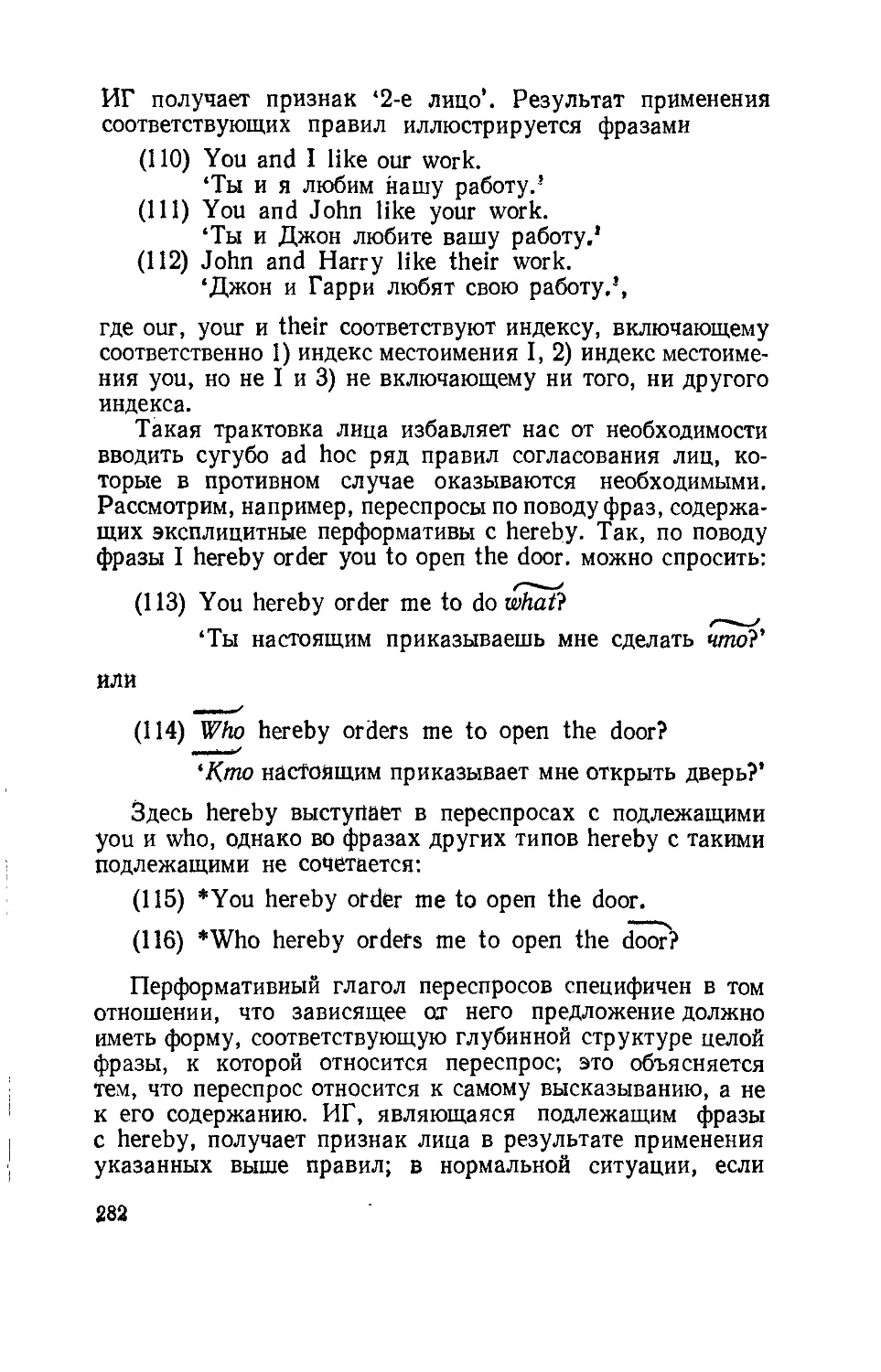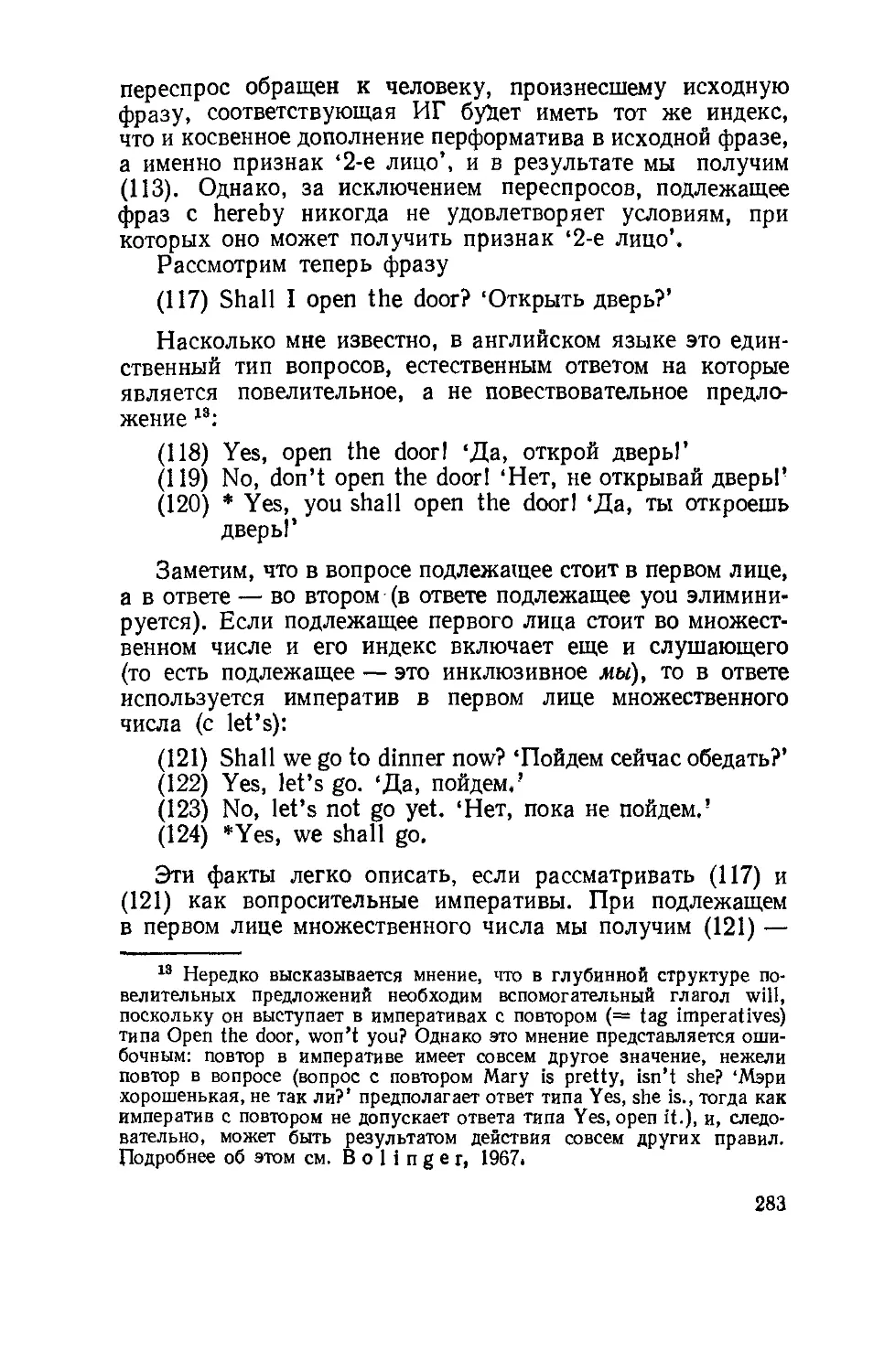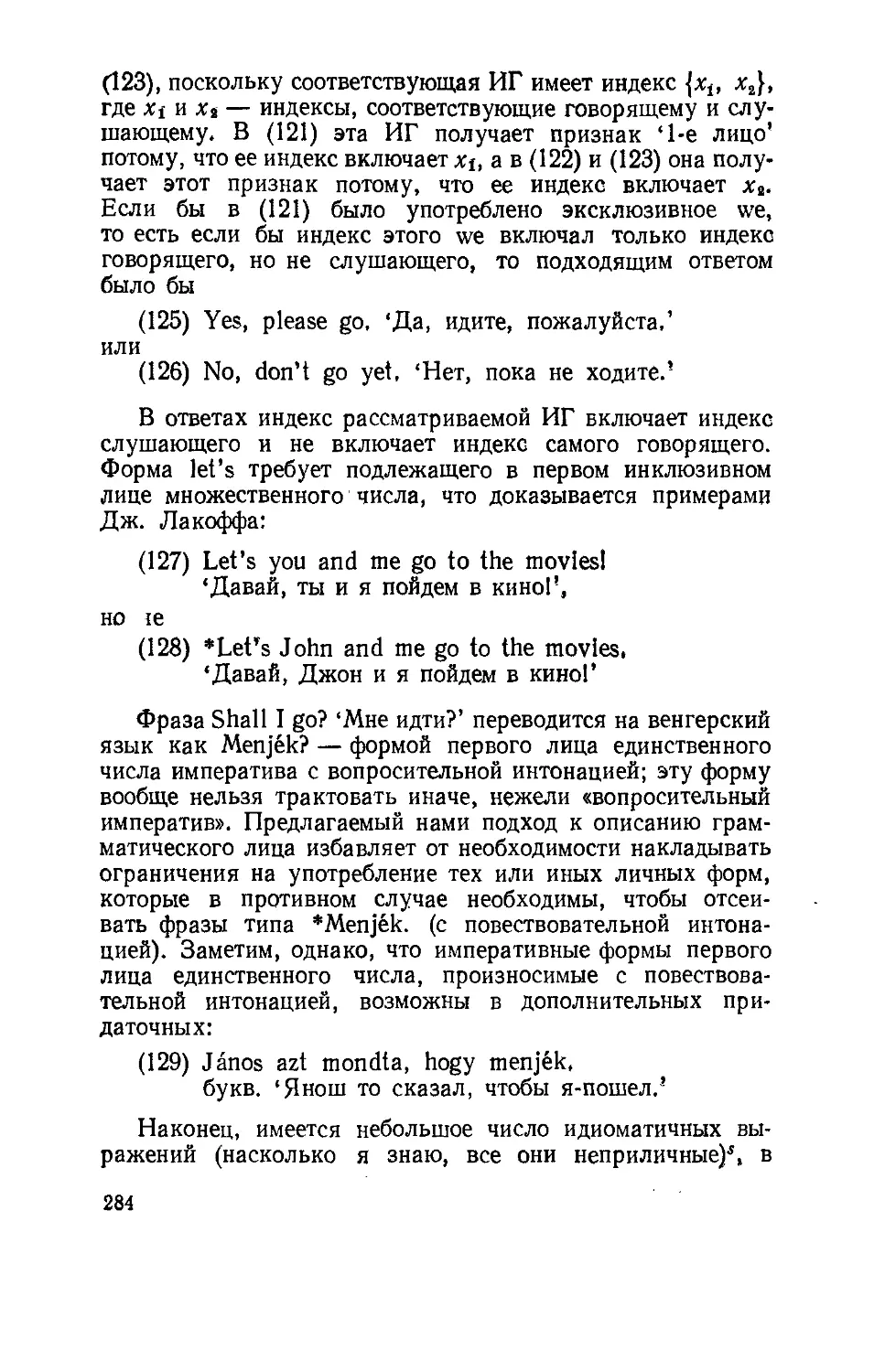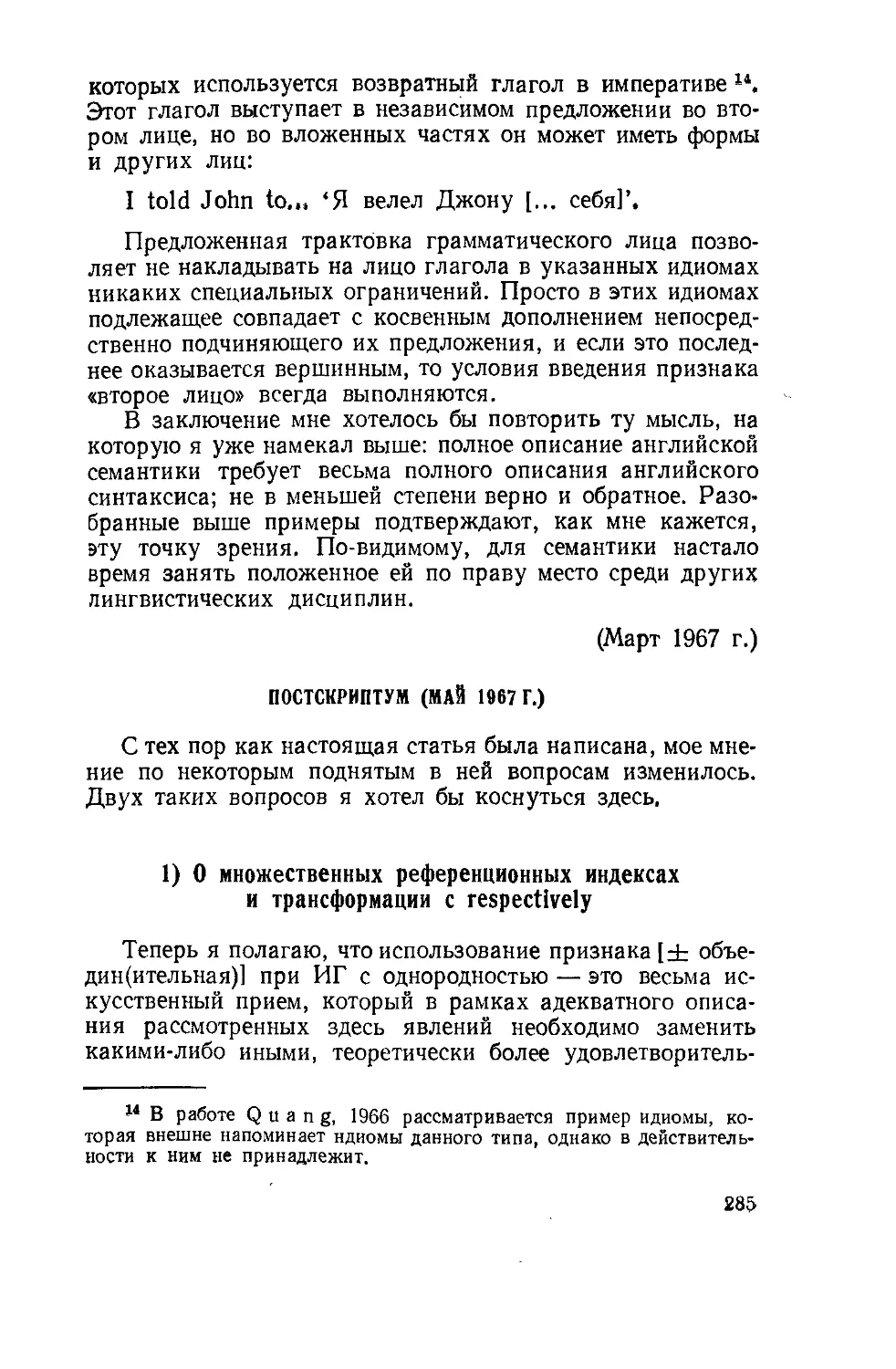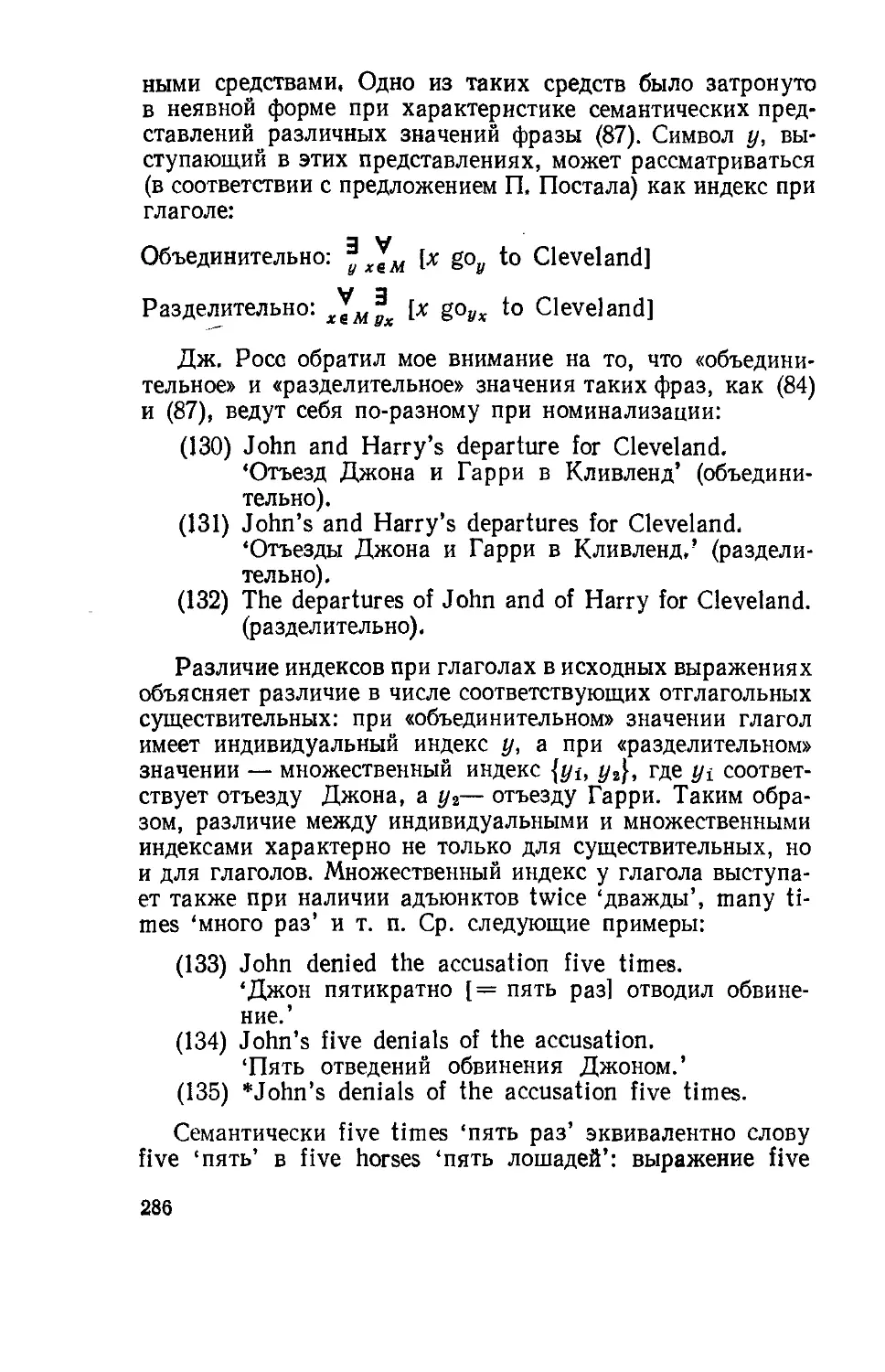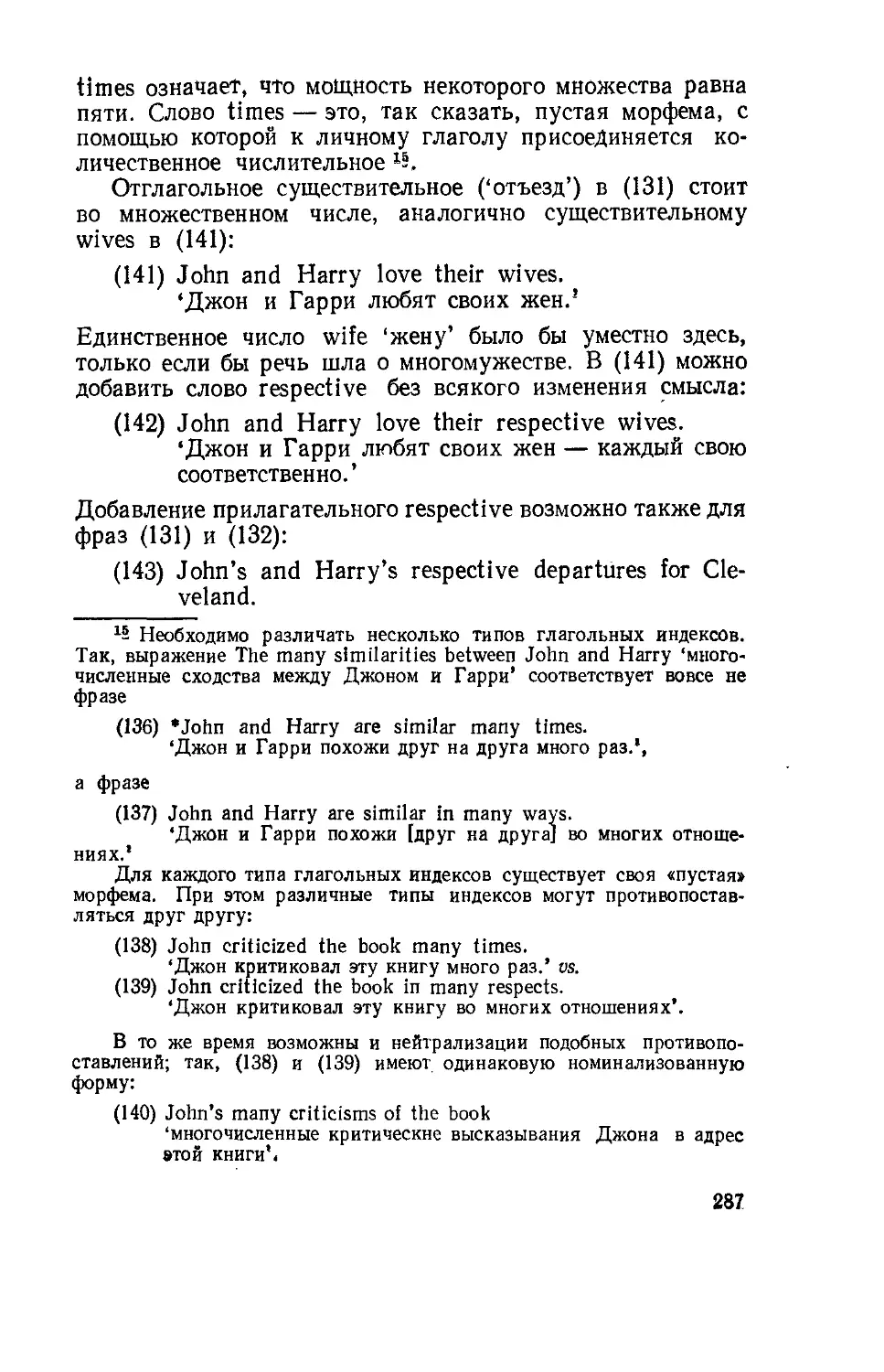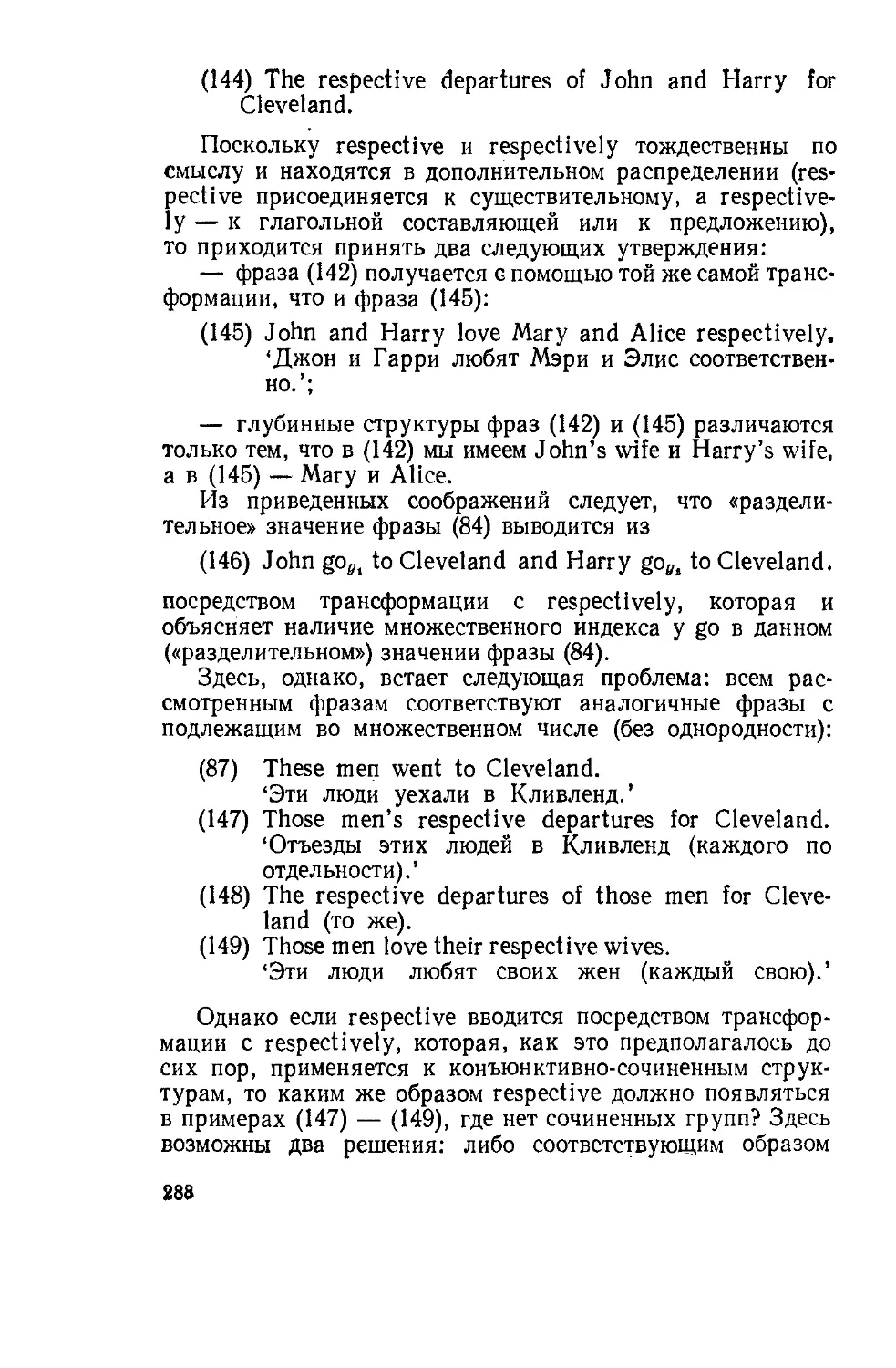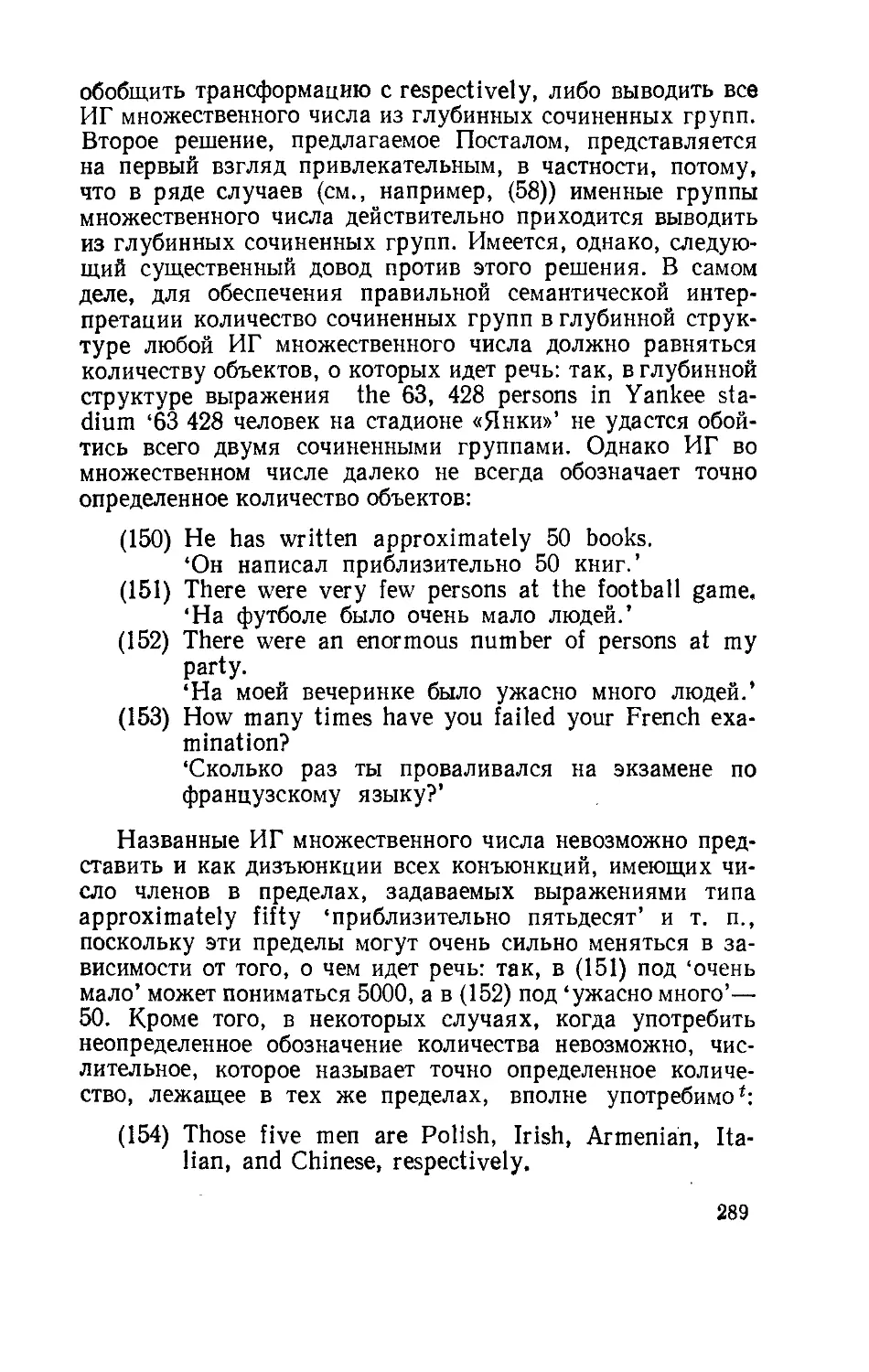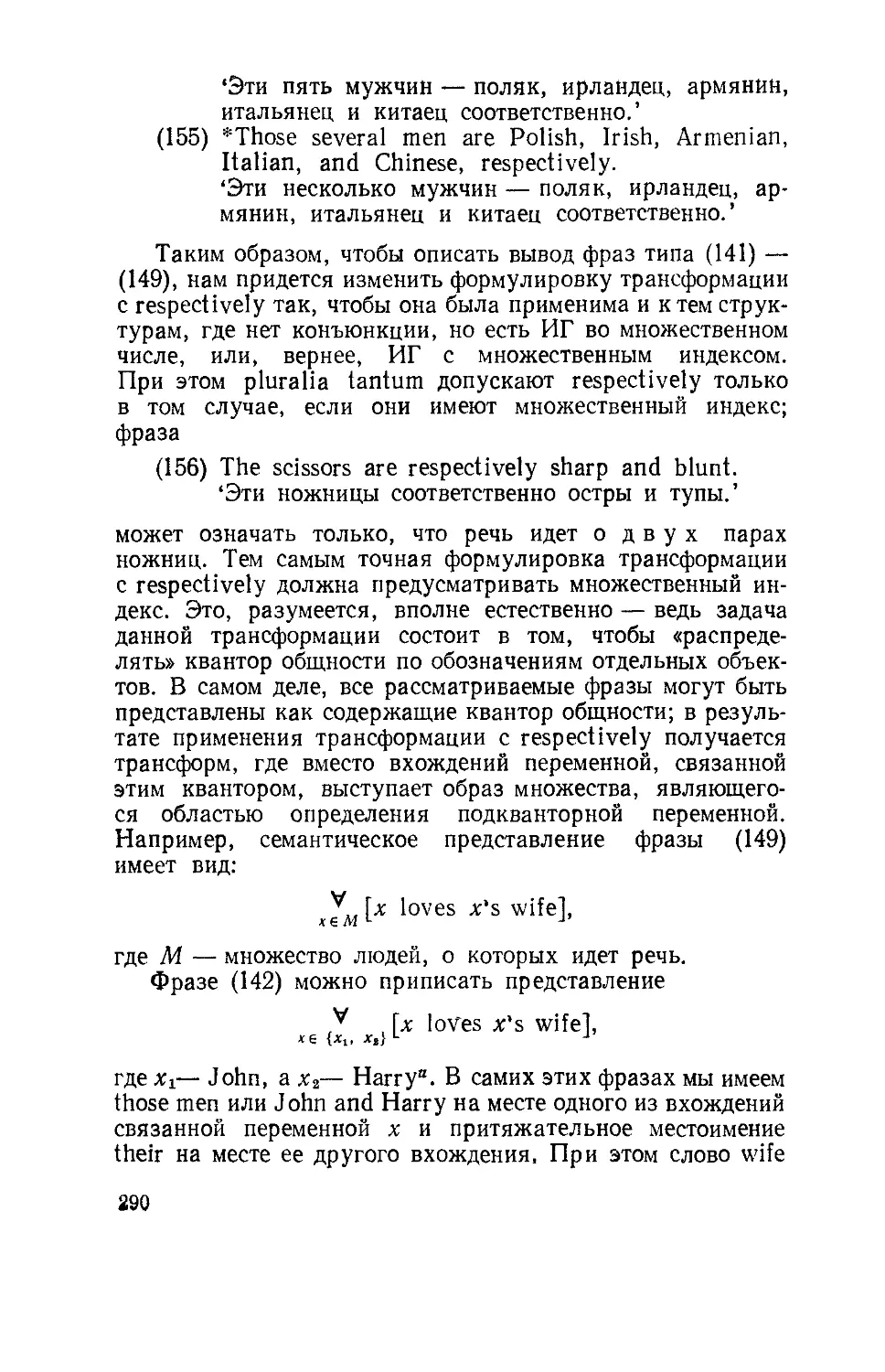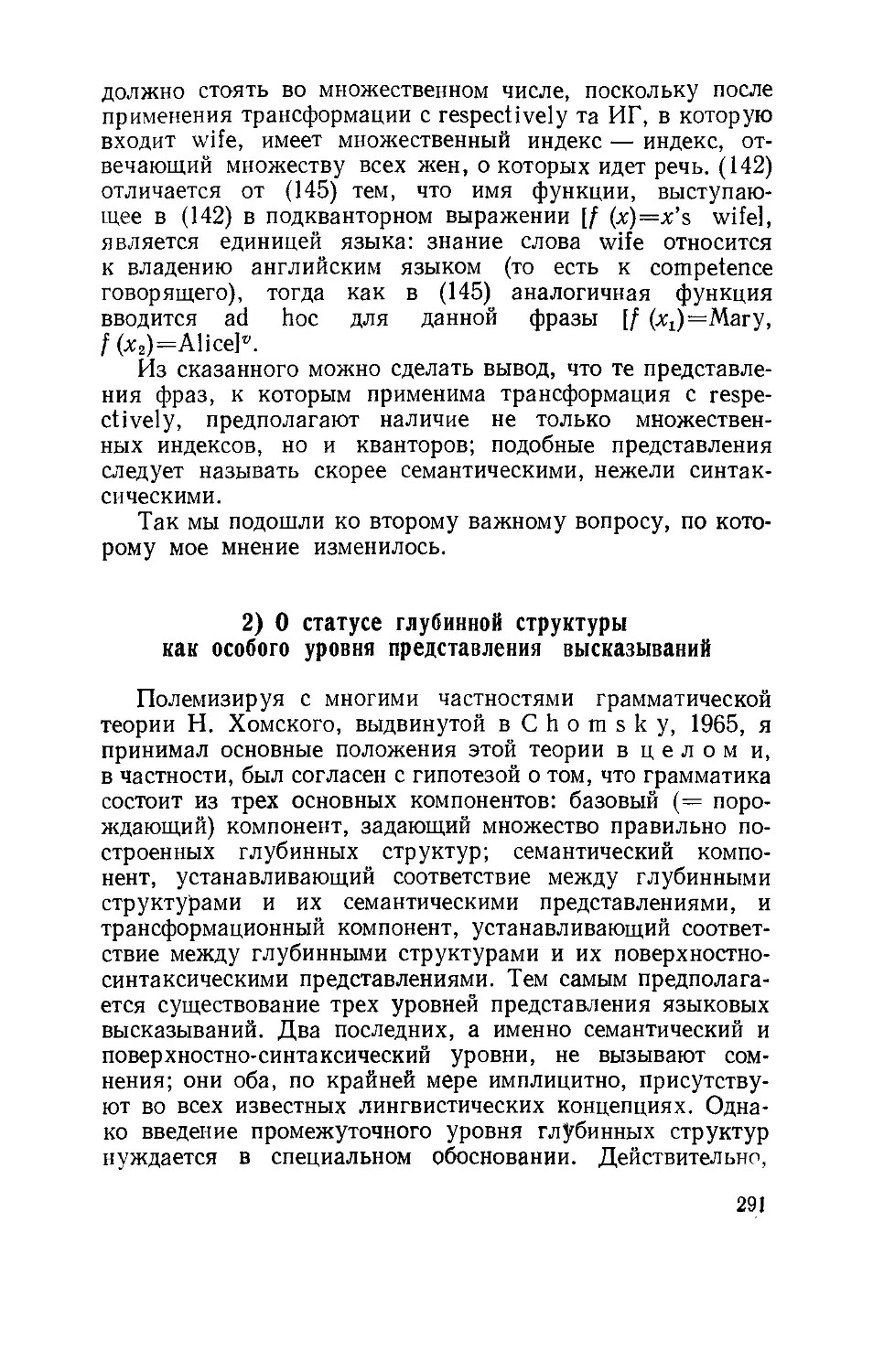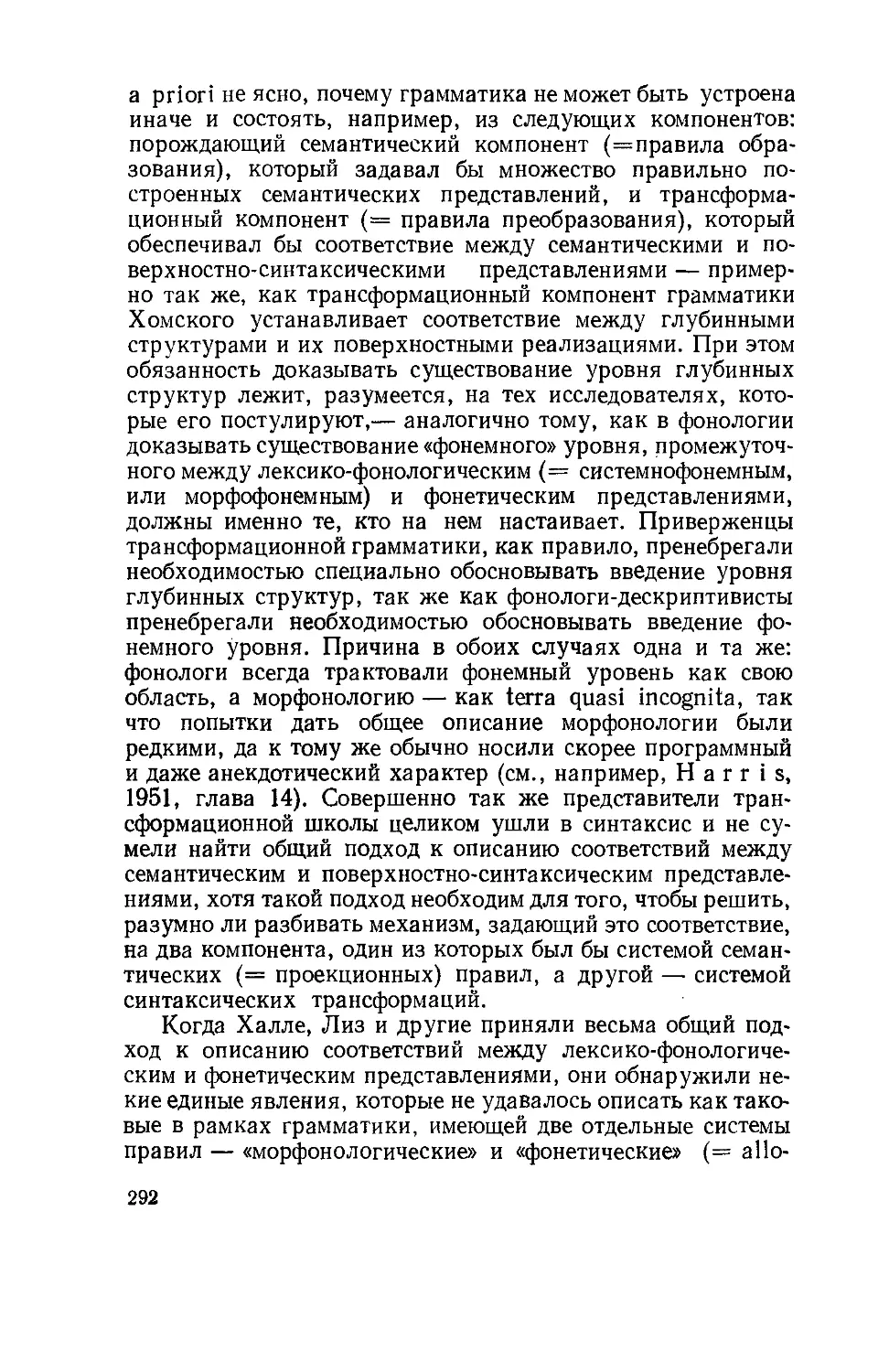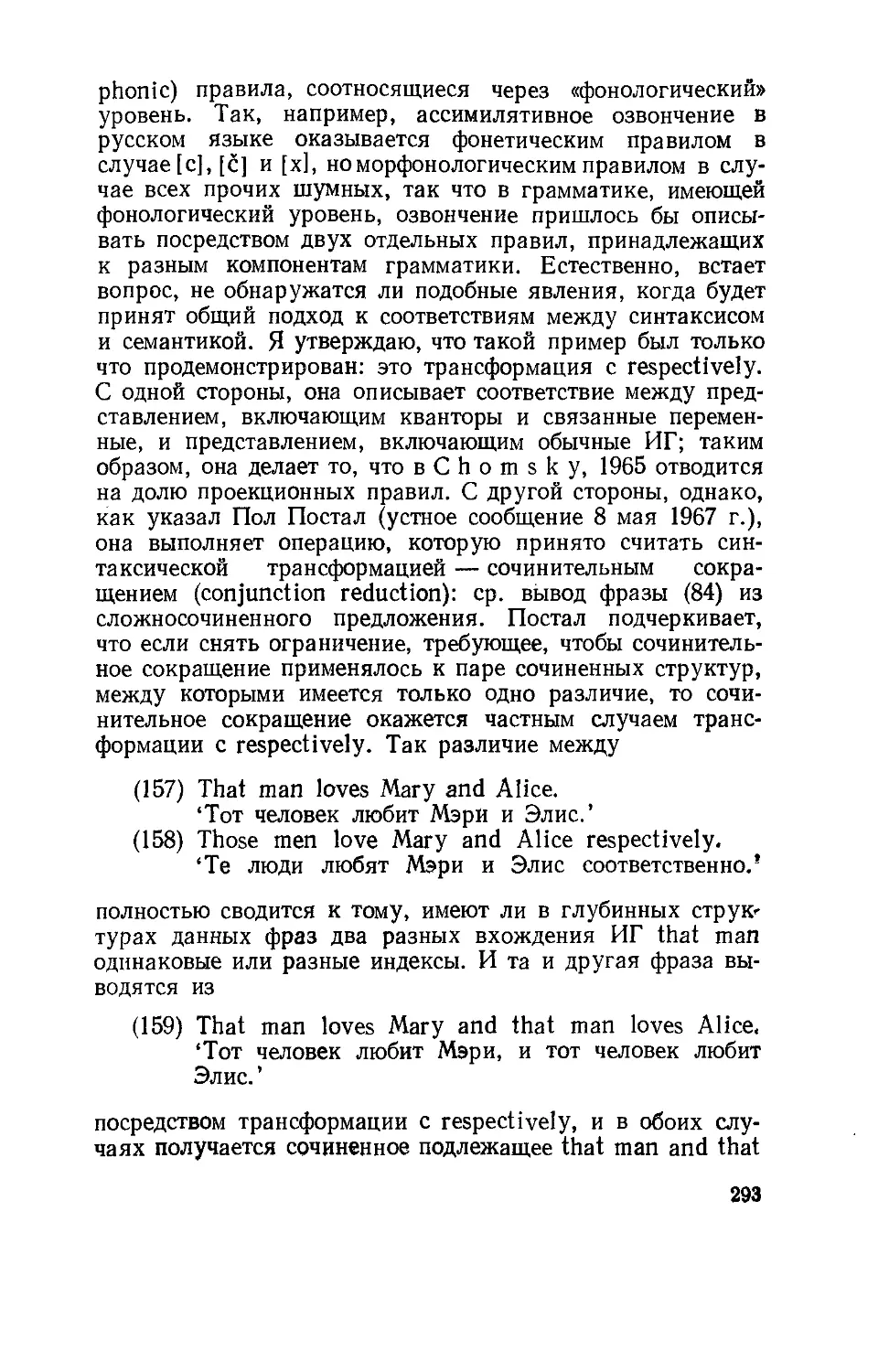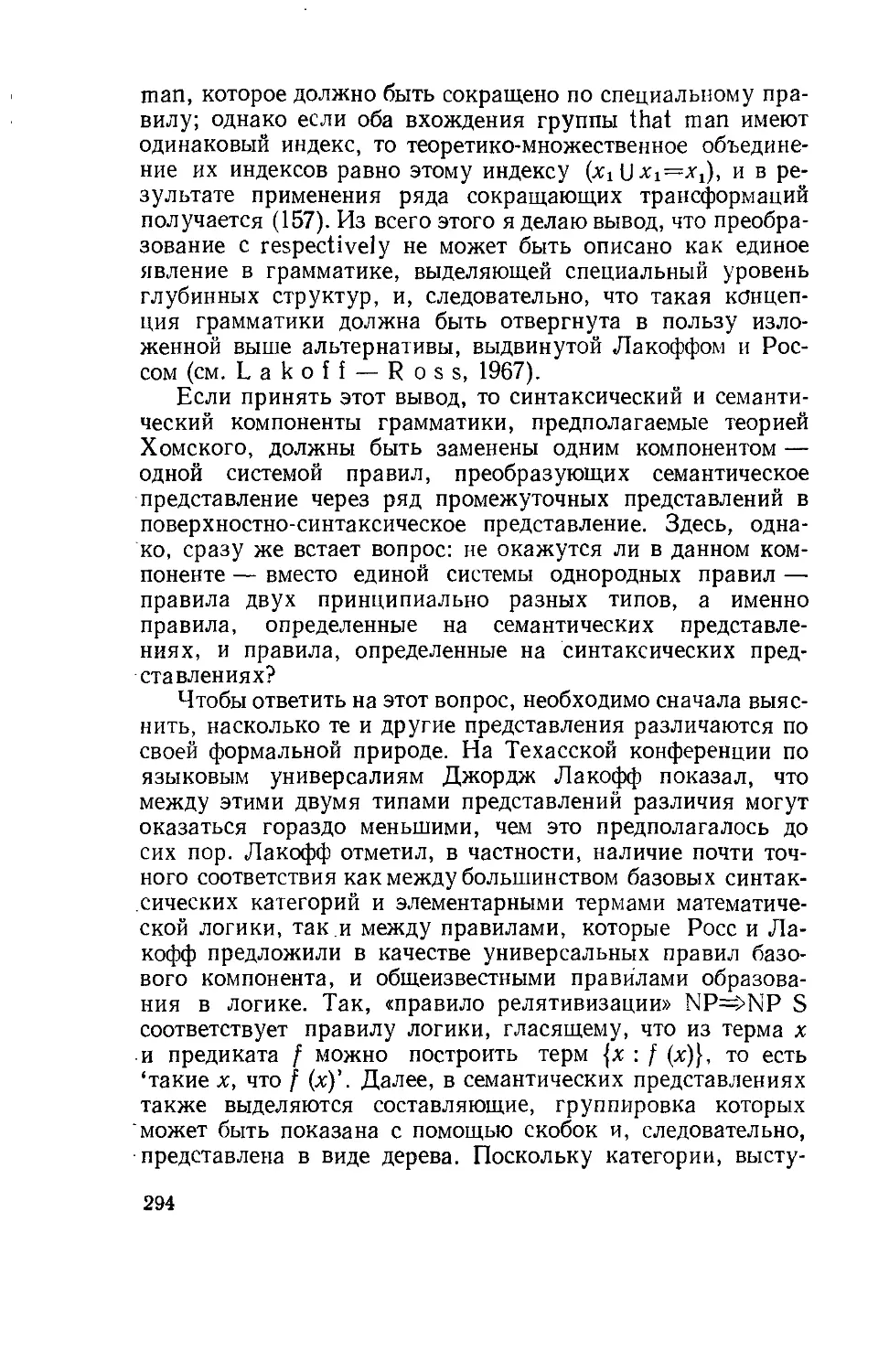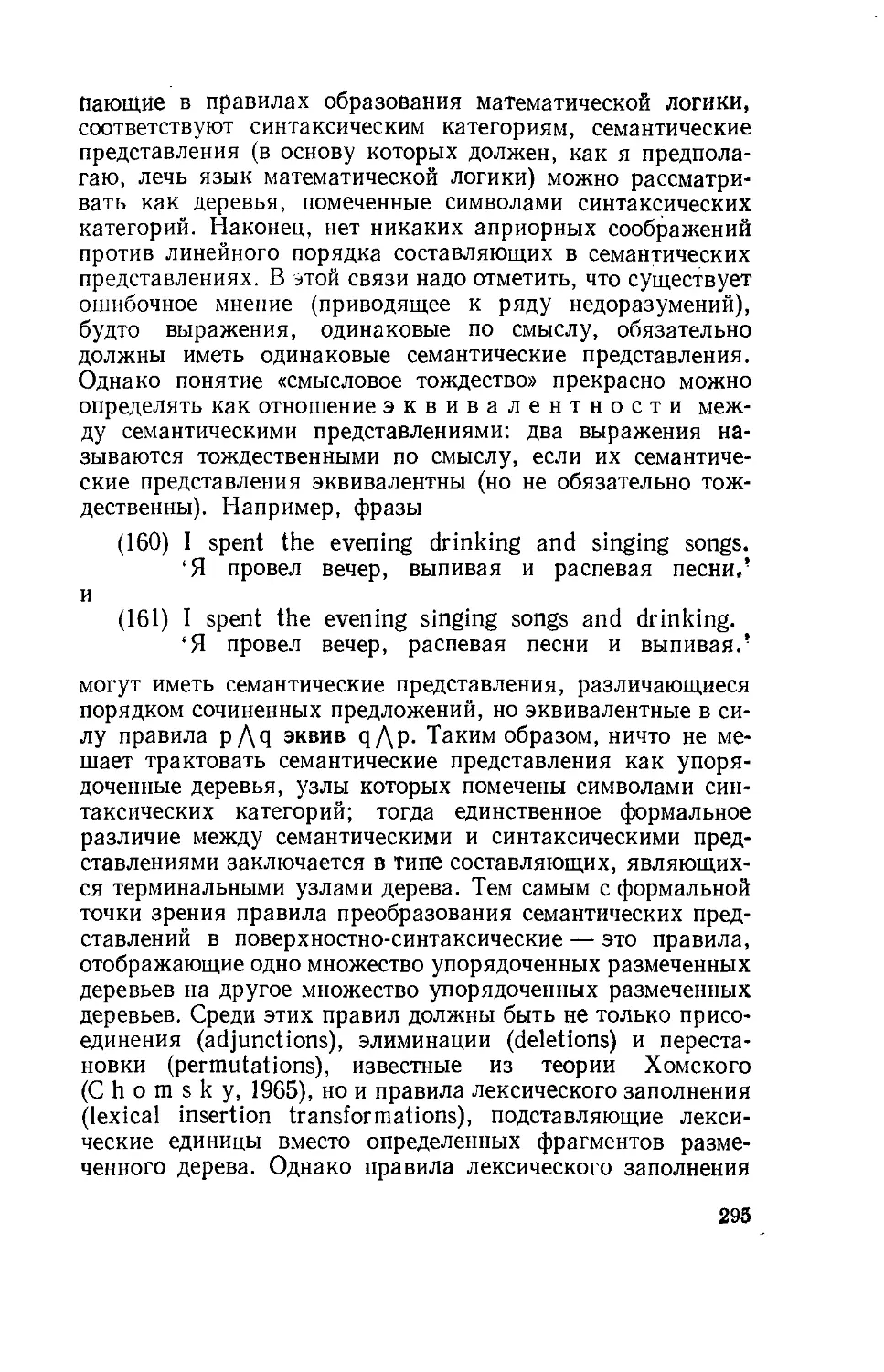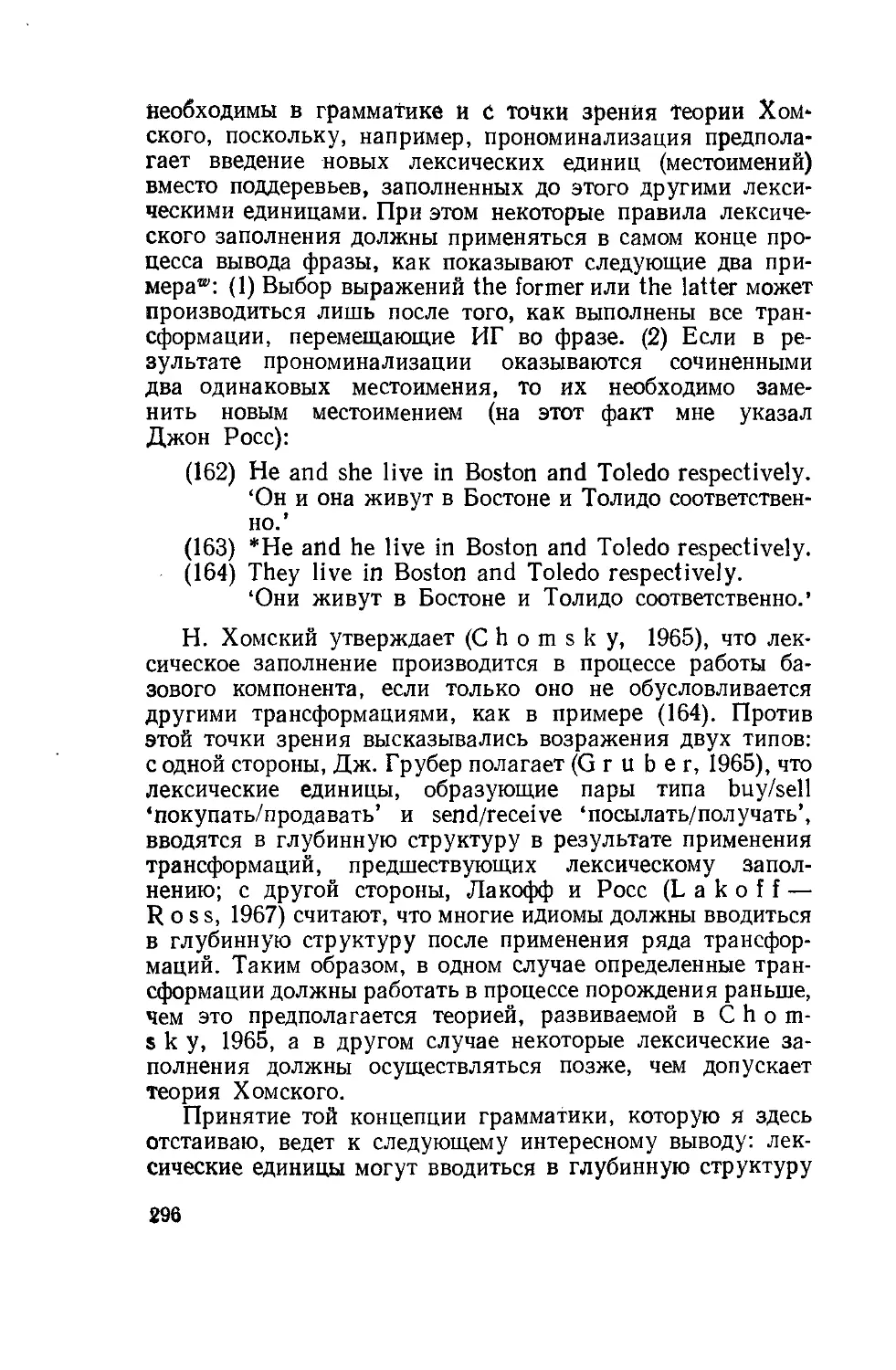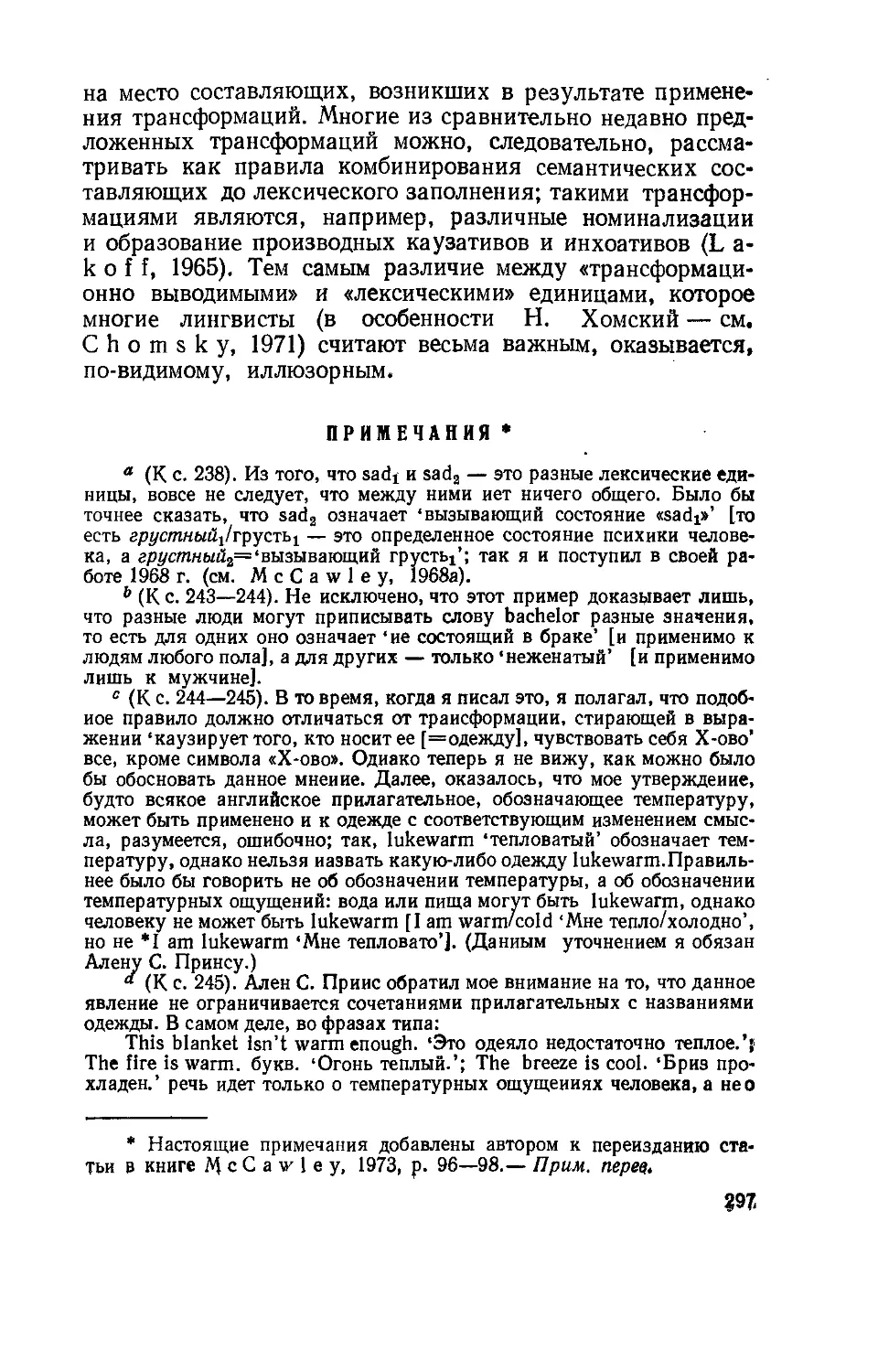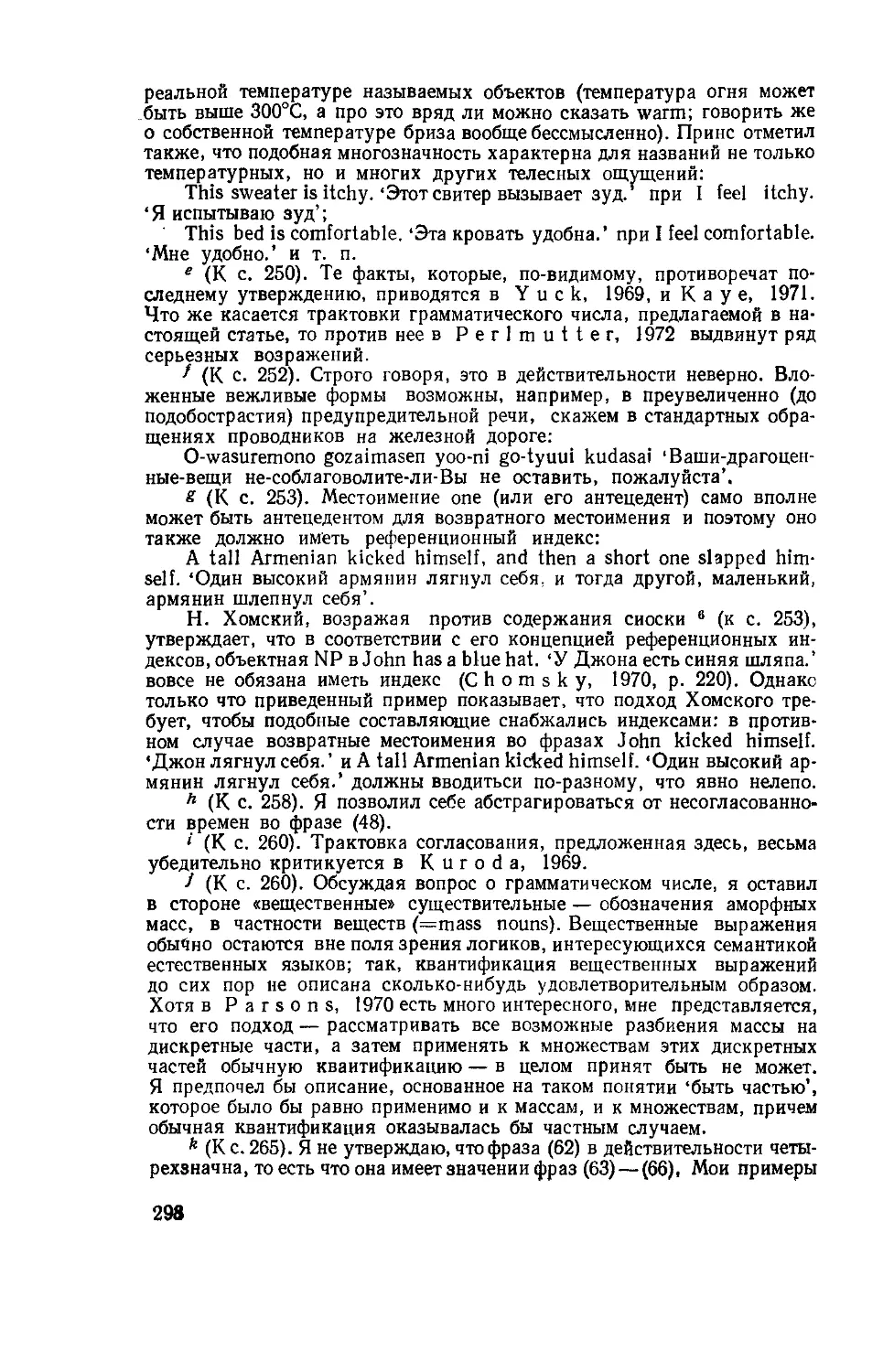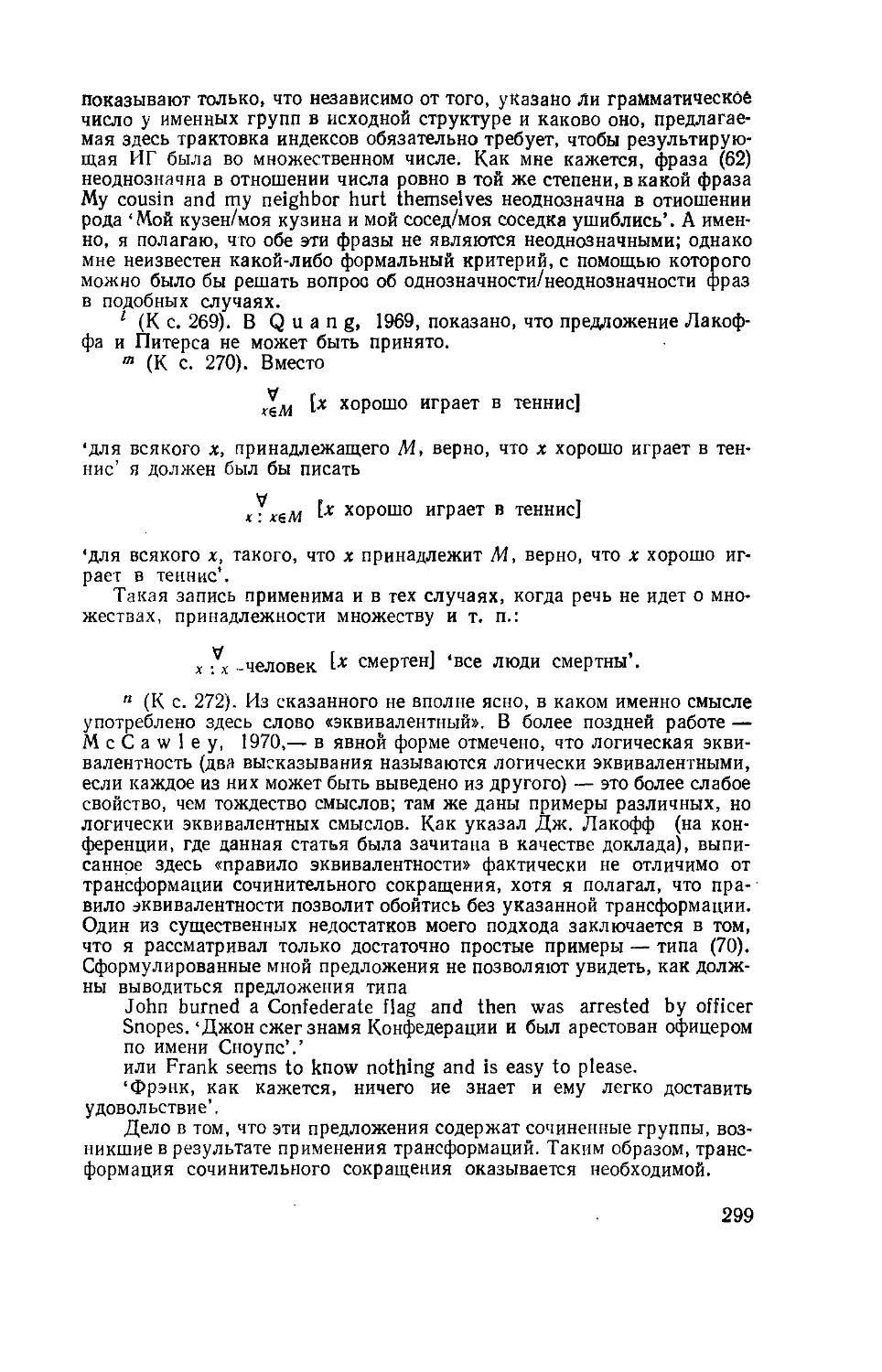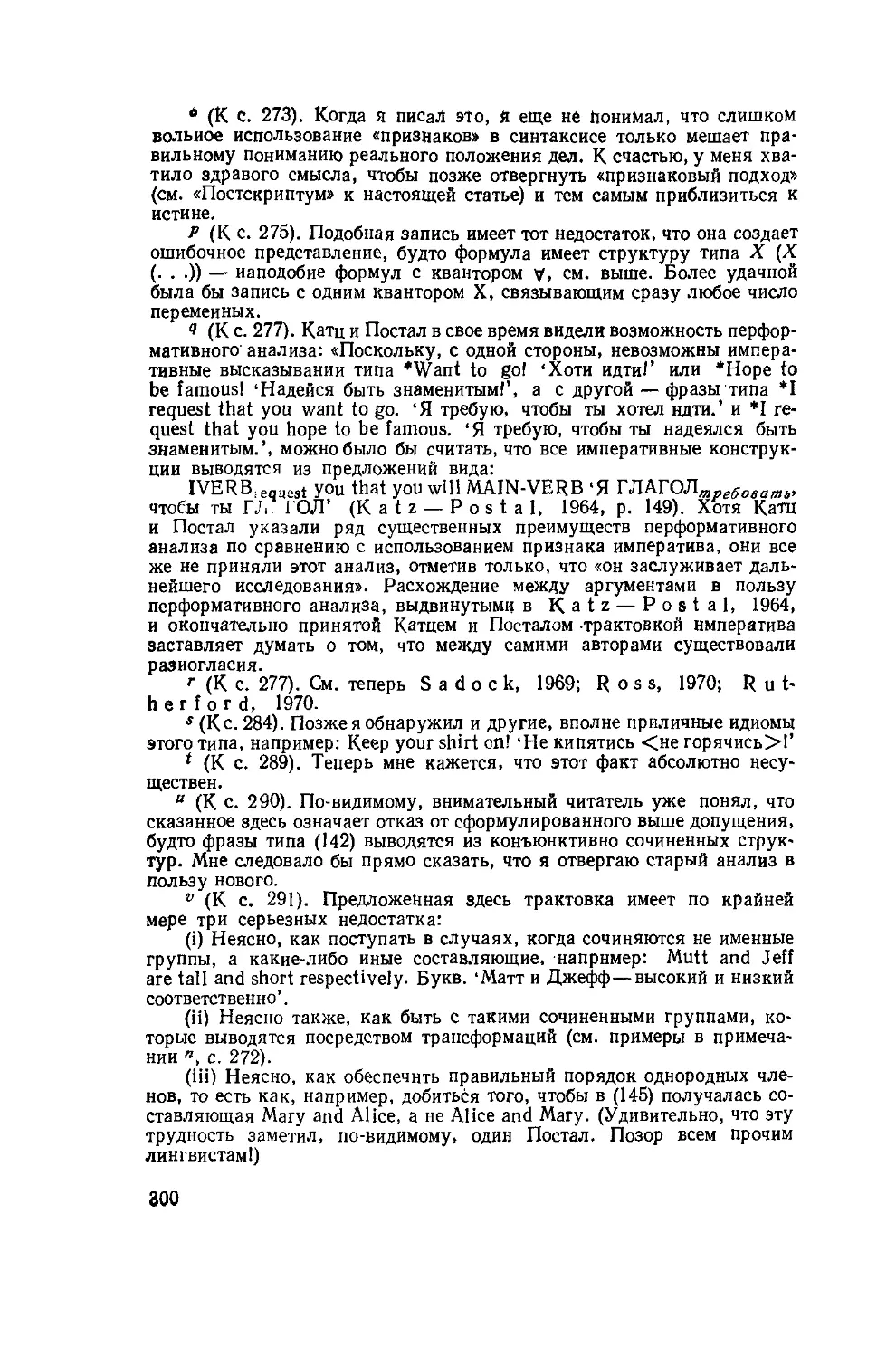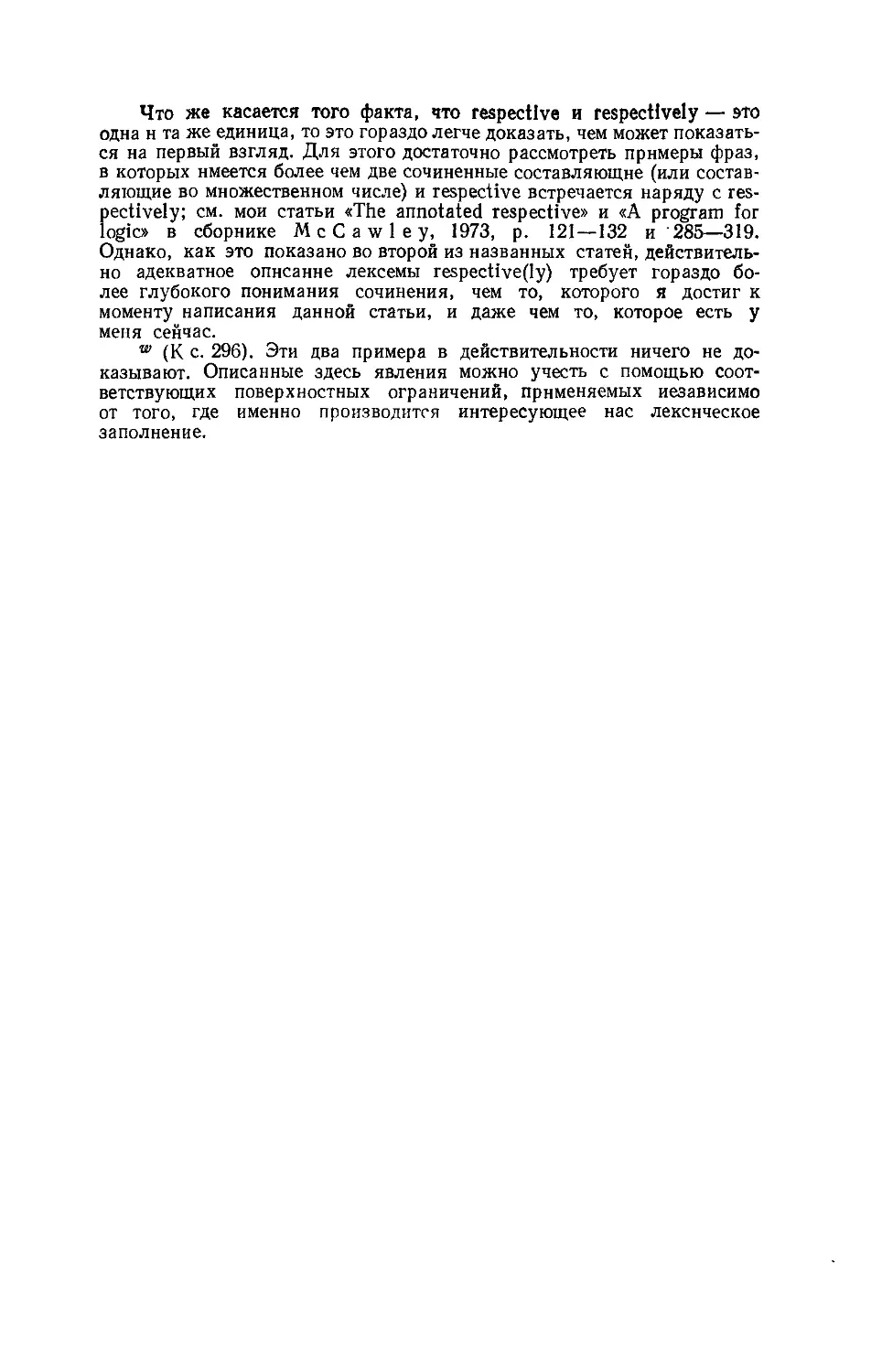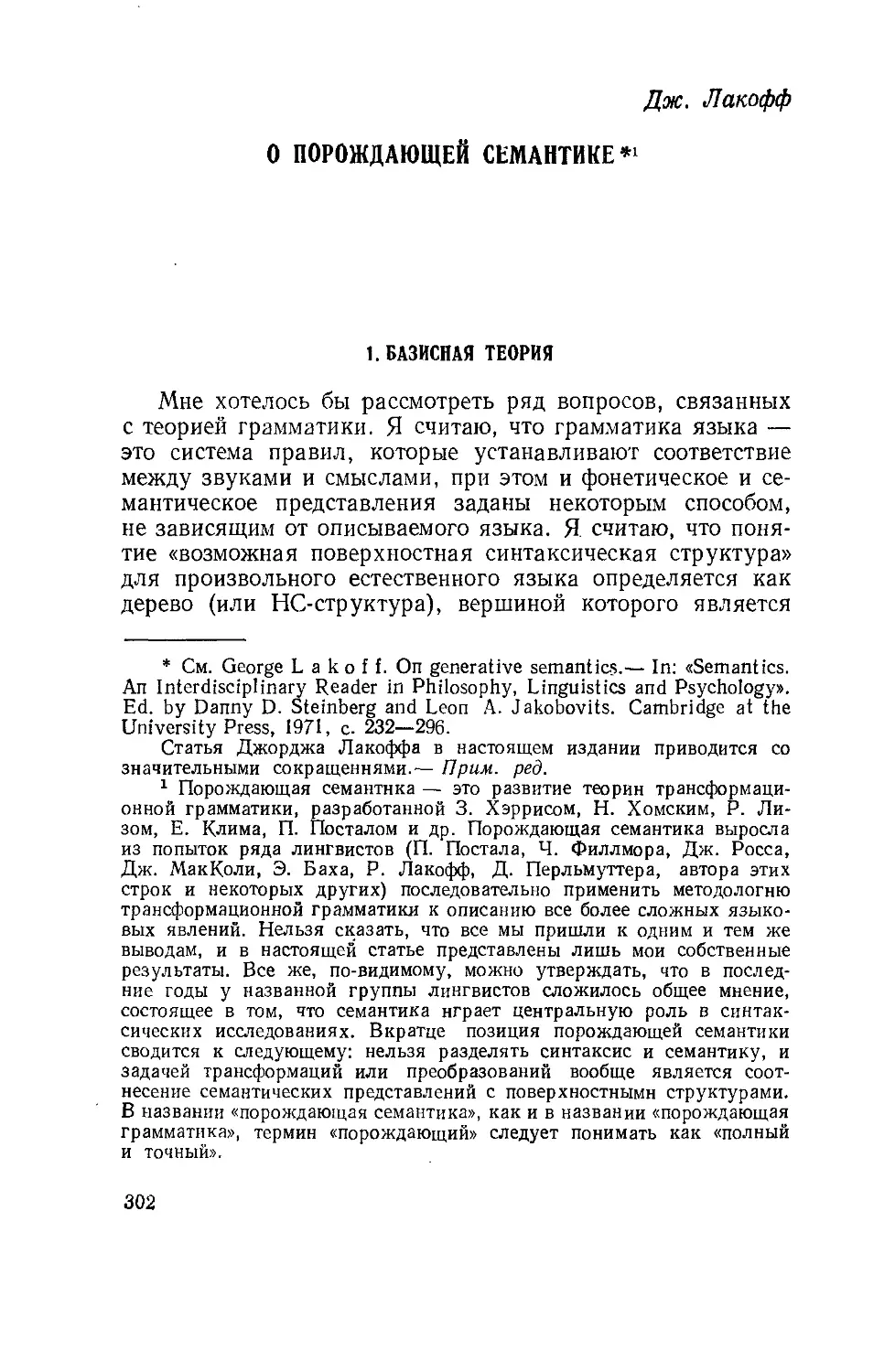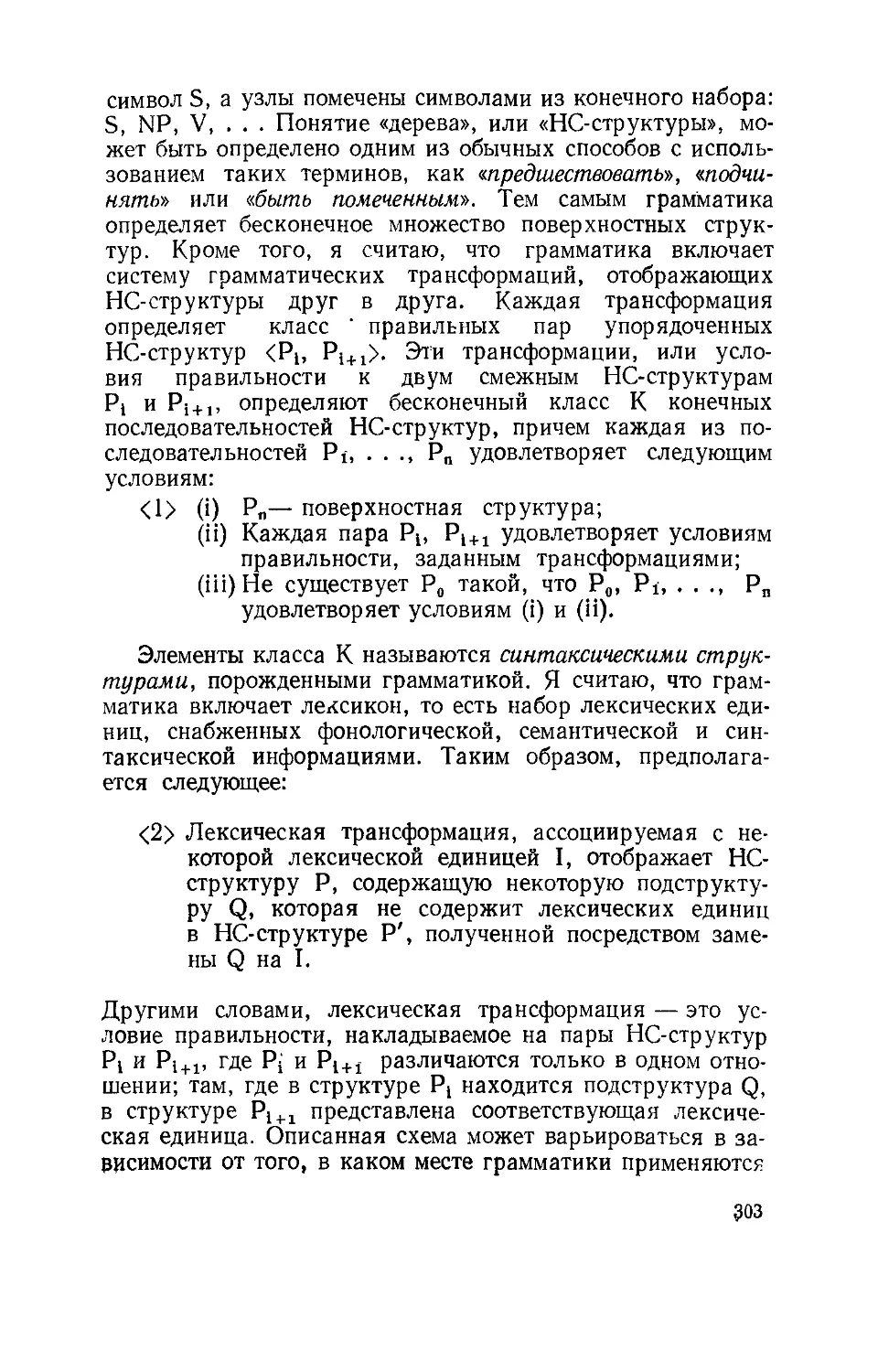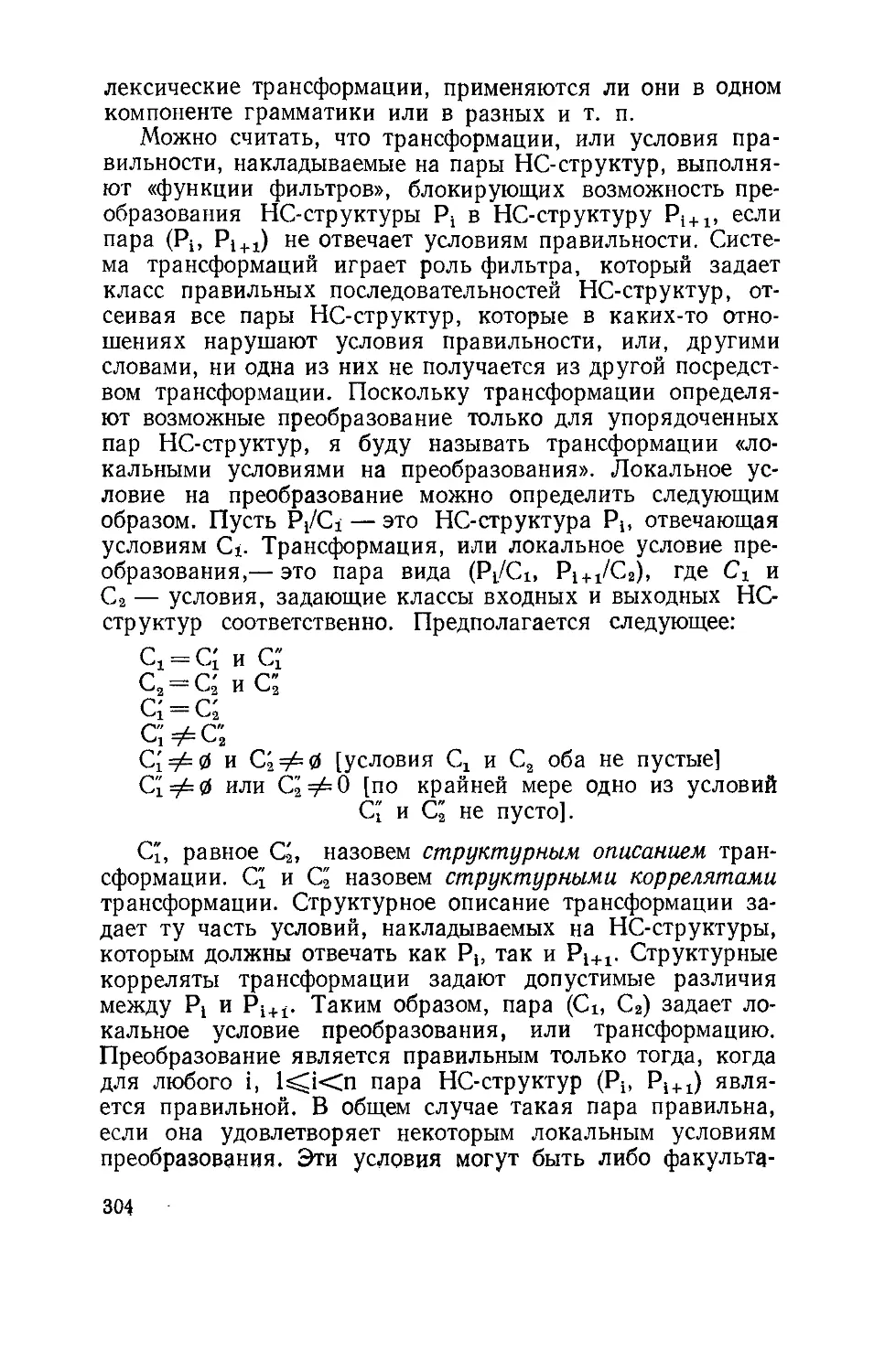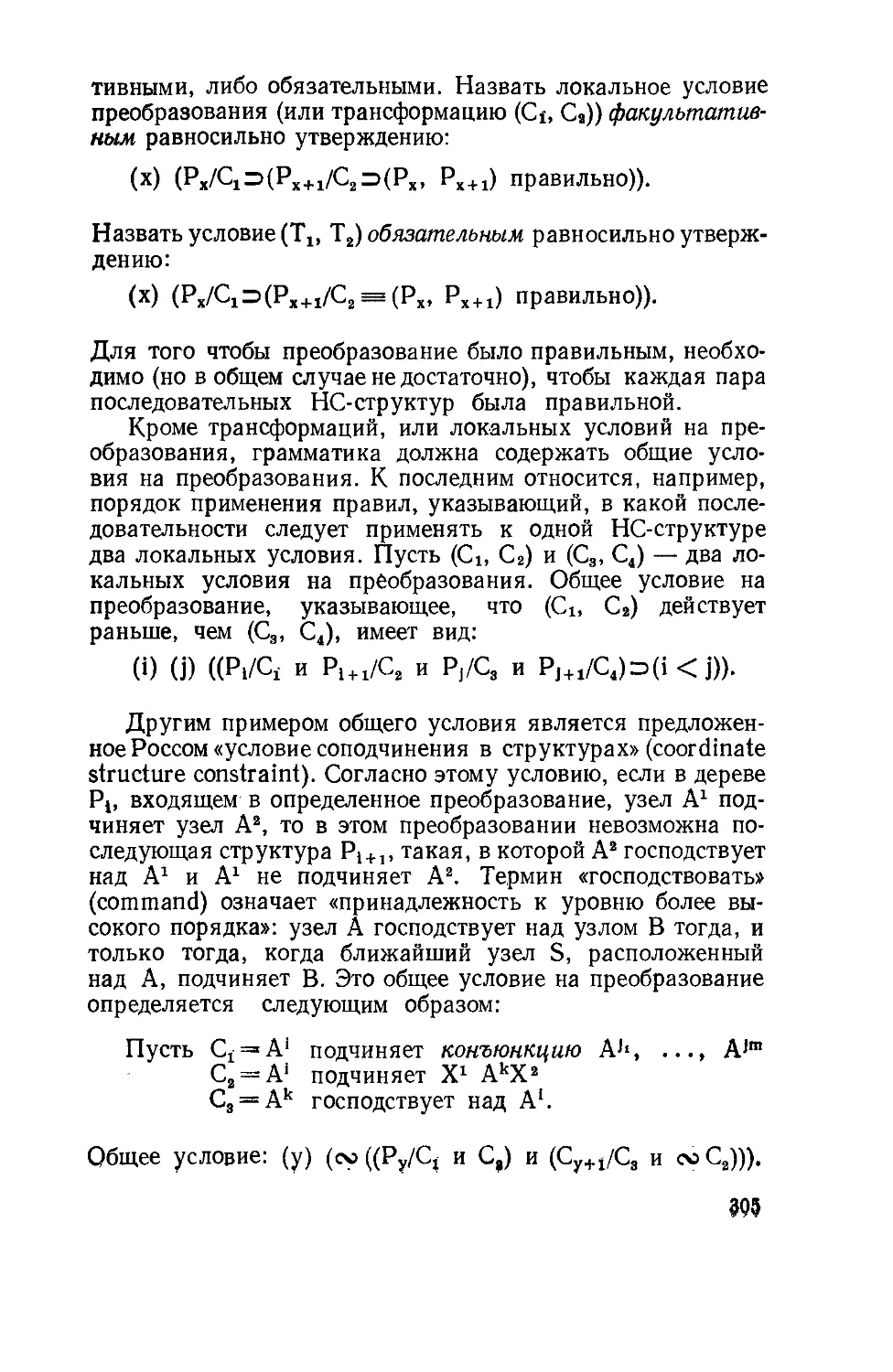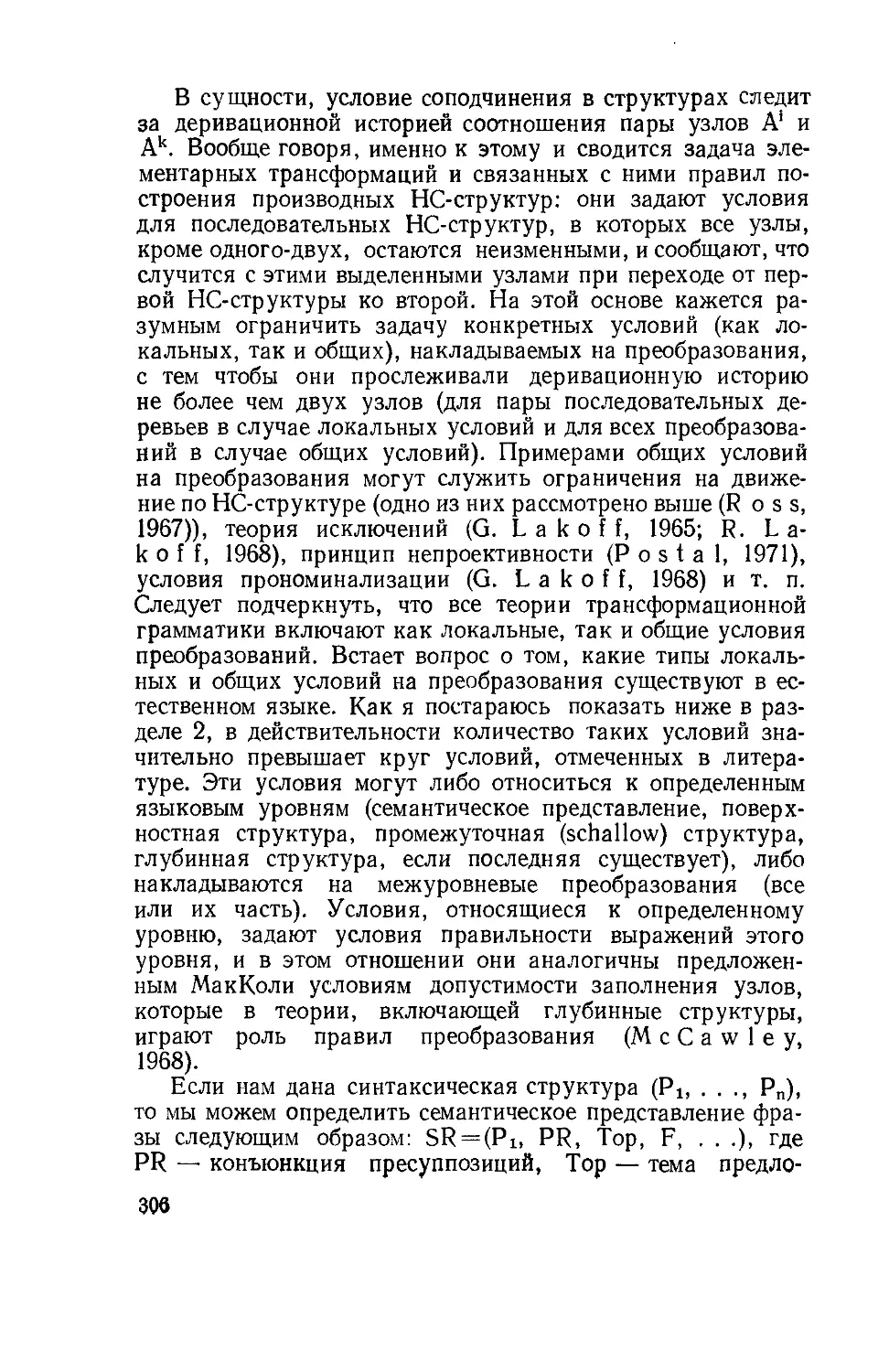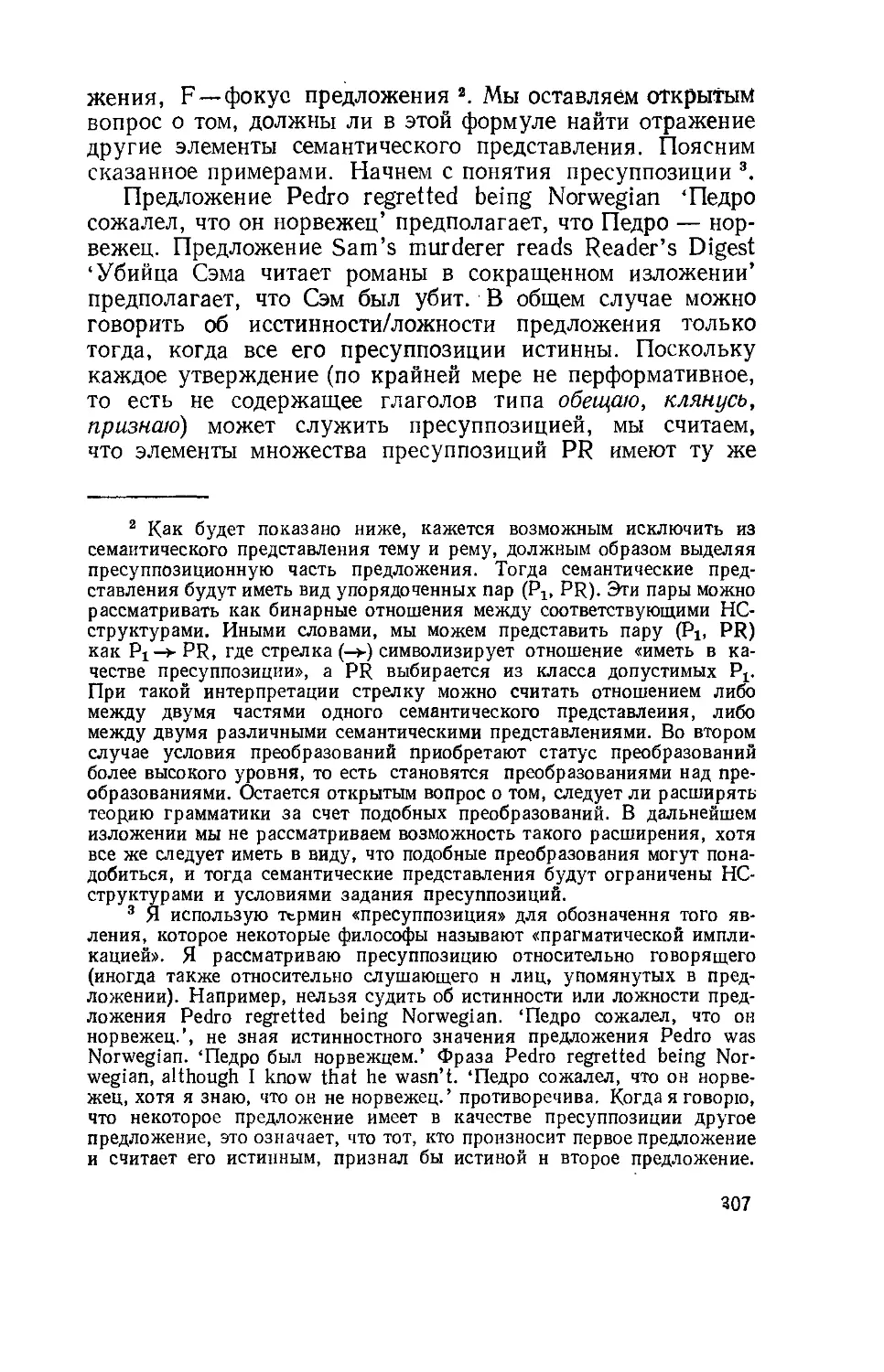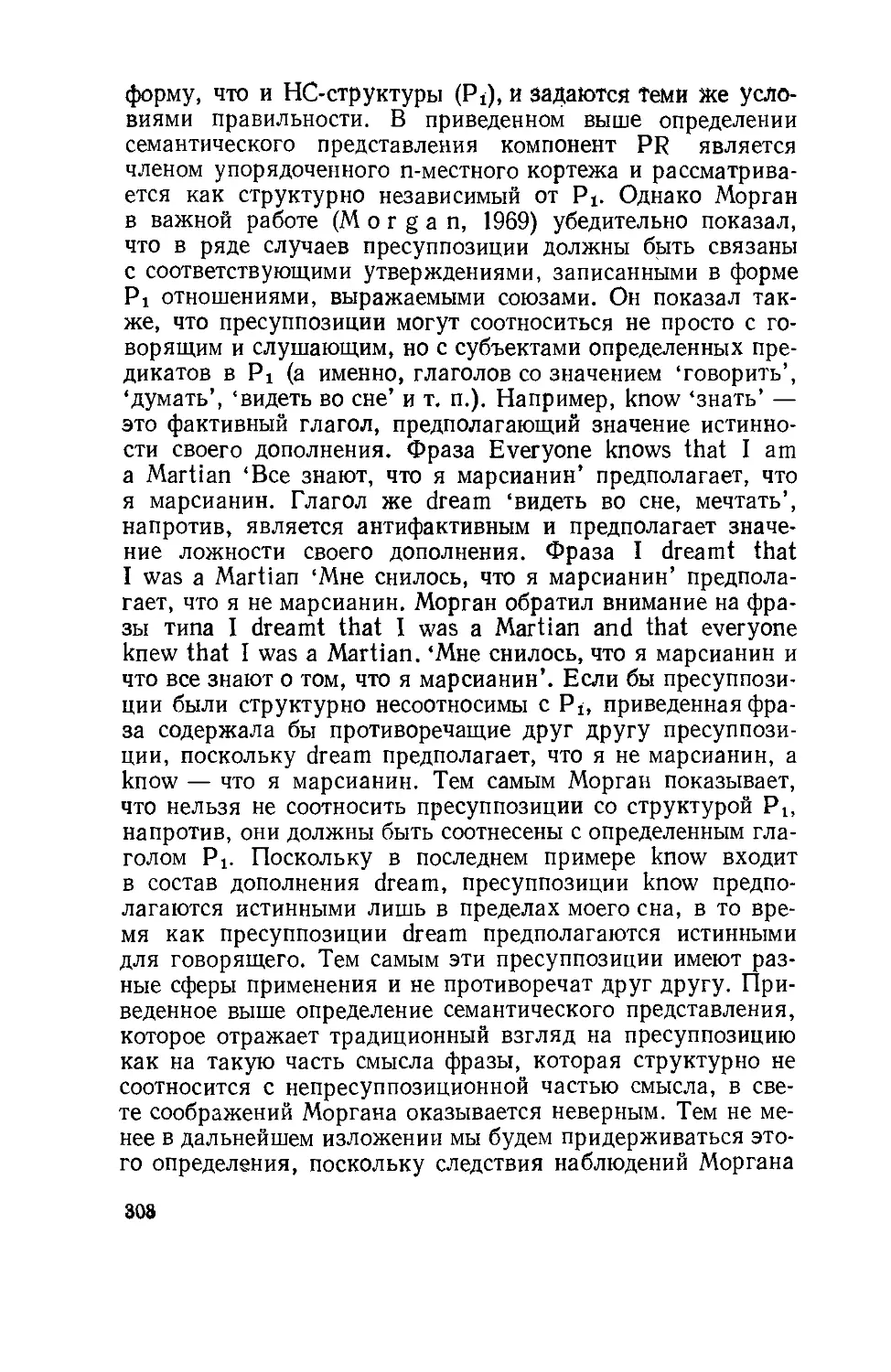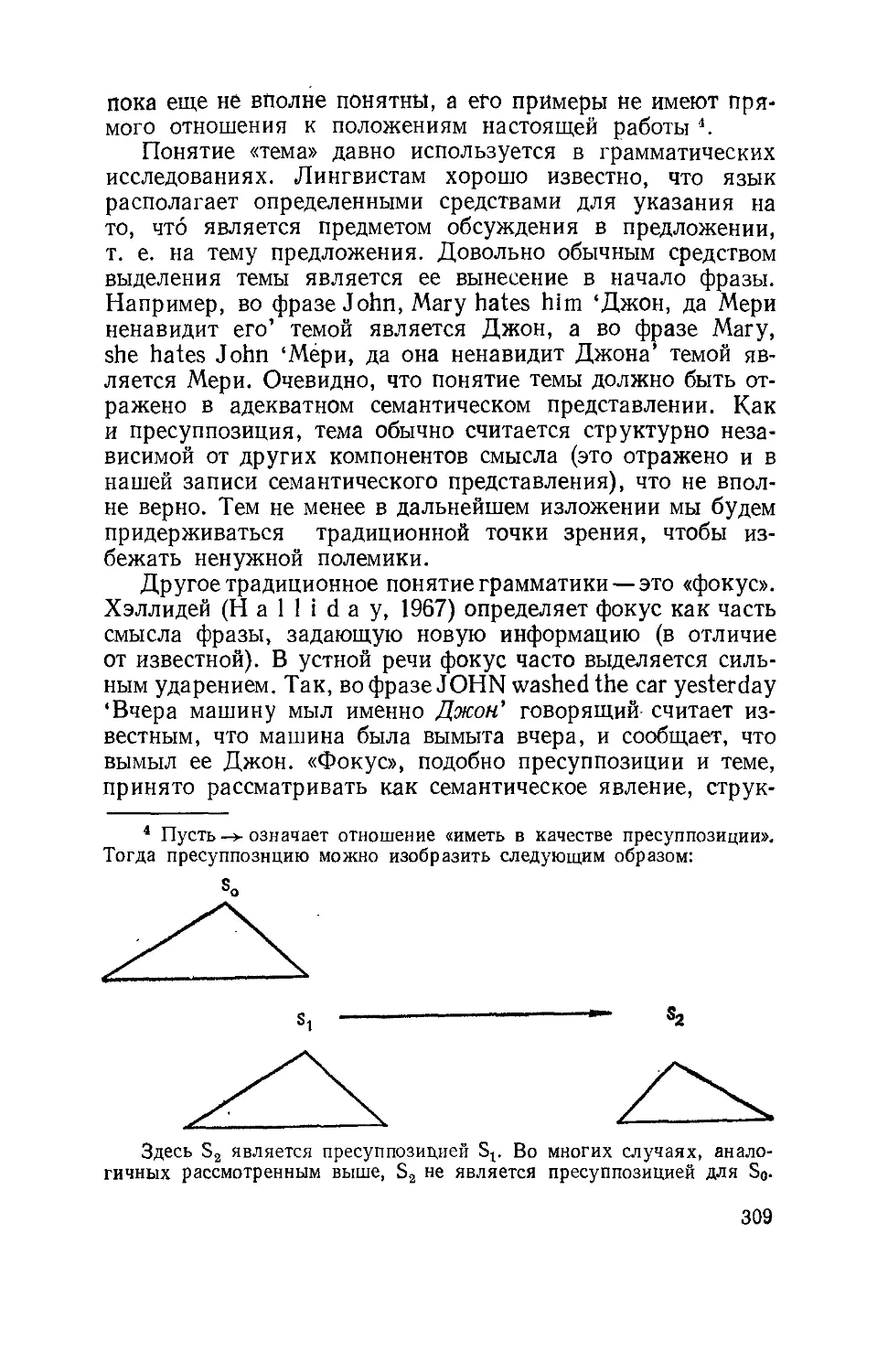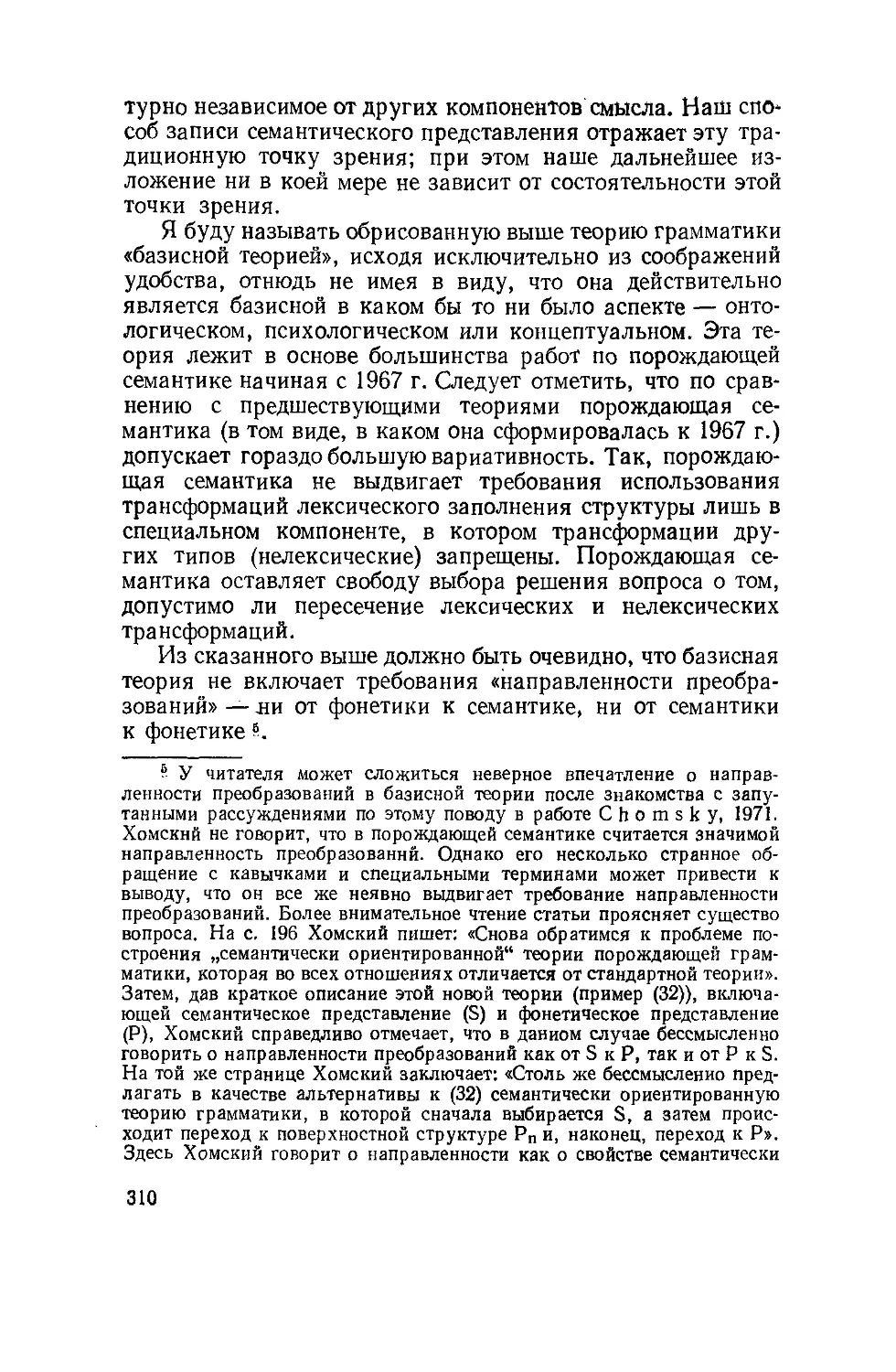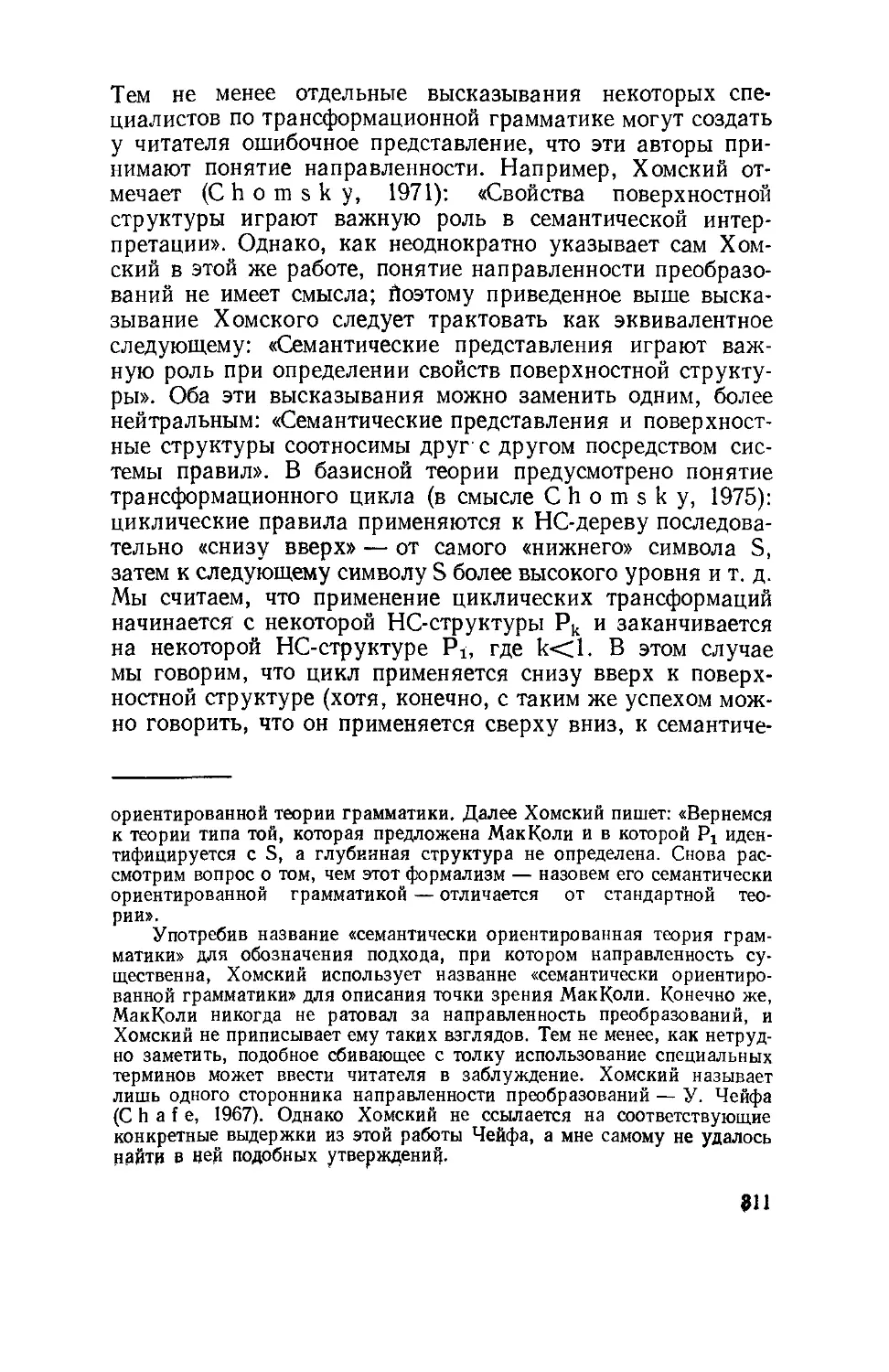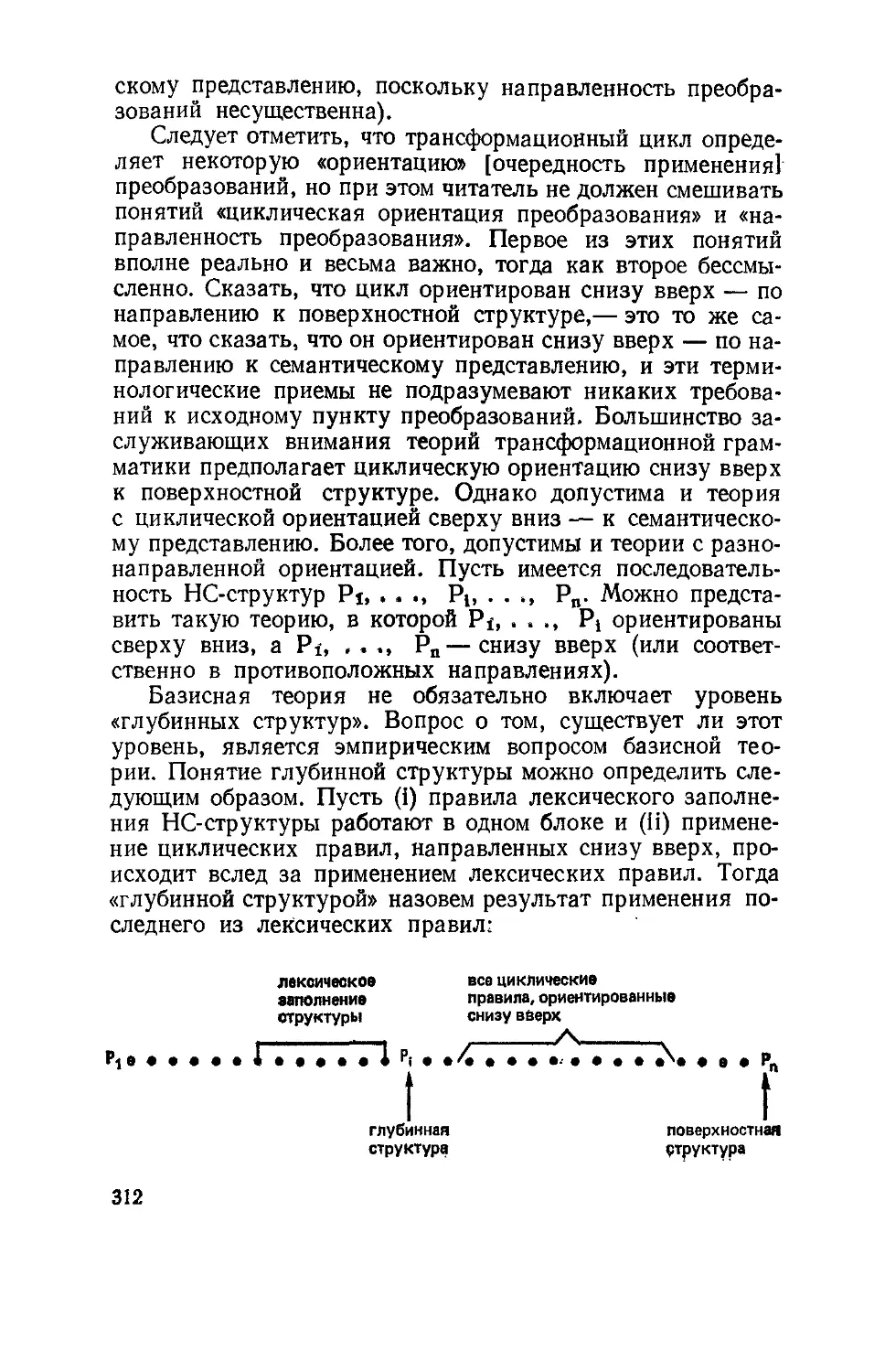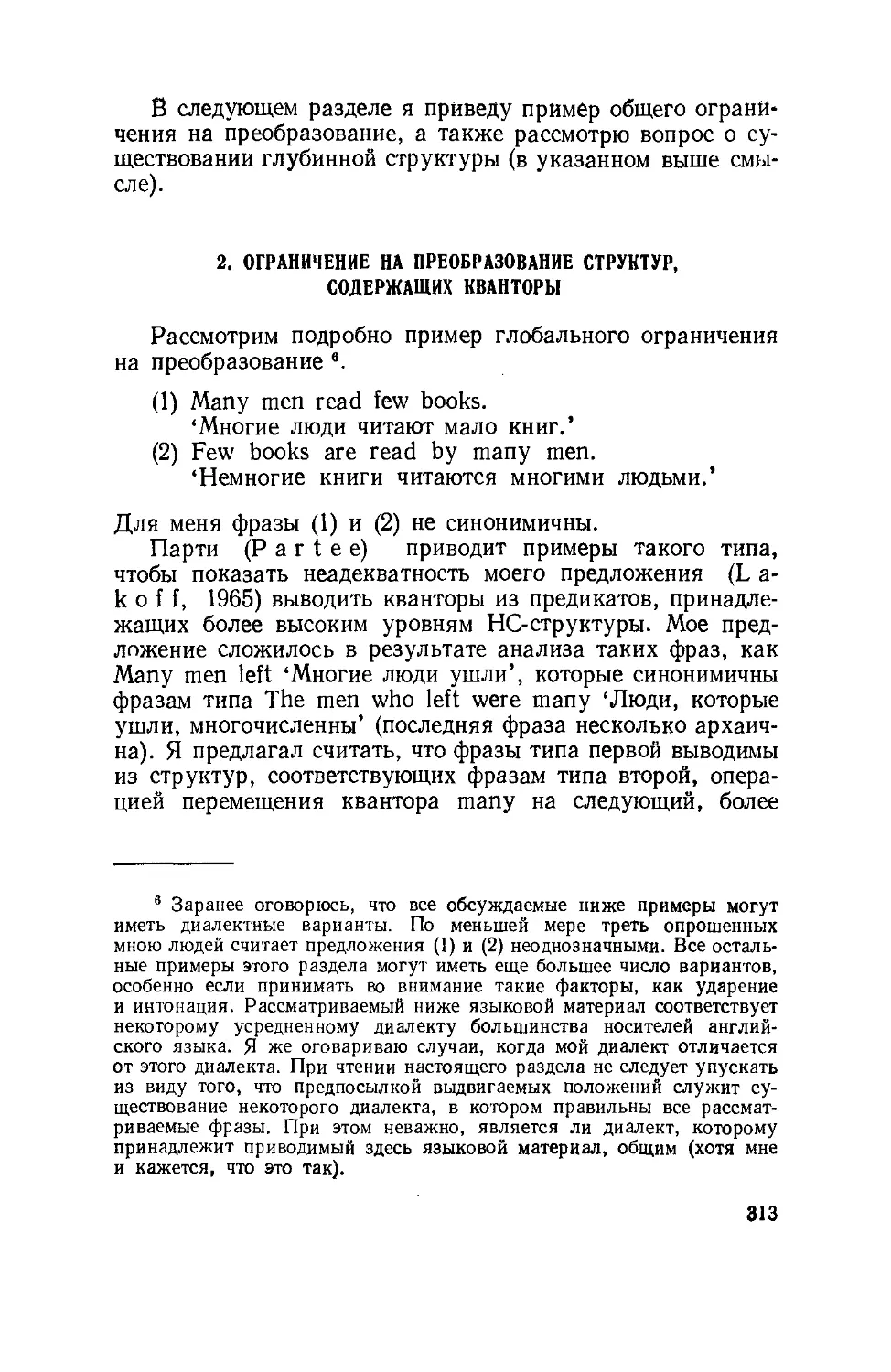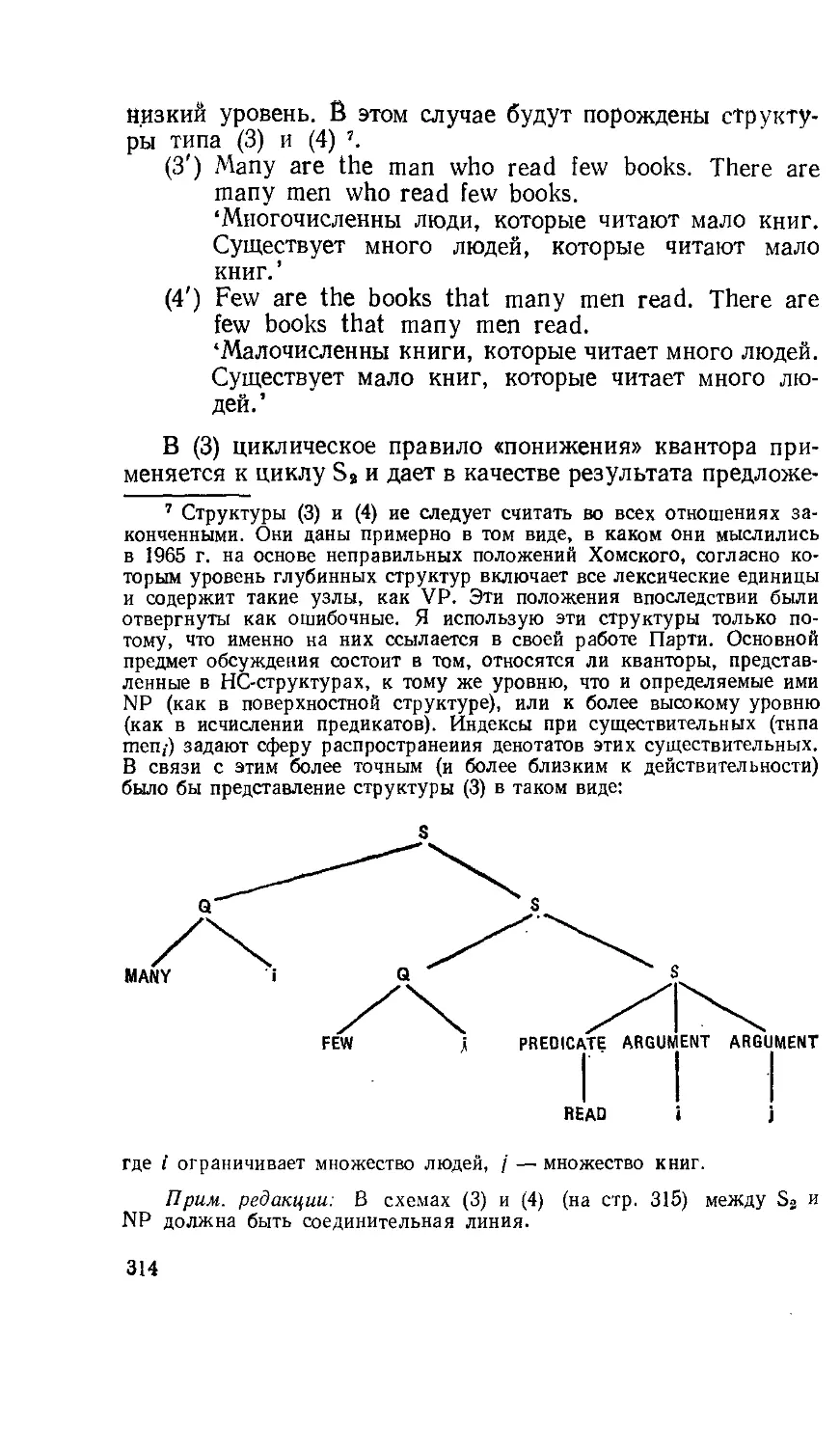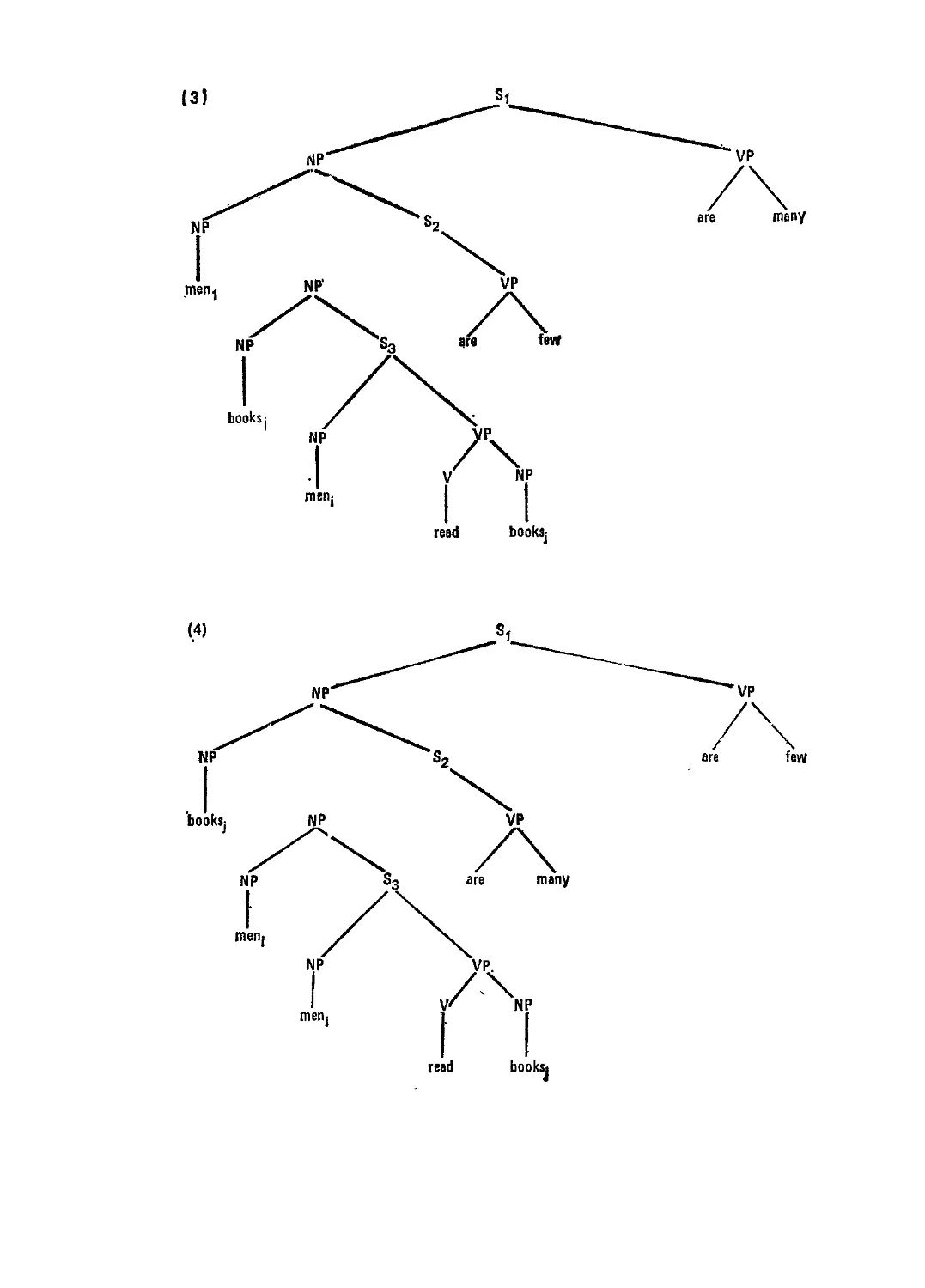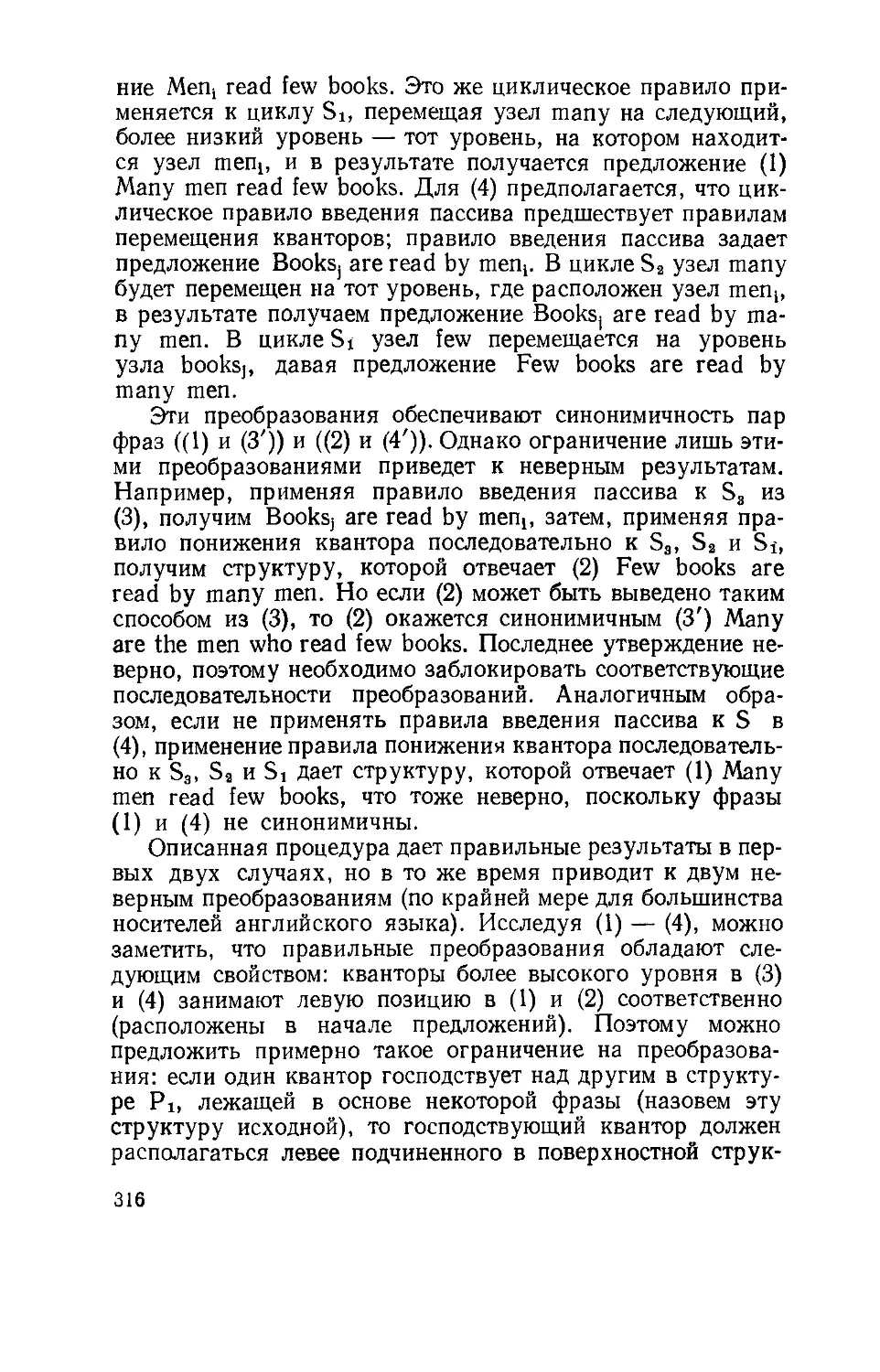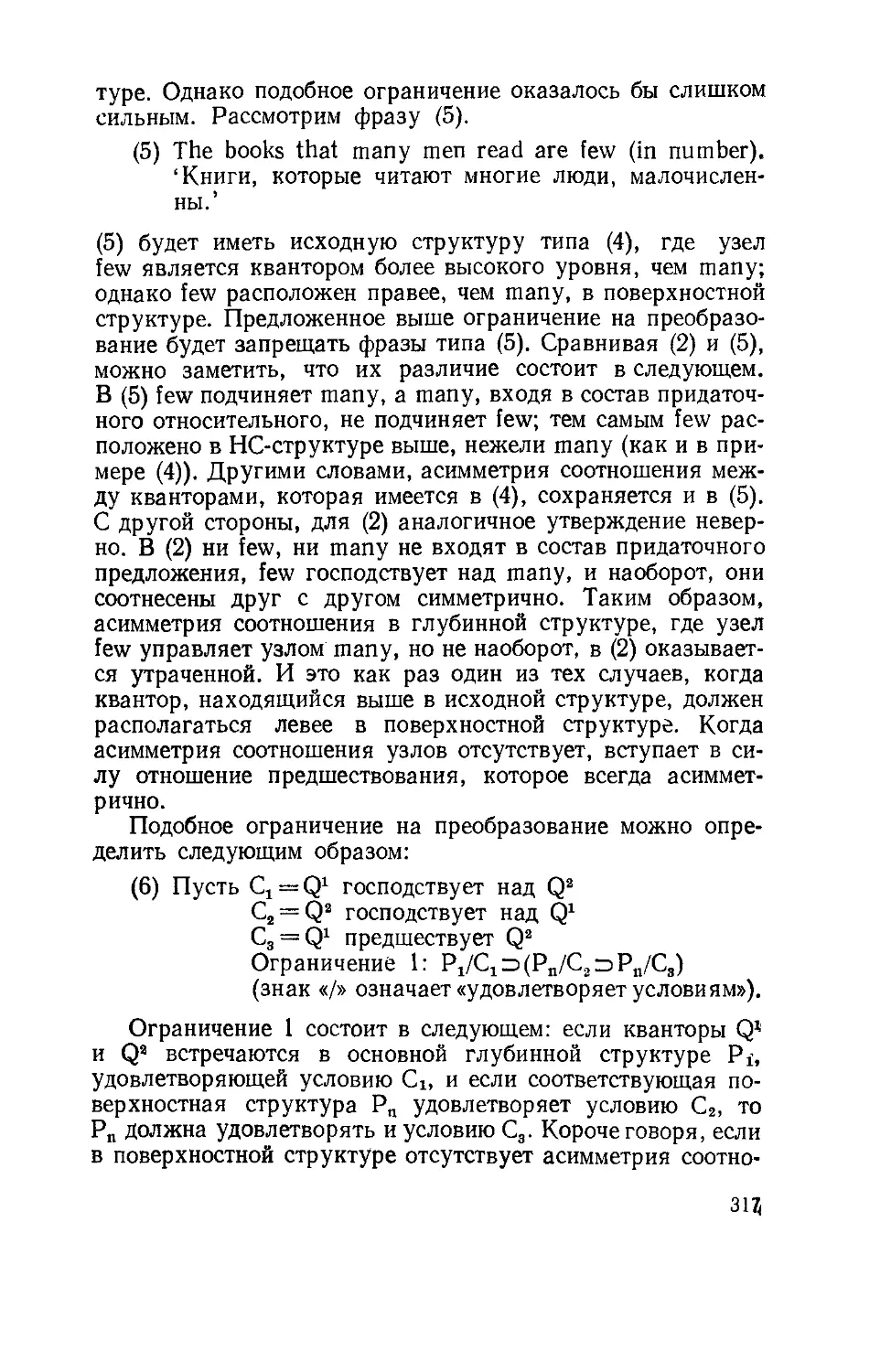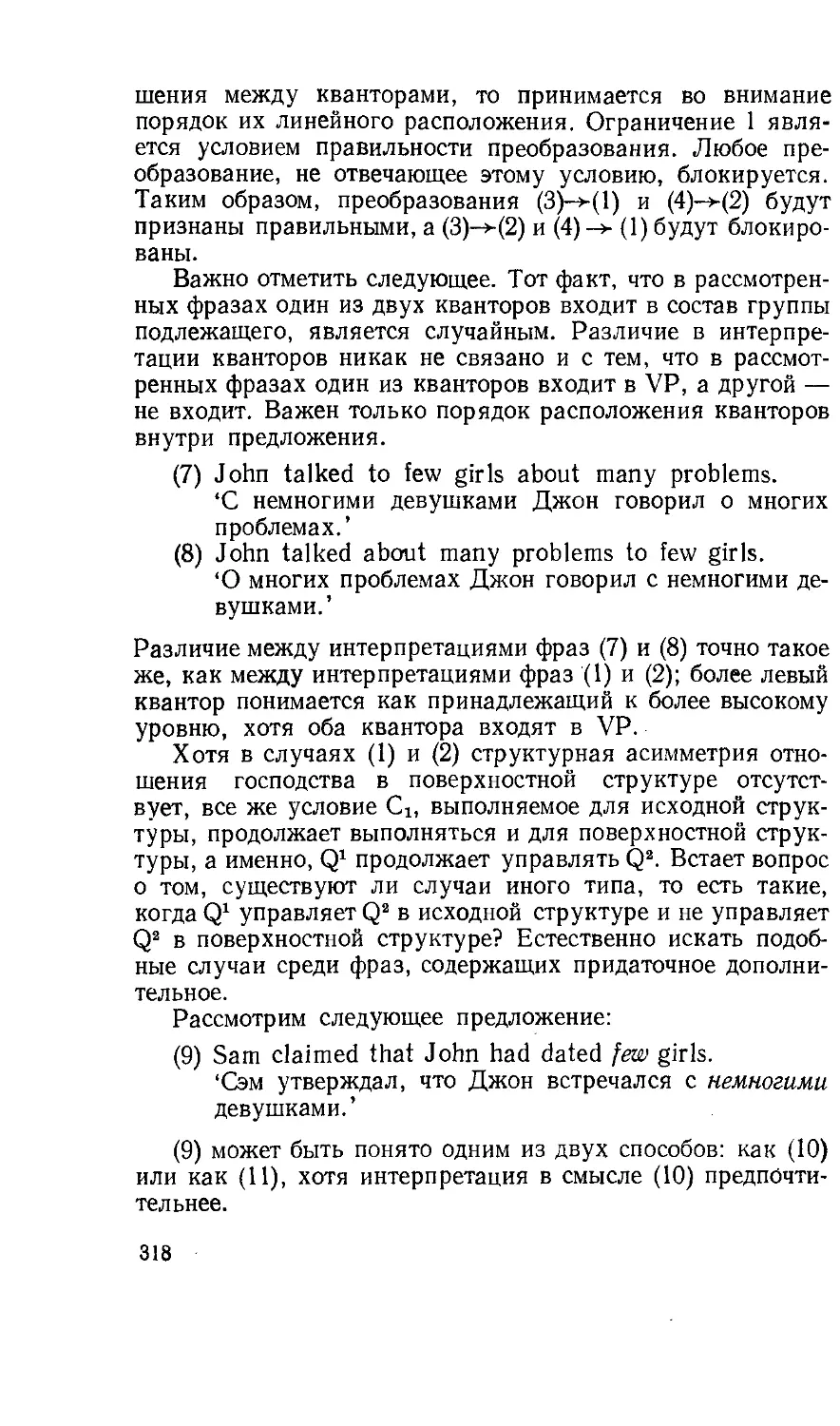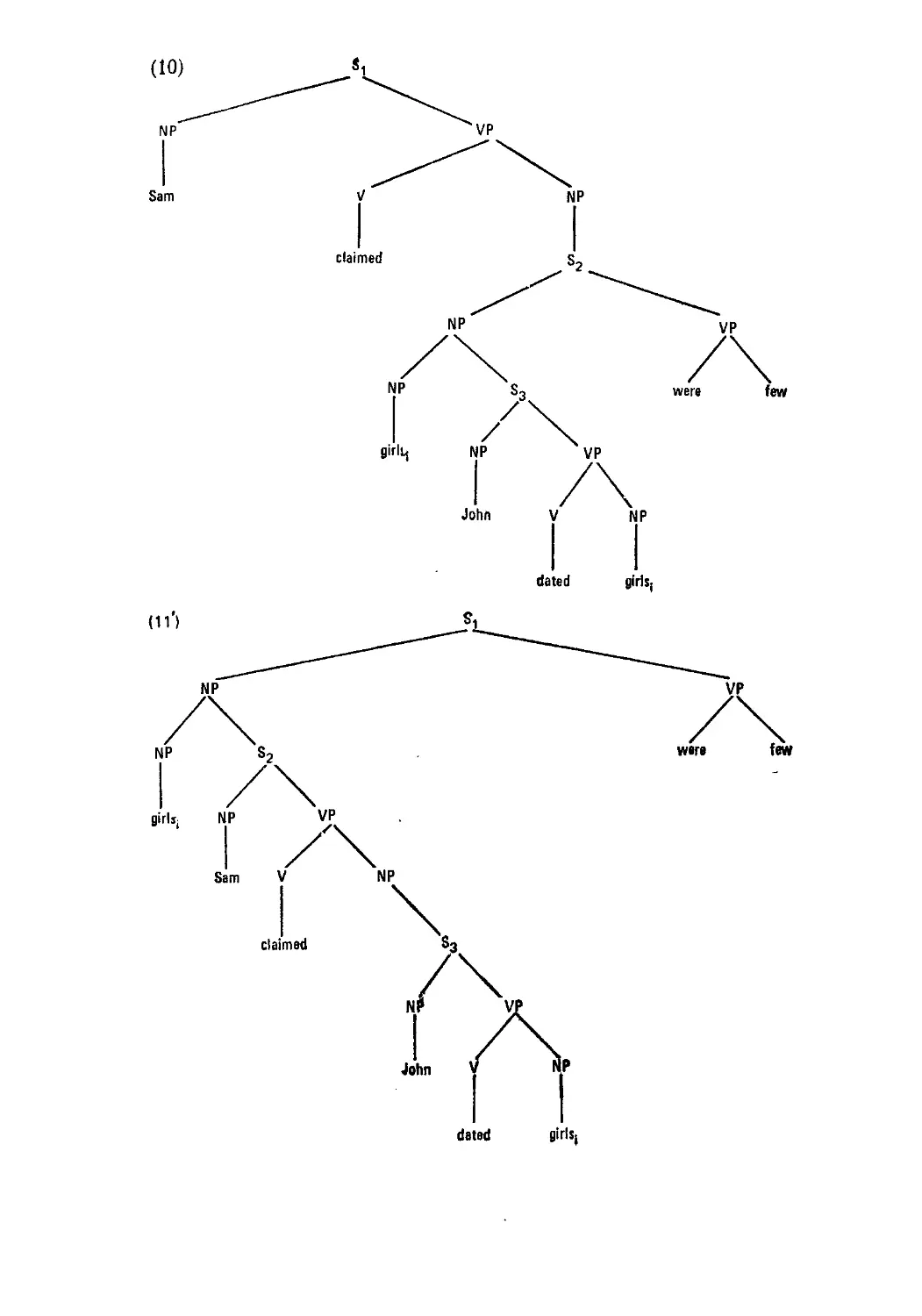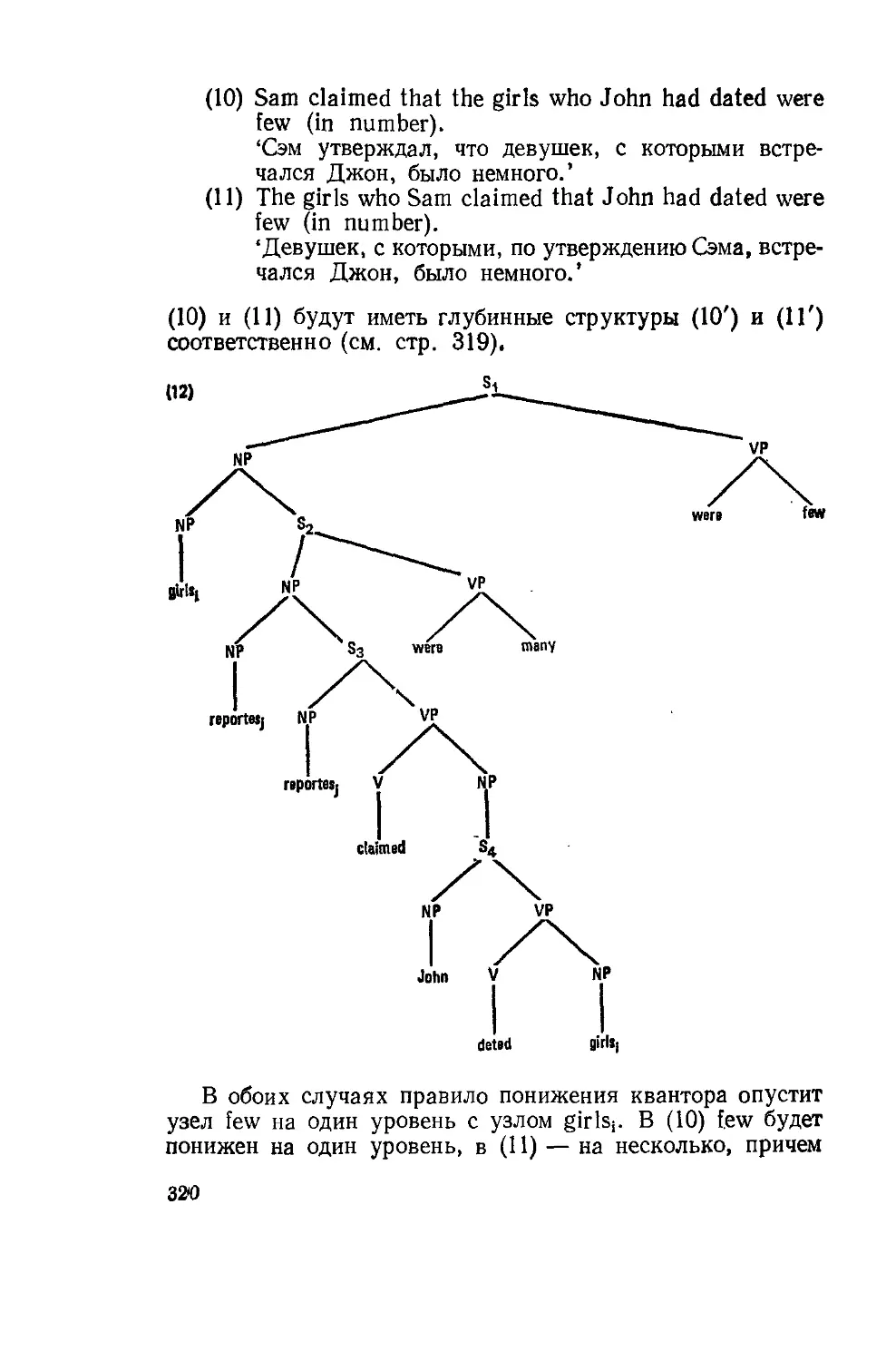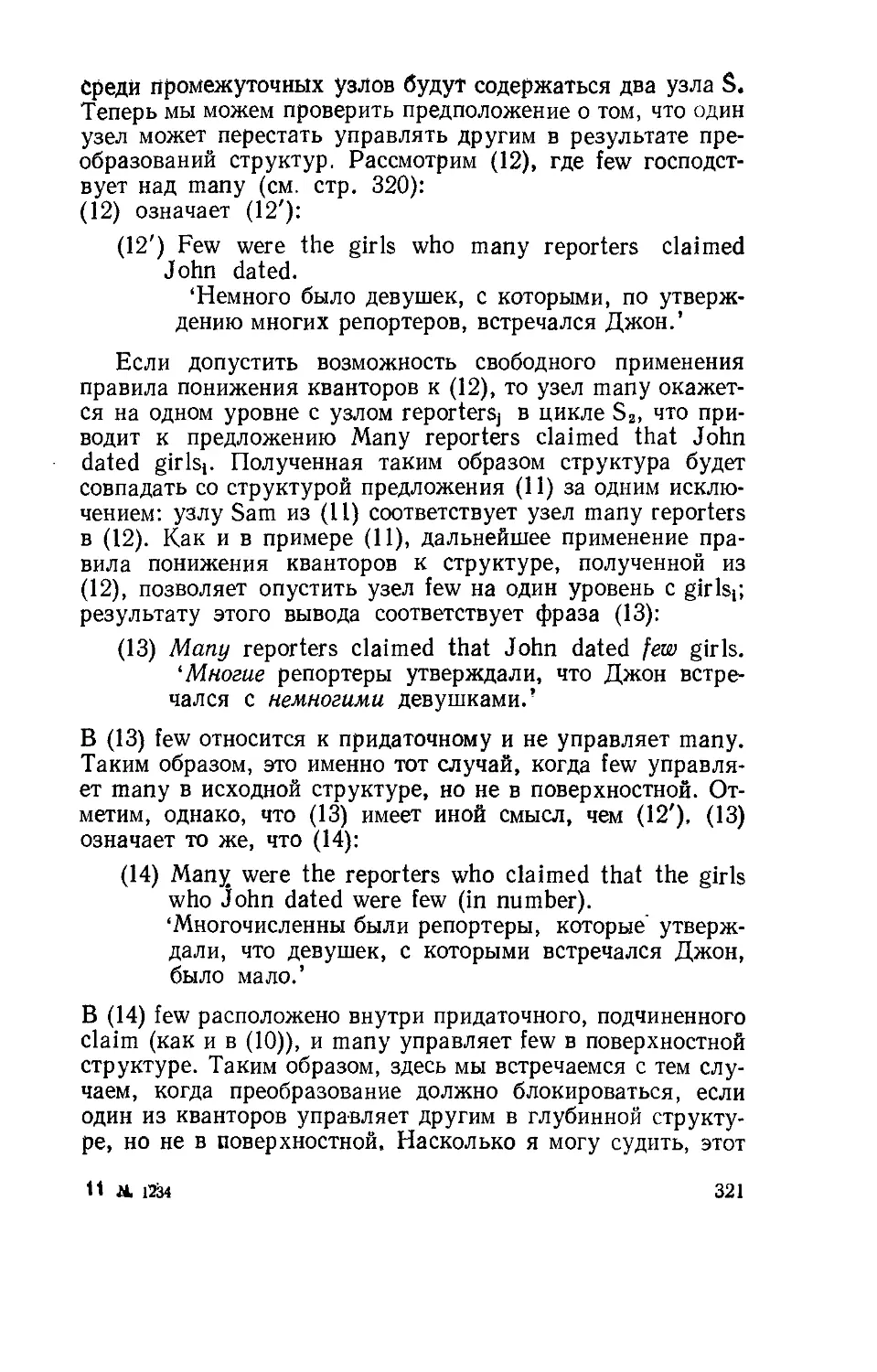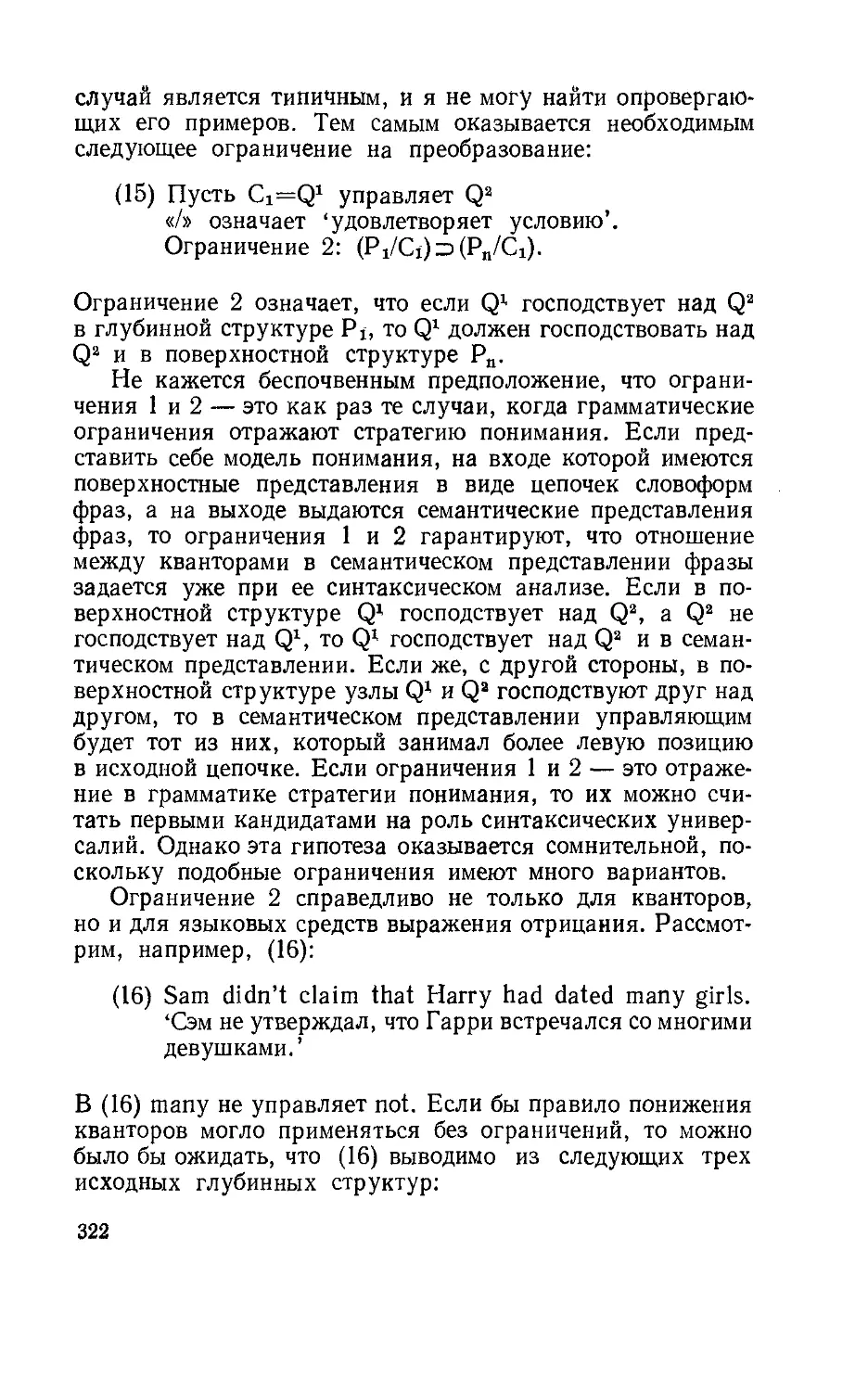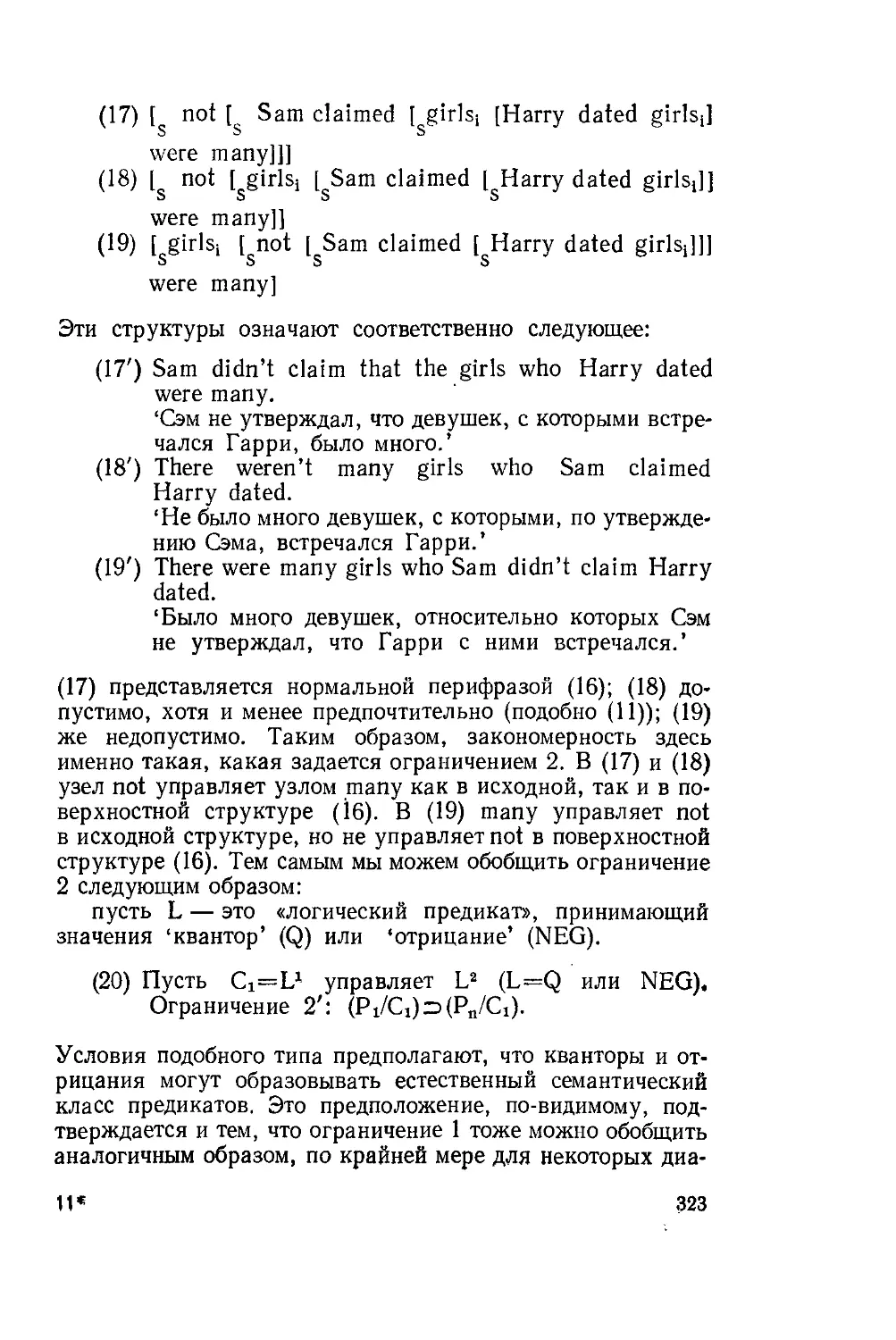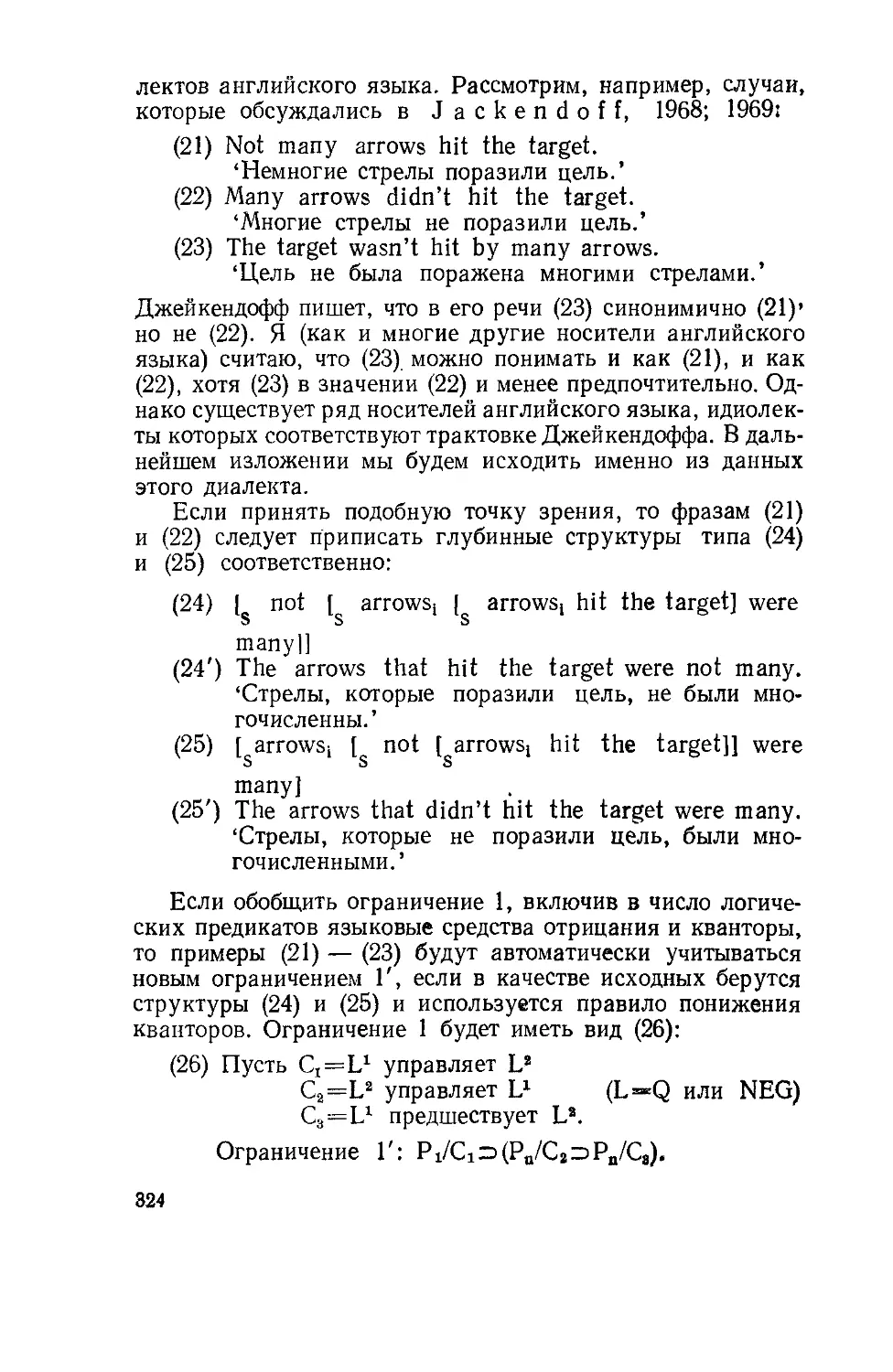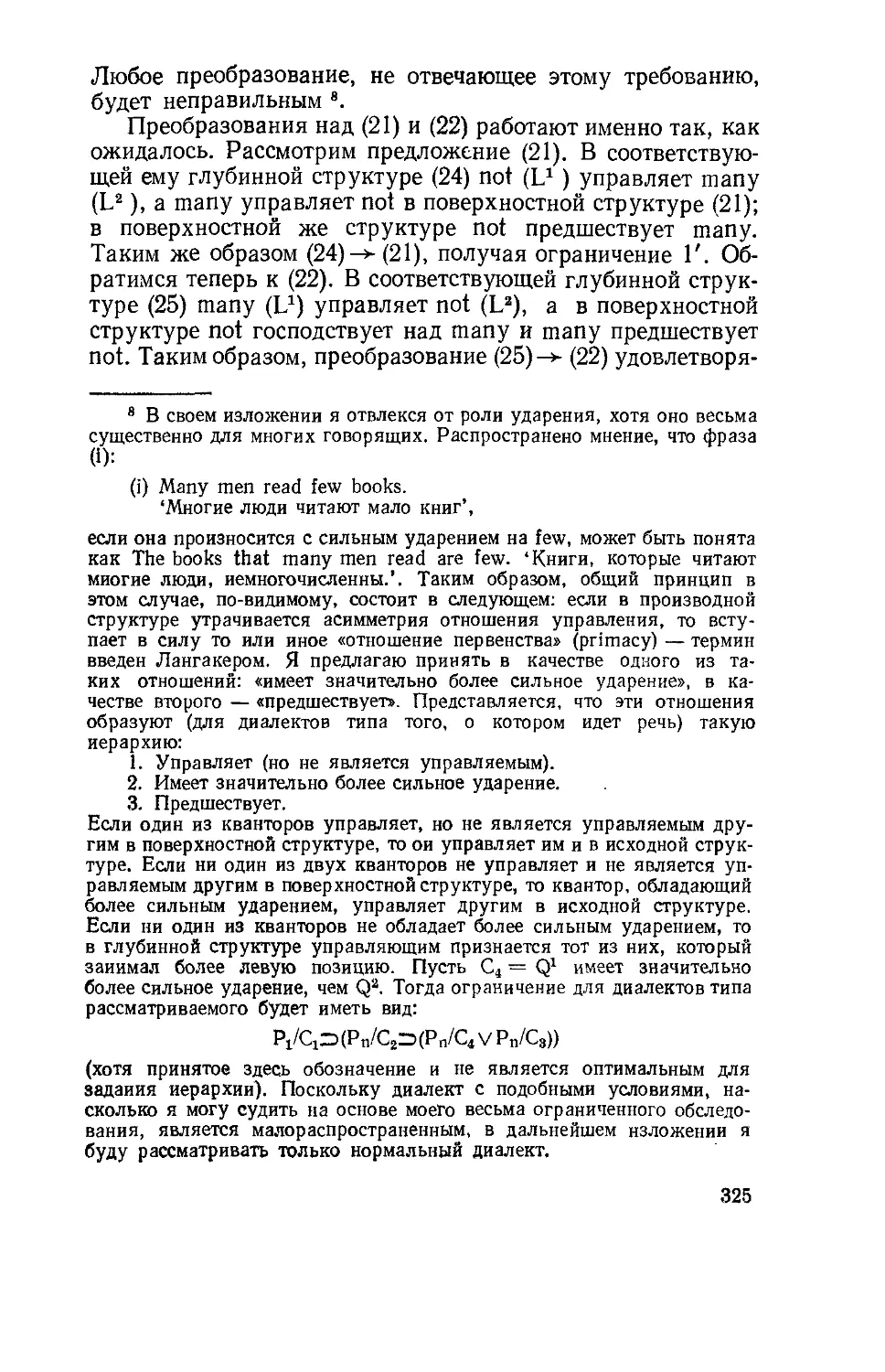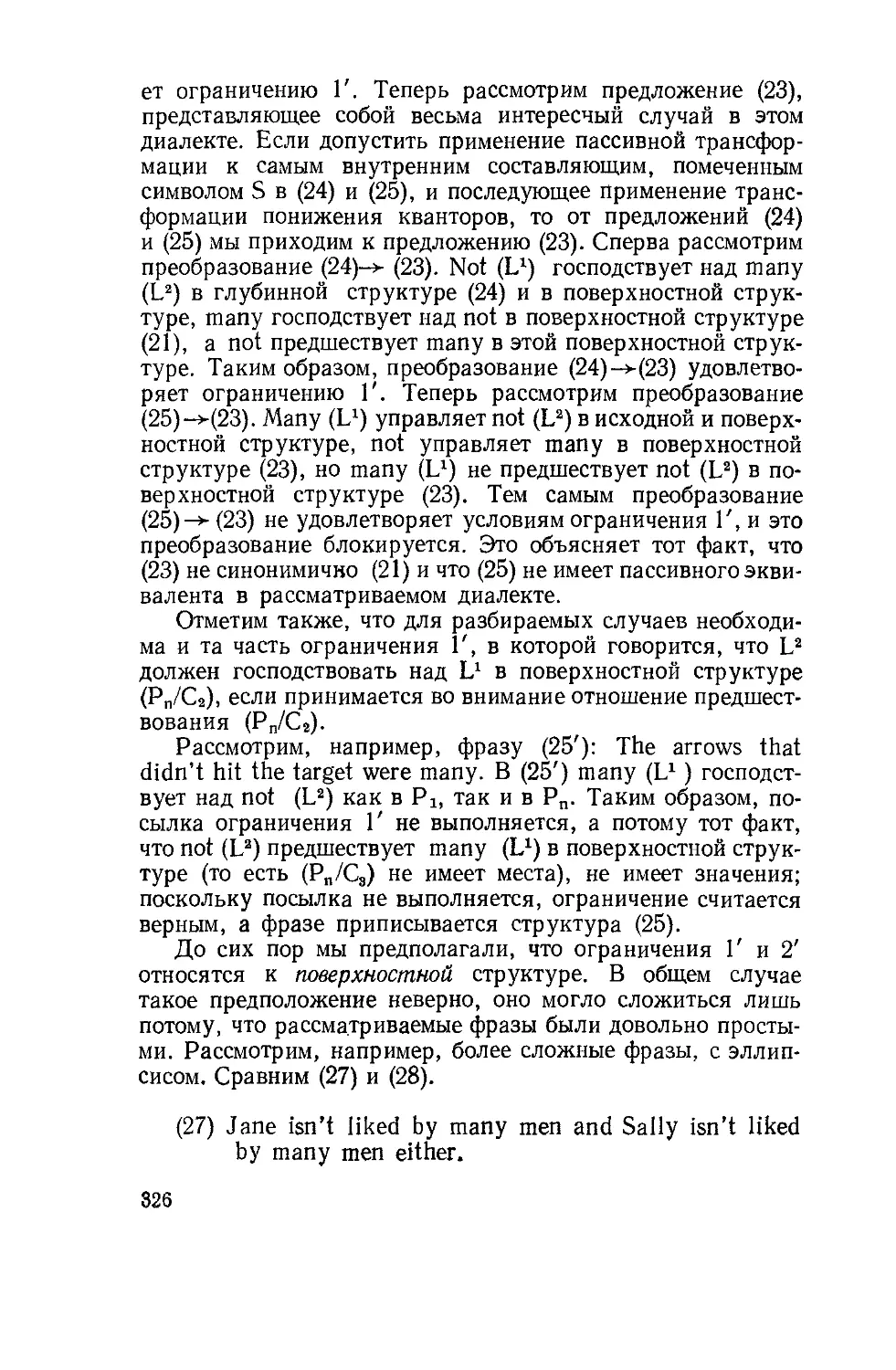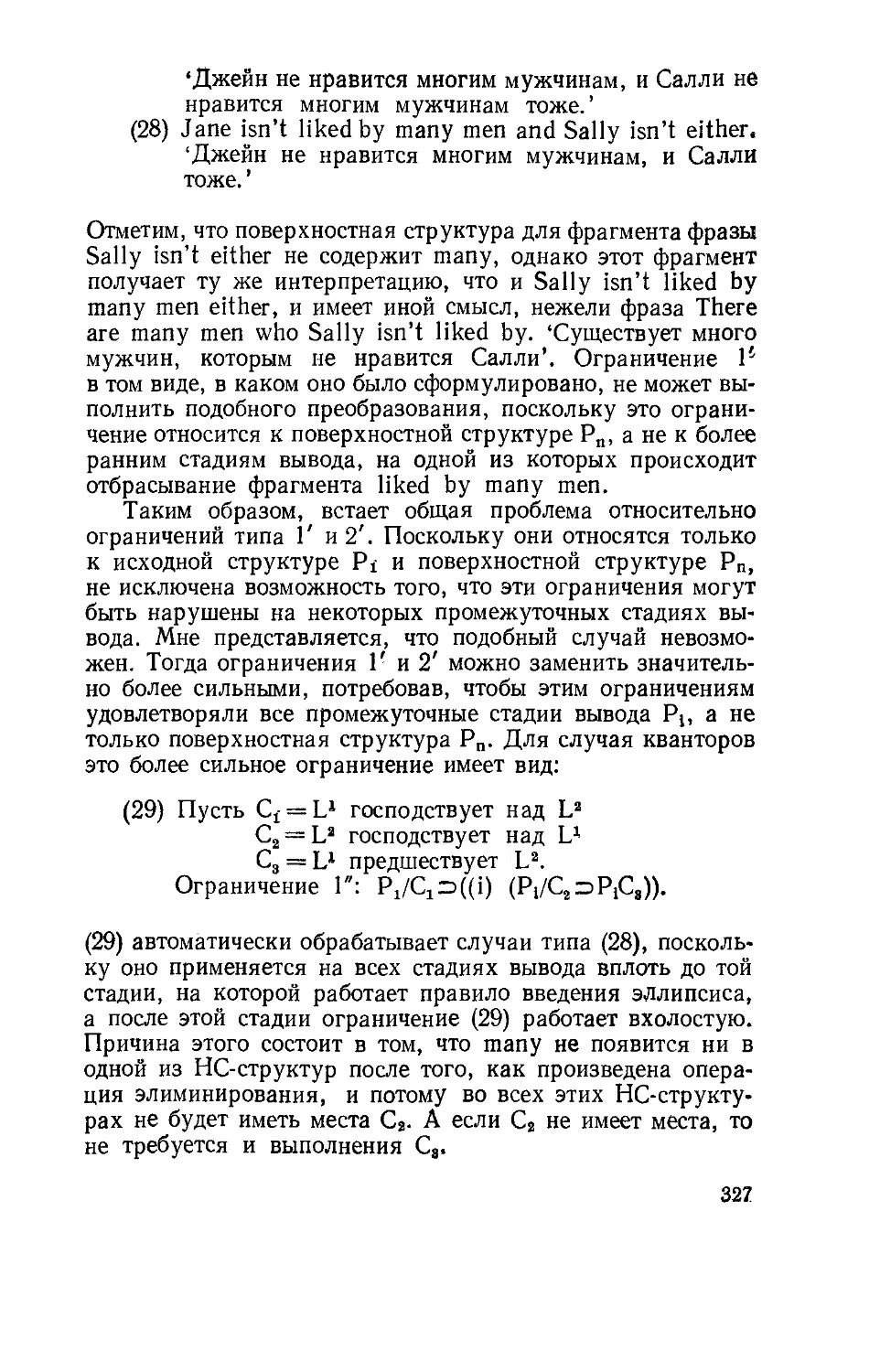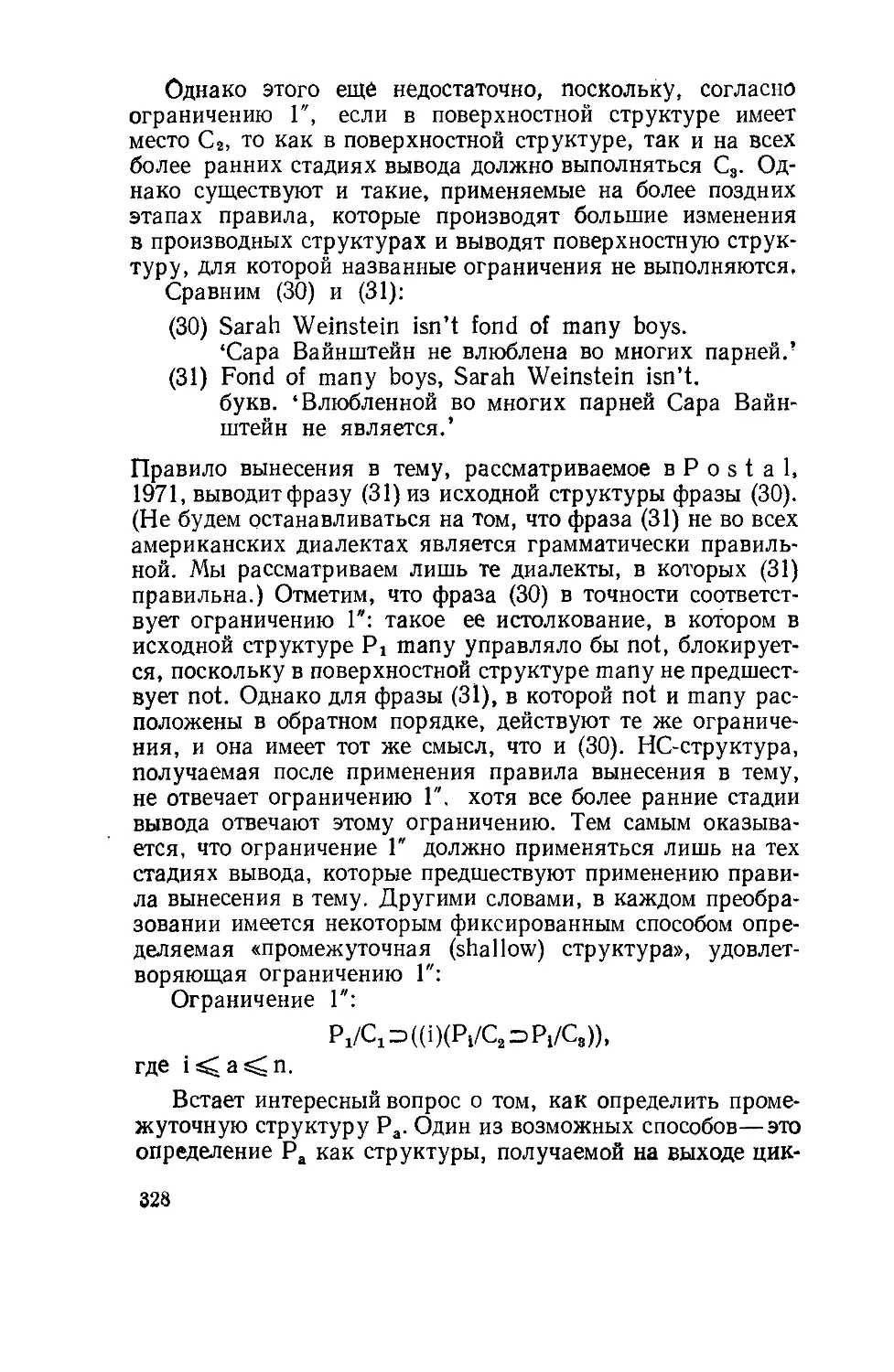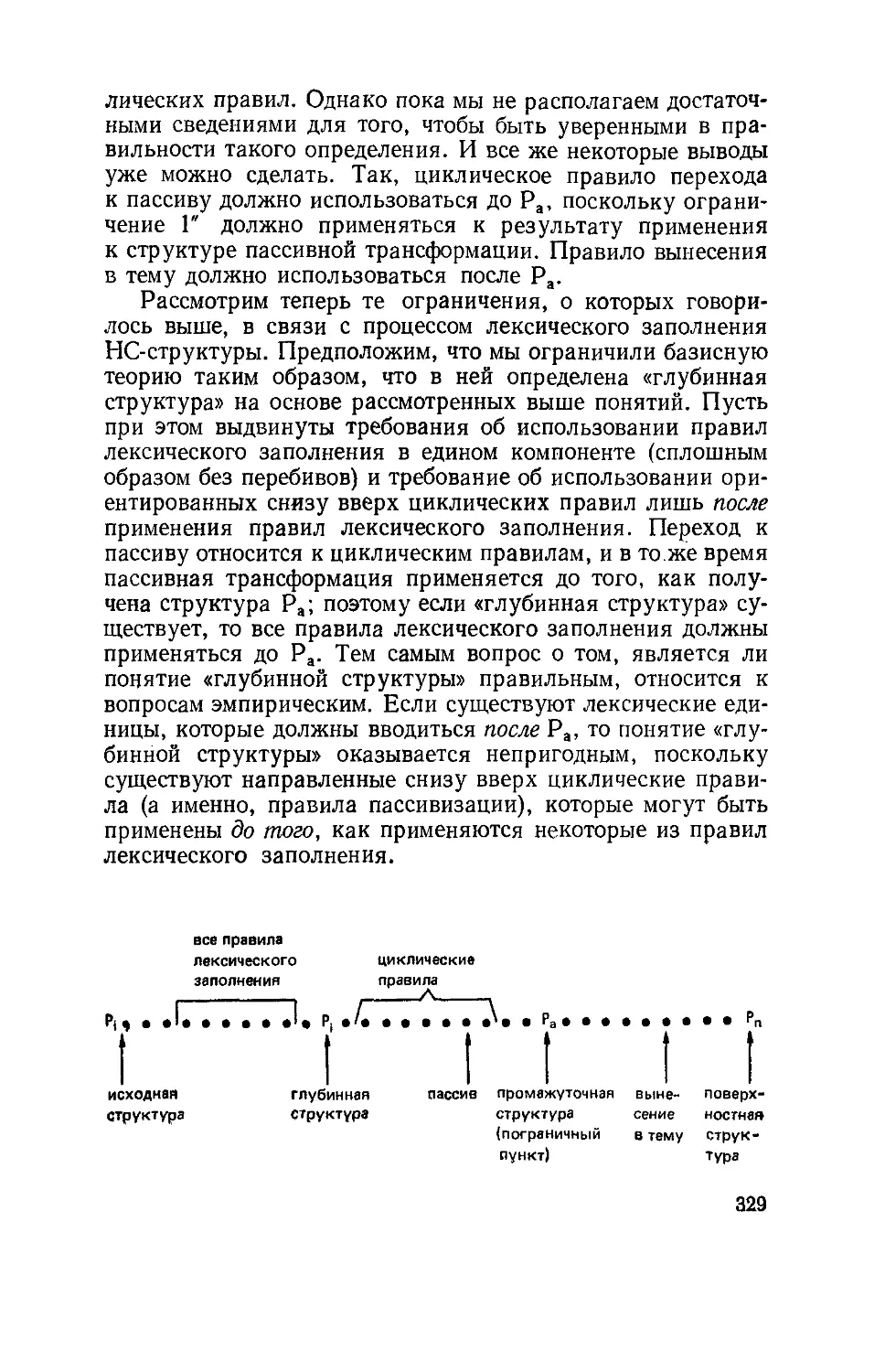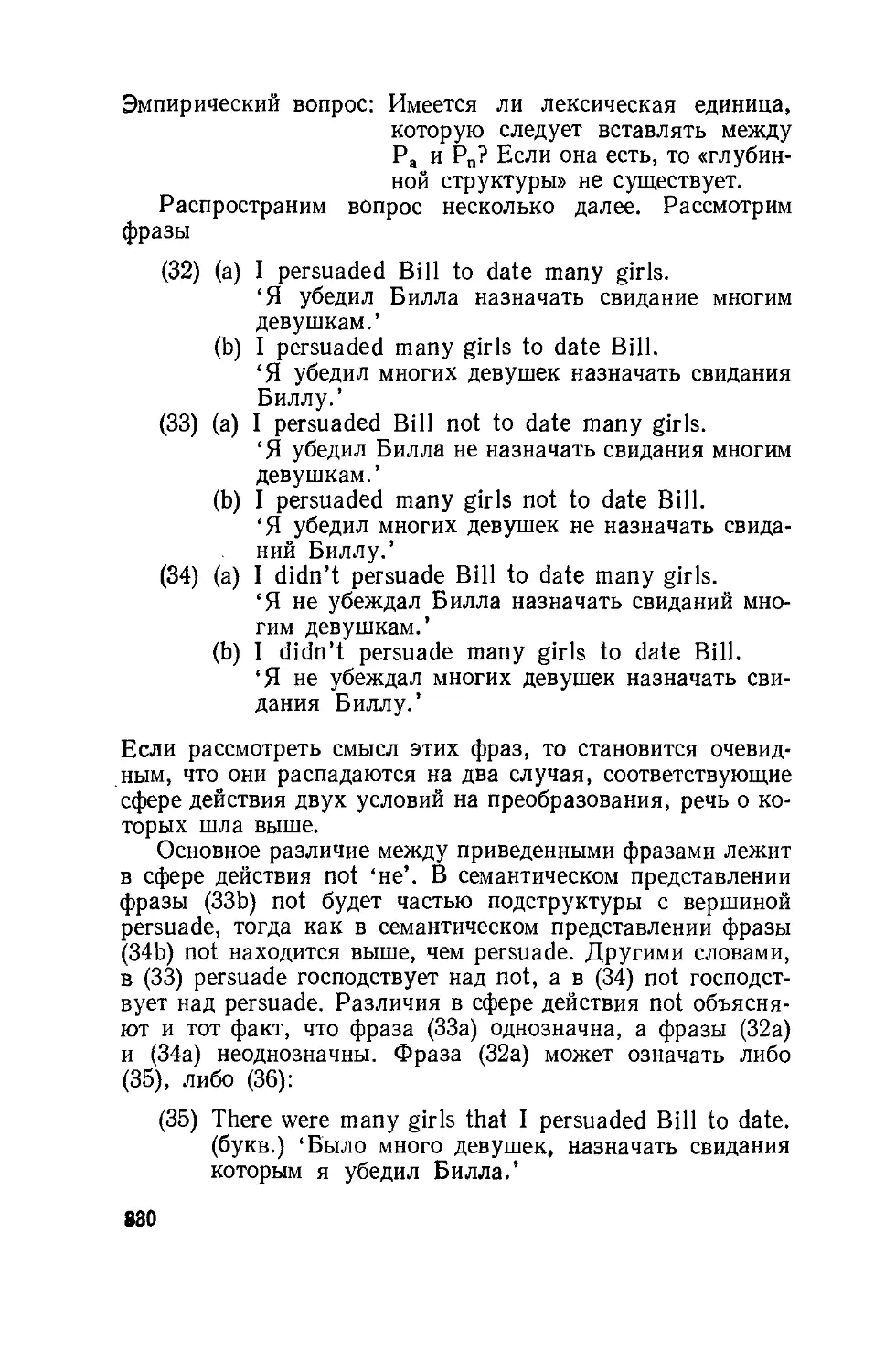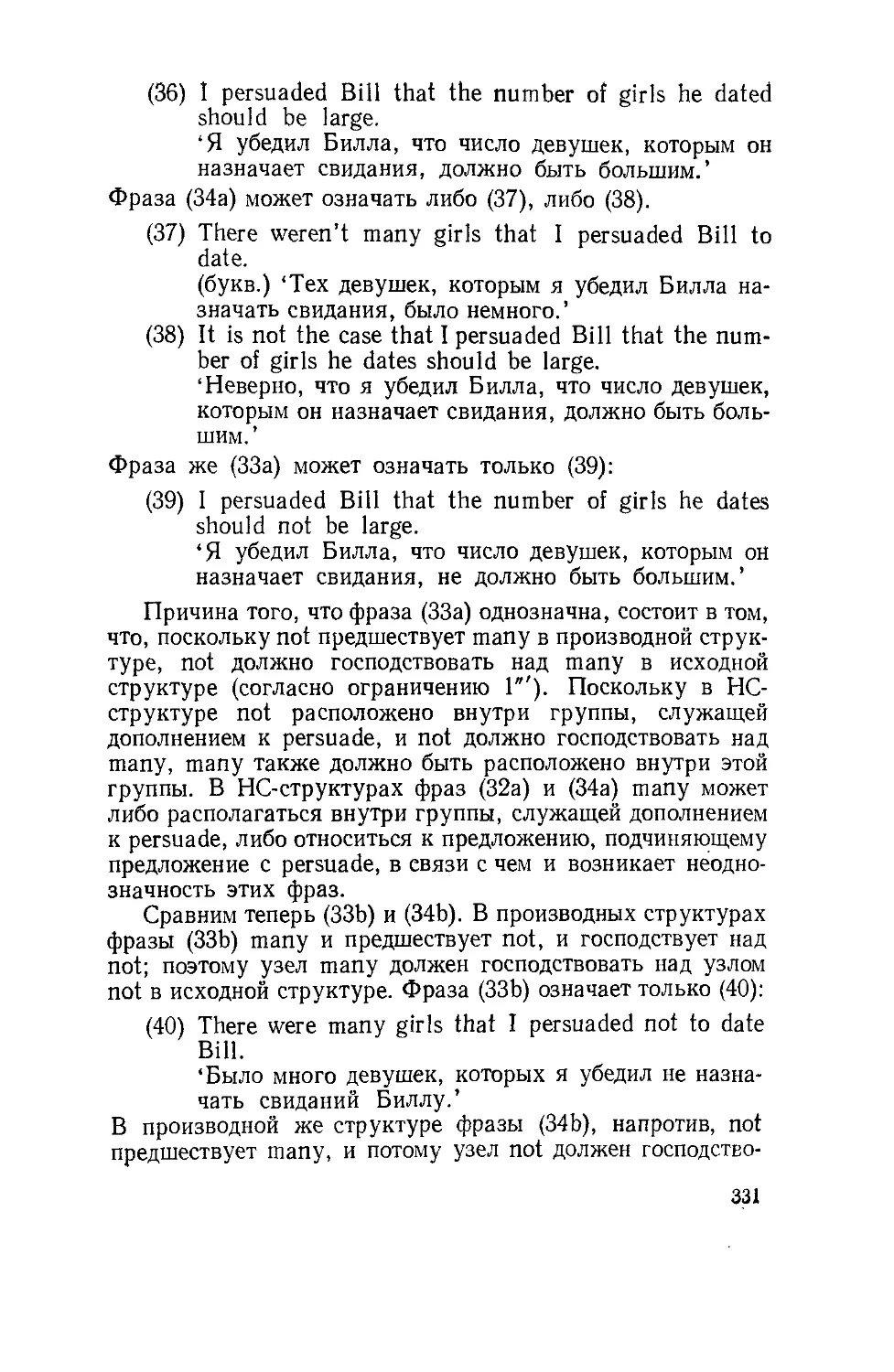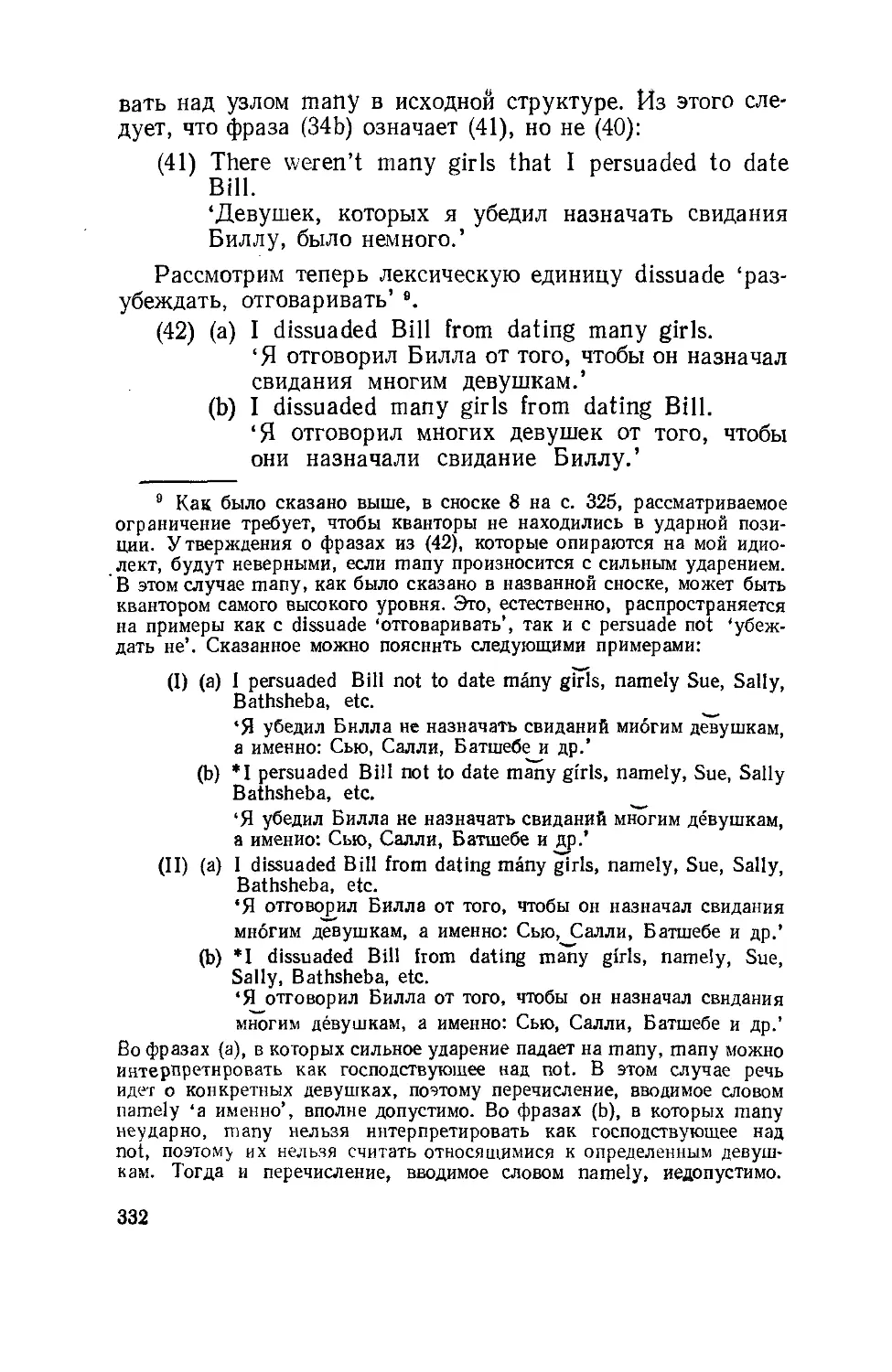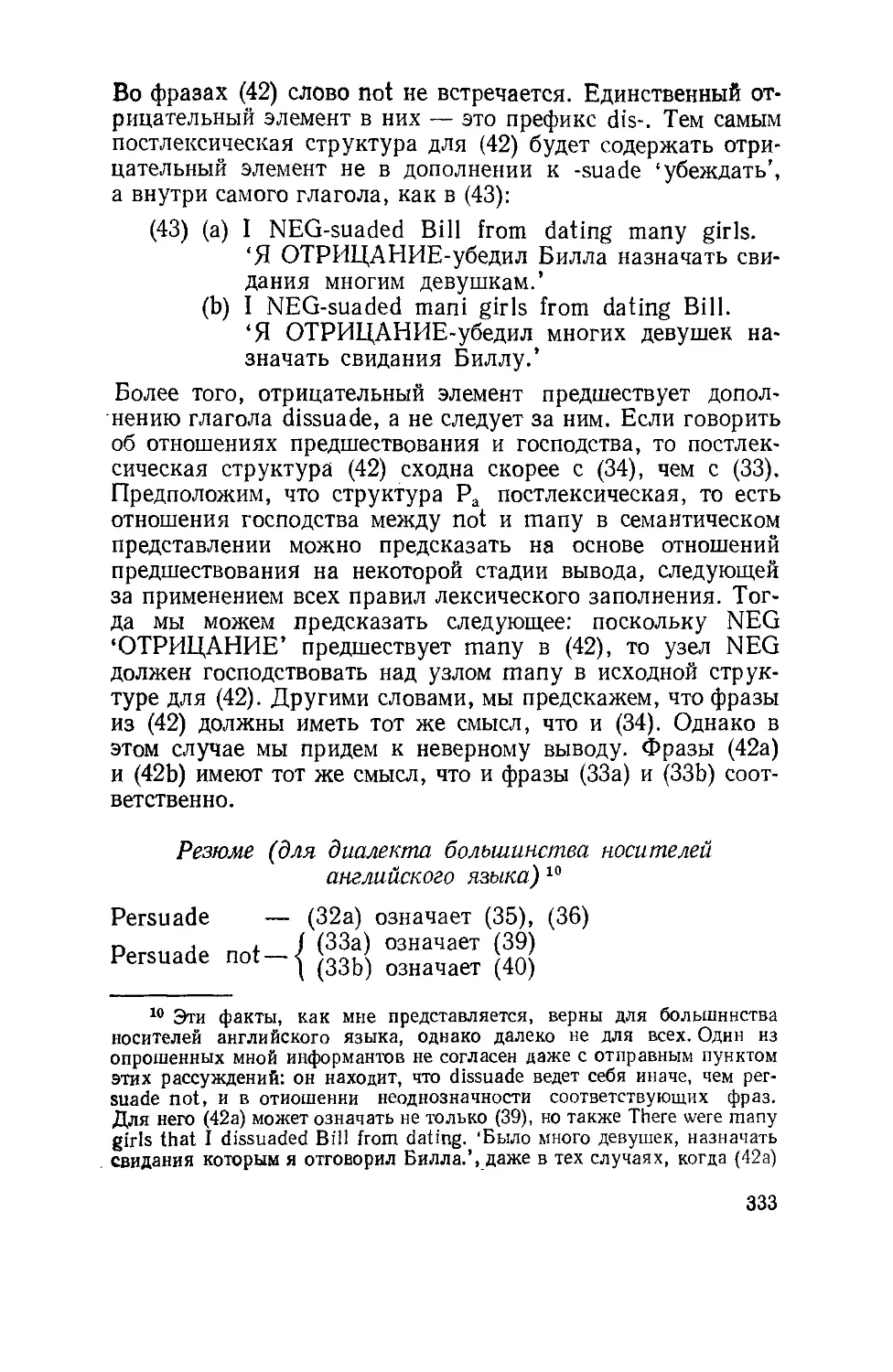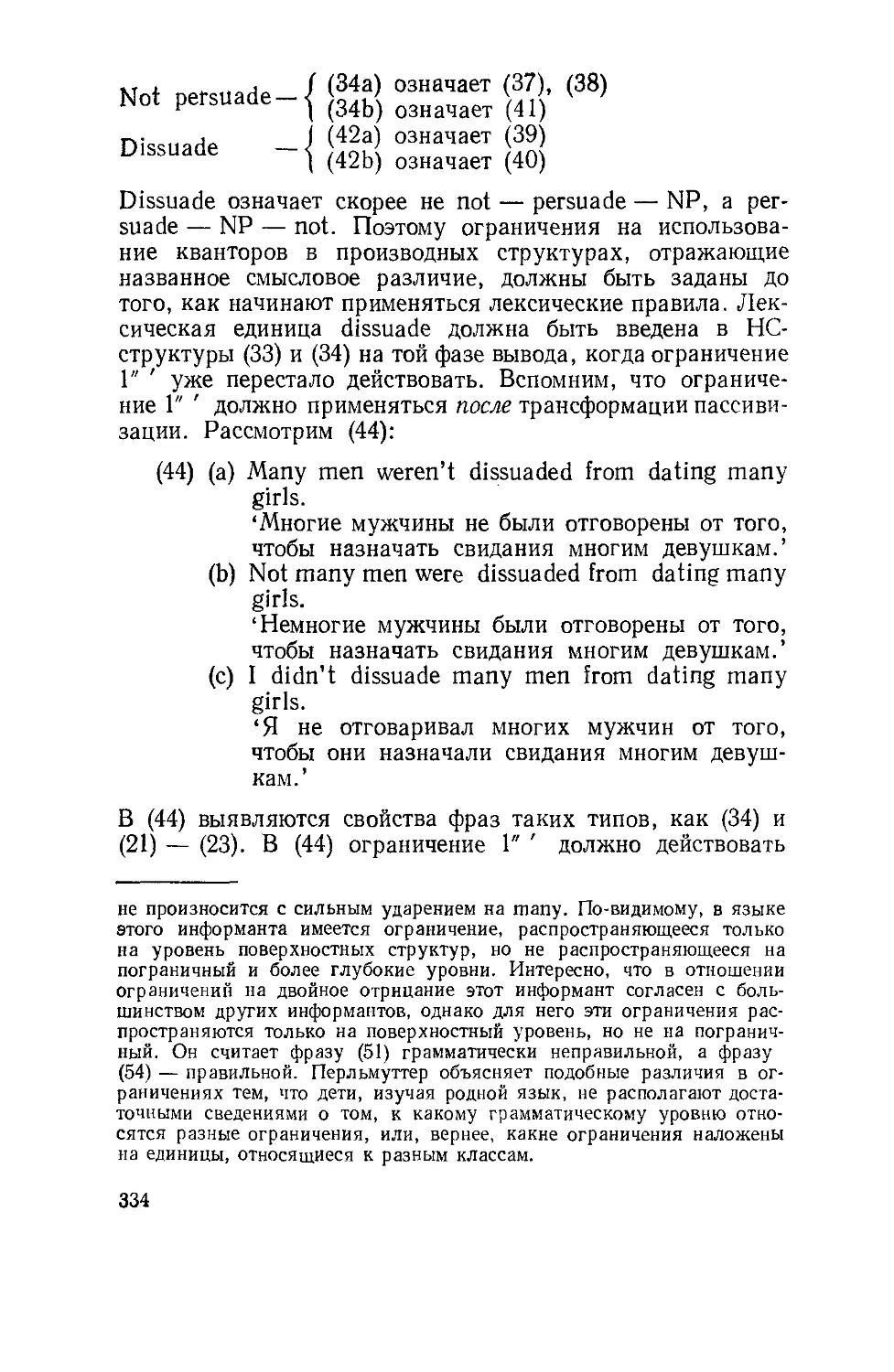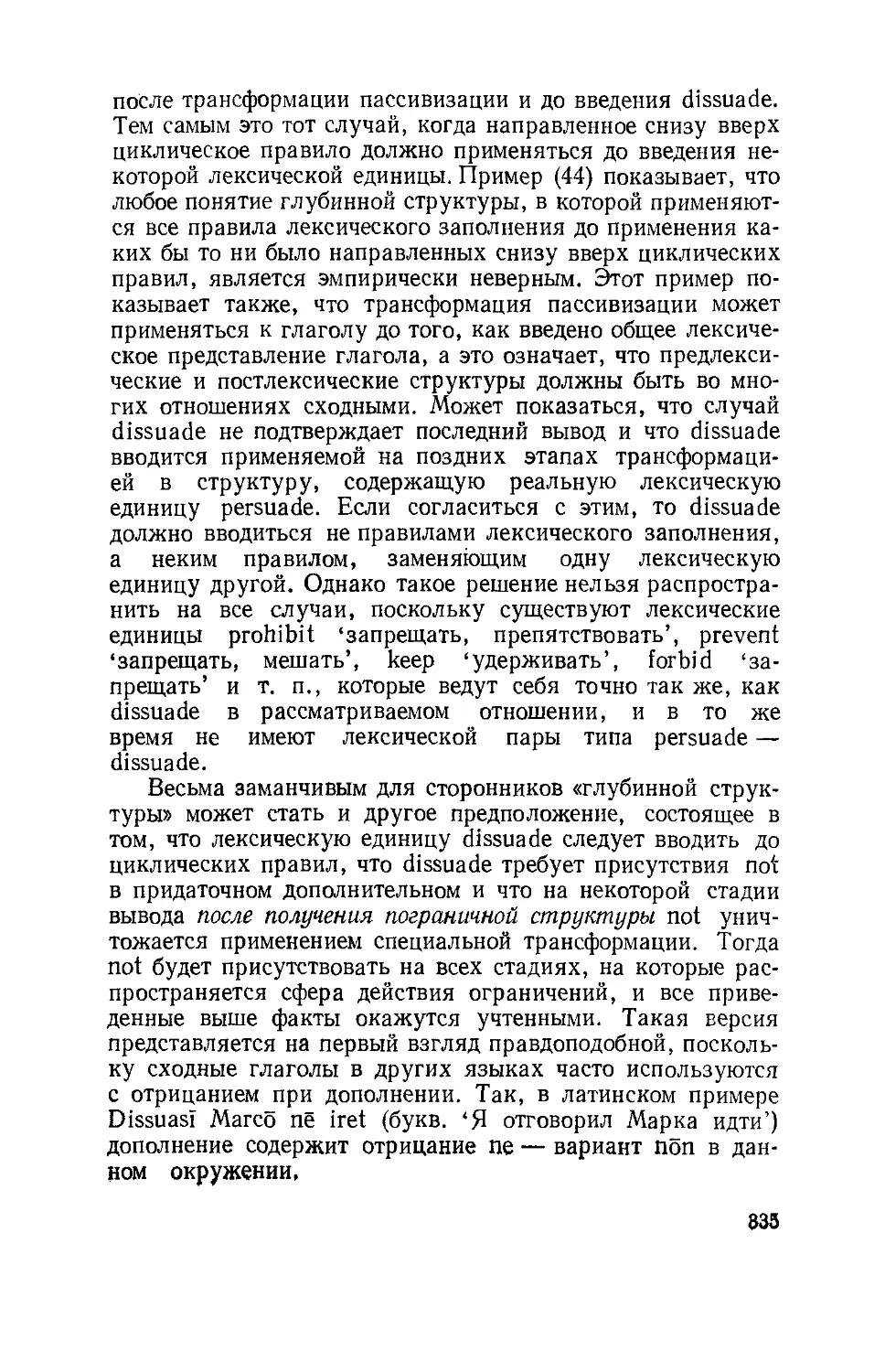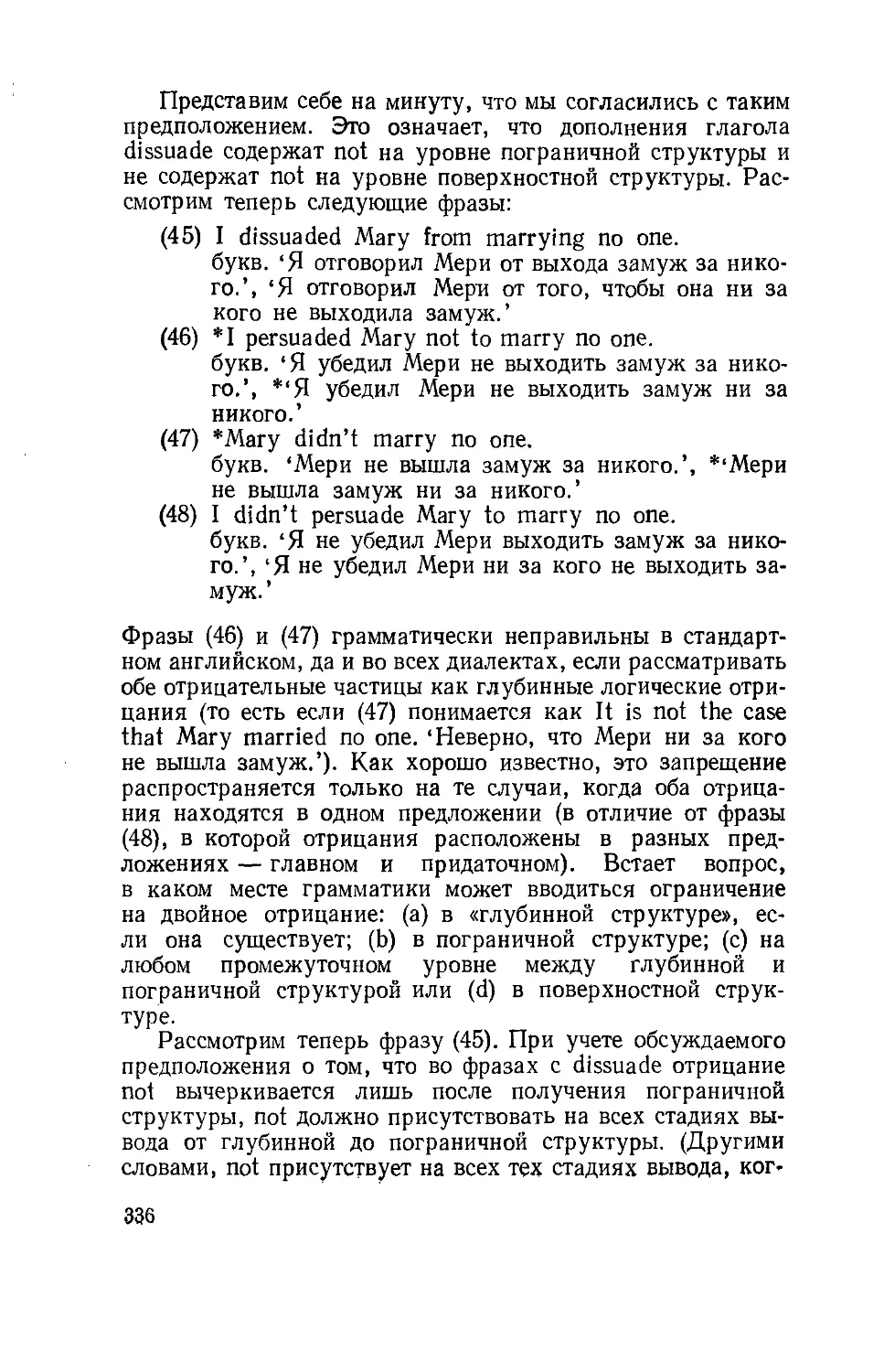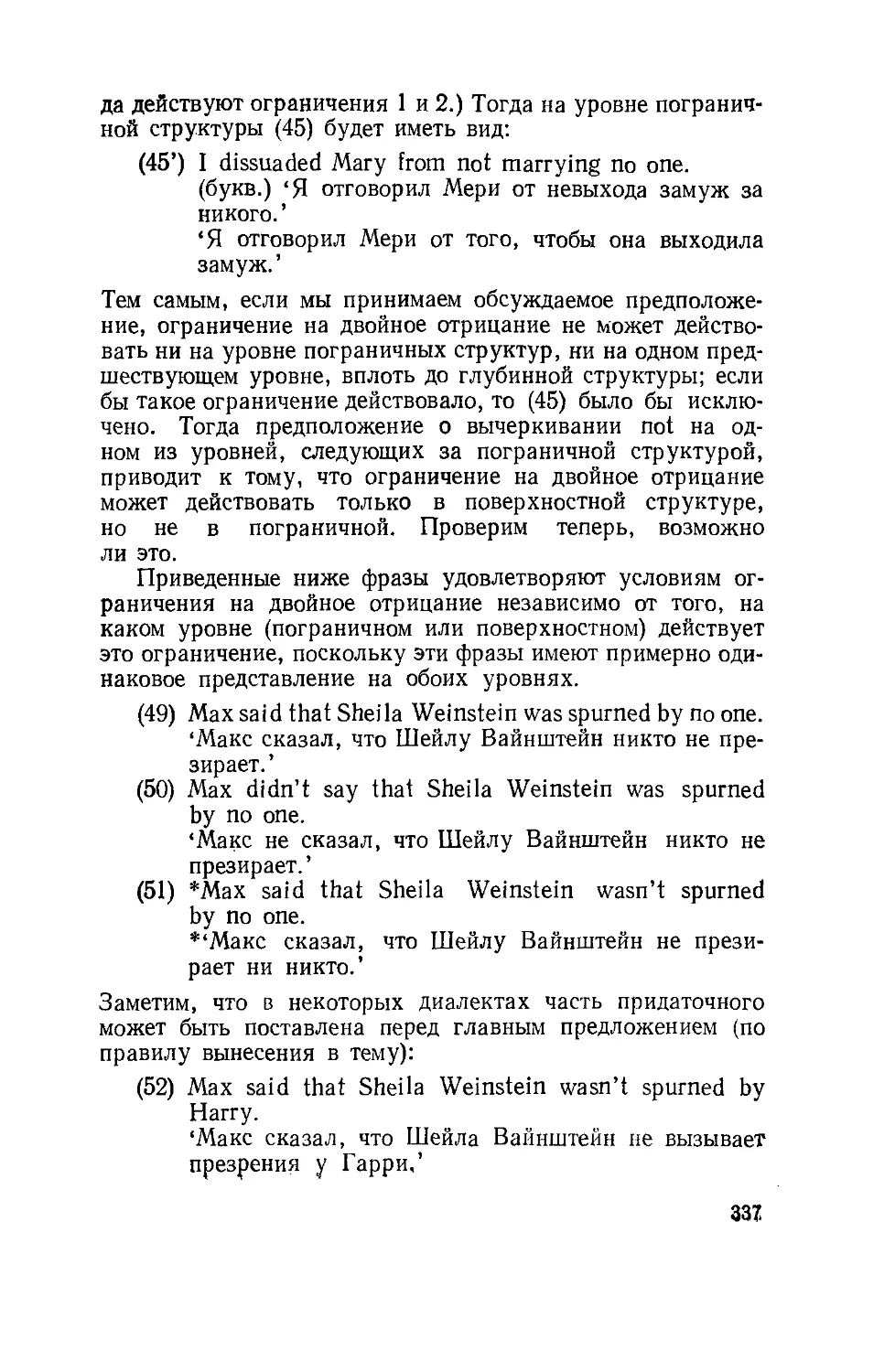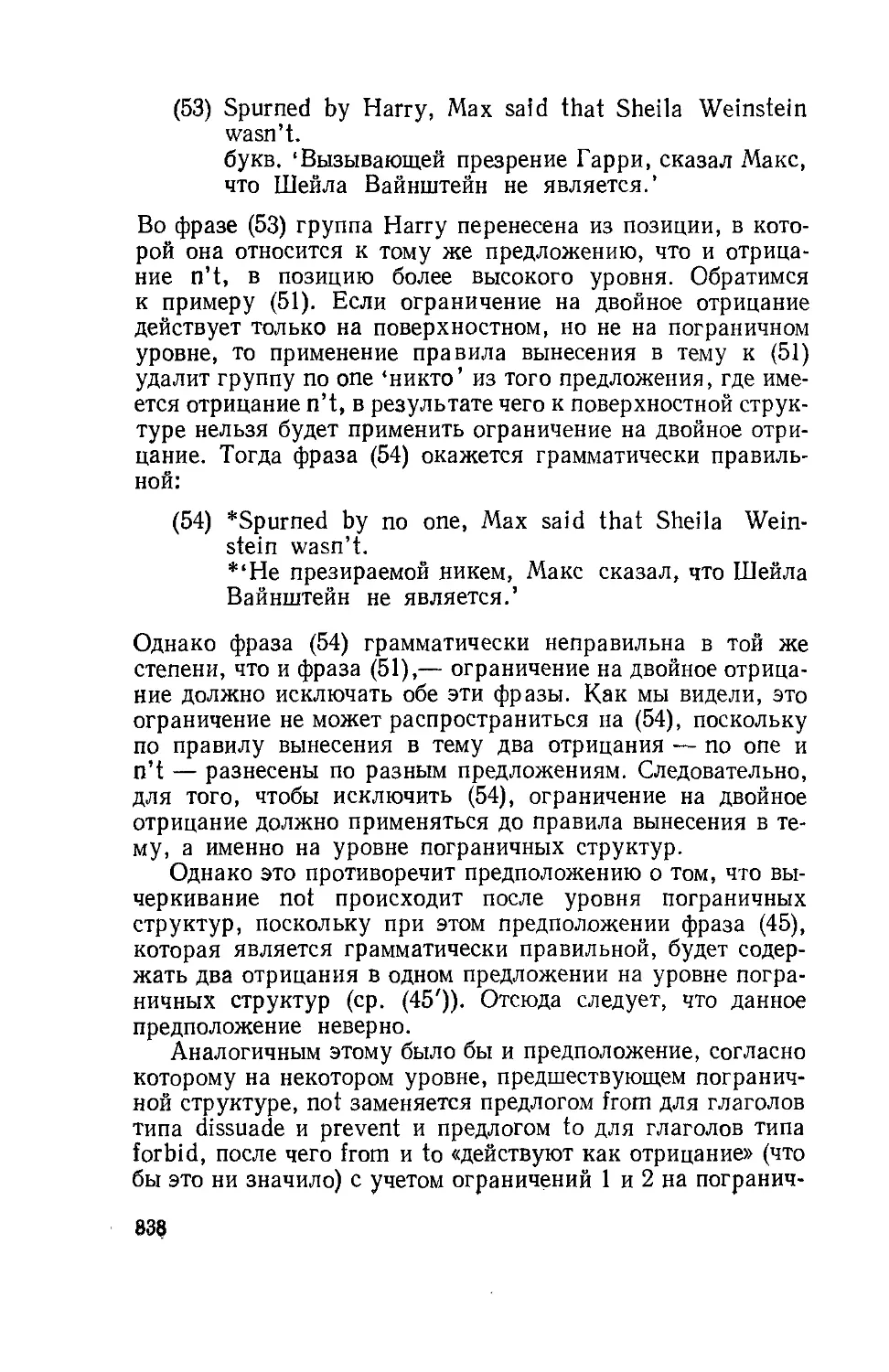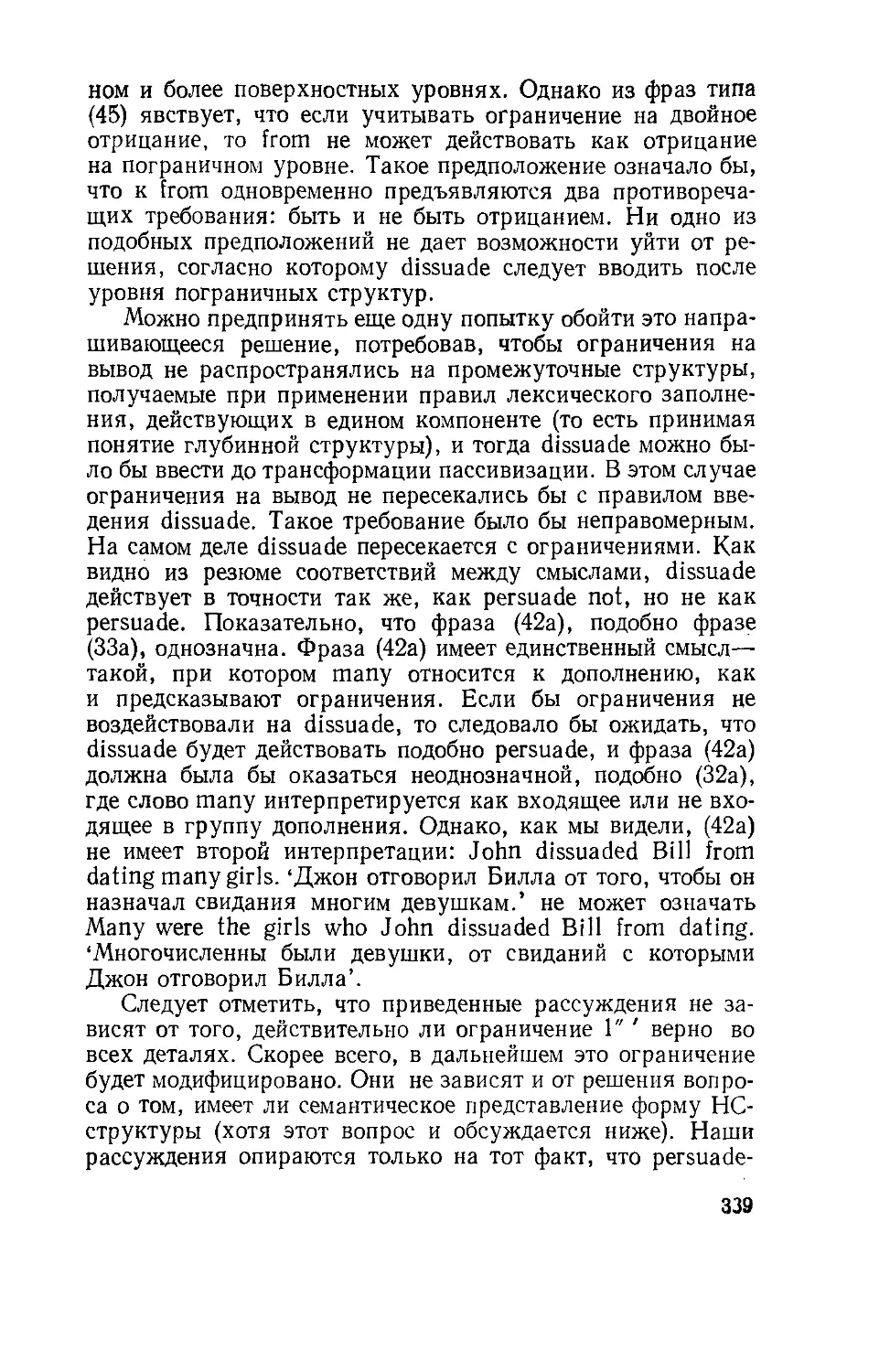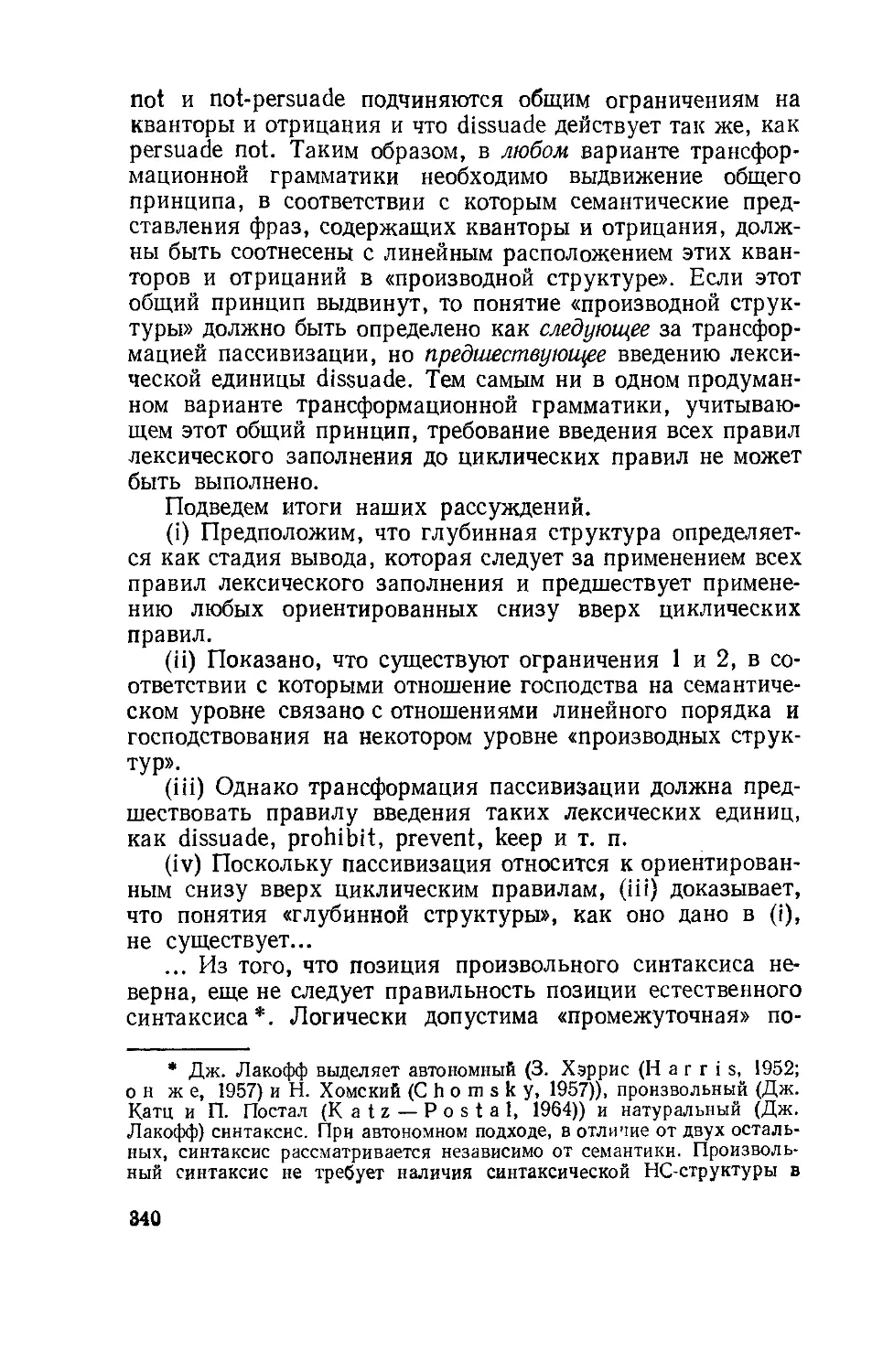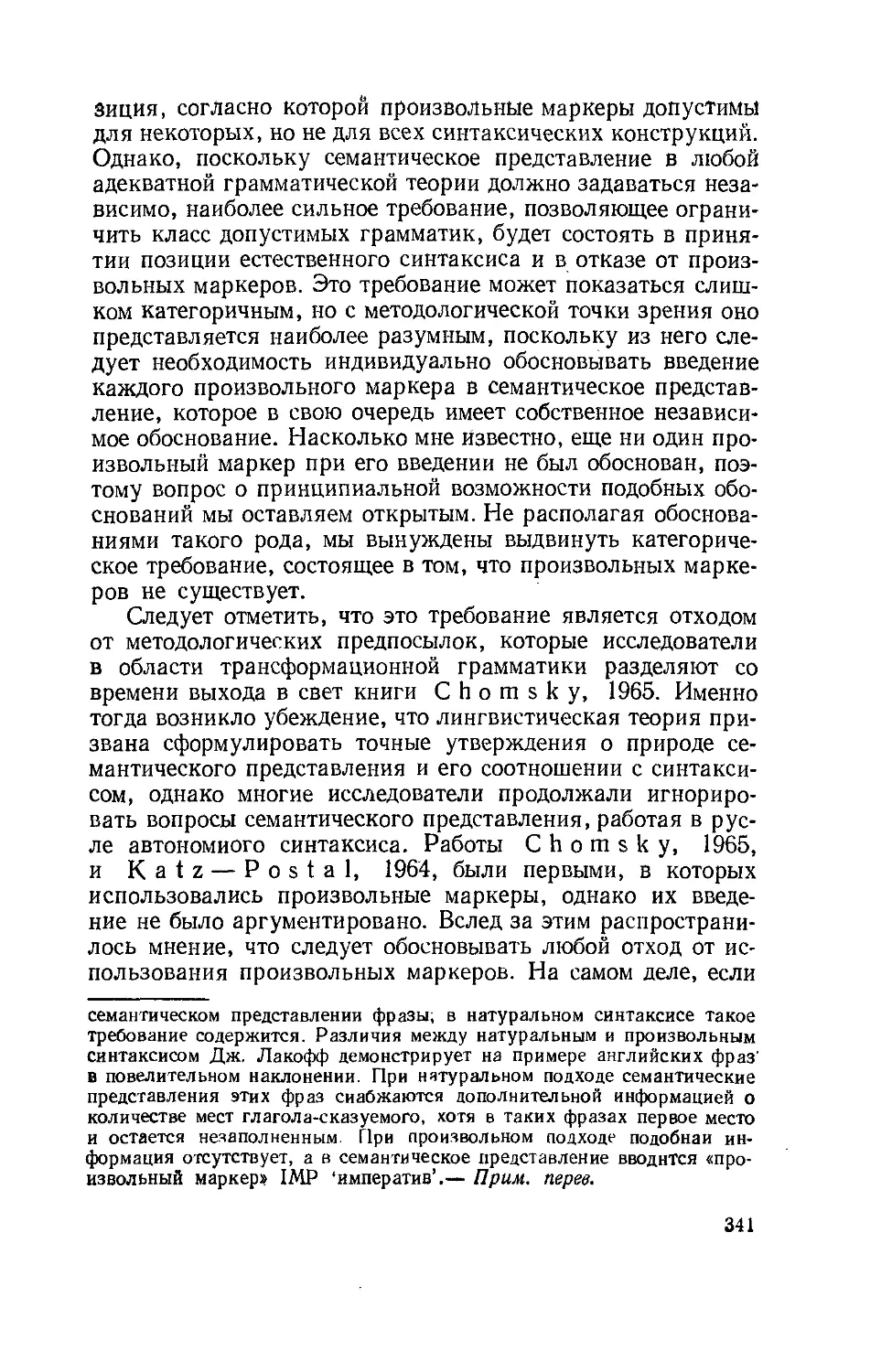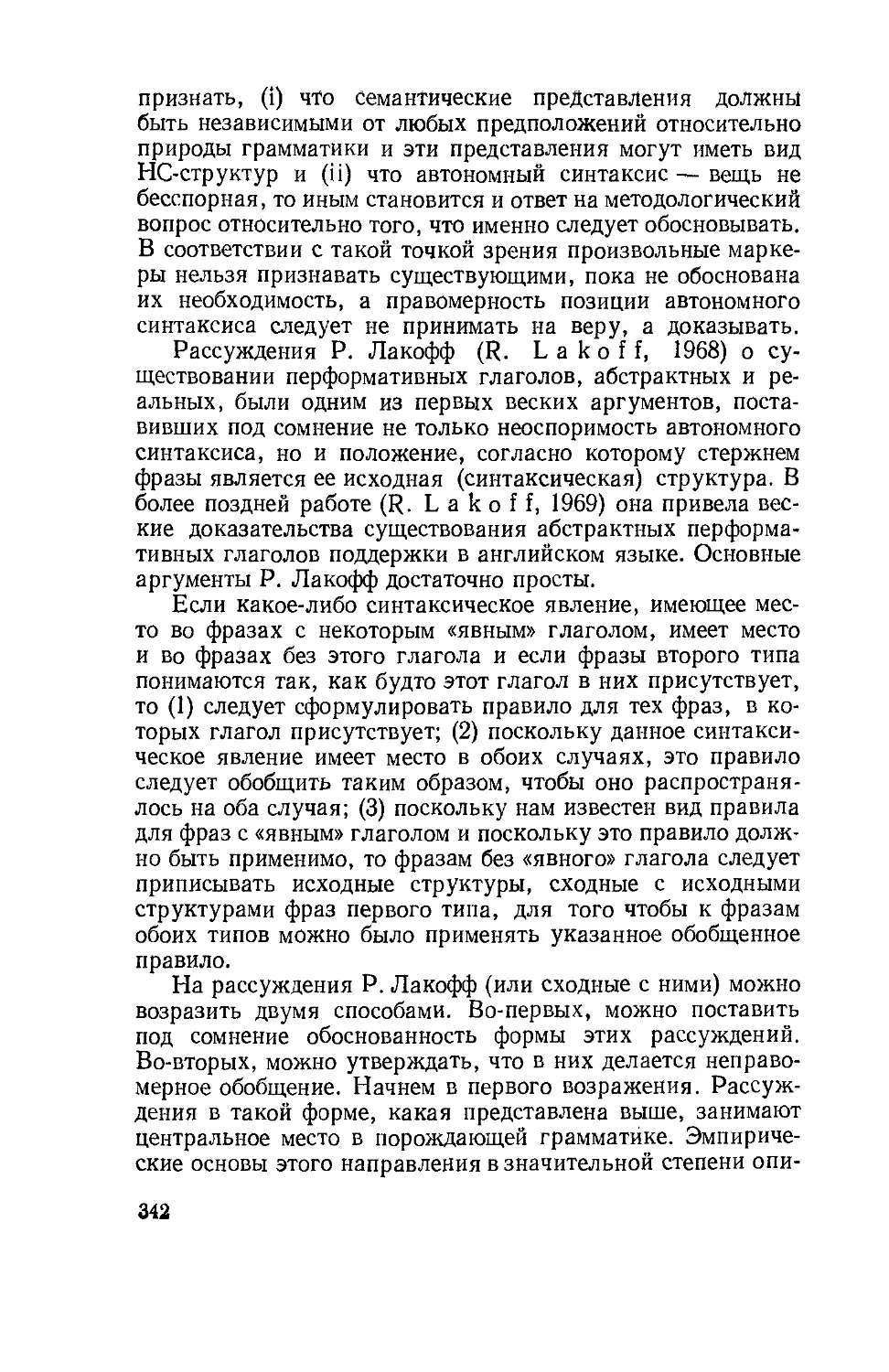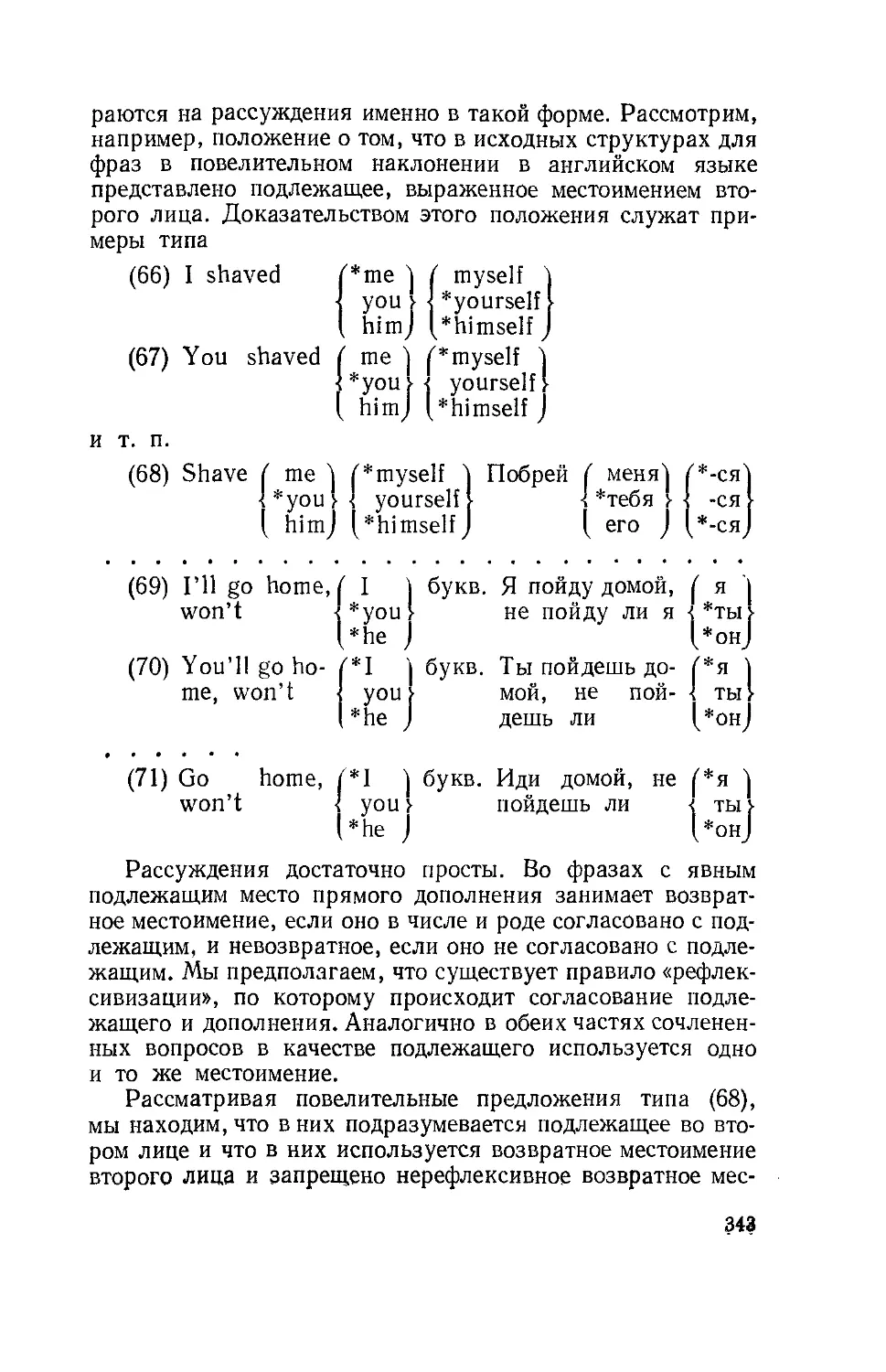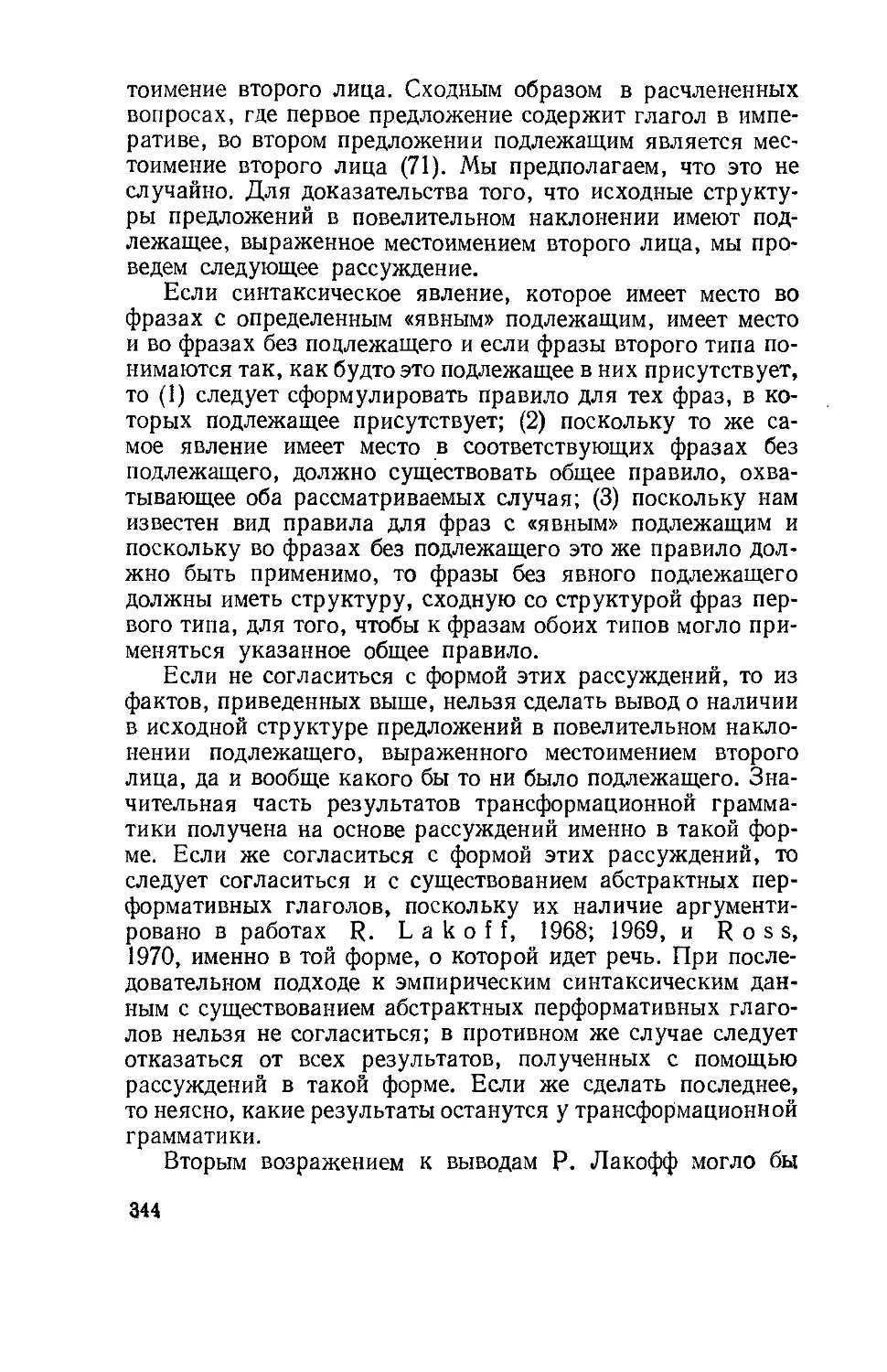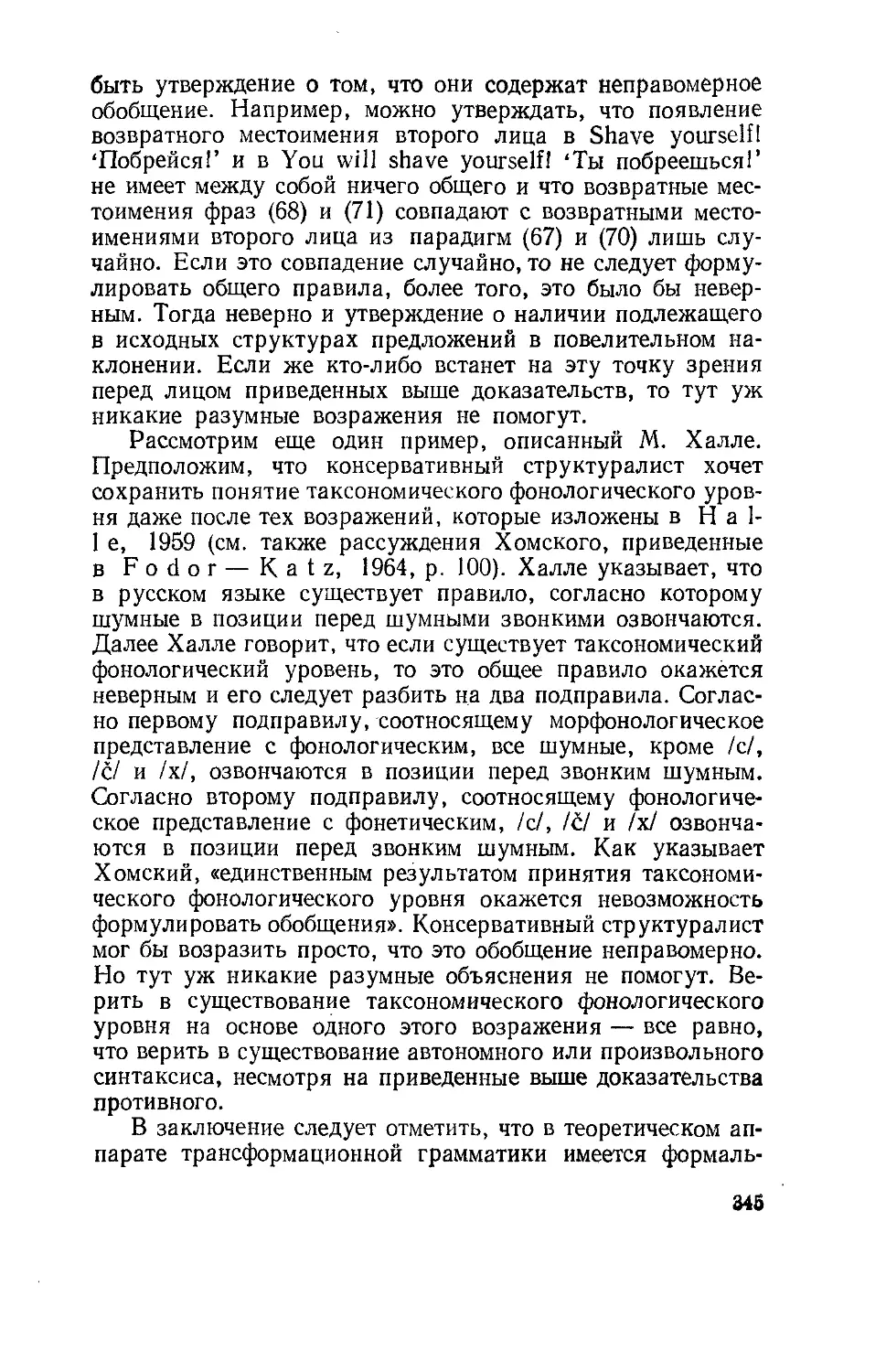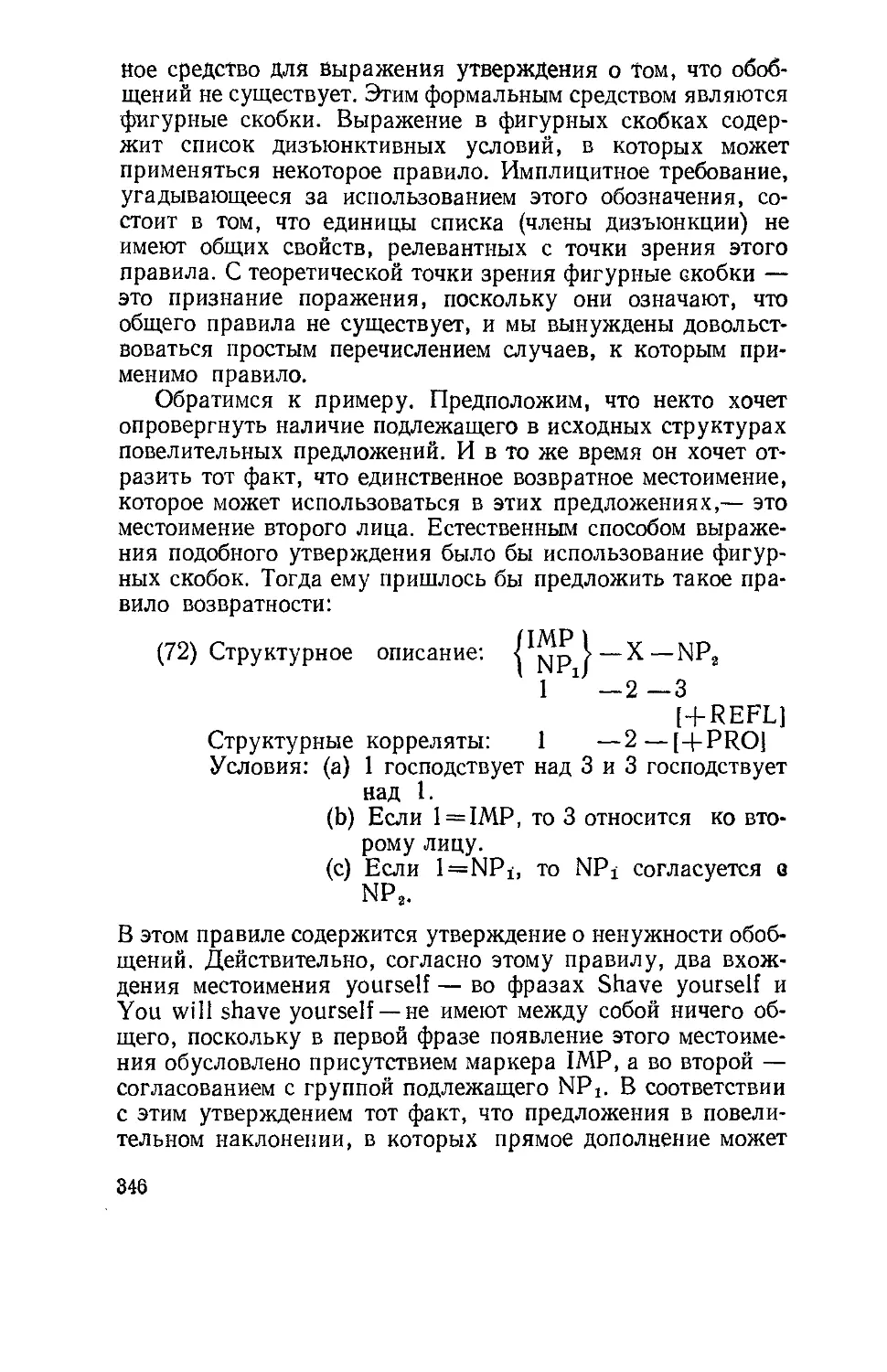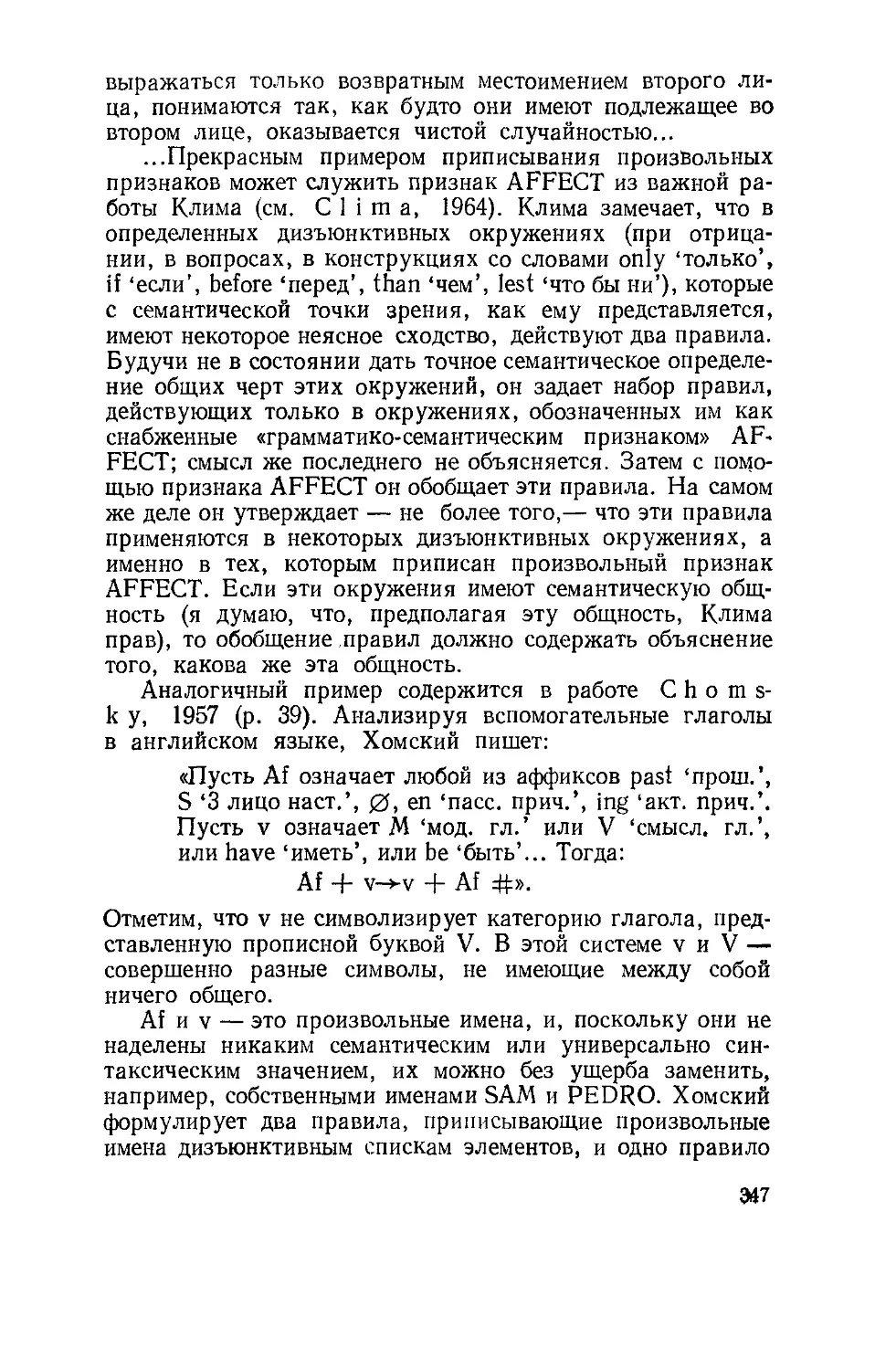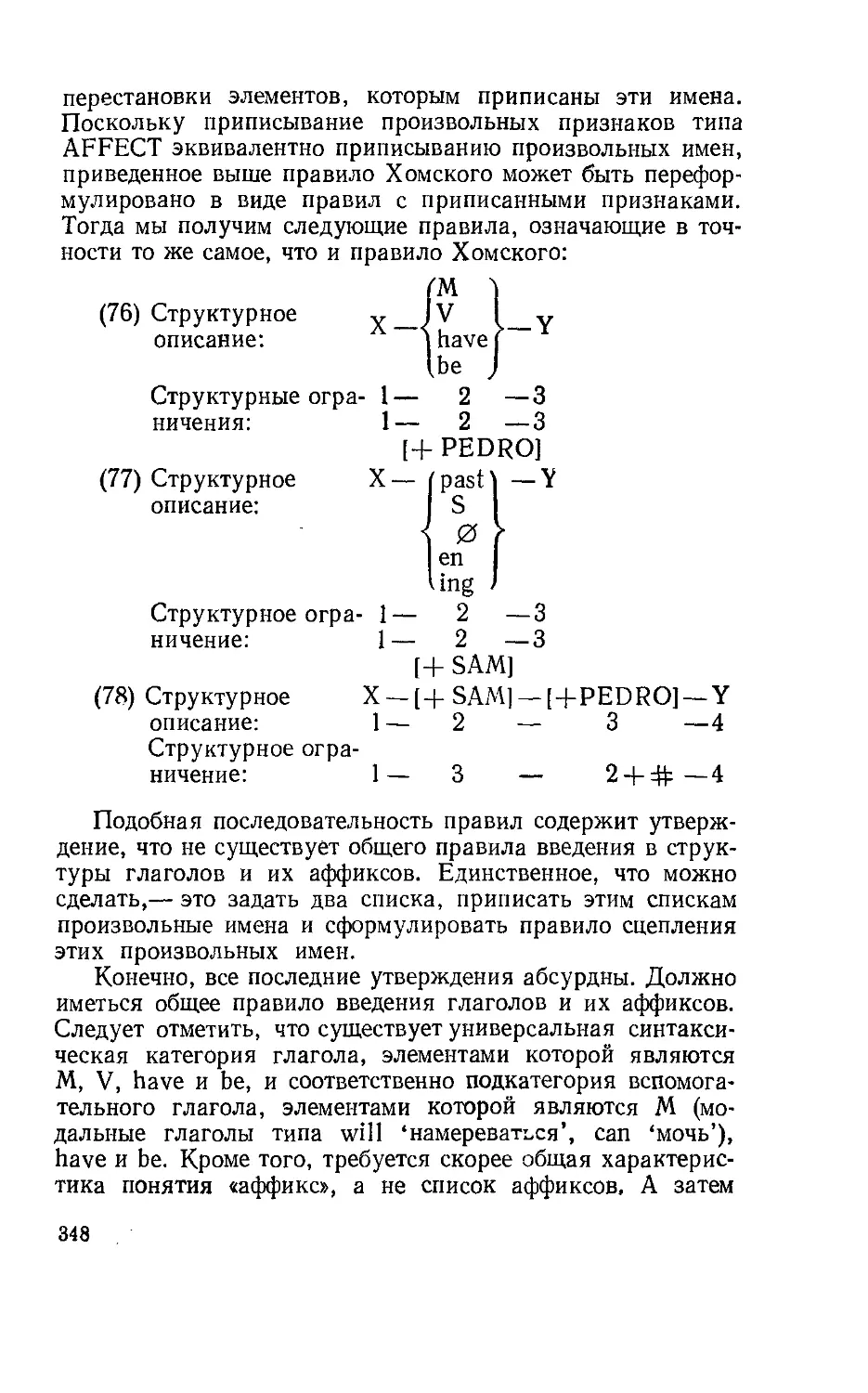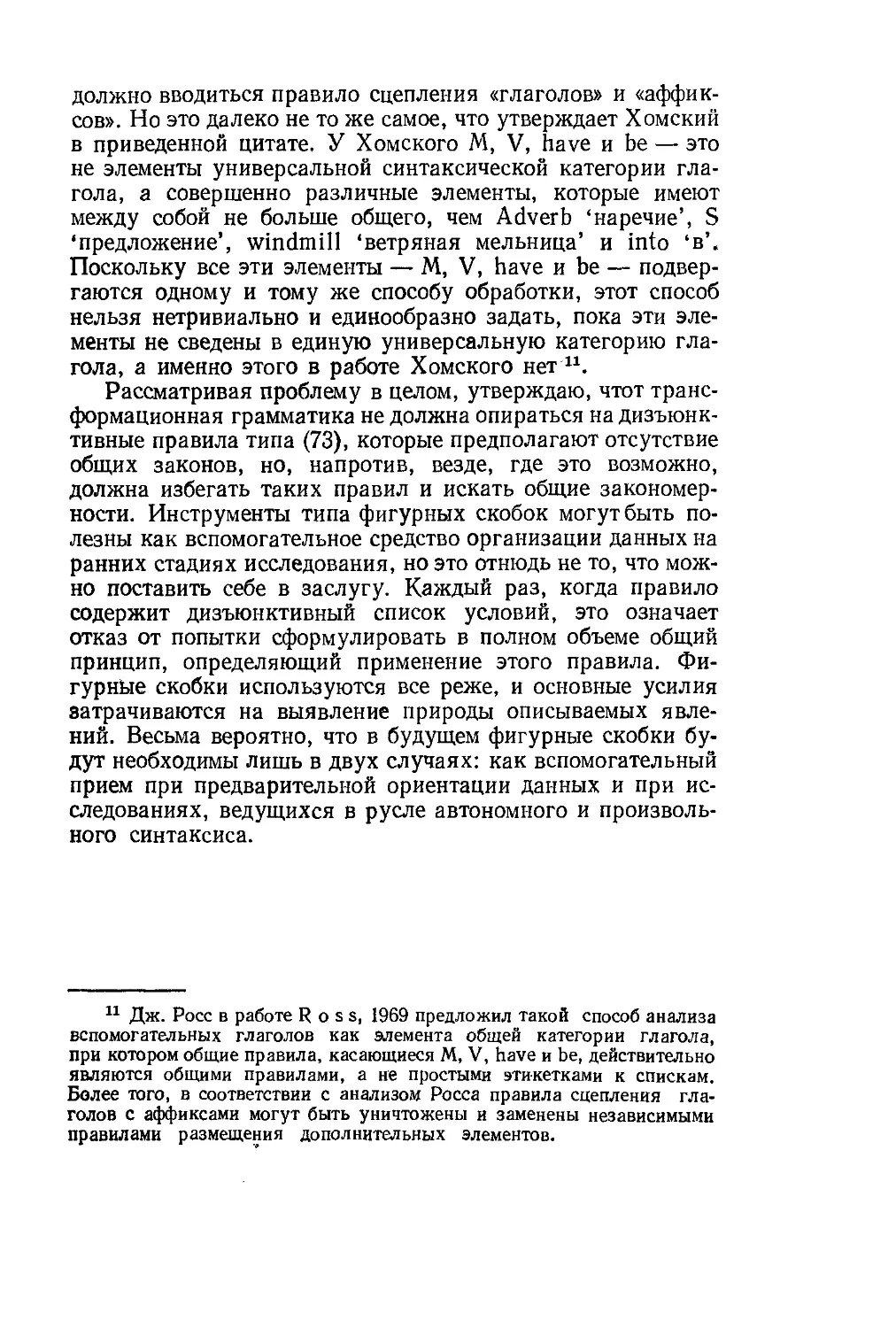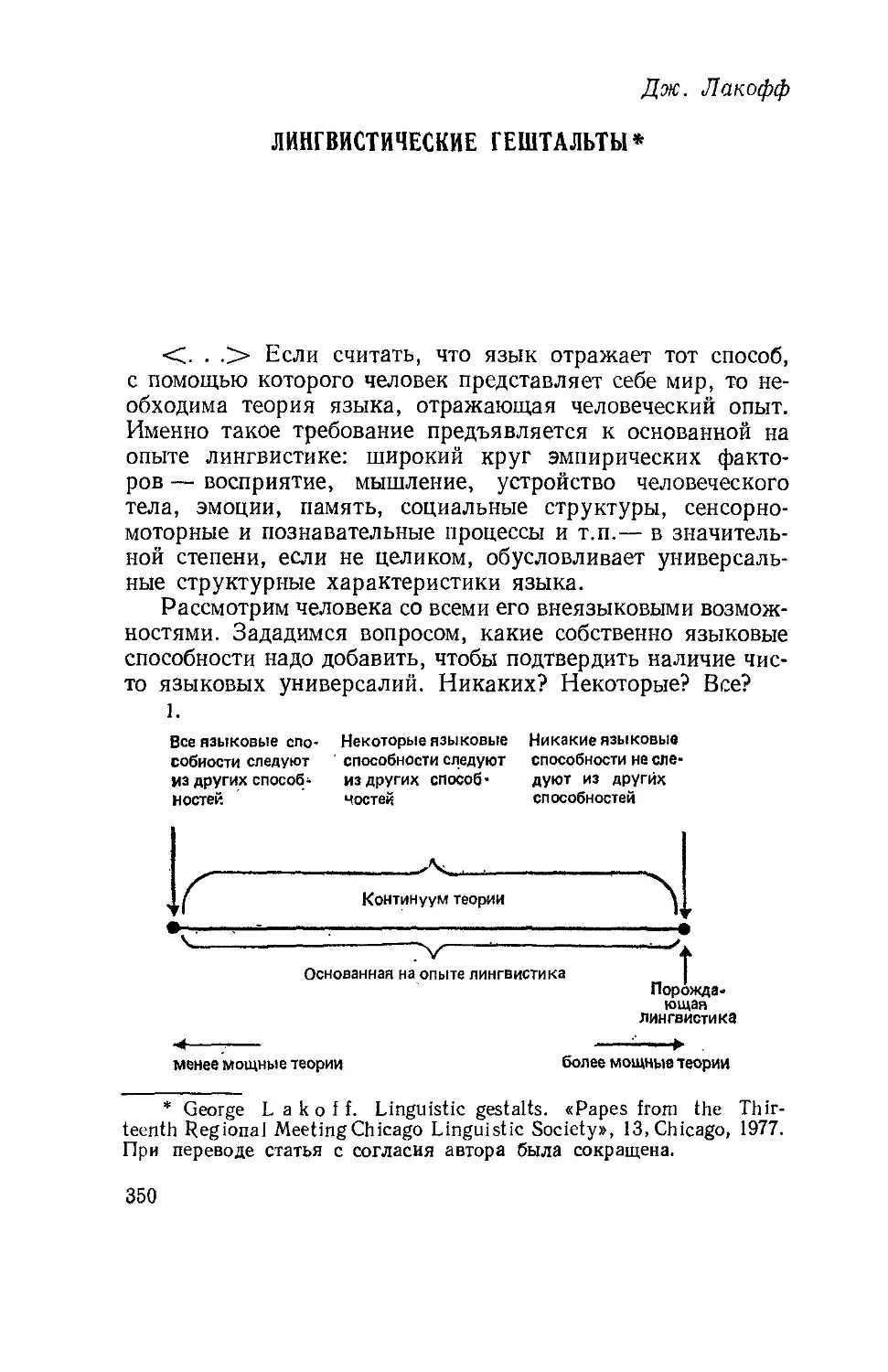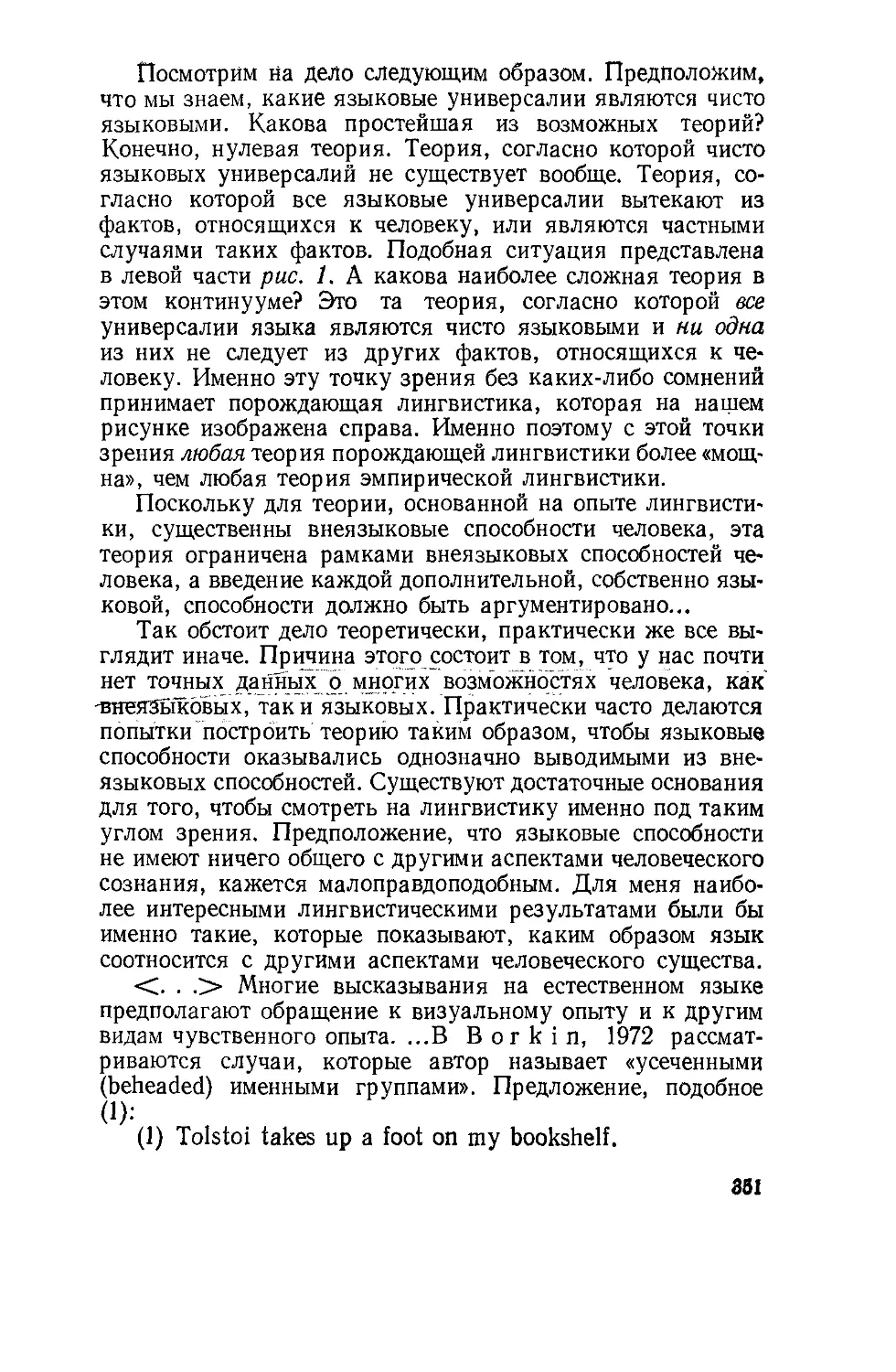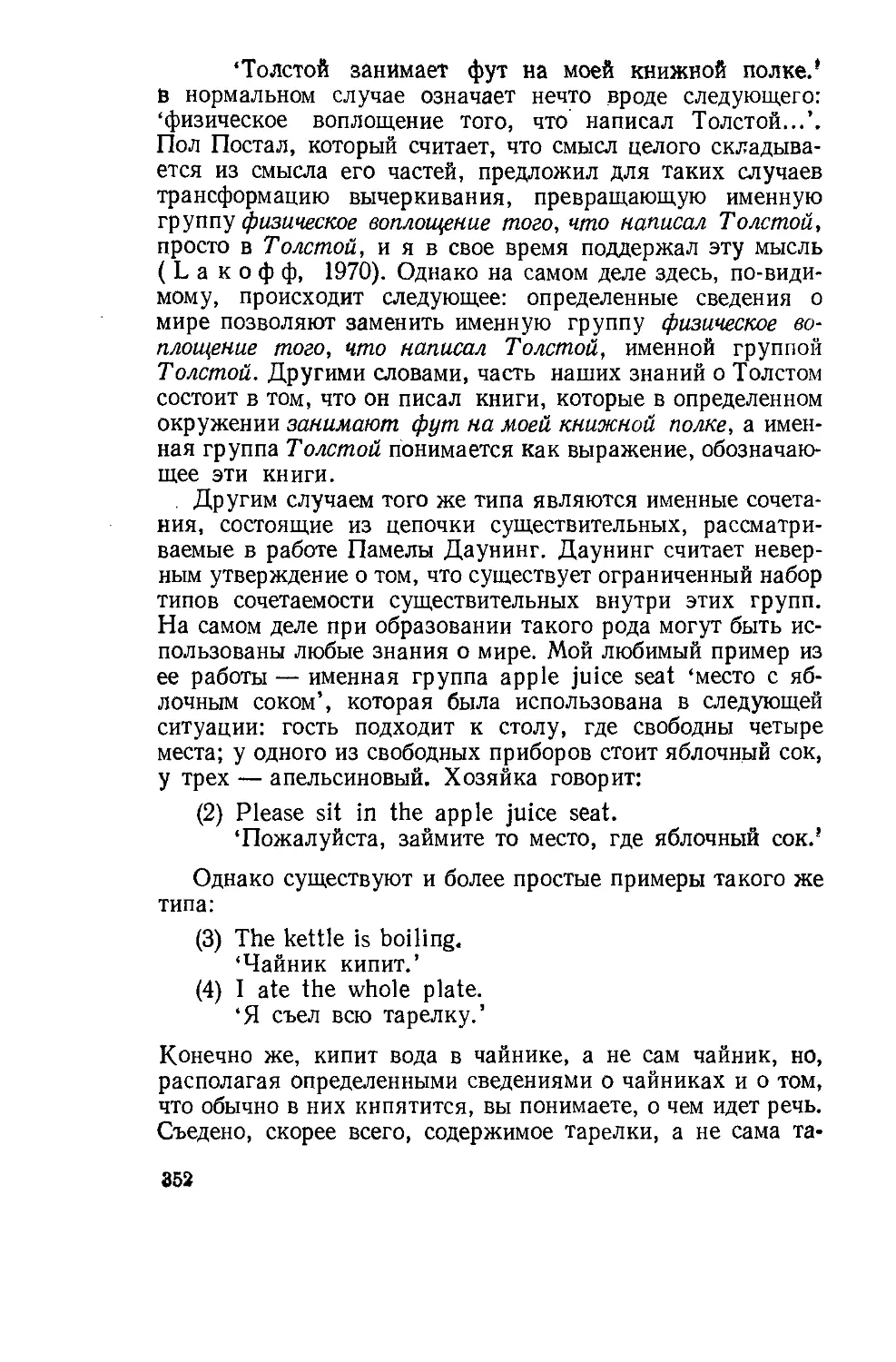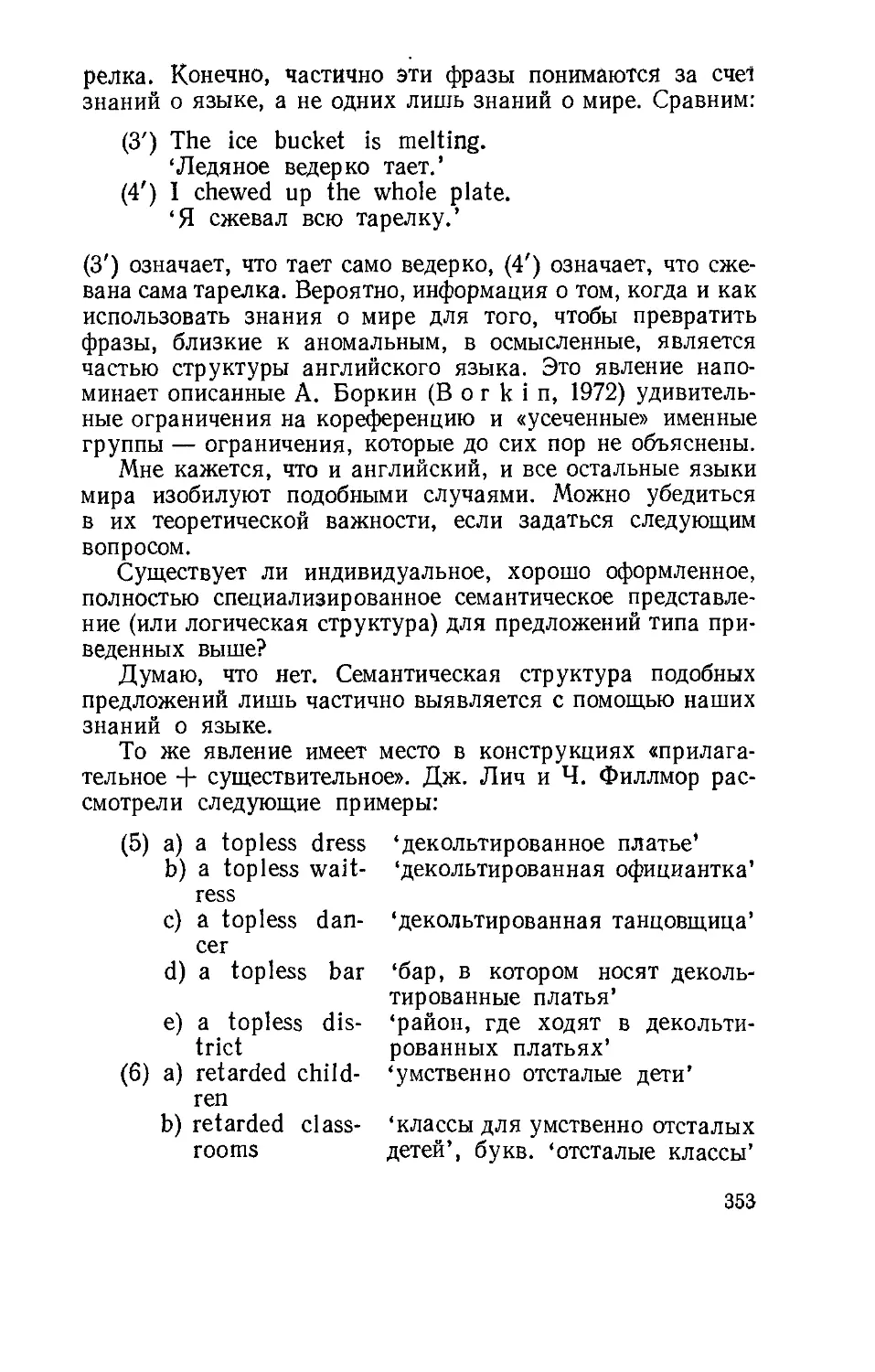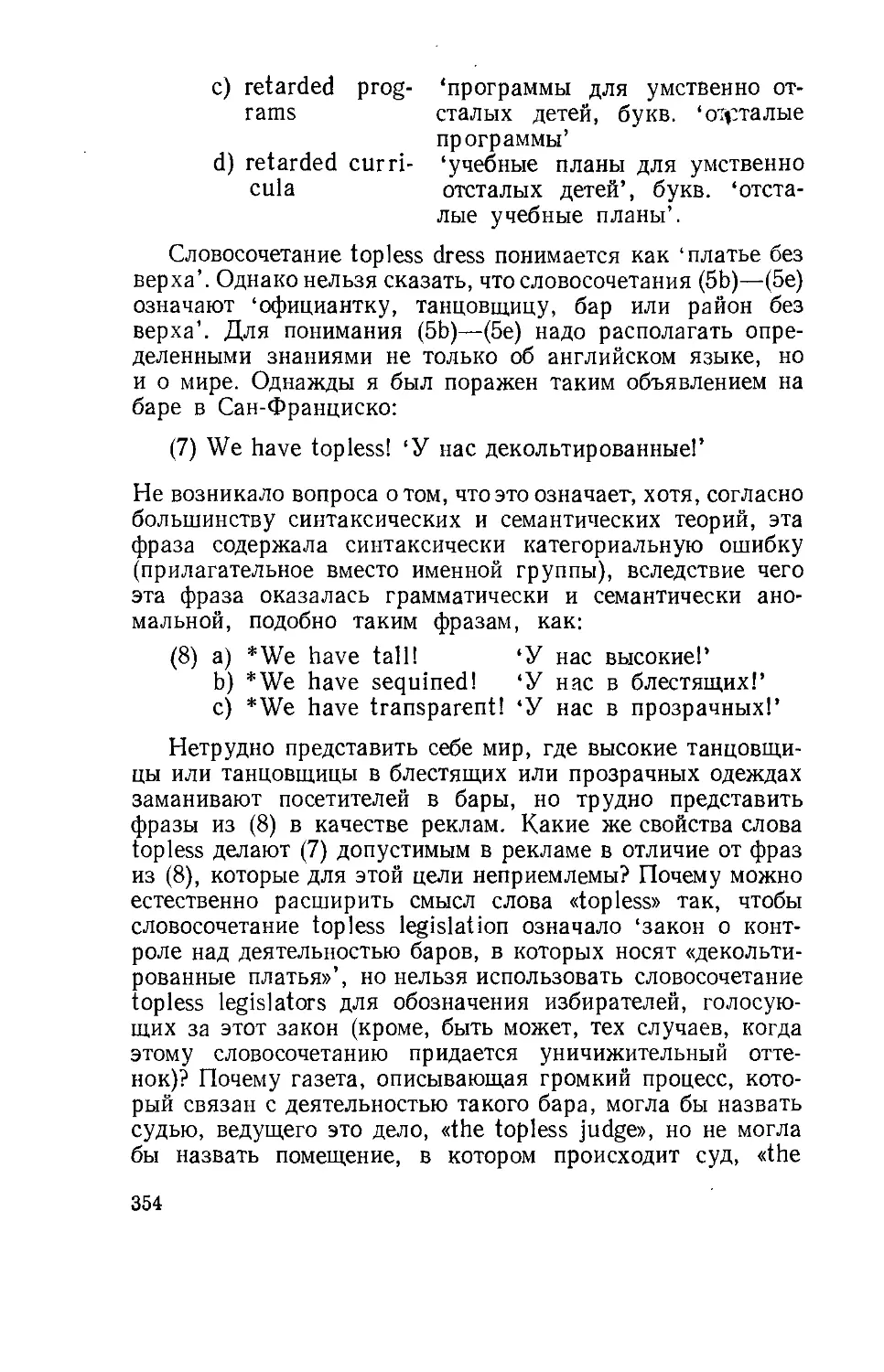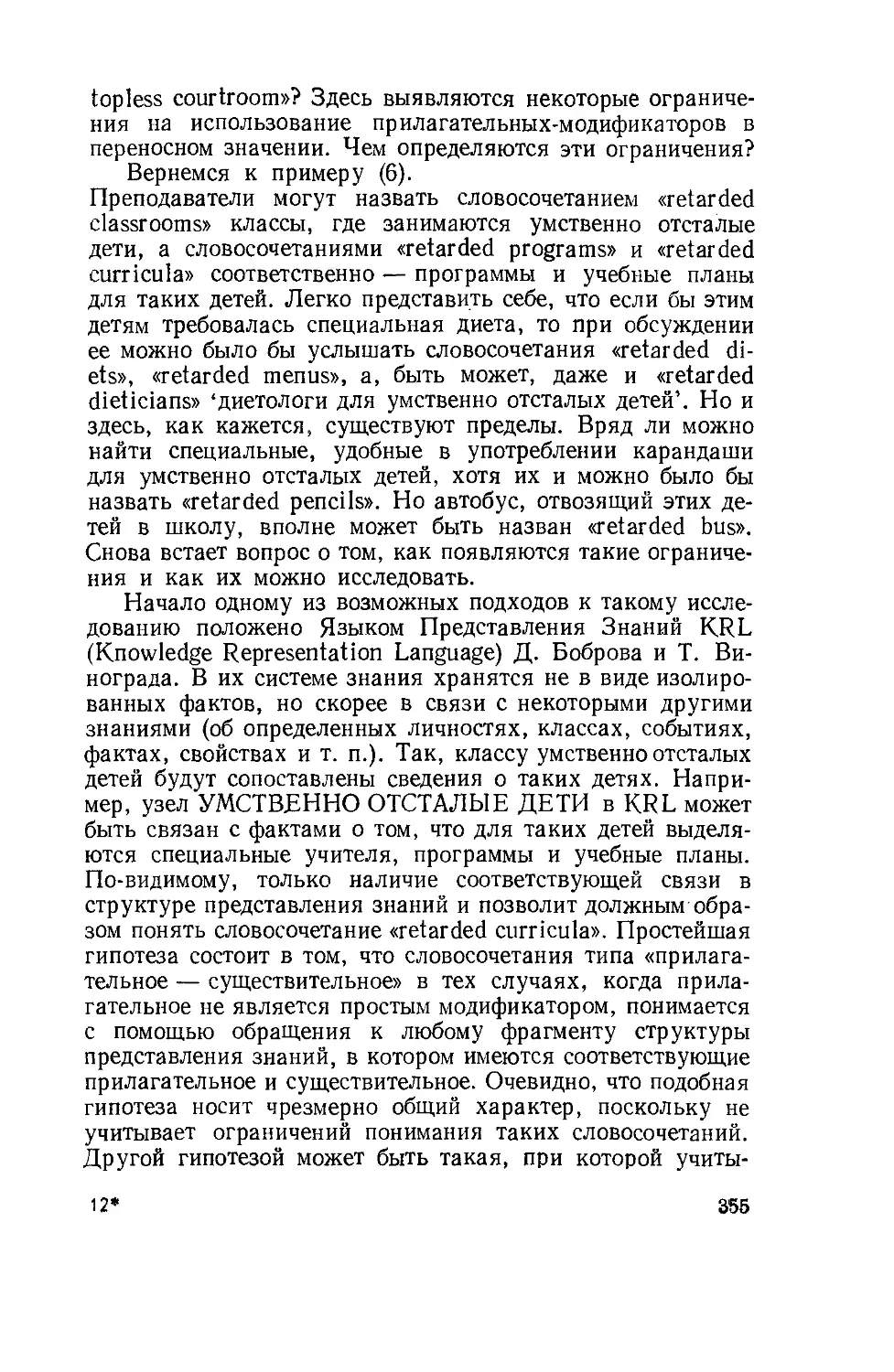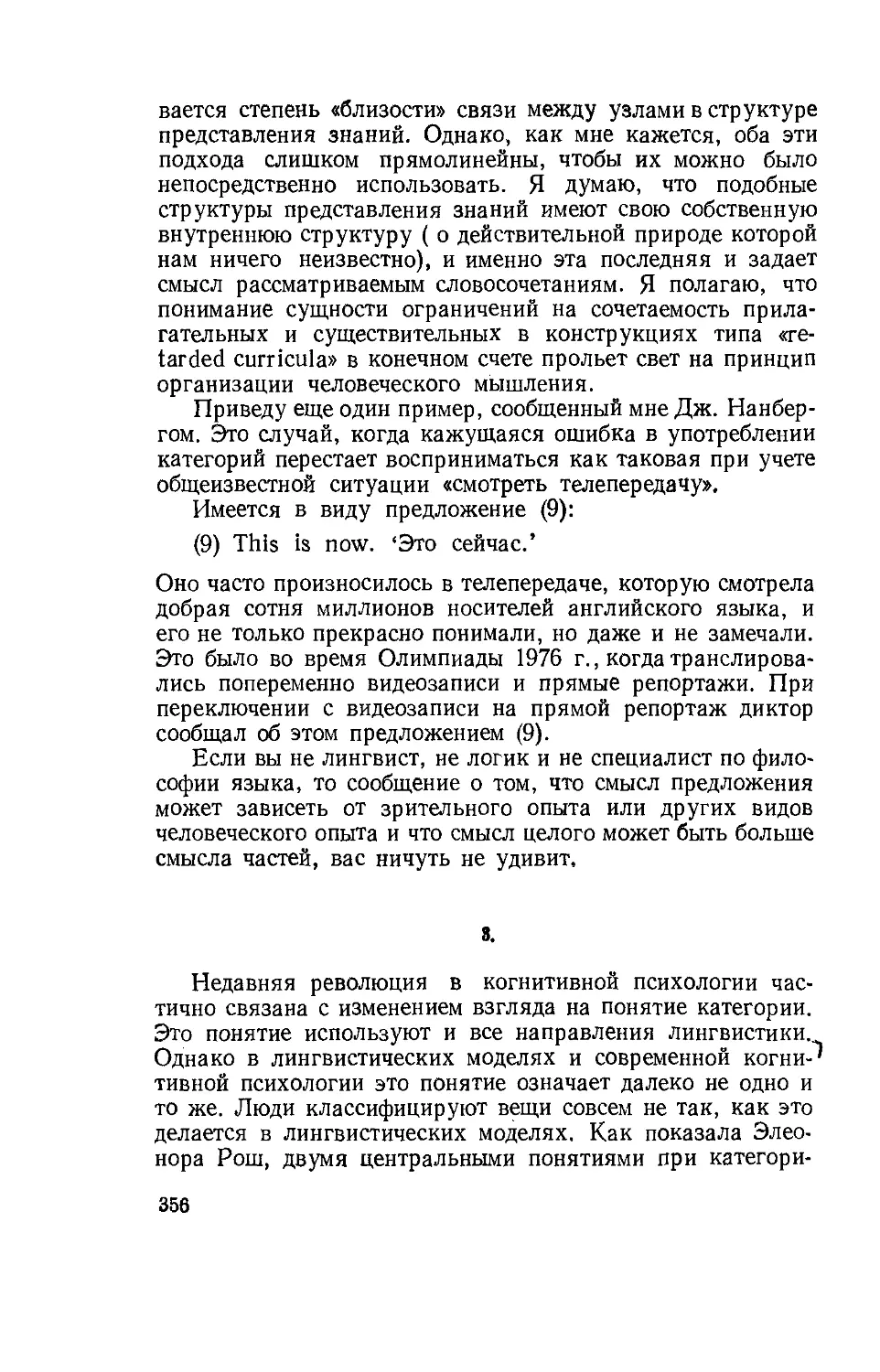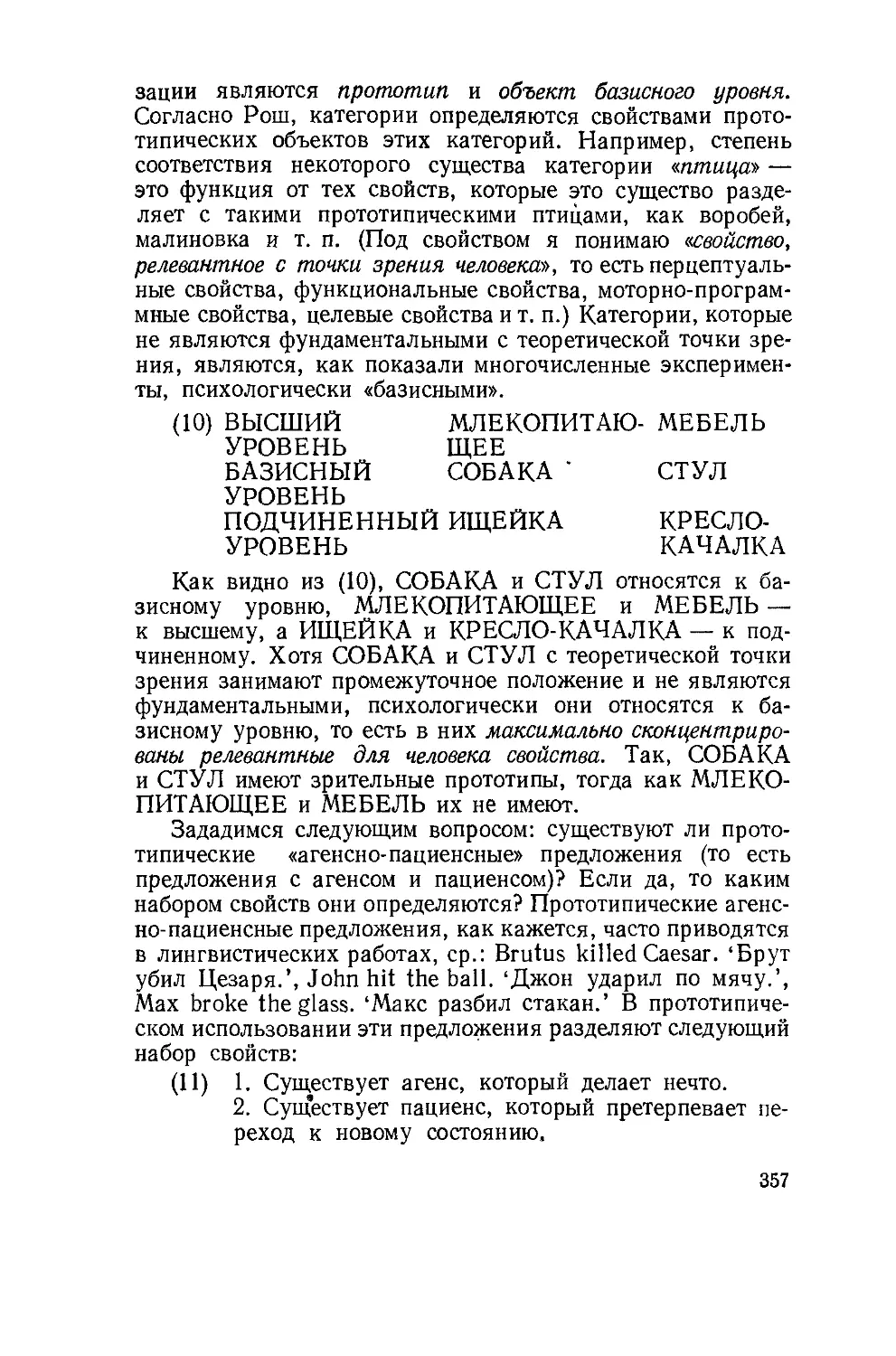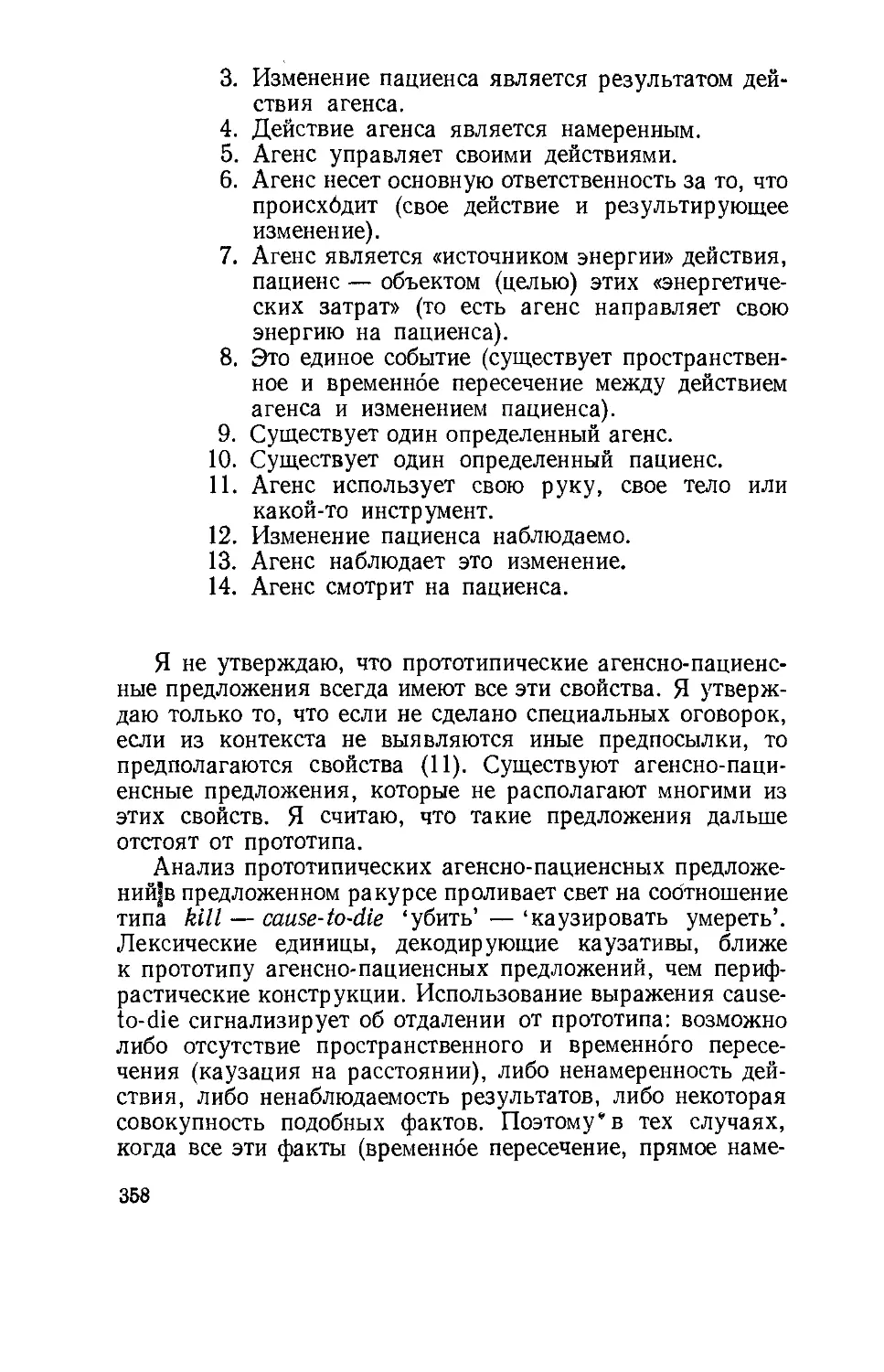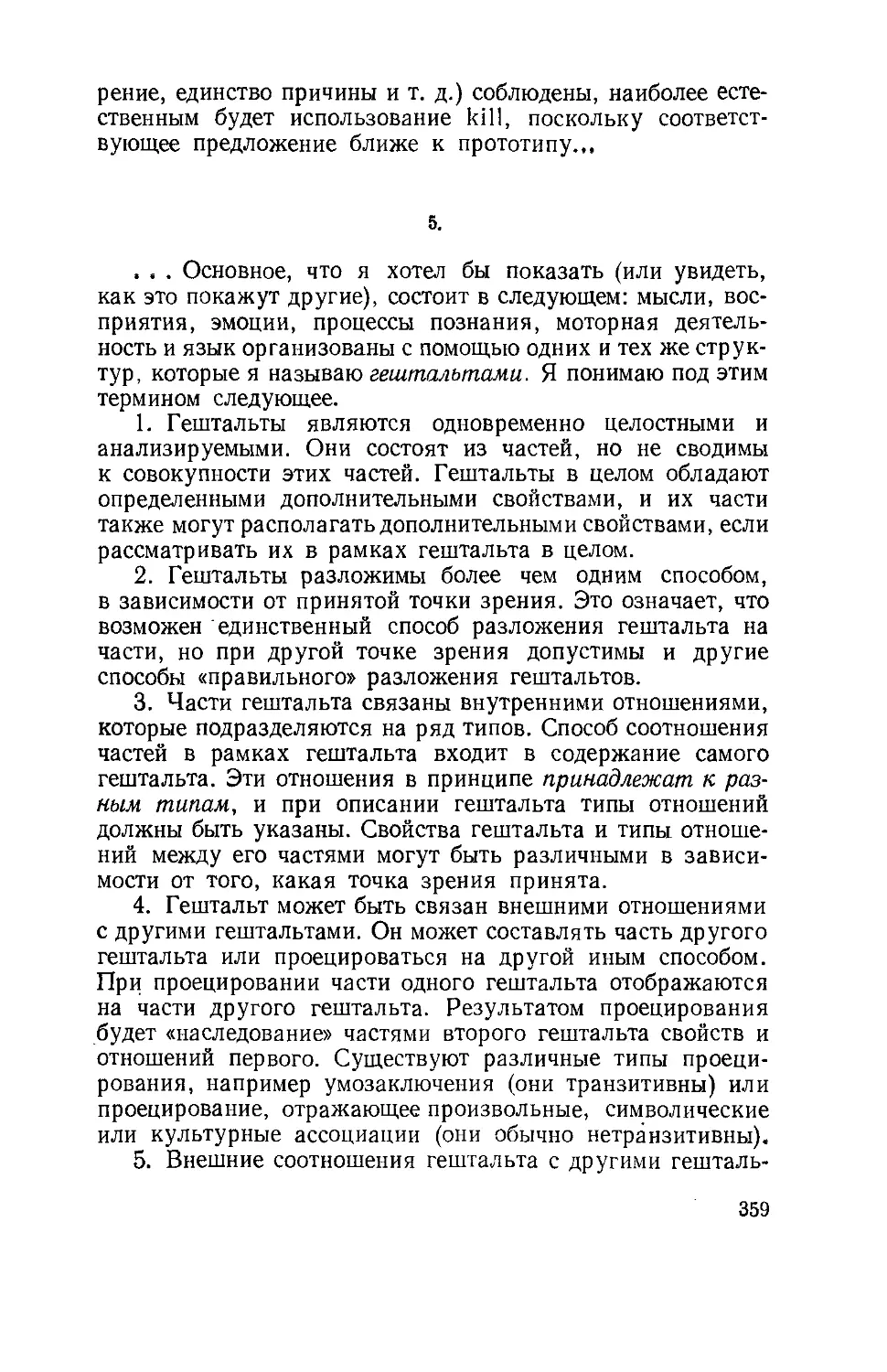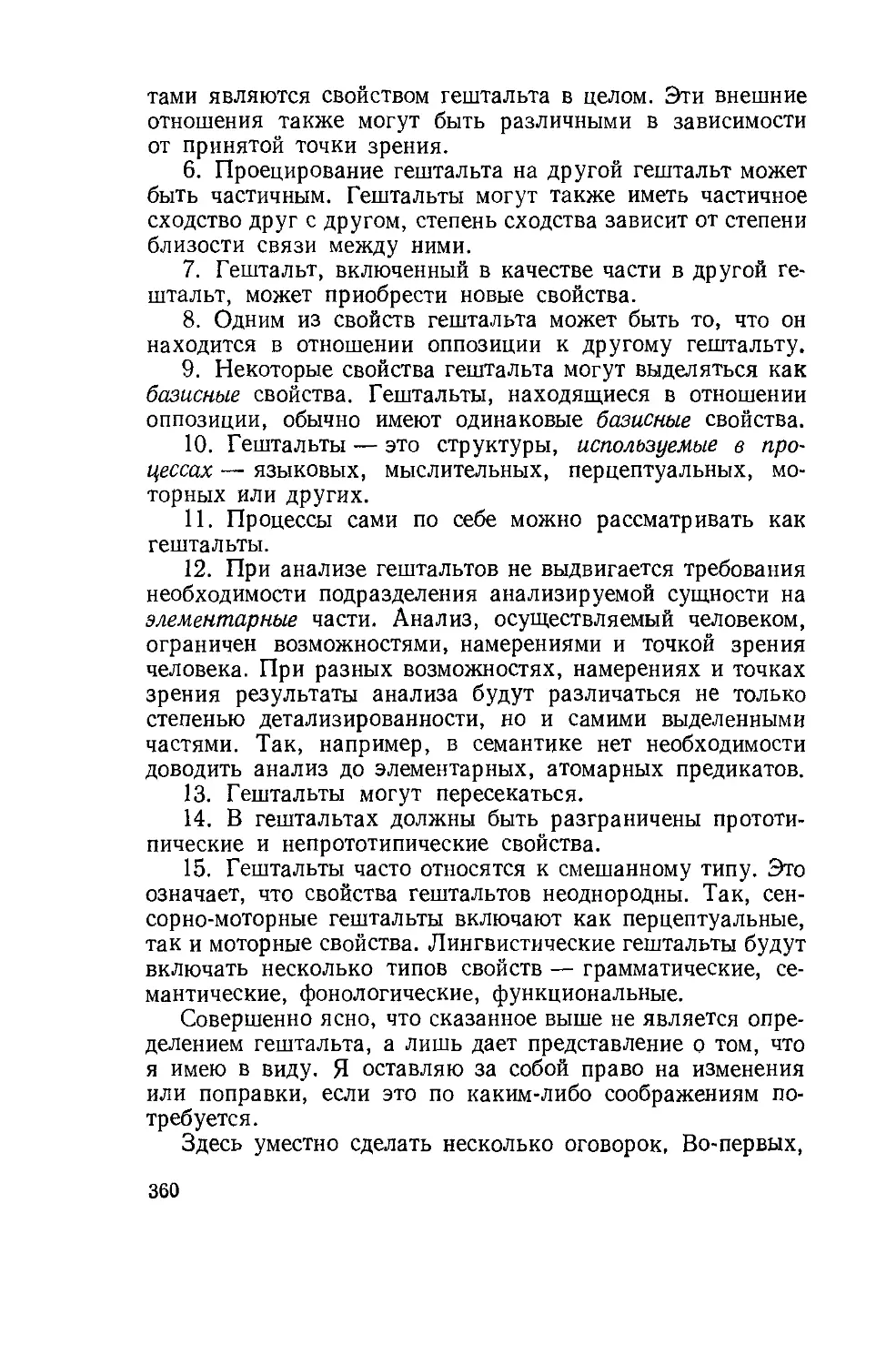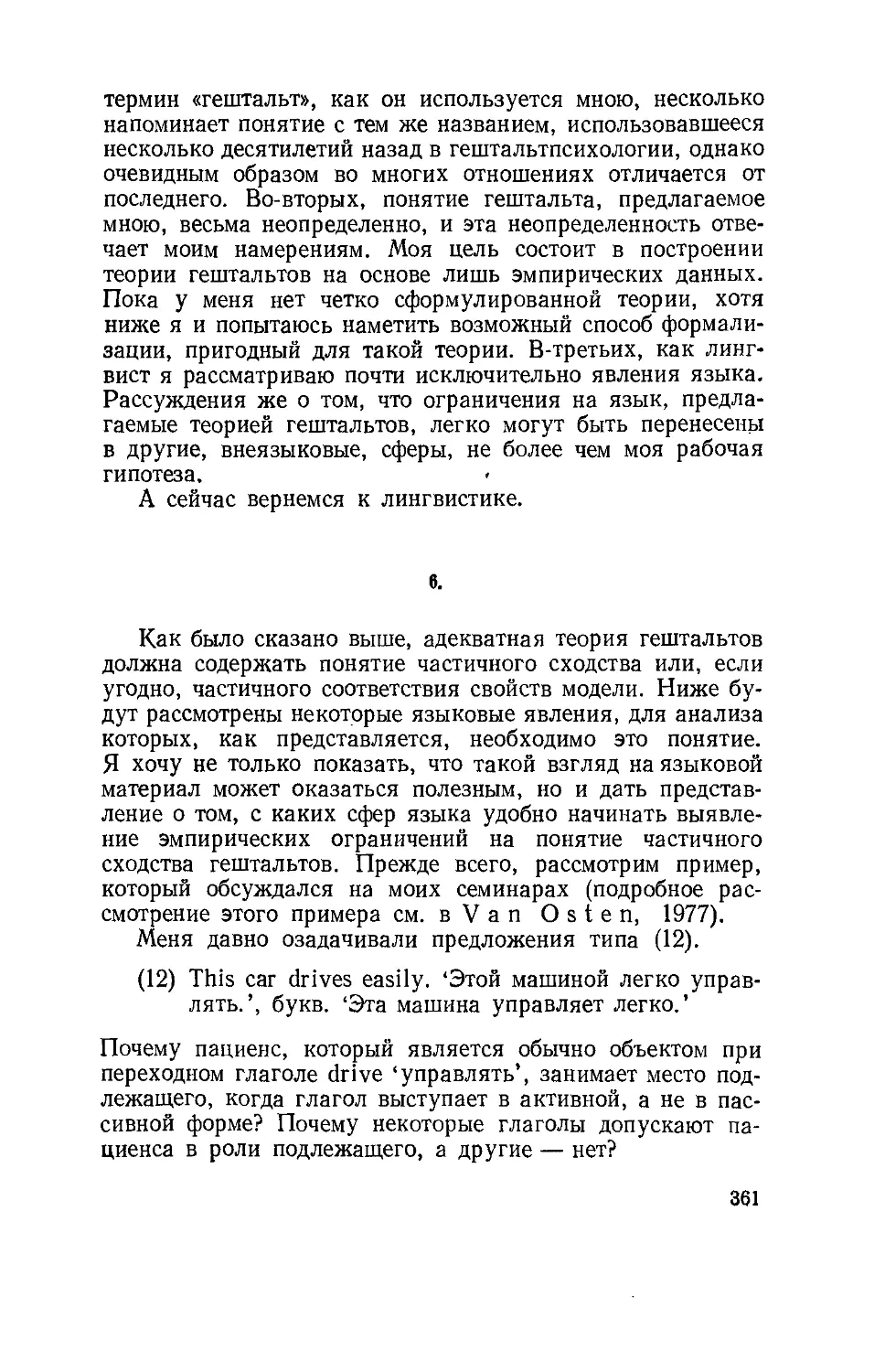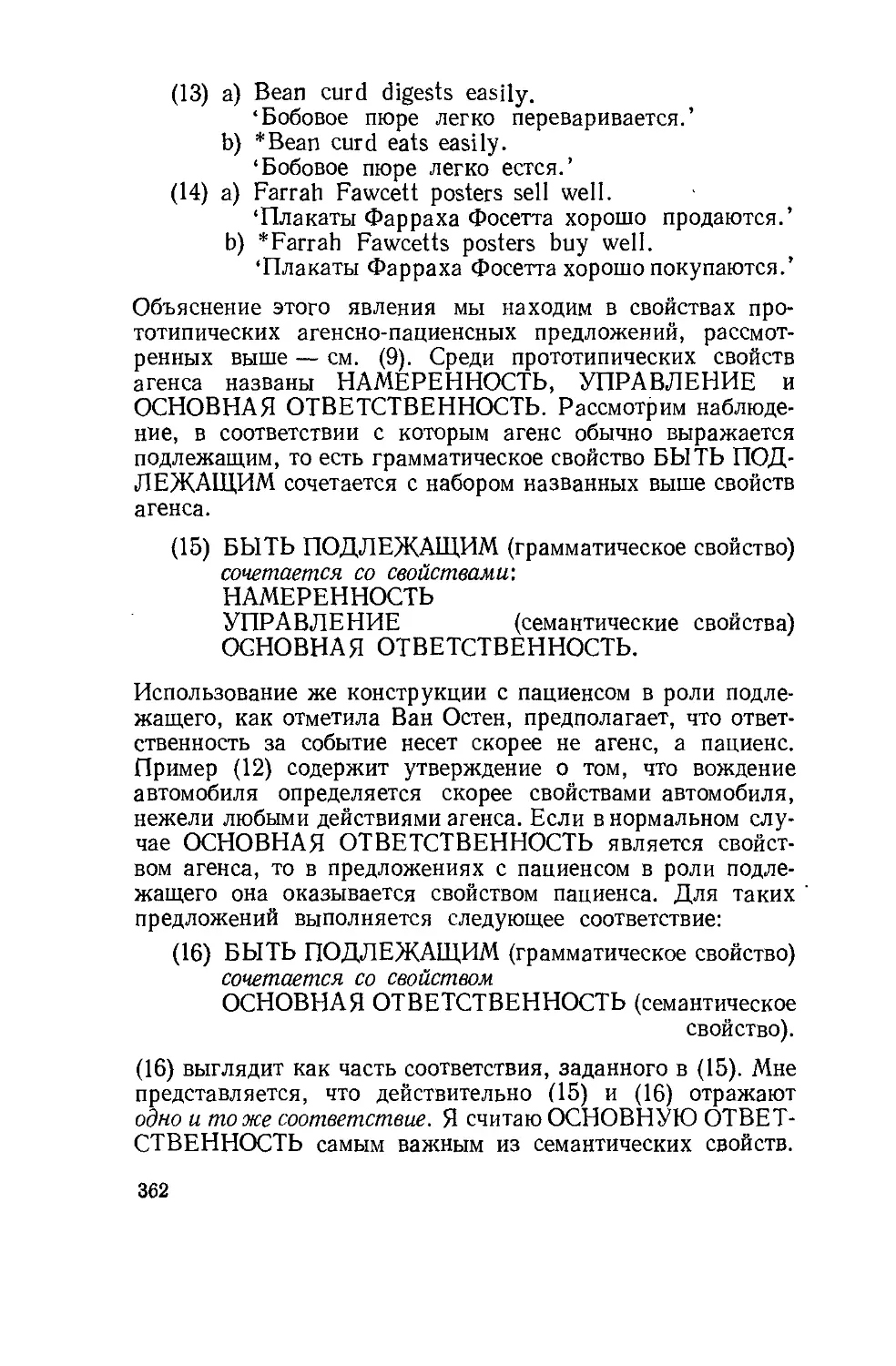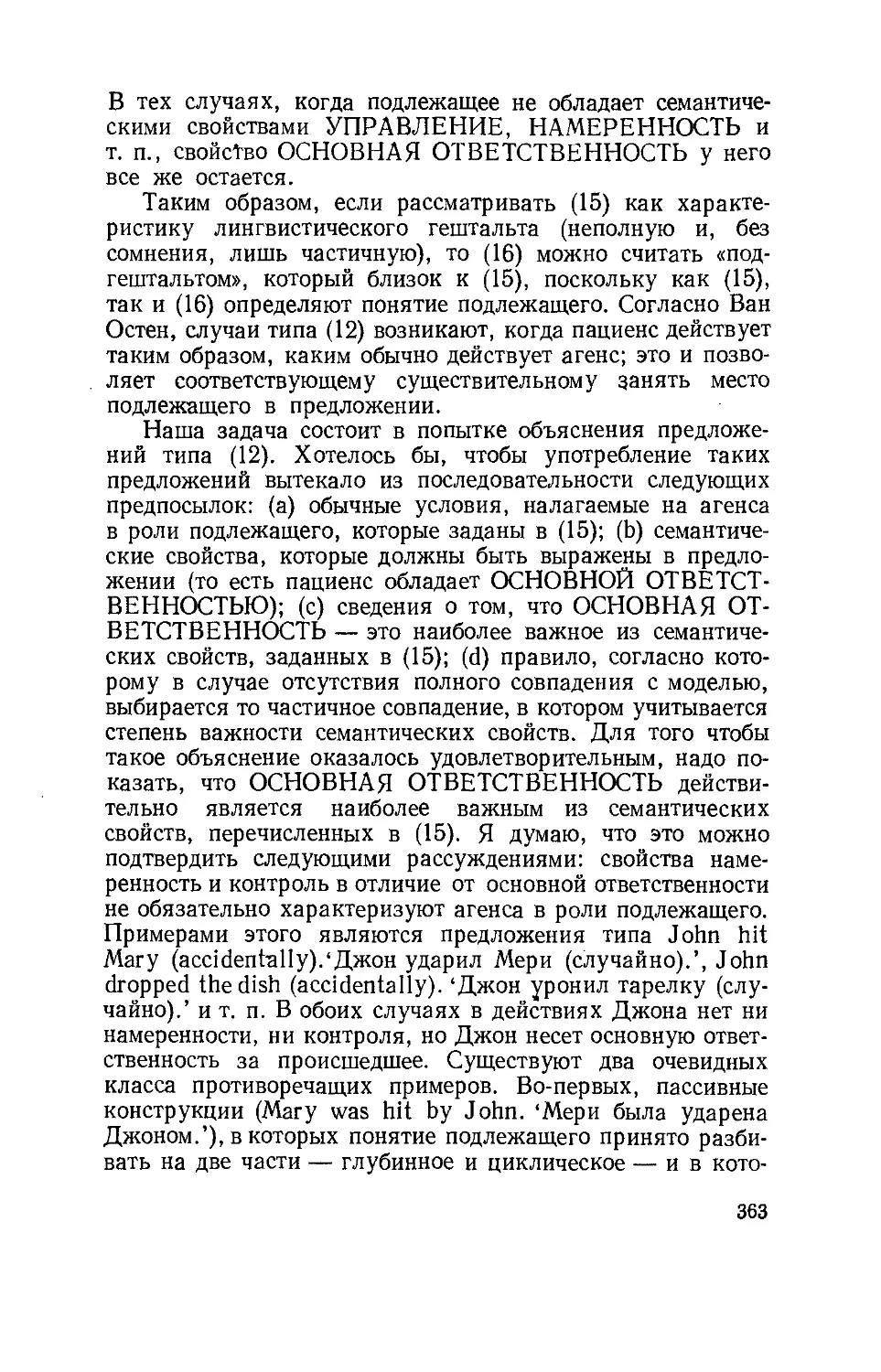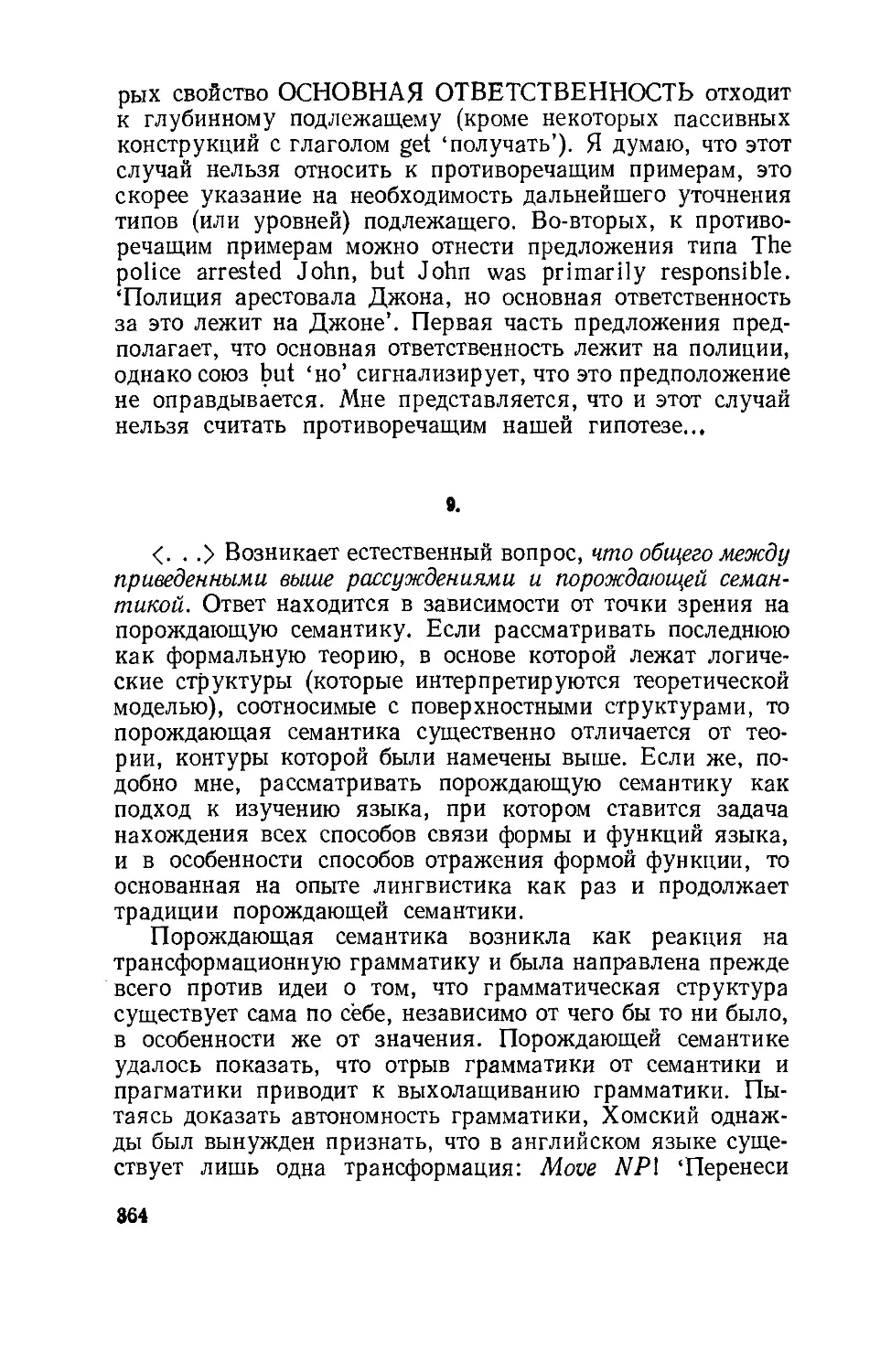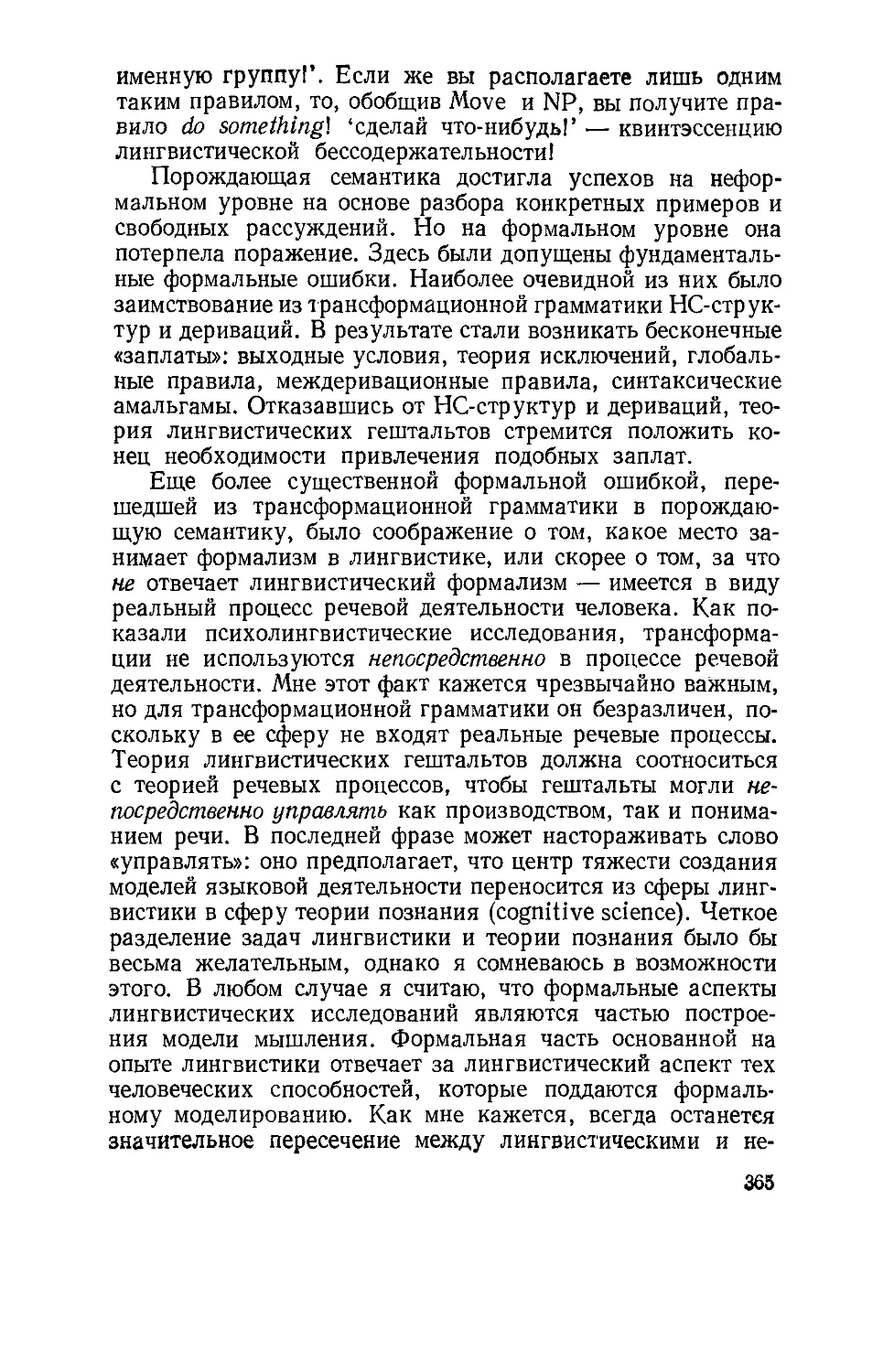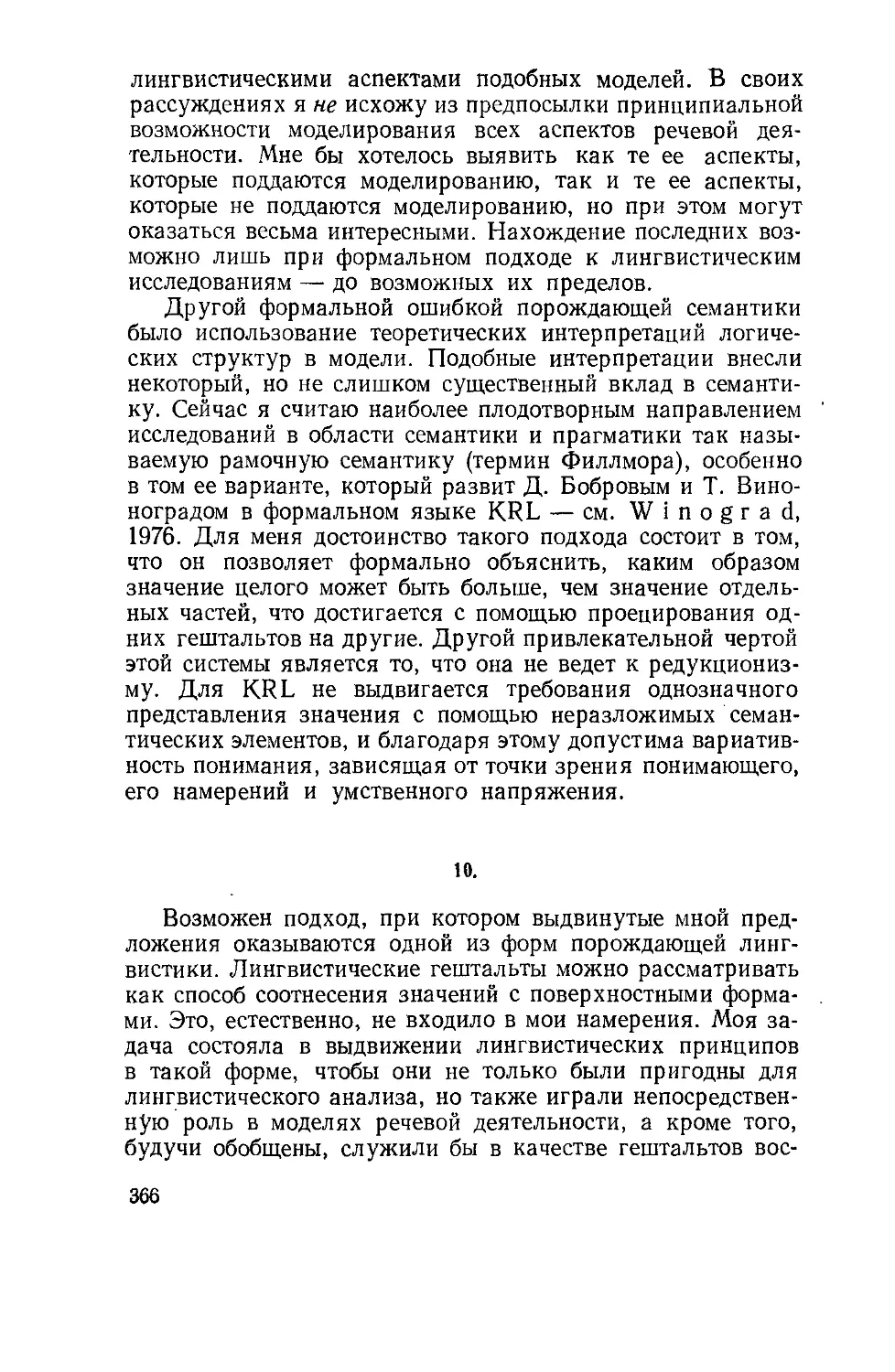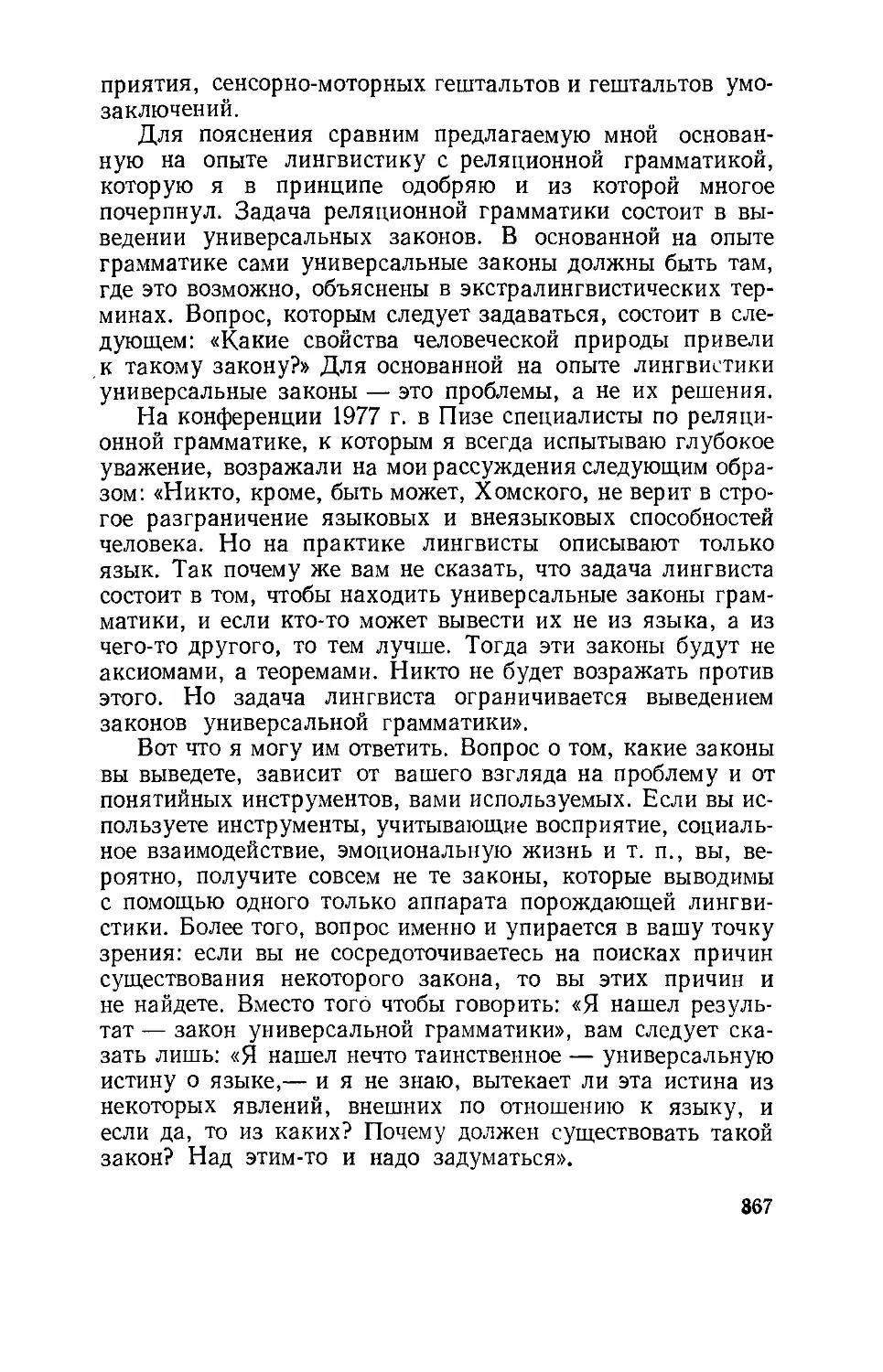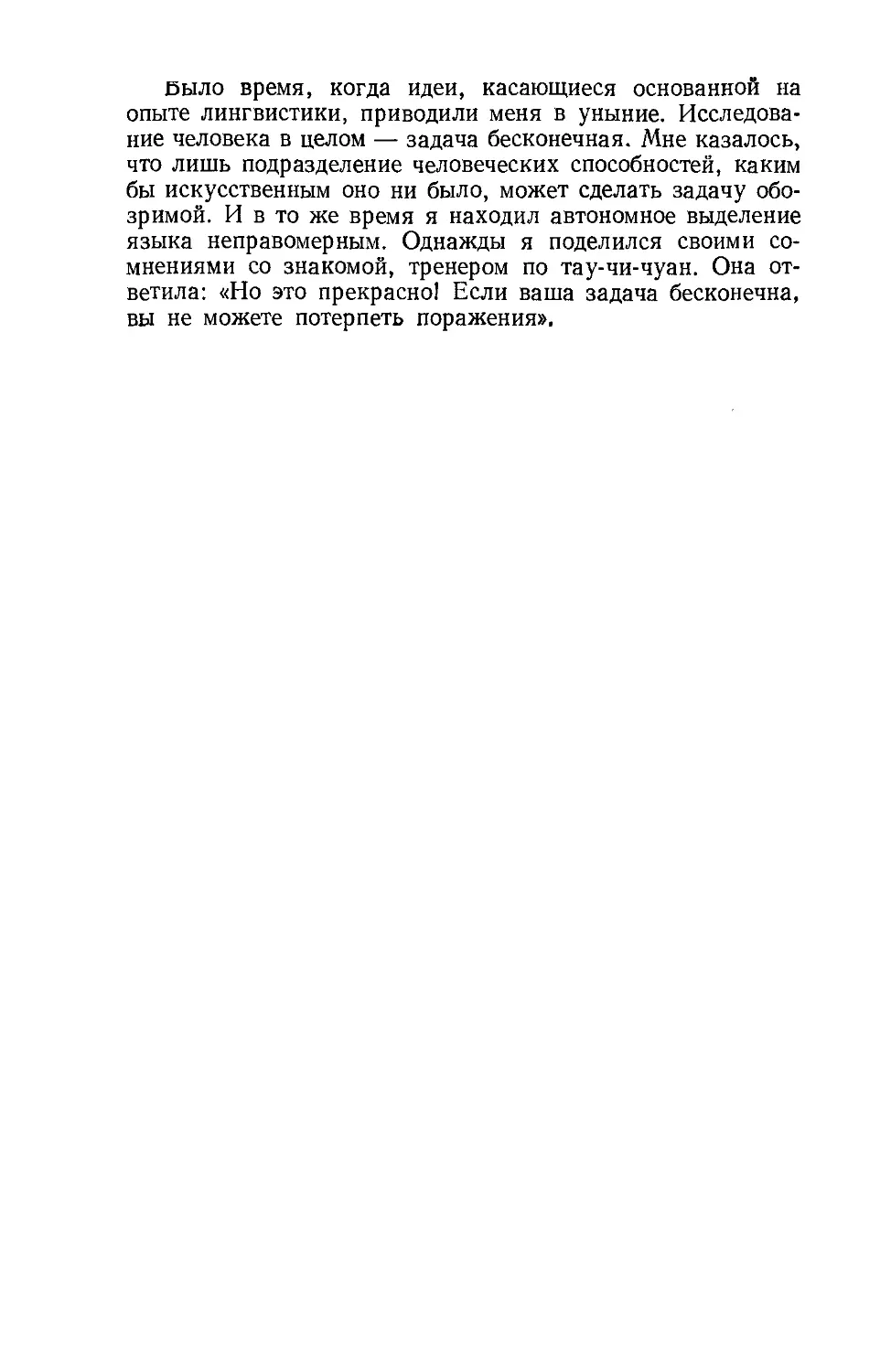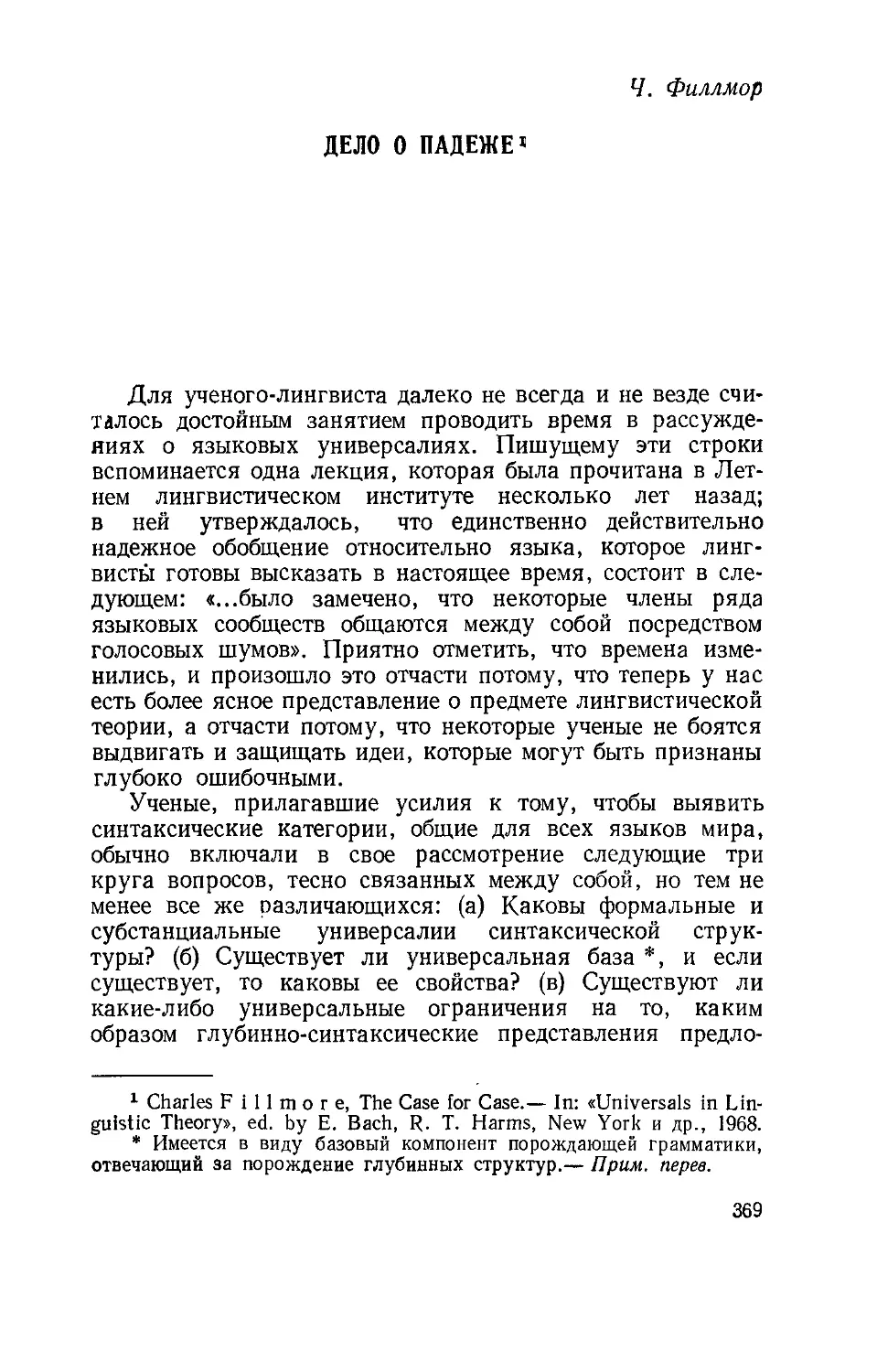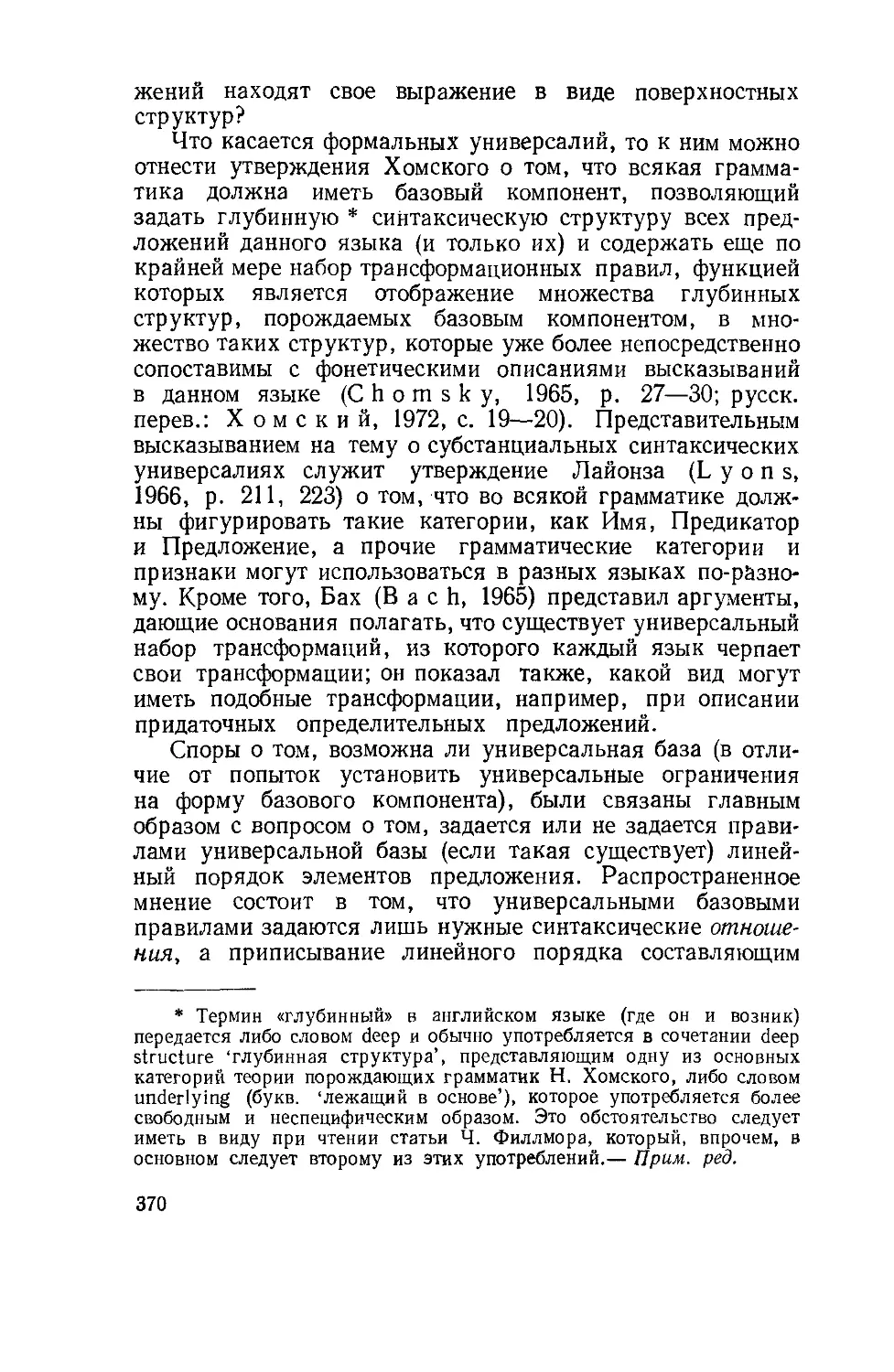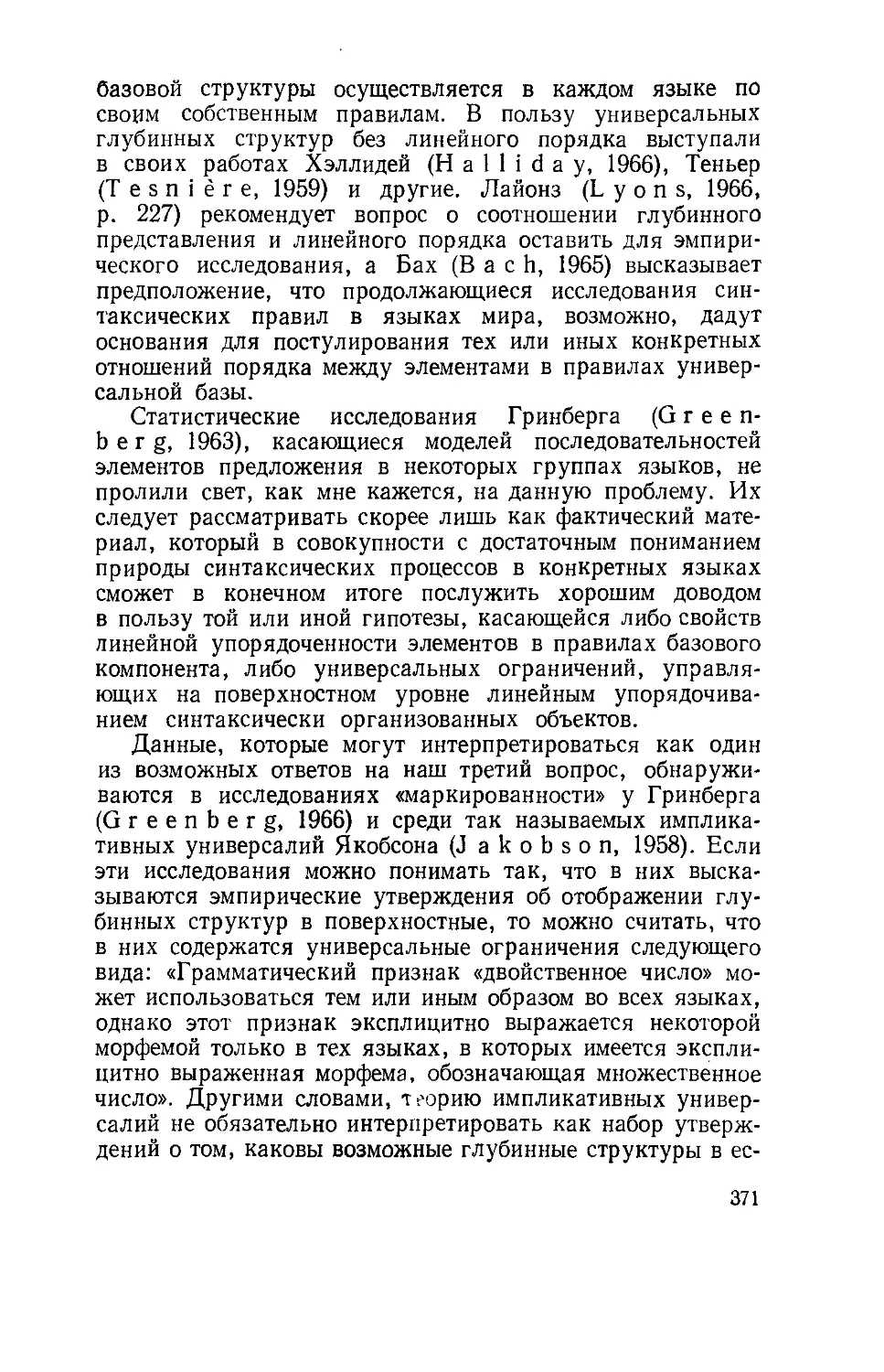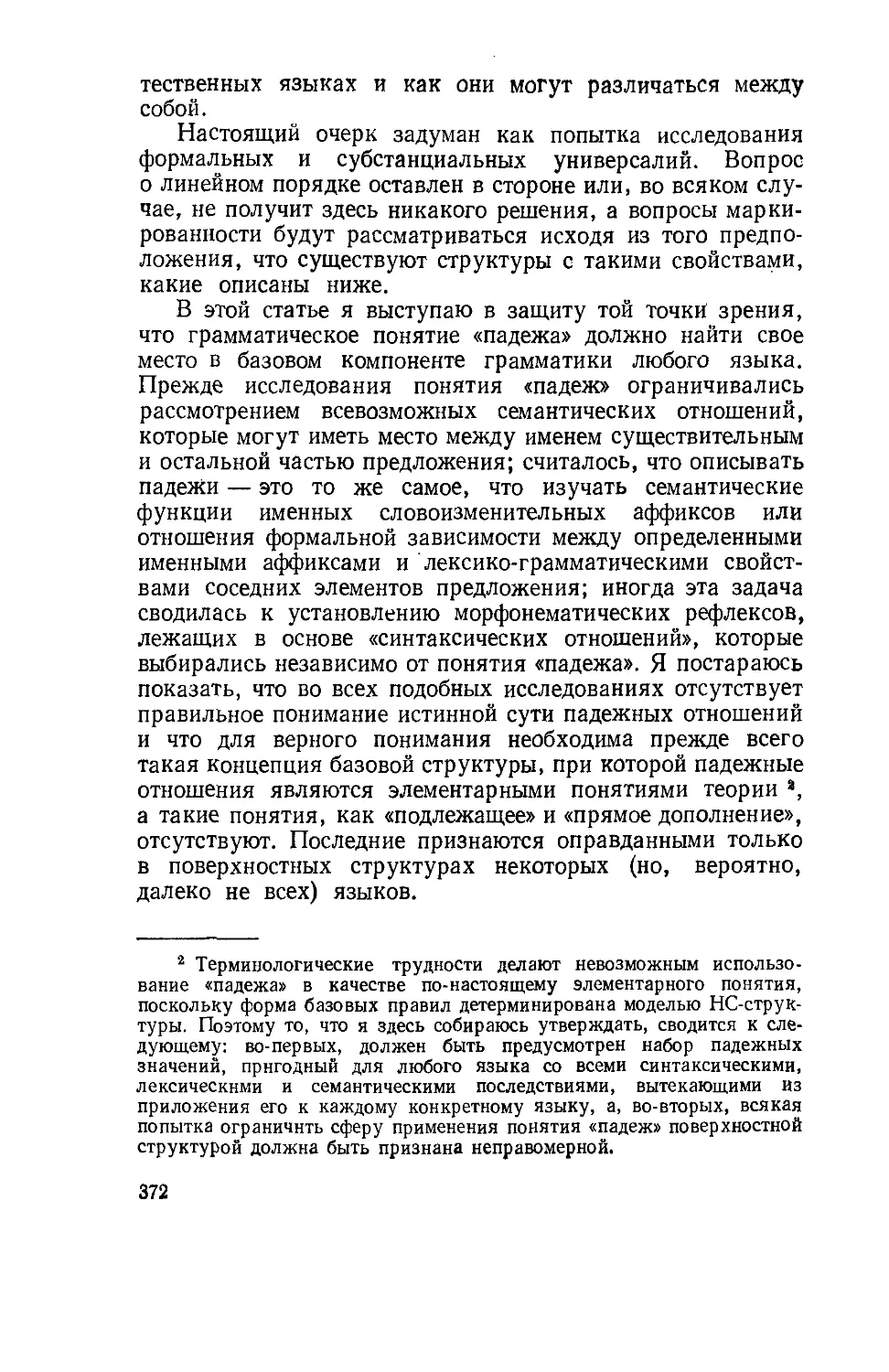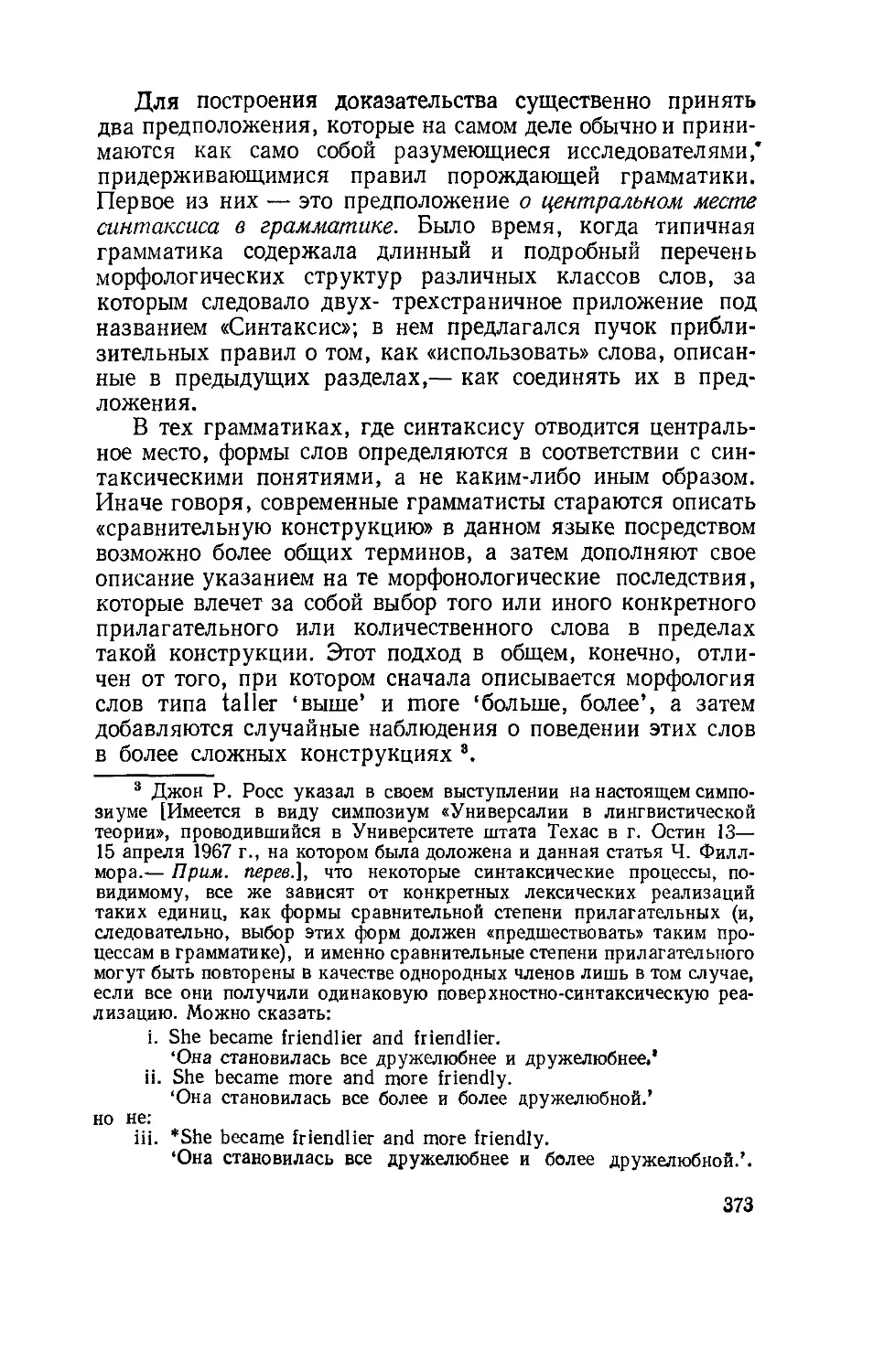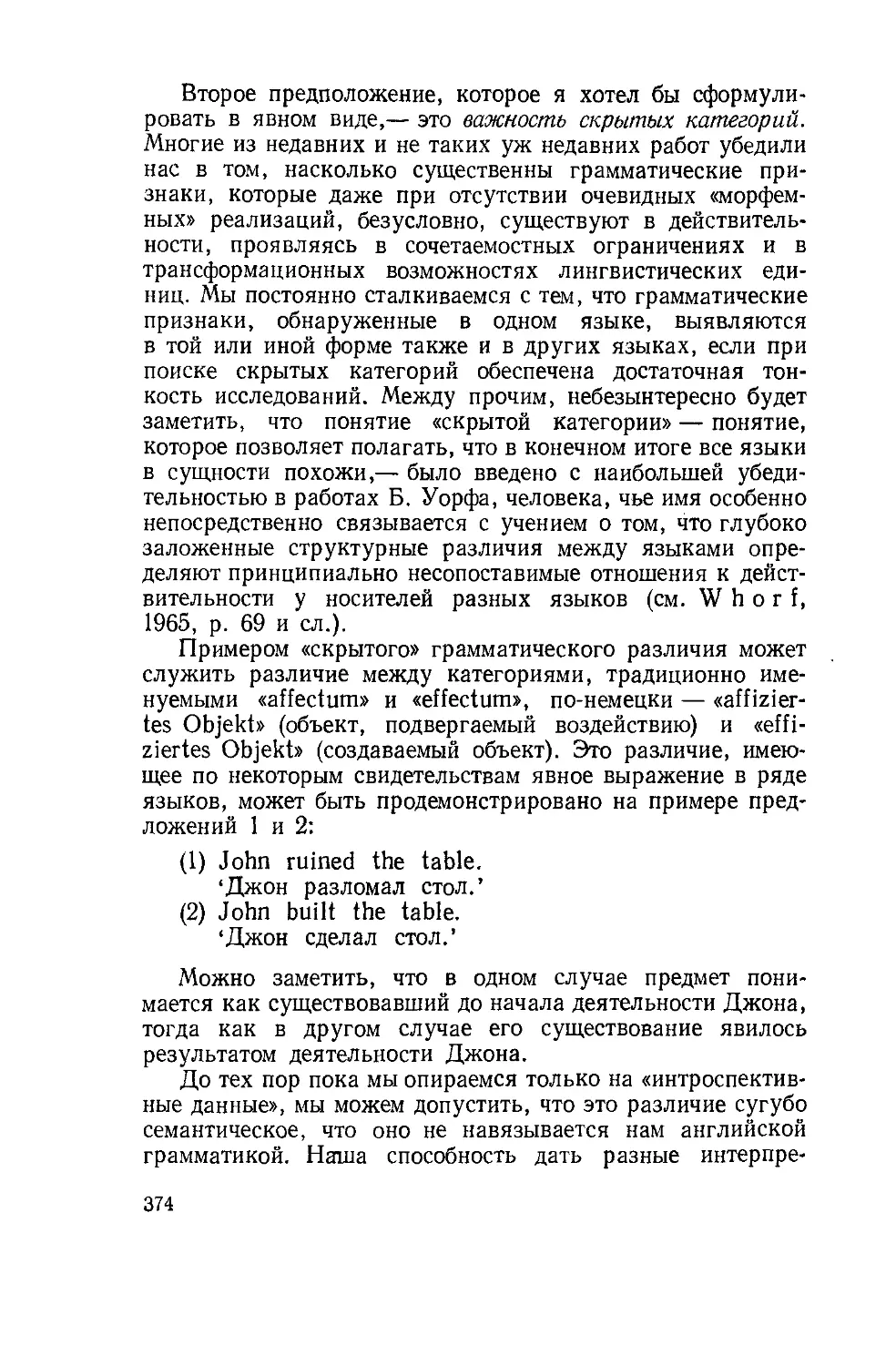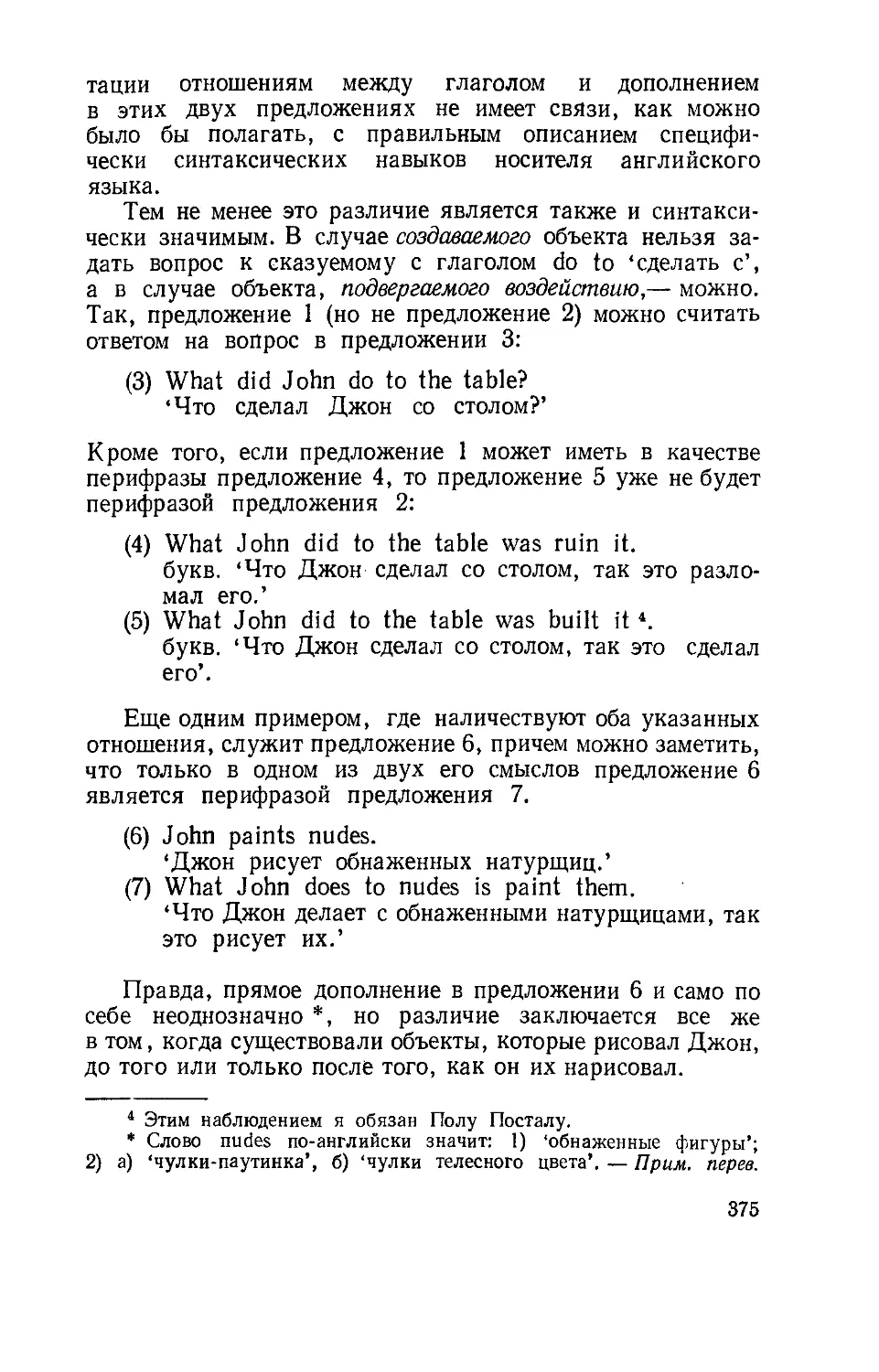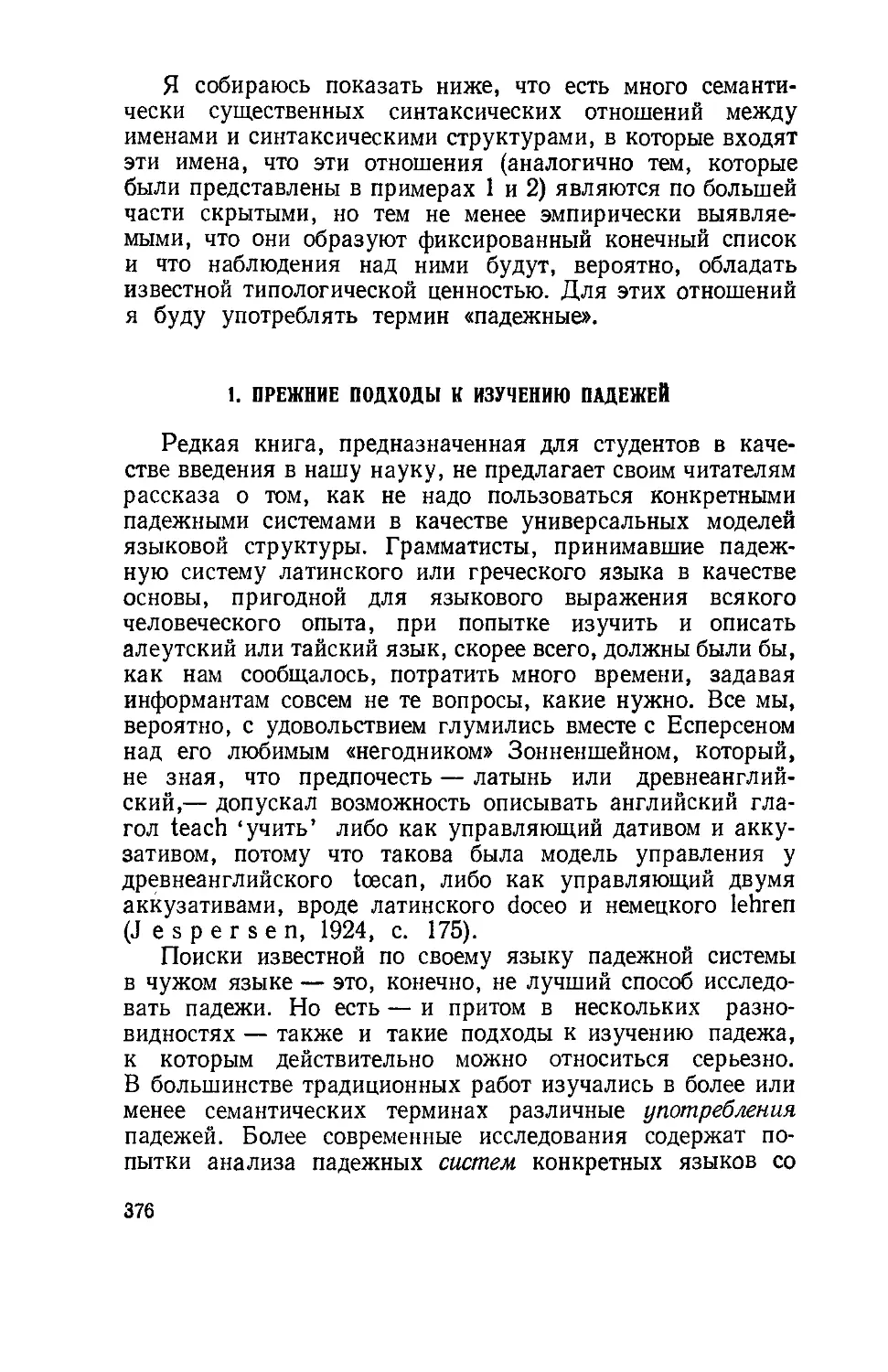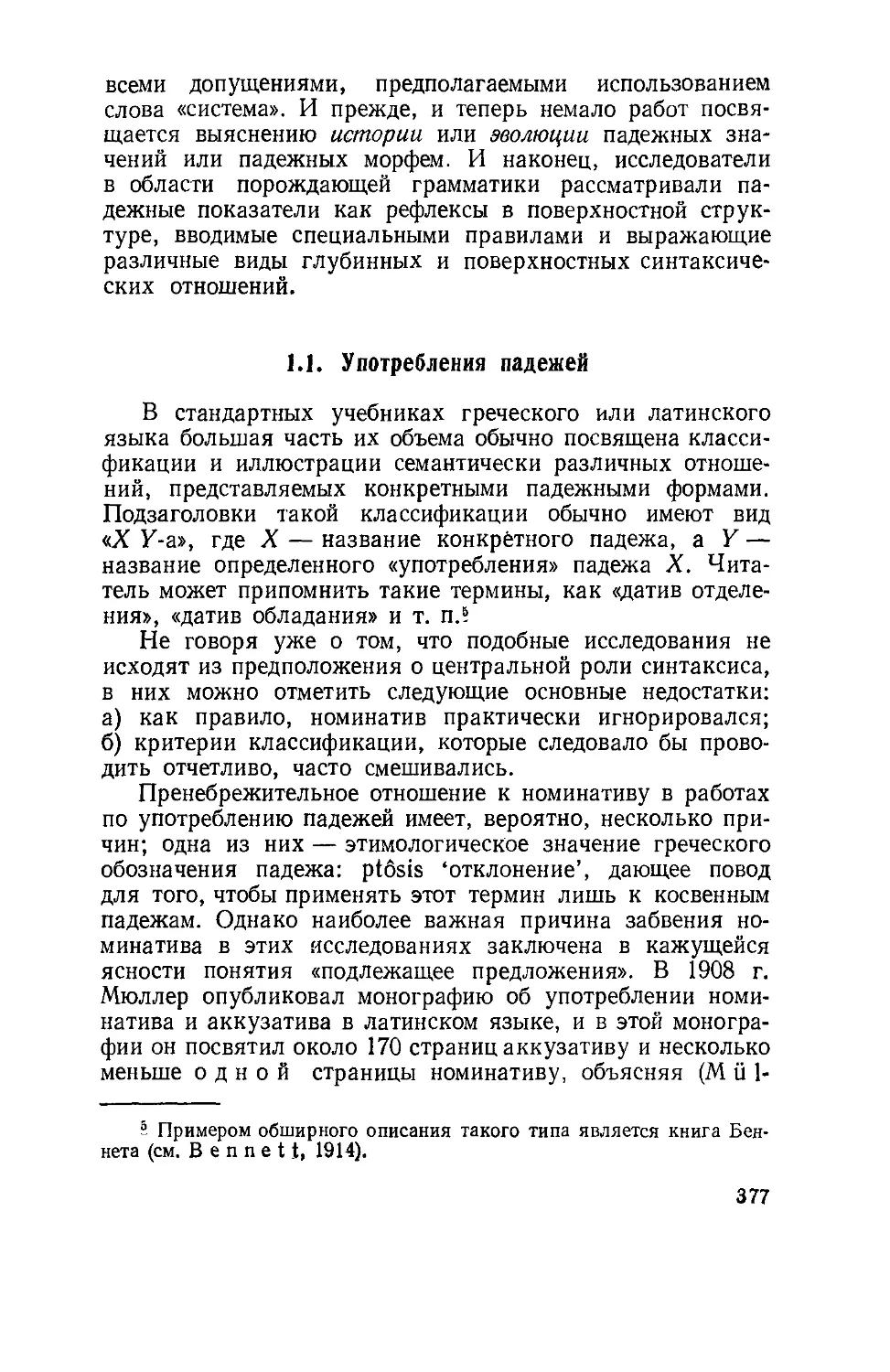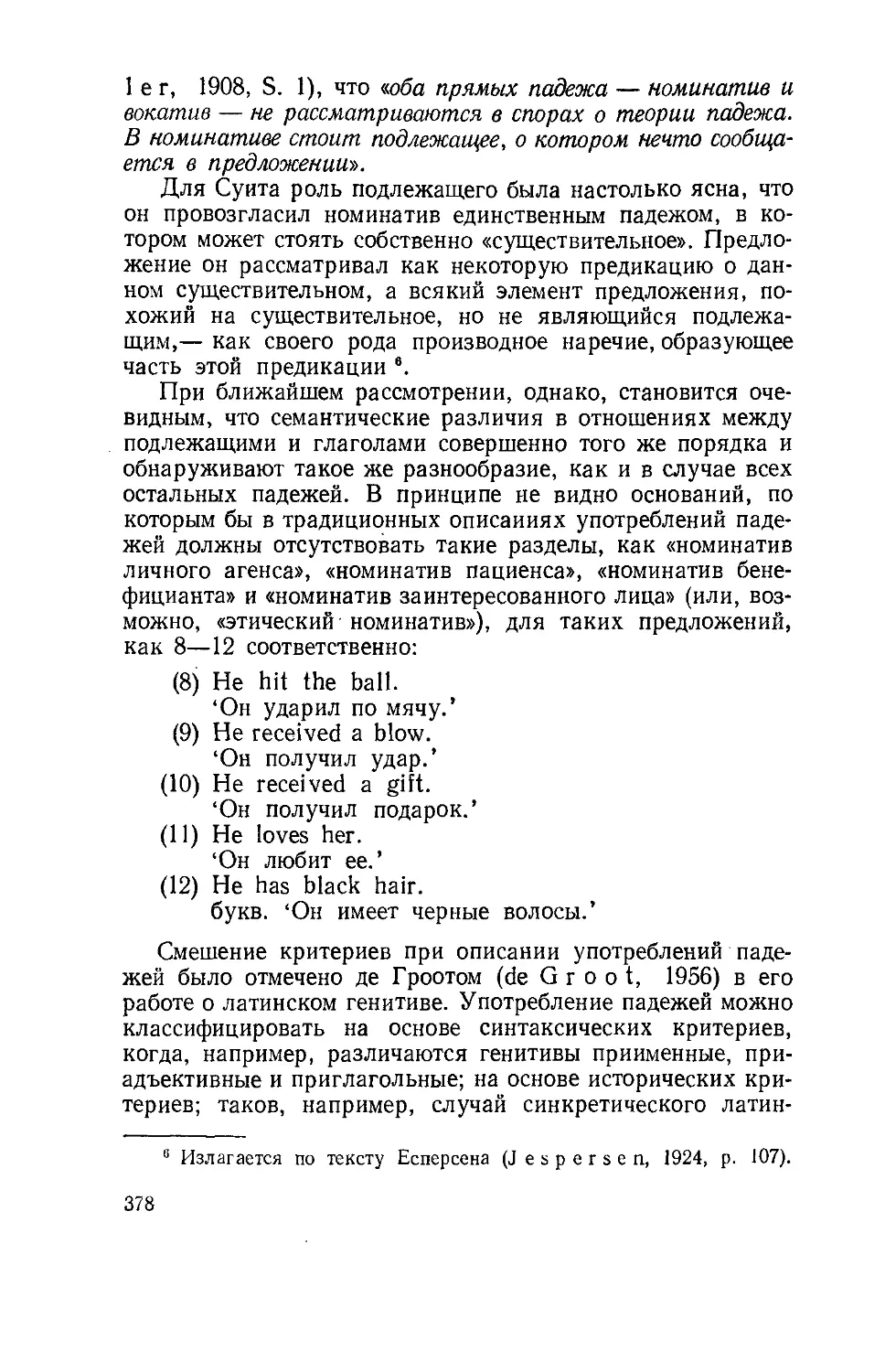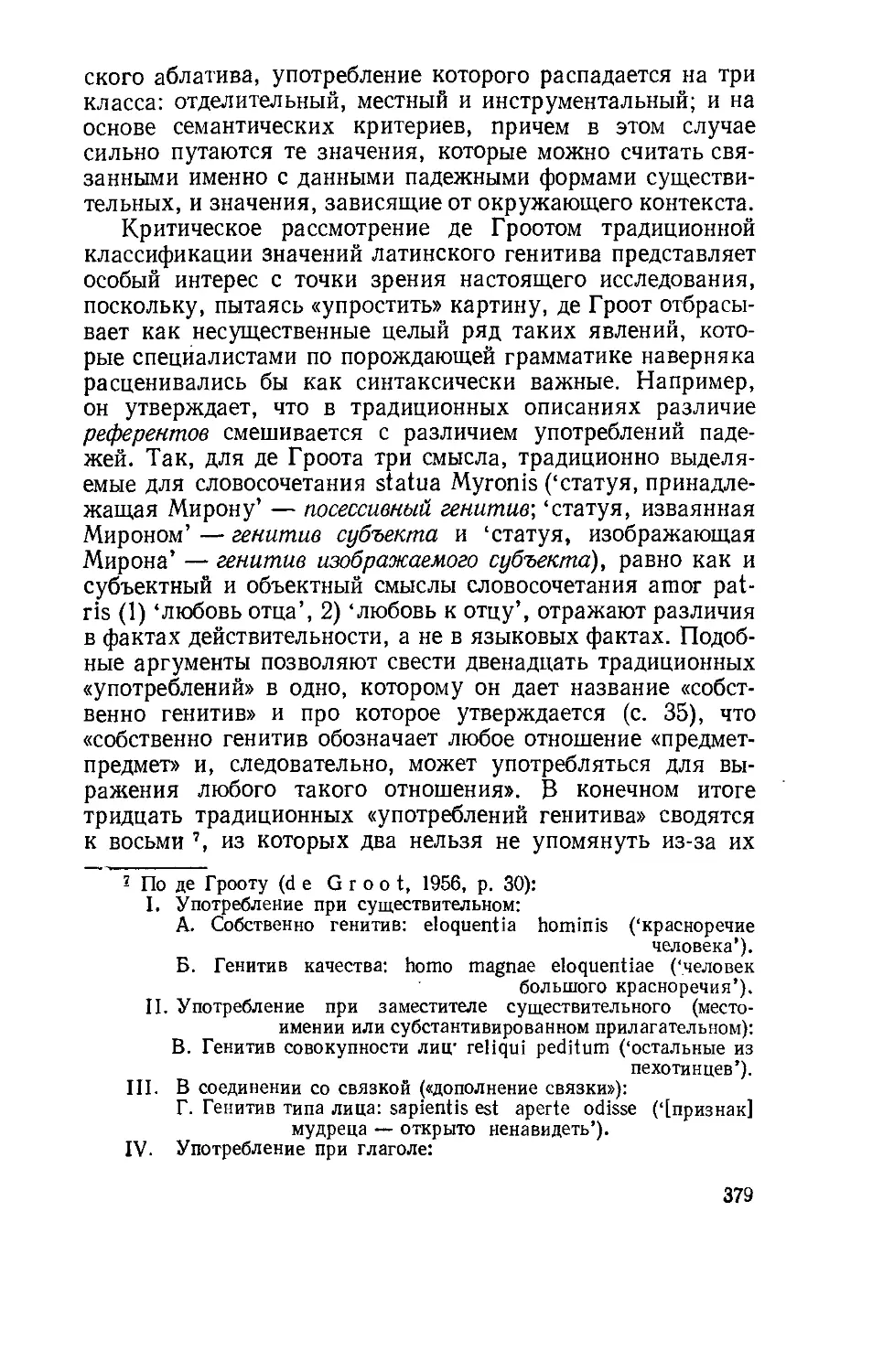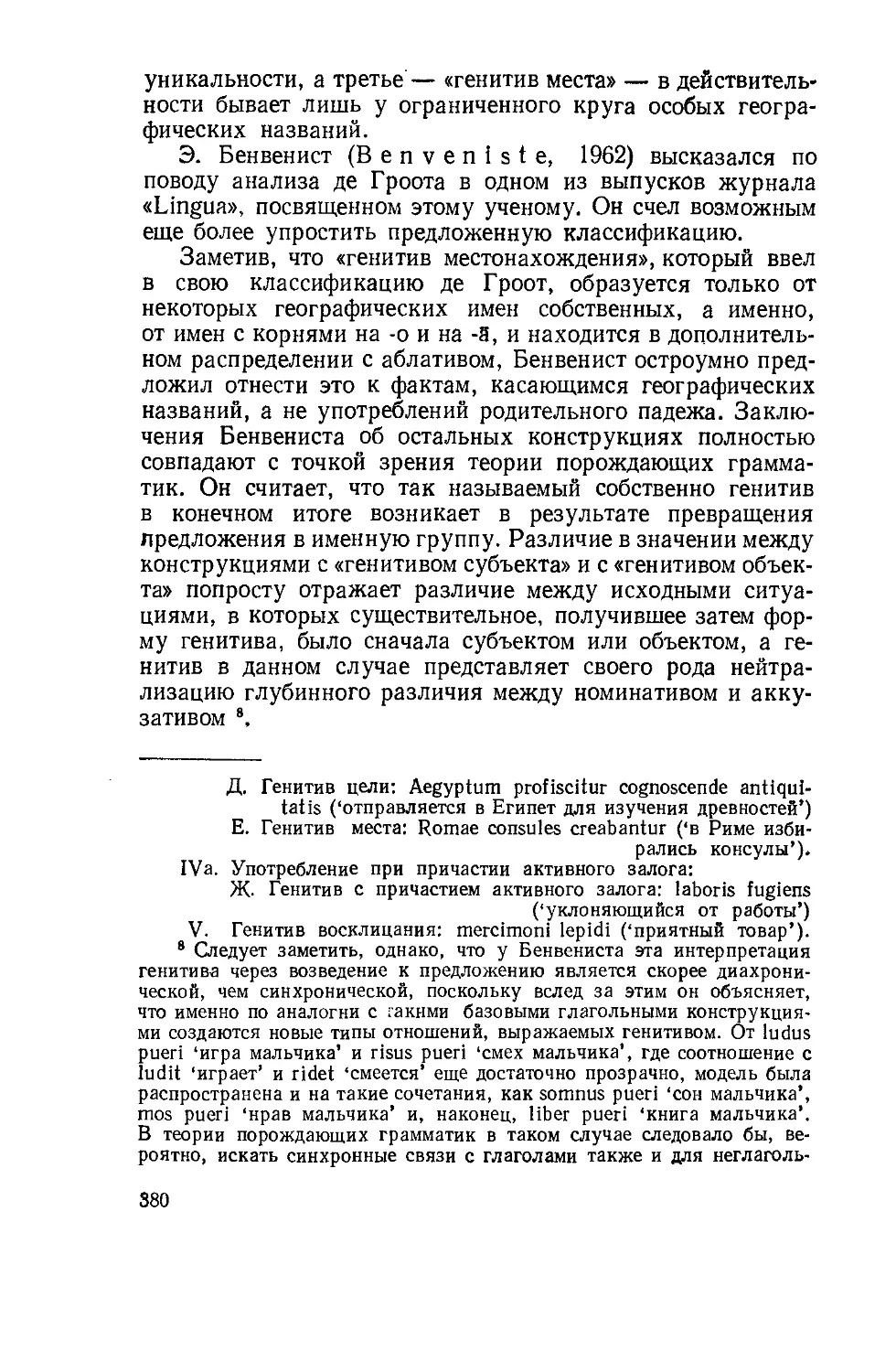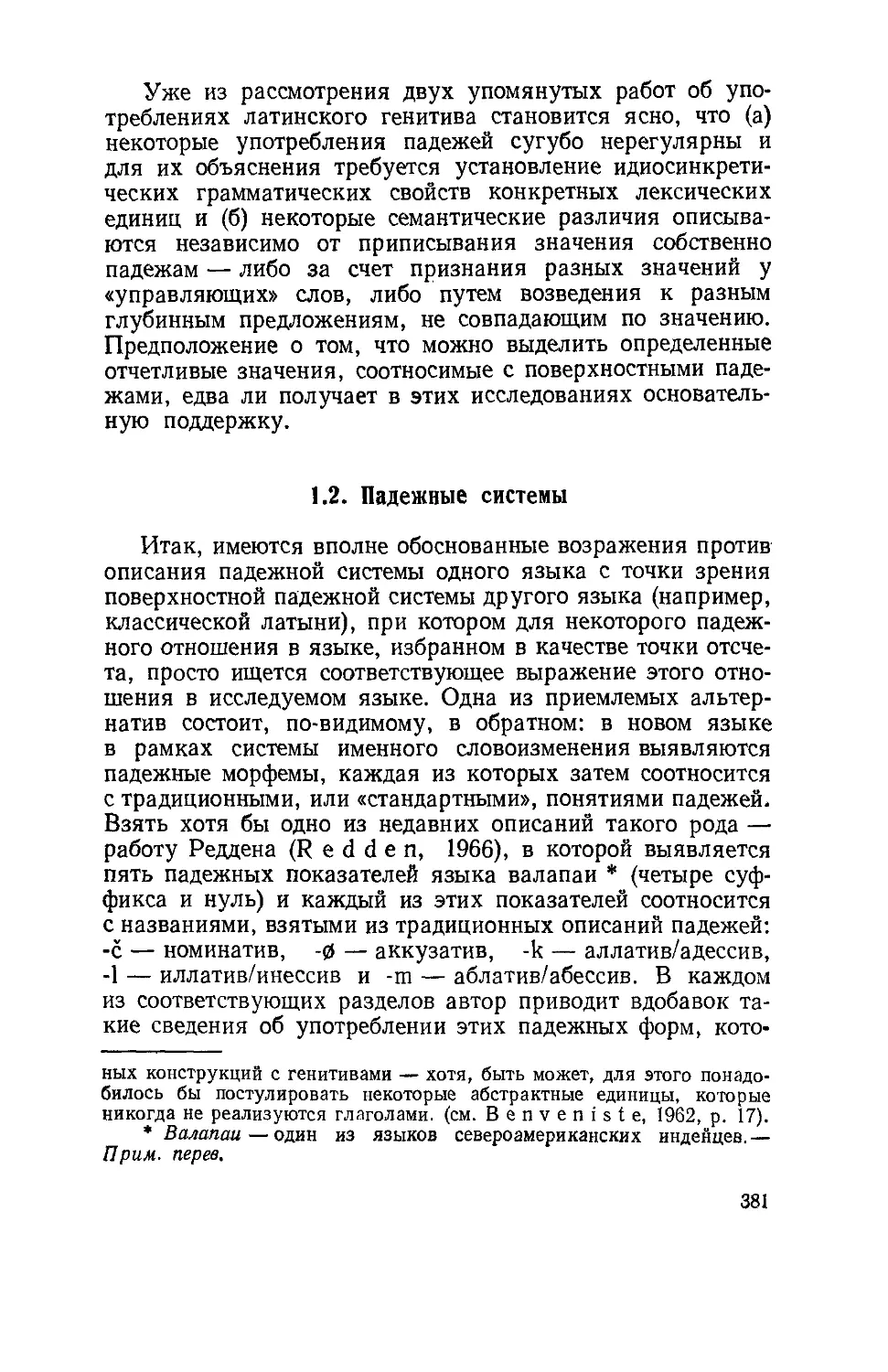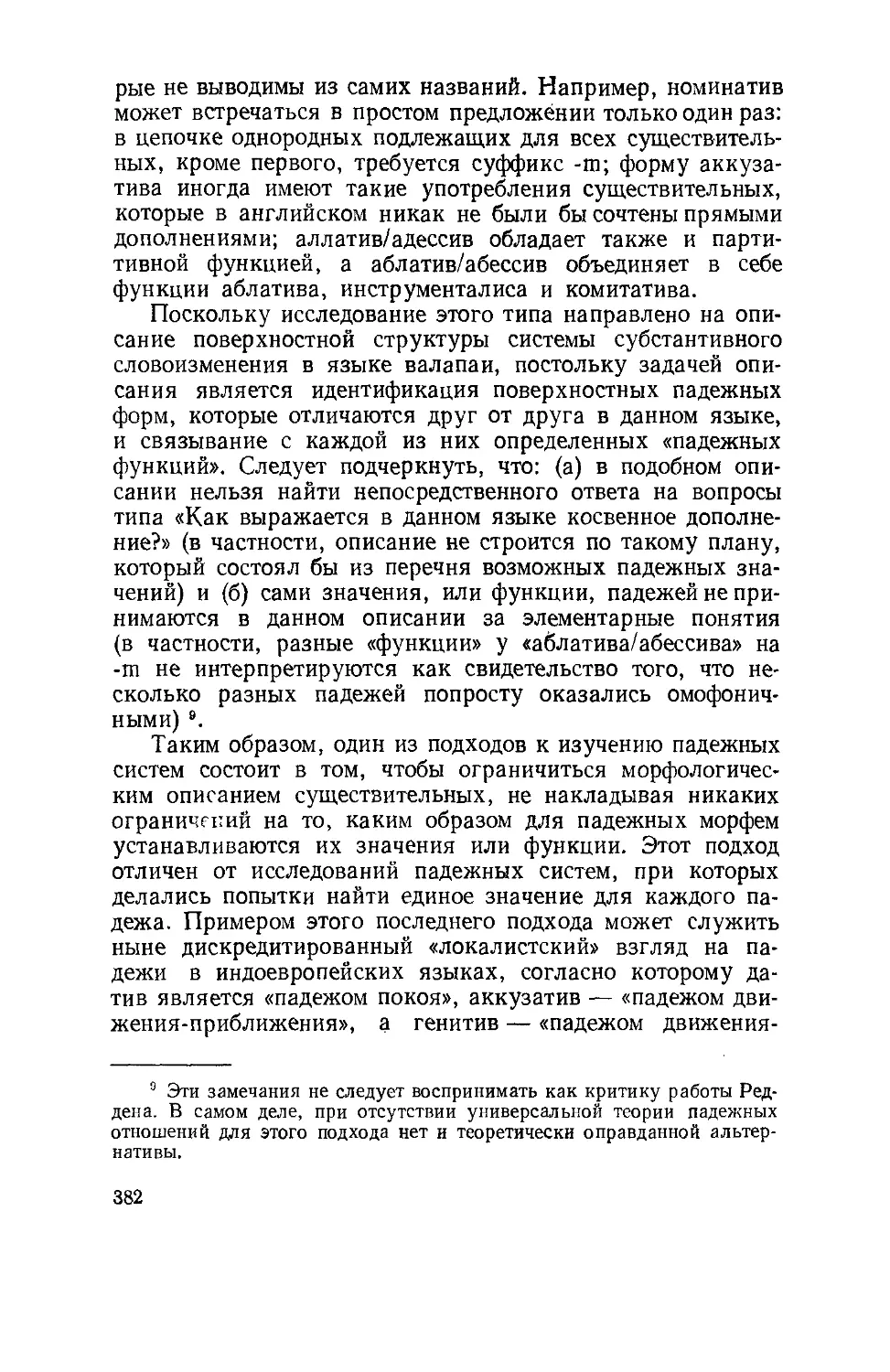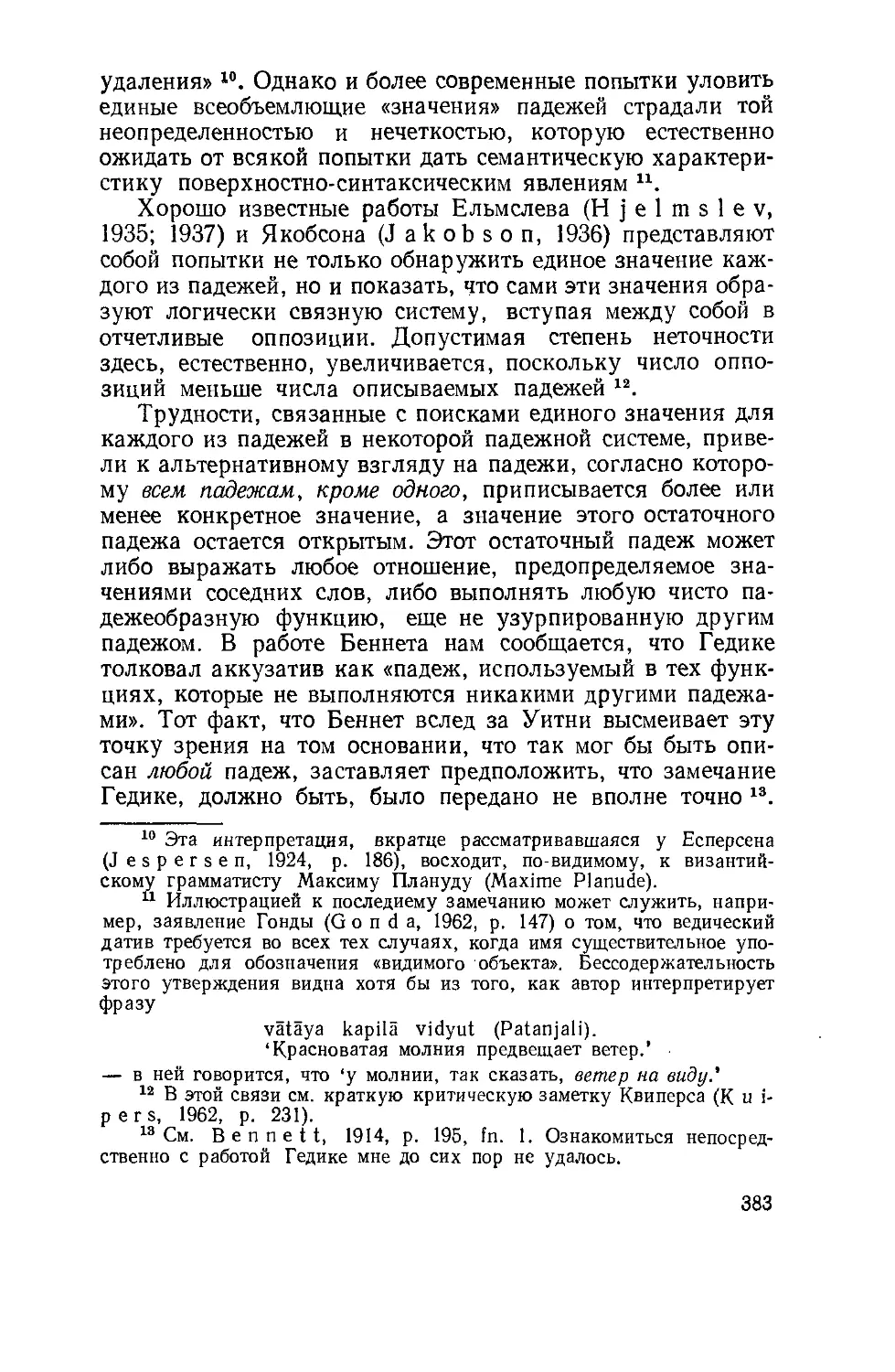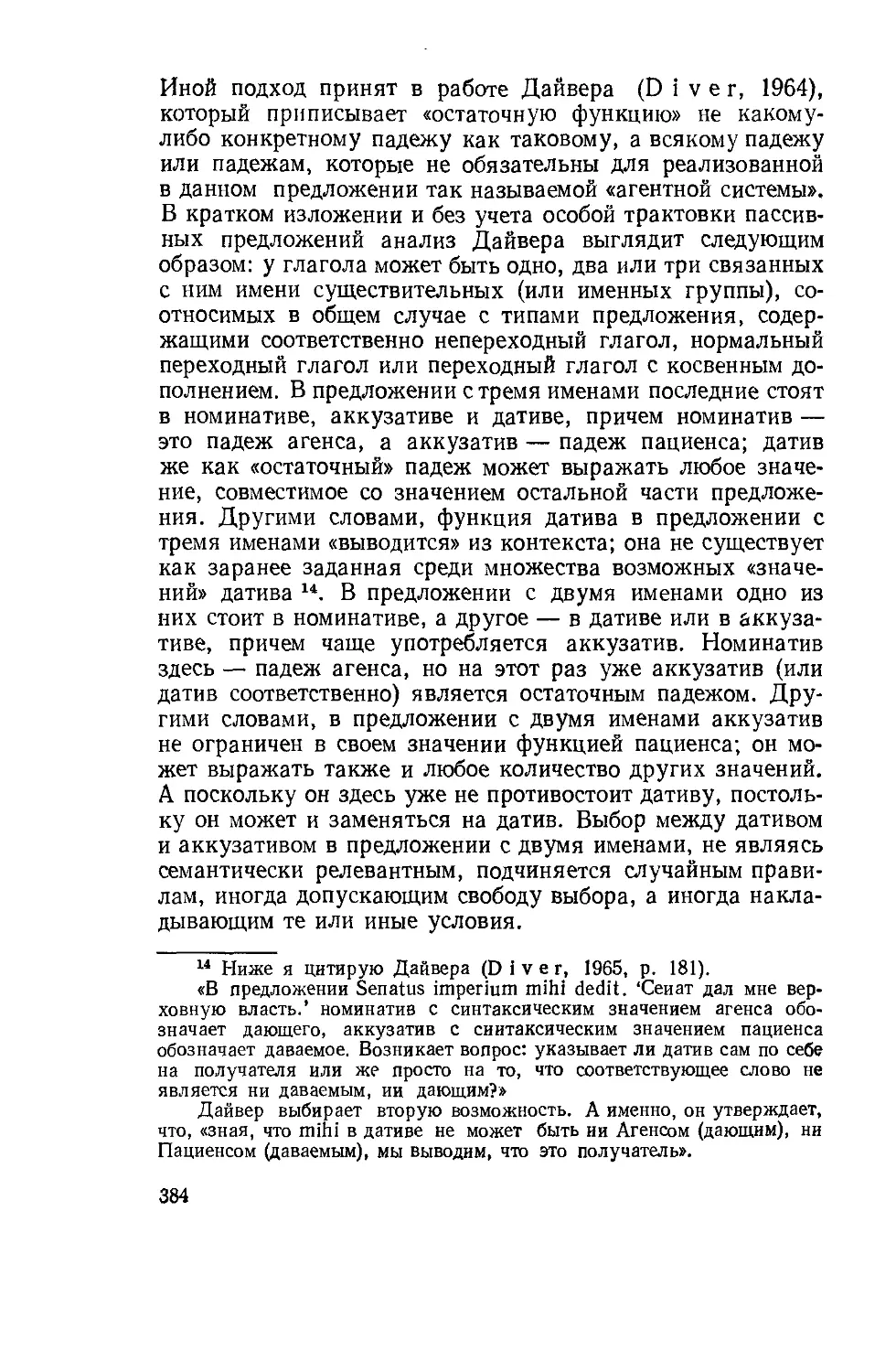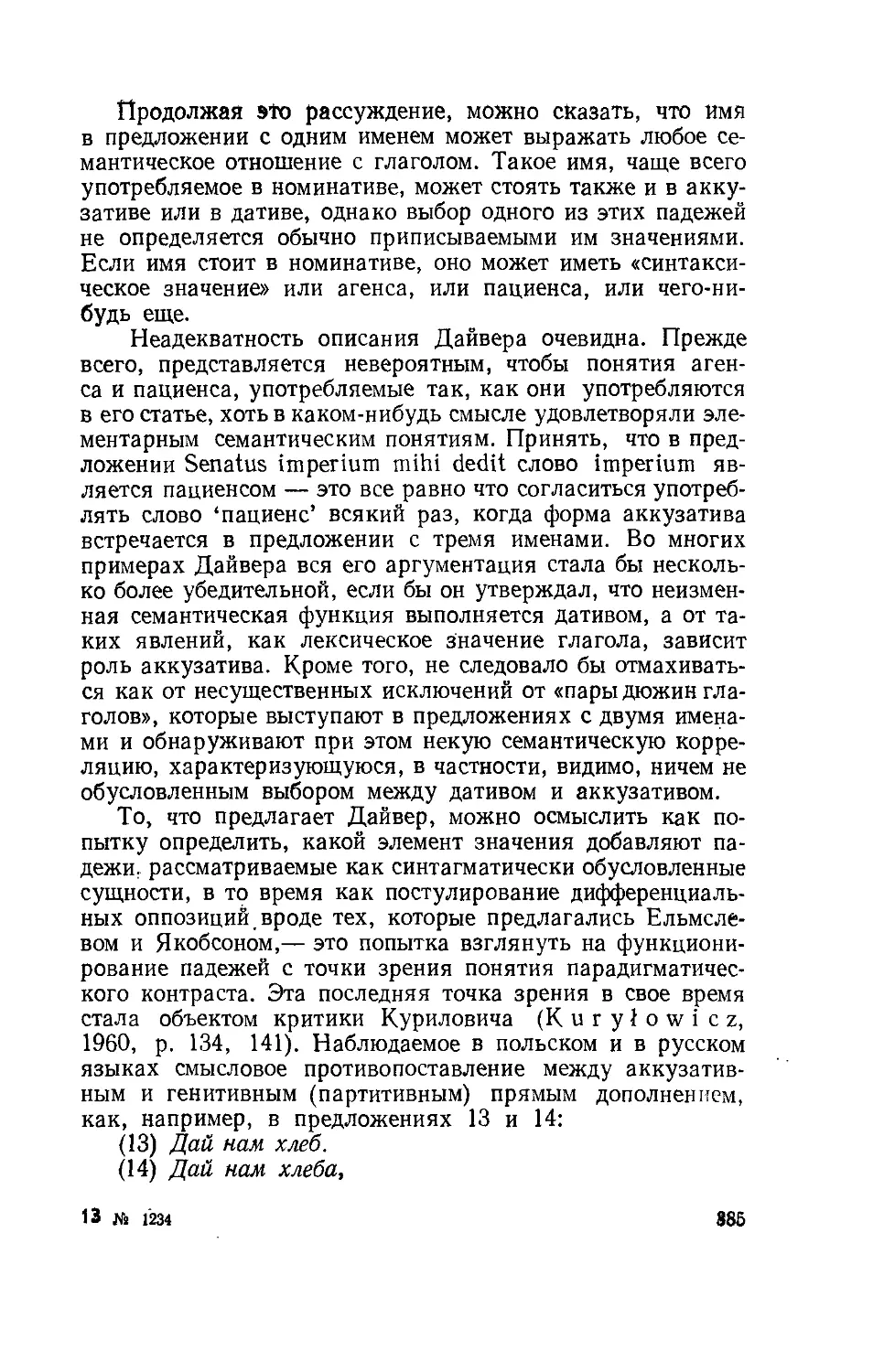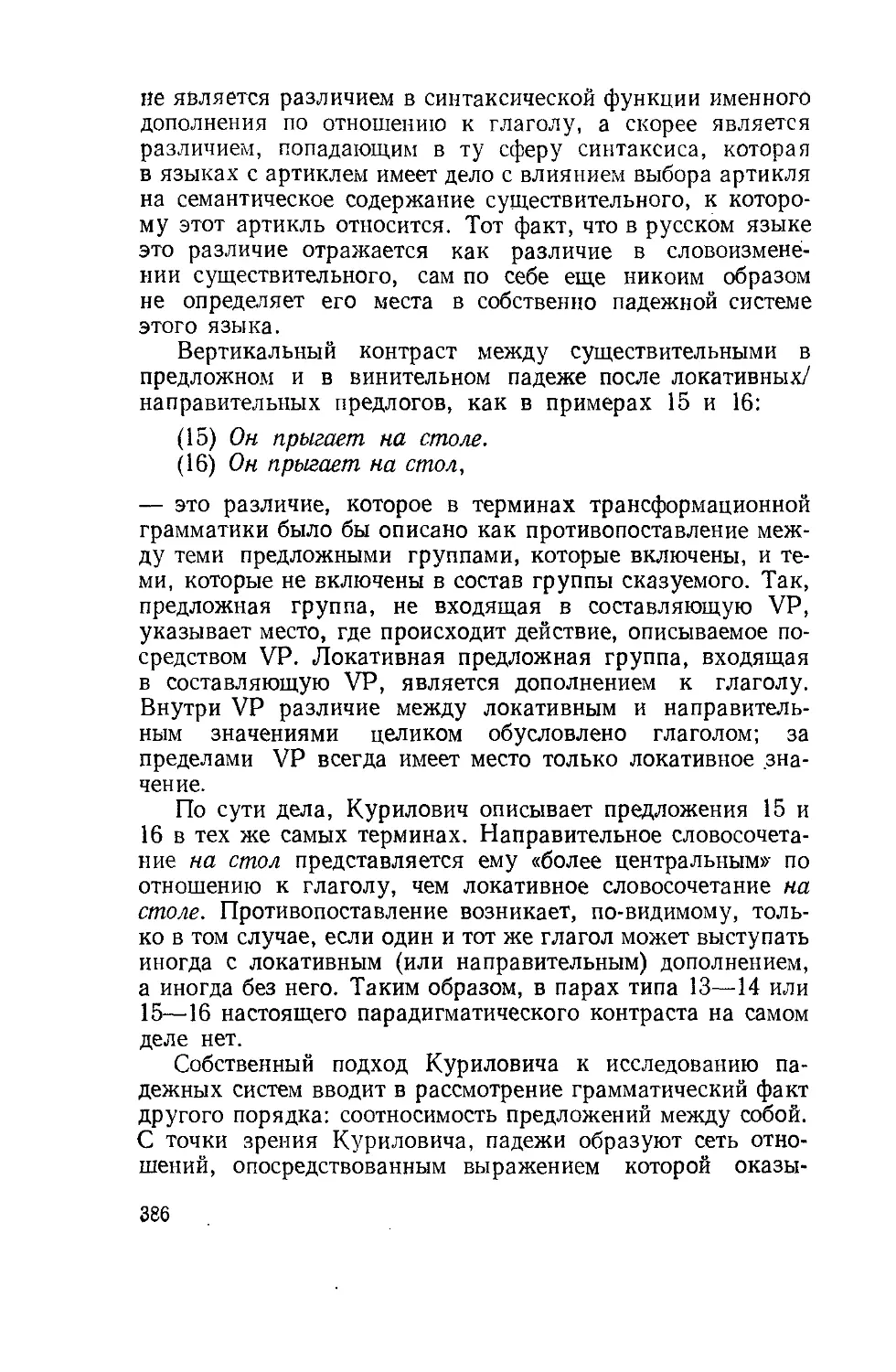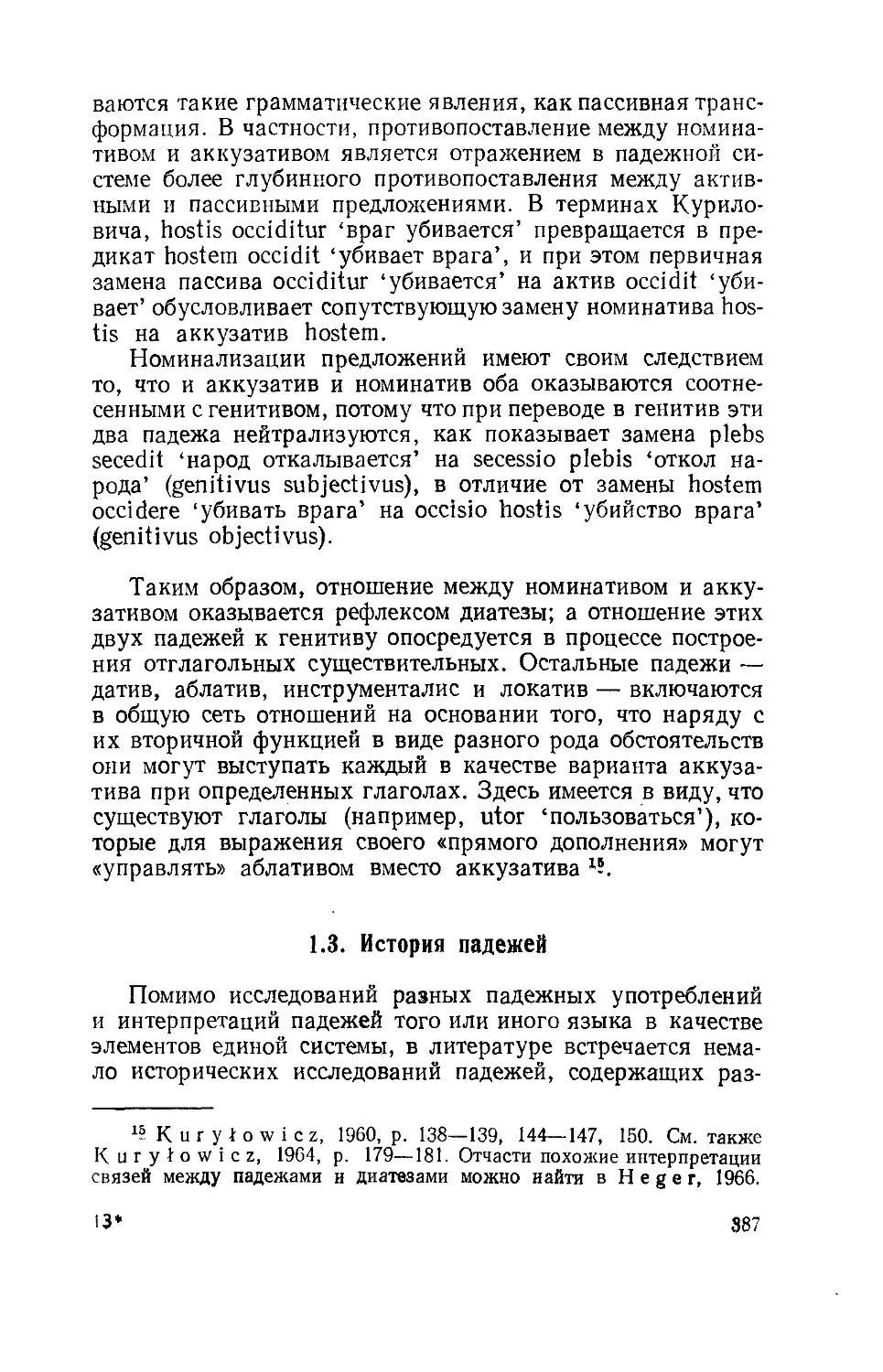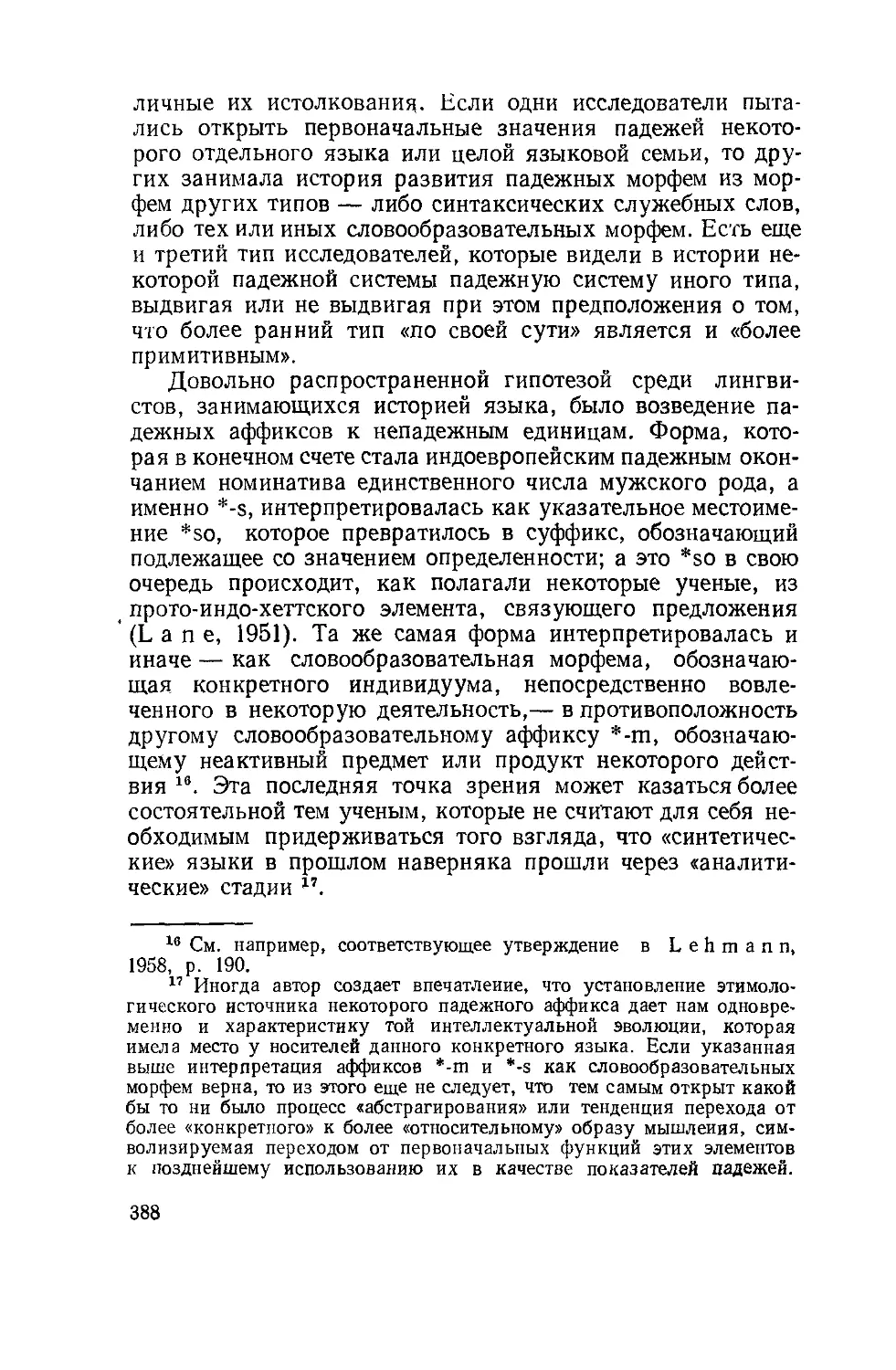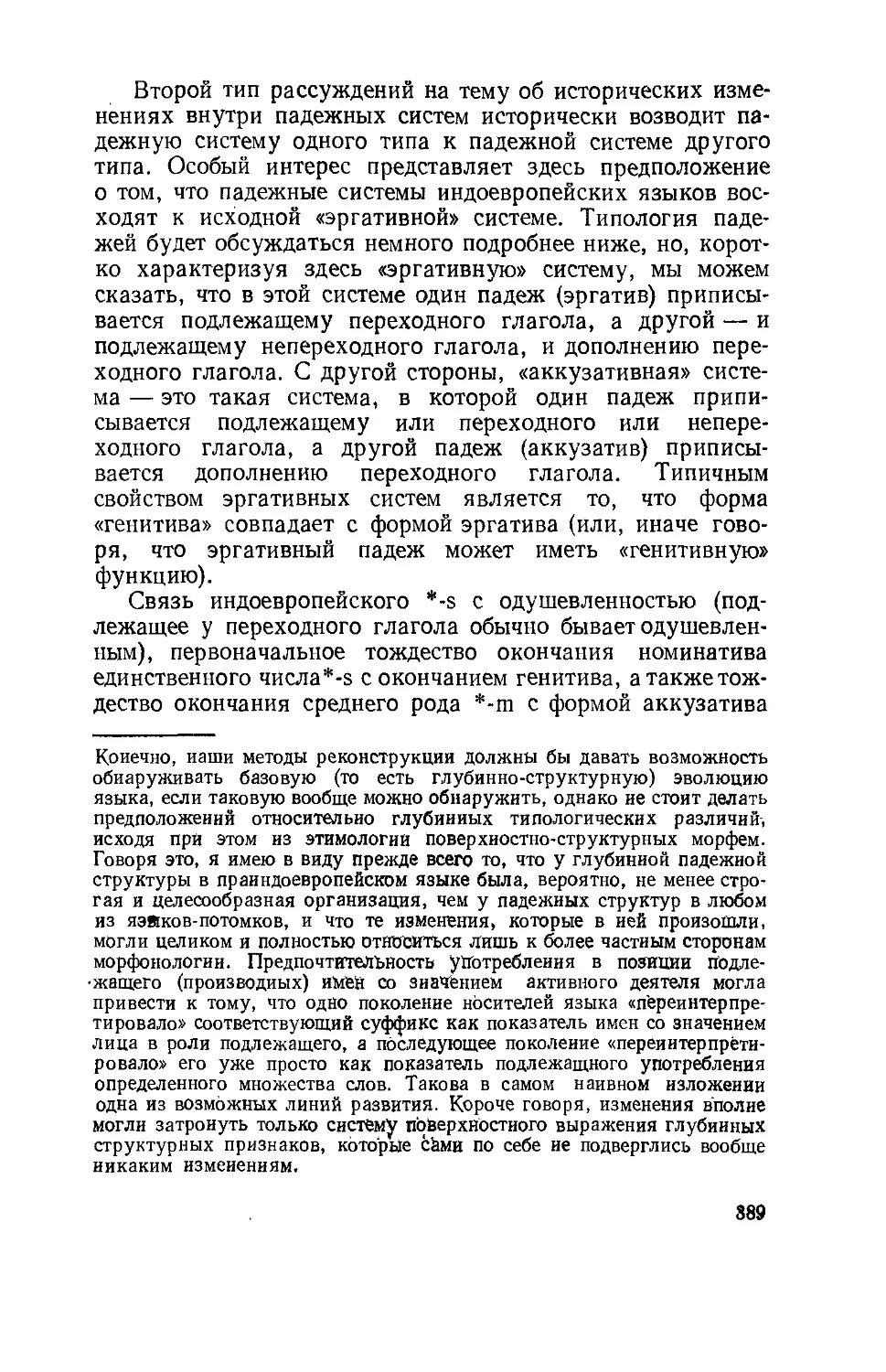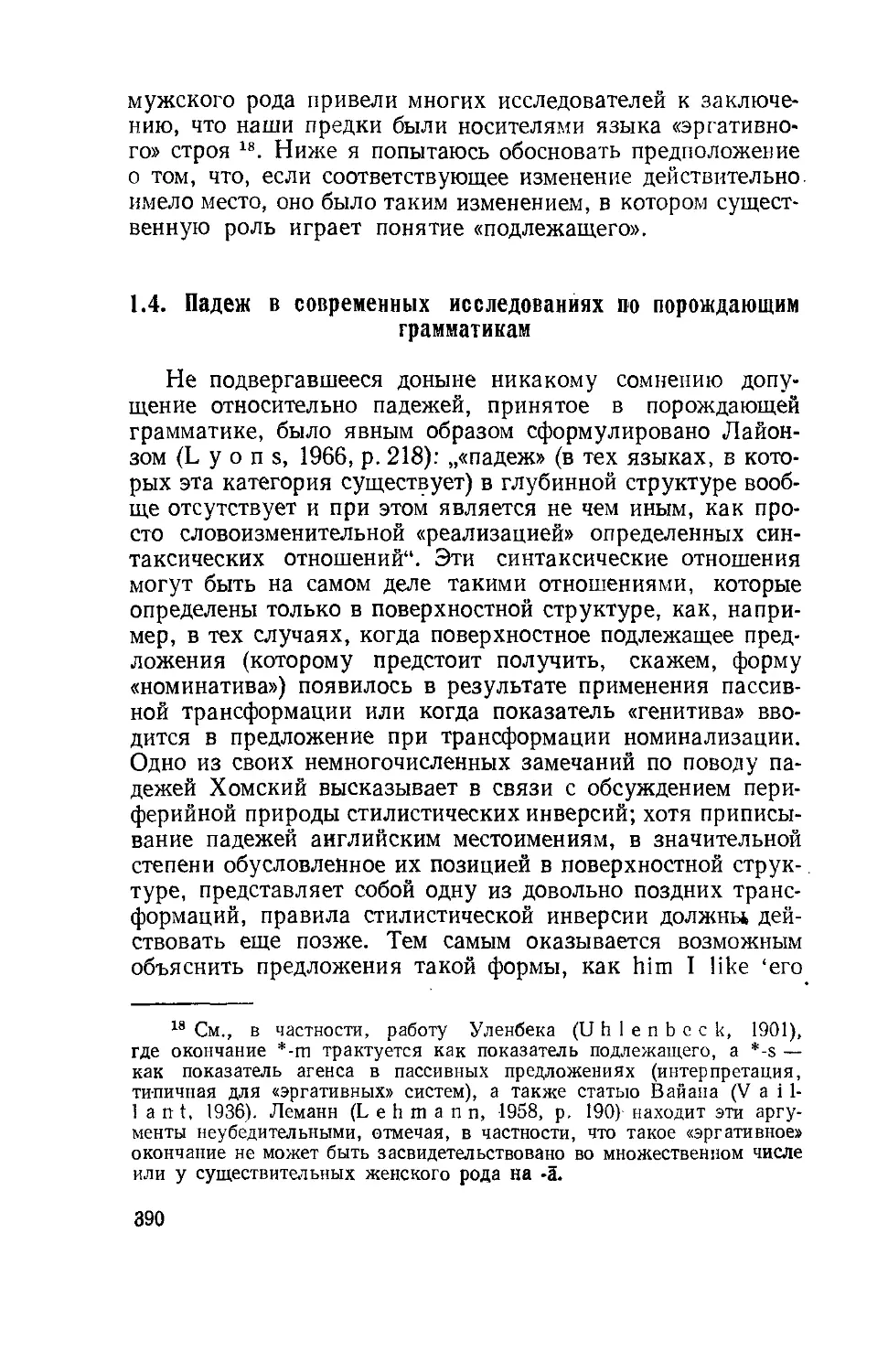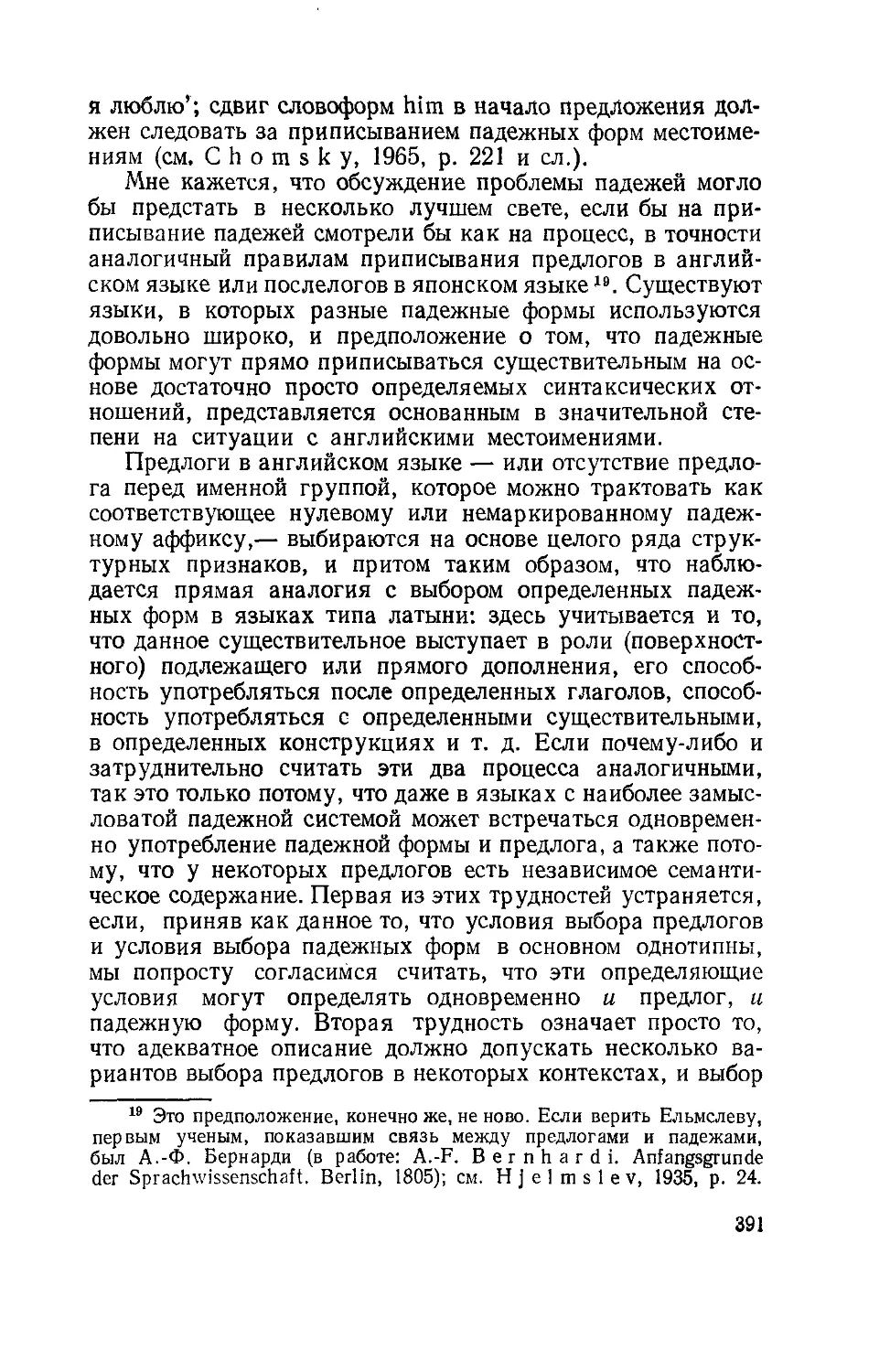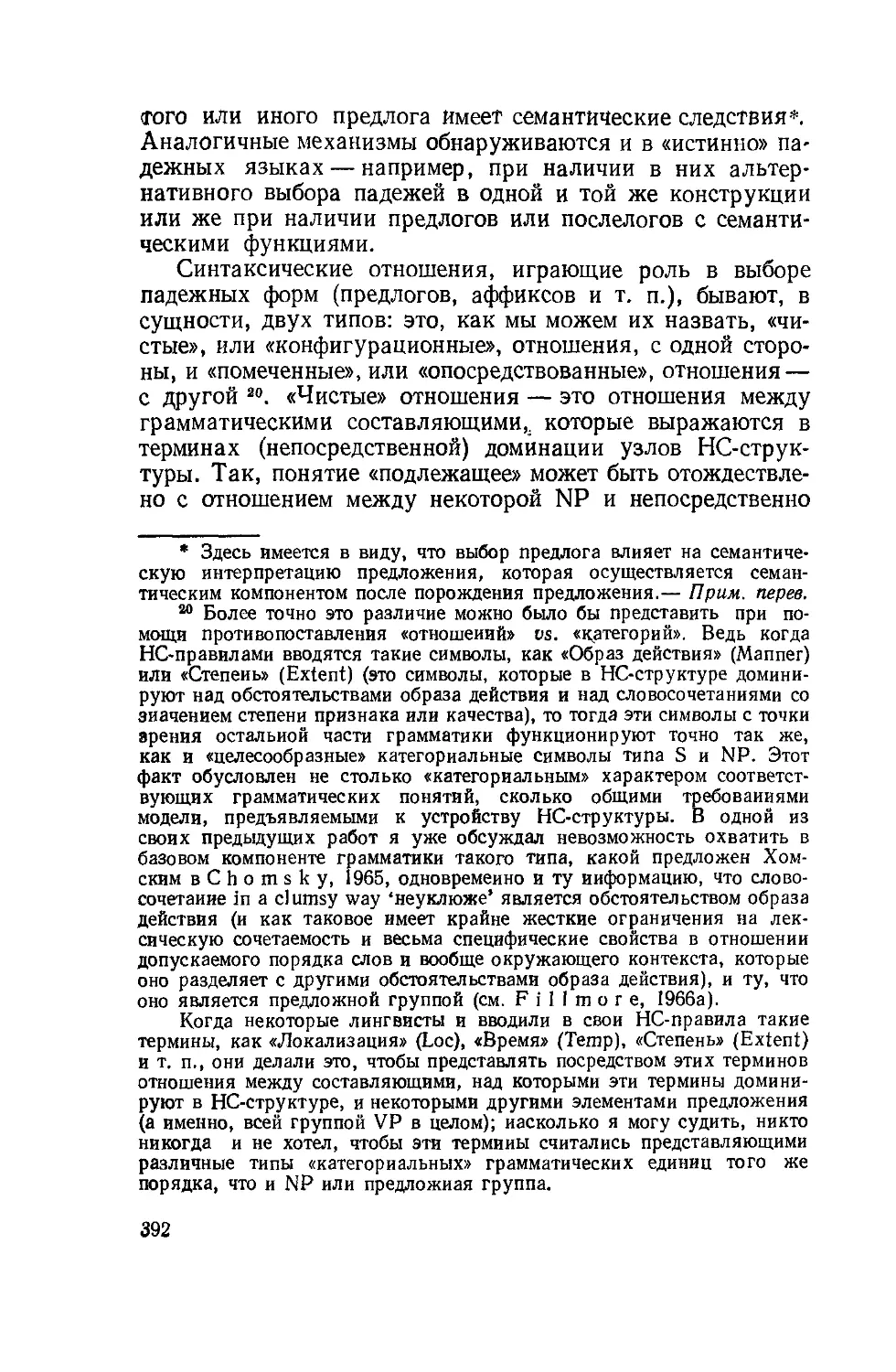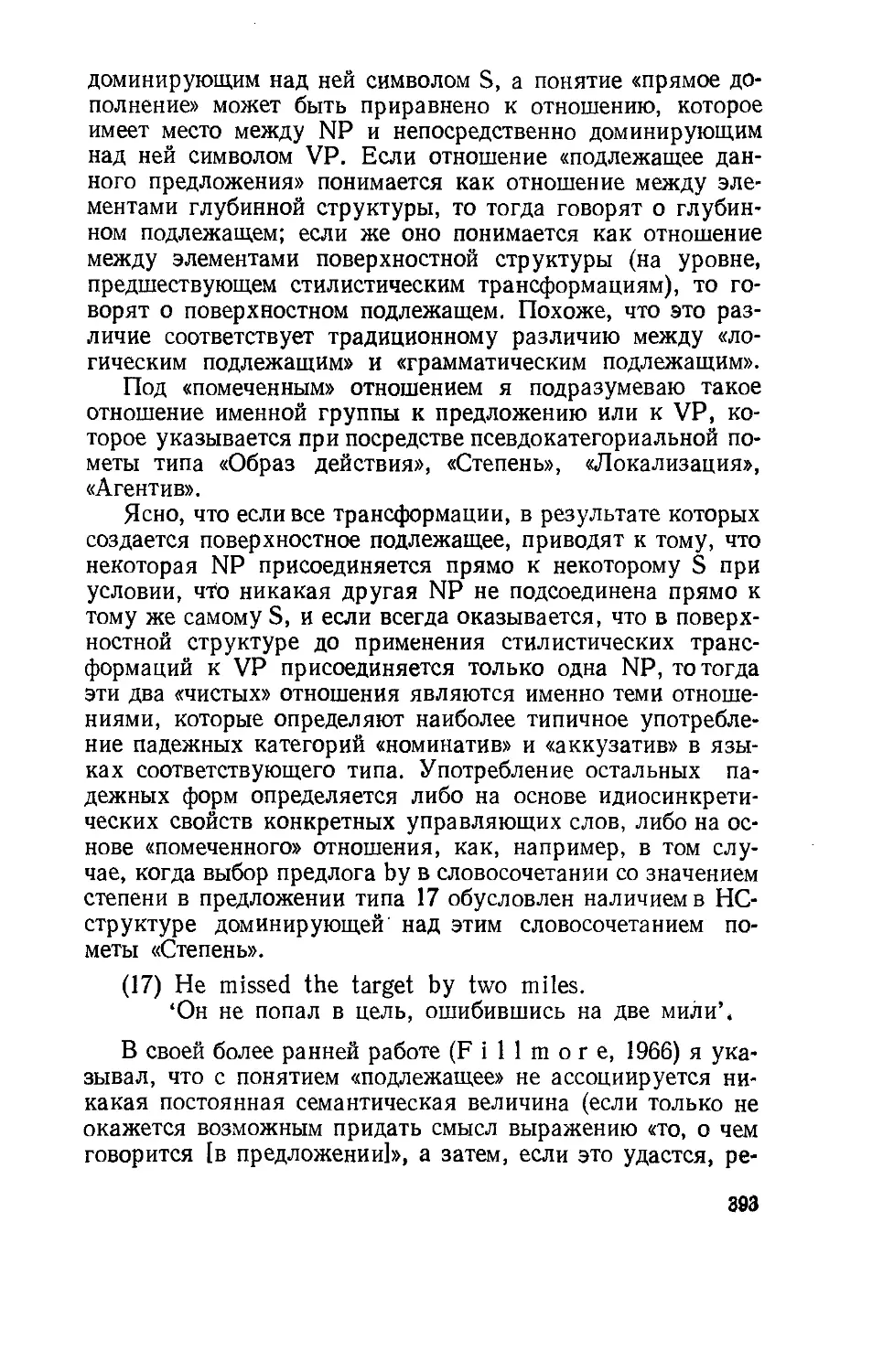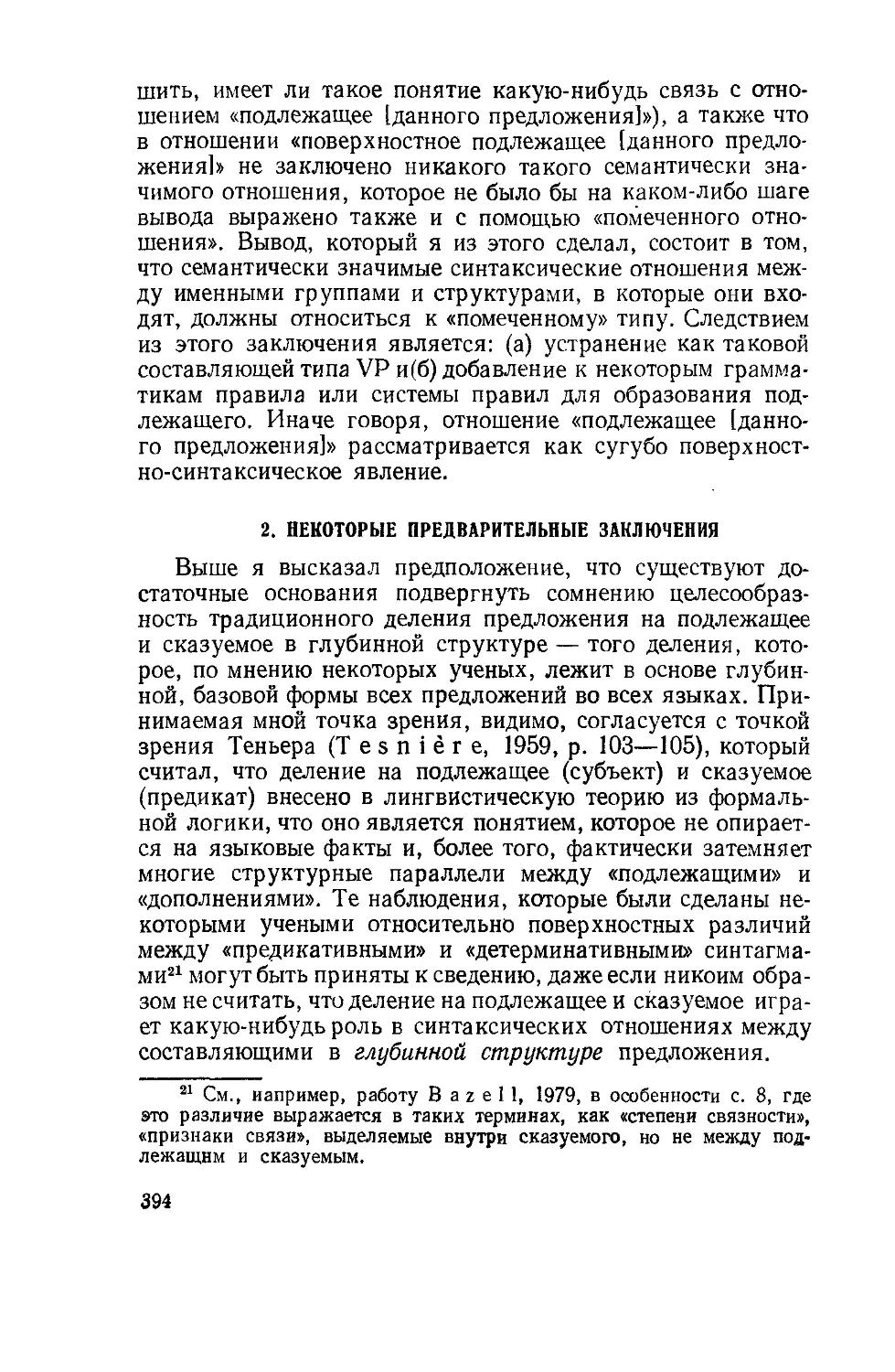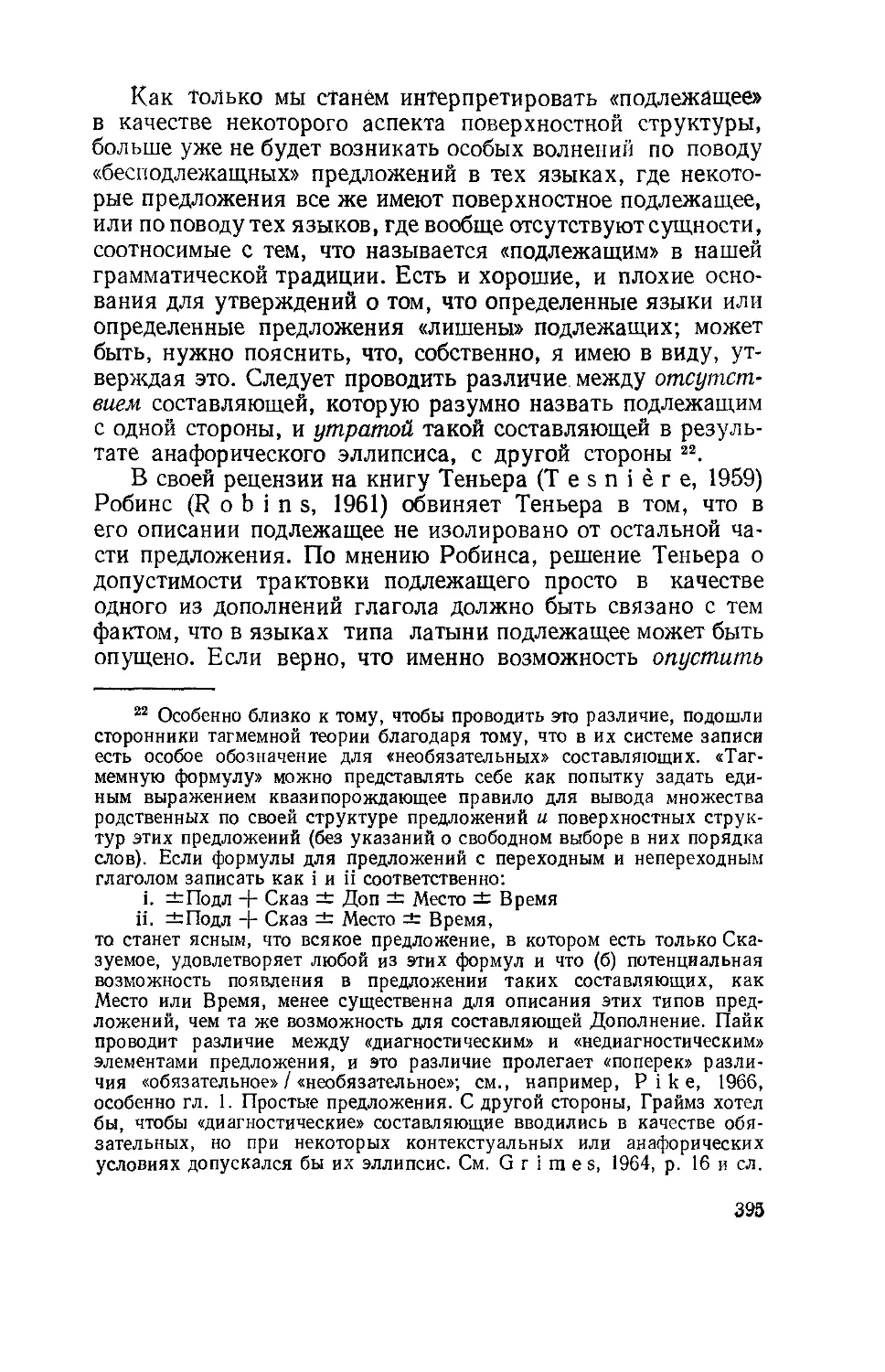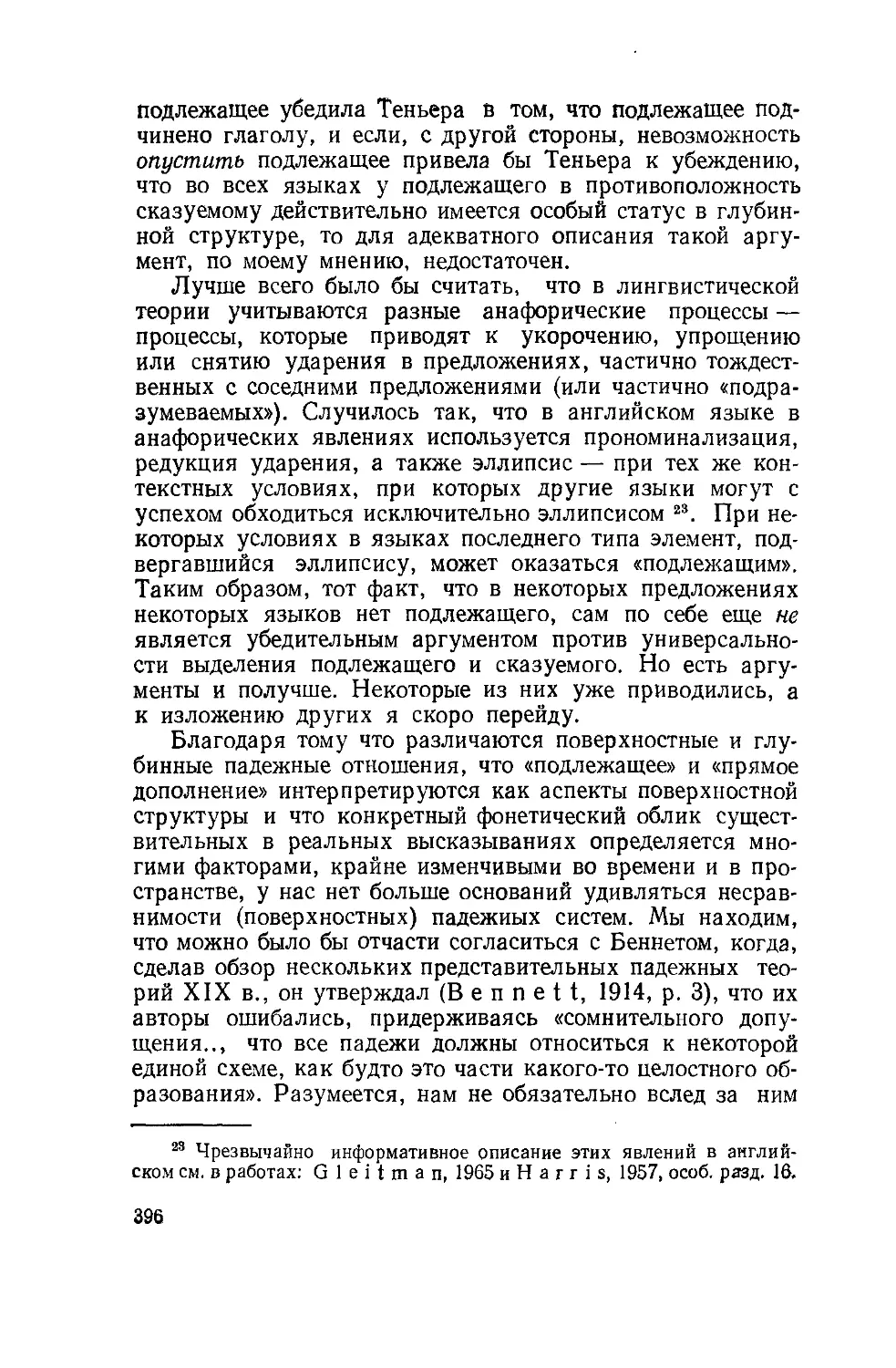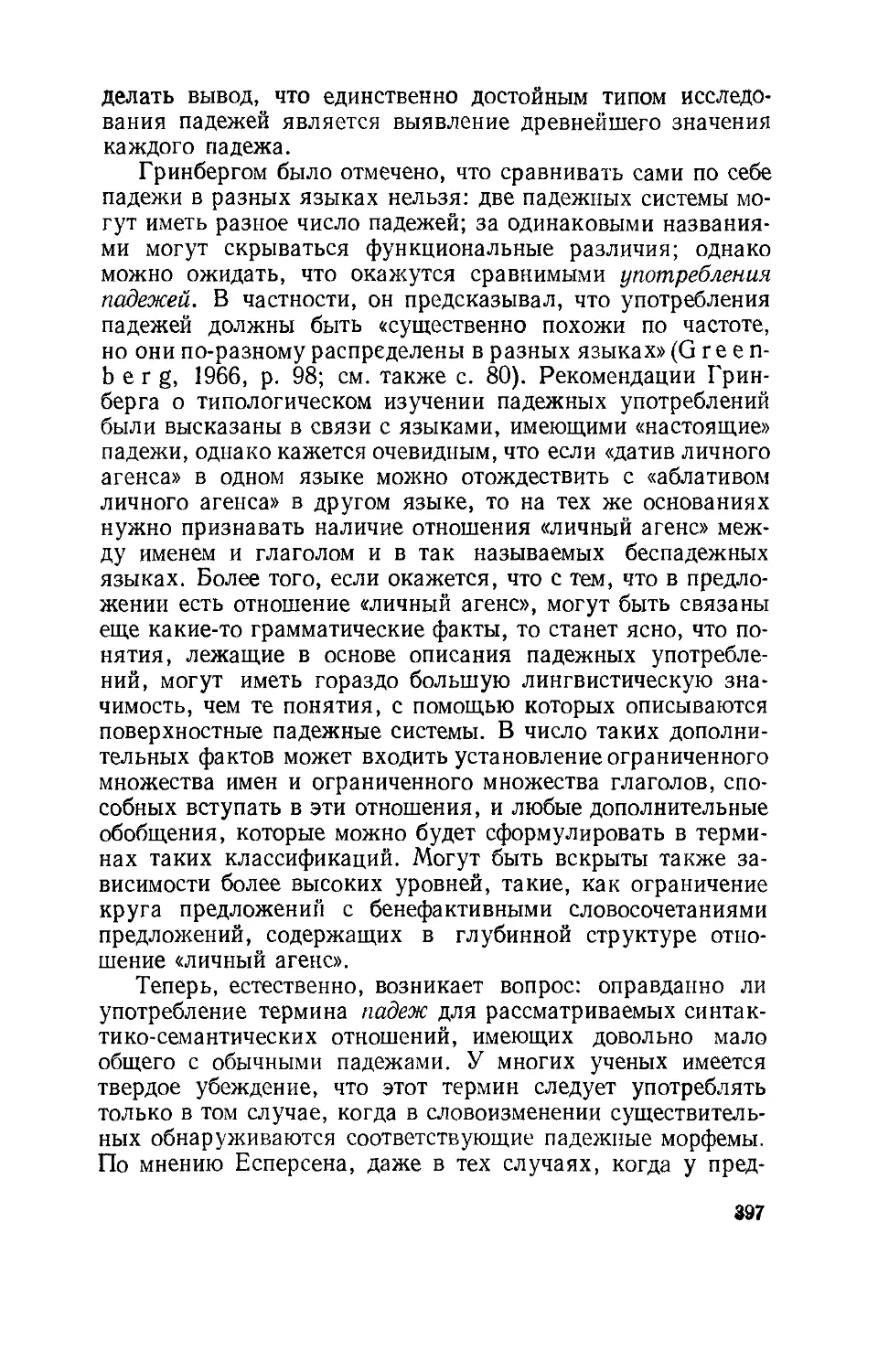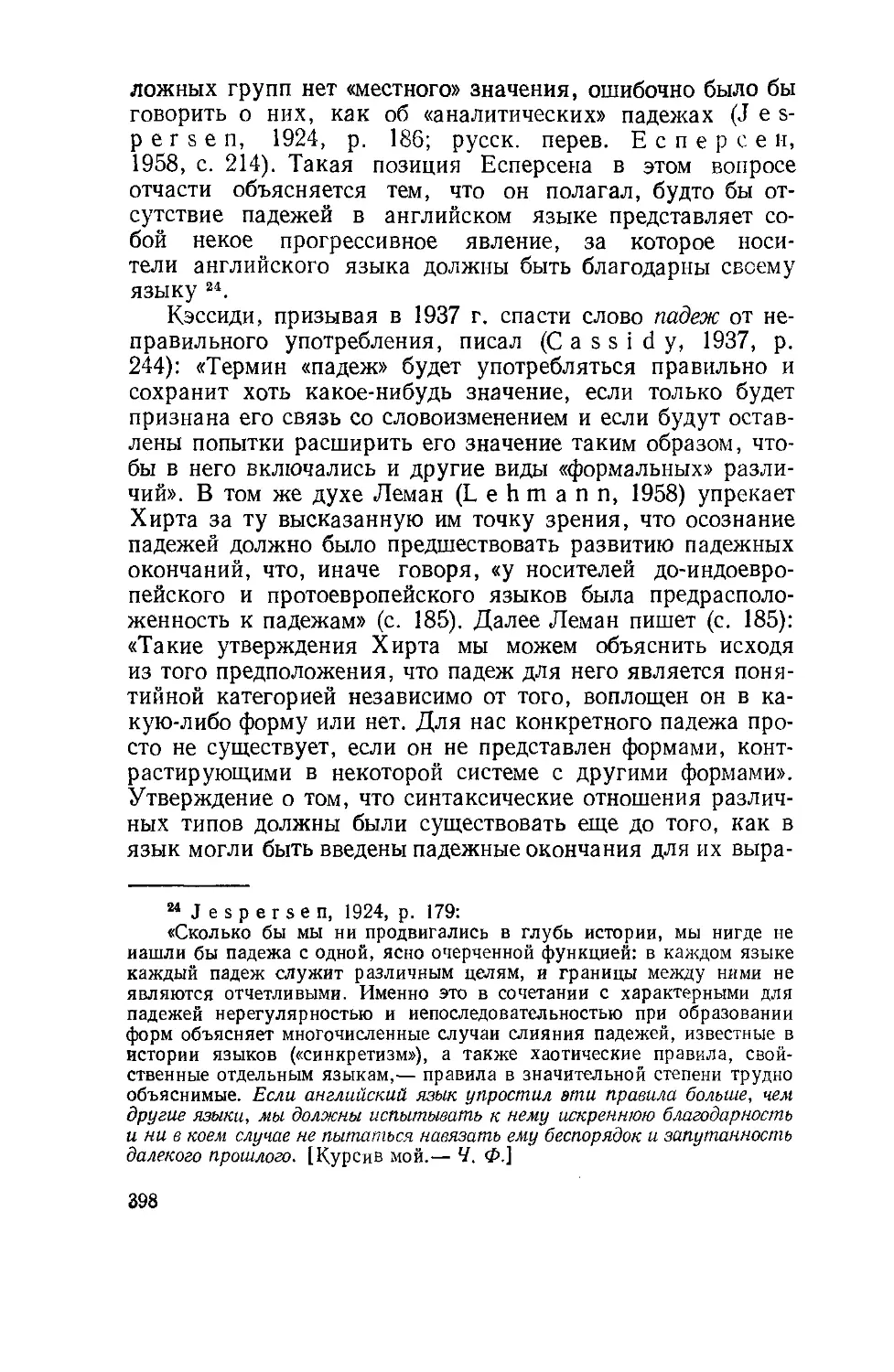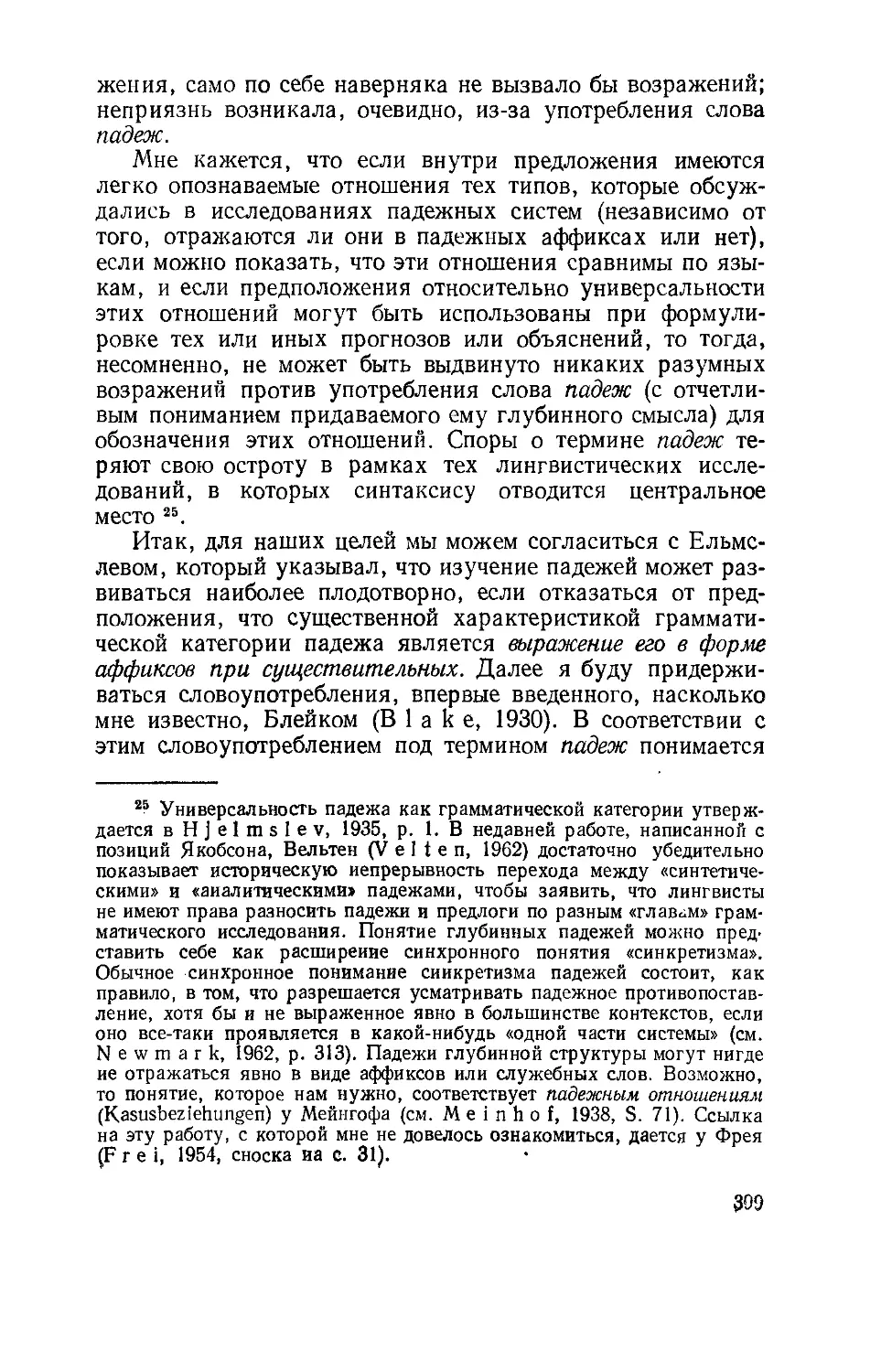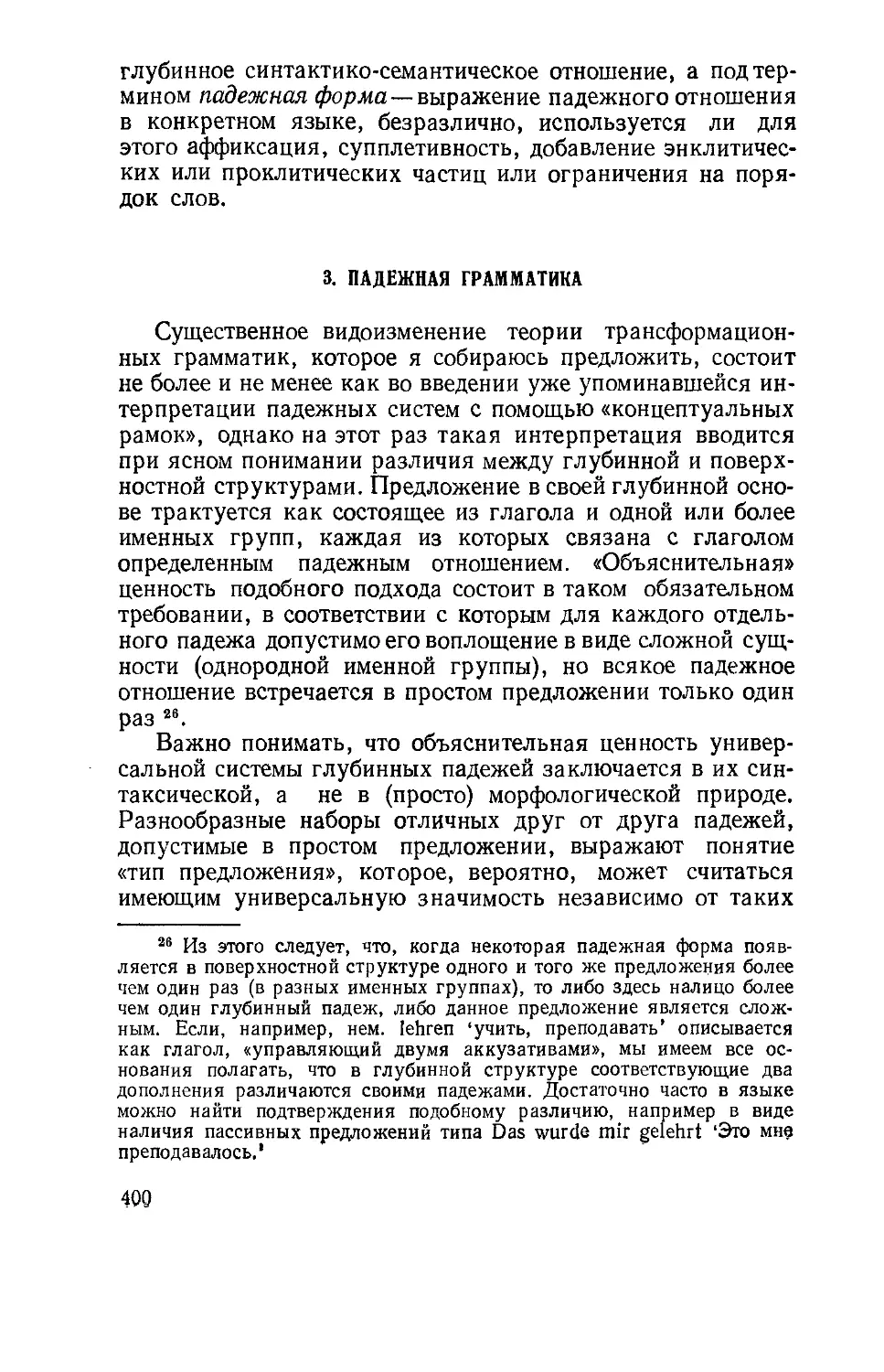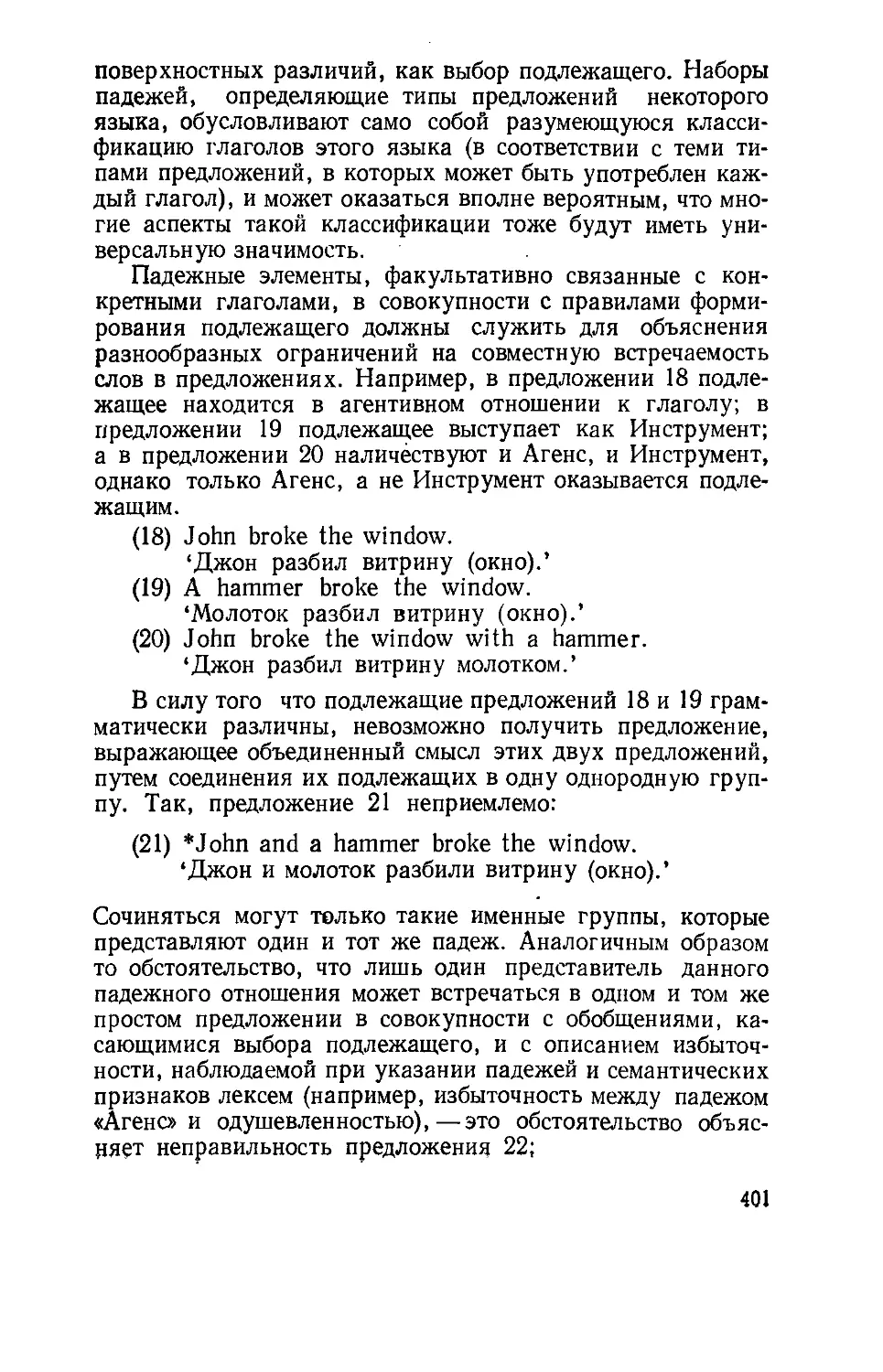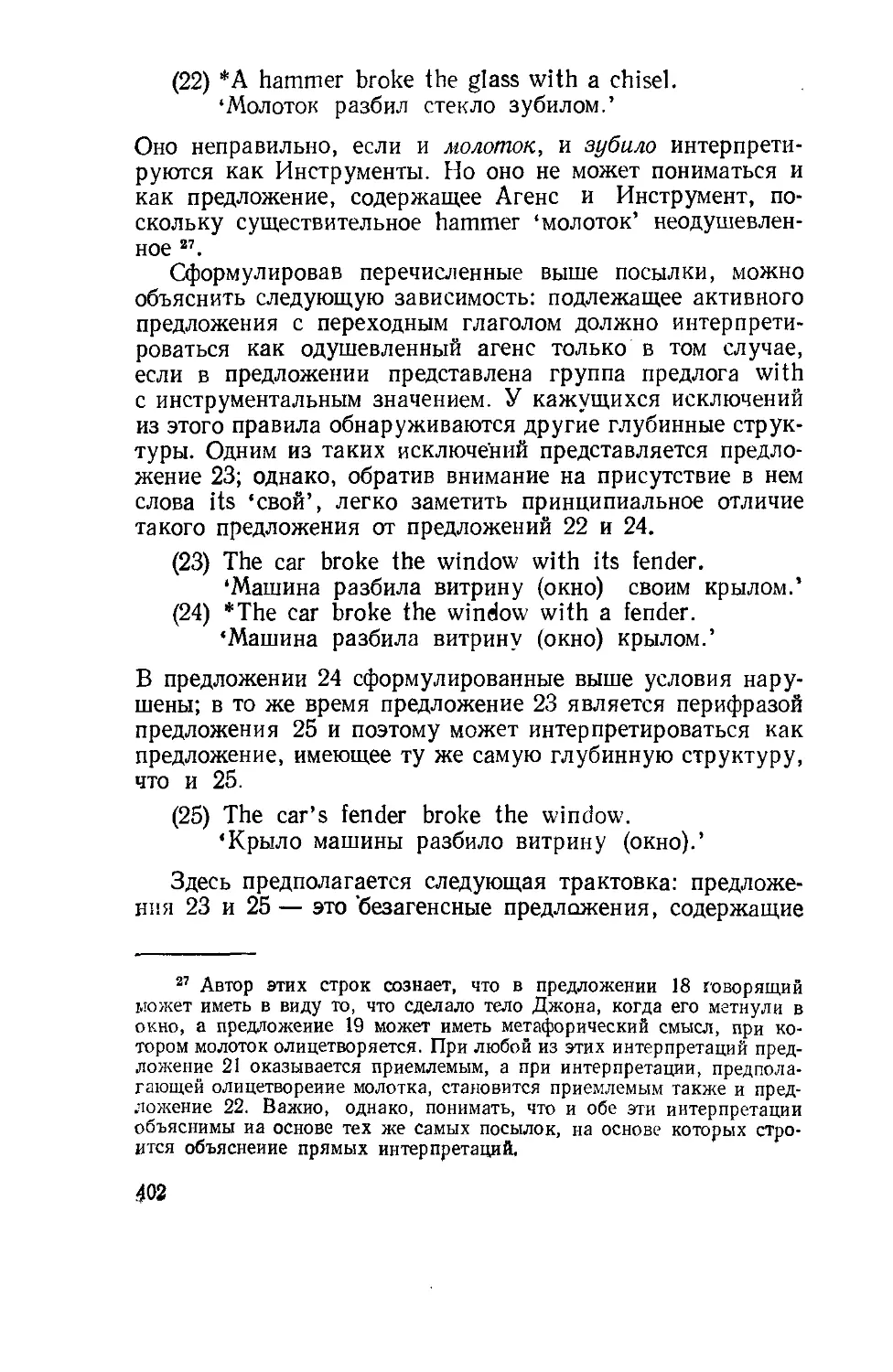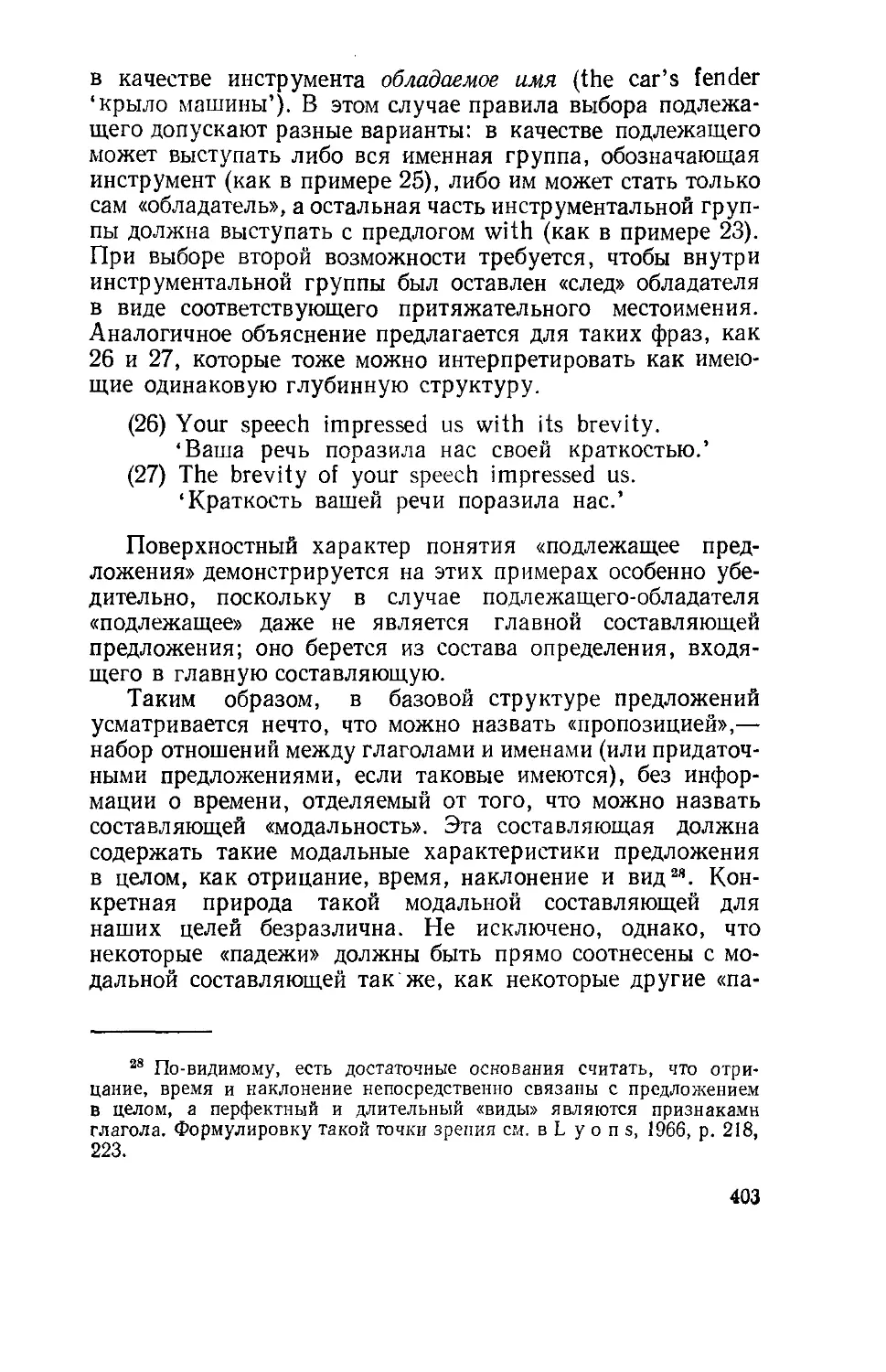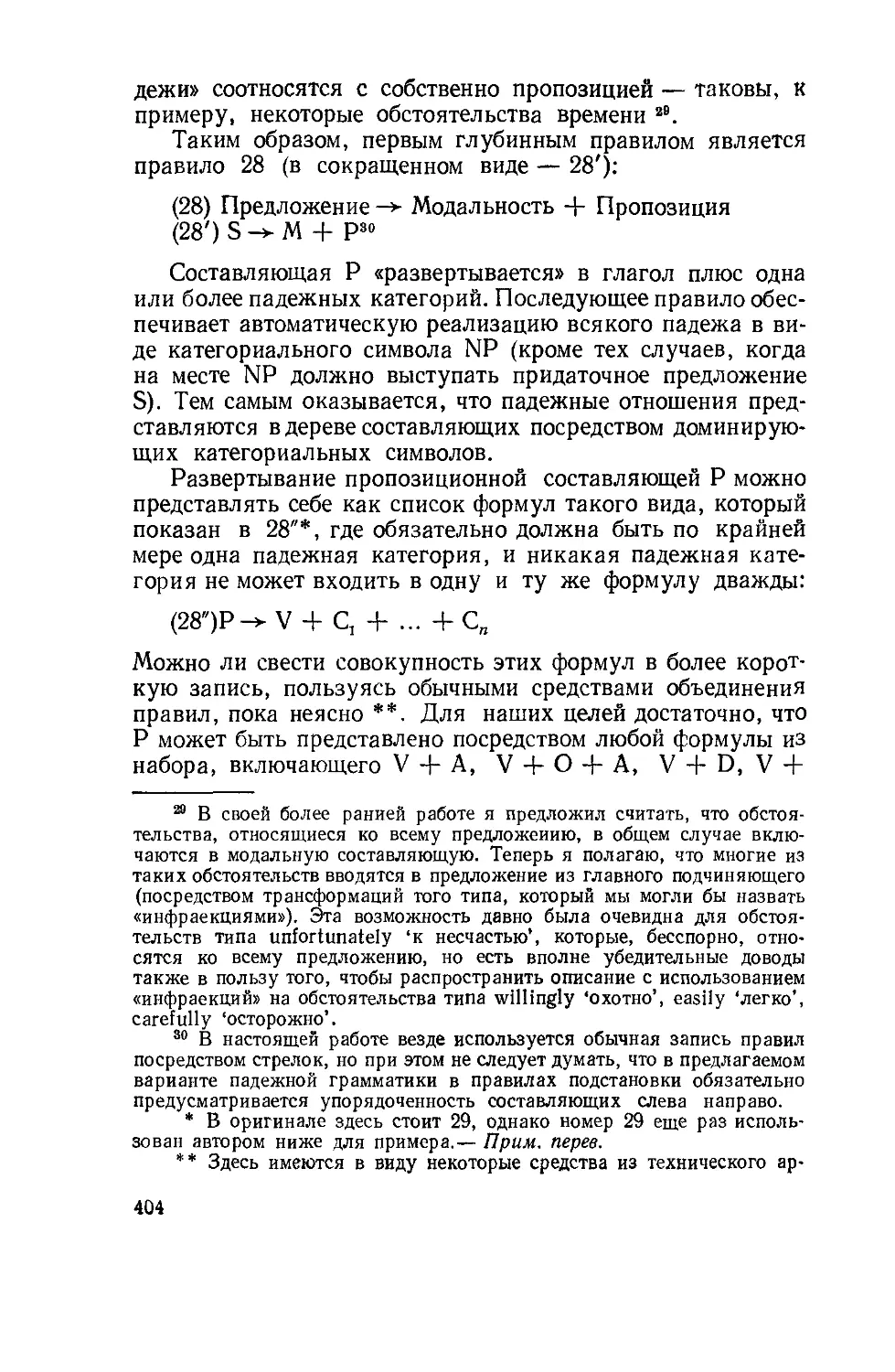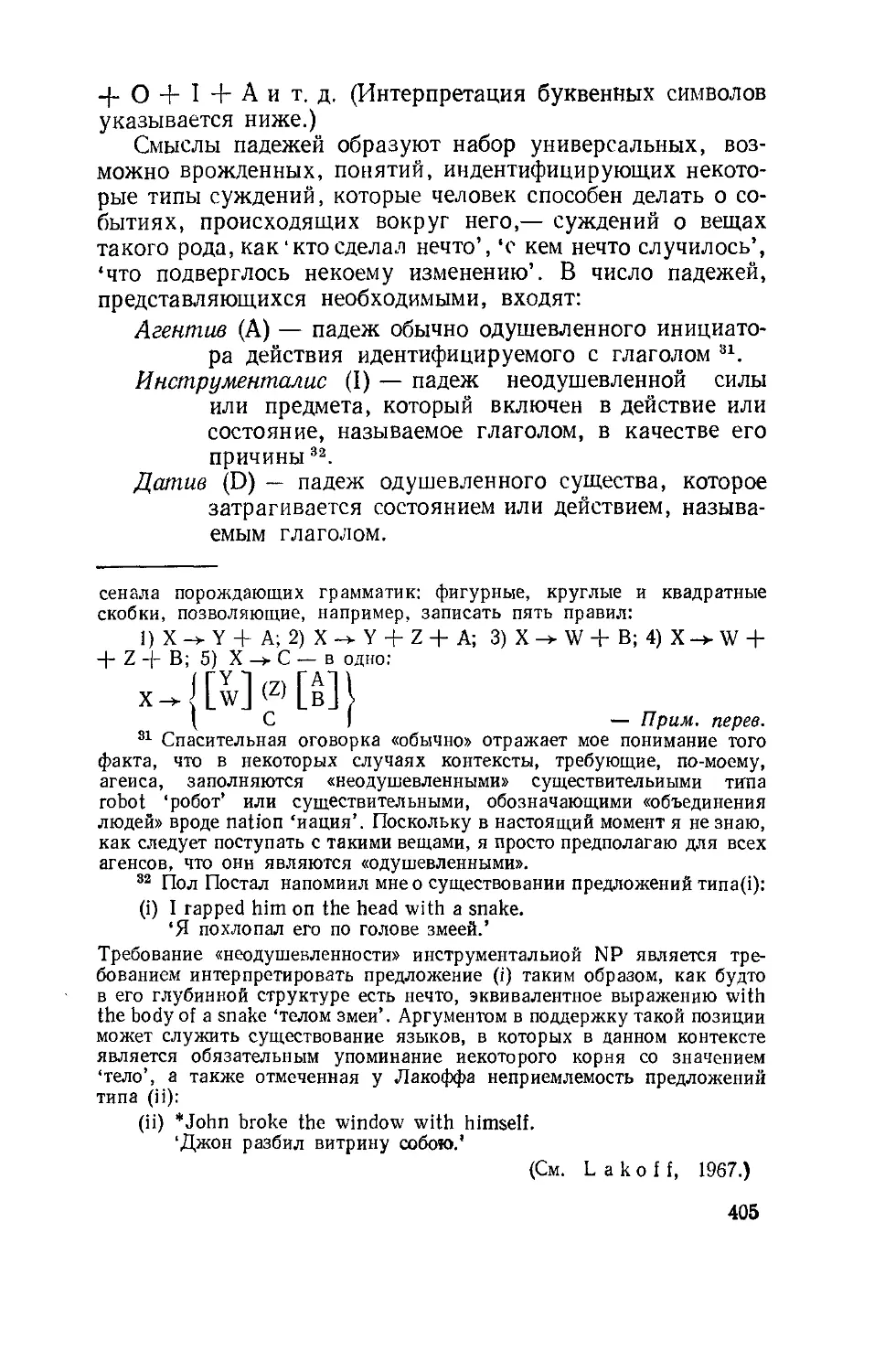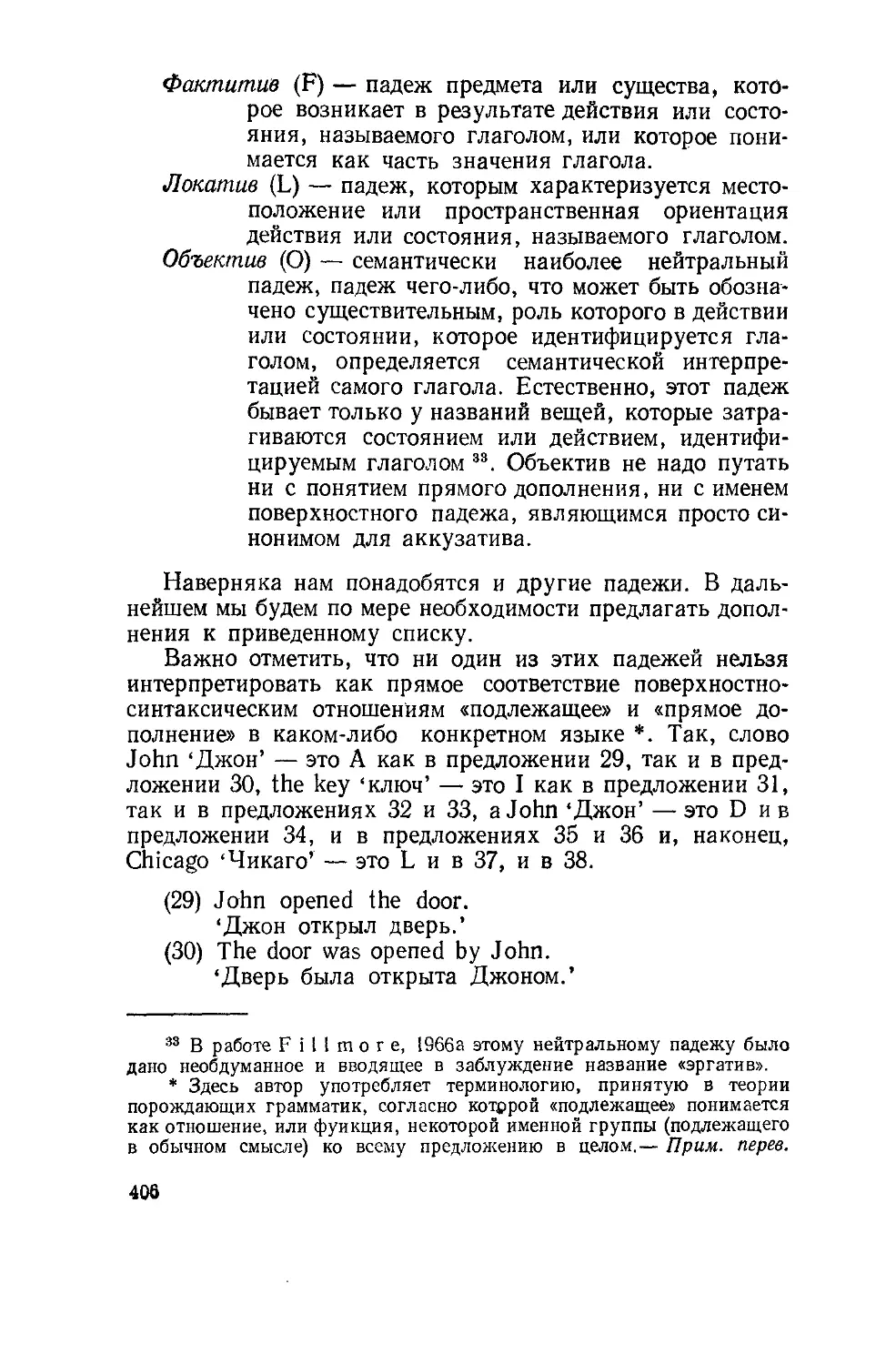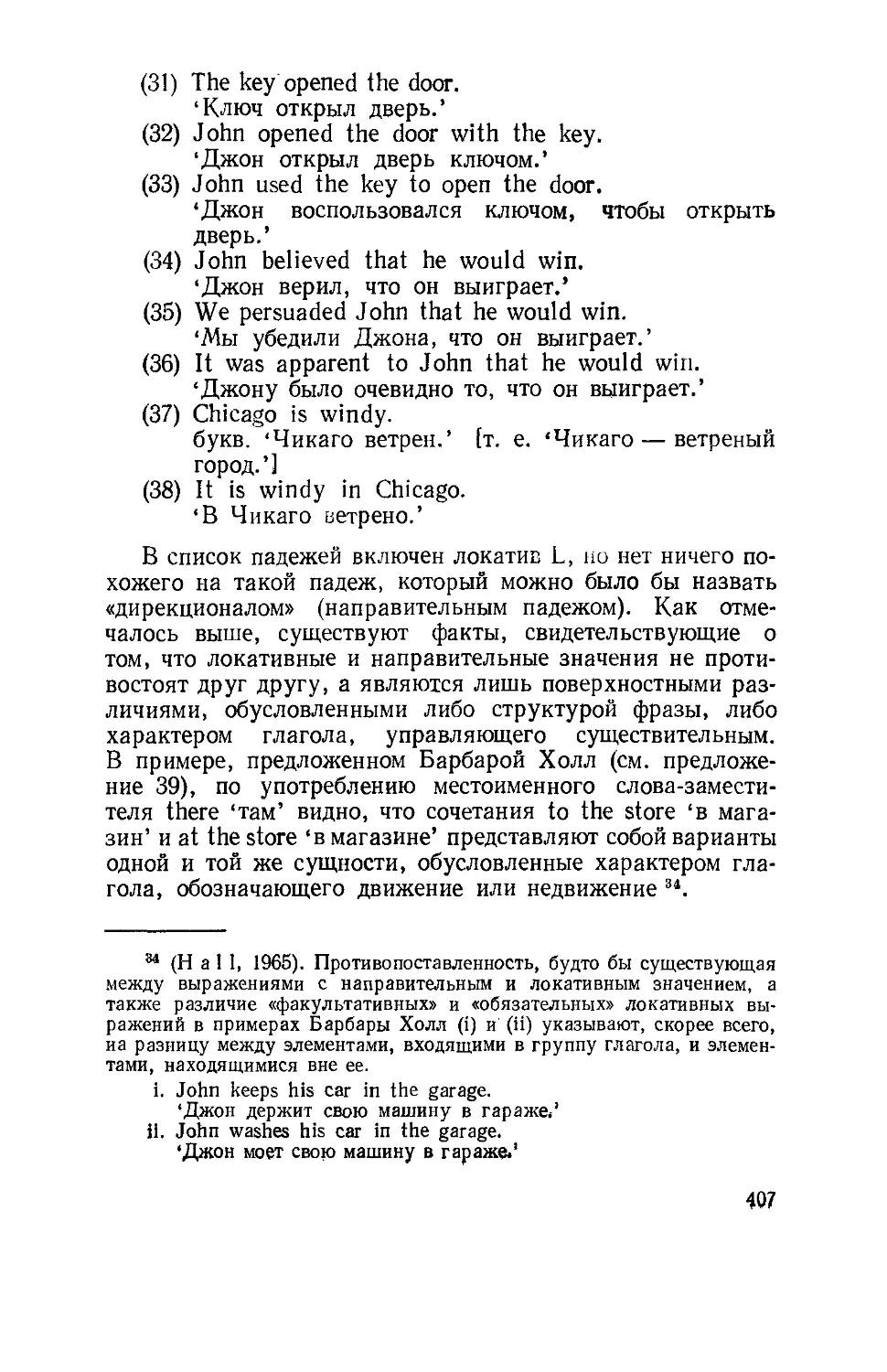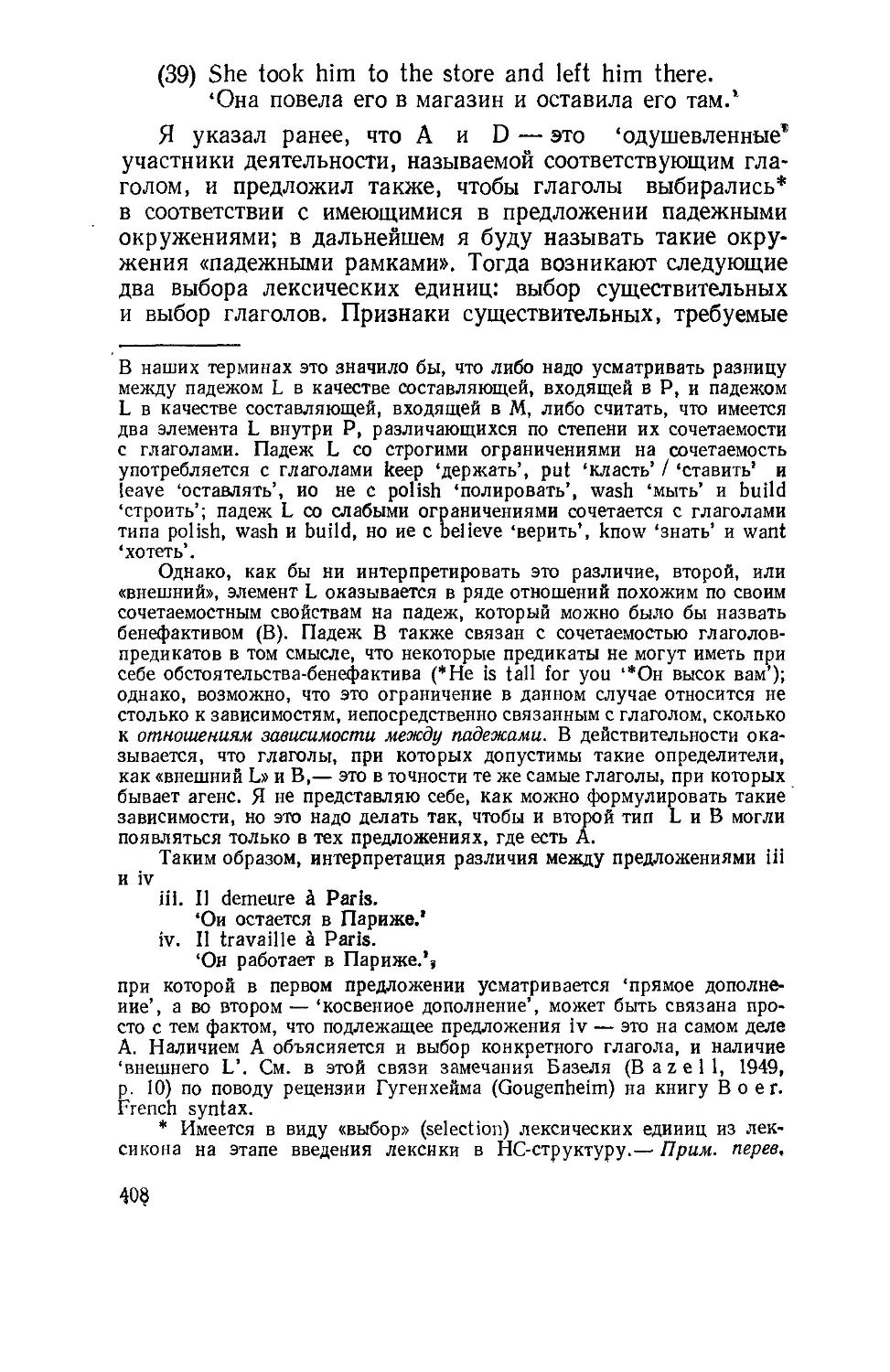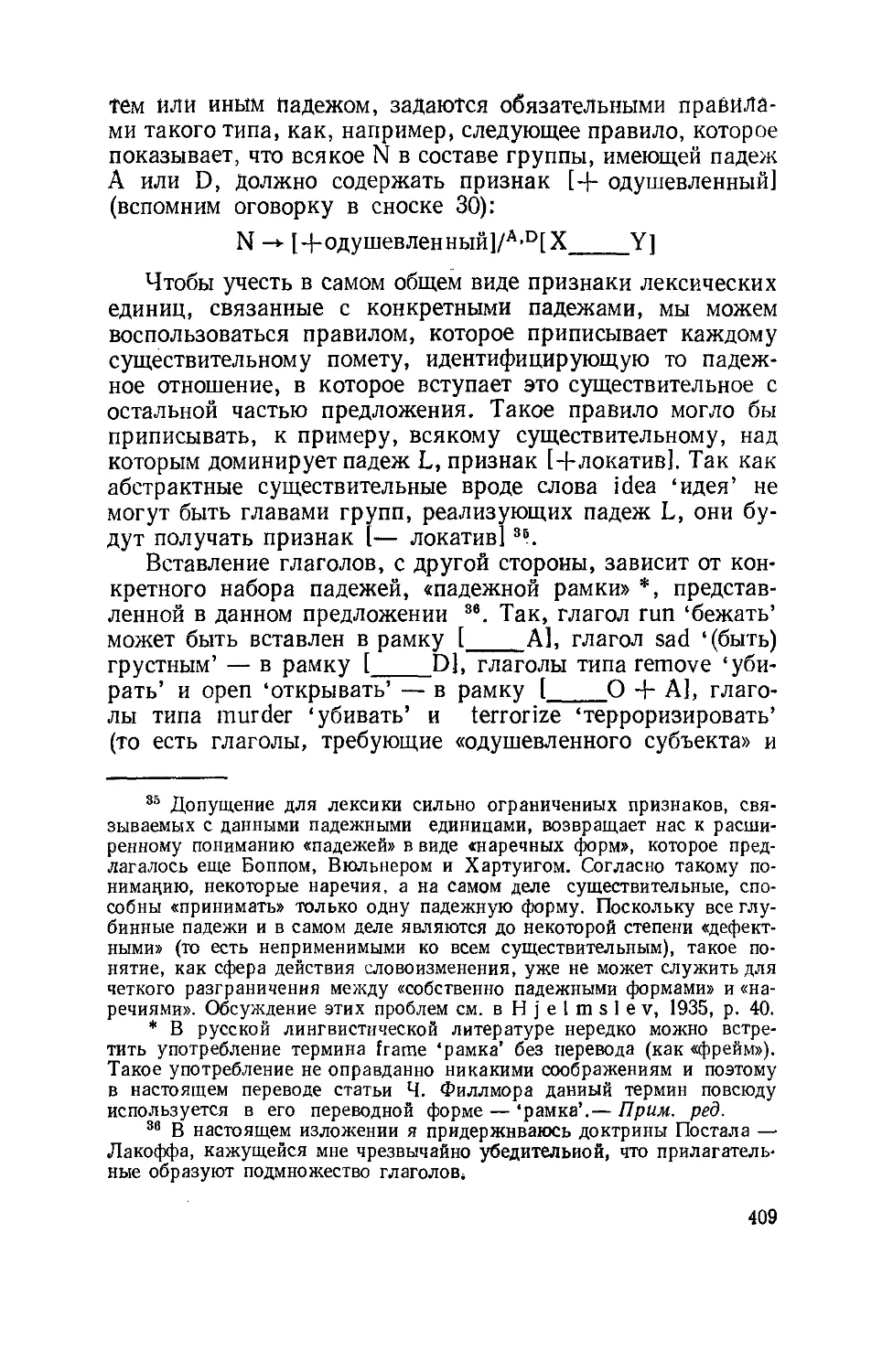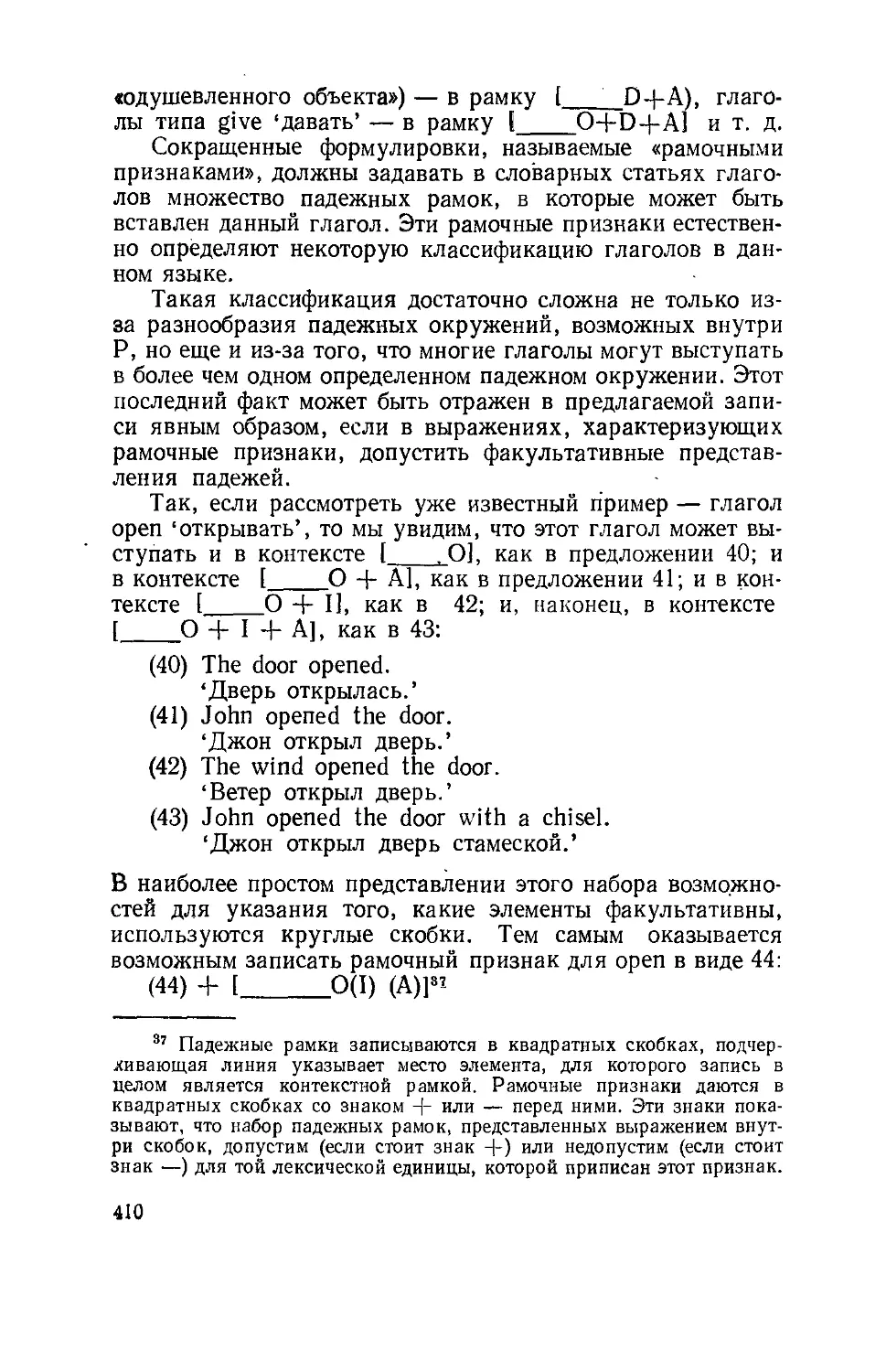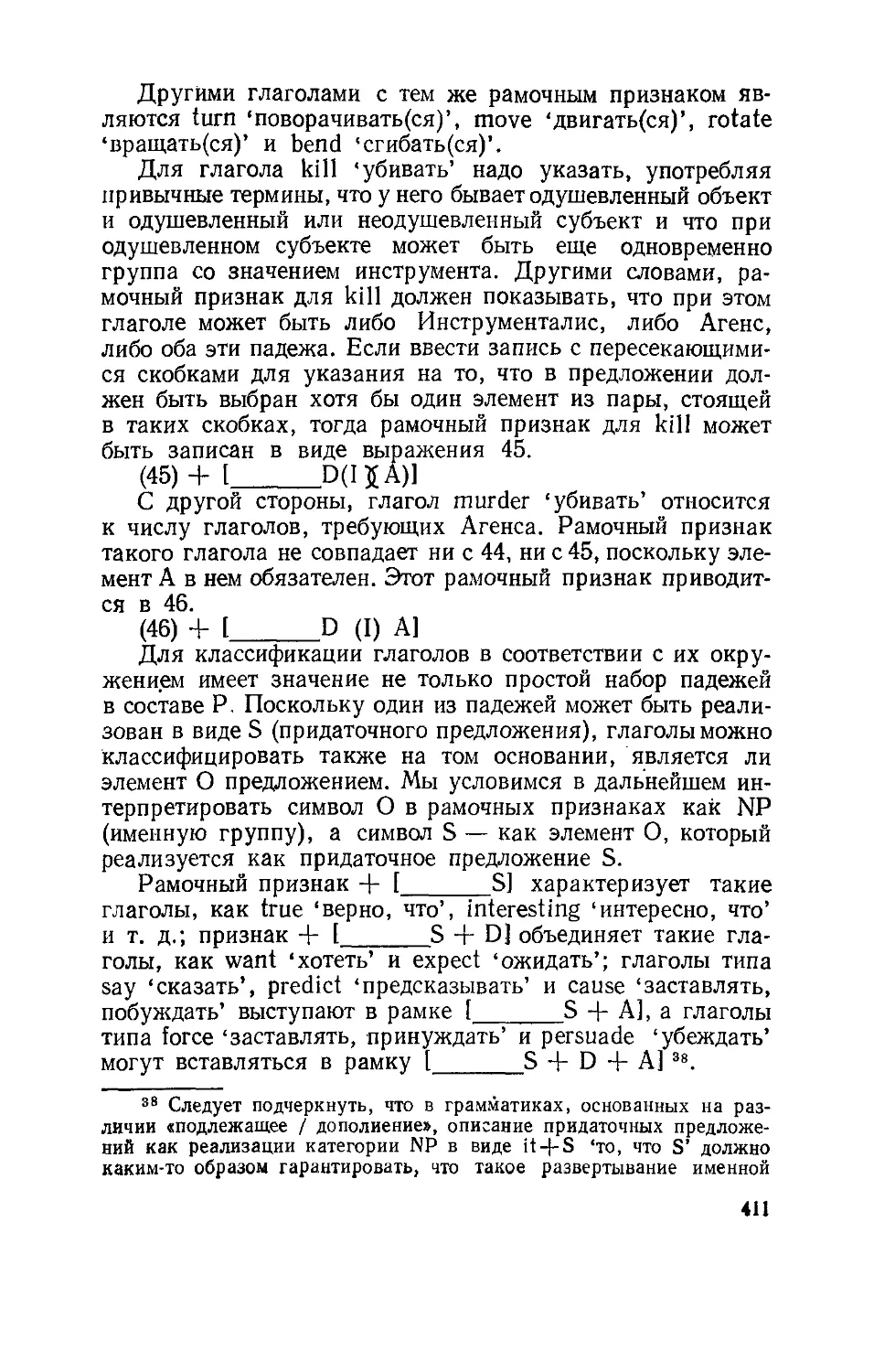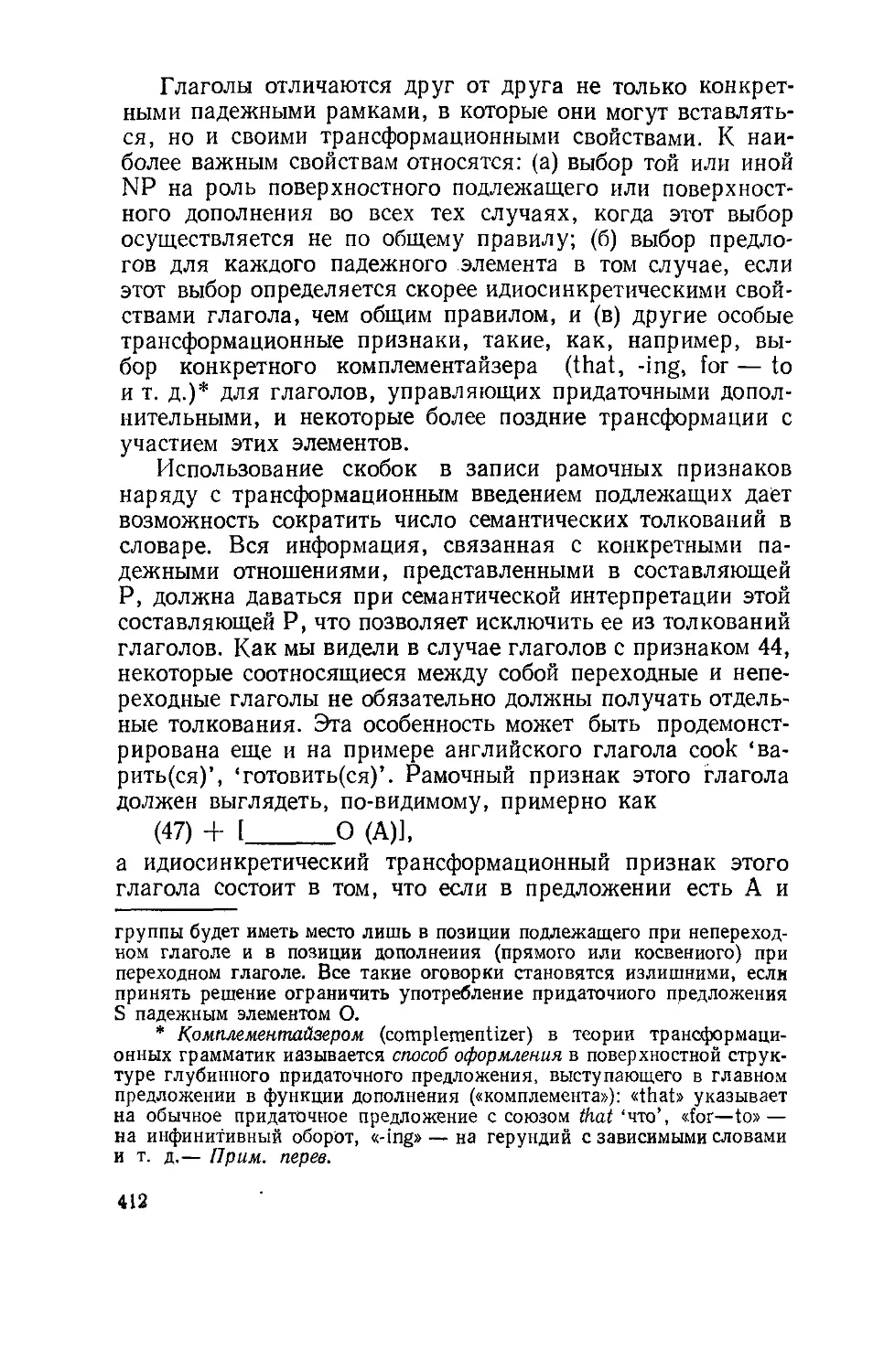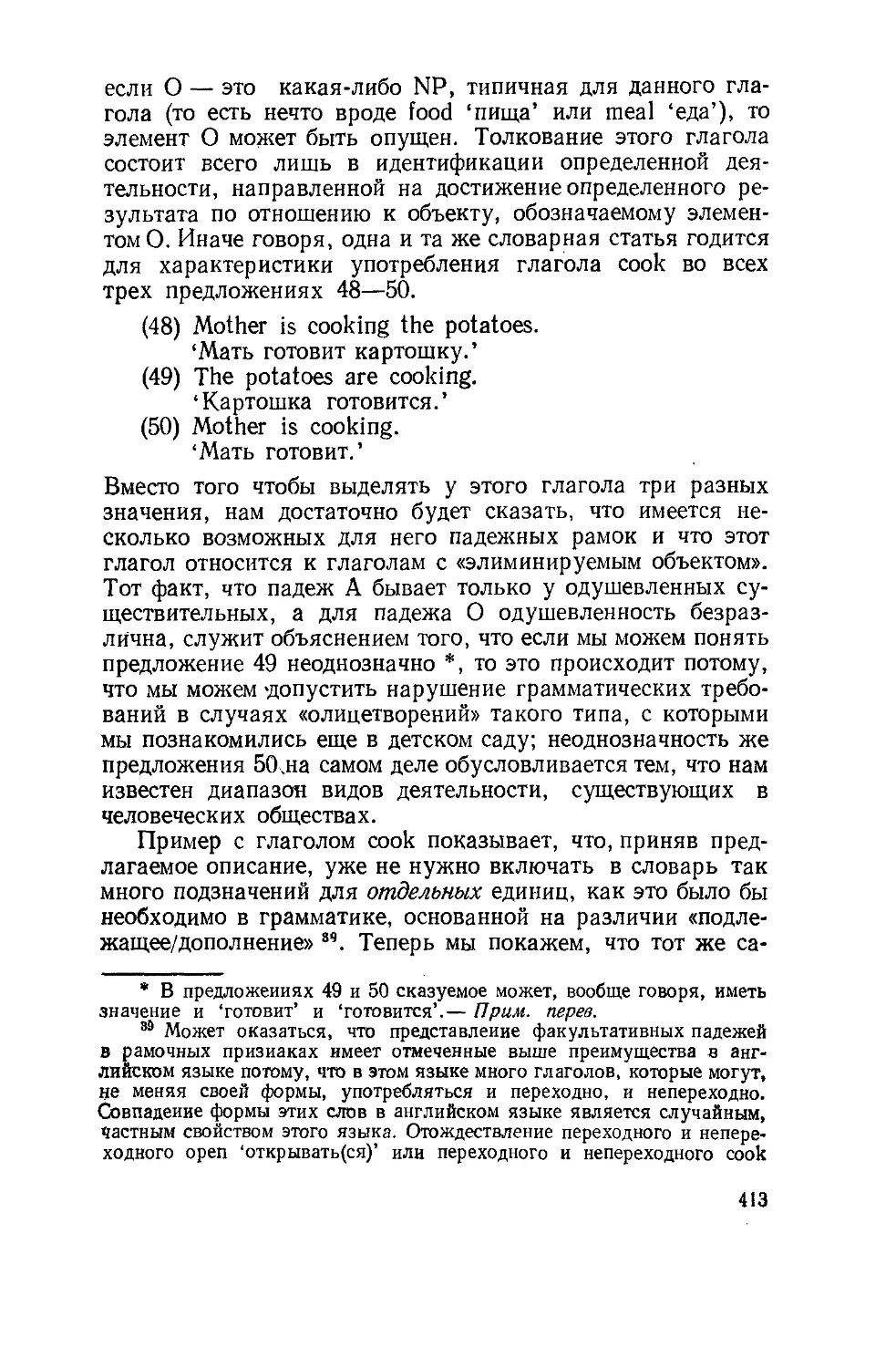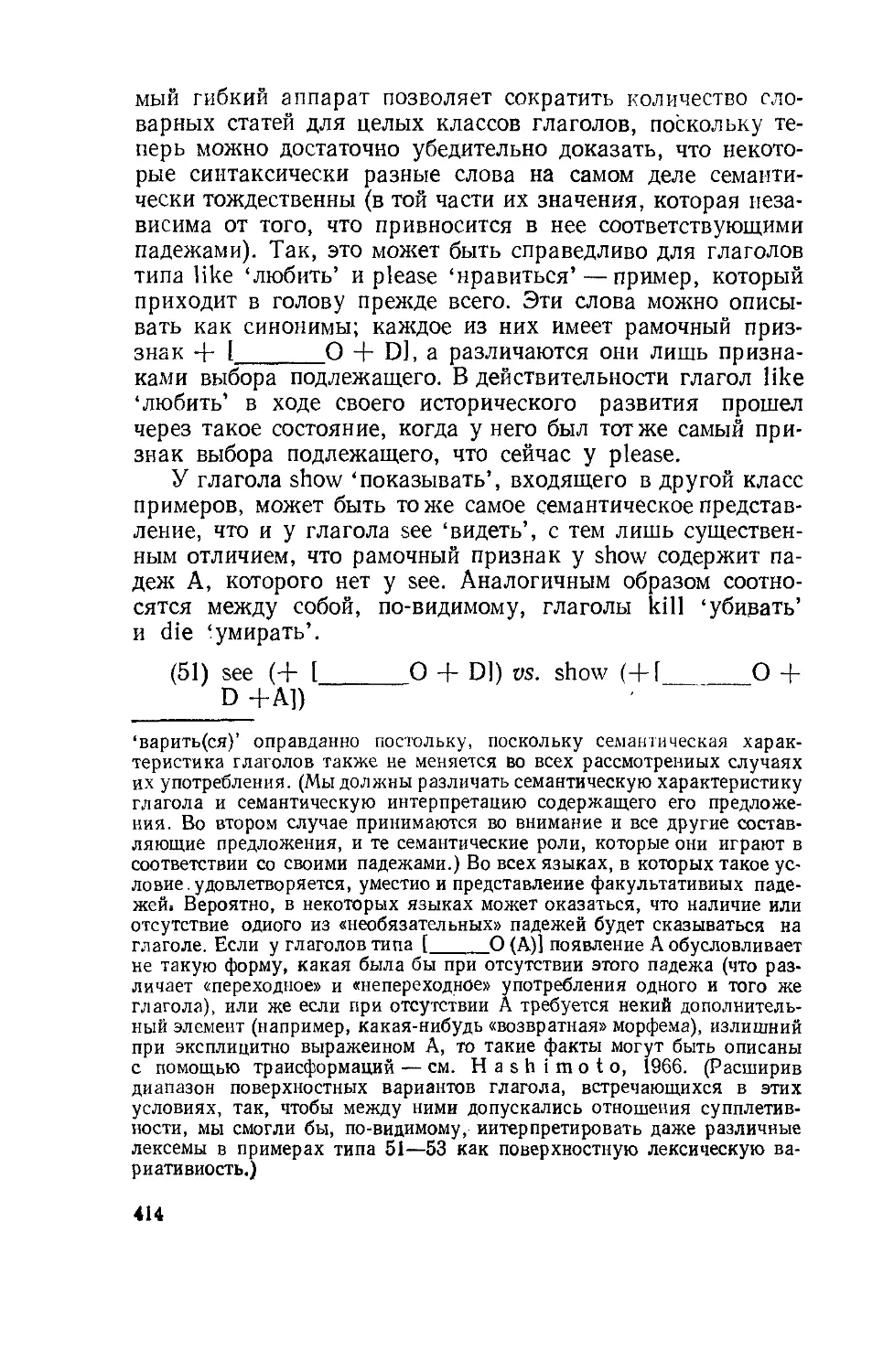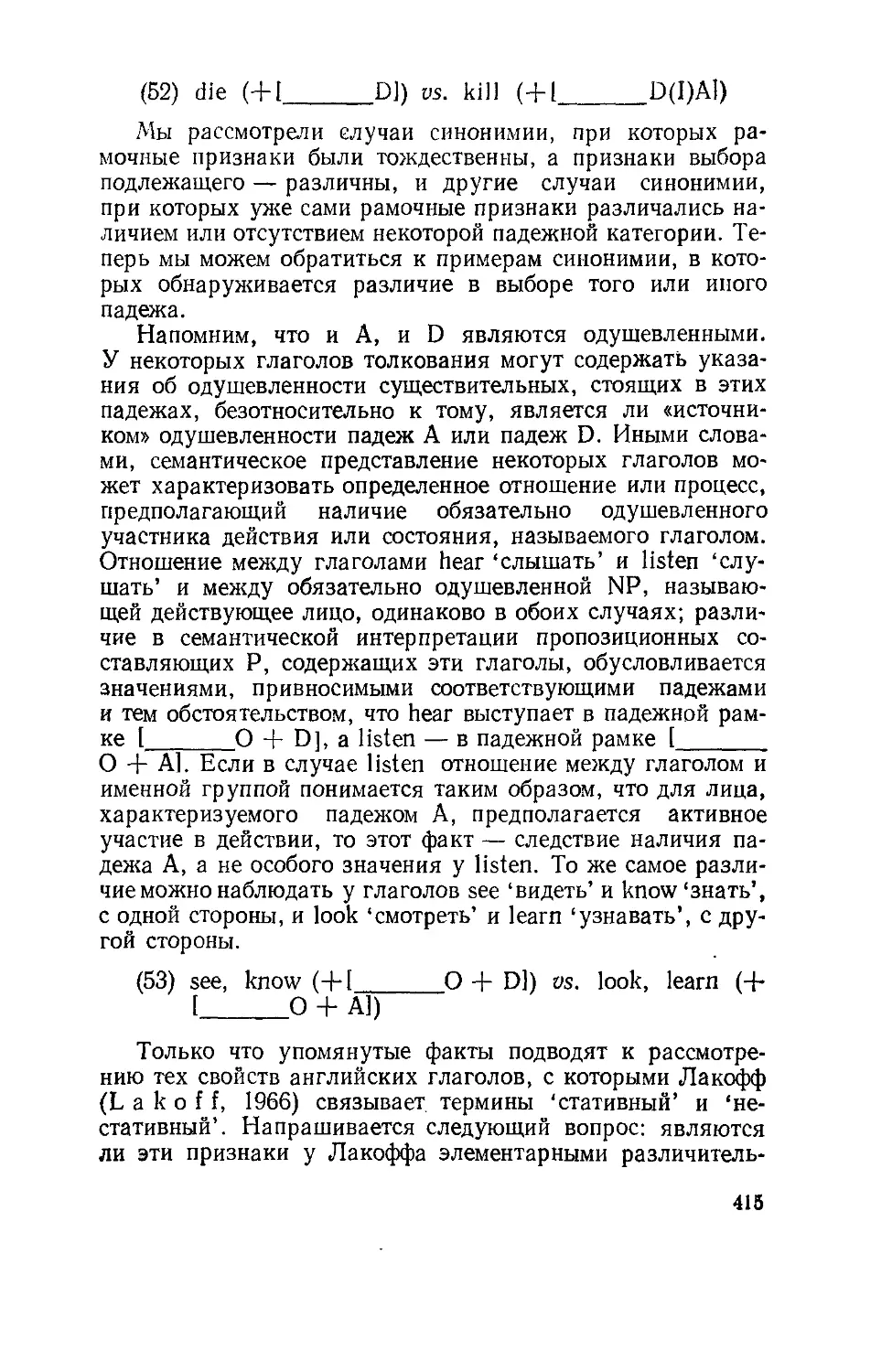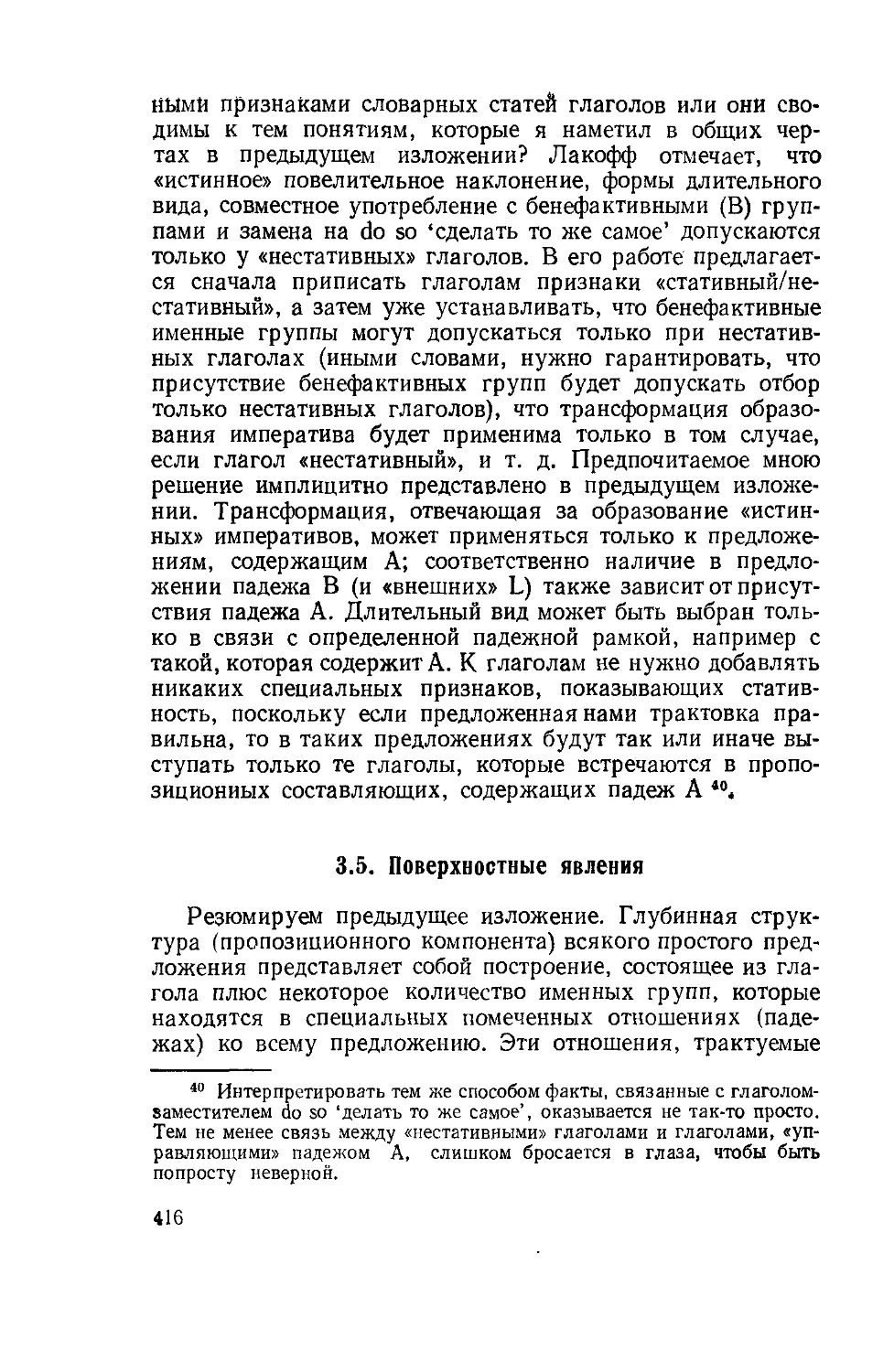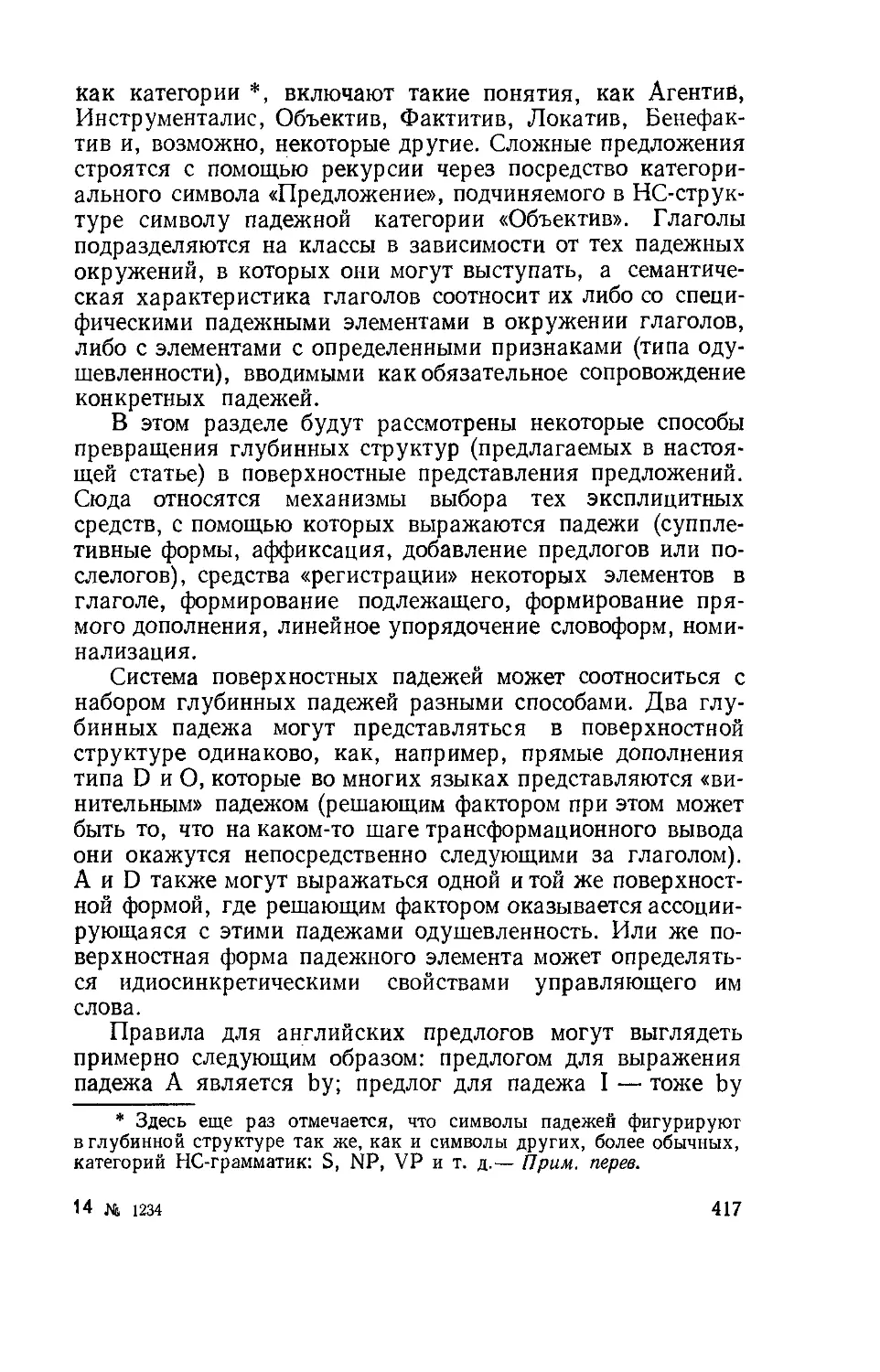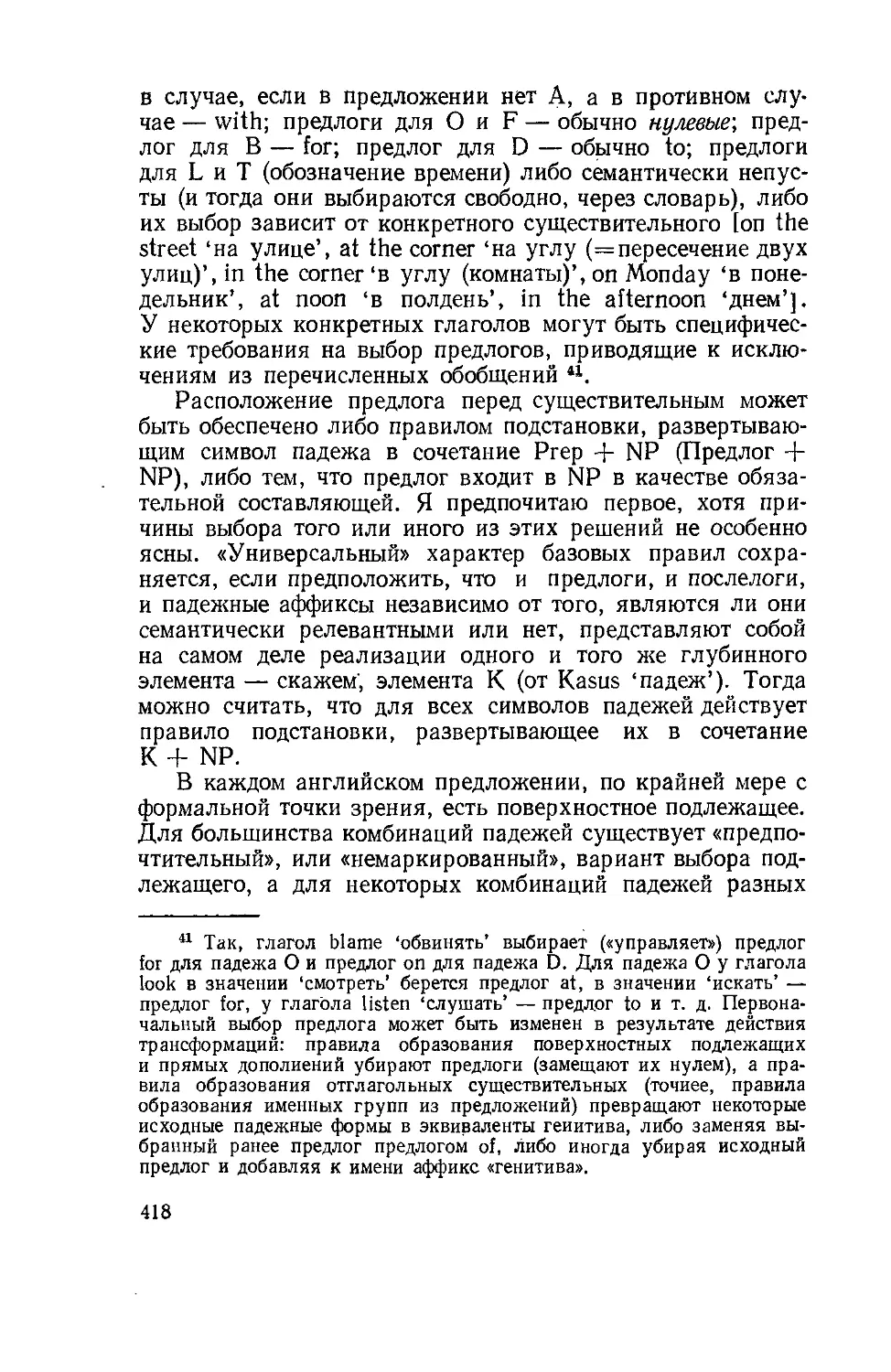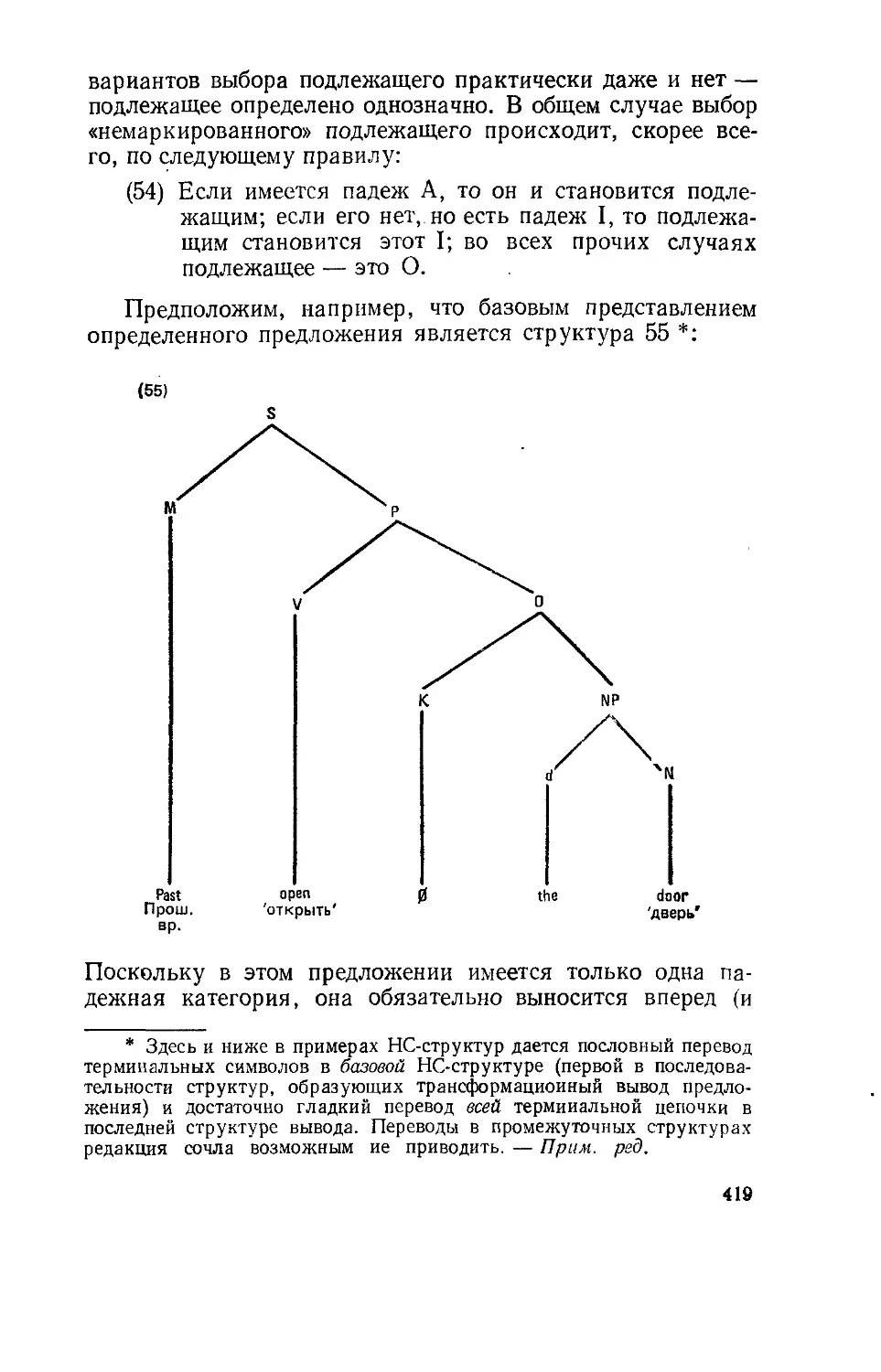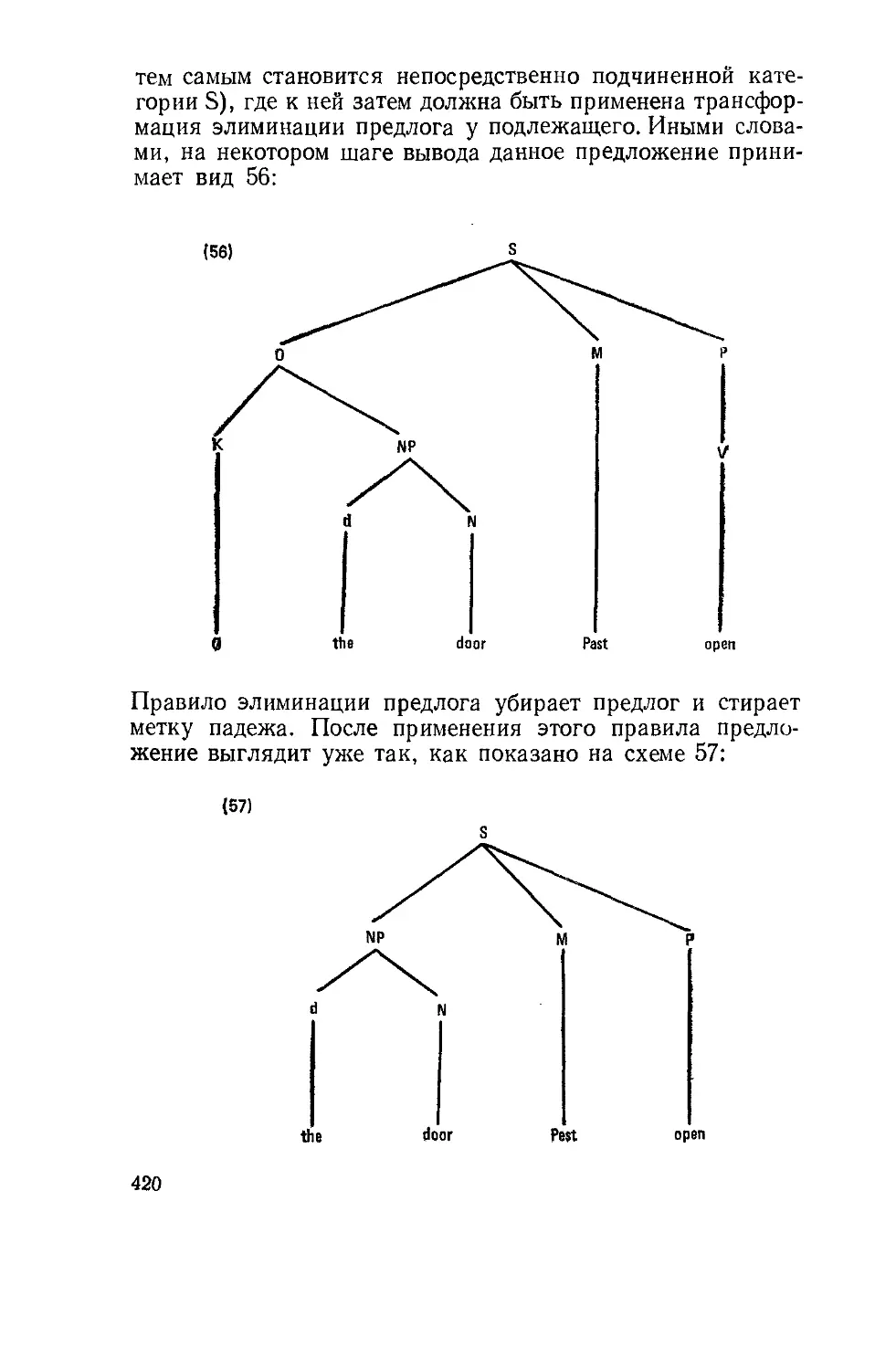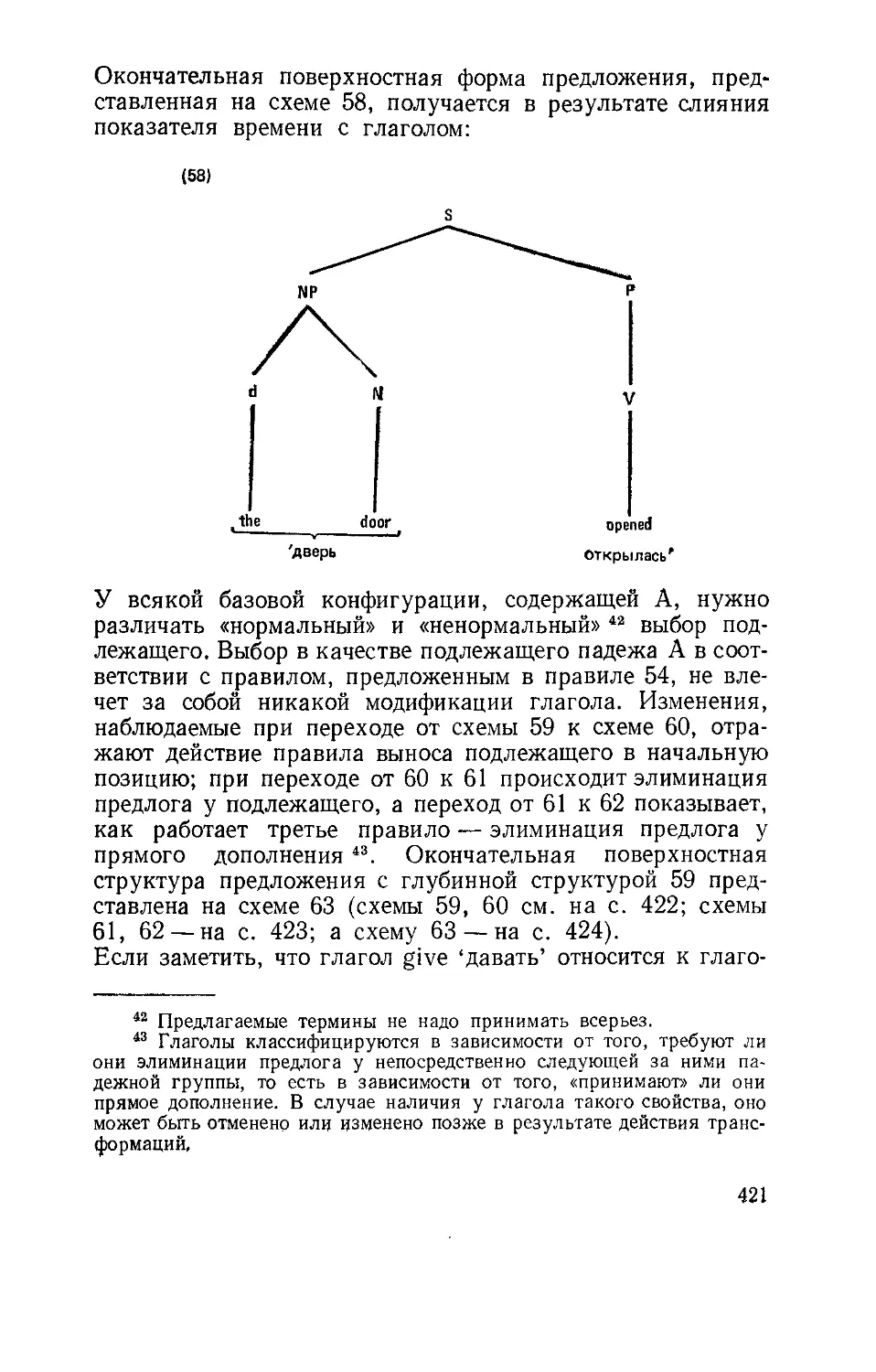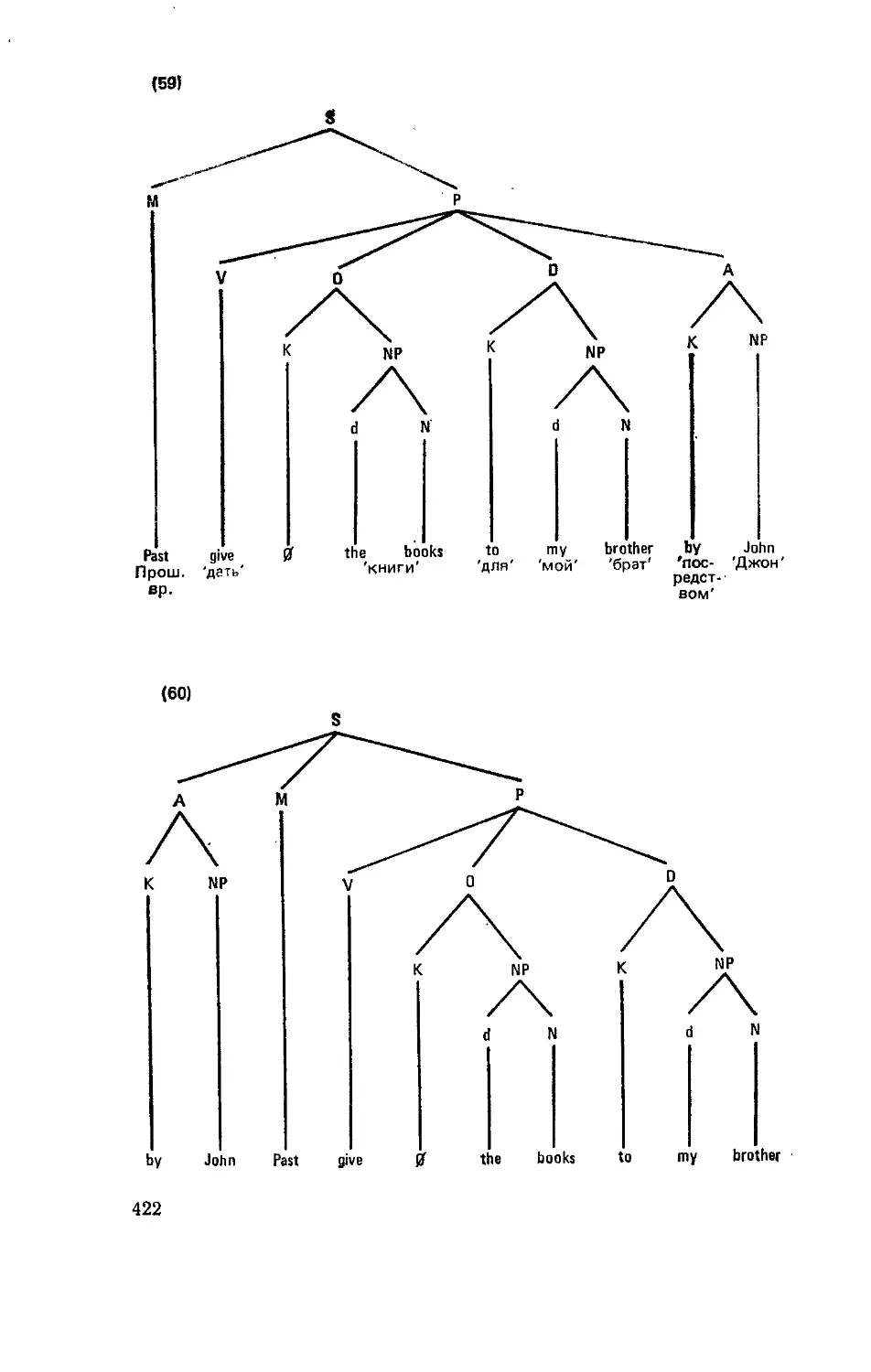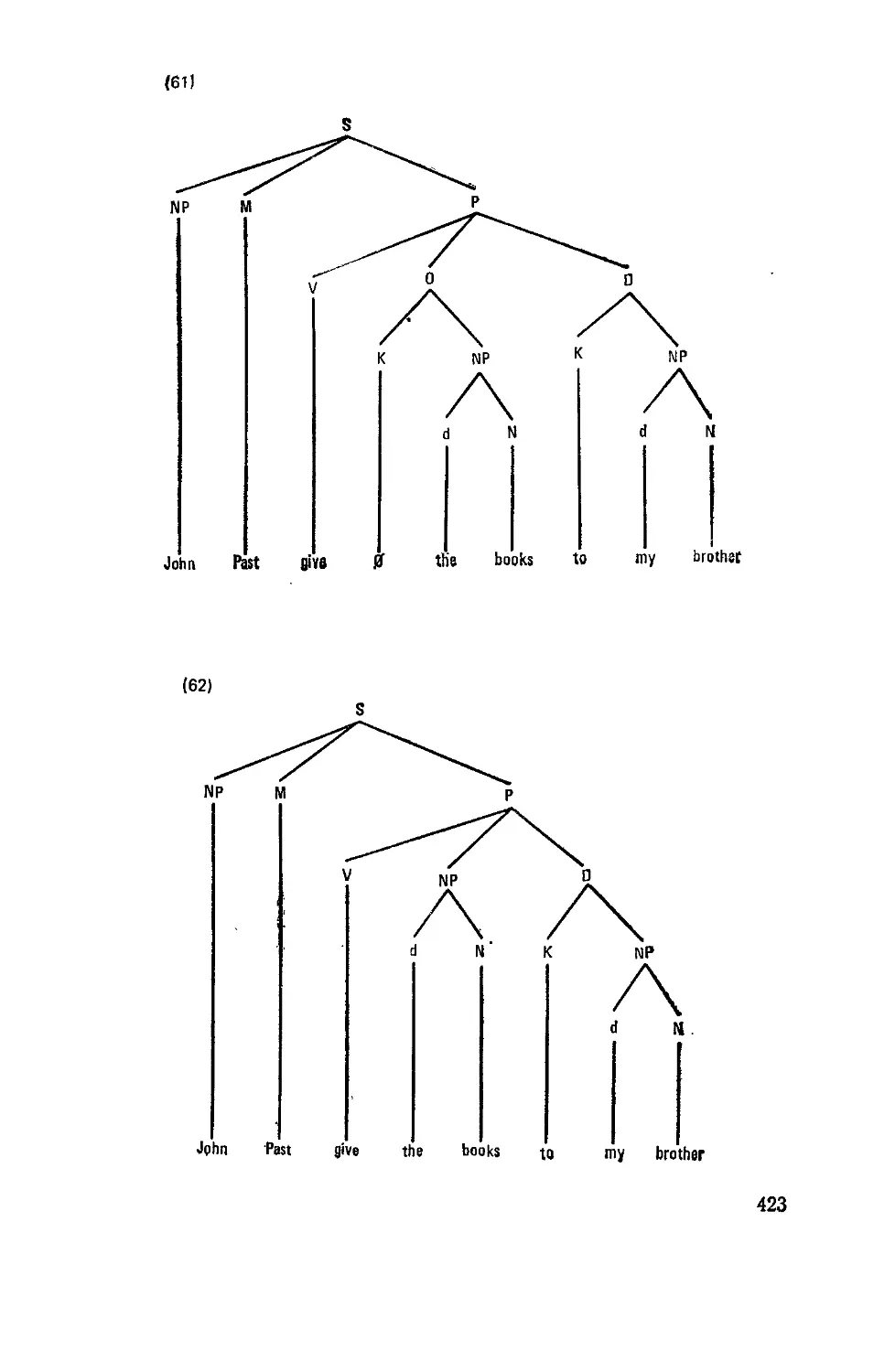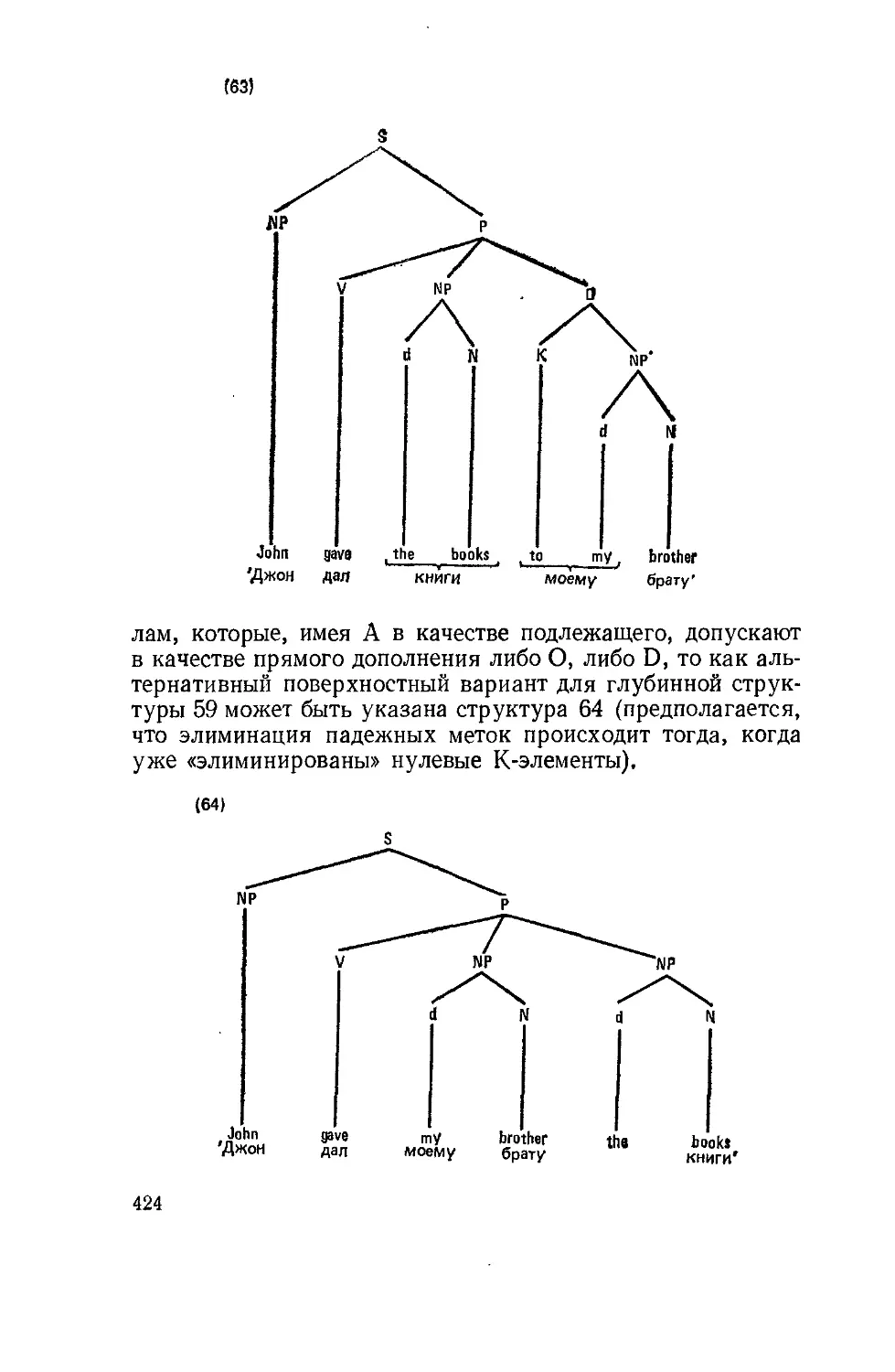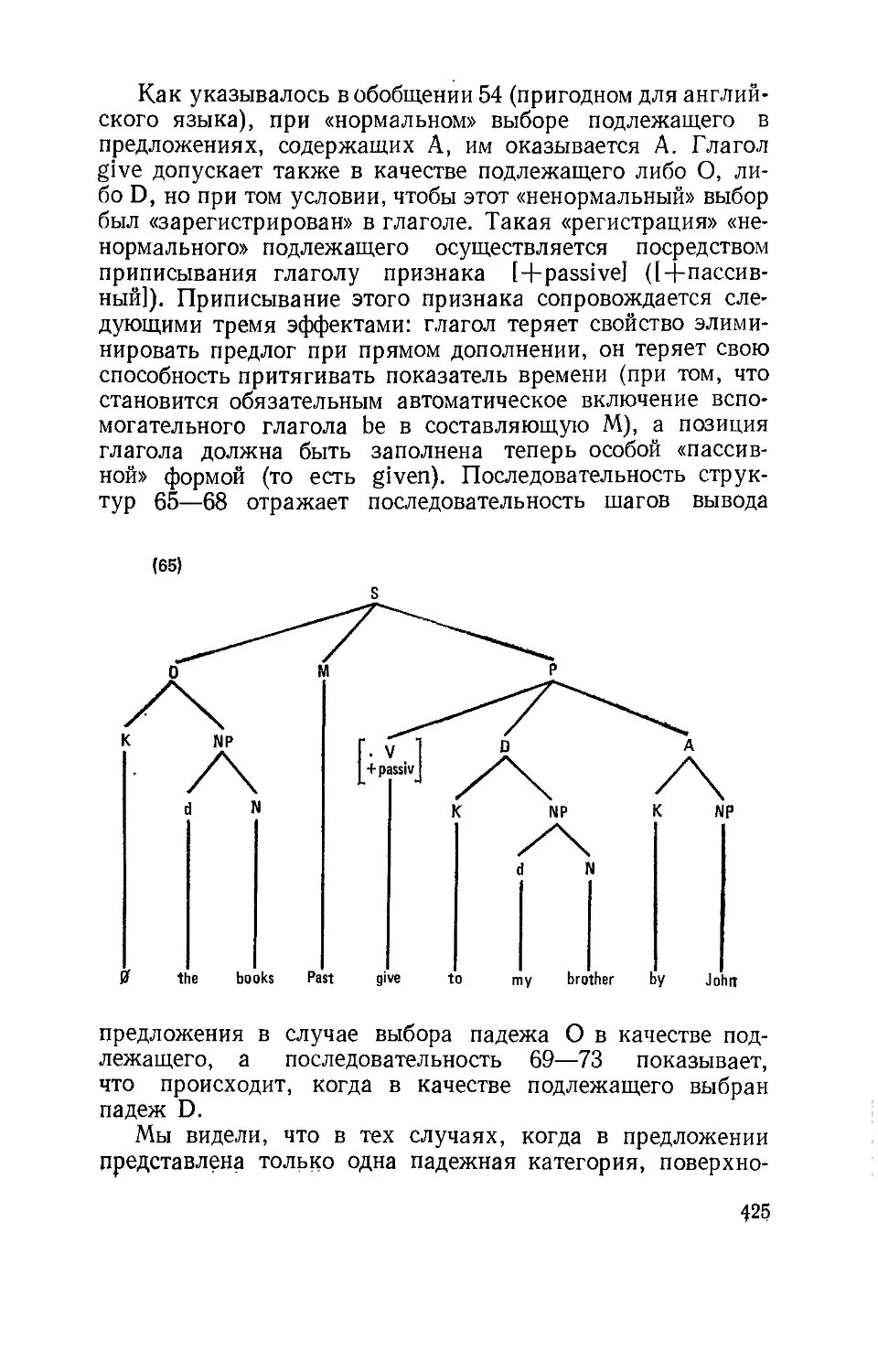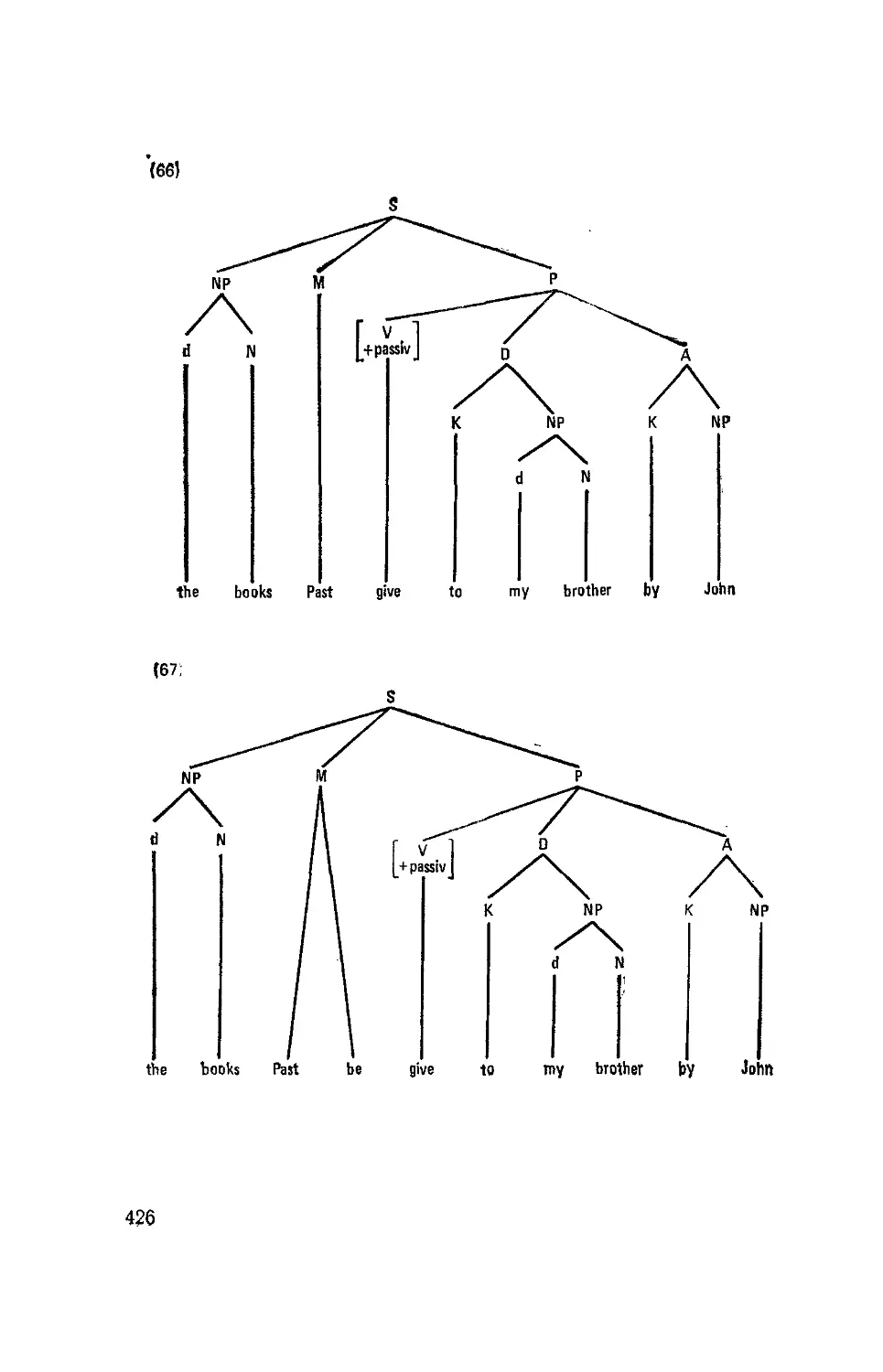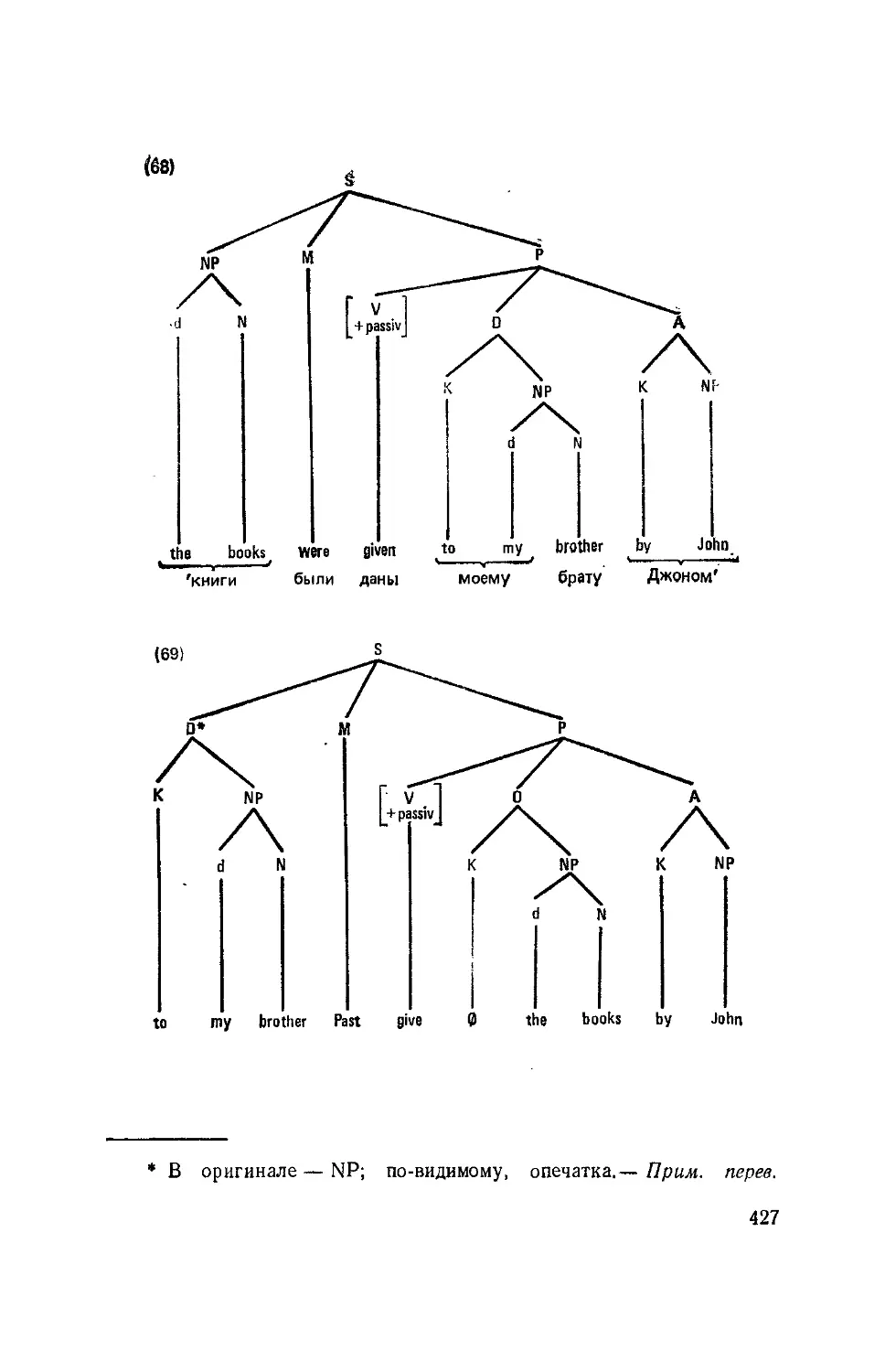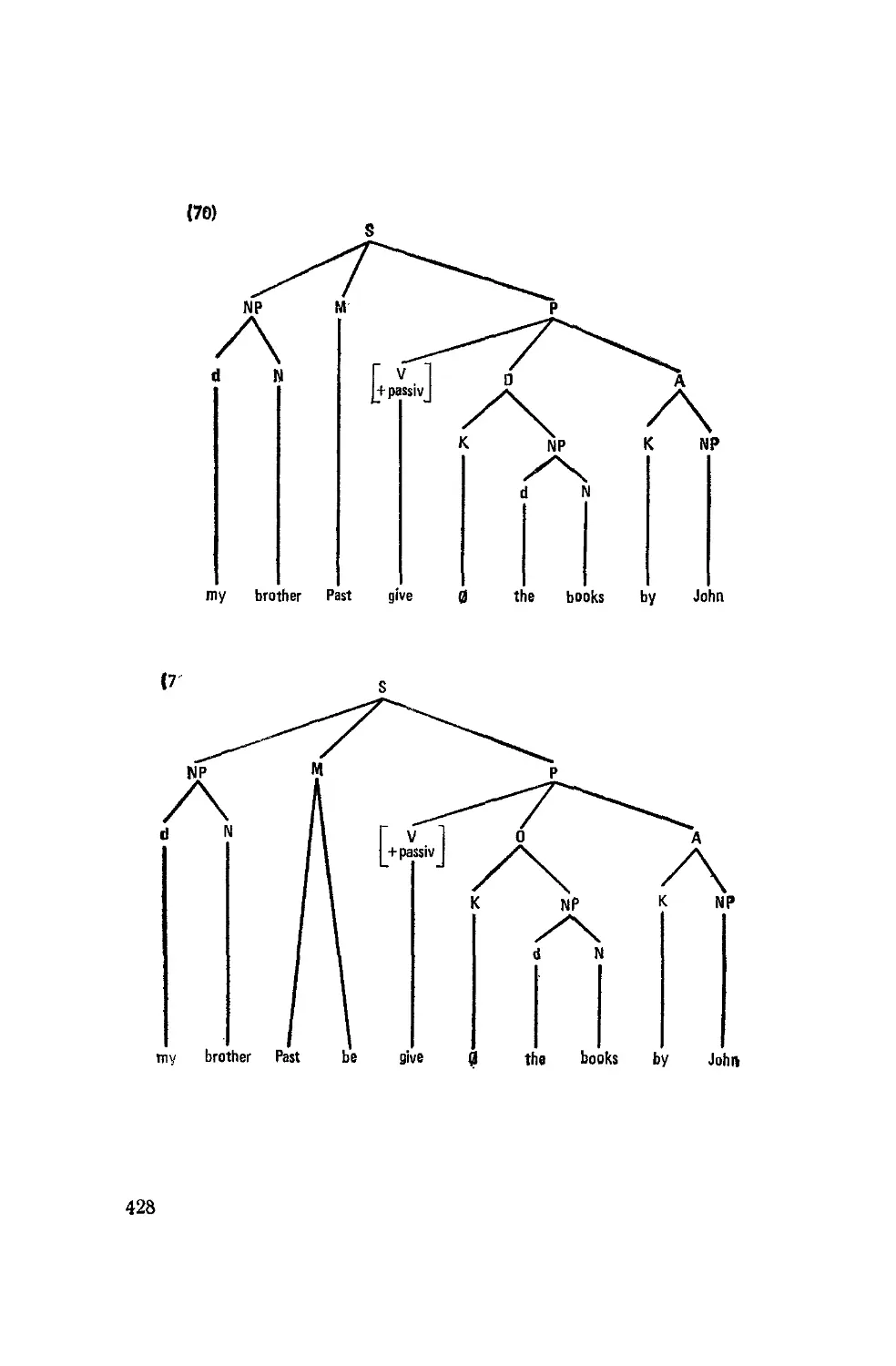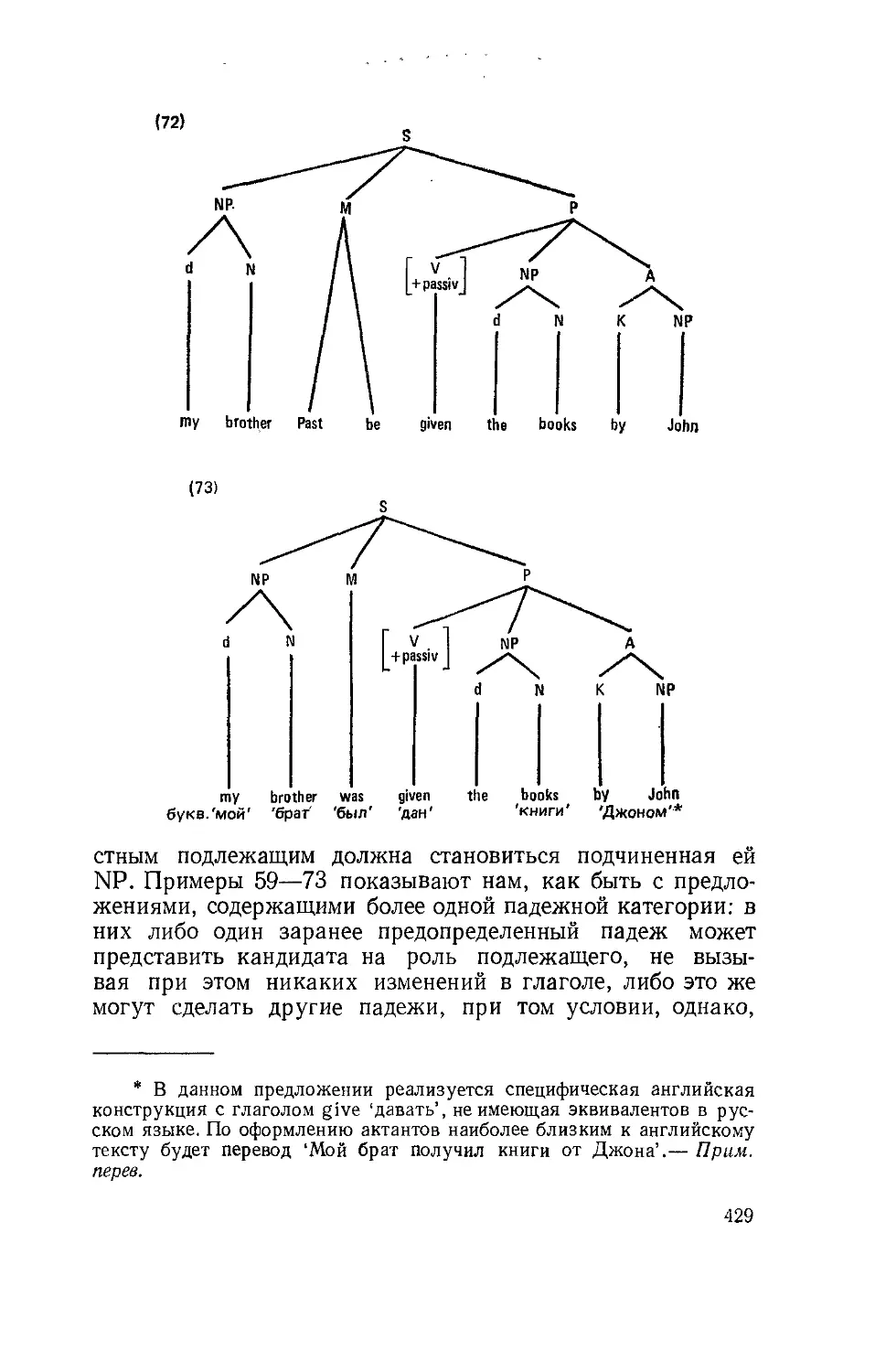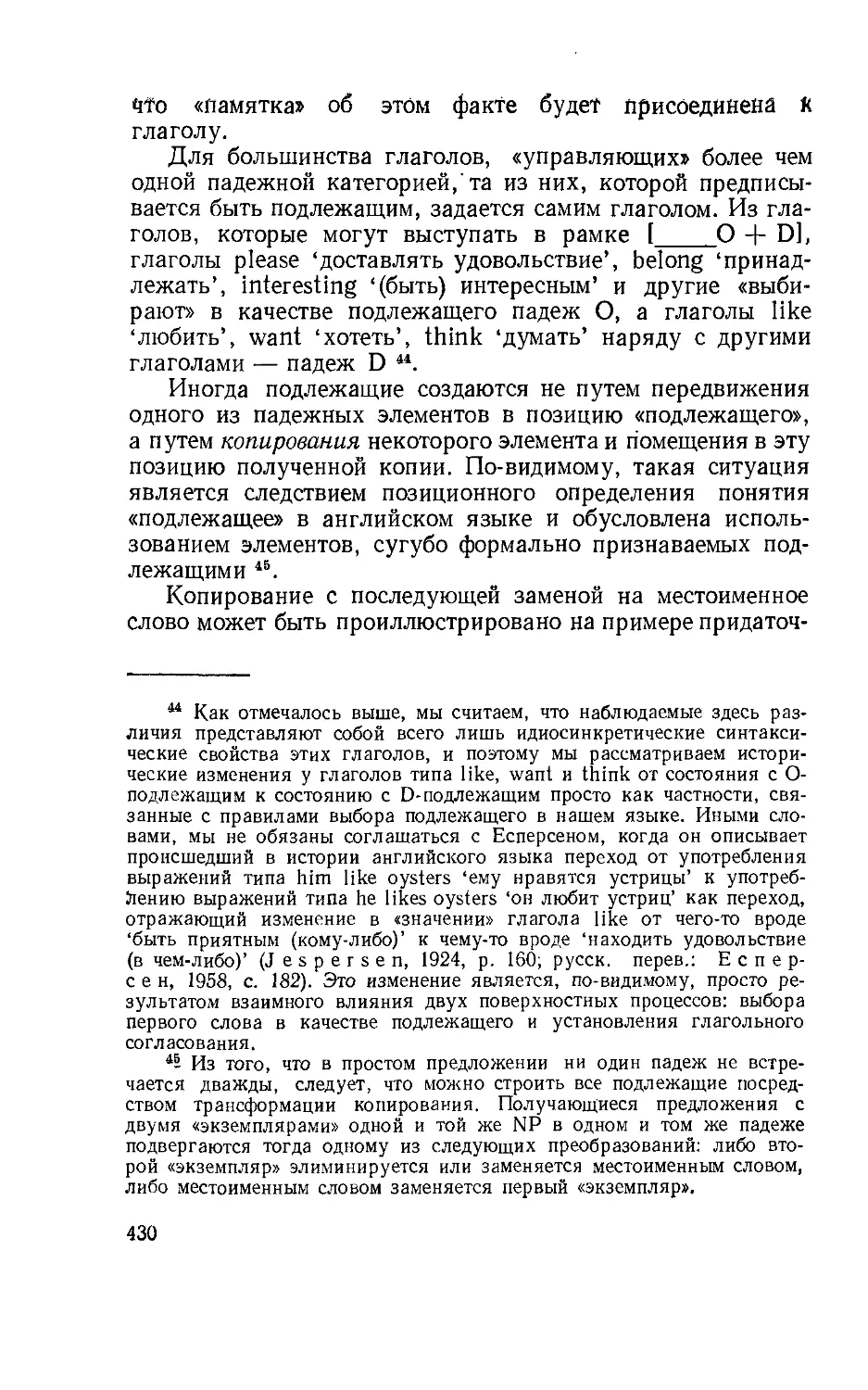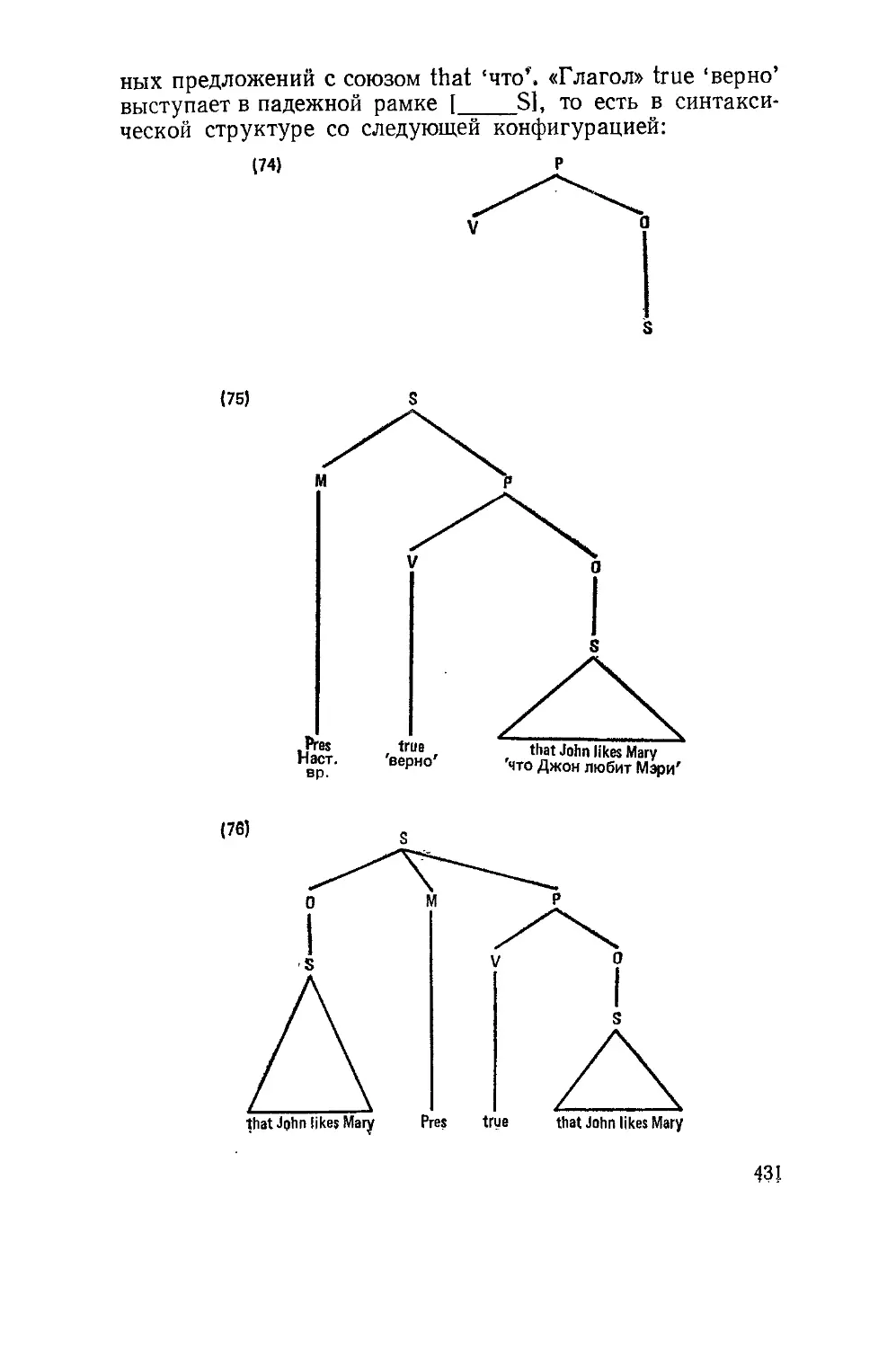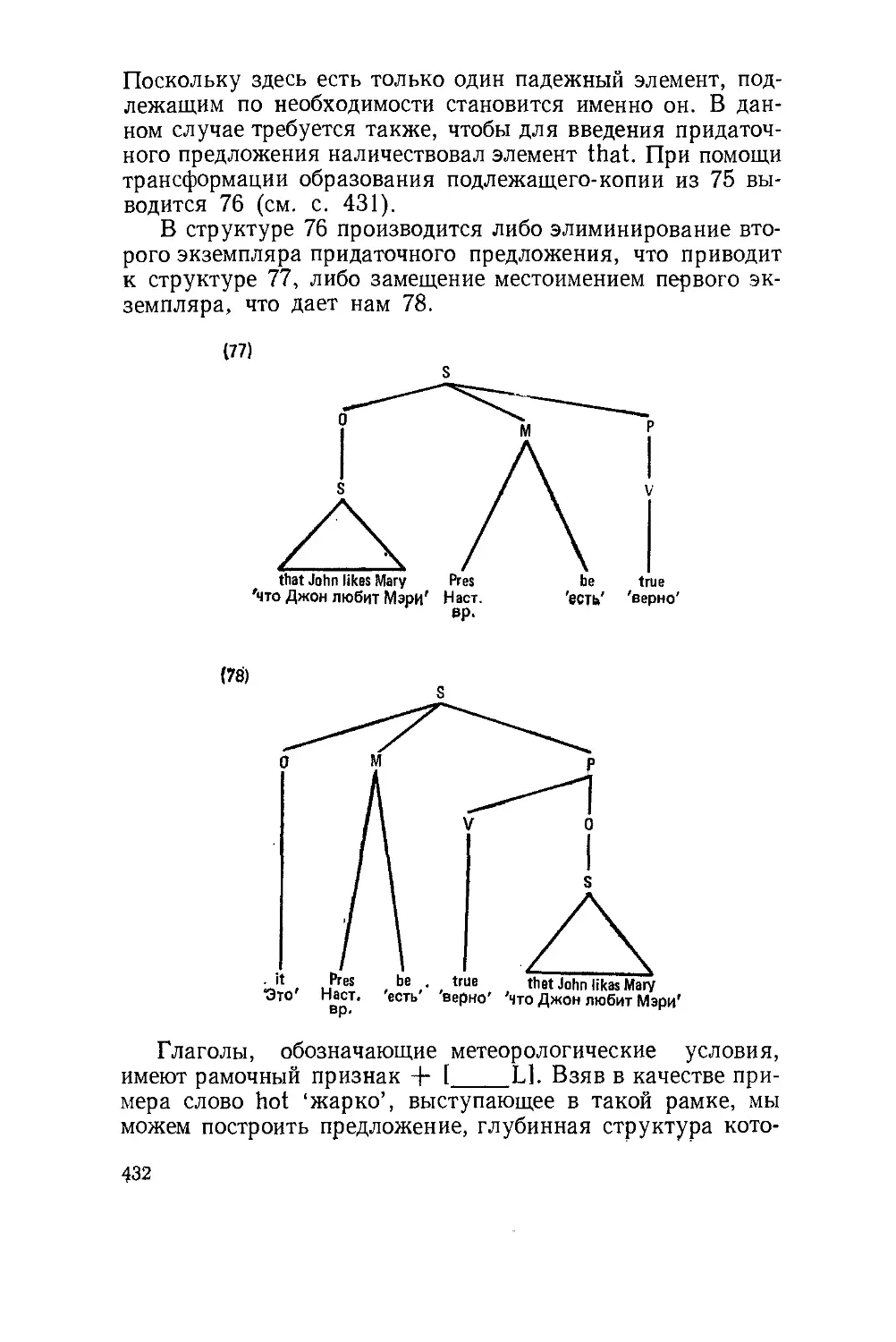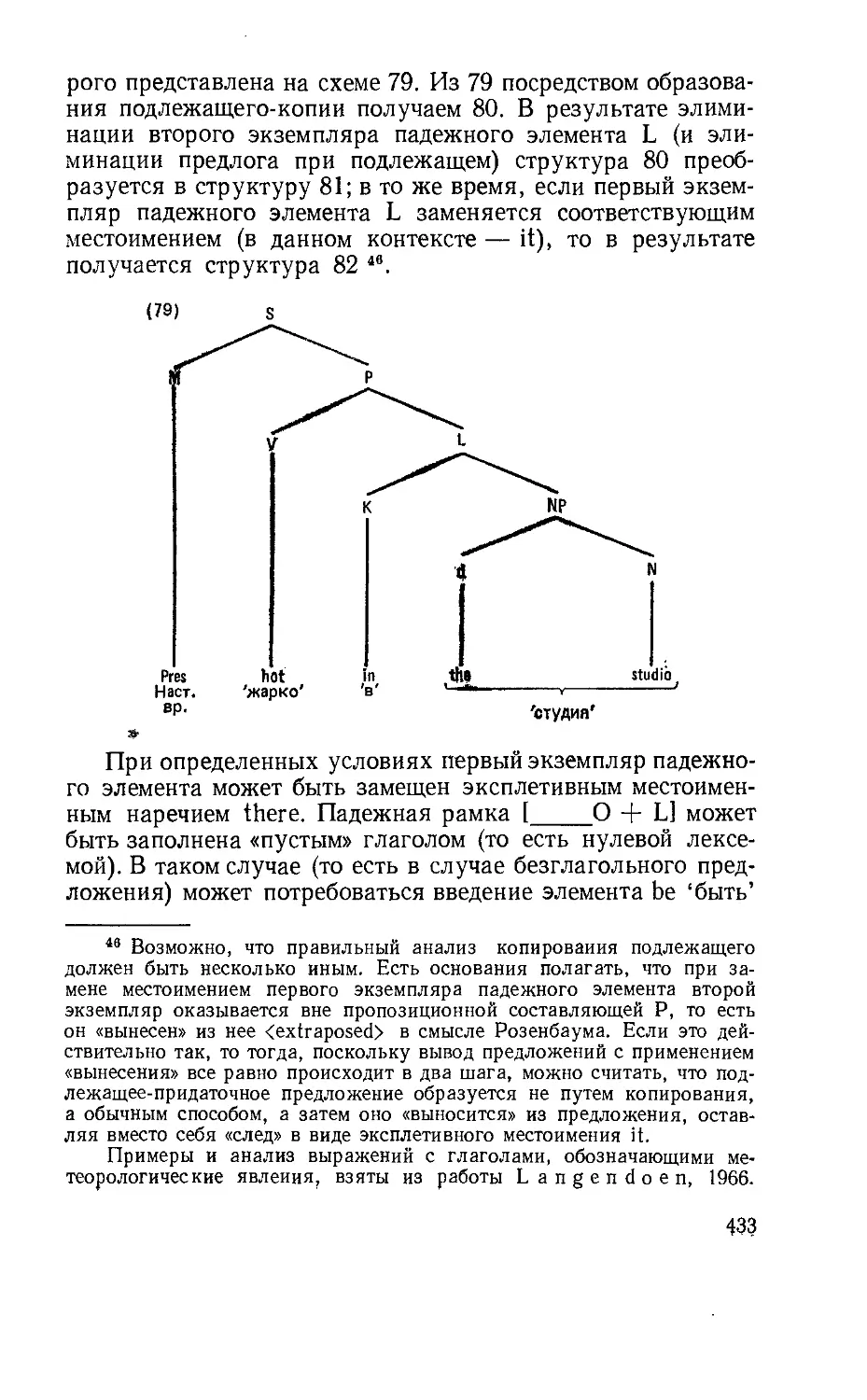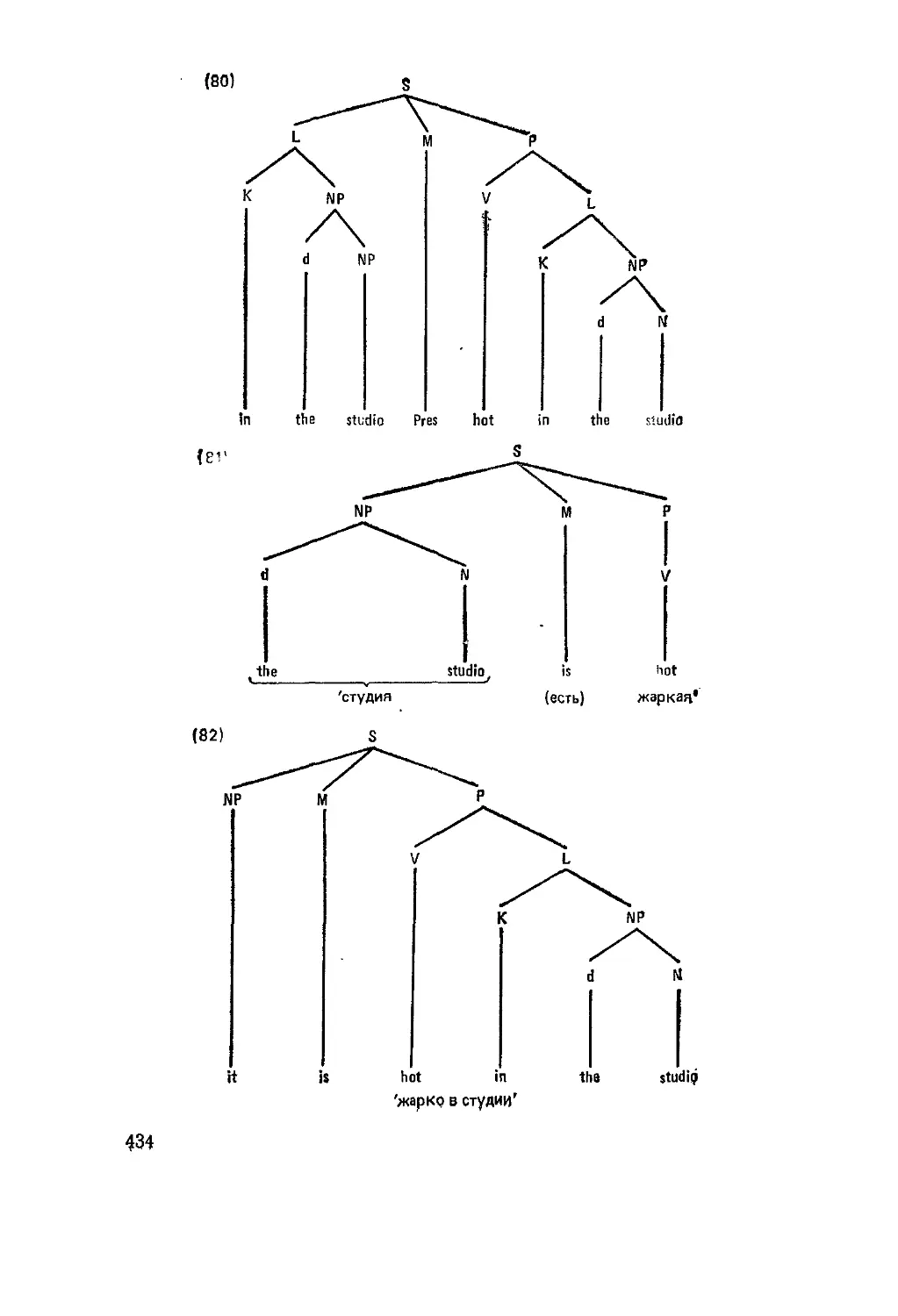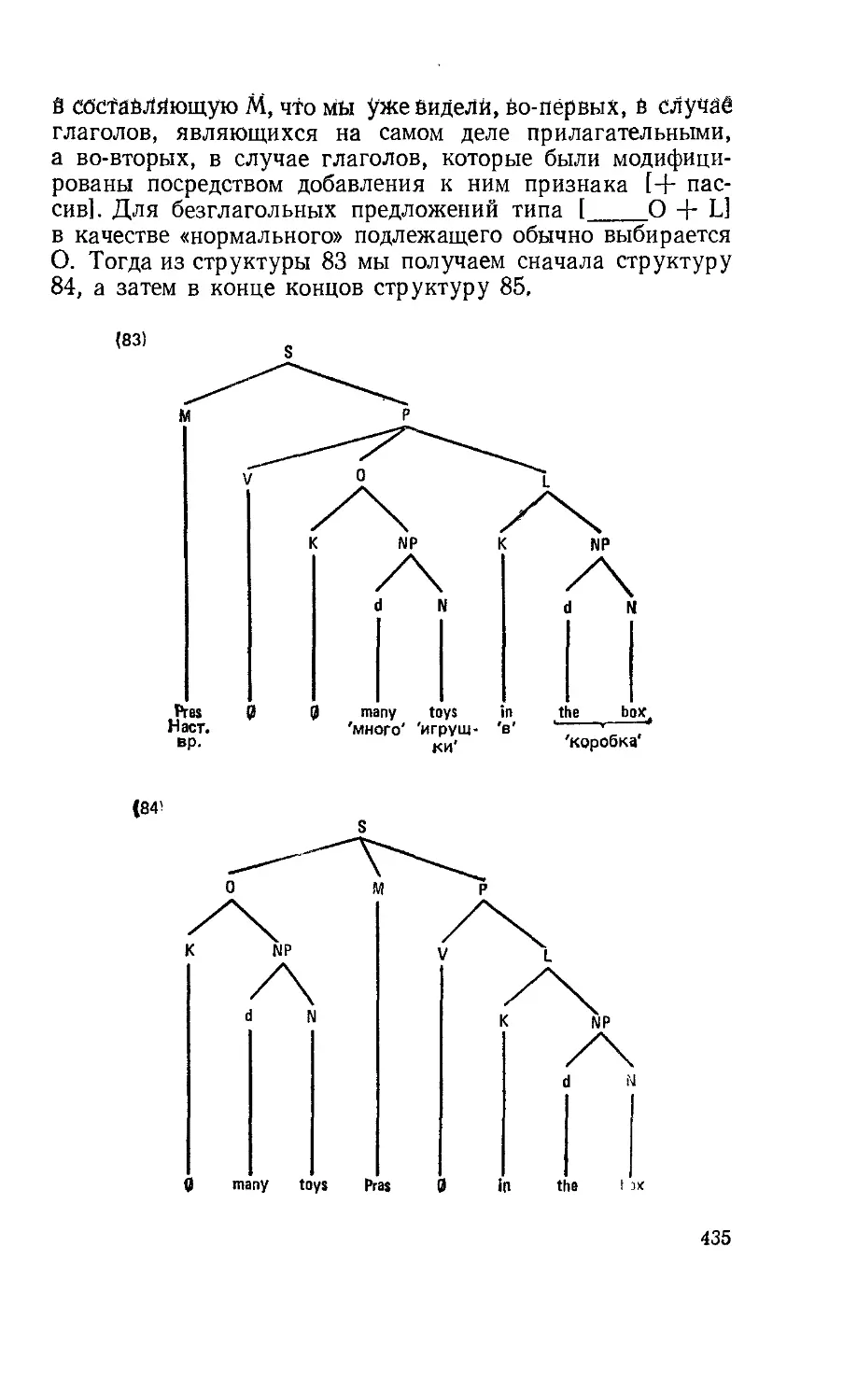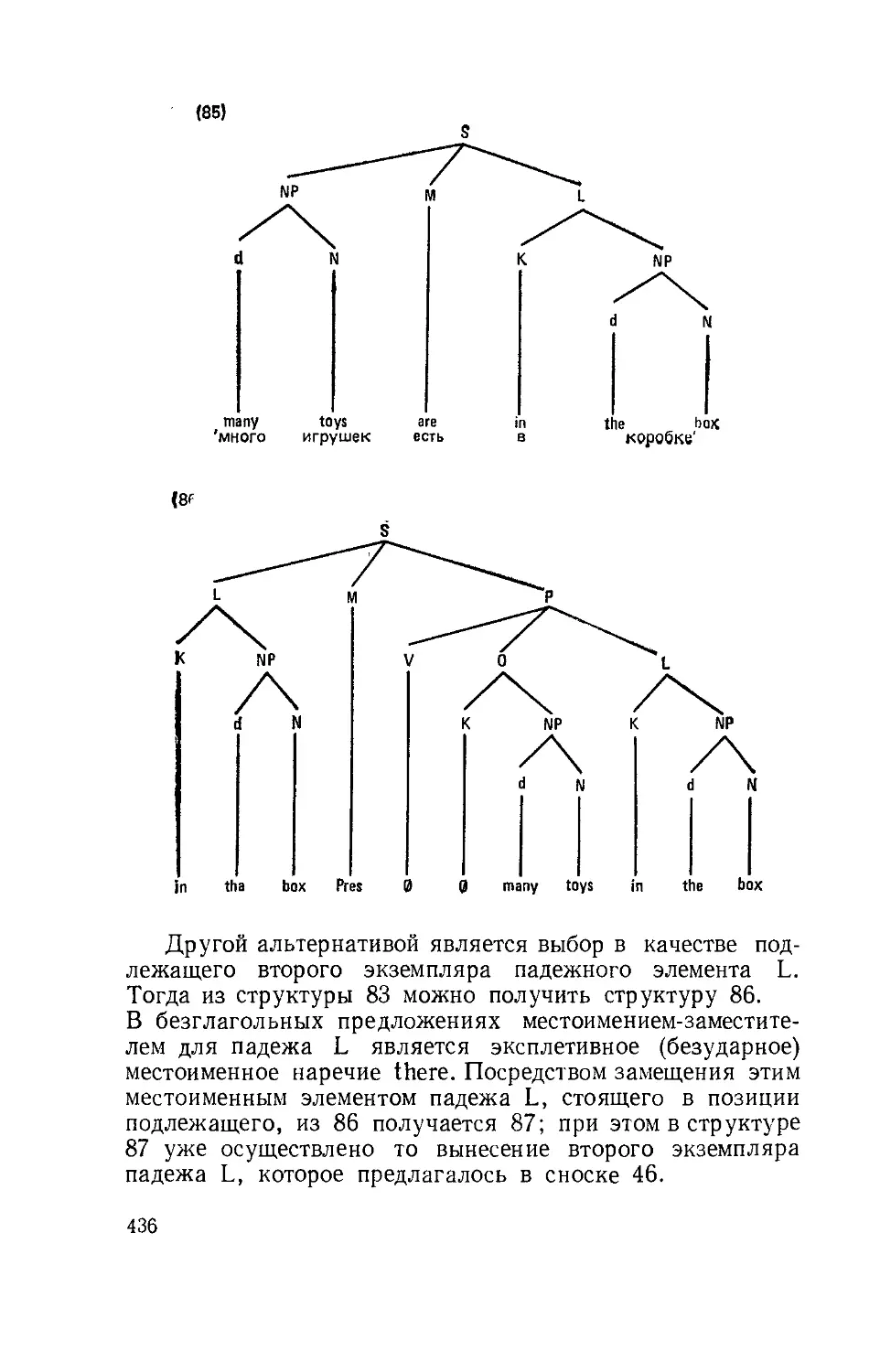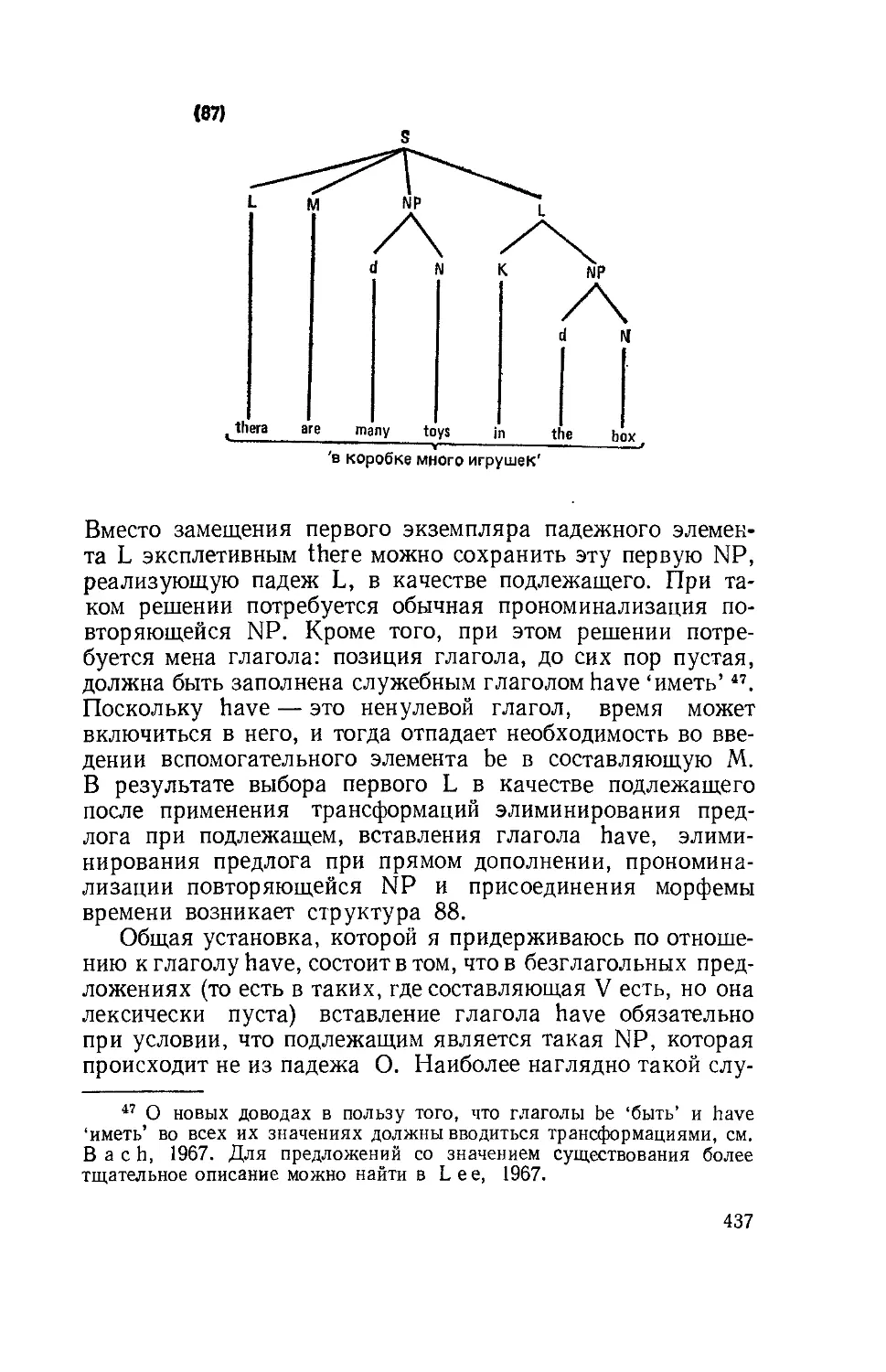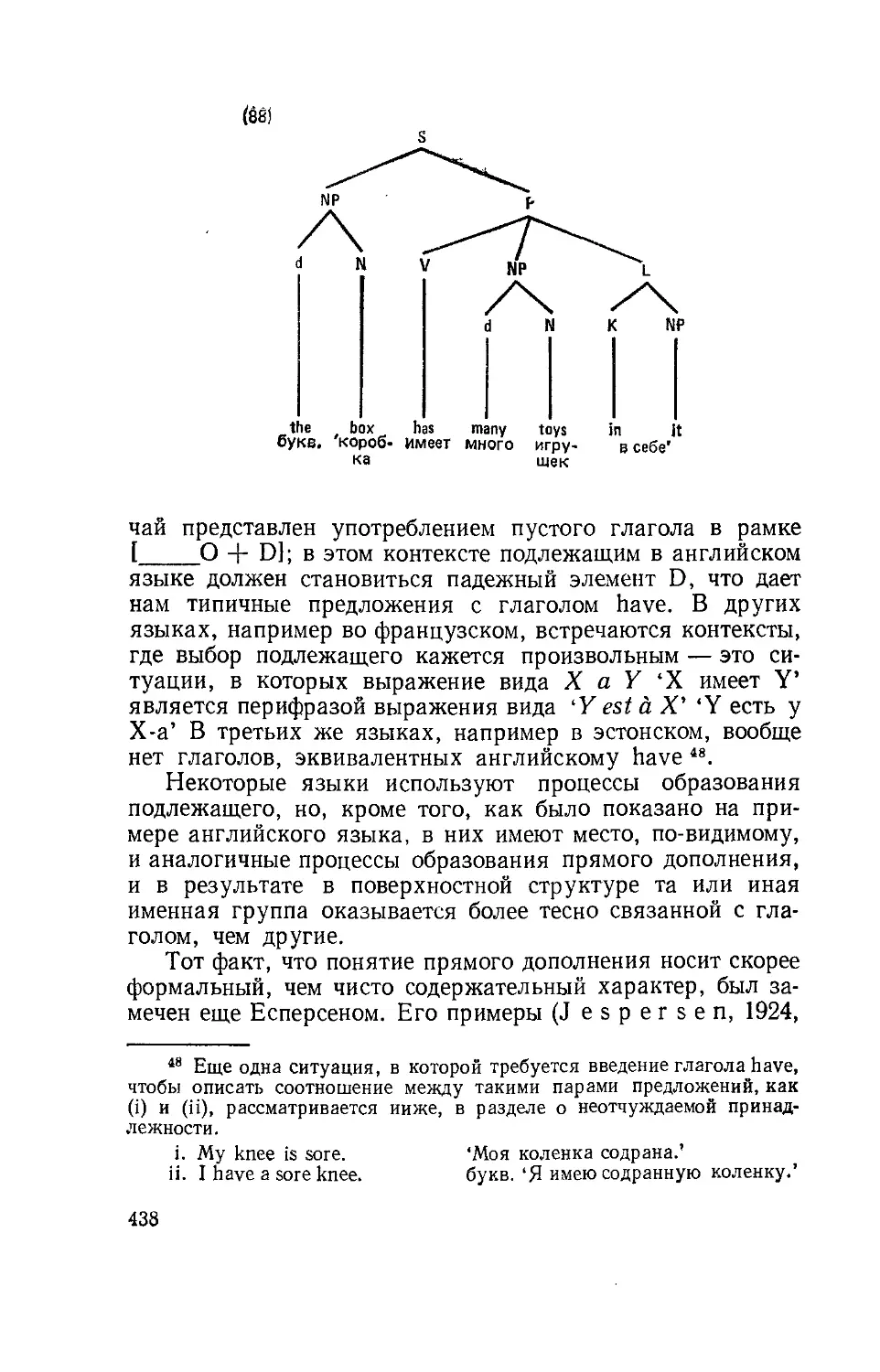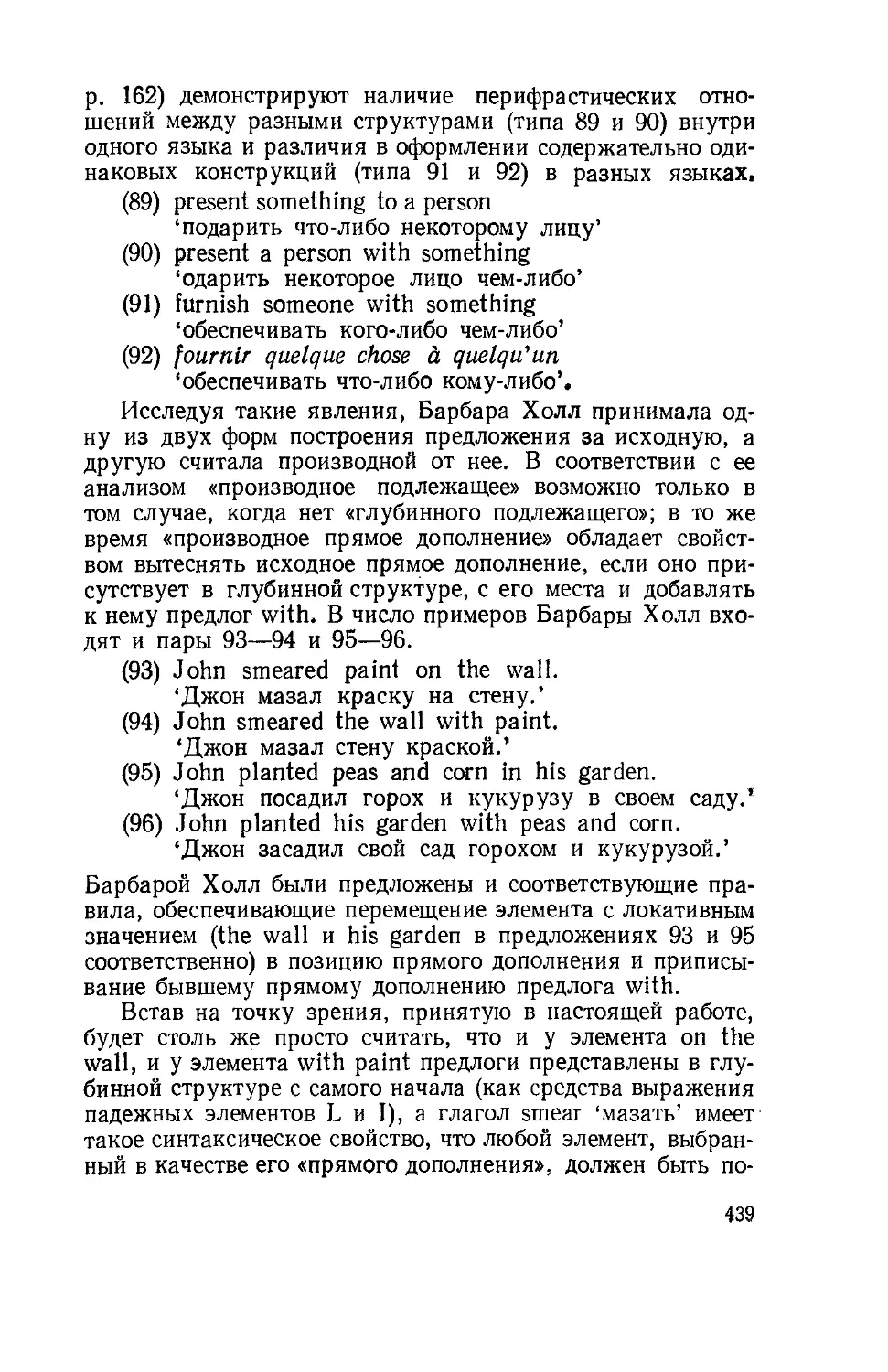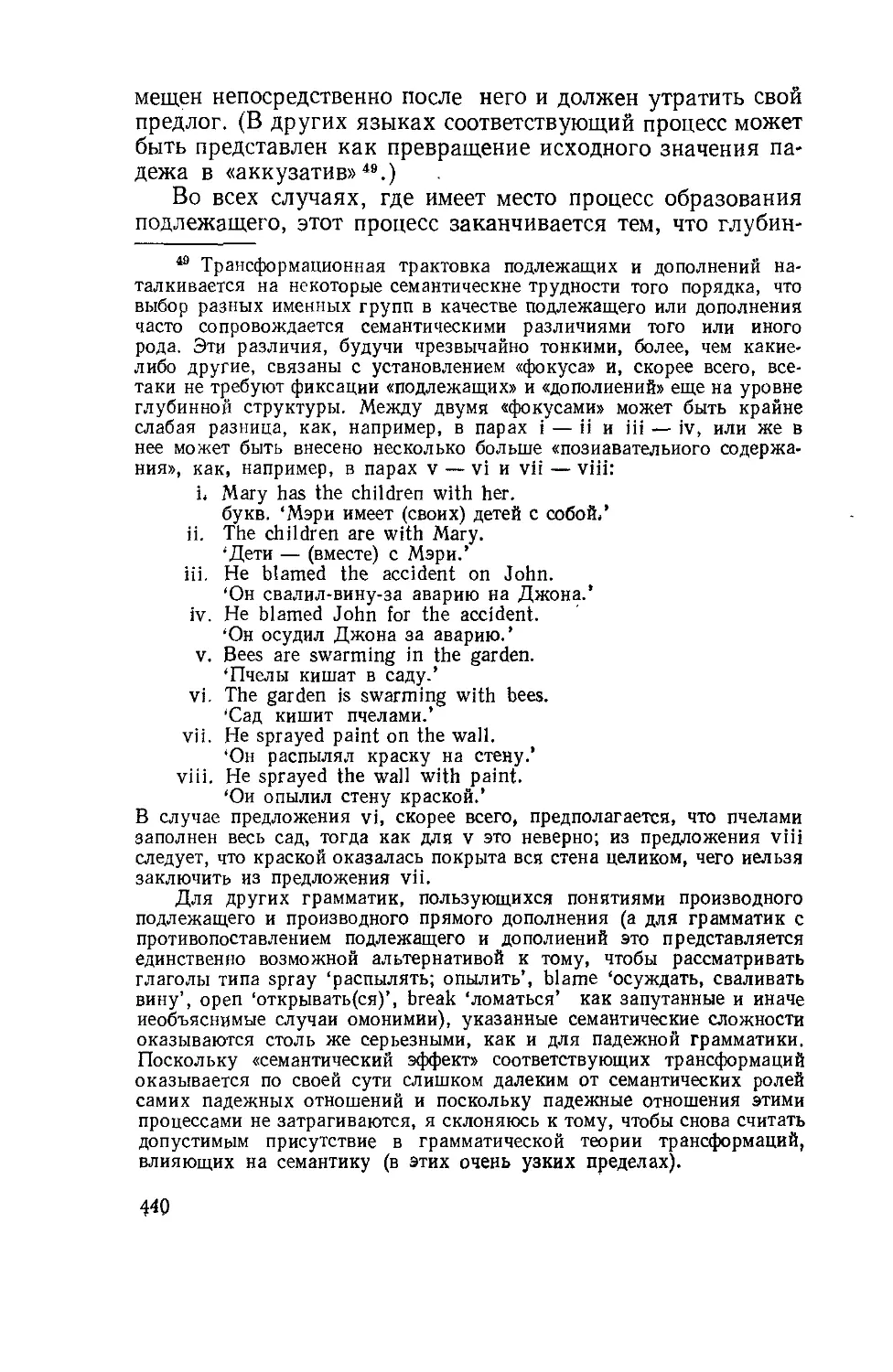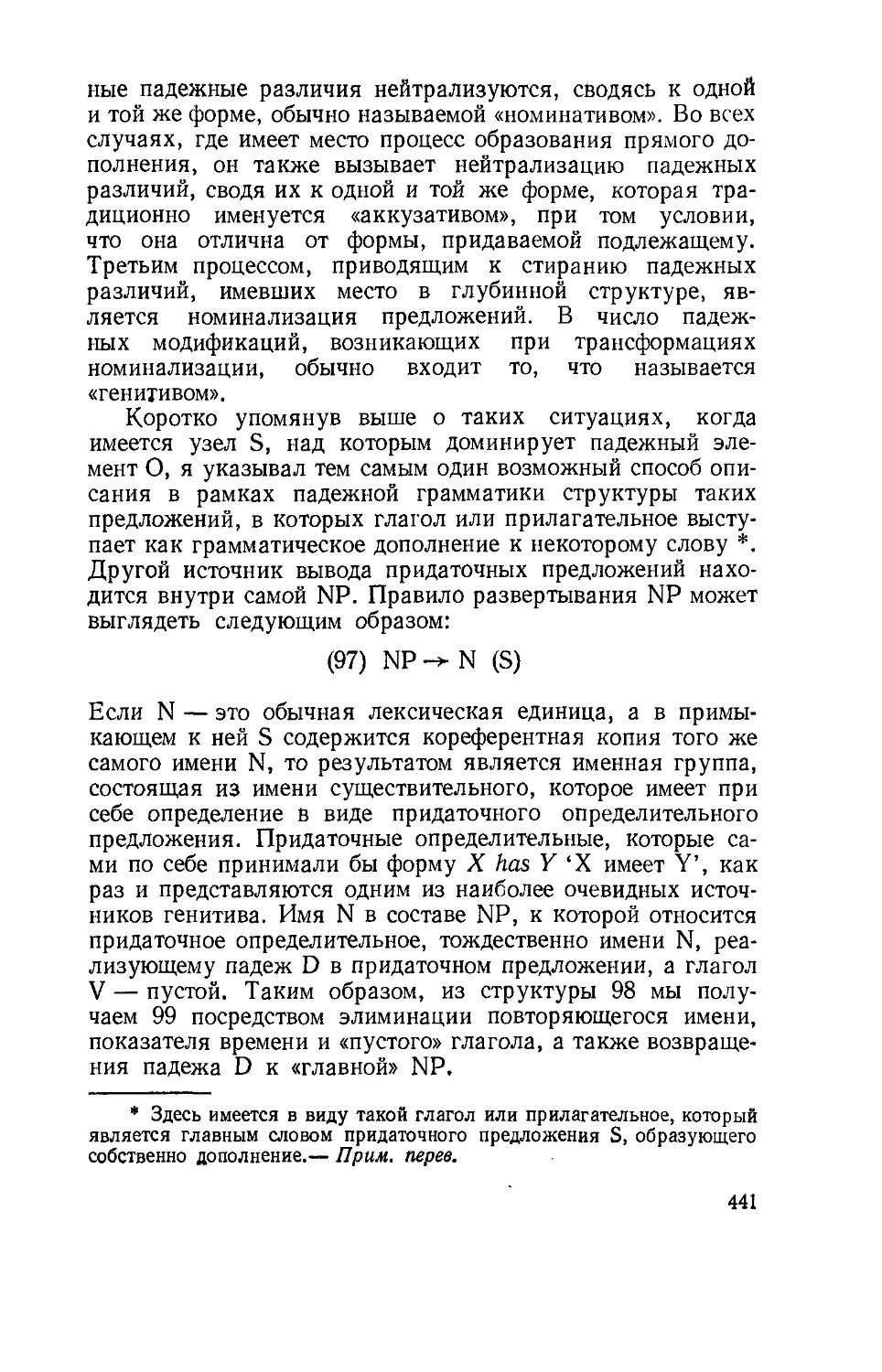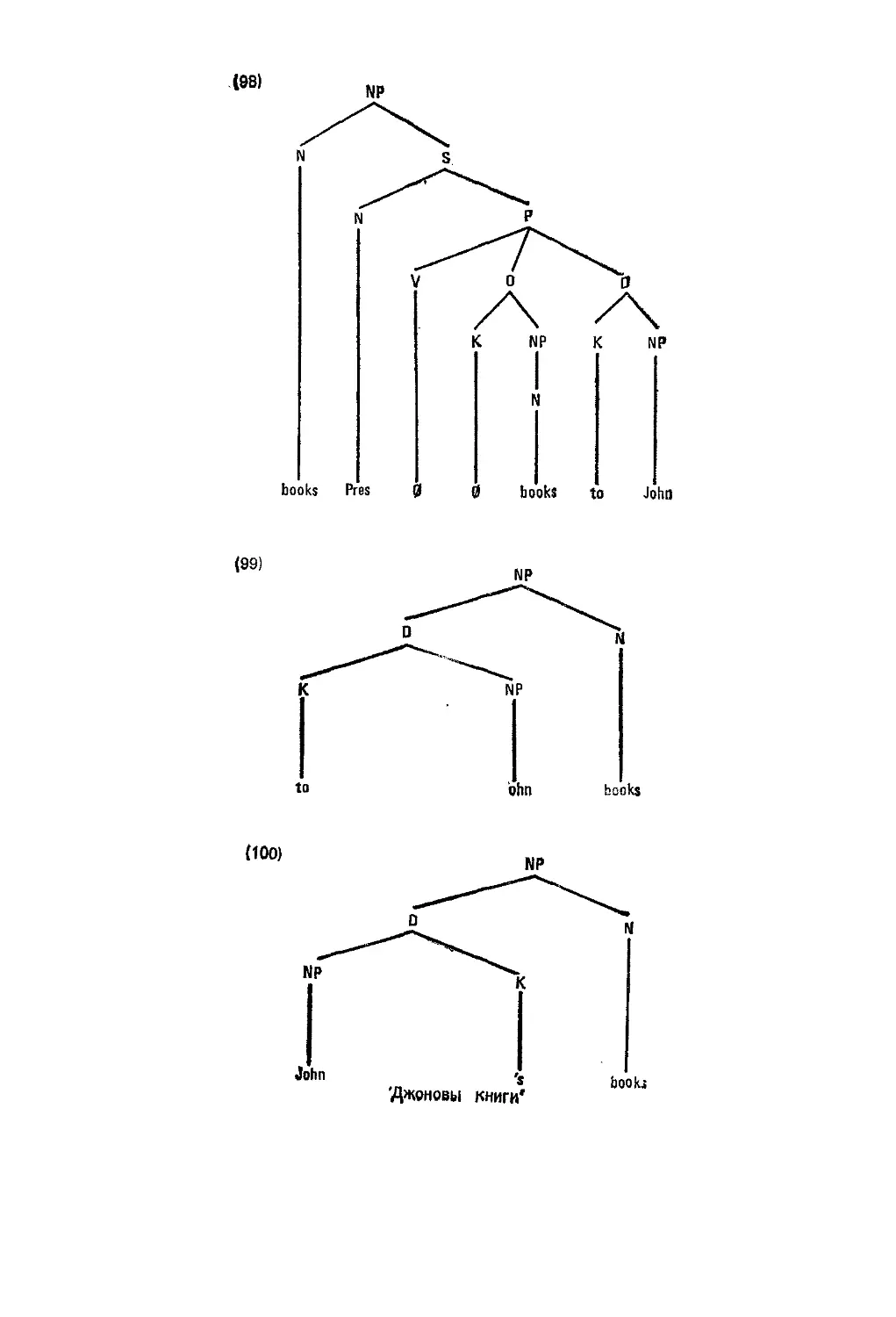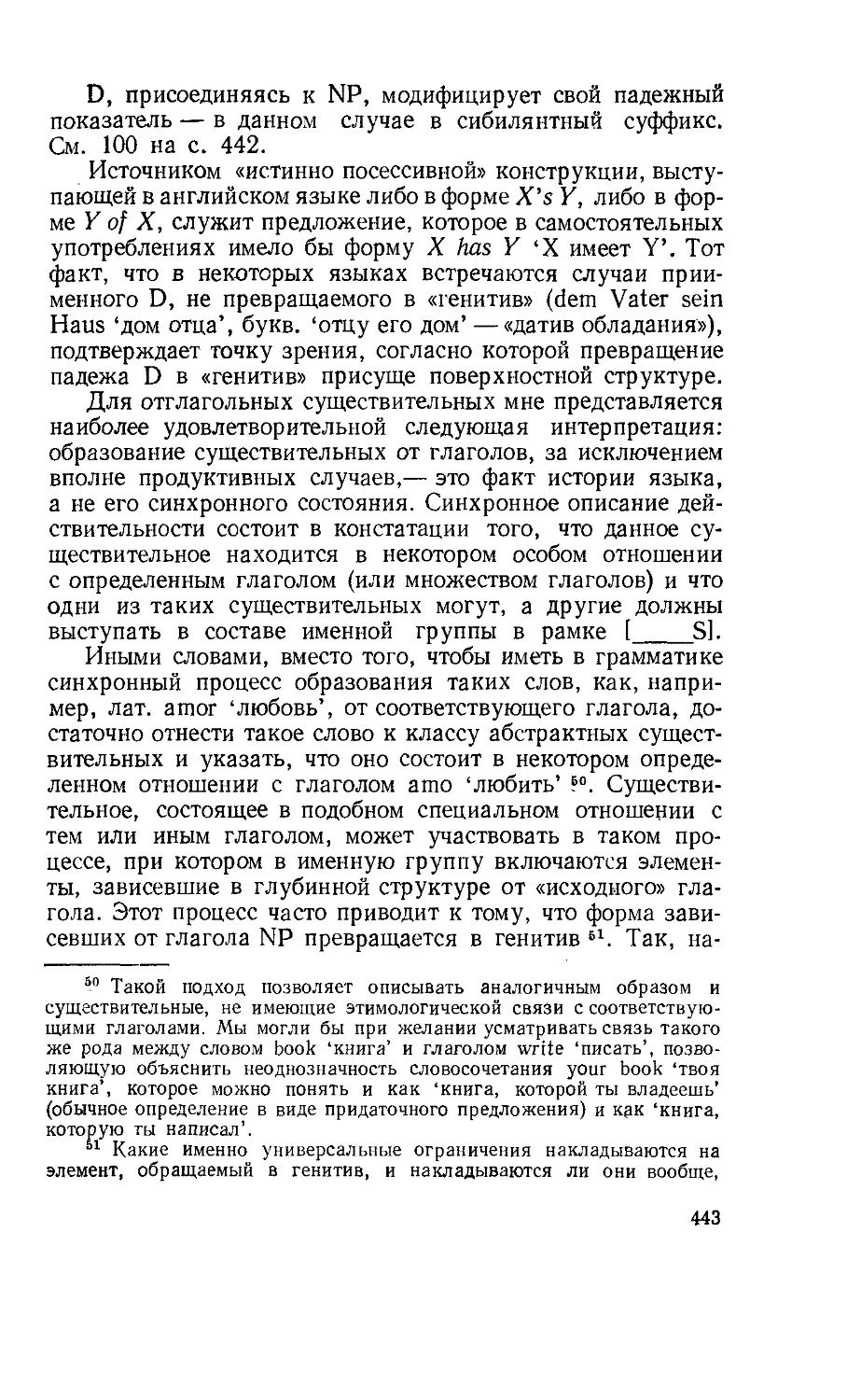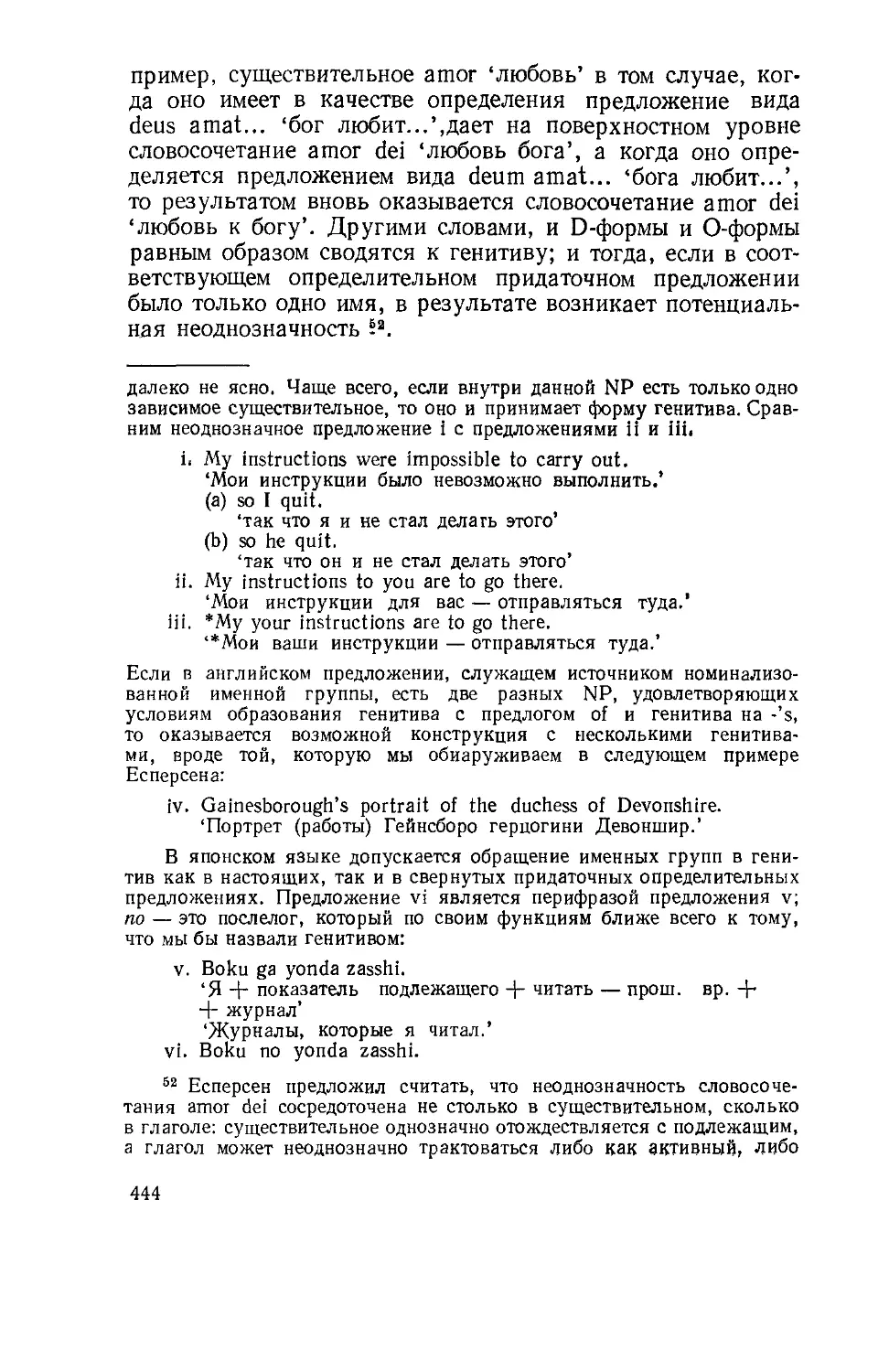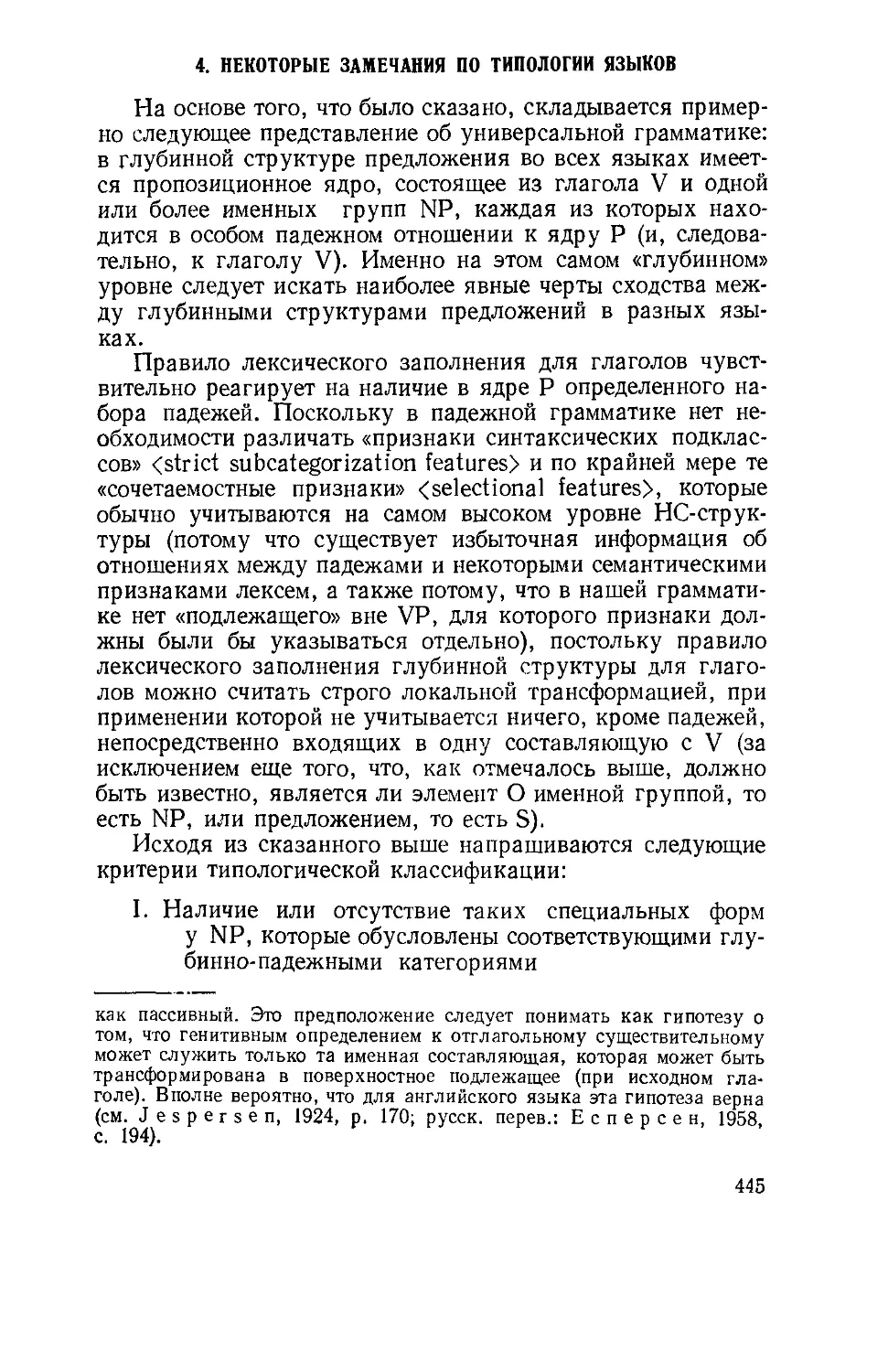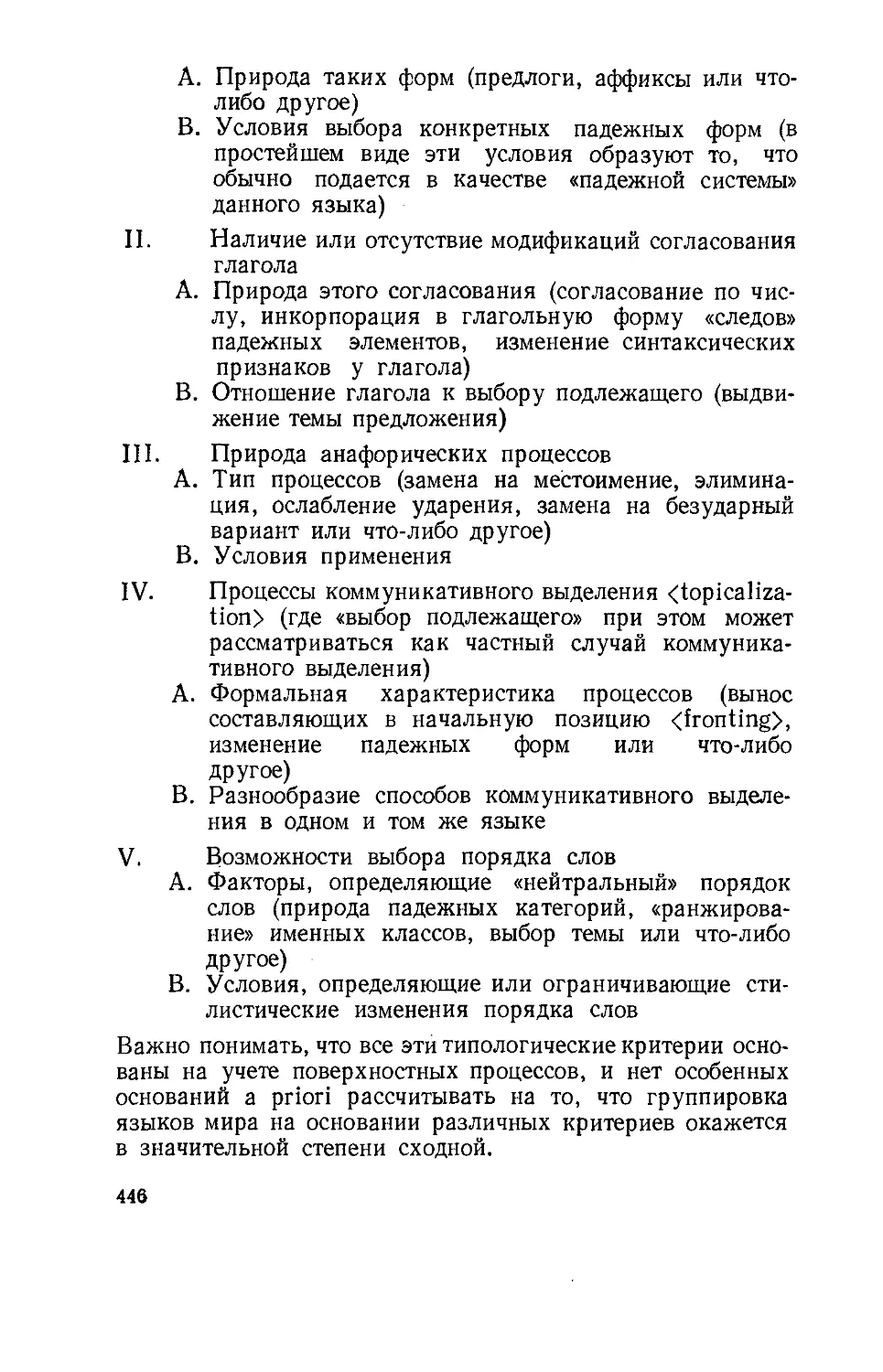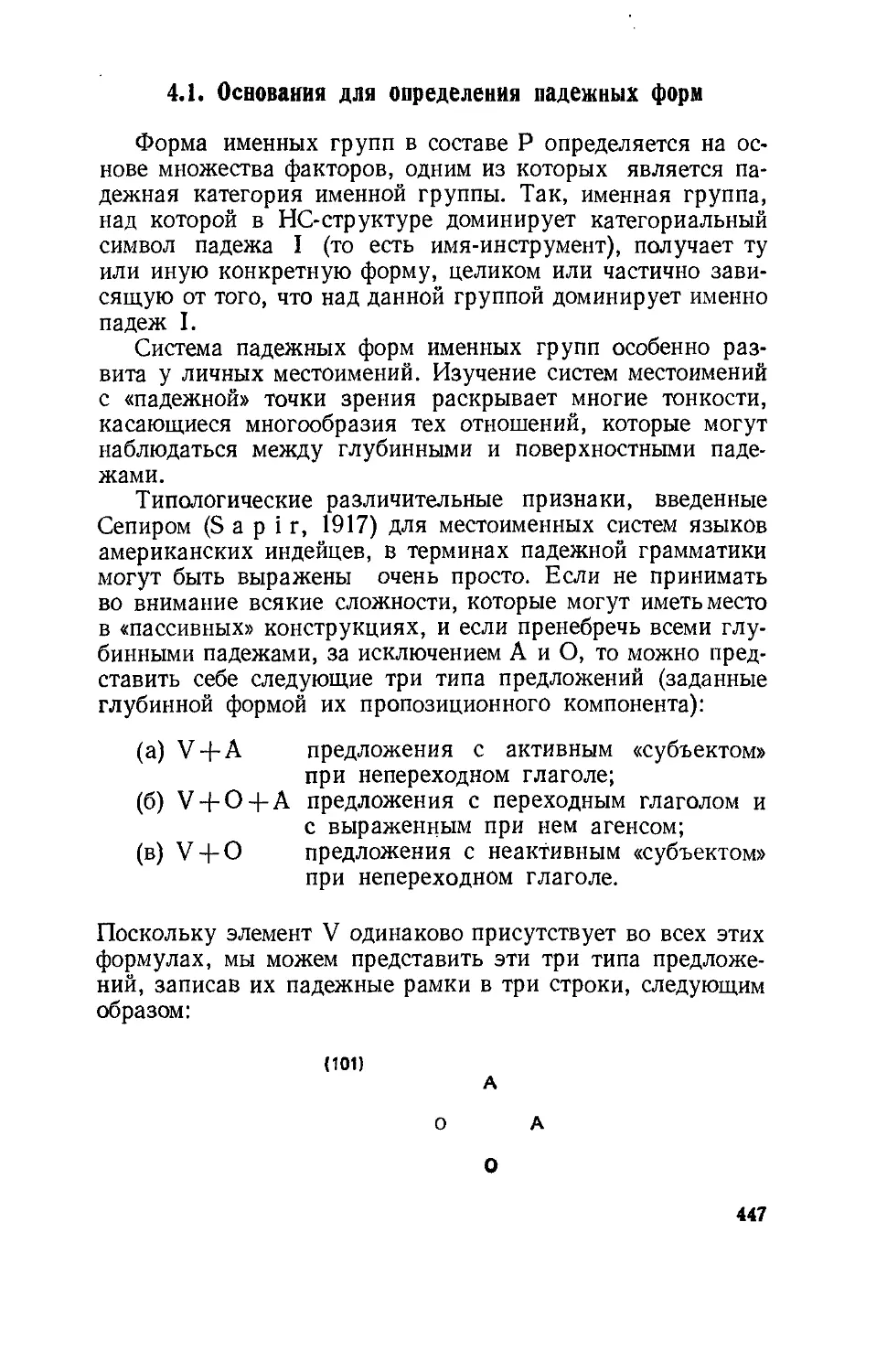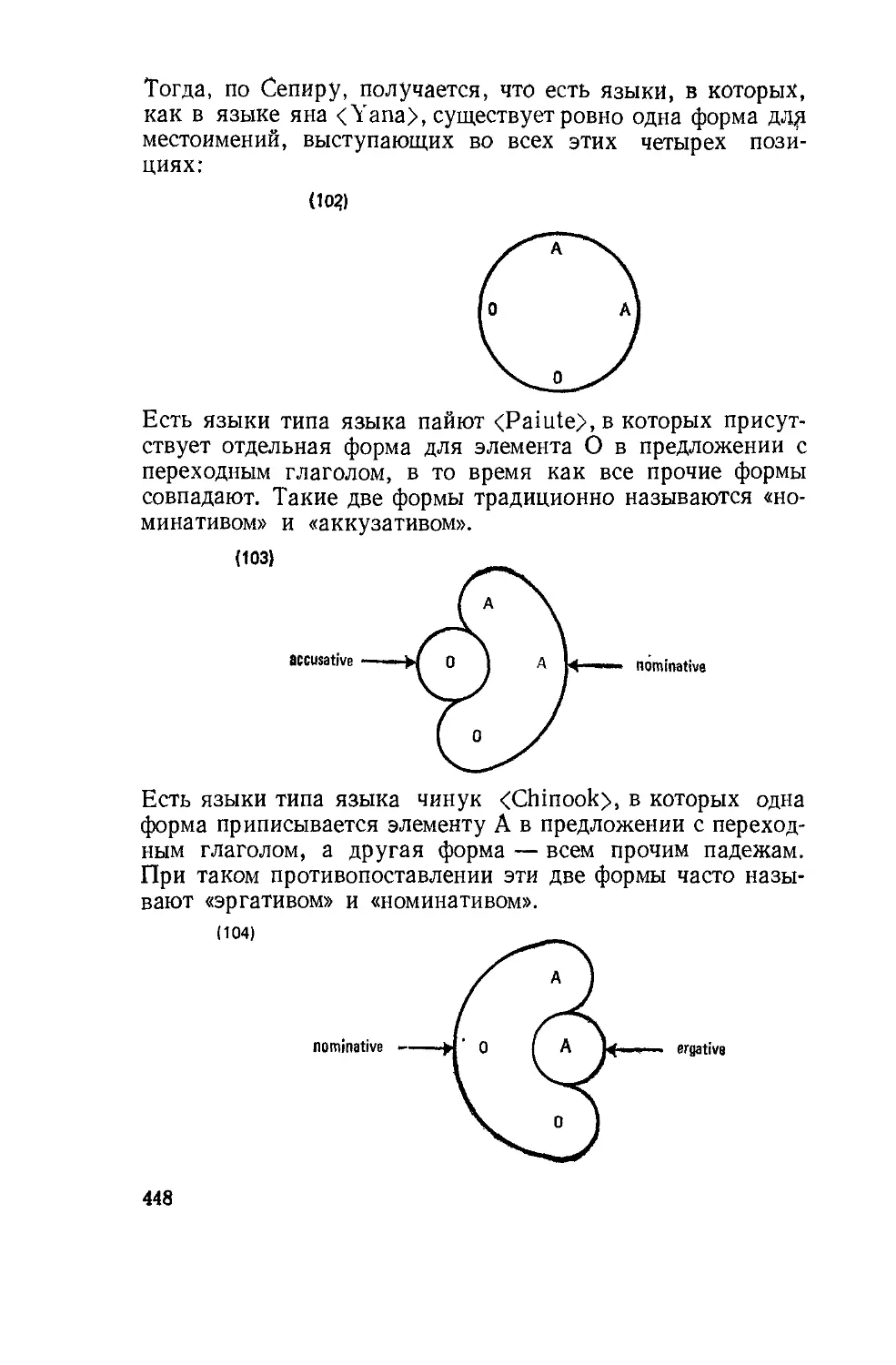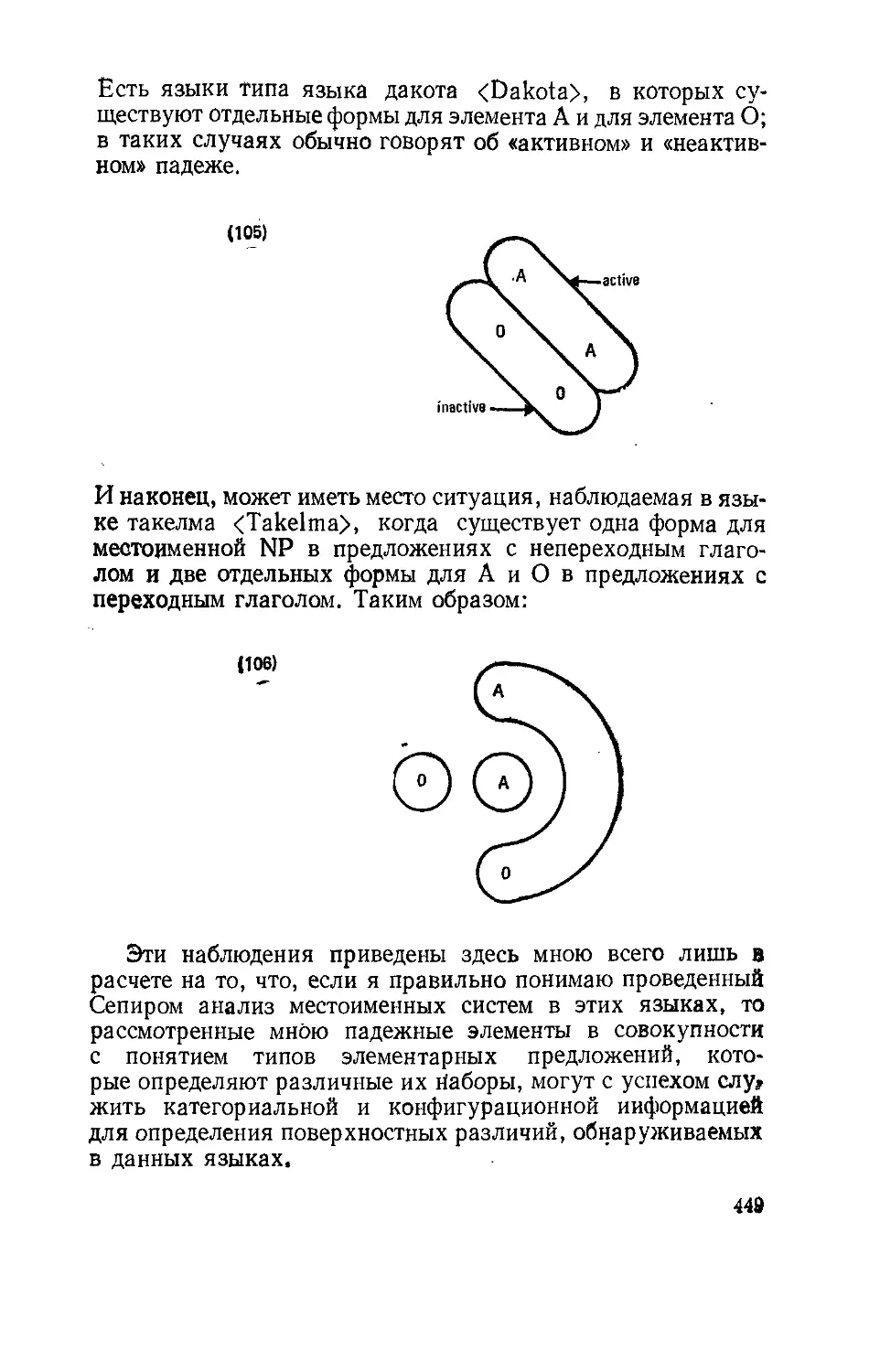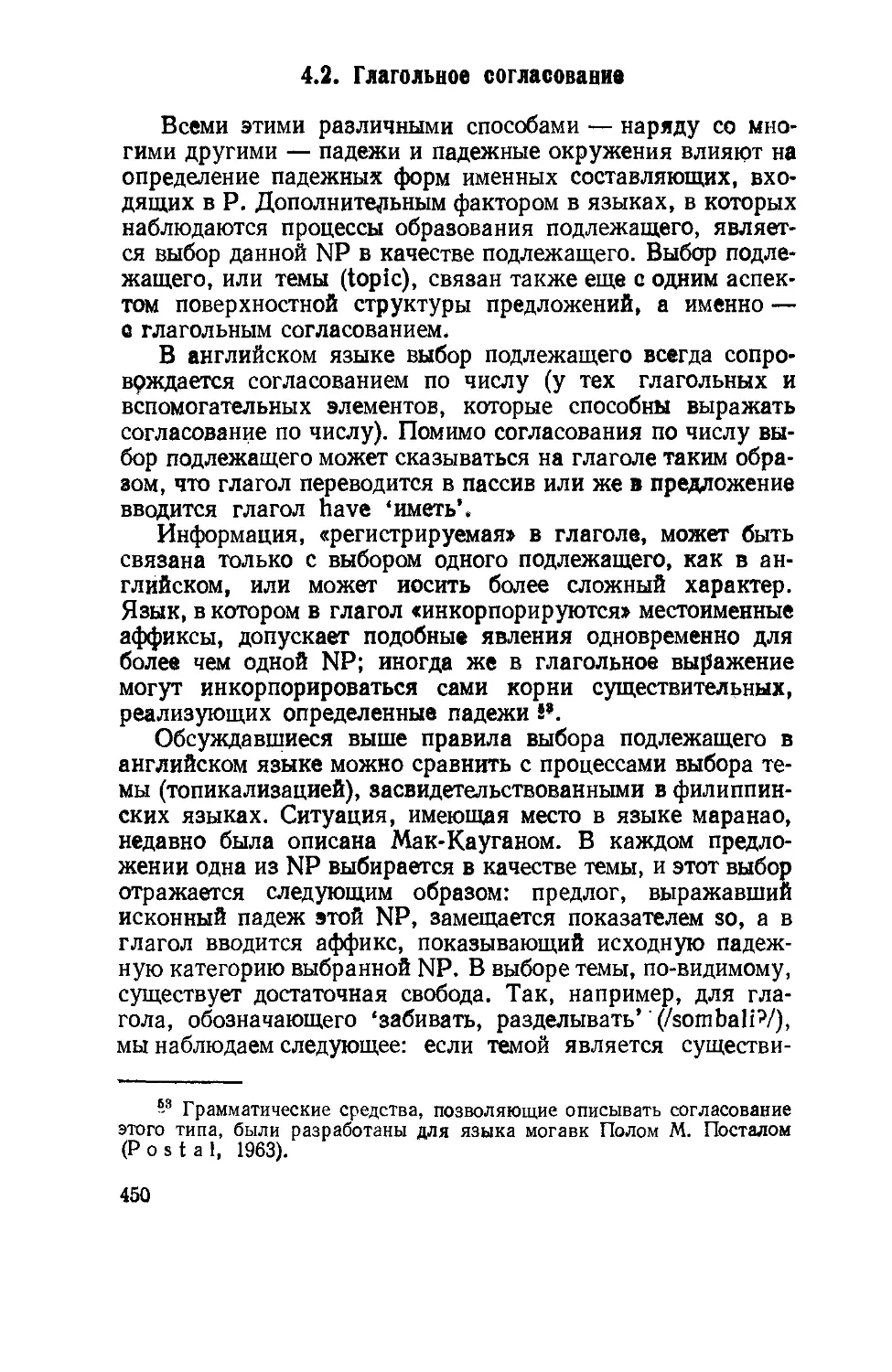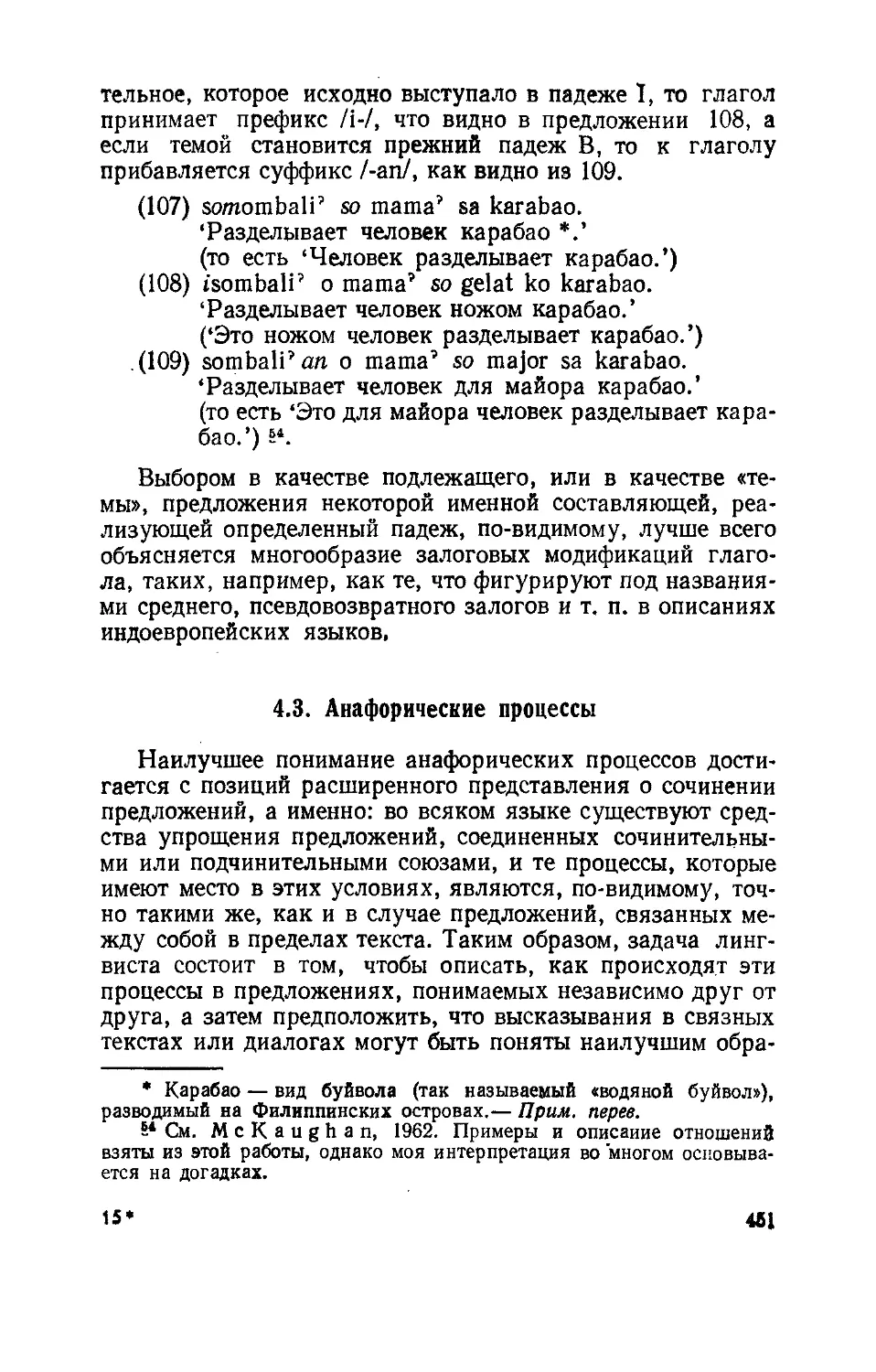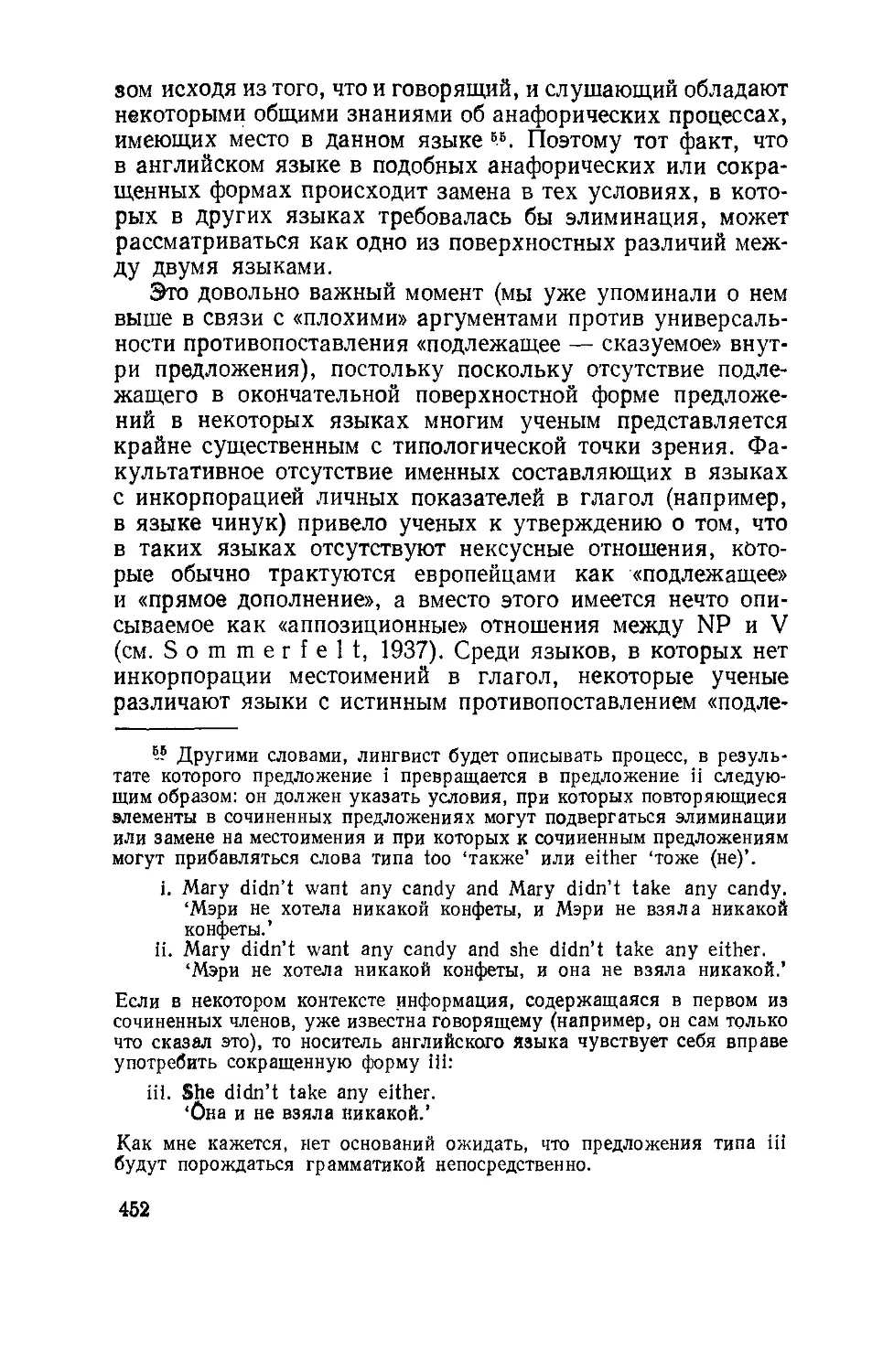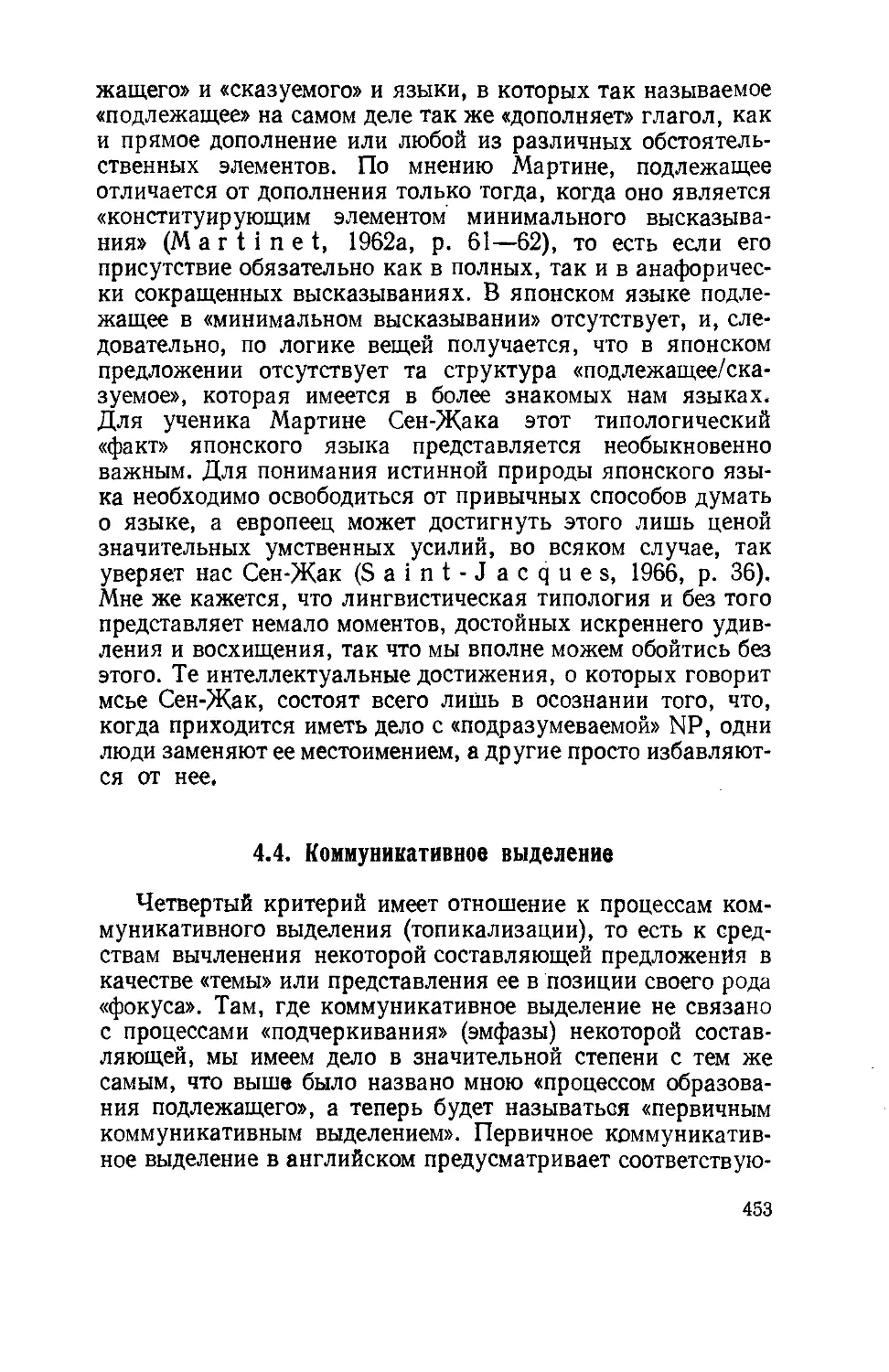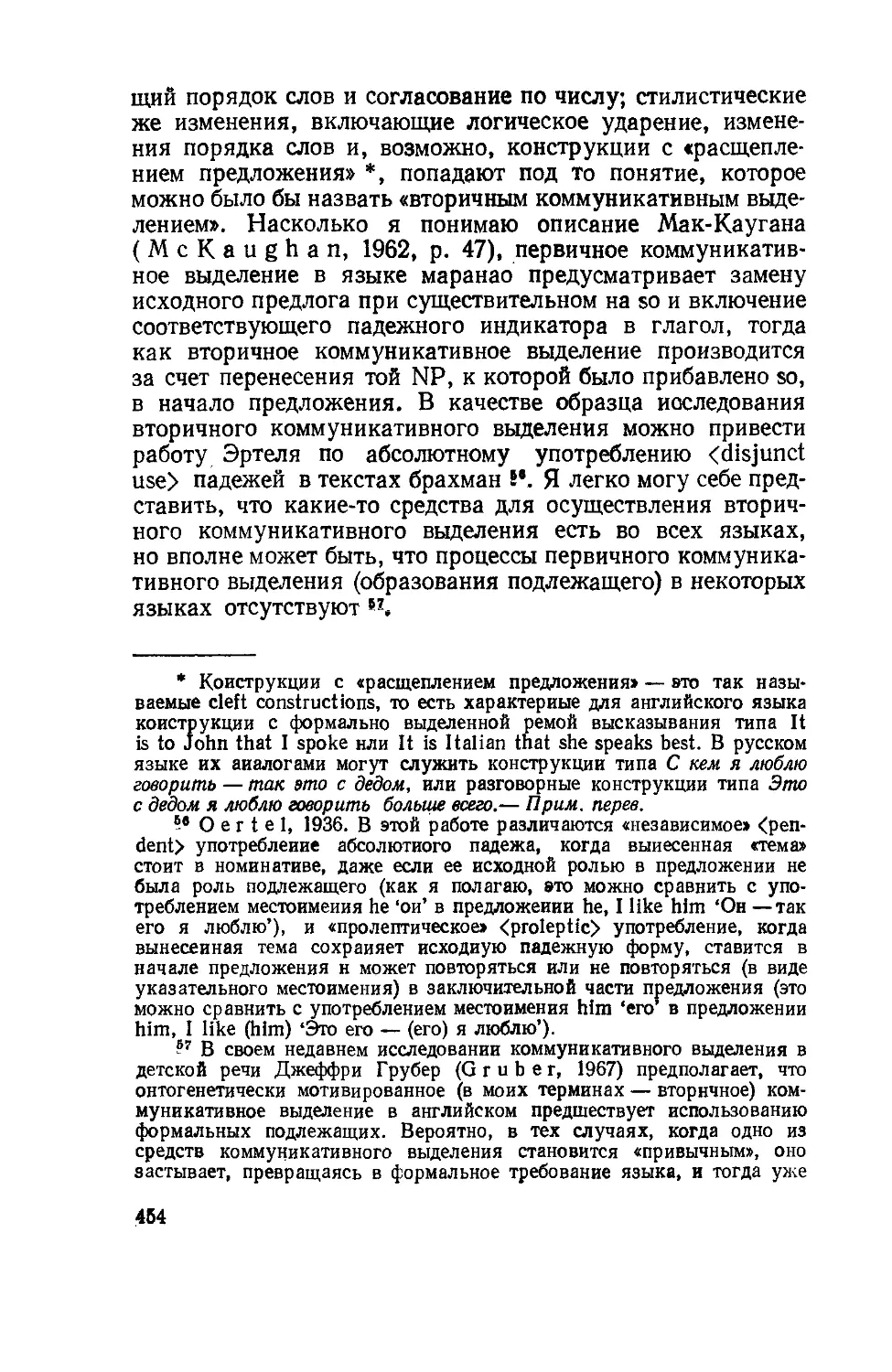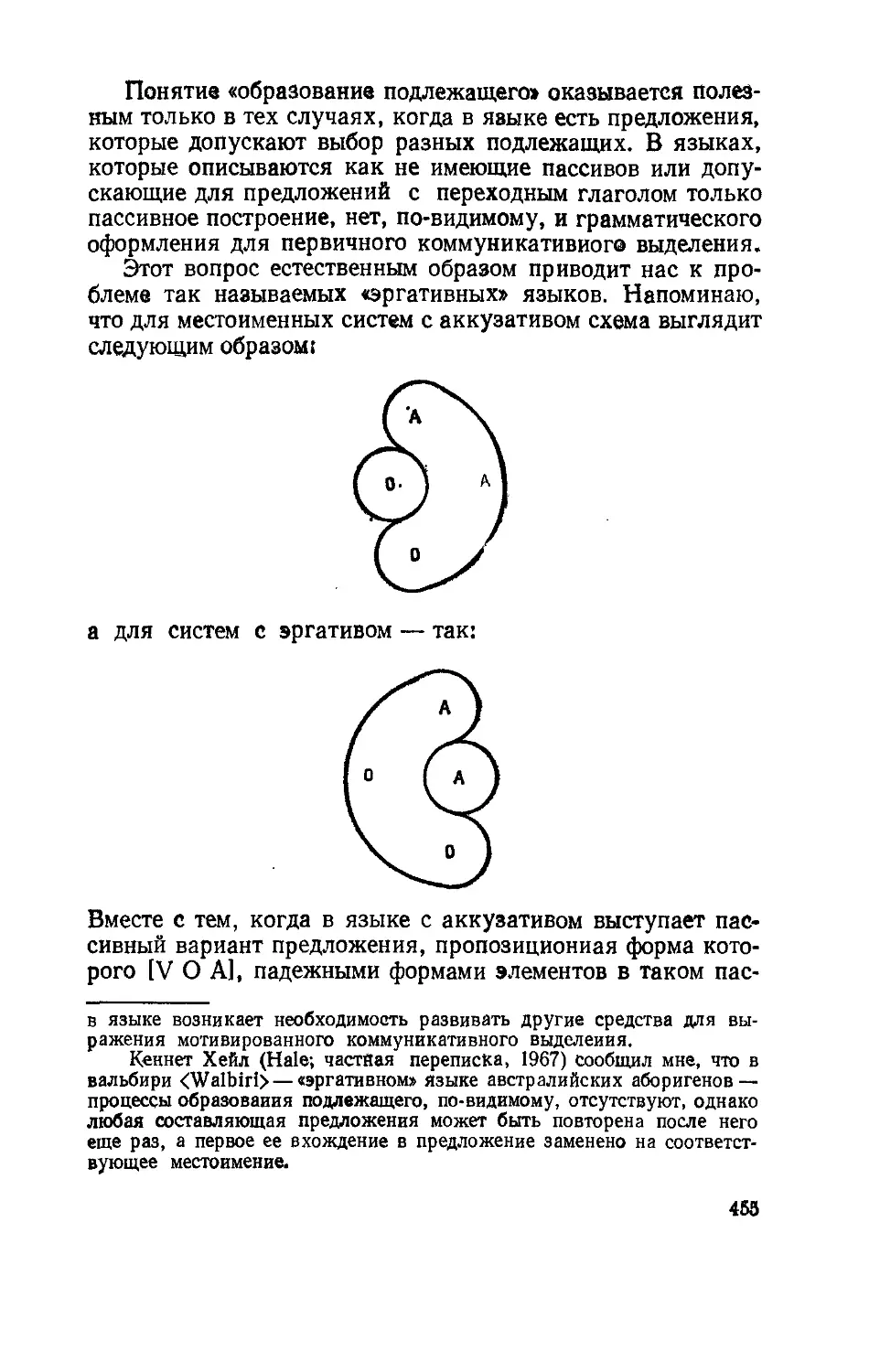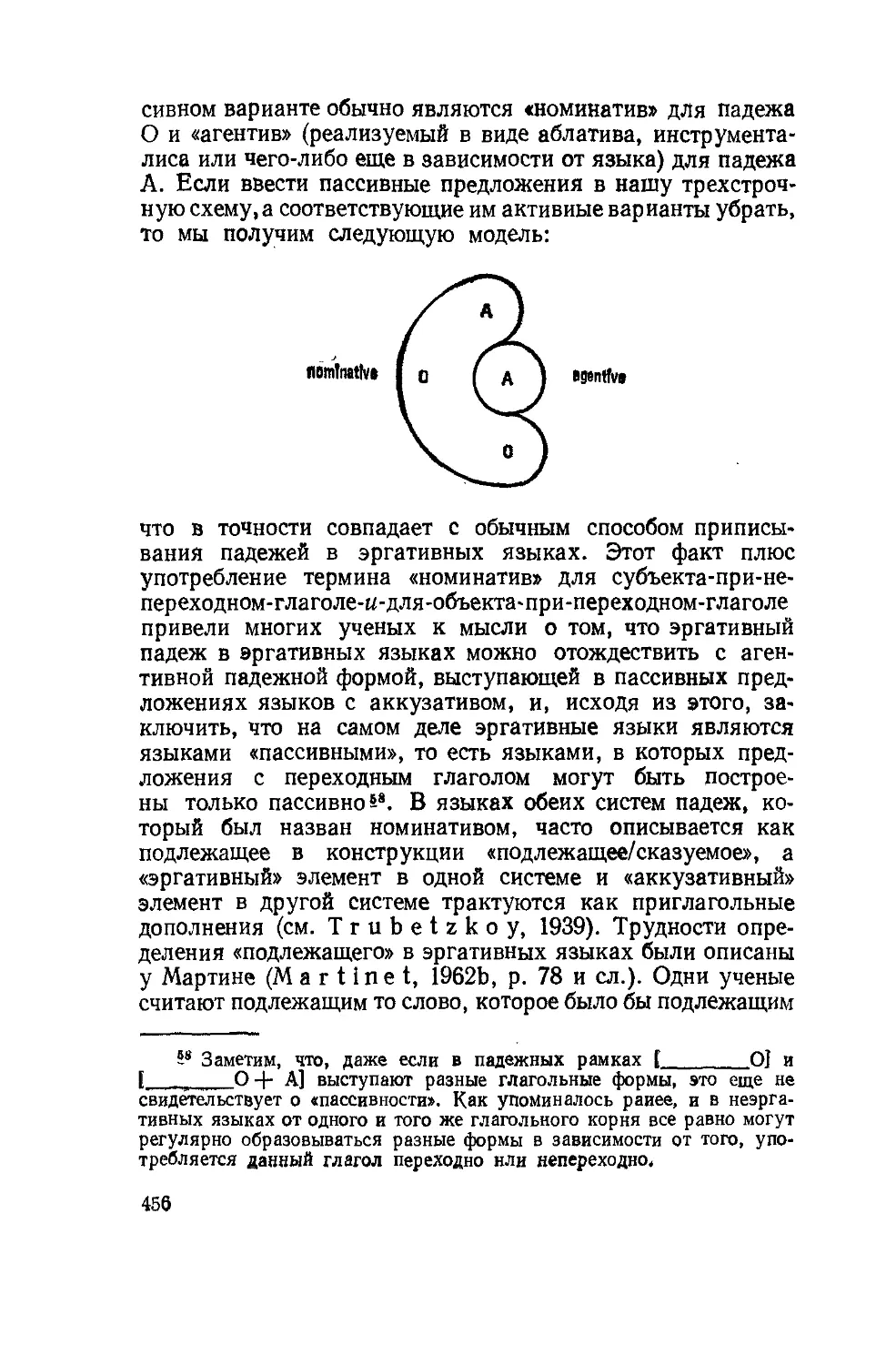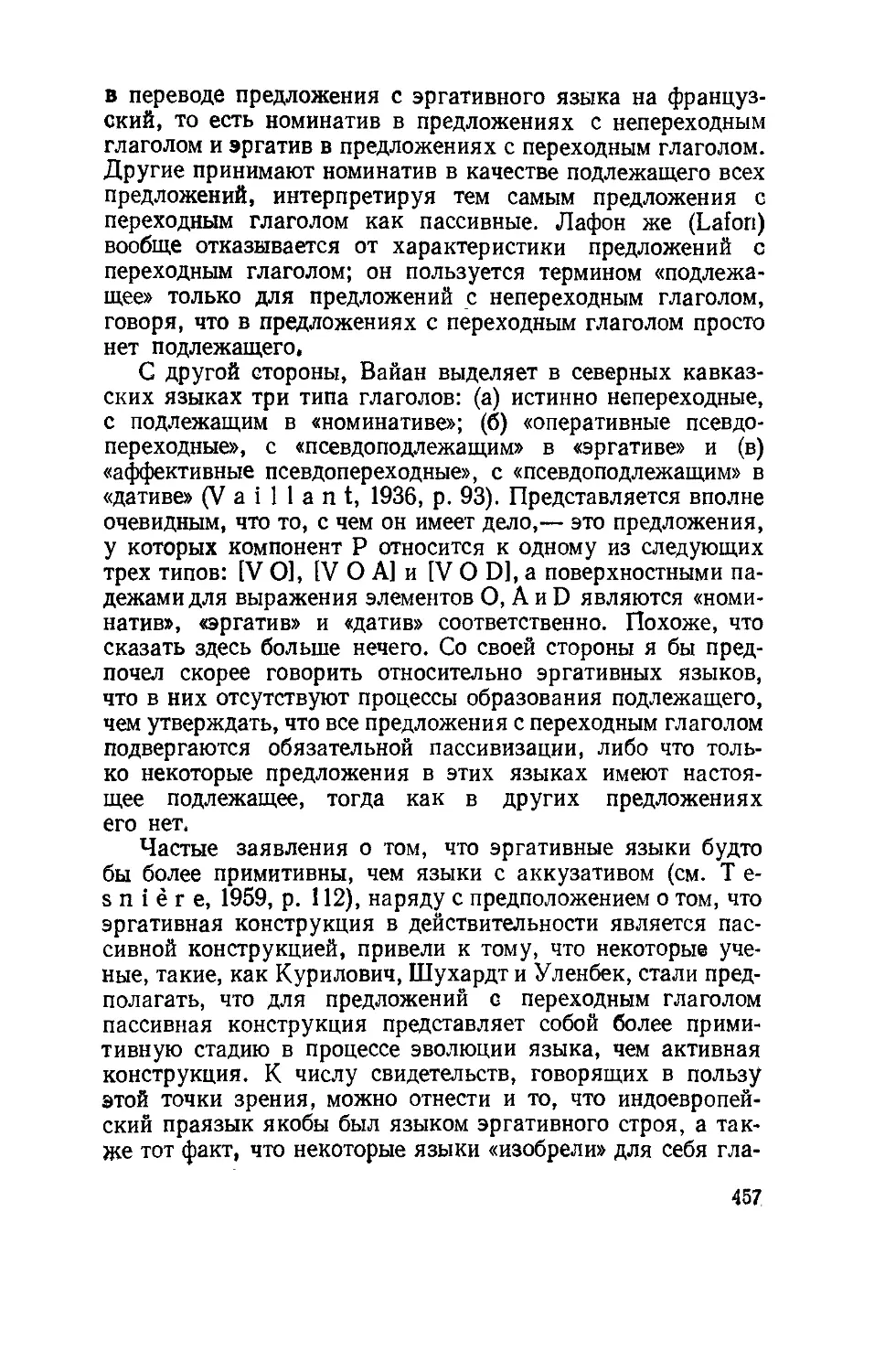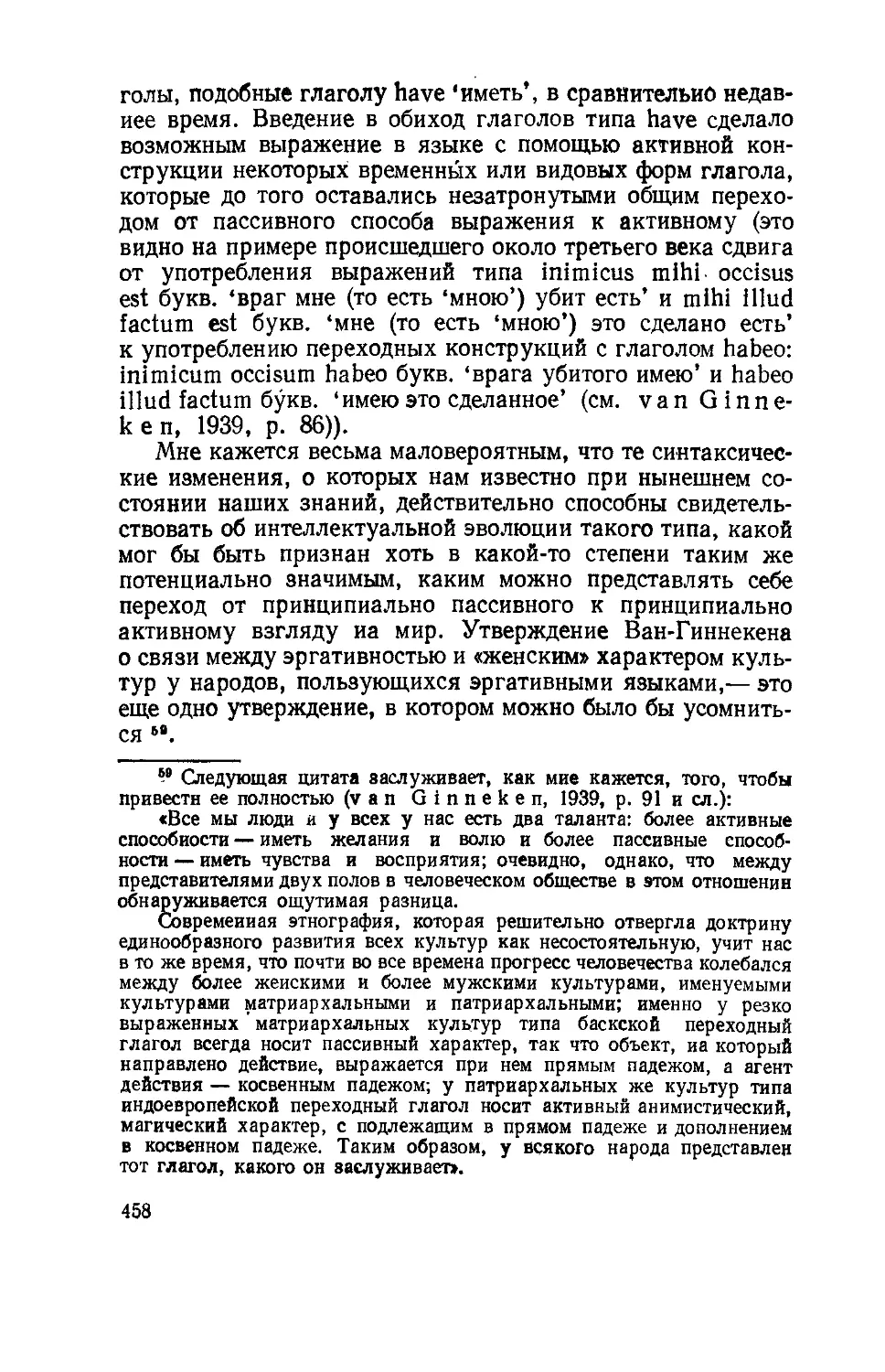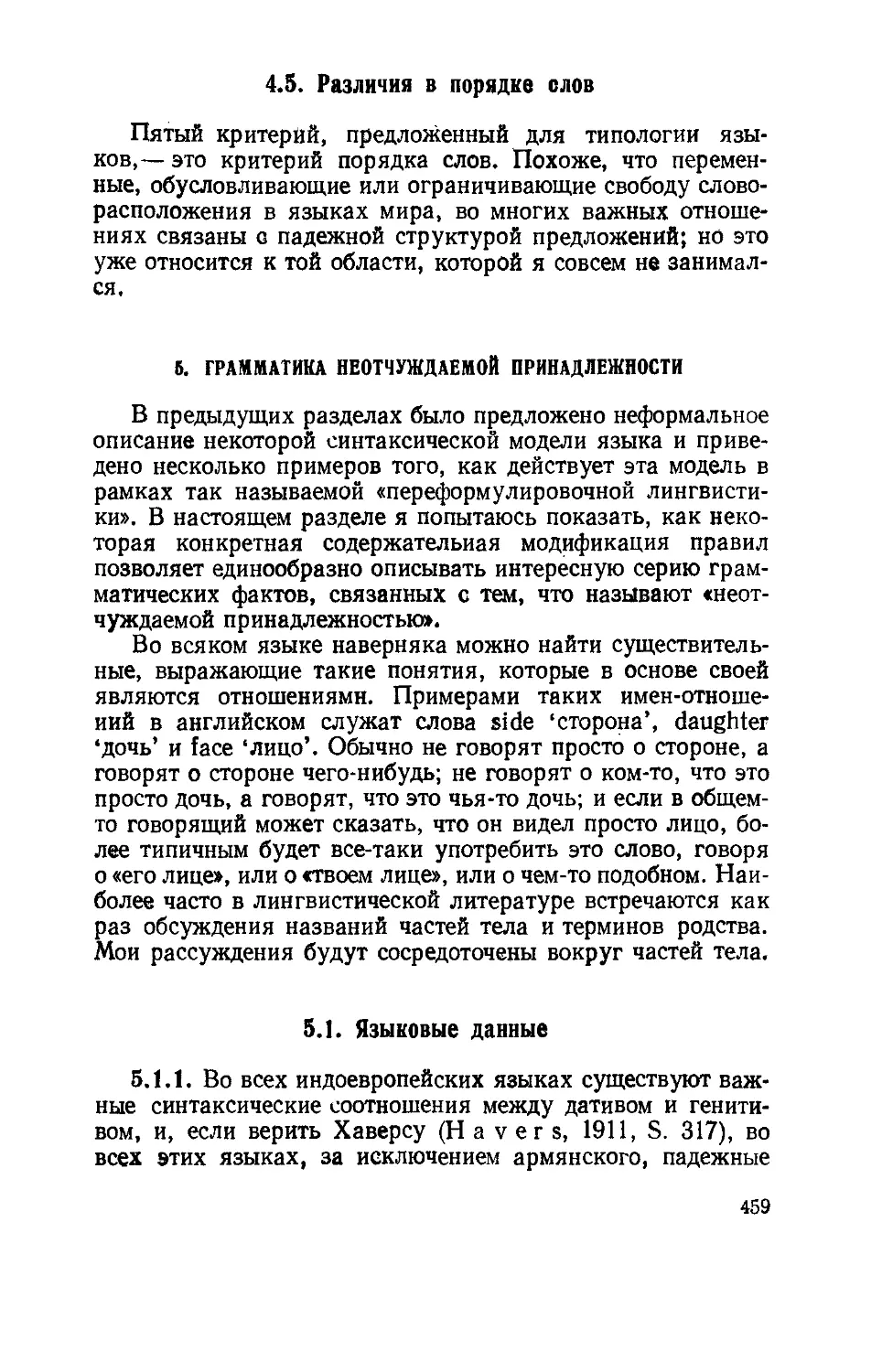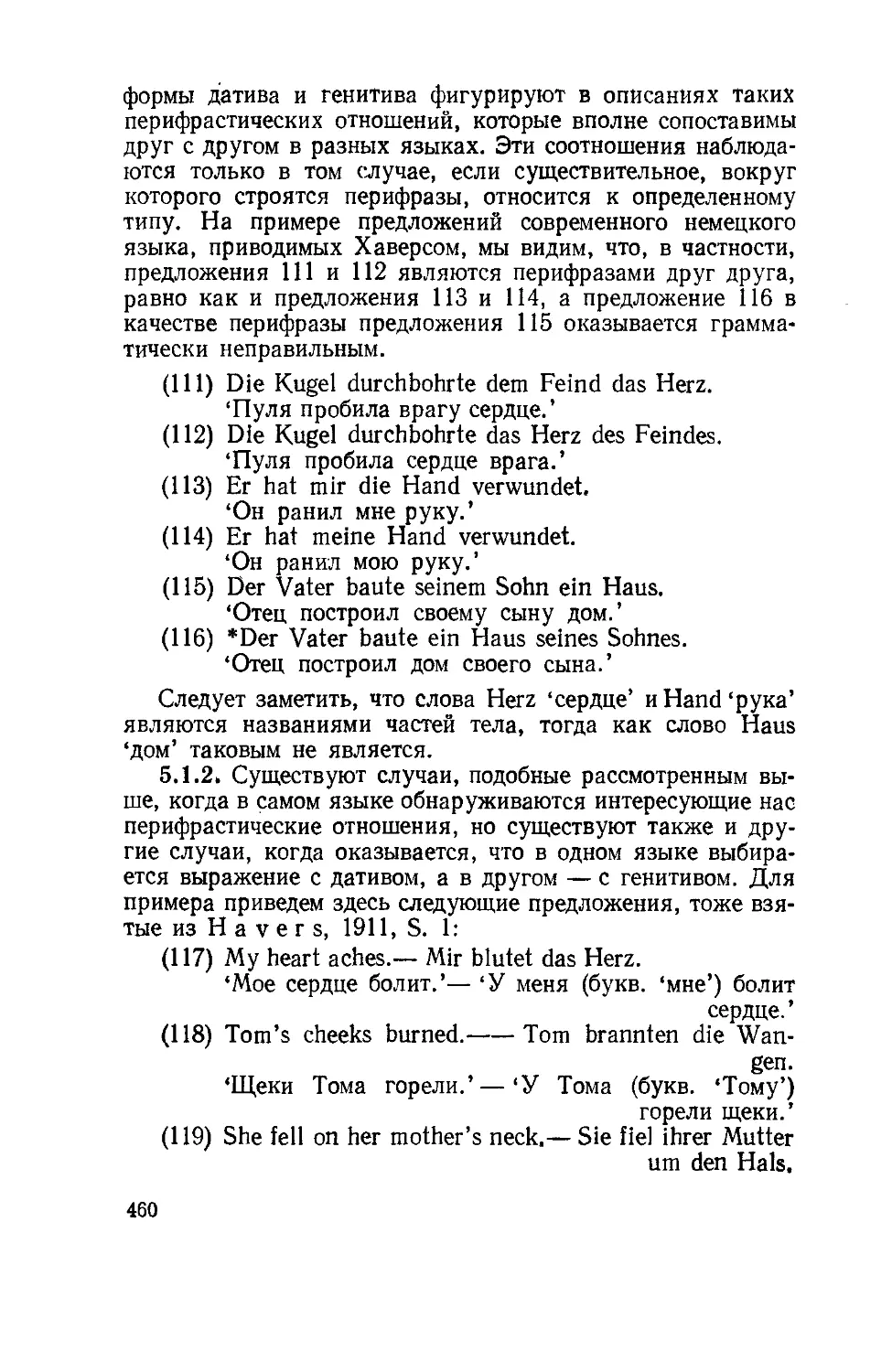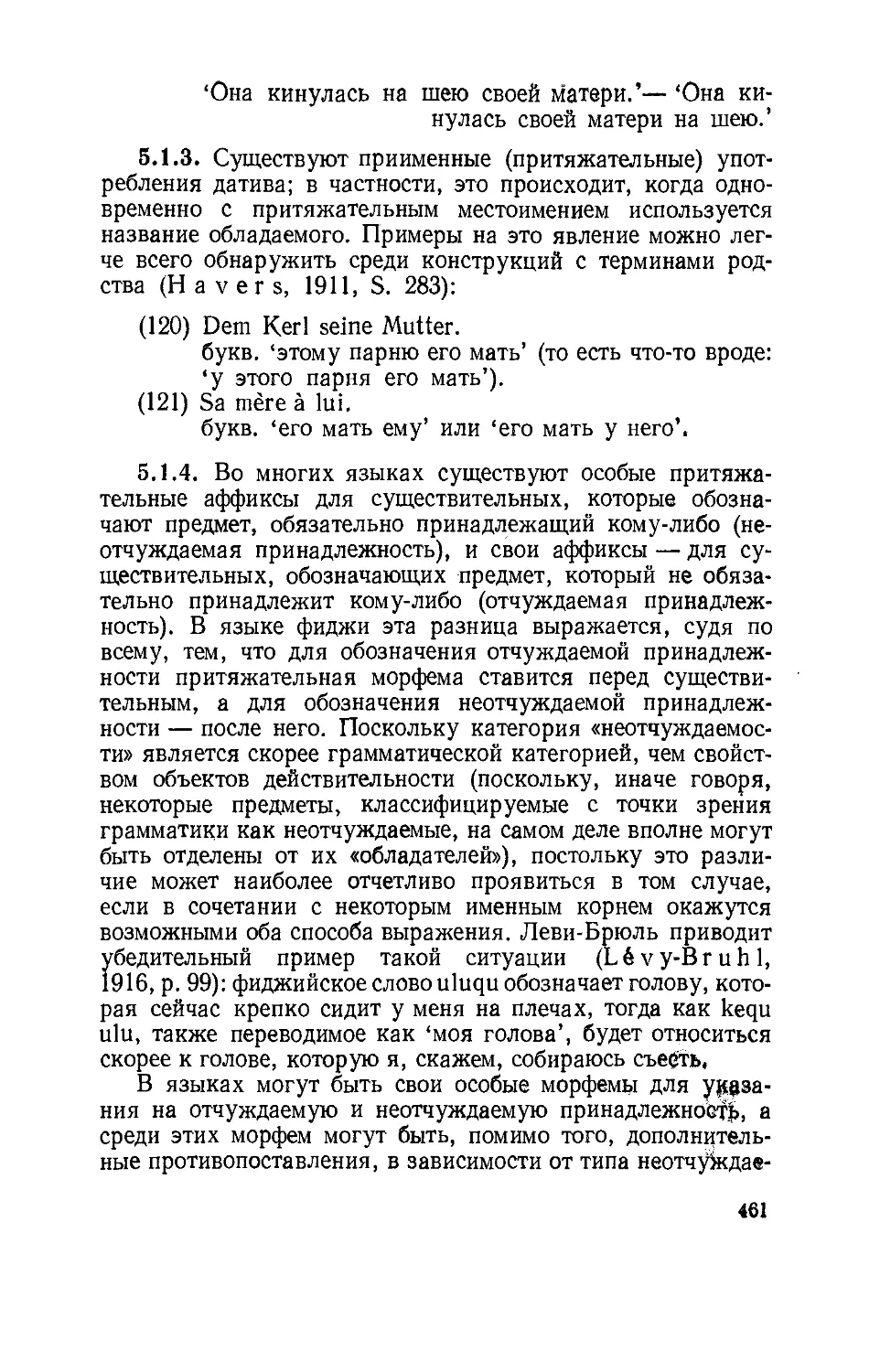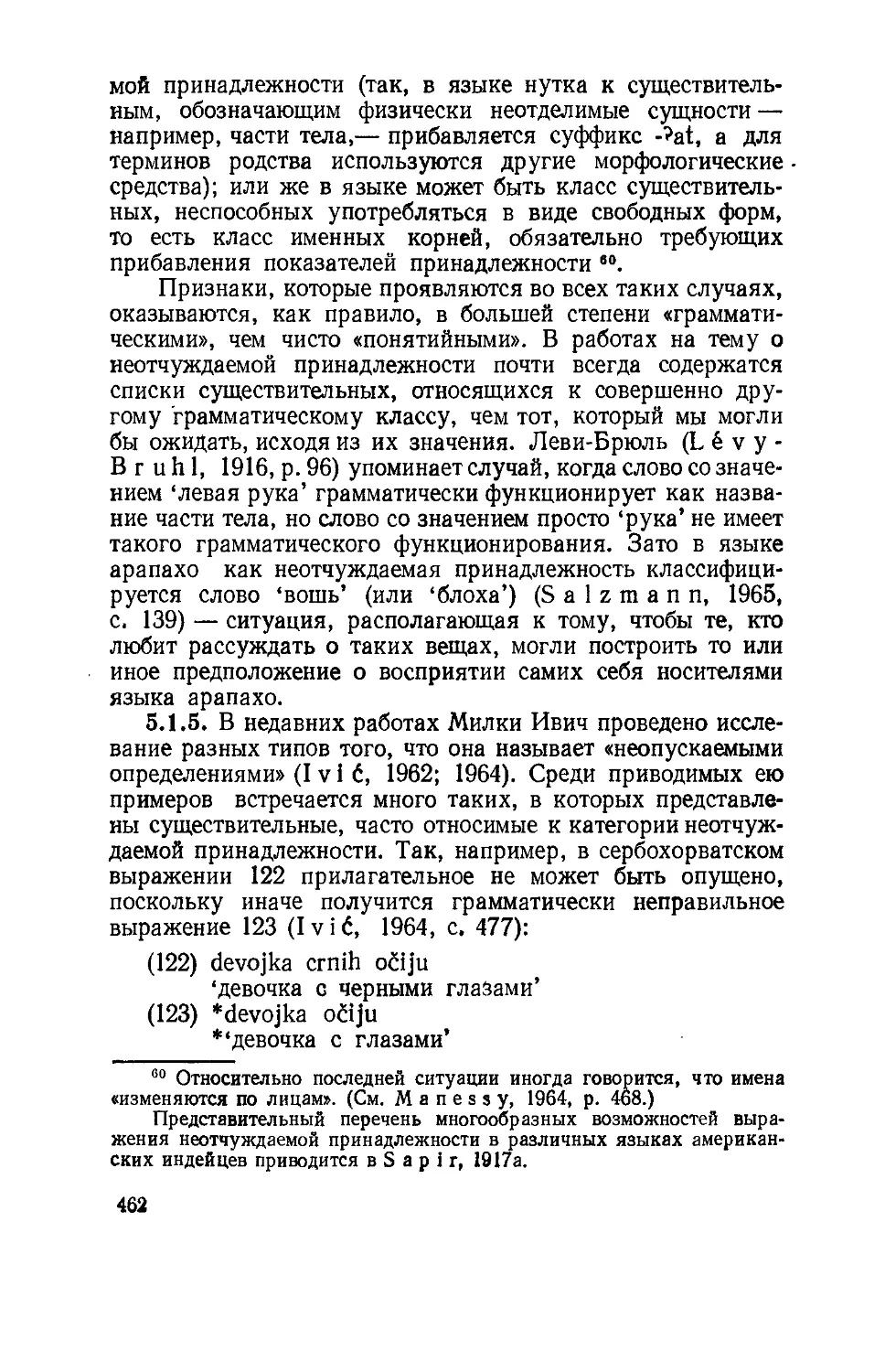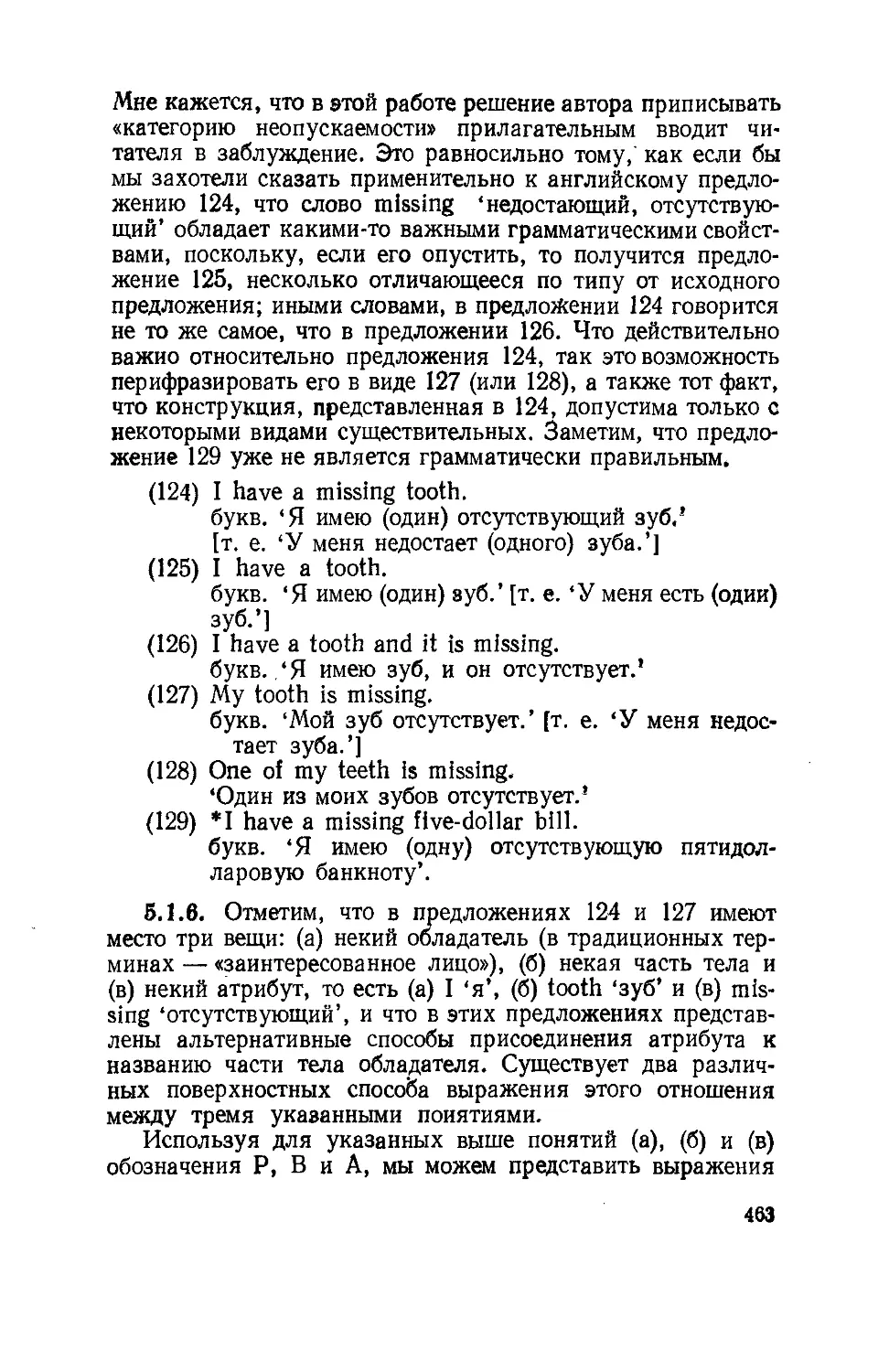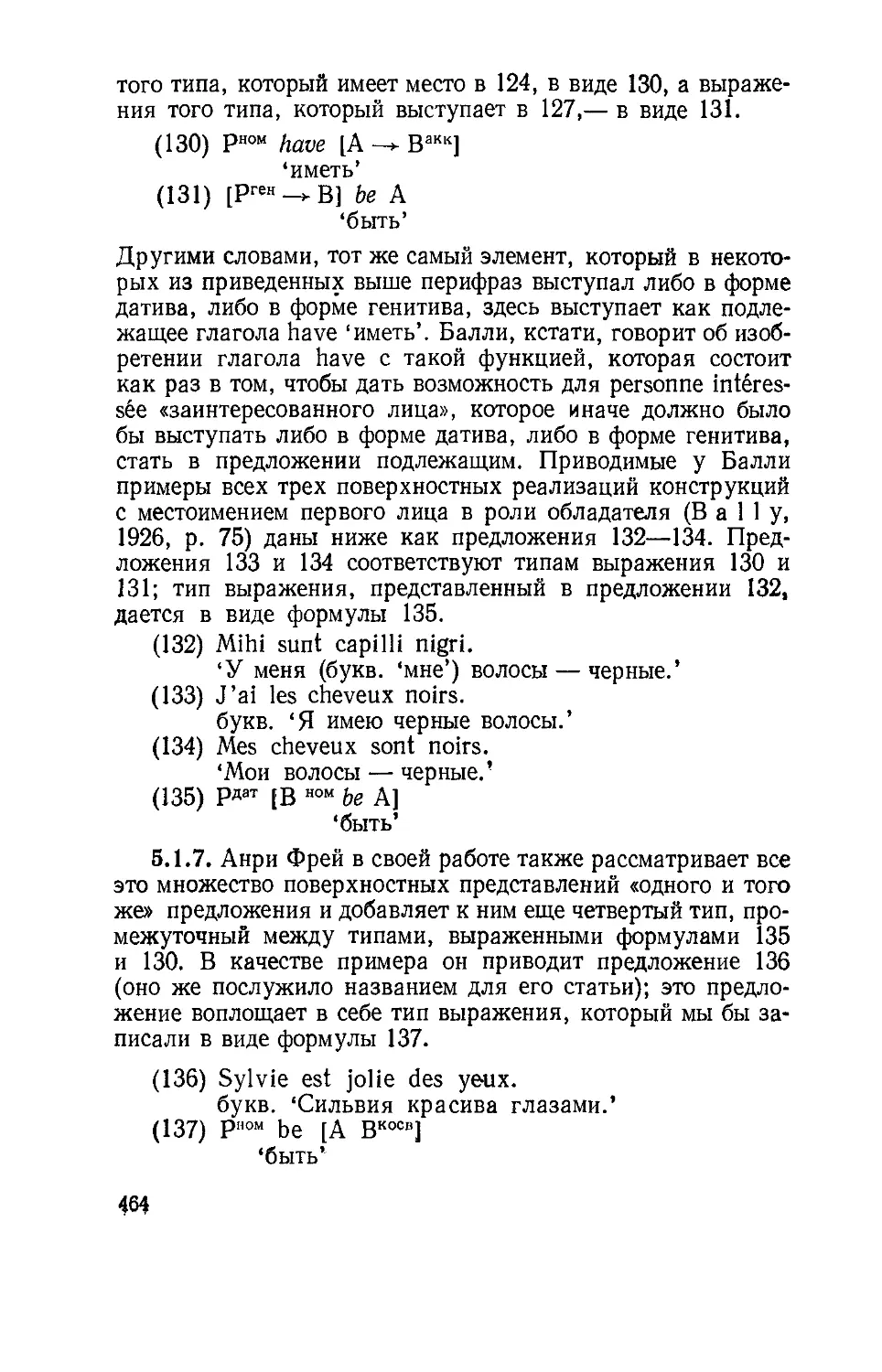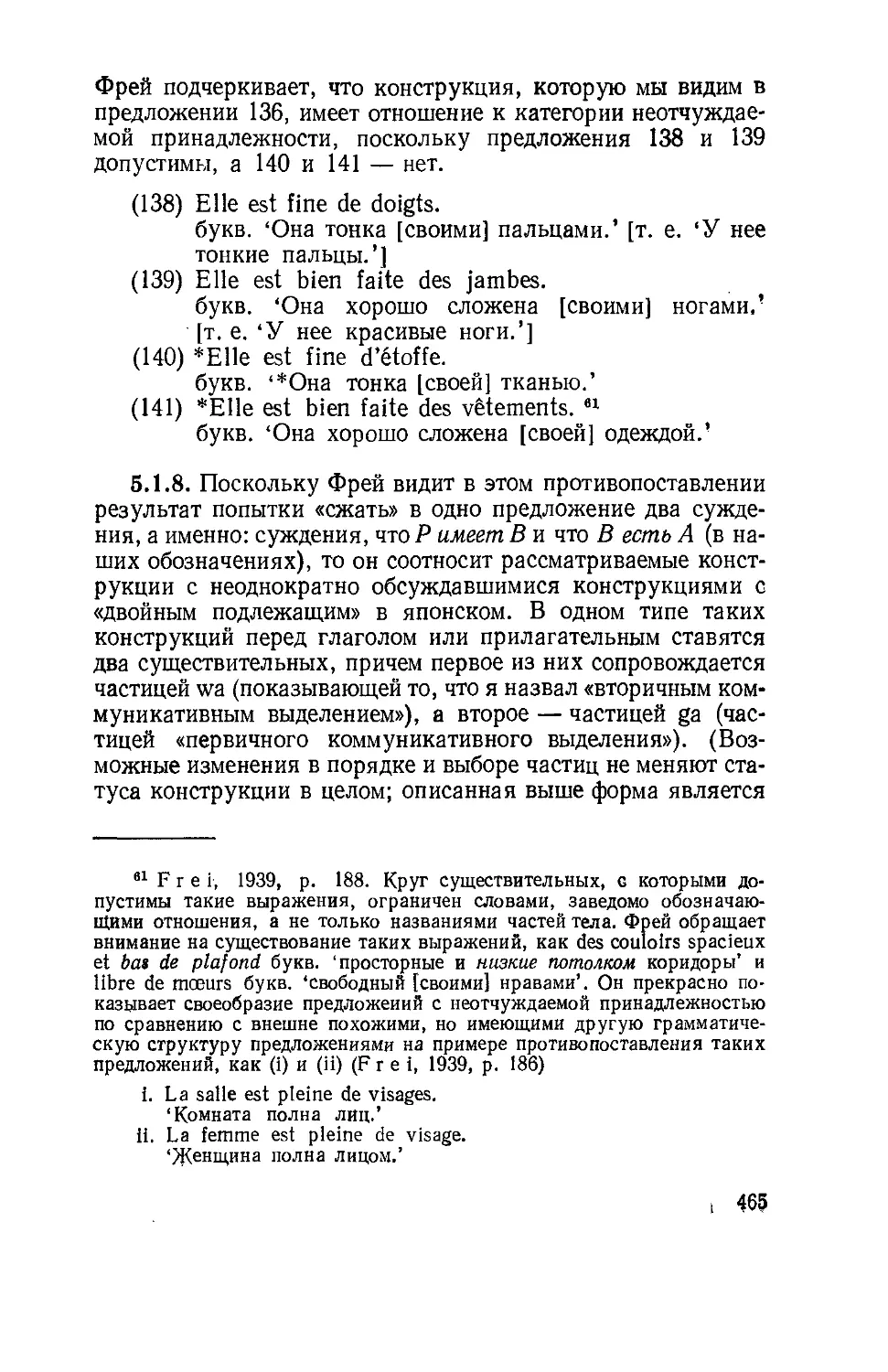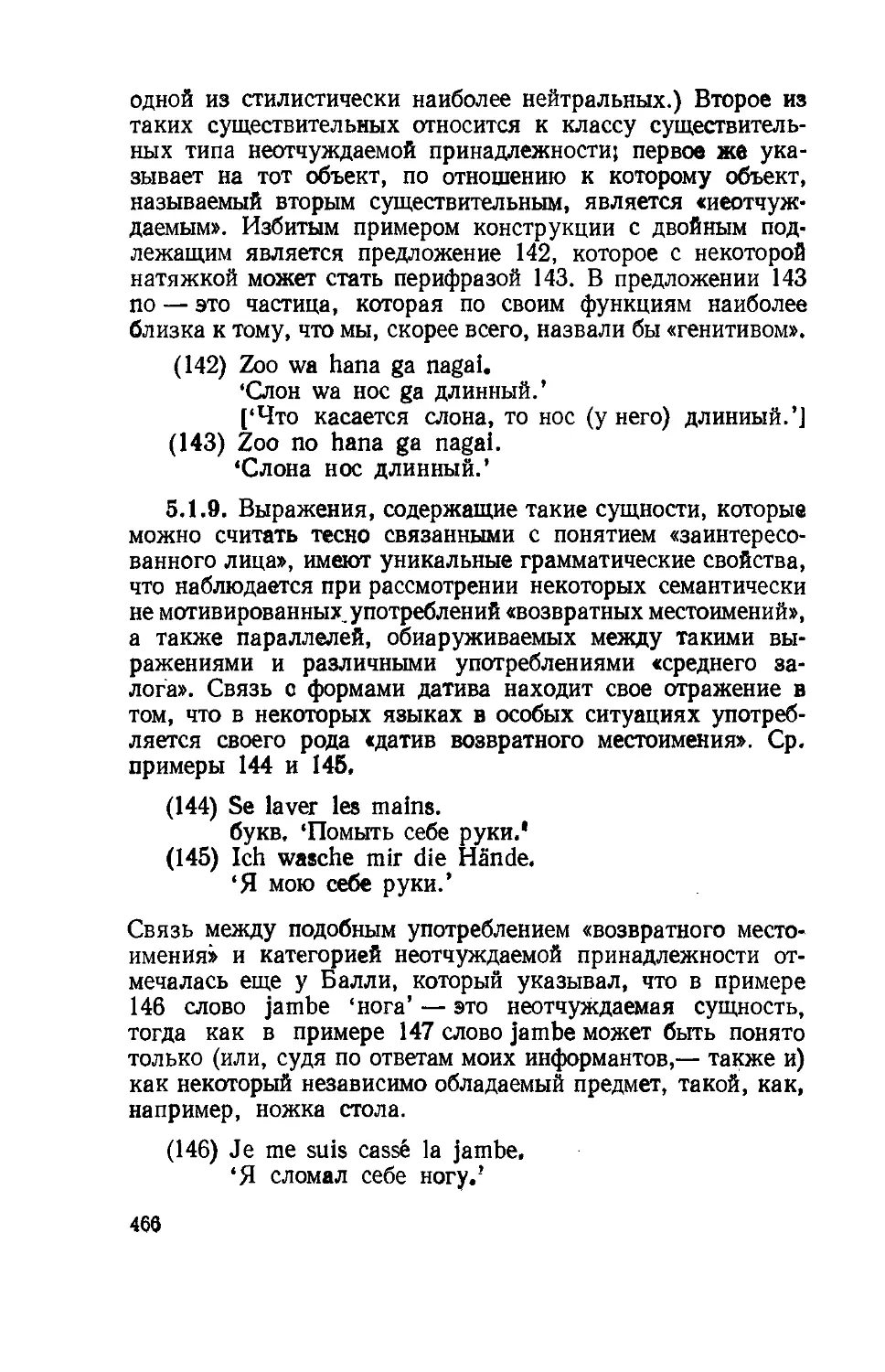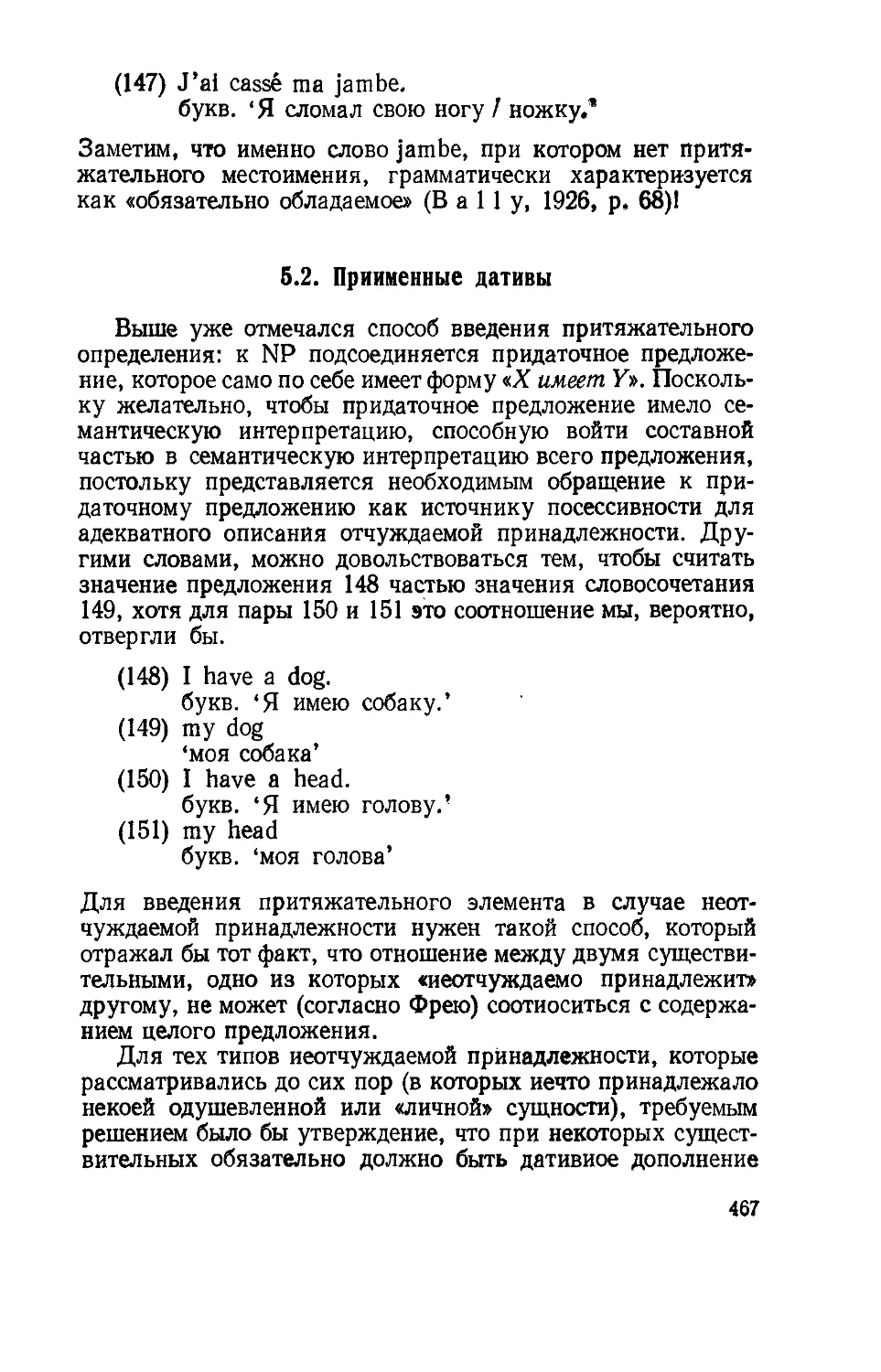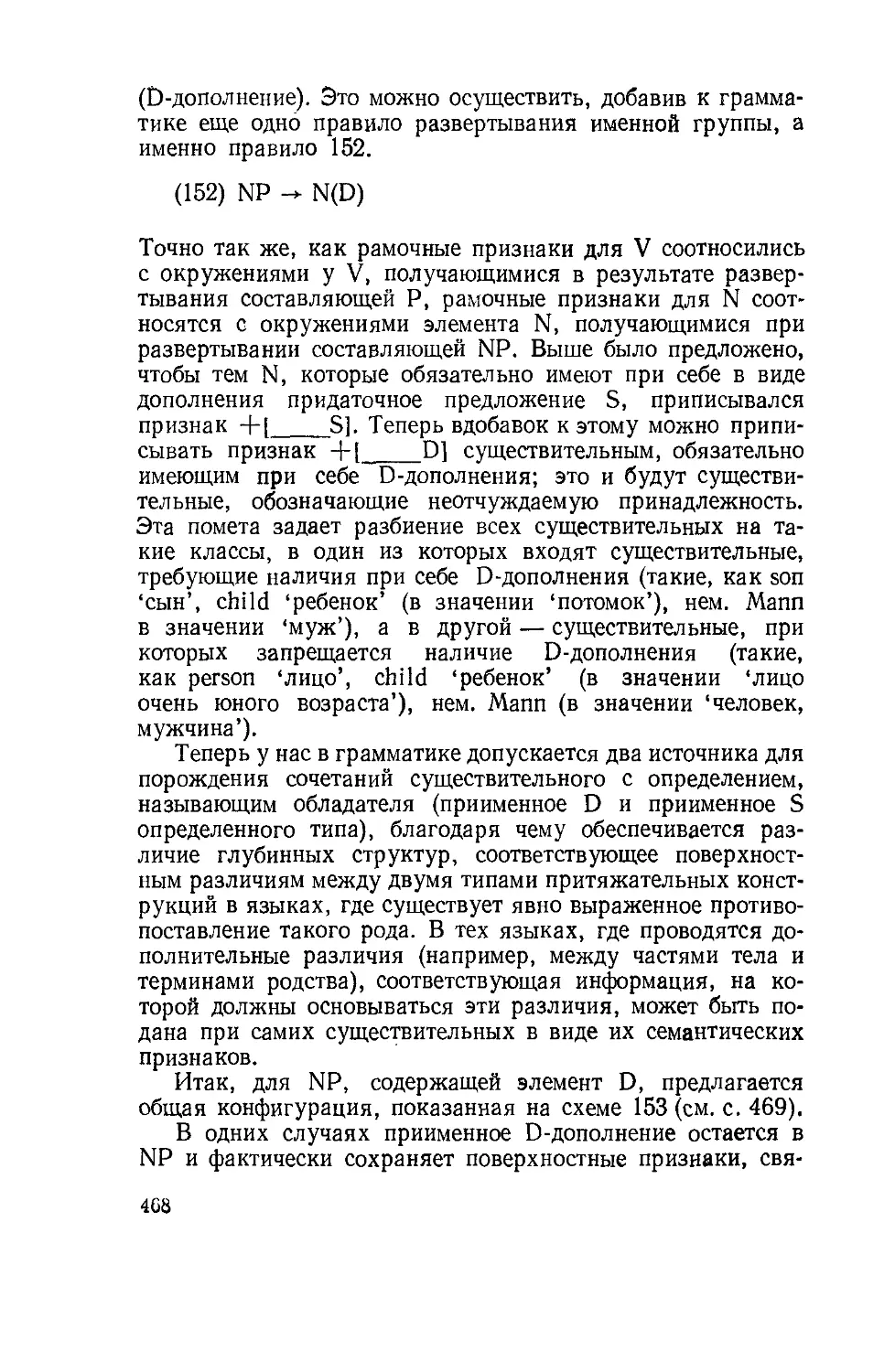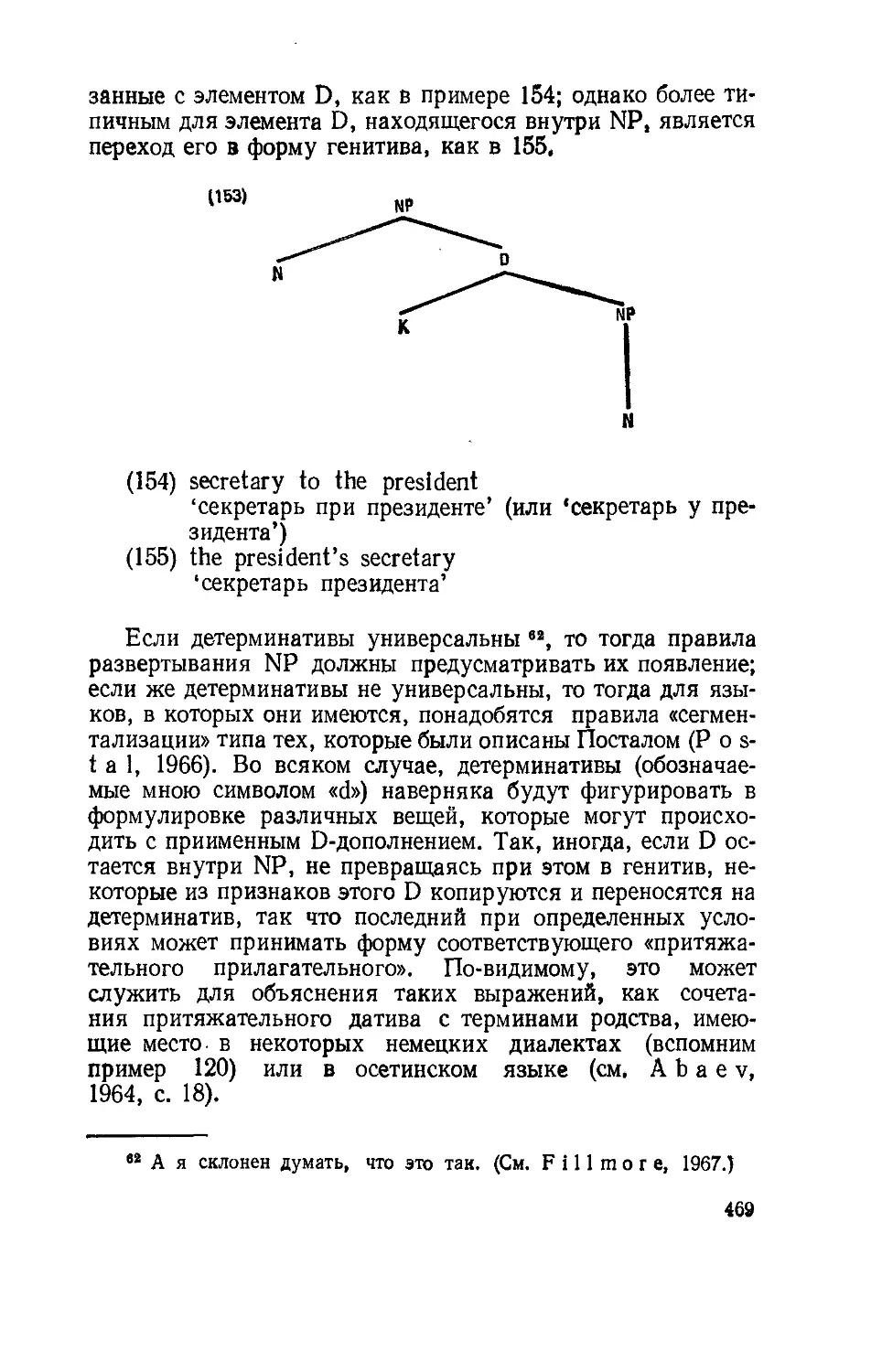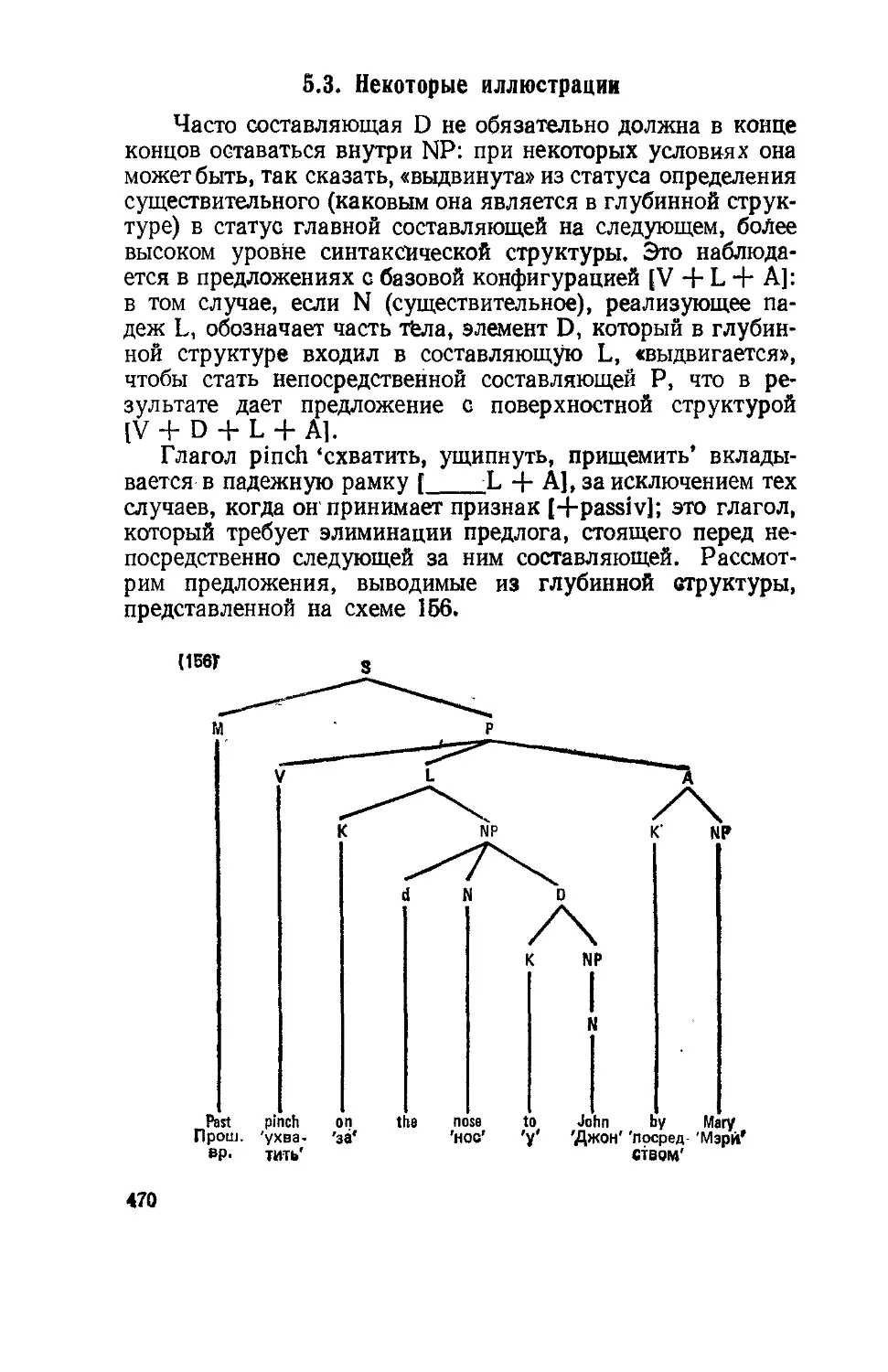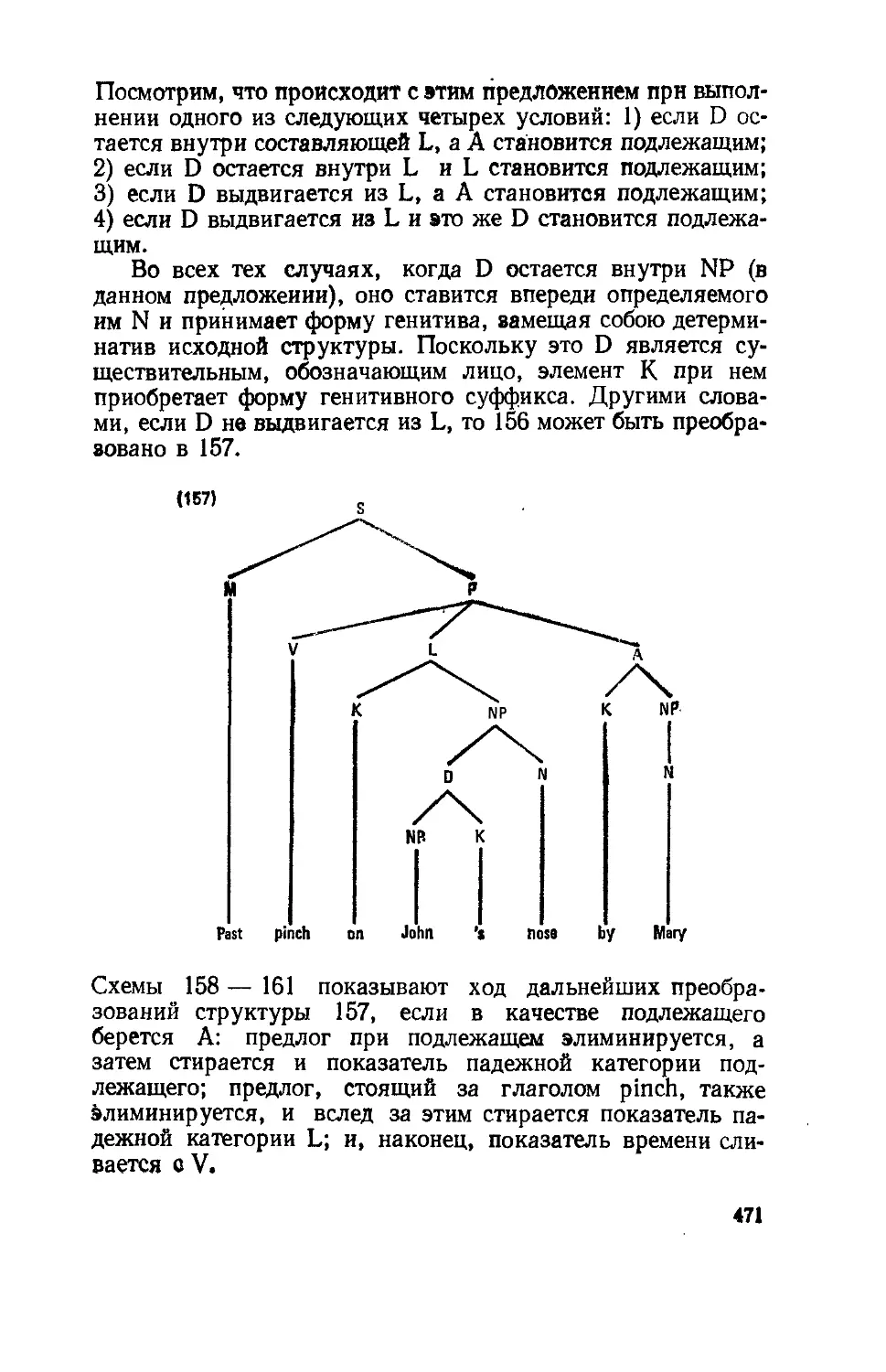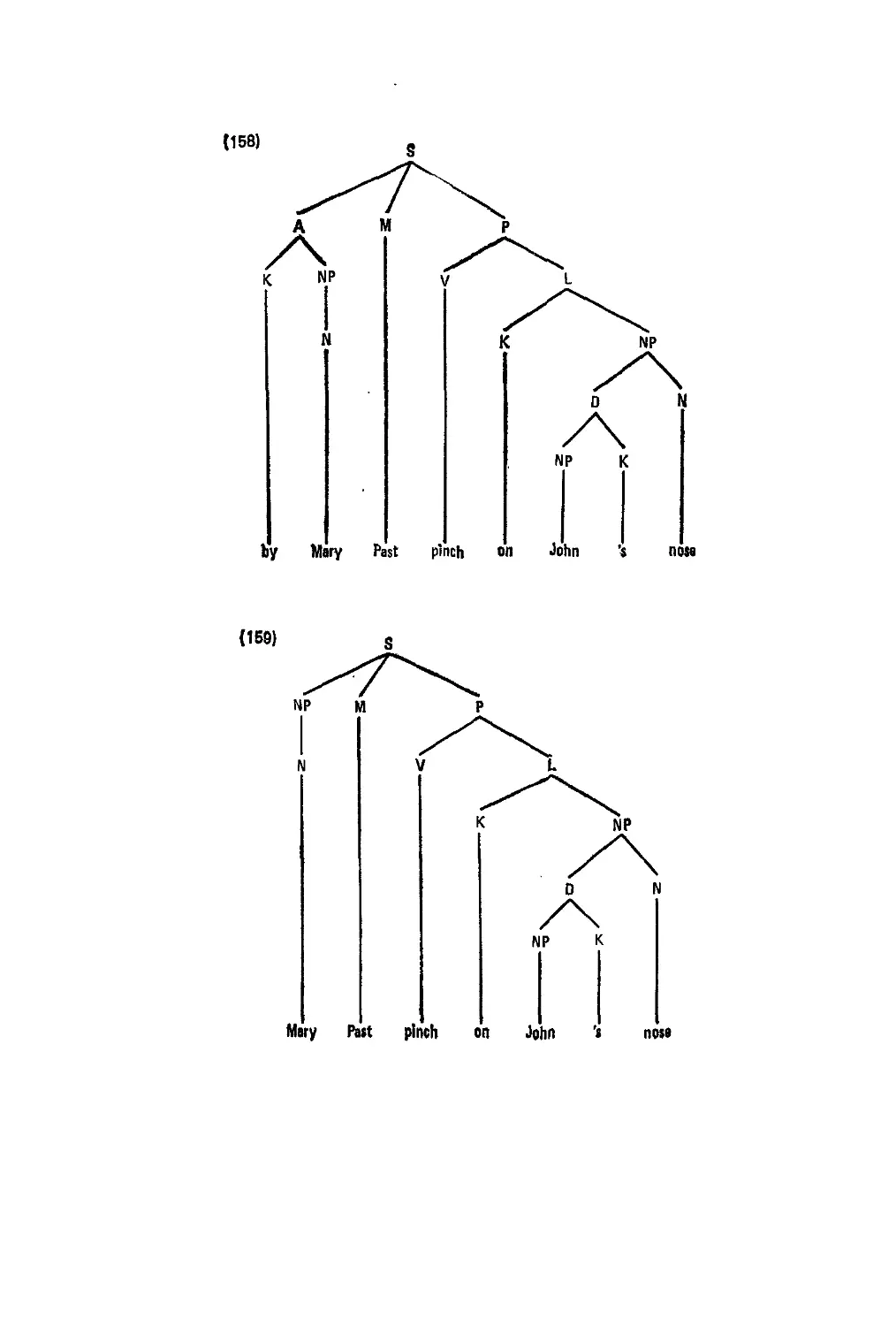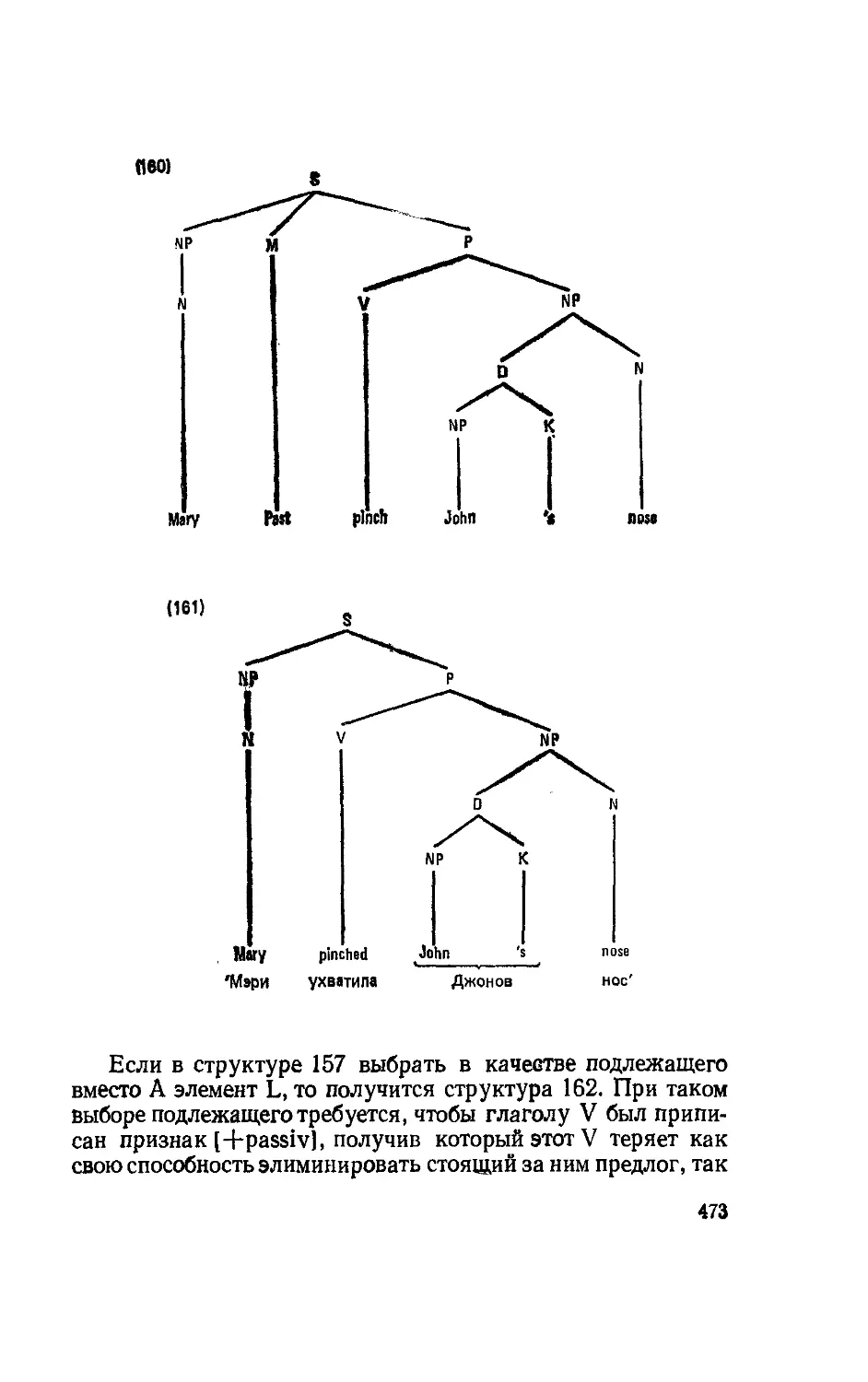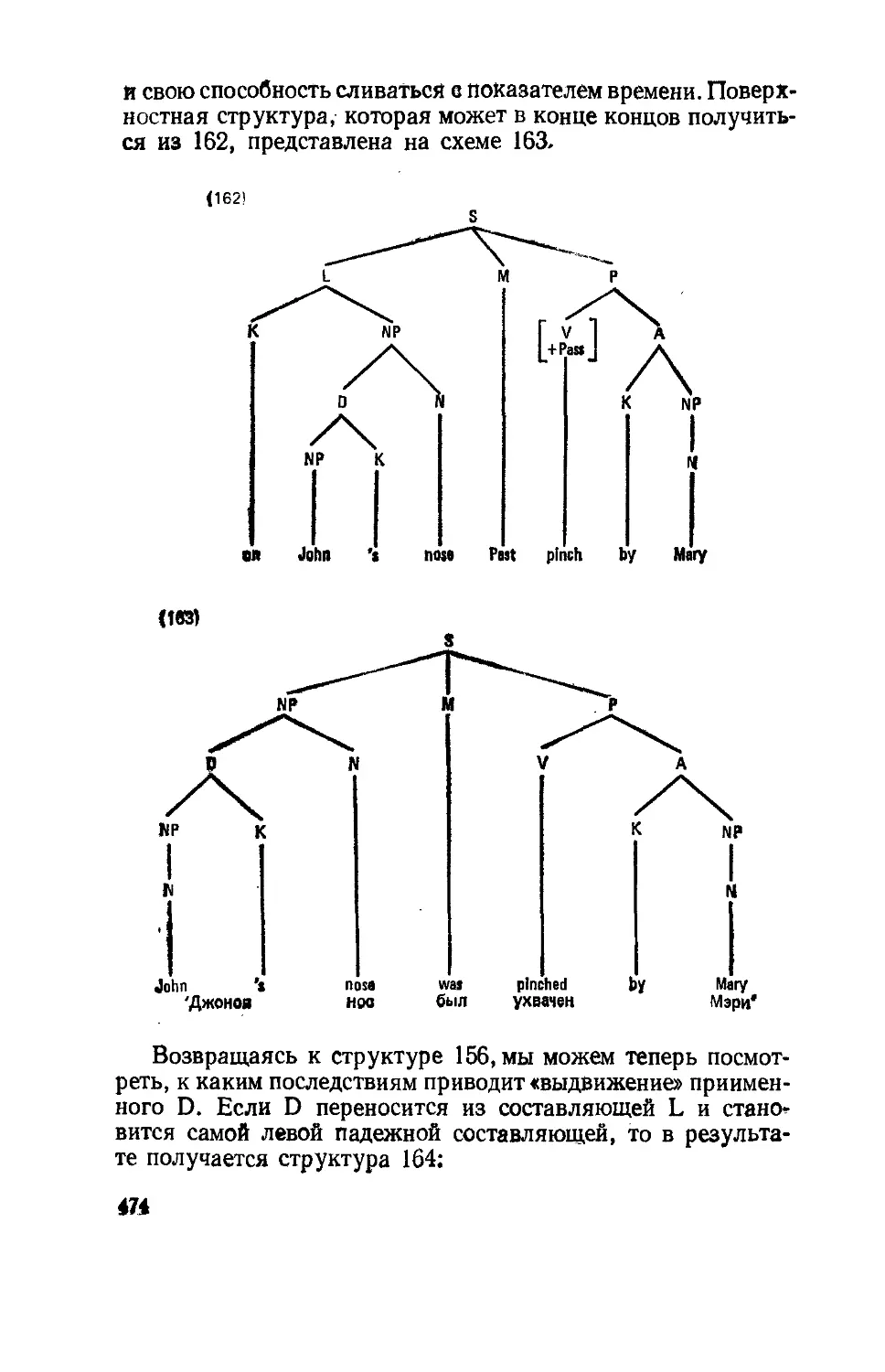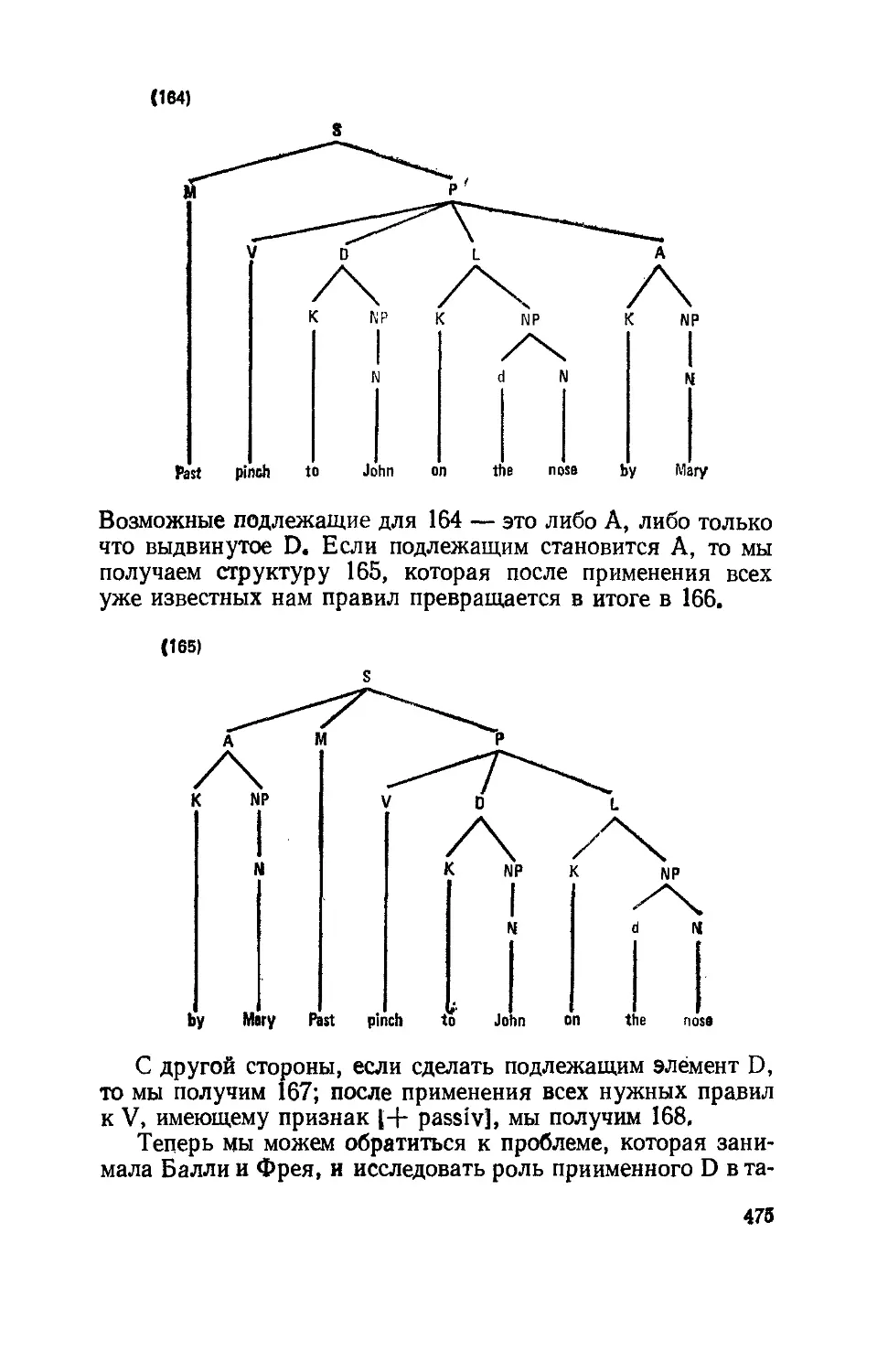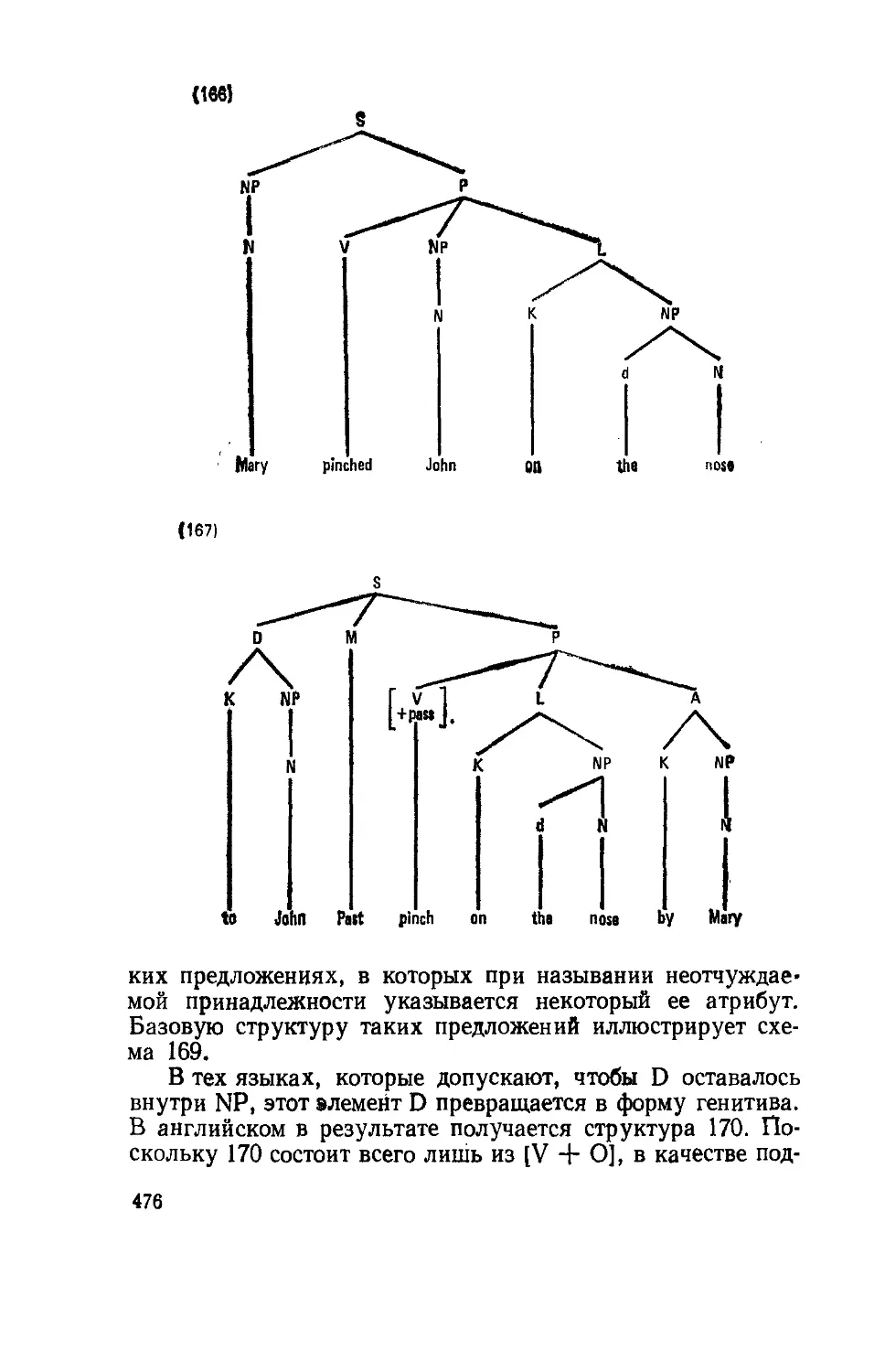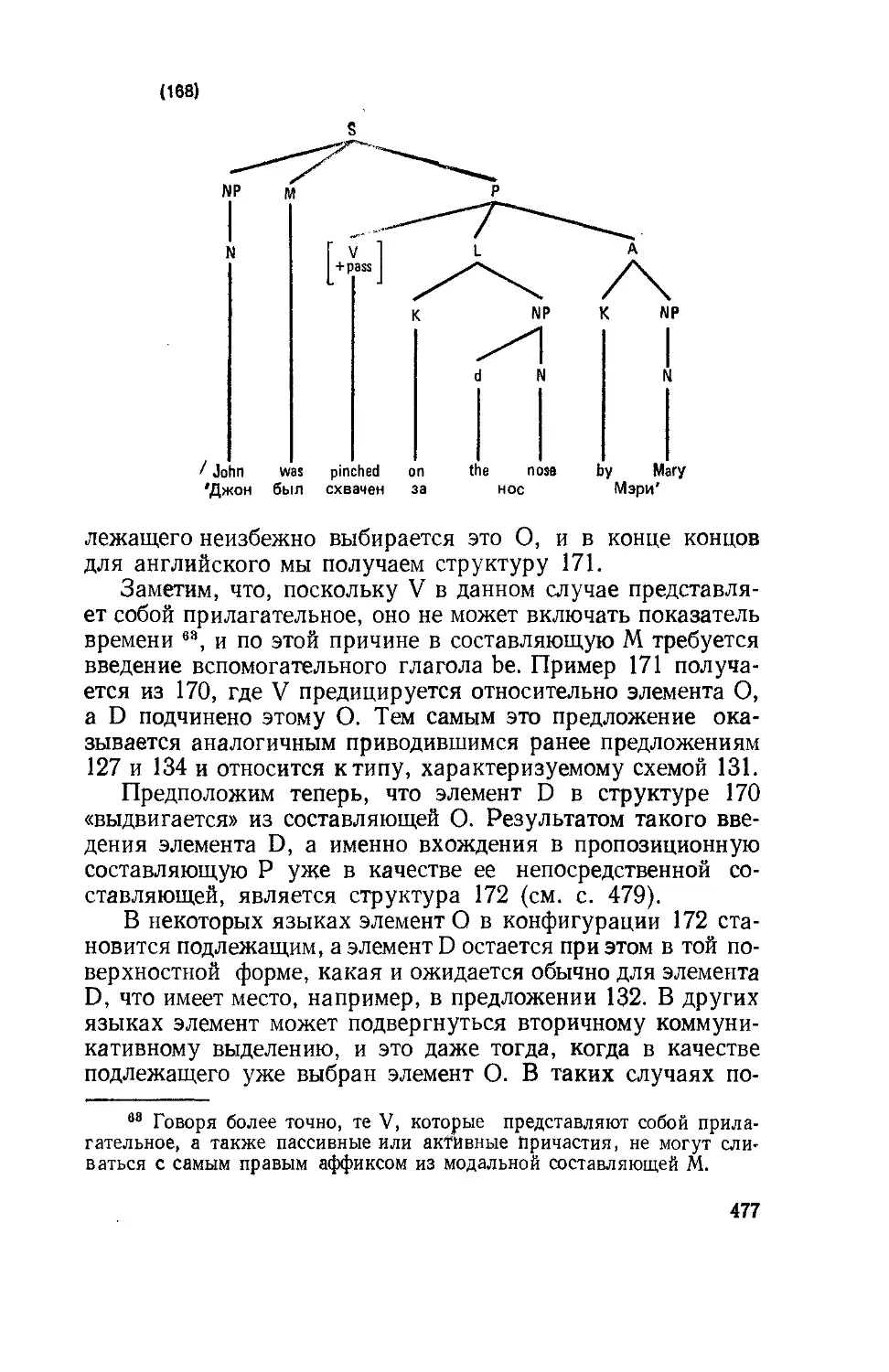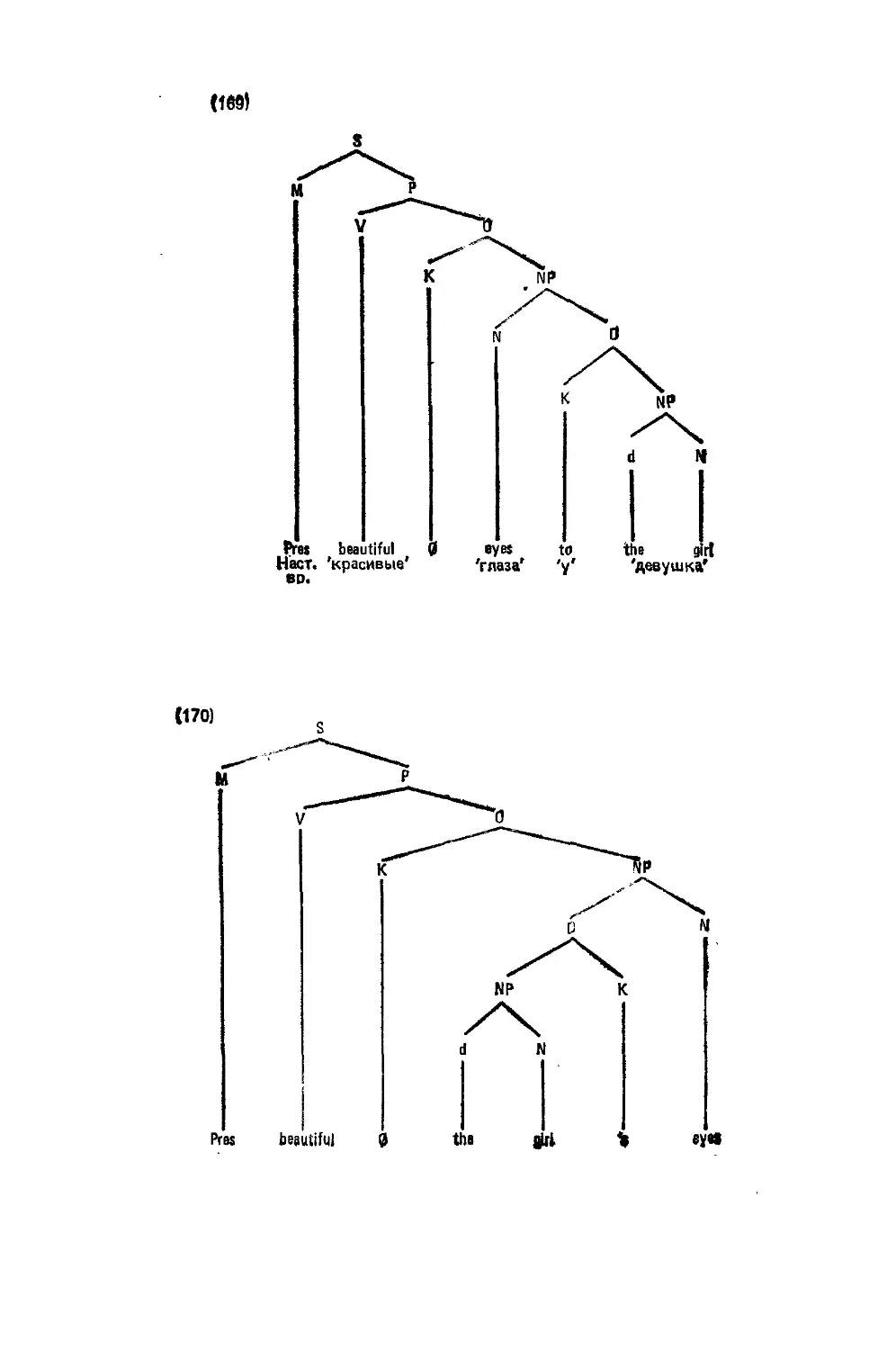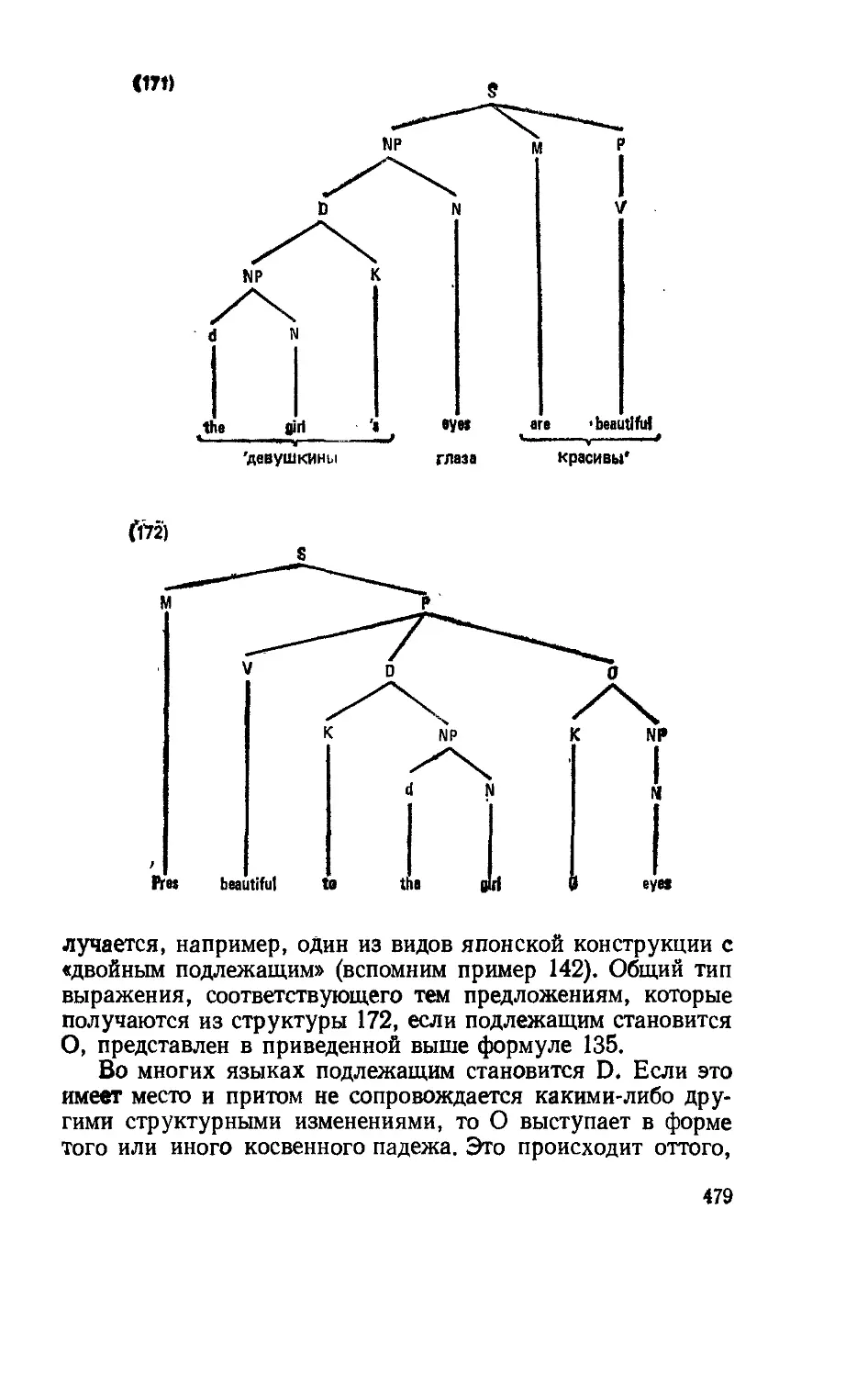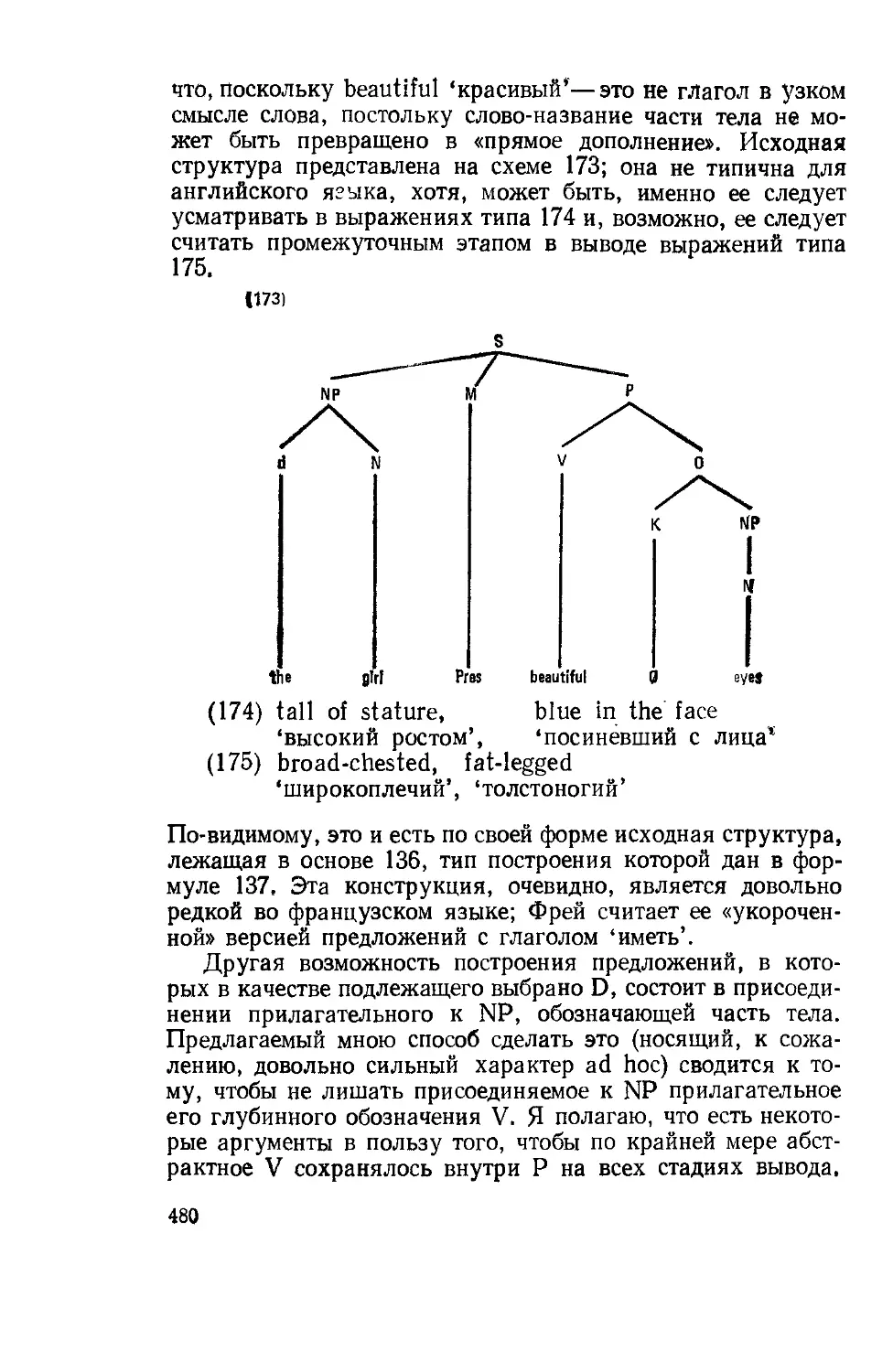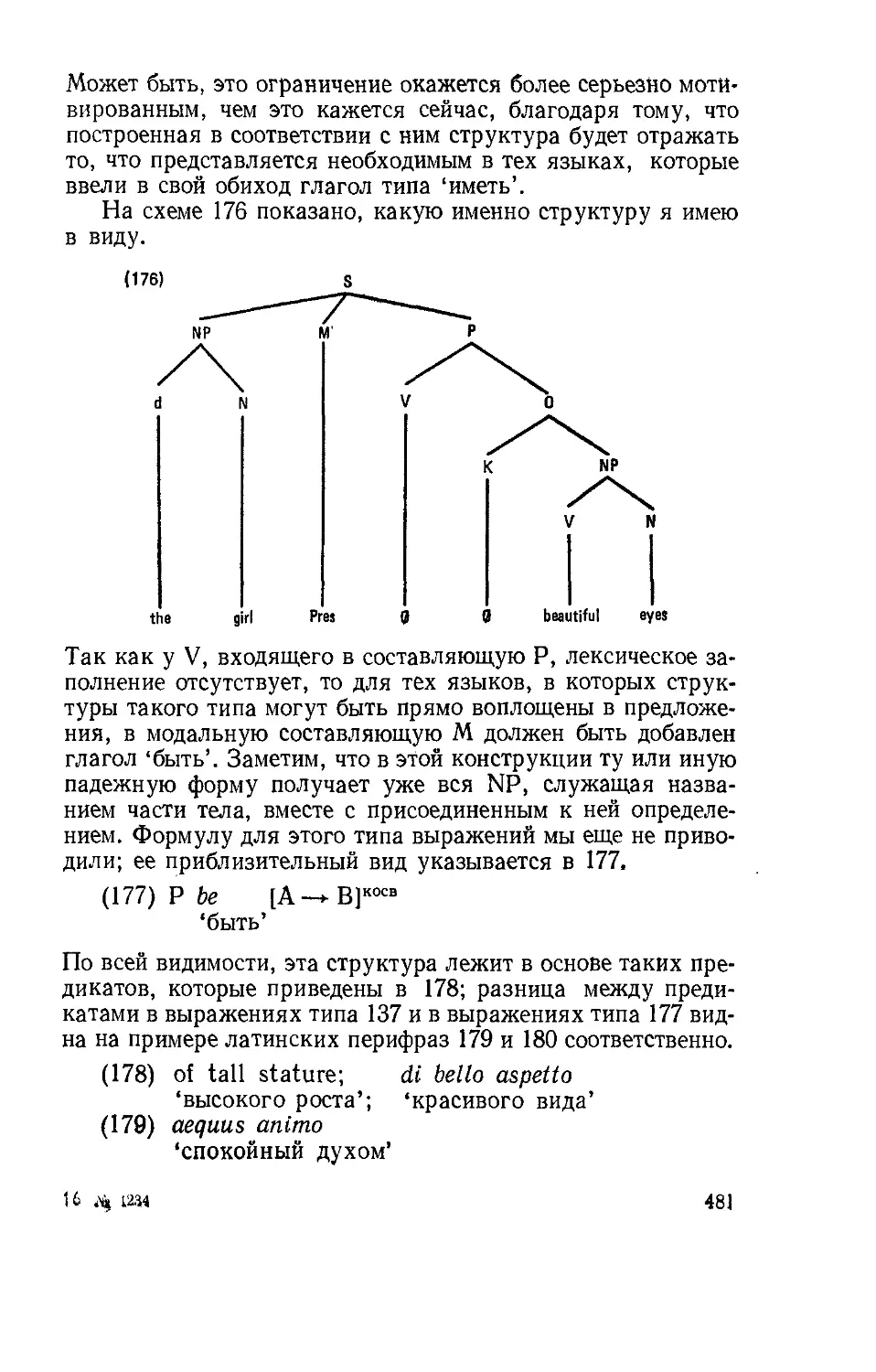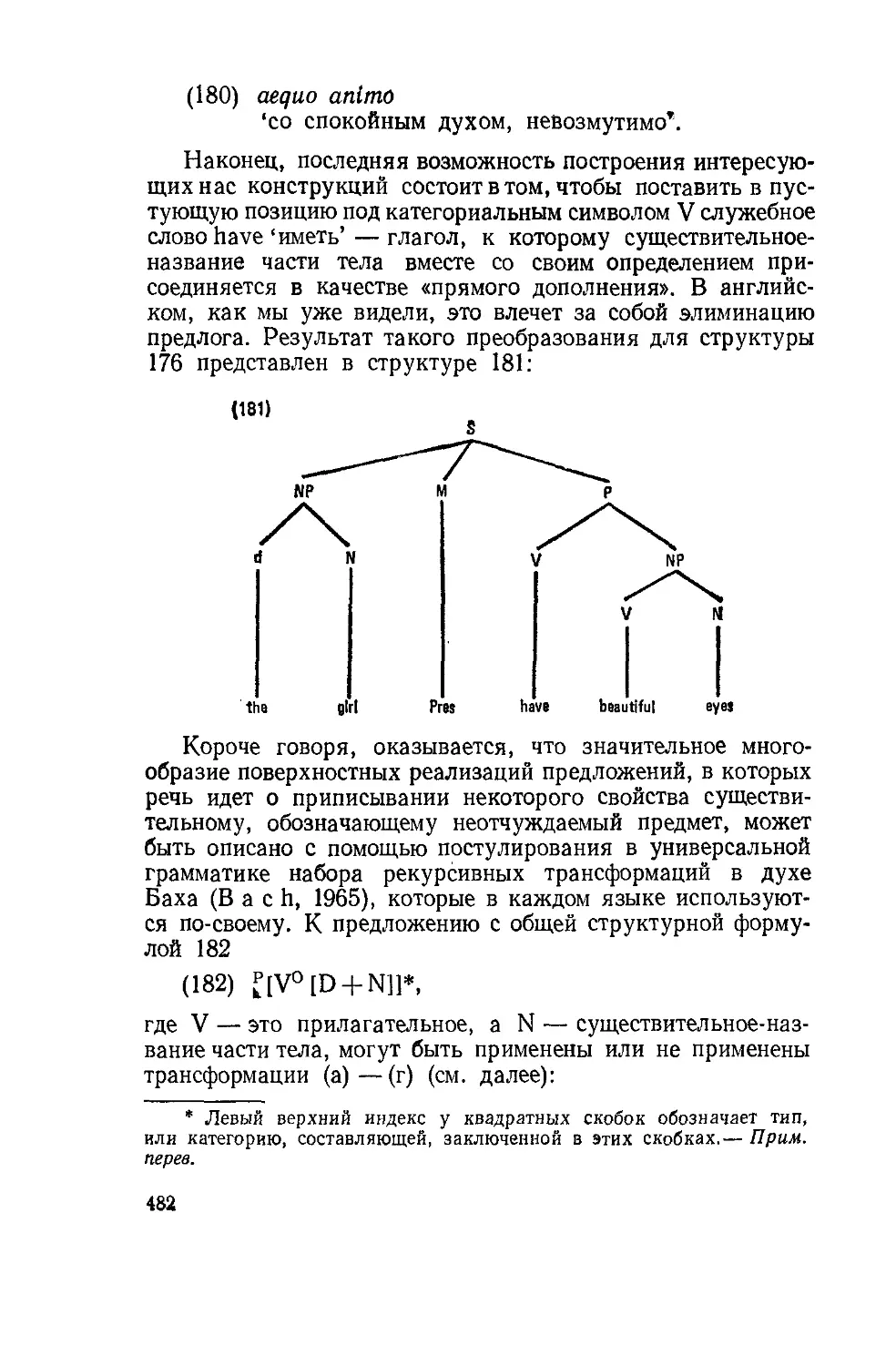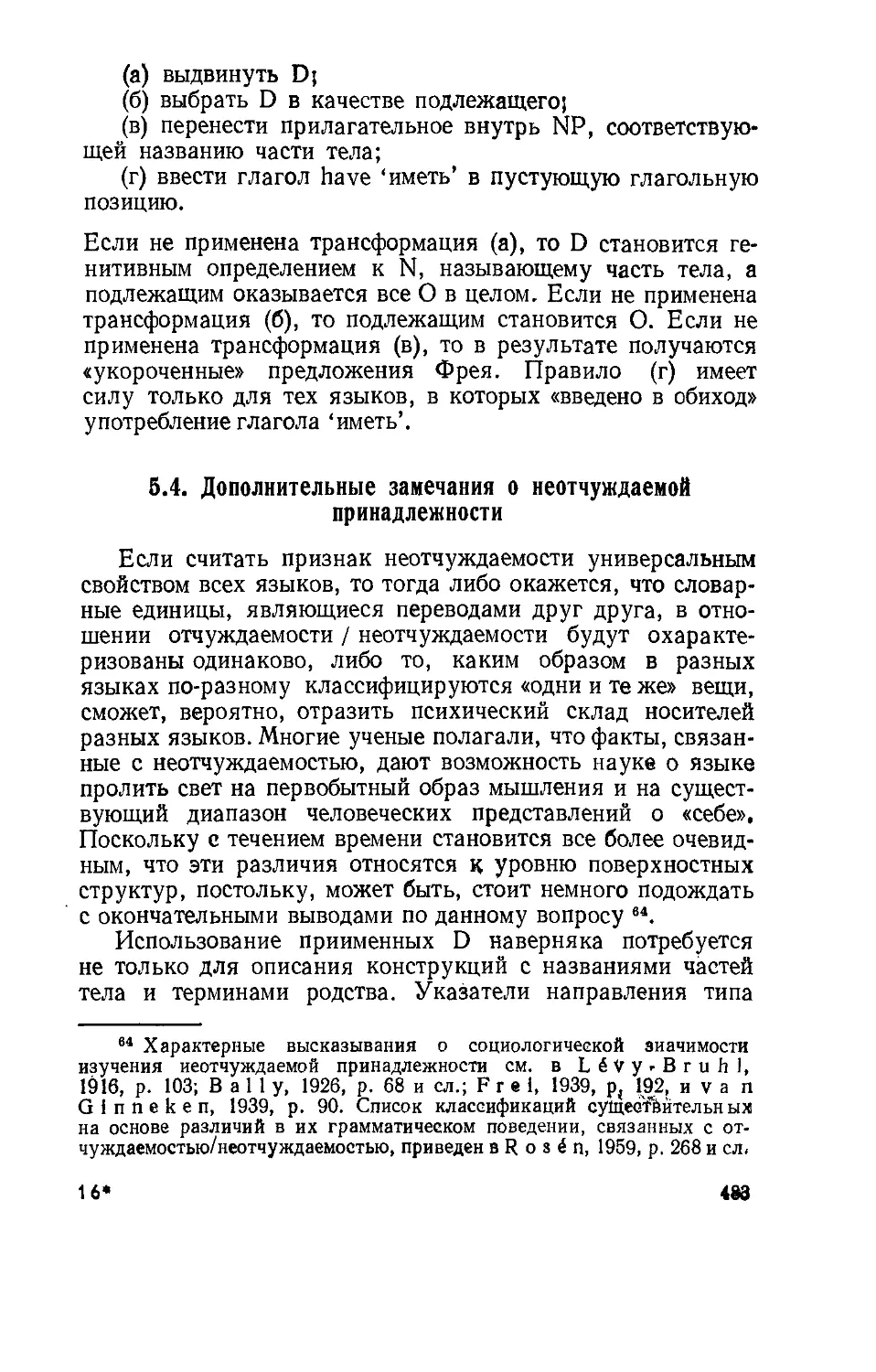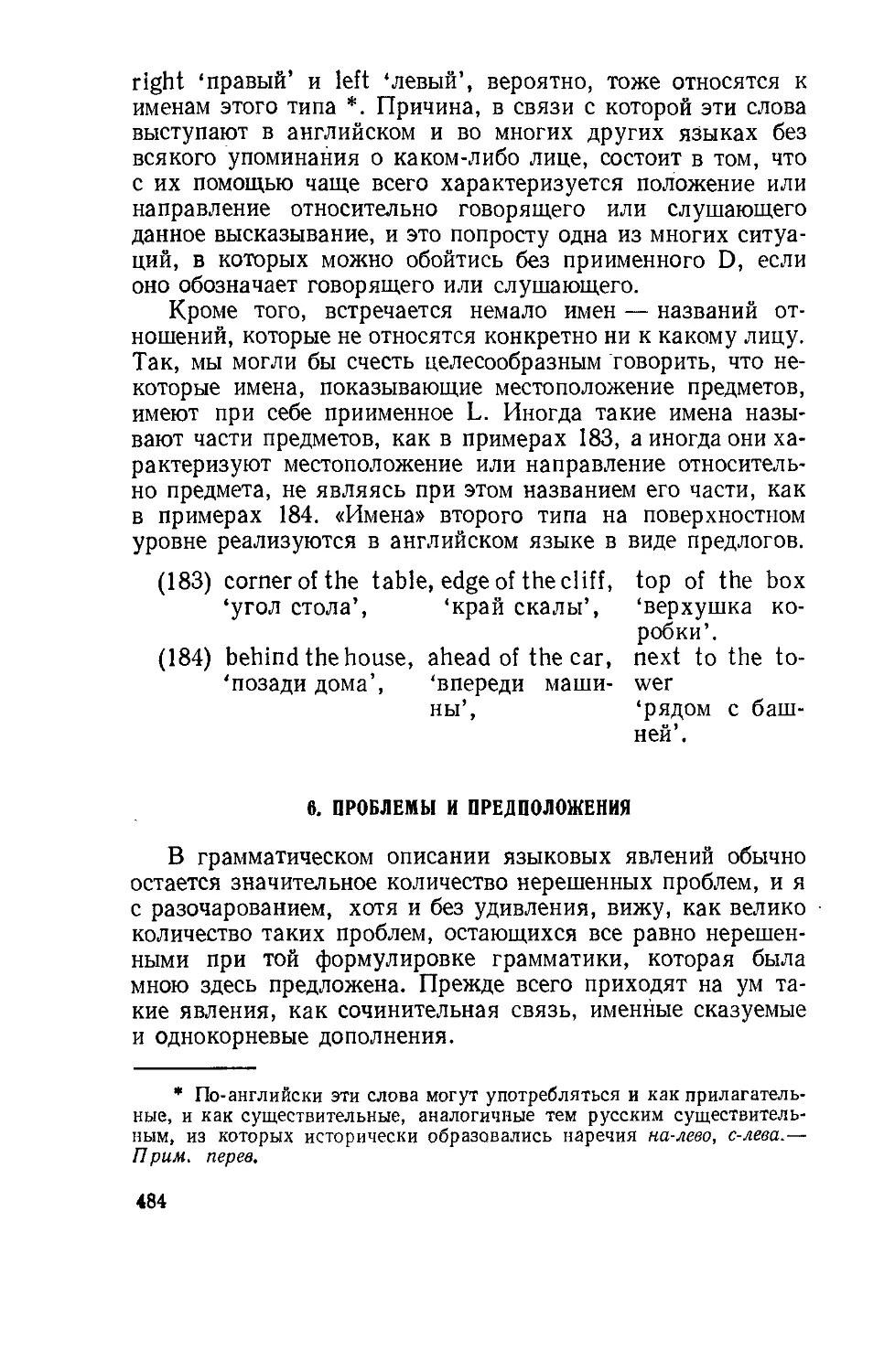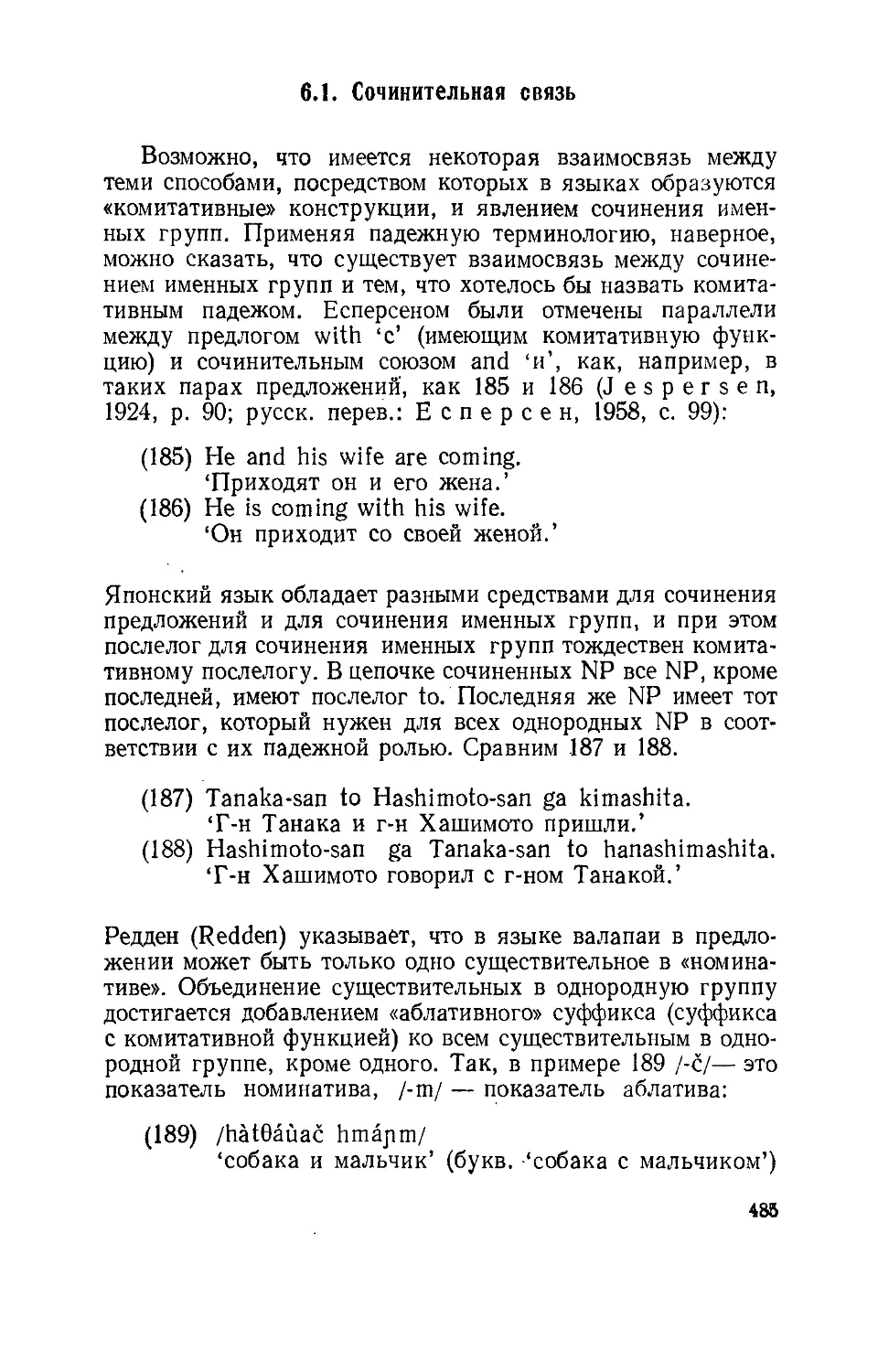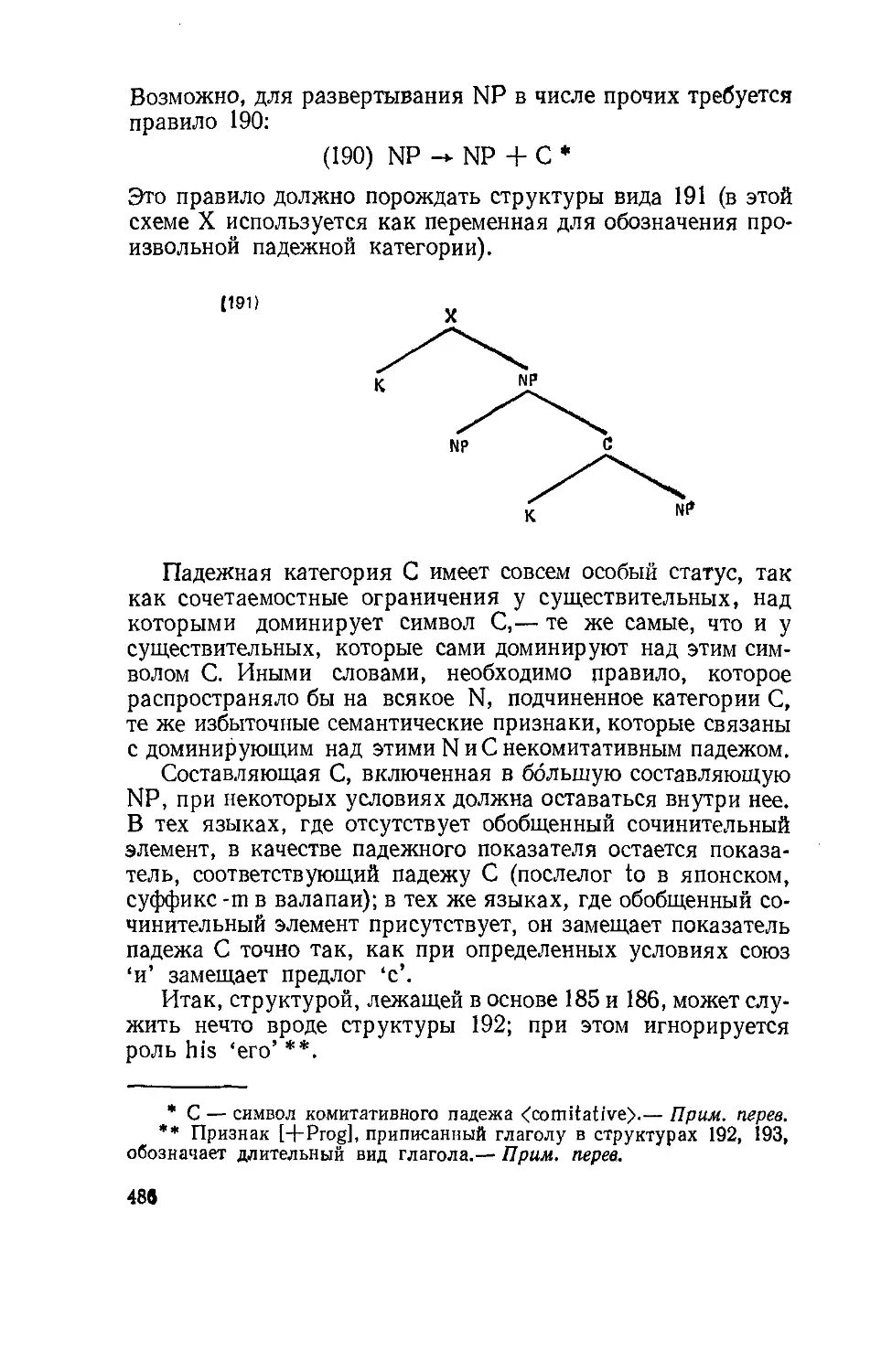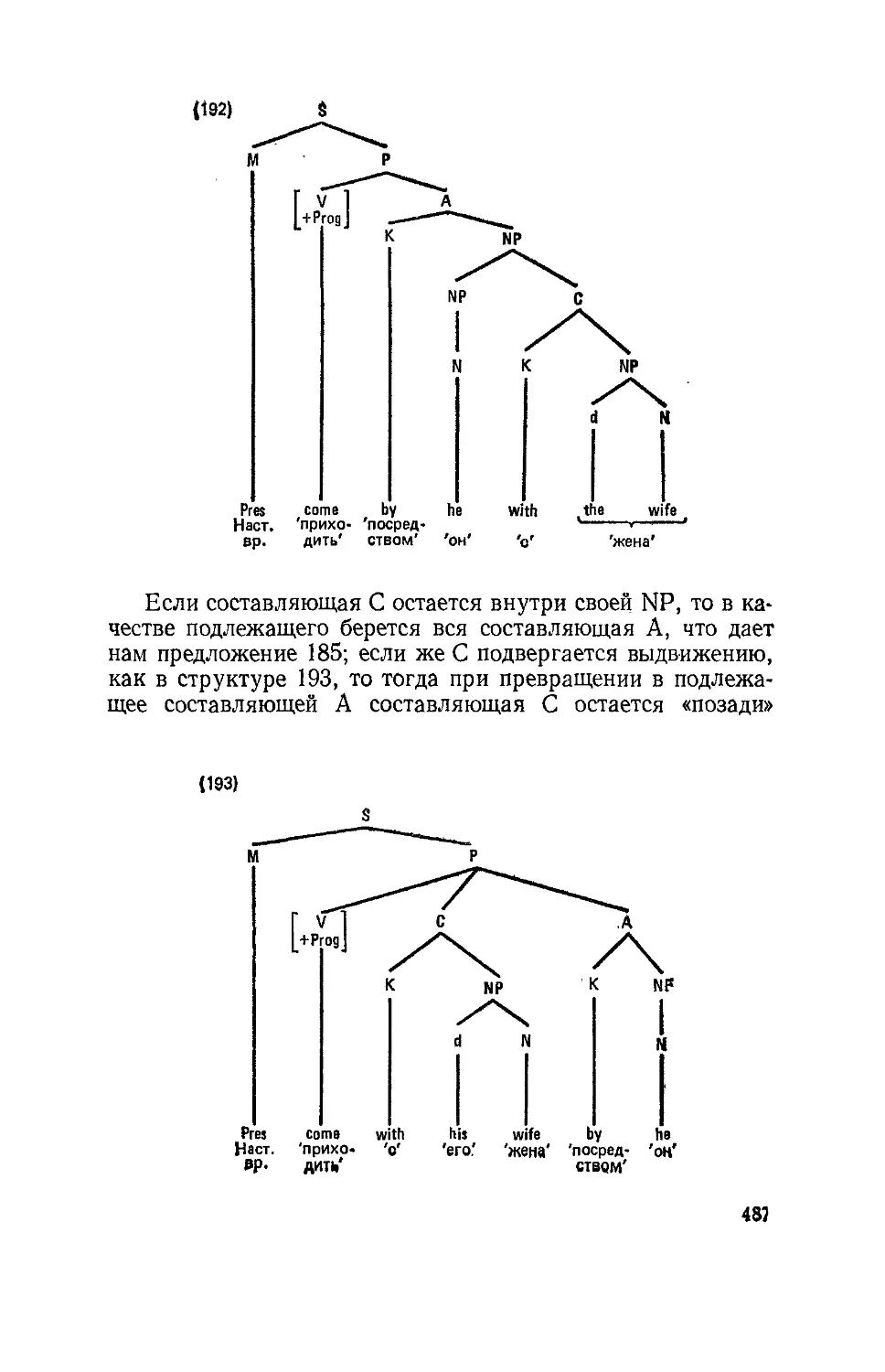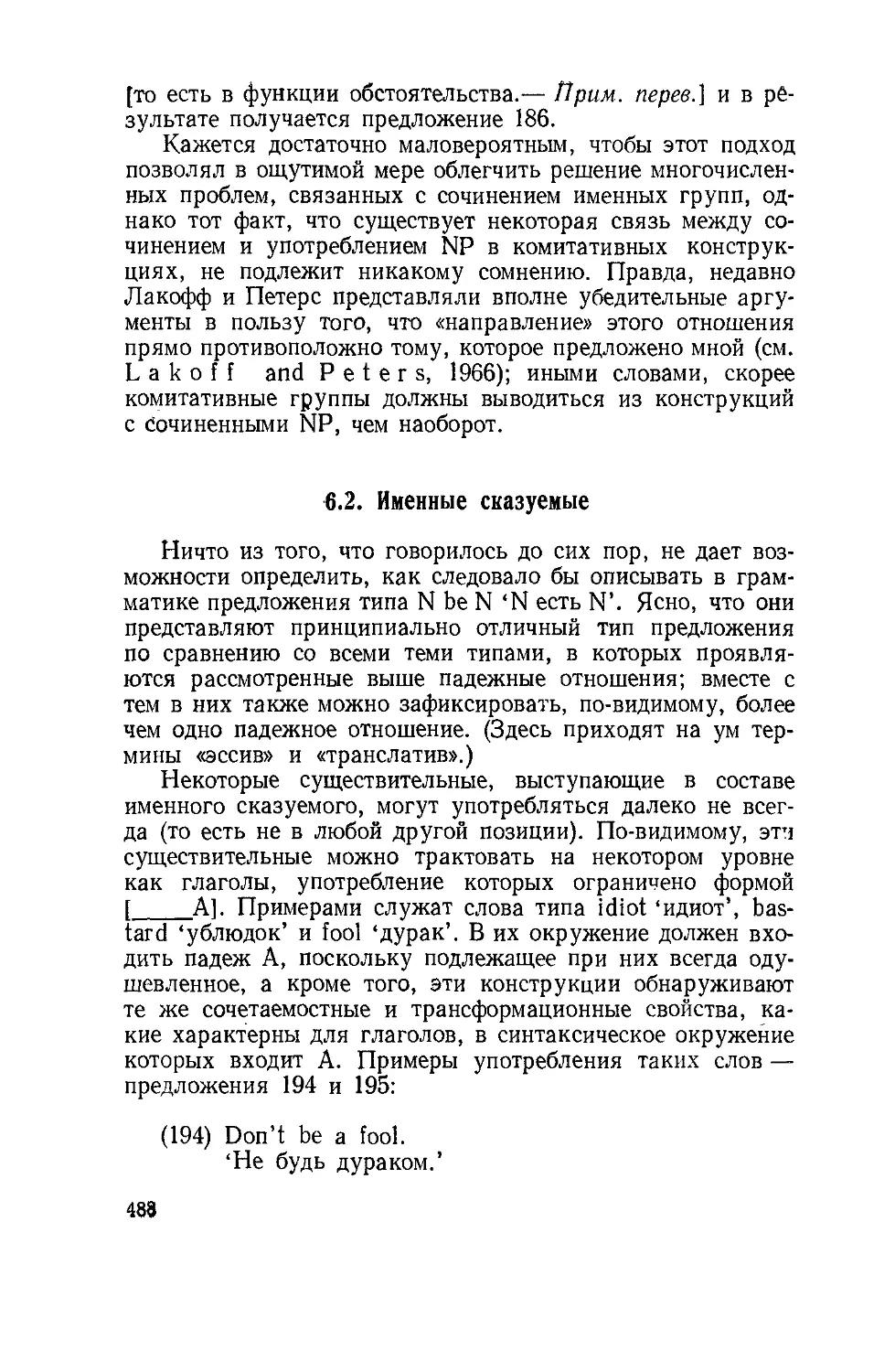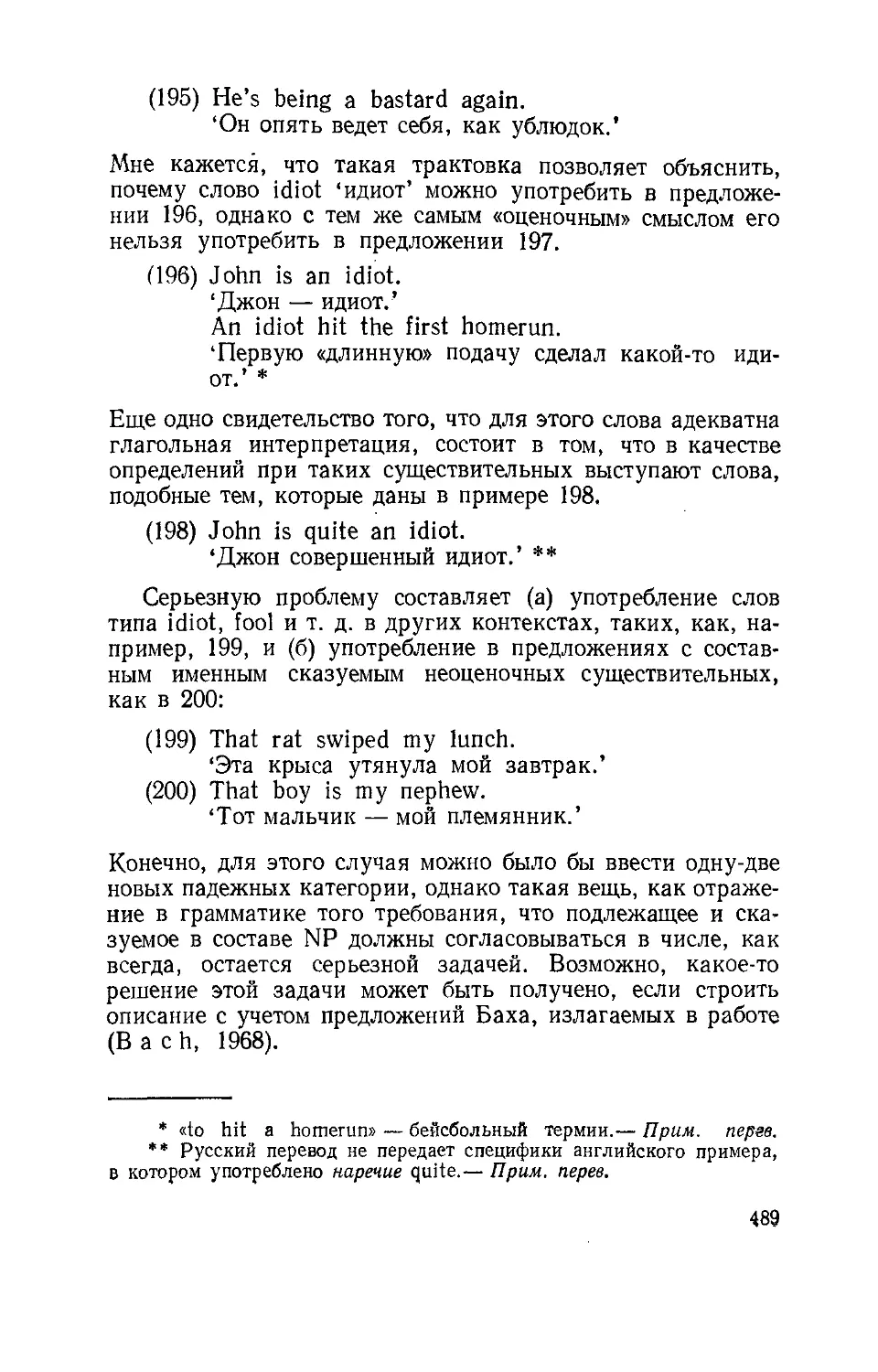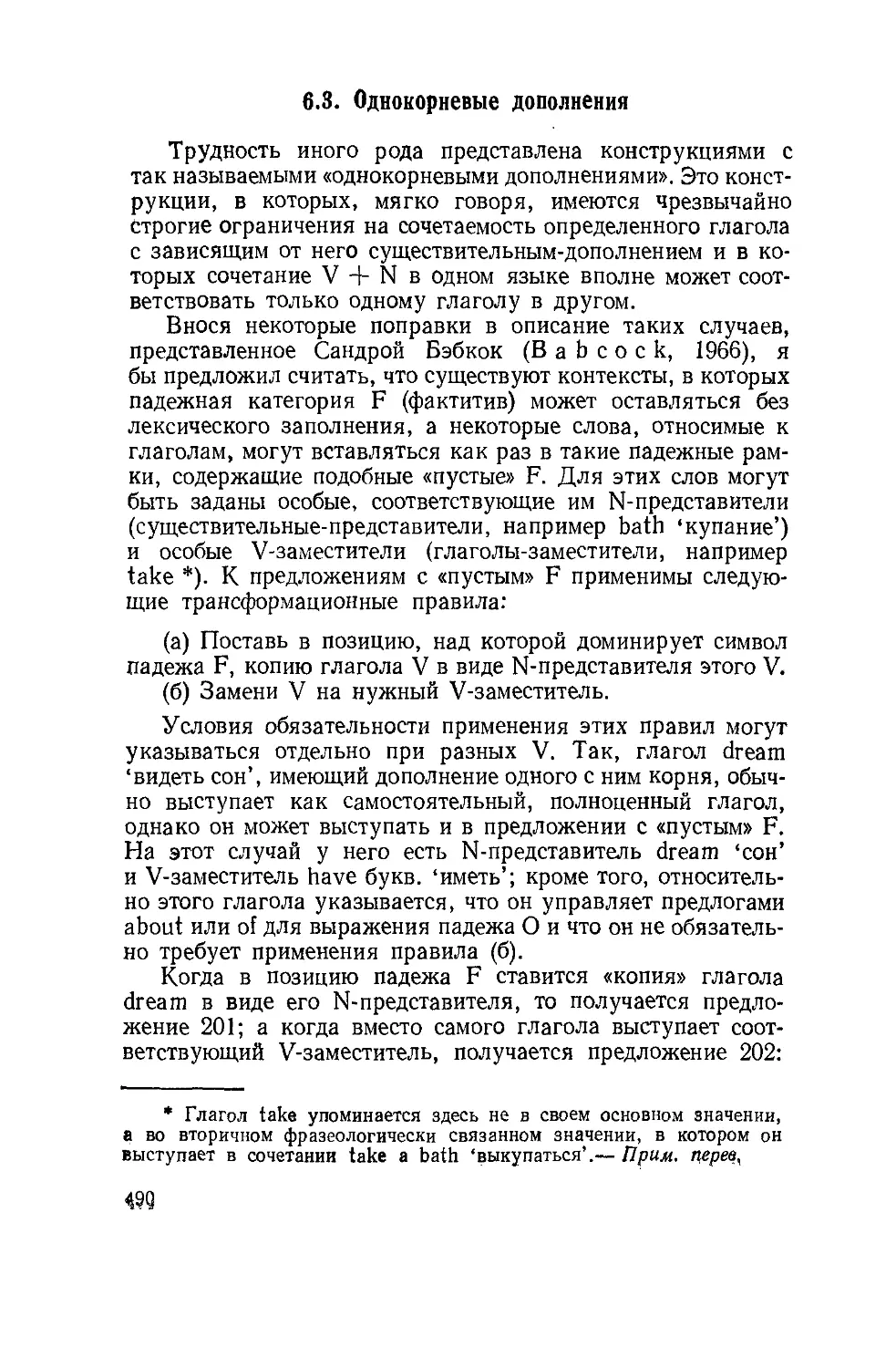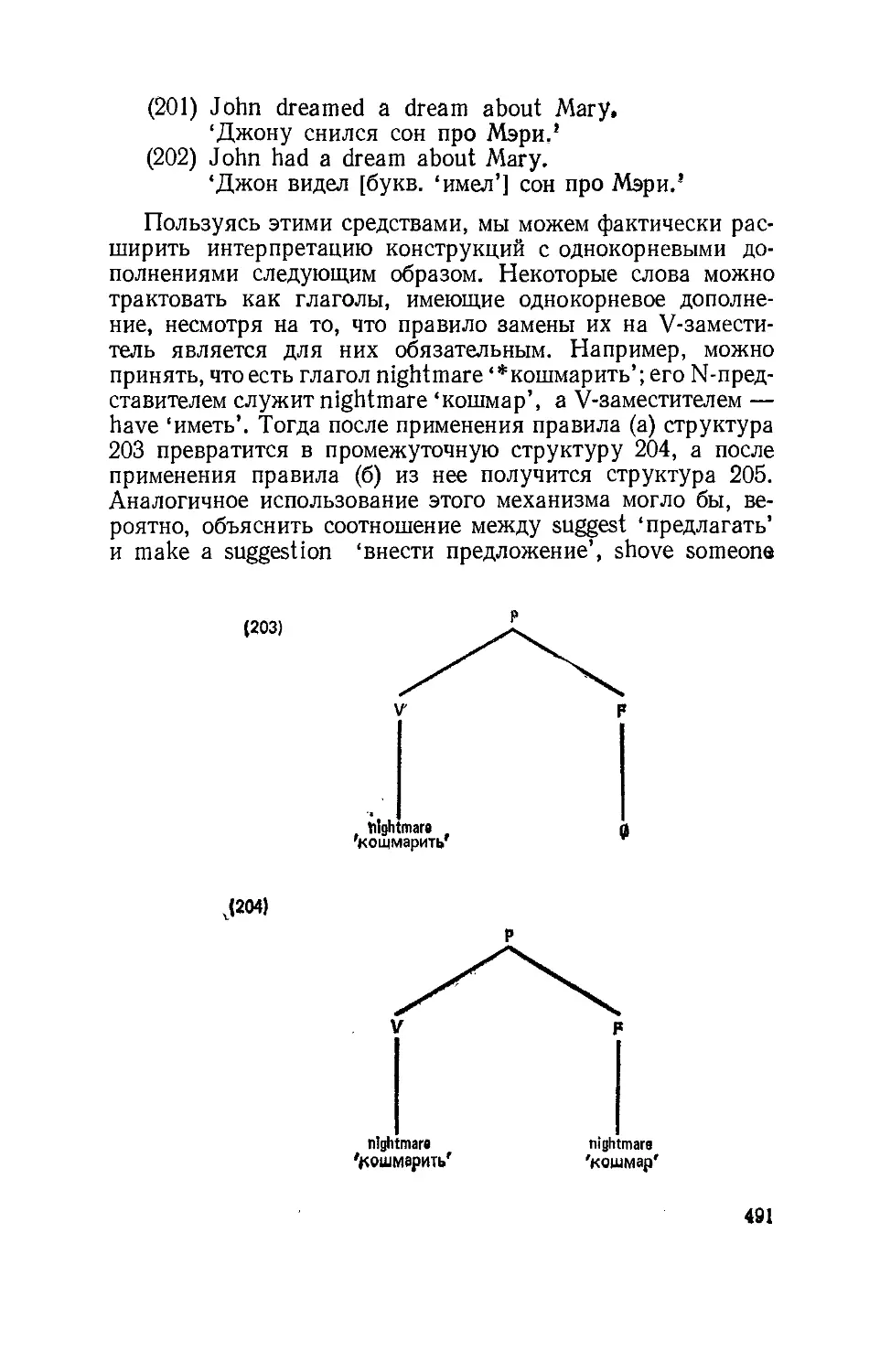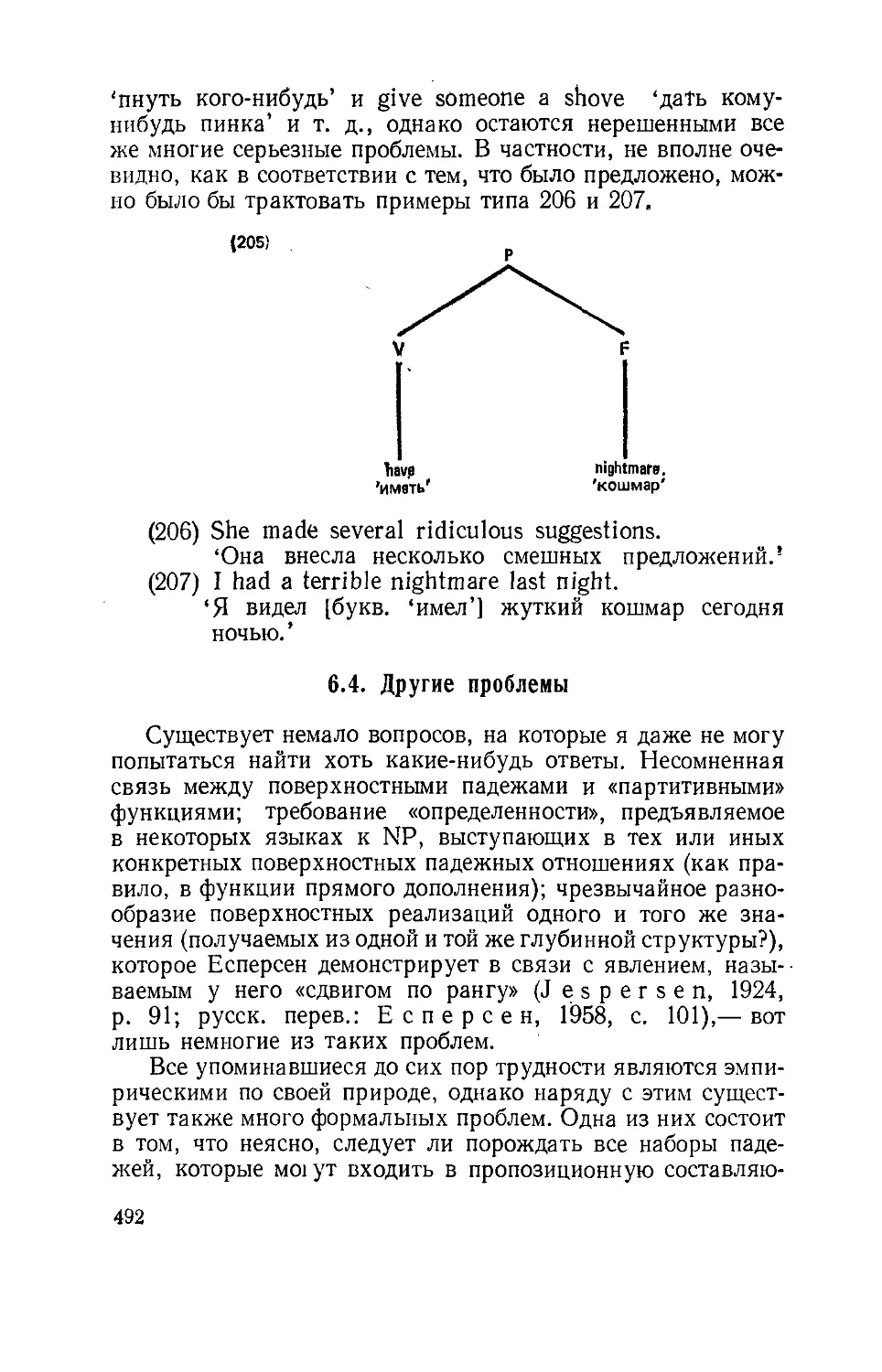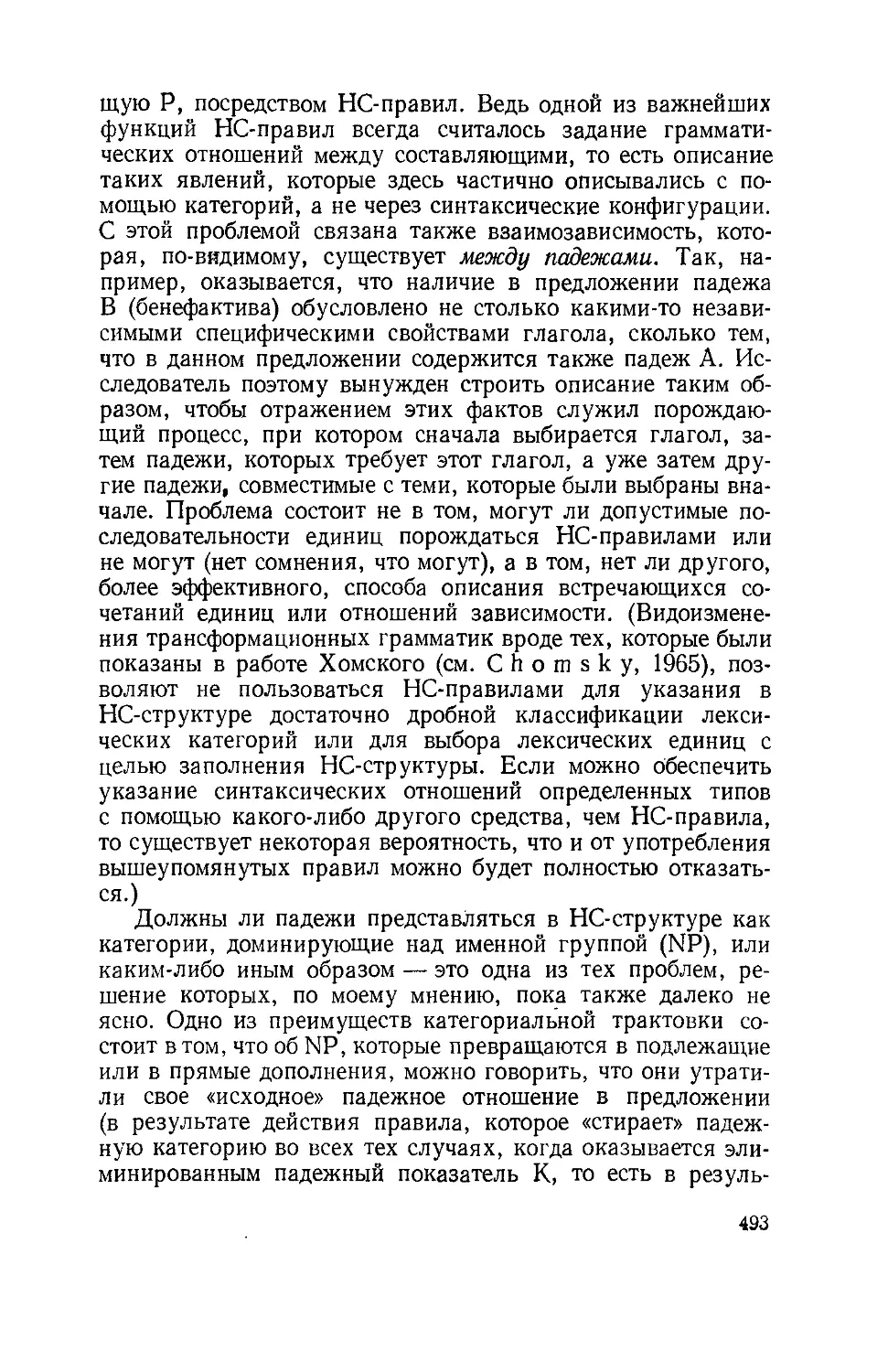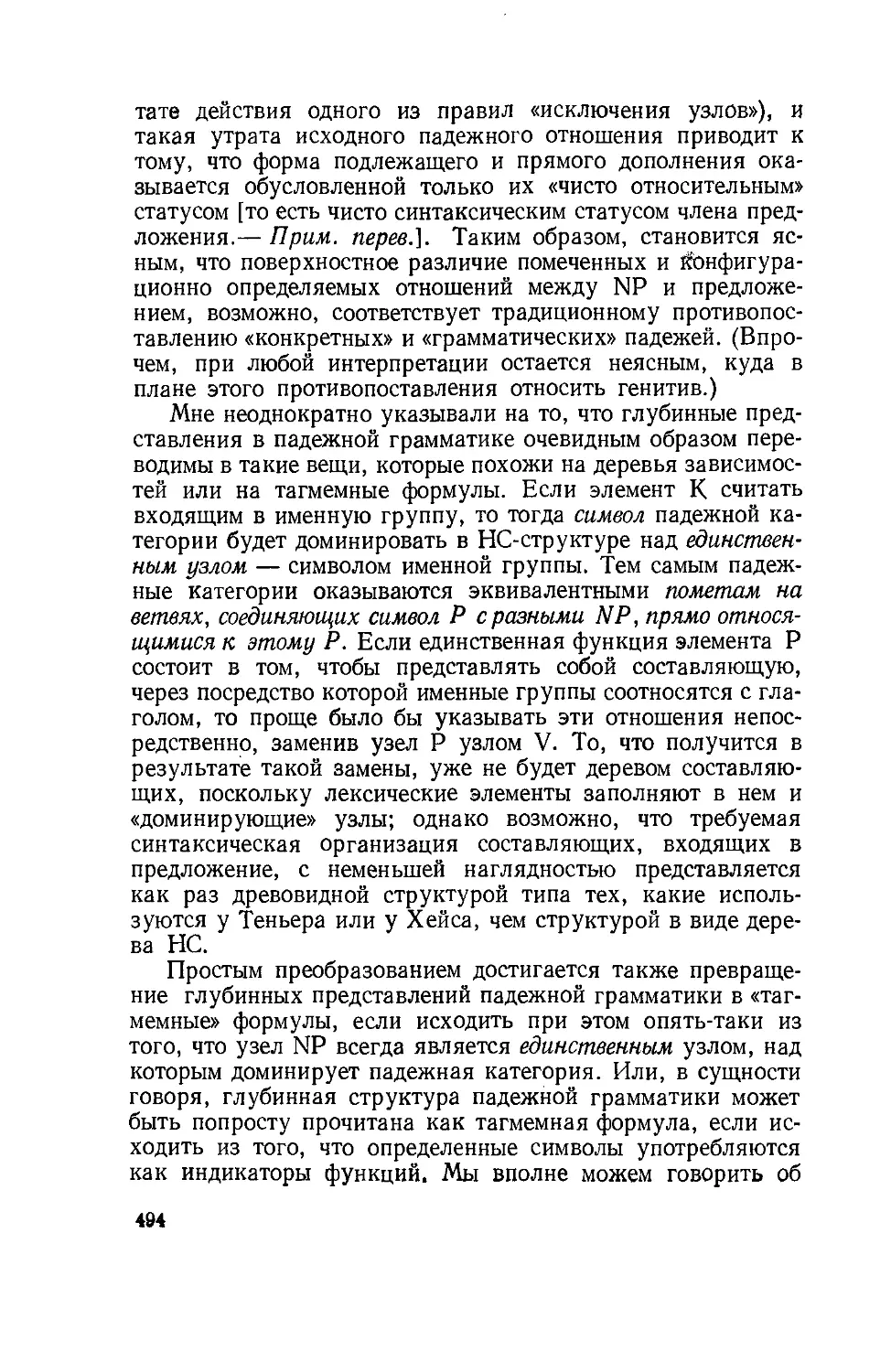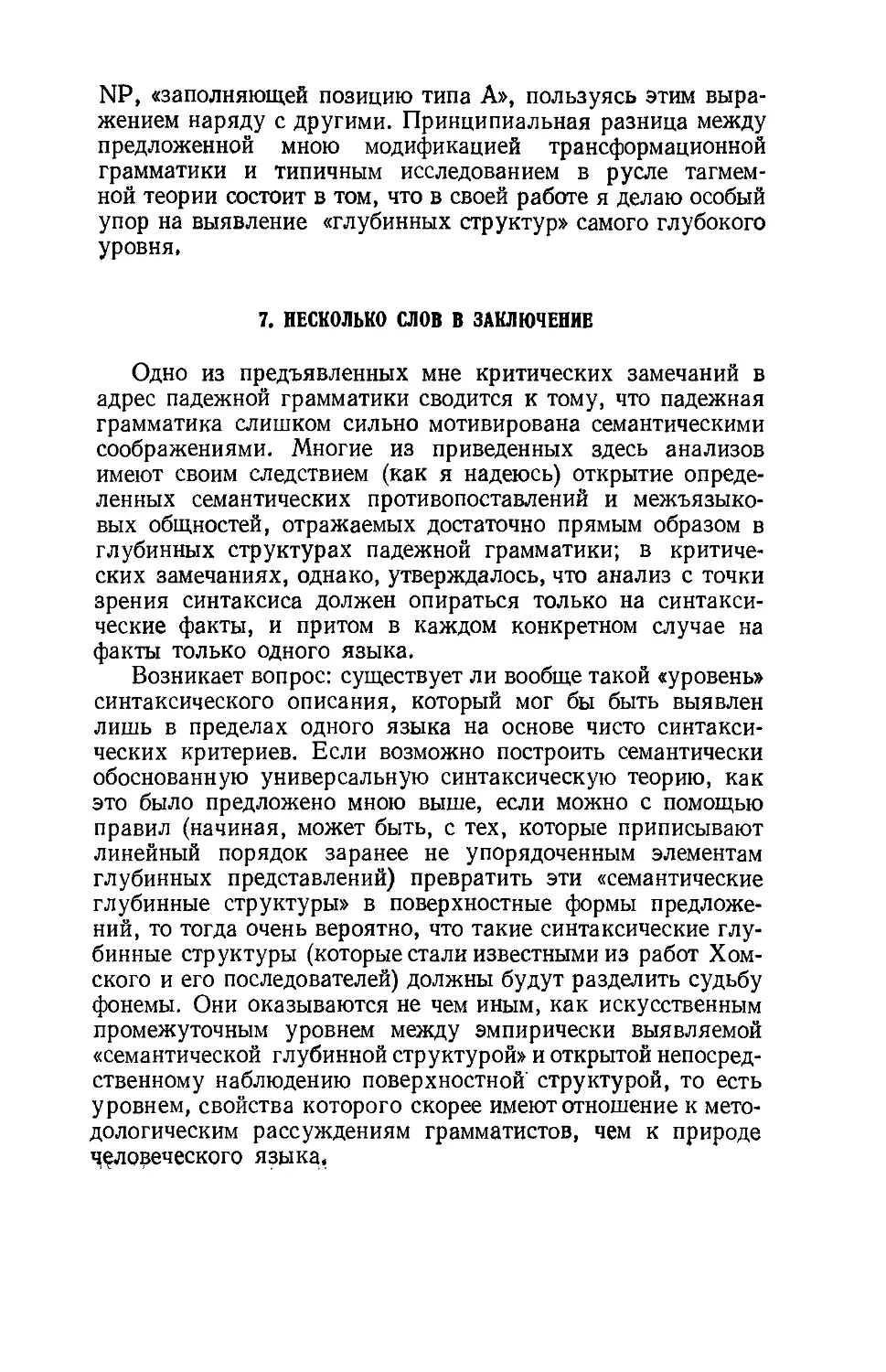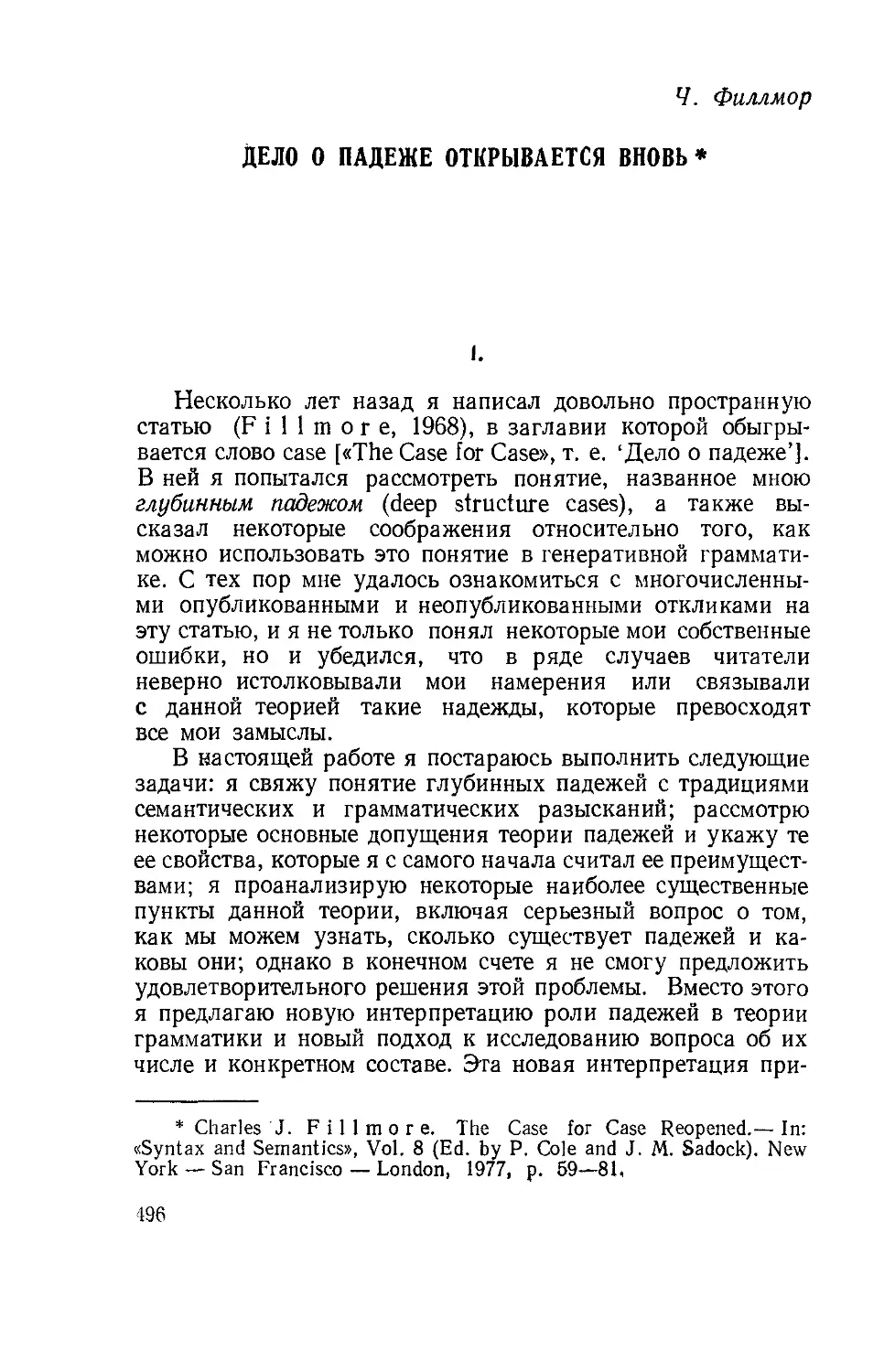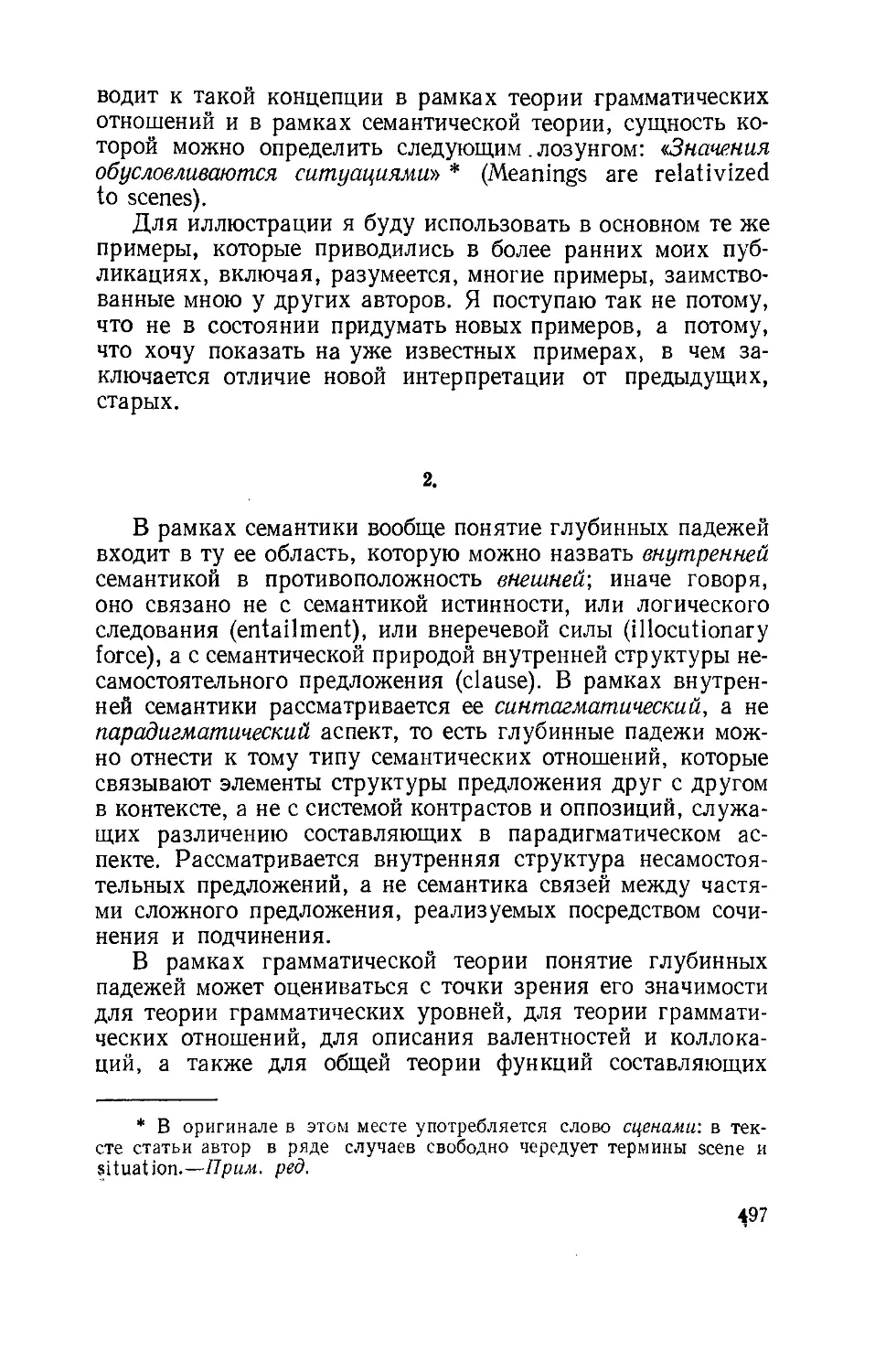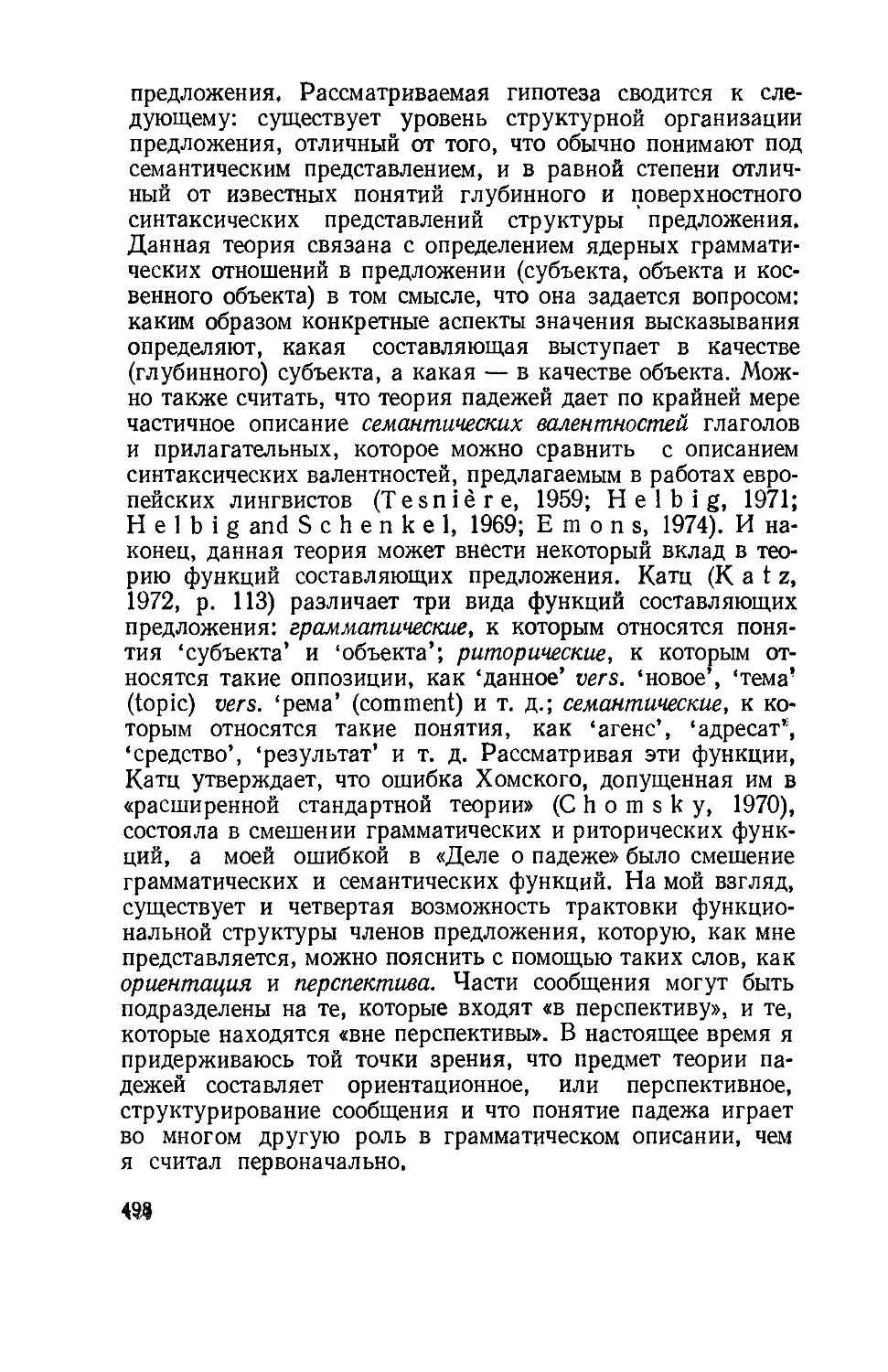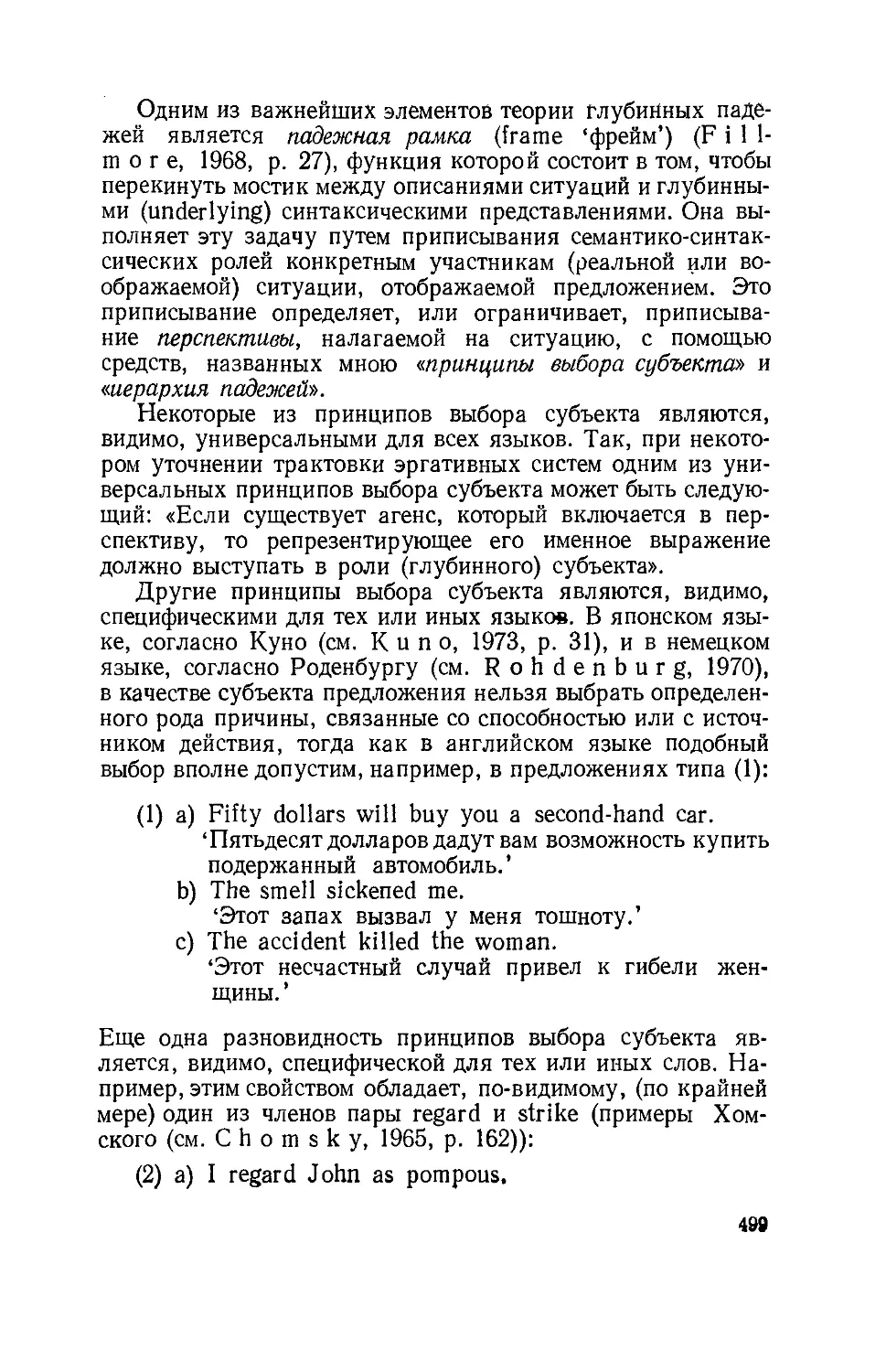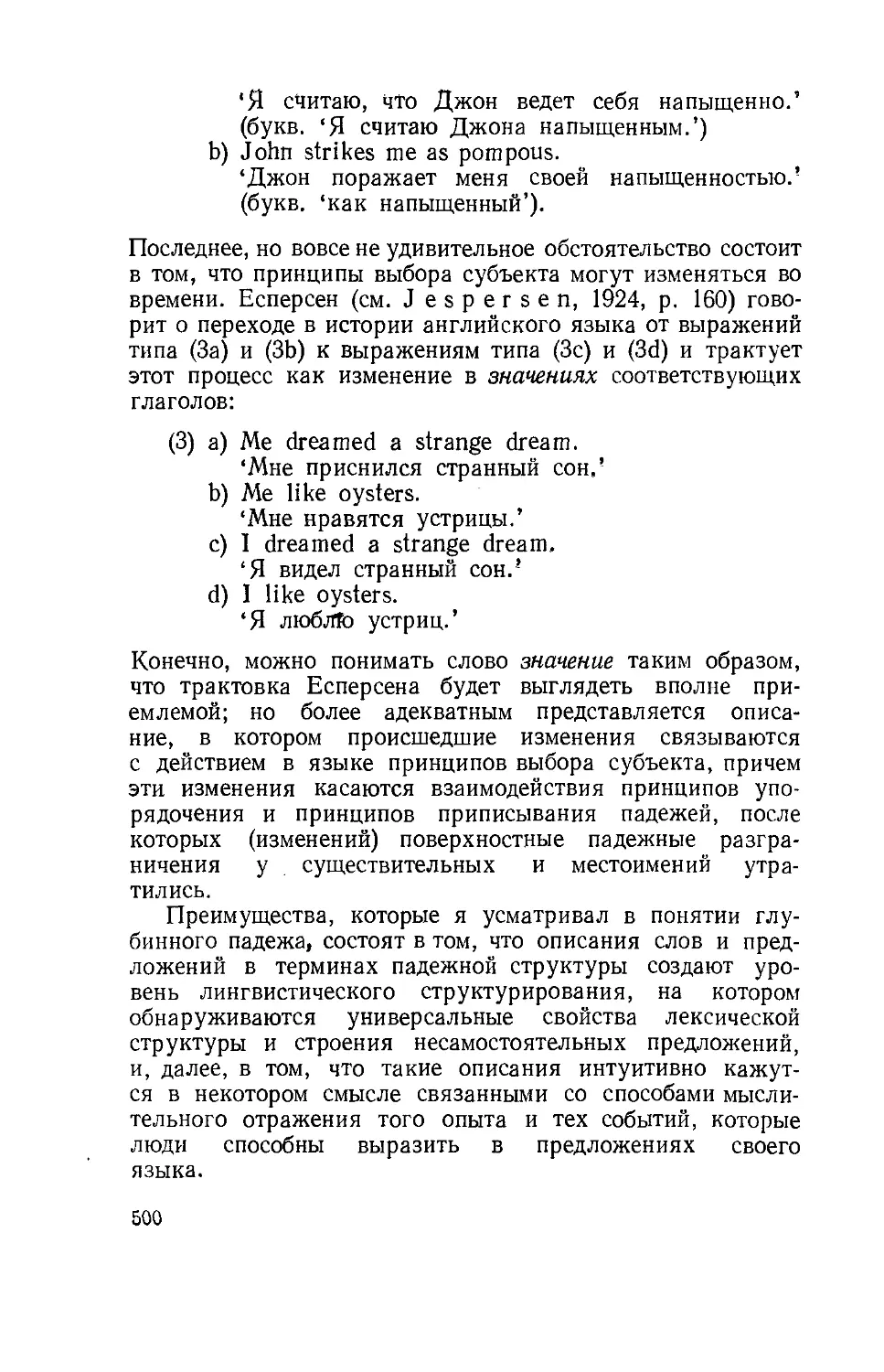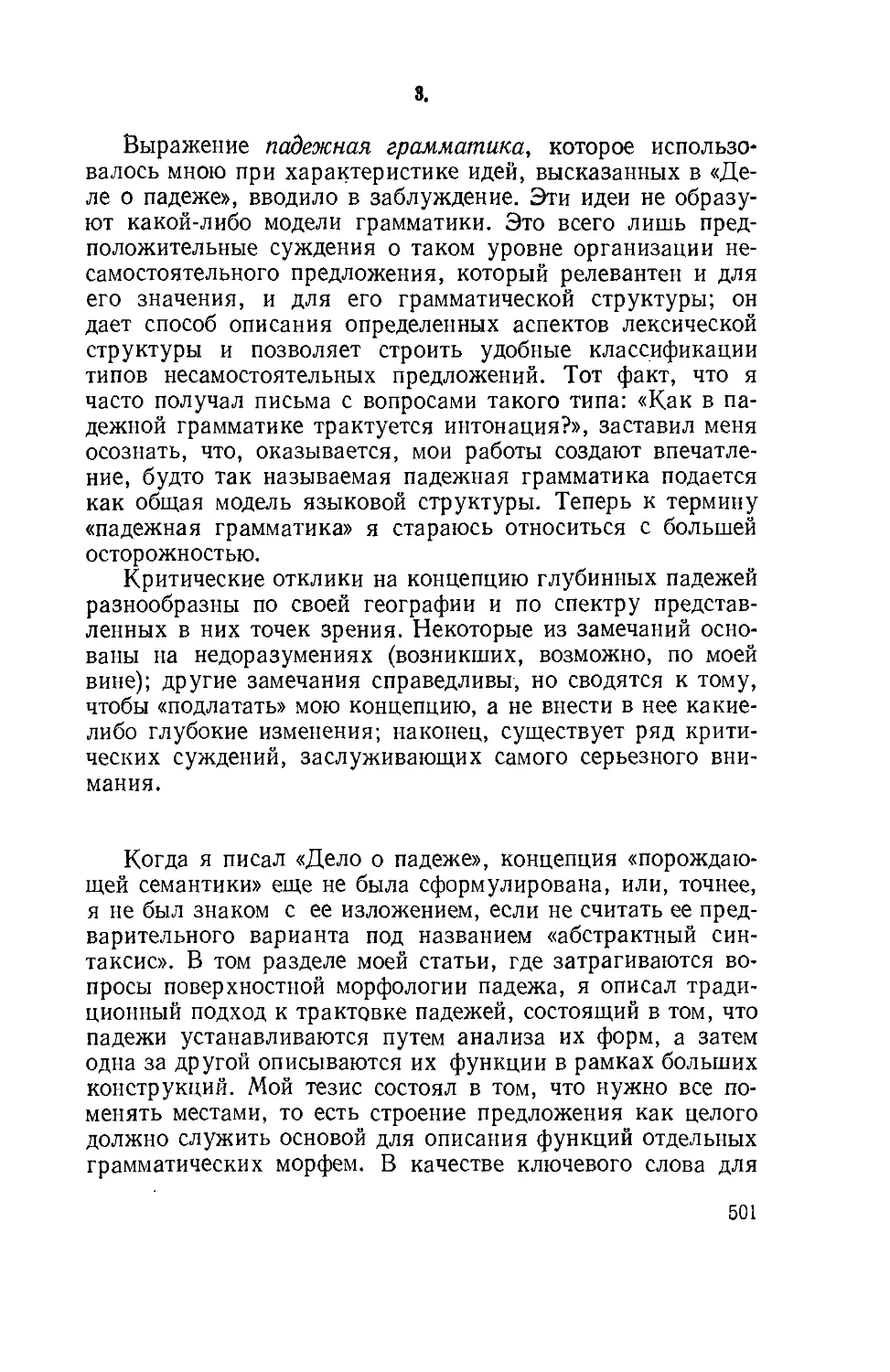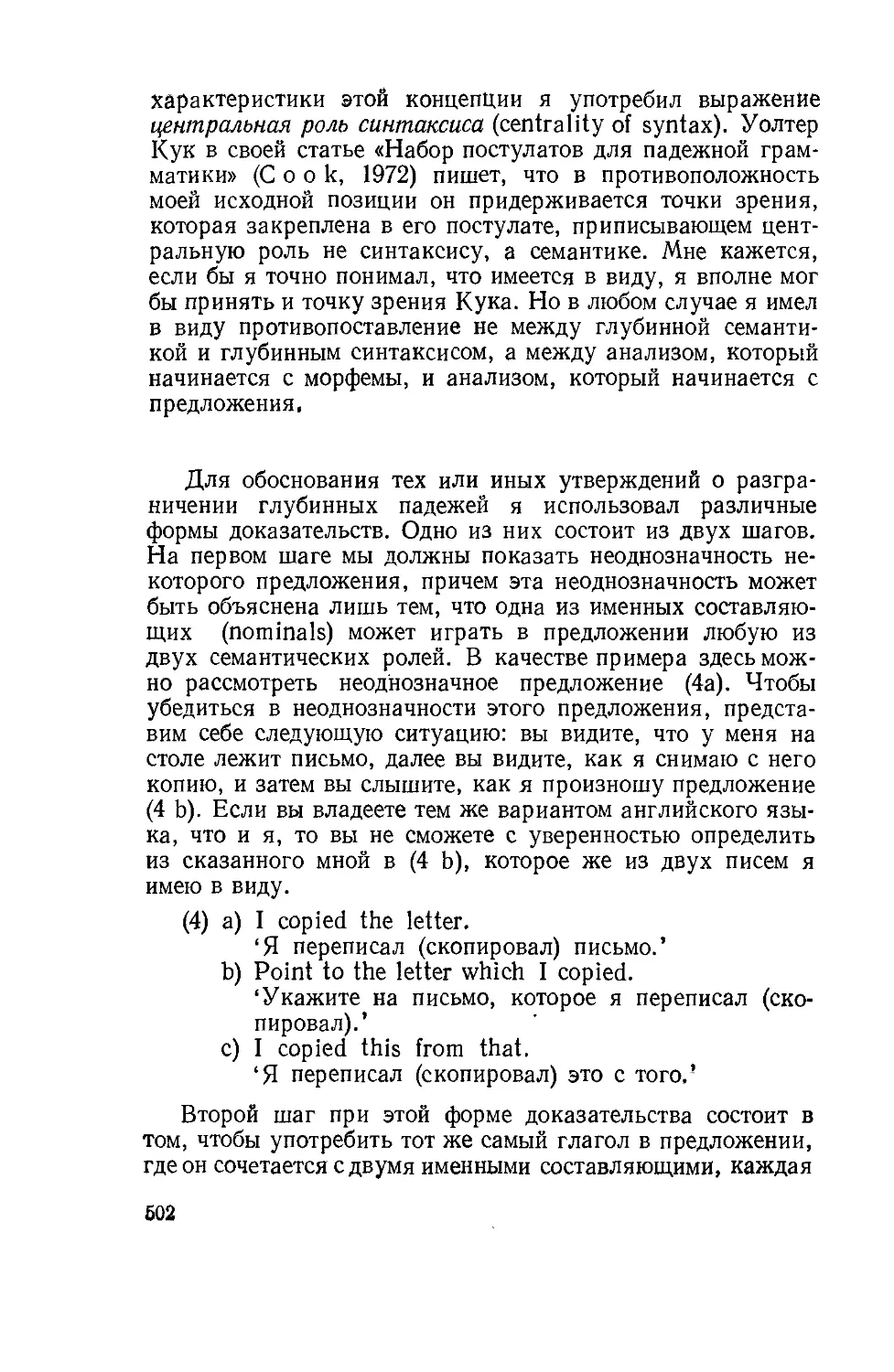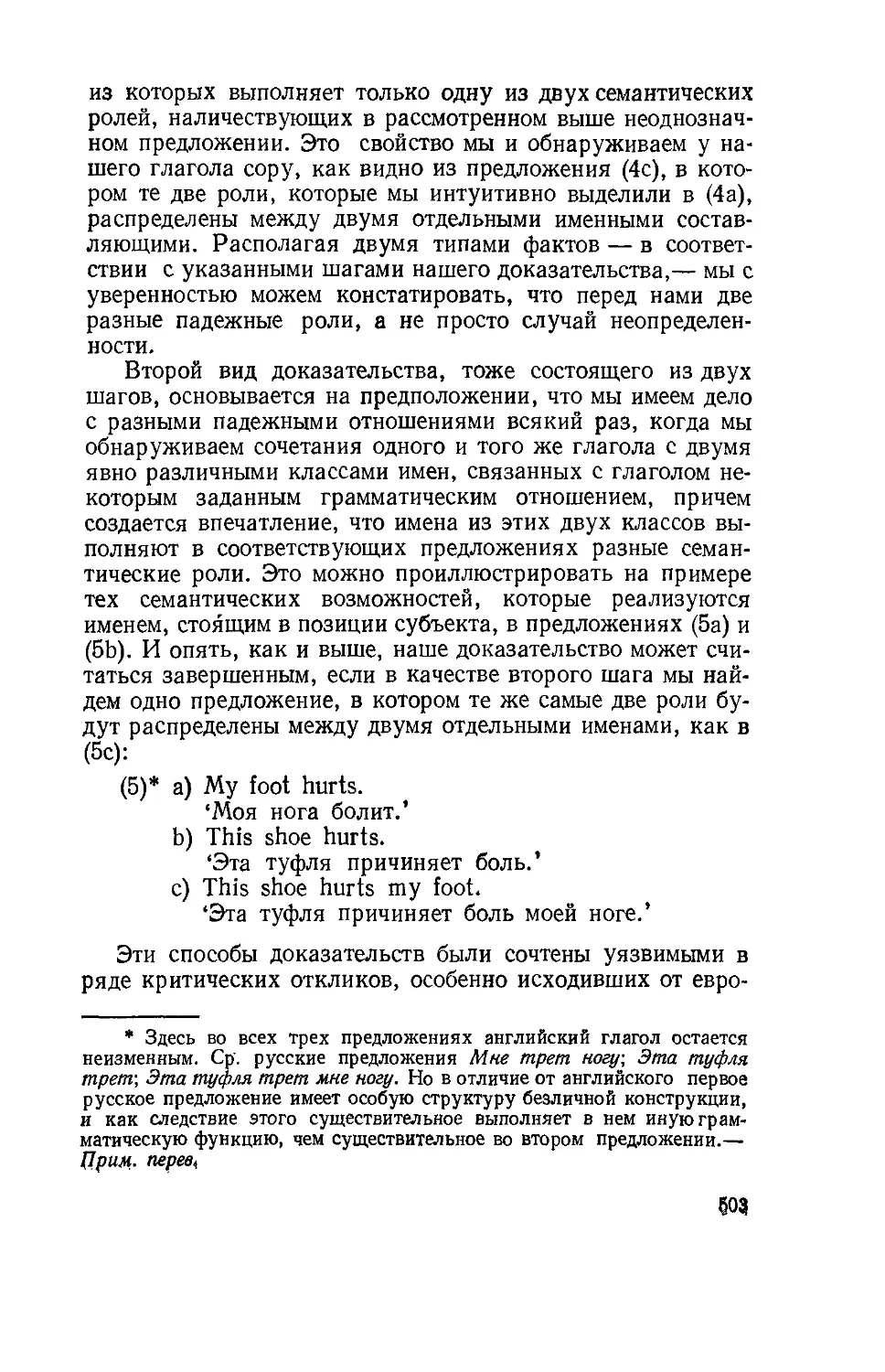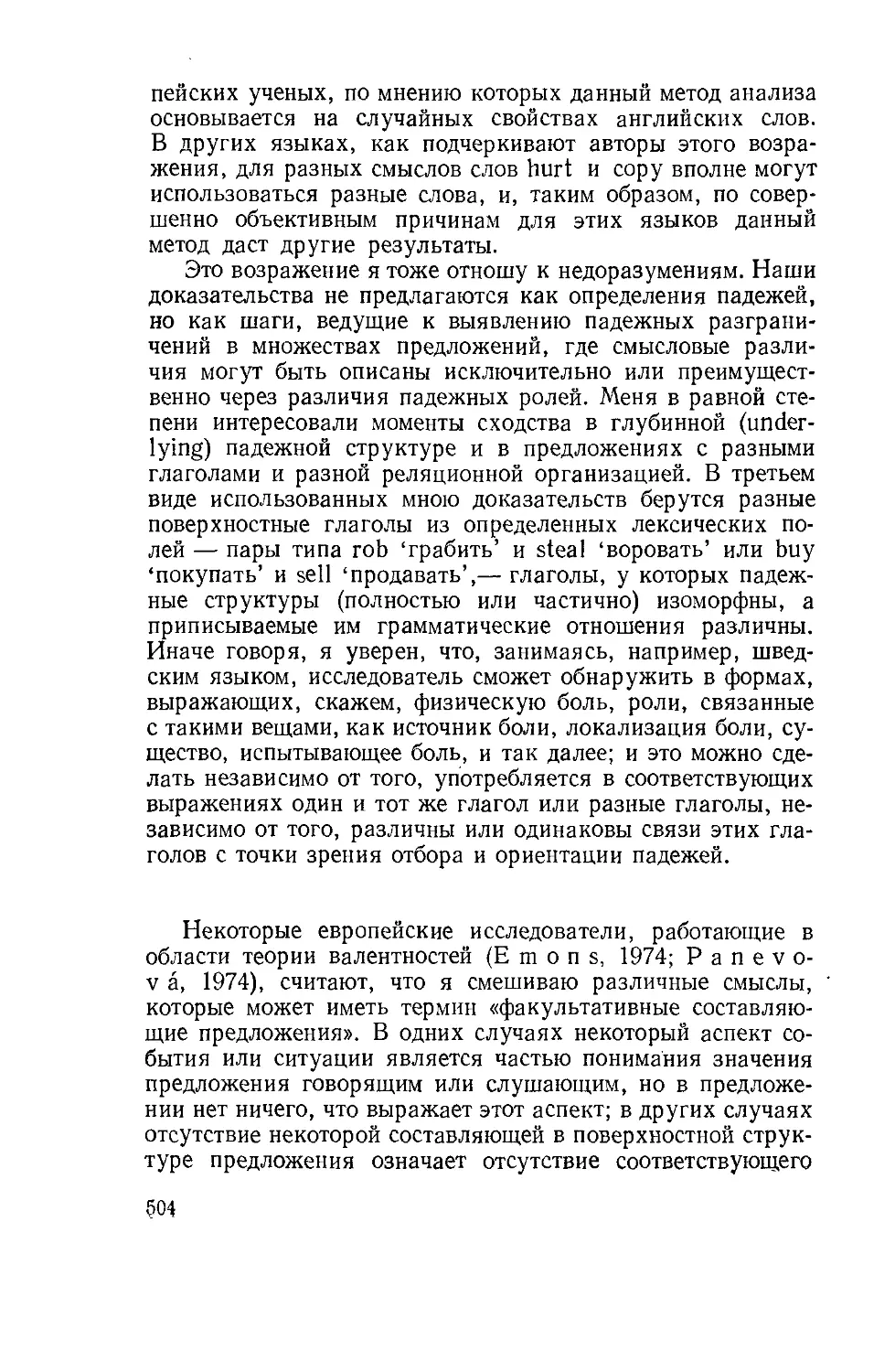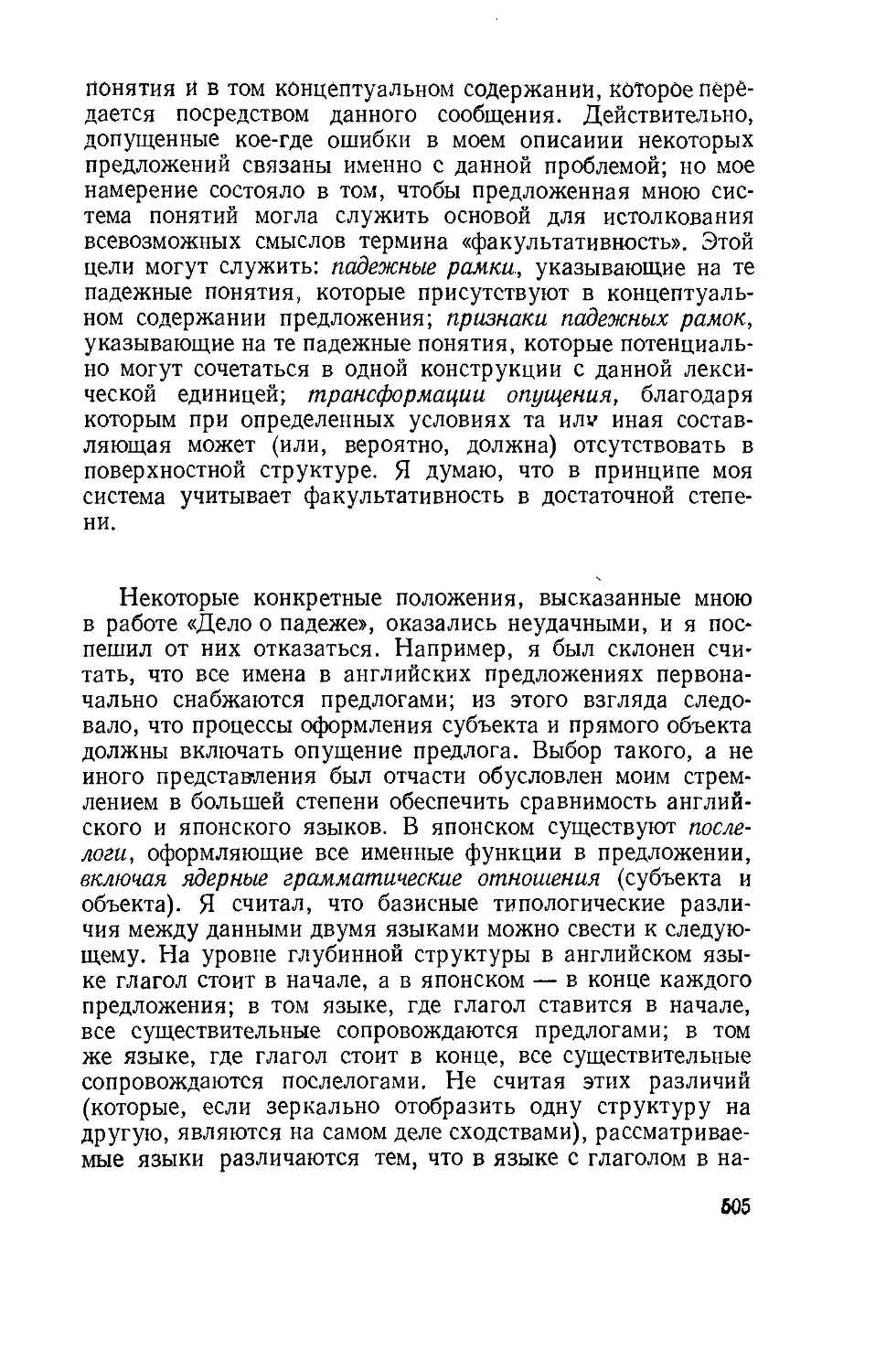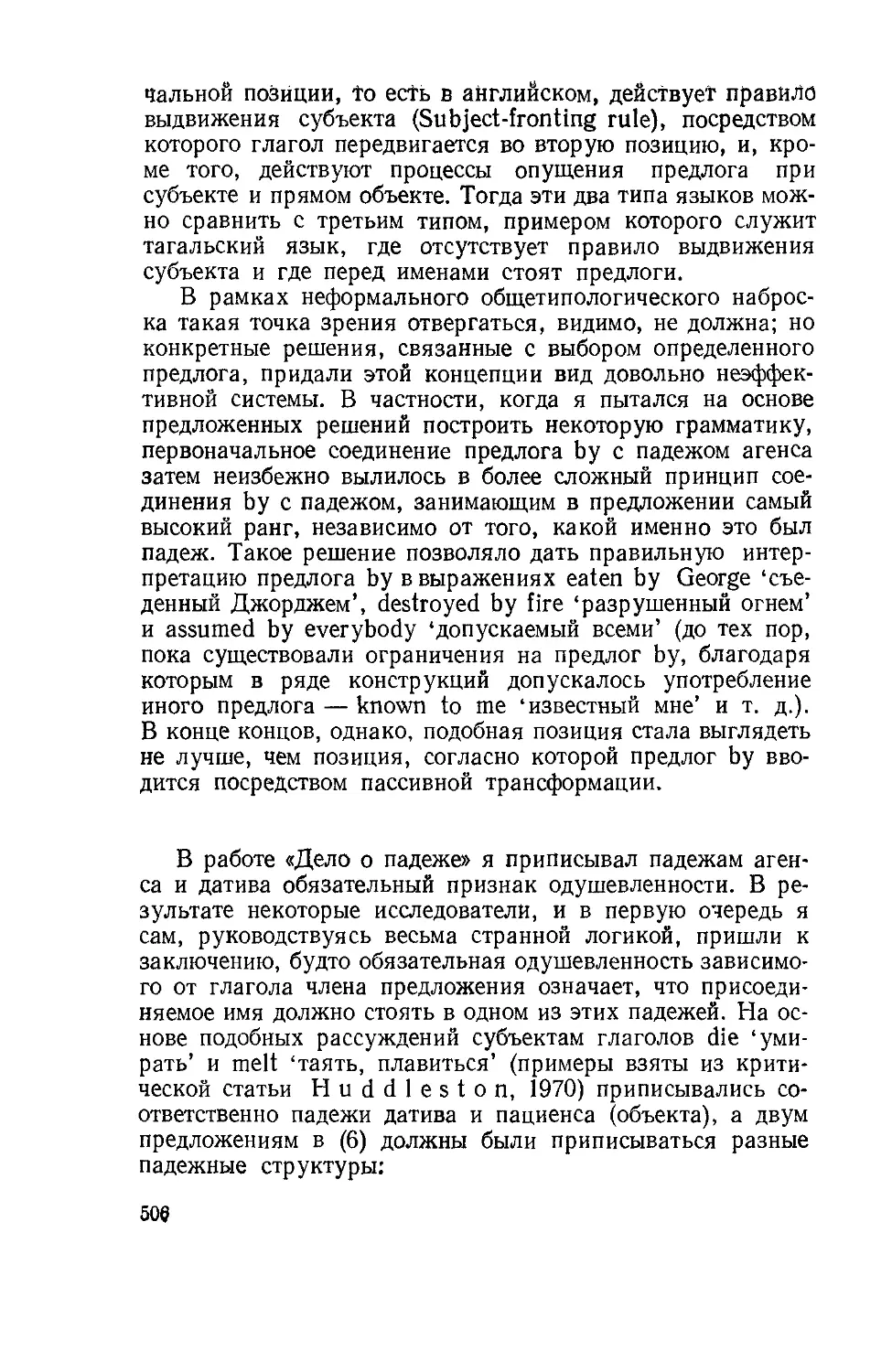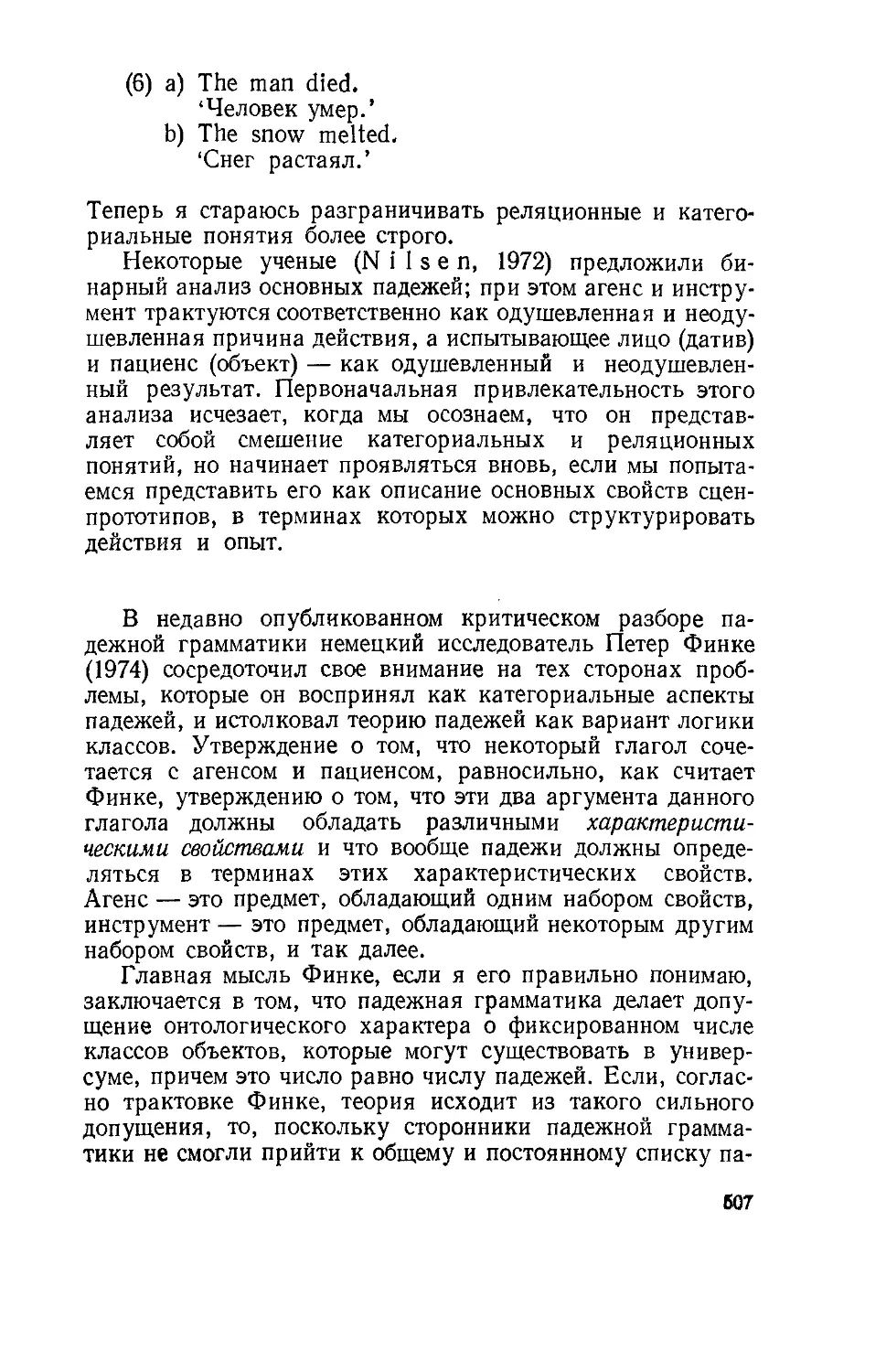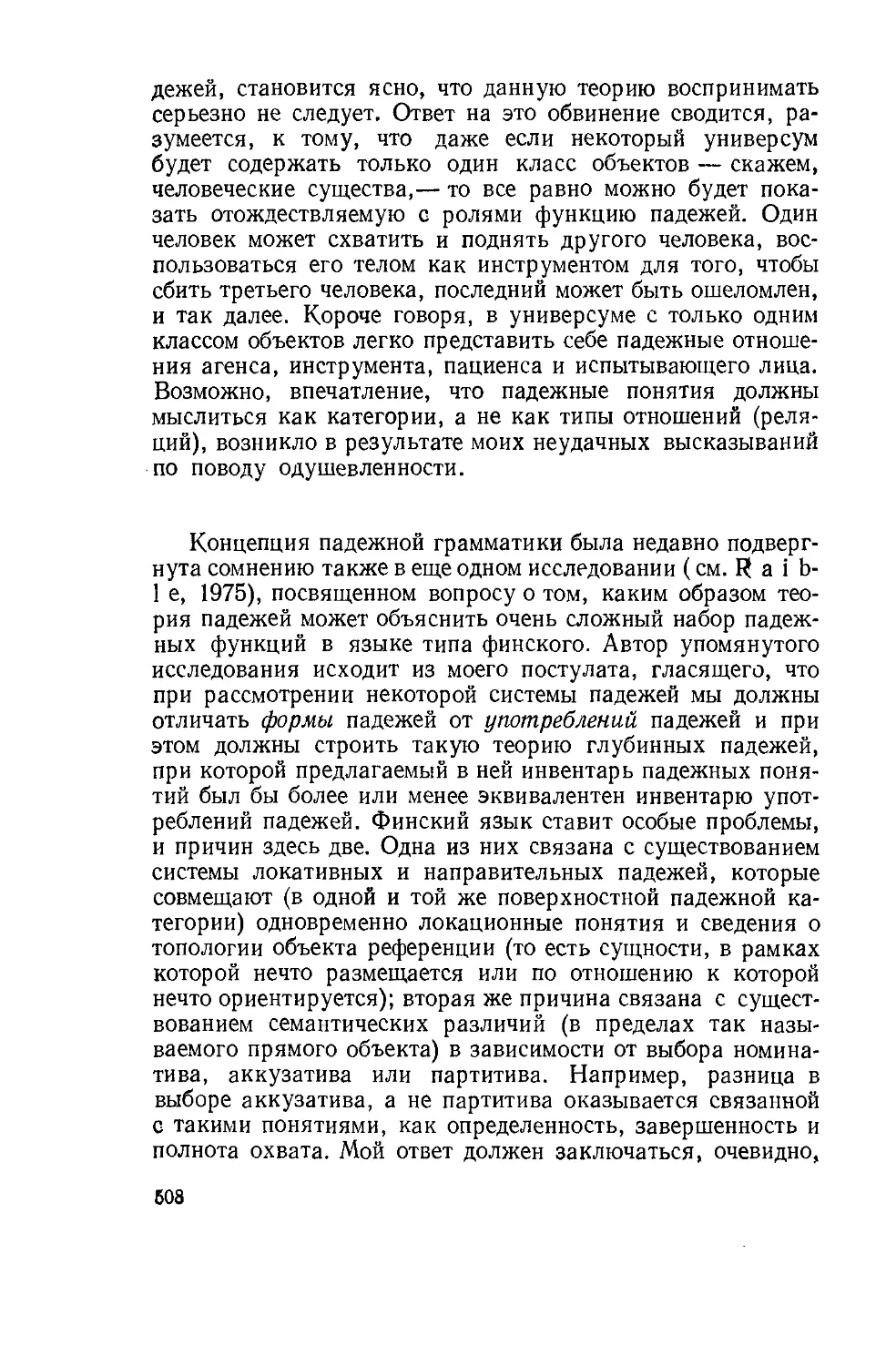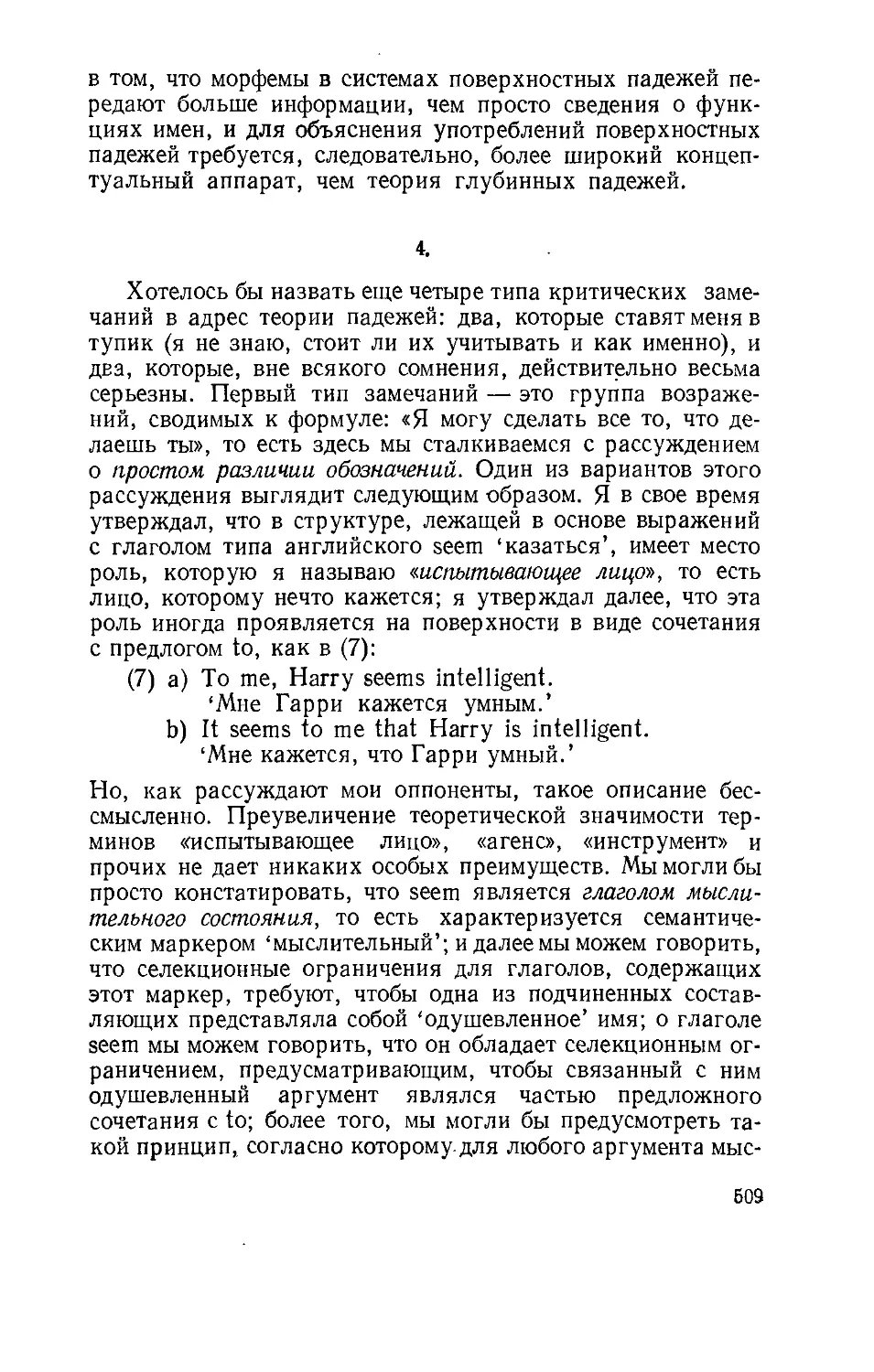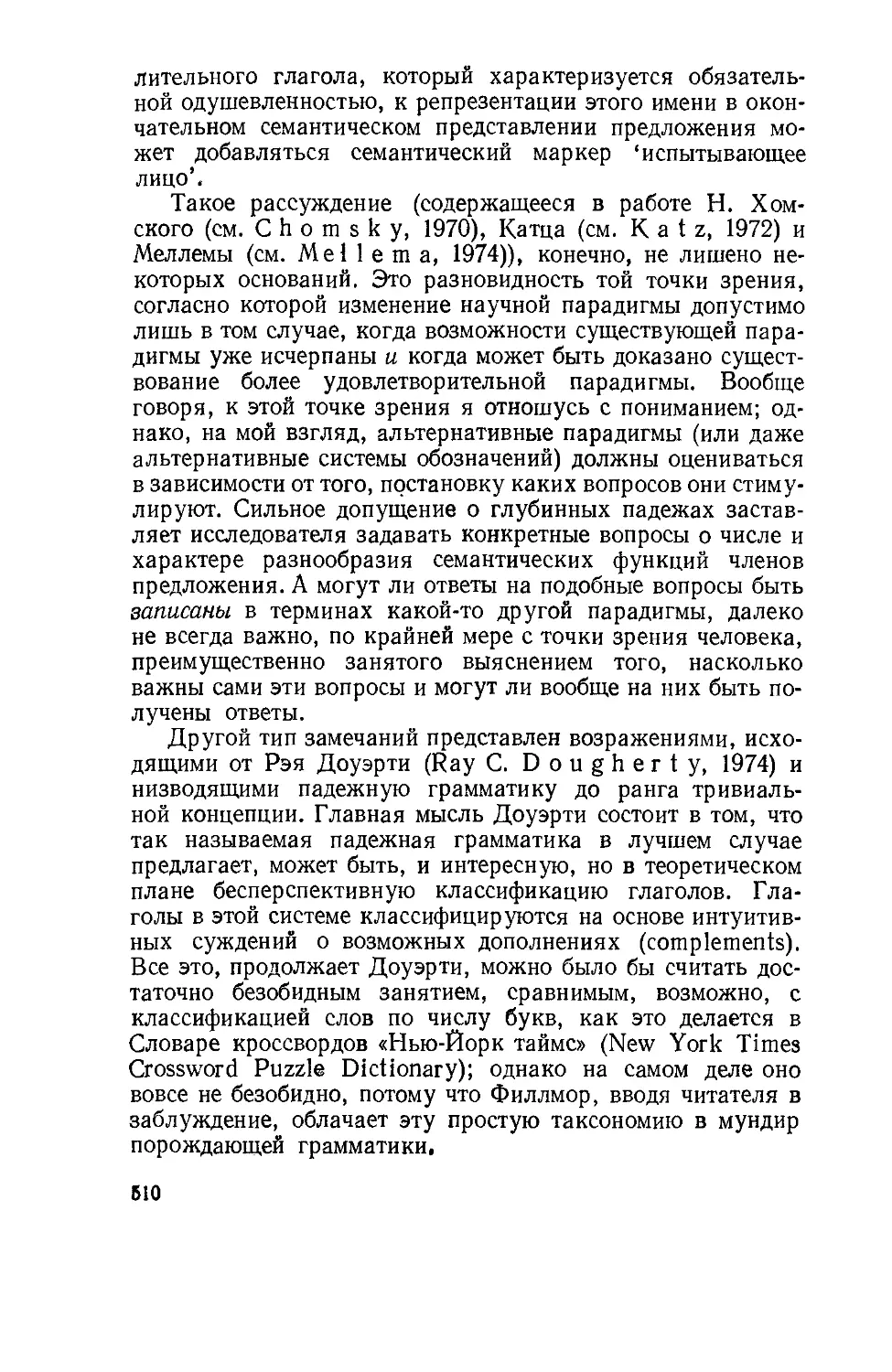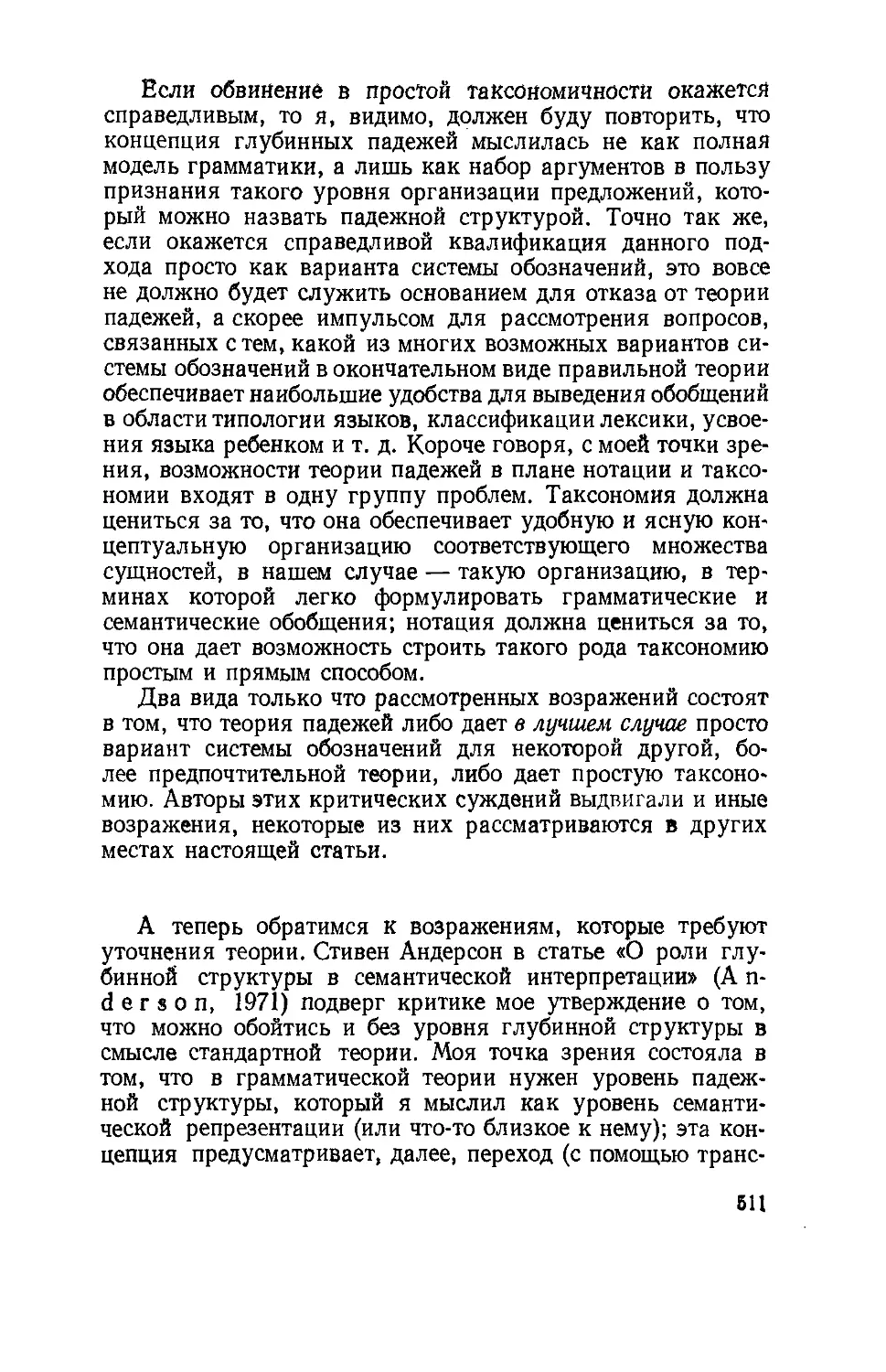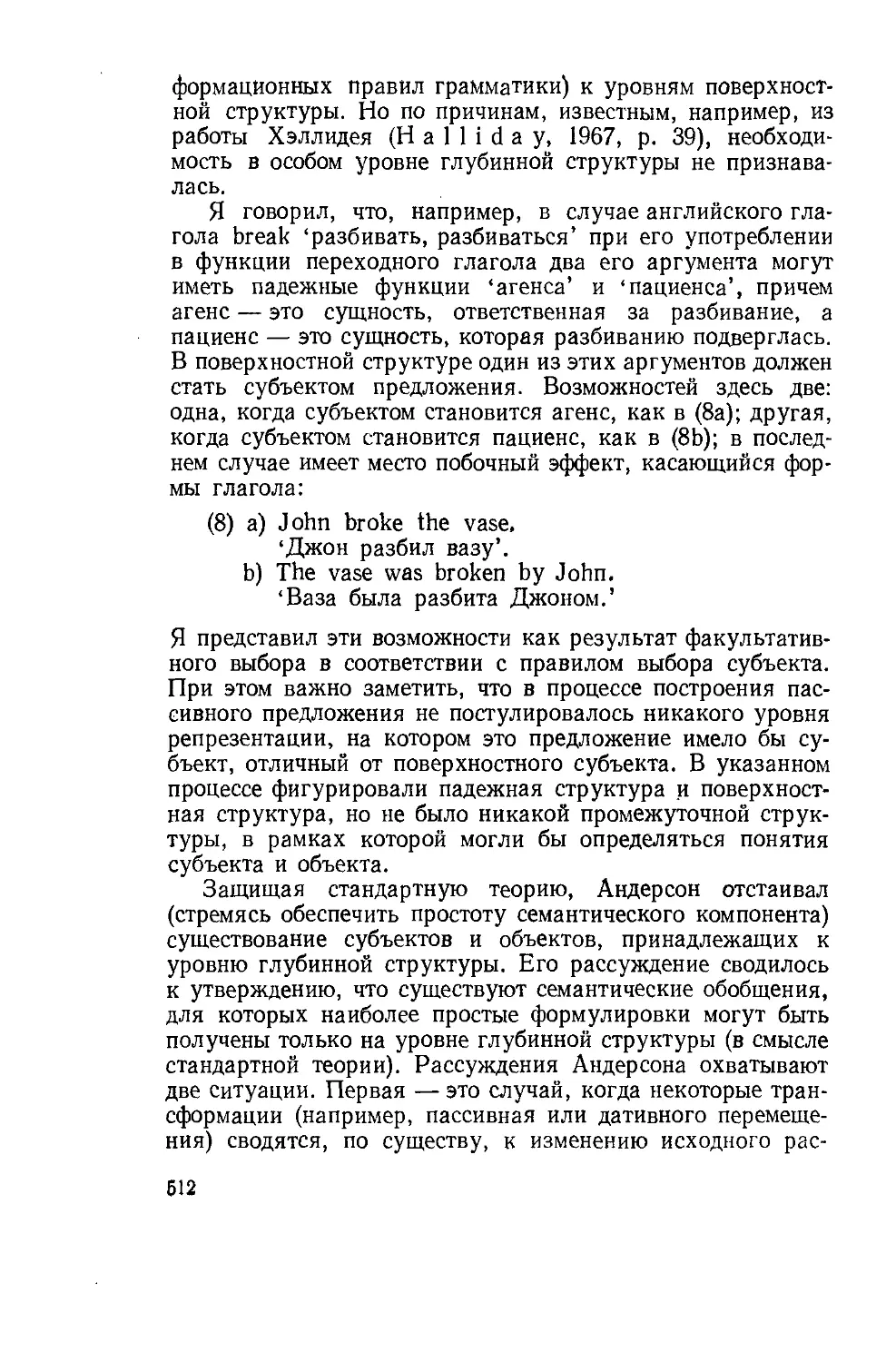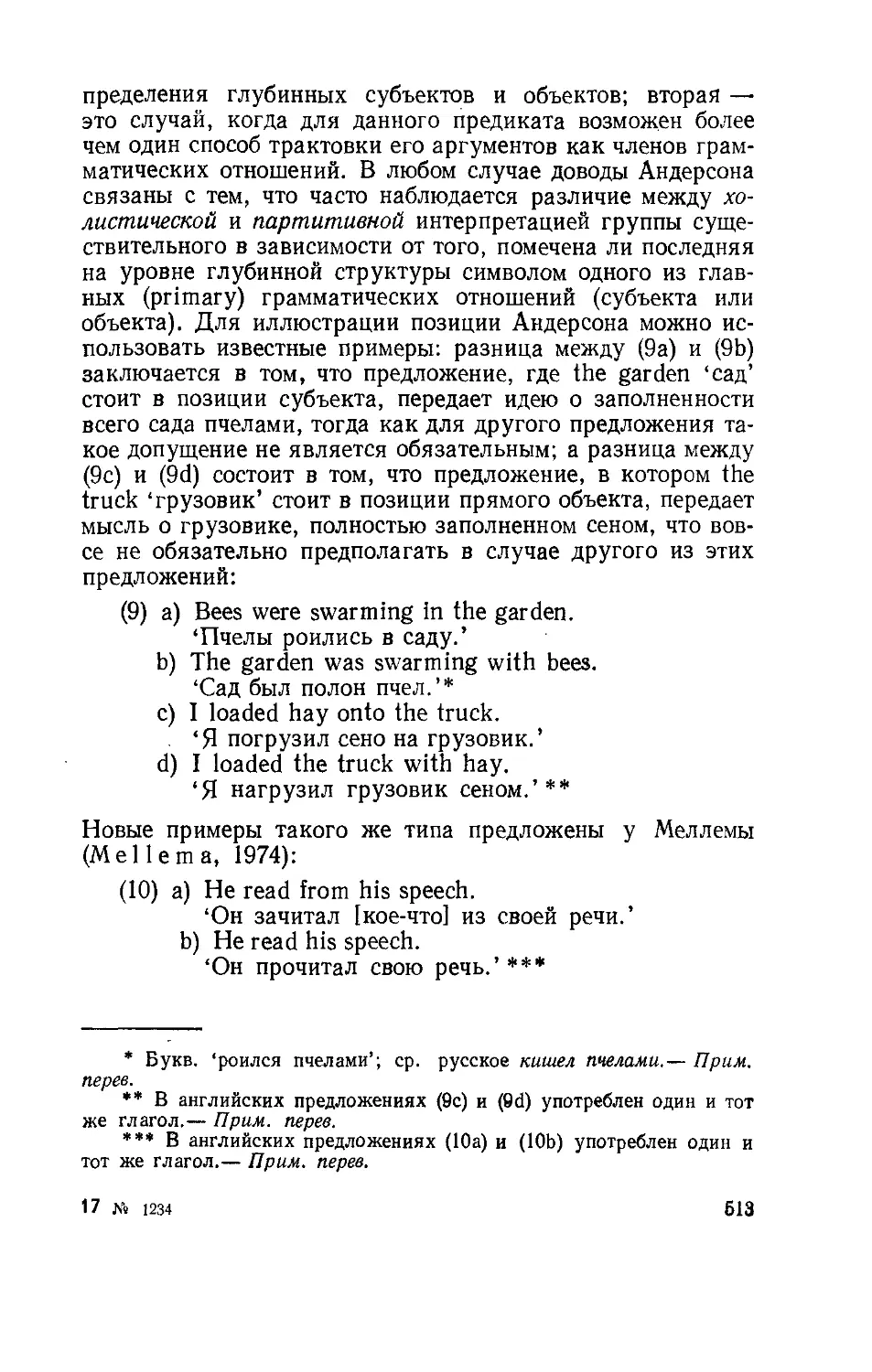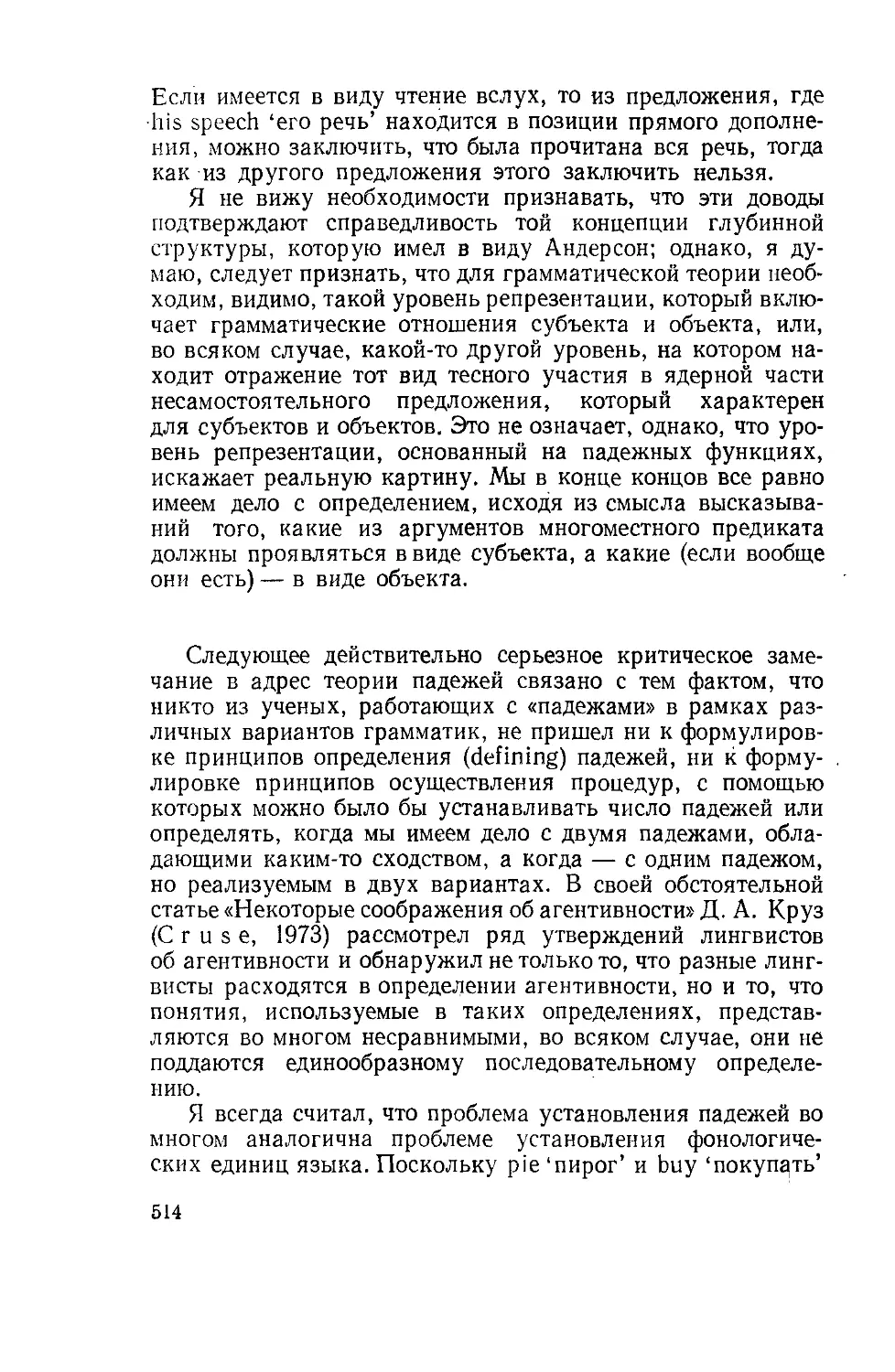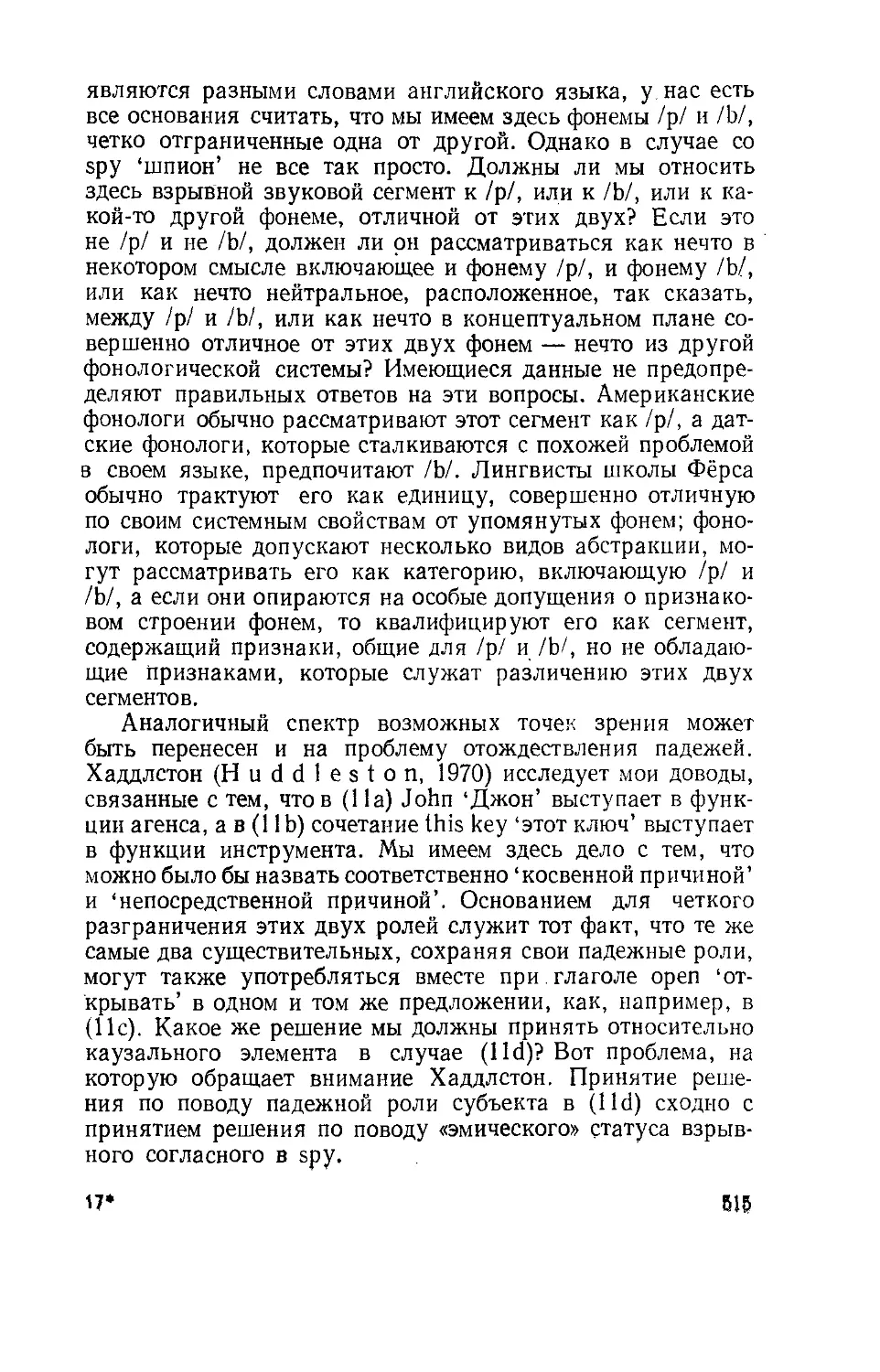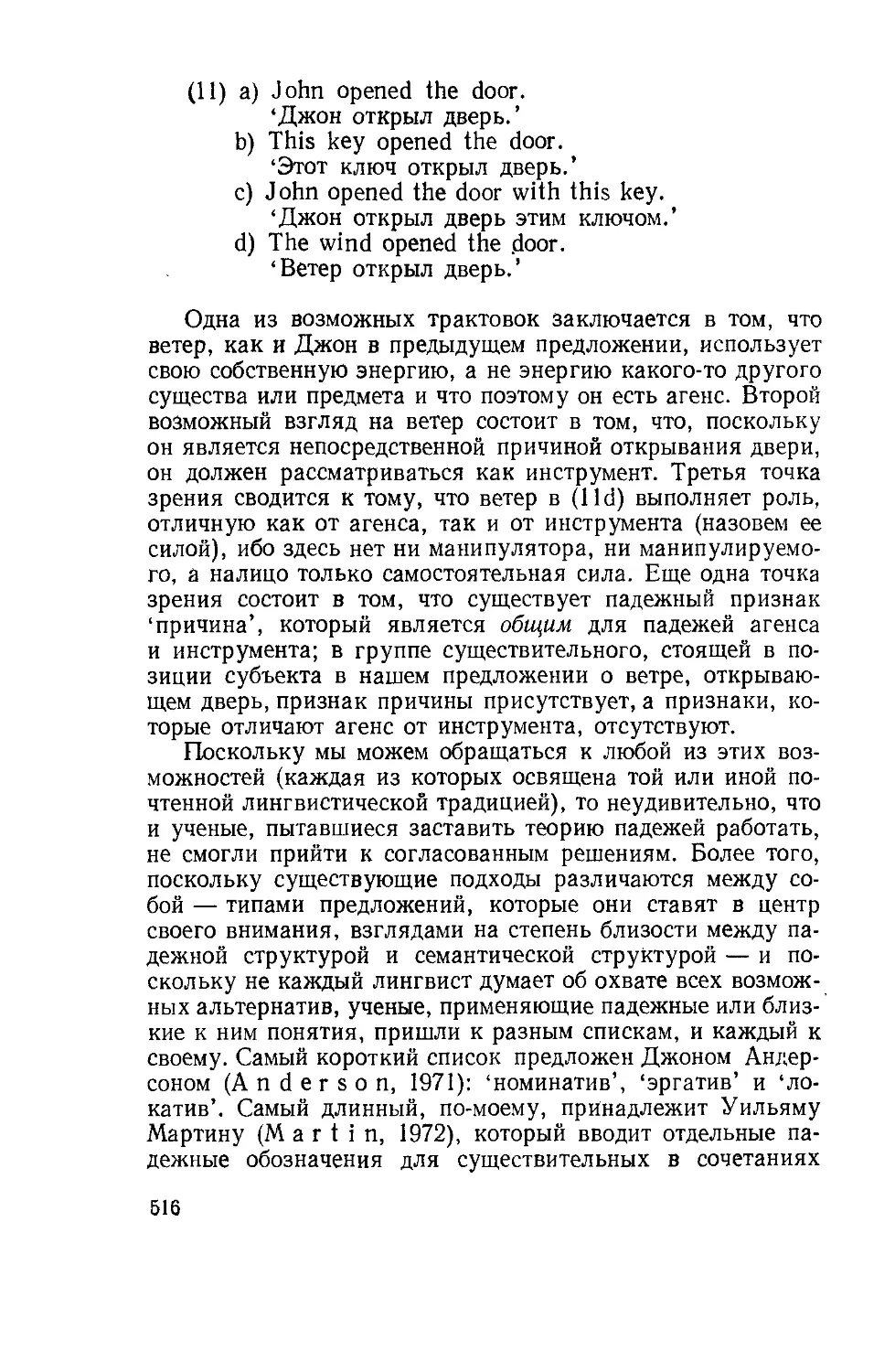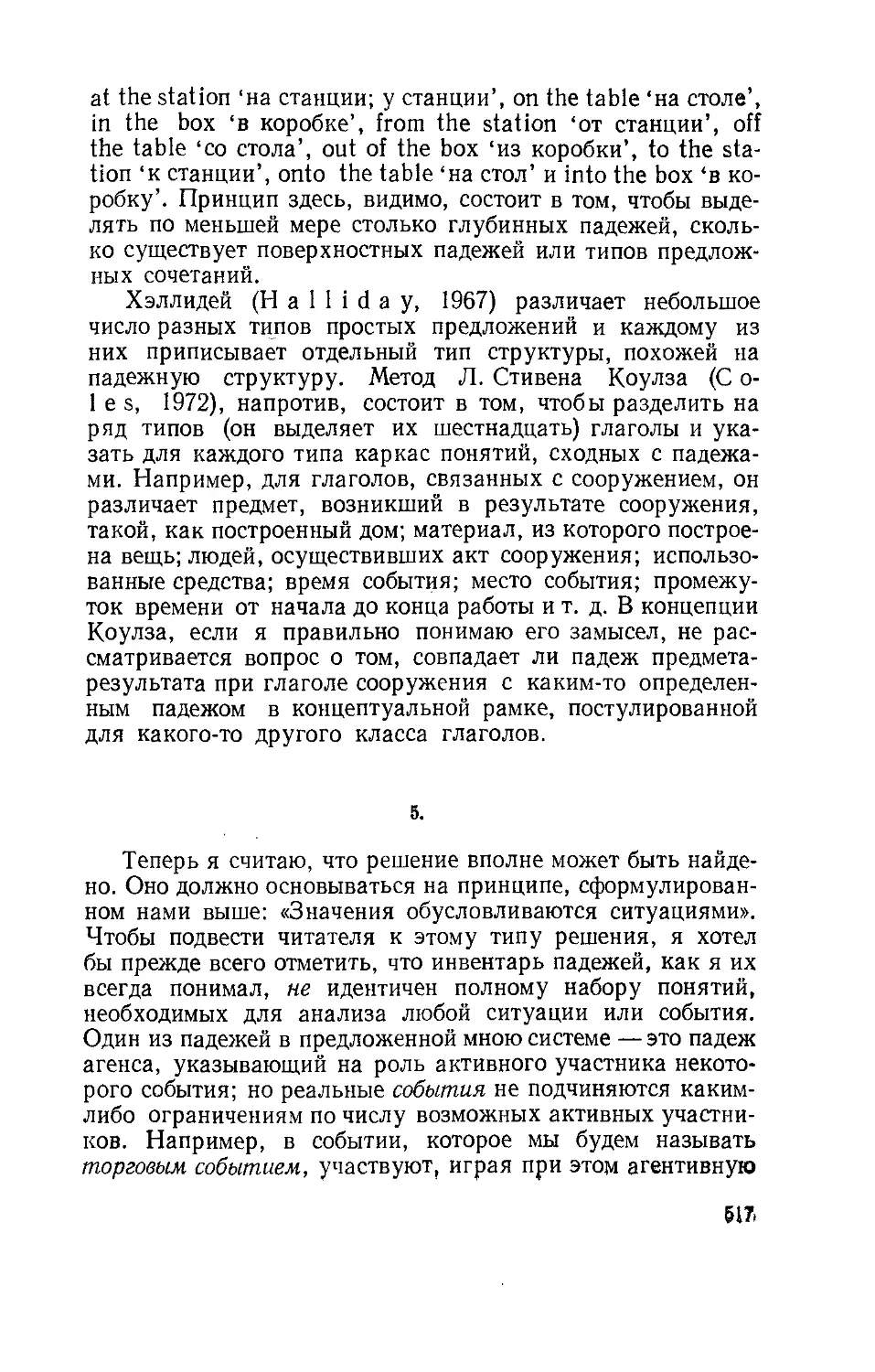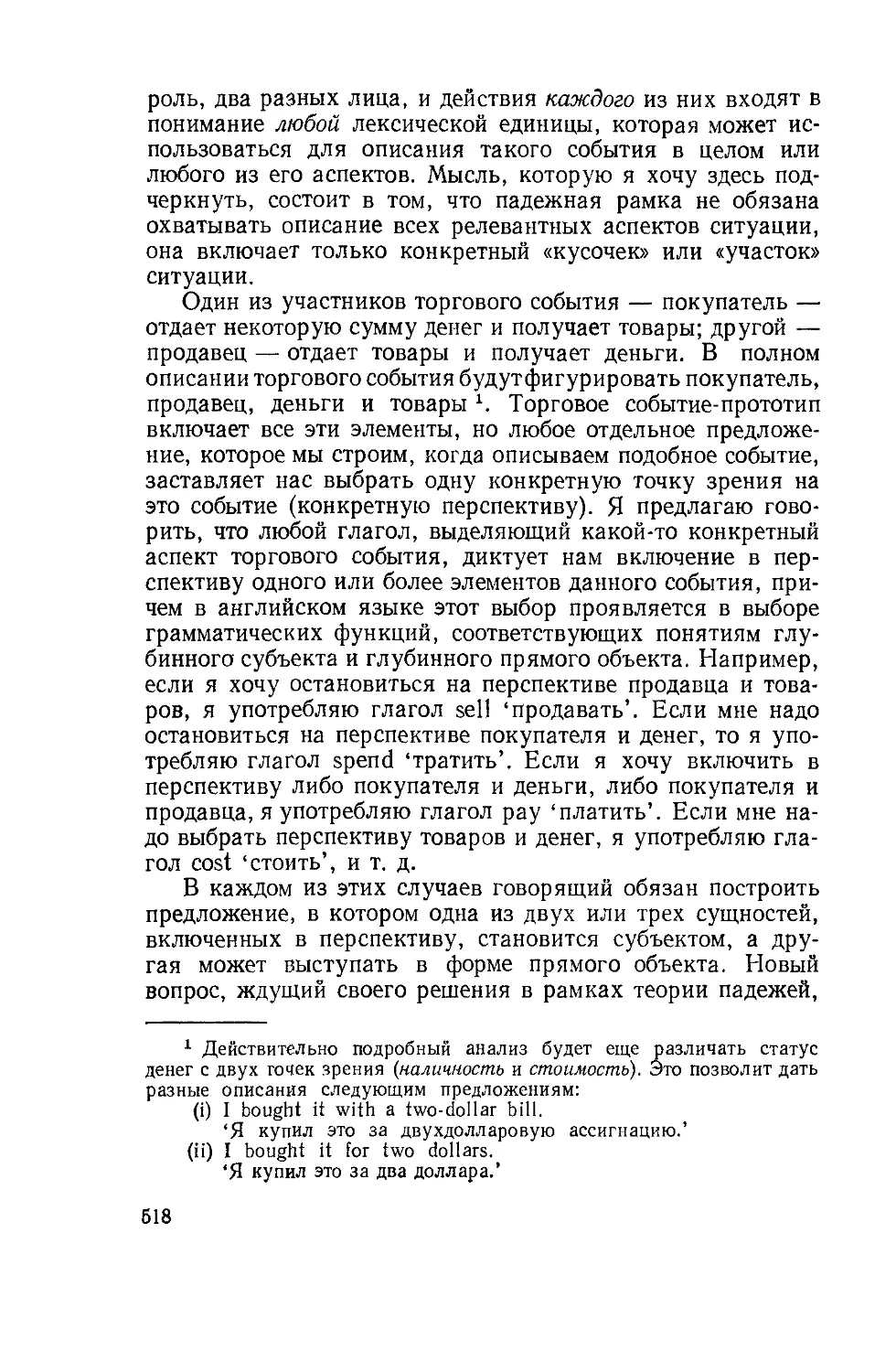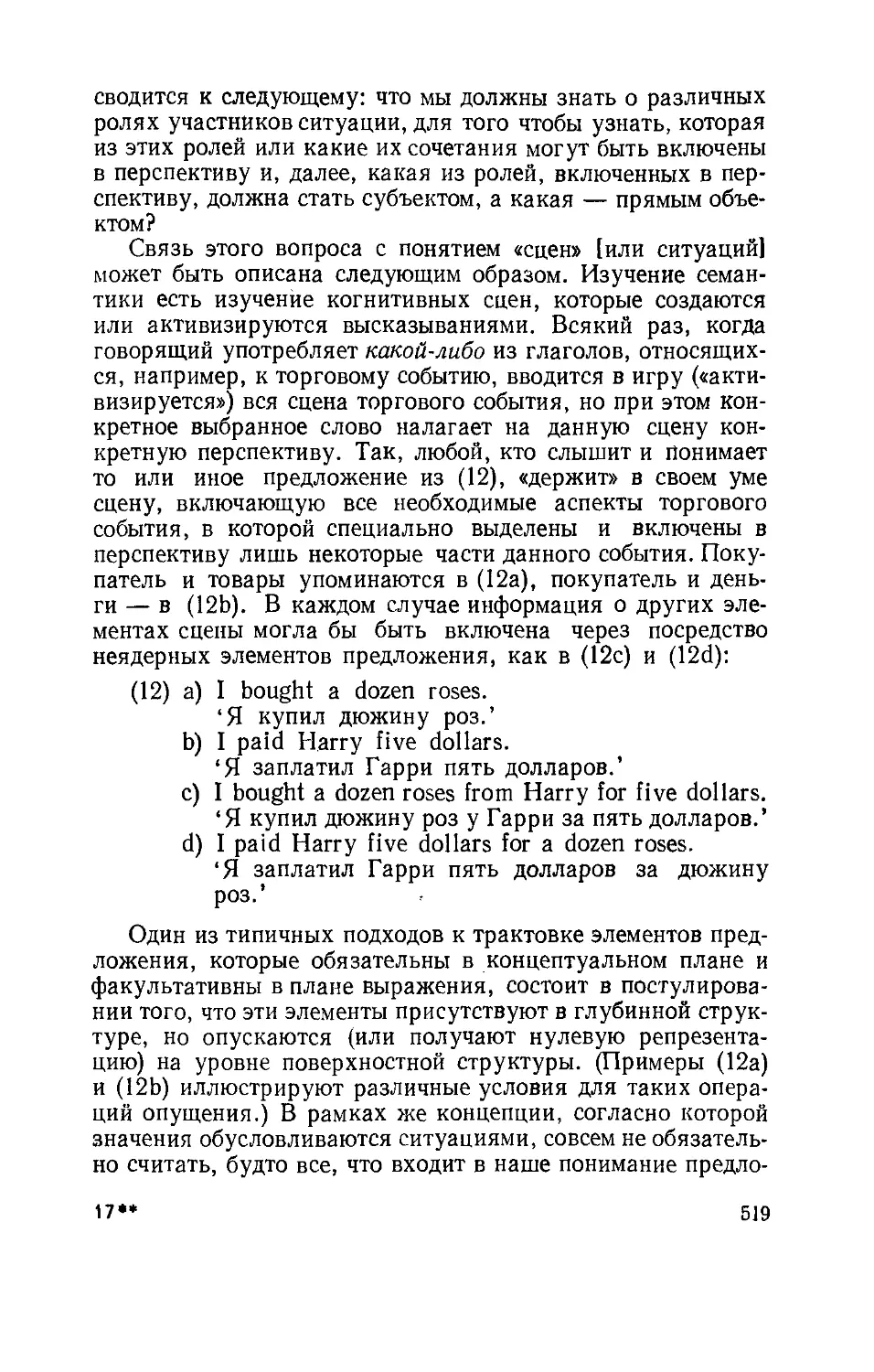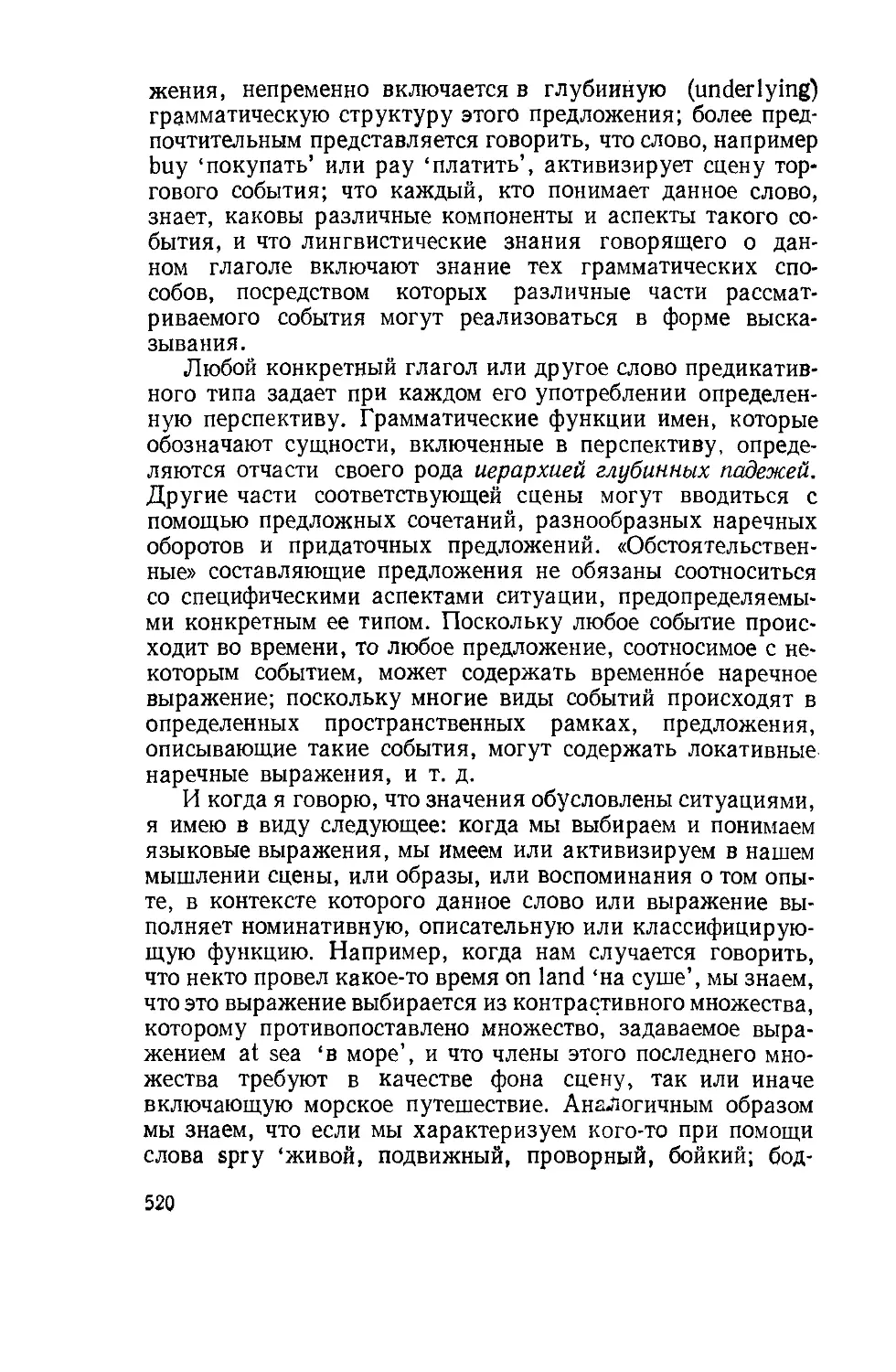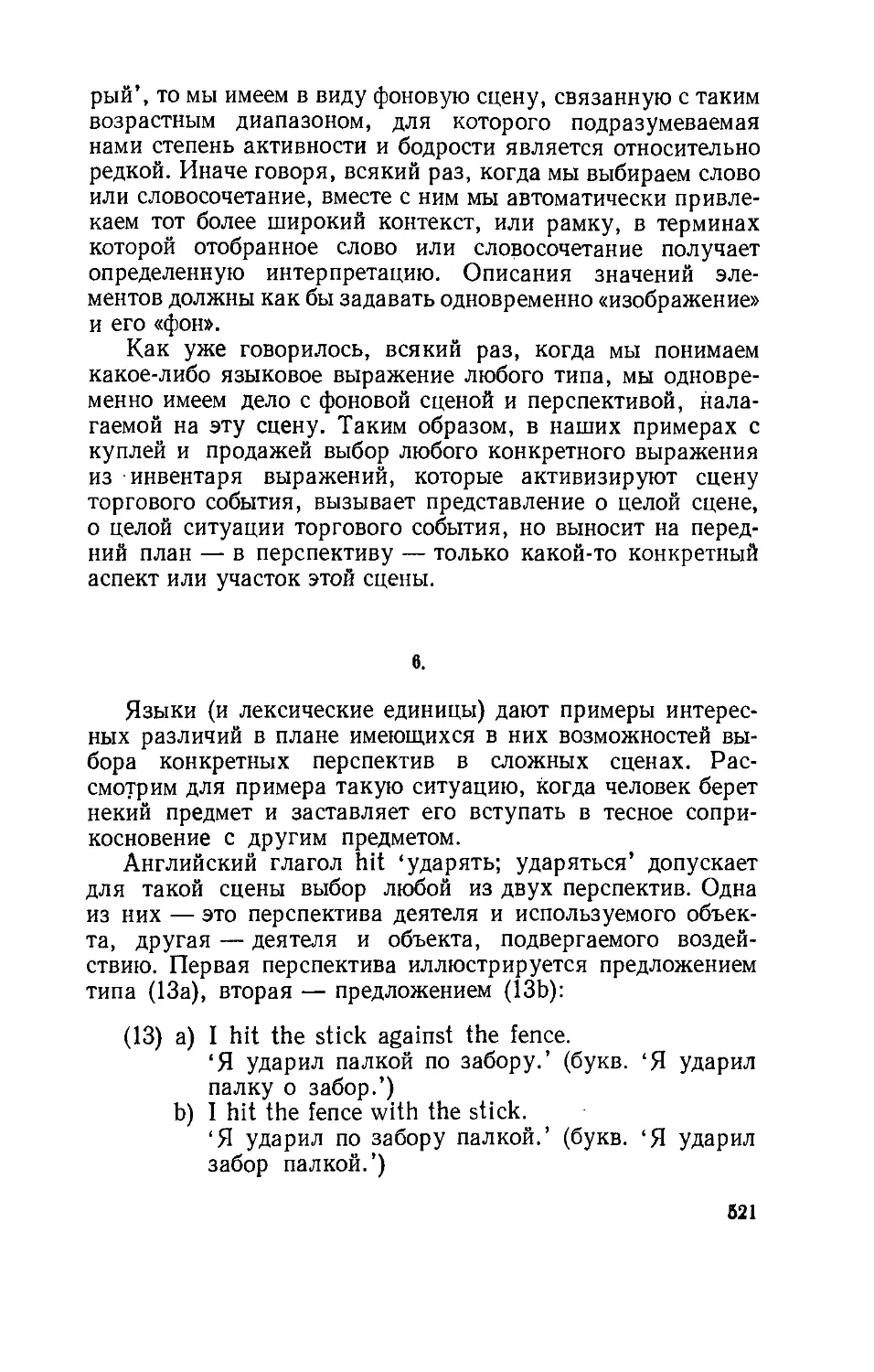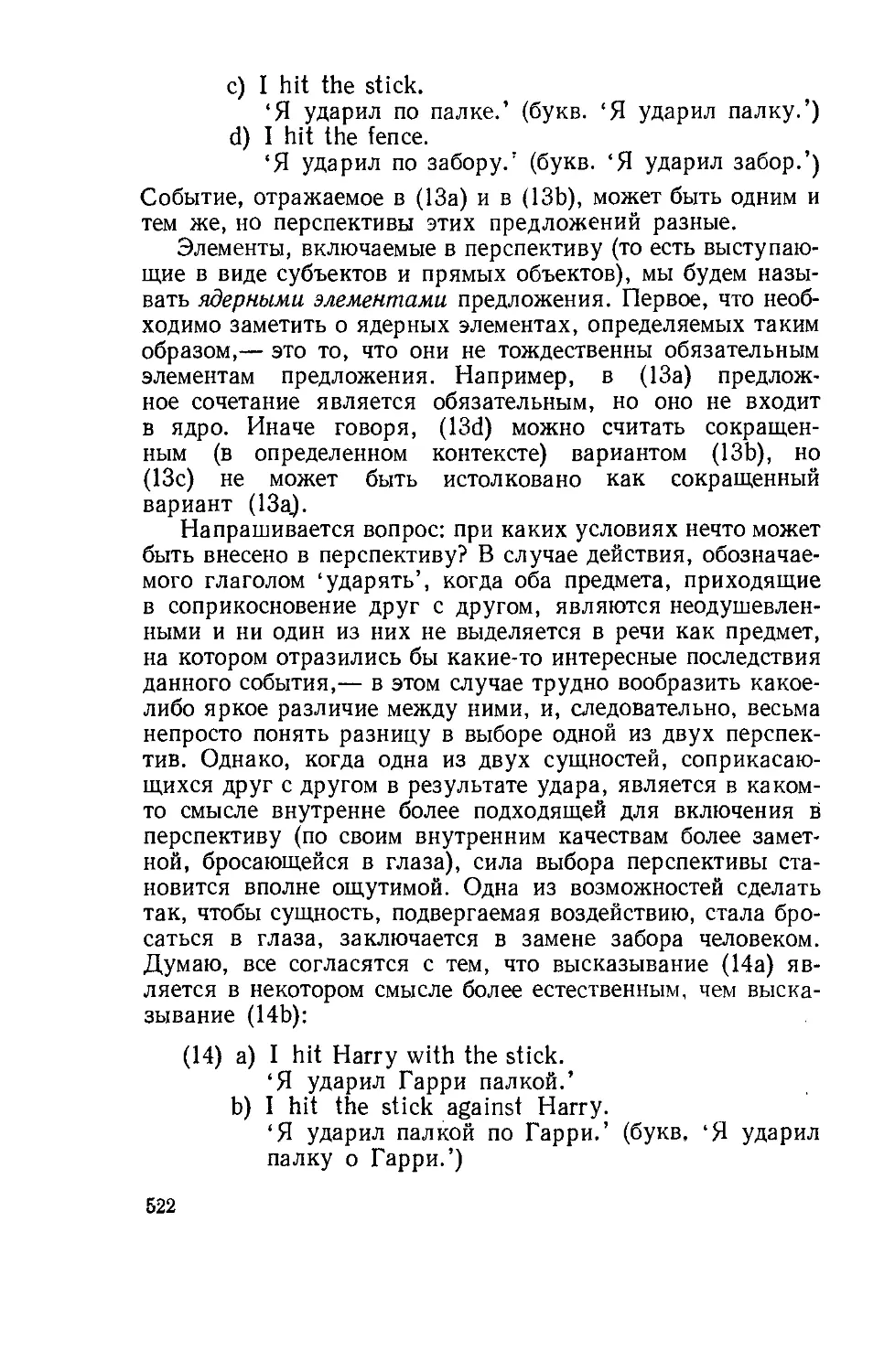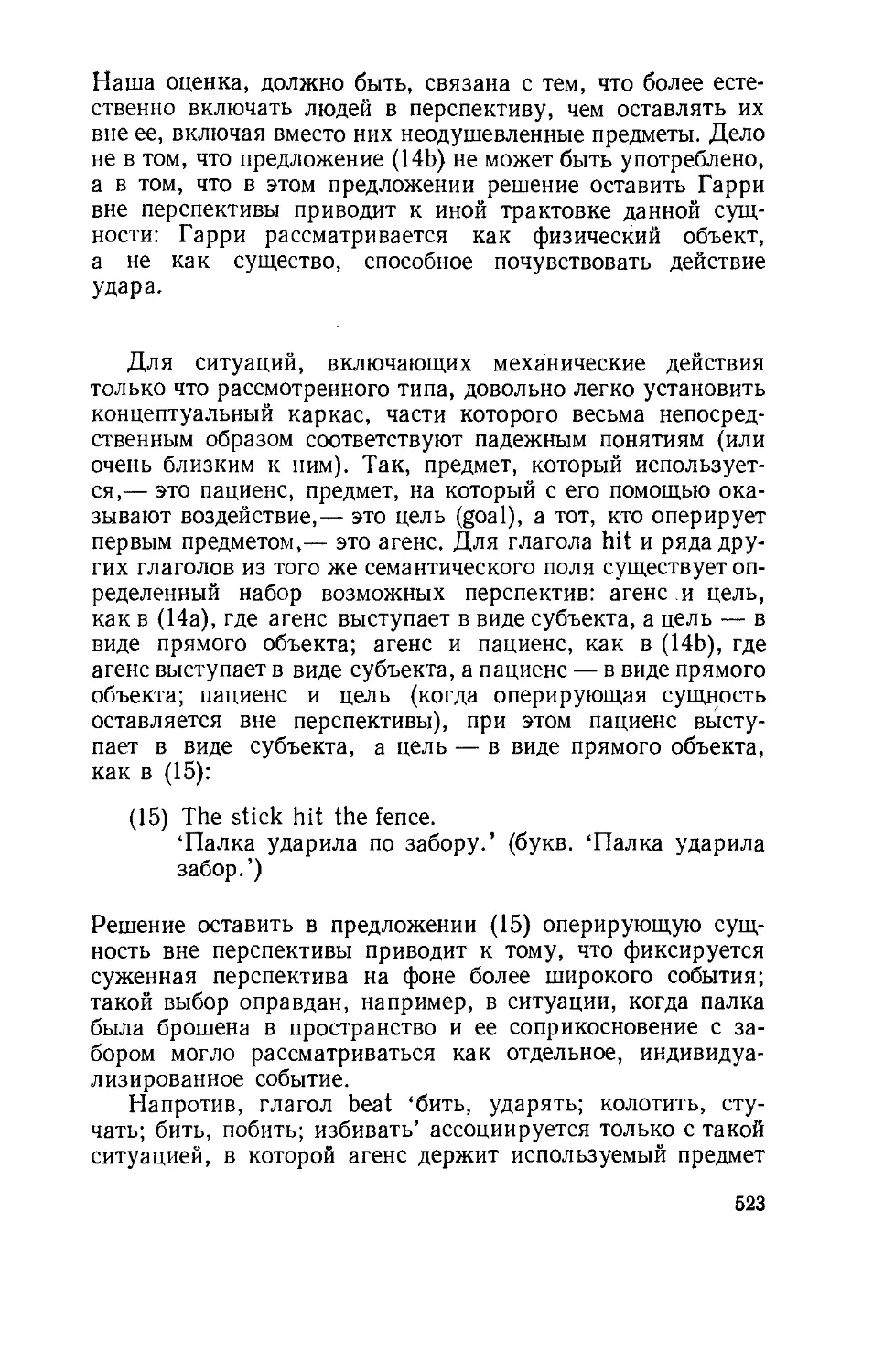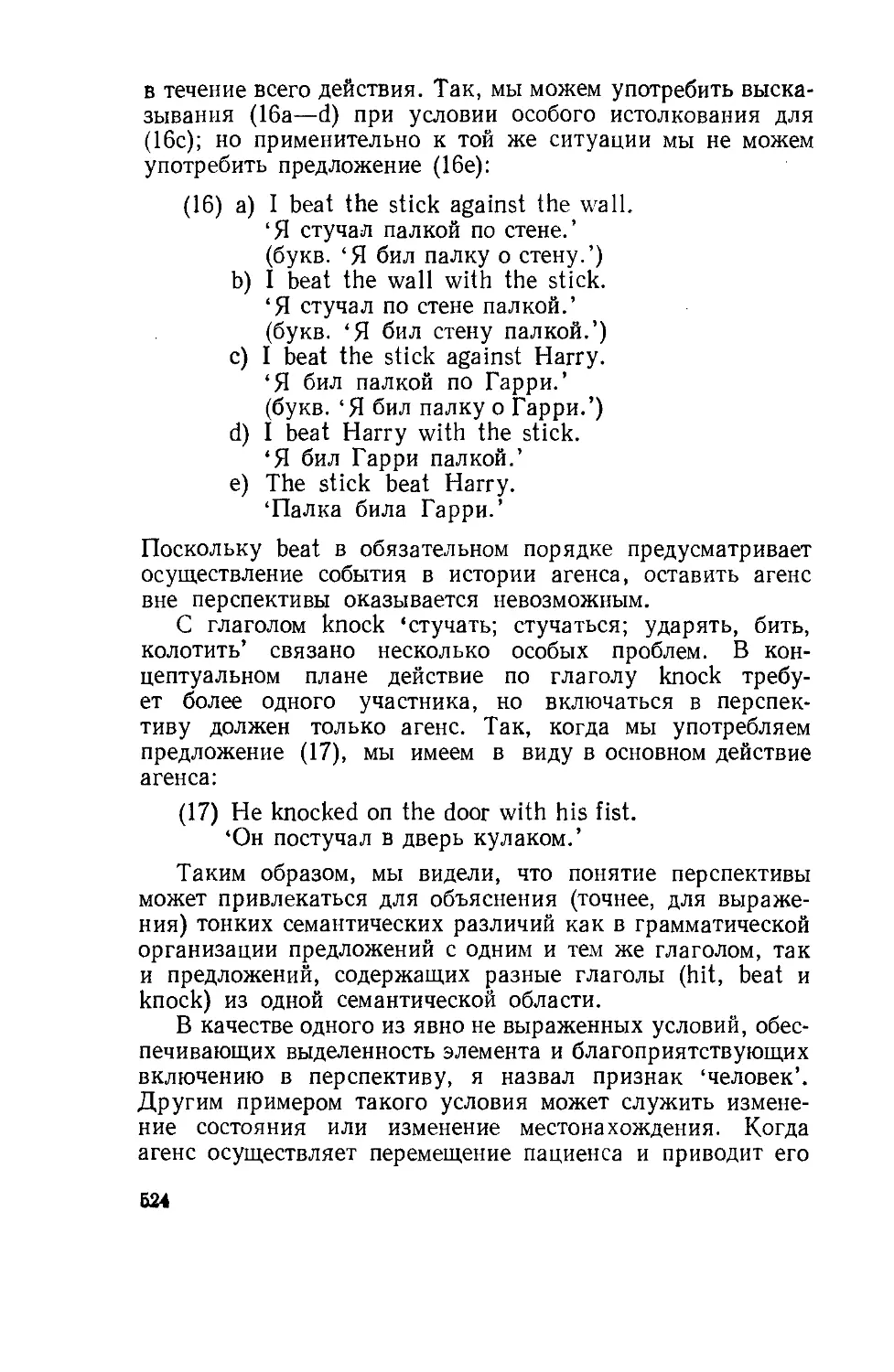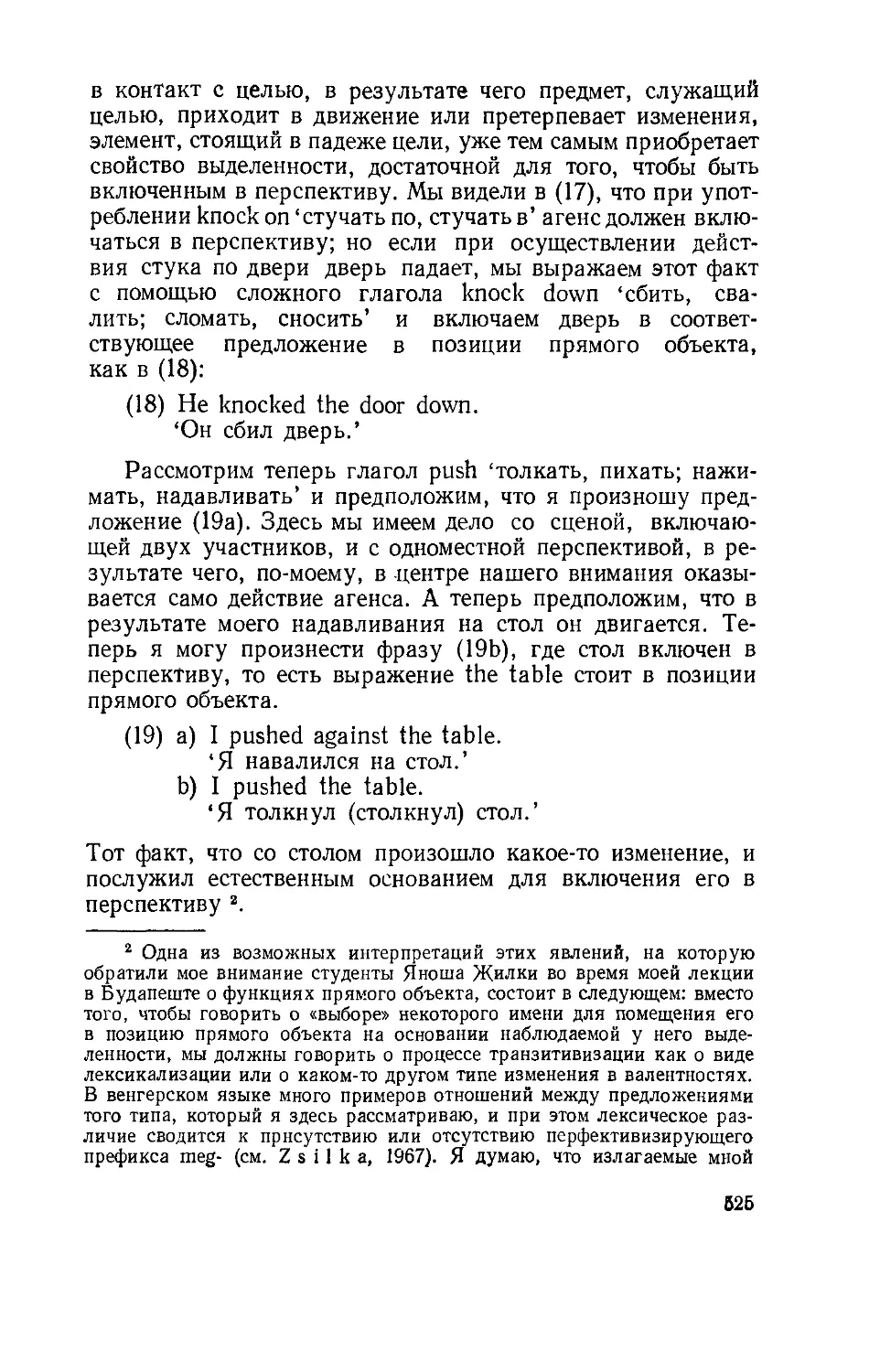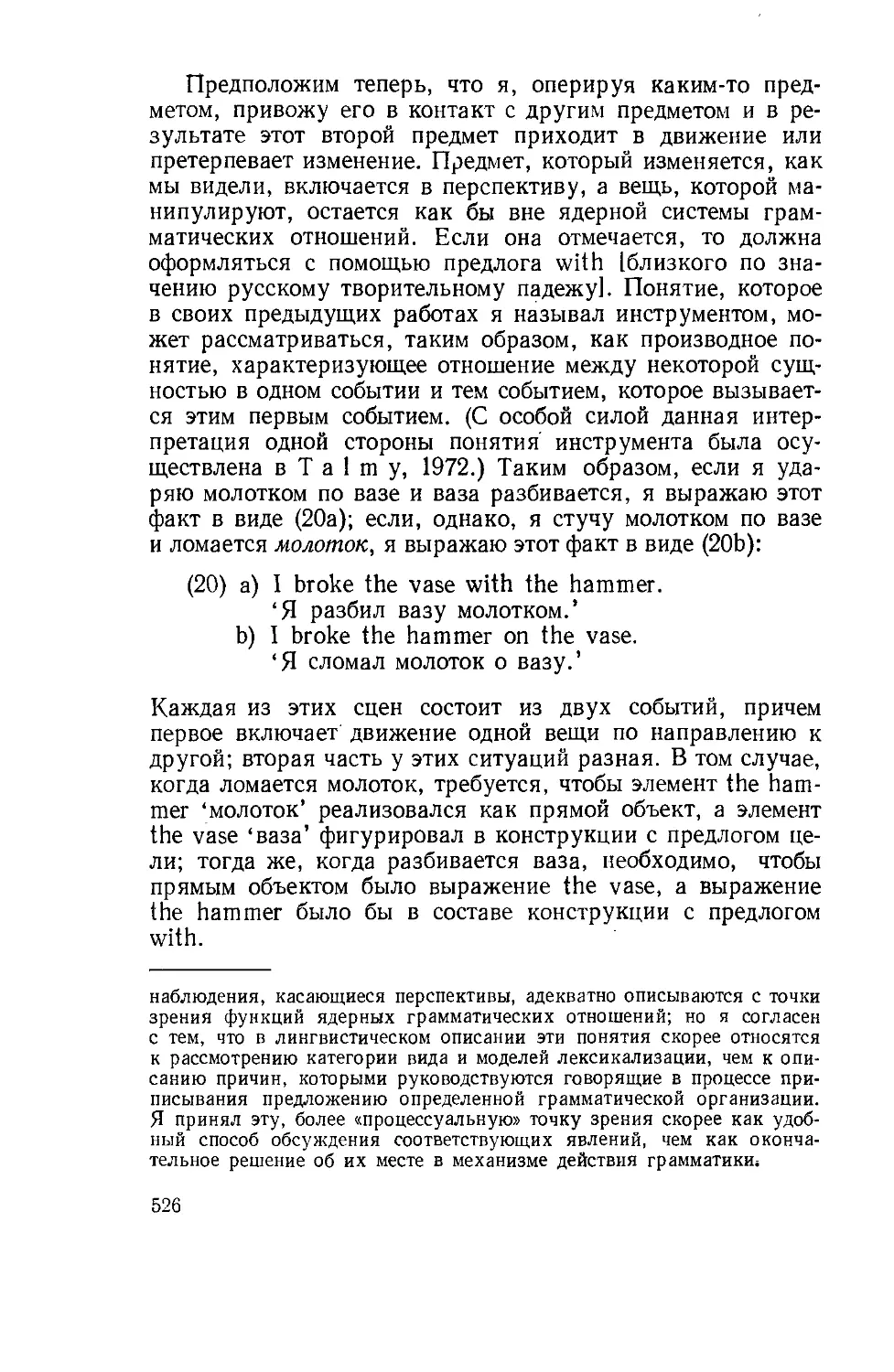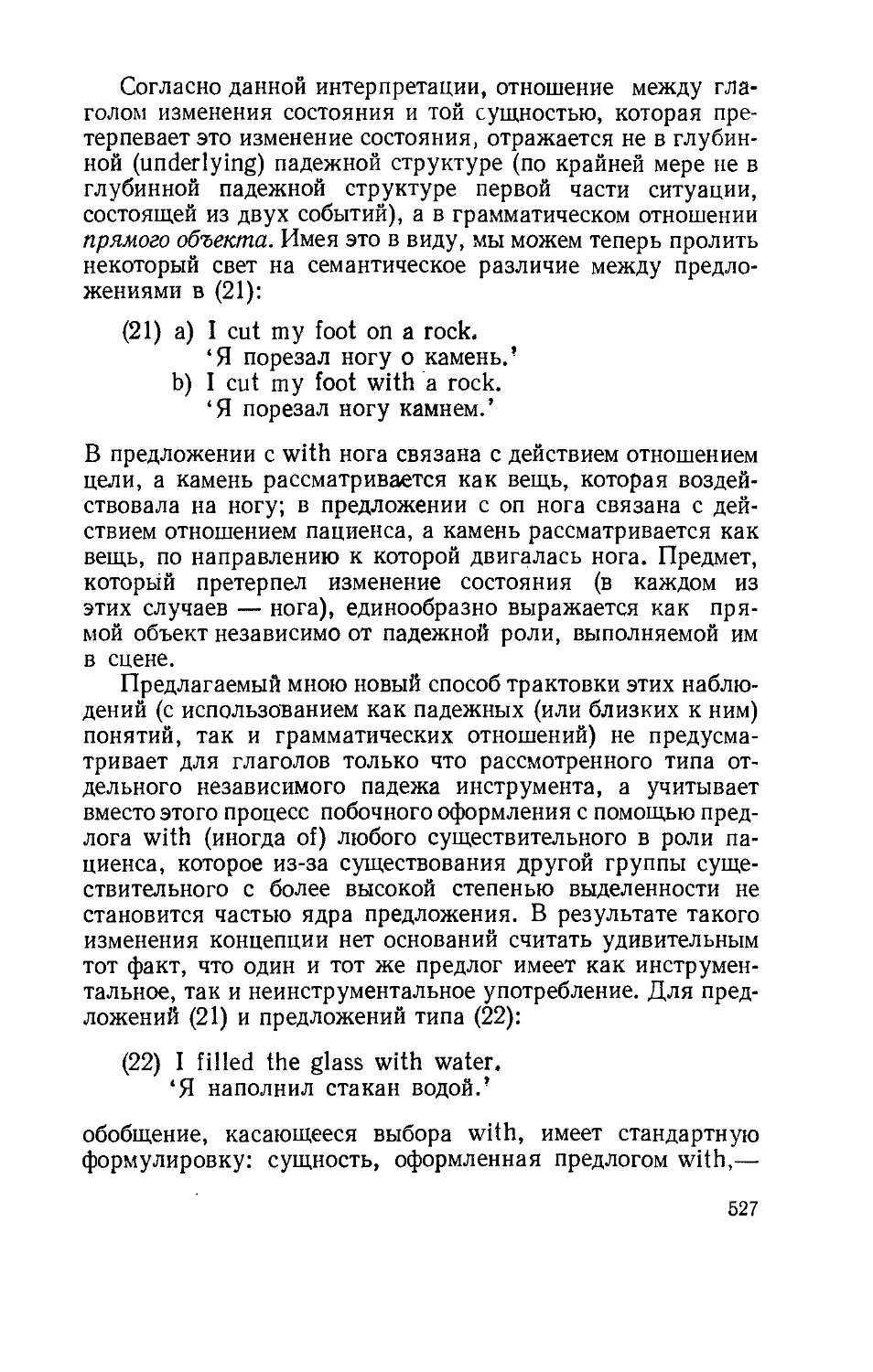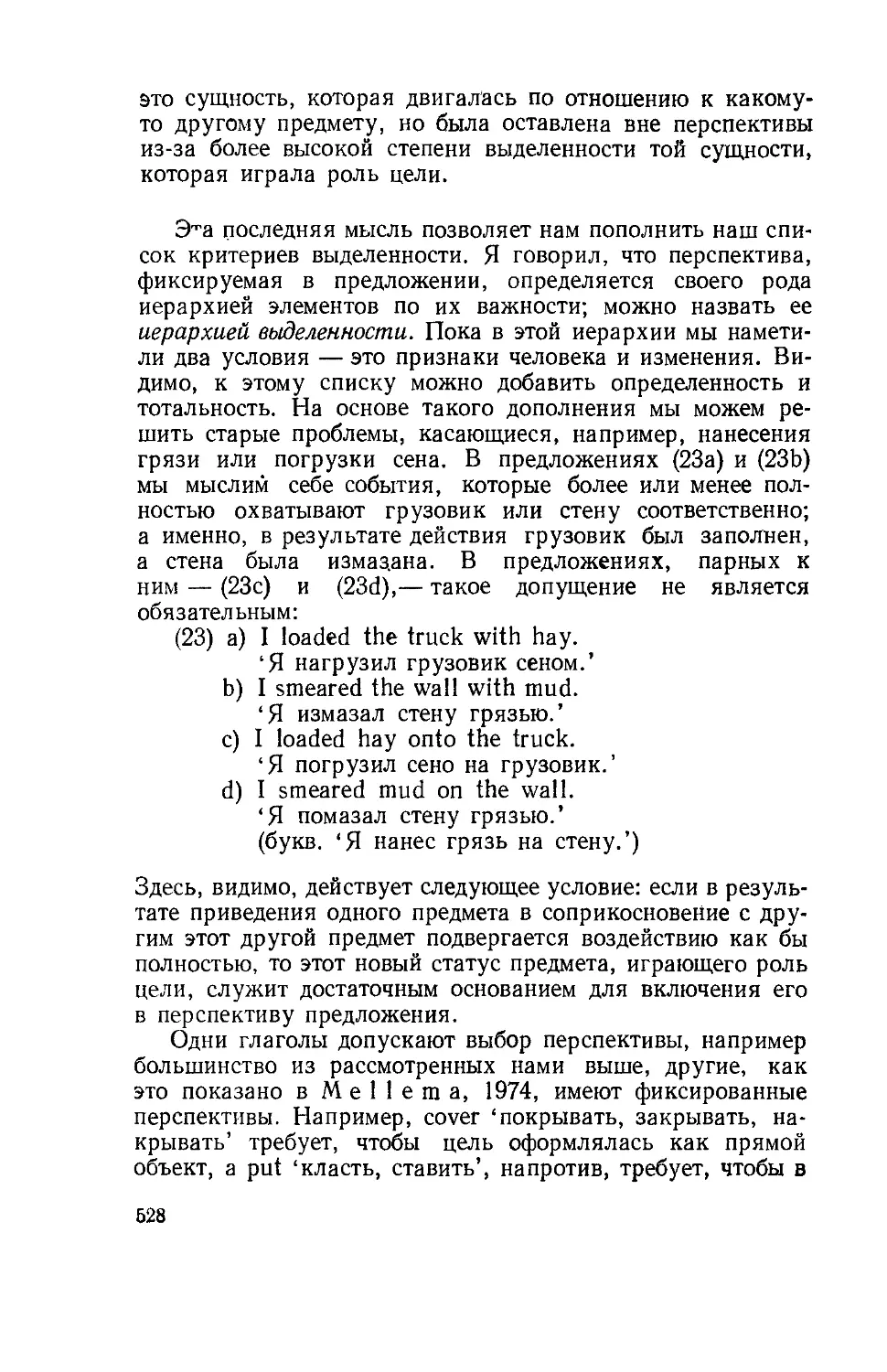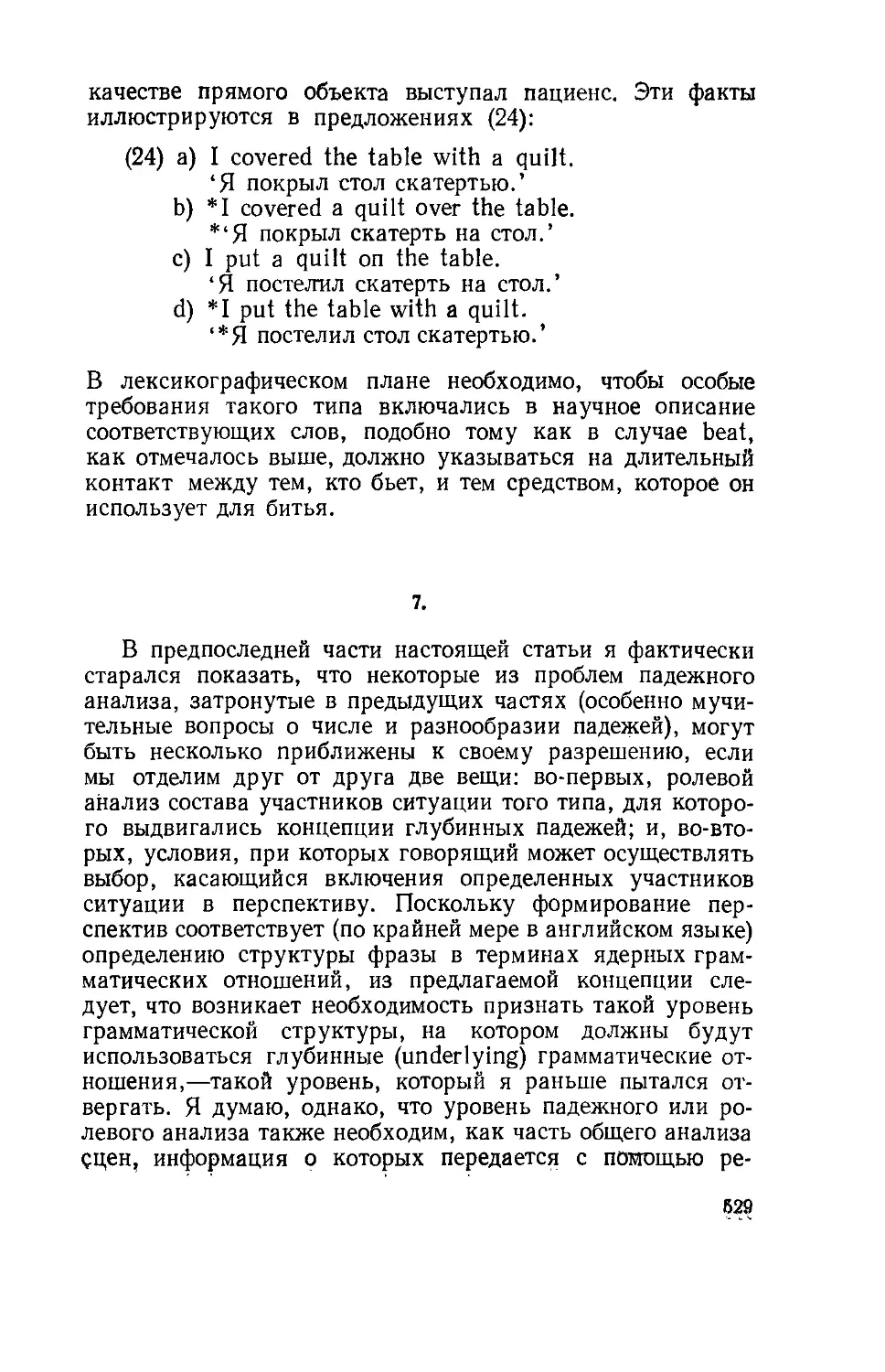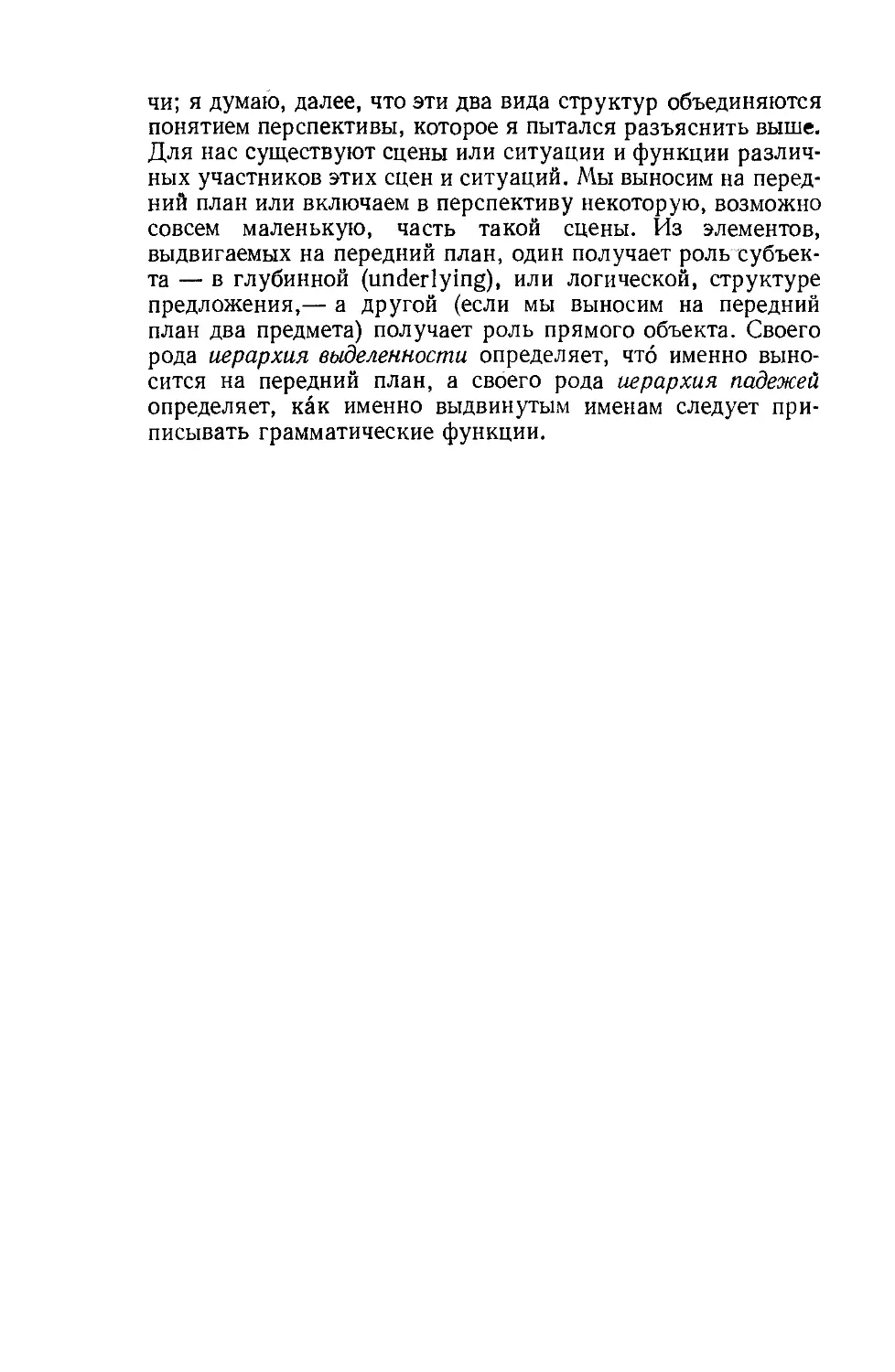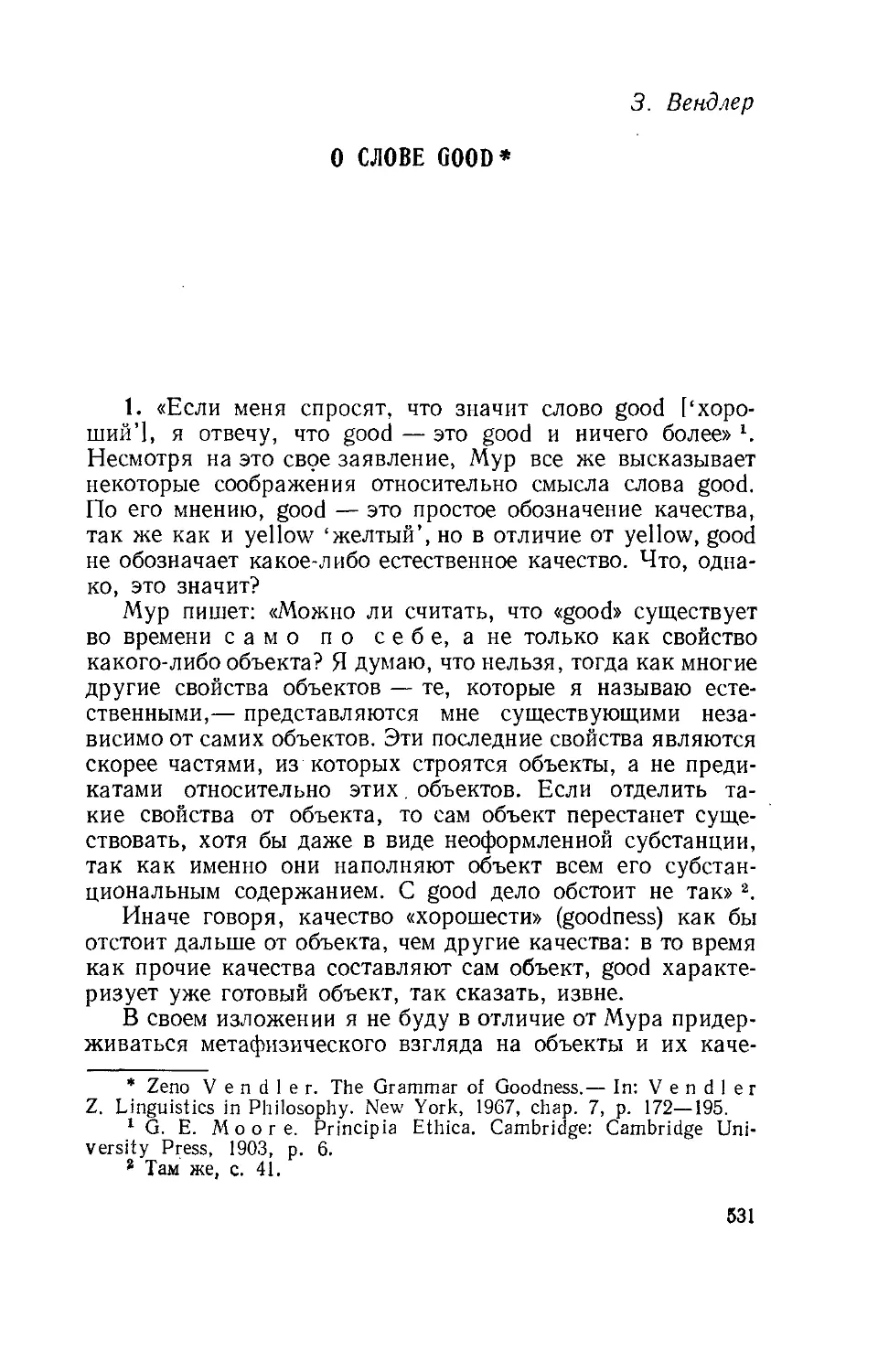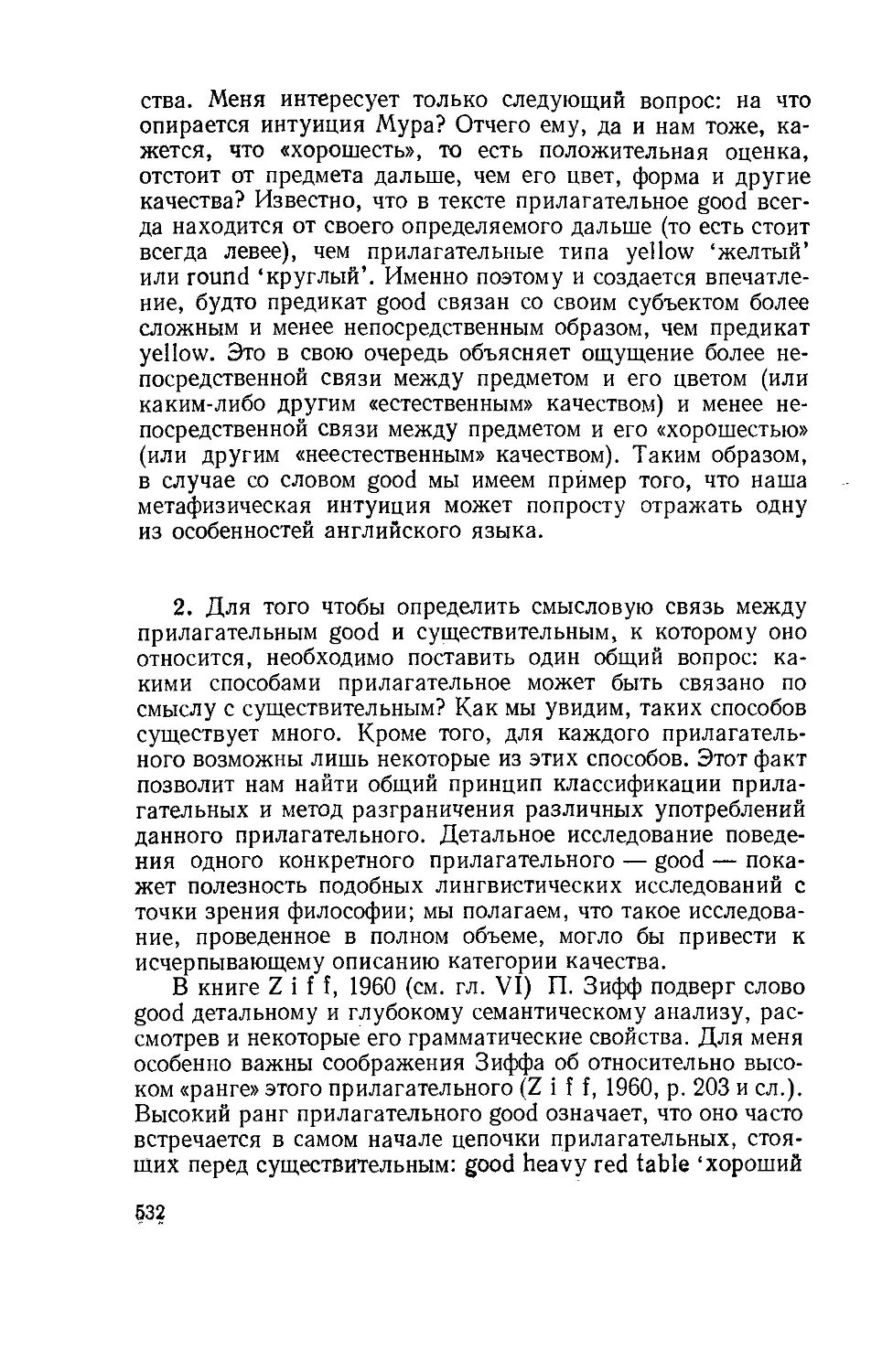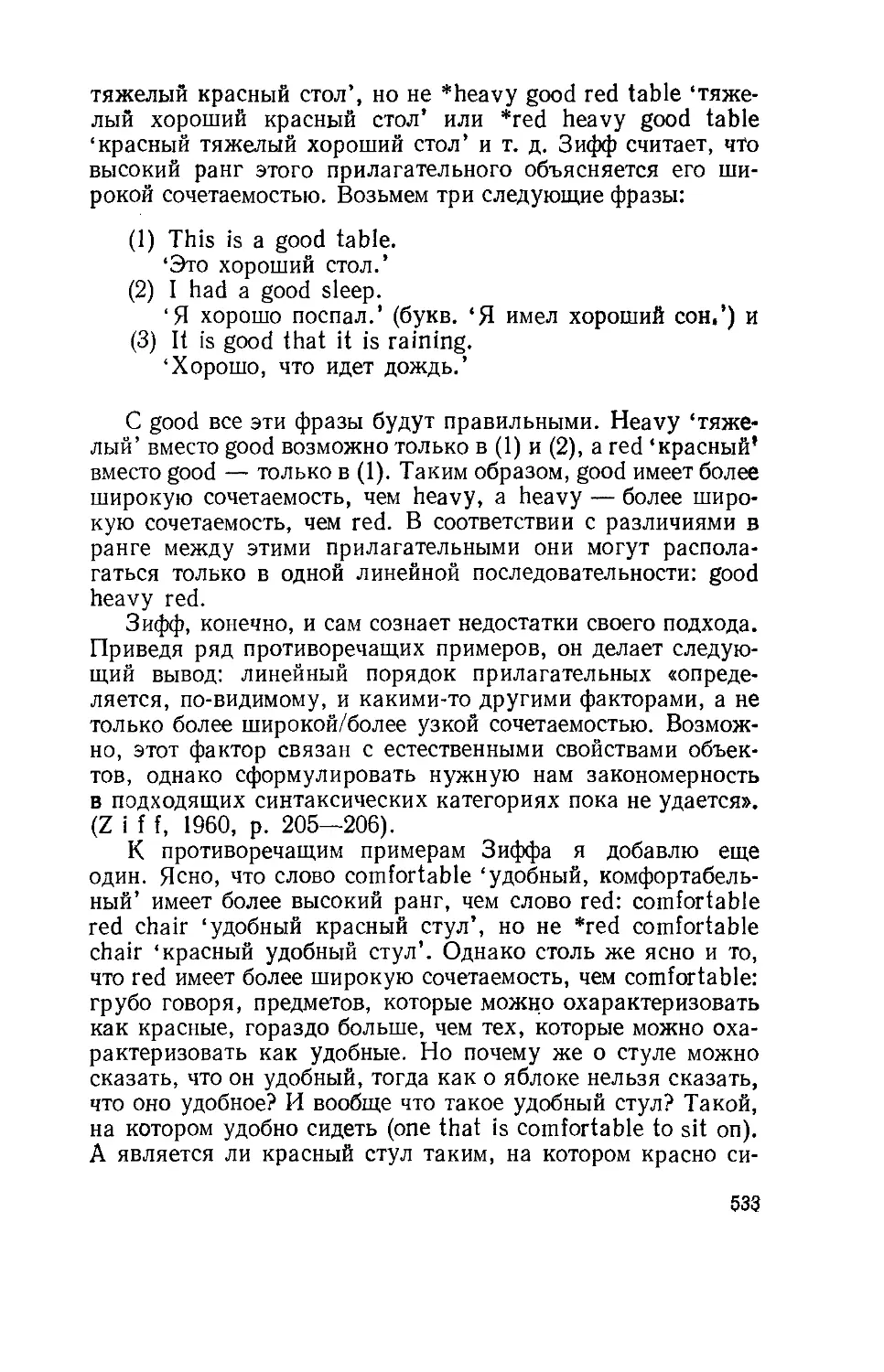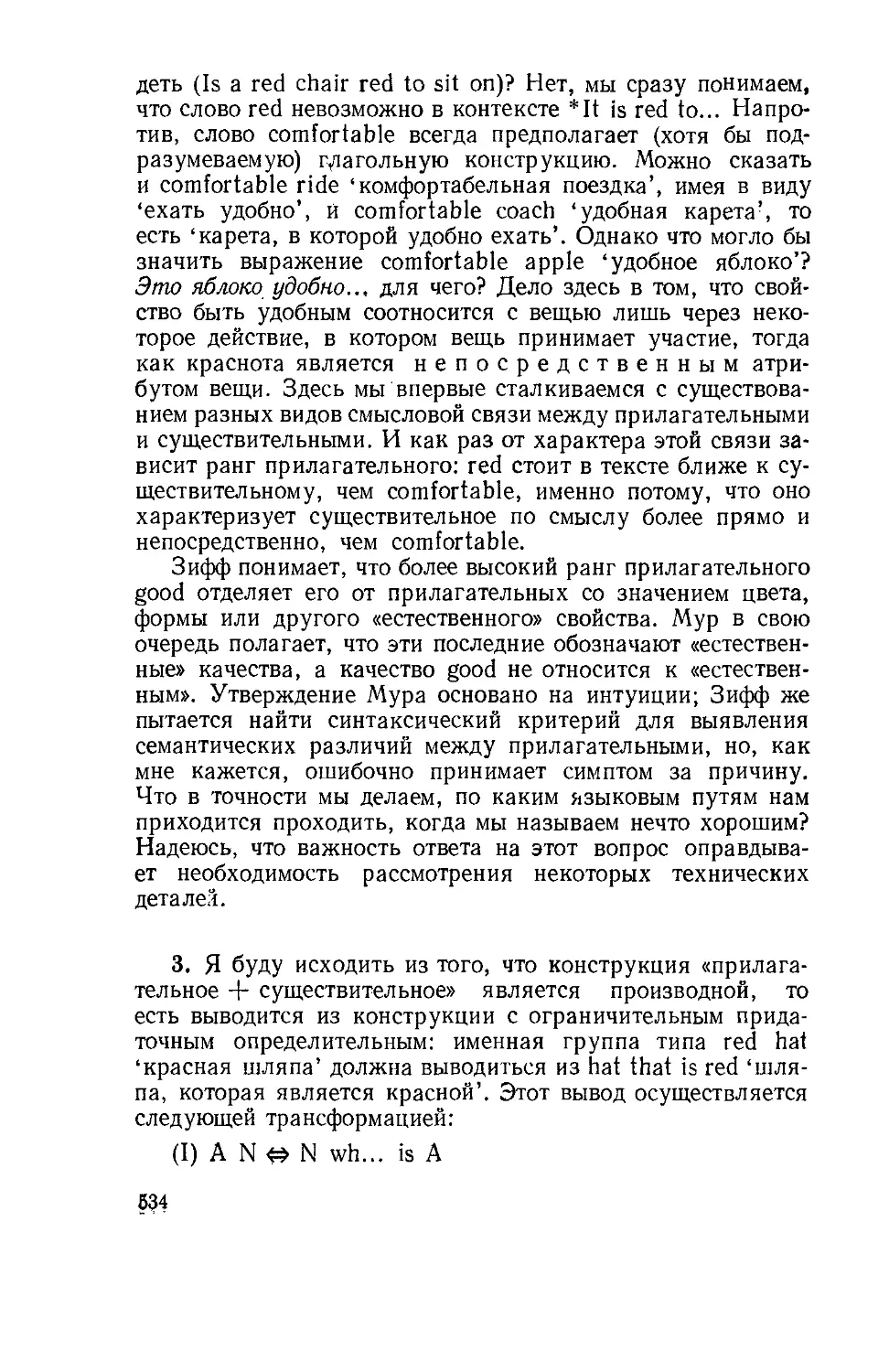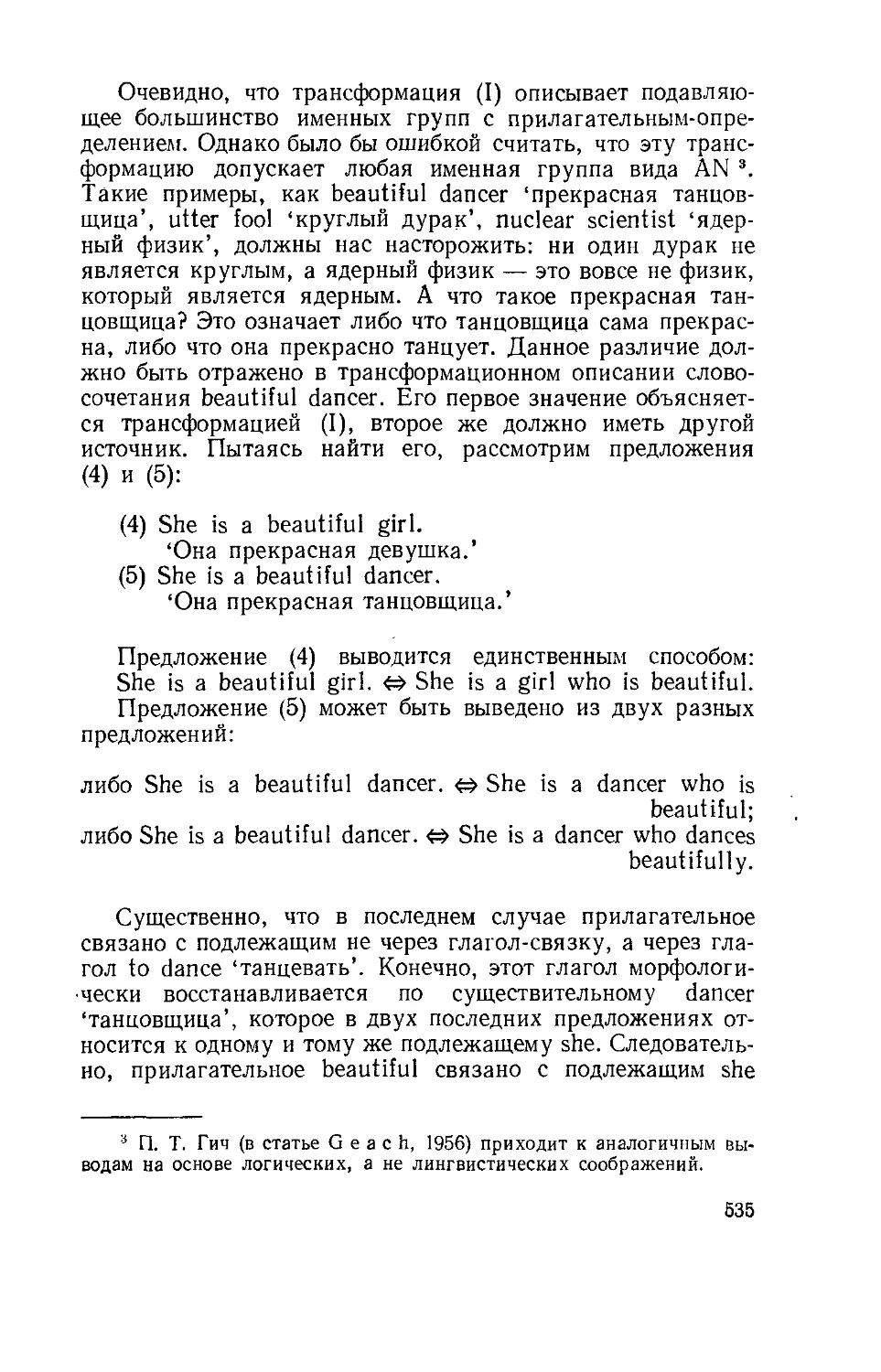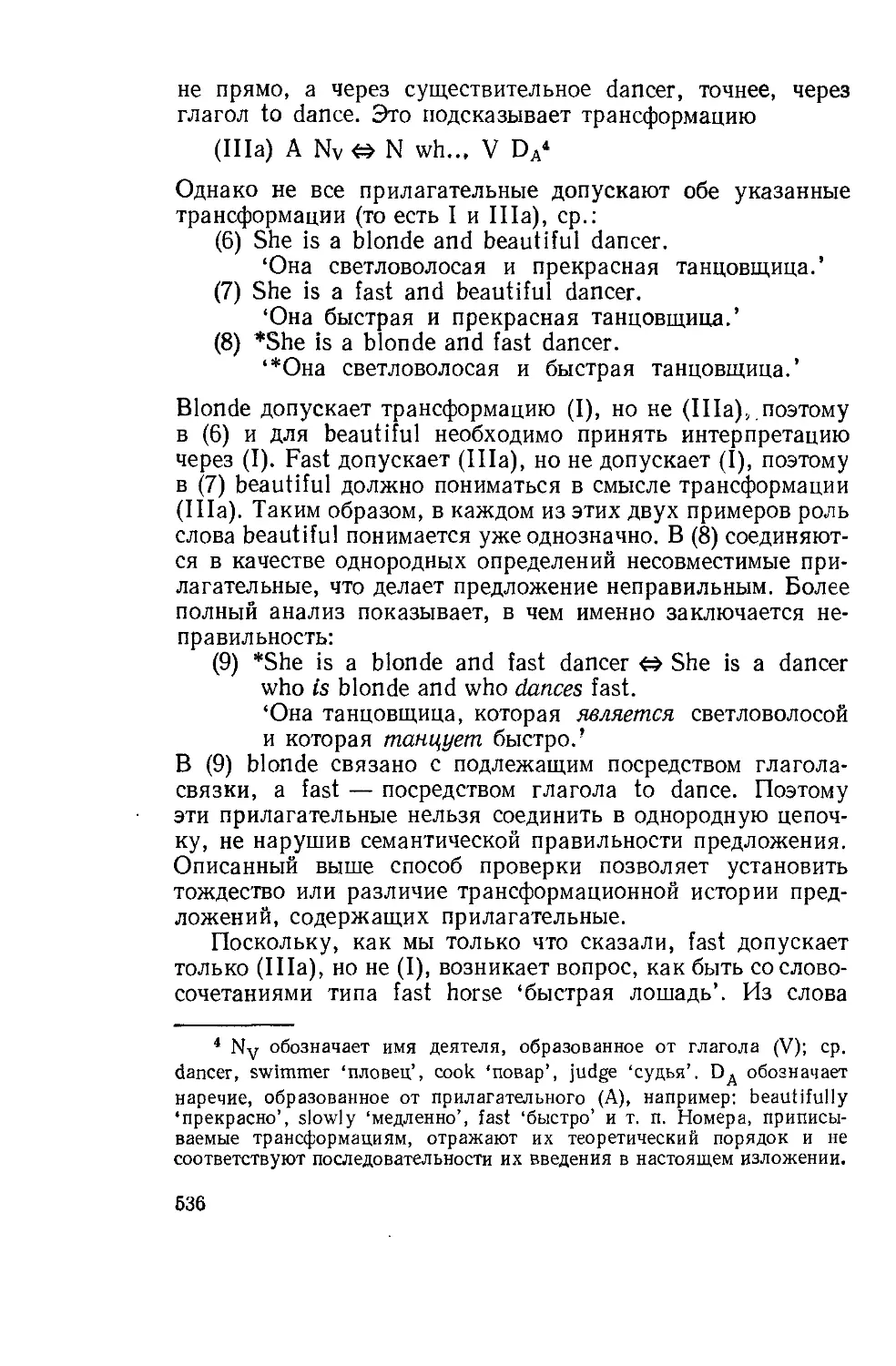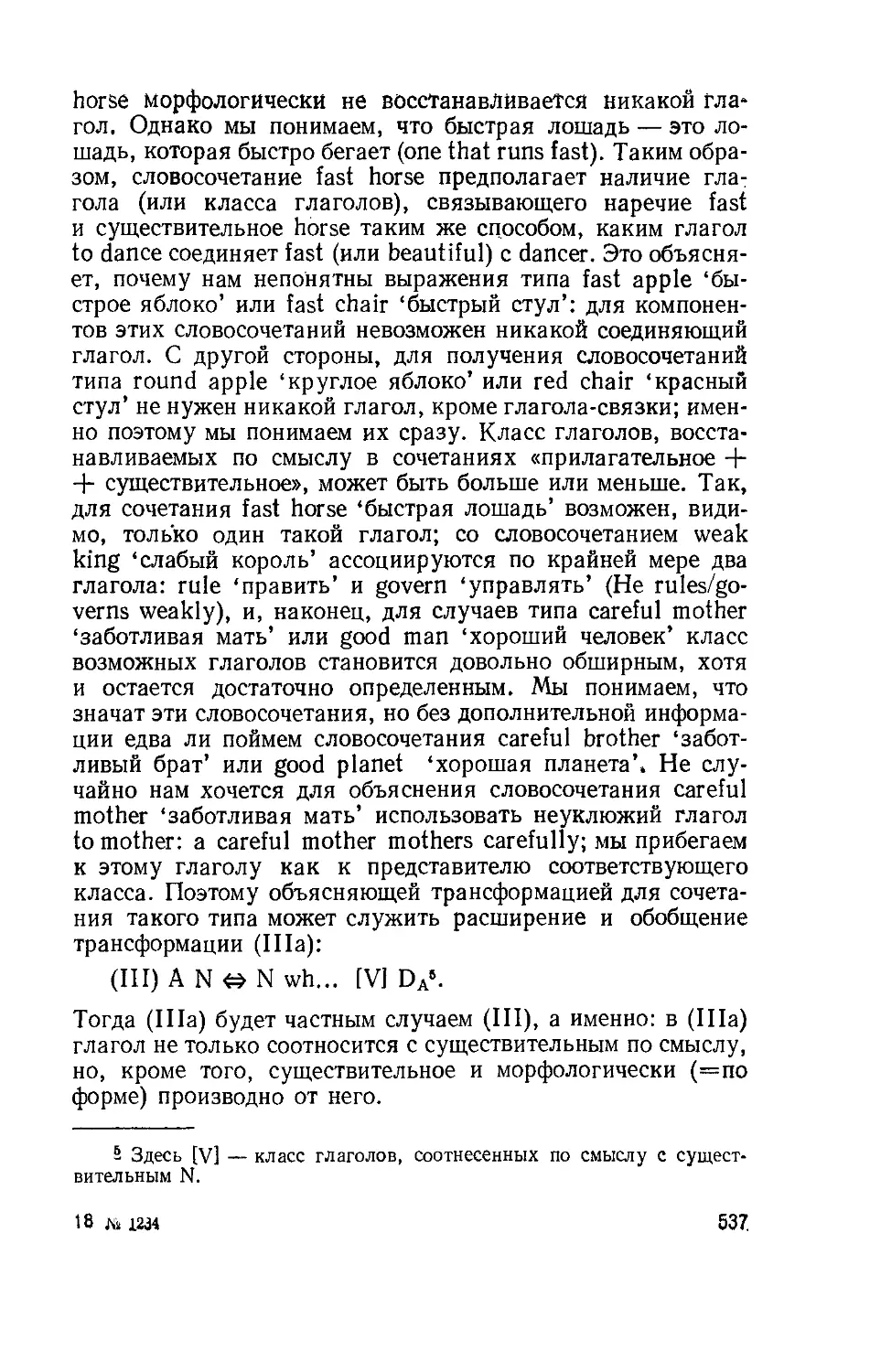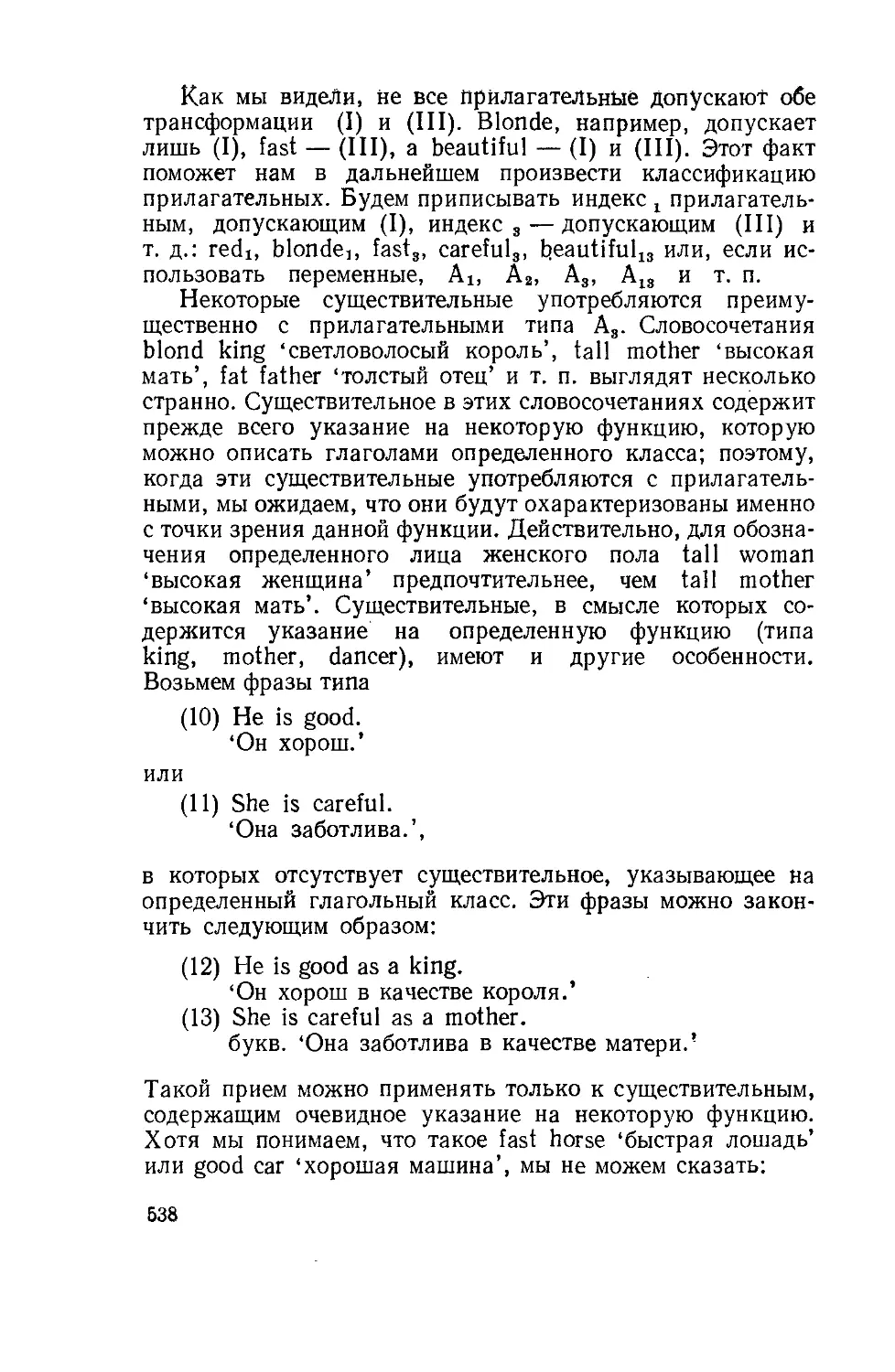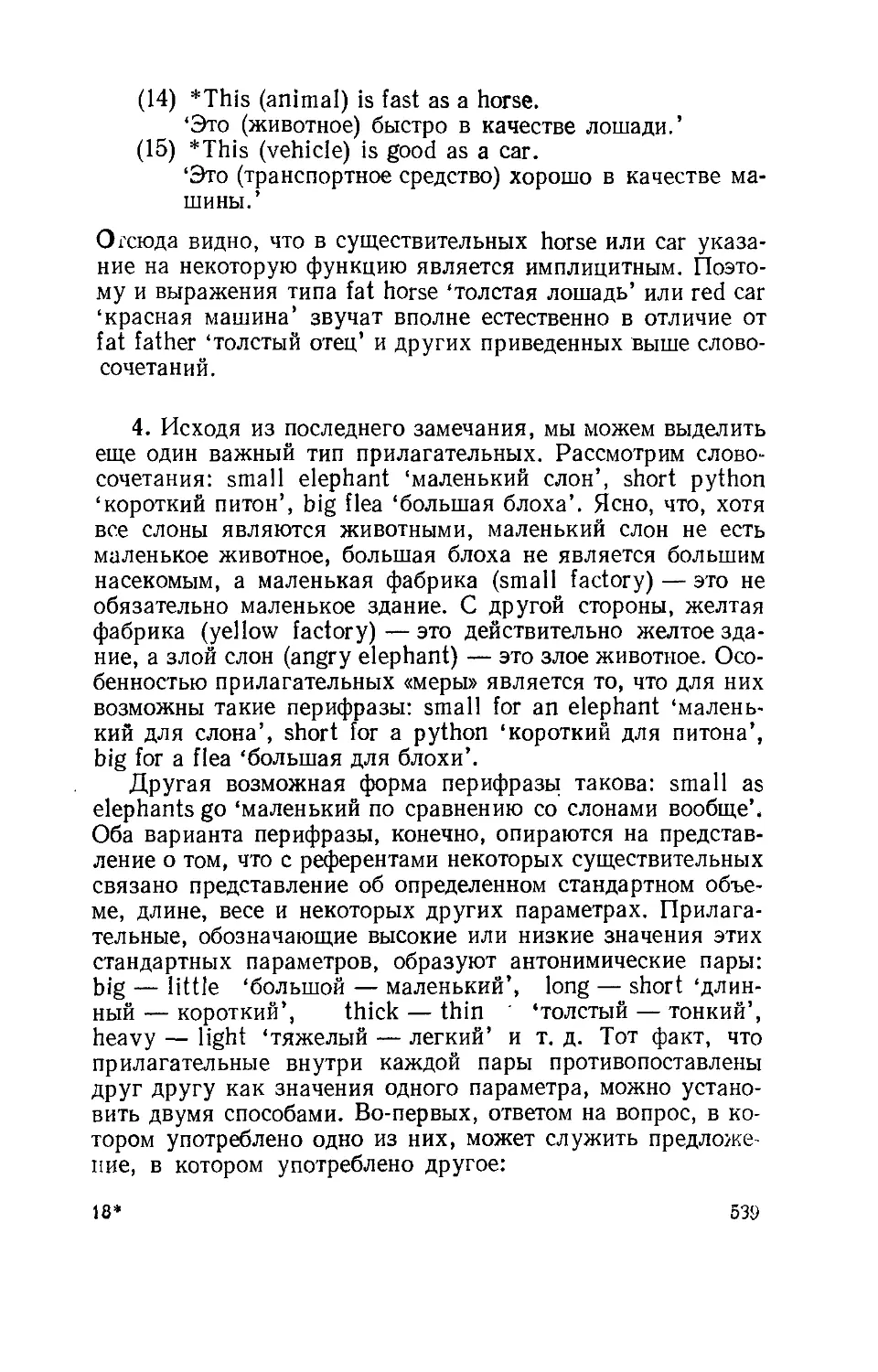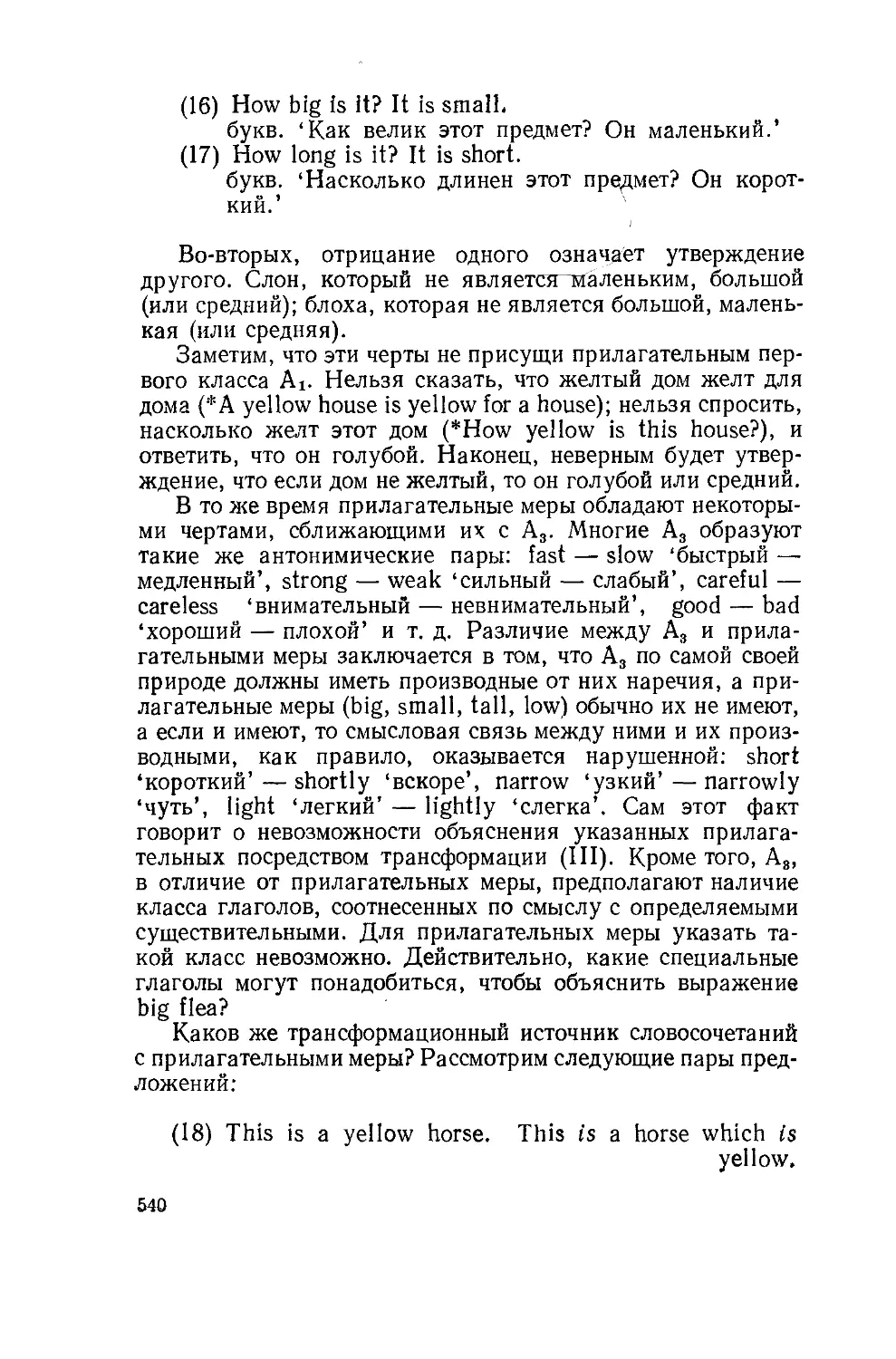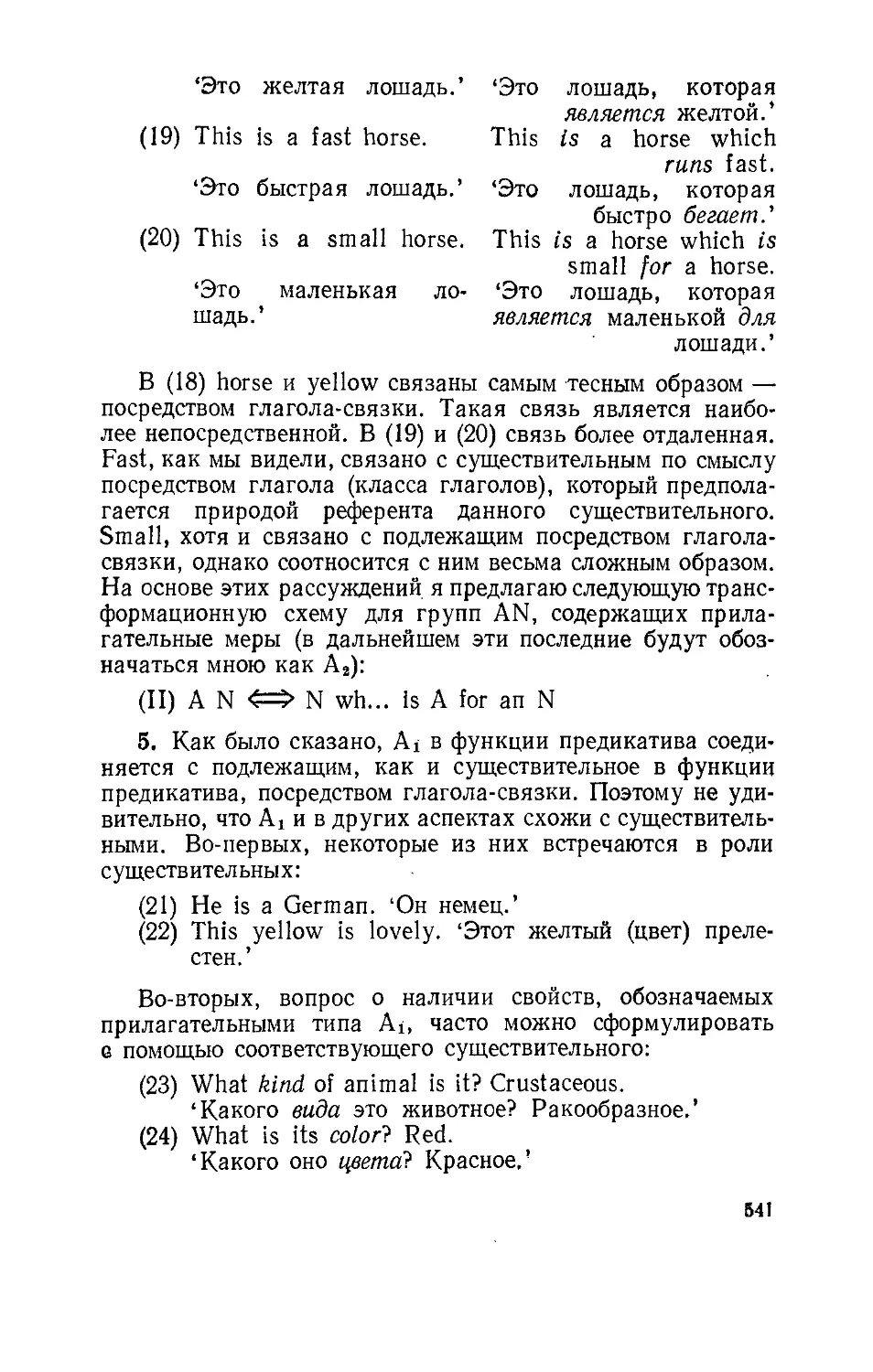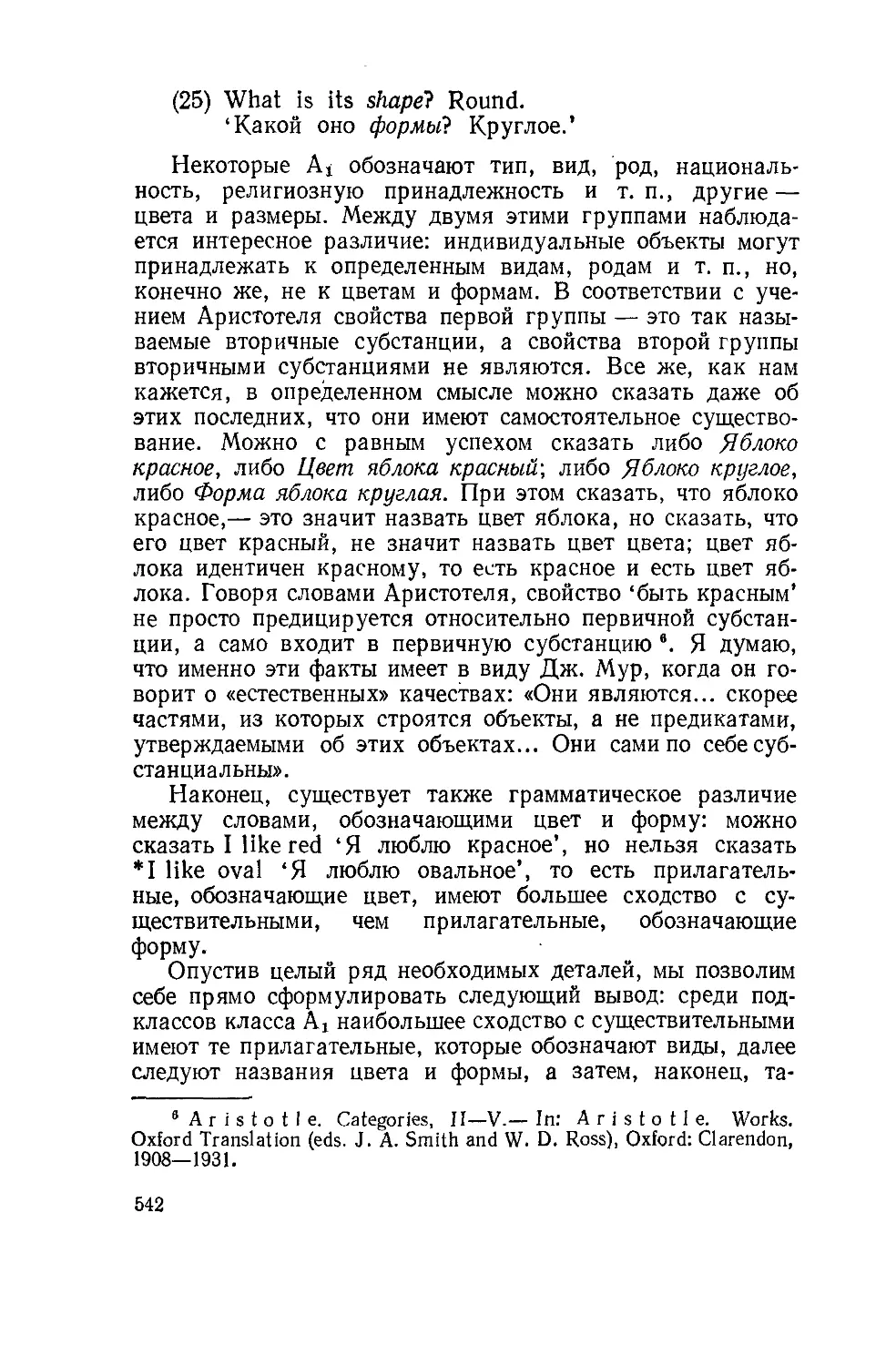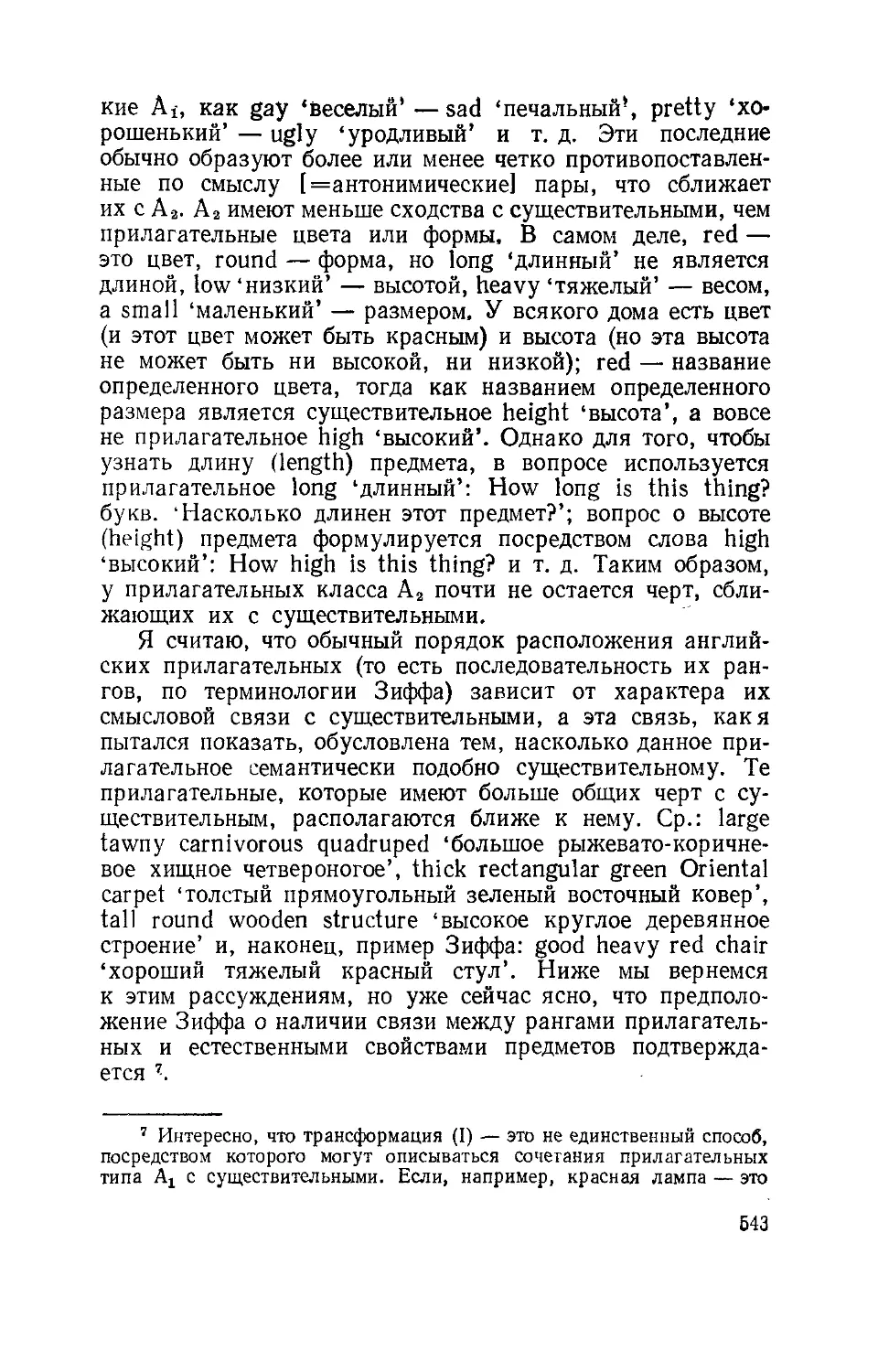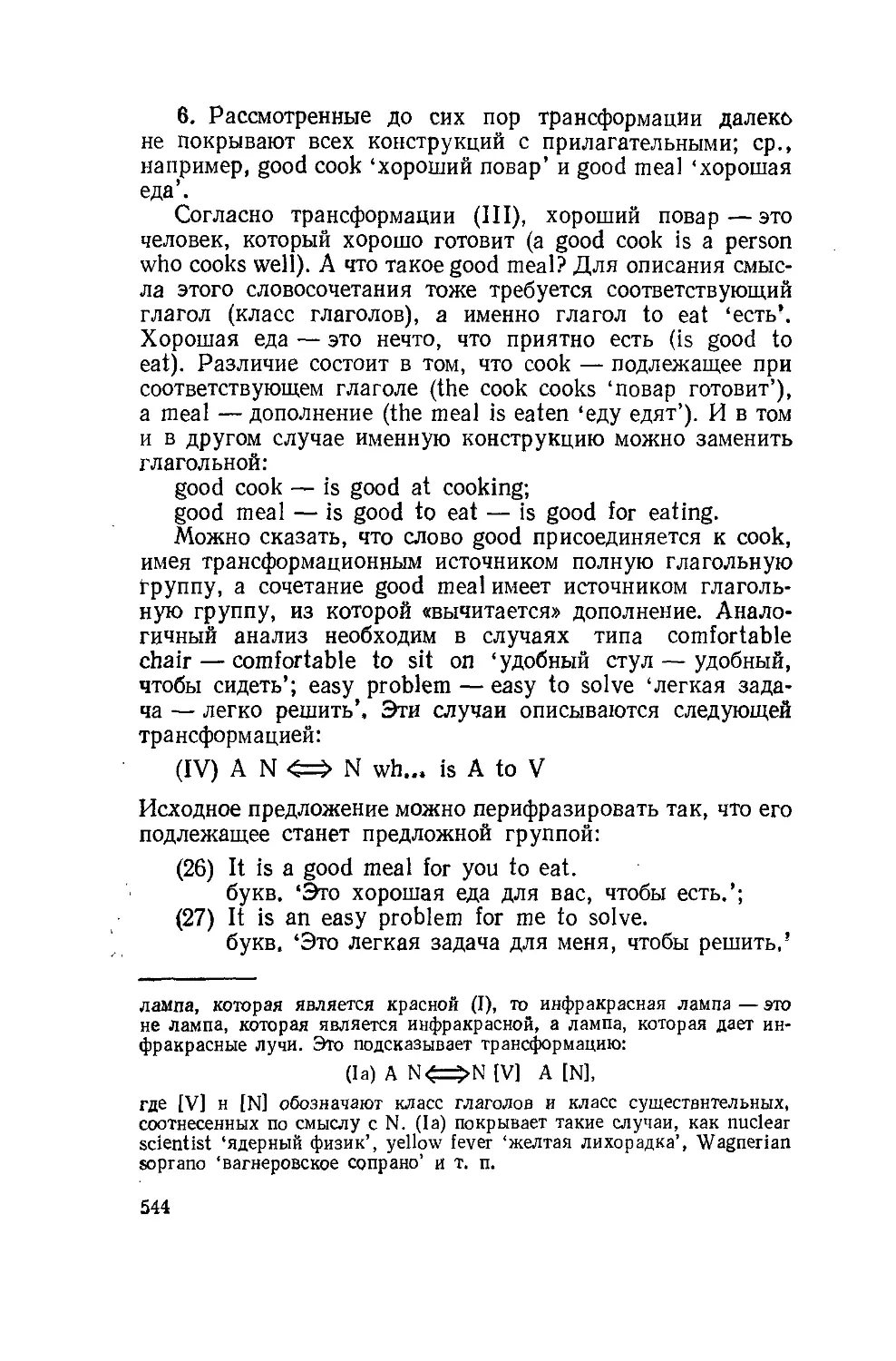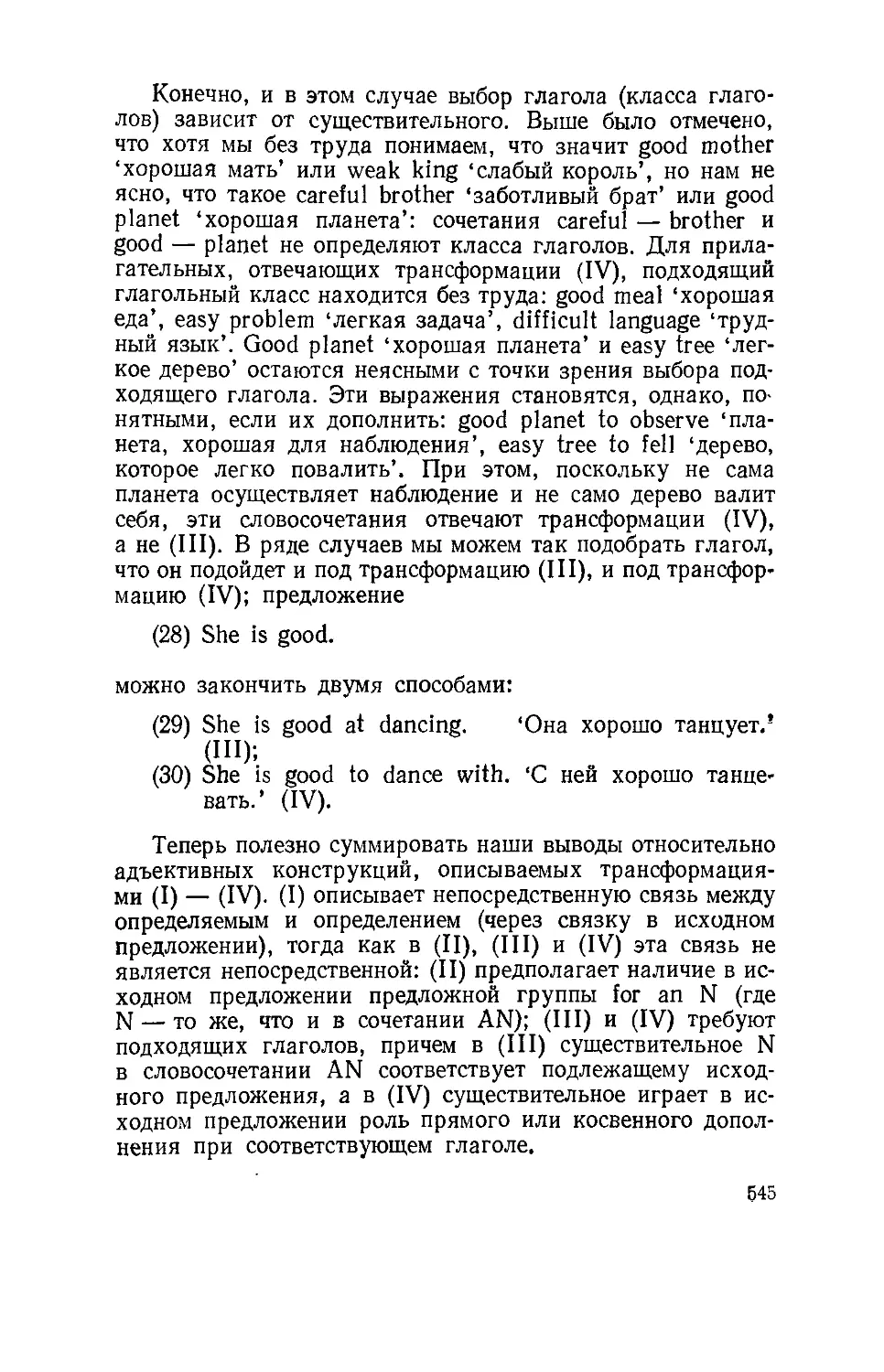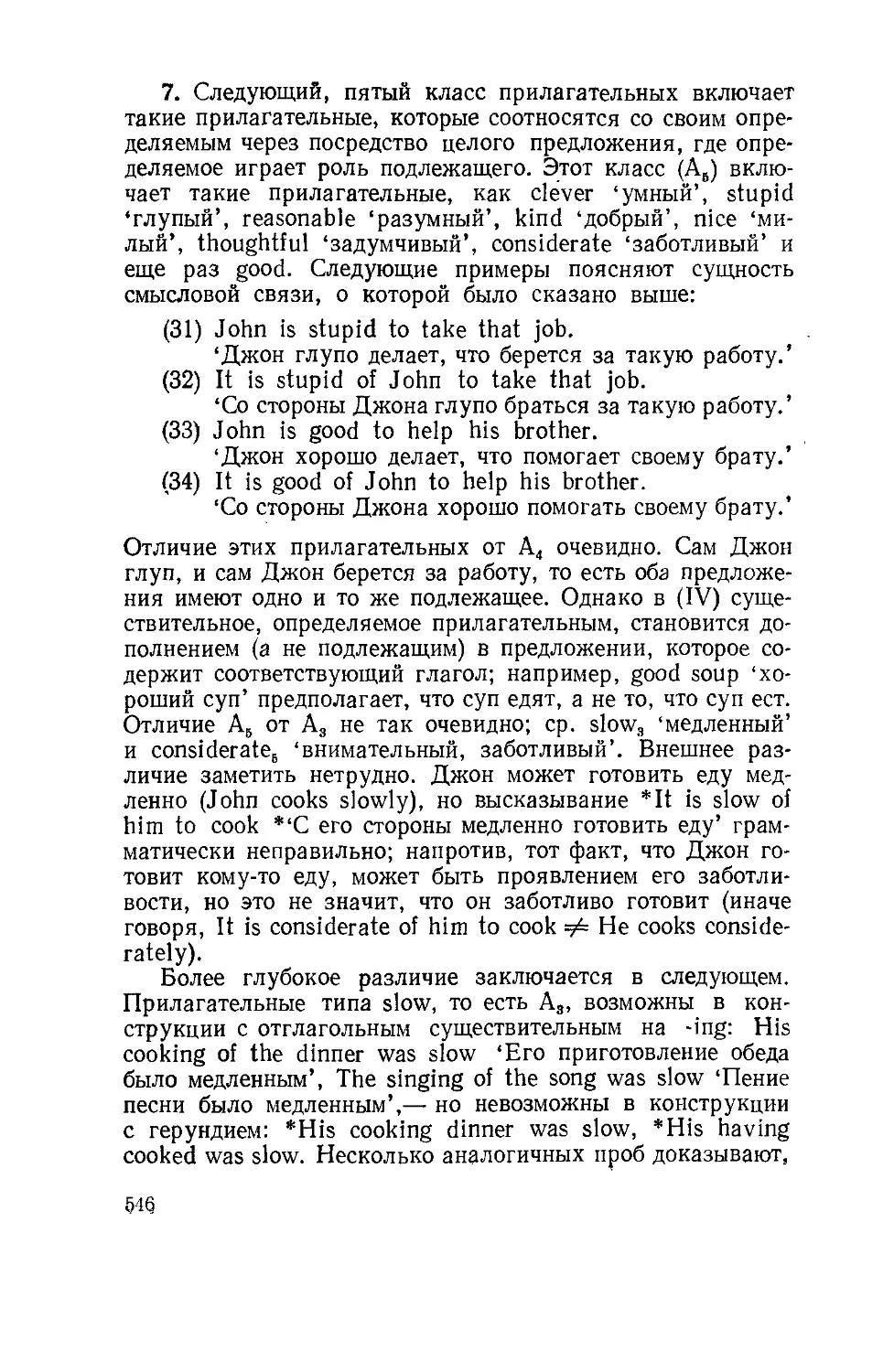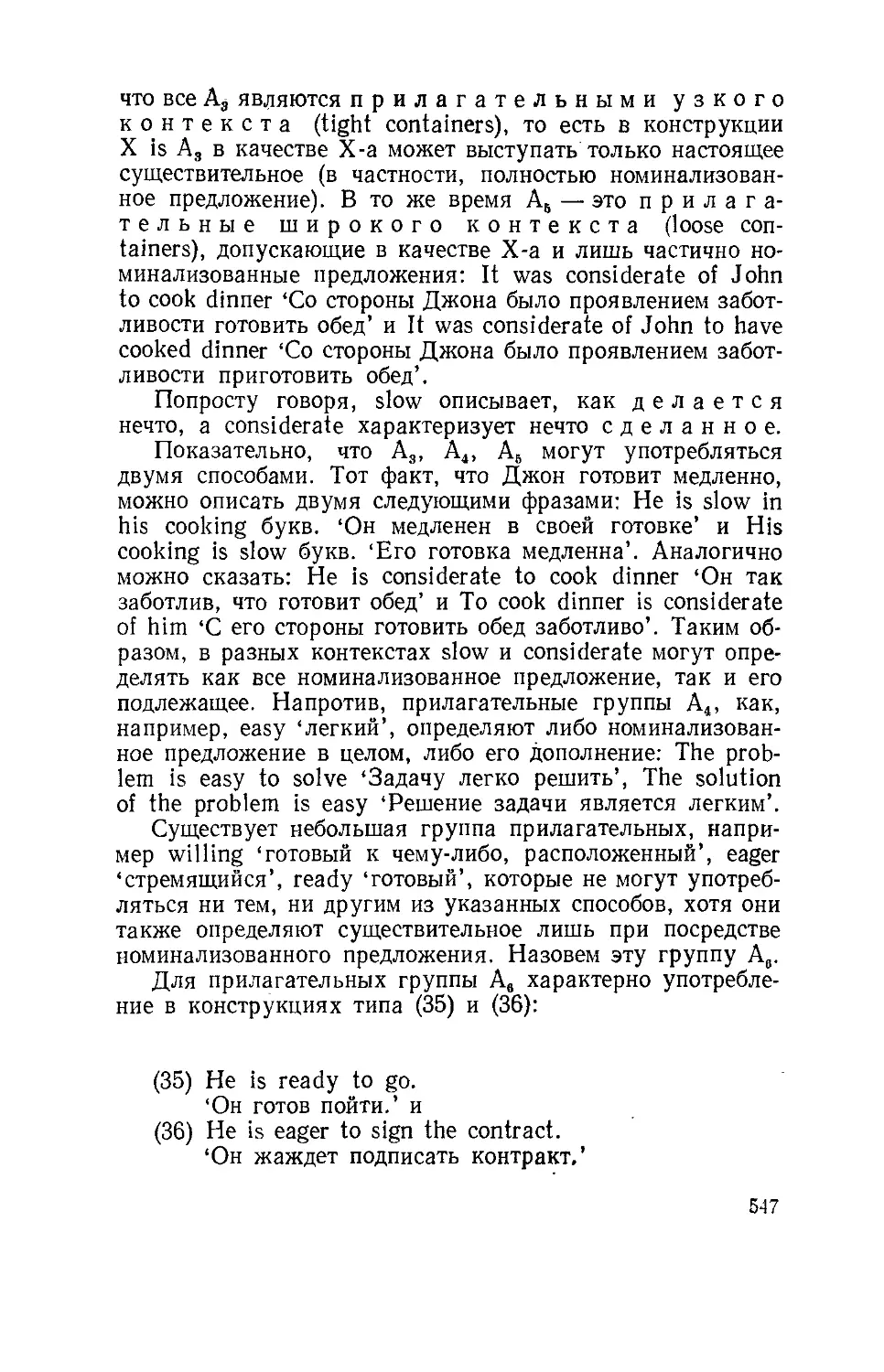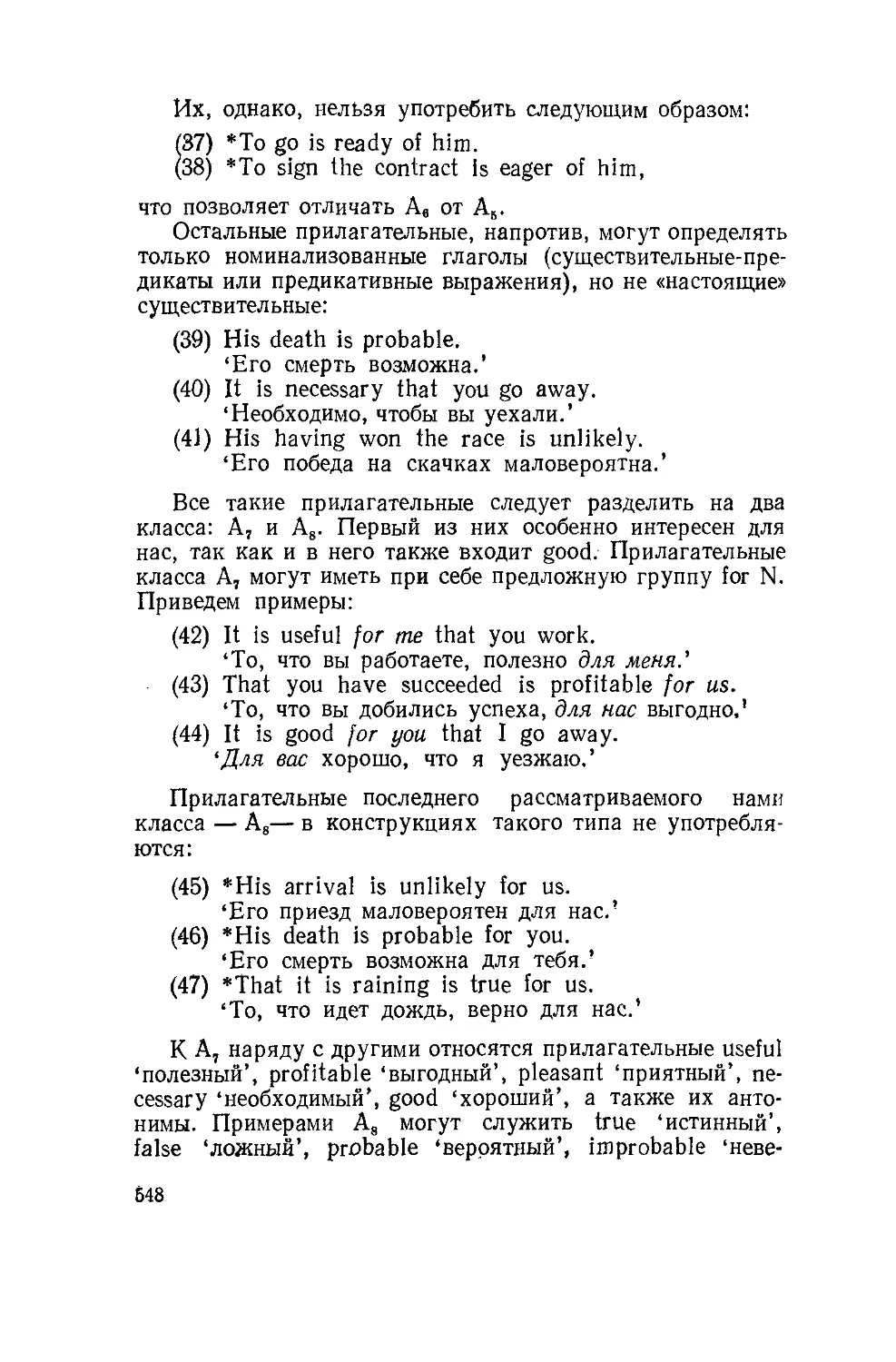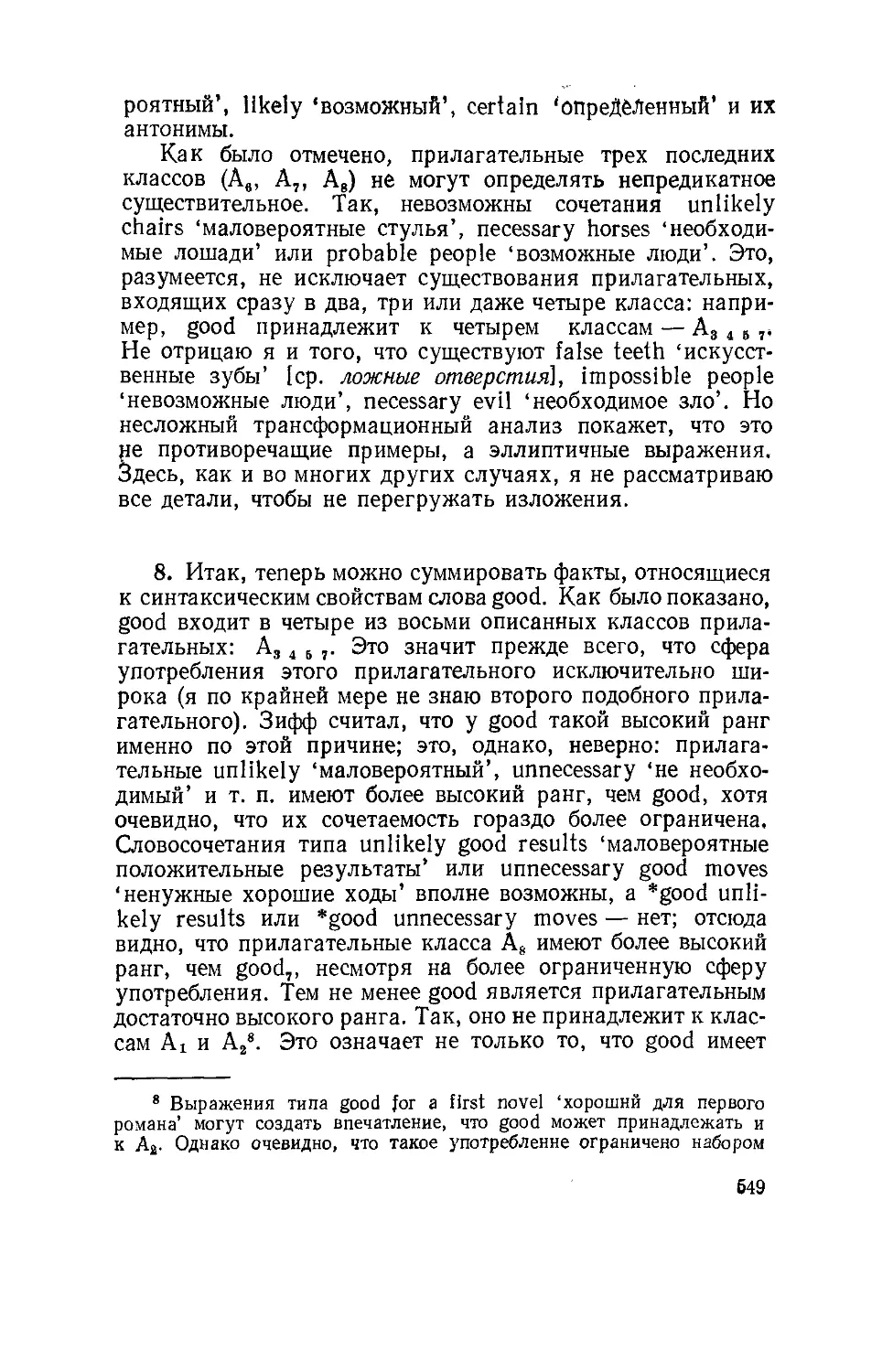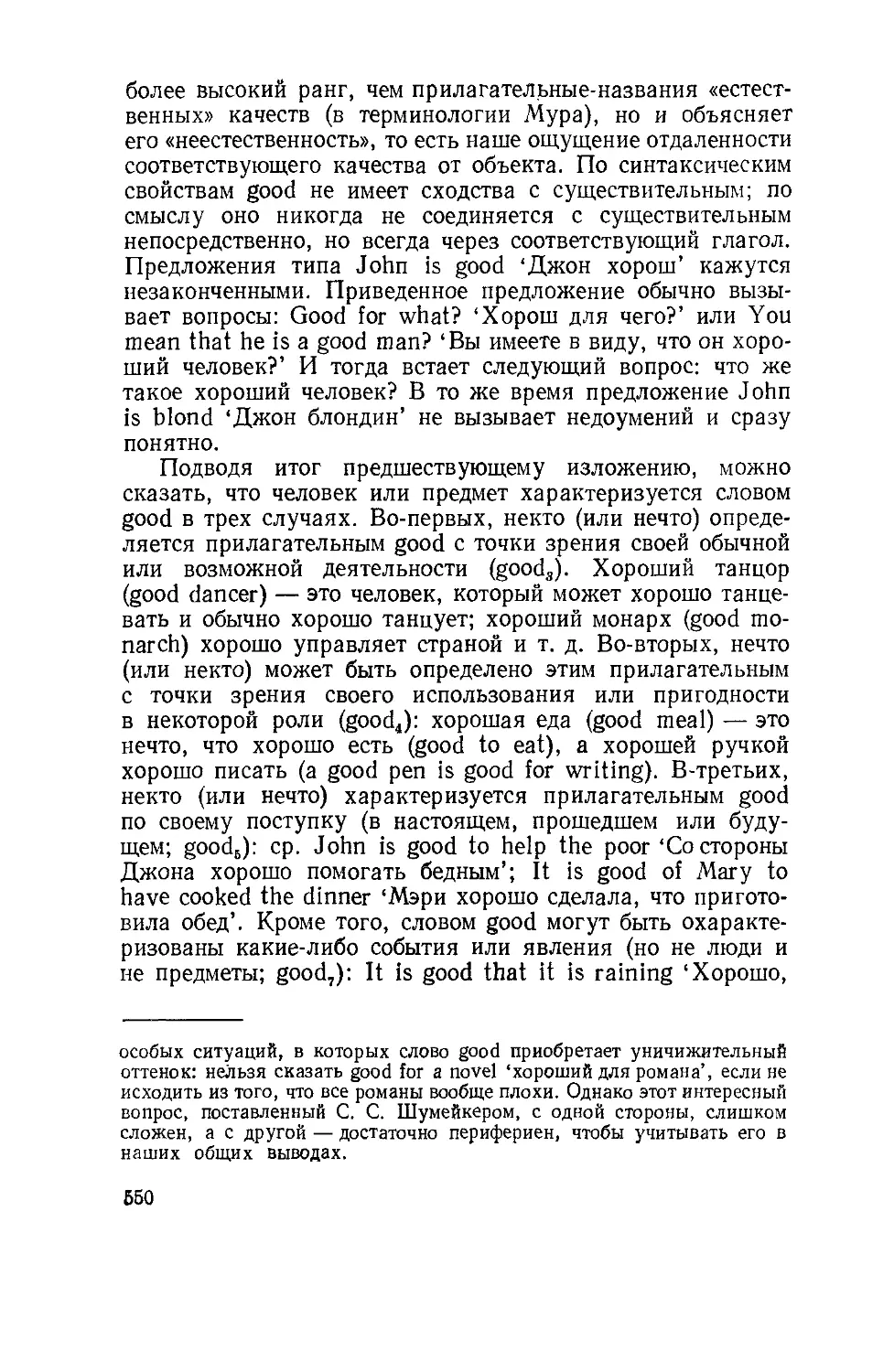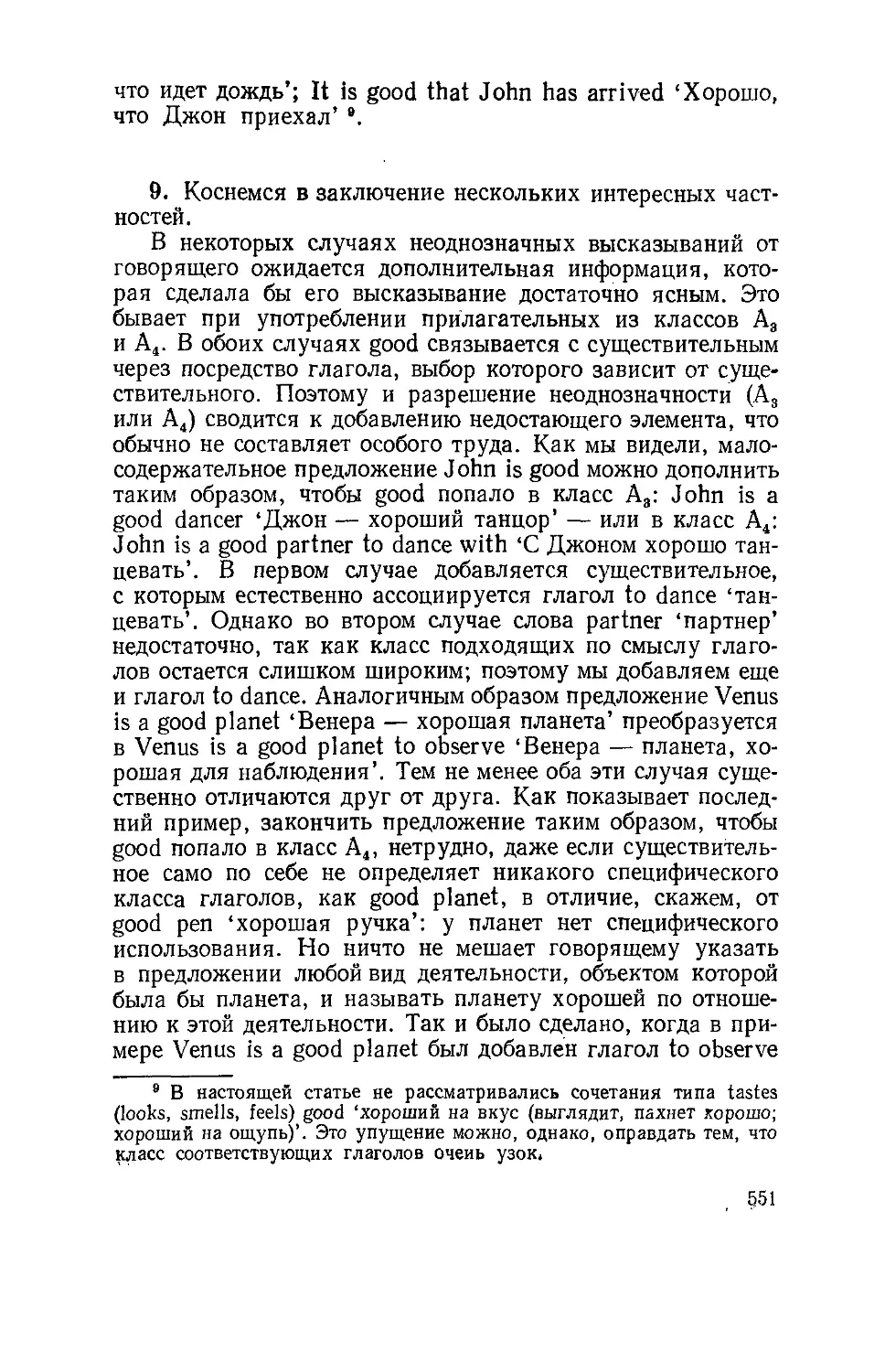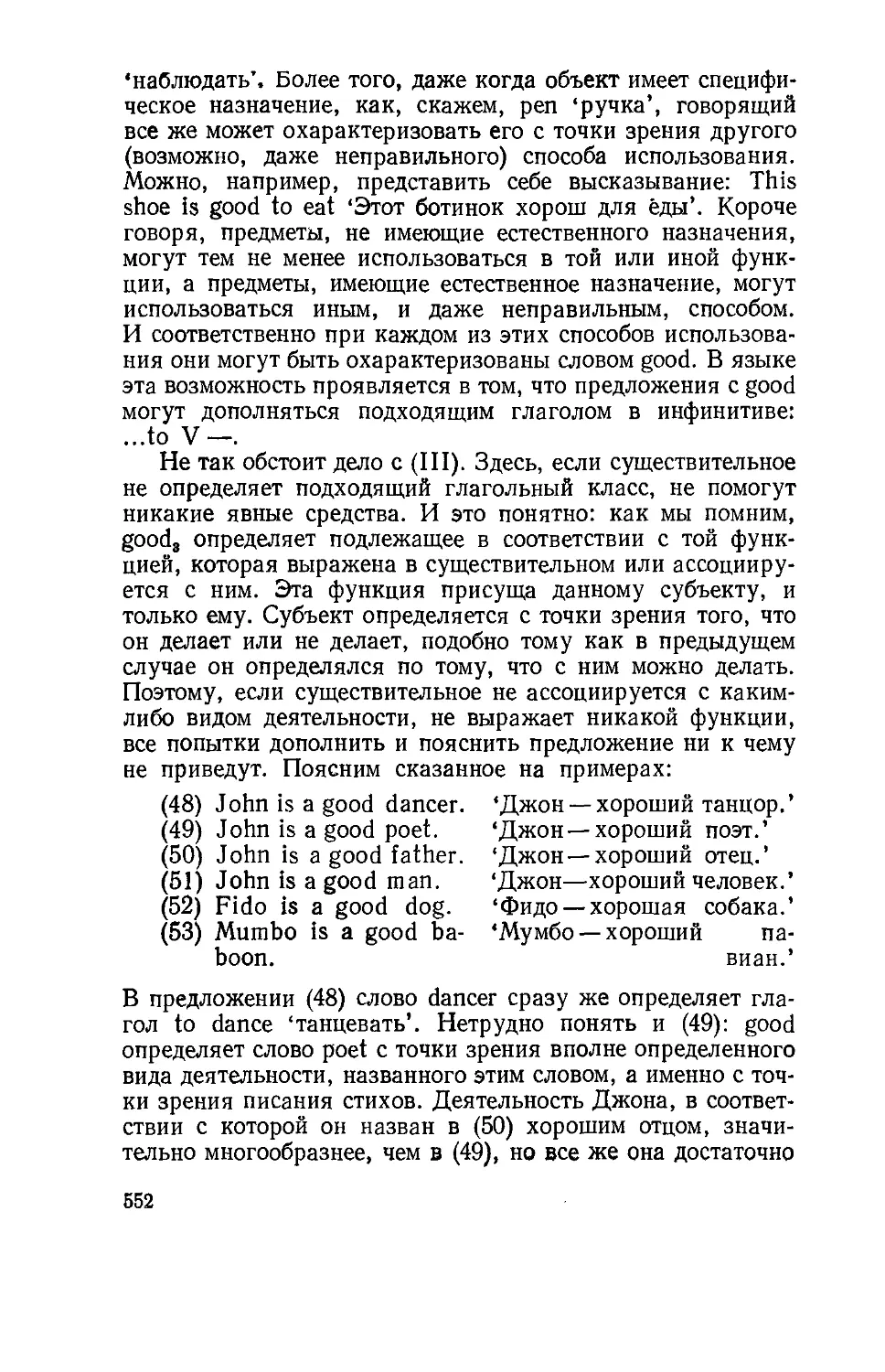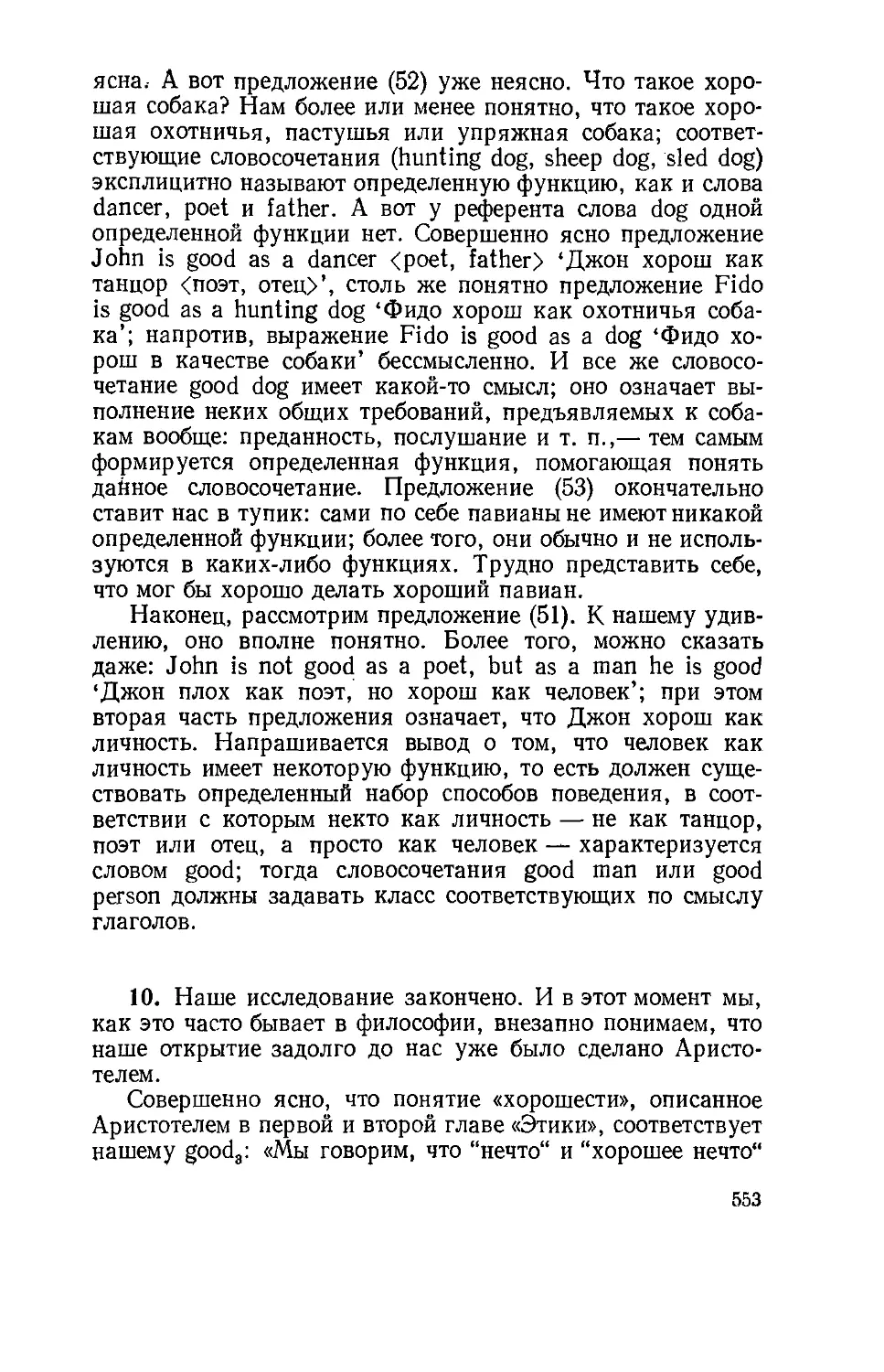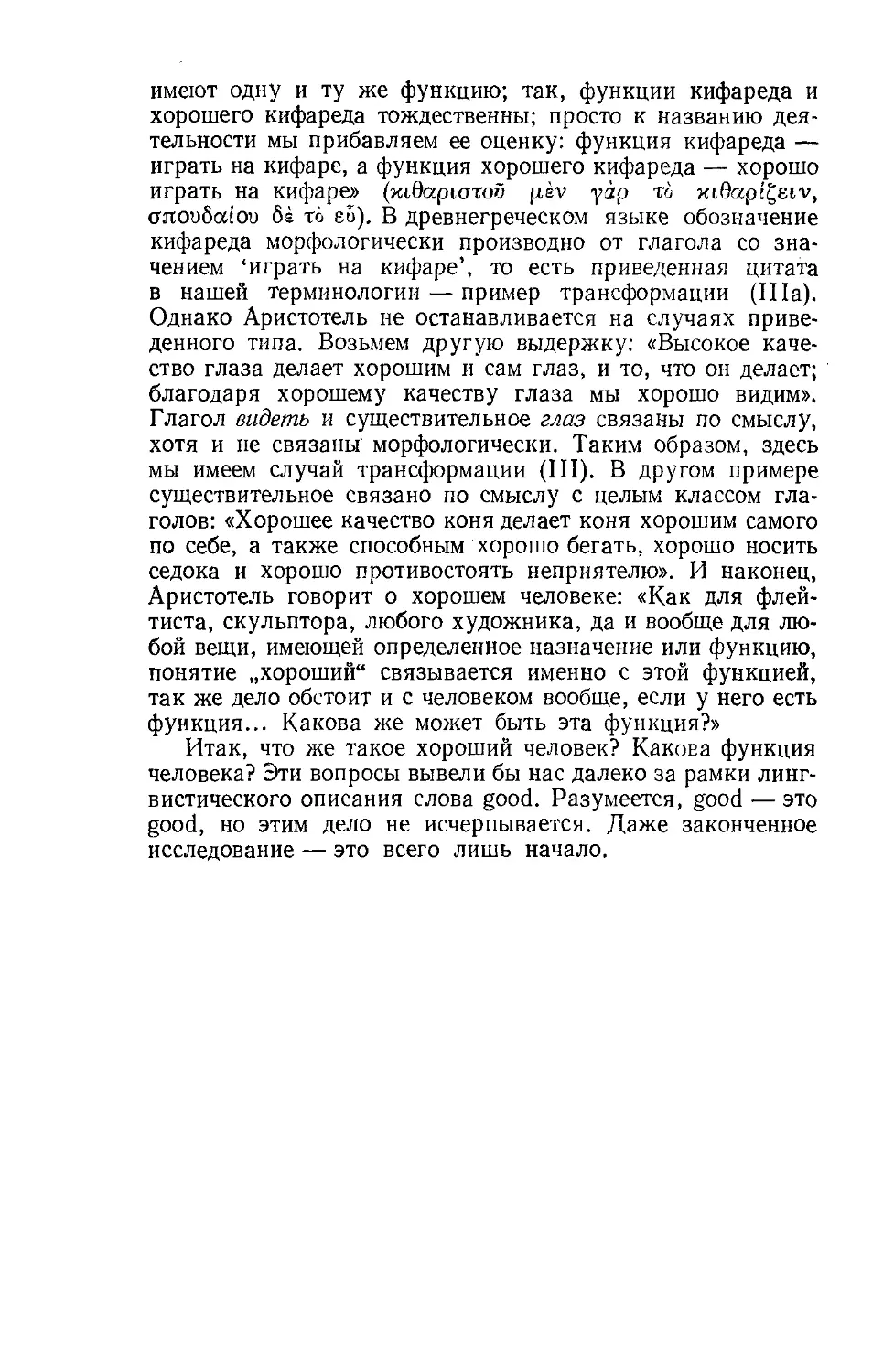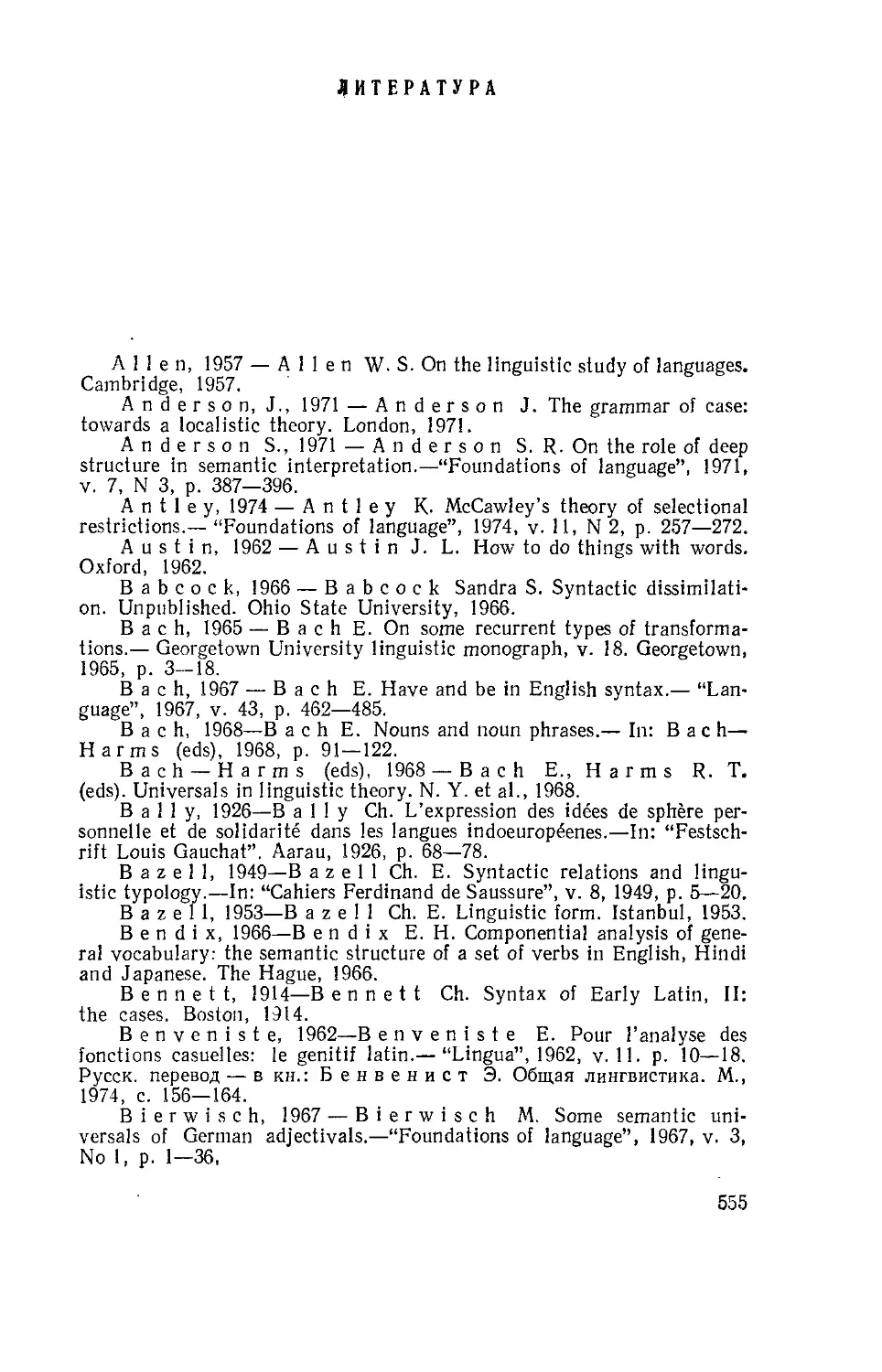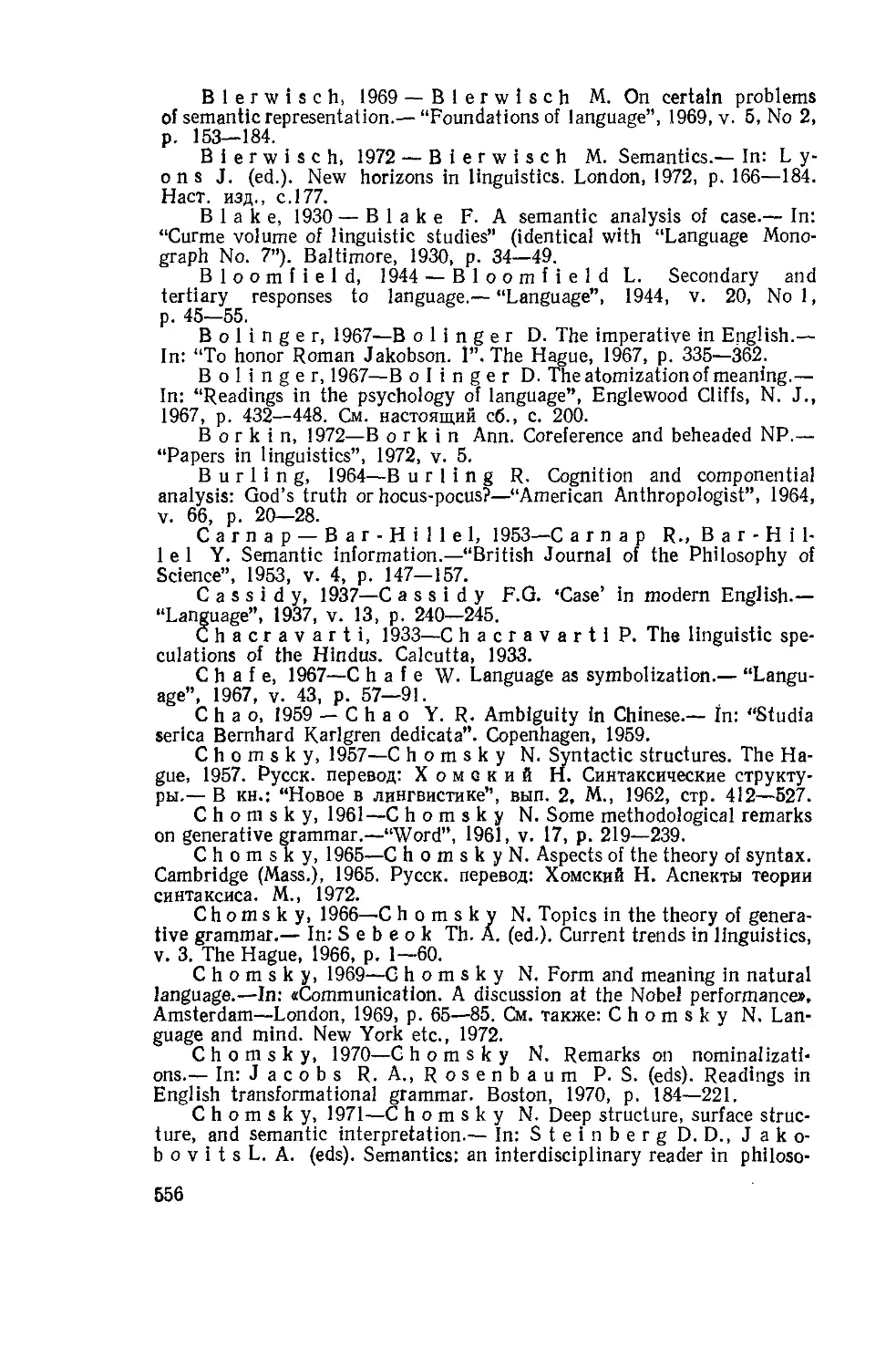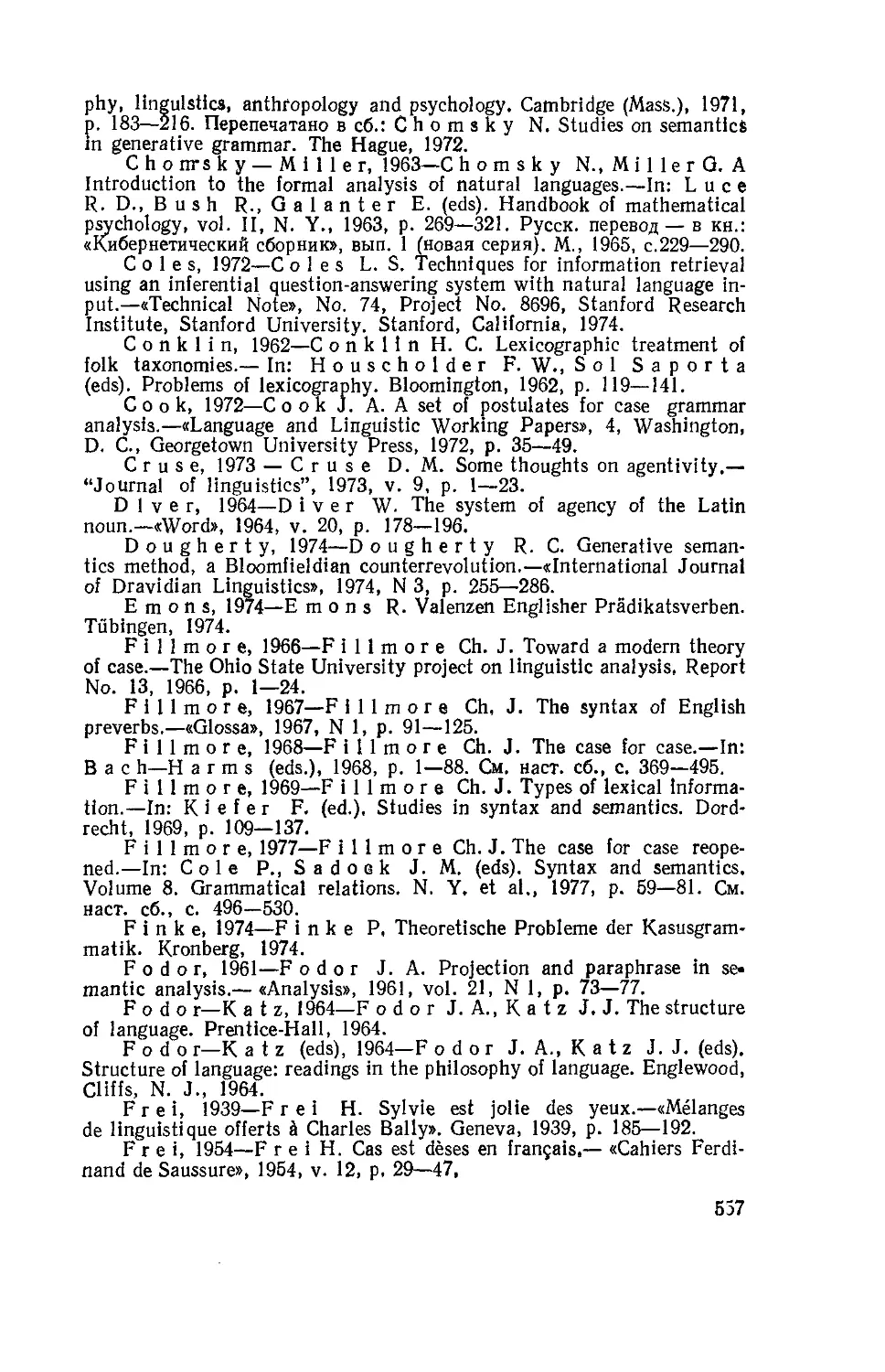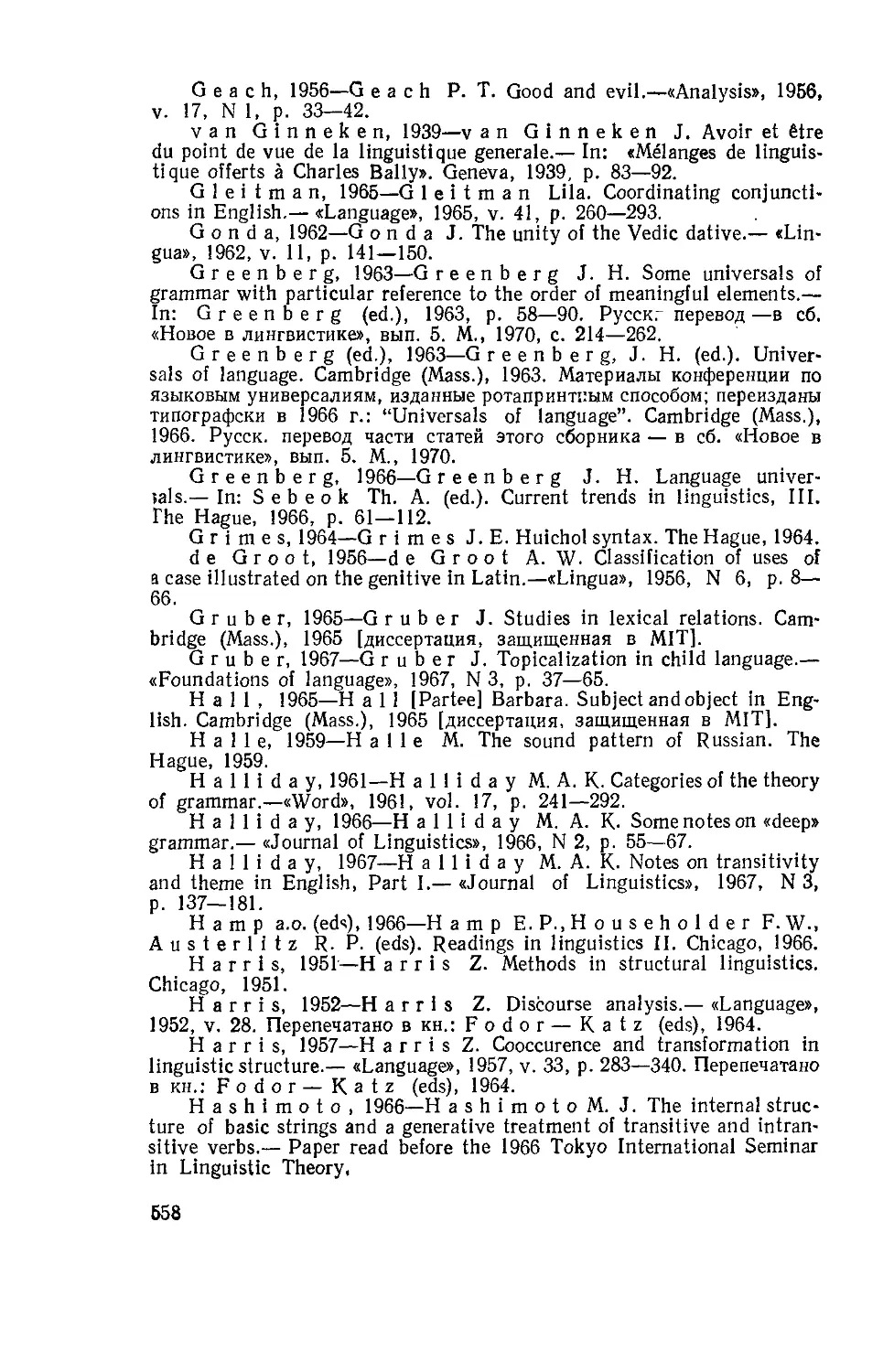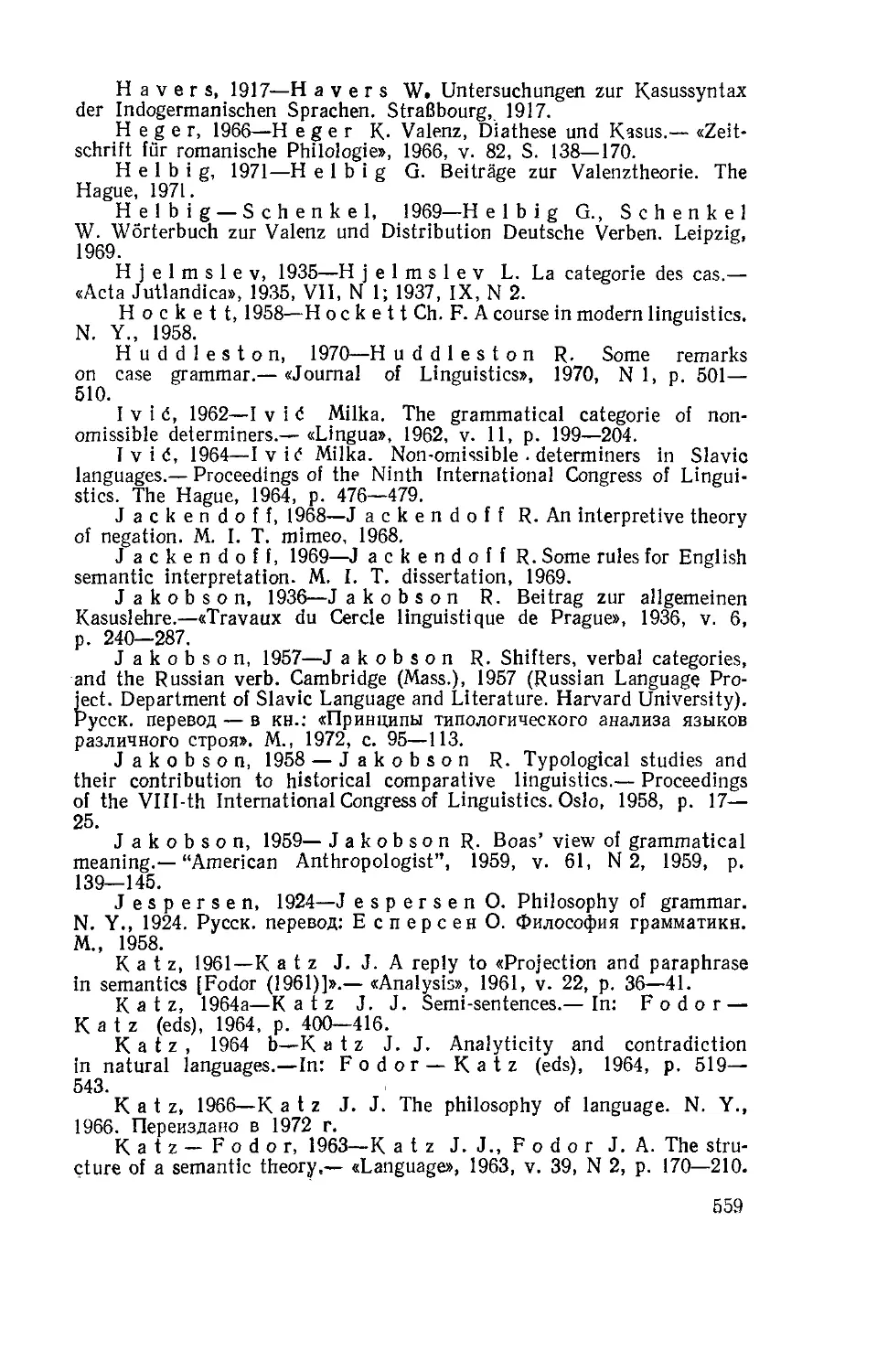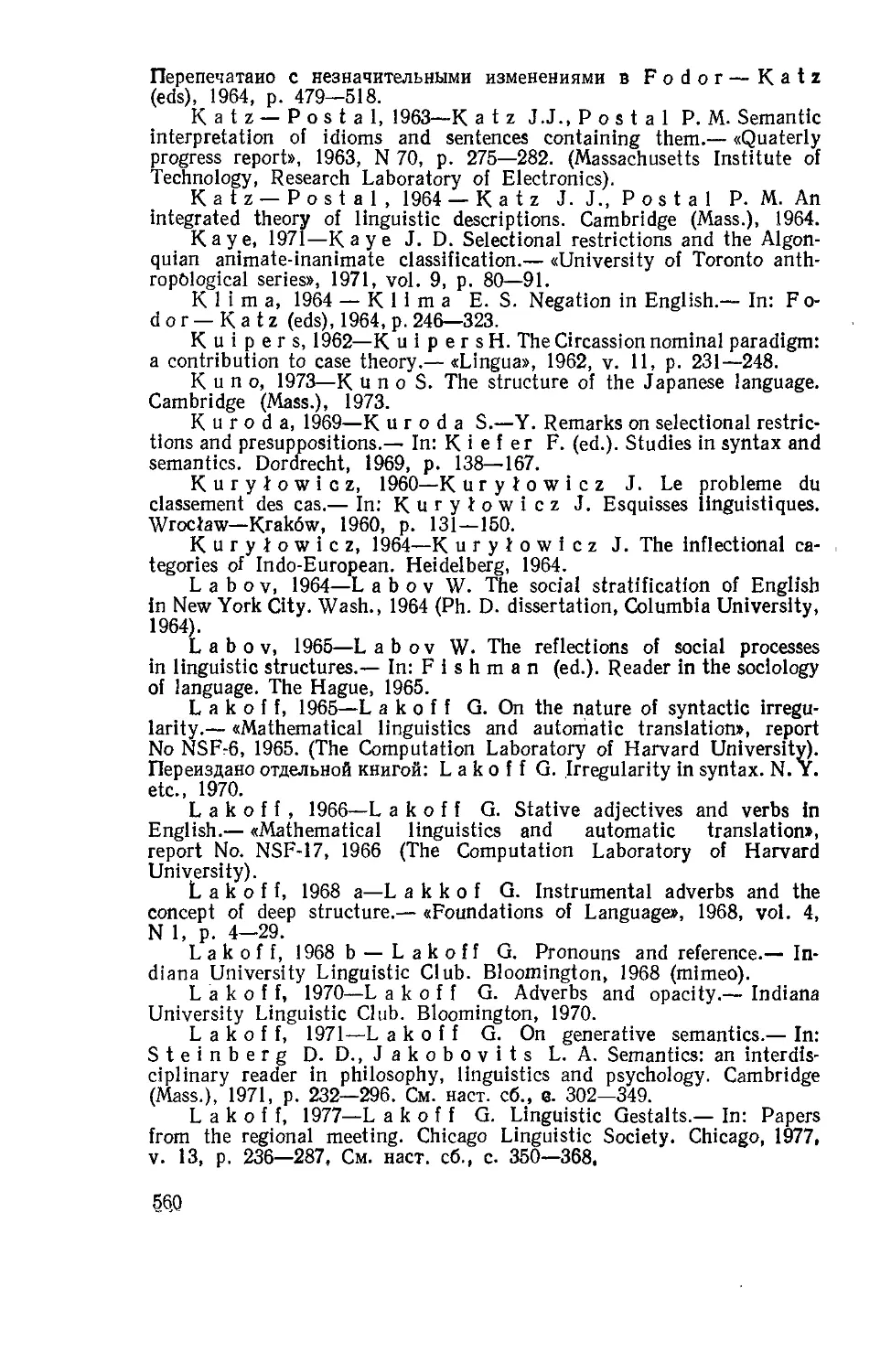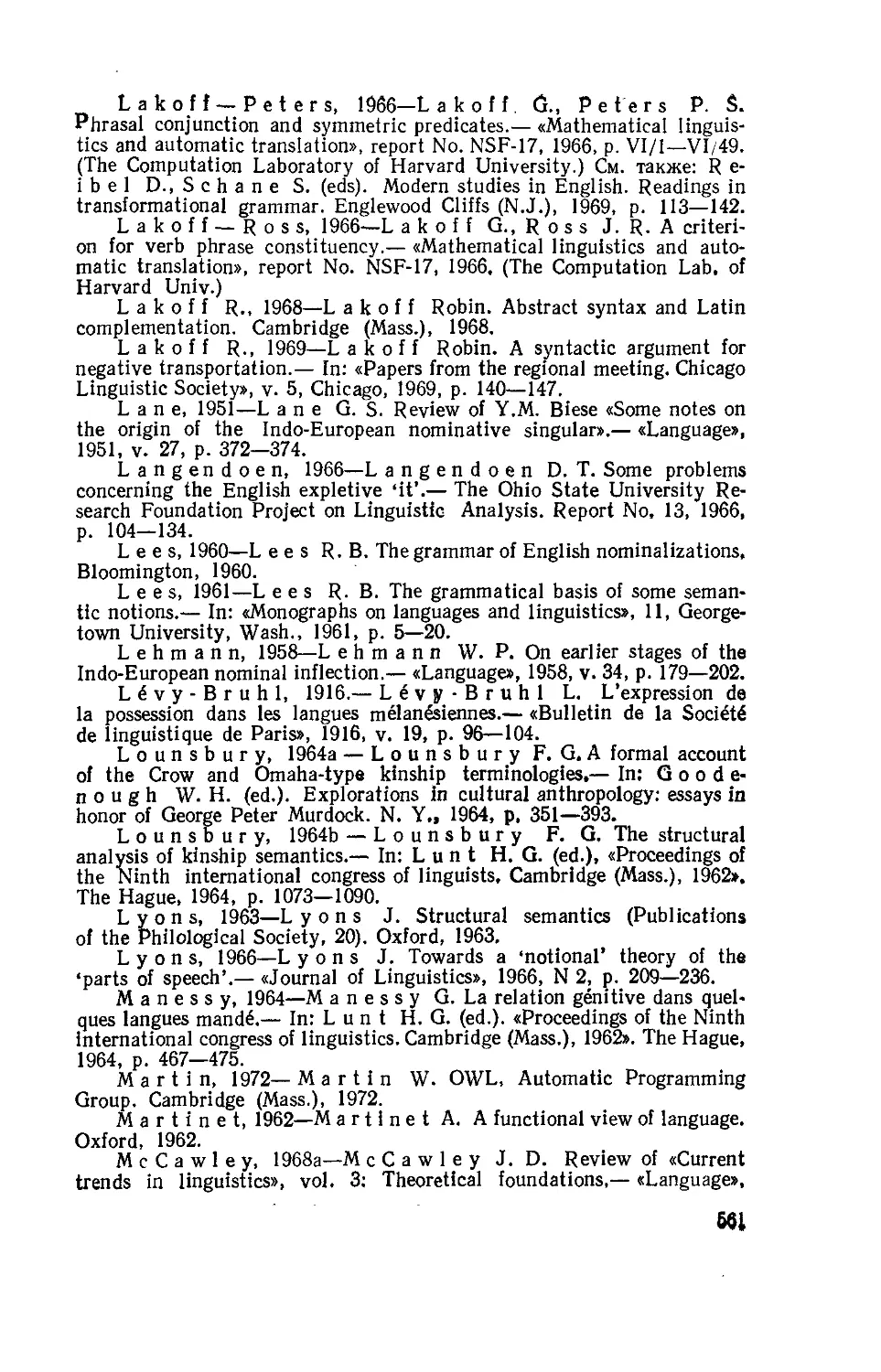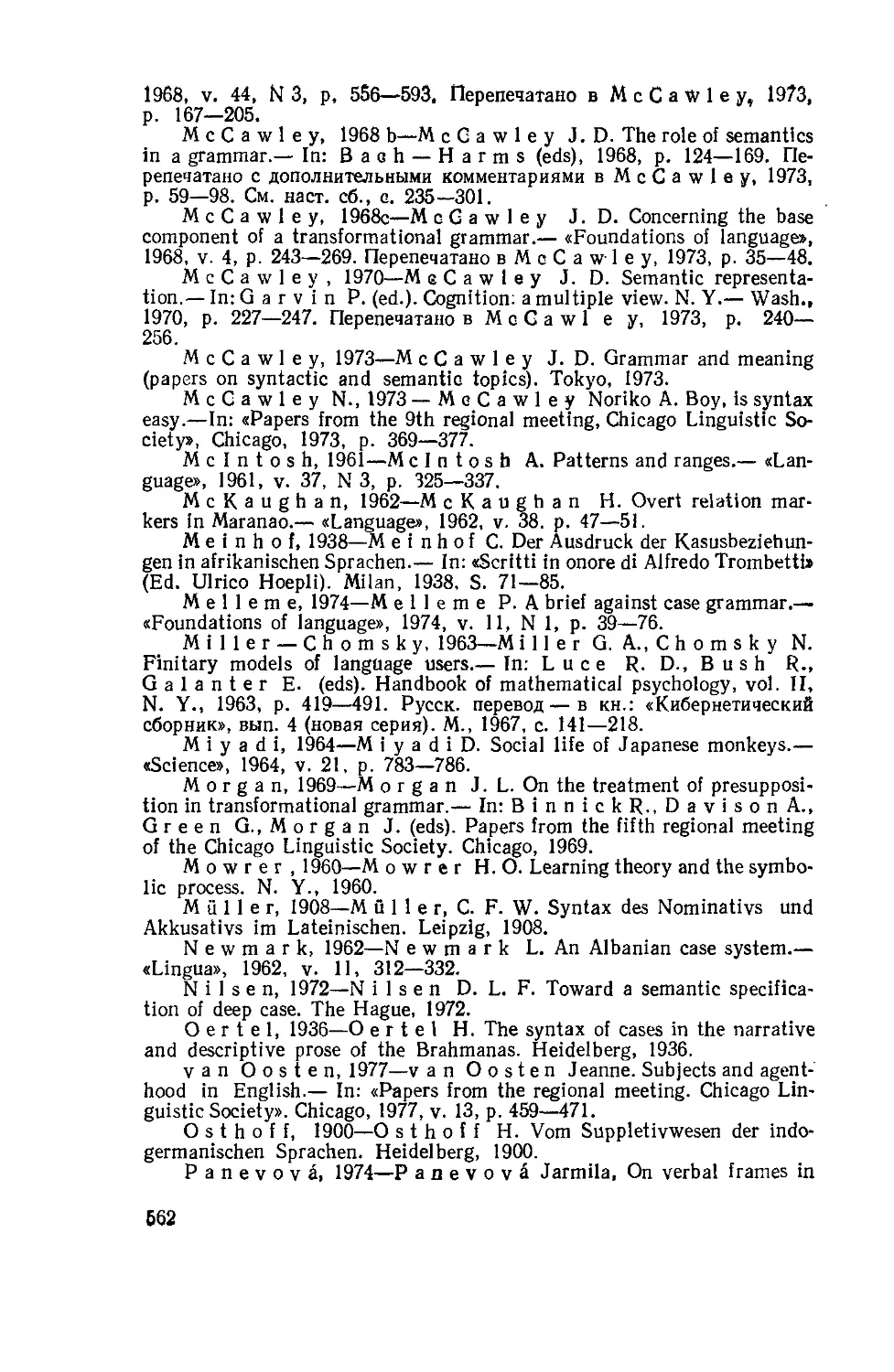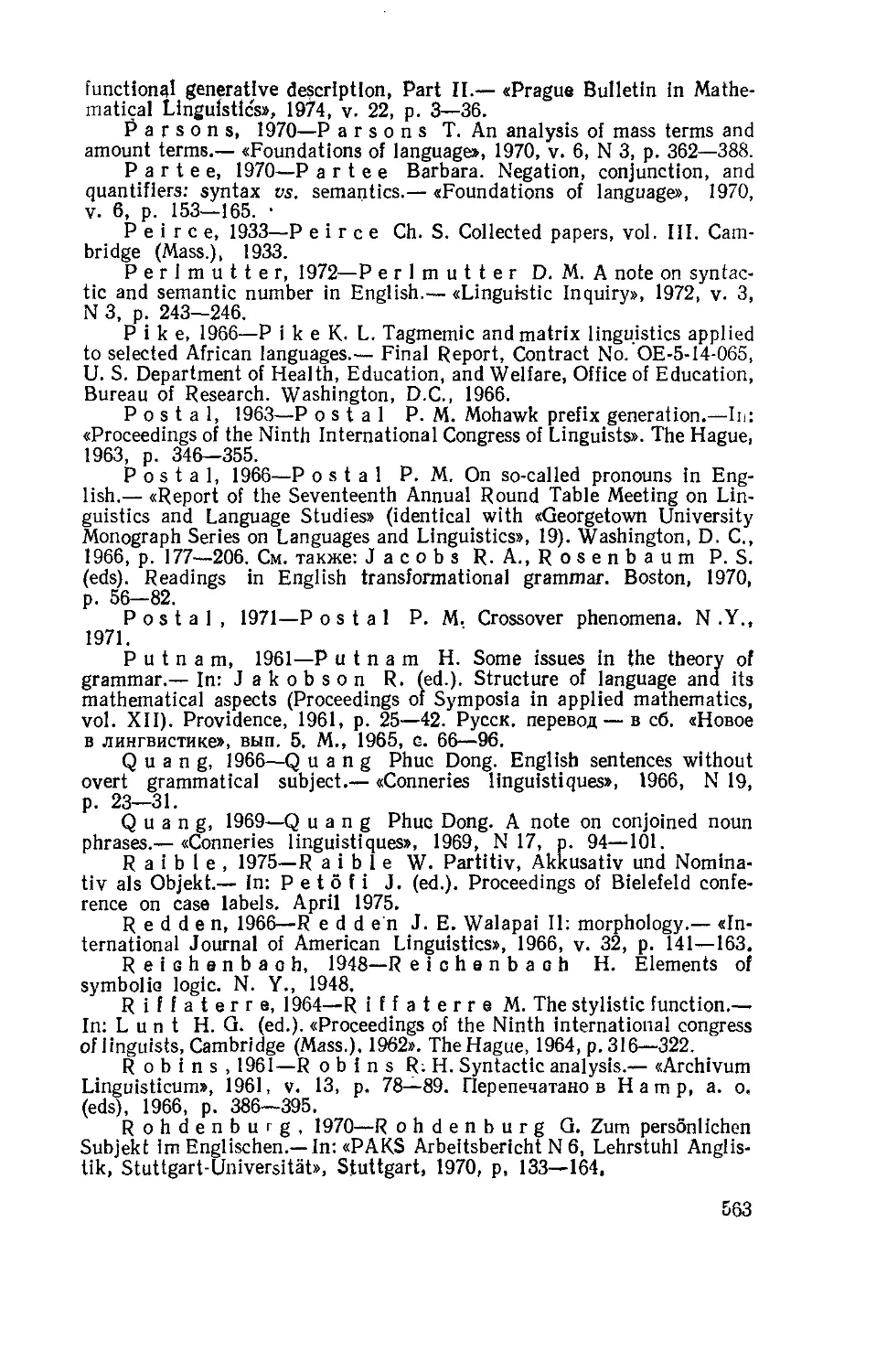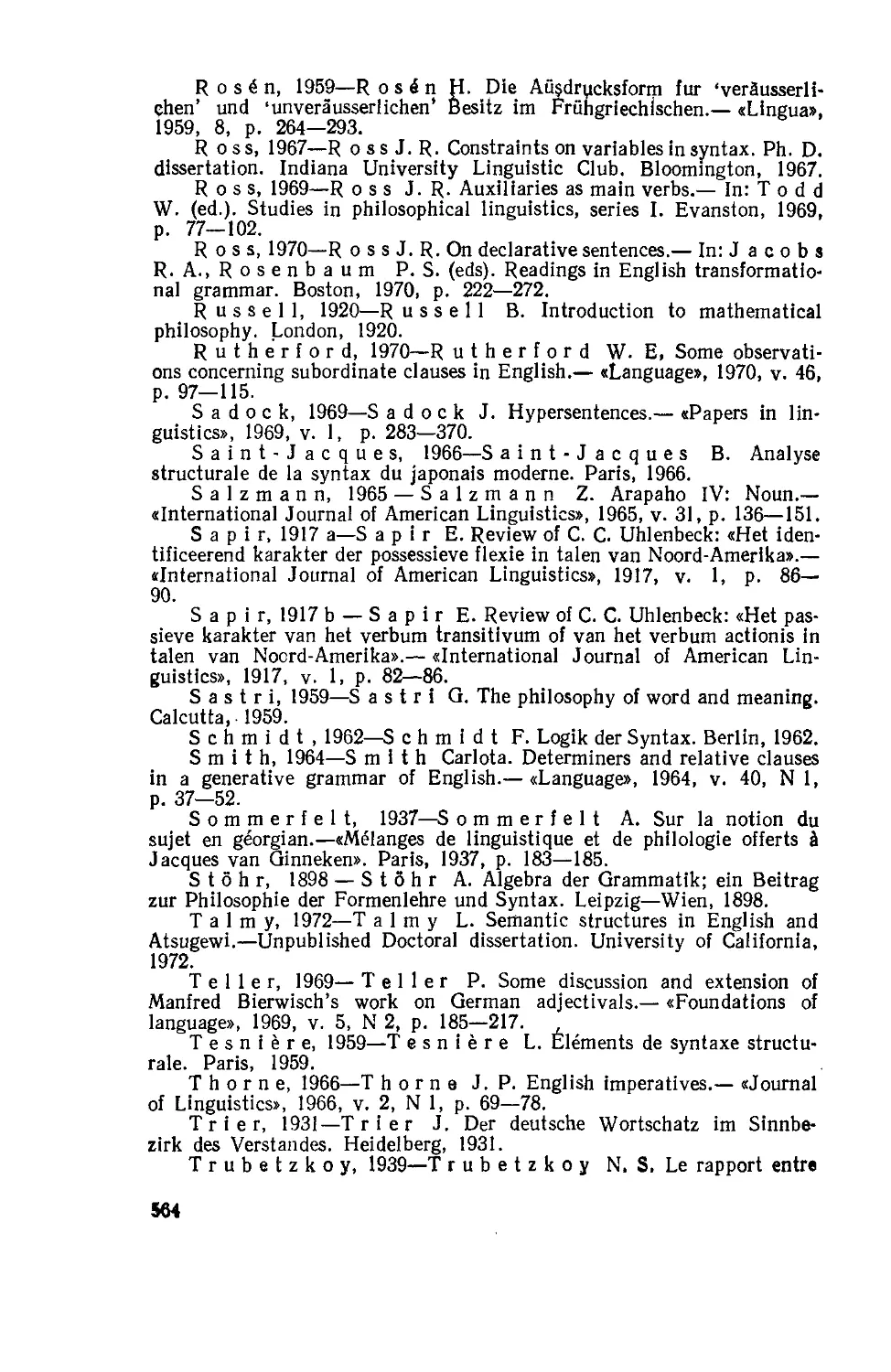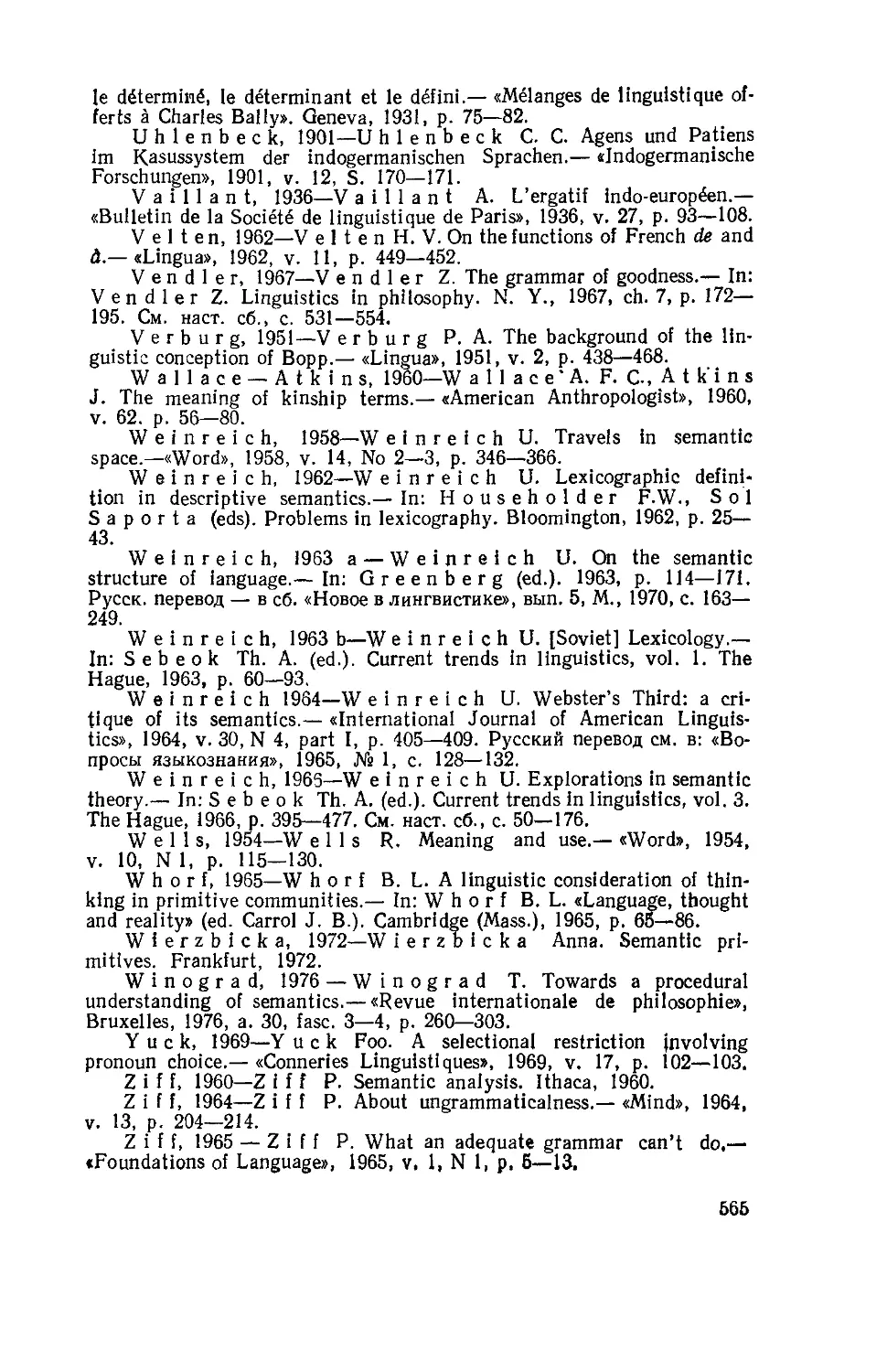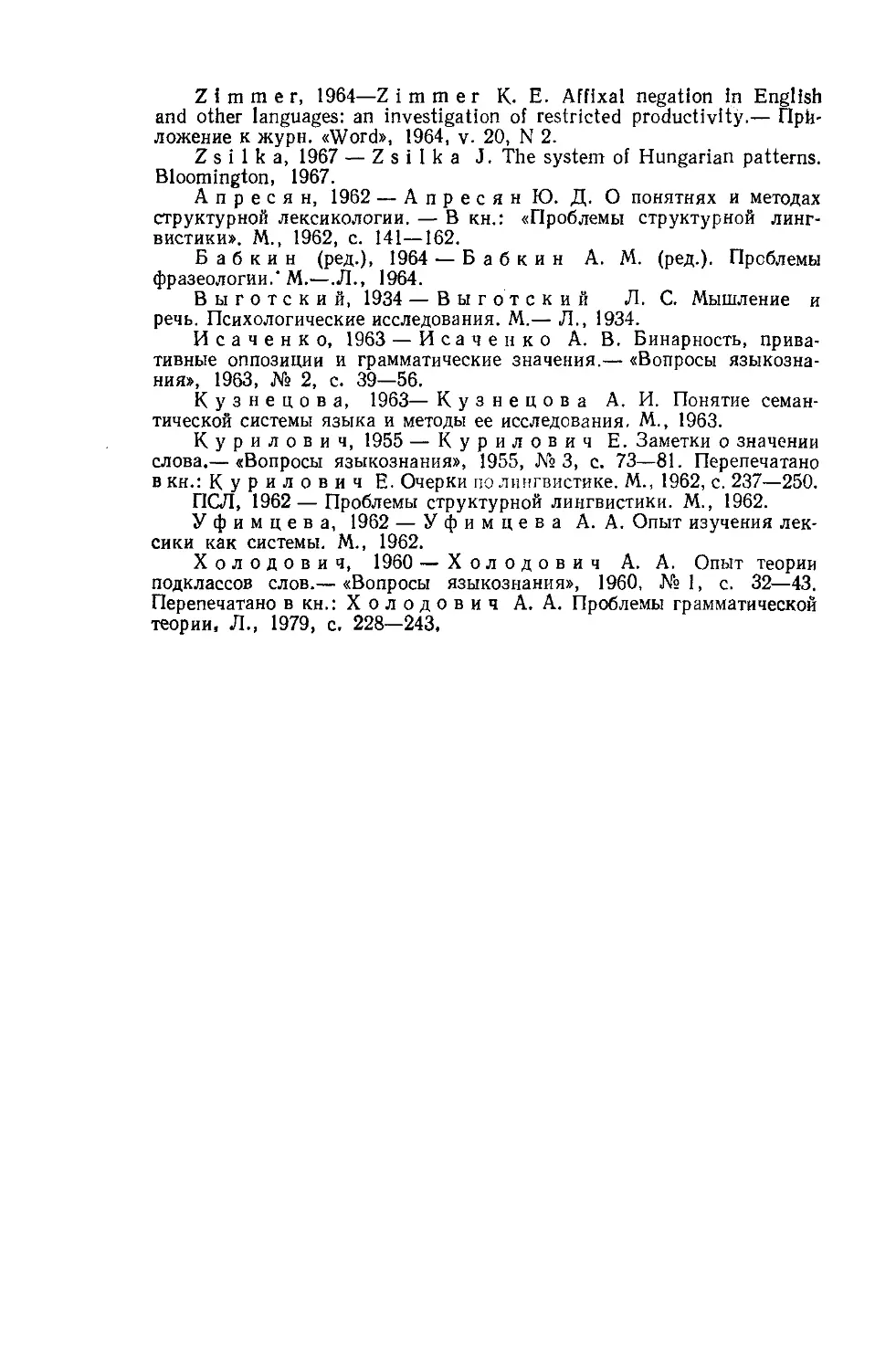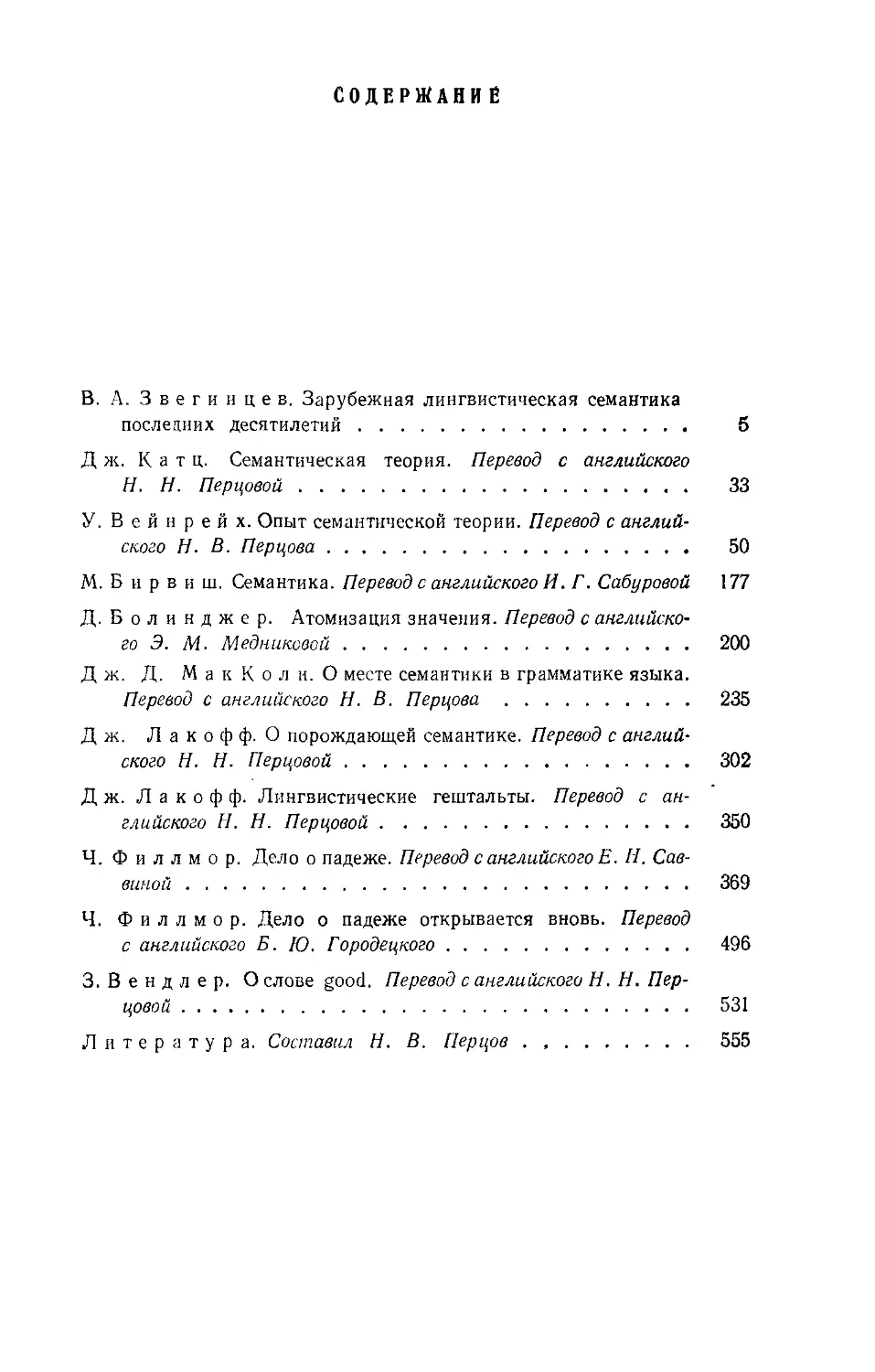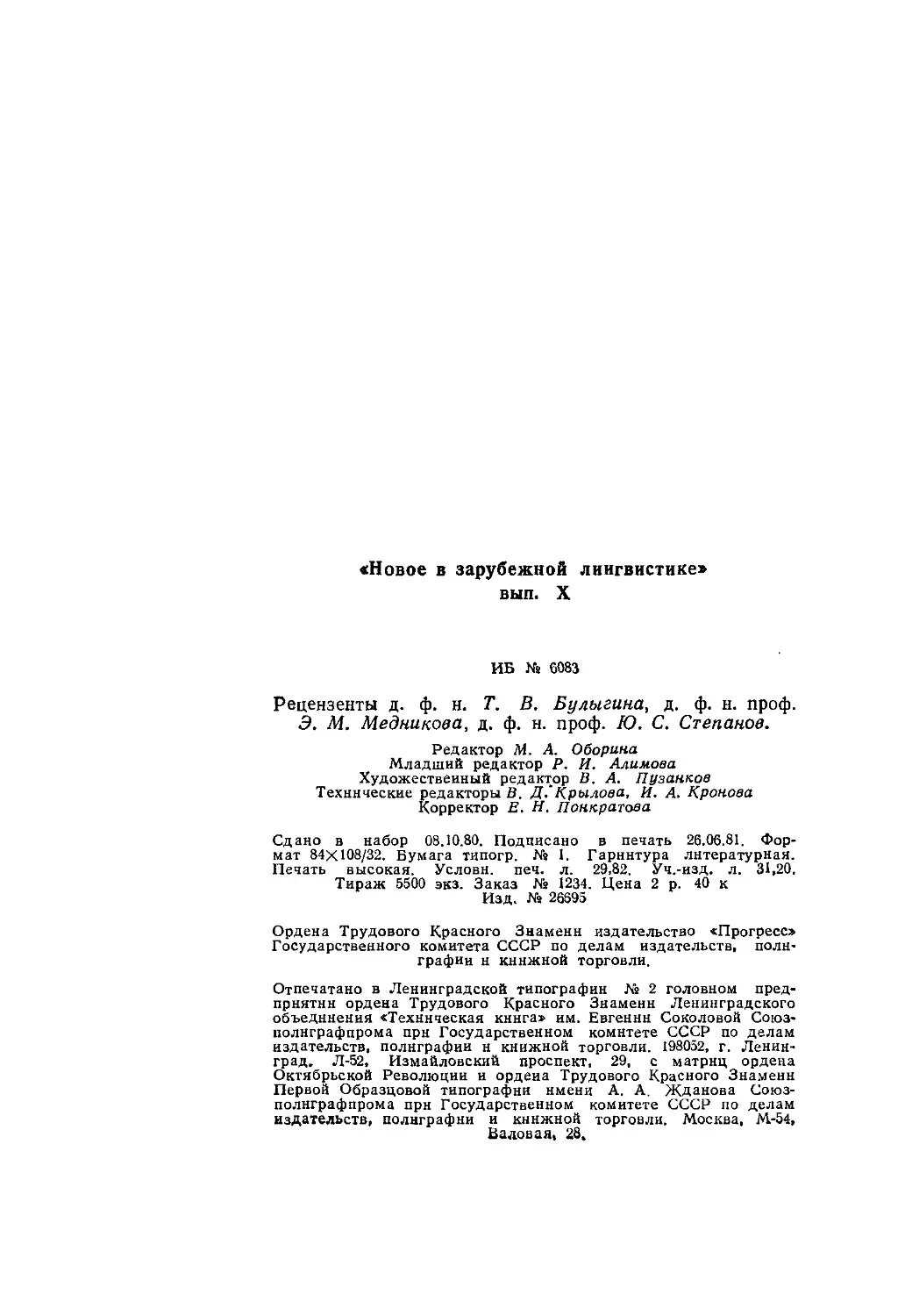Author: Звегинцева В.А.
Tags: философия психология лингвистика языковедение издательство прогресс сематика
Year: 1981
Text
НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
ВЫПУСК X
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА
Составление, общая редакция
и вступительная статья
В. А. Звегинцева
МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1981
ш
Переводы с английского языка Б. ГО ГОРОДЕЦКОГО, Э. М. МЕДНИКОВОЙ,
Н. В. ПЕРЦОВА, Н. Н riFPIIOliOO. И Г САКУООВОЙ, Е. Н. САВВИНОЙ
Редактор М, А. Оборина
В настоящий выпуск серии «Новое в зарубежной лингвистике»
включены работы наиболее видных зарубежных языковедов,
посвященные различным направлениям семантических исследований
последних десятилетий, большинство которых не получило достаточно
полного освещения в советской научной литературе.
Книга рекомендуется лингвистам всех специальностей, а также
философам и психологам.
Составление, вступительная статья, перевод на русский язык —
издательство «Прогресс», 1981.
70101—836
Н ооб(01)—81 182~-81 4602000000
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ
1.
В настоящий сборник вошли по преимуществу статьи
американских ученых, опубликованные в 60-е и 70-е годы.
Объясняется это тем, что за рубежом именно лингвистами
США в этот период были разработаны новые подходы к
изучению семантики и высказаны оригинальные идеи
относительно ее положения в лингвистической теории*. Учитывая
факторы, характеризующие становление американской
лингвистической школы, такая ситуация представляется
несколько неожиданной.
У истоков американской лингвистической школы,- то
есть направления исследований, обладающего особыми,
только ему присущими чертами, стояли два крупных
ученых — Э. Сепир и Л. Блумфилд. И если от Л. Блумфилда
пошло блумфилдианство и даже постблумфилдианство, то
никакого «сепирианства» не возникло. И обусловлено это
обстоятельство было, несомненно, тем, что хотя Э. Сепир
имел дело с «местным» языковым материалом (американских
индейцев), пожалуй, в большей мере, чем Л. Блумфилд,
он стоял ближе к методической и теоретической европейской
традиции.
Как раз разрыв с этой традицией и был самой
существенной чертой американской школы лингвистики. Впервые он
проявился в работах Ф. Боаса, и в особенности в его
введении к «Руководству по языкам американских индейцев».
Форму законченной концепции он получил в работах Л.
Блумфилда, где с полной категоричностью языковое значение,
составляющее важнейший объект изучения европейской
лингвистики, либо вообще исключалось из лингвистический
науки, либо формулировалось в терминах, далеких от
лингвистики. Весьма показательным в этом отношении является
«Словарь американской лингвистической терминологии»,
* Эволюции современной семантики и другим ее направлениям,
развивающимся в разных странах, планируется посвятить
последующие сборники серии «Новое в зарубежной лингвистике».
5
составленный Эриком Хэмпом и охватывающий период с
1925 по 1950 г. Определение терминов дается в словаре
посредством соответствующих цитат американских авторов,
К термину «значение» приводятся такие толкования:
«Признаки, относящиеся к связи стимула и реакции, есть
значение». «Каждое высказывание может быть полностью
описано в терминах лексических и грамматических форм;
мы должны только помнить, что значения не могут быть
определены в терминах нашей науки» 1. Обе эти цитаты
принадлежат Л. Блумфилду. Ему следовали и все те языковеды,
которые стремились подчеркнуть свою принадлежность
к американской лингвистической парадигме. Так, М. Джоз
утверждал, что значение должно изучаться не в
лингвистике, а в социологии 2. А отсюда делался и более
принципиальный вывод для всей лингвистики в целом, который в самом
общем виде сводился к резкому сужению поля
лингвистических исследований. «Когда лингвистическая наука,—
писал, например, МакДэвид,— употребляет термин «язык»,
она ограничивает его системами условных акустических
символов, посредством которых общаются люди» 3. Э. Улен-
бек в своем докладе на сессии, приуроченной к «золотому
юбилею» (50-летию) Лингвистического общества
Америки, приводит слова позднее раскаявшегося в своих блумфил-
дианских грехах 4 Ч. Хокетта (из его известного «Курса
современной лингвистики»): «Лингвистика всегда
сосредоточивалась на трех центральных подсистемах
(грамматической, фонологической и морфофонемической), проявляя
мало заботы о периферийных системах», и совершенно
справедливо комментирует: «Такое утверждение могло быть
сделано только при условии, что под «лингвистикой»
понимается «лингвистика в Америке», и слово «всегда» оказывается
эквивалентным «со времен Блумфилда» 5. Много позднее,
оглядываясь на период господства в США блумфилдианской
концепции, современный американский лингвист У. Чейф,
. ". ' См. Э. X э м п. Словарь американской лингвистической
терминологии, перев. с англ., М., 1964, с. 78.
i M. J о о s. Language design.— «Journal of the Acoustical Society
of America», vol. 22, 1950, p. 701.
— s Jr. M с D a v i d. Review of Ch. Morris Signs, Language and
Behavior.— «Studies in Linguistics», Vol. 7, 1949, p. 69.
4 См. Ch. Ho eke 11. The State of the Art. The Hague, 1968.
- 5 E. M. Uh 1 e n b e с k. Linguistics in America 1924—1974.—
Ъ сборнике: H. Hoenigswald (ed.). The European Background
of American Linguistics. Dordrecht, 1979, p. 128.
6
положивший семантическую структуру в основу своей теб-
рии языка, констатировал последствия этого господства в
таких словах: «Лингвистика в настоящее время оказалась
в неудобной позиции, так как из всех разделов науки о
языке, которые она изучила, менее всего она узнала о
семантике» \ Это горькое признание не помешало самому У. Чей-
фу страницей ниже заявить, что, конечно же, слово,
поскольку оно относится к поверхностной структуре, нельзя
признать значимой единицей. «Любая серьезная современная
точка зрения на язык рассматривает элементы
поверхностной структуры лишь как косвенно соотносимые со
значением, так что мало толку в попытках обнаружить понятие,
которое можно было бы соединить с таким элементом.
Концептуальная структура и поверхностная структура —
разные вещи»2.
Но так или иначе, а лингвистика США в 60-е и 70-е годы
постаралась выйти из описанного «неудобного положения»
и именно семантику превратила в один из главных
предметов своего научного рассмотрения. Разумеется, это
произошло не вдруг и не само по себе, а явилось следствием
возникновения новых методов лингвистического исследования
и изменения представления о природе языка. В США эти
процессы получили свое конкретное воплощение в области
семантики в компонентном анализе, в интерпретирующей
и порождающей семантике в рамках генеративной
лингвистики, а также в том направлении, которое условно можно
назвать ролевой семантикой. Конечно, для полноты
картины следовало бы упомянуть и о концептуальной семантике
Уоллеса Чейфа, но его работы выходят за пределы объема
настоящего сборника, и, помимо того, он хорошо известен
советскому читателю по его переведенной на русский язык
книге «Значение и структура языка».
Ниже последовательно будут рассмотрены три вида
выделенных выше семантических исследований и указаны их
конечные выводы.
2.
Компонентный анализ нельзя считать собственно
американским явлением. Его начала можно обнаружить в
построении универсальных «философских» языков, в методике
1 W. С h a f e. Meaning and the Structure of Language. Chicago and
London, 1970, p. 73.
2 Там же, с. 74.
7
составления идеографических словарей типа «Тезауруса»
Роже, а в более близкой перспективе — в попытке Л. Ельм-
слева выделить предельно элементарные единицы плана
содержания — фигуры; или в стремлении таких
языковедов, как Поттье, Греймас и Косериу, использовать
разработанное в фонологии понятие различительных признаков
для структурного анализа лексических значений. Но именно
в США компонентный анализ получил свое окончательное
методическое завершение и — что особенно важно — свое
оригинальное приложение и теоретическое истолкование.
В основе компонентного анализа, как он толкуется в
американских работах рассматриваемого нами периода,
лежат три главных принципа: описание значений
словарного состава естественных языков через посредство
конечного набора элементарных семантических единиц или
компонентов, представление этих семантических компонентов
как независимых от конкретных языков универсальных
репрезентаций и интерпретация их в качестве компонентов
концептуальной системы, входящей в познавательную
структуру человеческого ума. Естественным образом,
подвергать анализу и давать оценку компонентному анализу
следует по совокупности всех названных принципов, но это
возможно сделать лишь после того, как будет более
подробно разобран каждый из них в отдельности. Нелишне при
этом заметить, что нередко исследования, ориентирующиеся
на компонентный анализ, избирают в качестве своей основы
лишь один или два из перечисленных принципов, используя
его в, так сказать, «усеченной» форме и ставя тем самым
перед собой значительно более скромные задачи, нежели те,
на которые претендует компонентный анализ во всей
целостности своих принципов. Как правило, в такого рода
работах используется лишь принцип описания лексических
значений посредством ограниченного набора семантических
компонентов. С него и начнем.
Обращение к этому принципу и до известной степени
успех его был обусловлен очевидной произвольностью и
субъективностью традиционных описаний лексических
значений в статьях толковых словарей. Описание значений слов
через посредство семантических компонентов привлекало
своей кажущейся объективностью и простотой, которые
допускали и использование формального аппарата (как это
делает в своей статье видный лингвист из ГДР М. Бирвиш).
Однако чем дальше развивалась техника описания лек-
8
сических значений с помощью семантических компонентов,
чем шире он охватывал лексику языков, тем больше
возникало трудностей и усложнялись его методические
процедуры и тем яснее становилась ограниченность такого
подхода.
Анализ лексических значений посредством
семантических компонентов имеет дело как с микроструктурами, так
и с макроструктурами. В первом случае анализируются
различные значения одного слова (если, конечно, оно поли-
семантично), во втором случае — обычно тематически
близкие группы слов. Но в обоих случаях, как было уже
упомянуто, компонентный анализ следовал тем процедурам,
которые были выработаны для выделения различительных
признаков в фонологии и для описания через пучки этих
различительных признаков отдельных фонем любого языка.
В результате такого подхода в фонологии был установлен
весьма ограниченный набор различительных признаков,
который образовывал универсальный алфавит описания
фонем всех языков. По поводу статуса различительных
признаков велись горячие споры, известную ясность в которые
внесли слова Р. Якобсона (а именно с его именем
связывается концепция различительных признаков в фонологии)
о том, что уровень фонем и уровень признаков речевого
анализа требуют того, чтобы оба набора строго различались.
Уже этих поясняющих слов достаточно для того, чтобы,
принимая фонемы как минимальные единицы языка,
вынести различительные признаки за пределы языка и отнести
их к уровню описания — описания через посредство
конечного универсального набора признаков. Кстати говоря,
в обратной последовательности именно универсальный
характер фонологических различительных признаков
послужил Н. Хомскому основанием для отнесения их к языку,
поскольку он и ставил перед собой задачу найти языковые
универсалии. Другими словами, универсальность
используется у Н. Хомского в качестве критерия определения
языкового статуса тех или иных категорий или единиц.
Какой же характер принимают все эти процедуры при
выделении семантических компонентов и через их посредство
определение (или описание?) лексических значений? Здесь
нет надобности останавливаться на этом, поскольку об
этом подробно говорится в соответствующих статьях
сборника. Однако все же представляется уместным сделать
несколько общих замечаний относительно действительных
9
рабочих возможностей компонентного анализа и тем самым
предоставить некоторые данные для его оценки.
Дж. Катц, являющийся, пожалуй, самой
представительной фигурой в разработке методики компонентного анализа
и его теоретического осмысления, демонстрирует его
технику на ставшем в дальнейшем стандартном примере со
словом bachelor. При этом он оперирует тремя категориями:
лексическими ридингами (или прочтениями), которые
вполне можно отождествить с тем, что в традиционных словарных
статьях именуется отдельными значениями слов;
семантическими маркерами (или признаками), которые и
воплощают собой минимальные семантические компоненты, и
селекционными ограничениями (или различителями). Если,
по мнению Дж. Катца, семантические маркеры выражают
концептуальные элементы структуры значения, то
селекционные ограничения указывают области их использования.
Как пишут Дж. Катц и Дж. Фодор в своей многократно
перепечатывавшеися совместной статье, «Семантические
маркеры и различители являются средствами, при помощи
которых мы можем разложить значение одного из смыслов
лексической единицы на составляющие его
концептуальные атомы и таким образом представить семантическую
структуру словарной единицы и семантические отношения
между словарными единицами. Иными словами,
семантические отношения между различными смыслами
лексической единицы и между различными смыслами разных
лексических единиц представляются посредством формальных
отношений между маркерами и различителями»1. Вот
как выглядит произведенное Дж. Катцем разложение
значения слова bachelor на составляющие его компоненты
(римскими цифрами помечаются отдельные ридинги, в
круглых скобках даются маркеры, а в квадратных —
различители):
bachelor ->- I. (физический объект), (живой),
(человеческий), (мужской), (взрослый) — [никогда не
женившийся]
II. (физический объект), (живой),
(человеческий), (молодой) — [рыцарь, служащий под
штандартом другого рыцаря]
1 J. К a t z, J. F о d о г. The Structure of Semantic Theory.—
«Language», vol. 39, 1963, p. 185—186.
ID
III. (физический объект), (живой),
(человеческий) — [имеющий академическую степень
после первых четырех курсов колледжа]
IV. (физический объект), (живой), (животное),
(мужской) — [не имеющий самки тюлень в
период спаривания] 1.
Сделаем теперь некоторые наблюдения относительно
предлагаемых методов разложения семантических структур,
засвидетельствованных отдельными словарными единицами.
С самого начала следует отметить, что компонентный
анализ, как он представляется Дж. Катцем, Дж. Фодором и
их последователями, не делает никакого различия между
микроструктурами и макроструктурами. Говоря
традиционным языком, он в равное положение ставит и
отдельные значения одного и того же слова и отдельные слова в
целом (что с очевидностью явствует и из приведенной выше
цитаты). Это можно рассматривать как первый шаг в
направлении утверждения статуса универсальности
семантических компонентов. Установление равенства между
отдельными значениями слова (по терминологии Дж. Катца —
смыслами лексической единицы) и словом, фактически
ведущее к упразднению автономии слова, находится в резком
противоречии с выделением лексических ридингов: по самой
своей сущности ридинги (прочтения) мыслимы только в
пределах слова. Ведь нет никакой возможности выделить
отдельные ридинги слова, если нет самого слова. Здесь
следует обратить внимание и на то, что никакой особой
процедуры для выделения ридингов компонентный анализ не
предлагает. По сути дела, он берет их готовыми из
традиционных словарных статей, где они, как было сказано,
выступают в виде отдельных значений слов.
Критически настроенные по отношению к
компонентному анализу лингвисты справедливо указывают и на
произвольность, интуитивность выделения семантических
маркеров, что особенно отчетливо проявляется тогда, когда
анализу подвергаются макроструктуры, состоящие из групп
слов. Мало того, что эти группы допускают варьирование
семантических маркеров, сами эти группы слов составляются
1 J. К a t z. The Philosophy of Language. New-York — London,
1966, p. 155. Этот пример приводится также ниже, в статье Дж.
Катца, но в иной интерпретации.
11
по специально подобранным тематическим признакам с
очевидной общностью значений. За пределами таких
тематических групп компонентный анализ, в сущности,
оказывается бессильным. Так, едва ли он может что-либо дать при
анализе такой группы слов, как: бытие, утка, бег, колбаса,
учащение, пример, белизна. Будучи замкнут в узких
лексических пределах, компонентный анализ оказывается
неспособным решить главную свою задачу — создать конечный и
ограниченный универсальный алфавит для описания
семантических структур языков в целом (как это удалось сделать
с фонемным составом языков). Помимо всего прочего, такой
алфавит должен бы быть равнозначен концептуальному
богатству языков, исчислить которое едва ли возможно.
Наконец, надо указать и на мнимую независимость
семантических компонентов — маркеров от семантических
структур конкретных языков. Неправомерность подобных
притязаний демонстрирует и уже приведенный пример с
разложением семантической структуры слова bachelor. В первом
его ридинге находится различитель [никогда не
женившийся]. Этот различитель ориентируется на особенности
русского языка, где, поскольку речь идет о мужской особи
(см. маркер (мужской)), то есть о холостяке, уместно
использовать как раз этот различитель: к женской особи он
неприменим. В английском же языке различитель [Never
Married] в равной степени относится и к мужской особи и к
женской особи и поэтому должен бы быть переведен по-
иному: [никогда не состоявший в браке]. Кстати говоря,
русская форма данного различителя делает излишним и
маркер (мужской), так как [никогда не женившийся] может
быть применен только к мужской особи.
Подобного рода наблюдения (более подробный их анализ
см. в статье Д. Болинджера) свидетельствуют о том, что
семантические компоненты, вычленяемые из лексикона
конкретных языков, не могут быть универсальными. А
поскольку это так, они не имеют никаких оснований
рассматриваться как элементы мыслительной структуры в силу того
обстоятельства, что приписывание семантическим компонентам
такого их статуса было бы равнозначно признанию
национальных форм мышления, что очевидно абсурдно.
Но, как отмечалось, именно оценка семантических
компонентов как универсальных единиц, обладающих
когнитивными качествами, послужила основанием для
включения компонентного анализа в теорию трансформационных
12
порождающих грамматик на том ее этапе, когда она
вынуждена была принять в свое лоно семантический компонент.
Но это уже относится к другому направлению
семантических исследований в американской лингвистике.
3.
В 1957 г. с выходом в свет работы Хомского
«Синтаксические структуры» в США грянула так называемая «хом-
скианская революция». В последующее десятилетие идеи,
высказанные Н. Хомским, были в центре чрезвычайно
горячих дискуссий, участники которых нередко стояли на
полярно противоположных позициях, с равной
старательностью вознося лингвистическую теорию Н. Хомского до
необыкновенных высот или низвергая ее в самые
уничижительные бездны. В этих темпераментных дискуссиях многое
было и от простого недопонимания и от явных
недоразумений, обусловленных, в частности, тем, что теория
трансформационных порождающих грамматик, или, как она стала
позднее именоваться, генеративная лингвистика, была
отнюдь не статическим образованием, но время от времени
под напором критических замечаний совершала весьма
крутые повороты. Это вовсе не следует ставить ей в упрек,
как это иногда делают,— нет ничего противопоказанного в
том, что научная концепция в процессе своего развития
подвергается изменениям,— но это обстоятельство следует
учитывать. Не изменяя своим основным принципам, теория
порождающих трансформационных грамматик прошла через
несколько стадий, отмеченных даже особыми ярлыками,—
автономного синтаксиса, стандартной теории и
расширенной стандартной теории (и, кстати, на этом остановилась).
Естественным образом, она должна получать свою оценку
преимущественно по своей завершающей стадии, хотя нельзя
не отметить, что постоянная переформулировка и
переосмысление основных категорий, таких, например, как глубинная
структура или разграничение между компетенцией и
употреблением (performance), не могли не вносить путаницы
в понимание сущности концепции Н. Хомского, и довольно
часто дискуссии сосредоточивались как раз на
прояснении этих категорий.
Какой бы интерпретации ни подвергалась деятельность
Н, Хомского, никак нельзя отрицать того, что она произве-
13
ла коренные изменения в лингвистике США. Вот как их
описывает Э. Уленбек, принадлежащий, между прочим, к
последовательным антагонистам Н. Хомского: «В течение
нескольких лет климат американской лингвистики, видимо,
полностью изменился. Произошло нечто вроде Umwertung
aller Werte (переоценка всех ценностей). Традиционная
школьная грамматика, которая — в лучшем случае —
игнорировалась американскими структуралистами, была
признана в основном правильной в применении к синтаксическим
анализам. Всячески подчеркивалось различие позиций в
стремлении отмежеваться от более старого поколения
лингвистов, которые старались только описывать и очень редко
достигали каких-либо объяснений. В то время как М. Джоз
подчеркивал различия между языками, теперь считалось,
что все языки почти одинаковы; их различия сводились
лишь к некоторым несущественным деталям поверхностной
структуры. Буквально за одну ночь произошло полное
переключение с механистической позиции на менталисти-
ческую, хотя очень скоро стало ясно, что легче объявить
себя менталистом, чем действовать как таковой, что было
продемонстрировано неуверенной позицией в отношении
семантического аспекта языка. В прошлом изучались
различные языки; теперь английского — родного языка
лингвистов — оказалось достаточно. Если ранее сбор огромного
количества лингвистического материала считался
обязательной предпосылкой для достижения описательных
результатов, и лингвистическая теория сводилась к минимуму, то
теперь наблюдается тенденция главное внимание уделять
теории, а факты отступают на задний план» 1.
Даже это, далеко не благожелательное, описание дает
основание для заключения, что лингвистическая теория
Н. Хомского привела к ряду положительных результатов.
Она способствовала постановке больших теоретических
проблем, от которых американская лингвистика отвыкла,
увязнув в запутанных описательных процедурах; она заставила
обратиться к рассмотрению природы языка и созданию
объяснительных теорий, необходимых для понимания того,
как работает язык (а для этого вполне можно было обойтись
одним языком); она включила лингвистику в широкий
научный контекст, и, наконец, она провела достаточно строгую
1 Е. Uhlenbeck. Указ. раб., с. 132—133.
14
экспликацию размытых категорий традиционной
грамматики, от которой взяла в качестве неопределимых величин
свой набор единиц (предложение и пр.) и ими стала
оперировать. Никак нельзя забывать и того, что она
послужила стимулом для создания новых направлений
исследований, которые, возникнув в недрах трансформационной
порождающей модели первоначально в качестве ее
ответвлений, развились затем в особые теории. Именно им и
отведено главное место в настоящем сборнике.
Вместе с тем не следует закрывать глаза на очевидные
недостатки теории трансформационных порождающих
грамматик. В самом общем виде они проявляются в
изолированности от общего движения науки о языке, в чрезвычайно
узком лингвистическом кругозоре ее создателя — Н. Хомс-
кого. По сути дела, все его противопоставления, резкие
критические эскапады и замечания, которые немало
способствовали шумихе вокруг имени Н. X омского, относятся не к
лингвистике вообще, а к лингвистике, практиковавшейся в
США и сосредоточившейся на таксономических описаниях
поверхностной (по терминологии Н. Хомского) структуры
языков — по тем правилам, которые сформировались в
постблумфилдианстве. Говоря более лапидарно,
генеративная лингвистика — это в своих основах преимущественно
американское явление, которое, однако, впоследствии
вышло за национальные пределы и по тем или иным причинам
нашло своих последователей в других странах.
Эпизодические экскурсы в европейские теории языка, на которые
отваживается Н. Хомский, носят неубедительный характер.
Так, Н. Хомский указывал на параллелизм таких понятий,
как порождение и гумбольдтовское Erzeugung (которые,
впрочем, скорее надо переводить как «производство» или
«создание») или противопоставления компетенции и
употреблений, с одной стороны, и соссюровского языка и речи, с
другой стороны. По мере развития принципов теории
трансформационных порождающих грамматик становилось,
однако, ясным, что это — не совсем то, а, вернее,— совсем
не то. Такая же история приключилась и с картезианскими
основами генеративной теории, которые понадобились для
поддержания идеи врожденности языка и выхода теории
на абстрактный и универсальный уровни. Дотошные
критики Н. Хомского довольно быстро докопались, что никакой
картезианской лингвистики и не существовало, и все то, что
Н, Хомский приписывал школе «Грамматики» Пор-Рояля
15
(опубликованной в 1660 г.), в действительности
значительно раньше было высказано испанским грамматистом
Санктиусом, что, кстати говоря, открыто признавали и сами
авторы в предисловии к своей «Грамматике».
Главный же упрек в адрес генеративной лингвистики,
которому она не может ничего противопоставить,
заключается в том, что она не выполнила своей главной, широко
декларированной ею задачи — не создала объяснительной
теории. В конечном счете все свелось опять-таки к тому же
описанию — на этот раз описанию трансформационных
правил, посредством которых глубинные структуры
переводились в поверхностные структуры и таким образом
происходило порождение предложений. При этом в
основе трансформационных правил лежал принцип
рекурсивное™, а само порождение трактовалось в
математическом смысле, то есть как исчисление по определенным
правилам.
Настоящий сборник, впрочем, посвящен не оценке теории
трансформационных порождающих грамматик в целом
(хотя и это уместно), а той ее части, которая имеет касательство
к семантике. Кроме того, большинство статей, включенных в
сборник, свидетельствует о той реакции, какую вызвала
трактовка вопросов семантики в генеративной лингвистике.
И хотя на русский язык переведено значительное
количество работ Н. Хомского, по которым можно составить
вполне адекватное представление о том, что следует
понимать под интерпретирующей семантикой, и дать
последней доказательную критическую оценку, все же
представляется уместным в самой краткой форме напомнить
ее основные положения — тем более, что
интерпретирующая семантика и представляет ту печку, от
которой танцевали и Дж. МакКоли, и Дж. Лакофф, и
Ч. Филлмор, когда излагали свое понимание поднятых
вопросов.
Семантика вновь вошла в американскую лингвистику не
через парадную дверь, а через заднее крыльцо, сразу же
попав в объятия синтаксиса, которым и занимался главным
образом Н. Хомский. И за то место, котррое отвоевала
себе семантика в лингвистической теории, ей пришлось
заплатить дорого. Ей так и не удалось обеспечить себе
статус автономности. Ведь базовой единицей всей теории
Н. Хомского было предложение, и он сам признавал, что
«первоначально занимался общими и специфическими осо-
16
бенностями синтаксиса и фонологии и не делал никаких
серьезных попыток построить систематическую
семантическую теорию» х. Но и тогда, когда ему пришлось заняться
этим (а по-настоящему это пришлось сделать на стадии
расширенной стандартной теории), он признавался: «Что
касается отношений между синтаксисом и семантикой, то
моя точка зрения всегда оставалась агностической. Оба эти
понятия казались мне слишком неясными, чтобы получить
удовлетворительный ответ, каким образом можно различать
синтаксические и семантические правила и возможно ли
это вообще» а. В результате и возникло то, что ныне
именуется «синтаксической семантикой». Тут и пришелся ко двору
компонентный анализ, позволяющий концепты,
выражаемые семантическими маркерами и синтаксическими
элементами, рассматривать в одном ряду и подчинять общим
формальным процедурам.
Семантические проблемы возникли в
трансформационной порождающей грамматике в тесной связи с
разграничением между поверхностной и глубинной структурами 3 и
включением в нее, наряду с синтаксическим и
фонологическим компонентами, также и семантического компонента.
Сам Н. Хомский далеко не однозначно определял понятие
глубинной структуры (некоторые авторы насчитывали до 6
ее толкований), но в самом общем виде под ней следует
понимать грамматические отношения, присущие элементам
предложения, но непосредственно не выводимые из их
линейной последовательности. Главное внимание
трансформационной порождающей грамматики на последней стадии
ее развития было направлено на выработку логически
последовательной теории, которая была бы способна адекватно
объяснить и эксплицитно формулировать глубинную
структуру предложений. Семантическому компоненту
предписывалось подвергать «интерпретации» синтаксические
элементы глубинной структуры и таким образом
репрезентировать скрытый под поверхностной структурой смысл
предложений. В какой-то мере семантический компонент
должен обусловливать и различные смысловые ридинги
1 «Discussing Language». The Hague—Paris, 1974, p. 30.
3 Указ. раб., с. 49.
8 У. Чейф ставил в большую заслугу разграничение между
поверхностной и глубинной структурами Н. Хомскому. Между тем, как
хорошо известно, это разграничение принадлежит Ч. Хокетту. См. его
«A course in modern linguistics». New York, 1938, p. 249.
П
(прочтения) предложения. Такова в общих чертах сущность
интерпретирующей семантики \
Именно понятие глубинной структуры (и
необходимость последующей интерпретации ее элементов через
посредство семантического компонента) стало яблоком
раздора, с которого началось расхождение между интерпрета-
тивной семантикой и порождающей семантикой,
представляемой в первую очередь Джорджем Лакоффом и Джеймсом
МакКоли. Представители порождающей семантики
считали ненужным такой теоретический конструкт, каким
фактически является глубинная структура. Введение его
делало неясным положение семантики в лингвистической
теории и саму ее сущность. Этот конструкт не только не
способствовал, но и запутывал семантико-синтаксическое
толкование предложений, даже и при допущении неразрывности
синтаксических и лексических правил. Но это было только
начало, которое истолковывалось всего лишь как
разногласие внутри одного лагеря. Последующие события показали,
что о единстве одного лагеря не может быть и речи. На
возражения Н. Хомского о том, что различия между ним и
представителями порождающей семантики носят лишь
терминологический характер, Дж. Лакофф со всей
категоричностью отвечал, что это «явная несуразица. Как могут две
теории быть терминологическими вариантами, если они
имеют дело с двумя различными областями фактов?» а!
Тезис о том, что трансформационная порождающая
грамматика способна охватить лишь тесный круг языковых
фактов, в то время как к лингвистике должно относиться
«изучение естественного языка во всех его манифестациях» 3,
стал одним из самых веских аргументов в полемике с Н. Хом-
ским.
Выступившие под знаменем порождающей грамматики и
впавшие в ересь американские лингвисты,
ограничивавшиеся на первых порах созданием генеративистских апок-
1 Пожалуй, можно признать справедливыми следующие слова
Э. Уленбека: «Решение принять семантический компонент в качестве
составной части лингвистического описания оказало разрушительное
влияние на все построение трансформационной порождающей
грамматики, в конце концов подорвавшее и сами основы генеративной
теории». (Указ. раб., с. 135.) Полное представление об интерпретирующей
семантике дает работа: R. Jackendoff. Semantic Interpretation
in Generative Grammar. Cambridge, Mass., 1972.
2 «Discussing Language», p. 155.
* «Discussing Language», p. 151,
18
рифов, не образовали, впрочем, единого фронта. В
дальнейшем они пошли разными путями и даже стали
проповедовать собственные учения. Здесь в целях наглядности будет
упомянуто о научной судьбе всего лишь двух ученых,
работы которых включены в настоящий сборник,— Дж. Мак-
Коли и Дж. Лакоффа. При этом следует учесть следующее,
весьма существенное обстоятельство: если концепция
Н. Хомского остановилась в своем развитии и последующие
его работы ничего нового не прибавили к ней, то совсем
по-иному обстоит дело у его оппонентов. Их взгляды в
поисках адекватной объяснительной теории подвергаются
постоянным изменениям. Это и вызывает необходимость
интерполировать взгляды данных авторов за пределы
включенных в сборник статей и подвести их к современному
их состоянию. При этом следует учесть, что и сами авторы
оценивают свои утверждения, высказываемые ими в их
последних работах, всего лишь как предварительные и
требующие дальнейших исследований.
Дж. МакКоли сам характеризует свою позицию как
предельно менталистическую, исходя из того положения,
что лингвист должен иметь дело с любым феноменом
человеческого разума, который находит свое отражение в
лингвистическом поведении. По его собственным словам, «язык
самым интимным образом связан с мышлением и со всем
тем, что входит в мышление» 1. Отсюда следуют два
фундаментальных вывода (которые на свой лад, впрочем, делал и
Н. Хомский). Первый состоит в том, что между
лингвистикой и психологией нет четкой разграничивающей линии;
обе эти науки в своих отношениях друг с другом не обладают
четко определимыми границами, образуя единый комплекс.
Второй вывод заключается в том, что нельзя строить
изучение языка, основываясь по преимуществу на его
коммуникативной функции или на какой-либо иной «первичной»
функции. При том широком формулировании задач,
которыми, по Дж. МакКоли, должен заниматься лингвист, все
функции языка, тем или иным образом манифестирующие
человеческое мышление, в равной мере являются
«первичными».
В своих отношениях с концепцией Н. Хомского Дж.
МакКоли занимает более компромиссную позицию по
сравнению с другими своими единомышленниками. Он считает
:Discussing Language», p. 277.
19
Генеративную семантику последовательным развитием идей,
высказанных Н. Хомским в его «Аспектах теории
синтаксиса», но не реализованных самим Н. Хомским. За него это
начали делать такие лингвисты, как П. Постал, Дж. Ла-
кофф, Дж. Росс, а также и сам Дж. МакКоли — каждый по-
своему. Что касается Дж. МакКоли, то для него оказался
неприемлемым целый ряд положений стандартной теории
Н. Хомского, и прежде всего понимание «компетенции» и
связанного с ней понятия «языкового творчества». Согласно
Дж. МакКоли, никак нельзя назвать творческим построение
предложений по заданным правилам компетенции, которая
оказывается полностью изолированной от намерений
говорящего и от условий речевого акта. Если уж говорить о
лингвистической компетенции, то она обязательно должна
учитывать отношения между высказыванием и ситуацией,
в которой оно употребляется.
Переходя к более конкретным вещам, Дж. МакКоли
обращается к понятию глубинной структуры. Он
указывает на то, что по мере более основательного анализа фактов
английского языка, глубинная структура становилась все
более и более глубокой — не в том смысле, что она все
дальше уходила от поверхностной структуры (хотя и это имело
место), а в смысле приближения ее к семантической
структуре, пока различия между ними не стали равными нулю
и само понятие глубинной структуры оказалось лишним.
А между тем глубинная структура и семантическая
структура — разные вещи. Говоря специальным языком,
принятым в генеративной грамматике, в отличие от глубинной
структуры семантическая структура не образует
деривационного уровня, определяющего приемлемость тех или
иных лексических единиц. В специальной работе,
посвященной этому вопросу1, Дж. МакКоли доказывал, что
различные трансформации первоначально должны
применяться к лексическим наполнениям и что вообще не
существует особого уровня (каким у Н. Хомского является
глубинная структура), на котором должно происходить
лексическое наполнение (т. е. представление предложения
в виде последовательности лексических единиц), но что
лексические наполнения могут происходить на разных
ступенях деривации.
1 J. McCawley. Lexical Insertion in a Transformational
Grammar without Deep Structure. Papers from the Fourth Regional Meeting.
Chicago Linguistic Society, Chicago, 1968.
20
Все это имеет прямое касательство и к отношениям
между синтаксисом и семантикой. По словам Дж. Мак-
Коли, генеративная семантика отказалась от
традиционного разделения семантики и синтаксиса. Она их не
противопоставляет друг другу, но и не сливает в нечто
нерасчлененное, что можно было бы обозначить, например,
таким варварским термином, как «семантакс». Она
признает право на существование и семантики и синтаксиса,
но подчеркивает их неизменное взаимовлияние, без
которого явления одного порядка не поддаются адекватному
толкованию без учета явлений другого порядка. Проводя
в своей статье анализ положений, выдвинутых в этой
связи Н. Хомским и Дж. Катцем, Дж. МакКоли заключает
его словами: «Полное описание английской семантики
требует весьма полного описания английского синтаксиса;
не в меньшей степени верно и обратное... По-видимому,
для семантики настало время занять положенное ей по
праву место среди других лингвистических дисциплин»
(см. с. 285).
Путь, которым шел и продолжает идти Дж. Лакофф,
более извилист. Во многих моментах мнения Дж. Лакоффа
и Дж. МакКоли совпадают. Это относится и к пониманию
задач лингвистики, и к оценке понятий творчества и
компетенции, и к отрицанию необходимости глубинной
структуры. Дж. Лакофф также досконально на анализе многих
примеров показывает неправомерность процедур интер-
претативной семантики и преимущества порождающей
семантики (это отражено во включенной в сборник статье
«О порождающей семантике»). Однако при всем том
Дж. Лакофф придерживается более радикальных взглядов
и делает более смелые виражи при их развитии или даже
смене.
Для Дж. Лакоффа порождающая семантика, хотя
исторически она и восходит к трансформационной
грамматике, представляет собой особую область исследований,
совершенно новую лингвистическую теорию. И различия
между Н. Хомским и представителями порождающей
семантики, по мнению Дж. Лакоффа, состоят не р разном
понимании отношений между синтаксисом и семантикой,
а главным образом в том, что составляет предмет
лингвистики. По Дж. Лакоффу. лингвистика должна изучать
естественные языки во всех их манифестациях (и здесь
он близок к Дж. МакКоли), она должна заниматься иссле-
21
дованием не Только Грамматики и значений, ни всеми
видами отношений между языком, мышлением и культурой.
Как первое приближение к выполнению такой грандиозной
задачи он (в отличие от Дж. МакКоли) выдвигает
необходимость в качестве глубинной основы предложений
положить понятие естественной логики, под которой
понимается изучение суждений в формах естественного языка
или, говоря другими словами, исчерпывающее изучение
концептуальных ресурсов естественного языка — задача
по своей грандиозности (что признает и сам Дж. Лакофф)
мало в чем уступающая той, которая ставится перед
лингвистикой в целом 1. Для выполнения этой задачи
традиционный набор логических операторов (и, или, если — то
и пр.) представляется ничтожно малым, и более обещающим
кажется широкое обращение к понятию пресуппозиций.
А затем Дж. Лакофф делает резкий поворот и объявляет
и трансформационную грамматику и порождающую
семантику «грамматикой болтов и гаек», лишенной всякого
интеллектуального содержания. В припадке радикальной
самокритики он клеймит как сами по себе никчемные все
свои занятия глобальными правилами, ограничениями на
прономинализацию, трансдеривационными правилами,
логикой размытых понятий, формализацией пресуппозиций
и т. д. Работы таких неформальных грамматистов, как
Дуайт Болинджер, Чарльз Филлмор, Вильям Лабов и
прочие, прокламирует теперь Дж. Лакофф, «раскрыли
сложность языка во всем его великолепии и неадекватность
современных лингвистических теорий во всей их нищете» 2.
Они создали предпосылки для образования новой
гуманистической лингвистики (не путать с гуманитарной!), в центре
которой должен стоять человек. Но и ей, впрочем, не
следует одиноко возвышаться над всеми видами других
лингвистических исследований и отказываться от проделанной
работы. Гуманистическая лингвистика должна вступить
в симбиоз с лингвистикой болтов и гаек. «Так же как
интуитивная грамматика способна руководить
формированием теорий, так и теории могут эксплицировать
неформальные интуитивные описания. Неформализованная
1 См. его «Linguistics and Natural Logic» в книге: D. Davidson
and G. H a r m a n (eds.). Semantics of Natural Language. Dordrecht,
1972.
2 G. L a k о f f. Humanistic Linguistics.-— GURT. Washington,
1974, p. 106.
22
грамматика и грамматика болтов и гаек должны взаимно
поддерживать друг друга» 1. Только таким путем,
требующим активного сотрудничества лингвистики с
психологией, философией, логикой, антропологией,
социологией, литературой, педагогикой и даже правоведением,
наука о языке сможет стать тем, чем ей надлежит быть.
«Только в этом широком кругу дисциплин, думаю я, может
быть достигнут наибольший прогресс в создании
лингвистики не как изучения дистрибуции лингвистических
элементов, а как изучения человека через посредство языка» 2.
Из своего кризисного состояния Дж. Лакофф вышел
с опубликованием статьи о лингвистических гештальтах.
Ее нет надобности пересказывать, так как она включена
в сборник. Читатель имеет здесь возможность
познакомиться с теми результатами, к которым пришел Дж.
Лакофф после кардинальной переоценки всей своей прошлой
работы.
4.
Когда знакомишься с семантическими исследованиями
последних двух десятилетий, получаешь впечатление, что
они, отталкиваясь от генеративной грамматики, подчинены
определенной тенденции — тенденции к созданию
коммуникативной грамматики или даже коммуникативной теории
языка, в которую вписываются исследования, посвященные
частным проблемам. Коммуникативная грамматика
сосредоточивает свое внимание на изучении механизма
построения и использования языковых единиц различных уровней
в условиях конкретных ситуаций речевого акта и в
контексте «знаний о мире». Пожалуй, более, чем у кого-либо,
эта тенденция проглядывается в работах Чарльза Филл-
мора. По сути дела, это констатирует в более специальных
выражениях и Р. Лонгакр в своей книге, содержащей,
пожалуй, наиболее полное и наиболее ясное изложение
идей, которыми руководствовался Ч. Филлмор в своем
устремлении к указанной цели. Первая глава книги
Р. Лонгакра «Анатомия речевых понятий» открывается
словами: «Все более и более признается, что: а) категории
1 G. L a k о f i. Укач. раб., с. 109.
» G. Lakoff. Указ. раб., с. 115,
23
поверхностной структуры языка помечают
функциональные ячейки довольно высокого уровня абстракции, и
б) эти функциональные ячейки только приближенно
коррелируют с глубинными категориями, которые первично
представляют лингвистическое кодирование реального
мира» 1.
В работах Ч. Филлмора перекрещиваются самые
различные влияния и направления исследований. По его
собственным словам, выдвигая идею падежей глубинной
структуры, он был озабочен тем, каким образом эту идею
можно инкорпорировать в генеративную грамматику.
Так же как и представители порождающей семантики
на первых порах их работы, Ч. Филлмор сделал попытку
раздвинуть жесткие границы генеративной грамматики,
но очень скоро понял, что фактически при этом вышел за
ее пределы. Средства, которые Ч. Филлмор использовал
в своей попытке, были заимствованы из совершенно иного
арсенала. Считается, что исходным пунктом для
формирования идей глубинных падежей Ч. Филлмора являются
синтаксические исследования Л. Теньера, в которых
было выдвинуто понятие актантов — зависимых от глагола
«сопроводителей действия». Эта идея и легла, с одной
стороны, в основу теории валентностей (в американской
терминологии — грамматики зависимостей) Херингера 2, а,
с другой стороны, создала предпосылки для
формулирования падежной грамматики или ролевой грамматики
Ч. Филлмора. С учетом тех изменений, которым Ч.
Филлмор постоянно подвергал свою концепцию, в результате
чего она так и не обрела сколько-нибудь законченных
очертаний, но неизменно следовала указанной выше
тенденции, ее, по-видимому, лучше всего охарактеризовать
как ситуативную семантику. В ней Ч. Филлмор использует
набор синтаксических понятийных ключей — ролей,
которые дают возможность объединять лексические единицы
в смысловые группы, наделенные определенными
функциональными возможностями.
Изначальное свое наименование падежной грамматики
рассуждения Ч. Филлмора получили по понятным
причинам. Глаголу и его «сопроводителям» Ч. Филлмор присвоил
1 R. L о п g а с г е. An Anatomy of Speech Notions. Lisse, 1976,
p. 23.
2 См., в частности, его книгу: Н. Не ringer. Theorie der
deutschen Syntax. Miinchen, 1970.
24
статус глубинных категорий и затем стал устанавливать
конкретные глагольные сопроводители, или актанты,
которые и стали выступать в качестве глубинных падежей и
которые интерпретируются как «роли» в отношениях
действия или состояния, выражаемых глаголом в
предикативной функции. Падежи традиционной грамматики можно
в рамках падежной грамматики рассматривать как
морфологическую реализацию падежной грамматики, причем
один и тот же глубинный падеж способен получать в
поверхностной структуре различные воплощения. Так,
глубинный датив может соответствовать не только дативу
традиционной грамматики {Петр дает своему отцу книгу),
но и аккузативу {Петр убивает Ивана) или номинативу
(Петр умирает). И сам набор глубинных падежей не носит
традиционного характера. Ч. Филлмор считает нужным
выделять по меньшей мере следующие глубинные падежи:
агентив — падеж, который обозначает
производителя, выражаемого глаголом действия (например: Петр
в Петр пишет письмо);
объектив — падеж, которому не приписывается
общей ролевой интерпретации и который репрезентирует
в глубинной структуре не охваченные другими падежами
именные группы или придаточные предложения (например:
дверь в Петр открыл дверь и в Дверь открыта);
датив — падеж, который обозначает живое
существо, затронутое выражаемым глаголом действием или
ситуацией (например: Иван в Петр убивает Ивана и в Иван
умирает);
инструменталис — падеж, который обозначает
силу или неодушевленный предмет, причинно
возникающий в результате выражаемого глаголом действия
(например: письмо в Петр пишет письмо);
фактитив — падеж, который обозначает то, что
создается действием, выражаемым глаголом (например:
письмо в Петр пишет письмо);
локатив — падеж, обозначающий место, в котором
происходит выражаемое глаголом действие, или ситуацию,
на которую направлено действие (например: Москва
в В Москве холодно и в Москва — большой город).
Набор глубинных падежей, так же как и
приписываемые им значения, носит в достаточной степени условный
характер. Р. Лонгакр который в упомянутой книге
указывает на то, что идея глубинных падежей высказывалась
25
и ранее Ч. Филлмором и, в частности, при изучении языков
Филиппин — Барнардом и Форстером (в 1954 г.), Мак-
Кауэном (в 1958 г.), Миллером (в 1964 г.), Пайком
(в 1964 г.), Коллом (в 1969 г.) и др.,— приводит
сопоставительную таблицу глубинных падежей, выделяемых разными
учеными и самим Ч. Филлмором в различные годы. В этой
таблице перечисляется неодинаковое количество
глубинных падежей не только у разных авторов, но и у самого
Ч. Филлмора. То же самое происходит и с наименованием
падежей. Так, то, что Ч. Филлмор в 1968 г. именовал
дативом, в 1970 г. он стал именовать экспириенсом
(испытывающим воздействие), а вместо фактитива
появилась цель. При желании истоки филлморовских падежей
можно связать и с выработанными в средневековой
схоластике правилами построения периодов, которые должны
следовать вопросам: quis (кто), quid (что сделал), ubi
(где), quibus auxiliis (какими средствами), сиг (для чего),
quomodo (каким образом) и quando (когда). Такой подход
позволяет подводить компоненты предложений под
функциональные роли.
Р. Лонгакр высоко оценивает теорию глубинных
падежей. Он пишет, отмечая существо ее положительных
черт: «Изучение функции падежей или ролей делает
возможным понимание языка. Еще более существенным,
однако, является группировка этих ролей по глагольным
типам, выступающим в той или иной свойственной им
роли. Для того чтобы осуществить это, мы должны
специфицировать признаки, отличающие одну группу глаголов
от другой группы глаголов, а затем специфицировать
роли, в которых выступают глаголы, характеризуемые
этими признаками. В результате должны определиться
группы глаголов, характеризуемые пучками
сопроводительных субстантивов в данных ролях. Глагол, разумеется,
может выступать скорее в виде глагольной группы, чем
как единичный глагол, а субстантивы, сопровождающие
глагол, могут быть местоимениями, именными группами,
а в некоторых случаях даже субстантивными клозами
(несамостоятельными предложениями). Такая группа
глаголов с характеристичными сопроводительными именами
в конкретных ролях именуется падежной рамкой
(фреймом)» 1. Так возникла еще одна категория, которая в даль-
1 R. Longacre. Указ. раб., с. 38.
26
нейшем получила большое распространение и значительно
более широкое истолкование.
Вновь открывая «дело о падеже» (см. вторую из
включенных в сборник статью), Ч. Филлмор ставил своей целью
не только устранить возникшие недоразумения и исправить
допущенные им самим ошибки. Ему стала видна слабость
объяснительной силы падежной грамматики, и поэтому
он переориентировал все направление своих исследований.
Он стал проводить их под лозунгом: ЗНАЧЕНИЯ
ОБУСЛОВЛИВАЮТСЯ СИТУАЦИЯМИ (Scenes). Это означало,
с одной стороны, сведение изучения семантики к
лексическим единицам, а с другой—и противоположной—стороны,
обращение к целой иерархии общих категорий, которые
обычно рассматривались как лежащие за пределами языка.
Как представляет Ч. Филлмор себе такого рода изучение,
он рассказал в своих лекциях в 1975 г., прочитанных во
время очередной сессии Лингвистического Институтах.
Позднее эти лекции в обработанном виде были
опубликованы под названием «Основные проблемы лексической
семантики». Из этой публикации и приводится следующая
длинная цитата, объясняющая новый подход Ч. Филлмора
к семантике: «Целью моих лекций является изложение
неформального и интуитивного подхода к описанию
значения слова и значения текста. Своей главной задачей я
ставлю представление целостной концептуальной основы
для обсуждения таких вопросов, как значения слов,
установление ридингов предложений, интерпретация текстов
и процессов выражения и понимания.
Я думаю, что лингвист, размышляющий над
проблемами семантической теории, может много выиграть от
рассмотрения этих проблем в пределах более широкого
взгляда, включающего как производство, так и понимание
языковых образований. Предшествующие традиции
лингвистического анализа стремились к ограничению предмета
своего изучения вследствие своей приверженности к более
скромным целям. Некоторые лингвисты, например Косе-
риу, приложили немало усилий, чтобы доказать, что они
должны оставаться исключительно в пределах чисто
лингвистических явлений, свободных от всякой связи со
знаниями о культуре, с системами верований или с фактами,
1 Во включенной в настоящий сборник второй части статьи Ч.
Филлмора дается лишь первый набросок его новой концепции.
27
относящимися к окружающему нас миру.
Антропологическая, или так называемая когнитивная, семантическая
традиция сосредоточивалась на выявлении и раскрытии
систем дискриминаций в таксономиях, и ее усилия,
направленные на обнаружение наиболее простых репрезентаций
таких систем, по-видимому, мотивировались желанием
определить своеобразную в культурном отношении основу
данной таксономии в данной лингвистической общности.
Те структуралистские традиции, в которых упор делался
на установление основного значения для данной
лингвистической формы, очевидно, были озабочены сохранением
единой лингвистической формы, независимой от временного
фактора. В генеративистской традиции главное внимание
уделялось системам записи, что обусловливалось
стремлением в конечном счете получить такое количество
признаков (или абстрактных предикатов, в зависимости от того,
к какому крылу этой традиции вы принадлежите), которое
способно было бы одновременно служить в качестве
механизма исчисления в системе семантических правил языка,—
например, правил об истинности и синонимии,— и базы
для теоретизирования по поводу лингвистико-универсаль-
ных оснований семантики. В противоположность всему
этому, я хочу включить все, что касается значения, в
пределы более широкой теории языковой деятельности»1.
Выше говорилось о сужении в работах Ч. Филлмора
последних лет исследовательской стратегии в области
семантики до отдельных лексических единиц. Это вовсе
не означает обращения к традиционным
лексикографическим методам, как они предстают перед нами в словарных
статьях. Напротив, Ч. Филлмор полагает, что подобные
описания значений слов совершенно неспособны дать
действительного представления о их смысловой структуре,
так как они не учитывают употреблений слов в различных
ситуациях. За совокупностью слов данного языка стоит
весь мир, и на фоне этого «всего мира», расчленяемого
человеком на разного рода события, и следует изучать
лексическую семантику.
В указанном смысле и надо понимать лозунг Ч.
Филлмора: ЗНАЧЕНИЯ ОБУСЛОВЛИВАЮТСЯ СИТУАЦИЯМИ.
Под ситуацией, пишет Ч. Филлмор, «я разумею любое
1 Ch. Fillmore. Topics in Lexical Semantics.— В книге: R. С о-
1 e (ed.). Current Issues in Linguistic Theory. Bloomington — London,
1977, p. 76—77.
28
осмысленное обособленное восприятие, память, опыт,
действие или объект. Некоторые ситуации строятся из других
ситуаций, другие не поддаются разложению, но их надо
просто знать — они могут быть только показаны или
познаны в опыте и не поддаются объяснениям. Я хочу сказать
этим, что большое количество слов и фраз нашего языка
мы можем понять только при условии, что мы
предварительно обладаем некоторой совокупностью знаний, и эти знания
не всегда поддаются анализу» х.
Ситуации фиксируются в языке текстами, поэтому
значения отдельных лексических единиц могут быть поняты
в терминах их участия в процессе интерпретации текста.
Эта интерпретация, однако, предполагает обращение не
только к значениям, содержащимся в тексте, но также и
к памяти, знаниям, восприятию, а также требует
применения набора процедур, определяющих основы связности
текста. Слово, словосочетание, предложение или текст
идентифицируют ситуацию. Совершенно очевидно, что
идентификация ситуации может происходить на разных уровнях:
например, событие может состоять из некоторого
количества «подсобытий» и в свою очередь представлять лишь часть
более крупного события. Но всем им присваивается статус
ситуации. Кроме того, процесс идентификации членится
на ряд стадий, которые по восходящей линии включают
ситуацию, прототип, активизацию и перспективу.
С учетом всех перечисленных предпосылок и должны,
по Ч. Филлмору, осуществляться семантические
исследования. В своих лекциях он демонстрирует на ряде примеров,
как конкретно это надо делать. Но в заключение
предупреждает, что ко всем его предложениям и формулировкам
надо относиться с осторожностью, так как они носят
предварительный характер.
5.
Нельзя не заметить, что те выводы, которые на
нынешнем этапе своих исследований делают Дж. Лакофф и Дж.
МакКоли и др., во многом смыкаются с теми, которые
делают и лингвисты, работающие в новой для науки о языке
области — лингвистике текста. В данной связи это обстоя-
Ch. Fillmore. Указ. раб., с. 84.
29
тельство можно только констатировать, указав, что
подробным образом проблемы текста трактуются в другом
сборнике зарубежных работ 1.
Гораздо интересней отметить новые формы
сотрудничества науки о языке (и, в частности, той ее области, которой
занимается семантика) с логикой. Логика всегда находилась
в тесном контакте с наукой о языке, и в классической
древности, откуда и берут свои истоки обе науки, они по сути
дела представляли собой нерасчлеиенное единство.
Влияние формальной логики явственно проявляется и в
современном языкознании, и больше всего в учении о частях речи
и членах предложения. Но новые связи обеих наук идут
иными путями, и эти пути перекрещиваются в первую
очередь как раз на семантике, в результате чего и возникла
такая комплексная проблема, как логический анализ
семантики естественного языка.
Весьма характерно при этом обращение лингвистов к
модальным логикам, и в первую очередь к референтным
логикам или к различным разветвлениям логики «возможных
миров», представленной такими именами, как Я. Хинтик-
ка, С. Кринке, Р. Монтегю («Грамматика Монтегю») и др.
Как и в случае с Дж. МакКоли и Дж. Лакоффом, логика
«возможных миров» как бы выходит за пределы своего
традиционного предмета рассмотрения. Советские логики пишут
по этому поводу. «Если классическая логика
абстрагировалась от многих характеристик истинности (относительность
знания, его рост и развитие, зависимость истинности
высказываний от временных параметров и т. д.), то построение
семантик для модальных систем потребовало как раз учета
этих характеристик» 2. Этими своими качествами и
привлекают модальные логики упомянутых лингвистов. Так, Дж.
МакКоли пишет: «Понятие возможного мира полезно для
описания различных лингвистических феноменов...
Лингвисты используют «возможный мир» как феномены, в
контексте которых ведется разговор относительно реального
мира — каков он есть,— разговор относительно реального
мира с учетом различных временных отнесенностей или
различных условий для выполнения желания или заключе-
1 См. «Новое в зарубежной лингвистике», вып. VIII, М., 1978.
? В. А. Б о ч а р о в, Е. К- В о й ш в и л л о, А. Г. Д р а г а-
л и н, В. А. Смирнов. Некоторые проблемы развития логики.—
«Вопросы философии», 1979, № 6, с. 105.
30
ния» 1. В Ka4ecfee примера логического анализа
конкретных явлений семантики естественного языка в сборнике
приводится статья 3. Вендлера. Но в ряде случаев
лингвисты не ограничиваются использованием аппарата модальных
или иных логик для решения собственно лингвистических
задач (таких, например, как употребление местоимений и
определенного артикля) и, опираясь на них, сочиняют свои
собственные логики. Хорошим примером такого рода
кустарных логик является «естественная логика» Дж. Лакоф-
фа, которая и по смыслу объяснений его самого (они
приведены выше) и по сути ее претензий на исчисление всех
примитивных концептов естественного языка, выходящих на
рубеж четырехзначных чисел, конечно же, никакой
собственно логикой не является.
Есть все основания утверждать, что на развитие
семантических исследований большое стимулирующее
воздействие оказали и практические потребности, связанные с
построением автоматических систем класса «искусственный
интеллект». В границах проблемы «искусственного
интеллекта» (в США эта проблема приобрела статус отдельной и
весьма солидно представленной в университетах
дисциплины — Artificial Intelligence) сложились свои семантические
концепции. Не следует думать, что такого рода
«прикладные семантики» носят сугубо технический характер.
Совершенно наоборот — они обращаются к самым общим
категориям. Это как раз тот случай, когда для решения
практических задач ищется хорошая теория. В качестве примера
таких прикладных семантик, обнаруживающих свою
отчетливую связь с лингвистическими исследованиями, можно
привести процедурную семантику и вычислительную
семантику.
Излагая задачи процедурной семантики, ее создатель
Терри Виноград (в Советском Союзе хорошо известен робот
Винограда) пишет: «В процедурной перспективе
«семантика» — это отношение между лингвистическими объектами
и психическими состояниями и процессами, вовлеченными
в производство и понимание этих объектов» 2. Включая
процедурную семантику в более широкие рамки когитоло-
гии (науки о мышлении — cognitive science), Терри Вино-
1 «Discussing Language», p. 260—261.
2 Т. Winograd. Towards a procedural understanding of
semantics.— «Revue de Philosophies. Brussels, 1976, p. 263.
81
ГраД поясняет: «Назначение когитологии (и, в частности,
процедурного подхода к семантике) покоится отнюдь не на
допущении, что анализ мыслительной структуры как
системы физических символов обеспечивает исчерпывающее
понимание человеческого мышления или что все системы
физических символов должны иметь идентичные свойства. Для
того чтобы парадигма обладала ценностью, необходимо
исходить лишь из признания того, что имеются
существенные аспекты мышления и языка, которые с пользой могут
быть познаны посредством аналогии с другими
символическими системами и которые мы умеем конструировать» х.
В таком же аспекте проводит свои исследования и
вычислительная семантика. Один из составителей и авторов
сборника «Вычислительная семантика» — Э. Черняк
объясняет: «Вычислительная семантика — наименование, которое
мы присваиваем изучению языка, основанному на методах
искусственного интеллекта,— подходит к языку с точки
зрения выяснения того, как используется язык в процессах
перевода, в вопросно-ответных системах, работающих с
языковыми текстами и т. д. Такой подход исходит из
предпосылки, что «язык — это то, что он делает». Эта идея не нова
для более ранних исследований в области лингвистики,
психологии и пр., однако вычислительная семантика
уникальна в том отношении, что кладет эту идею в основу
всякого изучения языка» а.
Таким образом, абстрактные и глубоко теоретические
исследования семантики смыкаются с сугубо практическими
задачами огромной важности для современного
человеческого общества. И так получают свое полное воплощение
слова, пожалуй, самого загадочного американского ученого
Бенжамина Ли Уорфа: «Сущность лингвистики заключается
в поисках значения». Как показывает данный обзор, это —
трудные поиски, сулящие вместе с тем чрезвычайно
плодотворные «рабочие» потенции и, конечно, требующие
объединения усилий многих ученых. Поэтому есть все основания
утверждать, что чем теснее будет сотрудничество между
лингвистикой и другими науками, тем шире будут
перспективы нашей науки.
В. Звегинцев
1 Т. W inogra d. Указ. раб., с. 264.
2 Е. Charniak and Y. W i 1 k s (eds.). Computational
Semantics. Amsterdam — New York, 1978, p. 1.
32
Дж. Катц
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ*
Семантический компонент лингвистического описания
ставит в соответствие глубинной структуре любого
предложения данного языка ее семантическую
интерпретацию. Другими словами, в то время как
фонологический компонент строит фонетическое представление
предложения, семантический компонент строит
представление того содержания, которое в нормальной речевой
ситуации может быть выражено высказыванием, имеющим
данное фонетическое представление1. Таким образом,
семантический компонент призван описывать способность
говорящих производить и понимать бесконечно много новых
предложений, а именно ту часть процесса использования
языка, которая остается за пределами сферы действия
синтаксического и фонологического компонентов.
Если задача семантического компонента понимается
именно так, то он должен содержать правила,
преобразующие глубинные структуры предложений, порожденные
синтаксическим компонентом, в их семантические
представления. Семантический компонент описывает не просто
возможности реального говорящего, а те возможности, которыми
располагал бы говорящий при отсутствии каких бы то ни
было психологических ограничений. Следовательно,
семантический компонент обеспечивает интерпретацию бесконеч-
* Jerrold J. К a t z, The philosophy of language, New York —
London, 1966, p. 151—175. Предлагаемый отрывок представляет собой
главу, озаглавленную «Semantic theory», из четвертой части
названной книги. При переводе текст главы подвергся некоторому
сокращению.— Прим. ред.
1 О понятии семантического компонента см. К a t z — F о d о г,
1963; К a t z, 1964b; Katz — Postal, 1964.
2 a» i2ii
83
ного множества предложений. Таким образом, здесь мы
сталкиваемся с необходимостью формулировки некоторой
гипотезы относительно природы конечного механизма,
выдающего бесконечное множество результатов. Гипотеза, на
которой основывается наша модель семантического
компонента, заключается в следующем: говорящий понимает
смысл любого предложения из бесконечного множества
предложений, выполняя операцию объединения смыслов
слов в смыслы словосочетаний и предложений. Именно эту
операцию — построение смысла сложного целого из
смыслов его составных частей — должны осуществлять правила
семантического компонента.
Хотя на самом деле синтаксически элементарными
составляющими в глубинных структурах являются
терминальные символы, то есть морфемы, в целях упрощения
изложения будем считать здесь терминальными символами слова.
Таким образом, слова являются для нас неразложимыми
(атомарными) элементами синтаксического описания.
Поэтому семантический компонент начинает свою работу,
располагая смыслами отдельных слов, из которых он должен
строить смыслы соответствующих синтаксически более
сложных единиц — вплоть до целого предложения. Это означает,
что семантический компонент должен состоять из двух
подкомпонентов: словаря, в котором каждому слову
поставлено в соответствие его семантическое представление,
и системы проекционных правил,
обеспечивающих объединение этих семантических представлений.
Результат применения словаря и проекционных правил к
глубинной структуре предложения, то есть результат
работы семантического компонента, назовем
семантической интерпретацией предложения. Итак, для
описания семантического компонента необходимо
рассмотреть следующие три понятия: словарь,
проекционное правило, семантическая
интерпретация2.
Смысл слова не является неразложимым целым: он, как
2 Эти три понятия будут подробно описаны ниже. Грубо говоря,
в словаре содержится основная семантическая информация о словах
языка, проекционные правила используют эту информацию при
семантической интерпретации сложных синтаксических единиц, а
семантическая интерпретация является полным представлением
семантической структуры предложения, полученным с помощью проекционных
правил.
84
правило, состоит из более элементарных смыслов,
определенным образом связанных друг с другом, то есть
образующих некоторую структуру. Представление этой смысловой
структуры и является задачей словаря. Тогда словарь
можно рассматривать как конечный набор правил, называемых
словарными статьями (dictionary entries);
каждое такое правило (=словарная статья) устанавливает
соответствие между некоторым словом и представлением его
смысла в некоторой стандартной форме. Эта форма должна
обеспечивать представление всей той семантической
информации о слове, которая необходима для правильной работы
проекционных правил. Предлагаемая стандартная форма
имеет следующий общий вид:
/F/-*SyntMk\ (n) {DEF},
где /F/ — фонемное или орфографическое представление
слова; SyntMk — набор синтаксических признаков
(markers); {DEF} — лексическое толкование.
Каждое из п лексических толкований представляет собой
набор символов, называемых семантическими
признаками (markers), и сложного символа,
называемого сочетаемости ым ограничением (СО).
(Ниже семантические признаки заключаются в круглые
скобки, сочетаемостные ограничения — в угловые скобки.)
Рассмотрим пример словарной статьи:
bachelor-»-N, Nt, . , ., Nk:
(i) (физический объект), (живой), (человек), (мужской
пол), (взрослый), (никогда не был женат); <С.СО>
['холостяк'].
(ii) (физический объект), (живой), (человек), (молодой),
(рыцарь), (служащий в подчинении другого рыцаря);
<ССО> ['молодой рыцарь-вассал'],
(iii) (физический объект), (живой), (человек),
(окончивший четыре курса колледжа); <.С0> ['бакалавр'].
(iv) (физический объект), (живой), (животное), (мужской
пол), (здесь: тюлень), (не имеющий пары в период
спаривания); <.СО> ['молодой самец котика, не
имеющий пары в период спаривания'].
Каждое отдельное толкование в словарной статье
данного слова представляет одно из значений этого слова.
Таким образом, слово, которому в словаре сопоставлено п
35
толкований, представлено как га-значное. В нашем примере
слово bachelor четырехзначно.
Семантическое представление любого отдельного
значения слова, как уже говорилось, не является
неразложимым целым, а имеет сложную внутреннюю структуру.
Поэтому каждое толкование строится на основе набора
семантических признаков, соответствующих элементарным
понятиям. Семантические признаки следует рассматривать
как лингвистические конструкты, позволяющие удобно
описывать структуру значений, они отнюдь не являются выра:
жениями естественного языка, хотя и изображаются в виде
таких выражений. Их можно сравнить с конструктами
естественных наук, такими, например, как «сила».
Полезно провести аналогию между формулами
химических соединений и толкованиями (которые можно
трактовать как формулы семантических «соединений»). Например,
формула этилового спирта [см. рисунок ниже] представляет
структуру молекулы этого вещества, аналогично тому, как
каждое толкование в примере с bachelor представляет
структуру соответствующего значения этого слова. Оба эти
представления — химическая формула и толкование —
включают, во-первых, элементарные конструкты: атомы (Н, С,
О) и химические связи, с одной стороны, и семантические
признаки (физический объект), (мужской пол), <сочетае-
Н
I
_С О Н
I
н
мостное ограничение> и т. п., с другой стороны, а
во-вторых, отношения между элементарными конструктами.
Понятие толкования можно расширить таким образом,
что пбд него подойдет не только лексическое толкование,
о котором говорилось выше (то есть представление одного
из значений неоднозначного слова), но и так называемое
производное толкование. Под последним мы будем понимать
семантическое представление одного из значений
синтаксически неэлементарной составляющей — словосочетания или
предложения. Лексические толкования и производные
толкования составляющих, меньших, чем предложение,
являются аналогами понятий (concepts), а производные толко-
Н-
н
I
-с-
I
н
36
вания утвердительных предложений являются аналогами
суждений (propositions).
Семантические признаки позволяют сформулировать
некоторые эмпирические обобщения относительно смысла
языковых единиц. Например, английские слова bachelor
'холостяк', man 'мужчина', priest 'священник', bull 'бык',
uncle 'дядя', boy 'мальчик' и т. п. имеют общий
семантический признак в отличие от слов child 'ребенок', mole
'родинка', mother 'мать', classmate 'одноклассник (-ца)',
nuts 'гайки', bolts 'болты', cow 'корова' и т. п. Первая
группа слов имеет общий смысловой элемент 'мужской пол',
которого нет в словах второй группы. Мы можем выразить
это эмпирическое обобщение, включив в толкования слов
первой группы семантический признак (мужской пол) и
не включив его в толкования слов второй группы. Именно
это имеется в виду, когда мы говорим, что семантические
признаки позволяют формулировать семантические
обобщения. Однако такие обобщения возможны не только для
слов, но и для словосочетаний. Сравним группы
словосочетаний а и Ь:
а) happy bachelor 'счастливый холостяк', my cousin's
hired man 'батрак моего кузена', an orthodox priest I met
yesterday 'православный священник, которого я вчера
встретил', the bull who is grazing in the pasture 'бык, пасущийся
на пастбище', the most unpleasant uncle I have 'мой
исключительно неприятный дядя', a boy 'мальчик';
б) my favorite child 'мой любимый ребенок', the funny
mole on his arm 'смешная родинка на его руке', the whole
truth 'вся правда', your mother 'твоя мать', his brother's
classmate last year букв, 'прошлогодний (-яя) одноклассник
(-ца) его брата', those rusty nuts and bolts 'те ржавые гайки
и болты', the cow standing at the corner of the barn 'корова,
стоящая около угла хлева'.
Как и в примере с отдельными словами, словосочетания
группы а имеют общий смысловой элемент 'мужской Пол',
тогда как в словосочетаниях группы б не обнаруживаются
общие смысловые элементы ни при сравнении их друг g
другом, ни при сравнении со словосочетаниями группы а.
Если в словарных статьях каждого из слов — bachelor,
man, priest и т. д.— содержится семантический признак
(мужской пол) и если проекционные правила на основе
этих словарных статей строят правильные производные
толкования соответствующих выражений группы а, то семан-
37
тический признак (мужской пол) будет присутствовать в
производных толкованиях словосочетаний группы а, но не
группы б. И в этом случае нам удастся выразить некоторое
эмпирическое обобщение относительно семантики
естественного языка.
Итак, в общем случае для формулировки семантических
обобщений мы предлагаем включать тот или иной
семантический признак (или признаки) в толкования тех и только
тех выражений языка, для которых данное обобщение верно.
Перейдем к вопросу о семантической неоднозначности.
Необходимым условием семантической неоднозначности
словосочетания или предложения является наличие в нем
неоднозначного слова 8. Например, семантическая
неоднозначность предложения There is no school now 'Сейчас нет за-
нятий'/'Сейчас [здесь] нет школы' возникает из-за наличия
в нем неоднозначного слова school 'занятия'/'школа*.
Однако наличие неоднозначного слова в некотором
выражении не является достаточным условием семантической
неоднозначности выражения в целом: в ряде случаев
неоднозначность слова может быть разрешена с помощью
обращения к смыслам других слов, входящих в данное
выражение. Так, слово school, как мы видели, по меньшей мере
двузначно, однако предложение The school burned up
'Школа сгорела' однозначно, поскольку подлежащим при
глаголе burn up 'сгореть' может быть только существительное,
обозначающее физический объект. В семантическом
компоненте модели языка выбор одних и исключение других
значений неоднозначных слов осуществляется с помощью
аппарата упомянутых сочетаемостных ограничений. Сочетаемост-
ные ограничения в некотором толковании выражают
условия, необходимые и достаточные для объединения данного
толкования с некоторым другим толкованием: если это
последнее содержит требуемый семантический признак (или
набор признаков), то объединение обоих толкований в
производное толкование с помощью проекционных правил
оказывается возможным. Например, поскольку сочетае-
мостные ограничения в толковании глагола burn up
требуют наличия в толковании подлежащего семантического при-
8 О синтаксической неоднозначности мы говорим в случав, когда
предложение имеет более одной глубинной структуры, о
фонологической — когда поверхностные структуры разных предложений имеют
одинаковую фонетическую оболочку.
38
знака (физический объект), предложение The school
burned up интерпретируется проекционными правилами
однозначно.
Сочетаемостные ограничения могут иметь более
сложный вид, например представлять собой булевы формулы,
составленные из семантических признаков. Так, сочетае-
мостное ограничение в толковании значения 'честный'
слова honest записывается как булева формула <(человек) & ~|
(младенец)), где знак ~| перед семантическим признаком
означает, что толкования, включающие семантический
признак (младенец), не могут объединяться g данным
толкованием в одно производное толкование.
Сочетаемостные ограничения позволяют выделять
семантически аномальные выражения языка. Семантически
аномальными мы считаем такие выражения языка, в
которых из смыслов их составляющих не складывается
нормальное, непосредственно понятное целое. Таковы, например,
предложение It smells itchy 'Это пахнет чесоточно' или
словосочетания honest baby 'честный младенец' и honest
worm 'честный червь'. Подобная несовместимость смыслов
составляющих, входящих в некоторую сложную
составляющую, выявляется семантическим компонентом с помощью
сочетаемостных ограничений следующим образом: сложная
составляющая Ct + C2 является семантически
аномальной тогда и только тогда, когда ни одно из толкований R\
составляющей d не может быть объединено ни с одним из
толкований R/ составляющей С2, так как для любой пары
(R\, /?)) существует сочетаемостное ограничение,
исключающее производное толкование RttJ для составляющей Ci+C2.
Таким образом, различие между семантически допустимыми
и семантически аномальными составляющими заключается
в том, что допустимые составляющие имеют по меньшей мере
одно производное толкование, тогда как аномальные
составляющие не имеют ни одного толкования. Отметим, что
наличие в предложении составляющей, которая не имеет
толкования, является необходимым, но н е достаточным
условием того, чтобы предложение в целом было
семантически аномальным. Так, предложение We would think it
queer indeed if someone were to say that he smells itchy
'Нам показалось бы весьма странным, если бы кто-либо
сказал, что он пахнет чесоточно , содержащее составляющую,
которая не имеет толкования (he smells itchy), в целом
является допустимым.
39
Проекционные правила семантического компонента
строят производные толкования синтаксически правильных
конструкций, опираясь на словарную информацию к
словам, входящим в эти конструкции. Таким образом, эти
правила моделируют то, как понимается говорящим смысл
любой синтаксически неэлементарной составляющей на
основе знаний говорящего о словах языка. Поэтому до
начала работы проекционных правил необходимо обеспечить
условия для их применения, а именно: приписать всем
терминальным символам глубинной структуры предложения
наборы толкований, содержащиеся в соответствующих
словарных статьях 4.
Именно на этом этапе — при выборе толкований данного
слова — используется синтаксическая информация к
словарным статьям. Синтаксические признаки словарных статей
призваны различать слова, которые имеют одинаковую
фонетическую (или орфографическую) оболочку, но относятся
к разным синтаксическим классам, такие, например, как
существительное store 'магазин, склад' и глагол store
'хранить'. Обычно подобные пары лексических единиц
(то есть грамматические омонимы) имеют не только
различные синтактико-грамматические свойства, но и различные
наборы значений и, следовательно, различные наборы
толкований в словаре. Поэтому разрешение грамматической
омонимии необходимо для того, чтобы приписать
правильный набор лексических толкований соответствующему
терминальному узлу глубинной структуры. Необходимые для
этого сведения содержатся в самих терминальных узлах:
каждый узел имеет набор синтаксических признаков,
определяющих его класс и подклассы. Для разрешения
омонимии остается только сравнить синтаксические признаки
терминальных узлов с синтаксическими признаками
словарных статей для.п омонимичных слов и при совпадении
признаков приписать узлу толкования, содержащиеся в
соответствующей словарной статье. Эта операция
осуществляется по правилу (1):
(1) Приписать терминальному символу а глубинной
структуры набор лексических толкований R в том
4 Чтобы избавить читателя от несущественных для нашей теории
деталей, мы не будем описывать формальный аппарат этой процедуры,
которая имеет много общего с правилами приписывания толкований
словам в словаре.
40
случае, если в словаре для а имеется такая
словарная статья с набором толкований R, в которой набор
синтаксических признаков совпадает с набором
синтаксических признаков, приписанных узлам
глубинной структуры, подчиняющим символ а.
Итак, правило (1) разрешает грамматическую омонимию.
Например, если слово store имеет две словарные статьи
(для N и для V), то по правилу (1) этому слову будут
приписаны два различных набора толкований в глубинных
структурах предложений The store burned up 'Магазин сгорел'
и The man stores apples in the closet 'Этот человек хранит
яблоки в кладовке', Когда правило (1) применено ко всем
терминальным узлам глубинной структуры, начинают
работать проекционные правила.
Проекционные правила применяются к глубинным
структурам, терминальным узлам которых приписаны наборы
лексических толкований. Эти правила объединяют наборы
толкований составляющих, непосредственно подчиненных
одному и тому же узлу глубинной структуры, и строят на
основе этих толкований наборы производных толкований
для данного узла. Возможность применения проекционного
правила к толкованиям, приписанным паре тех или иных
узлов, определяется только положением этих узлов в
дереве глубинной структуры, а именно тем, подчиняются ли
эти узлы непосредственно одному и тому же узлу. Таким
образом, проекционные правила как бы двигаются по
дереву снизу вверх — от терминальных узлов к вершине
дерева. Производное толкование, приписанное некоторому узлу
проекционными правилами, служит семантическим
представлением последовательности терминальных узлов,
подчиненных данному узлу. Результатом работы
проекционных правил является набор толкований, приписанных
вершине глубинной структуры, то есть набор семантических
представлений соответствующего предложения.
Для каждого синтаксического отношения между парой
составляющих существует особое проекционное правило.
Таким образом, число проекционных правил в
семантическом компоненте модели определяется числом отношений
между составляющими в синтаксическом компоненте
(таких, например, как отношения «подлежащее — сказуемое»,
«сказуемое — дополнение», «определение — определяемое
слово»). То или иное проекционное правило применяется
41
к толкованиям пары составляющих только тогда, когда
эти составляющие находятся между собой в том
синтаксическом отношении, которое соответствует данному правилу.
В качестве примера рассмотрим проекционное правило
(R1), которое обеспечивает семантическую интерпретацию
определительного, или атрибутивного, отношения, то есть
отношения между определением и определяемым (между
прилагательным и существительным, наречием и глаголом,
наречием и прилагательным и т. п.):
(R1) Пусть имеются два толкования:
Ri. (aj), (аг), , . ., (an); <COi> и
#2: (6,), (60 ФтУ> <С02>,
такие, что R^ приписано узлу Xj, а /?2 приписано узлу
Х2, и цепочка слов, подчиненная Хи является
определяемым, а цепочка слов, подчиненная Х2, является
определением, и при этом X, и Х2 непосредственно подчинены
некоторому узлу X,
тогда, если Rt удовлетворяет сочетаемостным
ограничениям <С02>, то узлу X приписывается производное
толкование
Ra: (ai), (a2), , . „ (ап), (bi), (Ьг) фт);
<С01>.
Правило (R1) описывает содержание атрибутивного
^определительного) отношения между языковыми единицами.
Как мы видим, атрибутивная конструкция сохраняет все
семантические свойства определяемого члена, в том числе
его сочетаемостные ограничения, однако, разумеется, смысл
конструкции в целом оказывается более детализированным,
чем смысл определяемого в результате того, что к нему
присоединяется смысл определения.
Не следует думать, однако, что все проекционные
правила сходны с (R1) в том отношении, что при получении
производных толкований все они выполняют именно
теоретико-множественное объединение семантических признаков в
толкованиях отдельных составляющих. Если бы это было
так, то не возникало бы необходимости вводить особое
проекционное правило для каждого синтаксического отношения.
В действительности же, если не учитывать разных
синтаксических отношений и пользоваться только одним
проекционным правилом, то такие предложения, как Police chase
criminals 'Полицейские преследуют преступников' и Cri-
42
minals chase police 'Преступники преследуют полицейских',
получат одинаковые наборы семантических признаков, то
есть будут считаться синонимичными, что неверно.
Проиллюстрируем различие между проекционными правилами,
описывающими синтаксические отношения «подлежащее —
сказуемое» и «глагол — прямое дополнение», на примере
двух упомянутых предложений.
Мы можем не приводить здесь лексические толкования
слов police 'полицейские' и criminals 'преступники'; для
нас существенно только лексическое толкование одного
из значений слова chase —'преследовать, гнаться за':
chase-*V, Vtrans, . . ,: (((действие) (вид: (физический))
Х-а), ((движение), (скорость:
быстрый)) (характер:
следование))), (намерение Х-а:
(пытаться поймать ((У) ((движение)
(скорость: (быстрый))));
<СО>.
Прежде чем перейти к описанию проекционных правил,
объединяющих данное толкование с толкованиями слов
police и criminals, мы постараемся обосновать выбор
именно такого толкования для слова chase.
Семантический признак (действие) отличает глагол chase
в данном значении от глаголов состояния, таких, как sleep
'спать', wait 'ждать', suffer 'страдать', believe 'верить',
и от глаголов изменения типа grow 'расти, становиться',
freeze 'замерзать', dress 'одеваться', dry 'сохнуть' и
объединяет его с другими глаголами действия: eat 'есть', speak
'говорить', walk 'ходить', remember 'помнить'. Характер
этого действия указывается с помощью семантического
признака (физический), который и отличает chase от
глаголов умственной деятельности think 'думать', remember
'помнить' и т. п. При дальнейшей классификации действий
мы должны выделить два типа действий: 1) групповые,
которые характеризуются семантическим признаком (тип:
(групповой)) для таких глаголов, как mob 'столпиться'
(ср. семантически аномальное предложение *Mary mobbed
the movie star 'Мэри столпилась вокруг кинозвезды'), и
2) индивидуальные, которые характеризуются
семантическим признаком (тип: (индивидуальный)); ср. предложение
They solo in the plane on Friday, которое имеет только одно
значение: 'Они полетят в пятницу на самолетах — каждый
43
на своем', поскольку глагол solo 'в одиночку вести
самолет' имеет семантический признак (тип: (индивидуальный)).
Однако chase в описываемом значении может обозначать
как групповое, так и индивидуальное действие, поэтому
в его толковании тип действия не указывается. Следующий
семантический признак в толковании слова chase —
(движение) — означает, что конкретный способ перемещения
в chase не определен в отличие от значений некоторых
других глаголов движения, таких, как walk 'ходить', motor
'ездить на машине', swim 'плавать'. Семантический признак
(скорость: (быстрый)) указывает на быстроту движения,
чем chase отличается от таких глаголов, как creep 'ползать',
walk 'ходить', move 'двигаться' и т. п. Далее, по
семантическому признаку (характер: (следование)) данный глагол
отличается от глаголов типа flee 'бежать, спасаться
бегством', wander 'бродить' и сходен с такими глаголами, как
pursue 'преследовать', trail 'выслеживать, идти по следу'
и т. п. Направление движения в описываемом значении не
выражено, что объясняет отсутствие признака
(направление: ( )), который, напротив, требуется в толкованиях
глаголов типа descend 'спускаться', advance 'продвигаться
вперед', retreat 'отступать'. Для дальнейшего описания
данного значения необходимо указать, что намерением Х-а
(X — подлежащее) является поимка У-а (Y — прямое
дополнение), и в этом отношении chase сходен с pursue, но
отличен от follow 'следовать за' или trail 'идти по следу'.
Такое указание осуществляется с помощью семантического
признака (намерение Х-а: (пытаться поймать ((Y) ( )))),
где ( ) — семантический признак вида ((движение)
(скорость: (быстрый))); это означает, что сам Y тоже
перемещается, и притом быстро. Иногда считают, что тот, кого
преследуют, обязательно должен спасаться бегством от
преследователя; однако это не так: предложение The police chased
the speeding motorist 'Полицейские преследовали
автомобилиста, превысившего скорость' отнюдь не
предполагает, что автомобилист спасается бегством от полицейских.
Наконец, в смысле глагола chase нет и указания на
достижение цели, поэтому предложения типа Не chased him but
did not catch him 'Он преследовал его, но не поймал'
являются вполне правильными. По этому признаку глагол
chase отличается от таких глаголов, как intercept 'задержать',
deceive 'обмануть', trap 'заманить в ловушку', в значении
которых есть смысловой элемент 'достижение цели'.
44
Символы X и У в толковании глагола chase указывают
позиции, которые должны занимать в семантическом
представлении предложения толкования подлежащего и
прямого дополнения соответственно. Проекционное правило,
которое объединяет толкование глагола с толкованием его
дополнения, подставит на место символа У в толковании
глагола chase толкование соответствующего дополнения,
а проекционное правило, обрабатывающее отношение
между сказуемым и подлежащим, подставит на место символа
X в толковании этого глагола толкование подлежащего.
Таким образом, именно наличие различных проекционных
правил для различных синтаксических отношений
обеспечивает приписывание различных семантических
представлений предложениям типа Police chase criminals 'Полиция
преследует преступников' и Criminals chase police
'Преступники преследуют полицию'.
Прежде чем определить понятие семантической
Интерпретации предложения S,
необходимо сначала определить понятие семантически
интерпретированной глубинной структуры предложения 5.
Под последней мы понимаем полный набор пар следующего
вида: один из членов каждой пары — помеченный узел
глубинной структуры данного предложения, а другой —
максимальное множество толкований, приписанных
цепочке, слов, которые подчинены данному узлу. Множество
толкований является максимальным, если оно содержит
те и только те толкования, которые могут быть приписаны
цепочке слов, подчиненных данному узлу, с помощью
словаря, проекционных правил и сведений о синтаксических
отношениях между узлами глубинной структуры. Набор
пар является полным, если каждому узлу глубинной
структуры сопоставлено максимальное множество толкований.
Семантической интерпретацией глубинной структуры
предложения S мы будем называть (1) семантически
интерпретированную глубинную структуру предложения S и (2)
набор утверждений, которые следуют из (1) по определениям
(Dl) — (D6) 5, а также по любым другим подобным опреде-
5 Этот список определений можно продолжить, как это сделано в
К a t z, 1964b, в него можно включить определения таких понятий,
как «пресуппозиция к вопросительному (повелительному) предложению
S» или «возможный ответ на вопрос S» (см. Katz — Postal, 1964);
сюда могут быть отнесены и любые другие определения семантических
свойств языковых единиц и отношений между ними,
сформулированные в терминах семантически интерпретированных глубинных структур.
43
лениям, формулируемым в теории языка (в приводимых
ниже определениях С — любая составляющая любой
глубинной структуры предложения S).
(D1) С семантически аномальна тогда и
, только тогда, когда множество толкований,
приписанных С, пусто.
(D2) С семантически однозначна тогда
и только тогда, когда множество толкований,
приписанных С, содержит ровно один элемент.
(D3) С семантически гс-значна тогда и
только тогда, когда множество толкований,
приписанных С, содержит п элементов для любого п>\.
(D4) Ci и С2 частично синонимичны тогда
и только тогда, когда множество толкований,
приписанных d, и множество толкований,
приписанных С», имеют хотя бы один общий элемент.
(D5) Ci и Сt полностью синонимичны
тогда и только тогда, когда множество толкований,
приписанных Си совпадает с множеством
толкований, приписанных С2.
(D6) Cj и С2 семантически различны
тогда и только тогда, когда каждое толкование из
множества толкований, приписанных d,
отличается от каждого толкования из множества
толкований, приписанных С2, хотя бы одним
семантическим признаком.
Теперь, наконец, мы можем непосредственно перейти к
интересующему нас определению. Семантической
интерпретацией предложения 5 мы
называем (1) набор семантических интерпретаций всех
глубинных структур предложения 5 и (2) набор утверждений о 5,
которые следуют из (1) и определений (D'l) — (D'3), а
также любых других определений, вводимых в рамках данной
лингвистической теории (ниже под термином с е н т е н-
ционная составляющая мы будем понимать
всю цепочку терминальных символов в глубинной
структуре произвольного предложения).
(D'l) 5 семантически аномально тогда
и только тогда, когда сентенционная составляющая
каждой семантически интерпретированной глу-
46
бинной структуры предложения S семантически
аномальна.
(D'2)S семантически однозначно тогда и
только тогда, когда все толкования из множества
толкований, приписанных сентенционным
составляющим семантически интерпретированной
глубинной структуры S, синонимичны друг другу,
(D'3) S семантически я-з н а ч н о тогда и
только тогда, когда множество всех толкований,
приписанных сентенционным составляющим
семантически интерпретированных глубинных
структур предложения S, содержит п неэквивалентных
толкований для любого ri>l.
Предложенный нами способ определения таких
семантических понятий, как семантически аномальное предложение
языка L, семантически неоднозначное предложение языка
L и т. п., исключает порочные круги; таким образом, наша
теория свободна от тех недостатков, за которые Куайн
критиковал Карнапа, пытавшегося определить те же понятия.
Важнейшей чертой наших определений является то, что
они строятся исключительно в терминах формальных
признаков семантически интерпретированных глубинных
структур, так что ни одно из определяемых понятий не входит
в определение какого-либо другого понятия. Более того,
наши определения в отличие от построений Карнапа не
являются эмпирически бессодержательными: они
позволяют предсказывать семантические свойства синтаксически
правильных цепочек слов на основе формальных признаков
семантически интерпретированных глубинных структур.
Таким образом, проверкой адекватности наших
определений является то, насколько правильно они (вместе с
семантически интерпретированными глубинными структурами)
предсказывают семантические свойства предложений и
семантические отношения между предложениями.
Семантические интерпретации предложений, получаемые
на выходе семантического компонента, составляют полное
описание семантической структуры данного языка.
Адекватность этого описания определяется тем, насколько
семантические предсказания, содержащиеся в каждой из входящих
в него семантических интерпретаций, соответствуют
интуитивным суждениям носителей языка. Например, говорящие
по-английски понимают, что синтаксически однозначное
М
предложение I like seals ' Я люблю тюленей/печати' является
семантически неоднозначным. В данном случае
семантический компонент должен отразить эту неоднозначность,
поставив в соответствие этому предложению такую
семантически интерпретированную глубинную структуру, в
которой сентенционной составляющей приписаны по меньшей
мере два толкования.
Говорящий по-английски признает семантически
аномальными такие предложения, как I saw an honest stone
'Я видел честный камень' или I smell itchy 'Я пахну
чесоточно', а также такие словосочетания, как honest stones
'честные камни' и itchy smells 'чесоточные запахи'.
Следовательно, семантический компонент должен отразить тот
факт, что эти предложения аномальны; семантически
интерпретированные структуры соответствующих составляющих
не получат толкований. Далее, говорящий по-английски
понимает, что предложения Eye doctors eye blonds
'Глазные врачи осматривают блондинов', Oculists eye blonds
'Окулисты осматривают блондинов' и Blonds are eyed by
oculists 'Блондины осматриваются окулистами' синонимичны
между собой, тогда как предложение Eye doctors eye what
gentlemen prefer 'Глазные врачи осматривают то, что
предпочитают джентльмены' не синонимично ни одному из
первых трех предложений. Соответственно и этот факт должен
быть отражен в семантическом компоненте нашей модели.
В общем случае семантический компонент должен учитывать
все те семантические свойства предложений, которые
соответствуют четким и ясным интуитивным суждениям
носителей языка. Более того, даже в случае неопределенных и
неясных суждений семантический компонент все же должен
делать определенные семантические предсказания на
основе обобщения данных, полученных для более ясных случаев.
Таким образом, оценка адекватности словарных статей
и проекционных правил состоит в установлении
адекватности тех толкований, которые получают составляющие в
глубинных структурах предложений; в свою очередь
адекватность толкований устанавливается на основе тех
предсказаний, которые следуют из толкований и определений
семантических свойств и отношений. Если предсказания,
обеспечиваемые семантическим компонентом модели, находятся
в соответствии с интуитивными суждениями носителей
языка, то работа семантического компонента считается
эмпирически правильной. Если же семантический компонент дела-
43
ет ложные предсказания, то — как это требуется в любой
научной теории — данная система словарных статей и
проекционных правил должна быть изменена таким образом,
чтобы из них не выводились эмпирически неадекватные
предсказания. Однако не всегда легко определить, в какую часть
компонента следует вносить изменения. Обычно дело
сводится не просто к механическим изменениям и переделкам,
а к изменению и развитию всей теории. Сначала мы вносим
необходимые, на наш взгляд, изменения для
предотвращения ложных предсказаний, а затем проверяем, добились ли
мы требуемого результата и не возникли ли в результате
этих изменений новые, специфические трудности.
Подчеркнем, что нас интересует именно адекватность
семантического компонента в целом, а адекватность его подкомпонентов
оценивается только на основе рассмотрения всего
семантического компонента модели. Таким образом,
адекватность отдельных словарных статей и проекционных правил
определяется тем, насколько хорошо они выполняют свою
функцию в рамках цельной системы описания языка.
У. Вейнрейх
ОПЫТ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*
1. ВВЕДЕНИЕ
Нынешнее обновление лингвистики привело, в
частности, к тому, что появилась наконец возможность снова
включить семантику в сферу законных интересов лингвиста.
Никто никогда не отрицал, что объектом лингвистического
исследования являются определенные звучания,
ассоциированные с определенными значениями. Однако в отличие от
звуков, значения, с которыми звуки каким-то образом
связаны, не представлены физически ни в высказывании, ни
в его графическом изображении. И поэтому в ту пору, когда
(особенно в США) господствовал антиментализм —
пренебрежительное отношение к «умственным» данным,—
информанту официально отводилась одна-единственная роль —
быть источником неинтерпретированных текстов.
Смысловое содержание высказываний связывалось то с
определенными аспектами реальных ситуаций, то с чем-то
происходящим в мозгу говорящего, то с наблюдаемыми реакциями
слушающего; однако в любом случае смысл считался
недоступным для прямого наблюдения, так что иметь с ним дело
было столь же трудно в живых языках, как и в мертвых.
Лексикография пребывала в райском неведении и даже не
задумывалась о собственных теоретических основаниях;
однако и для лингвистики критического толка не
существовало ни готовой семантической теории, которой должны
были бы соответствовать те или иные суждения о смысле,
ни процедур проверки подобных суждений на эмпирическом
материале. Что же касается мнений рядового носителя
языка о собственном языке — мнений, которые Л. Блумфилд
* Uriel W e i n r e i с h, Explorations in semantic theory.—
«Current Trends in Linguistics». Ill (T. A. Sebeok, ed.), Mouton & Co., The
Hague, 1966, p. 395—477.— Прим. ред.
6Q
(В 1 о о m f i e 1 d, 1944) окрестил «третичными
реакциями»,— то их использование в лингвистике полностью
исключалось. «Евангелие лингвиста,— говорилось в .связи
с этим в Allen, 1957, р. 14,— должно включать каждое
слово, исходящее из уст информанта, поскольку информант,
по определению, не может ошибаться; однако все, что
информант сообщает по собственной инициативе о своем языке
(в противоположность тому, что он сообщает н а своем
языке), принципиально следует считать неверным».
В настоящий момент многие лингвисты освобождаются
от этих ограничений, которые они сами навязали своей
науке. Пресытившись позитивизмом прошлого столетия,
лингвисты нащупывают более смелую и намного более
ответственную позицию. Непрепарированный корпус текстов, то
есть массив сырых фактических данных, лишился своего
парализующего влияния. Широкое использование мнений
информанта о возможности/невозможности тех или иных
высказываний привело к революции в синтаксисе и открыло
новые перспективы в фонологии. «Третичные
реакции»информанта удалось подвергнуть систематическому
социолингвистическому анализу (L a b о v, 1964, 1965), который
постепенно освобождает лингвистику от ненужных допущений и
ложных представлений об однородности диалектов и
ненаблюдаемости звуковых изменений, доставшихся нам в
наследство от младограмматиков. Конструкты, вводимые
сейчас для описания интуиции и суждений носителей языка,
носят уже гораздо более абстрактный характер, чем
конструкты обычного структурализма. При сравнении с
«исходными (=глубинными) формами» и «переменными», прочно
вошедшими в арсенал средств описательной лингвистики и
диалектологии, понятийный аппарат, необходимый для
семантики, вовсе не кажется таким уж субъективным.
Возникший интерес к универсалиям (ср. Green-
berg, 1963) также обещает многое для семантики. В
течение десятилетий всякое лингвистическое обобщение
наталкивалось на оговорку о бесконечном разнообразии языков;
понятие «языка» сводилось к голому костяку, состоящему
из двух компонентов: двойное членение и произвольность
языкового знака. Сегодня лингвисты возобновили наконец
поиски гораздо более содержательной характеристики
понятия «человеческий язык», причем несомненно, что в
такой характеристике видное место будет занимать подробное
описание семиотических механизмов языка.
51
Однако новые возможности, открывшиеся ныне ДЛЯ
семантики, сочетаются с необычайно высокими и доселе
неизвестными требованиями к характеру семантического
исследования. Семантика тоже должна подняться до уровня
порождающего подхода, предложенного Н. Хомским, то
есть до идеального уровня совершенно эксплицитных и
применимых буквальным образом описаний. Если
предполагается, что семантическая теория конкретного языка
должна обеспечивать описание самой интуиции носителей
языка, а не только конкретных речевых проявлений, то
необходимо тщательно оговорить, какие именно способности
говорящих должны входить в компетенцию этой теории;
кроме того, должна быть заранее точно определена природа
данных, подтверждающих или опровергающих
теоретические утверждения в семантике. Наконец, если
семантическая теория призвана предоставить в распоряжение
исследователя процедуру оценки альтернативных описаний, то
она должна обеспечить и сравнимость таких описаний, то
есть задать для них некоторую стандартную точную форму.
В нескольких предыдущих публикациях (W e i п-
rei ch, 1958, 1962, 1963а, 1964) я прямо или косвенно
рассматривал вопрос о форме семантических утверждений
применительно к лексикографии. Однако дело не только в
лексикографических соображениях: полная семантическая
теория должна обеспечивать совместимость семантических
описаний с описанием грамматики языка на всех ее уровнях.
Хотя в вышеупомянутых публикациях этот вопрос не был
вовсе упущен из виду, однако он не был рассмотрен во всей
его сложности. Конкретная цель данной работы состоит
в создании такой семантической теории, которая могла бы
быть фрагментом полной, всесторонней и эксплицитной
теории естественного языка г.
Попытка достичь этой цели уже была предпринята Дж.
Катцем и Дж. Фодором (Katz — Fodor, 1963).
Непосредственное использование этой работы рядом лингвистов
1 При подготовке этой работы для меня были очень полезны
дискуссии с Эрикой К. Гарсиа. Ряд ошибок был выявлен Эдвардом Г. Бен-
диксом и Уильямом Лабовым; оба они высказали много ценных
соображений, способствовавших улучшению данной работы, однако
некоторые из этих соображений требовали, к сожалению, таких серьезных
изменений, что учесть их в настоящем варианте работы оказалось
невозможным. Исследование, на котором основана эта статья, отчасти
финансировалось Национальным институтом психического здоровья.
52
свидетельствует о ее важности: ее результаты были сразу
же включены в единую теорию лингвистических описаний
Дж. Катца и П. Постала (Katz — Postal, 1964),
а затем она стала одним из основных стимулов для
пересмотра трансформационной синтаксической теории (Katz —
Postal, 1964; Chomsky, 1965) ?. Однако в
нескольких отношениях теория Катца и Фодора (далее — КФ)
представляется неудовлетворительной. Поскольку анализ
недостатков теории КФ является необходимой
предпосылкой для разработки альтернативных предложений 3, глава
2 данной статьи посвящена критическому разбору теории
КФ. В главе 3 намечаются контуры такой семантической
теории, которая будет, по-видимому, способствовать выработке
более убедительной концепции языка в целом. В
заключительных замечаниях (глава 4) сравниваются оба подхода
(наш и КФ).
2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КФ
2.1. Предмет, задачи
и основные компоненты теории КФ
Согласно КФ, задача семантической теории состоит в
объяснении некоторых аспектов языковой способности
(=компетенции) человека. Эта способность делает
возможным производство и понимание выражений в отвлечении от
внеязыкового контекста, то есть от ситуации, в которой они
встречаются. Область, выделенная таким образом для
семантики, относительно узка: она не предусматривает
изучения способности человека правильно называть предметы,
отличать синтетически истинные утверждения от
синтетически ложных и выполнять другие задачи, связанные с
референцией. В этом отношении КФ следуют лингвистической
традиции и избавляют семантическое исследование от
бесплодных «редукций», которые навязывались семантике в
2 Изменения, внесенные Хомским в его синтаксическую теорию,
суммируются в статье Chomsky, 1966.
3 Недостаток места заставляет нас ограничиться лишь
несколькими ссылками на более раннюю литературу.
53
последние десятилетия — в основном философами (ср.
Wells, 1954).
Но какой же именно аспект языковой компетенции
должна объяснить семантическая теория? КФ утверждают, что
она нацелена в основном на способность понимать
предложения.
«Семантическая теория следующим образом описывает и
объясняет интерпретационную способность говорящих понимать
предложения: [1] она объясняет речевую деятельность носителей языка,
определяя количество и содержание осмыслений, или толкований [=геа-
dings], каждого предложения; [2] она обнаруживает семантические
аномалии; [3] она устанавливает перифрастические отношения между
предложениями, то есть синонимию предложений; [4] наконец, она
выделяет любое другое семантическое свойство или отношение,
существенное с точки зрения этой способности» (Katz — Fodor, 1963,
p. 176; нумерация в квадратных скобках добавлена автором данной
статьи).
Однако при ближайшем рассмотрении предмет теории
КФ оказывается гораздо менее обширным. Например,
перифрастические отношения [31 затронуты лишь походя
(Katz — Fodor, 1963, p. 195) *, и ни одно «другое
семантическое свойство или отношение», объяснение
которых обещано в пункте 14], в действительности в статье КФ
не рассматривается 5. Более того, как будет показано
ниже, их теория не может адекватно описать
содержание толкований предложения. Фактически КФ
занимаются крайне ограниченной частью семантической
компетенции — обнаружением семантических аномалий и
определением числа толкований предложения.
КФ предполагают, что для достижения этой цели
семантическое описание конкретного языка должно включать два
компонента: словарь и множество так называемых
«проекционных правил» (=projection rules). Словарь содержит
сведения о значениях слов (или других лексических единиц),
причем каждая словарная единица в принципе может быть
полисемична. Проекционные правила * определяют, как
4 Понятие «перифраза» осталось неразработанным, так как Фодор
(Fodor, 1961) и Катц (Katz, 1961) разошлись во мнениях
относительно этого понятия. См. также обсуждение примеров (87) и (88)
ниже, с. 138.
6 Исследование этих дополнительных отношений было
предпринято одним Катцем в Katz, 1964b. См. дальнейшие соображения по
втому поводу в § 3.441.
6 Этот неуклюжий новый термин объясняется следующим образом:
носитель языка должен непрерывно проецировать «конечное мно-
Б4
именно комбинируются значения слов, когда слова входят
в грамматические конструкции, и в частности, каким
образом снижается в контексте степень неоднозначности
отдельных слов. Чтобы представить себе это схематически,
вообразим предложение, состоящее из слов А, В и С. Словарь
дает два значения для А, три — для В и три — для С;
следовательно, предложение ABC должно было бы быть
восемнадцатизначным (2X3X3=18). На самом же деле
оказывается, что предложение ABC, допустим, только
трехзначно. Главной задачей проекционных правил является
объяснение того, как именно степень неоднозначности
снижается с 18 до 3. Предельным является такой случай, когда
у предложения нет вообще ни одной интерпретации, хотя
каждый из его компонентов по отдельности имеет хотя бы
одно, а может быть, и несколько значений.
В идеализированной семиотике принято считать, что
для знака типично взаимно-однозначное соответствие между
выражением и значением, а полисемия слов в естественных
языках считается неудобным отклонением от подобной
схемы. Следуя тенденции современной лексикологии, КФ
отвергают этот предрассудок и усматривают в полисемии
характерную особенность естественных языков, вполне
достойную научного исследования (ср. W e i n r e i с h,
1963b). КФ традиционны и в своих взглядах на роль
контекста: идея разрешения неоднозначности за счет контекста
была общим местом как у младограмматиков, так и у дес-
криптивистов 7. Однако, отводя понятию контекста такое
центральное место, КФ совершают две ошибки. Во-первых,
они не осознают очевидной опасности того, что подзначения
и оттенки можно дифференцировать в словаре до
бесконечности. (Мы вернемся к этому вопросу в § 2.25.) Во-вторых,
казалось бы, при таком подходе, когда строго различаются
языковая способность (competence; « знание языка) и
речевая деятельность (performance;. « использование языка),
автоматическое разрешение потенциальной неоднозначно-
жество предложений, с которыми он встречался до сих пор, на
бесконечное множество предложений языка» (Katz — Fodor, 1963,
p. 171). Поскольку в подобном проецировании используются все
правила грамматики, термин «проекционное правило» лишен достаточно
конкретного содержания. Мы, однако, не предложим никакой чисто
терминологической замены, поскольку стремимся к радикальному
пересмотру теории в целом (см., в особенности, § 3.51).
' Хотя узнать об этом из текста КФ невозможно. См.
соответствующие ссылки в работе W e i n г е i с h, 1963а, сноска 48.
65
сти должно рассматриваться как факт речевой деятельности
слушающего8. Теория КФ объясняет только построение
однозначных (или менее неоднозначных) целых из
неоднозначных частей; она не пытается и не смогла бы объяснить
предложения, которые говорящий намеренно дела-
е т неоднозначными. В частности, эта теория не может
представить неоднозначность такого предложения, которое
в одном понимании грамматически правильно, а в другом—
отклоняется от нормы (например, She is well groomed.':
1. 'Она хорошо причесана и одета.'; 2. 'Она обеспечена
женихами.'), поскольку она снабжена компонентом
(проекционными правилами), который автоматически выбирает
только грамматически правильную интерпретацию, если
таковая и м е е т g я. Таким образом, теория КФ оказывается
слишком слабой для объяснения метафорического
употребления тех или иных выражений (кроме наиболее избитых
оборотов) и многих шуток. Представляется весьма
сомнительным, чтобы семантическая теория, способная объяснить
лишь некоторую, весьма частную разновидность речи, а
именно лишенную юмора, сухую и банальную прозу, имела
научный смысл (W e i n г е i с h, 1963a, р. 118).
Семантика могла бы поучиться в этом плане у
грамматики. Грамматика языка тоже предусматривает порождение
неоднозначных выражений, например, Boiling champagne
is interesting.': 1) 'Кипящее шампанское интересно.', 2)
'Кипятить шампанское интересно.'; Не studied the whole year:
1) 'Он учился весь год.', 2) 'Он исследовал весь год.'; Please
make her dress fast: 1) 'Пожалуйста, сделайте ее платье
прочным.', 2) 'Пожалуйста, заставьте ее быстро одеться.1.
Но каждое такое предложение, неоднозначное на
поверхностном уровне, соответствует двум различным
однозначным глубинным структурам. Неоднозначность здесь
возникает, во-первых, в силу наличия трансформационных
правил, которые дают одинаковые поверхностные результаты
для различных глубинных структур, и, во-вторых, в силу
наличия слов, которые могут иметь двоякую
синтаксическую функцию (например, boil — это переходный или
непереходный глагол: 'кипятить' и 'кипеть'). Но от
грамматической теории н е требуется объяснения того, каким образом
при восприятии таких неоднозначных выражений
слушающий догадывается, какая из двух глубинных структур
имена это мне впервые указал Эдвард Г. Бендико,
W
ется в виду при данном употреблении поверхностной
структуры; цель грамматической теории не сводится также и к
исчислению подобных неоднозначностей.
Преимущественное внимание КФ к разрешению неоднозначности
представляется абсолютно неоправданной тратой усилий.
Семантическая теория может и должна быть сформулирована таким
образом, чтобы прежде всего гарантировать определение
глубинных структур (в том числе их лексических
компонентов) как однозначных сущностей (см. §3.1), а затем
объяснять интерпретации сложных выражений на основе
известных значений их компонентов.
2.2. Словарные статьи
Если словарные статьи подлежат какой-либо
формальной обработке (например, при помощи аппарата типа
проекционных правил), они должны иметь строго определенную
форму 8. КФ предлагают следующую каноническую форму
словарной статьи: каждая статья содержит (i)
синтаксическое описание, (И) семантическое описание и (Ш) сведения
об ограничениях на сочетаемость данной единицы.
Синтаксическое описание (i) — это последовательность
«синтаксических маркеров» (markers) типа «существительное»,
«существительное конкретное», «глагол->-глагол переходный»
и т. п. Семантическое описание (и) включает
последовательность семантических маркеров и в некоторых случаях
семантический различитель. Семантические маркеры
представляют те элементы значения данной единицы, которые
учитываются в теории КФ; они же представляют те
смысловые элементы, которыми оперируют проекционные правила
при разрешении неоднозначности; в терминах этих
смысловых элементов представляются. аномальность,
противоречивость и тавтологичность высказываний. В случае
полисемии словарной единицы в соответствующей статье словаря
дается схема в виде ветвящихся путей, составленных из
семантических маркеров (СеМ), например:
CeMf — CeMj ^
**> Се N14
8 О стандартной форме лексикографического толкования см. W e i n-
reich, 1962, р. 31 и ел.
81
Снижение степени неоднозначности представляется тогда
как выбор конкретного семантического пути (например,
CeMi->CeM2->CeM4) из множества возможных вариантов,
Различитель представляет все остальные аспекты значения
данной лексической единицы, то есть, по существу, те,
которые не участвуют в операциях по снижению степени
неоднозначности. Сочетаемостные ограничения (iii),
даваемые в конце каждой статьи (или в случае полисемичных
единиц в конце каждого из альтернативных семантических
путей), определяют контекст, в котором данная единица
может законным образом появляться. Контекст единицы W
описывается в терминах синтаксических или
семантических маркеров — либо положительно (то есть через
маркеры, которые должны фигурировать в составе путей
единиц, образующих контекст единицы W), либо
отрицательно (то есть через маркеры, которые не должны
фигурировать в составе путей контекстных единиц).
Сочетаемостные ограничения, конечно, не затрагивают
различителей, поскольку они, по определению,
не играют роли в сочетаемостных возможностях
слова.
На некотором этапе порождающего процесса для
каждого слова предложения должен быть определен также его
фонемный состав. Опущение этого этапа у КФ объясняется,
по-видимому, тем, что они исходят из того более раннего
представления о лингвистической теории, которое не
предполагало семантического компонента и согласно которому
грамматика включала в качестве подкомпонента лексикон,
задающий для каждого слова его фонемный состав и
синтаксический класс. В полной теории языка существование
особого лексикона, отличного от словаря, выглядит абсурдно;
впрочем, лексикон может быть удален из лингвистических
описаний без малейших затруднений1е, Поэтому мы
оставим этот момент без внимания и перейдем к
подробному рассмотрению статуса и вида словарных статей
в теории КФ.
10 Катц и Постал (Katz — Postal, 1964, p. 161) постулируют
лексикон (отличный от словаря!), который, по предположению,
определяет фонемный состав морфем. У Хомского (Chomsky,
1965, р. 142, 169) исходный фонемный облик морфем задается тем
же компонентом, что и синтаксические признаки, а именно —
лексиконом.
68
2.21. Синтаксические маркеры
Теоретический статус синтаксических маркеров у КФ
не ясен. По-видимому, разумно считать, что функция
синтаксического маркера — СиМ — состоит в следующем:
если какой-то узел синтаксической структуры помечен
категориальным символом СиМ,., то этот узел может
заполняться любой единицей, имеющей синтаксический маркер СиМ,,
и только такой единицей и. В таком случае множество
синтаксических маркеров совпадает с множеством
терминальных символов, или синтаксических категорий, то есть
классов лексем (=lexical categories, в смысле Chomsky,
1965, р. 74) данной грамматики.
В теории КФ подразумевается, что этим множеством
категорий лексикографа снабжает грамматист. На самом деле
ни одной полной грамматики, удовлетворяющей этим
требованиям, еще не написано; наоборот, после опубликования
статьи КФ в рамках грамматического анализа было
предложено так много произвольных решений, что теоретики
синтаксиса (в том числе сам Катц) занялись разработкой
единой теории лингвистических описаний, в семантическом
компоненте которой они пытаются найти обоснования для
введения тех или иных синтаксических признаков (К a t z—
Postal, 1964; Chomsky, 1965). Но прежде чем
заняться содержательным вопросом обоснования
конкретных синтаксических признаков, следует
рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся вида этих признаков.
Вообще говоря, число синтаксических классов лексем
(в традиционной терминологии — частей речи) зависит от
глубины или «тонкости» синтаксической классификации.
(Термин «тонкость» заимствован из Н а 1 1 i d а у, 1961.)
Предположим, класс А подразделяется на В и С.
Графически это может быть показано, например," посредством
схемы (2i):
<2) (i) . . (ii) (Ш)
Al
А2
-*- А
[ + F]
[-FJ
u Это заполнение осуществляется либо правилом подстановки
(согласно раннему варианту порождающей грамматики, например
Lees, 1960), либо специальной трансформацией (согласно С h о га s-
k у, 1965).
59
В качестве примера можно взять расщепление в латинском
языке класса склоняемых слов на класс «существительное»
и класс «прилагательное». Самый факт подразделения
синтаксического класса, не отраженный в (2i), может быть
эксплицитно представлен либо посредством (2п), либо
посредством (2iii). В (2ii) Ai=B, а А2=С; в (2iii) [+F] и [—F]
представляют значения переменного признака 12, который
дифференцирует виды В и С рода А. (Примером может
служить разбиение класса «имя» на более дробные классы
«имя существительное» и «имя прилагательное».)
Обозначения в виде признаков были разработаны в исследованиях
по фонологии и недавно использованы в теоретическом
синтаксисе Н. Хомским (Chomsky, 1965) 18.
Единые нерасчлененные обозначения синтаксических
маркеров соответствуют неявным обозначениям типа (2i),
а последовательности элементарных маркеров —
признаковой записи типа (2iii). Подход КФ к этому вопросу весьма
эклектичен. Последовательность маркеров «глагол->-гла-
гол переходный» в приводимом ими примере словарной
статьи play 'играть (роль)' соответствует принципу (2ш);
маркер же «существительное конкретное» соответствует
наименее информативному принципу (2i) I4. Конечно, примеры
в КФ не более чем приблизительные иллюстрации; однако
по отношению к состоянию наших знаний об английском
синтаксисе они носят удивительно случайный характер и,
что еще хуже, противоречат друг другу.
Нерасчлененные классы, очевидно, мало информативны,
поэтому можно ожидать, что для описания синтаксических
свойств слов в словарных статьях достаточно удобной
окажется только признаковая запись. В нашем дальнейшем
изложении мы будем предполагать, что КФ согласились бы
заменить все синтаксические маркеры последовательностя-
12 Символ признака отличается от символа категории тем, что ни
при каком выводе символу признака не подчиняется никакой сегмент
поверхностной цепочки; другими словами, признаку никогда не
отвечает отдельный звуковой сегмент.
13 Хомский сообщил мне, что идею использования признаков
впервые предложил Г. X. Мэттьюз примерно в 1957 г.; эта же идея
независимо проводилась в исследованиях Роберта П. Стокуэлла и его
учеников.
14 Мы интерпретируем «существительное конкретное» как нерас-
члененный маркер, поскольку в этой записи ие показано, что этот
маркер получается в результате расщепления маркера «существительное».
60
ми признаков, выражающими более тонкое подразделение
соответствующих классов.
Итак, допустим, что мы представляем синтаксический
маркер в виде последовательности символов; первый
символ — это синтаксический класс (часть речи), а остальные—
синтаксические признаки. Допустим, далее, что словарь
содержит статьи, состоящие из частично совпадающих
цепочек, например (3):
(3) (i) land —>- существительное —»■ исчисляемое —►
неодушевленное—► ... ( = 'страна')
land —► существительное —► неисчисляемое —►
конкретное—► ... ( = 'земля [как недвижимость]1)
(П) cook —► существительное —*■ исчисляемое —► одушевленное
—► . . . ( ='повар')
cook —>■ глагол —► .. . (= 'варить')
Частичное совпадение цепочек может быть отражено
эксплицитно в виде ветвящихся последовательностей:
(4)
^^исчисляемое—*- неодушевленное—
(I) land—*-существительное;^
^^■неисчисляемое ■» конкретное
^-существительное—^-исчисляемое »- одушевленное »
^■гдагол »"-•••
Однако при такой записи, предлагаемой КФ, не
проводится различия между случайной омонимией и полисемией,
интересной с точки зрения лексикологии; в частности,
появляются словарные статьи типа (5):
(5)
< существительное ^-исчисляемое — неодушевленное ——*-...
... ( — 'камень', 'скала')
глагол «-... (-'колебаться', 'раскачиваться')
Чтобы избежать этого, предложение КФ необходимо
дополнить по меньшей мере требованием, чтобы в словаре
допускались только такие статьи, содержащие частично
совпадающие ветвящиеся пути синтаксических маркеров, в
которых эти пути снова сходятся на каком-либо
семантическом маркере, то есть в которых эксплицитно показано,
61
что значения данных единиц имеют общую часть; ср, (6) Ч:
16)
<'подросток' ^-существительное v.
"^(человек)
подростковый'— прилагательное/ {не^еб^к^
Но такие паллиативные средства все равно не позволяют
представить явления перехода из одного синтаксического
класса в другой (типа to explore 'исследовать' — an explore
'исследование', a package 'упаковка' — to package
'упаковывать') как (частично) продуктивный процесс: КФ
придется включать в словарь все формы, которые могут
образовываться говорящими, В § 3.51 мы вернемся к этому
вопросу и рассмотрим теорию, адекватно отражающую
указанную способность говорящих.
2.22. Семантические vs. синтаксические маркеры
Наличие синтаксических и семантических маркерор с
идентичными названиями дает веские на первый взгляд
основания подозревать, что различение семантических и
синтаксических маркеров, решающееся в рамках теории
КФ (К a t z — F о d о г, 1963, р. 208 ff.; см. также § 4.1,
ниже), обосновано плохо. Прежде всего сравним функции
семантических и синтаксических маркеров.
Посредством семантических маркеров в теории КФ
изображаются те смысловые компоненты словарной единицы,
которые учитываются данной теорией; более конкретно,
семантические маркеры представляют те элементы значения
слова, с которыми оперируют проекционные правила. Эти
правила объединяют наборы семантических маркеров слов—
компонентов предложений (см. § 2.3), в результате чего
^ Даже в этом случае остаются серьезные проблемы, связанные
с тем, что пути признаков должны сходиться достаточно близко к
началу, то есть так, чтобы file 'досье* и file 'напильник', например,
оказались омонимами, хотя, возможно, они оба и обладают общим
семантическим признаком (физический объект). Эта важная проблема —
различение омонимии и полисемии — даже не ставится в теории КФ,
котя все их примеры принадлежат к лингвистически интересному типу
(полисемии). См. некоторые дополнительные соображения в W e i п-
r e i с h, 1963a, р. 143.
62
образуется семантическая интерпретация предложения —
однозначного, я-значного или аномального. Общий
критерий экономии требует, чтобы маркеров (элементарных
единиц) было как можно меньше; значит, исследователь должен
вводить тот или иной маркер только в том случае, когда
отсутствие данного маркера делает невозможным
формальное выявление неоднозначности или аномальности тех или
иных предложений. Общий принцип, по-видимому, состоит
в том, что, если некоторый семантический маркер
фигурирует в некотором семантическом пути, то есть в
семантическом описании какой-либо словарной единицы, он
обязательно должен фигурировать в сочетаемостных
ограничениях по крайней мере еще одной словарной единицы 1в,
Рассмотрим пример. Пусть различие между
существительными balli 'бал' и balU 'мяч' формулируется в терминах
различителен Тогда теория не сможет объяснить
неоднозначность предложения (7 i) или описать аномальность
предложений (7 п) и (7 iii):
(7) (i) I observed the ball. 'Я наблюдал за балом.'/
'Я наблюдал за мячом.'
(ii) I attended the ball2. 'Я посетил мяч.'
(iii) I burned the ballj. 'Я сжег бал.'
Значит, необходимо изменить словарь, дополнив
соответствующие статьи подходящими семантическими маркерами
типа (событие) и (предмет). Выше, однако, мы видели (в
(2)), что добавление маркера (=признака) равносильно
одному шагу классификации.
Что же заставляет лингвиста увеличивать тонкость
синтаксической классификации? v Причины оказываются в
точности теми же, что и в семантике: более дробная
классификация необходима тогда, когда без нее грамматика порож-
16 Возможность фиксации неоднозначности безотносительно к ее
разрешению не является достаточным критерием для введения того
или иного маркера, поскольку неоднозначность может быть отмечена
и более экономно — путем ветвления различителен, следующих за
последним семантическим маркером. Более того, единственная
способность говорящих, которую описывает теория КФ,— это интерпретация
предложений, а не критика словарей. КФ туманно говорят о
«максимизации экономности описания», но не разрабатывают далее эту
интригующую идею.
' Проблеме синтаксической классификации уделялось мало
внимания даже в дотрансформационном синтаксисе. См. Холодов и ч,
63
Дает (а) неправильные выражения или (б) неоднозначные
предложения.
(а) Пусть грамматика английского языка содержит
следующие правила:
(8) (i) S —NP + VP
(i) VP-*V + (NP)
(iii) NP-— Tom, Bill
(iv) V —»- liked, waited
Эти правила будут порождать не только Tom liked Bill.
'Тому нравился Билл.' и Тот waited. 'Том ждал.', но и
* Тот liked '* Тому нравился' и * Тот waited Bill, [глагол
wait не может иметь прямого дополнения]. Чтобы
предотвратить нежелательный результат — порождение последних
двух предложений,— мы должны переформулировать
правила (8 ii) и (8 iv) таким образом, чтобы отразить более
тонкую классификацию соответствующих единиц, например:
p')(li>VP-{$ + NP}
(iv) Vt -* liked
Vj —*■ waited
Добавление синтаксических маркеров t и i соответствует
по форме и по содержанию введению семантических маркеров
(событие) и (предмет) с целью не допускать таких
выражений, как (7 iii) со значением 'Я сжег бал' (подобные
выражения должны отмечаться как аномальные).
(б) Предположим, что английская грамматика допускает
глагольные группы VP вида «связка + имя», и пусть fat
'жир'/'жирный' — «имя». Тогда оказываются возможными
предложения типа This substance is fat. 'Это вещество —
жир.'/'Это вещество жирное.', но их неоднозначность при
этом никак не отмечается. Одним из мотивов1S для
расщепления маркера «имя» на два признака — «существительное»
и «прилагательное» — является необходимость фиксации
этой неоднозначности. Это в точности соответствует
введению маркеров для фиксации неоднозначности в (7i).
18 Существуют и другие мотивы. Так, например, мы должны
отразить неоднозначность слова fat (ср. It looks fatj;. 'Это выглядит жирным.'
и It looks like fat2- 'Это похоже на жир.'), чтобы исключить выражения
*Thls one is fat2ter. '*Это более жир.' и *We have to select the right
fatjS. !*Мы должны выбрать правильные жирные'.
64
Типичные примеры синтаксической неоднозначности
носят «двухфокусный» характер, например: The statistician
studies the whole year. 'Статистик учится весь
год.'/'Статистик исследует весь год.' или Не left his car with his girl
friend. 'Он оставил свою машину у приятельницы.'/'Он
оставил свою машину с приятельницей (в ней)'. Иными
словами, если мы хотим довести недостаточно тонкую
классификацию, представленную, например, в (9), до такой
тонкости, чтобы можно было выявлять подобные
неоднозначности:
(9)
whole
year
то приходится делать сразу два взаимосвязанных
изменения: глаголы придется разделить на переходные и
непереходные, a NP соответственно — на дополнения,
управляемые VP и «временные слова», подобные наречиям. Редкость
однофокусных неоднозначностей в грамматике — даже в
языках с очень бедной морфологией (ср. С h а о, 1959) —
сама по себе интересна с точки зрения общего устройства
языка. Однако случаи однофокусной синтаксической
неоднозначности все-таки существуют, равно как существует
двухфокусная семантическая неоднозначность 19.
КФ задаются вопросом, «можно ли проводить границу
между грамматическими и семантическими маркерами на
основе выполняемой ими теоретической функции» (К a t z—
F о d о г, 1963, р. 209), и приходят к заключению, что оп-
ш Рассматривая throw как двухзначное слово (1. 'бросать', 2.
'устраивать') при заданной полисемии слова ball, обсуждавшейся выше,
отметим двухфокусную неоднозначность предложения She threw a ball.
'Она бросила мяч.' / 'Она устроила бал'. Еще один пример: Не arranged
the music. 'Он аранжировал музыку.' / 'Он договорился о музыке.'
(We i nreich, 1963a, p. 143).
65
ределенный критерий имеется: «Грамматические маркеры
фиксируют формальные различия, на которых основывается
противопоставление правильно построенных и неправильно
построенных цепочек морфем, в то время как функция
семантических маркеров состоит в том, что они позволяют
поставить в соответствие каждой правильно построенной
цепочке ее понятийное содержание, то есть представить ее
как сообщение, которое эта цепочка несет в нормальных
ситуациях» (Fodor — Katz (eds.), 1964, p. 518). Но
это заключение дает лишь видимость решения вопроса; как
мы видели, противопоставление грамматических и
семантических аномалий все еще остается необъясненным.
Путаница, «возникшая в лингвистических исследованиях в
результате поисков границы между грамматикой и семантикой»,
не только не рассеивается, но лишь усугубляется из-за
неявного порочного круга в аргументации КФ.
В теории КФ есть только один вопрос, к которому «мета-
теоретическое» противопоставление синтаксических и
семантических маркеров имеет существенное отношение: это
проблема маркеров того и другого типов, у которых
«оказались» одинаковые названия. Предлагается, например,
характеризовать слово baby 'грудной ребенок' семантически
как (человек), а грамматически как (не-человек), поскольку
оно заменяется местоимением it, в то время как ship
'корабль' характеризуется противоположным образом.
Однако эта проблема решается чисто грамматически еще с
античных времен: либо при помощи смешанных родов, либо при
помощи одновременного включения соответствующих слов
в два рода 20. Кроме того, ясно, что, приписав слову baby
семантический маркер (человек), мы не облегчим себе
решения каких бы то ни было семантических проблем, поскольку
большую часть того, что можно сказать о людях, не
являющихся грудными детьми, можно сказать о грудных детях
не с большим основанием, чем о животных (то есть о
словах с семантическим маркером (не-человек)): разве The
baby hates its relatives. Трудной ребенок ненавидит своих
родственников.' сколько-нибудь менее странно, чем The
kitten hates its relatives. 'Котенок ненавидит своих
родственников.'? Более важно, однако, то, что при таком
решении не удается представить в качестве продуктивного спо-
20 См., например, Н о с k e t t, 1958, p. 232 и ел. О
грамматических родах см. также ниже сноску 94 на с. 173—174 наст. сб.
66
соба номинации обозначение при помощи местоимения she
'она' тех объектов, к которым говорящий относится с
любовью (особенно если говорящий — мужчина); однако
любой физический объект можно обозначить по-английски при
помощи местоимения she (с особым семантическим эффектом),
и это очевидный факт. (Об одной возможной теоретической
трактовке этого способа номинации см. ниже, §3.51.)
Итак, мы видели, что противопоставление
синтаксических и семантических маркеров в теории КФ не
основывается, как это утверждается, на функциях этих маркеров.
Остается единственная возможность: считать, что это
противопоставление основывается на смысловом содержании.
Например, можно было бы утверждать, что семантические
маркеры имеют некоторое денотативное содержание, а
синтаксические маркеры — нет. Но это противоречило бы духу
всего исследования КФ: ведь их цель состоит как раз в том,
чтобы выявить внутриязыковые семантические явления без
обращения к корреляциям между словами и их денотатами
(§ 2.1). Можно лишь заключить, что если только не
отказаться полностью от соблюдения формальных принципов в
лингвистике, то постулируемого в теории КФ
противопоставления синтаксических и семантических маркеров не
существует.
2.23. Семантические маркеры vs. семантические различители
Разложение значений на компоненты и установление
иерархии этих компонентов всегда было одной из главных
целей семантических исследований. При этом принято
различать смысл (=сигнификат; «лексическое значение» в
терминологии Германа Пауля, «различительное значение», по
Л. Блумфилду) и денотат (=референт; «окказиональное
значение», по Паулю). Смысл признается законным объектом
лингвистических исследований, денотат же отдается в
компетенцию каких-либо других дисциплин а1. Что касается
смысла, то для различения семантических компонентов
используется следующий критерий (в тех областях лексики,
где значения можно характеризовать таксономически): в
классификациях типа (10) одни признаки, вводимые на са-
21 Литературу по этому вопросу см. в Weinreich, 1963a,
р. 152 и ел.; в частности, в We i nre ich, 1964 содержится критика
3-го издания Webster's New International Dictionary, в котором
указанное различие между смыслом и денотатом игнорируется.
3*
67
мом нижнем уровне, то есть терминальные, отличаются от
других — нетерминальных — признаков тем, что каждый
из терминальных признаков встречается в описании только
один раз. Ср. классификацию типа (10), где признаки (а, Ъ,
с, . . ., g) являются терминальными, а признаки (1, 2; А) —
нетерминальными:
(Ю) А
Деление семантических признаков на маркеры и разли-
чители в теории КФ, по-видимому, не соответствует ни
одному из этих принятых критериев, насколько можно
судить из не слишком ясного изложения КФ. О маркерах
говорится, что они «отражают все теоретически
существенные отношения, имеющие место между лексическими
единицами», в то время как различители «не участвуют в
фиксации теоретически существенных отношений». Значит,
различители не могут соответствовать признакам денотатов,
поскольку денотаты вообще не рассматриваются в теории.
Не могут они соответствовать и признакам низшего уровня
в таксономии типа (10), поскольку последние — например,
признаки (а, Ь, . . ., g) в словаре типа (10) — совершенно
определенно участвуют в фиксации отношений, важных для
теории: ведь только они различают виды родов А1 и А2,
хотя и встречаются в описании лишь однажды.
Само понятие различителя оказывается весьма неясным,
поскольку при описании языка невозможно обоснованно
решать, должна данная последовательность маркеров
завершаться различителем или нет. Такое решение
предполагает наличие некоторого заведомо правильного словарного
толкования, в котором остается лишь рассортировать
использованные признаки: это — маркер, а это — различи-
тель. Но это опять ставит телегу впереди лошади, особенно
если учесть широко известную произвольность
существующих словарей (W e i n r e i с h, 1962, 1964). Все
предложения КФ относительно детальной «геометрии» различите-
лей точно так же не обоснованы: их теория не дает
оснований для выбора, например, (11 i) или (11 и) в качестве пра-
68
вильного описания некоторого значения. (СеМп обозначает
последний семантический маркер в пути; номера в
квадратных скобках обозначают различители.)
(11) W СеМп <"> СеМп
[11 [2] [31
Все правила КФ, касающиеся операций с различителями
(например, «правило стирания» для идентичных
различителен, столь же бессодержательны.
Теория различителей дискредитируется еще больше,
когда нам говорят (Katz — Fo dor, 1963, сноска 16),
что «некоторые семантические отношения между
лексическими единицами могут быть выражены в терминах
отношений между их различителями». Хотя это противоречит
только что процитированному определению, можно все еще
предполагать, что в некотором расширении системы КФ
будут определены какие-то особые семантические
отношения, которые могут опираться на различители. Однако эта
концепция полностью опрокидывается в статье самого Кат-
ца (Katz, 1964b), где противоречивость — отношение,
определяемое в терминах семантических маркеров,—
обнаруживается в предложении Red is green. 'Красное — это
зеленое.' как результат действия различителей??!
Здесь последовательность КФ достигла роковых
масштабов. Никакая классификация ad hoc цветовых различий
в виде семантических маркеров не спасет теорию КФ, ибо
любое слово в естественном языке можно употребить
таким образом, что получится аномальное предложение
(ср. §3.441).
2.24. Семантические пути vs. сочетаемостные ограничения
Согласно КФ, к терминальному элементу семантического
пути должна быть присоединена цепочка, состоящая из
синтаксических или семантических маркеров или из тех
и других вместе. Функция этой цепочки состоит в задании
условий неаномального использования данного слова в том
22 «Имеются я-ки лексических единиц, антонимичных по разли-
чителю» (Katz, 1964b, p. 532).
69
его значении, которое представлено этим путем. Например,
«суффикс» <(эстетический объект)> в конце одного из
путей для colorful 'яркий, живописный' указывает, что это
прилагательное в значении, соответствующем данному
пути, нормально сочетается в качестве определения только с
существительными, содержащими в своих семантических
путях маркер (эстетический объект).
Эта часть теории КФ также в избытке содержит
непреодолимые трудности. Рассмотрим прилагательное pretty
'приятный, хороший; прелестная, хорошенькая'. Оно сочетается
либо с обозначениями неодушевленных объектов, либо с
обозначениями существ женского пола. Если
сформулировать указанные сочетаемостные ограничения как
^неодушевленное) V (одушевленное) + (женский пол)> 2\ то тем
самым можно объяснить допустимость сочетания pretty
girls 'хорошенькие девочки' и аномальность сочетания
pretty boys 'хорошенькие мальчики', поскольку girl 'девочка'
имеет в своем пути маркер (женский пол), a boy 'мальчик'
не имеет. Но мы можем также сказать pretty children
'прелестные дети', не допуская никакой аномалии, хотя child
'ребенок' не имеет маркера (женский пол); на самом же деле
носители английского языка выведут пол children 'дети'
из определения к нему в данном употреблении, и теория,
занимающаяся «способностью говорящих интерпретировать
высказывания», должна объяснять такой вывод. Одним из
способов осуществить это была бы более аккуратная
формулировка сочетаемостного ограничения, например в виде
<(неодушевленный) V 1 (мужской пол)>, что должно
читаться как: применимо к неодушевленным объектам или
к существам «не мужского пола». Этим бы объяснялось,
почему pretty children не аномально, но еще не было бы
показано, как мы понимаем, что эти дети — девочки, поскольку
проекционные правила лишь проверяют выполнение соче-
таемостных ограничений, но не переносят никакой
информации из угловых скобок в новый путь. Кроме того, маркер
(женский пол)=~| (мужской пол) является, вероятно,
нетипичным, так как мы имеем здесь два значения некоторого
признака, членящие широкую область ровно на две части.
Если, с другой стороны, пометить прилагательное addled
23 Если из маркера (женский пол) обязательно следует
(одушевленный), то обозначения могут, конечно, быть упрощены: см. К a t z —
Postal, 1964, p. 16 и ел. См., однако, ниже, §4.3, о теоретических
последствиях таких упрощений.
70
'тухлый', 'путаный' как относящееся только к яйцам и
мозгам, то это ограничение вряд ли удастся сформулировать
в терминах маркеров (без различителей); и нам снова будет
недоставать объяснения того, откуда мы знаем, что в It's
addled 'Оно тухлое'/'Они путаные' референтом местоимения
является яйцо или мозги. Здесь ограничение в терминах
отрицаний, например:
<-|[(-|яйца) V (1 мозги)] >,
будет иметь явно неприемлемый характер ad hoc.
Можно рассмотреть две альтернативы. Одна из них
состоит в том, чтобы рассматривать указание «сочетается с
Z» как внутренний признак словарной статьи W, то есть
семантического пути W, а не как утверждение, внешнее
по отношению к этому пути. Другая альтернатива состоит
в принятии гораздо более сложного и богатого
представления о процессе семантической интерпретации. А именно,
согласно этому представлению, признаки из сочетаемостных
ограничений слова Z будут переноситься в путь другого
слова W, когда W сочетается с Z. Именно это решение было
принято Катцем и Посталом (К atz — Postal, 1964,
p. 83) для некоторого особого случая (см. § 3.51 (в), ниже),
и именно это общее решение мы предложим в § 3.3. Но
относительно теории КФ можно с уверенностью сказать, что
различение семантических путей и сочетаемостных
ограничений столь же несостоятельно, как и их другие
утверждения относительно вида словарных статей.
2.25. Структура семантических путей
Прежде чем перейти к критике понятия проекционных
правил в теории КФ, нам придется продолжить
рассмотрение формальной структуры словарных статей.
Если словарная статья, которая мыслится как
парадигматическое дерево, имеет вид (12 i):
(12)
F
71
где А, В, С, D, Е и F — семантические признаки (features),
то ничто не мешает изобразить ее в виде (12 и) (при условии,
конечно, что мы согласимся читать все такие деревья
«сверху вниз»). Мы уже указывали подобные случаи схождения
в семантическом пути после разветвления синтаксических
путей; можно привести много примеров чисто
семантического схождения, например (13):
(13) fox 'лиса' —■ — (объект) *- (одушев-
^_^. (человек) •\^
ленное)<<Г^ ^Ъ (хитрое) ,..
"х (животное) *-.., у^
Однако, как будет показано ниже, априорного порядка
маркеров (= markers) не существует. Предположим, мы
условимся, что если в данном словаре маркеры А, В, С, ...
встречаются в одной и той же статье, то они упорядочиваются
по алфавиту; тогда подпути А С D G и В
С Н одной и той же словарной статьи будут
пересекаться, как в (14):
(И):
/ \.
Если же, с другой стороны, потребовать (приняв
соответствующее метатеоретическое соглашение), чтобы всякое
схождение семантических путей избегалось, то данная
словарная статья будет, вероятно, иметь вид (15):
(15)
В
72
В любом случае полезно заранее осознать, что
фиксированный порядок маркеров и фиксированная форма
ветвления семантических путей могут быть взаимно несовместимы,
В отличие от синтагматических деревьев,
представляющих структуры предложений, чисто парадигматические
деревья, соответствующие полисемичным словарным статьям,
не подчиняются ограничениям, накладываемым на
разложимость (имеется в виду «разложимость» в смысле,
например, Chomsky — Miller, 1963, p. 301).
Следовательно, проблема сводится к нахождению наиболее экономной
сети путей — с минимальным повторением признаков.
Рассматривая эту проблему на примере таких деревьев,
которые представимы в виде чистых таксономии, КФ
трактуют ее чересчур упрощенно. Так, классификационное
дерево типа (16 i), в котором А, В, С, Q, R, S и Т — признаки,
и каждый путь признаков, представляющий одно значение,
эквивалентен дереву (16 ii), которое эксплицитно
представляет его в виде таксономии:
Однако многие словари охотнее пользуются матрицами
признаков вида (17 i), и не существует обоснованных
аргументов для представления их в виде (17 ii); экономии можно
достичь только представлениями типа (17 iii-v):
(17) W
73
Короче говоря, пока трудно ожидать теоретической
мотивировки порядка признаков в семантических путях 24.
Сходная трудность возникает при изучении
объединения путей в результате действия проекционных правил.
Если даны словарные статьи со своими путями W3=ai+
а2+ • . . +ат и Wb=b!+bi+ . . . -\-bn, то результирующая
лексическая цепочка Wa-\-W^ имеет результирующий путь
ai+a2+ . . .+ am+bi+b\+ . . . +bn; однако в теории
КФ стык между той частью результирующего пути, которая
возникла из Wa, и той, которая возникла из Wb, никак
формально не отмечается. У КФ различители lFa, если они
имеются, появляются в той точке, в которой соединяются
исходные пути, входящие в результирующий путь 25; но,
как мы видели, это совершенно произвольно по отношению к
теории. На самом деле происхождение каждого маркера в
результирующем пути не восстановимо; элементы
результирующего пути у КФ, как и элементы исходных путей,
представляют собой неупорядоченные множества, и в
пределах данной теории не существует обоснованного способа
установить, что в пути WA-\-Wb признак ат, например,
предшествует bt.
Рассмотрим некоторые следствия этой особенности
теории КФ. Если даны отдельные семантические пути для
английских слов detective 'детектив' и woman 'женщина',
то конструкции woman-detective 'женщина-детектив' и
detective-woman 'детектив-женщина' будут представлены
идентичными результирующими путями, поскольку
порядок элементов в пути и, следовательно, порядок подпутей в
пути с точки зрения теории КФ несуществен. Иначе говоря,
теория КФ неспособна отобразить различие в смысле,
связанное только с тем, что определяющее и определяемое
меняются местами 26. Однако, хотя это и представляет опре-
24 Перспектива автоматически получать единственно возможные
сети признаков на основе импликативных отношений между маркерами,
обсуждаемых Катцем и Посталом (К atz — Postal, 1964) и Хом-
ским (Chomsky, 1965), представляется достаточно
привлекательной; однако маловероятно, чтобы это можно было осуществить в
сколько-нибудь серьезном масштабе.
25 Например, на с. 121 правило Р8; но вообще это проводится не
последовательно (например, этого нет на с. 118) и не в соответствии с
формальным правилом, сформулированным на с. 118 (см. Katz —
F о d о г, 1963.)
26 Разложение этих выражений на предложения, лежащие в их
основе, например: The detective is a woman. 'Детектив является
женщиной.' или The woman is a detective. 'Женщина является детекти-
74
деленные неудобства, это не так уж страшно, поскольку
семантический эффект от перестановки составляющих здесь
весьма мал. Гораздо более серьезный недостаток теории КФ
обнаруживается при рассмотрении предложений (181) и
(18П): оказывается, что они оба тоже получают
идентичные семантические интерпретации (=толкования). Пути
слов (1) cats 'кошки', (2) chase 'ловить' и (3) mice 'мыши',
хотя они и объединяются в порядке 1+(2+3) в (18i) и в
порядке 3+(2+1) в (18н):
(18) (i) Cats chase mice. 'Кошки ловят мышей.'
(ii) Mice chase cats. 'Мыши ловят кошек.',
дадут в качестве результирующего пути один и тот же
неупорядоченный набор признаков {1, 2, 3}, поскольку, как
мы видели, в семантических путях нет ни упорядочивания,
ни структуры (показанной, например, скобками). По
аналогичным причинам теория КФ не в состоянии описать
различие между Three cats chased a mouse. 'Три кошки ловили
мышь.' и A cat chased three mice. 'Кошка ловила трех
мышей.', между (bloody + red) + sunset '(кроваво +
красный) + закат' и bloody + red -f- sunset 'кровавый +
красный + закат' и т. п.
Для КФ значение сложного выражения (типа
словосочетания или предложения), точно так же как и значение
одного слова, представляет собой не имеющее внутренней
организации множество признаков. Проекционные правила,
как они сформулированы у КФ, разрушают
семантическую структуру и превращают
значение предложения именно в такое множество. Не
объясняя, каким способом значение предложения выводится
носителем языка из значений его компонентов, теория КФ
позволяет говорить лишь о наличии некоторых значений в
каком-то неопределенном качестве где-то в структуре
предложения. КФ сообщают нам, по сути дела, о том, что (18 i)
представляет собой выражение, в котором что-то говорится
о кошках, мышах и ловле, и что в (18 ii) говорится о том же
самом.
Против этого можно было бы, конечно, выдвинуть то
возражение, что, хотя множество семантических признаков
в обоих предложениях из (18) совпадает, граммати-
вом.',— не решит проблемы, поскольку сложение одних и тех же
компонентов всегда приводит в конце концов к одному и тому же результату.
75
ческое строение этих выражений различно. Но
именно в этом и заключается вопрос: каким именно
образом различие в грамматическом строении выражений
соотносится с различием в их значении? По этому вопросу КФ
хранят молчание. Можно усмотреть особую иронию в том,
что семантическое исследование, вдохновленное наиболее
утонченной из всех когда-либо существовавших
синтаксических теорий, пришло в конце концов к совершенно асин-
таксической теории значения. По своей неспособности
отличить (18i) от (18ii) теория КФ сопоставима с некоторыми
(лингвистически бесполезными) психологическими
построениями, в которых значение предложения описывается в
терминах «ассоциации» между составляющими его словами 27.
Чтобы избежать аналогичных недостатков, мы должны
выяснить, каким образом КФ пришли к такому краху в
самом существенном для них вопросе. По-видимому, это
произошло тогда, когда они взялись за разработку
семантической теории естественных языков на основе простой
теоретико-множественной операции пересечения множеств.
Так, например, (19) colorful ball 'яркий мяч' — это нечто
являющееся одновременно ярким и мячом; как давно
известно логикам, чтобы констатировать этот факт, мы можем
сказать, что словосочетание colorful ball содержит
семантические признаки как слова ball, так и слова colorful. Тогда
процедура вывода составного значения словосочетания из
значений его компонентов может быть выражена в виде
булевой конъюнкции множеств семантических признаков.
Представляется, однако, что с развитием исчисления
многоместных предикатов следовало бы отказаться от логики
булевых (одноместных) предикатов в качестве средства
описания семантики естественного языка; тем не менее КФ
упорствуют в убеждении, широко распространенном среди
логиков XIX века, а именно в том, будто булевы операции
представляют собой адекватное средство описания
комбинаторной семантики. Печальные результаты этого убеждения
налицо 28.
27- Относительно недавно попытка такого рода предпринята в М о
дате г, 1960, гл. IV.
28 Среди лингвистических теорий, выросших из логики, теория КФ
представляет собой явный шаг назад по сравнению с Г. Рейхенбахом
(R e i с h e n b a e h, 1948). Рейхенбах прекрасно сознавал
необходимость применения в семантической теории естественных языков
исчисления предикатов высших порядков. Однако и сам Рейхенбах уступает
в интересующем нас отношении А. Штеру (S t б h г, 1898), который го-
76
2.26. Бесконечная полисемия
Ясно, что в словосочетаниях eat bread 'есть хлеб' и
eat soup 'есть суп' глагол eat имеет слегка различные
значения: в eat soup в отличие от eat bread слово eat
подразумевает использование ложки. В соответствии с процедурой,
применяемой в теории КФ к полисемичным единицам типа
ball и colorful, придется представить словарную статью для
eat в виде ветвящихся путей следующего вида:
(20)
<(жевать)-—... < (твердое) >
...-♦-(ложка) «жидкое) >
Сочетаемостные ограничения в конце каждого подпути
обеспечат выбор правильного подпути в тех контекстах, где bread
и soup функционируют в качестве именных составляющих—
дополнений. Но ведь действия, обозначаемые словом eat,
носят различный характер также и в зависимости от того,
едят вилкой или руками; при этом хотя и яблоки и арахис
едят руками, однако совершенно по-разному (аналогично по-
разному едят вилкой горох и спагетти). Следовательно,
словарю КФ грозит опасность бесконечной дифференциации
значений.
Есть несколько способов избежать этой опасности.
Проще всего разрешить ветвление путей в словарной статье
только в тех случаях, когда данная лексическая единица
создает воспринимаемую говорящим неоднозначность в
однозначном контексте. Например, поскольку слово file
может быть понятно в однозначном контексте, например в
контексте I love to things 'Я люблю вещи', в двух
смыслах, а именно как: 1) 'откладывать для хранения' или
как 2) 'шлифовать напильником', в соответствующей
словарной статье неоднозначность должна быть представлена
ветвлением семантических путей; поскольку, с другой
стороны, eat не кажется неоднозначным в контексте типа I'd
like to something 'Мне хотелось бы что-нибудь',
то указанные «подзначения» eat в словаре представляться
ворил о необходимости заменить исчисление предикатов другими,
более тонкими моделями. Несводимая к логике природа переходности
также постоянно интересовала Ч. Пирса (см., например, Р е i г с е,
1933, § 3.408 и многие другие места этой работы).
77
не должны. Однако при этом в качестве неопределяемого
понятия теории предполагается противопоставление
действительной неоднозначности и неопределенности. Трудность
эмпирического обоснования подобного противопоставления
заставляет усомниться в его теоретической полезности,
хотя некоторые исследователи и высказываются в его пользу,
например П. Зифф (Z i f f, 1960, p. 180 и ел.).
Более продуманное решение этого вопроса, предложенное
Е. Куриловичем (Кури л о в и ч, 1955), можно
сформулировать следующим образом: словарная статья W должна
иметь два подпути (два значения) Wi и W2 тогда и только
тогда, когда в данном языке имеется подпуть Zi некоторой
другой лексической единицы Z, которая синонимична в
соответствующем значении единице Wt и не синонимична
W2- По Куриловичу, понятия полисемии (ветвления путей)
и синонимии дополнительны друг к другу и ни одно из них
не может быть теоретически обосновано без другого. Так,
путь для file должен ветвиться, поскольку fild
синонимично put away 'откладывать для хранения', a file2 — нет.
Однако это условие придется усилить требованием
простоты, то есть однословности, синонимов, поскольку всегда
можно найти многословные (=сложные) описания, которые
будут эквивалентны бесконечно дифференцируемым под-
значениям слов (например, consume as a solid 'потреблять в
твердом виде' =eat!; consume as a liquid 'потреблять в
жидком виде' —eat2). О понятии простоты лексических
единиц см. ниже, § 3.442.
Во всяком случае, очевидно, что внимание к опыту
предшественников избавило бы КФ от ненужных ухищрений.
2.3. Проекционные правила
Система проекционных правил, предложенная КФ,
имея на входе полные грамматические описания
предложений и используя словарные статьи данного языка, дает
семантические интерпретации для каждого предложения этого
языка. Проекционные правила (ПП) бывают двух типов;
говоря неформально, проекционные правила типа 1 (ПП1)
работают на предложениях, полученных без
трансформаций или посредством одних обязательных трансформаций;
проекционные правила типа 2 (ПП2) работают на
предложениях, полученных посредством факультативных трансфор-
78
маций. При этом в теории КФ (Katz — Fodor, 1963,
p. 207) предусматривается возможность элиминировать
ПП2 при условии, если синтаксическую теорию можно было
бы построить без обращения к факультативным
трансформациям. Со времени публикации статьи КФ была
продемонстрирована реальность синтаксиса без факультативных
трансформаций — как одинарных (Katz — Postal,
1964, p. 31—46), так и обобщенных (Chomsky,
1965, р. 133—134), так что необходимость в ПП2, таким
образом, отпадает. Обратимся к различию между разными
ПП1.
Проекционные правила отличаются друг от друга (а)
условиями их применения и (б) результатами их
применения. Рассмотрим каждый из этих факторов.
(а) Условия применения ПП формулируются в
терминах грамматического статуса составляющих в бинарной
(то есть состоящей из двух составляющих) конструкции.
Однако определение грамматического статуса цепочек
носит у КФ крайне эклектический характер. С одной стороны,
термины «существительное» и «артикль», которыми
оперируют правила, являются лексическими (терминальными)
категориями, то есть классами слов, задаваемыми
грамматикой; аналогичным образом «глагольная составляющая»,
«именная составляющая» и «главный глагол» также задаются
грамматикой: они определяются как нелексические (пре-
терминальные) категории грамматики. С другой стороны,
такие понятия, как «дополнение главного глагола» и
«подлежащее», имеют совсем другой статус в той
синтаксической теории, которую принимают КФ 29. Наконец, такие
понятия, как «определитель» и «главный член составляющей»,
используемые в ПП1 (Katz — Fodor, 1963, p. 198),
вообще не имеют никакого статуса в теории Хомского; в
связи с ними встает целый ряд особых вопросов (см. ниже,
§3.21), и вообще эти понятия вряд ли можно определить
без обращения к семантике. Хотя КФ не дают указаний
относительно числа проекционных правил (Katz —
Fodor, 1963, сноска 20), представляется, что описанная ими
процедура потребует столько же ПП, сколько в грамматике
имеется бинарных конструкций. (Тернарные конструкции в
теории КФ вообще не рассматриваются.)
29 Способ определения этих синтаксических функций посредством
вывода в некоторой грамматике описан Хомским в С h о ш s k у, 1965,
р. 23, 70, 163.
7?
(б) ПП различаются также по результатам своего
применения, формулируемым в терминах соотношения соче-
таемостных ограничений (СО) в левых и правых частях НС-
правил, задающих грамматические конструкции.
Представим некоторую конструкцию в виде (21):
(21) A-^M<(x>+N<v>,
где М и N — лексемы с приписанными им множествами
синтаксических и семантических маркеров, а ц и v —
соответствующие им СО. В принципе существуют четыре
возможных соотношения между СО конструкции А в целом и
СО каждой из ее составляющих:
(22) (i) A <[x, v> — М <ц> + N <v>
(ii) A<fi>-^M<fi> + N<v>
(Hi) A <v> -* M <[x> + N <v>
(iv) А — М<[х> + Ы<г>
Конструкция А может сохранить СО о б е и х ее
составляющих (i), только левой составляющей (ii), только правой
составляющей (Hi) или вообще не иметь СО (iv). У КФ
проекционное правило 1 относится к типу (22 Hi),
правило 3 — к типу (22 ii), правила 2 и 4 — к типам (22 iv).
КФ не приводят ни одного правила типа (22 i), хотя, по-
видимому, нет оснований полностью исключать
теоретическую возможность таких правил.
Итак, функция проекционных правил у КФ состоит в
подразделении всех бинарных конструкций грамматики
(как терминальных, так и претерминальных) на четыре типа
в соответствии с соотношением СО в их правых и левых
частях. Если не принимать во внимание различия
результатов применения правил в зависимости от указанных выше
различных соотношений, то все ПП окажутся равномощ-
ными, а именно: все они объединяют семантические пути
составляющих обрабатываемых конструкций.
Следовательно, классификацию конструкций, осуществляемую
посредством ПП, можно было бы отобразить в категориальной
части синтаксиса 30, и отдельный «компонент», состоящий из
ПП, оказался бы в теории излишним.
30 Например, вместо того, чтобы употреблять '+' во всех
правилах (22) (A-vM+N), можно было бы использовать в правилах типа (22i)
знак плюс, а в правилах типа (22ii—iv) — знаки '-)—»-', '■<—\-' и
'*--{—»-', соответственно.
8Q
Прежде чем пытаться наметить радикально новый
подход (глава 3), мы должны еще рассмотреть вопрос о том,
какой статус имеют в лингвистической теории
отклоняющиеся от нормы высказывания. Поскольку КФ касаются этого
вопроса лишь мимолетно, нам придется здесь обратиться к
некоторым другим исследованиям, близким КФ по духу.
2.4. Отклонения от нормы (аномальность)
В литературе по теории порождающих грамматик
противопоставление между отклонением от нормы в
грамматическом отношении и отклонениями во всех других
отношениях занимает особое положение, поскольку само
определение грамматики опирается на возможность различения
грамматически правильных и грамматически неправильных
выражений. Поскольку грамматически неправильные
выражения составляют часть нестандартных выражений,
различие между грамматической неправильностью и другими
проявлениями языковой нестандартности должно быть
представлено в теории языка.
Однако проблема грамматически безупречных, но
семантически нестандартных выражений типа colorless green
ideas 'зеленые бесцветные идеи' имеет давнюю историю.
В течение двух тысячелетий лингвисты стремились
определить те типы аномальных выражений, описание
аномальности которых не должно входить в компетенцию
грамматики. Во II веке в Александрии этот мучительный вопрос
пытался решить Аполлоний Дискол; Бхартхари (Индия,
IX в.) утверждал, что словосочетание сын бесплодной
женщины, несмотря на его семантическую аномальность,
является синтаксически правильно построенным
выражением; почти современный ему Сибавейхи (в Ираке)
различал семантическое отклонение от нормы (например: Я нес
гору, Я пришел к тебе завтра) и грамматическое
отклонение от нормы типа араб. *qad Zaidun qam вместо qad qam
Zaidun 'Зейд встал' (в арабском языке непосредственно
за частицей qad должен обязательно следовать глагол).
Средневековые грамматисты в Западной Европе
аналогичным образом допускали, что выражение сарра categorica
'категорический плащ' с точки зрения языка безупречно
(congrua), так что его неприемлемость должна объясняться
§»
чем-то иным, нежели грамматикойS1. Продолжающаяся
дискуссия в современной философии также созвучна этому32.
Позиция, занимаемая большинством исследователей по
порождающей грамматике, как кажется, опирается на два
положения: (а) грамматическая нестандартность
выражений качественно отлична от других видов языковой
нестандартности и (б) существуют различные степени
грамматической нестандартности.
Рассмотрим эти два положения применительно к
следующим примерам:
(23) Harry S. Truman was the second king of Oregon.
'Гарри Трумэн был вторым королем Орегона.'
(24) (i) Went home he. 'Пошел домой он.'
(ii) Went home for the holidays.
'Поехал домой на каникулы.'
(iii) He goed home. букв. 'Он идел домой.'
(25) (i) He puts the money. 'Он кладет деньги.'
(ii) He puts into the safe. 'Он кладет в сейф.'
(iii) He puts. 'On кладет.'
(26) (i) The dog scattered. 'Собака рассеялась.'
(ii) John persuaded the table to move.
'Джон убедил стол подвинуться.'
(iii) His fear ate him up. 'Его страх съел его.'
(iv) The cake is slightly delicious.
'Торт слегка восхитителен.'
31 О Бхартхари см. работы: Chakravarti, 1933, с. 117 и сл.5
и S a s t r i, 1959, с. 245; к сожалению, ни одна из этих работ не воздает
ему должного. Точка зрения древнеиндийских ученых восходит по
крайней мере к Патанджали (II в. до н. э.). См. также: S 1 b a w a i h i.
Sibawaihi's Buch fiber die Qrammatik, В., 1895, S. 10 и ел.; t h о m a s
of Erfurt (ok. 1350 г.). Qrammatica speculativa — сочинение,
приписываемое Дунсу Скоту и опубликованное в его «Opera omnia», vol. I,
Paris, 1891, p. 47.
32 Поражает, например, сходство между недавними суждениями
П. Зиффа (Z i f f, 1964, p. 206) и положением, высказанным великим
александрийцем Аполлонием восемнадцатью веками ранее. Зифф
утверждает, что нормальность/аномальность выражения Идет дождь
не может зависеть от того, идет ли на самом деле дождь, когда это
предложение реально произносится. Аполлоний считает, что если
несоответствие между некоторым высказыванием и конкретной
обстановкой его произнесения рассматривать как проявление (одного из видов)
солецизма, то солецизмы проявлялись бы только в условиях дневного
света и общения со зрячими, поскольку слепой или собеседник,
находящийся в темноте, не может проверить утверждение на его
соответствие реальной обстановке,
82
(v) The water is extremely bluish.
'Вода крайне голубовата.'
(vi) Five out of three people agreed with me.
'Пятеро из троих людей согласились со мной.'
(27) (i) The square is round. 'Этот квадрат круглый.'
(ii) A square is round. 'Квадрат круглый.'
(iii) The square is loud but careful.
'Этот квадрат громкий, но аккуратный.'
(iv) 'A square is loud but careful.
'Квадрат громкий, но аккуратный.'
Мы отвлекаемся здесь от теорий референции, согласно
которым предложение (23) было бы сочтено
нестандартным из-за его фактической ложности; напротив, мы считаем
(23) совершенно нормальным предложением, в
противоположность которому предложения из (24) — (27) все
содержат какие-либо аномальности. Принято говорить, что
(24) — (26) отклоняются от нормы в грамматическом
отношении, в то время как примеры из (27) отклоняются от
нормы в семантическом отношении. Такое суждение,
однако, можно вынести лишь в том случае, если дана
грамматика G языка L; тогда можно привести конкретные правила
из G(L), которые нарушаются в предложениях (24)—(26),
и указать, в чем именно заключается нарушение. Что
касается примеров в (27), то какие бы правила ни нарушались
в них, это не правила из G(L); по-видимому, эти правила
содержатся в семантическом описании языка S(L). Но, как
было выяснено в § 2.22, граница между G(L) и S(L),
предлагаемая теорией КФ, оказывается мнимой, и никакого
надежного критерия разграничения G(L) и S(L) предложено
еще не было 33.
В рамках такой теории синтаксиса, в которой правила
приписывания синтаксических подклассов имеют вид
правил подстановки грамматики непосредственных
составляющих, Хомский (ср. Miller — Ghomsky, 1963, p. 444
33 Отсутствие подобного критерия еще четче выявляется при
описании синтаксиса с использованием признаков. Хомский (Chomsky,
1965, р. 142, 226) высказывает предположение, что в число
синтаксических признаков следует включать те семантические признаки,
которые необходимо упомянуть в правилах грамматики; однако он не
указывает критериев полноты данной грамматики по отношению к
данному словарю, то есть критериев, которые позволяли бы решать,
какие именно семантические признаки, имеющиеся в словаре, должны
быть упомянуты в правилах грамматики. См. также § 4.1.
83
и ел.) предложил учитывать степени грамматической
правильности приблизительно следующим образом 34. Пусть
имеется грамматика G0 с алфавитами, содержащими
классы слов W\, W2, . . .,Wn. Мы можем тогда построить
грамматику Gi, в которой некоторые классы слов — скажем,
IFj и Й7к — рассматриваются как взаимозаменяемые.
Грамматика G2 — это такая грамматика, в которой большее
число классов слов будет рассматриваться как
взаимозаменяемые. Предельным случаем окажется такая грамматика, в
которой все классы слов свободно заменяют друг друга.
Выражения, соответствующие грамматике G,-, то есть
порождаемые ею, называются грамматически правильными на
1-м уровне. Важно отметить, что при этом подходе нигде не
предлагается критериев для установления дискретных
уровней; нам не сообщают, следует ли установить такой
«уровень», на котором, например, Wi взаимозаменяемо с №2
или W2 взаимозаменяемо с W3; точно так же нельзя решить,
взаимозаменяемы ли Wf и №2 на том же «уровне»,
что и, скажем, №9 и Wi0, или на другом. Надежды на
то, что такого рода квантитативный подход может
привести к плодотворному определению понятия
отклонения от нормы, или аномальности, на мой взгляд, мало
обоснованны.
В синтаксисе, опирающемся на использование
признаков (а не только синтаксических подклассов), возможен
иной подход. Здесь мы мржем различать нарушения
собственно порождающих правил, как в (24); нарушения правил
приписывания синтаксических подклассов, как в (25);
нарушения сочетаемостных правил, как в (26). Можно
подсчитать число правил, нарушенных в каждом выражении,
и вычислить для каждого предложения коэффициент его
отклонения от нормы. Более того, если возникнут
основания приписать веса нарушаемым правилам (например, в
связи с порядком их расположения в грамматике),
коэффициент отклонения от нормы станет достовернее. Однако,
хотя этот подход и сулит больше, чем подход, описанный в
предыдущем абзаце, с его помощью невозможно различать
степень отклонения от нормы в примерах (24) — (26) и в
примерах (27). Это можно осуществить путем установления
иерархии синтактико-семантических признаков таким обра-
34 Для большей ясности мы несколько упростили изложение,
надеясь, что при этом его суть не исказилась.
84
зом, чтобы о предложениях (27) можно было сказать, что в
них нарушаются только такие признаки, которые занимают
низкую ступень в иерархии. В настоящее время неизвестно,
возможно ли установление единственной и последовательной
иерархии семантических признаков. В § 3.51 будет
предложена другая трактовка отклонения высказываний от нормы,
при которой сложный вопрос об установлении подобной
иерархии во многом утрачивает свою значимость.
Еще одна трактовка отклонения от нормы была
намечена Катцем (К a t z, 1964a). Катц утверждает, что так
называемые полупредложения или грамматически
неправильные цепочки все же могут быть поняты потому, что каждое
полупредложение ассоциируется с некоторым классом
грамматически правильных предложений; например, *Man bit
dog — это полупредложение, которое (частично?)
понимается в силу ассоциации с правильно построенными
предложениями A man bit a dog. 'Человек укусил собаку.', The
man bit some dog. 'Этот человек укусил какую-то собаку.'
и т. д.; совокупность таких правильно построенных
предложений составляет «интерпретационное множество» (ИМ;
comprehension set). ИМ данного полупредложения и связь
между полупредложением и его ИМ задаются «правилом
перехода». Однако число возможных правил перехода очень
велико для любой грамматики: если грамматика
использует п символов синтаксических классов и если.средняя
терминальная цепочка, порождаемая грамматикой (без
применения рекурсивных правил), содержит т символов, то
будет (п—1) Хт возможных правил перехода, основанных
только на заменах символов классов; если же учесть и
нарушения порядка слов путем их перестановки, то число
правил перехода сильно возрастет, а при включении в
грамматику рекурсивных правил оно станет бесконечным.
Существенной проблемой оказывается, следовательно,
обнаружение критерия для выбора интересных правил перехода.
Катц надеется, что выделить те из них, которые
обеспечивают понимание полупредложений, возможно.
Эта идея кажется мне неверной по меньшей мере в трех
отношениях. Во-первых, она не содержит объяснения того,
что значит «быть понятным предложением», и предполагает
опору на бихевиористические тесты, что само по себе
иллюзорно. Во-вторых, предполагается против очевидности,
что носители языка обладают одинаковыми способностями
понимать полупредложения вне зависимости от степени
85
интеллекта и других индивидуальных различий 85.
В-третьих, отклонение от нормы рассматривается только по
отношению к слушателю, который, столкнувшись с помехами
или с ненадежным источником сообщений, вынужден
реконструировать полноценные прототипы плохо воспринятых
сообщений; теория Катца совершенно не способна, таким
образом, учесть намеренное отклонение от нормы как
коммуникативный прием. Но основной слабостью этого
подхода является рассмотрение отклонения от нормы только в
количественном аспекте; Катц пытается установить,
насколько данное выражение отклоняется от нормы, но
совершенно не замечает тех компонентов в его значении,
которые отсутствуют в значении «родственных» ему
нормальных выражений.
3. НОВАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
3.1. Предмет и задачи теории; предварительные понятия
Задача семантической теории некоторого языка состоит,
по нашему мнению, в том, чтобы объяснить, каким образом
значение предложения с данной
синтаксической структурой выводится
из точно описанных значений его
частей. Семантическое описание компонентов
предложения выполняется в терминах семантических признаков.
Предложение содержит как обязательные, так и
факультативные части; все факультативные части и некоторые
обязательные вносят свой вклад в значение целого 36.
35 Это допущение явствует из того, как Катц критикует другого
автора, который, рассматривая проблему грамматической
неправильности, учитывает различие способностей понимания у разных носителей
языка (К a t z, 1964a, р. 415).
36 Об отношении обязательности к осмысленности см. § 4.1 и
особенно сноску 94. Семантическая теория не должна охватывать более
узкий круг фактов, чем грамматика. Следовательно, предметом нашей
теории должно быть именно предложение. В той мере, в какой правила
введения местоимений, эллипсиса и т. д. обращаются к контексту за
пределами предложения, соответственно должна расширяться и сфера
семантической теории. Однако мы не требуем, чтобы семантическая
теория обеспечивала, например, разрешение неоднозначности слова
jack: 1) 'домкрат', 2) 'металлический шар (для специальной игры в
шары)' —в предложении I realized we had no jack. 'Я понял, что у нас
нет домкрата/шара.' путем обращения к соседнему предложению, со-
86
Грамматика, которая описывает синтаксическую
структуру предложений, должна, конечно, принадлежать к
определенному классу. Излагаемая ниже семантическая теория
опирается на грамматику, предложенную в известной
работе Н. Хомского (Chomsky, 1965). Грамматика этого
типа состоит из двух компонентов: базового и
трансформационного. Базовый компонент, или просто база, порождает
глубинные структуры предложений, в которых
применяются трансформации (все они обязательные); в результате
получаются поверхностные структуры предложений 3'.
База в свою очередь состоит из категориального компонента,
который порождает претерминальные цепочки, и словаря
(который Хомский называет «лексиконом»), содержащего
лексические единицы. Лексическая единица — это тройка
(Р, G, \i), где Р — это множество фонологических
признаков, G — множество синтаксических признаков и ц —
множество семантических признаков. Отношения между G и
\i обсуждаются Хомским лишь в предварительном порядке;
мы вернемся к этому вопросу в главе 4.
Мы предположим иное разграничение между
лексиконом и категориальным компонентом (§ 3.42). Однако,
следуя Хомскому, мы принимаем следующий важный принцип:
применение трансформаций не изменяет смысла
предложения 38, так что правила семантического компонента, которые
строят семантическую интерпретацию предложения,
должны применяться только к его глубинной структуре.
Поскольку категориальный компонент не содержит
правил элиминации, вывод (=деривационная история) предло-
держащему слова саг 'машина' и break 'ломаться': On a deserted road
that night our car broke down. 'В ту ночь на пустынной дороге наша
машина сломалась.' Подобные операции в принципе не относятся к
языку, а потому находятся за пределами лингвистики, хотя
соответствующие неоднозначности могут быть намеренными — при «гиперсе-
мантизированном» использовании языка (W е i п г е i g h, 1963a, р,
118). Плотность таких явлений в тексте и многие другие особенности,
присущие им, должны исследоваться преимущественно стилистикой
(ср. R iffaterre, 1964). О другой точке соприкосновения
лингвистики и стилистики см. § 3.52.
37 Формально говоря, некоторые продукты базы не являются
глубинными структурами предложений, поскольку не
удовлетворяются условия для применения какой-либо обязательной
трансформации. О понятии «блокировки» см. § 3.42.
38 Хомский тем не менее обсуждает (Chomsky, 1965, р. 221)
возможность того, что некоторые трансформации могут производить
«квазисемантический» эффект путем выдвижения части предложения
на передний план («топикализация»).
87
жения (в том виде, в каком он отражен в размеченной
скобочной записи его НС-структуры) свободен от
неоднозначностей вплоть до начала лексического заполнения.
Неоднозначность выражений типа (9) (см. выше) связана с тем,
что некоторые узлы дерева помечены не полно, и является,
вообще говоря, свойством поверхностной структуры зв.
Однако мы хотим пойти дальше: заполненная глубинная
структура также должна быть свободна от
неоднозначностей. Следовательно, лексические единицы не должны
вносить неоднозначность, и поэтому мы требуем, чтобы в
компоненте ц лексической единицы, то есть во множестве
ее семантических признаков, не было дизъюнкций. Тогда
полисемичное или омонимичное слово (типа ball 'мяч'/'бал')
будет представлено в нашей теории столькими словарными
статьями, сколько у него разных значений; в таком слове
наша теория усматривает несколько разных лексических
единиц.
Предположим, что у нас имеется претерминальная
цепочка с узлом «существительное». Соответствующее
«лексическое правило» заменяет «существительное» не
дизъюнкцией множеств признаков, как в (28), а либо одним
множеством признаков — как в (29 i), либо другим — как в
(29 п).
(28) существительное
ball
+объект
+круглый
'мяч'
+событие
+деятельность
'бал'
39 Катц и Постал (Katz — Postal,' 1964, p. 24) предложили
ввести термин «сентоид» для обозначения цепочки формативов с
единственным структурным описанием, а термин «предложение» оставить
за самой цепочкой — вне зависимости от приписанной ей структуры.
Однако такое словоупотребление кажется мне крайне неудачным,
поскольку цепочки без структурных описаний (то есть продукты «слабо
порождающих» грамматик) имеют для лингвистики лишь
периферийный интерес. Кажется предпочтительнее сохранить обычный термин
«предложение» за цепочкой с приписанной ей структурой, а для
обозначения цепочки, рассматриваемой вне связи с каким-либо
структурным описанием, придумать специальный термин (если он кому-
нибудь понадобится).
83
(29) (О существительное (ii) существительное
ball
+объект
+круглый
'мяч'
ball
+событие
+деятельность
'бал'
Как было сказано выше (§ 2.1), установление того,
какой именно из свободных от дизъюнкций наборов
семантических признаков, связанных с полисемичной цепочкой
фонем, заполняет данный узел конкретной глубинной
структуры, является фактом речевой деятельности слушающего
(и, стало быть, не рассматривается в нашей теории).
Мы будем различать упорядоченные и
неупорядоченные наборы семантических признаков. Назовем
неупорядоченный набор признаков пучком, а упорядоченный
набор — конфигурацией. Для обозначения обоих
типов наборов будем использовать круглые скобки, но
символы признаков в пучке будут отделяться друг от друга
запятыми, а в конфигурации — стрелками. Пусть а и b —
семантические признаки; тогда:
(30) Пучок: (а, b) = (b, а)
(31) Конфигурация: {а —► Ь) Ф (Ь —► а).
Предположим, что значение слова дочь разлагается на
компоненты 'женский пол' и 'потомок'. Всякое лицо,
являющееся дочерью, одновременно является существом
женского пола и потомком; поэтому мы представляем смысл
'дочь' в виде пучка признаков 'женский пол' и 'потомок'.
Предположим теперь, что значение слова стул
представлено в терминах признаков 'мебель' и 'сидеть'. Все, что
является стулом, является и мебелью, но оно не «сидит» —
«сидят» н а нем. Мы отразим это обстоятельство,
объединяя признаки 'мебель' и 'сидеть' в конфигурацию 40.
Конфигурация (упорядоченный набор) признаков
является для нас средством формального представления пере-
40 Заметим, что замена признака 'сидеть' на признак 'быть тем,
на чем сидят' решает проблему, но лишь путем постулирования
признака ad hoc, который вряд ли встретится в достаточно большом числе
других толкований.
89
ходных глаголов, входящих в Толкования тех или иных слов.
Легко показать, что компонентный анализ в семантике
сводился до сих пор почти исключительно к использованию
пучков (неупорядоченных наборов) признаков 4i.
Два (или более) пучка признаков могут в свою
очередь образовывать конфигурацию. Формула (a, b —>■ с, d)
представляет конфигурацию пучков (а, Ь) и (с, d).
Следовательно, (а, Ь—+ с, d) = (b, a—* d, с)ф(с, d—+ а, Ь).
Условимся, что запятая связывает теснее, чем стрелка, или,
иными словами, (а, Ь—*-с, d)={(a, b)—+(c,d))=£(a,(b—+c),d).
Целью § 3.2 является исследование образования
значений сложных выражений (то есть выражений, состоящих
из многих слов). Наш основной тезис заключается в том,
что семантические структуры как
сложных, так и простых выражений
представим ы, по существу, в одном
и том же виде, а именно в терминах пучков и
конфигураций семантических признаков. Другими словами,
семантические структуры слов имеют тот же общий вид, что и
семантические структуры предложений (см. также §3.441).
Этим и обеспечивается возможность свободно вводить новые
слова в язык L, объясняя их значения при помощи
выражений, построенных из слов языка L. Конечно, конкретное
сложное выражение, если оно не тавтологично 4\ содержит
в своей семантической структуре больше признаков, чем
любая из его составляющих; но вид этих структур, как они
представлены в теории, один и тот же и для простых, и для
сложных выражений.
Пусть два выражения образуют некоторую
грамматическую конструкцию. Назовем образование пучка
признаков соединением. Пусть М — слово с
семантическими признаками (a->b), a N — слово с признаками
(c-vd), и пусть MN — конструкция 43; тогда, если
семантическая структура конструкции MN описывается выражением,
скажем (a, c->-6->d), то MN — конструкция с
соединением. Другими словами, в значении каждой составляющей
имеется хотя бы один признак, который в значении всей
41 См. ссылки в скоске 89. Важное исключение в данном отношении
представляют собой пионерские работы Ф. Лаунсбери (Lounsbury,
1964а, 1964b).
42 О некоторых аспектах понятия тавтологии см. Katz, 1964b.
43 То есть синтаксис данного языка включает такую категорию
А, что A->-M+N.
90
конструкции входит в некоторый пучок. Будем говорить,
что MN — конструкция с полным соединением,
если все признаки всех составляющих образуют единый
пучок, то есть М (а, Ь) + Щс, d)=MN (о, Ь, с, d).
Конструкция, в которой признаки составляющих не
образуют нового пучка,— это конструкция без соединения.
В следующих формулах приведены примеры некоторых
конструкций без соединения:
(32) (i) М (о -+ Ь) + N (с) = MN (а — b — с)
(и) М (а-► ft) + N (с-► d) = MN (а-* &-► с-»• d)
(iii) M (о, b) + N (с, d) = MN (a, b -*■ с, d).
В § 3.22 мы обратимся к классификации конструкций без
соединения.
В теории КФ все конструкции представлены в виде
конструкций без соединения, но фактически они
рассматриваются как конструкции с соединением. Мы надеемся избежать
некоторых недостатков подхода КФ благодаря различению
пучков и конфигураций.
3.2. Типы синтаксических конструкций
3.21. Соединение
Соединение представляет собой такую семантическую
операцию, в результате которой образуются
неупорядоченные наборы семантических признаков. В качестве
предварительного примера синтаксической конструкции с
семантическим эффектом соединения рассмотрим конструкцию
«определение + определяемое» (в английском и очень
многих других языках) 44. О конструкции типа white + wall
'белая + стена' можно сказать, что семантический эффект
подобного соединения слов заключается в образовании
такой сущности, которая обладает в точности семантическими
признаками слов white и wall; другими словами, все то, что
является белой стеной, является стеной и является белым.
Пока что все наши рассуждения ведутся вполне в
традиционном духе. Но эксплицитная теория, чтобы быть адек-
44 Пример является предварительным, поскольку
определительные конструкции часто являются поверхностными представлениями
глубинных предикатных конструкций. В ходе дальнейшего изложения
будет предложен более тонкий анализ определительных конструкций.
91
ватной, должна быть способна решать и более тонкие
проблемы.
3.211. Если соединение приводит к образованию пучка
(неупорядоченного набора) признаков, то новый пучок
должен в свою очередь свободно соединяться со
значениями, с которыми его компоненты могут соединяться каждый в
отдельности, причем порядок операций должен быть
несущественным. Например, если (а), (£>) и (с) — значения
слов, то их соединение в любом порядке должно, по
определению, приводить к одному и тому же пучку (а, Ь, с); более
того, необходимо, чтобы и (а, Ь), и ф, с), и (а, с) были
допустимыми пучками. Например, в случае (a)=white 'белый',
(6)=wall 'стена', (c)=thick 'толстая' мы имеем thick white
wall 'толстая белая стена', white wall 'белая стена', thick
wall 'толстая стена', thick white (one) 'толстая белая
(стена)' *?. Ср.авним теперь эти именные составляющие с
содержащими предикаты выражениями, из которых они
выводятся синтаксически. Трудно указать точно
семантические нюансы, различающие примеры (33). Однако
полное предложение (33 i) —
(33) (i) The wall is white. 'Стена (есть) белая.'
(ii) . . . the wall which is white... '...стена,
которая является белой...'
(iii) . . .the white wall ... '...белая стена...'—
можно номинализовать и другими способами (см. (34)):
(34) (i) The wall is white. 'Стена (есть) белая.'
(ii) (*)... the wall's being white... букв, '...бытие
стены белой...'
(iii) . . . the wall's whiteness... '...белизна стены...'
Далее, выясняется, что именные выражения (33 iii) и
(34 iii) ведут себя по-разному, когда они оказываются
подлежащими при одном и том же сказуемом, как в (35):
(35) (i) The white wall is astonishing.
'Белая стена изумительна.'
(ii) The whiteness of the wall is astonishing.
'Белизна стены изумительна.'
Нам представляется, что в (35 i) значения трех слов
wall 'стена', white 'белый' и astonishing 'изумительный'
45 Допустим, по крайней мере в дискуссионном порядке, что фор-
матив one вводится обязательной трансформацией.
92
действительно образуют новый пучок, который появляется
и в сложной именной группе astonishing white wall
'изумительная белая стена'; однако в (35 И) слово white(ness)
'белый (белизна)' имеет особую функцию. Следует
рассмотреть несколько способов представления этой
функции.
(а) Можно считать, что is astonishing — сказуемое
главного предложения — присоединяется к выражению the
wall is white 'стена (есть) белая', образуя новую предикацию
(утверждение). В таком случае предикативная связь не
может быть представлена семантически так же, как
атрибутивная связь 4в; семантические признаки, соединяемые при
предикации, должны заключаться в скобки в соответствии
с разделением на подлежащее — сказуемое, и только
превращение предикативной синтагмы в атрибутивную
позволяет опустить скобки:
(36) Предикативная связь: (а) + (Ь) = ((а) (Ь))
Атрибутивная связь: ((а) ф)) > (о, Ь)
Как станет очевидным из § 3.221, неразложимые
предикации действительно требуются в семантической теории,
но совсем в иной связи. Здесь же подобный подход
равносилен отказу от анализа.
(б) Можно также сказать, что astonishing 'изумительный'
соединяется с white(ness) 'белый (белизна)', но не с wall
'стена'. (Это вполне согласуется с возможностью оставить
подлежащее вставленного предложения без пояснений:
Whiteness is astonishing. 'Белизна изумительна.'; ср. С h о т-
s k у, 1955, р. 186.) Теория, как отмечалось выше,
действительно обеспечивает возможность неполного соединения,
но такой результат предполагается только для случая,
когда одна из составляющих сущностей является конфигура-
46 Если хотя бы одна из номинализующих трансформаций — либо
типа (33i) —>- (33iii), либо типа (34i) -*- (34iii)— как-то изменяла бы
смысл предложения, то это нарушало бы принцип семантической
нейтральности трансформаций (§ 3.1). Однако мы можем приписать
семантическое изменение, наблюдаемое при одной из двух операций (скорее
при (34)), не действию трансформации, которая превращает the wall is
white 'стена (есть) белая' в wall's whiteness 'белизна стены', а
результату вставления предложения в узел, помеченный символом S и
подчиненный узлу-существительному (сама трансформация также
оказывается результатом этого вставления). Тогда указанные семантические
различия будут соответствовать разным позициям вставленного
предложения The wall is white в глубинной структуре главного предложения.
93
цией. Предположим, например, что значение слова chair
'стул' описано в виде конфигурации (g-+h), где £='ме-
бель', а /г='сидеть', а значение слова black 'черный'
описано через (i). Тогда значение выражения black chair
'черный стул' будет представлено как (i, g-*- h), то есть
признаки 'черный' и 'мебель' могут образовать новый пучок, а
'черный' и 'сидеть' не могут. Однако в разбираемом
случае такой анализ вряд ли желателен. Дело в том, что
тогда семантическое отношение между словами wall 'стена'
и white(ness) 'белый (белизна)' в (35 и) будет отличаться от
соединения, в то же время в (34 i) о тех же двух единицах
прямо говорится, что они соединены, а отношение между
ними в (35 и) представляется интуитивно точно таким же,
как и в (34 i).
(в) Сопоставим (35 и) с выражением The wall is
astonishing. 'Стена изумительна.'; тогда представляется
заманчивой следующая интерпретация (35 и): 'стена изумительна в
той мере, в какой она бела'. Если определение white 'белая'
в (35 i) является ограничительным, то оно выделяет одну
конкретную стену из множества стен как такую, которая
является изумительной; если же оно является
описательным, то оно несет несущественную, добавочную
информацию о стене, которая сама по себе изумительна. В (35 и),
однако, белизна стены выдвигается на первый план как
причина того, что стена изумительна, или как то
отношение, в котором она изумительна. Если (o)=wall 'стена',
(b)=white 'белый', a (c)=astonishing 'изумительный', то
можно представить этот анализ в следующем виде:
(37) (i) (b) = ... white ... = ... the white one ...
'... белый ... = ... белое нечто ...'
(ii) (о, b) = The wall is white=.. .the white wall.. ,
'Стена бела = . . . белая стена .. .'
(iii) (о, c) = The wall is astonishing= ... the
astonishing wall ...
'Стена изумительна= ...
изумительная стена ...'
(iv) (о, 6c) = The wall's whiteness is astonishing.
'Белизна стены изумительна.'
(v) (b, c) = The white one is astonishing.
'Белое нечто изумительное.'
(vi) (., ьс)= Whiteness is astonishing.
'Белизна изумительна.'
94
(vii) (a,cb) — The wall is astonishingly white.
'Стена изумительно бела.'
В ранее опубликованном описании семантических
операций (W e i n г е i с h, 1963a, р. 130 и ел.) предполагалось,
что в пределах одного предложения возможна иерархия
последовательных соединений. Если wall -f white 'стена +
белый' образует сущность х, такую, что х является стеной и
х является белым, то astonishingly + white 'изумительно +
белый' образует сущность /, такую, что / — это 'белизна' и
f — это 'изумительно'. В соответствии с предложением
Рейхенбаха использовать для описания семантики
исчисление предикатов высших порядков я утверждал, что в
комплексе wall + astonishingly + white 'стена +
изумительно + белый' соединены две сущности х и f, такие, что
х — это 'стена' и х есть /, а / — это 'белизна' и / —
'изумительно'. (Сходное формальное описание данного
явления, не ограничивающееся поверхностными фактами
синтаксиса, дает Ф. Шмидт; см. S с h m i d t, 1962, S. 66, 124 и
ел.) В настоящем изложении мы попытаемся придать
формальному понятию иерархии соединений более
конкретное содержание, а именно: мы будем считать, что одна
предикация указывает аспект, в котором утверждается другая
предикация.
3.212. Другое явление естественного языка, которое
должно учитываться эксплицитной семантической теорией,
можно назвать «нечистым соединением». Если бы операция
соединения протекала так, как мы это описывали до сих
пор, то следовало бы ожидать, во-первых, полной
синонимичности словосочетаний detective woman
'женщина-детектив' и woman detective 'детектив-женщина' и,
во-вторых, противоречивости предложения типа (38) (пример
заимствован из Wells, 1954, р. 127):
(38) A small elephant is big.
'Маленький слон — большой.'
Однако в обоих случаях дело обстоит иначе. Очевидно,
что наборы признаков, к которым сводятся значения
выражения a woman who is a detective 'женщина, которая
является детективом' и выражения a detective who is a
woman 'детектив, который является женщиной',
совпадают не полностью; точно так же очевидно, что слова big
95
'большой' и small 'маленький', хотя они и взаимно
противоречивы ", не просто предицируются относительно одной и
той же сущности elephant 'слон'. Представляется, что в
пучке, полученном в результате соединения, признаки (по
крайней мере некоторые признаки в некоторых
конструкциях) упорядочены; при этом признак, указанный первым,
более «эмфатичен», или выдвинут на передний план.
Следовательно, для пучков закон ассоциативности не имеет силы,
так что
((о, Ь), с)Ф{а, (Ь, с)).
Можно показать, что определенные подпучки признаков
проявляют тенденцию к контекстной специализации: а из
(а, Ь) не тождественно а из некоторого другого пучка (а, с);
так, свойство «быть маленьким» у слонов будет отличным от
свойства «быть маленьким» у других предметов. Тем не
менее неэкономно навязывать это ограничение всем пучкам,
поскольку в большинстве случаев предложения типа Adji,
Noun is Adji тавтологичны.
3.213. В Weinreich, 1963a допускается
соединение подлежащего не только с именными предикатами,
выраженными прилагательными или существительными
(например: The girl is musical. 'Девушка музыкальна.'; The girl
is a singer. 'Девушка —певица.'), но также и с глагольными
предикатами (The girl sings. 'Девушка поет.'). Критики
этой работы утверждали, и вполне убедительно, что
семантическое сходство между отношениями «существительное —
прилагательное», «существительное — глагол» далеко не
очевидно и что подведение этих отношений под единую
рубрику представляется неестественным. И все-таки
формальное сходство между этими отношениями должно быть
аналитически отражено в теории ввиду семантической
эквивалентности выражений She sings. 'Она поет.' и She is a
singer. 'Она певица.' и возможности толкований типа singer=
'one who sings' ('певец'=тот, кто поет')48. Естественно на-
47 О противоречивости см. К a t z, 1964b.
48 Эта точка зрения соответствует средневековому представлению
(например, у Фомы Эрфуртского, ок. 1350 г.) о том, что существует
только один настоящий глагол — esse 'быть',— который сочетается с
именной частью сказуемого в виде отдельного сегмента, но с
глагольными ' предикатами «сплавляется» в одно целое, оставляя рефлексы в
96
деяться, что решение будет получено На основе введенного
в настоящей работе противопоставления между
конфигурациями и пучками. Мы указывали, что, когда
конфигурация входит в конструкцию с соединением, в соединении
участвует только один из признаков (ср. разбор
выражения black chair 'черный стул' на с. 94). Значение
некоторых глаголов может соответственно быть представлено в
виде конфигурации из двух элементов: первый — это
признак, обозначающий событие или действие (то есть просто
«глагольность» — см. сноску 62), а второй представляет
семантический остаток. В предикативной конструкции с
подлежащим-существительным признак действия (у
глагола-сказуемого) соединяется со значением
существительного, а остаток конфигурации не соединяется; другими
словами, конструкция с соединением «подлежащее —
глагольное сказуемое» является конструкцией с неполным
соединением.
Этот анализ, даже если признать его полезность, ни в
коей мере не применим к глаголам всех типов.
Непереходный глагол типа stand 'стоять', по-видимому, не содержит
никаких признаков, помимо пучка признаков предиката-
прилагательного (be) erect '(находиться) в вертикальном
положении'. С другой стороны, значение некоторых
глаголов (см. §3.221 (в)) устроено иным, более сложным
образом, нежели значение глагола sing 'петь'. Далее, из этого
анализа ни в крем случае не следует, что значение
прилагательного никогда не включает конфигураций: трудно
понять, каким образом значение, например, прилагательного
meticulous 'дотошный' ('attend' -> 'details', 'входить в' ->
'детали') может быть представлено без конфигураций.
3.214. В заключение укажем, что, поскольку
соединение является семантическим, а не синтаксическим
свойством конструкции, множество конструкций с соединением в
некотором языке должно — с точки зрения его
грамматики — задаваться перечислением 49. Выше по ходу изложе-
их системе спряжения. К этой концепции благожелательно относился
Лейбниц, и, по-видимому, именно она привела Боппа к его
сравнительному анализу спряжения в древних индоевропейских языках (см.
Verburg, _1951).
49 Английская конструкция, которую традиционно называют
«модификацией»,- может быть представлена как соединение без преди-
4 № 1234 97.
йия были приведены примеры английских конструкций с
соединением: «существительное-подлежащее + группа
сказуемого», «существительное-подлежащее +
существительное или прилагательное в качестве именной части
сказуемого», «глагол + обстоятельство образа действия»,
«наречие + прилагательное». Вряд ли в английском языке
существует много других конструкций с соединением, помимо
этих (возможно, их нет вообще).
Поскольку немногочисленные конструкции с
соединением задаются списком, они могут обозначаться в
категориальном компоненте порождающей грамматики так, как
это было предложено выше в сноске 30. Различные способы
использования этих обозначений указаны в § 3.51 (д).
3.22. Конструкции без соединения
Хотя классификация конструкций без соединения
опирается на менее прочные теоретические основания, чем
основное противопоставление конструкций с соединением и
без соединения, ниже приводятся некоторые
предварительные наметки такой классификации.
3.221. Вставление.
Конструкция с вставлением — это конструкция,
которая не дает нового пучка признаков. Пусть М(о) и N (с) —
слова с указанными семантическими признаками, a MN —
конструкция; тогда, если ее значение описывается
конфигурацией (о ->■ с), а не пучком (а, с), MN — конструкция с
вставлением.
Предположим, что значение слова fix (здесь — 'лечить')
представлено пучком (о, Ь), а значение'слова teeth 'зубы' —
пучком (с, d). Значение словосочетания fix + teeth 'ле-
кации, то есть она включает всякое соединение, кроме связи между
подлежащим и сказуемым, которое образует полное предложение даже
в поверхностной структуре. Попытка Р. Лиза (Lees, 1961) дать чисто
синтаксическое определение конструкций с модификацией привела
лишь к списку конструкций и должна быть, следовательно, сочтена
неудачной. По-видимому, именно это имеют в виду Катц и Постал
(Katz — Postal, 1964, p. 174, сноска 7), когда они дипломатично
заявляют, что подход Лиза «должен быть расширен в целях
адекватности».
98
чить + зубы' представимо в виде конфигурации (о, b ->
с, d). Заметим, что та же самая конфигурация может
представлять значение (или часть значения) одной
словарной единицы, например слова dentist 'дантист';
Ср. также to make hay=to hay 'заготавливать сено'
и т. д.
Конструкция с вставлением должна быть формальным
аналогом интуитивного понятия переходности.
Несомненно, что никакая семантическая теория естественного
языка не может обойтись без этого понятия 5°.
Наша трактовка вставления как такой конструкции,
которая не приводит к пучку признаков, опирается на
отрицательное определение. Некоторые логики, занимавшиеся
проблемой неприложимости силлогистической
(аристотелевской) логики к описанию отношений, действительно,
часто довольствовались отрицательной характеристикой.
Идеи более позитивной концепции не были особенно
убедительными.
(а) Г. Рейхенбах (Reichenbach, 1948) описывал
связь между наречием-обстоятельством и одноместным
глаголом-сказуемым как соединение на другом уровне51 и
сходным образом трактовал вставление: singing loud 'петь
громко' является видом действия sing 'петь' (как munching
'жевать' является видом действия eat 'есть'); точно так же
singing arias 'петь арии' является, по мнению Рейхенбаха,
видом действия sing.. Такое описание представляется
довольно неестественным.
Рассмотрим примеры.
?° Катц (К a t z, 1964b) немедленно попадает в капкан
несообразностей теории КФ, когда он начинает рассуждать, почему предложение
Old men like young girls. 'Старые мужчины любят молодых девушек.'
не противоречиво, тогда как предложение Old men are young. 'Старые
мужчины молоды.' противоречиво. Согласно нашей теории, ответ ясен:
like . . . girls 'любить . . . девушек' — конструкция без соединения,
и ее значение никоим образом не может быть получено посредством
объединения семантических путей, как это предлагается в теории КФ.
Важно отметить следующее: если принять, что вообще все
конструкции дают конфигурации (упорядоченные наборы) признаков, то это
будет слишком отчаянной попыткой исправить недостатки КФ,
поскольку как раз в этом случае мы упускаем возможность
охарактеризовать разницу между теми конструкциями, которые дают пучки
(соединение), и другими конструкциями (вставление и прочие).
51 Например; lady+sing+loud 'дама+петь+громко':
. (Зх) (3f) lady (x).f(x). sing (f). loud (f).
99
(39) (i) The lady sings loud. 'Дама поет громко.'
(ii) The lady sings arias. 'Дама поет арии.'
(40) The (lady's) singing is loud. 'Пение (дамы)
громкое.'
Из (39i) следует (40) — эксплицитное соединение, а
(39ii) вовсе не подразумевает отношения соединения между
sing 'петь' и arias 'арии' на каком бы то ни было уровне.
(б) Некоторые исследователи полагали, что в значение
выражений типа (39П) входит двухместный предикат с
аргументами lady 'дама' и aria 'ария', например: sing (lady,
aria) 'петь (дама, ария)' или в общем виде: R (а, Ь) или aRb.
При таком представлении, однако, не показано, что метаот-
ношение одного из членов отношения к самому отношению
отличается от метаотношения другого члена к отношению
(W e i n r e i с h, 1963a, сноска 31). В другой сходной
концепции, разрабатываемой Ф. Шмидтом (Schmidt, 1962),
такой подход обнаруживает неспособность адекватно
описать опущение объекта в переходной конструкции: в то
время как (39П) анализируется как R(a, b), предложение
The lady sings. 'Дама поет.' будет представлено совершенно
иначе при указанном подходе, а именно как P{S).
(в) В семантической теории, разлагающей глобальные
значения на признаки, можно найти более
удовлетворительные решения. Предположим, мы постулируем в качестве
исходного понятия семантический признак каузации,
обозначаемый через К. Значение переходного
глагола-сказуемого будет представляться конфигурацией типа (41):
(41) (а, Ь, К -> , и, v).
Предположим, что значение подлежащего представлено
в виде (/, g), а значение дополнения — в виде (т, п).
Конструкция «подлежащее + глагол + дополнение» даст
конфигурацию:
(a, b, f, g, /С -> т, п, и, v).
Другими словами, это означает: (/, g) каузирует
^вызывает состояние, в котором имеет место) соединение (т, п)
с (и, v), и все это осуществляется способом (а, Ь). Например,
примем в качестве глагола в (41) глагол spill 'разливать',
а в качестве (и, v) — признаки глагола flow 'течь'; тогда
(/(->«, v) представляет cause [somethingl to flow 'каузи-
ровать [что-либо] течь', а (о, Ь) определяет способ, которым
100
это осуществляется (например, из сосуда, не в резервуар
и т. д.)- Некоторые пучки (и, и) соответствуют реальным
словам в языке, как в только что разобранном примере; и в
самом деле, во многих языках развитие переходных глаголов
вида (41) из омонимичных непереходных выражений вида
(и, v), и наоборот, является вполне обычным явлением
(английское to burn 'жечь, гореть', to crack 'раскалывать,
раскалываться' и т. д.). Для других пучков вида (и, v),
напротив, не находится соответствий в виде каких-либо
реальных слов (read a book='cause a book to..?' 'читать книгу' =
'каузировать книгу..?'). Можно, конечно, прибегнуть к
пассивному залогу глагола (read a book=cause a book to be
read 'читать книгу'='каузировать книгу быть читаемой'),
но такой механический анализ не дает более глубокого
понимания семантической структуры соответствующих
выражений.
Отнюдь не очевидно, что все переходные глаголы
функционируют указанным способом. С другой стороны,
известно, что многие глаголы, требующие косвенного дополнения,
могут быть представлены в терминах конфигураций с двумя
пустыми «местами», например: show to =
'cause to see ' ('показывать (что-
либо) (кому-либо)'='каузировать (кого-либо
видеть (что-либо)') §2.
Подобно конструкциям с соединением, конструкции с
вставлением задаются списком. В английском языке
имеется две конструкции с вставлением: «глагол-сказуемое +
NP (дополнение)» и «предлог + NP (дополнение)», а также
некоторые конструкции с именными предикативными
частями (представимые, по-видимому, в терминах более простых
синтаксических понятий). Под глаголом здесь понимаются
также комплексы вида «глагол + предлог или частица»,
например: wait + for 'ждать', wait -f-on 'обслуживать' и т. д.
(Об идиомах см. § 3.442.) Группы, обозначающие время или
место при «глаголах продолжительности» и «глаголах
движения» соответственно (например, last hours 'длиться
часами', walk home 'идти домой', reach America 'достичь
Америки', и т. п.), возможно, тоже должны интерпретироваться
как аргументы вставления.
^2 Отношения между переходностью и каузальностью были
исследованы на материале нескольких языков Э. Бендиксом (В е п d i х,
1966). Наше изложение здесь отчасти основывается на его результатах.
1Q1
Дополнением в конструкции с вставлением может быть
целое предложение. В этой связи мы опять должны
различать (ср. § 3.211) комплексы с соединением и прочие
комплексы. Возьмем следующие фразы:
(42) (i) I like the white wall. 'Я люблю белую стену.'
(ii) I like the wall white. 'Я люблю стену белой.'
(Hi) I like the wall's whiteness (the whiteness of the
wall). 'Я люблю стенную белизну (белизну
стены).'
Место дополнения слова like в (42i), по-видимому, занято
простым пучком признаков типа того пучка, который был бы
образован путем соединения признаков слов wall и white в
исходном предложении (33i). Это напоминает
семантическую операцию, имеющую место в (35i). В то же время в
(42П), где имеется предикативный член, выраженный
прилагательным (adjectival complement), соединение white и
wall, по-видимому, связано с вставлением результирующей
конструкции на место дополнения глагола like, и наоборот.
Это параллельно явлению, представленному в (35 ii).
Действительно, мы можем формально описать семантику
конструкции с предикативным членом как соединение в
позиции вставления, причем обе эти операции
взаимозависимы. С другой стороны, с (42 iii) связаны трудности,
которые не встречались нам ранее при обсуждении только
соединения, так как утверждение (43) не содержит
противоречия:
(43) I don't like the wall, but I like its whiteness.
'Я не люблю стены, но я люблю ее белизну.'
Найти же предложения, соответствующие (35 ii), которые
можно было бы видоизменить тем же способом, не получив
при этом противоречия, гораздо труднее бз. Очевидно, что
для объяснения предложений типа (42 iii) понадобится
более разработанный теоретический аппарат, чем тот, который
был намечен выше; в связи с (36) уже отмечалось, что
предикации могут характеризоваться семантическим
признаком, который не опускается в некоторых позициях
вставления.
53 Предложение The wall isn't astonishing, but its whiteness is.
'Стена не изумительна, изумительна ее белизна.' кажется мне гораздо
менее естественным, чем (43).
т
3.222. Ограничение.
Один из типов конструкции без соединения, который,
по-видимому, отличается от вставления, можно назвать
ограничением (ср. Schmidt, 1962, S. 100, 121). Одним из
эффектов ограничения является сужение класса
референтов данного знака, например превращение общего понятия
sheep 'овцы' в some sheep 'некоторые овцы', these sheep
'эти овцы', five sheep 'пять овец', one sheep 'одна овца'
и т. д. Эксплицитное отрицание какого бы то ни было суже*
ния класса возможных референтов (all sheep 'все овцы')
может рассматриваться как предельный случай
ограничения. Заметим, что средства ограничения некоторого
класса весьма разнообразны: они могут включать квантифика-
цию — как числовую (five sheep), так и нечисловую (some
sheep), а также дейксис, выраженный указанием либо на
объект внимания (these sheep 'эти овцы'=те овцы, которые
находятся в центре внимания собеседников), либо на
предмет речи (the sheep=те овцы, которые упоминались ранее в
этой речи).
Конечно, всякое соединение может рассматриваться как
ограничение: так, в выражении black sheep 'черные овцы'
класс овец ограничен теми его членами, которые
одновременно являются черными. Однако средства ограничения —
квантификаторы и дейктические элементы (хотя оба эти
класса единиц, возможно, и не объединяются ничем
позитивным) — по-видимому, отличаются от
определений-атрибутов тем, что в глубинной структуре им не
соответствуют предикативные выражения (то есть возможно sheep
are black 'овцы черные', но не *sheep are three или
*sheep are the). Далее, средства квантификации или
дейксиса являются весьма общими и не зависят от
семантических признаков ограничиваемого ими класса.
Наконец, средства ограничения имеют целый ряд
специфических синтаксических особенностей в очень многих
языках.
Ограничение потенциальной общности утверждений
также может рассматриваться в числе явлений ограничения.
Сюда относятся различные эквиваленты квантификации —
квантификаторы, не зависящие от специфического
содержания предиката, то есть выражения типа (he sleeps) a lot
'(он спит) много', (he is) very (concerned) '(он) очень
(озабочен)', completely (finished) 'полностью (закончен)' и т. д.
103
При некоторых глаголах, требующих в качёстЁё
Дополнения количественных групп, эти группы функционируют,
iio-видимому, как средства ограничения (to weigh eight
pounds 'весить восемь фунтов').
Типичным способом ограничения потенциальной
общности соединения является временное ограничение, то есть
отнесение данного соединения к прошедшему, настоящему
или будущему времени. Поэтому следует, вероятно,
считать, что временные определения предикатных выражений
образуют вместе с последними конструкции с
ограничением. Тесные связи времени и отрицания обнаруживаются
в таких глаголах, как become 'стать' и get 'получать'
(become X—'noi to be X before and be X later' 'стать Х-ои=
не быть Х-ом раньше и быть ASom позже'; get F='not have
Y before and have Y later' 'получить К=не иметь Y раньше
и иметь Y позже') 54.
Предположим, что значения слов boy 'мальчик' и
hungry 'голодный' представлены пучками признаков (а, Ь) и
(с, d) соответственно. Конструкция с соединением (§ 3.21)
может быть схематически представлена квазипредложением
boy (be) hungry 'мальчик (быть) голодный', в котором
результирующее значение представляется новым пучком
(а, Ь, с, d). Рассмотрим теперь соединение, которое
ограничено в двух отношениях: голод предицируется только
относительно некоторых мальчиков, а результирующее
соединение Some boys (be) hungry 'Некоторые мальчики
(быть) голодные' утверждается только для определенных
моментов времени, а именно— предшествующих моменту
речи. В результирующем квазипредложении Some boys Past
(be) hungry 'Некоторые мальчики Прош. вр. (быть)
голодные' выражения some 'некоторые' и Past 'Прош. вр.'
выполняют функцию ограничения. Если обозначить эту
функцию символом S и воздержаться на время от анализа
внутренней структуры S, то мы сможем представить значение
предложения в виде разрывного пучка — приблизительно
как (а, ЬЕс, d).
54 См. многочисленные примеры в В е п d i х, 1966. В моем более
раннем изложении я, как сейчас полагаю, слишком сильно тяготел
к физикалистской модели Рейхенбаха, рассматривая Время просто
как еще один аргумент при вставлении. Трактовка Шмидтом
временных слов как предикатов (Schmidt, I962, S. 44 и ел.) не полна и не
дает подлинного понимания сути дела. Возможно, что факультативные
обозначения места также следовало бы считать ограничителями.
104
Для определения области действия символа S могут быть
введены соответствующие соглашения. Но более полный
анализ, вероятно, потребует, чтобы операции ограничения
для подлежащего представлялись иным образом, нежели
аналогичные операции для сказуемого; для
рассматриваемого примера это будет означать, что функции выражений
some и Past следует представлять раздельно, а не
объединять их в одном символе типа S. Конкретные семантические
признаки у ограничителей подлежащего и у ограничителей
сказуемого часто бывают разными; синтаксические свойства
этих двух типов единиц, как правило, различаются весьма
значительно. Следует отметить, что, даже когда сказуемое
выражено именной группой (с глаголом-связкой), выбор
определений-детерминативов и числительных при нем строго
ограничен55. Более того, ограничители, сходные с
ограничителями к подлежащему, присоединимы также и к именным
группам, функционирующим в качестве аргументов
вставления (при глаголах: I saw three boys 'Я видел трех
мальчиков'; или при предлогах: after three boys 'за тремя
мальчиками'). Следовательно, по всей видимости, более удобно
представлять ограничители не одним символом S, а по-разному:
например, символом б — ограничители к подлежащему и
символом g — ограничители к сказуемому. Выражение
Some boys Past (be) hungry. 'Некоторые мальчики Прош. вр.
(быть) голодные.' будет теперь иметь вид б (a, b), l (с, d)
или в соответствии с иным соглашением относительно
области действия ограничителей — g (с, d), б (а, Ъ).
3.223. Модализация.
Еще один тип конструкций, отличный, по-видимому, и от
вставления и от ограничения, представляют собой
конструкции, содержащие указание о том, что построенную
говорящим семантическую сущность следует понимать не
буквально, а с оговорками, состоящими, например, в
недоверии к истинности утверждения или в отказе от
ответственности за его истинность56. Во многих языках эти функции
выполняют специальные глагольные категории
(наклонение, категория очевидности) или обстоятельства, относя-
. 56 О некоторых таких ограничениях в английском языке см.
Smith, I964.
5-в Весьма полезной в этой связи является трактовка
«экзистенциальных оценок» (existimations) в Schmidt, 1962, S. 88 и ел.
№3
щиеся ко всему предложению в целом (perhaps 'может
быть', certainly'конечно') и т. п. Подобным словам и
категориям семантически родственны выражения, указывающие
на то, что содержание, описываемое семантическими
признаками определяемых этими выражениями слов, не следует
понимать буквально (so-called 'так называемый', like
'вроде', ... or so 'в этом роде') или, наоборот, совершенно
буквально, например: (a) true (patriot) 'истинный (патриот)'.
В модальной функции выступает связочный глагол seem
(like) 'казаться, выглядеть (как)', а также
псевдопереходные глаголы типа resemble X 'напоминать X' (='быть
Х-ом только с виду').
Ввиду предварительного характера этих соображений
нам кажется преждевременным предлагать особые
обозначения для конструкций такого типа.
3.23. Предварительные итоги
Главная цель семантической классификации
конструкций — разграничить конструкции с соединением и
конструкции без соединения. Конструкции без соединения
отвечают за ту часть общего смысла предложения, которая не
может быть сведена к неупорядоченному набору
признаков с помощью какого-либо набора правил (допустим,
проекционных правил К.Ф); конструкции с соединением
отвечают за те части смысла предложения, описание которых
может быть сведено к неупорядоченному набору признаков ".
Конструкций с соединением вполне достаточно для
применения механизма силлогистических умозаключений;
однако эффективность соединения в идеализированных
научных языках еще не является основанием для того, чтобы
считать соединение единственным типом комбинирования
смыслов в естественном языке. Конструкции без
соединения, безусловно, также необходимы в семантической теории
естественных языков.
Если противопоставление «соединение vs. отсутствие
соединения» действительно имеет место в сфере семантики,
-' Описание конструкции «подлежащее+сказуемое» как
конструкции с соединением может показаться антиинтуитивным (ср. § 3.213).
Если признать обоснованность сомнений такого рода, то придется
заключить, что в языке имеется еще меньше случаев соединения, чем
предполагается в настоящей работе,
№
как утверждается в данной работе, то было бы полезно
обнаружить хотя бы одну минимальную пару — такую
синтаксическую конструкцию, которая могла бы быть понята
как в смысле соединения, так и в смысле «не-соединения».
Нечто очень близкое к этой ситуации обнаруживается в
таком фактически беспадежном языке, каким является
английский; здесь одна и та же синтаксическая конструкция
V+NP семантически может быть осмыслена либо как
конструкция с соединением: «V + предикативный член NP»,
либо как конструкция без соединения: «V + дополнение
NP»; см. (44):
(44) (i) The children formed a clique.
1) 'Дети образовывали шайкуj
2) 'Дети образовали (^организовали) шайку.'
(ii) The ministers constituted the government.
1) 'Министры составляли правительство)
2) 'Министры составили (=создали)
правительство.'
Однако такие пары будут минимальными только в
неполной грамматике, в которой узлы, подчиняющие
соответствующие терминальные глаголы, не имеют разных помет:
глагол-связка (для первого осмысления) и полнозначный
глагол (для второго осмысления). В действительности
существуют некоторые чисто синтаксические соображения в
пользу введения в грамматику подобных помет (например,
невозможность присоединять к связке обстоятельства
образа действия). Более того, семантическая структура
каждого глагола различна в разных его значениях: переходный
глагол form 'создавать' включает признак каузации (='ка-
узировали существование шайки'; см. выше, §3.221),
тогда как глагол-связка form 'составлять, являться'
практически содержит лишь указание на семантическую
операцию соединения (='дети стали шайкой'). Короче говоря,
минимальную пару для противопоставления «соединение /
вставление» нам найти не удалось. Этот факт является
закономерным следствием общего принципа: значения
простых и составных единиц имеют одинаковый вид и сложным
образом взаимосвязаны.
Мы не будем здесь касаться семантики
экзистенциальных предложений (например, There is a wall around the
garden Вокруг сада имеется стена') и некоторых других
периферийных синтаксических конструкций (ср. W e i п-
107
r e i с h, 1963a, p. 141 и ел.), оставляя эти вопросы для
будущих исследований.
Можно считать, что основное утверждение
предлагаемой нами теории состоит как раз в провозглашении
универсальности соединения и трех других семантических
механизмов. Если категориальный компонент порождающей
грамматики одинаков во всех языках, как считает Хом-
ский (Chomsky, 1965, р. 120), то описание всех типов
синтаксических конструкций в терминах глубинной
грамматики также будет универсальным и его не надо будет
помещать в описание семантической структуры конкретных
языков. Однако для решения этого эмпирического вопроса
необходимы дополнительные данные.
3.3. Переходящие признаки
В § 2.24. мы рассматривали статус сочетаемостных
ограничений в теории КФ. Тот факт, что слово pretty
'хорошенькая' обычно не употребляется применительно к
обозначениям лиц мужского пола, должен быть отражен в словарной
статье слова pretty. Однако, если выражение,
определяемое словом pretty, не имеет признака [± мужской пол], то
отрицательное значение данного признака, то есть
[—мужской пол], приписывается этому выражению в силу
наличия при нем pretty.
Назовем признак [—мужской пол] в рассмотренном
случае переходящим признаком; будем выделять
переходящие признаки с помощью угловых скобок. Пусть
М (а, Ъ -»-) и N (с, d) — словарные единицы, а М + N —
конструкция с вставлением; тогда значение конструкции
М + N представляется в виде (a, b -*■ с, d). Теперь
допустим, что мы обнаруживаем следующее: когда N (с, d)
входит в конструкцию с М (a, b ->-), то появляется новый
семантический признак w, который объединяется в пучок с
(с, d). Мы можем представить w как «переходящий признак»
словарной единицы М следующим образом:
(45) Дано: М(а, Ь ->- <w»; N (с, d).
Тогда: М + Ща, b -»- с, d, w).
Примером переходящего признака может служить
признак <+ время) у предлога during 'в течение' и послелога
ago 'тому назад'; иначе говоря, всякое слово, зависящее от
108
during или ago, Получает признак t+время]. Слово,
входящее в соответствующую конструкцию с вставлением в
качестве зависимого, может само иметь собственный признак,
совпадающий с переходящим признаком главного слова
(например, during <+ время) the day [+ время] 'в течение
дня'); оно может быть не определено относительно этого
признака (например, during <+ время) it 'в течение него')
или оно может иметь противоположный собственный
признак (например, during <+ время) the wall [—время] 'в
течение стены') (Семантический эффект подобных
тавтологий и противоречий рассматривается ниже, в §3,51.) Еще
один пример. Можно сказать, что значение глагола to sail
'управлять судном' отличается от значения глагола to
operate 'управлять' наличием переходящего признака (скажем,
'водное транспортное средство'), который в выражении to
sail the craft переходит на дополнение craft 'транспортное
средство', привнося в него смысл 'водный'. Когда тот же
признак переходит на слово ship 'корабль', он не
добавляет ничего нового; при переходе его на слово саг 'автомобиль'
он добавляет противоречивую информацию, требующую
особой интерпретации (§ 3.51) 68. В случае конструкции с
ограничением переходящие признаки могут использоваться
для представления такого явления, как «ограничительное
определение количества». Так, herd 'стадо'= 'группа <'до-
машнего скота')'; следовательно, herd of animals 'стадо
животных'='группа домашнего скота'.
В конструкции с соединением, как было сказано выше,
создается новый пучок признаков, в котором признаки по
определению неупорядочены, то есть уже невозможно
установить происхождение каждого признака по отношению к
составляющим конструкции. Следовательно, различие
собственных признаков и переходящих признаков при
соединении будет нейтрализоваться:
(46) (а, Ь <ш>) + (с, d) = (a, b, w) + (с, d) = (a^b, w, c, d).
Иными словами, нет формальных оснований для
различения разных представлений слова ргеиу=[+красивый, +
S8 Как было отмечено выше (§ 2.24), Катц и Постал (К a t z —
Postal, 1964) рассматривают «поглощение» сочетаемостных
ограничений соседних единиц и включение их в набор собственных маркеров
как характерную черту про-форм [местоимений-заменителей, глагола-
заменителя do и т. п.]; они указывают, что про-формы содержат маркер
(селектор), который и служит сигналом для операции поглощения.
Очевидно, это явление характерно для широкого круга конструкций,
а не только для тех, которые содержат про-формы.
109
женский пол1 и l+красивый, <4-женский пол> . (Последнее
представление могло бы встретиться в обычном словаре в
виде ограничения к толкованию: «красивая (о лицах
женского пола)».) Однако не исключено, что это различие
целесообразно сохранить даже для пучков признаков — с тем,
чтобы отразить тот факт, что противоречие между
переходящим и собственным признаком (например: pretty man
'хорошенький мужчина', loud circle 'громкий круг', the dog
scattered 'собака рассеялась') носит менее острый
характер, чем противоречие между двумя собственными
признаками (например: female man 'мужчина женского пола',
square circle 'квадратный круг', numerous dog
'многочисленная собака', slightly delicious 'слегка восхитительный').
Мы вернемся к этому вопросу в § 3.52.
Сравним теперь понятие переходящих признаков с
аппаратом признаков, разработанным Н. Хомским (С h о m s-
k у, 1965, p. 93 и ел.). В своей монографии Хомский делит
синтаксические признаки на две группы: собственные и
контекстные. Контекстные признаки подразделяются в
свою очередь на сочетаемостные признаки и признаки
синтаксических подклассов. Сочетаемостные признаки слова W
отражают собственные синтаксические признаки слов,
допустимых в контексте слова W; признаки синтаксических
подклассов у слова W отражают синтаксические подклассы
слов, допустимых в контексте слова W.
Наши переходящие признаки соответствуют,
по-видимому, сочетаемостным признакам Хомского. Различие
между этими двумя типами признаков состоит в следующем.
Во-первых, у Хомского устанавливается лишь
соответствие сочетаемостных признаков глагола и собственных
признаков существительных, зависящих от этого глагола
(в том случае, если соответствия нет, грамматика
отбрасывает несовместимые выражения); наша теория
обеспечивает нечто большее — переход признаков от глагола к
существительным (см. § 3.51). Например, тот факт, что
глагол educate 'давать образование' «требует» в качестве
подлежащего и дополнения существительных с признаком
[+одуш(евленное)], будет отражен в нашем словаре в
статье для educate примерно в виде (47):
(47) educate (a, b, Д'<+одуш> -> с, d +<+одуш>).
Во-вторых, у Хомского контекстные признаки
синтаксических подклассов часто устанавливаются независимо от
ПО
их семантической значимости. Такой глагол, как become
'становиться', имеет, по Хомскому, синтаксические
признаки [+V.+ прил.-ое, + _сущ-ое]; это
означает, что become — глагол и что при нем должно быть
(в качестве именной части) прилагательное или
существительное. В отличие от become глагол seem вместо признака
[+ сущ-ое] обладает признаком [+ like
сущ-ое]: become happy 'становиться счастливым', seem
happy 'казаться счастливым', become a man 'становиться
мужчиной', но seem like a man 'казаться мужчиной'. Очевидно,
однако, что прилагательные, существительные и
словосочетания вида «like + существительное» выполняют одну и
ту же семантическую функцию: семантически они
соединяются с подлежащим соответствующего глагола,
подвергаясь при этом ограничению либо во временном отношении —
в случае с become ('прежде не был соединен, теперь
соединен'), либо в модальном отношении — в случае с seem
('соединен, но говорящий не может этого гарантировать').
Форматив like, всегда присутствующий между seem и
существительным, может рассматриваться как пустая морфа —
элемент поверхностной цепочки, порожденный морфонологи-
ческим правилом. Таким образом, в предлагаемой нами
теории объединяются две группы глаголов, которые Хомский
различал в соответствии с их поверхностным поведением.
В то же время различие между синтаксически переходными
глаголами, например eat 'есть' [+ V, + NP], и
синтаксически непереходными, например elapse 'пролететь
(о времени)' [+ V, + #1, действительно
соответствует глубинному различию в их семантических структурах
(см. представление (41), предложенное в качестве схемы
описания переходных глаголов). Хомский, однако,
предлагает дробную классификацию переходных глаголов,
базируясь лишь на их поверхностных синтаксических
особенностях. Так, различие между believe 'верить, думать,
полагать', request 'просить' и inquire 'спрашивать, узнавать'
будет отображено у Хомского следующими признаками:
(48) believe [+V, ... + that S]
request [+ V, ... + that S]
inquire [+ V, ... + whether S].
Наличие различных союзов (that и whether), по-видимому,
является здесь фактом поверхностной структуры. Гораздо
более важными с семантической точки зрения являются
Ш
следующие факты (не отраженные в анализе Хомского):
глагол believe обладает переходящим признаком <утвер-
жд(ение)>, которым не обладает глагол request 69; глагол
request в свою очередь обладает переходящим признаком
<повел(ение)>, который, возможно, совпадает с признаком,
составляющим значение повелительного наклонения;
наконец, глагол inquire обладает переходящим признаком
<вопрос>, который, скорее всего, совпадает с признаком
вопросительных предложений, выражающих общий
вопрос 60.
3.4. Грамматика и словарь
Предлагаемая семантическая теория ориентирована на
грамматику, содержащую категориальный компонент и
лексикон (которые, как мы отмечали выше в § 3.1, являются
подкомпонентами базы). Категориальный компонент
порождает претерминальные цепочки; затем
соответствующие места претерминальной цепочки
заполняются лексическими единицами из лексикона и
получается обобщенная Н С-с труктура61.
Обобщенная НС-структура, удовлетворяющая условиям
обязательных трансформаций, представляет собой
глубинную структуру предложения.
В этой главе мы хотим показать, что некоторые
семантические признаки должны появляться в выводе
предложения, до лексического заполнения его НС-структуры, и
59 Отметим, что существительные, которые могут быть
дополнениями при глаголе believe — например, story 'рассказ, история',
rumor 'слух',— имеют собственный признак [утвержд]; следует
отметить также, что глагол believe (но не request!) неохотно сочетается с
такими существительными, которые не обладают признаком [утвержд],
например с chair 'стул', rehearsal 'репетиция'. Мы не рассматриваем
здесь такого значения глагола believe, которое представлено в
предложениях I believe him. 'Я доверяю ему.' или I believe in him. 'Я
верю в него'.
60 См. обсуждение примеров (73) ниже. Катц и Постал (К a t z —
Postal, 1964) обозначают последние два признака как «1-морфема»
и «Q-морфема».
61 Здесь использованы термины Хомского (Chomsky, 1965).
Эта терминология, однако, очень сильно связана с более ранними
вариантами его теории и потому не вполне удобна. Тем не менее мы
воздерживаемся от пересмотра этой терминологии, с тем чтобы обеспечить
возможность сравнения обеих теорий. Термин «обобщенная
НС-структура» в данном контексте эквивалентен термину «терминальная цепочка?,
из
рассмотреть более подробно это последнее (§ 3.42).
Предварительно мы должны, однако, заняться классификацией
лексических единиц (§ 3.41). Для облегчения изложения
условимся считать, что каждая лексическая единица
представляет собой морфему; в 3.442 мы рассмотрим этот вопрос
в полном объеме. Термины «словарь» и «лексикон» в
дальнейшем изложении не различаются.
3.41. Открытые и замкнутые классы морфем
В семантической теории, по-видимому, должно быть
формально представлено различие между открытыми и
замкнутыми классами морфем. Во многих языках открытые
классы морфем — это существительные, глаголы,
прилагательные и наречия (то есть знаменательные морфемы), замкнутые
классы — это артикли, предлоги, союзы, аффиксы и т. д.
(служебные морфемы). Все элементы любого открытого
класса обладают одним общим семантическим признаком:
[+сущ-ое], [+глагол] и т. п. В соответствии с этим любой
открытый класс можно неограниченно расширять;
каждому вновь добавляемому элементу следует просто
приписывать требуемый семантический признак. Напротив,
замкнутые классы морфем задаются списками; элементы любого
замкнутого класса не имеют общего семантического
признака, и, следовательно, к такому классу нельзя произвольно
добавлять новые элементы. (Остается открытым вопрос о
том, почему, например, такой замкнутый класс морфем,
как «временные аффиксы глагола», тем не менее может
быть охарактеризован семантически.)
Мы считаем, что признак всякого открытого класса
морфем, например [+сущ-ое], является семантическим в
полном смысле слова 62; более адекватными были бы названия
«вещественность» или «материальность» (для признака
[+сущ.-ое]), «качество» (для признака [+прил-ое]) и т. п.
Однако, поскольку и эти термины обладают своими широко
известными недостатками, мы примем синтаксическую
терминологию. Теоретический статус таких признаков
рассматривается ниже, в §3.51.
62 Хочется даже сказать: «в полном средневековом смысле слова»
(см. § 4.1). Некоторые замечания о семантике частей речи см. в
Schmidt, 1962, S. 175, сноска 12.
из
Элементам замкнутых классов мы приписываем
синтаксический маркер, заключаемый в двойные
квадратные скобки, например [[предлог]]; эти маркеры не
имеют никакой семантической значимости. Таким образом,
морфема, принадлежащая замкнутому классу,
представляется в словаре в виде тройки (Р, G, ц), где Р —
последовательность пучков фонологических признаков (то есть
последовательность системных фонем), G —
синтаксический маркер, а (х — набор семантических признаков,
например:
(49)/wiB/ [[предлог]] [-f-инструментальный,...]
Поскольку в данной работе мы вообще не занимаемся
фонологией, мы будем изображать морфемы в их обычной
орфографической форме, то есть будем писать просто with,
а не /wiB/.
3.42. Семантические признаки в категориальном компоненте
порождающей грамматики
Из двух альтернативных вариантов категориального
компонента, предложенных Хомским (Chomsky, 1965,
р. 123—126), мы берем за основу тот, который не содержит
контекстных ограничений. По Хомскому, претерминаль-
ные цепочки, порождаемые категориальным компонентом,
(50)
детерм — детерминатив; VblNo — число глагола.— Прим. перев,
ш
представляют собой размеченные деревья, содержащие в
узлах символы двух типов: символы категорий, то есть
синтаксических классов (из нетерминального словаря данного
языка) и особый фиктивный символ Д, который
представляет собой указание о вставлении определенной морфемы.
Мы же будем различать два фиктивных символа: □,
обеспечивающий вставление морфемы, принадлежащей к
некоторому открытому классу, и Д, обеспечивающий
вставление морфемы, принадлежащей к одному из замкнутых
классов 63. Более того, мы введем еще один фиктивный
символ О, который вообще не замещается никакой морфемой
(см. §3.51(6)).
Пример претерминальной цепочки, порожденной
описанным выше категориальным компонентом, см. в (50) на с. 114.
Претерминальная цепочка поступает на вход
Лексического правила, которое в рамках нашей концепции
формулируется следующим образом:
(51) (i) (Для замкнутых классов). Если Д и А —
символы, входящие в претерминальную цепочку,
такие, что А непосредственно подчиняет Д,
и если (Р, [[G]], [(х]) — морфема (где Р —
последовательность фонем, [[G]]
—синтаксический маркер, a [\i] — набор семантических
признаков), то Д замещается на (Р, [[G]], [ц,]) —
при условии, что .<4 = [[G]].
(51) (и) (Для открытых классов). Если □ — символ,
входящий в претерминальную цепочку, и (Р,
[[G]], [ц]) — морфема (где [[G]] может быть
пустым), то □ замещается на (Р, [[G]], [ц]).
Благодаря такой формулировке Лексического правила
«ячейки» для элементов некоторого замкнутого класса
будут обязательно заполнены морфемами из данного
замкнутого класса. Однако «ячейки» для элементов
некоторого открытого класса вовсе н е обязательно будут
заполнены морфемами соответствующего (или вообще какого
бы то ни было) открытого класса. Таким образом,
лексическое правило допускает не только «грамматически вполне
правильные» терминальные цепочки типа (52 i), но также
и отклоняющиеся от нормы цепочки типа (52 и) (где true
'истинный' [+прил-ое,— глагол, ...] вставлено вместо □,
63 Не вполне ясно, соответствуют ли «грамматические формативы»
Хомского морфемам замкнутых классов.
115
подчиненного глаголу) и (52 Hi) (где if [[союз]] ...
вставлено в позицию, подчиненную существительному).
(52) (i) The journalists will confirm the rumor.
'Журналисты подтвердят слух.'
(ii) The journalists will true the rumor.
'Журналисты будут истиннить слух.'
(iii) Scientists study the if.
'Ученые изучают «если»'.
Проблему различения грамматически вполне
правильных и грамматически отклоняющихся от нормы цепочек мы
оставляем до рассмотрения семантического Вычислителя
(§ 3.51). В изложений, предшествующем §3.51, в целях
упрощения мы будем рассматривать в качестве примеров
лишь неаномальные выражения.
Категориальный компонент грамматики Хомского
представляет собой устройство с достаточно высокой
порождающей способностью; тем не менее он не способен учитывать
некоторые важные синтаксические явления. Рассмотрим
проблему выбора детерминативов к исчисляемым и неис-
числяемым существительным в английском языке. В
системе, разработанной КФ и Хомским, каждому
существительному в словаре приписывается признак [+исчис(ля-
емое)] или [ — исчисл]. Иначе говоря, в словарь
помещаются единицы вида (53):
(53) (i) the [[детерм]] [ + опред(еленное)]
(ii) а [[детерм]] [—опред.-f- исчисл]
(iii) some [[детерм]] [ — опред,—исчисл, +парт(итивное)]64
(iv) нулевой артикль [[детерм]] [—опред,—исчисл, — парт]
(v) flood 'наводнение, потоп' [ -J-сущ-ое,-)- исчисл, + кон -
кр(етное),—одуш, ... ]
(vi) blood'кровь1 [ + сущ-ое,—исчисл,+ конкр, — рдуш, ...].
Если бы грамматика содержала правила (54):
(54) (i) NP—>-детерм + сущ-ое
(ii) сущ-ое—*П
(iii) детерм—«-Д,
все детерминативы свободно сочетались бы со всеми
существительными: тогда были бы допустимы не только сочетания
и Мы имеем в виду в данном случае партитивное some, не
находящееся под ударением, например: Give me s6me milk 'Дай мне
(немного) молока'. В целях упрощения мы ограничиваемся в данном
изложении словосочетаниями, содержащими существительные лишь в
единственном числе.
116
a flood 'некоторое наводнение, некоторый потоп' и some
blood 'немного крови', но и a blood 'группа крови' и some
flood 'немного потопа'. Поскольку, однако, правила (54),
использующие словарную информацию (53), описывают
факты английского языка неточно, следует рассмотреть
несколько альтернативных способов видоизменения этих
правил.
(а) Первое решение: вообще запретить порождение таких
сочетаний, как a blood и some flood. Тогда признак [исчисл]
как у существительного, так и у детерминатива придется
рассматривать как сочетаемостный. Предположим, что он
рассматривается как собственный у существительных и
как сочетаемостный у детерминативов. Тогда потребуется
изменить Лексическое правило (51 i) применительно к
данному случаю таким образом, чтобы в зависимости от
признака [± исчисл] у существительного был обеспечен выбор
в качестве детерминатива только подходящего
элемента из набора (53 i-iv), то есть если существительное
имеет признак [+ исчисл], то Лексическое правило сможет
выбрать только (53 i) или (53 И); если же существительное
имеет признак [— исчисл], то возможен выбор только
(53 i, iii) или (53 iv). Это решение хорошо согласуется
с современными работами в области порождающих
грамматик. Однако с помощью этого решения нельзя объяснить
способность английских существительных употребляться
как в качестве исчисляемых, так и в качестве неисчисляе-
мых. Ведь в действительности всякое существительное
с признаком [—исчисл], обозначающее 'X', функционирует
как [+исчисл] в значении 'тип/сорт Х-а', когда оно
употребляется с неопределенным артиклем a: a water
'разновидность воды', a wine 'марка вина', a blood 'группа крови'.
В свою очередь всякое существительное с признаком [+ис-
числ], обозначающее 'Y', ведет себя как [—исчисл]
существительное, обозначая 'вещество Y', когда оно
употребляется с нулевым артиклем: I prefer brick 'Я предпочитаю
кирпич'. Подобный переход становится особенно явным
при употреблении партитивного детерминатива some (не
под ударением) или других выражений, обозначающих
количество: Move over and give me some pillow! 'Подвинься
и дай мне часть подушки!', Leave me a little piece of garden!
'Оставь мне маленький участок сада!' и т. д. Следовательно,
с помощью введения в Лексическое правило сочетаемостных
ограничений мы все равно не получим правильного решения.
117
(б) Второе решение: построить словарь таким образом,
чтобы каждое существительное входило в него в двух
вариантах, а именно, один раз с признаком [+исчисл], а
второй раз е признаком [—исчисл]. Это автоматически
увеличивает вдвое число существительных в словаре;
подобное дублирование, как мы увидим в дальнейшем,
потребовалось бы в связи и с многими другими признаками.
Однако значительное увеличение объема словаря является не
единственным недостатком такого решения: в словаре не
будет отражен тот факт, что существительные типа wine 'вино'
изначально обладают признаком [—исчисл] и только в
особом употреблении приобретают признак [+исчисл]
(обратный переход имеет место у таких слов, как pillow 'подушка').
(в) Третье решение: предположим, что существительные
в словаре вообще не охарактеризованы по признаку [±
исчисл]. Этот признак будет считаться собственным для
детерминативов, входящих в словарь в виде (53 ii — iv), и
будет приписываться существительному по правилу
«согласования» типа (55):
(55) [+сущ-ое]—<-[-)-сущ-ое, аисчисл] в контексте [[детерм]]
[аисчисл]-) .
Таким образом, независимо выбранный детерминатив
«наделяет» существительное признаком [± исчисл]. Но и такое
решение оставляет некоторые факты без объяснения:
существуют детерминативы (the, any 'любой', this 'этот', my
'мой'), сами по себе совершенно нейтральные по
отношению к признаку [исчисл]; тем не менее мы склонны
интерпретировать the blood как [—исчисл], a the flood как
[+исчисл], если нет специальных указаний на обратное.
Это заставляет считать, что существительные все же
обладают собственным признаком [± исчисл1.
(г) Наиболее разумным решением представляется
рассмотрение признака [исчисл] как присущего именной группе
в целом 6?. Это может быть продемонстрировано правилами
вида (56):
(56) (i) S—»-NP([± исчисл]+ VP (аналогично изменяются все
другие правила, в которые входит NP)
65 К.Ф были близки к похожему решению: отступая от типично
порождающей трактовки английского синтаксиса, КФ ввели в НС-
структуру символ NPC (конкретная именная группа). Но если бы,
развивая эту идею, КФ пошли бы по пути более дробной классификации
(именно на такой путь указывает наличие нижнего индекса в NPC),
а не по пути использования признаков, они натолкнулись бы на целый
ряд очевидных трудностей.
118
(ii) NP [аисчисл]—»• детерм [аисчисл]-J-сущ-ое [аисчисл]
(lii) детерм —► Д
(iv) сущ-ое —► □
Допустим, что мы используем словарь, содержащий (53);
построим примерный вывод одной именной группы:
(67) some blood 'немного крови*
(i) NP [— исчисл] (предыдущие шаги вывода опущены)
(ii) детерм [—исчисл]4-сущ-ое [—исчисл] (в силу 56П)
(Ш) Д [— исчисл]-}-сущ-ое [—исчисл] (в силу 56ш)
(iv) Д [—исчисл] -j-П [—исчисл] (в силу 56iv)
(v) some [—исчисл]-]-П [—исчисл] (в силу 511,
53iii)
[[детерм]]
-_ опред ]
— исчисл
_+ паРт J
(vi) some [— исчисл]-f-blood [— исчисл] (в силу 51 ii, 53vi)
[[детерм]] Г+ сущ-оеП
[:
— опред
исчисл
-f- парт
— исчисл
+ конкр
L—одуш j
(1) (2) + (3)! (4)
Заметим, что в терминальной строчке (57 vi) признак
[исчисл] встречается в каждом сегменте дважды.
Например, в столбце (1) он появляется из словаря (в силу (53 iii)),
а в столбце (2) — из самой именной группы (57 i);
аналогичным образом в (3) И (4). В § 3.51 мы рассмотрим способы
устранения подобной избыточности.
Рассмотрим теперь вывод выражения a blood 'группа
крови'. Первой строчкой этого вывода будет NP [+исчисл];
строчкам (57 v — vi) будут соответствовать строчки (58
i - ii):
(58) (i) a [+исчисл]+ П [+исчисл]
[[детерм]] (в силу
Г—опред "I 5П, 53П)
L+ исчисл J
(ii) a [+исчисл] + blood [+исчисл]
[[детерм]] Г+сущ-оеП (в силу
Г—опред "I —исчисл 51ii, 53vi)
L+ исчисл J + конкр
1_— одуш
0) (2) (3)! (4)
Терминальная строчка (58 ii) содержит противоречие между
признаком [—исчисл] в столбце (3), признаком, взятым
119
из словаря (53 vi), и признаком [+исчисл] в (4),
унаследованным терминальной единицей blood из узла NP,
подчиняющего данную составляющую. Интерпретация этой
противоречивой цепочки возлагается на семантический
Вычислитель (§3.51).
Грамматика типа (56) имеет новую формальную
особенность: в ней в правой части одного и того же правила
содержатся сложный символ признака (матрица признаков,
например, в (56i) символ [± исчисл]) и нетерминальный
символ (NP), который подвергается дальнейшему
развертыванию в другом правиле. Но грамматика (56) вместе
с соответствующими блоками Вычислителя (который будет
описан в § 3.51) объясняет как наличие интерпретации
у сочетания a blood, так и аномальность этого и любого
другого подобного сочетания — всего этого невозможно
обеспечить на основе решений, намеченных выше в
пунктах (а) — (в). Грамматикой подобного же типа могут быть
достаточно удобно описаны и некоторые другие явления,
относящиеся к семантике грамматических категорий.
Рассмотрим еще один пример из английского языка:
группы-модификаторы глагола, которые называют
обстоятельствами (phrases of Circumstance)66. Группы такого типа
классифицируются по синтаксической функции и по
внутреннему строению. По функции выделяются обстоятельства
места, времени, образа действия, цели, сопровождения,
продолжительности, многократности и т. п. По внутреннему
строению среди обстоятельств различаются наречия,
предложные группы и придаточные предложения, вводимые
союзами. Указанная классификация обстоятельств
отражается в следующих приблизительных правилах ":
(59) (i) S—►КР[±исчисл] + УР+(обст-во[ + время)]+(обст-
во [-f- место])
(ii) VP—«-группа сказуемого-]- (обст-во [+образ действия])
66 В английской грамматической традиции, по-видимому, нет
готового эквивалента, соответствующего удобному французскому
термину «complement de circonstance» или русскому термину
«обстоятельство».
67 В данном фрагменте грамматики мы не учитываем некоторых
усложняющих описание деталей: например, мы не рассматриваем
случай одновременного непосредственного подчинения трех составляющих—
VP, обстоятельства времени и обстоятельства места — одному узлу S;
мы не рассматриваем порождения именных предикативов, а также
особое условие, состоящее в том, что если NP имеет признак [—исчисл],
то символ Л, подчиненный узлу «число», должен быть замещен
признаком [—множ(ественное)], и некоторые другие факты.
»?0
(Hi) группа Сказуемого—> вспом. глагол-f группа нелич»
ной глагольной формы*
(iv) вспом. глагол —> время + (модальность)
(v) ГНГФ*—* глагол+(NP [± исчисл])
I наречие
(vi) обст-во—*с предлог-f-NP [± исчисл]
{ союз+S
(vii) NP—>детерм +сущ-ое-j-число
(viii) глагол —>- □
(ix) наречие —->■ □
(х) предлог —> Д
(xi) сущ-ое —> □
(xii) детерм —у Д
(х ill) союз —>- Д
(xiv) время —► Д
(xv) модальность —>■ Д
(xvi) число —> Д
Словарь будет содержать единицы типа (60):
(60) early 'рано' [+ наречие, +время, ...J
at-home 'дома' [+ наречие, +место, ...J
during 'в течение' [[предлог]] [+ время,
-[-одновременность, ...]
under 'под' [[предлог]] [+ место, ...]
race 'бег' [+ сущ-ое, +время, ...]
wall 'стена' [+сущ-ое, —время, ...]
fast 'быстро' [-)-наречие, +образ действия, ...]
when 'когда' [[союз]] [+ время, -[-одновременность, ...]
нулевая морфа [[число]] [—множ]68.
(61) представляет собой пример вывода, порожденного с
помощью (59) и (60) (а также (53 i)); этот вывод можно проил*
люстрировать предложением GThe 2horse „ran) 4fast 6during
„the ,race 8нулевая форма '(Лошадь бежала) быстро во
время забега'. Эта обобщенная НС-структура подается на
вход Вычислителя, задача которого состоит в
транспонировании с верхних уровней дерева вниз признаков [+время],
f± образ действия], [+исчисл] и устранении
избыточности, связанной с признаком [+время] в столбцах (5) и (7).
См. §3.51.
Ясно, что в рассмотренных нами явлениях существенную
роль играют разного рода «согласования»: например,
согласование детерминатива и существительного по признаку
* Такой перевод принят здесь для термина У. Вейнрейха Verbal.
В дальнейшем мы используем сокращение ГНГФ (= группа неличной
глагольной формы).— Прим. перев.
68 Из фрагментарности наших описаний не следует заключать, что
мы преуменьшаем те трудности, с которыми связано описание значений
«грамматических» морфем. Ср. Исаченко, 1963.
121
t+исчисл] или согласование предлога и существительного
по способности образовывать обстоятельственную группу
данного типа. С формальной точки зрения аппарат сложных
символов (то есть матриц признаков в узлах) может быть
использован для представления всех согласовательных
связей без обращения к специальным правилам трансфор-
+наречие
+образ
действия
— '"'-.
[предлог]] [[детерм]]
-(-время
•
_ • _
[+опред]
+сущ-ное
+время
•
(1)
(2)
(3)
«1
(6)
(6)
(7)
'нулевая
морфа'
[[число]]
[-множ]
(8)
мационного компонента грамматики. Например,
согласование по числу между подлежащим и сказуемым может быть
формально описано в виде (62), где признак числа
«множественность» представлен как семантический признак [± множ]
целого предложения:
(62) (i) S —>-S' [± множ]
(ii) S' [амнож] —> NP [± исчисл] + VP
С помощью правила, которое транспонирует признаки
в «нижние ярусы» дерева, Вычислитель будет
автоматически превращать (62 ii) в (63), а признак числа будет таким
образом передан составляющим «существительное» и
«глагол». Морфологический компонент превратит признак числа
[+множ] в сегментный показатель множественного числа,
122
как это показано в (64), а сегментный форматив 'мн. число'
будет в свою очередь преобразован в цепочку фонем
соответствующего суффикса.
(63) S' [амнож]—>-NP [± исчисл, амнож]+ VP [амнож]
(64) X —► X' + 'мн. число' в контексте
[-|-множ]
Узлам NP, н е подчиненным непосредственно узлу S,
признак [± множ] приписывается независимо, по правилу
типа (65):
(65) VP—»■ глагол-f NP [± исчисл, ± множ]
Хотя указанные формальные средства обеспечения
согласования обладают рядом определенных преимуществ,
некоторые особенности «обычного» согласования по числу,
лицу и роду формально отличают его от рассмотренных
нами явлений. Самая важная особенность состоит в том,
что признак [± исчисл] и признак типа обстоятельства
приписываются всем узлам, непосредственно подчиненным
сложному символу, содержащему эти признаки, в то время
как признак типа [±множ] будет передаваться
избирательно от VP группе сказуемого (но не обстоятельству образа
действия), от группы сказуемого — вспомогательному
глаголу (но не ГНГФ) и от вспомогательного глагола —
показателю времени (но не модальности). Аналогичным образом
в таких языках, как русский или французский, где
существует согласование между NP-подлежащим и
прилагательным-предикативом, признак рода будет передаваться
избирательно от составляющей VP предикативу, а связке этот
признак будет приписан лишь в некоторых временах. С этим
связан тот факт, что главный узел, участвующий в
«обычном» согласовании, по-видимому, не может заменяться
про-формой. Более того, трудно представить себе
намеренное нарушение согласования в роде, числе или лице для
целей выражения смысла, в то время как нарушение
согласования по признаку исчисляемости и по типу
обстоятельства и переосмысление соответствующих выражений — дело
совершенно обычное (см. § 3.51). В связи с этим мы
предлагаем случаи «обычного» согласования описывать в
грамматике с помощью другого аппарата (см. § 3.51 (б)).
123
Приписывание семантических признаков
нетерминальным узлам категориального компонента позволяет к тому
же трактовать про-формы, вопросы и формы повелительного
наклонения более изящно, чем это предлагается Катцем и
Посталом (К atz — Postal, 1964). Для их подхода
характерно стремление к тому, чтобы каждый компонент
смысла предложения был эксплицитно фиксирован на
каком-либо уровне представления. Например, слово how
'как' Кати и Постал представляют следующим образом:
teej
Наречие
образ действия
Предлог
Существительное
Про-формы
how
Схождение линий внизу диаграммы символизирует морфо-
нологическое преобразование терминальной цепочки «...io
WH a/some way» в последовательность «фонем» [haw].
Однако формативы in 'в', a/some 'некоторый', way 'способ'
являются самостоятельными единицами словаря,
обладающими своим собственным звуковым составом; поэтому
преобразование (in WH sam we] в [haw] — это операция
совершенно произвольная. Более того, подобное
представление, столь близкое к реальному английскому тексту, в
высшей степени избыточно, и во многих случаях выбор
конкретного глубинного предлога (например, представление where
в виде at what place 'на каком месте' вместо столь же
подходящего in what place 'в каком месте') приводит к еще
большему произволу. Это ненужное усложнение может быть
устранено путем приписывания нескольких (несегментных)
семантических признаков претерминальному узлу,
например посредством замены правил (59 vi — vii) правилами
(67 i — ii), соответственно:
124
(67)
(!)
обст-во -
наречие
предлог' + NP f+исчисл]
союз + S
Д
(и)
NP-
детерм +сущ-ное+число
А
Словарь будет содержать единицы типа (68):
(68) (i) how 'как' [[обст-во]] [+образ действия, —опред,-
+ вопрос]
(ii) somehow 'как-нибудь' [[обст-во]] [+образ действия,
— опред, —вопрос, -[-специф(ичное)]
(iii) anyhow 'как-нибудь' [[обст-во]] [+ образ действия,
— опред, —вопрос, —специф]
(iv) thus 'таким образом' [[обст-во]] [+образ действия,
+ опред, +указ(ательное)]
Синтаксическая и семантическая структура наречия how
будет теперь изображаться в виде (69) без учета
несущественных деталей, загромождающих (66) "*:
(69 Обстоятельство [+образ действия]
I
Д
I
how
[ [ Обстоятельство] ]
+образ
-Опред
+вопрос
69 Пересмотр ряда положений теории трансформационных
грамматик также объясняется желанием избежать обязательного
отражения несущественных деталей. Хомский в 1957 г. (Chomsky, 1957)
рассматривал цепочку типа Who came? 'Кто пришел?' как результат
вывода из предложения типа John came 'Джон пришел'; Катц и Постал
(Katz — Postal, 1964) выводили ее из Somebody came 'Кто-то
пришел'; Хомский в работе Chomsky, 1965, р. 186 вывел бы ее из
Unspecified subject came. 'Некий неуточненный субъект пришел'.
Логическое продолжение этих последовательных изменений привело бы,
очевидно, к представлению подлежащего В виде некоторого набора
признаков.
125
Словосочетание in what way 'каким способом' будет
анализироваться аналогичным образом при наличии в словаре
следующих единиц:
(70) (i) in 'в' [[предлог]) [+ образ действия]
(ii) way 'способ' [+сущ-ное, +образ действия]
(iii) what 'какой' [[детерм]] [—опред, -[-вопрос]
Формальное новшество грамматики, содержащей
правила типа (67), состоит в возможности заменять некоторые
нетерминальные узлы морфемами из словаря. Заменители
именных групп и разного рода другие про-формы получают
в словаре аналогичное представление:
(71) (something 'что-нибудь' [[NP]] [—человек, —опред, —
вопрос]
everybody *всякий' [[NP]] [-f человек, -(-опред, -f
всеобщность]
nobody 'никто' [[NPJJ [-f-человек, -(-опред,
-(-отрицательное)]
always 'всегда' [[обст-во]] [+время, -f-опред,
-[-всеобщность]
nowhere 'нигде' [[обст-во]] [-(-время, -(-опред, -J-отрицат]
и так далее для других про-форм: местоименных
существительных, местоименных прилагательных, местоименных
наречий, местоименных предложений (Yes 'Да', No 'Нет')
и др.
Образование повелительных и вопросительных
предложений может трактоваться таким же образом. Катц и Постал
(Katz — Postal, 1964, p. 74 и ел.)
продемонстрировали полезность введения морфем imperative —
'повелительное наклонение') и Q(uestion — 'вопрос'),
функционирующих в качестве фразовых наречий-определителей ко
всему предложению в целом. Однако, поскольку в
английском языке эти элементы не имеют сегментного
представления ни на каком уровне, их удобнее считать
семантическими признаками предложения в целом. Смысловые
единицы 'утверждение', 'поведение' и 'вопрос' мы
рассматриваем как значения некоторого тернарного признака
(следовательно, мы отказываемся от обозначений с
использованием плюсов и минусов); эти единицы мы вводим
посредством правила (72 i). Более того, мы вводим факультативную
составляющую «сентенциал», которая превращается в
соответствии с Лексическим правилом в морфему в том случае,
если она встретилась в претерминальной цепочке. Правило
126
(72 ii) вводится вместо (59 i). Словарь содержит теперь
единицы типа (72 iv — vi):
(72) (i) S—-S'
( [утвержд] I
l [повел] >
( [вопрос] |
(ii) S'—>■ (сентенциал)-f-NP [± исчисл] + (обст-во
[-(-время]) -f (обст-во [+место])
(iii) сентенциал—►Д
(iv) probably 'вероятно' [[сентенциал]] [утвержд,
—достоверность, ... ]
(v) please 'пожалуйста' [[сентенциал]] [повел,
-(-вежливость, ...]
(vi) certainly 'конечно' [[сентенциал]] [утвержд,
-(-достоверность, ... ]
Рассмотрим следующий ряд примеров:
(73) (i) This flower blooms in the winter.
'Этот цветок цветет зимой.'
(ii) This flower probably blooms in the winter.
'Этот цветок, вероятно, цветет зимой.'
(iii) Does this flower bloom in the winter?
'Цветет ли этот цветок зимой?'
(iv) When does this flower bloom?
'Когда цветет этот цветок?'
(v) Does this flower probably bloom in the winter?
'Цветет ли, вероятно, этот цветок зимой Р'*
(vi) Let this flower bloom in the winter.
'Пусть этот цветок цветет зимой.'
(vii) Let this flower please bloom in the winter.
'Пожалуйста, пусть этот цветок цветет зимой.'
(viii) I want this flower to bloom in the winter.
'Я хочу, чтобы этот цветок цвел зимой.'
(ix) He is asking whether these flowers please
bloom.
'Он спрашивает, цветут ли, пожалуйста, эти цветы.'
Не приводя здесь выводов предложений из (73), отметим,
что в (73 i) признак [утвержд] вводится на уровне
предложения правилом (72i); в (73 ii) этот признак берется также
из словарной статьи слова probably 'вероятно', а
возникающая избыточность устраняется Вычислителем. В (73 iii)
признак [вопрос] вводится на уровне предложения
(правилом 72 ii), в (73 iv) он также вводится на уровне
предложения, причем берется из словарной статьи обстоятельства
времени when 'когда', и снова Вычислитель должен устра-
127
нить избыточность. В (73 v) имеется противоречие между
несовместимыми признаками [вопрос] у предложения и
[утвержд] у сентенциала probably 'вероятно', которое и
подлежит устранению Вычислителем. В (73 vi) признак
[повел] вводится опять на уровне предложения — только
в силу (72 i); в (73 vii) избыточные признаки [повел]
связаны и с предложением и с сентенциалом. В (73 viii)
[повел] — переходящий признак глагола want 'хотеть' —
переходит во вложенное предложение (см. § 3.3), и этот же
признак еще раз вводится во вложенное предложение
правилом (72 i), вследствие чего возникает избыточность;
с другой стороны, в (73 ix) Вычислитель сталкивается с
противоречием между признаком [вопрос], переходящим
от глагола ask 'спрашивать' во вложенное предложение,
где он становится избыточным, и признаком [повел]
сентенциала вложенного предложения. Соответствующие
способы разрешения подобных противоречий описаны
в §3.51'°.
Наконец, мы хотели бы внести в категориальный
компонент грамматики Хомского еще одно, последнее
изменение, а именно: потребуем, чтобы каждый символ, который
в соответствии с каким-либо правилом переходит в П.
представлял собою не просто категориальный символ, то
есть символ синтаксического класса (типа
«существительное» или «глагол»), а сложный символ, состоящий из
символа класса (= «категориальная часть») и семантического
признака. Название этого признака совпадает с названием
класса, однако подобное обозначение не является
полностью избыточным, поскольку категориальная часть
сложного символа соотносится с представляющим его в тексте
определенным звуковым сегментом, в то время как
признаковая часть соотносится с его значением 71. В соответствии
с изложенным правила (59 v) и (67 i — ii) мы заменяем
правилами (74 i) и (74 ii — Hi) соответственно:
70 Представляется вполне вероятным, что отрицание,
рассмотренное с точки зрения противопоставления глубинной и поверхностной
грамматики, также можно будет анализировать подобным образом.
Об отрицании в английском языке см. К I i m a, 1964.
71 Можно ввести такие соглашения относительно обозначений,
при которых вообще не будет необходимости представлять открытые
лексические классы символами единых классов. Однако в настоящей
работе мы придерживаемся следующего принципа: если для
обозначения языковой единицы используется символ синтаксического класса,
это означает наличие у нее звуковой (= сегментной) реализации.
128
(74} (О ГНГФ—«-глагол [+ i\nanwi)-{-(NP [± исчисл])
(наречие [+ наречие] "|
предлог + NPfi исчисл)!
игл 1\гр_^ / детерм+сущ-ое [+ сущ-ое] + число \
Ниже будет показано, каким именно образом семантические
признаки, порожденные правилами (74), участвуют в
процессе Семантической обработки (см. ниже, с. 147—165).
3.43. Заключительные замечания
относительно категориального компонента
Подытожим сказанное выше о понятиях грамматики и
словаря и их взаимоотношениях.
База грамматики состоит из набора правил подстановки,
содержащего рекурсивные правила. Правила записаны в
алфавите, содержащем символы трех типов: символы
синтаксических классов, сложные символы и фиктивные
символы. К символам синтаксических классов относятся,
например, «именная группа», «обстоятельство»,
«прилагательное». Сложный символ представляет собой объединение
символа синтаксического класса и матрицы семантических
признаков. Фиктивных символов имеется три: П. Л и О;
в них перерабатываются в процессе вывода все символы
синтаксических классов ,а. База порождает претерминаль-
ные цепочки. Претерминальная цепочка состоит из
последовательности фиктивных символов и приписанного ей
дерева, узлы которого помечены символами синтаксических
классов или сложными символами, например (75).
Претерминальная цепочка, порожденная базой, поступает на вход
Лексического правила, которое обрабатывает ее, опираясь
иа словарь. Словарь представляет собой неупорядоченное
множество морфем. Одни морфемы являются тройками вида
(Р, G, (д.), где Р — последовательность фонем 73, G — син-
72 Правила, вводящие Q> будут рассмотрены в § 3.51 (б).
73 В случае супплетивизма или нерегулярных морфологических
чередований более естественно, по-видимому, приписывать
лексическим единицам в словаре особый показатель словоизменительного
класса или какой-либо другой произвольный символ, который
превращается в фонетическое представление по правилам морфонологиче-
ского компонента. В данной работе вместо фонемных символов мы
используем обычную орфографическую запись; условные имена
формативов даются прямым шрифтом в лапках ' '.
129
таксический маркер, а ц — пучок или конфигурация
пучков семантических признаков (в смысле §3.1); морфемы
другого рода представляют собой пары вида (Р, ц).
Лексическое правило превращает каждое вхождение символа Д
в тройку (Р, G, ц.), а каждое вхождение символа □ — в
морфему любого вида. На выходе Лексического правила
выдается обобщенная НС-структура — цепочка морфем и
фиктивных символов О (как в (94)) с приписанным ей
размеченным деревом (как в (75)). (Заметим, что (94) и (75) —
части одной схемы, которую мы намеренно разъединили
для большей наглядности.)
Об)
8[утвержд]
именная группа Т+исчисл]
вспом глагол
детерм сущ-ное число Vb
А
обст-во[+место^
No время глагол имеиная группа
£+исчисл]
6
детерм сущ-ное число
Обобщенная НС-структура подвергается затем
обработке, включающей операции (а) и (б).
(а) Последовательность фонем совместно с приписанным
деревом преобразуется в поверхностную структуру и в
конечном счете — в фонетическое представление
высказывания. Первая часть этой обработки включает применение
унарных грамматических ТРАНСФОРМАЦИЙ, которые,
по определению, не изменяют смысла высказывания. Эти
трансформации опускают некоторые части цепочки, напри-
130
мер преобразуют цепочку а + man + #the + man +
came# + nodded 'человек + #человек + пришел# +
кивнул' в цепочку а + man + who + came + nodded
'человек + который + пришел + кивнул' (Chomsky, 1965,
р. 145); они порождают новые фонологические сегменты
(«нулевые морфы» и физические показатели для
семантических признаков)74; а также путем комбинирования
операций элиминации и присоединения (Chomsky, 1965,
р. 144) они осуществляют перестановку некоторых
элементов, например перемещение на первое место в предложении
любой составляющей, содержащей признак [вопрос],
извлеченный из словарной статьи данной составляющей. И
наконец, эти трансформации — возможно, с помощью морфоно-
логического подкомпонента — превращают показатели
словоизменительных классов и условные имена формативов
в реальные последовательности фонем, как показано в (76):
(76) [tu8] + ICj+MH. ч.->[tl8],
где ICj — морфонологический показатель, который
приписывается в словаре морфеме tooth 'зуб' и который определяет
способ образования множественного числа у этой морфемы,
сходный с образованием множественного числа у морфемы
]gus] и отличный от образования множественного числа,
например, у морфемы [Ьй0]. Терминальная выходная
цепочка трансформационного компонента — это
поверхностная структура, состоящая из цепочек фонем с
приписанными этим цепочкам грамматическими пометами; ее
сегменты (формативы) лишь в особых случаях находятся
с морфемами во взаимно-однозначном соответствии.
Поверхностная структура в свою очередь поступает на вход
ФОНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА, где она
обрабатывается правилами избыточности
[выполняющими все необходимые автоматические чередования и т. п.];
затем в ней стираются все помеченные скобки. Конечным
результатом является фонетическое представление
предложения.
(б) Обобщенная НС-структура подвергается также
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (Semantic Process) '», ко-
74 Например, интонационные средства или введение форматива do,
которые используются в английском языке для выражения признака
[вопрос] у предложения.
75 Мы отказались от термина «семантический компонент», поскольку
и база и словарь вносят свой вклад в семантическую структуру пред-
5»
131
торая выполняется двумя компонентами.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ (Semantic Calculator)
распределяет семантические признаки по узлам дерева; отмечает
наличие в предложении противоречий между
определенными семантическими признаками; устраняет избыточность
признаков и переносит некоторые признаки от одной
морфемы к другой. Он осуществляет также элиминацию
некоторых частей исходной структуры. СЕМАНТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ (Semantic Evaluator) решает, является
предложение семантически нормальным или же оно
отклоняется от нормы, и в зависимости от этого либо вырабатывает
семантическую интерпретацию предложения, которая
должна быть сопряжена с его фонетической реализацией, либо
вырабатывает сигнал «бессмысленно».
Прежде чем перейти к рассмотрению блока
«Семантическая обработка» (§ 3.5), необходимо разъяснить некоторые
вопросы, связанные со словарем.
3.44. Структура словаря
3.441. Словарные статьи и
толкования.
Каждая морфема, как уже говорилось, включает набор
семантических признаков. Хотя в схематических примерах,
используемых в § 3.4, как правило, содержатся только
пучки (неупорядоченные наборы) признаков, это вовсе не
обязательно в рамках нашей теории. Наоборот, в 3.221 мы
приводили многочисленные примеры лексических единиц,
семантическое представление которых невозможно
определить без использования конфигураций признаков. Смысл
некоторых морфем включает ограничения (например,
признак 'четыре' в качестве смыслового компонента слова square
'квадратный') и модализации (например, 'похожий' в
качестве смыслового компонента слова aqueous 'водянистый').
Короче говоря, как и было указано в § 3.1, всякое
отношение, которое может связывать компоненты предложения,
может связывать также и компоненты смысла одной
словарной единицы. Но это попросту означает, что семантиче-
ложений. В конце § 3.51 станет ясно, почему трансформационные
правила должны действовать после того, как Семантический Вычислитель
закончит свою работу.
132
екая часть словарной статьи является предложением, а
более точно — глубинной структурой предложения, то есть
некой обобщенной НС-структурой. В § 3.42 мы
рассматривали преимущества использования семантических признаков
в базовом компоненте грамматики; теперь мы можем
оценить разумность следующего шага: наложения
синтаксической организации на семантические признаки,
содержащиеся в словарных толкованиях.
(77)
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА
ТРАНС- МОР.
Г^ФОРМА! ФОНО-^
ции Iлогия
СЕМАНТИЧЕСКИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НОЛОГИЯ
Q Семантическая обработка
У^
СЕМАНТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ
сказывание
Поскольку словарные толкования представляют собой
предложения, возникает серьезная проблема: какие именно
предложения из бесконечного числа предложений
естественного языка могут быть словарными толкованиями? Эта
проблема может рассматриваться либо с
теоретико-описательной точки зрения, либо в связи с моделью усвоения
языка.
С теоретической точки зрения полезно прежде всего
задаться вопросом, можно ли охарактеризовать толкования
(=предложения, выступающие в функции толкований)
какими-либо особыми синтаксическими свойствами. Очевидно,
что (78 i, ii) и (80 i) представляют собой толкования (правда,
быть может, неполные), а (78 iii, iv), (79 ii) и (80 ii) — нет,
и тем не менее синтаксические структуры соответствующих
предложений попарно одинаковы:
(78) (i) A chair is a piece of furniture for one person to
sit on.
(ii) 'Стул — это предмет мебели, предназначенный
для того, чтобы на нем сидел один человек.'
133
(iii) A concert is an event for music lovers to enjoy.
(iv) 'Концерт — это мероприятие,
предназначенное для того, чтобы любители музыки
получали удовольствие,'
(79) (i) Чавкать — это жевать с громким звуком.
(ii) Голосовать — это исполнять гражданский долг.
(80) (i) Водопроводчик устанавливает и чинит трубы.
(ii) Пророк предупреждает и порицает свой народ.
Хотя толкования и имеют некоторые общие формальные
свойства (например, отсутствие определенных артиклей
в английском и глагольных времен, отличных от
настоящего), они не могут быть однозначно
охарактеризованы по их форме. Чтобы понять, что является
характерным для толкования, определим сначала понятие
«аналитического предложения» 76. Аналитическое
предложение — это предложение, которое истинно для всех
денотатов любого из его элементов xlt х2, ..., хп. Примером
аналитического предложения может служить (79 ii);
предложения, которые противоречат ему (например,
Голосовать — это нарушать гражданский долг), являются
ложными; они могут быть истинными в другом языке (например,
в другом «семантическом диалекте» английского языка) или
в каком-либо особом употреблении. (Мы вернемся к этому
в § 3.51.) Толкование — это аналитическое
предложение, содержащее элемент х( (определяемое), такой, что
это предложение становится ложным, если заменить лг,- на
любой другой элемент языка. Тогда (78 iv) не является
толкованием слова концерт, так как концерт не
единственное мероприятие, от которого любители музыки должны
получать удовольствие (и уж тем более это предложение
не является толкованием никакого другого слова, которое
в него входит); с другой стороны, (78 ii) является
толкованием (хотя и упрощенным) слова стул, поскольку — при
условии его доопределения, то есть добавления
компонентов, отличающих стул от табурета, кресла, скамьи и т. п.,—
аналитическая истинность (78 ii) не сохранится, если слово
стул заменить в нем любым другим словом. ((78П), однако,
не является толкованием слова мебель, сидеть или какого-
либо другого, входящего в него слова.) Предложение,
универсальная применимость которого отрицается каким-
О некоторых аспектах аналитичности см. К a t г, 1964b.
134
либо эксплицитным образом — например, с помощью
употребления определенного артикля или указательного
местоимения,— автоматически является неаналитическим
(=синтетическим). (В настоящем рассмотрении мы
оставляем в стороне некоторые специальные проблемы,
касающиеся значения собственных имен.) Очевидно, что
подавляющее большинство предложений в произвольной
выборке являются синтетическими.
Задача лексикографа состоит в выделении из
бесконечного множества предложений языка подмножества
толкований. Поскольку для предложения свойство «быть
толкованием» и даже его аналитичность не очевидны из его
структуры, то выделение предложений-толкований не может
быть осуществлено с помощью какой-либо жесткой
процедуры, а должно проводиться методом проб и ошибок. Среди
задач теоретической лексикографии можно выделить
следующие: доказать, что каждая морфема языка имеет по
крайней мере одно толкование"; доказать, что каждая
морфема языка имеет единственное оптимальное
толкование; искать в толкованиях устранимые порочные круги и
устранять их; выявлять принципиально неустранимые
порочные круги, обусловленные наличием в системе
толкований взаимосвязанных наборов элементарных семантических
единиц 78. Эти задачи выходят за рамки данной работы
(см. в W e i n r e i с h, 1962 дополнительные соображения
по данному вопросу); однако существенно, что способность
распознавать аналитичность предложений и даже выявлять
предложения-толкования является частью языковой
способности говорящего. Неискушенный носитель языка может
оказаться не в состоянии быстро сформулировать хорошее
толкование, но он обычно с уверенностью отвергает
предложенные ему неверные толкования и, таким образом,
выделяет верное 7в. Работа лексикографа-профессионала как
77 Морфема определяется здесь как элемент глубинной структуры
предложений; морфемы противопоставляются формативам
поверхностных структур. При таком подходе возражения Ч. Бэйзелла против
использования морфемы как единицы семантического анализа
(например, в В a z е 1 1, 1953, р. 88), по-видимому, отпадают.
78 Подобная ситуация (то есть неустранимые порочные круги)
возникает тогда, когда предложение является толкованием более чем
одного из составляющих данное предложение слов.
78 Наше утверждение состоит не только в том, что носители языка
обладают такой способностью; мы утверждаем также, что они в
значительном числе случаев согласны между собой в оценке тех или иных
136
раз и состоит в объяснении и моделировании этой
способности обычного носителя языка.
Формальная неограниченность предложений, которые
представляют собой толкования словарных единиц, делает
возможным функционирование таких предложений в
обычной речи. Этим и объясняется тот факт, что не всегда
существует ощутимая граница в естественном языке между
утверждениями, сделанными на языке, и утверждениями
о языке. В противоположность искусственным языкам, с
которыми экспериментируют логики, естественный язык сам
выполняет функцию своего собственного метаязыка. Таким
образом, теория должна проливать свет на сложные и
запутанные отношения внутри бесконечного множества
предложений языка, не являющихся толкованиями. В данной
работе мы можем дать лишь весьма краткое изложение этой
части теории.
Некоторые сферы словаря организованы в духе
таксономической классификации (см. С о n k 1 i п, 1962); иными
словами, некоторые определяемые выражения являются
подлежащими в предложениях-толкованиях, сказуемое
которых состоит из связки, существительного и
определительного придаточного к нему (здесь мы имеем определение
через род и видовой признак). Отнюдь не все толкования
обязательно имеют такую форму; однако, поскольку многие
из них таковы, можно строить многочисленные
аналитические предложения, не являющиеся толкованиями. Так,
например, если (81 i — ii) являются схематическими
представлениями толкований, то (82 i — ii) представляют собой
аналитические предложения. Предложение, полученное из
аналитического предложения путем сужения области
определения его переменных до одного значения (например,
при переходе от (81 i) к (83 i — in)), может быть названо
трюизмом.
(81) (i) An X is a Y which Z. 'X—это Г, который Z.'
(ii) A Y is a W which U. 'F — это W, который U.'
толкований. Там, где говорящие расходятся в мнениях, мы имеем дело
либо со скрытым диалектным различием, либо с несущественными
признаками, которые не следует включать в толкование. По вопросу о
степенях релевантности семантических признаков см. W e i n г е i с h,
1962 и В е п d i х, 1966. Мы считаем, что носитель английского
языка отвергнет предложения (27 ii, iv) как ложные (в данном случае
как ложные утверждения об английском языке) с не меньшей степенью
уверенности, чем предложение (23).
136
(82) (i) An X is a У. 'X — это Y'.
(ii) A Y is a W. 'У-это W/
(83) (i) This X is а У which Z. 'Этот X —это Y,
который Z.'
(ii) Both X'es which you gave me yesterday are
Vs which Z. 'Оба X-a, которые вы мне вчера
дали,— это У-и, которые Z.'
(iii) This is an X which Z. 'Это X, который Z/
Отрицание какой-либо части трюизма ведет к парадоксу,
например (84):
(84) This is an X which not-Z. 'Это X, который не Z.',
что в свою, очередь заставляет слушающего «изобрести»
семантическую сущность, которая может не соответствовать
ни одной реальной морфеме. Этот и подобные механизмы
позволяют языку с конечным словарем обслуживать
бесконечный речевой универсум.
Умозаключение, в котором толкование является
главной посылкой, хотя и обязательно является истинным, тем
не менее не всегда банально; ср. (85) — пример,
основанный на (81):
(85) This is an X, therefore U, 'Это X, следовательно, U.'
Подобные утверждения аналогичны теоремам в
дедуктивной системе; некоторые теоремы могут представлять интерео
постольку, поскольку их доказательство не является
очевидным. Отсюда понятно, почему введение противительного
союза but 'но' в контексте X but У, означающего 'и — против
ожиданий', в умозаключение типа (85) вызывает весьма
своеобразный эффект; ср. (86):
(86) (1) This is an X, but U. 'Это X, но U.'
(ii) This is a chair, but one can sit on it,
'Это стул, но на нем можно сидеть.'
Следовательно, союз but представляет собой эффективное
средство проверки того, является ли некоторое
предложение толкованием или нет (В е n d i х, 1966)80.
80 Всякое предложение, которое явным образом или имплицитно
противоречит толкованию одного из входящих в него слов, является
аномальным. Поскольку каждая морфема имеет толкование, каждая
морфема может быть употреблена в аномальном предложении
(например, (26vi), (27 i), (27 iii)). В этом состоит главная причина того, что
различие между теоретически мотивированными и теоретически немо-
137
Если (87 i), где т и п — любые выражения,
представляет собой предложение (аналитическое или синтетическое),
то (81 i) и (87 ii — iii) являются перифразами
предложения (87 i); при этом (87 ii) можно назвать полной
перифразой 8l.
(87) (i) т X п.
(ii) m Y which 1 п. 'т Y, который Z /г.'
(iii) m Y п.
Предположим, что (88 i) — это толкование в данном языке;
тогда мы можем сказать, что X и V — антонимы, а (88 ii)
представляет собой еще одну перифразу предложения (87 i):
(88) (i) A V is a Y which not-Z. 'V — это Y, который
не z:
(ii) Not m V п. 'Не т V n.'
Таким образом, толкования, образующие систему
словарных значений слов некоторого языка, позволяют
представлять определенные множества предложений как перифразы
друг друга.
Предыдущие весьма беглые замечания относились к
теоретико-описательным проблемам семантики. Если теперь
мы продолжим наше исследование в направлении
разработки модели усвоения языка, то нам придется отвечать
на вопрос, каким образом человек, изучающий какой-либо
определенный язык, распознает среди предложений,
которые он слышит, предложения, представляющие собой
толкования, или каким образом он опознает толкования на
тивированными признаками (то есть между маркерами и различителями
у КФ; ср. выше §2.23) не может быть принято серьезной семантической
теорией. В связи с такими аномальностями, как (26 vi), встает вопрос
о том, как можно разграничить владение языком и владение такими
системами, вторичными по отношению к языку, как арифметика. В
настоящее время я не знаю реального способа проведения такой границы
и не уверен в том, что такой способ необходим.
81 Из числа перифрастических отношений, исследованных Катцем
(К a t z, 1964b), здесь рассматриваются только такие, которые связаны
с использованием антонимических пар; именно они представляют
интерес с лингвистической точки зрения. Другие отношения Катца
сводятся к чисто синтаксическим преобразованиям (например, The child
often sleeps 'Ребенок часто спит' и The child sleeps often 'Ребенок спит
часто') и не представляют особого интереса для семантической теории,
занимающейся глубинной структурой предложений. Мы не
рассматриваем такие отношения как перифрастические.
138
основе данных об истинности/ложности тех или иных
предложений (используя также, разумеется, обширные
экстралингвистические сведения). При более широком понимании
проблема состоит в выяснении того, каким образом человек,
изучающий язык, «строит» квазидедуктивную систему,
которая позволяет ему устанавливать семантические
отношения между сколь угодно большим числом предложений
языка. Можно, в частности, предполагать, что ребенок не
мог бы решить эту задачу в столь короткий срок, если бы
по крайней мере часть системы толкований не была
врожденной. Более того, представляется весьма плодотворной
мысль Л. С. Выготского (Выготский, 1934) о том, что
говорящий овладевает семантической структурой языка как
системой толкований лишь с наступлением зрелости и что
некоторые значения, которые он в раннем детстве усваивает
в элементарном виде, в отрочестве заучиваются им вновь,
но уже как понятия (или, возможно, даже в виде
буквальных словарных дефиниций). Вряд ли, однако, можно достичь
какого-либо серьезного успеха в теоретическом или
эмпирическом исследовании этой сложной области, если не
допустить, что семантическая структура лексики языка,
которая входит в языковую компетенцию рядового носителя,
в принципе имеет ту же форму, в которой она
представляется лексикографом в словаре.
3.442. Сложные словарные единицы
(идиом ы)*.
Мысль о том, что единицами словаря должны быть
морфемы, уже высказывалась в начале § 3.4 в предварительном
порядке. Разумеется, если исходить из того, что словарь
должен содержать как можно меньше статей, то описываемые
в словаре единицы должны быть минимального размера:
в самом деле, в языке словосочетаний меньше, чем
предложений, слов меньше, чем словосочетаний, и морфем меньше,
чем слов. С другой стороны, естественным языкам
внутренне присуща идиоматичность — свойство составных
выражений, значение которых не выводится из их синтаксической
структуры и значений входящих в них компонентов. Для
обозначения такой минимальной единицы, подлежащей опи-
* См. в данной связи специально посвященную проблемам
идиоматики работу W e i n г е i с h, 1966b.— Прим. перев.
139
санию в словаре, все чаще употребляется термин «lexeme»
(С о п к 1 i n, 1962) — лексическая единица. Некоторые
лексические единицы являются минимальными, то есть
простыми также в грамматическом отношении (это морфемы,
например heart 'сердце'), другие являются грамматически
сложными или составными (сложные слова, например
sweetheart 'милый(ая)'; словосочетания, например
by heart 'наизусть', to rub noses 'якшаться; водить
дружбу', to shoot the breeze 'болтать без толку'
и т. д.) 82.
Для такого изолирующего языка, как английский, по-
видимому, достаточно считать, что в словарь помещаются
просто лексические единицы; однако для среднего
флективного языка необходимо потребовать большего:
лексикографически несущественные элементы — флексии
именительного падежа существительных, суффиксы инфинитивов
и т. д. — не должны входить в состав единиц словаря,
составленного с учетом указанных выше принципов.
Например, в словарь для русского языка должны помещаться од-
номорфемные единицы типа чита- (но не читать) и много-
морфемные единицы типа черн- сотн- (а не черная сотня).
Это требование можно выполнить, либо считая, что
словарной единицей является основа лексической
единицы, либо определяя лексическую
единицу (=л е к с е м у) как основу, «освобожденную» от
всех словоизменительных элементов.
Как отмечалось в некоторых недавних работах по
семантике, идиоматичность может определяться лишь
относительно конкретного словаря, поскольку идиоматичность
и полисемия связаны отношением дополнительности (ссылки
на литературу см. в W e i n г е i с h, 1963a, р. 146).
Словосочетание типа to rub noses 'якшаться; водить дружбу'
можно считать идиомой, то есть неразложимой единицей,
значение которой не выводимо из значений слов rub
'тереться' и noses 'носы'; однако можно постулировать у слов
rub и noses такие значения (например, 'водить' и 'дружба'),
что из них будет составляться значение всего сочетания.
В настоящий момент мы вынуждены оставить в стороне
проблему выбора между «идиоматическим» и «полисеманти-
82 В отличие от Катца и Постала (К atz — Postal, 1963)
мы не подводим под понятие идиоматичности полурегулярные
грамматические процессы. Эта проблема затронута ниже, в § 3.52.
140
ческим» описанием тех или иных конкретных
словосочетаний; вообще многие важные вопросы, связанные с
фразеологией 83, выходят за рамки настоящего исследования. Мы
не можем, однако, уклониться от рассмотрения вопроса о
грамматической структуре идиом и об их представлении
в обобщенной НС-структуре. Мы будем исходить из того,
что, несмотря на формальную возможность построения
словаря без идиом, в словарь все же естественно помещать по
крайней мере некоторое количество грамматически
сложных выражений, значения которых не могут быть
распределены по их составляющим (или выведены из их
составляющих). Иначе говоря, мы будем считать, что по крайней
мере некоторые лексические единицы являются идиомами.
При описании идиом в словаре их можно трактовать как
единые нечленимые слова, принадлежащие к тому или
иному синтаксическому классу; например, by heart
'наизусть' — это наречие, shoot the breeze 'болтать без
толку' — глагол и т. д. Однако такого рода «слова» потребуют
более сложного фонологического описания, чем обычные
слова: в то время как для неидиоматичных выражений (by
cart 'на телеге', loot the cheese 'наворовать сыра')
информация о месте ударения, о редукции гласных и т. п.
автоматически вырабатывается фонологическими правилами
избыточности (см., например, Chomsky, 1966), для идиом
соответствующая информация должна полностью
содержаться в словаре (Katz — Postal, 1963, p. 276). Более
того, в рамках такого решения невозможно естественно
описывать неидиоматичные составляющие, входящие в
состав идиоматичных конструкций, к чему мы вскоре
непосредственно обратимся.
Можно поступить по-другому: описывать идиомы в
словаре как элементы классов, соответствующих
нетерминальным символам базы: by heart — обстоятельство, shoot the
breeze — глагольная группа и т. д. Для того чтобы
Лексическое правило могло вводить подобные единицы в пре-
терминальную цепочку, грамматика (56) должна быть
изменена таким образом, чтобы обеспечивать возможность
выбора символа Д для развертывания любого узла, который
83 Обсуждение этих вопросов и ссылки на литературу см. в W e i п-
reich, 1963а, р. 142—147; Weinreich, 1963b; Уфнмцева,
1963; Бабкин (ред.), 1964 (где дана библиография, включающая
около 900 названий).
141
в данном языке может быть реализован идиомой84. При
таком решении словарная статья будет состоять из трех
частей: 1) усеченное размеченное дерево, имеющее на
терминальном уровне цепочку фонем8?, 2) синтаксический
маркер и 3) набор семантических признаков,
представляющих значение идиомы. См. (89) в качестве примера подобной
словарной статьи:
(89)
[[ГНГФ]] [+глагол,+деятельнооть,+голос,+сооб1дение,.,. <+человек>]
глагол NP [-исчисл]
детерм сущ-нов число
shoot the breeze 'нулевая морфа'
84 Катц и Постал (Katz — Postal, 1963) постулируют
особый словарь идиом в отличие от словаря лексических единяц.
Излагаемая здесь теория не нуждается в подобной дихотомии: возможность
замены нетерминальных символов фиктивными символами
обеспечивается уже в грамматике (ср. 56), где фиктивные символы используются
с целью обеспечить введение местоименных форм и вообще тех односег-
ментных составляющих, которые взаимозаменимы с многосегментными
составляющими. Мы исходим из того, что идиомы, как и
местоименные формы, рассмотренные в § 3.42, принадлежат к замкнутым классам;
потребуется, однако, дальнейшее расширение теории с целью описания
однословных идиом (сложных слов, значение которых не выводится из
значений составляющих их морфем).
85 Как уже отмечалось Катцем и Посталом (Katz — Postal,
1963), некоторые идиомы могут по своей форме отклоняться от
грамматических норм данного языка; например, обычный непереходный
глагол может сопровождаться существительным-дополнением
(например, come a cropper 'упасть с лошади вниз головой', 'потерпеть
крах', где come 'приходить' — непереходный глагол). Согласно нашей
теории, для неидиоматичных выражений противоречие между
непереходностью глагола come 'приходить' и наличием прн нем дополнения
должно разрешаться в соответствии с Правилом истолкования (§ 3.51ж)
путем введения ad hoc для глагола come переходного значения;
например, to come a letter ' приходит .> письмо* = to make a letter come
'каузировать письмо прийти'; ср. to travel the smoke 'пускать дым'
(букв, 'путешествовать дым'), to walk the dog 'прогуливать собаку'
(букв, 'гулять собаку'); ср. также пример X. Путнама (Putnam,
1961): Pepper doesn't sneeze me (букв.) 'Перец не чихает меня' [или русск.
Его ушли.— Прим. ред.]. Для интерпретации выражений типа come a
cropper нет необходимости в Правиле истолкования, поскольку
значения отдельных компонентов в составе целого выражения полностью
стерты.
142
Применяя Лексическое правило (51 i), мы можем тепер
получить обобщенную НС-структуру вида (90):
S [утвержд]
] [+глагол, -(-деятельность,
/>С +ГОЛОО, ...]
глагол NPf-исчисл]
детерм сущ-ное число
'-erf' .schoot
[[время]]
[-наст(оящ'ее)1
the
breeze
'нулевая-
морфа*
•[ [ детерм] ] Г+сущ-Hoel [ [ число] ]
[+опред] [+исчисп J [+множ]
Идиоматичность ГНГФ — группы неличной глагольной
формы — находит свое формальное выражение в том, что
символ Д подчиняет не один узел, а поддерево и что морфемы
этого поддерева не подчиняются непосредственно
фиктивным символам.
Однако описание идиоматичного выражения отнюдь не
сводится лишь к определению фонологического состава
компонентов идиомы. Слово shoot в выражении shoot the breeze
подвержено тем же морфологическим чередованиям, что и
shoot в обычном употреблении со значением 'стрелять' (ср.
Не shot the breeze 'Он болтал без толку.'); следовательно,
его необходимо отождествить с глаголом shoot, уже
представленным в словаре. Идентичность морфемы в
идиоматичном выражении и в «свободном» контексте не может быть
установлена лишь на основе ее фонемного состава; в, самом
деле, если взять такие два глагола-омофона, как ring 1
143
'звучать' и ring 2 'окружать, делать круг', то выяснится,
что слово ring в идиоме ring the changes 'повторять одно и
то же на все лады' соотносится с ring 1 (ср. Не rang the
changes, но не Не ringed the changes*). Но и отождествления
на морфонологическом уровне недостаточно для такой
семантической теории, которая строится с учетом особенностей
поэтического языка. Компоненты идиом должны
обязательно быть соотносимы с соответствующими независимыми
словарными единицами (имеющими свое собственное
семантическое описание); только при этом можно будет объяснить,
каким образом идиома все же «наводит на мысль» о
неидиоматических значениях ее компонентов, а также почему
отклонения от нормы в пределах идиомы более терпимы в том
случае, когда отклонение происходит в результате
небольшого семантического сдвига (например, to shoot the wind**),
чем в случае произвольной замены какого-либо компонента
идиомы (например, to shoot the cheese 'стрелять в сыр').
Следовательно, словарную статью (89) необходимо изменить
таким образом, чтобы в узлах нижней строчки содержалась
не только информация о фонологическом составе морфем,
но еще и маркеры, определяющие словоизменительный класс
морфемы, и семантические признаки из полных словарных
статей слов shoot, the и breeze. Новая словарная статья
приведена на схеме (91), где 1СХ обозначает
словоизменительный класс глагола shoot. Для полного описания идиомы
необходимо также обращение к тому этапу
Семантической обработки, который в случае обычной
интерпретации идиомы ведает «подавлением» собственных
семантических признаков компонентов идиомы (см. § 3.51 (г)).
Однако в связи с такими идиомами, как pull 's leg
'морочить (кого-либо)', возникает новая трудность:
подобные идиомы включают специальный «пробел», подлежащий
неидиоматическому заполнению. Это показано графически
на схеме (92) (семантические признаки единиц в нижней
строчке опущены; см. с. 145).
Мы хотим показать, что между значением любого
существительного, которым может быть заменен узел □ по
Лексическому правилу, и значением остальной части идиома-
* Указанные глаголы-омофоны имеют разные парадигмы: ring 1—
rang, rung; ring 2 — ringed, ringed.— Прим. перев.
** wind — 'ветер', breeze — 'бряз'. В силу того, что
семантический сдвиг невелик, приведенное выражение может быть воспринято
в том же значении, что и shoot the breeze.— Прим. перев.
141
тичной ГНГФ, описываемой на схеме (92), имеет место
отношение вставления — такое же, как между переходным
глаголом и прямым дополнением.
(91)
[[ГНГФ]] [+глагол,+дептвльность,+оообщение,+добровольность,...( -Ыеловвк) ]
""NPj-исчисл ]
двтерм сущ-нов -число
shoot
+глагол
+деятель-
ность
-•-добровольность
+каузация
1
-локой
1С,
the
[[детерм]
-исчисл
+опред
-указ
breeze 'нулевая морфа'
+сущ-ное
+ИСЧИСЛ
-одуш
-твердое
-стабильность
[[ число] р
[-множ]
(92)
[[ГНГФ]] [+глагол,+деятельность,+добровольность,+раздражение, каузация—►...
•(ошибочно считать...]
глагол
число
'нулевая морфа'
В неидиоматичных словосочетаниях, имеющих сходное
синтаксическое строение, подобное семантическое
отношение не имеет места. В самом деле, нелепо представлять
сочетание to grab X's hat 'схватить шляпу Х-а' как
grab 's hat + X 'схватить шляпу_ +X'; при
такой трактовке to grab X's hat означало бы 'to do У to X'
145
•сделать Y Х-у': ведь показатель притяжательности
присоединяется не только к NP-дополнениям. Но идиому (92)
to pull one's leg 'морочить кого-либо' представляется
целесообразным описывать не как глагольную группу со
«встроенным» NP-дополнением, а как единый глагол, представляя
синтаксическое поведение этой идиомы в виде (93):
(S3)
глагольная группа
число
Цепочка pull T's leg подставляется в схеме (93) на место
символа □, подчиненного узлу «глагол», точно так же, как
и глаголы taunt 'насмехаться', love 'любить', educate
'давать образование' и т. д. Подобные замены осуществляются
совершенно стандартным образом — в соответствии с
Лексическим правилом (51 п). Однако словарная статья должна
будет содержать особый фиктивный символ Т, который
соотносится с именной группой, входящей в глагольную
группу.
Существуют и другие причины, обусловливающие
необходимость особых трансформационных правил для
преобразования цепочек, содержащих идиоматичные выражения.
Катц и Постал (Katz — Postal, 1963, p. 279 и ел.)
считают, что идиоматичность такого выражения, как kick
the bucket 'протянуть ноги, умереть', достаточно полно
характеризуется в пределах базы, а именно- это выражение
причисляется к тем многочисленным глаголам, которые
не могут сочетаться с обстоятельствами образа действия.
146
к каковым в концепции Катца и Постала принадлежит и
морфема пассива. Но эта формулировка не совсем верна,
так как многие сходные идиомы, от которых нельзя
образовать пассив, могут иметь при себе обстоятельство образа
действия (например, They are cheerfully shooting the breeze
'Они весело болтают'). Более того, даже если исправить
отдельные мелочи, все равно невозможно, оставаясь в
пределах базы, отразить в описании идиом, например, тот факт,
что для многих идиом невозможна номинализация типа
*NP's kicking of the bucket, *NP's shooting of the breeze
или *bucket-kicking, * breeze-shooting, но возможна
номинализация типа NP's kicking the bucket, for NP to kick
the bucket и т. п.
Мы не можем углубляться здесь в детали
соответствующих трансформационных проблем; нашей задачей было
лишь привлечь к ним внимание.
3.5. Семантическая обработка
3.51. Вычислитель
Предположим, что претерминальная цепочка (75)
подверглась словарной обработке и превратилась в обобн;енг
ную НС-структуру (=терминальную цепочку), нижняя
строка которой представлена на схеме (94) [см. е. 148].
Эта НС-структура поступает на вход упорядоченного
набора обязательных семантических правил, которые
выполняют одну за другой следующие операции.
(а) Все семантические признаки от каждого сложного
символа распределяются «вниз» по дереву, образуя пучки
с исходным пучком признаков, приписанных каждой
лексеме в словаре. Более строго Правило перераспределения
может быть сформулировано следующим образом:
(95) Если A[\ii] — сложный символ в терминальной
цепочке (где \it — пучок семантических признаков),
QIlGJlip-al — лексическая единица 8в в терминаль-
86 Для лексических единиц, являющихся идиомами, правила
семантической обработки (кроме Правила «подавления», § 3.51(г))
оперируют над значением цельной лексической единицы, а не над
значениями составляющих ее морфем. Лексему, семантическая структура
которой изменяется в результате действия Вычислителя, мы будем
обозначать здесь нейтральным термином «форматив».
147
(94)
Детерм
сущ-ное
[+сущ-ное]
VbNo
this'
П детерм]]
Г+опред
I +указ
Jjr6jm3ocTb_
boy
+cyufcHoe"
+ИСЧИСД
+конкр
+ОДУШ.
-•человек
+муж.пол
•взрослый
время
глагол
[+глагол]
детерм
сущ-ное
[сущ-ное]
обст-во
[+место1
[[число]]
[-f-множ]
W
[[время]]
[т]
find
+ГЛЭГОЛ
+иметь
{+наст)
-иметь
(-наст)
т
[[детерм]]
Г-опред
I -вопрос
IJ
]
'нулевая
морфа'
[[число]]
[-множ]
somewhere
[_[ обст-во]]
+M6CTO
-опред
-специф
-вопрос
саг
+су1Д-ное
+ИСЧИСЛ
+конкр
-одуш
+нариц
+средство
передви-
-жения87
-(■приводимое
в движение
мотором87
»' Набор семантических признаков каждой лексической единицы для упрощения изложения изображен в виде пучка; о»
иако очевидно, что такой ad hoc-овый признак, как 'средство передвижения', представляет собой в действительности
сокращение некоторой конфигурации. (Ср, выше, си. 40с) [В 3-ей колонке справа [сущ-ное] читать [+cyin-HoeJ.— Прим. ред.]
ной цепочке (где [[G11 может быть пустым и где
[ца] — набор семантических признаков) и Л[ца1
подчиняет Q[[G1] [jxx], то [[G]] [j.i2] заменяется на
[|i,l [Ml [|i,].
Правило перераспределения (95) превращает (96 i) в
(96 И) [см. с. 150]. Выше пунктирной линии изображены
признаки, возникшие в результате работы Правила
перераспределения; признаки, извлеченные из словаря,
располагаются ниже пунктирной линии.
(б) Семантические признаки, подлежащие обработке
с помощью правил согласования, удваиваются у
соответствующих формативов. Согласовательные признаки и
согласовательные пути для каждого языка задаются
специальным списком (не представленным в данной работе),
прилагаемым к общему Правилу согласования, которое может
быть сформулировано следующим образом:
(97) Если А [ц] — лексическая единица в терминальной
цепочке (где \i — набор семантических признаков,
один из которых р,,), а О — пустой фиктивный
символ, подчиненный символу синтаксического класса
/С; и если ^ — элемент из набора согласовательных
признаков данного языка, а А ... К —
путь в НС-структуре, ведущий от А[|а] к К,
который входит в набор согласовательных путей
данного языка, то © заменяется на [щ]:
Например, в наборе согласовательных признаков
английского языка содержится признак [+множ]; пусть
VblNo — символ класса, подчиняющий фиктивный
символ О, а путь «число именная группа
предложение глагольная группа
вспомогательный глагол VblNo» принадлежит к множеству
согласовательных путей. Тогда Правило согласования (97)
превратит (98 i) в (98 И). Соответствующее правило в
морфологическом компоненте обеспечит графическую
реализацию структуры типа (99) в виде окончания -s [см. с. 152].
Конечно, согласование могло бы осуществляться
иначе — соответствующими правилами в трансформационном
компоненте грамматики. Мы, однако, считаем
предпочтительным возложить выполнение этой задачи на
семантическую обработку, поскольку, хотя согласование во многом
автоматично, оно все же требует обращения к семантическим
149
(96) (|) Именная группа [+исчисл]
детерм
this 'этот*
[[детерм]]
+опред
+указ
+близость
сущ-ное[+сущ-ное]
П'
boy 'мальчик'
+су1Д-ное
+ИСЧИСЛ
+конкр
+одуш
+человек
+мужскойпоп
взрослый _|
L
'нулевая морфа'
[[число]]
[-множ]
Ю
Именная группа [+исчисл]
детерм
this этот'
[+исчисл]
[ [детерм] ]_
+опред
+указ
+близость
сущ-ное +сущ-ное]-
boy 'мальчик'
+сущ-Ное
+ИСЧИСЛ •
+сущ-ное
+ИСЧИСЛ
+конКр
+одуШ
+челоеек
+мужской пол
-взрослый
•число
'нулевая морфа'
[+ИСЧИСЛ]
[[.число]]
[-множ]
150
признакам, а оперирование этими признаками должно
происходить именно во время семантической обработки. В этой
связи интересно отметить, что в языке, в котором
существует словоизменение как по семантически наполненным
грамматическим категориям (например, род и падеж), так
и по произвольным морфонологическим категориям
(например, тематическое и атематическое склонения),
по-видимому, в согласовании участвуют категории только первого
типа.
(в) Переходящие признаки лексем переносятся в пучки
собственных признаков других лексем. Пути перехода
(переходящих признаков) должны быть заданы особым
списком, прилагаемым к Правилу переноса, которое
формулируется следующим образом:
(100) Если A [\i<y>] и Ki\i'] — лексические единицы
в терминальной цепочке (где (ы и ц' — наборы
собственных семантических признаков, a v —
переходящий признак) и путь«Л ... /<С»—
элемент множества путей перехода, тогда [|ы<л>;>]
заменяется на [ц], a \\i'] — на l\x'v].
Пусть глагол drive 'управлять (машиной)' имеет
переходящий признак [...<-т-передвигается по суше>], а путь
«глагол глагольная группа именная
группа сущ-ое» — один из путей перехода, указанных в
описании английского языка. Тогда Правило переноса (100)
превратит (101 i) в (101 п) [с. 153].
В таком словосочетании, как drink carrots 'пить
морковь', признак <+жидкость> в результате применения
правила (100) переходит от глагола к существительному-
дополнению; в (26 И) признак <+одуш>- переходит к
существительному table 'стол'; в (26 iii) тот же самый признак
переходит от глагола к существительному-подлежащему;
аналогичным образом в (26 i) на подлежащее переходит
признак <+множ> (или <—исчисл>).
(г) Во всякой идиоматичной лексической единице
семантические признаки морфем-компонентов элиминируются.
В результате этого структура типа (91) преобразуется в (89).
(д) Все семантические признаки лексических единиц,
образующих конструкцию с соединением, вступают в
соединения — с учетом конкретных ограничений и модализаций,
связанных с соответствующими составляющими
предложениями. Аналогичным образом все признаки, подлежащие
151
(98)
(I)
число
'нулевая морфа'
[+ИСЧИСЛ]
([число]]
[-множ]
вспом глагол
VbINo Чч4
i
NP...
-я
ЧИСЛО
Т*
'нулевая морфа'
[+ИСЧИСЛ'
[[число]]
[-мидий
{89)
вспом глагол
Л
вспом глагол
Vb
No
[-множ]'
VfaNo
[-множ]
время
1
'наст'
[[время]]
[+наст]
вставлению, вставляются в соответствующие ячейки. Конст
рукции с соединением и конструкции с вставлением, а также
область действия каждого ограничителя и модализатора
152
(101)
(I) главный глагол
глагольная группа
глагол [+глагол] NPf+исчисл]
т
сущ-ное[+исчисл1
drive
'управлять
машиной'
+глагол
....
+глагол
«каузация
-покой
<+передвигать-
ся посуше)
саг'и
+ИСЧИ
ашина'
ел
+сущ-ное
+сущ-нов
+ИСЧИСЛ
-одуш
+перед!
по суп
зигаться
00 главныйглагол
глагольная группа
NPt+исчисл]
глагол[+глагол] сущ-ное[+сущ-ное]
drive
'управлять
машиной'
+глагол
+глагол
каузация
-покой
саг 'машина'
+ИСЧИСЛ
+сущ-ное'
+передвигаться
по суше
4«ущ-ное
+иечисл
-одуш
+передвигаться
по суше
(102)
(I)
NP
А
V NP
boy drive car
W (с, il-* ni i*.D
НО
NP
I I
boy drive* car
(a,b) (c,d*e,f,eJ
(ill) I
boy+Me+car
(e,b,c,d-*e,f,a)
153
(для каждого языка) задаются списком. (Такого рода списки
могут включаться в базовый компонент, например, для
конструкции с соединением может применяться символ
«-<—|—>-», а для конструкции с вставлением — символ «Н—*-»
и т. д.) Например, если NP-<—|—>-VP — конструкция с
соединением, a VH—>-NP — конструкция с вставлением, то
Правило соединения — вставления можно применить к
структуре (102 i) при условии, что оно работает рекурсивно
снизу вверх. Таким образом, оно преобразует (102 i) в
(102 и), а последнее — в (102 iii) — см. с. 153.
Однако, если существительное boy ограничивается каким-
либо детерминативом (например, this boy 'этот мальчик'
=тот мальчик, на котором сосредоточено внимание
собеседников) и если VP ограничено определенным временем
(например, прошедшее время + drive + car), то общее
значение предложения приходится представлять в виде далее
не преобразуемого выражения (103):
(103) б (а, Ь) С (с, dr+e, f, g).
Здесь уместно обратиться к вопросу о тавтологических
и противоречивых признаках. Пусть [+ F] \— F] —
семантические признаки, являющиеся противоположными
членами некоторого семантического противопоставления.
Тогда, если [+F] встречается более чем один раз в
пределах некоторого пучка признаков, мы называем вхождения
[+Л тавтологическими относительно друг друга (то же
касается вхождений [—F]). Если признаки [+F] [—F]
встречаются оба в одном и том же пучке, мы называем их
противоречивыми (относительно друг друга). Можно
потребовать, чтобы в словарь не входили лексемы с
тавтологическими или с избыточными признаками. Однако ничто
не мешает образованию тавтологий или противоречий в
результате работы Вычислителя, а именно в результате
применения Правила перераспределения (95) и Правила
переноса (100). При рассмотрении Лексического правила мы
намеренно не накладывали никаких ограничений на выбор
лексических единиц только «подходящих» классов. Теперь
же нам следует восполнить пробел в нашей теории и
перейти к рассмотрению тавтологий (е) и случаев
избыточности (ж).
Работу Правила соединения — вставления уместно
разделить на два этапа. На первом этапе — (д 1) —
собираются вместе признаки, подлежащие соединению. Здесь к ним
154
применяется Правило слияния (е), которое устраняет
тавтологии, и Правило истолкования (ж), которое устраняет
противоречия. На втором этапе — (д 2) — работы Правила
соединения — вставления осуществляется собственно
соединение всех собранных признаков.
Введем теперь, вслед за Хомским (Chomsky, 1965,
р. 111), Правило избыточности с целью эксплицитной
констатации таких фактов, как, например, то, что всякое
существительное не является также и глаголом, и т. д.
(104) Если Fit F2, ..., Fn — набор семантических
признаков, определяющих открытые классы
лексических единиц, a Gb G2, ..., Gm — набор
синтаксических маркеров (определяющих замкнутые классы
лексических единиц), то наличие у лексической
единицы признака [+Z7,-] имплицирует наличие
у нее признака [—Ff\ при \Ф\, а наличие
маркера Gk имплицирует наличие I—F{] для всякого
l<i<n.
(е) Теперь может быть сформулировано довольно
простое Правило слияния:
(105) Если <xFi, aF , aFn — пучок семантических
признаков (где а= + или —)
и если aF—aFj, то а/7, элиминируется.
Правило слияния преобразует (106 i) в (106 и) [с. 156].
(ж) Обратимся теперь к Правилу устранения
противоречий. Пусть некоторая терминальная цепочка,
подвергающаяся семантической обработке, содержит фрагменты (107i)
и (107 п). В результате работы Правила перераспределения
формативы в (107 i — ii) будут преобразованы в (108 i — И)
соответственно. Теперь видно, что эти формативы содержат
противоречивые признаки: [-f-глагол] и [—глагол] в (108 i),
[+сущ-ое1 и [—сущ-ое] в (108 ii). Противоречие такого же
рода возникает, например, в тех случаях, когда
существительное с признаком [—время] подчиняется узлу
«обстоятельство» с признаком [4-время], как в since the bomb
'с тех пор, как бомба', a grief ago 'одно горе тому назад'.
Противоречивые признаки могут появиться в формативах
также в результате применения Правила переноса (100),
которое может преобразовать (109 i) в (109 ii) [с. 158].
(На схемах (109) представлена часть предложения A red
house occured twice 'Красный дом случился дважды'.)
155
Имея на входе выражения, содержащие формативы
в противоречивыми признаками, Вычислитель образует
новую семантическую сущность с более сложной структурой,
в которой решающую роль для семантической интерпретации
играет переходящий признак; однако противоречащий ему
собственный признак также может быть учтен. Рассмотрим
примеры (110—113).
(106) 0) ear 'машина' (Я) ear
+ИСЧИСЛ
+оущ-нов
V
+СУЩ-НО*
+ИСЧИСЛ
-адуш
*
•
Ffl
(ПО) Scientists study the if. 'Ученые изучают «если».'
В (110) узел □, подчиненный узлу «существительное»,
заполняется лексемой замкнутого класса — союзом if.
Результатом интерпретации является семантическая сущность,
образованная ad hoc (то есть не содержащаяся в словаре)
и имеющая значение 'союз if. Мы можем назвать эту
операцию Правилом упоминания.
При указанных условиях лексема с признаком [—сущ-ое]
может быть истолкована как [-f-сущ-ое], сохраняя свои
собственные семантические признаки, в частности признак
[+условие]. Окказионально созданное существительное if
функционирует теперь как синоним существительного,
содержащегося в словаре и обладающего теми же
признаками (например, самого существительного condition
'условие').
(Ill) He trues the rumor, (букв.) 'Он истиннит слух.'
Здесь лексема, обладающая признаками [+прил-ое,
—глагол...], заполняет узел □> который подчиняется узлу
с признаком [+глагол, —прил-ое]. В результате из при-
156
(107)
(108)
глагольная группа
truth 'истина'
+сущ-нов
-глагол
+ИСЧИСЛ
-конкр
0) truth
+глагол
+сущ-ное'
•глагол •••
+ИСЧИСЛ
-конкр
NPf+исчисл]
сущ-нов [+сущ-ное]
А
I
If 'если'
Ц союз ]]
'-сущ-нов
♦условие
•каузация
-время
01)
+ИСЧИСЛ
+сущ-иов
Д сою» ]]_
-сувдиов
+УОЛОВИ*
-каузация
-время
лагательного со значением 'Х-овый' получается новый
переходный глагол, значение которого приблизительно
формулируется как 'каузировать (NP) быть Х-овым', в данном
случае—как 'каузировать (NP) быть истинным'.
(112) She was amply groomed.
(букв.) 'Она была обильно оженихована.'
157
(109) (i)
главный глагол
УК
главный глагс/л
+сущ-ное
+ИСЧИСЛ
-одуш
-время
occur
случаться'
+глагол
+прекра-
<+время>
сущ-нов.
house
'дом'
+время
+сущ-ное
+ИСЧИСЛ
-одуш
■время
. occur
'случаться-'
+ глагол
+прекр»ще-
ние
J
В этом примере на лексему groom 'жених' с собственными
признаками [+сущ-ое, —глагол, +одуш, +мужской пол]
переходят признаки [-f-глагол, —сущ-ое] (из подчиняющего
узла). В результате из существительного со значением 'X'
возникает новая семантическая сущность, означающая
приблизительно 'каузировать (некоторую NP) иметь X', так
что в данном случае, то есть в (112), сказуемое означает:
•быть обеспеченной женихами'. Конверсия
существительного в глагол может иметь в английском языке различные
168
семантические эффекты, для учета которых необходимо
располагать несколькими параллельными Правилами
истолкования, применимыми в одинаковых условиях.
(113) A red house occured twice.
'Красный дом случился дважды.'
Здесь на лексему с собственным признаком [—время]
переходит признак [+время]. В результате слово house 'дом'
интерпретируется как компонент некоторого события,
например как 'восприятие дома'.
В дальнейшем будет показано, что некоторые способы
истолкования сущностей с противоречивыми признаками
могут быть заранее фиксированы в языке. Примеры (ПО)
и (112) иллюстрируют два таких способа, являющихся
регулярными для английского языка; другие способы
приводят к образованию более смелых неологизмов. Меру
отклонения от нормы мы будем обозначать символом DEV,
а именно: мы введем обозначение DEV 1 — для выражений,
незначительно отклоняющихся от грамматической
правильности, DEV 2 — для выражений, отклоняющихся от
грамматической правильности более существенно, и DEV 3 —
для наиболее значительных отклонений. Теперь можно
ввести такое Правило истолкования, которое превратит
(114i) в (114Н):
(44) 0) роот 'жених' (П) */оо/п"'обеспечивать
женихами'
+ глагол
■йущ-нов,
+ИСЧИСЛ
+одуш
а
ш
■ш
h
—
-глагол»
—
+глагол ~
+каузация
(некоторая NP)
+обладание -
Т
+сущ-ное,-глагол
+ИСЧИСЛ
+одущ ■
Ь
150
Заполнение узла с признаком [+глагол! формативом с
признаком Ц-сущ-ое] приводит в результате работы Правила
истолкования к образованию новой сущности —
конфигурации, в которой один из входящих в нее пучков признаков
включает собственный признак [+сущ-ое]. «Понижение
степени грамматической правильности», возникающее в
результате применения этого правила, оценивается в (114 п)
показателем DEV 1; иными словами, применение этого
правила дает не слишком значительное отклонение от
грамматической нормы.
Для каждой пары противоречивых признаков должно
быть сформулировано отдельное подправило Правила
истолкования; должна быть также указана степень понижения
грамматической правильности для каждого такого
подправила (то есть цифровой индекс при показателе DEV).
Отметим, что некоторые подправила Правила
истолкования широко используются в определенных литературных
традициях в качестве шаблонных риторических приемов
и имеют соответствующие названия. Например, такой
литературоведческий термин, как «персонификация»,
отражает правило, которое создает новую сущность на
основе объединения противоречивых признаков [+одуш] и
[—одуш]. Трактовка машин (кораблей, самолетов, ЭВМ)
как существ женского пола и соответственно употребление
применительно к ним местоимения she 'она', широко рас-
пространное в английском языке (особенно — в мужской
речи), также представляет собой частный случай
применения Правила истолкования. Образование новых
семантических сущностей на основе конфликта
транспонированного признака [+исчисл] и собственного признака [—ис-
числ] (см. § 3.42) весьма обычно в речи людей, привыкших
по профессии обращаться с многими видами материалов,
обозначаемыми существительными с собственным
признаком [—исчисл] "'.
87 «Разложение идиом» — еще один используемый языком
процесс, свойственный неформальной речи,— состоит в отказе от Правила
подавления, приведенного выше в пункте (г). Этот отказ
сопровождается, по-видимому, очень большим значением показателя DEV.
Другие типы метафорического употребления слов невозможно
сформулировать до тех пор, пока наша теория не будет в состоянии более полно
описать явление специализации значения под влиянием контекста.
Семантические эффекты, достигаемые применением Правила
истолкования, рассматривались (возможно, несколько менее формально) в
работе Mcintosh, 1961, под названием «тенденции расширения сферы
160
Мы достаточно произвольно ввели три значения
показателя DEV: DEV 1, DEV 2 и DEV 3. Тогда случаям
нормального языкового употребления естественно приписывать
DEV 0. То подправило Правила истолкования с
показателем аномальности DEV 0, в соответствии с которым
лексическая единица X [\i] преобразуется в лексическую единицу
X [цЛ, соответствует наличию в словаре единиц-омофонов
X [\i] и X [ц']. В примере (114) мы рассмотрели то
подправило Правила истолкования, которое образует переходные
глаголы от существительных. Это подправило можно
применить к лексеме groom 'жених' со степенью аномальности
DEV 1. Можно сказать, что оно применимо к
существительным типа people 'люди' или dot 'точка' со степенью
аномальности DEV 0; эта формулировка отразит наличие в
словаре глаголов to people 'населять' и to dot 'ставить точку
на чем-л.', значения которых совпадают со значениями,
подсказываемыми соответствующими подправилами
Правила истолкования, Диахроническое закрепление в словаре
форм, образованных в результате полупродуктивных
словообразовательных процессов, соответствует снижению
значения показателя DEV (для данного новообразования) до 0.
Применение некоторых подправил Правила
истолкования сопровождается определенными морфонологическими
процессами; например, превращение прилагательного в
переходный глагол в английском языке оформляется
присоединением суффикса -en (whiten 'делать белым', gladden
'делать довольным'); в некоторых случаях превращение
существительных в глаголы оформляется суффиксом -ize
(atomize 'разделять на атомы, распылять, дробить');
превращение прилагательных в существительные оформляется
дополнительно распределенными суффиксами -ness, -ity
и т. д. Пусть А — лексическая единица, a R — некоторое
подправило Правила истолкования; тогда грамматика долж-
действия» (range-extending tendencies). Мы не предложили еще никаких
средств для разрешения противоречия объединенных в пучок
признаков, каждый из которых является собственным, как в (27 i); если
соображения Макинтоша верны, перед нами встанет задача объяснения
того, почему при интерпретации таких словосочетаний, как hammering
weekend букв, 'бьющий молотом уик-энд* и steel postage-stamp букв,
'стальная почтовая марка', в первом случае сохраняется без изменений
значение определяемого, а во втором — значение определения. Как
указал мне Э. Г. Бендикс, возможно, следует различать «серьезную»,
буквальную интерпретацию значений н метафорическую интерпретацию
по формуле «как будто».
6 № 1234
161
на определять как морфонологические операции (если они
действуют в данном случае), так и степень аномальности
(значение показателя DEV), связанные с применением JR
к А. Малые значения показателя DEV соответствуют
высокой степени продуктивности соответствующего правила 8в.
Необходимость определить многочисленные детали
семантического представления для терминальной цепочки до
указания морфонологических изменений, сопровождающих
переход слова из одного класса в другой, является еще
одним доводом в пользу помещения Вычислителя до морфоно-
логического компонента в грамматике языка L,
изображенной на схеме (77) [см. с. 133].
3.52. Устройство семантического контроля
Задача Устройства семантического контроля состоит
в первую очередь в вычислении количественной меры
отклонения предложений от нормы. Для этого можно,
например, вычислять показатель p/q, где р — число показателей
DEV, порожденных в результате применения Правила
истолкования к данному предложению, a q — сумма
числовых значений всех показателей DEV. Таким образом,
предложение, получившее оценку 0/0, будет совершенно
нормальным. При желании можно пытаться выработать более
тонкие способы оценки; с другой стороны, может оказаться
полезным передать показатели DEV — вместе с указанием
тех подправил Правила истолкования, в результате приме-
88 Если данное подправило R Правила истолкования связано а
двумя альтернативными морфонологическими операциями Mj и Ма,
то применению Mj к некоторой А может соответствовать большее
значение DEV, чем применению М2. Например, суффиксы -ness и -th оба
могут присоединяться к прилагательному warm 'теплый', когда оно
заполняет узел □, подчиненный существительному; однако warmness
'теплота' получит более высокое значение показателя DEV, чем warmth
'тепло'. Третьей возможной морфоиологической операции —
присоединению нулевой морфы (the cold of his gaze 'холод его взгляда', the warm
of his smile 'тепло его улыбки'), очевидно, соответствует еще большее
значение показателя DEV. О степенях продуктивности см. Z i m m e г,
1964. Образование производных слов, рассматриваемое Катцем и
Посталом (Katz — Postal, 1963) в аспекте их идиоматичности,
тоже может быть описано в виде системы синтаксических правил,
которым соответствуют высокие значения показателя DEV. (В фонологии
«исключения» также могут оцениваться аналогичным образом —
числом и значимостью не примененных в данном случае правил.)
162
нения которых они возникли,— на вход стилистики в смысле
Риффатерра (Riffaterre, 1964; там же см. литературу).
На нынешнем раннем этапе развития этой теории нет
никаких критериев выработки таких формул, которые лучше
всего отразят наши интуитивные представления об
аномальности.
Важной особенностью нашего подхода является то, что
предлагаемая количественная оценка того или иного
выражения представляет собой всего лишь последний этап в
определении степени его отклонения от нормы.
Качественный же х а р а к т е р его отклонения от нормы был
уже определен в результате работы тех подправил Правила
истолкования, применение которых к выражению было
обязательным; в то же время эти подправила обеспечивают
семантическую интерпретацию для отклоняющихся от
нормы, или, иначе, аномальных, предложений, так же как и
для нормальных предложений.
Хорошо известно, что отклонение от нормы допускается
в различной степени — в зависимости от ситуации, цели
общения и фантазии говорящего и слушающего. При
использовании языка в поэтических целях допустима повышенная
степень отклонения от нормы: в некоторых литературных
жанрах подобная аномальность может быть даже
обязательным требованием (с тем, чтобы речь не звучала
банально). В модернистской поэзии, например в стихах Э. Э. Кам-
мингса (е. е. cummings *), степень отклонения бывает
настолько высока, что смысл полностью искажается, и лишь
редкий читатель оказывается достаточно умен и вынослив,
чтобы изощрить воображение до такой степени, какая
требуется для столь интенсивного применения Правила
истолкования.
Можно считать, что каждый тип общения (диалог, чтение
литературных произведений, речь того или иного стиля
и т. п.) управляется «настройкой» Устройства
семантического контроля на определенный диапазон значений
показателя plq. Разработка подобной «настройки» входит в
задачи стилистики. Если для некоторого предложения
максимально допустимое значение показателя plq превышено,
оно получает помету «бессмыслица»; в противном случае
оно получает семантическую интерпретацию, которая увя-
* Американский поэт, который всегда пишет свою фамилию и
инициалы, ие используя прописных букв.— Прим. ред.
163
зывается с фонетическим представлением предложения.
Например, Устройство семантического контроля может быть
настроено на такое значение показателя аномальности, при
котором (26П) получает некоторую интерпретацию, a (26vi),
(26i) или (25i — iii) отвергаются как бессмысленные. С точки
зрения предлагаемой нами теории выражения типа (24)
бессмысленны при любой настройке Устройства
семантического контроля; иными словами, подобные выражения
могут получить интерпретацию только при условии, что
с ними удается соотнести какие-либо другие конкретные
предложения, имеющие ту же морфонологическую
оболочку. Иначе обстоит дело с предложениями (25) — (27).
При более тонком подходе можно обеспечить
возможность оценки отдельных составляющих предложения. Можно
фиксировать определенное значение показателя DEV
(например, DEV 4), при котором следует блокировать
семантическую интерпретацию какой-либо части
предложения (например, всех компонентов предложения,
подчиненных узлу, который подчиняет также и составляющую с
показателем DEV 4). На выходе Вычислителя будет тогда
выдаваться не интерпретация предложения, а схема
интерпретации, в которой некоторая часть предложения
останется без интерпретации. Это позволит нам
теоретически объяснять частичное понимание предложений, в
которых используется незнакомая слушателю лексика —
например, каламбуры или фразы типа «глокой куздры».
Хомский (Chomsky, 1965, р. 137—138)
рассматривает возможность появления на выходе базового компонента
грамматики таких глубинных структур, которые
невозможно реализовать никаким конкретным предложением
вследствие неприменимости некоторого трансформационно-мор-
фонологического правила. Например, на место S в
терминальной цепочке the man # S # nodded 'человек # S #
кивнул' мы можем подставить предложение The man came
'Человек пришел' с целью получить сложное предложение
The man who came nodded 'Человек, который пришел,
кивнул'. Но если на место S подставляется, например, The
Tady came 'Дама пришла', то из терминальной цепочки (116)
(116) The man # the lady came # nodded
'Человек # Дама пришла # кивнул'
предложения не получится, поскольку в данном случае
трансформация релятивизации к определительному прида-
164
точному предложению неприменима ввиду отсутствия
соответствующих контекстных условий.
Общая теория лингвистических описаний, вероятно,
могла бы быть расширена так, чтобы показать сходство
между блокированием только что рассмотренного типа и
блокированием, связанным с такими значениями
показателя DEV, которые превосходят некоторую заданную
величину. Невыполнение условий, необходимых для
применения той или иной трансформации, можно сравнить с
выполнением условий для такого подправила Правила
истолкования, на выходе которого имеются показатели DEV со
значениями, превосходящими максимальное значение,
допускаемое Устройством семантического контроля. Если это
Устройство настроено на очень низкую величину, то
предложения (26) будут отвергнуты (как бессмысленные),
подобно цепочке (115).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
4.1. Синтаксис и семантика
Практика семантических исследований обнаруживает
бесплодность рассуждений по поводу изолированных
фактов; для прогресса в области теоретической семантики
необходимо изучение систем взаимосвязанных единиц.
Интересно, что некоторые младограмматики, которые
придерживались сугубо атомистических взглядов в области
фонологии, переходили на подлинно структуралистские
позиции там, где дело касалось синхронных семантических
явлений: ср. например, О s t h о f f, 1900. В работах по
компонентному анализу и семантическим полям8а был
впервые выдвинут ряд содержательных проблем,
рассмотрены интересные семантические факты и предложены
решения некоторых проблем. Но даже системная семантика
обречена на изоляцию в лингвистике — до тех пор, пока
в ее компетенцию будет входить изучение только
парадигматических отношений. Несомненно, важно понимать,
каким образом значение слова в некотором словаре связано
89 О компонентном анализе см. С о n k 1 i п, 1962; Wallace —
Atkins, 1960; литературу см. в Burling, 1964. Лучшие обзоры
литературы по семантическим полям сделаны в работах А. И.
Кузнецовой (1963) и А. А. Уфимцевой (1962).
165
со значениями других слов в том же словаре; тем не менее
нужно уметь объяснять и то, каким образом значение
предложения складывается из значений отдельных слов.
В теории КФ предпринята попытка предложить
подобное объяснение на базе совместного рассмотрения
семантики и синтаксиса в достаточно последовательных и строгих
терминах. Мы, однако, считаем (и попытались показать
это в данной работе), что Катцу и Фодору не удалось
выполнить то, что они намеревались сделать; более того, они
с самого начала ставили перед собой гораздо более узкие
задачи, чем задачи, входящие в компетенцию
семантической теории, разрабатываемой в рамках порождающей
модели языка.
Одним из источников затруднений для теории КФ было,
вероятно, их предположение о том, что семантика
начинается там, где кончается синтаксис. При намеченном
в данной работе альтернативном подходе мы вовсе не
пытались жестко разграничивать сферы синтаксиса и
семантики; наоборот, мы старались показать, что синтаксис и
семантика взаимно проникают друг в друга, так сказать,
на большую глубину. Разумеется, исходные понятия
семантической и синтаксической теорий различны;
(синтаксическое) правило подстановки формально отличается
от операций над семантическими признаками (подобных
тем, которые описываются правилами в § 3.51).. Принимая
ту точку зрения, согласно которой трансформации не
изменяют смысла предложений, мы признаем также
существование синтаксических структур как объектов особого
рода. Однако наша теория допускает применение
синтаксических и семантических правил вперемежку, так что,
в частности, семантические символы могут появляться
в выводе до применения последнего синтаксического
правила.
При этом наш тезис о взаимосвязи и
взаимопроникновении синтаксиса и семантики трактуется здесь не как
компромисс между конкурирующими точками зрения, а как
адекватное отражение реальных фактов языка. Можно
показать, что любое жесткое разграничение синтаксиса
и семантики приводит к нежелательным последствиям
независимо от того, что выдвигается на первый, план,
В логике отношения между символами внутри «языка-
объекта» считаются синтаксическими, тогда как отношения
между символами и определенными сущностями, лежащими
166
за пределами «языка-объекта», принадлежат к сфере
семантики. Для искусственных языков эта дихотомия вполне
оправданна и представляется довольно удобной; однако
в естественных языках совокупность семантических
отношений включает также и отношения между самими
символами, а именно отношения между толкуемой единицей и
компонентами ее толкования; более того, компоненты
толкования, так же как его синтаксическая структура,
представляют собой единицы самого «языка-объекта», а не
какого-то специального метаязыка. Следовательно,
указанная логическая дихотомия — синтаксис vs. семантика —
к естественным языкам не применима. Однако в
большинстве работ по порождающей грамматике эта
дихотомия слепо переносится в область лингвистики, причем
утверждается, что семантика начинается только там, где
кончается синтаксис; таким образом, к синтаксису
предъявляются слишком большие требования. Даже если бы
удалось исчерпывающе и однозначно разделить единицы языка
на нетерминальные и терминальные (так, чтобы
нетерминальные символы принадлежали грамматике, а
терминальные — «лексикону»), то и тогда не было бы
оснований полагать, что лишь терминальные символы
релевантны для семантики 90. Подобная точка зрения приводит
к бесконечным и бессодержательным спорам о границе
между грамматическими и семантическими
аномальностями. Хотя порождающая грамматика и утверждает, что
сферы синтаксиса и семантики можно разделить, она так
и не сумела установить отчетливую границу между этими
областями. Между тем предложенная КФ семантическая
теория, внешне как будто увязанная с порождающим
синтаксисом, но по существу, как мы видели, асинтакси-
ческая, практически не дала ничего нового для объяснения
семантической компетенции носителей языка.
Имеется и прямо противоположное мнение — будто
в синтаксисе все является семантически релевантным.
Как оказывается, это заблуждение было свойственно еще
средневековым грамматистам, которые механически
постулировали общее значение (consignificatio или
modus significant) для каждой грамматической кате-
80 Одна из уступок семантике в рамках порождающего синтаксиса
заключается, вероятно, в использовании «грамматических формативов»
типа «прошедшее время», «множественность» и т. д. Но и эти последние
появляются лишь в последней строке претерминальной цепочки.
167
гории, включая даже такие разнородные в семантическом
отношении категории, как родительный падеж в латинском
языке.
Латинский родительный имеет много разных значений,
характеризуя, в частности, прямое дополнение при личных
формах некоторых глаголов, трансформы прямого
дополнения и подлежащего при отглагольных существительных
(genitivus objectivus/subjectivus), а также существительные
в ряде других синтаксических функций. Утверждать
существование инвариантного значения «генитивности» для
такого падежа равносильно, по-моему, полному
выхолащиванию какого бы то ни было содержания из понятия
инвариантного значения грамматической категории.
В современной лингвистике, по-видимому, наиболее ярким
приверженцем подобного подхода является Роман
Якобсон. В его попытках выявить «Grundbedeutung» (основное
значение) каждого русского падежа (J a k о b s о п, 1936)
или найти объяснение того, почему английский глагол
при отрицании требует «эмфатического» вспомогательного
глагола do (J a k о b s о п, 1959), смешаны не
затрагивающие смысла операции над языковыми структурами
(трансформации и морфонологические правила) с порождающими
смысловое представление правилами грамматической базы.
Если не разграничивать операции этих двух типов, то их
описание не удастся сделать достаточно формальным.
Как же быть с утверждением о приоритете
грамматического анализа по сравнению с семантическим? и
Перспектива оценки альтернативных синтаксических описаний
какого-либо языка без обращения к семантике
представляется сегодня менее реальной и, несомненно, менее
привлекательной, чем в 1957 году. Но если отступление
от этой перспективы должно привести к тезису «Нет
синтаксиса без семантики», то, быть может, осознание того,
что не может быть и семантики без синтаксиса,
компенсирует те уступки, на которые окажется необходимым пойти
приверженцам теории порождающих грамматик.
Практически это означает, что в будущем формулировка тех или
иных семантических утверждений должна подтверждаться
81 Говоря о подобном приоритете в своей более ранней работе
(W е i п г е i с п, 1963а, р. 116 и ел.), я имел в виду приоритет в
смысле логической иерархии, а отнюдь ие в смысле последовательности
процедур обнаружения, то есть не в смысле очередности
исследовательских шагов.
№
особенностями поведения слов в контексте и что объектами
семантического анализа должны стать не просто цепочки
формативов типа (116):
(116) These boys found a car somewhere.
'Эти мальчики нашли где-то машину/,
но полные глубинные структуры типа объединения (75)
и (94) независимо от их правильности или однозначности.
И главное, принятие тезиса «Нет синтаксиса без семантики»
само по себе вовсе не означает отказа от порождающего
подхода в лингвистике. Наоборот, работы последнего
десятилетия в области синтаксиса содержат эксплицитные
описания различных языковых механизмов, которые до
этого не были выявлены; можно с достаточными
основаниями надеяться, что порождающий подход к семантике
приведет к не менее значительным достижениям в
лексикологии и грамматике, чем достижения в трансформационном
синтаксисе.
4.2. Аномальные высказывания
Классификация и анализ аномальных высказываний —
лучший способ определения того, каким образом языковые
явления распределяются между синтаксисом и
семантикой. Если предложенная нами теория верна, то попытки
разделить аномальные высказывания на аномальные только
в грамматическом отношении и аномальные только в
семантическом отношении следует признать бесплодными "2,
поскольку наиболее интересные случаи языковой
аномальности являются грамматическими и
семантическими одновременно. Столь же бесполезна
попытка характеризовать переход от грамматических
аномалий к семантическим с помощью непрерывной шкалы,
пусть даже количественно градуированной. Гораздо больше
можно ожидать от такого подхода, при котором
отклонения от нормы классифицируются в соответствии с тем
правилом, которое нарушается при порождении
отклонений. (Предпринимая такую классификацию, мы должны
в качестве ее объектов рассматривать отдельные нарушения
92 Это показано в работах Putnam, 1961; Chomsky, 1961
(со ссылками); Z i f f, 1964.
J 69
отдельных правил, но не предложения, так как
предложение может содержать несколько аномальностей совершенно
разного типа.) Мы можем предложить следующую
классификацию нарушений правил:
(а) Нарушения трансформационных и морфонологических
правил дают «чисто» грамматические аномальности типа
(24 i — Hi); слушающий легко исправляет аномальное
предложение, и притом единственным образом (например,
Не goes home 'Он идет домой' или Не went home 'Он пошел
домой' для (24 iii)).
(б) Нарушение правил Вычислителя дает «чисто»
семантические аномальности, которые имеют место в таких
предложениях, которые задуманы говорящим или
интерпретированы слушающим таким образом, что при этом
нарушается какое-либо из правил Вычислителя или
игнорируются семантические признаки какого-либо слова,
записанные в словаре. Рассмотрим, например, предложение
They flew the craft букв. 'Они вели средство
передвижения'. Зная словарные значения входящих в это
предложение слов и его синтаксическую структуру и применяя
Правило переноса (100), мы обнаруживаем, что в данном
предложении под средством передвижения должен
подразумеваться самолет, ракета или что-либо подобное. Если бы
говорящий имел в виду наземное средство передвижения
при произнесении этого предложения или если бы оно было
понято таким образом, возникла бы семантическая
аномальность es. Таким образом, «чисто» семантические
аномальности проявляются не непосредственно в физической
материи высказывания, но в результате сопоставления
последнего с коммуникативным намерением говорящего или
интерпретацией слушающего.
(в) Поскольку в правилах категориального компонента
грамматики используются семантические признаки либо
непосредственно, то есть в правилах базы, либо косвенно —
в ходе работы Вычислителя, каждое нарушение правила
категориального компонента является одновременно
грамматическим и семантическим,
Отклонения этого типа и являются наиболее интересными,
93 Любые аналитически ложные предложения, например (23),
(27 ii, iv), или высказывание, приведенное иа с. 134 (То vote is to fail
in one's civic duty 'Голосовать — это нарушать свой гражданский
долг'), могут быть охарактеризованы как случаи семантической
аномальности.
т
поскольку реакцией слушающего на каждое такое
отклонение является построение некоторой интерпретации. Лишь
эти отклонения воспринимаются и интерпретируются всеми
носителями языка, поэтому именно они, и только они,
играют заметную роль в разумном общении.
4.3. Итоги и перспективы
Главная цель настоящей статьи состоит в развитии
начатого в более ранней работе (см. W e i n г е i с h, 1963a)
исследования семантической структуры сложных языковых
высказываний вплоть до предложения. Наша общая
стратегия сводится к тому, чтобы по возможности
рассматривать смысл предложения как нечто однородное, не упуская
из виду, однако, его структурную организацию, и тем
самым избежать ошибок, допускаемых упрощенческими
описаниями. Основной результат нашего исследования
состоит в выяснении того, что семантическое описание
словарных единиц имеет тот же вид, что и семантическое
описание предложений. Из этого в свою очередь следует,
что между словарем и бесконечным множеством
«правильных» предложений существует более глубокая
взаимозависимость, чем принято считать. Современная лингвистика
(которая включает как последователей Блумфилда, так и
приверженцев порождающей грамматики) принимает в
качестве постулата заимствованное из символической логики
положение о том, что «семантические правила»
(правила, работающие со значениями слов) представляют собой
металингвистические утверждения, даже по внешнему виду
отличные от утверждений на языке-объекте. Настоящая
работа может рассматриваться как попытка опровержения
этого необоснованного постулата.
Поэтому в данной статье мы в большей мере, чем
в наших предшествующих работах по семантике, старались
быть на том уровне теоретической строгости и эксплицит-
ности, который достигнут за последние годы в
синтаксических исследованиях. В то же время мы попытались найти
такую классификацию языковых выражений, которая
была бы свободна от узких рамок дихотомии «правильные
выражения/неправильные (аномальные) выражения». В
нашей более ранней работе (W e i n r e i с h, 1963a, р. 117)
семантические аномалии типа enter out 'войти из' получали
171
определенную интерпретацию, однако выражения типа
into out 'в из' отвергались ввиду их грамматической
неправильности. Теория, предлагаемая нами теперь,
учитывает также аномалии и этого последнего типа (ср. ПО).
Новая точка зрения, развиваемая в данной статье,
своим возникновением обязана, помимо всего прочего,
трем следующим стимулам.
Первый стимул — это многочисленные беседы с Б. Гру-
шовским, благодаря которым автор ясно осознал тот факт
(раньше автор высказывал подобные соображения
нерешительно— см. W e i n г е i с h, 1963a, р. 118, 134), что
семантическая теория не имеет права игнорировать
поэтическое использование языка и, более широко, случаи
интерпретируемой аномальности в языке. Термин
«интерпретация» понимается нами теперь в более глубоком, более
содержательном смысле, чем «угадывание» для данного
аномального предложения нормального прототипа.
Несмотря на то что теория КФ прибегает к преобразованиям
языковых структур, она напоминает модель
дистрибутивного типа, поскольку эта теория предполагает, что значение
предложения не содержит ничего, помимо словарных
значений входящих в него слов. (Вспомним, что по КФ
предложение всегда менее многозначно, чем его
компоненты, или по крайней мере столь же многозначно.)
Следовательно, если попытаться видоизменить теорию КФ с целью
обеспечить адекватную трактовку аномалий (а не только
их обнаружение и отсеивание), то потребуется невероятно
раздутый словарь с относительно небольшой «нормальной»
частью и колоссальной «аномальной» частью. Но при этом
все равно останется неотраженным тот факт, что аномалии
могут возникнуть внезапно, непосредственно в речи. В
нашей теории словарь имеет ограниченный объем и содержит
только «нормальные» единицы, но при этом в процессе
вывода предложения допускается образование новых
«несловарных» неоднозначностей и любого числа аномалий.
Вторым стимулом для этой работы было осознание
того, что положение теории информации «обязательность =
неинформативность» использовалось в лингвистике в
значительной мере ошибочно. Обратно пропорциональная
зависимость между избыточностью и информативностью
справедлива только для элементов речевого сигнала, то
есть для поверхностной структуры, Именно применительно
к уровню фонологии указанное положение оказалось
172
весьма плодотворным для лингвистики, именно на уровне
сигналов оно эффективно и в теории информации. Его
вполне целесообразно использовать в дальнейшем при
изучении поверхностных фактов языка (морфонологические
явления, среднее число морф в слове и т. д.). Но если мы
хотим располагать серьезной семантической теорией
естественного языка, необходимо осознать следующее: то,
что теряется в сигнале вследствие избыточности,— это не
смысл сигнала, а лишь его информативность, его
способность независимо идентифицировать тот или иной элемент
глубинной структуры. В глубинных структурах языка нет
сигналов: все единицы глубинных структур представляют
собой смыслы. Тот факт, что некоторые «порции» смысла
(признаки) в глубинной структуре объединены в
устойчивые пучки и используются предсказуемым образом,
нисколько не уменьшает их значимости. Например, признак
[+ мужской пол] предсказывает наличие признака
[+ одуш], то есть слово, обладающее признакам [+
мужской пол], одновременно обозначает одушевленное
существо. Большинство английских предложений содержит
указание на время действия (выраженное временем
глагола); однако эта предсказуемость времени вовсе не лишает
смысла указание на время. Те аспекты реального мира,
которые обозначаются прилагательными, обязательно
обладают признаком «качества», внутренне присущим
прилагательным. В поверхностной структуре такой
предсказуемый элемент не несет никакой информации для
идентификации соответствующих единиц, однако
в глубинной структуре этот признак является полнознач-
ным всякий раз, когда он «встречается» 94.
94 В несколько другой формулировке эта мысль была высказана
Карнапом и Бар-Хиллелом (Сагпар — Ваг-Н illel, 1953).
Предположим, я договорюсь с телефонисткой, чтобы она будила меня
каждый день в 7 часов утра последовательностью коротких и долгих
звонков по схеме ...—...; поскольку, однако, минимально
различающихся телефонных звонков нет, мы можем сказать, что последние
короткие звонки «...» избыточны по отношению к долгим звонкам, так
как сигнал (поверхностная структура) может быть полностью
идентифицирован и без них. Тем не менее сигнал в целом, хотя он и
предсказуем, является вполне полнозначным всякий раз, когда он имеет
место. Вернемся к примерам из естественного языка: исключительно
тонкое исследование грамматического рода, предпринятое А. Мартине
(Martinet, 1962, р. 17—19), показывает, что в таком языке, как
французский, различаются морфонологические признаки рода
«мужской род/женский род», связанные с избыточностью, и семантические
173
Третий стимул, который определил направление
данного исследования,— это демонстрация Н. Хомским тех
теоретических возможностей, которые предоставляет
понятие признака за пределами своих «исходных» сфер:
фонологии и парадигматической семантики. Уже давно была
доказана целесообразность использования семантических
признаков (или «семантических компонентов», или
«условий на денотат») при изучении лексики; однако, хотя
лексические значения уже описывались в виде наборов
признаков, синтаксические значения по-прежнему задавались
только посредством «глобальных» символов синтаксических
классов. Всего лишь несколько лет назад синтаксисты
пытались описывать нарушения сочетаемости в таких
выражениях, как loud circle 'громкий круг', drink carrots
'пить морковь', или в выражениях из (27) посредством
все более и более расчлененных синтаксических
классификаций, хотя это предприятие представлялось в достаточной
степени безнадежным; семантика, резко противостоявшая
синтаксису в строгом смысле термина, была занята в
основном описанием слов в терминах признаков, и
результаты семантического анализа вырисовывались в виде плохо
обозримых и неубедительных классификаций лексики по
разным основаниям 9*. Введя понятия признака в синтак-
признаки пола «мужской пол/женский пол», с избыточностью не
связанные. Слово с семантическим признаком «мужской пол» может иметь
морфонологическии признак «женский род» (например, sentinelle
'часовой'). В английском же языке (в противоположность теории КФ;
см. § 2.22) «род» является семантическим признаком: выбор местоимения
(he/she 'ои/она') определяется семантическими, а не морфонологиче-
скими признаками «замещаемого» существительного. Как указал
Э. Г. Бендикс, намеченная здесь точка зреиия устраняет необходимость
в Правиле слияния (105) или, по крайней мере, делает его лишь
удобным способом сокращения записи.
98 Ю. Д. Апресян, анализируя результаты осуществленной им
семантической классификации русских глаголов на основе их
синтаксических свойств, пришел к выводу (Апресян, 1962, с. 162), что
успех его классификации объясняется, возможно, тем, что глаголы,
выбранные для исследования, обладают особенно сильно
дифференцированными дистрибутивными свойствами; различие между глаголами
со сходным синтаксическим поведением, такими, как, например,
automatize 'автоматизировать' и acclimatize 'акклиматизировать(ся)',
носит, как представляется Апресяну, внеязыковой характер. Однако
теория, не способная отразить семантическое различие между такими
глаголами, по всей видимости, окажется также не в состоянии описать
семантические различия между большинством существительных в
словаре.
174
сие, Н. Хомский устранил указанный разрыв между
семантикой и синтаксисом и тем самым сделал более реальной
перспективу интеграции лексических и грамматических
исследований.
Вероятно, наиболее уязвимым местом предложенной
здесь теории, как и вообще большинства работ, связанных
с распространением теории порождающих грамматик на
семантику, является допущение о пригодности аппарата
бинарных признаков для адекватного описания смысла
всех языковых единиц. Подобное допущение приводит
к следующему затруднению, хорошо известному в
теоретической фонологии: отсутствие как положительного, так и
отрицательного значения некоторого признака часто
приходится трактовать как третье значение этого признака.
Между тем подобного рода затруднения в семантике
гораздо более опасны, чем в фонологии: в семантике число
нужных признаков необычайно велико, и возникает
малопривлекательная перспектива приписывать каждой
морфеме нулевые значения огромного количества
признаков. Кроме того, некоторые смыслы (такие, например, как
смысл слова cat 'кошка') вообще не могут быть естественно
и компактно описаны посредством какого бы то
ни было аппарата признаков, и это также толкает
на поиски других способов решения задач семантики.
Теоретические соображения, выдвинутые в данной
работе, являются предварительными и неокончательными
еще и в Других отношениях. Некоторые типы связи
семантических признаков, описанных в § 3.22, нуждаются в
гораздо более точной и полной характеристике; словарные
толкования также должны формулироваться более строго.
Однако больше всего семантика нуждается в новых
фактических данных, что требует кропотливого исследования
конкретного лексического материала. Много интересных
сведений о связях между синтаксическими свойствами
слов и их семантическими признаками можно найти в
работах московских «структурных лексикологов»: см. А п-
р е с я н, 1962, и некоторые другие работы в ПСЛ, 1962.
Однако под лексикологические исследования требуется
подвести более прочную синтаксическую основу. Недавно
Э. Г. Бендикс исследовал (на материале нескольких
языков) фрагмент базового словаря; его книга (В е n d i х,
1966), возможно, представляет собой лучший образец для
предстоящих исследований, демонстрируя неизведанные,
175
по существу, возможности, которые открываются для
семантики, рассматриваемой как неотъемлемый компонент
порождающей (эксплицитной) лингвистики.
До тех пор пока мы не будем располагать большим
количеством языковых данных, представленных в нужной
форме, построение семантической теории не может быть
завершено. Верно, что формальный анализ синхронных
семантических операций, проведенный в данной работе,
в ряде отношений перегружен деталями и в то же время
кое-где недостаточно продуман. Тем не менее
представляется целесообразным уже сейчас пытаться строить
адекватную семантическую теорию, невзирая на все ее
возможные недостатки, и тем самым преградить дорогу явно
неадекватной теории с ее безосновательными претензиями.
М. Бирвиш
СЕМАНТИКА *
1. ЦЕЛИ СЕМАНТИКИ
Семантический анализ данного языка должен
объяснять, как предложения этого языка понимаются,
интерпретируются и соотносятся с состояниями, процессами и
объектами внешнего мира. Эту общую задачу, которую
можно было бы выразить одним вопросом: «Каково
значение предложения S языка L?» — нельзя решить
непосредственно, она должна быть разбита на ряд более элементарных
вопросов. Ряд таких конкретных вопросов может быть
проиллюстрирован следующими примерами:
(1) His typewriter has bad intentions.
'Его пишущая машинка имеет дурные намерения.'
(2) My unmarried sister is married to a bachelor.
'Моя незамужняя сестра замужем за холостяком,'
(3) John was looking for the glasses.
'Джон искал очки.'
(4) (a) The needle is too short.
'Иголка слишком короткая.'
(b) The needle is not long enough.
'Иголка недостаточно длинная.'
(5) (a) Many of the students were unable to answer your
question.
'Многие студенты не смогли ответить на ваш
вопрос.'
(b) Only few students grasped your question.
'Только несколько студентов поняли ваш
вопрос'
* Manfred В i e г w i s с h. Semantics.— In: John Lyons (ed.).
New Horisons in Linguistics, London, 1972, p. 166—184.
477
(6) (a) How long did Archibald remain in Monte Carlo?
'Сколько времени Арчибальд пробыл в Монте-
Карло?'
(b) Archibald remained in Monte Carlo for some time,
'Арчибальд пробыл в Монте-Карло некоторое
время.'
Посредством семантического анализа английского языка
объясняется, что (1) является семантически неправильным
предложением, что (2) противоречиво, что (3) семантически
неоднозначно, а также определяется, что (4а) и (4Ь) —
перифразы, или синонимичные предложения. Благодаря
семантическому анализу мы узнаем, что (5а) вытекает из
(5Ь), а (6а) предполагает (6Ь). Объяснение семантических
свойств и отношений этого типа требует анализа значений
не только отдельных слов. Хотя неоднозначность
предложения (3) вытекает из неоднозначности glasses 'очки',
такое простое объяснение невозможно в случаях (4а) и
(4Ь) или (5а) и (5Ь). Другими словами, чтобы понять
значение предложения и его семантические отношения с другими
выражениями, необходимо знать не только значения его
лексических элементов, но и то, как они соотносятся друг
с другом. Это в свою очередь зависит от синтаксической
структуры предложения. Синтаксические свойства,
релевантные для семантики, включают довольно абстрактные
грамматические отношения. Так, в предложениях типа
(7) (a) It was difficult to find the right page.
'Было трудно найти нужную страницу.*
(b) To find the right page was difficult.
'Найти нужную страницу было трудно.'
(c) The right page was difficult to find.
'Нужную страницу было трудно найти.'
синтаксические отношения, релевантные для семантической
интерпретации, одни и те же, несмотря на различие
поверхностных структур этих предложений. Именно такие
глубинные отношения, которые обычно не содержатся в
синтаксической поверхностной структуре, важны для
семантической интерпретации. Так, синтаксическая теория должна
указать, что в (7а) — (7с) the right page 'нужная страница'
является прямым объектом find 'найти', a someone finds
the right page 'некто находит нужную страницу' является
субъектом was difficult 'было трудно*.
178
Короче говоря, семантическая теория должна: (1)
соотносить семантические структуры с релевантными для
семантики синтаксическими структурами; (И)
систематическим образом представлять значения отдельных слов
(или в общем случае лексических элементов, включающих
также лексикализованные фразы типа идиом, отдельные
части составных слов и т. п.); и (iii) показывать, как
семантическая структура слов соотносится с синтаксическими
отношениями, для того чтобы дать интерпретацию
предложений. Наконец, семантическая теория должна указывать,
каким образом эти интерпретации связываются с
упомянутыми выше сущностями.
2. АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ
Все подходы к семантическому анализу естественных
языков основываются на убеждении, что вначения
лексических единиц представляют собой образования,
поддающиеся анализу и определению. Эксплицитно эта точка
зрения была выражена, по существу, с помощью двух
методов. Первый метод принимает за основу постулаты
значения, второй использует семантические компоненты,
на которые разлагаются лексические значения. Постулаты
значения, или семантические правила, формально
введенные Карнапом (С а г п а р, 1956), могут быть
проиллюстрированы следующими примерами:
(8) (a) boy 'мальчик' —»• male 'мужской пол'
(b) girl 'девочка'—>-female 'женский пол'.
Правило типа (8а) гласит, что boy предполагает male
или, что равносильно, что предложения типа A boy is male.
'Мальчик — существо мужского пола.' или If x is a boy,
then x is male. 'Если х — мальчик, то х — мужского
пола.' — аналитические предложения. Постулаты значения
могут также включать логические операторы типа 'и',
'или', 'не' и т. д.:
(9) (a) man 'мужчина'-*- male 'мужской пол' и adult
'взрослый'
(b) woman 'женщина'-»- female 'женский пол' и
adult 'взрослый'
(c) boy 'мальчик' или girl 'девочка'-*-не adult
'взрослый'
179
(d) female 'женщина*-*- не male 'мужской полт
(e) man 'мужчина' или woman 'женщина'
или boy 'мальчик' или girl 'девочка'-»- human
'человек'.
Таким образом, значение лексической единицы
определяется, грубо говоря, множеством всех постулатов
значения, в которых она встречается. Более точно: значение
лексической единицы L имплицитно определяется
множеством всех постулатов значения, связанных с L (эмпирическое
исследование некоторой части греческой лексики,
основанное, по существу, на этом принципе, было произведено
Лайонзом (см. Lyons, 1963)).
Второй подход — это компонентный анализ, лежащий
в основе лингвистических теорий Катца и Фодора (см.
К a t z and F о d о г, 1963), Вейнрейха (W e i n г е i с h,
1966), Бирвиша (В i e г w i s с h, 1969) и других. С
помощью этого метода значение лексической единицы
определяется эксплицитно в терминах семантических
компонентов. Эти компоненты не являются частью словарного
состава самого языка, скорее это теоретические величины,
введенные для описания семантических отношений между
лексическими единицами этого языка. Указанные
компоненты опять же связываются с помощью логических
операторов. Так, мы имеем следующий сильно упрощенный
пример:
(10) (a) boy 'мальчик': ОДУШЕВЛЕННЫЙ и
ЧЕЛОВЕК и МУЖЧИНА и не ВЗРОСЛЫЙ
(b) girl 'девочка': ОДУШЕВЛЕННЫЙ и
ЧЕЛОВЕК и ЖЕНЩИНА и не ВЗРОСЛЫЙ
(c) man 'мужчина': ОДУШЕВЛЕННЫЙ и
ЧЕЛОВЕК и МУЖЧИНА и ВЗРОСЛЫЙ
(d) woman 'женщина': ОДУШЕВЛЕННЫЙ и
ЧЕЛОВЕК и ЖЕНЩИНА и ВЗРОСЛЫЙ.
Система таких эксплицитно определяемых лексических
единиц может быть дополнена набором правил вывода
следующего типа:
(11) (а) ЧЕЛОВЕК - ОДУШЕВЛЕННЫЙ
(b) МУЖЧИНА -> не ЖЕНЩИНА
(c) ЖЕНЩИНА ->- не МУЖЧИНА
(d) МУЖЧИНА -> ОДУШЕВЛЕННЫЙ
(e) ЖЕНЩИНА - ОДУШЕВЛЕННЫЙ.
180
Эти правила автоматически дополняют словарную
статью типа (12а), в которой избыточность отсутствует, до ее
полностью специфицированной формы (12Ь):
(12) (a) boy 'мальчик': ЧЕЛОВЕК и МУЖЧИНА и не
ВЗРОСЛЫЙ
(b) boy 'мальчик': ОДУШЕВЛЕННЫЙ и
ЧЕЛОВЕК и МУЖЧИНА и не ЖЕНЩИНА и не
ВЗРОСЛЫЙ.
Правила данного типа не только упрощают необходимую
словарную информацию, но они выражают также важные
обобщения, касающиеся семантической структуры
описываемой лексики.
Между этими методами анализа существует очевидная
тесная связь. Фактически при анализе некоторых систем
определенного типа компонентный анализ,
иллюстрируемый примерами (10) и (11), может быть непосредственно
преобразован в систему постулатов значения, и наоборот.
Следует заметить, однако, что статус элементов типа male
'мужской пол' в (8) и (9) сильно отличается от MALE
'МУЖЧИНА' в (10) и (11): тогда как male 'мужской пол',
adult 'взрослый', human 'человек' принадлежат
описываемому языку, этого нельзя сказать о компонентах MALE
'МУЖЧИНА', ADULT 'ВЗРОСЛЫЙ', ANIMATE
'ОДУШЕВЛЕННЫЙ' и т. д. Соотношение между имплицитным
и эксплицитным определениями в более сложных случаях
до сих пор не подвергалось систематическому анализу.
В данном изложении я буду считать, в достаточной степени
произвольно, что по крайней мере формально оба
определения эквивалентны в том смысле, что каждому множеству
постулатов значения соответствует некоторый
компонентный анализ рассматриваемой лексики, который определяет
те же самые семантические отношения, и наоборот.
Последующее изложение основывается на принципах
компонентного анализа.
3. СЛОВАРЬ КАК СИСТЕМА ПОНЯТИЙ
Значение слова в терминах компонентного анализа есть
набор семантических компонентов (или признаков, или
маркеров), соединенных логическими операторами. Это
утверждение сразу же позволяет определить некоторые се-
181
мантические свойства и отношения лексических
единиц. Так, слово является многозначным, если оно
имеет более одного набора связанных с ним семантических
признаков. Две лексические единицы Ef и
Е2 являются синонимичными, если их значения состоят
из одних и тех же компонентов, связанных одними и теми же
логическими операторами. Ei является гипонимом Е2
(то есть Ех включает Е2), если значение Ei содержит все
компоненты, которые имеются в значении Е2, но не
наоборот. Так, woman 'женщина' может быть гипонимом adult
'взрослый', так как первое, а не второе слово содержит,
например, компонент FEMALE 'ЖЕНЩИНА'. Ei и Е2 —
антонимы, если их значения отличаются только тем, что
в значение Ei входит компонент С, а в значение Е2 —
компонент С; и С и С принадлежат к подмножеству
взаимоисключающих компонентов.
Множество лексических единиц, в значениях которых
содержатся определенные общие компоненты, образует
«семантическое поле». Известный пример такого поля —
термины родства, члены которого имеют общие компоненты
'ОДУШЕВЛЕННЫЙ и ЧЕЛОВЕК и РОДСТВЕННИК'.
Другой пример — глаголы движения.
Существуют также более узкие поля, например
родственники мужского пола, включающие лексемы father
'отец', brother 'брат', son 'сын', uncle 'дядя' и т. п., или
родство по прямой линии vs. родство по боковой линии.
С другой стороны, существуют более широкие поля,
например социальное положение, которое, кроме
подмножества терминов родства, включает слова типа friend
'друг', colleague 'сослуживец', teacher 'учитель' и т. п.
Из этого следует, что семантические поля являются
относительными, а не абсолютными понятиями. Понятие
семантического поля было введено Триром (см. Trier,
1931) для объяснения того факта, что значения лексических
элементов определяются лишь на основе их сходства с
одними релевантными единицами и отличия от других
релевантных элементов. Определяя данное понятие
семантического поля в терминах семантических компонентов, мы
можем точно указать организацию определенных полей
и отношение между их членами.
Кроме наличия общих компонентов, словарные единицы
связываются друг с другом иными отношениями. Одним
из таких отношений является отношение частичности,
182
конкретным примером которого служит отношение между
частью и целым. Например, слова arm 'рука (от кисти до
плеча)', hand 'рука (кисть руки)', finger 'палец'
обозначают части тела человека, поэтому в их значения должен
входить компонент, который соответствующим образом
связывает эти слова со всеми лексическими единицами, в
значение которых входит признак 'ЧЕЛОВЕК'. Еще один
пример отношения частичности — принадлежность к
определенному классу: можно установить, что слова типа
member 'член' должны быть связаны определенным
признаком со словами типа set 'множество', class 'класс', party
'партия', короче, со всеми словами, представляющими
различные виды множеств или групп.
Другой тип отношений между словами устанавливается
с помощью ограничений на их сочетаемость. Так, глаголы,
подобные talk 'говорить', think 'думать', dream 'мечтать',
связаны только с субъектами, имеющими признак
'ЧЕЛОВЕК'; drink 'пить' требует объект с признаком
'ЖИДКОСТЬ'; прилагательное blond 'белокурый' требует
субъекта, значение которого включает такой признак, как
волосы. Ограничения подобного рода называются
«селекционными ограничениями», так как они указывают, какие
лексические элементы могут быть выбраны для построения
семантически правильного сочетания двух или более
синтаксически связанных лексических элементов. Они, так
сказать, определяют возможную семантическую близость
лексических единиц. Ниже будет указано, в какой форме
должны представляться эти условия.
В общем смысле набор семантических компонентов,
связанных логическими операторами, можно определить
как понятие. Тогда словарь какого-либо языка является
системой понятий, в которой каждому понятию
приписываются фонолргическая форма и определенные
синтаксические и морфологические характеристики. Эта система
понятий организована с помощью нескольких типов
отношений. Кроме того, она дополняется правилами
избыточности, или правилами вывода, иллюстрируемыми
примером (11), которые представляют общие свойства системы
понятии в целом. Благодаря последнему предположению
становится ясно, почему новое понятие гораздо легче
воспринимается в качестве элемента системы, общая структура
которой уже известна, нежели как отдельный элемент
полностью неизвестной системы. Значительная часть этих
183
общих правил не привязана к каким-либо конкретным
языкам и, по-видимому, представляет универсальные
структуры естественных языков вообще. Им не обучаются,
скорее они входят в способность человека овладевать
любым естественным языком. Я вернусь к этой проблеме
в разделе 8.
4. РЕЛЯЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
До сих пор мы рассматривали семантические
компоненты лишь как свойства. Ошибочность такого подхода
становится очевидной, если мы попробуем
проанализировать переходные глаголы типа hit 'ударять', meet
'встречать', love 'любить' или глаголы с двумя объектами типа
give 'давать', take 'брать', borrow 'занимать' и т. п., так
как они предполагают отношения между субъектом и
объектом и т. д. Более того, даже существительные, связанные
отношениями, такие, как father 'отец', mother 'мать',
brother 'брат', friend 'друг', colleague 'сотрудник' и т. п.,
не могут быть адекватно описаны без помощи реляционных
компонентов. Следовательно, нам необходимо ввести
семантические компоненты, представляющие отношения
между двумя (а возможно, и более) объектами. Приведем
пример реляционных компонентов, основываясь на некоторых
терминах родства. Вместо не являющегося реляционным
компонентом компонента RELATIVE 'РОДСТВЕННИК',
упоминавшегося выше, нам необходимы определенные
отношения, из которых главным является отношение X РА-'
RENT OF Y 'X —РОДИТЕЛЬ Y-a' со своей инверсией
Y CHILD OF X 'Y — РЕБЕНОК Х-а'. Для прояснения
связи между реляционными и другими компонентами
припишем соответствующим переменным компоненты,
представляющие их свойства. Таким образом, «мы получаем
следующие (сильно упрощенные) лексические записи:
(13) (a) father 'отец': X — РОДИТЕЛЬ Y-a и X —
МУЖЧИНА
(b) mother 'мать': X — РОДИТЕЛЬ Y-a и X —
ЖЕНЩИНА
(c) son 'сын': X —РЕБЕНОК Y-a и X —
МУЖЧИНА
(d) brother 'брат1: X — РЕБЕНОК РОДИТЕЛЯ
Y-a и X — МУЖЧИНА,
w
В (13d) мы использовали композицию
реляционных компонентов, которая может быть определена
следующим образом ('=dei' означает 'равно по
определению'):
(14) X — РЕБЕНОК РОДИТЕЛЯ Y-a=de,
существует Z, такой, что X — РЕБЕНОК Z-a и Z —
РОДИТЕЛЬ Y-a и X^Y.
Статья (13) должна быть снабжена дополнительным
правилом избыточности, указывающим, что элементы,
связанные отношением PARENT OF 'РОДИТЕЛЬ', являются
одушевленными. Кроме того, должно быть, по-видимому,
указано, что первый член этого отношения — adult
'взрослый'.
(15) X — РОДИТЕЛЬ Y-a -* <Х —
ОДУШЕВЛЕННЫЙ и Y — ОДУШЕВЛЕННЫЙ и X — ВЗРОС-
ЛЫЙ>.
Тогда (13а) автоматически расширяется до (16):
(16) father 'отец': X— РОДИТЕЛЬ Y-a и X —
МУЖЧИНА и <Х — ОДУШЕВЛЕННЫЙ и X —
ВЗРОСЛЫЙ и Y — ОДУШЕВЛЕННЫЙ^
Компоненты, заключенные в угловые скобки,
определяют скрытые условия правильного применения
лексических единиц. В то же время они выражают селекционные
ограничения, упоминавшиеся выше. Так, father 'отец*
требует одушевленного субъекта, если оно употребляется
как именная часть составного сказуемого. Это можно
видеть на примере таких аномальных предложений, как
This suitcase is Bill's father 'Этот чемодан — отец Билла'.
Менее очевидный пример реляционных компонентов —
прилагательные типа long 'длинный', high 'высокий',
wide 'широкий', light 'легкий' и т, д. и их антонимы short
'короткий', low 'низкий', narrow 'узкий', easy 'легкий'.
Предложение типа The table is high 'Стол высокий' может
быть перефразировано так: The table is higher than a
certain norm 'Стол выше определенной нормы'. Норма в
данной перифразе относится к классу объектов, к которому
принадлежит субъект прилагательного high 'высокий'.
В соответствии с такой трактовкой, принадлежащей
Сепиру (см. S a p i г, 1944, р. 93), положительная форма
185
прилагательного high оказывается специфическим случаем
сравнительной степени higher than 'выше, чем'; при этом
предполагаемая норма обеспечивает основу для еравнения.
Более тонкий анализ обнаруживает, кроме того, что
прилагательные типа high 'высокий', long 'длинный', wide
'широкий', tall 'высокий' и т. п. скорее относятся не
к объектам, а к конкретным измерениям объектов, Так,
This table is high 'Этот стол высокий' более точно может
быть перифразирован как 'Этот X — стол и Y — высота
Х-а и Y — больше, чем нормальная значимость Y-a'.
Значение high таким образом содержит по крайней мере два
реляционных компонента: Y HEIGHT OF X «Y —
ВЫСОТА Х-а' и Y GREATER Z 'Y — БОЛЬШЕ Z-a*, где Z
представляет норму при положительной степени
прилагательного и заменяется параметром, сравниваемым с Y-om
при сравнительной степени higher 'выше'. Конверсивное
отношение SMALLER 'МЕНЬШЕ' непосредственно
характеризует антонимы low 'низкий', short 'короткий',
narrow 'узкий' и т. п. Компонент Y HEIGHT OF X
'Y — ВЫСОТА Х-а' должен быть далее разложен на общее
отношение Y DIMENSION OF X 'Y — ИЗМЕРЕНИЕ
Х-а' и дополнительные характеристики, связанные с тремя
измерениями в пространстве. Характеристики такого рода
распределяются довольно сложным образом на несколько
прилагательных, что можно видеть на примере
пространственных прилагательных, относящихся к двум или трем
измерениям конкретных объектов:
(17) stripe:
'полоса'
board:
'доска'
door:
'дверь'
table:
'стол'
cupboard:
'буфет*
river:
* река
nail:
'гвоздь'
pole:
'шест'
tower:
'башня'
long 'длинный'
long 'длинный'
high 'высокий'
high высокий'
tall 'высокий'
long 'длинный'
long 'длинный'
( long 'длинный'
\ high 'высокий'
high 'высокий'
wide
wide
wide
long '
wide
broad
>
'широкий' —
'широкий' thick 'толстый'
'широкий' th ick 'толстый'
'длинный' wide 'широкий'
'широкий' deep 'глубокий'
'широкий' deep 'глубокий'
thick 'толстый'
thick 'толстый'
wide 'толстый'
18а
Следовательно, признаки, определяющие различные
параметры, должны согласовываться некоторым определенным
способом с соответствующими параметрическими
признаками существительных, которые модифицируют
рассматриваемые нами прилагательные. Они действуют подобно
селекционным ограничениям, упоминавшимся выше, или
выступают как условия совмещения понятий. Так,
огрубленное значение long 'длинный' и high 'высокий' и их
антонимов представляют следующие статьи:
(18) long: Y БОЛЬШЕ N и <Y-ИЗМЕРЕНИЕ
'длинный' Х-а и
Y—МАКСИМА ЛЬНЫ Й>
short: Y МЕНЬШЕ N и <Y-ИЗМЕРЕНИЕ
'короткий' Х-а и Y —
МАКСИМАЛЬНЫ^
high: Y БОЛЬШЕ N и <Y —ИЗМЕРЕНИЕ
'высокий' Х-а и Y —
ВЕРТИКАЛЬНЫ^
low: Y МЕНЬШЕ N и <Y-ИЗМЕРЕНИЕ
'низкий' Х-а и Y —ВЕР-
ТЩАЛЬНЫЙ>.
Здесь аргумент* N обозначает нормальное значение
Y-a, упоминавшееся выше. Компоненты в угловых скобках
опять же являются селекционными ограничениями,
указывающими, что определяемый объект X должен иметь
параметр Y, обладающий требуемым качеством. Если это
условие не выполняется, мы получаем семантически аномальное
предложение, как, например: The cigarette is high
'Папироса высокая', так как о высоте папиросы обычно не
говорят.
Признак MAXIMAL 'МАКСИМАЛЬНЫЙ',
встречающийся в прилагательных long 'длинный' и short
'короткий', может быть сведен к необходимому отношению
GREATER 'БОЛЬШЕ' с помощью следующего
определения:
(19) МАКСИМАЛЬНЫЙ Y=de{ не существует Z такого,
что Z БОЛЬШЕ Y-a.
* В логике или математике одни из элементов данного отношения
означает, что, например, отношение 'больше чем', скажем, в примере
6>5 заключается между аргументами '6" и '5*; в John is Mary's father
отношение 'быть отцом кого-то' содержится между аргументами John
н Магу.
187
По этому определению максимальное измерение не
обязательно больше всех остальных измерений. Достаточно
того, чтобы оно не было короче любого другого. Таким
образом, мы можем объяснить тот факт, что предложение
This square is just as long as it is wide 'Этот квадрат имеет
равные длину и ширину' не является ни аномальным, ни
противоречивым. Более подробный разбор
пространственных прилагательных и реляционных компонентов можно
найти у Бирвиша (см. В i e r w i s с h, 1967) и Теллера
(см. Teller, 1969).
б. КОМПОЗИЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
До сих пор мы рассматривали только те примеры,
в которых семантические компоненты связываются
логическими операторами типа 'и'. Конкатенация отношений
в случаях типа (13d) в принципе не является исключением,
так как ее опять же можно свести по определению (14)
к компонентам, связанным оператором 'и'. Однако в
семантической структуре естественных языков имеет место
ряд важных явлений, которые не могут быть представлены
данным простым типом связи. Это может быть показано
на примере нескольких глаголов, проанализированных
у Бендикса (см. В е n d i x, 1966). Предположим, что
значение глагола have 'иметь' в предложениях типа John
has many books 'Джон имеет много книг' может быть
представлено одним компонентом X HAVE Y 'X ИМЕЕТ Y'.
Тогда значение give 'давать' в Peter gives John many books
'Петр дает Джону много книг' можно представить как
Z CAUSE (X HAVE Y) 'Z КАУЗИРУЕТ (X ИМЕЕТ Y)\
где компонент Z CAUSE P 'Z КАУЗИРУЕТ Р' означает
что-то вроде 'Z есть некто, кто вызывает состояние,
указанное Р'. Следовательно, CAUSE 'КАУЗИРОВАТЬ' является
реляционным компонентом, второй аргумент которого не
отдельная единица (или несколько единиц, как в данном
случае), а целая пропозиция, составленная из
семантического компонента с его аргументами. Сходным компонентом
является CHANGE TO 'СТАНОВИТЬСЯ' как часть
значения got 'получил' в John got many books 'Джон получил
много книг'. Данное значение get 'получать' можно было бы
представить как X CHANGE ТО (X HAVE Y) 'X
СТАНОВИТСЯ (X ИМЕЕТ Y)'. Некоторые другие глаголы,
183
значения которых основываются на тех же
компонентах, были проанализированы Бендиксом следующим
образом:
(20) X lends Z to Y 'X одолжил Z Y-y': X ИМЕЕТ Z
и не Z — СОБСТВЕННОСТЬ Y-a и X КАУЗИ-
РУЕТ (X ИМЕЕТ Z) и не Z СТАНОВИТСЯ
(Z — СОБСТВЕННОСТЬ Y-a)
X takes Y from Z 'X берет Y у Z-a': Z ИМЕЕТ Y
и X КАУЗИРУЕТ (X ИМЕЕТ Y)
X gets rid of Y 'X избавляется от Y-a': X ИМЕЕТ
Y и X КАУЗИРУЕТ (не X ИМЕЕТ Y)
X keeps Y 'X хранит Y':X ИМЕЕТ Y и не X
СТАНОВИТСЯ (не X ИМЕЕТ Y)
Компонент IS OF, который встречается в lend
'одалживать', представляет несколько абстрактный пример
упоминавшегося выше отношения частичности. Мимоходом можно
упомянуть, что have 'иметь', give 'давать', get 'получать',
глаголы в (20) и некоторые другие образуют особое
семантическое поле, объединенное компонентом HAVE 'ИМЕТЬ'.
Из этих примеров видно, что семантическое поле данного
типа может иметь сравнительно сложную внутреннюю
организацию. Кроме того, компоненты, подобные CAUSE
'КАУЗИРОВАТЬ' и CHANGE TO 'СТАНОВИТЬСЯ',
могут использоваться рекурсивно в соединении с другими
компонентами. Допустим, например, что мы представили
значение alive 'живой' или living 'живущий' как ALIVE X
'X—ЖИВОЙ'. В этом случае значение die 'умирать'
может быть представлено как X CHANGE TO (не ALIVE
X) 'X СТАНОВИТСЯ (не X — ЖИВОЙ)*, а значение kill
'убивать'—приблизительно как X CAUSE (Y CHANGE TO
(не ALIVE Y)) 'X КАУЗИРУЕТ (Y СТАНОВИТСЯ (не
Y—ЖИВОЙ))'. Та же самая комбинация компонентов
КАУЗИРОВАТЬ и СТАНОВИТЬСЯ встречается в
транзитивных глаголах типа lengthen 'удлинять', raise
'поднимать', shorten 'укорачивать', broaden 'расширять' и т. д.
Так, если мы опираемся на анализ long 'длинный',
приведенный выше, то значение lengthen 'удлинять' имеет
приблизительно следующий вид:
(21) X lengthen Y 'X удлиняет Y': X КАУЗИРУЕТ
(Y СТАНОВИТСЯ (Z' БОЛЬШЕ Z))< Z —
ДЛИНА Y-a и Z — МАКСИМАЛЬНЫЙ>
189
Z' здесь обозначает измененное значение Z. Следует
заметить, что в английском языке существует много
глаголов, переходное и непереходное употребление которых
отличается тем же, что и в глаголах kill 'убивать' и die
'умирать', а именно наличием или отсутствием
компонента CAUSE 'КАУЗИРОВАТЬ'. Так, значение Не applies
the rule to this case 'Он применяет правило к данному
случаю' и The rule applies to this case 'Это правило
применяется к данному случаю' отличается в основном наличием
компонента X CAUSE (...) 'X КАУЗИРУЕТ (. . .)' в
первом, но не во втором предложении. Точно так же, если мы
удалим из (21) компонент X КАУЗИРУЕТ, мы получим
непереходное значение lengthen 'удлиняться'.
Лексические единицы типа (20) и (21) раскрывают еще
одну важную особенность внутренней организации
лексических единиц. В данных примерах аргументы X, Y, Z
означают синтаксические составляющие, связанные с
глаголами некоторым определенным образом. Так, мы должны
указать, что в значении give 'давать', представленном как
X CAUSE (Y HAVE Z) 'X КАУЗИРУЕТ (Y ИМЕЕТ Z)',
аргумент X относится к субъекту Peter, Y — к косвенному
объекту John и Z— к прямому объекту many books 'много
книг' в предложении Peter gives John many books 'Петр
дает Джону много книг'. Для обеспечения необходимой
информацией аргументы, связанные в лексических
единицах с семантическими компонентами, будут снабжены
индексами указанных грамматических отношений. Как
упоминалось выше, эти грамматические отношения
основываются на синтаксической глубинной структуре. Если мы
обозначим отношения 'субъект предложения', 'прямой
объект главного глагола' и 'косвенный объект главного
глагола' соответственно s, d и i, тогда значением give
будет Х8 CAUSE (Xi HAVE Xd) 'Xs КАУЗИРУЕТ (Х;
ИМЕЕТ Xd)\ Следует заметить, что не все аргументы
соотносятся с определенными синтаксическими
составляющими. Так, параметру Z в (21) нельзя приписать никакой
синтаксической роли, поэтому данный аргумент остается
без грамматического индекса. Наконец, с каждым из этих
синтаксически помеченных аргументов могут быть связаны
конкретные селекционные ограничения. Таким образом,
значение kill 'убивать' можно выразить теперь следующим
образом:
190
(22) kill 'убивать*: Х8 КАУЗИРУЕТ (Xd
СТАНОВИТСЯ (не Xd— ЖИВОЙ)) и <Ха-ОДУШЕВ-
ЛЕННЫЙ>
Последующие ограничения типа '<CONCRETE Xs>'
'<Х8— РЕАЛЬНЫЙУ или '<HUMAN Xs>', '<XS —
ЧЕЛОВЕКУ указывали бы, что только реальные объекты или
люди могут быть агентами убийства.
в. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СИНТАКСИСОМ И СЕМАНТИКОЙ
До сих пор мы обсуждали внутреннюю структуру
значений лексических единиц, а также некоторые отношения
в пределах словаря, вытекающие из этой внутренней
структуры. В то же время оказалось, что в семантическую
репрезентацию слов должна быть также включена
некоторая синтаксическая информация. Так, аргументы глагола,
имеющие синтаксические пометы, указывают на
необходимые или допустимые группы существительных и их
синтаксическую функцию. Селекционные ограничения
накладывают дальнейшие условия на эти составляющие. Отсюда
следует, что значительная часть синтаксических свойств
лексической единицы может быть непосредственно выведена
из ее семантической репрезентации. Остановимся кратко,
на том, как семантическая интерпретация предложения
связана с его синтаксической структурой.
Впервые ясное и систематическое решение этой проблемы
было предложено Катцем и Фодором (см. К a t z and
F о d о г, 1963) и Катцем и Посталом (см. К a t z and
Postal, 1964). Оно основывается на теории Хомского
(см. Chomsky, 1965), согласно которой грамматика
содержит базовый компонент, порождающий глубинные
синтаксические структуры, каждая из которых состоит из
цепочки лексических единиц с навешенным на нее
упорядоченным множеством синтаксических категорий, благодаря
чему могут быть выведены такие отношения, как «субъект
предложения» и т. д. Каждая лексическая единица
включает фонологическую репрезентацию, определенные
синтаксические и морфологические признаки и семантическую
репрезентацию. Глубинная структура такого вида
переводится затем с помощью конкретных для каждого языка
правил в соответствующие поверхностные структуры, ко-
191
торые в свою очередь получают фонетическую
репрезентацию.
Семантическая репрезентация всего предложения
выводится из синтаксической глубинной структуры с помощью
универсальных операций, которые объединяют значения
лексических единиц глубинной структуры в соответствии
с релевантными синтаксическими отношениями. Было
предложено несколько формулировок этой процедуры. Я
буду здесь придерживаться варианта, предложенного в
моей работе (см. В i e r w i s с h, 1969). Данное
предположение основывается на том факте, что все именные сочетания,
за исключением именной части составного сказуемого в
предложениях типа Alexander is an unlucky fellow
'Александр — несчастливый человек', являются референционными
составляющими, то есть эти составляющие скорее называют
объекты, чем описывают их; поэтому они помечены рефе-
ренционным индексом, скажем, произвольным
натуральным числом. Два именных сочетания с одинаковым
индексом относятся к одному и тому же объекту или множеству
объектов; составляющие с разными индексами относятся
к различным объектам. Так, в When theyx came in, Paul2
asked the studentsi 'Когда ohhi вошли, Павел2 задал
студентам! вопрос' местоимение they 'они' относится к the
students 'студенты'. При наличии данных референционных
" индексов семантическая интерпретация глубинной
структуры выводится с помощью двух операций. Первая
соотносит семантические компоненты с помощью соответствующих
аргументов. Так, аргумент Xs глагола или
прилагательное или именная часть составного сказуемого заменяются
Xj, если i является референционным индексом именной
группы, выступающей в роли субъекта. Аргумент Xd
замещается Xj, если j является референционным индексом
прямого объекта. Таким образом замещаются все
аргументы лексических единиц, имеющие синтаксический
индекс. Вторая операция объединяет значения отдельных
слов с помощью логических операторов, главным образом
(но не всегда) с помощью 'и'. Так, мы получим (23Ь) в
качестве семантической интерпретации (23а), если мы будем
считать DOG сокращенной записью значения dog 'собака':
(23) (a) [[the boy]NPt[kills [the dog]
[[мальчик]МР1 [убил [co6aKy]NPJVp]s
(b) HUMAN Xx and MALE Xt and not ADULT X*
192
and Xi CAUSE (X, CHANGE TO (not ALIVE
X,)) and ANIMATE X2 and DOG X2 'Xi —
ЧЕЛОВЕК и Xi - МУЖЧИНА и не Xi —
ВЗРОСЛЫЙ и Xi КАУЗИРУЕТ (X,
СТАНОВИТСЯ (не Х2—ЖИВОЙ)) и Х2
—ОДУШЕВЛЕННЫЙ и Х2— СОБАКА'
В нескольких отношениях я сильно упростил положение
дел. Я не рассматривал, в частности, весьма сложную
проблему, включающую кванторы типа all 'все', many
'много', some 'некоторый', определенные и неопределенные
артикли и т. п. Значение этих элементов должно входить
в семантическую репрезентацию предложений в основном
в форме определенных операторов, которые дополнительно
определяют референционные. аргументы Хь Xj и т. д.
Должно быть, однако, ясно, что в принципе значение
предложения может быть получено в определенной форме
на основе значения входящих в него слов и на основе его
синтаксической глубинной структуры, и это выведенное
значение верно отражает основное понятийное содержание
данного предложения.
При соответствующем уточнении семантические
структуры, полученные таким способом, могут оказаться не чем
иным, как реализацией принципов формальной логики,
примененной к естественному языку. Поэтому логические
правила трансформации и дедукции применяются к
семантическим репрезентациям, объясняя, каким образом мы можем
производить логические операции в естественном языке.
Кроме того, следует признать, что принципы, в
соответствии с которыми строятся семантические репрезентации,
являются универсальными, то есть одними и теми же для
всех языков. Значения слов в разных языках отличаются
не типом семантических компонентов и их возможными
соотношениями, а лишь их конкретными комбинациями,
образующими конкретные понятия, входящие в словарь.
Следует, наконец, упомянуть, что недавно была предложена
несколько отличная модель, характеризующая
взаимоотношение синтаксиса и семантики. Согласно этой теории
«порождающей семантики», изложенной, например, у Мак-
Коли (см. М с С a w 1 е у, 1968), грамматика прежде всего
определяет семантическую структуру каждого
предложения. Эта семантическая репрезентация переводится затем
в синтаксическую структуру приблизительно следующим
193
образом: если определенная конфигурация семантических
элементов совпадает с семантической репрезентацией
лексической единицы Е, то данная конфигурация заменяется
фонологической формой Е. Если таким способом будут
заменены все семантические компоненты данной
семантической репрезентации, то мы получим цепочку слов,
синтаксически организованную в соответствии с отношениями,
которые первоначально связывали значения лексических
единиц в семантической репрезентации. Так, вместо того
чтобы выводить (23Ь) из (23а), согласно теории
порождающей семантики мы выводим синтаксическую структуру
типа (23а) из некоторого эквивалента (23Ь). Другими
словами, семантическая репрезентация предложения получает
синтаксическую интерпретацию с помощью словаря и
определенных трансформационных правил. Так как здесь
существует много нерешенных проблем, я не буду
углубляться в теорию порождающей семантики. В некоторых
важных аспектах она сходна с теорией интерпретирующей
семантики, обрисованной выше: она выражает те же самые
факты в другой форме.
7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
С помощью Описанного выше типа семантических
репрезентаций мы в состоянии объяснить многие семантические
свойства и отношения. Так, два предложения — Sx и
S2 — являются синонимичными предложениями, или
перифразами друг друга, если их семантические репрезентации
совпадают. Предложение является семантически
аномальным, если в его семантической интерпретации содержится
противоречие между селекционным ограничением и каким-
либо другим семантическим компонентом. Si следует из S2,
если значение Si является частью семантической
репрезентации S2. Вообще мы можем теперь, опираясь
на очерченную выше теорию, ответить на вопросы,
иллюстрируемые примерами (1) — (6). Заметим мимоходом, что
отношения, подобные перифразам, следованию и т. п.,
являются удачным обобщением лексических отношений
типа синонимии, гипонимии и т. п. Это естественным
образом вытекает из того факта, что в принципе семантические
репрезентации предложений по своему характеру сходны
с лексическими значениями,
194
Коснемся коротко сложного вопроса о том, как
предложения с помощью своих значений соотносятся с
состояниями, процессами и объектами внешнего мира. Данная
проблема может быть разделена на две части: механизм
референции и интерпретацию семантических компонентов.
Решая первую проблему, мы должны помнить, что
предложенные нами семантические репрезентации содержат
аргументы с референционными индексами. Эти
аргументы являются переменными, представляющими возможные
объекты (или множества объектов). Они указывают на
референционное тождество или различие, но не
представляют конкретных объектов. Другими словами, каждая
переменная с референционным индексом должна быть
заменена репрезентацией конкретных объектов в том
случае, если предполагается, что предложение соотносится
с конкретными объектами в определенных ситуациях или
контекстах. Так, предложение типа Не asked him 'Он
спросил его' может в одном контексте относиться к одним
лицам, в другом контексте — к другим. Само предложение,
однако, не является многозначным. С другой стороны,
предложение If he comes I will ask Bill 'Если он придет,
я спрошу Билла' в смысле референции неоднозначно, так
как he 'он' и Bill могут иметь либо один и тот же референ-
ционный индекс, либо разные. Вообще говоря,
семантическая теория должна обеспечивать средства для соотнесения
предложений с конкретными объектами и ситуациями, в то
время как репрезентация самих объектов не является
частью семантической структуры языка. Таким образом,
перед нами стоит проблема интерпретации семантических
компонентов, которые до сих пор рассматривались как
чисто формальные элементы, выражающие взаимосвязи
между семантическими структурами. По-видимому,
естественно предположить, что эти компоненты представляют
собой категории или принципы, в соответствии с которыми
организуются и классифицируются реальные и
вымышленные, воспринимаемые и воображаемые ситуации и объекты.
Семантические признаки, однако, представляют не внешние
физические свойства, а скорее психологические условия,
в соответствии с которыми люди осваивают свое
материальное и социальное окружение. Таким образом, они являются
не символами физических свойств и отношений вне
человеческого организма, а скорее знаками внутренних
механизмов, с помощью которых данные явления восприни-
1*
195
маются и концептуализируются. Из этого в свою очередь
вытекает чрезвычайно далеко ведущая, но вполне вероятная
гипотеза, что все семантические структуры могут быть
в конце концов сведены к компонентам, представляющим
основные характеристики мыслительной и перцептивной
структуры человеческого организма. Согласно этой
гипотезе, семантические признаки не могут различаться в
разных языках, скорее они являются частью общей
способности человека к языку и образуют универсальный
инвентарь, который каждый язык использует по-своему.
Базовыми компонентами этого типа могут быть X
GREATER Y 'X БОЛЬШЕ Y-a', представляющий общую
способность к сравнению, X DIMENSION OF Y 'X —
ИЗМЕРЕНИЕ Y-a', опирающийся на трехмерную ориентацию
в пространстве, VERTICAL Y 'Y — ВЕРТИКАЛЬНЫЙ',
отражающий особую роль, которую играет вертикальное
направление для людей. Кандидатами на роль таких
универсальных компонентов могут быть также приводившиеся
в качестве примеров компоненты HUMAN X 'X —
ЧЕЛОВЕК', ANIMATE X 'X—ОДУШЕВЛЕННЫЙ', X
PARENT OF Y 'X — РОДИТЕЛЬ Y-a', X CHANGE TO P
'X СТАНОВИТСЯ P\ X CAUSE P 'X КАУЗИРУЕТ P'
и другие — или же они могут быть сведены к собственно
базовым элементам. Все эти базовые элементы не
познаются в процессе обучения (в любом приемлемом значении
этого термина), а скорее являются внутренним
предрасположением к овладению языком. Они должны быть
актуализированы или должны проявляться благодаря опыту в
процессе овладения языком, однако как возможная
потенциальная структура они уже наличествуют в обучающемся
организме. Следовательно, в процессе овладения языком
познаются не семантические компоненты, а скорее их особые
комбинации в определенных понятиях и приписывание
данным понятиям фонематических форм и морфологических
свойств.
При таком понимании семантических компонентов их
чисто формальный характер соотносится с мыслительными
и перцептивными свойствами человека. Это обеспечивает
необходимую взаимосвязь семантических структур с
окружающим миром, который воспринимается и категори-
зуётся в соответствии с этими внутренними условиями
организма. Это непосредственное отношение между
семантическими структурами и реальными ситуациями объяс-
196
няет также тот факт, что мы можем говорить об
отсутствующих или полностью выдуманных вещах, что мы способны
вырабатывать понятия, не имеющие никаких соответствий
в окружающем мире.
Из этих рассуждений должно быть очевидно, что
семантические компоненты являются абстрактными
теоретическими сущностями, представляющими сложные
психологические структуры и механизмы. Их наименования не
должны создавать впечатления, что сами они являются
лексическими записями какого-либо естественного языка.
Именно в этом отношении компонентный анализ,
по-видимому, существенно отличается от, возможно, формально
эквивалентной ему теории значимых постулатов. Как я
упоминал в разделе 2, теория постулатов значения вводит
только такие теоретические элементы, которые являются
частью описываемого языка. В зависимости от разумности
интерпретации семантических компонентов теория
компонентного анализа пытается дать обладающий большей
объяснительной силой ответ на вопрос, как соотносятся
значения предложений с экстралингвистическим
окружением. Следует, однако, иметь в виду, что во всех других
отношениях, в частности в вопросе взаимоотношения
синтаксиса и семантики, как теория постулатов значения, так
и теория компонентного анализа сталкиваются с одними
и теми же проблемами.
8. НЕКОТОРЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Без сомнения, мы сильно упростили проблему,
поставленную вопросом: «Что такое значение?» Мы не только
не затронули некоторых частных проблем, но и не
коснулись в данном обсуждении ряда важных вопросов, которые
должны быть учтены исчерпывающей теорией значения.
Упомяну хотя бы некоторые из них.
Прежде всего, мы имели дело лишь с проблемами
понятийного содержания или денотативного значения. Другими
словами, в стороне остались все проблемы, связанные со
стилистическими вариациями или коннотативными
значениями. Хотя возможность выразить одну и ту же мысль
разными способами (с различными стилистическими
коннотациями) является достаточно очевидным фактом, не
ясно, как это может быть объяснено в теоретическом плане.
197
Следует заметить, что недостаточно приписать определенным
лексическим единицам стилистические пометы, так как
стилистический эффект может быть вызван особым
семантическим и синтаксическим взаимодействием базовых
элементов. В любом случае любая теория значения, которая
пытается решить эти проблемы, должна опираться на
теорию понятийного значения.
Далее, семантическая интерпретация данного
предложения частично может зависеть от конкретного
лингвистического или экстралингвистического контекста, в котором
оно встречается. Другими словами, предложение —
неоднозначное, когда оно берется изолированно,— может
иметь только одну интерпретацию в конкретном дискурсе.
Следовательно, мы можем ожидать от семантической
теории объяснения, как в соответствии с конкретным
дискурсом выбирается одно из нескольких значений, связанных
с конкретным словом или предложением. Мы должны знать,
например, что слово group группа' в математических
текстах имеет одно значение, в социологических дискуссиях —
другое, в каждодневной речи — третье. Хотя до
настоящего времени в решении этой проблемы особых успехов
не наблюдалось, в принципе она, по-видимому, не
представляет трудностей. Семантическое описание должно в
любом случае строить репрезентацию всех возможных
значений, связанных с данным предложением в конкретном
языке. Соответственно, вопрос, на который необходимо
получить ответ, следующий: каким образом данный язык
подразделяется на определенные подъязыки в соответствии
с различными универсумами дискурса, в которых он может
быть применен? С этой точки зрения проблема контекста
сходна с проблемой стилистического варьирования в том
смысле, что стилистически различные подъязыки
используются в разных контекстах.
Наконец, следует заметить, что семантический анализ
данного естественного языка ставит огромные трудности
в связи с необыкновенной сложностью и очевидной
неопределенностью-рассматриваемых явлений. Проблемы данного
типа важны не только для адекватного описания
конкретных языков, но и для развития общей теории, так как
общая теория имеет значимость только до тех пор, пока она
основывается на эмпирических фактах. Таким образом,
семантический анализ должен начинать с небольших,
четко выделяемых подсистем, развивая на этой основе не-
198
обходимые базовые понятия. Эти фрагменты могут быть
затем расширены до больших комплексов и до более тонкой
и сложной проблематики. Таким способом мы можем в
конце концов выявить базовую структуру, лежащую в
основе такого явно неопределенного и неточного явления
в языках, как значение. Этот процесс находится в самом
начале. Безусловно, он вызовет важные изменения в
обрисованной здесь гипотезе. Однако имеются веские
основания считать, что строгая теория значения возможна и
что такая теория поможет в то же время раскрыть важные
внутренние черты, присущие мыслительному процессу.
Д. Болинджер
АТОМИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ*
История повторяется, правда, с некоторыми
видоизменениями. Два десятилетия тому назад американские
структуралисты попытались применить к морфологии ту
аналитическую технику, которая оказалась удачной при анализе
звука. По целому ряду причин, одной из которых было
отсутствие адекватной семантической теории, их попытки
не принесли заметных результатов, хотя в то же время
фонология, используя достижения акустики и теории
информации, продолжала успешно продвигаться вперед.
В современных лингвистических работах морфемике
отводится место своего рода реликвии, сохранившейся от
сороковых годов. В настоящее время мы являемся
свидетелями возрождения подобных же попыток, идущих,
правда, с другой стороны, но отражающих то же стремление —
испробовать в новой области технику, разработанную в
области более старой. Новая область — это значение,
старая — синтаксис, а техника — это техника порождающей
грамматики. В настоящее время морфемика оказывается
лишь весьма отдаленно причастной к этому процессу, но
налицо признаки того, что связь между ними станет более
тесной.
В свое время в морфологию из фонологии было
перенесено понятие эмы. Теперь в семантику переносится из
синтаксиса понятие показателя (маркера) **. Синтаксические
показатели — это усовершенствование категорий
традиционной грамматики — существительного, прилагатель-
* Dwight В о I i n g e r. The Atomization of Meaning. — In:
«Language», Vol. 41, 1965, p. 555—573.
** В оригинале: marker. В русской лингвистической литературе
в равной мере употребительны его эквиваленты: как маркер, так и
показатель.— Прим. ред.
200
ного, наречия, определителя и т. д.; и они так же
неоспоримо полезны, как эмы в фонологии.
За фонологическими эмами стоит трехтысячелетняя
история попыток выработать систему письма. Если бы не
было алфавита, ни один лингвист не сумел бы «открыть»
в 1930 г. фонему. К этому времени уже был накоплен
значительный практический опыт, и теперь необходимы были
аналитический ум и пытливое внимание лингвиста. Что
касается синтаксиса, то и здесь имелась— хотя она и не
получила такого широкого распространения в обществе, как
алфавитное письмо, — вполне разработанная традиционная
грамматика, в которой главные вопросы уже были в
основном согласованы и на которую могла опереться грамматика
научная. Полуправдой, гласящей, что в порождающей
грамматике не содержится «ничего поистине нового»,
выражен один из самых сильных ее аргументов —
подтверждается то, что мы уже давно подозревали.
Ценность традиции определяется многовековыми
процессами тщательного отбора, просеивания, селекции и
выбраковки, происходящими на громадном полигоне, где
практическая польза является решающим фактором для
выживания и где многими руками проводятся опыты, из
которых последним является тот, который обусловливает
достижение научной истины. Фонология и синтаксис
унаследовали ограниченные наборы противопоставлений, их
аппарат не был перегружен понятиями. А что же
унаследовала семантика? Если она и получила кое-что в наследство —
и даже если не получила и все приходится изобретать
заново,—■ важно установить, является ли конечным
количество ее понятий или сводятся ли они к такому количеству,
с которым можно справиться. Чтобы ответить на эти
вопросы, надо выяснить роль семантических показателей
в какой-либо конкретной теории и проследить —■ если
наследственные связи существуют,— каким образом она
связана с тем, чем семантика занималась прежде.
Очевидно, что объектом подобного анализа должна
явиться работа Джерольда Катца и Джерри Фодора
«Структура семантической теории» х, которая заслуженно
сыграла большую роль в распространении понятия
«семантического показателя» (маркера). Для К — Ф «семан-
1 См. журн. «Language», 39, 1963, р. 170—210. Далее: К — Ф;
сокращение это дается в целях экономии места и отнюдь не умаляет
заслуг авторов.
201
тические маркеры — это элементы, выражающие в теории
семантические отношения» (187) *, те относительно
«мельчайшие понятия», которые «демонстрируют семантическую
структуру в словарной статье и семантические отношения
МЕЖДУ словарными статьями» (186). И хотя при такой
постановке вопроса проблема практически сводится к
декодирующим терминам и вся аргументация направлена
на то, чтобы разъяснить, каким образом теория может
обосновать возможность снятия неясности, вызванной
многозначностью (это обозначается как «дезамбигуация»),
здесь совершенно очевидно прослеживаются уклонения
в другие области, в частности в сторону акта
кодирования. Однако в данном случае для нас важно, что
предлагаемая К — Ф теория направлена исключительно на
решение того, что делается или должно делаться в словаре,
чтобы правила — так называемые «правила проекции» —
могли снять неясность, привести к дезамбигуации
семантически неопределенного предложения.
Упоминание о словаре приводит нас к мысли, что на
самом деле К — Ф имеют в виду традицию, а именно
лексикографическую традицию. Правда, они не говорят
прямо, что предлагаемые ими процедуры разработки
определений являются лишь усовершенствованием того, чем
всегда занимались составители словарей, но некоторые
сходные моменты, несомненно, существуют. Их будет
легче проследить, если мы сначала приведем один-два
примера интерпретаций К —■ Ф2.
* Цифры в скобках указывают страницы упомянутой статьи
Д. Катца и Д. Фодора.— Прим. ред.
2 По-видимому, именно здесь следует указать на то, что К — Ф,
в попытке прикрыть фланги, заявили, что они ие ставят себе целью
СОЗДАТЬ семантическую теорию. Они, якобы, лишь предприняли
попытку наметить ПОДХОД к такой теории. Если на их примеры им
ответят убедительными контрпримерами,, они не будут обескуражены,
а, напротив, обратятся к поискам более достоверных примеров или
модифицируют какой-либо элемент теории. Это, конечно, предполагает
незыблемость основ теории — трудно производить ремонт в доме, в
котором необходимо убрать несущие балки. Все дело в том, что, если не
продемонстрирована значительная часть всего построения, мы не можем
знать, способна ли будет теория распространяться не только на
отдельные лексические структуры, из которых черпаются примеры. Если
на основании изучения горстки образцовых примеров можно с равным
правом сделать вывод и в пользу теории и против нее, значит обещание
подлатать такую теорию ие может служить защитой. В этом смысле
нельзя прощать дурной вкус, потому что это все-таки вкус. Все за-
202
В качестве примера обычного вида словарной статьи
К; — ф приводят статью bachelor в виде схемы, как это
показано на рис. 1. Такой вид статьи, указывают они, не
годится для семантической теории, поскольку определения
1.А YOUNG KNIGHT SERVING UNDER
' THE STANDARD OF ANOTHER KNIGHT
2.0NE WHD POSSESSES THE FIRST DR
LOWEST ACADEMIC DEGREE
•3.A MAN WHO HAS NEVER MARRIED
4.A YDUNG FUR SEAL WHEN WITHOUT
• A MATE DURING THE BREEDING TIME
1. Молодой рыцарь, служащий в вой"
* ске другого рыцаря
2.0бладатель первой, или. низшей, уче«
" ной степени
_3. Мужчина, который никогда не был
женат
.4. Молодой котик, не имеющий
подруги в брачный сезон
Рис. 1(185)
не имеют систематического характера. Ее следует
переделать, с тем чтобы эксплицировать показатели, как это
сделано на рис. 2, где в круглые скобки заключены
семантические показатели, а в квадратные — еще один тип
элементарного понятия — «различитель», представляющий собой
идиосинкразический остаток, то есть то, что остается от
данного значения, когда все показатели уже отброшены. Каждое
значение слова исчерпывающе определяется
прокладыванием пути от грамматического показателя (noun) через
семантические показатели к различителю.
Конечно, убедительность этой схемы нельзя считать
случайной, потому что, хотя фактически статья слова bachelor
построена иначе, нечто подобное регулярно используется в
висит от того, что демонстрируется, и, пока нам не показали большего,
теорию следует критиковать на основании предлагаемых примеров,
подобно тому как с хозяина можно потребовать возмещения убытков
за действия его уполномоченного.
J>achelorr
•Noun
bachelor^
203
Словарных определениях. Словарь Вебстера * определяет
одно из значений слова nectar 'нектар' как 'A sweet liquid
that is secreted by the nectaries of a plant' ('сладкая
жидкость, выделяемая нектарниками растений'). Можно
предположить, что это значение прослеживается наряду с
другими по схеме на рис, 3,
bachelor
noun 'существительное'
[young
knight
serving
under the
standard of
enother
knight]
[who has the
first or
lowest
acedemic
(Animal) ('животное')
(Male) ('мужского пола')
[young fur seal
when without
a mate during
the breeding
time]
Рис. 2(186)
Словарь дает показатели (Liquid) ('Жидкий') и (Sweet)
('Сладкий'), которые служат, соответственно, различению
значений, связанных с «выделением нектара» и с
«серовато-красным цветом» или с «любым вкусным напитком».
Вероятно, (Liquid) — слишком специальный показатель (но
он может понадобиться в других случаях, и поэтому я его
оставляю), вследствие чего в том месте, где цвет отделяется
от других значений, я добавлю более общий показатель —
(Material) ('Вещество'). Я не уверен, что мои показатели
удовлетворят К — Ф. Однако этот пример, как мне кажется,
* Автор имеет в виду третье издание словаря Вебстера: «Webster's
Third New International Dictionary of the English Language». G. and
С Merriam Co., Springfield, Mass., 1961.— Прим. перев.
204
достаточно убедительно доказывает, что словарная статья
складывается, по существу, из показателей и
различителен
Убедившись в том, что в словарном деле существует
практика, сходная с предлагаемым семантическим анализом,
мы можем теперь перейти к обсуждению некоторых проб-
nectar 'нектар'
noun /существительное'
{Material) (Вещество)
(Liquid) (Жидкость).
(Sweet) ('сладкий')
[that Is secreted I'выделяемый
by the nectaries нектарниками
ofaplentj растений']
(Color) (Цвет)
[ a grayish red I
[ 'серовато-красный']
[any delicious drink]
['любой вкусный напиток']
Рис. 3.
лем, возникающих в связи с попыткой превратить эту
практику в теорию, способную объяснить все связанные с ней
вопросы. Нам предстоит выяснить, является ли эта
практика единственной или же она типична для словарей и
представляет ли она теоретический интерес.
ПРОБЛЕМА ДВОЙСТВЕННОСТИ: 1. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗЛИЧИТЕЛИ
Словарь не приводит разграничения между
показателями и различителями. Эту двойственность создают К — Ф,
чтобы иметь возможность назвать «именно столько»
показателей, сколько нужно для того, чтобы выполнить
поставленную задачу. Данная теория может иметь их больше или
205
меньше и вследствие этого быть более или менее
чувствительной к тем случаям снятия многозначности, которые
человек, свободно говорящий на данном языке, легко
осуществляет. Чтобы говорящий способен был понять, что в
случае The old bachelor finally died. 'В конце концов
старый bachelor умер.' слово bachelor означает 'unmarried man'
('неженатый мужчина'), а не 'young knight serving under
the standard of another knight' ('молодой рыцарь,
служащий в войсках другого рыцаря'), недостаточно определить
bachelor при помощи одной из его ипостасей, а именно —•
noun — (Human) ('Человек') — (Male) ('Мужского пола').
Если требуется такая степень понимаемости, то
придется характеристику young 'молодой' перевести в ранг
показателя (Young), потому что показатели, по определению,
являются теми семантическими атомами, посредством
которых осуществляется снятие многозначности. Как далеко
предлагаемая теория сможет продвинуться по этому пути,
определяется стратегией, которая стремится к
максимальной экономии при систематизации: сочетания наибольшей
понятийной экономии с возможно большей объяснительной
и описательной силой. Если эти условия принять как
оптимальные, то должен наступить момент, когда усложнение
семантической теории новыми показателями уже не будет
сопровождаться преимуществами точности или более
широкого охвата. С этого момента система семантических
показателей будет точно отражать системный характер
семантической структуры языка (190). Переделав схему с
учетом нового статуса (Young), К — Ф иллюстрируют
процесс извлечения показателя из различителя, как мы это
видим на рис. 4.
Допуская возможность существования теорий с
разными степенями понимаемости, К — Ф тем не менее в
цитате, приведенной выше, постулируют идеальную теорию,
в которой «система семантических показателей будет
точно отражать системность семантической структуры языка».
Создается впечатление, что такая теория сможет
справиться со всеми случаями снятия многозначности, которые для
человека, свободно говорящего на данном языке,
аналогичны примеру (Young) К — Ф. Тогда возникает вопрос,
не будет ли различитель отодвигаться все дальше и дальше,
пока совсем не исчезнет за горизонтом. Посмотрим, не
произойдет ли это на самом деле, если мы подберем еще ряд
случаев, в которых реализуется возможность снятия многозна-
206
чности слова bachelor. Я приведу предложения, в которых
многозначность снимается, объясню их, а затем
представлю это в виде схемы.
1. Не became a bachelor. 'Он стал bachelor'. Это
исключает различитель 'man who has never married' ('мужчина,
который никогда не был женат') — невозможно стать кем-
то, кем был с самого начала. Здесь мы можем извлечь из
bachelor
nolm
(Male)
7\
/ \
[ who has never (Young)
married]
[knight serving
under
[ who has the
first or lowest
academic degree]
the standard of another knight]
Рис. 4(190)
(Male)
\
\
(Young)
[furseal when withouta mate
during the-breeding time]
различителя never 'никогда' часть -ever 'когда-нибудь'
и предложить показатель (Nonbecoming) (Нестановление).
2. The seven-year-old bachelor sat on the rock.
'Семилетний bachelor сидел на скале.' Определения 'male who has
never married' ('лицо мужского пола, которое никогда не
было женато') недостаточно. Оно должно быть более
точным: 'adult male who has never married'('зрелое лицо
мужского пола, которое никогда не было женато'), а из этого
расширенного различителя мы можем теперь извлечь
показатель (Adult) ('Зрелый').
3. Lancelot was the unhappiest of all the bachelors after
his wife died. 'Ланселот был самым несчастным из всех
bachelors, когда умерла его жена.' Это предложение
позволяет перевести в ранг показателей характеристику
(Unmarried) ('Неженатый') и таким образом избавиться от разли-
207
чителя в одной из разветвлений схемы: bachelor — noun —
(Human) — (Male) — (Adult) — (Nonbecoming) —
(Unmarried).
4. That peasant is a happy bachelor. 'Этот крестьянин —
счастливый bachelor.' Раз речь идет о крестьянине, что
несовместимо с рыцарским званием, то следует на какой-то
стадии ввести показатель сословия. 'Рыцарь' предполагает
аристократическое происхождение. Вычленим показатель
(Noble) ('Благородный') из различителя (оставив пока
вопрос о сословной отнесенности в качестве компонента
различителя 'рыцарь').
5. George is one bachelor who is his own boss. 'Джордж —
это тот bachelor, который сам себе хозяин.' Это исключает
характеристику 'рыцарь' и превращает различитель
'serving under' ('служащий под началом') в еще один
показатель ранга, который можно назвать (Dependent)
('Зависимый').
6. George is a bachelor in the service of the Queen.
'Джордж— bachelor на службе у королевы.' И здесь 'рыцарь'
исключается. Мы получаем показатель, определяющий
направление отношения зависимости (Dependency)
('Зависимость'): зависимость по отношению к лицу, стоящему на
более высокой ступени (Nobility) ('Родовитости'). Я
полагаю, что (Dependent) ('Зависимый') доминирует над
(Proximate) ('Непосредственный') 3.
7. Knight banneret Gawain is a bachelor. 'Баннерет*
Гауэйн —bachelor'. Здесь исключается низший статус
рыцаря-вассала и появляется возможность ввести (Inferior)
('Низший') в качестве ограничения (Noble) ('Благородный').
8. At some time in his life every man is a bachelor. 'B
3 К— Ф не обращаются к проблеме иерархии показателей.
Предполагается, что существуют определенные устойчивые их
последовательности. Например, показатели (Human) ('Человек') vs. (Animal)
('Животное') должны предшествовать (Male) ('Мужской пол') vs.
(Female) ('Женский пол'), которые в свою очередь должны следовать
раньше, чем (Old) ('Старый') is. (Young) ('Молодой') и т. д. Если бы
подобная последовательность ие существовала, мы не смогли бы достичь
такого обобщения показателей, при котором, например, (Inferior)
('Низший') может включать как низшую степень дворянства (над которой
господствует (Noble) ('Благородный')), так и низшую академическую
степень (с доминированием других показателей, относящихся к таким
степеням). Пришлось бы вводить еще специальные показатели,
увеличив тем самым количество показателей.
* Баннерет—ист. 'рыцарь, ведущий вассальное войско под своим
знаменем'.— Прим. перев,
208
какой-то период своей жизни всякий мужчина является
bachelor'. Здесь исключаются оба — и рыцарь и бакалавр,—
так как статус происхождения не существен. Поэтому для
них мы можем ввести обобщенный показатель. Я назову его
(Hierarchic) ('Иерархический').
9. A bachelor is expected to fight. 'Bachelor'у положено
сражаться'. В этом случае при доминирующем показателе
(Military) ('Военный') иерархия получает свое настоящее
воплощение. Теперь на 'ветви рыцарства' уже нет
различителен и она имеет следующий вид: bachelor — noun —
(Human) — (Male) — (Military) — (Hierarchic) —
(Noble) — (Inferior) — (Dependent) — (Proximate) —
(Young).
10. He's studying hard to be a bachelor. 'Он много
занимается, чтобы стать bachelor'. Здесь снова возникает
возможность какого-то иерархического расположения. Я
ввожу показатель (Educand) ('Обучаемый').
11. Employers prefer married men who are at least
bachelors; without the degree you hardly have a chance. 'Хозяева
предпочитают женатых мужчин, и по крайней мере
bachelors; без степени у вас почти нет шансов'. Этот пример
подтверждает, что обобщенный показатель статуса положения
(Hierarchic) ('Иерархический') должен быть повторен на
данной ветви.
12. At the age of twenty-five he ceased to be a bachelor,
but he never married. 'В возрасте двадцати пяти лет он
перестал быть bachelor, но так никогда и не женился'. Это
высказывание относится, конечно, к рыцарю и указывает на
существование показателя, сходного с (Nonbecoming)
('Нестановление'), который был дополнительно введен к ветви
'неженатого мужчины': нельзя стать неженатым мужчиной,
можно перестать им быть; рыцарем-вассалом можно как
стать, так и перестать быть; можно стать бакалавром
(искусств, например), но нельзя перестать им быть.
Следовательно, положение на академической последовательности
можно обозначить как (Permanent) ('Постоянный'), и этот
показатель будет отличать, например, bachelor от sophomore
('второкурсник'). Поскольку на ветви рыцарства у нас уже
есть показатель (Inferior) ('Низший'), мы можем ввести его
и здесь, убирая тем самым различитель. Бакалавр, таким
образом, определяется как bachelor — noun — (Human) —
(Educand) — (Hierarchic) — (Permanent) — (Inferior).
13. That pet of mine is always nuzzling me and barking and
209
wiggling his flippers. 'Этот наш ручной зверек всегда
обнюхивает меня и лает и шевелит ластами.'
Я включил этот пример, чтобы обратить внимание на
необходимость делать различие в данной системе между
(Canine) ('семейство собачьих') и (Phocine) ('семейство
тюленьих'), вследствие чего (Phocine) извлекается из различи-
теля и на своей ветви должен занять место ниже (Animal)
('Животное'). Не прибегая к дальнейшим объяснениям, мы
можем установить последовательность данной ветви:
bachelor — noun — (Animal) — (Phocine) — (Hirsute)
('волосатый') 4 — (Male) — (Adult) — (Young) — (Unmated),
которая будет представлять собой почти полное
определение котика при помощи одних только показателей. Об
остатке— 'during the mating season' 'во время брачного
сезона' — я скажу ниже.
Приведенным анализом я хотел продемонстрировать
возможность устранения двойственности посредством
превращения различителей в цепочку показателей. Такая
система менее неуклюжа теоретически и более приемлема
эстетически, хотя за слово bachelor пришлось дорого
заплатить—.количество показателей увеличилось впятеро.
По-видимому, именно нежелание платить такой дорогой
ценой и заставило К — Ф цепляться за этот их дуализм,
хотя они и понимают, что для некоторых определений раз-
личители излишни; так, например, (Animal) ('Животное') —
не только показатель, но также и слово и в качестве
такового не будет в конечном счете иметь различителей,
соответствующих его значению как показателя; ср. сн. на с. 1875.
4 Эти показатели устанавливаются легко, если следовать тому,
что К — Ф предпринимают в отношении old 'старый'. Для того чтобы
из различителя извлечь (Young), они прибегают к употреблению его
антонима в предложении: The old bachelor finally died. 'В конце концов
старый bachelor умер'. Точно так же мы можем взять синоним или
антоним к какому-нибудь слову в различителе с (Animal) и построить
с ним предложения, способствующие обнаружению точного смысла, и,
таким образом, создать новые показатели, например: the phocine
bachelor 'bachelor из семейства тюленьих' (Phocine устанавливается
непосредственно), the hairless bachelor 'безволосый bachelor' (bachelor
устанавливается опосредованно) и т. д.
5 В одном случае они, правда, косвенно, определяют значение
только через различитель. Слово colorful 'яркий' по одной из ветвей
(198) обозначено как 'Adjective ('прилагательное') — (Color) ('Цвет')
[abounding in contrast or variety of bright colors]' ('изобилующий
контрастными или разными яркими красками'). Если считать, что
colorful состоит из компонентов, а именно такой подход проповедуют
К — Ф (192), то единственной частью различителя, соответствующей
210
Еще одним недостатком различителен — по крайней
мере тех, которые указываются в схемах К — Ф,—
является избыточность. Когда (Young) ('Молодой') из класса
различителей переводят в класс показателей, в различителе
остается 'knight' ('рыцарь'), что, естественно, может быть
представлено как (Human) ('Человек') и (Male) ('Мужского
пола'). Когда и это изымается из различителя, в нем
остается нечто, что можно охарактеризовать как 'member of
the lowest nobility' ('член низших слоев дворянства').
Такое определение тоже имеет несомненный вид показателя
и может служить основой для дальнейшего извлечения
показателей. Даже если различители остаются, необходимо из
этой категории убрать все лишнее. А это значит просто
проверить по словарю определения содержащихся в них
единиц (например, knight), установить показатели (Human,
Male), вычленить их и затем, если они уже встречаются на
ветви данного значения, изъять их вообще.
В естественном языке не наблюдается никакого
отчетливого разграничения, которому могло бы соответствовать
разделение на показатель и различитель,— в этом и
заключается самый существенный изъян данной теории. Ведь
для теории, претендующей на приложимость к
естественному языку, то обстоятельство, что такая заметная
характеристика не имеет столь же заметной параллели в
объективной реальности, не может не считаться недостатком.
А может быть, К — Ф не ведают, что творят, и для
различителей или чего-нибудь в этом роде действительно
имеется местечко, хотя и немного сбоку от того, куда они их
поместили. Мне на ум приходят две возможности: одна,
относящаяся к некоторым предпосылкам рассматриваемой
теории, а другая — не относящаяся к ней, но связанная с
обычной лексикографической практикой.
Во-первых, необходимо задать следующий вопрос: если
теория объясняет человеческое поведение, не должна ли
она учитывать ту сферу человеческого поведения, которая
открывает перед нами смысловые особенности, являющиеся
источником материала для нашей теории. Говорящие
добиваются, чтобы их понимали. Понимание предполагает
снятие многозначности. Снятие многозначности
предполагает наличие процессов, которые делают это возможным.
морфеме -ful, является 'abounding in' ('изобилующий чем-либо'). Этот
вйпрос в работе не обсуждается, и, следовательно, нельзя сказать,
имеет ли он значение.
211
К — Ф признают два таких процесса — лингвистический,
в котором применяются показатели, и нелингвистический,
в котором применяется знание говорящим реального мира.
Здесь как раз и может появиться остаток, из которого
складывается содержание лингвистических различителей.
Если такое предложение, как Henry became a bachelor in
1965. 'Генри стал bachelor в 1965 году.', не представляется
неопределенным, так как говорящий знает, что институт
рыцарей давно сгинул, то bachelor в значении 'knight'
('рыцарь') может иметь своим различителем или частью его
что-нибудь вроде 'in the Middle Ages' ('в средние века').
Такой подход к различителям позволил бы данной теории
использовать некоторые не учитываемые ею пометы,
связанные со сферой употребления, и другой лексический
материал (например, Rom. antiq. 'вдревн. Риме'), с которой
начинается определение слова cohort 'когорта' в Century*.
Это, конечно, относится к коллективным знаниям о мире,
а не к чему-то индивидуальному; это относится, например,
к той ситуации, когда слушающий разрешает
двусмысленность предложения Bessie is a bitch. 'Бесси — сука.' в
пользу 'canine' ('из семейства собачьих'), а не 'human'
('человек'), потому что он знает, что данный говорящий не
пользуется в речи неприличными словами.
Это решение вопроса имеет то преимущество, что две
двойственности сводятся к одной, хотя и весьма
существенной: «знание языка» us. «знание мира». Одновременно это
вызывает в некоторых случаях такое ощущение, будто
смотришь в телескоп с обратного конца. За столь широкой
пометой, как Rom. antiq., стоит целый мир всего связного
текста, являющегося не менее мощным средством
классификации, чем семантический показатель, значительно
большим, чем это может сделать различитель. Теория К — Ф не
учитывает связный текст, и я сомневаюсь, что
различитель найдет в нем место. Оказавшаяся в остатке
двойственность также вызывает у меня сомнения, поэтому ниже я еще
вернусь к этим двум вопросам.
Второе возможное решение связано с включением того
вида определений, которые часто встречаются в словарях,
но не учитываются в схеме К — Ф. Это можно
проиллюстрировать словами sun 'солнце' и senate 'сенат'. В ACD**
* Имеется в виду словарь.— Прим. перев.
** См. предыдущее примечание.— Прим. перев.
212
sun в первом значении определяется как 'the star which is
the central body of the solar system' ('звезда, которая
является центральным телом солнечной системы'), а в третьем —
как 'a self-luminous heavenly body' ('самосветящееся
небесное тело'). Первое значение является частным случаем
третьего значения. Слово senate в первом значении
определяется как 'an assembly or council of citizens having the
highest deliberative functions' ('собрание или совет граждан,
имеющий высшие совещательные функции') и т. д.;
значения второе и третье являются частными случаями
первого. Я не вижу оснований, почему уровень различителей
не может начинаться именно здесь, где уже бесполезны
показатели и можно приводить списки типа: sun 'солнце' -*•
Old Sol 'Солнце', Betelgeuse 'Бетельгейзе', Sirius 'Сириус',
Alpha Centauri 'Альфа Центавра' , . . Это аналогично
такому случаю, как 'NProp (имя собств.) -*- John, James,
Henry, Charles...', и охватывает, естественно, словарные
определения, семантически соответствующие именам
собственным,
ПРОБЛЕМА СИММЕТРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Вторая теоретическая задача заключается в
необходимости закрепить за всеми ветвями как можно больше
сходных показателей. Принимая данную лексическую единицу
за «слово», мы обязаны признавать за ней некоторую
степень внутренней организованности. Резко отличающиеся
друг от друга значения не могут не вызывать подозрения в
том, что мы имеем дело с омонимией; и действительно, сила
теории показателей может быть измерена посредством
омонимии: ниже определенного количества общих
показателей два значения могут представлять два омонима, а не
две различные ветви одного и того же слова. Существование
двух сходных, хотя и не одинаковых, показателей или
показателя и различителя должно вызвать подозрение в том,
что мы не заметили скрытой идентичности.
Приведу пример с показателем (Young) ('Молодой').
Совершенно очевидно, что между (Young) и показателем
'first or lowest' ('первый или низший'), которое К — Ф
вставили в различитель для А. В. *, существует определенная
* A. B.=BacheIor of Art 'бакалавр искусств'.— Прим. перев.
213
связь. (Young) можно рассматривать как (Early) ('Ранний')
на пути, ведущем вниз от (Animated) ('Определенного
возраста'). А.В.— это (Early) на пути, ведущем вниз от (Edu-
cand) ('Обучаемый'), и т. д. При более тонком анализе
можно свести (Young) к общему с еще одной ветвью
показателю (Early). С моей точки зрения, в этом нет большой
пользы, так как я уже был вынужден добавить (Inferior)
('Низший') к рыцарской ветви, а это захватывает также и
низшую степень — А.В.; но если единственным специальным
показателем на той рыцарской ветви, которую
предложили К — Ф, является (Young), то можно спорить
относительно возможности его обобщения, чтобы включить и А. В.
Это не самый лучший пример, но я привел именно его,
потому что он не требует выхода за пределы показателей,
предлагаемых К — Ф.
Более удачным примером — включающим добавленные
мною показатели — является параллель между
(Unmarried) ('Неженатый') у ветви (Human) ('Человек') и (Un-
mated) ('Без пары') у (Animal) ('Животное'). Если не
учитывать особенностей церемонии бракосочетания у людей
и тюленей (мы же не станем учитывать разницу между
церковным браком и гражданским), то, очевидно, два
показателя окажутся явным излишеством, поэтому я и свожу их к
одному — (Unmated).
ПРОБЛЕМА СКРЫТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Я специально не касался одного различителя на ветви
(Animal), а именно — 'during the mating season' ('во время
брачного сезона'), чтобы проиллюстрировать третий
теоретический вопрос. Для человека в этом случае показатель
(Adult) ('Зрелый') является достаточным, поскольку для
него состояние зрелости определяет способность к
супружеству. Что касается самцов-тюленей, то они спариваются лишь
в определенное время года, и поэтому (Adult) не является
для них достаточным показателем: можно представить себе
зрелого молодого котика без пары, который тем не менее
не будет bachelor, потому что для этого еще не наступило
время. 'During the mating season' ('Во время брачного
сезона') представляется нам неподходящим признаком для
показателя, пока мы не осознаем, что, называя
кого-нибудь — человека или животное — bachelor, мы имеем в
214
(Adult)
(Nonbecoming)
(Unmated!
(Animal)
1
(Phocine)
1
(Hirsute)
[
(Male)
(Adult)
1
(Young)
(Nubile)
1
(Unmated)
4
3
2
1
6
5
bachelor
I
существительное
(Человек)
(Мужск.пола)
(Обучаемый)
(Животное)
(Из семейства
тюленьих)
(Зрелый)
(Не-становление)
(Без пары)
(Военный)
(Иерархический)
(Благородный)
(Низший)
I
(Зависимый)
(Непосредственный)
(Иерархический) (Волосатый) 3
(Постоянный)
(Низший)
(Мужского
пола) |
(Зрелый)
(Молодой)
(Достигший
брачного
возраста)
I
(Без пары)
(Молодой)
Рис. 5. Цифры справа показывают порядок расположения данных
показателей в словарном определении: 1. Young 'молодой'; 2. Male
'мужского пола'; 3. Fur 'мех'; 4. Seal 'котик'; 5. Without a mate 'без
пары'; 6. During the mating season 'в период случки',
виду, что у него нет пары тогда, когда ему полагается ее
иметь: для человека это период зрелости, а для котика —
период случки. Следовательно, показателем нужно
считать (Availability for mating) ('Наличие возможности
спаривания') или, если выразить одним словом, (Nubile)
('Достигший брачного возраста'). И если мы не встретим
затруднений в понимании предложения The migrating
bachelors stopped to rest. 'Мигрирующие bachelors
остановились отдохнуть.' — мы знаем, что у тюленей период
миграции не совпадает с периодом случки, и поэтому речь может
идти только о людях,— то это будет означать, что мы
применяем здесь свое 'знание мира', как мы это сделали в
случае с Не became a bachelor in 1965. 'Он стал bachelor в
1965 году.'. Другими словами, переведя показатель
(Nubile) в область нашего экстралингвистического опыта, мы
можем лишить его ассоциаций с временем, так же как мы
можем это сделать с knight 'рыцарь', и тогда словарная
статья bachelor будет состоять только из показателей (см.
рис. 5 на с. 215).
Таким образом, (Nubile) ('Достигший брачного
возраста') оказывается рядом с (Animal) ('Животное'), хотя он
вполне мог бы быть, если бы это было необходимо, и рядом
с (Human) ('Человек'). Это — скрытый показатель.
Следует ли его учитывать? Речь здесь не идет о создании
лишнего показателя — ведь он уже был нужен в другом
месте,— дело скорее в том, какая часть системы показателей
должна получить эксплицитное выражение. Можно
привести бесконечное количество неправильных предложений,
чтобы показать, насколько неуклюжей будет такая
подача. Например, Не walked right through the bachelor. 'Он
прошел насквозь через холостяка.' неправильно, потому
что bachelor обладает признаком (Solid) ('Твердое тело').
Не broke the bachelor in two.. 'Он сломал холостяка
надвое.' неправильно, потому что bachelor обладает качеством
(Pliable) ('Пластичный'). Не welded the bachelor. 'Он
сваривал холостяка.' неправильно, потому что bachelor —
(Organic) ('Органическое образование'). Указанные
показатели господствуют над (Human) ('Человек') и (Animal)
('Животное'). Если мы желаем объяснить способность
носителя данного языка распознавать неправильность — а не
только двусмысленность — при помощи имеющихся в его
распоряжении показателей, то таковых легион. Они
нисходят с вершины, которую можно было бы назвать — по,
216
аналогии с грамматическим S = Sentence ('Предложение') —
U( = Universe) ('Вселенная'). Или, может быть, G( =
God 'бог'). Это не так абсурдно, как может показаться.
Данные категории определенно напоминают подход
Аристотеля.
Существует разница между таким словарем, статьи
которого должны принимать в расчет необходимость снятия
двусмысленности, и таким, который рассчитан также и на
распознавание неправильности. Можно смело
предположить, что в переводческую машину не будут вводиться
неправильные предложения, поэтому если словарь
предназначен служить в качестве вспомогательного средства для
такой машины, то можно удовлетвориться относительно
ограниченным списком показателей — одной-двумя
дюжинами на каждую статью. Если же словарь задуман как
описание того, каким образом говорящие на данном языке
обходятся с неправильными, а не только с двусмысленными
предложениями, то каждая статья будет бесконечно длинной.
Если модель должна служить своего рода лексическим
отражением естественного языка, разумней всего будет
вообще отказаться от обычного словаря. Вместо этого
нужно что-то вроде тезауруса, где каждый показатель
встречается только один раз и где каждое значение лексической
единицы будет представлять собой особую
последовательность, идущую от показателя к показателю.
ПРОБЛЕМА АБСТРАКТНОГО ОПИСАНИЯ
Число показателей тем больше, чем более специфичны
признаки. Это вытекает из признания того, что понятия,
которые основываются на нашем опыте, складываются из
элементов, общих для разных понятий, и не слишком
перегружены специфическими, или базовыми, элементами.
Думается, что такое "положение изначально свойственно
системе показателей. Что удобней — два показателя:
(Liquid) ('Жидкий') и (Gaseous) ('Газообразный') — или один:
(Fluid) ('Текучий'), сопровождаемый еще двумя: (Dense)
('Плотный') и (Diffuse) ('Рассеянный'). Вряд ли
понадобится этот последний вариант, если (Dense) и (Diffuse) могут
быть использованы только для разбиения (Fluid) надвое.
Если мы обнаружим, что (Diffuse) полезно для
определения глаголов типа scatter 'рассеивать', dispel 'развеивать',
2Ц
disseminate 'разбрасывать', a (Dense) — для
существительных типа crowd 'толпа', jam 'затор', clot 'сгусток', тогда
имеет смысл сделать шаг назад и получить более глубокую
перспективу.
Это можно продемонстрировать на примере показателя
(Young) ('Молодой'). Я выше уже предлагал заменить
его на (Early) ('Ранний'), чтобы показать симметрию
соотношений между разными ветвями в слове bachelor. Но здесь
есть и другой, более основательный повод. Все, что
соотносится со шкалой времени, может быть определено как
(Early) ('Ранний') или (Late) ('Поздний'):
живое существо
(онтогенетически)
человечество (со-
циогенетически)
портящийся
продукт
другие продукты
фазы луны
прилив
фрукты
все растущее
EARLY
young 'молодой'
primitive
'первобытный'
fresh 'свежий'
new 'новый'
waxing
'прибывающая'
flood 'прилив'
green 'зеленый'
immature
'незрелый'
LATE
old 'старый'
advanced
'развитой'
stale 'несвежий'
old 'старый'
waning
'убывающая'
ebb 'отлив'
ripe 'зрелый'
mature
'зрелый'
Здесь взаимоотношения вскрываются при помощи
различных метафорических переносов, таких, как early in
life-<-young 'в начале жизни ч- молодой', early
civilizations ч- primitive civilizations 'ранние цивилизации ч-
первобытные цивилизации', the fresh of the morning ч-the
early part of the day 'раннее утро ч- раннее время дня'.
Если мы хотим избежать увеличения количества
показателей, такое уточнение их становится необходимым.
Можно ли это сделать? До тех пор пока мы не
попробовали свои силы на обширном материале, вряд ли разумно
будет утверждать это с уверенностью. Теория же
показателей должна принять эту возможность за исходную или
согласиться на увеличение количества показателей.
Мой скепсис объясняется сомнениями в отношении
возможности обозначать всё математическими значками.
Некоторые конструкты по аналогии с дифференциальными
признаками могут быть схематически представлены при
218
помощи плюсов и минусов. Пианино, например, можно
прекрасно выделить из среды других музыкальных
инструментов как -f ударный инструмент, + клавиатура,
+струна, — духовой инструмент, -f темперированный и т. д.
Но ведь пианино одновременно и предмет мебели, для
которого значение приобретают такие переменные аспекты,
как ножки, размер, поверхность, наклон (нужно ли
инструмент ставить горизонтально или вертикально); важен и
материал, из которого он сделан.
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ГРАДАЦИИ):
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СИНОНИМОВ
Составители словарей не боятся признать существование
последовательности определений. Они, как правило,
справляются с ней при помощи синонимов, значения которых
частично перекрывают друг друга. Такая процедура
настолько чужда теории К — Ф что они вообще отрицают
ее существование (185): «Непосредственное включение в
словарную статью синонимов, которое повсеместно
практикуется при составлении обычных словарей, является
избыточным и вводится лишь для того, чтобы избавить тех,
кто пользуется словарем, от необходимости выявлять
синонимы некоторой лексической единицы сравнением ее
определения с определением всех других единиц в словаре.
Короче говоря, практика перечисления синонимов какой-
либо лексической единицы является просто одним из
видов перекрестных ссылок». Здесь ничего не говорится о
том, что синонимы используются в качестве определений
самих значений. Несколько примеров из Вебстера III:
detract 3: 'divert, draw' ('отвлекать, отводить');
heavy 5b: 'pregnant, gravid' ('беременная'); 7b: 'dull
and confused due to interruption of sleep' ('тупой, несообра-
жающий, вследствие прерванного сна'); 8f: 'massive, coarse'
('массивный, тяжелый'); 8h: 'steep, acute' ('крутой');
8i: 'laborious, difficult' ('тяжкий, трудный').
Нередко, чтобы скрыть синонимические определения,
авторы прибегают к номинализации прилагательных.
Подобная уловка может быть проиллюстрирована словом
petty 'мелкий' 3b *: 'reflecting small-mindedness .or meanness'
* Имеется в виду значение ЗЬ в словаре Вебстера III (см. сноску
к с. 204).— Прим. перев.
219
('отражающий узость или мелочность') (то есть 'small-
minded and mean' 'ограниченный и мелочный'); или
dauntless: 'marked by courageous resolution' ('отличающийся
бесстрашной решимостью') (то есть 'courageous and resolute'
'бесстрашный и решительный'). Когда в Вебстере III
приводятся синонимы — перекрестные ссылки, по К — Ф,—
они специально выделяются заглавными буквами; но даже
и они иногда используются в качестве определения
значения. Так, в качестве определения encourage 2 'поощрять'
дается: 'to spur on' ('подстегивать'): STIMULATE
'побуждать', INCITE 'подстрекать' — три синонима, два из
которых соответственно обозначены. Без двух последних
можно было бы предположить, что encourage относится к
лошади; stimulate же указывает на то, что имеется в виду
'побуждение' вообще, a incite сообщает нам, что объектом его
является, как правило, человек, а не животное.
Когда составители Вебстера III прибегают к
синонимическим определениям, они чаще всего приводят два
синонима, то есть значение определяется частичным совпадением
семантических диапазонов двух других слов, которые
считаются уже известными. Для создания подобного
«перекрытия» нужно иметь минимум два слова. Можно, конечно,
возразить, что таким образом мы просто в краткой форме
говорим, что X обладает показателями Y и Z, которые не
исключают друг друга. Так обстоит дело с (Human) при
encourage. Но при определении слова petty 'мелкий'
раскрывается степень пейоративности: petty более
пейоративно, чем small-minded 'ограниченный', но менее
пейоративно, чем mean 'мелочный'. В синонимических определениях
используется семантический объем отдельных слов, а не
своеобразно завуалированная дефиниция, основанная на
показателях. Раз приходится прибегать к синонимическим
определениям, значит, использование показателей имеет
предел, и К — Ф, называя синонимические ряды
'избыточными', не справились с этой проблемой,
ПРОБЛЕМА МЕТАФОРЫ
Законченная семантическая теория должна не только
назвать показатели для всех значений и определить их
место, но объяснить, каким образом эти показатели
прибавляются и отнимаются, чтобы изменить значение слова,
220
Подобно тому как в теории дифференциальных признаков
изменение всего лишь одного признака ведет к
фонологическому сдвигу, так и в теории показателей одним из
подтверждений ее правильности должна стать способность
предсказывать семантические сдвиги. Искать такого рода
подтверждения, подвергать теорию показателей столь
изощренной проверке пока преждевременно. Однако вполне
уместным будет более скромное требование: соотнести друг
с другом несколько значений одного слова с точки зрения
выбора показателей и общности ветвей, имея в виду
вероятность производности одного из них от другого.
Хотелось бы, чтобы производные значения были представлены
тесно связанными ветвями. Решительное несоблюдение
подобной регулярности может заставить предположить, что
семантическая производность не подчиняется правилам, а
это в свою очередь поставит под сомнение возможность
формального подхода к семантике вообще.
В качестве примера я выбрал слово soup 'суп' и в
соответствии с тем, как это, по-моему, сделали бы К — Ф,
предлагаю схему его значений, разработанных Вебстером III
(см. рис. 6 на стр. 222).
Метафорическая основа всех значений, кроме одного,
совершенно очевидна. Облака сравниваются с густым
супом, химические вещества — с консистенцией бульона и
поварскими методами его варки, культуры бактерий — с
консистенцией и съедобностью супа. «Пиковое» положение
соотносится с общеизвестной карикатурой о миссионере,
попавшем в котел людоеда, а «мощность» сравнивается с
нитроглицерином, который в свою очередь сопоставляется
с пищей.
С точки зрения показателей все эти значения совсем не
соотносимы друг с другом. При соотнесении
затруднительности положения с котлом для варки супа стягивается
самый широкий разрыв, который только можно себе
представить, — разрыв между (Concrete) ('конкретный') и
(Abstract) ('абстрактный'). То же можно сказать о
сопоставлении «мощность» — «нитроглицерин». Приглядываясь к
такого рода «выходам», направленным далеко за пределы
допустимых орбит, нельзя не прийти к заключению о
неопределенности семантических взаимосвязей.
Крайним случаем этой неопределенности являются
густые облака. Фактически густые облака диффузны, но в
наименовании их словом soup раскрывается стремление
221
soup
(Diffuse) (Energetic) [predicament]
(Liquid) [becterial (Chemical) [wet cement]
culture]
[food for
humen
beings]
(Energetic) Iphotogrephic [pyroxylin
developer] solution]
[nitroglycerin]
существительное
(Плотный)
(Рассеянный) (Энергетический) [ тяжелое
положение]
(Съедобный)
(Несъедобный) [густые [мощность]
облака]
(Жидкий) [культура (Химический)' [мокрый цемент]
/ для бактерий] / \~*"^
[пища для (Энергетический) [фото- ХРаств°р
людей] / проявитель] пироксилина]
{нитроглицерин]
Рис. 6.
представить их в виде плотной массы. Какой же тогда
выбрать показатель — фактическую диффузность или
метафорическую плотность? При перемещении из сферы
показателя (Dense) ('плотный') в сферу показателя (Diffuse)
('рассеянный') soup в значении 'thick clouds' ('густые
облака') несет с собой (Dense) ('плотный') и в результате
получается, что облака плотные, хотя плотными они быть
не могут. Вот такая возникает дилемма в теории, которая
основывается на показателях, потому что здесь приходится
делать обязательный выбор — либо одно, либо другое, все
или ничего. Показатели подобны атомам, у них нет
градаций. Некая вещь либо (Dense) ('Плотный'), либо (Diffuse)
('Рассеянный').
Словарь напоминает застывшую пантомиму. Когда мы
обращаемся к блеклым цветам из 'букета увядших метафор',
которые он засушил между своими страницами, наши
трудности только начинаются. Семантическая теория должна
объяснить процесс метафорического творчества, тем
более такая теория, которая исходит из генеративной
грамматики с ее упором на творческое начало. Одно дело
достигнуть понимания, прибегая к устоявшимся, известным
тебе и твоему собеседнику значениям, как бы
последовательно исключая все другие; другое дело заставить, чтобы
тебя поняли, когда ты, например, называешь 'фумаролой'
человека, курящего одну сигарету за другой. Одной из
характерных черт естественного языка является то, что его
слова не замыкаются пределами исчисленных значений,
но несут в себе способность улавливать сходство: 'быть
сходным с ...'.
Метафора приводит к коренным сдвигам, которые
подчеркивают резкую разницу между темами связного текста
и единством всего языка. Так возникает вопрос: можно ли
подступиться ко всему разнообразию реалий — от слэнга
до техники, науки, затем снова вернуться к политике,
религии, быту — средствами одного и того же набора
категорий?
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ДАННЫХ:
КОНСТРУКТИВНОЕ И СУБСТАНТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В обычных словарях используются разного рода
дефиниции. Иногда словари применяют нечто, подобное
показателям, в других случаях прибегают к частично совпадаю-
223
Щим синонимам, в-третьих — прибегают к сравнениям
(cornicle: 'horn-shaped' process ('рожок: роговидный
отросток'). Предполагается, что различные типы
определений соответствуют специфике разных сегментов словаря.
То, что пригодно для абстрактного описания слова senate
'сенат', непригодно для того, чтобы определить
конкретный Senate. Из этого следует, что для выяснения того,
поддадутся ли все словарные статьи единообразной обработке,
необходимо изучить весь словник. Я склонен думать, что
bachelor, предлагаемый К — Ф в качестве примера,
представляет собой особое слово, где мы «находим» показатели,
вложенные в него нами самими. Подобным же образом
uncle 'дядя' — это тот, кто находится в социально
выраженной связи с parent 'родитель', в свою очередь
связанным с offspring 'отпрыск'. Эти показатели присутствуют
здесь, потому что мы их вложили в данные слова. Совсем
другое дело обнаружить показатели в таких единицах,
которые развивались независимо от наших операций с
именованиями. Холостяк холост, потому что он не женат, а
женитьба — это произвольно определенный социальный
акт; здесь мы сами навязываем условия. Птица же или
рыба — это то, что нам дано, и показатели подгоняются к ним,
как одежда, не всегда удачно. Одежда сидит плохо: все
приблизительно, метафорично, она может быть подвергнута
переделкам и — самое главное — может измениться по
мере того, как сам объект со временем развивается или
хиреет. Разница между разными типами слов имеет
первостепенное значение. Конструктивная дефиниция
применяется в случаях социального конструкта, который
показатели определили a priori. .Субстантивная дефиниция
применяется в отношении предметов реального естественного
мира. Контраст становится более отчетливым, когда он
может быть выражен мельчайшими нюансами, когда один и
тот же объект может рассматриваться и так и эдак. В одной
недавней рецензии подвергается критике определение
глагола to inspect ('обследовать') как 'to examine carefully'
('тщательно проверять') на том основании, что можно
вполне естественно сказать to inspect carelessly 'небрежно
проверять'. Но to inspect — это также 'to perform the duties
of an inspector' ('выполнять обязанности инспектора'),
а инспекторы, рассматриваемые как имя лица, могут быть
careless 'небрежными'. С конструктивной точки зрения
совершенно правильным будет сказать, что inspector — это
224
'one who examines carefully* ('тот, кто тщательно
проверяет'). Inspector, bachelor, cousin 'двоюродный брат или
двоюродная сестра', suffrage 'избирательное право', baptism
'баптизм', corporal 'капрал' — вот слова, которые
представляют конструктивные образования, и они могут успешно
рассматриваться с помощью семантических показателей.
Со словами, называющими вещи, дела обстоят менее
радужно.
ПРОБЛЕМА ДВОЙСТВЕННОСТИ:
II. «ЗНАНИЕ ЯЗЫКА» И «ЗНАНИЕ МИРА»
Слушающий понимает, что значит предложение Не
became a bachelor in 1965. 'Он стал бакалавром в 1965 году.',
потому что он знает историю: он знает, что рыцарство давно
сошло со сцены. «Знание мира» учитывается говорящим
тогда, когда противопоставляются две теории,
предлагающие возможные пути разрешения многозначности: теория
(наиболее распространенная), основывающаяся на контексте
ситуации, и та, которая опирается на правила оперирования
показателями, которые являются составной частью
лингвистического аппарата предложения. К — Ф не отрицают
значения экстралингвистического контекста для снятия
многих случаев многозначности, но, поскольку при этом
должно учитываться слишком большое количество данных—
фактически все, что мы знаем о мире,— они отрицают
возможность создания стройной компактной теории, которая
могла бы отразить этот процесс. Для иллюстрации
предлагается пример: Our store sells alligator shoes. 'Наш
магазин продает аллигаторовые туфли.' us.Our store sells horse
shoes. 'Наш магазин продает лошадиные башмаки'.
Знание экстралингвистической реальности подсказывает нам,
что аллигаторы не носят башмаков, следовательно, в
первом предложении не имеются в виду туфли для аллигаторов,
а лошади носят, правда, не туфли, а подковы, откуда
следует, что речь, вероятно, идет не о туфлях из лошадиной
шкуры. (Здесь, правда, не учитывается тот факт,
являющийся частью нашего лингвистического опыта, что
horse 'лошадь' и horsehide 'лошадиная шкура' — вещи
разные и что horseshoe 'подкова' — существующее в языке
сложное слово, тогда как alligator shoe 'аллигаторовые
туфли' таковым не является, но пока и мы оставим это без
8 J* 1234
225
внимания.) Другими словами, мы Достигли снятия
многозначности, но не при помощи семантического показателя.
Но почему это не семантический показатель? Откуда же
возникают такие показатели, как (Animal) ('Животное'),
(Physical Object) ('Физический объект'), (Young) ('Молодой')
и (Female) ('Женского пола'), если не из нашего знания
мира? Что удивительного в таком показателе, как (Shoe-
wearing) ('Носящий обувь')? Конечно, он не имеет такого
обобщающего характера, как (Female), но все-таки он
достаточно широк. При помощи этого показателя можно
определить обычай монахов-кармелитов ходить босыми; кроме
того, он, подобно верховой езде, может появиться как
указание на статус: «Говорят, что методист — это баптист с
башмаками на ногах...» в.
Квота на иммиграцию, призванная защитить
показатели от контаминации, связанной с притоком из внешнего
мира, не более действенна, чем социальный барьер,
преграждающий миграцию различителей вверх. В конечном
итоге оба вида двойственности совпадают.
ПРОБЛЕМЫ МОРФЕМЫ
Показатель — это атом, мельчайший элемент
содержания. Что же является мельчайшим элементом формы? К—Ф
почти не касаются вопроса об обосновании и выборе
последнего и связи между этими двумя единицами.
Чтобы решить данный вопрос, мне придется уйти с
перекрестка лингвистической теории, на котором, как мне
кажется, перепутаны указатели. Я имею в виду то
положение, которое последние несколько лет встречалось по
крайней мере в каждой второй-третьей статье по грамматике и
по поводу которой К — Ф выступают так определенно и
недвусмысленно: «Владение языком у бегло на нем
говорящего человека проявляется в его способности производить
и понимать на своем родном языке все предложения, в к л го-
чая бесконечное количество прежде
ему неизвестных... Одной из поразительнейших
особенностей употребления языка является отсутствие
повторяемости: почти любое произнесенное предложение
0 Richard Hofstadter. Anti-intellectualism in American life.
New York, 1963, p. 90.
226
произносится впервые» (171). Затем К — Ф добавляют
(171—172):
«Сталкиваясь с новым предложением, говорящий
сталкивается не с новыми элементами, а с новыми комбинациями
известных элементов. Поскольку набор предложений
бесконечен, и каждое предложение представляет собой новое
сочетание морфем, то обстоятельство, что говорящий может
понять любое предложение, означает, по-видимому,
сложность способа восприятия дотоле не встречающихся
предложений: на основании знания грамматических свойств и
значений морфем данного языка говорящий может по
известным ему правилам определить значение нового
предложения с помощью способа, посредством которого
складываются части предложения, чтобы получилось целое».
Чтобы понятие «совершенно нового» и «известного» не
стало тривиальным, необходимо договориться о том, где
кончается одно и начинается другое. В ненаучном,
тривиальном, смысле камень, катящийся со склона и увлекающий за
собой другие камни, служит созданию совершенно новой
по форме кучи у подножья — случайная новизна. Почти
точно в таком же тривиальном смысле абзац, в котором
содержится все уже ранее сказанное, может быть
поставлен рядом с другим абзацем, в котором тоже все уже было
прежде сказано, а соединение их будет «совершенно новым».
Отношение к новому напоминает наше удивительно
пуристическое отношение к «истине»: если что-нибудь в каком-либо
утверждении ложно, значит, все утверждение ложно:
если в высказывании есть что-нибудь новое, значит, все
оно новое. Мой пример с двумя абзацами может показаться
преувеличенным, но его нужно рассматривать в свете
расширенного подхода самих К — Ф к границам
«предложения»: в стремлении охватить своей теорией весь
лингвистический контекст и исключить весь контекст ситуации они
приняли методику нанизывания бесконечных речевых
отрезков при помощи союзов, «заменяя связный текст или
большие его отрезки одним-единственным сложным
предложением» (180). Такие предложения действительно
встречаются в речи маленьких детей, которые еще не знают, где
нужно ставить точку, или в речи взрослых, когда они
боятся, что их прервут. Однако очевидно, что понимать
«совершенно новый» в таком всеобъемлющем смысле
тривиально. Человек, разговаривающий по телефону с прия-
8*
227
телем и одновременно смотрящий в окно, может сказать:
Jack told me he would be home early, and here he comes up
the sidewalk. 'Джек говорил мне, что он будет дома рано,
и вот он идет сюда по тротуару'.
Если кто-то прежде уже произносил или слышал эти
два предложения: Jack told me he would be home early.
'Джек говорил мне, что он будет дома рано.' и Here he
comes up the sidewalk. 'Вот он идет сюда по тротуару.', и
они, следовательно, не являются новыми, мы не можем
объявлять новым их совместное появление при создавшейся
определенной ситуации — приближающегося по тротуару
человека — здесь нет никакого творчества. Единственно
потенциально новым является союз and 'и' — коэффициент
творчества, близкий к нулю. Но, как это следует из
контекста употребления слова 'известный', К— Ф, конечно
же, не имеют в виду такую крайность. Если то, что
известно, находится на самом низшем уровне синтаксиса, на
уровне морфем, тогда совершенно новым может не обязательно
быть искусственно раздутое предложение, а любая
комбинация морфем. И здесь их ошибка заключается в том, что они
помещают этот уровень слишком низко. Существует
бесконечное количество сочетаний морфем, которые известны,
причем многие из них обладают довольно большой длиной;
одной из таких средних по величине цепочек, той, с которой
работают К — Ф, не ощущая никаких неудобств, является
слово. Но коэффициент известности может быть
значительно выше. К — Ф считают оригинальность предложений
«поразительной». Но то, что мы считаем поразительным, то,
что может удивить нас, зависит от направления наших
мыслей. Я более склонен удивляться мертвящей
повторяемости языка. И еще больше я удивляюсь приверженности
лингвистов к тому мнению, что нечто, являющееся на 95%
старым не только по составу элементов, но и по
значительной части своей внутренней организации, следует
рассматривать как стопроцентное новое.
Сказать, что «Прежде никогда не делали X»,— это знать
больше, чем человеку доступно. Когда мы отбросим наши
притязания на всеведение, перед нами сразу же
откроются другие пути рассмотрения проблемы снятия
многозначности.
Возвращаюсь к случаю с horseshoe 'подкова', который
приводится К — Ф в качестве примера возможной
многозначности: 'a shoe for a horse' ('башмак для лошади') или
228
'a shoe made out of horse hide ('башмак, сделанный из
лошадиной шкуры)'). То обстоятельство, что К — Ф
прибегают к этому примеру, является дальнейшим доказательством
их приверженности к морфемам, как единственному
уровню, которому можно приписать качества «известности».
Но морфемы в слове horseshoe 'подкова' выделить лишь
ненамного легче, чем морфемы в слове pretend, которое тоже
можно рассматривать как имеющее два значения: 'to tend
beforehand' ('позаботиться заранее') и 'to feign'
('прикидываться'). Horseshoe в речи человека, свободно говорящего
по-английски, произносится в одно слово, так же, как и
spree 'пирушка'.
Если это справедливо, то мы имеем право поднять
известность на более высокий уровень. Любое повторяющееся
сочетание должно быть известно. А поскольку сочетания
являются источниками смысловых
характеристик в нашем сознании, мы узнаем значение слова
bachelor в таких контекстах, как The old bachelor finally got
married. 'Старый холостяк наконец женился.', на основании
характеристик, из которых мы делаем нужный выбор.
Рассмотрим еще пример, особый и нетипичный
приблизительно в той же степени, в какой и bachelor является
особым и нетипичным (хотя и в другом роде). Я выбрал этот
пример, потому что он лучше всего иллюстрирует ту
известность более высокого уровня, которую должна признавать
любая теория естественного языка: существительное spell
в двух значениях: 'a period of time' ('отрезок времени')
и 'an enchantment' ('чары') 7. Известными сочетаниями для
первого будут: a spell of warm weather 'период теплой
погоды', a cold spell 'холодная пора', a hot spell 'период
жары', a rainy spell 'полоса дождей', [Не was there] for a
spell '[Он провел там] некоторое время' и т. д. Известными
сочетаниями для второго будут pronounce a spell
'произнести заклинание', cast a spell 'околдовать', under a spell
'околдованный', release from a spell 'расколдовать', break
the spell 'рассеять чары' (два последние относятся сюда,
если в сочетания не включается, например, of hot weather
'жаркой погоды').
С этого места наши доказательства могут развиваться
двумя путями. Можно сказать, как это, бесспорно, сделали
7 Если мне возразят, что этимологически это «разные словарные
статьи», я просто подыщу другой пример. Но такой довод не имеет
отношения к снятию многозначности.
229
бы К — Ф, что of weather 'погоды' снимает многозначность
spell. Или можно сказать, как это делаю я, что
многозначности не было с самого начала: что spell of weather 'полоса
какой-либо погоды' — это заранее известная единица,
точно также, как pretend 'притворяться' является заранее
известной единицей, и что of weather требуется для снятия
многозначности spell не в большей степени, чем для tend
требуется pre-, чтобы исключить значение 'to have a
tendency' ('иметь тенденцию'). Разница в мнениях здесь не
может быть устранена лингвистическими средствами —
за ней стоят философские и психологические моменты,
которые лингвист не имеет права не учитывать. С позиций
философии здесь идет речь о проблеме части и целого.
Психологически это проблема, в которой происходит
интеграция: как вы в своем сознании воспринимаете А и В — как
нечто целое или у вас в сознании есть А и есть В, и они
воздействуют друг на друга? Если подлинной лингвистической
единицей является a spell of warm weather 'период теплой
погоды', усваиваемое как одно целое (взрослый человек
может выделить spell, если его спросить об отдельном слове,—
это своего рода примитивное лексикографическое
упражнение, которое имеет не больше значения для языка, чем
народная этимология), то, значит, нет никакой
многозначности, которую надо снимать, а деление на А и В для
говорящего в данном речевом акте (пусть не для лингвиста)
было ложным.
Ландшафт застывших форм неровен: то тут, то там
поднимаются высокие пики морфем, нагроможденных одна на
другую, между ними зияют провалы глубиной всего в одну-
две морфемы. Снятие многозначности скользит по верхам.
Никогда оно не идет последовательно от одной морфемы к
другой. Семантическая теория естественного языка должна
каким-то образом суметь совместить то, как человек
обращается с целыми величинами и одновременно с формами —
морфемами,— которые ему удалось вычленить из этих
целых величин. Может быть, когда-нибудь, если психологи
окажут немного больше помощи, мы будем готовы к тому,
чтобы создать такую теорию.
В настоящее же время как можно охарактеризовать
теорию К — Ф? И что лежит в ее истоках?
Прежде всего она отражает семантические единицы,
границы которых четко определены. Показатель является
абсолютной величиной. Объект должен либо быть, либо не
230
быть (Male) ('мужского пола'), (Young) ('молодым'), (Large)
('большим'), (Evaluative) ('оценочным'). Если же мы
сталкиваемся с размытостью контуров, значит, мы упустили из
виду один-другой показатель. С этим связаны четкие
границы лексических единиц. Они представляют собой
хрупкие кристаллические структуры, которые можно брать в
руки, но нельзя по-настоящему абсорбировать: «Словарь —
это то, что говорящий выучивает более или менее наизусть,
единица за единицей» (сн. к с. 183). При такой постановке
вопроса возникает образ деловой сделки, при которой
человек вдруг и сразу становится обладателем некоторой
собственности, как если бы он купил участок земли, в то время
как в действительности имеет место длительный
процесс деконтекстуализации значения, при котором слово
сначала смутно вырисовывается и лишь потом, медленно,
по мере того, как оно приобретает все новые контексты,
одно за другим исключает лишнее. Наконец,
лексические единицы оказываются произвольными в том смысле,
что они никак особым образом не соотносятся с другими
единицами в системе. Если не считать столь же произвольную
общность показателей, они могут без ущерба для
внутреннего равновесия быть изъяты и заменены другими
единицами. В одной недавней рецензии Фодор следующим
образом определяет условность 8: «Сказать, что
лингвистический знак условен, обусловлен договором, значит признать,
что целостность символа зависит исключительно от
договоренности всех говорящих: принципиально любая во-
8 «Language», 40, 1964, р. 568.
Если подходить к этому вопросу принципиально, то ни одну
вокабулу, вероятно, нельзя заменить на другую без последствий для
системы. Замена всего лишь нескольких рифм разрушает поэтическое
произведение. Если, например, заменить слово too 'слишком' словом
plethorly 'с избытком', то исчезнут некоторые ограничения в
употреблении too, являющиеся следствием столкновения омонимов
(использование plethorly, как и excessively 'чрезмерно' снимет звездочку в случаях
Is he nice? — *Yes, too 'Он симпатичный?' — 'Да, слишком' и *а too
large group 'слишком большая группа'). Если tiny 'крошечный'
заменить словом perminute 'миниатюрный', то teeny 'крохотулечный'
останется ни с чем. Если все односложные прилагательные заменить
многосложными, что повлечет за собой утрату сравнительной степени
на -ег, то исчезнут и некоторые семантические различия, которые
возникают в результате возможности выбора между двумя формами. Как
указывает Хаусхолдер (Householde г.— In: «Journal of
Linguistics», I, 1965, p. 18), существует немало грамматик, и такая
грамматика, для которой безразлично, является ли tiny 'tiny' или
'perminute', лишь одна из иих.
231
кабула может обозначать любой предмет, если будет
соответственно изменена договоренность о языке, которой
говорящие придерживаются». Это общественный договор в
чистом виде, алгебраизированный руссоизм в применении
к семантике, и, хотя придумали его не К — Ф, они ничего
в нем не изменили. В строгих рамках их теории нет места
ни накоплению значения в том виде, в каком это в
действительности наблюдается, ни развитию значения, как оно
на самом деле происходит.
Четкость границ лексической единицы сопряжена с ее
минимальностью. К — Ф подписываются под призывом
к разоружению вплоть до самой морфемы. Их сообщения
набираются вручную, подвижными литерами и после
разового использования рассыпаются, а литеры возвращаются
в наборную кассу. Морфемы представляются им монадами,
которые, следуя определенным правилам, сходятся друг с
другом и расходятся, не оставляя от своих связей никаких
следов. Конечно же, К — Ф прекрасно понимают, что это не
соответствует действительности, и они готовы признать
это — их теория не рассчитана на то, чтобы объяснять
идиомы и неопределенные случаи, встречающиеся в любой
научной области, где теоретические рассуждения удобно
начинать с мельчайших единиц. Однако, если, как
я полагаю, имеет значение все то, что остается после
разложения более крупных единиц на морфемы, и вообще
всякие остаточные элементы, то монадологический подход к
лексике нельзя считать удовлетворительным. Самым
слабым звеном в теории К — Ф является их исходная позиция,
то есть то, что они исходят из минимальной лексической
единицы.
Что касается истоков их вдохновения, то они якобы
основываются на том, что дают словари, но мы-то видели, что
словари могут давать и больше и меньше. В них меньше
похожих на перечисление показателей дефиниций, которые
поддаются формализации по К — Ф. Кроме своеобразных
иерархических систем соотнесения с референтами, есть и
другие способы определения. Словари существуют не для
того, чтобы давать дефиниции, а для того, чтобы помочь
людям понять значение, и поэтому их основной задачей
является обеспечить читателя рядом намеков и ассоциаций,
которые соотнесут неизвестное с чем-то уже известным.
Организованность и систематичность словаря являются
скорее следствием нашего инстинктивного стремления к по-
232
рядку, чем основанной на самом объекте какой-то глубокой
потребностью в системе. Если словарь указал
пользующемуся на опору в его собственном опыте — один-другой
синоним, диаграмму, контекст, сравнение, привязанное к
удобному (в смысле соотнесения) способу,— значит^ он
выполнил свое назначение, и, чтобы быть хорошим
лексикографом-практиком, нужно уметь видеть возможные
ассоциации, а не стремиться достичь теоретических высот. Слово
instanter 'мгновенно' определяется в Вебстере III целиком
при помощи синонимов; глагол to entangle 'запутывать'
определяется синонимами и «различителем»: 'to twist or
interweave so as to make separation difficult' ('Так сплетать
или переплетать, чтобы затруднить разделение'); henna
'хна' —это 'кустарник или маленькое дерево', чем дается
понять, что ни кустарник, ни дерево, каждое в отдельности,
не могут дать представления о размере хны; одно из
значений insignificant 'незначительный' подается как 'of little
size or importance' ('маленький по размеру или значению'),
то есть к неизвестным словам привязываются известные.
Все приведенные случаи являются лишь простыми
напоминаниями о вещах, с которыми мы уже знакомы. Успех к
словарю приходит через наше знание мира, вследствие
этого, а не вопреки этому.
Конечно, есть словари и словари. И если мы не
претендуем на то, чтобы словарь, который мы нарисовали, был
лучше лексикографических пособий, которые студенты
обязаны иметь под рукой, значит, мы имеем право составлять
любой словарь, какой пожелаем, лишь бы он служил цели,
для которой задуман. Сознательно или нет, но К — Ф,
имея в виду определенную операцию, описывают лишь
такой вид словаря, который сможет ее обеспечить.
Нельзя в настоящее время продолжать гневаться на ге-
неративистов и вновь набрасываться на них с обвинениями в
том, что в идеале они стремятся превратить естественный
язык в машинный. Грамматисты уже ответили на это:
формальная грамматика — это такая грамматика, которая
автоматически, по заданным правилам, порождает
предложения без вмешательства извне, и она действительно п одоб-
н а машине, хотя и не порождена ею.
Однако в генеративной грамматике остается нечто
неправильное или по крайней мере преувеличенное, но что-то
такое, что приближается к истине в формализованной
семантике, Я имею в виду распространенное, но никогда пол-
233
ностью открыто не признаваемое убеждение, что подобная
система может основываться на относительно небольшом
количестве показателей. Когда К. -— Ф пишут (192), что
формальная семантическая теория должна добиваться
семантических толкований «без помощи лингвистической
интуиции и проникновенности», они просто иначе называют
все те подспорья для интерпретации, которые прежде
исключались как относящиеся к знанию мира и которые, если их
включить, превратят в открытый, беспредельный ряд в
естественных языках то, что соответствует показателям. Если
генеративная грамматика возникла именно для того, чтобы
подвести формальную основу под грамматическую
интуицию, то теория К — Ф стремится исключить некоторые
виды семантической интуиции. И поскольку в результате
такого подхода их теория не может адекватно объяснить
поведение людей, для которых данный язык является
родным, то за выбором нескольких показателей из всей их
обширной интуитивной массы, должно быть, кроется
какой-нибудь другой мотив. Решительные качественные
сокращения не нужны естественным носителям языка. Они
нужны машинам с их относительно ограниченными
возможностями. Перед программистом стоит задача заставить
машину работать как можно успешнее, и тут сравнительно
небольшое количество показателей, отобранных за их
большую широту охвата, может сыграть решающую роль. Дело
не в том, что эти показатели имеют больше теоретических
оснований называться таковыми, а в том, что они несут
самую тяжелую функциональную нагрузку.
Если сказанное соответствует истине, то теория К — Ф
является в лучшем случае частной теорией семантики
естественного языка, хотя она может оказаться очень удачной
теорией программирования для машинного перевода.
Дж. Д. МакКоли
О МЕСТЕ СЕМАНТИКИ В ГРАММАТИКЕ ЯЗЫКА1*
Научная добросовестность требует признать, что,
выступая со статьей в сборниквг.«Универсалии в
лингвистической теории», я оказался в ложном положении. Дело в том,
что я не могу предложить какие бы то ни было семантические
универсалии. Более того, мне кажется, что современная
лингвистика вообще столь же мало подготовлена к
выдвижению семантических универсалий, сколь лингвистика до
Панини к выдвижению фонологических универсалий.
Поэтому да будет мне позволено временно забыть о том, что мы
1 Часть данной статьи была прочитана в качестве доклада
(«Синтаксис и семантика именных групп множественного числа») на ежегодной
конференции Нью-Йоркского лингвистического кружка 19 марта 1967
года.
Статья посвящается памяти Уриэля Вейнрейха, чья безвременная
кончина лишила лингвистику одного из самых глубоких
исследователей. Влияние Вейнрейха очевидно во многих местах предлагаемой
ниже работы.
* James D. М с С a w 1 е у. The role of semantics in a grammar.
—In: «Universale in linguistic theory», edited by E. Bach and R. T. Harms.
Holt, Rinehart and Winston, Inc. N. Y. etc., 1968, p. 124—169. Для
удобства читателей переводчик разбил статью на 7 разделов, снабдив
каждый заглавием:
«О понятии лексической единицы» 236
«Лексические единицы и разрешение неоднозначности» . . 240
«Регулярная неоднозначность» 244
«Сочетаемостные ограничения» 247
«Референционные индексы» 253
«Однородные члены, сочинительное сокращение и
множественное число» 260
«Грамматическое лицо и перформативиые глаголы» . . . 277
Автор любезно согласился просмотреть рукопись перевода; его
замечания и предложения с благодарностью учтены переводчиком.—
Прим. перев.
235
находимся сейчас на конференции по языковым универса-
ниям, и просто поговорить о семантике (применительно к
английскому языку).
К сожалению, между трактовкой семантики в
порождающей грамматике и описанием синтаксиса в «фонологической»
грамматике Трейгера и Смита нетрудно обнаружить
существенное сходство. Здесь семантика, а там синтаксис
рассматриваются как нечто туманное, само по себе не
поддающееся описанию и доступное для научного наблюдения
только через синтаксис или соответственно фонологию. Это
сходство особенно явно выступает в известном тезисе Катца и
Фодора (Katz — Fodor, 1963, p. 172): «Семантика —
это лингвистическое описание минус грамматика». В самом
деле, ведь по существу этот тезис означает, что семантика
понимается прямо-таки как бесформенное крошево, о
котором можно поговорить, но лишь после того, как мы
покончим с лингвистикой в собственном смысле. Однако
мы все стали свидетелями бурного прогресса и фонологии
и синтаксиса. Этот прогресс — бесспорный результат
осознания лингвистами того факта, что фонология и синтаксис
представляют собой две автономно существующие, хотя
и взаимосвязанные, области, ни одну из которых
невозможно определить через другую посредством вычитаний.
Я постараюсь привести ряд доводов в пользу той точки
зрения, что осознание аналогичного факта относительно
соотношения синтаксиса и семантики может оказать столь
же благотворное влияние на развитие и той и другой
области.
О ПОНЯТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
В качестве введения к тому, что я имею сказать о
семантике, я хотел бы рассмотреть понятия «словарная статья»
(dictionary entry) и «лексическая единица» (lexical item).
Возьмем, например, такое многозначное слово, как англ.
bachelor. Катц и Фодор (1963) трактуют это слово как одну
лексическую единицу, которой соответствует одна
словарная статья, содержащая четыре подстатьи — по одной
подстатье для каждого из четырех различаемых ими
значений слова bachelor: 1) 'молодой рыцарь, находящийся в
подчинении у другого рыцаря', 2) 'бакалавр' (низшая
университетская степень), 3) 'холостяк', 4) 'молодой самец
котика, не имеющий самки в период спаривания', Катц и
236
Фодор, равно как и большинство профессиональных
лексикографов, стремятся описать в рамках одной словарной
статьи все значения, которые присущи данной цепочке
фонем в пределах одной части речи. Однако вовсе ниоткуда
не следует, что словарные сведения надо группировать на
основе тождественности звуковых оболочек, а не по каким-
либо другим признакам, например на основе
тождественности семантических представлений или (допустим в
иллюстративных целях такую абсурдную возможность) на
основе совпадения списков трансформаций и
фонологических правил, не применимых к данным единицам. Более
того, нет никакого основания полагать, что в словаре
вообще необходима какая-либо группировка единиц; ничто не
мешает применять термин «лексическая единица» для
обозначения совокупности следующих четырех объектов: 1)
одно толкование [=одно семантическое представление],
2) одна звуковая оболочка [=одно фонологическое
представление], 3) одна синтаксическая категория и 4) один
набор указаний о неприменимости тех или иных правил
к данной лексической единице. При таком понимании
термина «лексическая единица» (оно было выдвинуто У. Вейн-
рейхом в Weinreich, 1966а — см. наст, сборник,
с. 140) в случае с bachelor у нас окажется четыре разные
лексические единицы с одинаковым звучанием, а не одна
многозначная лексическая единица.
Можно привести целый ряд убедительных доводов в
пользу того, что при описании естественных языков
целесообразнее пользоваться лексическими единицами в смысле
Вейнрейха, а не в смысле Катца — Фодора. Главный довод
состоит в том, что трансформации, требующие
тождественности двух лексических единиц, требуют совпадения отнюдь
не словарных статей Катца — Фодора, а совпадения
конкретных толкований. В качестве яркого примера можно
указать следующую проблему, поставленную Н. Хомским
(Chomsky, 1965, р. 183): чем объясняется аномальность
фраз (1) - (3)?
(1) * John is as sad as the book he read yeasterday. 'Джон
такой же грустный, как та книга, которую он читал
вчера.'
(2) *Не exploits his employees more than the
opportunity to please. « 'Он использует своих служащих
больше, чем возможность понравиться.'
237
(3) *Is Brazil as independent as the continuum
hypothesis? 'Является ли Бразилия столь же независимой,
сколь континуум-гипотеза?'
Каждая из этих фраз содержит сравнительную
конструкцию; в частности, фразе (1) Хомский предлагает
приписывать глубинную структуру, изображенную
на с. 239.
Фраза (1) получается из этой структуры посредством
применения трансформации, которая элиминирует во
вложенном предложении [строки 6—11] прилагательное sad
[строка 11], совпадающее с прилагательным sad [строка 6]
в главном предложении. Поэтому ясно, что аномальность
фразы, имеющей подобную структуру, может объясняться
нарушением требования идентичности упомянутых
прилагательных. Если различные толкования, связанные с одной
и той же звуковой оболочкой, считаются разными
лексическими единицами, то аномальность фразы (1) объясняется
очевидным образом. В самом деле, для sad мы имеем две
разные лексические единицы: sadi 'грустный' со значением
'испытывающий чувство грусти (о живых существах)' и
sad2, означающий 'вызывающий грусть (о различных
эстетических ценностях и т. п.)'. Тем самым схема на с. 239
может изображать любую из четырех возможных глубинных
структур — в зависимости от того, как трактуется каждое
из двух вхождений sad: как sadi или как sad?. Из этих
четырех глубинных структур та, у которой на обоих местах
[строки 6 и 11] будет sadb окажется аномальной в силу
нарушения сочетаемостных ограничений: во вложенном
предложении лексическая единица sadi требует в качестве
определяемого или подлежащего одушевленного
существительного — название существа, однако в роли подлежащего
в этом предложении выступает неодушевленное that book
'та книга'. К структуре, где в главном предложении мы
имеем sadi, а во вложенном — sad2, сравнительная
трансформация неприменима, поскольку это разные
прилагательные, так что из этой структуры и не может получиться
John is as sad as that book; в точности то же самое относится
к структуре, имеющей sad2 в главном предложении и sad*
во вложенном. Наконец, структура с sad2 на обоих местах
аномальна опять-таки из-за нарушения сочетаемостных
ограничений — на этот раз в главном предложении, где
sad2, требующее в качестве определяемого или
подлежащего
го названия эстетической ценности, является именной
частью сказуемого к подлежащему John.
Однако для того, кто, подобно Н. Хомскому (см.
Chomsky, 1955), считает терминальные узлы глубинной
структуры едиными многозначными единицами — ср.
недифференцированное sad Хомского 2,— подобное объяснение
аномальности предложений (1) — (3) невозможно.
2 Позже Хомский изменил свое представление о лексической
единице (см. Chomsky, 1966, сноска 6),
239
Учитывая все сказанное, в дальнейшем я буду
предполагать, что каждому терминальному узлу в глубинной
структуре отвечает в точности одно семантическое
представление.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И РАЗРЕШЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ
Теперь следует сказать несколько слов о соотношении
между понятием «разрешение неоднозначности»
(disambiguation) неоднозначных лексических единиц в теории
Катца и Фодора и понятием лексической единицы у Вейнрейха.
Как известно, семантические проекционные правила
(projection rules) Катца и Фодора устроены следующим
образом: если некоторая единица состоит из двух составляющих,
одна из которых имеет т толкований (то есть является т-
значной), а вторая — п толкований, то образуется тп
комбинаций толкований (в каждую комбинацию отбирается по
одному толкованию каждой составляющей); затем
отбрасываются все те комбинации, в которых одно из толкований
нарушает хотя бы одно сочетаемостное ограничение
другого толкования; наконец, из каждой оставшейся
комбинации — в соответствии с определенным проекционным
правилом — строится толкование для всей конструкции в
целом. Последовательно применяя проекционные правила ко
все более крупным составляющим в глубинной структуре
фразы, мы должны получить в конце концов множество
альтернативных толкований для фразы в целом. Таким
образом, в соответствии с теорией Катца — Фодора разрешение
неоднозначности выполняется только посредством
отсеивания тех комбинаций толкований, в которых нарушаются
какие-либо сочетаемостные ограничения. Если же вместо
лексических единиц Катца — Фодора принять лексические
единицы Вейнрейха, то неоднозначность будет разрешаться
путем отсеивания некоторых структур из множества тех
глубинных структур, терминальными узлами которых
являются омофонические лексические единицы Вейнрейха;
проекционные правила будут применяться отдельно к
каждой из этих глубинных структур, причем применение
правила состоит в следующем: каждому узлу сопоставляется
толкование, получаемое комбинированием единственных
толкований, сопоставленных тем узлам, которые
непосредственно подчинены данному. Нормальной/аномальной
?40
считается вся глубинная структура в целом, а не та
или иная комбинация толкований, в которой
соблюдаются/нарушаются какие-нибудь сочетаемостные
ограничения.
Подобный подход имеет ряд преимуществ перед теорией
Катца и Фодора.
Во-первых, существуют фразы, которые, несмотря на то
что в них имеются нарушения сочетаемостных ограничений
(во «вложенных» частях), все же не являются аномальными,
например:
(4) It is nonsense to speak of a rock having diabetes.
'Говорить, что какая-то скала больна диабетом,—
бессмыслица.'
(5) Rocks can't have diabetes.
'Скалы не болеют диабетом.'
(6) John said that the rock had diabetes.
'Джон сказал, что эта скала больна диабетом.'
Это означает, что процедура разрешения неоднозначности,
предложенная вКа t z — Fodor, 1963 (а именно: всякая
пара толкований, сопоставленных двум составляющим
одной конструкции, отсеивается, если одно толкование
нарушает сочетаемостные ограничения в другом толковании),
нуждается в уточнении: для определения аномальности
данной глубинной структуры необходимо рассмотреть
семантическое представление, приписываемое всей этой
структуре в целом. В самом деле, утверждение, что нечто
аномальное аномально, представляет собой тавтологию, а
потому семантически безупречно; точно так же нет ничего
аномального в высказывании, сообщающем о том, что некто
сказал нечто аномальное. Катц признает нормальность
высказываний такого рода ( К a t z, 1966, p. 161): «Заметим,
что наличие составляющей, не получившей семантического
представления, является необходимым, но не являет-
с я достаточным условием семантической аномальности
фразы. Так, фраза We would think it queer indeed if someone
were to say that he smells itchy. 'Если бы кто-нибудь сказал,
что он пахнет чесоточно, это показалось бы нам странным.',
которая содержит семантически аномальную составляющую,
не имеющую семантического представления (...he smells
itchy 'он пахнет чесоточно'), сама по себе не является
аномальной», Однако утверждать, что подобные составляющие
241
вообще не должны получать семантических представлений,
невозможно, так как в противном случае фразы (7) — (9)
пришлось бы считать синонимичными:
(7) Не says that he smells itchy.
'Он говорит, что он пахнет чесоточно.'
(8) Не says that he poured his mother into an inkwell.
'Он говорит, что вылил свою мать в чернильницу.'
(9) Не says that his toenail sings five-part madrigals.
'Он говорит, что ноготь на пальце его ноги поет пяти-
частные мадригалы'.
Более того, если вложенная часть фразы типа (4)
содержит такую неоднозначную единицу, что только одно из ее
толкований делает это предложение аномальным, то,
отсеивая все аномальные комбинации толкований, мы рискуем
получить для всей фразы неправильное толкование
(семантическое представление). Например, пусть king 'король'
имеет два толкования: 'монарх' и 'шахматная фигура',
тогда для фразы
(10) It is nonsense to speak of a king as made of plastic.
'Говорить, что король может быть сделан из
пластмассы, бессмысленно.'
процедура Катца дает единственное и притом неправильное
семантическое представление: 'Говорить, что шахматный
король может быть сделан из пластмассы, бессмысленно.';
правильная же интерпретация ('Говорить, что
король-монарх может быть сделан из пластмассы, бессмысленно.')
будет отвергнута.
Во-вторых, разрешение неоднозначности требует в
общем случае не только владения данным языком, но и
определенных знаний о внешнем мире. Так, возьмем пример
Зиффа: shooting of the elephants ('стрельба по слонам' или
'стрельба слонов') 3. Признает ли некоторый конкретный
говорящий это выражение двузначным или нет, зависит
от его познаний в области физики и биологии, а также от
силы его воображения. По-видимому, я в отличие от Зиффа
способен без труда представить себе такое огромное ружье
с большим спусковым крючком, что из него может стрелять
и слон; возможно, что это различие между мной и Зиффом
3 Пример — но не его интерпретация! — заимствован из Z i f f,
1965.
24?
объясняется просто тем, что я в детстве читал много книжек
о Бабаре *, а он нет. Аналогично Катц ( К a t z, 1966, p. 158)
полагает, что слово priest 'священник' имеет в своей
словарной статье семантический признак (мужской пол). Однако
этот признак передает, по существу, информацию о внеязы-
ковых фактах — о том, кому существующие в настоящее
время положения позволяют быть священником. Ведь
дискуссия сейчас в левых католических кругах по поводу того,
могут ли женщины быть священниками, касается
изменения принятых норм церковной жизни, а вовсе не вопроса о
том, допустимо ли изменять пол женщины путем
хирургического вмешательства для того, чтобы она могла стать
священником. Разрешение неоднозначности в случае
предложения
(11) The landlord knocked the priest up.
'Хозяин достучался до священника.'
в пользу именно такого толкования опирается на
энциклопедические сведения о внешнем мире, а не просто на
значения слов.
И наконец, существует много неоднозначных
предложений, для которых неоднозначность разрешается теорией
Катца — Фодора в пользу какого-то одного толкования,
тогда как в действительности они имеют другое значение,
описываемое как раз одним из отвергнутых толкований.
Например, в предложении
(12) My aunt is a bachelor.
a) 'Моя тетка — бакалавр.';
b) 'Моя тетка — холостяк.' и т. д.
(см. выше четыре значения слова bachelor) в соответствии о
теорией Катца и Фодора слову bachelor должно быть
приписано только одно толкование, описывающее значение
'бакалавр', потому что три остальных толкования требуют,
чтобы подлежащее было названием существа мужского пола.
Однако легко представить себе ситуацию, в которой это
предложение будет понято скорее в том смысле, что моя
тетка — старая дева, а не бакалавр 6.
Все эти соображения подводят меня к тому выводу, что
* Бабар—имя сказочного человекоподобного слона, героя
популярной на Западе серии иллюстрированных детских книжек, в
которых описываются приключения Бабара и его семьи среди людей.—
Прим. перев.
243
нарушение сочетаемоегных ограничений*— это только
одна из многих причин, заставляющих слушающего отвергать
то или иное толкование предложения как не
соответствующее намерениям говорящего. Более того, среди критериев,
с помощью которых слушающий определяет, что именно
имел в виду говорящий, сочетаемостные ограничения
вообще не занимают какого-либо привилегированного
места.
Регулярная неоднозначность
Термин «лексическая единица» может вызвать
ошибочное представление, будто каждая лексическая единица
обязательно должна фиксироваться в словаре данного языка.
Это вовсе не так. Во всех языках, по-видимому, между
лексическими единицами существуют отношения импликации,
то есть из существования одной лексической единицы может
следовать существование некоторой другой лексической
единицы, которая тем самым может и не включаться в
словарь. Например, Лестер Райе обратил мое внимание на
следующий факт: во многих языках прилагательные,
обозначающие температуру (теплый, холодный и т. п.), могут
использоваться также для обозначения температурных
ощущений, обеспечиваемых ношением той или иной одежды.
Так, английская фраза
(13) This coat is warm. 'Это пальто теплое.'
неоднозначна: она значит либо что само пальто имеет
достаточно высокую температуру, либо что оно обеспечивает
тому, кто его носит, ощущение достаточно высокой
температуры. Точно такая же неоднозначность присуща и
венгерской фразе
(14) Ez a kabat meleg. 'Это пальто теплое.'
Поэтому, я предлагаю считать, что, хотя в английском языке
имеются две лексические единицы warm, однако в словарь
надо помещать только одну из них, поскольку вторая
может быть получена из первой в соответствии со следующим
правилом: для всякого прилагательного, обозначающего
некоторую температуру, имеется другое прилагательное,
* Этот термин переводится обычно как «селекционное
ограничение».— Прим. ред.
244
относящееся к одежде и означающее 'каузирующий
ощущение, которое соответствует температуре, обозначенной
первым прилагательным'17. Заметим, что, хотя в толкование
второго прилагательного входит элемент 'каузация', оно
не может быть получено из первого посредством обычной
каузативной трансформации, во-первых, потому, что эта
трансформация не обеспечивает появления сочетаемостного
ограничения «относится только к одежде» а, и, во-вторых,
потому, что в результате каузативной трансформации
получаются предложения, в которых глубинное подлежащее
«исходной» лексической единицы выступает как дополнение
к «производной» единице (так, John opened the door. 'Джон
открыл дверь.'—это каузативное предложение,
включающее The door opened. 'Дверь открылась.'), тогда как
производное прилагательное warm (относящееся к одежде) не
допускает присоединения именной группы, обозначающей
обогреваемое лицо или вещь.
Приведем еще один пример того, как наличие некоторой
лексической единицы в языке может быть предсказано по
наличию в нем другой лексической единицы: мы имеем
в виду процесс, который Дж. Лакофф назвал
«овеществлением» (reification).
Сравним смысловые различия между вхождениями
слова score 'партитура' в (15) и (16):
(15) John has memorized the score of the Ninth Symphony.
'Джон выучил наизусть партитуру 9-й симфонии.'
(16) The score of the Ninth Symphony is lying on the
piano.
'Партитура 9-й симфонии лежит на рояле.'
Аналогично обстоит дело с John's dissertation
'диссертация Джона' в (17) и (18):
(17) John's dissertation deals with premarital sex among
the Incas.
'Диссертация Джона посвящена добрачной половой
жизни у инков.'
(18) John's dissertation weighs five pounds.
'Диссертация Джона весит 5 фунтов.'
В (15) и (17) речь идет соответственно об эстетическом
и информационном объекте, а в (16) и (18) — об их физичес-
245
ких воплощениях. Заметим в связи с этим, что (19) —
вполне нормальная фраза, а (20) — нет:
(19) I am halfway finished with writing my dissertation,
which deals with premarital sex among the Incas.
'Я наполовину уже написал свою диссертацию,
которая посвящена добрачной половой жизни у
инков.'
(20) *I am halfway finished with writing my dissertation,
which weighs five pounds.
'Я наполовину уже написал свою диссертацию,
которая весит 5 фунтов.'
Еще один случай овеществления указан в W i e r z b i c-
k a, 1967a; это различие между значениями собственного
имени в (21) и (22):
(21) John thinks that the world is flat.
'Джон думает, что земля плоская.'
(22) John weighs 200 pounds. 'Джон весит 200 фунтов.'
В (21) John — некое лицо, в (22) — тело этого лица.
Данное различие иллюстрируется и известным примером
Лакоффа (L a k о f i, 1968):
(23) * James Bond broke the window with himself.
'Джеймз Бонд разбил окно собой.',
из которого ясно, что словосочетание James Bond,
обозначающее лицо, и словосочетание James Bond, обозначающее
тело этого лица, не являются идентичными с точки зрения
правил введения возвратных местоимений в английском
языке 4. Здесь также мы видим, что каждая лексическая
единица, обозначающая человека, имплицирует
существование «физически» идентичной лексической единицы,
обозначающей тело этого человека; поэтому в словарь
достаточно включать только лексические единицы первого типа.
Рассматривая проблему метафоры, У. Вейнрейх (W e i п-
r e i с h, 1966a, разд. 3,5) предлагает правила (=construal
rules; см. наст, сб., с. 147—162), опирающиеся на
аналогичные соображения. Это правила, которые «создают» новую
лексическую единицу, изменяя семантическое представле-
* Однако 'лицо' включает, по-видимому, и его тело; ср. примеры
типа (24):
(24) James Bond hurled himself through the window, 'Джеймз Бонд
выбросился в окно'.
246
ние некоторой уже имеющейся в словаре лексической
единицы таким образом, чтобы оно стало совместимым с
семантическим представлением фразы, в которой исходная
лексическая единица оказалась бы аномальной. Впрочем,
правила Вейнрейха, создающие только «аномальные» (в том
или ином отношении) лексические единицы для
использования их исключительно в специальных, поэтических целях,
необходимо строго отграничивать от правил получения
производных лексических единиц типа warm
(обеспечивающий достаточную температуру), dissertation (материальный
предмет) и John (тело Джона); эти последние правила
создают лексические единицы, ничуть не более аномальные,
чем исходные.
Сочетаемостные ограничения
Обратимся теперь к сочетаемостным ограничениям (СО).
В большинстве работ по трансформационной грамматике
они относятся к базовому компоненту грамматики. Так, в
соответствии cChomsky, 1965, базовый компонент
включает правила, приписывающие каждому субстантивному
узлу «внутренне присущие» ему признаки, например:
[+ одуш(евленное)] или [— одуш], [+ человек] или [—
человек]; кроме того, имеются правила, приписывающие
глагольному узлу признаки [одушевленное подлежащее];
[подлежащее не-человек] и т. п.— в зависимости от того,
какие признаки приписаны группе подлежащего, прямого
дополнения и другим составляющим; наконец, в каждый
узел, снабженный набором подобных признаков,
подставляется любая лексическая единица, такая, что ее
собственные признаки не противоречат признакам этого узла.
Подчеркнем, что Хомский понимает СО как ограничение на
пару лексических единиц, например: <глагол,
существительное — вершина группы подлежащего*>.
Иначе трактуются СО в Katz — Fodor, 1963: здесь
соблюдение/нарушение любых СО определяется не в
базовом, а в семантическом компоненте грамматики, и СО
считается ограничением не на пару лексических единиц, а на
} * Подчеркнем, что группа подлежащего может, в частности,
состоять и из одного слова, то есть совпадать с одиночным подлежащим.—
Прим. перев.
24?
пару <лексическая единица, целая составляющая;?», то
есть, например, <глагол, группа подлежащего;?». Точнее,
СО к глаголу указывает, какими свойствами должно
обладать семантическое представление группы подлежащего;
проверка выполнения такого СО заключается в построении
семантического представления для группы подлежащего и
установлении наличия/отсутствия в этом представлении
требуемого свойства. Не ясно, считают ли Катц и Фодор,
что подобные «семантические СО» должны использоваться
вместо «синтаксических СО», предложенных в С h о т-
s k у, 1965, или же наряду с этими последними.
Вообще вопросу о том, какие СО необходимы — только
синтаксические СО, или только семантические СО, или же
и те и другие,— уделялось до сих пор удивительно мало
внимания. Н. Хомский, бегло упомянув об этом вопросе
(Chomsky, 1965, р. 153—154), отказывается от его
серьезного рассмотрения, как будто дело полностью сводится
к выбору формы записи. В действительности, однако,
разные ответы на этот вопрос влекут существенно различные
следствия на уровне описания фактов. Мне хотелось бы
привести аргумент в пользу той точки зрения, что
сочетаемость вполне адекватно описывается в терминах
семантических СО (типа предложенных в Katz — Fo dor,
1963) и что для синтаксических СО Хомского, а также для
использования громоздкого аппарата «сложных символов»
(предполагаемых синтаксическими СО) достаточных
оснований нет.
Рассмотрим сначала следующий вопрос: пусть имеется
глагол или прилагательное, снабженное некоторым СО;
спрашивается, к чему именно относится это СО — ко всей
именной группе, выступающей в роли подлежащего,
дополнения, определяемого и т. п., или только к вершине этой
группы? Нетрудно привести примеры, подтверждающие
истинность первого ответа. Так, во фразе
(25) *Му buxom neighbor is the father of two.
'Моя полногрудая соседка — отец двоих детей,'*
нарушено то же самое СО, что и в (26):
(26) *Му sister is the father of two.
'Моя сестра — отец двоих детей.'
* Англ. neighbor означает 'сосед/соседка' (без различия пола),
однако прилагательное buxom 'полногрудый' может относиться только
к женщине.— Прим. перев.
248
Это нарушение связано в (25) со всей группой подлежащего б
целом, но вовсе не с ее вершиной: фраза
(27) My neighbor is the father of two.
'Мой сосед — отец двоих детей.'
не нарушает никаких СО.
Кроме того, неизвестны случаи, когда глагол, при
котором некоторая лексическая единица в роли вершины группы
подлежащего невозможна, допускал бы в этой роли
именную группу, где смысл данной лексической единицы был бы
распределен между определяемым и определением
(например, не существует глагола, при котором в роли
подлежащего была бы допустима группа an unmarried man 'неженатый
мужчина', но не было бы допустимо существительное a
bachelor 'холостяк') 5.
Из сказанного следует, что, если мы хотим знать,
удовлетворяет ли некоторая составляющая данному СО, мы
должны рассматривать семантическое представление этой
составляющей в целом, а не представление одной
лексической единицы — ее вершины. Зададимся теперь вопросом,
какова в точности та информация об этой составляющей,
которая необходима для определения ее соответствия
некоторому СО. Я утверждаю, во-первых, что любая
информация, фигурирующая в семантическом представлении какой-
либо единицы, может фигурировать и в соответствующих
СО и, во-вторых, что никакой другой информации в СО не
требуется. В доказательство первого утверждения
достаточно сослаться на то, что на каждой странице любого
большого словаря можно найти слова, которые предполагают
невероятно специфичные СО, опирающиеся на практически
неограниченное множество семантических свойств.
Например, глагол diagonalize 'приводить к диагональному виду'
требует в качестве прямого дополнения именную группу,
обозначающую матрицу (в математическом смысле), глагол
devein 'вынимать внутренности'—дополнения,
обозначающего какой-либо из видов креветок, а прилагательное
benign 'доброкачественный' требует определяемого,
обозначающего 'опухоль'.
Что же касается моего второго утверждения (о том, что
СО связаны исключительно с семантической информацией),
5 Внимание автора к данному факту привлекли Дж. Лакофф и Дж.
Росс; они же предложили соответствующий пример (устно).
249
то нетрудно показать следующее: различные
несемантические признаки, обычно приписываемые существительным,
например собственное/нарицательное, грамматический род,
грамматическое число и т. д., не играют с точки зрения СО
никакой роли. Во всех примерах, которые приводят в
качестве довода против этого положения, ограничения на
сочетаемость основываются в конечном счете на семантике.
Так, может показаться, будто глагол name 'называть'
связан с СО, ссылающимся на признак [собственное]:
(28) They named their son John.
'Они назвали своего сына Джоном.', но не
(29) *They named their son that boy.
'Они назвали своего сына этим мальчиком.'
Однако существуют абсолютно нормальные фразы, где
в качестве соответствующего дополнения глагола name
выступает вовсе не имя собственное:
(30) They named their son something outlandish.
букв. 'Они назвали своего сына чем-то
диковинным.'
Ясно, что СО для глагола name должно требовать, чтобы
его второе дополнение обозначало то, что может быть именем;
при этом неважно, будет вершина этого дополнения именем
собственным или нет.
Точно так же обстоит дело с грамматическим числом.
На первый взгляд глаголы типа count 'считать,
пересчитывать' требуют дополнения во множественном числе:
(31) I counted the boys. 'Я пересчитал мальчиков.', но не
(32) *I counted the boy. 'Я пересчитал мальчика.'
Тем не менее возможны фразы типа (33):
(33) I counted the crowd. 'Я пересчитал толпу.',
где count имеет дополнение в единственном числе. Поэтому
СО к глаголу count должно требовать дополнения,
называющего совокупность, а вовсе не просто дополнения во
множественном числе. Аналогичным образом в английском языке
нет глаголов, которые допускали бы в качестве подлежащих
только те именные группы, которые могут заменяться
местоимением she, то есть обозначением существ женского пола,
кораблей и стран е.
250
Все сказанное и заставляет полагать, что все СО следует
формулировать исключительно в терминах семантических
свойств и что для проверки соблюдения того или иного СО
требуется обращаться только к семантическому
представлению интересующей нас составляющей и ни к чему больше.
Тогда, если в базовый компонент грамматики вводится
специальный аппарат отсеивания структур, нарушающих те
или иные СО, этот аппарат будет лишь дублировать то, что
и без него выполняется семантическими проекционными
правилами. Поэтому СО необходимо устранить из базового
компонента, каковой должен быть устройством,
порождающим множество глубинных структур,
безотносительно к тому, нарушают эти структуры какие-либо СО
или нет.
Прежде чем завершить обсуждение СО, я хотел бы
коснуться одного типа случаев, которые могут показаться
аргументом против развиваемой здесь точки зрения на СО.
В таких языках, как японский и корейский, некоторые
лексемы, выступающие во фразах различных уровней
вежливости, характеризуются сочетаемостными ограничениями,
которые на первый взгляд представляются связанными с
не-семантическими признаками лексических единиц, а не
с семантическими признаками более крупных
составляющих. Например, японские глаголы аги и gozaru оба значат
'иметься, быть у', но второй употребляется только в
ситуациях, требующих особо почтительного стиля
высказываний. В таких ситуациях должны употребляться и
местоимения соответствующего стиля, поэтому
(34) Watakusi-wa zidoosya-ga gozaimasu.
'У-меня автомобиль есть.' [watakusi 'я' —
местоимение почтительного стиля] —
совершенно правильная фраза.
(35) Ore-wa zidoosya-ga aru.
'У-меня автомобиль есть.'—
тоже правильная фраза, однако допустимая только в
ситуации, где возможен в высшей степени разговорный,
неформальный стиль общения [ore 'я' — местоимение
разговорного стиля].
Находиться одновременно в одном предложении
местоимение ore и глагол gozaru не могут:
(36) *Ore-wa zidoosya-ga gozaimasu,
351
Заметим, что подобные ограничения на совместную
встречаемость существенно отличаются в целом ряде отношений
от того, что обычно понимают под «сочетаемостными
ограничениями». Во-первых, по-видимому, нет непроизвольного
способа решить, который из двух рассматриваемых
элементов определяет выбор другого. Во-вторых, ограничение
здесь накладывается не на пару конкретных составляющих,
скажем на глагол и его дополнение, а глобально на все
высказывание: наличие почтительного глагола типа gozaru
исключает появление разговорных и просторечных
местоимений типа ore, boku или kimi где бы то ни было в данном
предложении и вообще во всем тексте. В-третьих, все СО,
обсуждавшиеся до сих пор, не зависят от того, где именно
фигурируют соответствующие составляющие — в главном
или в придаточном предложении; в отличие от них
ограничения на совместную встречаемость, относящиеся к
уровням вежливости, применяются по-разному в независимых
и придаточных предложениях. Например, морфема -mas —
показатель вежливости — присоединяется к глаголам
только в независимых предложениях; в придаточных она не
употребляется, независимо от стиля речи, то есть от того,
какие местоимения фигурируют в этих придаточных К
Отсюда следует, что данное явление имеет иную формальную
природу, нежели ограничения, описываемые очерченной
выше теорией семантических СО или теорией
синтаксических СО, выдвинутой Н. Хомским (Chomsky, 1965).
Я склонен полагать, что выбор и глаголов и местоимений
зависит здесь от признаков, приписываемых всему тексту
в целом, а не отдельным лексическим единицам: в
частности, морфема вежливости -mas присоединяется специальным
правилом к подходящему глаголу, когда подобные
признаки имеют место.
Если принять изложенную точку зрения на СО, то
дискуссия по проблемам «утоньшения» синтаксической
классификации, которая ведется уже довольно давно,
оказывается явно беспредметной. Словарная статья каждой
лексической единицы должна содержать всю
семантическую информацию, необходимую для исчерпывающего
описания значения этой единицы; кроме того, в ней
должны быть указаны и все трансформации,
неприменимые к данной единице. Сверх же этого не требуется
ничего.
252
Референционные индексы
Теперь я коснусь вопроса о так называемых референ-
ционных индексах. Хомский указывает (Chomsky,
1965, р. 145), что трансформации, предполагающие
идентичность двух именных групп, требуют не только
физической тождественности самих этих групп, но и
тождественности их денотатов, или референтов (referents). Так, во
фразе
(37) A man killed a man. 'Человек убил человека',
говорящий имеет в виду двух разных людей, а во фразе
(38) A man killed himself. 'Человек убил себя.'
— одного и того же человека.
Хомский предлагает учесть это обстоятельство
следующим образом: базовый компонент грамматики должен
приписывать каждой именной группе6 некий «индекс»,
обозначающий референт-денотат этой группы; тогда
идентичность составляющих должна пониматься как идентичность
всего, включая индексы. Так, глубинные структуры фраз
(37) и (38) различаются только тем, что оба вхождения
именной группы a man 7 имеют в (37) разные индексы, а в (38) —
одинаковые:
6 В действительности Хомский предлагает приписывать индеко *
вершине группы, а не всей группе. Однако индекс необходимо
приписывать именно группе в целом, поскольку трансформации,
предполагающие идентичность только существительных, но не целых групп с этими
существительными в вершине, не требуют тождественности денотатов:
ср. возможность заменить повторяющееся существительное
местоимением one во фразе типа John has a blue hat and I have a brown one. 'У
Джона есть синяя шляпа, а у меня — коричневая.', хотя имеются в
виду две разные шляпы S. В Chomsky, 1965 референционные
индексы описаны неформально; правила приписывания индексов не
приводятси, и в примерах структур индексы не встречаются. Как
разъяснил сам Хомский (устно), индексы не должны полностью
идентифицировать референты как таковые: просто одинаковость / различие
индексов показывает одинаковость/различие референтов; так, глубинная
структура фразы John shot himself. 'Джон застрелился.'— одна и та же
(в том числе — и индексы), независимо от того, какой Джон имеется
в виду. Такая позиция предполагает независимость лингвистики от
психологии, с чем я не согласен; ниже приводятси соответствующие
аргументы.
г Я не утверждаю, что артикль а должен быть представлен в
глубинной структуре: появление артиклей в большинстве случаев (хотя
и не всегда) предсказывается иа основе референционных индексов.
Однако серьезное описание артиклей предполагает детальное
исследование дейксиса, а этот вопрос освещался в литературе лишь самым
фрагментарным образом. Кроме того, решение проблемы, которая за-
253
(381
NP:X, VP
a man V NP:X,
kill a man
kill a man
A man killed a man A man killed himself
(Глагольное время в структурах не показано.)
Поскольку (37) и (38) различаются не только
синтаксически, но и по смыслу, различие в индексах должно
отражаться не только в синтаксических, но и в семантических
представлениях фраз (37) и (38). В этой связи кажется
целесообразным, чтобы семантическое представление фразы
состояло не просто из признаков в смысле Катца — Фодора
(Katz — Fodor, 1963), а из предикатов (в логическом
смысле термина) и референционных индексов. Тогда
основное значение слова man 'мужчина' будет представляться не
набором признаков {человек, мужской пол, взрослый},
а выражением
'человек (х) Д мужской пол (х) Д взрослый (х)', где
х — переменная. Проекционное правило, строящее
семантическое представление для именной группы, содержащей
слово man, будет подставлять вместо переменной х референ-
ционный индекс этой группы. Подобное правило
формализует такое представление об именных группах типа that
man 'тот мужчина', в соответствии с которым свойства
'быть человеком', 'быть мужского пола' и 'быть взрослым'
и т. п. не просто упоминаются, а предицируются
относительно индивидуума, обозначаемого данной именной
группой.
Прежде чем двинуться дальше, необходимо дать
некоторые разъяснения относительно статуса референционных
нимает меня здесь, не зависит от того, как представляются артикли в
глубинной структуре. Поэтому я буду писать просто a man, имея в
виду именную группу, которая может быть реализована на
поверхности как a man, и не вдаваясь в сложный вопрос, должен ли артикль
присутствовать в данном случае в глубинной структуре.
254
индексов и содержания термина «обозначать» (=англ,
refer). В настоящей статье термин «обозначать»
используется применительно к предполагаемому говорящим референту
именной группы, а не к ее реальному референту; иначе
говоря, референционные индексы соответствуют мыслительной
картине мира, складывающейся в мозгу говорящего 8, а не
реальным вещам в реальном мире. Такой подход к
индексам необходим, если семантическая теория должна
описывать и высказывания о воображаемых объектах, а также
высказывания, отражающие ошибочные представления о
фактах. С точки зрения лингвистики совершенно не важно,
истинно ли мнение говорящего относительно того, о чем он
говорит; так, лингвисту вовсе не обязательно знать,
существуют ли ангелы-хранители и небеса, для того, чтобы
приписать фразе
(39) My guardian angel is helping me to get to heaven.
'Мой ангел-хранитель помогает мне попасть на
небеса.'
соответствующее семантическое представление. При таком
понимании выражения «предполагаемый (говорящим)
референт» можно говорить, что индекс не просто представляет
референт, но прямо является предполагаемым
референтом; в мышлении говорящего обязательно должны
присутствовать определенные единицы, которые он (правильно
или ошибочно) соотносит с индивидуальными сущностями
реального мира; именно эти единицы обозначаются
термином «предполагаемый референт» и выступают в качестве
референционных индексов в семантическом представлении
тех фраз, которые произносит говорящий. Отсюда следует,
в частности, что когда говорящий узнает новое собственное
имя, то усваиваемая им семантическая информация является
индексом, то есть мыслительной единицей, соответствующей
тому реальному индивидууму, который носит данное имя.
Усвоение собственных имен — это, по-видимому, явление
того же порядка, что и усвоение большого количества
неязыковой информации: когда говорящий видит кого-либо
в первый раз, он добавляет к своему концептуальному
репертуару новую единицу, а к своему запасу сведений и мне-
8 Разумеется, это замечание относится только к постоянным
индексам, но не к переменным индексам в предложениях типа No men
have three ears. 'Никакие люди не имеют три yxaS
255
ний — набор возможных утверждений об этой единице,
соответствующий тем фактам относительно нового
знакомого, которые говорящий наблюдал в действительности или
якобы наблюдал; узнав чье-либо имя, говорящий просто
добавил к своим познаниям о данном лице еще один факт.
Таким образом, референционные индексы — это
неязыковые единицы, используемые наряду с языковыми единицами
в представлениях высказываний.
Поскольку в английском языке многие собственные
имена даются и мальчикам и девочкам и вообще любое
английское имя может в принципе принадлежать не только
человеку любого пола, но даже лошади или кораблю, то фраза
(40) Gwendolyn hurt himself. 'Гвендолин ушибся.'
сама по себе не должна считаться аномальной *, хотя
ее использование по отношению к любому из лиц,
реально носящих имя Гвендолин, может казаться странным;
однако использование фразы (40) столь же странно, сколь
странно употребление применительно к женщине
абсолютно правильной фразы My neighbor hurt himself. 'Мой сосед
ушибся.'
В японском языке мы встречаемся с несколько иной
ситуацией. Там большинство имен может быть дано либо
только мальчику, либо только девочке; более того, многие
имена могут быть даны только первому сыну, только
второму сыну и т. п. • Поэтому в японском в отличие от
английского языка следует приписывать личным именам
семантические представления, включающие такие компоненты, как
'мужской пол' и 'перворожденный' (='первенец').
Референционные индексы и связанная с ними
информация играют определенную роль при выборе местоименных
форм. В английском языке выбор между he, she и it или
между who и which определяется общими сведениями о
референте замещаемой именной группы, а не конкретной
лексемой, выступающей в качестве ее вершины. Ср. фразы
(41) - (43):
* Имя Гвендолин в английском изыке по преимуществу
женское.— Прим, перев.
9 Встречаются и другие использования личных имен: так, в
работе М i у a d i, 1964 имена Taroo, Ziroo, Saburoo и т. п., которыми
обычно называют первого, второго, третьего, ... сына, даются
соответственно, предводителю стаи обезьян, изучаемой автором, второй в
стадной иерархии обезьяне и т. д.
256
(41) Fafnir, who plays third base on the Little League
team, is a fine boy.
'Фафнир, который играет на третьей линии в
команде Малой лиги, хороший парень.'
(42) They called their son Fafnir, which is a ridiculous
name. букв. 'Они назвали своего сына Фафниром,
что является смешным именем.', но не
(43) *They called their son Fafnir, who is a ridiculous
name.
Различие в выборе относительных местоимений связано
с различиями референционных индексов при
соответствующих именных группах: в (41) именная группа Fafnir
обозначает человека, а в (42) и (43) — имя. Аналогично, в
(44) My neighbor hurt himself. 'Мой сосед ушибся,'
и
(45) My neighbor hurt herself. Букв. 'Мой сосед ушиблась.'
возвратное местоимение выбирается по-разному, в
зависимости от того, известен ли говорящему пол соседа, о
котором идет речь.
Иное описание фраз (44) — (45) предложено X омским
(см. Chomsky, 1965). В соответствии с трактовкой Хом-
ского базовый компонент грамматики приписывает
каждому существительному полный набор признаков,
фигурирующих в синтаксических и морфологических правилах
(в частности, в правилах выбора местоимений). Тогда
глубинные структуры фраз (44) и (45) будут различаться за счет
того, что существительное neighbor будет иметь в одной
структуре признак [+ мужской пол], а в другой — [—
мужской пол]. Однако такое решение неубедительно,
поскольку оно требует признать фразу типа
(46) My neighbor is tall.
'Мой сосед/соседка высок/высока (ростом).'
неоднозначной: ведь ей отвечают две разные глубинные
структуры (в одной neighbor имеет признак [+ мужской
пол], в другой — [— мужской пол]). Более того,
трансформация, строящая фразы типа
(47) The neighbors are respectively male and female,
букв. 'Соседи являются соответственно мужчиной и
женщиной,',
257
Должна будет игнорировать поизнаки [+ мужской пол]
и [—мужской пол], приписанные двум вхождениям
существительного neighbor в глубинной структуре (47'), к
которой применяется эта трансформация:
(47') I
the neighbor
male and femele
Учитывая эти недостатки единственного известного мне
альтернативного описания фраз типа (44) — (45), я
прихожу к выводу, что различие между (44) и (45) отвечает не
различию в их глубинных структурах, а различию
ситуаций, соответствующих разным употреблениям одной фразы
с одной и той же глубинной структурой. Вот еще один
возможный довод в пользу такого решения. Фраза
(48) My neighbor is a woman and has suffered an injury.
'Мой сосед — женщина, и она получила телесное
повреждение.'
должна быть признана синонимичной с (45) А, то есть
перифразой для (45), если в глубинной структуре фразы (45)
neighbor имеет признак [— мужской пол]. Однако это
противоречит интуитивному представлению о перифразах.
Обе фразы — и (45) и (48) — передают информацию о том,
что некий индивидуум, называемый my neighbor, получил
телесное повреждение; однако именно фраза (48), но не
(45) будет выбрана говорящим, если он хочет сообщить, что
этот индивидуум — женщина. Фразу (45) употребят тогда,
когда нужно просто сообщить, что данное лицо получило
телесное повреждение, причем можно предполагать, что
слушающему многое об этом лице известно заранее, в
частности то, что это женщина. Информация в (45) и (48)
передается по-разному; эту разницу можно выразить в терминах
258
«смысл» (meaning) и «пресуппозиция» (presupposition):
информация о том, что данное лицо получило телесное
повреждение, входит в смысл как фразы (45), так и фразы (48),
однако информация о том, что это лицо — женщина, входит
в смысл только фразы (48); во фразе (45) эта информация
относится к пресуппозициям.
В действительности выбор местоимения-заменителя в
английском языке не полностью определяется
пресуппозициями. В самом деле, такой грамматический признак
местоимения, как число, зависит не только от информации
о референте замещаемой группы. Благодаря наличию
plurala tantum одна и та же вещь может быть
обозначена именной группой и в единственном, и во
множественном числе; местоимение-заменитель должно иметь
то же грамматическое число, что и выбранная именная
группа:
(49) John gave me the scissors; I am using them now.
'Джон дал мне ножницы; я ими сейчас пользуюсь.',
но не
(50) *John gave me the scissors; I am using it now.
*'Джон дал мне ножницы; я им сейчас пользуюсь.'
(51) John gave me the two-bladed cutting instrument; I
am using it now.
'Джон дал мне режущий инструмент с двумя
лезвиями; я им сейчас пользуюсь.',
но не
(52) *John gave me the two-bladed cutting instrument;
I am using them now.
*'Джон дал мне режущий инструмент с двумя
лезвиями; я ими [=инструментом] сейчас пользуюсь,',
В языках, имеющих грамматический род, местоимения-
заменители обычно согласуются в роде с существительным,
которое является вершиной группы-антецедента. В
некоторых языках (например, в немецком)
местоимение-заменитель всегда согласуется в роде с существительным —
вершиной группы антецедента, тогда как в других языках
(например, в идиш и во французском) оно согласуется в
роде с этим существительным не всегда, а только если оно не
обозначает лицо; если же оно обозначает лицо, форма
местоимения зависит от пола данного лица, но не от рода
соответствующего существительного, Для местоимений в дей-
259
ктическом (то есть неанафорическом) употреблении выбор
рода всегда делается на основе пресуппозиций
относительно референта: когда в комнату входит девушка, человек
может спросить по-немецки у своего соседа Wie heifit sie?
'Как ее зовут?', хотя позже в разговоре он будет обозначать
ту же самую девушку das Madchen и употреблять в качестве
анафорического местоимения es. Правила выбора
местоимений в немецком, французском и английском языках имеют
следующую общую особенность: именной группе
приписываются некоторые грамматические признаки, присущие
существительному — вершине данной группы (во французском
это верно лишь для групп, которые не обозначают лиц),
Прономинализация, то есть введение местоимений, состоит
в элиминации именной группы при сохранении референ-
ционного индекса и указанных грамматических признаков;
форма замещающего местоимения определяется на основе
этих признаков и пресуппозиций, относящихся к
референту группы (референт же задается индексом). При введении
местоимения в дейктической функции именной группе не
приписаны признаки числа и рода, так что выбор
местоимения делается исключительно на основе информации о
референте',
Однородные члены,
сочинительное сокращение и множественное число
До сих пор я говорил о референционных индексах как о
таких определенных единицах в концептуальном аппарате
говорящего, каждая из которых осознается как
соотносящаяся с индивидуальным объектом. Это действительно так
в случае именных групп единственного числа (ИГ^)Л
Однако именная группа множественного числа обозначает не
объект, а множество объектов. При этом именная
группа множественного числа ИГ^ также должна иметь
референционные индексы: точно так же, как ИГ^, любая
ИГр[ может удовлетворять или не удовлетворять условиям
тождественности — в зависимости от ее референта.
Поскольку ИГ^ обычно обозначает множество, ее референционный
индекс должен вести себя как множество; и в самом деле,
существуют синтаксические явления, свидетельствующие о
том, что над индексами, по-видимому, возможны теоретико-
множественные операции и что синтаксические правила
260
должны предусматривать использование результатов этих
операций.
Рассмотрим однородные (=сочиненные) определения в
выражениях следующего типа:
(53) the male and female employees
'служащие мужского и женского пола';
(54) new and used books
'новые и подержанные книги';
(55) the string quartets of Prokofiev and Ravel
'струнные квартеты Прокофьева и Равеля',
Заметим, что в (53) имеются в виду вовсе не служащие,
которые принадлежат одновременно и мужскому и
женскому полу, а совокупность служащих мужского и
служащих женского пола. Поэтому (53) можно
перефразировать как
(56) the male employees and the female employees
'служащие мужского пола и служащие женского
пола',
the employees- S Conj S_ „».»,_._._ „3
.and.
.MP.,
the employees
be male
the employees
be female
Я полагаю, что цепочки однородных определений данного
типа имеют глубинную структуру типа (56') (указания о
времени глаголов опущены).
Здесь оба вхождения существительного employees,
подчиненные узлу S [строка 2], имеют разные референционные
индексы, например А я В. Определительное
предложение, относящееся к NP the employees [строка 2], удовлет-
261
воряет условиям трансформации с respectively; ее
применение к (56') дает (57'):
(57') NP
the employees end the employee) bt matt and female respectively
Поддерево дерева (57') с вершиной S описывает
недопустимое в английском языке предложение:
(57) *The employees and the employees are male and
female respectively.
Однако к (57') должна быть применена обязательная
трансформация, сокращающая конъюнктивно сочиненную
группу подлежащего the employees and the employees в the
employees. (Эта сокращающая трансформация необходима
в грамматике английского языка ради получения таких
фраз, как
(58) These boys are respectively Polish and Irish. 'Эти
мальчики являются соответственно поляками и
ирландцами.',
поскольку конструкция с respectively невозможна при
формально идентичных сочиненных подлежащих.) В
результате получается структура (58'):
262
be male and female. respectively
•mele end female
respectively
263
К этой структуре применяется трансформация
релятивизации, превращающая вхождение the employees во
вложенном предложении в относительное местоимение. В
результате получается структура (59') [см. с, 263], которая
может быть реализована как
(59) the employees who are male and female respectively
'служащие, которые являются мужчинами и
женщинами соответственно'.
Слово respectively, а также относительное местоимение
вместе со связкой могут элиминироваться (факультативно);
в этом случае цепочка однородных предикатов male and
female обязательно ставится перед существительным — с
с помощью общеизвестного правила препозиции
определений (Smith, 1964; L a k о f f, 1965), так что получается
(53).
В результате применения трансформации с respectively
образуется именная группа, содержащая цепочку
однородных определений; эта ИГ должна иметь референционный
индекс, поскольку она участвует в трансформациях,
требующих совпадения индексов; например, эта ИГ может
иметь при себе описательное (но не ограничительное)
придаточное определительное. Я предлагаю считать референ-
ционным индексом подобной ИГ теоретико-множественное
объединение индексов ее компонентов. Тогда в (57') ИГ
the employees and the employees получает индекс A U В;
этот индекс останется и после применения сокращающего
правила (то есть в (58')).
Поскольку к (53) можно присоединить описательное
придаточное, например:
(60) The male and female employees, who say they are
dissatisfied, are actually very well paid.
'Служащие мужского и женского пола, которые
заявляют, что они не удовлетворены, в
действительности оплачиваются очень хорошо.',
и поскольку соответствующее правило требует
совпадения референционных индексов, необходимо иметь
возможность убедиться, что индекс у ИГ в присоединяемом
придаточном равен A U В.
Решение иметь для ИГ с конъюнктивным сочинением в
качестве ее референционного индекса
теоретико-множественное объединение индексов ее компонентов позволяет объяс-
264
нить некоторые интересные факты, связанные с сочинением
и множественным числом. Только на основе неязыковых
сведений я знаю, что правильной перифразой для (55)
является (61):
(61) the string quartets of Prokofiev and the string
quartet of Ravel 'струнные квартеты Прокофьева и
струнный квартет Равеля',
Однако, если бы мне предъявили совершенно
аналогичное выражение, включающее имена не известных мне
композиторов, например:
(62) the string quartets of Eierkopf and Misthaufen
'струнные квартеты Эйеркопфа и Мистхауфена',
я не mof бы сказать, какая из четырех возможных перифраз
является правильной*:
(63) the quartet of Eierkopf and the quartet of Misthaufen
'квартет Эйеркопфа и квартет Мистхауфена';
(64) the quartets of Eierkopf and the quartet of Misthaufen
'квартеты Эйеркопфа и квартет Мистхауфена';
(65) the quartet of Eierkopf and the quartets of Misthaufen
'квартет Эйеркопфа и квартеты Мистхауфена';
(66) the quartets of Eierkopf and the quartets of Misthaufen
'квартеты Эйеркопфа и квартеты Мистхауфена'.
При этом существенно, что, какова ни была бы
правильная перифраза — у Эйеркопфа и Мистхауфена по одному
квартету, у обоих по нескольку квартетов, у одного один
квартет, а у другого несколько,— все равно в (62)
необходимо множественное число quartets. Это доказывает, что
морфема множественного числа не должна выступать в
глубинной структуре; она может вводиться специальным
правилом в зависимости от того, имеет ли данная именная
группа множественный индекс. Точнее, морфема
множественного числа присоединяется к любому
существительному, которое непосредственно подчиняется узлу «именная
группа», имеющему множественный индекс.
Заметим, что понятие множества, как оно используется
здесь применительно к английскому синтаксису и
семантике, отличается от математического понятия множества.
В математике допускаются одноэлементные множества и
даже пустое множество, тогда как для правил,
интересующих нас здесь, существуют только не менее чем
двухэлементные множества, Наша «теория множеств» игнорирует
265
различие между элементом и одноэлементным множеством
и допускает объединение элементов: XiUxa={xi, x2}.
Подобная трактовка элементов и множеств делает
возможным единообразное описание разных случаев
грамматического согласования в числе. В работах по
трансформационной грамматике (например, Lees, 1960, р. 44) согласование
в числе между сказуемым и подлежащим описывается
посредством правила, которое ставит сказуемое во
множественном числе, либо если подлежащее содержит морфему
множественного числа, либо если имеется ряд однородных
подлежащих. Ясно, однако, что множественное число
сказуемого определяется не столько морфемой множественного
числа при подлежащем, сколько «множественностью» всей
группы подлежащего. Эта множественность в общем
соответствует различию между множеством (в оговоренном
выше, то есть нематематическом, смысле) и элементом, хотя
данное соответствие и не является вполне точным; его
нарушают pluralia tantum типа scissors 'ножницы',
требующие сказуемого во множественном числе, даже если они
имеют индивидуальный индекс.
Для обеспечения согласования в числе необходимы
следующие упорядоченные правила.
а) Приписать узлу «именная группа» признак [+
plural], если он имеет множественный индекс, и признак [—
plural] в противном случае.
б) Приписать узлу «именная группа» признак [+
plural], если он непосредственно подчиняет существительное
с пометой «pluralia tantum».
в) Приписать сказуемому признак [+ plural] или
[— plural] в зависимости от того, какой признак — ([+
plural] или [— plural]) — имеет подлежащее.
Множественный индекс необходим для обеспечения
правильного согласования в:
(67) John and Harry are Polish and Irish respectively.
'Джон и Гарри — поляк и ирландец
соответственно.',
а также в следующем, особенно интересном предложении:
(68) John and Harry like the play and are disappointed
by it respectively.
букв. 'Джон и Гарри любят эту пьесу и
разочарованы ею соответственно'.
266
Здесь оба глагола стоят во множественном числе, хотя
семантически каждый из них связан с подлежащим в
единственном числе: сочиненное подлежащее, возникшее в
результате применения трансформации с respectively
требует согласования по множественному числу, так что (69)
грамматически недопустимо:
(69) *John and Harry likes the play and is disappointed
by it respectively,
Из этих примеров следует, что правило, обеспечивающее
согласование сказуемого с подлежащим, не может быть
представлено формулой того типа, какими обычно
пользуются для изображения трансформаций: это правило
должно приписывать согласовательный признак числа не
просто одному глаголу, а сразу всем однородным глаголам
в составе сочиненного сказуемого (трансформация,
создающая грамматическую множественность, то есть сочиненное
подлежащее, в то же время создает и сочиненное
сказуемое).
Выше рассматривались сочиненные именные группы
(ИГ), возникшие в результате применения трансформации
с respectively. Как же обстоит дело с другими конъюнктивно
сочиненными ИГ? Н. Хомский (Chomsky, 1957, р. 36—
37) предложил считать, что все сочиненные группы
получаются из множеств простых предложений; тогда, например,
предложение
(70) John and Harry are erudite. 'Джон и Гарри
эрудиты. '
представляет собой результат применения сочинительной
трансформации к структурам предложений John is erudite.
'Джон эрудит.' и Harry is erudite. 'Гарри эрудит'. Эта же
идея выступает в слегка измененной форме в С h о m s k у,
1965,- р. 225; там (все?) сочиненные группы трактуются как
выводимые из сочиненных предложений, так что (70)
получается посредством трансформации сочинительного
сокращения (conjunction reduction) из структуры, которая
реализуется в виде
(71) John is erudite and Harry is erudite.
'Джон эрудит и Гарри эрудит,'
267
Известно, однако, что некоторые сочиненные группы не
могут быть выведены из сочиненных предложений,
например:
(72) John and Harry are similar. 'Джон и Гарри похожи,'
или
(73) John and Mary embraced, 'Джон и Мэри обнялись,',
Отметим, что предложение
(74) *John is similar.
является неправильным; оно допустимо лишь как результат
эллипсиса в случаях типа
(75) Max is a fool; John is similar,
букв. 'Макс дурак; Джон таков же,1
Выражения типа
(76) *John embraced. 'Джон обнялся.'
абсолютно недопустимы.
Лакофф и Питере предложили считать, что (70) имеет
в качестве глубинной структуры конъюнкцию предложений,
тогда как глубинной структурой для (72) является простое
предложение с конъюнкцией подлежащих (L a k о f f —
Peters, 1966):
John
s erudite and Harry
John and Harry ara erudite
be erudite
Предложение, имеющее в глубинной структуре
конъюнкцию подлежащих, может допускать варианты, в которых
один из членов конъюнкции выступает в составе группы
сказуемого, например:
268
(721
VP
be similar
Harry
Jofin and Harry are similar
(77) John is similar to Harry, 'Джон похож на Гарри,1
или
(78) John embraced Mary, 'Джон обнял Мэри,'
Учитывая этот факт, Лакофф и Питере предлагают
считать, что предложения (77) и (78) получаются из тех же
самых глубинных структур, что и (72) и (73), посредством
трансформации «сдвиг конъюнкта» (conjunct movement),
которая осуществляет факультативный перенос одного из
членов сочиненной группы подлежащего в группу
сказуемого'.
В предложениях обоих типов вместо сочиненной именной
группы может выступать простая именная группа:
(79) Those men are erudite, 'Эти люди эрудиты,'
(80) Those men are similar. 'Эти люди похожи,'
Какие же ограничения должны быть наложены на
подлежащее предложений с similar, чтобы исключить *John is
similar 'Джон похож'? Первое, что приходит в голову,— это
потребовать для similar подлежащего во множественном
числе (все равно — сочиненного, как в (72), или простого,
как в (80)). Однако такое ограничение оказывается не вполне
точным, поскольку pluralia tantum не могут быть
подлежащими при similar, если только данное pluralia tantum
не обозначает множество объектов; так,
(81) These scissors are similar. 'Эти ножницы похожи.'
допустимо лишь при условии, что these scissors можно
заменить на these pairs of scissors 'эти пары ножниц', но ие на
this pair of scissors 'эта пара ножниц',
269
Тем самым очевидно, что интересующее нас ограничение
выглядит так: подлежащее предложения с similar должно
иметь множественный, а не индивидуальный референцион-
ный индекс. Это ограничение логически вытекает из
семантического представления прилагательного similar, в
отличие от erudite. Фраза (79) означает, что каждый из
названных мужчин обладает свойством 'быть эрудитом' (='Ье
erudite'); иначе говоря, эрудированность есть свойство
индивидуума. Тем самым семантическое представление
слова erudite заключает в себе индивидную переменную,
а семантическое представление таких фраз, как (79),
выводится посредством проекционного правила, которое
позволяет этой переменной пробегать множество,
являющееся индексом группы подлежащего. В то же время
свойство, обозначаемое словом similar,— это свойство не
индивидуального объекта, а множества. В семантическое
представление прилагательного similar входит переменная,
которая пробегает не множество объектов, а множество
множеств10, и, чтобы получить семантическое представление
10 Переменная, пробегающая множество множеств, необходима в
семантическом представлении similar в силу следующих соображений.
При similar возможна зависимая группа с in that S 'тем, что ПРЕДЛ':
(82) Those men are similar in that they play tennis well.
'Эти мужчины сходны тем, что оии хорошо играют в теннис'.
Смысл предложения (82) представим формулой
х7м k Х0Р0Ш0 играет в теииис]1™,
где через М обозначено множество мужчин, о которых идет речь. Таким
образом, similar in that можно рассматривать как операцию над
множеством и пропозициональной функцией. Similar без in that S и similar
in that S идентичны по значению, только в первом случае не указано,
в каком именно отношении сходны (= similar) сходные объекты. В ряде
случаев для similar (без in that S) следовало бы использовать
семантическое представление, в котором символу S, стоящему в
семантическом представлении выражении similar in that S, отвечала бы
«пропозициональная функция». Так, однако, дело обстоит не всегда: я
полагаю, что, например, предложение John is a fool; Max is similar.
'Джон дурак; Макс таков же.' (букв. 'Макс сходен') должно выводиться
из структуры, которую можно было бы читать как John is a fool; Max
and John are similar in that they are fools. 'Джон дурак; Макс и Джон
сходны тем, что они дураки.', то есть similar должно получаться из
similar in that S посредством эллипсиса. В данном предложении речь
безусловно идет о сходстве Джона и Макса именно в отношении
глупости того и другого, а ие, скажем, их усатости.
Заметим, что для слова similar необходимо указать, какие именно
пропозициональные функции могут сочетаться с ним, то есть в каких
именно отношениях объекты могут быть similar. Так, предложение
270
для предложения типа (80), необходимо взять в качестве
значения этой переменной множество, фигурирующее в
качестве индекса группы подлежащего. Подобная операция,
однако, невозможна, если этот индекс отсылает не к
множеству, а к индивидууму. Таким образом, допустимость
сказуемого (be) similar* только при подлежащих с
«множественным» индексом объясняется следующим фактом: если
подлежащее не имеет «множественного» индекса, то одно
из семантических (проекционных) правил, необходимых
для семантической интерпретации соответствующего
предложения, не может быть применено. Заметим, что этот
пример ясно показывает зависимость порождающей силы
грамматики от семантических, то есть проекционных,
правил. Если грамматика должна в конечном итоге
обеспечивать соответствие между семантическими и фонетическими
представлениями, то семантические (проекционные) правила
отсеивают те синтаксические структуры, к которым они
оказываются неприменимыми.
Вернемся теперь к глубинной структуре фразы (70), то
есть к (70'). В свете того, что было только что сказано, я не
вижу особых оснований считать, что (70) выводится из
(70'), то есть из сложносочиненного предложения. Различия
между (70) и (72) полностью сводятся к различиям в
семантических представлениях прилагательных erudite и
similar; трансформация «сдвиг конъюнкта» (conjunct
movement) может выполняться с учетом именно этих различий,
независимо от того, является ли глубинное подлежащее
простым или сочиненным. Имеются надежные основания
полагать, что (72), может быть, и не выводится из
сложносочиненного предложения, и в то же время нет оснований
для того, чтобы глубинная структура фразы (72) отличалась
по форме от (70'); поэтому я предлагаю считать, что (70) и
(72) имеют в качестве своих глубинных структур простое
(83) John and Harry are similar in that I met their respective sisters
on a primenumbered day of the month. 'Джон и Гарри сходны
тем, что я встретился с сестрой одного и с сестрой другого в
день, дата которого была простым числом.'
представляется аномальным. По-видимому, здесь возникает та же
проблема, что и при решении следующей задачи: установить, когда про
некоторое предложение можно сказать, что оно выражает свойство
упоминаемого в нем объекта.
* МакКоли, вслед за L a k о f f, 1965, не различает в глубинной
структуре глаголы и прилагательные; поэтому для него be similar =
similar.— Прим. перев.
371
предложение с сочиненным подлежащим, так что для
вывода сочиненных именных групп в обоих случаях
сочинительное сокращение не требуется.
В подтверждение мнения, будто (70) получается из
(70'), то есть из пары сочиненных предложений, обычно
приводят два следующих довода: а) сочиненные группы
подчиняются тем же самым сочетаемостным ограничениям,
что и простые составляющие; б) (70) синонимично с (71).
Однако оба эти факта легко объясняются и при моем
подходе. Пусть Xj — индекс при John, а х2 — индекс при Harry
в John and Harry are erudite., тогда John and Harry имеет
в качестве индексов объединение хх и хъ то есть {xit x%},
То же самое семантическое правило, которое давало
семантическое представление для Those men are erudite.,
построит для John and Harry are erudite представление
w
, , , [erudite x],
Если считать, что для семантических представлений
имеет силу правило, символической логики, гласящее, что
« (I, *п) Р{х)^Р (xt) Л Р (*,) А... АР (*.),
то есть что связанное квантором общности высказывание
относительно некоторого конечного множества
эквивалентно конъюнкции тех же высказываний относительно
каждого элемента этого множества и, то приведенная формула
эквивалентна формуле 'erudite (xt) Д erudite (xa)'n. Эта
последняя, однако, есть не что иное, как семантическое
представление фразы John is erudite and Harry is erudite;
именно этим и объясняется ее синонимичность с John and
Harry are erudite. Если принять сделанный выше вывод,
что сочетаемость (групп) слов опирается на их семантические
11 Б. Рассел (Russell, 1920) указывает, что это правило, строго
говоря, не вполне корректно: высказывание У всех апостолов были
бороды не эквивалентно высказыванию У Петра была борода; и у Иоанна
была борода, и ..., и .,., и у Иуды Искариота была борода, поскольку
первое высказывание нельзя вывести из второго без дополнительной
информации о том, что во втором высказывании перечислены все
апостолы. Однако замечание Рассела не противоречит нашему положению,
так как информация о том, что «здесь перечислены все...», по
определению, обязательно присутствует всегда, когда множество задается
перечислением элементов; 3 именно так дело и обстоит в
интересующих нас случаях.
272
представления, то очевидным образом объясняется тот?
факт, что сочиненное подлежащее в такой фразе, как (70),
имеет те же сочетаемостные ограничения, что и простое
подлежащее в John is erudite. Заметим, что так же обстоит
дело с любыми сочиненными группами, даже во фразах типа
(72) или (73), которые не могут быть выведены из пар
сочиненных простых предложений.
Рассмотрим теперь фразы другого типа, на которые
обычно ссылаются, говоря о получении сочиненных именных
групп в результате сочинительного сокращения пары
сочиненных предложений. Фраза
(84) John and Harry went to Cleveland.
'Джон и Гарри поехали в Кливленд.'
неоднозначна; она имеет две несинонимичные перифразы:
(85) John and Harry each went to Cleveland.
'Джон и Гарри каждый поехали в Кливленд.';
(86) John and Harry went to Cleveland together.
'Джон и Гарри вместе поехали в Кливленд.',
Фразе (84) в первом значении можно было бы приписать
глубинную структуру в виде сложносочиненного
предложения, а во втором — в виде простого предложения с
сочиненным подлежащим. Против этого имеется, однако,
сильный аргумент: фразы типа
(87) Those men went to Cleveland. 'Эти люди поехали в
Кливленд.'
неоднозначны таким же образом, как и (84); при этом неясно,
как, основываясь на идеях Лакоффа и Питерса (L a k о f f —
Peters, 1966), можно записать значения фраз (84) и (87)
так, чтобы оба значения фразы (84) отличались друг от
друга точно так же, как оба значения фразы (87). Мне известен
только один способ приписать фразам (84) и (87) такие
глубинные структуры, что их неоднозначность оказывается в
точности одинаковой; этот способ заключается в следующем.
Разобьем именные группы (ИГ), имеющие множественный
индекс, на два класса: ИГ первого класса допускают при
себе адъюнкты, означающие 'вместе', и мы назовем их
«объединительные ИГ»; ИГ второго класса, допускающие
адъюнкты со значениями типа 'каждый', предлагается называть
«разделительными ИГ». Объединительные ИГ
характеризуются признаком [+объедин(ительная)], разделительные —
признаком [— объедин]0. Признаки [+ объедин] и [— объе-
дин] приписываются множественным индексам именных
273
групп в глубинной структуре. Некоторые сказуемые
допускают в качестве подлежащего только разделительные
ИГ, например erudite 'эрудирован', другие допускают как
разделительные, так и объединительные ИГ, например go
'поехать', наконец, третьи допускают только
объединительные ИГ, например similar 'сходны'. С точки зрения
семантики различие между объединительными и
разделительными ИГ связано с взаимным порядком кванторов. В том
значении фразы (87), где выступает объединительная ИГ,
имеется в виду одно событие — поездка в Кливленд, в которой
участвовал каждый из названных людей; в другом
значении (с разделительной ИГ) речь идет о том, что для каждого
из людей имеется событие — поездка в Кливленд, в которой
он участвовал. Все это можно записать примерно так:
Объединительная ИГ: * хеМ ['поехать в Кливленд' (х, у)].
Разделительная ИГ: хеМ ^['поехать в Кливленд' (х, ух)\.
С различием объединительных и разделительных ИГ
связана проблема семантической интерпретации таких
синонимичных фраз, как (88) и (89):
(88) These men and those boys are similar.
'Эти мужчины и те мальчики похожи (сходны),'
или
(89) These men are similar to those boys,
'Эти мужчины похожи на тех мальчиков,*
Для таких фраз можно было бы предложить глубинную
структуру, в которой узлу ИГ (=подлежащее) подчинена
ИГ these men с индексом А и ИГ those boys с индексом В;
{881 s
NP:A
these men
274
those boy?
В такой структуре вся ИГ-подлежащее имеет индекс
А и В, что означает, будто во фразах (88) и (89) свойство
similar относится ко всем элементам множества A U В,
Это, однако, неверно: 'similar (A U В)' означает, что
мужчины не только похожи на мальчиков, но и друг на друга,
а это не входит в смысл фразы (88). Как было сказано в
предыдущем абзаце, здесь квантор, отвечающий
разделительной ИГ, занимает «внешнюю» позицию в семантическом
представлении. В действительности фраза (88) означает:
'similar ({хи хг}) истинно, причем xt пробегает множество А,
а Хц — множество В'. Этот пример показывает, что в
английском языке имеется два разных квантора общности: если
понимать у так, как он интерпретируется в логике, то
выражение
'V V similar ({xit x,}Y
х,ъА хайВ
представляет не значение фразы (88), а значение фразы (90):
(90) Every one of the men is similar to every one of the
boys.
'Каждый из [этих] мужчин похож на каждого из
[тех] мальчиков.'
Для описания значения фразы (88) необходимо
использовать два «квантора общности»; однако их комбинация
означает не то, что предикат similar истинен относительно всех
пар Олемент из А, элемент из В>, а нечто иное: те пары
элементов, для которых предикат similar истинен,
исчерпывают или почти исчерпывают объединение множеств А и В.
Для выражения нужного здесь смысла я предлагаю ввести
особый квантор X — квантор «исчерпания
(множества)» и изображать значение фразы (88) формулой'':
Квантор исчерпания нужен также для описания смысла
таких фраз, как
(91) The men courted the women.
'Мужчины ухаживали за женщинами/
(91) вовсе не означает, что каждый мужчина ухаживал
за каждой женщиной, ее смысл таков: каждый (или почти
каждый) мужчина ухаживал за одной или несколькими
275
Женщинами, и за каждой (или почти каждой) женщиной
ухаживал по крайней мере один мужчина.
Вернемся к утверждению, что be similar требует
объединительного подлежащего. Все известные мне
противоречащие примеры объясняются в действительности
эллипсисом, выполняемым над глубинной структурой, в которой
имеется именно объединительное подлежащее; например,
фраза
(92) John is stupid and Bill and Harry are similar.
'Джон глуп, и Билл и Гарри таковы же.' (букв,
'похожи')
получается из , , , Bill and Harry are similar to John.
'Билл и Гарри похожи на Джона.', а в соответствующей
глубинной структуре Bill and Harry — не подлежащее, а
лишь часть объединительной ИГ-подлежащего:
№ s
,NP [+об>един]
NP Con] NP
Bill and Harry and John
Принимая требование, чтобы similar имело сочетаемост-
ное ограничение «подлежащее = [+ объедин]», мы тем
самым наносим смертельный удар теории, в соответствии
с которой сочиненные именные группы получаются из
сложносочиненных предложений с помощью сочинительного
сокращения. Эта теория предполагает, в частности, что
сложносочиненное предложение
(93) These men are similar and those boys are similar.
'Эти мужчины похожи, и те мальчики похожи,'
be similar
276
может быть преобразовано в (88) посредством сочинитель»
ного сокращения, откуда с необходимостью следует, что
(88) и (93) являются перифразами друг друга. Однако в
действительности это, разумеется, не так, поскольку (88)
и (93) имеют разный смысл. Я не вижу никакого общего
способа, посредством которого теория сочинительного
сокращения могла бы избежать приписывания фразе (88)
неоднозначности, хотя на самом деле эта последняя вполне
однозначна.
Грамматическое лицо и перформативные глаголы
Теоретико-множественные операции и отношения
играют не менее важную роль и в связи с грамматическим лицом.
Во многих современных описаниях английского языка ис»
пользуется «вопросительный форматив», который должен
входить в глубинную структуру любого вопроса, и «пове*
лительный форматив», входящий в глубинную структуру
любого высказывания в императиве (К a t z — Postal,
1964; Т h о г n e, 1966)?. Примерный смысл этих
формативов — 'говорящий спрашивает слушающего , . ,' и
'говорящий просит слушающего, чтобы тот . , ,', то есть это как
бы глаголы с подлежащим в 1-м лице ['говорящий' == я] и
косвенным дополнением (= адресатом) во 2-м лице
['слушающий' = ты]. Джон Р. Россг предложил пойти еще
дальше и вводить в глубинные структуры всех фраз (а не
только вопросительных и повелительных) специальное
поддерево, подчиненное непосредственно вершине S и
состоящее из подлежащего 1-го лица, косвенного дополнения 2-го
лица и так называемого перформативного глагола (Austin
1962): это глагол, описывающий характер отношения,
которое устанавливается данным высказыванием между
говорящим и адресатом высказывания. Вот примеры перформа-
тивных глаголов:
(94) I promise to give you ten dollars.
'Обещаю дать тебе 10 долларов.'
(Данная фраза представляет собой обещание говорящего
слушающему.)
(95) I hereby order you to open the door,
'Приказываю тебе открыть дверь.'
277
(Данная фраза представляет собой приказ говорящего елу-
шающему.)
(96) I hereby declare that I will not pay this bill,
13аявляю, что не стану оплачивать этот счет,1
(Данная фраза представляет собой заявление говорящего
слушающему.)
Росс усматривает перформативы в глубинных структурах
всех фраз, ср.:
{императивный you
лерформатив)
you
Upen the doorl
open
the door
При получении фраз, отличных от (94) — (96), то есть
не содержащих перформативного глагола в виде отдельной
лексемы, в соответствии с предложением Дж. Росса к их
глубинным структурам применяется трансформация
элиминации, устраняющая глубинные перформативные узлы.
Укажем несколько фактов, подтверждающих
целесообразность подхода Росса.
Во-первых, императивы ведут себя в английском языке
так, как если бы они всегда имели подлежащее you
(например, рефлексивизация прямого дополнения при императиве
второго лица: wash yourself 'мойся/мойтесь', но не *wash
himself или *wash you), которое, однако, отсутствует в
поверхностной структуре. Трактовка Росса позволяет учесть
все эти факты, не вводя никаких правил ad hoc,— соответ-
278
ствующие фразы получаются в результате действия
некоторых весьма общих механизмов, которые необходимы в
грамматике английского языка и по независимым
соображениям, а именно: при всех глаголах 'приказания' в
глубинной структуре должна быть именная группа И1\ (=
косвенное дополнение) и придаточное дополнительное,
подлежащее которого совпадает с ИГ!. Трансформация «Equi-
NP-Deletion» обеспечивает элиминацию этого подлежащего.
Так объясняется синтаксическое устройство фраз типа
(97) I ordered John to open the door,
'Я приказал Джону открыть дверь.'
Поскольку глагол, который Дж. Росс предлагает
вводить в глубинную структуру императивных высказываний,
является перформативом, его косвенным дополнением
всегда выступает you 'ты/вы'; поскольку в то же время это
глагол 'приказания', подлежащим его придаточного
является также you; это подлежащее, как и при всех прочих
глаголах 'приказания', элиминируется трансформацией
«Equi-NP-Deletion». Таким образом, устранение
подлежащего при императиве оказывается просто частным случаем
элиминации подлежащего в глубинном придаточном (при
преобразовании этого придаточного в поверхностный
инфинитив) в соответствии с «Equi-NP-Deletion».
Во-вторых, существуют глаголы, которые могут
функционировать как перформативы только с наречием hereby 'этим
самым/настоящим':
(98) I hereby tell you to open the door.
'Настоящим приказываю вам открыть дверь,'
(99) *I tell you to open the door.
(100) I hereby ask you where you were last night.
'Спрашиваю тебя, где ты был(а) вчера ночью.'
(101) *I ask you where you were last night.
(102) I hereby tell you that Lyndon Johnson is an
imperialist politician. 'Заявляю вам, что Л. Джонсон —
империалистический политик.'
(103) *I tell you that Lyndon Johnson is an imperialist
politician.
(Существуют, разумеется, перформативы, которые могут
употребляться и без hereby, как в (94).) За исключением
одного случая, о котором речь пойдет ниже, для каждого
элиминируемого перформатива, предлагаемого Россом,
279
можно указать глагол именно о такой сочетаемостью. Это
позволяет считать, что элиминируемые перформативы
Росса — это не просто абстрактные пучки признаков, как он
сначала полагал, а реальные лексемы, такие, как tell или
ask, имеющие пометы о применимости к ним специального
правила (=minor rule) элиминации перформативов; данное
правило сформулировано так, что применимо лишь к
структуре, состоящей из подлежащего, глагола-сказуемого
(= перформатива), косвенного дополнения и придаточного
дополнительного (таким образом, это правило не может
быть применено, если в структуре есть какой-либо
компонент сверх перечисленных, например, если в ней имеется
hereby). Из глубинных структур выражений (99), (101) и
(103) посредством элиминации перформативов выводятся
реальные фразы:
(104) Open the doorl
'Откройте дверьГ
(105) Where were you last night?
'Где ты был(а) вчера ночью?*
(106) Lyndon Johnson is an imperialist politician,
'Л, Джонсон — империалистический политик/
Упомянутое выше исключение составляет перформатив-
ный глагол, предполагаемый анализом Дж, Росса в
переспросах типа
(107) You saw who?
'Ты увидел кого?'
В английском языке нет глагола, который имел бы
значение, подходящее для перформатива в подобных
переспросах, и в то же время имел бы особенности сочетаемости,
типичные для только что рассмотренных перформативов.
Однако в английском отсутствует также и глагол,
позволяющий вводить переспросы в косвенной речи, то есть нет
глагола типа *bnick, который можно было бы употребить
во фразе
(108) *John bnicked me what I beat my wife with,
'Джон [переспросил] меня, чем я бью свою жену,1,
получающейся в результате перевода в косвенную речь
переспроса
(109) You beat your wife with what?
'Ты бьешь свою жену чем?9
880
Таким образом, это нарушение отмеченного выше coot-
ветствия между элиминируемыми и эксплицитными (то есть
лексически выраженными) перформативами, которые не
могут выступать как таковые без hereby, не подрывает
идею предложения Росса; просто на перформатив, входящий
в глубинную структуру переспроса, наложено сильное
ограничение — он может появляться только в таком контексте,
в котором он обязательно будет элиминирован *.
Как уже было сказано, в соответствии с подходом Росса
в глубинной структуре всякой фразы самый верхний
глагольный узел является перформативом — с подлежащим
I 'я' и косвенным дополнением you 'ты/вы'. Тем самым
однозначно определяется лицо именных групп в вершинном
(= перформативном) предложении, так что им можно
заранее не приписывать характеристику лица, а вводить эту
характеристику посредством специального правила.
Другими словами, выражения «подлежащее перформатива» и
«косвенное дополнение перформатива» можно считать о п-
ределениями понятий «первое лицо» и «второе
лицо» 1а. Если принять данный подход, то в глубинной
структуре вообще не нужно указывать грамматическое лицо.
Достаточно иметь одно недифференцированное личное
местоимение; в ходе вывода его лицо уточняется на основе его
референционного индекса, а также референционных
индексов подлежащего и косвенного дополнения вершинного j
перформатива. Однако условия приписывания первого
или второго лица именной группе связаны не с совпадением,
а с теоретико-множественным включением индексов. Если
индекс подлежащего перформативного глагола включен в
индекс данной ИГ, то эта ИГ получает признак '1-е лицо';
если индекс косвенного дополнения перформатива включен
в индекс ИГ, которая еще не имеет признака лица, то эта
* В настоящее время (март 1974 г.) я полагаю, что отсутствие
глагола типа *bnick не является случайным, как я думал ранее.
Переспросы рассматриваемого типа (= echo questions) — это вовсе не
единственный тип выражений, невозможных в английском языке в
косвенной речи; точно так же обстоит дело с восклицаниями вроде Boy, am
I hungry! 'Черт возьми, как я голоден!' (М с С a w 1 е у, 1973).—
Прим.. автора к русскому переводу статьи.
12 Такая трактовка представляет собой обобщение идеи Р.
Якобсона (J a k о b s о п, 1957); ср. также замечание Дж. Торна (Thome,
1966, р. 76): «You — это то же самое местоимение, что и he, she и they,
но только в другой форме, а именно: you — это звательная форма от
he, she, they».
281
ИГ получает признак '2-е лицо'. Результат применения
соответствующих правил иллюстрируется фразами
(110) You and I like our work.
'Ты и я любим нашу работу.-'
(111) You and John like your work.
'Ты и Джон любите вашу работу.'
(112) John and Harry like their work.
'Джон и Гарри любят свою работу,1,
где our, your и their соответствуют индексу, включающему
соответственно 1) индекс местоимения I, 2) индекс
местоимения you, но не I и 3) не включающему ни того, ни другого
индекса.
Такая трактовка лица избавляет нас от необходимости
вводить сугубо ad hoc ряд правил согласования лиц,
которые в противном случае оказываются необходимыми.
Рассмотрим, например, переспросы по поводу фраз,
содержащих эксплицитные перформативы с hereby. Так, по поводу
фразы I hereby order you to open the door, можно спросить:
(113) You hereby order me to do what?
'Ты настоящим приказываешь мне сделать что?'
или
(114) Who hereby orders me to open the door?
'Кто настоящим приказывает мне открыть дверь?'
Здесь hereby выступает в переспросах с подлежащими
you и who, однако во фразах других типов hereby с такими
подлежащими не сочетается:
(115) *You hereby order me to open the door.
(116) *Who hereby orders me to open the door?
Перформативиый глагол переспросов специфичен в том
отношении, что зависящее от него предложение должно
иметь форму, соответствующую глубинной структуре целой
фразы, к которой относится переспрос; это объясняется
тем, что переспрос относится к самому высказыванию, а не
к его содержанию. ИГ, являющаяся подлежащим фразы
с hereby, получает признак лица в результате применения
указанных выше правил; в нормальной ситуации, если
282
переспрос обращен к человеку, произнесшему исходную
фразу, соответствующая ИГ будет иметь тот же индекс,
что и косвенное дополнение перформатива в исходной фразе,
а именно признак '2-е лицо', и в результате мы получим
(113). Однако, за исключением переспросов, подлежащее
фраз с hereby никогда не удовлетворяет условиям, при
которых оно может получить признак '2-е лицо'.
Рассмотрим теперь фразу
(117) Shall I open the door? 'Открыть дверь?'
Насколько мне известно, в английском языке это
единственный тип вопросов, естественным ответом на которые
является повелительное, а не повествовательное
предложение 13:
(118) Yes, open the doorl 'Да, открой дверь!'
(119) No, don't open the door! 'Нет, не открывай дверь!'
(120) * Yes, you shall open the door! 'Да, ты откроешь
дверь!'
Заметим, что в вопросе подлежащее стоит в первом лице,
а в ответе — во втором (в ответе подлежащее you
элиминируется). Если подлежащее первого лица стоит во
множественном числе и его индекс включает еще и слушающего
(то есть подлежащее — это инклюзивное мы), то в ответе
используется императив в первом лице множественного
числа (с let's):
(121) Shall we go to dinner now? 'Пойдем сейчас обедать?'
(122) Yes, let's go. 'Да, пойдем,'
(123) No, let's not go yet. 'Нет, пока не пойдем.'
(124) *Yes, we shall go.
Эти факты легко описать, если рассматривать (117) и
(121) как вопросительные императивы. При подлежащем
в первом лице множественного числа мы получим (121) —
13 Нередко высказывается мнение, что в глубинной структуре
повелительных предложений необходим вспомогательный глагол will,
поскольку он выступает в императивах с повтором (= tag imperatives)
типа Open the door, won't you? Однако это мнение представляется
ошибочным: повтор в императиве имеет совсем другое значение, нежели
повтор в вопросе (вопрос с повтором Mary is pretty, isn't she? 'Мэри
хорошенькая, не так ли?' предполагает ответ типа Yes, she is., тогда как
императив с повтором не допускает ответа типа Yes, open it.), и,
следовательно, может быть результатом действия совсем других правил.
Подробнее об этом см. В о 1 i п g e г, 1967#
283
(123), поскольку соответствующая ИГ имеет индекс {хи х2},
где XfH Xi — индексы, соответствующие говорящему и
слушающему. В (121) эта ИГ получает признак '1-е лицо'
потому, что ее индекс включает xi, а в (122) и (123) она
получает этот признак потому, что ее индекс включает хг.
Если бы в (121) было употреблено эксклюзивное we,
то есть если бы индекс этого we включал только индекс
говорящего, но не слушающего, то подходящим ответом
было бы
(125) Yes, please go, 'Да, идите, пожалуйста.'
или
(126) No, don't go yet, 'Нет, пока не ходите.*
В ответах индекс рассматриваемой ИГ включает индекс
слушающего и не включает индекс самого говорящего.
Форма let's требует подлежащего в первом инклюзивном
лице множественного числа, что доказывается примерами
Дж. Лакоффа:
(127) Let's you and me go to the movies!
'Давай, ты и я пойдем в кино!',
но ie
(128) *LetTs John and me go to the movies,
'Давай, Джон и я пойдем в кино!'
Фраза Shall I go? 'Мне идти?' переводится на венгерский
язык как Menjek? — формой первого лица единственного
числа императива с вопросительной интонацией; эту форму
вообще нельзя трактовать иначе, нежели «вопросительный
императив». Предлагаемый нами подход к описанию
грамматического лица избавляет от необходимости накладывать
ограничения на употребление тех или иных личных форм,
которые в противном случае необходимы, чтобы
отсеивать фразы типа *Menjek. (с повествовательной
интонацией). Заметим, однако, что императивные формы первого
лица единственного числа, произносимые с
повествовательной интонацией, возможны в дополнительных
придаточных:
(129) Janos azt mondta, hogy menjek,
букв. 'Янош то сказал, чтобы я-пошел.'
Наконец, имеется небольшое число идиоматичных
выражений (насколько я знаю, все они неприличные)*, в
284
которых используется возвратный глагол в императиве 14,
Этот глагол выступает в независимом предложении во
втором лице, но во вложенных частях он может иметь формы
и других лиц:
I told John to.,, 'Я велел Джону [... себя]'.
Предложенная трактовка грамматического лица
позволяет не накладывать на лицо глагола в указанных идиомах
никаких специальных ограничений. Просто в этих идиомах
подлежащее совпадает с косвенным дополнением
непосредственно подчиняющего их предложения, и если это
последнее оказывается вершинным, то условия введения признака
«второе лицо» всегда выполняются.
В заключение мне хотелось бы повторить ту мысль, на
которую я уже намекал выше: полное описание английской
семантики требует весьма полного описания английского
синтаксиса; не в меньшей степени верно и обратное.
Разобранные выше примеры подтверждают, как мне кажется,
эту точку зрения. По-видимому, для семантики настало
время занять положенное ей по праву место среди других
лингвистических дисциплин.
(Март 1967 г.)
ПОСТСКРИПТУМ (МАЙ 1967 Г.)
С тех пор как настоящая статья была написана, мое
мнение по некоторым поднятым в ней вопросам изменилось.
Двух таких вопросов я хотел бы коснуться здесь.
1) 0 множественных референционных индексах
и трансформации с respectively
Теперь я полагаю, что использование признака [±
объединительная)] при ИГ с однородностью — это весьма
искусственный прием, который в рамках адекватного
описания рассмотренных здесь явлений необходимо заменить
какими-либо иными, теоретически более удовлетворитель-
14 В работе Q u a n g, 1966 рассматривается пример идиомы,
которая внешне напоминает идиомы данного типа, однако в
действительности к ним не принадлежит.
285
ными средствами, Одно из таких средств было затронуто
в неявной форме при характеристике семантических
представлений различных значений фразы (87). Символ у,
выступающий в этих представлениях, может рассматриваться
(в соответствии с предложением П, Постала) как индекс при
глаголе:
Объединительно: ^ xlu [х goff to Cleveland]
Разделительно: х\Мд [х go^ to Cleveland]
Дж. Росс обратил мое внимание на то, что
«объединительное» и «разделительное» значения таких фраз, как (84)
и (87), ведут себя по-разному при номинализации:
(130) John and Harry's departure for Cleveland.
'Отъезд Джона и Гарри в Кливленд'
(объединительно).
(131) John's and Harry's departures for Cleveland.
'Отъезды Джона и Гарри в Кливленд,'
(разделительно).
(132) The departures of John and of Harry for Cleveland,
(разделительно).
Различие индексов при глаголах в исходных выражениях
объясняет различие в числе соответствующих отглагольных
существительных: при «объединительном» значении глагол
имеет индивидуальный индекс у, а при «разделительном»
значении — множественный индекс {уи у2\, где у±
соответствует отъезду Джона, а у2— отъезду Гарри. Таким
образом, различие между индивидуальными и множественными
индексами характерно не только для существительных, но
и для глаголов. Множественный индекс у глагола
выступает также при наличии адъюнктов twice 'дважды', many
times 'много раз' и т. п. Ср. следующие примеры:
(133) John denied the accusation five times.
'Джон пятикратно [= пять раз] отводил
обвинение.'
(134) John's five denials of the accusation.
'Пять отведений обвинения Джоном.'
(135) *John's denials of the accusation five times.
Семантически five times 'пять раз' эквивалентно слову
five 'пять' в five horses 'пять лошадей': выражение five
286
times означает, что мощность некоторого множества равна
пяти. Слово times — это, так сказать, пустая морфема, с
помощью которой к личному глаголу присоединяется
количественное числительное Ч.
Отглагольное существительное ('отъезд') в (131) стоит
во множественном числе, аналогично существительному
wives в (141):
(141) John and Harry love their wives.
'Джон и Гарри любят своих жен.*
Единственное число wife 'жену' было бы уместно здесь,
только если бы речь шла о многомужестве. В (141) можно
добавить слово respective без всякого изменения смысла:
(142) John and Harry love their respective wives.
'Джон и Гарри любят своих жен — каждый свою
соответственно.'
Добавление прилагательного respective возможно также для
фраз (131) и (132):
(143) John's and Harry's respective departures for
Cleveland.
XS Необходимо различать несколько типов глагольных индексов.
Так, выражение The many similarities between John and Harry
'многочисленные сходства между Джоном и Гарри' соответствует вовсе не
фразе
(136) *John and Harry are similar many times.
'Джон и Гарри похожи друг на друга много раз.',
а фразе
(137) John and Harry are similar in many ways.
'Джон и Гарри похожи [друг на друга] во многих
отношениях.'
Для каждого типа глагольных индексов существует своя «пустая»
морфема. При этом различные типы индексов могут
противопоставляться друг другу:
(138) John criticized the book many times.
'Джон критиковал эту книгу много раз.' vs.
(139) John criticized the book in many respects.
'Джон критиковал эту книгу во многих отношениях'.
В то же время возможны и нейтрализации подобных
противопоставлений; так, (138) и (139) имеют одинаковую номинализованную
форму:
(140) John's many criticisms of the book
'многочисленные критические высказывания Джона в адрес
втой книги'.
287
(144) The respective departures of John and Harry for
Cleveland.
Поскольку respective и respectively тождественны по
смыслу и находятся в дополнительном распределении
(respective присоединяется к существительному, a
respectively — к глагольной составляющей или к предложению),
то приходится принять два следующих утверждения:
— фраза (142) получается с помощью той же самой
трансформации, что и фраза (145):
(145) John and Harry love Mary and Alice respectively.
'Джон и Гарри любят Мэри и Элис
соответственно.';
— глубинные структуры фраз (142) и (145) различаются
только тем, что в (142) мы имеем John's wife и Harry's wife,
а в (145) — Mary и Alice.
Из приведенных соображений следует, что
«разделительное» значение фразы (84) выводится из
(146) John goffl to Cleveland and Harry goe„ to Cleveland.
посредством трансформации с respectively, которая и
объясняет наличие множественного индекса у go в данном
(«разделительном») значении фразы (84).
Здесь, однако, встает следующая проблема: всем
рассмотренным фразам соответствуют аналогичные фразы с
подлежащим во множественном числе (без однородности):
(87) These men went to Cleveland.
'Эти люди уехали в Кливленд.'
(147) Those men's respective departures for Cleveland.
'Отъезды этих людей в Кливленд (каждого по
отдельности).'
(148) The respective departures of those men for
Cleveland (то же).
(149) Those men love their respective wives.
'Эти люди любят своих жен (каждый свою).'
Однако если respective вводится посредством
трансформации с respectively, которая, как это предполагалось до
сих пор, применяется к конъюнктивно-сочиненным
структурам, то каким же образом respective должно появляться
в примерах (147) — (149), где нет сочиненных групп? Здесь
возможны два решения: либо соответствующим образом
288
обобщить трансформацию с respectively, либо выводить все
ИГ множественного числа из глубинных сочиненных групп.
Второе решение, предлагаемое Посталом, представляется
на первый взгляд привлекательным, в частности, потому,
что в ряде случаев (см., например, (58)) именные группы
множественного числа действительно приходится выводить
из глубинных сочиненных групп. Имеется, однако,
следующий существенный довод против этого решения. В самом
деле, для обеспечения правильной семантической
интерпретации количество сочиненных групп в глубинной
структуре любой ИГ множественного числа должно равняться
количеству объектов, о которых идет речь: так, в глубинной
структуре выражения the 63, 428 persons in Yankee
stadium '63 428 человек на стадионе «Янки»' не удастся
обойтись всего двумя сочиненными группами. Однако ИГ во
множественном числе далеко не всегда обозначает точно
определенное количество объектов:
(150) Не has written approximately 50 books.
'Он написал приблизительно 50 книг.'
(151) There were very few persons at the football game,
'На футболе было очень мало людей.'
(152) There were an enormous number of persons at my
party.
'На моей вечеринке было ужасно много людей.'
(153) How many times have you failed your French
examination?
'Сколько раз ты проваливался на экзамене по
французскому языку?'
Названные ИГ множественного числа невозможно
представить и как дизъюнкции всех конъюнкций, имеющих
число членов в пределах, задаваемых выражениями типа
approximately fifty 'приблизительно пятьдесят' и т. п.,
поскольку эти пределы могут очень сильно меняться в
зависимости от того, о чем идет речь: так, в (151) под 'очень
мало' может пониматься 5000, а в (152) под 'ужасно много'—
50. Кроме того, в некоторых случаях, когда употребить
неопределенное обозначение количества невозможно,
числительное, которое называет точно определенное
количество, лежащее в тех же пределах, вполне употребимо*:
(154) Those five men are Polish, Irish, Armenian,
Italian, and Chinese, respectively.
289
'Эти пять мужчин — поляк, ирландец, армянин,
итальянец и китаец соответственно.'
(155) *Those several men are Polish, Irish, Armenian,
Italian, and Chinese, respectively.
'Эти несколько мужчин — поляк, ирландец,
армянин, итальянец и китаец соответственно.'
Таким образом, чтобы описать вывод фраз типа (141) —
(149), нам придется изменить формулировку трансформации
с respectively так, чтобы она была применима и к тем
структурам, где нет конъюнкции, но есть ИГ во множественном
числе, или, вернее, ИГ с множественным индексом.
При этом pluralia tantum допускают respectively только
в том случае, если они имеют множественный индекс;
фраза
(156) The scissors are respectively sharp and blunt.
'Эти ножницы соответственно остры и тупы.'
может означать только, что речь идет о д в у х парах
ножниц. Тем самым точная формулировка трансформации
с respectively должна предусматривать множественный
индекс. Это, разумеется, вполне естественно — ведь задача
данной трансформации состоит в том, чтобы
«распределять» квантор общности по обозначениям отдельных
объектов. В самом деле, все рассматриваемые фразы могут быть
представлены как содержащие квантор общности; в
результате применения трансформации с respectively получается
трансформ, где вместо вхождений переменной, связанной
этим квантором, выступает образ множества,
являющегося областью определения подкванторной переменной.
Например, семантическое представление фразы (149)
имеет вид:
\„ \х loves *'s wife],
кем l ->'
где М — множество людей, о которых идет речь.
Фразе (142) можно приписать представление
У , \х loves x's wife],
где Xi— John, a x2— Harry". В самих этих фразах мы имеем
those men или John and Harry на месте одного из вхождений
связанной переменной х и притяжательное местоимение
their на месте ее другого вхождения, При этом слово wife
290
должно стоять во множественном числе, поскольку после
применения трансформации с respectively та ИГ, в которую
входит wife, имеет множественный индекс — индекс,
отвечающий множеству всех жен, о которых идет речь. (142)
отличается от (145) тем, что имя функции,
выступающее в (142) в подкванторном выражении [/ (x)=x's wife],
является единицей языка: знание слова wife относится
к владению английским языком (то есть к competence
говорящего), тогда как в (145) аналогичная функция
вводится ad hoc для данной фразы [/ (xx)=Mary,
f (x2)=AliceK
Из сказанного можно сделать вывод, что те
представления фраз, к которым применима трансформация с
respectively, предполагают наличие не только
множественных индексов, но и кванторов; подобные представления
следует называть скорее семантическими, нежели
синтаксическими.
Так мы подошли ко второму важному вопросу, по
которому мое мнение изменилось.
2) 0 статусе глубинной структуры
как особого уровня представления высказываний
Полемизируя с многими частностями грамматической
теории Н. Хомского, выдвинутой в С h о m s k у, 1965, я
принимал основные положения этой теории в ц е л о м и,
в частности, был согласен с гипотезой о том, что грамматика
состоит из трех основных компонентов: базовый (=
порождающий) компонент, задающий множество правильно
построенных глубинных структур; семантический
компонент, устанавливающий соответствие между глубинными
структурами и их семантическими представлениями, и
трансформационный компонент, устанавливающий
соответствие между глубинными структурами и их поверхностно-
синтаксическими представлениями. Тем самым
предполагается существование трех уровней представления языковых
высказываний. Два последних, а именно семантический и
поверхностно-синтаксический уровни, не вызывают
сомнения; они оба, по крайней мере имплицитно,
присутствуют во всех известных лингвистических концепциях.
Однако введение промежуточного уровня глубинных структур
нуждается в специальном обосновании. Действительно,
29 J
a priori не ясно, почему грамматика не может быть устроена
иначе и состоять, например, из следующих компонентов:
порождающий семантический компонент (=правила
образования), который задавал бы множество правильно
построенных семантических представлений, и
трансформационный компонент (= правила преобразования), который
обеспечивал бы соответствие между семантическими и
поверхностно-синтаксическими представлениями —
примерно так же, как трансформационный компонент грамматики
Хомского устанавливает соответствие между глубинными
структурами и их поверхностными реализациями. При этом
обязанность доказывать существование уровня глубинных
структур лежит, разумеется, на тех исследователях,
которые его постулируют,— аналогично тому, как в фонологии
доказывать существование «фонемного» уровня,
промежуточного между лексико-фонологическим (= системнофонемным,
или морфофонемным) и фонетическим представлениями,
должны именно те, кто на нем настаивает. Приверженцы
трансформационной грамматики, как правило, пренебрегали
необходимостью специально обосновывать введение уровня
глубинных структур, так же как фонологи-дескриптивисты
пренебрегали необходимостью обосновывать введение
фонемного уровня. Причина в обоих случаях одна и та же:
фонологи всегда трактовали фонемный уровень как свою
область, а морфонологию — как terra quasi incognita, так
что попытки дать общее описание морфонологии были
редкими, да к тому же обычно носили скорее программный
и даже анекдотический характер (см., например, Harris,
1951, глава 14). Совершенно так же представители
трансформационной школы целиком ушли в синтаксис и не
сумели найти общий подход к описанию соответствий между
семантическим и поверхностно-синтаксическим
представлениями, хотя такой подход необходим для того, чтобы решить,
разумно ли разбивать механизм, задающий это соответствие,
на два компонента, один из которых был бы системой
семантических (= проекционных) правил, а другой — системой
синтаксических трансформаций.
Когда Халле, Лиз и другие приняли весьма общий
подход к описанию соответствий между
лексико-фонологическим и фонетическим представлениями, они обнаружили
некие единые явления, которые не удавалось описать как
таковые в рамках грамматики, имеющей две отдельные системы
правил — «морфонологические» и «фонетические» (= allo-
292
phonic) правила, соотносящиеся через «фонологический»
уровень. Так, например, ассимилятивное озвончение в
русском языке оказывается фонетическим правилом в
случае [с], [с] и [х], номорфонологическим правилом в
случае всех прочих шумных, так что в грамматике, имеющей
фонологический уровень, озвончение пришлось бы
описывать посредством двух отдельных правил, принадлежащих
к разным компонентам грамматики. Естественно, встает
вопрос, не обнаружатся ли подобные явления, когда будет
принят общий подход к соответствиям между синтаксисом
и семантикой. Я утверждаю, что такой пример был только
что продемонстрирован: это трансформация с respectively.
С одной стороны, она описывает соответствие между
представлением, включающим кванторы и связанные
переменные, и представлением, включающим обычные ИГ; таким
образом, она делает то, что в С h о m s k у, 1965 отводится
на долю проекционных правил. С другой стороны, однако,
как указал Пол Постал (устное сообщение 8 мая 1967 г.),
она выполняет операцию, которую принято считать
синтаксической трансформацией — сочинительным
сокращением (conjunction reduction): ср. вывод фразы (84) из
сложносочиненного предложения. Постал подчеркивает,
что если снять ограничение, требующее, чтобы
сочинительное сокращение применялось к паре сочиненных структур,
между которыми имеется только одно различие, то
сочинительное сокращение окажется частным случаем
трансформации с respectively. Так различие между
(157) That man loves Mary and Alice.
'Тот человек любит Мэри и Элис'
(158) Those men love Mary and Alice respectively,
'Те люди любят Мэри и Элис соответственно.'
полностью сводится к тому, имеют ли в глубинных струн--
турах данных фраз два разных вхождения ИГ that man
одинаковые или разные индексы. И та и другая фраза
выводятся из
(159) That man loves Mary and that man loves Alice.
'Тот человек любит Мэри, и тот человек любит
Элис.'
посредством трансформации с respectively, и в обоих
случаях получается сочиненное подлежащее that man and that
293
man, которое должно быть сокращено по специальному
правилу; однако если оба вхождения группы that man имеют
одинаковый индекс, то теоретико-множественное
объединение их индексов равно этому индексу {хх Ux1=A'1), и в
результате применения ряда сокращающих трансформаций
получается (157). Из всего этого я делаю вывод, что
преобразование с respectively не может быть описано как единое
явление в грамматике, выделяющей специальный уровень
глубинных структур, и, следовательно, что такая
концепция грамматики должна быть отвергнута в пользу
изложенной выше альтернативы, выдвинутой Лакоффом и
Россом (см. Lakoff — Ross, 1967).
Если принять этот вывод, то синтаксический и
семантический компоненты грамматики, предполагаемые теорией
Хомского, должны быть заменены одним компонентом —
одной системой правил, преобразующих семантическое
представление через ряд промежуточных представлений в
поверхностно-синтаксическое представление. Здесь,
однако, сразу же встает вопрос: не окажутся ли в данном
компоненте — вместо единой системы однородных правил —
правила двух принципиально разных типов, а именно
правила, определенные на семантических
представлениях, и правила, определенные на синтаксических
представлениях?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала
выяснить, насколько те и другие представления различаются по
своей формальной природе. На Техасской конференции по
языковым универсалиям Джордж Лакофф показал, что
между этими двумя типами представлений различия могут
оказаться гораздо меньшими, чем это предполагалось до
сих пор. Лакофф отметил, в частности, наличие почти
точного соответствия как между большинством базовых
синтаксических категорий и элементарными термами
математической логики, так.и между правилами, которые Росс и
Лакофф предложили в качестве универсальных правил
базового компонента, и общеизвестными правилами
образования в логике. Так, «правило релятивизации» NP=>NP S
соответствует правилу логики, гласящему, что из терма х
и предиката / можно построить терм {х : f (x)}, то есть
'такие х, что / (х)'. Далее, в семантических представлениях
также выделяются составляющие, группировка которых
"может быть показана с помощью скобок и, следовательно,
представлена в виде дерева. Поскольку категории, высту-
294
пающйе в правилах образования математической логики,
соответствуют синтаксическим категориям, семантические
представления (в основу которых должен, как я
предполагаю, лечь язык математической логики) можно
рассматривать как деревья, помеченные символами синтаксических
категорий. Наконец, нет никаких априорных соображений
против линейного порядка составляющих в семантических
представлениях. В этой связи надо отметить, что существует
ошибочное мнение (приводящее к ряду недоразумений),
будто выражения, одинаковые по смыслу, обязательно
должны иметь одинаковые семантические представления.
Однако понятие «смысловое тождество» прекрасно можно
определять как отношение эквивалентности
между семантическими представлениями: два выражения
называются тождественными по смыслу, если их
семантические представления эквивалентны (но не обязательно
тождественны). Например, фразы
(160) I spent the evening drinking and singing songs.
'Я провел вечер, выпивая и распевая песни,'
и
(161) I spent the evening singing songs and drinking.
'Я провел вечер, распевая песни и выпивая.'
могут иметь семантические представления, различающиеся
порядком сочиненных предложений, но эквивалентные в
силу правила p/\q эквив q/\p. Таким образом, ничто не
мешает трактовать семантические представления как
упорядоченные деревья, узлы которых помечены символами
синтаксических категорий; тогда единственное формальное
различие между семантическими и синтаксическими
представлениями заключается в типе составляющих,
являющихся терминальными узлами дерева. Тем самым с формальной
точки зрения правила преобразования семантических
представлений в поверхностно-синтаксические — это правила,
отображающие одно множество упорядоченных размеченных
деревьев на другое множество упорядоченных размеченных
деревьев. Среди этих правил должны быть не только
присоединения (adjunctions), элиминации (deletions) и
перестановки (permutations), известные из теории Хомского
(Chomsky, 1965), но и правила лексического заполнения
(lexical insertion transformations), подставляющие
лексические единицы вместо определенных фрагментов
размеченного дерева. Однако правила лексического заполнения
295
Необходимы в грамматике и с точки зрения Теории Хом-
ского, поскольку, например, прономинализация
предполагает введение новых лексических единиц (местоимений)
вместо поддеревьев, заполненных до этого другими
лексическими единицами. При этом некоторые правила
лексического заполнения должны применяться в самом конце
процесса вывода фразы, как показывают следующие два
примера0': (1) Выбор выражений the former или the latter может
производиться лишь после того, как выполнены все
трансформации, перемещающие ИГ во фразе. (2) Если в
результате прономинализации оказываются сочиненными
два одинаковых местоимения, то их необходимо
заменить новым местоимением (на этот факт мне указал
Джон Росс):
(162) Не and she live in Boston and Toledo respectively.
'Он и она живут в Бостоне и Толидо
соответственно.'
(163) *Не and he live in Boston and Toledo respectively.
(164) They live in Boston and Toledo respectively.
'Они живут в Бостоне и Толидо соответственно.'
Н. Хомский утверждает (Chomsky, 1965), что
лексическое заполнение производится в процессе работы
базового компонента, если только оно не обусловливается
другими трансформациями, как в примере (164). Против
этой точки зрения высказывались возражения двух типов:
с одной стороны, Дж. Грубер полагает (G r u b e r, I965), что
лексические единицы, образующие пары типа buy/sell
•покупать/продавать' и send/receive 'посылать/получать',
вводятся в глубинную структуру в результате применения
трансформаций, предшествующих лексическому
заполнению; с другой стороны, Лакофф и Росс (L a k о i f —
Ross, 1967) считают, что многие идиомы должны вводиться
в глубинную структуру после применения ряда
трансформаций. Таким образом, в одном случае определенные
трансформации должны работать в процессе порождения раньше,
чем это предполагается теорией, развиваемой в
Chomsky, 1965, а в другом случае некоторые лексические
заполнения должны осуществляться позже, чем допускает
теория Хомского.
Принятие той концепции грамматики, которую я здесь
отстаиваю, ведет к следующему интересному выводу:
лексические единицы могут вводиться в глубинную структуру
296
на место составляющих, возникших в результате
применения трансформаций. Многие из сравнительно недавно
предложенных трансформаций можно, следовательно,
рассматривать как правила комбинирования семантических
составляющих до лексического заполнения; такими
трансформациями являются, например, различные номинализации
и образование производных каузативов и инхоативов (L а-
k о f f, 1965). Тем самым различие между «трансформаци-
онно выводимыми» и «лексическими» единицами, которое
многие лингвисты (в особенности Н. Хомский — см.
Chomsky, 1971) считают весьма важным, оказывается,
по-видимому, иллюзорным,
ПРИМЕЧАНИЯ *
а (К с. 238). Из того, что sadj и sad2 — это разные лексические
единицы, вовсе не следует, что между ними иет ничего общего. Было бы
точнее сказать, что sad2 означает 'вызывающий состояние «sadi»' [то
есть грустный^грустъх — это определенное состояние психики
человека, а грустный2='вызывающий грустьх'; так я и поступил в своей
работе 1968 г. (см. М с С a w 1 е у, 1968а).
6 (К с. 243—244). Не исключено, что этот пример доказывает лишь,
что разные люди могут приписывать слову bachelor разные значения,
то есть для одних оно означает 'ие состоящий в браке' [и применимо к
людям любого пола], а для других — только 'неженатый' [и применимо
лишь к мужчине].
с (К с. 244—245). В то время, когда я писал это, я полагал, что
подобное правило должно отличаться от трансформации, стирающей в
выражении 'каузируеттого, кто носит ее [=одежду], чувствовать себя Х-ово'
все, кроме символа «Х-ово». Однако теперь я не вижу, как можно было
бы обосновать данное мнение. Далее, оказалось, что мое утверждение,
будто всякое английское прилагательное, обозначающее температуру,
может быть применено и к одежде с соответствующим изменением
смысла, разумеется, ошибочно; так, lukewarm 'тепловатый' обозначает
температуру, однако нельзя назвать какую-либо одежду
lukewarm.Правильнее было бы говорить не об обозначении температуры, а об обозначении
температурных ощущений: вода или пища могут быть lukewarm, однако
человеку не может быть lukewarm [I am warm/cold 'Мне тепло/холодно',
но не *I am lukewarm 'Мне тепловато']. (Данным уточнением я обязан
Алену С. Принсу.)
" (К с. 245). Ален С. Приис обратил мое внимание на то, что данное
явление не ограничивается сочетаниями прилагательных с названиями
одежды. В самом деле, во фразах типа:
This blanket isn't warm enough. 'Это одеяло недостаточно теплое.'}
The fire is warm. букв. 'Огонь теплый.'; The breeze is cool. 'Бриз
прохладен.' речь идет только о температурных ощущениях человека, а не о
* Настоящие примечания добавлены автором к переизданию
статьи в книге М с С a w 1 е у, 1973, р. 96—98.— Прим. перед.
?97
реальной температуре называемых объектов (температура огня может
быть выше 300°С, а про это вряд ли можно сказать warm; говорить же
о собственной температуре бриза вообще бессмысленно). Принс отметил
также, что подобная многозначность характерна для названий не только
температурных, но и многих других телесных ощущений:
This sweater is itchy.'Этот свитер вызывает зуд. при I feel itchy.
'Я испытываю зуд';
This bed is comfortable. 'Эта кровать удобна.' при I feel comfortable.
'Мне удобно.' и т. п.
е (К с. 250). Те факты, которые, по-видимому, противоречат
последнему утверждению, приводятся в Y u с к, 1969, и К а у е, 1971.
Что же касается трактовки грамматического числа, предлагаемой в
настоящей статье, то против нее в Perlmutter, 1972 выдвинут ряд
серьезных возражений.
f (К с. 252). Строго говоря, это в действительности неверно.
Вложенные вежливые формы возможны, например, в преувеличенно (до
подобострастия) предупредительной речи, скажем в стандартных
обращениях проводников на железной дороге:
O-wasuremono gozaimasen yoo-ni go-tyuui kudasai 'Ваши-драгоцен-
ные-вещи не-соблаговолите-ли-Вы не оставить, пожалуйста'.
£ (К с. 253). Местоимение one (или его антецедент) само вполне
может быть антецедентом для возвратного местоимения и поэтому оно
также должно иметь референционный индекс:
A tall Armenian kicked himself, and then a short one slapped
himself. 'Один высокий армянин лягнул себя, и тогда другой, маленький,
армянин шлепнул себя'.
Н. Хомский, возражая против содержания сноски 6 (к с. 253),
утверждает, что в соответствии с его концепцией референционных
индексов, объектная NP в John has a blue hat. 'У Джона есть синяя шляпа.'
вовсе не обязана иметь индекс (Chomsky, 1970, р. 220). Однако
только что приведенный пример показывает, что подход Хомского
требует, чтобы подобные составляющие снабжались индексами: в
противном случае возвратные местоимения во фразах John kicked himself.
'Джон лягнул себя.' и A tall Armenian kicked himself. 'Один высокий
армянин лягнул себя.' должны вводитьси по-разному, что явно нелепо.
h (К с. 258). Я позволил себе абстрагироваться от
несогласованности времен во фразе (48).
' (К с. 260). Трактовка согласования, предложенная здесь, весьма
убедительно критикуется в К и г о d а, 1969.
i (К с. 260). Обсуждая вопрос о грамматическом числе, я оставил
в стороне «вещественные» существительные — обозначения аморфных
масс, в частности веществ (=mass nouns). Вещественные выражения
обычно остаются вне поля зрения логиков, интересующихся семантикой
естественных языков; так, квантификация вещественных выражений
до сих пор не описана сколько-нибудь удовлетворительным образом.
Хотя в Parsons, 1970 есть много интересного, мне представляется,
что его подход — рассматривать все возможные разбиения массы на
дискретные части, а затем применять к множествам этих дискретных
частей обычную кваитификацию — в целом принят быть не может.
Я предпочел бы описание, основанное на таком понятии 'быть частью',
которое было бы равно применимо и к массам, и к множествам, причем
обычная квантификация оказывалась бы частным случаем.
* (К с. 265). Я не утверждаю, что фраза (62) в действительности
четырехзначна, то есть что она имеет значении фраз (63) — (66), Мои примеры
298
показывают только, что независимо от того, указано Ли грамматическое
число у именных групп в исходной структуре и каково оно,
предлагаемая здесь трактовка индексов обязательно требует, чтобы
результирующая ИГ была во множественном числе. Как мне кажется, фраза (62)
неоднозначна в отношении числа ровно в той же степени, в какой фраза
My cousin and my neighbor hurt themselves неоднозначна в отношении
рода 'Мой кузен/моя кузина и мой сосед/моя соседка ушиблись'. А
именно, я полагаю, что обе эти фразы не являются неоднозначными; однако
мне неизвестен какой-либо формальный критерий, с помощью которого
можно было бы решать вопрос об однозначности/неоднозначности фраз
в подобных случаях.
' (К с. 269). В Q u a n g, 1969, показано, что предложение Лакоф-
фа и Питерса не может быть принято.
т (К с. 270). Вместо
Хм t* хорошо играет в теннис]
'для всякого х, принадлежащего М, верно, что х хорошо играет в
теннис' я должен был бы писать
*• хем Iх хорошо играет в теннис]
'для всякого х, такого, что х принадлежит М, верно, что х хорошо
играет в теннис'.
Такая запись применима и в тех случаях, когда речь не идет о
множествах, принадлежности множеству и т. п.:
х : х -человек I* смертен] 'все люди смертны'.
" (К с. 272). Из сказанного не вполне ясно, в каком именно смысле
употреблено здесь слово «эквивалентный». В более поздней работе —
М с С a w 1 е у, 1970,— в явной форме отмечено, что логическая
эквивалентность (два высказывания называются логически эквивалентными,
если каждое из них может быть выведено из другого) — это более слабое
свойство, чем тождество смыслов; там же даны примеры различных, но
логически эквивалентных смыслов. Как указал Дж. Лакофф (на
конференции, где данная статья была зачитана в качестве доклада),
выписанное здесь «правило эквивалентности» фактически не отличимо от
трансформации сочинительного сокращения, хотя я полагал, что
правило эквивалентности позволит обойтись без указанной трансформации.
Один из существенных недостатков моего подхода заключается в том,
что я рассматривал только достаточно простые примеры — типа (70).
Сформулированные мной предложения не позволяют увидеть, как
должны выводиться предложения типа
John burned a Confederate flag and then was arrested by officer
Snopes. 'Джон сжег знамя Конфедерации и был арестован офицером
по имени Сноупс'.'
или Frank seems to know nothing and is easy to please.
'Фрэнк, как кажется, ничего ие знает и ему легко доставить
удовольствие'.
Дело в том, что эти предложения содержат сочиненные группы,
возникшие в результате применения трансформаций. Таким образом,
трансформация сочинительного сокращения оказывается необходимой.
299
* (К с. 273). Когда я писал это, я еще не понимал, что слишком
вольное использование «признаков» в синтаксисе только мешает
правильному пониманию реального положения дел. К счастью, у меня
хватило здравого смысла, чтобы позже отвергнуть «признаковый подход»
(см. «Постскриптум» к настоящей статье) и тем самым приблизиться к
истине.
Р (К с. 275). Подобная запись имеет тот недостаток, что она создает
ошибочное представление, будто формула имеет структуру типа X (X
(. . .)) — наподобие формул с квантором V, см. выше. Более удачной
была бы запись с одним квантором X, связывающим сразу любое число
переменных.
' (К с. 277). Катц и Постал в свое время видели возможность
перформативного анализа: «Поскольку, с одной стороны, невозможны
императивные высказывании типа 'Want to gol 'Хоти идти/' или *Норе to
be famous! 'Надейся быть знаменитым!', а с другой — фразы типа *1
request that you want to go. 'Я требую, чтобы ты хотел идти.' и *I
request that you hope to be famous. 'Я требую, чтобы ты надеялся быть
знаменитым.', можно было бы считать, что все императивные
конструкции выводятся из предложений вида:
IVERBieqijest you that you will MAIN-VERB 'Я ГЛАГОЛя/,^овая»,
чтобы ты П.. ГОЛ' (К atz —Postal, 1964, p. 149). Хотя Катц
и Постал указали ряд существенных преимуществ перформативного
анализа по сравнению с использованием признака императива, они все
же не приняли этот анализ, отметив только, что «он заслуживает
дальнейшего исследования». Расхождение между аргументами в пользу
перформативного анализа, выдвинутыми в К a t z — Postal, 1964,
и окончательно принятой Катцем и Посталом трактовкой императива
заставляет думать о том, что между самими авторами существовали
разногласия.
т (К с. 277). См. теперь S a d о с к, 1969; Ross, 1970;
Rutherford, 1970.
* (Кс. 284). Позже я обнаружил и другие, вполне приличные идиомы
этого типа, например: Keep your shirt en! 'He кипятись <не горячись>!'
* (К с. 289). Теперь мне кажется, что этот факт абсолютно
несуществен.
и (К с. 290). По-видимому, внимательный читатель уже понял, что
сказанное здесь означает отказ от сформулированного выше допущения,
будто фразы типа (142) выводятся из конъюнктивно сочиненных
структур. Мне следовало бы прямо сказать, что я отвергаю старый анализ в
пользу нового.
v (К с. 291). Предложенная здесь трактовка имеет по крайней
мере три серьезных недостатка:
(i) Неясно, как поступать в случаях, когда сочиняются не именные
группы, а какие-либо иные составляющие, например: Mutt and Jeff
are tall and short respectively. Букв. 'Матт и Джефф—высокий и низкий
соответственно'.
(ii) Неясно также, как быть с такими сочиненными группами,
которые выводятся посредством трансформаций (см. примеры в
примечании », с. 272).
(iii) Неясно, как обеспечить правильный порядок однородных
членов, то есть как, например, добиться того, чтобы в (145) получалась
составляющая Mary and Alice, а не Alice and Магу. (Удивительно, что эту
трудность заметил, по-видимому, один Постал. Позор всем прочим
лингвистам!)
аоо
Что же касается того факта, что respective и respectively — это
одна н та же единица, то это гораздо легче доказать, чем может
показаться на первый взгляд. Для этого достаточно рассмотреть примеры фраз,
в которых имеется более чем две сочиненные составляющие (или
составляющие во множественном числе) и respective встречается наряду с
respectively; см. мои статьи «The annotated respective» и «A program for
logic» в сборнике М с С a w 1 е у, 1973, р. 121—132 и 285—319.
Однако, как это показано во второй из названных статен,
действительно адекватное описание лексемы respective(ly) требует гораздо
более глубокого понимания сочинения, чем то, которого я достиг к
моменту написания данной статьи, и даже чем то, которое есть у
меня сейчас.
w (К с. 296). Эти два примера в действительности ничего не
доказывают. Описанные здесь явления можно учесть с помощью
соответствующих поверхностных ограничений, применяемых независимо
от того, где именно производится интересующее нас лексическое
заполнение.
Дж. Лакофф
О ПОРОЖДАЮЩЕЙ СЕМАНТИКЕ*1
1. БАЗИСНАЯ ТЕОРИЯ
Мне хотелось бы рассмотреть ряд вопросов, связанных
с теорией грамматики. Я считаю, что грамматика языка —
это система правил, которые устанавливают соответствие
между звуками и смыслами, при этом и фонетическое и
семантическое представления заданы некоторым способом,
не зависящим от описываемого языка. Я считаю, что
понятие «возможная поверхностная синтаксическая структура»
для произвольного естественного языка определяется как
дерево (или НС-структур а), вершиной которого является
* См. George L a k о f f. On generative semantics.— In: «Semantics.
An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology».
Ed. by Danny D. Steinberg and Leon A. Jakobovits. Cambridge at the
University Press, 1971, с 232—296.
Статья Джорджа Лакоффа в настоящем издании приводится со
значительными сокращениями.— Прим. ред.
1 Порождающая семантика — это развитие теории
трансформационной грамматики, разработанной 3. Хэррисом, Н. Хомским, Р. Ли-
зом, Е. Клима, П. Посталом и др. Порождающая семантика выросла
из попыток ряда лингвистов (П. Постала, Ч. Филлмора, Дж. Росса,
Дж. МакКоли, Э. Баха, Р. Лакофф, Д. Перльмуттера, автора этих
строк и некоторых других) последовательно применить методологию
трансформационной грамматики к описанию все более сложных
языковых явлений. Нельзя сказать, что все мы пришли к одним и тем же
выводам, и в настоящей статье представлены лишь мои собственные
результаты. Все же, по-видимому, можно утверждать, что в
последние годы у названной группы лингвистов сложилось общее мнение,
состоящее в том, что семантика играет центральную роль в
синтаксических исследованиях. Вкратце позиция порождающей семантики
сводится к следующему: нельзя разделять синтаксис и семантику, и
задачей трансформаций или преобразований вообще является
соотнесение семантических представлений с поверхностными структурами.
В названии «порождающая семантика», как и в названии «порождающая
грамматика», термин «порождающий» следует понимать как «полный
и точный».
302
символ S, а узлы помечены символами из конечного набора:
S, NP, V, . . . Понятие «дерева», или «НС-структуры»,
может быть определено одним из обычных способов с
использованием таких терминов, как «предшествовать»,
«подчинять» или «быть помеченным». Тем самым грамматика
определяет бесконечное множество поверхностных
структур. Кроме того, я считаю, что грамматика включает
систему грамматических трансформаций, отображающих
НС-структуры друг в друга. Каждая трансформация
определяет класс ' правильных пар упорядоченных
НС-структур <РЬ Pi+1>. Эти трансформации, или
условия правильности к двум смежным НС-структурам
Pi и Pi+1, определяют бесконечный класс К конечных
последовательностей НС-структур, причем каждая из
последовательностей Pi, . . ., Рп удовлетворяет следующим
условиям:
<1> (i) P„— поверхностная структура;
(п) Каждая пара Р^ Р1+1 удовлетворяет условиям
правильности, заданным трансформациями;
(Ш)Не существует Р0 такой, что Р0, Pj, . . ., Рп
удовлетворяет условиям (i) и (и).
Элементы класса К называются синтаксическими
структурами, порожденными грамматикой. Я считаю, что
грамматика включает лексикон, то есть набор лексических
единиц, снабженных фонологической, семантической и
синтаксической информациями. Таким образом,
предполагается следующее:
<2> Лексическая трансформация, ассоциируемая с
некоторой лексической единицей I, отображает НС-
структуру Р, содержащую некоторую
подструктуру Q, которая не содержит лексических единиц
в НС-структуре Р', полученной посредством
замены Q на I.
Другими словами, лексическая трансформация — это
условие правильности, накладываемое на пары НС-структур
Pi и Pi+1, где Pi и Р1+1 различаются только в одном
отношении; там, где в структуре Р[ находится подструктура Q,
в структуре Р1+1 представлена соответствующая
лексическая единица. Описанная схема может варьироваться в
зависимости от того, в каком месте грамматики применяются
303
лексические трансформации, применяются ли они в одном
компоненте грамматики или в разных и т. п.
Можно считать, что трансформации, или условия
правильности, накладываемые на пары НС-структур,
выполняют «функции фильтров», блокирующих возможность
преобразования НС-структуры Р, в НС-структуру Pi+1, если
пара (Рь Р1+1) не отвечает условиям правильности.
Система трансформаций играет роль фильтра, который задает
класс правильных последовательностей НС-структур,
отсеивая все пары НС-структур, которые в каких-то
отношениях нарушают условия правильности, или, другими
словами, ни одна из них не получается из другой
посредством трансформации. Поскольку трансформации
определяют возможные преобразование только для упорядоченных
пар НС-структур, я буду называть трансформации
«локальными условиями на преобразования». Локальное
условие на преобразование можно определить следующим
образом. Пусть P^Ci — это НС-структура Рь отвечающая
условиям Ci. Трансформация, или локальное условие
преобразования,— это пара вида (Pi/Ci, P1+1/C2), где Ct и
С2 — условия, задающие классы входных и выходных НС-
структур соответственно. Предполагается следующее:
Сх = Ci и С'1
V-<2 ™ 02 И V-<2
d == Сг
с;#с;
С[Ф0 и С'2Ф0 [условия Q и С2 оба не пустые]
С1Ф0 или С1ф0 [по крайней мере одно из условий
Q и Cj не пусто].
Q, равное Q, назовем структурным описанием
трансформации. Q и Q назовем структурными коррелятами
трансформации. Структурное описание трансформации
задает ту часть условий, накладываемых на НС-структуры,
которым должны отвечать как Рь так и Pi+1. Структурные
корреляты трансформации задают допустимые различия
между Pi и Р1+1. Таким образом, пара (Ci, C2) задает
локальное условие преобразования, или трансформацию.
Преобразование является правильным только тогда, когда
для любого i, 1<л<п пара НС-структур (Р;, Pi+1)
является правильной. В общем случае такая пара правильна,
если она удовлетворяет некоторым локальным условиям
преобразования. Эти условия могут быть либо факульта-
304
тивными, либо обязательными. Назвать локальное условие
преобразования (или трансформацию (Q, Са))
факультативным равносильно утверждению:
(х) (Рх/С1э(Рж+1/С|э(Рж, Рх+1) правильно)).
Назвать условие (Т1( Т2) обязательным равносильно
утверждению:
(х) (Рх/С1=(Рх+1/С2 = (РХ) Рх+1) правильно)).
Для того чтобы преобразование было правильным,
необходимо (но в общем случае не достаточно), чтобы каждая пара
последовательных НС-структур была правильной.
Кроме трансформаций, или локальных условий на
преобразования, грамматика должна содержать общие
условия на преобразования. К последним относится, например,
порядок применения правил, указывающий, в какой
последовательности следует применять к одной НС-структуре
два локальных условия. Пусть (Сь С2) и (С3, С4) — два
локальных условия на преобразования. Общее условие на
преобразование, указывающее, что (d, C2) действует
раньше, чем (С3, С4), имеет вид:
(О U) ((PiA и Р1 + 1/С2 и Pj/C, и PJ+1/C4) = (i<j)).
Другим примером общего условия является
предложенное Россом «условие соподчинения в структурах» (coordinate
structure constraint). Согласно этому условию, если в дереве
Pt, входящем в определенное преобразование, узел А1
подчиняет узел А2, то в этом преобразовании невозможна
последующая структура Pi+1, такая, в которой А2 господствует
над А1 и А1 не подчиняет А2. Термин «господствовать»
(command) означает «принадлежность к уровню более
высокого порядка»: узел А господствует над узлом В тогда, и
только тогда, когда ближайший узел S, расположенный
над А, подчиняет В. Это общее условие на преобразование
определяется следующим образом:
Пусть Ci = A! подчиняет конъюнкцию А'<, ..., AJm
С2 = А! подчиняет X1 АкХ2
С3 = Ак господствует над А1.
Общее условие: (у) (су ((Ру/С< и С,) и (Су+1/С3 и су С,))).
т
В сущности, условие соподчинения в структурах следит
за деривационной историей соотношения пары узлов А' и
Ак. Вообще говоря, именно к этому и сводится задача
элементарных трансформаций и связанных с ними правил
построения производных НС-структур: они задают условия
для последовательных НС-структур, в которых все узлы,
кроме одного-двух, остаются неизменными, и сообщают, что
случится с этими выделенными узлами при переходе от
первой НС-структуры ко второй. На этой основе кажется
разумным ограничить задачу конкретных условий (как
локальных, так и общих), накладываемых на преобразования,
с тем чтобы они прослеживали деривационную историю
не более чем двух узлов (для пары последовательных
деревьев в случае локальных условий и для всех
преобразований в случае общих условий). Примерами общих условий
на преобразования могут служить ограничения на
движение по НС-структуре (одно из них рассмотрено выше (Ross,
1967)), теория исключений (G. L a k о i f, 1965; R. L a-
k о f f, 1968), принцип непроективности (Postal, 1971),
условия прономинализации (G. L a k о f f, 1968) и т. п.
Следует подчеркнуть, что все теории трансформационной
грамматики включают как локальные, так и общие условия
преобразований. Встает вопрос о том, какие типы
локальных и общих условий на преобразования существуют в
естественном языке. Как я постараюсь показать ниже в
разделе 2, в действительности количество таких условий
значительно превышает круг условий, отмеченных в
литературе. Эти условия могут либо относиться к определенным
языковым уровням (семантическое представление,
поверхностная структура, промежуточная (schallow) структура,
глубинная структура, если последняя существует), либо
накладываются на межуровневые преобразования (все
или их часть). Условия, относящиеся к определенному
уровню, задают условия правильности выражений этого
уровня, и в этом отношении они аналогичны
предложенным МакКоли условиям допустимости заполнения узлов,
которые в теории, включающей глубинные структуры,
играют роль правил преобразования (М с С a w 1 е у,
1968).
Если нам дана синтаксическая структура (Рь . . ., Рп),
то мы можем определить семантическое представление
фразы следующим образом: SR = (Pi, PR, Top, F, . . .), где
PR — конъюнкция пресуппозиций, Top — тема предло-
306
жения, F — фокус предложения 2. Мы оставляем открытым
вопрос о том, должны ли в этой формуле найти отражение
другие элементы семантического представления. Поясним
сказанное примерами. Начнем с понятия пресуппозиции 3.
Предложение Pedro regretted being Norwegian 'Педро
сожалел, что он норвежец' предполагает, что Педро —
норвежец. Предложение Sam's murderer reads Reader's Digest
'Убийца Сэма читает романы в сокращенном изложении'
предполагает, что Сэм был убит. В общем случае можно
говорить об исстинности/ложности предложения только
тогда, когда все его пресуппозиции истинны. Поскольку
каждое утверждение (по крайней мере не перформативное,
то есть не содержащее глаголов типа обещаю, клянусь,
признаю) может служить пресуппозицией, мы считаем,
что элементы множества пресуппозиций PR имеют ту же
2 Как будет показано ниже, кажется возможным исключить из
семантического представления тему и рему, должным образом выделяя
пресуппозиционную часть предложения. Тогда семантические
представления будут иметь вид упорядоченных пар (Рг> PR). Эти пары можно
рассматривать как бинарные отношения между соответствующими НС-
структурами. Иными словами, мы можем представить пару (Р1( PR)
как Рх—>-PR, где стрелка (—>-) символизирует отношение «иметь в
качестве пресуппозиции», a PR выбирается из класса допустимых Pv
При такой интерпретации стрелку можно считать отношением либо
между двумя частями одного семантического представления, либо
между двумя различными семантическими представлениями. Во втором
случае условия преобразований приобретают статус преобразований
более высокого уровня, то есть становятся преобразованиями над
преобразованиями. Остается открытым вопрос о том, следует ли расширять
теорию грамматики за счет подобных преобразований. В дальнейшем
изложении мы не рассматриваем возможность такого расширения, хотя
все же следует иметь в виду, что подобные преобразования могут
понадобиться, и тогда семантические представления будут ограничены НС-
структурами и условиями задания пресуппозиций.
3 Я использую термин «пресуппозиция» для обозначения того
явления, которое некоторые философы называют «прагматической
импликацией». Я рассматриваю пресуппозицию относительно говорящего
(иногда также относительно слушающего н лиц, упомянутых в
предложении). Например, нельзя судить об истинности или ложности
предложения Pedro regretted being Norwegian. 'Педро сожалел, что он
норвежец.', не зная истинностного значения предложения Pedro was
Norwegian. 'Педро был норвежцем.' Фраза Pedro regretted being
Norwegian, although I know that he wasn't. 'Педро сожалел, что он
норвежец, хотя я знаю, что он не норвежец.' противоречива. Когда я говорю,
что некоторое предложение имеет в качестве пресуппозиции другое
предложение, это означает, что тот, кто произносит первое предложение
и считает его истинным, признал бы истиной н второе предложение.
307
форму, что и НС-структуры (Pi), и задаются Теми же
условиями правильности. В приведенном выше определении
семантического представления компонент PR является
членом упорядоченного n-местного кортежа и
рассматривается как структурно независимый от Рх. Однако Морган
в важной работе (Morgan, 1969) убедительно показал,
что в ряде случаев пресуппозиции должны быть связаны
с соответствующими утверждениями, записанными в форме
Pi отношениями, выражаемыми союзами. Он показал
также, что пресуппозиции могут соотноситься не просто с
говорящим и слушающим, но с субъектами определенных
предикатов в Pi (а именно, глаголов со значением 'говорить',
'думать', 'видеть во сне' и т. п.). Например, know 'знать' —
это фактивный глагол, предполагающий значение
истинности своего дополнения. Фраза Everyone knows that I am
a Martian 'Все знают, что я марсианин' предполагает, что
я марсианин. Глагол же dream 'видеть во сне, мечтать',
напротив, является антифактивным и предполагает
значение ложности своего дополнения. Фраза I dreamt that
I was a Martian 'Мне снилось, что я марсианин'
предполагает, что я не марсианин. Морган обратил внимание на
фразы типа I dreamt that I was a Martian and that everyone
knew that I was a Martian. 'Мне снилось, что я марсианин и
что все знают о том, что я марсианин'. Если бы
пресуппозиции были структурно несоотносимы с Pi, приведенная
фраза содержала бы противоречащие друг другу
пресуппозиции, поскольку dream предполагает, что я не марсианин, а
know — что я марсианин. Тем самым Морган показывает,
что нельзя не соотносить пресуппозиции со структурой Рь
напротив, они должны быть соотнесены с определенным
глаголом Pi. Поскольку в последнем примере know входит
в состав дополнения dream, пресуппозиции know
предполагаются истинными лишь в пределах моего сна, в то
время как пресуппозиции dream предполагаются истинными
для говорящего. Тем самым эти пресуппозиции имеют
разные сферы применения и не противоречат друг другу.
Приведенное выше определение семантического представления,
которое отражает традиционный взгляд на пресуппозицию
как на такую часть смысла фразы, которая структурно не
соотносится с непресуппозиционной частью смысла, в
свете соображений Моргана оказывается неверным. Тем не
менее в дальнейшем изложении мы будем придерживаться
этого определения, поскольку следствия наблюдений Моргана
308
пока еще не вполне понятны, а его примеры не имеют
прямого отношения к положениям настоящей работы 4.
Понятие «тема» давно используется в грамматических
исследованиях. Лингвистам хорошо известно, что язык
располагает определенными средствами для указания на
то, что является предметом обсуждения в предложении,
т. е. на тему предложения. Довольно обычным средством
выделения темы является ее вынесение в начало фразы.
Например, во фразе John, Mary hates him 'Джон, да Мери
ненавидит его' темой является Джон, а во фразе Магу,
she hates John 'Мери, да она ненавидит Джона' темой
является Мери. Очевидно, что понятие темы должно быть
отражено в адекватном семантическом представлении. Как
и пресуппозиция, тема обычно считается структурно
независимой от других компонентов смысла (это отражено и в
нашей записи семантического представления), что не
вполне верно. Тем не менее в дальнейшем изложении мы будем
придерживаться традиционной точки зрения, чтобы
избежать ненужной полемики.
Другое традиционное понятие грамматики — это «фокус».
Хэллидей (Н а 1 1 i d а у, 1967) определяет фокус как часть
смысла фразы, задающую новую информацию (в отличие
от известной). В устной речи фокус часто выделяется
сильным ударением. Так, во фразе JOHN washed the car yesterday
'Вчера машину мыл именно Джон' говорящий считает
известным, что машина была вымыта вчера, и сообщает, что
вымыл ее Джон. «Фокус», подобно пресуппозиции и теме,
принято рассматривать как семантическое явление, струк-
4 Пусть—> означает отношение «иметь в качестве пресуппозиции».
Тогда пресуппозицию можно изобразить следующим образом:
Здесь S2 является пресуппозицией Sl. Во многих случаях,
аналогичных рассмотренным выше, S2 не является пресуппозицией для S0.
309
турно независимое от других компонентов смысла. Наш спо*
соб записи семантического представления отражает эту
традиционную точку зрения; при этом наше дальнейшее
изложение ни в коей мере не зависит от состоятельности этой
точки зрения.
Я буду называть обрисованную выше теорию грамматики
«базисной теорией», исходя исключительно из соображений
удобства, отнюдь не имея в виду, что она действительно
является базисной в каком бы то ни было аспекте —
онтологическом, психологическом или концептуальном. Эта
теория лежит в основе большинства работ по порождающей
семантике начиная с 1967 г. Следует отметить, что по
сравнению с предшествующими теориями порождающая
семантика (в том виде, в каком она сформировалась к 1967 г.)
допускает гораздо большую вариативность. Так,
порождающая семантика не выдвигает требования использования
трансформаций лексического заполнения структуры лишь в
специальном компоненте, в котором трансформации
других типов (нелексические) запрещены. Порождающая
семантика оставляет свободу выбора решения вопроса о том,
допустимо ли пересечение лексических и нелексических
трансформаций.
Из сказанного выше должно быть очевидно, что базисная
теория не включает требования «направленности
преобразований» — ли от фонетики к семантике, ни от семантики
к фонетике ?.
i У читателя может сложиться неверное впечатление о
направленности преобразований в базисной теории после знакомства с
запутанными рассуждениями по этому поводу в работе Chomsky, 1971.
Хомскнй не говорит, что в порождающей семантике считается значимой
направленность преобразований. Однако его несколько странное
обращение с кавычками и специальными терминами может привести к
выводу, что он все же неявно выдвигает требование направленности
преобразований. Более внимательное чтение статьи проясняет существо
вопроса. На с. 196 Хомский пишет: «Снова обратимся к проблеме
построения „семантически ориентированной" теории порождающей
грамматики, которая во всех отношениях отличается от стандартной теории».
Затем, дав краткое описание этой новой теории (пример (32)),
включающей семантическое представление (S) и фонетическое представление
(Р), Хомский справедливо отмечает, что в данном случае бессмысленно
говорить о направленности преобразований как от S к Р, так и от Р к S.
На той же странице Хомский заключает: «Столь же бессмысленно
предлагать в качестве альтернативы к (32) семантически ориентированную
теорию грамматики, в которой сначала выбирается S, а затем
происходит переход к поверхностной структуре Р„ и, наконец, переход к Р».
Здесь Хомский говорит о направленности как о свойстве семантически
310
Тем не менее отдельные высказывания некоторых
специалистов по трансформационной грамматике могут создать
у читателя ошибочное представление, что эти авторы
принимают понятие направленности. Например, Хомский
отмечает (Chomsky, 1971): «Свойства поверхностной
структуры играют важную роль в семантической
интерпретации». Однако, как неоднократно указывает сам
Хомский в этой же работе, понятие направленности
преобразований не имеет смысла; йоэтому приведенное выше
высказывание Xомского следует трактовать как эквивалентное
следующему: «Семантические представления играют
важную роль при определении свойств поверхностной
структуры». Оба эти высказывания можно заменить одним, более
нейтральным: «Семантические представления и
поверхностные структуры соотносимы друг- с другом посредством
системы правил». В базисной теории предусмотрено понятие
трансформационного цикла (в смысле Chomsky, 1975):
циклические правила применяются к НС-дереву
последовательно «снизу вверх» — от самого «нижнего» символа S,
затем к следующему символу S более высокого уровня и т. д.
Мы считаем, что применение циклических трансформаций
начинается с некоторой НС-структуры Рк и заканчивается
на некоторой НС-структуре Pi, где к<1. В этом случае
мы говорим, что цикл применяется снизу вверх к
поверхностной структуре (хотя, конечно, с таким же успехом
можно говорить, что он применяется сверху вниз, к семантиче-
ориентированной теории грамматики. Далее Хомский пишет: «Вернемся
к теории типа той, которая предложена МакКоли и в которой Рх
идентифицируется с S, а глубинная структура не определена. Снова
рассмотрим вопрос о том, чем этот формализм — назовем его семантически
ориентированной грамматикой — отличается от стандартной
теории».
Употребив название «семантически ориентированная теория
грамматики» для обозначения подхода, при котором направленность
существенна, Хомский использует название «семантически
ориентированной грамматики» для описания точки зрения МакКоли. Конечно же,
МакКоли никогда не ратовал за направленность преобразований, и
Хомский не приписывает ему таких взглядов. Тем не менее, как
нетрудно заметить, подобное сбивающее с толку использование специальных
терминов может ввести читателя в заблуждение. Хомский называет
лишь одного сторонника направленности преобразований — У. Чейфа
(Chafe, 1967). Однако Хомский не ссылается на соответствующие
конкретные выдержки из этой работы Чейфа, а мне самому не удалось
нэйти в ней подобных утверждений.
911
скому представлению, поскольку направленность
преобразований несущественна).
Следует отметить, что трансформационный цикл
определяет некоторую «ориентацию» [очередность применения]
преобразований, но при этом читатель не должен смешивать
понятий «циклическая ориентация преобразования» и
«направленность преобразования». Первое из этих понятий
вполне реально и весьма важно, тогда как второе
бессмысленно. Сказать, что цикл ориентирован снизу вверх — по
направлению к поверхностной структуре,— это то же
самое, что сказать, что он ориентирован снизу вверх — по
направлению к семантическому представлению, и эти
терминологические приемы не подразумевают никаких
требований к исходному пункту преобразований. Большинство
заслуживающих внимания теорий трансформационной
грамматики предполагает циклическую ориентацию снизу вверх
к поверхностной структуре. Однако допустима и теория
с циклической ориентацией сверху вниз — к
семантическому представлению. Более того, допустимы и теории с
разнонаправленной ориентацией. Пусть имеется
последовательность НС-структур Pi, , . ., Рь . . ., Рп. Можно
представить такую теорию, в которой Pf, . . ,, Pj ориентированы
сверху вниз, a Pi, » . ,, Р„—снизу вверх (или
соответственно в противоположных направлениях).
Базисная теория не обязательно включает уровень
«глубинных структур». Вопрос о том, существует ли этот
уровень, является эмпирическим вопросом базисной
теории. Понятие глубинной структуры можно определить
следующим образом. Пусть (i) правила лексического
заполнения НС-структуры работают в одном блоке и (И)
применение циклических правил, направленных снизу вверх,
происходит вслед за применением лексических правил. Тогда
«глубинной структурой» назовем результат применения
последнего из лексических правил:
лексическое все циклические
заполнение правила, ориентированные
структуры снизу вверх
Р,в ♦ . . . . 1 ..... 1 Р, • ./......... ,\. • е . Рп
глубинная поверхностная
структура структура
312
В следующем разделе я приведу пример общего
ограничения на преобразование, а также рассмотрю вопрос о
существовании глубинной структуры (в указанном выше
смысле).
2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУР,
СОДЕРЖАЩИХ КВАНТОРЫ
Рассмотрим подробно пример глобального ограничения
на преобразование в.
(1) Many men read few books.
'Многие люди читают мало книг.'
(2) Few books are read by many men.
'Немногие книги читаются многими людьми.'
Для меня фразы (1) и (2) не синонимичны.
Парти (Р а г t e е) приводит примеры такого типа,
чтобы показать неадекватность моего предложения (L а-
k о f f, 1965) выводить кванторы из предикатов,
принадлежащих более высоким уровням НС-структуры. Мое
предложение сложилось в результате анализа таких фраз, как
Many men left 'Многие люди ушли', которые синонимичны
фразам типа The men who left were many 'Люди, которые
ушли, многочисленны' (последняя фраза несколько
архаична). Я предлагал считать, что фразы типа первой выводимы
из структур, соответствующих фразам типа второй,
операцией перемещения квантора many на следующий, более
6 Заранее оговорюсь, что все обсуждаемые ниже примеры могут
иметь диалектные варианты. По меньшей мере треть опрошенных
мною людей считает предложения (1) и (2) неоднозначными. Все
остальные примеры этого раздела могут иметь еще большее число вариантов,
особенно если принимать во внимание такие факторы, как ударение
и интонация. Рассматриваемый ниже языковой материал соответствует
некоторому усредненному диалекту большинства носителей
английского языка. Я же оговариваю случаи, когда мой диалект отличается
от этого диалекта. При чтении настоящего раздела не следует упускать
из виду того, что предпосылкой выдвигаемых положений служит
существование некоторого диалекта, в котором правильны все
рассматриваемые фразы. При этом неважно, является ли диалект, которому
принадлежит приводимый здесь языковой материал, общим (хотя мне
и кажется, что это так).
313
низкий уровень. В этом случае будут порождены
структуры типа (3) и (4) 7.
(3') Many are the man who read few books. There are
many men who read few books.
'Многочисленны люди, которые читают мало книг.
Существует много людей, которые читают мало
книг.'
(4') Few are the books that many men read. There are
few books that many men read.
'Малочисленны книги, которые читает много людей.
Существует мало книг, которые читает много
людей.'
В (3) циклическое правило «понижения» квантора
применяется к циклу S2 и дает в качестве результата предложе-
7 Структуры (3) и (4) ие следует считать во всех отношениях
законченными. Они даны примерно в том виде, в каком они мыслились
в 1965 г. на основе неправильных положений Хомского, согласно
которым уровень глубинных структур включает все лексические единицы
и содержит такие узлы, как VP. Эти положения впоследствии были
отвергнуты как ошибочные. Я использую эти структуры только
потому, что именно на них ссылается в своей работе Парти. Основной
предмет обсуждения состоит в том, относятся ли кванторы,
представленные в НС-структурах, к тому же уровню, что и определяемые ими
NP (как в поверхностной структуре), или к более высокому уровню
(как в исчислении предикатов). Индексы при существительных (типа
теп,-) задают сферу распространения денотатов этих существительных.
В связи с этим более точным (и более близким к действительности)
было бы представление структуры (3) в таком виде:
FEW i PREDICATE ARGUMENT ARGUMENT
READ i j
где i ограничивает множество людей, / — множество книг.
Прим. редакции: В схемах (3) и (4) (на стр. 315) между S2 и
NP должна быть соединительная линия.
314
are many
read books,
read books.
ние Men; read few books. Это же циклическое правило
применяется к циклу Si, перемещая узел many на следующий,
более низкий уровень — тот уровень, на котором
находится узел meni, и в результате получается предложение (1)
Many men read few books. Для (4) предполагается, что
циклическое правило введения пассива предшествует правилам
перемещения кванторов; правило введения пассива задает
предложение BookSj are read by men^ В цикле S2 узел many
будет перемещен на тот уровень, где расположен узел теп1(
в результате получаем предложение BookSj are read by
many men. В цикле Si узел few перемещается на уровень
узла booksj, давая предложение Few books are read by
many men.
Эти преобразования обеспечивают синонимичность пар
фраз ((1) и (3')) и ((2) и (4')). Однако ограничение лишь
этими преобразованиями приведет к неверным результатам.
Например, применяя правило введения пассива к S3 из
(3), получим BookSj are read by теп^ затем, применяя
правило понижения квантора последовательно к S„, S2 и Sj,
получим структуру, которой отвечает (2) Few books are
read by many men. Но если (2) может быть выведено таким
способом из (3), то (2) окажется синонимичным (3') Many
are the men who read few books. Последнее утверждение
неверно, поэтому необходимо заблокировать соответствующие
последовательности преобразований. Аналогичным
образом, если не применять правила введения пассива к S в
(4), применение правила понижения квантора
последовательно к S3, Sa и Si дает структуру, которой отвечает (1) Many
men read few books, что тоже неверно, поскольку фразы
(1) и (4) не синонимичны.
Описанная процедура дает правильные результаты в
первых двух случаях, но в то же время приводит к двум
неверным преобразованиям (по крайней мере для большинства
носителей английского языка). Исследуя (1) — (4), можно
заметить, что правильные преобразования обладают
следующим свойством: кванторы более высокого уровня в (3)
и (4) занимают левую позицию в (1) и (2) соответственно
(расположены в начале предложений). Поэтому можно
предложить примерно такое ограничение на
преобразования: если один квантор господствует над другим в
структуре Pi, лежащей в основе некоторой фразы (назовем эту
структуру исходной), то господствующий квантор должен
располагаться левее подчиненного в поверхностной струк-
316
туре. Однако подобное ограничение оказалось бы слишком
сильным. Рассмотрим фразу (5).
(5) The books that many men read are few (in number),
'Книги, которые читают многие люди,
малочисленны.'
(5) будет иметь исходную структуру типа (4), где узел
few является квантором более высокого уровня, чем many;
однако few расположен правее, чем many, в поверхностной
структуре. Предложенное выше ограничение на
преобразование будет запрещать фразы типа (5). Сравнивая (2) и (5),
можно заметить, что их различие состоит в следующем.
В (5) few подчиняет many, a many, входя в состав
придаточного относительного, не подчиняет few; тем самым few
расположено в НС-структуре выше, нежели many (как и в
примере (4)). Другими словами, асимметрия соотношения
между кванторами, которая имеется в (4), сохраняется и в (5).
С другой стороны, для (2) аналогичное утверждение
неверно. В (2) ни few, ни many не входят в состав придаточного
предложения, few господствует над many, и наоборот, они
соотнесены друг с другом симметрично. Таким образом,
асимметрия соотношения в глубинной структуре, где узел
few управляет узлом many, но не наоборот, в (2)
оказывается утраченной. И это как раз один из тех случаев, когда
квантор, находящийся выше в исходной структуре, должен
располагаться левее в поверхностной структуре. Когда
асимметрия соотношения узлов отсутствует, вступает в
силу отношение предшествования, которое всегда
асимметрично.
Подобное ограничение на преобразование можно
определить следующим образом:
(6) Пусть Сх = Q1 господствует над Q2
C2 = Q2 господствует над Q1
C3 = Q1 предшествует Q2
Ограничение 1: Р1/С1=з(Р„/С2гзРп/С3)
(знак «/» означает «удовлетворяет условиям»).
Ограничение 1 состоит в следующем: если кванторы Q1
и Qa встречаются в основной глубинной структуре Pf,
удовлетворяющей условию d, и если соответствующая
поверхностная структура Рп удовлетворяет условию С2, то
Рп должна удовлетворять и условию С3. Короче говоря, если
в поверхностной структуре отсутствует асимметрия соотно-
315S
шения между кванторами, то принимается во внимание
порядок их линейного расположения. Ограничение 1
является условием правильности преобразования. Любое
преобразование, не отвечающее этому условию, блокируется.
Таким образом, преобразования (3)->(1) и (4)->(2) будут
признаны правильными, а (3)->(2) и (4) -»- (1) будут
блокированы.
Важно отметить следующее. Тот факт, что в
рассмотренных фразах один из двух кванторов входит в состав группы
подлежащего, является случайным. Различие в
интерпретации кванторов никак не связано и с тем, что в
рассмотренных фразах один из кванторов входит в VP, а другой —
не входит. Важен только порядок расположения кванторов
внутри предложения.
(7) John talked to few girls about many problems.
'С немногими девушками Джон говорил о многих
проблемах.'
(8) John talked about many problems to few girls.
'О многих проблемах Джон говорил с немногими
девушками.'
Различие между интерпретациями фраз (7) и (8) точно такое
же, как между интерпретациями фраз (1) и (2); более левый
квантор понимается как принадлежащий к более высокому
уровню, хотя оба квантора входят в VP.
Хотя в случаях (1) и (2) структурная асимметрия
отношения господства в поверхностной структуре
отсутствует, все же условие Ci, выполняемое для исходной
структуры, продолжает выполняться и для поверхностной
структуры, а именно, Q1 продолжает управлять Q2. Встает вопрос
о том, существуют ли случаи иного типа, то есть такие,
когда Q1 управляет Q2 в исходной структуре и не управляет
Q2 в поверхностной структуре? Естественно искать
подобные случаи среди фраз, содержащих придаточное
дополнительное.
Рассмотрим следующее предложение:
(9) Sam claimed that John had dated few girls.
'Сэм утверждал, что Джон встречался с немногими
девушками.'
(9) может быть понято одним из двух способов: как (10)
или как (11), хотя интерпретация в смысле (10)
предпочтительнее.
318
dated girlsj
(10) Sam claimed that the girls who John had dated were
few (in number).
'Сэм утверждал, что девушек, с которыми
встречался Джон, было немного.'
(11) The girls who Sam claimed that John had dated were
few (in number).
'Девушек, с которыми, по утверждению Сэма,
встречался Джон, было немного.'
(10) и (11) будут иметь глубинные структуры (10') и (1Г)
соответственно (см. стр. 319).
were few
В обоих случаях правило понижения квантора опустит
узел few на один уровень с узлом girlsj. В (10) few будет
понижен на один уровень, в (11) — на несколько, причем
32-0
среди промежуточных узлов будут содержаться два узла S.
Теперь мы можем проверить предположение о том, что один
узел может перестать управлять другим в результате
преобразований структур. Рассмотрим (12), где few
господствует над many (см. стр. 320):
(12) означает (12'):
(12') Few were the girls who many reporters claimed
John dated.
'Немного было девушек, с которыми, по
утверждению многих репортеров, встречался Джон.'
Если допустить возможность свободного применения
правила понижения кванторов к (12), то узел many
окажется на одном уровне с узлом reporters] в цикле S2, что
приводит к предложению Many reporters claimed that John
dated girlSi. Полученная таким образом структура будет
совпадать со структурой предложения (11) за одним
исключением: узлу Sam из (11) соответствует узел many reporters
в (12). Как и в примере (11), дальнейшее применение
правила понижения кванторов к структуре, полученной из
(12), позволяет опустить узел few на один уровень с girlSi-,
результату этого вывода соответствует фраза (13):
(13) Many reporters claimed that John dated few girls.
'Многие репортеры утверждали, что Джон
встречался с немногими девушками.'
В (13) few относится к придаточному и не управляет many.
Таким образом, это именно тот случай, когда few
управляет many в исходной структуре, но не в поверхностной.
Отметим, однако, что (13) имеет иной смысл, чем (12'), (13)
означает то же, что (14):
(14) Many were the reporters who claimed that the girls
who John dated were few (in number).
'Многочисленны были репортеры, которые"
утверждали, что девушек, с которыми встречался Джон,
было мало.'
В (14) few расположено внутри придаточного, подчиненного
claim (как и в (10)), и many управляет few в поверхностной
структуре. Таким образом, здесь мы встречаемся с тем
случаем, когда преобразование должно блокироваться, если
один из кванторов управляет другим в глубинной
структуре, но не в поверхностной, Насколько я могу судить, этот
11 Я. 1234
321
случай является типичным, и я не могу найти
опровергающих его примеров. Тем самым оказывается необходимым
следующее ограничение на преобразование:
(15) Пусть C^Q1 управляет Q2
«/» означает 'удовлетворяет условию'.
Ограничение 2: (P1/Ci)z3(Pu/C1).
Ограничение 2 означает, что если Q1 господствует над Q2
в глубинной структуре Pi, то Q1 должен господствовать над
Q2 и в поверхностной структуре Рп.
Не кажется беспочвенным предположение, что
ограничения 1 и 2 — это как раз те случаи, когда грамматические
ограничения отражают стратегию понимания. Если
представить себе модель понимания, на входе которой имеются
поверхностные представления в виде цепочек словоформ
фраз, а на выходе выдаются семантические представления
фраз, то ограничения 1 и 2 гарантируют, что отношение
между кванторами в семантическом представлении фразы
задается уже при ее синтаксическом анализе. Если в
поверхностной структуре Q* господствует над Q2, a Q2 не
господствует над Q1, то Q1 господствует над Q8 и в
семантическом представлении. Если же, с другой стороны, в
поверхностной структуре узлы Q1 и Qa господствуют друг над
другом, то в семантическом представлении управляющим
будет тот из них, который занимал более левую позицию
в исходной цепочке. Если ограничения 1 и 2 — это
отражение в грамматике стратегии понимания, то их можно
считать первыми кандидатами на роль синтаксических
универсалий. Однако эта гипотеза оказывается сомнительной,
поскольку подобные ограничения имеют много вариантов.
Ограничение 2 справедливо не только для кванторов,
но и для языковых средств выражения отрицания.
Рассмотрим, например, (16):
(16) Sam didn't claim that Harry had dated many girls.
'Сэм не утверждал, что Гарри встречался со многими
девушками.'
В (16) many не управляет not. Если бы правило понижения
кванторов могло применяться без ограничений, то можно
было бы ожидать, что (16) выводимо из следующих трех
исходных глубинных структур:
322
(17) [ not [ Sam claimed [ girlsj [Harry dated girlsj
were many]]]
(18) [ not [ girlsj [ Sam claimed [ Harry dated girls,]]
were many]]
(19) [ girlSi [ not [ Sam claimed [ Harry dated girlsj]]
Ь S S 5
were many]
Эти структуры означают соответственно следующее:
(17') Sam didn't claim that the girls who Harry dated
were many.
'Сэм не утверждал, что девушек, с которыми
встречался Гарри, было много.'
(18') There weren't many girls who Sam claimed
Harry dated.
'He было много девушек, с которыми, по
утверждению Сэма, встречался Гарри.'
(19') There were many girls who Sam didn't claim Harry
dated.
'Было много девушек, относительно которых Сэм
не утверждал, что Гарри с ними встречался.'
(17) представляется нормальной перифразой (16); (18)
допустимо, хотя и менее предпочтительно (подобно (11)); (19)
же недопустимо. Таким образом, закономерность здесь
именно такая, какая задается ограничением 2. В (17) и (18)
узел not управляет узлом many как в исходной, так и в
поверхностной структуре (16). В (19) many управляет not
в исходной структуре, но не управляет not в поверхностной
структуре (16). Тем самым мы можем обобщить ограничение
2 следующим образом:
пусть L — это «логический предикат», принимающий
значения 'квантор' (Q) или 'отрицание' (NEG).
(20) Пусть d=Ll управляет L2 (L=Q или NEG),
Ограничение 2': (Р1/С1)=)(РП/С1).
Условия подобного типа предполагают, что кванторы и
отрицания могут образовывать естественный семантический
класс предикатов. Это предположение, по-видимому,
подтверждается и тем, что ограничение 1 тоже можно обобщить
аналогичным образом, по крайней мере для некоторых диа-
11*
323
лектов английского языка. Рассмотрим, например, случаи,
которые обсуждались в Jackendoff, 1968; 1969:
(21) Not many arrows hit the target.
'Немногие стрелы поразили цель.'
(22) Many arrows didn't hit the target.
'Многие стрелы не поразили цель.'
(23) The target wasn't hit by many arrows.
'Цель не была поражена многими стрелами.'
Джейкендофф пишет, что в его речи (23) синонимично (21)'
но не (22). Я (как и многие другие носители английского
языка) считаю, что (23) можно понимать и как (21), и как
(22), хотя (23) в значении (22) и менее предпочтительно.
Однако существует ряд носителей английского языка,
идиолекты которых соответствуют трактовке Джейкендоффа. В
дальнейшем изложении мы будем исходить именно из данных
этого диалекта.
Если принять подобную точку зрения, то фразам (21)
и (22) следует приписать глубинные структуры типа (24)
и (25) соответственно:
(24) [ not [ arrowSj [ arrowSi hit the target] were
many|]
(24') The arrows that hit the target were not many.
'Стрелы, которые поразили цель, не были
многочисленны.'
(25) [ arrowSi [ not [ arrowSi hit the target]] were
о So
many]
(25') The arrows that didn't hit the target were many.
'Стрелы, которые не поразили цель, были
многочисленными.'
Если обобщить ограничение 1, включив в число
логических предикатов языковые средства отрицания и кванторы,
то примеры (21) — (23) будут автоматически учитываться
новым ограничением Г, если в качестве исходных берутся
структуры (24) и (25) и используется правило понижения
кванторов. Ограничение 1 будет иметь вид (26):
(26) Пусть C^L1 управляет L*
C2=L2 управляет Ll (L=«Q или NEG)
C3=Ll предшествует IA
Ограничение 1': P1/Ci=)(Pu/Ca3Pn/Cs).
324
Любое преобразование, не отвечающее этому требованию,
будет неправильным 8.
Преобразования над (21) и (22) работают именно так, как
ожидалось. Рассмотрим предложение (21). В
соответствующей ему глубинной структуре (24) not (L1 ) управляет many
(L2), a many управляет not в поверхностной структуре (21);
в поверхностной же структуре not предшествует many.
Таким же образом (24)->- (21), получая ограничение Г.
Обратимся теперь к (22). В соответствующей глубинной
структуре (25) many (L1) управляет not (L2), а в поверхностной
структуре not господствует над many и many предшествует
not. Таким образом, преобразование (25)->- (22) удовлетворя-
8 В своем изложении я отвлекся от роли ударения, хотя оно весьма
существенно для многих говорящих. Распространено мнение, что фраза
(О:
(i) Many men read few books.
'Многие люди читают мало книг',
если она произносится с сильным ударением на few, может быть понята
как The books that many men read are few. 'Книги, которые читают
многие люди, немногочисленны.'. Таким образом, общий принцип в
этом случае, по-видимому, состоит в следующем: если в производной
структуре утрачивается асимметрия отношения управления, то
вступает в силу то или иное «отношение первенства» (primacy) — термин
введен Лангакером. Я предлагаю принять в качестве одного из
таких отношений: «имеет значительно более сильное ударение», в
качестве второго — «предшествует». Представляется, что эти отношения
образуют (для диалектов типа того, о котором идет речь) такую
иерархию:
1. Управляет (но не является управляемым).
2. Имеет значительно более сильное ударение.
3. Предшествует.
Если один из кванторов управляет, но не является управляемым
другим в поверхностной структуре, то ои управляет им и в исходной
структуре. Если ни один из двух кванторов не управляет и не является
управляемым другим в поверхностной структуре, то квантор, обладающий
более сильным ударением, управляет другим в исходной структуре.
Если ни один из кванторов не обладает более сильным ударением, то
в глубинной структуре управляющим признается тот из них, который
занимал более левую позицию. Пусть С4 = Q1 имеет значительно
более сильное ударение, чем Q2. Тогда ограничение для диалектов типа
рассматриваемого будет иметь вид:
Pi/QzKPn/QlDfPn/QvPn/Cs))
(хотя принятое здесь обозначение и не является оптимальным для
задания иерархии). Поскольку диалект с подобными условиями,
насколько я могу судить на основе моего весьма ограниченного
обследования, является малораспространенным, в дальнейшем изложении я
буду рассматривать только нормальный диалект.
325
ет ограничению Г. Теперь рассмотрим предложение (23),
представляющее собой весьма интересный случай в этом
диалекте. Если допустить применение пассивной
трансформации к самым внутренним составляющим, помеченным
символом S в (24) и (25), и последующее применение
трансформации понижения кванторов, то от предложений (24)
и (25) мы приходим к предложению (23). Сперва рассмотрим
преобразование (24)-> (23). Not (Ll) господствует над many
(L2) в глубинной структуре (24) и в поверхностной
структуре, many господствует над not в поверхностной структуре
(21), a not предшествует many в этой поверхностной
структуре. Таким образом, преобразование (24)->(23)
удовлетворяет ограничению Г. Теперь рассмотрим преобразование
(25)-Ц23). Many (L1) управляет not (L2) в исходной и
поверхностной структуре, not управляет many в поверхностной
структуре (23), но many (L1) не предшествует not (L2) в
поверхностной структуре (23). Тем самым преобразование
(25)->-(23) не удовлетворяет условиям ограничения Г, и это
преобразование блокируется. Это объясняет тот факт, что
(23) не синонимично (21) и что (25) не имеет пассивного
эквивалента в рассматриваемом диалекте.
Отметим также, что для разбираемых случаев
необходима и та часть ограничения 1', в которой говорится, что L2
должен господствовать над L1 в поверхностной структуре
(Р„/С2), если принимается во внимание отношение
предшествования (Рп/С2).
Рассмотрим, например, фразу (25'): The arrows that
didn't hit the target were many. В (25') many (L1)
господствует над not (L2) как в Pi, так и в Рп. Таким образом,
посылка ограничения Г не выполняется, а потому тот факт,
что not (L2) предшествует many (L1) в поверхностной
структуре (то есть (Рп/С3) не имеет места), не имеет значения;
поскольку посылка не выполняется, ограничение считается
верным, а фразе приписывается структура (25).
До сих пор мы предполагали, что ограничения Г и 2'
относятся к поверхностной структуре. В общем случае
такое предположение неверно, оно могло сложиться лишь
потому, что рассматриваемые фразы были довольно
простыми. Рассмотрим, например, более сложные фразы, с
эллипсисом. Сравним (27) и (28).
(27) Jane isn't liked by many men and Sally isn't liked
by many men either.
326
♦Джейн не нравится многим мужчинам, и Салли не
нравится многим мужчинам тоже.'
(28) Jane isn't liked by many men and Sally isn't either,
'Джейн не нравится многим мужчинам, и Салли
тоже.'
Отметим, что поверхностная структура для фрагмента фразы
Sally isn't either не содержит many, однако этот фрагмент
получает ту же интерпретацию, что и Sally isn't liked by
many men either, и имеет иной смысл, нежели фраза There
are many men who Sally isn't liked by. 'Существует много
мужчин, которым не нравится Салли'. Ограничение 1*
в том виде, в каком оно было сформулировано, не может
выполнить подобного преобразования, поскольку это
ограничение относится к поверхностной структуре Рп, а не к более
ранним стадиям вывода, на одной из которых происходит
отбрасывание фрагмента liked by many men.
Таким образом, встает общая проблема относительно
ограничений типа 1' и 2'. Поскольку они относятся только
к исходной структуре Pi и поверхностной структуре Рп,
не исключена возможность того, что эти ограничения могут
быть нарушены на некоторых промежуточных стадиях
вывода. Мне представляется, что подобный случай
невозможен. Тогда ограничения 1' и 2' можно заменить
значительно более сильными, потребовав, чтобы этим ограничениям
удовлетворяли все промежуточные стадии вывода Pt, а не
только поверхностная структура Рп. Для случая кванторов
это более сильное ограничение имеет вид:
(29) Пусть Q = Ll господствует над L2
C2 = La господствует над L1
Cs = L1 предшествует L2.
Ограничение 1": P1/C1=)((i) (Pi/Q^C,)).
(29) автоматически обрабатывает случаи типа (28),
поскольку оно применяется на всех стадиях вывода вплоть до той
стадии, на которой работает правило введения эллипсиса,
а после этой стадии ограничение (29) работает вхолостую.
Причина этого состоит в том, что many не появится ни в
одной из НС-структур после того, как произведена
операция элиминирования, и потому во всех этих
НС-структурах не будет иметь места С2. А если С2 не имеет места, то
не требуется и выполнения Cs.
327
Однако этого еще недостаточно, поскольку, согласно
ограничению 1", если в поверхностной структуре имеет
место С2, то как в поверхностной структуре, так и на всех
более ранних стадиях вывода должно выполняться С3.
Однако существуют и такие, применяемые на более поздних
этапах правила, которые производят большие изменения
в производных структурах и выводят поверхностную
структуру, для которой названные ограничения не выполняются.
Сравним (30) и (31):
(30) Sarah Weinstein isn't fond of many boys.
'Сара Вайнштейн не влюблена во многих парней.'
(31) Fond of many boys, Sarah Weinstein isn't.
букв. 'Влюбленной во многих парней Сара
Вайнштейн не является.'
Правило вынесения в тему, рассматриваемое в Р о s t a 1,
1971, выводит фразу (31) из исходной структуры фразы (30).
(Не будем останавливаться на том, что фраза (31) не во всех
американских диалектах является грамматически
правильной. Мы рассматриваем лишь те диалекты, в которых (31)
правильна.) Отметим, что фраза (30) в точности
соответствует ограничению Г: такое ее истолкование, в котором в
исходной структуре Pi many управляло бы not,
блокируется, поскольку в поверхностной структуре many не
предшествует not. Однако для фразы (31), в которой not и many
расположены в обратном порядке, действуют те же
ограничения, и она имеет тот же смысл, что и (30). НС-структура,
получаемая после применения правила вынесения в тему,
не отвечает ограничению 1". хотя все более ранние стадии
вывода отвечают этому ограничению. Тем самым
оказывается, что ограничение 1" должно применяться лишь на тех
стадиях вывода, которые предшествуют применению
правила вынесения в тему. Другими словами, в каждом
преобразовании имеется некоторым фиксированным способом
определяемая «промежуточная (shallow) структура»,
удовлетворяющая ограничению 1":
Ограничение 1":
P1/C1 = ((i)(Pi/C2=.Pi/C3)),
где i^a^n.
Встает интересный вопрос о том, как определить
промежуточную структуру Ра. Один из возможных способов—это
определение Ра как структуры, получаемой на выходе цик-
328
лических правил. Однако пока мы не располагаем
достаточными сведениями для того, чтобы быть уверенными в
правильности такого определения. И все же некоторые выводы
уже можно сделать. Так, циклическое правило перехода
к пассиву должно использоваться до Ра, поскольку
ограничение 1" должно применяться к результату применения
к структуре пассивной трансформации. Правило вынесения
в тему должно использоваться после Ра.
Рассмотрим теперь те ограничения, о которых
говорилось выше, в связи с процессом лексического заполнения
НС-структуры. Предположим, что мы ограничили базисную
теорию таким образом, что в ней определена «глубинная
структура» на основе рассмотренных выше понятий. Пусть
при этом выдвинуты требования об использовании правил
лексического заполнения в едином компоненте (сплошным
образом без перебивов) и требование об использовании
ориентированных снизу вверх циклических правил лишь после
применения правил лексического заполнения. Переход к
пассиву относится к циклическим правилам, и в то.же время
пассивная трансформация применяется до того, как
получена структура Ра; поэтому если «глубинная структура»
существует, то все правила лексического заполнения должны
применяться до Ра. Тем самым вопрос о том, является ли
понятие «глубинной структуры» правильным, относится к
вопросам эмпирическим. Если существуют лексические
единицы, которые должны вводиться после Ра, то понятие
«глубинной структуры» оказывается непригодным, поскольку
существуют направленные снизу вверх циклические
правила (а именно, правила пассивизации), которые могут быть
применены до того, как применяются некоторые из правил
лексического заполнения.
все правила
лексического циклические
заполнения правила
иЛГГГГтТ
глубинная пассив промежуточная выне- поверх-
структура структура сение ностная
(пограничный в тему струк-
пункт) тура
I
исходная
структура
329
Эмпирический вопрос: Имеется ли лексическая единица,
которую следует вставлять между
Ра и Рп? Если она есть, то
«глубинной структуры» не существует.
Распространим вопрос несколько далее. Рассмотрим
фразы
(32) (a) I persuaded Bill to date many girls.
'Я убедил Билла назначать свидание многим
девушкам.'
(b) I persuaded many girls to date Bill.
'Я убедил многих девушек назначать свидания
Биллу.'
(33) (a) I persuaded Bill not to date many girls.
'Я убедил Билла не назначать свидания многим
девушкам.'
(b) I persuaded many girls not to date Bill.
'Я убедил многих девушек не назначать
свиданий Биллу.'
(34) (a) I didn't persuade Bill to date many girls.
'Я не убеждал Билла назначать свиданий
многим девушкам.'
(b) I didn't persuade many girls to date Bill.
'Я не убеждал многих девушек назначать
свидания Биллу.'
Если рассмотреть смысл этих фраз, то становится
очевидным, что они распадаются на два случая, соответствующие
сфере действия двух условий на преобразования, речь о
которых шла выше.
Основное различие между приведенными фразами лежит
в сфере действия not 'не'. В семантическом представлении
фразы (33b) not будет частью подструктуры с вершиной
persuade, тогда как в семантическом представлении фразы
(34b) not находится выше, чем persuade. Другими словами,
в (33) persuade господствует над not, а в (34) not
господствует над persuade. Различия в сфере действия not
объясняют и тот факт, что фраза (33а) однозначна, а фразы (32а)
и (34а) неоднозначны. Фраза (32а) может означать либо
(35), либо (36):
(35) There were many girls that I persuaded Bill to date,
(букв.) 'Было много девушек, назначать свидания
которым я убедил Билла.'
830
(36) I persuaded Bill that the number of girls he dated
should be large.
'Я убедил Билла, что число девушек, которым он
назначает свидания, должно быть большим.'
Фраза (34а) может означать либо (37), либо (38).
(37) There weren't many girls that I persuaded Bill to
date.
(букв.) 'Тех девушек, которым я убедил Билла
назначать свидания, было немного.'
(38) It is not the case that I persuaded Bill that the
number of girls he dates should be large.
'Неверно, что я убедил Билла, что число девушек,
которым он назначает свидания, должно быть
большим.'
Фраза же (33а) может означать только (39):
(39) I persuaded Bill that the number of girls he dates
should not be large.
'Я убедил Билла, что число девушек, которым он
назначает свидания, не должно быть большим.'
Причина того, что фраза (33а) однозначна, состоит в том,
что, поскольку not предшествует many в производной
структуре, not должно господствовать над many в исходной
структуре (согласно ограничению Г"). Поскольку в НС-
структуре not расположено внутри группы, служащей
дополнением к persuade, и not должно господствовать над
many, many также должно быть расположено внутри этой
группы. В НС-структурах фраз (32а) и (34а) many может
либо располагаться внутри группы, служащей дополнением
к persuade, либо относиться к предложению, подчиняющему
предложение с persuade, в евязи с чем и возникает
неоднозначность этих фраз.
Сравним теперь (ЗЗЬ) и (34b). В производных структурах
фразы (33b) many и предшествует not, и господствует над
not; поэтому узел many должен господствовать над узлом
not в исходной структуре. Фраза (ЗЗЬ) означает только (40):
(40) There were many girls that I persuaded not to date
Bill.
'Было много девушек, которых я убедил не
назначать свиданий Биллу.'
В производной же структуре фразы (34Ь), напротив, not
предшествует many, и потому узел not должен господство-
331
вать над узлом many в исходной структуре. Из этого
следует, что фраза (34Ь) означает (41), но не (40):
(41) There weren't many girls that I persuaded to date
Bill.
'Девушек, которых я убедил назначать свидания
Биллу, было немного.'
Рассмотрим теперь лексическую единицу dissuade
'разубеждать, отговаривать' в.
(42) (a) I dissuaded Bill from dating many girls.
'Я отговорил Билла от того, чтобы он назначал
свидания многим девушкам.'
(b) I dissuaded many girls from dating Bill.
'Я отговорил многих девушек от того, чтобы
они назначали свидание Биллу.'
9 Как было сказано выше, в сноске 8 на с. 325, рассматриваемое
ограничение требует, чтобы кванторы не находились в ударной
позиции. Утверждения о фразах из (42), которые опираются на мой
идиолект, будут неверными, если many произносится с сильным ударением.
В этом случае many, как было сказано в названной сноске, может быть
квантором самого высокого уровня. Это, естественно, распространяется
на примеры как с dissuade 'отговаривать', так и с persuade not
'убеждать не'. Сказанное можно пояснить следующими примерами:
(I) (a) I persuaded Bill not to date many girls, namely Sue, Sally,
Bathsheba, etc.
'Я убедил Билла не назначать свиданий многим девушкам,
а именно: Сью, Салли, Батшебе и др.'
(b) *I persuaded Bill not to date many girls, namely, Sue, Sally
Bathsheba, etc.
'Я убедил Билла не назначать свиданий многим девушкам,
а именно: Сью, Салли, Батшебе и др.'
(II) (a) I dissuaded Bill from dating many girls, namely, Sue, Sally,
Bathsheba, etc.
'Я отговорил Билла от того, чтобы он назначал свидания
многим девушкам, а именно: Сью, Салли, Батшебе и др.'
(b) *I dissuaded Bill from dating many girls, namely, Sue,
Sally, Bathsheba, etc.
'Я отговорил Билла от того, чтобы он назначал свидания
многим девушкам, а именно: Сью, Салли, Батшебе и др.'
Во фразах (а), в которых сильное ударение падает на many, many можно
интерпретировать как господствующее над not. В этом случае речь
идет о конкретных девушках, поэтому перечисление, вводимое словом
namely 'а именно', вполне допустимо. Во фразах (Ь), в которых many
неударно, many нельзя интерпретировать как господствующее над
not, поэтому их нельзя считать относящимися к определенным
девушкам. Тогда и перечисление, вводимое словом namely, недопустимо.
332
Во фразах (42) слово not не встречается. Единственный
отрицательный элемент в них — это префикс dis-. Тем самым
постлексическая структура для (42) будет содержать
отрицательный элемент не в дополнении к -suade 'убеждать',
а внутри самого глагола, как в (43):
(43) (a) I NEG-suaded Bill from dating many girls.
'Я ОТРИЦАНИЕ-убедил Билла назначать
свидания многим девушкам.'
(b) I NEG-suaded mani girls from dating Bill.
'Я ОТРИЦАНИЕ-убедил многих девушек
назначать свидания Биллу.'
Более того, отрицательный элемент предшествует
дополнению глагола dissuade, а не следует за ним. Если говорить
об отношениях предшествования и господства, то
постлексическая структура (42) сходна скорее с (34), чем с (33).
Предположим, что структура Ра постлексическая, то есть
отношения господства между not и many в семантическом
представлении можно предсказать на основе отношений
предшествования на некоторой стадии вывода, следующей
за применением всех правил лексического заполнения.
Тогда мы можем предсказать следующее: поскольку NEG
'ОТРИЦАНИЕ' предшествует many в (42), то узел NEG
должен господствовать над узлом many в исходной
структуре для (42). Другими словами, мы предскажем, что фразы
из (42) должны иметь тот же смысл, что и (34). Однако в
этом случае мы придем к неверному выводу. Фразы (42а)
и (42Ь) имеют тот же смысл, что и фразы (33а) и (ЗЗЬ)
соответственно.
Резюме (для диалекта большинства носителей
английского языка)10
Persuade — (32а) означает (35), (36)
п , . / (33а) означает (39)
Persuade not-<( j33b) означает (40)
10 Эти факты, как мне представляется, верны для большинства
носителей английского языка, однако далеко не для всех. Один нз
опрошенных мной информантов не согласен даже с отправным пунктом
этих рассуждений: он находит, что dissuade ведет себя иначе, чем
persuade not, и в отношении неоднозначности соответствующих фраз.
Для него (42а) может означать не только (39), но также There were many
girls that I dissuaded Bill from dating. 'Было много девушек, назначать
свидания которым я отговорил Билла.', даже в тех случаях, когда (42а)
333
Not oersUade-/ <34a> означает (37)' (38)
Not persuade--j (34b) 03начает (41)
n;o „„a* J (42a) означает (39)
Dissuade —< ),0i( ),Л\
I (42b) означает (40)
Dissuade означает скорее не not — persuade — NP, a
persuade — NP — not. Поэтому ограничения на
использование кванторов в производных структурах, отражающие
названное смысловое различие, должны быть заданы до
того, как начинают применяться лексические правила.
Лексическая единица dissuade должна быть введена в НС-
структуры (33) и (34) на той фазе вывода, когда ограничение
1" ' уже перестало действовать. Вспомним, что
ограничение 1" ' должно применяться после трансформации пассиви-
зации. Рассмотрим (44):
(44) (a) Many men weren't dissuaded from dating many
girls.
'Многие мужчины не были отговорены от того,
чтобы назначать свидания многим девушкам.'
(b) Not many men were dissuaded from dating many
girls.
'Немногие мужчины были отговорены от того,
чтобы назначать свидания многим девушкам.'
(c) I didn't dissuade many men from dating many
girls.
'Я не отговаривал многих мужчин от того,
чтобы они назначали свидания многим
девушкам.'
В (44) выявляются свойства фраз таких типов, как (34) и
(21) — (23). В (44) ограничение 1" ' должно действовать
не произносится с сильным ударением на many. По-видимому, в языке
этого информанта имеется ограничение, распространяющееся только
на уровень поверхностных структур, но не распространяющееся на
пограничный и более глубокие уровни. Интересно, что в отношении
ограничений на двойное отрицание этот информант согласен с
большинством других информантов, однако для него эти ограничения
распространяются только на поверхностный уровень, но не на
пограничный. Он считает фразу (51) грамматически неправильной, а фразу
(54) — правильной. Перльмуттер объясняет подобные различия в
ограничениях тем, что дети, изучая родной язык, не располагают
достаточными сведениями о том, к какому грамматическому уровню
относятся разные ограничения, или, вернее, какие ограничения наложены
на единицы, относящиеся к разным классам.
334
после трансформации пассивизации и до введения dissuade.
Тем самым это тот случай, когда направленное снизу вверх
циклическое правило должно применяться до введения
некоторой лексической единицы. Пример (44) показывает, что
любое понятие глубинной структуры, в которой
применяются все правила лексического заполнения до применения
каких бы то ни было направленных снизу вверх циклических
правил, является эмпирически неверным. Этот пример
показывает также, что трансформация пассивизации может
применяться к глаголу до того, как введено общее
лексическое представление глагола, а это означает, что предлекси-
ческие и постлексические структуры должны быть во
многих отношениях сходными. Может показаться, что случай
dissuade не подтверждает последний вывод и что dissuade
вводится применяемой на поздних этапах
трансформацией в структуру, содержащую реальную лексическую
единицу persuade. Если согласиться с этим, то dissuade
должно вводиться не правилами лексического заполнения,
а неким правилом, заменяющим одну лексическую
единицу другой. Однако такое решение нельзя
распространить на все случаи, поскольку существуют лексические
единицы prohibit 'запрещать, препятствовать', prevent
'запрещать, мешать', keep 'удерживать', forbid
'запрещать' и т. п., которые ведут себя точно так же, как
dissuade в рассматриваемом отношении, и в то же
время не имеют лексической пары типа persuade —
dissuade.
Весьма заманчивым для сторонников «глубинной
структуры» может стать и другое предположение, состоящее в
том, что лексическую единицу dissuade следует вводить до
циклических правил, что dissuade требует присутствия not
в придаточном дополнительном и что на некоторой стадии
вывода после получения пограничной структуры not
уничтожается применением специальной трансформации. Тогда
not будет присутствовать на всех стадиях, на которые
распространяется сфера действия ограничений, и все
приведенные выше факты окажутся учтенными. Такая версия
представляется на первый взгляд правдоподобной,
поскольку сходные глаголы в других языках часто используются
с отрицанием при дополнении. Так, в латинском примере
DissuasI Marco пё iret (букв. 'Я отговорил Марка идти')
дополнение содержит отрицание пе — вариант поп в
данном окружении,
азз
Представим себе на минуту, что мы согласились с таким
предположением. Это означает, что дополнения глагола
dissuade содержат not на уровне пограничной структуры и
не содержат not на уровне поверхностной структуры.
Рассмотрим теперь следующие фразы:
(45) I dissuaded Mary from marrying no one.
букв. 'Я отговорил Мери от выхода замуж за
никого.', 'Я отговорил Мери от того, чтобы она ни за
кого не выходила замуж.'
(46) *I persuaded Mary not to marry no one.
букв. 'Я убедил Мери не выходить замуж за
никого.', *'Я убедил Мери не выходить замуж ни за
никого.'
(47) *Магу didn't marry no one.
букв. 'Мери не вышла замуж за никого.', *'Мери
не вышла замуж ни за никого.'
(48) I didn't persuade Mary to marry no one.
букв. 'Я не убедил Мери выходить замуж за
никого.', 'Я не убедил Мери ни за кого не выходить
замуж.'
Фразы (46) и (47) грамматически неправильны в
стандартном английском, да и во всех диалектах, если рассматривать
обе отрицательные частицы как глубинные логические
отрицания (то есть если (47) понимается как It is not the case
that Mary married no one. 'Неверно, что Мери ни за кого
не вышла замуж.'). Как хорошо известно, это запрещение
распространяется только на те случаи, когда оба
отрицания находятся в одном предложении (в отличие от фразы
(48), в которой отрицания расположены в разных
предложениях — главном и придаточном). Встает вопрос,
в каком месте грамматики может вводиться ограничение
на двойное отрицание: (а) в «глубинной структуре»,
если она существует; (Ь) в пограничной структуре; (с) на
любом промежуточном уровне между глубинной и
пограничной структурой или (d) в поверхностной
структуре.
Рассмотрим теперь фразу (45). При учете обсуждаемого
предположения о том, что во фразах с dissuade отрицание
not вычеркивается лишь после получения пограничной
структуры, not должно присутствовать на всех стадиях
вывода от глубинной до пограничной структуры. (Другими
словами, not присутствует на всех тех стадиях вывода, ког-
336
да действуют ограничения 1 и 2.) Тогда на уровне
пограничной структуры (45) будет иметь вид:
(45') I dissuaded Mary from not marrying no one.
(букв.) 'Я отговорил Мери от невыхода замуж за
никого.'
'Я отговорил Мери от того, чтобы она выходила
замуж.'
Тем самым, если мы принимаем обсуждаемое
предположение, ограничение на двойное отрицание не может
действовать ни на уровне пограничных структур, ни на одном
предшествующем уровне, вплоть до глубинной структуры; если
бы такое ограничение действовало, то (45) было бы
исключено. Тогда предположение о вычеркивании not на
одном из уровней, следующих за пограничной структурой,
приводит к тому, что ограничение на двойное отрицание
может действовать только в поверхностной структуре,
но не в пограничной. Проверим теперь, возможно
ли это.
Приведенные ниже фразы удовлетворяют условиям
ограничения на двойное отрицание независимо от того, на
каком уровне (пограничном или поверхностном) действует
это ограничение, поскольку эти фразы имеют примерно
одинаковое представление на обоих уровнях.
(49) Max said that Sheila Weinstein was spurned by no one.
'Макс сказал, что Шейлу Вайнштейн никто не
презирает.'
(50) Max didn't say that Sheila Weinstein was spurned
by no one.
'Макс не сказал, что Шейлу Вайнштейн никто не
презирает.'
(51) *Мах said that Sheila Weinstein wasn't spurned
by no one.
*'Макс сказал, что Шейлу Вайнштейн не
презирает ни никто.'
Заметим, что в некоторых диалектах часть придаточного
может быть поставлена перед главным предложением (по
правилу вынесения в тему):
(52) Max said that Sheila Weinstein wasn't spurned by
Harry.
'Макс сказал, что Шейла Вайнштейн не вызывает
презрения у Гарри,'
337
(53) Spurned by Harry, Max safd that Sheila Weinstein
wasn't.
букв. 'Вызывающей презрение Гарри, сказал Макс,
что Шейла Вайнштейн не является.'
Во фразе (53) группа Harry перенесена из позиции, в
которой она относится к тому же предложению, что и
отрицание n't, в позицию более высокого уровня. Обратимся
к примеру (51). Если ограничение на двойное отрицание
действует только на поверхностном, но не на пограничном
уровне, то применение правила вынесения в тему к (51)
удалит группу no one 'никто' из того предложения, где
имеется отрицание n't, в результате чего к поверхностной
структуре нельзя будет применить ограничение на двойное
отрицание. Тогда фраза (54) окажется грамматически
правильной:
(54) *Spurned by no one, Max said that Sheila
Weinstein wasn't.
*'He презираемой никем, Макс сказал, что Шейла
Вайнштейн не является.'
Однако фраза (54) грамматически неправильна в той же
степени, что и фраза (51),— ограничение на двойное
отрицание должно исключать обе эти фразы. Как мы видели, это
ограничение не может распространиться на (54), поскольку
по правилу вынесения в тему два отрицания — no one и
n't — разнесены по разным предложениям. Следовательно,
для того, чтобы исключить (54), ограничение на двойное
отрицание должно применяться до правила вынесения в
тему, а именно на уровне пограничных структур.
Однако это противоречит предположению о том, что
вычеркивание not происходит после уровня пограничных
структур, поскольку при этом предположении фраза (45),
которая является грамматически правильной, будет
содержать два отрицания в одном предложении на уровне
пограничных структур (ср. (45')). Отсюда следует, что данное
предположение неверно.
Аналогичным этому было бы и предположение, согласно
которому на некотором уровне, предшествующем
пограничной структуре, not заменяется предлогом from для глаголов
типа dissuade и prevent и предлогом to для глаголов типа
forbid, после чего from и to «действуют как отрицание» (что
бы это ни значило) с учетом ограничений 1 и 2 на погранич-
839
ном и более поверхностных уровнях. Однако из фраз типа
(45) явствует, что если учитывать ограничение на двойное
отрицание, то from не может действовать как отрицание
на пограничном уровне. Такое предположение означало бы,
что к from одновременно предъявляются два
противоречащих требования: быть и не быть отрицанием. Ни одно из
подобных предположений не дает возможности уйти от
решения, согласно которому dissuade следует вводить после
уровня пограничных структур.
Можно предпринять еще одну попытку обойти это
напрашивающееся решение, потребовав, чтобы ограничения на
вывод не распространялись на промежуточные структуры,
получаемые при применении правил лексического
заполнения, действующих в едином компоненте (то есть принимая
понятие глубинной структуры), и тогда dissuade можно
было бы ввести до трансформации пассивизации. В этом случае
ограничения на вывод не пересекались бы с правилом
введения dissuade. Такое требование было бы неправомерным.
На самом деле dissuade пересекается с ограничениями. Как
видно из резюме соответствий между смыслами, dissuade
действует в точности так же, как persuade not, но не как
persuade. Показательно, что фраза (42а), подобно фразе
(33а), однозначна. Фраза (42а) имеет единственный смысл—
такой, при котором many относится к дополнению, как
и предсказывают ограничения. Если бы ограничения не
воздействовали на dissuade, то следовало бы ожидать, что
dissuade будет действовать подобно persuade, и фраза (42а)
должна была бы оказаться неоднозначной, подобно (32а),
где слово many интерпретируется как входящее или не
входящее в группу дополнения. Однако, как мы видели, (42а)
не имеет второй интерпретации: John dissuaded Bill from
dating many girls. 'Джон отговорил Билла от того, чтобы он
назначал свидания многим девушкам.' не может означать
Many were the girls who John dissuaded Bill from dating.
'Многочисленны были девушки, от свиданий с которыми
Джон отговорил Билла'.
Следует отметить, что приведенные рассуждения не
зависят от того, действительно ли ограничение 1" ' верно во
всех деталях. Скорее всего, в дальнейшем это ограничение
будет модифицировано. Они не зависят и от решения
вопроса о том, имеет ли семантическое представление форму НС-
структуры (хотя этот вопрос и обсуждается ниже). Наши
рассуждения опираются только на тот факт, что persuade-
339
not и not-persuade подчиняются общим ограничениям на
кванторы и отрицания и что dissuade действует так же, как
persuade not. Таким образом, в любом варианте
трансформационной грамматики необходимо выдвижение общего
принципа, в соответствии с которым семантические
представления фраз, содержащих кванторы и отрицания,
должны быть соотнесены с линейным расположением этих
кванторов и отрицаний в «производной структуре». Если этот
общий принцип выдвинут, то понятие «производной
структуры» должно быть определено как следующее за
трансформацией пассивизации, но предшествующее введению
лексической единицы dissuade. Тем самым ни в одном
продуманном варианте трансформационной грамматики,
учитывающем этот общий принцип, требование введения всех правил
лексического заполнения до циклических правил не может
быть выполнено.
Подведем итоги наших рассуждений.
(i) Предположим, что глубинная структура
определяется как стадия вывода, которая следует за применением всех
правил лексического заполнения и предшествует
применению любых ориентированных снизу вверх циклических
правил.
(И) Показано, что существуют ограничения 1 и 2, в
соответствии с которыми отношение господства на
семантическом уровне связано с отношениями линейного порядка и
господствования на некотором уровне «производных
структур».
(iii) Однако трансформация пассивизации должна
предшествовать правилу введения таких лексических единиц,
как dissuade, prohibit, prevent, keep и т. п.
(iv) Поскольку пассивизация относится к
ориентированным снизу вверх циклическим правилам, (iii) доказывает,
что понятия «глубинной структуры», как оно дано в (i),
не существует...
... Из того, что позиция произвольного синтаксиса
неверна, еще не следует правильность позиции естественного
синтаксиса *. Логически допустима «промежуточная» по-
* Дж. Лакофф выделяет автономный (3. Хэррис (Harris, 1952;
о н ж е, 1957) и Н. Хомский (Chomsky, 1957)), произвольный (Дж.
Катц и П. Постал (К atz — Postal, 1964)) и натуральный (Дж.
Лакофф) синтаксис. При автономном подходе, в отличие от двух
остальных, синтаксис рассматривается независимо от семантики.
Произвольный синтаксис не требует наличия синтаксической НС-структуры в
340
зиция, согласно которой произвольные маркеры допустимы
для некоторых, но не для всех синтаксических конструкций.
Однако, поскольку семантическое представление в любой
адекватной грамматической теории должно задаваться
независимо, наиболее сильное требование, позволяющее
ограничить класс допустимых грамматик, будет состоять в
принятии позиции естественного синтаксиса и в отказе от
произвольных маркеров. Это требование может показаться
слишком категоричным, но с методологической точки зрения оно
представляется наиболее разумным, поскольку из него
следует необходимость индивидуально обосновывать введение
каждого произвольного маркера в семантическое
представление, которое в свою очередь имеет собственное
независимое обоснование. Насколько мне Известно, еще ни один
произвольный маркер при его введении не был обоснован,
поэтому вопрос о принципиальной возможности подобных
обоснований мы оставляем открытым. Не располагая
обоснованиями такого рода, мы вынуждены выдвинуть
категорическое требование, состоящее в том, что произвольных
маркеров не существует.
Следует отметить, что это требование является отходом
от методологических предпосылок, которые исследователи
в области трансформационной грамматики разделяют со
времени выхода в свет книги Chomsky, 1965. Именно
тогда возникло убеждение, что лингвистическая теория
призвана сформулировать точные утверждения о природе
семантического представления и его соотношении с
синтаксисом, однако многие исследователи продолжали
игнорировать вопросы семантического представления, работая в
русле автономного синтаксиса. Работы Chomsky, 1965,
и Katz — Postal, 1964, были первыми, в которых
использовались произвольные маркеры, однако их
введение не было аргументировано. Вслед за этим
распространилось мнение, что следует обосновывать любой отход от
использования произвольных маркеров. На самом деле, если
семантическом представлении фразы, в натуральном синтаксисе такое
требование содержится. Различия между натуральным и произвольным
синтаксисом Дж. Лакофф демонстрирует на примере английских фраз'
в повелительном наклонении. При нятуральном подходе семантические
представления этих фраз снабжаются дополнительной информацией о
количестве мест глагола-сказуемого, хотя в таких фразах первое место
и остается незаполненным. При произвольном подходе подобнаи
информация отсутствует, а в семантическое представление вводится
«произвольный маркер» IMP 'императив'.— Прим. перев.
341
признать, (i) что Семантические представления должны
быть независимыми от любых предположений относительно
природы грамматики и эти представления могут иметь вид
НС-структур и (И) что автономный синтаксис—вещь не
бесспорная, то иным становится и ответ на методологический
вопрос относительно того, что именно следует обосновывать.
В соответствии с такой точкой зрения произвольные
маркеры нельзя признавать существующими, пока не обоснована
их необходимость, а правомерность позиции автономного
синтаксиса следует не принимать на веру, а доказывать.
Рассуждения Р. Лакофф (R. L a k о f f, 1968) о
существовании перформативных глаголов, абстрактных и
реальных, были одним из первых веских аргументов,
поставивших под сомнение не только неоспоримость автономного
синтаксиса, но и положение, согласно которому стержнем
фразы является ее исходная (синтаксическая) структура. В
более поздней работе (R. L a k о f f, 1969) она привела
веские доказательства существования абстрактных
перформативных глаголов поддержки в английском языке. Основные
аргументы Р. Лакофф достаточно просты.
Если какое-либо синтаксическое явление, имеющее
место во фразах с некоторым «явным» глаголом, имеет место
и во фразах без этого глагола и если фразы второго типа
понимаются так, как будто этот глагол в них присутствует,
то (1) следует сформулировать правило для тех фраз, в
которых глагол присутствует; (2) поскольку данное
синтаксическое явление имеет место в обоих случаях, это правило
следует обобщить таким образом, чтобы оно
распространялось на оба случая; (3) поскольку нам известен вид правила
для фраз с «явным» глаголом и поскольку это правило
должно быть применимо, то фразам без «явного» глагола следует
приписывать исходные структуры, сходные с исходными
структурами фраз первого типа, для того чтобы к фразам
обоих типов можно было применять указанное обобщенное
правило.
На рассуждения Р. Лакофф (или сходные с ними) можно
возразить двумя способами. Во-первых, можно поставить
под сомнение обоснованность формы этих рассуждений.
Во-вторых, можно утверждать, что в них делается
неправомерное обобщение. Начнем в первого возражения.
Рассуждения в такой форме, какая представлена выше, занимают
центральное место в порождающей грамматике.
Эмпирические основы этого направления в значительной степени опи-
342
раются на рассуждения именно в такой форме. Рассмотрим,
например, положение о том, что в исходных структурах для
фраз в повелительном наклонении в английском языке
представлено подлежащее, выраженное местоимением
второго лица. Доказательством этого положения служат
примеры типа
(66) I shaved С*me ] ( myself \
\ you } | *yourself [
( himj (*himself J
(67) You shaved ( me \ (*myself \
\ *youl < yourself [
{ himj (*himself J
и т. п.
(68) Shave ( me \ I*myself \ Побрей f меня"] ^-ся4)
-!*you>] yourself | -! *тебя м -ся|
( himj (*himselfj ( его J (*-chJ
(69) I'll go home, ( I \ букв. Я пойду домой, (я 'J
won't <*you> не пойду ли я -!*ты>
(*he j [*ohJ
(70) You'll go ho- f*I 1 букв. Ты пойдешь до- (*я 1
me, won't I you | мой, не пой- -I ты>
(*he J дешь ли [*ohJ
(71) Go home, (*l "j букв. Иди домой, не (*я \
won't I you} пойдешь ли < ты ^
(*he ) (*ohJ
Рассуждения достаточно просты. Во фразах с явным
подлежащим место прямого дополнения занимает
возвратное местоимение, если оно в числе и роде согласовано с
подлежащим, и невозвратное, если оно не согласовано с
подлежащим. Мы предполагаем, что существует правило «рефлек-
сивизации», по которому происходит согласование
подлежащего и дополнения. Аналогично в обеих частях
сочлененных вопросов в качестве подлежащего используется одно
и то же местоимение.
Рассматривая повелительные предложения типа (68),
мы находим, что в них подразумевается подлежащее во
втором лице и что в них используется возвратное местоимение
второго лица и запрещено нерефлексивное возвратное мес-
343
тоимение второго лица. Сходным образом в расчлененных
вопросах, где первое предложение содержит глагол в
императиве, во втором предложении подлежащим является
местоимение второго лица (71). Мы предполагаем, что это не
случайно. Для доказательства того, что исходные
структуры предложений в повелительном наклонении имеют
подлежащее, выраженное местоимением второго лица, мы
проведем следующее рассуждение.
Если синтаксическое явление, которое имеет место во
фразах с определенным «явным» подлежащим, имеет место
и во фразах без подлежащего и если фразы второго типа
понимаются так, как будто это подлежащее в них присутствует,
то (1) следует сформулировать правило для тех фраз, в
которых подлежащее присутствует; (2) поскольку то же
самое явление имеет место в соответствующих фразах без
подлежащего, должно существовать общее правило,
охватывающее оба рассматриваемых случая; (3) поскольку нам
известен вид правила для фраз с «явным» подлежащим и
поскольку во фразах без подлежащего это же правило
должно быть применимо, то фразы без явного подлежащего
должны иметь структуру, сходную со структурой фраз
первого типа, для того, чтобы к фразам обоих типов могло
применяться указанное общее правило.
Если не согласиться с формой этих рассуждений, то из
фактов, приведенных выше, нельзя сделать вывод о наличии
в исходной структуре предложений в повелительном
наклонении подлежащего, выраженного местоимением второго
лица, да и вообще какого бы то ни было подлежащего.
Значительная часть результатов трансформационной
грамматики получена на основе рассуждений именно в такой
форме. Если же согласиться с формой этих рассуждений, то
следует согласиться и с существованием абстрактных пер-
формативных глаголов, поскольку их наличие
аргументировано в работах R. L a k о f f, 1968; 1969, и Ross,
1970, именно в той форме, о которой идет речь. При
последовательном подходе к эмпирическим синтаксическим
данным с существованием абстрактных перформативных
глаголов нельзя не согласиться; в противном же случае следует
отказаться от всех результатов, полученных с помощью
рассуждений в такой форме. Если же сделать последнее,
то неясно, какие результаты останутся у трансформационной
грамматики.
Вторым возражением к выводам Р. Лакофф могло бы
344
быть утверждение о том, что они содержат неправомерное
обобщение. Например, можно утверждать, что появление
возвратного местоимения второго лица в Shave yourself!
'Побрейся!' и в You will shave yourself! 'Ты побреешься!'
не имеет между собой ничего общего и что возвратные
местоимения фраз (68) и (71) совпадают с возвратными
местоимениями второго лица из парадигм (67) и (70) лишь
случайно. Если это совпадение случайно, то не следует
формулировать общего правила, более того, это было бы
неверным. Тогда неверно и утверждение о наличии подлежащего
в исходных структурах предложений в повелительном
наклонении. Если же кто-либо встанет на эту точку зрения
перед лицом приведенных выше доказательств, то тут уж
никакие разумные возражения не помогут.
Рассмотрим еще один пример, описанный М. Халле.
Предположим, что консервативный структуралист хочет
сохранить понятие таксономического фонологического
уровня даже после тех возражений, которые изложены в Hal-
1 е, 1959 (см. также рассуждения Хомского, приведенные
в Fodor — Katz, 1964, p. 100). Халле указывает, что
в русском языке существует правило, согласно которому
шумные в позиции перед шумными звонкими озвончаются.
Далее Халле говорит, что если существует таксономический
фонологический уровень, то это общее правило окажется
неверным и его следует разбить на два подправила.
Согласно первому подправилу, соотносящему морфонологическое
представление с фонологическим, все шумные, кроме /с/,
/с/ и /х/, озвончаются в позиции перед звонким шумным.
Согласно второму подправилу, соотносящему
фонологическое представление с фонетическим, /с/, /с/ и 1x1
озвончаются в позиции перед звонким шумньм. Как указывает
Хомский, «единственным результатом принятия
таксономического фонологического уровня окажется невозможность
формулировать обобщения». Консервативный структуралист
мог бы возразить просто, что это обобщение неправомерно.
Но тут уж никакие разумные объяснения не помогут.
Верить в существование таксономического фонологического
уровня на основе одного этого возражения — все равно,
что верить в существование автономного или произвольного
синтаксиса, несмотря на приведенные выше доказательства
противного.
В заключение следует отметить, что в теоретическом
аппарате трансформационной грамматики имеется формаль-
345
ное средство Для Выражения утверждения о том, что
обобщений не существует. Этим формальным средством являются
фигурные скобки. Выражение в фигурных скобках
содержит список дизъюнктивных условий, в которых может
применяться некоторое правило. Имплицитное требование,
угадывающееся за использованием этого обозначения,
состоит в том, что единицы списка (члены дизъюнкции) не
имеют общих свойств, релевантных с точки зрения этого
правила. С теоретической точки зрения фигурные скобки —
это признание поражения, поскольку они означают, что
общего правила не существует, и мы вынуждены
довольствоваться простым перечислением случаев, к которым
применимо правило.
Обратимся к примеру. Предположим, что некто хочет
опровергнуть наличие подлежащего в исходных структурах
повелительных предложений. И в то же время он хочет
отразить тот факт, что единственное возвратное местоимение,
которое может использоваться в этих предложениях,— это
местоимение второго лица. Естественным способом
выражения подобного утверждения было бы использование
фигурных скобок. Тогда ему пришлось бы предложить такое
правило возвратности:
(IMP \
(72) Структурное описание: < мр }■ — X— NP2
1 — 2— 3
[+REFL]
Структурные корреляты: 1 —2—[+PRO]
Условия: (а) 1 господствует над 3 и 3 господствует
над 1.
(b) Если 1 = 1МР, то 3 относится ко
второму лицу.
(c) Если l=NPj, то NPi согласуется в
NP2.
В этом правиле содержится утверждение о ненужности
обобщений. Действительно, согласно этому правилу, два
вхождения местоимения yourself — во фразах Shave yourself и
You will shave yourself— не имеют между собой ничего
общего, поскольку в первой фразе появление этого
местоимения обусловлено присутствием маркера IMP, а во второй —
согласованием с группой подлежащего NPb В соответствии
с этим утверждением тот факт, что предложения в
повелительном наклонении, в которых прямое дополнение может
346
выражаться только возвратным местоимением второго
лица, понимаются так, как будто они имеют подлежащее во
втором лице, оказывается чистой случайностью...
...Прекрасным примером приписывания произвольных
признаков может служить признак AFFECT из важной
работы Клима (см. С 1 i m a, 1964). Клима замечает, что в
определенных дизъюнктивных окружениях (при
отрицании, в вопросах, в конструкциях со словами only 'только',
if 'если', before 'перед', than 'чем', lest 'что бы ни'), которые
с семантической точки зрения, как ему представляется,
имеют некоторое неясное сходство, действуют два правила.
Будучи не в состоянии дать точное семантическое
определение общих черт этих окружений, он задает набор правил,
действующих только в окружениях, обозначенных им как
снабженные «грамматико-семантическим признаком»
AFFECT; смысл же последнего не объясняется. Затем с
помощью признака AFFECT он обобщает эти правила. На самом
же деле он утверждает — не более того,— что эти правила
применяются в некоторых дизъюнктивных окружениях, а
именно в тех, которым приписан произвольный признак
AFFECT. Если эти окружения имеют семантическую
общность (я думаю, что, предполагая эту общность, Клима
прав), то обобщение правил должно содержать объяснение
того, какова же эта общность.
Аналогичный пример содержится в работе С h о m s-
k у, 1957 (p. 39). Анализируя вспомогательные глаголы
в английском языке, Хомский пишет:
«Пусть Af означает любой из аффиксов past 'прош.',
S '3 лицо наст.', 0, en 'пасс, прич.', ing 'акт. прич.'.
Пусть v означает М 'мод. гл.' или V 'смысл, гл.',
или have 'иметь', или be 'быть'... Тогда:
Af + v*-v + Af #».
Отметим, что v не символизирует категорию глагола,
представленную прописной буквой V. В этой системе v и V —
совершенно разные символы, не имеющие между собой
ничего общего.
Af и v — это произвольные имена, и, поскольку они не
наделены никаким семантическим или универсально
синтаксическим значением, их можно без ущерба заменить,
например, собственными именами SAM и PEDRO. Хомский
формулирует два правила, приписывающие произвольные
имена дизъюнктивным спискам элементов, и одно правило
Э47
перестановки элементов, которым приписаны эти имена.
Поскольку приписывание произвольных признаков типа
AFFECT эквивалентно приписыванию произвольных имен,
приведенное выше правило Хомского может быть
переформулировано в виде правил с приписанными признаками.
Тогда мы получим следующие правила, означающие в
точности то же самое, что и правило Хомского:
Ш )
(76) Структурное х_ IV I y
описание: \ have|
Ibe J
Структурные огра- 1 — 2 — 3
ничения:
(77) Структурное
описание:
Структурное огра
ничение:
(78) Структурное
описание:
Структурное
ограничение:
1— 2 —3
[+ PEDRO]
X— (past) —Y
S
1 0Г
en
ling )
- 1— 2 —3
1— 2 —3
[+ SAM]
X —[+SAM] —[+PEDRO] —Y
1— 2 — 3 —4
1- 3 - 2 + #-4
Подобная последовательность правил содержит
утверждение, что не существует общего правила введения в
структуры глаголов и их аффиксов. Единственное, что можно
сделать,— это задать два списка, приписать этим спискам
произвольные имена и сформулировать правило сцепления
этих произвольных имен.
Конечно, все последние утверждения абсурдны. Должно
иметься общее правило введения глаголов и их аффиксов.
Следует отметить, что существует универсальная
синтаксическая категория глагола, элементами которой являются
М, V, have и be, и соответственно подкатегория
вспомогательного глагола, элементами которой являются М
(модальные глаголы типа will 'намереваться', сап 'мочь'),
have и be. Кроме того, требуется скорее общая
характеристика понятия «аффикс», а не список аффиксов, А затем
348
должно вводиться правило сцепления «глаголов» и
«аффиксов». Но это далеко не то же самое, что утверждает Хомский
в приведенной цитате. У Хомского М, V, have и be — это
не элементы универсальной синтаксической категории
глагола, а совершенно различные элементы, которые имеют
между собой не больше общего, чем Adverb 'наречие', S
'предложение', windmill 'ветряная мельница' и into 'в'.
Поскольку все эти элементы — М, V, have и be —
подвергаются одному и тому же способу обработки, этот способ
нельзя нетривиально и единообразно задать, пока эти
элементы не сведены в единую универсальную категорию
глагола, а именно этого в работе Хомского нет11.
Рассматривая проблему в целом, утверждаю, чтот
трансформационная грамматика не должна опираться на
дизъюнктивные правила типа (73), которые предполагают отсутствие
общих законов, но, напротив, везде, где это возможно,
должна избегать таких правил и искать общие
закономерности. Инструменты типа фигурных скобок могут быть
полезны как вспомогательное средство организации данных на
ранних стадиях исследования, но это отнюдь не то, что
можно поставить себе в заслугу. Каждый раз, когда правило
содержит дизъюнктивный список условий, это означает
отказ от попытки сформулировать в полном объеме общий
принцип, определяющий применение этого правила.
Фигурные скобки используются все реже, и основные усилия
затрачиваются на выявление природы описываемых
явлений. Весьма вероятно, что в будущем фигурные скобки
будут необходимы лишь в двух случаях: как вспомогательный
прием при предварительной ориентации данных и при
исследованиях, ведущихся в русле автономного и
произвольного синтаксиса.
11 Дж. Росс в работе Ross, 1969 предложил такой способ анализа
вспомогательных глаголов как элемента общей категории глагола,
при котором общие правила, касающиеся М, V, have и be, действительно
являются общими правилами, а не простыми этикетками к спискам.
Более того, в соответствии с анализом Росса правила сцепления
глаголов с аффиксами могут быть уничтожены и заменены независимыми
правилами размещения дополнительных элементов.
Дж. Лакофф
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ГЕШТАЛЬТЫ'
<С . .> Если считать, что язык отражает тот способ,
с помощью которого человек представляет себе мир, то
необходима теория языка, отражающая человеческий опыт.
Именно такое требование предъявляется к основанной на
опыте лингвистике: широкий круг эмпирических
факторов — восприятие, мышление, устройство человеческого
тела, эмоции, память, социальные структуры, сенсорно-
моторные и познавательные процессы и т.п.— в
значительной степени, если не целиком, обусловливает
универсальные структурные характеристики языка.
Рассмотрим человека со всеми его внеязыковыми
возможностями. Зададимся вопросом, какие собственно языковые
способности надо добавить, чтобы подтвердить наличие
чисто языковых универсалий. Никаких? Некоторые? Все?
1.
Все языковые спо- Некоторые языковые Никакие языковые
собиости следуют способности следуют способности не еле-
из других способ- из других способ- дуют из других
ностей чостек способностей
Г
-^Ч_
Континуум теории
^
Tv
Основанная на опыте лингвистика
f
Порождающая
лингвистика
менее мощные теории
более мощные теории
* George L a k о f f. Linguistic gestalts. «Papes from the
Thirteenth Regional Meeting Chicago Linguistic Society», 13, Chicago, 1977.
При переводе статья с согласия автора была сокращена.
350
Посмотрим на дело следующим образом. Предположим,
что мы знаем, какие языковые универсалии являются чисто
языковыми. Какова простейшая из возможных теорий?
Конечно, нулевая теория. Теория, согласно которой чисто
языковых универсалий не существует вообще. Теория,
согласно которой все языковые универсалии вытекают из
фактов, относящихся к человеку, или являются частными
случаями таких фактов. Подобная ситуация представлена
в левой части рис. 1. А какова наиболее сложная теория в
этом континууме? Это та теория, согласно которой все
универсалии языка являются чисто языковыми и ни одна
из них не следует из других фактов, относящихся к
человеку. Именно эту точку зрения без каких-либо сомнений
принимает порождающая лингвистика, которая на нашем
рисунке изображена справа. Именно поэтому с этой точки
зрения любая теория порождающей лингвистики более
«мощна», чем любая теория эмпирической лингвистики.
Поскольку для теории, основанной на опыте
лингвистики, существенны внеязыковые способности человека, эта
теория ограничена рамками внеязыковых способностей
человека, а введение каждой дополнительной, собственно
языковой, способности должно быть аргументировано...
Так обстоит дело теоретически, практически же все
выглядит иначе. Причина этого состоит в том, что у нас почти
нет точных данных о многих возможностях человека, как"
-внеязьжовых, так и языковых. Практически часто делаются
попытки построить теорию таким образом, чтобы языковые
способности оказывались однозначно выводимыми из вне-
языковых способностей. Существуют достаточные основания
для того, чтобы смотреть на лингвистику именно под таким
углом зрения. Предположение, что языковые способности
не имеют ничего общего с другими аспектами человеческого
сознания, кажется малоправдоподобным. Для меня
наиболее интересными лингвистическими результатами были бы
именно такие, которые показывают, каким образом язык
соотносится с другими аспектами человеческого существа.
<С . .> Многие высказывания на естественном языке
предполагают обращение к визуальному опыту и к другим
видам чувственного опыта. ...В В or k in, 1972
рассматриваются случаи, которые автор называет «усеченными
(beheaded) именными группами». Предложение, подобное
(1) Tolstoi takes up a foot on my bookshelf.
351
'Толстой занимает фут на моей книжной полке.'
В нормальном случае означает нечто вроде следующего:
'физическое воплощение того, что написал Толстой...',
Пол Постал, который считает, что смысл целого
складывается из смысла его частей, предложил для таких случаев
трансформацию вычеркивания, превращающую именную
группу физическое воплощение того, что написал Толстой,
просто в Толстой, и я в свое время поддержал эту мысль
( L а к о ф ф, 1970). Однако на самом деле здесь,
по-видимому, происходит следующее: определенные сведения о
мире позволяют заменить именную группу физическое
воплощение того, что написал Толстой, именной группой
Толстой. Другими словами, часть наших знаний о Толстом
состоит в том, что он писал книги, которые в определенном
окружении занимают фут на моей книжной полке, а
именная группа Толстой понимается как выражение,
обозначающее эти книги.
Другим случаем того же типа являются именные
сочетания, состоящие из цепочки существительных,
рассматриваемые в работе Памелы Даунинг. Даунинг считает
неверным утверждение о том, что существует ограниченный набор
типов сочетаемости существительных внутри этих групп.
На самом деле при образовании такого рода могут быть
использованы любые знания о мире. Мой любимый пример из
ее работы — именная группа apple juice seat 'место с
яблочным соком', которая была использована в следующей
ситуации: гость подходит к столу, где свободны четыре
места; у одного из свободных приборов стоит яблочный сок,
у трех — апельсиновый. Хозяйка говорит:
(2) Please sit in the apple juice seat.
'Пожалуйста, займите то место, где яблочный сок.'
Однако существуют и более простые примеры такого же
типа:
(3) The kettle is boiling.
'Чайник кипит.'
(4) I ate the whole plate.
'Я съел всю тарелку.'
Конечно же, кипит вода в чайнике, а не сам чайник, но,
располагая определенными сведениями о чайниках и о том,
что обычно в них кипятится, вы понимаете, о чем идет речь.
Съедено, скорее всего, содержимое тарелки, а не сама та-
852
релка. Конечно, частично эти фразы понимаются за сче1
знаний о языке, а не одних лишь знаний о мире. Сравним:
(3') The ice bucket is melting.
'Ледяное ведерко тает.'
(4') I chewed up the whole plate.
'Я сжевал всю тарелку.'
(3') означает, что тает само ведерко, (4') означает, что
сжевана сама тарелка. Вероятно, информация о том, когда и как
использовать знания о мире для того, чтобы превратить
фразы, близкие к аномальным, в осмысленные, является
частью структуры английского языка. Это явление
напоминает описанные А. Боркин (В о г k i п, 1972)
удивительные ограничения на кореференцию и «усеченные» именные
группы — ограничения, которые до сих пор не объяснены.
Мне кажется, что и английский, и все остальные языки
мира изобилуют подобными случаями. Можно убедиться
в их теоретической важности, если задаться следующим
вопросом.
Существует ли индивидуальное, хорошо оформленное,
полностью специализированное семантическое
представление (или логическая структура) для предложений типа
приведенных выше?
Думаю, что нет. Семантическая структура подобных
предложений лишь частично выявляется с помощью наших
знаний о языке.
То же явление имеет место в конструкциях
«прилагательное + существительное». Дж. Лич и Ч. Филлмор
рассмотрели следующие примеры:
(5) a) a topless dress 'декольтированное платье'
b) a topless wait- 'декольтированная официантка'
ress
c) a topless dan- 'декольтированная танцовщица'
сег
d) a topless bar 'бар, в котором носят
декольтированные платья'
e) a topless dis- 'район, где ходят в декольти-
trict рованных платьях'
(6) a) retarded child- 'умственно отсталые дети'
геп
b) retarded class- 'классы для умственно отсталых
rooms детей', букв, 'отсталые классы'
353
c) retarded prog- 'программы для умственно от-
rams сталых детей, букв, 'отсталые
программы'
d) retarded curri- 'учебные планы для умственно
cula отсталых детей', букв,
'отсталые учебные планы'.
Словосочетание topless dress понимается как 'платье без
верха'. Однако нельзя сказать, что словосочетания (5Ь)—(5е)
означают 'официантку, танцовщицу, бар или район без
верха'. Для понимания (5Ь)—(5е) надо располагать
определенными знаниями не только об английском языке, но
и о мире. Однажды я был поражен таким объявлением на
баре в Сан-Франциско:
(7) We have topless! 'У нас декольтированные!'
Не возникало вопроса о том, что это означает, хотя, согласно
большинству синтаксических и семантических теорий, эта
фраза содержала синтаксически категориальную ошибку
(прилагательное вместо именной группы), вследствие чего
эта фраза оказалась грамматически и семантически
аномальной, подобно таким фразам, как:
(8) a) *We have tall! 'У нас высокие!'
b) *We have sequined! 'У нас в блестящих!'
c) *We have transparent! 'У нас в прозрачных!'
Нетрудно представить себе мир, где высокие
танцовщицы или танцовщицы в блестящих или прозрачных одеждах
заманивают посетителей в бары, но трудно представить
фразы из (8) в качестве реклам. Какие же свойства слова
topless делают (7) допустимым в рекламе в отличие от фраз
из (8), которые для этой цели неприемлемы? Почему можно
естественно расширить смысл слова «topless» так, чтобы
словосочетание topless legislation означало 'закон о
контроле над деятельностью баров, в которых носят
«декольтированные платья»', но нельзя использовать словосочетание
topless legislators для обозначения избирателей,
голосующих за этот закон (кроме, быть может, тех случаев, когда
этому словосочетанию придается уничижительный
оттенок)? Почему газета, описывающая громкий процесс,
который связан с деятельностью такого бара, могла бы назвать
судью, ведущего это дело, «the topless judge», но не могла
бы назвать помещение, в котором происходит суд, «the
354
topless courtroom»? Здесь выявляются некоторые
ограничения на использование прилагательных-модификаторов в
переносном значении. Чем определяются эти ограничения?
Вернемся к примеру (6).
Преподаватели могут назвать словосочетанием «retarded
classrooms» классы, где занимаются умственно отсталые
дети, а словосочетаниями «retarded programs» и «retarded
curricula» соответственно — программы и учебные планы
для таких детей. Легко представить себе, что если бы этим
детям требовалась специальная диета, то при обсуждении
ее можно было бы услышать словосочетания «retarded
diets», «retarded menus», а, быть может, даже и «retarded
dieticians» 'диетологи для умственно отсталых детей'. Но и
здесь, как кажется, существуют пределы. Вряд ли можно
найти специальные, удобные в употреблении карандаши
для умственно отсталых детей, хотя их и можно было бы
назвать «retarded pencils». Но автобус, отвозящий этих
детей в школу, вполне может быть назван «retarded bus».
Снова встает вопрос о том, как появляются такие
ограничения и как их можно исследовать.
Начало одному из возможных подходов к такому
исследованию положено Языком Представления Знаний KRL
(Knowledge Representation Language) Д. Боброва и Т.
Винограда. В их системе знания хранятся не в виде
изолированных фактов, но скорее в связи с некоторыми другими
знаниями (об определенных личностях, классах, событиях,
фактах, свойствах и т. п.). Так, классу умственно отсталых
детей будут сопоставлены сведения о таких детях.
Например, узел УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЕ ДЕТИ в KRL может
быть связан с фактами о том, что для таких детей
выделяются специальные учителя, программы и учебные планы.
По-видимому, только наличие соответствующей связи в
структуре представления знаний и позволит должным
образом понять словосочетание «retarded curricula». Простейшая
гипотеза состоит в том, что словосочетания типа
«прилагательное — существительное» в тех случаях, когда
прилагательное не является простым модификатором, понимается
с помощью обращения к любому фрагменту структуры
представления знаний, в котором имеются соответствующие
прилагательное и существительное. Очевидно, что подобная
гипотеза носит чрезмерно общий характер, поскольку не
учитывает ограничений понимания таких словосочетаний.
Другой гипотезой может быть такая, при которой учиты-
12*
355
вается степень «близости» связи между узлами в структуре
представления знаний. Однако, как мне кажется, оба эти
подхода слишком прямолинейны, чтобы их можно было
непосредственно использовать. Я думаю, что подобные
структуры представления знаний имеют свою собственную
внутреннюю структуру ( о действительной природе которой
нам ничего неизвестно), и именно эта последняя и задает
смысл рассматриваемым словосочетаниям. Я полагаю, что
понимание сущности ограничений на сочетаемость
прилагательных и существительных в конструкциях типа
«retarded curricula» в конечном счете прольет свет на принцип
организации человеческого мышления.
Приведу еще один пример, сообщенный мне Дж. Нанбер-
гом. Это случай, когда кажущаяся ошибка в употреблении
категорий перестает восприниматься как таковая при учете
общеизвестной ситуации «смотреть телепередачу».
Имеется в виду предложение (9):
(9) This is now. 'Это сейчас'
Оно часто произносилось в телепередаче, которую смотрела
добрая сотня миллионов носителей английского языка, и
его не только прекрасно понимали, но даже и не замечали.
Это было во время Олимпиады 1976 г., когда
транслировались попеременно видеозаписи и прямые репортажи. При
переключении с видеозаписи на прямой репортаж диктор
сообщал об этом предложением (9).
Если вы не лингвист, не логик и не специалист по
философии языка, то сообщение о том, что смысл предложения
может зависеть от зрительного опыта или других видов
человеческого опыта и что смысл целого может быть больше
смысла частей, вас ничуть не удивит,
8.
Недавняя революция в когнитивной психологии
частично связана с изменением взгляда на понятие категории.
Это понятие используют и все направления лингвистики..
Однако в лингвистических моделях и современной
когнитивной психологии это понятие означает далеко не одно и
то же. Люди классифицируют вещи совсем не так, как это
делается в лингвистических моделях. Как показала
Элеонора Рош, двумя центральными понятиями при категори-
356
зации являются прототип и объект базисного уровня.
Согласно Рош, категории определяются свойствами прото-
типических объектов этих категорий. Например, степень
соответствия некоторого существа категории «птица-» —
это функция от тех свойств, которые это существо
разделяет с такими прототипическими птицами, как воробей,
малиновка и т. п. (Под свойством я понимаю «свойство,
релевантное с точки зрения человека», то есть перцептуаль-
ные свойства, функциональные свойства, моторно-програм-
мные свойства, целевые свойства и т. п.) Категории, которые
не являются фундаментальными с теоретической точки
зрения, являются, как показали многочисленные
эксперименты, психологически «базисными».
(10) ВЫСШИЙ МЛЕКОПИТАЮ- МЕБЕЛЬ
УРОВЕНЬ ЩЕЕ
БАЗИСНЫЙ СОБАКА " СТУЛ
УРОВЕНЬ
ПОДЧИНЕННЫЙ ИЩЕЙКА КРЕСЛО-
УРОВЕНЬ КАЧАЛКА
Как видно из (10), СОБАКА и СТУЛ относятся к
базисному уровню, МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ и МЕБЕЛЬ —
к высшему, а ИЩЕЙКА и КРЕСЛО-КАЧАЛКА — к
подчиненному. Хотя СОБАКА и СТУЛ с теоретической точки
зрения занимают промежуточное положение и не являются
фундаментальными, психологически они относятся к
базисному уровню, то есть в них максимально
сконцентрированы релевантные для человека свойства. Так, СОБАКА
и СТУЛ имеют зрительные прототипы, тогда как
МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ и МЕБЕЛЬ их не имеют.
Зададимся следующим вопросом: существуют ли прото-
типические «агенсно-пациенсные» предложения (то есть
предложения с агенсом и пациенсом)? Если да, то каким
набором свойств они определяются? Прототипические
агенсно-пациенсные предложения, как кажется, часто приводятся
в лингвистических работах, ср.: Brutus killed Caesar. 'Брут
убил Цезаря.', John hit the ball. 'Джон ударил по мячу.',
Max broke the glass. 'Макс разбил стакан.' В прототипиче-
ском использовании эти предложения разделяют следующий
набор свойств:
(11) 1. Существует агенс, который делает нечто.
2. Существует пациенс, который претерпевает
переход к новому состоянию.
357
3. Изменение пациенса является результатом
действия агенса.
4. Действие агенса является намеренным.
5. Агенс управляет своими действиями.
6. Агенс несет основную ответственность за то, что
происхбдит (свое действие и результирующее
изменение).
7. Агенс является «источником энергии» действия,
пациенс — объектом (целью) этих
«энергетических затрат» (то есть агенс направляет свою
энергию на пациенса).
8. Это единое событие (существует
пространственное и временное пересечение между действием
агенса и изменением пациенса).
9. Существует один определенный агенс.
10. Существует один определенный пациенс.
11. Агенс использует свою руку, свое тело или
какой-то инструмент.
12. Изменение пациенса наблюдаемо.
13. Агенс наблюдает это изменение.
14. Агенс смотрит на пациенса.
Я не утверждаю, что прототипические агенсно-пациенс-
ные предложения всегда имеют все эти свойства. Я
утверждаю только то, что если не сделано специальных оговорок,
если из контекста не выявляются иные предпосылки, то
предполагаются свойства (11). Существуют агенсно-паци-
енсные предложения, которые не располагают многими из
этих свойств. Я считаю, что такие предложения дальше
отстоят от прототипа.
Анализ прототипических агенсно-пациенсных
предложений^ предложенном ракурсе проливает свет на соотношение
типа kill — cause-to-die 'убить' — 'каузировать умереть'.
Лексические единицы, декодирующие каузативы, ближе
к прототипу агенсно-пациенсных предложений, чем
перифрастические конструкции. Использование выражения cause-
to-die сигнализирует об отдалении от прототипа: возможно
либо отсутствие пространственного и временного
пересечения (каузация на расстоянии), либо ненамеренность
действия, либо ненаблюдаемость результатов, либо некоторая
совокупность подобных фактов. Поэтому'в тех случаях,
когда все эти факты (временное пересечение, прямое наме-
358
рение, единство причины и т. д.) соблюдены, наиболее
естественным будет использование kill, поскольку
соответствующее предложение ближе к прототипу.,,
5.
, , . Основное, что я хотел бы показать (или увидеть,
как это покажут другие), состоит в следующем: мысли,
восприятия, эмоции, процессы познания, моторная
деятельность и язык организованы с помощью одних и тех же
структур, которые я называю гешталыпами. Я понимаю под этим
термином следующее.
1. Гештальты являются одновременно целостными и
анализируемыми. Они состоят из частей, но не сводимы
к совокупности этих частей. Гештальты в целом обладают
определенными дополнительными свойствами, и их части
также могут располагать дополнительными свойствами, если
рассматривать их в рамках гештальта в целом.
2. Гештальты разложимы более чем одним способом,
в зависимости от принятой точки зрения. Это означает, что
возможен единственный способ разложения гештальта на
части, но при другой точке зрения допустимы и другие
способы «правильного» разложения гештальтов.
3. Части гештальта связаны внутренними отношениями,
которые подразделяются на ряд типов. Способ соотношения
частей в рамках гештальта входит в содержание самого
гештальта. Эти отношения в принципе принадлежат к
разным типам, и при описании гештальта типы отношений
должны быть указаны. Свойства гештальта и типы
отношений между его частями могут быть различными в
зависимости от того, какая точка зрения принята.
4. Гештальт может быть связан внешними отношениями
с другими гештальтами. Он может составлять часть другого
гештальта или проецироваться на другой иным способом.
При проецировании части одного гештальта отображаются
на части другого гештальта. Результатом проецирования
будет «наследование» частями второго гештальта свойств и
отношений первого. Существуют различные типы
проецирования, например умозаключения (они транзитивны) или
проецирование, отражающее произвольные, символические
или культурные ассоциации (они обычно нетранзитивны).
5. Внешние соотношения гештальта с другими гешталь-
359
тами являются свойством гештальта в целом. Эти внешние
отношения также могут быть различными в зависимости
от принятой точки зрения.
6. Проецирование гештальта на другой гештальт может
быть частичным. Гештальты могут также иметь частичное
сходство друг с другом, степень сходства зависит от степени
близости связи между ними.
7. Гештальт, включенный в качестве части в другой
гештальт, может приобрести новые свойства.
8. Одним из свойств гештальта может быть то, что он
находится в отношении оппозиции к другому гештальту.
9. Некоторые свойства гештальта могут выделяться как
базисные свойства. Гештальты, находящиеся в отношении
оппозиции, обычно имеют одинаковые базисные свойства.
10. Гештальты — это структуры, используемые в
процессах — языковых, мыслительных, перцептуальных,
моторных или других.
11. Процессы сами по себе можно рассматривать как
гештальты.
12. При анализе гештальтов не выдвигается требования
необходимости подразделения анализируемой сущности на
элементарные части. Анализ, осуществляемый человеком,
ограничен возможностями, намерениями и точкой зрения
человека. При разных возможностях, намерениях и точках
зрения результаты анализа будут различаться не только
степенью детализированности, но и самими выделенными
частями. Так, например, в семантике нет необходимости
доводить анализ до элементарных, атомарных предикатов.
13. Гештальты могут пересекаться.
14. В гештальтах должны быть разграничены прототи-
пические и непрототипические свойства.
15. Гештальты часто относятся к смешанному типу. Это
означает, что свойства гештальтов неоднородны. Так,
сенсорно-моторные гештальты включают как перцептуальные,
так и моторные свойства. Лингвистические гештальты будут
включать несколько типов свойств — грамматические,
семантические, фонологические, функциональные.
Совершенно ясно, что сказанное выше не является
определением гештальта, а лишь дает представление о том, что
я имею в виду. Я оставляю за собой право на изменения
или поправки, если это по каким-либо соображениям
потребуется.
Здесь уместно сделать несколько оговорок, Во-первых,
360
термин «гештальт», как он используется мною, несколько
напоминает понятие с тем же названием, использовавшееся
несколько десятилетий назад в гештальтпсихологии, однако
очевидным образом во многих отношениях отличается от
последнего. Во-вторых, понятие гештальта, предлагаемое
мною, весьма неопределенно, и эта неопределенность
отвечает моим намерениям. Моя цель состоит в построении
теории гештальтов на основе лишь эмпирических данных.
Пока у меня нет четко сформулированной теории, хотя
ниже я и попытаюсь наметить возможный способ
формализации, пригодный для такой теории. В-третьих, как
лингвист я рассматриваю почти исключительно явления языка.
Рассуждения же о том, что ограничения на язык,
предлагаемые теорией гештальтов, легко могут быть перенесены
в другие, внеязыковые, сферы, не более чем моя рабочая
гипотеза.
А сейчас вернемся к лингвистике.
6.
Как было сказано выше, адекватная теория гештальтов
должна содержать понятие частичного сходства или, если
угодно, частичного соответствия свойств модели. Ниже
будут рассмотрены некоторые языковые явления, для анализа
которых, как представляется, необходимо это понятие.
Я хочу не только показать, что такой взгляд на языковой
материал может оказаться полезным, но и дать
представление о том, с каких сфер языка удобно начинать
выявление эмпирических ограничений на понятие частичного
сходства гештальтов. Прежде всего, рассмотрим пример,
который обсуждался на моих семинарах (подробное
рассмотрение этого примера см. в V а п О s t e п, 1977).
Меня давно озадачивали предложения типа (12).
(12) This car drives easily. 'Этой машиной легко
управлять.', букв. 'Эта машина управляет легко.'
Почему пациенс, который является обычно объектом при
переходном глаголе drive 'управлять', занимает место
подлежащего, когда глагол выступает в активной, а не в
пассивной форме? Почему некоторые глаголы допускают па-
циенса в роли подлежащего, а другие — нет?
361
(13) a) Bean curd digests easily.
'Бобовое пюре легко переваривается.'
b) *Bean curd eats easily.
'Бобовое пюре легко естся.'
(14) a) Farrah Fawcett posters sell well.
'Плакаты Фарраха Фосетта хорошо продаются.'
b) *Farrah Fawcetts posters buy well.
'Плакаты Фарраха Фосетта хорошо покупаются.'
Объяснение этого явления мы находим в свойствах про-
тотипических агенсно-пациенсных предложений,
рассмотренных выше — см. (9). Среди прототипических свойств
агенса названы НАМЕРЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ и
ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Рассмотрим
наблюдение, в соответствии с которым агенс обычно выражается
подлежащим, то есть грамматическое свойство БЫТЬ
ПОДЛЕЖАЩИМ сочетается с набором названных выше свойств
агенса.
(15) БЫТЬ ПОДЛЕЖАЩИМ (грамматическое свойство)
сочетается со свойствами:
НАМЕРЕННОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ (семантические свойства)
ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Использование же конструкции с пациенсом в роли
подлежащего, как отметила Ван Остен, предполагает, что
ответственность за событие несет скорее не агенс, а пациенс.
Пример (12) содержит утверждение о том, что вождение
автомобиля определяется скорее свойствами автомобиля,
нежели любыми действиями агенса. Если в нормальном
случае ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ является
свойством агенса, то в предложениях с пациенсом в роли
подлежащего она оказывается свойством пациенса. Для таких
предложений выполняется следующее соответствие:
(16) БЫТЬ ПОДЛЕЖАЩИМ (грамматическое свойство)
сочетается со свойством
ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (семантическое
свойство).
(16) выглядит как часть соответствия, заданного в (15). Мне
представляется, что действительно (15) и (16) отражают
одно и то же соответствие. Я считаю ОСНОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ самым важным из семантических свойств.
362
В тех случаях, когда подлежащее не обладает
семантическими свойствами УПРАВЛЕНИЕ, НАМЕРЕННОСТЬ и
т. п., свойство ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у него
все же остается.
Таким образом, если рассматривать (15) как
характеристику лингвистического гештальта (неполную и, без
сомнения, лишь частичную), то (16) можно считать «под-
гештальтом», который близок к (15), поскольку как (15),
так и (16) определяют понятие подлежащего. Согласно Ван
Остен, случаи типа (12) возникают, когда пациенс действует
таким образом, каким обычно действует агенс; это и
позволяет соответствующему существительному занять место
подлежащего в предложении.
Наша задача состоит в попытке объяснения
предложений типа (12). Хотелось бы, чтобы употребление таких
предложений вытекало из последовательности следующих
предпосылок: (а) обычные условия, налагаемые на агенса
в роли подлежащего, которые заданы в (15); (Ь)
семантические свойства, которые должны быть выражены в
предложении (то есть пациенс обладает ОСНОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ); (с) сведения о том, что ОСНОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — это наиболее важное из
семантических свойств, заданных в (15); (d) правило, согласно
которому в случае отсутствия полного совпадения с моделью,
выбирается то частичное совпадение, в котором учитывается
степень важности семантических свойств. Для того чтобы
такое объяснение оказалось удовлетворительным, надо
показать, что ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
действительно является наиболее важным из семантических
свойств, перечисленных в (15). Я думаю, что это можно
подтвердить следующими рассуждениями: свойства
намеренность и контроль в отличие от основной ответственности
не обязательно характеризуют агенса в роли подлежащего.
Примерами этого являются предложения типа John hit
Магу (accidentally).'Джон ударил Мери (случайно).', John
dropped the dish (accidentally). 'Джон уронил тарелку
(случайно).' и т. п. В обоих случаях в действиях Джона нет ни
намеренности, ни контроля, но Джон несет основную
ответственность за происшедшее. Существуют два очевидных
класса противоречащих примеров. Во-первых, пассивные
конструкции (Магу was hit by John. 'Мери была ударена
Джоном.'), в которых понятие подлежащего принято
разбивать на две части — глубинное и циклическое — ив кото-
363
рых свойство ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ отходит
к глубинному подлежащему (кроме некоторых пассивных
конструкций с глаголом get 'получать'). Я думаю, что этот
случай нельзя относить к противоречащим примерам, это
скорее указание на необходимость дальнейшего уточнения
типов (или уровней) подлежащего. Во-вторых, к
противоречащим примерам можно отнести предложения типа The
police arrested John, but John was primarily responsible.
'Полиция арестовала Джона, но основная ответственность
за это лежит на Джоне'. Первая часть предложения
предполагает, что основная ответственность лежит на полиции,
однако союз but 'но' сигнализирует, что это предположение
не оправдывается. Мне представляется, что и этот случай
нельзя считать противоречащим нашей гипотезе..,
9.
<. . .> Возникает естественный вопрос, что общего между
приведенными выше рассуждениями и порождающей
семантикой. Ответ находится в зависимости от точки зрения на
порождающую семантику. Если рассматривать последнюю
как формальную теорию, в основе которой лежат
логические структуры (которые интерпретируются теоретической
моделью), соотносимые с поверхностными структурами, то
порождающая семантика существенно отличается от
теории, контуры которой были намечены выше. Если же,
подобно мне, рассматривать порождающую семантику как
подход к изучению языка, при котором ставится задача
нахождения всех способов связи формы и функций языка,
и в особенности способов отражения формой функции, то
основанная на опыте лингвистика как раз и продолжает
традиции порождающей семантики.
Порождающая семантика возникла как реакция на
трансформационную грамматику и была напр-авлена прежде
всего против идеи о том, что грамматическая структура
существует сама по себе, независимо от чего бы то ни было,
в особенности же от значения. Порождающей семантике
удалось показать, что отрыв грамматики от семантики и
прагматики приводит к выхолащиванию грамматики.
Пытаясь доказать автономность грамматики, Хомский
однажды был вынужден признать, что в английском языке
существует лишь одна трансформация: Move NP\ 'Перенеси
364
именную группу!'. Если же вы располагаете лишь одним
таким правилом, то, обобщив Move и NP, вы получите
правило do something] 'сделай что-нибудь!' — квинтэссенцию
лингвистической бессодержательности!
Порождающая семантика достигла успехов на
неформальном уровне на основе разбора конкретных примеров и
свободных рассуждений. Но на формальном уровне она
потерпела поражение. Здесь были допущены
фундаментальные формальные ошибки. Наиболее очевидной из них было
заимствование из трансформационной грамматики
НС-структур и дериваций. В результате стали возникать бесконечные
«заплаты»: выходные условия, теория исключений,
глобальные правила, междеривационные правила, синтаксические
амальгамы. Отказавшись от НС-структур и дериваций,
теория лингвистических гештальтов стремится положить
конец необходимости привлечения подобных заплат.
Еще более существенной формальной ошибкой,
перешедшей из трансформационной грамматики в
порождающую семантику, было соображение о том, какое место
занимает формализм в лингвистике, или скорее о том, за что
не отвечает лингвистический формализм — имеется в виду
реальный процесс речевой деятельности человека. Как
показали психолингвистические исследования,
трансформации не используются непосредственно в процессе речевой
деятельности. Мне этот факт кажется чрезвычайно важным,
но для трансформационной грамматики он безразличен,
поскольку в ее сферу не входят реальные речевые процессы.
Теория лингвистических гештальтов должна соотноситься
с теорией речевых процессов, чтобы гештальты могли
непосредственно управлять как производством, так и
пониманием речи. В последней фразе может настораживать слово
«управлять»: оно предполагает, что центр тяжести создания
моделей языковой деятельности переносится из сферы
лингвистики в сферу теории познания (cognitive science). Четкое
разделение задач лингвистики и теории познания было бы
весьма желательным, однако я сомневаюсь в возможности
этого. В любом случае я считаю, что формальные аспекты
лингвистических исследований являются частью
построения модели мышления. Формальная часть основанной на
опыте лингвистики отвечает за лингвистический аспект тех
человеческих способностей, которые поддаются
формальному моделированию. Как мне кажется, всегда останется
значительное пересечение между лингвистическими и не-
365
лингвистическими аспектами подобных моделей. В своих
рассуждениях я не исхожу из предпосылки принципиальной
возможности моделирования всех аспектов речевой
деятельности. Мне бы хотелось выявить как те ее аспекты,
которые поддаются моделированию, так и те ее аспекты,
которые не поддаются моделированию, но при этом могут
оказаться весьма интересными. Нахождение последних
возможно лишь при формальном подходе к лингвистическим
исследованиям — до возможных их пределов.
Другой формальной ошибкой порождающей семантики
было использование теоретических интерпретаций
логических структур в модели. Подобные интерпретации внесли
некоторый, но не слишком существенный вклад в
семантику. Сейчас я считаю наиболее плодотворным направлением
исследований в области семантики и прагматики так
называемую рамочную семантику (термин Филлмора), особенно
в том ее варианте, который развит Д. Бобровым и Т. Вино-
ноградом в формальном языке KRL — см. W i n о g г a d,
1976. Для меня достоинство такого подхода состоит в том,
что он позволяет формально объяснить, каким образом
значение целого может быть больше, чем значение
отдельных частей, что достигается с помощью проецирования
одних гештальтов на другие. Другой привлекательной чертой
этой системы является то, что она не ведет к
редукционизму. Для KRL не выдвигается требования однозначного
представления значения с помощью неразложимых
семантических элементов, и благодаря этому допустима
вариативность понимания, зависящая от точки зрения понимающего,
его намерений и умственного напряжения.
10.
Возможен подход, при котором выдвинутые мной
предложения оказываются одной из форм порождающей
лингвистики. Лингвистические гештальты можно рассматривать
как способ соотнесения значений с поверхностными
формами. Это, естественно, не входило в мои намерения. Моя
задача состояла в выдвижении лингвистических принципов
в такой форме, чтобы они не только были пригодны для
лингвистического анализа, но также играли
непосредственную роль в моделях речевой деятельности, а кроме того,
будучи обобщены, служили бы в качестве гештальтов вос-
366
приятия, сенсорно-моторных гештальтов и гештальтов
умозаключений.
Для пояснения сравним предлагаемую мной
основанную на опыте лингвистику с реляционной грамматикой,
которую я в принципе одобряю и из которой многое
почерпнул. Задача реляционной грамматики состоит в
выведении универсальных законов. В основанной на опыте
грамматике сами универсальные законы должны быть там,
где это возможно, объяснены в экстралингвистических
терминах. Вопрос, которым следует задаваться, состоит в
следующем: «Какие свойства человеческой природы привели
к такому закону?» Для основанной на опыте лингвистики
универсальные законы — это проблемы, а не их решения.
На конференции 1977 г. в Пизе специалисты по
реляционной грамматике, к которым я всегда испытываю глубокое
уважение, возражали на мои рассуждения следующим
образом: «Никто, кроме, быть может, Xомского, не верит в
строгое разграничение языковых и внеязыковых способностей
человека. Но на практике лингвисты описывают только
язык. Так почему же вам не сказать, что задача лингвиста
состоит в том, чтобы находить универсальные законы
грамматики, и если кто-то может вывести их не из языка, а из
чего-то другого, то тем лучше. Тогда эти законы будут не
аксиомами, а теоремами. Никто не будет возражать против
этого. Но задача лингвиста ограничивается выведением
законов универсальной грамматики».
Вот что я могу им ответить. Вопрос о том, какие законы
вы выведете, зависит от вашего взгляда на проблему и от
понятийных инструментов, вами используемых. Если вы
используете инструменты, учитывающие восприятие,
социальное взаимодействие, эмоциональную жизнь и т. п., вы,
вероятно, получите совсем не те законы, которые выводимы
с помощью одного только аппарата порождающей
лингвистики. Более того, вопрос именно и упирается в вашу точку
зрения: если вы не сосредоточиваетесь на поисках причин
существования некоторого закона, то вы этих причин и
не найдете. Вместо того чтобы говорить: «Я нашел
результат — закон универсальной грамматики», вам следует
сказать лишь: «Я нашел нечто таинственное — универсальную
истину о языке,— и я не знаю, вытекает ли эта истина из
некоторых явлений, внешних по отношению к языку, и
если да, то из каких? Почему должен существовать такой
закон? Над этим-то и надо задуматься».
867
выло время, когда идеи, касающиеся основанной на
опыте лингвистики, приводили меня в уныние.
Исследование человека в целом — задача бесконечная. Мне казалось,
что лишь подразделение человеческих способностей, каким
бы искусственным оно ни было, может сделать задачу
обозримой. И в то же время я находил автономное выделение
языка неправомерным. Однажды я поделился своими
сомнениями со знакомой, тренером по тау-чи-чуан. Она
ответила: «Но это прекрасно! Если ваша задача бесконечна,
вы не можете потерпеть поражения».
Ч. Филлмор
ДЕЛО О ПАДЕЖЕ'
Для ученого-лингвиста далеко не всегда и не везде
считалось достойным занятием проводить время в
рассуждениях о языковых универсалиях. Пишущему эти строки
вспоминается одна лекция, которая была прочитана в
Летнем лингвистическом институте несколько лет назад;
в ней утверждалось, что единственно действительно
надежное обобщение относительно языка, которое
лингвисты готовы высказать в настоящее время, состоит в
следующем: «...было замечено, что некоторые члены ряда
языковых сообществ общаются между собой посредством
голосовых шумов». Приятно отметить, что времена
изменились, и произошло это отчасти потому, что теперь у нас
есть более ясное представление о предмете лингвистической
теории, а отчасти потому, что некоторые ученые не боятся
выдвигать и защищать идеи, которые могут быть признаны
глубоко ошибочными.
Ученые, прилагавшие усилия к тому, чтобы выявить
синтаксические категории, общие для всех языков мира,
обычно включали в свое рассмотрение следующие три
круга вопросов, тесно связанных между собой, но тем не
менее все же различающихся: (а) Каковы формальные и
субстанциальные универсалии синтаксической
структуры? (б) Существует ли универсальная база *, и если
существует, то каковы ее свойства? (в) Существуют ли
какие-либо универсальные ограничения на то, каким
образом глубинно-синтаксические представления предло-
1 Charles Fillmore, The Case for Case.— In: «Universals in
Linguistic Theory», ed. by E. Bach, R. T. Harms, New York и др., 1968.
* Имеется в виду базовый компонент порождающей грамматики,
отвечающий за порождение глубинных структур.— Прим. перев.
369
жений находят свое выражение в виде поверхностных
структур?
Что касается формальных универсалий, то к ним можно
отнести утверждения Хомского о том, что всякая
грамматика должна иметь базовый компонент, позволяющий
задать глубинную * синтаксическую структуру всех
предложений данного языка (и только их) и содержать еще по
крайней мере набор трансформационных правил, функцией
которых является отображение множества глубинных
структур, порождаемых базовым компонентом, в
множество таких структур, которые уже более непосредственно
сопоставимы с фонетическими описаниями высказываний
в данном языке (Chomsky, 1965, р. 27—30; русск.
перев.: X о м с к и й, 1972, с. 19—20). Представительным
высказыванием на тему о субстанциальных синтаксических
универсалиях служит утверждение Лайонза (Lyons,
1966, р. 211, 223) о том, что во всякой грамматике
должны фигурировать такие категории, как Имя, Предикатор
и Предложение, а прочие грамматические категории и
признаки могут использоваться в разных языках
по-разному. Кроме того, Бах (Bach, 1965) представил аргументы,
дающие основания полагать, что существует универсальный
набор трансформаций, из которого каждый язык черпает
свои трансформации; он показал также, какой вид могут
иметь подобные трансформации, например, при описании
придаточных определительных предложений.
Споры о том, возможна ли универсальная база (в
отличие от попыток установить универсальные ограничения
на форму базового компонента), были связаны главным
образом с вопросом о том, задается или не задается
правилами универсальной базы (если такая существует)
линейный порядок элементов предложения. Распространенное
мнение состоит в том, что универсальными базовыми
правилами задаются лишь нужные синтаксические
отношения, а приписывание линейного порядка составляющим
* Термин «глубинный» в английском языке (где он и возник)
передается либо словом deep и обычно употребляется в сочетании deep
structure 'глубинная структура', представляющим одну из основных
категорий теории порождающих грамматик Н. Хомского, либо словом
underlying (букв, 'лежащий в основе'), которое употребляется более
свободным и неспецифическим образом. Это обстоятельство следует
иметь в виду при чтении статьи Ч. Филлмора, который, впрочем, в
основном следует второму из этих употреблений.— Прим. ред.
370
базовой структуры осуществляется в каждом языке по
своим собственным правилам. В пользу универсальных
глубинных структур без линейного порядка выступали
в своих работах Хэллидей (Н а 1 1 i d а у, 1966), Теньер
(Т е s n i ё г е, 1959) и другие. Лайонз (Lyons, 1966,
р. 227) рекомендует вопрос о соотношении глубинного
представления и линейного порядка оставить для
эмпирического исследования, а Бах (Bach, 1965) высказывает
предположение, что продолжающиеся исследования
синтаксических правил в языках мира, возможно, дадут
основания для постулирования тех или иных конкретных
отношений порядка между элементами в правилах
универсальной базы.
Статистические исследования Гринберга (Green-
berg, 1963), касающиеся моделей последовательностей
элементов предложения в некоторых группах языков, не
пролили свет, как мне кажется, на данную проблему. Их
следует рассматривать скорее лишь как фактический
материал, который в совокупности с достаточным пониманием
природы синтаксических процессов в конкретных языках
сможет в конечном итоге послужить хорошим доводом
в пользу той или иной гипотезы, касающейся либо свойств
линейной упорядоченности элементов в правилах базового
компонента, либо универсальных ограничений,
управляющих на поверхностном уровне линейным
упорядочиванием синтаксически организованных объектов.
Данные, которые могут интерпретироваться как один
из возможных ответов на наш третий вопрос,
обнаруживаются в исследованиях «маркированности» у Гринберга
(Greenberg, 1966) и среди так называемых имплика-
тивных универсалий Якобсона (J a k о b s о п, 1958). Если
эти исследования можно понимать так, что в них
высказываются эмпирические утверждения об отображении
глубинных структур в поверхностные, то можно считать, что
в них содержатся универсальные ограничения следующего
вида: «Грамматический признак «двойственное число»
может использоваться тем или иным образом во всех языках,
однако этот признак эксплицитно выражается некоторой
морфемой только в тех языках, в которых имеется
эксплицитно выраженная морфема, обозначающая множественное
число». Другими словами, теорию импликативных
универсалий не обязательно интерпретировать как набор
утверждений о том, каковы возможные глубинные структуры в ес-
371
тественных языках и как они могут различаться между
собой.
Настоящий очерк задуман как попытка исследования
формальных и субстанциальных универсалий. Вопрос
о линейном порядке оставлен в стороне или, во всяком
случае, не получит здесь никакого решения, а вопросы
маркированности будут рассматриваться исходя из того
предположения, что существуют структуры с такими свойствами,
какие описаны ниже.
В этой статье я выступаю в защиту той точки зрения,
что грамматическое понятие «падежа» должно найти свое
место в базовом компоненте грамматики любого языка.
Прежде исследования понятия «падеж» ограничивались
рассмотрением всевозможных семантических отношений,
которые могут иметь место между именем существительным
и остальной частью предложения; считалось, что описывать
падежи — это то же самое, что изучать семантические
функции именных словоизменительных аффиксов или
отношения формальной зависимости между определенными
именными аффиксами и лексико-грамматическими
свойствами соседних элементов предложения; иногда эта задача
сводилась к установлению морфонематических рефлексов,
лежащих в основе «синтаксических отношений», которые
выбирались независимо от понятия «падежа». Я постараюсь
показать, что во всех подобных исследованиях отсутствует
правильное понимание истинной сути падежных отношений
и что для верного понимания необходима прежде всего
такая концепция базовой структуры, при которой падежные
отношения являются элементарными понятиями теории 8,
а такие понятия, как «подлежащее» и «прямое дополнение»,
отсутствуют. Последние признаются оправданными только
в поверхностных структурах некоторых (но, вероятно,
далеко не всех) языков.
2 Терминологические трудности делают невозможным
использование «падежа» в качестве по-настоящему элементарного понятия,
поскольку форма базовых правил детерминирована моделью
НС-структуры. Поэтому то, что я здесь собираюсь утверждать, сводится к
следующему: во-первых, должен быть предусмотрен набор падежных
значений, пригодный для любого языка со всеми синтаксическими,
лексическими и семантическими последствиями, вытекающими из
приложения его к каждому конкретному языку, а, во-вторых, всякая
попытка ограничить сферу применения понятия «падеж» поверхностной
структурой должна быть признана неправомерной.
372
Для построения доказательства существенно принять
два предположения, которые на самом деле обычной
принимаются как само собой разумеющиеся исследователями,*
придерживающимися правил порождающей грамматики.
Первое из них — это предположение о центральном месте
синтаксиса в грамматике. Было время, когда типичная
грамматика содержала длинный и подробный перечень
морфологических структур различных классов слов, за
которым следовало двух- трехстраничное приложение под
названием «Синтаксис»; в нем предлагался пучок
приблизительных правил о том, как «использовать» слова,
описанные в предыдущих разделах,— как соединять их в
предложения.
В тех грамматиках, где синтаксису отводится
центральное место, формы слов определяются в соответствии с
синтаксическими понятиями, а не каким-либо иным образом.
Иначе говоря, современные грамматисты стараются описать
«сравнительную конструкцию» в данном языке посредством
возможно более общих терминов, а затем дополняют свое
описание указанием на те морфонологические последствия,
которые влечет за собой выбор того или иного конкретного
прилагательного или количественного слова в пределах
такой конструкции. Этот подход в общем, конечно,
отличен от того, при котором сначала описывается морфология
слов типа taller 'выше' и more 'больше, более', а затем
добавляются случайные наблюдения о поведении этих слов
в более сложных конструкциях 3.
3 Джон Р. Росс указал в своем выступлении на настоящем
симпозиуме [Имеется в виду симпозиум «Универсалии в лингвистической
теории», проводившийся в Университете штата Техас в г. Остин 13—
15 апреля 1967 г., на котором была доложена и данная статья Ч. Филл-
мора.— Прим. перев.], что некоторые синтаксические процессы, по-
видимому, все же зависят от конкретных лексических реализаций
таких единиц, как формы сравнительной степени прилагательных (и,
следовательно, выбор этих форм должен «предшествовать» таким
процессам в грамматике), и именно сравнительные степени прилагательного
могут быть повторены в качестве однородных членов лишь в том случае,
если все они получили одинаковую поверхностно-синтаксическую
реализацию. Можно сказать:
i. She became friendlier and friendlier.
'Она становилась все дружелюбнее и дружелюбнее,*
ii. She became more and more friendly.
'Она становилась все более и более дружелюбной.'
но не:
iii. *She became friendlier and more friendly.
'Она становилась все дружелюбнее и более дружелюбной.'.
373
Второе предположение, которое я хотел бы
сформулировать в явном виде,— это важность скрытых категорий.
Многие из недавних и не таких уж недавних работ убедили
нас в том, насколько существенны грамматические
признаки, которые даже при отсутствии очевидных
«морфемных» реализаций, безусловно, существуют в
действительности, проявляясь в сочетаемостных ограничениях и в
трансформационных возможностях лингвистических
единиц. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что грамматические
признаки, обнаруженные в одном языке, выявляются
в той или иной форме также и в других языках, если при
поиске скрытых категорий обеспечена достаточная
тонкость исследований. Между прочим, небезынтересно будет
заметить, что понятие «скрытой категории» — понятие,
которое позволяет полагать, что в конечном итоге все языки
в сущности похожи,— было введено с наибольшей
убедительностью в работах Б. Уорфа, человека, чье имя особенно
непосредственно связывается с учением о том, что глубоко
заложенные структурные различия между языками
определяют принципиально несопоставимые отношения к
действительности у носителей разных языков (см. W h о г f,
1965, р. 69 и ел.).
Примером «скрытого» грамматического различия может
служить различие между категориями, традиционно
именуемыми «affectum» и «effectum», по-немецки — «affizier-
tes Objekt» (объект, подвергаемый воздействию) и «effi-
ziertes Objekt» (создаваемый объект). Это различие,
имеющее по некоторым свидетельствам явное выражение в ряде
языков, может быть продемонстрировано на примере
предложений 1 и 2:
(1) John ruined the table.
'Джон разломал стол.'
(2) John built the table.
'Джон сделал стол.'
Можно заметить, что в одном случае предмет
понимается как существовавший до начала деятельности Джона,
тогда как в другом случае его существование явилось
результатом деятельности Джона.
До тех пор пока мы опираемся только на
«интроспективные данные», мы можем допустить, что это различие сугубо
семантическое, что оно не навязывается нам английской
грамматикой. Наша способность дать разные интерпре-
374
тации отношениям между глаголом и дополнением
в этих двух предложениях не имеет связи, как можно
было бы полагать, с правильным описанием
специфически синтаксических навыков носителя английского
языка.
Тем не менее это различие является также и
синтаксически значимым. В случае создаваемого объекта нельзя
задать вопрос к сказуемому с глаголом do to 'сделать с',
а в случае объекта, подвергаемого воздействию,— можно.
Так, предложение 1 (но не предложение 2) можно считать
ответом на вопрос в предложении 3:
(3) What did John do to the table?
'Что сделал Джон со столом?'
Кроме того, если предложение 1 может иметь в качестве
перифразы предложение 4, то предложение 5 уже не будет
перифразой предложения 2:
(4) What John did to the table was ruin it.
букв. 'Что Джон сделал со столом, так это
разломал его.'
(5) What John did to the table was built it4.
букв. 'Что Джон сделал со столом, так это сделал
его'.
Еще одним примером, где наличествуют оба указанных
отношения, служит предложение 6, причем можно заметить,
что только в одном из двух его смыслов предложение 6
является перифразой предложения 7.
(6) John paints nudes.
'Джон рисует обнаженных натурщиц.'
(7) What John does to nudes is paint them.
'Что Джон делает с обнаженными натурщицами, так
это рисует их.'
Правда, прямое дополнение в предложении 6 и само по
себе неоднозначно *, но различие заключается все же
в том, когда существовали объекты, которые рисовал Джон,
до того или только после того, как он их нарисовал.
4 Этим наблюдением я обязан Полу Посталу.
* Слово nudes по-английски значит: 1) 'обнаженные фигуры';
2) а) 'чулки-паутинка', б) 'чулки телесного цвета'. — Прим. перев.
375
Я собираюсь показать ниже, что есть много
семантически существенных синтаксических отношений между
именами и синтаксическими структурами, в которые входят
эти имена, что эти отношения (аналогично тем, которые
были представлены в примерах 1 и 2) являются по большей
части скрытыми, но тем не менее эмпирически
выявляемыми, что они образуют фиксированный конечный список
и что наблюдения над ними будут, вероятно, обладать
известной типологической ценностью. Для этих отношений
я буду употреблять термин «падежные».
1. ПРЕЖНИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПАДЕЖЕЙ
Редкая книга, предназначенная для студентов в
качестве введения в нашу науку, не предлагает своим читателям
рассказа о том, как не надо пользоваться конкретными
падежными системами в качестве универсальных моделей
языковой структуры. Грамматисты, принимавшие
падежную систему латинского или греческого языка в качестве
основы, пригодной для языкового выражения всякого
человеческого опыта, при попытке изучить и описать
алеутский или тайский язык, скорее всего, должны были бы,
как нам сообщалось, потратить много времени, задавая
информантам совсем не те вопросы, какие нужно. Все мы,
вероятно, с удовольствием глумились вместе с Есперсеном
над его любимым «негодником» Зонненшейном, который,
не зная, что предпочесть — латынь или
древнеанглийский,— допускал возможность описывать английский
глагол teach 'учить' либо как управляющий дативом и
аккузативом, потому что такова была модель управления у
древнеанглийского toecan, либо как управляющий двумя
аккузативами, вроде латинского doceo и немецкого lehren
(J espersen, 1924, с. 175).
Поиски известной по своему языку падежной системы
в чужом языке — это, конечно, не лучший способ
исследовать падежи. Но есть — и притом в нескольких
разновидностях — также и такие подходы к изучению падежа,
к которым действительно можно относиться серьезно.
В большинстве традиционных работ изучались в более или
менее семантических терминах различные употребления
падежей. Более современные исследования содержат
попытки анализа падежных систем конкретных языков со
376
всеми допущениями, предполагаемыми использованием
слова «система». И прежде, и теперь немало работ
посвящается выяснению истории или эволюции падежных
значений или падежных морфем. И наконец, исследователи
в области порождающей грамматики рассматривали
падежные показатели как рефлексы в поверхностной
структуре, вводимые специальными правилами и выражающие
различные виды глубинных и поверхностных
синтаксических отношений.
1.1. Употребления падежей
В стандартных учебниках греческого или латинского
языка большая часть их объема обычно посвящена
классификации и иллюстрации семантически различных
отношений, представляемых конкретными падежными формами.
Подзаголовки такой классификации обычно имеют вид
«X F-a», где X — название конкретного падежа, a Y —
название определенного «употребления» падежа X.
Читатель может припомнить такие термины, как «датив
отделения», «датив обладания» и т. п.?
Не говоря уже о том, что подобные исследования не
исходят из предположения о центральной роли синтаксиса,
в них можно отметить следующие основные недостатки:
а) как правило, номинатив практически игнорировался;
б) критерии классификации, которые следовало бы
проводить отчетливо, часто смешивались.
Пренебрежительное отношение к номинативу в работах
по употреблению падежей имеет, вероятно, несколько
причин; одна из них — этимологическое значение греческого
обозначения падежа: ptosis 'отклонение', дающее повод
для того, чтобы применять этот термин лишь к косвенным
падежам. Однако наиболее важная причина забвения
номинатива в этих исследованиях заключена в кажущейся
ясности понятия «подлежащее предложения». В 1908 г.
Мюллер опубликовал монографию об употреблении
номинатива и аккузатива в латинском языке, и в этой
монографии он посвятил около 170 страниц аккузативу и несколько
меньше одной страницы номинативу, объясняя (М й 1-
5 Примером обширного описания такого типа является книга Бен-
нета (см. Bennett, 1914).
377
1 е г, 1908, S. 1), что «оба прямых падежа — номинатив и
вокатив — не рассматриваются в спорах о теории падежа.
В номинативе стоит подлежащее, о котором нечто
сообщается в предложении».
Для Суита роль подлежащего была настолько ясна, что
он провозгласил номинатив единственным падежом, в
котором может стоять собственно «существительное».
Предложение он рассматривал как некоторую предикацию о
данном существительном, а всякий элемент предложения,
похожий на существительное, но не являющийся
подлежащим,— как своего рода производное наречие, образующее
часть этой предикации в.
При ближайшем рассмотрении, однако, становится
очевидным, что семантические различия в отношениях между
подлежащими и глаголами совершенно того же порядка и
обнаруживают такое же разнообразие, как и в случае всех
остальных падежей. В принципе не видно оснований, по
которым бы в традиционных описаниях употреблений
падежей должны отсутствовать такие разделы, как «номинатив
личного агенса», «номинатив пациенса», «номинатив
бенефицианта» и «номинатив заинтересованного лица» (или,
возможно, «этический номинатив»), для таких предложений,
как 8—12 соответственно:
(8) Не hit the ball.
'Он ударил по мячу.'
(9) Не received a blow.
'Он получил удар.'
(10) Не received a gift.
'Он получил подарок.'
(11) Не loves her.
'Он любит ее.'
(12) Не has black hair.
букв. 'Он имеет черные волосы.'
Смешение критериев при описании употреблений
падежей было отмечено де Гроотом (de G г о о t, 1956) в его
работе о латинском генитиве. Употребление падежей можно
классифицировать на основе синтаксических критериев,
когда, например, различаются генитивы приименные, при-
адъективные и приглагольные; на основе исторических
критериев; таков, например, случай синкретического латин-
Излагается по тексту Есперсена (Jespersen, 1924, р. 107).
378
ского аблатива, употребление которого распадается на три
класса: отделительный, местный и инструментальный; и на
основе семантических критериев, причем в этом случае
сильно путаются те значения, которые можно считать
связанными именно с данными падежными формами
существительных, и значения, зависящие от окружающего контекста.
Критическое рассмотрение де Гроотом традиционной
классификации значений латинского генитива представляет
особый интерес с точки зрения настоящего исследования,
поскольку, пытаясь «упростить» картину, де Гроот
отбрасывает как несущественные целый ряд таких явлений,
которые специалистами по порождающей грамматике наверняка
расценивались бы как синтаксически важные. Например,
он утверждает, что в традиционных описаниях различие
референтов смешивается с различием употреблений
падежей. Так, для де Гроота три смысла, традиционно
выделяемые для словосочетания statua Myronis ('статуя,
принадлежащая Мирону' — посессивный генитив; 'статуя, изваянная
Мироном' — генитив субъекта и 'статуя, изображающая
Мирона' — генитив изображаемого субъекта), равно как и
субъектный и объектный смыслы словосочетания amor pat-
ris (1) 'любовь отца', 2) 'любовь к отцу', отражают различия
в фактах действительности, а не в языковых фактах.
Подобные аргументы позволяют свести двенадцать традиционных
«употреблений» в одно, которому он дает название
«собственно генитив» и про которое утверждается (с. 35), что
«собственно генитив обозначает любое отношение «предмет-
предмет» и, следовательно, может употребляться для
выражения любого такого отношения». В конечном итоге
тридцать традиционных «употреблений генитива» сводятся
к восьми 7, из которых два нельзя не упомянуть из-за их
7- По де Грооту (d e G г о о t, 1956, р. 30):
I. Употребление при существительном:
A. Собственно генитив: eloquentia hominis ('красноречие
человека').
Б. Генитив качества: homo magnae eloquentiae ('человек
большого красноречия').
II. Употребление при заместителе существительного
(местоимении или субстантивированном прилагательном):
B. Генитив совокупности лиц- reliqui peditum ('остальные из
пехотинцев').
III. В соединении со связкой («дополнение связки»):
Г. Генитив типа лица: sapientis est aperte odisse ('[признак]
мудреца — открыто ненавидеть').
IV. Употребление при глаголе:
379
уникальности, а третье — «генитив места» — в
действительности бывает лишь у ограниченного круга особых
географических названий.
Э. Бенвенист (В е n v e n i s t e, 1962) высказался по
поводу анализа де Гроота в одном из выпусков журнала
«Lingua», посвященном этому ученому. Он счел возможным
еще более упростить предложенную классификацию.
Заметив, что «генитив местонахождения», который ввел
в свою классификацию де Гроот, образуется только от
некоторых географических имен собственных, а именно,
от имен с корнями на -о и на -а, и находится в
дополнительном распределении с аблативом, Бенвенист остроумно
предложил отнести это к фактам, касающимся географических
названий, а не употреблений родительного падежа.
Заключения Бенвениста об остальных конструкциях полностью
совпадают с точкой зрения теории порождающих
грамматик. Он считает, что так называемый собственно генитив
в конечном итоге возникает в результате превращения
предложения в именную группу. Различие в значении между
конструкциями с «генитивом субъекта» и с «генитивом
объекта» попросту отражает различие между исходными
ситуациями, в которых существительное, получившее затем
форму генитива, было сначала субъектом или объектом, а
генитив в данном случае представляет своего рода
нейтрализацию глубинного различия между номинативом и
аккузативом 8,
Д. Генитив цели: Aegyptum profiscitur cognoscende antiqul-
tatis ('отправляется в Египет для изучения древностей')
Е. Генитив места: Romae consules creabantur ('в Риме
избирались консулы').
IVa. Употребление при причастии активного залога:
Ж. Генитив с причастием активного залога: laboris fugiens
('уклоняющийся от работы')
V. Генитив восклицания: mercimoni lepidi ('приятный товар').
8 Следует заметить, однако, что у Бенвениста эта интерпретация
генитива через возведение к предложению является скорее
диахронической, чем синхронической, поскольку вслед за этим он объясняет,
что именно по аналогии с такими базовыми глагольными
конструкциями создаются новые типы отношений, выражаемых генитивом. От ludus
pueri 'игра мальчика' и risus pueri 'смех мальчика', где соотношение с
ludit 'играет' и ridet 'смеется' еще достаточно прозрачно, модель была
распространена и на такие сочетания, как somnus pueri 'сон мальчика',
mos pueri 'нрав мальчика' и, наконец, liber pueri 'книга мальчика'.
В теории порождающих грамматик в таком случае следовало бы,
вероятно, искать синхронные связи с глаголами также и для неглаголь-
380
Уже из рассмотрения двух упомянутых работ об
употреблениях латинского генитива становится ясно, что (а)
некоторые употребления падежей сугубо нерегулярны и
для их объяснения требуется установление идиосинкрети-
ческих грамматических свойств конкретных лексических
единиц и (б) некоторые семантические различия
описываются независимо от приписывания значения собственно
падежам — либо за счет признания разных значений у
«управляющих» слов, либо путем возведения к разным
глубинным предложениям, не совпадающим по значению.
Предположение о том, что можно выделить определенные
отчетливые значения, соотносимые с поверхностными
падежами, едва ли получает в этих исследованиях
основательную поддержку.
1.2. Падежные системы
Итак, имеются вполне обоснованные возражения против
описания падежной системы одного языка с точки зрения
поверхностной падежной системы другого языка (например,
классической латыни), при котором для некоторого
падежного отношения в языке, избранном в качестве точки
отсчета, просто ищется соответствующее выражение этого
отношения в исследуемом языке. Одна из приемлемых
альтернатив состоит, по-видимому, в обратном: в новом языке
в рамках системы именного словоизменения выявляются
падежные морфемы, каждая из которых затем соотносится
с традиционными, или «стандартными», понятиями падежей.
Взять хотя бы одно из недавних описаний такого рода —
работу Реддена (Redden, 1966), в которой выявляется
пять падежных показателей языка валапаи * (четыре
суффикса и нуль) и каждый из этих показателей соотносится
с названиями, взятыми из традиционных описаний падежей:
-с — номинатив, -0 — аккузатив, -к — аллатив/адессив,
-1 — иллатив/инессив и -т — аблатив/абессив. В каждом
из соответствующих разделов автор приводит вдобавок
такие сведения об употреблении этих падежных форм, кото-
ных конструкций с генитивами — хотя, быть может, для этого
понадобилось бы постулировать некоторые абстрактные единицы, которые
никогда не реализуются глаголами, (см. Benveniste, 1962, р. 17).
* Валапаи — один из языков североамериканских индейцев. —
Прим. перев.
381
рые не выводимы из самих названий. Например, номинатив
может встречаться в простом предложении только один раз:
в цепочке однородных подлежащих для всех
существительных, кроме первого, требуется суффикс -т; форму
аккузатива иногда имеют такие употребления существительных,
которые в английском никак не были бы сочтены прямыми
дополнениями; аллатив/адессив обладает также и
партитивной функцией, а аблатив/абессив объединяет в себе
функции аблатива, инструменталиса и комитатива.
Поскольку исследование этого типа направлено на
описание поверхностной структуры системы субстантивного
словоизменения в языке валапаи, постольку задачей
описания является идентификация поверхностных падежных
форм, которые отличаются друг от друга в данном языке,
и связывание с каждой из них определенных «падежных
функций». Следует подчеркнуть, что: (а) в подобном
описании нельзя найти непосредственного ответа на вопросы
типа «Как выражается в данном языке косвенное
дополнение?» (в частности, описание не строится по такому плану,
который состоял бы из перечня возможных падежных
значений) и (б) сами значения, или функции, падежей не
принимаются в данном описании за элементарные понятия
(в частности, разные «функции» у «аблатива/абессива» на
-ш не интерпретируются как свидетельство того, что
несколько разных падежей попросту оказались
омофоничными) 8.
Таким образом, один из подходов к изучению падежных
систем состоит в том, чтобы ограничиться
морфологическим описанием существительных, не накладывая никаких
ограничений на то, каким образом для падежных морфем
устанавливаются их значения или функции. Этот подход
отличен от исследований падежных систем, при которых
делались попытки найти единое значение для каждого
падежа. Примером этого последнего подхода может служить
ныне дискредитированный «локалистский» взгляд на
падежи в индоевропейских языках, согласно которому да-
тив является «падежом покоя», аккузатив — «падежом
движения-приближения», а генитив — «падежом движения-
9 Эти замечания не следует воспринимать как критику работы Ред-
дена. В самом деле, при отсутствии универсальной теории падежных
отношений для этого подхода нет и теоретически оправданной
альтернативы.
382
удаления» 10. Однако и более современные попытки уловить
единые всеобъемлющие «значения» падежей страдали той
неопределенностью и нечеткостью, которую естественно
ожидать от всякой попытки дать семантическую
характеристику поверхностно-синтаксическим явлениям ".
Хорошо известные работы Ельмслева (Н j е 1 m s l e v,
1935; 1937) и Якобсона (J a k ob s о п, 1936) представляют
собой попытки не только обнаружить единое значение
каждого из падежей, но и показать, что сами эти значения
образуют логически связную систему, вступая между собой в
отчетливые оппозиции. Допустимая степень неточности
здесь, естественно, увеличивается, поскольку число
оппозиций меньше числа описываемых падежей 12.
Трудности, связанные с поисками единого значения для
каждого из падежей в некоторой падежной системе,
привели к альтернативному взгляду на падежи, согласно
которому всем падежам, кроме одного, приписывается более или
менее конкретное значение, а значение этого остаточного
падежа остается открытым. Этот остаточный падеж может
либо выражать любое отношение, предопределяемое
значениями соседних слов, либо выполнять любую чисто па-
дежеобразную функцию, еще не узурпированную другим
падежом. В работе Беннета нам сообщается, что Гедике
толковал аккузатив как «падеж, используемый в тех
функциях, которые не выполняются никакими другими
падежами». Тот факт, что Беннет вслед за Уитни высмеивает эту
точку зрения на том основании, что так мог бы быть
описан любой падеж, заставляет предположить, что замечание
Гедике, должно быть, было передано не вполне точно 13.
10 Эта интерпретация, вкратце рассматривавшаяся у Есперсена
(Jespersen, 1924, р. 186), восходит, по-видимому, к
византийскому грамматисту Максиму Плануду (Maxime Planude).
" Иллюстрацией к последнему замечанию может служить,
например, заявление Гонды (G о п d а, 1962, р. 147) о том, что ведический
датив требуется во всех тех случаях, когда имя существительное
употреблено для обозначения «видимого объекта». Бессодержательность
этого утверждения видна хотя бы из того, как автор интерпретирует
фразу
vataya kapila vidyut (Patanjali).
'Красноватая молния предвещает ветер.'
— в ней говорится, что 'у молнии, так сказать, ветер на виду.'
12 В этой связи см. краткую критическую заметку Квиперса (К u i-
р е г s, 1962, р. 231).
13 См. Bennett, 1914, р. 195, fn. 1. Ознакомиться
непосредственно с работой Гедике мне до сих пор не удалось.
383
Иной подход принят в работе Дайвера (Diver, 1964),
который приписывает «остаточную функцию» не какому-
либо конкретному падежу как таковому, а всякому падежу
или падежам, которые не обязательны для реализованной
в данном предложении так называемой «агентной системы».
В кратком изложении и без учета особой трактовки
пассивных предложений анализ Дайвера выглядит следующим
образом: у глагола может быть одно, два или три связанных
с ним имени существительных (или именных группы),
соотносимых в общем случае с типами предложения,
содержащими соответственно непереходный глагол, нормальный
переходный глагол или переходный глагол с косвенным
дополнением. В предложении с тремя именами последние стоят
в номинативе, аккузативе и дативе, причем номинатив —
это падеж агенса, а аккузатив — падеж пациенса; датив
же как «остаточный» падеж может выражать любое
значение, совместимое со значением остальной части
предложения. Другими словами, функция датива в предложении с
тремя именами «выводится» из контекста; она не существует
как заранее заданная среди множества возможных
«значений» датива и. В предложении с двумя именами одно из
них стоит в номинативе, а другое — в дативе или в
аккузативе, причем чаще употребляется аккузатив. Номинатив
здесь — падеж агенса, но на этот раз уже аккузатив (или
датив соответственно) является остаточным падежом.
Другими словами, в предложении с двумя именами аккузатив
не ограничен в своем значении функцией пациенса; он
может выражать также и любое количество других значений.
А поскольку он здесь уже не противостоит дативу,
постольку он может и заменяться на датив. Выбор между дативом
и аккузативом в предложении с двумя именами, не являясь
семантически релевантным, подчиняется случайным
правилам, иногда допускающим свободу выбора, а иногда
накладывающим те или иные условия.
14 Ниже я цитирую Дайвера (Diver, 1965, р. 181).
«В предложении Senatus imperium mihi dedit. 'Сенат дал мне
верховную власть.' номинатив с синтаксическим значением агенса
обозначает дающего, аккузатив с синтаксическим значением пациенса
обозначает даваемое. Возникает вопрос: указывает ли датив сам по себе
на получателя или же просто на то, что соответствующее слово не
является ни даваемым, ии дающим?»
Дайвер выбирает вторую возможность. А именно, он утверждает,
что, «зная, что mihi в дативе не может быть ии Агенсом (дающим), ни
Пациенсом (даваемым), мы выводим, что это получатель».
384
Продолжай это рассуждение, можно сказать, что имя
в предложении с одним именем может выражать любое
семантическое отношение с глаголом. Такое имя, чаще всего
употребляемое в номинативе, может стоять также и в
аккузативе или в дативе, однако выбор одного из этих падежей
не определяется обычно приписываемыми им значениями.
Если имя стоит в номинативе, оно может иметь
«синтаксическое значение» или агенса, или пациенса, или
чего-нибудь еще.
Неадекватность описания Дайвера очевидна. Прежде
всего, представляется невероятным, чтобы понятия
агенса и пациенса, употребляемые так, как они употребляются
в его статье, хоть в каком-нибудь смысле удовлетворяли
элементарным семантическим понятиям. Принять, что в
предложении Senatus imperium mihi dedit слово imperium
является пациенсом — это все равно что согласиться
употреблять слово 'пациенс' всякий раз, когда форма аккузатива
встречается в предложении с тремя именами. Во многих
примерах Дайвера вся его аргументация стала бы
несколько более убедительной, если бы он утверждал, что
неизменная семантическая функция выполняется дативом, а от
таких явлений, как лексическое значение глагола, зависит
роль аккузатива. Кроме того, не следовало бы
отмахиваться как от несущественных исключений от «пары дюжин
глаголов», которые выступают в предложениях с двумя
именами и обнаруживают при этом некую семантическую
корреляцию, характеризующуюся, в частности, видимо, ничем не
обусловленным выбором между дативом и аккузативом.
То, что предлагает Дайвер, можно осмыслить как
попытку определить, какой элемент значения добавляют
падежи, рассматриваемые как синтагматически обусловленные
сущности, в то время как постулирование
дифференциальных оппозиций.вроде тех, которые предлагались Ельмсле-
вом и Якобсоном,— это попытка взглянуть на
функционирование падежей с точки зрения понятия
парадигматического контраста. Эта последняя точка зрения в свое время
стала объектом критики Куриловича (К и г уI о w i с z,
1960, p. 134, 141). Наблюдаемое в польском и в русском
языках смысловое противопоставление между аккузатив-
ным и генитивным (партитивным) прямым дополнением,
как, например, в предложениях 13 и 14:
(13) Дай нам хлеб.
(14) Дай нам хлеба,
13 № 1234
385
не является различием в синтаксической функции именного
дополнения по отношению к глаголу, а скорее является
различием, попадающим в ту сферу синтаксиса, которая
в языках с артиклем имеет дело с влиянием выбора артикля
на семантическое содержание существительного, к
которому этот артикль относится. Тот факт, что в русском языке
это различие отражается как различие в
словоизменении существительного, сам по себе еще никоим образом
не определяет его места в собственно падежной системе
этого языка.
Вертикальный контраст между существительными в
предложном и в винительном падеже после локативных/
направительных предлогов, как в примерах 15 и 16:
(15) Он прыгает на столе.
(16) Он прыгает на стол,
— это различие, которое в терминах трансформационной
грамматики было бы описано как противопоставление
между теми предложными группами, которые включены, и
теми, которые не включены в состав группы сказуемого. Так,
предложная группа, не входящая в составляющую VP,
указывает место, где происходит действие, описываемое
посредством VP. Локативная предложная группа, входящая
в составляющую VP, является дополнением к глаголу.
Внутри VP различие между локативным и
направительным значениями целиком обусловлено глаголом; за
пределами VP всегда имеет место только локативное
значение.
По сути дела, Курилович описывает предложения 15 и
16 в тех же самых терминах. Направительное
словосочетание на стол представляется ему «более центральным»- по
отношению к глаголу, чем локативное словосочетание на
столе. Противопоставление возникает, по-видимому,
только в том случае, если один и тот же глагол может выступать
иногда с локативным (или направительным) дополнением,
а иногда без него. Таким образом, в парах типа 13—14 или
15—16 настоящего парадигматического контраста на самом
деле нет.
Собственный подход Куриловича к исследованию
падежных систем вводит в рассмотрение грамматический факт
другого порядка: соотносимость предложений между собой.
С точки зрения Куриловича, падежи образуют сеть
отношений, опосредствованным выражением которой оказы-
386
ваются такие грамматические явления, как пассивная
трансформация. В частности, противопоставление между
номинативом и аккузативом является отражением в падежной
системе более глубинного противопоставления между
активными и пассивными предложениями. В терминах Курило-
вича, hostis occiditur 'враг убивается' превращается в
предикат hostem occidit 'убивает врага', и при этом первичная
замена пассива occiditur 'убивается' на актив occidit
'убивает' обусловливает сопутствующую замену номинатива
hostis на аккузатив hostem.
Номинализации предложений имеют своим следствием
то, что и аккузатив и номинатив оба оказываются
соотнесенными с генитивом, потому что при переводе в генитив эти
два падежа нейтрализуются, как показывает замена plebs
secedit 'народ откалывается' на secessio plebis 'откол
народа' (genitivus subjectivus), в отличие от замены hostem
occidere 'убивать врага' на occisio hostis 'убийство врага'
(genitivus objectivus).
Таким образом, отношение между номинативом и
аккузативом оказывается рефлексом диатезы; а отношение этих
двух падежей к генитиву опосредуется в процессе
построения отглагольных существительных. Остальные падежи —
датив, аблатив, инструменталис и локатив — включаются
в общую сеть отношений на основании того, что наряду с
их вторичной функцией в виде разного рода обстоятельств
они могут выступать каждый в качестве варианта
аккузатива при определенных глаголах. Здесь имеется в виду, что
существуют глаголы (например, utor 'пользоваться'),
которые для выражения своего «прямого дополнения» могут
«управлять» аблативом вместо аккузатива 1-.
1.3. История падежей
Помимо исследований разных падежных употреблений
и интерпретаций падежей того или иного языка в качестве
элементов единой системы, в литературе встречается
немало исторических исследований падежей, содержащих раз-
Ч К и г у i о w i с z, 1960, р. 138—139, 144—147, 150. См. также
Kuryiowicz, 19C4, р. 179—181. Отчасти похожие интерпретации
связей между падежами и диатезами можно иайти в Н е g e г, 1966.
13*
387
личные их истолкования. Если одни исследователи
пытались открыть первоначальные значения падежей
некоторого отдельного языка или целой языковой семьи, то
других занимала история развития падежных морфем из
морфем других типов — либо синтаксических служебных слов,
либо тех или иных словообразовательных морфем. Есть еще
и третий тип исследователей, которые видели в истории
некоторой падежной системы падежную систему иного типа,
выдвигая или не выдвигая при этом предположения о том,
что более ранний тип «по своей сути» является и «более
примитивным».
Довольно распространенной гипотезой среди
лингвистов, занимающихся историей языка, было возведение
падежных аффиксов к непадежным единицам. Форма,
которая в конечном счете стала индоевропейским падежным
окончанием номинатива единственного числа мужского рода, а
именно *-s, интерпретировалась как указательное
местоимение *so, которое превратилось в суффикс, обозначающий
подлежащее со значением определенности; а это *so в свою
очередь происходит, как полагали некоторые ученые, из
прото-индо-хеттского элемента, связующего предложения
(Lane, 1951). Та же самая форма интерпретировалась и
иначе — как словообразовательная морфема,
обозначающая конкретного индивидуума, непосредственно
вовлеченного в некоторую деятельность,— в противоположность
другому словообразовательному аффиксу *-т,
обозначающему неактивный предмет или продукт некоторого
действия 1в. Эта последняя точка зрения может казаться более
состоятельной тем ученым, которые не считают для себя
необходимым придерживаться того взгляда, что
«синтетические» языки в прошлом наверняка прошли через
«аналитические» стадии Х7.
16 См. например, соответствующее утверждение в Lehman п,
1958, р. 190.
17 Иногда автор создает впечатление, что установление
этимологического источника некоторого падежного аффикса дает нам
одновременно и характеристику той интеллектуальной эволюции, которая
имела место у носителей данного конкретного языка. Если указанная
выше интерпретация аффиксов *-т и *-s как словообразовательных
морфем верна, то из этого еще не следует, что тем самым открыт какой
бы то ни было процесс «абстрагирования» или тенденция перехода от
более «конкретного» к более «относительному» образу мышления,
символизируемая переходом от первоначальных функций этих элементов
к позднейшему использованию их в качестве показателей падежей.
388
Второй тип рассуждений на тему об исторических
изменениях внутри падежных систем исторически возводит
падежную систему одного типа к падежной системе другого
типа. Особый интерес представляет здесь предположение
о том, что падежные системы индоевропейских языков
восходят к исходной «эргативной» системе. Типология
падежей будет обсуждаться немного подробнее ниже, но,
коротко характеризуя здесь «эргативную» систему, мы можем
сказать, что в этой системе один падеж (эргатив)
приписывается подлежащему переходного глагола, а другой — и
подлежащему непереходного глагола, и дополнению
переходного глагола. С другой стороны, «аккузативная»
система — это такая система, в которой один падеж
приписывается подлежащему или переходного или
непереходного глагола, а другой падеж (аккузатив)
приписывается дополнению переходного глагола. Типичным
свойством эргативных систем является то, что форма
«генитива» совпадает с формой эргатива (или, иначе
говоря, что эргативный падеж может иметь «генитивную»
функцию).
Связь индоевропейского *-s с одушевленностью
(подлежащее у переходного глагола обычно бывает
одушевленным), первоначальное тождество окончания номинатива
единственного числа*^ с окончанием генитива, а также
тождество окончания среднего рода *-т с формой аккузатива
Конечно, наши методы реконструкции должны бы давать возможность
обнаруживать базовую (то есть глубинно-структурную) эволюцию
языка, если таковую вообще можно обнаружить, однако ие стоит делать
предположений относительно глубинных типологических различий,
исходя при этом из этимологии поверхностно-структурных морфем.
Говоря это, я имею в виду прежде всего то, что у глубинной падежной
структуры в праиндоевропейском языке была, вероятно, не менее
строгая и целесообразная организация, чем у падежных структур в любом
из яэйков-потомков, и что те изменения, которые в ней произошли,
могли целиком и полностью относиться лишь к более частным сторонам
морфонологии. Предпочтительность употребления в позиции подле-
■жащего (производных) имей со значением активного деятеля могла
привести к тому, что одно поколение носителей языка
«переинтерпретировало» соответствующий суффикс как показатель имен со значением
лица в роли подлежащего, а последующее поколение «переиитерпрёти-
ровало» его уже просто как показатель подлежащного употребления
определенного множества слов. Такова в самом наивном изложении
одна из возможных линий развития. Короче говоря, изменения вполне
могли затронуть только систему поверхностного выражения глубинных
структурных признаков, которые сами по себе ие подверглись вообще
никаким изменениям.
389
мужского рода привели многих исследователей к
заключению, что наши предки были носителями языка «эргативно-
го» строя 18. Ниже я попытаюсь обосновать предположение
о том, что, если соответствующее изменение действительно
имело место, оно было таким изменением, в котором
существенную роль играет понятие «подлежащего».
1.4. Падеж в современных исследованиях по порождающим
грамматикам
Не подвергавшееся доныне никакому сомнению
допущение относительно падежей, принятое в порождающей
грамматике, было явным образом сформулировано Лайон-
зом (Lyons, 1966, р. 218): „«падеж» (в тех языках, в
которых эта категория существует) в глубинной структуре
вообще отсутствует и при этом является не чем иным, как
просто словоизменительной «реализацией» определенных
синтаксических отношений". Эти синтаксические отношения
могут быть на самом деле такими отношениями, которые
определены только в поверхностной структуре, как,
например, в тех случаях, когда поверхностное подлежащее
предложения (которому предстоит получить, скажем, форму
«номинатива») появилось в результате применения
пассивной трансформации или когда показатель «генитива»
вводится в предложение при трансформации номинализации.
Одно из своих немногочисленных замечаний по поводу
падежей Хомский высказывает в связи с обсуждением
периферийной природы стилистических инверсий; хотя
приписывание падежей английским местоимениям, в значительной
степени обусловленное их позицией в поверхностной
структуре, представляет собой одну из довольно поздних
трансформаций, правила стилистической инверсии должны,
действовать еще позже. Тем самым оказывается возможным
объяснить предложения такой формы, как him I like 'его
18 См., в частности, работу Уленбека (U h 1 е n b с с к, 1901),
где окончание *-гп трактуется как показатель подлежащего, a *-s —
как показатель агенса в пассивных предложениях (интерпретация,
типичная для «эргативных» систем), а также статью Вайана (V a i 1-
1 а гг t, 1936). Леманн (L e h m а п п, 1958, р. 190) находит эти
аргументы неубедительными, отмечая, в частности, что такое «эргативное»
окончание не может быть засвидетельствовано во множественном числе
или у существительных женского рода на -5.
390
я люблю'; сдвиг словоформ him в начало предложения
должен следовать за приписыванием падежных форм
местоимениям (см. Chomsky, 1965, р. 221 и ел.).
Мне кажется, что обсуждение проблемы падежей могло
бы предстать в несколько лучшем свете, если бы на
приписывание падежей смотрели бы как на процесс, в точности
аналогичный правилам приписывания предлогов в
английском языке или послелогов в японском языке19. Существуют
языки, в которых разные падежные формы используются
довольно широко, и предположение о том, что падежные
формы могут прямо приписываться существительным на
основе достаточно просто определяемых синтаксических
отношений, представляется основанным в значительной
степени на ситуации с английскими местоимениями.
Предлоги в английском языке — или отсутствие
предлога перед именной группой, которое можно трактовать как
соответствующее нулевому или немаркированному
падежному аффиксу,— выбираются на основе целого ряда
структурных признаков, и притом таким образом, что
наблюдается прямая аналогия с выбором определенных
падежных форм в языках типа латыни: здесь учитывается и то,
что данное существительное выступает в роли
(поверхностного) подлежащего или прямого дополнения, его
способность употребляться после определенных глаголов,
способность употребляться с определенными существительными,
в определенных конструкциях и т. д. Если почему-либо и
затруднительно считать эти два процесса аналогичными,
так это только потому, что даже в языках с наиболее
замысловатой падежной системой может встречаться
одновременно употребление падежной формы и предлога, а также
потому, что у некоторых предлогов есть независимое
семантическое содержание. Первая из этих трудностей устраняется,
если, приняв как данное то, что условия выбора предлогов
и условия выбора падежных форм в основном однотипны,
мы попросту согласимся считать, что эти определяющие
условия могут определять одновременно и предлог, и
падежную форму. Вторая трудность означает просто то,
что адекватное описание должно допускать несколько
вариантов выбора предлогов в некоторых контекстах, и выбор
19 Это предположение, конечно же, не ново. Если верить Ельмслеву,
первым ученым, показавшим связь между предлогами и падежами,
был А.-Ф. Бернарди (в работе: A.-F. Bernhardi. Anfangsgrunde
der Sprachwissenschaft. Berlin, 1805); см. Н ] e 1 m s 1 e v, 1935, p. 24.
391
того или иного предлога имеет семантические следствия*.
Аналогичные механизмы обнаруживаются и в «истинно»
падежных языках — например, при наличии в них
альтернативного выбора падежей в одной и той же конструкции
или же при наличии предлогов или послелогов с
семантическими функциями.
Синтаксические отношения, играющие роль в выборе
падежных форм (предлогов, аффиксов и т. п.), бывают, в
сущности, двух типов: это, как мы можем их назвать,
«чистые», или «конфигурационные», отношения, с одной
стороны, и «помеченные», или «опосредствованные», отношения —
с другой 20. «Чистые» отношения — это отношения между
грамматическими составляющими^ которые выражаются в
терминах (непосредственной) доминации узлов
НС-структуры. Так, понятие «подлежащее» может быть
отождествлено с отношением между некоторой NP и непосредственно
* Здесь имеется в виду, что выбор предлога влияет на
семантическую интерпретацию предложения, которая осуществляется
семантическим компонентом после порождения предложения.— Прим. перев.
20 Более точно это различие можно было бы представить при
помощи противопоставления «отношений» vs. «категорий». Ведь когда
НС-правилами вводятся такие символы, как «Образ действия» (Manner)
или «Степень» (Extent) (это символы, которые в НС-структуре
доминируют над обстоятельствами образа действия и над словосочетаниями со
значением степени признака или качества), то тогда эти символы с точки
зрения остальной части грамматики функционируют точно так же,
как и «целесообразные» категориальные символы типа S и NP. Этот
факт обусловлен не столько «категориальным» характером
соответствующих грамматических понятий, сколько общими требованиями
модели, предъявляемыми к устройству НС-структуры. В одной из
своих предыдущих работ я уже обсуждал невозможность охватить в
базовом компоненте грамматики такого типа, какой предложен Хом-
ским eChomsky, 1965, одновременно и ту информацию, что
словосочетание in a clumsy way 'неуклюже' является обстоятельством образа
действия (и как таковое имеет крайне жесткие ограничения на
лексическую сочетаемость и весьма специфические свойства в отношении
допускаемого порядка слов и вообще окружающего контекста, которые
оно разделяет с другими обстоятельствами образа действия), и ту, что
оно является предложной группой (см. Fillmore, 1966a).
Когда некоторые лингвисты и вводили в свои НС-правила такие
термины, как «Локализация» (Loc), «Время» (Temp), «Степень» (Extent)
и т. п., они делали это, чтобы представлять посредством этих терминов
отношения между составляющими, над которыми эти термины
доминируют в НС-структуре, и некоторыми другими элементами предложения
(а именно, всей группой VP в целом); насколько я могу судить, никто
никогда и не хотел, чтобы эти термины считались представляющими
различные типы «категориальных» грамматических единиц того же
порядка, что и NP или предложная группа.
392
доминирующим над ней символом S, а понятие «прямое
дополнение» может быть приравнено к отношению, которое
имеет место между NP и непосредственно доминирующим
над ней символом VP. Если отношение «подлежащее
данного предложения» понимается как отношение между
элементами глубинной структуры, то тогда говорят о
глубинном подлежащем; если же оно понимается как отношение
между элементами поверхностной структуры (на уровне,
предшествующем стилистическим трансформациям), то
говорят о поверхностном подлежащем. Похоже, что это
различие соответствует традиционному различию между
«логическим подлежащим» и «грамматическим подлежащим».
Под «помеченным» отношением я подразумеваю такое
отношение именной группы к предложению или к VP,
которое указывается при посредстве псевдокатегориальной
пометы типа «Образ действия», «Степень», «Локализация»,
«Агентив».
Ясно, что если все трансформации, в результате которых
создается поверхностное подлежащее, приводят к тому, что
некоторая NP присоединяется прямо к некоторому S при
условии, что никакая другая NP не подсоединена прямо к
тому же самому S, и если всегда оказывается, что в
поверхностной структуре до применения стилистических
трансформаций к VP присоединяется только одна NP, то тогда
эти два «чистых» отношения являются именно теми
отношениями, которые определяют наиболее типичное
употребление падежных категорий «номинатив» и «аккузатив» в
языках соответствующего типа. Употребление остальных
падежных форм определяется либо на основе идиосинкрети-
ческих свойств конкретных управляющих слов, либо на
основе «помеченного» отношения, как, например, в том
случае, когда выбор предлога by в словосочетании со значением
степени в предложении типа 17 обусловлен наличием в НС-
структуре доминирующей над этим словосочетанием
пометы «Степень».
(17) Не missed the target by two miles.
'Он не попал в цель, ошибившись на две мили',
В своей более ранней работе (Fillmore, 1966) я
указывал, что с понятием «подлежащее» не ассоциируется
никакая постоянная семантическая величина (если только не
окажется возможным придать смысл выражению «то, о чем
говорится [в предложении]», а затем, если это удастся, ре-
393
шить, имеет ли такое понятие какую-нибудь связь с
отношением «подлежащее [данного предложения]»), а также что
в отношении «поверхностное подлежащее [данного
предложения]» не заключено никакого такого семантически
значимого отношения, которое не было бы на каком-либо шаге
вывода выражено также и с помощью «помеченного
отношения». Вывод, который я из этого сделал, состоит в том,
что семантически значимые синтаксические отношения
между именными группами и структурами, в которые они
входят, должны относиться к «помеченному» типу. Следствием
из этого заключения является: (а) устранение как таковой
составляющей типа УРи(б) добавление к некоторым
грамматикам правила или системы правил для образования
подлежащего. Иначе говоря, отношение «подлежащее
[данного предложения]» рассматривается как сугубо
поверхностно-синтаксическое явление.
2. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Выше я высказал предположение, что существуют
достаточные основания подвергнуть сомнению
целесообразность традиционного деления предложения на подлежащее
и сказуемое в глубинной структуре — того деления,
которое, по мнению некоторых ученых, лежит в основе
глубинной, базовой формы всех предложений во всех языках.
Принимаемая мной точка зрения, видимо, согласуется с точкой
зрения Теньера (Т е s n i ё г е, 1959, р. 103—105), который
считал, что деление на подлежащее (субъект) и сказуемое
(предикат) внесено в лингвистическую теорию из
формальной логики, что оно является понятием, которое не
опирается на языковые факты и, более того, фактически затемняет
многие структурные параллели между «подлежащими» и
«дополнениями». Те наблюдения, которые были сделаны
некоторыми учеными относительно поверхностных различий
между «предикативными» и «детерминативными»
синтагмами21 могут быть приняты к сведению, даже если никоим
образом не считать, что деление на подлежащее и сказуемое
играет какую-нибудь роль в синтаксических отношениях между
составляющими в глубинной структуре предложения.
21 См., например, работу В а г е 11, 1979, в особенности с. 8, где
это различие выражается в таких терминах, как «степени связности»,
«признаки связи», выделяемые внутри сказуемого, но не между
подлежащим и сказуемым.
394
Как только мы станем интерпретировать «подлежащее»
в качестве некоторого аспекта поверхностной структуры,
больше уже не будет возникать особых волнений по поводу
«бесподлежащных» предложений в тех языках, где
некоторые предложения все же имеют поверхностное подлежащее,
или по поводу тех языков, где вообще отсутствуют сущности,
соотносимые с тем, что называется «подлежащим» в нашей
грамматической традиции. Есть и хорошие, и плохие
основания для утверждений о том, что определенные языки или
определенные предложения «лишены» подлежащих; может
быть, нужно пояснить, что, собственно, я имею в виду,
утверждая это. Следует проводить различие между
отсутствием составляющей, которую разумно назвать подлежащим
с одной стороны, и утратой такой составляющей в
результате анафорического эллипсиса, с другой стороны 22.
В своей рецензии на книгу Теньера (Т е s n i ё г е, 1959)
Робине (Robins, 1961) обвиняет Теньера в том, что в
его описании подлежащее не изолировано от остальной
части предложения. По мнению Робинса, решение Теньера о
допустимости трактовки подлежащего просто в качестве
одного из дополнений глагола должно быть связано с тем
фактом, что в языках типа латыни подлежащее может быть
опущено. Если верно, что именно возможность опустить
22 Особенно близко к тому, чтобы проводить это различие, подошли
сторонники тагмемной теории благодаря тому, что в их системе записи
есть особое обозначение для «необязательных» составляющих. «Таг-
мемную формулу» можно представлять себе как попытку задать
единым выражением квазипорождающее правило для вывода множества
родственных по своей структуре предложений и поверхностных
структур этих предложений (без указаний о свободном выборе в них порядка
слов). Если формулы для предложений с переходным и непереходным
глаголом записать как i и ii соответственно:
i. ±Подл + Сказ =fc Доп =£ Место ± Время
ii. =£Подл + Сказ =ь Место =ь Время,
то станет ясным, что всякое предложение, в котором есть только
Сказуемое, удовлетворяет любой из этих формул и что (б) потенциальная
возможность появления в предложении таких составляющих, как
Место или Время, менее существенна для описания этих типов
предложений, чем та же возможность для составляющей Дополнение. Пайк
проводит различие между «диагностическим» и «недиагностическим»
элементами предложения, и это различие пролегает «поперек»
различия «обязательное» / «необязательное»; см., например, Pike, 1966,
особенно гл. 1. Простые предложения. С другой стороны, Граймз хотел
бы, чтобы «диагностические» составляющие вводились в качестве
обязательных, но при некоторых контекстуальных или анафорических
условиях допускался бы их эллипсис. См. Grimes, 1964, р. 16 и ел.
395
подлежащее убедила Теньера в том, что подлежащее
подчинено глаголу, и если, с другой стороны, невозможность
опустить подлежащее привела бы Теньера к убеждению,
что во всех языках у подлежащего в противоположность
сказуемому действительно имеется особый статус в
глубинной структуре, то для адекватного описания такой
аргумент, по моему мнению, недостаточен.
Лучше всего было бы считать, что в лингвистической
теории учитываются разные анафорические процессы —
процессы, которые приводят к укорочению, упрощению
или снятию ударения в предложениях, частично
тождественных с соседними предложениями (или частично
«подразумеваемых»). Случилось так, что в английском языке в
анафорических явлениях используется прономинализация,
редукция ударения, а также эллипсис — при тех же
контекстных условиях, при которых другие языки могут с
успехом обходиться исключительно эллипсисом 23. При
некоторых условиях в языках последнего типа элемент,
подвергавшийся эллипсису, может оказаться «подлежащим».
Таким образом, тот факт, что в некоторых предложениях
некоторых языков нет подлежащего, сам по себе еще не
является убедительным аргументом против
универсальности выделения подлежащего и сказуемого. Но есть
аргументы и получше. Некоторые из них уже приводились, а
к изложению других я скоро перейду.
Благодаря тому что различаются поверхностные и
глубинные падежные отношения, что «подлежащее» и «прямое
дополнение» интерпретируются как аспекты поверхностной
структуры и что конкретный фонетический облик
существительных в реальных высказываниях определяется
многими факторами, крайне изменчивыми во времени и в
пространстве, у нас нет больше оснований удивляться
несравнимости (поверхностных) падежиых систем. Мы находим,
что можно было бы отчасти согласиться с Беннетом, когда,
сделав обзор нескольких представительных падежных
теорий XIX в., он утверждал (Bennett, 1914, р. 3), что их
авторы ошибались, придерживаясь «сомнительного
допущения.., что все падежи должны относиться к некоторой
единой схеме, как будто это части какого-то целостного
образования». Разумеется, нам не обязательно вслед за ним
23 Чрезвычайно информативное описание этих явлений в
английском см. в работах: G 1 е i t m а п, 1965 и Н а г г i s, 1957, особ. разд. 16.
396
делать вывод, что единственно достойным типом
исследования падежей является выявление древнейшего значения
каждого падежа.
Гринбергом было отмечено, что сравнивать сами по себе
падежи в разных языках нельзя: две падежных системы
могут иметь разное число падежей; за одинаковыми
названиями могут скрываться функциональные различия; однако
можно ожидать, что окажутся сравнимыми употребления
падежей. В частности, он предсказывал, что употребления
падежей должны быть «существенно похожи по частоте,
но они по-разному распределены в разных языках» (Green-
berg, 1966, р. 98; см. также с. 80). Рекомендации
Гринберга о типологическом изучении падежных употреблений
были высказаны в связи с языками, имеющими «настоящие»
падежи, однако кажется очевидным, что если «датив личного
агенса» в одном языке можно отождествить с «аблативом
личного агенса» в другом языке, то на тех же основаниях
нужно признавать наличие отношения «личный агенс»
между именем и глаголом и в так называемых беспадежных
языках. Более того, если окажется, что с тем, что в
предложении есть отношение «личный агенс», могут быть связаны
еще какие-то грамматические факты, то станет ясно, что
понятия, лежащие в основе описания падежных
употреблений, могут иметь гораздо большую лингвистическую
значимость, чем те понятия, с помощью которых описываются
поверхностные падежные системы. В число таких
дополнительных фактов может входить установление ограниченного
множества имен и ограниченного множества глаголов,
способных вступать в эти отношения, и любые дополнительные
обобщения, которые можно будет сформулировать в
терминах таких классификаций. Могут быть вскрыты также
зависимости более высоких уровней, такие, как ограничение
круга предложений с бенефактивными словосочетаниями
предложений, содержащих в глубинной структуре
отношение «личный агенс».
Теперь, естественно, возникает вопрос: оправданно ли
употребление термина падеж для рассматриваемых синтак-
тико-семантических отношений, имеющих довольно мало
общего с обычными падежами. У многих ученых имеется
твердое убеждение, что этот термин следует употреблять
только в том случае, когда в словоизменении
существительных обнаруживаются соответствующие падежные морфемы.
По мнению Есперсена, даже в тех случаях, когда у пред-
397
ложных групп нет «местного» значения, ошибочно было бы
говорить о них, как об «аналитических» падежах (J e s-
persen, 1924, p. 186; русск. перев. Есперсен,
1958, с. 214). Такая позиция Есперсена в этом вопросе
отчасти объясняется тем, что он полагал, будто бы
отсутствие падежей в английском языке представляет
собой некое прогрессивное явление, за которое
носители английского языка должны быть благодарны своему
языку м.
Кэссиди, призывая в 1937 г. спасти слово падеж от
неправильного употребления, писал (С a s s i d у, 1937, p.
244): «Термин «падеж» будет употребляться правильно и
сохранит хоть какое-нибудь значение, если только будет
признана его связь со словоизменением и если будут
оставлены попытки расширить его значение таким образом,
чтобы в него включались и другие виды «формальных»
различий». В том же духе Леман (L e h m a n п, 1958) упрекает
Хирта за ту высказанную им точку зрения, что осознание
падежей должно было предшествовать развитию падежных
окончаний, что, иначе говоря, «у носителей
до-индоевропейского и протоевропейского языков была
предрасположенность к падежам» (с. 185). Далее Леман пишет (с. 185):
«Такие утверждения Хирта мы можем объяснить исходя
из того предположения, что падеж для него является
понятийной категорией независимо от того, воплощен он в
какую-либо форму или нет. Для нас конкретного падежа
просто не существует, если он не представлен формами,
контрастирующими в некоторой системе с другими формами».
Утверждение о том, что синтаксические отношения
различных типов должны были существовать еще до того, как в
язык могли быть введены падежные окончания для их выра-
24 Jespersen, 1924, р. 179:
«Сколько бы мы ни продвигались в глубь истории, мы нигде не
иашли бы падежа с одной, ясно очерченной функцией: в каждом языке
каждый падеж служит различным целям, и границы между ними не
являются отчетливыми. Именно это в сочетании с характерными для
падежей нерегулярностью и непоследовательностью при образовании
форм объясняет многочисленные случаи слияния падежей, известные в
истории языков («синкретизм»), а также хаотические правила,
свойственные отдельным языкам,— правила в значительной степени трудно
объяснимые. Если английский язык упростил эти правила больше, чем
другие языки, мы должны испытывать к нему искреннюю благодарность
и ни в коем случае не пытаться навязать ему беспорядок и запутанность
далекого прошлого. [Курсив мой.— Ч. Ф.]
398
жения, само по себе наверняка не вызвало бы возражений;
неприязнь возникала, очевидно, из-за употребления слова
падеж.
Мне кажется, что если внутри предложения имеются
легко опознаваемые отношения тех типов, которые
обсуждались в исследованиях падежных систем (независимо от
того, отражаются ли они в падежных аффиксах или нет),
если можно показать, что эти отношения сравнимы по
языкам, и если предположения относительно универсальности
этих отношений могут быть использованы при
формулировке тех или иных прогнозов или объяснений, то тогда,
несомненно, не может быть выдвинуто никаких разумных
возражений против употребления слова падеж (с
отчетливым пониманием придаваемого ему глубинного смысла) для
обозначения этих отношений. Споры о термине падеж
теряют свою остроту в рамках тех лингвистических
исследований, в которых синтаксису отводится центральное
место 25.
Итак, для наших целей мы можем согласиться с Ельмс-
левом, который указывал, что изучение падежей может
развиваться наиболее плодотворно, если отказаться от
предположения, что существенной характеристикой
грамматической категории падежа является выражение его в форме
аффиксов при существительных. Далее я буду
придерживаться словоупотребления, впервые введенного, насколько
мне известно, Блейком (Blake, 1930). В соответствии с
этим словоупотреблением под термином падеж понимается
^ Универсальность падежа как грамматической категории
утверждается в Н ] е 1 m s I e v, 1935, р. 1. В недавней работе, написанной с
позиций Якобсона, Вельтен (V е 1 t e п, 1962) достаточно убедительно
показывает историческую непрерывность перехода между
«синтетическими» и «аналитическими» падежами, чтобы заявить, что лингвисты
не имеют права разносить падежи и предлоги по разным «главам»
грамматического исследования. Понятие глубинных падежей можно пред.
ставить себе как расширение синхронного понятия «синкретизма».
Обычное синхронное понимание синкретизма падежей состоит, как
правило, в том, что разрешается усматривать падежное
противопоставление, хотя бы и не выраженное явно в большинстве контекстов, если
оно все-таки проявляется в какой-нибудь «одной части системы» (см.
N е w m а г к, 1962, р. 313). Падежи глубинной структуры могут нигде
ие отражаться явно в виде аффиксов или служебных слов. Возможно,
то понятие, которое нам нужно, соответствует падежным отношениям
(Kasusbeziehungen) у Мейнгофа (см. М е i n h о f, 1938, S. 71). Ссылка
на эту работу, с которой мне не довелось ознакомиться, дается у Фрея
(F r e i, 1954, сноска иа с. 31).
309
глубинное синтактико-семантическое отношение, а под
термином падежная форма—выражение падежного отношения
в конкретном языке, безразлично, используется ли для
этого аффиксация, супплетивность, добавление
энклитических или проклитических частиц или ограничения на
порядок слов.
3. ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА
Существенное видоизменение теории
трансформационных грамматик, которое я собираюсь предложить, состоит
не более и не менее как во введении уже упоминавшейся
интерпретации падежных систем с помощью «концептуальных
рамок», однако на этот раз такая интерпретация вводится
при ясном понимании различия между глубинной и
поверхностной структурами. Предложение в своей глубинной
основе трактуется как состоящее из глагола и одной или более
именных групп, каждая из которых связана с глаголом
определенным падежным отношением. «Объяснительная»
ценность подобного подхода состоит в таком обязательном
требовании, в соответствии с которым для каждого
отдельного падежа допустимо его воплощение в виде сложной
сущности (однородной именной группы), но всякое падежное
отношение встречается в простом предложении только один
раз 26.
Важно понимать, что объяснительная ценность
универсальной системы глубинных падежей заключается в их
синтаксической, а не в (просто) морфологической природе.
Разнообразные наборы отличных друг от друга падежей,
допустимые в простом предложении, выражают понятие
«тип предложения», которое, вероятно, может считаться
имеющим универсальную значимость независимо от таких
26 Из этого следует, что, когда некоторая падежная форма
появляется в поверхностной структуре одного и того же предложения более
чем один раз (в разных именных группах), то либо здесь налицо более
чем один глубинный падеж, либо данное предложение является
сложным. Если, например, нем. lehren 'учить, преподавать' описывается
как глагол, «управляющий двумя аккузативами», мы имеем все
основания полагать, что в глубинной структуре соответствующие два
дополнения различаются своими падежами. Достаточно часто в языке
можно найти подтверждения подобному различию, например в виде
наличия пассивных предложений типа Das wurde mir gelehrt 'Это мн$
преподавалось.'
400
поверхностных различий, как выбор подлежащего. Наборы
падежей, определяющие типы предложений некоторого
языка, обусловливают само собой разумеющуюся
классификацию глаголов этого языка (в соответствии с теми
типами предложений, в которых может быть употреблен
каждый глагол), и может оказаться вполне вероятным, что
многие аспекты такой классификации тоже будут иметь
универсальную значимость.
Падежные элементы, факультативно связанные с
конкретными глаголами, в совокупности с правилами
формирования подлежащего должны служить для объяснения
разнообразных ограничений на совместную встречаемость
слов в предложениях. Например, в предложении 18
подлежащее находится в агентивном отношении к глаголу; в
предложении 19 подлежащее выступает как Инструмент;
а в предложении 20 наличествуют и Агенс, и Инструмент,
однако только Агенс, а не Инструмент оказывается
подлежащим.
(18) John broke the window.
'Джон разбил витрину (окно).'
(19) A hammer broke the window.
'Молоток разбил витрину (окно).'
(20) John broke the window with a hammer.
'Джон разбил витрину молотком.'
В силу того что подлежащие предложений 18 и 19
грамматически различны, невозможно получить предложение,
выражающее объединенный смысл этих двух предложений,
путем соединения их подлежащих в одну однородную
группу. Так, предложение 21 неприемлемо:
(21) *John and a hammer broke the window.
'Джон и молоток разбили витрину (окно).'
Сочиняться могут только такие именные группы, которые
представляют один и тот же падеж. Аналогичным образом
то обстоятельство, что лишь один представитель данного
падежного отношения может встречаться в одном и том же
простом предложении в совокупности с обобщениями,
касающимися выбора подлежащего, и с описанием
избыточности, наблюдаемой при указании падежей и семантических
признаков лексем (например, избыточность между падежом
«Агенс» и одушевленностью),—это обстоятельство
объясняет неправильность предложения 22;
401
(22) *A hammer broke the glass with a chisel.
'Молоток разбил стекло зубилом.'
Оно неправильно, если и молоток, и зубило
интерпретируются как Инструменты. Но оно не может пониматься и
как предложение, содержащее Агенс и Инструмент,
поскольку существительное hammer 'молоток'
неодушевленное 27.
Сформулировав перечисленные выше посылки, можно
объяснить следующую зависимость: подлежащее активного
предложения с переходным глаголом должно
интерпретироваться как одушевленный агенс только в том случае,
если в предложении представлена группа предлога with
с инструментальным значением. У кажущихся исключений
из этого правила обнаруживаются другие глубинные
структуры. Одним из таких исключений представляется
предложение 23; однако, обратив внимание на присутствие в нем
слова its 'свой', легко заметить принципиальное отличие
такого предложения от предложений 22 и 24.
(23) The car broke the window with its fender.
'Машина разбила витрину (окно) своим крылом.'
(24) The car broke the window with a fender.
'Машина разбила витрину (окно) крылом.'
В предложении 24 сформулированные выше условия
нарушены; в то же время предложение 23 является перифразой
предложения 25 и поэтому может интерпретироваться как
предложение, имеющее ту же самую глубинную структуру,
что и 25.
(25) The car's fender broke the window.
'Крыло машины разбило витрину (окно).'
Здесь предполагается следующая трактовка:
предложения 23 и 25 — это 'безагенсные предложения, содержащие
27 Автор этих строк сознает, что в предложении 18 говорящий
может иметь в виду то, что сделало тело Джона, когда его метнули в
окно, а предложение 19 может иметь метафорический смысл, при
котором молоток олицетворяется. При любой из этих интерпретаций
предложение 21 оказывается приемлемым, а при интерпретации,
предполагающей олицетворение молотка, становится приемлемым также и
предложение 22. Важно, однако, понимать, что и обе эти интерпретации
объяснимы иа основе тех же самых посылок, на основе которых
строится объяснение прямых интерпретаций.
402
в качестве инструмента обладаемое имя (the car's fender
'крыло машины'). В этом случае правила выбора
подлежащего допускают разные варианты: в качестве подлежащего
может выступать либо вся именная группа, обозначающая
инструмент (как в примере 25), либо им может стать только
сам «обладатель», а остальная часть инструментальной
группы должна выступать с предлогом with (как в примере 23).
При выборе второй возможности требуется, чтобы внутри
инструментальной группы был оставлен «след» обладателя
в виде соответствующего притяжательного местоимения.
Аналогичное объяснение предлагается для таких фраз, как
26 и 27, которые тоже можно интерпретировать как
имеющие одинаковую глубинную структуру.
(26) Your speech impressed us with its brevity.
'Ваша речь поразила нас своей краткостью.'
(27) The brevity of your speech impressed us.
'Краткость вашей речи поразила нас'
Поверхностный характер понятия «подлежащее
предложения» демонстрируется на этих примерах особенно
убедительно, поскольку в случае подлежащего-обладателя
«подлежащее» даже не является главной составляющей
предложения; оно берется из состава определения,
входящего в главную составляющую.
Таким образом, в базовой структуре предложений
усматривается нечто, что можно назвать «пропозицией»,—
набор отношений между глаголами и именами (или
придаточными предложениями, если таковые имеются), без
информации о времени, отделяемый от того, что можно назвать
составляющей «модальность». Эта составляющая должна
содержать такие модальные характеристики предложения
в целом, как отрицание, время, наклонение и вид2".
Конкретная природа такой модальной составляющей для
наших целей безразлична. Не исключено, однако, что
некоторые «падежи» должны быть прямо соотнесены с
модальной составляющей так же, как некоторые другие «па-
28 По-видимому, есть достаточные основания считать, что
отрицание, время и наклонение непосредственно связаны с предложением
в целом, а перфектный и длительный «виды» являются признаками
глагола. Формулировку такой точки зрения см. в L у о п s, 1966, р. 218,
223.
403
дежи» соотносятся с собственно пропозицией — таковы, к
примеру, некоторые обстоятельства времени 2в.
Таким образом, первым глубинным правилом является
правило 28 (в сокращенном виде — 28'):
(28) Предложение ->■ Модальность + Пропозиция
(28') S -> М + Р30
Составляющая Р «развертывается» в глагол плюс одна
или более падежных категорий. Последующее правило
обеспечивает автоматическую реализацию всякого падежа в
виде категориального символа NP (кроме тех случаев, когда
на месте NP должно выступать придаточное предложение
S). Тем самым оказывается, что падежные отношения
представляются в дереве составляющих посредством
доминирующих категориальных символов.
Развертывание пропозиционной составляющей Р можно
представлять себе как список формул такого вида, который
показан в 28"*, где обязательно должна быть по крайней
мере одна падежная категория, и никакая падежная
категория не может входить в одну и ту же формулу дважды:
(28")Р->У + С, + ... +С„
Можно ли свести совокупность этих формул в более
короткую запись, пользуясь обычными средствами объединения
правил, пока неясно **. Для наших целей достаточно, что
Р может быть представлено посредством любой формулы из
набора, включающего V + A, V + 0 + A, V + D, V +
29 В своей более ранией работе я предложил считать, что
обстоятельства, относящиеся ко всему предложению, в общем случае
включаются в модальную составляющую. Теперь я полагаю, что многие из
таких обстоятельств вводятся в предложение из главного подчиняющего
(посредством трансформаций того типа, который мы могли бы назвать
«инфраекциями»). Эта возможность давно была очевидна для
обстоятельств типа unfortunately 'к несчастью', которые, бесспорно,
относятся ко всему предложению, но есть вполне убедительные доводы
также в пользу того, чтобы распространить описание с использованием
«инфраекций» на обстоятельства типа willingly 'охотно', easily 'легко',
carefully 'осторожно'.
30 В настоящей работе везде используется обычная запись правил
посредством стрелок, но при этом не следует думать, что в предлагаемом
варианте падежной грамматики в правилах подстановки обязательно
предусматривается упорядоченность составляющих слева направо.
* В оригинале здесь стоит 29, однако номер 29 еще раз
использован автором ниже для примера.— Прим. перге.
** Здесь имеются в виду некоторые средства из технического ар-
404
-f- О + I + А и т. д. (Интерпретация буквенных символов
указывается ниже.)
Смыслы падежей образуют набор универсальных,
возможно врожденных, понятий, индентифицирующих
некоторые типы суждений, которые человек способен делать о
событиях, происходящих вокруг него,— суждений о вещах
такого рода, как' кто сделал нечто', 'с кем нечто случилось',
'что подверглось некоему изменению'. В число падежей,
представляющихся необходимыми, входят:
Агентив (А) — падеж обычно одушевленного
инициатора действия идентифицируемого с глаголом 81.
Инструменталис (I) — падеж неодушевленной силы
или предмета, который включен в действие или
состояние, называемое глаголом, в качестве его
причины32.
Датив (D) — падеж одушевленного существа, которое
затрагивается состоянием или действием,
называемым глаголом.
сенала порождающих грамматик: фигурные, круглые и квадратные
скобки, позволяющие, например, записать пять правил:
I)X->Y+A;2)X-*Y + Z+A;3)X->.W+B;4)X->W +
+ Z -j- В; 5) X ->- С — в одно:
— Прим. перев.
31 Спасительная оговорка «обычно» отражает мое понимание того
факта, что в некоторых случаях контексты, требующие, по-моему,
агеиса, заполняются «неодушевленными» существительными типа
robot 'робот' или существительными, обозначающими «объединения
людей» вроде nation 'нация'. Поскольку в настоящий момент я не знаю,
как следует поступать с такими вещами, я просто предполагаю для всех
агенсов, что онн являются «одушевленными».
32 Пол Постал напомнил мне о существовании предложений типа(1):
(i) I rapped him on the head with a snake.
'Я похлопал его по голове змеей.'
Требование «неодушевленности» инструментальной NP является
требованием интерпретировать предложение (i) таким образом, как будто
в его глубинной структуре есть нечто, эквивалентное выражению with
the body of a snake 'телом змеи'. Аргументом в поддержку такой позиции
может служить существование языков, в которых в данном контексте
является обязательным упоминание некоторого корня со значением
'тело', а также отмеченная у Лакоффа неприемлемость предложений
типа (ii):
(ii) *John broke the window with himself.
'Джон разбил витрину собою.'
(См. L a k о f f, 1967.)
{[ЬМй]
\
405
Фактитт (F) — падеж предмета или существа,
которое возникает в результате действия или
состояния, называемого глаголом, или которое
понимается как часть значения глагола.
Локатив (L) — падеж, которым характеризуется
местоположение или пространственная ориентация
действия или состояния, называемого глаголом.
Объектив (О) — семантически наиболее нейтральный
падеж, падеж чего-либо, что может быть
обозначено существительным, роль которого в действии
или состоянии, которое идентифицируется
глаголом, определяется семантической
интерпретацией самого глагола. Естественно, этот падеж
бывает только у названий вещей, которые
затрагиваются состоянием или действием,
идентифицируемым глаголом 33. Объектив не надо путать
ни с понятием прямого дополнения, ни с именем
поверхностного падежа, являющимся просто
синонимом для аккузатива.
Наверняка нам понадобятся и другие падежи. В
дальнейшем мы будем по мере необходимости предлагать
дополнения к приведенному списку.
Важно отметить, что ни один из этих падежей нельзя
интерпретировать как прямое соответствие поверхностно-
синтаксическим отношениям «подлежащее» и «прямое
дополнение» в каком-либо конкретном языке *. Так, слово
John 'Джон' — это А как в предложении 29, так и в
предложении 30, the key 'ключ' — это I как в предложении 31,
так и в предложениях 32 и 33, a John 'Джон' — это D и в
предложении 34, и в предложениях 35 и 36 и, наконец,
Chicago 'Чикаго' — это L и в 37, и в 38.
(29) John opened the door.
'Джон открыл дверь.'
(30) The door was opened by John.
'Дверь была открыта Джоном.'
33 В работе Fillmore, 1966a этому нейтральному падежу было
дано необдуманное и вводящее в заблуждение название «эргатив».
* Здесь автор употребляет терминологию, принятую в теории
порождающих грамматик, согласно котррой «подлежащее» понимается
как отношение, или функция, некоторой именной группы (подлежащего
в обычном смысле) ко всему предложению в целом.— Прим. перев.
406
(31) The key opened the door.
'Ключ открыл дверь.'
(32) John opened the door with the key.
'Джон открыл дверь ключом.'
(33) John used the key to open the door.
'Джон воспользовался ключом, чтобы открыть
дверь.'
(34) John believed that he would win.
'Джон верил, что он выиграет.'
(35) We persuaded John that he would win.
'Мы убедили Джона, что он выиграет.'
(36) It was apparent to John that he would win.
'Джону было очевидно то, что он выиграет.'
(37) Chicago is windy.
букв. 'Чикаго ветрен.' 1т. е. 'Чикаго — ветреный
город.']
(38) It is windy in Chicago.
'В Чикаго ветрено.'
В список падежей включен локатив L, но нет ничего
похожего на такой падеж, который можно было бы назвать
«дирекционалом» (направительным падежом). Как
отмечалось выше, существуют факты, свидетельствующие о
том, что локативные и направительные значения не
противостоят друг другу, а являются лишь поверхностными
различиями, обусловленными либо структурой фразы, либо
характером глагола, управляющего существительным.
В примере, предложенном Барбарой Холл (см.
предложение 39), по употреблению местоименного
слова-заместителя there 'там' видно, что сочетания to the store 'в
магазин' и at the store 'в магазине' представляют собой варианты
одной и той же сущности, обусловленные характером
глагола, обозначающего движение или недвижение 34.
34 (Hall, 1965). Противопоставленность, будто бы существующая
между выражениями с направительным и локативным значением, а
также различие «факультативных» и «обязательных» локативных
выражений в примерах Барбары Холл (i) и (И) указывают, скорее всего,
иа разницу между элементами, входящими в группу глагола, и
элементами, находящимися вне ее.
i. John keeps his car in the garage.
'Джон держит свою машину в гараже,1
ii. John washes his car in the garage.
'Джон моет свою машину в гараже.'
407
(39) She took him to the store and left him there.
'Она повела его в магазин и оставила его там/
Я указал ранее, что А и D — это 'одушевленные*
участники деятельности, называемой соответствующим
глаголом, и предложил также, чтобы глаголы выбирались*
в соответствии с имеющимися в предложении падежными
окружениями; в дальнейшем я буду называть такие
окружения «падежными рамками». Тогда возникают следующие
два выбора лексических единиц: выбор существительных
и выбор глаголов. Признаки существительных, требуемые
В наших терминах это значило бы, что либо надо усматривать разницу
между падежом L в качестве составляющей, входящей в Р, и падежом
L в качестве составляющей, входящей в М, либо считать, что имеется
два элемента L внутри Р, различающихся по степени их сочетаемости
с глаголами. Падеж L со строгими ограничениями на сочетаемость
употребляется с глаголами keep 'держать', put 'класть' / 'ставить' и
leave 'оставлять', ио не с polish 'полировать', wash 'мыть' и build
'строить'; падеж L со слабыми ограничениями сочетается с глаголами
типа polish, wash и build, но ие с believe 'верить', know 'знать' и want
'хотеть'.
Однако, как бы ни интерпретировать это различие, второй, или
«внешний», элемент L оказывается в ряде отношений похожим по своим
сочетаемостным свойствам на падеж, который можно было бы назвать
бенефактивом (В). Падеж В также связан с сочетаемостью глаголов-
предикатов в том смысле, что некоторые предикаты не могут иметь при
себе обстоятельства-бенефактива (*Не is tall for you '*Он высок вам );
однако, возможно, что это ограничение в данном случае относится не
столько к зависимостям, непосредственно связанным с глаголом, сколько
к отношениям зависимости между падежами. В действительности
оказывается, что глаголы, при которых допустимы такие определители,
как «внешний L» и В,— это в точности те же самые глаголы, при которых
бывает агенс. Я не представляю себе, как можно формулировать такие
зависимости, но это надо делать так, чтобы и второй тип L и В могли
появляться только в тех предложениях, где есть А.
Таким образом, интерпретация различия между предложениями Ш
и iv
ill. II demeure к Paris.
'Ои остается в Париже.'
iv. II travaille a Paris.
'Он работает в Париже.',
при которой в первом предложении усматривается 'прямое
дополнение', а во втором— 'косвенное дополнение', может быть связана
просто с тем фактом, что подлежащее предложения iv — это на самом деле
А. Наличием А объясняется и выбор конкретного глагола, и наличие
'внешнего L'. См. в этой связи замечания Базеля (Bazell, 1949,
р. 10) по поводу рецензии Гугенхейма (Gougenheim) на книгу Boer.
French syntax.
* Имеется в виду «выбор» (selection) лексических единиц из
лексикона на этапе введения лексики в НС-структуру.— Прим. перев.
Щ
тем или иным Падежом, задаются обязательными
правилами такого типа, как, например, следующее правило, которое
показывает, что всякое N в составе группы, имеющей падеж
А или D, Должно содержать признак [+ одушевленный]
(вспомним оговорку в сноске 30):
N -*■ [+одушевленный]/А-°[Х Y]
Чтобы учесть в самом общем виде признаки лексических
единиц, связанные с конкретными падежами, мы можем
воспользоваться правилом, которое приписывает каждому
существительному помету, идентифицирующую то
падежное отношение, в которое вступает это существительное с
остальной частью предложения. Такое правило могло бы
приписывать, к примеру, всякому существительному, над
которым доминирует падеж L, признак [+локатив]. Так как
абстрактные существительные вроде слова idea 'идея' не
могут быть главами групп, реализующих падеж L, они
будут получать признак [— локатив]36.
Вставление глаголов, с другой стороны, зависит от
конкретного набора падежей, «падежной рамки» *,
представленной в данном предложении зв. Так, глагол run 'бежать'
может быть вставлен в рамку [ A3, глагол sad '(быть)
грустным' — в рамку [ D], глаголы типа remove
'убирать' и open 'открывать' — в рамку [ О + А],
глаголы типа murder 'убивать' и terrorize 'терроризировать'
(то есть глаголы, требующие «одушевленного субъекта» и
35 Допущение для лексики сильно ограниченных признаков,
связываемых с данными падежными единицами, возвращает нас к
расширенному пониманию «падежей» в виде «наречных форм», которое
предлагалось еще Боппом, Вюльнером и Хартуигом. Согласно такому
пониманию, некоторые наречия, а на самом деле существительные,
способны «принимать» только одну падежную форму. Поскольку все
глубинные падежи и в самом деле являются до некоторой степени
«дефектными» (то есть неприменимыми ко всем существительным), такое
понятие, как сфера действия словоизменения, уже не может служить для
четкого разграничения между «собственно падежными формами» и
«наречиями». Обсуждение этих проблем см. в Н j е 1 m s 1 е v, 1935, p. 40.
* В русской лингвистической литературе нередко можно
встретить употребление термина frame 'рамка' без перевода (как «фрейм»).
Такое употребление не оправданно никакими соображениям и поэтому
в настоящем переводе статьи Ч. Филлмора данный термин повсюду
используется в его переводной форме — 'рамка'.— Прим. ред.
36 В настоящем изложении я придерживаюсь доктрины Постала —
Лакоффа, кажущейся мне чрезвычайно убедительной, что
прилагательные образуют подмножество глаголов!
409
«одушевленного объекта») — в рамку [ _D+A),
глаголы типа give 'давать' — в рамку [ 0+D+A] и т. д.
Сокращенные формулировки, называемые «рамочными
признаками», должны задавать в словарных статьях
глаголов множество падежных рамок, в которые может быть
вставлен данный глагол. Эти рамочные признаки
естественно определяют некоторую классификацию глаголов в
данном языке.
Такая классификация достаточно сложна не только из-
за разнообразия падежных окружений, возможных внутри
Р, но еще и из-за того, что многие глаголы могут выступать
в более чем одном определенном падежном окружении. Этот
последний факт может быть отражен в предлагаемой
записи явным образом, если в выражениях, характеризующих
рамочные признаки, допустить факультативные
представления падежей.
Так, если рассмотреть уже известный пример — глагол
open 'открывать', то мы увидим, что этот глагол может
выступать и в контексте [ JO], как в предложении 40; и
в контексте [ О + А], как в предложении 41; и в
контексте [ О + I], как в 42; и, наконец, в контексте
[ О + I + А], как в 43:
(40) The door opened.
'Дверь открылась.'
(41) John opened the door.
'Джон открыл дверь.'
(42) The wind opened the door.
'Ветер открыл дверь.'
(43) John opened the door with a chisel.
'Джон открыл дверь стамеской.'
В наиболее простом представлении этого набора
возможностей для указания того, какие элементы факультативны,
используются круглые скобки. Тем самым оказывается
возможным записать рамочный признак для open в виде 44:
(44) + [ 0(1) (А)]3'-
37 Падежные рамки записываются в квадратных скобках,
подчеркивающая линия указывает место элемента, для которого запись в
целом является контекстной рамкой. Рамочные признаки даются в
квадратных скобках со знаком + или — перед ними. Эти знаки
показывают, что набор падежных рамок, представленных выражением
внутри скобок, допустим (если стоит знак +) или недопустим (если стоит
знак —) для той лексической единицы, которой приписан этот признак.
410
Другими глаголами с тем же рамочным признаком
являются turn 'поворачивать(ся)', move 'двигаться)', rotate
'вращать(ся)' и bend 'сгибать(ся)'.
Для глагола kill 'убивать' надо указать, употребляя
привычные термины, что у него бывает одушевленный объект
и одушевленный или неодушевленный субъект и что при
одушевленном субъекте может быть еще одновременно
группа со значением инструмента. Другими словами,
рамочный признак для kill должен показывать, что при этом
глаголе может быть либо Инструменталис, либо Агенс,
либо оба эти падежа. Если ввести запись с
пересекающимися скобками для указания на то, что в предложении
должен быть выбран хотя бы один элемент из пары, стоящей
в таких скобках, тогда рамочный признак для kill может
быть записан в виде выражения 45.
(45)+ [ D(IJA)]
С другой стороны, глагол murder 'убивать' относится
к числу глаголов, требующих Агенса. Рамочный признак
такого глагола не совпадает ни с 44, ни с 45, поскольку
элемент А в нем обязателен. Этот рамочный признак
приводится в 46.
(46) + [ D (I) А]
Для классификации глаголов в соответствии с их
окружением имеет значение не только простой набор падежей
в составе Р. Поскольку один из падежей может быть
реализован в виде S (придаточного предложения), глаголы можно
классифицировать также на том основании, является ли
элемент О предложением. Мы условимся в дальнейшем
интерпретировать символ О в рамочных признаках как NP
(именную группу), а символ S — как элемент О, который
реализуется как придаточное предложение S.
Рамочный признак + [ S] характеризует такие
глаголы, как true 'верно, что', interesting 'интересно, что'
и т. д.; признак + [ S + D] объединяет такие
глаголы, как want 'хотеть' и expect 'ожидать'; глаголы типа
say 'сказать', predict 'предсказывать' и cause 'заставлять,
побуждать' выступают в рамке [ S + А], а глаголы
типа force 'заставлять, принуждать' и persuade 'убеждать'
могут вставляться в рамку [ S + D + А] 38.
38 Следует подчеркнуть, что в грамматиках, основанных на
различии «подлежащее / дополнение», описание придаточных
предложений как реализации категории NP в виде it —f-S 'то, что S' должно
каким-то образом гарантировать, что такое развертывание именной
411
Глаголы отличаются друг от друга не только
конкретными падежными рамками, в которые они могут
вставляться, но и своими трансформационными свойствами. К
наиболее важным свойствам относятся: (а) выбор той или иной
NP на роль поверхностного подлежащего или
поверхностного дополнения во всех тех случаях, когда этот выбор
осуществляется не по общему правилу; (б) выбор
предлогов для каждого падежного элемента в том случае, если
этот выбор определяется скорее идиосинкретическими
свойствами глагола, чем общим правилом, и (в) другие особые
трансформационные признаки, такие, как, например,
выбор конкретного комплементайзера (that, -ing, for — to
и т. д.)* для глаголов, управляющих придаточными
дополнительными, и некоторые более поздние трансформации с
участием этих элементов.
Использование скобок в записи рамочных признаков
наряду с трансформационным введением подлежащих дает
возможность сократить число семантических толкований в
словаре. Вся информация, связанная с конкретными
падежными отношениями, представленными в составляющей
Р, должна даваться при семантической интерпретации этой
составляющей Р, что позволяет исключить ее из толкований
глаголов. Как мы видели в случае глаголов с признаком 44,
некоторые соотносящиеся между собой переходные и
непереходные глаголы не обязательно должны получать
отдельные толкования. Эта особенность может быть
продемонстрирована еще и на примере английского глагола cook
'вариться)', 'готовить(ся)'. Рамочный признак этого глагола
должен выглядеть, по-видимому, примерно как
(47) + 1 О (А)],
а идиосйнкретическии трансформационный признак этого
глагола состоит в том, что если в предложении есть А и
группы будет иметь место лишь в позиции подлежащего при
непереходном глаголе и в позиции дополнения (прямого или косвенного) при
переходном глаголе. Все такие оговорки становятся излишними, если
принять решение ограничить употребление придаточного предложения
S падежным элементом О.
* Комплементайзером (complementizer) в теории
трансформационных грамматик называется способ оформления в поверхностной
структуре глубинного придаточного предложения, выступающего в главном
предложении в функции дополнения («комплемента»): «that» указывает
на обычное придаточное предложение с союзом that 'что', «for—to» —
на инфинитивный оборот, «-ing» — на герундий с зависимыми словами
и т. д.— Прим. перев.
412
если О — это какая-либо NP, типичная для данного
глагола (то есть нечто вроде food 'пища' или meal 'еда'), то
элемент О может быть опущен. Толкование этого глагола
состоит всего лишь в идентификации определенной
деятельности, направленной на достижение определенного
результата по отношению к объекту, обозначаемому
элементом О. Иначе говоря, одна и та же словарная статья годится
для характеристики употребления глагола cook во всех
трех предложениях 48—50.
(48) Mother is cooking the potatoes.
'Мать готовит картошку.'
(49) The potatoes are cooking.
'Картошка готовится.'
(50) Mother is cooking.
'Мать готовит.'
Вместо того чтобы выделять у этого глагола три разных
значения, нам достаточно будет сказать, что имеется
несколько возможных для него падежных рамок и что этот
глагол относится к глаголам с «элиминируемым объектом».
Тот факт, что падеж А бывает только у одушевленных
существительных, а для падежа О одушевленность
безразлична, служит объяснением того, что если мы можем понять
предложение 49 неоднозначно *, то это происходит потому,
что мы можем допустить нарушение грамматических
требований в случаях «олицетворений» такого типа, с которыми
мы познакомились еще в детском саду; неоднозначность же
предложения 50чна самом деле обусловливается тем, что нам
известен диапазон видов деятельности, существующих в
человеческих обществах.
Пример с глаголом cook показывает, что, приняв
предлагаемое описание, уже не нужно включать в словарь так
много подзначений для отдельных единиц, как это было бы
необходимо в грамматике, основанной на различии
«подлежащее/дополнение» и. Теперь мы покажем, что тот же са-
* В предложениях 49 и 50 сказуемое может, вообще говоря, иметь
значение и 'готовит' и 'готовится'.— Прим. перев.
39 Может оказаться, что представление факультативных падежей
в рамочных признаках имеет отмеченные выше преимущества в
английском языке потому, что в этом языке много глаголов, которые могут,
не меняя своей формы, употребляться и переходно, и непереходно.
Совпадение формы этих слов в английском языке является случайным,
частным свойством этого языка. Отождествление переходного и
непереходного open 'открывать(ся)' или переходного и непереходного cook
413
мый гибкий аппарат позволяет сократить количество
словарных статей для целых классов глаголов, поскольку
теперь можно достаточно убедительно доказать, что
некоторые синтаксически разные слова на самом деле
семантически тождественны (в той части их значения, которая
независима от того, что привносится в нее соответствующими
падежами). Так, это может быть справедливо для глаголов
типа like 'любить' и please 'нравиться' — пример, который
приходит в голову прежде всего. Эти слова можно
описывать как синонимы; каждое из них имеет рамочный приз-
знак + [ О + D], а различаются они лишь
признаками выбора подлежащего. В действительности глагол like
'любить' в ходе своего исторического развития прошел
через такое состояние, когда у него был тот же самый
признак выбора подлежащего, что сейчас у please.
У глагола show 'показывать', входящего в другой класс
примеров, может быть тоже самое семантическое
представление, что и у глагола see 'видеть', с тем лишь
существенным отличием, что рамочный признак у show содержит
падеж А, которого нет у see. Аналогичным образом
соотносятся между собой, по-видимому, глаголы kill 'убирать'
и die 'умирать'.
(51) see (+ [ О + Dl) vs. show (+[ О +
D+A])
'варить(ся)' оправданно постольку, поскольку семантическая
характеристика глаголов также не меняется во всех рассмотренных случаях
их употребления. (Мы должны различать семантическую характеристику
глагола и семантическую интерпретацию содержащего его
предложения. Во втором случае принимаются во внимание и все другие
составляющие предложения, и те семантические роли, которые они играют в
соответствии со своими падежами.) Во всех языках, в которых такое
условие, удовлетворяется, уместно и представление факультативных
падежей! Вероятно, в некоторых языках может оказаться, что наличие или
отсутствие одного из «необязательных» падежей будет сказываться на
глаголе. Если у глаголов типа [ О (А)] появление А обусловливает
не такую форму, какая была бы при отсутствии этого падежа (что
различает «переходное» и «непереходное» употребления одного и того же
глагола), или же если при отсутствии А требуется некий
дополнительный элемент (например, какая-нибудь «возвратная» морфема), излишний
при эксплицитно выраженном А, то такие факты могут быть описаны
с помощью трансформаций — см. Hashimoto, 1966. (Расширив
диапазон поверхностных вариантов глагола, встречающихся в этих
условиях, так, чтобы между ними допускались отношения
супплетивное™, мы смогли бы, по-видимому, интерпретировать даже различные
лексемы в примерах типа 51—53 как поверхностную лексическую
вариативность.)
414
(52) die (+[ D]) vs. kill (+1 D(I)Al)
Мы рассмотрели случаи синонимии, при которых
рамочные признаки были тождественны, а признаки выбора
подлежащего — различны, и другие случаи синонимии,
при которых уже сами рамочные признаки различались
наличием или отсутствием некоторой падежной категории.
Теперь мы можем обратиться к примерам синонимии, в
которых обнаруживается различие в выборе того или иного
падежа.
Напомним, что и А, и D являются одушевленными.
У некоторых глаголов толкования могут содержать
указания об одушевленности существительных, стоящих в этих
падежах, безотносительно к тому, является ли
«источником» одушевленности падеж А или падеж D. Иными
словами, семантическое представление некоторых глаголов
может характеризовать определенное отношение или процесс,
предполагающий наличие обязательно одушевленного
участника действия или состояния, называемого глаголом.
Отношение между глаголами hear 'слышать' и listen
'слушать' и между обязательно одушевленной NP,
называющей действующее лицо, одинаково в обоих случаях;
различие в семантической интерпретации препозиционных
составляющих Р, содержащих эти глаголы, обусловливается
значениями, привносимыми соответствующими падежами
и тем обстоятельством, что hear выступает в падежной
рамке [ О + D], a listen — в падежной рамке [
О + А]. Если в случае listen отношение между глаголом и
именной группой понимается таким образом, что для лица,
характеризуемого падежом А, предполагается активное
участие в действии, то этот факт — следствие наличия
падежа А, а не особого значения у listen. To же самое
различие можно наблюдать у глаголов see 'видеть' и know'знать',
с одной стороны, и look 'смотреть' и learn 'узнавать', с
другой стороны.
(53) see, know (+1 О + Dl) vs. look, learn (+
[ О + А])
Только что упомянутые факты подводят к
рассмотрению тех свойств английских глаголов, с которыми Лакофф
(L a k о f f, 1966) связывает термины 'стативный' и 'не-
стативный'. Напрашивается следующий вопрос: являются
ли эти признаки у Лакоффа элементарными
различительна
нымй признаками словарных статей глаголов или они
сводимы к тем понятиям, которые я наметил в общих
чертах в предыдущем изложении? Лакофф отмечает, что
«истинное» повелительное наклонение, формы длительного
вида, совместное употребление с бенефактивными (В)
группами и замена на do so 'сделать то же самое' допускаются
только у «нестативных» глаголов. В его работе
предлагается сначала приписать глаголам признаки «стативный/не-
стативный», а затем уже устанавливать, что бенефактивные
именные группы могут допускаться только при
нестативных глаголах (иными словами, нужно гарантировать, что
присутствие бенефактивных групп будет допускать отбор
только нестативных глаголов), что трансформация
образования императива будет применима только в том случае,
если глагол «нестативныи», и т. д. Предпочитаемое мною
решение имплицитно представлено в предыдущем
изложении. Трансформация, отвечающая за образование
«истинных» императивов, может применяться только к
предложениям, содержащим А; соответственно наличие в
предложении падежа В (и «внешних» L) также зависит от
присутствия падежа А. Длительный вид может быть выбран
только в связи с определенной падежной рамкой, например с
такой, которая содержит А. К глаголам не нужно добавлять
никаких специальных признаков, показывающих статив-
ность, поскольку если предложенная нами трактовка
правильна, то в таких предложениях будут так или иначе
выступать только те глаголы, которые встречаются в
препозиционных составляющих, содержащих падеж А *°«
3.5. Поверхностные явления
Резюмируем предыдущее изложение. Глубинная
структура (препозиционного компонента) всякого простого
предложения представляет собой построение, состоящее из
глагола плюс некоторое количество именных групп, которые
находятся в специальных помеченных отношениях
(падежах) ко всему предложению. Эти отношения, трактуемые
40 Интерпретировать тем же способом факты, связанные с глаголом-
заместителем do so 'делать то же самое', оказывается не так-то просто.
Тем не менее связь между «нестативными» глаголами и глаголами,
«управляющими» падежом А, слишком бросается в глаза, чтобы быть
попросту неверной.
416
как категории *, включают такие понятия, как АгентиВ,
Инструменталис, Объектив, Фактитив, Локатив, Бенефак-
тив и, возможно, некоторые другие. Сложные предложения
строятся с помощью рекурсии через посредство
категориального символа «Предложение», подчиняемого в
НС-структуре символу падежной категории «Объектив». Глаголы
подразделяются на классы в зависимости от тех падежных
окружений, в которых они могут выступать, а
семантическая характеристика глаголов соотносит их либо со
специфическими падежными элементами в окружении глаголов,
либо с элементами с определенными признаками (типа
одушевленности), вводимыми как обязательное сопровождение
конкретных падежей.
В этом разделе будут рассмотрены некоторые способы
превращения глубинных структур (предлагаемых в
настоящей статье) в поверхностные представления предложений.
Сюда относятся механизмы выбора тех эксплицитных
средств, с помощью которых выражаются падежи
(супплетивные формы, аффиксация, добавление предлогов или
послелогов), средства «регистрации» некоторых элементов в
глаголе, формирование подлежащего, формирование
прямого дополнения, линейное упорядочение словоформ, номи-
нализация.
Система поверхностных падежей может соотноситься с
набором глубинных падежей разными способами. Два
глубинных падежа могут представляться в поверхностной
структуре одинаково, как, например, прямые дополнения
типа D и О, которые во многих языках представляются
«винительным» падежом (решающим фактором при этом может
быть то, что на каком-то шаге трансформационного вывода
они окажутся непосредственно следующими за глаголом).
А и D также могут выражаться одной и той же
поверхностной формой, где решающим фактором оказывается
ассоциирующаяся с этими падежами одушевленность. Или же
поверхностная форма падежного элемента может
определяться идиосинкретическими свойствами управляющего им
слова.
Правила для английских предлогов могут выглядеть
примерно следующим образом: предлогом для выражения
падежа А является by; предлог для падежа I — тоже by
* Здесь еще раз отмечается, что символы падежей фигурируют
в глубинной структуре так же, как и символы других, более обычных,
категорий НС-грамматик: S, NP, VP и т. д.— Прим. перев.
14 № 1234
417
в случае, если в предложении нет А, а в противном
случае — with; предлоги для О и F — обычно нулевые;
предлог для В — for; предлог для D — обычно to; предлоги
для L и Т (обозначение времени) либо семантически
непусты (и тогда они выбираются свободно, через словарь), либо
их выбор зависит от конкретного существительного [on the
street 'на улице', at the corner 'на углу (=пересечение двух
улиц)', in the corner'в углу (комнаты)', on Monday 'в
понедельник', at noon 'в полдень', in the afternoon 'днем'].
У некоторых конкретных глаголов могут быть
специфические требования на выбор предлогов, приводящие к
исключениям из перечисленных обобщений il.
Расположение предлога перед существительным может
быть обеспечено либо правилом подстановки,
развертывающим символ падежа в сочетание Prep + NP (Предлог +
NP), либо тем, что предлог входит в NP в качестве
обязательной составляющей. Я предпочитаю первое, хотя
причины выбора того или иного из этих решений не особенно
ясны. «Универсальный» характер базовых правил
сохраняется, если предположить, что и предлоги, и послелоги,
и падежные аффиксы независимо от того, являются ли они
семантически релевантными или нет, представляют собой
на самом деле реализации одного и того же глубинного
элемента — скажем', элемента К (от Kasus 'падеж'). Тогда
можно считать, что для всех символов падежей действует
правило подстановки, развертывающее их в сочетание
К+ NP.
В каждом английском предложении, по крайней мере с
формальной точки зрения, есть поверхностное подлежащее.
Для большинства комбинаций падежей существует
«предпочтительный», или «немаркированный», вариант выбора
подлежащего, а для некоторых комбинаций падежей разных
41 Так, глагол blame 'обвинять' выбирает («управляет») предлог
for для падежа О и предлог on для падежа D. Для падежа О у глагола
look в значении 'смотреть' берется предлог at, в значении 'искать' —
предлог for, у глагола listen 'слушать' — предлог to и т. д.
Первоначальный выбор предлога может быть изменен в результате действия
трансформаций: правила образования поверхностных подлежащих
и прямых дополнений убирают предлоги (замещают их нулем), а
правила образования отглагольных существительных (точнее, правила
образования именных групп из предложений) превращают некоторые
исходные падежные формы в эквиваленты генитива, либо заменяя
выбранный ранее предлог предлогом of, либо иногда убирая исходный
предлог и добавляя к имени аффикс «генитива».
418
вариантов выбора подлежащего практически даже и нет —
подлежащее определено однозначно. В общем случае выбор
«немаркированного» подлежащего происходит, скорее
всего, по следующему правилу:
(54) Если имеется падеж А, то он и становится
подлежащим; если его нет, но есть падеж I, то
подлежащим становится этот I; во всех прочих случаях
подлежащее — это О.
Предположим, например, что базовым представлением
определенного предложения является структура 55 *:
Past
Прош.
вр.
open
'открыть
Поскольку в этом предложении имеется только одна
падежная категория, она обязательно выносится вперед (и
* Здесь и ниже в примерах НС-структур дается пословный перевод
терминальных символов в базовой НС-структуре (первой в
последовательности структур, образующих трансформационный вывод
предложения) и достаточно гладкий перевод всей терминальной цепочки в
последней структуре вывода. Переводы в промежуточных структурах
редакция сочла возможным ие приводить. — Прим. ред.
419
тем самым становится непосредственно подчиненной
категории S), где к ней затем должна быть применена
трансформация элиминации предлога у подлежащего. Иными
словами, на некотором шаге вывода данное предложение
принимает вид 56:
open
Правило элиминации предлога убирает предлог и стирает
метку падежа. После применения этого правила
предложение выглядит уже так, как показано на схеме 57:
(57)
open
420
Окончательная поверхностная форма предложения,
представленная на схеме 58, получается в результате слияния
показателя времени с глаголом:
(58)
NP P
л,
d M
. the door ш opened
'дверь открылась'
У всякой базовой конфигурации, содержащей А, нужно
различать «нормальный» и «ненормальный» 42 выбор
подлежащего. Выбор в качестве подлежащего падежа А в
соответствии с правилом, предложенным в правиле 54, не
влечет за собой никакой модификации глагола. Изменения,
наблюдаемые при переходе от схемы 59 к схеме 60,
отражают действие правила выноса подлежащего в начальную
позицию; при переходе от 60 к 61 происходит элиминация
предлога у подлежащего, а переход от 61 к 62 показывает,
как работает третье правило — элиминация предлога у
прямого дополнения 43. Окончательная поверхностная
структура предложения с глубинной структурой 59
представлена на схеме 63 (схемы 59, 60 см. на с. 422; схемы
61, 62 —на с. 423; а схему 63 — на с. 424).
Если заметить, что глагол give 'давать' относится к глаго-
42 Предлагаемые термины не надо принимать всерьез.
43 Глаголы классифицируются в зависимости от того, требуют ли
они элиминации предлога у непосредственно следующей за ними
падежной группы, то есть в зависимости от того, «принимают» ли они
прямое дополнение. В случае наличия у глагола такого свойства, оно
может быть отменено или изменено позже в результате действия
трансформаций,
421
(59)
8
Past give
Прош. 'дать'
ер.
the books to my brother by John
'книги' 'для' 'мой' 'брат' 'пос- 'Джон'
редст-
вом'
by John Past give
the books to my brother
422
(61)
John Fast giys 0 the books to my brother
John Past give the books to my brother
423
(S3)
s
John
'Джон дал
моему
brother
брату'
лам, которые, имея А в качестве подлежащего, допускают
в качестве прямого дополнения либо О, либо D, то как
альтернативный поверхностный вариант для глубинной
структуры 59 может быть указана структура 64 (предполагается,
что элиминация падежных меток происходит тогда, когда
уже «элиминированы» нулевые К-элементы),
(64)
John
'Джон
ту
моему
brother
брату
books
книги'
424
Как указывалось в обобщении 54 (пригодном для
английского языка), при «нормальном» выборе подлежащего в
предложениях, содержащих А, им оказывается А. Глагол
give допускает также в качестве подлежащего либо О,
либо D, но при том условии, чтобы этот «ненормальный» выбор
был «зарегистрирован» в глаголе. Такая «регистрация»
«ненормального» подлежащего осуществляется посредством
приписывания глаголу признака [+passive]
([-{-пассивный]). Приписывание этого признака сопровождается
следующими тремя эффектами: глагол теряет свойство
элиминировать предлог при прямом дополнении, он теряет свою
способность притягивать показатель времени (при том, что
становится обязательным автоматическое включение
вспомогательного глагола be в составляющую М), а позиция
глагола должна быть заполнена теперь особой
«пассивной» формой (то есть given). Последовательность
структур 65—68 отражает последовательность шагов вывода
John
предложения в случае выбора падежа О в качестве
подлежащего, а последовательность 69—73 показывает,
что происходит, когда в качестве подлежащего выбран
падеж D.
Мы видели, что в тех случаях, когда в предложении
представлена только одна падежная категория, поверхно-
425
(66)
the books Past give to my brother by John
426
the books were given to my brother by John
» ■ . ' * ч —' » . —
'книги были даны моему брату Джоном'
to my brother Past give 0 the books by John
* В оригинале — NP; по-видимому, опечатка.— Прим. перев.
427
К NP
my brother Past give 0 the books by John
my brother Past be give (j the books by John
428
(72)
my brother Past be given the books by John
(73)
S
NP
/\
d N
my brother was given the books by John
букв.'мой' 'брат 'был' 'дан' 'книги' 'Джоном'*
стным подлежащим должна становиться подчиненная ей
NP. Примеры 59—73 показывают нам, как быть с
предложениями, содержащими более одной падежной категории: в
них либо один заранее предопределенный падеж может
представить кандидата на роль подлежащего, не
вызывая при этом никаких изменений в глаголе, либо это же
могут сделать другие падежи, при том условии, однако,
* В данном предложении реализуется специфическая английская
конструкция с глаголом give 'давать', не имеющая эквивалентов в
русском языке. По оформлению актантов наиболее близким к английскому
тексту будет перевод 'Мой брат получил книги от Джона'.— Прим.
перев.
429
что «памятка» об этом факте будет присоединена к
глаголу.
Для большинства глаголов, «управляющих» более чем
одной падежной категорией,'та из них, которой
предписывается быть подлежащим, задается самим глаголом. Из
глаголов, которые могут выступать в рамке [ О -f- D],
глаголы please 'доставлять удовольствие', belong
'принадлежать', interesting '(быть) интересным' и другие
«выбирают» в качестве подлежащего падеж О, а глаголы like
'любить', want 'хотеть', think 'думать' наряду с другими
глаголами — падеж D **.
Иногда подлежащие создаются не путем передвижения
одного из падежных элементов в позицию «подлежащего»,
а путем копирования некоторого элемента и помещения в эту
позицию полученной копии. По-видимому, такая ситуация
является следствием позиционного определения понятия
«подлежащее» в английском языке и обусловлена
использованием элементов, сугубо формально признаваемых
подлежащими 16.
Копирование с последующей заменой на местоименное
слово может быть проиллюстрировано на примере придаточ-
44 Как отмечалось выше, мы считаем, что наблюдаемые здесь
различия представляют собой всего лишь идиосинкретические
синтаксические свойства этих глаголов, и поэтому мы рассматриваем
исторические изменения у глаголов типа like, want и think от состояния с О-
подлежащим к состоянию с D-подлежащим просто как частности,
связанные с правилами выбора подлежащего в нашем языке. Иными
словами, мы не обязаны соглашаться с Есперсеном, когда он описывает
происшедший в истории английского языка переход от употребления
выражений типа him like oysters 'ему нравятся устрицы' к
употреблению выражений типа he likes oysters 'он любит устриц' как переход,
отражающий изменение в «значении» глагола like от чего-то вроде
'быть приятным (кому-либо)' к чему-то вроде 'находить удовольствие
(в чем-либо)' (Jespersen, 1924, р. 160; русск. перев.:
Есперсен, 1958, с. 182). Это изменение является, по-видимому, просто
результатом взаимного влияния двух поверхностных процессов: выбора
первого слова в качестве подлежащего и установления глагольного
согласования.
4- Из того, что в простом предложении ни один падеж не
встречается дважды, следует, что можно строить все подлежащие
посредством трансформации копирования. Получающиеся предложения с
двумя «экземплярами» одной и той же NP в одном и том же падеже
подвергаются тогда одному из следующих преобразований: либо
второй «экземпляр» элиминируется или заменяется местоименным словом,
либо местоименным словом заменяется первый «экземпляр».
430
ных предложений с союзом that 'что*. «Глагол» true 'верно'
выступает в падежной рамке [ S], то есть в
синтаксической структуре со следующей конфигурацией:
174) Р
(75)
Наст
вр.
true
'верно'
t that John likes Mary
что Джон любит Мэри'
that John likes Mary
that John likes Mary
431
Поскольку здесь есть только один падежный элемент,
подлежащим по необходимости становится именно он. В
данном случае требуется также, чтобы для введения
придаточного предложения наличествовал элемент that. При помощи
трансформации образования подлежащего-копии из 75
выводится 76 (см. с. 431).
В структуре 76 производится либо элиминирование
второго экземпляра придаточного предложения, что приводит
к структуре 77, либо замещение местоимением первого
экземпляра, что дает нам 78.
(77)
that John likes Mary Pres
'что Джон любит Мэри' Наст,
ер.
be true
'есть' 'верно'
(78)
■ it Pres be true thet John likas Mary
■Это Наст. есть верно' 'что Джон любит Мэри'
вр.
Глаголы, обозначающие метеорологические условия,
имеют рамочный признак + [ L]. Взяв в качестве
примера слово hot 'жарко', выступающее в такой рамке, мы
можем построить предложение, глубинная структура кото-
432
рого представлена на схеме 79. Из 79 посредством
образования подлежащего-копии получаем 80. В результате
элиминации второго экземпляра падежного элемента L (и
элиминации предлога при подлежащем) структура 80
преобразуется в структуру 81; в то же время, если первый
экземпляр падежного элемента L заменяется соответствующим
местоимением (в данном контексте — it), то в результате
получается структура 82 4в.
(79) S
к NP
4
Pres hot in th» studio _
Наст. 'жарко' 'в' v—■" <
ер- 'студия'
*
При определенных условиях первый экземпляр
падежного элемента может быть замещен эксплетивным
местоименным наречием there. Падежная рамка [ О + U может
быть заполнена «пустым» глаголом (то есть нулевой
лексемой). В таком случае (то есть в случае безглагольного
предложения) может потребоваться введение элемента be 'быть'
46 Возможно, что правильный анализ копирования подлежащего
должен быть несколько иным. Есть основания полагать, что при
замене местоимением первого экземпляра падежного элемента второй
экземпляр оказывается вне пропозиционной составляющей Р, то есть
он «вынесен» из нее <extraposed> в смысле Розенбаума. Если это
действительно так, то тогда, поскольку вывод предложений с применением
«вынесения» все равно происходит в два шага, можно считать, что
подлежащее-придаточное предложение образуется не путем копирования,
а обычным способом, а затем оно «выносится» из предложения,
оставляя вместо себя «след» в виде эксплетивного местоимения it.
Примеры и анализ выражений с глаголами, обозначающими
метеорологические явления, взяты из работы Langendoen, 1966.
433
(80)
S
К NP
/\
d NP
■
/
L
к^\
К NP
y\
i H
hot
(есть) жаркая*
hot in
'жарко в студии'
studij
434
й cdcfЗйЛяющую М, что мы уже йиДеЛй, во-первых, й случае
глаголов, являющихся на самом деле прилагательными,
а во-вторых, в случае глаголов, которые были
модифицированы посредством добавления к ним признака [+
пассив]. Для безглагольных предложений типа [ О + L]
в качестве «нормального» подлежащего обычно выбирается
О. Тогда из структуры 83 мы получаем сначала структуру
84, а затем в конце концов структуру 85,
(83)
V
0
/Ч
К NP К NP
/\
(
i
\1
/\
(
I N
ftes
Наст.
вр.
0
9
many
'много'
toys
'игрушки'
in
'в'
the box.
'коробка'
(84>
О many toys Pras 0 in the I «
435
(85)
S
many toys are
'много игрушек есть
the box
коробке'
<8F
К NP
/\
d N
1
/
0
L
/4 /\
К NP К NP
/\
J
\l
/\
(
N
tha
box Pres
many toys
the box
Другой альтернативой является выбор в качестве
подлежащего второго экземпляра падежного элемента L.
Тогда из структуры 83 можно получить структуру 86.
В безглагольных предложениях
местоимением-заместителем для падежа L является эксплетивное (безударное)
местоименное наречие there. Посредством замещения этим
местоименным элементом падежа L, стоящего в позиции
подлежащего, из 86 получается 87; при этом в структуре
87 уже осуществлено то вынесение второго экземпляра
падежа L, которое предлагалось в сноске 46.
436
(87)
S
L M NP ^?
A y\
i N К NP
A
t thera are many toys
-^— у — r
'в коробке много игрушек'
Вместо замещения первого экземпляра падежного
элемента L эксплетивным there можно сохранить эту первую NP,
реализующую падеж L, в качестве подлежащего. При
таком решении потребуется обычная прономинализация
повторяющейся NP. Кроме того, при этом решении
потребуется мена глагола: позиция глагола, до сих пор пустая,
должна быть заполнена служебным глаголом have 'иметь'47.
Поскольку have — это ненулевой глагол, время может
включиться в него, и тогда отпадает необходимость во
введении вспомогательного элемента be в составляющую М.
В результате выбора первого L в качестве подлежащего
после применения трансформаций элиминирования
предлога при подлежащем, вставления глагола have,
элиминирования предлога при прямом дополнении,
прономинализации повторяющейся NP и присоединения морфемы
времени возникает структура 88.
Общая установка, которой я придерживаюсь по
отношению к глаголу have, состоит в том, что в безглагольных
предложениях (то есть в таких, где составляющая V есть, но она
лексически пуста) вставление глагола have обязательно
при условии, что подлежащим является такая NP, которая
происходит не из падежа О. Наиболее наглядно такой слу-
47 О новых доводах в пользу того, что глаголы be 'быть' и have
'иметь' во всех их значениях должны вводиться трансформациями, см.
Bach, 1967. Для предложений со значением существования более
тщательное описание можно найти в L ее, 1967.
the box
437
№
NP
A
d N
the box
буке, Kopob- имеет много игру- в себе'
ка щек
чай представлен употреблением пустого глагола в рамке
[ О + D]; в этом контексте подлежащим в английском
языке должен становиться падежный элемент D, что дает
нам типичные предложения с глаголом have. В других
языках, например во французском, встречаются контексты,
где выбор подлежащего кажется произвольным — это
ситуации, в которых выражение вида X a Y 'X имеет Y'
является перифразой выражения вида 'Y est a X' 'Y есть у
Х-а' В третьих же языках, например в эстонском, вообще
нет глаголов, эквивалентных английскому have 48.
Некоторые языки используют процессы образования
подлежащего, но, кроме того, как было показано на
примере английского языка, в них имеют место, по-видимому,
и аналогичные процессы образования прямого дополнения,
и в результате в поверхностной структуре та или иная
именная группа оказывается более тесно связанной с
глаголом, чем другие.
Тот факт, что понятие прямого дополнения носит скорее
формальный, чем чисто содержательный характер, был
замечен еще Есперсеном. Его примеры (J espersen, 1924,
48 Еще одна ситуация, в которой требуется введение глагола have,
чтобы описать соотношение между такими парами предложений, как
(i) и (ii), рассматривается ниже, в разделе о неотчуждаемой
принадлежности.
i. My knee is sore. 'Моя коленка содрана.'
ii. I have a sore knee. букв. 'Я имею содранную коленку.'
438
has many toys in it
p. 162) демонстрируют наличие перифрастических
отношений между разными структурами (типа 89 и 90) внутри
одного языка и различия в оформлении содержательно
одинаковых конструкций (типа 91 и 92) в разных языках,
(89) present something to a person
'подарить что-либо некоторому лицу'
(90) present a person with something
'одарить некоторое лицо чем-либо'
(91) furnish someone with something
'обеспечивать кого-либо чем-либо'
(92) fournir quelque chose д. quelqu'un
'обеспечивать что-либо кому-либо'.
Исследуя такие явления, Барбара Холл принимала
одну из двух форм построения предложения за исходную, а
другую считала производной от нее. В соответствии с ее
анализом «производное подлежащее» возможно только в
том случае, когда нет «глубинного подлежащего»; в то же
время «производное прямое дополнение» обладает
свойством вытеснять исходное прямое дополнение, если оно
присутствует в глубинной структуре, с его места и добавлять
к нему предлог with, В число примеров Барбары Холл
входят и пары 93—94 и 95—96.
(93) John smeared paint on the wall.
'Джон мазал краску на стену.'
(94) John smeared the wall with paint.
'Джон мазал стену краской.'
(95) John planted peas and corn in his garden.
'Джон посадил горох и кукурузу в своем саду/
(96) John planted his garden with peas and corn.
'Джон засадил свой сад горохом и кукурузой.'
Барбарой Холл были предложены и соответствующие
правила, обеспечивающие перемещение элемента с локативным
значением (the wall и his garden в предложениях 93 и 95
соответственно) в позицию прямого дополнения и
приписывание бывшему прямому дополнению предлога with.
Встав на точку зрения, принятую в настоящей работе,
будет столь же просто считать, что и у элемента on the
wall, и у элемента with paint предлоги представлены в
глубинной структуре с самого начала (как средства выражения
падежных элементов L и I), а глагол smear 'мазать' имеет
такое синтаксическое свойство, что любой элемент,
выбранный в качестве его «прямого дополнения», должен быть по-
439
мещен непосредственно после него и должен утратить свой
предлог. (В других языках соответствующий процесс может
быть представлен как превращение исходного значения
падежа в «аккузатив»48.)
Во всех случаях, где имеет место процесс образования
подлежащего, этот процесс заканчивается тем, что глубин-
49 Трансформационная трактовка подлежащих и дополнений
наталкивается на некоторые семантические трудности того порядка, что
выбор разных именных групп в качестве подлежащего или дополнения
часто сопровождается семантическими различиями того или иного
рода. Эти различия, будучи чрезвычайно тонкими, более, чем какие-
либо другие, связаны с установлением «фокуса» и, скорее всего, все-
таки не требуют фиксации «подлежащих» и «дополнений» еще на уровне
глубинной структуры. Между двумя «фокусами» может быть крайне
слабая разница, как, например, в парах i — ii и Hi — iv, или же в
нее может быть внесено несколько больше «познавательного
содержания», как, например, в парах v — vi и vii — viii:
ь Mary has the children with her.
букв. 'Мэри имеет (своих) детей с собой.'
ii. The children are with Mary.
'Дети — (вместе) с Мэри.'
iii. He blamed the accident on John.
'Он свалил-вину-за аварию на Джона.'
iv. He blamed John for the accident.
'Он осудил Джона за аварию.'
v. Bees are swarming in the garden.
'Пчелы кишат в саду.'
vi. The garden is swarming with bees.
'Сад кишит пчелами.'
vii. He sprayed paint on the wall.
'Он распылял краску на стену.'
viii. He sprayed the wall with paint.
'Ои опылил стену краской.'
В случае предложения vi, скорее всего, предполагается, что пчелами
заполнен весь сад, тогда как для v это неверно; из предложения viii
следует, что краской оказалась покрыта вся стена целиком, чего нельзя
заключить из предложения vii.
Для других грамматик, пользующихся понятиями производного
подлежащего и производного прямого дополнения (а для грамматик с
противопоставлением подлежащего и дополнений это представляется
единственно возможной альтернативой к тому, чтобы рассматривать
глаголы типа spray 'распылять; опылить', blame 'осуждать, сваливать
вину', open 'открывать(ся)', break 'ломаться' как запутанные и иначе
необъяснимые случаи омонимии), указанные семантические сложности
оказываются столь же серьезными, как и для падежной грамматики.
Поскольку «семантический эффект» соответствующих трансформаций
оказывается по своей сути слишком далеким от семантических ролей
самих падежных отношений и поскольку падежные отношения этими
процессами не затрагиваются, я склоняюсь к тому, чтобы снова считать
допустимым присутствие в грамматической теории трансформаций,
влияющих на семантику (в этих очень узких пределах).
440
ные падежные различия нейтрализуются, сводясь к одной
и той же форме, обычно называемой «номинативом». Во всех
случаях, где имеет место процесс образования прямого
дополнения, он также вызывает нейтрализацию падежных
различий, сводя их к одной и той же форме, которая
традиционно именуется «аккузативом», при том условии,
что она отлична от формы, придаваемой подлежащему.
Третьим процессом, приводящим к стиранию падежных
различий, имевших место в глубинной структуре,
является номинализация предложений. В число
падежных модификаций, возникающих при трансформациях
номинализации, обычно входит то, что называется
«генитивом».
Коротко упомянув выше о таких ситуациях, когда
имеется узел S, над которым доминирует падежный
элемент О, я указывал тем самым один возможный способ
описания в рамках падежной грамматики структуры таких
предложений, в которых глагол или прилагательное
выступает как грамматическое дополнение к некоторому слову *.
Другой источник вывода придаточных предложений
находится внутри самой NP. Правило развертывания NP может
выглядеть следующим образом:
(97) NP->N (S)
Если N — это обычная лексическая единица, а в
примыкающем к ней S содержится кореферентная копия того же
самого имени N, то результатом является именная группа,
состоящая из имени существительного, которое имеет при
себе определение в виде придаточного определительного
предложения. Придаточные определительные, которые
сами по себе принимали бы форму X has Y 'X имеет Y', как
раз и представляются одним из наиболее очевидных
источников генитива. Имя N в составе NP, к которой относится
придаточное определительное, тождественно имени N,
реализующему падеж D в придаточном предложении, а глагол
V — пустой. Таким образом, из структуры 98 мы
получаем 99 посредством элиминации повторяющегося имени,
показателя времени и «пустого» глагола, а также
возвращения падежа D к «главной» NP,
* Здесь имеется в виду такой глагол или прилагательное, который
является главным словом придаточного предложения S, образующего
собственно дополнение.— Прим. перев.
441
(98)
К NP К NP
books Pres 0 0 books to John
(99)
Win books
(100)
John
'Джоновы книги'
boolu
D, присоединяясь к NP, модифицирует свой падежный
показатель — в данном случае в сибилянтный суффикс.
См. 100 на с. 442.
Источником «истинно посессивной» конструкции,
выступающей в английском языке либо в форме X's Y, либо в
форме Y of X, служит предложение, которое в самостоятельных
употреблениях имело бы форму X has Y 'X имеет Y'. Тот
факт, что в некоторых языках встречаются случаи
приименного D, не превращаемого в «генитив» (dem Vater sein
Haus 'дом отца', букв, 'отцу его дом' —«датив обладания»),
подтверждает точку зрения, согласно которой превращение
падежа D в «генитив» присуще поверхностной структуре.
Для отглагольных существительных мне представляется
наиболее удовлетворительной следующая интерпретация:
образование существительных от глаголов, за исключением
вполне продуктивных случаев,— это факт истории языка,
а не его синхронного состояния. Синхронное описание
действительности состоит в констатации того, что данное
существительное находится в некотором особом отношении
с определенным глаголом (или множеством глаголов) и что
одни из таких существительных могут, а другие должны
выступать в составе именной группы в рамке [ S].
Иными словами, вместо того, чтобы иметь в грамматике
синхронный процесс образования таких слов, как,
например, лат. amor 'любовь', от соответствующего глагола,
достаточно отнести такое слово к классу абстрактных
существительных и указать, что оно состоит в некотором
определенном отношении с глаголом ато 'любить' ?°.
Существительное, состоящее в подобном специальном отношении с
тем или иным глаголом, может участвовать в таком
процессе, при котором в именную группу включаются
элементы, зависевшие в глубинной структуре от «исходного»
глагола. Этот процесс часто приводит к тому, что форма
зависевших от глагола NP превращается в генитив 6l. Так, на-
50 Такой подход позволяет описывать аналогичным образом и
существительные, не имеющие этимологической связи с
соответствующими глаголами. Мы могли бы при желании усматривать связь такого
же рода между словом book 'книга' и глаголом write 'писать',
позволяющую объяснить неоднозначность словосочетания your book 'твоя
книга', которое можно понять и как 'книга, которой ты владеешь'
(обычное определение в виде придаточного предложения) и как 'книга,
которую ты написал'.
°х Какие именно универсальные ограничения накладываются на
элемент, обращаемый в генитив, и накладываются ли они вообще,
443
пример, существительное amor 'любовь' в том случае,
когда оно имеет в качестве определения предложение вида
deus amat... 'бог любит...',дает на поверхностном уровне
словосочетание amor dei 'любовь бога', а когда оно
определяется предложением вида deum amat... 'бога любит...',
то результатом вновь оказывается словосочетание amor dei
'любовь к богу'. Другими словами, и D-формы и О-формы
равным образом сводятся к генитиву; и тогда, если в
соответствующем определительном придаточном предложении
было только одно имя, в результате возникает
потенциальная неоднозначность 5а.
далеко не ясно. Чаще всего, если внутри данной NP есть только одно
зависимое существительное, то оно и принимает форму генитива.
Сравним неоднозначное предложение i с предложениями п и ш.
ь My instructions were impossible to carry out.
'Мои инструкции было невозможно выполнить.'
(a) so I quit.
'так что я и не стал делагь этого'
(b) so he quit.
'так что он и не стал делать этого'
ii. My instructions to you are to go there.
'Мои инструкции для вас — отправляться туда.'
Hi. *My your instructions are to go there.
'*Мои ваши инструкции — отправляться туда.'
Если в английском предложении, служащем источником номинализо-
ванной именной группы, есть две разных NP, удовлетворяющих
условиям образования генитива с предлогом of и генитива на -'s,
то оказывается возможной конструкция с несколькими
генитивами, вроде той, которую мы обнаруживаем в следующем примере
Есперсена:
iv. Gainesborough's portrait of the duchess of Devonshire.
'Портрет (работы) Гейнсборо герцогини Девоншир.'
В японском языке допускается обращение именных групп в
генитив как в настоящих, так и в свернутых придаточных определительных
предложениях. Предложение vi является перифразой предложения v;
по — это послелог, который по своим функциям ближе всего к тому,
что мы бы назвали генитивом:
v. Boku ga yonda zasshi.
'Я + показатель подлежащего + читать — прош. вр.+
+ журнал'
'Журналы, которые я читал.'
vi. Boku no yonda zasshi.
62 Есперсен предложил считать, что неоднозначность
словосочетания amor dei сосредоточена не столько в существительном, сколько
в глаголе: существительное однозначно отождествляется с подлежащим,
а глагол может неоднозначно трактоваться либо как активный, либо
444
4. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ
На основе того, что было сказано, складывается
примерно следующее представление об универсальной грамматике:
в глубинной структуре предложения во всех языках
имеется пропозиционное ядро, состоящее из глагола V и одной
или более именных групп NP, каждая из которых
находится в особом падежном отношении к ядру Р (и,
следовательно, к глаголу V). Именно на этом самом «глубинном»
уровне следует искать наиболее явные черты сходства
между глубинными структурами предложений в разных
языках.
Правило лексического заполнения для глаголов
чувствительно реагирует на наличие в ядре Р определенного
набора падежей. Поскольку в падежной грамматике нет
необходимости различать «признаки синтаксических
подклассов» <strict subcategorization features) и по крайней мере те
«сочетаемостные признаки» <selectional features), которые
обычно учитываются на самом высоком уровне
НС-структуры (потому что существует избыточная информация об
отношениях между падежами и некоторыми семантическими
признаками лексем, а также потому, что в нашей
грамматике нет «подлежащего» вне VP, для которого признаки
должны были бы указываться отдельно), постольку правило
лексического заполнения глубинной структуры для
глаголов можно считать строго локальной трансформацией, при
применении которой не учитывается ничего, кроме падежей,
непосредственно входящих в одну составляющую с V (за
исключением еще того, что, как отмечалось выше, должно
быть известно, является ли элемент О именной группой, то
есть NP, или предложением, то есть S).
Исходя из сказанного выше напрашиваются следующие
критерии типологической классификации:
I. Наличие или отсутствие таких специальных форм
у NP, которые обусловлены соответствующими
глубинно-падежными категориями
как пассивный. Это предположение следует понимать как гипотезу о
том, что генитивным определением к отглагольному существительному
может служить только та именная составляющая, которая может быть
трансформирована в поверхностное подлежащее (при исходном
глаголе). Вполне вероятно, что для английского языка эта гипотеза верна
(см. Jespersen, 1924, р. 170; русск. перев.: Есперсен, 1958,
с. 194).
445
A. Природа таких форм (предлоги, аффиксы или что-
либо другое)
B. Условия выбора конкретных падежных форм (в
простейшем виде эти условия образуют то, что
обычно подается в качестве «падежной системы»
данного языка)
II. Наличие или отсутствие модификаций согласования
глагола
A. Природа этого согласования (согласование по
числу, инкорпорация в глагольную форму «следов»
падежных элементов, изменение синтаксических
признаков у глагола)
B. Отношение глагола к выбору подлежащего
(выдвижение темы предложения)
III. Природа анафорических процессов
A. Тип процессов (замена на местоимение,
элиминация, ослабление ударения, замена на безударный
вариант или что-либо другое)
B. Условия применения
IV. Процессы коммуникативного выделения <topicaliza-
tion> (где «выбор подлежащего» при этом может
рассматриваться как частный случай
коммуникативного выделения)
A. Формальная характеристика процессов (вынос
составляющих в начальную позицию <fronting>,
изменение падежных форм или что-либо
другое)
B. Разнообразие способов коммуникативного
выделения в одном и том же языке
V. Возможности выбора порядка слов
A. Факторы, определяющие «нейтральный» порядок
слов (природа падежных категорий,
«ранжирование» именных классов, выбор темы или что-либо
другое)
B. Условия, определяющие или ограничивающие
стилистические изменения порядка слов
Важно понимать, что все эти типологические критерии
основаны на учете поверхностных процессов, и нет особенных
оснований a priori рассчитывать на то, что группировка
языков мира на основании различных критериев окажется
в значительной степени сходной.
446
4.1. Основания для определения падежных форм
Форма именных групп в составе Р определяется на
основе множества факторов, одним из которых является
падежная категория именной группы. Так, именная группа,
над которой в НС-структуре доминирует категориальный
символ падежа I (то есть имя-инструмент), получает ту
или иную конкретную форму, целиком или частично
зависящую от того, что над данной группой доминирует именно
падеж I.
Система падежных форм именных групп особенно
развита у личных местоимений. Изучение систем местоимений
с «падежной» точки зрения раскрывает многие тонкости,
касающиеся многообразия тех отношений, которые могут
наблюдаться между глубинными и поверхностными
падежами.
Типологические различительные признаки, введенные
Сепиром (S a p i г, 1917) для местоименных систем языков
американских индейцев, в терминах падежной грамматики
могут быть выражены очень просто. Если не принимать
во внимание всякие сложности, которые могут иметь место
в «пассивных» конструкциях, и если пренебречь всеми
глубинными падежами, за исключением А и О, то можно
представить себе следующие три типа предложений (заданные
глубинной формой их препозиционного компонента):
(а) V + A предложения с активным «субъектом»
при непереходном глаголе;
(б) V + 0 + A предложения с переходным глаголом и
с выраженным при нем агенсом;
(в) V + 0 предложения с неактивным «субъектом»
при непереходном глаголе.
Поскольку элемент V одинаково присутствует во всех этих
формулах, мы можем представить эти три типа
предложений, записав их падежные рамки в три строки, следующим
образом:
(101)
А
О А
О
447
Тогда, по Сепиру, получается, что есть языки, в которых,
как в языке яна <Yana>, существует ровно одна форма для
местоимений, выступающих во всех этих четырех
позициях:
Есть языки типа языка пайют <Paiute>, в которых
присутствует отдельная форма для элемента О в предложении с
переходным глаголом, в то время как все прочие формы
совпадают. Такие две формы традиционно называются
«номинативом» и «аккузативом».
(103)
accusative
nominative
Есть языки типа языка чинук <Chinook>, в которых одна
форма приписывается элементу А в предложении с
переходным глаголом, а другая форма — всем прочим падежам.
При таком противопоставлении эти две формы часто
называют «эргативом» и «номинативом».
(104)
nominative
ergativs
448
Есть языки типа языка дакота <Dakota>, в которых
существуют отдельные формы для элемента А и для элемента О;
в таких случаях обычно говорят об «активном» и
«неактивном» падеже.
(105) ^_^^
^—-^ -A N^—active
inactive ——V I
И наконец, может иметь место ситуация, наблюдаемая в
языке такелма <Takelma>, когда существует одна форма для
местоименной NP в предложениях с непереходным
глаголом и две отдельных формы для А и О в предложениях с
переходным глаголом. Таким образом:
(108) > ^
(А ^Ч
ООН
о
Эти наблюдения приведены здесь мною всего лишь в
расчете на то, что, если я правильно понимаю проведенный
Сепиром анализ местоименных систем в этих языках, то
рассмотренные мною падежные элементы в совокупности
с понятием типов элементарных предложений,
которые определяют различные их Наборы, могут с успехом слу»
жить категориальной и конфигурационной информацией
для определения поверхностных различий, обнаруживаемых
в данных языках.
449
4.2. Глагольное согласование
Всеми этими различными способами — наряду со
многими другими — падежи и падежные окружения влияют на
определение падежных форм именных составляющих,
входящих в Р. Дополнительным фактором в языках, в которых
наблюдаются процессы образования подлежащего,
является выбор данной NP в качестве подлежащего. Выбор
подлежащего, или темы (topic), связан также еще с одним
аспектом поверхностной структуры предложений, а именно —
е глагольным согласованием.
В английском языке выбор подлежащего всегда
сопровождается согласованием по числу (у тех глагольных и
вспомогательных элементов, которые способны выражать
согласование по числу). Помимо согласования по числу
выбор подлежащего может сказываться на глаголе таким
образом, что глагол переводится в пассив или же в предложение
вводится глагол have 'иметь'.
Информация, «регистрируемая» в глаголе, может быть
связана только с выбором одного подлежащего, как в
английском, или может иосить более сложный характер.
Язык, в котором в глагол «инкорпорируются» местоименные
аффиксы, допускает подобные явления одновременно для
более чем одной NP; иногда же в глагольное выражение
могут инкорпорироваться сами корни существительных,
реализующих определенные падежи 8*.
Обсуждавшиеся выше правила выбора подлежащего в
английском языке можно сравнить с процессами выбора
темы (топикализацией), засвидетельствованными в
филиппинских языках. Ситуация, имеющая место в языке маранао,
недавно была описана Мак-Кауганом. В каждом
предложении одна из NP выбирается в качестве темы, и этот выбор
отражается следующим образом: предлог, выражавший
исконный падеж этой NP, замещается показателем so, а в
глагол вводится аффикс, показывающий исходную
падежную категорию выбранной NP. В выборе темы, по-видимому,
существует достаточная свобода. Так, например, для
глагола, обозначающего 'забивать, разделывать'' (/sombalP/),
мы наблюдаем следующее: если темой является существи-
63 Грамматические средства, позволяющие описывать согласование
этого типа, были разработаны для языка могавк Полом М. Посталом
(Postal, 1963).
450
тельное, которое исходно выступало в падеже I, то глагол
принимает префикс /i-/, что видно в предложении 108, а
если темой становится прежний падеж В, то к глаголу
прибавляется суффикс /-an/, как видно иэ 109.
(107) somombali' so mama' sa karabao.
'Разделывает человек карабао *.'
(то есть 'Человек разделывает карабао.')
(108) isombali' о mama' so gelat ko karabao.
'Разделывает человек ножом карабао.'
('Это ножом человек разделывает карабао.')
(109) sombali'ara о mama' so major sa karabao.
'Разделывает человек для майора карабао.'
(то есть 'Это для майора человек разделывает
карабао.') l\
Выбором в качестве подлежащего, или в качестве
«темы», предложения некоторой именной составляющей,
реализующей определенный падеж, по-видимому, лучше всего
объясняется многообразие залоговых модификаций
глагола, таких, например, как те, что фигурируют под
названиями среднего, псевдовозвратного залогов и т. п. в описаниях
индоевропейских языков.
4.3. Анафорические процессы
Наилучшее понимание анафорических процессов
достигается с позиций расширенного представления о сочинении
предложений, а именно: во всяком языке существуют
средства упрощения предложений, соединенных
сочинительными или подчинительными союзами, и те процессы, которые
имеют место в этих условиях, являются, по-видимому,
точно такими же, как и в случае предложений, связанных
между собой в пределах текста. Таким образом, задача
лингвиста состоит в том, чтобы описать, как происходят эти
процессы в предложениях, понимаемых независимо друг от
друга, а затем предположить, что высказывания в связных
текстах или диалогах могут быть поняты наилучшим обра-
* Карабао — вид буйвола (так называемый «водяной буйвол»),
разводимый на Филиппинских островах.— Прим. перев.
5* См. McKaughan, 1962. Примеры и описание отношений
взяты из этой работы, однако моя интерпретация во многом
основывается на догадках.
15*
481
som исходя из того, что и говорящий, и слушающий обладают
некоторыми общими знаниями об анафорических процессах,
имеющих место в данном языке 66. Поэтому тот факт, что
в английском языке в подобных анафорических или
сокращенных формах происходит замена в тех условиях, в
которых в других языках требовалась бы элиминация, может
рассматриваться как одно из поверхностных различий
между двумя языками.
Это довольно важный момент (мы уже упоминали о нем
выше в связи с «плохими» аргументами против
универсальности противопоставления «подлежащее — сказуемое»
внутри предложения), постольку поскольку отсутствие
подлежащего в окончательной поверхностной форме
предложений в некоторых языках многим ученым представляется
крайне существенным с типологической точки зрения.
Факультативное отсутствие именных составляющих в языках
с инкорпорацией личных показателей в глагол (например,
в языке чинук) привело ученых к утверждению о том, что
в таких языках отсутствуют нексусные отношения,
которые обычно трактуются европейцами как «подлежащее»
и «прямое дополнение», а вместо этого имеется нечто
описываемое как «аппозиционные» отношения между NP и V
(см. Sommerfelt, 1937). Среди языков, в которых нет
инкорпорации местоимений в глагол, некоторые ученые
различают языки с истинным противопоставлением «подле-
V Другими словами, лингвист будет описывать процесс, в
результате которого предложение i превращается в предложение п
следующим образом: он должен указать условия, при которых повторяющиеся
элементы в сочиненных предложениях могут подвергаться элиминации
или замене на местоимения и при которых к сочиненным предложениям
могут прибавляться слова типа too 'также' или either 'тоже (не)'.
i. Mary didn't want any candy and Mary didn't take any candy.
'Мэри не хотела никакой конфеты, и Мэри не взяла никакой
конфеты.'
ii. Mary didn't want any candy and she didn't take any either.
'Мэри не хотела никакой конфеты, и она не взяла никакой.'
Если в некотором контексте информация, содержащаяся в первом из
сочиненных членов, уже известна говорящему (например, он сам только
что сказал это), то носитель английского языка чувствует себя вправе
употребить сокращенную форму Hi:
Hi. She didn't take any either.
'Она и не взяла Никакой.'
Как мне кажется, нет оснований ожидать, что предложения типа iii
будут порождаться грамматикой непосредственно.
452
жащего» и «сказуемого» и языки, в которых так называемое
«подлежащее» на самом деле так же «дополняет» глагол, как
и прямое дополнение или любой из различных
обстоятельственных элементов. По мнению Мартине, подлежащее
отличается от дополнения только тогда, когда оно является
«конституирующим элементом минимального
высказывания» (Martinet, 1962а, р. 61—62), то есть если его
присутствие обязательно как в полных, так и в
анафорически сокращенных высказываниях. В японском языке
подлежащее в «минимальном высказывании» отсутствует, и,
следовательно, по логике вещей получается, что в японском
предложении отсутствует та структура
«подлежащее/сказуемое», которая имеется в более знакомых нам языках,
Для ученика Мартине Сен-Жака этот типологический
«факт» японского языка представляется необыкновенно
важным. Для понимания истинной природы японского
языка необходимо освободиться от привычных способов думать
о языке, а европеец может достигнуть этого лишь ценой
значительных умственных усилий, во всяком случае, так
уверяет нас Сен-Жак (Saint-Jacques, 1966, р. 36).
Мне же кажется, что лингвистическая типология и без того
представляет немало моментов, достойных искреннего
удивления и восхищения, так что мы вполне можем обойтись без
этого. Те интеллектуальные достижения, о которых говорит
мсье Сен-Жак, состоят всего лишь в осознании того, что,
когда приходится иметь дело с «подразумеваемой» NP, одни
люди заменяют ее местоимением, а другие просто
избавляются от нее,
4.4. Коммуникативное выделение
Четвертый критерий имеет отношение к процессам
коммуникативного выделения (топикализации), то есть к
средствам вычленения некоторой составляющей предложения в
качестве «темы» или представления ее в позиции своего рода
«фокуса». Там, где коммуникативное выделение не связано
с процессами «подчеркивания» (эмфазы) некоторой
составляющей, мы имеем дело в значительной степени с тем же
самым, что выше было названо мною «процессом
образования подлежащего», а теперь будет называться «первичным
коммуникативным выделением». Первичное
коммуникативное выделение в английском предусматривает соответствую-
453
щий порядок слов и согласование по числу; стилистические
же изменения, включающие логическое ударение,
изменения порядка слов и, возможно, конструкции с
«расщеплением предложения» *, попадают под то понятие, которое
можно было бы назвать «вторичным коммуникативным
выделением». Насколько я понимаю описание Мак-Каугана
(McKaughan, 1962, р. 47), первичное
коммуникативное выделение в языке маранао предусматривает замену
исходного предлога при существительном на so и включение
соответствующего падежного индикатора в глагол, тогда
как вторичное коммуникативное выделение производится
за счет перенесения той NP, к которой было прибавлено so,
в начало предложения. В качестве образца наследования
вторичного коммуникативного выделения можно привести
работу Эртеля по абсолютному употреблению <disjunct
use> падежей в текстах брахман 5*. Я легко могу себе
представить, что какие-то средства для осуществления
вторичного коммуникативного выделения есть во всех языках,
но вполне может быть, что процессы первичного
коммуникативного выделения (образования подлежащего) в некоторых
языках отсутствуют ",
* Конструкции с «расщеплением предложения} — это так
называемые cleft constructions, то есть характерные для английского языка
конструкции с формально выделенной ремой высказывания типа It
is to John that I spoke или It is Italian that she speaks best. В русском
языке их аналогами могут служить конструкции типа С кем я люблю
говорить — так это с дедом, или разговорные конструкции типа Это
с дедом я люблю говорить больше всего.— Прим. перев.
-• О е г t е 1, 1936. В этой работе различаются «независимое> <реп-
dent> употребление абсолютного падежа, когда вынесенная «тема»
стоит в номинативе, даже если ее исходной ролью в предложении не
была роль подлежащего (как я полагаю, это можно сравнить с
употреблением местоимения he 'он' в предложении he, I like him 'Он —так
его я люблю'), и «пролептическое> <proleptic> употребление, когда
вынесенная тема сохраняет исходную падежную форму, ставится в
начале предложения н может повторяться или не повторяться (в виде
указательного местоимения) в заключительной части предложения (это
можно сравнить с употреблением местоимения him 'его в предложении
him, I like (him) 'Это его — (его) я люблю').
?г В своем недавнем исследовании коммуникативного выделения в
детской речи Джеффри Грубер (G r u b e г, 1967) предполагает, что
онтогенетически мотивированное (в моих терминах — вторичное)
коммуникативное выделение в английском предшествует использованию
формальных подлежащих. Вероятно, в тех случаях, когда одно из
средств коммуникативного выделения становится «привычным», оно
застывает, превращаясь в формальное требование языка, и тогда уже
454
Понятие «образование подлежащего» оказывается
полезным только в тех случаях, когда в языке есть предложения,
которые допускают выбор разных подлежащих. В языках,
которые описываются как не имеющие пассивов или
допускающие для предложений с переходным глаголом только
пассивное построение, нет, по-видимому, и грамматического
оформления для первичного коммуникативного выделения.
Этот вопрос естественным образом приводит нас к
проблеме так называемых «эргативных» языков. Напоминаю,
что для местоименных систем с аккузативом схема выглядит
следующим образом!
а для систем с эргативом — так:
в
Вместе с тем, когда в языке с аккузативом выступает
пассивный вариант предложения, пропозициониая форма
которого [V О А], падежными формами элементов в таком пас-
в языке возникает необходимость развивать другие средства для
выражения мотивированного коммуникативного выделения.
Кеннет Хейл (Hale; частйая переписка, 1967) сообщил мне, что в
вальбири <Walbiri> — «эргативном» языке австралийских аборигенов —
процессы образования подлежащего, по-видимому, отсутствуют, однако
любая составляющая предложения может быть повторена после него
еще раз, а первое ее вхождение в предложение заменено на
соответствующее местоимение.
453
сивном варианте обычно являются «номинатив» для падежа
О и «агентив» (реализуемый в виде аблатива, инструмента-
лиса или чего-либо еще в зависимости от языка) для падежа
А. Если ввести пассивные предложения в нашу
трехстрочную схему, а соответствующие им активные варианты убрать,
то мы получим следующую модель:
/ А I
nonrtnattv» I о [А } esentfv»
О
что в точности совпадает с обычным способом
приписывания падежей в эргативных языках. Этот факт плюс
употребление термина «номинатив» для субъекта-при-не-
переходном-глаголе-ы-для-объекта-при-переходном-глаголе
привели многих ученых к мысли о том, что эргативный
падеж в эргативных языках можно отождествить с аген-
тивной падежной формой, выступающей в пассивных
предложениях языков с аккузативом, и, исходя из этого,
заключить, что на самом деле эргативные языки являются
языками «пассивными», то есть языками, в которых
предложения с переходным глаголом могут быть
построены только пассивно 58. В языках обеих систем падеж,
который был назван номинативом, часто описывается как
подлежащее в конструкции «подлежащее/сказуемое», а
«эргативный» элемент в одной системе и «аккузативный»
элемент в другой системе трактуются как приглагольные
дополнения (см. Trubetzkoy, 1939). Трудности
определения «подлежащего» в эргативных языках были описаны
у Мартине (Martinet, 1962b, p. 78 и ел.). Одни ученые
считают подлежащим то слово, которое было бы подлежащим
5* Заметим, что, даже если в падежных рамках [ 01 и
I 04- А] выступают разные глагольные формы, это еще не
свидетельствует о «пассивности». Как упоминалось ранее, и в неэрга-
тивных языках от одного и того же глагольного корня все равно могут
регулярно образовываться разные формы в зависимости от того,
употребляется данный глагол переходно нли непереходно.
456
в переводе предложения с эргативного языка на
французский, то есть номинатив в предложениях с непереходным
глаголом и эргатив в предложениях с переходным глаголом.
Другие принимают номинатив в качестве подлежащего всех
предложений, интерпретируя тем самым предложения с
переходным глаголом как пассивные. Лафон же (Lafon)
вообще отказывается от характеристики предложений с
переходным глаголом; он пользуется термином
«подлежащее» только для предложений с непереходным глаголом,
говоря, что в предложениях с переходным глаголом просто
нет подлежащего,
С другой стороны, Вайан выделяет в северных
кавказских языках три типа глаголов: (а) истинно непереходные,
с подлежащим в «номинативе»; (б) «оперативные
псевдопереходные», с «псевдоподлежащим» в «эргативе» и (в)
«аффективные псевдопереходные», с «псевдоподлежащим» в
«дативе» (V a i 1 1 a n t, 1936, р. 93). Представляется вполне
очевидным, что то, с чем он имеет дело,— это предложения,
у которых компонент Р относится к одному из следующих
трех типов: [V О], IV О А] и [V О D], а поверхностными
падежами для выражения элементов О, А и D являются
«номинатив», «эргатив» и «датив» соответственно. Похоже, что
сказать здесь больше нечего. Со своей стороны я бы
предпочел скорее говорить относительно эргативных языков,
что в них отсутствуют процессы образования подлежащего,
чем утверждать, что все предложения с переходным глаголом
подвергаются обязательной пассивизации, либо что
только некоторые предложения в этих языках имеют
настоящее подлежащее, тогда как в других предложениях
его нет.
Частые заявления о том, что эргативные языки будто
бы более примитивны, чем языки с аккузативом (см. Т е-
s n i ё г е, 1959, р. 112), наряду с предположением о том, что
эргативная конструкция в действительности является
пассивной конструкцией, привели к тому, что некоторые
ученые, такие, как Курилович, Шухардт и Уленбек, стали
предполагать, что для предложений с переходным глаголом
пассивная конструкция представляет собой более
примитивную стадию в процессе эволюции языка, чем активная
конструкция. К числу свидетельств, говорящих в пользу
этой точки зрения, можно отнести и то, что
индоевропейский праязык якобы был языком эргативного строя, а
также тот факт, что некоторые языки «изобрели» для себя гла-
457
голы, подобные глаголу have 'иметь', в сравнительно
недавнее время. Введение в обиход глаголов типа have сделало
возможным выражение в языке с помощью активной
конструкции некоторых временных или видовых форм глагола,
которые до того оставались незатронутыми общим
переходом от пассивного способа выражения к активному (это
видно на примере происшедшего около третьего века сдвига
от употребления выражений типа inimicus mihi occisus
est букв, 'враг мне (то есть 'мною') убит есть' и mihi illud
factum est букв, 'мне (то есть 'мною') это сделано есть'
к употреблению переходных конструкций с глаголом habeo:
inimicum occisum habeo букв, 'врага убитого имею' и habeo
illud factum букв, 'имею это сделанное' (см. van G i nn e-
ken, 1939, p. 86)).
Мне кажется весьма маловероятным, что те
синтаксические изменения, о которых нам известно при нынешнем
состоянии наших знаний, действительно способны
свидетельствовать об интеллектуальной эволюции такого типа, какой
мог бы быть признан хоть в какой-то степени таким же
потенциально значимым, каким можно представлять себе
переход от принципиально пассивного к принципиально
активному взгляду иа мир. Утверждение Ван-Гиннекена
о связи между эргативностью и «женским» характером
культур у народов, пользующихся эргативными языками,— это
еще одно утверждение, в котором можно было бы
усомниться *•.
У Следующая цитата заслуживает, как мне кажется, того, чтобы
привести ее полностью (van Ginneken, 1939, p. 91 и ел.):
«Все мы люди и у всех у нас есть два таланта: более активные
способности — иметь желания и волю и более пассивные
способности — иметь чувства и восприятия; очевидно, однако, что между
представителями двух полов в человеческом обществе в этом отношении
обнаруживается ощутимая разница.
Современная этнография, которая решительно отвергла доктрину
единообразного развития всех культур как несостоятельную, учит нас
в то же время, что почти во все времена прогресс человечества колебался
между более женскими и более мужскими культурами, именуемыми
культурами матриархальными и патриархальными; именно у резко
выраженных' матриархальных культур типа баскской переходный
глагол всегда носит пассивный характер, так что объект, иа который
направлено действие, выражается при нем прямым падежом, а агент
действия — косвенным падежом; у патриархальных же культур типа
индоевропейской переходный глагол носит активный анимистический,
магический характер, с подлежащим в прямом падеже и дополнением
в косвенном падеже. Таким образом, у всякого народа представлен
тот глагол, какого он заслуживает».
458
4.5. Различия в порядке слов
Пятый критерий, предложенный для типологии
языков,— это критерий порядка слов. Похоже, что
переменные, обусловливающие или ограничивающие свободу слово-
расположения в языках мира, во многих важных
отношениях связаны g падежной структурой предложений; но это
уже относится к той области, которой я совсем не
занимался.
6. ГРАММАТИКА НЕОТЧУЖДАЕМОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В предыдущих разделах было предложено неформальное
описание некоторой синтаксической модели языка и
приведено несколько примеров того, как действует эта модель в
рамках так называемой «переформулировочной
лингвистики». В настоящем разделе я попытаюсь показать, как
некоторая конкретная содержательная модификация правил
позволяет единообразно описывать интересную серию
грамматических фактов, связанных с тем, что называют
«неотчуждаемой принадлежностью».
Во всяком языке наверняка можно найти
существительные, выражающие такие понятия, которые в основе своей
являются отношениями. Примерами таких имен-отноше-
иий в английском служат слова side 'сторона', daughter
'дочь' и face 'лицо'. Обычно не говорят просто о стороне, а
говорят о стороне чего-нибудь; не говорят о ком-то, что это
просто дочь, а говорят, что это чья-то дочь; и если в общем-
то говорящий может сказать, что он видел просто лицо,
более типичным будет все-таки употребить это слово, говоря
о «его лице», или о «твоем лице», или о чем-то подобном.
Наиболее часто в лингвистической литературе встречаются как
раз обсуждения названий частей тела и терминов родства.
Мои рассуждения будут сосредоточены вокруг частей тела.
5.1. Языковые данные
5.1.1. Во всех индоевропейских языках существуют
важные синтаксические соотношения между дативом и
генитивом, и, если верить Хаверсу (Havers, 1911, S. 317), во
всех этих языках, за исключением армянского, падежные
459
формы датива и генитива фигурируют в описаниях таких
перифрастических отношений, которые вполне сопоставимы
друг с другом в разных языках. Эти соотношения
наблюдаются только в том случае, если существительное, вокруг
которого строятся перифразы, относится к определенному
типу. На примере предложений современного немецкого
языка, приводимых Хаверсом, мы видим, что, в частности,
предложения 111 и 112 являются перифразами друг друга,
равно как и предложения 113 и 114, а предложение 116 в
качестве перифразы предложения 115 оказывается
грамматически неправильным.
(111) Die Kugel durchbohrte dem Feind das Herz.
'Пуля пробила врагу сердце.'
(112) Die Kugel durchbohrte das Herz des Feindes.
'Пуля пробила сердце врага.'
(113) Er hat mir die Hand verwundet.
'Он ранил мне руку.'
(114) Er hat meine Hand verwundet.
'Он ранил мою руку.'
(115) Der Vater baute seinem Sohn ein Haus.
'Отец построил своему сыну дом.'
(116) *Der Vater baute ein Haus seines Sohnes.
'Отец построил дом своего сына.'
Следует заметить, что слова Herz 'сердце' и Hand 'рука'
являются названиями частей тела, тогда как слово Haus
'дом' таковым не является.
5.1.2. Существуют случаи, подобные рассмотренным
выше, когда в самом языке обнаруживаются интересующие нас
перифрастические отношения, но существуют также и
другие случаи, когда оказывается, что в одном языке
выбирается выражение с дативом, а в другом — с генитивом. Для
примера приведем здесь следующие предложения, тоже
взятые из Havers, 1911, S. 1:
(117) My heart aches.— Mir blutet das Herz.
'Мое сердце болит.'— 'У меня (букв, 'мне') болит
сердце.'
(118) Tom's cheeks burned. Tom brannten die Wan-
gen.
'Щеки Тома горели.'—'У Тома (букв. 'Тому')
горели щеки.'
(119) She fell on her mother's neck.— Sie fiel ihrer Mutter
um den Hals.
460
'Она кинулась на шею своей матери.'— 'Она
кинулась своей матери на шею.'
5.1.3. Существуют приименные (притяжательные)
употребления датива; в частности, это происходит, когда
одновременно с притяжательным местоимением используется
название обладаемого. Примеры на это явление можно
легче всего обнаружить среди конструкций с терминами
родства (Havers, 1911, S. 283):
(120) Dem Kerl seine Mutter.
букв, 'этому парню его мать' (то есть что-то вроде:
'у этого парня его мать').
(121) Sa mere a lui.
букв, 'его мать ему' или 'его мать у него',
5.1.4. Во многих языках существуют особые
притяжательные аффиксы для существительных, которые
обозначают предмет, обязательно принадлежащий кому-либо
(неотчуждаемая принадлежность), и свои аффиксы — для
существительных, обозначающих предмет, который не
обязательно принадлежит кому-либо (отчуждаемая
принадлежность). В языке фиджи эта разница выражается, судя по
всему, тем, что для обозначения отчуждаемой
принадлежности притяжательная морфема ставится перед
существительным, а для обозначения неотчуждаемой
принадлежности — после него. Поскольку категория
«неотчуждаемости» является скорее грамматической категорией, чем
свойством объектов действительности (поскольку, иначе говоря,
некоторые предметы, классифицируемые с точки зрения
грамматики как неотчуждаемые, на самом деле вполне могут
быть отделены от их «обладателей»), постольку это
различие может наиболее отчетливо проявиться в том случае,
если в сочетании с некоторым именным корнем окажутся
возможными оба способа выражения. Леви-Брюль приводит
убедительный пример такой ситуации (Lev y-B г u h 1,
1916, р. 99): фиджийское слово uluqu обозначает голову,
которая сейчас крепко сидит у меня на плечах, тогда как kequ
ulu, также переводимое как 'моя голова', будет относиться
скорее к голове, которую я, скажем, собираюсь съесть,
В языках могут быть свои особые морфему для
урезания на отчуждаемую и неотчуждаемую принадлежности, а
среди этих морфем могут быть, помимо того,
дополнительные противопоставления, в зависимости от типа неотчуждае-
461
мой принадлежности (так, в языке нутка к
существительным, обозначающим физически неотделимые сущности —
например, части тела,— прибавляется суффикс -'at, а для
терминов родства используются другие морфологические
средства); или же в языке может быть класс
существительных, неспособных употребляться в виде свободных форм,
то есть класс именных корней, обязательно требующих
прибавления показателей принадлежности в0.
Признаки, которые проявляются во всех таких случаях,
оказываются, как правило, в большей степени
«грамматическими», чем чисто «понятийными». В работах на тему о
неотчуждаемой принадлежности почти всегда содержатся
списки существительных, относящихся к совершенно
другому грамматическому классу, чем тот, который мы могли
бы ожидать, исходя из их значения. Леви-Брюль (Levy-
В г u h 1, 1916, р. 96) упоминает случай, когда слово со
значением 'левая рука' грамматически функционирует как
название части тела, но слово со значением просто 'рука' не имеет
такого грамматического функционирования. Зато в языке
арапахо как неотчуждаемая принадлежность
классифицируется слово 'вошь' (или 'блоха') (S а 1 z m а п п, 1965,
с, 139) — ситуация, располагающая к тому, чтобы те, кто
любит рассуждать о таких вещах, могли построить то или
иное предположение о восприятии самих себя носителями
языка арапахо.
5.1.5. В недавних работах Милки Ивич проведено иссле-
вание разных типов того, что она называет «неопускаемыми
определениями» (I v i с\ 1962; 1964). Среди приводимых ею
примеров встречается много таких, в которых
представлены существительные, часто относимые к категории
неотчуждаемой принадлежности. Так, например, в сербохорватском
выражении 122 прилагательное не может быть опущено,
поскольку иначе получится грамматически неправильное
выражение 123 (I v i c\ 1964, с, 477):
(122) devojka crnih oeiju
'девочка с черными глазами'
(123) *devojka oflju
*'девочка с глазами'
00 Относительно последней ситуации иногда говорится, что имена
«изменяются по лицам». (См. М а п е s s у, 1964, р. 468.)
Представительный перечень многообразных возможностей
выражения неотчуждаемой принадлежности в различных языках
американских индейцев приводится в S a p i г, 1917а.
462
Мне кажется, что в этой работе решение автора приписывать
«категорию неопускаемости» прилагательным вводит
читателя в заблуждение. Это равносильно тому, как если бы
мы захотели сказать применительно к английскому
предложению 124, что слово missing 'недостающий,
отсутствующий' обладает какими-то важными грамматическими
свойствами, поскольку, если его опустить, то получится
предложение 125, несколько отличающееся по типу от исходного
предложения; иными словами, в предложении 124 говорится
не то же самое, что в предложении 126. Что действительно
важно относительно предложения 124, так это возможность
перифразировать его в виде 127 (или 128), а также тот факт,
что конструкция, представленная в 124, допустима только с
некоторыми видами существительных. Заметим, что
предложение 129 уже не является грамматически правильным.
(124) I have a missing tooth.
букв. 'Я имею (один) отсутствующий зуб,*
[т. е. 'У меня недостает (одного) зуба.']
(125) I have a tooth.
букв. 'Я имею (один) зуб.' [т. е. 'У меня есть (одни)
зуб.']
(126) I have a tooth and it is missing.
букв. .'Я имею зуб, и он отсутствует.'
(127) My tooth is missing.
букв. 'Мой зуб отсутствует.' |т. е. 'У меня
недостает зуба.']
(128) One of my teeth is missing.
'Один из моих зубов отсутствует.*
(129) *I have a missing five-dollar bill.
букв. 'Я имею (одну) отсутствующую
пятидолларовую банкноту'.
6.1.6. Отметим, что в предложениях 124 и 127 имеют
место три вещи: (а) некий обладатель (в традиционных
терминах — «заинтересованное лицо»), (б) некая часть тела и
(в) некий атрибут, то есть (а) I 'я', (б) tooth 'зуб' и (в)
missing 'отсутствующий', и что в этих предложениях
представлены альтернативные способы присоединения атрибута к
названию части тела обладателя. Существует два
различных поверхностных способа выражения этого отношения
между тремя указанными понятиями.
Используя для указанных выше понятий (а), (б) и (в)
обозначения Р, В и А, мы можем представить выражения
463
того типа, который имеет место в 124, в виде 130, а
выражения того типа, который выступает в 127,— в виде 131.
(130) Рном have [к -+ Вакк]
'иметь'
(131) [Р^н^в] be A
'быть'
Другими словами, тот же самый элемент, который в
некоторых из приведенных выше перифраз выступал либо в форме
датива, либо в форме генитива, здесь выступает как
подлежащее глагола have 'иметь'. Балли, кстати, говорит об
изобретении глагола have с такой функцией, которая состоит
как раз в том, чтобы дать возможность для personne interes-
see «заинтересованного лица», которое иначе должно было
бы выступать либо в форме датива, либо в форме генитива,
стать в предложении подлежащим. Приводимые у Балли
примеры всех трех поверхностных реализаций конструкций
с местоимением первого лица в роли обладателя (Bally,
1926, р. 75) даны ниже как предложения 132—134.
Предложения 133 и 134 соответствуют типам выражения 130 и
131; тип выражения, представленный в предложении 132,
дается в виде формулы 135.
(132) Mihi sunt capilli nigri.
'У меня (букв, 'мне') волосы — черные.'
(133) J'ai les cheveux noirs.
букв. 'Я имею черные волосы.'
(134) Mes cheveux sont noirs.
'Мои волосы — черные.'
(135) рдат [В ном be A]
'быть'
5.1.7. Анри Фрей в своей работе также рассматривает все
это множество поверхностных представлений «одного и того
же» предложения и добавляет к ним еще четвертый тип,
промежуточный между типами, выраженными формулами 135
и 130. В качестве примера он приводит предложение 136
(оно же послужило названием для его статьи); это
предложение воплощает в себе тип выражения, который мы бы
записали в виде формулы 137.
(136) Sylvie est jolie des yeux.
букв. 'Сильвия красива глазами.'
(137) Рном be [А Вкосв]
'быть'
464
Фрей подчеркивает, что конструкция, которую мы видим в
предложении 136, имеет отношение к категории
неотчуждаемой принадлежности, поскольку предложения 138 и 139
допустимы, а 140 и 141 — нет.
(138) Elle est fine de doigts.
букв. 'Она тонка [своими] пальцами.' [т. е. 'У нее
тонкие пальцы.']
(139) Elle est bien faite des jambes.
букв. 'Она хорошо сложена [своими] ногами,'
[т. е. 'У нее красивые ноги.']
(140) *Е11е est fine d'etoffe.
букв. "Юна тонка [своей] тканью.'
(141) *Е11е est bien faite des vetetnents. ei
букв. 'Она хорошо сложена [своей] одеждой.'
5.1.8. Поскольку Фрей видит в этом противопоставлении
результат попытки «сжать» в одно предложение два
суждения, а именно: суждения, что Р имеет В и что В есть А (в
наших обозначениях), то он соотносит рассматриваемые
конструкции с неоднократно обсуждавшимися конструкциями с
«двойным подлежащим» в японском. В одном типе таких
конструкций перед глаголом или прилагательным ставятся
два существительных, причем первое из них сопровождается
частицей wa (показывающей то, что я назвал «вторичным
коммуникативным выделением»), а второе — частицей ga
(частицей «первичного коммуникативного выделения»).
(Возможные изменения в порядке и выборе частиц не меняют
статуса конструкции в целом; описанная выше форма является
el F r e i, 1939, р. 188. Круг существительных, g которыми
допустимы такие выражения, ограничен словами, заведомо
обозначающими отношения, а не только названиями частей тела. Фрей обращает
внимание на существование таких выражений, как des couloirs spacieux
et bat de plafond букв, 'просторные и низкие потолком коридоры' и
libre de rnoeurs букв, 'свободный [своими] нравами'. Он прекрасно
показывает своеобразие предложений с неотчуждаемой принадлежностью
по сравнению с внешне похожими, но имеющими другую
грамматическую структуру предложениями на примере противопоставления таких
предложений, как (i) и (ii) (F г е i, 1939, р. 186)
i. La salle est pleine de visages.
'Комната полна лиц.'
ii. La fernme est pleine de visage.
'Женщина полна лицом.'
i 465
одной из стилистически наиболее нейтральных.) Второе из
таких существительных относится к классу
существительных типа неотчуждаемой принадлежности; первое же
указывает на тот объект, по отношению к которому объект,
называемый вторым существительным, является
«неотчуждаемым». Избитым примером конструкции с двойным
подлежащим является предложение 142, которое с некоторой
натяжкой может стать перифразой 143. В предложении 143
по — это частица, которая по своим функциям наиболее
близка к тому, что мы, скорее всего, назвали бы «генитивом».
(142) Zoo wa hana ga nagai.
'Слон wa нос ga длинный.'
['Что касается слона, то нос (у него) длинный.'J
(143) Zoo no hana ga nagai.
'Слона нос длинный.'
5.1.9. Выражения, содержащие такие сущности, которые
можно считать тесно связанными с понятием
«заинтересованного лица», имеют уникальные грамматические свойства,
что наблюдается при рассмотрении некоторых семантически
не мотивированных, употреблений «возвратных местоимений»,
а также параллелей, обнаруживаемых между такими
выражениями и различными употреблениями «среднего
залога». Связь с формами датива находит свое отражение в
том, что в некоторых языках в особых ситуациях
употребляется своего рода «датив возвратного местоимения». Ср.
примеры 144 и 145.
(144) Se laver les mains.
букв, 'Помыть себе руки.'
(145) Ich wasche mir die HSnde.
'Я мою себе руки.'
Связь между подобным употреблением «возвратного
местоимения» и категорией неотчуждаемой принадлежности
отмечалась еще у Балли, который указывал, что в примере
146 слово jambe 'нога' — это неотчуждаемая сущность,
тогда как в примере 147 слово jambe может быть понято
только (или, судя по ответам моих информантов,— также и)
как некоторый независимо обладаемый предмет, такой, как,
например, ножка стола.
(146) Je me suis casse la jambe,
'Я сломал себе ногу.'
468
(147) J'ai casse ma jambe,
букв. ' Я сломал свою ногу / ножку,*
Заметим, что именно слово jambe, при котором нет
притяжательного местоимения, грамматически характеризуется
как «обязательно обладаемое» (Bally, 1926, р, 68)1
5.2. Приименные дативы
Выше уже отмечался способ введения притяжательного
определения: к NP подсоединяется придаточное
предложение, которое само по себе имеет форму «X имеет Г».
Поскольку желательно, чтобы придаточное предложение имело
семантическую интерпретацию, способную войти составной
частью в семантическую интерпретацию всего предложения,
постольку представляется необходимым обращение к
придаточному предложению как источнику посессивности для
адекватного описания отчуждаемой принадлежности.
Другими словами, можно довольствоваться тем, чтобы считать
значение предложения 148 частью значения словосочетания
149, хотя для пары 150 и 151 это соотношение мы, вероятно,
отвергли бы.
(148) I have a dog.
букв. 'Я имею собаку.'
(149) my dog
'моя собака'
(150) I have a head.
букв. 'Я имею голову.'
(151) ту head
букв, 'моя голова'
Для введения притяжательного элемента в случае
неотчуждаемой принадлежности нужен такой способ, который
отражал бы тот факт, что отношение между двумя
существительными, одно из которых «неотчуждаемо принадлежит»
другому, не может (согласно Фрею) соотноситься с
содержанием целого предложения.
Для тех типов неотчуждаемой принадлежности, которые
рассматривались до сих пор (в которых нечто принадлежало
некоей одушевленной или «личной» сущности), требуемым
решением было бы утверждение, что при некоторых
существительных обязательно должно быть дативное дополнение
467
(D-дополнение). Это можно осуществить, добавив к
грамматике еще одно правило развертывания именной группы, а
именно правило 152.
(152) NP - N(D)
Точно так же, как рамочные признаки для V соотносились
с окружениями у V, получающимися в результате
развертывания составляющей Р, рамочные признаки для N
соотносятся с окружениями элемента N, получающимися при
развертывании составляющей NP. Выше было предложено,
чтобы тем N, которые обязательно имеют при себе в виде
дополнения придаточное предложение S, приписывался
признак +[ S]. Теперь вдобавок к этому можно
приписывать признак +[ D] существительным, обязательно
имеющим при себе D-дополнения; это и будут
существительные, обозначающие неотчуждаемую принадлежность.
Эта помета задает разбиение всех существительных на
такие классы, в один из которых входят существительные,
требующие наличия при себе D-дополнения (такие, как son
'сын', child 'ребенок' (в значении 'потомок'), нем. Мапп
в значении 'муж'), а в другой — существительные, при
которых запрещается наличие D-дополнения (такие,
как person 'лицо', child 'ребенок' (в значении 'лицо
очень юного возраста'), нем. Mann (в значении 'человек,
мужчина').
Теперь у нас в грамматике допускается два источника для
порождения сочетаний существительного с определением,
называющим обладателя (приименное D и приименное S
определенного типа), благодаря чему обеспечивается
различие глубинных структур, соответствующее
поверхностным различиям между двумя типами притяжательных
конструкций в языках, где существует явно выраженное
противопоставление такого рода. В тех языках, где проводятся
дополнительные различия (например, между частями тела и
терминами родства), соответствующая информация, на
которой должны основываться эти различия, может быть
подана при самих существительных в виде их семантических
признаков.
Итак, для NP, содержащей элемент D, предлагается
общая конфигурация, показанная на схеме 153 (см. с. 469).
В одних случаях приименное D-дополнение остается в
NP и фактически сохраняет поверхностные признаки, свя-
4G8
занные с элементом D, как в примере 154; однако более
типичным для элемента D, находящегося внутри NP, является
переход его в форму генитива, как в 155,
И53)
(154) secretary to the president
'секретарь при президенте* (или 'секретарь у
президента')
(155) the president's secretary
'секретарь президента'
Если детерминативы универсальны в2, то тогда правила
развертывания NP должны предусматривать их появление;
если же детерминативы не универсальны, то тогда для
языков, в которых они имеются, понадобятся правила «сегмен-
тализации» типа тех, которые были описаны Посталом (Р о s-
t a 1, 1966). Во всяком случае, детерминативы
(обозначаемые мною символом «d») наверняка будут фигурировать в
формулировке различных вещей, которые могут
происходить с приименным D-дополнением. Так, иногда, если D
остается внутри NP, не превращаясь при этом в генитив,
некоторые из признаков этого D копируются и переносятся на
детерминатив, так что последний при определенных
условиях может принимать форму соответствующего
«притяжательного прилагательного». По-видимому, это может
служить для объяснения таких выражений, как
сочетания притяжательного датива с терминами родства,
имеющие место- в некоторых немецких диалектах (вспомним
пример 120) или в осетинском языке (см, A b a e v,
1964, с. 18).
62 А я склонен думать, что это так. (См. Fillmore, 1967.)
469
5.3. Некоторые иллюстрации
Часто составляющая D не обязательно должна в конце
концов оставаться внутри NP: при некоторых условиях она
может быть, так сказать, «выдвинута» из статуса определения
существительного (каковым она является в глубинной
структуре) в статус главной составляющей на следующем, более
высоком уровне синтаксической структуры. Это
наблюдается в предложениях с базовой конфигурацией {V + L + А]:
в том случае, если N (существительное), реализующее
падеж L, обозначает часть тела, элемент D, который в
глубинной структуре входил в составляющую L, «выдвигается»,
чтобы стать непосредственной составляющей Р, что в
результате дает предложение с поверхностной структурой
[V + D + L + А].
Глагол pinch 'схватить, ущипнуть, прищемить*
вкладывается в падежную рамку [ L + А], за исключением тех
случаев, когда он принимает признак I+passiv]; это глагол,
который требует элиминации предлога, стоящего перед
непосредственно следующей за ним составляющей.
Рассмотрим предложения, выводимые из глубинной структуры,
представленной на схеме 166.
к np
I
N
Past pinch on the nose to John by Mary
Прош. 'ухва- 'за« >ноо> »у' 'Джон' 'посред- 'Мэри'
вр. тить' етвом'
470
Посмотрим, что происходит с этим предложением при
выполнении одного из следующих четырех условий: 1) если D
остается внутри составляющей L, а А становится подлежащим;
2) если D остается внутри L и L становится подлежащим;
3) если D выдвигается из L, а А становится подлежащим;
4) если D выдвигается из L и это же D становится
подлежащим.
Во всех тех случаях, когда D остается внутри NP (в
данном предложении), оно ставится впереди определяемого
им N и принимает форму генитива, аамещая собою
детерминатив исходной структуры. Поскольку это D является
существительным, обозначающим лицо, элемент К при нем
приобретает форму генитивного суффикса. Другими
словами, если D не выдвигается из L, то 156 может быть
преобразовано в 157.
(157)
А
/\
К NP
I
N
by Mary
Схемы 158 — 161 показывают ход дальнейших
преобразований структуры 157, если в качестве подлежащего
берется А: предлог при подлежащем элиминируется, а
затем стирается и показатель падежной категории
подлежащего; предлог, стоящий за глаголом pinch, также
элиминируется, и вслед за этим стирается показатель
падежной категории L; и, наконец, показатель времени
сливается с V.
Past pinch on John 'l nose
471
{158)
by Mary fast pinch on John 's nose
(159)
Mary Past pinch on John '» nose
(160)
8
Mary Pest pinch John '< nose
(161)
Если в структуре 157 выбрать в качестве подлежащего
вместо А элемент L, то получится структура 162. При таком
выборе подлежащего требуется, чтобы глаголу V был
приписан признак [+passiv], получив который этот V теряет как
свою способность элиминировать стоящий за ним предлог, так
473
И свою способность сливаться с показателем времени.
Поверхностная структура, которая может в конце концов
получиться из 162, представлена на схеме 163.
(162
en John '$ пом Past pinch by Mary
<ies)
X
UP k
ИГ f<
1
N
A
k
\
1
A
МП
4 nr
1
н
John 'i
'Джонов
nose
ноо
was
был
pinched b
ухвачен
1 Mary
Мэри*
Возвращаясь к структуре 156, мы можем теперь
посмотреть, к каким последствиям приводит «выдвижение»
приименного D. Если D переносится из составляющей L и стано?
вится самой левой падежной составляющей, то в
результате получается структура 164:
474
(164)
Past pinch
Mary
Возможные подлежащие для 164 — это либо А, либо только
что выдвинутое D. Если подлежащим становится А, то мы
получаем структуру 165, которая после применения всех
уже известных нам правил превращается в итоге в 166.
(165)
/\
К NP
by Mary Past pinch
\
1
D
L
Л /\
К NP К NP
1
г
i
/X
i И
to
John
the
С другой стороны, если сделать подлежащим элемент D,
то мы получим 167; после применения всех нужных правил
к V, имеющему признак {+ passiv], мы получим 168,
Теперь мы можем обратиться к проблеме, которая
занимала Балли и Фрея, и исследовать роль приименного D в та-
475
{1665
Mary pinched John on the nose
(167)
ких предложениях, в которых при назывании
неотчуждаемой принадлежности указывается некоторый ее атрибут.
Базовую структуру таких предложений иллюстрирует
схема 169.
В тех языках, которые допускают, чтобы D оставалось
внутри NP, этот алемент D превращается в форму генитива.
В английском в результате получается структура 170.
Поскольку 170 состоит всего лишь из [V + О], в качестве под-
476
К NP К NP
d N N
I John was pinched on the nose by Mary
'Джон был схвачен за нос Мэри'
лежащего неизбежно выбирается это О, и в конце концов
для английского мы получаем структуру 171.
Заметим, что, поскольку V в данном случае
представляет собой прилагательное, оно не может включать показатель
времени 63, и по этой причине в составляющую М требуется
введение вспомогательного глагола be. Пример 171
получается из 170, где V предицируется относительно элемента О,
a D подчинено этому О. Тем самым это предложение
оказывается аналогичным приводившимся ранее предложениям
127 и 134 и относится ктипу, характеризуемому схемой 131.
Предположим теперь, что элемент D в структуре 170
«выдвигается» из составляющей О. Результатом такого
введения элемента D, а именно вхождения в пропозиционную
составляющую Р уже в качестве ее непосредственной
составляющей, является структура 172 (см. с. 479).
В некоторых языках элемент Q в конфигурации 172
становится подлежащим, а элемент D остается при этом в той
поверхностной форме, какая и ожидается обычно для элемента
D, что имеет место, например, в предложении 132. В других
языках элемент может подвергнуться вторичному
коммуникативному выделению, и это даже тогда, когда в качестве
подлежащего уже выбран элемент О. В таких случаях по-
68 Говоря более точно, те V, которые представляют собой
прилагательное, а также пассивные или активные причастия, не могут
сливаться с самым правым аффиксом из модальной составляющей М.
477
(169)
NP
N
К NP
d If
Fret beautiful 0 eyes to
Наст, 'красивые' 'глаза' V
во.
the gr|
(170)
Pres beautiful 0 the ц№ % ey»
<m)
s
У\
the giri '« *У*> те 'beautiful
ii и W i J t * i и *
'девушкины глаза красивы*
/ч
К NP
eyes
лучается, например, оДин из видов японской конструкции с
«двойным подлежащим» (вспомним пример 142). Общий тип
выражения, соответствующего тем предложениям, которые
получаются из структуры 172, если подлежащим становится
О, представлен в приведенной выше формуле 135.
Во многих языках подлежащим становится D. Если это
имеет место и притом не сопровождается какими-либо
другими структурными изменениями, то О выступает в форме
того или иного косвенного падежа. Это происходит оттого,
479
что, поскольку beautiful 'красивый*—это не глагол в узком
смысле слова, постольку слово-название части тела не
может быть превращено в «прямое дополнение». Исходная
структура представлена на схеме 173; она не типична для
английского языка, хотя, может быть, именно ее следует
усматривать в выражениях типа 174 и, возможно, ее следует
считать промежуточным этапом в выводе выражений типа
175.
1173)
14 Г
the
glrf
beautiful 0 syej
(174) tall of stature, blue in the face
'высокий ростом', 'посиневший с лица*
(175) broad-chested, fat-legged
'широкоплечий', 'толстоногий'
По-видимому, это и есть по своей форме исходная структура,
лежащая в основе 136, тип построения которой дан в
формуле 137, Эта конструкция, очевидно, является довольно
редкой во французском языке; Фрей считает ее
«укороченной» версией предложений с глаголом 'иметь'.
Другая возможность построения предложений, в
которых в качестве подлежащего выбрано D, состоит в
присоединении прилагательного к NP, обозначающей часть тела.
Предлагаемый мною способ сделать это (носящий, к
сожалению, довольно сильный характер ad hoc) сводится к
тому, чтобы не лишать присоединяемое к NP прилагательное
его глубинного обозначения V. Я полагаю, что есть
некоторые аргументы в пользу того, чтобы по крайней мере
абстрактное V сохранялось внутри Р на всех стадиях вывода,
480
Может быть, это ограничение окажется более серьезно
мотивированным, чем это кажется сейчас, благодаря тому, что
построенная в соответствии с ним структура будет отражать
то, что представляется необходимым в тех языках, которые
ввели в свой обиход глагол типа 'иметь'.
На схеме 176 показано, какую именно структуру я имею
в виду.
(176)
beautiful
eyes
Так как у V, входящего в составляющую Р, лексическое
заполнение отсутствует, то для тех языков, в которых
структуры такого типа могут быть прямо воплощены в
предложения, в модальную составляющую М должен быть добавлен
глагол 'быть'. Заметим, что в этой конструкции ту или иную
падежную форму получает уже вся NP, служащая
названием части тела, вместе с присоединенным к ней
определением. Формулу для этого типа выражений мы еще не
приводили; ее приблизительный вид указывается в 177,
(177) Р be [А-ч-В]косв
'быть'
По всей видимости, эта структура лежит в основе таких
предикатов, которые приведены в 178; разница между
предикатами в выражениях типа 137 и в выражениях типа 177
видна на примере латинских перифраз 179 и 180 соответственно.
(178) of tall stature; di hello aspetto
'высокого роста'; 'красивого вида'
(179) aequus animo
'спокойный духом'
16 4% 1234
48)
(180) aequo animo
'со спокойным духом, невозмутимо*.
Наконец, последняя возможность построения
интересующих нас конструкций состоит в том, чтобы поставить в
пустующую позицию под категориальным символом V служебное
слово have'иметь' — глагол, к которому существительное-
название части тела вместе со своим определением
присоединяется в качестве «прямого дополнения». В
английском, как мы уже видели, это влечет за собой элиминацию
предлога. Результат такого преобразования для структуры
176 представлен в структуре 181:
(181)
d I
1
\
f NP
V N
the
girl
Pres
have
beautiful
eye»
Короче говоря, оказывается, что значительное
многообразие поверхностных реализаций предложений, в которых
речь идет о приписывании некоторого свойства
существительному, обозначающему неотчуждаемый предмет, может
быть описано с помощью постулирования в универсальной
грамматике набора рекурсивных трансформаций в духе
Баха (Bach, 1965), которые в каждом языке
используются по-своему. К предложению с общей структурной
формулой 182
(182) P[V°[D + N]]*,
где V — это прилагательное, а N —
существительное-название части тела, могут быть применены или не применены
трансформации (а)—(г) (см. далее):
* Левый верхний индекс у квадратных скобок обозначает тип,
или категорию, составляющей, заключенной в этих скобках.— Прим.
перев.
482
(а) выдвинуть Dj
(б) выбрать D в качестве подлежащего;
(в) перенести прилагательное внутрь NP,
соответствующей названию части тела;
(г) ввести глагол have 'иметь' в пустующую глагольную
позицию.
Если не применена трансформация (а), то D становится ге-
нитивным определением к N, называющему часть тела, а
подлежащим оказывается все О в целом. Если не применена
трансформация (б), то подлежащим становится О. Если не
применена трансформация (в), то в результате получаются
«укороченные» предложения Фрея. Правило (г) имеет
силу только для тех языков, в которых «введено в обиход»
употребление глагола 'иметь'.
5.4. Дополнительные замечания о неотчуждаемой
принадлежности
Если считать признак неотчуждаемости универсальным
свойством всех языков, то тогда либо окажется, что
словарные единицы, являющиеся переводами друг друга, в
отношении отчуждаемости / неотчуждаемости будут
охарактеризованы одинаково, либо то, каким образом в разных
языках по-разному классифицируются «одни и те же» вещи,
сможет, вероятно, отразить психический склад носителей
разных языков. Многие ученые полагали, что факты,
связанные с неотчуждаемостью, дают возможность науке о языке
пролить свет на первобытный образ мышления и на
существующий диапазон человеческих представлений о «себе».
Поскольку е течением времени становится все более
очевидным, что эти различия относятся к уровню поверхностных
структур, постольку, может быть, стоит немного подождать
с окончательными выводами по данному вопросу в4.
Использование приименных D наверняка потребуется
не только для описания конструкций с названиями частей
тела и терминами родства. Указатели направления типа
64 Характерные высказывания о социологической значимости
изучения неотчуждаемой принадлежности см. в LeVy^Bruhl,
1916, р. 103; Bally, 1926, р. 68 и ел.; F г е 1, 1939, р{ 192, и v a n
G 1 п n e k е п, 1939, р. 90. Список классификаций сущеетЪйтельн ых
на основе различий в их грамматическом поведении, связанных с
отчуждаемостью/неотчуждаемостью, приведен в R о s 6 п, 1959, р. 268 и ел.
16*
483
right 'правый' и left 'левый', вероятно, тоже относятся к
именам этого типа *. Причина, в связи с которой эти слова
выступают в английском и во многих других языках без
всякого упоминания о каком-либо лице, состоит в том, что
с их помощью чаще всего характеризуется положение или
направление относительно говорящего или слушающего
данное высказывание, и это попросту одна из многих
ситуаций, в которых можно обойтись без приименного D, если
оно обозначает говорящего или слушающего.
Кроме того, встречается немало имен — названий
отношений, которые не относятся конкретно ни к какому лицу.
Так, мы могли бы счесть целесообразным говорить, что
некоторые имена, показывающие местоположение предметов,
имеют при себе приименное L. Иногда такие имена
называют части предметов, как в примерах 183, а иногда они
характеризуют местоположение или направление
относительно предмета, не являясь при этом названием его части, как
в примерах 184. «Имена» второго типа на поверхностном
уровне реализуются в английском языке в виде предлогов.
(183) corner of the table, edge of the cliff, top of the box
'угол стола', 'край скалы', 'верхушка
коробки'.
(184) behind the house, ahead of the car, next to the to-
'позади дома', 'впереди маши- wer
ны', 'рядом с
башней'.
6. ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
В грамматическом описании языковых явлений обычно
остается значительное количество нерешенных проблем, и я
с разочарованием, хотя и без удивления, вижу, как велико
количество таких проблем, остающихся все равно
нерешенными при той формулировке грамматики, которая была
мною здесь предложена. Прежде всего приходят на ум
такие явления, как сочинительная связь, именные сказуемые
и однокорневые дополнения.
* По-английски эти слова могут употребляться и как
прилагательные, и как существительные, аналогичные тем русским
существительным, из которых исторически образовались наречия на-лево, с-лева.~
Прим. перев.
484
6.1. Сочинительная связь
Возможно, что имеется некоторая взаимосвязь между
теми способами, посредством которых в языках образуются
«комитативные» конструкции, и явлением сочинения
именных групп. Применяя падежную терминологию, наверное,
можно сказать, что существует взаимосвязь между
сочинением именных групп и тем, что хотелось бы назвать комита-
тивным падежом. Есперсеном были отмечены параллели
между предлогом with 'с' (имеющим комитативную
функцию) и сочинительным союзом and 'и', как, например, в
таких парах предложений, как 185 и 186 (Jespersen,
1924, р. 90; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 99):
(185) Не and his wife are coming.
'Приходят он и его жена.'
(186) Не is coming with his wife.
'Он приходит со своей женой.'
Японский язык обладает разными средствами для сочинения
предложений и для сочинения именных групп, и при этом
послелог для сочинения именных групп тождествен комита-
тивному послелогу. В цепочке сочиненных NP все NP, кроме
последней, имеют послелог to. Последняя же NP имеет тот
послелог, который нужен для всех однородных NP в
соответствии с их падежной ролью. Сравним 187 и 188.
(187) Tanaka-san to Hashimoto-san ga kimashita.
'Г-н Танака и г-н Хашимото пришли.'
(188) Hashimoto-san ga Tanaka-san to hanashimashita.
'Г-н Хашимото говорил с г-ном Танакой.'
Редден (Redden) указывает, что в языке валапаи в
предложении может быть только одно существительное в
«номинативе». Объединение существительных в однородную группу
достигается добавлением «аблативного» суффикса (суффикса
с комитативной функцией) ко всем существительным в
однородной группе, кроме одного. Так, в примере 189 /-с/— это
показатель номинатива, /-ш/ — показатель аблатива:
(189) /hatGauac hmajim/
'собака и мальчик' (букв, 'собака с мальчиком')
485
Возможно, для развертывания NP в числе прочих требуется
правило 190:
(190) NP -* NP + С *
Это правило должно порождать структуры вида 191 (в этой
схеме X используется как переменная для обозначения
произвольной падежной категории).
(191)
NP С
Падежная категория С имеет совсем особый статус, так
как сочетаемостные ограничения у существительных, над
которыми доминирует символ С,— те же самые, что и у
существительных, которые сами доминируют над этим
символом С. Иными словами, необходимо правило, которое
распространяло бы на всякое N, подчиненное категории С,
те же избыточные семантические признаки, которые связаны
с доминирующим над этими N и С некомитативным падежом.
Составляющая С, включенная в большую составляющую
NP, при некоторых условиях должна оставаться внутри нее.
В тех языках, где отсутствует обобщенный сочинительный
элемент, в качестве падежного показателя остается
показатель, соответствующий падежу С (послелог to в японском,
суффикс -т в валапаи); в тех же языках, где обобщенный
сочинительный элемент присутствует, он замещает показатель
падежа С точно так, как при определенных условиях союз
'и' замещает предлог 'с'.
Итак, структурой, лежащей в основе 185 и 186, может
служить нечто вроде структуры 192; при этом игнорируется
роль his 'его' **.
* С — символ комитативного падежа <comitatfve>.— Прим. перев.
** Признак [+Prog], приписанный глаголу в структурах 192, 193,
обозначает длительный вид глагола.— Прим. перев.
486
(192)
Pres
Наст.
вр.
come
'приходить'
, by
посред
ством'
he
'он'
with
wife
'жена'
Если составляющая С остается внутри своей NP, то в
качестве подлежащего берется вся составляющая А, что дает
нам предложение 185; если же С подвергается выдвижению,
как в структуре 193, то тогда при превращении в
подлежащее составляющей А составляющая С остается «позади»
(193)
Pres
Наст.
эр.
come
'прихо-
AWV
with
'о'
his
'его.'
wife
'жена'
Ьу
'посредством'
he
'он*
48}
[то есть в функции обстоятельства.— Прим. перев.] и в
результате получается предложение 186.
Кажется достаточно маловероятным, чтобы этот подход
позволял в ощутимой мере облегчить решение
многочисленных проблем, связанных с сочинением именных групп,
однако тот факт, что существует некоторая связь между
сочинением и употреблением NP в комитативных
конструкциях, не подлежит никакому сомнению. Правда, недавно
Лакофф и Петере представляли вполне убедительные
аргументы в пользу того, что «направление» этого отношения
прямо противоположно тому, которое предложено мной (см.
L a k о f f and Peters, 1966); иными словами, скорее
комитативные группы должны выводиться из конструкций
с Сочиненными NP, чем наоборот.
6.2. Именные сказуемые
Ничто из того, что говорилось до сих пор, не дает
возможности определить, как следовало бы описывать в
грамматике предложения типа N be N 'N есть N'. Ясно, что они
представляют принципиально отличный тип предложения
по сравнению со всеми теми типами, в которых
проявляются рассмотренные выше падежные отношения; вместе с
тем в них также можно зафиксировать, по-видимому, более
чем одно падежное отношение. (Здесь приходят на ум
термины «эссив» и «транслатив».)
Некоторые существительные, выступающие в составе
именного сказуемого, могут употребляться далеко не
всегда (то есть не в любой другой позиции). По-видимому, этч
существительные можно трактовать на некотором уровне
как глаголы, употребление которых ограничено формой
[ А]. Примерами служат слова типа idiot 'идиот',
bastard 'ублюдок' и fool 'дурак'. В их окружение должен
входить падеж А, поскольку подлежащее при них всегда
одушевленное, а кроме того, эти конструкции обнаруживают
те же сочетаемостные и трансформационные свойства,
какие характерны для глаголов, в синтаксическое окружение
которых входит А. Примеры употребления таких слов —
предложения 194 и 195:
(194) Don't be a fool.
'Не будь дураком.'
489
(195) He's being a bastard again.
'Он опять ведет себя, как ублюдок.'
Мне кажется, что такая трактовка позволяет объяснить,
почему слово idiot 'идиот' можно употребить в
предложении 196, однако с тем же самым «оценочным» смыслом его
нельзя употребить в предложении 197.
(196) John is an idiot.
'Джон — идиот.'
An idiot hit the first homerun.
'Первую «длинную» подачу сделал какой-то
идиот.' *
Еще одно свидетельство того, что для этого слова адекватна
глагольная интерпретация, состоит в том, что в качестве
определений при таких существительных выступают слова,
подобные тем, которые даны в примере 198.
(198) John is quite an idiot.
'Джон совершенный идиот.' **
Серьезную проблему составляет (а) употребление слов
типа idiot, fool и т. д. в других контекстах, таких, как,
например, 199, и (б) употребление в предложениях с
составным именным сказуемым неоценочных существительных,
как в 200:
(199) That rat swiped my lunch.
'Эта крыса утянула мой завтрак.'
(200) That boy is my nephew.
'Тот мальчик — мой племянник.'
Конечно, для этого случая можно было бы ввести одну-две
новых падежных категории, однако такая вещь, как
отражение в грамматике того требования, что подлежащее и
сказуемое в составе NP должны согласовываться в числе, как
всегда, остается серьезной задачей. Возможно, какое-то
решение этой задачи может быть получено, если строить
описание с учетом предложений Баха, излагаемых в работе
(Bach, 1968).
* «to hit a homerun» — бейсбольный термин.— Прим. перев.
** Русский перевод не передает специфики английского примера,
в котором употреблено наречие quite.— Прим. перев.
489
6.3. Однокорневые дополнения
Трудность иного рода представлена конструкциями с
так называемыми «однокорневыми дополнениями». Это
конструкции, в которых, мягко говоря, имеются чрезвычайно
Строгие ограничения на сочетаемость определенного глагола
с зависящим от него существительным-дополнением и в
которых сочетание V + N в одном языке вполне может
соответствовать только одному глаголу в другом.
Внося некоторые поправки в описание таких случаев,
представленное Сандрой Бэбкок (В a b с о с к, 1966), я
бы предложил считать, что существуют контексты, в которых
падежная категория F (фактитив) может оставляться без
лексического заполнения, а некоторые слова, относимые к
глаголам, могут вставляться как раз в такие падежные
рамки, содержащие подобные «пустые» F. Для этих слов могут
быть заданы особые, соответствующие им N-представители
(существительные-представители, например bath 'купание')
и особые V-заместители (глаголы-заместители, например
take *). К предложениям с «пустым» F применимы
следующие трансформационные правила:
(а) Поставь в позицию, над которой доминирует символ
падежа F, копию глагола V в виде N-представителя этого V.
(б) Замени V на нужный V-заместитель.
Условия обязательности применения этих правил могут
указываться отдельно при разных V. Так, глагол dream
'видеть сон', имеющий дополнение одного с ним корня,
обычно выступает как самостоятельный, полноценный глагол,
однако он может выступать и в предложении с «пустым» F.
На этот случай у него есть N-представитель dream 'сон'
и V-заместитель have букв, 'иметь'; кроме того,
относительно этого глагола указывается, что он управляет предлогами
about или of для выражения падежа О и что он не
обязательно требует применения правила (б).
Когда в позицию падежа F ставится «копия» глагола
dream в виде его N-представителя, то получается
предложение 201; а когда вместо самого глагола выступает
соответствующий V-заместитель, получается предложение 202:
* Глагол take упоминается здесь не в своем основном значении,
а во вторичном фразеологически связанном значении, в котором он
выступает в сочетании take a bath 'выкупаться'.— Прим. церее,
49Q
(201) John dreamed a dream about Mary.
'Джону снился сон про Мэри,'
(202) John had a dream about Mary.
'Джон видел [букв, 'имел'] сон про Мэри.*
Пользуясь этими средствами, мы можем фактически
расширить интерпретацию конструкций с однокорневыми
дополнениями следующим образом. Некоторые слова можно
трактовать как глаголы, имеющие однокорневое
дополнение, несмотря на то, что правило замены их на V-замести-
тель является для них обязательным. Например, можно
принять, что есть глагол nightmare '*кошмарить'; его N-пред-
ставителем служит nightmare 'кошмар', а V-заместителем —
have 'иметь'. Тогда после применения правила (а) структура
203 превратится в промежуточную структуру 204, а после
применения правила (б) из нее получится структура 205.
Аналогичное использование этого механизма могло бы,
вероятно, объяснить соотношение между suggest 'предлагать'
и make a suggestion 'внести предложение', shove someone
(203)
high mare
'кощмарить
J204)
nightmare
'кошмарить'
nightmare
'кошмар'
491
'пнуть кого-нибудь' и give someone a shove 'дать кому-
нибудь пинка' и т. д., однако остаются нерешенными все
же многие серьезные проблемы. В частности, не вполне
очевидно, как в соответствии с тем, что было предложено,
можно было бы трактовать примеры типа 206 и 207,
(205)
V F
liave nightmare,
'иметь' 'кошмар'
(206) She made several ridiculous suggestions.
'Она внесла несколько смешных предложений.*
(207) I had a terrible nightmare last night.
'Я видел [букв, 'имел'] жуткий кошмар сегодня
ночью.'
6.4. Другие проблемы
Существует немало вопросов, на которые я даже не могу
попытаться найти хоть какие-нибудь ответы. Несомненная
связь между поверхностными падежами и «партитивными»
функциями; требование «определенности», предъявляемое
в некоторых языках к NP, выступающих в тех или иных
конкретных поверхностных падежных отношениях (как
правило, в функции прямого дополнения); чрезвычайное
разнообразие поверхностных реализаций одного и того же
значения (получаемых из одной и той же глубинной структуры?),
которое Есперсен демонстрирует в связи с явлением,
называемым у него «сдвигом по рангу» (Jespersen, 1924,
р. 91; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 101),— вот
лишь немногие из таких проблем.
Все упоминавшиеся до сих пор трудности являются
эмпирическими по своей природе, однако наряду с этим
существует также много формальных проблем. Одна из них состоит
в том, что неясно, следует ли порождать все наборы
падежей, которые мо1ут входить в пропозиционную составляю-
492
щую Р, посредством НС-правил. Ведь одной из важнейших
функций НС-правил всегда считалось задание
грамматических отношений между составляющими, то есть описание
таких явлений, которые здесь частично описывались с
помощью категорий, а не через синтаксические конфигурации.
С этой проблемой связана также взаимозависимость,
которая, по-ввдимому, существует между падежами. Так,
например, оказывается, что наличие в предложении падежа
В (бенефактива) обусловлено не столько какими-то
независимыми специфическими свойствами глагола, сколько тем,
что в данном предложении содержится также падеж А.
Исследователь поэтому вынужден строить описание таким
образом, чтобы отражением этих фактов служил
порождающий процесс, при котором сначала выбирается глагол,
затем падежи, которых требует этот глагол, а уже затем
другие падежи, совместимые с теми, которые были выбраны
вначале. Проблема состоит не в том, могут ли допустимые
последовательности единиц порождаться НС-правилами или
не могут (нет сомнения, что могут), а в том, нет ли другого,
более эффективного, способа описания встречающихся
сочетаний единиц или отношений зависимости.
(Видоизменения трансформационных грамматик вроде тех, которые были
показаны в работе Хомского (см. Chomsky, 1965),
позволяют не пользоваться НС-правилами для указания в
НС-структуре достаточно дробной классификации
лексических категорий или для выбора лексических единиц с
целью заполнения НС-структуры. Если можно обеспечить
указание синтаксических отношений определенных типов
с помощью какого-либо другого средства, чем НС-правила,
то существует некоторая вероятность, что и от употребления
вышеупомянутых правил можно будет полностью
отказаться.)
Должны ли падежи представляться в НС-структуре как
категории, доминирующие над именной группой (NP), или
каким-либо иным образом — это одна из тех проблем,
решение которых, по моему мнению, пока также далеко не
ясно. Одно из преимуществ категориальной трактовки
состоит в том, что об NP, которые превращаются в подлежащие
или в прямые дополнения, можно говорить, что они
утратили свое «исходное» падежное отношение в предложении
(в результате действия правила, которое «стирает»
падежную категорию во всех тех случаях, когда оказывается
элиминированным падежный показатель К, то есть в резуль-
493
тате действия одного из правил «исключения узлов»), и
такая утрата исходного падежного отношения приводит к
тому, что форма подлежащего и прямого дополнения
оказывается обусловленной только их «чисто относительным»
статусом [то есть чисто синтаксическим статусом члена
предложения.— Прим. перев.]. Таким образом, становится
ясным, что поверхностное различие помеченных и кЪнфигура-
ционно определяемых отношений между NP и
предложением, возможно, соответствует традиционному
противопоставлению «конкретных» и «грамматических» падежей.
(Впрочем, при любой интерпретации остается неясным, куда в
плане этого противопоставления относить генитив.)
Мне неоднократно указывали на то, что глубинные
представления в падежной грамматике очевидным образом
переводимы в такие вещи, которые похожи на деревья
зависимостей или на тагмемные формулы. Если элемент К считать
входящим в именную группу, то тогда символ падежной
категории будет доминировать в НС-структуре над
единственным узлом — символом именной группы. Тем самым
падежные категории оказываются эквивалентными пометам на
ветвях, соединяющих символ Р с разными NP, прямо
относящимися к этому Р. Если единственная функция элемента Р
состоит в том, чтобы представлять собой составляющую,
через посредство которой именные группы соотносятся с
глаголом, то проще было бы указывать эти отношения
непосредственно, заменив узел Р узлом V. То, что получится в
результате такой замены, уже не будет деревом
составляющих, поскольку лексические элементы заполняют в нем и
«доминирующие» узлы; однако возможно, что требуемая
синтаксическая организация составляющих, входящих в
предложение, с неменьшей наглядностью представляется
как раз древовидной структурой типа тех, какие
используются у Теньера или у Хейса, чем структурой в виде
дерева НС.
Простым преобразованием достигается также
превращение глубинных представлений падежной грамматики в
«тагмемные» формулы, если исходить при этом опять-таки из
того, что узел NP всегда является единственным узлом, над
которым доминирует падежная категория. Или, в сущности
говоря, глубинная структура падежной грамматики может
быть попросту прочитана как тагмемная формула, если
исходить из того, что определенные символы употребляются
как индикаторы функций. Мы вполне можем говорить об
494
NP, «заполняющей позицию типа А», пользуясь этим
выражением наряду с другими. Принципиальная разница между
предложенной мною модификацией трансформационной
грамматики и типичным исследованием в русле тагмем-
ной теории состоит в том, что в своей работе я делаю особый
упор на выявление «глубинных структур» самого глубокого
уровня,
7. НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одно из предъявленных мне критических замечаний в
адрес падежной грамматики сводится к тому, что падежная
грамматика слишком сильно мотивирована семантическими
соображениями. Многие из приведенных здесь анализов
имеют своим следствием (как я надеюсь) открытие
определенных семантических противопоставлений и
межъязыковых общностей, отражаемых достаточно прямым образом в
глубинных структурах падежной грамматики; в
критических замечаниях, однако, утверждалось, что анализ с точки
зрения синтаксиса должен опираться только на
синтаксические факты, и притом в каждом конкретном случае на
факты только одного языка.
Возникает вопрос: существует ли вообще такой «уровень»
синтаксического описания, который мог бы быть выявлен
лишь в пределах одного языка на основе чисто
синтаксических критериев. Если возможно построить семантически
обоснованную универсальную синтаксическую теорию, как
это было предложено мною выше, если можно с помощью
правил (начиная, может быть, с тех, которые приписывают
линейный порядок заранее не упорядоченным элементам
глубинных представлений) превратить эти «семантические
глубинные структуры» в поверхностные формы
предложений, то тогда очень вероятно, что такие синтаксические
глубинные структуры (которые стали известными из работ Хом-
ского и его последователей) должны будут разделить судьбу
фонемы. Они оказываются не чем иным, как искусственным
промежуточным уровнем между эмпирически выявляемой
«семантической глубинной структурой» и открытой
непосредственному наблюдению поверхностной структурой, то есть
уровнем, свойства которого скорее имеют отношение к
методологическим рассуждениям грамматистов, чем к природе
человеческого языка.
Ч. Филлмор
ДЕЛО О ПАДЕЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ *
I.
Несколько лет назад я написал довольно пространную
статью (Fillmore, 1968), в заглавии которой обыгры-
вается слово case [«The Case for Case», т. е. 'Дело о падеже'].
В ней я попытался рассмотреть понятие, названное мною
глубинным падежом (deep structure cases), а также
высказал некоторые соображения относительно того, как
можно использовать это понятие в генеративной
грамматике. С тех пор мне удалось ознакомиться с
многочисленными опубликованными и неопубликованными откликами на
эту статью, и я не только понял некоторые мои собственные
ошибки, но и убедился, что в ряде случаев читатели
неверно истолковывали мои намерения или связывали
с данной теорией такие надежды, которые превосходят
все мои замыслы.
В настоящей работе я постараюсь выполнить следующие
задачи: я свяжу понятие глубинных падежей с традициями
семантических и грамматических разысканий; рассмотрю
некоторые основные допущения теории падежей и укажу те
ее свойства, которые я с самого начала считал ее
преимуществами; я проанализирую некоторые наиболее существенные
пункты данной теории, включая серьезный вопрос о том,
как мы можем узнать, сколько существует падежей и
каковы они; однако в конечном счете я не смогу предложить
удовлетворительного решения этой проблемы. Вместо этого
я предлагаю новую интерпретацию роли падежей в теории
грамматики и новый подход к исследованию вопроса об их
числе и конкретном составе. Эта новая интерпретация при-
* Charles J. Fillmore. The Case for Case Reopened.—In:
«Syntax and Semantics», Vol. 8 (Ed. by P. Cole and J. M. Sadock). New
York — San Francisco — London, 1977, p. 59—81,
496
водит к такой концепции в рамках теории грамматических
отношений и в рамках семантической теории, сущность
которой можно определить следующим .лозунгом: «Значения
обусловливаются ситуациями» * (Meanings are relativized
to scenes).
Для иллюстрации я буду использовать в основном те же
примеры, которые приводились в более ранних моих
публикациях, включая, разумеется, многие примеры,
заимствованные мною у других авторов. Я поступаю так не потому,
что не в состоянии придумать новых примеров, а потому,
что хочу показать на уже известных примерах, в чем
заключается отличие новой интерпретации от предыдущих,
старых.
2.
В рамках семантики вообще понятие глубинных падежей
входит в ту ее область, которую можно назвать внутренней
семантикой в противоположность внешней; иначе говоря,
оно связано не с семантикой истинности, или логического
следования (entailment), или внеречевой силы (illocutionary
force), а с семантической природой внутренней структуры
несамостоятельного предложения (clause). В рамках
внутренней семантики рассматривается ее синтагматический, а не
парадигматический аспект, то есть глубинные падежи
можно отнести к тому типу семантических отношений, которые
связывают элементы структуры предложения друг с другом
в контексте, а не с системой контрастов и оппозиций,
служащих различению составляющих в парадигматическом
аспекте. Рассматривается внутренняя структура
несамостоятельных предложений, а не семантика связей между
частями сложного предложения, реализуемых посредством
сочинения и подчинения.
В рамках грамматической теории понятие глубинных
падежей может оцениваться с точки зрения его значимости
для теории грамматических уровней, для теории
грамматических отношений, для описания валентностей и коллока-
ций, а также для общей теории функций составляющих
* В оригинале в этом месте употребляется слово сценами: в
тексте статьи автор в ряде случаев свободно чередует термины scene и
situation.—Прим. ред.
497
предложения, Рассматриваемая гипотеза сводится к
следующему: существует уровень структурной организации
предложения, отличный от того, что обычно понимают под
семантическим представлением, и в равной степени
отличный от известных понятий глубинного и поверхностного
синтаксических представлений структуры предложения,
Данная теория связана с определением ядерных
грамматических отношений в предложении (субъекта, объекта и
косвенного объекта) в том смысле, что она задается вопросом:
каким образом конкретные аспекты значения высказывания
определяют, какая составляющая выступает в качестве
(глубинного) субъекта, а какая — в качестве объекта.
Можно также считать, что теория падежей дает по крайней мере
частичное описание семантических валентностей глаголов
и прилагательных, которое можно сравнить с описанием
синтаксических валентностей, предлагаемым в работах
европейских лингвистов (Tesnie г е, 1959; Н е 1 b i g, 1971;
HelbigandSchenkel, 1969; E m о n s, 1974). И
наконец, данная теория может внести некоторый вклад в
теорию функций составляющих предложения. Катц (К a t z,
1972, p. 113) различает три вида функций составляющих
предложения: грамматические, к которым относятся
понятия 'субъекта' и 'объекта'; риторические, к которым
относятся такие оппозиции, как 'данное' vers, 'новое', 'тема'
(topic) vers, 'рема' (comment) и т. д.; семантические, к
которым относятся такие понятия, как 'агенс', 'адресат*,
'средство', 'результат' и т. д. Рассматривая эти функции,
Катц утверждает, что ошибка Хомского, допущенная им в
«расширенной стандартной теории» (Chomsky, 1970),
состояла в смешении грамматических и риторических
функций, а моей ошибкой в «Деле о падеже» было смешение
грамматических и семантических функций. На мой взгляд,
существует и четвертая возможность трактовки
функциональной структуры членов предложения, которую, как мне
представляется, можно пояснить с помощью таких слов, как
ориентация и перспектива. Части сообщения могут быть
подразделены на те, которые входят «в перспективу», и те,
которые находятся «вне перспективы». В настоящее время я
придерживаюсь той точки зрения, что предмет теории
падежей составляет ориентационное, или перспективное,
структурирование сообщения и что понятие падежа играет
во многом другую роль в грамматическом описании, чем
я считал первоначально.
т
Одним из важнейших элементов теории глубинных
падежей является падежная рамка (frame 'фрейм')
(Fillmore, 1968, р. 27), функция которой состоит в том, чтобы
перекинуть мостик между описаниями ситуаций и
глубинными (underlying) синтаксическими представлениями. Она
выполняет эту задачу путем приписывания семантико-синтак-
сических ролей конкретным участникам (реальной или
воображаемой) ситуации, отображаемой предложением. Это
приписывание определяет, или ограничивает,
приписывание перспективы, налагаемой на ситуацию, с помощью
средств, названных мною «принципы выбора субъекта» и
«иерархия падежей».
Некоторые из принципов выбора субъекта являются,
видимо, универсальными для всех языков. Так, при
некотором уточнении трактовки эргативных систем одним из
универсальных принципов выбора субъекта может быть
следующий: «Если существует агенс, который включается в
перспективу, то репрезентирующее его именное выражение
должно выступать в роли (глубинного) субъекта».
Другие принципы выбора субъекта являются, видимо,
специфическими для тех или иных языков. В японском
языке, согласно Куно (см. К u n о, 1973, р. 31), и в немецком
языке, согласно Роденбургу (см. Rohdenburg, 1970),
в качестве субъекта предложения нельзя выбрать
определенного рода причины, связанные со способностью или с
источником действия, тогда как в английском языке подобный
выбор вполне допустим, например, в предложениях типа (1):
(1) a) Fifty dollars will buy you a second-hand car.
'Пятьдесят долларов дадут вам возможность купить
подержанный автомобиль.'
b) The smell sickened me.
'Этот запах вызвал у меня тошноту.'
c) The accident killed the woman.
'Этот несчастный случай привел к гибели
женщины. '
Еще одна разновидность принципов выбора субъекта
является, видимо, специфической для тех или иных слов.
Например, этим свойством обладает, по-видимому, (по крайней
мере) один из членов пары regard и strike (примеры Хом-
ского (см. Chomsky, 1965, р. 162)):
(2) a) I regard John as pompous.
499
'Я считаю, что Джон ведет себя напыщенно.'
(букв. 'Я считаю Джона напыщенным.')
b) John strikes me as pompous.
'Джон поражает меня своей напыщенностью.'
(букв, 'как напыщенный').
Последнее, но вовсе не удивительное обстоятельство состоит
в том, что принципы выбора субъекта могут изменяться во
времени. Есперсен (см. Jespersen, 1924, р. 160)
говорит о переходе в истории английского языка от выражений
типа (За) и (ЗЬ) к выражениям типа (Зс) и (3d) и трактует
этот процесс как изменение в значениях соответствующих
глаголов:
(3) a) Me dreamed a strange dream.
'Мне приснился странный сон,'
b) Me like oysters.
'Мне нравятся устрицы.'
c) I dreamed a strange dream,
'Я видел странный сон.-'
d) I like oysters.
'Я люблю устриц.'
Конечно, можно понимать слово значение таким образом,
что трактовка Есперсена будет выглядеть вполне
приемлемой; но более адекватным представляется
описание, в котором происшедшие изменения связываются
с действием в языке принципов выбора субъекта, причем
эти изменения касаются взаимодействия принципов
упорядочения и принципов приписывания падежей, после
которых (изменений) поверхностные падежные
разграничения у существительных и местоимений
утратились.
Преимущества, которые я усматривал в понятии
глубинного падежа, состоят в том, что описания слов и
предложений в терминах падежной структуры создают
уровень лингвистического структурирования, на котором
обнаруживаются универсальные свойства лексической
структуры и строения несамостоятельных предложений,
и, далее, в том, что такие описания интуитивно
кажутся в некотором смысле связанными со способами
мыслительного отражения того опыта и тех событий, которые
люди способны выразить в предложениях своего
языка.
500
3.
Выражение падежная грамматика, которое
использовалось мною при характеристике идей, высказанных в
«Деле о падеже», вводило в заблуждение. Эти идеи не
образуют какой-либо модели грамматики. Это всего лишь
предположительные суждения о таком уровне организации
несамостоятельного предложения, который релевантен и для
его значения, и для его грамматической структуры; он
дает способ описания определенных аспектов лексической
структуры и позволяет строить удобные классификации
типов несамостоятельных предложений. Тот факт, что я
часто получал письма с вопросами такого типа: «Как в
падежной грамматике трактуется интонация?», заставил меня
осознать, что, оказывается, мои работы создают
впечатление, будто так называемая падежная грамматика подается
как общая модель языковой структуры. Теперь к термину
«падежная грамматика» я стараюсь относиться с большей
осторожностью.
Критические отклики на концепцию глубинных падежей
разнообразны по своей географии и по спектру
представленных в них точек зрения. Некоторые из замечаний
основаны на недоразумениях (возникших, возможно, по моей
вине); другие замечания справедливы, но сводятся к тому,
чтобы «подлатать» мою концепцию, а не внести в нее какие-
либо глубокие изменения; наконец, существует ряд
критических суждений, заслуживающих самого серьезного
внимания.
Когда я писал «Дело о падеже», концепция
«порождающей семантики» еще не была сформулирована, или, точнее,
я не был знаком с ее изложением, если не считать ее
предварительного варианта под названием «абстрактный
синтаксис». В том разделе моей статьи, где затрагиваются
вопросы поверхностной морфологии падежа, я описал
традиционный подход к трактовке падежей, состоящий в том, что
падежи устанавливаются путем анализа их форм, а затем
одна за другой описываются их функции в рамках больших
конструкций. Мой тезис состоял в том, что нужно все
поменять местами, то есть строение предложения как целого
должно служить основой для описания функций отдельных
грамматических морфем. В качестве ключевого слова для
501
характеристики этой концепции я употребил выражение
центральная роль синтаксиса (centrality of syntax). Уолтер
Кук в своей статье «Набор постулатов для падежной
грамматики» (Cook, 1972) пишет, что в противоположность
моей исходной позиции он придерживается точки зрения,
которая закреплена в его постулате, приписывающем
центральную роль не синтаксису, а семантике. Мне кажется,
если бы я точно понимал, что имеется в виду, я вполне мог
бы принять и точку зрения Кука. Но в любом случае я имел
в виду противопоставление не между глубинной
семантикой и глубинным синтаксисом, а между анализом, который
начинается с морфемы, и анализом, который начинается с
предложения.
Для обоснования тех или иных утверждений о
разграничении глубинных падежей я использовал различные
формы доказательств. Одно из них состоит из двух шагов.
На первом шаге мы должны показать неоднозначность
некоторого предложения, причем эта неоднозначность может
быть объяснена лишь тем, что одна из именных
составляющих (nominals) может играть в предложении любую из
двух семантических ролей. В качестве примера здесь
можно рассмотреть неоднозначное предложение (4а). Чтобы
убедиться в неоднозначности этого предложения,
представим себе следующую ситуацию: вы видите, что у меня на
столе лежит письмо, далее вы видите, как я снимаю с него
копию, и затем вы слышите, как я произношу предложение
(4 Ь). Если вы владеете тем же вариантом английского
языка, что и я, то вы не сможете с уверенностью определить
из сказанного мной в (4 Ь), которое же из двух писем я
имею в виду.
(4) a) I copied the letter.
'Я переписал (скопировал) письмо.'
b) Point to the letter which I copied.
'Укажите на письмо, которое я переписал
(скопировал).'
c) I copied this from that.
'Я переписал (скопировал) это с того,'
Второй шаг при этой форме доказательства состоит в
том, чтобы употребить тот же самый глагол в предложении,
где он сочетается с двумя именными составляющими, каждая
502
из которых выполняет только одну из двух семантических
ролей, наличествующих в рассмотренном выше
неоднозначном предложении. Это свойство мы и обнаруживаем у
нашего глагола сору, как видно из предложения (4с), в
котором те две роли, которые мы интуитивно выделили в (4а),
распределены между двумя отдельными именными
составляющими. Располагая двумя типами фактов — в
соответствии с указанными шагами нашего доказательства,— мы с
уверенностью можем констатировать, что перед нами две
разные падежные роли, а не просто случай
неопределенности.
Второй вид доказательства, тоже состоящего из двух
шагов, основывается на предположении, что мы имеем дело
с разными падежными отношениями всякий раз, когда мы
обнаруживаем сочетания одного и того же глагола с двумя
явно различными классами имен, связанных с глаголом
некоторым заданным грамматическим отношением, причем
создается впечатление, что имена из этих двух классов
выполняют в соответствующих предложениях разные
семантические роли. Это можно проиллюстрировать на примере
тех семантических возможностей, которые реализуются
именем, стоящим в позиции субъекта, в предложениях (5а) и
(6Ь). И опять, как и выше, наше доказательство может
считаться завершенным, если в качестве второго шага мы
найдем одно предложение, в котором те же самые две роли
будут распределены между двумя отдельными именами, как в
(5с):
(5)* a) My foot hurts.
'Моя нога болит.'
b) This shoe hurts.
'Эта туфля причиняет боль.'
c) This shoe hurts my foot.
'Эта туфля причиняет боль моей ноге.'
Эти способы доказательств были сочтены уязвимыми в
ряде критических откликов, особенно исходивших от евро-
* Здесь во всех трех предложениях английский глагол остается
неизменным. Ср. русские предложения Мне трет ногу; Эта туфля
трет; Эта туфля трет мне ногу. Но в отличие от английского первое
русское предложение имеет особую структуру безличной конструкции,
и как следствие этого существительное выполняет в нем иную
грамматическую функцию, чем существительное во втором предложении.—
Прим- перев<
№
пейских ученых, по мнению которых данный метод анализа
основывается на случайных свойствах английских слов.
В других языках, как подчеркивают авторы этого
возражения, для разных смыслов слов hurt и сору вполне могут
использоваться разные слова, и, таким образом, по
совершенно объективным причинам для этих языков данный
метод даст другие результаты.
Это возражение я тоже отношу к недоразумениям. Наши
доказательства не предлагаются как определения падежей,
но как шаги, ведущие к выявлению падежных
разграничений в множествах предложений, где смысловые
различия могут быть описаны исключительно или
преимущественно через различия падежных ролей. Меня в равной
степени интересовали моменты сходства в глубинной
(underlying) падежной структуре и в предложениях с разными
глаголами и разной реляционной организацией. В третьем
виде использованных мною доказательств берутся разные
поверхностные глаголы из определенных лексических
полей — пары типа rob 'грабить' и steal 'воровать' или buy
'покупать' и sell 'продавать',— глаголы, у которых
падежные структуры (полностью или частично) изоморфны, а
приписываемые им грамматические отношения различны.
Иначе говоря, я уверен, что, занимаясь, например,
шведским языком, исследователь сможет обнаружить в формах,
выражающих, скажем, физическую боль, роли, связанные
с такими вещами, как источник боли, локализация боли,
существо, испытывающее боль, и так далее; и это можно
сделать независимо от того, употребляется в соответствующих
выражениях один и тот же глагол или разные глаголы,
независимо от того, различны или одинаковы связи этих
глаголов с точки зрения отбора и ориентации падежей.
Некоторые европейские исследователи, работающие в
области теории валентностей (Е m о п s, 1974; Р a n e v o-
v а, 1974), считают, что я смешиваю различные смыслы,
которые может иметь термин «факультативные
составляющие предложения». В одних случаях некоторый аспект
события или ситуации является частью понимания значения
предложения говорящим или слушающим, но в
предложении нет ничего, что выражает этот аспект; в других случаях
отсутствие некоторой составляющей в поверхностной
структуре предложения означает отсутствие соответствующего
504
понятия и в том концептуальном содержании, которое
передается посредством данного сообщения. Действительно,
допущенные кое-где ошибки в моем описании некоторых
предложений связаны именно с данной проблемой; но мое
намерение состояло в том, чтобы предложенная мною
система понятий могла служить основой для истолкования
всевозможных смыслов термина «факультативность». Этой
цели могут служить: падежные рамки, указывающие на те
падежные понятия, которые присутствуют в
концептуальном содержании предложения; признаки падежных рамок,
указывающие на те падежные понятия, которые
потенциально могут сочетаться в одной конструкции с данной
лексической единицей; трансформации опущения, благодаря
которым при определенных условиях та илу иная
составляющая может (или, вероятно, должна) отсутствовать в
поверхностной структуре. Я думаю, что в принципе моя
система учитывает факультативность в достаточной
степени.
Некоторые конкретные положения, высказанные мною
в работе «Дело о падеже», оказались неудачными, и я
поспешил от них отказаться. Например, я был склонен
считать, что все имена в английских предложениях
первоначально снабжаются предлогами; из этого взгляда
следовало, что процессы оформления субъекта и прямого объекта
должны включать опущение предлога. Выбор такого, а не
иного представления был отчасти обусловлен моим
стремлением в большей степени обеспечить сравнимость
английского и японского языков. В японском существуют
послелоги, оформляющие все именные функции в предложении,
включая ядерные грамматические отношения (субъекта и
объекта). Я считал, что базисные типологические
различия между данными двумя языками можно свести к
следующему. На уровне глубинной структуры в английском
языке глагол стоит в начале, а в японском — в конце каждого
предложения; в том языке, где глагол ставится в начале,
все существительные сопровождаются предлогами; в том
же языке, где глагол стоит в конце, все существительные
сопровождаются послелогами. Не считая этих различий
(которые, если зеркально отобразить одну структуру на
другую, являются на самом деле сходствами),
рассматриваемые языки различаются тем, что в языке с глаголом в на-
605
чальной позиции, to есть в английском, действует правило
выдвижения субъекта (Subject-fronting rule), посредством
которого глагол передвигается во вторую позицию, и,
кроме того, действуют процессы опущения предлога при
субъекте и прямом объекте. Тогда эти два типа языков
можно сравнить с третьим типом, примером которого служит
тагальский язык, где отсутствует правило выдвижения
субъекта и где перед именами стоят предлоги.
В рамках неформального общетипологического
наброска такая точка зрения отвергаться, видимо, не должна; но
конкретные решения, связанные с выбором определенного
предлога, придали этой концепции вид довольно
неэффективной системы. В частности, когда я пытался на основе
предложенных решений построить некоторую грамматику,
первоначальное соединение предлога by с падежом агенса
затем неизбежно вылилось в более сложный принцип
соединения by с падежом, занимающим в предложении самый
высокий ранг, независимо от того, какой именно это был
падеж. Такое решение позволяло дать правильную
интерпретацию предлога by в выражениях eaten by George
'съеденный Джорджем', destroyed by fire 'разрушенный огнем'
и assumed by everybody 'допускаемый всеми' (до тех пор,
пока существовали ограничения на предлог by, благодаря
которым в ряде конструкций допускалось употребление
иного предлога — known to me 'известный мне' и т. д.).
В конце концов, однако, подобная позиция стала выглядеть
не лучше, чем позиция, согласно которой предлог by
вводится посредством пассивной трансформации.
В работе «Дело о падеже» я приписывал падежам
агенса и датива обязательный признак одушевленности. В
результате некоторые исследователи, и в первую очередь я
сам, руководствуясь весьма странной логикой, пришли к
заключению, будто обязательная одушевленность
зависимого от глагола члена предложения означает, что
присоединяемое имя должно стоять в одном из этих падежей. На
основе подобных рассуждений субъектам глаголов die
'умирать' и melt 'таять, плавиться' (примеры взяты из
критической статьи Huddleston, 1970) приписывались
соответственно падежи датива и пациенса (объекта), а двум
предложениям в (6) должны были приписываться разные
падежные структуры:
506
(6) a) The man died.
'Человек умер.'
b) The snow melted,
'Снег растаял.'
Теперь я стараюсь разграничивать реляционные и
категориальные понятия более строго.
Некоторые ученые (N i I s e п, 1972) предложили
бинарный анализ основных падежей; при этом агенс и
инструмент трактуются соответственно как одушевленная и
неодушевленная причина действия, а испытывающее лицо (датив)
и пациенс (объект) — как одушевленный и
неодушевленный результат. Первоначальная привлекательность этого
анализа исчезает, когда мы осознаем, что он
представляет собой смешение категориальных и реляционных
понятий, но начинает проявляться вновь, если мы
попытаемся представить его как описание основных свойств сцен-
прототипов, в терминах которых можно структурировать
действия и опыт.
В недавно опубликованном критическом разборе
падежной грамматики немецкий исследователь Петер Финке
(1974) сосредоточил свое внимание на тех сторонах
проблемы, которые он воспринял как категориальные аспекты
падежей, и истолковал теорию падежей как вариант логики
классов. Утверждение о том, что некоторый глагол
сочетается с агенсом и пациенсом, равносильно, как считает
Финке, утверждению о том, что эти два аргумента данного
глагола должны обладать различными
характеристическими свойствами и что вообще падежи должны
определяться в терминах этих характеристических свойств.
Агенс — это предмет, обладающий одним набором свойств,
инструмент — это предмет, обладающий некоторым другим
набором свойств, и так далее.
Главная мысль Финке, если я его правильно понимаю,
заключается в том, что падежная грамматика делает
допущение онтологического характера о фиксированном числе
классов объектов, которые могут существовать в
универсуме, причем это число равно числу падежей. Если,
согласно трактовке Финке, теория исходит из такого сильного
допущения, то, поскольку сторонники падежной
грамматики не смогли прийти к общему и постоянному списку па-
607
дежей, становится ясно, что данную теорию воспринимать
серьезно не следует. Ответ на это обвинение сводится,
разумеется, к тому, что даже если некоторый универсум
будет содержать только один класс объектов — скажем,
человеческие существа,— то все равно можно будет
показать отождествляемую с ролями функцию падежей. Один
человек может схватить и поднять другого человека,
воспользоваться его телом как инструментом для того, чтобы
сбить третьего человека, последний может быть ошеломлен,
и так далее. Короче говоря, в универсуме с только одним
классом объектов легко представить себе падежные
отношения агенса, инструмента, пациенса и испытывающего лица.
Возможно, впечатление, что падежные понятия должны
мыслиться как категории, а не как типы отношений
(реляций), возникло в результате моих неудачных высказываний
по поводу одушевленности.
Концепция падежной грамматики была недавно
подвергнута сомнению также в еще одном исследовании (см. R a i b-
1 е, 1975), посвященном вопросу о том, каким образом
теория падежей может объяснить очень сложный набор
падежных функций в языке типа финского. Автор упомянутого
исследования исходит из моего постулата, гласящего, что
при рассмотрении некоторой системы падежей мы должны
отличать формы падежей от употреблений падежей и при
этом должны строить такую теорию глубинных падежей,
при которой предлагаемый в ней инвентарь падежных
понятий был бы более или менее эквивалентен инвентарю
употреблений падежей. Финский язык ставит особые проблемы,
и причин здесь две. Одна из них связана с существованием
системы локативных и направительных падежей, которые
совмещают (в одной и той же поверхностной падежной
категории) одновременно локационные понятия и сведения о
топологии объекта референции (то есть сущности, в рамках
которой нечто размещается или по отношению к которой
нечто ориентируется); вторая же причина связана с
существованием семантических различий (в пределах так
называемого прямого объекта) в зависимости от выбора
номинатива, аккузатива или партитива. Например, разница в
выборе аккузатива, а не партитива оказывается связанной
с такими понятиями, как определенность, завершенность и
полнота охвата. Мой ответ должен заключаться, очевидно,
608
в том, что морфемы в системах поверхностных падежей
передают больше информации, чем просто сведения о
функциях имен, и для объяснения употреблений поверхностных
падежей требуется, следовательно, более широкий
концептуальный аппарат, чем теория глубинных падежей.
4.
Хотелось бы назвать еще четыре типа критических
замечаний в адрес теории падежей: два, которые ставят меня в
тупик (я не знаю, стоит ли их учитывать и как именно), и
два, которые, вне всякого сомнения, действительно весьма
серьезны. Первый тип замечаний — это группа
возражений, сводимых к формуле: «Я могу сделать все то, что
делаешь ты», то есть здесь мы сталкиваемся с рассуждением
о простом различии обозначений. Один из вариантов этого
рассуждения выглядит следующим образом. Я в свое время
утверждал, что в структуре, лежащей в основе выражений
с глаголом типа английского seem 'казаться', имеет место
роль, которую я называю «испытывающее лицо», то есть
лицо, которому нечто кажется; я утверждал далее, что эта
роль иногда проявляется на поверхности в виде сочетания
с предлогом to, как в (7):
(7) а) То me, Harry seems intelligent.
'Мне Гарри кажется умным.'
b) It seems to me that Harry is intelligent.
'Мне кажется, что Гарри умный.'
Но, как рассуждают мои оппоненты, такое описание
бессмысленно. Преувеличение теоретической значимости
терминов «испытывающее лицо», «агенс», «инструмент» и
прочих не дает никаких особых преимуществ. Мы могли бы
просто констатировать, что seem является глаголом
мыслительного состояния, то есть характеризуется
семантическим маркером 'мыслительный'; и далее мы можем говорить,
что селекционные ограничения для глаголов, содержащих
этот маркер, требуют, чтобы одна из подчиненных
составляющих представляла собой 'одушевленное' имя; о глаголе
seem мы можем говорить, что он обладает селекционным
ограничением, предусматривающим, чтобы связанный с ним
одушевленный аргумент являлся частью предложного
сочетания с to; более того, мы могли бы предусмотреть
такой принцип, согласно которому.для любого аргумента мыс-
609
лительного глагола, который характеризуется
обязательной одушевленностью, к репрезентации этого имени в
окончательном семантическом представлении предложения
может добавляться семантический маркер 'испытывающее
лицо'.
Такое рассуждение (содержащееся в работе Н. Хом-
ского (см. Chomsky, 1970), Катца (см. К a t z, 1972) и
Меллемы (см. Mellema, 1974)), конечно, не лишено
некоторых оснований. Это разновидность той точки зрения,
согласно которой изменение научной парадигмы допустимо
лишь в том случае, когда возможности существующей
парадигмы уже исчерпаны и когда может быть доказано
существование более удовлетворительной парадигмы. Вообще
говоря, к этой точке зрения я отношусь с пониманием;
однако, на мой взгляд, альтернативные парадигмы (или даже
альтернативные системы обозначений) должны оцениваться
в зависимости от того, постановку каких вопросов они
стимулируют. Сильное допущение о глубинных падежах
заставляет исследователя задавать конкретные вопросы о числе и
характере разнообразия семантических функций членов
предложения. А могут ли ответы на подобные вопросы быть
записаны в терминах какой-то другой парадигмы, далеко
не всегда важно, по крайней мере с точки зрения человека,
преимущественно занятого выяснением того, насколько
важны сами эти вопросы и могут ли вообще на них быть
получены ответы.
Другой тип замечаний представлен возражениями,
исходящими от Рэя Доуэрти (Ray С. Dougherty, 1974) и
низводящими падежную грамматику до ранга
тривиальной концепции. Главная мысль Доуэрти состоит в том, что
так называемая падежная грамматика в лучшем случае
предлагает, может быть, и интересную, но в теоретическом
плане бесперспективную классификацию глаголов.
Глаголы в этой системе классифицируются на основе
интуитивных суждений о возможных дополнениях (complements).
Все это, продолжает Доуэрти, можно было бы считать
достаточно безобидным занятием, сравнимым, возможно, с
классификацией слов по числу букв, как это делается в
Словаре кроссвордов «Нью-Йорк тайме» (New York Times
Crossword Puzzle Dictionary); однако на самом деле оно
вовсе не безобидно, потому что Филлмор, вводя читателя в
заблуждение, облачает эту простую таксономию в мундир
порождающей грамматики,
610
Если обвинение в простой таксономичности окажется
справедливым, то я, видимо, должен буду повторить, что
концепция глубинных падежей мыслилась не как полная
модель грамматики, а лишь как набор аргументов в пользу
признания такого уровня организации предложений,
который можно назвать падежной структурой. Точно так же,
если окажется справедливой квалификация данного
подхода просто как варианта системы обозначений, это вовсе
не должно будет служить основанием для отказа от теории
падежей, а скорее импульсом для рассмотрения вопросов,
связанных с тем, какой из многих возможных вариантов
системы обозначений в окончательном виде правильной теории
обеспечивает наибольшие удобства для выведения обобщений
в области типологии языков, классификации лексики,
усвоения языка ребенком и т. д. Короче говоря, с моей точки
зрения, возможности теории падежей в плане нотации и
таксономии входят в одну группу проблем. Таксономия должна
цениться за то, что она обеспечивает удобную и ясную
концептуальную организацию соответствующего множества
сущностей, в нашем случае — такую организацию, в
терминах которой легко формулировать грамматические и
семантические обобщения; нотация должна цениться за то,
что она дает возможность строить такого рода таксономию
простым и прямым способом.
Два вида только что рассмотренных возражений состоят
в том, что теория падежей либо дает в лучшем случае просто
вариант системы обозначений для некоторой другой,
более предпочтительной теории, либо дает простую
таксономию. Авторы этих критических суждений выдвигали и иные
возражения, некоторые из них рассматриваются в других
местах настоящей статьи.
А теперь обратимся к возражениям, которые требуют
уточнения теории. Стивен Андерсон в статье «О роли
глубинной структуры в семантической интерпретации» (А п-
d e r s о п, 1971) подверг критике мое утверждение о том,
что можно обойтись и без уровня глубинной структуры в
смысле стандартной теории. Моя точка зрения состояла в
том, что в грамматической теории нужен уровень
падежной структуры, который я мыслил как уровень
семантической репрезентации (или что-то близкое к нему); эта
концепция предусматривает, далее, переход (с помощью транс-
611
формационных правил грамматики) к уровням
поверхностной структуры. Но по причинам, известным, например, из
работы Хэллидея (Н а 1 1 i d а у, 1967, р. 39),
необходимость в особом уровне глубинной структуры не
признавалась.
Я говорил, что, например, в случае английского
глагола break 'разбивать, разбиваться' при его употреблении
в функции переходного глагола два его аргумента могут
иметь падежные функции 'агенса' и 'пациенса', причем
агенс — это сущность, ответственная за разбивание, а
пациенс — это сущность, которая разбиванию подверглась.
В поверхностной структуре один из этих аргументов должен
стать субъектом предложения. Возможностей здесь две:
одна, когда субъектом становится агенс, как в (8а); другая,
когда субъектом становится пациенс, как в (8Ь); в
последнем случае имеет место побочный эффект, касающийся
формы глагола:
(8) a) John broke the vase,
'Джон разбил вазу',
b) The vase was broken by John,
'Ваза была разбита Джоном.'
Я представил эти возможности как результат
факультативного выбора в соответствии с правилом выбора субъекта.
При этом важно заметить, что в процессе построения
пассивного предложения не постулировалось никакого уровня
репрезентации, на котором это предложение имело бы
субъект, отличный от поверхностного субъекта. В указанном
процессе фигурировали падежная структура и
поверхностная структура, но не было никакой промежуточной
структуры, в рамках которой могли бы определяться понятия
субъекта и объекта.
Защищая стандартную теорию, Андерсон отстаивал
(стремясь обеспечить простоту семантического компонента)
существование субъектов и объектов, принадлежащих к
уровню глубинной структуры. Его рассуждение сводилось
к утверждению, что существуют семантические обобщения,
для которых наиболее простые формулировки могут быть
получены только на уровне глубинной структуры (в смысле
стандартной теории). Рассуждения Андерсона охватывают
две ситуации. Первая —это случай, когда некоторые
трансформации (например, пассивная или дативного
перемещения) сводятся, по существу, к изменению исходного рас-
612
пределения глубинных субъектов и объектов; вторая —
это случай, когда для данного предиката возможен более
чем один способ трактовки его аргументов как членов
грамматических отношений. В любом случае доводы Андерсона
связаны с тем, что часто наблюдается различие между
холистической и партитивной интерпретацией группы
существительного в зависимости от того, помечена ли последняя
на уровне глубинной структуры символом одного из
главных (primary) грамматических отношений (субъекта или
объекта). Для иллюстрации позиции Андерсона можно
использовать известные примеры: разница между (9а) и (9Ь)
заключается в том, что предложение, где the garden 'сад'
стоит в позиции субъекта, передает идею о заполненности
всего сада пчелами, тогда как для другого предложения
такое допущение не является обязательным; а разница между
(9с) и (9d) состоит в том, что предложение, в котором the
truck 'грузовик' стоит в позиции прямого объекта, передает
мысль о грузовике, полностью заполненном сеном, что
вовсе не обязательно предполагать в случае другого из этих
предложений:
(9) a) Bees were swarming in the garden.
'Пчелы роились в саду.'
b) The garden was swarming with bees.
'Сад был полон пчел.'*
c) I loaded hay onto the truck.
'Я погрузил сено на грузовик.'
d) I loaded the truck with hay.
'Я нагрузил грузовик сеном.'**
Новые примеры такого же типа предложены у Меллемы
(Mel 1 em а, 1974):
(10) а) Не read from his speech.
'Он зачитал [кое-что] из своей речи.'
b) He read his speech.
'Он прочитал свою речь.'***
* Букв, 'роился пчелами'; ср. русское кишел пчелами.— Прим.
перев.
** В английских предложениях (9с) и (9d) употреблен один и тот
же глагол.— Прим. перев.
*** В английских предложениях (10а) и (10Ь) употреблен один и
тот же глагол.— Прим. перев.
17 № 1234 613
Если имеется в виду чтение вслух, то из предложения, где
his speech 'его речь' находится в позиции прямого
дополнения, можно заключить, что была прочитана вся речь, тогда
как из другого предложения этого заключить нельзя.
Я не вижу необходимости признавать, что эти доводы
подтверждают справедливость той концепции глубинной
структуры, которую имел в виду Андерсон; однако, я
думаю, следует признать, что для грамматической теории
необходим, видимо, такой уровень репрезентации, который
включает грамматические отношения субъекта и объекта, или,
во всяком случае, какой-то другой уровень, на котором
находит отражение тот вид тесного участия в ядерной части
несамостоятельного предложения, который характерен
для субъектов и объектов. Это не означает, однако, что
уровень репрезентации, основанный на падежных функциях,
искажает реальную картину. Мы в конце концов все равно
имеем дело с определением, исходя из смысла
высказываний того, какие из аргументов многоместного предиката
должны проявляться в виде субъекта, а какие (если вообще
они есть) — в виде объекта.
Следующее действительно серьезное критическое
замечание в адрес теории падежей связано с тем фактом, что
никто из ученых, работающих с «падежами» в рамках
различных вариантов грамматик, не пришел ни к
формулировке принципов определения (defining) падежей, ни к
формулировке принципов осуществления процедур, с помощью
которых можно было бы устанавливать число падежей или
определять, когда мы имеем дело с двумя падежами,
обладающими каким-то сходством, а когда — с одним падежом,
но реализуемым в двух вариантах. В своей обстоятельной
статье «Некоторые соображения об агентивности» Д. А. Круз
(Cruse, 1973) рассмотрел ряд утверждений лингвистов
об агентивности и обнаружил не только то, что разные
лингвисты расходятся в определении агентивности, но и то, что
понятия, используемые в таких определениях,
представляются во многом несравнимыми, во всяком случае, они не
поддаются единообразному последовательному
определению.
Я всегда считал, что проблема установления падежей во
многом аналогична проблеме установления
фонологических единиц языка. Поскольку pie 'пирог' и buy 'покупать'
514
являются разными словами английского языка, у нас есть
все основания считать, что мы имеем здесь фонемы /р/ и /Ь/,
четко отграниченные одна от другой. Однако в случае со
spy 'шпион' не все так просто. Должны ли мы относить
здесь взрывной звуковой сегмент к /р/, или к /Ь/, или к
какой-то другой фонеме, отличной от этих двух? Если это
не /р/ и не /Ь/, должен ли он рассматриваться как нечто в
некотором смысле включающее и фонему /р/, и фонему /Ь/,
или как нечто нейтральное, расположенное, так сказать,
между /р/ и /Ь/, или как нечто в концептуальном плане
совершенно отличное от этих двух фонем — нечто из другой
фонологической системы? Имеющиеся данные не
предопределяют правильных ответов на эти вопросы. Американские
фонологи обычно рассматривают этот сегмент как /р/, а
датские фонологи, которые сталкиваются с похожей проблемой
в своем языке, предпочитают /Ь/. Лингвисты школы Фёрса
обычно трактуют его как единицу, совершенно отличную
по своим системным свойствам от упомянутых фонем;
фонологи, которые допускают несколько видов абстракции,
могут рассматривать его как категорию, включающую /р/ и
/Ь/, а если они опираются на особые допущения о
признаковом строении фонем, то квалифицируют его как сегмент,
содержащий признаки, общие для /р/ и /Ь/, но не
обладающие признаками, которые служат различению этих двух
сегментов.
Аналогичный спектр возможных точек зрения может
быть перенесен и на проблему отождествления падежей.
Хаддлстон (Н u d d 1 е s t о n, 1970) исследует мои доводы,
связанные с тем, что в (11а) John 'Джон' выступает в
функции агенса, а в (1 lb) сочетание this key 'этот ключ' выступает
в функции инструмента. Мы имеем здесь дело с тем, что
можно было бы назвать соответственно 'косвенной причиной'
и 'непосредственной причиной'. Основанием для четкого
разграничения этих двух ролей служит тот факт, что те же
самые два существительных, сохраняя свои падежные роли,
могут также употребляться вместе при глаголе open
'открывать' в одном и том же предложении, как, например, в
(11с). Какое же решение мы должны принять относительно
каузального элемента в случае (lid)? Вот проблема, на
которую обращает внимание Хаддлстон. Принятие
решения по поводу падежной роли субъекта в (lid) сходно с
принятием решения по поводу «эмического» статуса
взрывного согласного в spy.
17»
W
(11) a) John opened the door.
'Джон открыл дверь.'
b) This key opened the door.
'Этот ключ открыл дверь.'
c) John opened the door with this key.
'Джон открыл дверь этим ключом.'
d) The wind opened the door.
'Ветер открыл дверь.'
Одна из возможных трактовок заключается в том, что
ветер, как и Джон в предыдущем предложении, использует
свою собственную энергию, а не энергию какого-то другого
существа или предмета и что поэтому он есть агенс. Второй
возможный взгляд на ветер состоит в том, что, поскольку
он является непосредственной причиной открывания двери,
он должен рассматриваться как инструмент. Третья точка
зрения сводится к тому, что ветер в (lid) выполняет роль,
отличную как от агенса, так и от инструмента (назовем ее
силой), ибо здесь нет ни манипулятора, ни манипулируемо-
го, а налицо только самостоятельная сила. Еще одна точка
зрения состоит в том, что существует падежный признак
'причина', который является общим для падежей агенса
и инструмента; в группе существительного, стоящей в
позиции субъекта в нашем предложении о ветре,
открывающем дверь, признак причины присутствует, а признаки,
которые отличают агенс от инструмента, отсутствуют.
Поскольку мы можем обращаться к любой из этих
возможностей (каждая из которых освящена той или иной
почтенной лингвистической традицией), то неудивительно, что
и ученые, пытавшиеся заставить теорию падежей работать,
не смогли прийти к согласованным решениям. Более того,
поскольку существующие подходы различаются между
собой — типами предложений, которые они ставят в центр
своего внимания, взглядами на степень близости между
падежной структурой и семантической структурой — и
поскольку не каждый лингвист думает об охвате всех
возможных альтернатив, ученые, применяющие падежные или
близкие к ним понятия, пришли к разным спискам, и каждый к
своему. Самый короткий список предложен Джоном
Андерсоном (Anderson, 1971): 'номинатив', 'эргатив' и
'локатив'. Самый длинный, по-моему, принадлежит Уильяму
Мартину (Martin, 1972), который вводит отдельные
падежные обозначения для существительных в сочетаниях
616
at the station 'на станции; у станции', on the table 'на столе',
in the box 'в коробке', from the station 'от станции', off
the table 'со стола', out of the box 'из коробки', to the
station 'к станции', onto the table 'на стол' и into the box 'в
коробку'. Принцип здесь, видимо, состоит в том, чтобы
выделять по меньшей мере столько глубинных падежей,
сколько существует поверхностных падежей или типов
предложных сочетаний.
Хэллидей (Н а 1 1 i d а у, 1967) различает небольшое
число разных типов простых предложений и каждому из
них приписывает отдельный тип структуры, похожей на
падежную структуру. Метод Л. Стивена Коулза (С о-
1 е s, 1972), напротив, состоит в том, чтобы разделить на
ряд типов (он выделяет их шестнадцать) глаголы и
указать для каждого типа каркас понятий, сходных с
падежами. Например, для глаголов, связанных с сооружением, он
различает предмет, возникший в результате сооружения,
такой, как построенный дом; материал, из которого
построена вещь; людей, осуществивших акт сооружения;
использованные средства; время события; место события;
промежуток времени от начала до конца работы и т. д. В концепции
Коулза, если я правильно понимаю его замысел, не
рассматривается вопрос о том, совпадает ли падеж предмета-
результата при глаголе сооружения с каким-то
определенным падежом в концептуальной рамке, постулированной
для какого-то другого класса глаголов.
5.
Теперь я считаю, что решение вполне может быть
найдено. Оно должно основываться на принципе,
сформулированном нами выше: «Значения обусловливаются ситуациями».
Чтобы подвести читателя к этому типу решения, я хотел
бы прежде всего отметить, что инвентарь падежей, как я их
всегда понимал, не идентичен полному набору понятий,
необходимых для анализа любой ситуации или события.
Один из падежей в предложенной мною системе — это падеж
агенса, указывающий на роль активного участника
некоторого события; но реальные события не подчиняются каким-
либо ограничениям по числу возможных активных
участников. Например, в событии, которое мы будем называть
торговым событием, участвуют, играя при этом агентивную
617,
роль, два разных лица, и действия каждого из них входят в
понимание любой лексической единицы, которая может
использоваться для описания такого события в целом или
любого из его аспектов. Мысль, которую я хочу здесь
подчеркнуть, состоит в том, что падежная рамка не обязана
охватывать описание всех релевантных аспектов ситуации,
она включает только конкретный «кусочек» или «участок»
ситуации.
Один из участников торгового события — покупатель —
отдает некоторую сумму денег и получает товары; другой —
продавец — отдает товары и получает деньги. В полном
описании торгового события будутфигурировать покупатель,
продавец, деньги и товары 1. Торговое событие-прототип
включает все эти элементы, но любое отдельное
предложение, которое мы строим, когда описываем подобное событие,
заставляет нас выбрать одну конкретную точку зрения на
это событие (конкретную перспективу). Я предлагаю
говорить, что любой глагол, выделяющий какой-то конкретный
аспект торгового события, диктует нам включение в
перспективу одного или более элементов данного события,
причем в английском языке этот выбор проявляется в выборе
грамматических функций, соответствующих понятиям
глубинного субъекта и глубинного прямого объекта. Например,
если я хочу остановиться на перспективе продавца и
товаров, я употребляю глагол sell 'продавать'. Если мне надо
остановиться на перспективе покупателя и денег, то я
употребляю глагол spend 'тратить'. Если я хочу включить в
перспективу либо покупателя и деньги, либо покупателя и
продавца, я употребляю глагол pay 'платить'. Если мне
надо выбрать перспективу товаров и денег, я употребляю
глагол cost 'стоить', и т. д.
В каждом из этих случаев говорящий обязан построить
предложение, в котором одна из двух или трех сущностей,
включенных в перспективу, становится субъектом, а
другая может выступать в форме прямого объекта. Новый
вопрос, ждущий своего решения в рамках теории падежей,
1 Действительно подробный анализ будет еще различать статус
денег с двух точек зрения (наличность и стоимость). Это позволит дать
разные описания следующим предложениям:
(i) I bought it with a two-dollar bill.
'Я купил это за двухдолларовую ассигнацию.'
(ii) I bought it for two dollars.
'Я купил это за два доллара.'
618
сводится к следующему: что мы должны знать о различных
ролях участников ситуации, для того чтобы узнать, которая
из этих ролей или какие их сочетания могут быть включены
в перспективу и, далее, какая из ролей, включенных в
перспективу, должна стать субъектом, а какая — прямым
объектом?
Связь этого вопроса с понятием «сцен» [или ситуаций]
может быть описана следующим образом. Изучение
семантики есть изучение когнитивных сцен, которые создаются
или активизируются высказываниями. Всякий раз, когда
говорящий употребляет какой-либо из глаголов,
относящихся, например, к торговому событию, вводится в игру
(«активизируется») вся сцена торгового события, но при этом
конкретное выбранное слово налагает на данную сцену
конкретную перспективу. Так, любой, кто слышит и понимает
то или иное предложение из (12), «держит» в своем уме
сцену, включающую все необходимые аспекты торгового
события, в которой специально выделены и включены в
перспективу лишь некоторые части данного события.
Покупатель и товары упоминаются в (12а), покупатель и
деньги — в (12Ь). В каждом случае информация о других
элементах сцены могла бы быть включена через посредство
неядерных элементов предложения, как в (12с) и (12d):
(12) a) I bought a dozen roses.
'Я купил дюжину роз.'
b) I paid Harry five dollars.
'Я заплатил Гарри пять долларов.'
c) I bought a dozen roses from Harry for five dollars.
'Я купил дюжину роз у Гарри за пять долларов.'
d) I paid Harry five dollars for a dozen roses.
'Я заплатил Гарри пять долларов за дюжину
роз.'
Один из типичных подходов к трактовке элементов
предложения, которые обязательны в концептуальном плане и
факультативны в плане выражения, состоит в
постулировании того, что эти элементы присутствуют в глубинной
структуре, но опускаются (или получают нулевую
репрезентацию) на уровне поверхностной структуры. (Примеры (12а)
и (12Ь) иллюстрируют различные условия для таких
операций опущения.) В рамках же концепции, согласно которой
значения обусловливаются ситуациями, совсем
необязательно считать, будто все, что входит в наше понимание предло-
17**
519
жения, непременно включается в глубинную (underlying)
грамматическую структуру этого предложения; более
предпочтительным представляется говорить, что слово, например
buy 'покупать' или pay 'платить', активизирует сцену
торгового события; что каждый, кто понимает данное слово,
знает, каковы различные компоненты и аспекты такого
события, и что лингвистические знания говорящего о
данном глаголе включают знание тех грамматических
способов, посредством которых различные части
рассматриваемого события могут реализоваться в форме
высказывания.
Любой конкретный глагол или другое слово
предикативного типа задает при каждом его употреблении
определенную перспективу. Грамматические функции имен, которые
обозначают сущности, включенные в перспективу,
определяются отчасти своего рода иерархией глубинных падежей.
Другие части соответствующей сцены могут вводиться с
помощью предложных сочетаний, разнообразных наречных
оборотов и придаточных предложений.
«Обстоятельственные» составляющие предложения не обязаны соотноситься
со специфическими аспектами ситуации,
предопределяемыми конкретным ее типом. Поскольку любое событие
происходит во времени, то любое предложение, соотносимое с
некоторым событием, может содержать временное наречное
выражение; поскольку многие виды событий происходят в
определенных пространственных рамках, предложения,
описывающие такие события, могут содержать локативные
наречные выражения, и т. д.
И когда я говорю, что значения обусловлены ситуациями,
я имею в виду следующее: когда мы выбираем и понимаем
языковые выражения, мы имеем или активизируем в нашем
мышлении сцены, или образы, или воспоминания о том
опыте, в контексте которого данное слово или выражение
выполняет номинативную, описательную или
классифицирующую функцию. Например, когда нам случается говорить,
что некто провел какое-то время on land 'на суше', мы знаем,
что это выражение выбирается из контрастивного множества,
которому противопоставлено множество, задаваемое
выражением at sea 'в море', и что члены этого последнего
множества требуют в качестве фона сцену, так или иначе
включающую морское путешествие. Аналогичным образом
мы знаем, что если мы характеризуем кого-то при помощи
слова spry 'живой, подвижный, проворный, бойкий; бод-
520
рый', то мы имеем в виду фоновую сцену, связанную с таким
возрастным диапазоном, для которого подразумеваемая
нами степень активности и бодрости является относительно
редкой. Иначе говоря, всякий раз, когда мы выбираем слово
или словосочетание, вместе с ним мы автоматически
привлекаем тот более широкий контекст, или рамку, в терминах
которой отобранное слово или словосочетание получает
определенную интерпретацию. Описания значений
элементов должны как бы задавать одновременно «изображение»
и его «фон».
Как уже говорилось, всякий раз, когда мы понимаем
какое-либо языковое выражение любого типа, мы
одновременно имеем дело с фоновой сценой и перспективой,
налагаемой на эту сцену. Таким образом, в наших примерах с
куплей и продажей выбор любого конкретного выражения
из инвентаря выражений, которые активизируют сцену
торгового события, вызывает представление о целой сцене,
о целой ситуации торгового события, но выносит на
передний план — в перспективу — только какой-то конкретный
аспект или участок этой сцены.
в.
Языки (и лексические единицы) дают примеры
интересных различий в плане имеющихся в них возможностей
выбора конкретных перспектив в сложных сценах.
Рассмотрим для примера такую ситуацию, когда человек берет
некий предмет и заставляет его вступать в тесное
соприкосновение с другим предметом.
Английский глагол hit 'ударять; ударяться' допускает
для такой сцены выбор любой из двух перспектив. Одна
из них — это перспектива деятеля и используемого
объекта, другая — деятеля и объекта, подвергаемого
воздействию. Первая перспектива иллюстрируется предложением
типа (13а), вторая — предложением (13Ь):
(13) a) I hit the stick against the fence.
'Я ударил палкой по забору.' (букв. 'Я ударил
палку о забор.')
b) I hit the fence with the stick.
'Я ударил по забору палкой.' (букв. 'Я ударил
забор палкой.')
621
c) I hit the stick.
'Я ударил по палке.' (букв. 'Я ударил палку.')
d) I hit the fence.
'Я ударил по забору.' (букв. 'Я ударил забор.')
Событие, отражаемое в (13а) и в (13Ь), может быть одним и
тем же, но перспективы этих предложений разные.
Элементы, включаемые в перспективу (то есть
выступающие в виде субъектов и прямых объектов), мы будем
называть ядерными элементами предложения. Первое, что
необходимо заметить о ядерных элементах, определяемых таким
образом,— это то, что они не тождественны обязательным
элементам предложения. Например, в (13а)
предложное сочетание является обязательным, но оно не входит
в ядро. Иначе говоря, (13d) можно считать
сокращенным (в определенном контексте) вариантом (13Ь), но
(13с) не может быть истолковано как сокращенный
вариант (13а).
Напрашивается вопрос: при каких условиях нечто может
быть внесено в перспективу? В случае действия,
обозначаемого глаголом 'ударять', когда оба предмета, приходящие
в соприкосновение друг с другом, являются
неодушевленными и ни один из них не выделяется в речи как предмет,
на котором отразились бы какие-то интересные последствия
данного события,— в этом случае трудно вообразить какое-
либо яркое различие между ними, и, следовательно, весьма
непросто понять разницу в выборе одной из двух
перспектив. Однако, когда одна из двух сущностей,
соприкасающихся друг с другом в результате удара, является в каком-
то смысле внутренне более подходящей для включения в
перспективу (по своим внутренним качествам более
заметной, бросающейся в глаза), сила выбора перспективы
становится вполне ощутимой. Одна из возможностей сделать
так, чтобы сущность, подвергаемая воздействию, стала
бросаться в глаза, заключается в замене забора человеком.
Думаю, все согласятся с тем, что высказывание (14а)
является в некотором смысле более естественным, чем
высказывание (14Ь):
(14) a) I hit Harry with the stick.
'Я ударил Гарри палкой.'
b) I hit the stick against Harry.
'Я ударил палкой по Гарри.' (букв, 'Я ударил
палку о Гарри.')
522
Наша оценка, должно быть, связана с тем, что более
естественно включать людей в перспективу, чем оставлять их
вне ее, включая вместо них неодушевленные предметы. Дело
не в том, что предложение (14Ь) не может быть употреблено,
а в том, что в этом предложении решение оставить Гарри
вне перспективы приводит к иной трактовке данной
сущности: Гарри рассматривается как физический объект,
а не как существо, способное почувствовать действие
удара.
Для ситуаций, включающих механические действия
только что рассмотренного типа, довольно легко установить
концептуальный каркас, части которого весьма
непосредственным образом соответствуют падежным понятиям (или
очень близким к ним). Так, предмет, который
используется,— это пациенс, предмет, на который с его помощью
оказывают воздействие,— это цель (goal), а тот, кто оперирует
первым предметом,— это агенс. Для глагола hit и ряда
других глаголов из того же семантического поля существует
определенный набор возможных перспектив: агенс и цель,
как в (14а), где агенс выступает в виде субъекта, а цель — в
виде прямого объекта; агенс и пациенс, как в (14Ь), где
агенс выступает в виде субъекта, а пациенс — в виде прямого
объекта; пациенс и цель (когда оперирующая сущность
оставляется вне перспективы), при этом пациенс
выступает в виде субъекта, а цель — в виде прямого объекта,
как в (15):
(15) The stick hit the fence.
'Палка ударила по забору.' (букв. 'Палка ударила
забор.')
Решение оставить в предложении (15) оперирующую
сущность вне перспективы приводит к тому, что фиксируется
суженная перспектива на фоне более широкого события;
такой выбор оправдан, например, в ситуации, когда палка
была брошена в пространство и ее соприкосновение с
забором могло рассматриваться как отдельное,
индивидуализированное событие.
Напротив, глагол beat 'бить, ударять; колотить,
стучать; бить, побить; избивать' ассоциируется только с такой
ситуацией, в которой агенс держит используемый предмет
623
в течение всего действия. Так, мы можем употребить
высказывания (16а—d) при условии особого истолкования для
(16с); но применительно к той же ситуации мы не можем
употребить предложение (16е):
(16) a) I beat the stick against the wall.
'Я стучал палкой по стене.'
(букв. 'Я бил палку о стену.')
b) I beat the wall with the stick.
'Я стучал по стене палкой.'
(букв. 'Я бил стену палкой.')
c) I beat the stick against Harry.
'Я бил палкой по Гарри.'
(букв. 'Я бил палку о Гарри.')
d) I beat Harry with the stick.
'Я бил Гарри палкой.'
e) The stick beat Harry.
'Палка била Гарри.'
Поскольку beat в обязательном порядке предусматривает
осуществление события в истории агенса, оставить агенс
вне перспективы оказывается невозможным.
С глаголом knock 'стучать; стучаться; ударять, бить,
колотить' связано несколько особых проблем. В
концептуальном плане действие по глаголу knock
требует более одного участника, но включаться в
перспективу должен только агенс. Так, когда мы употребляем
предложение (17), мы имеем в виду в основном действие
агенса:
(17) Не knocked on the door with his fist.
'Он постучал в дверь кулаком.'
Таким образом, мы видели, что понятие перспективы
может привлекаться для объяснения (точнее, для
выражения) тонких семантических различий как в грамматической
организации предложений с одним и тем же глаголом, так
и предложений, содержащих разные глаголы (hit, beat и
knock) из одной семантической области.
В качестве одного из явно не выраженных условий,
обеспечивающих выделенность элемента и благоприятствующих
включению в перспективу, я назвал признак 'человек'.
Другим примером такого условия может служить
изменение состояния или изменение местонахождения. Когда
агенс осуществляет перемещение пациенса и приводит его
524
в контакт с целью, в результате чего предмет, служащий
целью, приходит в движение или претерпевает изменения,
элемент, стоящий в падеже цели, уже тем самым приобретает
свойство выделенное™, достаточной для того, чтобы быть
включенным в перспективу. Мы видели в (17), что при
употреблении knock on 'стучать по, стучать в' агенс должен
включаться в перспективу; но если при осуществлении
действия стука по двери дверь падает, мы выражаем этот факт
с помощью сложного глагола knock down 'сбить,
свалить; сломать, сносить' и включаем дверь в
соответствующее предложение в позиции прямого объекта,
как в (18):
(18) Не knocked the door down.
'Он сбил дверь.'
Рассмотрим теперь глагол push 'толкать, пихать;
нажимать, надавливать' и предположим, что я произношу
предложение (19а). Здесь мы имеем дело со сценой,
включающей двух участников, и с одноместной перспективой, в
результате чего, по-моему, в центре нашего внимания
оказывается само действие агенса. А теперь предположим, что в
результате моего надавливания на стол он двигается.
Теперь я могу произнести фразу (19Ь), где стол включен в
перспективу, то есть выражение the table стоит в позиции
прямого объекта.
(19) a) I pushed against the table.
'Я навалился на стол.'
b) I pushed the table.
'Я толкнул (столкнул) стол.'
Тот факт, что со столом произошло какое-то изменение, и
послужил естественным основанием для включения его в
перспективу 2.
2 Одна из возможных интерпретаций этих явлений, на которую
обратили мое внимание студенты Яноша Жилки во время моей лекции
в Будапеште о функциях прямого объекта, состоит в следующем: вместо
того, чтобы говорить о «выборе» некоторого имени для помещения его
в позицию прямого объекта на основании наблюдаемой у него выде-
ленности, мы должны говорить о процессе транзитивизации как о виде
лексикализации или о каком-то другом типе изменения в валентностях.
В венгерском языке много примеров отношений между предложениями
того типа, который я здесь рассматриваю, и при этом лексическое
различие сводится к присутствию или отсутствию перфективизирующего
префикса meg- (см. Z s i l k a, 1967). Я думаю, что излагаемые мной
625
Предположим теперь, что я, оперируя каким-то
предметом, привожу его в контакт с другим предметом и в
результате этот второй предмет приходит в движение или
претерпевает изменение. Предмет, который изменяется, как
мы видели, включается в перспективу, а вещь, которой
манипулируют, остается как бы вне ядерной системы
грамматических отношений. Если она отмечается, то должна
оформляться с помощью предлога with 1близкого по
значению русскому творительному падежу]. Понятие, которое
в своих предыдущих работах я называл инструментом,
может рассматриваться, таким образом, как производное
понятие, характеризующее отношение между некоторой
сущностью в одном событии и тем событием, которое
вызывается этим первым событием. (С особой силой данная
интерпретация одной стороны понятия' инструмента была
осуществлена в Т а 1 m у, 1972.) Таким образом, если я
ударяю молотком по вазе и ваза разбивается, я выражаю этот
факт в виде (20а); если, однако, я стучу молотком по вазе
и ломается молоток, я выражаю этот факт в виде (20Ь):
(20) a) I broke the vase with the hammer.
'Я разбил вазу молотком.'
b) I broke the hammer on the vase.
'Я сломал молоток о вазу.'
Каждая из этих сцен состоит из двух событий, причем
первое включает движение одной вещи по направлению к
другой; вторая часть у этих ситуаций разная. В том случае,
когда ломается молоток, требуется, чтобы элемент the
hammer 'молоток' реализовался как прямой объект, а элемент
the vase 'ваза' фигурировал в конструкции с предлогом
цели; тогда же, когда разбивается ваза, необходимо, чтобы
прямым объектом было выражение the vase, а выражение
the hammer было бы в составе конструкции с предлогом
with.
наблюдения, касающиеся перспективы, адекватно описываются с точки
зрения функций ядерных грамматических отношений; но я согласен
с тем, что в лингвистическом описании эти понятия скорее относятся
к рассмотрению категории вида и моделей лексикализации, чем к
описанию причин, которыми руководствуются говорящие в процессе
приписывания предложению определенной грамматической организации.
Я принял эту, более «процессуальную» точку зрения скорее как
удобный способ обсуждения соответствующих явлений, чем как
окончательное решение об их месте в механизме действия грамматики*
526
Согласно данной интерпретации, отношение между
глаголом изменения состояния и той сущностью, которая
претерпевает это изменение состояния, отражается не в
глубинной (underlying) падежной структуре (по крайней мере не в
глубинной падежной структуре первой части ситуации,
состоящей из двух событий), а в грамматическом отношении
прямого объекта. Имея это в виду, мы можем теперь пролить
некоторый свет на семантическое различие между
предложениями в (21):
(21) a) I cut my foot on a rock,
'Я порезал ногу о камень.'
b) I cut my foot with a rock.
'Я порезал ногу камнем.'
В предложении с with нога связана с действием отношением
цели, а камень рассматривается как вещь, которая
воздействовала на ногу; в предложении с оп нога связана с
действием отношением пациенса, а камень рассматривается как
вещь, по направлению к которой двигалась нога. Предмет,
который претерпел изменение состояния (в каждом из
этих случаев — нога), единообразно выражается как
прямой объект независимо от падежной роли, выполняемой им
в сцене.
Предлагаемый мною новый способ трактовки этих
наблюдений (с использованием как падежных (или близких к ним)
понятий, так и грамматических отношений) не
предусматривает для глаголов только что рассмотренного типа
отдельного независимого падежа инструмента, а учитывает
вместо этого процесс побочного оформления с помощью
предлога with (иногда of) любого существительного в роли
пациенса, которое из-за существования другой группы
существительного с более высокой степенью выделенное™ не
становится частью ядра предложения. В результате такого
изменения концепции нет оснований считать удивительным
тот факт, что один и тот же предлог имеет как
инструментальное, так и неинструментальное употребление. Для
предложений (21) и предложений типа (22):
(22) I filled the glass with water,
'Я наполнил стакан водой.'
обобщение, касающееся выбора with, имеет стандартную
формулировку: сущность, оформленная предлогом with,—
527
это сущность, которая двигалась по отношению к какому-
то другому предмету, но была оставлена вне перспективы
из-за более высокой степени выделенное™ той сущности,
которая играла роль цели.
Э-'а последняя мысль позволяет нам пополнить наш
список критериев выделенное™. Я говорил, что перспектива,
фиксируемая в предложении, определяется своего рода
иерархией элементов по их важности; можно назвать ее
иерархией выделенности. Пока в этой иерархии мы
наметили два условия — это признаки человека и изменения.
Видимо, к этому списку можно добавить определенность и
тотальность. На основе такого дополнения мы можем
решить старые проблемы, касающиеся, например, нанесения
грязи или погрузки сена. В предложениях (23а) и (23Ь)
мы мыслим себе события, которые более или менее
полностью охватывают грузовик или стену соответственно;
а именно, в результате действия грузовик был заполнен,
а стена была измаз.ана. В предложениях, парных к
ним — (23с) и (23d),— такое допущение не является
обязательным:
(23) a) I loaded the truck with hay.
'Я нагрузил грузовик сеном.'
b) I smeared the wall with mud.
'Я измазал стену грязью.'
c) I loaded hay onto the truck.
'Я погрузил сено на грузовик.'
d) I smeared mud on the wall.
'Я помазал стену грязью.'
(букв. 'Я нанес грязь на стену.')
Здесь, видимо, действует следующее условие: если в
результате приведения одного предмета в соприкосновение с
другим этот другой предмет подвергается воздействию как бы
полностью, то этот новый статус предмета, играющего роль
цели, служит достаточным основанием для включения его
в перспективу предложения.
Одни глаголы допускают выбор перспективы, например
большинство из рассмотренных нами выше, другие, как
это показано в М е 1 1 е m a, 1974, имеют фиксированные
перспективы. Например, cover 'покрывать, закрывать,
накрывать' требует, чтобы цель оформлялась как прямой
объект, a put 'класть, ставить', напротив, требует, чтобы в
528
качестве прямого объекта выступал пациенс. Эти факты
иллюстрируются в предложениях (24):
(24) a) I covered the table with a quilt.
'Я покрыл стол скатертью.'
b) *I covered a quilt over the table.
*'Я покрыл скатерть на стол.'
c) I put a quilt on the table.
'Я постелил скатерть на стол.'
d) *I put the table with a quilt.
'*Я постелил стол скатертью.'
В лексикографическом плане необходимо, чтобы особые
требования такого типа включались в научное описание
соответствующих слов, подобно тому как в случае beat,
как отмечалось выше, должно указываться на длительный
контакт между тем, кто бьет, и тем средством, которое он
использует для битья.
7.
В предпоследней части настоящей статьи я фактически
старался показать, что некоторые из проблем падежного
анализа, затронутые в предыдущих частях (особенно
мучительные вопросы о числе и разнообразии падежей), могут
быть несколько приближены к своему разрешению, если
мы отделим друг от друга две вещи: во-первых, ролевой
анализ состава участников ситуации того типа, для
которого выдвигались концепции глубинных падежей; и,
во-вторых, условия, при которых говорящий может осуществлять
выбор, касающийся включения определенных участников
ситуации в перспективу. Поскольку формирование
перспектив соответствует (по крайней мере в английском языке)
определению структуры фразы в терминах ядерных
грамматических отношений, из предлагаемой концепции
следует, что возникает необходимость признать такой уровень
грамматической структуры, на котором должны будут
использоваться глубинные (underlying) грамматические
отношения,—такой уровень, который я раньше пытался
отвергать. Я думаю, однако, что уровень падежного или
ролевого анализа также необходим, как часть общего анализа
сцен, информация о которых передается с помощью ре-
629
чи; я думаю, далее, что эти два вида структур объединяются
понятием перспективы, которое я пытался разъяснить выше.
Для нас существуют сцены или ситуации и функции
различных участников этих сцен и ситуаций. Мы выносим на
передний план или включаем в перспективу некоторую, возможно
совсем маленькую, часть такой сцены. Из элементов,
выдвигаемых на передний план, один получает роль
субъекта — в глубинной (underlying), или логической, структуре
предложения,— а другой (если мы выносим на передний
план два предмета) получает роль прямого объекта. Своего
рода иерархия выделенности определяет, что именно
выносится на передний план, а своего рода иерархия падежей
определяет, как именно выдвинутым именам следует
приписывать грамматические функции.
3. Вендлер
О СЛОВЕ GOOD*
1. «Если меня спросят, что значит слово good
['хороший'!, я отвечу, что good — это good и ничего более» 1.
Несмотря на это свое заявление, Мур все же высказывает
некоторые соображения относительно смысла слова good.
По его мнению, good — это простое обозначение качества,
так же как и yellow 'желтый', но в отличие от yellow, good
не обозначает какое-либо естественное качество. Что,
однако, это значит?
Мур пишет: «Можно ли считать, что «good» существует
во времени само по себе, а не только как свойство
какого-либо объекта? Я думаю, что нельзя, тогда как многие
другие свойства объектов — те, которые я называю
естественными,— представляются мне существующими
независимо от самих объектов. Эти последние свойства являются
скорее частями, из которых строятся объекты, а не
предикатами относительно этих. объектов. Если отделить
такие свойства от объекта, то сам объект перестанет
существовать, хотя бы даже в виде неоформленной субстанции,
так как именно они наполняют объект всем его
субстанциональным содержанием. С good дело обстоит не так» 2.
Иначе говоря, качество «хорошести» (goodness) как бы
отстоит дальше от объекта, чем другие качества: в то время
как прочие качества составляют сам объект, good
характеризует уже готовый объект, так сказать, извне.
В своем изложении я не буду в отличие от Мура
придерживаться метафизического взгляда на объекты и их каче-
* Zeno V е n d 1 е г. The Grammar of Goodness.— In: V e n d 1 e r
Z. Linguistics in Philosophy. New York, 1967, chap. 7, p. 172—195.
1 G. E. Moore. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge
University Press, 1903, p. 6.
% Там же, с. 41.
531
ства. Меня интересует только следующий вопрос: на что
опирается интуиция Мура? Отчего ему, да и нам тоже,
кажется, что «хорошесть», то есть положительная оценка,
отстоит от предмета дальше, чем его цвет, форма и другие
качества? Известно, что в тексте прилагательное good
всегда находится от своего определяемого дальше (то есть стоит
всегда левее), чем прилагательные типа yellow 'желтый'
или round 'круглый'. Именно поэтому и создается
впечатление, будто предикат good связан со своим субъектом более
сложным и менее непосредственным образом, чем предикат
yellow. Это в свою очередь объясняет ощущение более
непосредственной связи между предметом и его цветом (или
каким-либо другим «естественным» качеством) и менее
непосредственной связи между предметом и его «хорошестью»
(или другим «неестественным» качеством). Таким образом,
в случае со словом good мы имеем пример того, что наша
метафизическая интуиция может попросту отражать одну
из особенностей английского языка.
2. Для того чтобы определить смысловую связь между
прилагательным good и существительным, к которому оно
относится, необходимо поставить один общий вопрос:
какими способами прилагательное может быть связано по
смыслу с существительным? Как мы увидим, таких способов
существует много. Кроме того, для каждого
прилагательного возможны лишь некоторые из этих способов. Этот факт
позволит нам найти общий принцип классификации
прилагательных и метод разграничения различных употреблений
данного прилагательного. Детальное исследование
поведения одного конкретного прилагательного — good —
покажет полезность подобных лингвистических исследований с
точки зрения философии; мы полагаем, что такое
исследование, проведенное в полном объеме, могло бы привести к
исчерпывающему описанию категории качества.
В книге Z i i f, 1960 (см. гл. VI) П. Зифф подверг слово
good детальному и глубокому семантическому анализу,
рассмотрев и некоторые его грамматические свойства. Для меня
особенно важны соображения Зиффа об относительно
высоком «ранге» этого прилагательного (Z i f f, 1960, p. 203 и ел.).
Высокий ранг прилагательного good означает, что оно часто
встречается в самом начале цепочки прилагательных,
стоящих перед существительным: good heavy red table 'хороший
532
тяжелый красный стол', но не *heavy good red table
'тяжелый хороший красный стол' или *red heavy good table
'красный тяжелый хороший стол' и т. д. Зифф считает, что
высокий ранг этого прилагательного объясняется его
широкой сочетаемостью. Возьмем три следующие фразы:
(1) This is a good table.
'Это хороший стол.'
(2) I had a good sleep.
'Я хорошо поспал.' (букв. 'Я имел хороший сон,') и
(3) It is good that it is raining.
'Хорошо, что идет дождь.'
С good все эти фразы будут правильными. Heavy
'тяжелый' вместо good возможно только в (1) и (2), a red 'красный*
вместо good — только в (1). Таким образом, good имеет более
широкую сочетаемость, чем heavy, a heavy — более
широкую сочетаемость, чем red. В соответствии с различиями в
ранге между этими прилагательными они могут
располагаться только в одной линейной последовательности: good
heavy red.
Зифф, конечно, и сам сознает недостатки своего подхода.
Приведя ряд противоречащих примеров, он делает
следующий вывод: линейный порядок прилагательных
«определяется, по-видимому, и какими-то другими факторами, а не
только более широкой/более узкой сочетаемостью.
Возможно, этот фактор связан с естественными свойствами
объектов, однако сформулировать нужную нам закономерность
в подходящих синтаксических категориях пока не удается».
(Z I f f, 1960, p. 205—206).
К противоречащим примерам Зиффа я добавлю еще
один. Ясно, что слово comfortable 'удобный,
комфортабельный' имеет более высокий ранг, чем слово red: comfortable
red chair 'удобный красный стул', но не *red comfortable
chair 'красный удобный стул'. Однако столь же ясно и то,
что red имеет более широкую сочетаемость, чем comfortable:
грубо говоря, предметов, которые можно охарактеризовать
как красные, гораздо больше, чем тех, которые можно
охарактеризовать как удобные. Но почему же о стуле можно
сказать, что он удобный, тогда как о яблоке нельзя сказать,
что оно удобное? И вообще что такое удобный стул? Такой,
на котором удобно сидеть (one that is comfortable to sit on).
А является ли красный стул таким, на котором красно си-
533
деть (Is a red chair red to sit on)? Нет, мы сразу понимаем,
что слово red невозможно в контексте *It is red to...
Напротив, слово comfortable всегда предполагает (хотя бы
подразумеваемую) глагольную конструкцию. Можно сказать
и comfortable ride 'комфортабельная поездка', имея в виду
'ехать удобно', И comfortable coach 'удобная карета', то
есть 'карета, в которой удобно ехать'. Однако что могло бы
значить выражение comfortable apple 'удобное яблоко'?
Это яблоко удобно.., для чего? Дело здесь в том, что
свойство быть удобным соотносится с вещью лишь через
некоторое действие, в котором вещь принимает участие, тогда
как краснота является непосредственным
атрибутом вещи. Здесь мы впервые сталкиваемся с
существованием разных видов смысловой связи между прилагательными
и существительными. И как раз от характера этой связи
зависит ранг прилагательного: red стоит в тексте ближе к
существительному, чем comfortable, именно потому, что оно
характеризует существительное по смыслу более прямо и
непосредственно, чем comfortable.
Зифф понимает, что более высокий ранг прилагательного
good отделяет его от прилагательных со значением цвета,
формы или другого «естественного» свойства. Мур в свою
очередь полагает, что эти последние обозначают
«естественные» качества, а качество good не относится к
«естественным». Утверждение Мура основано на интуиции; Зифф же
пытается найти синтаксический критерий для выявления
семантических различий между прилагательными, но, как
мне кажется, ошибочно принимает симптом за причину.
Что в точности мы делаем, по каким языковым путям нам
приходится проходить, когда мы называем нечто хорошим?
Надеюсь, что важность ответа на этот вопрос
оправдывает необходимость рассмотрения некоторых технических
деталей.
3. Я буду исходить из того, что конструкция
«прилагательное + существительное» является производной, то
есть выводится из конструкции с ограничительным
придаточным определительным: именная группа типа red hat
'красная шляпа' должна выводиться из hat that is red
'шляпа, которая является красной'. Этот вывод осуществляется
следующей трансформацией:
(I) А N & N wh... is A
б?4
Очевидно, что трансформация (I) описывает
подавляющее большинство именных групп с
прилагательным-определением. Однако было бы ошибкой считать, что эту
трансформацию допускает любая именная группа вида AN 3.
Такие примеры, как beautiful dancer 'прекрасная
танцовщица', utter fool 'круглый дурак', nuclear scientist
'ядерный физик', должны нас насторожить: ни один дурак не
является круглым, а ядерный физик — это вовсе не физик,
который является ядерным. А что такое прекрасная
танцовщица? Это означает либо что танцовщица сама
прекрасна, либо что она прекрасно танцует. Данное различие
должно быть отражено в трансформационном описании
словосочетания beautiful dancer. Его первое значение
объясняется трансформацией (I), второе же должно иметь другой
источник. Пытаясь найти его, рассмотрим предложения
(4) и (5):
(4) She is a beautiful girl.
'Она прекрасная девушка.'
(5) She is a beautiful dancer.
'Она прекрасная танцовщица.'
Предложение (4) выводится единственным способом:
She is a beautiful girl. <=> She is a girl who is beautiful.
Предложение (5) может быть выведено из двух разных
предложений:
либо She is a beautiful dancer. <=> She is a dancer who is
beautiful;
либо She is a beautiful dancer. <=> She is a dancer who dances
beautifully.
Существенно, что в последнем случае прилагательное
связано с подлежащим не через глагол-связку, а через
глагол to dance 'танцевать'. Конечно, этот глагол
морфологически восстанавливается по существительному dancer
'танцовщица', которое в двух последних предложениях
относится к одному и тому же подлежащему she.
Следовательно, прилагательное beautiful связано с подлежащим she
3 П. Т. Гич (в статье G е а с h, 1956) приходит к аналогичным
выводам на основе логических, а не лингвистических соображений.
635
не прямо, а через существительное dancer, точнее, через
глагол to dance. Это подсказывает трансформацию
(Ilia) A Nv ФФ N wh... V DA4
Однако не все прилагательные допускают обе указанные
трансформации (то есть I и Ilia), ср.:
(6) She is a blonde and beautiful dancer.
'Она светловолосая и прекрасная танцовщица.'
(7) She is a fast and beautiful dancer.
'Она быстрая и прекрасная танцовщица.'
(8) *She is a blonde and fast dancer.
'*Она светловолосая и быстрая танцовщица.'
Blonde допускает трансформацию (I), но не (Ша),. поэтому
в (6) и для beautiful необходимо принять интерпретацию
через (I). Fast допускает (Ша), но не допускает (I), поэтому
в (7) beautiful должно пониматься в смысле трансформации
(Ша). Таким образом, в каждом из этих двух примеров роль
слова beautiful понимается уже однозначно. В (8)
соединяются в качестве однородных определений несовместимые
прилагательные, что делает предложение неправильным. Более
полный анализ показывает, в чем именно заключается
неправильность:
(9) *She is a blonde and fast dancer «Ф She is a dancer
who is blonde and who dances fast.
'Она танцовщица, которая является светловолосой
и которая танцует быстро.'
В (9) blonde связано с подлежащим посредством глагола-
связки, a fast — посредством глагола to dance. Поэтому
эти прилагательные нельзя соединить в однородную
цепочку, не нарушив семантической правильности предложения.
Описанный выше способ проверки позволяет установить
тождество или различие трансформационной истории
предложений, содержащих прилагательные.
Поскольку, как мы только что сказали, fast допускает
только (Ша), но не (I), возникает вопрос, как быть со
словосочетаниями типа fast horse 'быстрая лошадь'. Из слова
4 Nv обозначает имя деятеля, образованное от глагола (V); ср.
dancer, swimmer 'пловец', cook 'повар', judge 'судья'. DA обозначает
наречие, образованное от прилагательного (А), например: beautifully
'прекрасно', slowly 'медленно', fast 'быстро' и т. п. Номера,
приписываемые трансформациям, отражают их теоретический порядок и не
соответствуют последовательности их введения в настоящем изложении.
636
horse морфологически не восстанавливается никакой
Глагол, Однако мы понимаем, что быстрая лошадь — это
лошадь, которая быстро бегает (one that runs fast). Таким
образом, словосочетание fast horse предполагает наличие
глагола (или класса глаголов), связывающего наречие fast
и существительное horse таким же способом, каким глагол
to dance соединяет fast (или beautiful) с dancer. Это
объясняет, почему нам непонятны выражения типа fast apple
'быстрое яблоко' или fast chair 'быстрый стул': для
компонентов этих словосочетаний невозможен никакой соединяющий
глагол. С другой стороны, для получения словосочетаний
типа round apple 'круглое яблоко' или red chair 'красный
стул' не нужен никакой глагол, кроме глагола-связки;
именно поэтому мы понимаем их сразу. Класс глаголов,
восстанавливаемых по смыслу в сочетаниях «прилагательное +
+ существительное», может быть больше или меньше. Так,
для сочетания fast horse 'быстрая лошадь' возможен,
видимо, только один такой глагол; со словосочетанием weak
king 'слабый король' ассоциируются по крайней мере два
глагола: rule 'править' и govern 'управлять' (Не
rules/governs weakly), и, наконец, для случаев типа careful mother
'заботливая мать' или good man 'хороший человек' класс
возможных глаголов становится довольно обширным, хотя
и остается достаточно определенным. Мы понимаем, что
значат эти словосочетания, но без дополнительной
информации едва ли поймем словосочетания careful brother
'заботливый брат' или good planet 'хорошая планета'» Не
случайно нам хочется для объяснения словосочетания careful
mother 'заботливая мать' использовать неуклюжий глагол
to mother: a careful mother mothers carefully; мы прибегаем
к этому глаголу как к представителю соответствующего
класса. Поэтому объясняющей трансформацией для
сочетания такого типа может служить расширение и обобщение
трансформации (II 1а):
(III) А N ФФ N wh... [V1 DA6.
Тогда (IHa) будет частным случаем (III), а именно: в (Ша)
глагол не только соотносится с существительным по смыслу,
но, кроме того, существительное и морфологически (=по
форме) производно от него.
5 Здесь [V] — класс глаголов, соотнесенных по смыслу с
существительным N.
18 л» Ш4
537
Как мы видели, не все прилагательные допускают обе
трансформации (I) и (III). Blonde, например, допускает
лишь (I), fast — (III), a beautiful — (I) и (III). Этот факт
поможет нам в дальнейшем произвести классификацию
прилагательных. Будем приписывать индекс г
прилагательным, допускающим (I), индекс 3 — допускающим (III) и
т. д.: redb blondeb fasts, careiul3, b.eautiful13 или, если
использовать переменные, Аь А2, А8, А18 и т. п.
Некоторые существительные употребляются
преимущественно с прилагательными типа А8. Словосочетания
blond king 'светловолосый король', tall mother 'высокая
мать', fat father 'толстый отец' и т. п. выглядят несколько
странно. Существительное в этих словосочетаниях содержит
прежде всего указание на некоторую функцию, которую
можно описать глаголами определенного класса; поэтому,
когда эти существительные употребляются с
прилагательными, мы ожидаем, что они будут охарактеризованы именно
с точки зрения данной функции. Действительно, для
обозначения определенного лица женского пола tall woman
'высокая женщина' предпочтительнее, чем tall mother
'высокая мать'. Существительные, в смысле которых
содержится указание на определенную функцию (типа
king, mother, dancer), имеют и другие особенности.
Возьмем фразы типа
(10) Не is good.
'Он хорош.'
или
(11) She is careful.
'Она заботлива.',
в которых отсутствует существительное, указывающее на
определенный глагольный класс. Эти фразы можно
закончить следующим образом:
(12) Не is good as a king.
'Он хорош в качестве короля.'
(13) She is careful as a mother.
букв. 'Она заботлива в качестве матери.'
Такой прием можно применять только к существительным,
содержащим очевидное указание на некоторую функцию.
Хотя мы понимаем, что такое fast horse 'быстрая лошадь'
или good car 'хорошая машина', мы не можем сказать:
538
(14) *This (animal) is fast as a horse.
'Это (животное) быстро в качестве лошади.'
(15) *This (vehicle) is good as a car.
'Это (транспортное средство) хорошо в качестве
машины.'
Отсюда видно, что в существительных horse или саг
указание на некоторую функцию является имплицитным.
Поэтому и выражения типа fat horse 'толстая лошадь' или red car
'красная машина' звучат вполне естественно в отличие от
fat father 'толстый отец' и других приведенных выше
словосочетаний.
4. Исходя из последнего замечания, мы можем выделить
еще один важный тип прилагательных. Рассмотрим
словосочетания: small elephant 'маленький слон', short python
'короткий питон', big flea 'большая блоха'. Ясно, что, хотя
все слоны являются животными, маленький слон не есть
маленькое животное, большая блоха не является большим
насекомым, а маленькая фабрика (small factory) — это не
обязательно маленькое здание. С другой стороны, желтая
фабрика (yellow factory)—это действительно желтое
здание, а злой слон (angry elephant) — это злое животное.
Особенностью прилагательных «меры» является то, что для них
возможны такие перифразы: small for an elephant
'маленький для слона', short for a python 'короткий для питона',
big for a flea 'большая для блохи'.
Другая возможная форма перифразы такова: small as
elephants go 'маленький по сравнению со слонами вообще',
Оба варианта перифразы, конечно, опираются на
представление о том, что с референтами некоторых существительных
связано представление об определенном стандартном
объеме, длине, весе и некоторых других параметрах.
Прилагательные, обозначающие высокие или низкие значения этих
стандартных параметров, образуют антонимические пары:
big — little 'большой — маленький', long — short
'длинный — короткий', thick — thin 'толстый — тонкий',
heavy — light 'тяжелый — легкий' и т. д. Тот факт, что
прилагательные внутри каждой пары противопоставлены
друг другу как значения одного параметра, можно
установить двумя способами. Во-первых, ответом на вопрос, в
котором употреблено одно из них, может служить
предложение, в котором употреблено другое:
18*
539
(16) How big is it? It is small,
букв. 'Как велик этот предмет? Он маленький.'
(17) How long is it? It is short.
букв. 'Насколько длинен этот предмет? Он
короткий.'
Во-вторых, отрицание одного означает утверждение
другого. Слон, который не являетсяпяаленьким, большой
(или средний); блоха, которая не является большой,
маленькая (или средняя).
Заметим, что эти черты не присущи прилагательным
первого класса At. Нельзя сказать, что желтый дом желт для
дома (*А yellow house is yellow for a house); нельзя спросить,
насколько желт этот дом (*How yellow is this house?), и
ответить, что он голубой. Наконец, неверным будет
утверждение, что если дом не желтый, то он голубой или средний.
В то же время прилагательные меры обладают
некоторыми чертами, сближающими их с А3. Многие А3 образуют
такие же антонимические пары: fast — slow 'быстрый —
медленный', strong — weak 'сильный — слабый', careful —
careless 'внимательный — невнимательный', good — bad
'хороший — плохой' и т. д. Различие между А3 и
прилагательными меры заключается в том, что А3 по самой своей
природе должны иметь производные от них наречия, а
прилагательные меры (big, small, tall, low) обычно их не имеют,
а если и имеют, то смысловая связь между ними и их
производными, как правило, оказывается нарушенной: short
'короткий' — shortly 'вскоре', narrow 'узкий'—narrowly
'чуть', light 'легкий' — lightly 'слегка'. Сам этот факт
говорит о невозможности объяснения указанных
прилагательных посредством трансформации (III). Кроме того, А„,
в отличие от прилагательных меры, предполагают наличие
класса глаголов, соотнесенных по смыслу с определяемыми
существительными. Для прилагательных меры указать
такой класс невозможно. Действительно, какие специальные
глаголы могут понадобиться, чтобы объяснить выражение
big flea?
Каков же трансформационный источник словосочетаний
с прилагательными меры? Рассмотрим следующие пары
предложений:
(18) This is a yellow horse. This is a horse which is
yellow»
540
'Это желтая лошадь.' 'Это лошадь, которая
является желтой.'
(19) This is a fast horse. This is a horse which
runs fast.
'Это быстрая лошадь.' 'Это лошадь, которая
быстро бегает.'1
(20) This is a small horse. This is a horse which is
small for a horse.
'Это маленькая ло- 'Это лошадь, которая
шадь.' является маленькой для
лошади.'
В (18) horse и yellow связаны самым тесным образом —
посредством глагола-связки. Такая связь является
наиболее непосредственной. В (19) и (20) связь более отдаленная.
Fast, как мы видели, связано с существительным по смыслу
посредством глагола (класса глаголов), который
предполагается природой референта данного существительного.
Small, хотя и связано с подлежащим посредством глагола-
связки, однако соотносится с ним весьма сложным образом.
На основе этих рассуждений я предлагаю следующую
трансформационную схему для групп AN, содержащих
прилагательные меры (в дальнейшем эти последние будут
обозначаться мною как А2):
(II) А N Ф=> N wh... is A for an N
5. Как было сказано, Ai в функции предикатива
соединяется с подлежащим, как и существительное в функции
предикатива, посредством глагола-связки. Поэтому не
удивительно, что AjHB других аспектах схожи с
существительными. Во-первых, некоторые из них встречаются в роли
существительных:
(21) Не is a German. 'Он немец.'
(22) This yellow is lovely. 'Этот желтый (цвет)
прелестен.'
Во-вторых, вопрос о наличии свойств, обозначаемых
прилагательными типа Ai, часто можно сформулировать
g помощью соответствующего существительного:
(23) What kind of animal is it? Crustaceous.
'Какого вида это животное? Ракообразное.'
(24) What is its color? Red.
'Какого оно цвета! Красное.'
541
(25) What is its shape! Round.
'Какой оно формы! Круглое.'
Некоторые А* обозначают тип, вид, род,
национальность, религиозную принадлежность и т.п., другие —
цвета и размеры. Между двумя этими группами
наблюдается интересное различие: индивидуальные объекты могут
принадлежать к определенным видам, родам и т. п., но,
конечно же, не к цветам и формам. В соответствии с
учением Аристотеля свойства первой группы — это так
называемые вторичные субстанции, а свойства второй группы
вторичными субстанциями не являются. Все же, как нам
кажется, в определенном смысле можно сказать даже об
этих последних, что они имеют самостоятельное
существование. Можно с равным успехом сказать либо Яблоко
красное, либо Цвет яблока красный; либо Яблоко круглое,
либо Форма яблока круглая. При этом сказать, что яблоко
красное,— это значит назвать цвет яблока, но сказать, что
его цвет красный, не значит назвать цвет цвета; цвет
яблока идентичен красному, то есть красное и есть цвет
яблока. Говоря словами Аристотеля, свойство 'быть красным'
не просто предицируется относительно первичной
субстанции, а само входит в первичную субстанцию в. Я думаю,
что именно эти факты имеет в виду Дж. Мур, когда он
говорит о «естественных» качествах: «Они являются... скорее
частями, из которых строятся объекты, а не предикатами,
утверждаемыми об этих объектах... Они сами по себе
субстанциальны».
Наконец, существует также грамматическое различие
между словами, обозначающими цвет и форму: можно
сказать I like red 'Я люблю красное', но нельзя сказать
*I like oval 'Я люблю овальное', то есть
прилагательные, обозначающие цвет, имеют большее сходство с
существительными, чем прилагательные, обозначающие
форму.
Опустив целый ряд необходимых деталей, мы позволим
себе прямо сформулировать следующий вывод: среди
подклассов класса Ах наибольшее сходство с существительными
имеют те прилагательные, которые обозначают виды, далее
следуют названия цвета и формы, а затем, наконец, та-
6 Aristotle. Categories, II—V.—In: Aristotle. Works.
Oxford Translation (eds. J. A. Smith and W. D. Ross), Oxford: Clarendon,
1908—1931.
542
кие Aj, как gay 'веселый' — sad 'печальный', pretty
'хорошенький' — ugly 'уродливый' и т. д. Эти последние
обычно образуют более или менее четко
противопоставленные по смыслу [=антонимические] пары, что сближает
их с А2. А2 имеют меньше сходства с существительными, чем
прилагательные цвета или формы, В самом деле, red —
это цвет, round — форма, но long 'длинный' не является
длиной, low 'низкий' — высотой, heavy 'тяжелый' — весом,
a small 'маленький' — размером, У всякого дома есть цвет
(и этот цвет может быть красным) и высота (но эта высота
не может быть ни высокой, ни низкой); red — название
определенного цвета, тогда как названием определенного
размера является существительное height 'высота', а вовсе
не прилагательное high 'высокий'. Однако для того, чтобы
узнать длину (length) предмета, в вопросе используется
прилагательное long 'длинный': How long is this thing?
букв. 'Насколько длинен этот предмет?'; вопрос о высоте
(height) предмета формулируется посредством слова high
'высокий': How high is this thing? и т. д. Таким образом,
у прилагательных класса А2 почти не остается черт,
сближающих их с существительными.
Я считаю, что обычный порядок расположения
английских прилагательных (то есть последовательность их
рангов, по терминологии Зиффа) зависит от характера их
смысловой связи с существительными, а эта связь, как я
пытался показать, обусловлена тем, насколько данное
прилагательное семантически подобно существительному. Те
прилагательные, которые имеют больше общих черт с
существительным, располагаются ближе к нему. Ср.: large
tawny carnivorous quadruped 'большое
рыжевато-коричневое хищное четвероногое', thick rectangular green Oriental
carpet 'толстый прямоугольный зеленый восточный ковер',
tall round wooden structure 'высокое круглое деревянное
строение' и, наконец, пример Зиффа: good heavy red chair
'хороший тяжелый красный стул'. Ниже мы вернемся
к этим рассуждениям, но уже сейчас ясно, что
предположение Зиффа о наличии связи между рангами
прилагательных и естественными свойствами предметов
подтверждается 7.
7 Интересно, что трансформация (I) — это не единственный способ,
посредством которого могут описываться сочетания прилагательных
типа Ах с существительными. Если, например, красная лампа — это
643
6. Рассмотренные до сих пор трансформации далеко
не покрывают всех конструкций с прилагательными; ср.,
например, good cook 'хороший повар' и good meal 'хорошая
еда'.
Согласно трансформации (III), хороший повар—это
человек, который хорошо готовит (a good cook is a person
who cooks well). А что такое good meal? Для описания
смысла этого словосочетания тоже требуется соответствующий
глагол (класс глаголов), а именно глагол to eat 'есть'.
Хорошая еда — это нечто, что приятно есть (is good to
eat). Различие состоит в том, что cook — подлежащее при
соответствующем глаголе (the cook cooks 'повар готовит'),
a meal — дополнение (the meal is eaten 'еду едят'). И в том
и в другом случае именную конструкцию можно заменить
глагольной:
good cook — is good at cooking;
good meal — is good to eat — is good for eating.
Можно сказать, что слово good присоединяется к cook,
имея трансформационным источником полную глагольную
группу, а сочетание good meal имеет источником
глагольную группу, из которой «вычитается» дополнение.
Аналогичный анализ необходим в случаях типа comfortable
chair — comfortable to sit on 'удобный стул — удобный,
чтобы сидеть'; easy problem — easy to solve 'легкая
задача — легко решить', Эти случаи описываются следующей
трансформацией:
(IV) AN«N wh... is A to V
Исходное предложение можно перифразировать так, что его
подлежащее станет предложной группой:
(26) It is a good meal for you to eat.
букв, 'Это хорошая еда для вас, чтобы есть,';
(27) It is an easy problem for me to solve.
букв, 'Это легкая задача для меня, чтобы решить,'
лампа, которая является красной (I), то инфракрасная лампа — это
не лампа, которая является инфракрасной, а лампа, которая дает
инфракрасные лучи. Это подсказывает трансформацию:
(la) A N<£=>N [V] A [N],
где [V] н [N] обозначают класс глаголов и класс существительных,
соотнесенных по смыслу с N. (1а) покрывает такие случаи, как nuclear
scientist 'ядерный физик', yellow fever 'желтая лихорадка', Wagnerian
soprano 'вагнеровское сопрано' и т. п.
544
Конечно, и в этом случае выбор глагола (класса
глаголов) зависит от существительного. Выше было отмечено,
что хотя мы без труда понимаем, что значит good mother
'хорошая мать' или weak king 'слабый король', но нам не
ясно, что такое careful brother 'заботливый брат' или good
planet 'хорошая планета': сочетания careful — brother и
good — planet не определяют класса глаголов. Для
прилагательных, отвечающих трансформации (IV), подходящий
глагольный класс находится без труда: good meal 'хорошая
еда', easy problem 'легкая задача', difficult language
'трудный язык'. Good planet 'хорошая планета' и easy tree
'легкое дерево' остаются неясными с точки зрения выбора
подходящего глагола. Эти выражения становятся, однако,
понятными, если их дополнить: good planet to observe
'планета, хорошая для наблюдения', easy tree to fell 'дерево,
которое легко повалить'. При этом, поскольку не сама
планета осуществляет наблюдение и не само дерево валит
себя, эти словосочетания отвечают трансформации (IV),
а не (III). В ряде случаев мы можем так подобрать глагол,
что он подойдет и под трансформацию (III), и под
трансформацию (IV); предложение
(28) She is good.
можно закончить двумя способами:
(29) She is good at dancing. 'Она хорошо танцует,'
(in);
(30) She is good to dance with. 'С ней хорошо
танцевать.' (IV).
Теперь полезно суммировать наши выводы относительно
адъективных конструкций, описываемых
трансформациями (I) — (IV). (I) описывает непосредственную связь между
определяемым и определением (через связку в исходном
предложении), тогда как в (II), (III) и (IV) эта связь не
является непосредственной: (II) предполагает наличие в
исходном предложении предложной группы for an N (где
N — то же, что и в сочетании AN); (III) и (IV) требуют
подходящих глаголов, причем в (III) существительное N
в словосочетании AN соответствует подлежащему
исходного предложения, а в (IV) существительное играет в
исходном предложении роль прямого или косвенного
дополнения при соответствующем глаголе.
645
7. Следующий, пятый класс прилагательных включает
такие прилагательные, которые соотносятся со своим
определяемым через посредство целого предложения, где
определяемое играет роль подлежащего. Этот класс (А,)
включает такие прилагательные, как clever 'умный', stupid
•глупый', reasonable 'разумный', kind 'добрый', nice
'милый', thoughtful 'задумчивый', considerate 'заботливый' и
еще раз good. Следующие примеры поясняют сущность
смысловой связи, о которой было сказано выше:
(31) John is stupid to take that job.
'Джон глупо делает, что берется за такую работу.'
(32) It is stupid of John to take that job.
'Co стороны Джона глупо браться за такую работу.'
(33) John is good to help his brother.
'Джон хорошо делает, что помогает своему брату.'
(34) It is good of John to help his brother.
'Co стороны Джона хорошо помогать своему брату.'
Отличие этих прилагательных от А4 очевидно. Сам Джон
глуп, и сам Джон берется за работу, то есть оба
предложения имеют одно и то же подлежащее. Однако в (IV)
существительное, определяемое прилагательным, становится
дополнением (а не подлежащим) в предложении, которое
содержит соответствующий глагол; например, good soup
'хороший суп' предполагает, что суп едят, а не то, что суп ест.
Отличие А6 от А3 не так очевидно; ср. slow,, 'медленный'
и considerate,, 'внимательный, заботливый'. Внешнее
различие заметить нетрудно. Джон может готовить еду
медленно (John cooks slowly), но высказывание *It is slow of
him to cook *'C его стороны медленно готовить еду'
грамматически неправильно; напротив, тот факт, что Джон
готовит кому-то еду, может быть проявлением его
заботливости, но это не значит, что он заботливо готовит (иначе
говоря, It is considerate of him to cook Ф He cooks
considerately).
Более глубокое различие заключается в следующем.
Прилагательные типа slow, то есть А3, возможны в
конструкции с отглагольным существительным на -ing: His
cooking of the dinner was slow 'Его приготовление обеда
было медленным', The singing of the song was slow 'Пение
песни было медленным',— но невозможны в конструкции
с герундием: *His cooking dinner was slow, *His having
cooked was slow. Несколько аналогичных проб доказывают,
545
что все Ад являются прилагательными узкого
контекста (tight containers), то есть в конструкции
X is A„ в качестве Х-а может выступать только настоящее
существительное (в частности, полностью
номинализованное предложение). В то же время А6 — это
прилагательные широкого контекста (loose
containers), допускающие в качестве Х-а и лишь частично но-
минализованные предложения: It was considerate of John
to cook dinner 'Co стороны Джона было проявлением
заботливости готовить обед' и It was considerate of John to have
cooked dinner 'Co стороны Джона было проявлением
заботливости приготовить обед'.
Попросту говоря, slow описывает, как делается
нечто, a considerate характеризует нечто сделанное.
Показательно, что А3, А4, А6 могут употребляться
двумя способами. Тот факт, что Джон готовит медленно,
можно описать двумя следующими фразами: Не is slow in
his cooking букв. 'Он медленен в своей готовке' и His
cooking is slow букв. 'Его готовка медленна'. Аналогично
можно сказать: Не is considerate to cook dinner 'Он так
заботлив, что готовит обед' и То cook dinner is considerate
of him 'С его стороны готовить обед заботливо'. Таким
образом, в разных контекстах slow и considerate могут
определять как все номинализованное предложение, так и его
подлежащее. Напротив, прилагательные группы А4, как,
например, easy 'легкий', определяют либо
номинализованное предложение в целом, либо его дополнение: The
problem is easy to solve 'Задачу легко решить', The solution
of the problem is easy 'Решение задачи является легким'.
Существует небольшая группа прилагательных,
например willing 'готовый к чему-либо, расположенный', eager
'стремящийся', ready 'готовый', которые не могут
употребляться ни тем, ни другим из указанных способов, хотя они
также определяют существительное лишь при посредстве
номинализованного предложения. Назовем эту группу А„.
Для прилагательных группы А„ характерно
употребление в конструкциях типа (35) и (36):
(35) Не is ready to go.
'Он готов пойти.' и
(36) Не is eager to sign the contract.
'Он жаждет подписать контракт,'
547
Их, однако, нельзя употребить следующим образом:
37) *То go is ready of him.
38) *To sign the contract is eager of him,
что позволяет отличать Ав от А,.
Остальные прилагательные, напротив, могут определять
только номинализованные глаголы
(существительные-предикаты или предикативные выражения), но не «настоящие»
существительные:
(39) His death is probable.
'Его смерть возможна.'
(40) It is necessary that you go away.
'Необходимо, чтобы вы уехали.'
(41) His having won the race is unlikely.
'Его победа на скачках маловероятна.'
Все такие прилагательные следует разделить на два
класса: А, и А8. Первый из них особенно интересен для
нас, так как и в него также входит good. Прилагательные
класса А, могут иметь при себе предложную группу for N.
Приведем примеры:
(42) It is useful for me that you work.
'To, что вы работаете, полезно для меня.'
(43) That you have succeeded is profitable for us.
'To, что вы добились успеха, для нас выгодно,'
(44) It is good for you that I go away.
'Для вас хорошо, что я уезжаю.'
Прилагательные последнего рассматриваемого нами
класса — А8— в конструкциях такого типа не
употребляются:
(45) *His arrival is unlikely for us.
'Его приезд маловероятен для нас'
(46) *His death is probable for you.
'Его смерть возможна для тебя.'
(47) *That it is raining is true for us.
'To, что идет дождь, верно для нас.1
К А7 наряду с другими относятся прилагательные useful
'полезный', profitable 'выгодный', pleasant 'приятный',
necessary 'необходимый', good 'хороший', а также их
антонимы. Примерами А8 могут служить true 'истинный',
false 'ложный', probable 'вероятный', improbable 'неве-
648
роятный', likely 'возможный', certain 'определенный' и их
антонимы.
Как было отмечено, прилагательные трех последних
классов (А„, А7, А8) не могут определять непредикатное
существительное. Так, невозможны сочетания unlikely
chairs 'маловероятные стулья', necessary horses
'необходимые лошади' или probable people 'возможные люди'. Это,
разумеется, не исключает существования прилагательных,
входящих сразу в два, три или даже четыре класса:
например, good принадлежит к четырем классам — А3 4, 7,
Не отрицаю я и того, что существуют false teeth
'искусственные зубы' [ср. ложные отверстия], impossible people
'невозможные люди', necessary evil 'необходимое зло'. Но
несложный трансформационный анализ покажет, что это
не противоречащие примеры, а эллиптичные выражения.
Здесь, как и во многих других случаях, я не рассматриваю
все детали, чтобы не перегружать изложения.
8. Итак, теперь можно суммировать факты, относящиеся
к синтаксическим свойствам слова good. Как было показано,
good входит в четыре из восьми описанных классов
прилагательных: А„ 4 6 7. Это значит прежде всего, что сфера
употребления этого прилагательного исключительно
широка (я по крайней мере не знаю второго подобного
прилагательного). Зифф считал, что у good такой высокий ранг
именно по этой причине; это, однако, неверно:
прилагательные unlikely 'маловероятный', unnecessary 'не
необходимый' и т. п. имеют более высокий ранг, чем good, хотя
очевидно, что их сочетаемость гораздо более ограничена.
Словосочетания типа unlikely good results 'маловероятные
положительные результаты' или unnecessary good moves
'ненужные хорошие ходы' вполне возможны, a *good
unlikely results или *good unnecessary moves — нет; отсюда
видно, что прилагательные класса А8 имеют более высокий
ранг, чем good,, несмотря на более ограниченную сферу
употребления. Тем не менее good является прилагательным
достаточно высокого ранга. Так, оно не принадлежит к
классам Ai и А/. Это означает не только то, что good имеет
8 Выражения типа good for a first novel 'хороший для первого
романа' могут создать впечатление, что good может принадлежать и
к Аа. Однако очевидно, что такое употребление ограничено набором
649
более высокий ранг, чем прилагательные-названия
«естественных» качеств (в терминологии Мура), но и объясняет
его «неестественность», то есть наше ощущение отдаленности
соответствующего качества от объекта. По синтаксическим
свойствам good не имеет сходства с существительным; по
смыслу оно никогда не соединяется с существительным
непосредственно, но всегда через соответствующий глагол.
Предложения типа John is good 'Джон хорош' кажутся
незаконченными. Приведенное предложение обычно
вызывает вопросы: Good for what? 'Хорош для чего?' или You
mean that he is a good man? 'Вы имеете в виду, что он
хороший человек?' И тогда встает следующий вопрос: что же
такое хороший человек? В то же время предложение John
is blond 'Джон блондин' не вызывает недоумений и сразу
понятно.
Подводя итог предшествующему изложению, можно
сказать, что человек или предмет характеризуется словом
good в трех случаях. Во-первых, некто (или нечто)
определяется прилагательным good с точки зрения своей обычной
или возможной деятельности (good3). Хороший танцор
(good dancer) — это человек, который может хорошо
танцевать и обычно хорошо танцует; хороший монарх (good
monarch) хорошо управляет страной и т. д. Во-вторых, нечто
(или некто) может быть определено этим прилагательным
с точки зрения своего использования или пригодности
в некоторой роли (goodj: хорошая еда (good meal) — это
нечто, что хорошо есть (good to eat), а хорошей ручкой
хорошо писать (a good pen is good for writing). В-третьих,
некто (или нечто) характеризуется прилагательным good
по своему поступку (в настоящем, прошедшем или
будущем; good6): ср. John is good to help the poor 'Co стороны
Джона хорошо помогать бедным'; It is good of Mary to
have cooked the dinner 'Мэри хорошо сделала, что
приготовила обед'. Кроме того, словом good могут быть
охарактеризованы какие-либо события или явления (но не люди и
не предметы; good,): It is good that it is raining 'Хорошо,
особых ситуаций, в которых слово good приобретает уничижительный
оттенок: нельзя сказать good for a novel 'хороший для романа', если не
исходить из того, что все романы вообще плохи. Однако этот интересный
вопрос, поставленный С. С. Шумейкером, с одной стороны, слишком
сложен, а с другой — достаточно перифериен, чтобы учитывать его в
наших общих выводах.
660
что идет дождь'; It is good that John has arrived 'Хорошо,
что Джон приехал' *.
9. Коснемся в заключение нескольких интересных
частностей.
8 некоторых случаях неоднозначных высказываний от
говорящего ожидается дополнительная информация,
которая сделала бы его высказывание достаточно ясным. Это
бывает при употреблении прилагательных из классов А„
и А4. В обоих случаях good связывается с существительным
через посредство глагола, выбор которого зависит от
существительного. Поэтому и разрешение неоднозначности (As
или А4) сводится к добавлению недостающего элемента, что
обычно не составляет особого труда. Как мы видели,
малосодержательное предложение John is good можно дополнить
таким образом, чтобы good попало в класс А3: John is a
good dancer 'Джон — хороший танцор' — или в класс А4:
John is a good partner to dance with 'С Джоном хорошо
танцевать'. В первом случае добавляется существительное,
с которым естественно ассоциируется глагол to dance
'танцевать'. Однако во втором случае слова partner 'партнер'
недостаточно, так как класс подходящих по смыслу
глаголов остается слишком широким; поэтому мы добавляем еще
и глагол to dance. Аналогичным образом предложение Venus
is a good planet 'Венера — хорошая планета' преобразуется
в Venus is a good planet to observe 'Венера — планета,
хорошая для наблюдения'. Тем не менее оба эти случая
существенно отличаются друг от друга. Как показывает
последний пример, закончить предложение таким образом, чтобы
good попало в класс А4, нетрудно, даже если
существительное само по себе не определяет никакого специфического
класса глаголов, как good planet, в отличие, скажем, от
good pen 'хорошая ручка': у планет нет специфического
использования. Но ничто не мешает говорящему указать
в предложении любой вид деятельности, объектом которой
была бы планета, и называть планету хорошей по
отношению к этой деятельности. Так и было сделано, когда в
примере Venus is a good planet был добавлен глагол to observe
9 В настоящей статье не рассматривались сочетания типа tastes
(looks, smells, feels) good 'хороший на вкус (выглядит, пахнет хорошо;
хороший на ощупь)'. Это упущение можно, однако, оправдать тем, что
класс соответствующих глаголов очень узок.
551
'наблюдать', Более того, даже когда объект имеет
специфическое назначение, как, скажем, реп 'ручка', говорящий
все же может охарактеризовать его с точки зрения другого
(возможно, даже неправильного) способа использования.
Можно, например, представить себе высказывание: This
shoe is good to eat 'Этот ботинок хорош для еды'. Короче
говоря, предметы, не имеющие естественного назначения,
могут тем не менее использоваться в той или иной
функции, а предметы, имеющие естественное назначение, могут
использоваться иным, и даже неправильным, способом.
И соответственно при каждом из этих способов
использования они могут быть охарактеризованы словом good. В языке
эта возможность проявляется в том, что предложения с good
могут дополняться подходящим глаголом в инфинитиве:
...to V-.
Не так обстоит дело с (III). Здесь, если существительное
не определяет подходящий глагольный класс, не помогут
никакие явные средства. И это понятно: как мы помним,
goodg определяет подлежащее в соответствии с той
функцией, которая выражена в существительном или
ассоциируется с ним. Эта функция присуща данному субъекту, и
только ему. Субъект определяется с точки зрения того, что
он делает или не делает, подобно тому как в предыдущем
случае он определялся по тому, что с ним можно делать.
Поэтому, если существительное не ассоциируется с каким-
либо видом деятельности, не выражает никакой функции,
все попытки дополнить и пояснить предложение ни к чему
не приведут. Поясним сказанное на примерах:
(48) John is a good dancer. 'Джон — хороший танцор.'
(49) John is a good poet. 'Джон —хороший поэт.'
(50) John is a good father. 'Джон —хороший отец.'
(51) John is a good man. 'Джон—хороший человек.'
(52) Fido is a good dog. 'Фидо —хорошая собака.'
(53) Mumbo is a good ba- 'Мумбо — хороший па-
boon. виан.'
В предложении (48) слово dancer сразу же определяет
глагол to dance 'танцевать'. Нетрудно понять и (49): good
определяет слово poet с точки зрения вполне определенного
вида деятельности, названного этим словом, а именно с
точки зрения писания стихов. Деятельность Джона, в
соответствии с которой он назван в (50) хорошим отцом,
значительно многообразнее, чем в (49), но все же она достаточно
552
ясна. А вот предложение (52) уже неясно. Что такое
хорошая собака? Нам более или менее понятно, что такое
хорошая охотничья, пастушья или упряжная собака;
соответствующие словосочетания (hunting dog, sheep dog, sled dog)
эксплицитно называют определенную функцию, как и слова
dancer, poet и father. А вот у референта слова dog одной
определенной функции нет. Совершенно ясно предложение
John is good as a dancer <poet, father) 'Джон хорош как
танцор <поэт, отец>', столь же понятно предложение Fido
is good as a hunting dog 'Фидо хорош как охотничья
собака'; напротив, выражение Fido is good as a dog 'Фидо
хорош в качестве собаки' бессмысленно. И все же
словосочетание good dog имеет какой-то смысл; оно означает
выполнение неких общих требований, предъявляемых к
собакам вообще: преданность, послушание и т. п.,— тем самым
формируется определенная функция, помогающая понять
данное словосочетание. Предложение (53) окончательно
ставит нас в тупик: сами по себе павианы не имеют никакой
определенной функции; более того, они обычно и не
используются в каких-либо функциях. Трудно представить себе,
что мог бы хорошо делать хороший павиан.
Наконец, рассмотрим предложение (51). К нашему
удивлению, оно вполне понятно. Более того, можно сказать
даже: John is not good as a poet, but as a man he is good
'Джон плох как поэт, но хорош как человек'; при этом
вторая часть предложения означает, что Джон хорош как
личность. Напрашивается вывод о том, что человек как
личность имеет некоторую функцию, то есть должен
существовать определенный набор способов поведения, в
соответствии с которым некто как личность — не как танцор,
поэт или отец, а просто как человек — характеризуется
словом good; тогда словосочетания good man или good
person должны задавать класс соответствующих по смыслу
глаголов.
10. Наше исследование закончено. И в этот момент мы,
как это часто бывает в философии, внезапно понимаем, что
наше открытие задолго до нас уже было сделано
Аристотелем.
Совершенно ясно, что понятие «хорошести», описанное
Аристотелем в первой и второй главе «Этики», соответствует
нашему good3: «Мы говорим, что "нечто" и "хорошее нечто"
553
имеют одну и ту же функцию; так, функции кифареда и
хорошего кифареда тождественны; просто к названию
деятельности мы прибавляем ее оценку: функция кифареда —
играть на кифаре, а функция хорошего кифареда — хорошо
играть на кифаре» (xiQixpiarov [lev yap то xidapi&iv,
<xnou8atou 8г то еи). В древнегреческом языке обозначение
кифареда морфологически производно от глагола со
значением 'играть на кифаре', то есть приведенная цитата
в нашей терминологии — пример трансформации (II 1а).
Однако Аристотель не останавливается на случаях
приведенного типа. Возьмем другую выдержку: «Высокое
качество глаза делает хорошим и сам глаз, и то, что он делает;
благодаря хорошему качеству глаза мы хорошо видим».
Глагол видеть и существительное глаз связаны по смыслу,
хотя и не связаны морфологически. Таким образом, здесь
мы имеем случай трансформации (III). В другом примере
существительное связано по смыслу с целым классом
глаголов: «Хорошее качество коня делает коня хорошим самого
по себе, а также способным хорошо бегать, хорошо носить
седока и хорошо противостоять неприятелю». И наконец,
Аристотель говорит о хорошем человеке: «Как для
флейтиста, скульптора, любого художника, да и вообще для
любой вещи, имеющей определенное назначение или функцию,
понятие „хороший" связывается именно с этой функцией,
так же дело обстоит и с человеком вообще, если у него есть
функция... Какова же может быть эта функция?»
Итак, что же такое хороший человек? Какова функция
человека? Эти вопросы вывели бы нас далеко за рамки
лингвистического описания слова good. Разумеется, good — это
good, но этим дело не исчерпывается. Даже законченное
исследование — это всего лишь начало.
ЛИТЕРАТУРА
Allen, 1957 — Allen W. S. On the linguistic study of languages.
Cambridge, 1957.
Anderson, J., 1971 — Anderson J. The grammar of case:
towards a localistic theory. London, 1971.
Anderson S., 1971 — Anderson S. R. On the role of deep
structure in semantic interpretation.—"Foundations of language", 1971,
v. 7, N 3, p. 387—396.
A n t 1 e y, 1974 — A n t 1 e у К. McCawley's theory of selectional
restrictions.— "Foundations of language", 1974, v. 11, N 2, p. 257—272.
Austin, 1962 — Austin J. L. How to do things with words.
Oxford, 1962.
В a b с о с к, 1966 — Babcock Sandra S. Syntactic
dissimilation. Unpublished. Ohio State University, 1966.
Bach, 1965 — Bach E. On some recurrent types of
transformations.— Georgetown University linguistic monograph, v. 18. Georgetown,
1965, p. 3—18.
Bach, 1967 — Bach E. Have and be in English syntax.—
"Language", 1967, v. 43, p. 462—485.
Bach, 1968—В а с h E. Nouns and noun phrases.— In: Вас h—
Harms (eds), 1968, p. 91—122.
Bach —Harms (eds), 1968 — В а с h E., Harms R. T.
(eds). Universale in linguistic theory. N. Y. et al., 1968.
Bally, 1926—В ally Ch. L'expression des idees de sphere
personnels et de solidarite dans les langues indoeuropeenes.—In:
"Festschrift Louis Gauchat". Aarau, 1926, p. 68—78.
В a z e 1 1, 1949—В a z e 1 1 Ch. E. Syntactic relations and
linguistic typology.—In: "Cahiers Ferdinand de Saussure", v. 8, 1949, p. 5—20.
В a z e 1 1, 1953—В a z e 1 1 Ch. E. Linguistic form. Istanbul, 1953.
В e n d i x, 1966—В e n d i x E. H. Componential analysis of
general vocabulary: the semantic structure of a set of verbs in English, Hindi
and Japanese. The Hague, 1966.
Bennett, 1914—Bennett Ch. Syntax of Early Latin, II:
the cases. Boston, 1914.
Benveniste, 1962—В enveniste E. Pour 1'analyse des
fonctions casuelles: le genitif latin.— "Lingua", 1962, v. 11. p. 10—18.
Русск. перевод — в кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.,
1974, с. 156—164.
Bierwisch, 1967 — Bierwisch M. Some semantic
universale of German adjectivals.—"Foundations of language", 1967, v. 3,
No 1, p. 1-36,
555
В 1 e r w i s c h, 1969 —Blerwisch M. On certain problems
of semantic representation.— "Foundations of language", 1969, v. 5, No 2,
p. 153—184.
Blerwisch, 1972 — Bierwisch M. Semantics.— In: L y-
ons J. (ed.). New horizons in linguistics. London, 1972, p. 166—184.
Наст, изд., с. 177.
Blake, 1930 — Blake F. A semantic analysis of case.— In:
"Curme volume of linguistic studies" (identical with "Language
Monograph No. 7"). Baltimore, 1930, p. 34—49.
В 1 о о m f i e 1 d, 1944 — Bloomfield L. Secondary and
tertiary responses to language.— "Language", 1944, v. 20, No 1,
p. 45—55.
В о 1 i n g e r, 1967—В о 1 i n g e r D. The imperative in English.—
In: "To honor Roman Jakobson. 1". The Hague, 1967, p. 335—362.
В о 1 i n g e r, 1967—В о I i n g e r D. The atomization of meaning.—
In: "Readings in the psychology of language", Englewood Cliffs, N. J.,
1967, p. 432—448. См. настоящий сб., с. 200.
В о г к i n, 1972—В о г к i n Ann. Coreference and beheaded NP.—
"Papers in linguistics", 1972, v. 5.
Burling, 1964—В u r 1 i n g R. Cognition and componential
analysis: God's truth or hocus-pocus?—"American Anthropologist", 1964,
v. 66, p. 20—28.
Carnap — Bar-Hillel, 1953—С a r n a p R., В а г - H i 1-
1 e 1 Y. Semantic information.—"British Journal of the Philosophy of
Science", 1953, v. 4, p. 147—157.
С a s s i d y, 1937—С a s s i d у F.Q. 'Case' in modern English.—
"Language", 1937, v. 13, p. 240—245.
Chacravarti, 1933—С hacravartl P. The linguistic
speculations of the Hindus. Calcutta, 1933.
Chafe, 1967—С h a f e W. Language as symbolization.—
"Language", 1967, v. 43, p. 57—91.
С h a o, 1959 — С h а о Y. R. Ambiguity in Chinese.— In: "Studia
serlca Bernhard Karlgren dedicata". Copenhagen, 1959.
Chomsky, 1957—С h о m s к у N. Syntactic structures. The
Hague, 1957. Русск. перевод: X о м g к и й Н, Синтаксические
структуры.— В кн.: "Новое в лингвистике", вып. 2, М., 1962, стр. 412—527.
Chomsky, 1961—С h о m s k у N. Some methodological remarks
on generative grammar.—"Word", 1961, v. 17, p. 219—239.
Chomsky, 1965—С h о m s k у N. Aspects of the theory of syntax.
Cambridge (Mass.), 1965. Русск. перевод: Хомский Н. Аспекты теории
синтаксиса. М., 1972.
Chomsky, 1966—С h о m s k у N. Topics in the theory of
generative grammar.— In: S e b e о k Th. A. (ed.). Current trends in linguistics,
v. 3. The Hague, 1966, p. 1—60.
Chomsky, 1969—С h о m s k у N. Form and meaning in natural
language.—In: «Communication. A discussion at the Nobel performance»,
Amsterdam—London, 1969, p. 65—85. См. также: Chomsky N.
Language and mind. New York etc., 1972.
Chomsky, 1970—С h о m s k у N. Remarks on nominalizati-
ons.— In: J а с о b s R. A., R о s e n b a u m P. S. (eds). Readings in
English transformational grammar. Boston, 1970, p. 184—221.
Chomsky, 1971—С h о m s k у N. Deep structure, surface
structure, and semantic interpretation.— In: Steinberg D. D., J a k o-
b о v i t s L. A. (eds). Semantics: an interdisciplinary reader in philoso-
556
phy, linguistics, anthropology and psychology. Cambridge (Mass.), 1971,
p. 183—216. Перепечатано в сб.: Chomsky N. Studies on semantics
in generative grammar. The Hague, 1972.
Chorrrsky — Miller, 1963—С homsky N.. Miller Q. A
Introduction to the formal analysis of natural languages.—In: Luce
R. D., Bush R., Galanter E. (eds). Handbook of mathematical
psychology, vol. II, N. Y., 1963, p. 269—321. Русск. перевод— в кн.:
«Кибернетический сборник», вып. 1 (новая серия). М., 1965, с.229—290.
Coles, 1972—С о 1! е s L. S. Techniques for information retrieval
using an inferential question-answering system with natural language
input.—«Technical Note», No. 74, Project No. 8696, Stanford Research
Institute, Stanford University. Stanford, California, 1974.
С о n k 1 i n, 1962—С о n k И n H. С Lexicographic treatment of
folk taxonomies.— In: Householder F. W., Sol Saporta
(eds). Problems of lexicography. Bloomington, 1962, p. 119—141.
Cook, 1972—Cook J. A. A set of postulates for case grammar
analysis.—«Language and Linguistic Working Papers», 4, Washington,
D. C, Georgetown University Press, 1972, p. 35—49.
Cruse, 1973 — Cruse D. M. Some thoughts on agentivity.—
"Journal of linguistics", 1973, v. 9, p. 1—23.
Diver, 1964—D i v e г W. The system of agency of the Latin
noun.—«Word», 1964, v. 20, p. 178—196.
Dougherty, 1974—D ougherty R. С Generative
semantics method, a Bloomfieldian counterrevolution,—«International Journal
of Dravidian Linguistics», 1974, N 3, p. 255—286.
Emons, 1974—E m о n s R. Valenzen Englisher Pradikatsverben.
Tubingen, 1974.
Fillmore, 1966—F i 11 m о г e Ch. J. Toward a modern theory
of case.—The Ohio State University project on linguistic analysis. Report
No. 13, 1966, p. 1—24.
Fillmore, 1967—F lllmore Ch, J. The syntax of English
preverbs,—«Glossa», 1967, N 1, p. 91—125.
Fillmore, 1968—F i 11 m о г e Ch. J. The case for case.—In:
Вас h—H arms (eds.), 1968, p. 1—88. См. наст, сб., с. 369—495.
Fillmore, 1969—F i 1 1 m о r e Ch. J. Types of lexical
Information.—In: К i e f e г F. (ed.). Studies in syntax and semantics.
Dordrecht, 1969, p. 109—137.
Fillmore, 1977—F lllmore Ch. J. The case for case
reopened.—In: Cole P., Sadoek J. M. (eds). Syntax and semantics.
Volume 8. Grammatical relations. N. Y, et al., 1977, p. 59—81. См.
наст, сб., с. 496—530.
F i n k e, 1974—F i n k e P, Theoretische Probleme der Kasusgram-
matik. Kronberg, 1974.
F о d о r, 1961—F odor J. A. Projection and paraphrase in se-
mantic analysis.—«Analysis», 1961, vol. 21, N 1, p. 73—77.
F о d о г—К a t z, 1964—F odor J. А., К a t z J, J. The structure
of language. Prentice-Hall, 1964.
F о d о г—К a t z (eds), 1964—F odor J. А., К a t z J.J. (eds).
Structure of language: readings in the philosophy of language. Englewood,
Cliffs, N. J., 1964.
F г e i, 1939—F г е i H. Sylvie est jolie des yeux.—«Melanges
de linguistique offerts a Charles Bally». Geneva, 1939, p. 185—192.
F r e i, 1954—F r e i H. Cas est deses en francos,— «Cahiers
Ferdinand de Saussure», 1954, v. 12, p, 29—47,
557
G е а с h, 1956—G each P. T. Good and evil.—«Analysis», 1956,
v. 17, N 1, p. 33—42.
van Ginneken, 1939—v an Ginneken J. Avoir et etre
du point de vue de la linguistique generale.— In: «Melanges de linguis-
tique offerts a Charles Bally». Geneva, 1939, p. 83—92.
G 1 e i t m a n, 1965—G 1 e i t m a n Lila. Coordinating
conjunctions in English,—«Language», 1965, v. 41, p. 260—293.
G о n d a, 1962—G о n d a J. The unity of the Vedic dative.—
«Lingua», 1962, v. 11, p. 141—150.
Greenberg, 1963—G reenberg J. H. Some universals of
grammar with particular reference to the order of meaningful elements.—
In: Greenberg (ed.), 1963, p. 58—90. Русскг перевод —в сб.
«Новое в лингвистике», вып. 5. М., 1970, с. 214—262.
Greenberg (ed.), 1963—Greenberg, J. H. (ed.).
Universals of language. Cambridge (Mass.), 1963. Материалы конференции по
языковым универсалиям, изданные ротапринтпым способом; переизданы
типографски в 1966 г.: "Universals of language". Cambridge (Mass.),
1966. Русск. перевод части статей этого сборника — в сб. «Новое в
лингвистике», вып. 5. М., 1970.
Greenberg, 1966—G r e e n b e r g J. H. Language
universals.— In: Sebeok Th. A. (ed.). Current trends in linguistics, III.
The Hague, 1966, p. 61—112.
Grimes, 1964—G rimes J. E. Huichol syntax. The Hague, 1964.
d e G г о о t, 1956—d e G г о о t A. W. Classification of uses of
a case illustrated on the genitive in Latin.—«Lingua», 1956, N 6, p. 8—
66.
G r u b e r, 1965—G ruber J. Studies in lexical relations.
Cambridge (Mass.), 1965 [диссертация, защищенная в MIT].
G r u b e г, 1967—G ruber J. Topicalization in child language.—
«Foundations of language», 1967, N 3, p. 37—65.
Hall, 1965—H a 1 1 [Partee] Barbara. Subject and object in
English. Cambridge (Mass.), 1965 [диссертация, защищенная в MIT].
Halle, 1959—H a 1 1 e M. The sound pattern of Russian. The
Hague, 1959.
H a 1 1 i d a y, 1961—H a 1 1 i d а у М. А. К. Categories of the theory
of grammar.—«Word», 1961, vol. 17, p. 241—292.
H a 1 1 i d a y, 1966—H a 1 1 i d а у М. А. К. Some notes on «deep»
grammar.— «Journal of Linguistics», 1966, N 2, p. 55—67.
H a 1 1 i d a y, 1967—H a 1 1 i d а у М. А. К. Notes on transitivity
and theme in English, Part I.— «Journal of Linguistics», 1967, N 3,
p. 137—181.
Hamp a.o. (eds), 1966—H a m p E. P., H о u s e h о 1 d e r F.W.,
A u s t e r 1 i t z R. P. (eds). Readings in linguistics II. Chicago, 1966.
Harris, 1951— H arris Z. Methods in structural linguistics.
Chicago, 1951.
Harris, 1952—H arris Z. Discourse analysis.— «Language»,
1952, v. 28. Перепечатано в кн.: Fodor — Katz (eds), 1964.
Harris, 1957—H arris Z. Cooccurence and transformation in
linguistic structure.— «Language», 1957, v. 33, p. 283—340. Перепечатано
в кн.: Fodor — Katz (eds), 1964.
Hashimoto, 1966—H ashimotoM. J. The internal
structure of basic strings and a generative treatment of transitive and
intransitive verbs.— Paper read before the 1966 Tokyo International Seminar
in Linguistic Theory,
558
Havers, 1917—H avers W. Untersuchungen zur Kasussyntax
der Indogermanischen Sprachen. Strafibourg, 1917.
H e g e r, 1966—H e g e r K- Valenz, Diathese und Kasus,— «Zeit-
schrift fur romanische Philologie», 1966, v. 82, S. 138—170.
H e 1 b i g, 1971—H e 1 b i g G. Beitrage zur Valenztheorie. The
Hague, 1971.
Helbig —Schenkel, 1969—H e 1 b i g G., Schenkel
W. Worterbuch zur Valenz und Distribution Deutsche Verben. Leipzig,
1969.
H j e 1 m s 1 e v, 1935—H j e 1 m s 1 e v L. La categorie des cas.—
«Acta Jutlandica», 1935, VII, N 1; 1937, IX, N 2.
H о с к e t t, 1958—H о с к е 11 Ch. F. A course in modern linguistics.
N. Y., 1958.
Huddleston, 1970—H uddleston R. Some remarks
on case grammar.— «Journal of Linguistics», 1970, N 1, p. 501—
510.
I v i i, 1962—I v i i Milka. The grammatical categorie of non-
omissible determiners.— «Lingua», 1962, v. 11, p. 199—204.
I v i 6, 1964—Ivi<? Milka. Non-omissible . determiners in Slavic
languages.— Proceedings of the Ninth International Congress of
Linguistics. The Hague, 1964, p. 476—479.
Jackendoff, 1968—J ackendoff R. An interpretive theory
of negation. M. I. T. mimeo, 1968.
Jackendoff, 1969—J ackendoff R. Some rules for English
semantic interpretation. M. I. T. dissertation, 1969.
Jakobson, 1936—Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen
Kasuslehre.—«Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1936, v. 6,
p. 240—287.
Jakobson, 1957—J akobson R. Shifters, verbal categories,
and the Russian verb. Cambridge (Mass.), 1957 (Russian Language
Project. Department of Slavic Language and Literature. Harvard University).
Русск. перевод — в кн.: «Принципы типологического анализа языков
различного строя». М., 1972, с. 95—ИЗ.
Jakobson, 1958 — Jakobson R. Typological studies and
their contribution to historical comparative linguistics.— Proceedings
of the VHI-th International Congress of Linguistics. Oslo, 1958, p. 17—
25.
Jakobson, 1959— Jakobson R. Boas' view of grammatical
meaning.—"American Anthropologist", 1959, v. 61, N2, 1959, p.
139—145.
Jespersen, 1924—J espersen O. Philosophy of grammar.
N. Y., 1924. Русск. перевод: Есперсен О. Философия грамматики.
М., 1958.
К a t z, 1961—К a t z J. J. A reply to «Projection and paraphrase
in semantics [Fodor (1961)]».—«Analysis», 1961, v. 22, p. 36—41.
К a t z, 1964a—Katz J. J. Semi-sentences.— In: Fodor —
К a t z (eds), 1964, p. 400—416.
Katz, 1964 b—К a t z J.J. Analyticity and contradiction
in natural languages.—In: Fodor—Katz (eds), 1964, p. 519—
543.
Katz, 1966—К a t z J. J. The philosophy of language. N. Y.,
1966. Переиздано в 1972 г.
Katz—Fodor, 1963—К a t z J. J., F о d о r J. A. The
structure of a semantic theory,— «Language», 1963, v. 39, N 2, p. 170—210.
559
Перепечатано с незначительными изменениями в Fodor — Kat2
(eds), 1964, p. 479—518.
Katz—Postal, 1963—К a t z J.J., Postal P. M. Semantic
interpretation of idioms and sentences containing them.— «Quaterly
progress report», 1963, N 70, p. 275—282. (Massachusetts Institute of
Technology, Research Laboratory of Electronics).
Katz—Postal, 1964 — Katz J. J., P о s t a 1 P. M. An
integrated theory of linguistic descriptions. Cambridge (Mass.), 1964.
Kaye, 1971—Kaye J. D. Selectional restrictions and the Algon-
quian animate-inanimate classification.— «University of Toronto
anthropological series», 1971, vol. 9, p. 80—91.
К 1 i m a, 1964 — К 1 i m a E. S. Negation in English.— In:
Fodor — К a t z (eds), 1964, p. 246—323.
К u i p e r s, 1962—К u i p e г s H. The Circassion nominal paradigm:
a contribution to case theory.—«Lingua», 1962, v. 11, p. 231—248.
К u n o, 1973—К u n о S. The structure of the Japanese language.
Cambridge (Mass.), 1973.
К u г о d a, 1969—К u г о d a S.—Y. Remarks on selectional
restrictions and presuppositions.— In: К i e f er F. (ed.). Studies in syntax and
semantics. Dordrecht, 1969, p. 138—167.
Kurylowicz, 1960—Kurytowicz J. Le probleme du
classement des cas.— In: Kurytowicz J. Esquisses linguistiques.
Wroclaw— Krak6w, I960, p. 131—150.
Kurylowicz, 1964—К urytowicz J. The Inflectional
categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
L a b о v, 1964—L a b о v W. The social stratification of English
In New York City. Wash., 1964 (Ph. D. dissertation, Columbia University,
1964).
L a b о v, 1965—Labov W. The reflections of social processes
in linguistic structures.— In: F 1 s h m a n (ed.). Reader in the sociology
of language. The Hague, 1965.
L а к о f f, 1965—L а к о f f Q. On the nature of syntactic
irregularity.— «Mathematical linguistics and automatic translation», report
No NSF-6, 1965. (The Computation Laboratory of Harvard University).
Переиздано отдельной книгой: L a k о f f G. Irregularity in syntax. N. V.
etc., 1970.
L a k о f f , 1966—L a k о f f G. Stative adjectives and verbs in
English.— «Mathematical linguistics and automatic translation»,
report No. NSF-17, 1966 (The Computation Laboratory of Harvard
University).
L a k о f f, 1968 a—L a k k о f G. Instrumental adverbs and the
concept of deep structure.— «Foundations of Language», 1968, vol. 4,
N 1, p. 4—29.
Lakoff, 1968 b — Lakoff G. Pronouns and reference.—
Indiana University Linguistic Club. Bloomington, 1968 (mimeo).
Lakoff, 1970—L a k о f f G. Adverbs and opacity.— Indiana
University Linguistic Club. Bloomington, 1970.
Lakoff, 1971—L a k о f f G. On generative semantics.— In:
Steinberg D. D., Jakobovits L. A. Semantics: an
interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology. Cambridge
(Mass.), 1971, p. 232—296. См. наст, сб., е. 302—349.
Lakoff, 1977—L a k о f f G. Linguistic Gestalts.— In: Papers
from the regional meeting. Chicago Linguistic Society. Chicago, 1977,
v. 13, p. 236—287, См. наст, сб., с. 350—368,
56,0
Lakoff — Peters, 1966-Lakoff. G., Peters P. S.
Phrasal conjunction and symmetric predicates.— «Mathematical
linguistics and automatic translation», report No. NSF-17, 1966, p. VI/1— VI/49.
(The Computation Laboratory of Harvard University.) См. также: R e-
i b e 1 D., S с h a n e S. (eds). Modern studies in English. Readings in
transformational grammar. Englewood Cliffs (N.J.), 1969, p. 113—142.
Lakoff—Ross, 1966—L a k о f f G„ Ross J. R. A
criterion for verb phrase constituency.— «Mathematical linguistics and
automatic translation», report No. NSF-17, 1966, (The Computation Lab. of
Harvard Univ.)
Lakoff R., 1968—L a k о f f Robin. Abstract syntax and Latin
complementation. Cambridge (Mass.), 1968.
Lakoff R., 1969—L a k о f f Robin. A syntactic argument for
negative transportation.— In: «Papers from the regional meeting. Chicago
Linguistic Society», v. 5, Chicago, 1969, p. 140—147.
Lane, 1951—L a n e G. S. Review of Y.M. Biese «Some notes on
the origin of the Indo-European nominative singular».— «Language»,
1951, v. 27, p. 372—374.
Langendoen, 1966—L angendoen D. T. Some problems
concerning the English expletive 'it'.— The Ohio State University
Research Foundation Project on Linguistic Analysis. Report No, 13, 1966,
p. 104—134.
Lees, 1960—L e e s R. B. The grammar of English nominalizations,
Bloomington, 1960.
Lees, 1961—L e e s R. B. The grammatical basis of some
semantic notions.— In: «Monographs on languages and linguistics», 11,
Georgetown University, Wash., 1961, p. 5—20.
L e h m a n n, 1958—L e h m a n n W. P. On earlier stages of the
Indo-European nominal inflection.— «Language», 1958, v. 34, p. 179—202.
Levy-Bruhl, 1916.— Levy-Bruhl L. L'expression de
la possession dans les langues melanesiennes.— «Bulletin de la Societe
de linguistique de Paris», 1916, v. 19, p. 96—104.
Lounsbury, 1964a — Lounsbury F. G.A formal account
of the Crow and Omaha-type kinship terminologies,— In: G о о d e-
n о u g h W. H. (ed.). Explorations in cultural anthropology: essays in
honor of George Peter Murdock. N. Y„ 1964, p. 351—393.
Lounsbury, 1964b — Lounsbury F. G. The structural
analysis of kinship semantics.— In: L u n t H. G. (ed.), «Proceedings of
the Ninth international congress of linguists, Cambridge (Mass.), 1962».
The Hague, 1964, p. 1073—1090.
Lyons, 1963—Lyons J. Structural semantics (Publications
of the Philological Society, 20). Oxford, 1963.
Lyons, 1966—L у о n s J. Towards a 'notional' theory of the
'parts of speech'.— «Journal of Linguistics», 1966, N 2, p. 209—236.
M a n e s s y, 1964—M a n e s s у G. La relation genitive dans quel-
ques langues mande.— In: L u n t H. G. (ed.). «Proceedings of the Ninth
international congress of linguistics. Cambridge (Mass.), 1962». The Hague,
1964, p. 467—475.
Martin, 1972— Martin W. OWL, Automatic Programming
Group. Cambridge (Mass.), 1972.
Martinet, 1962—M artinet A. A functional view of language.
Oxford, 1962.
M с С a w 1 e y, 1968a—M с С a w 1 e у J. D. Review of «Current
trends in linguistics», vol. 3: Theoretical foundations,— «Language»,
Wt
1968, v. 44, N 3, p, 556—593, Перепечатано в McCawley, 1973,
p. 167—205.
McCawley, 1968 b—M с G a w 1 e у J. D. The role of semantics
in a grammar.— In: Bach — Harms (eds), 1968, p. 124—169.
Перепечатано с дополнительными комментариями в McCawley, 1973,
p. 59—98. См. наст, сб., с. 235—301.
McCawley, 1968с—М cGawley J. D. Concerning the base
component of a transformational grammar.— «Foundations of language»,
1968, v. 4, p. 243—269. Перепечатано в М с С a w 1 е у, 1973, р. 35—48.
McCawley, 1970—М е С a w I е у J. D. Semantic
representation.— In: G a r v i n P. (ed.). Cognition: a multiple view. N. Y.— Wash.,
1970, p. 227—247. Перепечатано в MoCawl e y, 1973, p. 240—
256.
McCawley, 1973—M с С a w 1 e у J. D. Grammar and meaning
(papers on syntactic and semantic topics). Tokyo, 1973.
McCawley N., 1973 —McCawley Noriko A. Boy, is syntax
easy.—In: «Papers from the 9th regional meeting, Chicago Linguistic
Society», Chicago, 1973, p. 369—377.
Mcintosh, 1961—M с 1 n t о s h A. Patterns and ranges.—
«Language», 1961, v. 37, N 3, p. 325—337.
McKaughan, 1962—M cKaughan H. Overt relation
markers in Maranao.— «Language», 1962, v. 38. p. 47—51.
M e i n h о f, 1938—M e i n h о f С Der Ausdruck der Kasusbeziehun-
gen in afrikanischen Sprachen.— In: «Scritti in onore di Alfredo Trombetti»
(Ed. Ulrico Hoepli). Milan, 1938, S. 71—85.
M e 1 1 e m e, 1974—M e 1 1 e m e P. A brief against case grammar.—
«Foundations of language», 1974, v. 11, N 1, p. 39—76.
Miller — Chomsky, 1963—M i 11 e r G. А., С h о m s k у N.
Finitary models of language users.— In: Luce R. D., Bush R.,
Galanter E. (eds). Handbook of mathematical psychology, vol. II,
N. Y., 1963, p. 419—491. Русск. перевод—в кн.: «Кибернетический
сборник», вып. 4 (новая серия). М., 1967, с. 141—218.
М i у a d i, 1964—М i у a d i D. Social life of Japanese monkeys.—
«Science», 1964, v. 21, p. 783—786.
Morgan, 1969—M organ J. L. On the treatment of
presupposition in transformational grammar.— In: В i n n i с k R., D a v i s о п A.,
Green G., Morgan J. (eds). Papers from the fifth regional meeting
of the Chicago Linguistic Society. Chicago, 1969.
Mowrer, 1960—M о w r e r H. O. Learning theory and the
symbolic process. N. Y., 1960.
M u 1 1 e r, 1908—M fl 1 1 e г, С F. W. Syntax des Nominativs und
Akkusativs im Lateinischen. Leipzig, 1908.
N e w m a r k, 1962—N e w m a r k L. An Albanian case system.—
«Lingua», 1962, v. 11, 312—332.
N i 1 s e n, 1972—N i 1 s e n D. L. F. Toward a semantic
specification of deep case. The Hague, 1972.
О e r t e 1, 1936—О e r t e 1 H. The syntax of cases in the narrative
and descriptive prose of the Brahmanas. Heidelberg, 1936.
van Oosten, 1977—v an Oosten Jeanne. Subjects and agent-
hood in English.— In: «Papers from the regional meeting. Chicago
Linguistic Society». Chicago, 1977, v. 13, p. 459—471.
О s t h о f f, 1900—О s t h о f f H. Vom Suppletivwesen der indo-
germanischen Sprachen. Heidelberg, 1900.
Panevova, 1974—P a n e v о v a Jarmila, On verbal frames in
662
functional generative description, Part II.— «Prague Bulletin in
Mathematical Linguistics», 1974, v. 22, p. 3—36.
Parsons, 1970—P arsons T. An analysis of mass terms and
amount terms.— «Foundations of language», 1970, v. 6, N 3, p. 362—388.
P a r t e e, 1970—P a r t e e Barbara. Negation, conjunction, and
quantifiers: syntax vs. semantics.— «Foundations of language», 1970,
v. 6, p. 153—165. •
P e i г с e, 1933—P e i г с e Ch. S. Collected papers, vol. III.
Cambridge (Mass.), 1933.
Perlmutter, 1972—P erlmutter D. M. A note on
syntactic and semantic number in English.— «Linguistic Inquiry», 1972, v. 3,
N 3, p. 243—246.
Pike, 1966—P i к е К. L. Tagmemic and matrix linguistics applied
to selected African languages.— Final Report, Contract No. OE-5-14-065,
U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education,
Bureau of Research. Washington, D.C., 1966.
Postal, 1963—P о s t a 1 P. M. Mohawk prefix generation.—In:
«Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists». The Hague,
1963, p. 346—355.
Postal, 1966—P о s t a 1 P. M. On so-called pronouns in
English.— «Report of the Seventeenth Annual Round Table Meeting on
Linguistics and Language Studies» (identical with «Georgetown University
Monograph Series on Languages and Linguistics», 19). Washington, D. C,
1966, p. 177—206. См. также: Jacobs R. A., Rosenbaum P. S.
(eds). Readings in English transformational grammar. Boston, 1970,
p. 56—82.
Postal , 1971—P о s t a 1 P. M. Crossover phenomena. N .Y.,
1971.
Putnam, 1961—P u t n a m H. Some issues in the theory of
grammar.— In: J a k о b s о n R. (ed.). Structure of language and its
mathematical aspects (Proceedings of Symposia in applied mathematics,
vol. XII). Providence, 1961, p. 25—42. Русск. перевод — в сб. «Новое
в лингвистике», вып. 5. М., 1965, с. 66—96.
Q u a n g, 1966—Q u a n g Phuc Dong. English sentences without
overt grammatical subject.— «Conneries linguistiques», 1966, N 19,
p. 23—31.
Q u a n g, 1969—Q u a n g Phuc Dong. A note on conjoined noun
phrases.— «Conneries linguistiques», 1969, N17, p. 94—101.
R a i b 1 e , 1975—R a i b 1 e W. Partitiv, Akkusativ und Nomina-
tiv als Objekt.— In: P e t б f i J. (ed.). Proceedings of Bielefeld
conference on case labels. April 1975.
Redden, 1966—R e d d en J. E. Walapai II: morphology.—
«International Journal of American Linguistics», 1966, v. 32, p. 141—163.
Reiehenbaoh, 1948—R eichenbach H. Elements of
symbolics logic. N. Y., 1948.
R i f f a t e r r e, 1964—R iffaterre M. The stylistic function.—
In: L u n t H. G. (ed.). «Proceedings of the Ninth international congress
of linguists, Cambridge (Mass.). 1962». The Hague, 1964, p. 316—322.
Robins, 1961—R о b i n s R. H. Syntactic analysis.— «Archivum
Linguisticum», 1961, v. 13, p. 78—89. Перепечатано в Натр, а. о,
(eds), 1966, p. 386—395.
Rohdenburg, 1970—R ohdenburg G. Zum personlichen
Subjekt im Englischen.— In: «PAKS Arbeitsbericht N 6, Lehrstuhl Anglis-
tik, Stuttgart-Universitat», Stuttgart, 1970, p, 133—164.
563
Rosen, 1959—Rosen H. Die Aiisdrucksform fur 'verSusserli-
ehen' und 'unverausserlichen' Besitz im Friihgriechischen.— «Lingua»,
1959, 8, p. 264—293.
Ross, 1967—R oss J. R. Constraints on variables in syntax. Ph. D.
dissertation. Indiana University Linguistic Club. Bloomington, 1967.
Ross, 1969—R oss J. R. Auxiliaries as main verbs.— In: T о d d
W. (ed.). Studies in philosophical linguistics, series I. Evanston, 1969,
p. 77—102.
Ross, 1970—R о s s J. R. On declarative sentences.— In: J а с о b s
R. A., R о s e n b a u m P. S. (eds). Readings in English
transformational grammar. Boston, 1970, p. 222—272.
Russell, 1920—R u s s e 11 B. Introduction to mathematical
philosophy. London, 1920.
Rutherford, 1970—R utherford W. E, Some
observations concerning subordinate clauses in English.— «Language», 1970, v. 46,
p. 97—115.
S a d о с к, 1969—S a d о с к J. Hypersentences.— «Papers in
linguistics», 1969, v. 1, p. 283—370.
Saint-Jacques, 1966—S aint-Jacques B. Analyse
structurale de la syntax du japonais moderne. Paris, 1966.
S a 1 z m a n n, 1965 — Salzmann Z. Arapaho IV: Noun.—
«International Journal of American Linguistics», 1965, v. 31, p. 136—151.
S a p i r, 1917 a—S a p i r E. Review of С. С. Uhlenbeck: «Het iden-
tificeerend karakter der possessieve flexie in talen van Noord-Amerika».—
«International Journal of American Linguistics», 1917, v. 1, p. 86—
90.
S a p i r, 1917 b — S a p i r E. Review of С. С. Uhlenbeck: «Het pas-
sieve karakter van het verbum transitivum of van het verbum actionis in
talen van Noord-Amerika».— «International Journal of American
Linguistics», 1917, v. 1, p. 82—86.
S a s t r i, 1959—S a s t r i Q. The philosophy of word and meaning.
Calcutta 1959.
Schmidt, 1962—S с h m i d t F. Logik der Syntax. Berlin, 1962.
Smith, 1964—S m i t h Carlota. Determiners and relative clauses
in a generative grammar of English.— «Language», 1964, v. 40, N 1,
p. 37—52.
Sommerfelt, 1937—S ommerfelt A. Sur la notion du
sujet en georgian.—«Melanges de Hnguistique et de philologie offerts a
Jacques van Ginneken». Paris, 1937, p. 183—185.
S t б h r, 1898 — S t 5 h r A. Algebra der Grammatik; ein Beitrag
zur Philosophie der Formenlehre und Syntax. Leipzig—Wien, 1898.
T a 1 m y, 1972—T a 1 m у L. Semantic structures in English and
Atsugewi.—Unpublished Doctoral dissertation. University of California,
1972.
Teller, 1969— Teller P. Some discussion and extension of
Manfred Bierwisch's work on German adjectivals.— «Foundations of
language», 1969, v. 5, N 2, p. 185—217.
T e s n i er e, 1959—T esniere L. Elements de syntaxe
structurale. Paris, 1959.
T h о r n e, 1966—T home J. P. English imperatives.— «Journal
of Linguistics», 1966, v. 2, N 1, p. 69—78.
Trier, 1931—Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbe-
zirk des Verstandes. Heidelberg, 1931.
Trubetzkoy, 1939—T r u b e t г к о у N, S, Le rapport entre
564
le determine, Ie determinant et le defini.— «Melanges de linguist!que of-
ferts a Charles Bally». Geneva, 1931, p. 75—82.
Uhlenbeck, 1901—U hlenbeck С. С Agens und Patiens
im Kasussystem der indogermanischen Sprachen.— «Indogermanische
Forschungen», 1901, v. 12, S. 170—171.
V a i 1 1 a n t, 1936—V a i 1 1 a n t A. L'ergatif indo-europeen.—
«Bulletin de la Societe" de linguistique de Paris», 1936, v. 27, p. 93—108.
V e 1 t e n, 1962—V e 1 t e n H. V. On the functions of French de and
й.— «Lingua», 1962, v. 11, p. 449—452.
V e n d 1 e r, 1967—V e n d 1 e r Z. The grammar of goodness.— In:
Vendler Z. Linguistics in philosophy. N. Y., 1967, ch. 7, p. 172—
195. См. наст, сб., с. 531—554.
V e r b u r g, 1951—V e r b u r g P. A. The background of the
linguistic conception of Bopp.— «Lingua», 1951, v. 2, p. 438—468.
Wallace — Atkins, 1960—W a 1 1 а с e * A. F. C, A t k' i n s
J. The meaning of kinship terms.— «American Anthropologist», 1960,
v. 62. p. 56—80.
W e i n r e i с h, 1958—W e i n r e i с h U. Travels in semantic
space.—«Word», 1958, v. 14, No 2—3, p. 346—366.
W e i n r e i с h, 1962—W e i n r e i с h U. Lexicographic
definition in descriptive semantics.— In: Householder F.W., Sol
S a p о г t a (eds). Problems in lexicography. Bloomington, 1962, p. 25—
43.
W e i n r e i с h, 1963 a — Weinreich U. On the semantic
structure of language.—In: Greenberg (ed.). 1963, p. 114—171.
Русск. перевод — в сб. «Новое в лингвистике», вып. 5, М., 1970, с. 163—
249.
Weinreich, 1963 b—W е i п г е i с h U. [Soviet] Lexicology.—
In: Sebeok Th. A. (ed.). Current trends in linguistics, vol. 1. The
Hague, 1963, p. 60—93.
Weinreich 1964—W e i n r e i с h U. Webster's Third: a
critique of its semantics.— «International Journal of American
Linguistics», 1964, v. 30, N 4, part I, p. 405—409. Русский перевод см. в:
«Вопросы языкознания», 1965, № 1, с. 128—132.
Weinreich, 1965—W e i n r e i с h U. Explorations in semantic
theory.— In: S e b e о k Th. A. (ed.). Current trends in linguistics, vol. 3.
The Hague, 1966, p. 395—477. См. наст, сб., с. 50—176.
Wells, 1954—W ells R. Meaning and use.— «Word», 1954,
v. 10, N 1, p. 115—130.
W h о r f, 1965—W h о r f B. L. A linguistic consideration of
thinking in primitive communities.— In: W h о r f B. L. «Language, thought
and reality» (ed. Carrol J. В.). Cambridge (Mass.), 1965, p. 65—86.
Wierzbicka, 1972—W i e r z b i с k a Anna. Semantic
primitives. Frankfurt, 1972.
W i n о g r a d, 1976 — Winograd T. Towards a procedural
understanding of semantics.— «Revue internationale de philosophie»,
Bruxelles, 1976, a. 30, fasc. 3—4, p. 260—303.
Y u с k, 1969—Y u с k Foo. A selectional restriction involving
pronoun choice.— «Conneries Linguist!ques», 1969, v. 17, p. 102—103.
Z i f f, 1960—Z i f f P. Semantic analysis. Ithaca, 1960.
Z i f f, 1964—Z iff P. About ungrammaticalness.— «Mind», 1964,
v. 13, p. 204—214.
Z i f f, 1965 — Z i f f P. What an adequate grammar can't do,—
«Foundations of Language», 1965, v, 1, N 1, p. 5—13,
666
Zimmer, 1964—Zimmer К. Е. Affixal negation in English
and other languages: an investigation of restricted productivity.—
Приложение к журн. «Word», 1964, v. 20, N 2.
Z s i 1 k a, 1967 — Z s i I k a J. The system of Hungarian patterns.
Bloomington, 1967.
Апресян, 1962 — Апресян Ю. Д. О понятиях и методах
структурной лексикологии. — В кн.: «Проблемы структурной
лингвистики». М., 1962, с. 141—162.
Бабкин (ред.), 1964 — Бабкин А. М. (ред.). Проблемы
фразеологии.'М.—.Л., 1964.
Выготский, 1934—Выготский Л. С. Мышление и
речь. Психологические исследования. М.— Л., 1934.
Исаченко, 1963 — Исаченко А. В. Бинарность, прива-
тивные оппозиции и грамматические значения.— «Вопросы
языкознания», 1963, № 2, с. 39—56.
Кузнецова, 1963— Кузнецова А. И. Понятие
семантической системы языка и методы ее исследования. М., 1963.
Курилович, 1955 — Курилович Е. Заметки о значении
слова.— «Вопросы языкознания», 1955, №3, с. 73—81. Перепечатано
вкн.:Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 237—250.
ПСЛ, 1962 — Проблемы структурной лингвистики. М., 1962.
Уфимцева, 1962 — Уфимцева А. А. Опыт изучения
лексики как системы. М., 1962.
Холодович, 1960 — Холодович А. А. Опыт теории
подклассов слов.— «Вопросы языкознания», 1960, №1, с. 32—43.
Перепечатано в кн.: X о л о д о в и ч А. А. Проблемы грамматической
теории, Л., 1979, с. 228—243,
СОДЕРЖАНИЕ
В. А. 3 в е г и н ц е в. Зарубежная лингвистическая семантика
последних десятилетий 5
Д ж. К а т ц. Семантическая теория. Перевод с английского
Н. Н. Перцовой 33
У. Вейнрейх. Опыт семантической теории. Перевод с
английского Н. В. Перцова 50
М. Б и р в и ш. Семантика. Перевод с английского И. Г. Сабуровой 177
Д. Болинджер. Атомизация значения. Перевод с
английского Э. М. Медниковой 200
Д ж. Д. М а к К о л и. О месте семантики в грамматике языка.
Перевод с английского Н. В. Перцова 235
Дж. Лакофф. О порождающей семантике. Перевод с
английского Н. Н. Перцовой 302
Д ж. Лакофф. Лингвистические гештальты. Перевод с
английского Н. Н. Перцовой 350
Ч. Ф и л л м о р. Дело о падеже. Перевод с английского Е. Н.
Саввиной 369
Ч. Ф и л л м о р. Дело о падеже открывается вновь. Перевод
с английского Б. Ю. Городецкого 496
3. Вендлер. О слове good. Перевод с английского Н. Н.
Перцовой 531
Литература. Составил Н. В. Перцов 555
«Новое в зарубежной лингвистике»
вып. X
ИБ № 6083
Рецензенты д. ф. н. Т. В. Булыгина, д. ф. н. проф.
Э. М. Медникова, д. ф. н. проф. Ю. С. Степанов.
Редактор М. А. Оборина
Младший редактор Р. И. Алимова
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технические редакторы В. Д.'Крылова, И. А. Кронова
Корректор Е. Н. Лонкратова
Сдано в набор 08.10.80. Подписано в печать 26.06.81.
Формат 84X108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Условн. печ. л. 29,82. Уч.-изд. л. 31,20.
Тираж 5500 экз. Заказ № 1234. Цена 2 р. 40 к
Изд. № 26395
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном
предприятии ордена Трудового Красного Знаменн Ленинградского
объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союз-
полнграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г.
Ленинград. Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знаменн
Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союз-
полнграфпрома прн Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54,
Валовая! 28,